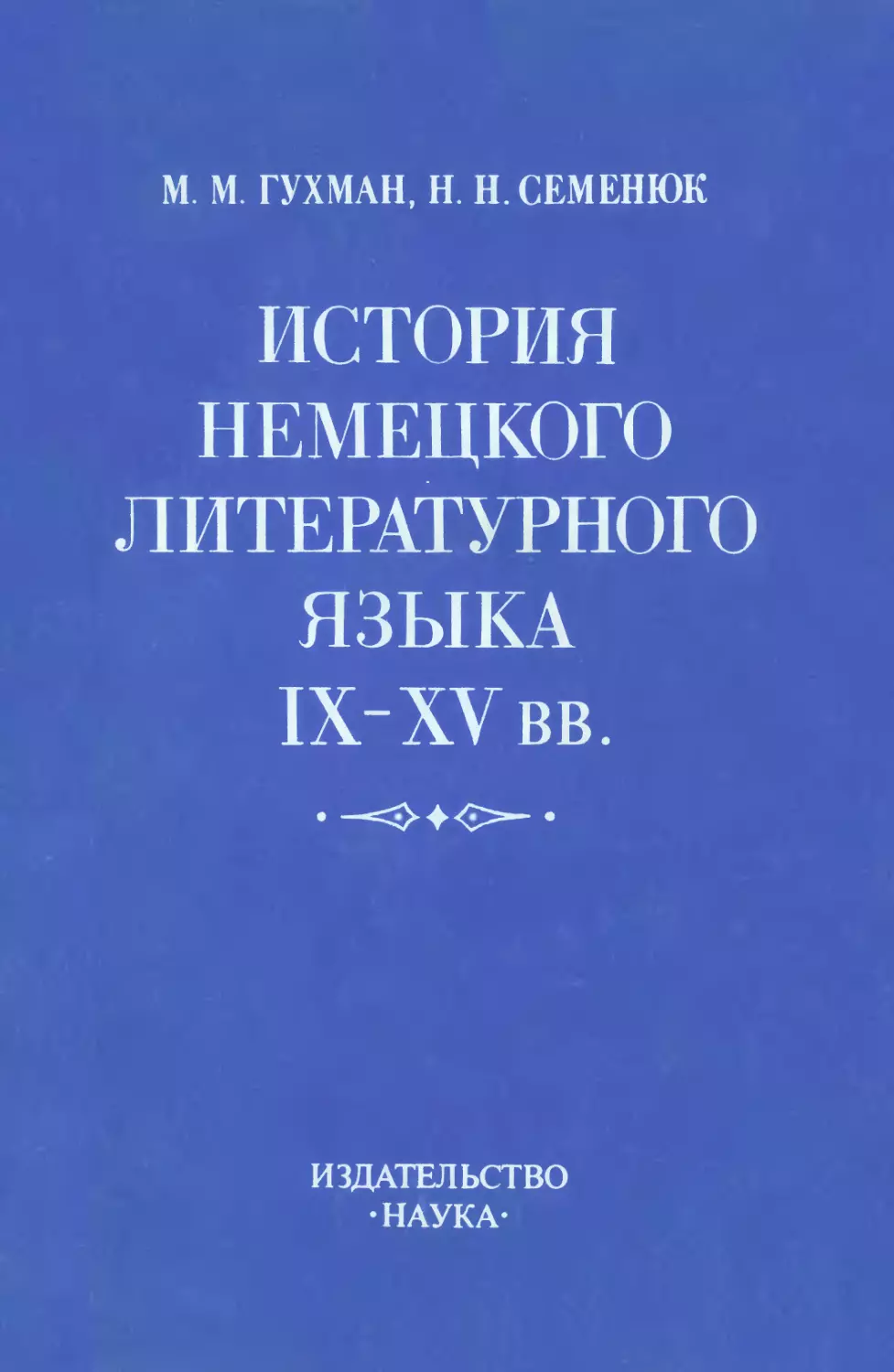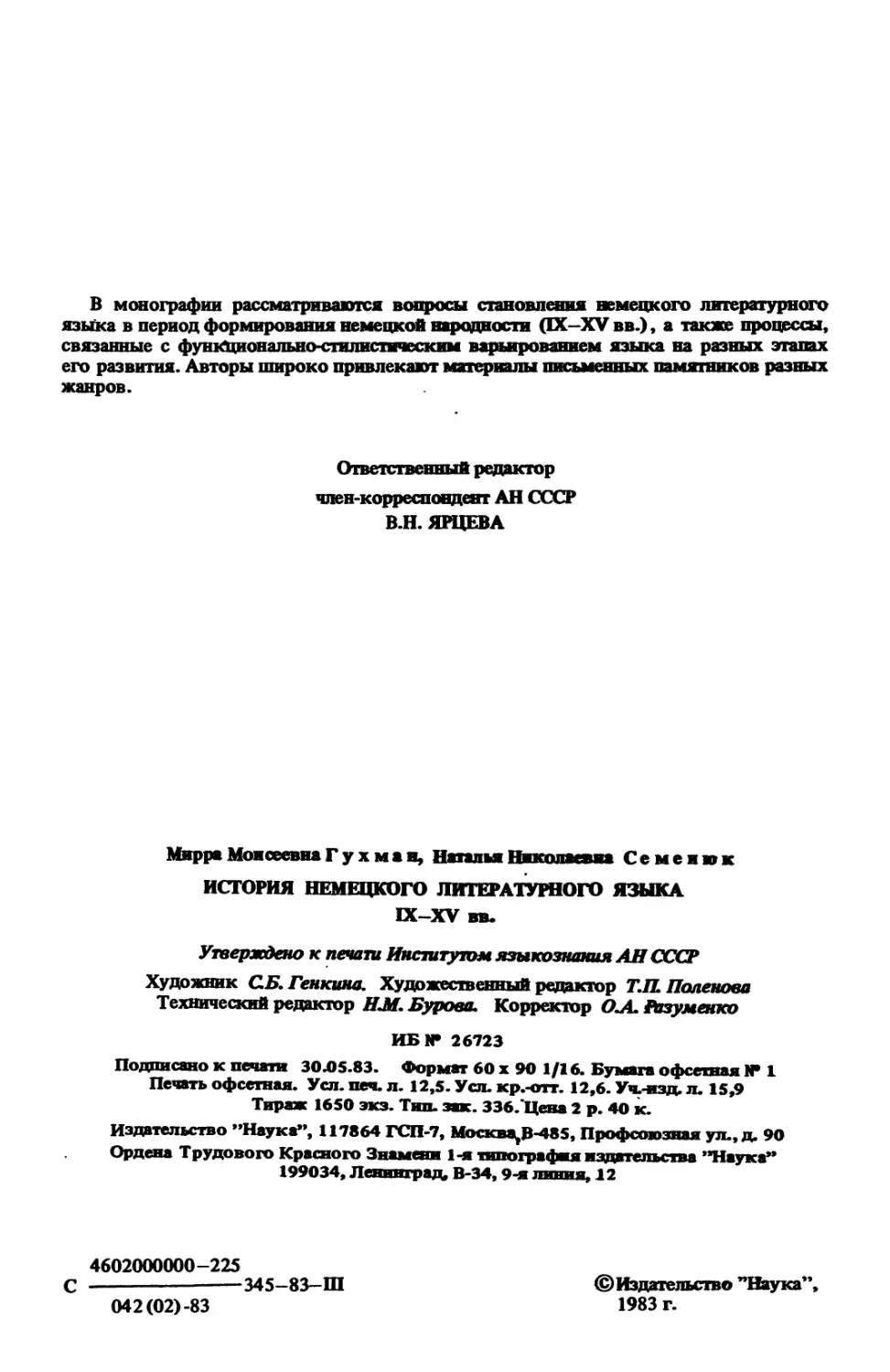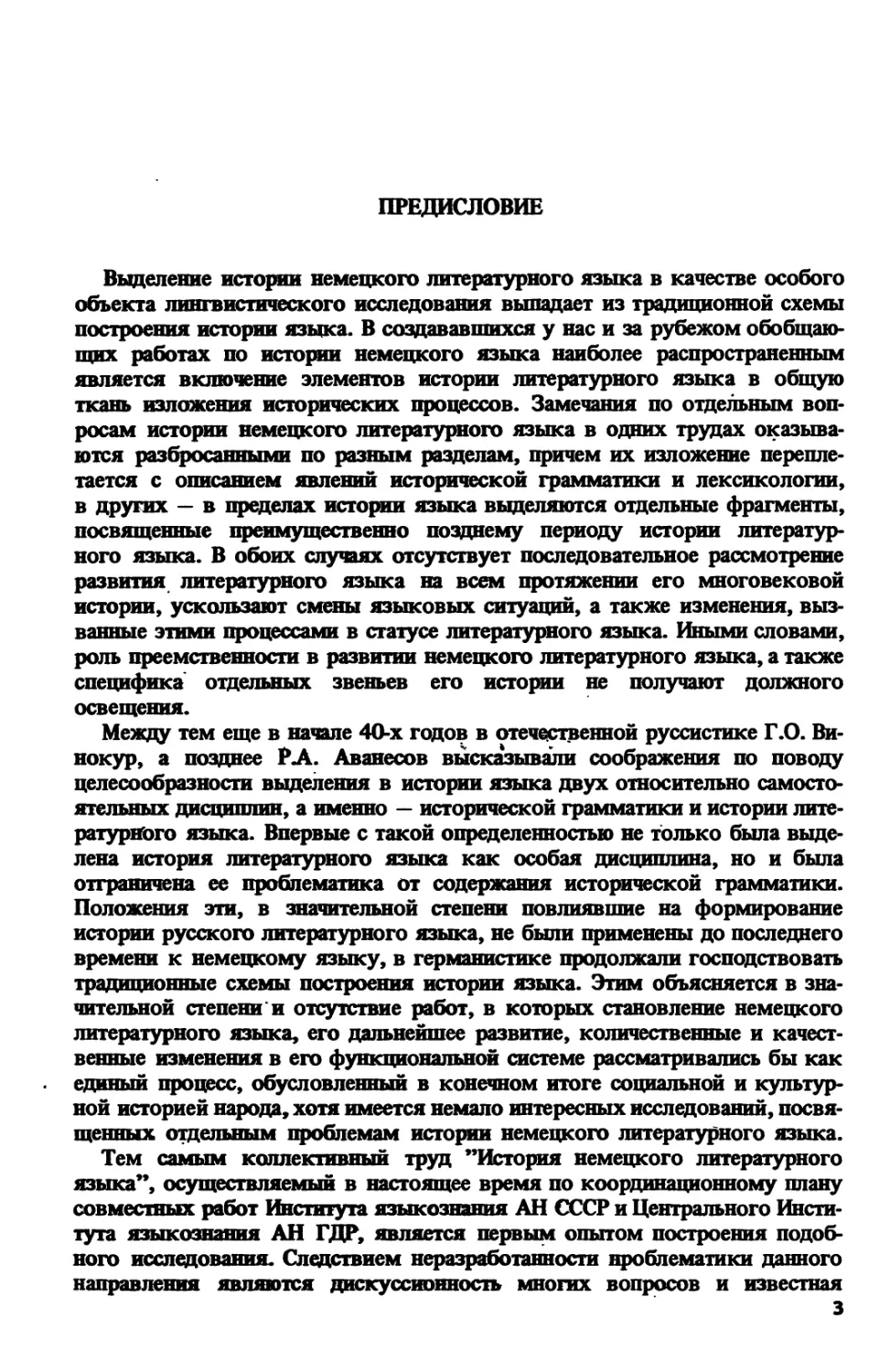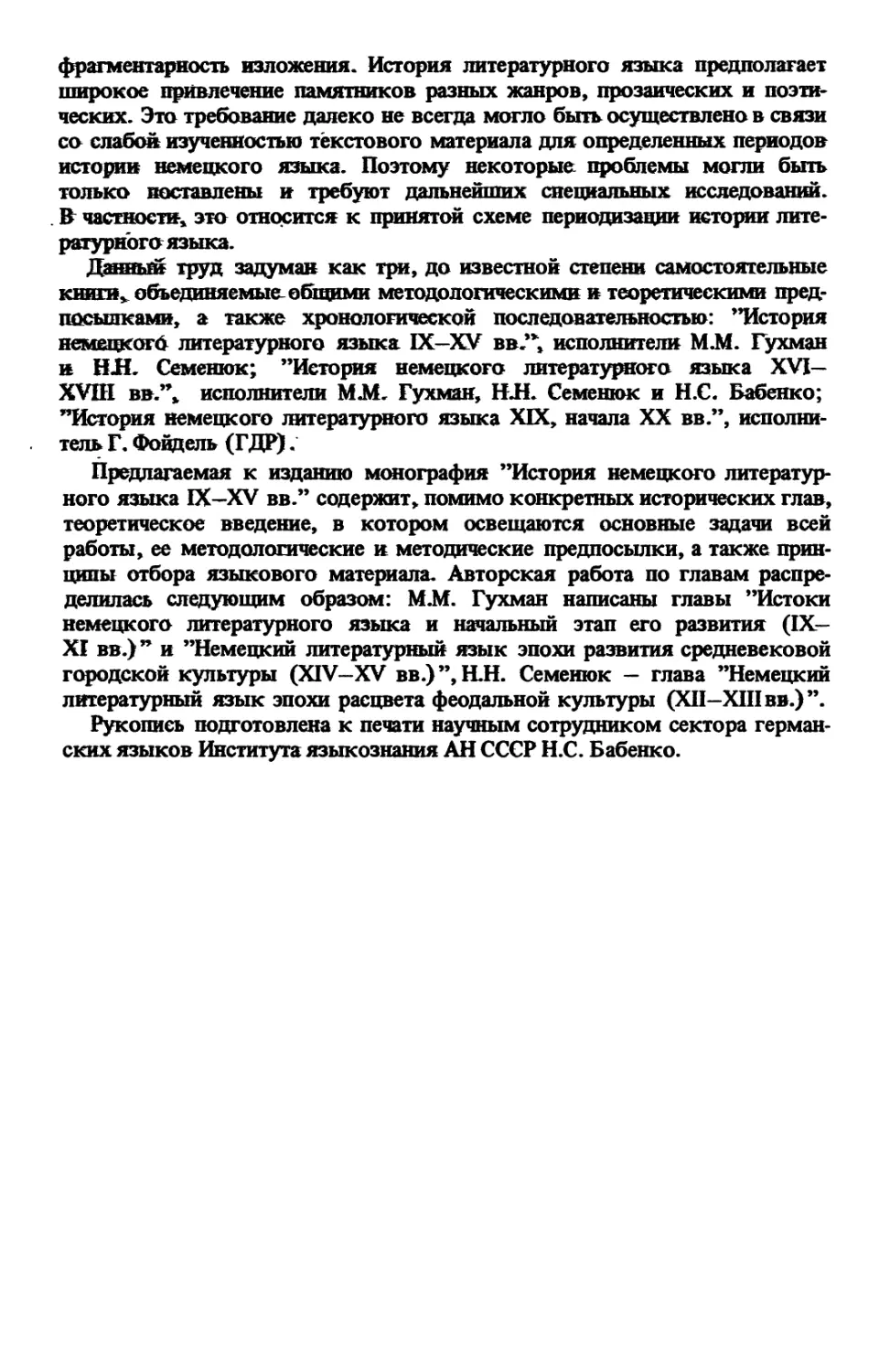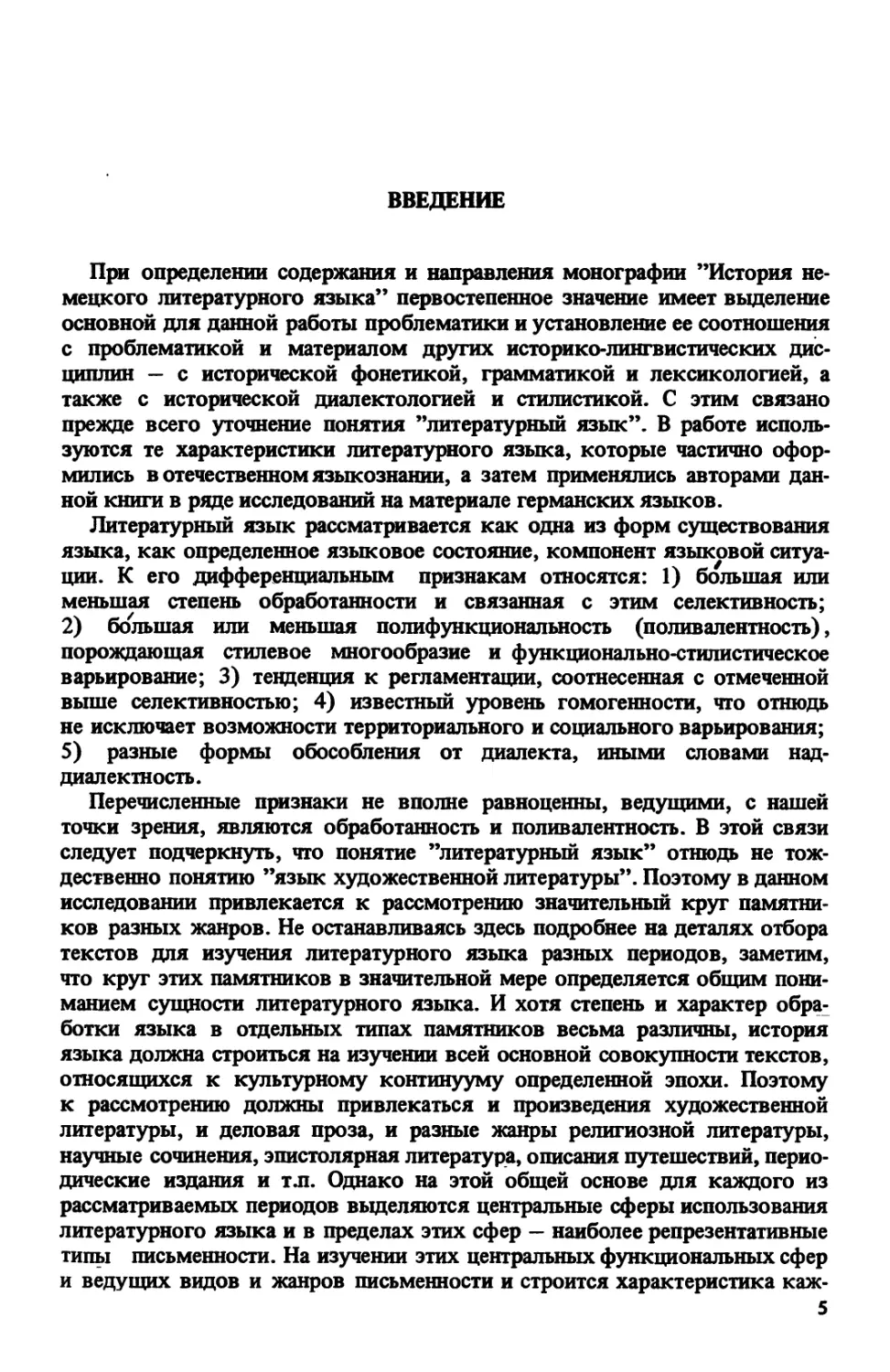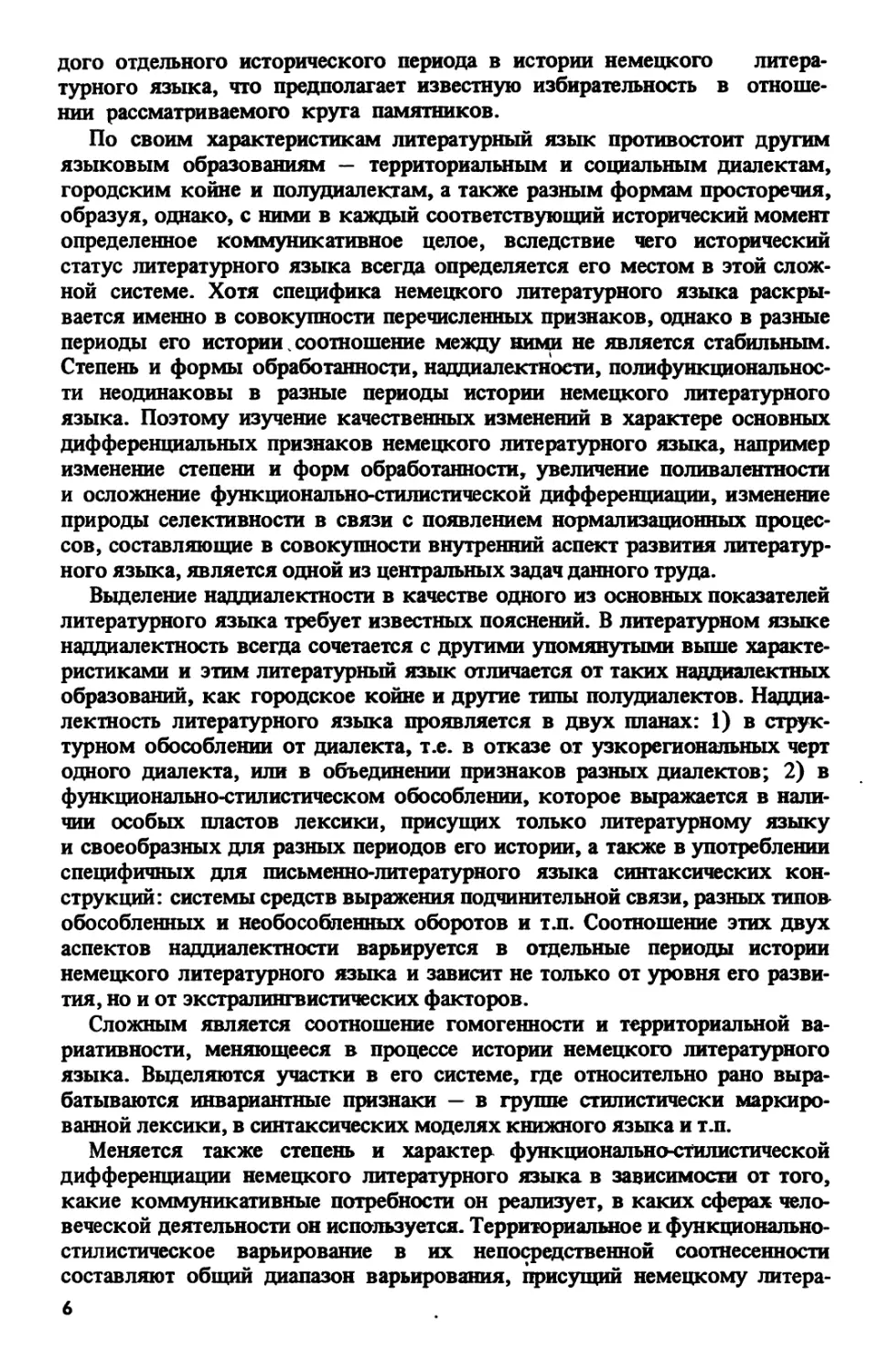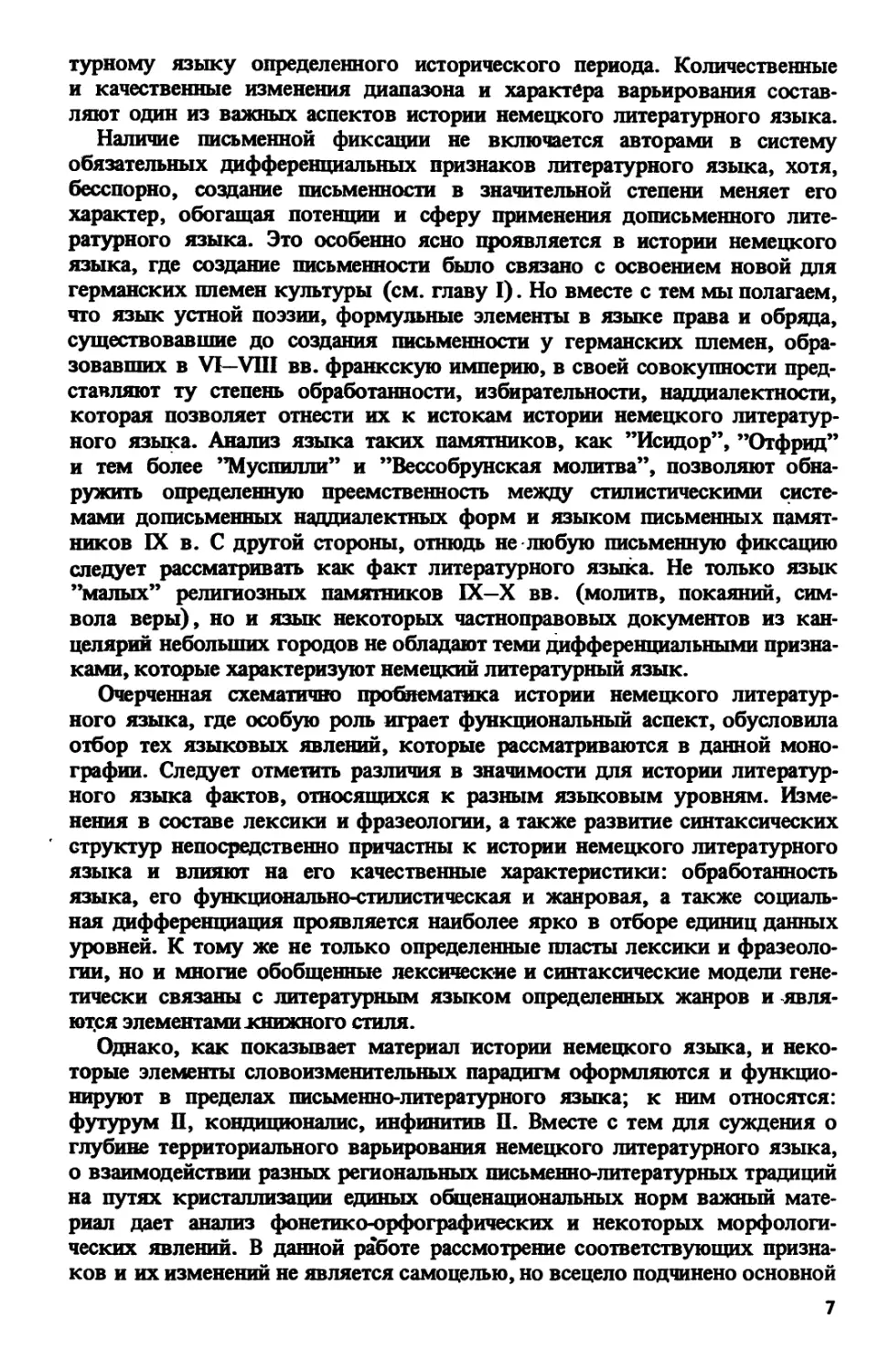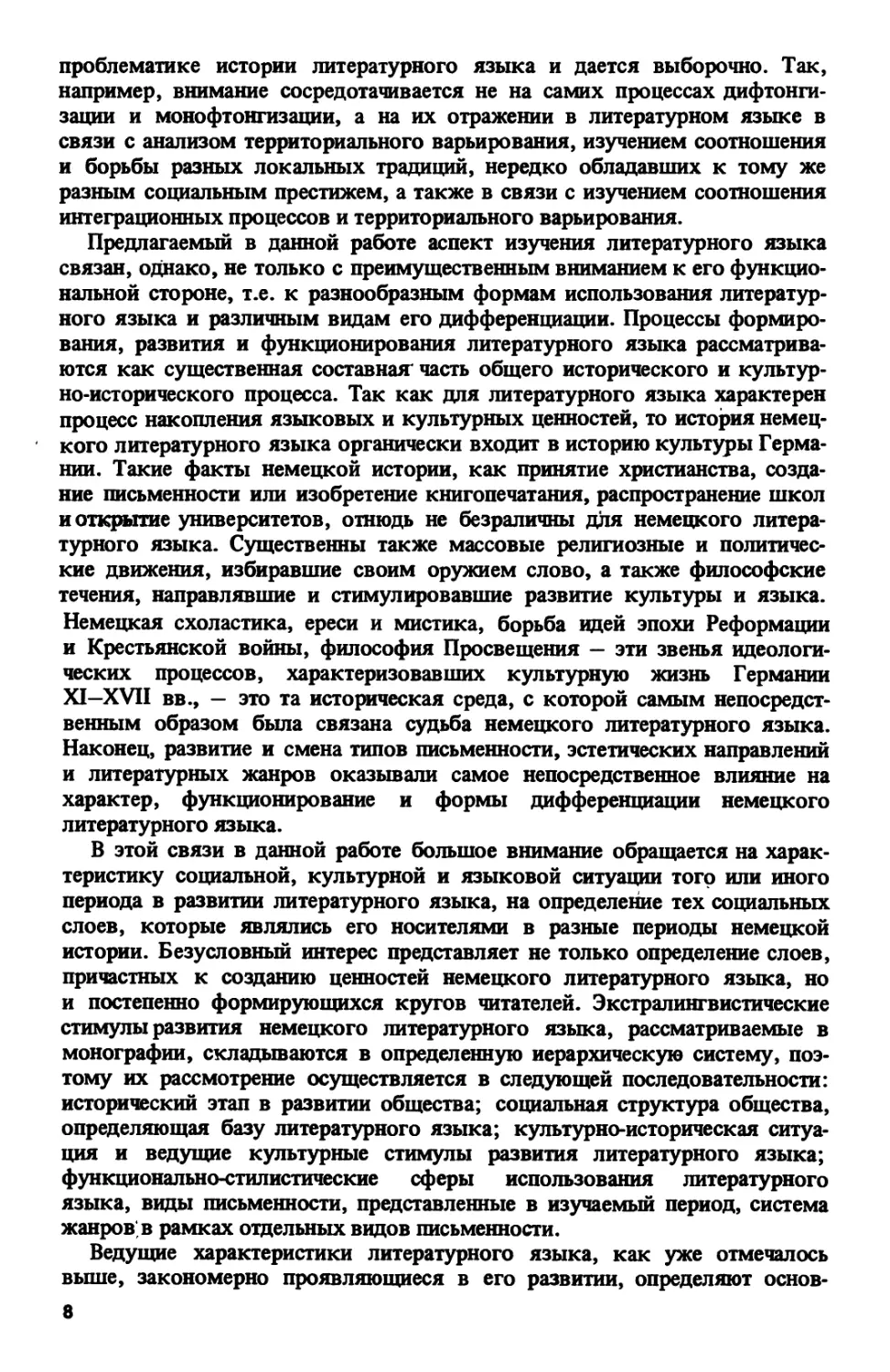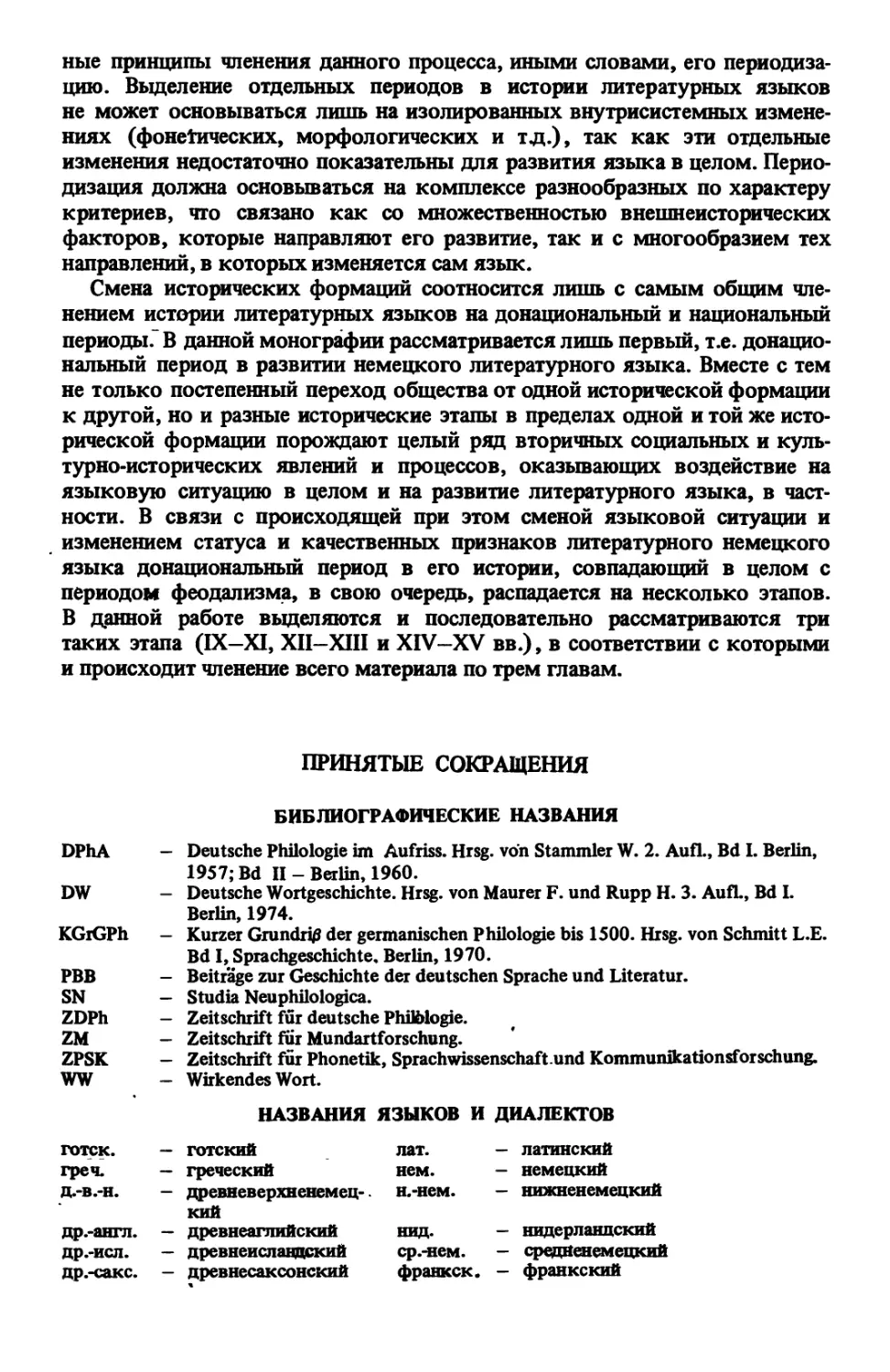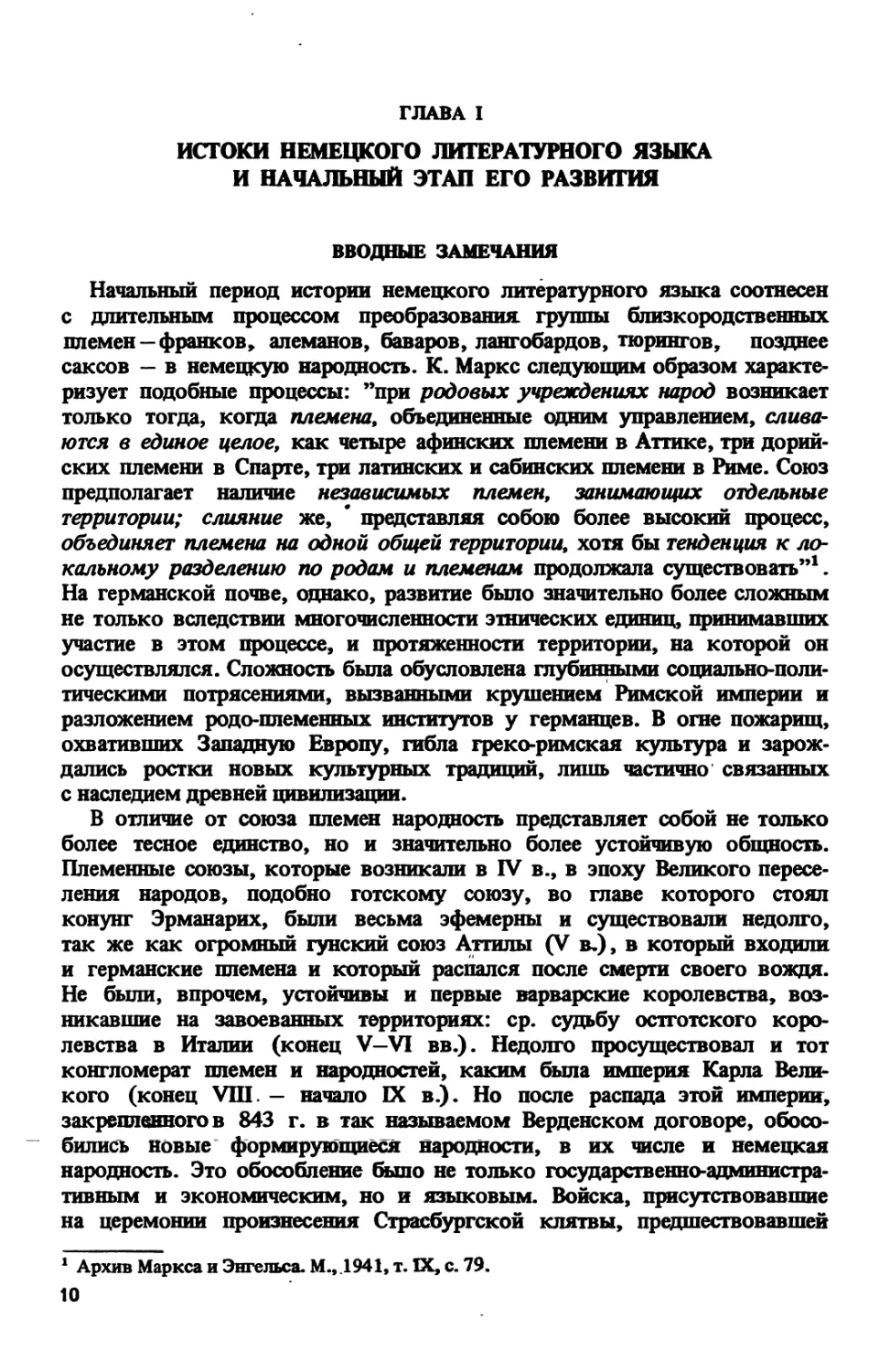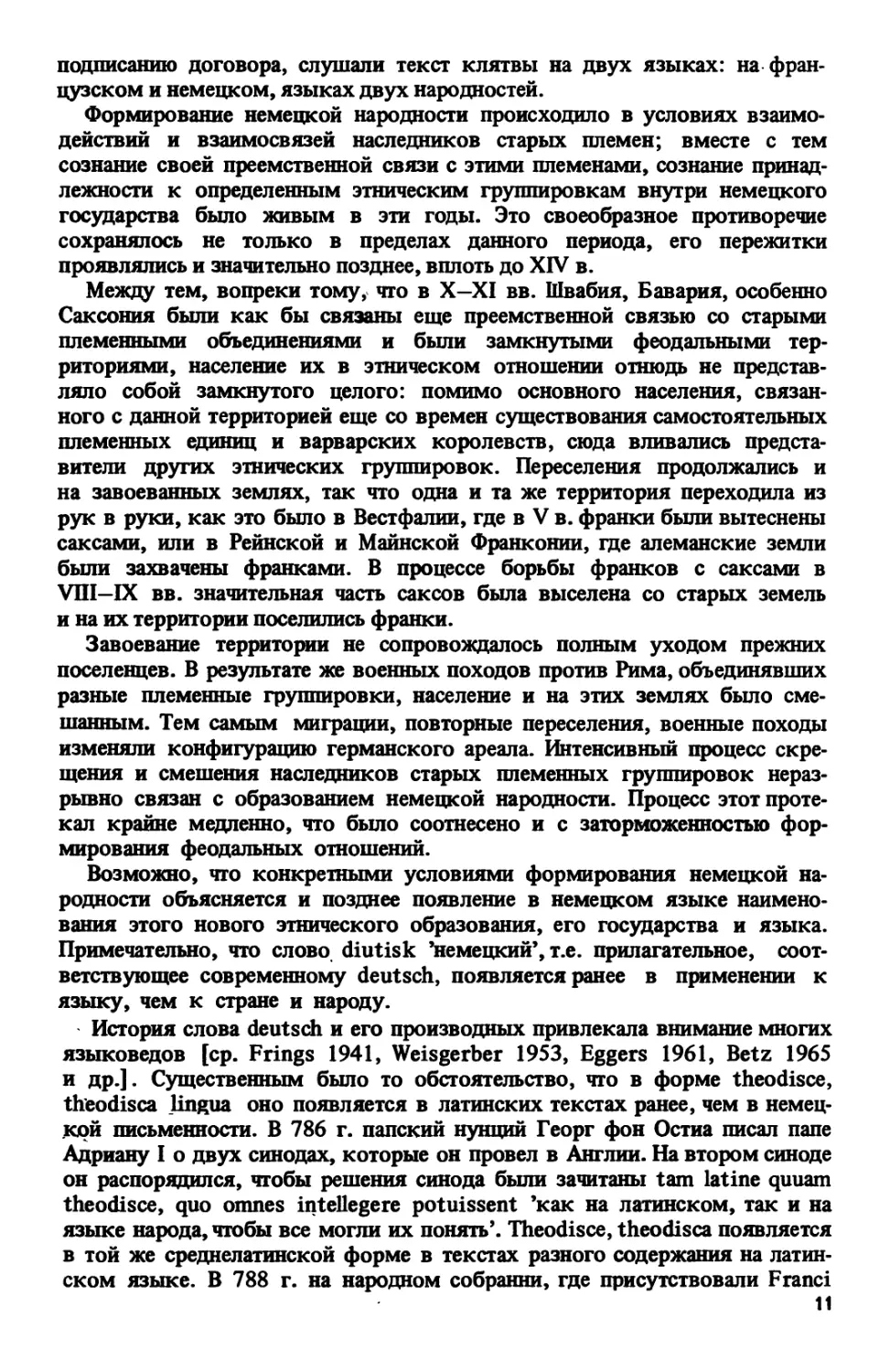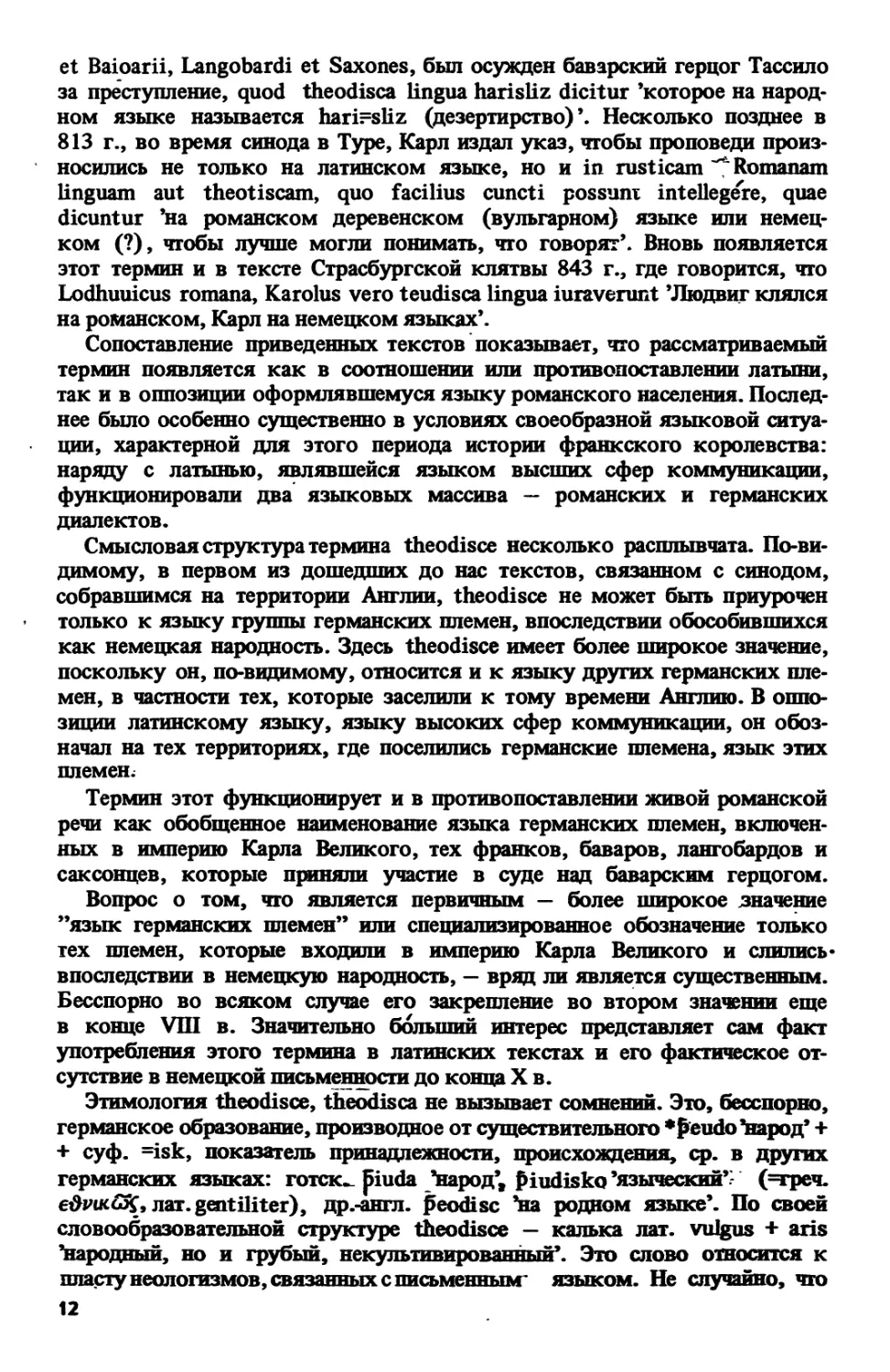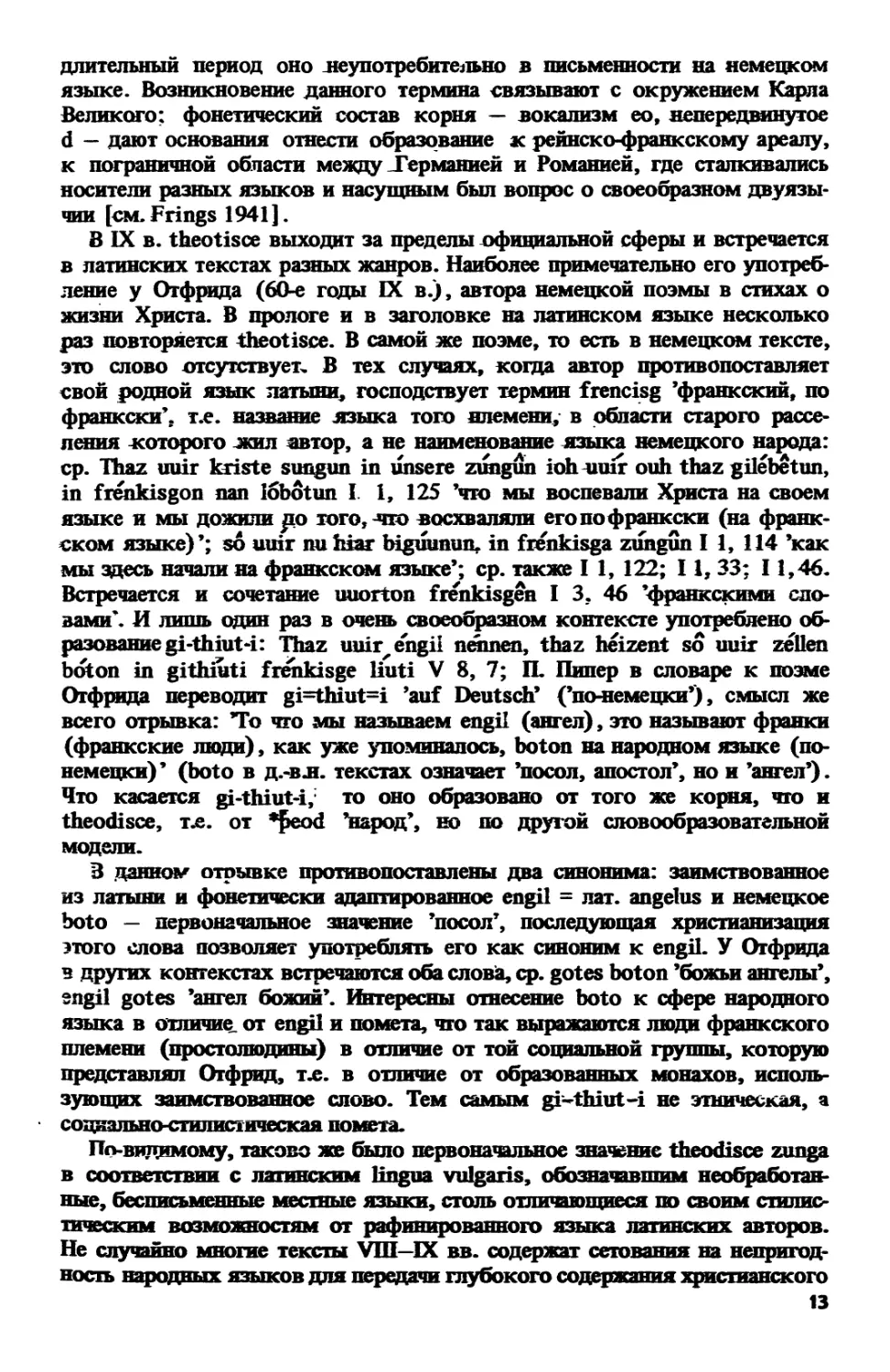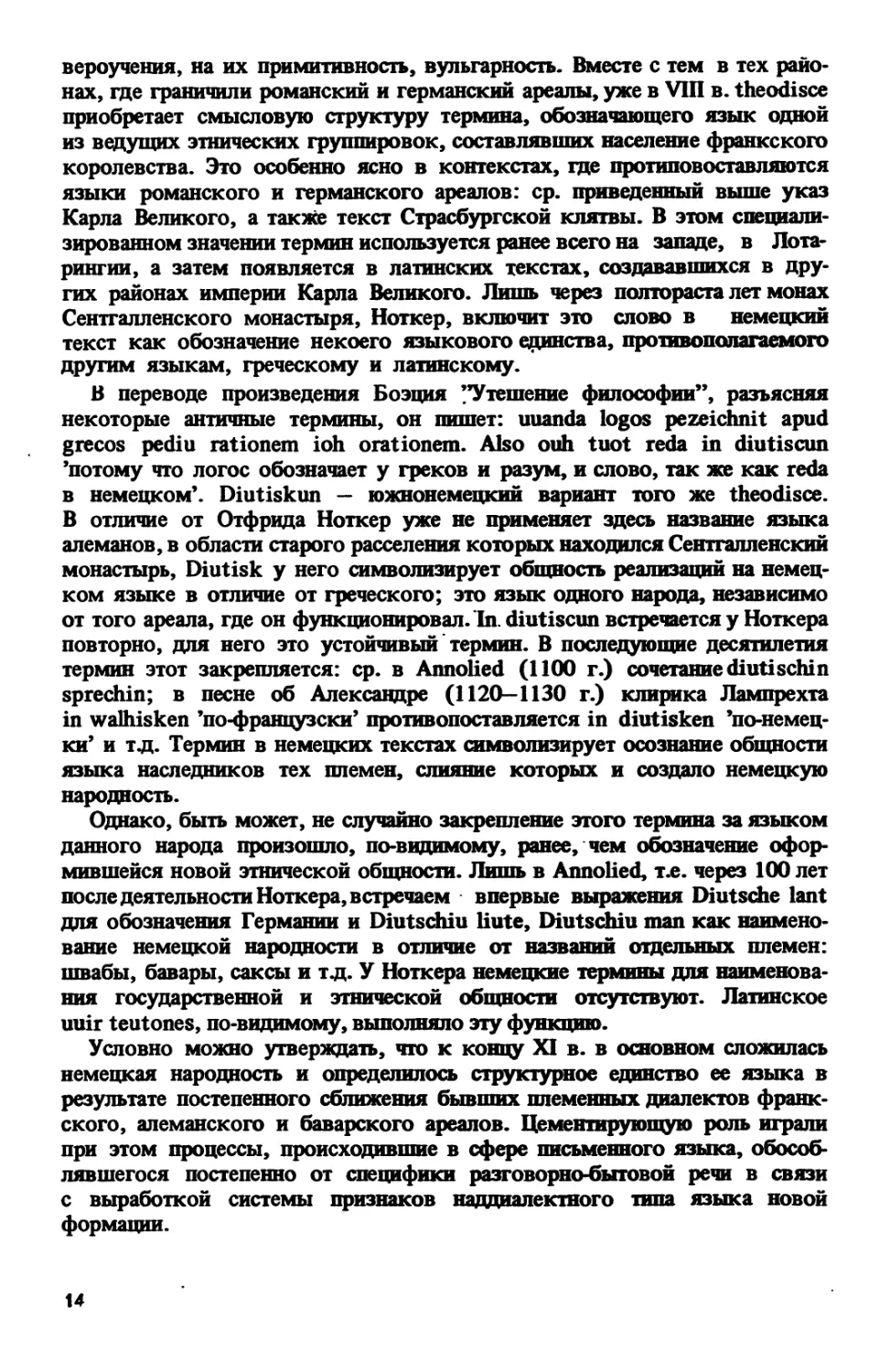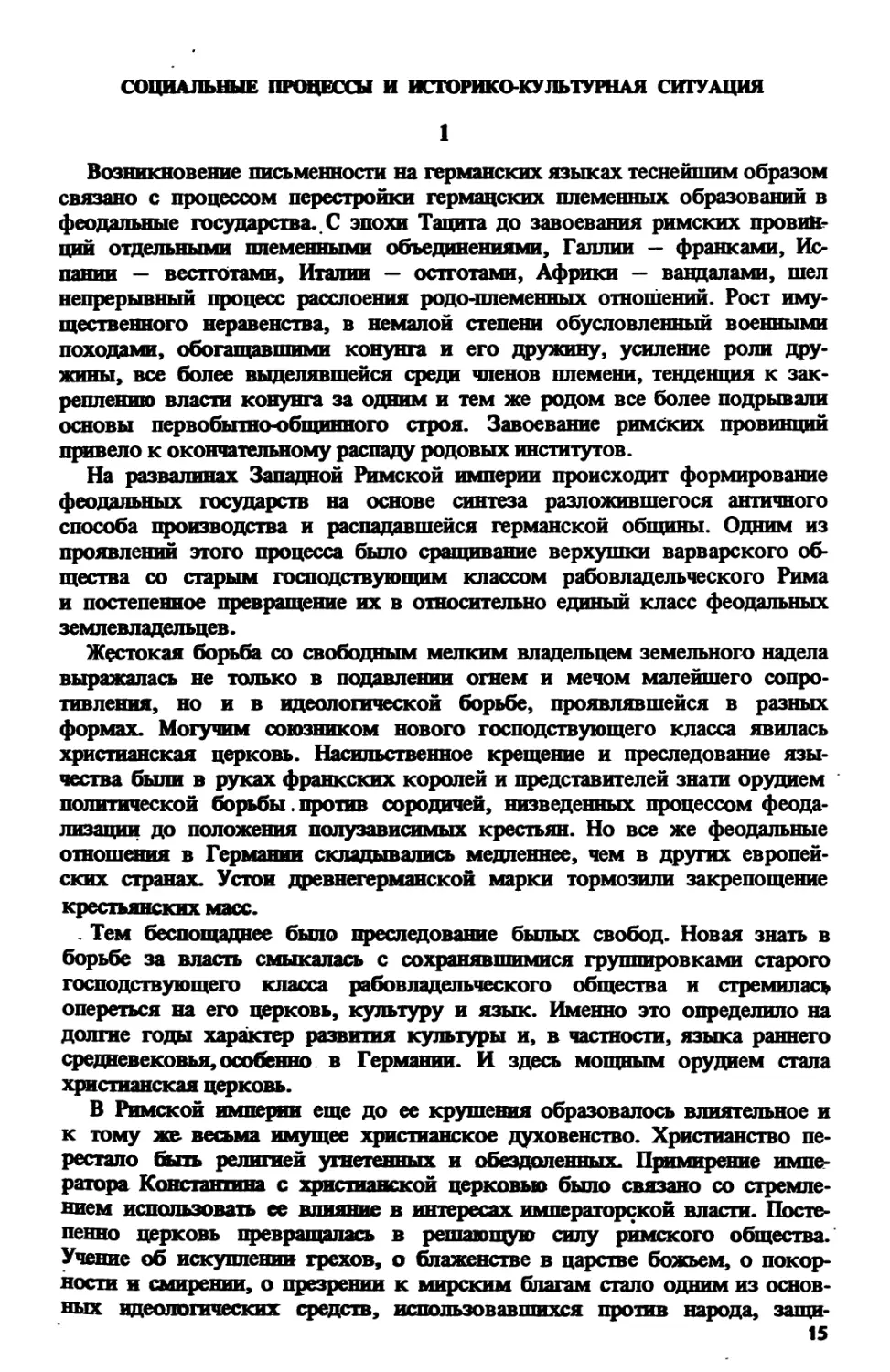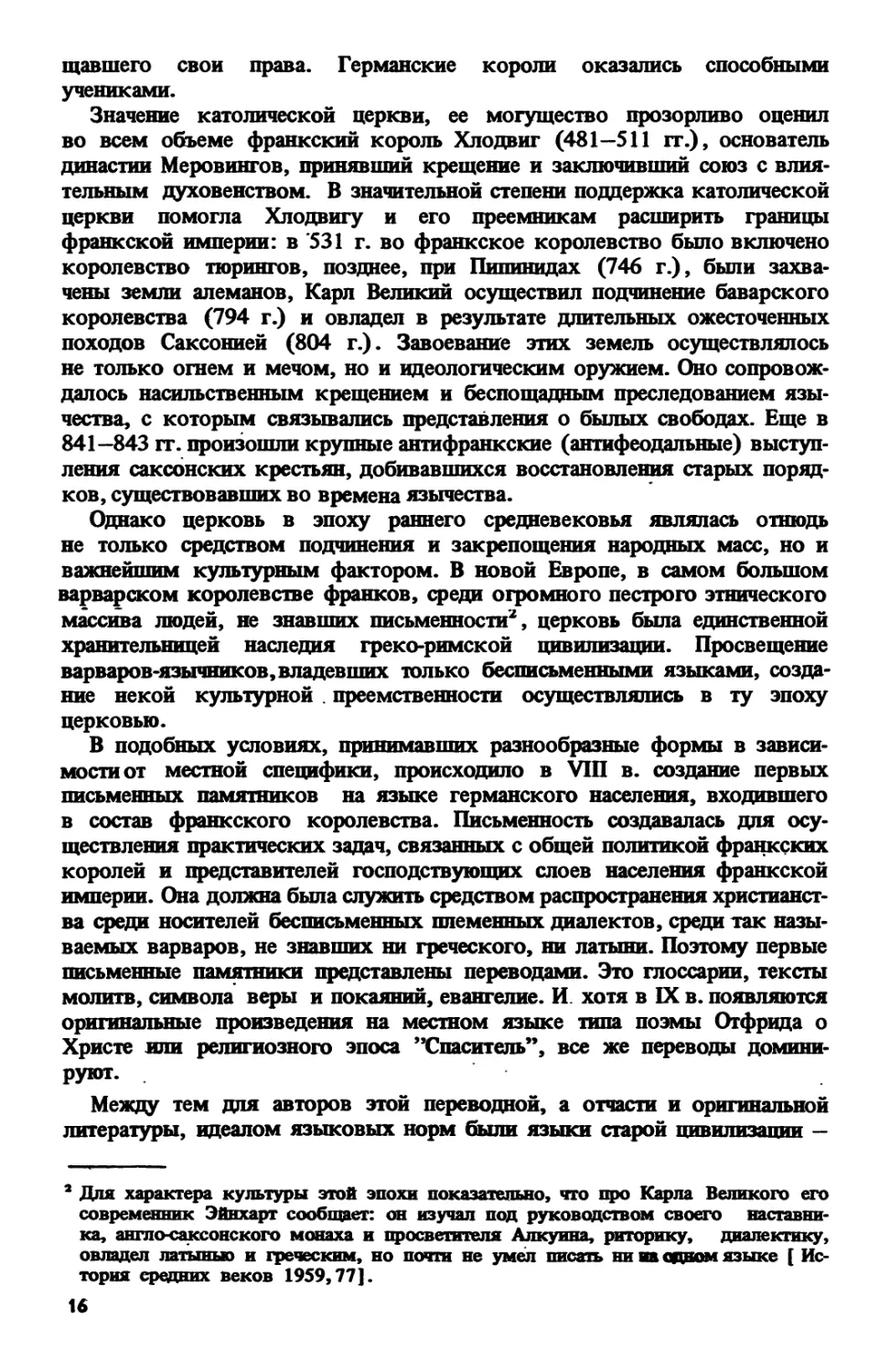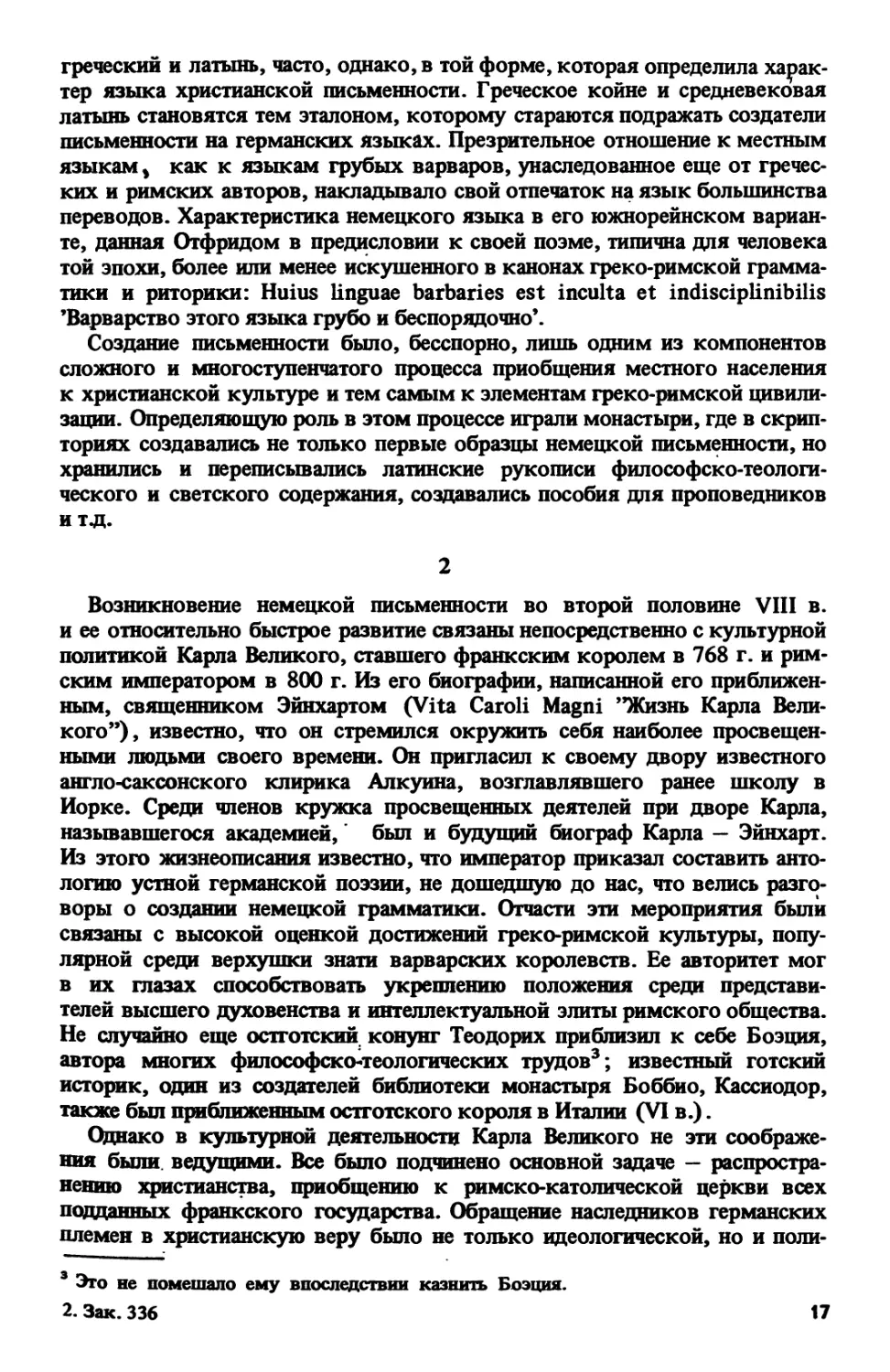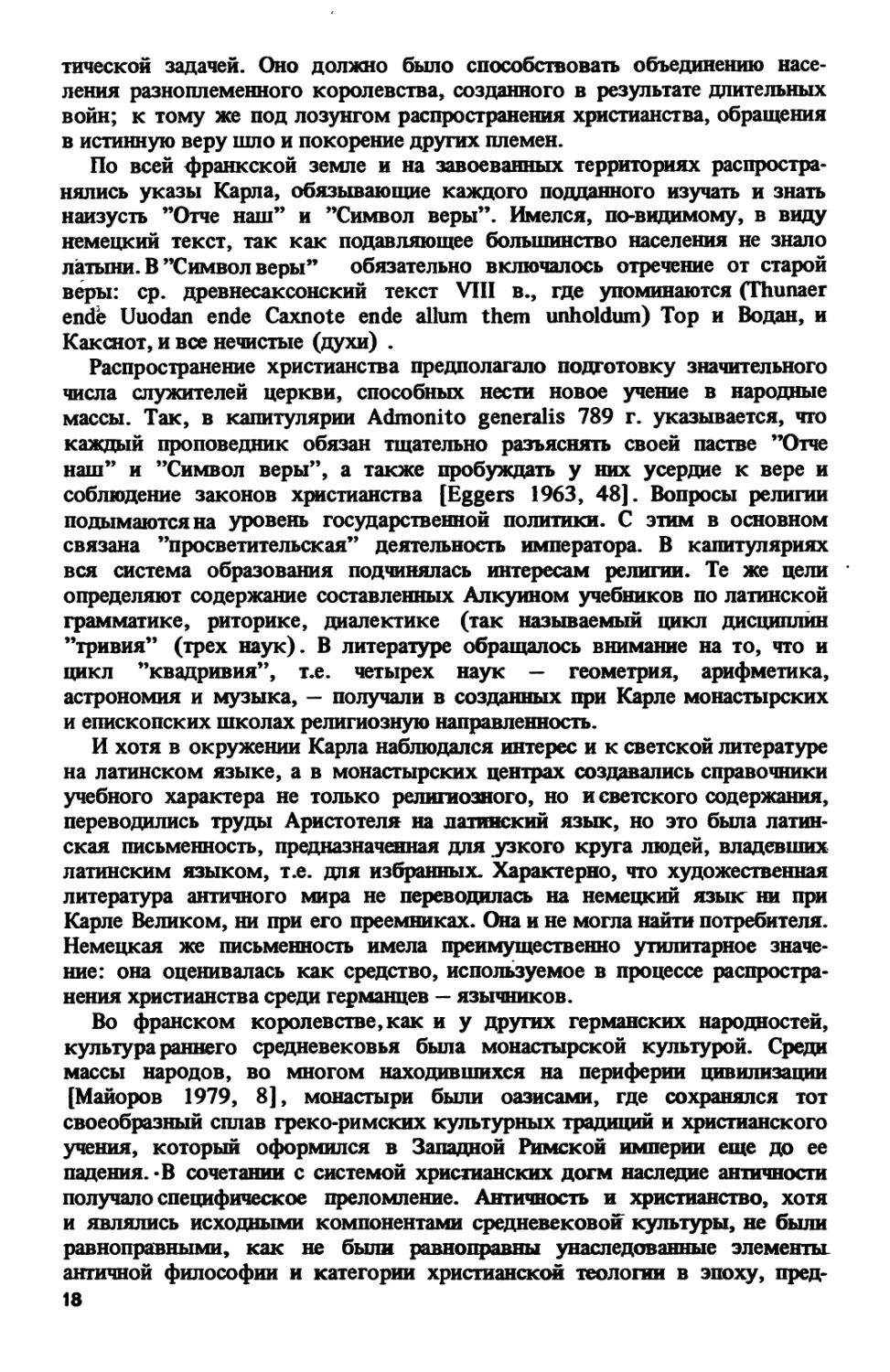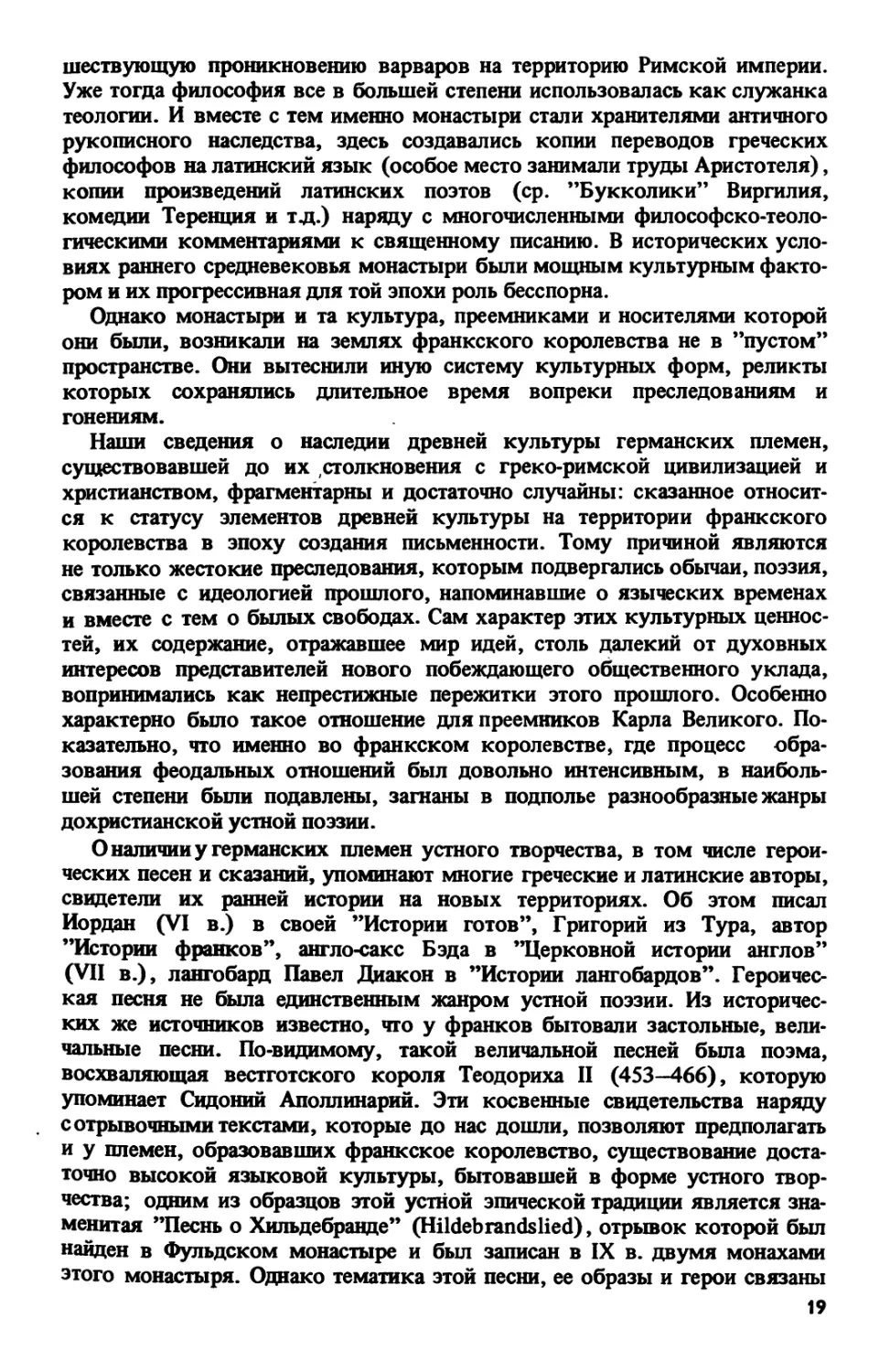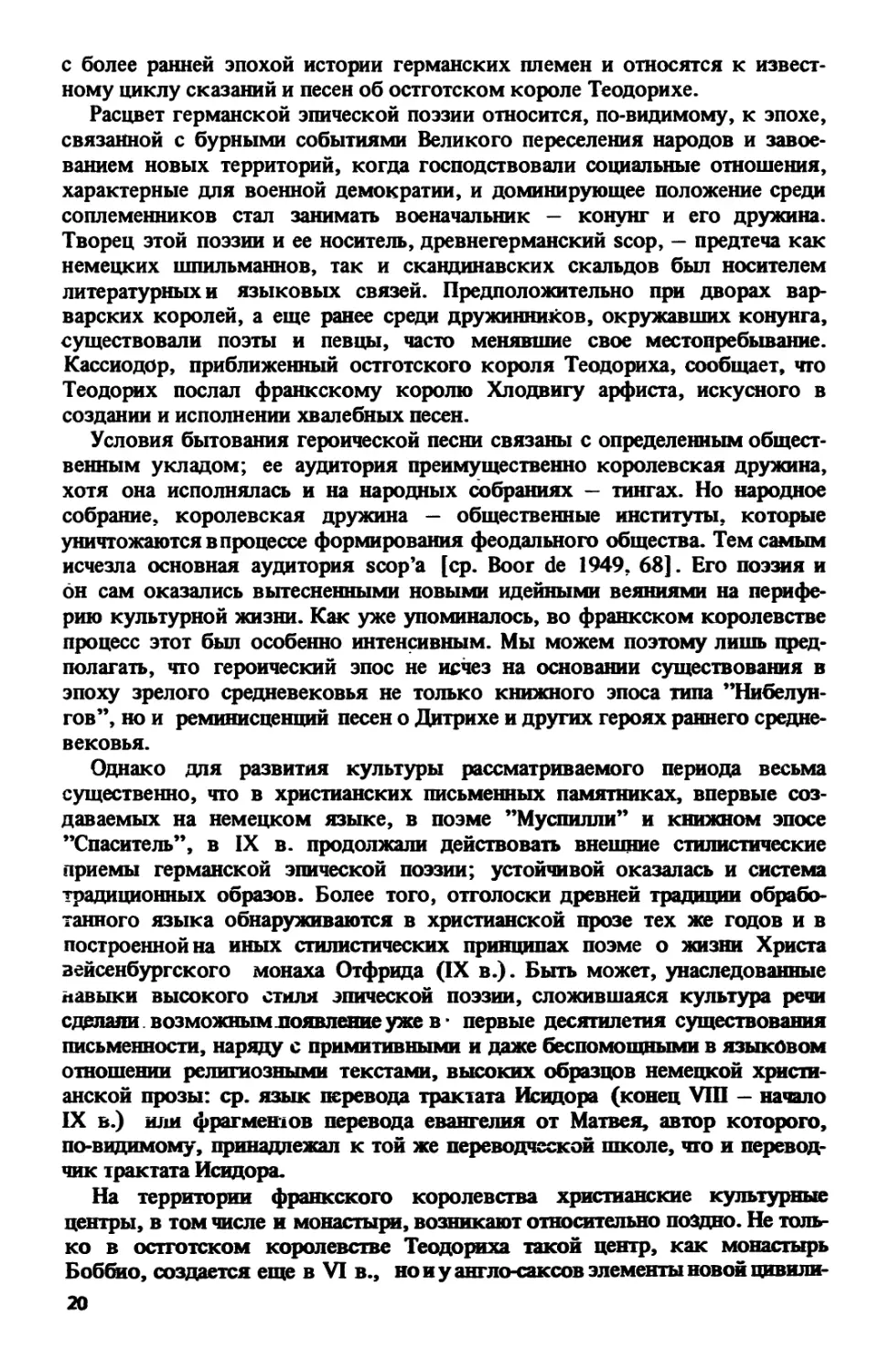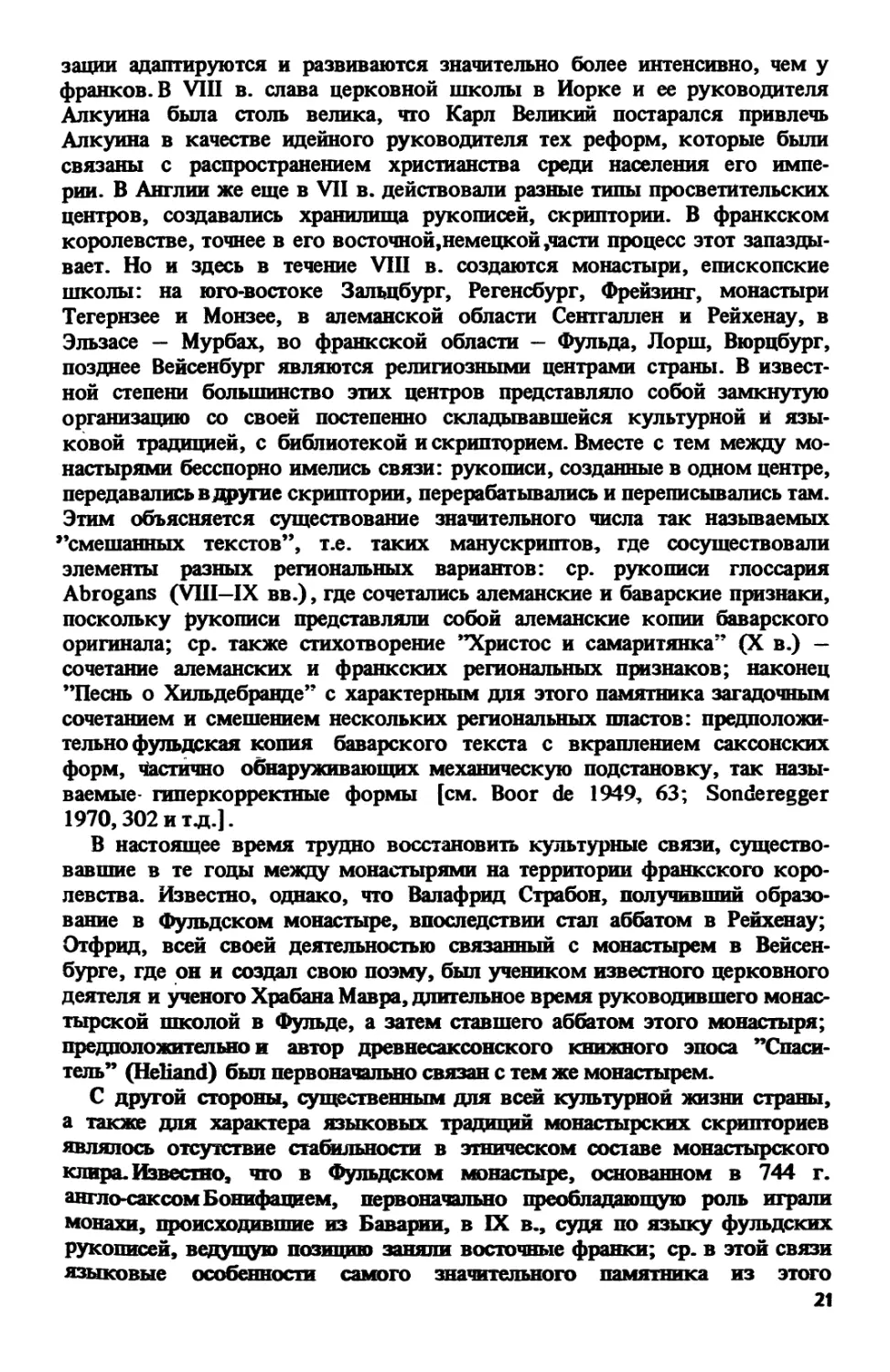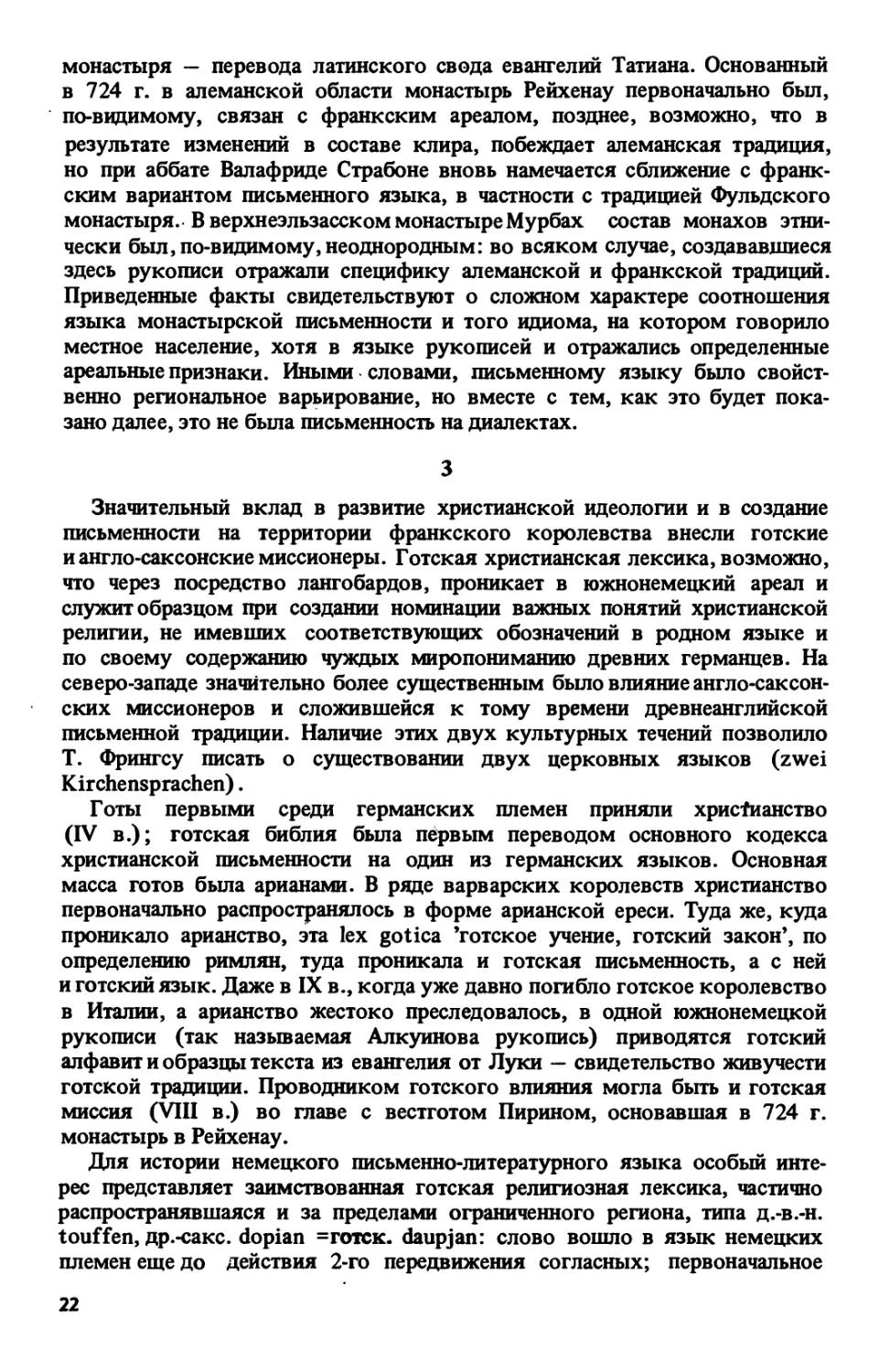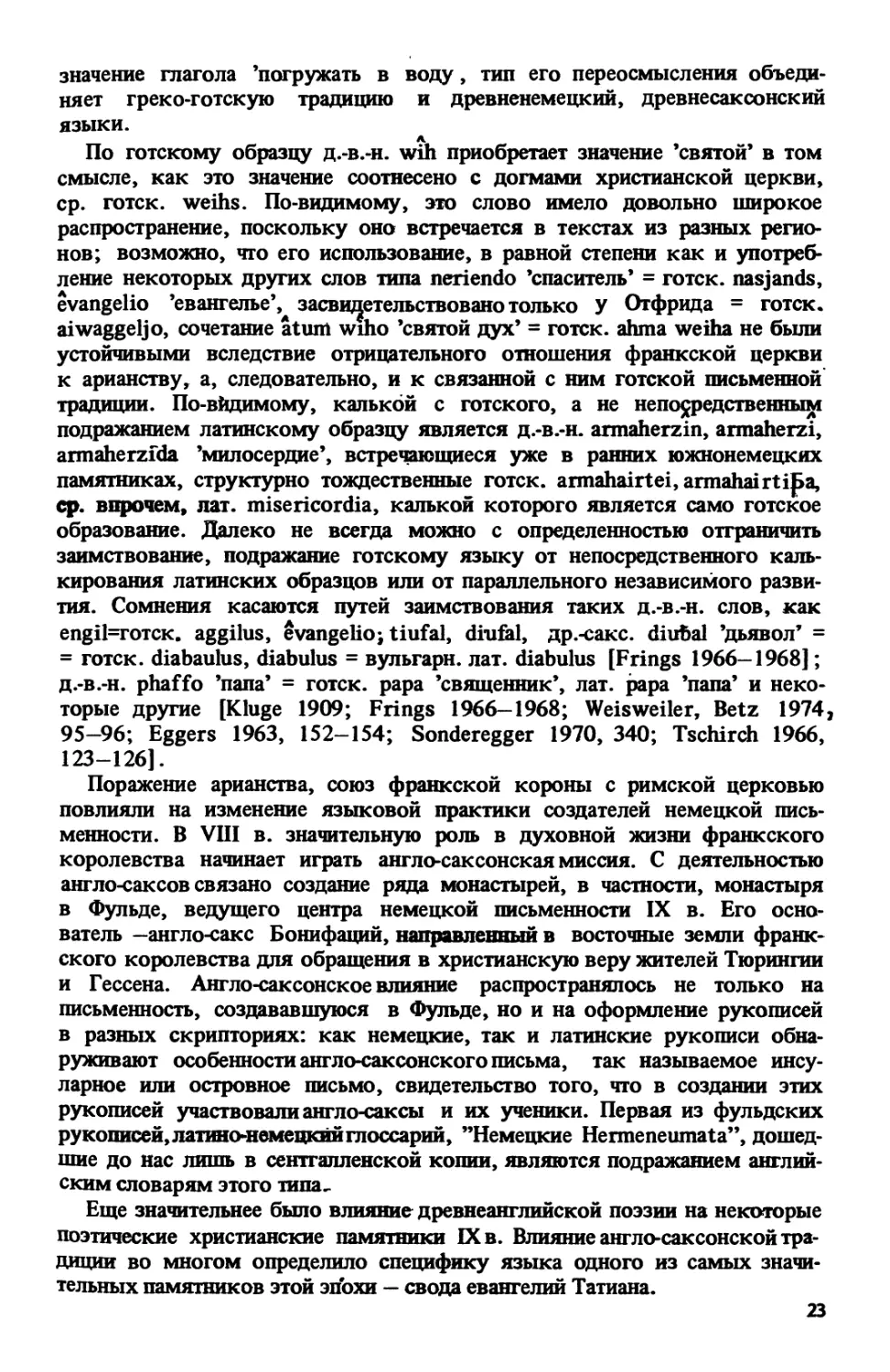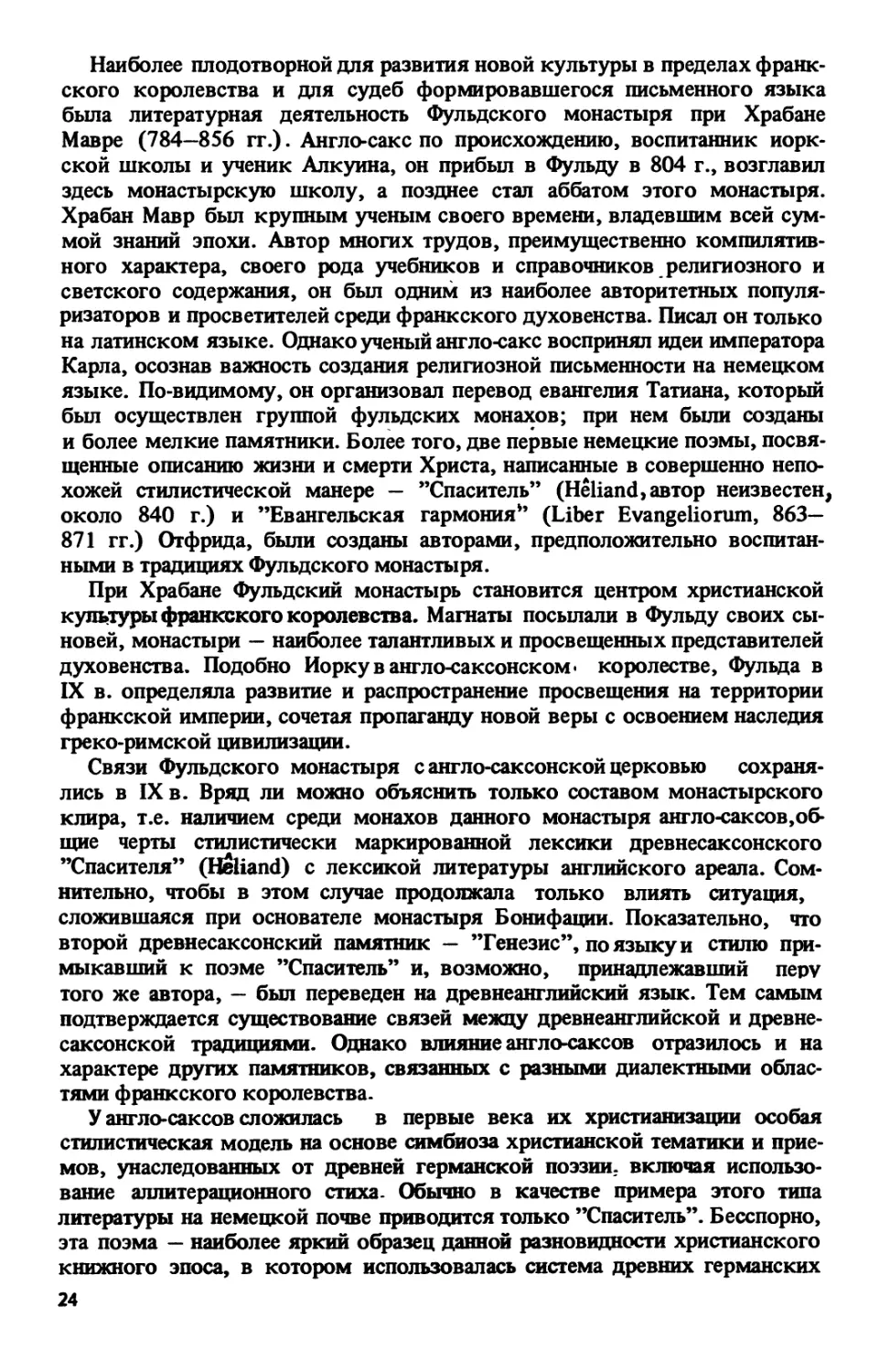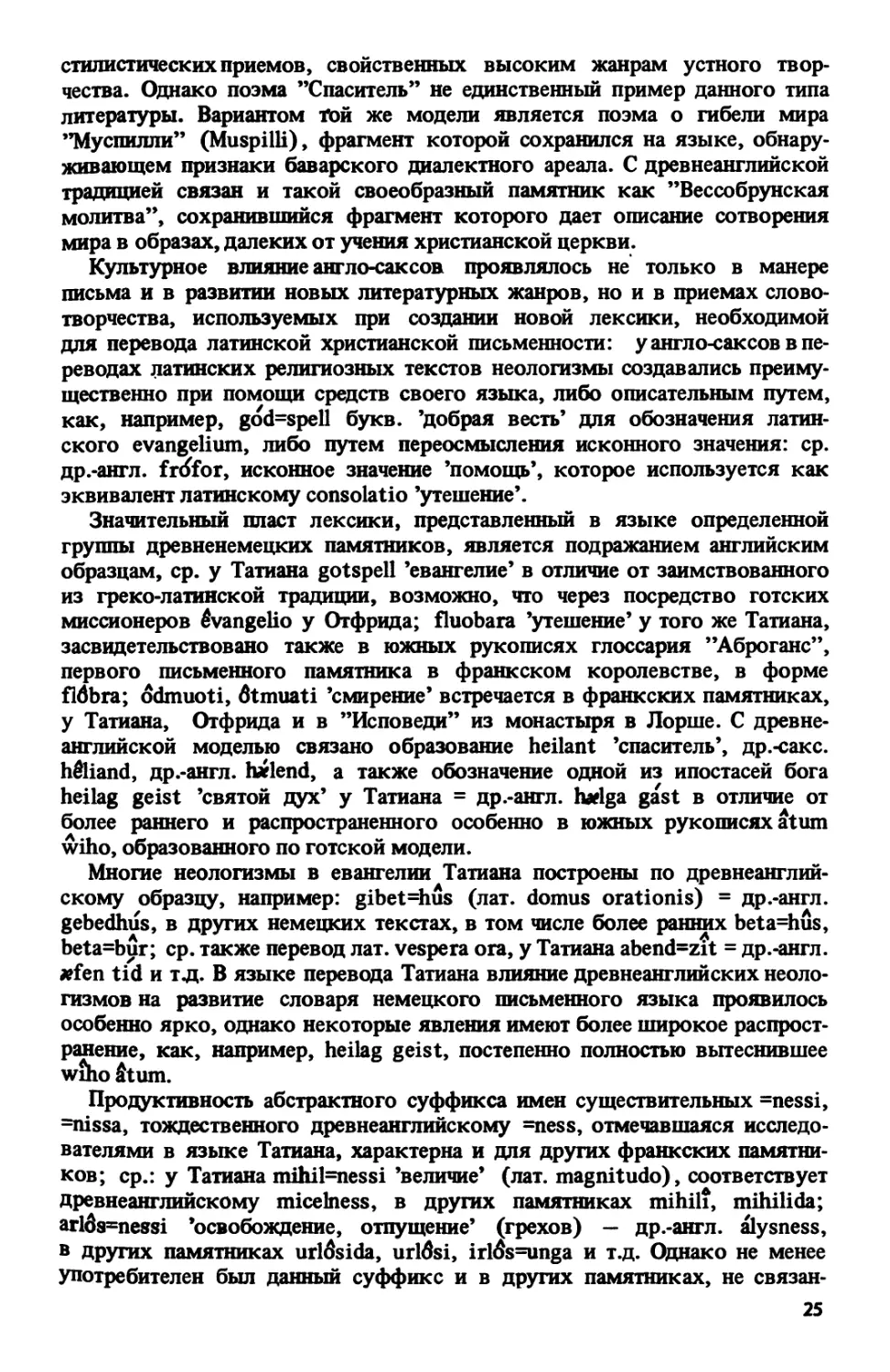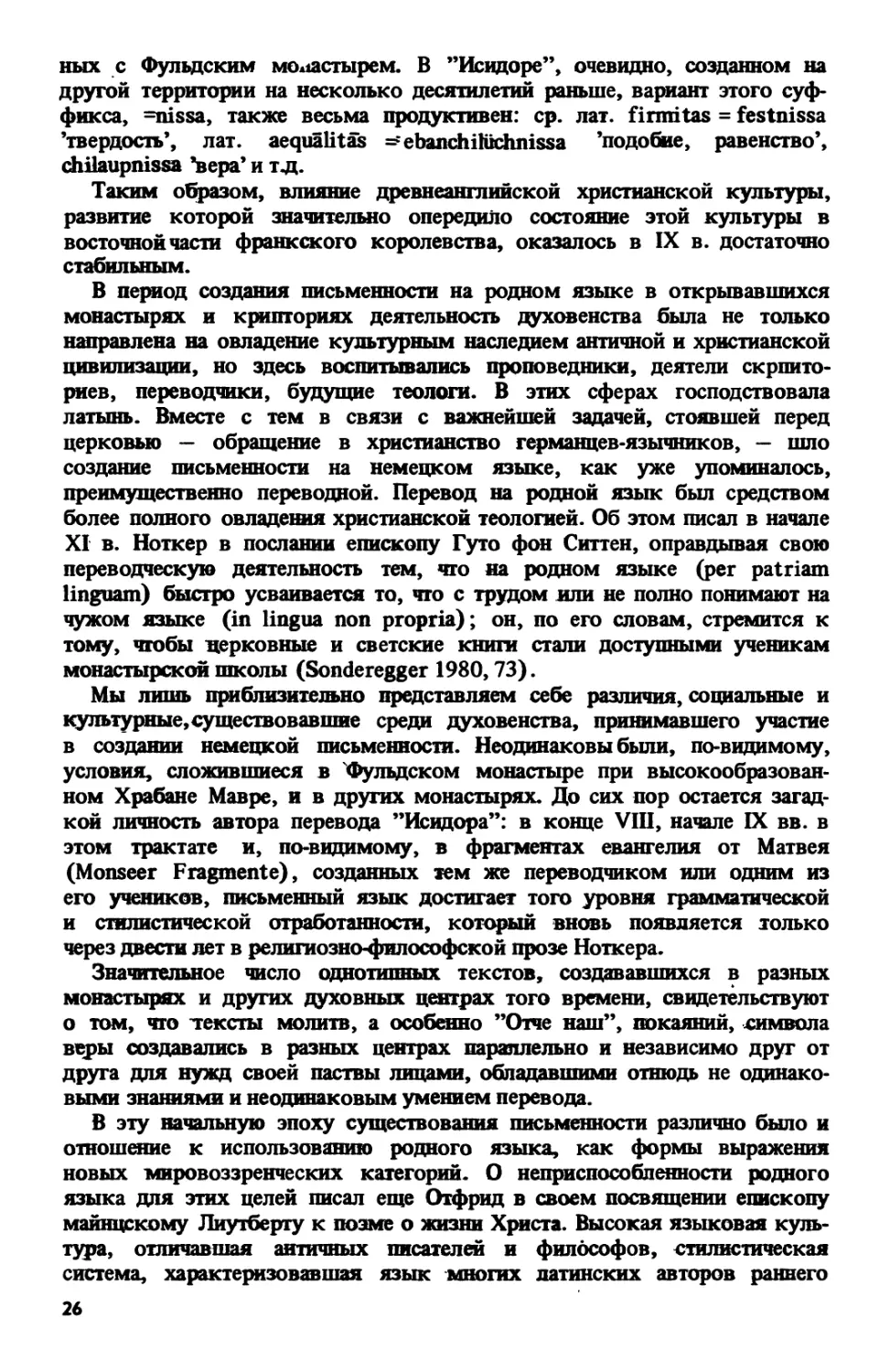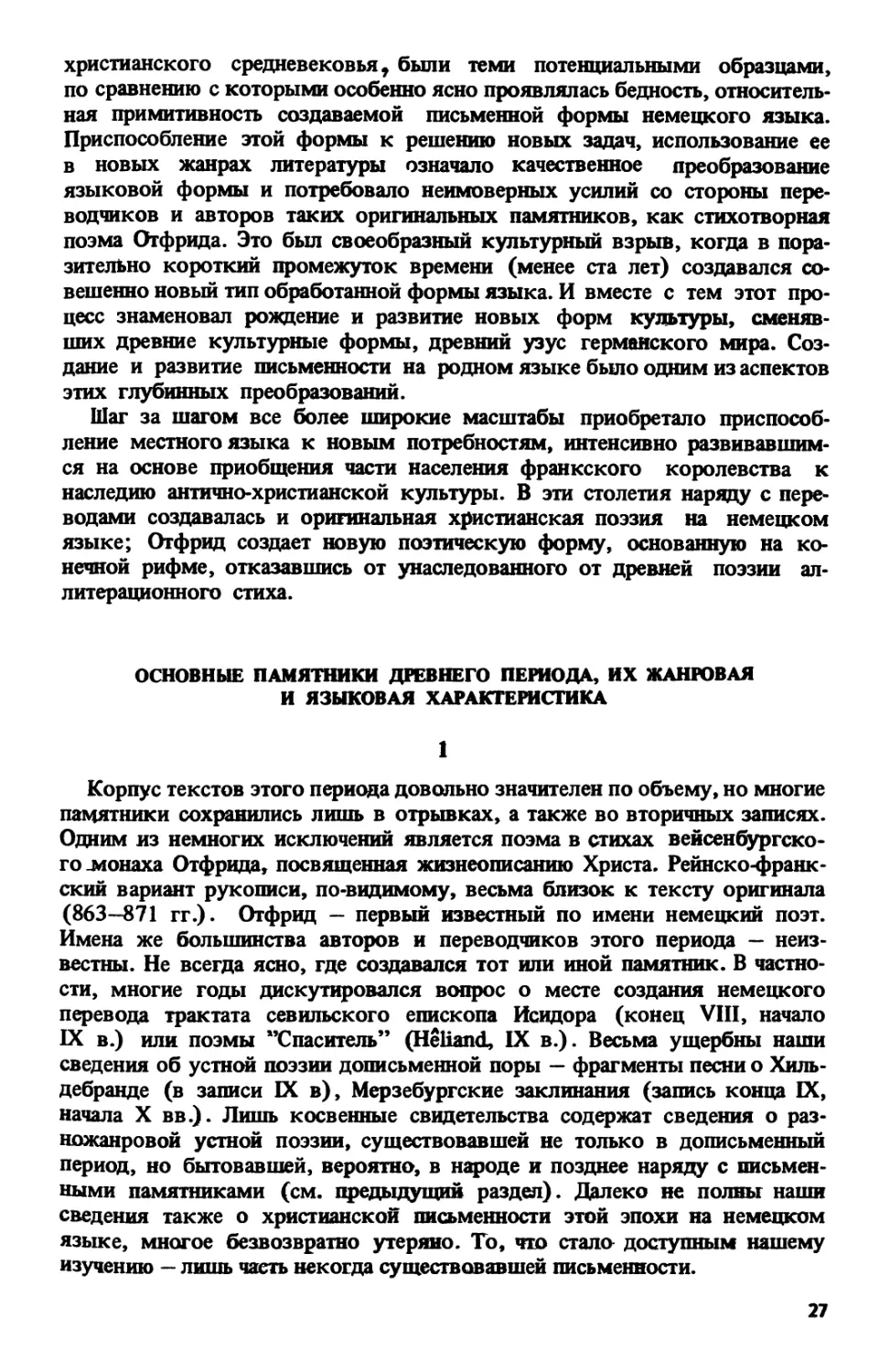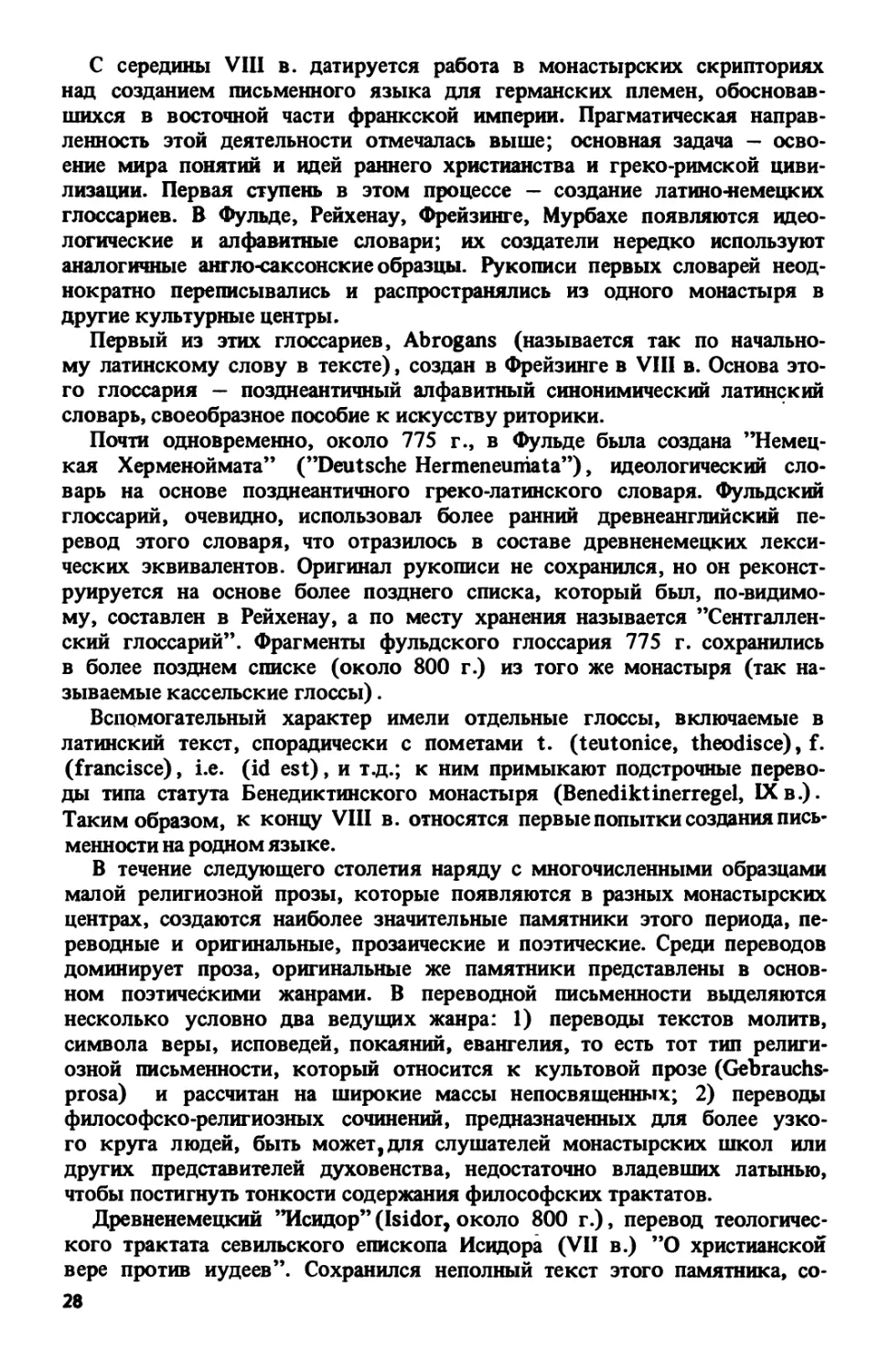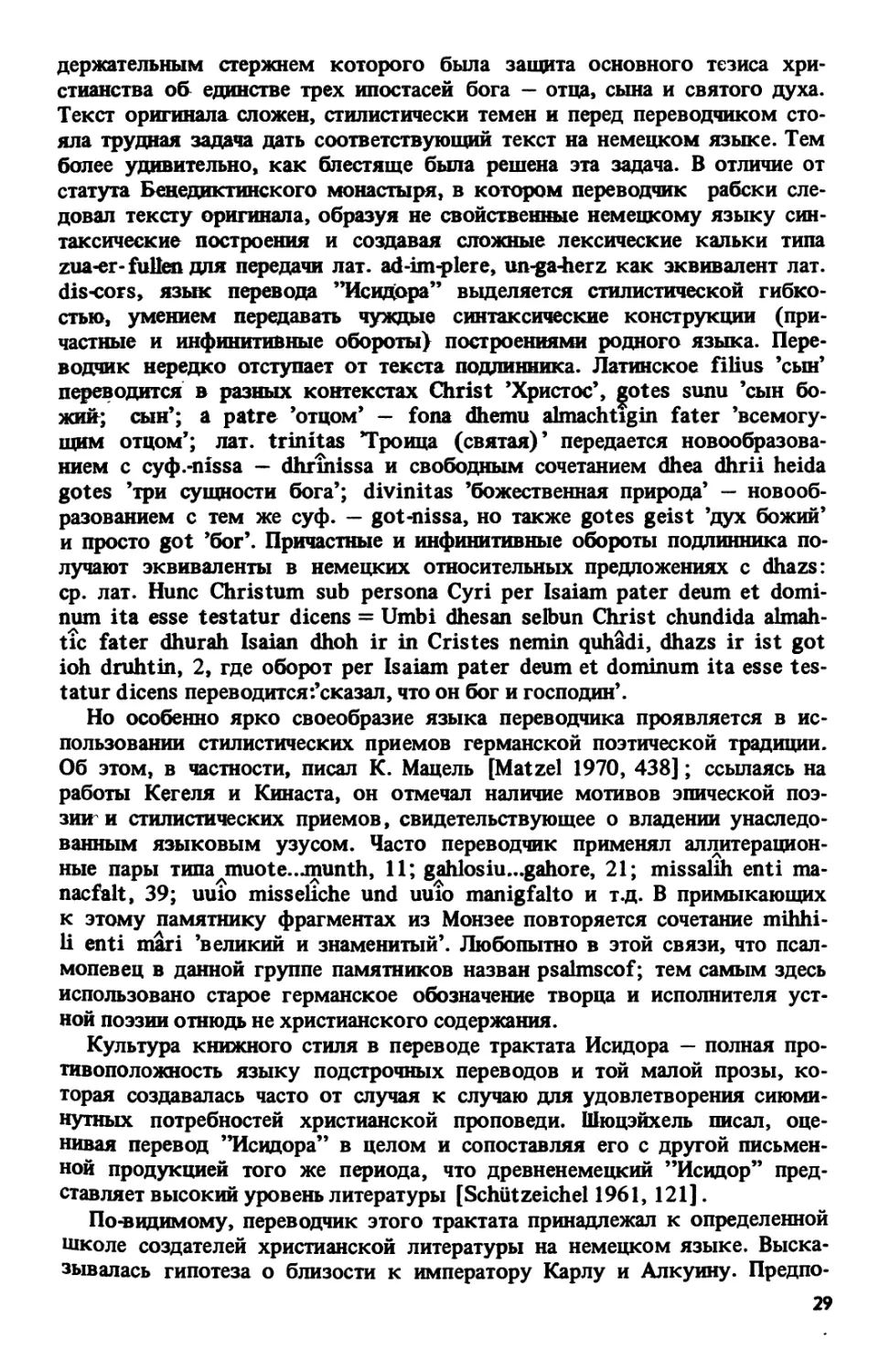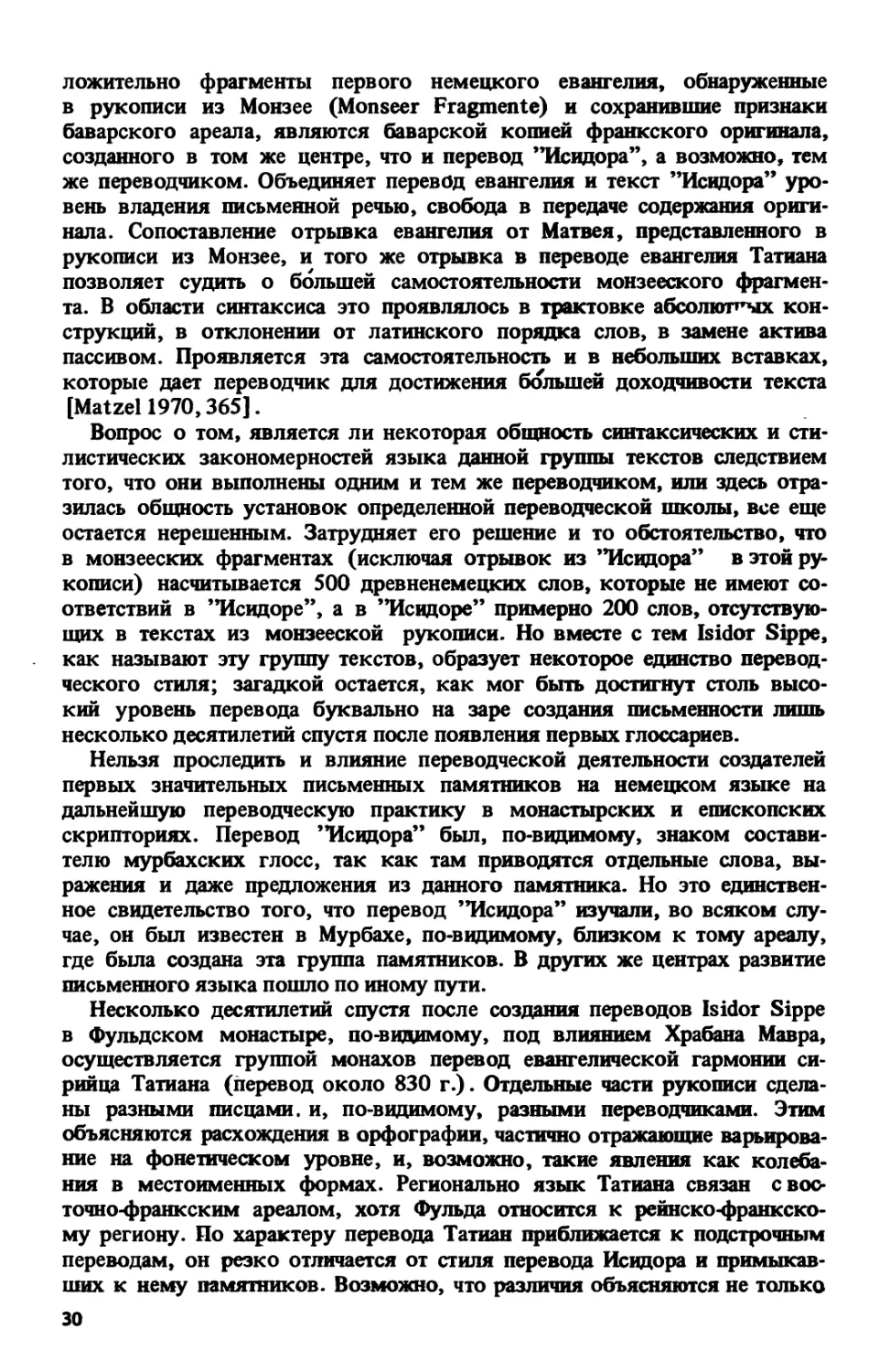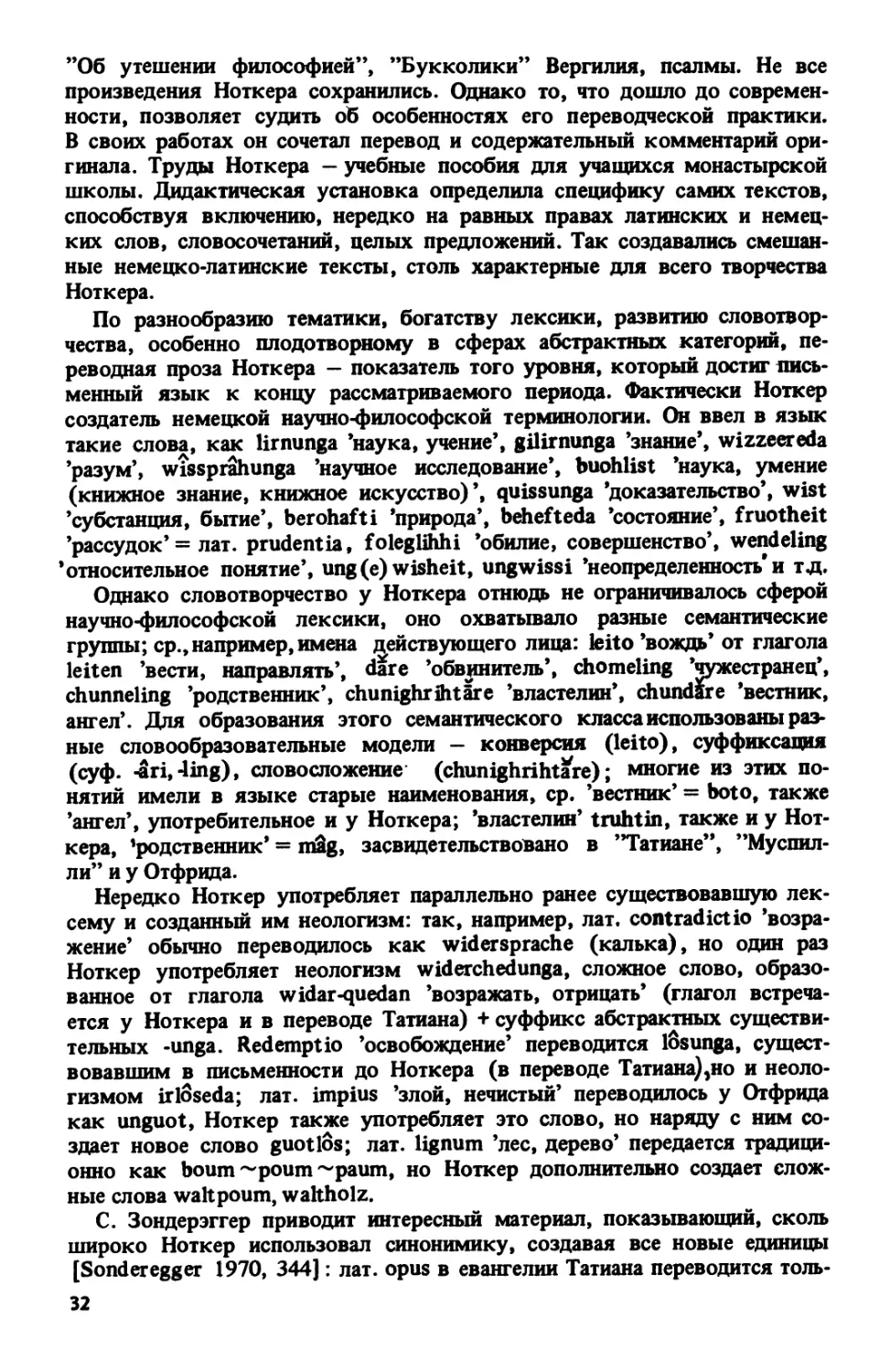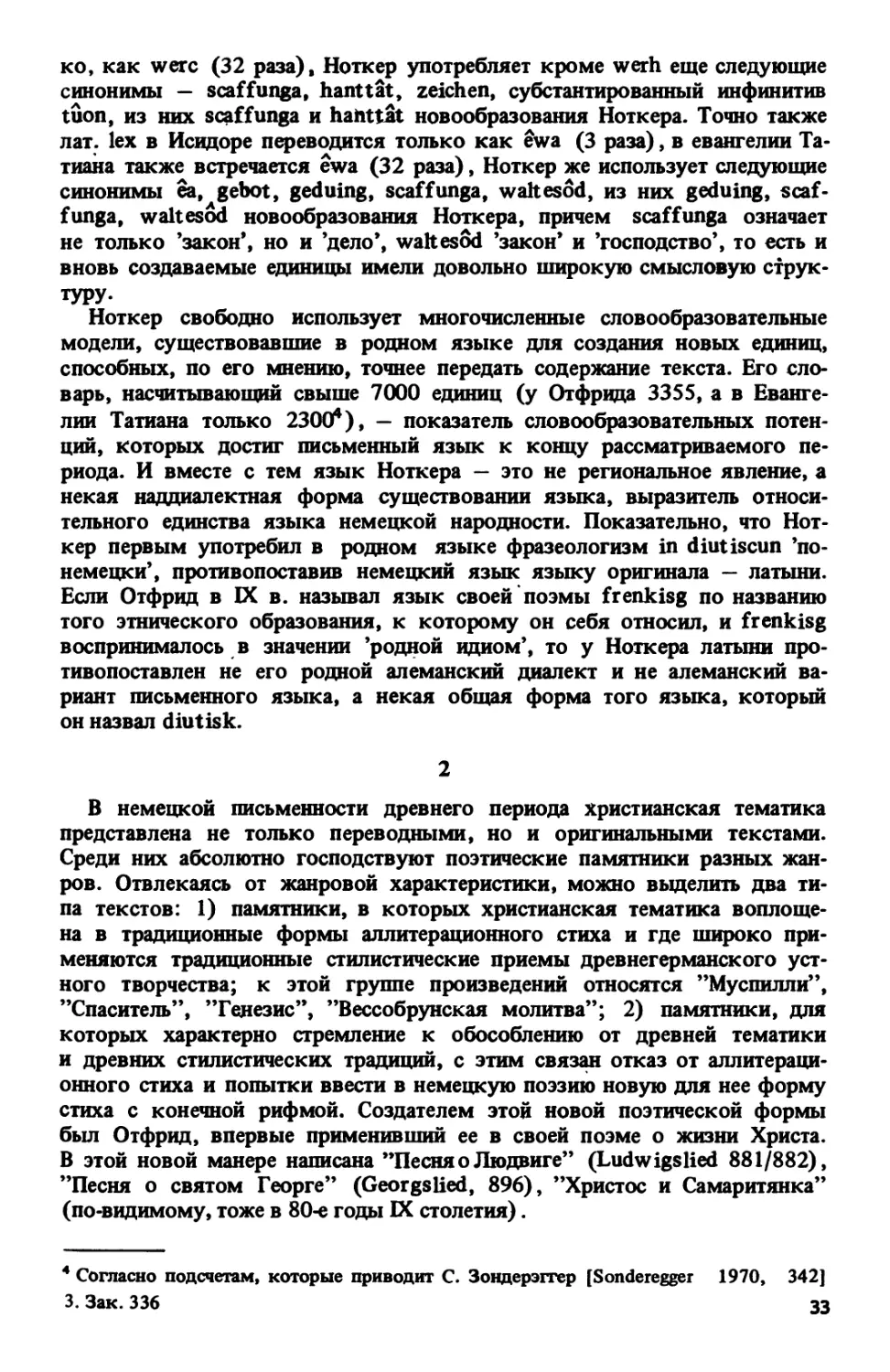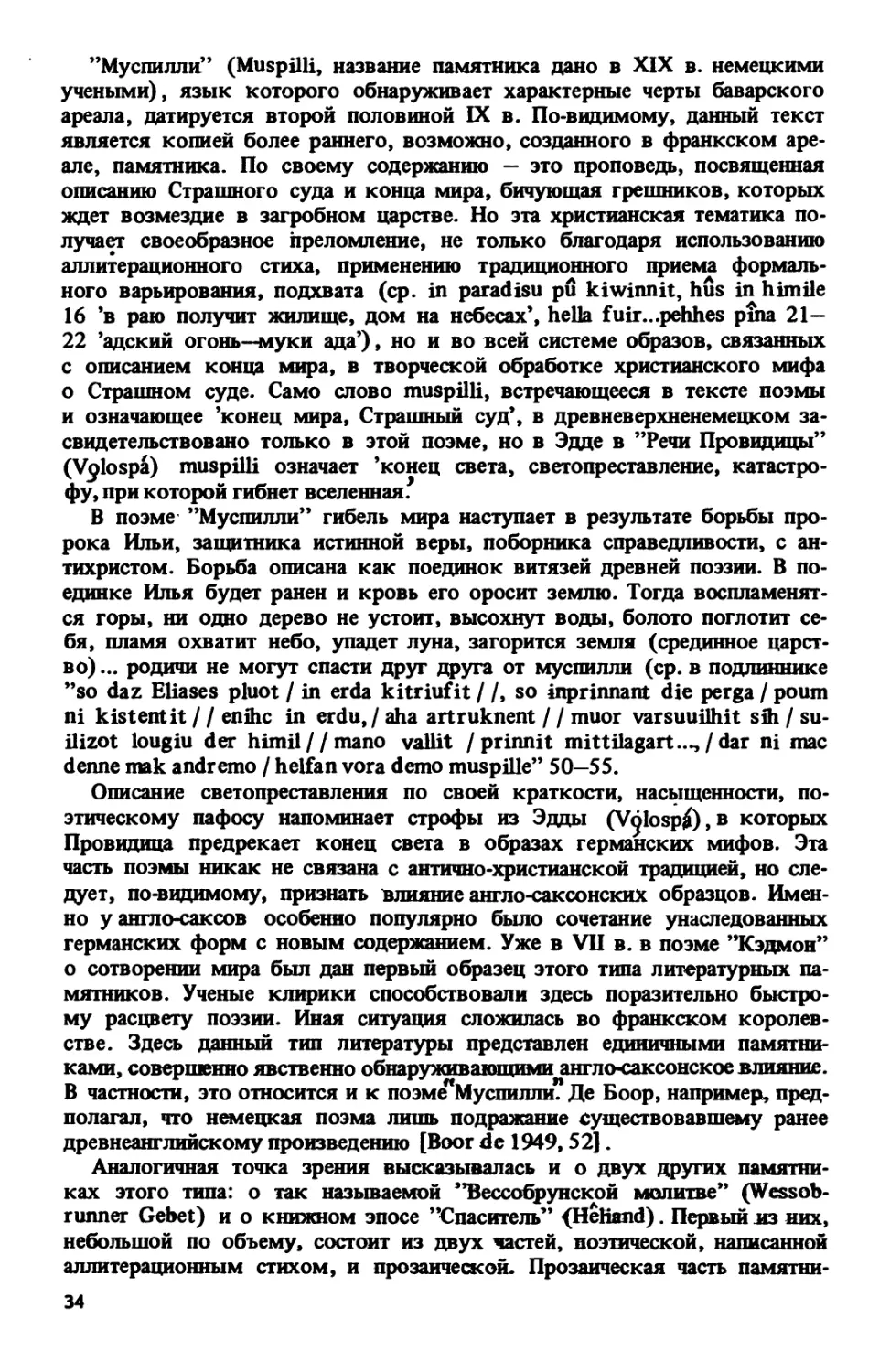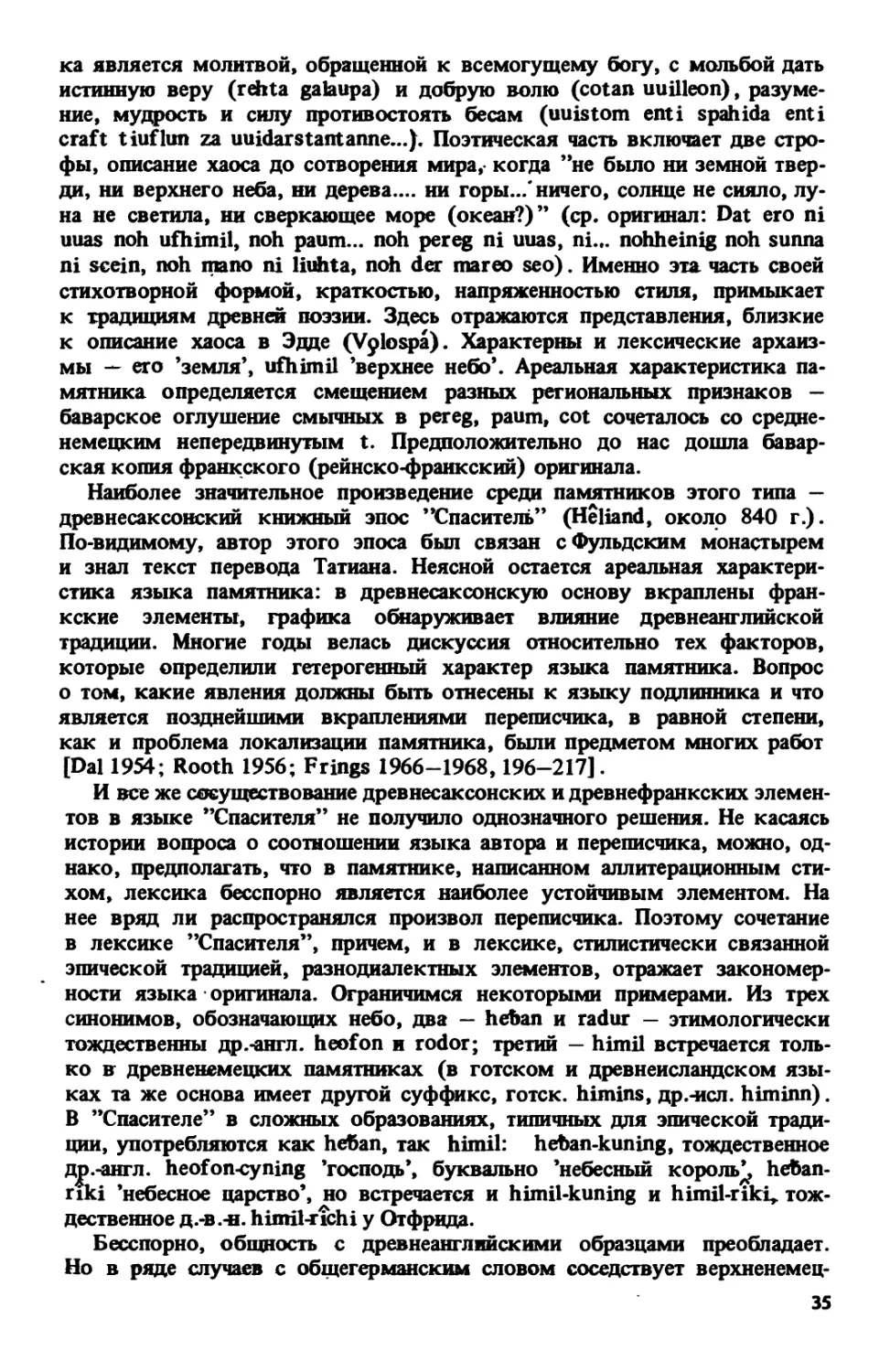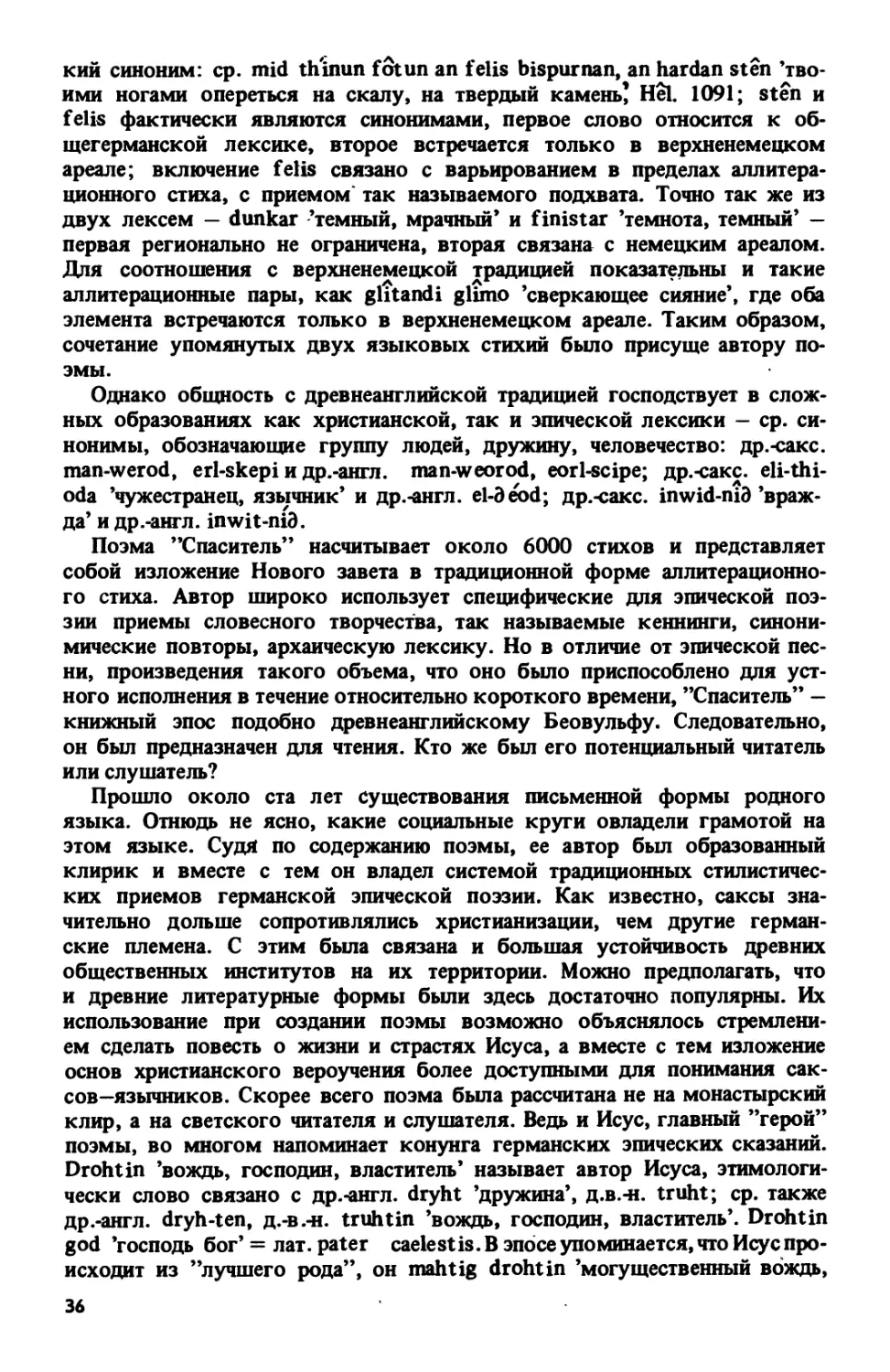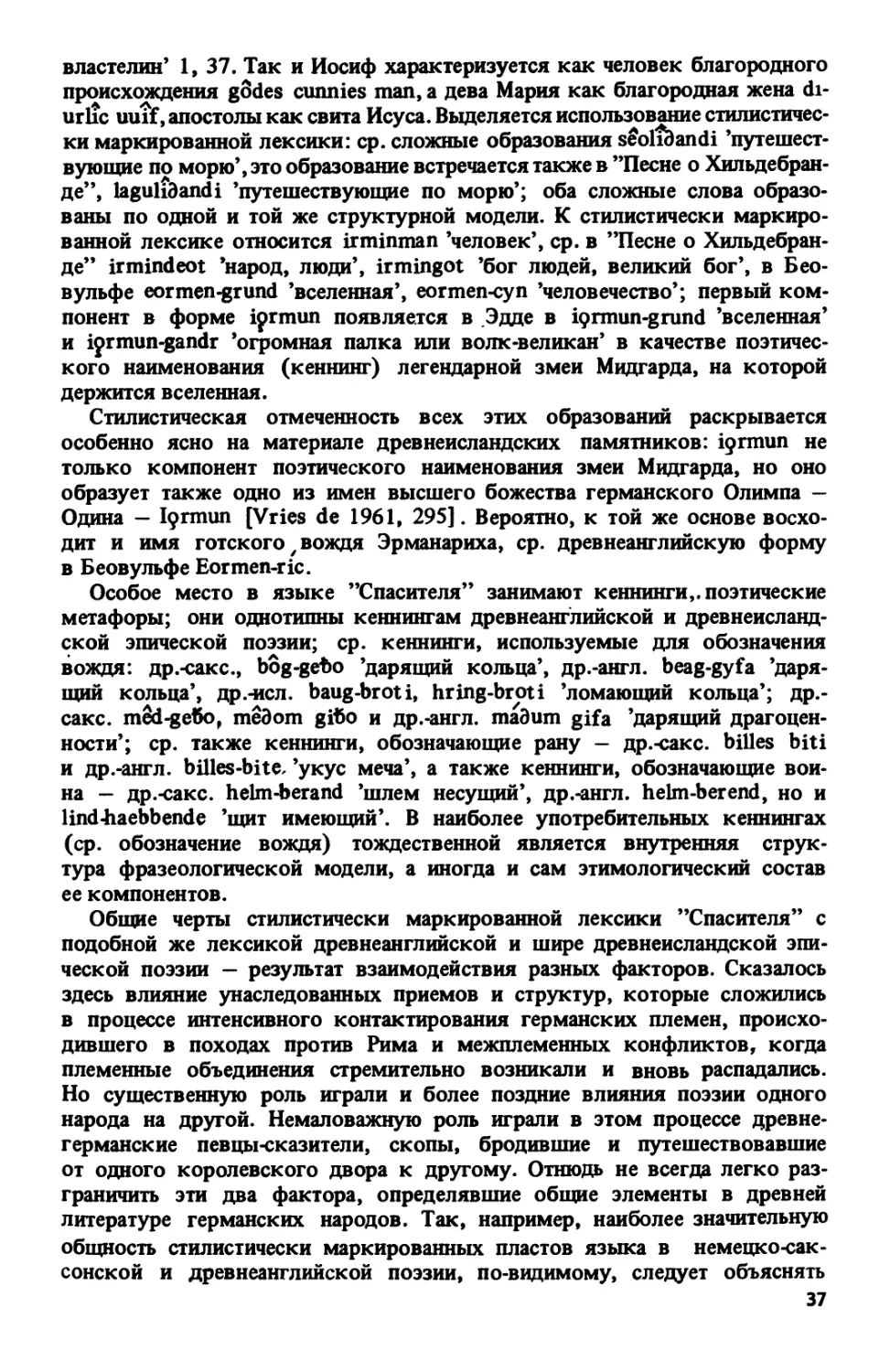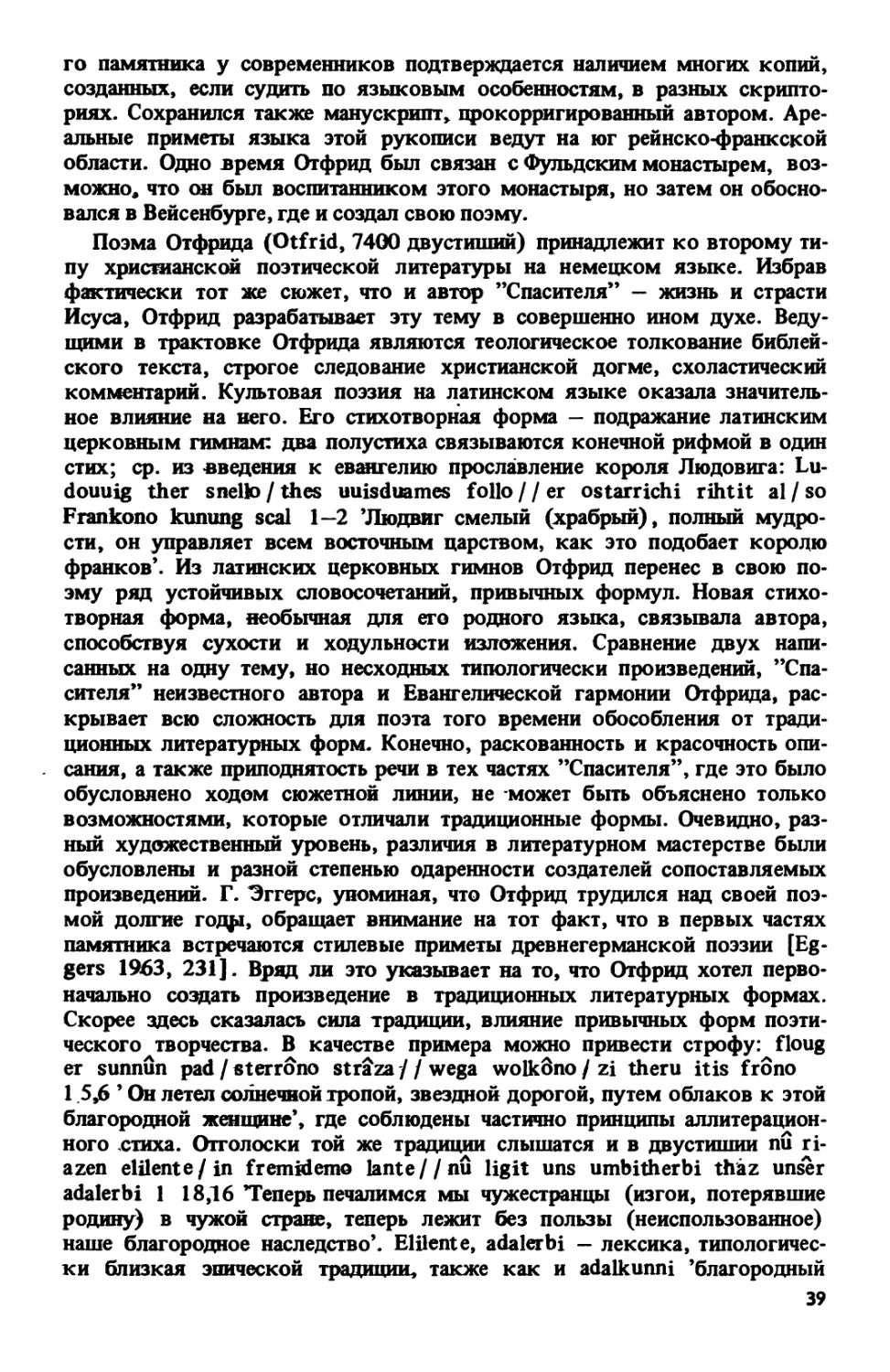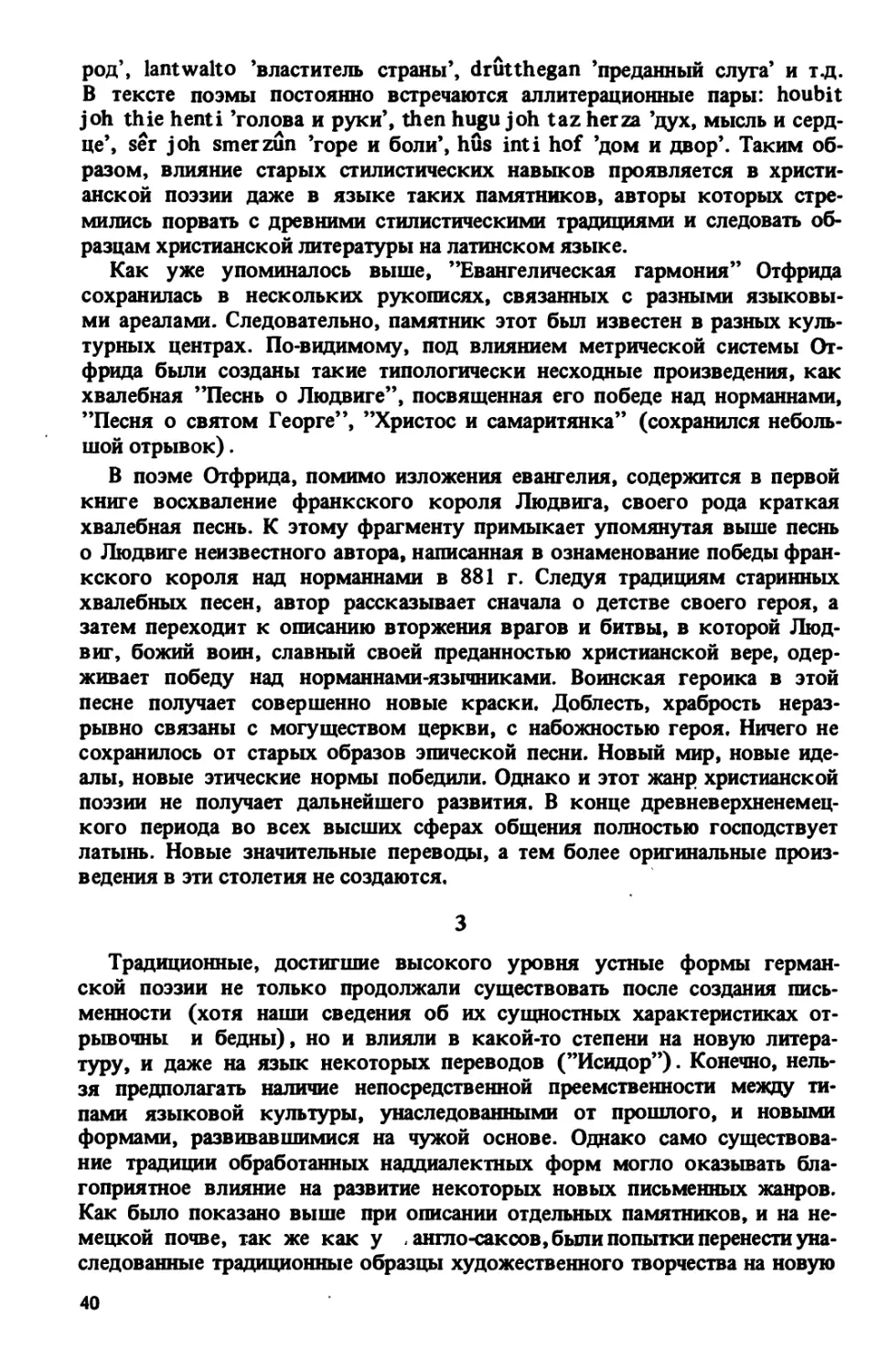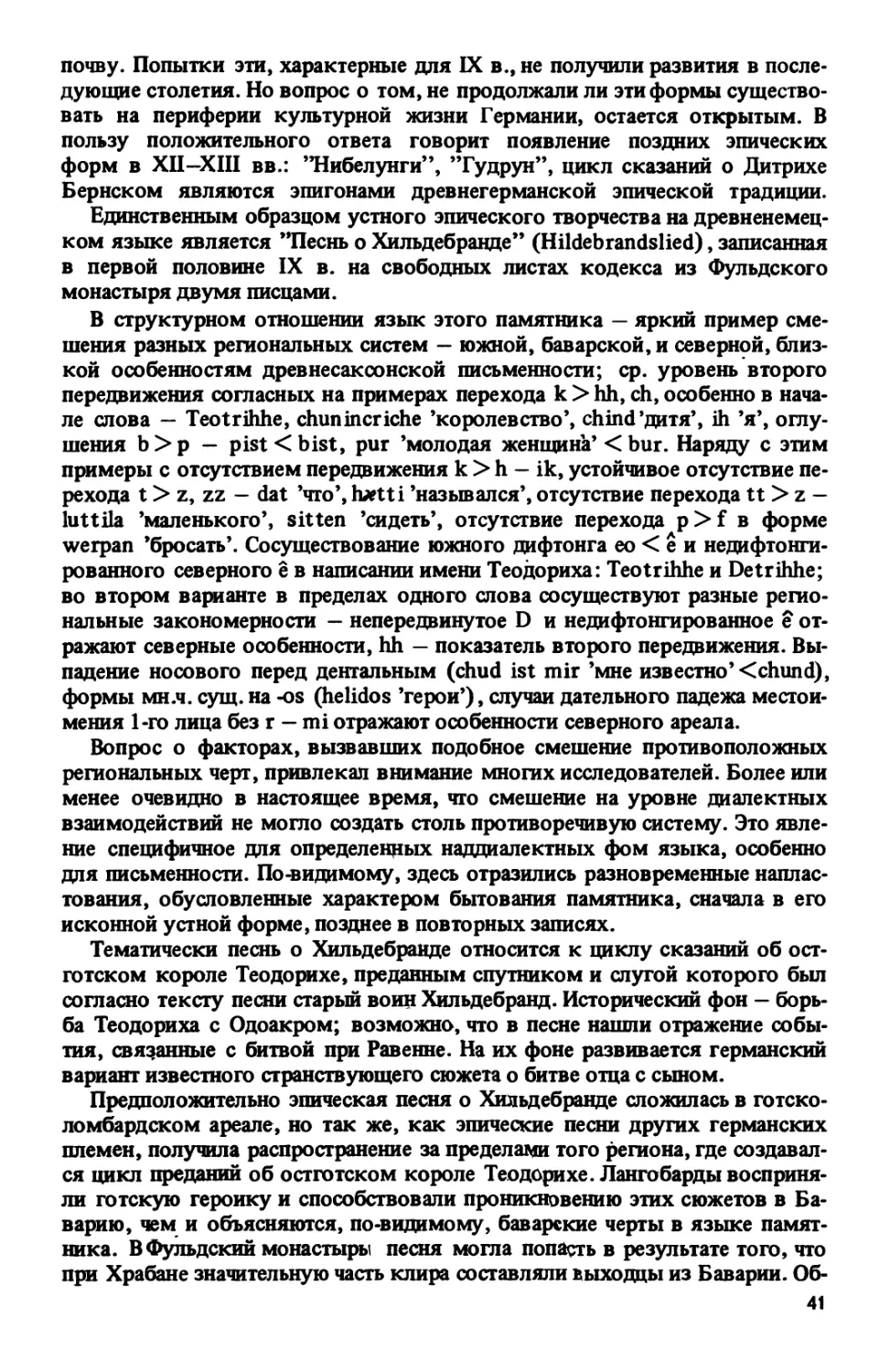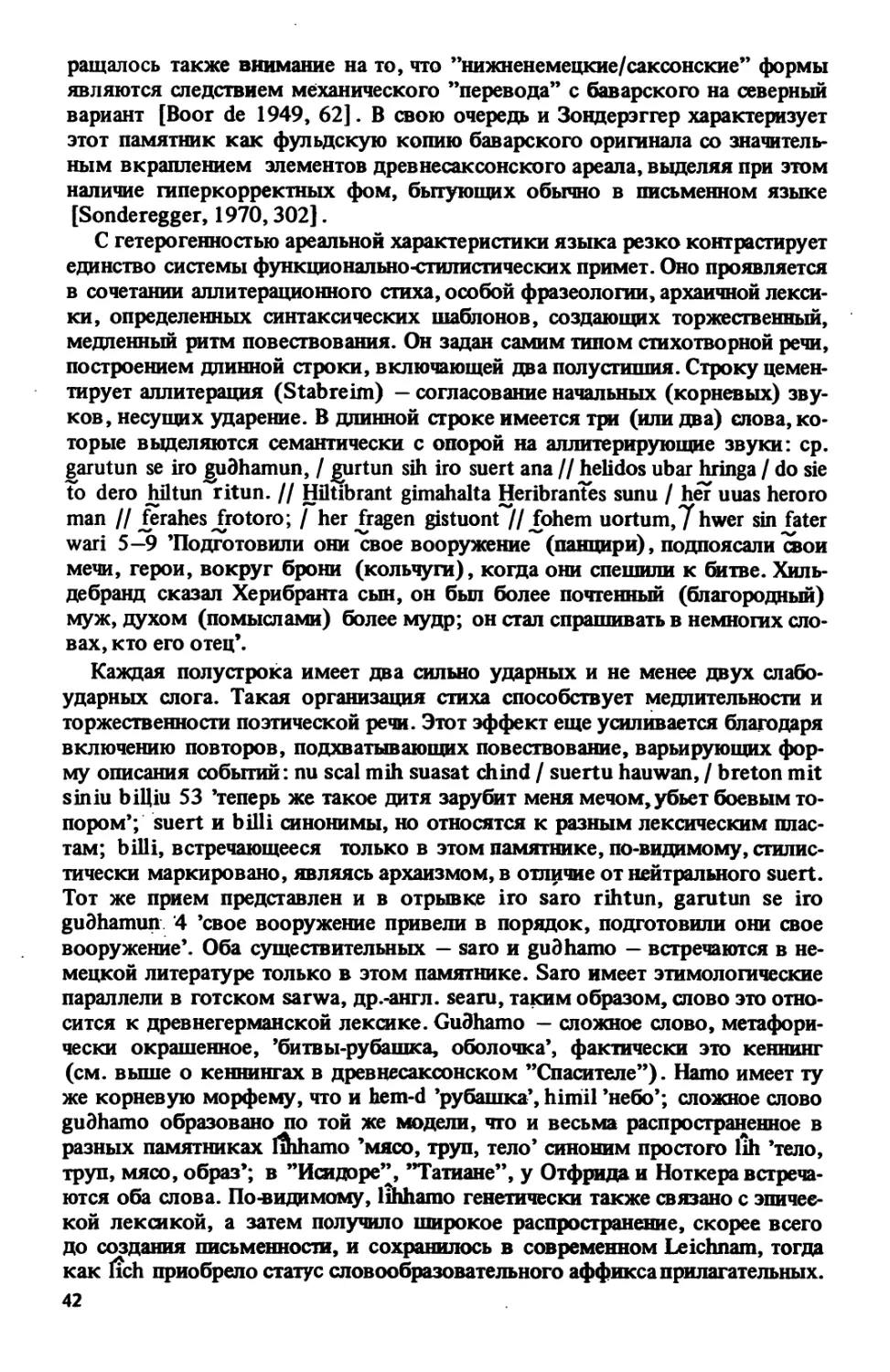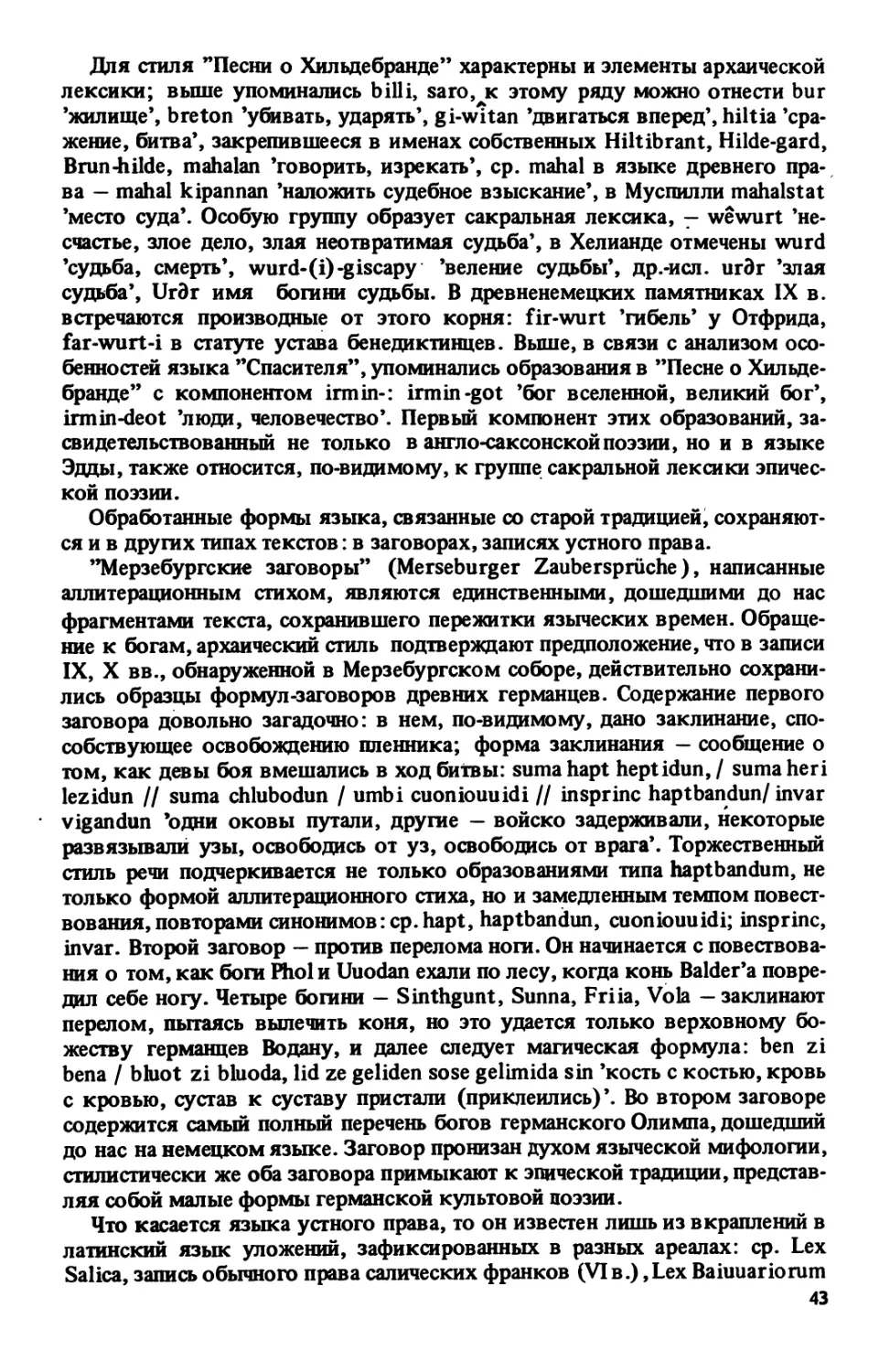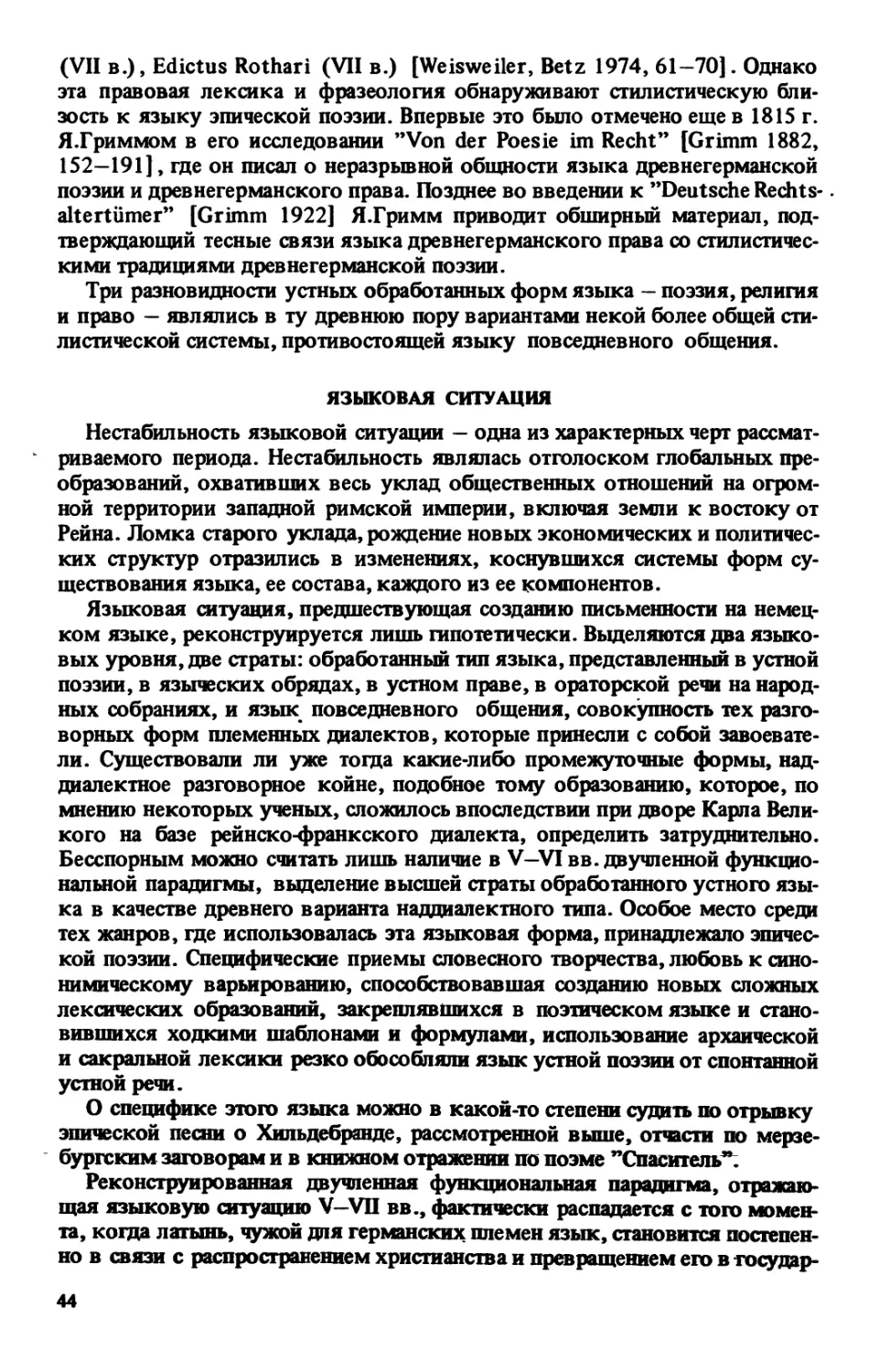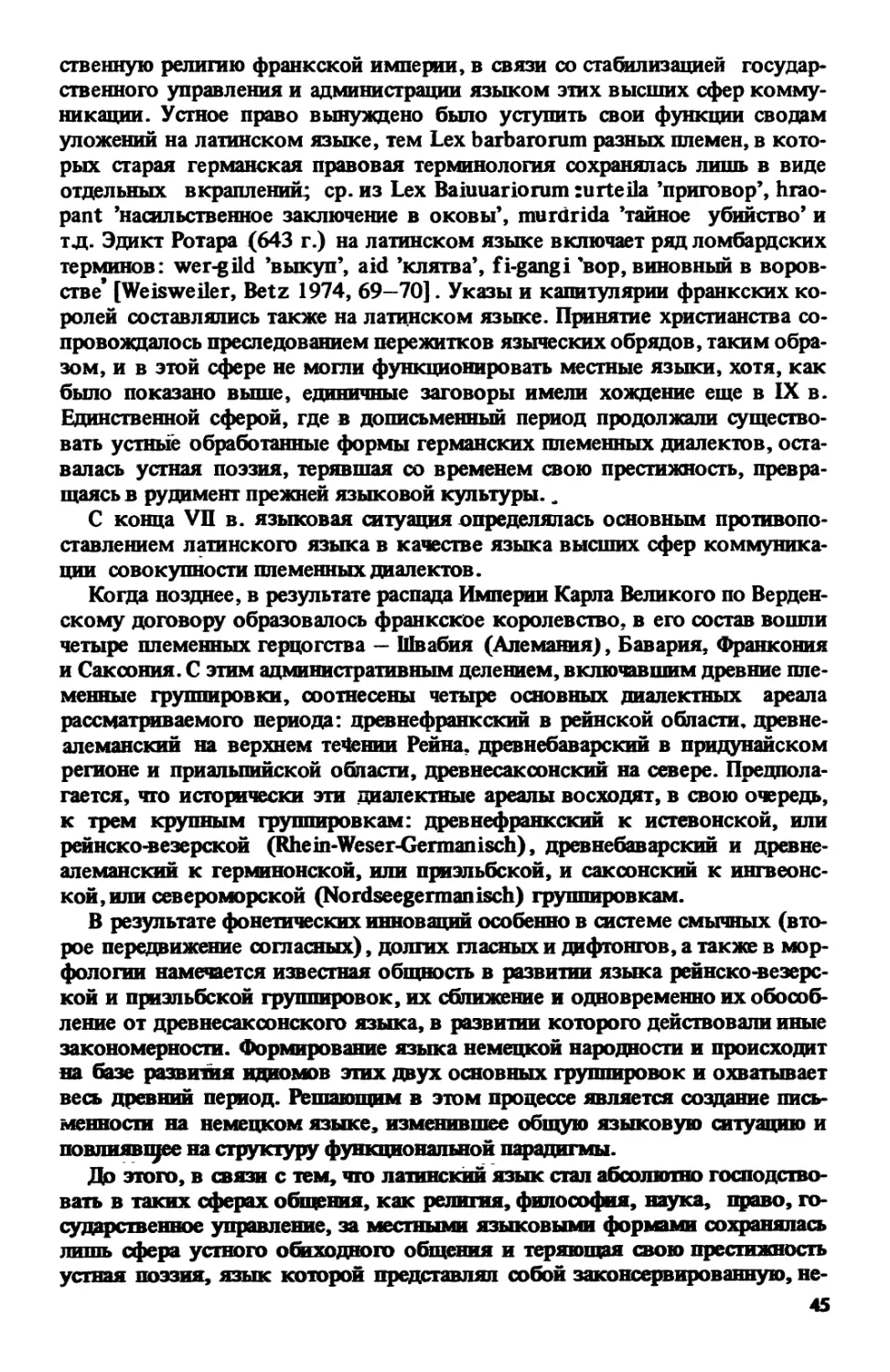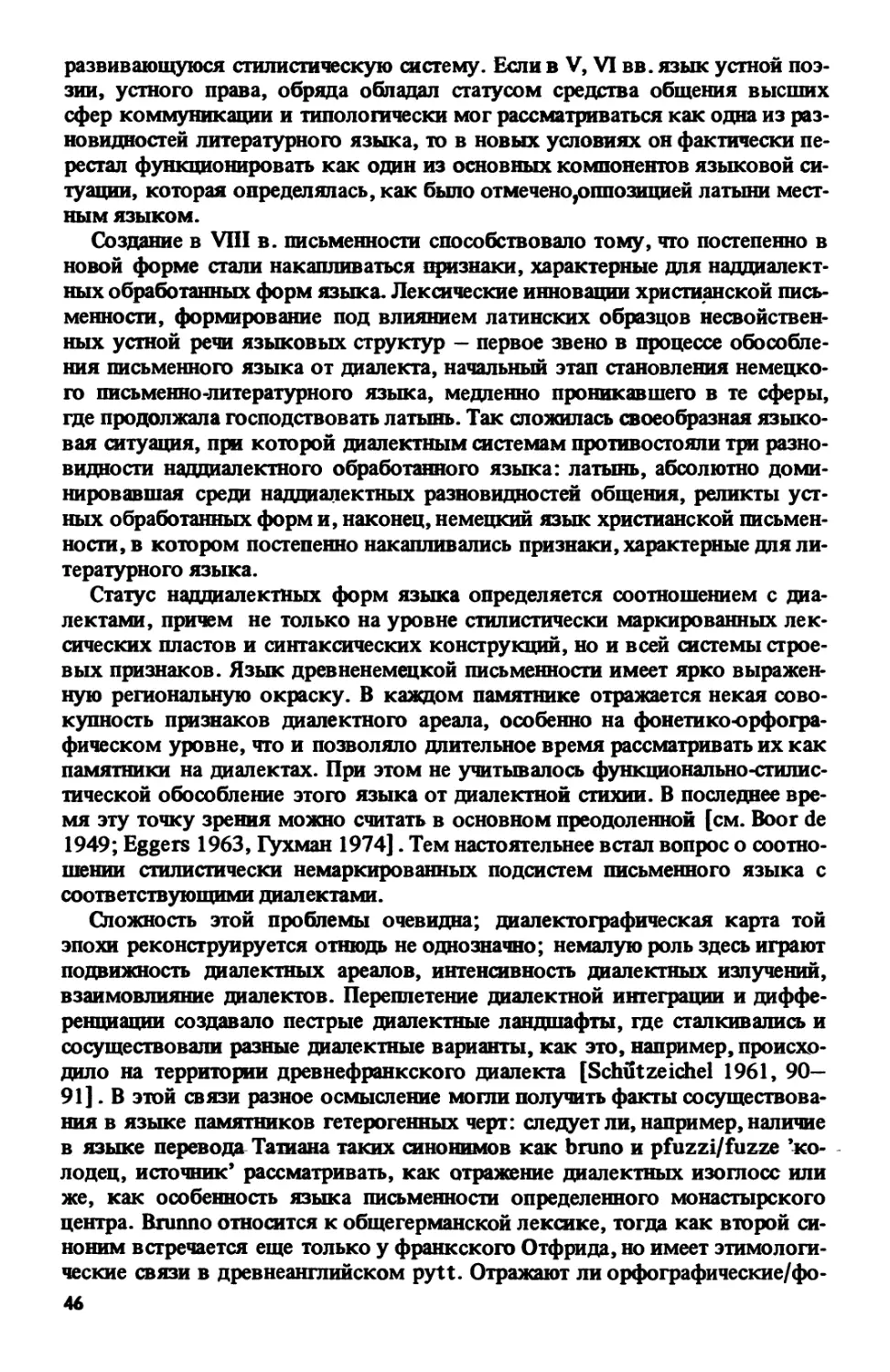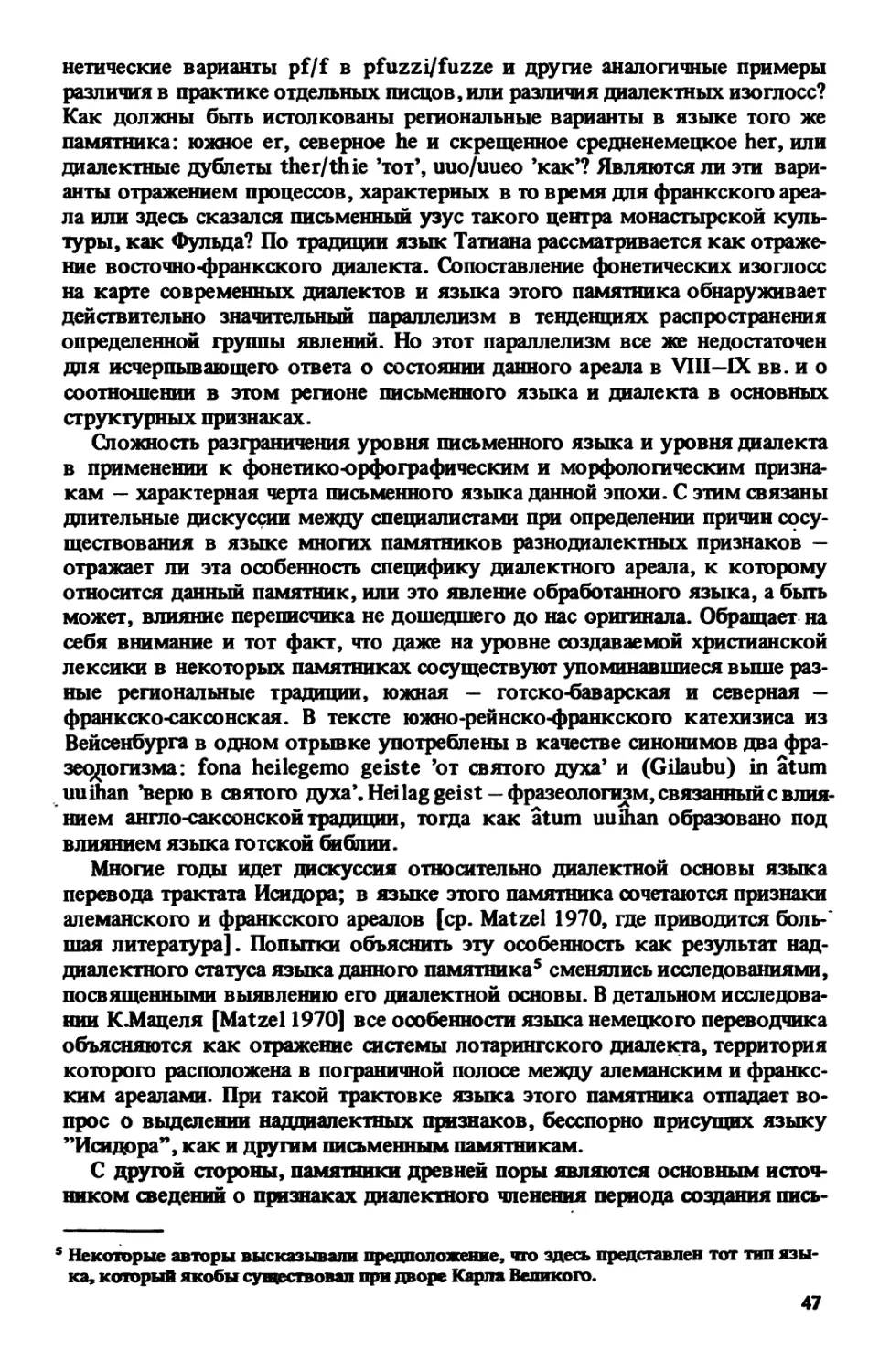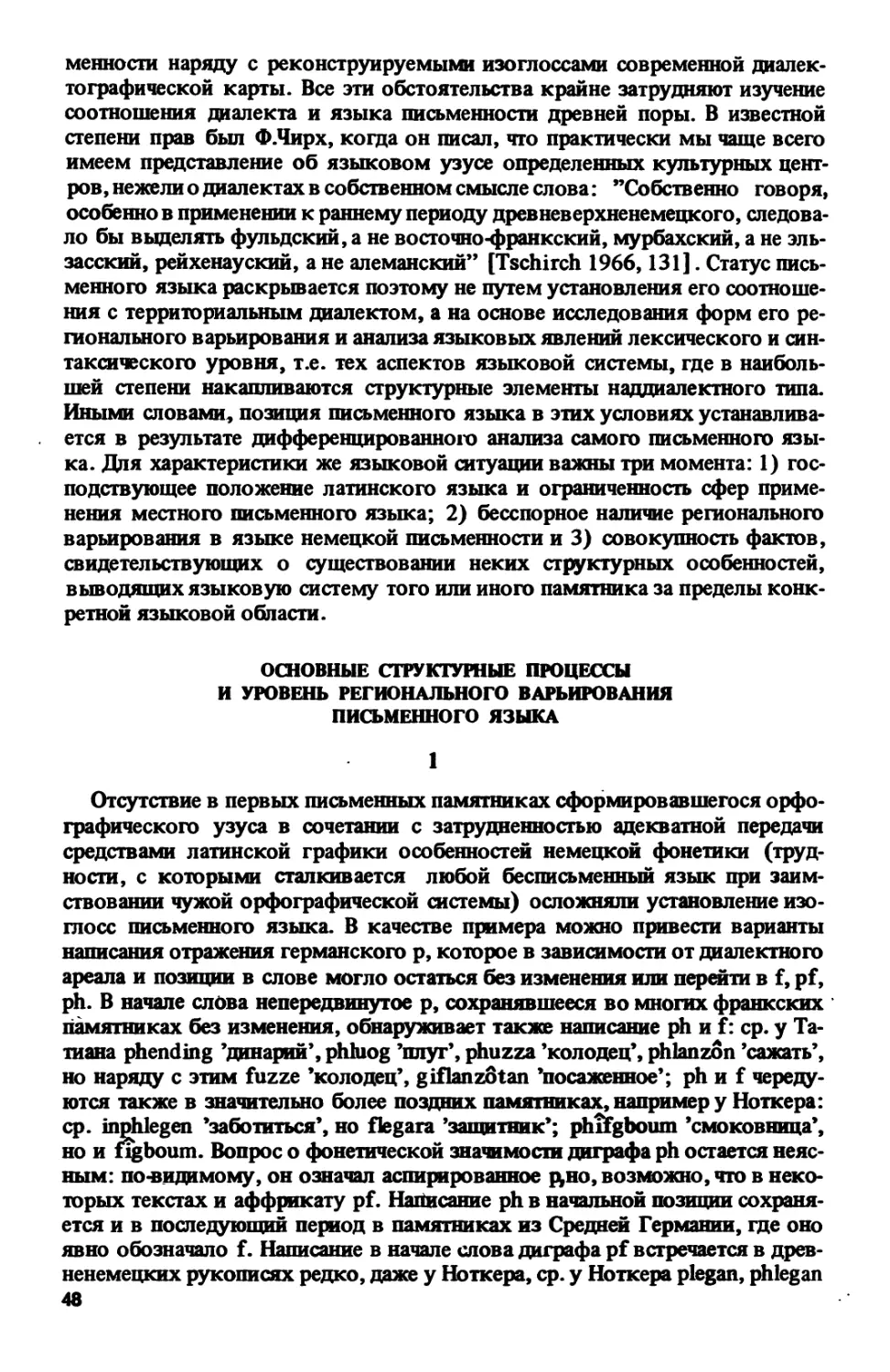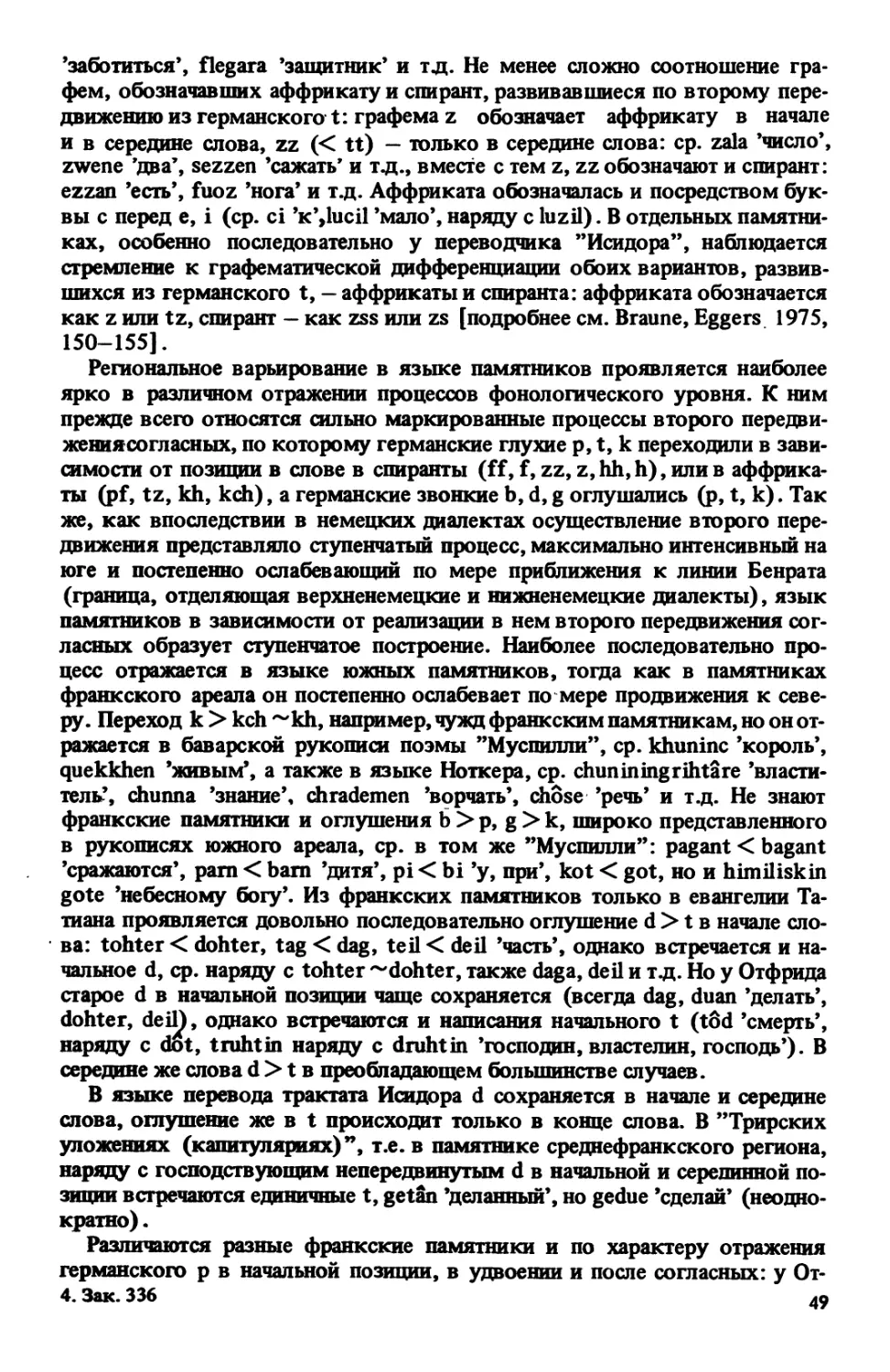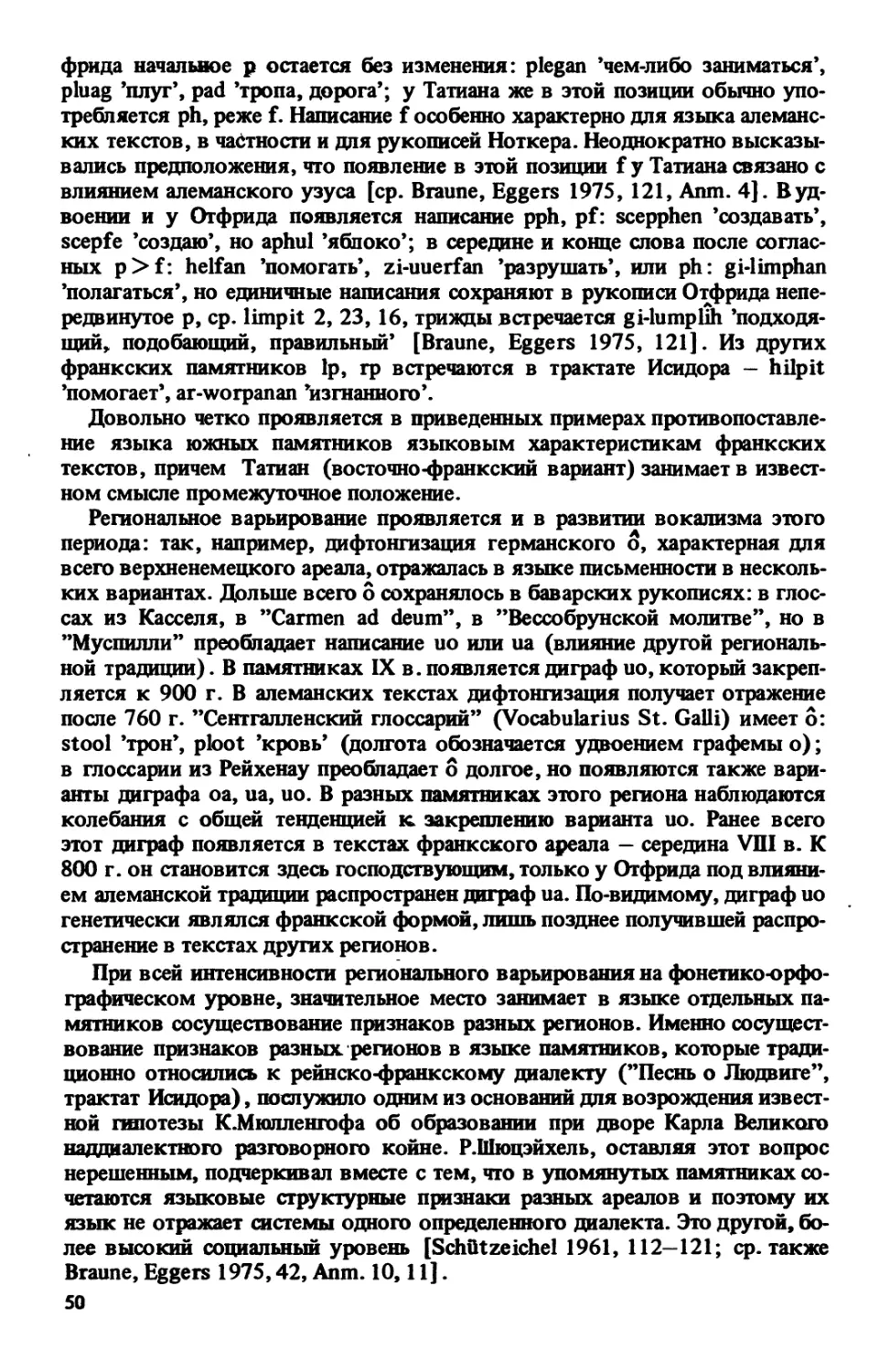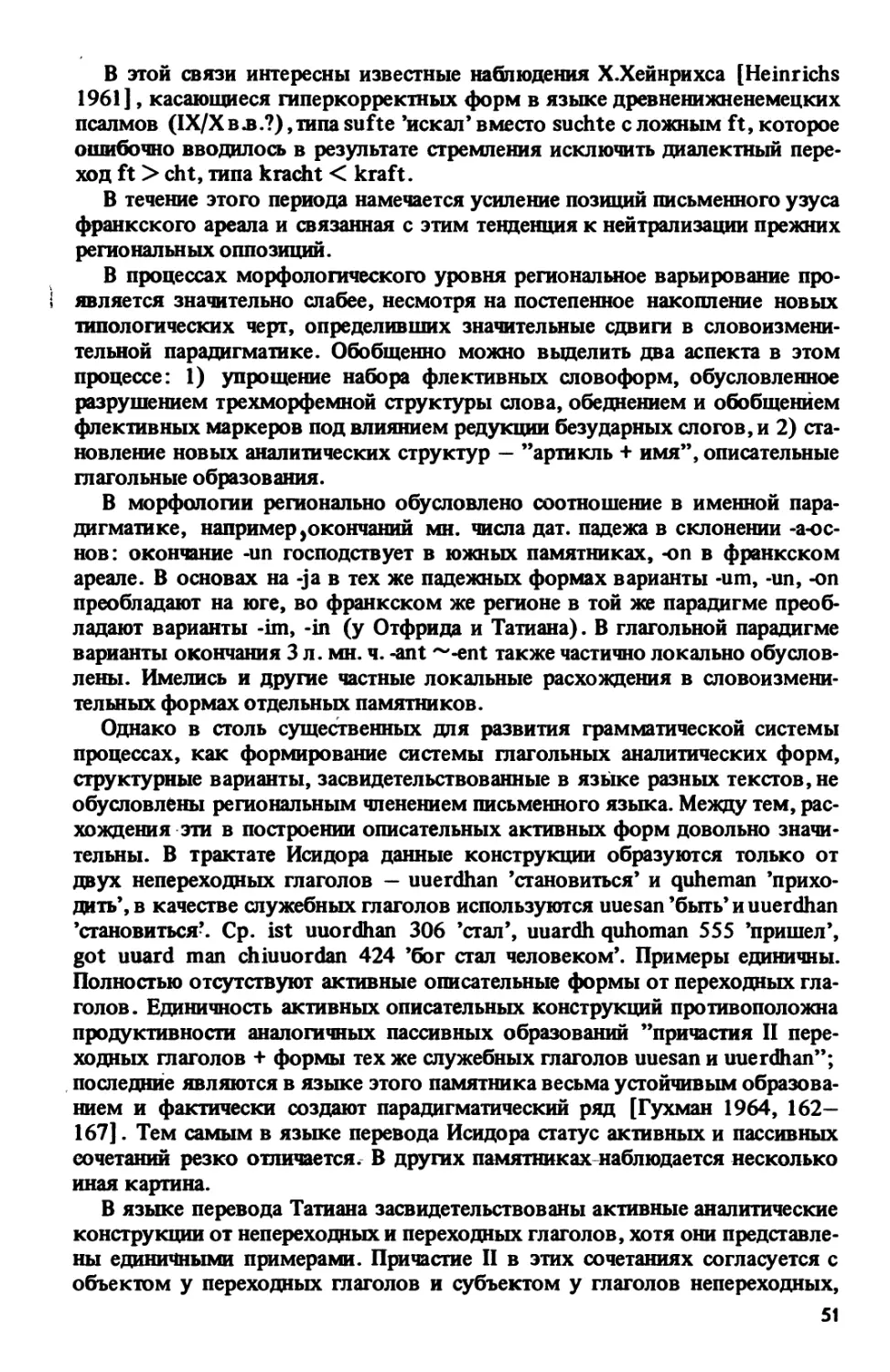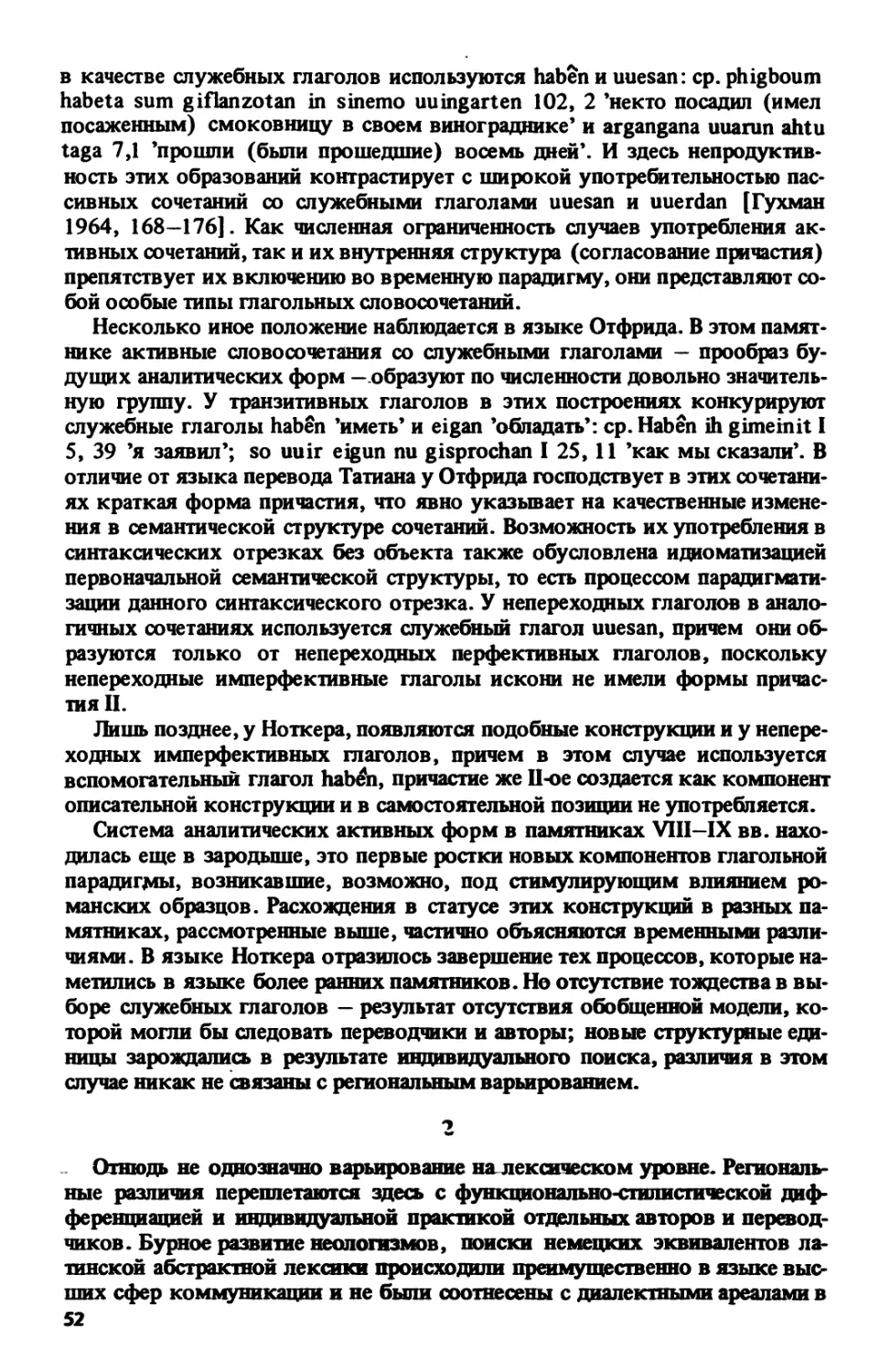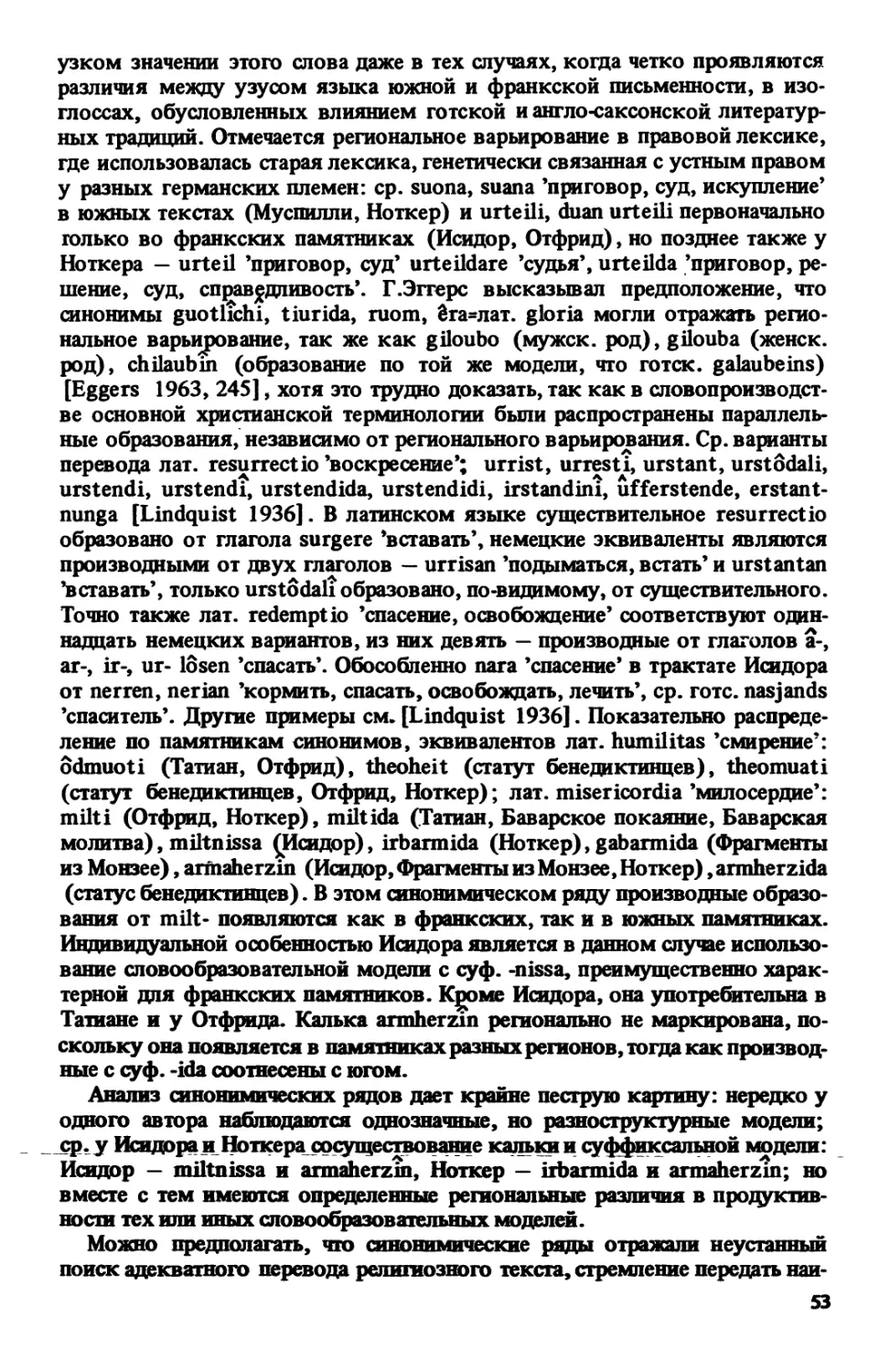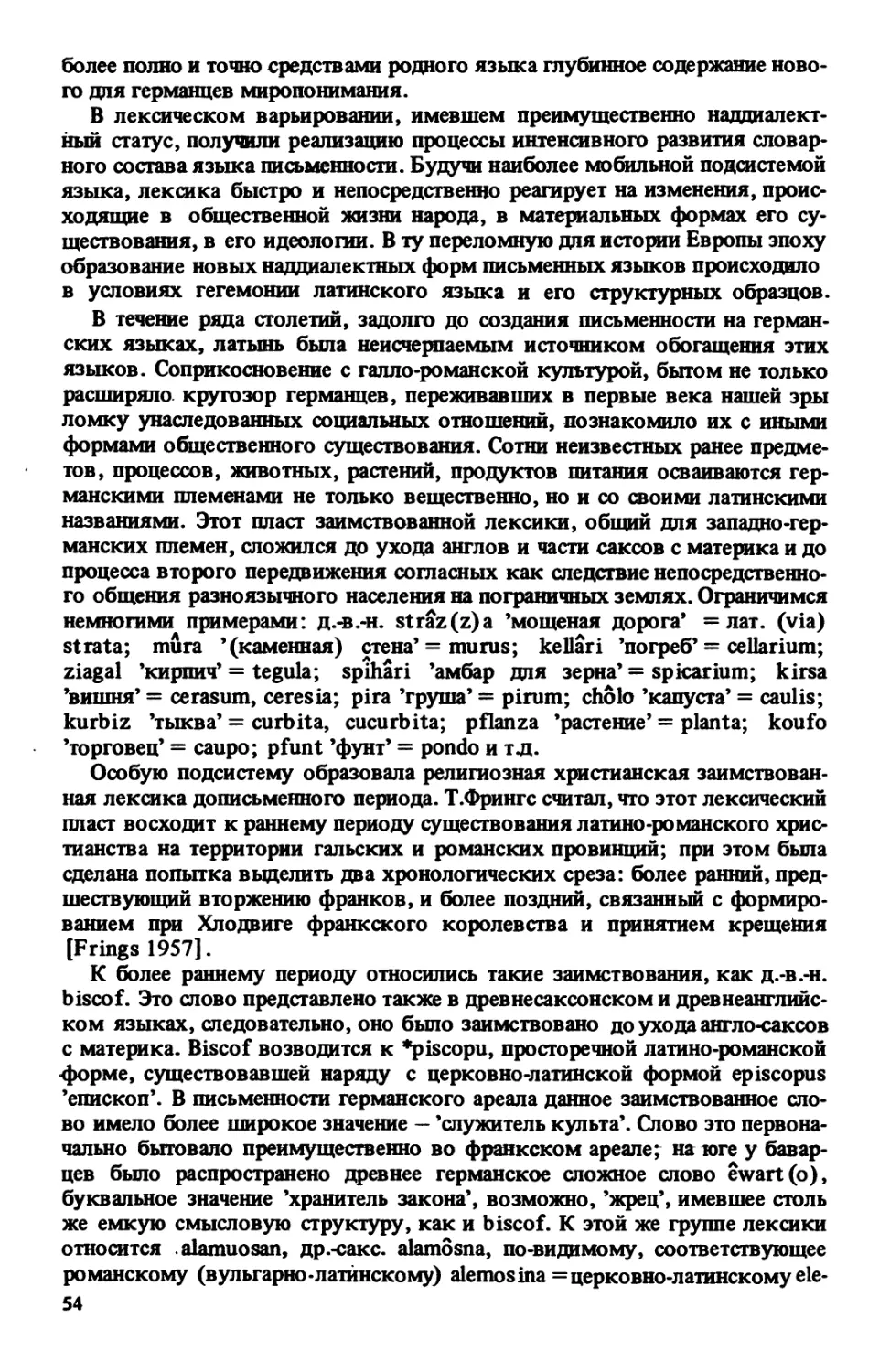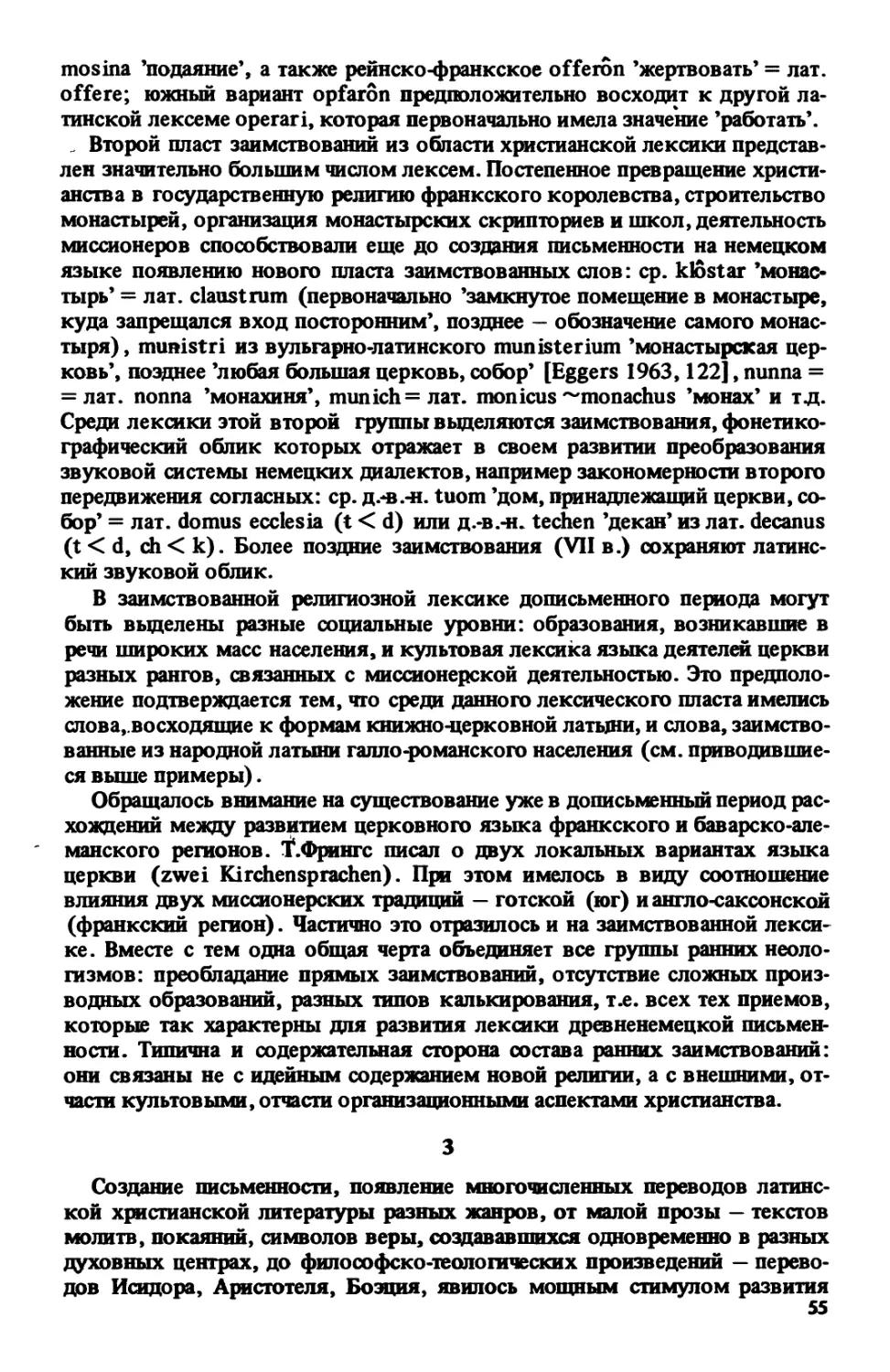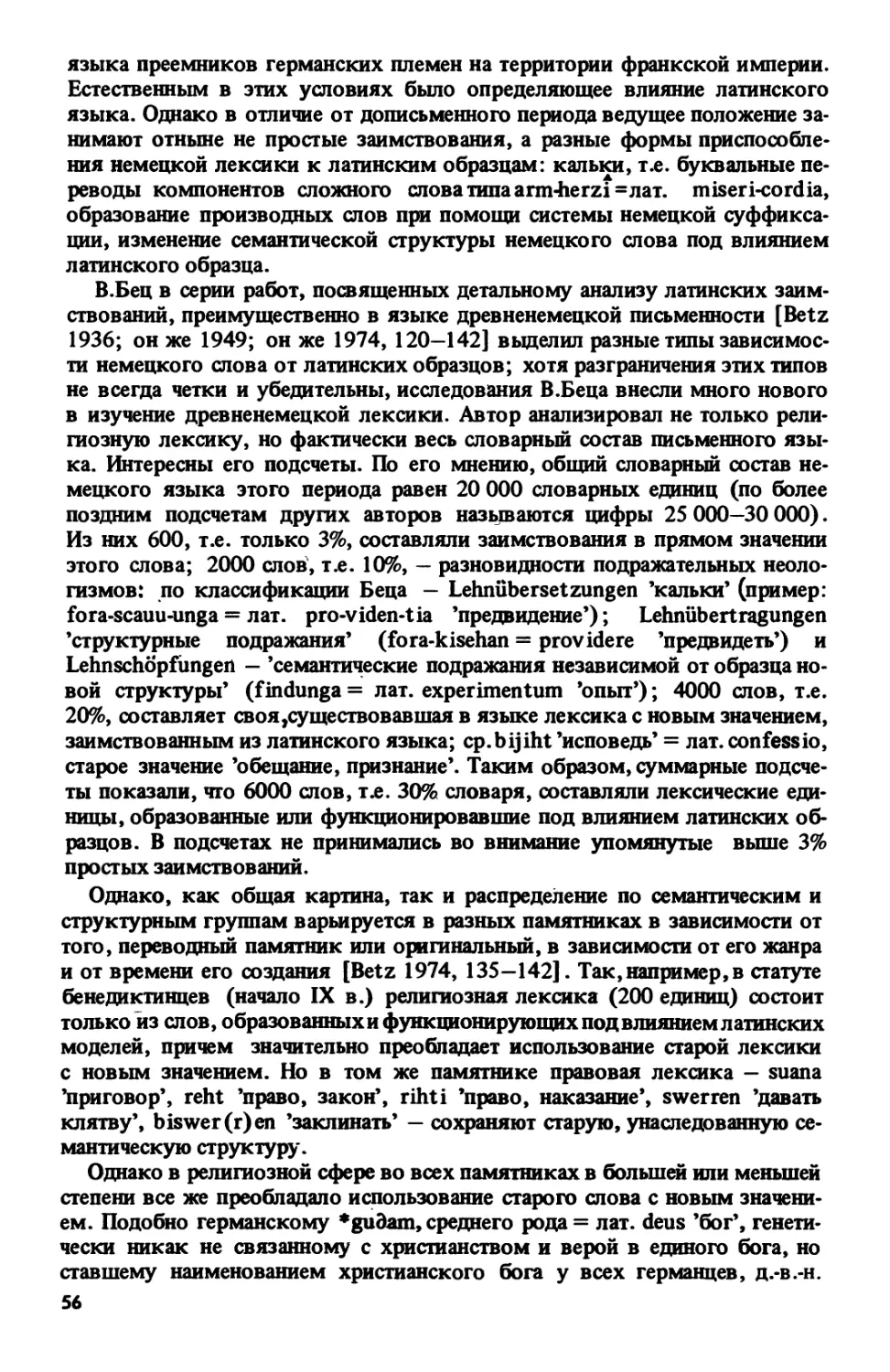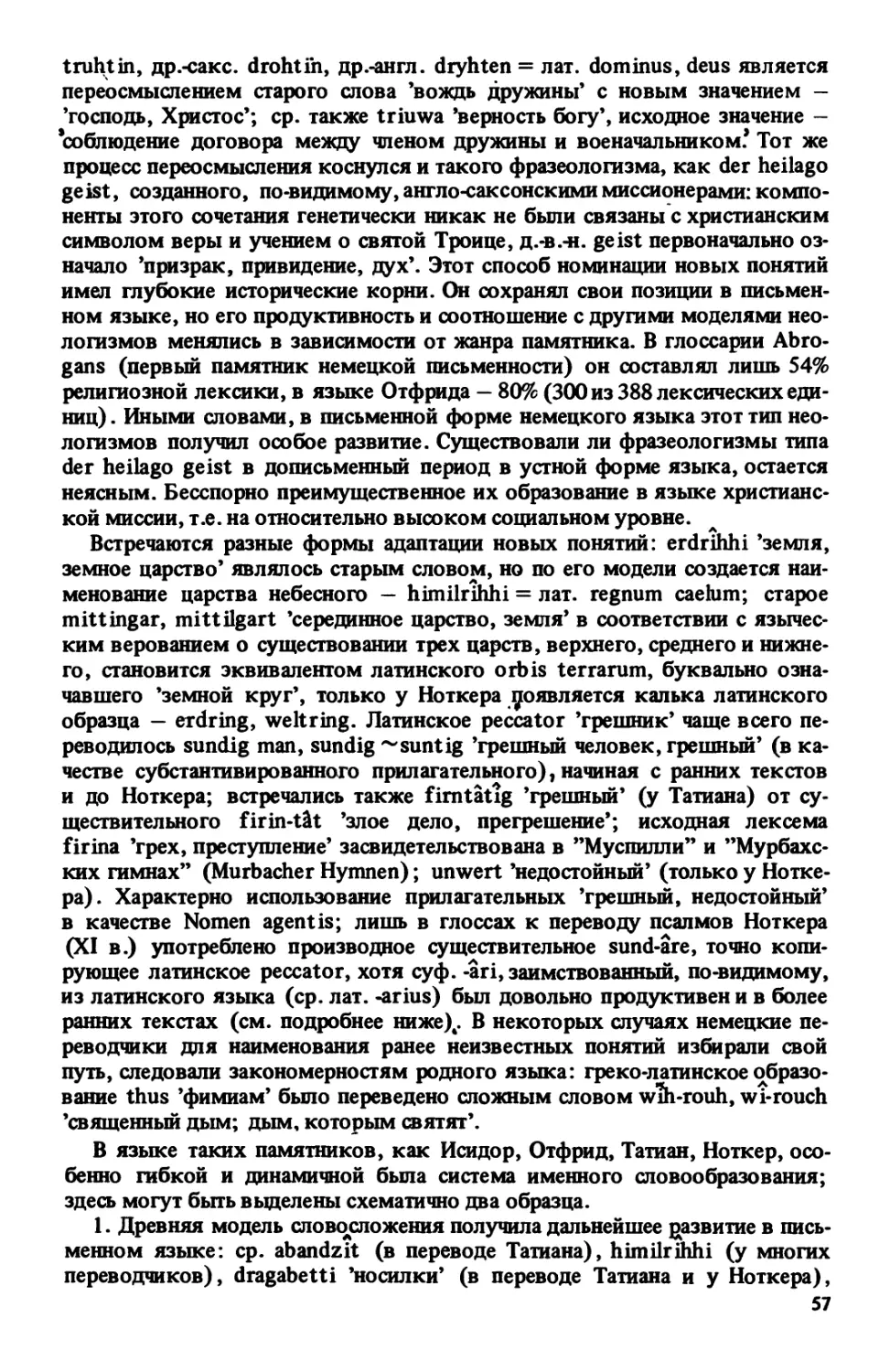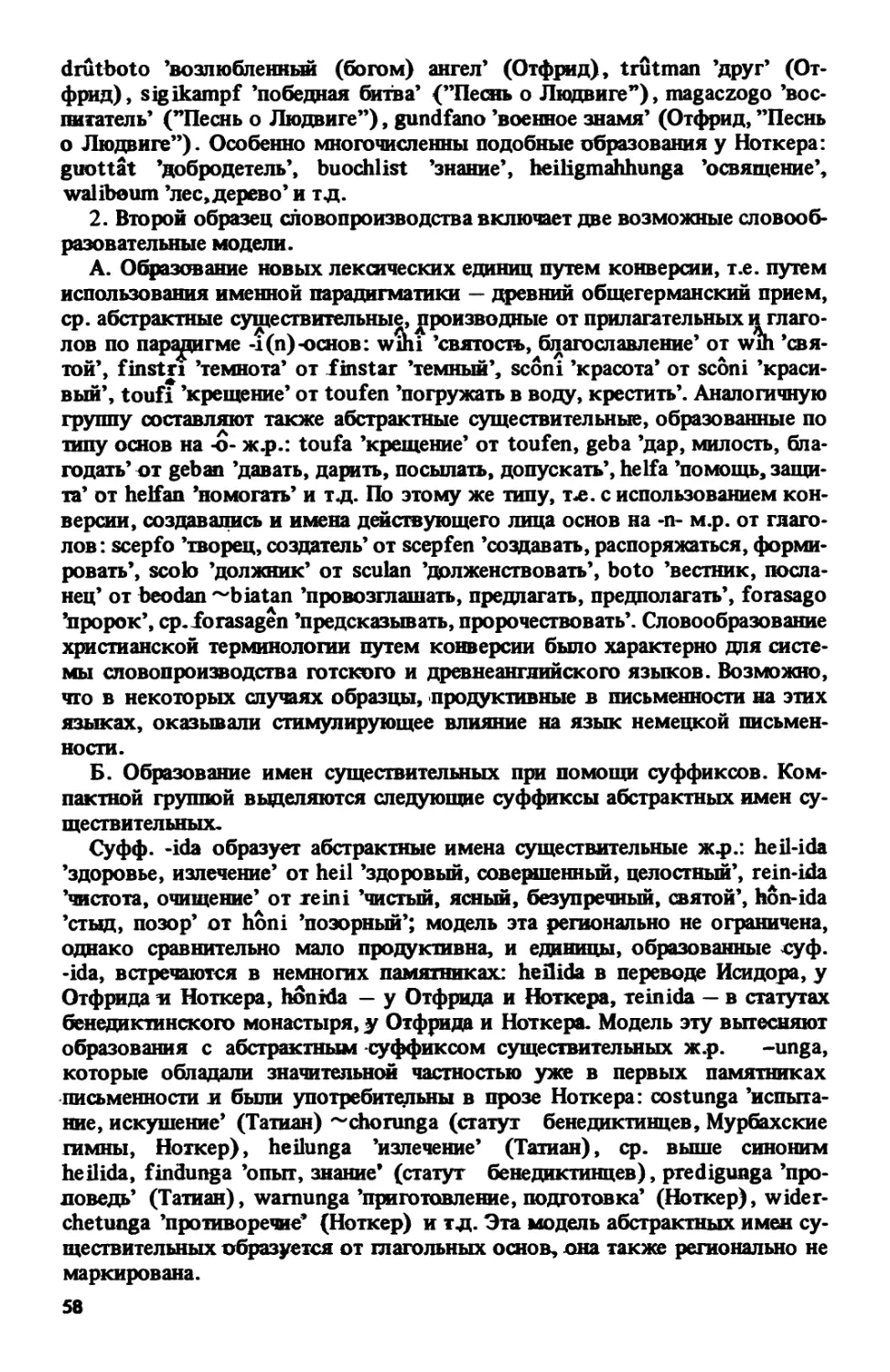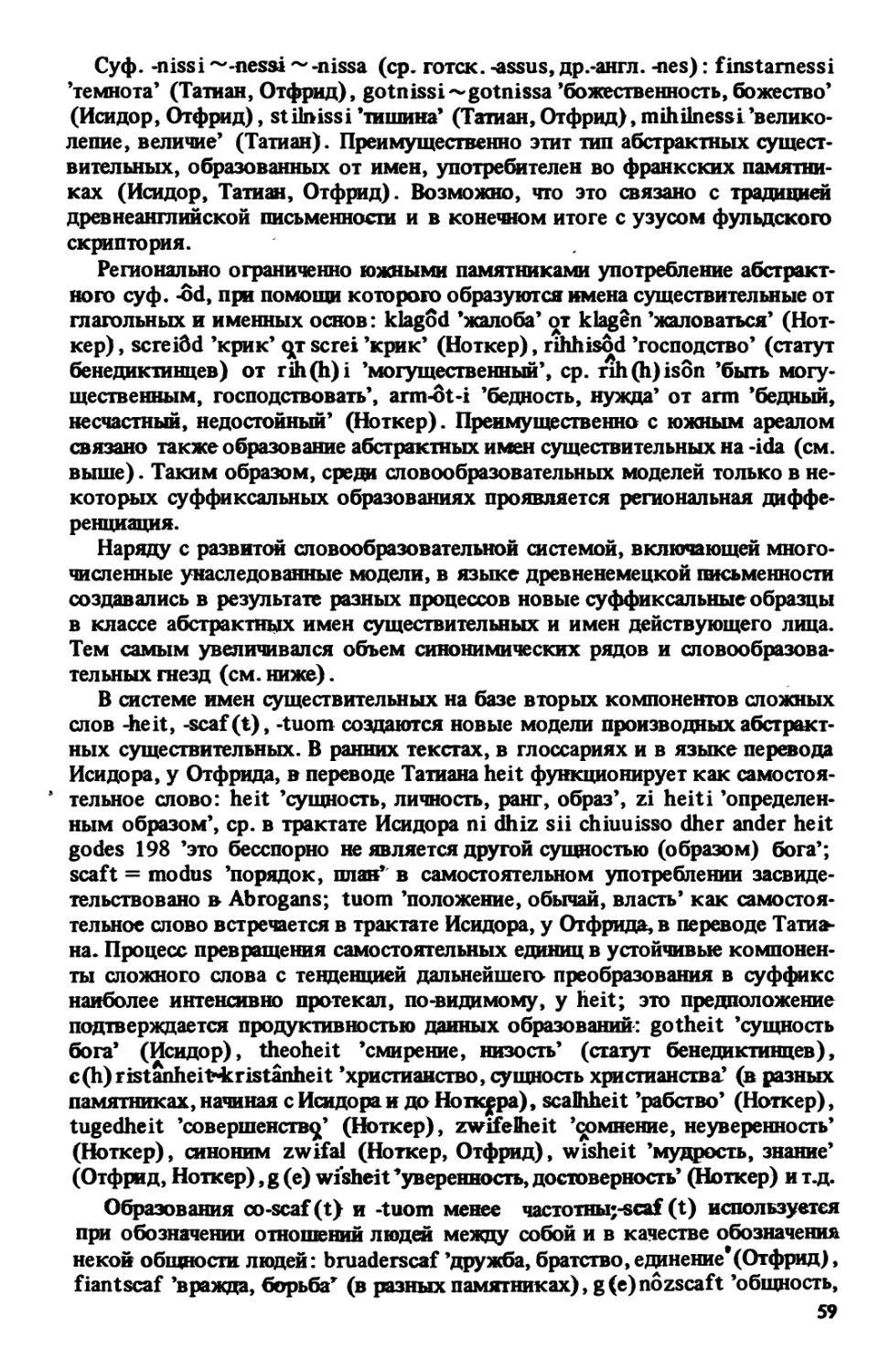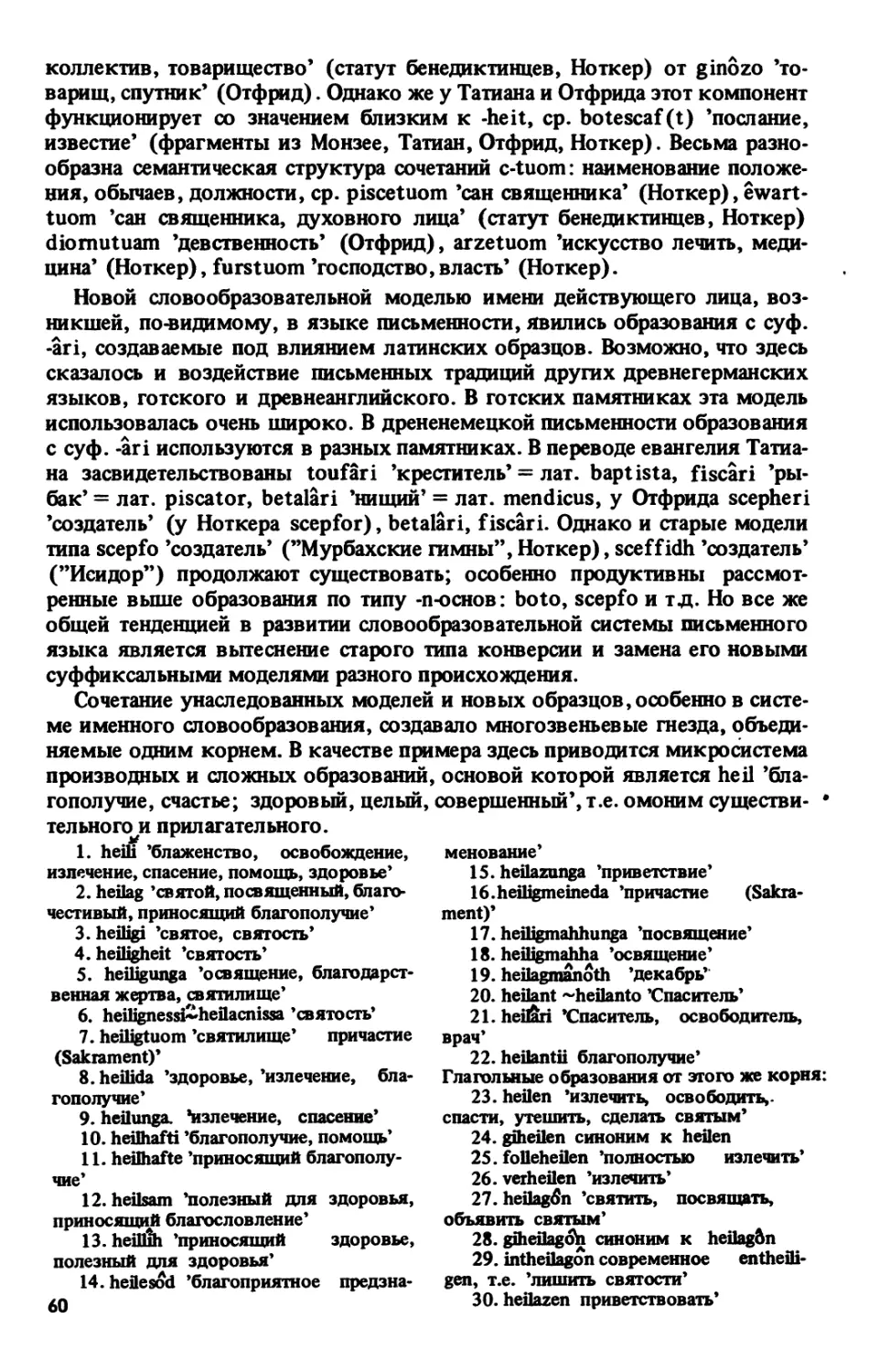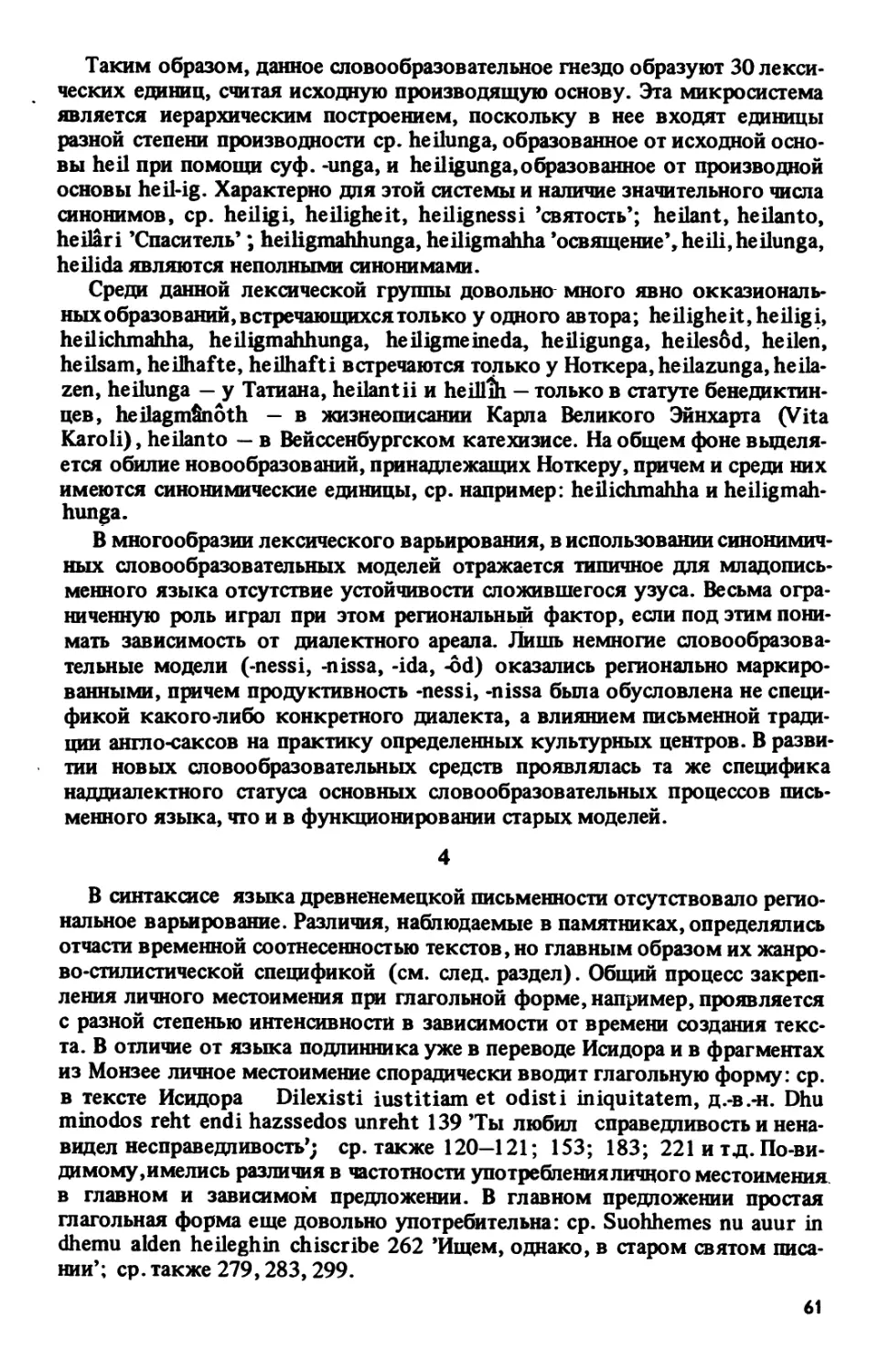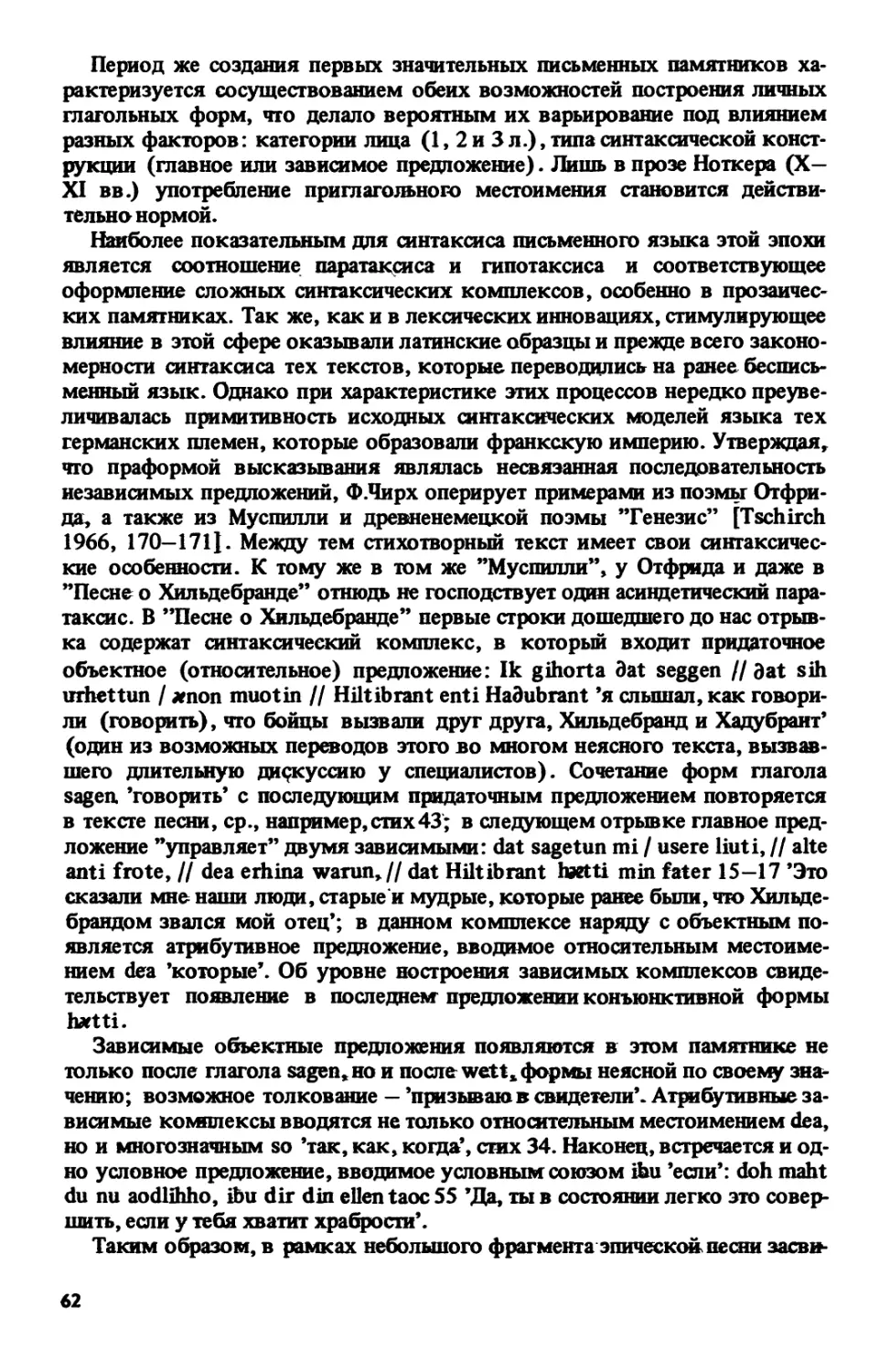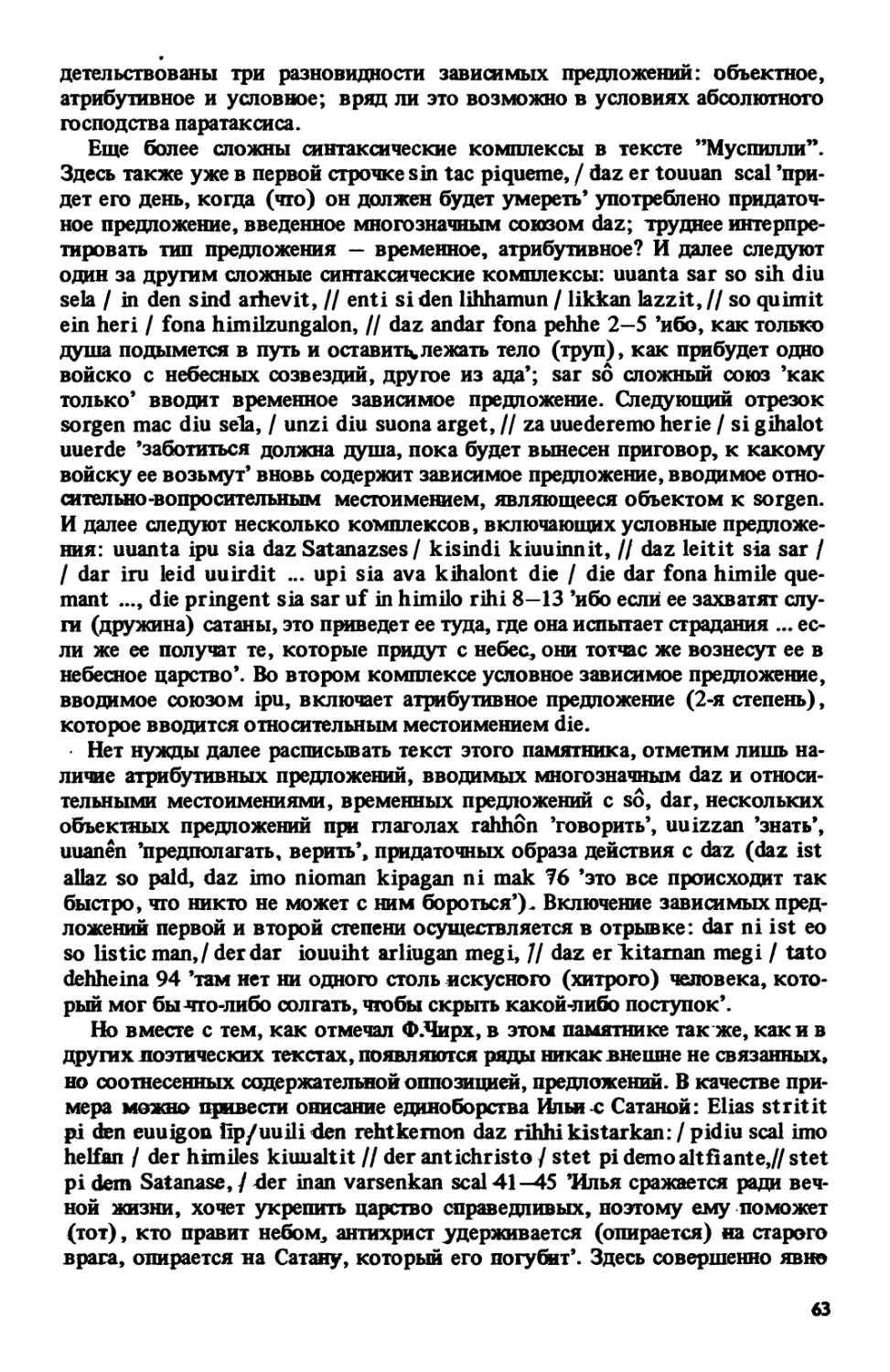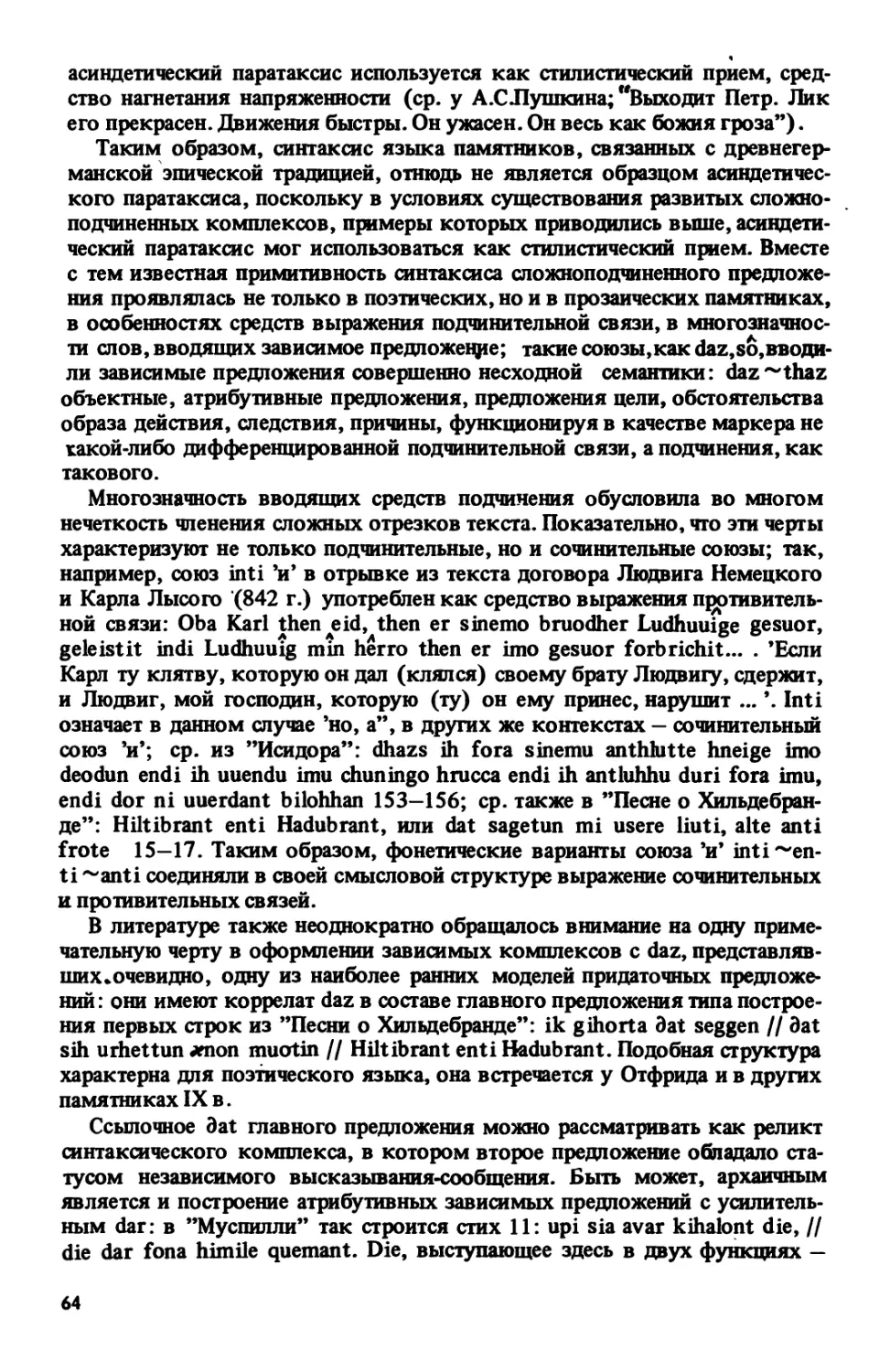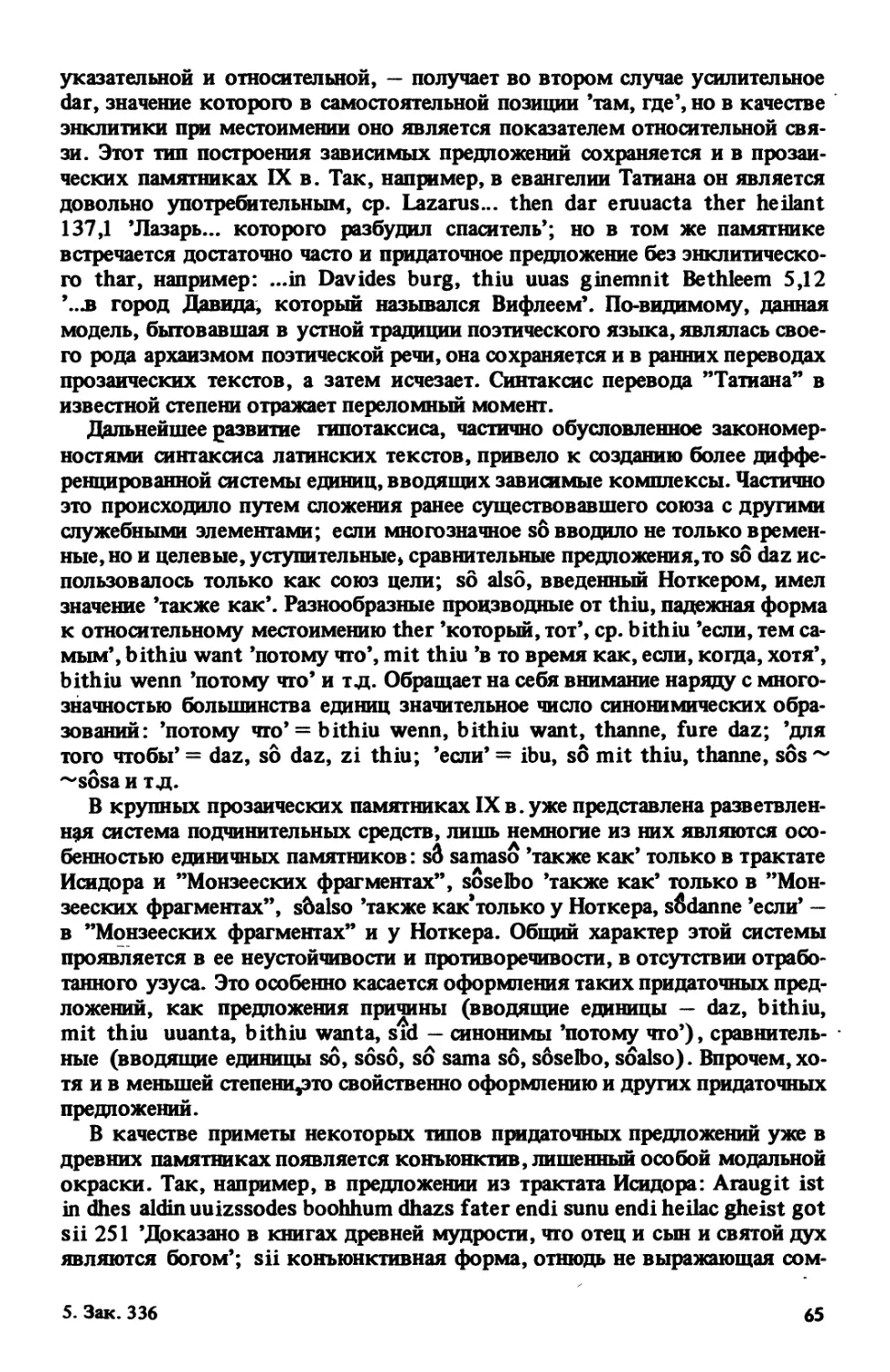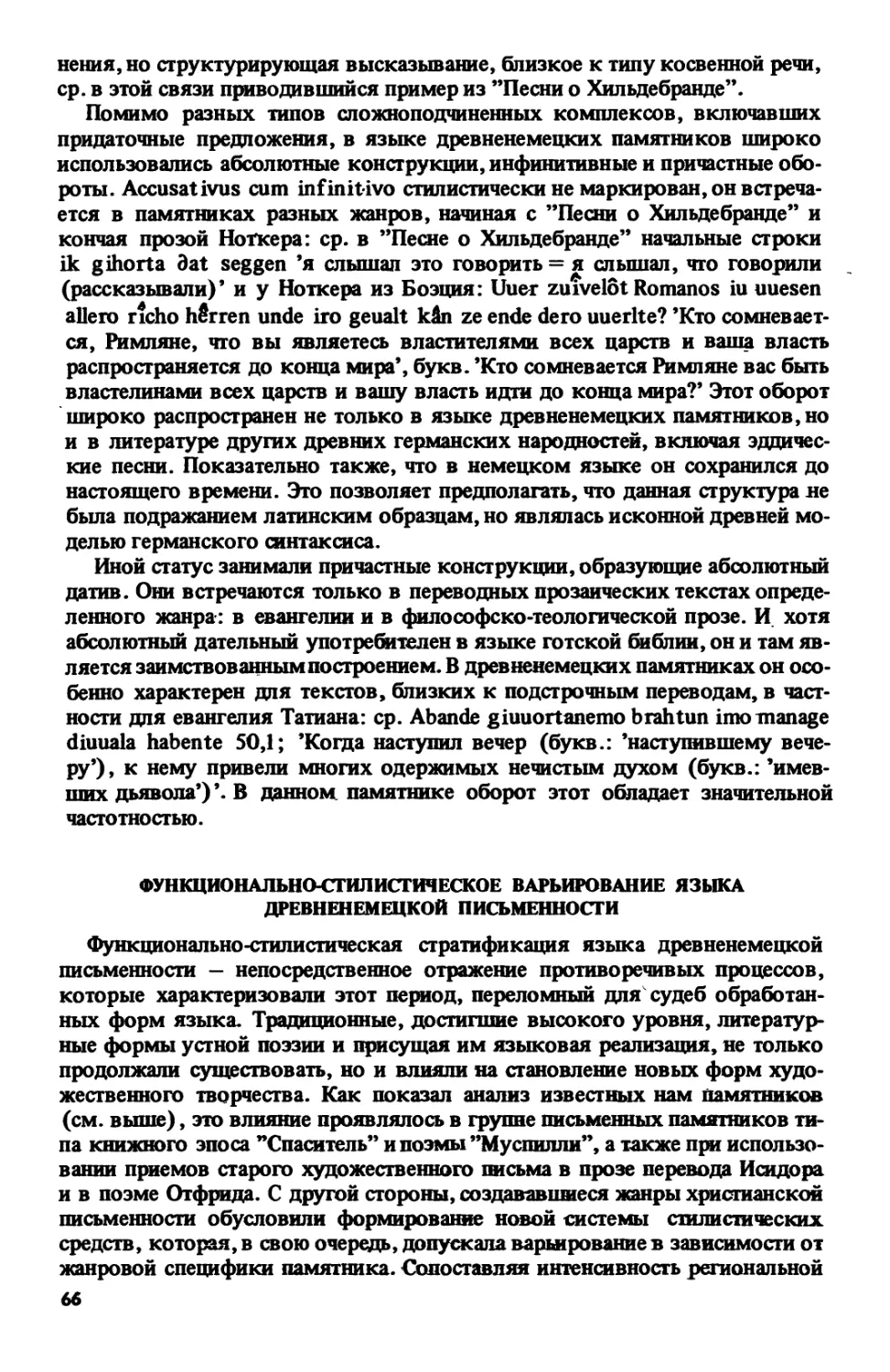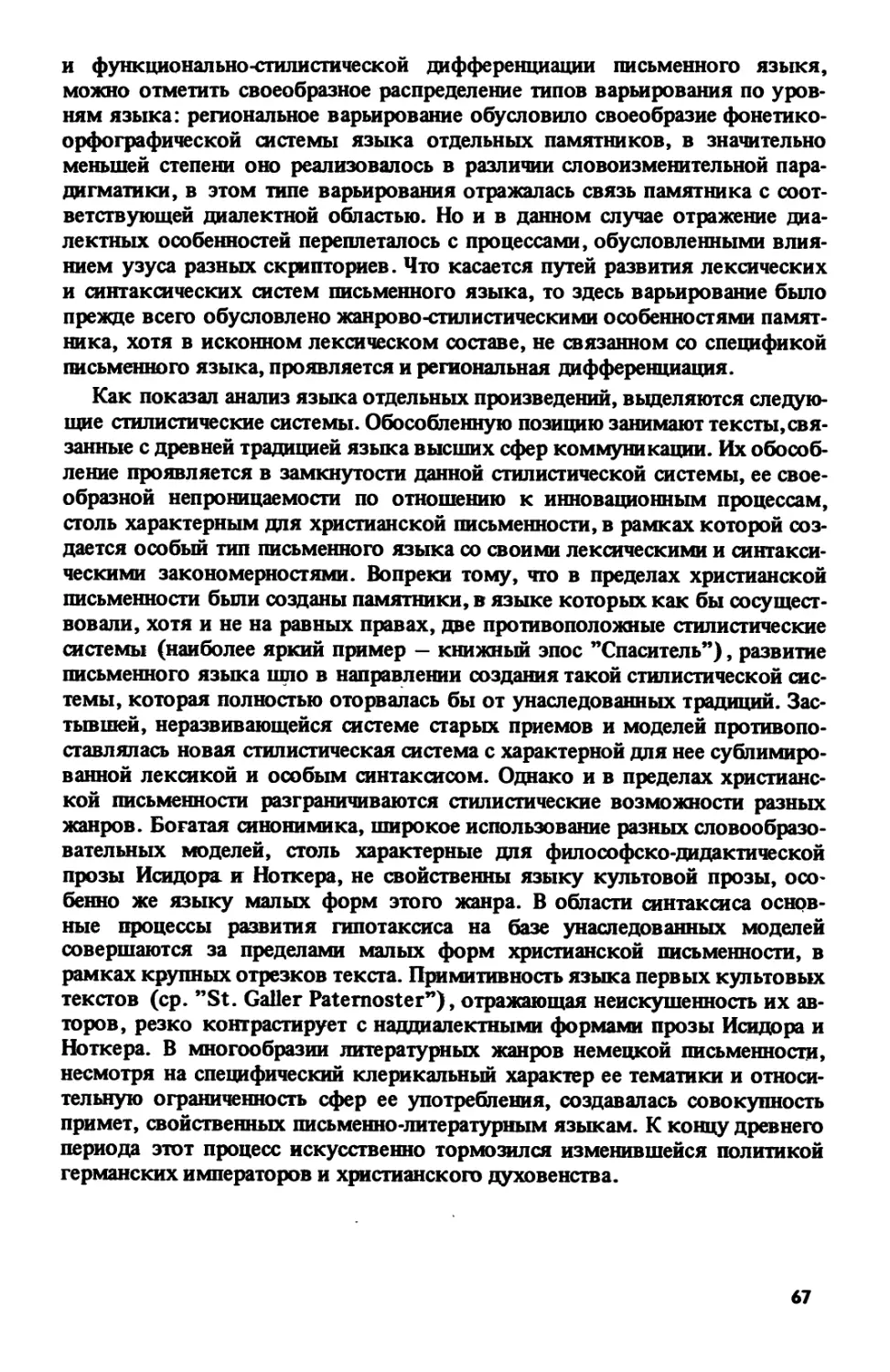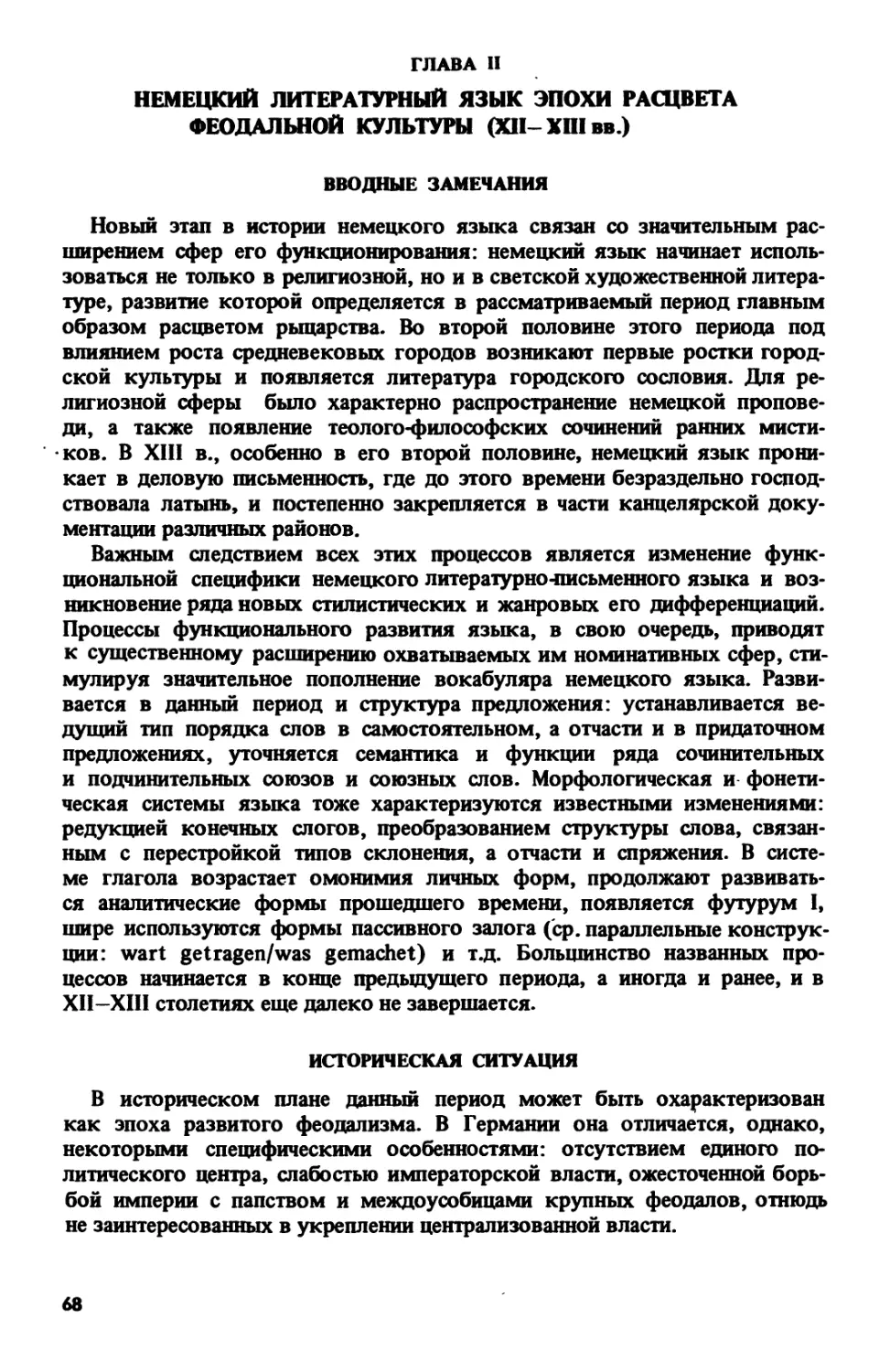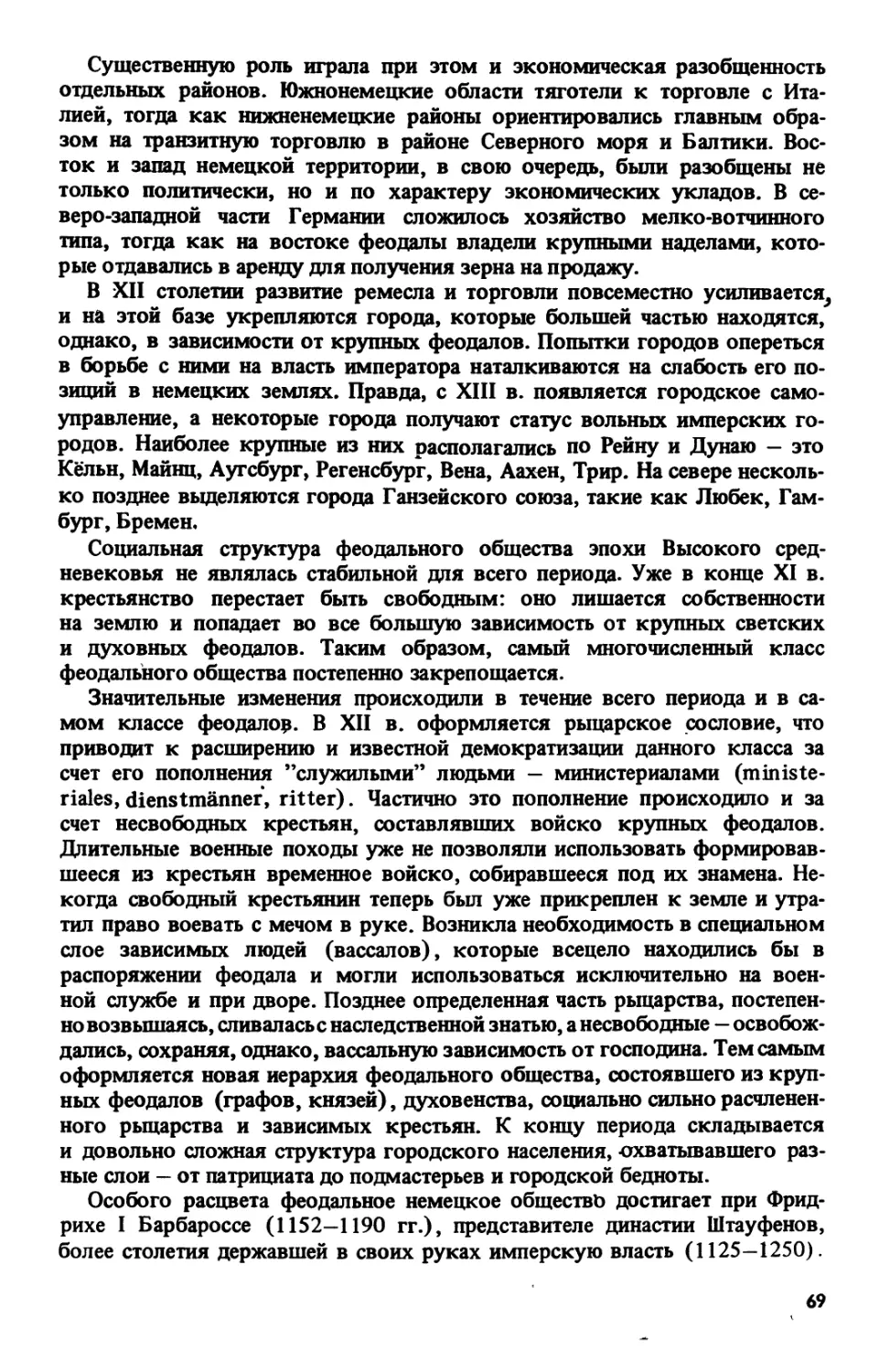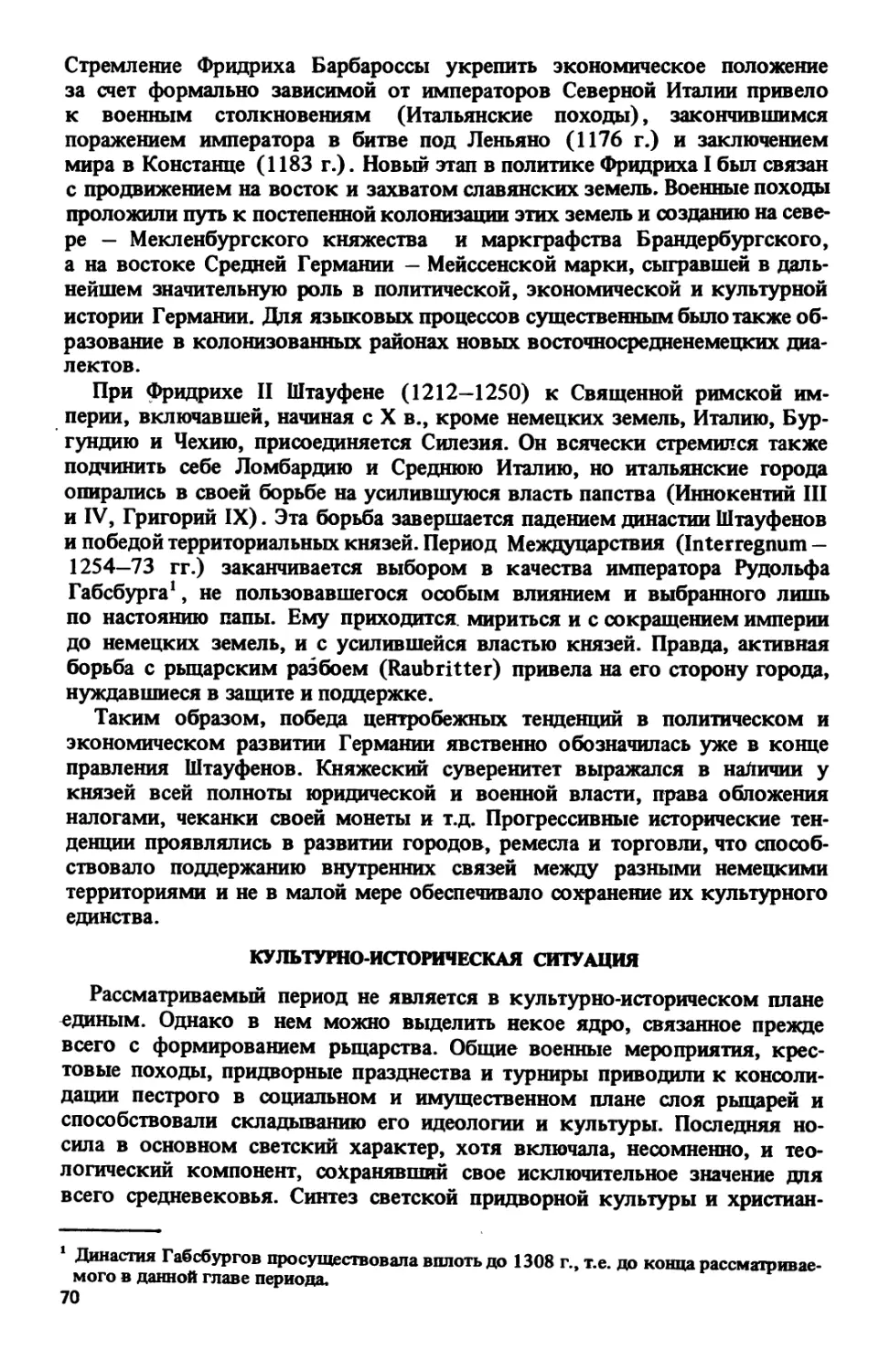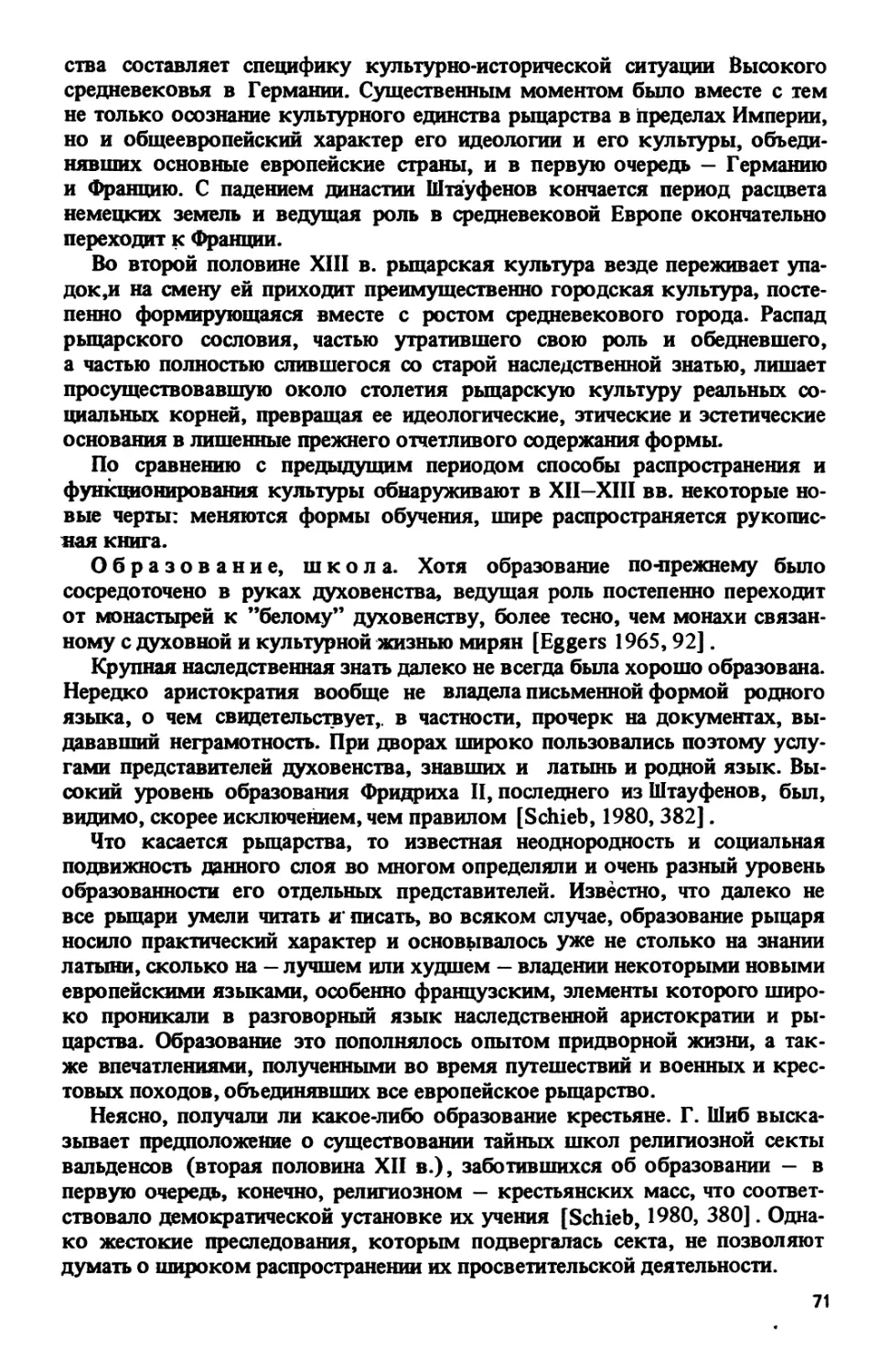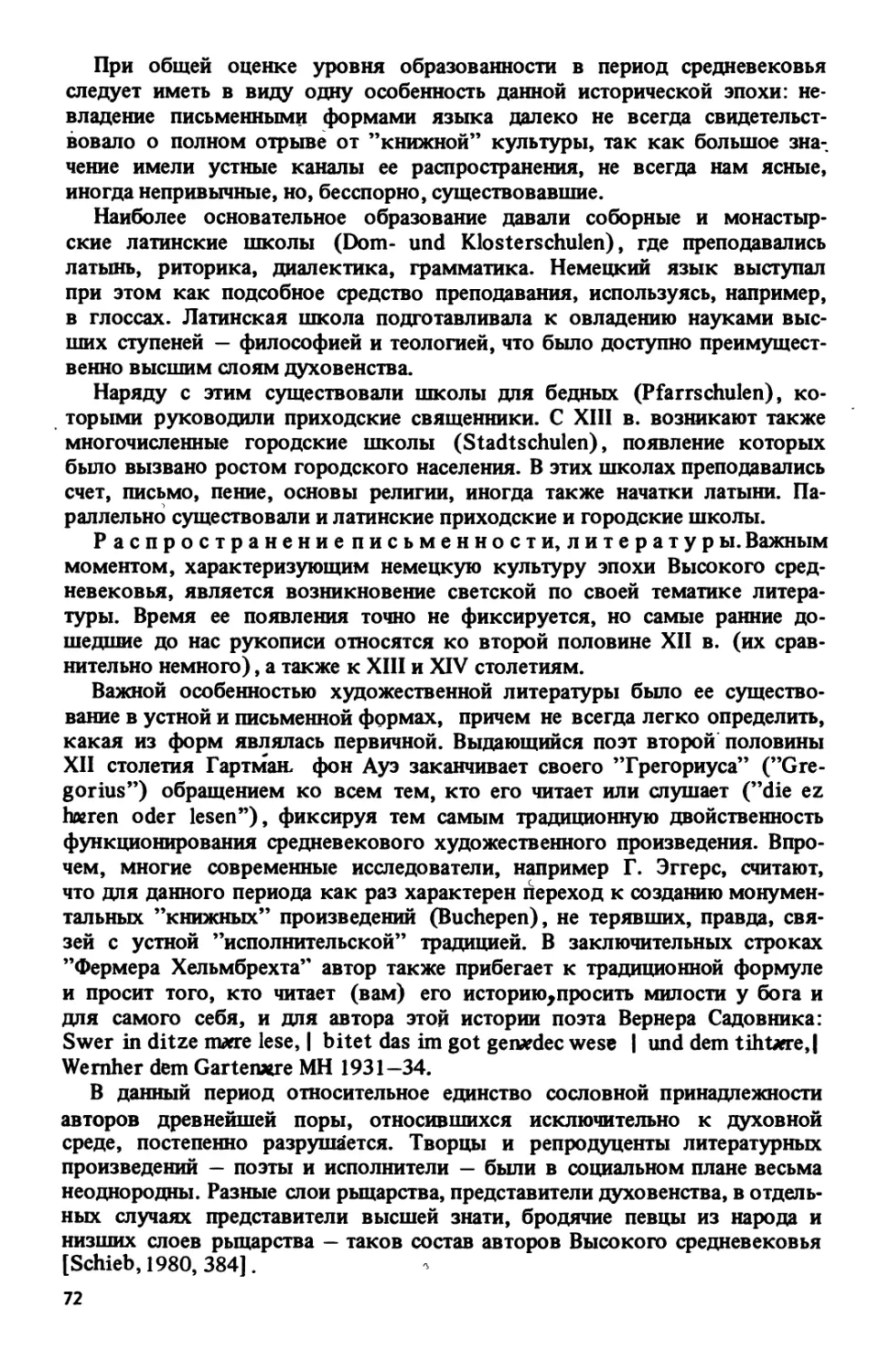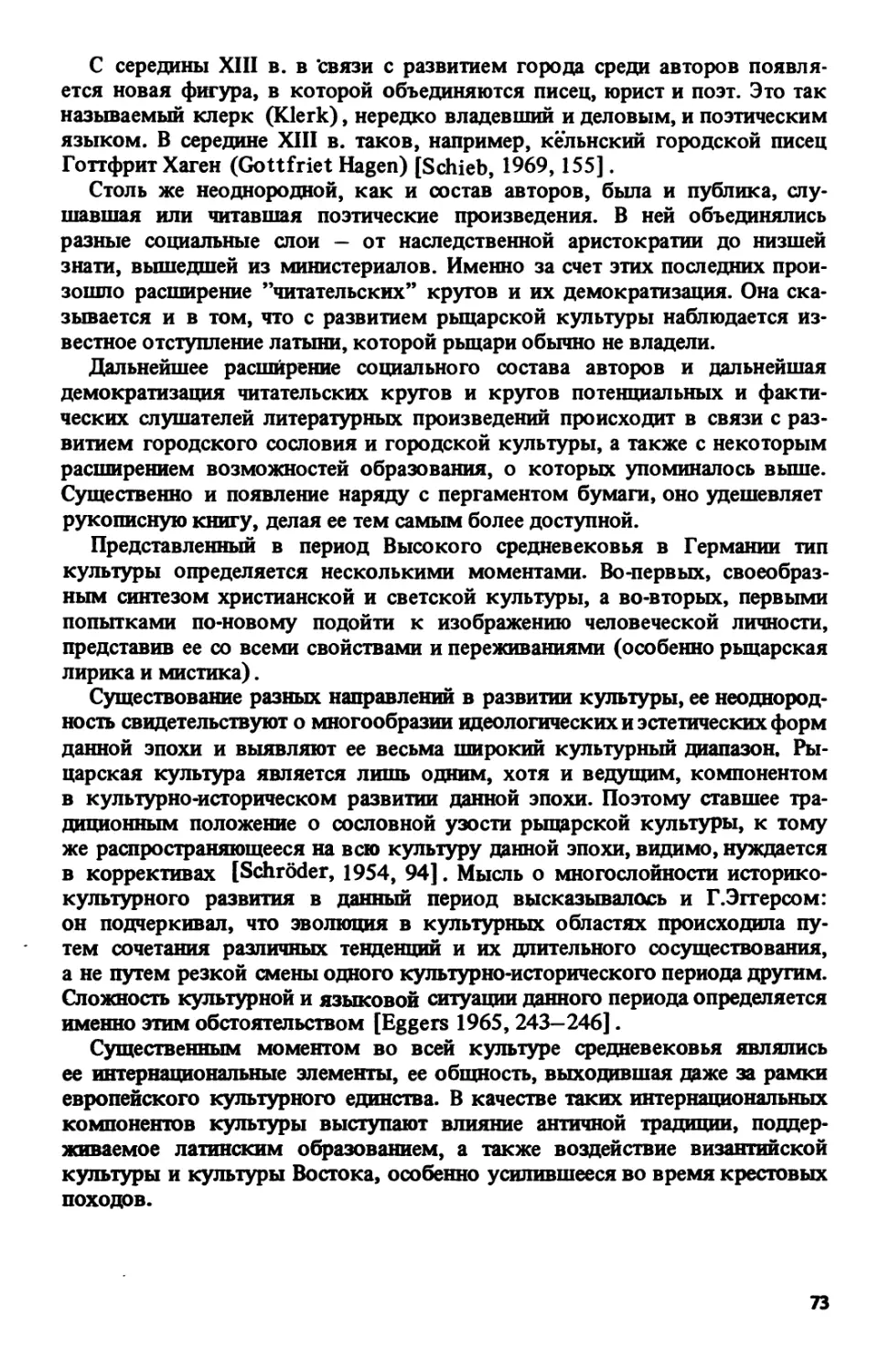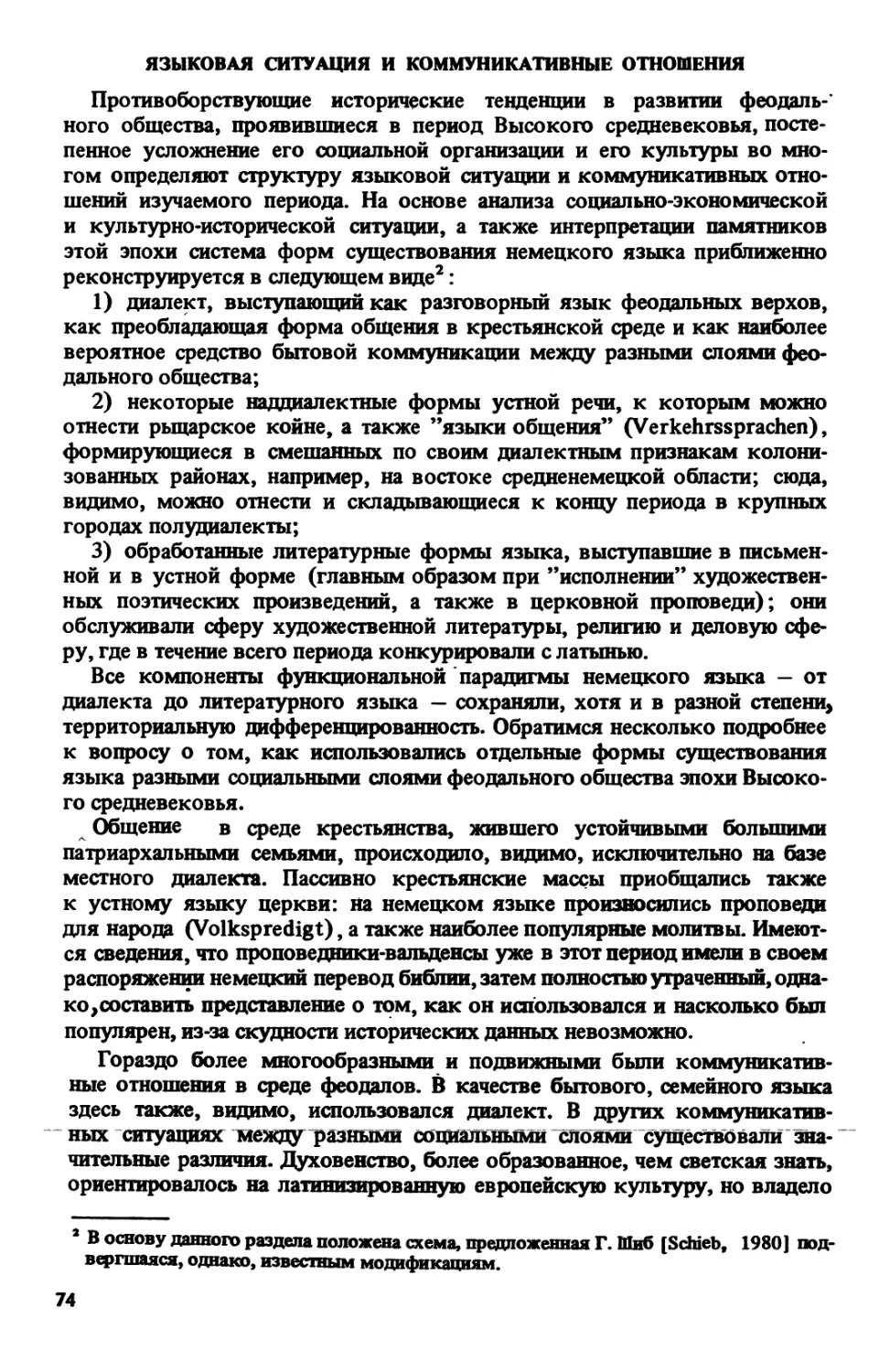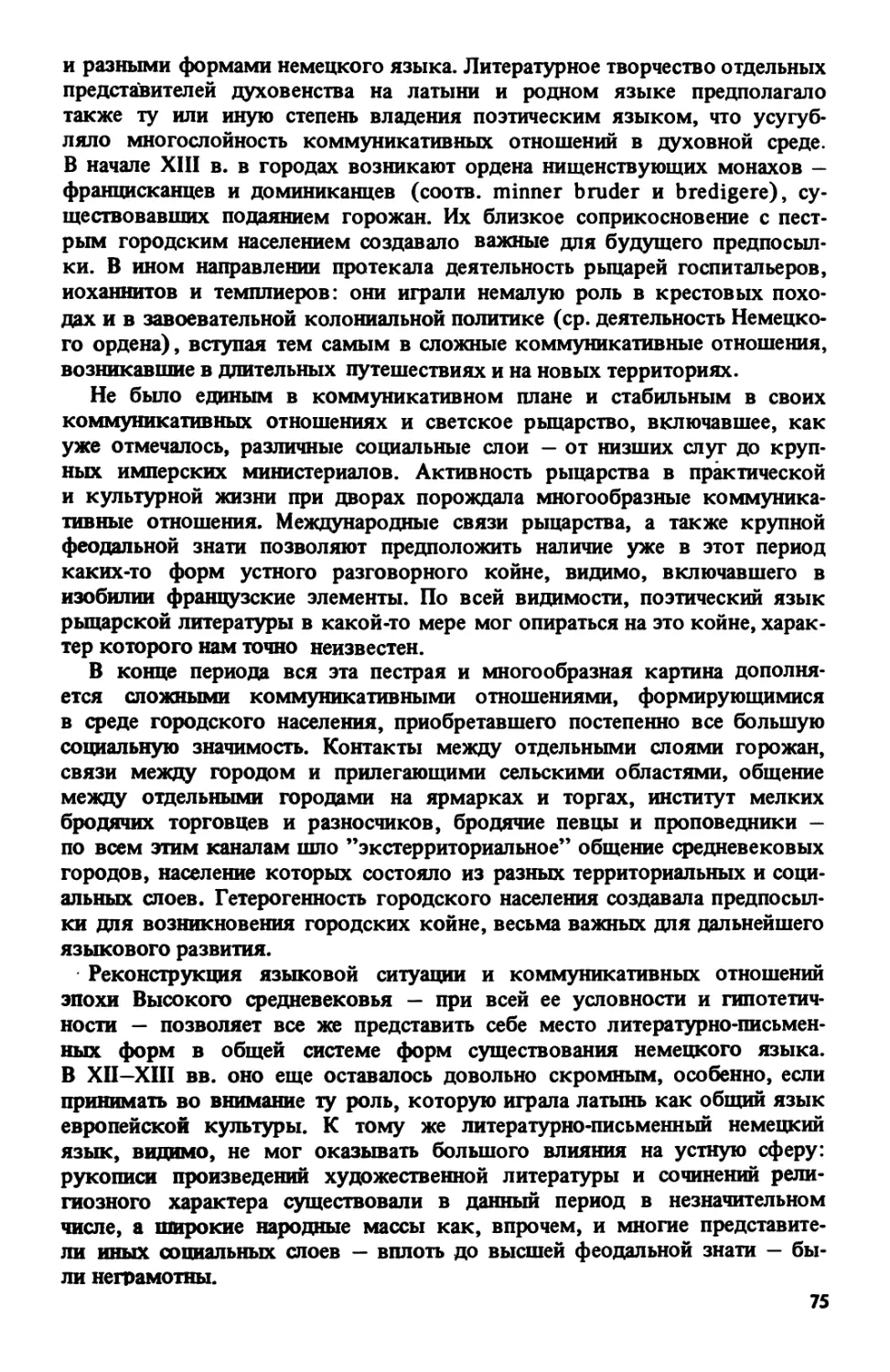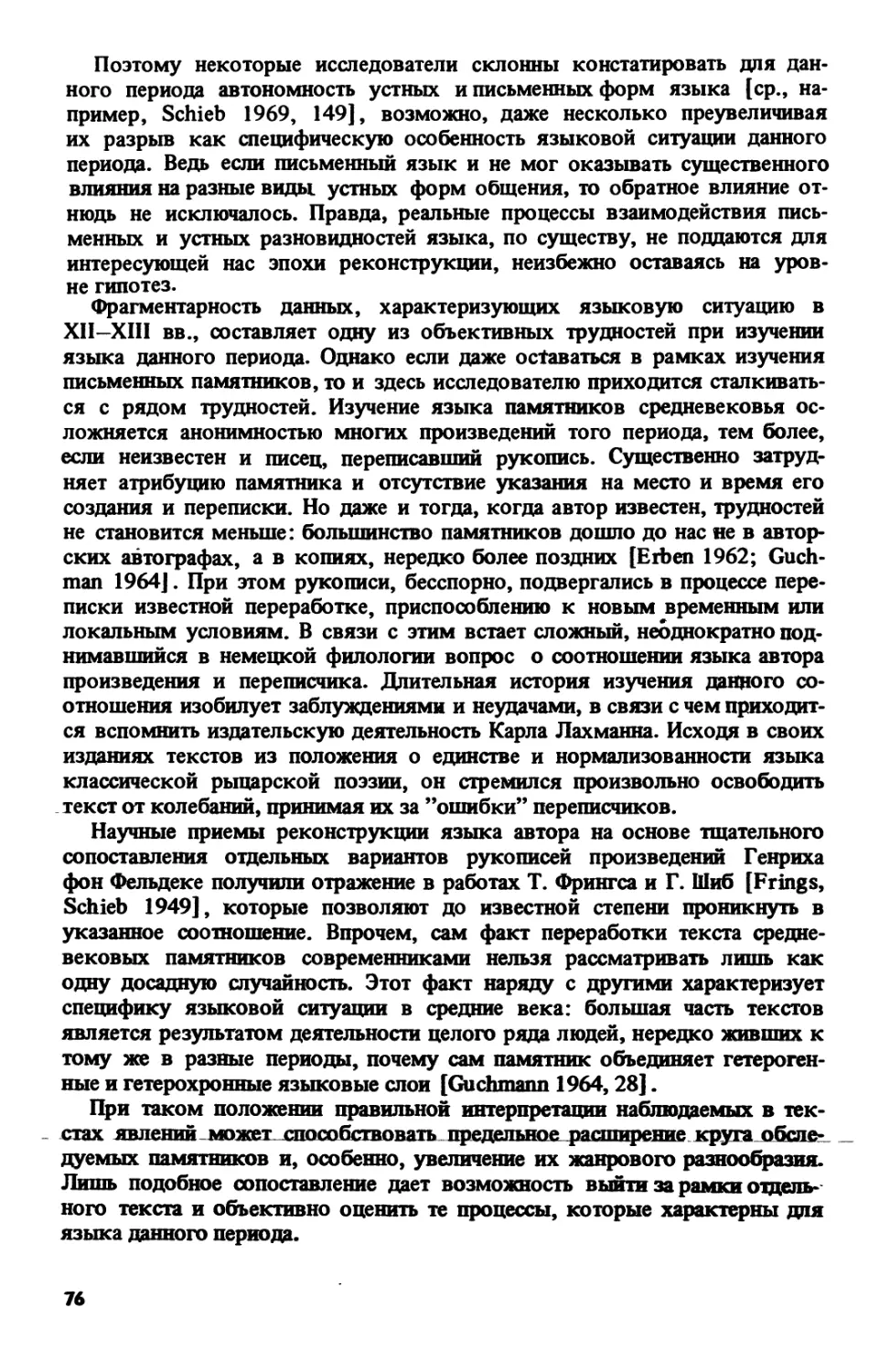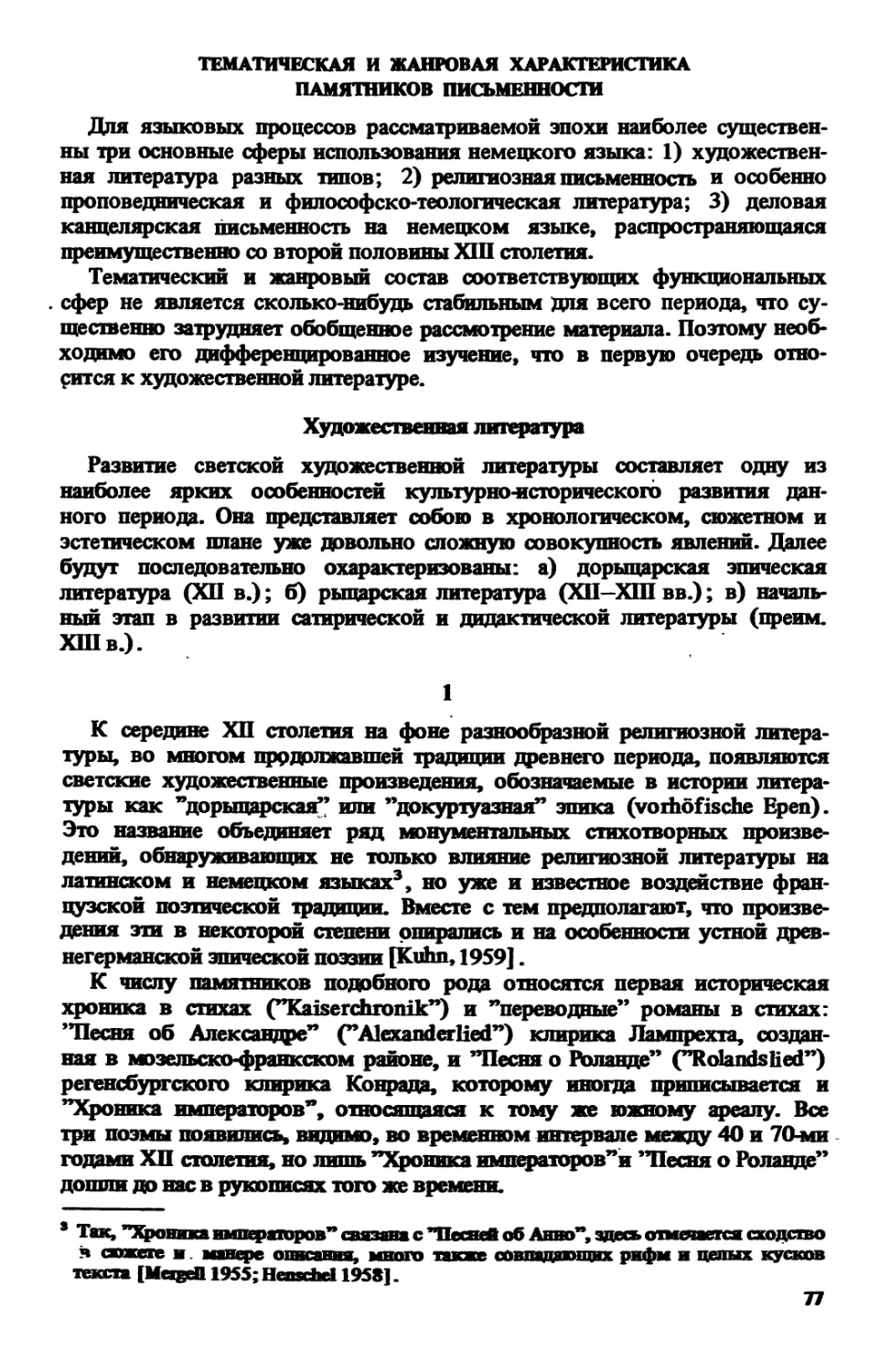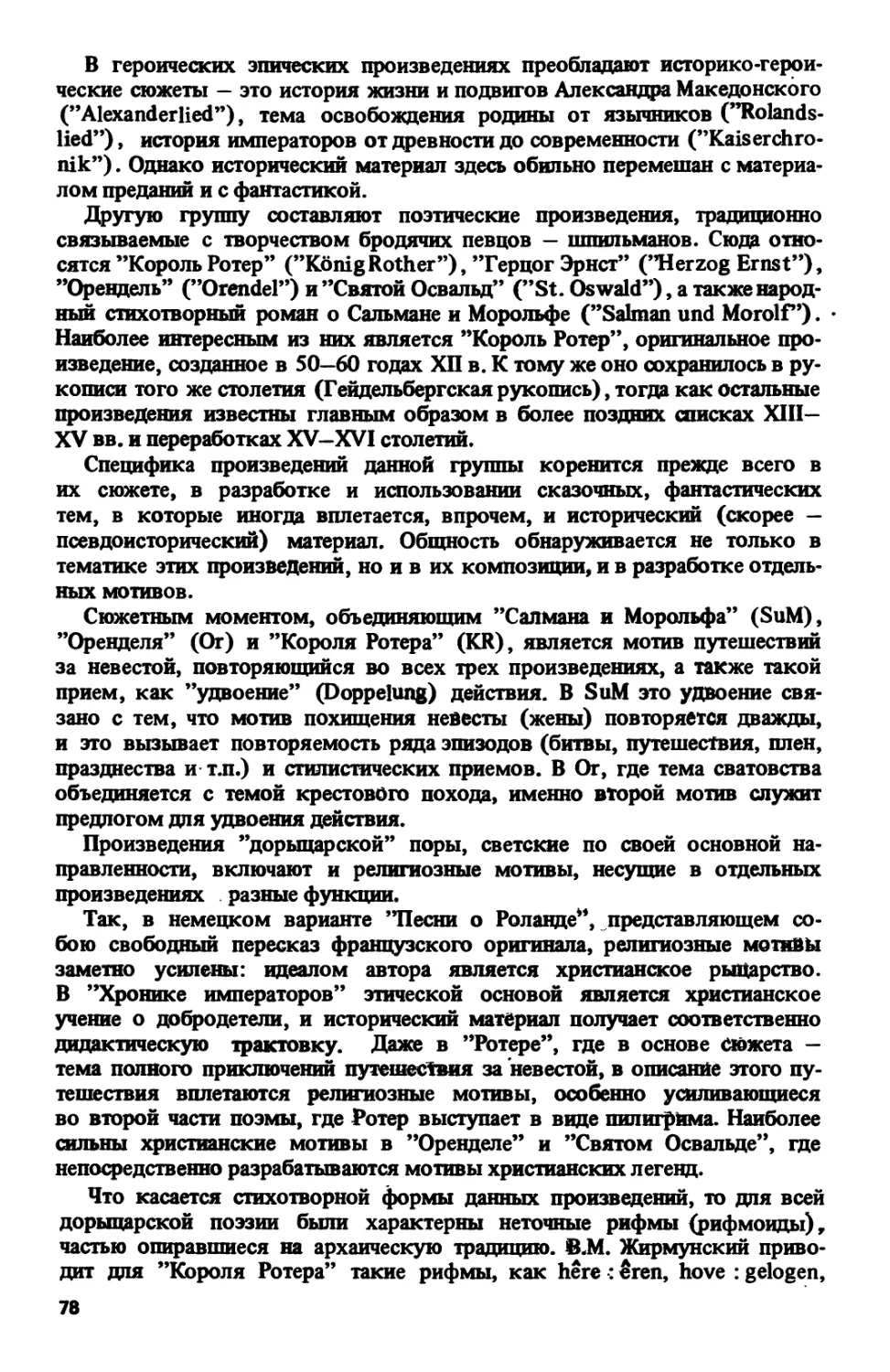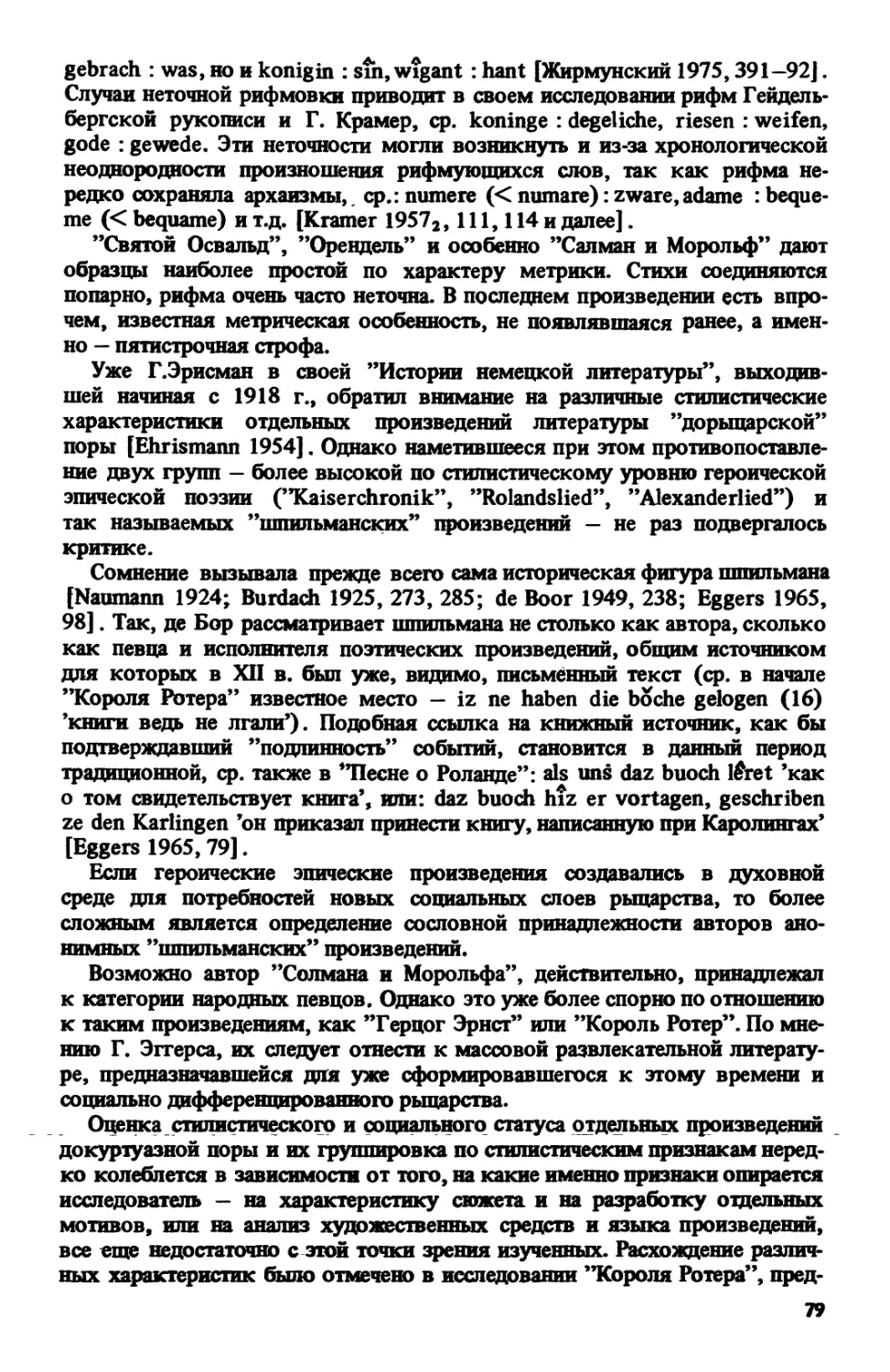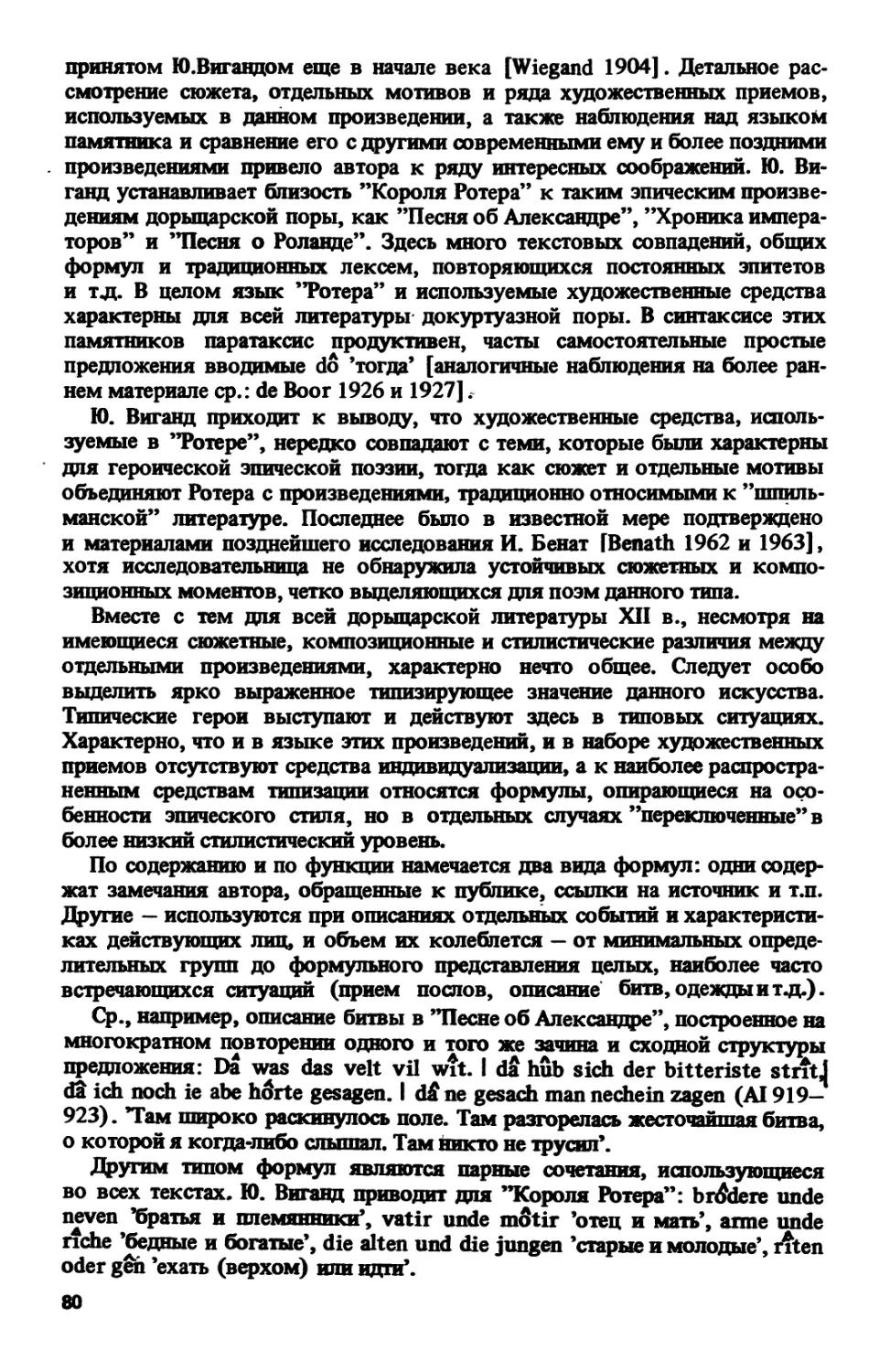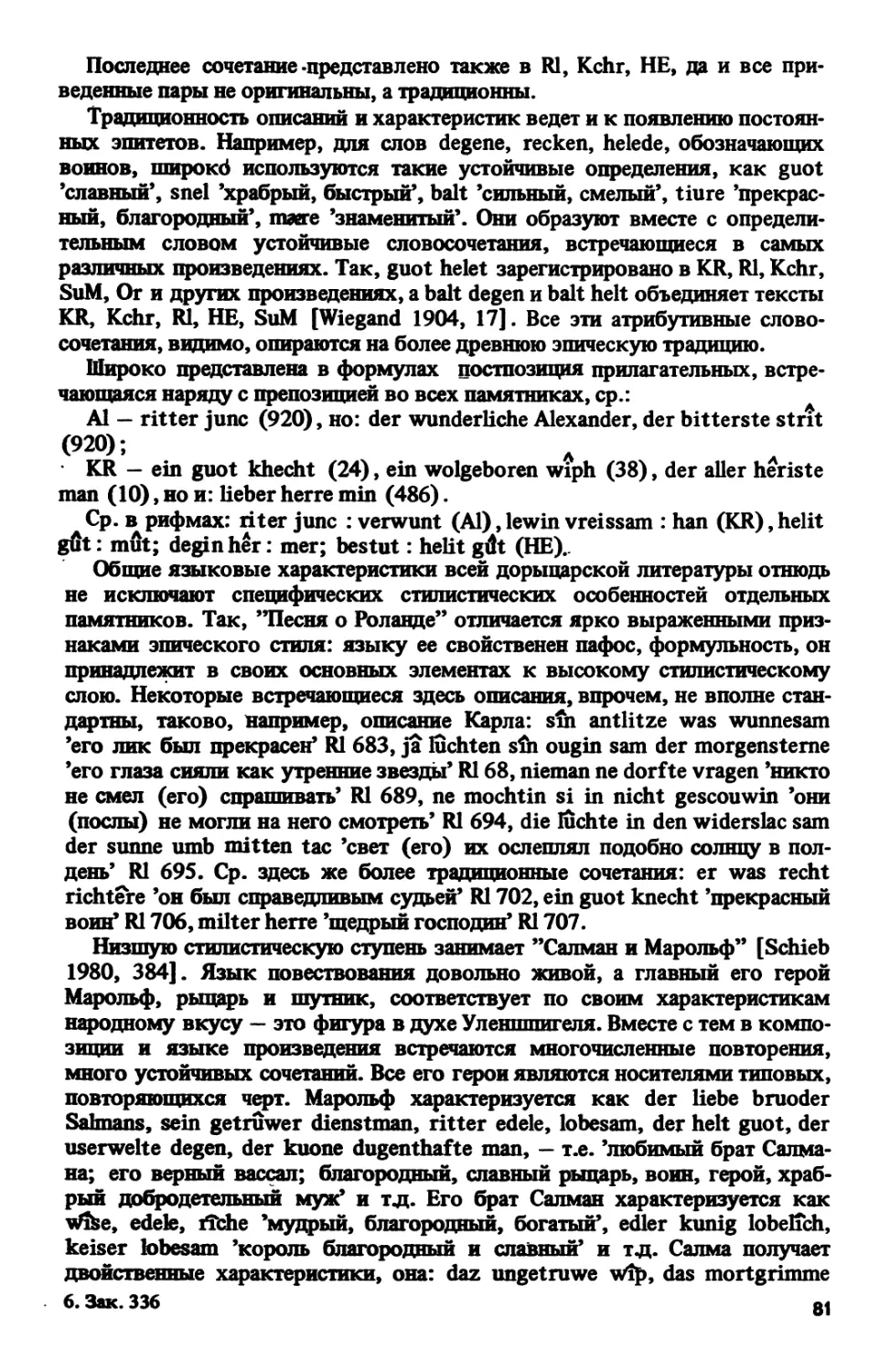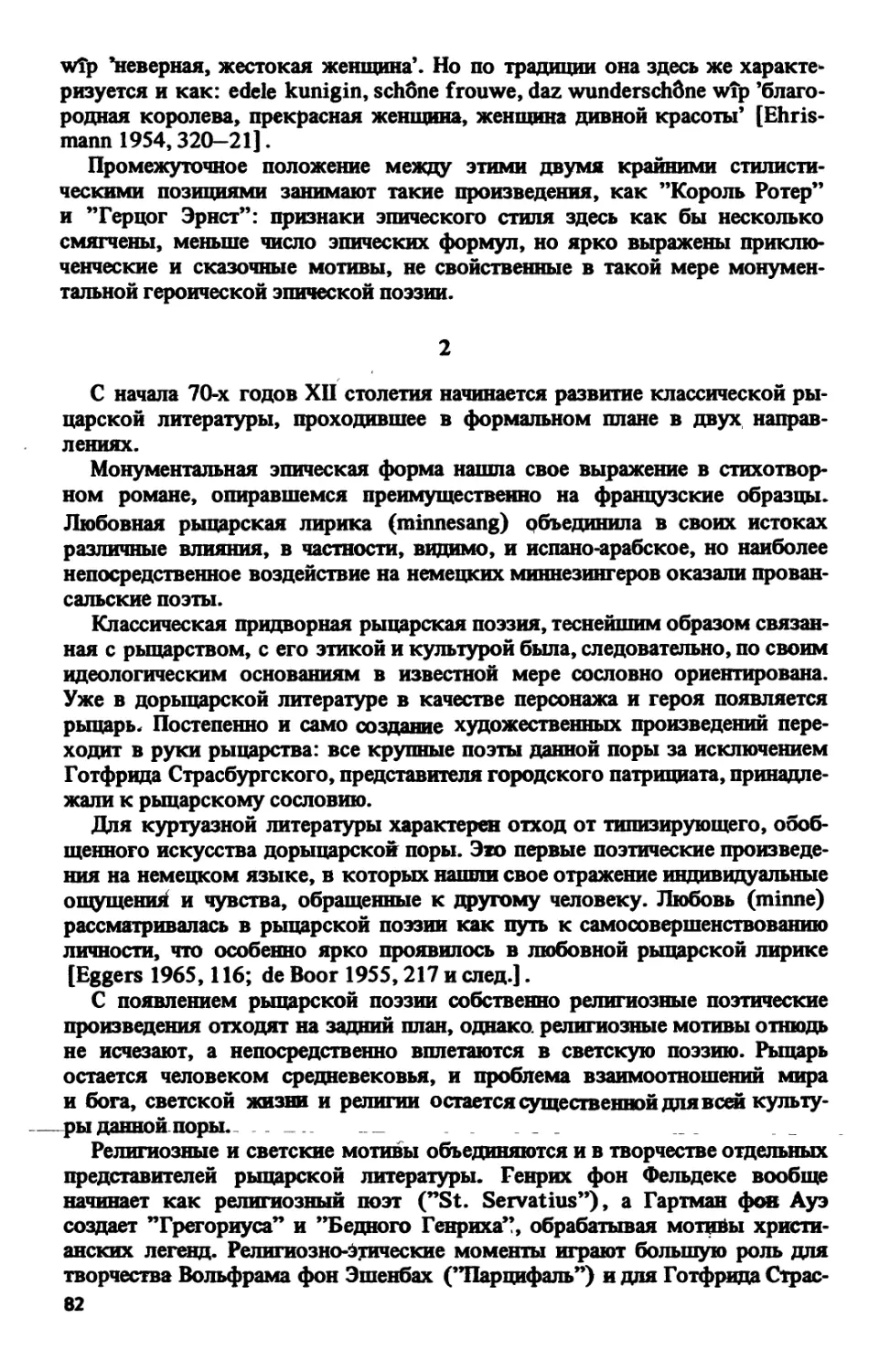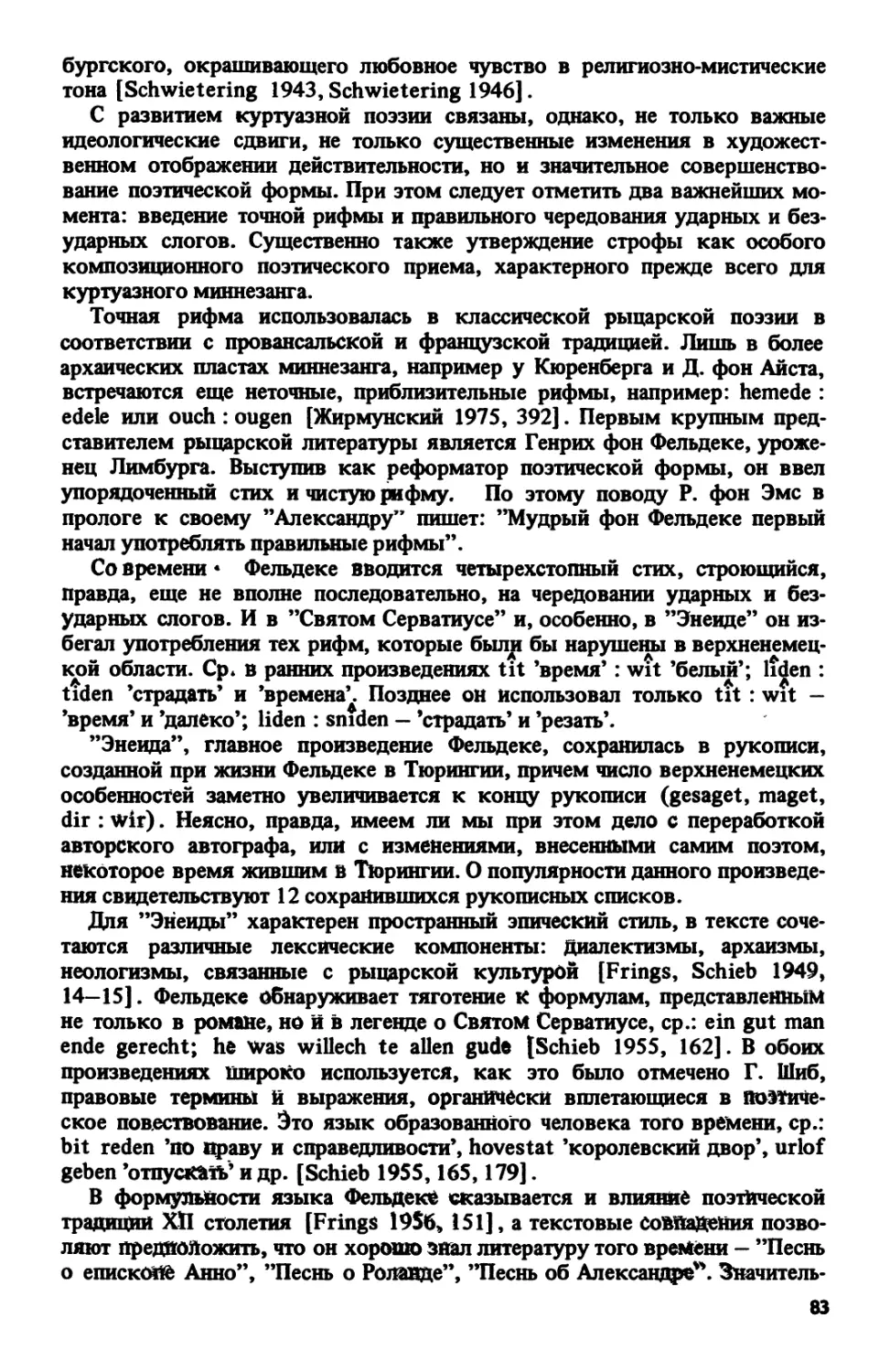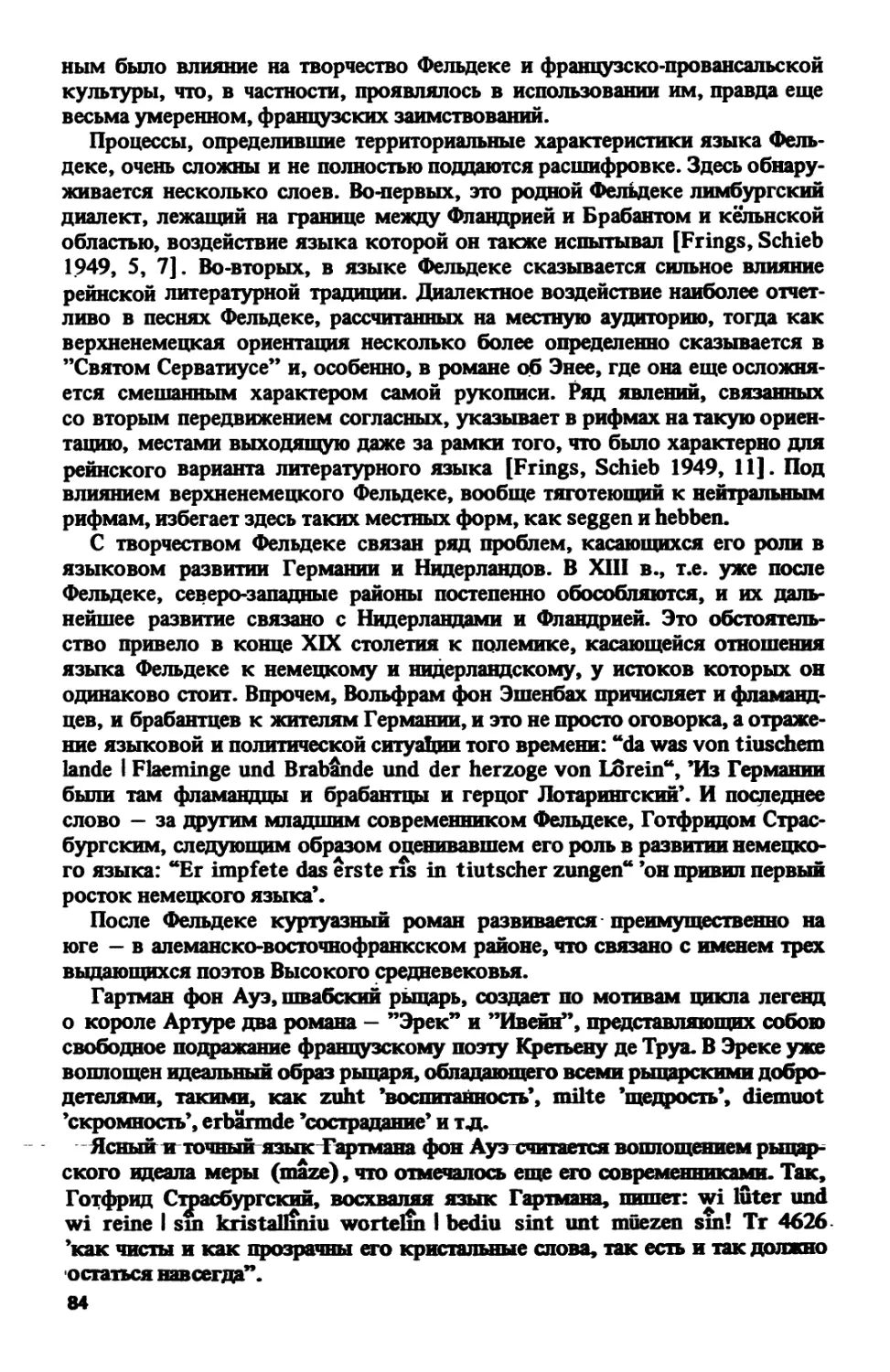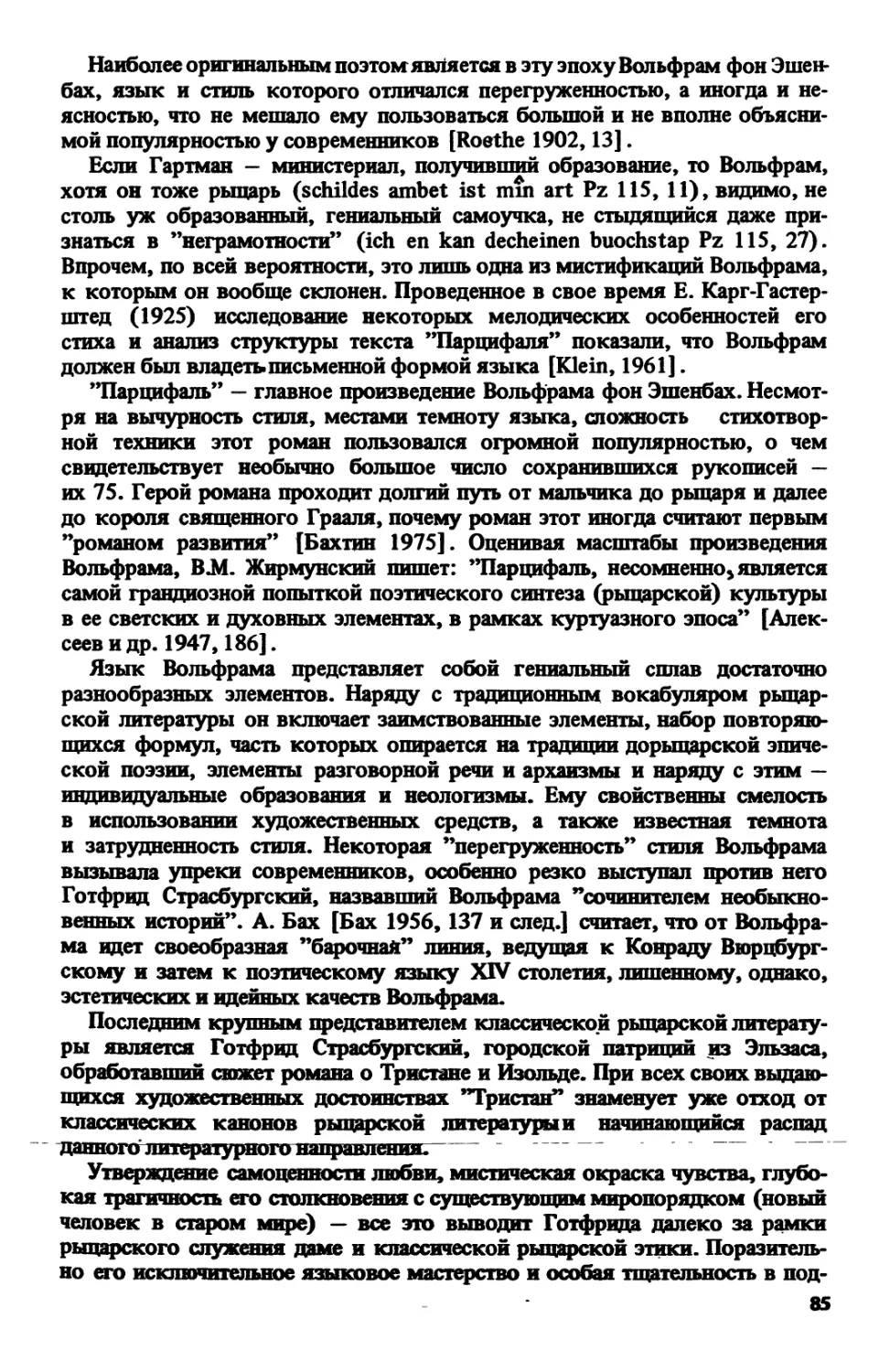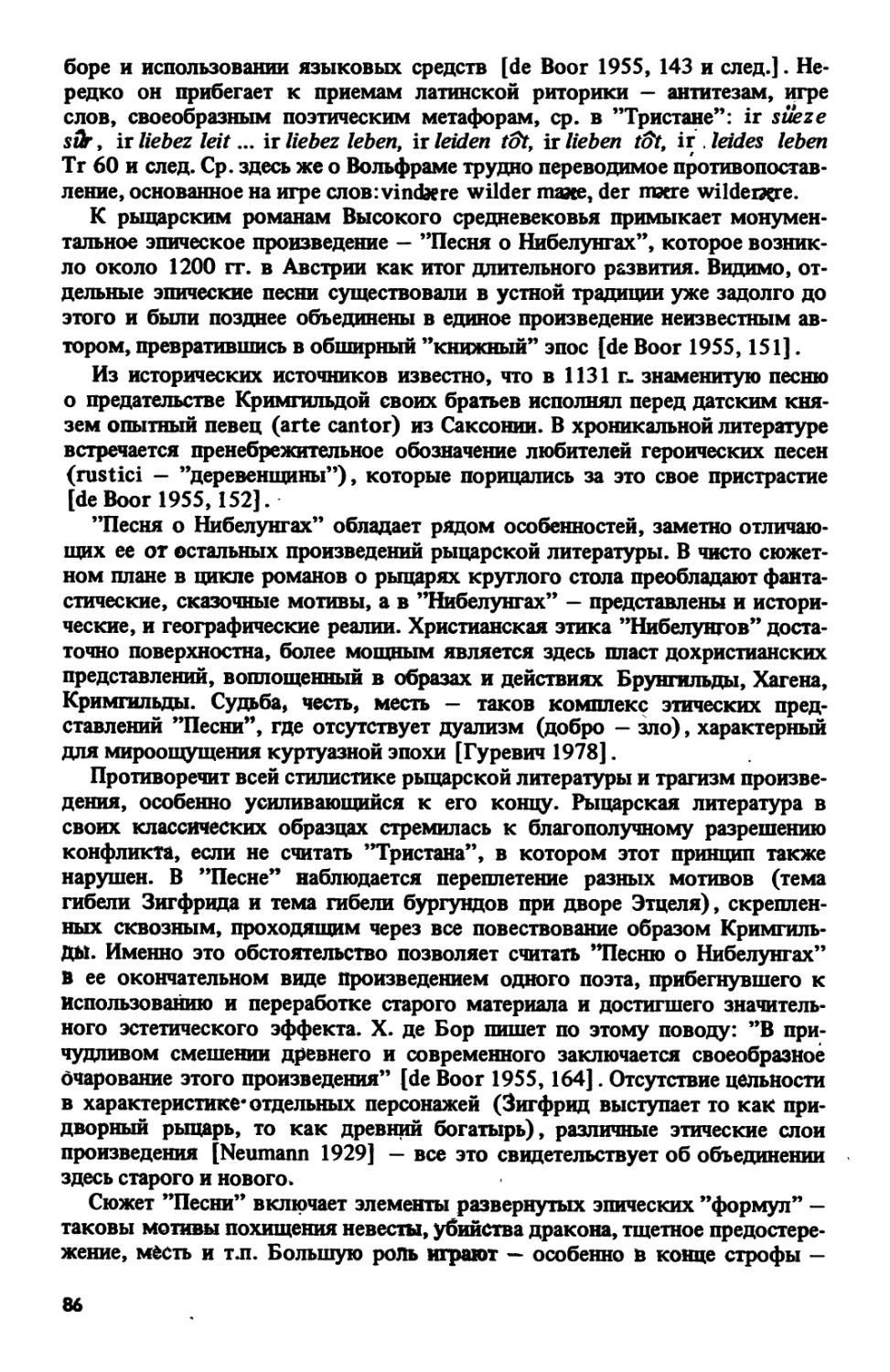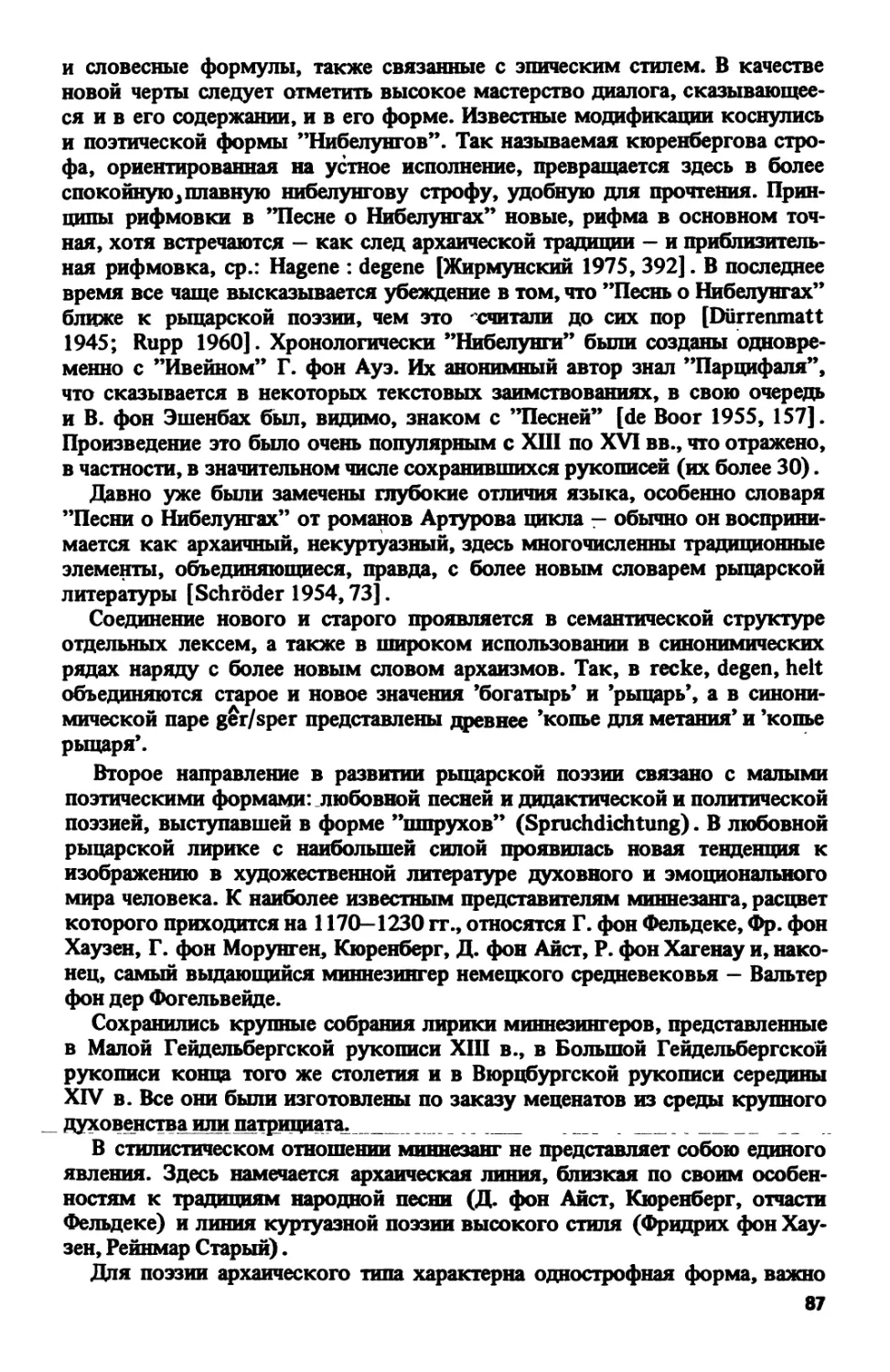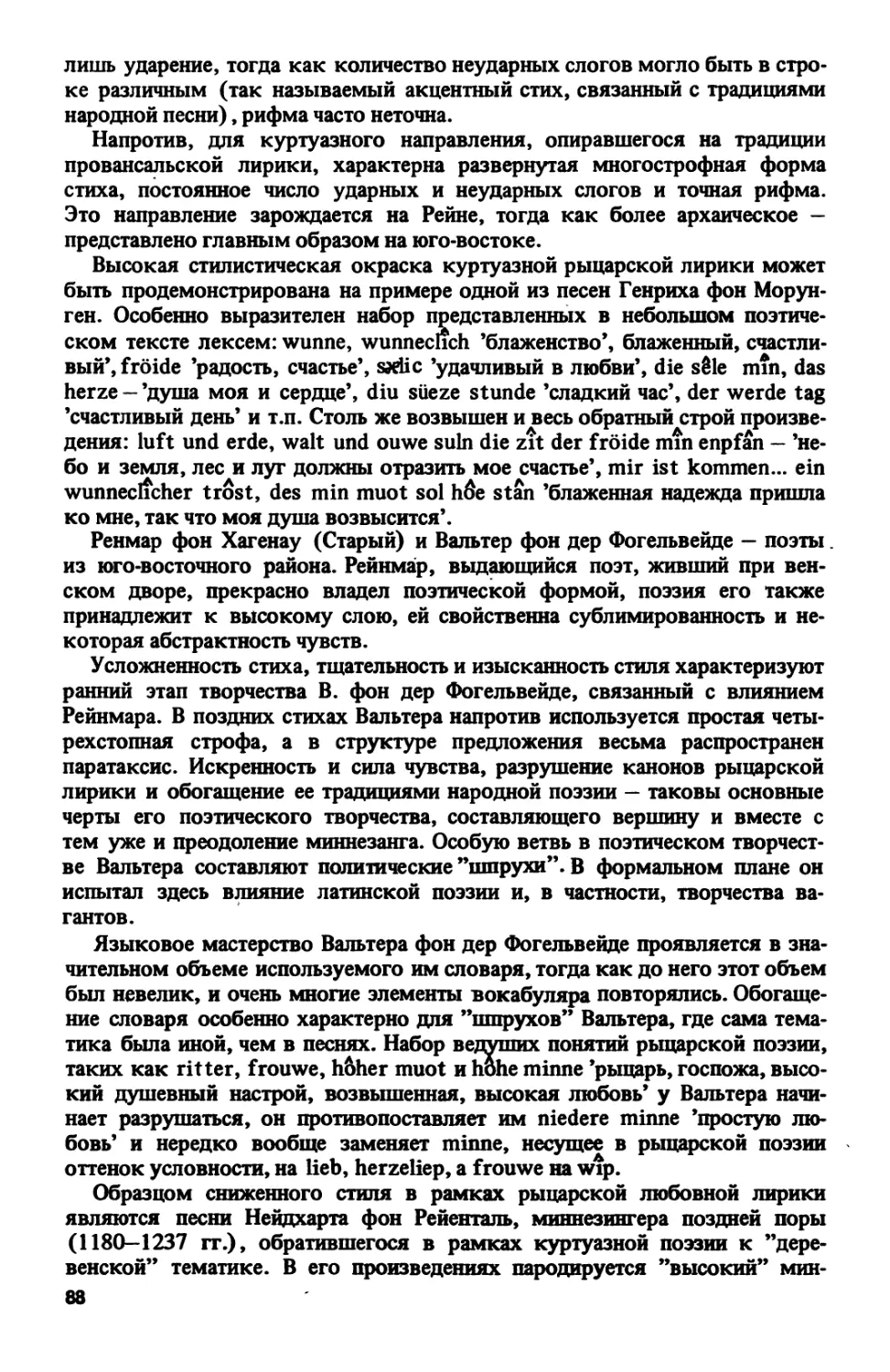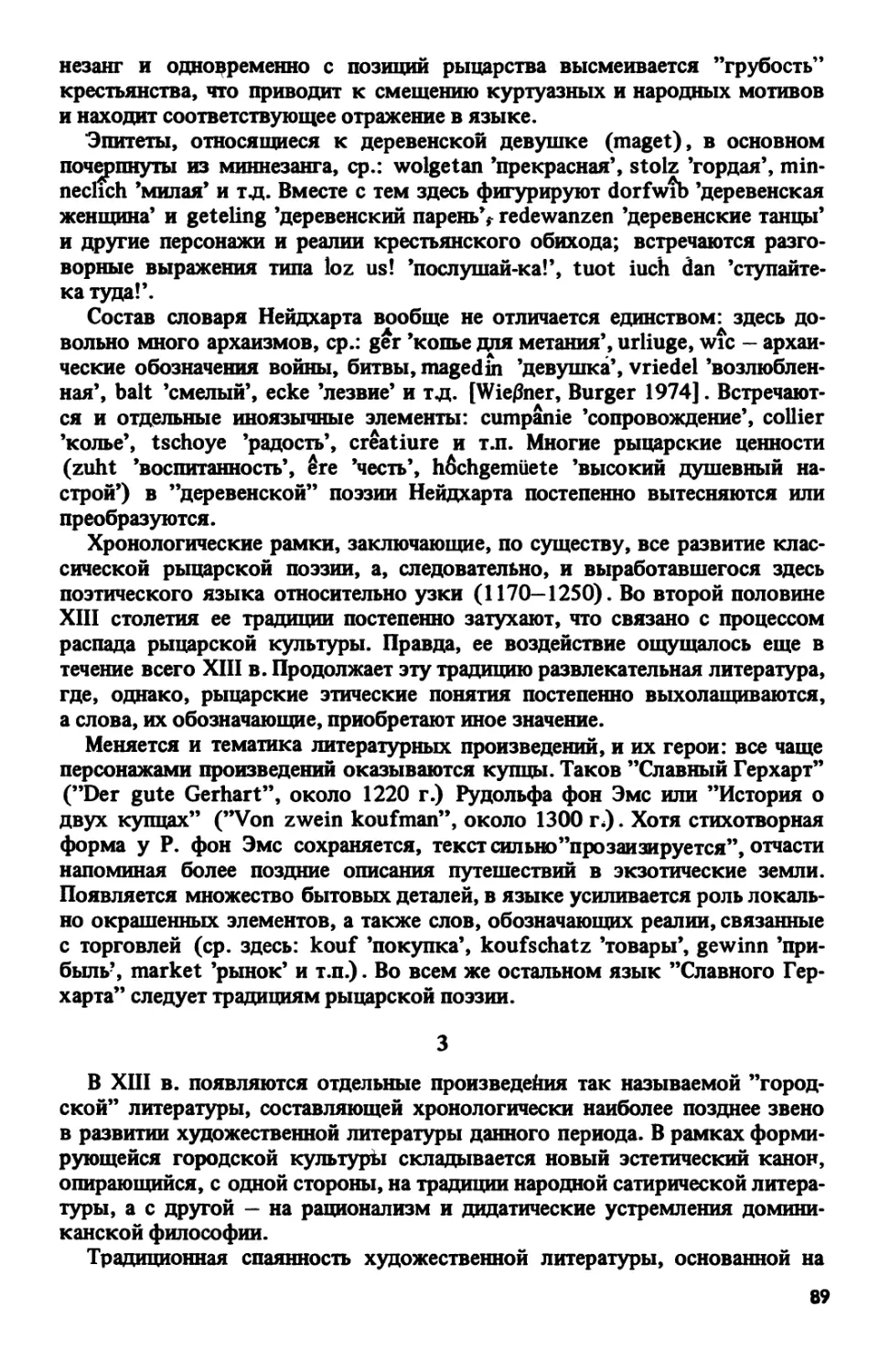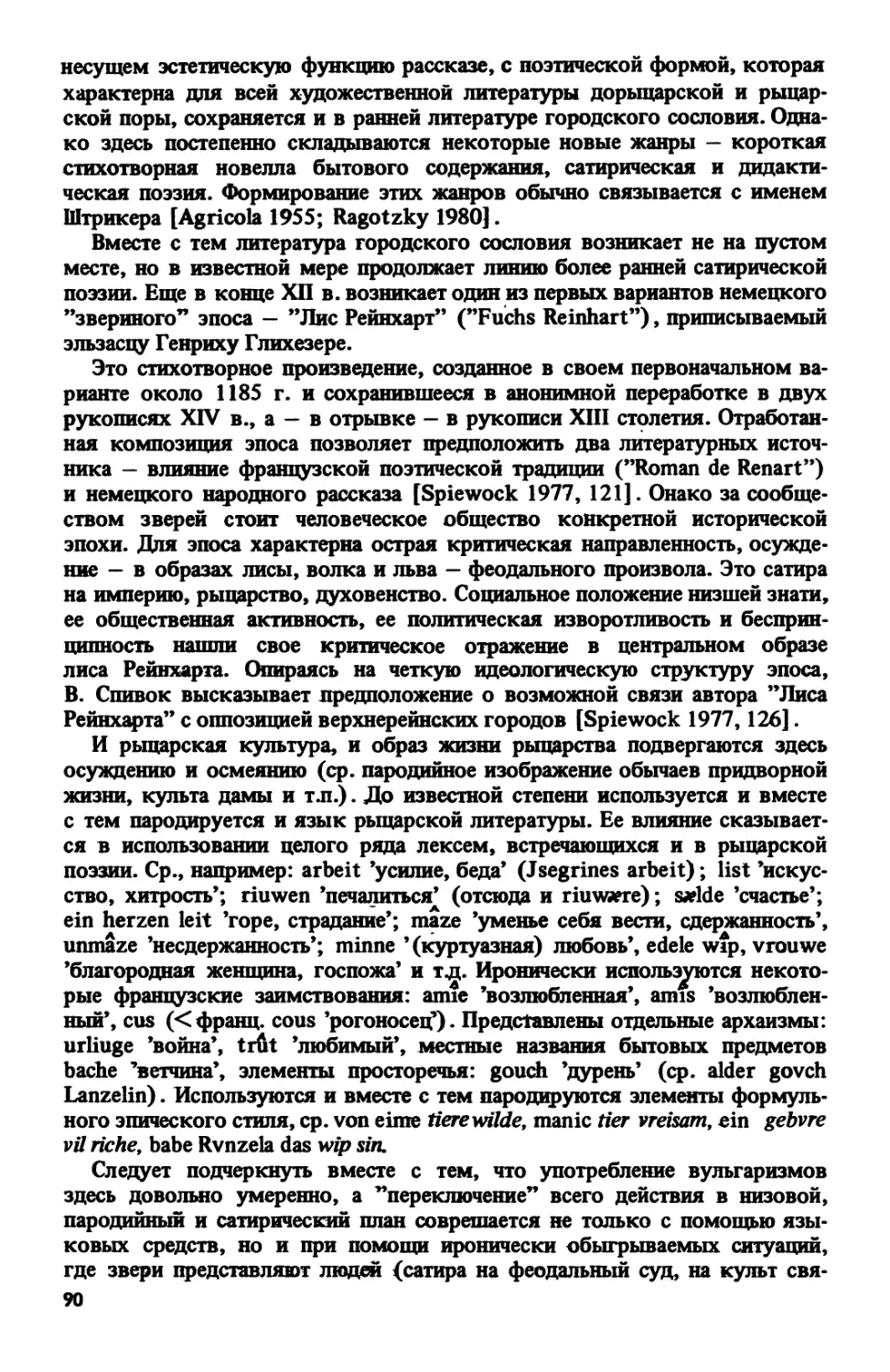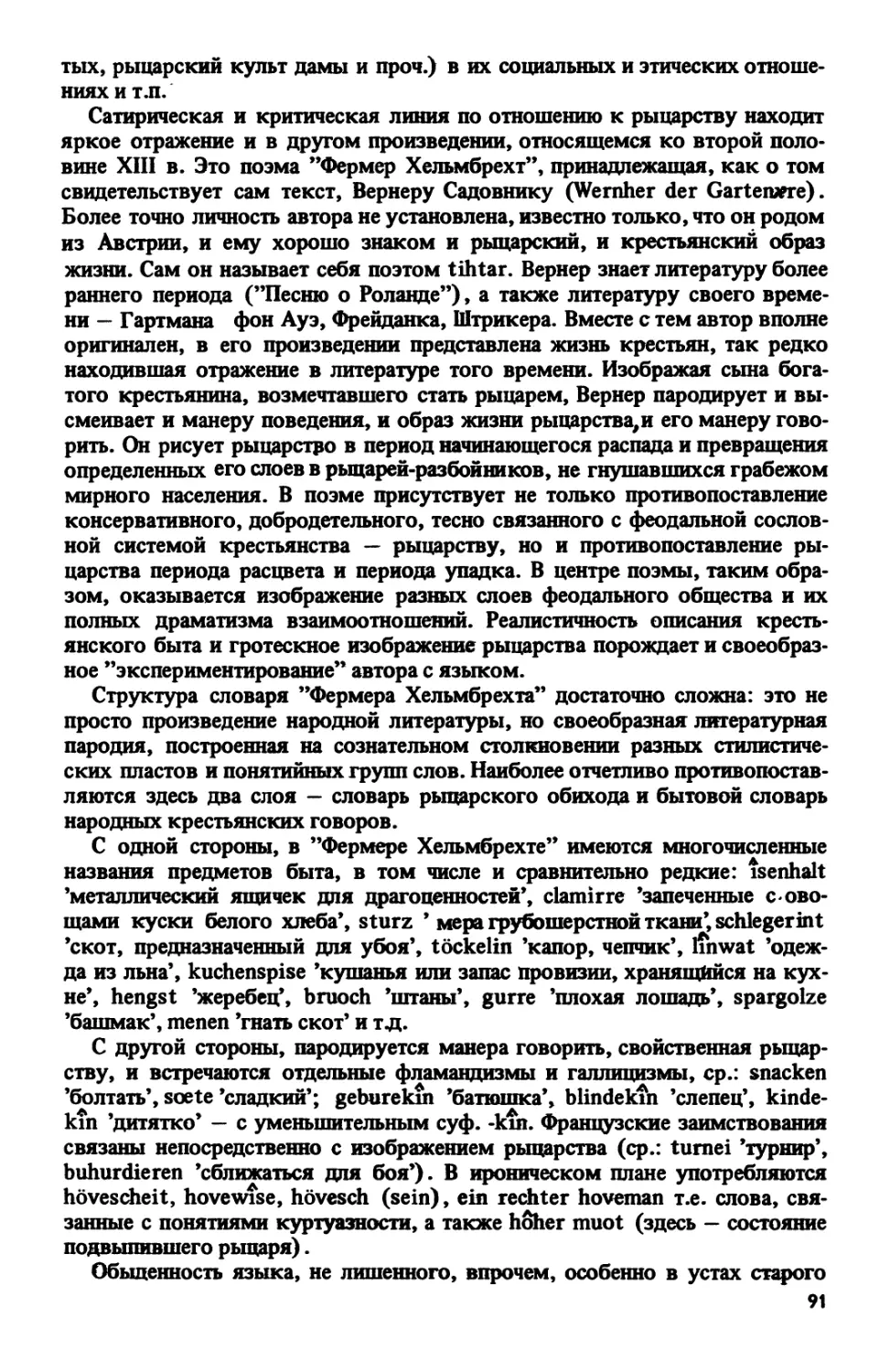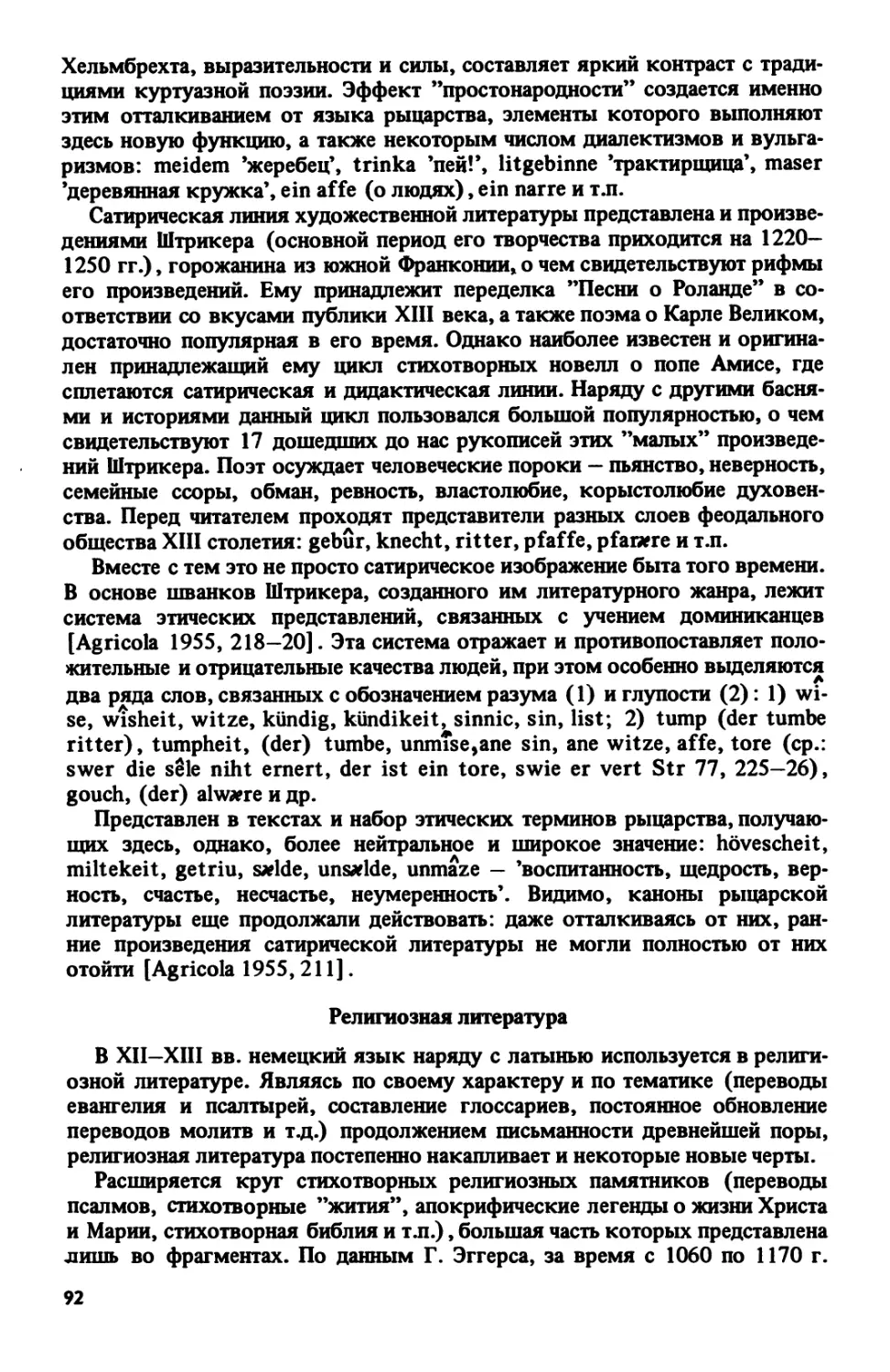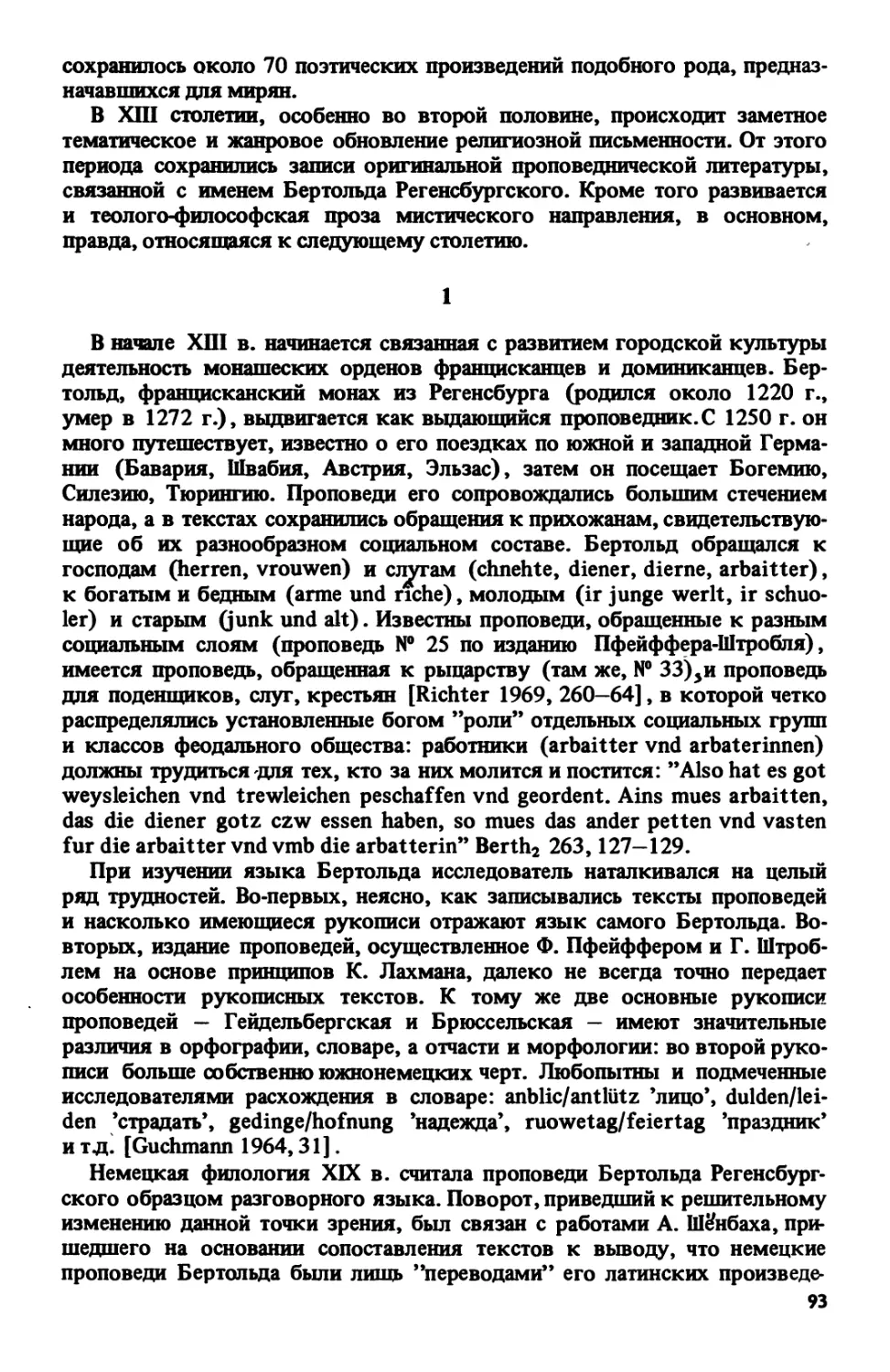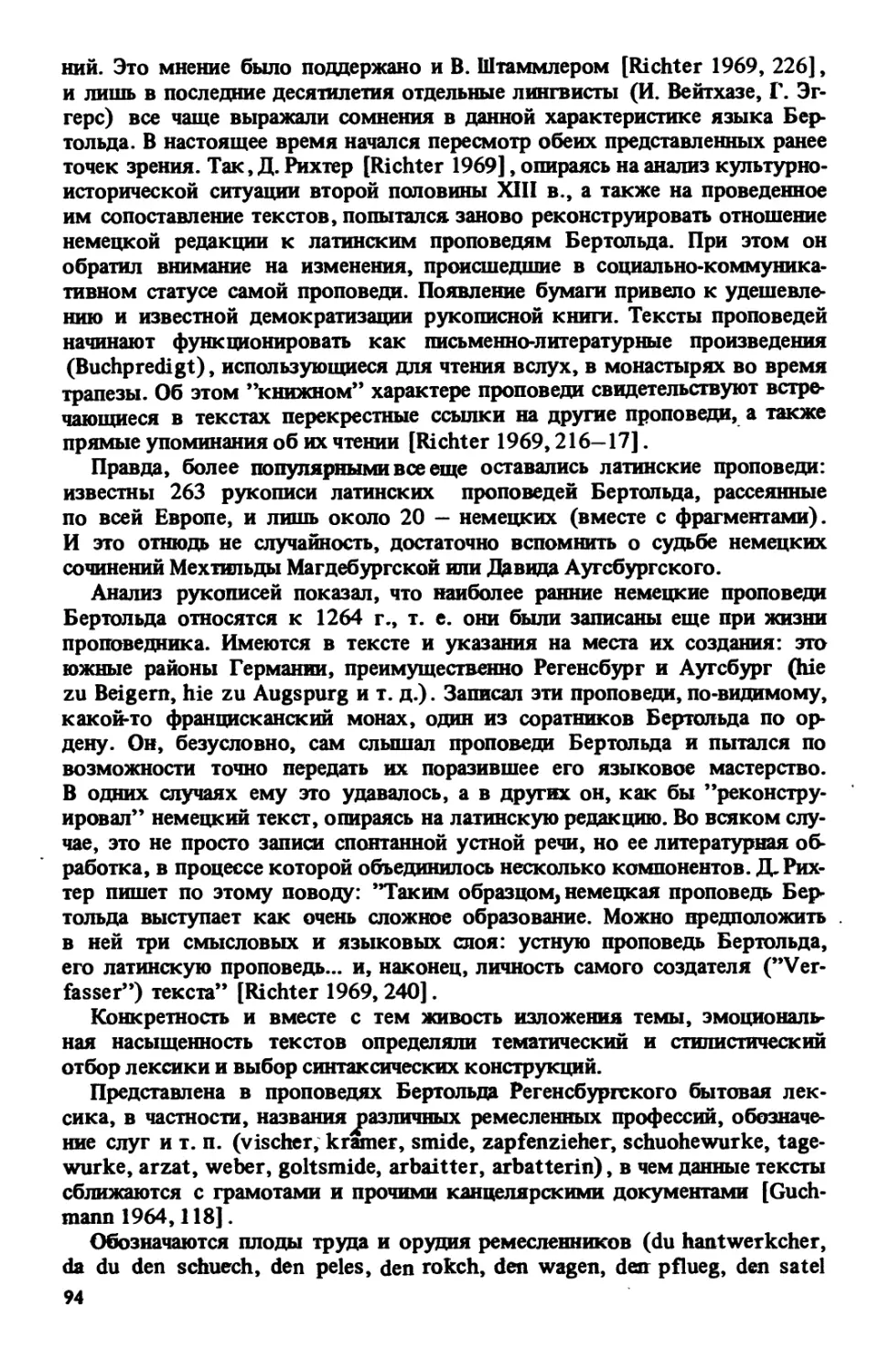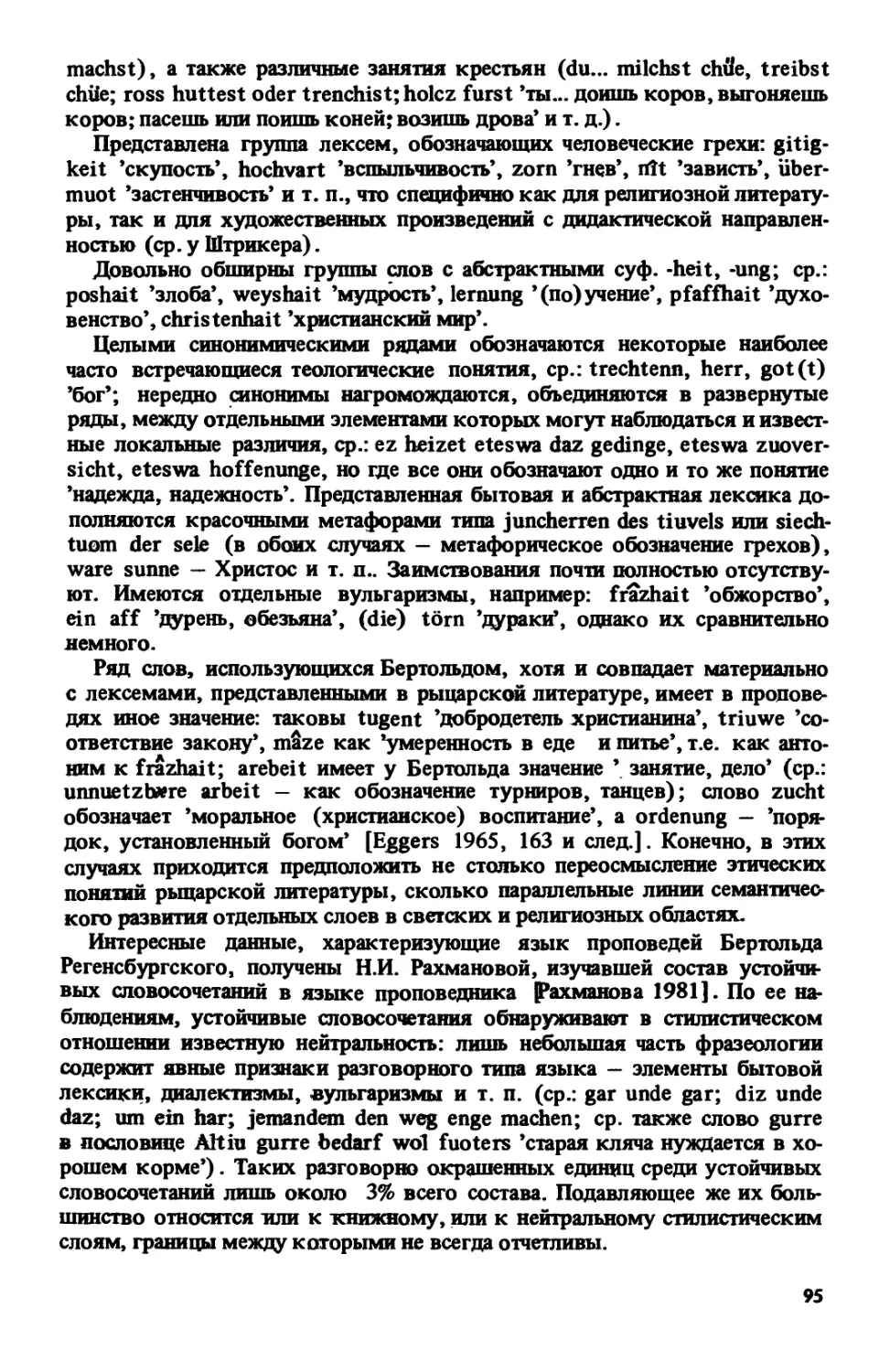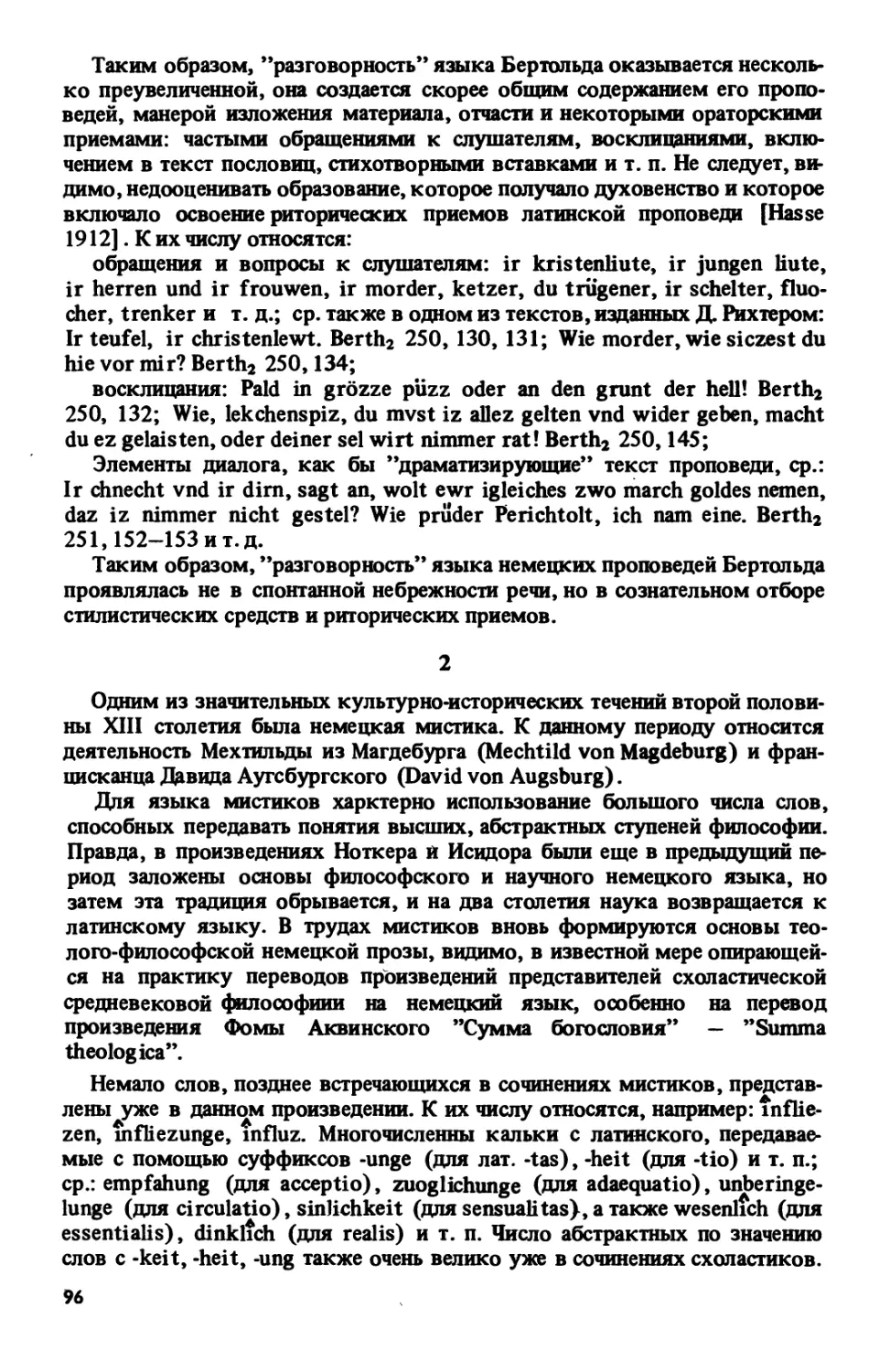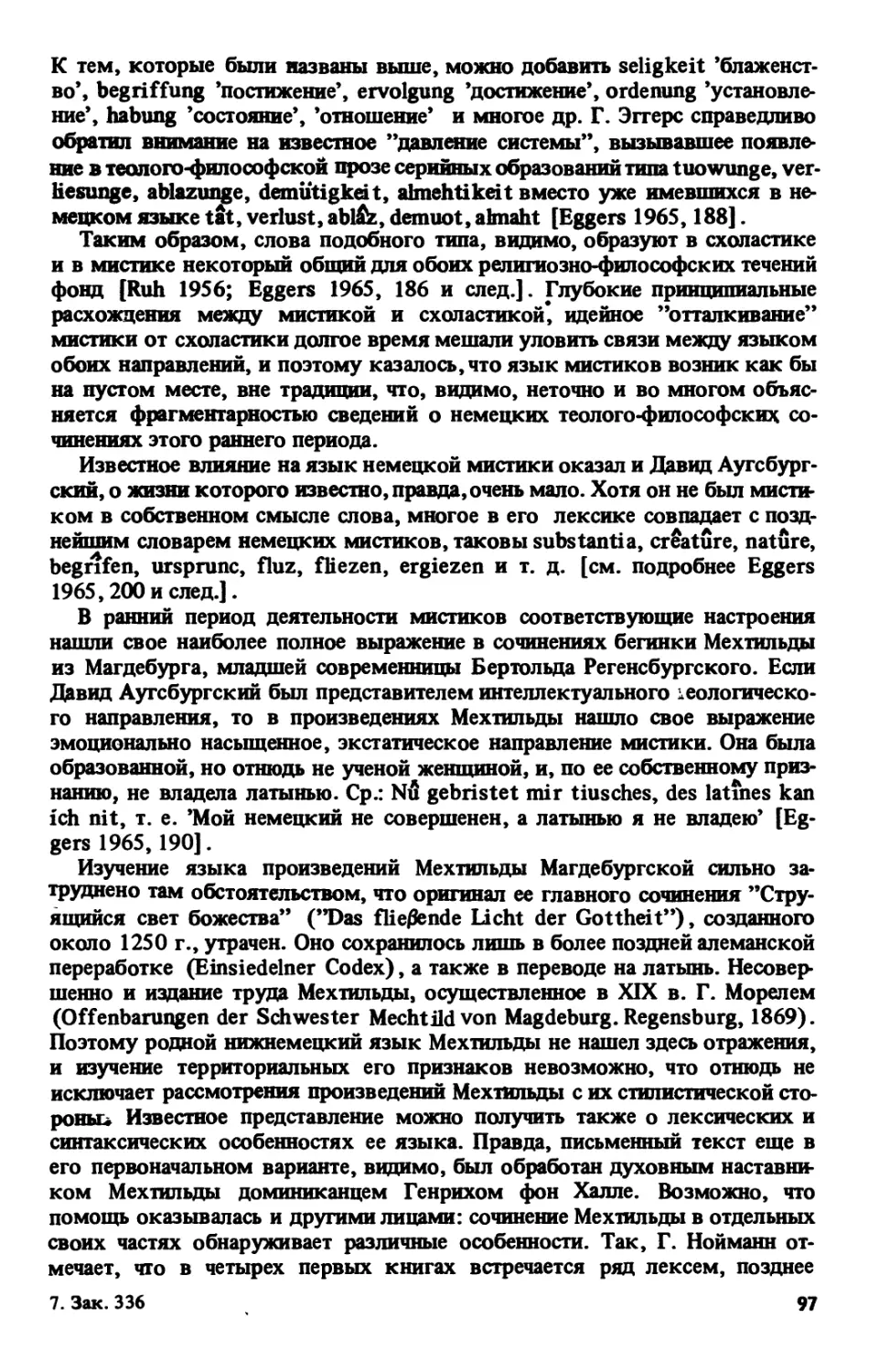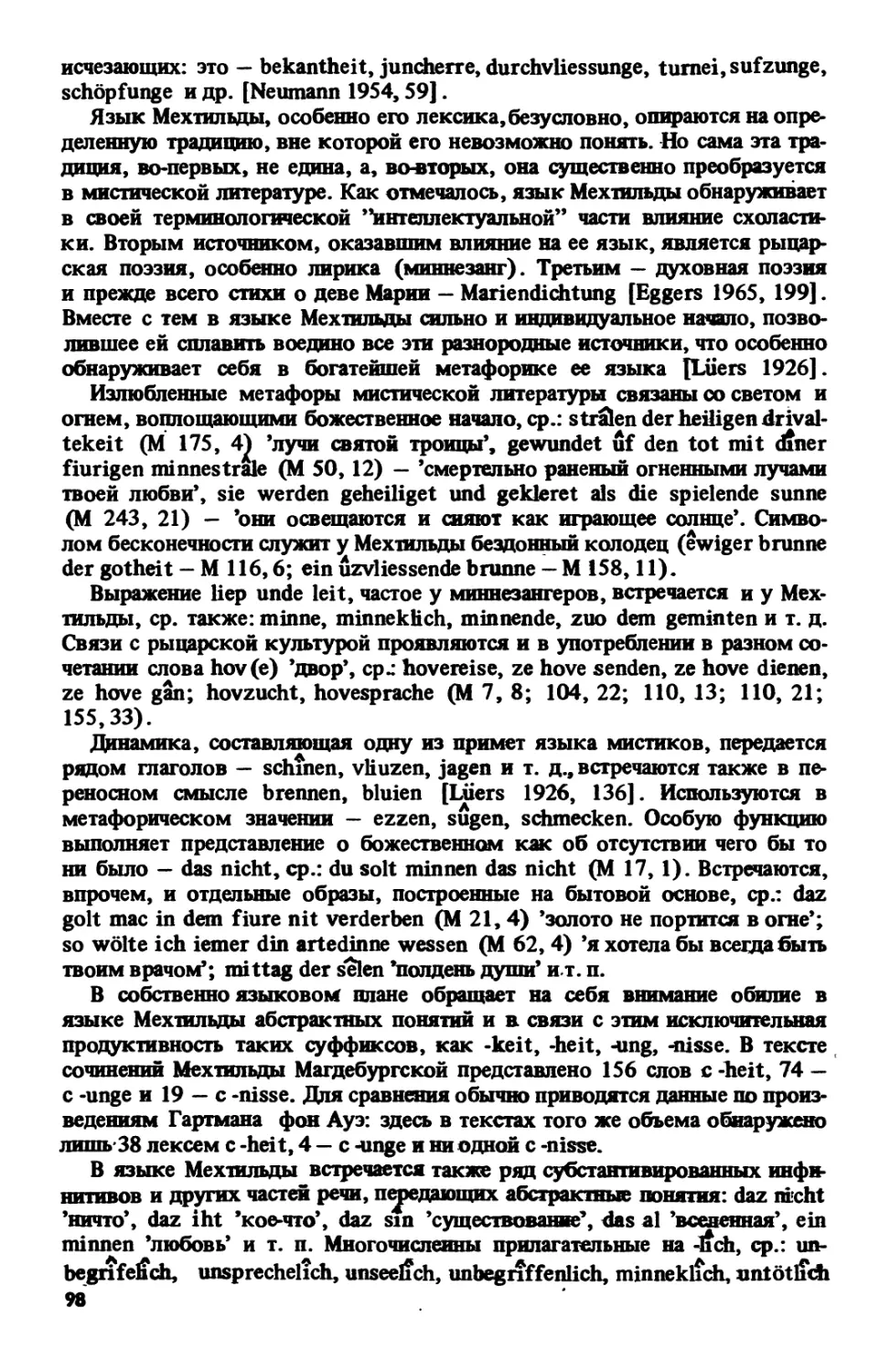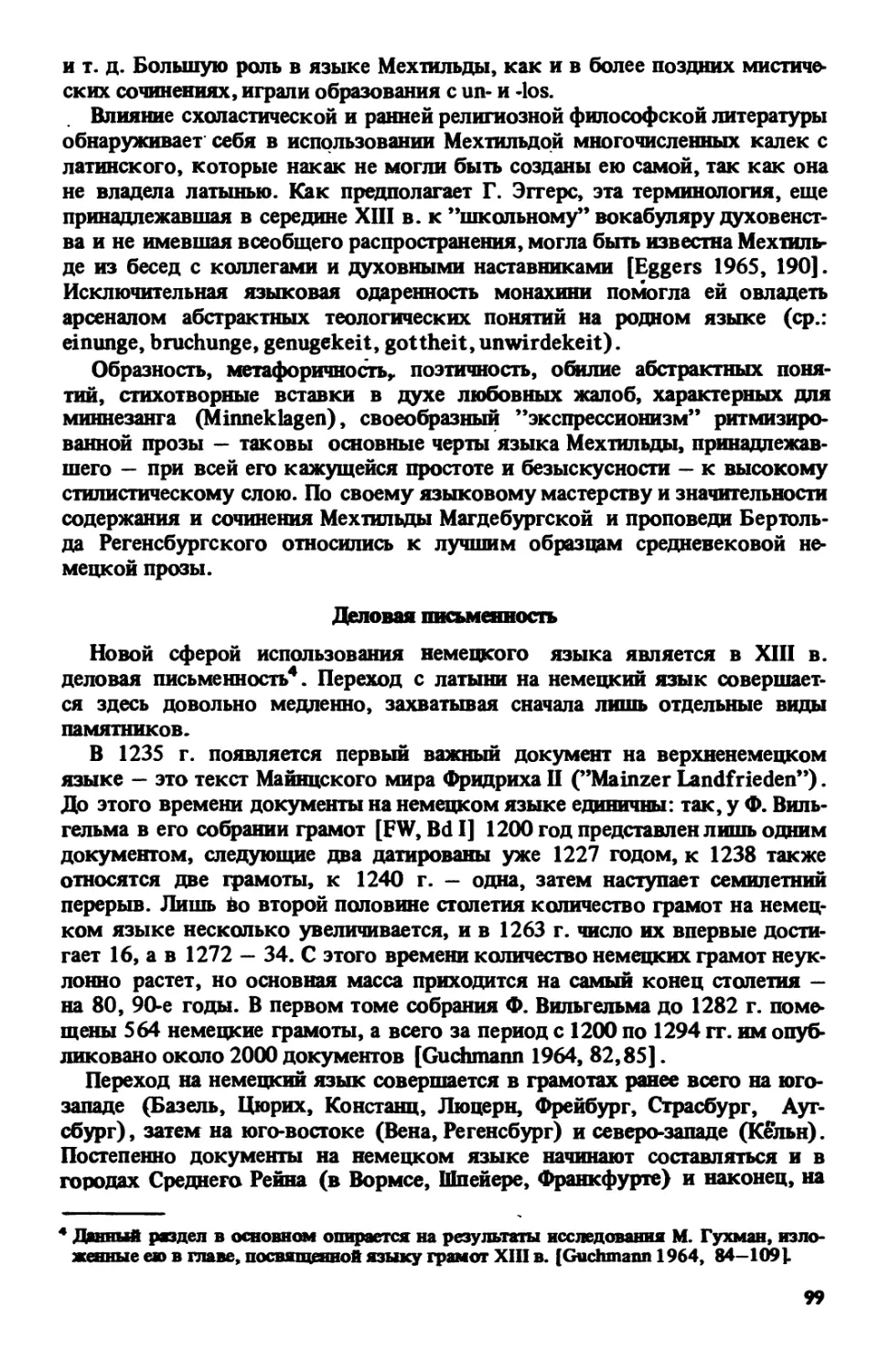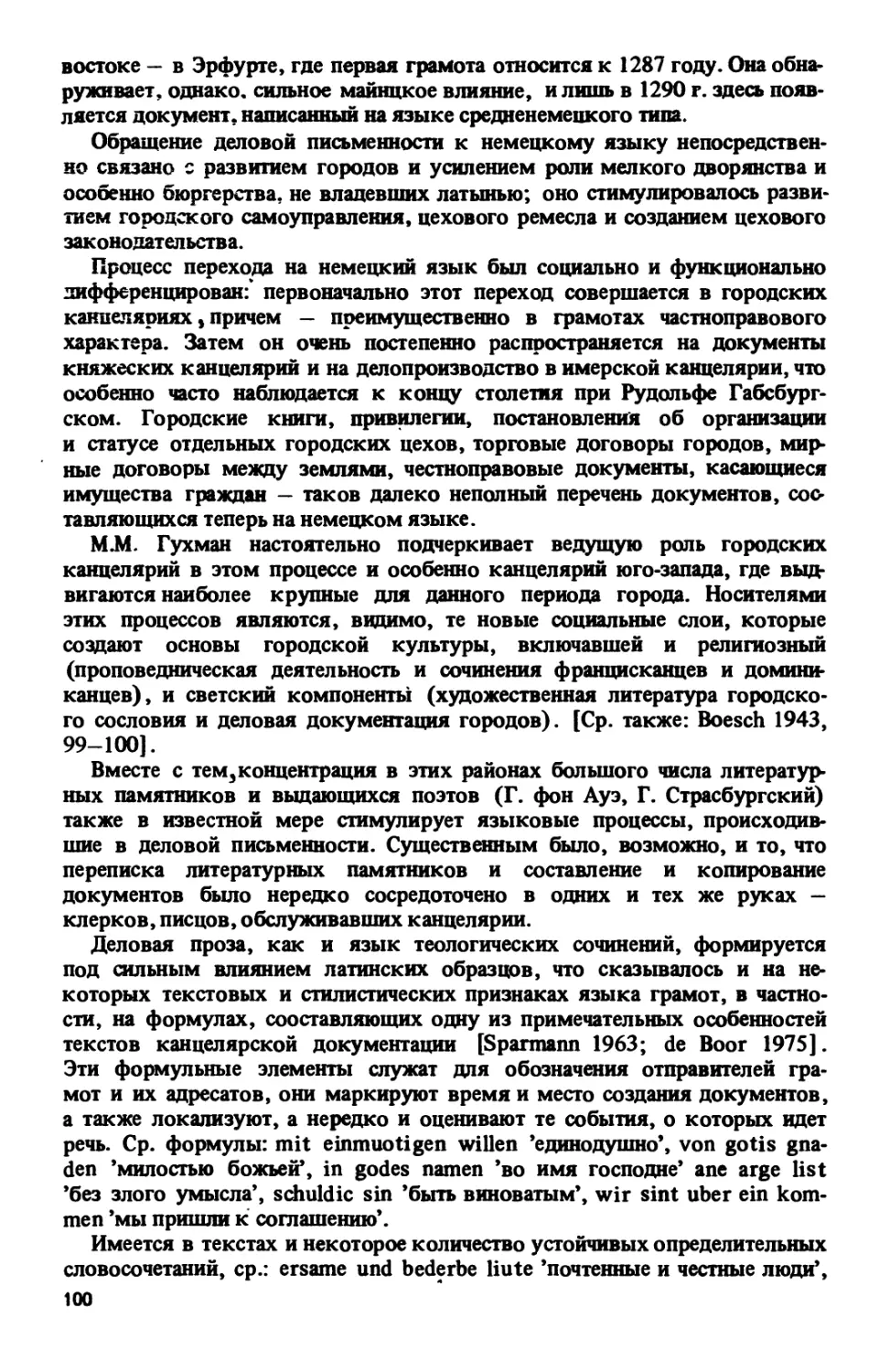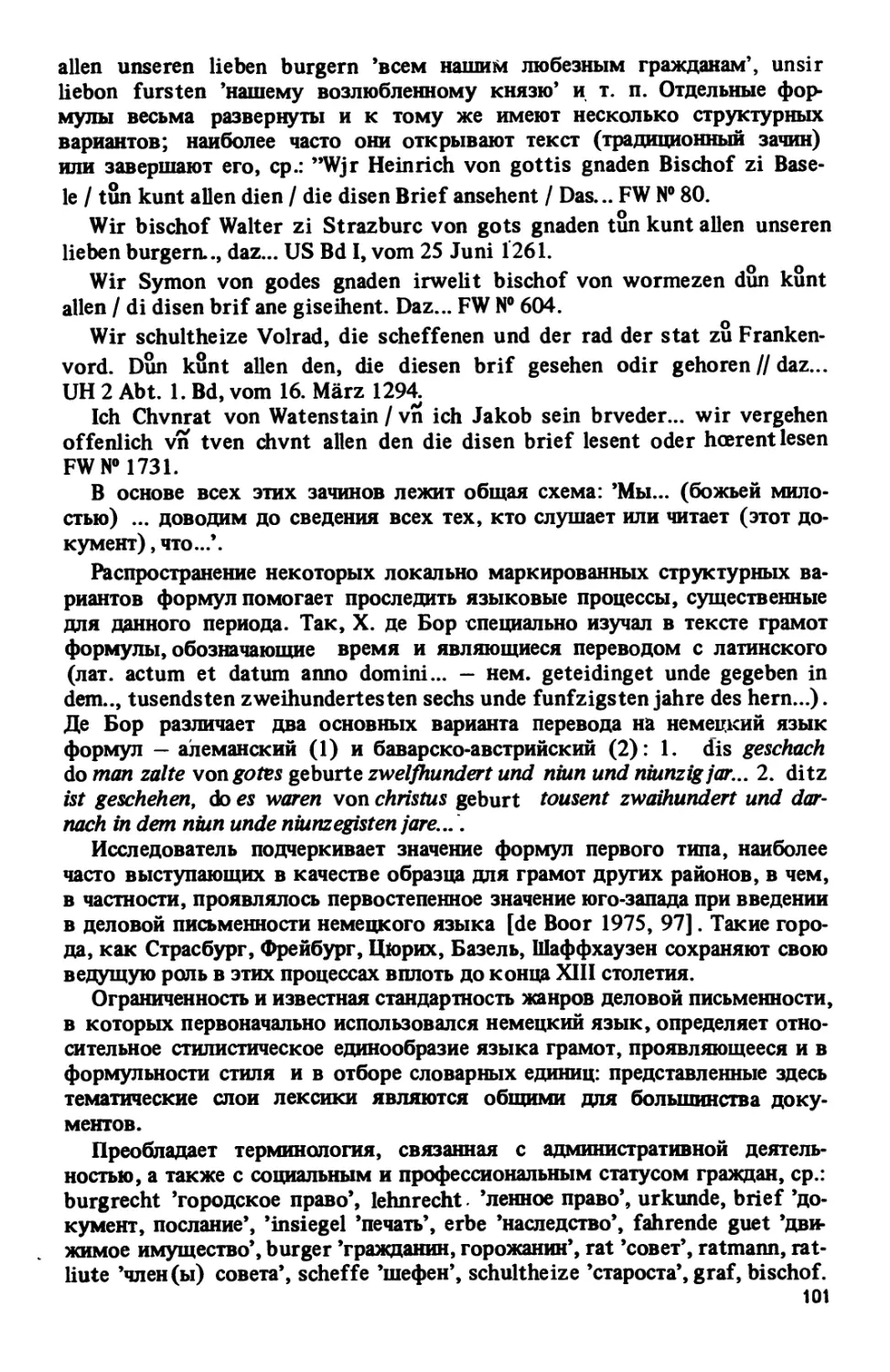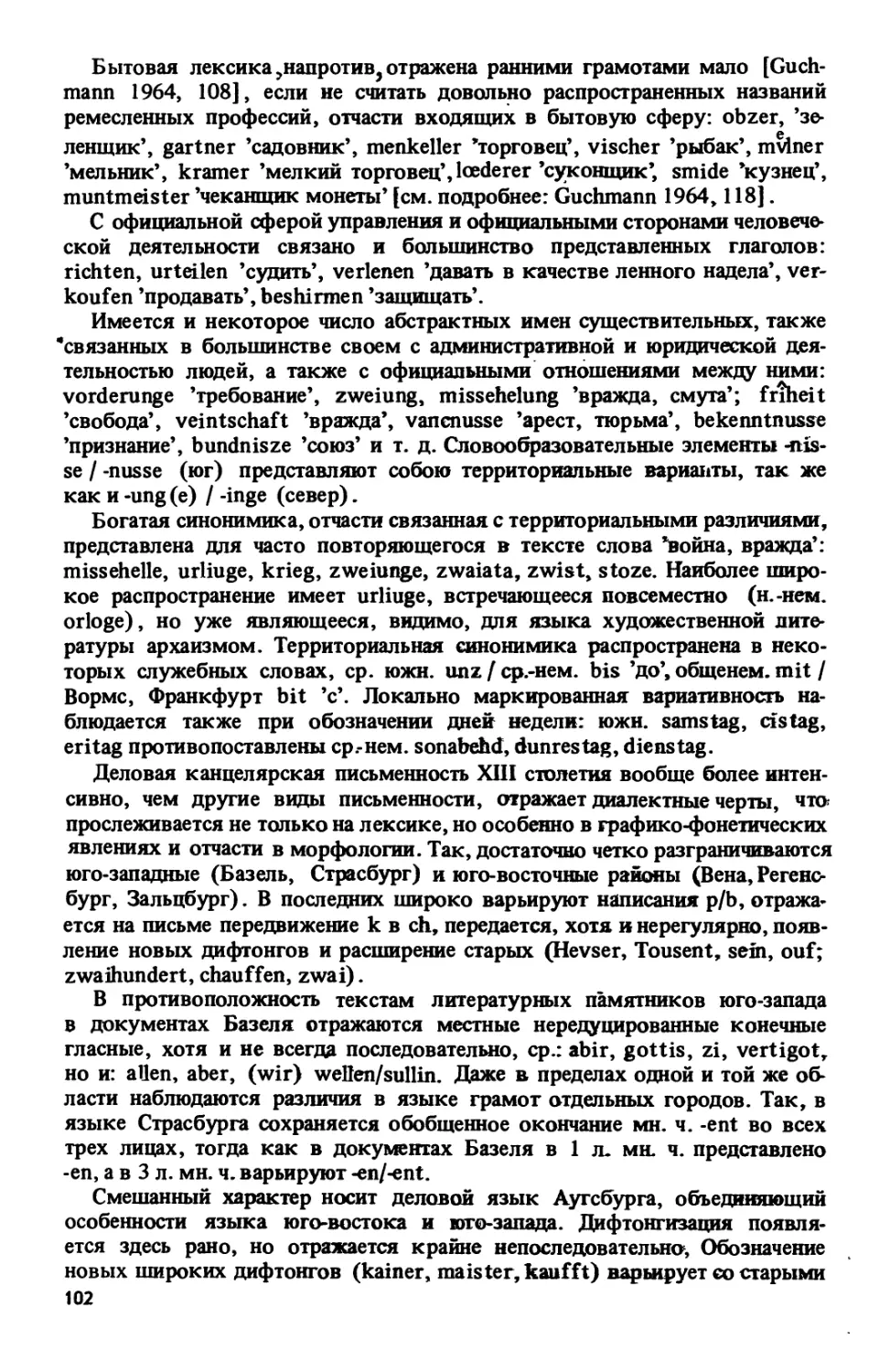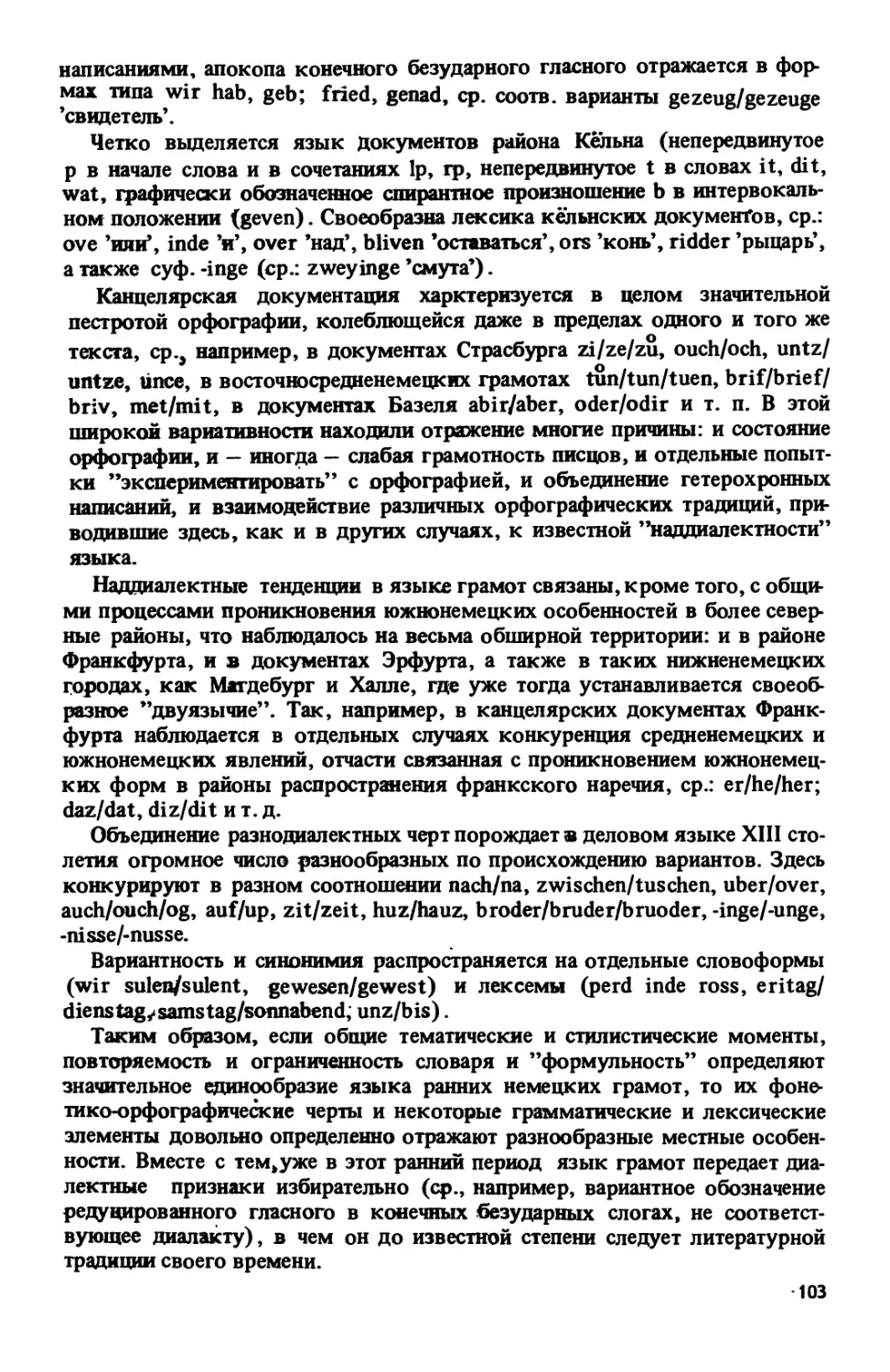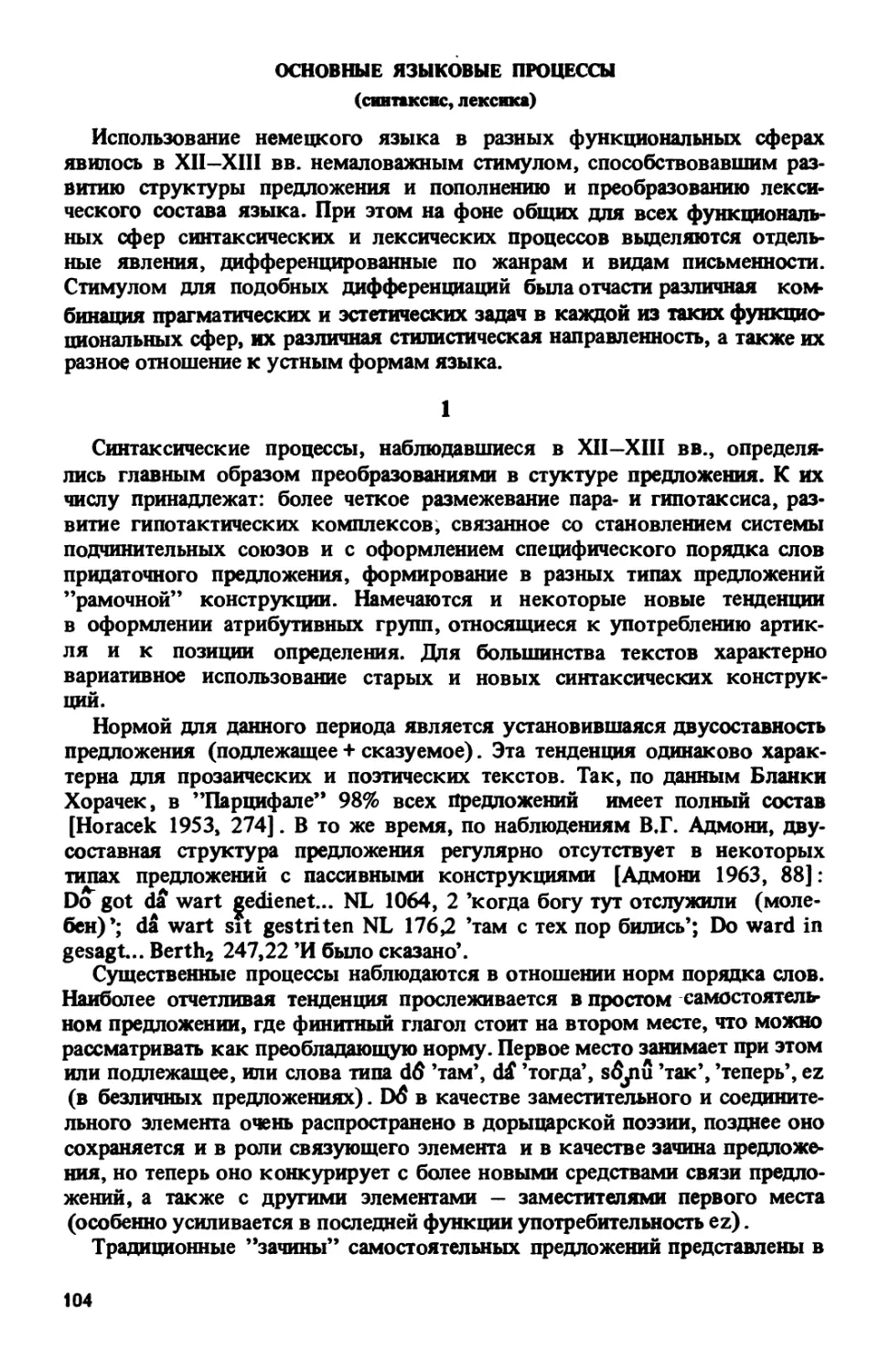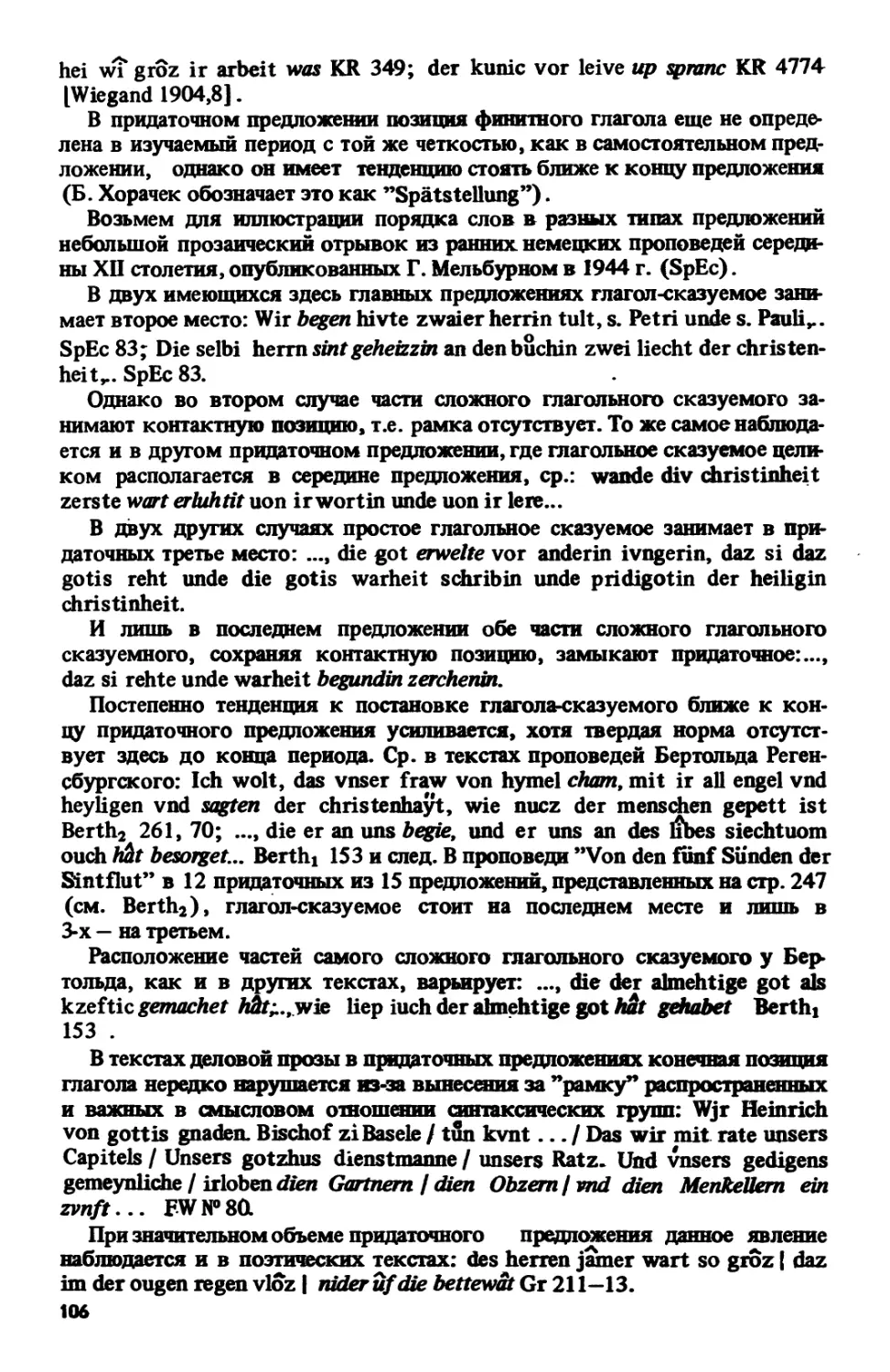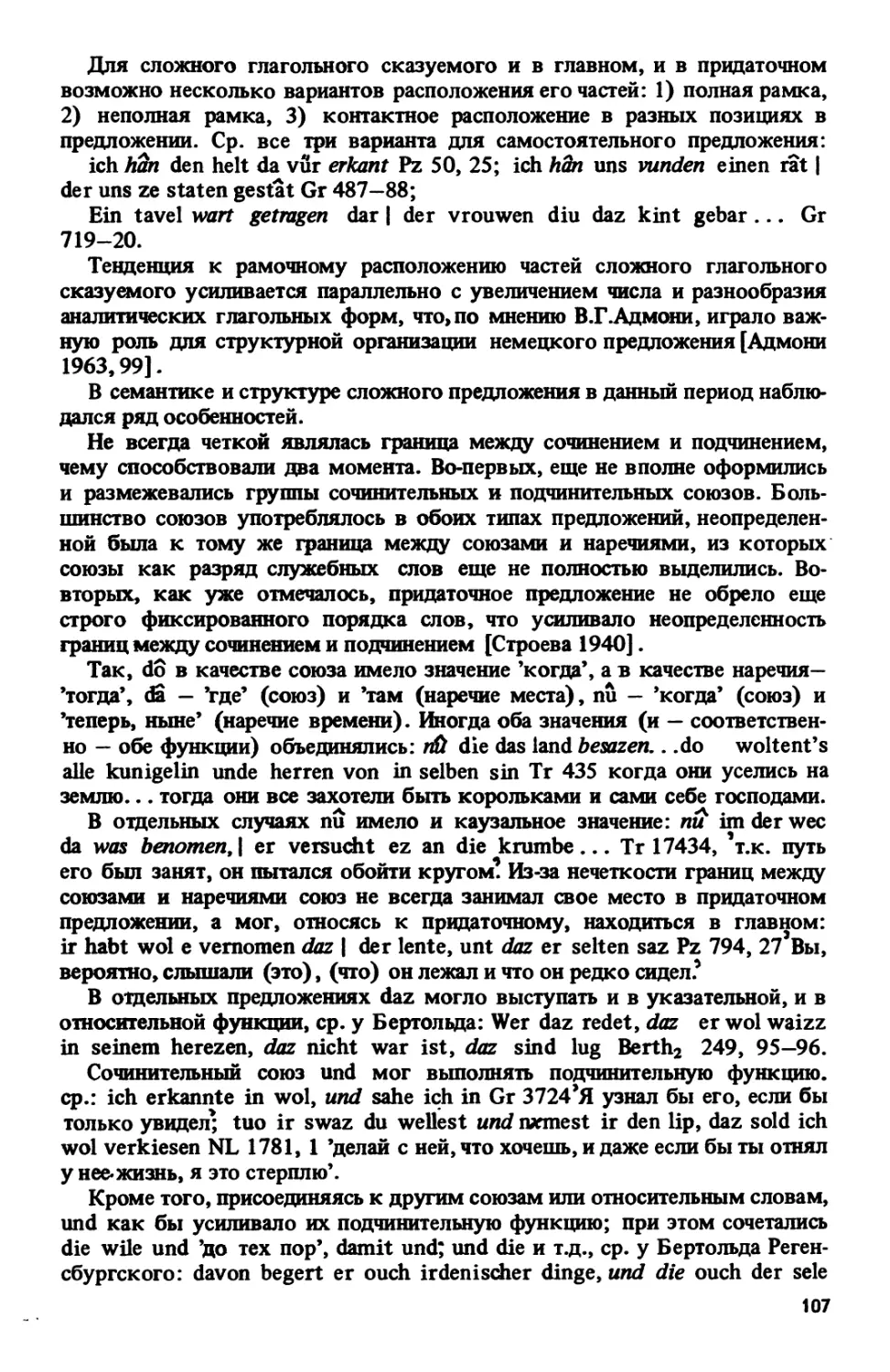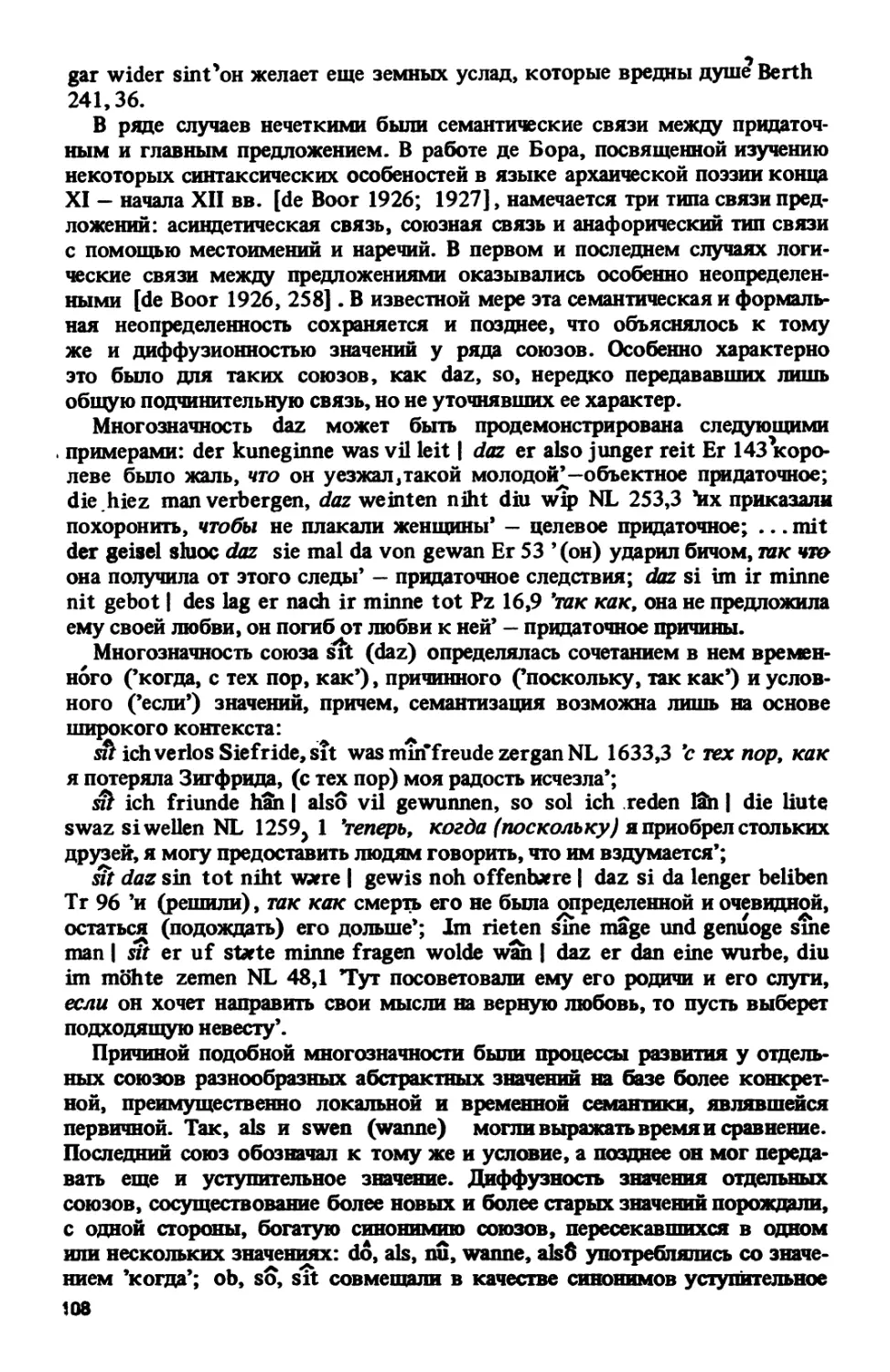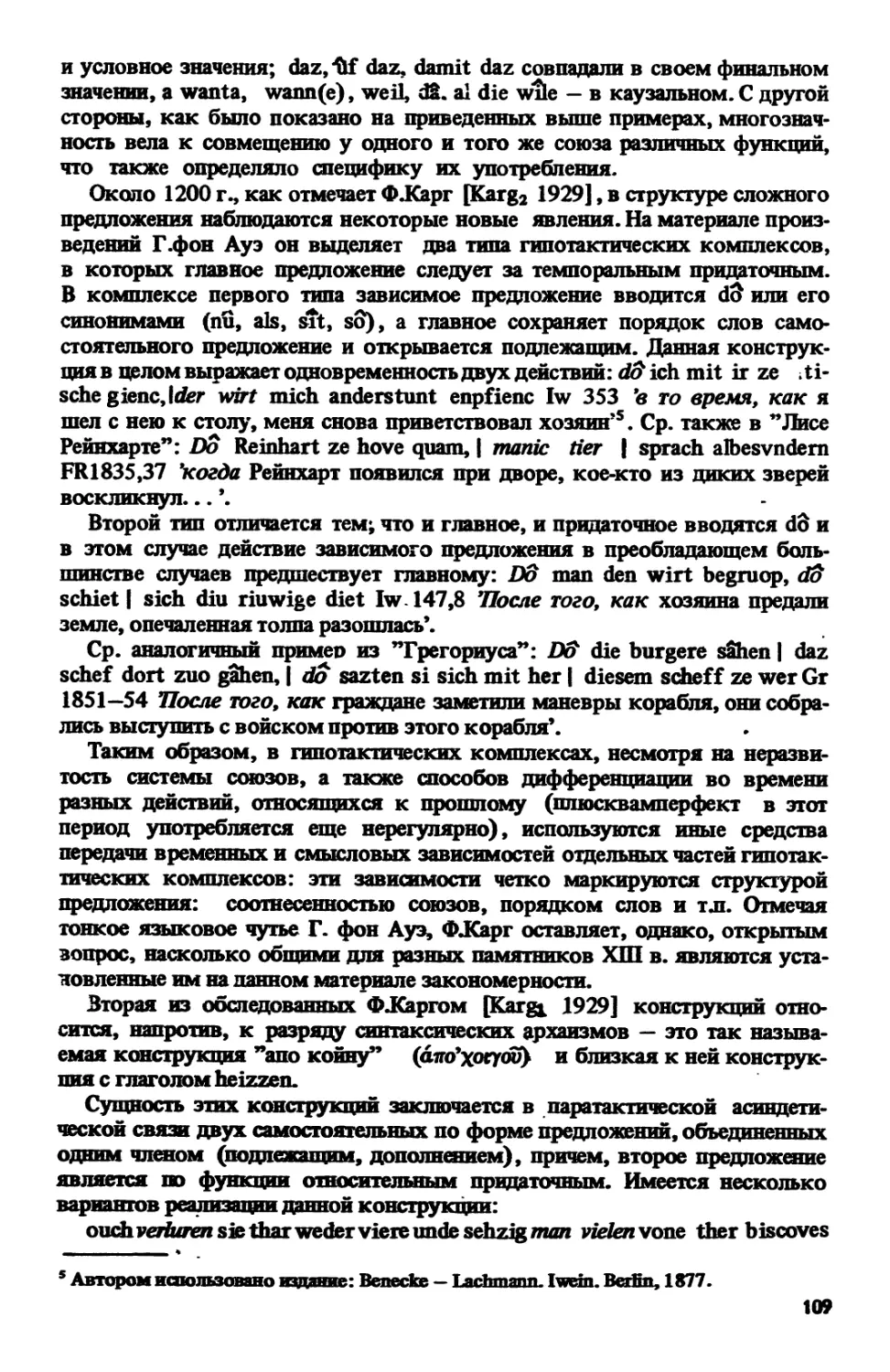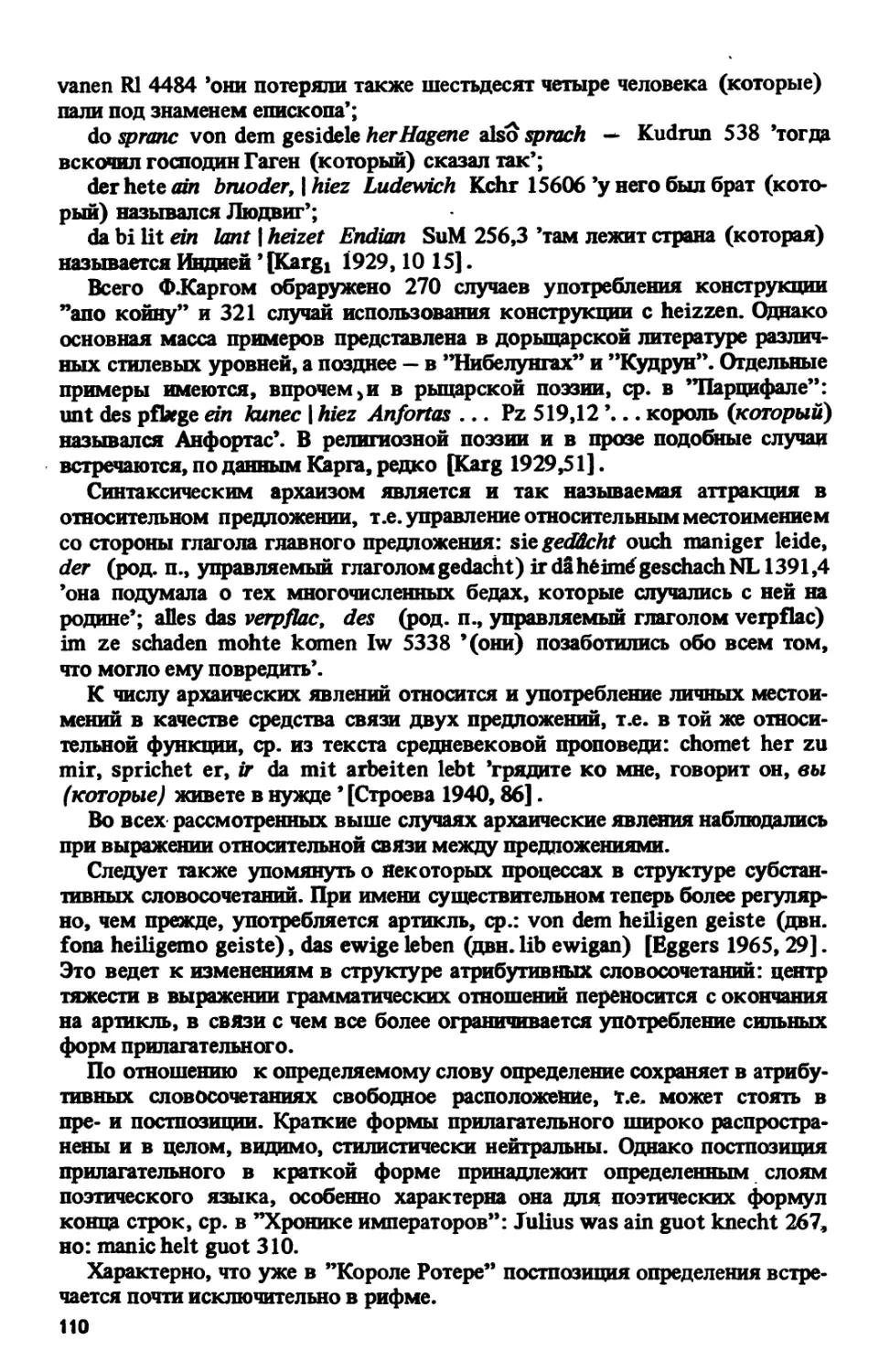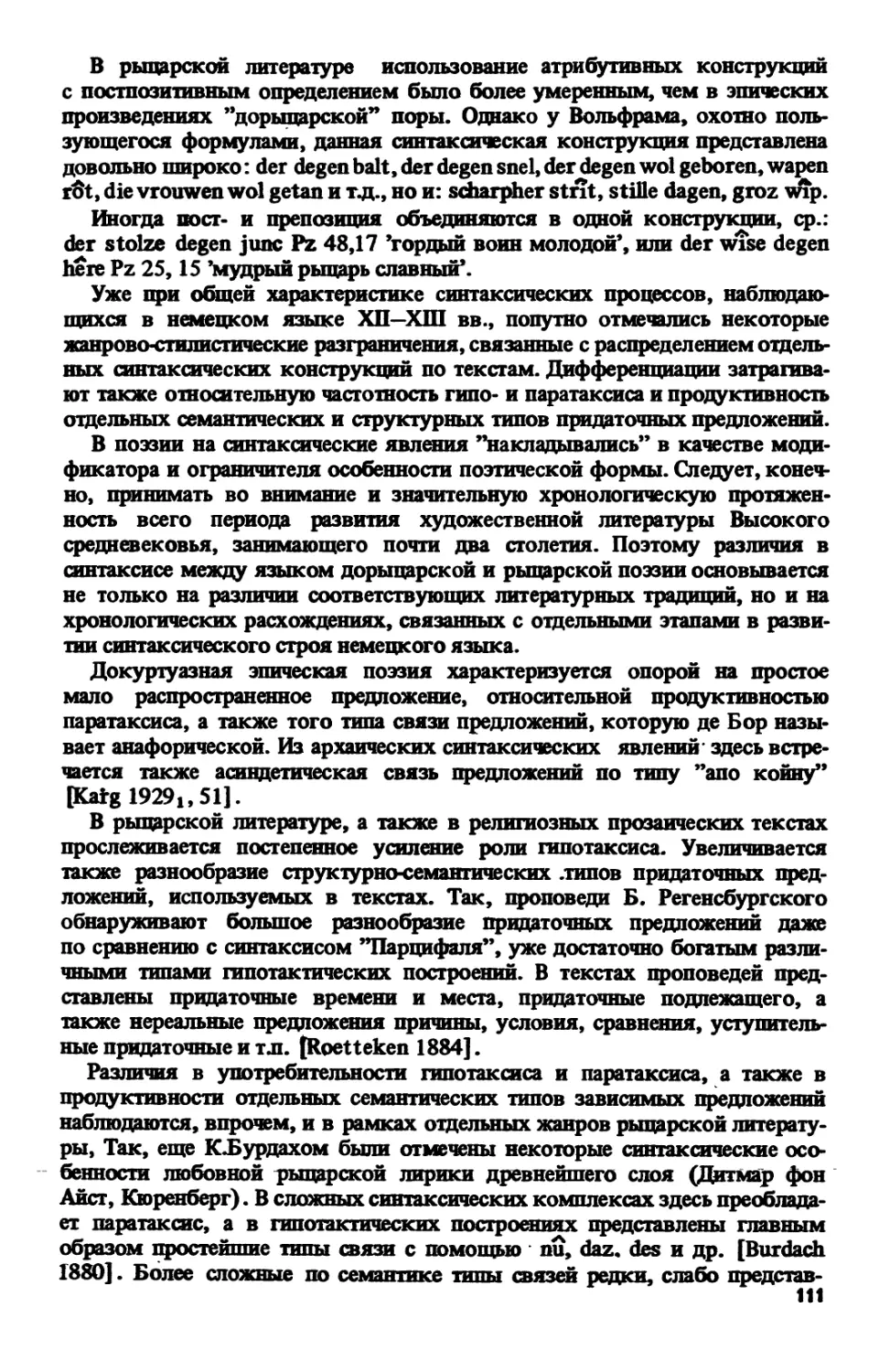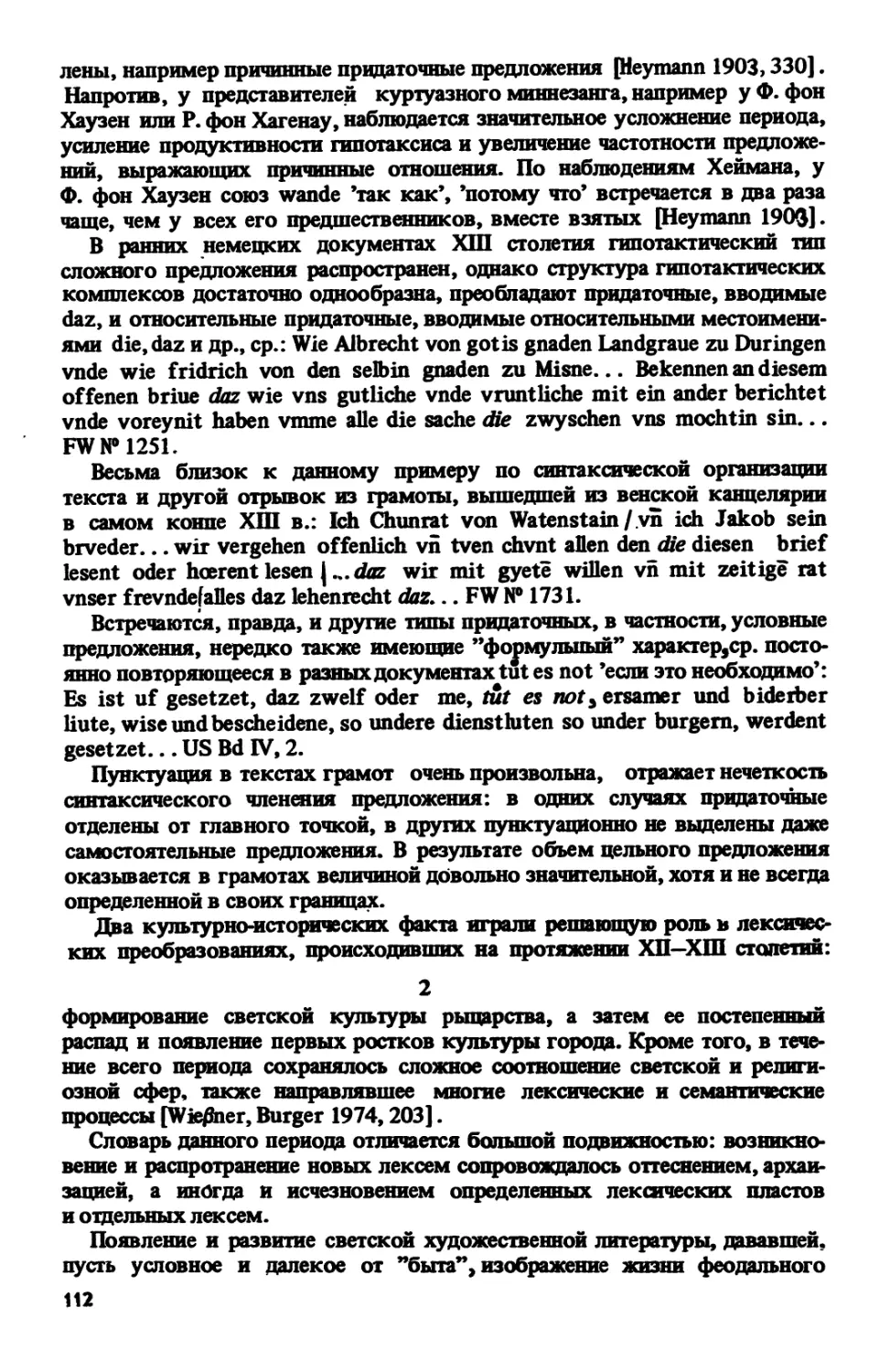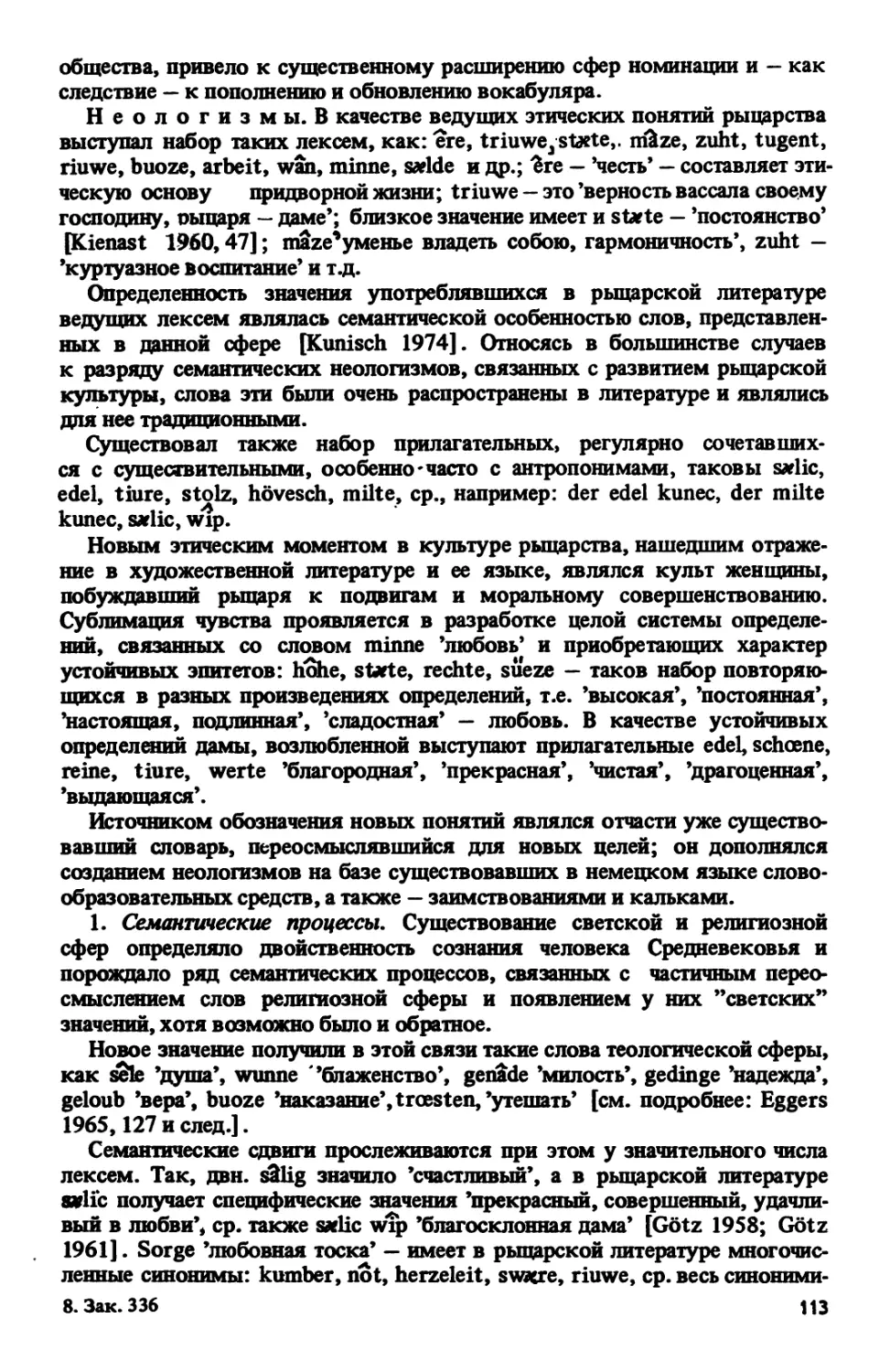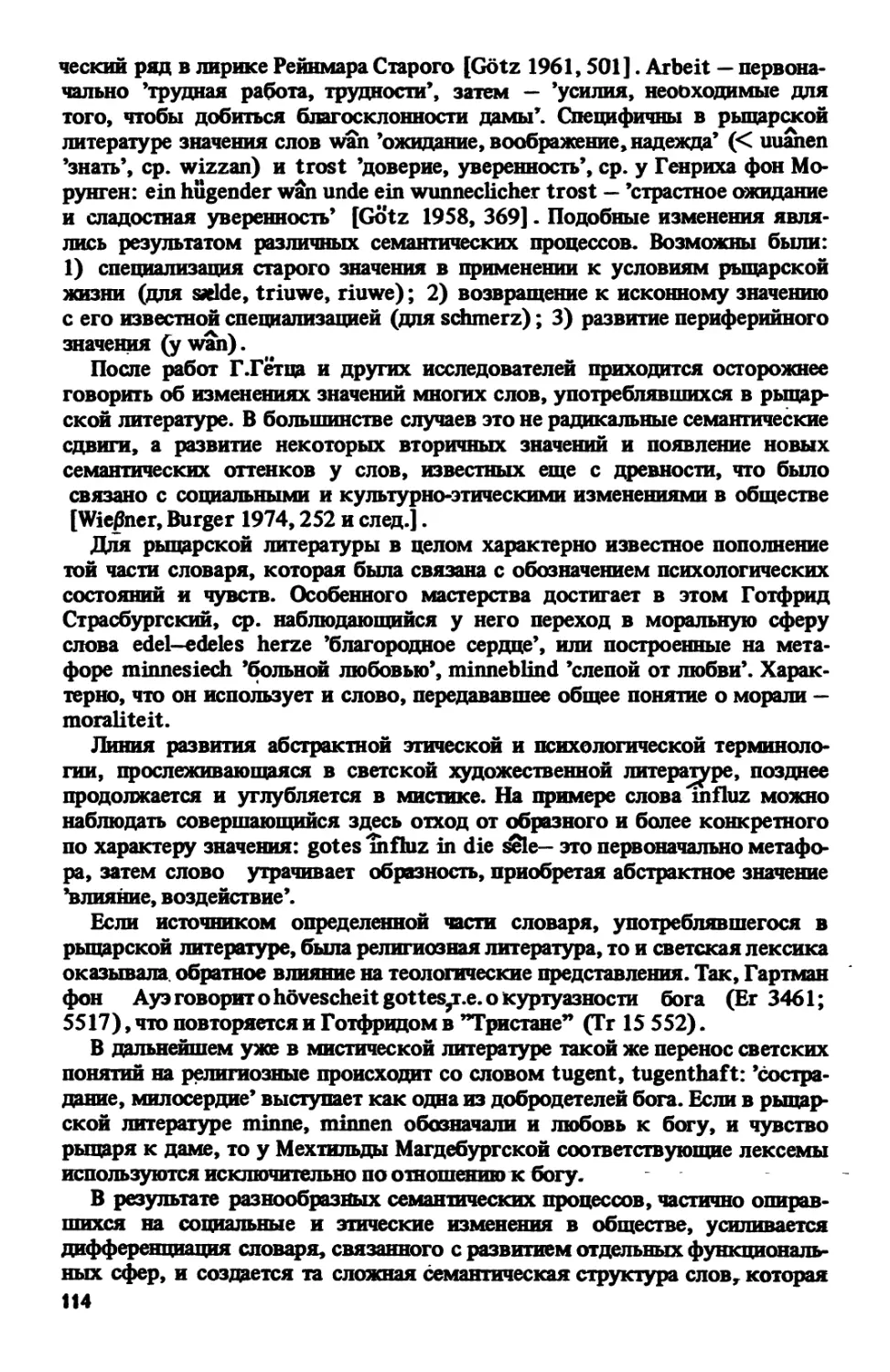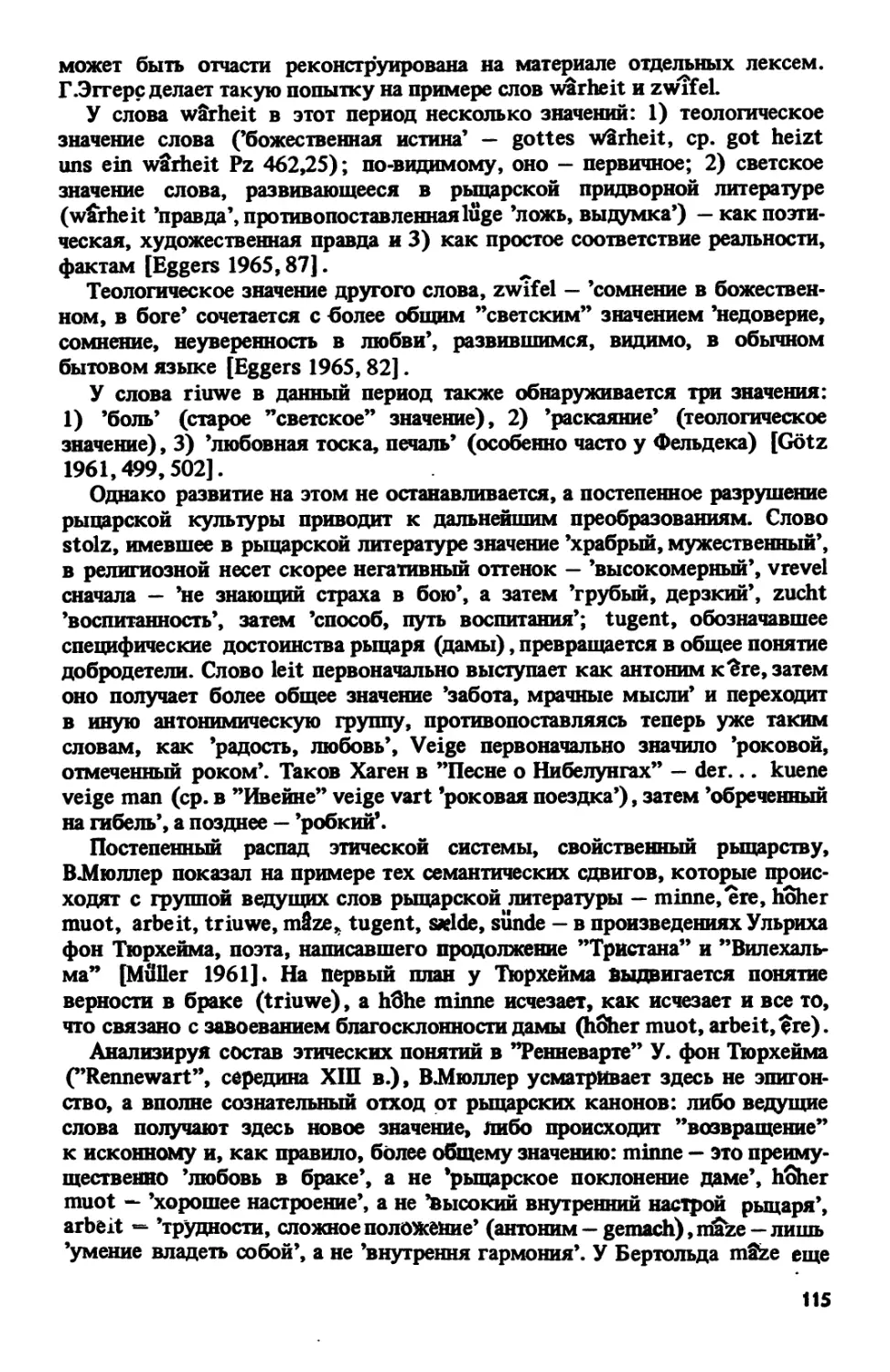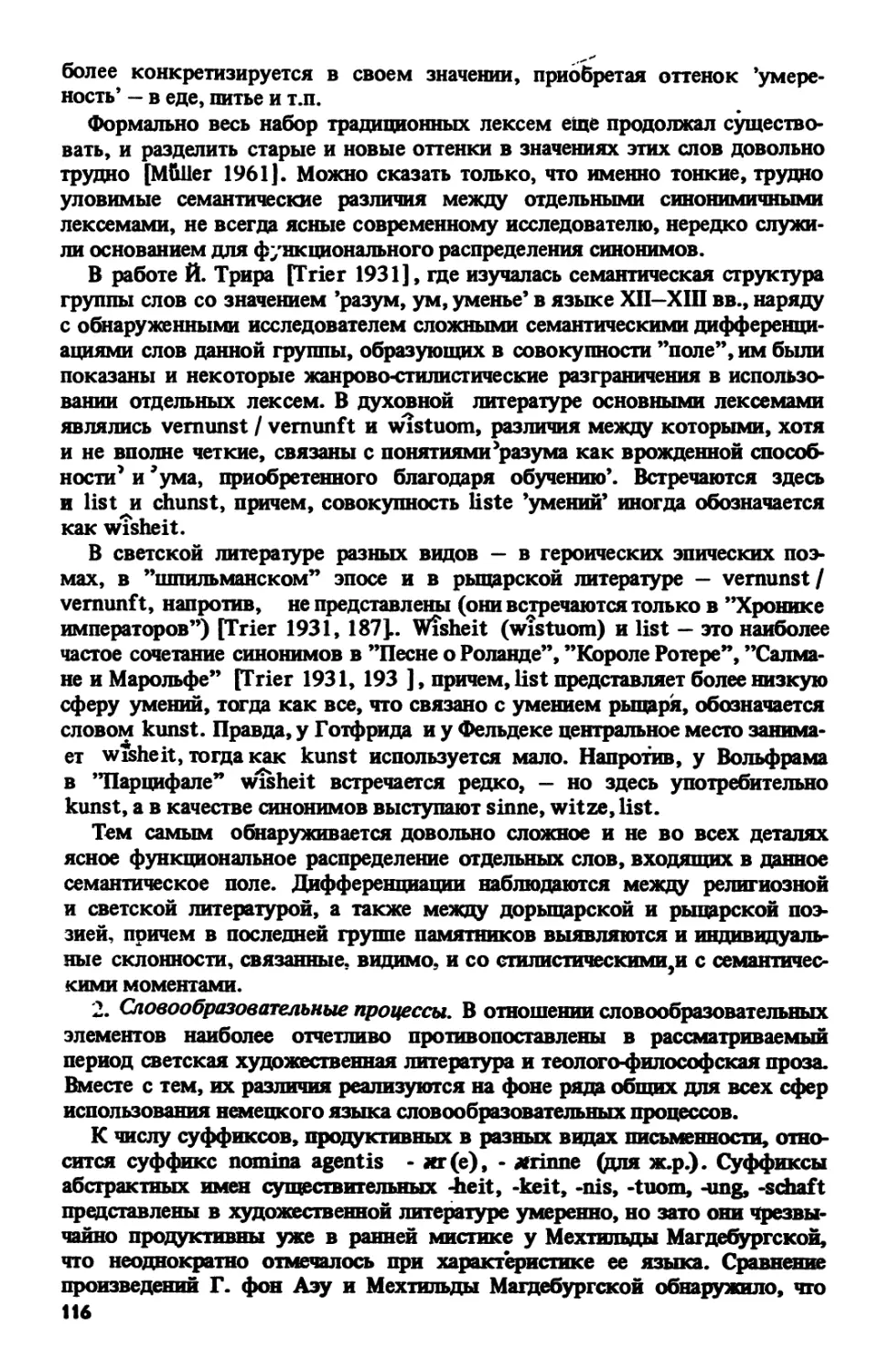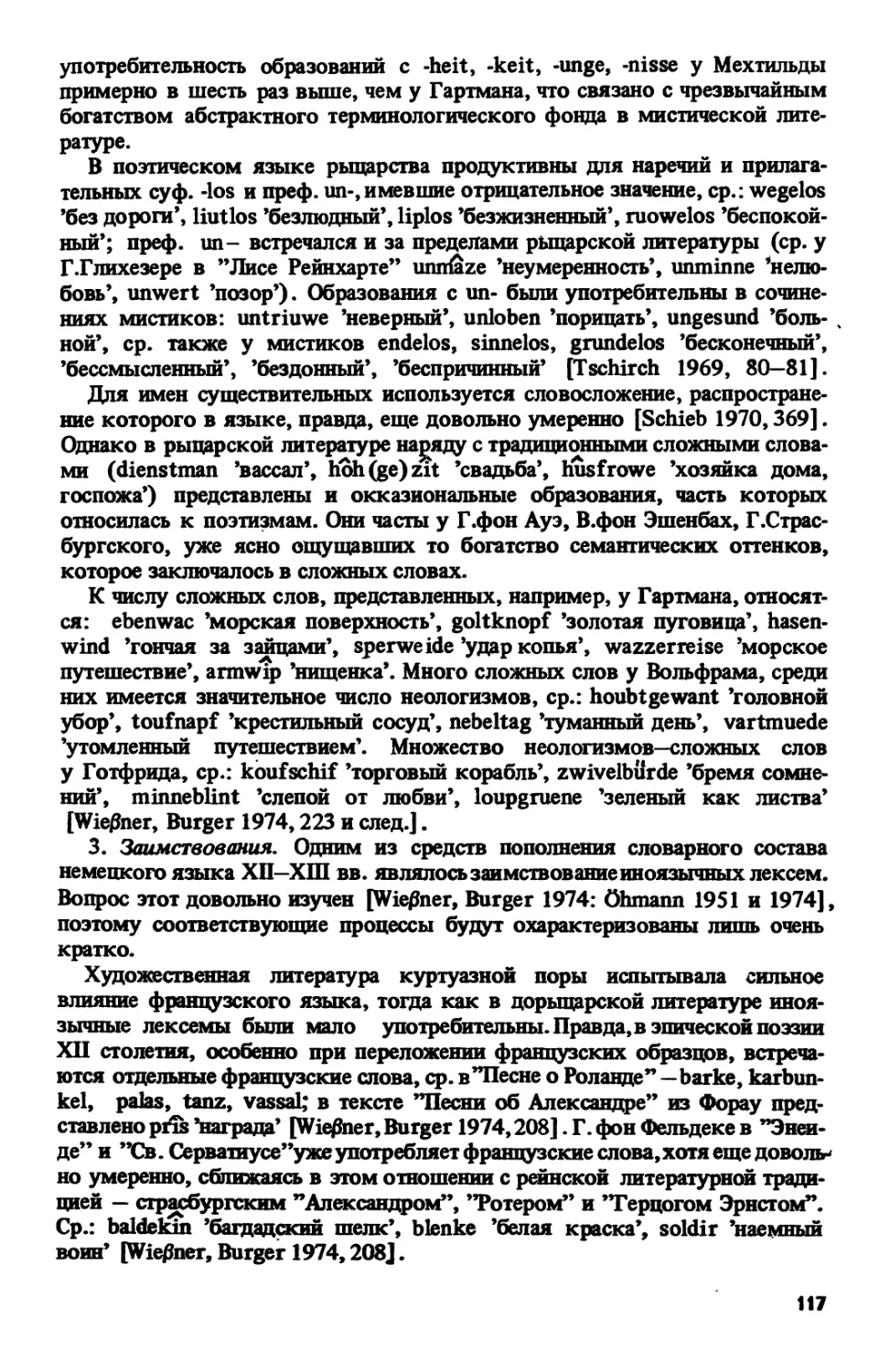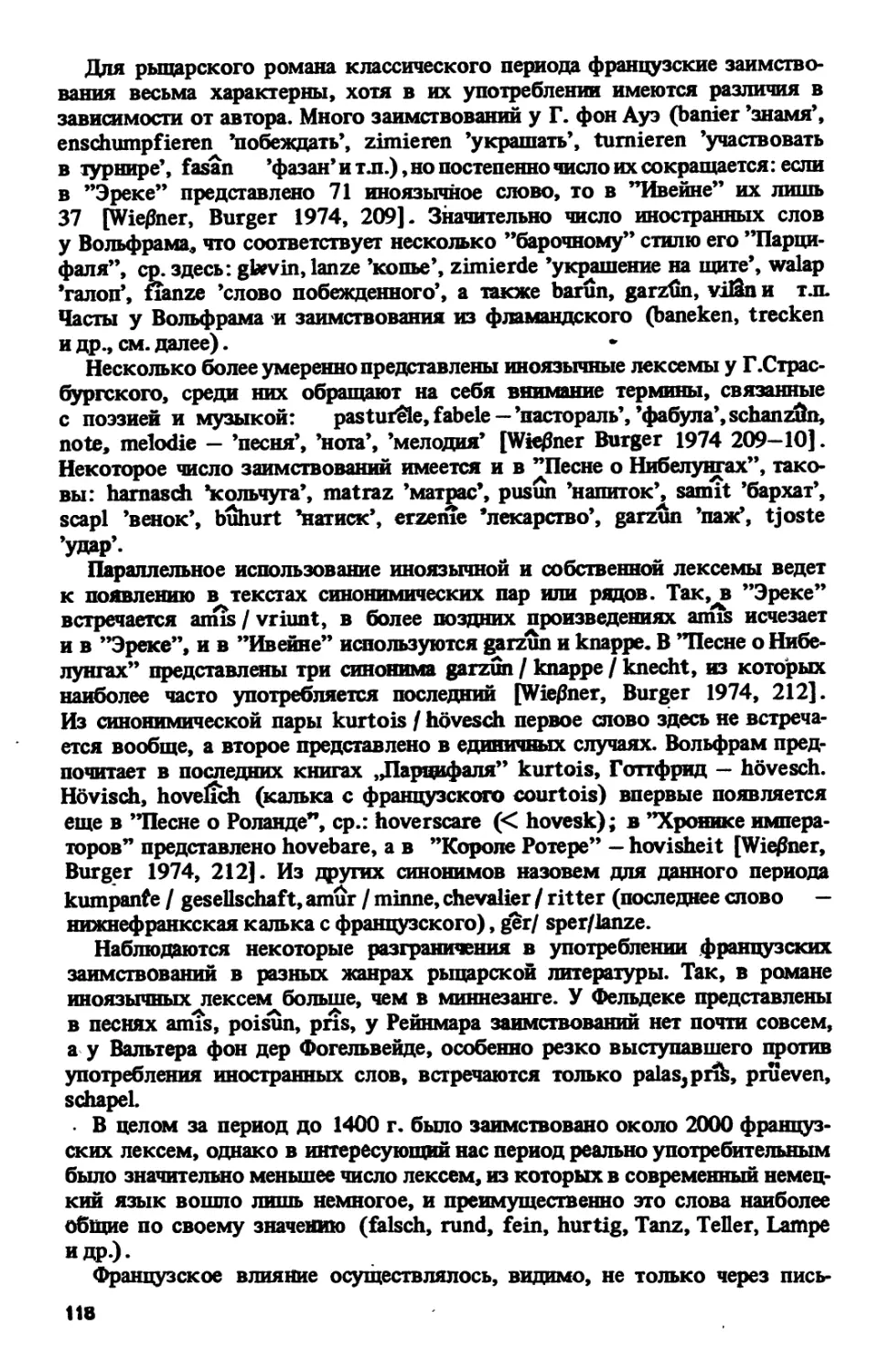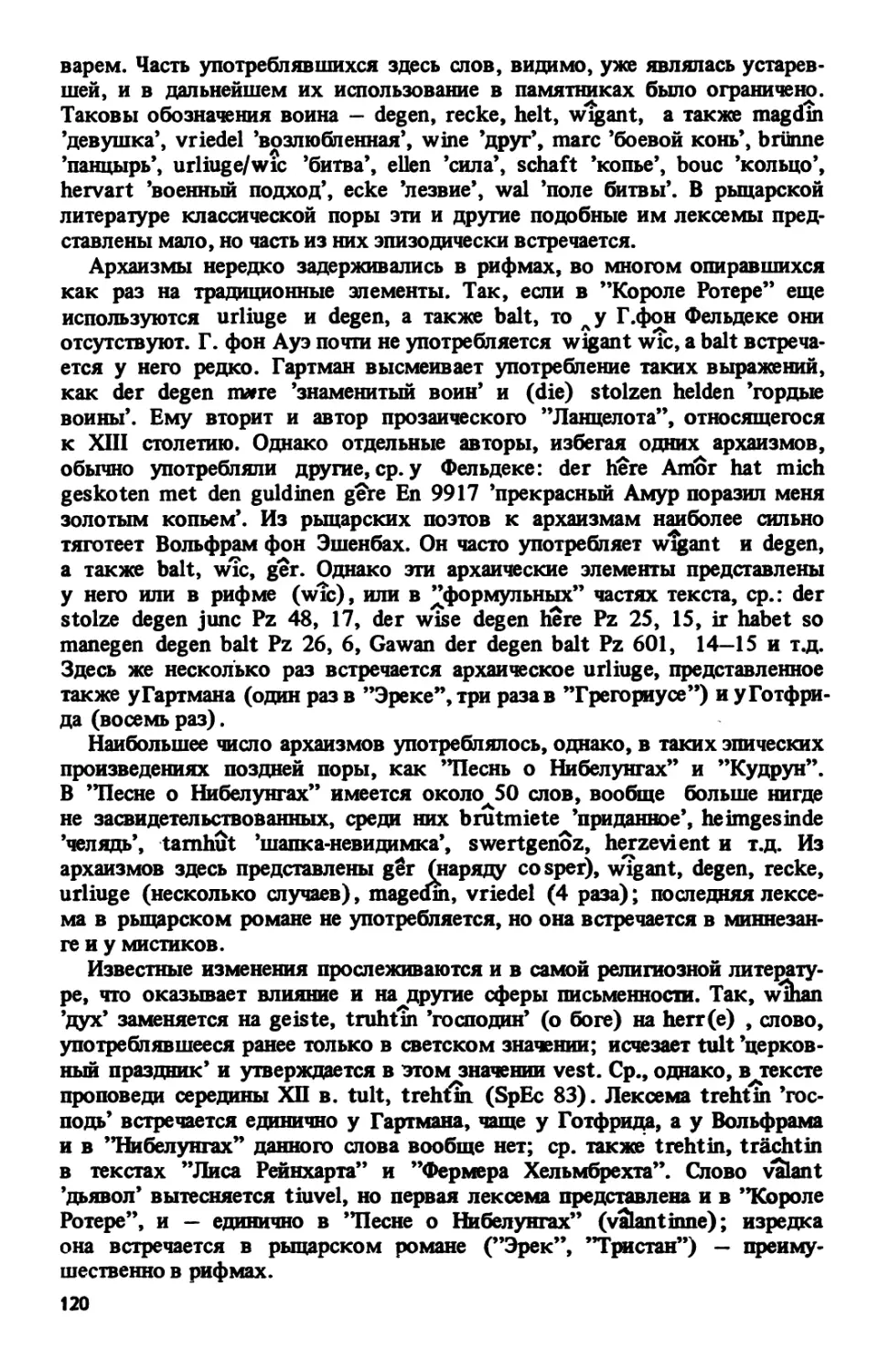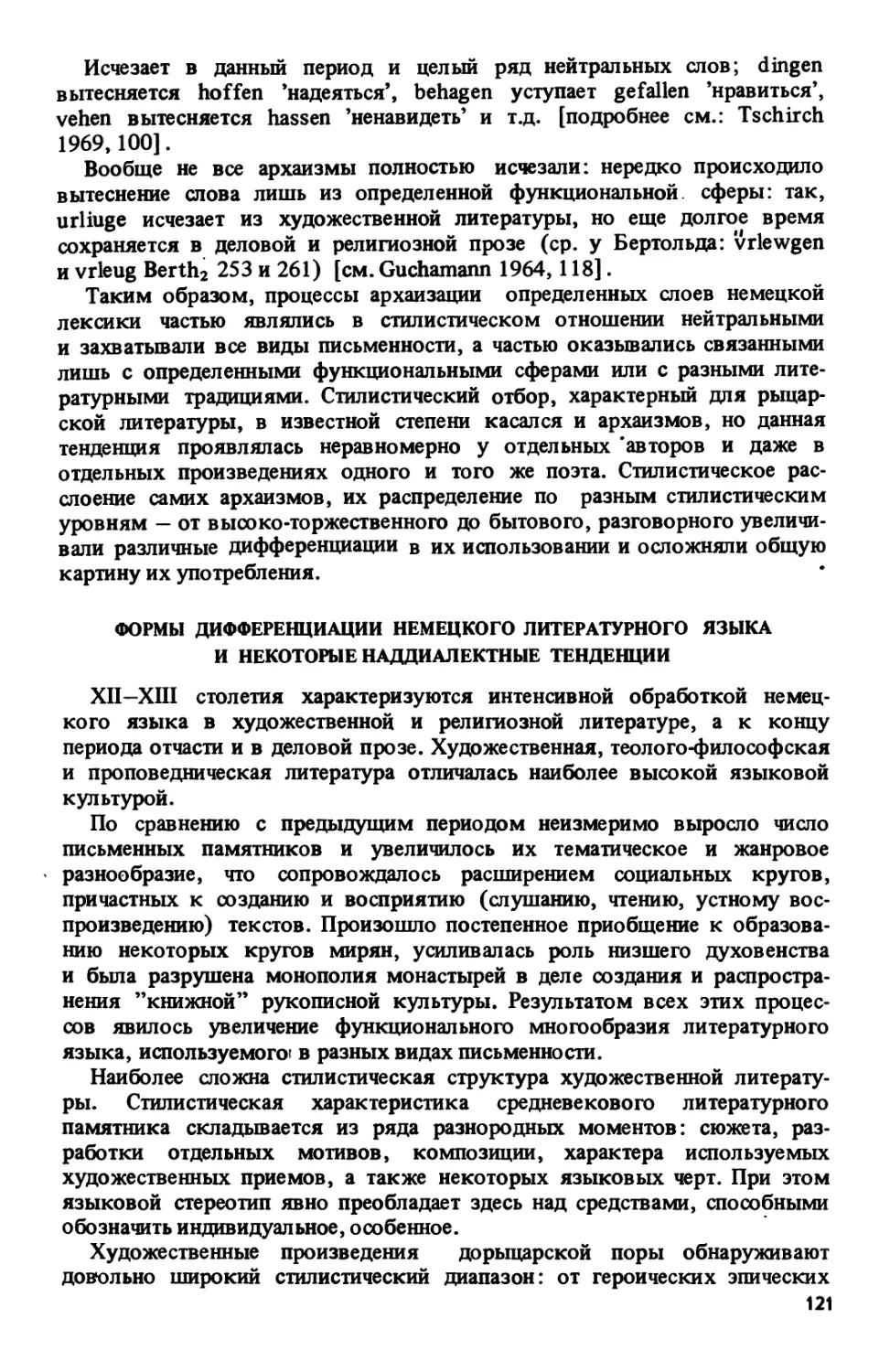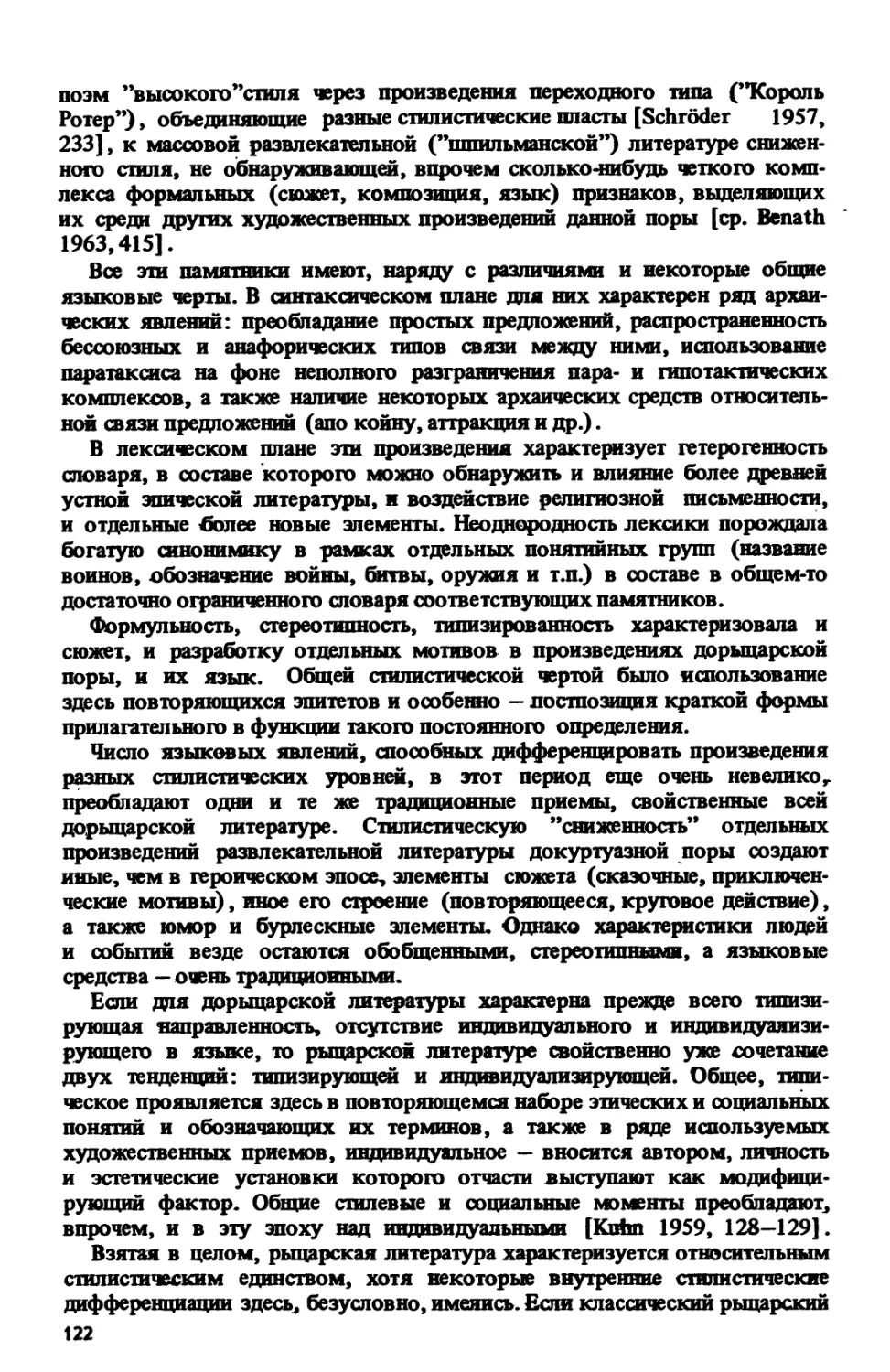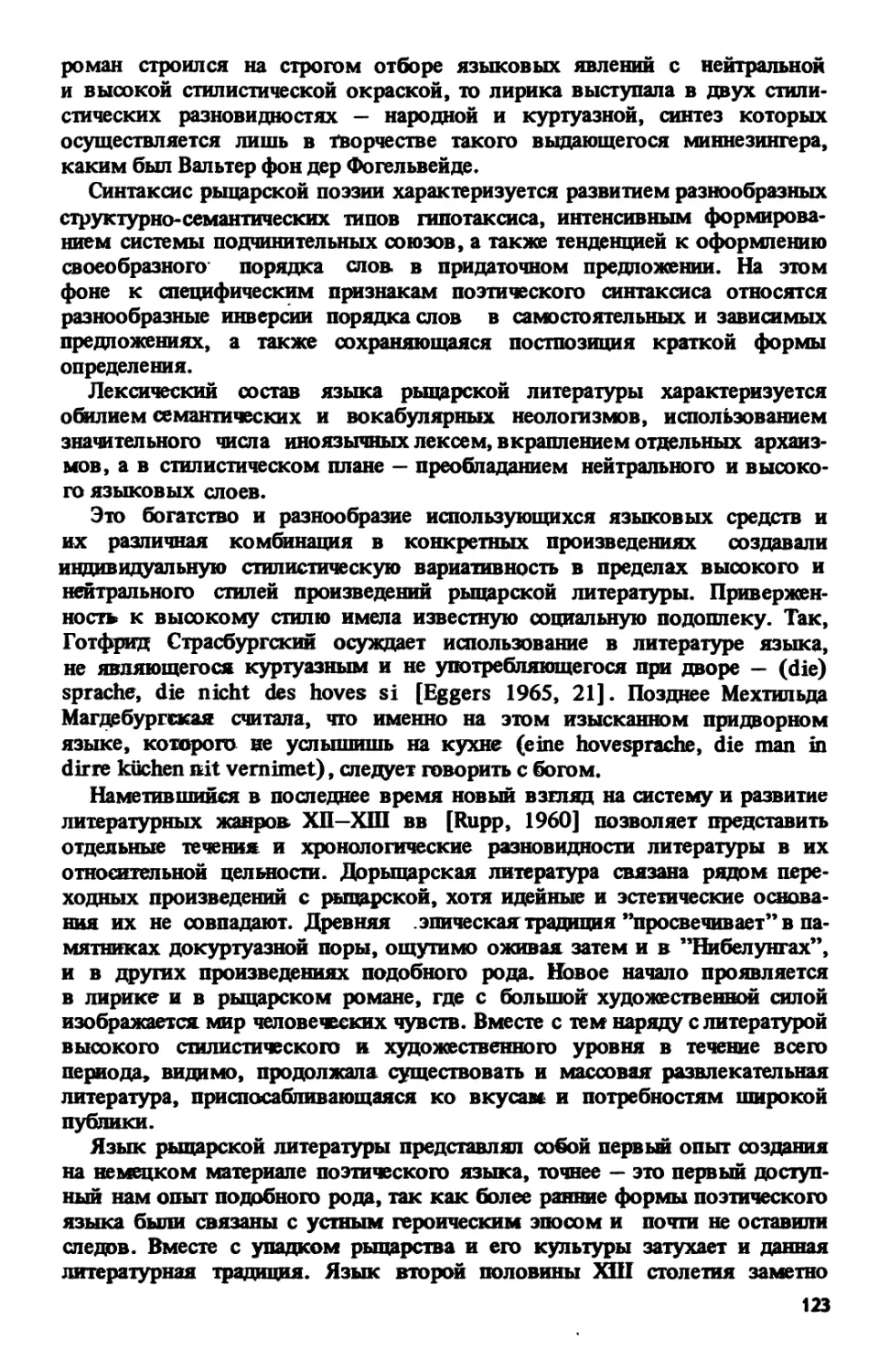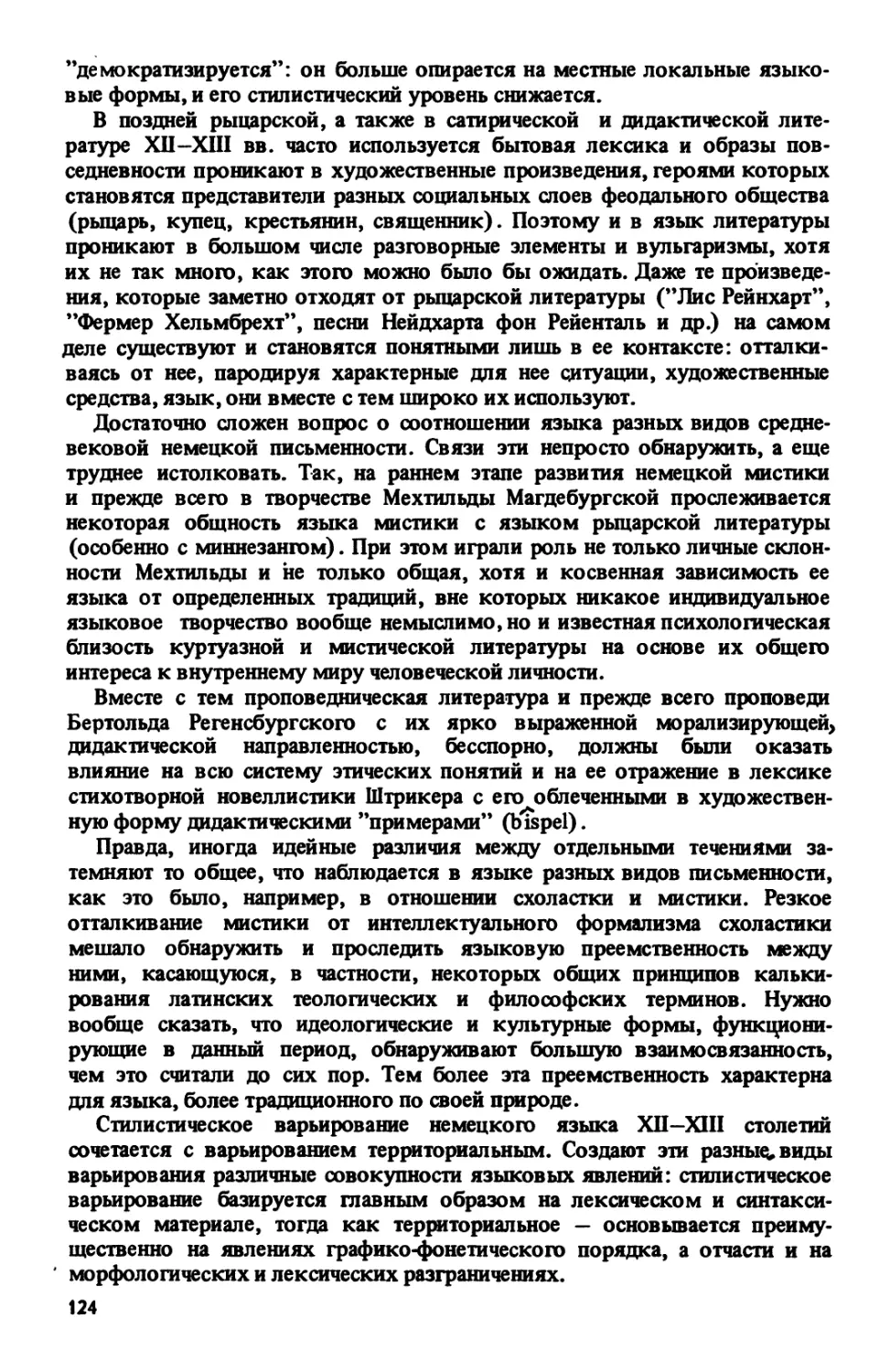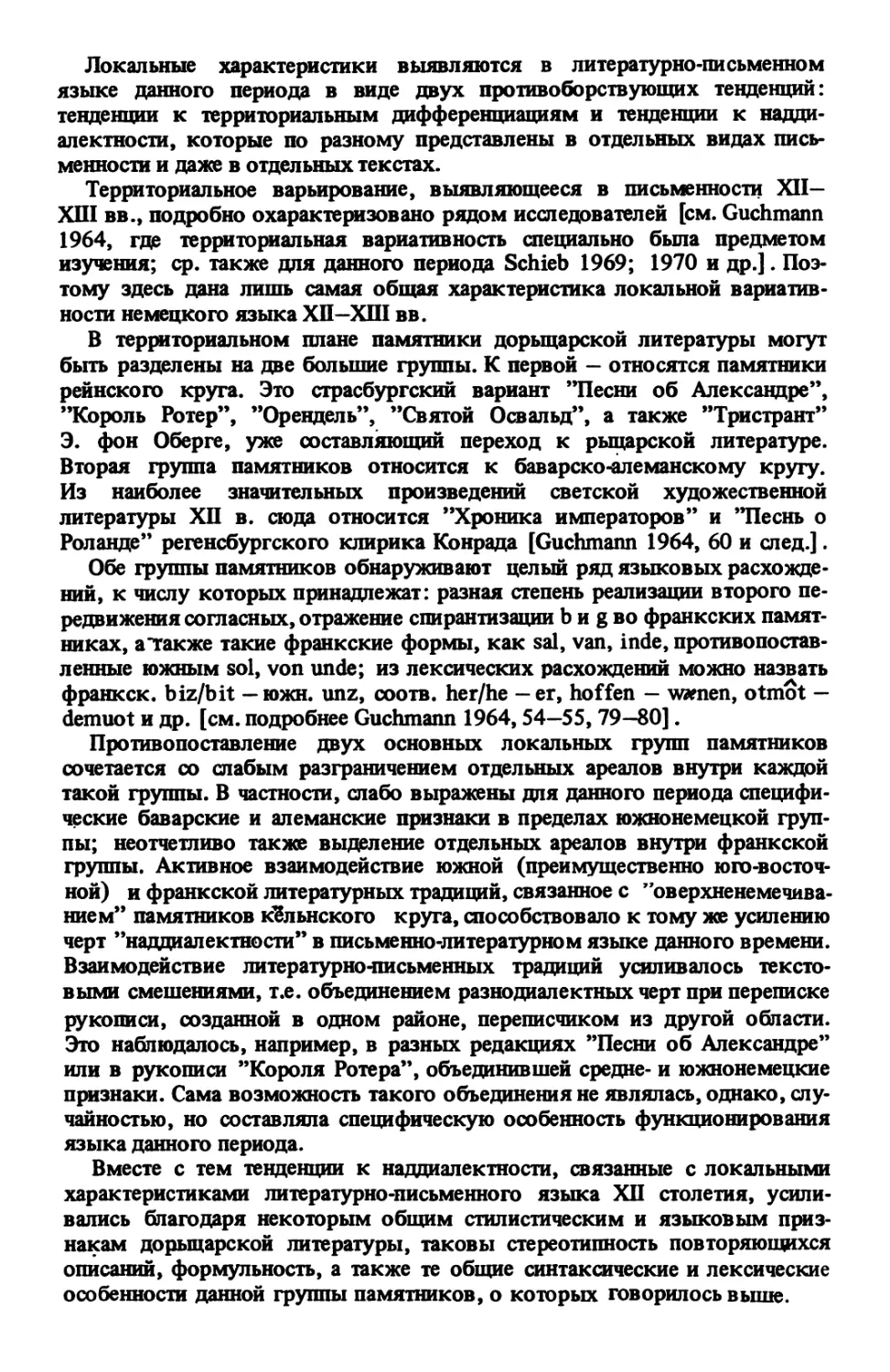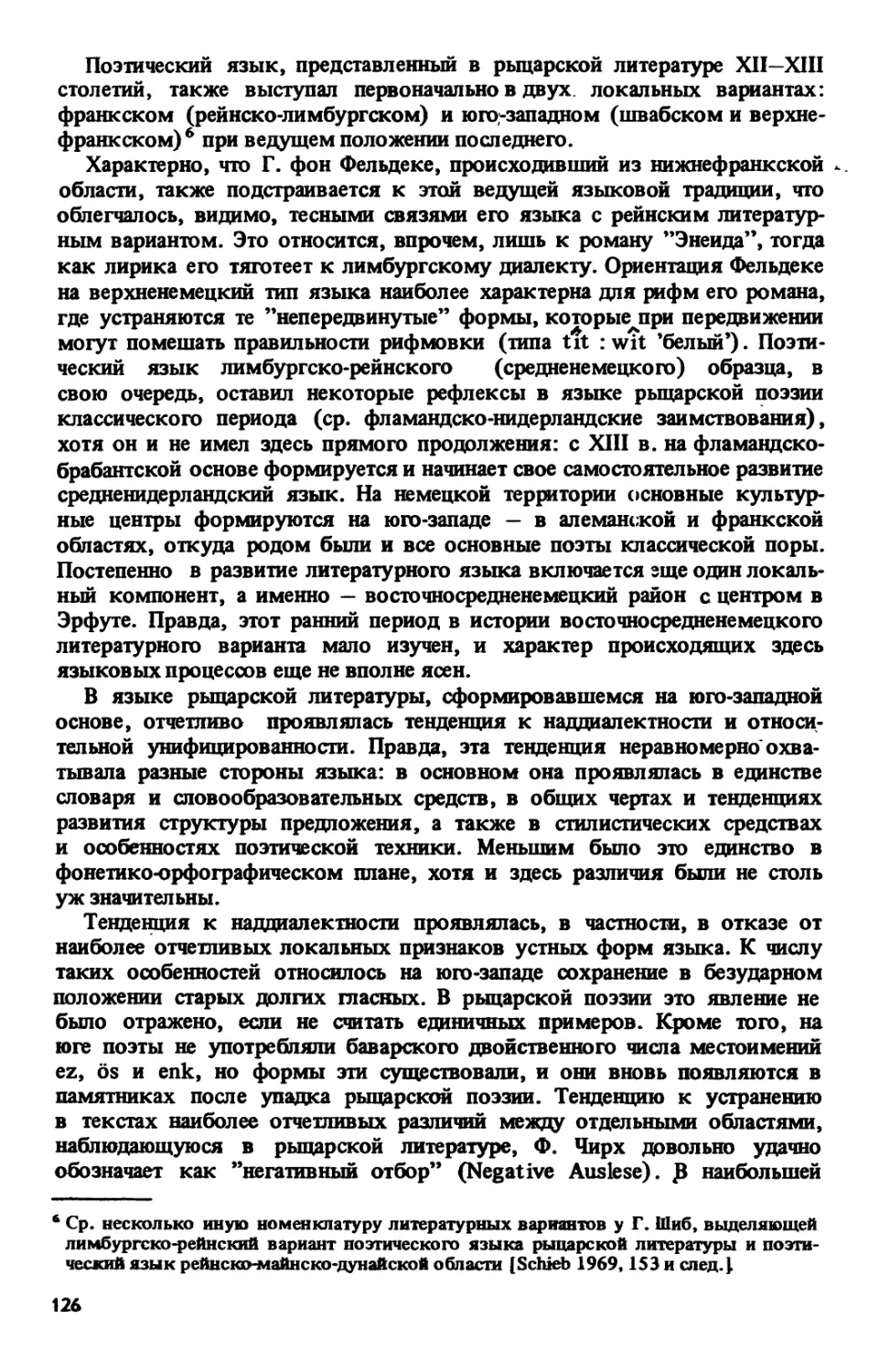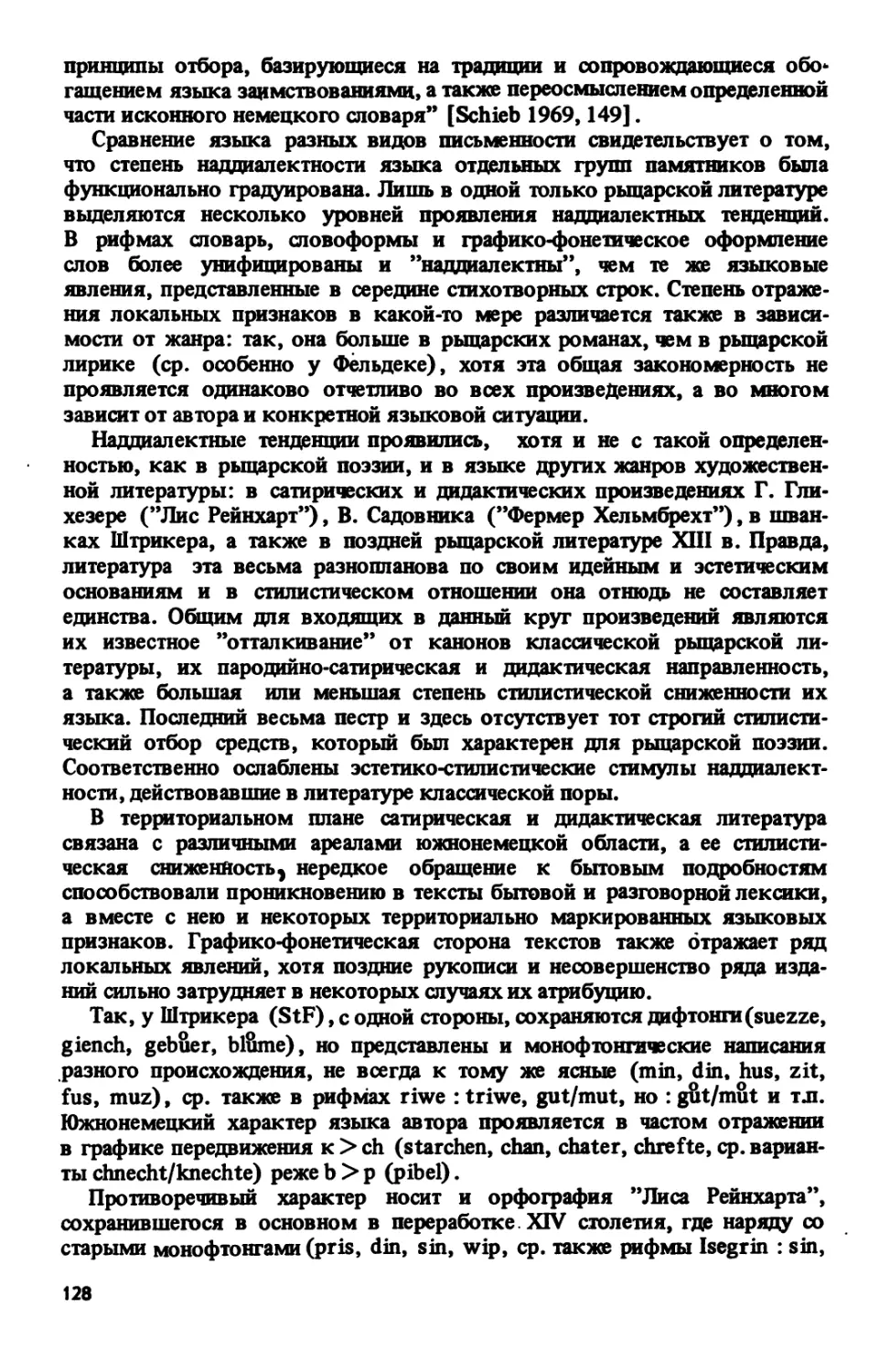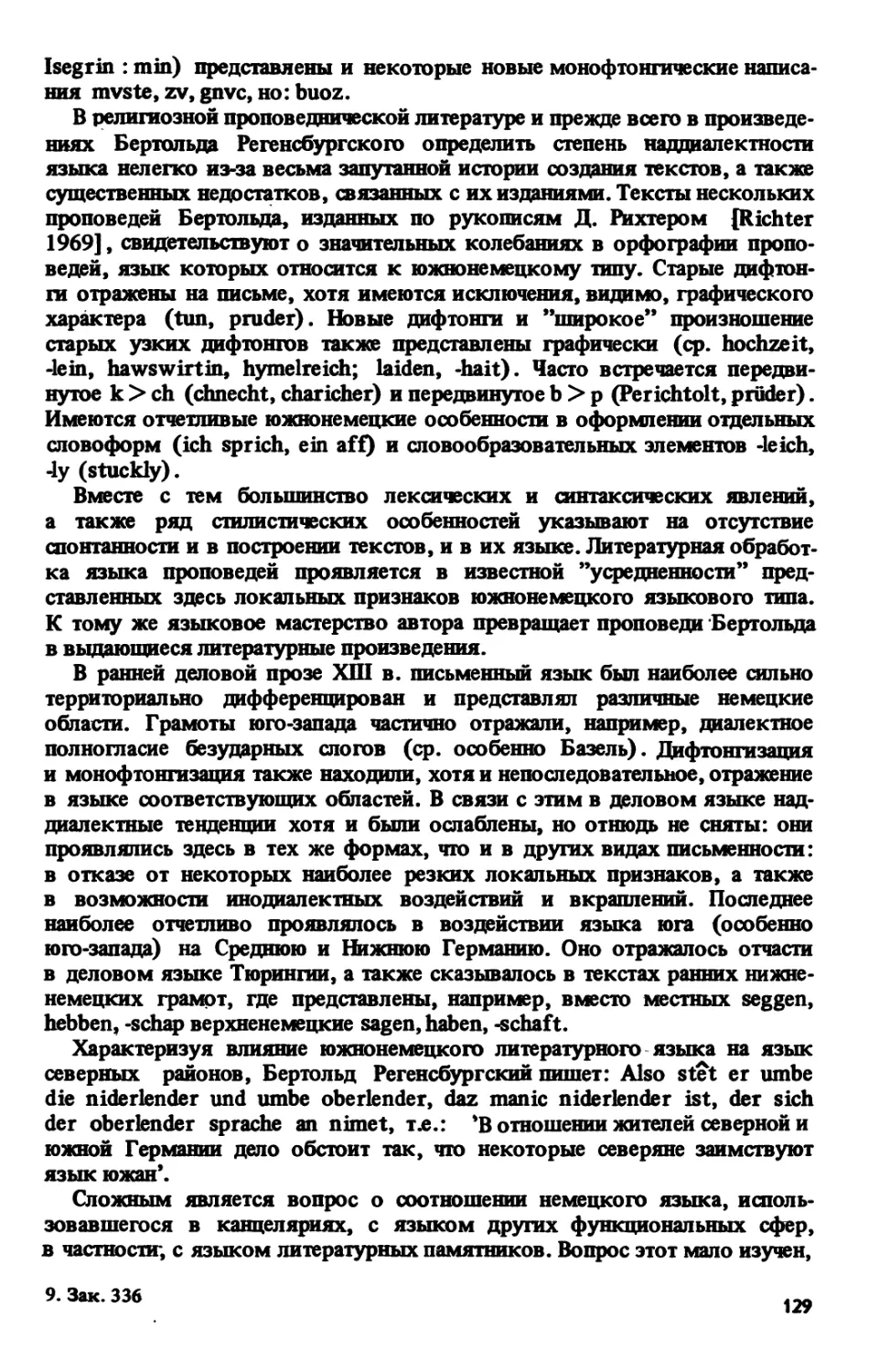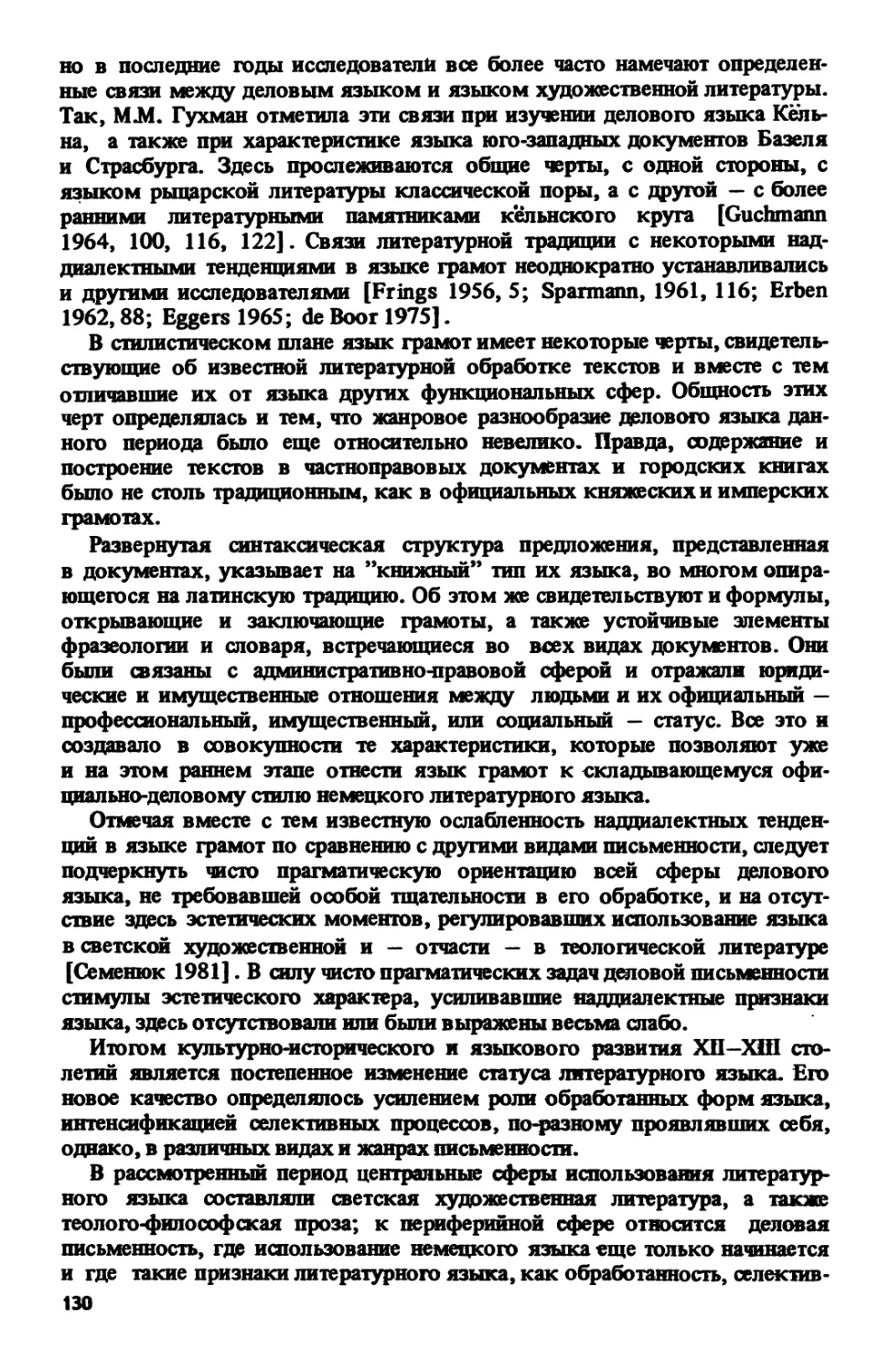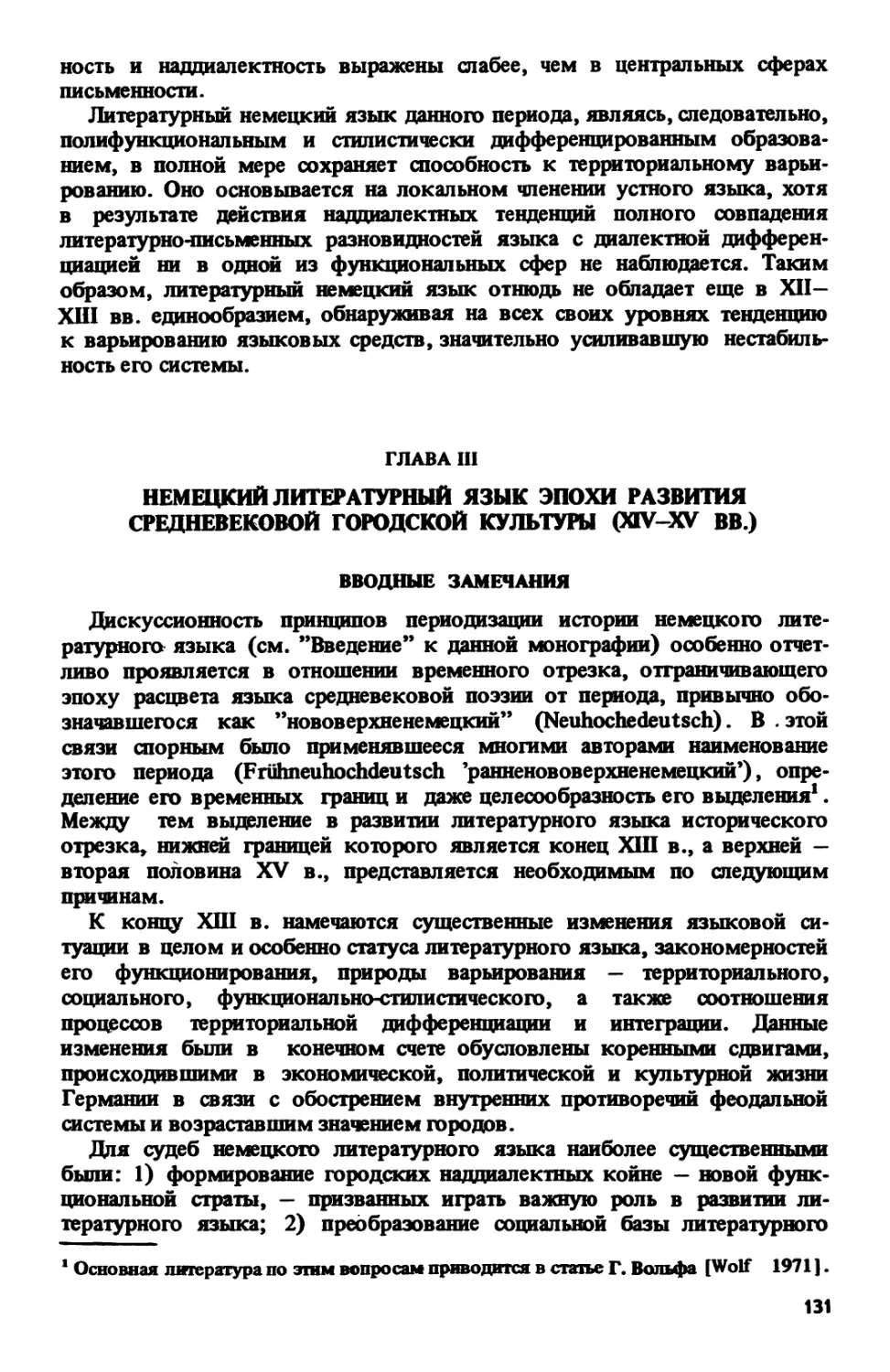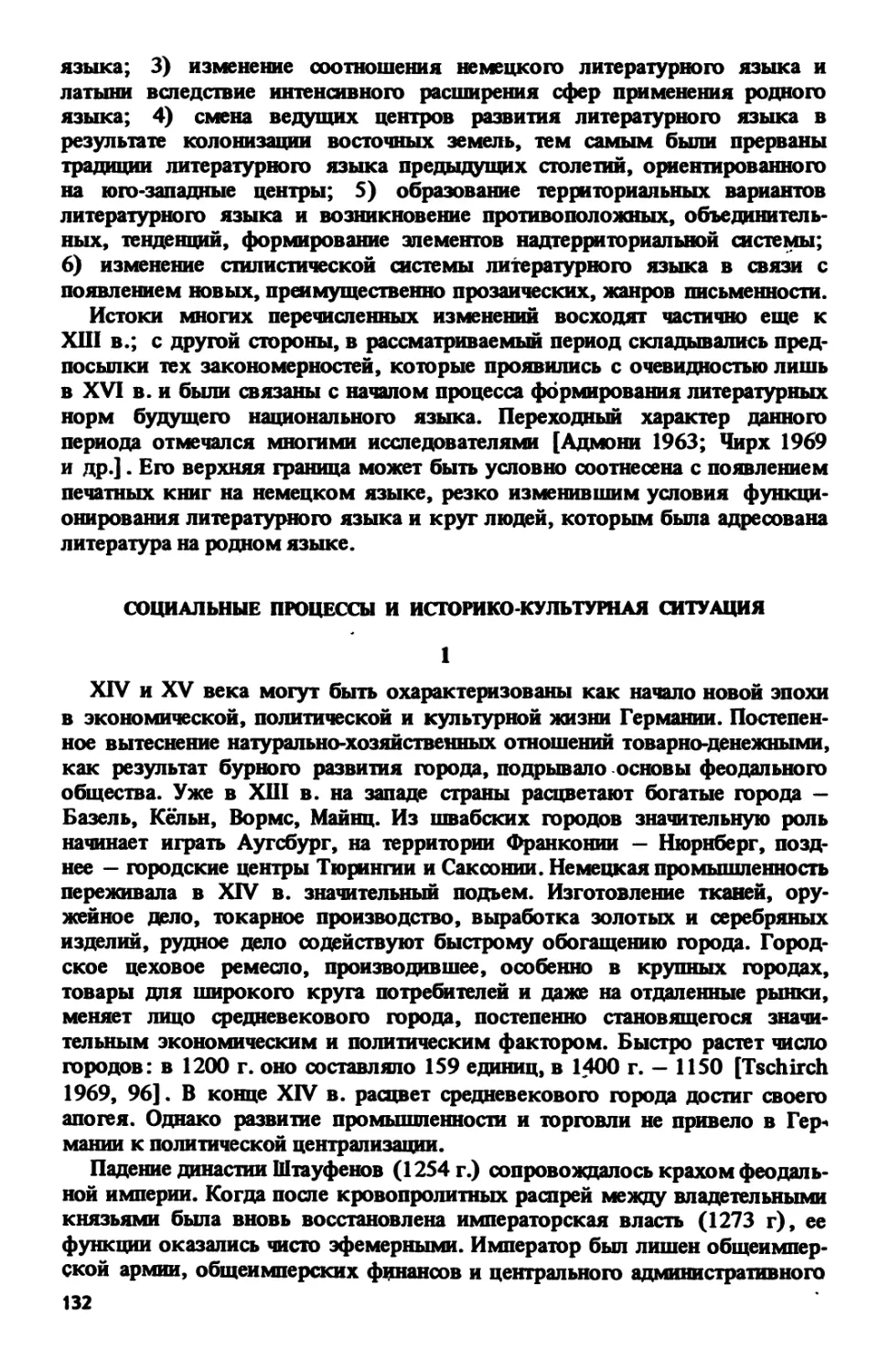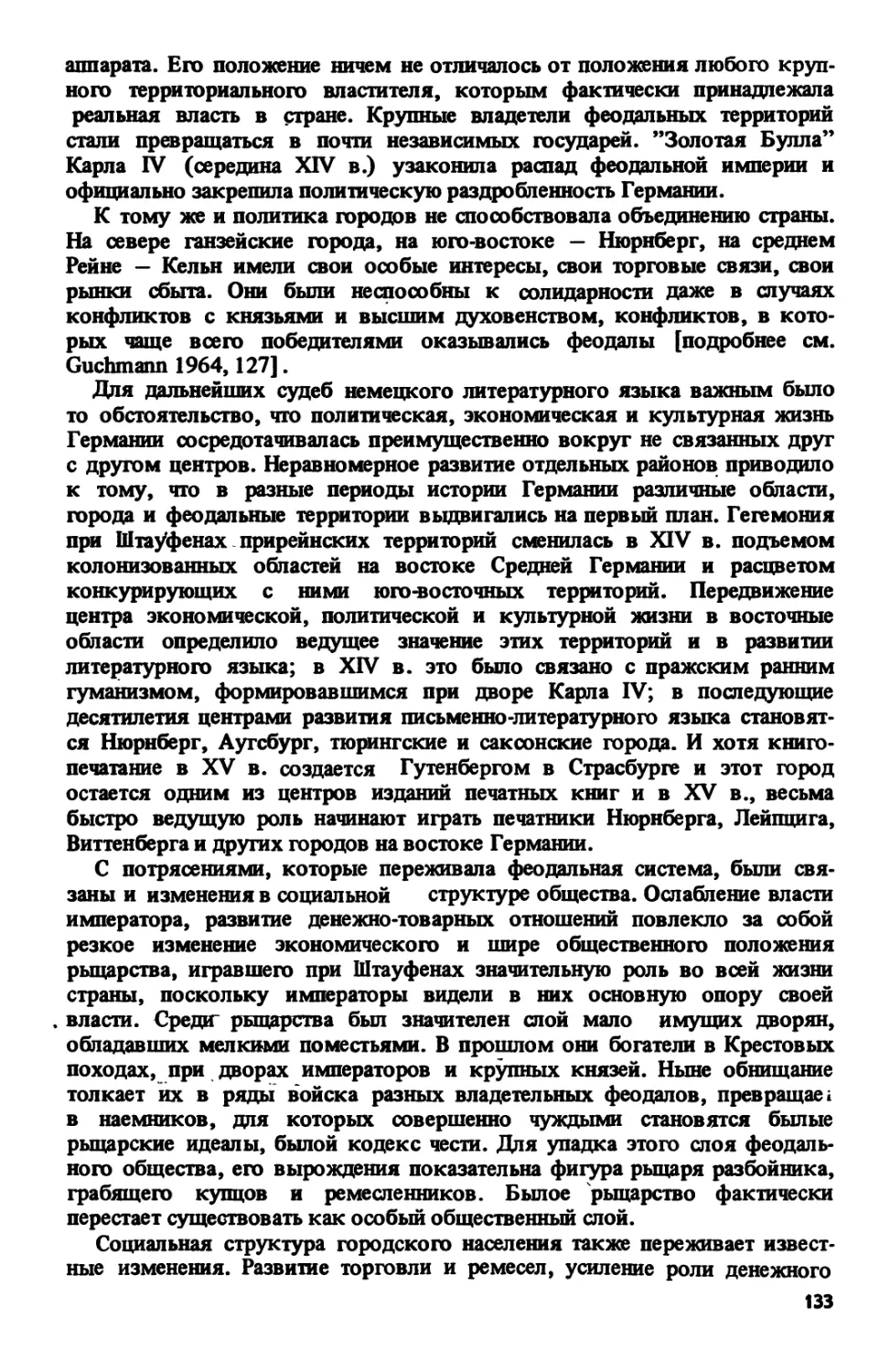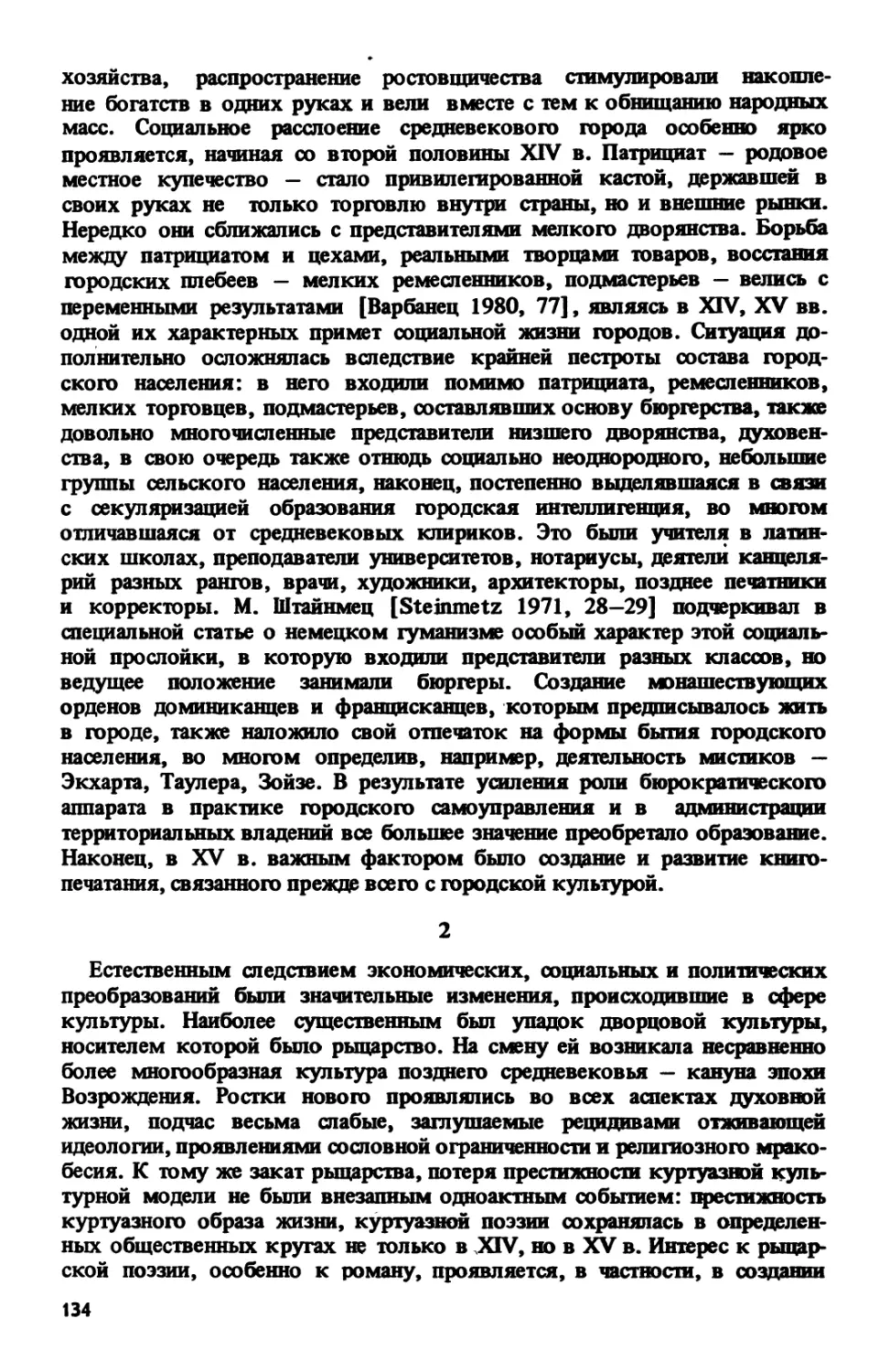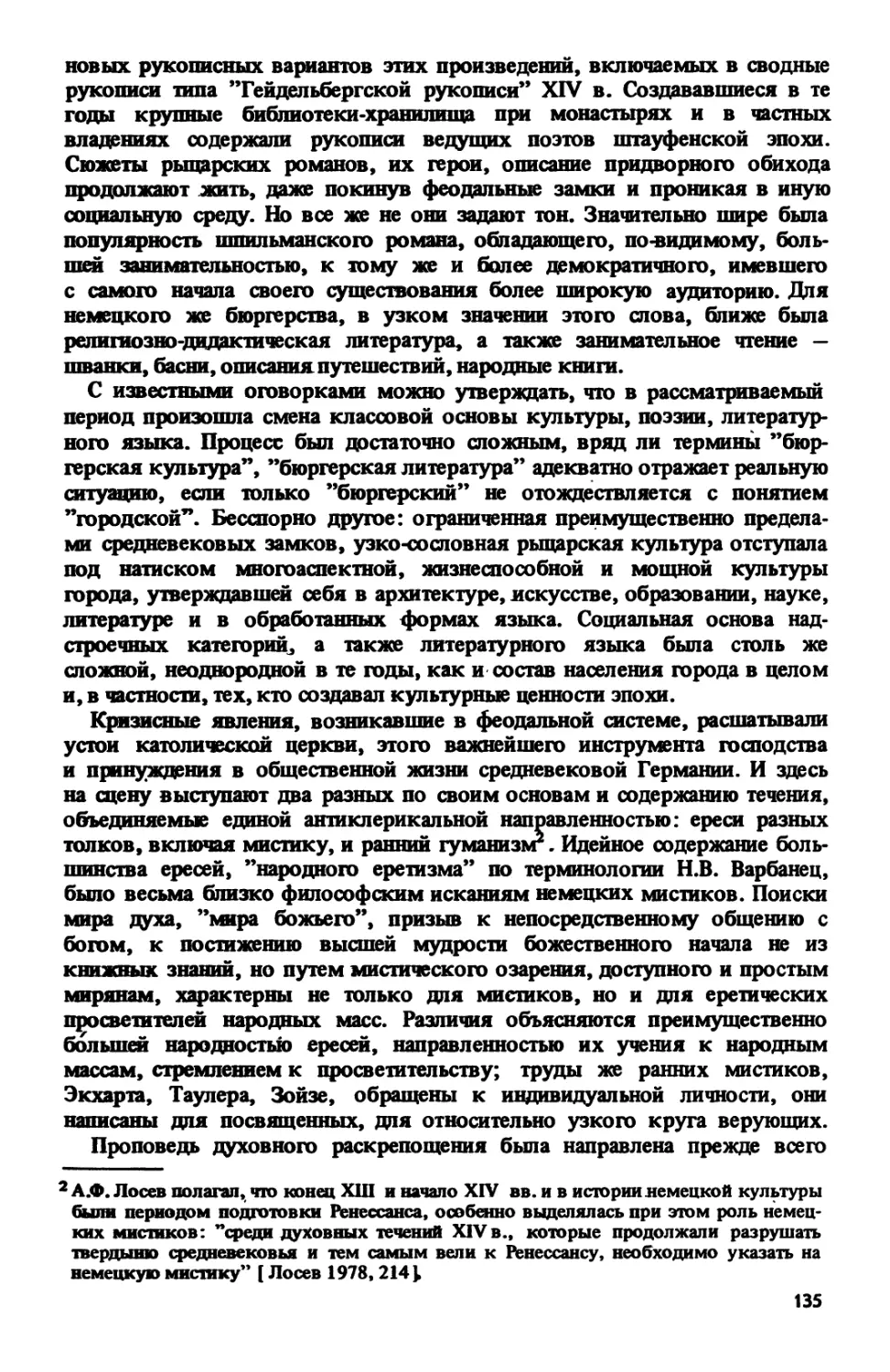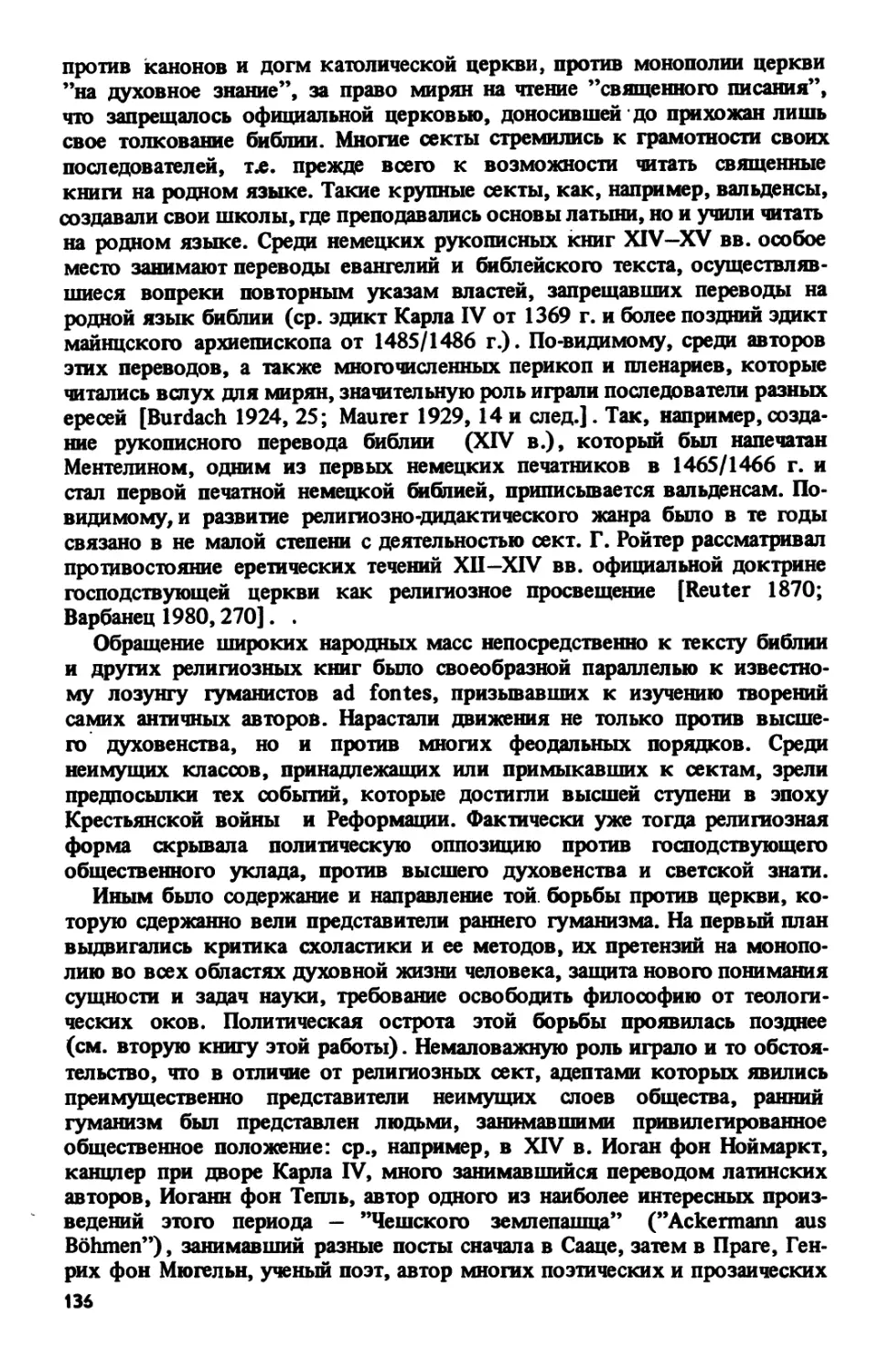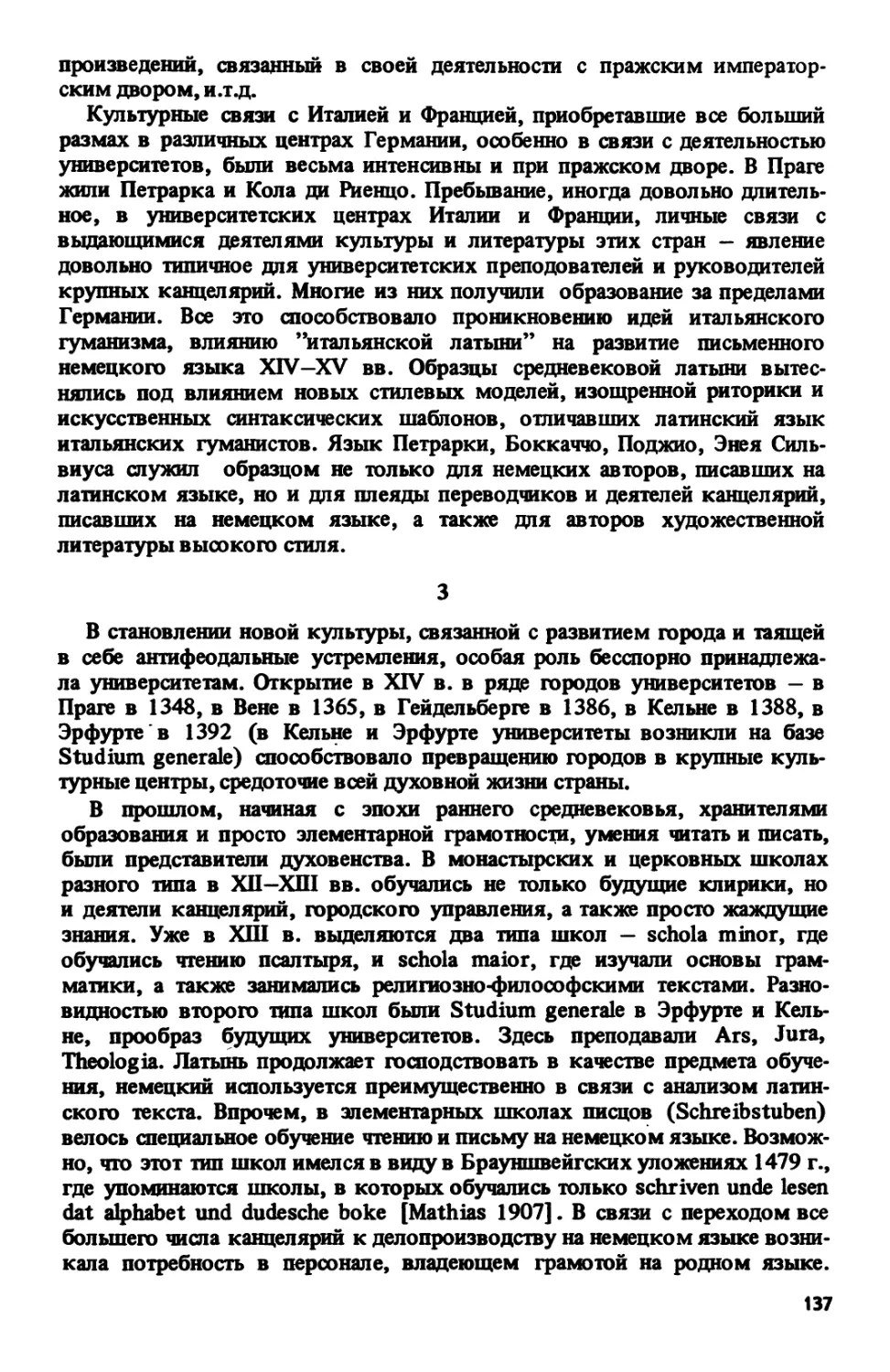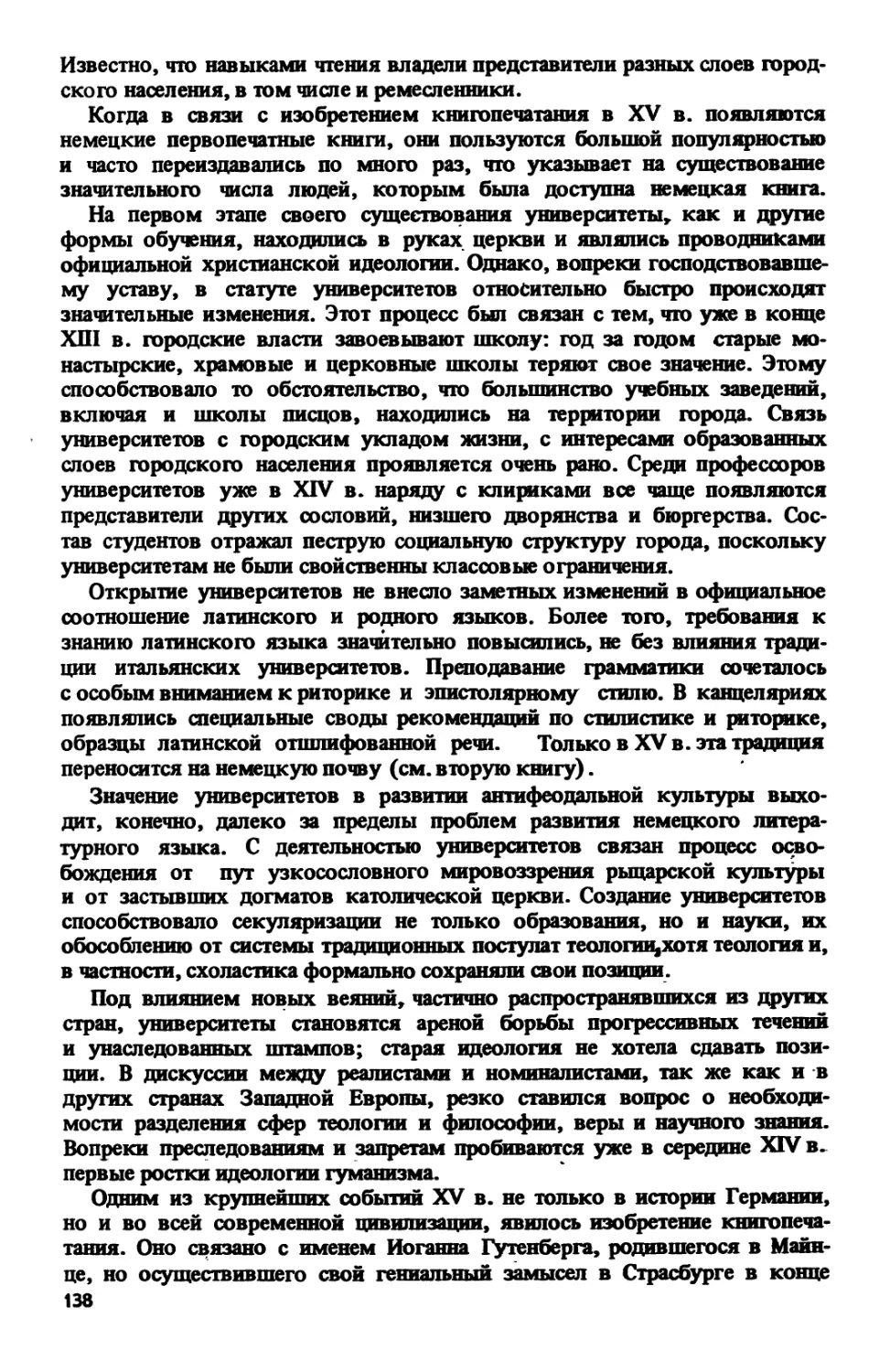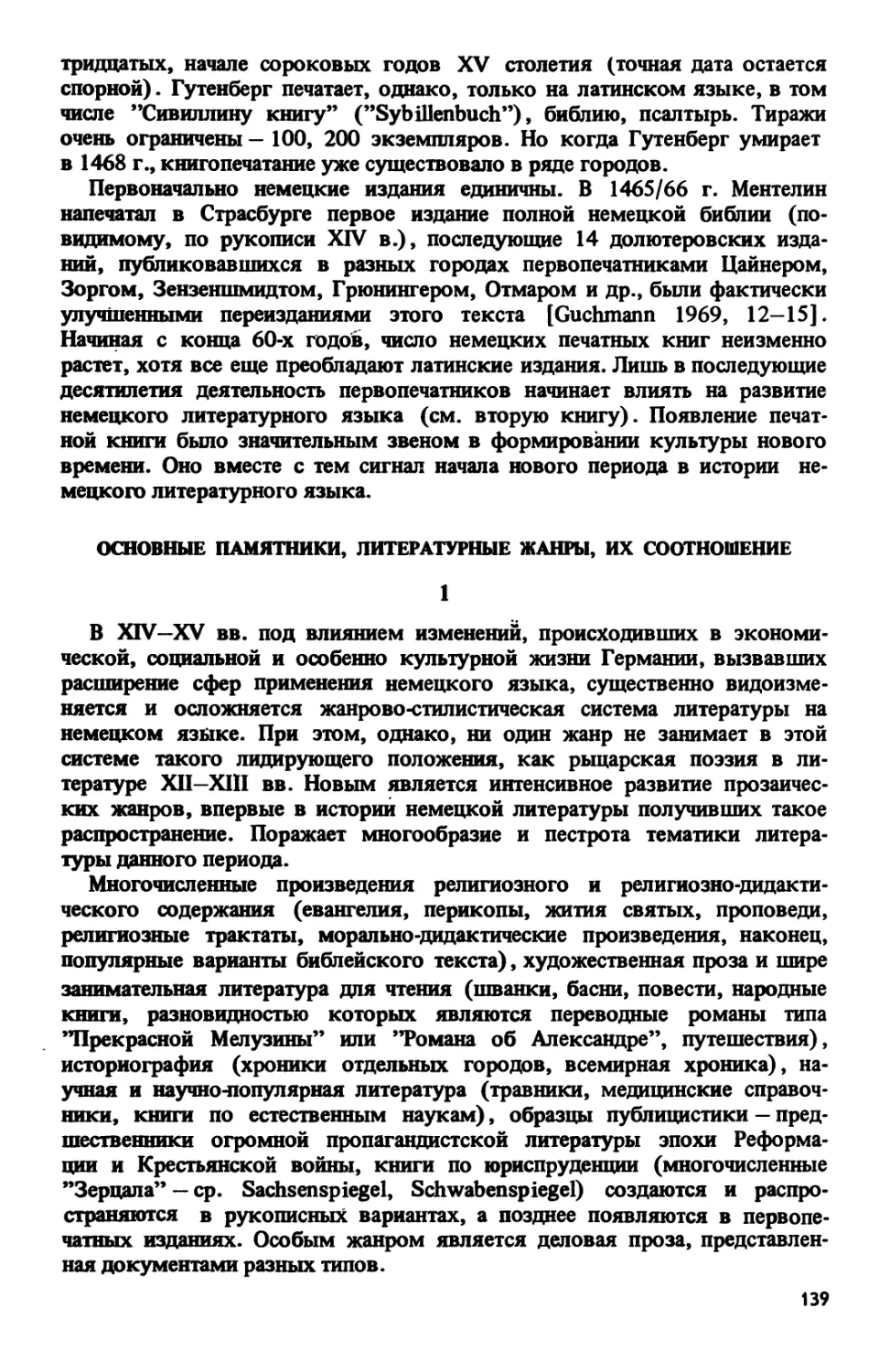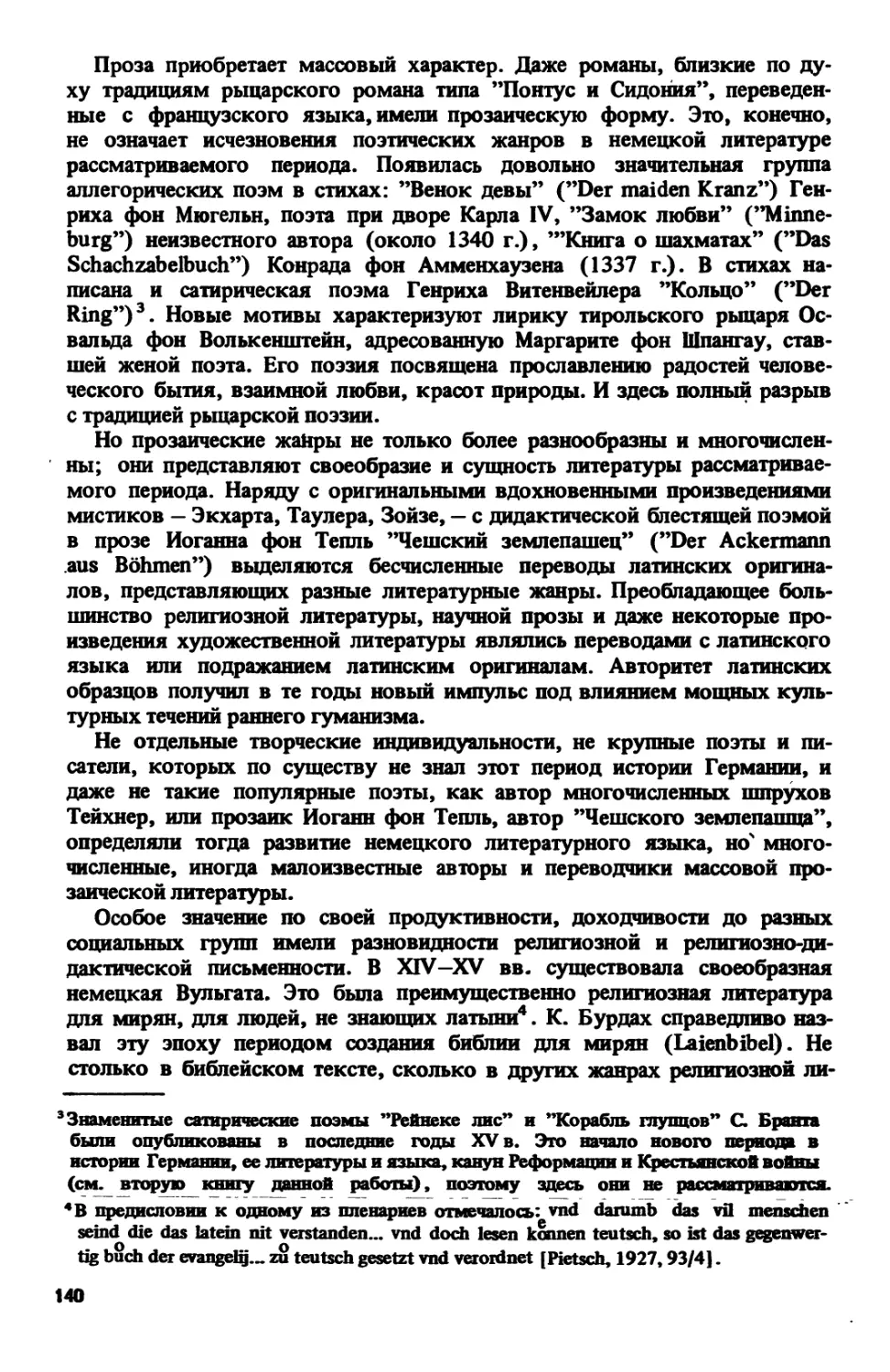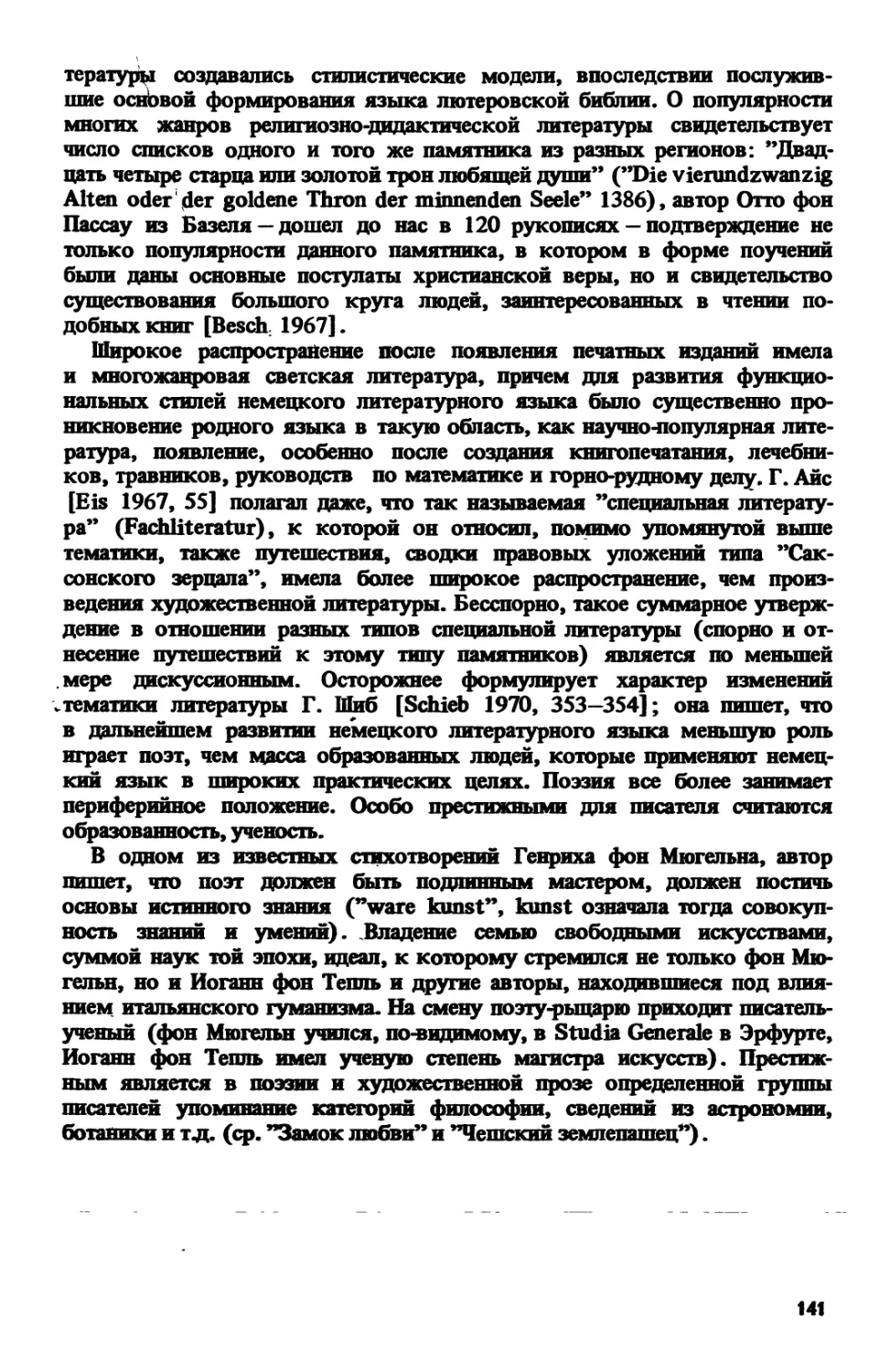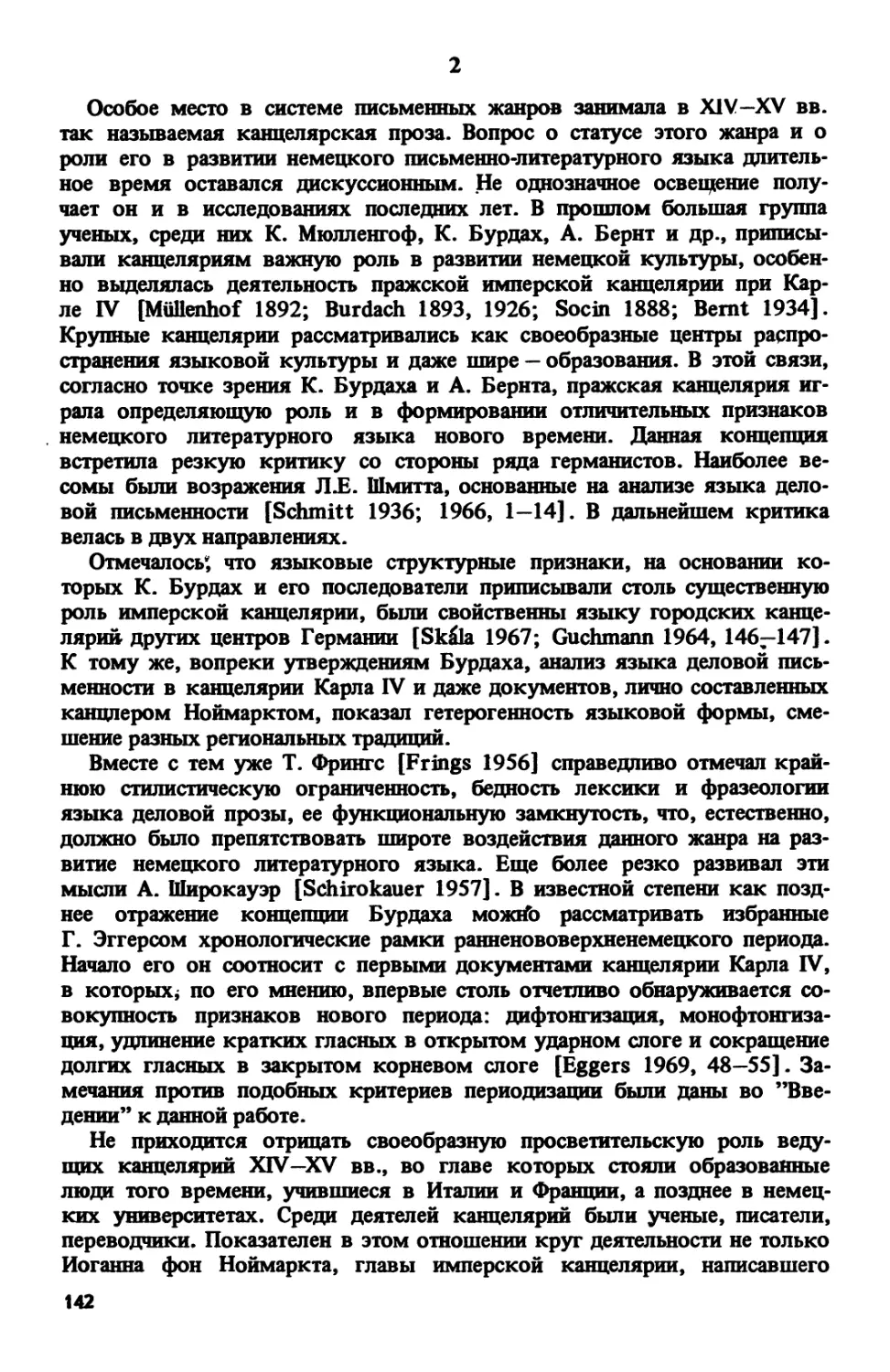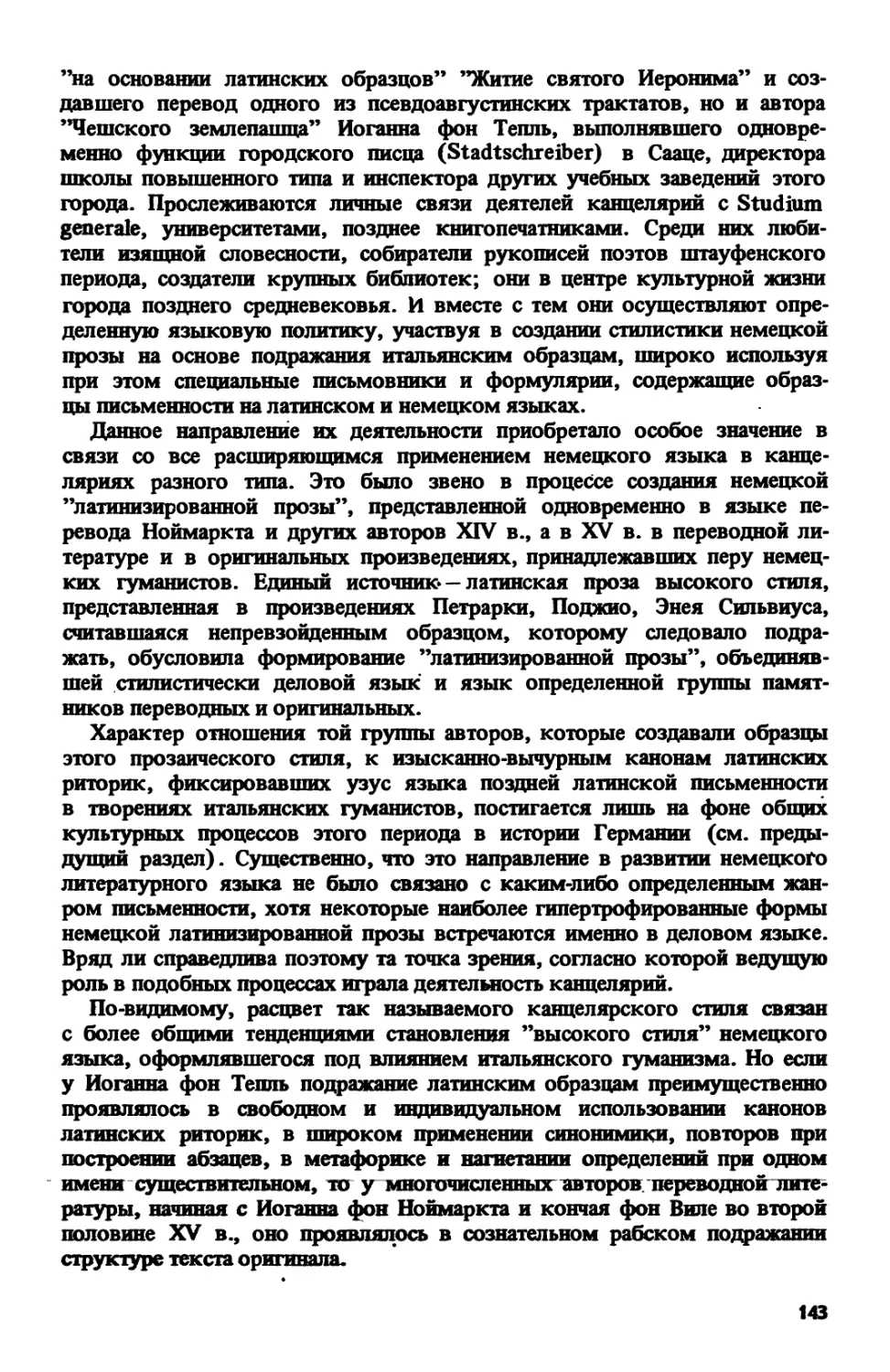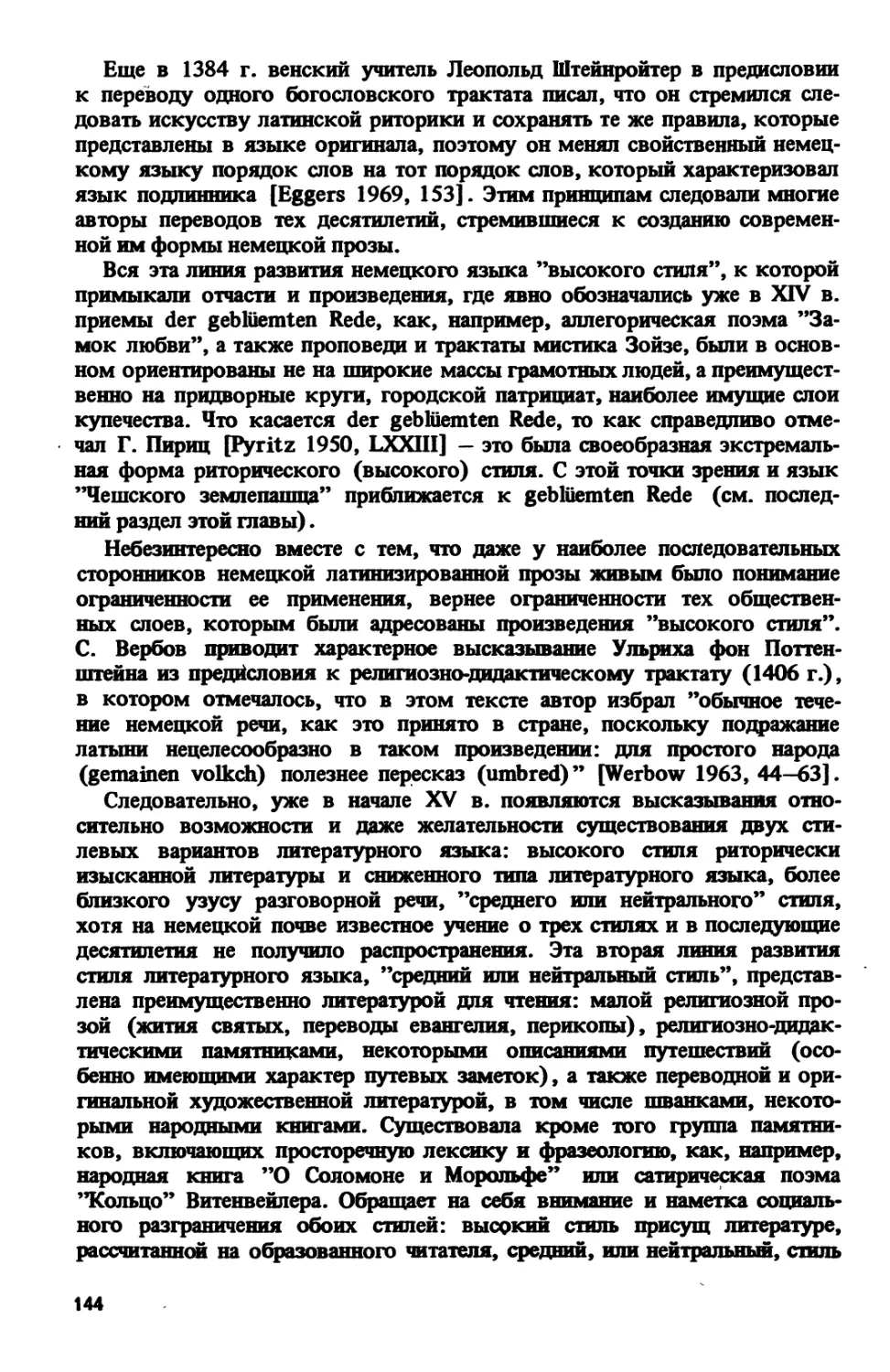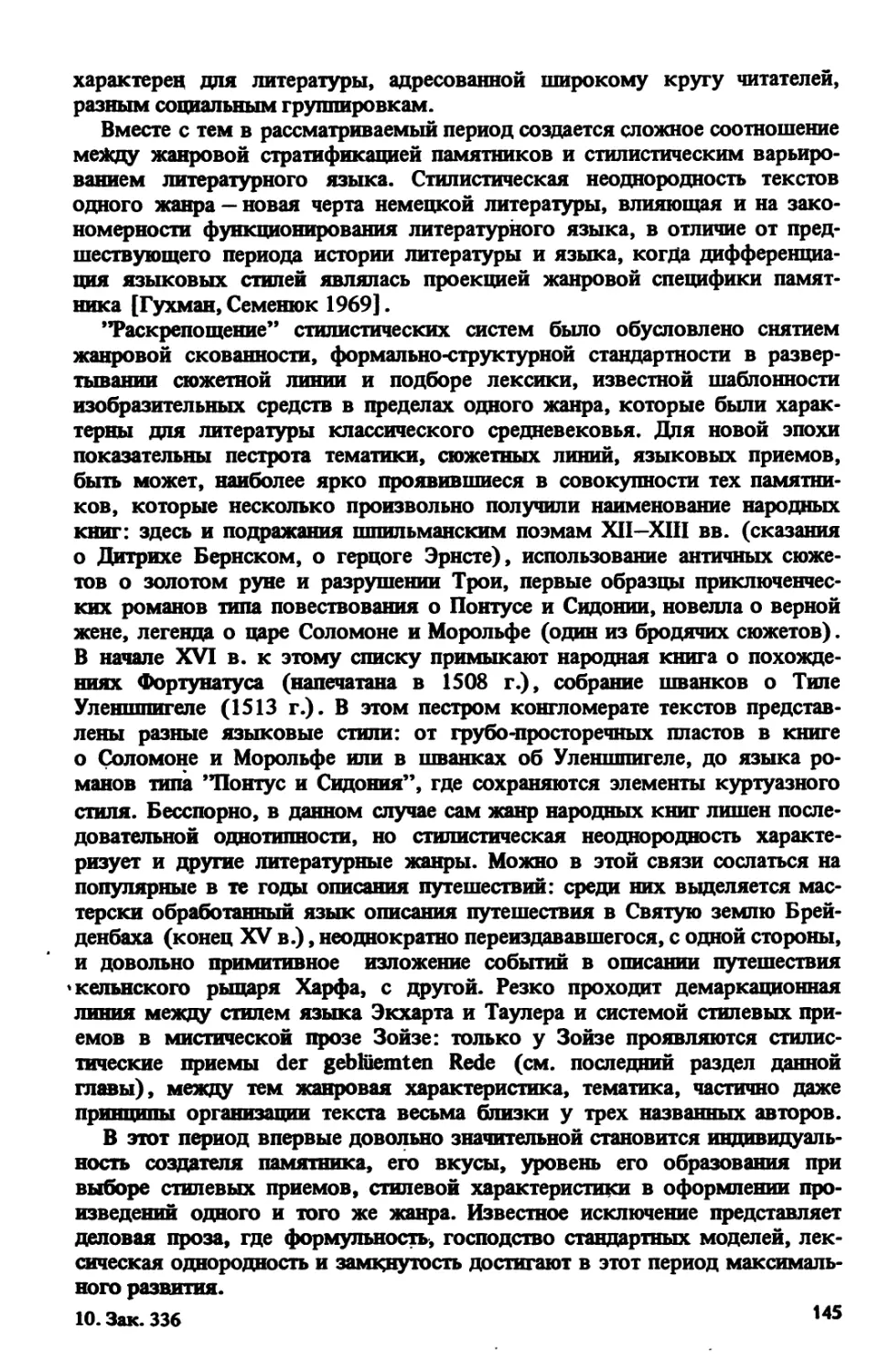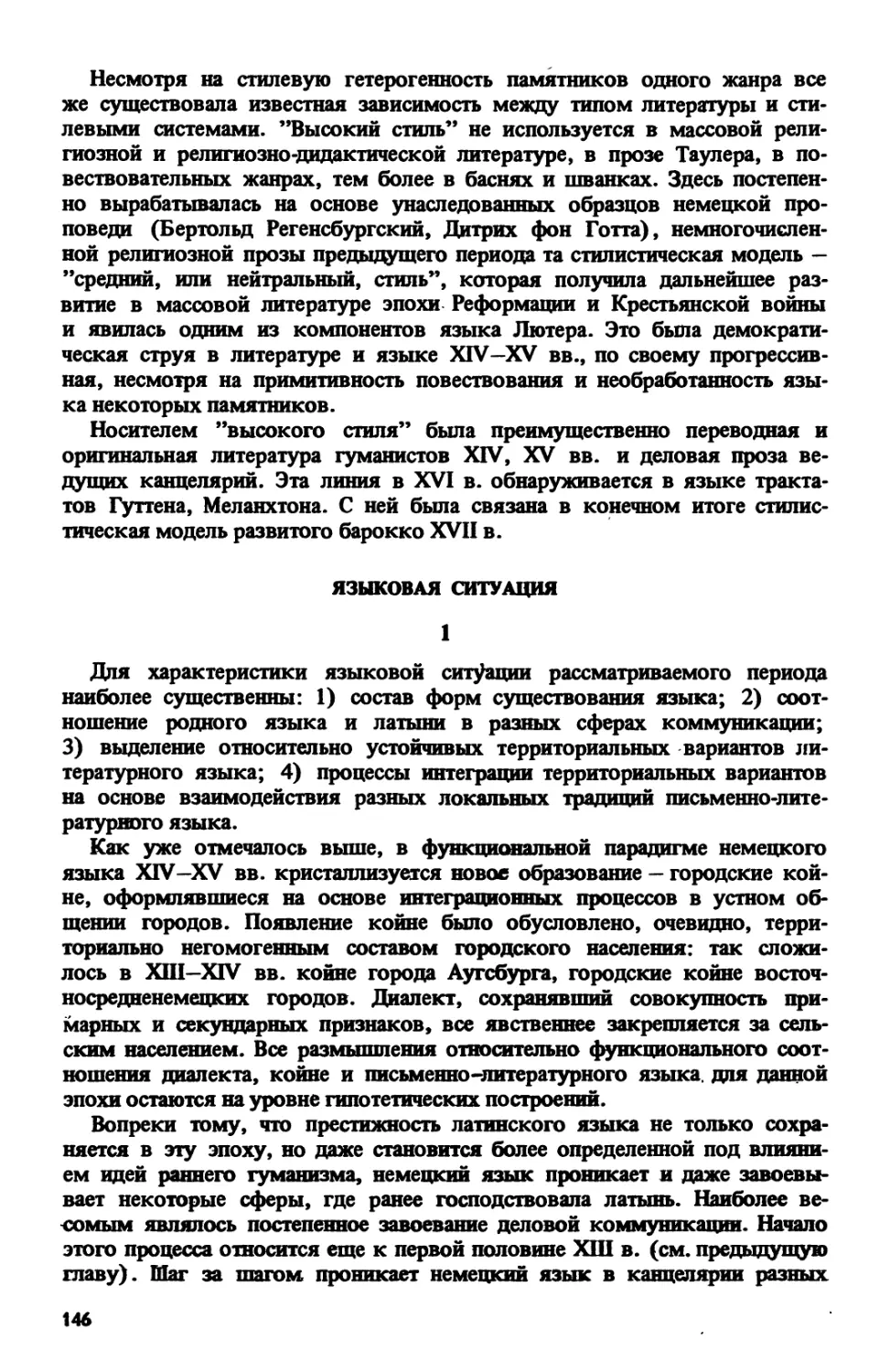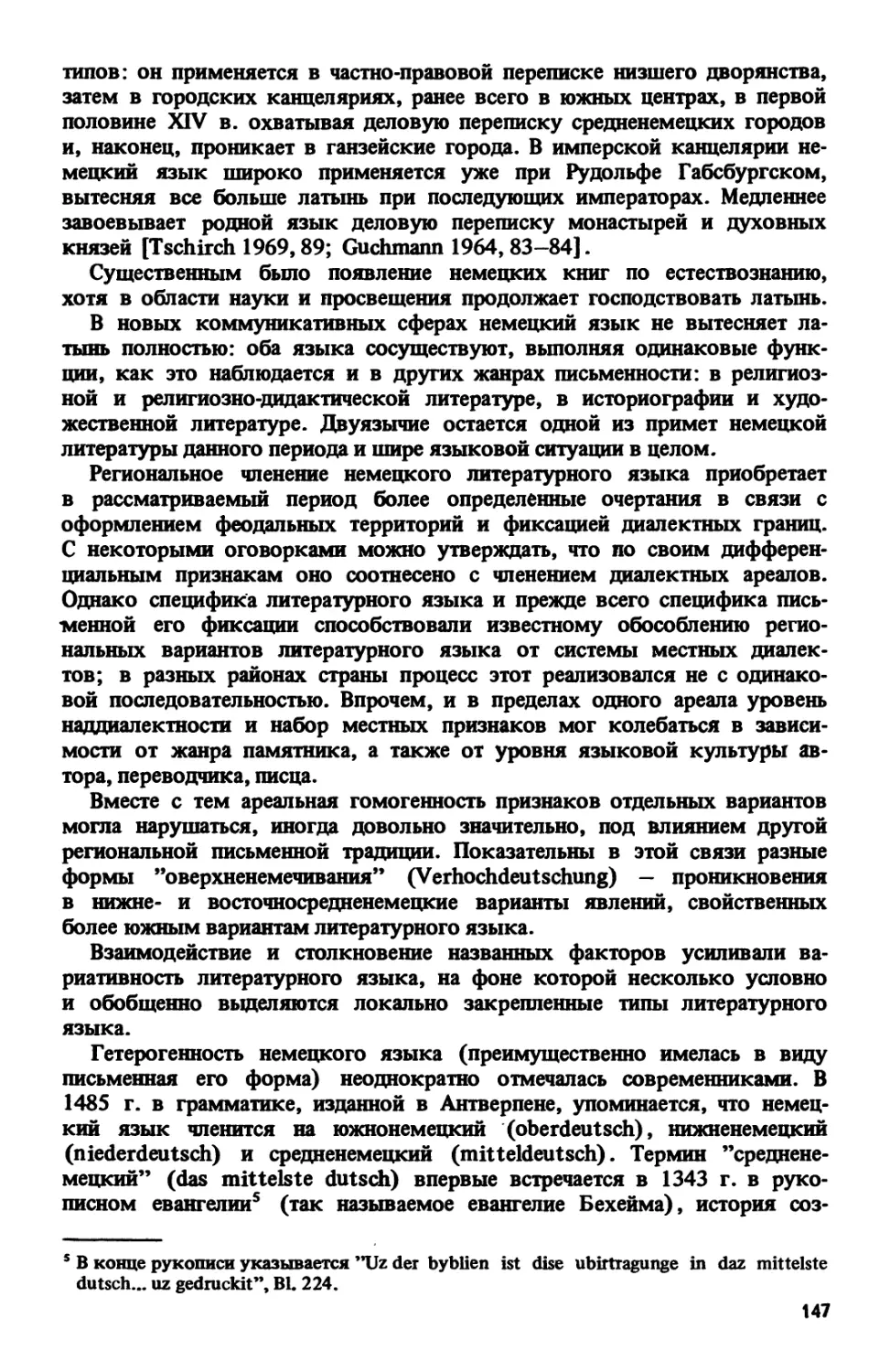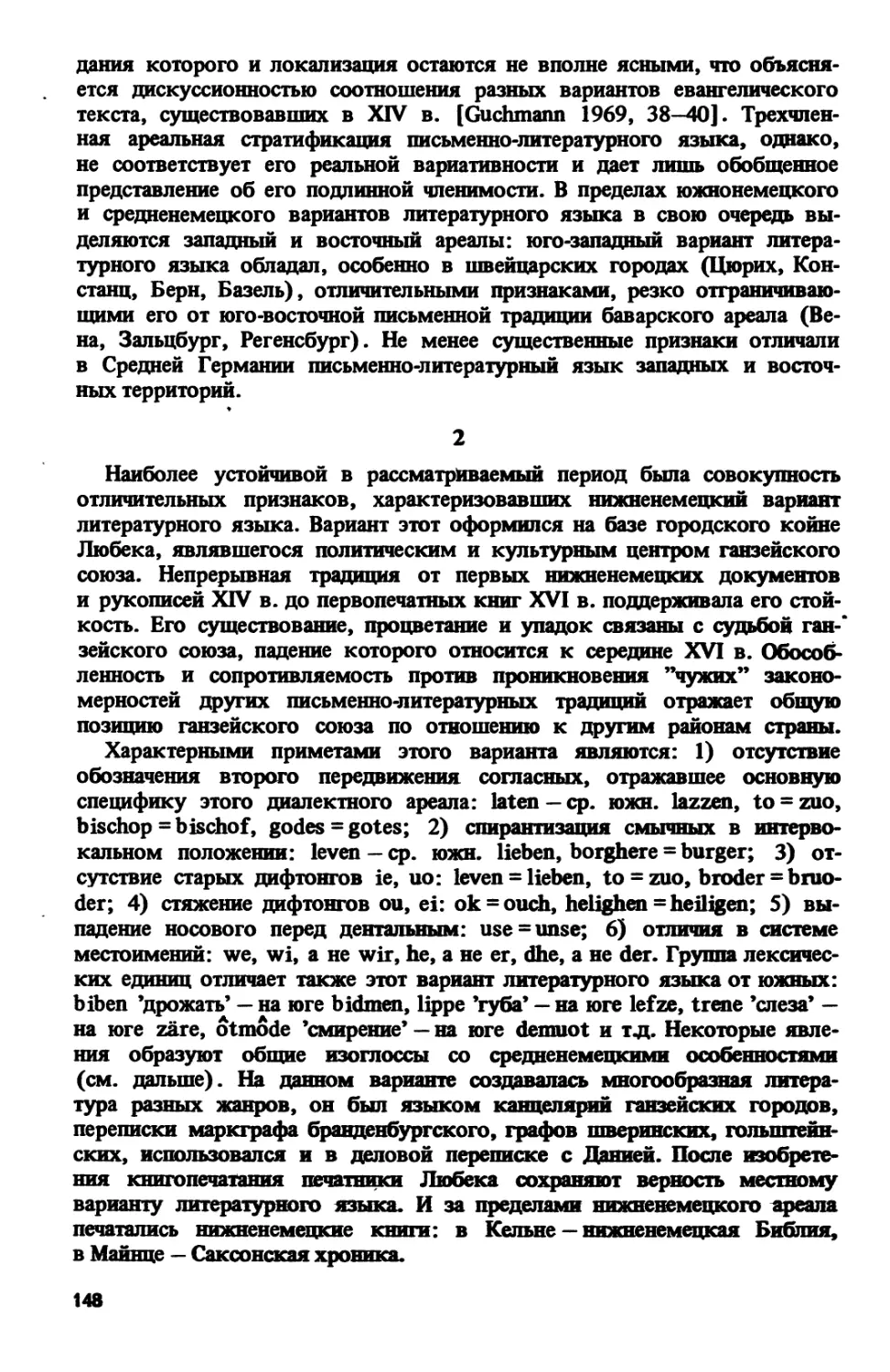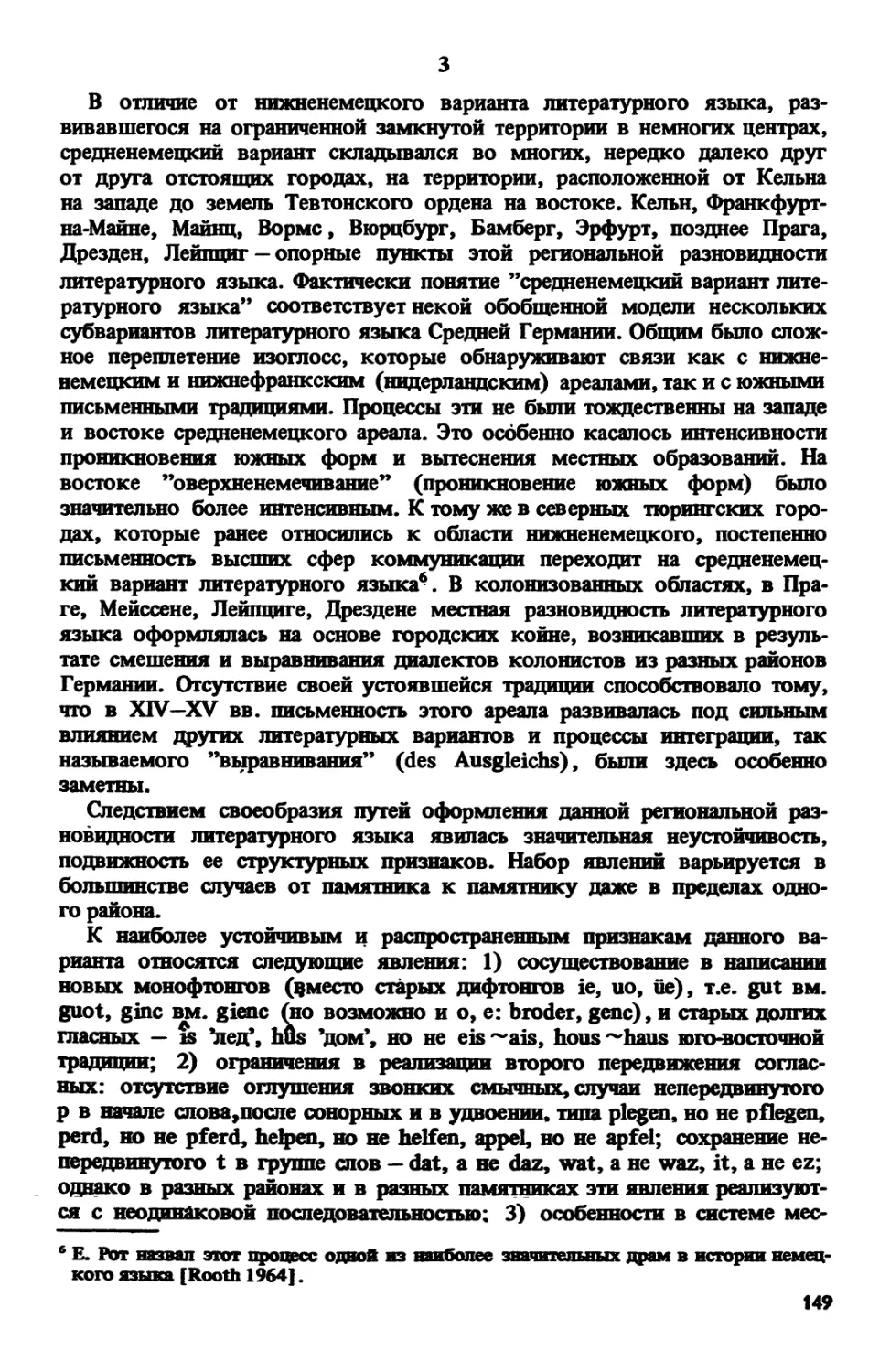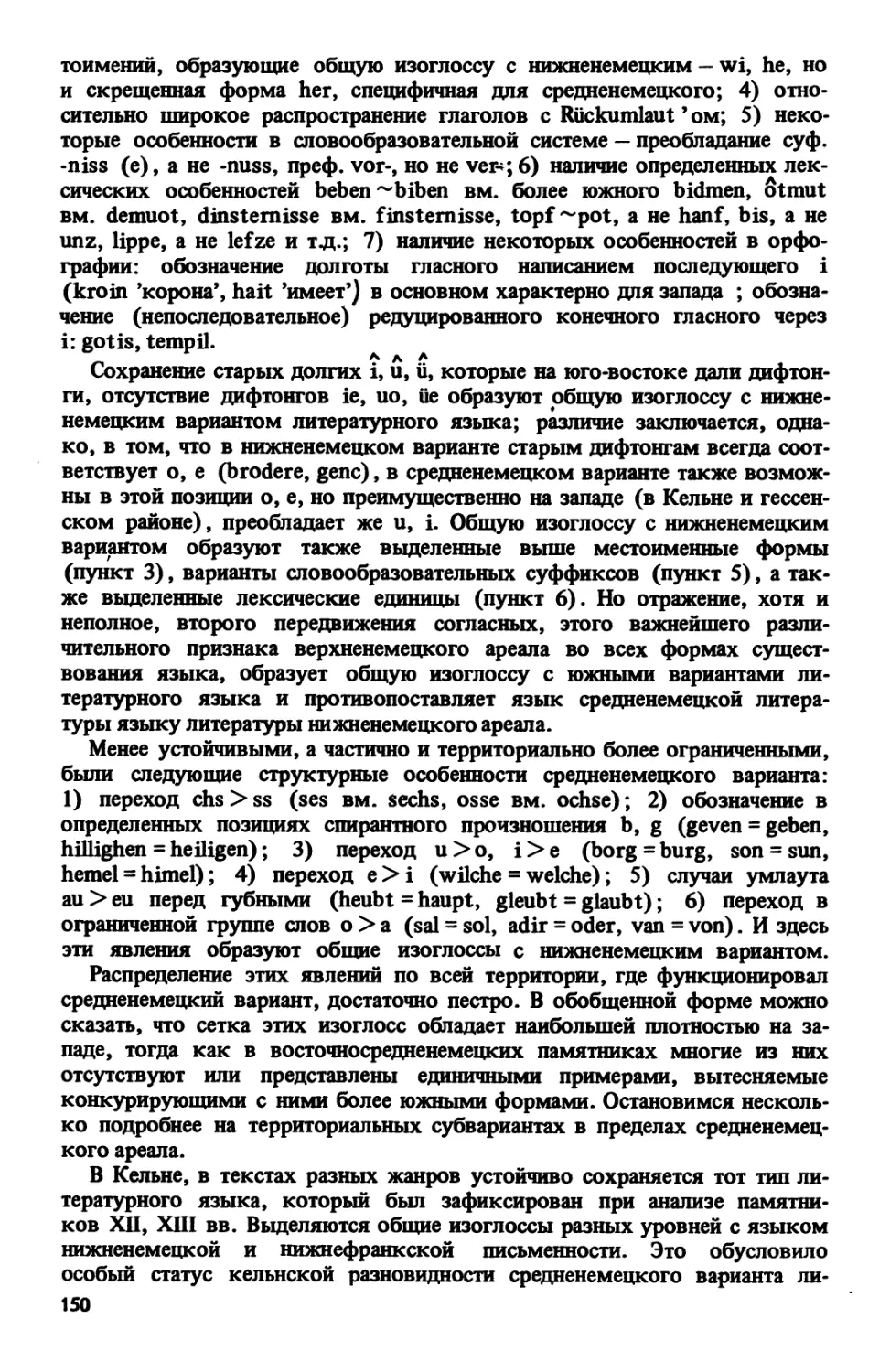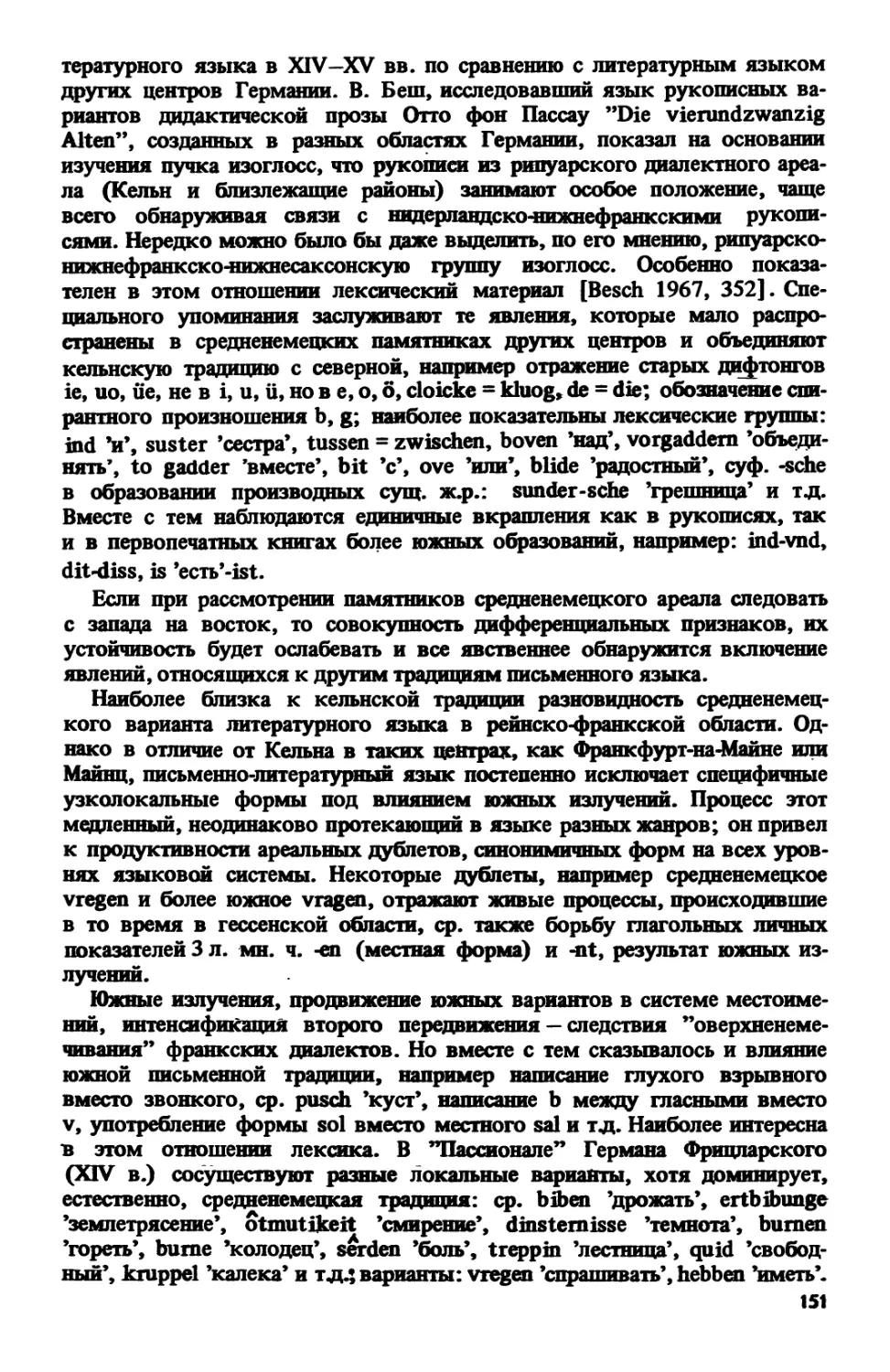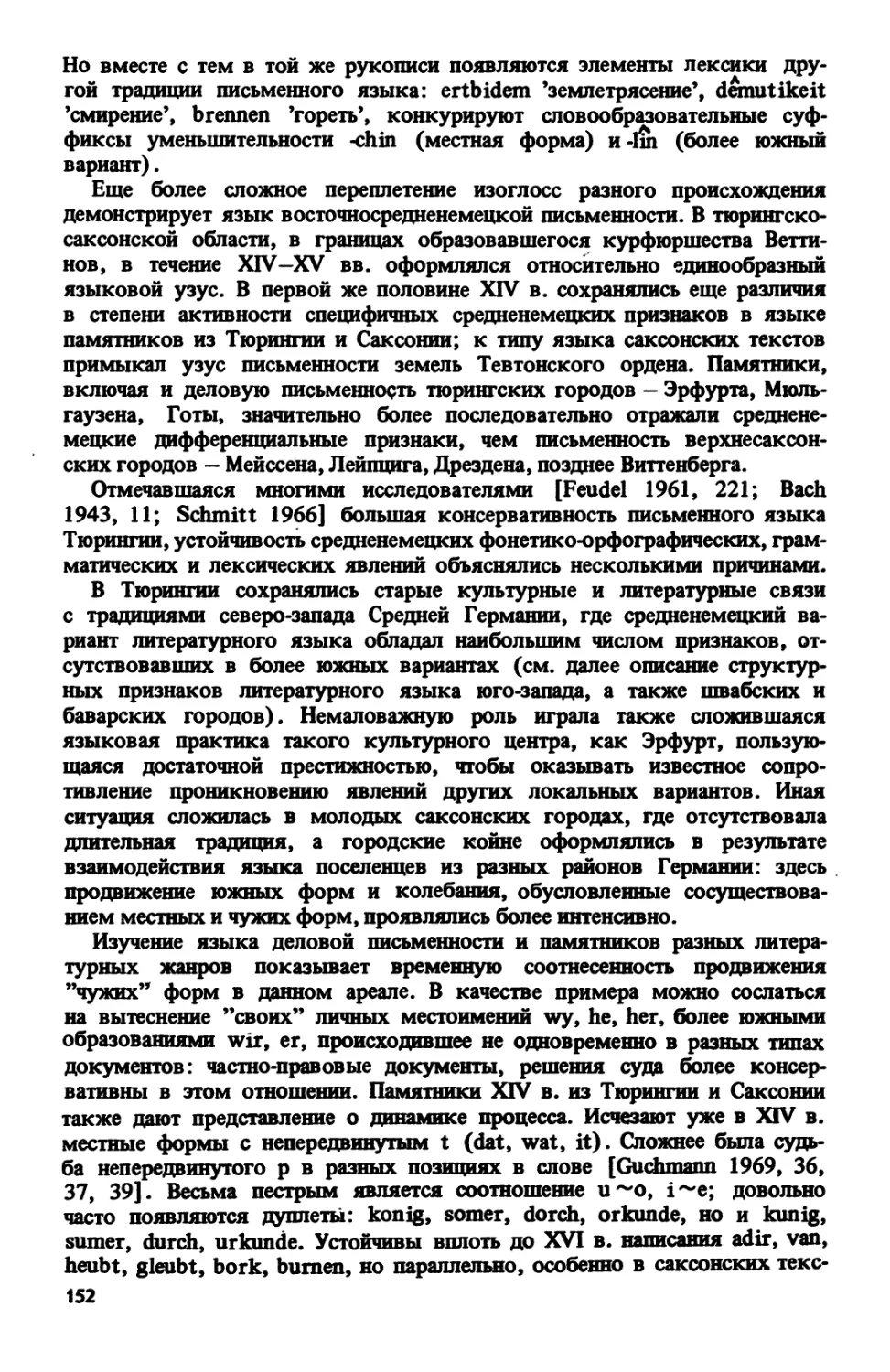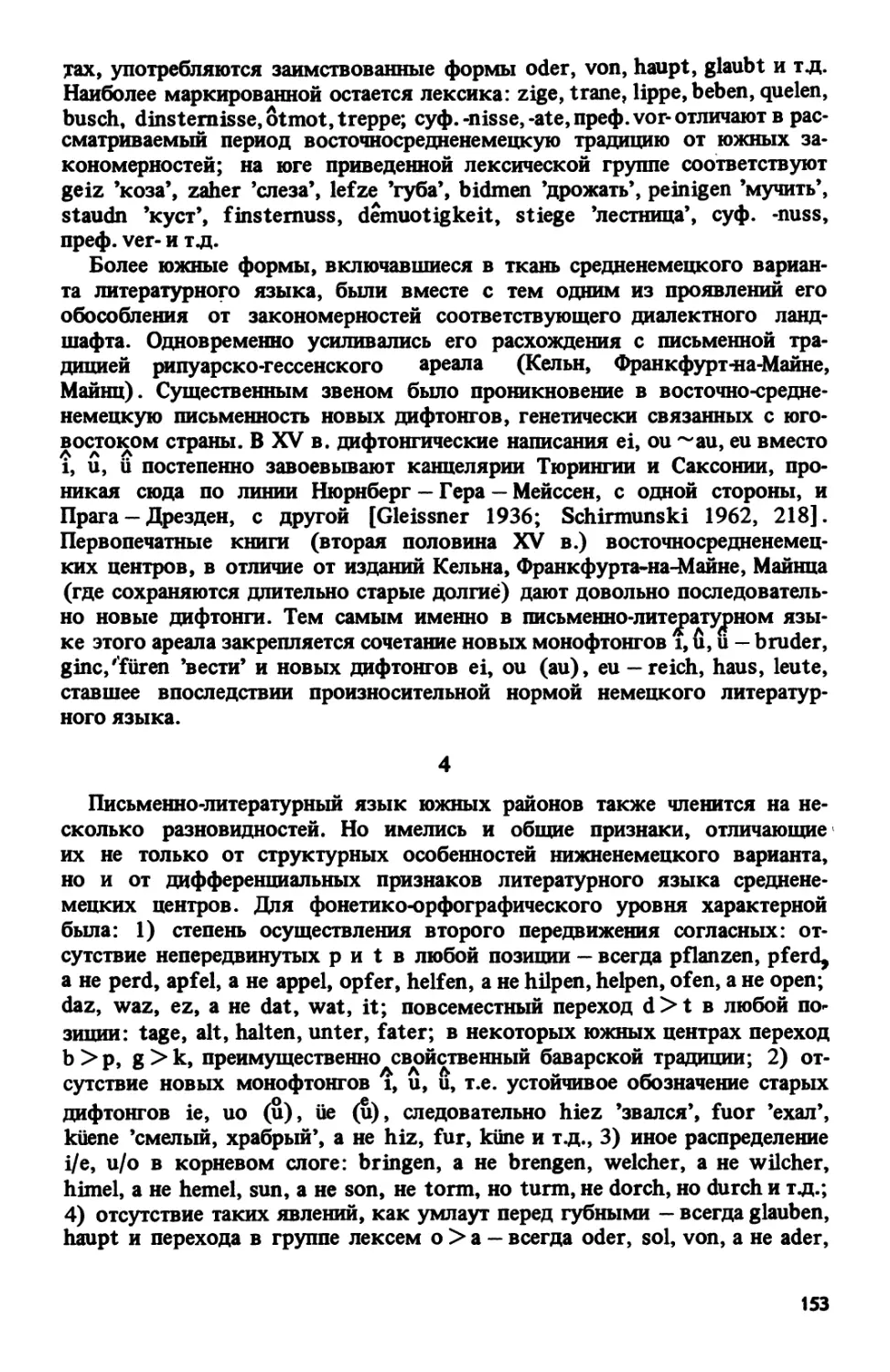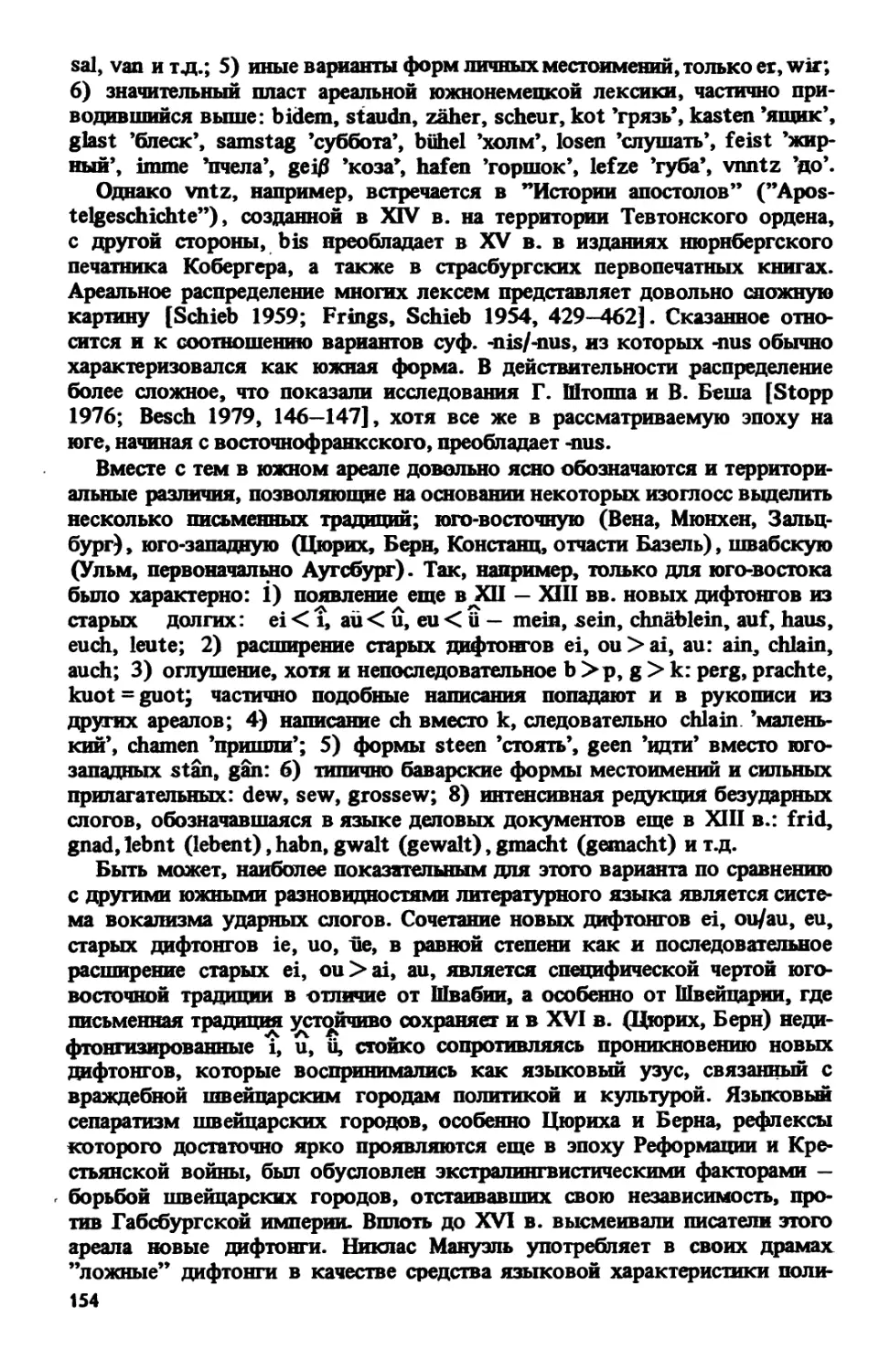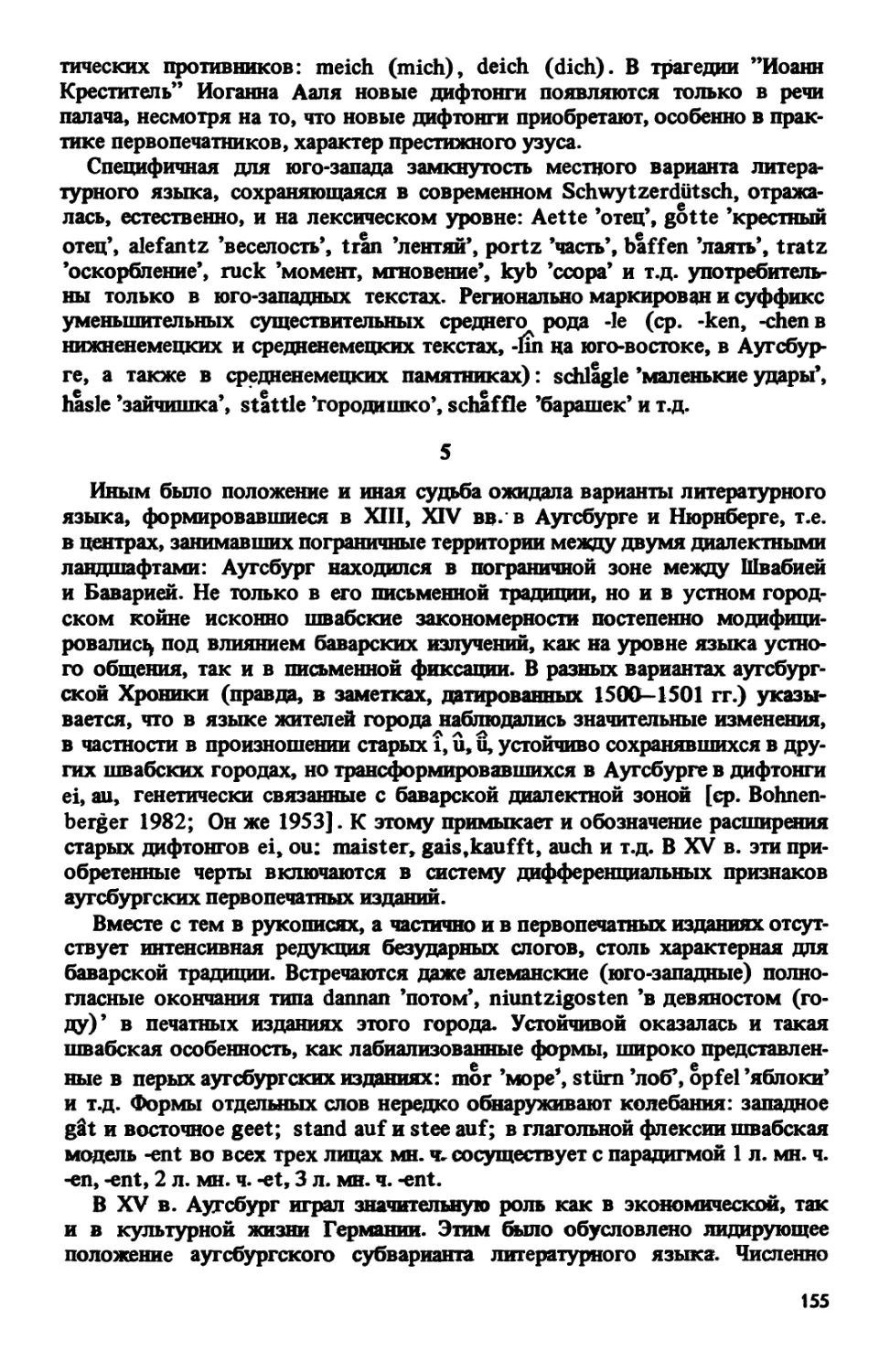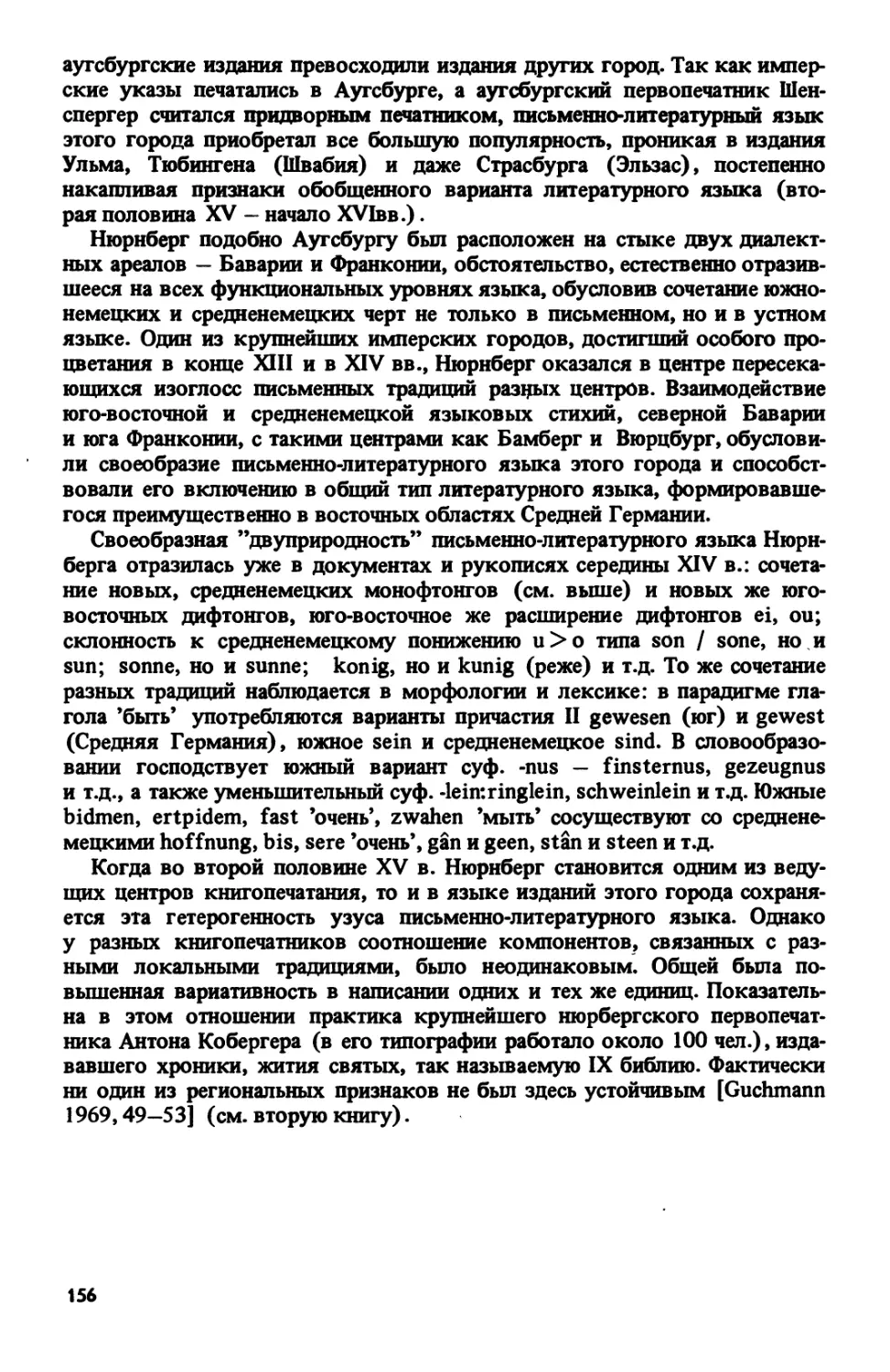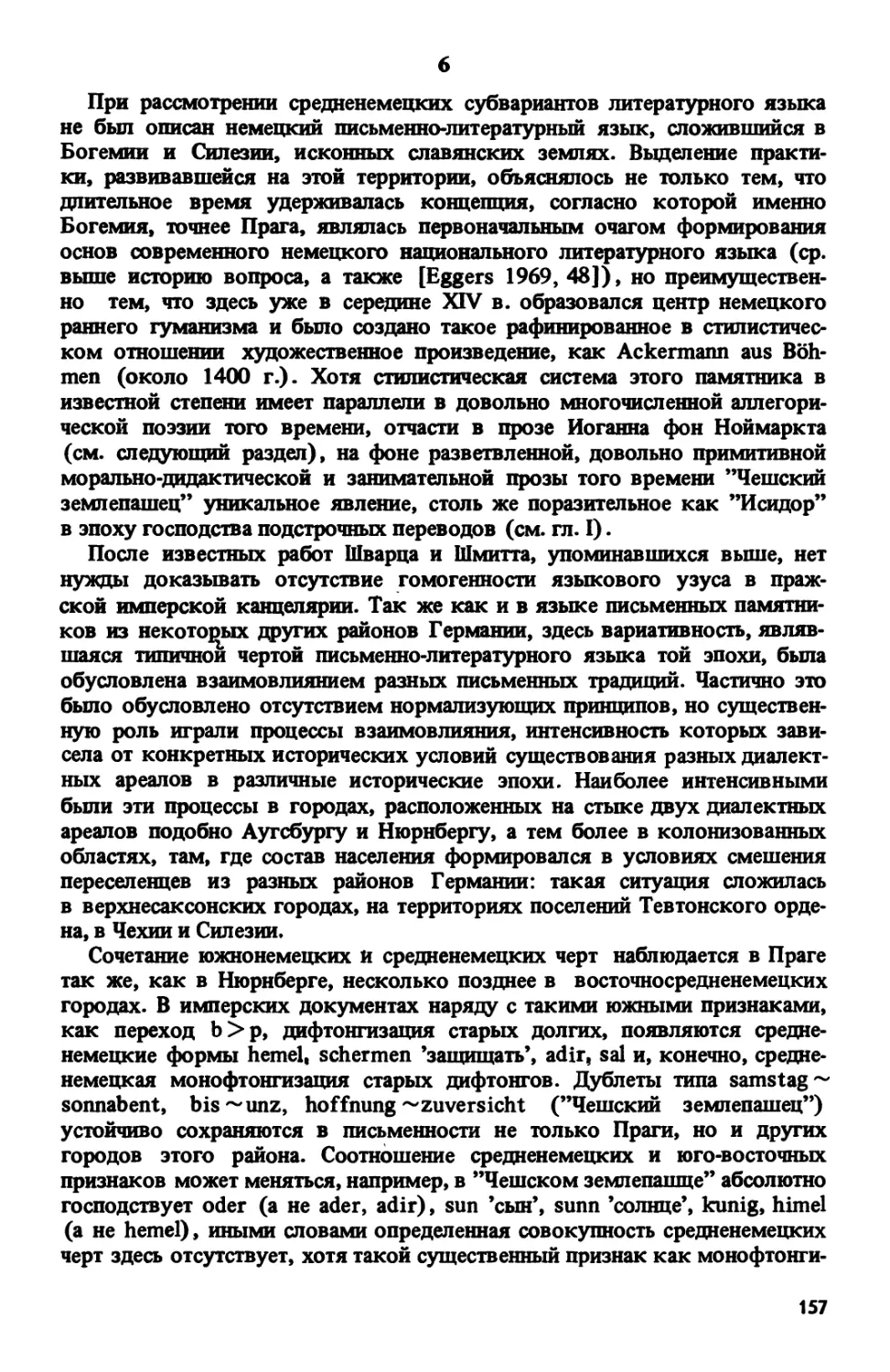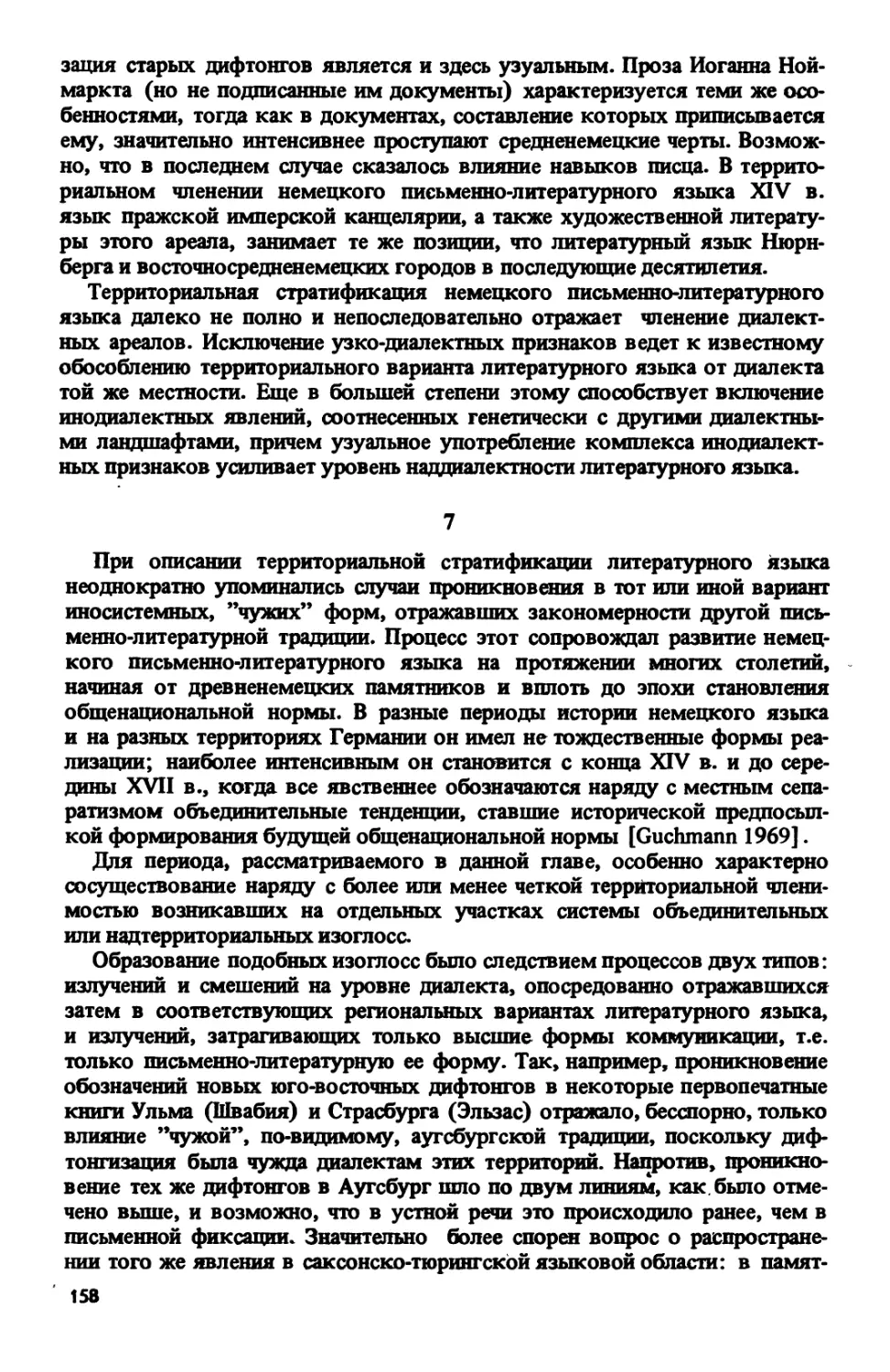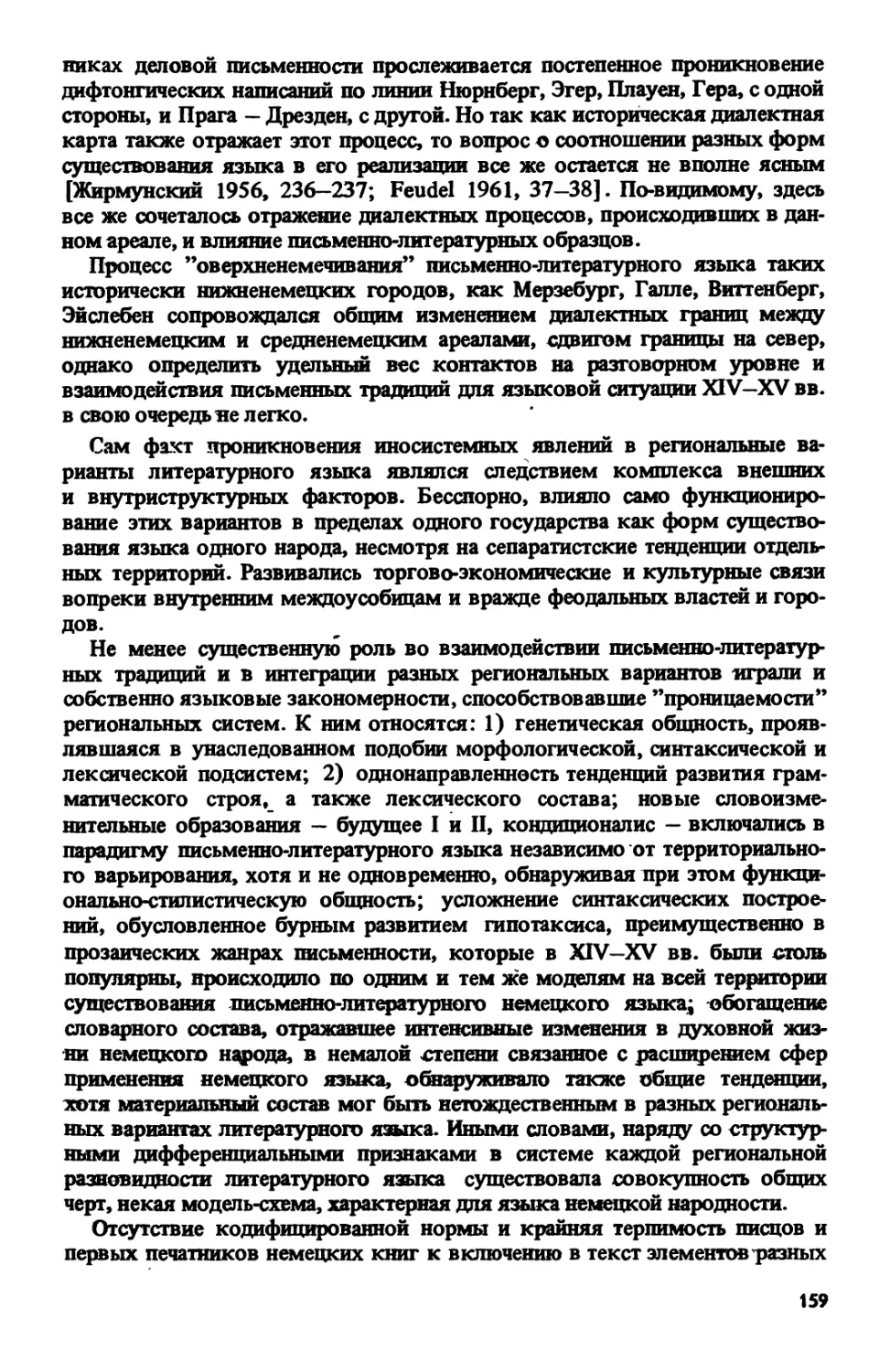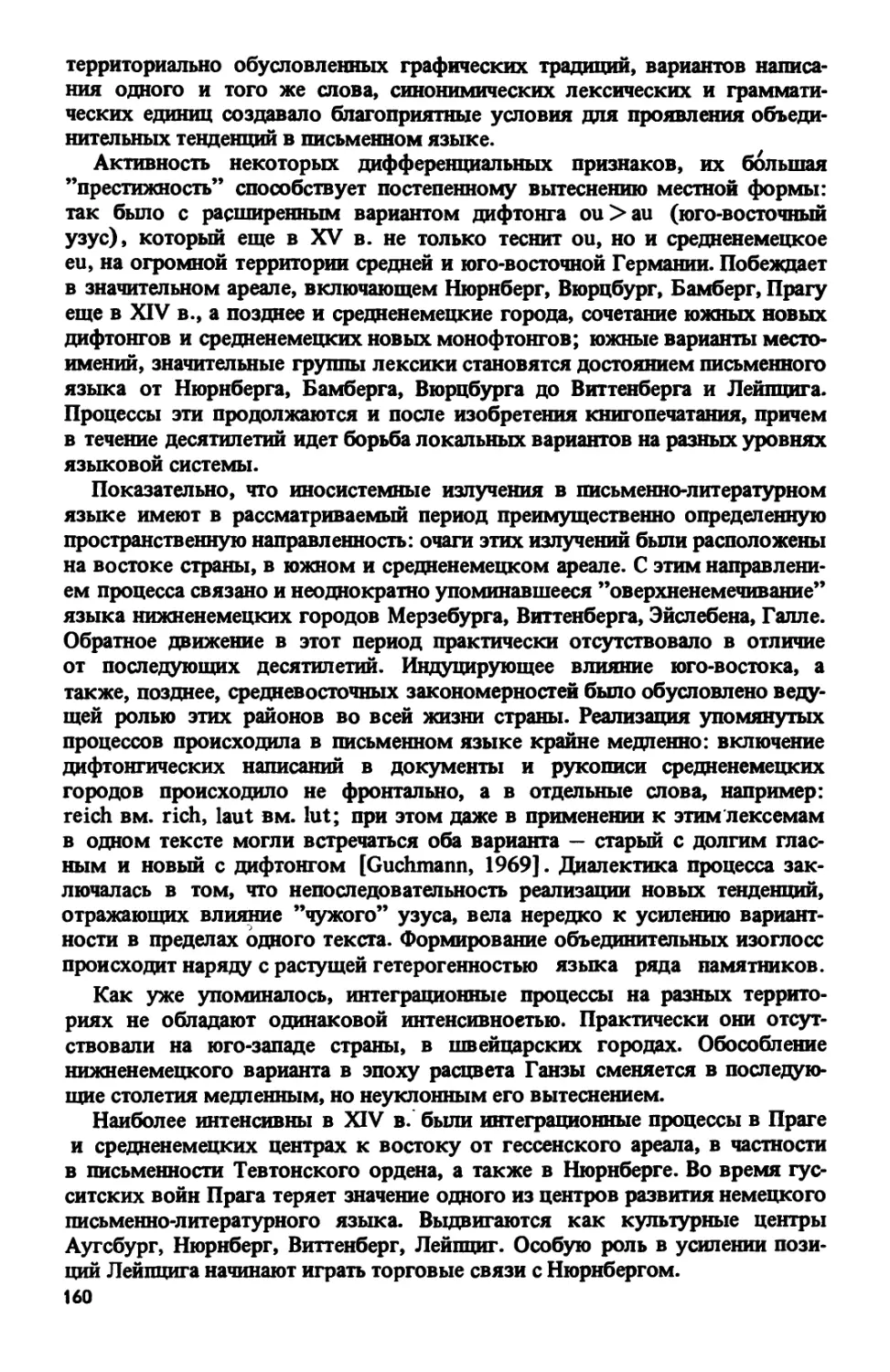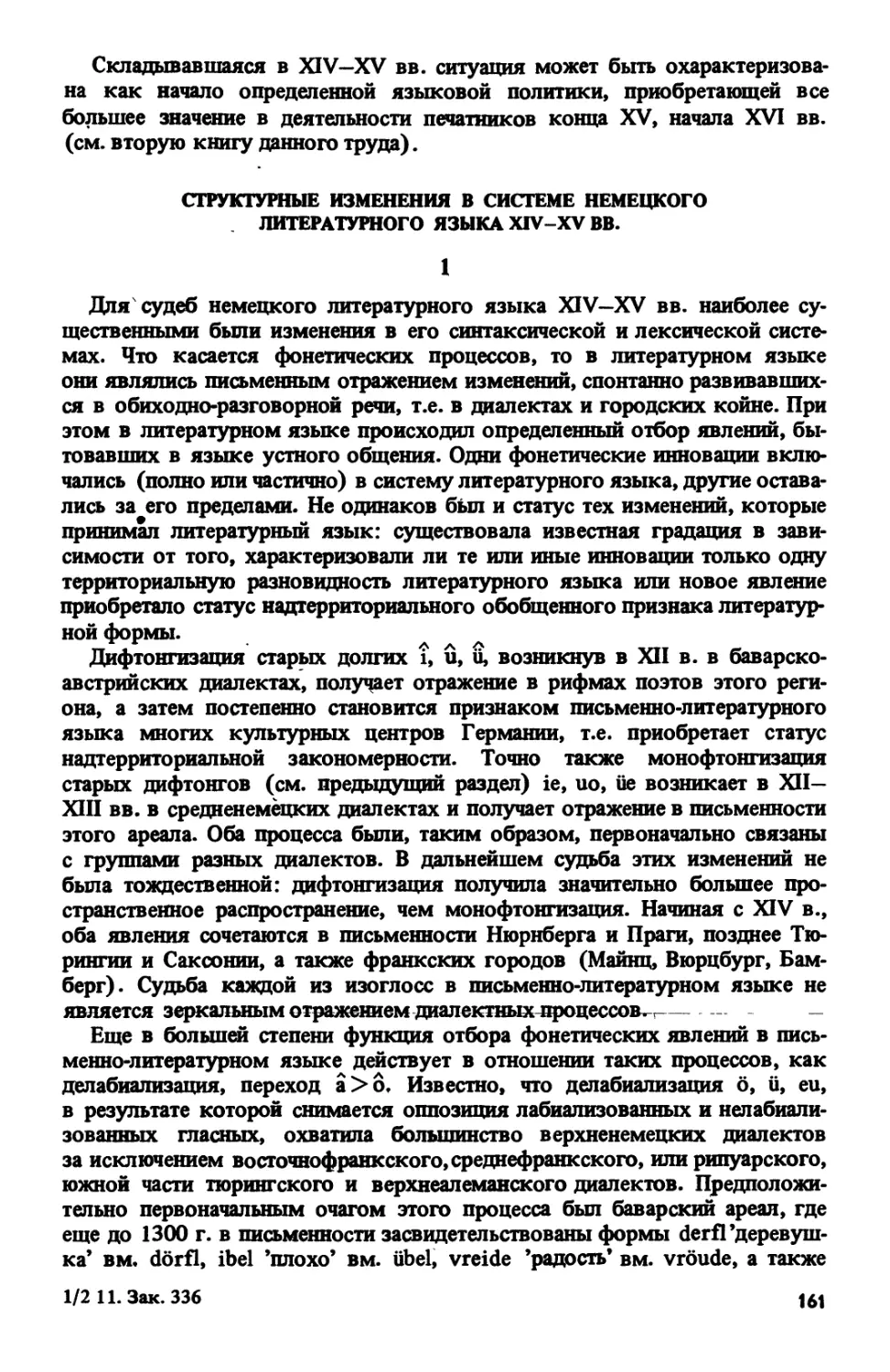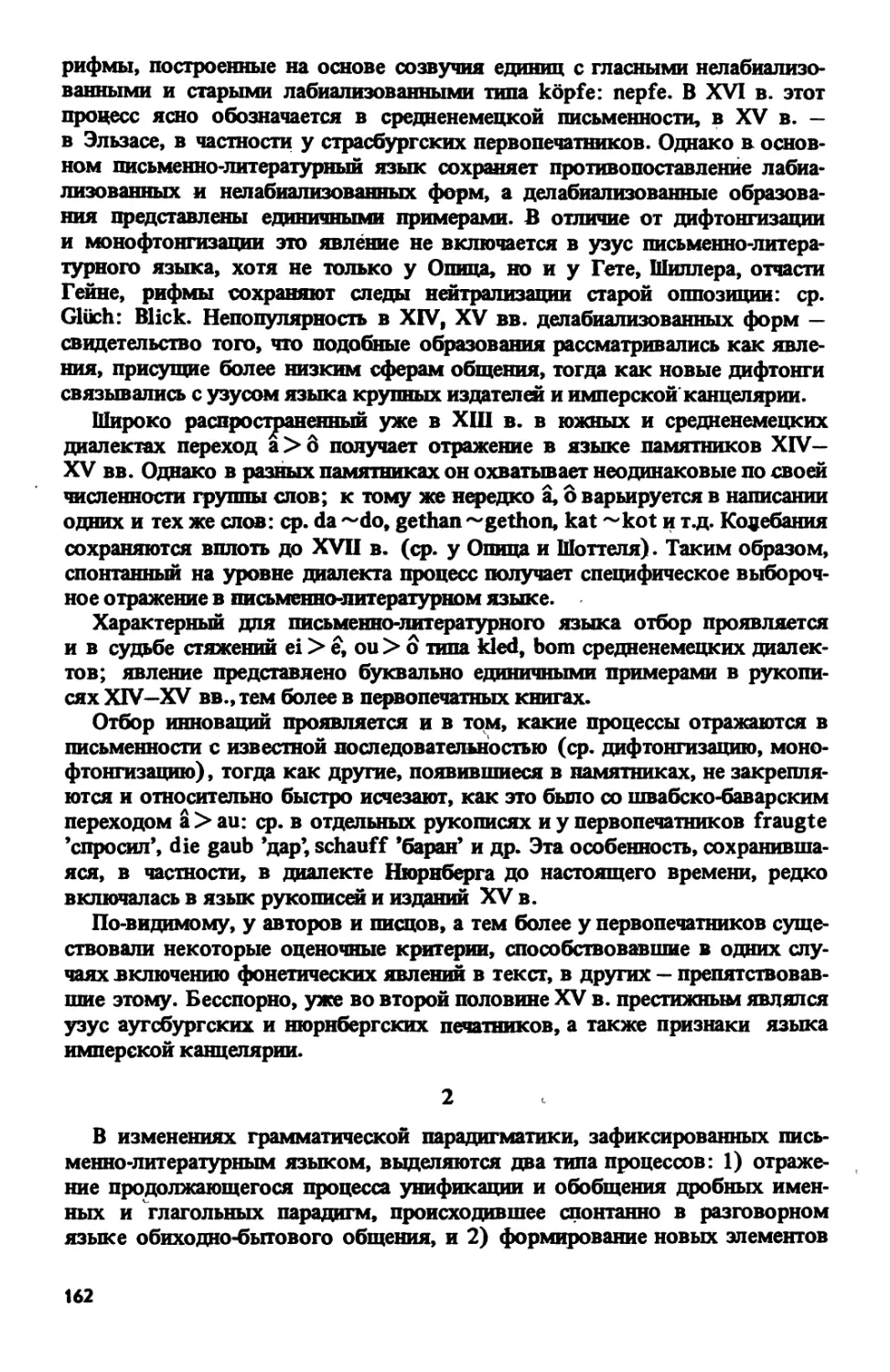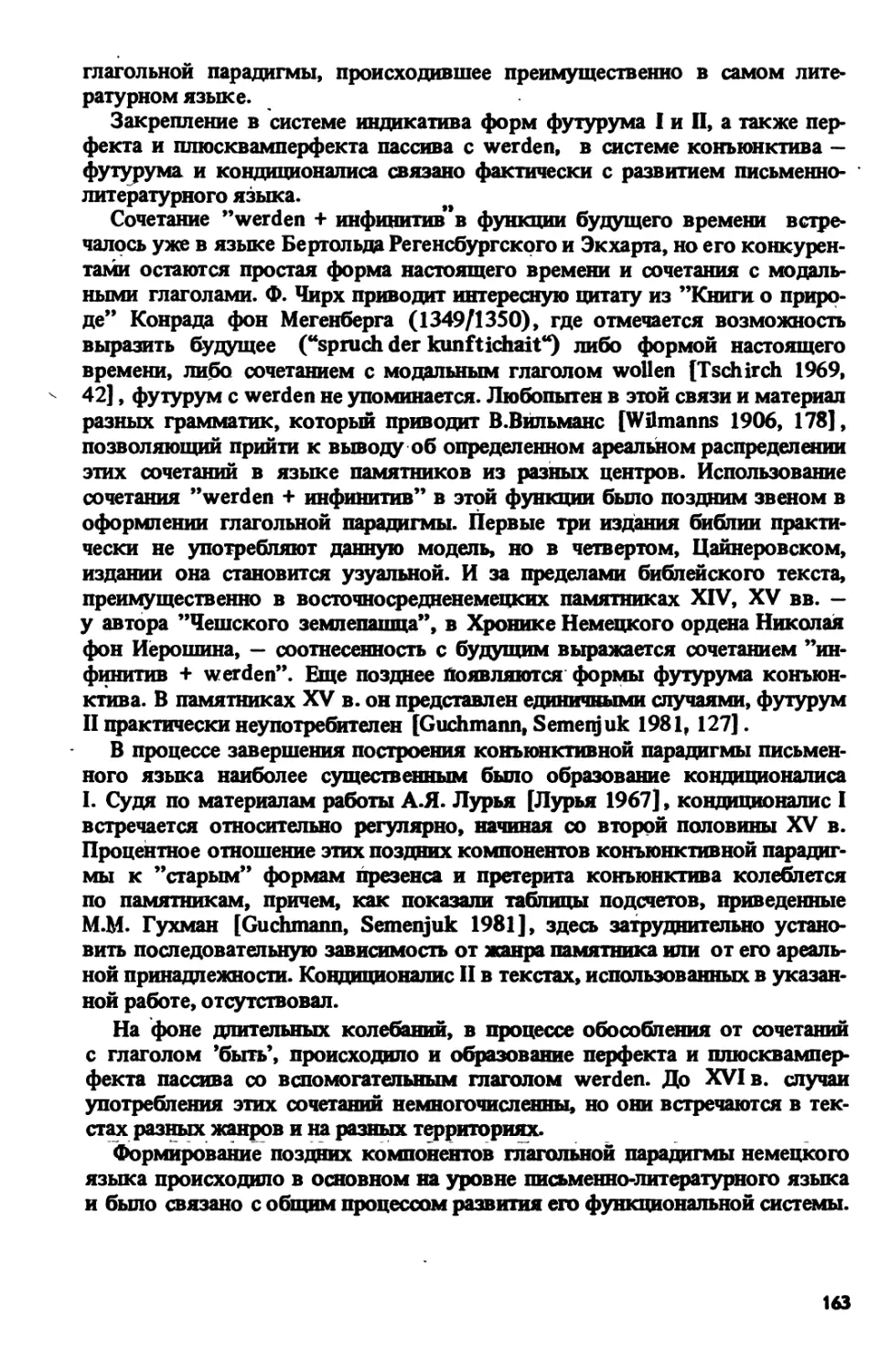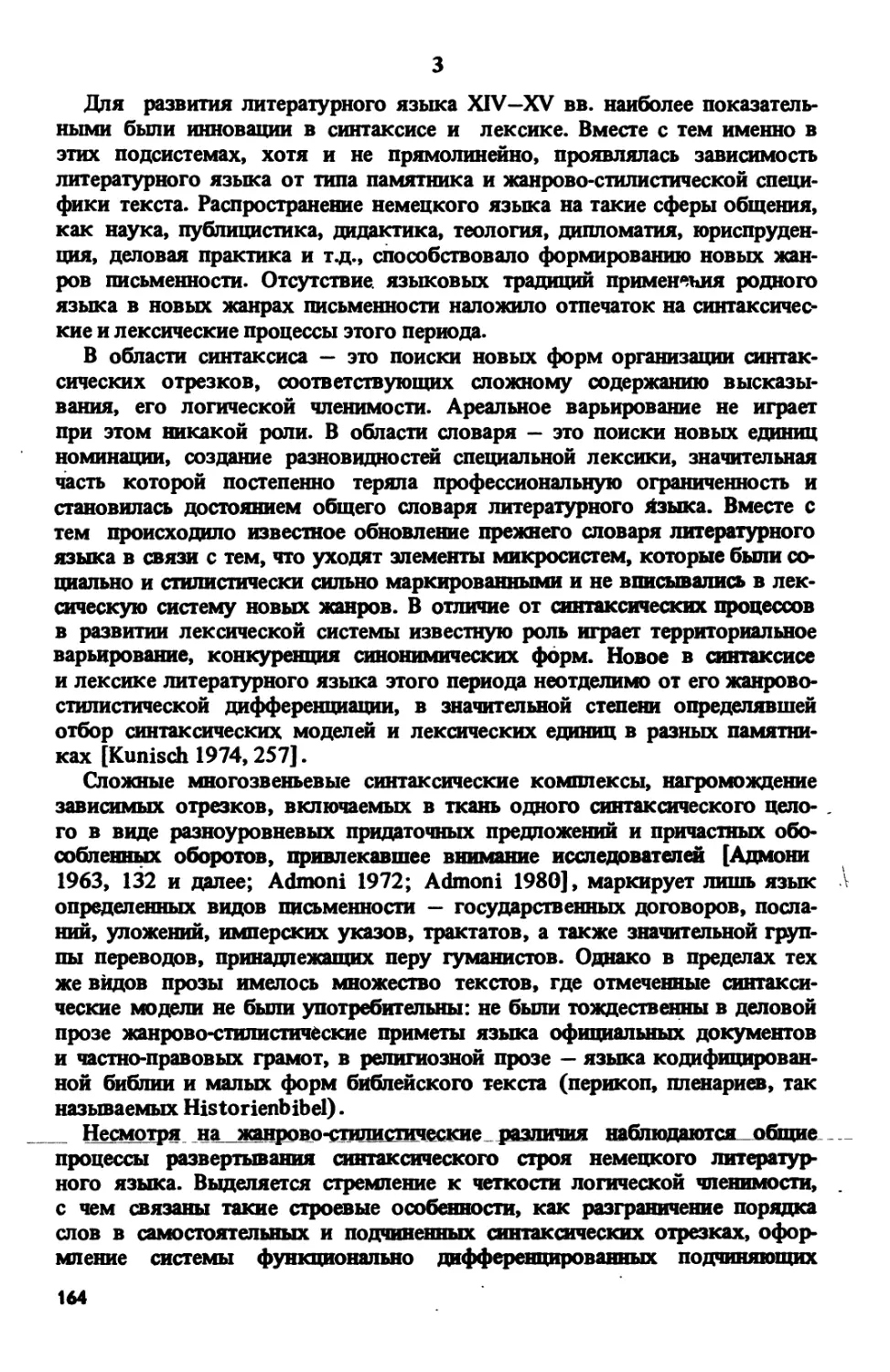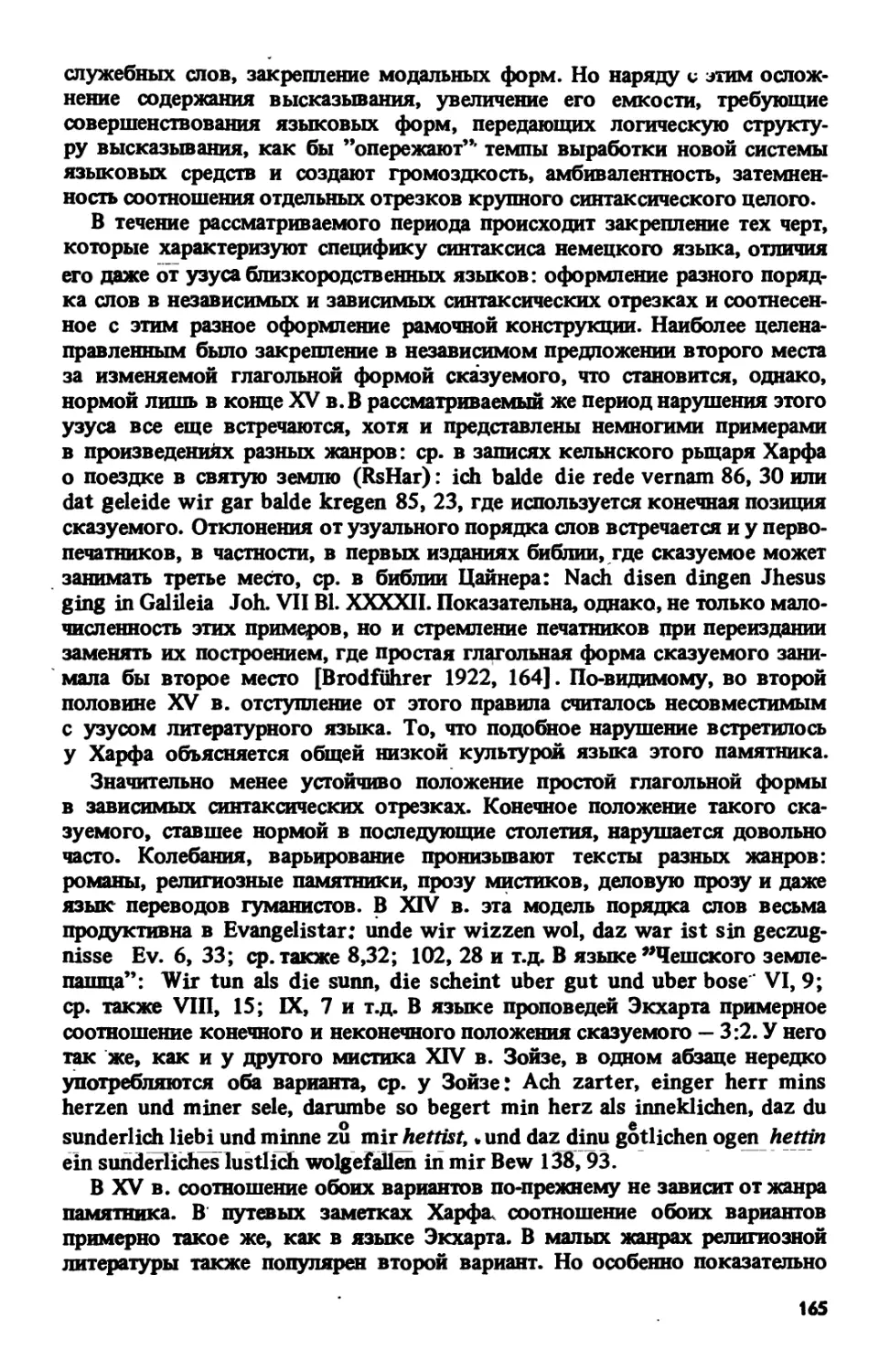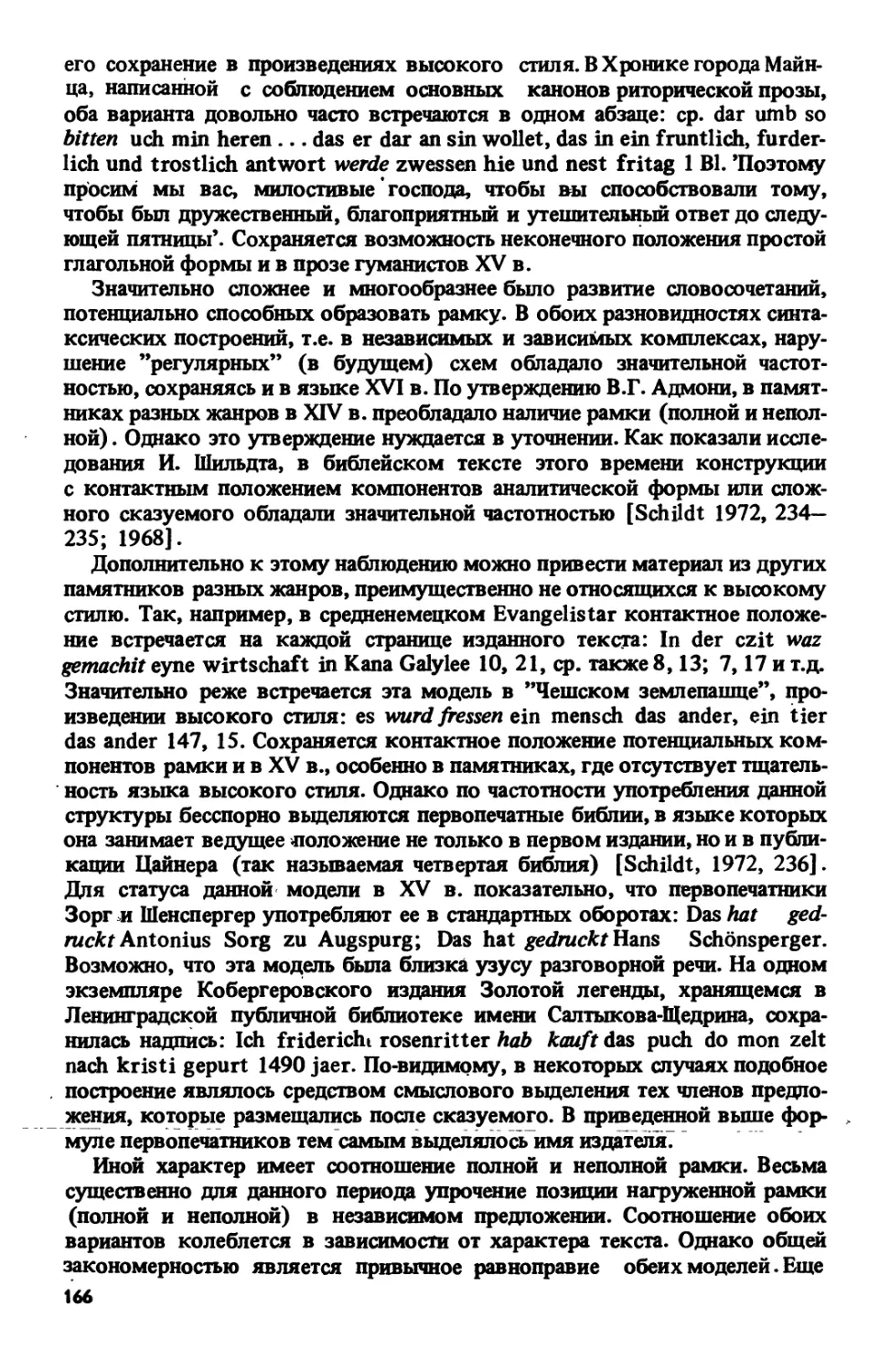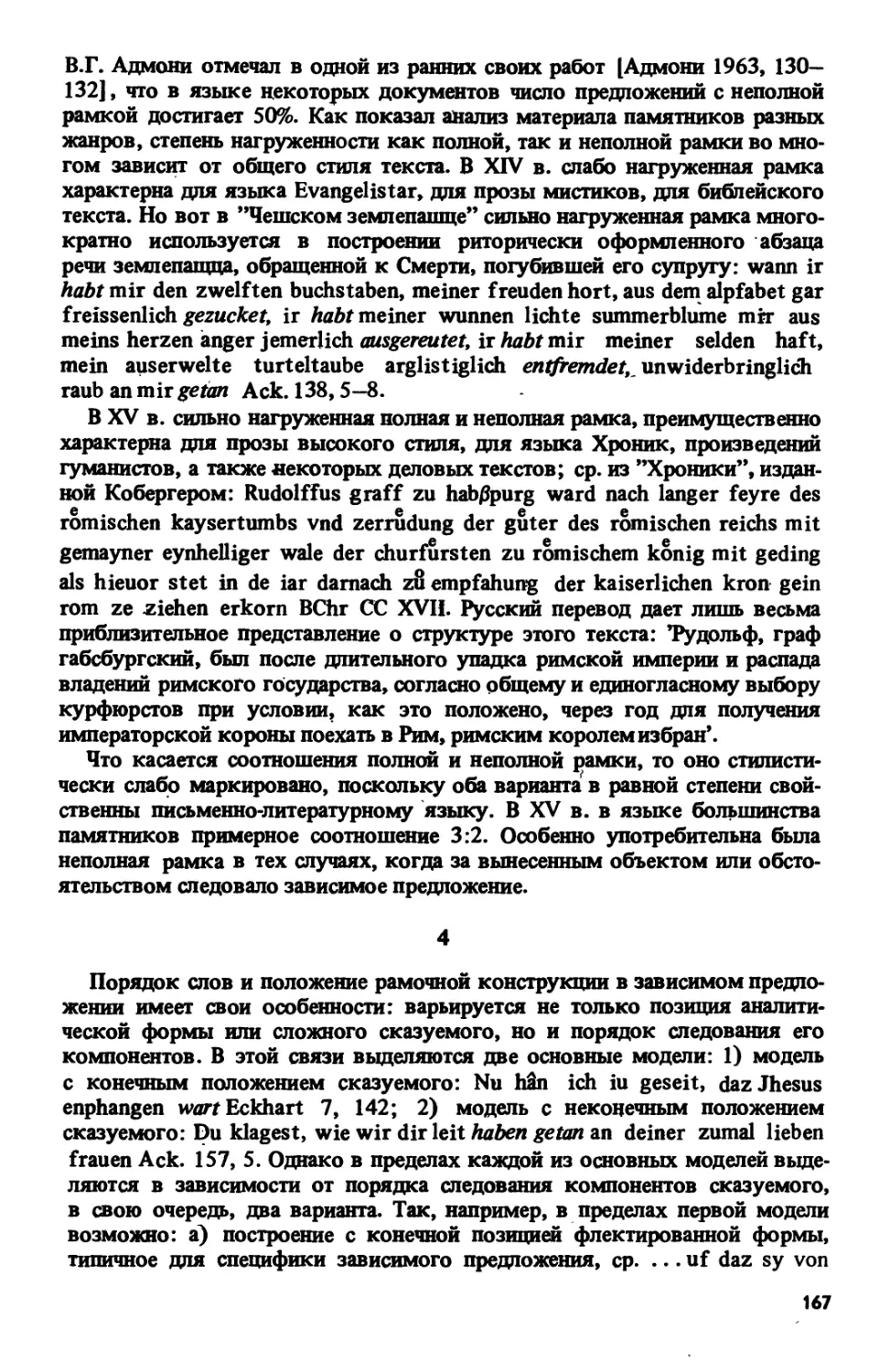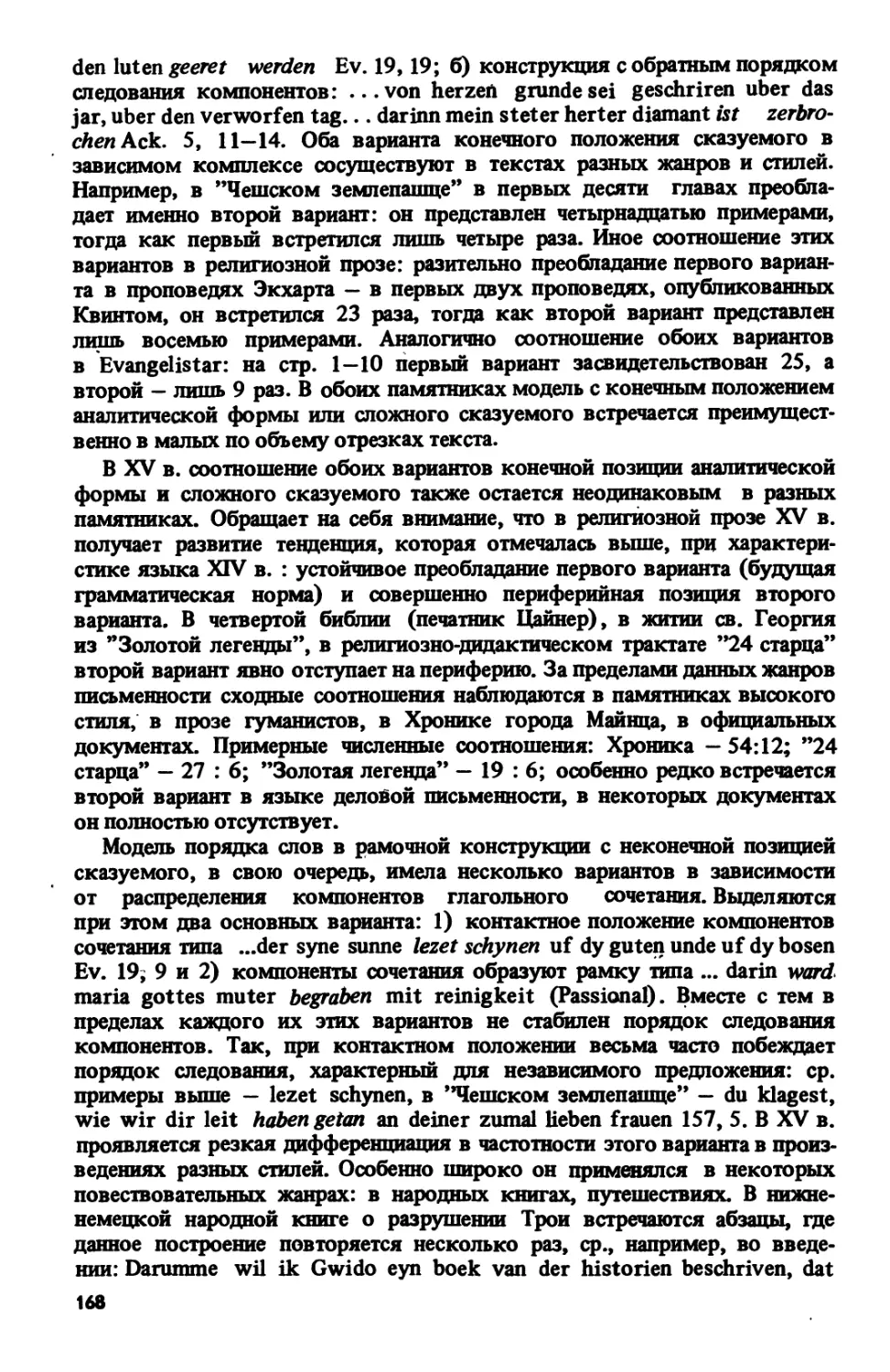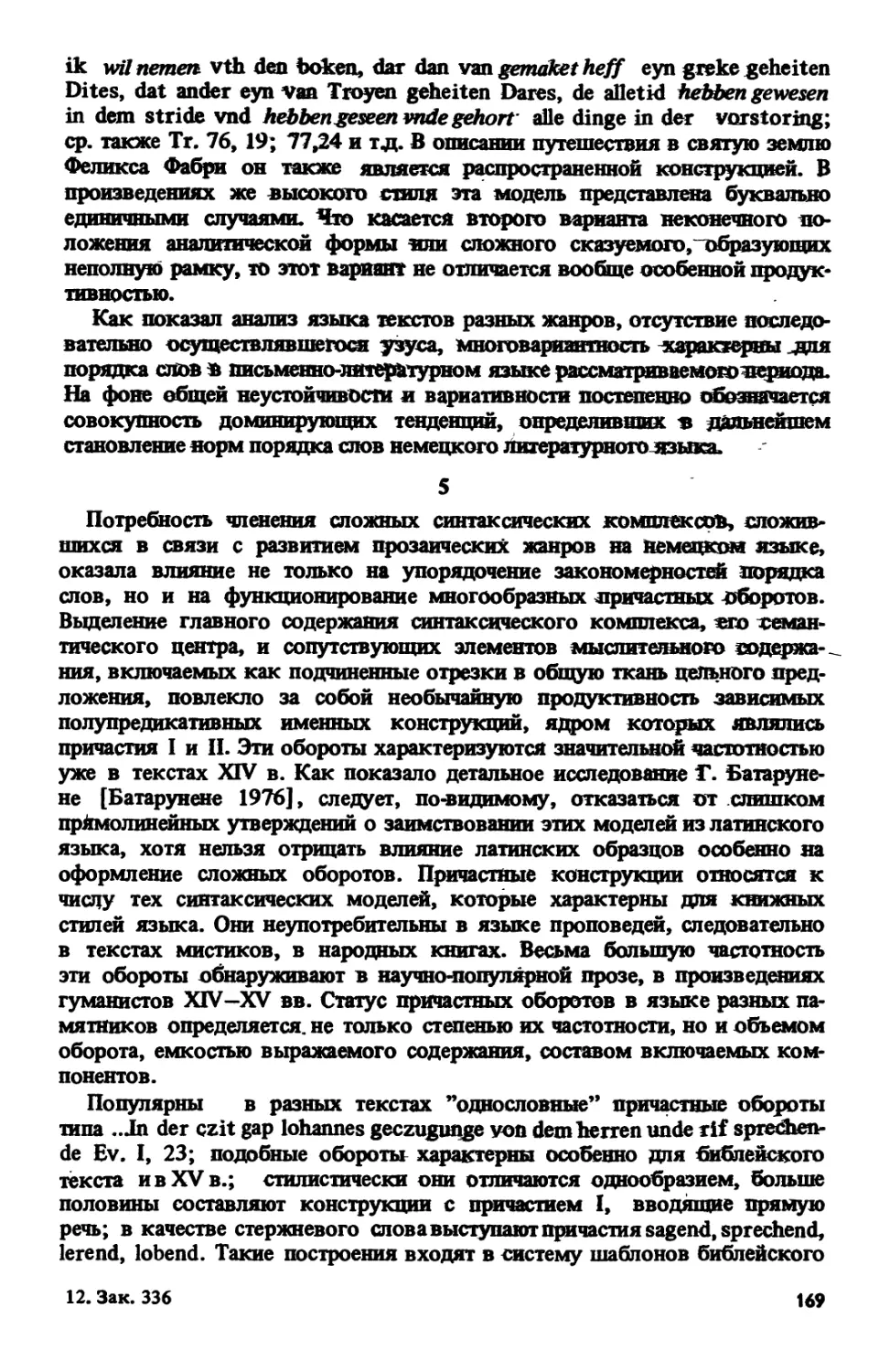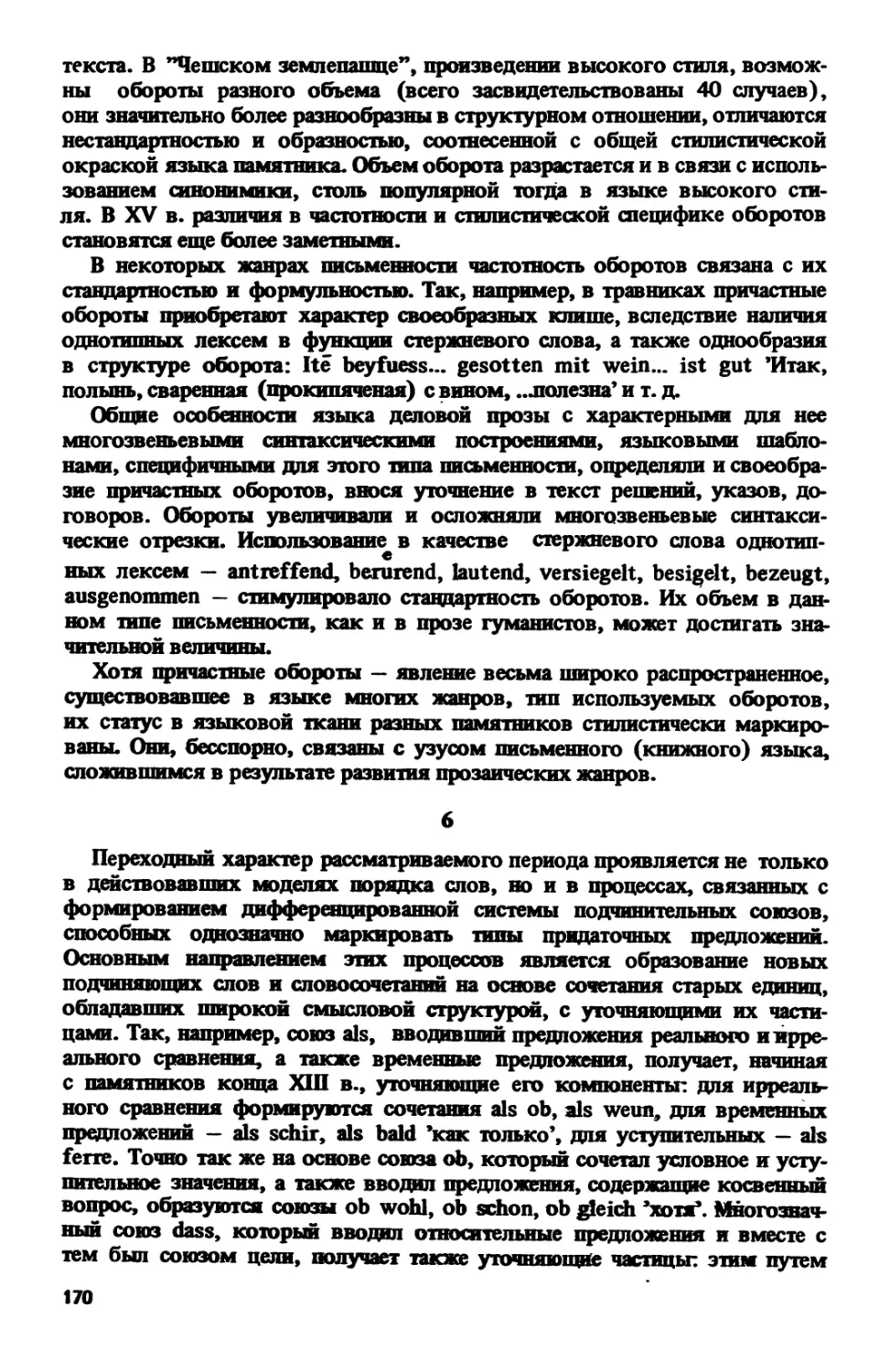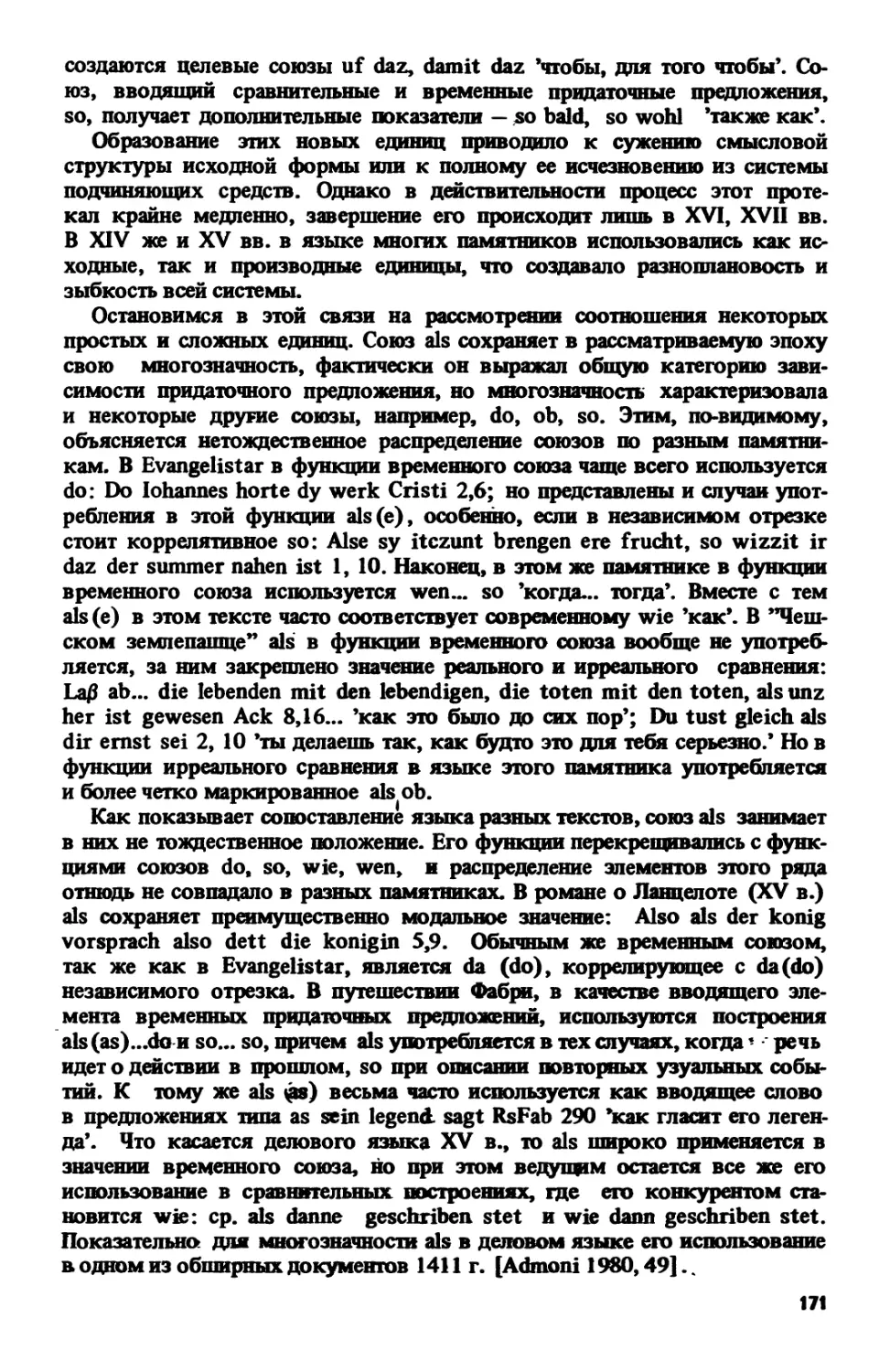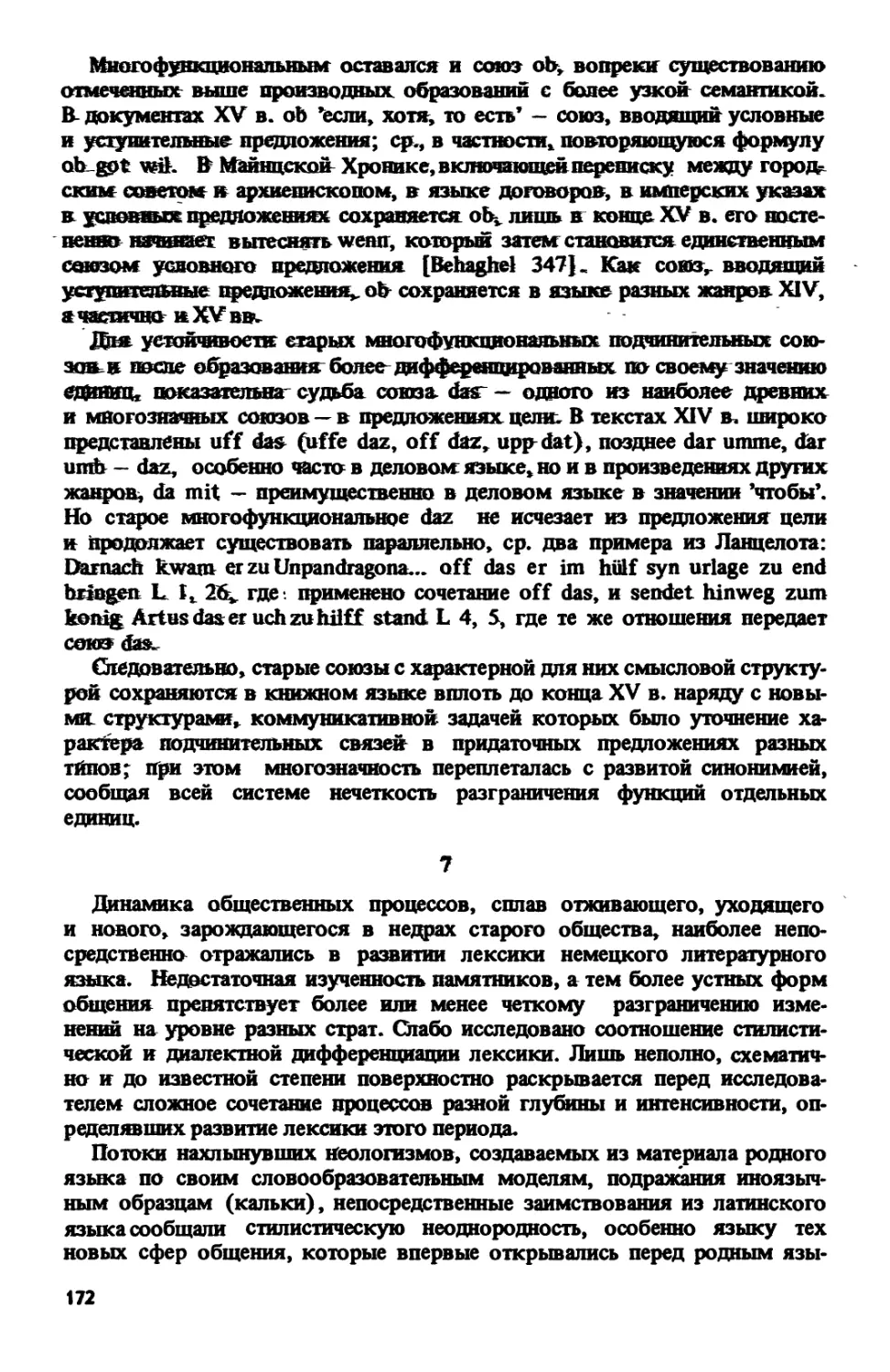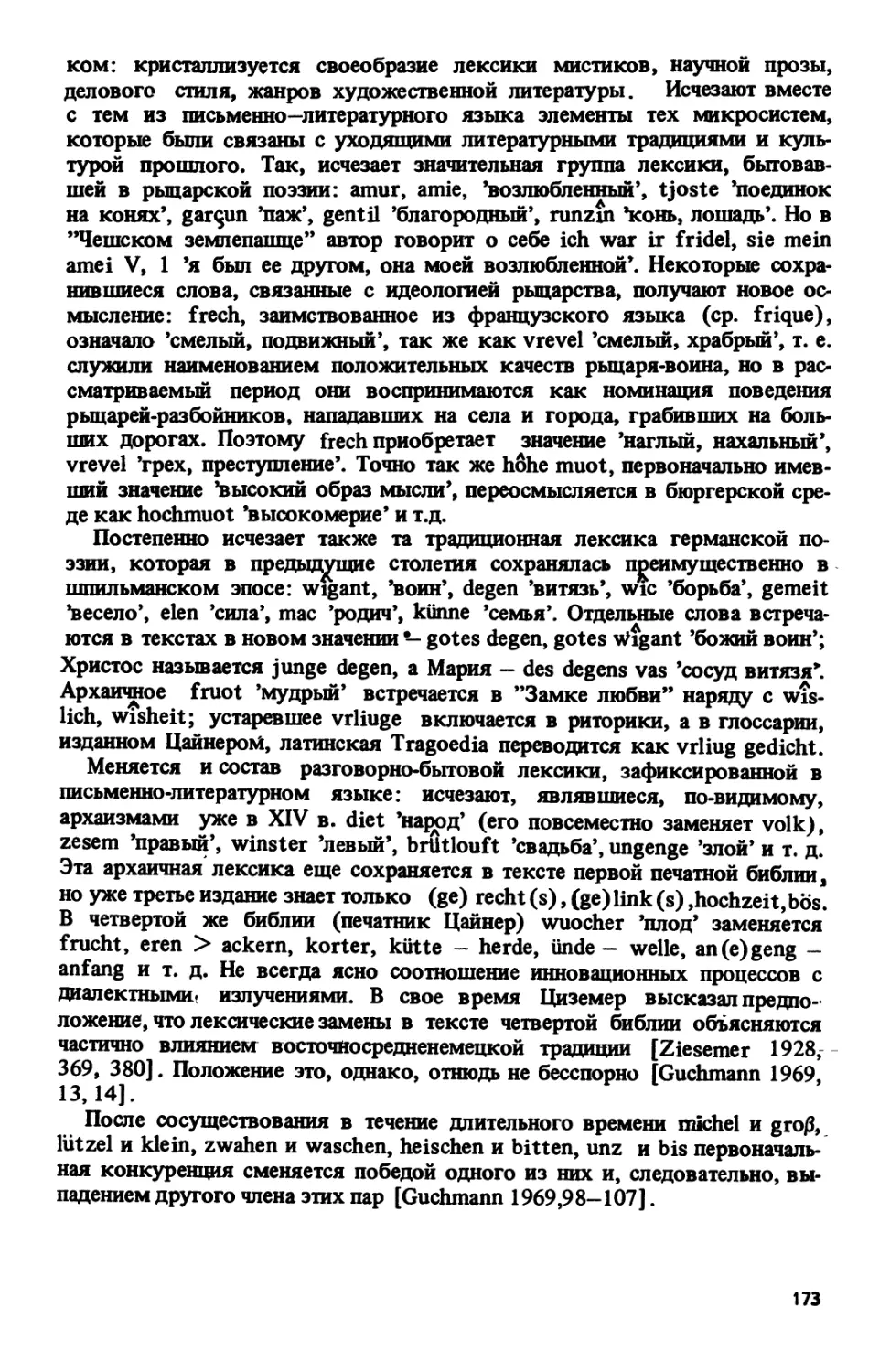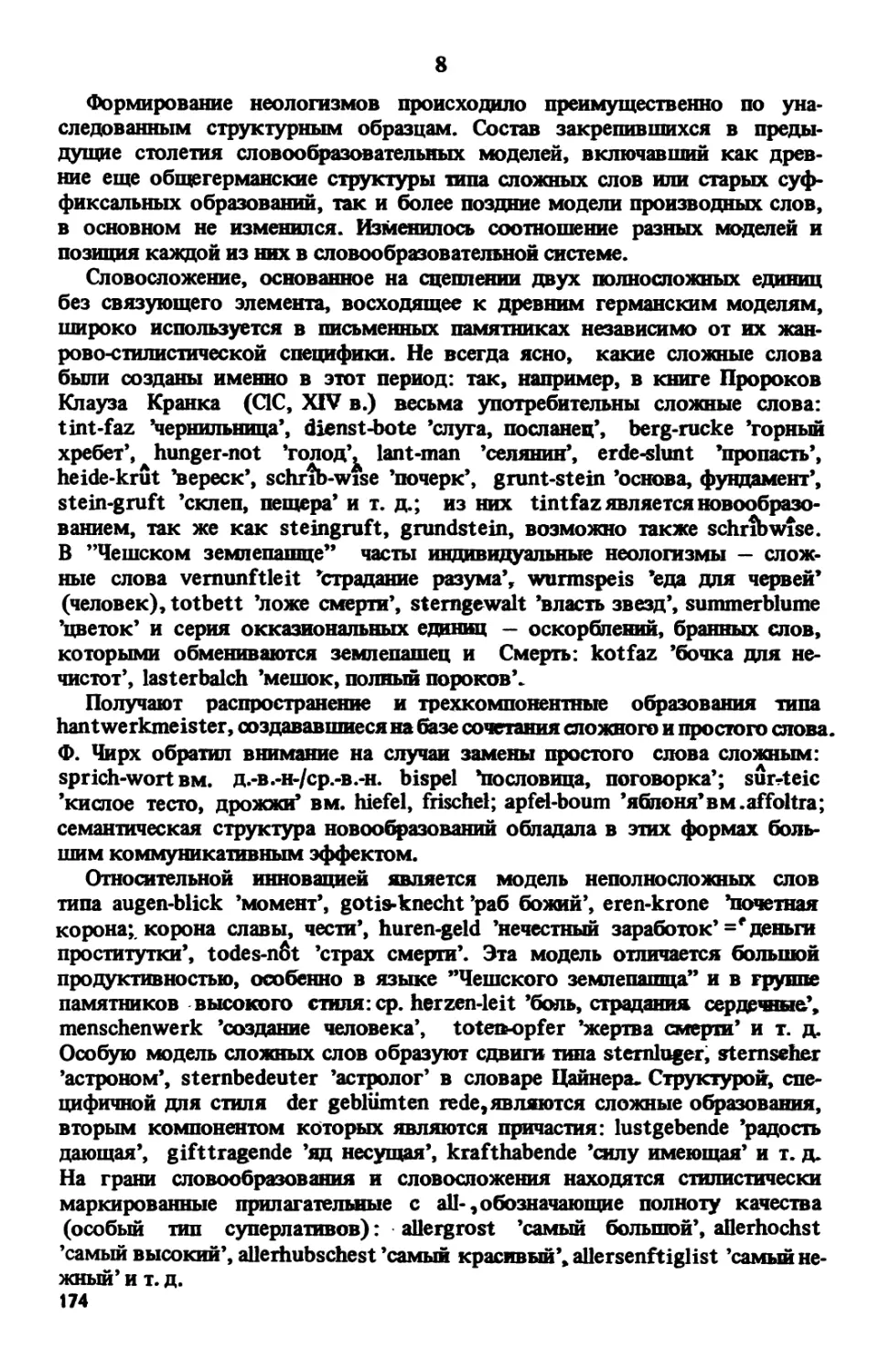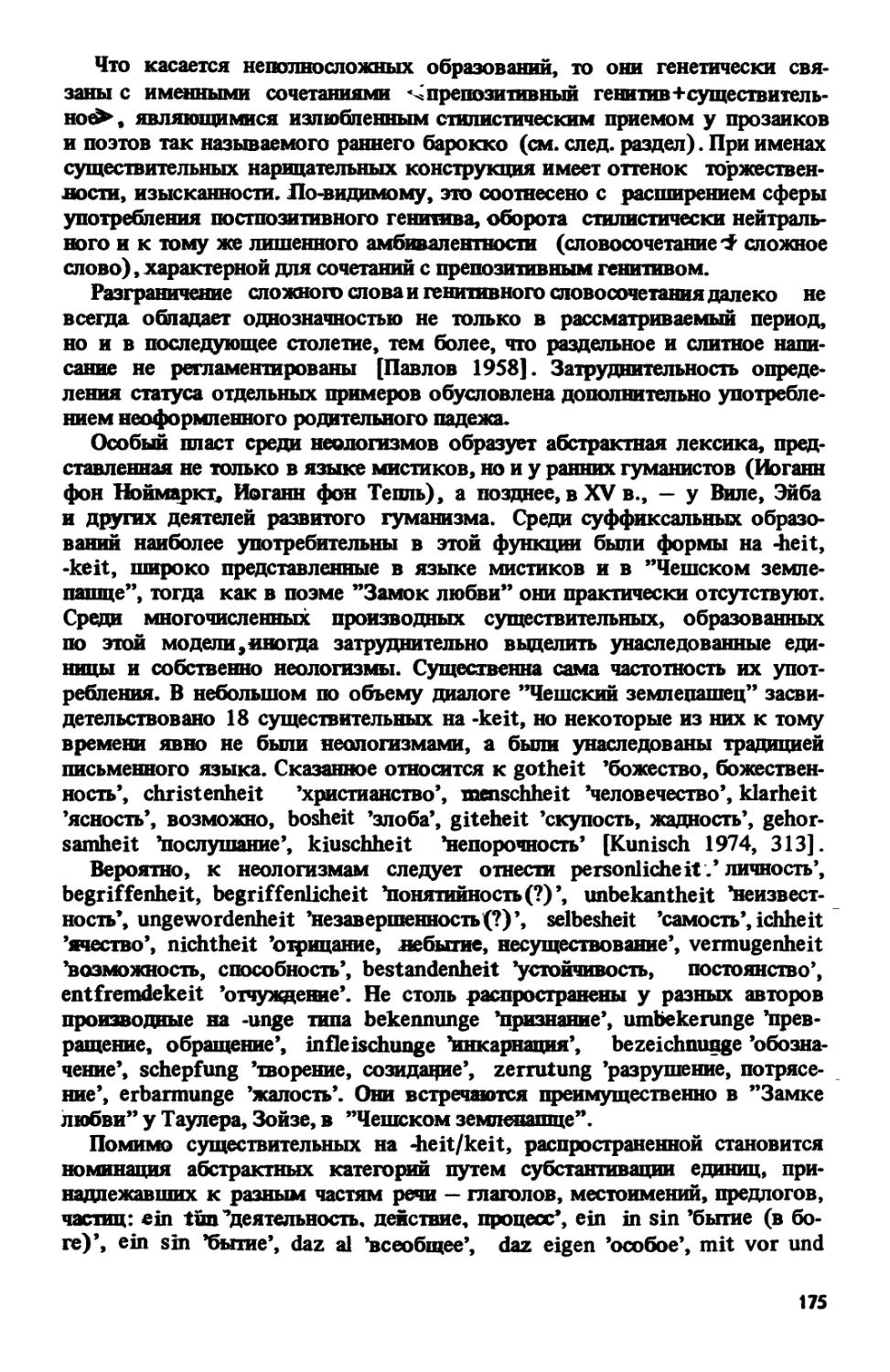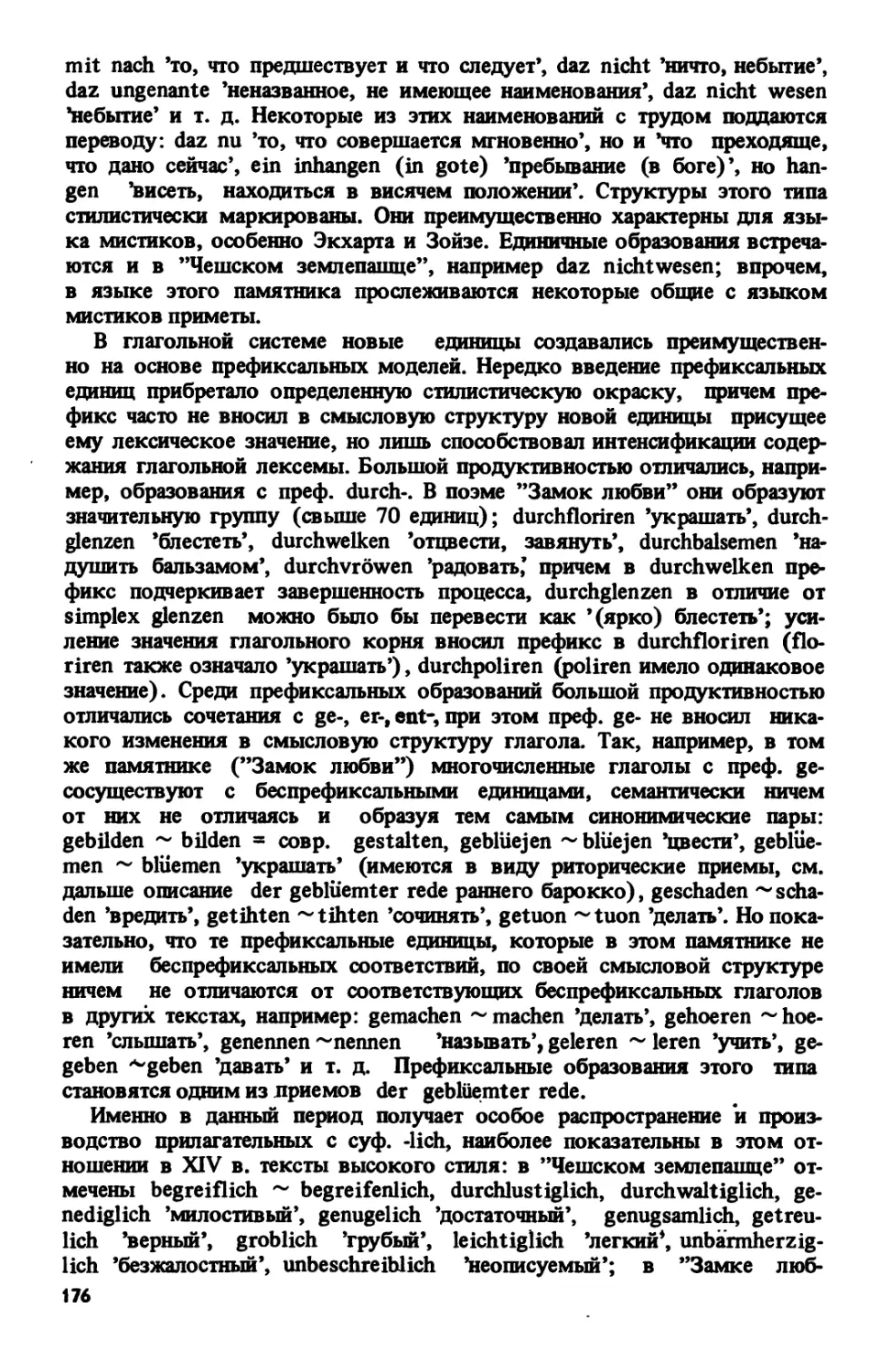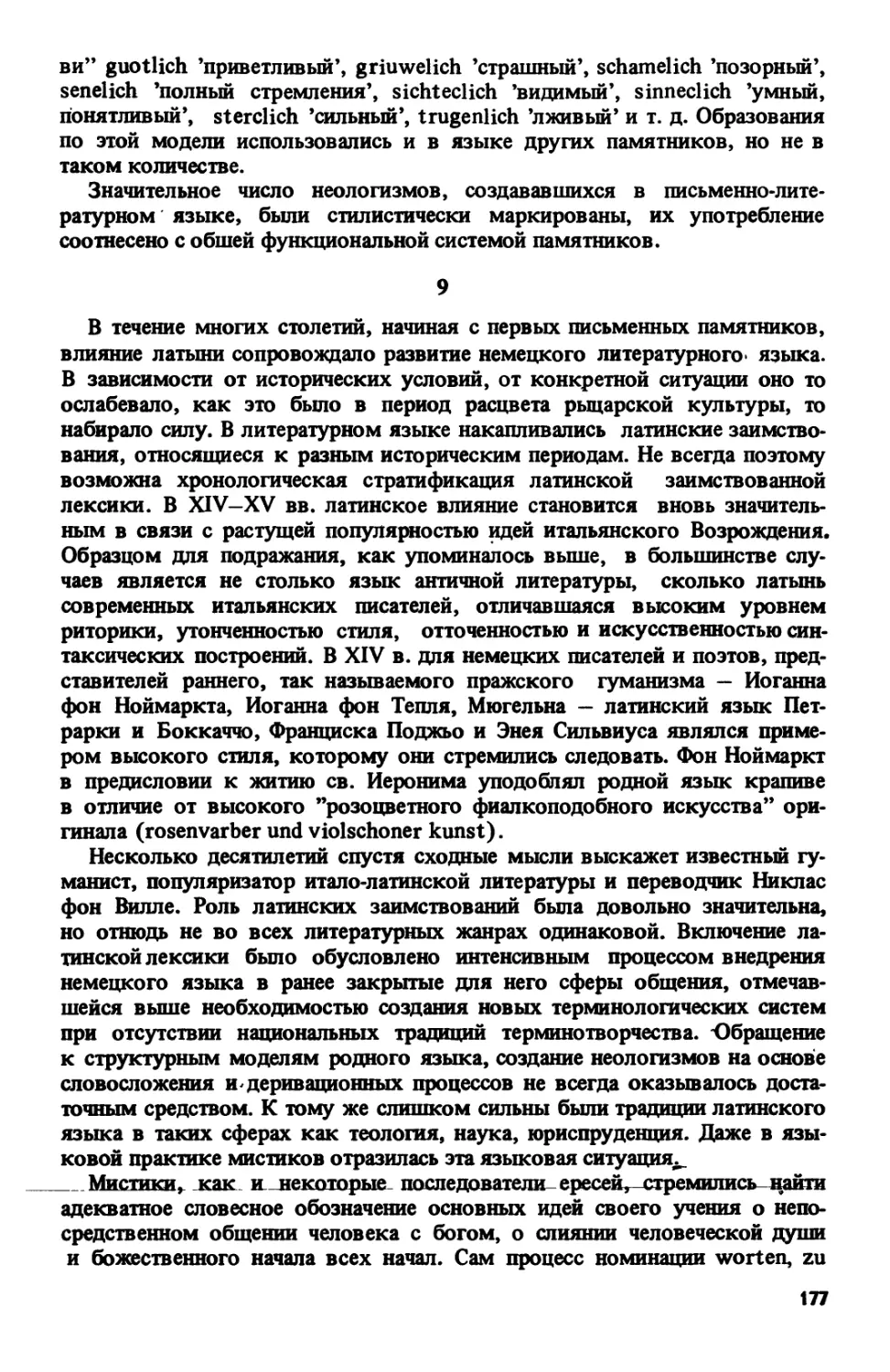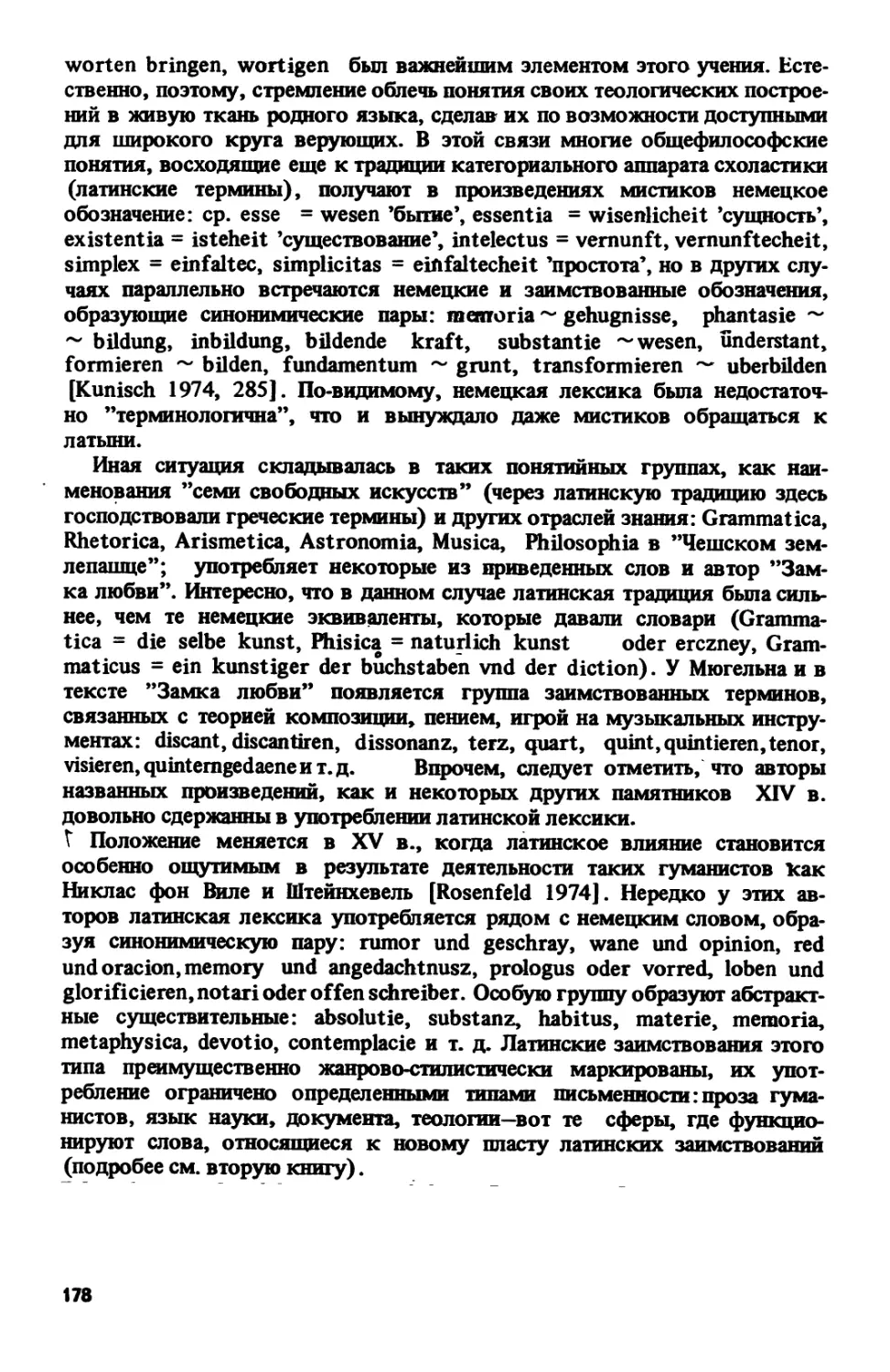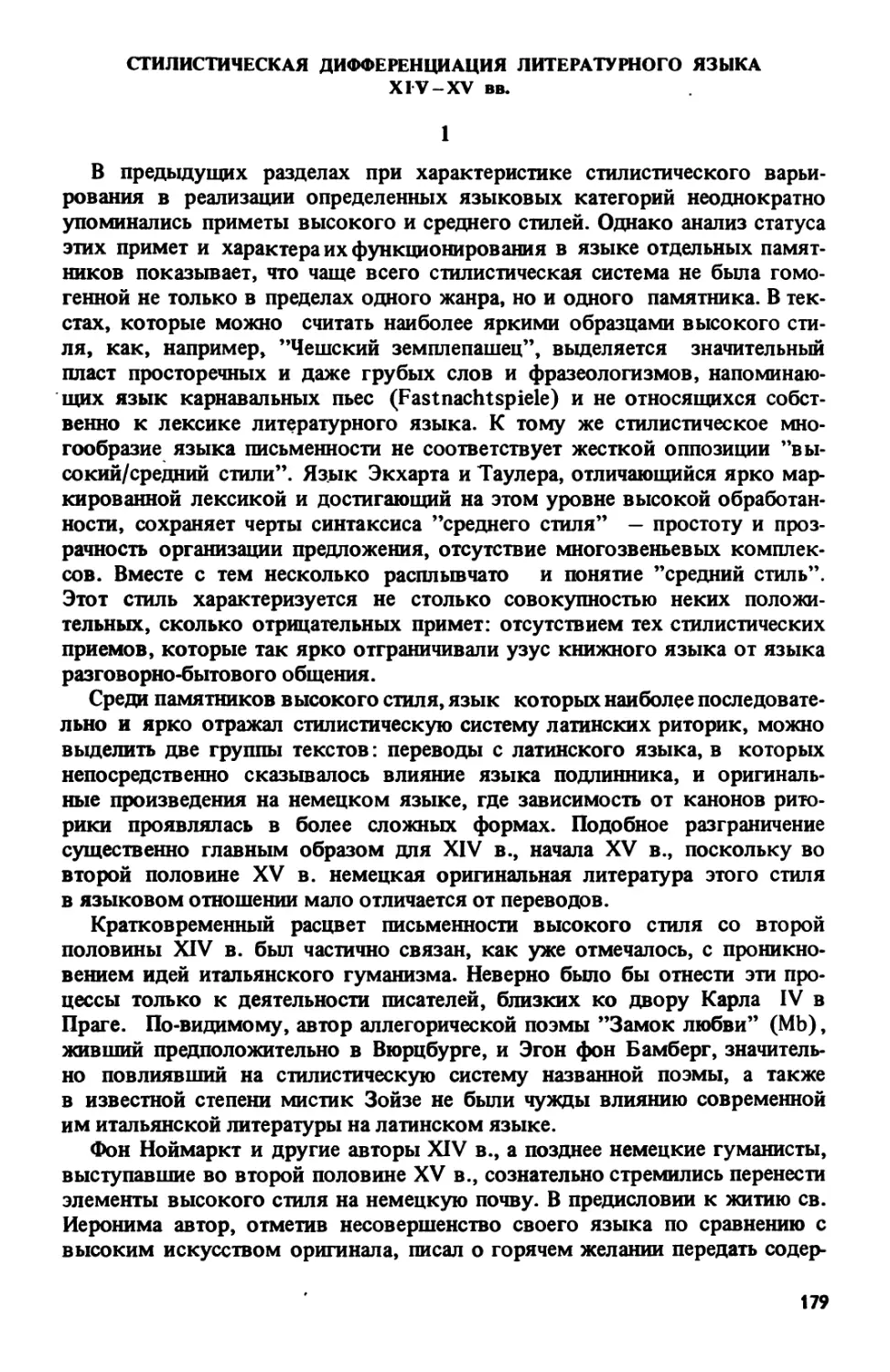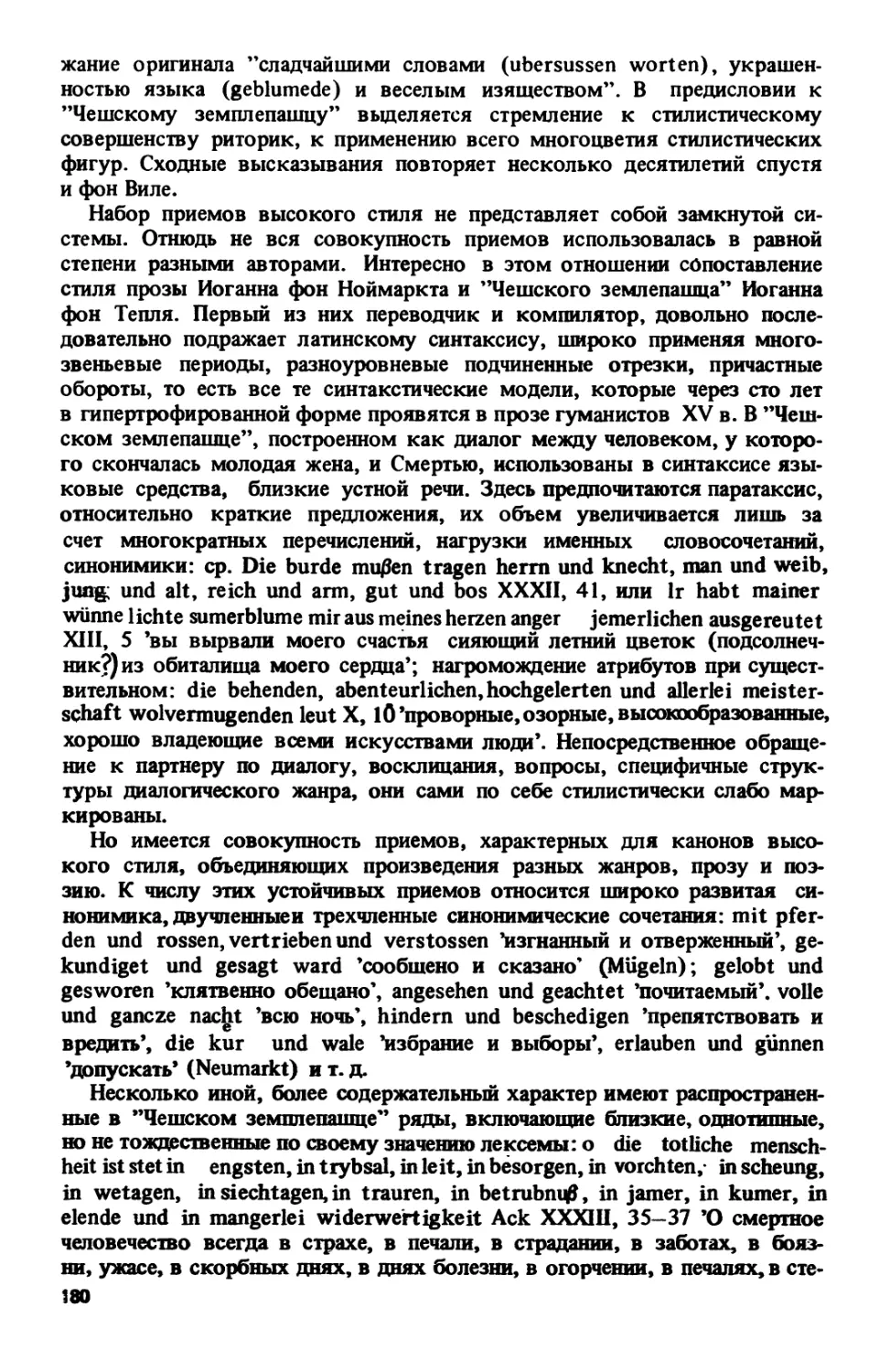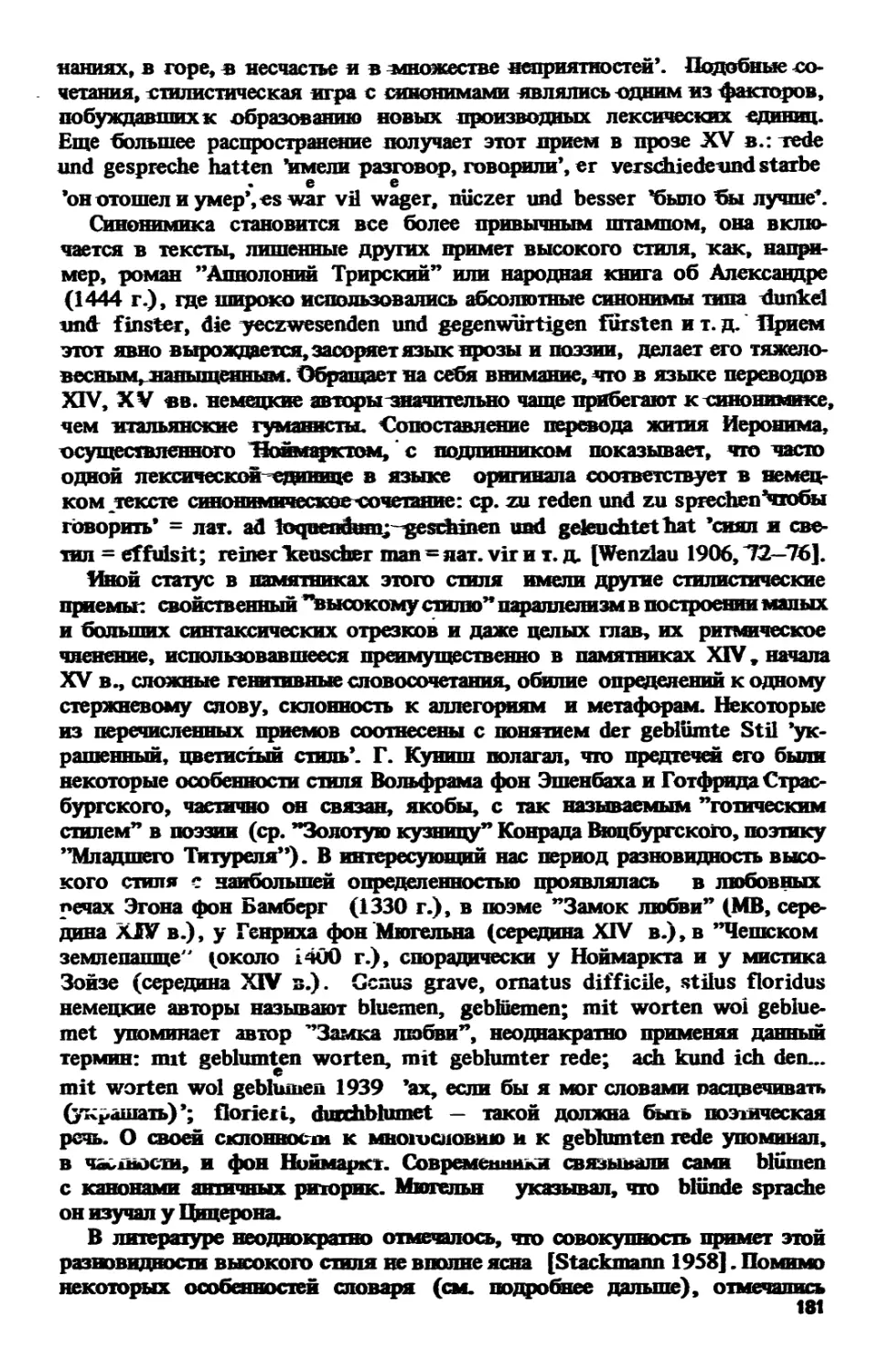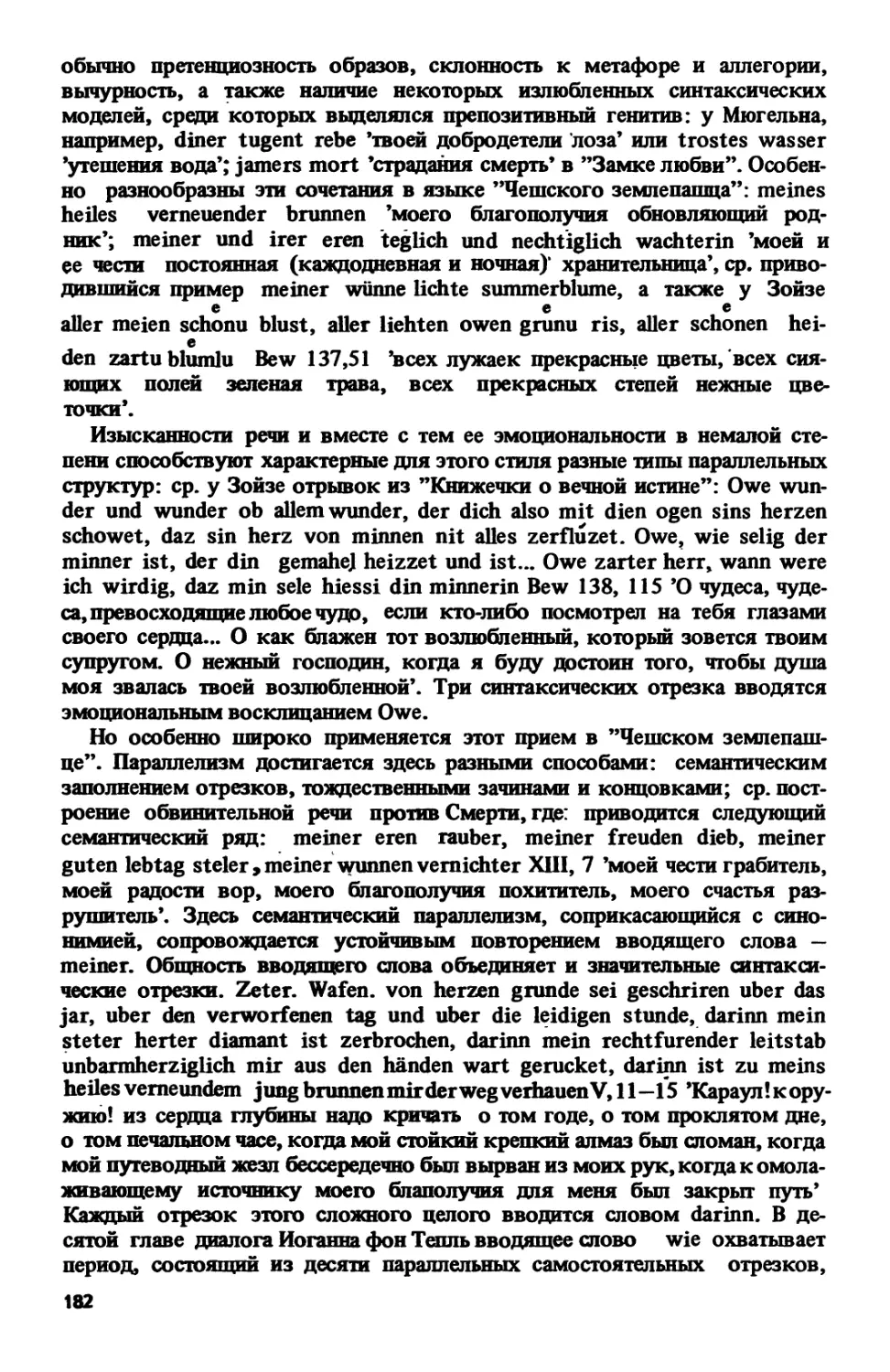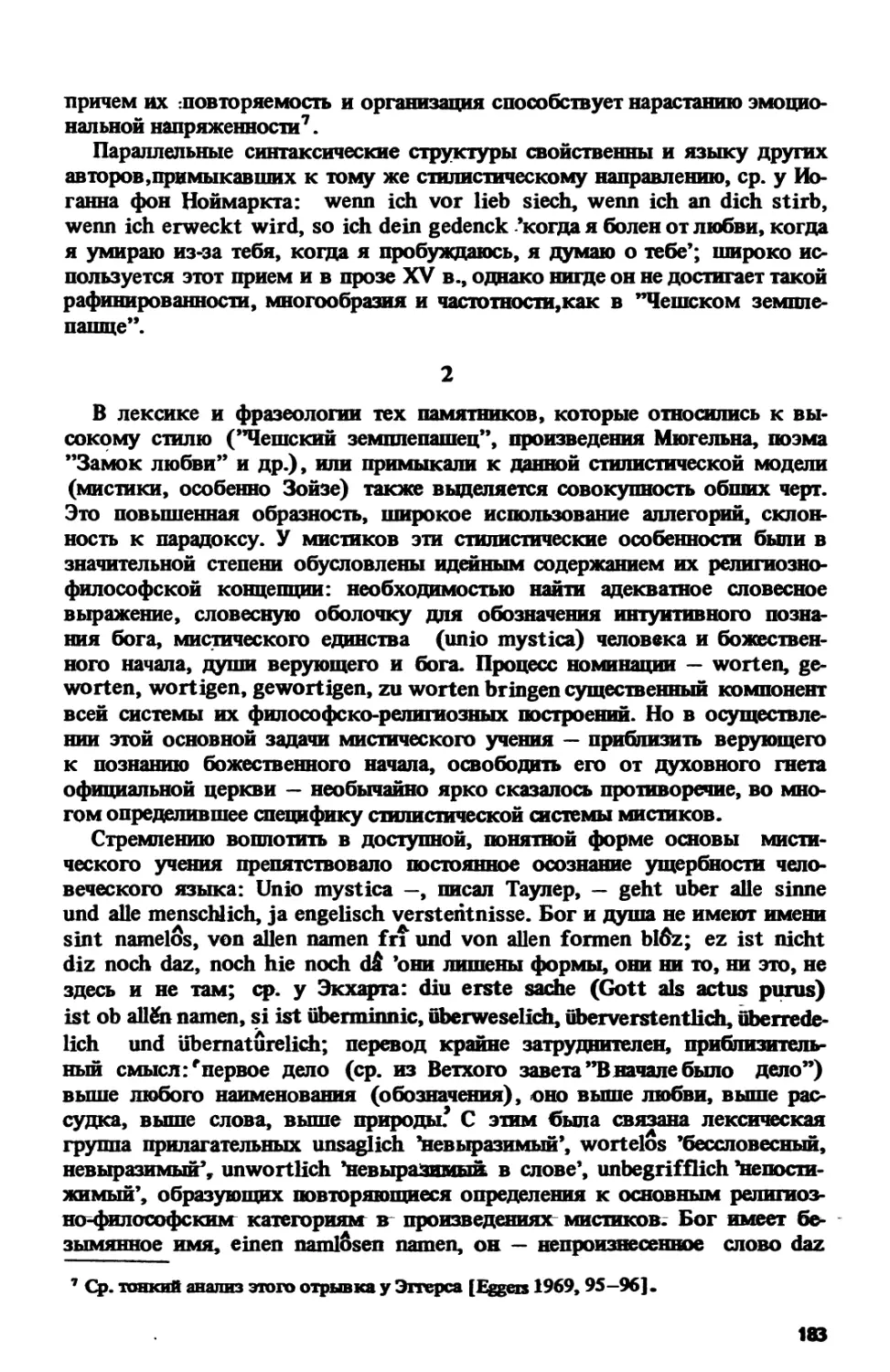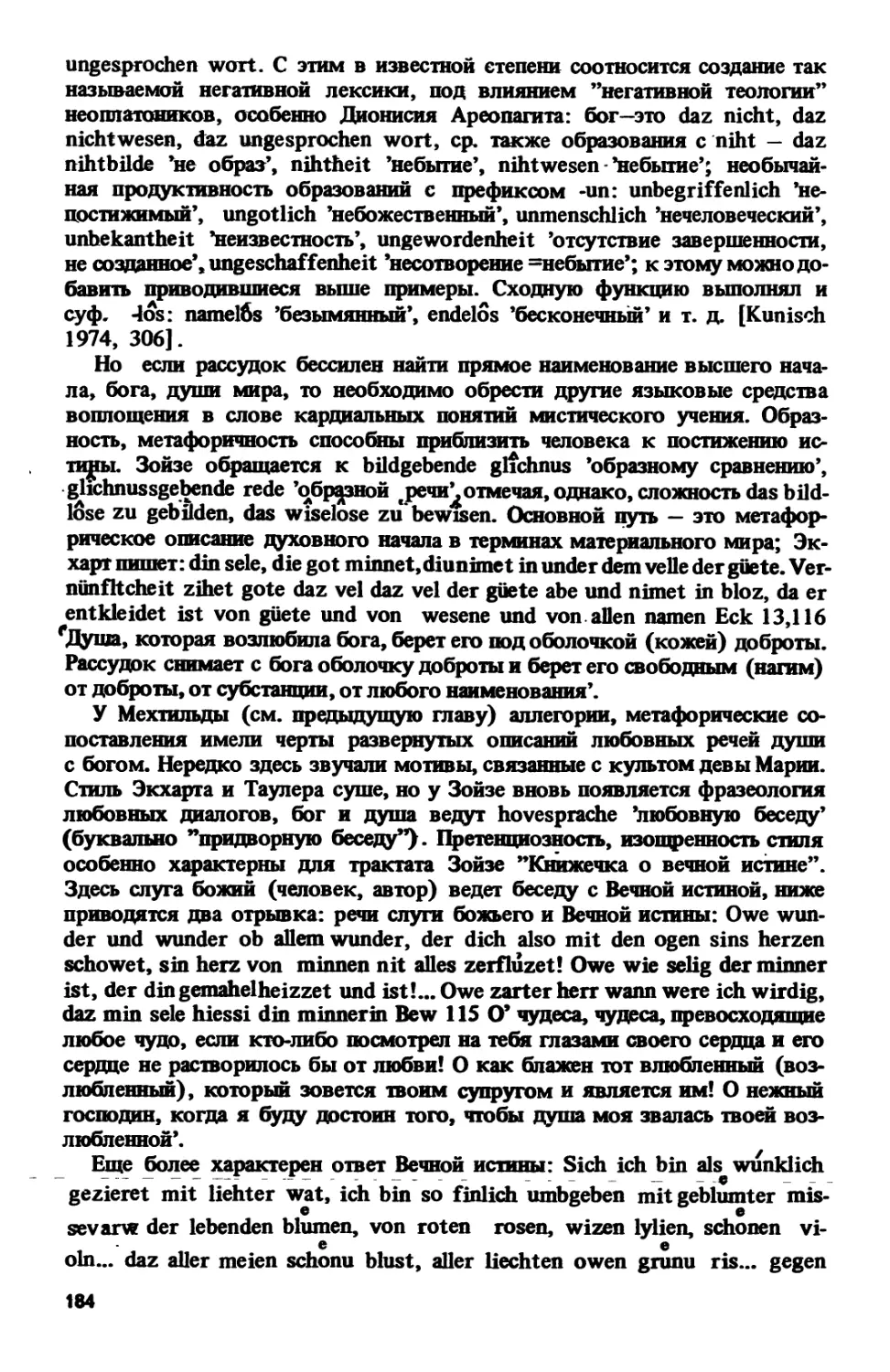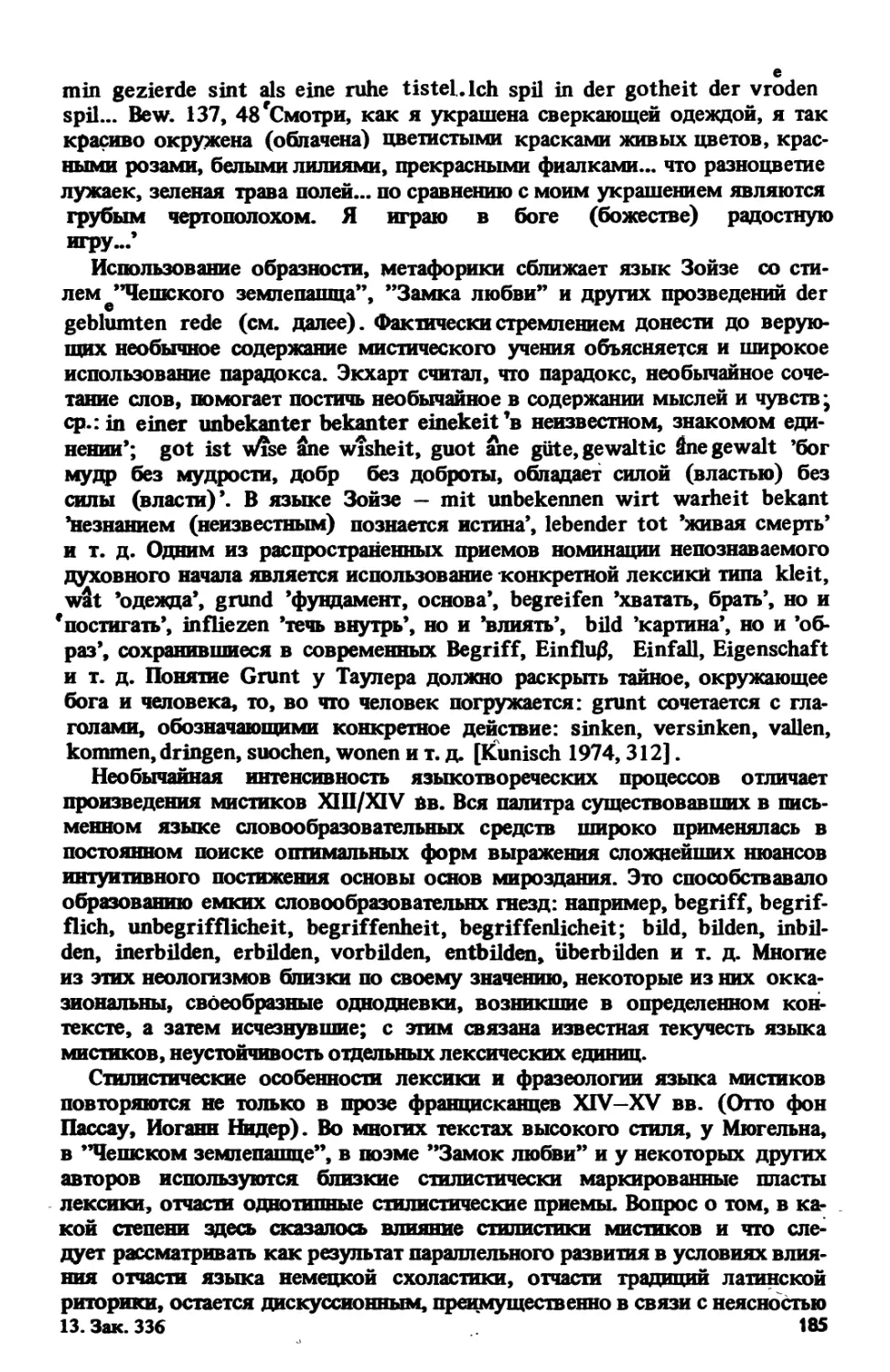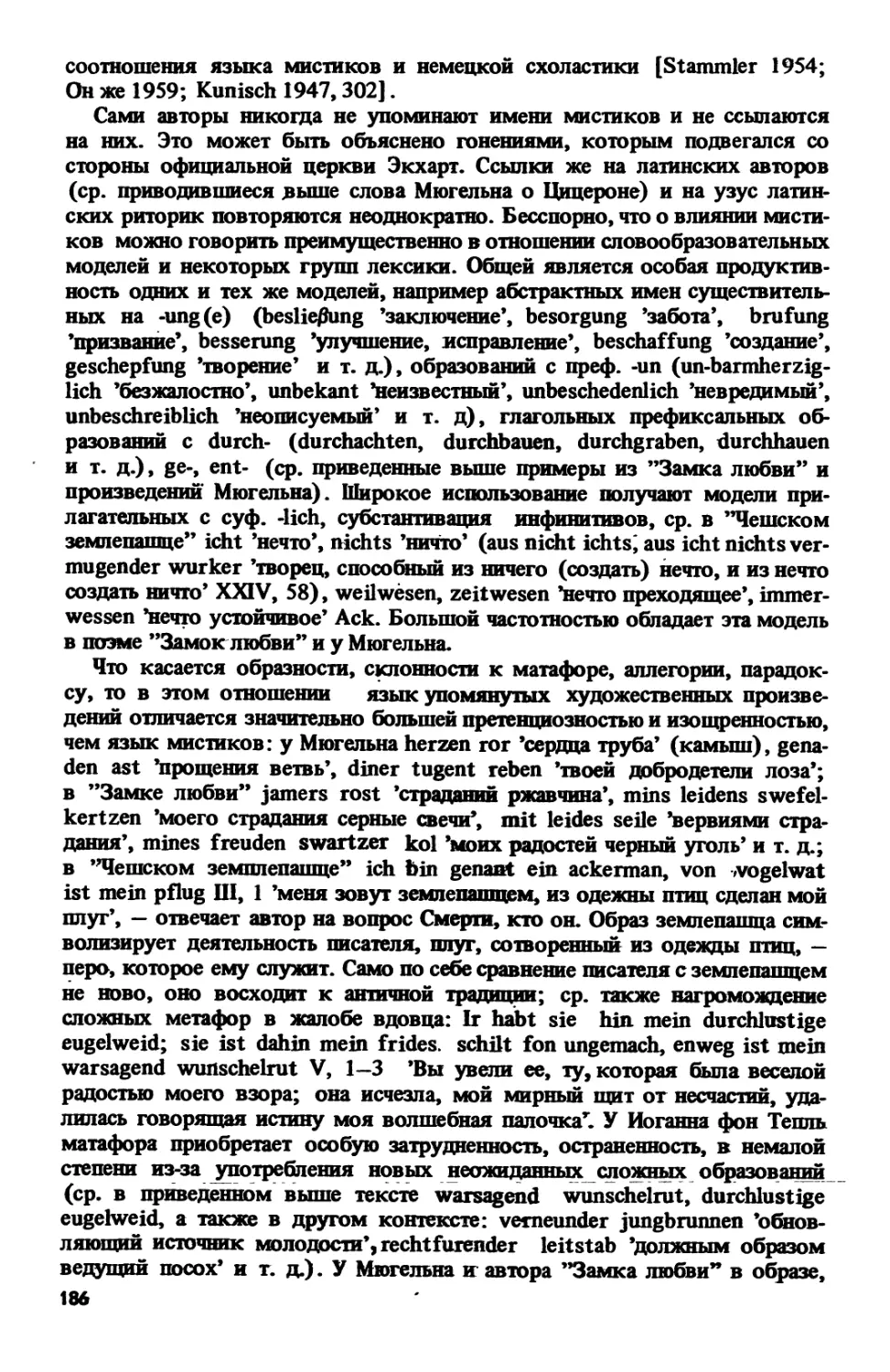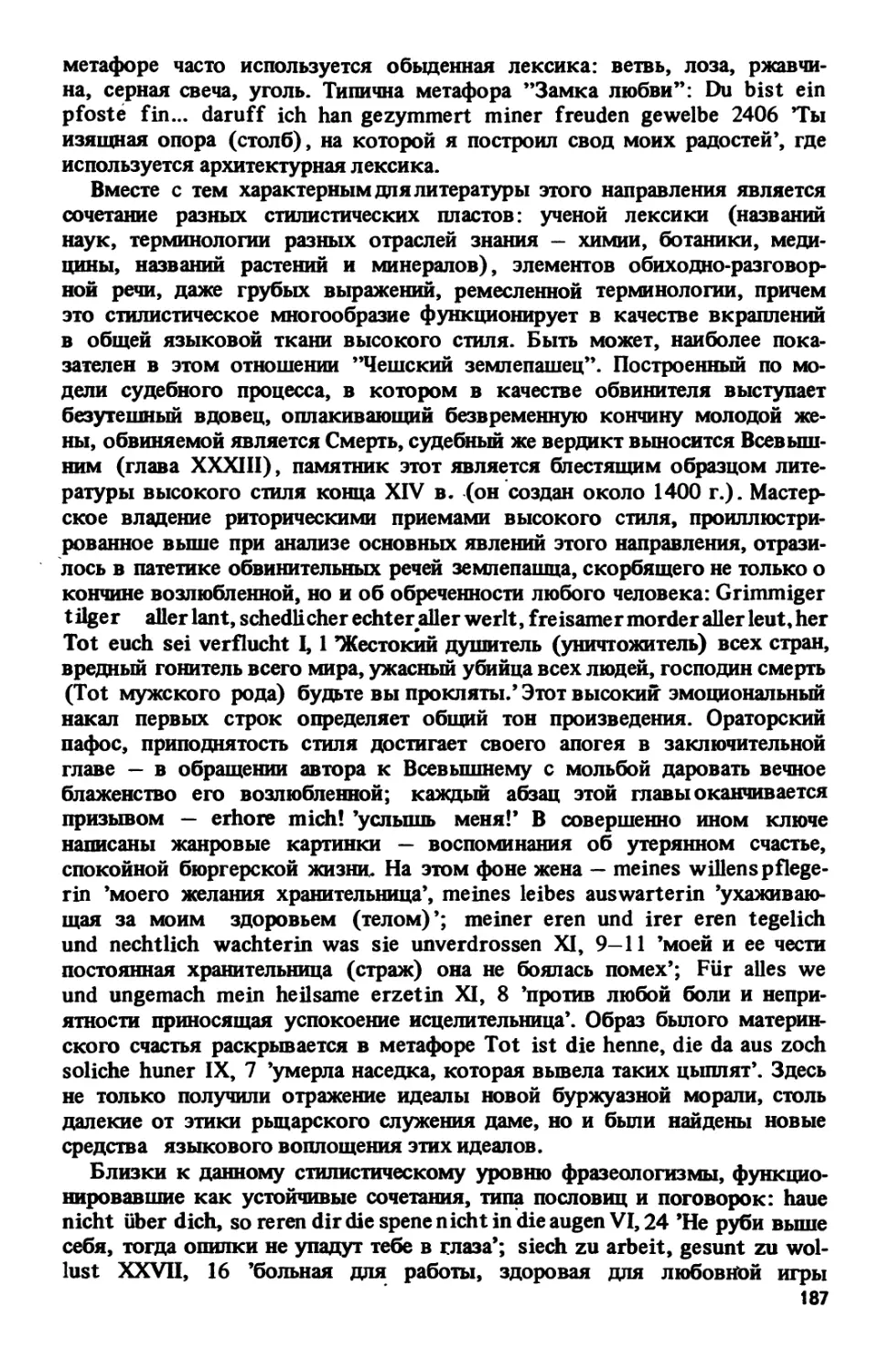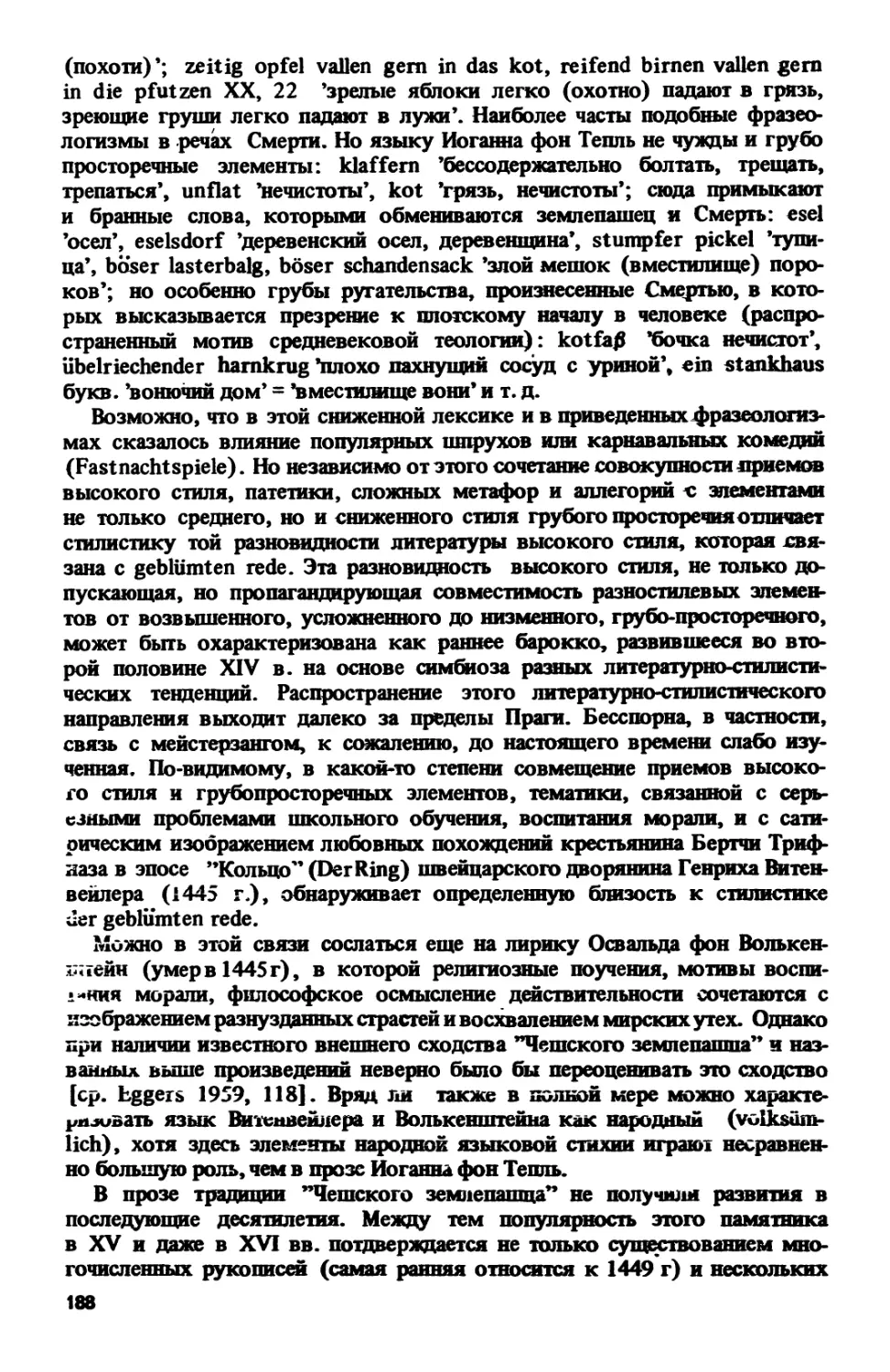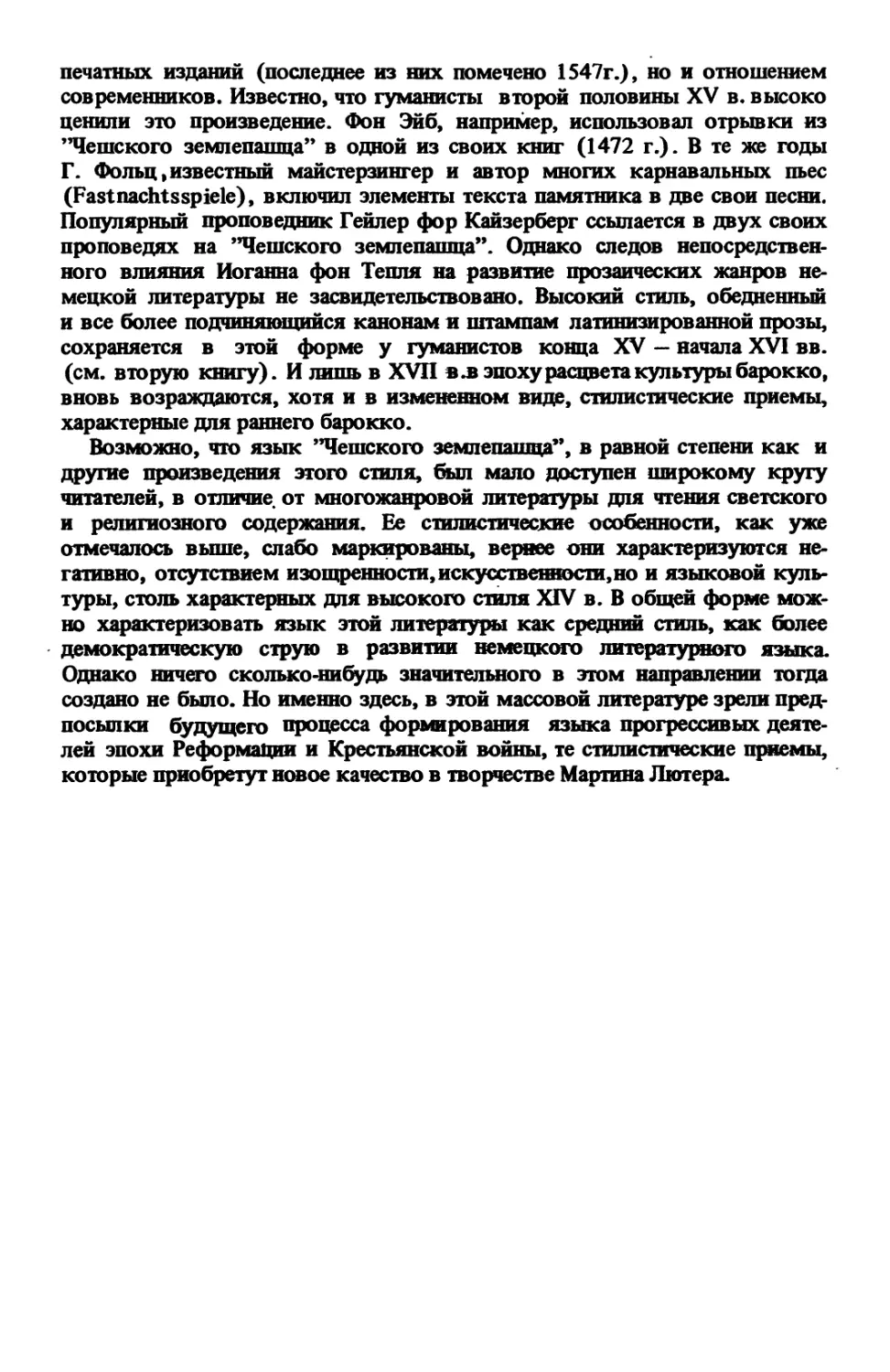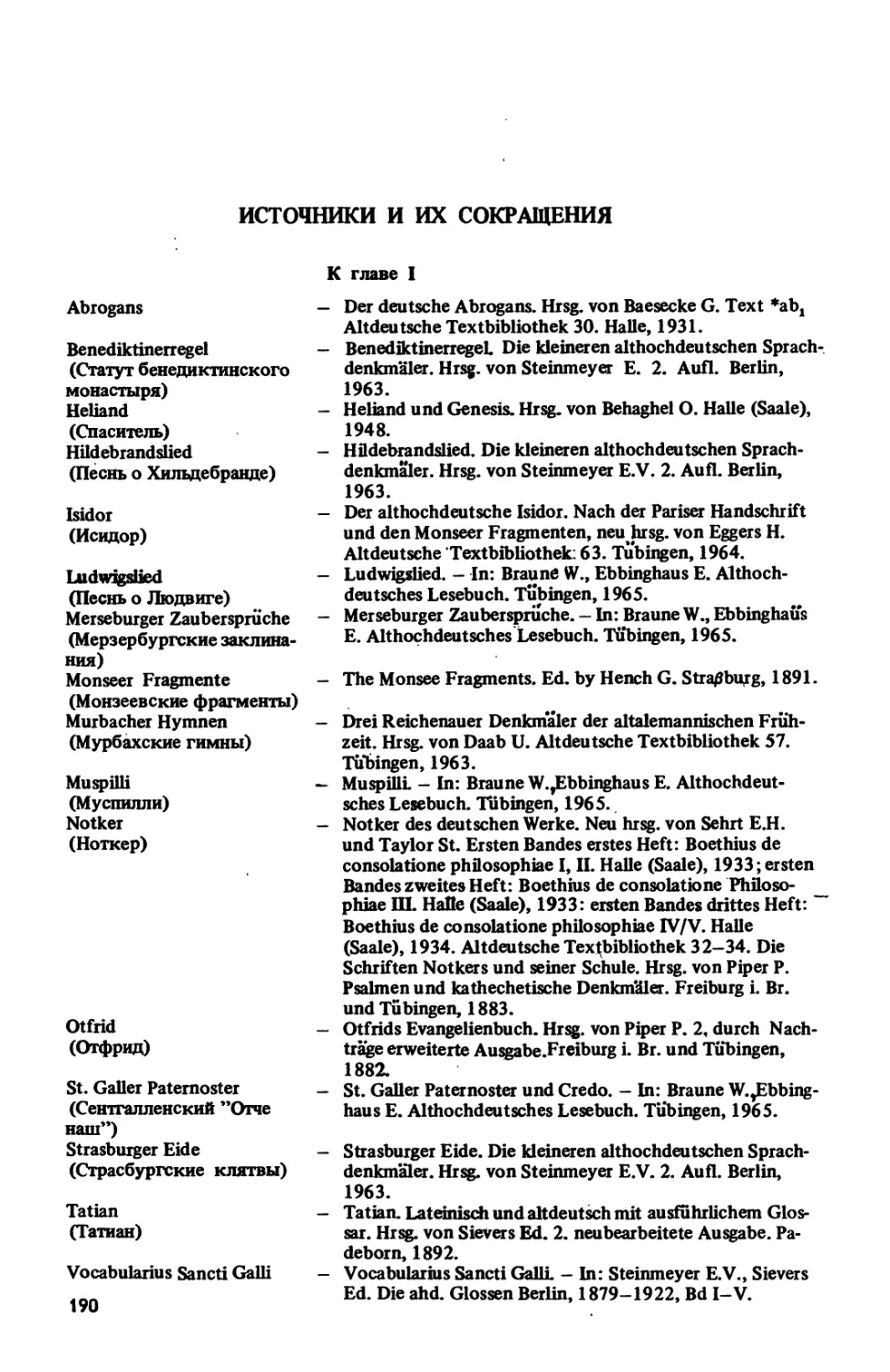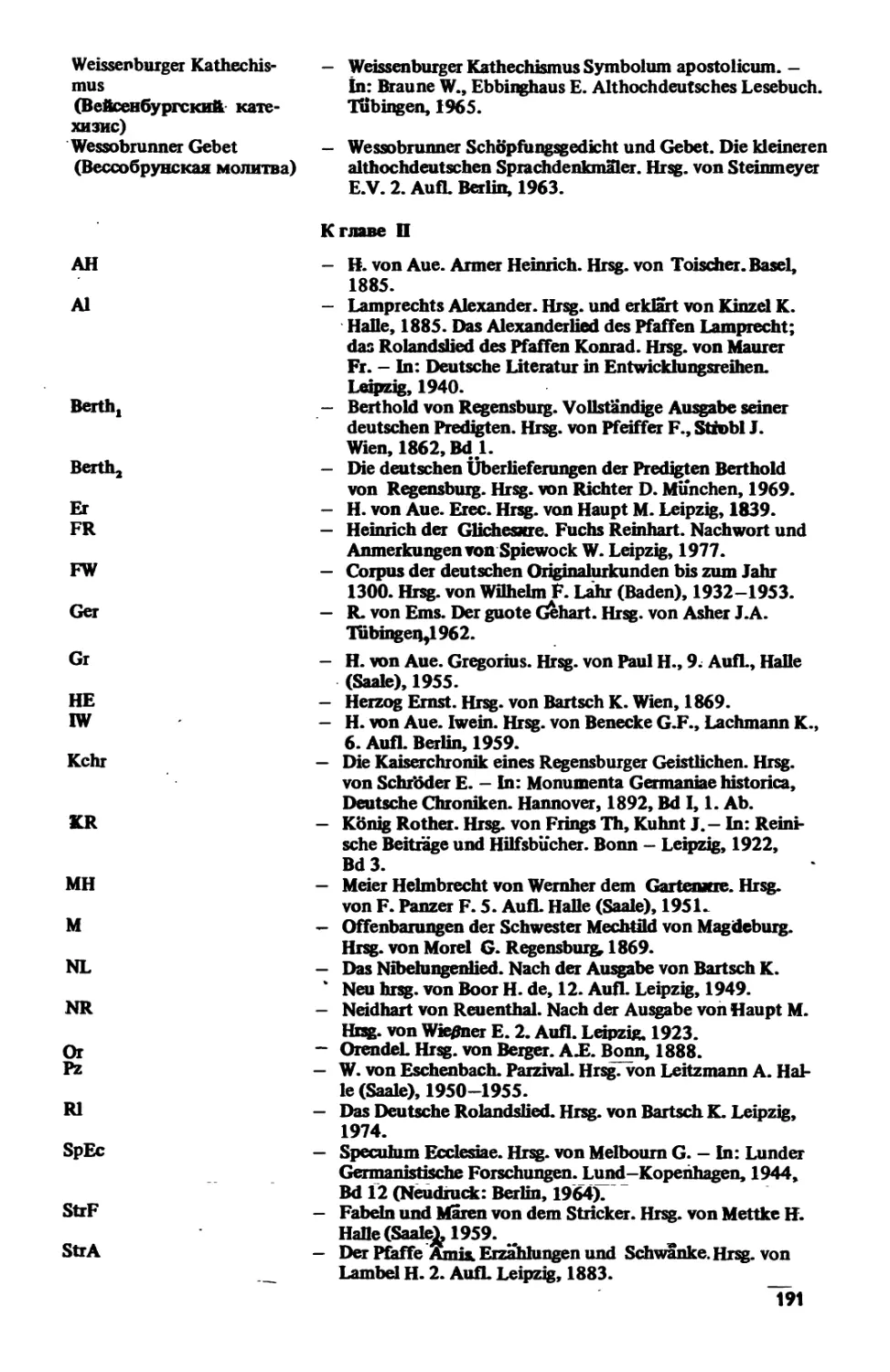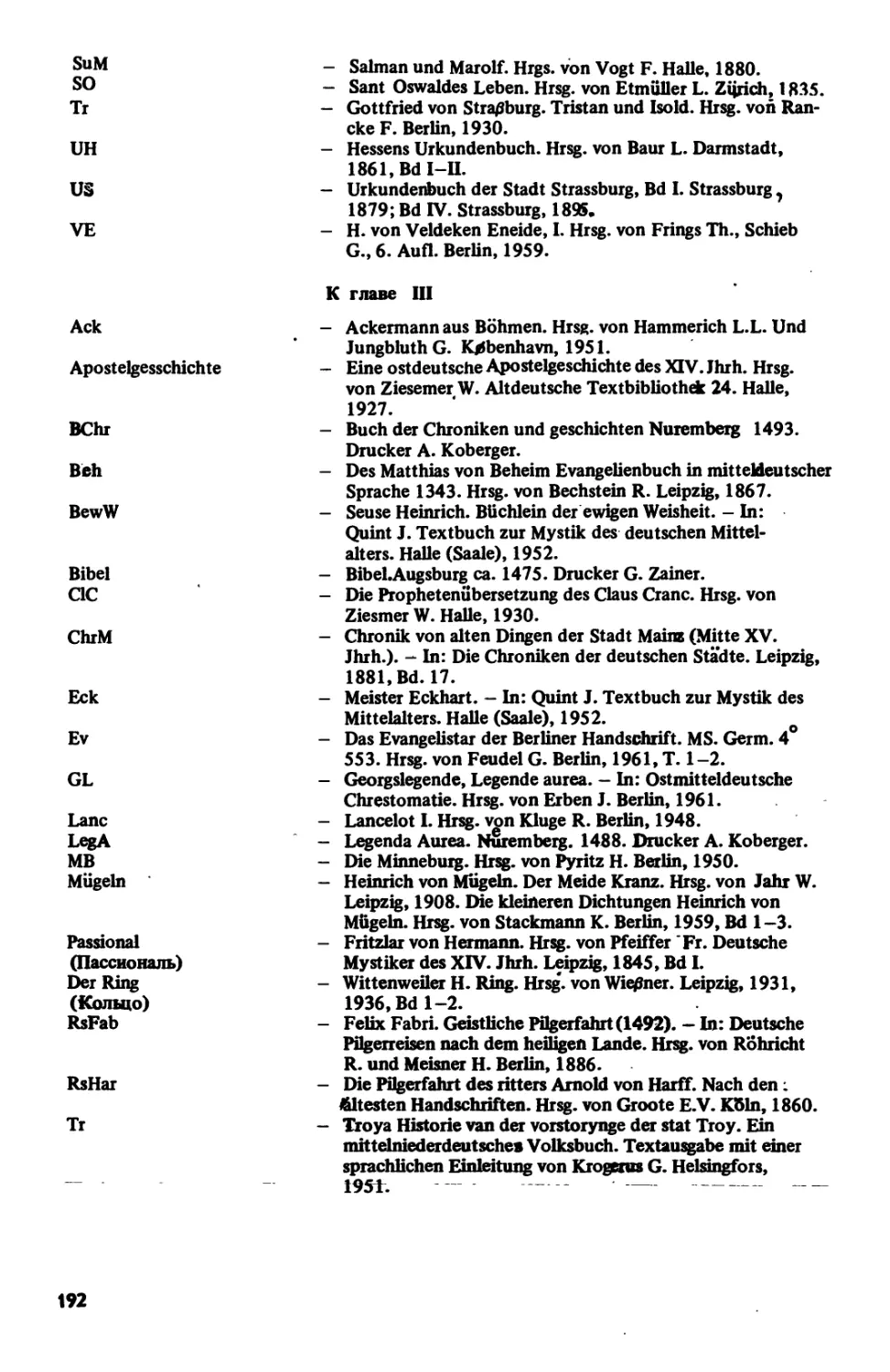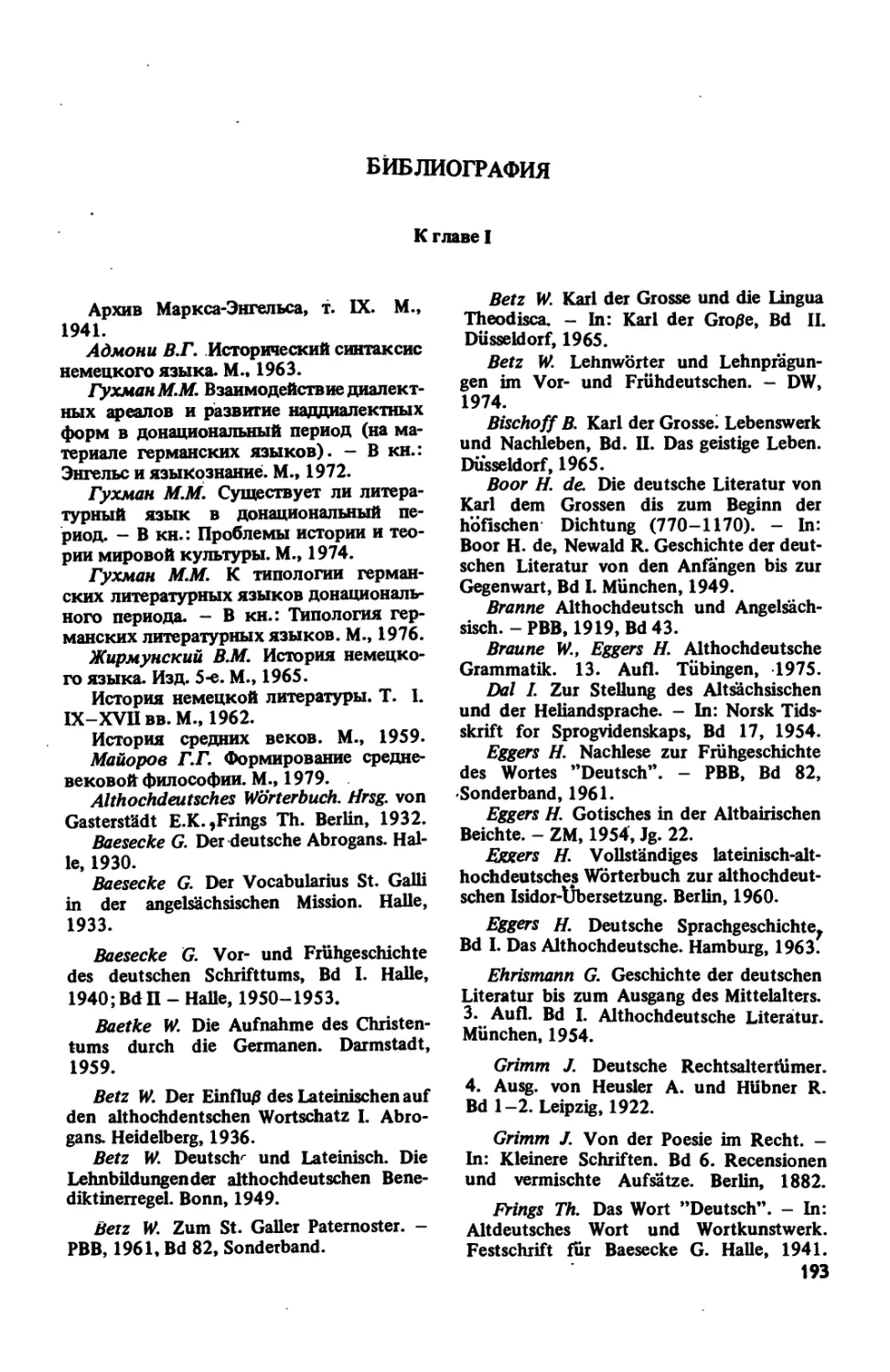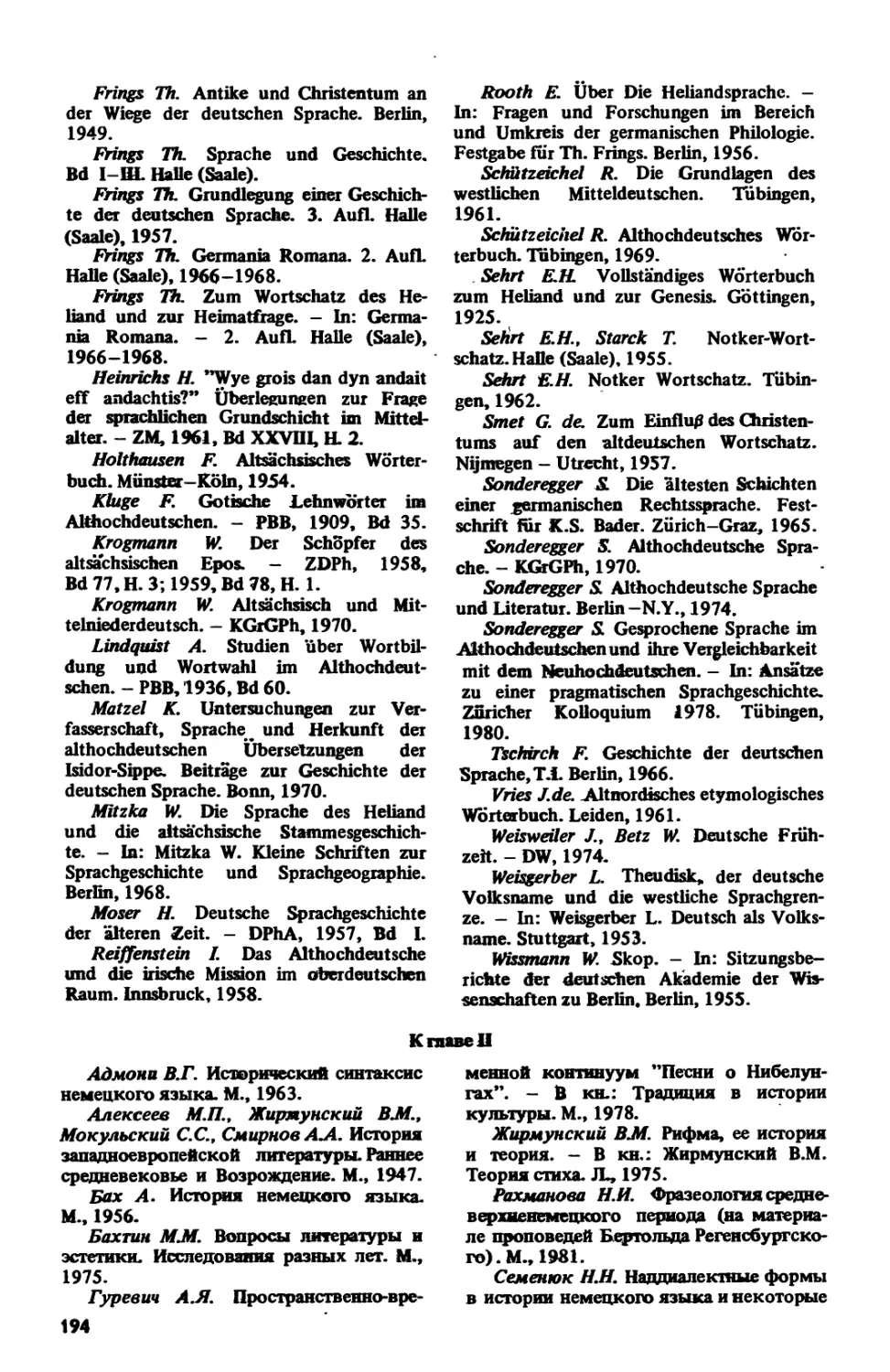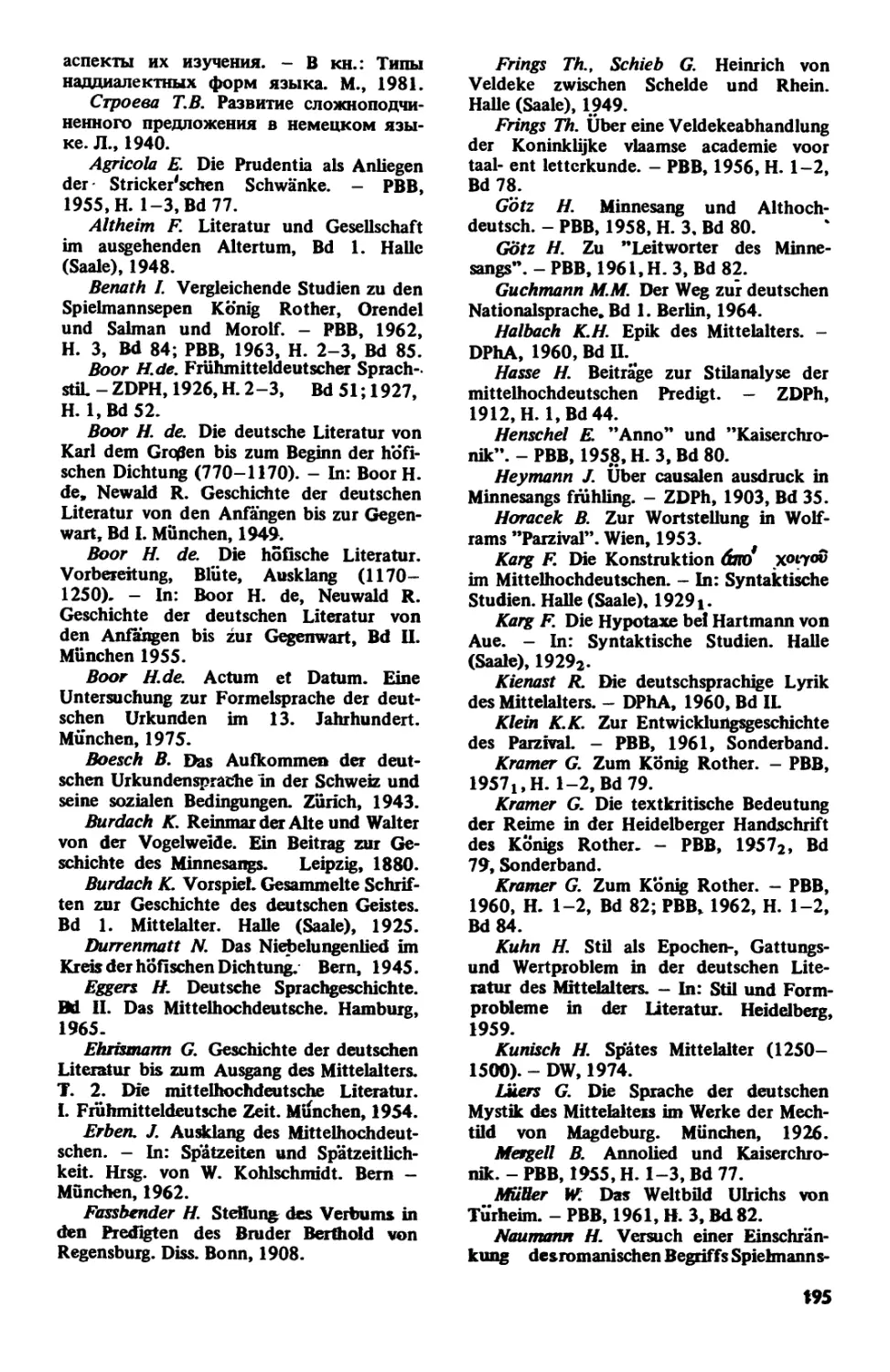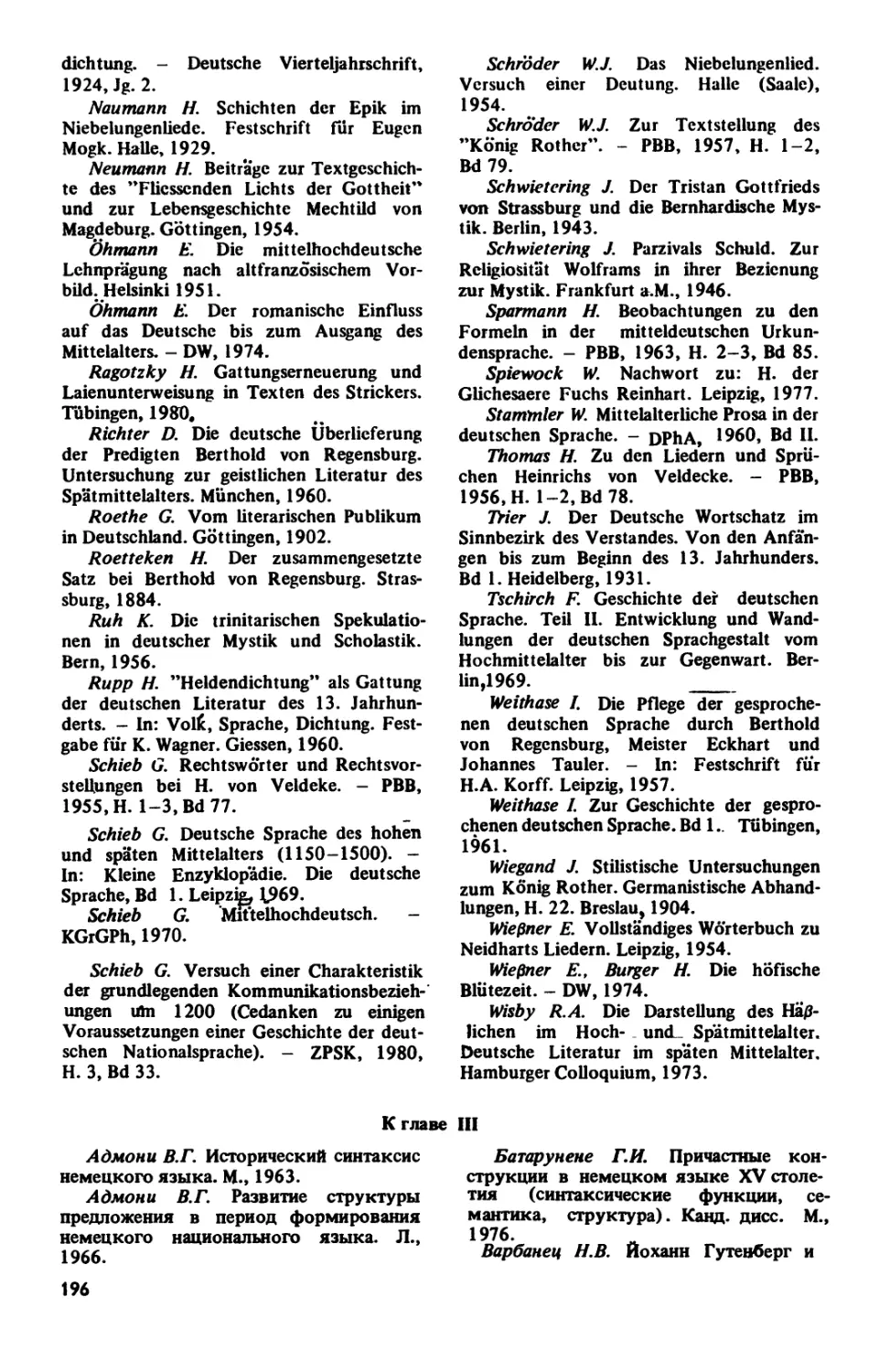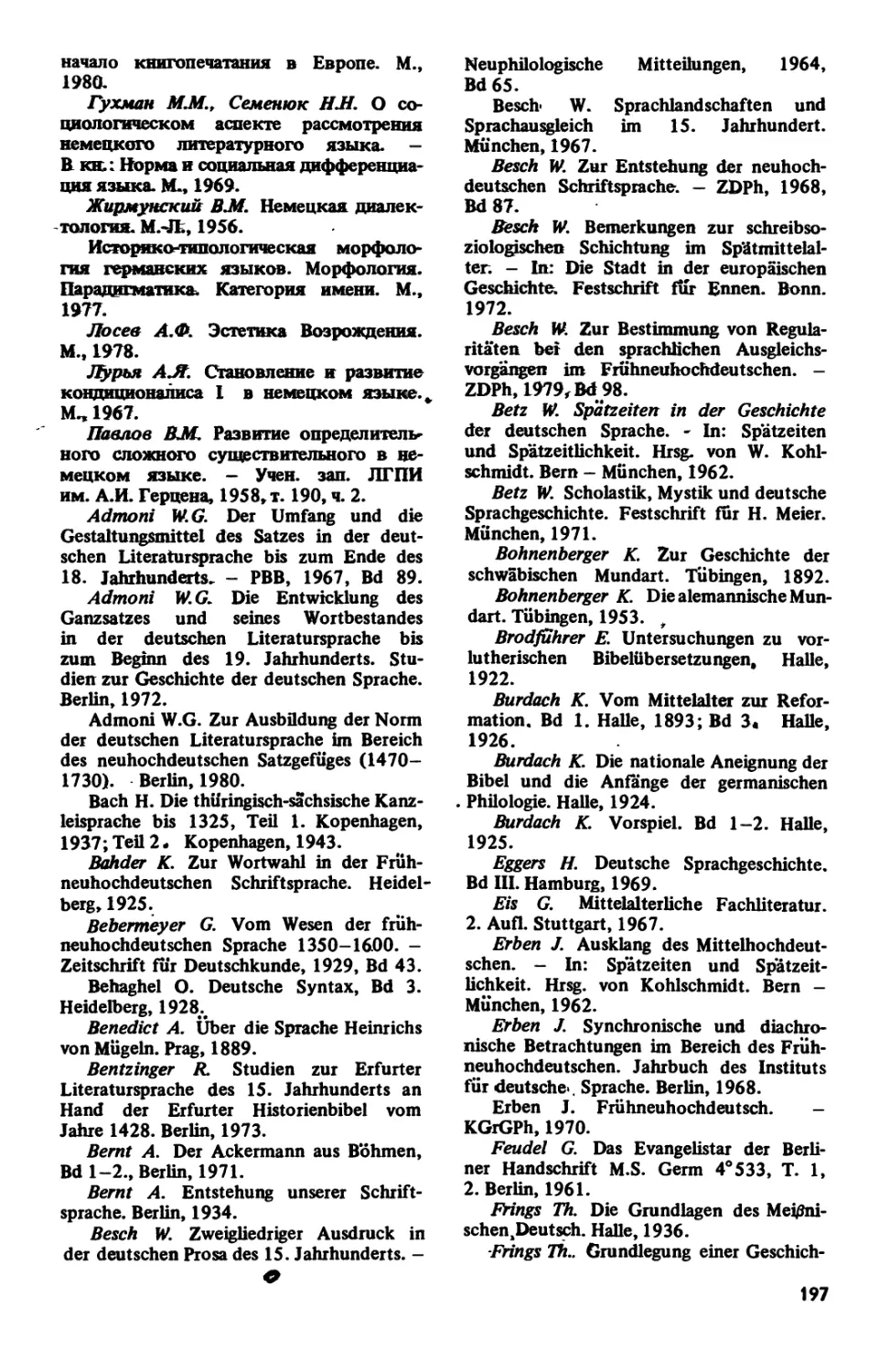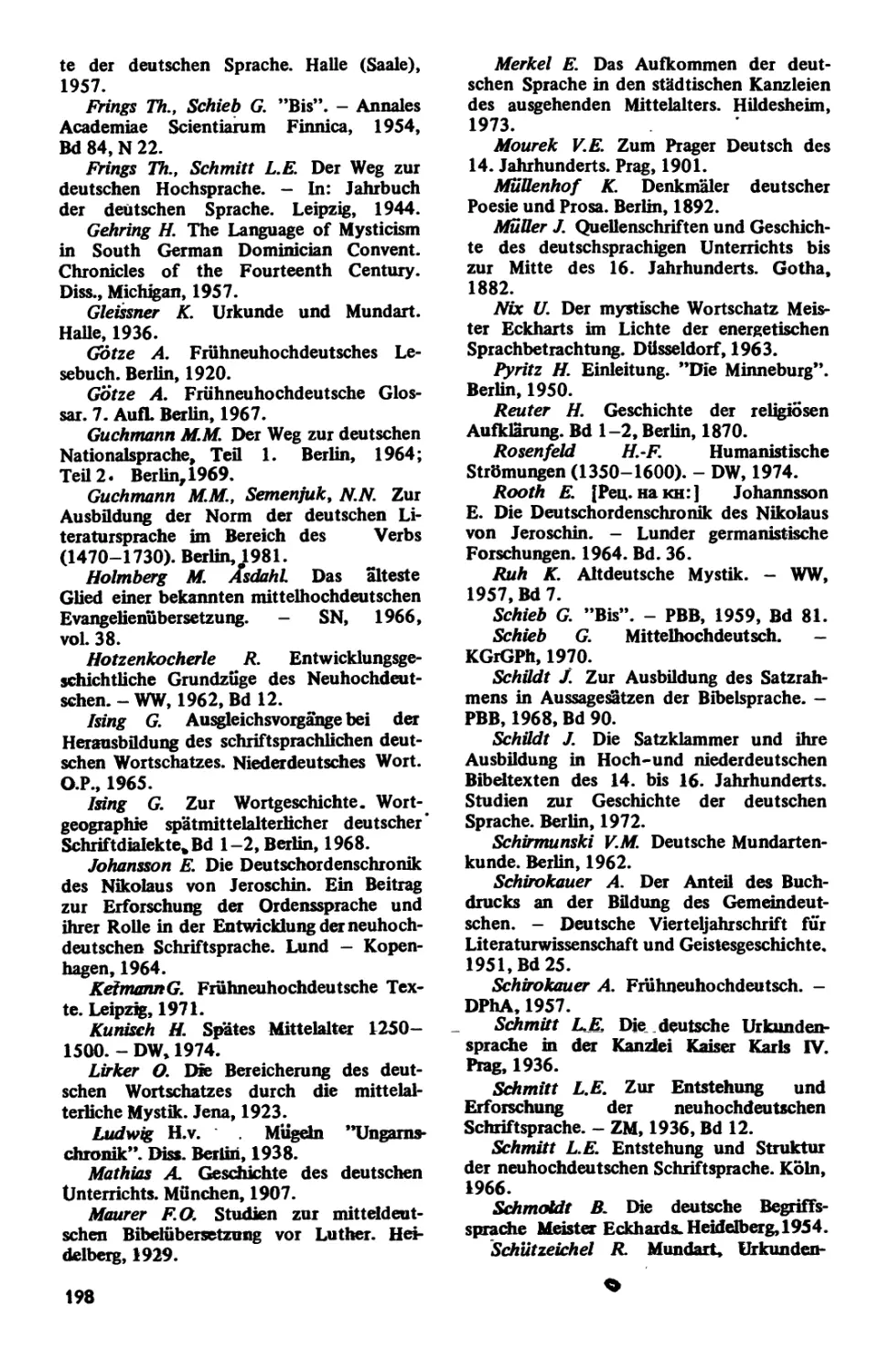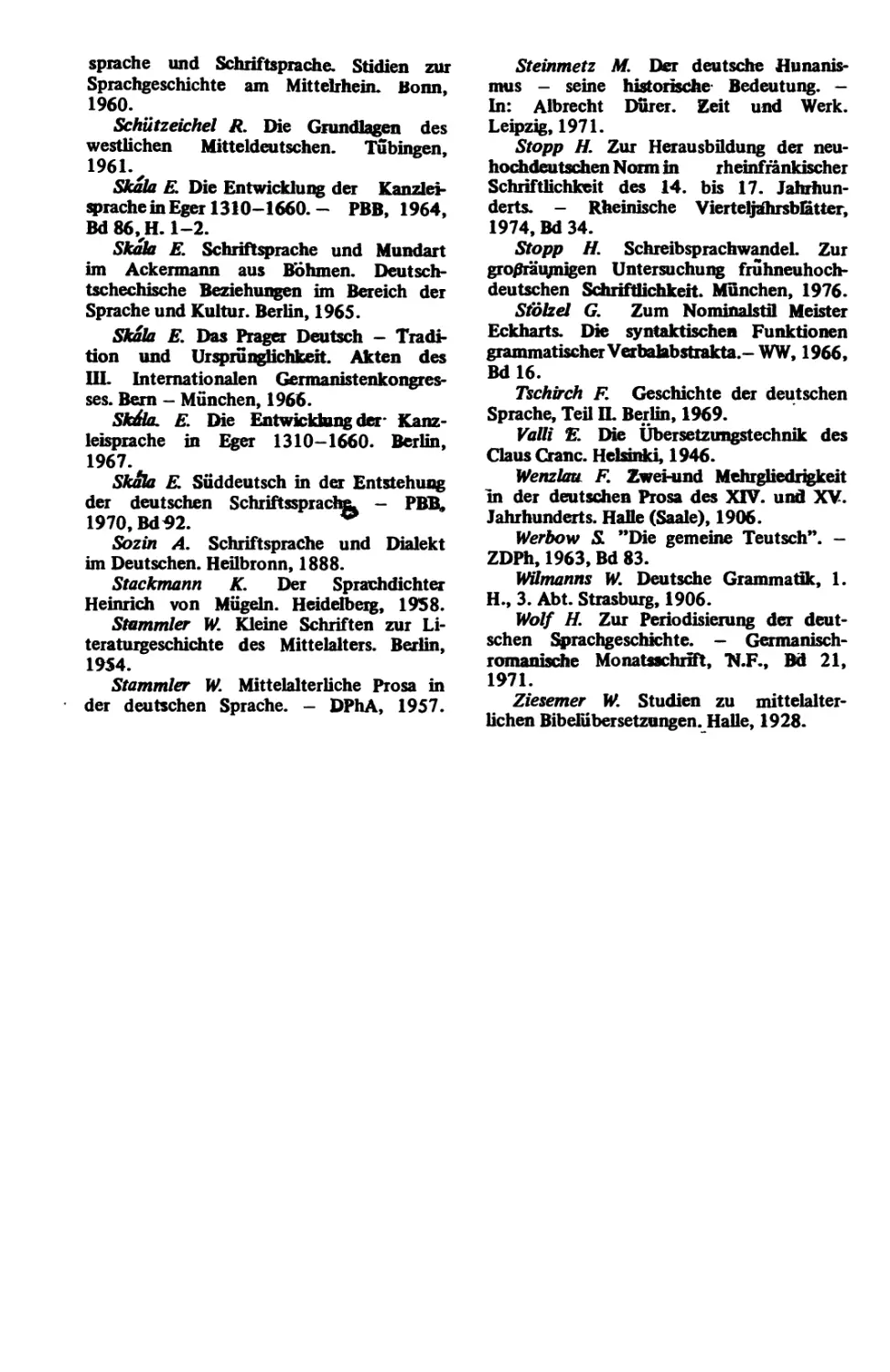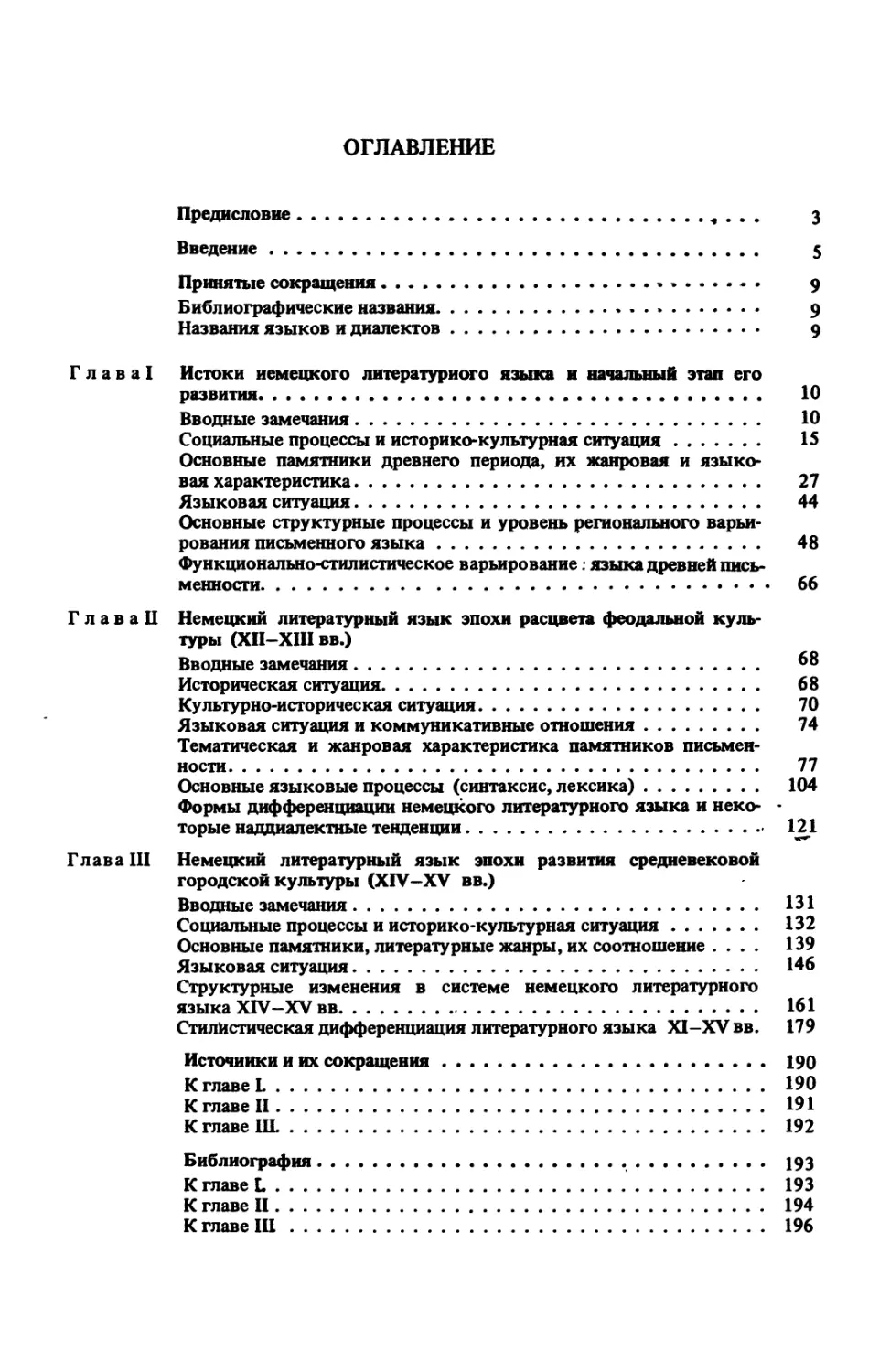Author: Гухман М.М. Семенюк Н.Н.
Tags: монография история литературы немецкая литература литературный язык
Year: 1983
Text
В монографии рассматриваются вопросы становления немецкого литературного
языка в период формирования немецкой народности (IX—XV вв.), а также процессы,
связанные с фушашональночггилистяческим варьированием языка на разных этапах
его развития. Авторы широко привлекают материалы письменных памятников разных
жанров.
Ответственный редактор
член-корреспондент АН СССР
В.Н. ЯРЦЕВА
Мирра Моисеевна Гух май, Наталья Николаевна Семенюк
ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
EC-XVbb.
Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР
Художник СБ.Генкина. Художественный редактор Т.П. Поленова
Технический редактор НЖ Бурова. Корректор OJL Рйзуменко
ИБМ* 26723
Подписано к печати 30.05.83. Формат 60 х 90 1/16. Бумага офсетная N* 1
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,5. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 15,9
Тираж 1650 экз. Тип. зак. 336. Цена 2 р. 40 к.
Издательство "Наука", 117864 ГСП-7, Москва,3-485, Профсоюзная ул., д. 90
Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград, В-34,9-я линия, 12
4602000000-225
С 345-83-Ш ©Издательство "Наука",
042 (02)-83 1983 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выделение истории немецкого литературного языка в качестве особого
объекта лингвистического исследования выпадает из традиционной схемы
построения истории языка. В создававшихся у нас и за рубежом обобщаю-
щих работах по истории немецкого языка наиболее распространенным
является включение элементов истории литературного языка в общую
ткань изложения исторических процессов. Замечания по отдельным воп-
росам истории немецкого литературного языка в одних трудах оказыва-
ются разбросанными по разным разделам, причем их изложение перепле-
тается с описанием явлений исторической грамматики и лексикологии,
в других — в пределах истории языка выделяются отдельные фрагменты,
посвященные преимущественно позднему периоду истории литератур-
ного языка. В обоих случаях отсутствует последовательное рассмотрение
развития литературного языка на весям протяжении его многовековой
истории, ускользают смены языковых ситуаций, а также изменения, выз-
ванные этими процессами в статусе литературного языка. Иными словами,
роль преемственности в развитии немецкого литературного языка, а также
специфика отдельных звеньев его истории не получают должного
освещения.
Между тем еще в начале 40-х годов в отечественной руссистике Г.О. Ви-
нокур, а позднее РА. Аванесов высказывали соображения по поводу
целесообразности выделения в истории языка двух относительно самосто-
ятельных дисциплин, а именно — исторической грамматики и истории лите-
ратурного языка. Впервые с такой определенностью не только была выде-
лена история литературного языка как особая дисциплина, но и была
отграничена ее проблематика от содержания исторической грамматики.
Положения эти, в значительной степени повлиявшие на формирование
истории русского литературного языка, не были применены до последнего
времени к немецкому языку, в германистике продолжали господствовать
традиционные схемы построения истории языка. Этим объясняется в зна-
чительной степени и отсутствие работ, в которых становление немецкого
литературного языка, его дальнейшее развитие, количественные и качест-
венные изменения в его функциональной системе рассматривались бы как
единый процесс, обусловленный в конечном итоге социальной и культур-
ной историей народа, хотя имеется немало интересных исследований, посвя-
щенных отдельным проблемам истории немецкого литературного языка.
Тем самым коллективный труд "История немецкого литературного
языка", осуществляемый в настоящее время по координационному плану
совместных работ Института языкознания АН СССР и Центрального Инсти-
тута языкознания АН ГДР, является первым опытом построения подоб-
ного исследования. Следствием неразработанности проблематики данного
направления являются дискуссионность многих вопросов и известная
3
фрагментарность изложения. История литературного языка предполагает
широкое привлечение памятников разных жанров, прозаических и поэти-
ческих. Это требование далеко не всегда могло быть осуществлено в связи
со слабо» изученностью текстового материала для определенных периодов
историк немецкого языка. Поэтому некоторые щюблемы могли быть
только поставлены и требуют дальнейших специальных исследованш*.
. R частности* это относится к принятой схеме периодизации истории лите-
ратурного языка.
Да^хьш труд задумав как три, до известной степени самостоятельные
KJffimv объединяемые обищми методологическими и теоретическими пред-
посылками, а также хронологической последовательностью: 'История
немещсогб литературного языка DC—XV вв-*% исполнители М.М. Гухман
и HJL Семенюк; "История немецкого литературного языка XVI—
XVIH вн.'\ исполнители ММ, Гухман, Hü. Семенюк и Н.С. Бабенко;
"История немецкого литературного языка XIX, начала XX вв.", исполни-
тель Г. Фоцдель (ГДР).
Предлагаемая к изданию монография "История немецкого литератур-
ного языка IX—XV вв." содержит,, помимо конкретных исторических глав,
теоретическое введение, в котором освещаются основные задачи всей
работы, ее методологические и методические предпосылки, а также прин-
ципы отбора языкового материала. Авторская работа по главам распре-
делилась следующим образом: М.М. Гухман написаны главы "Истоки
немецкого литературного языка и начальный этап его развития (IX—
XI вв.)" и "Немецкий литературный язык эпохи развития средневековой
городской культуры (XIV—XV вв.)", RH. Семенюк — глава "Немецкий
литературный язык эпохи расцвета феодальной культуры (XII—XIIIвв.)".
Рукопись подготовлена к печати научным сотрудником сектора герман-
ских языков Института языкознания АН СССР Н.С. Бабенко.
ВВЕДЕНИЕ
При определении содержания и направления монографии "История не-
мецкого литературного языка" первостепенное значение имеет выделение
основной для данной работы проблематики и установление ее соотношения
с проблематикой и материалом других историко-лингвистических дис-
циплин — с исторической фонетикой, грамматикой и лексикологией, а
также с исторической диалектологией и стилистикой. С этим связано
прежде всего уточнение понятия "литературный язык". В работе исполь-
зуются те характеристики литературного языка, которые частично офор-
мились в отечественном языкознании, а затем применялись авторами дан-
ной книги в ряде исследований на материале германских языков.
Литературный язык рассматривается как одна из форм существования
языка, как определенное языковое состояние, компонент языковой ситуа-
ции. К его дифференциальным признакам относятся: 1) большая или
меньшая степень обработанное™ и связанная с этим селективность;
2) большая или меньшая полифункциональность (поливалентность),
порождающая стилевое многообразие и функционально-стилистическое
варьирование; 3) тенденция к регламентации, соотнесенная с отмеченной
выше селективностью; 4) известный уровень гомогенности, что отнюдь
не исключает возможности территориального и социального варьирования;
5) разные формы обособления от диалекта, иными словами над-
диалектность.
Перечисленные признаки не вполне равноценны, ведущими, с нашей
точки зрения, являются обработанность и поливалентность. В этой связи
следует подчеркнуть, что понятие "литературный язык" отнюдь не тож-
дественно понятию "язык художественной литературы". Поэтому в данном
исследовании привлекается к рассмотрению значительный круг памятни-
ков разных жанров. Не останавливаясь здесь подробнее на деталях отбора
текстов для изучения литературного языка разных периодов, заметим,
что круг этих памятников в значительной мере определяется общим пони-
манием сущности литературного языка. И хотя степень и характер обра-
ботки языка в отдельных типах памятников весьма различны, история
языка должна строиться на изучении всей основной совокупности текстов,
относящихся к культурному континууму определенной эпохи. Поэтому
к рассмотрению должны привлекаться и произведения художественной
литературы, и деловая проза, и разные жанры религиозной литературы,
научные сочинения, эпистолярная литература, описания путешествий, перио-
дические издания и тл. Однако на этой общей основе для каждого из
рассматриваемых периодов выделяются центральные сферы использования
литературного языка и в пределах этих сфер — наиболее репрезентативные
типы письменности. На изучении этих центральных функциональных сфер
и ведущих видов и жанров письменности и строится характеристика каж-
5
дого отдельного исторического периода в истории немецкого литера-
турного языка, что предполагает известную избирательность в отноше-
нии рассматриваемого круга памятников.
По своим характеристикам литературный язык противостоит другим
языковым образованиям — территориальным и социальным диалектам,
городским койне и полудиалектам, а также разным формам просторечия,
образуя, однако, с ними в каждый соответствующий исторический момент
определенное коммуникативное целое, вследствие чего исторический
статус литературного языка всегда определяется его местом в этой слож-
ной системе. Хотя специфика немецкого литературного языка раскры-
вается именно в совокупности перечисленных признаков, однако в разные
периоды его истории.соотношение между ними не является стабильным.
Степень и формы обработанности, наддиалектности, полифункциональнос-
ти неодинаковы в разные периоды истории немецкого литературного
языка. Поэтому изучение качественных изменений в характере основных
дифференциальных признаков немецкого литературного языка, например
изменение степени и форм обработанности, увеличение поливалентности
и осложнение функционально-стилистической дифференциации, изменение
природы селективности в связи с появлением нормализационных процес-
сов, составляющие в совокупности внутренний аспект развития литератур-
ного языка, является одной из центральных задач данного труда.
Выделение наддиалектности в качестве одного из основных показателей
литературного языка требует известных пояснений. В литературном языке
наддиалектность всегда сочетается с другими упомянутыми выше характе-
ристиками и этим литературный язык отличается от таких наддиалектных
образований, как городское койне и другие типы полудиалектов. Наддиа-
лектность литературного языка проявляется в двух планах: 1) в струк-
турном обособлении от диалекта, т.е. в отказе от узкорегиональных черт
одного диалекта, или в объединении признаков разных диалектов; 2) в
функционально-стилистическом обособлении, которое выражается в нали-
чии особых пластов лексики, присущих только литературному языку
и своеобразных для разных периодов его истории, а также в употреблении
специфичных для письменно-литературного языка синтаксических кон-
струкций: системы средств выражения подчинительной связи, разных типов
обособленных и необособленных оборотов и т.п. Соотношение этих двух
аспектов наддиалектности варьируется в отдельные периоды истории
немецкого литературного языка и зависит не только от уровня его разви-
тия, но и от экстралингвистических факторов.
Сложным является соотношение гомогенности и территориальной ва-
риативности, меняющееся в процессе истории немецкого литературного
языка. Выделяются участки в его системе, где относительно рано выра-
батываются инвариантные признаки — в группе стилистически маркиро-
ванной лексики, в синтаксических моделях книжного языка и т.п.
Меняется также степень и характер функвдонально-стилистической
дифференциации немецкого литературного языка в зависимости от того,
какие коммуникативные потребности он реализует, в каких сферах чело-
веческой деятельности он используется. Территориальное и функционально-
стилистическое варьирование в их непосредственной соотнесенности
составляют общий диапазон варьирования, присущий немецкому литера-
6
турному языку определенного исторического периода. Количественные
и качественные изменения диапазона и характера варьирования состав-
ляют один из важных аспектов истории немецкого литературного языка.
Наличие письменной фиксации не включается авторами в систему
обязательных дифференциальных признаков литературного языка, хотя,
бесспорно, создание письменности в значительной степени меняет его
характер, обогащая потенции и сферу применения дописьменного лите-
ратурного языка. Это особенно ясно проявляется в истории немецкого
языка, где создание письменности было связано с освоением новой для
германских племен культуры (см. главу I). Но вместе с тем мы полагаем,
что язык устной поэзии, формульные элементы в языке права и обряда,
существовавшие до создания письменности у германских племен, обра-
зовавших в VI—VIII вв. франкскую империю, в своей совокупности пред-
ставляют ту степень обработанности, избирательности, наддиалектности,
которая позволяет отнести их к истокам истории немецкого литератур-
ного языка. Анализ языка таких памятников, как "Исидор", "Отфрид"
и тем более "Муспилли" и "Вессобрунская молитва", позволяют обна-
ружить определенную преемственность между стилистическими систе-
мами дописьменных наддиалектных форм и языком письменных памят-
ников IX в. С другой стороны, отнюдь не любую письменную фиксацию
следует рассматривать как факт литературного языка. Не только язык
"малых" религиозных памятников IX-X вв. (молитв, покаяний, сим-
вола веры), но и язык некоторых частноправовых документов из кан-
целярий небольших городов не обладают теми дифференциальными призна-
ками, которые характеризуют немецкий литературный язык.
Очерченная схематично проблематика истории немецкого литератур-
ного языка, где особую роль играет функциональный аспект, обусловила
отбор тех языковых явлений, которые рассматриваются в данной моно-
графии. Следует отметить различия в значимости для истории литератур-
ного языка фактов, относящихся к разным языковым уровням. Изме-
нения в составе лексики и фразеологии, а также развитие синтаксических
структур непосредственно причастны к истории немецкого литературного
языка и влияют на его качественные характеристики: обработанность
языка, его функционально-стилистическая и жанровая, а также социаль-
ная дифференциация проявляется наиболее ярко в отборе единиц данных
уровней. К тому же не только определенные пласты лексики и фразеоло-
гии, но и многие обобщенные лексические и синтаксические модели гене-
тически связаны с литературным языком определенных жанров и явля-
ются элементами должного стиля.
Однако, как показывает материал истории немецкого языка, и неко-
торые элементы словоизменительных парадигм оформляются и функцио-
нируют в пределах письменно-литературного языка; к ним относятся:
футурум П, кондищюналис, инфинитив П. Вместе с тем для суждения о
глубине территориального варьирования немецкого литературного языка,
о взаимодействии разных региональных письменно-литературных традиций
на путях кристаллизации единых общенациональных норм важный мате-
риал дает анализ фонетико-орфографических и некоторых морфологи-
ческих явлений. В данной работе рассмотрение соответствующих призна-
ков и их изменений не является самоцелью, но всецело подчинено основной
7
проблематике истории литературного языка и дается выборочно. Так,
например, внимание сосредотачивается не на самих процессах дифтонги-
зации и монофтонгизации, а на их отражении в литературном языке в
связи с анализом территориального варьирования, изучением соотношения
и борьбы разных локальных традиций, нередко обладавших к тому же
разным социальным престижем, а также в связи с изучением соотношения
интеграционных процессов и территориального варьирования.
Предлагаемый в данной работе аспект изучения литературного языка
связан, однако, не только с преимущественным вниманием к его функцио-
нальной стороне, т.е. к разнообразным формам использования литератур-
ного языка и различным видам его дифференциации. Процессы формиро-
вания, развития и функционирования литературного языка рассматрива-
ются как существенная составная* часть общего исторического и культур-
но-исторического процесса. Так как для литературного языка характерен
процесс накопления языковых и культурных ценностей, то история немец-
кого литературного языка органически входит в историю культуры Герма-
нии. Такие факты немецкой истории, как принятие христианства, созда-
ние письменности или изобретение книгопечатания, распространение школ
и открытие университетов, отнюдь не безраличны для немецкого литера-
турного языка. Существенны также массовые религиозные и политичес-
кие движения, избиравшие своим оружием слово, а также философские
течения, направлявшие и стимулировавшие развитие культуры и языка.
Немецкая схоластика, ереси и мистика, борьба идей эпохи Реформации
и Крестьянской войны, философия Просвещения — эти звенья идеологи-
ческих процессов, характеризовавших культурную жизнь Германии
XI—XVII вв., — это та историческая среда, с которой самым непосредст-
венным образом была связана судьба немецкого литературного языка.
Наконец, развитие и смена типов письменности, эстетических направлений
и литературных жанров оказывали самое непосредственное влияние на
характер, функционирование и формы дифференциации немецкого
литературного язьпса.
В этой связи в данной работе большое внимание обращается на харак-
теристику социальной, культурной и языковой ситуации того или иного
периода в развитии литературного языка, на определение тех социальных
слоев, которые являлись его носителями в разные периоды немецкой
истории. Безусловный интерес представляет не только определение слоев,
причастных к созданию ценностей немецкого литературного язьпса, но
и постепенно формирующихся кругов читателей. Экстралингвистические
стимулы развития немецкого литературного язьпса, рассматриваемые в
монографии, складываются в определенную иерархическую систему, поэ-
тому их рассмотрение осуществляется в следующей последовательности:
исторический этап в развитии общества; социальная структура общества,
определяющая базу литературного языка; культурно-историческая ситуа-
ция и ведущие культурные стимулы развития литературного языка;
функционально-стилистические сферы использования литературного
языка, виды письменности, представленные в изучаемый период, система
жанров; в рамках отдельных видов письменности.
Ведущие характеристики литературного языка, как уже отмечалось
выше, закономерно проявляющиеся в его развитии, определяют основ-
8
ные принципы членения данного процесса, иными словами, его периодиза-
цию. Выделение отдельных периодов в истории литературных языков
не может основываться лишь на изолированных внутрисистемных измене-
ниях (фоне1нческих, морфологических и т.д.), так как эти отдельные
изменения недостаточно показательны для развития языка в целом. Перио-
дизация должна основываться на комплексе разнообразных по характеру
критериев, что связано как со множественностью внешнеисторических
факторов, которые направляют его развитие, так и с многообразием тех
направлений, в которых изменяется сам язык.
Смена исторических формаций соотносится лишь с самым общим чле-
нением истории литературных язьпсов на донациональный и национальный
периоды.-В данной монографии рассматривается лишь первый, т.е. донацио-
нальный период в развитии немецкого литературного языка. Вместе с тем
не только постепенный переход общества от одной исторической формации
к другой, но и разные исторические этапы в пределах одной и той же исто-
рической формации порождают целый ряд вторичных социальных и куль-
турно-исторических явлений и процессов, оказывающих воздействие на
языковую ситуацию в целом и на развитие литературного языка, в част-
ности. В связи с происходящей при этом сменой языковой ситуации и
изменением статуса и качественных признаков литературного немецкого
языка донациональный период в его истории, совпадающий в целом с
периодом феодализма, в свою очередь, распадается на несколько этапов.
В данной работе выделяются и последовательно рассматриваются три
таких этапа (IX—XI, XII—XIII и XIV—XV вв.), в соответствии с которыми
и происходит членение всего материала по трем главам.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
DPhA
DW
KGiGPh
PBB
SN
ZDPh
ZM
ZPSK
WW
ГОТСК.
греч.
Д.-В.-Н.
др.-англ.
др.-исл.
др.-сакс.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Deutsche Philologie im Aufriss. Hrsg. von Stammler W. 2. Aufl., Bd I. Berlin,
1957; Bd II - Berlin, 1960.
Deutsche Wortgeschichte. Hrsg. von Maurer F. und Rupp H. 3. Aufl., Bd I.
Berlin, 1974.
Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500. Hrsg. von Schmitt L.E.
Bd I, Sprachgeschichte, Berlin, 1970.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
Studia Neuphilologica.
Zeitschrift für deutsche Philologie.
Zeitschrift für Mundartforschung.
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung.
Wirkendes Wort.
НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ
готский лат.
греческий нем.
древневерхненемец- • н.-нем.
кий
древнеаглийский нид.
древнеисландский ср.-нем.
древнесаксонский франкск.
- латинский
- немецкий
- нижненемецкий
- нидерландский
- средненемецкий
- франкский
ГЛАВА I
ИСТОКИ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЕГО РАЗВИТИЯ
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Начальный период истории немецкого литературного языка соотнесен
с длительным процессом преобразования группы близкородственных
племен—франков, алеманов, баваров, лангобардов, тюрингов, позднее
саксов — в немецкую народность. К. Маркс следующим образом характе-
ризует подобные процессы: "при родовых учреждениях народ возникает
только тогда, когда племена, объединенные одним управлением, слива-
ются в единое целое, как четыре афинских племени в Аттике, три дорий-
ских племени в Спарте, три латинских и сабинских племени в Риме. Союз
предполагает наличие независимых племен, занимающих отдельные
территории; слияние же, * представляя собою более высокий процесс,
объединяет племена на одной общей территории, хотя бы тенденция к ло-
кальному разделению по родам и племенам продолжала существовать"1.
На германской почве, однако, развитие было значительно более сложным
не только вследствии многочисленности этнических единиц, принимавших
участие в этом процессе, и протяженности территории, на которой он
осуществлялся. Сложность была обусловлена глубинными социально-поли-
тическими потрясениями, вызванными крушением Римской империи и
разложением родо-племенных институтов у германцев. В огне пожарищ,
охвативших Западную Европу, гибла греко-римская культура и зарож-
дались ростки новых культурных традиций, лишь частично связанных
с наследием древней цивилизации.
В отличие от союза племен народность представляет собой не только
более тесное единство, но и значительно более устойчивую общность.
Племенные союзы, которые возникали в IV в., в эпоху Великого пересе-
ления народов, подобно готскому союзу, во главе которого стоял
конунг Эрманарих, были весьма эфемерны и существовали недолго,
так же как огромный гунский союз Аттилы (V в,), в который входили
и германские племена и который распался после смерти своего вождя.
Не были, впрочем, устойчивы и первые варварские королевства, воз-
никавшие на завоеванных территориях: ср. судьбу остготского коро-
левства в Италии (конец V—VI вв.). Недолго просуществовал и тот
конгломерат племен и народностей, каким была империя Карла Вели-
кого (конец VIII — начало IX в.). Но после распада этой империи,
закрепленного в 843 г. в так называемом Верденском договоре, обосо-
бились новые формирующиеся народности, в их числе и немецкая
народность. Это обособление было не только государственно-администра-
тивным и экономическим, но и языковым. Войска, присутствовавшие
на церемонии произнесения Страсбургской клятвы, предшествовавшей
1 Архив Маркса и Энгельса. М., .1941, т. К, с. 79.
10
подписанию договора, слушали текст клятвы на двух языках: на фран-
цузском и немецком, языках двух народностей.
Формирование немецкой народности происходило в условиях взаимо-
действий и взаимосвязей наследников старых племен; вместе с тем
сознание своей преемственной связи с этими племенами, сознание принад-
лежности к определенным этническим группировкам внутри немецкого
государства было живым в эти годы. Это своеобразное противоречие
сохранялось не только в пределах данного периода, его пережитки
проявлялись и значительно позднее, вплоть до XIV в.
Между тем, вопреки тому, что в X—XI вв. Швабия, Бавария, особенно
Саксония были как бы связаны еще преемственной связью со старыми
племенными объединениями и были замкнутыми феодальными тер-
риториями, население их в этническом отношении отнюдь не представ-
ляло собой замкнутого целого: помимо основного населения, связан-
ного с данной территорией еще со времен существования самостоятельных
племенных единиц и варварских королевств, сюда вливались предста-
вители других этнических группировок. Переселения продолжались и
на завоеванных землях, так что одна и та же территория переходила из
рук в руки, как это было в Вестфалии, где в V в. франки были вытеснены
саксами, или в Рейнской и Майнской Франконии, где алеманские земли
были захвачены франками. В процессе борьбы франков с саксами в
VHI-IX вв. значительная часть саксов была выселена со старых земель
и на их территории поселились франки.
Завоевание территории не сопровождалось полным уходом прежних
поселенцев. В результате же военных походов против Рима, объединявших
разные племенные группировки, население и на этих землях было сме-
шанным. Тем самым миграции, повторные переселения, военные походы
изменяли конфигурацию германского ареала. Интенсивный процесс скре-
щения и смешения наследников старых племенных группировок нераз-
рывно связан с образованием немецкой народности. Процесс этот проте-
кал крайне медленно, что было соотнесено и с заторможенностью фор-
мирования феодальных отношений.
Возможно, что конкретными условиями формирования немецкой на-
родности объясняется и позднее появление в немецком языке наимено-
вания этого нового этнического образования, его государства и языка.
Примечательно, что слово diutisk 'немецкий', т.е. прилагательное, соот-
ветствующее современному deutsch, появляется ранее в применении к
языку, чем к стране и народу.
История слова deutsch и его производных привлекала внимание многих
языковедов [ср. Frings 1941, Weisgerber 1953, Eggers 1961, Betz 1965
и др.]. Существенным было то обстоятельство, что в форме theodisce,
theodisca Lingua оно появляется в латинских текстах ранее, чем в немец-
кой письменности. В 786 г. папский нунций Георг фон Остиа писал папе
Адриану I о двух синодах, которые он провел в Англии. На втором синоде
он распорядился, чтобы решения синода были зачитаны tarn latine quuam
theodisce, quo omnes intellegere potuissent 'как на латинском, так и на
языке народа, чтобы все могли их понять'. Theodisce, theodisca появляется
в той же среднелатинской форме в текстах разного содержания на латин-
ском языке. В 788 г. на народном собрании, где присутствовали Franci
11
et Baioarii, Langobardi et Saxones, был осужден баварский герцог Тассило
за преступление, quod theodisca lingua harisliz dicitur 'которое на народ-
ном языке называется hari=sliz (дезертирство)9. Несколько позднее в
813 г., во время синода в Туре, Карл издал указ, чтобы проповеди произ-
носились не только на латинском языке, но и in rusticam ^ Romanam
linguam aut theotiscam, quo facilius cuncti possunx intellegere, quae
dicuntur 'на романском деревенском (вульгарном) языке или немец-
ком (?), чтобы лучше могли понимать, что говорят'. Вновь появляется
этот термин и в тексте Страсбургской клятвы 843 г., где говорится, что
Lodhuuicus romana, Karolus vero teudisca lingua iuraverunt 'Людвиг клялся
на романском, Карл на немецком языках'.
Сопоставление приведенных текстов показывает, что рассматриваемый
термин появляется как в соотношении или противопоставлении латыни,
так и в оппозиции оформлявшемуся языку романского населения. Послед-
нее было особенно существенно в условиях своеобразной языковой ситуа-
ции, характерной для этого периода истории франкского королевства:
наряду с латынью, являвшейся языком высших сфер коммуникации,
функционировали два языковых массива — романских и германских
диалектов.
Смысловая структура термина theodisce несколько расплывчата. По-ви-
димому, в первом из дошедших до нас текстов, связанном с синодом,
собравшимся на территории Англии, theodisce не может быть приурочен
только к языку группы германских племен, впоследствии обособившихся
как немецкая народность. Здесь theodisce имеет более широкое значение,
поскольку он, по-видимому, относится и к языку других германских пле-
мен, в частности тех, которые заселили к тому времени Англию. В оппо-
зиции латинскому языку, языку высоких сфер коммуникации, он обоз-
начал на тех территориях, где поселились германские племена, язык этих
племен.
Термин этот функционирует и в противопоставлении живой романской
речи как обобщенное наименование языка германских племен, включен-
ных в империю Карла Великого, тех франков, баваров, лангобардов и
саксонцев, которые приняли участие в суде над баварским герцогом.
Вопрос о том, что является первичным — более широкое значение
"язык германских племен" или специализированное обозначение только
тех племен, которые входили в империю Карла Великого и слились*
впоследствии в немецкую народность, — вряд ли является существенным.
Бесспорно во всяком случае его закрепление во втором значении еще
в конце VÜI в. Значительно больший интерес представляет сам факт
употребления этого термина в латинских текстах и его фактическое от-
сутствие в немецкой письменности до конца X в.
Этимология theodisce, theodisca не вызывает сомнений. Это, бесспорно,
германское образование, производное от существительного *$еш!оЪарод' +
+ суф. =isk, показатель принадлежности, происхождения, ср. в других
германских языках: готск^ ßiuda 'народ', piudisko 'языческий' (=греч.
€#*4K&>£,nar.gentiliter), др.-англ. ßeodisc *на родном языке9. По своей
словообразовательной структуре theodisce — калька лат. vulgus + ans
'народный, но и грубый, некультивированный'. Это слово относятся к
пласту неологизмов, связанных с письменным языком. Не случайно, что
12
длительный период оно леупотребительно в письметюсти на немецком
языке. Возникновение данного термина связывают с окружением Карла
Великого: фонетический состав корня — вокализм ео, непередвинутое
d — дают основания отнести образование к рейнско-франкскому ареалу,
к пограничной области между .Германией и Романией, где сталкивались
носители разных языков и насущным был вопрос о своеобразном двуязы-
чии [см. Frings 1941].
В IX в. theotisce выходит за пределы официальной сферы и встречается
в латинских текстах разных жанров. Наиболее примечательно его употреб-
ление у Отфрида (60-е годы IX в.), автора немецкой поэмы в стихах о
жизни Христа. В прологе и в заголовке на латинском языке несколько
раз повторяется theotisce. В самой же поэме, то есть в немецком тексте,
это слово отсутствует. В тех случаях, когда автор противопоставляет
свой родной язык латыни, господствует термин f rencisg 'франкский, по
франкски', т.е. название языка того племени, в области старого рассе-
ления которого лют автор, а не наименование языка немецкого народа:
ср. Thaz uuir kriste simgun in unsere zungun ioh^uuix ouh thaz gilebetun,
in frenkisgon nan lobötun I. 1, 125 'что мы воспевали Христа на своем
языке н мы дожили ро того, -что восхваляли его по франкски (на франк-
ском языке)'; so uuir nu hiar biguunun, in frenkisga zungun I 1, 114 'как
мы здесь начали на франкском языке'; ср. также I 1, 122; 11, 33; 11,46«
Встречается и сочетание uuorton frenkisgen I 3, 46 'франкскими сло-
вами'. И лишь один раз в очень своеобразие»« контексте употреблено об-
разование gi-thiut-i: Thaz uuir^engii nennen, thaz heizent so uuir zellen
boton in githiuti frenkisge liuti V 8, 7; IL Пипер в словаре к поэме
Отфрида переводит gi=thiut=i 'auf Deutsch' ('по-немецки'), смысл же
всего отрывка: То что мы называем engil (ангел), это называют франки
(франкские люди), как уже упоминалось, boton на народном языке (по-
немецки)' (boto в д.-вд. текстах означает 'посол, апостол', но и 'ангел').
Что касается gi-thiut-i, то оно образовано от того же корня, что и
theodisce, т.е. от *ßeod 'народ', но по другой словообразовательной
модели.
В данном отрывке противопоставлены два синонима: заимствованное
из латыни и фонетически адаптированное engil = лат. angelus и немецкое
boto — первоначальное значение 'посол', последующая христианизация
этого слова позволяет употреблять его как синоним к engil. У Отфрида
в других контекстах встречаются оба слова, ср. gotes boton 'божьи ангелы',
engil gotes 'ангел божий'. Интересны отнесение boto к сфере народного
языка в отличие от engil и помета, что так выражаются люди франкского
племени (простолюдины) в отличие от той социальной группы, которую
представлял Отфрид, т.е. в отличие от образованных монахов, исполь-
зующих заимствованное слово. Тем самым gi-thiut-i не этническая, а
социально-стилистическая помета.
По-видимому, таково же было первоначальное значение theodisce zunga
в соответствии с латинским lingua vulgaris, обозначавшим необработан-
ные, бесписьменные местные языки, столь отличающиеся по своим стилис-
тическим возможностям от рафинированного языка латинских авторов.
Не случайно многие тексты VIII—К вв. содержат сетования на непригод-
ность народных языков для передачи глубокого содержания христианского
13
вероучения, на их примитивность, вульгарность. Вместе с тем в тех райо-
нах, ще граничили романский и германский ареалы, уже в VIII в. theodisce
приобретает смысловую структуру термина, обозначающего язык одной
из ведущих этнических группировок, составлявших население франкского
королевства. Это особенно ясно в контекстах, ще протиповоставляются
языки романского и германского ареалов: ср. приведенный выше указ
Карла Великого, а также текст Страсбургской клятвы. В этом специали-
зированном значении термин используется ранее всего на западе, в Лота-
рингии, а затем появляется в латинских текстах, создававшихся в дру-
гих районах империи Карла Великого. Лишь через полтораста лет монах
Сентгалленского монастыря, Ноткер, включит это слово в немецкий
текст как обозначение некоего языкового единства, противополагаемого
другим языкам, греческому и латинскому.
В переводе произведения Боэция Утешение философии", разъясняя
некоторые античные термины, он пишет: uuanda logos pezeichnit apud
grecos pediu rationem ioh orationem. Also ouh tuot reda in diutiscun
'потому что логос обозначает у греков и разум, и слово, так же как reda
в немецком9. Diutiskun — южнонемецкий вариант того же theodisce.
В отличие от Отфрида Ноткер уже не применяет здесь название языка
алеманов, в области старого расселения которых находился Сентгалленский
монастырь, Diutisk у него символизирует общность реализаций на немец-
ком языке в отличие от греческого; это язык одного народа, независимо
от того ареала, где он функционировал. In diutiscun встречается у Ноткера
повторно, для него это устойчивый термин. В последующие десятилетия
термин этот закрепляется: ср. в Annolied (1100 г.) сочетание diutischin
sprechin; в песне об Александре (1120-1130 г.) клирика Лампрехта
in walhisken 'по-французски' противопоставляется in diutisken 'по-немец-
ки' и т.д. Термин в немецких текстах символизирует осознание общности
языка наследников тех племен, слияние которых и создало немецкую
народность.
Однако, быть может, не случайно закрепление этого термина за языком
данного народа произошло, по-видимому, ранее, чем обозначение офор-
мившейся новой этнической общности. Лишь в Annolied, т.е. через 100 лет
после деятельности Ноткера, встречаем впервые выражения Diutscbe lant
для обозначения Германии и Diutschiu liute, Diutschiu man как наимено-
вание немецкой народности в отличие от названий отдельных племен:
швабы, бавары, саксы и т.д. У Ноткера немецкие термины для наименова-
ния государственной и этнической общности отсутствуют. Латинское
uuir teutones, по-видимому, выполняло эту функцию.
Условно можно утверждать, что к концу XI в. в основном сложилась
немецкая народность и определилось структурное единство ее языка в
результате постепенного сближения бывших племенных диалектов франк-
ского, алеманского и баварского ареалов. Цементирующую роль играли
при этом процессы, происходившие в сфере письменного языка, обособ-
лявшегося постепенно от специфики разговорно-бытовой речи в связи
с выработкой системы признаков наддиалектного типа языка новой
формации.
14
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ
1
Возникновение письменности на германских языках теснейшим образом
связано с процессом перестройки гермацских племенных образований в
феодальные государства. С эпохи Тацита до завоевания римских провин-
ций отдельными племенными объединениями, Галлии — франками, Ис-
пании — вестготами, Италии — остготами, Африки — вандалами, шел
непрерывный процесс расслоения родо-племенных отношений. Рост иму-
щественного неравенства, в немалой степени обусловленный военными
походами, обогащавшими конунга и его дружину, усиление роли дру-
жины, все более выделявшейся среди членов племени, тенденция к зак-
реплению власти конунга за одним и тем же родом все более подрывали
основы первобытнообщинного строя. Завоевание римских провинций
привело к окончательному распаду родовых институтов.
На развалинах Западной Римской империи происходит формирование
феодальных государств на основе синтеза разложившегося античного
способа производства и распадавшейся германской общины. Одним из
проявлений этого процесса было сращивание верхушки варварского об-
щества со старым господствующим классом рабовладельческого Рима
и постепенное превращение их в относительно единый класс феодальных
землевладельцев.
Жестокая борьба со свободным мелким владельцем земельного надела
выражалась не только в подавлении огнем и мечом малейшего сопро-
тивления, но и в идеологической борьбе, проявлявшейся в разных
формах. Могучим союзником нового господствующего класса явилась
христианская церковь. Насильственное крещение и преследование язы-
чества были в руках франкских королей и представителей знати орудием
политической борьбы. против сородичей, низведенных процессом феода-
лизации до положения полузависимых крестьян. Но все же феодальные
отношения в Германии складывались медленнее, чем в других европей-
ских странах. Устои древнегерманской марки тормозили закрепощение
крестьянских масс.
, Тем беспощаднее было преследование былых свобод. Новая знать в
борьбе за власть смыкалась с сохранявшимися группировками старого
господствующего класса рабовладельческого общества и стремилась
опереться на его церковь, культуру и язык. Именно это определило на
долгие годы характер развития культуры и, в частности, языка раннего
средневековья, особенно в Германии. И здесь мощным орудием стала
христианская церковь.
В Римской империи еще до ее крушения образовалось влиятельное и
к тому же весьма имущее христианское духовенство. Христианство пе-
рестало быть религией угнетенных и обездоленных. Примирение импе-
ратора Константина с христианской церковью было связано со стремле-
нием использовать ее влияние в интересах императорской власти. Посте-
пенно церковь превращалась в решающую силу римского общества.
Учение об искуплении грехов, о блаженстве в царстве божьем, о покор-
ности и смирении, о презрении к мирским благам стало одним из основ-
ных идеологических средств, использовавшихся против народа, защи-
15
щавшего свои права. Германские короли оказались способными
учениками.
Значение католической церкви, ее могущество прозорливо оценил
во всем объеме франкский король Хлодвиг (481—511 гг.), основатель
династии Меровингов, принявший крещение и заключивший союз с влия-
тельным духовенством. В значительной степени поддержка католической
церкви помогла Хлодвигу и его преемникам расширить границы
франкской империи: в '531 г. во франкское королевство было включено
королевство тюрингов, позднее, при Пипинидах (746 г.), были захва-
чены земли алеманов, Карл Великий осуществил подчинение баварского
королевства (794 г.) и овладел в результате длительных ожесточенных
походов Саксонией (804 г.). Завоевание этих земель осуществлялось
не только огнем и мечом, но и идеологическим оружием. Оно сопровож-
далось насильственным крещением и беспощадным преследованием язы-
чества, с которым связывались представления о былых свободах. Еще в
841—843 гг. произошли крупные антифранкские (антифеодальные) выступ-
ления саксонских крестьян, добивавшихся восстановления старых поряд-
ков, существовавших во времена язычества.
Однако церковь в эпоху раннего средневековья являлась отнюдь
не только средством подчинения и закрепощения народных масс, но и
важнейшим культурным фактором. В новой Европе, в самом большом
варварском королевстве франков, среди огромного пестрого этнического
массива людей, не знавших письменности2, церковь была единственной
хранительницей наследия греко-римской цивилизации. Просвещение
варваров-язычников, владевших только бесписьменными языками, созда-
ние некой культурной . преемственности осуществлялись в ту эпоху
церковью.
В подобных условиях, принимавших разнообразные формы в зависи-
мости от местной специфики, происходило в VIII в. создание первых
письменных памятников на языке германского населения, входившего
в состав франкского королевства. Письменность создавалась для осу-
ществления практических задач, связанных с общей политикой франкских
королей и представителей господствующих слоев населения франкской
империи. Она должна была служить средством распространения христианст-
ва среди носителей бесписьменных племенных диалектов, среди так назы-
ваемых варваров, не знавших ни греческого, ни латыни. Поэтому первые
письменные памятники представлены переводами. Это глоссарии, тексты
молитв, символа веры и покаяний, евангелие. И. хотя в IX в. появляются
оригинальные произведения на местном языке типа поэмы Отфрида о
Христе или религиозного эпоса "Спаситель", все же переводы домини-
руют.
Между тем дня авторов этой переводной, а отчасти и оригинальной
литературы, идеалом языковых норм были языки старой цивилизации —
3 Для характера культуры этой эпохи показательно, что про Карла Великого его
современник Эйнхарт сообщает: он изучал под руководством своего наставни-
ка, англо-саксонского монаха и просветителя Алкуина, риторику, диалектику,
овладел латынью и греческим, но почти не умел писать ни ив одном языке [ Ис-
тория средних веков 1959,77].
16
греческий и латынь, часто, однако, в той форме, которая определила харак-
тер языка христианской письменности. Греческое койне и средневековая
латынь становятся тем эталоном, которому стараются подражать создатели
письменности на германских языках. Презрительное отношение к местным
языкам > как к языкам грубых варваров, унаследованное еще от гречес-
ких и римских авторов, накладывало свой отпечаток на язык большинства
переводов. Характеристика немецкого языка в его южнорейнском вариан-
те, данная Отфридом в предисловии к своей поэме, типична для человека
той эпохи, более или менее искушенного в канонах греко-римской грамма-
тики и риторики: Huius Linguae barbaries est inculta et indisciplinibilis
'Варварство этого языка грубо и беспорядочно'.
Создание письменности было, бесспорно, лишь одним из компонентов
сложного и многоступенчатого процесса приобщения местного населения
к христианской культуре и тем самым к элементам греко-римской цивили-
зации. Определяющую роль в этом процессе играли монастыри, где в скрип-
ториях создавались не только первые образцы немецкой письменности, но
хранились и переписывались латинские рукописи философско-теологи-
ческого и светского содержания, создавались пособия для проповедников
и т.д.
2
Возникновение немецкой письменности во второй половине VIII в.
и ее относительно быстрое развитие связаны непосредственно с культурной
политикой Карла Великого, ставшего франкским королем в 768 г. и рим-
ским императором в 800 г. Из его биографии, написанной его приближен-
ным, священником Эйнхартом (Vita Caroli Magni "Жизнь Карла Вели-
кого") , известно, что он стремился окружить себя наиболее просвещен-
ными людьми своего времени. Он пригласил к своему двору известного
англо-саксонского клирика Алкуина, возглавлявшего ранее школу в
Иорке. Среди членов кружка просвещенных деятелей при дворе Карла,
называвшегося академией,' был и будущий биограф Карла — Эйнхарт.
Из этого жизнеописания известно, что император приказал составить анто-
логию устной германской поэзии, не дошедшую до нас, что велись разго-
воры о создании немецкой грамматики. Отчасти эти мероприятия были
связаны с высокой оценкой достижений греко-римской культуры, попу-
лярной среди верхушки знати варварских королевств. Ее авторитет мог
в их глазах способствовать укреплению положения среди представи-
телей высшего духовенства и интеллектуальной элиты римского общества.
Не случайно еще остготский, конунг Теодорих приблизил к себе Боэция,
автора многих философско-теологических трудов3; известный готский
историк, один из создателей библиотеки монастыря Боббио, Кассиодор,
также был приближенным остготского короля в Италии (VI в.).
Однако в культурной деятельности Карла Великого не эти соображе-
ния были, ведущими. Все было подчинено основной задаче — распростра-
нению христианства, приобщению к римско-католической церкви всех
подданных франкского государства. Обращение наследников германских
племен в христианскую веру было не только идеологической, но и поли-
3 Это не помешало ему впоследствии казнить Боэция.
2. Зак. 336 17
тической задачей. Оно должно было способствовать объединению насе-
ления разноплеменного королевства, созданного в результате длительных
войн; к тому же под лозунгом распространения христианства, обращения
в истинную веру шло и покорение других племен.
По всей франкской земле и на завоеванных территориях распростра-
нялись указы Карла, обязывающие каждого подданного изучать и знать
наизусть "Отче наш" и "Символ веры". Имелся, по-видимому, в виду
немецкий текст, так как подавляющее большинство населения не знало
латыни. В "Символ веры" обязательно включалось отречение от старой
веры: ср. древнесаксонский текст VIII в., где упоминаются (Thunaer
ende Uuodan ende Caxnote ende allum them unholdum) Top и Водан, и
Какснот, и все нечистые (духи) .
Распространение христианства предполагало подготовку значительного
числа служителей церкви, способных нести новое учение в народные
массы. Так, в капитулярии Admonito generalis 789 г. указывается, что
каждый проповедник обязан тщательно разъяснять своей пастве "Отче
наш" и "Символ веры", а также пробуждать у них усердие к вере и
соблюдение законов христианства [Eggers 1963, 48]. Вопросы религии
подымаются на уровень государственной политики. С этим в основном
связана "просветительская" деятельность императора. В капитуляриях
вся система образования подчинялась интересам религии. Те же цели
определяют содержание составленных Алкуином учебников по латинской
грамматике, риторике, диалектике (так называемый цикл дисциплин
"тривия" (трех наук). В литературе обращалось внимание на то, что и
цикл "квадривия", т.е. четырех наук — геометрия, арифметика,
астрономия и музыка, — получали в созданных при Карле монастырских
и епископских школах религиозную направленность.
И хотя в окружении Карла наблюдался интерес и к светской литературе
на латинском языке, а в монастырских центрах создавались справочники
учебного характера не только религиозного, но и светского содержания,
переводились труды Аристотеля на латинский язык, но это была латин-
ская письменность, предназначенная для узкого круга людей, владевших
латинским языком, т.е. для избранных. Характерно, что художественная
литература античного мира не переводилась на немецкий язык ни при
Карле Великом, ни при его преемниках. Она и не могла найти потребителя.
Немецкая же письменность имела преимущественно утилитарное значе-
ние: она оценивалась как средство, используемое в процессе распростра-
нения христианства среди германцев — язычников.
Во франском королевстве, как и у других германских народностей,
культура раннего средневековья была монастырской культурой. Среди
массы народов, во многом находившихся на периферии цивилизации
[Майоров 1979, 8], монастыри были оазисами, где сохранялся тот
своеобразный сплав греко-римских культурных традиций и христианского
учения, который оформился в Западной Римской империи еще до ее
падения. «В сочетании с системой христианских догм наследие античности
получало специфическое преломление. Античность и христианство, хотя
и являлись исходными компонентами средневековой культуры, не были
равноправными, как не были равноправны унаследованные элементы
античной философии и категории христианской теологии в эпоху, пред-
18
шествующую проникновению варваров на территорию Римской империи.
Уже тогда философия все в большей степени использовалась как служанка
теологии. И вместе с тем именно монастыри стали хранителями античного
рукописного наследства, здесь создавались копии переводов греческих
философов на латинский язык (особое место занимали труды Аристотеля),
копии произведений латинских поэтов (ср. "Букколики" Виргиния,
комедии Теренция и т.д.) наряду с многочисленными философско-теоло-
гическими комментариями к священному писанию. В исторических усло-
виях раннего средневековья монастыри были мощным культурным факто-
ром и их прогрессивная для той эпохи роль бесспорна.
Однако монастыри и та культура, преемниками и носителями которой
они были, возникали на землях франкского королевства не в "пустом"
пространстве. Они вытеснили иную систему культурных форм, реликты
которых сохранялись длительное время вопреки преследованиям и
гонениям.
Наши сведения о наследии древней культуры германских племен,
существовавшей до их столкновения с греко-римской цивилизацией и
христианством, фрагментарны и достаточно случайны: сказанное относит-
ся к статусу элементов древней культуры на территории франкского
королевства в эпоху создания письменности. Тому причиной являются
не только жестокие преследования, которым подвергались обычаи, поэзия,
связанные с идеологией прошлого, напоминавшие о языческих временах
и вместе с тем о былых свободах. Сам характер этих культурных ценнос-
тей, их содержание, отражавшее мир идей, столь далекий от духовных
интересов представителей нового побеждающего общественного уклада,
вопринимались как непрестижные пережитки этого прошлого. Особенно
характерно было такое отношение для преемников Карла Великого. По-
казательно, что именно во франкском королевстве, где процесс обра-
зования феодальных отношений был довольно интенсивным, в наиболь-
шей степени были подавлены, загнаны в подполье разнообразные жанры
дохристианской устной поэзии.
О наличии у германских племен устного творчества, в том числе герои-
ческих песен и сказаний, упоминают многие греческие и латинские авторы,
свидетели их ранней истории на новых территориях. Об этом писал
Иордан (VI в.) в своей "Истории готов", Григорий из Тура, автор
"Истории франков", англо-сакс Бэда в "Церковной истории англов"
(VII в.), лангобард Павел Диакон в "Истории лангобардов". Героичес-
кая песня не была единственным жанром устной поэзии. Из историчес-
ких же источников известно, что у франков бытовали застольные, вели-
чальные песни. По-видимому, такой величальной песней была поэма,
восхваляющая вестготского короля Теодориха II (453—466), которую
упоминает Сидоний Аполлинарий. Эти косвенные свидетельства наряду
с отрывочными текстами, которые до нас дошли, позволяют предполагать
и у племен, образовавших франкское королевство, существование доста-
точно высокой языковой культуры, бытовавшей в форме устного твор-
чества; одним из образцов этой устной эпической традиции является зна-
менитая "Песнь о Хильдебранде" (Hildebrandslied), отрывок которой был
найден в Фульдском монастыре и был записан в IX в. двумя монахами
этого монастыря. Однако тематика этой песни, ее образы и герои связаны
19
с более ранней эпохой истории германских племен и относятся к извест-
ному циклу сказаний и песен об остготском короле Теодорихе.
Расцвет германской эпической поэзии относится, по-видимому, к эпохе,
связанной с бурными событиями Великого переселения народов и завое-
ванием новых территорий, когда господствовали социальные отношения,
характерные для военной демократии, и доминирующее положение среди
соплеменников стал занимать военачальник — конунг и его дружина.
Творец этой поэзии и ее носитель, древнегерманский scop, — предтеча как
немецких шпильманнов, так и скандинавских скальдов был носителем
литературных и языковых связей. Предположительно при дворах вар-
варских королей, а еще ранее среда дружинников, окружавших конунга,
существовали поэты и певцы, часто менявшие свое местопребывание.
Кассиодор, приближенный остготского короля Теодориха, сообщает, что
Теодорих послал франкскому королю Хлодвигу арфиста, искусного в
создании и исполнении хвалебных песен.
Условия бытования героической песни связаны с определенным общест-
венным укладом; ее аудитория преимущественно королевская дружина,
хотя она исполнялась и на народных собраниях — тингах. Но народное
собрание, королевская дружина — общественные институты, которые
уничтожаются в процессе формирования феодального общества. Тем
исчезла основная аудитория scop'a [ср. Воог de 1949. 63]. Его поэзия и
он сам оказались вытесненными новыми идейными веяниями на перифе-
рию культурной жизни. Как уже упоминалось, во франкском королевстве
процесс этот был особенно интенсивным. Мы можем поэтому лишь пред-
полагать, что героический эпос не исчез на основании существования в
эпоху зрелого средневековья не только книжного эпоса типа "Нибелун-
гов", но и реминисценций песен о Дитрихе и других героях раннего средне-
вековья.
Однако для развития культуры рассматриваемого периода весьма
существенно, что в христианских письменных памятниках, впервые соз-
даваемых на немецком языке, в поэме "Муспилли" и книжном эпосе
"Спаситель", в IX в. продолжали действовать внешние стилистические
приемы германской эпической поэзии; устойчивой оказалась и система
традиционных образов. Более того, отголоски древней традиции обрабо-
танного языка обнаруживаются в христианской прозе тех же годов и в
построенной на иных стилистических принципах поэме о жизни Христа
аейсенбургского монаха Отфрида (IX в.). Быть может, унаследованные
навыки высокого стиля эпической поэзии, сложившаяся культура речи
сделали возможнымлоявлениеуже в- первые десятилетия существования
письменности, наряду с примитивными и даже беспомощными в языковом
отношении религиозными текстами, высоких образцов немецкой христи-
анской прозы: ср. язык перевода трактата Исидора (конец VIII — начало
IX в.) или фрагментов перевода евангелия от Матвея, автор которого,
по-видимому, принадлежал к той же переводческой школе, что и перевод-
чик трактата Исидора.
На территории франкского королевства христианские культурные
центры, в том числе и монастыри, возникают относительно поздно. Не толь-
ко в остготском королевстве Теодориха такой центр, как монастырь
Боббио, создается еще в VI в., но и у англо-саксов элементы новой цивили-
20
зации адаптируются и развиваются значительно более интенсивно, чем у
франков. В VIII в. слава церковной школы в Иорке и ее руководителя
Алкуина была столь велика, что Карл Великий постарался привлечь
Алкуина в качестве идейного руководителя тех реформ, которые были
связаны с распространением христианства среди населения его импе-
рии. В Англии же еще в VII в. действовали разные типы просветительских
центров, создавались хранилища рукописей, скриптории. В франкском
королевстве, точнее в его восточной,немецкой,части процесс этот запазды-
вает. Но и здесь в течение VIII в. создаются монастыри, епископские
школы: на юго-востоке Зальцбург, Регенсбург, Фрейзинг, монастыри
Тегернзее и Монзее, в алеманской области Сентгаллен и Рейхенау, в
Эльзасе — Мурбах, во франкской области — Фульда, Лорш, Вюрцбург,
позднее Вейсенбург являются религиозными центрами страны. В извест-
ной степени большинство этих центров представляло собой замкнутую
организацию со своей постепенно складывавшейся культурной и язы-
ковой традицией, с библиотекой и скрипторием. Вместе с тем между мо-
настырями бесспорно имелись связи: рукописи, созданные в одном центре,
передавались в другие скриптории, перерабатывались и переписывались там.
Этим объясняется существование значительного числа так называемых
"смешанных текстов", т.е. таких манускриптов, где сосуществовали
элементы разных региональных вариантов: ср. рукописи глоссария
Abrogans (VIII—IX вв.), где сочетались алеманские и баварские признаки,
поскольку рукописи представляли собой алеманские копии баварского
оригинала; ср. также стихотворение "Христос и самаритянка" (X в.) —
сочетание алемайских и франкских региональных признаков; наконец
"Песнь о Хильдебранде" с характерным для этого памятника загадочным
сочетанием и смешением нескольких региональных пластов: предположи-
те л ьно фульдская копия баварского текста с вкраплением саксонских
форм, частично обнаруживающих механическую подстановку, так назы-
ваемые- гиперкорректные формы [см. Воог de 1949, 63; Sonderegger
1970,302 и т.д.].
В настоящее время трудно восстановить культурные связи, существо-
вавшие в те годы между монастырями на территории франкского коро-
левства. Известно, однако, что Валафрид Страбон, получивший образо-
вание в Фульдском монастыре, впоследствии стал аббатом в Рейхенау;
Отфрид, всей своей деятельностью связанный с монастырем в Вейсен-
бурге, где он и создал свою поэму, был учеником известного церковного
деятеля и ученого Храбана Мавра, длительное время руководившего монас-
тырской школой в Фульде, а затем ставшего аббатом этого монастыря;
предположительной автор древнесаксонского книжного эпоса "Спаси-
тель" (Heliand) был первоначально связан с тем же монастырем.
С другой стороны, существенным для всей культурной жизни страны,
а также для характера языковых традиций монастырских скрипториев
являлось отсутствие стабильности в этническом составе монастырского
клира. Известно, что в Фульдском монастыре, основанном в 744 г.
англо-саксом Бонифацием, первоначально преобладающую роль играли
монахи, происходившие из Баварии, в IX в., судя по языку фульдских
рукописей, ведущую позицию заняли восточные франки; ср. в этой связи
языковые особенности самого значительного памятника из этого
21
монастыря — перевода латинского свода евангелий Татиана. Основанный
в 724 г. в алеманской области монастырь Рейхенау первоначально был,
по-видимому, связан с франкским ареалом, позднее, возможно, что в
результате изменений в составе клира, побеждает алеманская традиция,
но при аббате Валафриде Страбоне вновь намечается сближение с франк-
ским вариантом письменного языка, в частности с традицией Фульдского
монастыря. В верхнеэльзасском монастыре Мурбах состав монахов этни-
чески был, по-видимому, неоднородным: во всяком случае, создававшиеся
здесь рукописи отражали специфику алеманской и франкской традиций.
Приведенные факты свидетельствуют о сложном характере соотношения
языка монастырской письменности и того идиома, на котором говорило
местное население, хотя в языке рукописей и отражались определенные
ареальные признаки. Иными словами, письменному языку было свойст-
венно региональное варьирование, но вместе с тем, как это будет пока-
зано далее, это не была письменность на диалектах.
3
Значительный вклад в развитие христианской идеологии и в создание
письменности на территории франкского королевства внесли готские
и англо-саксонские миссионеры. Готская христианская лексика, возможно,
что через посредство лангобардов, проникает в южнонемецкий ареал и
служит образцом при создании номинации важных понятий христианской
религии, не имевших соответствующих обозначений в родном языке и
по своему содержанию чуждых миропониманию древних германцев. На
северо-западе значительно более существенным было влияние англо-саксон-
ских миссионеров и сложившейся к тому времени древнеанглийской
письменной традиции. Наличие этих двух культурных течений позволило
Т. Фрингсу писать о существовании двух церковных языков (zwei
Kirchensprachen).
Готы первыми среди германских племен приняли хрис?ианство
(IV в.); готская библия была первым переводом основного кодекса
христианской письменности на один из германских языков. Основная
масса готов была арианами. В ряде варварских королевств христианство
первоначально распространялось в форме арианской ереси. Туда же, куда
проникало арианство, эта lex gotica 'готское учение, готский закон', по
определению римлян, туда проникала и готская письменность, а с ней
и готский язык. Даже в IX в., когда уже давно погибло готское королевство
в Италии, а арианство жестоко преследовалось, в одной южнонемецкой
рукописи (так называемая Алкуинова рукопись) приводятся готский
алфавит и образцы текста из евангелия от Луки — свидетельство живучести
готской традиции. Проводником готского влияния могла быть и готская
миссия (VIII в.) во главе с вестготом Пирином, основавшая в 724 г.
монастырь в Рейхенау.
Для истории немецкого письменно-литературного языка особый инте-
рес представляет заимствованная готская религиозная лексика, частично
распространявшаяся и за пределами ограниченного региона, типа д.-в.-н.
touffen, др.-сакс. dopian =готск. daupjan: слово вошло в язык немецких
племен еще до действия 2-го передвижения согласных; первоначальное
22
значение глагола 'погружать в воду, тип его переосмысления объеди-
няет греко-готскую традицию и древненемецкий, древнесаксонский
языки.
По готскому образцу д.-в.-н. wih приобретает значение 'святой' в том
смысле, как это значение соотнесено с догмами христианской церкви,
ср. готск. weihs. По-видимому, это слово имело довольно широкое
распространение, поскольку оно встречается в текстах из разных регио-
нов; возможно, что его использование, в равной степени как и употреб-
ление некоторых других слов типа neriendo 'спаситель' = готск. nasjands,
evangelio 'евангелье', засвидетельствовано только У Отфрида = готск.
aiwaggeljo, сочетание atum wiho 'святой дух' = готск. ahma weiha не были
устойчивыми вследствие отрицательного отношения франкской церкви
к арианству, а, следовательно, и к связанной с ним готской письменной
традиции. По-видимому, калькой с готского, а не непосредственным
подражанием латинскому образцу является д.-в.-н. armaherzin, armaherzi,
armaherzfda 'милосердие', встречающиеся уже в ранних южнонемецких
памятниках, структурно тождественные готск. armahairtei, armahairtiBa,
ср. впрочем, лат. misericordia, калькой которого является само готское
образование. Далеко не всегда можно с определенностью отграничить
заимствование, подражание готскому языку от непосредственного каль-
кирования латинских образцов или от параллельного независимого разви-
тия. Сомнения касаются путей заимствования таких д.-в.-н. слов, как
engil=roTCK. aggilus, evangelio; tiufal, dhifal, др.-сакс. diubal 'дьявол* =
= готск. diabaulus, diabulus = вульгарн. лат. diabulus [Frings 1966—1968];
д.-в.-н. phaffo 'папа' = готск. papa 'священник', лат. рара 'папа' и неко-
торые другие [Kluge 1909; Frings 1966-1968; Weisweiler, Betz 1974,
95-96; Eggers 1963, 152-154; Sonderegger 1970, 340; Tschirch 1966,
123-126].
Поражение арианства, союз франкской короны с римской церковью
повлияли на изменение языковой практики создателей немецкой пись-
менности. В VIII в. значительную роль в духовной жизни франкского
королевства начинает играть англо-саксонская миссия. С деятельностью
англо-саксов связано создание ряда монастырей, в частности, монастыря
в Фульде, ведущего центра немецкой письменности IX в. Его осно-
ватель —англо-сакс Бонифаций, направленный в восточные земли франк-
ского королевства для обращения в христианскую веру жителей Тюрингии
и Гессена. Англо-саксонское влияние распространялось не только на
письменность, создававшуюся в Фульде, но и на оформление рукописей
в разных скрипториях: как немецкие, так и латинские рукописи обна-
руживают особенности англо-саксонского письма, так называемое инсу-
ларное или островное письмо, свидетельство того, что в создании этих
рукописей участвовали англо-саксы и их ученики. Первая из фульдских
рукописей, латтшо-немецкйй глоссарий, "Немецкие Hermeneumata", дошед-
шие до нас лишь в сентталленской копии, являются подражанием англий-
ским словарям этого типа..
Еще значительнее было влияние древнеанглийской поэзии на некоторые
поэтические христианские памятники IX в. Влияние англо-саксонской тра-
диции во многом определило специфику языка одного из самых значи-
тельных памятников этой эпохи — свода евангелий Татиана.
23
Наиболее плодотворной для развития новой культуры в пределах франк-
ского королевства и для судеб формировавшегося письменного языка
была литературная деятельность Фульдского монастыря при Храбане
Мавре (784—856 гг.). Англо-сакс по происхождению, воспитанник иорк-
ской школы и ученик Алкуина, он прибыл в Фульду в 804 г., возглавил
здесь монастырскую школу, а позднее стал аббатом этого монастыря.
Храбан Мавр был крупным ученым своего времени, владевшим всей сум-
мой знаний эпохи. Автор многих трудов, преимущественно компилятив-
ного характера, своего рода учебников и справочников религиозного и
светского содержания, он был одним из наиболее авторитетных популя-
ризаторов и просветителей среди франкского духовенства. Писал он только
на латинском языке. Однако ученый англо-сакс воспринял идеи императора
Карла, осознав важность создания религиозной письменности на немецком
языке. По-видимому, он организовал перевод евангелия Татиана, который
был осуществлен группой фульдских монахов; при нем были созданы
и более мелкие памятники. Более того, две первые немецкие поэмы, посвя-
щенные описанию жизни и смерти Христа, написанные в совершенно непо-
хожей стилистической манере — "Спаситель" (Heliand, автор неизвестен,
около 840 г.) и "Евангельская гармония" (über Evangeliorum, 863—
871 гг.) Отфрида, были созданы авторами, предположительно воспитан-
ными в традициях Фульдского монастыря.
При Храбане Фульдский монастырь становится центром христианской
культуры франкского королевства. Магнаты посылали в Фульду своих сы-
новей, монастыри — наиболее талантливых и просвещенных представителей
духовенства. Подобно Иорку в англо-саксонском« королестве, Фульда в
IX в. определяла развитие и распространение просвещения на территории
франкской империи, сочетая пропаганду новой веры с освоением наследия
греко-римской цивилизации.
Связи Фульдского монастыря с англо-саксонской церковью сохраня-
лись в IX в. Вряд ли можно объяснить только составом монастырского
клира, т.е. наличием среди монахов данного монастыря англосаксов,об-
щие черты стилистически маркированной лексики древнесаксонского
"Спасителя" (Heliand) с лексикой литературы английского ареала. Сом-
нительно, чтобы в этом случае продолжала только влиять ситуация,
сложившаяся при основателе монастыря Бонифации. Показательно, что
второй древнесаксонский памятник — "Генезис", по языку и стилю при-
мыкавший к поэме "Спаситель" и, возможно, принадлежавший перу
того же автора, — был переведен на древнеанглийский язык. Тем самым
подтверждается существование связей между древнеанглийской и древне-
саксонской традициями. Однако влияние англо-саксов отразилось и на
характере других памятников, связанных с разными диалектными облас-
тями франкского королевства.
У англо-саксов сложилась в первые века их христианизации особая
стилистическая модель на основе симбиоза христианской тематики и прие-
мов, унаследованных от древней германской поэзии, включая использо-
вание аллитерационного стиха. Обычно в качестве примера этого типа
литературы на немецкой почве приводится только "Спаситель". Бесспорно,
эта поэма — наиболее яркий образец данной разновидности христианского
книжного эпоса, в котором использовалась система древних германских
24
стилистических приемов, свойственных высоким жанрам устного твор-
чества. Однако поэма "Спаситель" не единственный пример данного типа
литературы. Вариантом Гой же модели является поэма о гибели мира
"Муспилли" (Muspilli), фрагмент которой сохранился на языке, обнару-
живающем признаки баварского диалектного ареала. С древнеанглийской
традицией связан и такой своеобразный памятник как "Вессобрунская
молитва", сохранившийся фрагмент которого дает описание сотворения
мира в образах, далеких от учения христианской церкви.
Культурное влияние англо-саксов проявлялось не только в манере
письма и в развитии новых литературных жанров, но и в приемах слово-
творчества, используемых при создании новой лексики, необходимой
для перевода латинской христианской письменности: у англо-саксов в пе-
реводах латинских религиозных текстов неологизмы создавались преиму-
щественно при помощи средств своего языка, либо описательным путем,
как, например, god=spell букв, 'добрая весть' для обозначения латин-
ского evangelium, либо путем переосмысления исконного значения: ср.
др.-англ. fWfor, исконное значение 'помощь', которое используется как
эквивалент латинскому consolatio 'утешение'.
Значительный пласт лексики, представленный в языке определенной
группы древненемецких памятников, является подражанием английским
образцам, ср. у Татиана gotspell 'евангелие' в отличие от заимствованного
из греко-латинской традиции, возможно, что через посредство готских
миссионеров evangelio у Отфрида; fluobara 'утешение' у того же Татиана,
засвидетельствовано также в южных рукописях глоссария "Аброганс",
первого письменного памятника в франкском королевстве, в форме
fldbra; odmuoti, dtmuati 'смирение' встречается в франкских памятниках,
у Татиана, Отфрида и в "Исповеди" из монастыря в Лорше. С древне-
английской моделью связано образование heilant 'спаситель', др.-сакс.
h&iand, др.-англ. holend, а также обозначение одной из ипостасей бога
heilag geist 'святой дух' у Татиана = др.-англ. hadga gast в отличие от
более раннего и распространенного особенно в южных рукописях ätum
wiho, образованного по готской модели.
Многие неологизмы в евангелии Татиана построены по древнеанглий-
скому образцу, например: gibet=hus (лат. domus orationis) = др.-англ.
gebedhiis, в других немецких текстах, в том числе более ранних beta=hus,
beta=bur; ср. также перевод лат. vespera ога, у Татиана abend=zit = др.-англ.
*fen tid и т .д. В языке перевода Татиана влияние древнеанглийских неоло-
гизмов на развитие словаря немецкого письменного языка проявилось
особенно ярко, однако некоторые явления имеют более широкое распрост-
ранение, как, например, heilag geist, постепенно полностью вытеснившее
wiho £tum.
Продуктивность абстрактного суффикса имен существительных =nessi,
=nissa, тождественного древнеанглийскому =ness, отмечавшаяся исследо-
вателями в языке Татиана, характерна и для других франкских памятни-
ков; ср.: у Татиана mihil=nessi 'величие' (лат. magnitudo), соответствует
древнеанглийскому micelness, в других памятниках mihili, mihilida;
arlös=nessi 'освобождение, отпущение' (грехов) — др.-англ. alysness,
в других памятниках urlösida, urldsi, irlÄs=unga и т.д. Однако не менее
употребителен был данный суффикс и в других памятниках, не связан-
25
ных с Фульдским молдестырем. В "Исидоре", очевидно, созданном на
другой территории на несколько десятилетий раньше, вариант этого суф-
фикса, =nissa, также весьма продуктивен: ср. лат. firnritas = festnissa
'твердость9, лат. aequälitäs ^ebanchilüchnissa 'подобие, равенство',
chilaupnissa *вера' и т.д.
Таким образом, влияние древнеанглийской христианской культуры,
развитие которой значительно опередило состояние этой культуры в
восточной части франкского королевства, оказалось в IX в. достаточно
стабильным.
В период создания письменности на родном языке в открывавшихся
монастырях и крипториях деятельность духовенства была не только
направлена на овладение культурным наследием античной и христианской
цивилизации, но здесь воспитывались проповедники, деятели скрпито-
риев, переводчики, будущие теологи. В этих сферах господствовала
латынь. Вместе с тем в связи с важнейшей задачей, стоявшей перед
церковью — обращение в христианство германцев-язычников, — шло
создание письменности на немецком языке, как уже упоминалось,
преимущественно переводной. Перевод на родной язык был средством
более полного овладеют христианской теологией. Об этом писал в начале
XI в. Ноткер в послании епископу Гуто фон Ситтен, оправдывая свою
переводческую деятельность тем, что на родном языке (per patriam
linguam) быстро усваивается то, что с трудом или не полно понимают на
чужом языке (in lingua поп propria); он, по его словам, стремится к
тому, чтобы церковные и светские книги стали доступными ученикам
монастырской школы (Sonderegger 1980,73).
Мы лишь приблизитеш>но представляем себе различия, социальные и
культурные, существовавшие среди духовенства, принимавшего участие
в создании немецкой письменности. Неодинаковы были, по-видимому,
условия, сложившиеся в Фулвдском монастыре при высокообразован-
ном Храбане Мавре, и в других монастырях. До сих пор остается загад-
кой личность автора перевода "Исидора": в конце VIII, начале IX вв. в
этом трактате и, по-видимому, в фрагментах евангелия от Матвея
(Monseer Fragmente), созданных тем же переводчиком или одним из
его учеников, письменный язык достигает того уровня грамматической
и стилистической отработанности, который вновь появляется только
через двести лет в религиозно-философской прозе Ноткера.
Значительное число однотипных текстов, создававшихся в разных
монастырях и других духовных центрах того времени, свидетельствуют
о том, что тексты молитв, а особенно "Отче наш", покаяний, символа
веры создавались в разных центрах параллельно и независимо друг от
друга для нужд своей паствы лицами, обладавшими отнюдь не одинако-
выми знаниями и неодинаковым умением перевода.
В эту начальную эпоху существования письменности различно было и
отношение к использованию родного языка, как формы выражения
новых мировоззренческих категорий. О неприспособленности родного
языка для этих целей писал еще Отфрид в своем посвящении епископу
майнцскому Лиутберту к поэме о жизни Христа. Высокая языковая куль-
тура, отличавшая античных писателей и философов, стилистическая
система, характеризовавшая язык многих латинских авторов раннего
26
христианского средневековья, были теми потенциальными образцами,
по сравнению с которыми особенно ясно проявлялась бедность, относитель-
ная примитивность создаваемой письменной формы немецкого языка.
Приспособление этой формы к решению новых задач, использование ее
в новых жанрах литературы означало качественное преобразование
языковой формы и потребовало неимоверных усилий со стороны пере-
водчиков и авторов таких оригинальных памятников, как стихотворная
поэма Отфрида. Это был своеобразный культурный взрыв, когда в пора-
зительно короткий промежуток времени (менее ста лет) создавался со-
вешенно новый тип обработанной формы языка. И вместе с тем этот про-
цесс знаменовал рождение и развитие новых форм культуры, сменяв-
ших древние культурные формы, древний узус германского мира. Соз-
дание и развитие письменности на родном языке было одним из аспектов
этих глубинных преобразований.
Шаг за шагом все более широкие масштабы приобретало приспособ-
ление местного языка к новым потребностям, интенсивно развивавшим-
ся на основе приобщения части населения франкского королевства к
наследию антично-христианской культуры. В эти столетия наряду с пере-
водами создавалась и оригинальная христианская поэзия на немецком
языке; Отфрид создает новую поэтическую форму, основанную на ко-
нечной рифме, отказавшись от унаследованного от древней поэзии ал-
литерационного стиха.
ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА, ИХ ЖАНРОВАЯ
И ЯЗЫКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1
Корпус текстов этого периода довольно значителен по объему, но многие
памятники сохранились лишь в отрывках, а также во вторичных записях.
Одним из немногих исключений является поэма в стихах вейсенбургско-
го .монаха Отфрида, посвященная жизнеописанию Христа. Рейнско-франк-
ский вариант рукописи, по-видимому, весьма близок к тексту оригинала
(863—871 гг.). Отфрид — первый известный по имени немецкий поэт.
Имена же большинства авторов и переводчиков этого периода — неиз-
вестны. Не всегда ясно, где создавался тот или иной памятник. В частно-
сти, многие годы дискутировался вопрос о месте создания немецкого
перевода трактата севильского епископа Исидора (конец VIII, начало
IX в.) или поэмы "Спаситель" (Heliand, IX в.). Весьма ущербны наши
сведения об устной поэзии дописьменной поры — фрагменты песни о Хиль-
дебранде (в записи IX в), Мерзебургские заклинания (запись конца IX,
начала X вв.). Лишь косвенные свидетельства содержат сведения о раз-
ножанровой устной поэзии, существовавшей не только в дописьменный
период, но бытовавшей, вероятно, в народе и позднее наряду с письмен-
ными памятниками (см. предыдущий раздел). Далеко не полны наши
сведения также о христианской письменности этой эпохи на немецком
языке, многое безвозвратно утеряно. То, что стала доступным нашему
изучению — лишь часть некогда существовавшей письменности.
27
С середины VIII в. датируется работа в монастырских скрипториях
над созданием письменного языка для германских племен, обосновав-
шихся в восточной части франкской империи. Прагматическая направ-
ленность этой деятельности отмечалась выше; основная задача — осво-
ение мира понятий и идей раннего христианства и греко-римской циви-
лизации. Первая ступень в этом процессе — создание латино-немецких
глоссариев. В Фульде, Рейхенау, Фрейзинге, Мурбахе появляются идео-
логические и алфавитные словари; их создатели нередко используют
аналогичные англо-саксонские образцы. Рукописи первых словарей неод-
нократно переписывались и распространялись из одного монастыря в
другие культурные центры.
Первый из этих глоссариев, Abrogans (называется так по начально-
му латинскому слову в тексте), создан в Фрейзинге в VIII в. Основа это-
го глоссария - позднеантичный алфавитный синонимический латинский
словарь, своеобразное пособие к искусству риторики.
Почти одновременно, около 775 г., в Фульде была создана "Немец-
кая Херменоймата" ("Deutsche Hermeneuniata"), идеологический сло-
варь на основе позднеантичного греко-латинского словаря. Фульдский
глоссарий, очевидно, использовал более ранний древнеанглийский пе-
ревод этого словаря, что отразилось в составе древненемецких лекси-
ческих эквивалентов. Оригинал рукописи не сохранился, но он реконст-
руируется на основе более позднего списка, который был, по-видимо-
му, составлен в Рейхенау, а по месту хранения называется "Сентгаллен-
ский глоссарий". Фрагменты фульдского глоссария 775 г. сохранились
в более позднем списке (около 800 г.) из того же монастыря (так на-
зываемые кассельские глоссы).
Вспомогательный характер имели отдельные глоссы, включаемые в
латинский текст, спорадически с пометами t. (teutonice, theodisce), f.
(francisce), i.e. (id est), и т.д.; к ним примыкают подстрочные перево-
ды типа статута Бенедиктинского монастыря (Benediktinerregel, IXв.).
Таким образом, к концу VIII в. относятся первые попытки создания пись-
менности на родном языке.
В течение следующего столетия наряду с многочисленными образцами
малой религиозной прозы, которые появляются в разных монастырских
центрах, создаются наиболее значительные памятники этого периода, пе-
реводные и оригинальные, прозаические и поэтические. Среди переводов
доминирует проза, оригинальные же памятники представлены в основ-
ном поэтическими жанрами. В переводной письменности выделяются
несколько условно два ведущих жанра: 1) переводы текстов молитв,
символа веры, исповедей, покаяний, евангелия, то есть тот тип религи-
озной письменности, который относится к культовой прозе (Gebrauchs-
prosa) и рассчитан на широкие массы непосвященных; 2) переводы
философско-религиозных сочинений, предназначенных для более узко-
го круга людей, быть может, для слушателей монастырских школ или
других представителей духовенства, недостаточно владевших латынью,
чтобы постигнуть тонкости содержания философских трактатов.
Древненемецкий "Исидор" (Isidor, около 800 г.), перевод теологичес-
кого трактата севильского епископа Исидора (VII в.) "О христианской
вере против иудеев". Сохранился неполный текст этого памятника, со-
28
держательным стержнем которого была защита основного тезиса хри-
стианства об единстве трех ипостасей бога — отца, сына и святого духа.
Текст оригинала сложен, стилистически темен и перед переводчиком сто-
яла трудная задача дать соответствующий текст на немецком языке. Тем
более удивительно, как блестяще была решена эта задача. В отличие от
статута Бенедиктинского монастыря, в котором переводчик рабски сле-
довал тексту оригинала, образуя не свойственные немецкому языку син-
таксические построения и создавая сложные лексические кальки типа
zua-er-füllen для передачи лат. ad-im-plere, un-ga-herz как эквивалент лат.
dis-cors, язык перевода "Исидора" выделяется стилистической гибко-
стью, умением передавать чуждые синтаксические конструкции (при-
частные и инфинитивные обороты} построениями родного языка. Пере-
водчик нередко отступает от текста подлинника. Латинское filius 'сын'
переводится в разных контекстах Christ 'Христос9, gotes sunu 'сын бо-
жий; сын'; а patre 'отцом' — fona dhemu almachtigin fater 'всемогу-
щим отцом'; лат. trinitas Троица (святая)' передается новообразова-
нием с суф.-nissa — dhrinissa и свободным сочетанием dhea dhrii heida
gotes 'три сущности бога'; divinitas 'божественная природа' — новооб-
разованием с тем же суф. — got-nissa, но также gotes geist 'дух божий'
и просто got 'бог'. Причастные и инфинитивные обороты подлинника по-
лучают эквиваленты в немецких относительных предложениях с dhazs:
ср. лат. Hunc Christum sub persona Cyri per Isaiam pater deum et domi-
num ita esse testatur dicens = Umbi dhesan selbun Christ chundida almah-
tic fater dhurah Isaian dhoh ir in Cristes nemin quhädi, dhazs ir ist got
ioh druhtin, 2, где оборот per Isaiam pater deum et dominum ita esse tes-
tatur dicens переводится:'сказал, что он бог и господин'.
Но особенно ярко своеобразие языка переводчика проявляется в ис-
пользовании стилистических приемов германской поэтической традиции.
Об этом, в частности, писал К. Мацель [Matzel 1970, 438]; ссылаясь на
работы Кегеля и Кинаста, он отмечал наличие мотивов эпической поэ-
зии и стилистических приемов, свидетельствующее о владении унаследо-
ванным языковым узусом. Часто переводчик применял аллитерацион-
ные пары Tma/muote...munth, 11; gahlosiu...gahore, 21; missalih enti та-
nacfalt, 39; uuio misseliche und uuTo manigfalto и т.д. В примыкающих
к этому памятнику фрагментах из Монзее повторяется сочетание mihhi-
li enti mari 'великий и знаменитый'. Любопытно в этой связи, что псал-
мопевец в данной группе памятников назван psalmscof; тем самым здесь
использовано старое германское обозначение творца и исполнителя уст-
ной поэзии отнюдь не христианского содержания.
Культура книжного стиля в переводе трактата Исидора — полная про-
тивоположность языку подстрочных переводов и той малой прозы, ко-
торая создавалась часто от случая к случаю для удовлетворения сиюми-
нутных потребностей христианской проповеди. Шюцэйхель писал, оце-
нивая перевод "Исидора" в целом и сопоставляя его с другой письмен-
ной продукцией того же периода, что древненемецкий "Исидор" пред-
ставляет высокий уровень литературы [Schützeichel 1961,121].
По-видимому, переводчик этого трактата принадлежал к определенной
школе создателей христианской литературы на немецком языке. Выска-
зывалась гипотеза о близости к императору Карлу и Алкуину. Предпо-
29
ложительно фрагменты первого немецкого евангелия, обнаруженные
в рукописи из Монзее (Monseer Fragmente) и сохранившие признаки
баварского ареала, являются баварской копией франкского оригинала,
созданного в том же центре, что и перевод "Исидора", а возможно, тем
же переводчиком. Объединяет перевод евангелия и текст "Исидора" уро-
вень владения письменной речью, свобода в передаче содержания ориги-
нала. Сопоставление отрывка евангелия от Матвея, представленного в
рукописи из Монзее, и того же отрывка в переводе евангелия Татиана
позволяет судить о большей самостоятельности монзееского фрагмен-
та. В области синтаксиса это проявлялось в трактовке абсолютных кон-
струкций, в отклонении от латинского порядка слов, в замене актива
пассивом. Проявляется эта самостоятельность и в небольших вставках,
которые дает переводчик для достижения большей доходчивости текста
[Matzel 1970,365].
Вопрос о том, является ли некоторая общность синтаксических и сти-
листических закономерностей языка данной группы текстов следствием
того, что они выполнены одним и тем же переводчиком, или здесь отра-
зилась общность установок определенной переводческой школы, все еще
остается нерешенным. Затрудняет его решение и то обстоятельство, что
в монзееских фрагментах (исключая отрывок из "Исидора" в этой ру-
кописи) насчитывается 500 древненемецких слов, которые не имеют со-
ответствий в "Исидоре", а в "Исидоре" примерно 200 слов, отсутствую-
щих в текстах из монзееской рукописи. Но вместе с тем Isidor Sippe,
как называют эту группу текстов, образует некоторое единство перевод-
ческого стиля; загадкой остается, как мог быть достигнут столь высо-
кий уровень перевода буквально на заре создания письменности лишь
несколько десятилетий спустя после появления первых глоссариев.
Нельзя проследить и влияние переводческой деятельности создателей
первых значительных письменных памятников на немецком языке на
дальнейшую переводческую практику в монастырских и епископских
скрипториях. Перевод "Исидора" был, по-видимому, знаком состави-
телю мурбахских глосс, так как там приводятся отдельные слова, вы-
ражения и даже предложения из данного памятника. Но это единствен-
ное свидетельство того, что перевод "Исидора" изучали, во всяком слу-
чае, он был известен в Мурбахе, по-видимому, близком к тому ареалу,
где была создана эта группа памятников. В других же центрах развитие
письменного языка пошло по иному пути.
Несколько десятилетий спустя после создания переводов Isidor Sippe
в Фульдском монастыре, по-видимому, под влиянием Храбана Мавра,
осуществляется группой монахов перевод евангелической гармонии си-
рийца Татиана (перевод около 830 г.). Отдельные части рукописи сдела-
ны разными писцами, и, по-видимому, разными переводчиками. Этим
объясняются расхождения в орфографии, частично отражающие варьирова-
ние на фонетическом уровне, и, возможно, такие явления как колеба-
ния в местоименных формах. Регионально язык Татиана связан с вос-
точно-франкским ареалом, хотя Фульда относится к рейнско-франкско-
му региону. По характеру перевода Татиан приближается к подстрочным
переводам, он резко отличается от стиля перевода Исидора и примыкав-
ших к нему памятников. Возможно, что различия объясняются не только
30
неодинаковым владением материалом, а также искусством перевода,
но типом текста. Передача библейского текста не допускала никаких воль-
ностей. Это должен был быть дословный перевод, не оставляющий ла-
зейки для искажения содержания священного писания. Показательно,
что в значительно более поздних текстах, относящихся к другому исто-
рическому периоду (имеются в виду листовки эпохи Крестьянской вой-
ны), наблюдается стилистическое обособление языка библейских цитат
от других'частей текста. Язык библейских цитат сохранял буквализм
перевода, архаичность лексики и грамматических форм.
В период создания письменности, по-видимому, особенно сильно бы-
ло влияние той модели перевода священных книг, которая основыва-
лась на неуклонном следовании языку оригинала. В литературе в этой
связи отмечалось, что и в пределах памятников, входящих в Isidor .Sip-
pe, также наблюдается большая связанность и подражательность языку
оригинала там, где приводится библейский текст. Г. Эггерс специально
подчеркивал, что буквализм перевода Татиана не мог быть результатом
слабого владения книжным стилем родного языка, но являлся следст-
вием сознательного стремления наиболее адекватно передать текст еван-
гелия [Eggers 1963, 207]. Оставляя в стороне вопрос о том, что явилось
причиной подстрочного характера перевода Татиана, отметим устойчи-
вость этой традиции в переводах христианской црозы, особенно же биб-
лейского текста, в течение ряда столетий вплоть до переводов XIV—XV вв.
Не исчезает, однако, и другая модель, представленная переводом "Иси-
дора". В К в. вейсенбургский перевод катехизиса, стилистически доволь-
но далекий от "Исидора", сближается с переводческой практикой пере-
водчика этого трактата уровнем владения письменной формой родного
языка, пониманием структурного соотношения языка перевода и ори-
гинала. Язык катехизиса и проповедей — это та линия развития письмен-
ного языка, которая вела к его сближению со стилем разговорной речи.
И эта вторая линия развития сохраняется в истории немецкой письмен-
ности, то ослабевая, то усиливаясь в течение ряда столетий. Ее вершина —
библия Лютера.
Как уже отмечалось выше, десятый век не дал ничего значительного
в жанре немецкой переводной прозы, но и в других жанрах не появилось
крупных произведений. Полтораста лет отделяют перевод "Татиана" от
переводческой деятельности Ноткера (родился в 950 г.), монаха Сент-
галленского монастыря, руководителя и преподавателя монастырской
школы. Отнюдь не ясно, в какой степени Ноткер опирался на традицию,
сложившуюся в языке письменности VIÜ—IX вв. Бесспорно, значитель-
ный процент неологизмов в языке его переводов являются новообразо-
ваниями. Частично это было связано с тематикой его переводов, его дея-
тельностью в качестве руководителя и педагога Сентгалленский мона-
стырской школы, переводчика и комментатора философских, теоло-
гических и научных трудов поздней античности и раннего средне-
вековья.
Среди его переводов "Риторика" и "Категории" Аристотеля (с латин-
ского перевода Боэция), энциклопедия искусств Марциана Капеллы под
названием "Брак Филологии и Меркурия", этический трактат Боэция
31
"Об утешении философией", "Букколики" Вергилия, псалмы. Не все
произведения Ноткера сохранились. Однако то, что дошло до современ-
ности, позволяет судить об особенностях его переводческой практики.
В своих работах он сочетал перевод и содержательный комментарий ори-
гинала. Труды Ноткера — учебные пособия для учащихся монастырской
школы. Дидактическая установка определила специфику самих текстов,
способствуя включению, нередко на равных правах латинских и немец-
ких слов, словосочетаний, целых предложений. Так создавались смешан-
ные немецко-латинские тексты, столь характерные для всего творчества
Ноткера.
По разнообразию тематики, богатству лексики, развитию словотвор-
чества, особенно плодотворному в сферах абстрактных категорий, пе-
реводная проза Ноткера — показатель того уровня, который достиг пись-
менный язык к концу рассматриваемого периода. Фактически Ноткер
создатель немецкой научно-философской терминологии. Он ввел в язык
такие слова, как lirnunga 'наука, учение', gilirnunga 'знание', wizzeereda
'разум', wissprähunga 'научное исследование', buohlist 'наука, умение
(книжное знание, книжное искусство)', quissunga 'доказательство9, wist
'субстанция, бытие', berohafti 'природа', behefteda 'состояние', fruotheit
'рассудок' = лат. prudentia, foleglihhi 'обилие, совершенство', wendeling
'относительное понятие', ung(e)wisheit, ungwissi 'неопределенность'и т.д.
Однако словотворчество у Ноткера отнюдь не ограничивалось сферой
научно-философской лексики, оно охватывало разные семантические
группы; ср., например, имена действующего лица: leito 'вождь9 от глагола
leiten 'вести, направлять', dare 'обвинитель', chomeling 'чужестранец',
chunneling 'родственник', chunighrihtäre 'властелин', chundlre 'вестник,
ангел'. Для образования этого семантического класса использованы раз-
ные словообразовательные модели — конверсия (leito), суффиксация
(суф. -ari,4ing), словосложение (chunighrihtäre); многие из этих по-
нятий имели в языке старые наименования, ср. 'вестник' = boto, также
'ангел', употребительное и у Ноткера; 'властелин' t ruht in, также и у Нот-
кера, 'родственник' = mag, засвидетельствовано в "Татиане", "Муспил-
ли" и у Отфрида.
Нередко Ноткер употребляет параллельно ранее существовавшую лек-
сему и созданный им неологизм: так, например, лат. contradictio 'возра-
жение' обычно переводилось как widerspräche (калька), но один раз
Ноткер употребляет неологизм widerchedunga, сложное слово, образо-
ванное от глагола widar-quedan 'возражать, отрицать' (глагол встреча-
ется у Ноткера и в переводе Татиана) + суффикс абстрактных существи-
тельных -unga. Redemptio 'освобождение' переводится lösunga, сущест-
вовавшим в письменности до Ноткера (в переводе Татиана),но и неоло-
гизмом irloseda; лат. impius 'злой, нечистый' переводилось у Отфрида
как unguot, Ноткер также употребляет это слово, но наряду с ним со-
здает новое слово guotlos; лат. lignum 'лес, дерево' передается традици-
онно как boum ~poum ~paum, но Ноткер дополнительно создает слож-
ные слова waltpoum, waltholz.
С. Зондерэггер приводит интересный материал, показывающий, сколь
широко Ноткер использовал синонимику, создавая все новые единицы
[Sonderegger 1970, 344]: лат. opus в евангелии Татиана переводится толь-
32
ко, как werc (32 раза), Ноткер употребляет кроме werh еще следующие
синонимы — scaffunga, hanttat, zeichen, субстантированный инфинитив
tuon, из них scaffunga и hahttät новообразования Ноткера. Точно также
лат. lex в Исидоре переводится только как ewa (3 раза), в евангелии Та-
тиана также встречается ewa (32 раза), Ноткер же использует следующие
синонимы ёа, gebot, geduing, scaffunga, waltesod, из них geduing, scaf-
funga, waltesod новообразования Ноткера, причем scaffunga означает
не только 'закон', но и 'дело', waltesod 'закон' и 'господство', то есть и
вновь создаваемые единицы имели довольно широкую смысловую струк-
туру.
Ноткер свободно использует многочисленные словообразовательные
модели, существовавшие в родном языке для создания новых единиц,
способных, по его мнению, точнее передать содержание текста. Его сло-
варь, насчитывающий свыше 7000 единиц (у Отфрида 3355, а в Еванге-
лии Татиана только 23004), — показатель словообразовательных потен-
ций, которых достиг письменный язык к концу рассматриваемого пе-
риода. И вместе с тем язык Ноткера — это не региональное явление, а
некая наддиалектная форма существовании языка, выразитель относи-
тельного единства языка немецкой народности. Показательно, что Нот-
кер первым употребил в родном языке фразеологизм in diutiscun 'по-
немецки', противопоставив немецкий язык языку оригинала — латыни.
Если Отфрид в К в. называл язык своей поэмы frenkisg по названию
того этнического образования, к которому он себя относил, и frenkisg
воспринималось в значении 'родной идиом', то у Ноткера латыни про-
тивопоставлен не его родной алеманский диалект и не алеманский ва-
риант письменного языка, а некая общая форма того языка, который
он назвал diutisk.
2
В немецкой письменности древнего периода христианская тематика
представлена не только переводными, но и оригинальными текстами.
Среди них абсолютно господствуют поэтические памятники разных жан-
ров. Отвлекаясь от жанровой характеристики, можно выделить два ти-
па текстов: 1) памятники, в которых христианская тематика воплоще-
на в традиционные формы аллитерационного стиха и где широко при-
меняются традиционные стилистические приемы древнегерманского уст-
ного творчества; к этой группе произведений относятся "Муспилли",
"Спаситель", "Генезис", "Вессобрунская молитва"; 2) памятники, для
которых характерно стремление к обособлению от древней тематики
и древних стилистических традиций, с этим связан отказ от аллитераци-
онного стиха и попытки ввести в немецкую поэзию новую для нее форму
стиха с конечной рифмой. Создателем этой новой поэтической формы
был Отфрид, впервые применивший ее в своей поэме о жизни Христа.
В этой новой манере написана "Песня о Людвиге" (Ludwigslied 881/882),
"Песня о святом Георге" (Georgslied, 896), "Христос и Самаритянка"
(по-видимому, тоже в 80-е годы К столетия).
4 Согласно подсчетам, которые приводит С. Зондерэггер [Sonderegger 1970, 342]
3. Зак. 336 31
"Муспилли" (Muspilli, название памятника дано в XIX в. немецкими
учеными), язык которого обнаруживает характерные черты баварского
ареала, датируется второй половиной IX в. По-видимому, данный текст
является копией более раннего, возможно, созданного в франкском аре-
але, памятника. По своему содержанию — это проповедь, посвященная
описанию Страшного суда и конца мира, бичующая грешников, которых
ждет возмездие в загробном царстве. Но эта христианская тематика по-
лучает своеобразное преломление, не только благодаря использованию
аллитерационного стиха, применению традиционного приема формаль-
ного варьирования, подхвата (ср. in paradisu pu kiwinnit, hus in himile
16 'в раю получит жилище, дом на небесах9, hella fuir...pehhes pina 21—
22 'адский огонь—муки ада'), но и во всей системе образов, связанных
с описанием конца мира, в творческой обработке христианского мифа
о Страшном суде. Само слово muspilli, встречающееся в тексте поэмы
и означающее 'конец мира, Страшный суд', в древневерхненемецком за-
свидетельствовано только в этой поэме, но в Эдде в "Речи Провидицы"
(Vjlospä) muspilli означает 'конец света, светопреставление, катастро-
фу, при которой гибнет вселенная.
В поэме "Муспилли" гибель мира наступает в результате борьбы про-
рока Ильи, защитника истинной веры, поборника справедливости, с ан-
тихристом. Борьба описана как поединок витязей древней поэзии. В по-
единке Илья будет ранен и кровь его оросит землю. Тогда воспламенят-
ся горы, ни одно дерево не устоит, высохнут воды, болото поглотит се-
бя, пламя охватит небо, упадет луна, загорится земля (срединное царст-
во) ... родичи не могут спасти друг друга от муспилли (ср. в подлшпшке
"so daz Eliases pluot / in erda kitriufit / /, so inprinnant die perga / poum
ni kistentit / / enflic in erdu, / aha artruknent / / muor varsuuilhit sih / su-
ilizot lougiu der himil//mano valüt /prinnit mittilagart..-,/dar ni mac
denne mak andremo / helfan vora demo muspille" 50—55.
Описание светопреставления по своей краткости, насыщенности, по-
этическому пафосу напоминает строфы из Эдды (Volosp£),B которых
Провидица предрекает конец света в образах германских мифов. Эта
часть поэмы никак не связана с антично-христианской традицией, но сле-
дует, по-видимому, признать влияние англо-саксонских образцов. Имен-
но у англо-саксов особенно популярно было сочетание унаследованных
германских форм с новым содержанием. Уже в VII в. в поэме "Кэдмон"
о сотворении мира был дан первый образец этого типа литературных па-
мятников. Ученые клирики способствовали здесь поразительно быстро-
му расцвету поэзии. Иная ситуация сложилась во франкском королев-
стве. Здесь данный тип литературы представлен единичными памятни-
ками, совершенно явственно обнаруживающими англо-саксонское влияние.
В частности, это относится и к поэме"Муспилли. Де Боор, например, пред-
полагал, что немецкая поэма лишь подражание существовавшему ранее
древнеанглийскому произведению [Boor de 1949,52].
Аналогичная точка зрения высказывалась и о двух других памятни-
ках этого типа: о так называемой "Вессобрунской молитве" (Wessob-
runner Gebet) и о книжном эпосе "Спаситель" {HeKand). Первый лз них,
небольшой по объему, состоит из двух частей, поэтической, написанной
аллитерационным стихом, и прозаической. Прозаическая часть памятни-
34
ка является молитвой, обращенной к всемогущему богу, с мольбой дать
истинную веру (rehta galaupa) и добрую волю (cotan uuilleon), разуме-
ние, мущюсть и силу противостоять бесам (uuistom enti spahida enti
craft tiuflun za uuidarstantanne...). Поэтическая часть включает две стро-
фы, описание хаоса до сотворения мира,- когда "не было ни земной твер-
ди, ни верхнего неба, ни дерева.... ни горы...'ничего, солнце не сияло, лу-
на не светила, ни сверкающее море (океан?)" (ср. оригинал: Dat его ni
uuas noh ufhimil, noh paum... noh pereg ni uuas, ni... nohheinig noh sunna
ni seein, noh mano ni liuhta, noh der mareo seo). Именно эта часть своей
стихотворной формой, краткостью, напряженностью стиля, примыкает
к традициям древней поэзии. Здесь отражаются представления, близкие
к описание хаоса в Эдде (Vplospä). Характерны и лексические архаиз-
мы — его 'земля', ufhimil 'верхнее небо'. Ареальная характеристика па-
мятника определяется смещением разных региональных признаков —
баварское оглушение смычных в pereg, paum, cot сочеталось со средне-
немецким непередвинутым t. Предположительно до нас дошла бавар-
ская копия франкского (рейнско-франкский) оригинала.
Наиболее значительное произведение среди памятников этого типа —
древнесаксонский книжный эпос "Спаситель" (Heliand, около 840 г.).
По-видимому, автор этого эпоса был связан сФульдским монастырем
и знал текст перевода Татиана. Неясной остается ареальная характери-
стика языка памятника: в древнесаксонскую основу вкраплены фран-
кские элементы, графика обнаруживает влияние древнеанглийской
традиции. Многие годы велась дискуссия относительно тех факторов,
которые определили гетерогенный характер языка памятника. Вопрос
о том, какие явления должны быть отнесены к языку подлинника и что
является позднейшими вкраплениями переписчика, в равной степени,
как и проблема локализации памятника, были предметом многих работ
[Dal 1954; Rooth 1956; Frings 1966-1968,196-217].
И все же сосуществование древнесаксонских и древнефранкских элемен-
тов в языке "Спасителя" не получило однозначного решения. Не касаясь
истории вопроса о соотношении языка автора и переписчика, можно, од-
нако, предполагать, что в памятнике, написанном аллитерационным сти-
хом, лексика бесспорно является наиболее устойчивым элементом. На
нее вряд ли распространялся произвол переписчика. Поэтому сочетание
в лексике "Спасителя", причем, и в лексике, стилистически связанной
эпической традицией, разнодиалектных элементов, отражает закономер-
ности языка оригинала. Ограничимся некоторыми примерами. Из трех
синонимов, обозначающих небо, два — heban и radur — этимологически
тождественны др.-англ. heofon и rodor; третий — himil встречается толь-
ко в древненемецких памятниках (в готском и древнеисландском язы-
ках та же основа имеет другой суффикс, готск. himins, др.-исл. himinn).
В "Спасителе" в сложных образованиях, типичных для эпической тради-
ции, употребляются как heban, так himil: heban-kuning, тождественное
др.-англ. heofon-eyning 'господь', буквально 'небесный король^ hefcan-
nki 'небесное царство', но встречается и himil-kuning и himil-riki^ тож-
дественное д.-в.-н. himil-richi у Отфрида.
Бесспорно, общность с древнеанглийскими образцами преобладает.
Но в ряде случаев с общегерманским словом соседствует верхненемец-
35
кий синоним: ср. mid th'inun fotun an felis bispurnan, an hardan sten 'тво-
ими ногами опереться на скалу, на твердый камень* Hei. 1091; sten и
felis фактически являются синонимами, первое слово относится к об-
щегерманской лексике, второе встречается только в верхненемецком
ареале; включение felis связано с варьированием в пределах аллитера-
ционного стиха, с приемом* так называемого подхвата. Точно так же из
двух лексем — dunkar 'темный, мрачный* и finistar 'темнота, темный' —
первая регионально не ограничена, вторая связана с немецким ареалом.
Для соотношения с верхненемецкой традицией показательны и такие
аллитерационные пары, как glitandi glimo 'сверкающее сияние', где оба
элемента встречаются только в верхненемецком ареале. Таким образом,
сочетание упомянутых двух языковых стихий было присуще автору по-
эмы.
Однако общность с древнеанглийской традицией господствует в слож-
ных образованиях как христианской, так и эпической лексики — ср. си-
нонимы, обозначающие группу людей, дружину, человечество: др.-сакс,
man-werod, erl-skepi и др.-англ. man-weorod, eorl-scipe; др.-сакс. eli-thi-
oda 'чужестранец, язычник' и др.-англ. el-debd; др.-сакс. inwid-nid 'враж-
да' и др.-англ. inwit-nid.
Поэма "Спаситель" насчитывает около 6000 стихов и представляет
собой изложение Нового завета в традиционной форме аллитерационно-
го стиха. Автор широко использует специфические для эпической поэ-
зии приемы словесного творчества, так называемые кеннинги, синони-
мические повторы, архаическую лексику. Но в отличие от эпической пес-
ни, произведения такого объема, что оно было приспособлено для уст-
ного исполнения в течение относительно короткого времени, "Спаситель" —
книжный эпос подобно древнеанглийскому Беовульфу. Следовательно,
он был предназначен для чтения. Кто же был его потенциальный читатель
или слушатель?
Прошло около ста лет существования письменной формы родного
языка. Отнюдь не ясно, какие социальные круги овладели грамотой на
этом языке. Судя по содержанию поэмы, ее автор был образованный
клирик и вместе с тем он владел системой традиционных стилистичес-
ких приемов германской эпической поэзии. Как известно, саксы зна-
чительно дольше сопротивлялись христианизации, чем другие герман-
ские племена. С этим была связана и большая устойчивость древних
общественных институтов на их территории. Можно предполагать, что
и древние литературные формы были здесь достаточно популярны. Их
использование при создании поэмы возможно объяснялось стремлени-
ем сделать повесть о жизни и страстях Исуса, а вместе с тем изложение
основ христианского вероучения более доступными для понимания сак-
сов—язычников. Скорее всего поэма была рассчитана не на монастырский
клир, а на светского читателя и слушателя. Ведь и Исус, главный "герой"
поэмы, во многом напоминает конунга германских эпических сказаний.
Droht in 'вождь, господин, властитель' называет автор Исуса, этимологи-
чески слово связано с др.-англ. dryht 'дружина', д.в.-н. truht; ср. также
др.-англ. dryh-ten, д.-в.-н. truhtin 'вождь, господин, властитель'. Droht in
god 'господь бог'= лат. pater caelestis. В эпосе упоминается, что Исус про-
исходит из "лучшего рода", он mäht ig drohtin 'могущественный вождь,
36
властелин' 1, 37. Так и Иосиф характеризуется как человек благородного
происхождения godes cunnies man, а дева Мария как благородная жена di-
urlic uuif, апостолы как свита Исуса. Вьвделяется использование стилистичес-
ки маркированной лексики: ср. сложные образования seoliäandi 'путешест-
вующие по морю', это образование встречается также в "Песне о Хильдебран-
де", lagulidandi 'путешествующие по морю'; оба сложные слова образо-
ваны по одной и той же структурной модели. К стилистически маркиро-
ванной лексике относится irminman 'человек', ср. в "Песне о Хильдебран-
де" irmindeot 'народ, люди', irmingot 'бог людей, великий бог', в Бео-
вульфе eormen-grund 'вселенная', eormen-cyn 'человечество'; первый ком-
понент в форме iprmun появляется в Эдде в iprmun-grund 'вселенная'
и iprmun-gandr 'огромная палка или волк-великан' в качестве поэтичес-
кого наименования (кеннинг) легендарной змеи Мидгарда, на которой
держится вселенная.
Стилистическая отмеченность всех этих образований раскрывается
особенно ясно на материале древ неисландских памятников: icprmun не
только компонент поэтического наименования змеи Мидгарда, но оно
образует также одно из имен высшего божества германского Олимпа -
Одина — tyrmun [Vries de 1961, 295]. Вероятно, к той же основе восхо-
дит и имя готского / вождя Эрманариха, ср. древнеанглийскую форму
в Беовульфе Eormen-ric.
Особое место в языке "Спасителя" занимают кеннинги,. поэтические
метафоры; они однотипны кеннингам древнеанглийской и древнеисланд-
ской эпической поэзии; ср. кеннинги, используемые для обозначения
вождя: др.-сакс, bog-get)o 'дарящий кольца', др.-англ. beag-gyfa 'даря-
щий кольца', др.-исл. baug-broti, hring-broti 'ломающий кольца'; др.-
сакс. med-gefto, тёЭот git3o и др.-англ. таЭит gifa 'дарящий драгоцен-
ности'; ср. также кеннинги, обозначающие рану — др.-сакс. billes biti
и др.-англ. billes-bite, 'укус меча', а также кеннинги, обозначающие вои-
на — др.-сакс. helm-berand 'шлем несущий', др.-англ. helm-berend, но и
lind-haebbende 'щит имеющий'. В наиболее употребительных кеннингах
(ср. обозначение вождя) тождественной является внутренняя струк-
тура фразеологической модели, а иногда и сам этимологический состав
ее компонентов.
Общие черты стилистически маркированной лексики "Спасителя" с
подобной же лексикой древнеанглийской и шире древнеисландской эпи-
ческой поэзии — результат взаимодействия разных факторов. Сказалось
здесь влияние унаследованных приемов и структур, которые сложились
в процессе интенсивного контактирования германских племен, происхо-
дившего в походах против Рима и межплеменных конфликтов, когда
племенные объединения стремительно возникали и вновь распадались.
Но существенную роль играли и более поздние влияния поэзии одного
народа на другой. Немаловажную роль играли в этом процессе древне-
германские певцы-сказители, скопы, бродившие и путешествовавшие
от одного королевского двора к другому. Отнюдь не всегда легко раз-
граничить эти два фактора, определявшие общие элементы в древней
литературе германских народов. Так, например, наиболее значительную
общность стилистически маркированных пластов языка в немецко-сак-
сонской и древнеанглийской поэзии, по-видимому, следует объяснять
37
не только общими культурными связями, развивавшимися в VIII-IX вв.,
(особенно интенсивные в деятельности Фульдского монастыря, с кото-
рым, очевидно, был связан автор "Спасителя"), но и генетической бли-
зостью языка и культуры немецко-саксонской группы племен с племе-
нами, располагавшимися ранее на побережье (юты, англы, фризы), а в
V в. заселившими Британию.
Влияние древнеанглийских образцов на язык "Спасителя" реализо-
валось уже в условиях существования письменности, но функциональ-
но-стилистические параллели, рассмотренные выше, не были результа-
том внешнего, поверхностного влияния, а были обусловлены прошлым
культурного развития этнических единиц, образовавших немецко-сак-
сонскую и англо-саксонскую группировки.
В последнее время В. Крогман высказал новые предположения отно-
сительно условий возникновения данного памятника и личности его ав-
тора. По его мнению, автором "Спасителя" был англо-еаксонский мисси-
онер, для которого древнесаксонский язык оставался чужим, хотя он
изучил его. Этим объясняются как "нерегулярные" формы, так и типо-
логическая близость с древнеанглийским книжным эпосом. Гипотеза
эта не представляется убедительной. Франкские элементы не только в
фонетико-морфологической системе, но и в лексике памятника не по-
лучают объяснения и в свете этого предположения. Несмотря на то, что
"Спаситель"«в жанровом отношении уникален в данном ареале, он об-
наруживает общие типологические черты с "Муспилли" и "Вессобрун-
ской молитвой", так как и для этих двух памятников характерен сво-
еобразный симбиоз христианской тематики и стилистических элемен-
тов древнегерманской поэзии, и здесь проявляется англо-саксонское вли-
яние. Но вместе с тем обращают на себя внимание и общие стилистические
приметы с языком единственно дошедшего до нас образца немецкой эпи-
ческой песни — "Песнь о Хильдебранде" (см. дальше). Иными словами,
стилистический пласт форм, связанных с германской традицией, был по
сути местным литературным образованием, получившим новый импульс
вследствие влияния англо-саксонских образцов.
Однако этот тип христианской литературы не получил дальнейшего
развития. Поэзия, в которой использовался аллитерационный стих, уми-
рает еще при наследниках Карла. Неприемлемым было сочетание хри-
стианской тематики с формальными приемами, унаследованными от язы-
ческих времен.
Почти одновременно со "Спасителем" и, по-видимому, в той же куль-
турной среде возникла идея о создании поэмы* посвященной жизнеопи-
санию Исуса, отказавшись от древних унаследованных форм. Так было
создано вейсенбургским монахом Отфридом в 70-е годы IX в. первое
поэтическое произведение на немецком языке, где использована конеч-
ная рифма. Сам этот факт был символичен: он означал разрыв с традици-
онными формами и в поэтических жанрах, т.е. в той литературной сфе-
ре, в которой наиболее стойкими были унаследованные приемы. Отказ
от аллитерационного стиха означал одновременно и забвение всей той
стилевой системы, которая была связана с поэзией, где господствовал
аллитерационный стих. Отфрид фактически открывает новую эру в раз-
витии немецкой поэзии и шире немецкой литературы. Популярность это-
38
го памятника у современников подтверждается наличием многих копий,
созданных, если судить по языковым особенностям, в разных скрипто-
риях. Сохранился также манускрипт» прокорригированный автором. Аре-
альные приметы языка этой рукописи ведут на юг рейнско-франкской
области. Одно время Отфрид был связан с Фульдским монастырем, воз-
можно, что он был воспитанником этого монастыря, но затем он обосно-
вался в Вейсенбурге, где и создал свою поэму.
Поэма Отфрида (Otfrid, 7400 двустиший) принадлежит ко второму ти-
пу христианской поэтической литературы на немецком языке. Избрав
фактически тот же сюжет, что и автор "Спасителя9' — жизнь и страсти
Исуса, Отфрид разрабатывает эту тему в совершенно ином духе. Веду-
щими в трактовке Отфрида являются теологическое толкование библей-
ского текста, строгое следование христианской догме, схоластический
комментарий. Культовая поэзия на латинском языке оказала значитель-
ное влияние на него. Его стихотворная форма — подражание латинским
церковным гимнам: два лолустиха связываются конечной рифмой в один
стих; ср. из «ведения к евангелию прославление короля Людовита: Lu-
douuig ther snello/thes uuisduames follo//er ostarrichi rihtit al/so
Frankono kunung scal 1—2 'Людвиг смелый (храбрый), полный мудро-
сти, он управляет всем восточным царством, как это подобает королю
франков*. Из латинских церковных гимнов Отфрид перенес в свою по-
эму ряд устойчивых словосочетаний, привычных формул. Новая стихо-
творная форма, необычная для его родного языка, связывала автора,
способствуя сухости и ходульности изложения. Сравнение двух напи-
санных на одну тему, но несходных типологически произведений, "Спа-
сителя" неизвестного автора и Евангелической гармонии Отфрида, рас-
крывает всю сложность для поэта того времени обособления от тради-
ционных литературных форм. Конечно, раскованность и красочность опи-
сания, а также приподнятость речи в тех частях "Спасителя", где это было
обусловлено ходом сюжетной линии, не может быть объяснено только
возможностями, которые отличали традиционные формы. Очевидно, раз-
ный художественный уровень, различия в литературном мастерстве были
обусловлены и разной степенью одаренности создателей сопоставляемых
произведений. Г. Зггерс, упоминая, что Отфрид трудился над своей поэ-
мой долгие годьг, обращает внимание на тот факт, что в первых частях
памятника встречаются стилевые приметы древнегерманской поэзии [Eg-
gers 1963, 231]. Вряд ли это указывает на то, что Отфрид хотел перво-
начально создать произведение в традиционных литературных формах.
Скорее здесь сказалась сила традиции, влияние привычных форм поэти-
ческого творчества. В качестве примера можно привести строфу: floug
er sunnün päd / eterrono straza / / wega woIkSno / zi theru itis frono
1 5,6 ' Он летел солнечной тропой, звездной дорогой, путем облаков к этой
благородной женщине9, где соблюдены частично принципы аллитерацион-
ного .стиха. Отголоски той же традиции слышатся и в двустишии nu ri-
azen elilente/in fremidemo lante//nü ligit uns umbitherbi thäz unser
adalerbi 1 18,16 Теперь печалимся мы чужестранцы (изгои, потерявшие
родину) в чужой стране, теперь лежит без пользы (неиспользованное)
наше благородное наследство'. Elilente, adalerbi — лексика, типологичес-
ки близкая эпической традиции, также как и adalkunni 'благородный
39
род', lantwalto 'властитель страны9, drutthegan 'преданный слуга' и т.д.
В тексте поэмы постоянно встречаются аллитерационные пары: houbit
joh thie henti 'голова и руки', then hugu joh taz herza 'дух, мысль и серд-
це', ser joh smerzun 'горе и боли', hüs inti hof 'дом и двор'. Таким об-
разом, влияние старых стилистических навыков проявляется в христи-
анской поэзии даже в языке таких памятников, авторы которых стре-
мились порвать с древними стилистическими традициями и следовать об-
разцам христианской литературы на латинском языке.
Как уже упоминалось выше, "Евангелическая гармония" Отфрида
сохранилась в нескольких рукописях, связанных с разными языковы-
ми ареалами. Следовательно, памятник этот был известен в разных куль-
турных центрах. По-видимому, под влиянием метрической системы От-
фрида были созданы такие типологически несходные произведения, как
хвалебная "Песнь о Людвиге", посвященная его победе над норманнами,
"Песня о святом Георге", "Христос и самаритянка" (сохранился неболь-
шой отрывок).
В поэме Отфрида, помимо изложения евангелия, содержится в первой
книге восхваление франкского короля Людвига, своего рода краткая
хвалебная песнь. К этому фрагменту примыкает упомянутая выше песнь
о Людвиге неизвестного автора, написанная в ознаменование победы фран-
кского короля над норманнами в 881 г. Следуя традициям старинных
хвалебных песен, автор рассказывает сначала о детстве своего героя, а
затем переходит к описанию вторжения врагов и битвы, в которой Люд-
виг, божий воин, славный своей преданностью христианской вере, одер-
живает победу над норманнами-язычниками. Воинская героика в этой
песне получает совершенно новые краски. Доблесть, храбрость нераз-
рывно связаны с могуществом церкви, с набожностью героя. Ничего не
сохранилось от старых образов эпической песни. Новый мир, новые иде-
алы, новые этические нормы победили. Однако и этот жанр христианской
поэзии не получает дальнейшего развития. В конце древневерхненемец-
кого периода во всех высших сферах общения полностью господствует
латынь. Новые значительные переводы, а тем более оригинальные произ-
ведения в эти столетия не создаются.
3
Традиционные, достигшие высокого уровня устные формы герман-
ской поэзии не только продолжали существовать после создания пись-
менности (хотя наши сведения об их сущностных характеристиках от-
рывочны и бедны), но и влияли в какой-то степени на новую литера-
туру, и даже на язык некоторых переводов ("Исидор"). Конечно, нель-
зя предполагать наличие непосредственной преемственности между ти-
пами языковой культуры, унаследованными от прошлого, и новыми
формами, развивавшимися на чужой основе. Однако само существова-
ние традиции обработанных наддиалектных форм могло оказывать бла-
гоприятное влияние на развитие некоторых новых письменных жанров.
Как было показано выше при описании отдельных памятников, и на не-
мецкой почве, так же как у , англо-саксов, были попытки перенести уна-
следованные традиционные образцы художественного творчества на новую
40
почву. Попытки эти, характерные для IX в., не получили развития в после-
дующие столетия. Но вопрос о том, не продолжали ли эти формы существо-
вать на периферии культурной жизни Германии, остается открытым. В
пользу положительного ответа говорит появление поздних эпических
форм в ХП—XIII вв.: "Нибелунги", "Гудрун", цикл сказаний о Дитрихе
Бернском являются эпигонами древнегерманской эпической традиции.
Единственным образцом устного эпического творчества на древненемец-
ком языке является "Песнь о Хильдебранде" (Hildebrandslied), записанная
в первой половине IX в. на свободных листах кодекса из Фульдского
монастыря двумя писцами.
В структурном отношении язык этого памятника — яркий пример сме-
шения разных региональных систем — южной, баварской, и северной, близ-
кой особенностям древнесаксонской письменности; ср. уровень второго
передвижения согласных на примерах перехода k > hh, ch, особенно в нача-
ле слова — Teotrihhe, chunincriche 'королевство', сМпа'датя', ih 'я', оглу-
шения b>p — pist <bist, pur 'молодая женщина' <bur. Наряду с этим
примеры с отсутствием передвижения k > h - ik, устойчивое отсутствие пе-
рехода t > z, zz — dat 'что', h#tti 'назывался', отсутствие перехода tt > z —
luttila 'маленького', Sitten 'сидеть', отсутствие перехода p>f в форме
werpan 'бросать'. Сосуществование южного дифтонга ео < е и недифтонги-
рованного северного е в написании имени Теодориха: Teotrihhe и Detrihhe;
во втором варианте в пределах одного слова сосуществуют разные регио-
нальные закономерности — непередвинутое D и недифтонгированное е от-
ражают северные особенности, hh — показатель второго передвижения. Вы-
падение носового перед дентальным (chud ist mir 'мне известно'<chund),
формы мн.ч. сущ. на -os (helidos 'герои'), случаи дательного падежа местои-
мения 1-го лица без г - mi отражают особенности северного ареала.
Вопрос о факторах, вызвавших подобное смешение противоположных
региональных черт, привлекал внимание многих исследователей. Более или
менее очевидно в настоящее время, что смешение на уровне диалектных
взаимодействий не могло создать столь противоречивую систему. Это явле-
ние специфичное для определенных наддиалектных фом языка, особенно
для письменности. По-видимому, здесь отразились разновременные наплас-
тования, обусловленные характером бытования памятника, сначала в его
исконной устной форме, позднее в повторных записях.
Тематически песнь о Хильдебранде относится к циклу сказаний об ост-
готском короле Теодорихе, преданным спутником и слугой которого был
согласно тексту песни старый воин Хильдебранд. Исторический фон — борь-
ба Теодориха с Одоакром; возможно, что в песне нашли отражение собы-
тия, связанные с битвой при Равенне. На их фоне развивается германский
вариант известного странствующего сюжета о битве отца с сыном.
Предположительно эпическая песня о Хильдебранде сложилась в готско-
ломбардском ареале, но так же, как эпические песни других германских
племен, получила распространение за пределами того региона, где создавал-
ся цикл преданий об остготском короле Теодорихе. Лангобарды восприня-
ли готскую героику и способствовали проникновению этих сюжетов в Ба-
варию, чем и объясняются, по-видимому, баварские черты в языке памят-
ника. ВФульдский монастырь; песня могла попасть в результате того, что
при Храбане значительную часть клира составляли выходцы из Баварии. 06-
41
ращалось также внимание на то, что "нижненемецкие/саксонские" формы
являются следствием механического "перевода" с баварского на северный
вариант [Воог de 1949, 62]. В свою очередь и Зондерэггер характеризует
этот памятник как фульдскую копию баварского оригинала со значитель-
ным вкраплением элементов древнесаксонского ареала, выделяя при этом
наличие гиперкорректных фом, бытующих обычно в письменном языке
[Sonderegger, 1970,302].
С гетерогенностью ареальной характеристики языка резко контрастирует
единство системы функционально-стилистических примет. Оно проявляется
в сочетании аллитерационного стиха, особой фразеологии, архаичной лекси-
ки, определенных синтаксических шаблонов, создающих торжественный,
медленный ритм повествования. Он задан самим типом стихотворной речи,
построением длинной строки, включающей два полустишия. Строку цемен-
тирует аллитерация (Stabreim) — согласование начальных (корневых) зву-
ков, несущих ударение. В длинной строке имеется три (или два) слова, ко-
торые выделяются семантически с опорой на аллитерирующие звуки: ср.
garutun se iro gudhamun, / gurtun sih iro suert ana // helidos ubar hringa / do sie
7o dero hiltun ritun. // Hütibrant gimahalta Heribrantes sunu / her uiias heroro
man // ^erahes^frotoro; / her fragen gistuont Ц fphem иоЛит,/ hwer sin fater
wari 5—9 'Подготовили они свое вооружение (панцири), подпоясали свои
мечи, герои, вокруг брони (кольчуги), когда они спешили к битве. Хиль-
дебранд сказал Херибранта сын, он был более почтенный (благородный)
муж, духом (помыслами) более мудр; он стал спрашивать в немногих сло-
вах, кто его отец'.
Каждая полустрока имеет два сильно ударных и не менее двух слабо-
ударных слога. Такая организация стиха способствует медлительности и
торжественности поэтической речи. Этот эффект еще усиливается благодаря
включению повторов, подхватывающих повествование, варьирующих фор-
му описания событий: nu scal mih suasat chind / suertu hauwan, / breton mit
siniu ЬЩш 53 'теперь же такое дитя зарубит меня мечом, убьет боевым то-
пором'; suert и billi синонимы, но относятся к разным лексическим плас-
там; billi, встречающееся только в этом памятнике, по-видимому, стилис-
тически маркировано, являясь архаизмом, в отличие от нейтрального suert.
Тот же прием представлен и в отрывке iro saro rihtun, garutun se iro
gudhamun 4 'свое вооружение привели в порядок, подготовили они свое
вооружение'. Оба существительных — saro и gudhamo — встречаются в не-
мецкой литературе только в этом памятнике. Saro имеет этимологические
параллели в готском sarwa, др.-англ. searu, таким образом, слово это отно-
сится к древнегерманской лексике. Gudhamo — сложное слово, метафори-
чески окрашенное, 'битвы-рубашка, оболочка', фактически это кеннинг
(см. выше о кеннингах в древнесаксонском "Спасителе"). Hämo имеет ту
же корневую морфему, что и hem-d 'рубашка', himil 'небо'; сложное слово
gudhamo образовано по той же модели, что и весьма распространенное в
разных памятниках fihhamo 'мясо, труп, тело' синоним простого lih 'тело,
труп, мясо, образ'; в "Исидоре", "Татиане", у Отфридаи Ноткера встреча-
ются оба слова. По-видимому, lihhamo генетически также связано с эпичес-
кой лексикой, а затем получило широкое распространение, скорее всего
до создания письменности, и сохранилось в современном Leichnam, тогда
как lieh приобрело статус словообразовательного аффикса прилагательных.
42
Для стиля "Песни о Хильдебранде" характерны и элементы архаической
лексики; выше упоминались billi, saro, к этому ряду можно отнести bur
'жилище', breton 'убивать, ударять', gi-witan 'двигаться вперед', hiltia 'сра-
жение, битва', закрепившееся в именах собственных Hiltibrant, Hilde-gard,
Brun4iilde, mahalan 'говорить, изрекать', ср. mahal в языке древнего пра-
ва — mahal kipannan 'наложить судебное взыскание', в Муспилли mahalstat
'место суда'. Особую группу образует сакральная лексика, — wewurt 'не-
счастье, злое дело, злая неотвратимая судьба', в Хелианде отмечены wurd
'судьба, смерть', wurd-(i)-giscäpy 'веление судьбы', др.-исл. urdr 'злая
судьба', Ur3r имя богини судьбы. В древненемецких памятниках IX в.
встречаются производные от этого корня: fir-wurt 'гибель' у Отфрида,
far-wurt-i в статуте устава бенедиктинцев. Выше, в связи с анализом осо-
бенностей языка "Спасителя", упоминались образования в "Песне о Хильде-
бранде" с компонентом irmin-: irmln-got 'бог вселенной, великий бог',
irmin-deot 'люди, человечество'. Первый компонент этих образований, за-
свидетельствованный не только в англо-саксонской поэзии, но и в языке
Эдды, также относится, по-видимому, к группе сакральной лексики эпичес-
кой поэзии.
Обработанные формы языка, связанные со старой традицией, сохраняют-
ся и в других типах текстов: в заговорах, записях устного права.
"Мерзебургские заговоры" (Merseburger Zaubersprüche), написанные
аллитерационным стихом, являются единственными, дошедшими до нас
фрагментами текста, сохранившего пережитки языческих времен. Обраще-
ние к богам, архаический стиль подтверждают предположение, что в записи
IX, X вв., обнаруженной в Мерзебургском соборе, действительно сохрани-
лись образцы формул-заговоров древних германцев. Содержание первого
заговора довольно загадочно: в нем, по-видимому, дано заклинание, спо-
собствующее освобождению пленника; форма заклинания — сообщение о
том, как девы боя вмешались в ход битвы: suma hapt heptidun, / suma heri
lezidun // suma chlubodun / umbi cuoniouuidi // insprinc haptbandun/invar
v ig an dun 'одни оковы путали, другое — войско задерживали, некоторые
развязывали узы, освободись от уз, освободись от врага'. Торжественный
стиль речи подчеркивается не только образованиями типа haptbandum, не
только формой аллитерационного стиха, но и замедленным темпом повест-
вования, повторами синонимов: ср. hapt, haptbandun, cuoniouuidi; insprinc,
invar. Второй заговор — против перелома ноги. Он начинается с повествова-
ния о том, как боги Phol и Uuodan ехали по лесу, когда конь Balder'a повре-
дил себе ногу. Четыре богини — Sinthgunt, Sunna, Friia, Vola — заклинают
перелом, пытаясь вылечить коня, но это удается только верховному бо-
жеству германцев Во дану, и далее следует магическая формула: ben zi
bena / bhiot zi bluoda, lid ze geliden sose gelimida sin 'кость с костью, кровь
с кровью, сустав к суставу пристали (приклеились)'. Во втором заговоре
содержится самый полный перечень богов германского Олимпа, дошедший
до нас на немецком языке. Заговор пронизан духом языческой мифологии,
стилистически же оба заговора примыкают к эпической традиции, представ-
ляя собой малые формы германской культовой поэзии.
Что касается языка устного права, то он известен лишь из вкраплений в
латинский язык уложений, зафиксированных в разных ареалах: ср. Lex
Salica, запись обычного права салических франков (VI в.), Lex Baiuuariorum
43
(VII в.), Edictus Rothari (VII в.) [Weisweiler, Betz 1974, 61-70]. Однако
эта правовая лексика и фразеология обнаруживают стилистическую бли-
зость к языку эпической поэзии. Впервые это было отмечено еще в 1815 г.
Я.Гриммом в его исследовании "Von der Poesie im Recht" [Grimm 1882,
152—191], где он писал о неразрывной общности языка древнегерманской
поэзии и древнегерманского права. Позднее во введении к "Deutsche Rechts-
altertümer" [Grimm 1922] Я.Гримм приводит обширный материал, под-
тверждающий тесные связи языка древнегерманского права со стилистичес-
кими традициями древнегерманской поэзии.
Три разновидности устных обработанных форм языка — поэзия, религия
и право — являлись в ту древнюю пору вариантами некой более общей сти-
листической системы, противостоящей языку повседневного общения.
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
Нестабильность языковой ситуации — одна из характерных черт рассмат-
' риваемого периода. Нестабильность являлась отголоском глобальных пре-
образований, охвативших весь уклад общественных отношений на огром-
ной территории западной римской империи, включая земли к востоку от
Рейна. Ломка старого уклада, рождение новых экономических и политичес-
ких структур отразились в изменениях, коснувшихся системы форм су-
ществования языка, ее состава, каждого из ее компонентов.
Языковая ситуация, предшествующая созданию письменности на немец-
ком языке, реконструируется лишь гипотетически. Выделяются два языко-
вых уровня, две страты: обработанный тип языка, представленный в устной
поэзии, в языческих обрядах, в устном праве, в ораторской речи на народ-
ных собраниях, и язык повседневного общения, совокупность тех разго-
ворных форм племенных диалектов, которые принесли с собой завоевате-
ли. Существовали ли уже тогда какие-либо промежуточные формы, над-
диалектное разговорное койне, подобное тому образованию, которое, по
мнению некоторых ученых, сложилось впоследствии при дворе Карла Вели-
кого на базе рейнско-франкского диалекта, определить затруднительно.
Бесспорным можно считать лишь наличие в V—VI вв. двучленной функцио-
нальной парадигмы, выделение высшей страты обработанного устного язы-
ка в качестве древнего варианта наддиалектного типа. Особое место среди
тех жанров, ще использовалась эта языковая форма, принадлежало эпичес-
кой поэзии. Специфические приемы словесного творчества, любовь к сино-
нимическому варьированию, способствовавшая созданию новых сложных
лексических образований, закреплявшихся в поэтическом языке и стано-
вившихся ходкими шаблонами и формулами, использование архаической
и сакральной лексики резко обособляли язык устной поэзии от спонтанной
устной речи.
О специфике этого языка можно в какой-то степени судить по отрывку
эпической песни о Хильдебранде, рассмотренной выше, отчасти по мерзе-
бургским заговорам и в книжном отражении по поэме "Спаситель".
Реконструированная двучленная функциональная парадигма, отражаю-
щая языковую ситуацию V—VII вв., фактически распадается с того момен-
та, когда латынь, чужой для германских племен язык, становится постепен-
но в связи с распространением христианства и превращением его в тосудар-
44
ственную религию франкской империи, в связи со стабилизацией государ-
ственного управления и администрации языком этих высших сфер комму-
никации. Устное право вынуждено было уступить свои функции сводам
уложений на латинском языке, тем Lex barbarorum разных племен, в кото-
рых старая германская правовая терминология сохранялась лишь в виде
отдельных вкраплении; ср. из Lex Baiuuariorum rurteila 'приговор', hrao-
pant 'насильственное заключение в оковы', murürida 'тайное убийство' и
тд. Эдикт Ротара (643 г.) на латинском языке включает ряд ломбардских
терминов: wer-gild 'выкуп', aid 'клятва', fi-gangi 'вор, виновный в воров-
стве* [Weisweiler, Betz 1974, 69—70]. Указы и капитулярии франкских ко-
ролей составлялись также на латинском языке. Принятие христианства со-
провождалось преследованием пережитков языческих обрядов, таким обра-
зом, и в этой сфере не могли функционировать местные языки, хотя, как
было показано выше, единичные заговоры имели хождение еще в IX в.
Единственной сферой, где в дописьменный период продолжали существо-
вать устные обработанные формы германских племенных диалектов, оста-
валась устная поэзия, терявшая со временем свою престижность, превра-
щаясь в рудимент прежней языковой культуры. „
С конца VII в. языковая ситуация определялась основным противопо-
ставлением латинского языка в качестве языка высших сфер коммуника-
ции совокупности племенных диалектов.
Коща позднее, в результате распада Империи Карла Великого по Верден-
скому договору образовалось франкское королевство, в его состав вошли
четыре племенных герцогства — Швабия (Алемания), Бавария, Франкония
и Саксония. С этим административным делением, включавшим древние пле-
менные группировки, соотнесены четыре основных диалектных ареала
рассматриваемого периода: древнефранкский в рейнской области, древне-
алеманский на верхнем течении Рейна, древнебаварский в придунайском
регионе и приалышйской области, древнесаксонский на севере. Предпола-
гается, что исторически эти диалектные ареалы восходят, в свою очередь,
к трем крупным группировкам: древнефранкский к истевонской, или
рейнско-везерской (Rhein-Weser-Germanisch), древнебаварский и древне-
алеманский к герминонской, или приэльбской, и саксонский к ингвеонс-
кой,или североморской (Nordseegermanisch) группировкам.
В результате фонетических инноваций особенно в системе смычных (вто-
рое передвижение согласных), долгих гласных и дифтонгов, а также в мор-
фологии намечается известная общность в развитии языка рейнско-везерс-
кой и приэльбской группировок, их сближение и одновременно их обособ-
ление от древнесаксонского языка, в развитии которого действовали иные
закономерности. Формирование языка немецкой народности и происходит
на базе развития идиомов этих двух основных группировок и охватывает
весь древний период. Решающим в этом процессе является создание пись-
менности на немецком языке, изменившее общую языковую ситуацию и
повлияв1пее на структуру функциональной парадигмы.
До этого, в связи с тем, что латинский язык стал абсолютно господство-
вать в таких сферах общения, как религия, философия, наука, право, го-
сударственное управление, за местными языковыми формами сохранялась
лишь сфера устного обиходного общения и теряющая свою престижность
устная поэзия, язык которой представлял собой законсервированную, не-
45
развивающуюся стилистическую систему. Если в V, VI вв. язык устной поэ-
зии, устного права, обряда обладал статусом средства общения высших
сфер коммуникации и типологически мог рассматриваться как одна из раз-
новидностей литературного языка, то в новых условиях он фактически пе-
рестал функционировать как один из основных компонентов языковой си-
туации, которая определялась, как было отмечено,оппозицией латыни мест-
ным языком.
Создание в VIII в. письменности способствовало тому, что постепенно в
новой форме стали накапливаться признаки, характерные для наддиалект-
ных обработанных форм языка. Лексические инновации христианской пись-
менности, формирование под влиянием латинских образцов несвойствен-
ных устной речи языковых структур — первое звено в процессе обособле-
ния письменного языка от диалекта, начальный этап становления немецко-
го письменно-литературного языка, медленно проникавшего в те сферы,
где продолжала господствовать латынь. Так сложилась своеобразная языко-
вая ситуация, при которой диалектным системам противостояли три разно-
видности наддиалектного обработанного языка: латынь, абсолютно доми-
нировавшая среди наддиалектных разновидностей общения, реликты уст-
ных обработанных форм и, наконец, немецкий язык христианской письмен-
ности, в котором постепенно накапливались признаки, характерные для ли-
тературного языка.
Статус наддиалектных форм языка определяется соотношением с диа-
лектами, причем не только на уровне стилистически маркированных лек-
сических пластов и синтаксических конструкций, но и всей системы строе-
вых признаков. Язык древненемецкой письменности имеет ярко выражен-
ную региональную окраску. В каждом памятнике отражается некая сово-
купность признаков диалектного ареала, особенно на фонетикоорфогра-
фическом уровне, что и позволяло длительное время рассматривать их как
памятники на диалектах. При этом не учитывалось функционально-стилис-
тической обособление этого языка от диалектной стихии. В последнее вре-
мя эту точку зрения можно считать в основном преодоленной [см. Воог de
1949; Eggers 1963, ГУхман 1974]. Тем настоятельнее встал вопрос о соотно-
шении стилистически немаркированных подсистем письменного языка с
соответствующими диалектами.
Сложность этой проблемы очевидна; диалектографическая карта той
эпохи реконструируется отнюдь не однозначно; немалую роль здесь играют
подвижность диалектных ареалов, интенсивность диалектных излучений,
взаимовлияние диалектов. Переплетение диалектной интеграции и диффе-
ренциации создавало пестрые диалектные ландшафты, где сталкивались и
сосуществовали разные диалектные варианты, как это, например, происхо-
дило на территории древнефранкского диалекта [Schützeichel 1961, 90—
91]. В этой связи разное осмысление могли получить факты сосуществова-
ния в языке памятников гетерогенных черт: следует ли, например, наличие
в языке перевода, Татиана таких синонимов как bruno и pfuzzi/fuzze 'ко-
лодец, источник' рассматривать, как отражение диалектных изоглосс или
же, как особенность языка письменности определенного монастырского
центра. Brunno относятся к общегерманской лексике, тогда как второй си-
ноним встречается еще только у франкского Отфрида, но имеет этимологи-
ческие связи в древнеанглийском pytt. Отражают ли орфографические/фо-
46
нетические варианты pf/f в pfuzzi/fuzze и другие аналогичные примеры
различия в практике отдельных писцов, или различия диалектных изоглосс?
Как должны быть истолкованы региональные варианты в языке того же
памятника: южное er, северное he и скрещенное средненемецкое her, или
диалектные дублеты ther/thie 'тот', uuo/uueo 'как*? Являются ли эти вари-
анты отражением процессов, характерных в то время для франкского ареа-
ла или здесь сказался письменный узус такого центра монастырской куль-
туры, как Фульда? По традиции язык Татиана рассматривается как отраже-
ние восточно-франкского диалекта. Сопоставление фонетических изоглосс
на карте современных диалектов и языка этого памятника обнаруживает
действительно значительный параллелизм в тенденциях распространения
определенной группы явлений. Но этот параллелизм все же недостаточен
дня исчерпывающего ответа о состоянии данного ареала в VIII—IX вв. и о
соотношении в этом регионе письменного языка и диалекта в основных
структурных признаках.
Сложность разграничения уровня письменного языка и уровня диалекта
в применении к фонетикоюрфографическим и морфологическим призна-
кам — характерная черта письменного языка данной эпохи. С этим связаны
длительные дискуссии между специалистами при определении причин сосу-
ществования в языке многих памятников разнодиалектных признаков —
отражает ли эта особенность специфику диалектного ареала, к которому
относится данный памятник, или это явление обработанного языка, а быть
может, влияние переписчика не дошедшего до нас оригинала. Обращает на
себя внимание и тот факт, что даже на уровне создаваемой христианской
лексики в некоторых памятниках сосуществуют упоминавшиеся выше раз-
ные региональные традиции, южная — готско-баварская и северная —
франкско-саксонекая. В тексте южно-рейнско-франкского катехизиса из
Вейсенбурга в одном отрывке употреблены в качестве синонимов два фра-
зеологизма: fona heilegemo geiste 'от святого духа' и (Gilaubu) in atum
uuihan 'верю в святого духа'. Heilaggeist- фразеологизм, связанный с влия-
нием англо-саксонской традиции, тоща как atum uuihan образовано под
влиянием языка готской библии.
Многие годы идет дискуссия относительно диалектной основы языка
перевода трактата Исидора; в языке этого памятника сочетаются признаки
алеманского и франкского ареалов [ср. Matzel 1970, где приводится боль-'
шая литература]. Попытки объяснить эту особенность как результат над-
диалектного статуса языка данного памятника5 сменялись исследованиями,
посвященными выявлению его диалектной основы. В детальном исследова-
нии К.Мацеля [Matzel 1970] все особенности языка немецкого переводчика
объясняются как отражение системы лотарингского диалекта, территория
которого расположена в пограничной полосе между алеманским и франкс-
ким ареалами. При такой трактовке языка этого памятника отпадает во-
прос о выделении наддиалектных признаков, бесспорно присущих языку
"Исидэра", как и другим шсьменным памятникам.
С другой стороны, памятники древней поры являются основным источ-
ником сведений о признаках диалектного членения периода создания пись-
Некоторые авторы высказывали предположение, что здесь представлен тот тип язы-
ка, который якобы существовал при дворе Карла Великого.
47
менности наряду с реконструируемыми изоглоссами современной диалек-
тографической карты. Все эти обстоятельства крайне затрудняют изучение
соотношения диалекта и языка письменности древней поры. В известной
степени прав был Ф.Чирх, когда он писал, что практически мы чаще всего
имеем представление об языковом узусе определенных культурных цент-
ров, нежели о диалектах в собственном смысле слова: "Собственно говоря,
особенно в применении к раннему периоду древневерхненемецкого, следова-
ло бы выделять фульдский, а не восточно-франкский, мурбахский, а не эль-
засский, рейхенауский, а не алеманский" [Tschirch 1966,131]. Статус пись-
менного языка раскрывается поэтому не путем установления его соотноше-
ния с территориальным диалектом, а на основе исследования форм его ре-
гионального варьирования и анализа языковых явлений лексического и син-
таксического уровня, т.е. тех аспектов язьпсовои системы, где в наиболь-
шей степени накапливаются структурные элементы наддиалектного типа.
Иными словами, позиция письменного языка в этих условиях устанавлива-
ется в результате дифференцированного анализа самого письменного язы-
ка. Для характеристики же языковой ситуации важны три момента: 1) гос-
подствующее положение латинского языка и ограниченность сфер приме-
нения местного письменного языка; 2) бесспорное наличие регионального
варьирования в языке немецкой письменности и 3) совокупность фактов,
свидетельствующих о существовании неких структурных особенностей,
выводящих языковую систему того или иного памятника за пределы конк-
ретной языковой области.
ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА
1
Отсутствие в первых письменных памятниках сформировавшегося орфо-
графического узуса в сочетании с затрудненностью адекватной передачи
средствами латинской графики особенностей немецкой фонетики (труд-
ности, с которыми сталкивается любой бесписьменный язык при заим-
ствовании чужой орфографической системы) осложняли установление изо-
глосс письменного языка. В качестве примера можно привести варианты
написания отражения германского р, которое в зависимости от диалектного
ареала и позиции в слове могло остаться без изменения или перейти в f , pf,
ph. В начале слова непередвинутое р, сохранявшееся во многих франкских
памятниках без изменения, обнаруживает также написание ph и f: ср. у Та-
тиана phending 'динарий9, phhiog 'плуг9, phuzza 'колодец9» phlanzon 'сажать9,
но наряду с этим fuzze 'колодец', giflanzotan 'посаженное'; ph и f череду-
ются также в значительно более поздних памятниках, например у Ноткера:
ср. inphlegen 'заботиться9, но ffegara 'защитник'; phlfgboum 'смоковница',
но и figboum. Вопрос о фонетической значимости диграфа ph остается неяс-
ным: по-видимому, он означал аспирированное дао, возможно, что в неко-
торых текстах и аффрикату pf. Написание ph в начальной позиции сохраня-
ется и в последующий период в памятниках из Средней Германии, где оно
явно обозначало f. Написание в начале слова диграфа pf встречается в древ-
ненемецких рукописях редко, даже у Ноткера, ср. у Ноткера plegan, phlegan
48
'заботиться', flegara 'защитник' и т.д. Не менее сложно соотношение гра-
фем, обозначавших аффрикату и спирант, развивавшиеся по второму пере-
движению из германского t: графема z обозначает аффрикату в начале
и в середине слова, zz (< tt) - только в середине слова: ср. zala 'число',
zwene 'два7, sezzen 'сажать' и т.д., вместе с тем z, zz обозначают и спирант:
ezzan 'есть', fuoz 'нога' и т.д. Аффриката обозначалась и посредством бук-
вы с перед е, i (ср. ci 'K',lucil 'мало', наряду с luzil). В отдельных памятни-
ках, особенно последовательно у переводчика "Исидора", наблюдается
стремление к графематической дифференциации обоих вариантов, развив-
шихся из германского t, — аффрикаты и спиранта: аффриката обозначается
как z или tz, спирант — как zss или zs [подробнее см. Braune, Eggers 1975,
150-155].
Региональное варьирование в языке памятников проявляется наиболее
ярко в различном отражении процессов фонологического уровня. К ним
прежде всего относятся сильно маркированные процессы второго передви-
жения согласных, по которому германские глухие р, t, к переходили в зави-
симости от позиции в слове в спиранты (ff, f, zz, z, hh, h), или в аффрика-
ты (pf, tz, kh, kch), а германские звонкие b, d, g оглушались (p, t, k). Так
же, как впоследствии в немецких диалектах осуществление второго пере-
движения представляло ступенчатый процесс, максимально интенсивный на
юге и постепенно ослабевающий по мере приближения к линии Бенрата
(граница, отделяющая верхненемецкие и нижненемецкие диалекты), язык
памятников в зависимости от реализации в нем второго передвижения сог-
ласных образует ступенчатое построение. Наиболее последовательно про-
цесс отражается в языке южных памятников, тоща как в памятниках
франкского ареала он постепенно ослабевает по мере продвижения к севе-
ру. Переход k > kch ~kh, например, чужд франкским памятникам, но он от-
ражается в баварской рукописи поэмы "Муспилли", ср. khuninc 'король',
quekkhen 'живым', а также в языке Ноткера, ср. chuniningrihtare 'власти-
тель', chunna 'знание', chrademen 'ворчать', chose 'речь' и т.д. Не знают
франкские памятники и оглушения b > р, g > к, широко представленного
в рукописях южного ареала, ср. в том же "Муспилли": pagant < bagant
'сражаются', рагп < barn 'дитя', pi < bi 'у, при', kot < got, но и himiliskin
gote 'небесному богу'. Из франкских памятников только в евангелии Та-
тиана проявляется довольно последовательно оглушение d > t в начале сло-
ва: tohter < dohter, tag < dag, teil < deil 'часть', однако встречается и на-
чальное d, ср. наряду с tohter ~ dohter, также daga, deil и т.д. Но у Отфрида
старое d в начальной позиции чаще сохраняется (всегда dag, duan 'делать',
dohter, аеШ, однако встречаются и написания начального t (tod 'смерть',
наряду с dot, truhtin наряду с druhtin 'господин, властелин, господь'). В
середине же слова d > t в преобладающем большинстве случаев.
В языке перевода трактата Исидора d сохраняется в начале и середине
слова, оглушение же в t происходит только в конце слова. В "Трирских
уложениях (капитуляриях)", т.е. в памятнике среднефранкского региона,
наряду с господствующим непередвинутым d в начальной и серединной по-
зиции встречаются единичные t, getan 'деланный', но gedue 'сделай' (неодно-
кратно) .
Различаются разные франкские памятники и по характеру отражения
германского р в начальной позиции, в удвоении и после согласных: у От-
4. Зак. 336 ля
фрида начальное р остается без изменения: plegan 'чем-либо заниматься',
pluag 'плуг', päd 'тропа, дорога'; у Татиана же в этой позиции обычно упо-
требляется ph, реже f. Написание f особенно характерно для языка алеманс-
ких текстов, в частности и для рукописей Ноткера. Неоднократно высказы-
вались предположения, что появление в этой позиции f у Татиана связано с
влиянием алеманского узуса [ср. Braune, Eggers 1975, 121, Anm. 4]. Вуд-
воении и у Отфрида появляется написание pph, pf: scepphen 'создавать',
scepfe 'создаю', но aphul 'яблоко'; в середине и конце слова после соглас-
ных p>f: helfan 'помогать', zi-uuerfan 'разрушать', или ph: gi-limphan
'полагаться', но единичные написания сохраняют в рукописи Отфрида непе-
редвинутое р, ср. limpit 2, 23, 16, трижды встречается gi-lumplih 'подходя-
щий* подобающий, правильный' [Braune, Eggers 1975, 121]. Из других
франкских памятников 1р, гр встречаются в трактате Исидора — hilpit
'помогает', ar-worpanan 'изгнанного'.
Довольно четко проявляется в приведенных примерах противопоставле-
ние языка южных памятников языковым характеристикам франкских
текстов, причем Татиан (восточно-франкский вариант) занимает в извест-
ном смысле промежуточное положение.
Региональное варьирование проявляется и в развитии вокализма этого
периода: так, например, дифтонгизация германского о, характерная для
всего верхненемецкого ареала, отражалась в языке письменности в несколь-
ких вариантах. Дольше всего о сохранялось в баварских рукописях: в глос-
сах из Касселя, в "Carmen ad deum", в "Вессобрунской молитве", но в
"Муспилли" преобладает написание ио или иа (влияние другой региональ-
ной традиции). В памятниках IX в. появляется диграф ио, который закреп-
ляется к 900 г. В алеманских текстах дифтонгизация получает отражение
после 760 г. "Сентгалленский глоссарий" (Vocabularius St. Gaili) имеет 6:
stool 'трон', ploot 'кровь' (долгота обозначается удвоением графемы о);
в глоссарии из Рейхенау преобладает б долгое, но появляются также вари-
анты диграфа оа, иа, ио. В разных памятниках этого региона наблюдаются
колебания с общей тенденцией к. закреплению варианта ио. Ранее всего
этот диграф появляется в текстах франкского ареала — середина VIII в. К
800 г. он становится здесь господствующим, только у Отфрида под влияни-
ем алеманской традиции распространен диграф иа. По-видимому, диграф ио
генетически являлся франкской формой, лишь позднее получившей распро-
странение в текстах других регионов.
При всей интенсивности регионального варьирования на фонетико-орфо-
графическом уровне, значительное место занимает в языке отдельных па-
мятников сосуществование признаков разных регионов. Именно сосущест-
вование признаков разных регионов в языке памятников, которые тради-
ционно относились к рейнско-франкскому диалекту ("Песнь о Людвиге",
трактат Исидора), послужило одним из оснований для возрождения извест-
ной пшотезы К.Мюлленгофа об образовании при дворе Карла Великого
наддаалектного разговорного койне. Р.Шюцэйхель, оставляя этот вопрос
нерешенным, подчеркивал вместе с тем, что в упомянутых памятниках со-
четаются языковые структурные признаки разных ареалов и поэтому их
язык не отражает системы одного определенного диалекта. Это другой, бо-
лее высокий социальный уровень [Sdiützeichel 1961, 112—121; ср. также
Braune, Eggers 1975,42, Anm. 10, llj.
50
В этой связи интересны известные наблюдения Х.Хейнрихса [Heinrichs
1961], касающиеся гиперкорректных форм в языке древненижненемецких
псалмов (IX/X в д.?), типа sufte 'искал' вместо suchte с ложным ft, которое
ошибочно вводилось в результате стремления исключить диалектный пере-
ход ft > cht, типа kracht < kraft.
В течение этого периода намечается усиление позиций письменного узуса
франкского ареала и связанная с этим тенденция к нейтрализации прежних
региональных оппозиций.
В процессах морфологического уровня региональное варьирование про-
1 является значительно слабее, несмотря на постепенное накопление новых
типологических черт, определивших значительные сдвиги в словоизмени-
тельной парадигматике. Обобщенно можно выделить два аспекта в этом
процессе: 1) упрощение набора флективных словоформ, обусловленное
разрушением трехморфемной структуры слова, обеднением и обобщением
флективных маркеров под влиянием редукции безударных слогов, и 2) ста-
новление новых аналитических структур — "артикль + имя", описательные
глагольные образования.
В морфологии регионально обусловлено соотношение в именной пара-
дигматике, например )окончаний мн. числа дат. падежа в склонении -а-ос-
нов: окончание -im господствует в южных памятниках, -оп в франкском
ареале. В основах на -ja в тех же падежных формах варианты -um, -un, -on
преобладают на юге, во франкском же регионе в той же парадигме преоб-
ладают варианты -im, -in (у Отфрида и Татиана). В глагольной парадигме
варианты окончания 3 л. мн. ч. -ant ~-ent также частично локально обуслов-
лены. Имелись и другие частные локальные расхождения в словоизмени-
тельных формах отдельных памятников.
Однако в столь существенных для развития грамматической системы
процессах, как формирование системы глагольных аналитических форм,
структурные варианты, засвидетельствованные в языке разных текстов, не
обусловлены региональным членением письменного языка. Между тем, рас-
хождения эти в построении описательных активных форм довольно значи-
тельны. В трактате Исидора данные конструкции образуются только от
двух непереходных глаголов — uuerdhan 'становиться' и quheman 'прихо-
дить', в качестве служебных глаголов используются uuesan 'быть' и uuerdhan
'становиться'. Ср. ist uuordhan 306 'стал', uuardh quhoman 555 'пришел',
got uuard man chiuuordan 424 'бог стал человеком'. Примеры единичны.
Полностью отсутствуют активные описательные формы от переходных гла-
голов. Единичность активных описательных конструкций противоположна
продуктивности аналогичных пассивных образований "причастия II пере-
ходных глаголов + формы тех же служебных глаголов uuesan и uuerdhan";
последние являются в языке этого памятника весьма устойчивым образова-
нием и фактически создают парадигматический ряд [Гухман 1964, 162-
167]. Тем самым в языке перевода Исидора статус активных и пассивных
сочетаний резко отличается. В других памятниках наблюдается несколько
иная картина.
В языке перевода Татиана засвидетельствованы активные аналитические
конструкции от непереходных и переходных глаголов, хотя они представле-
ны единичными примерами. Причастие II в этих сочетаниях согласуется с
объектом у переходных глаголов и субъектом у глаголов непереходных,
51
в качестве служебных глаголов используются haben и uuesan: ср. phigboum
habeta sum giflanzotan in sinemo uuingarten 102, 2 'некто посадил (имел
посаженным) смоковницу в своем винограднике' и argangana uuarun ahtu
taga 7,1 'прошли (были прошедшие) восемь дней'. И здесь непродуктив-
ность этих образований контрастирует с широкой употребительностью пас-
сивных сочетаний со служебными глаголами uuesan и uuerdan [Гухман
1964, 168—176]. Как численная ограниченность случаев употребления ак-
тивных сочетаний, так и их внутренняя структура (согласование причастия)
препятствует их включению во временную парадигму, они представляют со-
бой особые типы глагольных словосочетаний.
Несколько иное положение наблюдается в языке Отфрида. В этом памят-
нике активные словосочетания со служебными глаголами — прообраз бу-
дущих аналитических форм — образуют по численности довольно значитель-
ную группу. У транзитивных глаголов в этих построениях конкурируют
служебные глаголы haben 'иметь' и eigan 'обладать': ср. Haben ih gimemit I
5, 39 'я заявил'; so uuir eigun nu gisprochan I 25, 11 'как мы сказали'. В
отличие от языка перевода Татиана у Отфрида господствует в этих сочетани-
ях краткая форма причастия, что явно указывает на качественные измене-
ния в семантической структуре сочетаний. Возможность их употребления в
синтаксических отрезках без объекта также обусловлена идаоматизацией
первоначальной семантической структуры, то есть процессом парадигмати-
зации данного синтаксического отрезка. У непереходных глаголов в анало-
гичных сочетаниях используется служебный глагол uuesan, причем они об-
разуются только от непереходных перфективных глаголов, поскольку
непереходные имперфективные глаголы искони не имели формы причас-
тия II.
Лишь позднее, у Ноткера, появляются подобные конструкции и у непере-
ходных имперфективных глаголов, причем в этом случае используется
вспомогательный глагол hab£n, причастие же 11-ое создается как компонент
описательной конструкции и в самостоятельной позиции не употребляется.
Система аналитических активных форм в памятниках VIII—IX вв. нахо-
дилась еще в зародыше, это первые ростки новых компонентов глагольной
парадигмы, возникавшие, возможно, под стимулирующим влиянием ро-
манских образцов. Расхождения в статусе этих конструкций в разных па-
мятниках, рассмотренные выше, частично объясняются временными разли-
чиями. В языке Ноткера отразилось завершение тех процессов, которые на-
метились в языке более ранних памятников. Но отсутствие тождества в вы-
боре служебных глаголов — результат отсутствия обобщенной модели, ко-
торой могли бы следовать переводчики и авторы; новые структурные еди-
ницы зарождались в результате индивидуального поиска, различия в этом
случае никак не связаны с региональным варьированием.
Отнюдь не однозначно варьирование на лексическом уровне. Региональ-
ные различия переплетаются здесь с функционально-стилистической диф-
ференциацией и индивидуальной практикой отдельных авторов и перевод-
чиков. Бурное развитие неологизмов, поиски немецких эквивалентов лаг
тинской абстрактной лекажи происходили преимущественно в языке выс-
ших сфер коммуникации и не были соотнесены с диалектными ареалами в
52
узком значении этого слова даже в тех случаях, когда четко проявляются
различия между узусом языка южной и франкской письменности, в изо-
глоссах, обусловленных влиянием готской и англо-саксонской литератур-
ных традиций. Отмечается региональное варьирование в правовой лексике,
где использовалась старая лексика, генетически связанная с устным правом
у разных германских племен: ср. suona, suana 'приговор, суд, искупление'
в южных текстах (Муспилли, Ноткер) и urteili, duan urteili первоначально
голько во франкских памятниках (Исидор, Отфрид), но позднее также у
Ноткера — urteil 'приговор, суд' urteildare 'судья', urteilda 'приговор, ре-
шение, суд, справедливость'. Г.Эггерс высказывал предположение, что
синонимы guotlichi, tiurida, ruom, ёга-лат. gloria могли отражать регио-
нальное варьирование, так же как giloubo (мужск. род), gilouba (женск.
род), chilaubin (образование по той же модели, что готск. galaubeins)
[Eggers 1963, 245], хотя это трудно доказать, так как в словопроизводст-
ве основной христианской терминологии были распространены параллель-
ные образования, независимо от регионального варьирования. Ср. варианты
перевода лат. resurrectio 'воскресение'; ur г ist, urresti, urstant, urstodali,
urstendi, urstendi, urstendida, urstendidi, irstandini, ufferstende, erstant-
nunga [Lindquist 1936]. В латинском языке существительное resurrectio
образовано от глагола surgere 'вставать', немецкие эквиваленты являются
производными от двух глаголов — urrisan 'подыматься, встать' и urstantan
'вставать', только urstodali образовано, по-видимому, от существительного.
Точно также лат. redemptio 'спасение, освобождение' соответствуют один-
надцать немецких вариантов, из них девять — производные от глаголов а-,
ar-, ir-, ur- lösen 'спасать'. Обособленно nara 'спасение' в трактате Исидора
от nerren, nerian 'кормить, спасать, освобождать, лечить', ср. готе, nasjands
'спаситель'. Другие примеры см» [Lindquist 1936]. Показательно распреде-
ление по памятникам синонимов, эквивалентов лат. humilitas 'смирение':
odmuoti (Татиан, Отфрид), theoheit (статут бенедиктинцев), theomuati
(статут бенедиктинцев, Отфрид, Ноткер); лат. misericordia 'милосердие':
milti (Отфрид, Ноткер), miltida (Татиан, Баварское покаяние, Баварская
молитва), miltnissa {Исидор), irbarmida (Ноткер),gabarmida (Фрагменты
из Монзее), armaherzin (Исидор, Фрагменты из Монзее, Ноткер), armherzida
(статус бенедиктинцев). В этом синонимическом ряду производные образо-
вания от milt- появляются как в франкских, так и в южных памятниках.
Индивидуальной особенностью Исидора является в данном случае использо-
вание словообразовательной модели с суф. -nissa, преимущественно харак-
терной для франкских памятников. Кцюме Исидора, она употребительна в
Татиане и у Отфрида. Калька armherzin регионально не маркирована, по-
скольку она появляется в памятниках разных регионов, тоща как производ-
ные с суф. -ida соотнесены с югом.
Анализ синонимических рядов дает крайне пеструю картину: нередко у
одного автора наблюдаются однозначные, но разноструктурные модели;
ср. у Исидораи Ноткера сосуществование кальки и суффиксальной модели:
Исидор — miltnissa и armaherzin, Ноткер — irbarmida и armaherzin; но
вместе с тем имеются определенные региональные различия в продуктив-
ности тех или иных словообразовательных моделей.
Можно предполагать, что синонимические ряды отражали неустанный
поиск адекватного перевода религиозного текста, стремление передать наи-
53
более полно и точно средствами родного языка глубинное содержание ново-
го для германцев миропонимания.
В лексическом варьировании, имевшем преимущественно наддиалект-
ный статус, получили реализацию процессы интенсивного развития словар-
ного состава языка письменности. Будучи наиболее мобильной подсистемой
языка, лексика быстро и непосредственно реагирует на изменения, проис-
ходящие в общественной жизни народа, в материальных формах его су-
ществования, в его идеологии. В ту переломную для истории Европы эпоху
образование новых наддиалектных форм письменных языков происходило
в условиях гегемонии латинского языка и его структурных образцов.
В течение ряда столетий, задолго до создания письменности на герман-
ских языках, латынь была неисчерпаемым источником обогащения этих
языков. Соприкосновение с галло-романской культурой, бытом не только
расширяло, кругозор германцев, переживавших в первые века нашей эры
ломку унаследованных социальных отношений, познакомило их с иными
формами общественного существования. Сотни неизвестных ранее предме-
тов, процессов, животных, растений, продуктов питания осваиваются гер-
манскими племенами не только вещественно, но и со своими латинскими
названиями. Этот пласт заимствованной лексики, общий для западно-гер-
манских племен, сложился до ухода англов и части саксов с материка и до
процесса второго передвижения согласных как следствие непосредственно-
го общения разноязычного населения на пограничных землях. Ограничимся
немногими примерами: д.-в.-н. sträz(z)a 'мощеная дорога' = лат. (via)
strata; mura '(каменная) стена' = murus; kelläri 'погреб' = cellarium;
ziagal 'кирпич' = tegula; spihari 'амбар дня зерна' = spicarium; kirsa
'вишня' = cerasum, ceresia; pira 'груша' = pirum; chölo 'капуста' = caulis;
kurbiz 'тыква' = curbita, Cucurbita; pflanza 'растение' = planta; koufo
'торговец' = caupo; pfunt 'фунт' = pondo и т.д.
Особую подсистему образовала религиозная христианская заимствован-
ная лексика дописьменного периода. Т.Фрингс считал, что этот лексический
пласт восходит к раннему периоду существования латино-романского хрис-
тианства на территории гальских и романских провинций; при этом была
сделана попытка выделить два хронологических среза: более ранний, пред-
шествующий вторжению франков, и более поздний, связанный с формиро-
ванием при Хлодвиге франкского королевства и принятием крещения
[Frings 1957].
К более раннему периоду относились такие заимствования, как д.-в.-н.
biscof. Это слово представлено также в древнесаксонском и древнеанглийс-
ком языках, следовательно, оно было заимствовано до ухода англосаксов
с материка. Biscof возводится к *piscopu, просторечной латино-романской
форме, существовавшей наряду с церковно-латинской формой episcopus
'епископ'. В письменности германского ареала данное заимствованное сло-
во имело более широкое значение — 'служитель культа'. Слово это первона-
чально бытовало преимущественно во франкском ареале; на юге у бавар-
цев было распространено древнее германское сложное слово ewart(o),
буквальное значение 'хранитель закона', возможно, 'жрец', имевшее столь
же емкую смысловую структуру, как и biscof. К этой же группе лексики
относится alamuosan, др.-сакс. alamosna, по-видимому, соответствующее
романскому (вульгарно-латинскому) а1ето$ша=церковно-латинскомуе1е-
54
mosina 'подаяние', а также рейнско-франкское offeron 'жертвовать' = лат.
offere; южный вариант opfaron предположительно восходит к другой ла-
тинской лексеме operari, которая первоначально имела значение 'работать'.
. Второй пласт заимствований из области христианской лексики представ-
лен значительно большим числом лексем. Постепенное превращение христи-
анства в государственную религию франкского королевства, строительство
монастырей, организация монастырских скрипториев и школ, деятельность
миссионеров способствовали еще до создания письменности на немецком
языке появлению нового пласта заимствованных слов: ср. klostar 'монас-
тырь' = лат. claustrum (первоначально 'замкнутое помещение в монастыре,
куда запрещался вход посторонним', позднее — обозначение самого монас-
тыря), mimist г i из вульгарно-латинского mun ister ium 'монастырская цер-
ковь', позднее 'любая большая церковь, собор' [Eggers 1963,122], nunna =
= лат. nonna 'монахиня', mun ich = лат. monicus ~monachus 'монах' и т.д.
Среди лексики этой второй группы выделяются заимствования, фонетико-
графический облик которых отражает в своем развитии преобразования
звуковой системы немецких диалектов, например закономерности второго
передвижения согласных: ср. д.-в.-н. tuom 'дом, принадлежащий церкви, со-
бор' = лат. domus ecclesia (t < d) или д.-в.-н. techen 'декан' из лат. decanus
(t < d, ch < k). Более поздние заимствования (VII в.) сохраняют латинс-
кий звуковой облик.
В заимствованной религиозной лексике дописьменного периода могут
быть выделены разные социальные уровни: образования, возникавшие в
речи широких масс населения, и культовая лексика языка деятелю церкви
разных рангов, связанных с миссионерской деятельностью. Это предполо-
жение подтверждается тем, что среди данного лексического пласта имелись
слова, восходящие к формам книжно-церковной латыни, и слова, заимство-
ванные из народной латыни галло-романского населения (см. приводившие-
ся выше примеры).
Обращалось внимание на существование уже в дописьменный период рас-
хождений между развитием церковного языка франкского и баварско-але-
манского регионов. 1*.Фрингс писал о двух локальных вариантах языка
церкви (zwei Kirchensprachen). При этом имелось в виду соотношение
влияния двух миссионерских традиций — готской (юг) и англо-саксонской
(франкский регион). Частично это отразилось и на заимствованной лекси-
ке. Вместе с тем одна общая черта объединяет все группы ранних неоло-
гизмов: преобладание прямых заимствований, отсутствие сложных произ-
водных образований, разных типов калькирования, т.е. всех тех приемов,
которые так характерны для развития лексики древненемецкой письмен-
ности. Типична и содержательная сторона состава ранних заимствований:
они связаны не с идейным содержанием новой религии, а с внешними, от-
части культовыми, отчасти организационными аспектами христианства.
3
Создание письменности, появление многочисленных переводов латинс-
кой христианской литературы разных жанров, от малой прозы — текстов
молитв, покаяний, символов веры, создававшихся одновременно в разных
духовных центрах, до философско-теологаческих произведений — перево-
дов Исидора, Аристотеля, Боэция, явилось мощным стимулом развития
55
языка преемников германских племен на территории франкской империи.
Естественным в этих условиях было определяющее влияние латинского
языка. Однако в отличие от дописьменного периода ведущее положение за-
нимают отныне не простые заимствования, а разные формы приспособле-
ния немецкой лексики к латинским образцам: кальки, т.е. буквальные пе-
реводы компонентов сложного слова типа arm-herzi= лат. miseri-cordia,
образование производных слов при помощи системы немецкой суффикса-
ции, изменение семантической структуры немецкого слова под влиянием
латинского образца.
В.Бец в серии работ, посвященных детальному анализу латинских заим-
ствований, преимущественно в языке древненемецкой письменности [Betz
1936; он же 1949; он же 1974, 120—142] выделил разные типы зависимос-
ти немецкого слова от латинских образцов; хотя разграничения этих типов
не всегда четки и убедительны, исследования В.Беца внесли много нового
в изучение древненемецкой лексики. Автор анализировал не только рели-
гиозную лексику, но фактически весь словарный состав письменного язы-
ка. Интересны его подсчеты. По его мнению, общий словарный состав не-
мецкого языка этого периода равен 20 000 словарных единиц (по более
поздним подсчетам других авторов называются цифры 25 000-30 000).
Из них 600, т.е. только 3%, составляли заимствования в прямом значении
этого слова; 2000 слов, т.е. 10%, — разновидности подражательных неоло-
гизмов: по классификации Беца — Lehnübersetzungen 'кальки' (пример:
fora-scauu-unga = лат. pro-viden-tia 'предвидение'); Lehnübertragungen
'структурные подражания' (fora-kisehan = providere 'предвидеть') и
Lehnschöpfungen — 'семантические подражания независимой от образца но-
вой структуры' (findunga= лат. experimentum 'опыт'); 4000 слов, т.е.
20%, составляет своя,существовавшая в языке лексика с новым значением,
заимствованным из латинского языка; cp.bijiht 'исповедь' = лат. confessio,
старое значение 'обещание, признание'. Таким образом, суммарные подсче-
ты показали, что 6000 слов, т.е. 30% словаря, составляли лексические еди-
ницы, образованные или функционировавшие под влиянием латинских об-
разцов. В подсчетах не принимались во внимание упомянутые выше 3%
простых заимствований.
Однако, как общая картина, так и распределение по семантическим и
структурным группам варьируется в разных памятниках в зависимости от
того, переводный памятник или оригинальный, в зависимости от его жанра
и от времени его создания [Betz 1974, 135—142]. Так, например, в статуте
бенедиктинцев (начало IX в.) религиозная лексика (200 единиц) состоит
только из слов, образованных и функционирующих под влиянием латинских
моделей, причем значительно преобладает использование старой лексики
с новь»« значением. Но в том же памятнике правовая лексика — suana
'приговор', reht 'право, закон', rihti 'право, наказание', swerren 'давать
клятву', biswer(r)en 'заклинать' — сохраняют старую, унаследованную се-
мантическую структуру.
Однако в религиозной сфере во всех памятниках в большей или меньшей
степени все же преобладало использование старого слова с новым значени-
ем. Подобно германскому *gudam, среднего рода = лат. deus 'бог', генети-
чески никак не связанному с христианством и верой в единого бога, но
ставшему наименованием христианского бога у всех германцев, д.-в.-н.
56
truhtin, др.-сакс. droht in, др.-англ. dryhten = лат. dominus, deus является
переосмыслением старого слова 'вождь дружины* с новым значением -
'господь, Христос'; ср. также triuwa 'верность богу', исходное значение -
соблюдение договора между членом дружины и военачальником.' Тот же
процесс переосмысления коснулся и такого фразеологизма, как der heilago
geist, созданного, по-видимому, англосаксонскими миссионерами: компо-
ненты этого сочетания генетически никак не были связаны с христианским
символом веры и учением о святой Троице, д.-в.-н. geist первоначально оз-
начало 'призрак, привидение, дух'. Этот способ номинации новых понятий
имел глубокие исторические корни. Он сохранял свои позиции в письмен-
ном языке, но его продуктивность и соотношение с другими моделями нео-
логизмов менялись в зависимости от жанра памятника. В глоссарии Abro-
gans (первый памятник немецкой письменности) он составлял лишь 54%
религиозной лексики, в языке Отфрида — 80% (300 из 388 лексических еди-
ниц) . Иными словами, в письменной форме немецкого языка этот тип нео-
логизмов получил особое развитие. Существовали ли фразеологизмы типа
der heilago geist в дописьменный период в устной форме языка, остается
неясным. Бесспорно преимущественное их образование в языке христианс-
кой миссии, т.е. на относительно высоком социальном уровне.
Встречаются разные формы адаптации новых понятий: erdrihhi 'земля,
земное царство' являлось старым словом, но по его модели создается наи-
менование царства небесного — himilrihhi = лат. regnum caelum; старое
mittingar, mittilgart 'серединное царство, земля' в соответствии с язычес-
ким верованием о существовании трех царств, верхнего, среднего и нижне-
го, становится эквивалентом латинского orbis terrarum, буквально озна-
чавшего 'земной круг', только у Ноткера появляется калька латинского
образца — erdring, weltring. Латинское peccator 'грешник' чаще всего пе-
реводилось sundig man, sundig ^ sunt ig 'грешный человек, грешный' (в ка-
честве субстантивированного прилагательного), начиная с ранних текстов
и до Ноткера; встречались также firntätig 'грешный' (у Татиана) от су-
ществительного firin-tät 'злое дело, прегрешение'; исходная лексема
firina 'грех, преступление' засвидетельствована в "Муспилли" и "Мурбахс-
ких гимнах" (Murbacher Hymnen); unwert 'недостойный' (только у Нотке-
ра). Характерно использование прилагательных 'грешный, недостойный'
в качестве Nomen agentis; лишь в глоссах к переводу псалмов Ноткера
(XI в.) употреблено производное существительное sund-äre, точно копи-
рующее латинское peccator, хотя суф. -äri, заимствованный, по-видимому,
из латинского языка (ср. лат. -arius) был довольно продуктивен и в более
ранних текстах (см. подробнее ниже)4. В некоторых случаях немецкие пе-
реводчики для наименования ранее неизвестных понятий избирали свой
путь, следовали закономерностям родного языка: греко-латинское образо-
вание thus 'фимиам' было переведено сложным словом wih-rouh, wi-rouch
'священный дым; дым, которым святят'.
В языке таких памятников, как Исидор, Отфрид, Татиан, Ноткер, осо-
бенно гибкой и динамичной была система именного словообразования;
здесь могут быть выделены схематично два образца.
1. Древняя модель словосложения получила дальнейшее развитие в пись-
менном языке: ср. abandzit (в переводе Татиана), himilrihhi (у многих
переводчиков), dragabetti 'носилки' (в переводе Татиана и у Ноткера),
57
drütboto 'возлюбленный (богом) ангел' (Отфрид), trutman 'друг' (От-
фрид), sigikampf 'победная битва' {"Песнь о Людвиге"), magaczogo 'вос-
питатель' ("Песнь о Людвиге"), gundfano 'военное знамя' (Отфрид, "Песнь
о Людвиге"). Особенно многочисленны подобные образования у Ноткера:
guottat 'добродетель', buochlist 'знание', heiligmahhunga 'освящение',
waliboum 'лес, дерево' и т.д.
2. Второй образец словопроизводства включает две возможные словооб-
разовательные модели.
А. Образование новых лексических единиц путем конверсии, т.е. путем
использования именной парадигматики — древний общегерманский прием,
ср. абстрактные существительные, производные от прилагательных и глаго-
лов по парадигме -i(n)-основ: wihi 'святость, благославление' от wm 'свя-
той', finstri 'темнота' от f instar 'темный', scöni 'красота' от sconi 'краси-
вый', toufi 'крещение' от toufen 'погружать в воду, крестить'. Аналогичную
группу составляют также абстрактные существительные, образованные по
типу основ на -о- ж.р.: toufa 'крещение' от toufen, geba 'дар, милость, бла-
годать' от geban 'давать, дарить, посылать, допускать', helfa 'помощь, защи-
та' от helfan 'помогать' и т.д. По этому же типу, ъе. с использованием кон-
версии, создавались и имена действующего лица основ на -п- м.р. от глаго-
лов: scepfo 'творец, создатель' от scepfen 'создавать, распоряжаться, форми-
ровать', scok) 'должник' от sculan 'долженствовать', boto 'вестник, посла-
нец' от beodan ~biatan 'провозглашать, предлагать, предполагать', forasago
'пророк', ср. forasagen 'предсказывать, пророчествовать'. Словообразование
христианской терминологии путем конверсии было характерно дня систе-
мы словопроизводства готского и древнеанглийского языков. Возможно,
что в некоторых случаях образцы, продуктивные в письменности на этих
языках, оказывали стимулирующее влияние на язык немецкой письмен-
ности.
Б. Образование имен существительных при помощи суффиксов. Ком-
пактной группой вьвделяются следующие суффиксы абстрактных имен су-
ществительных.
Суфф. -ida образует абстрактные имена существительные ж.р.: heil-ida
'здоровье, излечение' от heil 'здоровый, совершенный, целостный', rein-ida
'чистота, очищение' от xeini 'чистый, ясный, безупречный, святой', hon-ida
'стыд, позор' от honi 'позорный'; модель эта регионально не ограничена,
однако сравнительно мало продуктивна, и единицы, образованные ^уф.
-ida, встречаются в немногих памятниках: heüida в переводе Исидора, у
Отфрида та Ноткера, honida — у Отфрида и Ноткера, Teinida — в статутах
бенедиктинского монастыря, у Отфрида и Ноткера. Модель эту вытесняют
образования с абстрактным -суффиксом существительных ж.р. -unga,
которые обладали значительной частностью уже в первых памятниках
письменности л были употребительны в прозе Ноткера: costunga 'испыта-
ние, искушение' (Татиан) ~chorunga (статут бенедиктинцев, Мурбахские
гимны, Ноткер), heilunga 'излечение' (Татиан), ср. выше синоним
heilida, findunga 'опыт, знание' (статут бенедиктинцев), predigunga 'про-
поведь' (Татиан), warnunga 'приготовление, подготовка' (Ноткер), wider-
chetunga 'противоречие9 (Ноткер) и т.д. Эта модель абстрактных имен су-
ществительных образуется от глагольных основ, она также регионально не
маркирована.
58
Суф. -nissi ~-nessi ~-nissa (ср. готск. -assus, др.-англ. -nes): finstarnessi
'темнота' (Татиан, Отфрид), gotnissi^gotnissa 'божественность, божество'
(Исидор, Отфрид), stitoissi 'тишина' (Татиан,Отфрид), mihilnessi 'велико-
лепие, величие' (Татиан). Преимущественно этит тип абстрактных сущест-
вительных, образованных от имен, употребителен во франкских памятни-
ках (Исидор, Татиан, Отфрид). Возможно, что это связано с традицией
древнеанглийской письменности и в конеодом итоге с узусом фульдского
скриптория.
Регионально ограниченно южными памятниками употребление абстракт-
ного суф. -od, при помощи которого образуются имена существительные от
глагольных и именных основ: klagod 'жалоба' от klagen 'жаловаться' (Нот-
кер) , screiöd 'крик' <jt screi 'крик' (Ноткер), rihhisod 'господство' (статут
бенедиктинцев) от rih(h)i 'могущественный', ср. rih(h)ison 'быть могу-
щественным, господствовать', arm-ot-i 'бедность, нужда' от arm 'бедный,
несчастный, недостойный' (Ноткер). Преимущественно с южным ареалом
связано также образование абстрактных имен существительных на -ida (см.
выше). Таким образом, среда словообразовательных моделей только в не-
которых суффиксальных образованиях проявляется региональная диффе-
ренциация.
Наряду с развитой словообразовательной системой, включающей много-
численные унаследованные модели, в языке древненемецкой гасьменности
создавались в результате разных процессов новые суффиксальные образцы
в классе абстрактных имен существительных и имен действующего лица.
Тем самым увеличивался объем синонимических рядов и словообразова-
тельных гнезд (см. ниже).
В системе имен существительных на базе вторых компонентов сложных
слов -heit, -scaf(t), -tuoro создаются новые модели производных абстракт-
ных существительных. В ранних текстах, в глоссариях и в языке перевода
Исидора, у Отфрида, в переводе Татиана heit функционирует как самостоя-
я тельное слово: heit 'сущность, личность, ранг, образ', zi heiti 'определен-
ным образом', ср. в трактате Исидора ni dhiz sii chiuuisso dher ander heit
godes 198 'это бесспорно не является другой сущностью (образом) бога';
scaft = modus 'порядок, план* в самостоятельном употреблении засвиде-
тельствовано в Abrogans; tuom 'положение, обычай, власть' как самостоя-
тельное слово встречается в трактате Исидора, у Отфрида, в переводе Татиа-
на. Процесс превращения самостоятельных единиц в устойчивые компонен-
ты сложного слова с тенденцией дальнейшего преобразования в суффикс
наиболее интенсивно протекал, по-видимому, у heit; это предположение
подтверждается продуктивностью данных образований: gotheit 'сущность
бога' (Исидор), theoheit 'смирение, низость' (статут бенедиктинцев),
c(h)ristanheit4cristanheit 'христианство, сущность христианства' (в разных
памятниках, начиная с Исидора и до Нотк^ра), scafliheit 'рабство' (Ноткер),
tugedheit 'совершенству' (Ноткер), zwifeflieit 'сомнение, неуверенность'
(Ноткер), синоним zwifal (Ноткер, Отфрид), wisheit 'мудрость, знание'
(Отфрид, Ноткер), g (е) wisheit Суверенность, достоверность' (Ноткер) и т.д.
Образования co-scaf(t) и -tuom менее частотны;-веа£ (t) используется
при обозначении отношений людей между собой и в качестве обозначения
некой общности людей: bruaderscaf 'дружба, братство, единение9(Отфрид),
fiantscaf 'вражда, борьба' (в разных памятниках), g(e)nozscaft 'общность,
59
коллектив, товарищество' (статут бенедиктинцев, Ноткер) от ginözo 'то-
варищ, спутник' (Отфрид). Однако же у Татиана и Отфрида этот компонент
функционирует со значением близким к -heit, ср. botescaf (t) 'послание,
известие' (фрагменты из Монзее, Татиан, Отфрид, Ноткер). Весьма разно-
образна семантическая структура сочетаний c-tuom: наименование положе-
ния, обычаев, должности, ср. piscetuom 'сан священника' (Ноткер), ewart-
tuom 'сан священника, духовного лица' (статут бенедиктинцев, Ноткер)
diornutuam 'девственность' (Отфрид), arzetuom 'искусство лечить, меди-
цина' (Ноткер), furstuom'господство,власть' (Ноткер).
Новой словообразовательной моделью имени действующего лица, воз-
никшей, по-видимому, в языке письменности, явились образования с суф.
-äri, создаваемые под влиянием латинских образцов. Возможно, что здесь
сказалось и воздействие письменных традиций других древнегерманских
языков, готского и древнеанглийского. В готских памятниках эта модель
использовалась очень широко. В дрененемецкой письменности образования
с суф. -äri используются в разных памятниках. В переводе евангелия Татиа-
на засвидетельствованы toufäri 'креститель' = лат. b ар t ist а, fiscäri 'ры-
бак' = лат. piscator, betalari 'нищий' = лат. mendicus, у Отфрида scepheri
'создатель' (у Ноткера scepfor), betalari, fiscäri. Однако и старые модели
типа scepfo 'создатель' ("Мурбахские гимны", Ноткер), sceff idh 'создатель'
("Исидор") продолжают существовать; особенно продуктивны рассмот-
ренные выше образования по типу -n-основ: boto, scepfo и тд. Но все же
общей тенденцией в развитии словообразовательной системы письменного
языка является вытеснение старого типа конверсии и замена его новыми
суффиксальными моделями разного происхождения.
Сочетание унаследованных моделей и новых образцов,особенно в систе-
ме именного словообразования, создавало многозвеньевые гнезда, объеди-
няемые одним корнем. В качестве примера здесь приводится микросистема
производных и сложных образований, основой которой является heil 'бла-
гополучие, счастье; здоровый, целый, совершенный', т.е. омоним существи- *
тельного и прилагательного.
1. heili 'блаженство, освобождение, менование'
излечение, спасение, помощь, здоровье* 15. heilazunga 'приветствие*
2. heilag 'святой, посвященный, благо- 16.heiligmeineda 'причастие (Sakra-
честивый, приносящий благополучие' ment)'
3. heiligi 'святое, святость' 17. heiligmahhunga 'посвящение'
4. heiligheit 'святость' 18. heiligmahha 'освящение'
5. heiligunga 'освящение, благоддрст- 19. heilagmanöth 'декабрь'
венная жертва, святилище' 20. heilant -heilanto 'Спаситель'
6. heilignessi^heflacnissa 'святость' 21. heüari 'Спаситель, освободитель,
7. heiligtuom 'святилище' причастие врач'
(Sakrament)' 22. heilantii благополучие'
8. heilida 'здоровье, 'излечение, бла- Глагольные образования от этого же корня:
гополучие' 23. heilen 'излечить, освободить,.
9. heilunga. 'излечение, спасение' спасти, утешить, сделать святым'
10. heilhafti 'благополучие, помощь' 24. gflieilen синоним к heilen
11. heilhafte 'приносящий благополу- 25. folieheilen 'полностью излечить'
чие' 26. verheilen 'излечить'
12. heilsam 'полезный для здоровья, 27. heilag&t 'святить, посвящать,
приносящий благословление' объявить святым'
13. heillih 'приносящий здоровье, 28. gftieilagdh синоним к heüag&n
полезный для здоровья' 29. intheuagon современное enthefli-
14. heflesod 'благоприятное предана- gen, т.е. 'лишить святости'
60 30. heilazen приветствовать'
Таким образом, данное словообразовательное гнездо образуют 30 лекси-
ческих единиц, считая исходную производящую основу. Эта микросистема
является иерархическим построением, поскольку в нее входят единицы
разной степени производности ср. heilunga, образованное от исходной осно-
вы heil при помощи суф. -unga, и heiligunga,образованное от производной
основы heil-ig. Характерно для этой системы и наличие значительного числа
синонимов, ср. heiligi, heiligheit, heilignessi 'святость'; heilant, heilanto,
heilari 'Спаситель'; heiligmahhunga, heiligmahha 'освящение', heili, heilunga,
heilida являются неполными синонимами.
Среди данной лексической группы довольно много явно окказиональ-
ных образований, встречающихся только у одного автора; heiligheit, heil ig i,
heilichmahha, heiligmahhunga, heiligmeine da, heiligunga, heilesöd, heilen,
heilsam, heilhafte, heilhafti встречаются только у Ноткера, heilazunga, heila-
zen, heilunga — у Татиана, heilantii и heillth — только в статуте бенедиктин-
цев, heilagmSnoth — в жизнеописании Карла Великого Эйнхарта (Vita
Karoli), heilanto — в Вейссенбургском катехизисе. На общем фоне выделя-
ется обилие новообразований, принадлежащих Ноткеру, причем и среди них
имеются синонимические единицы, ср. например: heilichmahha и heiligmah-
hunga.
В многообразии лексического варьирования, в использовании синонимич-
ных словообразовательных моделей отражается типичное для младопись-
менного языка отсутствие устойчивости сложившегося узуса. Весьма огра-
ниченную роль играл при этом региональный фактор, если под этим пони-
мать зависимость от диалектного ареала. Лишь немногие словообразова-
тельные модели (-nessi, -nissa, -ida, -od) оказались регионально маркиро-
ванными, причем продуктивность -nessi, -nissa была обусловлена не специ-
фикой какого-либо конкретного диалекта, а влиянием письменной тради-
ции англосаксов на практику определенных культурных центров. В разви-
тии новых словообразовательных средств проявлялась та же специфика
наддиалектного статуса основных словообразовательных процессов пись-
менного языка, что и в функционировании старых моделей.
4
В синтаксисе языка древненемецкой письменности отсутствовало регио-
нальное варьирование. Различия, наблюдаемые в памятниках, определялись
отчасти временной соотнесенностью текстов, но главным образом их жанро-
во-стилистической спецификой (см. след. раздел). Общий процесс закреп-
ления личного местоимения при глагольной форме, например, проявляется
с разной степенью интенсивности в зависимости от времени создания текс-
та. В отличие от языка подлинника уже в переводе Исидора и в фрагментах
из Монзее личное местоимение спорадически вводит глагольную форму: ср.
в тексте Исидора Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, д.-в.-н. Dhu
minodos reht endi hazssedos unreht 139 'Ты любил справедливость и нена-
видел несправедливость'; ср. также 120—121; 153; 183; 221 и тд. По-ви-
димому,имелись различия в частотности употребления личцого местоимения
в главном и зависимом предложении. В главном предложении простая
глагольная форма еще довольно употребительна: ср. Suohhemes nu auur in
dhemu alden heileghin chiscribe 262 'Ищем, однако, в старом святом писа-
нии'; ср. также 279,283,299.
61
Период же создания первых значительных письменных памятников ха-
рактеризуется сосуществованием обеих возможностей построения личных
глагольных форм, что делало вероятным их варьирование под влиянием
разных факторов: категории лица (1, 2 и 3 л.), типа синтаксической конст-
рукции (главное или зависимое предложение). Лишь в прозе Ноткера (X—
XI вв.) употребление приглагольного местоимения становится действи-
тельно нормой.
Наиболее показательным для синтаксиса письменного языка этой эпохи
является соотношение паратаксиса и гипотаксиса и соответствующее
оформление сложных синтаксических комплексов, особенно в прозаичес-
ких памятниках. Так же, как и в лексических инновациях, стимулирующее
влияние в этой сфере оказывали латинские образцы и прежде всего законо-
мерности синтаксиса тех текстов, которые переводились на ранее беспись-
менный язык. Однако при характеристике этих процессов нередко преуве-
личивалась примитивность исходных синтаксических моделей языка тех
германских племен, которые образовали франкскую империю. Утверждая,
что праформой высказывания являлась несвязанная последовательность
независимых предложений, Ф.Чирх оперирует примерами из поэмы Отфри-
да, а также из Муспилли и древненемецкой поэмы "Генезис" [Tschirch
1966, 170—171J. Между тем стихотворный текст имеет свои синтаксичес-
кие особенности. К тому же в том же "Муспилли", у Отфрида и даже в
"Песне о Хильдебранде" отнюдь не господствует один асиндетический пара-
таксис. В "Песне о Хильдебранде" первые строки дошедшего до нас отрыв-
ка содержат синтаксический комплекс, в который входит придаточное
объектное (относительное) предложение: Ik gihorta dat seggen //dat sih
urhettun / *non muotin // Hiltibrant enti Hadubrant 'я слышал, как говори-
ли (говорить), что бойцы вызвали друг друга, Хильдебранд и Хадубрант'
(один из возможных переводов этого во многом неясного текста, вызвав-
шего длительную дискуссию у специалистов). Сочетание форм глагола
sagea 'говорить9 с последующим придаточным предложением повторяется
в тексте песни, ср., например,стих43; в следующем отрывке главное пред-
ложение "управляет" двумя зависимыми: dat sagetun mi / usere liuti, // alte
anti frote, // dea erhina warun»// dat Hiltibrant hxtti min fater 15—17 'Это
сказали мне наши люди, старые и мудрые, которые ранее были, что Хилвде-
брандом звался мой отец'; в данном комплексе наряду с объектным по-
является атрибутивное предложение, вводимое относительным местоиме-
нием dea 'которые'. Об уровне ностроения зависимых комплексов свиде-
тельствует появление в последнем предложении конъюнктивной формы
h*tti.
Зависимые объектные предложения появляются в этом памятнике не
толысо после глагола sagen» но и после wett* формы неясной по своему зна-
чению; возможное толкование — 'призываю в свидетели'. Атрибутивные за-
висимые коьшлексы вводятся не только относительным местоимением dea,
но и многозначным so 'так, как, когда', стих 34. Наконец, встречается и од-
но условное предложение, вводимое условным союзом ibu 'если': doh mäht
du nu aodlüiho, ibu dir din eilen taoc 55 'Да, ты в состоянии легко это совер-
шить, если у тебя хватит храбрости'.
Таким образом, в рамках небольшого фрагмента эпической песни засви-
62
детельствованы три разновидности зависимых предложений: объектное,
атрибутивное и условное; вряд ли это возможно в условиях абсолютного
господства паратаксиса.
Еще более сложны синтаксические комплексы в тексте "Муспилли".
Здесь также уже в первой строчке sin tac piqueme, / daz er touuan scal 'при-
дет его день, когда (что) он должен будет умереть' употреблено придаточ-
ное предложение, введенное многозначным союзом daz; труднее интерпре-
тировать тип предложения — временное, атрибутивное? И далее следуют
один за другим сложные синтаксические комплексы: uuanta sar so sih diu
sela / in den sind arhevit, // enti si den lihhamun / likkan lazzit, // so quimit
ein heri / fona himilzungalon, // daz andar fona pehhe 2—5 'ибо, как только
душа подымется в путь и оставить«лежать тело (труп), как прибудет одно
войско с небесных созвездий, другое из ада'; sar so сложный союз 'как
только' вводит временное зависимое предложение. Следующий отрезок
sorgen mac diu sela, / unzi diu suona arget, // za uuederemo herie / si gihalot
uuerde 'заботиться должна душа, пока будет вьшесен приговор, к какому
войску ее возьмут' вновь содержит зависимое предложение, вводимое отно-
сительно-вопросительным местоимением, являющееся объектом к sorgen.
И далее следуют несколько комплексов, включающих условные предложе-
ния: uuanta ipu sia daz Satanazses/ kisindi kiuuinnit, // daz leitit sia sar /
/ dar iru leid uuirdit ... upi sia ava kihalont die / die dar fona himile que-
mant ..., die pringent sia sar uf in himilo rihi 8—13 'ибо если ее захватят слу-
ги (дружина) сатаны, это приведет ее туда, где она испытает страдания ... ес-
ли же ее получат те, которые придут с небес, они тотчас же вознесут ее в
небесное царство'. Во втором комплексе условное зависимое предложение,
вводимое союзом ipu, включает атрибутивное предложение (2-я степень),
которое вводится относительным местоимением die.
Нет нужды далее расписывать текст этого памятника, отметим лишь на-
личие атрибутивных предложений, вводимых многозначным daz и относи-
тельными местоимениями, временных предложений с so, dar, нескольких
объектных предложений при глаголах rahhon 'говорить', uuizzan 'знать',
uuanen 'предполагать, верить', придаточных образа действия с daz (daz ist
allaz so pald, daz imo nioman kipagan ni mak 76 'это все происходит так
быстро, что никто не может с ним бороться'). Включение зависимых пред-
ложений первой и второй степени осуществляется в отрывке: dar ni ist ео
so listic man,/ der dar iouuiht arliugan megi, // daz er Tcitarnan megi / tato
dehheina 94 'там нет ни одного столь искусного (хитрого) человека, кото-
рый мог бы-что-либо солгать, чтобы скрыть какой-либо поступок'.
Но вместе с тем, как отмечал Ф.Чирх, в этом памятнике так же, как и в
других поэтических текстах, появляются ряды никак внешне не связанных,
но соотнесенных содержательной оппозицией, предложений. В качестве при-
мера можно привести описание единоборства Ильи »с Сатаной: Elias stritit
pi den euuigon fip/uuili den rehtkernon daz rihhikistarkan: / pidiu scal imo
helfan / der himiles kiuualtit // der antichristo / stet pi demoaltfiante,// stet
pi dem Satanase, / 4er inan varsenkan scal 41—45 'Илья сражается ради веч-
ной жизни, хочет укрепить царство справедливых, поэтому ему поможет
(тот), кто правит небом, антихрист удерживается (опирается) на старого
врага, опирается на Сатану, который его погубит'. Здесь совершенно явно
63
асиндетический паратаксис используется как стилистический прием, сред-
ство нагнетания напряженности (ср. у А.СПушкина; "Выходит Петр. Лик
его прекрасен. Движения быстры. Он ужасен. Он весь как божия гроза").
Таким образом, синтаксис языка памятников, связанных с древнегер-
манской эпической традицией, отнюдь не является образцом асиндетичес-
кого паратаксиса, поскольку в условиях существования развитых сложно-
подчиненных комплексов, примеры которых приводились выше, асиндети-
ческий паратаксис мог использоваться как стилистический прием. Вместе
с тем известная примитивность синтаксиса сложноподчиненного предложе-
ния проявлялась не только в поэтических, но и в прозаических памятниках,
в особенностях средств выражения подчинительной связи, в многозначнос-
ти слов, вводящих зависимое предложение; такие союзы,как daz,so,BBOW-
ли зависимые предложения совершенно несходной семантики: daz~thaz
объектные, атрибутивные предложения, предложения цели, обстоятельства
образа действия, следствия, причины, функционируя в качестве маркера не
гакой-либо дифференцированной подчинительной связи, а подчинения, как
такового.
Многозначность вводящих средств подчинения обусловила во многом
нечеткость членения сложных отрезков текста. Показательно, что эти черты
характеризуют не только подчинительные, но и сочинительные союзы; так,
например, союз inti 'и9 в отрывке из текста договора Людвига Немецкого
и Карла Лысого (842 г.) употреблен как средство выражения противитель-
ной связи: Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuige gesuor,
geleistit indi Ludhuuig min herro then er imo gesuor forbrichit... . 'Если
Карп ту клятву, которую он дал (клялся) своему брату Людвигу, сдержит,
и Людвиг, мой господин, которую (ту) он ему принес, нарушит ...'. Inti
означает в данном случае 'но, а", в других же контекстах — сочинительный
союз 'и'; ср. из "Исидора": dhazs ih fora sinemu anthhitte hneige imo
deodun endi ih uuendu imu chuningo hrucca endi ih antluhhu duri fora imu,
endi dor ni uuerdant bilohhan 153—156; ср. также в "Песне о Хильдебран-
де": Hiltibrant enti Hadubrant, или dat sagetun mi usere liuti, alte anti
frote 15—17. Таким образом, фонетические варианты союза 'и' inti ^en-
ti ~anti соединяли в своей смысловой структуре выражение сочинительных
и противительных связей.
В литературе также неоднократно обращалось внимание на одну приме-
чательную черту в оформлении зависимых комплексов с daz, представляв-
ших.очевидно, одну из наиболее ранних моделей придаточных предложе-
ний: они имеют коррелат daz в составе главного предложения типа построе-
ния первых строк из "Песни о Хильдебранде": ik gihorta dat seggen // dat
sih urhettun *non muotin // Hiltibrant enti Hadubrant. Подобная структура
характерна для поэтического языка, она встречается у Отфрида и в других
памятниках IX в.
Ссылочное dat главного предложения можно рассматривать как реликт
синтаксического комплекса, в котором второе предложение обладало ста-
тусом независимого высказывания-сообщения. Быть может, архаичным
является и построение атрибутивных зависимых предложений с усилитель-
ным dar: в "Муспилли" так строится стих 11: upi sia avar kihalont die, //
die dar fona himile quemant. Die, выступающее здесь в двух функциях —
64
указательной и относительной, — получает во втором случае усилительное
dar, значение которого в самостоятельной позиции 'там, где9, но в качестве
энклитики при местоимении оно является показателем относительной свя-
зи. Этот тип построения зависимых предложений сохраняется и в прозаи-
ческих памятниках IX в. Так, например, в евангелии Татиана он является
довольно употребительным, ср. Lazarus... then dar eruuacta ther heilant
137,1 'Лазарь... которого разбудил спаситель'; но в том же памятнике
встречается достаточно часто и придаточное предложение без энклитическо-
го thar, например: ...in Davides bürg, thiu uuas ginemnit Bethleem 5,12
'..3 город Давида, который назывался Вифлеем'. По-видимому, данная
модель, бытовавшая в устной традиции поэтического языка, являлась свое-
го рода архаизмом поэтической речи, она сохраняется и в ранних переводах
прозаических текстов, а затем исчезает. Синтаксис перевода "Татиана" в
известной степени отражает переломный момент.
Дальнейшее развитие гипотаксиса, частично обусловленное закономер-
ностями синтаксиса латинских текстов, привело к созданию более диффе-
ренцированной системы единиц, вводящих зависимые комплексы. Частично
это происходило путем сложения ранее существовавшего союза с другими
служебными элементами; если многозначное so вводило не только времен-
ные, но и целевые, уступительные» сравнительные предложения,то so daz ис-
пользовалось только как союз цели; so also, введенный Ноткером, имел
значение 'также как'. Разнообразные производные от thiu, падежная форма
к относительному местоимению ther 'который, тот', ср. bithiu 'если, тем са-
мым', bithiu want 'потому что', mit thiu 'в то время как, если, когда, хотя',
bithiu wenn 'потому что' и тд. Обращает на себя внимание наряду с много-
значностью большинства единиц значительное число синонимических обра-
зований: 'потому чго' = bithiu wenn, bithiu want, thanne, füre daz; 'для
того чтобы' = daz, so daz, zi thiu; 'если' — ibu, so mit thiu, thanne, sös ~
~sosa и т д.
В крупных прозаических памятниках IX в. уже представлена разветвлен-
ная система подчинительных средств, лишь немногие из них являются осо-
бенностью единичных памятников: sä samaso 'также как' только в трактате
Исидора и "Монзееских фрагментах", soselbo 'также как' только в "Мон-
зееских фрагментах", s&also 'также как'только у Ноткера, södanne 'если' —
в "Монзееских фрагментах" и у Ноткера. Общий характер этой системы
проявляется в ее неустойчивости и противоречивости, в отсутствии отрабо-
танного узуса. Это особенно касается оформления таких придаточных пред-
ложений, как предложения причины (вводящие единицы — daz, bithiu,
mit thiu uuanta, bithiu wanta, sid — синонимы 'потому что'), сравнитель-
ные (вводящие единицы so, soso, so sama so, soselbo, söalso). Впрочем, хо-
тя и в меньшей степешцэто свойственно оформлению и других придаточных
предложений.
В качестве приметы некоторых типов придаточных предложений уже в
древних памятниках появляется конъюнктив, лишенный особой модальной
окраски. Так, например, в предложении из трактата Исидора: Araugit ist
in dhes aldin uuizssodes boohhum dhazs fater endi sunu endi heilac gheist got
sii 251 'Доказано в книгах древней мудрости, что отец и сын и святой дух
являются богом'; sii конъюнктивная форма, отнюдь не выражающая сом-
5. Зак. 336
65
нения, но структурирующая высказывание, близкое к типу косвенной речи,
ср. в этой связи приводившийся пример из "Песни о Хильдебранде".
Помимо разных типов сложноподчиненных комплексов, включавших
придаточные предложения, в языке древненемецких памятников широко
использовались абсолютные конструкции, инфинитивные и причастные обо-
роты. Accusativus cum infinitivo стилистически не маркирован, он встреча-
ется в памятниках разных жанров, начиная с "Песни о Хильдебранде" и
кончая прозой Ногкера: ср. в "Песне о Хильдебранде" начальные строки
ik gihorta dat seggen 'я слышал это говорить = я слышал, что говорили
(рассказывали)' и у Ноткера из Боэция: Uuer zuivelöt Romanos iu uuesen
allere richo h&rren unde iro geualt kän ze ende dero uuerlte? 'Кто сомневает-
ся, Римляне, что вы являетесь властителями всех царств и ваша власть
распространяется до конца мира', букв. 'Кто сомневается Римляне вас быть
властелинами всех царств и вашу власть идти до конца мира?' Этот оборот
широко распространен не только в языке древненемецких памятников, но
и в литературе других древних германских народностей, включая эддичес-
кие песни. Показательно также, что в немецком языке он сохранился до
настоящего времени. Это позволяет предполагать, что данная структура не
была подражанием латинским образцам, но являлась исконной древней мо-
делью германского синтаксиса.
Иной статус занимали причастные конструкции, образующие абсолютный
датив. Они встречаются только в переводных прозаических текстах опреде-
ленного жанра: в евангелии и в философско-теологической прозе. И хотя
абсолютный дательный употребителен в языке готской библии, он и там яв-
ляется заимствованным построением. В древненемецких памятниках он осо-
бенно характерен для текстов, близких к подстрочным переводам, в част-
ности для евангелия Татиана: ср. Abande giuuortanemo brahtun imo manage
diuuala habente 50,1; 'Когда наступил вечер (букв.: 'наступившему вече-
ру'), к нему привели многих одержимых нечистым духом (букв.: 'имев-
ших дьявола')'. В данном памятнике оборот этот обладает значительной
частотностью.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЯЗЫКА
ДРЕВНЕНЕМЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Функционально-стилистическая стратификация языка древненемецкой
письменности — непосредственное отражение противоречивых процессов,
которые характеризовали этот период, переломный для судеб обработан-
ных форм языка. Традиционные, достигшие высокого уровня, литератур-
ные формы устной поэзии и присущая им языковая реализация, не только
продолжали существовать, но и влияли на становление новых форм худо-
жественного творчества. Как показал анализ известных нам памятников
(см. выше), это влияние проявлялось в группе письменных памятников ти-
па книжного эпоса "Спаситель" ипоэмы"Муспилли", а также при использо-
вании приемов старого художественного тсьма в прозе перевода Исидора
и в поэме Отфрида. С другой стороны, создававшиеся жанры христианской
письменности обусловили формирование новой системы стилистических
средств, которая, в свою очередь, допускала варьирование в зависимости от
жанровой специфики памятника. Сопоставляя интенсивность региональной
66
и функционально-стилистической дифференциации письменного языкя,
можно отметить своеобразное распределение типов варьирования по уров-
ням языка: региональное варьирование обусловило своеобразие фонетико-
орфографической системы языка отдельных памятников, в значительно
меньшей степени оно реализовалось в различии словоизменительной пара-
дигматики, в этом типе варьирования отражалась связь памятника с соот-
ветствующей диалектной областью. Но и в данном случае отражение диа-
лектных особенностей переплеталось с процессами, обусловленными влия-
нием узуса разных скрипториев. Что касается путей развития лексических
и синтаксических систем письменного языка, то здесь варьирование было
прежде всего обусловлено жанрово-стилистическими особенностями памят-
ника, хотя в исконном лексическом составе, не связанном со спецификой
письменного языка, проявляется и региональная дифференциация.
Как показал анализ языка отдельных произведений, выделяются следую-
щие стилистические системы. Обособленную позицию занимают тексты, свя-
занные с древней традицией языка высших сфер коммуникации. Их обособ-
ление проявляется в замкнутости данной стилистической системы, ее свое-
образной непроницаемости по отношению к инновационным процессам,
столь характерным для христианской письменности, в рамках которой соз-
дается особый тип письменного языка со своими лексическими и синтакси-
ческими закономерностями. Вопреки тому, что в пределах христианской
письменности были созданы памятники, в языке которых как бы сосущест-
вовали, хотя и не на равных правах, две противоположные стилистические
системы (наиболее яркий пример — книжный эпос "Спаситель"), развитие
письменного языка шло в направлении создания такой стилистической сис-
темы, которая полностью оторвалась бы от унаследованных традиций. Зас-
тывшей, неразвивающейся системе старых приемов и моделей противопо-
ставлялась новая стилистическая система с характерной для нее сублимиро-
ванной лексикой и особым синтаксисом. Однако и в пределах христианс-
кой письменности разграничиваются стилистические возможности разных
жанров. Богатая синонимика, широкое использование разных словообразо-
вательных моделей, столь характерные для философско-дидактической
прозы Исидора и Ноткера, не свойственны языку культовой прозы, осо-
бенно же языку малых форм этого жанра. В области синтаксиса основ-
ные процессы развития гипотаксиса на базе унаследованных моделей
совершаются за пределами малых форм христианской письменности, в
рамках крупных отрезков текста. Примитивность языка первых культовых
текстов (ср. "St. Galler Paternoster"), отражающая неискушенность их ав-
торов, резко контрастирует с наддиалектными формами прозы Исидора и
Ноткера. В многообразии литературных жанров немецкой письменности,
несмотря на специфический клерикальный характер ее тематики и относи-
тельную ограниченность сфер ее употребления, создавалась совокупность
примет, свойственных письменно-литературным языкам. К концу древнего
периода этот процесс искусственно тормозился изменившейся политикой
германских императоров и христианского духовенства.
67
ГЛАВА II
НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ЭПОХИ РАСЦВЕТА
ФЕОДАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (XII-XIII вв.)
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Новый этап в истории немецкого языка связан со значительным рас-
ширением сфер его функционирования: немецкий язык начинает исполь-
зоваться не только в религиозной, но и в светской художественной литера-
туре, развитие которой определяется в рассматриваемый период главным
образом расцветом рыцарства. Во второй половине этого периода под
влиянием роста средневековых городов возникают первые ростки город-
ской культуры и появляется литература городского сословия. Для ре-
лигиозной сферы было характерно распространение немецкой пропове-
ди, а также появление теолого-философских сочинений ранних мисти-
ков. В XIII в., особенно в его второй половине, немецкий язык прони-
кает в деловую письменность, где до этого времени безраздельно господ-
ствовала латынь, и постепенно закрепляется в части канцелярской доку-
ментации различных районов.
Важным следствием всех этих процессов является изменение функ-
циональной специфики немецкого литературно-письменного языка и воз-
никновение ряда новых стилистических и жанровых его дифференциаций.
Процессы функционального развития языка, в свою очередь, приводят
к существенному расширению охватываемых им номинативных сфер, сти-
мулируя значительное пополнение вокабуляра немецкого языка. Разви-
вается в данный период и структура предложения: устанавливается ве-
дущий тип порядка слов в самостоятельном, а отчасти и в придаточном
предложениях, уточняется семантика и функции ряда сочинительных
и подчинительных союзов и союзных слов. Морфологическая и фонети-
ческая системы языка тоже характеризуются известными изменениями:
редукцией конечных слогов, преобразованием структуры слова, связан-
ным с перестройкой типов склонения, а отчасти и спряжения. В систе-
ме глагола возрастает омонимия личных форм, продолжают развивать-
ся аналитические формы прошедшего времени, появляется футурум I,
шире используются формы пассивного залога (ср. параллельные конструк-
ции: wart getragen/was gemachet) и т.д. Большинство названных про-
цессов начинается в конце предыдущего периода, а иногда и ранее, и в
XII—XIII столетиях еще далеко не завершается.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В историческом плане данный период может быть охарактеризован
как эпоха развитого феодализма. В Германии она отличается, однако,
некоторыми специфическими особенностями: отсутствием единого по-
литического центра, слабостью императорской власти, ожесточенной борь-
бой империи с папством и междоусобицами крупных феодалов, отнюдь
не заинтересованных в укреплении централизованной власти.
68
Существенную роль играла при этом и экономическая разобщенность
отдельных районов. Южнонемецкие области тяготели к торговле с Ита-
лией, тогда как нижненемецкие районы ориентировались главным обра-
зом на транзитную торговлю в районе Северного моря и Балтики. Вос-
ток и запад немецкой территории, в свою очередь, бьши разобщены не
только политически, но и по характеру экономических укладов. В се-
веро-западной части Германии сложилось хозяйство мелко-вотчинного
типа, тогда как на востоке феодалы владели крупными наделами, кото-
рые отдавались в аренду для получения зерна на продажу.
В XII столетии развитие ремесла и торговли повсеместно усиливается,
и на этой базе укрепляются города, которые большей частью находятся,
однако, в зависимости от крупных феодалов. Попытки городов опереться
в борьбе с ними на власть императора наталкиваются на слабость его по-
зиций в немецких землях. Правда, с XIII в. появляется городское само-
управление, а некоторые города получают статус вольных имперских го-
родов. Наиболее крупные из них располагались по Рейну и Дунаю — это
Кёльн, Майнц, Аугсбург, Регенсбург, Вена, Аахен, Трир. На севере несколь-
ко позднее выделяются города Ганзейского союза, такие как Любек, Гам-
бург, Бремен.
Социальная структура феодального общества эпохи Высокого сред-
невековья не являлась стабильной для всего периода. Уже в конце XI в.
крестьянство перестает быть свободным: оно лишается собственности
на землю и попадает во все большую зависимость от крупных светских
и духовных феодалов. Таким образом, самый многочисленный класс
феодального общества постепенно закрепощается.
Значительные изменения происходили в течение всего периода и в са-
мом классе феодалор. В XII в. оформляется рыцарское сословие, что
приводит к расширению и известной демократизации данного класса за
счет его пополнения "служилыми" людьми - министериалами (ministe-
riales, dienstmänner, ritter). Частично это пополнение происходило и за
счет несвободных крестьян, составлявших войско крупных феодалов.
Длительные военные походы уже не позволяли использовать формировав-
шееся из крестьян временное войско, собиравшееся под их знамена. Не-
когда свободный крестьянин теперь был уже прикреплен к земле и утра-
тил право воевать с мечом в руке. Возникла необходимость в специальном
слое зависимых людей (вассалов), которые всецело находились бы в
распоряжении феодала и могли использоваться исключительно на воен-
ной службе и при дворе. Позднее определенная часть рыцарства, постепен-
но возвышаясь, сливалась с наследственной знатью, а несвободные—освобож-
дались, сохраняя, однако, вассальную зависимость от господина. Тем самым
оформляется новая иерархия феодального общества, состоявшего из круп-
ных феодалов (графов, князей), духовенства, социально сильно расчленен-
ного рыцарства и зависимых крестьян. К концу периода складывается
и довольно сложная структура городского населения, -охватывавшего раз-
ные слои — от патрициата до подмастерьев и городской бедноты.
Особого расцвета феодальное немецкое общество достигает при Фрид-
рихе I Барбароссе (1152—1190 гг.), представителе династии Штауфенов,
более столетия державшей в своих руках имперскую власть (1125—1250).
69
Стремление Фридриха Барбароссы укрепить экономическое положение
за счет формально зависимой от императоров Северной Италии привело
к военным столкновениям (Итальянские походы), закончившимся
поражением императора в битве под Леньяно (1176 г.) и заключением
мира в Констанце (1183 г.). Новый этап в политике Фридриха I был связан
с продвижением на восток и захватом славянских земель. Военные походы
проложили путь к постепенной колонизации этих земель и созданию на севе-
ре — Мекленбургского княжества и маркграфства Брандербургского,
а на востоке Средней Германии — Мейссенской марки, сыгравшей в даль-
нейшем значительную роль в политической, экономической и культурной
истории Германии. Для языковых процессов существенным было также об-
разование в колонизованных районах новых восточносредненемецких диа-
лектов.
При Фридрихе II Штауфене (1212—1250) к Священной римской им-
перии, включавшей, начиная с X в., кроме немецких земель, Италию, Бур-
гундию и Чехию, присоединяется Силезия. Он всячески стремился также
подчинить себе Ломбардию и Среднюю Италию, но итальянские города
опирались в своей борьбе на усилившуюся власть папства (Иннокентий III
и IV, Григорий IX). Эта борьба завершается падением династии Штауфенов
и победой территориальных князей. Период Междуцарствия (Interregnum —
1254—73 гг.) заканчивается выбором в качества императора Рудольфа
Габсбурга1, не пользовавшегося особым влиянием и выбранного лишь
по настоянию папы. Ему приходится, мириться и с сокращением империи
до немецких земель, и с усилившейся властью князей. Правда, активная
борьба с рыцарским разбоем (Raubritter) привела на его сторону города,
нуждавшиеся в защите и поддержке.
Таким образом, победа центробежных тенденций в политическом и
экономическом развитии Германии явственно обозначилась уже в конце
правления Штауфенов. Княжеский суверенитет выражался в наличии у
князей всей полноты юридической и военной власти, права обложения
налогами, чеканки своей монеты и т.д. Прогрессивные исторические тен-
денции проявлялись в развитии городов, ремесла и торговли, что способ-
ствовало поддержанию внутренних связей между разными немецкими
территориями и не в малой мере обеспечивало сохранение их культурного
единства.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Рассматриваемый период не является в культурно-историческом плане
единым. Однако в нем можно вьзделить некое ядро, связанное прежде
всего с формированием рыцарства. Общие военные мероприятия, крес-
товые походы, придворные празднества и турниры приводили к консоли-
дации пестрого в социальном и имущественном плане слоя рыцарей и
способствовали складыванию его идеологии и культуры. Последняя но-
сила в основном светский характер, хотя включала, несомненно, и тео-
логический компонент, сохранявший свое исключительное значение для
всего средневековья. Синтез светской придворной культуры и христиан-
1 Династия Габсбургов просуществовала вплоть до 1308 г., т.е. до конца рассматривае-
мого в данной главе периода.
70
ства составляет специфику культурно-исторической ситуации Высокого
средневековья в Германии. Существенным моментом было вместе с тем
не только осознание культурного единства рыцарства в пределах Империи,
но и общеевропейский характер его идеологии и его культуры, объеди-
нявших основные европейские страны, и в первую очередь — Германию
и Францию. С падением династии Штауфенов кончается период расцвета
немецких земель и ведущая роль в средневековой Европе окончательно
переходит к Франции.
Во второй половине XIII в. рыцарская культура везде переживает упа-
док^ на смену ей приходит преимущественно городская культура, посте-
пенно формирующаяся вместе с ростом средневекового города. Распад
рыцарского сословия, частью утратившего свою роль и обедневшего,
а частью полностью слившегося со старой наследственной знатью, лишает
просуществовавшую около столетия рыцарскую культуру реальных со-
циальных корней, превращая ее идеологические, этические и эстетические
основания в лишенные прежнего отчетливого содержания формы.
По сравнению с предыдущим периодом способы распространения и
функционирования культуры обнаруживают в XII—XIII вв. некоторые но-
вые черты: меняются формы обучения, шире распространяется рукопис-
ная книга.
Образование, школа. Хотя образование по-прежнему было
сосредоточено в руках духовенства, ведущая роль постепенно переходит
от монастырей к "белому" духовенству, более тесно, чем монахи связан-
ному с духовной и культурной жизнью мирян [Eggers 1965,92].
Крупная наследственная знать далеко не всегда была хорошо образована.
Нередко аристократия вообще не владела письменной формой родного
языка, о чем свидетельствует, в частности, прочерк на документах, вы-
дававший неграмотность. При дворах широко пользовались поэтому услу-
гами представителей духовенства, знавших и латынь и родной язык. Вы-
сокий уровень образования Фридриха II, последнего из Штауфенов, был,
видимо, скорее исключением, чем правилом [Schieb, 1980, 382].
Что касается рыцарства, то известная неоднородность и социальная
подвижность данного слоя во многом определяли и очень разный уровень
образованности его отдельных представителей. Известно, что далеко не
все рыцари умели читать и* писать, во всяком случае, образование рыцаря
носило практический характер и основывалось уже не столько на знании
латыни, сколько на — лучшем или худшем — владении некоторыми новыми
европейскими языками, особенно французским, элементы которого широ-
ко проникали в разговорный язык наследственной аристократии и ры-
царства. Образование это пополнялось опытом придворной жизни, а так-
же впечатлениями, полученными во время путешествий и военных и крес-
товых походов, объединявших все европейское рыцарство.
Неясно, получали ли какое-либо образование крестьяне. Г. Шиб выска-
зывает предположение о существовании тайных школ религиозной секты
вальденсов (вторая половина XII в.), заботившихся об образовании — в
первую очередь, конечно, религиозном — крестьянских масс, что соответ-
ствовало демократической установке их учения [Schieb, 1980, 380]. Одна-
ко жестокие преследования, которым подвергалась секта, не позволяют
думать о широком распространении их просветительской деятельности.
71
При общей оценке уровня образованности в период средневековья
следует иметь в виду одну особенность данной исторической эпохи: не-
владение письменными формами языка далеко не всегда свидетельст-
вовало о полном отрыве от "книжной" культуры, так как большое зна-
чение имели устные каналы ее распространения, не всегда нам ясные,
иногда непривычные, но, бесспорно, существовавшие.
Наиболее основательное образование давали соборные и монастыр-
ские латинские школы (Dorn- und Klosterschulen), где преподавались
латынь, риторика, диалектика, грамматика. Немецкий язык выступал
при этом как подсобное средство преподавания, используясь, например,
в глоссах. Латинская школа подготавливала к овладению науками выс-
ших ступеней — философией и теологией, что было доступно преимущест-
венно высшим слоям духовенства.
Наряду с этим существовали школы для бедных (Pfarrschulen), ко-
торыми руководили приходские священники. С XIII в. возникают также
многочисленные городские школы (Stadtschulen), появление которых
было вызвано ростом городского населения. В этих школах преподавались
счет, письмо, пение, основы религии, иногда также начатки латыни. Па-
раллельно существовали и латинские приходские и городские школы.
Распространениеписьменност и, литературы. Важным
моментом, характеризующим немецкую культуру эпохи Высокого сред-
невековья, является возникновение светской по своей тематике литера-
туры. Время ее появления точно не фиксируется, но самые ранние до-
шедшие до нас рукописи относятся ко второй половине XII в. (их срав-
нительно немного), а также к XIII и XIV столетиям.
Важной особенностью художественной литературы было ее существо-
вание в устной и письменной формах, причем не всегда легко определить,
какая из форм являлась первичной. Выдающийся поэт второй половины
XII столетия Гартман, фон Ауэ заканчивает своего "Грегориуса" ("Gre-
gorius") обращением ко всем тем, кто его читает или слушает ("die ez
hären oder lesen"), фиксируя тем самым традиционную двойственность
функционирования средневекового художественного произведения. Впро-
чем, многие современные исследователи, например Г. Эггерс, считают,
что для данного периода как раз характерен переход к созданию монумен-
тальных "книжных" произведений (Buchepen), не терявших, правда, свя-
зей с устной "исполнительской" традицией. В заключительных строках
"Фермера Хельмбрехта" автор также прибегает к традиционной формуле
и просит того, кто читает (вам) его историю,просить милости у бога и
для самого себя, и для автора этой истории поэта Вернера Садовника:
Swer in ditze m*re lese, | bitet das im got gen#dec wese | und dem tiht*re,|
Wernher dem Garten*re MH 1931-34.
В данный период относительное единство сословной принадлежности
авторов древнейшей поры, относившихся исключительно к духовной
среде, постепенно разрушается. Творцы и репродуценты литературных
произведений — поэты и исполнители — были в социальном плане весьма
неоднородны. Разные слои рыцарства, представители духовенства, в отдель-
ных случаях представители высшей знати, бродячие певцы из народа и
низших слоев рыцарства — таков состав авторов Высокого средневековья
[Schieb, 1980, 384].
72
С середины XIII в. в 'связи с развитием города среди авторов появля-
ется новая фигура, в которой объединяются писец, юрист и поэт. Это так
называемый клерк (Klerk), нередко владевший и деловым, и поэтическим
языком. В середине XIII в. таков, например, кёльнский городской писец
Готтфрит Хаген (Gottfriet Hagen) [Schieb, 1969,155].
Столь же неоднородной, как и состав авторов, была и публика, слу-
шавшая или читавшая поэтические произведения. В ней объединялись
разные социальные спои — от наследственной аристократии до низшей
знати, вышедшей из министериалов. Именно за счет этих последних прои-
зошло расширение "читательских" кругов и их демократизация. Она ска-
зывается и в том, что с развитием рыцарской культуры наблюдается из-
вестное отступление латыни, которой рыцари обычно не владели.
Дальнейшее расширение социального состава авторов и дальнейшая
демократизация читательских кругов и кругов потенциальных и факти-
ческих слушателей литературных произведений происходит в связи с раз-
витием городского сословия и городской культуры, а также с некоторым
расширением возможностей образования, о которых упоминалось выше.
Существенно и появление наряду с пергаментом бумаги, оно удешевляет
рукописную книгу, делая ее тем самым более доступной.
Представленный в период Высокого средневековья в Германии тип
культуры определяется несколькими моментами. Во-первых, своеобраз-
ным синтезом христианской и светской культуры, а во-вторых, первыми
попытками по-новому подойти к изображению человеческой личности,
представив ее со всеми свойствами и переживаниями (особенно рыцарская
лирика и мистика).
Существование разных направлений в развитии культуры, ее неоднород-
ность свидетельствуют о многообразии идеологических и эстетических форм
данной эпохи и выявляют ее весьма широкий культурный диапазон. Ры-
царская культура является лишь одним, хотя и ведущим, компонентом
в культурно-историческом развитии данной эпохи. Поэтому ставшее тра-
диционным положение о сословной узости рыцарской культуры, к тому
же распространяющееся на всю культуру данной эпохи, видимо, нуждается
в коррективах [Schröder, 1954, 94]. Мысль о многослойности историко-
культурного развития в данный период высказывалась и Г.Эгтерсом:
он подчеркивал, что эволюция в культурных областях происходила пу-
тем сочетания различных тенденций и их длительного сосуществования,
а не путем резкой смены одного культурно-исторического периода другим.
Сложность культурной и языковой ситуации данного периода определяется
именно этим обстоятельством [Eggers 1965, 243—246].
Существенным моментом во всей культуре средневековья являлись
ее интернациональные элементы, ее общность, выходившая даже за рамки
европейского культурного единства. В качестве таких интернациональных
компонентов культуры выступают влияние античной традиции, поддер-
живаемое латинским образованием, а также воздействие византийской
культуры и культуры Востока, особенно усилившееся во время крестовых
походов.
73
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Противоборствующие исторические тенденции в развитии феодаль-
ного общества, проявившиеся в период Высокого средневековья, посте-
пенное усложнение его социальной организации и его культуры во мно-
гом определяют структуру языковой ситуации и коммуникативных отно-
шений изучаемого периода. На основе анализа социально-экономической
и культурно-исторической ситуации, а также интерпретации памятников
этой эпохи система форм существования немецкого языка приближенно
реконструируется в следующем виде2:
1) диалект, выступающий как разговорный язык феодальных верхов,
как преобладающая форма общения в крестьянской среде и как наиболее
вероятное средство бытовой коммуникации между разными слоями фео-
дального общества;
2) некоторые наддиалектные формы устной речи, к которым можно
отнести рыцарское койне, а также "языки общения" (Verkehrssprachen),
формирующиеся в смешанных по своим диалектным признакам колони-
зованных районах, например, на востоке средненемецкой области; сюда,
видимо, можно отнести и складывающиеся к концу периода в крупных
городах полудиалекты;
3) обработанные литературные формы языка, выступавшие в письмен-
ной и в устной форме (главным образом при "исполнении" художествен-
ных поэтических произведений, а также в церковной проповеди); они
обслуживали сферу художественной литературы, религию и деловую сфе-
ру, где в течение всего периода конкурировали с латынью.
Все компоненты функциональной парадигмы немецкого языка — от
диалекта до литературного языка — сохраняли, хотя и в разной степени,
территориальную дифференцированность. Обратимся несколько подробнее
к вопросу о том, как использовались отдельные формы существования
языка разными социальными слоями феодального общества эпохи Высоко-
го средневековья.
Общение в среде крестьянства, жившего устойчивыми большими
патриархальными семьями, происходило, видимо, исключительно на базе
местного диалекта. Пассивно крестьянские массы приобщались также
к устному языку церкви: на немецком языке произносились проповеди
для народа (Volkspredigt), а также наиболее популярные молитвы. Имеют-
ся сведения, что проповедники-валвденсы уже в этот период имели в своем
распоряжении немецкий перевод библии, затем полностью утраченный, одна-
ко,составить представление о том, как он использовался и насколько был
популярен, из-за скудности исторических данных невозможно.
Гораздо более многообразными и подвижными были коммуникатив-
ные отношения в среде феодалов. В качестве бытового, семейного языка
здесь также, видимо, использовался диалект. В других коммуникатив-
ных ситуациях между разными (х>циальньши слоями существовали зна-
чительные различия. Духовенство, более образованное, чем светская знать,
ориентировалось на латинизированную европейскую культуру, но владело
2 В основу данного раздела положена схема, предложенная Г. Шиб [Schieb, 1980] под-
вергшаяся, однако, известным модификациям.
74
и разными формами немецкого языка. Литературное творчество отдельных
представителей духовенства на латыни и родном языке предполагало
также ту или иную степень владения поэтическим языком, что усугуб-
ляло многослойность коммуникативных отношений в духовной среде.
В начале XIII в. в городах возникают ордена нищенствующих монахов —
францисканцев и доминиканцев (соотв. minner bruder и bredigere), су-
ществовавших подаянием горожан. Их близкое соприкосновение с пест-
рым городским населением создавало важные для будущего предпосыл-
ки. В ином направлении протекала деятельность рыцарей госпитальеров,
иоханнитов и темплиеров: они играли немалую роль в крестовых похо-
дах и в завоевательной колониальной политике (ср. деятельность Немецко-
го ордена), вступая тем самым в сложные коммуникативные отношения,
возникавшие в длительных путешествиях и на новых территориях.
Не было единым в коммуникативном плане и стабильным в своих
коммуникативных отношениях и светское рыцарство, включавшее, как
уже отмечалось, различные социальные слои — от низших слуг до круп-
ных имперских министериалов. Активность рыцарства в практической
и культурной жизни при дворах порождала многообразные коммуника-
тивные отношения. Международные связи рыцарства, а также крупной
феодальной знати позволяют предположить наличие уже в этот период
каких-то форм устного разговорного койне, видимо, включавшего в
изобилии французские элементы. По всей видимости, поэтический язык
рыцарской литературы в какой-то мере мог опираться на это койне, харак-
тер которого нам точно неизвестен.
В конце периода вся эта пестрая и многообразная картина дополня-
ется сложными коммуникативными отношениями, формирующимися
в среде городского населения, приобретавшего постепенно все большую
социальную значимость. Контакты между отдельными слоями горожан,
связи между городом и прилегающими сельскими областями, общение
между отдельными городами на ярмарках и торгах, институт мелких
бродячих торговцев и разносчиков, бродячие певцы и проповедники -
по всем этим каналам шло "экстерриториальное" общение средневековых
городов, население которых состояло из разных территориальных и соци-
альных слоев. Гетерогенность городского населения создавала предпосыл-
ки для возникновения городских койне, весьма важных для дальнейшего
языкового развития.
Реконструкция языковой ситуации и коммуникативных отношений
эпохи Высокого средневековья — при всей ее условности и гипотетич-
ности — позволяет все же представить себе место литературно-письмен-
ных форм в общей системе форм существования немецкого языка.
В XII—XIII вв. оно еще оставалось довольно скромным, особенно, если
принимать во внимание ту роль, которую играла латынь как общий язык
европейской культуры. К тому же литературно-письменный немецкий
язык, видимо, не мог оказывать большого влияния на устную сферу:
рукописи произведений художественной литературы и сочинений рели-
гиозного характера существовали в данный период в незначительном
числе, а широкие народные массы как, впрочем, и многие представите-
ли иных социальных слоев — вплоть до высшей феодальной знати — бы-
ли неграмотны.
75
Поэтому некоторые исследователи склонны констатировать для дан-
ного периода автономность устных и письменных форм языка [ср., на-
пример, Schieb 1969, 149], возможно, даже несколько преувеличивая
их разрью как специфическую особенность языковой ситуации данного
периода. Ведь если письменный язык и не мог оказывать существенного
влияния на разные виды устных форм общения, то обратное влияние от-
нюдь не исключалось. Правда, реальные процессы взаимодействия пись-
менных и устных разновидностей языка, по существу, не поддаются для
интересующей нас эпохи реконструкции, неизбежно оставаясь на уров-
не гипотез.
Фрагментарность данных, характеризующих языковую ситуацию в
XII—XIII вв., составляет одну из объективных трудностей при изучении
языка данного периода. Однако если даже оставаться в рамках изучения
письменных памятников, то и здесь исследователю приходится сталкивать-
ся с рядом трудностей. Изучение языка памятников средневековья ос-
ложняется анонимностью многих произведений того периода, тем более,
если неизвестен и писец, переписавший рукопись. Существенно затруд-
няет атрибуцию памятника и отсутствие указания на место и время его
создания и переписки. Но даже и тогда, когда автор известен, трудностей
не становится меньше: большинство памятников дошло до нас не в автор-
ских автографах, а в копиях, нередко более поздних [Erben 1962; Guch-
man 1964J. При этом рукописи, бесспорно, подвергались в процессе пере-
писки известной переработке, приспособлению к новым временным или
локальным условиям. В связи с этим встает сложный, неоднократно под-
нимавшийся в немецкой филологии вопрос о соотношении языка автора
произведения и переписчика. Длительная история изучения данного со-
отношения изобилует заблуждениями и неудачами, в связи с чем приходит-
ся вспомнить издательскую деятельность Карла Лахманна. Исходя в своих
изданиях текстов из положения о единстве и нормализованности языка
классической рыцарской поэзии, он стремился произвольно освободить
текст от колебаний, принимая их за "ошибки" переписчиков.
Научные приемы реконструкции языка автора на основе тщательного
сопоставления отдельных вариантов рукописей произведений Генриха
фон Фельдеке получили отражение в работах Т. Фрингса и Г. Шиб [Frings,
Schieb 1949], которые позволяют до известной степени проникнуть в
указанное соотношение. Впрочем, сам факт переработки текста средне-
вековых памятников современниками нельзя рассматривать лишь как
одну досадную случайность. Этот факт наряду с другими характеризует
специфику языковой ситуации в средние века: большая часть текстов
является результатом деятельности целого ряда людей, нередко живших к
тому же в разные периоды, почему сам памятник объединяет гетероген-
ные и гетерохронные языковые спои [Guchmann 1964,28].
При таком положении правильной интерпретации наблюдаемых в тек-
- стах явлений может сппспбстипиять првдепкиов рястпирвиш» круга пКупъ-
дуемых памятников и, особенно, увеличение их жанрового разнообразия.
Лишь подобное сопоставление дает возможность выйти за рамки отдель-
ного текста и объективно оценить те процессы, которые характерны для
языка данного периода.
76
ТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ
Для языковых процессов рассматриваемой эпохи наиболее существен-
ны три основные сферы использования немецкого языка: 1) художествен-
ная литература разных типов; 2) религиозная письменность и особенно
проповедническая и философско-теологическая литература; 3) деловая
канцелярская письменность на немецком языке, распространяющаяся
преимущественно со второй половины ХШ столетия.
Тематический и жанровый состав соответствующих функциональных
сфер не является сколько-нибудь стабильным Для всего периода, что су-
щественно затрудняет обобщенное рассмотрение материала. Поэтому необ-
ходимо его дифференцированное изучение, что в первую очередь отно-
сится к художественной литературе.
Художественная литература
Развитие светской художественной литературы составляет одну из
наиболее ярких особенностей культурно-исторического развития дан-
ного периода. Она представляет собою в хронологическом, сюжетном и
эстетическом плане уже довольно сложную совокупность явлений. Далее
будут последовательно охарактеризованы: а) дорыцарская эпическая
литература (ХП в.); б) рыцарская литература (XII—ХШ вв.); в) началь-
ный этап в развитии сатирической и дидактической литературы (преим.
ХШв.).
1
К середине ХП столетия на фоне разнообразной религиозной литера-
туры, во многом продолжавшей традиции древнего периода, появляются
светские художественные произведения, обозначаемые в истории литера-
туры как "дорыцарская" или "докуртуазная" эпика (vorhöfische Epen).
Это название объединяет ряд монументальных стихотворных произве-
дений, обнаруживающих не только влияние религиозной литературы на
латинском и немецком языках3, но уже и известное воздействие фран-
цузской поэтической традиции. Вместе с тем предполагают, что произве-
дения эти в некоторой степени опирались и на особенности устной древ-
негерманской эпической поэзии [Kuhn, 1959].
К числу памятников подобного рода относятся первая историческая
хроника в стихах ("Kaiserchronik") и "переводные" романы в стихах:
"Песня об Александре" ("Alexanderlied") клирика Лампрехта, создан-
ная в мозельско-франкском районе, и "Песня о Роланде" ("Rolandslied")
регенсбургского клирика Конрада, которому иногда приписывается и
"Хроника императоров", относящаяся к тому же южному ареалу. Все
три поэмы появились, видимо, во временном интервале между 40 и 70-ми
годами ХП столетия, но лишь "Хроника императоров"и "Песня о Роланде"
дошли до наев рукописях того же времени.
* Так, "Хдошка императоров" связана с Шеснев
в сюжете и. манере описания, много также совпадающих рифм и целых кусков
текста [Magefl 1955; Henscbel 195В].
77
В героических эпических произведениях преобладают историко-герои-
ческие сюжеты — это история жизни и подвигов Александра Македонского
("Alexanderlied"), тема освобождения родины от язычников ("Rolands-
lied"), история императоров от древности до современности ("Kaiserchro-
nik") . Однако исторический материал здесь обильно перемешан с материа-
лом преданий и с фантастикой.
Другую группу составляют поэтические произведения, традиционно
связываемые с творчеством бродячих певцов — шпильманов. Сюда отно-
сятся "КорольРотер" ("KönigRother"), "Герцог Эрнст" ("Herzog Ernst"),
"Орендель" ("Orendel") и "Святой Освальд" ("St. Oswald"), а также народ-
ный стихотворный роман о Сальмане и Морольфе ("Salman und Morolf"). -
Наиболее интересным из них является "Король Ротер", оригинальное про-
изведение, созданное в 50-60 годах ХП в. К тому же оно сохранилось в ру-
кописи того же столетия (Гейдельбергская рукопись), тогда как остальные
произведения известны главным образом в более поздних списках XIII—
XV вв. и переработках XV-XVI столетий.
Специфика произведений данной группы коренится прежде всего в
их сюжете, в разработке и использовании сказочных, фантастических
тем, в которые иногда вплетается, впрочем, и исторический (скорее —
псевдоисторический) материал. Общность обнаруживается не только в
тематике этих произведений, но и в их композиции, и в разработке отдель-
ных мотивов.
Сюжетным моментом, объединяющим "Салмана и Морольфа" (SuM),
"Оренделя" (От) и "Короля Ротера" (KR), является мотив путешествий
за невестой, повторяющийся во всех трех произведениях, а также такой
прием, как "удвоение" (Doppelung) действия. В SuM это удвоение свя-
зано с тем, что мотив похищения невесты (жены) повторяется дважды,
и это вызывает повторяемость ряда эпизодов (битвы, путешествия, плен,
празднества и т.п.) и стилистических приемов. В От, где тема сватовства
объединяется с темой крестового похода, именно второй мотив служит
предлогом для удвоения действия.
Произведения "дорыцарской" поры, светские по своей основной на-
правленности, включают и религиозные мотивы, несущие в отдельных
произведениях разные функции.
Так, в немецком варианте "Песни о Роланде**, представляющем со-
бою свободный пересказ французского оригинала, религиозные мотивы
заметно усилены: идеалом автора является христианское рыцарство.
В "Хронике императоров" этической основой является христианское
учение о добродетели, и исторический материал получает соответственно
дидактическую трактовку. Даже в "Ротере", где в основе сюжета —
тема полного приключений путешес1вия за невестой, в описание этого пу-
тешествия вплетаются релютюзные мотивы, особенно усиливающиеся
во второй части поэмы, где Ротер выступает в виде пилигрима. Наиболее
сильны христианские мотивы в "Оренделе" и "Святом Освальде", где
непосредственно разрабатываются мотивы христианских легенд.
Что касается стихотворной формы данных произведений, то для всей
дорыцарской поэзии были характерны неточные рифмы (рифмоиды),
частью опиравшиеся на архаическую традицию. 6.М. Жирмунский приво-
дит для "Короля Ротера" такие рифмы, как here : Iren, hove : gelogen,
78
gebrach : was, но и konigin : sm, wigant : hant [Жирмунский 1975,391-92J.
Случаи неточной рифмовки приводит в своем исследовании рифм Гейдель-
бергской рукописи и Г. Крамер, ср. koninge : degeliche, riesen : weifen,
gode : gewede. Эти неточности могли возникнуть и из-за хронологической
неоднородности произношения рифмующихся слов, так как рифма не-
редко сохраняла архаизмы,, ср.: numere (< numare): zware,adame : beque-
me (< bequame) и т.д. [Kramer 19572,111,114 и далее].
"Святой Освальд", "Орендель" и особенно "Салман и Морольф" дают
образцы наиболее простой по характеру метрики. Стихи соединяются
попарно, рифма очень часто неточна. В последнем произведении есть впро-
чем, известная метрическая особенность, не появлявшаяся ранее, а имен-
но — пятистрочная строфа.
Уже Г.Эрисман в своей "Истории немецкой литературы", выходив-
шей начиная с 1918 г., обратил внимание на различные стилистические
характеристики отдельных произведений литературы "дорыцарской"
поры [Ehrismann 1954], Однако наметившееся при этом противопоставле-
ние двух групп — более высокой по стилистическому уровню героической
эпической поэзии ("Kaiserchronik", "Rolandslied", "Alexanderlied") и
так называемых "шпильманских" произведений — не раз подвергалось
критике.
Сомнение вызывала прежде всего сама историческая фигура шпильмана
[Naumann 1924; Burdach 1925, 273, 285; de Boor 1949, 238; Eggers 1965,
98]. Так, де Бор рассматривает шпильмана не столько как автора, сколько
как певца и исполнителя поэтических произведений, общим источником
для которых в XII в. был уже, видимо, письменный текст (ср. в начале
"Короля Ротера" известное место — iz ne haben die boche gelogen (16)
"книги ведь не лгали'). Подобная ссылка на книжный источник, как бы
подтверждавший "подлинность" событий, становится в данный период
традиционной, ср. также в "Песне о Роланде": als uns daz buoch l£ret 'как
о том свидетельствует книга', или: daz buoch hiz er Vortagen, geschriben
ze den Karlingen 'он приказал принести книгу, написанную при Каролингах'
[Eggers 1965,79].
Если героические эпические произведения создавались в духовной
среде для потребностей новых социальных слоев рыцарства, то более
сложным является определение сословной принадлежности авторов ано-
нимных "шпильманских" произведений.
Возможно автор "Солмана и Морольфа", действительно, принадлежал
к категории народных певцов. Однако это уже более спорно по отношению
к таким произведениям, как "Герцог Эрнст" или "Король Ротер". По мне-
нию Г. Эггерса, их следует отнести к массовой развлекательной литерату-
ре, предназначавшейся для уже сформировавшегося к этому времени и
социально дифференцированного рыцарства.
Оценка стилистического и социального статуса отдельных произведений
докуртуазной поры и их группировка по стилистическим признакам неред-
ко колеблется в зависимости от того, на какие именно признаки опирается
исследователь — на характеристику сюжета и на разработку отдельных
мотивов, или на анализ художественных средств и языка произведений,
все еще недостаточно с этой точки зрения изученных. Расхождение различ-
ных характеристик было отмечено в исследовании "Короля Ротера", пред-
79
принятом Ю.Вигандом еще в начале века [Wiegand 1904]. Детальное рас-
смотрение сюжета, отдельных мотивов и ряда художественных приемов,
используемых в данном произведении, а также наблюдения над языком
памятника и сравнение его с другими современными ему и более поздними
произведениями привело автора к ряду интересных соображений. Ю. Ви-
ганд устанавливает близость "Короля Ротера" к таким эпическим произве-
дениям дорыцарской поры, как "Песня об Александре", "Хроника импера-
торов" и "Песня о Роланде". Здесь много текстовых совпадений, общих
формул и традиционных лексем, повторяющихся постоянных эпитетов
и т.д. В целом язык "Ротера" и используемые художественные средства
характерны для всей литературы докуртуазной поры. В синтаксисе этих
памятников паратаксис продуктивен, часты самостоятельные простые
предложения вводимые do 'тогда' [аналогичные наблюдения на более ран-
нем материале ср.: de Воог 1926 и 1927].
Ю. Виганд приходит к выводу, что художественные средства, исполь-
зуемые в "Ротере", нередко совпадают с теми, которые были характерны
дня героической эпической поэзии, тоща как сюжет и отдельные мотивы
объединяют Ротера с произведениями, традиционно относимыми к "шпиль-
манской" литературе. Последнее было в известной мере подтверждено
и материалами позднейшего исследования И. Бенат [Benath 1962 и 1963],
хотя исследовательница не обнаружила устойчивых сюжетных и компо-
зиционных моментов, четко выделяющихся для поэм данного типа.
Вместе с тем для всей дорыцарской литературы XII в., несмотря на
имеющиеся сюжетные, композиционные и стилистические различия между
отдельными произведениями, характерно нечто общее. Следует особо
выделить ярко выраженное типизирующее значение данного искусства.
Типические герои выступают и действуют здесь в типовых ситуациях.
Характерно, что и в языке этих произведений, и в наборе художественных
приемов отсутствуют средства индивидуализации, а к наиболее распростра-
ненным средствам типизации относятся формулы, опирающиеся на осо-
бенности эпического стиля, но в отдельных случаях "переключенные" в
более низкий стилистический уровень.
По содержанию и по функции намечается два вида формул: одни содер-
жат замечания автора, обращенные к публике, ссылки на источник и т.п.
Другие — используются при описаниях отдельных событий и характеристи-
ках действующих лиц, и объем их колеблется — от минимальных опреде-
лительных групп до формульного представления целых, наиболее часто
встречающихся ситуаций (прием послов, описание битв, одежды и т.д.).
Ср., например, описание битвы в "Песне об Александре", построенное на
многократном повторении одного и того же зачина и сходной структуры
предложения: Da was das velt vil wit. I da hüb sich der bitteriste stnt,J
da ich noch ie abe hörte gesagen. I d& ne gesach man nechein zagen (AI 919—
923). Там широко раскинулось поле. Там разгорелась жесточайшая битва,
о которой я когда-либо слышал. Там никто не трусил'.
Другим типом формул являются парные сочетания, использующиеся
во всех текстах. Ю. Виганд приводит для "Короля Ротера": br&Iere unde
neven 'братья и племянники', vatir unde motir 'отец и мать', arme unde
nche 'бедные и богатые', die alten und die jungen 'старые и молодые', rften
oder geh 'ехать (верхом) или идти'.
80
Последнее сочетание-представлено также в Rl, Kehr, НЕ, да и все при-
веденные пары не оригинальны, а традиционны.
Традиционность описаний и характеристик ведет и к появлению постоян-
ных эпитетов. Например, для слов degene, recken, helede, обозначающих
воинов, широко используются такие устойчивые определения, как guot
'славный9, snel 'храбрый, быстрый', balt 'сильный, смелый', tiure 'прекрас-
ный, благородный', падете 'знаменитый'. Они образуют вместе с определи-
тельным словом устойчивые словосочетания, встречающиеся в самых
различных произведениях. Так, guot helet зарегистрировано в KR, Rl, Kehr,
SuM, Ог и других произведениях, а balt degen и balt helt объединяет тексты
KR, Kehr, Rl, HE, SuM [Wiegand 1904, 17]. Все эти атрибутивные слово-
сочетания, видимо, опираются на более древнюю эпическую традицию.
Широко представлена в формулах постпозиция прилагательных, встре-
чающаяся наряду с препозицией во всех памятниках, ср.:
AI — ritter junc (920), но: der wunderliche Alexander, der bitterste stnt
(920>;
KR — ein guot khecht (24), ein wolgeboren wiph (38), der aller heriste
man (10), но и: lieber herre min (486).
Ср. в рифмах: riter junc : verwunt (AI), lewin vreissam : han (KR), helit
gut: mut; deginher: mer; bestut: helit gdt (HE).
Общие языковые характеристики всей дорыцарской литературы отнюдь
не исключают специфических стилистических особенностей отдельных
памятников. Так, "Песня о Роланде" отличается ярко выраженными приз-
наками эпического стиля: языку ее свойственен пафос, формульность, он
принадлежит в своих основных элементах к высокому стилистическому
слою. Некоторые встречающиеся здесь описания, впрочем, не вполне стан-
дартны, таково, например, описание Карла: sfh antlitze was wunnesam
'его лик был прекрасен' R1 683, ja lochten sfh ougin sam der morgensterne
'его глаза сияли как утренние звезды' R168, nieman ne dorfte vragen 'никто
не смел (его) спрашивать' R1 689, ne mochtin si in nicht gescouwin 'они
(послы) не могли на него смотреть' R1 694, die Iüchte in den widerslac sam
der sunne umb mitten tac 'свет (его) их ослеплял подобно солнцу в пол-
день' R1 695. Ср. здесь же более традиционные сочетания: er was recht
lichtere 'он был справедливым судьей' R1702, ein guot knecht 'прекрасный
воин' Rl 706, milter herre 'щедрый господин' Rl 707.
Низшую стилистическую ступень занимает "Салман и Марольф" [Schieb
1980, 384]. Язык повествования довольно живой, а главный его герой
Марольф, рыцарь и шутник, соответствует по своим характеристикам
народному вкусу — это фигура в духе Уленшпигеля. Вместе с тем в компо-
зиции и языке произведения встречаются многочисленные повторения,
много устойчивых сочетаний. Все его герои являются носителями типовых,
повторяющихся черт. Марольф характеризуется как der liebe bruoder
Sahnans, sein getruwer dienstman, ritter edele, lobesam, der helt guot, der
userweite degen, der kuone dugenthafte man, — т.е. 'любимый брат Салма-
на; его верный вассал; благородный, славный рыцарь, воин, герой, храб-
рый добродетельный муж* и т.д. Его брат Салман характеризуется как
W&e, edele, iTehe 'мудрый, благородный, богатый', edler kunig lobefich,
keiser lobesam 'король благородный и славный' и т.д. Салма получает
двойственные характеристики, она: daz ungetruwe Wip, das mortgrimme
6. Зак. 336 си
wtp 'неверная, жестокая женщина'. Но по традиции она здесь же характе-
ризуется и как: edele kunigin, schone frouwe, daz wunderschöne wip 'благо-
родная королева, прекрасная женщина, женщина дивной красоты' [Ehris-
mann 1954,320-21].
Промежуточное положение между этими двумя крайними стилисти-
ческими позициями занимают такие произведения, как "Король Ротер"
и "Герцог Эрнст": признаки эпического стиля здесь как бы несколько
смягчены, меньше число эпических формул, но ярко выражены приклю-
ченческие и сказочные мотивы, не свойственные в такой мере монумен-
тальной героической эпической поэзии.
2
С начала 70-х годов XII столетия начинается развитие классической ры-
царской литературы, проходившее в формальном плане в двух направ-
лениях.
Монументальная эпическая форма нашла свое выражение в стихотвор-
ном романе, опиравшемся преимущественно на французские образцы.
Любовная рыцарская лирика (minnesang) объединила в своих истоках
различные влияния, в частности, видимо, и испано-арабское, но наиболее
непосредственное воздействие на немецких миннезингеров оказали прован-
сальские поэты.
Классическая придворная рыцарская поэзия, теснейшим образом связан-
ная с рыцарством, с его этикой и культурой была, следовательно, по своим
идеологическим основаниям в известной мере сословно ориентирована.
Уже в дорыцарской литературе в качестве персонажа и героя появляется
рыцарь. Постепенно и само создание художественных произведений пере-
ходит в руки рыцарства: все крупные поэты данной поры за исключением
Готфрида Страсбургского, представителя городского патрициата, принадле-
жали к рыцарскому сословию.
Для куртуазной литературы характерен отход от типизирующего, обоб-
щенного искусства дорыцарской поры. Это первые поэтические произведе-
ния на немецком языке, в которых нашли свое отражение индивидуальные
ощущения и чувства, обращенные к другому человеку. Любовь (minne)
рассматривалась в рыцарской поэзии как путь к самосовершенствованию
личности, что особенно ярко проявилось в любовной рыцарской лирике
[Eggers 1965,116; de Воог 1955,217 и след.].
С появлением рыцарской поэзии собственно религиозные поэтические
произведения отходят на задний план, однако религиозные мотивы отнюдь
не исчезают, а непосредственно вплетаются в светскую поэзию. Рыцарь
остается человеком средневековья, и проблема взаимоотношений мира
и бога, светской жизни и религии остается существенной для всей культу-
—ры данной поры. „_ _ _
Религиозные и светские мотивы объединяются и в творчестве отдельных
представителей рыцарской литературы. Генрих фон Фельдеке вообще
начинает как религиозный поэт ("St. Servatius"), а Гартман фон Ауэ
создает "Грегориуса" и "Бедного Генриха'?, обрабатывая мотивы христи-
анских легенд. Религиозно-Этические моменты играют большую роль для
творчества Вольфрама фон Эшенбах ("Парцифаль") и для Готфрида Страс-
82
бургского, окрашивающего любовное чувство в религиозно-мистические
тона [Schwietering 1943, Schwietering 1946].
С развитием куртуазной поэзии связаны, однако, не только важные
идеологические сдвиги, не только существенные изменения в художест-
венном отображении действительности, но и значительное совершенство-
вание поэтической формы. При этом следует отметить два важнейших мо-
мента: введение точной рифмы и правильного чередования ударных и без-
ударных слогов. Существенно также утверждение строфы как особого
композиционного поэтического приема, характерного прежде всего для
куртуазного миннезанга.
Точная рифма использовалась в классической рыцарской поэзии в
соответствии с провансальской и французской традицией. Лишь в более
архаических пластах миннезанга, например у Кюренберга и Д. фон Аиста,
встречаются еще неточные, приблизительные рифмы, например: hemede :
edele или ouch : ougen [Жирмунский 1975, 392]. Первым крупным пред-
ставителем рыцарской литературы является Генрих фон Фельдеке, уроже-
нец Лимбурга. Выступив как реформатор поэтической формы, он ввел
упорядоченный стих и чистую рифму. По этому поводу Р. фон Эмс в
прологе к своему "Александру" пишет: "Мудрый фон Фельдеке первый
начал употреблять правильные рифмы".
Со времени * Фельдеке вводится четырехстопный стих, строющийся,
правда, еще не вполне последовательно, на чередовании ударных и без-
ударных слогов. И в "Святом Серватиусе" и, особенно, в "Энеиде" он из-
бегал употребления тех рифм, которые были бы нарушены в верхненемец-
кой области. Ср* в ранних произведениях tit 'время': wit 'белый'; liden :
tiden 'страдать' и 'времена'. Позднее он использовал только tit : wit -
'время' и 'далеко'; liden : sniden — 'страдать' и 'резать'.
"Энеида", главное произведение Фельдеке, сохранилась в рукописи,
созданной при жизни Фельдеке в Тюрингии, причем число верхненемецких
особенностей заметно увеличивается к концу рукописи (gesaget, maget,
dir : wir). Неясно, правда, имеем ли мы при этом дело с переработкой
авторского автографа, или с изменениями, внесенными самим поэтом,
некоторое время жившим в Тюрингии. О популярности данного произведе-
ния свидетельствуют 12 сохранившихся рукописных списков.
Для "Энеиды" характерен пространный эпический стиль, в тексте соче-
таются различные лексические компоненты: Диалектизмы, архаизмы,
неологизмы, связанные с рыцарской культурой [Frings, Schieb 1949,
14—15]. Фельдеке обнаруживает тяготение к формулам, представленным
не только в романе« но и в легенде о Святом Серватиусе, ср.: ein gut man
ende gerecht; he Was willech te allen gude [Schieb 1955, 162]. В обоих
произведениях широко используется, как это было отмечено Г. Шиб,
правовые термины й выражения, органически вплетающиеся в Поэтиче-
ское повествование. Это язык образованного человека того времени, ср.:
bit reden 'по праву и справедливости', hovestat 'королевский двор', urlof
geben 'отпускай»' и др. [Schieb 1955,165,179].
В формульности языка Фельдеке сказывается и влшпше поэтической
традиций XII столетия [Frings 195б„ 151], а текстовые совпадения позво-
ляют предположить, что он хорошо Зйал литературу того времени — "Песнь
о епискойе Анно", "Песнь о Ролавде", "Песнь об Александре". Значитель-
83
ным было влияние на творчество Фельдеке и французско-провансальской
культуры, что, в частности, проявлялось в использовании им, правда еще
весьма умеренном, французских заимствований.
Процессы, определившие территориальные характеристики языка Фель-
деке, очень сложны и не полностью поддаются расшифровке. Здесь обнару-
живается несколько слоев. Во-первых, это родной Фельдеке лимбургский
диалект, лежащий на границе между Фландрией и Брабантом и кёльнской
областью, воздействие языка которой он также испытывал [Frings, Schieb
1949, 5,7]. Во-вторых, в языке Фельдеке сказывается сильное влияние
рейнской литературной традиции. Диалектное воздействие наиболее отчет-
ливо в песнях Фельдеке, рассчитанных на местную аудиторию, тогда как
верхненемецкая ориентация несколько более определенно сказывается в
"Святом Серватиусе" и, особенно, в романе об Энее, где она еще осложня-
ется смешанным характером самой рукописи. Ряд явлений, связанных
со вторым передвижением согласных, указывает в рифмах на такую ориен-
тацию, местами выходящую даже за рамки того, что было характерно для
рейнского варианта литературного языка [Frings, Schieb 1949, 11]. Под
влиянием верхненемецкого Фельдеке, вообще тяготеющий к нейтральным
рифмам, избегает здесь таких местных форм, как seggen и hebben.
С творчеством Фельдеке связан ряд проблем, касающихся его роли в
языковом развитии Германии и Нидерландов. В XIII в., т.е. уже после
Фельдеке, северо-западные районы постепенно обособляются, и их даль-
нейшее развитие связано с Нидерландами и Фландрией. Это обстоятель-
ство привело в конце XIX столетия к полемике, касающейся отношения
языка Фельдеке к немецкому и нидерландскому, у истоков которых он
одинаково стоит. Впрочем, Вольфрам фон Эшенбах причисляет и фламанд-
цев, и брабантцев к жителям Германии, и это не просто оговорка, а отраже-
ние языковой и политической ситуации того времени: "da was von tiuschem
lande I Flaeminge und Brabande und der herzöge von Lorein", 'Из Германии
были там фламандцы и брабантцы и герцог Лотарингский'. И последнее
слово — за другим младшим современником Фельдеке, Готфридом Страс-
бургским, следующим образом оценивавшем его роль в развитии немецко-
го языка: "Er impfete das erste ris in tiutscher zungen" 'он привил первый
росток немецкого языка'.
После Фельдеке куртуазный роман развивается преимущественно на
юге — в алеманско-восточнофранкском районе, что связано с именем трех
выдающихся поэтов Высокого средневековья.
Гартман фон Ауэ, швабский рыцарь, создает по мотивам цикла легенд
о короле Артуре два романа — "Эрек" и "Ивейн", представляющих собою
свободное подражание французскому поэту Кретьену де Труа. В Эреке уже
воплощен идеальный образ рыцаря, обладаннцего всеми рыцарскими добро-
детелями, такими, как zuht 'воспитанность', mute 'щедрость', diemuot
'скромность', erbarmde 'сострадание' и т д.
Ясный ^ точный язык Гартмана фон Ауэ считается воплощением рыцар-
ского цдеала меры (maze), что отметало» еще это современниками. Так,
Готфрид Страсбургский, восхваляя язык Гартмана, пишет: wi lfiter und
wi reine I sin kristallmiu wortelin I bediu sint unt müezen sin! Tr 4626
'как чисты и как прозрачны его кристальные слова, так есть и так должно
остаться навсегда".
84
Наиболее оригинальным поэтом является в эту эпоху Вольфрам фон Эшен-
бах, язык и стиль которого отличался перегруженностью, а иногда и не-
ясностью, что не мешало ему пользоваться большой и не вполне объясни-
мой популярностью у современников [Roethe 1902,13].
Если Гартман — министериал, получивший образование, то Вольфрам,
хотя он тоже рыцарь (Schildes ambet ist min art Pz 115, 11), видимо, не
столь уж образованный, гениальный самоучка, не стыдящийся даже при-
знаться в "неграмотности" (ich en kan decheinen buochstap Pz 115, 27).
Впрочем, по всей вероятности, это лишь одна из мистификаций Вольфрама,
к которым он вообще склонен. Проведенное в свое время Б. Карг-Гастер-
штед (1925) исследование некоторых мелодических особенностей его
стиха и анализ структуры текста "Парцифаля" показали, что Вольфрам
должен был владеть письменной формой языка [Klein, 1961].
"Парцифаль" — главное произведение Вольфрама фон Эшенбах. Несмот-
ря на вычурность стиля, местами темноту языка, сложность стихотвор-
ной техники этот роман пользовался огромной популярностью, о чем
свидетельствует необычно большое число сохранившихся рукописей —
их 75. Герой романа проходит долгий путь от мальчика до рыцаря и далее
до короля священного Грааля, почему роман этот иногда считают первым
"романом развития" {Бахтин 1975]. Оценивая масштабы произведения
Вольфрама, В.М. Жирмунский пишет: "Парцифаль, несомненно, является
самой грандиозной попыткой поэтического синтеза (рыцарской) культуры
в ее светских и духовных элементах, в рамках куртуазного эпоса" [Алек-
сеев и др.1947,186].
Язык Вольфрама представляет собой гениальный сплав достаточно
разнообразных элементов. Наряду с традиционным вокабуляром рыцар-
ской литературы он включает заимствованные элементы, набор повторяю-
щихся формул, часть которых опирается на традиции дорыцарской эпиче-
ской поэзии, элементы разговорной речи и архаизмы и наряду с этим —
индивидуальные образования и неологизмы. Ему свойственны смелость
в использовании художественных средств, а также известная темнота
и затрудненность стиля. Некоторая "перегруженность" стиля Вольфрама
вызывала упреки современников, особенно резко выступал против него
Готфрид Страсбургский, назвавший Вольфрама "сочинителем необыкно-
венных историй". А. Бах [Бах 1956,137 и след.] считает, что от Вольфра-
ма идет своеобразная "барочная" линия, ведущая к Конраду Вюрцбург-
скому и затем к поэтическому языку XIV столетия, лишенному, однако,
эстетических и идейных качеств Вольфрама.
Последним крупным представителем классической рыцарской литерату-
ры является Готфрид Страсбургский, городской патриций из Эльзаса,
обработавший сюжет романа о Тристане и Изольде. При всех своих выдаю-
щихся художественных достоинствах 'Тристан" знаменует уже отход от
классических канонов рыцарской литературы и начинающийся распад
Утверждение самоценности любви, мистическая окраска чувства, глубо-
кая трагичность его столкновения с существующим миропорядком (новый
человек в старом мире) — все это выводит Готфрида далеко за рамки
рыцарского служения даме и классической рыцарской этики. Поразитель-
но его исключительное языковое мастерство и особая тщательность в под-
85
боре и использовании языковых средств [de Boor 1955, 143 и след.]. Не-
редко он прибегает к приемам латинской риторики — антитезам, игре
слов, своеобразным поэтическим метафорам, ср. в "Тристане": ir süeze
sär, ir liebez leit... ir liebez leben, ir leiden tdt, ir lieben tSt, ir . leides leben
Tr 60 и след. Ср. здесь же о Вольфраме трудно переводимое противопостав-
ление, основанное на игре cnoervindaere wilder maxe, der mxre wildeocre.
К рыцарским романам Высокого средневековья примыкает монумен-
тальное эпическое произведение — "Песня о Нибелунгах", которое возник-
ло около 1200 гг. в Австрии как итог длительного развития. Видимо, от-
дельные эпические песни существовали в устной традиции уже задолго до
этого и были позднее объединены в единое произведение неизвестным ав-
тором, превратившись в обширный "книжный" эпос [de Boor 1955,151].
Из исторических источников известно, что в 1131 п. знаменитую песню
о предательстве Кримгильдой своих братьев исполнял перед датским кня-
зем опытный певец (arte cantor) из Саксонии. В хроникальной литературе
встречается пренебрежительное обозначение любителей героических песен
(rustici — "деревенщины"), которые порицались за это свое пристрастие
[de Boor 1955,152].
"Песня о Нибелунгах" обладает рядом особенностей, заметно отличаю-
щих ее от остальных произведений рыцарской литературы. В чисто сюжет-
ном плане в цикле романов о рыцарях круглого стола преобладают фанта-
стические, сказочные мотивы, а в 'Нибелунгах" — представлены и истори-
ческие, и географические реалии. Христианская этика "Нибелунгов" доста-
точно поверхностна, более мощным является здесь пласт дохристианских
представлений, воплощенный в образах и действиях Брунгильды, Хагена,
Кримгильды. Судьба, честь, месть — таков комплекс этических пред-
ставлений "Песни", где отсутствует дуализм (добро — зло), характерный
для мироощущения куртуазной эпохи [Гуревич 1978].
Противоречит всей стилистике рыцарской литературы и трагизм произве-
дения, особенно усиливающийся к его концу. Рыцарская литература в
своих классических образцах стремилась к благополучному разрешению
конфликта, если не считать "Тристана", в котором этот принцип также
нарушен. В "Песне" наблюдается переплетение разных мотивов (тема
гибели Зигфрида и тема гибели бургундов при дворе Этцеля), скреплен-
ных сквозным, проходящим через все повествование образом Кримгиль-
ды. Именно это обстоятельство позволяет считать "Песню о Нибелунгах"
В ее окончательном виде произведением одного поэта, прибегнувшего к
использованию и переработке старого материала и достигшего значитель-
ного эстетического эффекта. X. де Бор пишет по этому поводу: "В при-
чудливом смешении древнего и современного заключается своеобразное
очарование этого произведения" [de Boor 1955,164]. Отсутствие цельности
в характеристике* отдельных персонажей (Зигфрид выступает то как при-
дворный рыцарь, то как древний богатырь), различные этические слои
произведения [Neumann 1929] — все это свидетельствует об объединении
здесь старого и нового.
Сюжет "Песни" включает элементы развернутых эпических "формул" —
таковы мотивы похищения невесты, убийства дракона, тщетное предостере-
жение, месть и тл. Большую роль играют — особенно ö конце строфы —
86
и словесные формулы, также связанные с эпическим стилем. В качестве
новой черты следует отметить высокое мастерство диалога, сказывающее-
ся и в его содержании, и в его форме. Известные модификации коснулись
и поэтической формы "Нибелунгов". Так называемая кюренбергова стро-
фа, ориентированная на устное исполнение, превращается здесь в более
спокойнуюз плавную нибелунгову строфу, удобную для прочтения. Прин-
ципы рифмовки в "Песне о Нибелунгах" новые, рифма в основном точ-
ная, хотя встречаются — как след архаической традиции — и приблизитель-
ная рифмовка, ср.: Hagene : degene [Жирмунский 1975, 392]. В последнее
время все чаще высказывается убеждение в том, что "Песнь о Нибелунгах"
ближе к рыцарской поэзии, чем это считали до сих пор [Dürrenmatt
1945; Rupp 1960]. Хронологически "Нибелунги" были созданы одновре-
менно с "Ивейном" Г. фон Ауэ. Их анонимный автор знал "Парцифаля",
что сказывается в некоторых текстовых заимствованиях, в свою очередь
и В. фон Эшенбах был, видимо, знаком с "Песней" [de Boor 1955, 157].
Произведение это было очень популярным с XIII по XVI вв., что отражено,
в частности, в значительном числе сохранившихся рукописей (их более 30).
Давно уже были замечены глубокие отличия языка, особенно словаря
"Песни о Нибелунгах" от романов Артурова цикла — обычно он восприни-
мается как архаичный, некуртуазный, здесь многочисленны традиционные
элементы, объединяющиеся, правда, с более новым словарем рыцарской
литературы [Schröder 1954,73].
Соединение нового и старого проявляется в семантической структуре
отдельных лексем, а также в широком использовании в синонимических
рядах наряду с более новым словом архаизмов. Так, в recke, degen, helt
объединяются старое и новое значения 'богатырь' и 'рыцарь9, а в синони-
мической паре ger/sper представлены древнее 'копье для метания' и 'копье
рыцаря'.
Второе направление в развитии рыцарской поэзии связано с малыми
поэтическими формами: любовной песней и дидактической и политической
поэзией, выступавшей в форме "шпрухов" (Spruchdichtung). В любовной
рыцарской лирике с наибольшей силой проявилась новая тенденция к
изображению в художественной литературе духовного и эмоционального
мира человека. К наиболее известным представителям миннезанга, расцвет
которого приходится на 1170—1230 гг., относятся Г. фон Фельдеке, Фр. фон
Хаузен, Г. фон Морунген, Кюренберг, Д. фон Аист, Р. фон Хагенау и, нако-
нец, самый выдающийся миннезингер немецкого средневековья — Вальтер
фон дер Фогельвейде.
Сохранились крупные собрания лирики миннезингеров, представленные
в Малой Гейдельбергской рукописи XIII в., в Большой Гейдельбергской
рукописи конца того же столетия и в Вюрцбургской рукописи середины
XIV в. Все они были изготовлены по заказу меценатов из среды крупного
духовенства или патрициата.
В стилистическом отношении миннезанг не представляет собою единого
явления. Здесь намечается архаическая линия, близкая по своим особен-
ностям к традициям народной песни (Д. фон Аист, Кюренберг, отчасти
Фельдеке) и линия куртуазной поэзии высокого стиля (Фридрих фон Хау-
зен, Рейнмар Старый).
Для поэзии архаического типа характерна однострофная форма, важно
87
лишь ударение, тогда как количество неударных слогов могло быть в стро-
ке различным (так называемый акцентный стих, связанный с традициями
народной песни), рифма часто неточна.
Напротив, для куртуазного направления, опиравшегося на традиции
провансальской лирики, характерна развернутая многострофная форма
стиха, постоянное число ударных и неударных слогов и точная рифма.
Это направление зарождается на Рейне, тогда как более архаическое -
представлено главным образом на юго-востоке.
Высокая стилистическая окраска куртуазной рыцарской лирики может
быть продемонстрирована на примере одной из песен Генриха фон Морун-
ген. Особенно выразителен набор представленных в небольшом поэтиче-
ском тексте лексем: wunne, wunnecnch 'блаженство', блаженный, счастли-
вый', fröide 'радость, счастье', sxlic 'удачливый в любви', die söle min, das
herze — 'душа моя и сердце', diu süeze stunde 'сладкий час', der werde tag
'счастливый день' и т.п. Столь же возвышен и весь обратный строй произве-
дения: luft und erde, walt und ouwe suln die zit der fröide mm enpfan — 'не-
бо и земля, лес и луг должны отразить мое счастье', mir ist kommen... ein
wunnecrächer tröst, des min muot sol höe stan 'блаженная надежда пришла
ко мне, так что моя душа возвысится'.
Ренмар фон Хагенау (Старый) и Вальтер фон дер Фогельвейде — поэты.
из юго-восточного района. Рейнмар, выдающийся поэт, живший при вен-
ском дворе, прекрасно владел поэтической формой, поэзия его также
принадлежит к высокому слою, ей свойственна сублимированность и не-
которая абстрактность чувств.
Усложненность стиха, тщательность и изысканность стиля характеризуют
ранний этап творчества В. фон дер Фогельвейде, связанный с влиянием
Рейнмара. В поздних стихах Вальтера напротив используется простая четы-
рехстопная строфа, а в структуре предложения весьма распространен
паратаксис. Искренность и сила чувства, разрушение канонов рыцарской
лирики и обогащение ее традициями народной поэзии — таковы основные
черты его поэтического творчества, составляющего вершину и вместе с
тем уже и преодоление миннезанга. Особую ветвь в поэтическом творчест-
ве Вальтера составляют политические "шпрухи". В формальном плане он
испытал здесь влияние латинской поэзии и, в частности, творчества ва-
гантов.
Языковое мастерство Вальтера фон дер Фогельвейде проявляется в зна-
чительном объеме используемого им словаря, тогда как до него этот объем
был невелик, и очень многие элементы вокабуляра повторялись. Обогаще-
ние словаря особенно характерно для "шпрухов" Вальтера, где сама тема-
тика была иной, чем в песнях. Набор ведущих понятий рыцарской поэзии,
таких как ritter, frouwe, h&her muot и hohe minne 'рыцарь, госпожа, высо-
кий душевный настрой, возвышенная, высокая любовь' у Вальтера начи-
нает разрушаться, он противопоставляет им niedere minne 'простую лю-
бовь' и нередко вообще заменяет minne, несущее в рыцарской поэзии
оттенок условности, на lieb, herzeliep, а frouwe на wip.
Образцом сниженного стиля в рамках рыцарской любовной лирики
являются песни Нейдхарта фон Рейенталь, миннезингера поздней поры
(1180—1237 гг.), обратившегося в рамках куртуазной поэзии к "дере-
венской" тематике. В его произведениях пародируется "высокий" мин-
88
незанг и одновременно с позиций рыцарства высмеивается "грубость"
крестьянства, что приводит к смещению куртуазных и народных мотивов
и находит соответствующее отражение в языке.
Эпитеты, относящиеся к деревенской девушке (maget), в основном
почерпнуты из миннезанга, ср.: wolgetan 'прекрасная', stolz 'гордая', min-
neclich 'милая' и т.д. Вместе с тем здесь фигурируют dorfwib 'деревенская
женщина' и geteling 'деревенский парень',- redewanzen 'деревенские танцы'
и другие персонажи и реалии крестьянского обихода; встречаются разго-
ворные выражения типа loz us! 'послушай-ка!', tuot iuch dan 'ступайте-
ка туда!'.
Состав словаря Нейдхарта вообще не отличается единством: здесь до-
вольно много архаизмов, ср.: ger 'копье для метания', urliuge, wie — архаи-
ческие обозначения войны, битвы, magedin 'девушка', vriedel 'возлюблен-
ная', balt 'смелый', ecke 'лезвие' и т.д. [Wießner, Burger 1974]. Встречают-
ся и отдельные иноязычные элементы: cumpänie 'сопровождение', соШег
'колье', tschoye 'радость', creatiure и т.п. Многие рыцарские ценности
(zuht 'воспитанность', §ге 'честь', hßchgemüete 'высокий душевный на-
строй') в "деревенской" поэзии Нейдхарта постепенно вытесняются или
преобразуются.
Хронологические рамки, заключающие, по существу, все развитие клас-
сической рыцарской поэзии, а, следовательно, и выработавшегося здесь
поэтического языка относительно узки (1170—1250). Во второй половине
XIII столетия ее традиции постепенно затухают, что связано с процессом
распада рыцарской культуры. Правда, ее воздействие ощущалось еще в
течение всего XIII в. Продолжает эту традицию развлекательная литература,
где, однако, рыцарские этические понятия постепенно выхолащиваются,
а слова, их обозначающие, приобретают иное значение.
Меняется и тематика литературных произведений, и их герои: все чаще
персонажами произведений оказываются купцы. Таков "Славный Герхарт"
("Der gute Gerhart", около 1220 г.) Рудольфа фон Эмс или "История о
двух купцах" ("Von zwein koufman", около 1300 г*). Хотя стихотворная
форма у Р. фон Эмс сохраняется, текст сильно "прозаизируется", отчасти
напоминая более поздние описания путешествий в экзотические земли.
Появляется множество бытовых деталей, в языке усиливается роль локаль-
но окрашенных элементов, а также слов, обозначающих реалии, связанные
с торговлей (ср. здесь: kouf 'покупка', koufschatz 'товары', gewinn 'при-
быль?, market 'рынок' и т.п.). Во всем же остальном язык "Славного Гер-
харта" следует традициям рыцарской поэзии.
3
В XIII в. появляются отдельные произведейия так называемой "город-
ской" литературы, составляющей хронологически наиболее позднее звено
в развитии художественной литературы данного периода. В рамках форми-
рующейся городской культуры складывается новый эстетический канон,
опирающийся, с одной стороны, на традиции народной сатирической литера-
туры, а с другой — на рационализм и дидатические устремления домини-
канской философии.
Традиционная спаянность художественной литературы, основанной на
89
несущем эстетическую функцию рассказе, с поэтической формой, которая
характерна для всей художественной литературы дорыцарской и рыцар-
ской поры, сохраняется и в ранней литературе городского сословия. Одна-
ко здесь постепенно складываются некоторые новые жанры — короткая
стихотворная новелла бытового содержания, сатирическая и дидакти-
ческая поэзия. Формирование этих жанров обычно связывается с именем
Штрикера [Agricola 1955; Ragotzky 1980].
Вместе с тем литература городского сословия возникает не на пустом
месте, но в известной мере продолжает линию более ранней сатирической
поэзии. Еще в конце ХП в. возникает один из первых вариантов немецкого
"звериного" эпоса - "Лис Рейнхарт" ("Fuchs Reinhart"), приписываемый
эльзасцу Генриху Глихезере.
Это стихотворное произведение, созданное в своем первоначальном ва-
рианте около 1185 г. и сохранившееся в анонимной переработке в двух
рукописях XIV в., а — в отрывке — в рукописи XIII столетия. Отработан-
ная композиция эпоса позволяет предположить два литературных источ-
ника — влияние французской поэтической традиции ("Roman de Renart")
и немецкого народного рассказа [Spiewock 1977, 121]. Онако за сообще-
ством зверей стоит человеческое общество конкретной исторической
эпохи. Для эпоса характерна острая критическая направленность, осужде-
ние — в образах лисы, волка и льва — феодального произвола. Это сатира
на империю, рыцарство, духовенство. Социальное положение низшей знати,
ее общественная активность, ее политическая изворотливость и бесприн-
ципность нашли свое критическое отражение в центральном образе
лиса Рейнхарта. Опираясь на четкую идеологическую структуру эпоса,
В. Спивок высказывает предположение о возможной связи автора "Лиса
Рейнхарта" с оппозицией верхнерейнских городов [Spiewock 1977,126].
И рыцарская культура, и образ жизни рыцарства подвергаются здесь
осуждению и осмеянию (ср. пародийное изображение обычаев придворной
жизни, культа дамы и тл.). До известной степени используется и вместе
с тем пародируется и язык рыцарской литературы. Ее влияние сказывает-
ся в использовании целого ряда лексем, встречающихся и в рыцарской
поэзии. Ср., например: arbeit 'усилие, беда' (Jsegrines arbeit); list 'искус-
ство, хитрость'; riuwen 'печалиться^ (отсюда и riuw*re); s*lde 'счастье';
ein herzen leit 'горе, страдание'; maze 'уменье себя вести, сдержанность',
unmaze 'несдержанность'; minne '(куртуазная) любовь', edele wip, vrouwe
'благородная женщина, госпожа' и т.д. Иронически используются некото-
рые французские заимствования: апие 'возлюбленная', amis 'возлюблен-
ный', cus (<франц. cous 'рогоносец'). Представлены отдельные архаизмы:
urliuge 'война', trfit 'любимый', местные названия бытовых предметов
bache ''ветчина', элементы просторечья: gouch 'дурень' (ср. alder govch
Lanzelin). Используются и вместе с тем пародируются элементы формуль-
ного эпического стиля, ср. von eime tiere wilde, manic tier vreisam, ein gebvre
vil riche, babe Rvnzela das wip sin.
Следует подчеркнуть вместе с тем, что употребление вульгаризмов
здесь довольно умеренно, а "переключение" всего действия в низовой,
пародийный и сатирический план соврешается не только с помощью язы-
ковых средств, но и при помощи иронически обыгрываемых ситуаций,
где звери представляют людей {сатира на феодальный суд, на культ свя-
90
тых, рыцарский культ дамы и проч.) в их социальных и этических отноше-
ниях и т.п.
Сатирическая и критическая линия по отношению к рыцарству находит
яркое отражение и в другом произведении, относящемся ко второй поло-
вине XIII в. Это поэма "Фермер Хельмбрехт", принадлежащая, как о том
свидетельствует сам текст, Вернеру Садовнику (Wernher der Garteiunre).
Более точно личность автора не установлена, известно только, что он родом
из Австрии, и ему хорошо знаком и рыцарский, и крестьянский образ
жизни. Сам он называет себя поэтом tihtar. Вернер знает литературу более
раннего периода ("Песню о Роланде"), а также литературу своего време-
ни — Гартмана фон Ауэ, Фрейданка, Штрикера. Вместе с тем автор вполне
оригинален, в его произведении представлена жизнь крестьян, так редко
находившая отражение в литературе того времени. Изображая сына бога-
того крестьянина, возмечтавшего стать рыцарем, Вернер пародирует и вы-
смеивает и манеру поведения, и образ жизни рыцарства, и его манеру гово-
рить. Он рисует рыцарстро в период начинающегося распада и превращения
определенных его слоев в рыцарей-разбойников, не гнушавшихся грабежом
мирного населения. В поэме присутствует не только противопоставление
консервативного, добродетельного, тесно связанного с феодальной сослов-
ной системой крестьянства — рыцарству, но и противопоставление ры-
царства периода расцвета и периода упадка. В центре поэмы, таким обра-
зом, оказывается изображение разных слоев феодального общества и их
полных драматизма взаимоотношений. Реалистичность описания кресть-
янского быта и гротескное изображение рыцарства порождает и своеобраз-
ное "экспериментирование" автора с языком.
Структура словаря "Фермера Хельмбрехта" достаточно сложна: это не
просто произведение народной литературы, но своеобразная шстературная
пародия, построенная на сознательном столкновении разных стилистиче-
ских пластов и понятийных групп слов. Наиболее отчетливо противопостав-
ляются здесь два слоя — словарь рыцарского обихода и бытовой словарь
народных крестьянских говоров.
С одной стороны, в "Фермере Хельмбрехте" имеются многочисленные
названия предметов быта, в том числе и сравнительно редкие: isenhalt
'металлический ящичек для драгоценностей', clamirre 'запеченные с ово-
щами куски белого хлеба', stürz ' мера грубошерстной ткани', schlegerint
'скот, предназначенный для убоя', töckelin 'капор, чепчик', lihwat 'одеж-
да из льна', kuchenspise 'кушанья или запас провизии, хранящийся на кух-
не', hengst 'жеребец', bruoch 'штаны', gurre 'плохая лошадь', spargolze
'башмак', menen 'гнать скот' и т д.
С другой стороны, пародируется манера говорить, свойственная рыцар-
ству, и встречаются отдельные фламандизмы и галлицизмы, ср.: snacken
'болтать', soete'сладкий'; geburekin 'батюшка', blindekm 'слепец', kinde-
kin 'дитятко' — с уменьшительным суф. -кш. Французские заимствования
связаны непосредственно с изображением рыцарства (ср.: turnei 'турнир',
buhurdieren 'сближаться для боя'). В ироническом плане употребляются
hövescheit, hovewise, hövesch (sein), ein rechter hoveman т.е. слова, свя-
занные с понятиями куртуазности, а также hoher muot (здесь — состояние
подвыпившего рыцаря).
Обыденность языка, не лишенного, впрочем, особенно в устах старого
91
Хельмбрехта, выразительности и силы, составляет яркий контраст с тради-
циями куртуазной поэзии. Эффект "простонародности" создается именно
этим отталкиванием от языка рыцарства, элементы которого выполняют
здесь новую функцию, а также некоторым числом диалектизмов и вульга-
ризмов: meidem 'жеребец', trinka 'пей!', litgebinne 'трактирщица', maser
'деревянная кружка', ein äffe (о людях), ein narre и т.п.
Сатирическая линия художественной литературы представлена и произве-
дениями Штрикера (основной период его творчества приходится на 1220-
1250 гг.), горожанина из южной Франконии» о чем свидетельствуют рифмы
его произведений. Ему принадлежит переделка "Песни о Роланде" в со-
ответствии со вкусами публики XIII века, а также поэма о Карле Великом,
достаточно популярная в его время. Однако наиболее известен и оригина-
лен принадлежащий ему цикл стихотворных новелл о попе Амисе, где
сплетаются сатирическая и дидактическая линии. Наряду с другими басня-
ми и историями данный цикл пользовался большой популярностью, о чем
свидетельствуют 17 дошедших до нас рукописей этих "малых" произведе-
ний Штрикера. Поэт осуждает человеческие пороки — пьянство, неверность,
семейные ссоры, обман, ревность, властолюбие, корыстолюбие духовен-
ства. Перед читателем проходят представители разных слоев феодального
общества XIII столетия: gebur, knecht, ritter, pfaffe, pfanere и т.п.
Вместе с тем это не просто сатирическое изображение быта того времени.
В основе шванков Штрикера, созданного им литературного жанра, лежит
система этических представлений, связанных с учением доминиканцев
[Agricola 1955, 218—20]. Эта система отражает и противопоставляет поло-
жительные и отрицательные качества людей, при этом особенно выделяются
два ряда слов, связанных с обозначением разума (1) и глупости (2): 1) wi-
se, wisheit, witze, kündig, kündikeit, sinnic, sin, list; 2) tump (der tumbe
ritter), tumpheit, (der) tumbe, unmTse,ane sin, ane witze, äffe, tore (ср.:
swer die sele niht ernert, der ist ein tore, swie er vert Str 77, 225—26),
gouch, (der) alw#re и др.
Представлен в текстах и набор этических терминов рыцарства, получаю-
щих здесь, однако, более нейтральное и широкое значение: hövescheit,
miltekeit, getriu, s*lde, uns*lde, unmaze — 'воспитанность, щедрость, вер-
ность, счастье, несчастье, неумеренность9. Видимо, каноны рыцарской
литературы еще продолжали действовать: даже отталкиваясь от них, ран-
ние произведения сатирической литературы не могли полностью от них
отойти [Agricola 1955,211].
Религиозная литература
В XII—XIII вв. немецкий язык наряду с латынью используется в религи-
озной литературе. Являясь по своему характеру и по тематике (переводы
евангелия и псалтырей, составление глоссариев, постоянное обновление
переводов молитв и т.д.) продолжением письменности древнейшей поры,
религиозная литература постепенно накапливает и некоторые новые черты.
Расширяется круг стихотворных религиозных памятников (переводы
псалмов, стихотворные "жития", апокрифические легенды о жизни Христа
и Марии, стихотворная библия и тл.), большая часть которых представлена
лишь во фрагментах. По данным Г. Эггерса, за время с 1060 по 1170 г.
92
сохранилось около 70 поэтических произведений подобного рода, предназ-
начавшихся для мирян.
В XIII столетии, особенно во второй половине, происходит заметное
тематическое и жанровое обновление религиозной письменности. От этого
периода сохранились записи оригинальной проповеднической литературы,
связанной с именем Бертольда Регенсбургского. Кроме того развивается
и теолого-философская проза мистического направления, в основном,
правда, относящаяся к следующему столетию.
1
В начале XIII в. начинается связанная с развитием городской культуры
деятельность монашеских орденов францисканцев и доминиканцев. Бер-
тольд, францисканский монах из Регенсбурга (родился около 1220 г.,
умер в 1272 г.), выдвигается как выдающийся проповедник.С 1250 г. он
много путешествует, известно о его поездках по южной и западной Герма-
нии (Бавария, Швабия, Австрия, Эльзас), затем он посещает Богемию,
Силезию, Тюрингию. Проповеди его сопровождались большим стечением
народа, а в текстах сохранились обращения к прихожанам, свидетельствую-
щие об их разнообразном социальном составе. Бертольд обращался к
господам (herren, vrouwen) и слугам (chnehte, diener, dierne, arbaitter),
к богатым и бедным (arme und riche), молодым (ir junge werlt, ir schuo-
ler) и старым (junk und alt). Известны проповеди, обращенные к разным
социальным слоям (проповедь № 25 по изданию Пфейффера-Штробля),
имеется проповедь, обращенная к рыцарству (там же, № 33)5и проповедь
для поденщиков, слуг, крестьян [Richter 1969, 260—64], в которой четко
распределялись установленные богом "роли" отдельных социальных групп
и классов феодального общества: работники (arbaitter vnd arbaterinnen)
должны трудиться для тех, кто за них молится и постится: "Also hat es got
weysleichen vnd trewleichen peschaffen vnd geordent. Ains mues arbaitten,
das die diener gotz czw essen haben, so mues das ander petten vnd vasten
für die arbaitter vnd vmb die arbatterin" Berth2 263,127-129.
При изучении языка Бертольда исследователь наталкивался на целый
ряд трудностей. Во-первых, неясно, как записывались тексты проповедей
и насколько имеющиеся рукописи отражают язык самого Бертольда. Во-
вторых, издание проповедей, осуществленное Ф. Пфейффером и Г. Штроб-
лем на основе принципов К. Лахмана, далеко не всегда точно передает
особенности рукописных текстов. К тому же две основные рукописи
проповедей — Гейдельбергская и Брюссельская — имеют значительные
различия в орфографии, словаре, а отчасти и морфологии: во второй руко-
писи больше собственно южнонемецких черт. Любопытны и подмеченные
исследователями расхождения в словаре: anblic/antlütz "лицо9, dulden/lei-
den 'страдать', gedinge/hofnung 'надежда', ruowetag/feiertag 'праздник'
и та. [Guchmann 1964,31].
Немецкая филология XDC в. считала проповеди Бертольда Регенсбург-
ского образцом разговорного языка. Поворот, приведший к решительному
изменению данной точки зрения, был связан с работами А. Ш&нбаха, при-
шедшего на основании сопоставления текстов к выводу, что немецкие
проповеди Бертольда были лишь "переводами" его латинских произведе-
93
ний. Это мнение было поддержано и В. Штаммлером [Richter 1969, 226],
и лишь в последние десятилетия отдельные лингвисты (И. Вейтхазе, Г. Эг-
герс) все чаще выражали сомнения в данной характеристике языка Бер-
тольда. В настоящее время начался пересмотр обеих представленных ранее
точек зрения. Так, Д. Рихтер [Richter 1969], опираясь на анализ культурно-
исторической ситуации второй половины XIII в., а также на проведенное
им сопоставление текстов, попытался заново реконструировать отношение
немецкой редакции к латинским проповедям Бертольда. При этом он
обратил внимание на изменения, происшедшие в социально-коммуника-
тивном статусе самой проповеди. Появление бумаги привело к удешевле-
нию и известной демократизации рукописной книги. Тексты проповедей
начинают функционировать как письменно-литературные произведения
(Buchpredigt), использующиеся для чтения вслух, в монастырях во время
трапезы. Об этом "книжном" характере проповеди свидетельствуют встре-
чающиеся в текстах перекрестные ссылки на другие проповеди, а также
прямые упоминания об их чтении [Richter 1969,216—17].
Правда, более популярными все еще оставались латинские проповеди:
известны 263 рукописи латинских проповедей Бертольда, рассеянные
по всей Европе, и лишь около 20 — немецких (вместе с фрагментами).
И это отнюдь не случайность, достаточно вспомнить о судьбе немецких
сочинений Мехтильды Магдебургской или Давида Аугсбургского.
Анализ рукописей показал, что наиболее ранние немецкие проповеди
Бертольда относятся к 1264 г., т. е. они были записаны еще при жизни
проповедника. Имеются в тексте и указания на места их создания: это
южные районы Германии, преимущественно Регенсбург и Аугсбург (hie
zu Beigern, hie zu Augspurg и т. д.). Записал эти проповеди, по-видимому,
какой-то францисканский монах, один из соратников Бертольда по ор-
дену. Он, безусловно, сам слышал проповеди Бертольда и пытался по
возможности точно передать их поразившее его языковое мастерство.
В одних случаях ему это удавалось, а в других он, как бы "реконстру-
ировал" немецкий текст, опираясь на латинскую редакцию. Во всяком слу-
чае, это не просто записи спонтанной устной речи, но ее литературная об-
работка, в процессе которой объединилось несколько компонентов. Д~ Рих-
тер пишет по этому поводу: "Таким образцом, немецкая проповедь Бер-
тольда выступает как очень сложное образование. Можно предположить
в ней три смысловых и языковых слоя: устную проповедь Бертольда,
его латинскую проповедь... и, наконец, личность самого создателя ("Ver-
fasser") текста" [Richter 1969, 240].
Конкретность и вместе с тем живость изложения темы, эмоциональ-
ная насыщенность текстов определяли тематический и стилистический
отбор лексики и выбор синтаксических конструкций.
Представлена в проповедях Бертольда Регенсбургского бытовая лек-
сика, в частности, названия различных ремесленных профессий, обозначе-
ние слуг и т. п. (vischer, kramer, smide, Zapfenzieher, schuohewurke, tage-
wurke, arzat, weber, goltsmide, arbaitter, arbatterin), в чем данные тексты
сближаются с грамотами и прочими канцелярскими документами [Guch-
mann 1964,118].
Обозначаются плоды труда и орудия ремесленников (du hantwerkcher,
da du den schuech, den peles, den rokch, den wagen, den pflueg, den satel
94
machst), а также различные занятия крестьян (du... milchst chäe, treibst
chüe; ross huttest oder trenchist; holcz fürst 'ты... доишь коров, выгоняешь
коров; пасешь или поишь коней; возишь дрова' и т. д.).
Представлена группа лексем, обозначающих человеческие грехи: gitig-
keit 'скупость', hochvart 'вспыльчивость', zorn 'гнев', itft 'зависть', über-
muot 'застенчивость' и т. п., что специфично как для религиозной литерату-
ры, так и для художественных произведений с дидактической направлен-
ностью (ср. у Штрикера).
Довольно обширны группы слов с абстрактными суф. -heit, -ung; ср.:
poshait 'злоба', weyshait 'мудрость', lernung '(по)учение', pfaffhait 'духо-
венство', christenhait 'христианский мир'.
Целыми синонимическими рядами обозначаются некоторые наиболее
часто встречающиеся теологические понятия, ср.: trechtenn, herr, got(t)
'бог'; нередно синонимы нагромождаются, объединяются в развернутые
ряды, между отдельными элементами которых могут наблюдаться и извест-
ные локальные различия, ср.: ez heizet eteswa daz gedinge, eteswa zuover-
sicht, eteswa hoffenunge, но где все они обозначают одно и то же понятие
'надежда, надежность'. Представленная бытовая и абстрактная лексика до-
полняются красочными метафорами типа juncherren des tiuvels или siech-
tuom der sele (в обоих случаях — метафорическое обозначение грехов),
wäre sunne — Христос и т. п.. Заимствования почти полностью отсутству-
ют. Имеются отдельные вульгаризмы, например: frazhait 'обжорство',
ein äff 'дурень, обезьяна', (die) törn 'дураки', однако их сравнительно
немного.
Ряд слов, использующихся Бертольдом, хотя и совпадает материально
с лексемами, представленными в рыцарской литературе, имеет в пропове-
дях иное значение: таковы tugent 'добродетель христианина', triuwe 'со-
ответствие закону', mäze как ^умеренность в еде и питье', т.е. как анто-
ним к frazhait; arebeit имеет у Бертольда значение ' занятие, дело' (ср.:
unnuetztere arbeit — как обозначение турниров, танцев); слово zucht
обозначает 'моральное (христианское) воспитание', а ordenung — 'поря-
док, установленный богом' [Eggers 1965, 163 и след.]. Конечно, в этих
случаях приходится предположить не столько переосмысление этических
понятий рыцарской литературы, сколько параллельные линии семантичес-
кого развития отдельных слоев в светских и религиозных областях.
Интересные данные, характеризующие язык проповедей Бертольда
Регенсбургского, получены Н.И. Рахмановой, изучавшей состав устойчи-
вых словосочетаний в языке проповедника (Рахманова 1981]. По ее на-
блюдениям, устойчивые словосочетания обнаруживают в стилистическом
отношении известную нейтральность: лишь небольшая часть фразеологии
содержит явные признаки разговорного типа языка — элементы бытовой
лексики, диалектизмы, вульгаризмы и т. п. (ср.: gar unde gar; diz unde
daz; um ein har; jemandem den weg enge machen; ср. также слово gurre
в пословице Altm gurre bedarf wol fuoters 'старая кляча нуждается в хо-
рошем корме'). Таких разговорно окрашенных единиц среди устойчивых
словосочетаний лишь около 3% всего состава. Подавляющее же их боль-
шинство относится или к книжному, или к нейтральному стилистическим
слоям, границы между которыми не всегда отчетливы.
95
Таким образом, "разговорность" языка Бертольда оказывается несколь-
ко преувеличенной, она создается скорее общим содержанием его пропо-
ведей, манерой изложения материала, отчасти и некоторыми ораторскими
приемами: частыми обращениями к слушателям, восклицаниями, вклю-
чением в текст пословиц, стихотворными вставками и т. п. Не следует, ви-
димо, недооценивать образование, которое получало духовенство и которое
включало освоение риторических приемов латинской проповеди [Hasse
1912]. К их числу относятся:
обращения и вопросы к слушателям: ir kristenliute, ir jungen liute,
ir herren und ir frouwen, ir morder, ketzer, du triigener, ir schelter, fluo-
cher, trenker и т. д.; ср. также в одном из текстов, изданных Д. Рихтером:
Ir teufel, ir christenlewt. Berth2 250, 130, 131; Wie morder, wie siezest du
hie vor mir? Berth2 250,134;
восклицания: Pald in grözze piizz oder an den grünt der hell! Berth2
250, 132; Wie, lekchenspiz, du mvst iz allez gelten vnd wider geben, macht
du ez gelaisten, oder deiner sei wirt nimmer rat! Berth2 250,145;
Элементы диалога, как бы "драматизирующие" текст проповеди, ср.:
Ir chnecht vnd ir dirn, sagt an, wolt ewr igleiches zwo march goldes nemen,
daz iz nimmer nicht gestel? Wie prüder Perichtolt, ich nam eine. Berth2
251,152-153 и т.д.
Таким образом, "разговорность" языка немецких проповедей Бертольда
проявлялась не в спонтанной небрежности речи, но в сознательном отборе
стилистических средств и риторических приемов.
2
Одним из значительных культурно-исторических течений второй полови-
ны XIII столетия была немецкая мистика. К данному периоду относится
деятельность Мехтильды из Магдебурга (Mechtild von Magdeburg) и фран-
цисканца Давида Аугсбургского (David von Augsburg).
Для языка мистиков харктерно использование большого числа слов,
способных передавать понятия высших, абстрактных ступеней философии.
Правда, в произведениях Ноткера й Исидора были еще в предыдущий пе-
риод заложены основы философского и научного немецкого языка, но
затем эта традиция обрывается, и на два столетия наука возвращается к
латинскому языку. В трудах мистиков вновь формируются основы тео-
лого-философской немецкой прозы, видимо, в известной мере опирающей-
ся на практику переводов произведений представителей схоластической
средневековой философиии на немецкий язык, особенно на перевод
произведения Фомы Аквинского "Сумма богословия" — "Summa
theolog ica".
Немало слов, позднее встречающихся в сочинениях мистиков, представ-
лены уже в данном произведении. К их числу относятся, например: inflie-
zen, infliezunge, influz. Многочисленны кальки с латинского, передавае-
мые с помощью суффиксов -unge (для лат. -tas), -heit (для -tio) и т. п.;
ср.: empfahung (для aeeeptio), zuoglichunge (для adaequatio), unberinge-
lunge (для circulatio), sinHchkeit (для sensualitas), а также wesenlich (для
essentialis), dinkheh (для realis) и т. п. Число абстрактных по значению
слов с -keit, -heit, -ung также очень велико уже в сочинениях схоластиков.
96
К тем, которые были названы выше, можно добавить Seligkeit 'блаженст-
во', begriffung 'постижение', ervolgung 'достижение', ordenung 'установле-
ние', habung 'состояние', 'отношение' и многое др. Г. Эггерс справедливо
обратил внимание на известное "давление системы", вызывавшее появле-
ние в теолого-философской прозе серийных образований типа tuowunge, ver-
Hesunge, ablazunge, demütigkeit, almehtikeit вместо уже имевшихся в не-
мецком языке tat, vertust, ablÄz, demuot, almaht [Eggers 1965,188].
Таким образом, слова подобного типа, видимо, образуют в схоластике
и в мистике некоторый общий для обоих религиозно-философских течений
фонд [Ruh 1956; Eggers 1965, 186 и след.]. Глубокие принципиальные
расхождения между мистикой и схоластикой* идейное "отталкивание"
мистики от схоластики долгое время мешали уловить связи между языком
обоих направлений, и поэтому казалось, что язык мистиков возник как бы
на пустом месте, вне традиции, что, видимо, неточно и во многом объяс-
няется фрагментарностью сведений о немецких теолого-философских со-
чинениях этого раннего периода.
Известное влияние на язык немецкой мистики оказал и Давид Аугсбург-
ский, о жизни которого известно, правда, очень мало. Хотя он не был мисти-
ком в собственном смысле слова, многое в его лексике совпадает с позд-
нейшим словарем немецких мистиков, таковы substantia, creature, nature,
begrifen, ursprunc, fluz, fliezen, ergiezen и т. д. [см. подробнее Eggers
1965,200 и след.].
В ранний период деятельности мистиков соответствующие настроения
нашли свое наиболее полное выражение в сочинениях бегинки Мехтильды
из Магдебурга, младшей современницы Бертольда Регенсбургского. Если
Давид Аугсбургский был представителем интеллектуального геологическо-
го направления, то в произведениях Мехтильды нашло свое выражение
эмоционально насыщенное, экстатическое направление мистики. Она была
образованной, но отнюдь не ученой женщиной, и, по ее собственному приз-
нанию, не владела латынью. Ср.: Nu gebristet mir tiusches, des latihes kan
ich nit, т. е. 'Мой немецкий не совершенен, а латынью я не владею' [Eg-
gers 1965,190].
Изучение языка произведений Мехтильды Магдебургской сильно за-
труднено там обстоятельством, что оригинал ее главного сочинения "Стру-
ящийся свет божества" ("Das fließende Licht der Gottheit"), созданного
около 1250 г., утрачен. Оно сохранилось лишь в более поздней алеманской
переработке (Einsiedeiner Codex), а также в переводе на латынь. Несовер-
шенно и издание труда Мехтильды, осуществленное в XIX в. Г. Морелем
(Offenbarungen der Schwester Mechtild von Magdeburg. Regensburg, 1869).
Поэтому родной нижнемецкий язык Мехтильды не нашел здесь отражения,
и изучение территориальных его признаков невозможно, что отнюдь не
исключает рассмотрения произведений Мехтильды с их стилистической сто-
роны« Известное представление можно получить также о лексических и
синтаксических особенностях ее языка. Правда, письменный текст еще в
его первоначальном варианте, видимо, был обработан духовным наставни-
ком Мехтильды доминиканцем Генрихом фон Халле. Возможно, что
помощь оказывалась и другими лицами: сочинение Мехтильды в отдельных
своих частях обнаруживает различные особенности. Так, Г. Нойманн от-
мечает, что в четырех первых книгах встречается ряд лексем, позднее
7. Зак. 336
97
исчезающих: это — bekantheit, juncherre, durchvliessunge, turnei,sufzunge,
schöpfunge и др. [Neumann 1954,59].
Язык Мехтильды, особенно его лексика, безусловно, ошфаются на опре-
деленную традицию, вне которой его невозможно понять. Но сама эта тра-
диция, во-первых, не едина, а, во-вторых, она существенно преобразуется
в мистической литературе. Как отмечалось, язык Мехтильды обнаруживает
в своей терминологической "интеллектуальной" части влияние схоласти-
ки. Вторым источником, оказавшим влияние на ее язык, является рыцар-
ская поэзия, особенно лирика (миннезанг). Третьим — духовная поэзия
и прежде всего стихи о деве Марии — Mariendichtung [Eggers 1965, 199].
Вместе с тем в языке Мехтильды сильно и индивидуальное начало, позво-
лившее ей сплавить воедино все эти разнородные источники, что особенно
обнаруживает себя в богатейшей метафорике ее языка pLüers 1926].
Излюбленные метафоры мистической литературы связаны со светом и
огнем, воплощающими божественное начало, ср.: strälen der heiligen drival-
tekeit (M 175, 4} 'лучи святой троицы', gewundet uf den tot mit diner
fiurigen minnestrale (M 50,12) — 'смертельно раненый огненными лучами
твоей любви', sie werden geheiliget und gekleret als die spielende sunne
(M 243, 21) — 'они освещаются и сияют как играющее солнце'. Симво-
лом бесконечности служит у Мехтильды бездонный колодец (ewiger brunne
der gotheit — M 116,6; ein uzvliessende brunne — M 158,11).
Выражение liep unde leit, частое у миннезантеров, встречается и у Мех-
тильды, ср. также: minne, minnekhch, minnende, zuo dem geminten и т. д.
Связи с рыцарской культурой проявляются и в употреблении в разном со-
четании слова hov(e) 'двор', ср.: hovereise, ze hove senden, ze hove dienen,
ze hove gan; hovzucht, hovesprache (M 7, 8; 104, 22; 110, 13; 110, 21;
155,33).
Динамика, составляющая одну из примет языка мистиков, передается
рядом глаголов — schinen, vliuzen, jagen и т. д., встречаются также в пе-
реносном смысле brennen, bluien [Lüers 1926, 136]. Используются в
метафорическом значении — ezzen, sugen, schmecken. Особую функцию
выполняет представление о божественном как об отсутствии чего бы то
ни было — das nicht, ср.: du solt minnen das nicht (M 17, 1). Встречаются,
впрочем, и отдельные образы, построенные на бытовой основе, ср.: daz
golt mac in dem fiure nit verderben (M 21,4) 'золото не портится в огне';
so wölte ich iemer din artedinne wessen (M 62, 4) 'я хотела бы всегда быть
твоим врачом9; mittag der seien 'полдень души' и т. п.
В собственно языковом плане обращает на себя внимание обилие в
языке Мехтильды абстрактных понятий и в связи с этим исключительная
продуктивность таких суффиксов, как -keit, -heit, -ung, -nisse. В тексте
сочинений Мехтильды Магдебургской представлено 156 слов с -heit, 74 —
с -unge и 19 — с -nisse. Для сравнения обычно приводятся данные по произ-
ведениям Гартмана фон Ауэ: здесь в текстах того же объема обнаружено
лишь 38 лексем с -heit, 4 — с -unge и ни одной с -nisse.
В языке Мехтильды встречается также ряд субстантивированных инфи-
нитивов и других частей речи, передающих абстрактные понятия: daz nicht
'ничто', daz iht 'кое-что', daz sin 'существованяе', das al 'вселенная', ein
minnen 'любовь' и т. п. Многочисленны прилагательные на -lieh, ср.: шь
begrifelich, unsprechelich, unseelich, unbegnffenlich, minneklich, untötlidi
98
и т. д. Большую роль в языке Мехтальды, как и в более поздних мистиче-
ских сочинениях, играли образования с un- и «los.
Влияние схоластической и ранней религиозной философской литературы
обнаруживает себя в использовании Мехтальдой многочисленных калек с
латинского, которые накак не могли быть созданы ею самой, так как она
не владела латынью. Как предполагает Г. Эггерс, эта терминология, еще
принадлежавшая в середине XIII в. к "школьному" вокабуляру духовенст-
ва и не имевшая всеобщего распространения, могла быть известна Мехтиль-
де из бесед с коллегами и духовными наставниками [Eggers 1965, 190].
Исключительная языковая одаренность монахини помогла ей овладеть
арсеналом абстрактных теологических понятий на родном языке (ср.:
einunge, bruchunge, genugekeit, gottheit,unwirdekeit).
Образность, метафоричность, поэтичность, обилие абстрактных поня-
тий, стихотворные вставки в духе любовных жалоб, характерных для
миннезанга (Minneklagen), своеобразный "экспрессионизм" ритмизиро-
ванной прозы — таковы основные черты языка Мехтальды, принадлежав-
шего — при всей его кажущейся простоте и безыскусности — к высокому
стилистическому слою. По своему языковому мастерству и значительности
содержания и сочинения Мехтальды Магдебургской и проповеди Бертоль-
да Регенсбургского относились к лучшим образцам средневековой не-
мецкой прозы.
Деловая письменность
Новой сферой использования немецкого языка является в XIII в.
деловая письменность4. Переход с латыни на немецкий язык совершает-
ся здесь довольно медленно, захватывая сначала лишь отдельные виды
памятников.
В 1235 г. появляется первый важный документ на верхненемецком
языке — это текст Майнцского мира Фридриха II ("Mainzer Landfrieden").
До этого времени документы на немецком языке единичны: так, у Ф. Виль-
гельма в его собрании грамот [FW, Bd I] 1200 год представлен лишь одним
документом, следующие два датированы уже 1227 годом, к 1238 также
относятся две грамоты, к 1240 г. — одна, затем наступает семилетний
перерыв. Лишь во второй половине столетия количество грамот на немец-
ком языке несколько увеличивается, и в 1263 г. число их впервые дости-
гает 16, а в 1272 — 34. С этого времени количество немецких грамот неук-
лонно растет, но основная масса приходится на самый конец столетия —
на 80, 90-е годы. В первом томе собрания Ф. Вильгельма до 1282 г. поме-
щены 564 немецкие грамоты, а всего за период с 1200 по 1294 гг. им опуб-
ликовано около 2000 документов [Guchmann 1964, 82,85].
Переход на немецкий язык совершается в грамотах ранее всего на юго-
западе (Базель, Цюрих, Констанц, Люцерн, Фрейбург, Страсбург, Ауг-
сбург), затем на юго-востоке (Вена, Регенсбург) и северо-западе (Кельн).
Постепенно документы на немецком языке начинают составляться и в
городах Среднего Рейна (в Вормсе, Шпейере, Франкфурте) и наконец, на
4 Данный раздел в основном опирается на результаты исследования М. Гухман, изло-
женные ею в главе, посвященной языку грамот XIII в. [Guchmann 1964, 84—109].
99
востоке — в Эрфурте, где первая грамота относится к 1287 году. Она обна-
руживает, однако, сильное майнцкое влияние, и лишь в 1290 г. здесь появ-
ляется документ, написанный на языке средненемецкого типа.
Обращение деловой письменности к немецкому языку непосредствен-
но связано с развитием городов и усилением роли мелкого дворянства и
особенно бюргерства, не владевших латынью; оно стимулировалось разви-
тием городского самоуправления, цехового ремесла и созданием цехового
законодательства.
Процесс перехода на немецкий язык был социально и функционально
дифференцирован: первоначально этот переход совершается в городских
канпеляриях, причем — преимущественно в грамотах частноправового
характера. Затем он очень постепенно распространяется на документы
княжеских канцелярий и на делопроизводство в имерской канцелярии, что
особенно часто наблюдается к концу столетия при Рудольфе Габсбург-
ском. Городские книги, привилегии, постановлений об организации
и статусе отдельных городских цехов, торговые договоры городов, мир-
ные договоры между землями, честноправовые документы, касающиеся
имущества граждан — таков далеко неполный перечень документов, сос-
тавляющихся теперь на немецком языке.
М.М. Гухман настоятельно подчеркивает ведущую роль городских
канцелярий в этом процессе и особенно канцелярий юго-запада, где выд-
вигаются наиболее крупные для данного периода города. Носителями
этих процессов являются, видимо, те новые социальные слои, которые
создают основы городской культуры, включавшей и религиозный
(проповедническая деятельность и сочинения францисканцев и домини-
канцев), и светский компоненты (художественная литература городско-
го сословия и деловая документация городов). [Ср. также: Boesch 1943,
99-100].
Вместе с тем3 концентрация в этих районах большого числа литератур-
ных памятников и выдающихся поэтов (Г. фон Ауэ, Г. Страсбургский)
также в известной мере стимулирует языковые процессы, происходив-
шие в деловой письменности. Сзоцественным было, возможно, и то, что
переписка литературных памятников и составление и копирование
документов было нередко сосредоточено в одних и тех же руках —
клерков, писцов, обслуживавших канцелярии.
Деловая проза, как и язык теологических сочинений, формируется
под сильным влиянием латинских образцов, что сказывалось и на не-
которых текстовых и стилистических признаках языка грамот, в частно-
сти, на формулах, доставляющих одну из примечательных особенностей
текстов канцелярской документации [Sparmann 1963; de Boor 1975].
Эти формульные элементы служат для обозначения отправителей гра-
мот и их адресатов, они маркируют время и место создания документов,
а также локализуют, а нередко и оценивают те события, о которых идет
речь. Ср. формулы: mit einmuotigen willen 'единодушно', von gotis gna-
den 'милостью божьей', in godes namen 'во имя господне' ane arge list
'без злого умысла', schuldic sin 'быть виноватым', wir sint über ein kom-
men 'мы пришли к соглашению'.
Имеется в текстах и некоторое количество устойчивых определительных
словосочетаний, ср.: ersame und bederbe liute 'почтенные и честные люди',
100
allen unseren lieben burgern 'всем нашим любезным гражданам', unsir
liebon fursten 'нашему возлюбленному князю' и т. п. Отдельные фор-
мулы весьма развернуты и к тому же имеют несколько структурных
вариантов; наиболее часто они открывают текст (традиционный зачин)
или завершают его, ср.: "Wjr Heinrich von gottis gnaden Bischof zi Base-
le / tun kunt allen dien / die disen Brief ansehent / Das... FW № 80.
Wir bischof Walter zi Strazburc von gots gnaden tun kunt allen unseren
lieben burgern.., daz... US Bd I, vom 25 Juni 1261.
Wir Symon von godes gnaden irwelit bischof von wormezen dun kunt
allen / di disen brif ane giseihent. Daz... FW № 604.
Wir schultheize Volrad, die scheffenen und der rad der stat zu Franken-
vord. Dun kunt allen den, die diesen brif gesehen odir gehören//daz...
UH 2 Abt. 1. Bd, vom 16. März 1294.
Ich Chvnrat von Watenstain / vn ich Jakob sein brveder... wir vergehen
offenlich vn tven chvnt allen den die disen brief lesent oder hcerent lesen
FW №1731.
В основе всех этих зачинов лежит общая схема: 'Мы... (божьей мило-
стью) ... доводим до сведения всех тех, кто слушает или читает (этот до-
кумент) , что...'.
Распространение некоторых локально маркированных структурных ва-
риантов формул помогает проследить языковые процессы, существенные
для данного периода. Так, X. де Бор специально изучал в тексте грамот
формулы, обозначающие время и являющиеся переводом с латинского
(лат. actum et datum anno domini... — нем. geteidinget unde gegeben in
dem.., tusendsten zweihundertesten sechs unde fünfzigsten jähre des hern...).
Де Бор различает два основных варианта перевода на немецкий язык
формул — алеманский (1) и баварско-австрийский (2): 1. dis geschach
do man zalte von gotes geburte zwelfhundert und niun und niunzigjar... 2. ditz
ist geschehen, do es waren von Christus geburt tousent zwaihundert und dar-
nach in dem niun unde niunzegisten jare....
Исследователь подчеркивает значение формул первого типа, наиболее
часто выступающих в качестве образца для грамот других районов, в чем,
в частности, проявлялось первостепенное значение юго-запада при введении
в деловой письменности немецкого языка [de Boor 1975, 97]. Такие горо-
да, как Страсбург, Оренбург, Цюрих, Базель, Шаффхаузен сохраняют свою
ведущую роль в этих процессах вплоть до конца XIII столетия.
Ограниченность и известная стандартность жанров деловой письменности,
в которых первоначально использовался немецкий язык, определяет отно-
сительное стилистическое единообразие языка грамот, проявляющееся и в
формульности стиля и в отборе словарных единиц: представленные здесь
тематические слои лексики являются общими для большинства доку-
ментов.
Преобладает терминология, связанная с административной деятель-
ностью, а также с социальным и профессиональным статусом граждан, ср.:
burgrecht 'городское право', lehnrecht. 'ленное право', Urkunde, brief 'до-
кумент, послание', 'insiegel 'печать', erbe 'наследство', fahrende guet 'дви-
жимое имущество', burger 'гражданин, горожанин', rat 'совет', ratmann, rat-
liute 'член(ы) совета', scheffe 'шефен', schultheize 'староста', graf, bischof.
101
Бытовая лексика ^напротив, отражена ранними грамотами мало [Guch-
mann 1964, 108], если не считать довольно распространенных названий
ремесленных профессий, отчасти входящих в бытовую сферу: obzer, 'зе-
денщик', gartner 'садовник', menkeller 'торговец', vischer 'рыбак', mvlner
'мельник', kramer 'мелкий торговец', loederer 'суконщик', smide 'кузнец',
muntmeister 'чеканщик монеты' [см. подробнее: Guchmann 1964,118].
С официальной сферой управления и официальными сторонами человече-
ской деятельности связано и большинство представленных глаголов:
richten, urteilen 'судить', verlenen 'давать в качестве ленного надела', ver-
koufen 'продавать', beshirmen 'защищать'.
Имеется и некоторое число абстрактных имен существительных, также
* связанных в большинстве своем с административной и юридической дея-
тельностью людей, а также с официальными отношениями между ними:
vorderunge 'требование', zweiung, missehelung 'вражда, смута'; friheit
'свобода', veintschaft 'вражда', vancnusse 'арест, тюрьма', bekenntnusse
'признание', bundnisze 'союз' и т. д. Словообразовательные элементы -nis-
se / -misse (юг) представляют собою территориальные варианты, так же
как и -ung (е) / -inge (север).
Богатая синонимика, отчасти связанная с территориальными различиями,
представлена для часто повторяющегося в тексте слова 'война, вражда':
missehelle, urliuge, krieg, zweiunge, zwaiata, zwist, stoze. Наиболее широ-
кое распространение имеет urliuge, встречающееся повсеместно (н.-нем.
orloge), но уже являющееся, видимо, для языка художественной лите-
ратуры архаизмом. Территориальная синонимика распространена в неко-
торых служебных словах, ср. южн. unz / ср.-нем. bis 'до', общенем. mit /
Вормс, Франкфурт bit 'с'. Локально маркированная вариативность на-
блюдается также при обозначении дней недели: южн. samstag, eis tag,
eritag противопоставлены ср.-нем. sonabehd, dun res tag, dienstag.
Деловая канцелярская письменность XIII столетия вообще более интен-
сивно, чем другие виды письменности, отражает диалектные черты, что
прослеживается не только на лексике, но особенно в графико-фонетических
явлениях и отчасти в морфологии. Так, достаточно четко разграничиваются
юго-западные (Базель, Страсбург) и юго-восточные районы (Вена, Регенс-
бург, Зальцбург). В последних широко варьируют написания р/b, отража-
ется на письме передвижение к в ch, передается, хотя и нерегулярно, появ-
ление новых дифтонгов и расширение старых (Hevser, Tousent, sein, ouf;
zwaihundert, chauffen, zwai).
В противоположность текстам литературных памятников юго-запада
в документах Базеля отражаются местные нередуцированные конечные
гласные, хотя и не всегда последовательно, ср.: abir, gottis, zi, vertigot,
но и: allen, aber, (wir) weflen/sullin. Даже в пределах одной и той же об-
ласти наблюдаются различия в языке грамот отдельных городов. Так, в
языке Страсбурга сохраняется обобщенное окончание мн. ч. -ent во всех
трех лицах, тогда как в документах Базеля в 1 л мн. ч. представлено
-еп, а в 3 л. мн. ч. варьируют -en/-ent.
Смешанный характер носит деловой язык Аугсбурга, объединяющий
особенности языка юго-востока и юго-запада. Дифтонгизация появля-
ется здесь рано, но отражается крайне непоследовательна, Обозначение
новых широких дифтонгов (kainer, maister,kaufft) варьирует со старыми
102
написаниями, апокопа конечного безударного гласного отражается в фор-
мах типа wir hab, geb; fried, genad, ср. соотв. варианты gezeug/gezeuge
'свидетель'.
Четко выделяется язык документов района Кёльна (непередвинутое
р в начале слова и в сочетаниях 1р, гр, непередвинутое t в словах it, dit,
wat, графически обозначенное спирантное произношение b в интервокаль-
ном положении (geven). Своеобразна лексика кёльнских документов, ср.:
ove 'или', inde 'и', over 'над', bliven 'оставаться', ors 'конь', ridder 'рыцарь',
а также суф. -inge (ср.: zweyinge 'смута').
Канцелярская документация харктеризуется в целом значительной
пестротой орфографии, колеблющейся даже в пределах одного и того же
текста, ср., например, в документах Страсбурга zi/ze/zu, ouch/och, untz/
untze, ünce, в восточносредненемецких грамотах tun/tun/tuen, brif/brief/
briv, met/mit, в документах Базеля abir/aber, oder/odir и т. п. В этой
широкой вариативности находили отражение многие причины: и состояние
орфографии, и — иногда — слабая грамотность писцов, и отдельные попыт-
ки "экспериментировать" с орфографией, и объединение гетерохронных
написаний, и взаимодействие различных орфографических традиций, при-
водившие здесь, как и в других случаях, к известной "наддиалектности"
языка.
Наддиалектные тенденции в языке грамот связаны, кроме того, с общи-
ми процессами проникновения южнонемецких особенностей в более север-
ные районы, что наблюдалось на весьма обширной территории: и в районе
Франкфурта, и в документах Эрфурта, а также в таких нижненемецких
городах, как Магдебург и Халле, где уже тогда устанавливается своеоб-
разное "двуязычие". Так, например, в канцелярских документах Франк-
фурта наблюдается в отдельных случаях конкуренция средненемецких и
южнонемецких явлений, отчасти связанная с проникновением южнонемец-
ких форм в районы распространения франкского наречия, ср.: er/he/her;
daz/dat, diz/dit и т. д.
Объединение разнодиалектных черт порождает в деловом языке XIII сто-
летия огромное число разнообразных по происхождению вариантов. Здесь
конкурируют в разном соотношении nach/na, zwischen/tuschen, uber/over,
auch/ouch/og, auf/up, zit/zeit, huz/hauz, broder/bruder/bruoder, -inge/-unge,
-nisse/-nusse.
Вариантность и синонимия распространяется на отдельные словоформы
(wir sulen/sulent, gewesen/gewest) и лексемы (perd inde ross, eritag/
dienstags samstag/sonnabend; unz/bis).
Таким образом, если общие тематические и стилистические моменты,
повторяемость и ограниченность словаря и "формульность" определяют
значительное единообразие языка ранних немецких грамот, то их фоне-
тико-орфографические черты и некоторые грамматические и лексические
элементы довольно определенно отражают разнообразные местные особен-
ности. Вместе с тем>уже в этот ранний период язык грамот передает диа-
лектные признаки избирательно (ср., например, вариантное обозначение
редуцированного гласного в конечных безударных слогах, не соответст-
вующее диалакту), в чем он до известной степени следует литературной
традиции своего времени.
103
ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
(синтмсснс, лексика)
Использование немецкого языка в разных функциональных сферах
явилось в XII—XIII вв. немаловажным стимулом, способствовавшим раз-
витию структуры предложения и пополнению и преобразованию лекси-
ческого состава языка. При этом на фоне общих для всех функциональ-
ных сфер синтаксических и лексических процессов выделяются отдель-
ные явления, дифференцированные по жанрам и видам письменности.
Стимулом для подобных дифференциаций была отчасти различная ком-
бинация прагматических и эстетических задач в каждой из таких функцио-
циональных сфер, их различная стилистическая направленность, а также их
разное отношение к устным формам языка.
1
Синтаксические процессы, наблюдавшиеся в XII—XIII вв., определя-
лись главным образом преобразованиями в стуктуре предложения. К их
числу принадлежат: более четкое размежевание пара- и гипотаксиса, раз-
витие гипотактических комплексов, связанное со становлением системы
подчинительных союзов и с оформлением специфического порядка слов
придаточного предложения, формирование в разных типах предложений
"рамочной" конструкции. Намечаются и некоторые новые тенденции
в оформлении атрибутивных групп, относящиеся к употреблению артик-
ля и к позиции определения. Для большинства текстов характерно
вариативное использование старых и новых синтаксических конструк-
ций.
Нормой для данного периода является установившаяся двусоставность
предложения (подлежащее + сказуемое). Эта тенденция одинаково харак-
терна для прозаических и поэтических текстов. Так, по данным Бланки
Хорачек, в "Парцифале" 98% всех предложений имеет полный состав
[Ногасек 1953, 274]. В то же время, по наблюдениям В.Г. Адмони, дву-
составная структура предложения регулярно отсутствует в некоторых
типах предложений с пассивными конструкциями [Адмони 1963, 88]:
Do got da wart gedienet... NL 1064, 2 'когда богу тут отслужили (моле-
бен)9; da wart Sit gestriten NL 176,2 'там с тех пор бились'; Do ward in
gesagt... Berth2 247,22 'И было сказано'.
Существенные процессы наблюдаются в отношении норм порядка слов.
Наиболее отчетливая тенденция прослеживается в простом самостоятель-
ном предложении, где финитный глагол стоит на втором месте, что можно
рассматривать как преобладающую норму. Первое место занимает при этом
или подлежащее, или слова типа dö 'там', d£ 'тогда', s6jiu 'так', 'теперь', ez
(в безличных предложениях). DÄ в качестве заместительного и соедините-
льного элемента очень распространено в дорыцарской поэзии, позднее оно
сохраняется и в роли связующего элемента и в качестве зачина предложе-
ния, но теперь оно конкурирует с более новыми средствами связи предло-
жений, а также с другими элементами — заместителями первого места
(особенно усиливается в последней функции употребительность ez).
Традиционные "зачины" самостоятельных предложений представлены в
104
разных жанрах письменности данного периода: у Ьертольда в качестве ана-
форического элемента наряду с перечисленными выше словами нередко
выступает также und [Weithase 1961, 19]. Так, в тексте проповеди "Von
den fünf Sünden der Sintflut", опубликованном Д. Рихтером, 17 предло-
жений начинается с und, 8 — с ez/iz, по 6 с do и sS и 4 — с пи. Часты такие
зачины и в "Парцифале":
пи rittet gein der Schotten her Pz 39,4
<io kom gevarn Kailet | von dem kerte Gahmuret 39,11-12
пй hcert wie siz an geviengen 6,10
s6 sprach der künec here 6,29
do sprach uz einem munde | der sieche und der gesunde 17, 15-16 и т. д.
Ср. также у Г. фон Ауэ:
пи wart da vil sere | geslagen und gestochen Er 2603-04
Nu begunde er si triuten | m£ danne vor den liuten..., Gr 375—376
Традиционные зачины с do, da, nu весьма распространены также в
"Песне о Нибелунгах":
dS wart in dannen gach NL 1534,2
dS zoch man dan diu marc NL 36,1 и т. д.
Тенденция к постановке глагола на второе место в предложении особен-
но четко проявляется в прозе. Так, в проповедях Бертольда Регенсбургско-
го отклонений от этого правила немного, а конечная позиция* финитного
глагола практически у него вообще не встречается [Fassbender 1908].
Напротив, в поэзии нередки отклонения: кроме второго места финитный
глагол мог занимать третью позицию или стоять в самом конце предложе-
ния, что определялось факторами метрического порядка, ср.: Als er diu
kint weinen sach | ze sihem sun er do sprach... 'когда он увидел, что ребенок
плачет, он своему сыну сказал../ Gr 231—32; Die vrouwe uz grozem jamer
spmch... Женщина в великой печали сказала...' Gr 2665.
Б. Хорачек отмечает, что особенно много нарушений в постановке гла-
гола-сказуемого наблюдается в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбах.
Случаи инверсии здесь значительно чаще, чем в других поэтических произ-
ведениях: их в десять раз больше, чем, например, в "Ивейне" Г. фон Ауэ.
В "Парцифале" 10% всех самостоятельных предложений имеет финитный
глагол в конце предложения, а в "Нибелунгах" таких случаев лишь 5%.
Встречаются они в "Парцифале" и в авторской речи (12,7%), и в прямой
речи (6,6%) [Horacek 1953, 283]. Такими инверсиями отмечена речь ряда
персонажей романа. Особенно часто они встречаются в Треврецента (10%)
и у самого Парцифаля (около 7%). Б. Хорачек приводит следующие при-
меры из речи Треврецента: Grosser wunder selten iegeschach Pz 798, 2. Ср.,
также примеры прямой речи других персонажей: Von Anschouwe iuwer
vater hiez Pz 317,13 'Ваш отец назывался фон Аншоуве'; Unser veter gebruo-
der • hiezen Pz 324,13 'Наши отцы назывались братьями'.
Случаи нарушения порядка слов заметно учащаются при эмоциональ-
ных сообщениях и при выделении важного в смысловом отношении. Таким
образом, можно, видимо, говорить об эстетической и эмфатической функ-
ции нарушения порядка слов в поэтическом языке Вольфрама. Впрочем,
инверсия глагола в самостоятельном предложении (3-е или 4-е место, или
абсолютный конец предложения), вызываемая метрическими моментами,
характерна и для более ранней эпической позиции, ср. в "Короле Ротере":
105
hei w? groz ir arbeit was KR 349; der kunic vor leive up spranc KR 4774
IWiegand 1904,8].
В придаточном предложении позиция финитного глагола еще не опреде-
лена в изучаемый период с той же четкостью, как в самостоятельном пред-
ложении, однако он имеет тенденцию стоять ближе к концу предложения
(Б. Хорачек обозначает это как "Spätstellung").
Возьмем для иллюстрации порядка слов в разных типах предложений
небольшой прозаический отрывок из ранних немецких проповедей середи-
ны XII столетия, опубликованных Г. Мельбурном в 1944 г. (SpEc).
В двух имеющихся здесь главных предложениях глагол-сказуемое зани-
мает второе место: Wir hegen hivte zwaier herrin tult, s. Petri unde s. Pauli,..
SpEc 83; Die selbi herrn sintgehetzin an den buchin zwei Hecht der Christen-
heit,.. SpEc 83.
Однако во втором случае части сложного глагольного сказуемого за-
нимают контактную позицию, т.е. рамка отсутствует. То же самое наблюда-
ется и в другом придаточном предложении, где глагольное сказуемое цели-
ком располагается в середине предложения, ср.: wände div christinheit
zerste wart erluhtit uon ir wortin unde uon ir lere...
В двух других случаях простое глагольное сказуемое занимает в при-
даточных третье место: ..., die got erweite vor anderin ivngerin, daz si daz
gotis reht unde die gotis warheit schribin unde pridigotin der heiligin
christinheit.
И лишь в последнем предложении обе части сложного глагольного
сказуемного, сохраняя контактную позицию, замыкают придатотаое:...,
daz si rehte unde warheit begundin zerchenin.
Постепенно тенденция к постановке глагола-сказуемого ближе к кон-
цу придаточного предложения усиливается» хотя твердая норма отсутст-
вует здесь до конца периода. Ср. в текстах проповедей Бертольда Реген-
сбургского: Ich wolt, das vnser fraw von hymel charn, mit ir all engel vnd
heyligen vnd sagten der christenhayt, wie nucz der menschen gepett ist
Berth2 261, 70; ..., die er an uns beg}ey und er uns an des libes siechtuom
ouch h&t besorget... Berthi 153 и след. В проповеди "Von den fünf Sünden der
Sintflut" в 12 придаточных из 15 предложений, представленных на стр. 247
(см. Berth2), глагол-сказуемое стоит на последнем месте и лишь в
3-х — на третьем.
Расположение частей самого сложного глагольного сказуемого у Бер-
тольда, как и в других текстах, варьирует: ..., die der almehtige got als
kzef tic gemachet А&д., wie liep iuch der almehtige got hat gehabet Berthi
153 .
В текстах деловой прозы в придаточных предложениях конечная позиция
глагола нередко нарушается из-за вынесения за "рамку" распространенных
и важных в смысловом отношении сянтаксических групп: Wjr Heinrich
von gottis gnaden. Bischof ziBasele / tun kvnt... / Das wir mit rate unsers
Capitels / Unsers gotzhus dienstmanne / unsers Ratz. Und vnsers gedigens
gemeynliche / irloben dien Gärtnern / dien Obzernj vnd dien Menkeüern ein
zvnft... FW№8Q.
При значительном объеме придаточного предложения данное явление
наблюдается и в поэтических текстах: des herren jamer wart so groz ( daz
im der ougen regen vloz | rüder üfdie bettewat Gr 211—13.
106
Для сложного глагольного сказуемого и в главном, и в придаточном
возможно несколько вариантов расположения его частей: 1) полная рамка,
2) неполная рамка, 3) контактное расположение в разных позициях в
предложении. Ср. все три варианта для самостоятельного предложения:
ich han den helt da vur erkant Pz 50, 25; ich hän uns vunden einen rat |
der uns ze staten gestat Gr 487—88;
Ein tavel wart getragen dar | der vrouwen diu daz kint gebar ... Gr
719-20.
Тенденция к рамочному расположению частей сложного глагольного
сказуемого усиливается параллельно с увеличением числа и разнообразия
аналитических глагольных форм, что» по мнению В.Г.Адмони, играло важ-
ную роль для структурной организации немецкого предложения [Адмони
1963,99].
В семантике и структуре сложного предложения в данный период наблю-
дался ряд особенностей.
Не всегда четкой являлась граница между сочинением и подчинением,
чему способствовали два момента. Во-первых, еще не вполне оформились
и размежевались группы сочинительных и подчинительных союзов. Боль-
шинство союзов употреблялось в обоих типах предложений, неопределен-
ной была к тому же граница между союзами и наречиями, из которых
союзы как разряд служебных слов еще не полностью выделились. Во-
вторых, как уже отмечалось, придаточное предложение не обрело еще
строго фиксированного порядка слов, что усиливало неопределенность
границ между сочинением и подчинением [Строева 1940].
Так, do в качестве союза имело значение 'когда', а в качестве наречия—
'тогда', da — 'где' (союз) и 'там (наречие места), пи — 'когда' (союз) и
'теперь, ныне' (наречие времени). Иногда оба значения (и — соответствен-
но — обе функции) объединялись: ли die das land besazen.. .do woltent's
alle kunigelin unde herren von in selben sin Tr 435 когда они уселись на
землю... тогда они все захотели быть корольками и сами себе господами.
В отдельных случаях пи имело и каузальное значение: пи im der wec
da was benomen,\ er versucht ez an die krumbe... Tr 17434, т.к. путь
его был занят, он пытался обойти кругом. Из-за нечеткости границ между
союзами и наречиями союз не всегда занимал свое место в придаточном
предложении, а мог, относясь к придаточному, находиться в главном:
ir habt wol е vernomen daz | der lente, unt daz er selten saz Pz 794, 27 Вы,
вероятно, слышали (это), (что) он лежал и что он редко сидел?
В отдельных предложениях daz могло выступать и в указательной, и в
относительной функции, ср. у Бертольда: Wer daz redet, daz er wol waizz
in seinem herezen, daz nicht war ist, daz sind lug Berth2 249, 95—96.
Сочинительный союз und мог выполнять подчинительную функцию,
ср.: ich erkannte in wol, und sähe ich in Gr 3724*Я узнал бы его, если бы
только увидел; tuo ir swaz du wellest und nxmest ir den lip, daz sold ich
wol verkiesen NL 1781, 1 'делай с ней, что хочешь, и даже если бы ты отнял
у нее«жизнь, я это стерплю'.
Кроме того, присоединяясь к другим союзам или относительным словам,
und как бы усиливало их подчинительную функцию; при этом сочетались
die wile und 'до тех пор', damit und; und die и т.д., ср. у Бертольда Реген-
сбургского: davon begert er ouch irdenischer dinge, und die ouch der sele
107
gar wider sint'oH желает еще земных услад, которые вредны душе Berth
241,36.
В ряде случаев нечеткими были семантические связи между придаточ-
ным и главным предложением. В работе де Бора, посвященной изучению
некоторых синтаксических особеностей в языке архаической поэзии конца
XI — начала XII вв. [de Boor 1926; 1927], намечается три типа связи пред-
ложений: асиндетическая связь, союзная связь и анафорический тип связи
с помощью местоимений и наречий. В первом и последнем случаях логи-
ческие связи между предложениями оказывались особенно неопределен-
ными [de Boor 1926, 258]. В известной мере эта семантическая и формаль-
ная неопределенность сохраняется и позднее, что объяснялось к тому
же и диффузнойностью значений у ряда союзов. Особенно характерно
это было для таких союзов, как daz, so, нередко передававших лишь
общую подчинительную связь, но не уточнявших ее характер.
Многозначность daz может быть продемонстрирована следующими
. примерами: der kuneginne was vil leit | daz er also junger reit Er 143 коро-
леве было жаль, что он уезжал,такой молодой^—объектное придаточное;
die hiez man verbergen, daz weinten niht diu wip NL 253,3 *их приказали
похоронить, чтобы не плакали женщины' — целевое придаточное; ... mit
der geisel shioc daz sie mal da von gewan Er 53 '(он) ударил бичом, так что
она получила от этого следы' — придаточное следствия; daz si im ir minne
nit gebot | des lag er nach ir minne tot Pz 16,9 'так как, она не предложила
ему своей любви, он погиб от любви к ней' — придаточное причины.
Многозначность союза Sit (daz) определялась сочетанием в нем времен-
ного ('когда, с тех пор, как'), причинного ('поскольку, так как') и услов-
ного ('если') значений, причем, семантизация возможна лишь на основе
широкого контекста:
s& ich verlos Siefride, sit was muffreude zergan NL 1633,3 'с тех пор, как
я потеряла Зигфрида, (с тех пор) моя радость исчезла';
sft ich friunde hah | also vil gewunnen, so sol ich reden 13h | die liute
swaz si wellen NL 1259> 1 'теперь, когда (поскольку) я приобрел стольких
друзей, я могу предоставить людям говорить, что им вздумается';
Sit daz sin tot niht w*re | gewis noh offenbare | daz si da lenger beliben
Tr 96 'и (решили), так как смерть его не была определенной и очевидной,
остаться (подождать) его дольше'; Im rieten suie mage und genuoge sine
man | sit er uf starte minne fragen wolde wah | daz er dan eine würbe, diu
im möhte zemen NL 48,1 Тут посоветовали ему его родичи и его слуги,
если он хочет направить свои мысли на верную любовь, то пусть выберет
подходящую невесту'.
Причиной подобной многозначности были процессы развития у отдель-
ных союзов разнообразных абстрактных значений на базе более конкрет-
ной, преимущественно локальной и временной семантики, являвшейся
первичной. Так, als и swen (wanne) могли выражать время и сравнение.
Последний союз обозначал к тому же и условие, а позднее он мог переда-
вать еще и уступительное значение. Диффузность значения отдельных
союзов, сосуществование более новых и более старых значений порождали,
с одной стороны, богатую синонимию союзов, пересекавшихся в одном
или нескольких значениях: do, als, nu, wanne, alsS употреблялись со значе-
нием 'когда'; ob, so, sit совмещали в качестве синонимов уступительное
108
и условное значения; daz,^f daz, damit daz совпадали в своем финальном
значении, а wanta, wann(e), weil, da. ai die wile — в каузальном. С другой
стороны, как было показано на приведенных выше примерах, многознач-
ность вела к совмещению у одного и того же союза различных функций,
что также определяло специфику их употребления.
Около 1200 г., как отмечает Ф.Карг [Karg2 1929], в структуре сложного
предложения наблюдаются некоторые новые явления. На материале произ-
ведений Г .фон Ауэ он выделяет два типа гипотактических комплексов,
в которых главное предложение следует за темпоральным придаточным.
В комплексе первого типа зависимое предложение вводится dS или его
синонимами (nü, als, Sit, so), а главное сохраняет порядок слов само-
стоятельного предложение и открывается подлежащим. Данная конструк-
ция в целом выражает одновременность двух действий: дд ich mit ir ze ti-
sche giencjcfe/- wirf mich anderstunt enpfienc Iw 353 'в то время, как я
шел с нею к столу, меня снова приветствовал хозяин'5. Ср. также в "Лисе
Рейнхарте": Do Reinhart ze hove quam, | manic tier | sprach albesvndern
FR1835,37 'когда Рейнхарт появился при дворе, кое-кто из диких зверей
воскликнул... \
Второй тип отличается тем; что и главное, и придаточное вводятся do и
в этом случае действие зависимого предложения в преобладающем боль-
шинстве случаев предшествует главному: Do man den wirt begruop, do
schiet | sich diu riuwige diet Iw. 147,8 После того, как хозяина предали
земле, опечаленная толпа разошлась'.
Ср. аналогичный пример из Трегориуса": Вд die bürgere sahen | daz
schef dort zuo gahen, | do sazten si sich mit her | diesem scheff ze wer Gr
1851—54 После того, как граждане заметили маневры корабля, они собра-
лись выступить с войском против этого корабля'.
Таким образом, в гипотактических комплексах, несмотря на неразви-
тость системы союзов, а также способов дифференциации во времени
разных действий, относящихся к прошлому (плюсквамперфект в этот
период употребляется еще нерегулярно), используются иные средства
передачи временных и смысловых зависимостей отдельных частей гипотак-
тических комплексов: эти зависимости четко маркируются структурой
предложения: соотнесенностью союзов, порядком слов и тл. Отмечая
тонкое языковое чутье Г. фон Ауэ, ФЛСарг оставляет, однако, открытым
вопрос, насколько общими для разных памятников ХШ в. являются уста-
новленные им на данном материале закономерности.
Вторая из обследованных «DJCaproM [Kargt 1929] конструкций отно-
сится, напротив, к разряду синтаксических архаизмов — это так называ-
емая конструкция "ало койну" (атго'хог/сю) и близкая к ней конструк-
ция с глаголом heizzen.
Сущность этих конструкций заключается в паратактической асиндети-
ческой связи двух самостоятельных по форме предложений, объединенных
одним членом (подлежащим, дополнением), причем, второе предложение
является по функции относительным придаточным. Имеется несколько
вариантов реализации данной конструкции:
ouchveriuren sie thar weder viere undesehzig/ядл vielenvone therbiscoves
5 Автором использовано издание: ВепесЬе — Lachmann. Iwrän. Berim, 1877.
109
vanen Rl 4484 'они потеряли также шестьдесят четыре человека (которые)
пали под знаменем епископа9;
do spranc von dem gesidele herHagene also sprach — Kudrun 538 'тогда
вскочил господин Гаген (который) сказал так';
derheteem bruoder, \ hiez Ludewich Kehr 15606 'у него был брат (кото-
рый) назывался Людвиг9;
da bi lit ein tont \ heizet Endian SuM 256,3 'там лежит страна (которая)
называется Индией '[Kargt 1929,10 15].
Всего Ф.Каргом обраружено 270 случаев употребления конструкции
"апо койну" и 321 случай использования конструкции с heizzen. Однако
основная масса примеров представлена в дорыцарской литературе различ-
ных стилевых уровней, а позднее — в "Нибелунгах" и "Кудрун". Отдельные
примеры имеются, впрочем > и в рыцарской поэзии, ср. в "Парцифале":
unt des pfkge ein кипес I hiez Anfortas ... Pz 519,12 \ .. король (который)
назывался Анфортас9. В религиозной поэзии и в прозе подобные случаи
встречаются, по данным Карга, редко [Karg 1929,51].
Синтаксическим архаизом является и так называемая аттракция в
относительном предложении, т.е. управление относительным местоимением
со стороны глагола главного предложения: sie gedächt ouch maniger leide,
der (род. п., управляемый глаголом gedacht) ir da he imegeschachNL 1391,4
'она подумала о тех многочисленных бедах, которые случались с ней на
родине9; alles das verpflac, des (род. п., управляемый глаголом verpflac)
im ze schaden mohte komen Iw 5338 '(они) позаботились обо всем том,
что могло ему повредить9.
К числу архаических явлений относится и употребление личных местои-
мений в качестве средства связи двух предложений, т.е. в той же относи-
тельной функции, ср. из текста средневековой проповеди: chomet her zu
mir, sprichet er, ir da mit arbeiten lebt 'грядите ко мне, говорит он, вы
(которые) живете в нужде9 [Строева 1940,86].
Во всех рассмотренных выше случаях архаические явления наблюдались
при выражении относительной связи между предложениями.
Следует также упомянуть о некоторых процессах в структуре субстан-
тивных словосочетаний. При имени существительном теперь более регуляр-
но, чем прежде, употребляется артикль, ср.: von dem heiligen geiste (двн.
fona heiligemo geiste), das ewige leben (двн. Hb ewigan) [Eggers 1965,29].
Это ведет к изменениям в структуре атрибутивных словосочетаний: центр
тяжести в выражении грамматических отношений переносится с окончания
на артикль, в связи с чем все более ограничивается употребление сильных
форм прилагательного.
По отношению к определяемому слову определение сохраняет в атрибу-
тивных словосочетаниях свободное расположение, т.е. может стоять в
пре- и постпозиции. Краткие формы прилагательного широко распростра-
нены и в целом, видимо, стилистически нейтральны. Однако постпозиция
прилагательного в краткой форме принадлежит определенным слоям
поэтического языка, особенно характерна она для поэтических формул
конца строк, ср. в "Хронике императоров99: Julius was ain guot knecht 267,
но: manic helt guot 310.
Характерно, что уже в "Короле Ротере" постпозиция определения встре-
чается почти исключительно в рифме.
110
В рыцарской литературе использование атрибутивных конструкций
с постпозитивным определением было более умеренным, чем в эпических
произведениях "дорыцарской" поры. Однако у Вольфрама, охотно поль-
зующегося формулами, данная синтаксическая конструкция представлена
довольно широко: der degen balt, der degen snel, der degen wol geboren, wapen
rot, die vrouwen wol getan и т.д., но и: scharpher strit, stille dagen, groz wip.
Иногда пост- и препозиция объединяются в одной конструкции, ср.:
der stolze degen junc Pz 48,17 'гордый воин молодой', или der wise degen
here Pz 25,15 'мудрый рыцарь славный9.
Уже при общей характеристике синтаксических процессов, наблюдаю-
щихся в немецком языке ХП—ХШ вв., попутно отмечались некоторые
жанрово-стилистические разграничения, связанные с распределением отдель-
ных синтаксических конструкций по текстам. Дифференциации затрагива-
ют также относительную частотность гипо- и паратаксиса и продуктивность
отдельных семантических и структурных типов придаточных предложений.
В поэзии на синтаксические явления "накладывались" в качестве моди-
фикатора и ограничителя особенности поэтической формы. Следует, конеч-
но, принимать во внимание и значительную хронологическую протяжен-
ность всего периода развития художественной литературы Высокого
средневековья, занимающего почти два столетия. Поэтому различия в
синтаксисе между языком дорыцарской и рыцарской поэзии основывается
не только на различии соответствующих литературных традиций, но и на
хронологических расхождениях, связанных с отдельными этапами в разви-
тии синтаксического строя немецкого языка.
Докуртуазная эпическая поэзия характеризуется опорой на простое
мало распространенное предложение, относительной продуктивностью
паратаксиса, а также того типа связи предложений, которую де Бор назы-
вает анафорической. Из архаических синтаксических явлений' здесь встре-
чается также асиндетическая связь предложений по типу "ало койну"
[Kai:gl9291,51].
В рыцарской литературе, а также в религиозных прозаических текстах
прослеживается постепенное усиление роли гипотаксиса. Увеличивается
также разнообразие структурно-семантических .типов придаточных пред-
ложений, используемых в текстах. Так, проповеди Б. Регенсбургского
обнаруживают большое разнообразие придаточных предложений даже
по сравнению с синтаксисом "Парцифаля", уже достаточно богатым разли-
чными типами гипотактических построений. В текстах проповедей пред-
ставлены придаточные времени и места, придаточные подлежащего, а
также нереальные предложения причины, условия, сравнения, уступитель-
ные придаточные и тл. [Roetteken 1884].
Различия в употребительности гипотаксиса и паратаксиса, а также в
продуктивности отдельных семантических типов зависимых предложений
наблюдаются, впрочем, и в рамках отдельных жанров рыцарской литерату-
ры, Так, еще К.Бурдахом были отмечены некоторые синтаксические осо-
бенности любовной рыцарской лирики древнейшего слоя (Дитмар фон
Аист, Кюренберг). В сложных синтаксических комплексах здесь преоблада-
ет паратаксис, а в гипотактических построениях представлены главным
образом простейшие типы связи с помощью nü, daz. des и др. [Burdach
1880]. Более сложные по семантике типы связей редки, слабо представ-
111
лены, например причинные придаточные предложения [Heymann 1903,330].
Напротив, у представителей куртуазного миннезанга, например у Ф. фон
Хаузен или Р. фон Хагенау, наблюдается значительное усложнение периода,
усиление продуктивности гипотаксиса и увеличение частотности предложе-
ний, выражающих причинные отношения. По наблюдениям Хеймана, у
Ф. фон Хаузен союз wände 'так как', 'потому что' встречается в два раза
чаще, чем у всех его предшественников, вместе взятых [Heymann 190$].
В ранних немецких документах ХШ столетия гипотактический тип
сложного предложения распространен, однако структура гипотактических
комплексов достаточно однообразна, преобладают придаточные, вводимые
daz, и относительные придаточные, вводимые относительными местоимени-
ями die, daz и др., ср.: Wie Albrecht von gotis gnaden Landgraue zu Duringen
vnde wie fridrich von den seibin gnaden zu Misne... Bekennen an diesem
offenen briue daz wie vns gutliche vnde vruntliche mit ein ander berichtet
vnde voreynit haben vmme alle die sache die zwyschen vns mochtin sin...
FW №1251.
Весьма близок к данному примеру по синтаксической организации
текста и другой отрывок из грамоты, вышедшей из венской канцелярии
в самом конпе ХШ в.: Ich Chunrat von Watenstain / vn ich Jakob sein
brveder... wir vergehen offenlich vn tven chvnt allen den die diesen brief
lesent oder hoerent lesen j... daz wir mit gyete willen vn mit zeitige rat
vnser frevndefalles daz lehenrecht daz... FW № 1731.
Встречаются, правда, и другие типы придаточных, в частности, условные
предложения, нередко также имеющие "формульный" характер5ср. посто-
янно повторяющееся в разных документах tut es not 'если это необходимо':
Es ist uf gesetzet, daz zwelf oder me, tut es notb ersamer und biderber
liute, wise und bescheidene, so undere diensthiten so under burgern, werdent
gesetzet... US Bd IV, 2.
Пунктуация в текстах грамот очень произвольна, отражает нечеткость
синтаксического членения предложения: в одних случаях придаточные
отделены от главного точкой, в других пунктуационно не выделены даже
самостоятельные предложения. В результате объем цельного предложения
оказывается в грамотах величиной довольно значительной, хотя и не всегда
определенной в своих границах.
Два культурно-исторических факта играли решающую роль в лексичес-
ких преобразованиях, происходивших на протяжении ХП-ХШ столетий:
2
формирование светской культуры рыцарства, а затем ее постепенный
распад и появление первых ростков культуры города. Кроме того, в тече-
ние всего периода сохранялось сложное соотношение светской и религи-
озной сфер, также направлявшее многие лексические и семантические
процессы [Wießner, Burger 1974,203].
Словарь данного периода отличается большой подвижностью: возникно-
вение и распротранение новых лексем сопровождалось оттеснением, архаи-
зацией, а иногда и исчезновением определенных лексических пластов
и отдельных лексем.
Появление и развитие светской художественной литературы, дававшей,
пусть условное и далекое от "быта", изображение жизни феодального
112
общества, привело к существенному расширению сфер номинации и — как
следствие — к пополнению и обновлению вокабуляра.
Неологизмы. В качестве ведущих этических понятий рыцарства
выступал набор таких лексем, как: еге, triuweyslaete,. nütze, zuht, tugent,
riuwe, buoze, arbeit, wah, minne, sadde и др.; "ёге — 'честь' — составляет эти-
ческую основу придворной жизни; triuwe — это 'верность вассала своему
господину, рыцаря — даме'; близкое значение имеет и stete — 'постоянство'
[Kienast i960,47]; таге'уменье владеть собою, гармоничность', zuht —
'куртуазное воспитание' и т.д.
Определенность значения употреблявшихся в рыцарской литературе
ведущих лексем являлась семантической особенностью слов, представлен-
ных в данной сфере [Klinisch 1974]. Относясь в большинстве случаев
к разряду семантических неологизмов, связанных с развитием рыцарской
культуры, слова эти были очень распространены в литературе и являлись
для нее традиционными.
Существовал также набор прилагательных, регулярно сочетавших-
ся с существительными, особенно-часто с антропонимами, таковы s*lic,
edel, tiure, stolz, hövesch, mute, ср., например: der edel kunec, der mute
kunec, sxlic, wip.
Новым этическим моментом в культуре рыцарства, нашедшим отраже-
ние в художественной литературе и ее языке, являлся культ женщины,
побуждавший рыцаря к подвигам и моральному совершенствованию.
Сублимация чувства проявляется в разработке целой системы определе-
ний, связанных со словом minne 'любовь' и приобретающих характер
устойчивых эпитетов: hohe, starte, rechte, sueze — таков набор повторяю-
щихся в разных произведениях определений, т.е. 'высокая', 'постоянная',
'настоящая, подлинная', 'сладостная' — любовь. В качестве устойчивых
определений дамы, возлюбленной выступают прилагательные edel, schoene,
reine, tiure, werte 'благородная', 'прекрасная', 'чистая', 'драгоценная',
'выдающаяся'.
Источником обозначения новых понятий являлся отчасти уже существо-
вавший словарь, переосмыслявшийся для новых целей; он дополнялся
созданием неологизмов на базе существовавших в немецком языке слово-
образовательных средств, а также — заимствованиями и кальками.
1. Семантические процессы. Существование светской и религиозной
сфер определяло двойственность сознания человека Средневековья и
порождало ряд семантических процессов, связанных с частичным перео-
смыслением слов религиозной сферы и появлением у них "светских"
значений, хотя возможно было и обратное.
Новое значение получили в этой связи такие слова теологической сферы,
как sele 'душа', wunne ''блаженство', geriade 'милость', gedinge 'надежда',
geloub 'вера', buoze 'наказание',troesten, 'утешать* [см. подробнее: Eggers
1965,127 и след.].
Семантические сдвиги прослеживаются при этом у значительного числа
лексем. Так, двн. sälig значило 'счастливый', а в рыцарской литературе
»Hb получает специфические значения 'прекрасный, совершенный, удачли-
вый в любви', ср. также sxlic wip 'благосклонная дама' [Götz 1958; Götz
1961]. Sorge 'любовная тоска' — имеет в рыцарской литературе многочис-
ленные синонимы: kumber, not, herzeleit, swaere, riuwe, ср. весь синоними-
8. Зак. 336 113
ческий ряд в лирике Рейнмара Старого [Götz 1961,501]. Arbeit — первона-
чально 'трудная работа, трудности9, затем — 'усилия, неооходимые для
того, чтобы добиться благосклонности дамы'. Специфичны в рыцарской
литературе значения слов wan 'ожидание, воображение, надежда' (< uuahen
'знать', ср. wizzan) и trost 'доверие, уверенность', ср. у Генриха фон Мо-
рунген: ein hügender wan unde ein wunneclicher trost — 'страстное ожидание
и сладостная уверенность' [Götz 1958, 369]. Подобные изменения явля-
лись результатом различных семантических процессов. Возможны были:
1) специализация старого значения в применении к условиям рыцарской
жизни (для s*lde, triuwe, riuwe); 2) возвращение к исконному значению
с его известной специализацией (для schmerz); 3) развитие периферийного
значения (у wan).
После работ Г.Гётца и других исследователей приходится осторожнее
говорить об изменениях значений многих слов, употреблявшихся в рыцар-
ской литературе. В большинстве случаев это не радикальные семантические
сдвиги, а развитие некоторых вторичных значений и появление новых
семантических оттенков у слов, известных еще с древности, что было
связано с социальными и культурно-этическими изменениями в обществе
[Wießner, Burger 1974,252 и след.].
Для рыцарской литературы в целом характерно известное пополнение
той части словаря, которая была связана с обозначением психологических
состояний и чувств. Особенного мастерства достигает в этом Готфрид
Страсбургский, ср. наблюдающийся у него переход в моральную сферу
слова edel—edeles herze 'благородное сердце', или построенные на мета-
форе minnesiech 'больной любовью', minneblind 'слепой от любви'. Харак-
терно, что он использует и слово, передававшее общее понятие о морали —
moraliteit.
Линия развития абстрактной этической и психологической терминоло-
гии, прослеживающаяся в светской художественной литературе, позднее
продолжается и углубляется в мистике. На примере слова influz можно
наблюдать совершающийся здесь отход от образного и более конкретного
по характеру значения: gotes thfhiz in die sele— это первоначально метафо-
ра, затем слово утрачивает образность, приобретая абстрактное значение
'влияние, воздействие'.
Бели источником определенной части словаря, употреблявшегося в
рыцарской литературе, была религиозная литература, то и светская лексика
оказывала, обратное влияние на теологические представления. Так, Гартман
фон Ауэ говорит о hövescheitgotteSyT.e. о куртуазное™ бога (Er 3461;
5517), что повторяется и Готфридом в Тристане" (Тг 15 552).
В дальнейшем уже в мистической литературе такой же перенос светских
понятий на религиозные происходит со словом tugent, tugenthaft: 'состра-
дание, милосердие' выступает как одна из добродетелей бога. Если в рыцар-
ской литературе minne, minnen обозначали и любовь к богу, и чувство
рыцаря к даме, то у Мехтильды Магдебургской соответствующие лексемы
используются исключительно по отношению тс богу.
В результате разнообразных семантических процессов, частично опирав-
шихся на социальные и этические изменения в обществе, усиливается
дифференциация словаря, связанного с развитием отдельных функциональ-
ных сфер, и создается та сложная семантическая структура слов, которая
114
может быть отчасти реконструирована на материале отдельных лексем.
Г .Эггерс делает такую попытку на примере слов warheit и zwifel.
У слова warheit в этот период несколько значений: 1) теологическое
значение слова ("божественная истина9 — gottes Warheit, ср. got heizt
uns ein warheit Pz 462,25); по-видимому, оно — первичное; 2) светское
значение слова, развивающееся в рыцарской придворной литературе
(warheit 'правда', противопоставленная luge 'ложь, выдумка') — как поэти-
ческая, художественная правда и 3) как простое соответствие реальности,
фактам [Eggers 1965,87].
Теологическое значение другого слова, zwifel — 'сомнение в божествен-
ном, в боге' сочетается с более общим "светским" значением 'недоверие,
сомнение, неуверенность в любви', развившимся, видимо, в обычном
бытовом языке [Eggers 1965,82].
У слова riuwe в данный период также обнаруживается три значения:
1) 'боль' (старое "светское" значение), 2) 'раскаяние' (теологическое
значение), 3) 'любовная тоска, печаль' (особенно часто у Фельдека) [Götz
1961,499,502].
Однако развитие на этом не останавливается, а постепенное разрушение
рыцарской культуры приводит к дальнейшим преобразованиям. Слово
stolz, имевшее в рыцарской литературе значение 'храбрый, мужественный',
в религиозной несет скорее негативный оттенок — 'высокомерный', vrevel
сначала — 'не знающий страха в бою', а затем 'грубый, дерзкий', zucht
'воспитанность', затем 'способ, путь воспитания'; tugent, обозначавшее
специфические достоинства рыцаря (дамы), превращается в общее понятие
добродетели. Слово leit первоначально выступает как антоним к'Йге, затем
оно получает более общее значение 'забота, мрачные мысли' и переходит
в иную антонимическую группу, противопоставляясь теперь уже таким
словам, как 'радость, любовь', Veige первоначально значило 'роковой,
отмеченный роком'. Таков Хаген в "Песне о Нибелунгах" — der... kuene
veige man (ср. в "Ивейне" veige vart 'роковая поездка'), затем 'обреченный
на гибель', а позднее — 'робкий'.
Постепенный распад этической системы, свойственный рыцарству,
ГШюллер показал на примере тех семантических сдвигов, которые проис-
ходят с группой ведущих слов рыцарской литературы — minne, ere, hoher
muot, arbeit, triuwe, mäze, tugent, sielde, sünde - в произведениях Ульриха
фон Тюрхейма, поэта, написавшего продолжение "Тристана" и "Вилехаль-
ма" [Muller 1961]. На первый план у Тюрхейма выдвигается понятие
верности в браке (triuwe), а höhe minne исчезает, как исчезает и все то,
что связано с завоеванием благосклонности дамы (hoher muot, arbeit, $re).
Анализируя состав этических понятий в "Ренневарте" У. фон Тюрхейма
("Rennewart", середина ХШ в.), В.Мюллер усматривает здесь не эпигон-
ство, а вполне сознательный отход от рыцарских канонов: либо ведущие
слова получают здесь новое значение, либо происходит "возвращение"
к исконному и, как правило, более общему значению: minne — это преиму-
щественно 'любовь в браке', а не 'рыцарское поклонение даме', hoher
muot — 'хорошее настроение', а не 'высокий внутренний настрой рыцаря',
arbeit — 'трудности, сложное положение' (антоним-gemach), niaze-л ишь
'умение владеть собой', а не 'внутрення гармония'. У Бертольда т&е еще
115
более конкретизируется в своем значении, приобретая оттенок 'умере-
ность' — в еде, питье и т.п.
Формально весь набор традиционных лексем еще продолжал существо-
вать, и разделить старые и новые оттенки в значениях этих слов довольно
трудно [Müller 1961]. Можно сказать только, что именно тонкие, трудно
уловимые семантические различия между отдельными синонимичными
лексемами, не всегда ясные современному исследователю, нередко служи-
ли основанием для функционального распределения синонимов.
В работе Й. Трира [Trier 1931], где изучалась семантическая структура
группы слов со значением 'разум, ум, уменье9 в языке XII—ХШ вв., наряду
с обнаруженными исследователем сложными семантическими дифференци-
ациями слов данной группы, образующих в совокупности "поле", им были
показаны и некоторые жанрово-стилистические разграничения в использо-
вании отдельных лексем. В духовной литературе основными лексемами
являлись verminst / Vernunft и wistuom, различия между которыми, хотя
и не вполне четкие, связаны с понятиями'разума как врожденной способ-
ности> и 'ума, приобретенного благодаря обучению9. Встречаются здесь
и list и chunst, причем, совокупность liste 'умений9 иногда обозначается
как wisheit.
В светской литературе разных видов — в героических эпических поэ-
мах, в "шпильманском99 эпосе и в рыцарской литературе - verminst/
Vernunft, напротив, не представлены (они встречаются только в "Хронике
императоров") [Trier 1931, 187].. Wisheit (wistuom) и list — это наиболее
частое сочетание синонимов в "Песне о Роланде", "Короле Ротере", "Салма-
не и Марольфе" [Trier 1931, 193 ], причем, list представляет более низкую
сферу умений, тогда как все, что связано с умением рыцаря, обозначается
словом kunst. Правда, у Готфрида и у Фельдеке центральное место занима-
ет wisheit, тогда как kunst используется мало. Напротив, у Вольфрама
в "Парцифале" wisheit встречается редко, — но здесь употребительно
kunst, а в качестве синонимов выступают sinne, witze, list.
Тем самым обнаруживается довольно сложное и не во всех деталях
ясное функциональное распределение отдельных слов, входящих в данное
семантическое поле. Дифференциации наблюдаются между религиозной
и светской литературой, а также между дорыцарской и рыцарской поэ-
зией, причем в последней группе памятников выявляются и индивидуаль-
ные склонности, связанные, видимо, и со стилистическими^ с семантичес-
кими моментами.
2. Словообразовательные процессы. В отношении словообразовательных
элементов наиболее отчетливо противопоставлены в рассматриваемый
период светская художественная литература и теолого-философская проза.
Вместе с тем, их различия реализуются на фоне ряда общих для всех сфер
использования немецкого языка словообразовательных процессов.
К числу суффиксов, продуктивных в разных видах письменности, отно-
сится суффикс nomina agentis - xr(e), - ягшпе (для ж.р.). Суффиксы
абстрактных имен существительных -heit, -keit, -nis, -tuom, Hing, -schaft
представлены в художественной литературе умеренно, но зато они чрезвы-
чайно продуктивны уже в ранней мистике у Мехтилвды Магдебургской,
что неоднократно отмечалось при характеристике ее языка. Сравнение
произведений Г. фон Аэу и Мехтилвды Мащебургской обнаружило, что
116
употребительность образований с -heit, -keit, -unge, -nisse у Мехтильды
примерно в шесть раз выше, чем у Гартмана, что связано с чрезвычайным
богатством абстрактного терминологического фонда в мистической лите-
ратуре.
В поэтическом языке рыцарства продуктивны для наречий и прилага-
тельных суф. -los и преф. im-,имевшие отрицательное значение, ср.: wegelos
'без дороги', liutlos 'безлюдный', liplos 'безжизненный', ruowelos 'беспокой-
ный'; преф. un- встречался и за пределами рыцарской литературы (ср. у
Г.Глихезере в "Лисе Рейнхарте" unnfize 'неумеренность', unminne 'нелю-
бовь', unwert 'позор'). Образования с un- были употребительны в сочине-
ниях мистиков: untriuwe 'неверный', unloben 'порицать', ungesund 'боль- %
ной', ср. также у мистиков endelos, sinnelos, grundelos 'бесконечный',
'бессмысленный', 'бездонный', 'беспричинный' [Tschirch 1969, 80—81].
Для имен существительных используется словосложение, распростране-
ние которого в языке, правда, еще довольно умеренно [Schieb 1970,369].
Однако в рыцарской литературе наряду с традиционными сложными слова-
ми (dienstman 'вассал', hoh(ge)zit 'свадьба', husfrowe 'хозяйка дома,
госпожа') представлены и окказиональные образования, часть которых
относилась к поэтизмам. Они часты у Г.фон Ауэ, В.фон Эшенбах, Г.Страс-
бургского, уже ясно ощущавших то богатство семантических оттенков,
которое заключалось в сложных словах.
К числу сложных слов, представленных, например, у Гартмана, относят-
ся: ebenwac 'морская поверхность', goltknopf 'золотая пуговица', hasen-
wind 'гончая за зайцами', sperweide'удар копья', wazzerreise 'морское
путешествие', armwip 'нищенка'. Много сложных слов у Вольфрама, среди
них имеется значительное число неологизмов, ср.: houbtgewant 'головной
убор', toufnapf 'крестильный сосуд', nebeltag 'туманный день', vartmuede
'утомленный путешествием'. Множество неологизмов—сложных слов
у Готфрида, ср.: koufschif 'торговый корабль', zwivelburde 'бремя сомне-
ний', minneblint 'слепой от любви', loupgruene 'зеленый как листва'
[WiejSner, Burger 1974,223 и след.].
3. Заимствования. Одним из средств пополнения словарного состава
немецкого языка ХП—ХШ вв. являлось заимствование иноязычных лексем.
Вопрос этот довольно изучен [Wießner, Burger 1974: öhmann 1951 и 1974],
поэтому соответствующие процессы будут охарактеризованы лишь очень
кратко.
Художественная литература куртуазной поры испытывала сильное
влияние французского языка, тоща как в дорыцарской литературе иноя-
зычные лексемы были мало употребительны. Правда, в эпической поэзии
XII столетия, особенно при переложении французских образцов, встреча-
ются отдельные французские слова, ср. в"Песне о Роланде"—barke, karbun-
kel, palas, tanz, vassal; в тексте "Песни об Александре" из Форау пред-
ставлено рш 'награда' [WiejSner, Burger 1974,208]. Г. фон Фепьдеке в "Энеи-
де" и "Св. Серватиусе"уже употребляет французские слова,хотя еще доволь*
но умеренно, сближаясь в этом отношении с рейнской литературней тради-
цией — страсбургским "Александром", "Ротером" и "Герцогом Эрнстом".
Ср.: baldekin 'багдадский шелк', blenke 'белая краска', soldir 'наемный
воин' [Wießner, Burger 1974,208].
117
Для рыцарского романа классического периода французские заимство-
вания весьма характерны, хотя в их употреблении имеются различия в
зависимости от автора. Много заимствований у Г. фон Ауэ (banier 'знамя',
ensdiiunpfieren 'побеждать', zimieren 'украшать', tumieren 'участвовать
в турнире', f asan 'фазан' и т л.), но постепенно число их сокращается: если
в "Эреке" представлено 71 иноязычное слово, то в "Ивейне" их лишь
37 [Wießner, Burger 1974, 209]. Значительно число иностранных слов
у Вольфрама,, что соответствует несколько "барочному" стилю его "Парци-
фаля", ср. здесь: gWvin, lanze 'копье', zimierde 'украшение на щите', walap
'галоп', nanze 'слово побежденного', а также barun, garzun, vißn и т.п.
Часты у Вольфрама и заимствования из фламандского (baneken, trecken
и др., см. далее).
Несколько более умеренно представлены иноязычные лексемы у Г.Страс-
бургского, среди них обращают на себя внимание термины, связанные
с поэзией и музыкой: pastutfSle, fabele —'пастораль', 'фабула', schanztfo,
note, melodie - 'песня', 'нота', 'мелодия* [Wicßner Burger 1974 209-10].
Некоторое число заимствований имеется и в "Песне о Нибелунгах", тако-
вы: harnasch 'кольчуга', matraz 'матрас', pusun 'напиток', samit 'бархат',
scapl 'венок', buhurt *натиск', erzeriie 'лекарство', garzun 'паж', tjoste
'удар'.
Параллельное использование иноязычной и собственной лексемы ведет
к появлению в текстах синонимических пар или рядов. Так, в "Эреке"
встречается anus/vriunt, в более поздних произведениях anus исчезает
и в "Эреке", и в "Ивейне" используются garzun и knappe« В "Песне о Нибе-
лунгах" представлены три синонима garzun / knappe / knecht, из которых
наиболее часто употребляется последний [Wießner, Burger 1974, 212].
Из синонимической лары kurtois / hövesch первое слово здесь не встреча-
ется вообще, а второе представлено в единичных случаях. Вольфрам пред-
почитает в последних книгах „Парцифаля" kurtois, Готтфрид — hövesch.
Hövisch, hovefich (калька с французского courtois) впервые появляется
еще в "Песне о Роланде", ср.: hoverscare (< hovesk); в "Хронике импера-
торов" представлено hovebare, а в "Короле Ротере" - hovisheit [Wießner,
Burger 1974, 212]. Из других синонимов назовем для данного периода
kumpanfе / gesellschaft, amur / minne, Chevalier / ritter (последнее слово —
нижнефранкская калька с французского), ger/ sper/Janze.
Наблюдаются некоторые разграничения в употреблении французских
заимствований в разных жанрах рыцарской литературы. Так, в романе
иноязычных лексем больше, чем в миннезанге. У Фельдеке представлены
в песнях anus, poisun, pns, у Рейнмара заимствований нет почти совсем,
а у Вальтера фон дер Фогельвейде, особенно резко выступавшего против
употребления иностранных слов, встречаются только palasjpnb, prueven,
schapel.
• В целом за период до 1400 г. было заимствовано около 2000 француз-
ских лексем, однако в интересующий нас период реально употребительным
было значительно меньшее число лексем, из которых в современный немец-
кий язык вошло лишь немногое, и преимущественно это слова наиболее
общие по своему значению (falsch, rund, fein, hurtig, Tanz, Teuer, Lampe
идр.).
Французское влияние осуществлялось, видимо, не только через пись-
118
менность, оно шло и через устную речь рыцарства. Об этом свидетельствуют
целые "блоки" французских выражений, встречающиеся, например, в
"Парцифале" и 'Тристане": "fil li roi Gandui" Pz 10, 15; "gentil rois,
edeler kunec curnewalois'Tr 3354, а также merzi, granmerzi и т.д.
В распространении французских заимствований значительной была
роль пограничных областей — Швейцарии, Лотарингии, а также Фландрии
и Брабанта. Вместе с тем северо-запад и сам оказывал влияние на немецкий
язык ХП—ХШ столетий. Через Фландрию проникает, видимо,
нид. wapen (ср. в песнях Гартмана des winters wapen 'оружие зимы'),
а также нид. ors 'конь', в результате чего создаются синонимические пары
wapen/wafen, ors/ros. Немецкое ritarre, riter вытесняется ritter (< нид.
ridere), ср. приводимую Виснером в этой связи рифму ritter: bitter [Wieß*
пег, Bürgerl974, 216]. С севера проникают, видимо, klar 'ясный', gehiure
'прекрасный', kluoc, wert, bilde 'радостный' (ср. плеонастическую пару
bilde unde fr о), а также глаголы baneken 'прогуливаться*, snacken 'гово-
рить', trecken 'тянуть', В отдельных случаях используется заимствованный
уменьшительный суф. -kin: ср. у Готфрида schapeüekin 'веночек', у Воль-
фрама pardisekm 'куропаточка' и bhiemitön 'цветочек' у Ульриха фон
Лихтенштейн.
Наличие иноязычных, прежде всего французских лексем и фламандско-
нидерландской лексики служит не только одной из ярких примет поэти-
ческого языка рыцарства. Уже обращали внимание на то, что некоторые
заимствованные лексемы встречались только в романе, являясь тем самым
признаком "эпического" стиля художественной литературы, таковы:
tjost, buhurt, garzuiu В то же самое время и отношение к заимствованиям,
и их состав маркирует и различия, наблюдающиеся между языком разных
функциональнах сфер, т.е. между художественной литературой, с одной
стороны, и языком религиозной и деловой прозы данного периода — с
другой. В проповедях Бертольда Регенсбургского французских заимство-
ваний нет, если не считать нескольких единичных лексем, связанных с
обозначением реалий "рыцарской" жизни — таковы tanz, tenzer, turneier.
Мистики тоже мало пользовались иностранными словами, хотя большую
роль в их интеллектуальном и эмоциональном терминологическом словаре
играли кальки латинских слов, появляющиеся уже в переводах произведе-
ний схоластики, а частично еще более древние (uzfluz, üzgaunge < лат..
emanatio; grund < лат. fundamentarum; gebruchung < лат; fruitio) [под-
робнее см.: Eggers 1965,187 и след.].
В деловой письменности ХШ в., также опиравшейся на латинские образ-
цы, представлены заимствования из латыни, связанные главным образом
с официальной административной и правовой терминологией, ср.: majesfcet,
zepter < лат. majestas, sceptrum, а также с другими тематическими груп-
пами, ср.: körper, poete < лат. corpus, poeta и др.
Архаизмы. Наряду с разнообразными процессами, приводившими
к обогащению словаря немецкого языка, выделяется группа лексем,
которые в течение рассматриваемого периода постепенно выходили из
употребления или функционировали в качестве архаизмов, способствуя
созданию стилистических разграничений.
Как уже отмечалось, героические эпические поэмы докуртуазной поры
отличаются весьма ограниченным типизированным и традиционным сло-
119
варем. Часть употреблявшихся здесь слов, видимо, уже являлась устарев-
шей, и в дальнейшем их использование в памятниках было ограничено.
Таковы обозначения воина — degen, recke, helt, wigant, а также magdin
'девушка', vriedel 'возлюбленная', wine 'друг', таге 'боевой конь', brünne
'панцырь', urliuge/wic 'битва', eilen 'сила', Schaft 'копье', bouc 'кольцо',
hervart 'военный подход', ecke 'лезвие', wal 'поле битвы'. В рыцарской
литературе классической поры эти и другие подобные им лексемы пред-
ставлены мало, но часть из них эпизодически встречается.
Архаизмы нередко задерживались в рифмах, во многом опиравшихся
как раз на традиционные элементы. Так, если в "Короле Ротере" еще
используются urliuge и degen, а также halt, то лу Г.фон Фельдеке они
отсутствуют. Г. фон Ауэ почта не употребляется wigant wie, а balt встреча-
ется у него редко. Гартман высмеивает употребление таких выражений,
как der degen m*re 'знаменитый воин' и (die) stolzen beiden 'гордые
воины'. Ему вторит и автор прозаического "Ланцелота", относящегося
к XIII столетию. Однако отдельные авторы, избегая одних архаизмов,
обычно употребляли другие, ср. у Фельдеке: der here Amor hat mich
geskoten met den guldinen gere En 9917 'прекрасный Амур поразил меня
золотым копьем'. Из рыцарских поэтов к архаизмам наиболее сильно
тяготеет Вольфрам фон Эшенбах. Он часто употребляет wigant и degen,
а также balt, wie, ger. Однако эти архаические элементы представлены
у него или в рифме (wie), или в ^формульных" частях текста, ср.: der
stolze degen junc Pz 48, 17, der wise degen here Pz 25, 15, ir habet so
manegen degen balt Pz 26, 6, Gawan der degen balt Pz 601, 14—15 и т.д.
Здесь же несколько раз встречается архаическое urliuge, представленное
также уГартмана (один раз в "Эреке", три раза в 'Трегориусе") и уГотфри-
да (восемь раз).
Наибольшее число архаизмов употреблялось, однако, в таких эпических
произведениях поздней поры, как "Песнь о Нибелунгах" и "Кудрун".
В "Песне о Нибелунгах" имеется около^50 слов, вообще больше нигде
не засвидетельствованных, среди них brutmiete 'приданное', heimgesinde
'челядь', tarnhut 'шапка-невидимка', swertgenoz, herzevient и т.д. Из
архаизмов здесь представлены ger (наряду со sper), wTgant, degen, recke,
urliuge (несколько случаев), magedm, vriedel (4 раза); последняя лексе-
ма в рыцарском романе не употребляется, но она встречается в миннезан-
ге и у мистиков.
Известные изменения прослеживаются и в самой религиозной литерату-
ре, что оказывает влияние и на другие сферы письменности. Так, wlhan
'дух' заменяется на geiste, truhtm 'господин' (о боге) на herr(e) , слово,
употреблявшееся ранее только в светском значении; исчезает tult 'церков-
ный праздник' и утверждается в этом значении vest. Ср., однако, в тексте
проповеди середины ХП в. tult, trehtin (SpEc 83). Лексема trehtin 'гос-
подь' встречается единично у Гартмана, чаще у Готфрида, а у Вольфрама
и в "Нибелунгах" данного слова вообще нет; ср. также trehtin, trächtin
в текстах "Лиса Рейнхарта" и "Фермера Хельмбрехта". Слово valant
'дьявол' вытесняется tiuvel, но первая лексема представлена и в "Короле
Ротере", и — единично в "Песне о Нибелунгах" (valant inne); изредка
она встречается в рыцарском романе ("Эрек", "Тристан") — преиму-
щественно в рифмах.
120
Исчезает в данный период и целый ряд нейтральных слов; dingen
вытесняется hoffen 'надеяться', behagen уступает gefallen 'нравиться',
vehen вытесняется hassen 'ненавидеть' и т.д. [подробнее см.: Tschirch
1969,100].
Вообще не все архаизмы полностью исчезали: нередко происходило
вытеснение слова лишь из определенной функциональной, сферы: так,
urliuge исчезает из художественной литературы, но еще долгое время
сохраняется в деловой и религиозной прозе (ср. у Бертольда: vrlewgen
и vrleug Berth2 253 и 261) [см. Guchamann 1964,118].
Таким образом, процессы архаизации определенных слоев немецкой
лексики частью являлись в стилистическом отношении нейтральными
и захватывали все виды письменности, а частью оказывались связанными
лишь с определенными функциональными сферами или с разными лите-
ратурными традициями. Стилистический отбор, характерный для рыцар-
ской литературы, в известной степени касался и архаизмов, но данная
тенденция проявлялась неравномерно у отдельных 'авторов и даже в
отдельных произведениях одного и того же поэта. Стилистическое рас-
слоение самих архаизмов, их распределение по разным стилистическим
уровням — от высоко-торжественного до бытового, разговорного увеличи-
вали различные дифференциации в их использовании и осложняли общую
картину их употребления.
ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
И НЕКОТОРЫЕ НАДДИАЛЕКТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
XII—XIII столетия характеризуются интенсивной обработкой немец-
кого языка в художественной и религиозной литературе, а к концу
периода отчасти и в деловой прозе. Художественная, теолого-философская
и проповедническая литература отличалась наиболее высокой языковой
культурой.
По сравнению с предыдущим периодом неизмеримо выросло число
письменных памятников и увеличилось их тематическое и жанровое
разнообразие, что сопровождалось расширением социальных кругов,
причастных к созданию и восприятию (слушанию, чтению, устному вос-
произведению) текстов. Произошло постепенное приобщение к образова-
нию некоторых кругов мирян, усиливалась роль низшего духовенства
и была разрушена монополия монастырей в деле создания и распростра-
нения "книжной" рукописной культуры. Результатом всех этих процес-
сов явилось увеличение функционального многообразия литературного
языка, используемого! в разных видах письменности.
Наиболее сложна стилистическая структура художественной литерату-
ры. Стилистическая характеристика средневекового литературного
памятника складывается из ряда разнородных моментов: сюжета, раз-
работки отдельных мотивов, композиции, характера используемых
художественных приемов, а также некоторых языковых черт. При этом
языковой стереотип явно преобладает здесь над средствами, способными
обозначить индивидуальное, особенное.
Художественные произведения дорыцарской поры обнаруживают
довольно широкий стилистический диапазон: от героических эпических
121
поэм "высокого "стиля через произведения переходного тала ("Король
Ротер"), объединяющие разные стилистические пласты [Schröder 1957,
233], к массовой развлекательной ("шпильманской") литературе снижен-
ного стиля, не обнаруживающей, впрочем сколько-нибудь четкого комп-
лекса формальных (сюжет, композиция, язык) признаков, выделяющих
их среди других художественных произведений данной поры [ср. Benath
1963,415].
Все эти памятники имеют, наряду с различиями и некоторые общие
языковые черты. В синтаксическом плане душ них характерен ряд архаи-
ческих явлений: преобладание простых предложений, распространенность
бессоюзных и анафорических типов связи между ними, использование
паратаксиса на фоне неполного разграничения пара- и гипотактических
комплексов, а также наличие некоторых архаических средств относитель-
ной связи предложений (ало койну, аттракция и др.).
В лексическом плане эти произведения характеризует гетерогенность
словаря, в составе которого можно обнаружить и влияние более древней
устной этической литературы, и воздействие религиозной письменности,
и отдельные более новые элементы. Неоднородность лексики порождала
богатую синонимику в рамках отдельных понятийных групп (название
воинов, обозначение войны, битвы, оружия и т.п.) в составе в общем-то
достаточно ограниченного словаря соответствующих памятников.
Формульность, стереотипность, типизированность характеризовала и
сюжет, и разработку отдельных мотивов в произведениях дорыцарской
поры, и их язык. Общей стилистической чертой было использование
здесь повторяющихся эпитетов и особенно — постпозиция краткой формы
прилагательного в функции такого постоянного определения.
Число языковых явлений, способных дифферешщровать произведения
разных стилистических уровней, в этот период еще очень невеликог
преобладают одни и те же традиционные приемы, свойственные всей
дорыцарской литературе. Стилистическую "сниженность" отдельных
произведений развлекательной литературы докуртуазной поры создают
иные, чем в героическом эпосе, элементы сюжета (сказочные, приключен-
ческие мотивы), иное его строение (повторяющееся, круговое действие),
а также юмор и бурлескные элементы. Однако характеристики людей
и событий везде остаются обобщенными, стереотипными, а языковые
средства — очень традициогаьнде.
Если для дорыцарской литературы характерна прежде всего типизи-
рующая направленность, отсутствие индивидуального и индивидуализи-
рующего в языке, то рыцарской литературе свойственно уже сочетание
двух тенденщш: типизирующей и индивидуализирующей. Общее, типи-
ческое проявляется здесь в повторяющемся наборе этических и социальных
понятий и обозначающих их терминов, а также в ряде используемых
художественных приемов, ивдивидуальное — вносится автором, личность
и эстетические установки которого отчасти выступают как модифици-
рующий фактор. Общие стилевые и социальные моменты преобладают,
впрочем, и в эту эпоху над индивидуальными [Kuhn 1959, 123—129].
Взятая в целом, рыцарская литература характеризуется относительным
стилистическим единством, хотя некоторые внутренние стилистические
дифференциации здесь, безусловно, имелись. Если классический рыцарский
122
роман строился на строгом отборе языковых явлений с нейтральной
и высокой стилистической окраской, то лирика выступала в двух стили-
стических разновидностях — народной и куртуазной, синтез которых
осуществляется лишь в творчестве такого выдающегося миннезингера,
каким был Вальтер фон дер Фогельвейде.
Синтаксис рыцарской поэзии характеризуется развитием разнообразных
структурно-семантических типов гипотаксиса, интенсивным формирова-
нием системы подчинительных союзов, а также тенденцией к оформлению
своеобразного порядка шов. в придаточном предложении. На этом
фоне к специфическим признакам поэтического синтаксиса относятся
разнообразные инверсии порядка слов в самостоятельных и зависимых
предложениях, а также сохраняющаяся постпозиция краткой формы
определения.
Лексический состав языка рыцарской литературы характеризуется
обилием семантических и вокабулярных неологизмов, использованием
значительного числа иноязычных лексем, вкраплением отдельных архаиз-
мов, а в стилистическом плане — преобладанием нейтрального и высоко-
го языковых слоев.
Это богатство и разнообразие использующихся языковых средств и
их различная комбинация в конкретных произведениях создавали
индивидуальную стилистическую вариативность в пределах высокого и
нейтрального стилей произведений рыцарской литературы. Привержен-
ность к высокому стилю имела известную социальную подоплеку. Так,
Готфрид Страсбургский осуждает использование в литературе языка,
не являющегося куртуазным и не употребляющегося при дворе — (die)
spräche, die nicht des hoves si [Eggers 1965, 21]. Позднее Мехтильда
Магдебурга»* считала, что именно на этом изысканном придворном
языке, которого не услышишь на кухне (eine hovesprache, die man in
dirre küchen Kit vernimet), следует говорить с богом.
Наметившийся в последнее время новый взгляд на систему и развитие
литературных жанров ХП-ХШ вв [Rupp, 1960] позволяет представить
отдельные течения и хронологические разновидности литературы в их
относительной цельности. Дорыцарская литература связана рядом пере-
ходных произведений с рыцарской, хотя идейные и эстетические основа-
ния их не совпадают. Древняя эпическая традиция "просвечивает" в па-
мятниках докуртуазной поры, ощутимо оживая затем и в "Нибелунгах",
и в других произведениях подобного рода. Новое начало проявляется
в лирике и в рыцарском романе, где с большой художественной силой
изображается мир человеческих чувств. Вместе с тем наряду с литературой
высокого стилистического и художественного уровня в течение всего
периода, видимо, продолжала существовать и массовая развлекательная
литература, приспосабливающаяся ко вкусам и потребностям широкой
публики.
Язык рыцарской литературы представлял собой первьш опыт создания
на немецком материале поэтического языка, точнее — это первый доступ-
ный нам опыт подобного рода, так как более ранние формы поэтического
языка были связаны с устным героическим эпосом и почти не оставили
следов. Вместе с упадком рыцарства и его культуры затухает и данная
литературная традиция. Язык второй половины ХШ столетия заметно
123
"демократизируется": он больше опирается на местные локальные языко-
вые формы, и его стилистический уровень снижается.
В поздней рыцарской, а также в сатирической и дидактической лите-
ратуре XII-XIII вв. часто используется бытовая лексика и образы пов-
седневности проникают в художественные произведения, героями которых
становятся представители разных социальных слоев феодального общества
(рыцарь, купец, крестьянин, священник). Поэтому и в язык литературы
проникают в большом числе разговорные элементы и вульгаризмы, хотя
их не так много, как этого можно было бы ожидать. Даже те произведе-
ния, которые заметно отходят от рыцарской литературы ("Лис Рейнхарт",
"Фермер Хельмбрехт", песни Нейдхарта фон Рейенталь и др.) на самом
деле существуют и становятся понятными лишь в ее контаксте: отталки-
ваясь от нее, пародируя характерные для нее ситуации, художественные
средства, язык, они вместе с тем широко их используют.
Достаточно сложен вопрос о соотношении языка разных видов средне-
вековой немецкой письменности. Связи эти непросто обнаружить, а еще
труднее истолковать. Так, на раннем этапе развития немецкой мистики
и прежде всего в творчестве Мехтильды Магдебургской прослеживается
некоторая общность языка мистики с языком рыцарской литературы
(особенно с миннезангом). При этом играли роль не только личные склон-
ности Мехтильды и не только общая, хотя и косвенная зависимость ее
языка от определенных традиций, вне которых никакое индивидуальное
языковое творчество вообще немыслимо, но и известная психологическая
близость куртуазной и мистической литературы на основе их общего
интереса к внутреннему миру человеческой личности.
Вместе с тем проповедническая литература и прежде всего проповеди
Бертольда Регенсбургского с их ярко выраженной морализирующей,
дидактической направленностью, бесспорно, должны были оказать
влияние на всю систему этических понятий и на ее отражение в лексике
стихотворной новеллистики Штрикера с его облеченными в художествен-
ную форму дидактическими "примерами" (bispel).
Правда, иногда идейные различия между отдельными течениями за-
темняют то общее, что наблюдается в языке разных видов письменности,
как это было, например, в отношении схоластки и мистики. Резкое
отталкивание мистики от интеллектуального формализма схоластики
мешало обнаружить и проследить языковую преемственность между
ними, касающуюся, в частности, некоторых общих принципов кальки-
рования латинских теологических и философских терминов. Нужно
вообще сказать, что идеологические и культурные формы, функциони-
рующие в данный период, обнаруживают большую взаимосвязанность,
чем это считали до сих пор. Тем более эта преемственность характерна
для языка, более традиционного по своей природе.
Стилистическое варьирование немецкого языка XII—XIII столетий
сочетается с варьированием территориальным. Создают эти разные виды
варьирования различные совокупности языковых явлений: стилистическое
варьирование базируется главным образом на лексическом и синтакси-
ческом материале, тогда как территориальное — основывается преиму-
щественно на явлениях графико-фонетического порядка, а отчасти и на
' морфологических и лексических разграничениях.
124
Локальные характеристики выявляются в литературно-письменном
языке данного периода в виде двух противоборствующих тенденций:
тенденции к территориальным дифференциациям и тенденции к надди-
алектности, которые по разному представлены в отдельных видах пись-
менности и даже в отдельных текстах.
Территориальное варьирование, выявляющееся в письменности XII—
ХП1 вв., подробно охарактеризовано рядом исследователей [см. Guchmann
1964, где территориальная вариативность специально была предметом
изучения; ср. также для данного периода Schieb 1969; 1970 и др.]. Поэ-
тому здесь дана лишь самая общая характеристика локальной вариатив-
ности немецкого языка ХП—XIII вв.
В территориальном плане памятники дорыцарской литературы могут
быть разделены на две большие группы. К первой — относятся памятники
рейнского круга. Это страсбургский вариант "Песни об Александре",
"Король Ротер", "Орендель", "Святой Освальд", а также "Тристрант"
Э. фон Оберге, уже составляющий переход к рыцарской литературе.
Вторая группа памятников относится к баварско-алеманскому кругу.
Из наиболее значительных произведений светской художественной
литературы ХП в. сюда относится "Хроника императоров" и "Песнь о
Роланде" регенсбургского клирика Конрада [Guchmann 1964, 60 и след.].
Обе группы памятников обнаруживают целый ряд языковых расхожде-
ний, к числу которых принадлежат: разная степень реализации второго пе-
редвижения согласных, отражение спирантизации b и g во франкских памят-
никах, а также такие франкские формы, как sal, van, inde, противопостав-
ленные южным sol, von unde; из лексических расхождений можно назвать
франкск. biz/bit — южн. unz, соотв. her/he — er, hoffen — warnen, otmot —
demuot и др. [см. подробнее Guchmann 1964,54—55,79—80].
Противопоставление двух основных локальных групп памятников
сочетается со слабым разграничением отдельных ареалов внутри каждой
такой группы. В частности, слабо выражены для данного периода специфи-
ческие баварские и алеманские признаки в пределах южнонемецкой груп-
пы; неотчетливо также выделение отдельных ареалов внутри франкской
группы. Активное взаимодействие южной (преимущественно юго-восточ-
ной) и франкской литературных традиций, связанное с "оверхненемечива-
нием" памятников кёльнского круга, способствовало к тому же усилению
черт "надциалектности" в письменно-литературном языке данного времени.
Взаимодействие литературно-письменных традиций усиливалось тексто-
выми смешениями, т.е. объединением разно диалектных черт при переписке
рукописи, созданной в одном районе, переписчиком из другой области.
Это наблюдалось, например, в разных редакциях "Песни об Александре"
или в рукописи "Короля Ротера", объединившей средне- и южнонемецкие
признаки. Сама возможность такого объединения не являлась, однако, слу-
чайностью, но составляла специфическую особенность функционирования
языка данного периода.
Вместе с тем тенденции к наддиалектности, связанные с локальными
характеристиками литературно-письменного языка XII столетия, усили-
вались благодаря некоторым общим стилистическим и языковым приз-
накам дорыцарской литературы, таковы стереотипность повторяющихся
описаний, формульность, а также те общие синтаксические и лексические
особенности данной группы памятников, о которых говорилось выше.
Поэтический язык, представленный в рыцарской литературе XII—XIII
столетий, также выступал первоначально в двух, локальных вариантах:
франкском (рейнско-лимбургском) и юго-западном (швабском и верхне-
франкском)6 при ведущем положении последнего.
Характерно, что Г. фон Фельдеке, происходивший из нижнефранкской *.
области, также подстраивается к этой ведущей языковой традиции, что
облегчалось, видимо, тесными связями его язьжа с рейнским литератур-
ным вариантом. Это относится, впрочем, лишь к роману "Энеида", тогда
как лирика его тяготеет к лимбургскому диалекту. Ориентация Фельдеке
на верхненемецкий тип язьжа наиболее характерна для рифм его романа,
где устраняются те "непередвинутые" формы, которые при передвижении
могут помешать правильности рифмовки (типа tit : wit 'белый'). Поэти-
ческий язык лимбургско-рейнского (средненемецкого) образца, в
свою очередь, оставил некоторые рефлексы в язьже рыцарской поэзии
классического периода (ср. фламандско-нидерландские заимствования),
хотя он и не имел здесь прямого продолжения: с XIII в. на фламандско-
брабантской основе формируется и начинает свое самостоятельное развитие
средненидерландский язык. На немецкой территории основные культур-
ные центры формируются на юго-западе — в алеманской и франкской
областях, откуда родом были и все основные поэты классической поры.
Постепенно в развитие литературного язьжа включается эще один локаль-
ный компонент, а именно — восточносредненемецкий район с центром в
Эрфуте. Правда, этот ранний период в истории восточносредненемецкого
литературного варианта мало изучен, и характер происходящих здесь
языковых процессов еще не вполне ясен.
В языке рыцарской литературы, сформировавшемся на юго-западной
основе, отчетливо проявлялась тенденция к наддиалектности и относи-
тельной унифицированности. Правда, эта тенденция неравномерно охва-
тывала разные стороны языка: в основном она проявлялась в единстве
словаря и словообразовательных средств, в общих чертах и тенденциях
развития структуры предложения, а также в стилистических средствах
и особенностях поэтической техники. Меньшим было это единство в
фонетико-орфографическом плане, хотя и здесь различия были не столь
уж значительны.
Тенденция к наддиалектности проявлялась, в частности, в отказе от
наиболее отчетливых локальных признаков устных форм языка. К числу
таких особенностей относилось на юго-западе сохранение в безударном
положении старых долгих гласных. В рыцарской поэзии это явление не
было отражено, если не считать единичных примеров. Кроме того, на
юге поэты не употребляли баварского двойственного числа местоимений
ez, ös и enk, но формы эти существовали, и они вновь появляются в
памятниках после упадка рыцарской поэзии. Тенденцию к устранению
в текстах наиболее отчетливых различий между отдельными областями,
наблюдающуюся в рыцарской литературе, Ф. Чирх довольно удачно
обозначает как "негативный отбор" (Negative Auslese), ß наибольшей
6 Ср. несколько иную номенклатуру литературных вариантов у Г. Шиб, выделяющей
лимбургско-рейнский вариант поэтического языка рыцарской литературы и поэти-
ческий язык рейнско-майнско-дунайской области [Schieb 1969,153 и след.).
126
степени эта селективность, усиливавшая наддиалектный характер лите-
ратурного языка, проявляется, как уже неоднократно отмечалось, в
рифме [Erben 1962, 87]. Правда, в некоторых случаях в рыцарской ли-
тературе представлены явления, ограниченные в своем первоначальном
распространении. Так, у Генриха фон Тюрлин, баварца, в рифмах споради-
чески отражена прошедшая на юге дифтонгизация (karteis : pris, geleit:
: srt). Напротив, у другого автора из нижней Германии в некоторых риф-
мах находит отражение средненемецкая монофтонгизация (ginc : vrspring,
rinc : enphienc, mvnt: stunt) [Guchamnn 1964,117].
Другим проявлением тех же тенденций явилось, как и в литературе
дорыцарской поры, объединение разнодиалектных по своей соотнесен-
ности черт, легкость проникновения в тексты различных по ареальному
происхождению форм, в результате чего создается некий общий фонд
вариантов, ср. такие вариантные формы, представленные у большинства
рыцарских поэтов, как gah/gen, stan/sten, begann/begunde, na/nach,
sit/sider^ machte/mohte и др.
Признаком наддиалектности языка рыцарской поэзии является и его
распространение за пределами исконной области, т.е. в произведениях
поэтов других районов. На верхненемецком варианте писал Эйльхарт
фон Оберге, поэт из Брауншвейга, автор первого на немецкой почве
варианта "Тристана". Нижнемецкое происхождение Г. фон Морунген не-
заметно в его стихах, хотя в одном случае рифма и выдает его происхожде-
ние bat: nat вместо naz 'мокрый9. Альбрехт фон Хальберштадт, саксонец
по происхождению, извиняется в 1215 г. за некоторые нижнемецкие рифмы
в его верхненемецком переводе "Метаморфоз" Овидия. Вплоть да упадка
рыцарской поэзии нижненемецкие поэты продолжали писать на верхне-
немецком литературном языке.
Таким образом, наддиалектные тенденции проявляются в рыцарской
литературной традиции в весьма многообразных формах: в процессах
взаимодействия южнонемецких и франкских (западносредненемецких
и северозападных) особенностей; в отказе от употребления наиболее
резких местных черт, а также в слабом отражении некоторых относительно
более поздних фонетических процессов (дифтонгизация, монофтонгиза-
ция); в использовании поэтического языка юго-западного типа за предела-
ми исконной области его возникновения.
К этим процессам присоединялись и те, которые были связаны с общими
для всей рыцарской литературы языковыми и стилистическими признака-
ми. Они заключались: — ъ возникновении многочисленных лексических
и семантических инноваций; — в распространешш французских заимство-
ваний и в использовании фламандско-нидерландской лексики; — в строгом
стилистическом отборе языковых средств, общности художественных,
тцжемов, преобладании в рамках данной литературной традиции языко-
вых явлений .нейтрального и высокого стилистических слоев.
Не в последнюю очередь относительное единство рыцарской литературы
определялось близостью разрабатываемых в разных произведениях сюже-
тов и общими принципами их художественного воплощения.
Характеризуя поэтический язык рыцарской литературы, Габриеле Шиб
пишет: "Немецкий поэтический язык ХИ-ХШ вв. обнаруживает высокий
уровень стилизащш наряду со стремлением к наддиалектности, строгие
Т27
принципы отбора, базирующиеся на традиции и сопровождающиеся обо-
гащением языка заимствованиями, а также переосмыслением определенной
части исконного немецкого словаря" [Schieb 1969,149].
Сравнение языка разных видов письменности свидетельствует о том,
что степень наддиалектности языка отдельных групп памятников была
функционально градуирована. Лишь в одной только рыцарской литературе
выделяются несколько уровней проявления наддиалектных тенденций.
В рифмах словарь, словоформы и графико-фонетическое оформление
слов более унифицированы и "наддиалектны", чем те же языковые
явления, представленные в середине стихотворных строк. Степень отраже-
ния локальных признаков в какой-то мере различается также в зависи-
мости от жанра: так, она больше в рыцарских романах, чем в рыцарской
лирике (ср. особенно у Фельдеке), хотя эта общая закономерность не
проявляется одинаково отчетливо во всех произведениях, а во многом
зависит от автора и конкретной языковой ситуации.
Наддиалектные тенденции проявились, хотя и не с такой определен-
ностью, как в рыцарской поэзии, и в языке других жанров художествен-
ной литературы: в сатирических и дидактических произведениях Г. Гли-
хезере ("Лис Рейнхарт"), В. Садовника ("Фермер Хельмбрехт"), в шван-
ках Штрикера, а также в поздней рыцарской литературе XIII в. Правда,
литература эта весьма разноппанова по своим идейным и эстетическим
основаниям и в стилистическом отношении она отнюдь не составляет
единства. Общим для входящих в данный круг произведений являются
их известное "отталкивание" от канонов классической рыцарской ли-
тературы, их пародийно-сатирическая и дидактическая направленность,
а также большая или меньшая степень стилистической сниженности их
языка. Последний весьма пестр и здесь отсутствует тот строгий стилисти-
ческий отбор средств, который был характерен для рыцарской поэзии.
Соответственно ослаблены эстетико-стилистические стимулы наддиалект-
ности, действовавшие в литературе классической поры.
В территориальном плане сатирическая и дидактическая литература
связана с различными ареалами южнонемецкой области, а ее стилисти-
ческая сниженйость, нередкое обращение к бытовым подробностям
способствовали проникновению в тексты бытовой и разговорной лексики,
а вместе с нею и некоторых территориально маркированных языковых
признаков. Графико-фонетическая сторона текстов также отражает ряд
локальных явлений, хотя поздние рукописи и несовершенство ряда изда-
ний сильно затрудняет в некоторых случаях их атрибуцию.
Так, у Штрикера (StF), с одной стороны, сохраняются дифтонги(suezze,
giench, gebuer, blume), но представлены и монофтонгические написания
разного происхождения, не всегда к тому же ясные (min, din, hus, zit,
fus, muz), ср. также в рифмах riwe : triwe, gut/mut, но : gut/mut и тл.
Южнонемецкий характер языка автора проявляется в частом отражении
в графике передвижения к > ch (starchen, chan, chater, chrefte, ср. вариан-
ты chnecht/knechte) реже b > p (pibel).
Противоречивый характер носит и орфография "Лиса Рейнхарта",
сохранившегося в основном в переработке. XIV столетия, где наряду со
старыми монофтонгами (pris, din, sin, wip, ср. также рифмы Isegrin : sin,
128
Isegrin : min) представлены и некоторые новые монофтонгические написа-
ния mvste, zv, gnvc, но: buoz.
В религиозной проповеднической литературе и прежде всего в произведе-
ниях Бертольда Регенсбургского определить степень наддиалектности
языка нелегко из-за весьма запутанной истории создания текстов, а также
существенных недостатков, связанных с их изданиями. Тексты нескольких
проповедей Бертольда, изданных по рукописям Д. Рихтером {Richter
1969], свидетельствуют о значительных колебаниях в орфографии пропо-
ведей, язык которых относится к южнонемецкому типу. Старые дифтон-
га отражены на письме, хотя имеются исключения, видимо, графического
характера (tun, prüder). Новые дифтонги и "широкое" произношение
старых узких дифтонгов также представлены графически (ср. hochzeit,
-lein, hawswirtin, hymelreich; laiden, -hait). Часто встречается передви-
нутое k > ch (chnecht, charicher) и передвинутое b > p (Perichtolt, prüder).
Имеются отчетливые южнонемецкие особенности в оформлении отдельных
словоформ (ich sprich, ein äff) и словообразовательных элементов -leich,
-ly (stuckly).
Вместе с тем большинство лексических и синтаксических явлений,
а также ряд стилистических особенностей указывают на отсутствие
спонтанности и в построении текстов, и в их языке. Литературная обработ-
ка языка проповедей проявляется в известной "усредненности" пред-
ставленных здесь локальных признаков южнонемецкого языкового типа.
К тому же языковое мастерство автора превращает проповеди Бертольда
в выдающиеся литературные произведения.
В ранней деловой прозе ХШ в. письменный язык был наиболее сильно
территориально дифференцирован и представлял различные немецкие
области. Грамоты юго-запада частично отражали, например, диалектное
полногласие безударных слогов (ср. особенно Базель). Дифтонгизация
и монофтонгизация также находили, хотя и непоследовательное, отражение
в языке соответствующих областей. В связи с этим в деловом языке над-
диалектные тенденции хотя и были ослаблены, но отнюдь не сняты: они
проявлялись здесь в тех же формах, что и в других видах письменности:
в отказе от некоторых наиболее резких локальных признаков, а также
в возможности инодиалектных воздействий и вкраплений. Последнее
наиболее отчетливо проявлялось в воздействии языка юга (особенно
юго-запада) на Среднюю и Нижнюю Германию. Оно отражалось отчасти
в деловом языке Тюрингии, а также сказывалось в текстах ранних нижне-
немецких грамот, где представлены, например, вместо местных seggen,
hebben, -schap верхненемецкие sagen, haben, -schaft.
Характеризуя влияние южнонемецкого литературного языка на язык
северных районов, Бертольд Регенсбургский пишет: Also stet er umbe
die niderlender und umbe oberlender, daz manic niderlender ist, der sich
der oberlender spräche an nimet, т.е.: *B отношении жителей северной и
южной Германии дело обстоит так, что некоторые северяне заимствуют
язык южан9.
Сложным является вопрос о соотношении немецкого языка, исполь-
зовавшегося в канцеляриях, с языком других функциональных сфер,
в частности; с языком литературных памятников. Вопрос этот мало изучен,
9. Зак. 336
129
но в последние годы исследователи все более часто намечают определен-
ные связи между деловым языком и языком художественной литературы.
Так, ММ. Гухман отметила эти связи при изучении делового языка Кёль-
на, а также при характеристике языка юго-западных документов Базеля
и Страсбурга. Здесь прослеживаются общие черты, с одной стороны, с
языком рыцарской литературы классической поры, а с другой — с более
ранними литературными памятниками кёльнского круга [Guchmann
1964, 100, 116, 122]. Связи литературной традиции с некоторыми над-
диалектными тенденциями в языке грамот неоднократно устанавливались
и другими исследователями [Frings 1956, 5; Sparmann, 1961, 116; Erben
1962,88; Eggers 1965; de Boor 1975].
В стилистическом плане язык грамот имеет некоторые черты, свидетель-
ствующие об известной литературной обработке текстов и вместе с тем
отличавшие их от языка других функциональных сфер. Общность этих
черт определялась и тем, что жанровое разнообразие делового языка дан-
ного периода было еще относительно невелико. Правда, содержание и
построение текстов в частноправовых документах и городских книгах
было не столь традиционным, как в официальных княжеских и имперских
грамотах.
Развернутая синтаксическая структура предложения, представленная
в документах, указывает на "книжный" тип их языка, во многом опира-
ющегося на латинскую традицию. Об этом же свидетельствуют и формулы,
открывающие и заключающие грамоты, а также устойчивые элементы
фразеологии и словаря, встречающиеся во всех видах документов. Они
были связаны с административно-правовой сферой и отражали юриди-
ческие и имущественные отношения между людьми и их официальный —
профессиональный, имущественный, или социальный — статус. Все это и
создавало в совокупности те характеристики, которые позволяют уже
и на этом раннем этапе отнести язык грамот к складывающемуся офи-
циально-деловому стилю немецкого литературного языка.
Отмечая вместе с тем известную оспабпенность наддиалектных тенден-
ций в языке грамот по сравнению с другими видами письменности, следует
подчеркнуть чисто прагматическую ориентацию всей сферы делового
языка, не требовавшей особой тщательности в его обработке, и на отсут-
ствие здесь эстетических моментов, регулировавших использование языка
в светской художественной и — отчасти — в теологической литературе
[Семенюк 1981]. В силу чисто прагматических задач деловой письменности
стимулы эстетического характера, усиливавшие наддиалектные признаки
языка, здесь отсутствовали или были выражены весьма слабо.
Итогом культурно-исторического и языкового развития ХП—ХШ сто-
летий является постепенное изменение статуса литературного языка. Его
новое качество определялось усилением роли обработанных форм языка,
интенсификацией селективных процессов, по-разному проявлявших себя,
однако, в различных видах и жанрах письменности.
В рассмотренный период центральные сферы использования литератур-
ного языка составляли светская художественная литература, а также
теолого-философская проза; к периферийной сфере относится деловая
письменность, где использование немецкого языка еще только начинается
и где такие признаки литературного языка, как обработанное», селектив-
130
ность и наддиалектность выражены слабее, чем в центральных сферах
письменности.
Литературный немецкий язык данного периода, являясь, следовательно,
полифункциональным и стилистически дифференцированным образова-
нием, в полной мере сохраняет способность к территориальному варьи-
рованию. Оно основывается на локальном членении устного языка, хотя
в результате действия наддиалектных тенденций полного совпадения
литературно-письменных разновидностей языка с диалектной дифферен-
циацией ни в одной из функциональных сфер не наблюдается. Таким
образом, литературный немецкий язык отнюдь не обладает еще в XII—
XIII вв. единообразием, обнаруживая на всех своих уровнях тенденцию
к варьированию языковых средств, значительно усиливавшую нестабиль-
ность его системы.
ГЛАВА III
НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ЭПОХИ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ (HV-XV ВВ.)
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дискуссионное» принципов периодизации истории немецкого лите-
ратурного языка (см. "Введение" к данной монографии) особенно отчет-
ливо проявляется в отношении временного отрезка, отграничивающего
эпоху расцвета языка средневековой поэзии от периода, привычно обо-
значавшегося как "нововерхненемецкий" (Neuhochedeutsch). В .этой
связи спорным было применявшееся многими авторами наименование
этого периода (Frühneuhochdeutsch 'ранненововерхненемецкий'), опре-
деление его временных границ и даже целесообразность его выделения1.
Между тем выделение в развитии литературного языка исторического
отрезка, нижней границей которого является конец XIII в., а верхней —
вторая половина XV в., представляется необходимым по следующим
причинам.
К концу XIII в. намечаются существенные изменения языковой си-
туации в целом и особенно статуса литературного языка, закономерностей
его функционирования, природы варьирования — территориального,
социального, функционально-стилистического, а также соотношения
процессов территориальной дифференциации и интеграции. Данные
изменения были в конечном счете обусловлены коренными сдвигами,
происходившими в экономической, политической и культурной жизни
Германии в связи с обострением внутренних противоречий феодальной
системы и возраставшим значением городов.
Для судеб немецкого литературного языка наиболее существенными
были: 1) формирование городских наддиалектных койне — новой функ-
циональной страты, — призванных играть важную роль в развитии ли-
тературного языка; 2) преобразование социальной базы литературного
1 Основная литература по этим вопросам приводится в статье Г. Вольфа [Wolf 1971 ].
131
языка; 3) изменение соотношения немецкого литературного языка и
латыни вследствие интенсивного расширения сфер применения родного
языка; 4) смена ведущих центров развития литературного языка в
результате колонизации восточных земель, тем самым были прерваны
традиции литературного языка предыдущих столетий, ориентированного
на юго-западные центры; 5) образование территориальных вариантов
литературного языка и возникновение противоположных, объединитель-
ных, тенденций, формирование элементов надтерриториалыюй системы;
6) изменение стилистической системы литературного языка в связи с
появлением новых, преимущественно прозаических, жанров письменности.
Истоки многих перечисленных изменений восходят частично еще к
XIII в.; с другой стороны, в рассматриваемый период складывались пред-
посылки тех закономерностей, которые проявились с очевидностью лишь
в XVI в. и были связаны с началом процесса формирования литературных
норм будущего национального языка. Переходный характер данного
периода отмечался многими исследователями [Адмони 1963; Чирх 1969
и др.]. Его верхняя граница может быть условно соотнесена с появлением
печатных книг на немецком языке, резко изменившим условия функци-
онирования литературного языка и круг людей, которым была адресована
литература на родном языке.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ
1
XIV и XV века могут быть охарактеризованы как начало новой эпохи
в экономической, политической и культурной жизни Германии. Постепен-
ное вытеснение натурально-хозяйственных отношений товарно-денежными,
как результат бурного развития города, подрывало основы феодального
общества. Уже в XIII в. на западе страны расцветают богатые города —
Базель, Кёльн, Вормс, Майнц. Из швабских городов значительную роль
начинает играть Аугсбург, на территории Франконии — Нюрнберг, позд-
нее — городские центры Тюрингии и Саксонии. Немецкая промышленность
переживала в XTV в. значительный подъем. Изготовление тканей, ору-
жейное дело, токарное производство, выработка золотых и серебряных
изделий, рудное дело содействуют быстрому обогащению города. Город-
ское цеховое ремесло, производившее, особенно в крупных городах,
товары для широкого круга потребителей и даже на отдаленные рынки,
меняет лицо средневекового города, постепенно становящегося значи-
тельным экономическим и политическим фактором. Быстро растет число
городов: в 1200 г. оно составляло 159 единиц, в 1400 г. — 1150 [Tschirch
1969, 96]. В конце XIV в. расцвет средневекового города достиг своего
апогея. Однако развитие промышленности и торговли не привело в Гер-«
мании к политической централизации.
Падение династии Штауфенов (1254 г.) сопровождалось крахом феодаль-
ной империи. Когда после кровопролитных распрей между владетельными
князьями была вновь восстановлена императорская власть (1273 г), ее
функции оказались чисто эфемерными. Император был лишен общеимпер-
ской армии, общеимперских финансов и центрального административного
132
аппарата. Его положение ничем не отличалось от положения любого круп-
ного территориального властителя, которым фактически принадлежала
реальная власть в стране. Крупные владетели феодальных территорий
стали превращаться в почти независимых государей. "Золотая Булла"
Карла IV (середина XIV в.) узаконила распад феодальной империи и
официально закрепила политическую раздробленность Германии.
К тому же и политика городов не способствовала объединению страны.
На севере ганзейские города, на юго-востоке — Нюрнберг, на среднем
Рейне — Кельн имели свои особые интересы, свои торговые связи, свои
рынки сбыта. Они были нешособны к солидарности даже в случаях
конфликтов с князьями и высшим духовенством, конфликтов, в кото-
рых чаще всего победителями оказывались феодалы [подробнее см.
Guchmann 1964,127].
Для дальнейших судеб немецкого литературного языка важным было
то обстоятельство, что политическая, экономическая и культурная жизнь
Германии сосредотачивалась преимущественно вокруг не связанных друг
с другом центров. Неравномерное развитие отдельных районов приводило
к тому, что в разные периоды истории Германии различные области,
города и феодальные территории выдвигались на первый план. Гегемония
при Штауфенах прирейнских территорий сменилась в XIV в. подъемом
колонизованных областей на востоке Средней Германии и расцветом
конкурирующих с ними юго-восточных территорий. Передвижение
центра экономической, политической и культурной жизни в восточные
области определило ведущее значение этих территорий и в развитии
литературного языка; в XIV в. это было связано с пражским ранним
гуманизмом, формировавшимся при дворе Карла IV; в последующие
десятилетия центрами развития письменно-литературного языка становят-
ся Нюрнберг, Аугсбург, тюрингские и саксонские города. И хотя книго-
печатание в XV в. создается Гутенбергом в Страсбурге и этот город
остается одним из центров изданий печатных книг и в XV в., весьма
быстро ведущую роль начинают играть печатники Нюрнберга, Лейпцига,
Виттенберга и других городов на востоке Германии.
С потрясениями, которые переживала феодальная система, были свя-
заны и изменения в социальной структуре общества. Ослабление власти
императора, развитие денежно-товарных отношений повлекло за собой
резкое изменение экономического и шире общественного положения
рыцарства, игравшего при Штауфенах значительную роль во всей жизни
страны, поскольку императоры видели в них основную опору своей
. власти. Среди- рыцарства был значителен слой мало имущих дворян,
обладавших мелкими поместьями. В прошлом они богатели в Крестовых
походах, при дворах императоров и крупных князей. Ныне обнищание
толкает их в ряды войска разных владетельных феодалов, превращаем
в наемников, для которых совершенно чуждыми становятся былые
рыцарские идеалы, былой кодекс чести. Для упадка этого слоя феодаль-
ного общества, его вырождения показательна фигура рыцаря разбойника,
грабящего купцов и ремесленников. Былое рыцарство фактически
перестает существовать как особый общественный спой.
Социальная структура городского населения также переживает извест-
ные изменения. Развитие торговли и ремесел, усиление роли денежного
133
хозяйства, распространение ростовщичества стимулировали накопле-
ние богатств в одних руках и вели вместе с тем к обнищанию народных
масс. Социальное расслоение средневекового города особенно ярко
проявляется, начиная со второй половины XIV в. Патрициат — родовое
местное купечество — стало привилегированной кастой, державшей в
своих руках не только торговлю внутри страны, но и внешние рынки.
Нередко они сближались с представителями мелкого дворянства. Борьба
между патрициатом и цехами, реальными творцами товаров, восстания
городских плебеев — мелких ремесленников, подмастерьев — велись с
переменными результатами [Варбанец 1980, 77], являясь в XIV, XV вв.
одной их характерных примет социальной жизни городов. Ситуация до-
полнительно осложнялась вследствие крайней пестроты состава город-
ского населения: в него входили помимо патрициата, ремесленников,
мелких торговцев, подмастерьев, составлявших основу бюргерства, также
довольно многочисленные представители низшего дворянства, духовен-
ства, в свою очередь также отнюдь социально неоднородного, небольшие
группы сельского населения, наконец, постепенно выделявшаяся в связи
с секуляризацией образования городская интеллигенция, во многом
отличавшаяся от средневековых клириков. Это были учителя в латин-
ских школах, преподаватели университетов, нотариусы, деятели канцеля-
рий разных рангов, врачи, художники, архитекторы, позднее печатники
и корректоры. М. Штайнмец [Steinmetz 1971, 28—29] подчеркивал в
специальной статье о немецком гуманизме особый характер этой социаль-
ной прослойки, в которую входили представители разных классов, но
ведущее положение занимали бюргеры. Создание монашествующих
орденов доминиканцев и францисканцев, которым предписывалось жить
в городе, также наложило свой отпечаток на формы бытия городского
населения, во многом определив, например, деятельность мистиков —
Экхарта, Таулера, Зойзе. В результате усиления роли бюрократического
аппарата в практике городского самоуправления и в администрации
территориальных владений все большее значение преобретало образование.
Наконец, в XV в. важным фактором было создание и развитие книго-
печатания, связанного прежде всего с городской культурой.
2
Естественным следствием экономических, социальных и политических
преобразований были значительные изменения, происходившие в сфере
культуры. Наиболее существенным был упадок дворцовой культуры,
носителем которой было рыцарство. На смену ей возникала несравненно
более многообразная культура позднего средневековья — кануна эпохи
Возрождения. Ростки нового проявлялись во всех аспектах духовной
жизни, подчас весьма слабые, заглушаемые рецидивами отживающей
идеологии, проявлениями сословной ограниченности н религиозного мрако-
бесия. К тому же закат рыцарства, потеря престижности куртуазной куль-
турной модели не были внезапным одноактным событием: престижность
куртуазного образа жизни, куртуазной поэзии сохранялась в определен-
ных общественных кругах не только в XIV, но в XV в. Интерес к рыцар-
ской поэзии, особенно к роману, проявляется, в частности, в создании
134
новых рукописных вариантов этих произведений, включаемых в сводные
рукописи типа 'Тейдельбергской рукописи" XIV в. Создававшиеся в те
годы крупные библиотеки-хранилища при монастырях и в частных
владениях содержали рукописи ведущих поэтов штауфенской эпохи.
Сюжеты рыцарских романов, их герои, описание придворного обихода
продолжают жить, даже покинув феодальные замки и проникая в иную
социальную среду. Но все же не они задают тон. Значительно шире была
популярность шпильманского романа, обладающего, по-видимому, боль-
шей занимательностью, к тому же и более демократичного, имевшего
с самого начала своего существования более широкую аудиторию. Для
немецкого же бюргерства, в узком значении этого слова, ближе была
религиозЕю-дидактическая литература, а также занимательное чтение —
шванки, басни, описания путешествий, народные книги.
С известными оговорками можно утверждать, что в рассматриваемый
период произошла смена классовой основы культуры, поэзии, литератур-
ного языка. Процесс был достаточно сложным, вряд ли термины "бюр-
герская культура", "бюргерская литература" адекватно отражает реальную
ситуацию, если только "бюргерский" не отождествляется с понятием
"городской". Бесспорно другое: ограниченная преимущественно предела-
ми средневековых замков, узко-сословная рыцарская культура отступала
под натиском многоаспектной, жизнеспособной и мощной культуры
города, утверждавшей себя в архитектуре, искусстве, образовании, науке,
литературе и в обработанных формах языка. Социальная основа над-
строечных категорий, а также литературного языка была столь же
сложной, неоднородной в те годы, как и состав населения города в целом
и, в частности, тех, кто создавал культурные ценности эпохи.
Кризисные явления, возникавшие в феодальной системе, расшатывали
устои католической церкви, этого важнейшего инструмента господства
и принуждения в общественной жизни средневековой Германии. И здесь
на сцену выступают два разных по своим основам и содержанию течения,
объединяемые единой антиклерикальной направленностью: ереси разных
толков, включая мистику, и ранний гуманизм^. Идейное содержание боль-
шинства ересей, "народного еретизма" по терминологии Н.В. Варбанец,
было весьма близко философским исканиям немецких мистиков. Поиски
мира духа, "мира божьего", призыв к непосредственному общению с
богом, к постижению высшей мудрости божественного начала не из
книжных знаний, но путем мистического озарения, доступного и простым
мирянам, характерны не только для мистиков, но и дня еретических
просветителей народных масс. Различия объясняются преимущественно
большей народностью ересей, направленностью их учения к народным
массам, стремлением к просветительству; труды же ранних мистиков,
Экхарта, Таулера, Зойзе, обращены к индивидуальной личности, они
написаны для посвященных, для относительно узкого круга верующих.
Проповедь духовного раскрепощения была направлена прежде всего
2 А.Ф. Лосев полагал, что конец ХШ и начало XIV вв. и в истории немецкой культуры
были периодом подготовки Ренессанса, особенно выделялась при этом роль немец-
ких мистиков: "среди духовных течений XIVв., которые продолжали разрушать
твердыню средневековья и тем самым вели к Ренессансу, необходимо указать на
немецкую мистику" [ Лосев 1978,214 \
135
против канонов и догм католической церкви, против монополии церкви
"на духовное знание", за право мирян на чтение "священного писания",
что запрещалось официальной церковью, доносившей до прихожан лишь
свое толкование библии. Многие секты стремились к грамотности своих
последователей, т.е. прежде всего к возможности читать священные
книги на родном языке. Такие крупные секты, как, например, вальденсы,
создавали свои школы, где преподавались основы латыни, но и учили читать
на родном языке. Среди немецких рукописных книг XIV-XV вв. особое
место занимают переводы евангелий и библейского текста, осуществляв-
шиеся вопреки повторным указам властей, запрещавших переводы на
родной язык библии (ср. эдикт Карла IV от 1369 г. и более поздний эдикт
майнцского архиепископа от 1485/1486 г.). По-видимому, среди авторов
этих переводов, а также многочисленных перикоп и пленариев, которые
читались вспух для мирян, значительную роль играли последователи разных
ересей [Burdach 1924, 25; Maurer 1929, 14 и след.]. Так, например, созда-
ние рукописного перевода библии (XIV в.), который был напечатан
Ментелином, одним из первых немецких печатников в 1465/1466 г. и
стал первой печатной немецкой библией, приписывается вальденсам. По-
видимому, и развитие религиозно-дидактического жанра было в те годы
связано в не малой степени с деятельностью сект. Г. Ройтер рассматривал
противостояние еретических течений ХП—XIV вв. официальной доктрине
господствующей церкви как религиозное просвещение [Reuter 1870;
Варбанец 1980,270]. .
Обращение широких народных масс непосредственно к тексту библии
и других религиозных книг было своеобразной параллелью к известно-
му лозунгу гуманистов ad fontes, призывавших к изучению творений
самих античных авторов. Нарастали движения не только против высше-
го духовенства, но и против многих феодальных порядков. Среди
неимущих классов, принадлежащих или примыкавших к сектам, зрели
предпосылки тех событий, которые достигли высшей ступени в эпоху
Крестьянской войны и Реформации. Фактически уже тогда религиозная
форма скрывала политическую оппозицию против господствующего
общественного уклада, против высшего духовенства и светской знати.
Иным было содержание и направление той. борьбы против церкви, ко-
торую сдержанно вели представители раннего гуманизма. На первый план
выдвигались критика схоластики и ее методов, их претензий на монопо-
лию во всех областях духовной жизни человека, защита нового понимания
сущности и задач науки, требование освободить философию от теологи-
ческих оков. Политическая острота этой борьбы проявилась позднее
(см. вторую книгу этой работы). Немаловажную роль играло и то обстоя-
тельство, что в отличие от религиозных сект, адептами которых явились
преимущественно представители неимущих слоев общества, ранний
гуманизм был представлен людьми, занимавшими привилегированное
общественное положение: ср., например, в XIV в. Иоган фон Ноймаркт,
канцлер при дворе Карла IV, много занимавшийся переводом латинских
авторов, Иоганн фон Тепль, автор одного из наиболее интересных произ-
ведений этого периода — "Чешского землепашца" ("Ackermann aus
Böhmen"), занимавший разные посты сначала в Сааце, затем в Праге, Ген-
рих фон Мюгельн, ученый поэт, автор многих поэтических и прозаических
136
произведений, связанный в своей деятельности с пражским император-
ским двором, И.Т.Д.
Культурные связи с Италией и Францией, приобретавшие все больший
размах в различных центрах Германии, особенно в связи с деятельностью
университетов, были весьма интенсивны и при пражском дворе. В Праге
жили Петрарка и Кола ди Риенцо. Пребывание, иногда довольно длитель-
ное, в университетских центрах Италии и Франции, личные связи с
выдающимися деятелями культуры и литературы этих стран — явление
довольно типичное для университетских преподователей и руководителей
крупных канцелярий. Многие из них получили образование за пределами
Германии. Все это способствовало проникновению идей итальянского
гуманизма, влиянию "итальянской латыни" на развитие письменного
немецкого языка XIV—XV вв. Образцы средневековой латыни вытес-
нялись под влиянием новых стилевых моделей, изощренной риторики и
искусственных синтаксических шаблонов, отличавших латинский язык
итальянских гуманистов. Язык Петрарки, Боккаччо, Поджио, Энея Силь-
виуса служил образцом не только для немецких авторов, писавших на
латинском языке, но и для плеяды переводчиков и деятелей канцелярий,
писавших на немецком языке, а также дня авторов художественной
литературы высокого стиля.
3
В становлении новой культуры, связанной с развитием города и таящей
в себе антифеодальные устремления, особая роль бесшорно принадлежа-
ла университетам. Открытие в XIV в. в ряде городов университетов — в
Праге в 1348, в Вене в 1365, в Гейдельберге в 1386, в Кельне в 1388, в
Эрфурте в 1392 (в Кельне и Эрфурте университеты возникли на базе
Studium generale) способствовало превращению городов в крупные куль-
турные центры, средоточие всей духовной жизни страны.
В прошлом, начиная с эпохи раннего средневековья, хранителями
образования и просто элементарной грамотности, умения читать и писать,
были представители духовенства. В монастырских и церковных школах
разного типа в XII—ХШ вв. обучались не только будущие клирики, но
и деятели канцелярий, городского управления, а также просто жаждущие
знания. Уже в ХШ в. выделяются два типа школ — schola minor, где
обучались чтению псалтыря, и schola maior, где изучали основы грам-
матики, а также занимались религиозно-философскими текстами. Разно-
видностью второго типа школ были Studium generale в Эрфурте и Кель-
не, прообраз будущих университетов. Здесь преподавали Ars, Jura,
Theologia. Латынь продолжает господствовать в качестве предмета обуче-
ния, немецкий используется преимущественно в связи с анализом латин-
ского текста. Впрочем, в элементарных школах писцов (Schreibstuben)
велось специальное обучение чтению и письму на немецком языке. Возмож-
но, что этот тип школ имелся в виду в Брауншвейгских уложениях 1479 г.,
где упоминаются школы, в которых обучались только schriven unde lesen
dat aiphabet und dudesche boke [Mathias 1907]. В связи с переходом все
большего числа канцелярий к делопроизводству на немецком языке возни-
кала потребность в персонале, владеющем грамотой на родном языке.
137
Известно, что навыками чтения владели представители разных слоев город-
ского населения, в том числе и ремесленники.
Когда в связи с изобретением книгопечатания в XV в. появляются
немецкие первопечатные книги, они пользуются большой популярностью
и часто переиздавались по много раз, что указывает на существование
значительного числа людей, которым была доступна немецкая книга.
На первом этапе своего существования университеты,, как и другие
формы обучения, находились в руках, церкви и являлись проводниками
официальной христианской идеологии. Однако, вопреки господствовавше-
му уставу, в статуте университетов относительно быстро происходят
значительные изменения. Этот процесс был связан с тем, что уже в конце
XIII в. городские власти завоевывают школу: год за годом старые мо-
настырские, храмовые и церковные школы теряют свое значение. Этому
способствовало то обстоятельство, что большинство учебных заведений,
включая и школы писцов, находились на территории города. Связь
университетов с городским укладом жизни, с интересами образованных
слоев городского населения проявляется очень рано. Среди профессоров
университетов уже в XIV в. наряду с клириками все чаще появляются
представители других сословий, низшего дворянства и бюргерства. Сос-
тав студентов отражал пеструю социальную структуру города, поскольку
университетам не были свойственны классовые ограничения.
Открытие университетов не внесло заметных изменений в официальное
соотношение латинского и родного языков. Более того, требования к
знанию латинского языка значительно повысились, не без влияния тради-
ции итальянских университетов. Преподавание грамматики сочеталось
с особым вниманием к риторике и эпистолярному стилю. В канцеляриях
появлялись специальные своды рекомендаций по стилистике и риторике,
образцы латинской отшлифованной речи. Только в XV в. эта традиция
переносится на немецкую почву (см. вторую книгу).
Значение университетов в развитии антифеодальной культуры выхо-
дит, конечно, далеко за пределы проблем развития немецкого литера-
турного языка. С деятельностью университетов связан процесс осво-
бождения от пут узкосословного мировоззрения рыцарской культуры
и от застывших догматов католической церкви. Создание университетов
способствовало секуляризации не только образования, но и науки, их
обособлению от системы традиционных постулат теологии,хотя теология и,
в частности, схоластика формально сохраняли свои позиции.
Под влиянием новых веяний, частично распространявшихся из других
стран, университеты становятся ареной борьбы прогрессивных течений
и унаследованных штампов; старая идеология не хотела сдавать пози-
ции. В дискуссии между реалистами и номиналистами, так же как и в
других странах Западной Европы, резко ставился вопрос о необходи-
мости разделения сфер теологии и философии, веры и научного знания.
Вопреки преследованиям и запретам пробиваются уже в середине XIV в.
первые ростки идеологии гуманизма.
Одним из крупнейших событий XV в. не только в истории Германии,
но и во всей современной цивилизации, явилось изобретение книгопеча-
тания. Оно связано с именем Иоганна Гутенберга, родившегося в Майн-
це, но осуществившего свой гениальный замысел в Страсбурге в конце
138
тридцатых, начале сороковых годов XV столетия (точная дата остается
спорной). Гутенберг печатает, однако, только на латинском языке, в том
числе "Сивиллину книгу" ("Sybillenbuch"), библию, псалтырь. Тиражи
очень ограничены — 100, 200 экземпляров. Но когда Гутенберг умирает
в 1468 г., книгопечатание уже существовало в ряде городов.
Первоначально немецкие издания единичны. В 1465/66 г. Ментелин
напечатал в Страсбурге первое издание полной немецкой библии (по-
видимому, по рукописи XIV в.), последующие 14 долютеровских изда-
ний, публиковавшихся в разных городах первопечатниками Цайнером,
Зоргом, Зензеншмидтом, Грюнингером, Отмаром и др., были фактически
улучшенными переизданиями этого текста [Guchmann 1969, 12-15].
Начиная с конца 60-х годов, число немецких печатных книг неизменно
растет, хотя все еще преобладают латинские издания. Лишь в последующие
десятилетия деятельность первопечатников начинает влиять на развитие
немецкого литературного языка (см. вторую книгу). Появление печат-
ной книги было значительным звеном в формировании культуры нового
времени. Оно вместе с тем сигнал начала нового периода в истории не-
мецкого литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ, ИХ СООТНОШЕНИЕ
1
В XIV—XV вв. под влиянием изменении, происходивших в экономи-
ческой, социальной и особенно культурной жизни Германии, вызвавших
расширение сфер применения немецкого языка, существенно видоизме-
няется и осложняется жанрово-стилистическая система литературы на
немецком языке. При этом, однако, ни один жанр не занимает в этой
системе такого лидирующего положения, как рыцарская поэзия в ли-
тературе ХП—XIII вв. Новым является интенсивное развитие прозаичес-
ких жанров, впервые в истории немецкой литературы получивших такое
распространение. Поражает многообразие и пестрота тематики литера-
туры данного периода.
Многочисленные произведения религиозного и религиозно-дидакти-
ческого содержания (евангелия, перикопы, жития святых, проповеди,
религиозные трактаты, морально-дидактические произведения, наконец,
популярные варианты библейского текста), художественная проза и шире
занимательная литература дня чтения (шванки, басни, повести, народные
книги, разновидностью которых являются переводные романы типа
"Прекрасной Мелузины" или "Романа об Александре", путешествия),
историография (хроники отдельных городов, всемирная хроника), на-
учная и научно-популярная литература (травники, медицинские справоч-
ники, книги по естественным наукам), образцы публицистики — пред-
шественники огромной пропагандистской литературы эпохи Реформа-
ции и Крестьянской войны, книги по юриспруденции (многочисленные
"Зерцала" — ср. Sachsenspiegel, Schwabenspiegel) создаются и распро-
страняются в рукописных вариантах, а позднее появляются в первопе-
чатных изданиях. Особым жанром является деловая проза, представлен-
ная документами разных типов.
139
Проза приобретает массовый характер. Даже романы, близкие по ду-
ху традициям рыцарского романа типа "Понтус и Сидония", переведен-
ные с французского языка, имели прозаическую форму. Это, конечно,
не означает исчезновения поэтических жанров в немецкой литературе
рассматриваемого периода. Появилась довольно значительная группа
аллегорических поэм в стихах: "Венок девы" ("Der maiden Kranz") Ген-
риха фон Мюгельн, поэта при дворе Карла IV, "Замок любви" ("Minne-
burg") неизвестного автора (около 1340 г.), "'Книга о шахматах" ("Das
Schachzabelbuch") Конрада фон Амменхаузена (1337 г.). В стихах на-
писана и сатирическая поэма Генриха Витенвейлера "Кольцо" ("Der
Ring")3. Новые мотивы характеризуют лирику тирольского рыцаря Ос-
вальда фон Волькенштейн, адресованную Маргарите фон Шпангау, став-
шей женой поэта. Его поэзия посвящена прославлению радостей челове-
ческого бытия, взаимной любви, красот природы. И здесь полный разрыв
с традицией рыцарской поэзии.
Но прозаические жакры не только более разнообразны и многочислен-
ны; они представляют своеобразие и сущность литературы рассматривае-
мого периода. Наряду с оригинальными вдохновенными произведениями
мистиков — Экхарта, Таулера, Зойзе, — с дидактической блестящей поэмой
в прозе Иоганна фон Тепль "Чешский землепашец" ("Der Ackermann
aus Böhmen") выделяются бесчисленные переводы латинских оригина-
лов, представляющих разные литературные жанры. Преобладающее боль-
шинство религиозной литературы, научной прозы и даже некоторые про-
изведения художественной литературы являлись переводами с латинского
языка или подражанием латинским оригиналам. Авторитет латинских
образцов получил в те годы новый импульс под влиянием мощных куль-
турных течений раннего гуманизма.
Не отдельные творческие индивидуальности, не крупные поэты и пи-
сатели, которых по существу не знал этот период истории Германии, и
даже не такие популярные поэты, как автор многочисленных шпрухов
Тейхнер, или прозаик Иоганн фон Тепль, автор "Чешского землепашца",
определяли тогда развитие немецкого литературного языка, hon много-
численные, иногда малоизвестные авторы и переводчики массовой про-
заической литературы.
Особое значение по своей продуктивности, доходчивости до разных
социальных групп имели разновидности религиозной и религиозно-ди-
дактической письменности. В XIV—XV вв. существовала своеобразная
немецкая Вульгата. Это была преимущественно религиозная литература
для мирян, для людей, не знающих латыни4. К. Бурдах справедливо наз-
вал эту эпоху периодом создания библии для мирян (Laienbibel). Не
столько в библейском тексте, сколько в других жанрах религиозной ли-
3 Знаменитые сатирические поэмы "Рейнеке лис" и "Корабль глупцов99 С Бранта
были опубликованы в последние годы XV в. Это начало нового периода в
истории Германии, ее литературы и языка, канун Реформации и Крестьянской войны
(см. вторую книгу данной работы), поэтому здесь они не рассматриваются.
4 В предисловии к одному из пленариев отмечалось: vnd daramb das vfl menschen
seind die das latein nit verstanden... vnd doch lesen können teutsch, so ist das gegenwer-
tig buch der evangeljj... zu teutsch gesetzt vnd verordnet [Pietsch, 1927,93/4].
140
тературы создавались стилистические модели, впоследствии послужив-
шие основой формирования языка лютеровской библии. О популярности
многих жанров религиозно-дидактической литературы свидетельствует
число списков одного и того же памятника из разных регионов: "Двад-
цать четыре старца или золотой трон любящей души" ("Die vierundzwanzig
Alten oder der goldene Thron der minnenden Seele" 1386), автор Otto фон
Пассау из Базеля —дошел до нас в 120 рукописях — подтверждение не
только популярности данного памятника, в котором в форме поучений
были даны основные постулаты христианской веры, но и свидетельство
существования большого круга людей, заинтересованных в чтении по-
добных книг [Besch 1967].
Широкое распространение после появления печатных изданий имела
и многожащювая светская литература, причем для развития функцио-
нальных стилей немецкого литературного языка было существенно про-
никновение родного языка в такую область, как научно-популярная лите-
ратура, появление, особенно после создания книгопечатания, лечебни-
ков, травников, руководств по математике и горно-рудному делу. Г. Айс
[Eis 1967, 55] полагал даже, что так называемая "специальная литерату-
ра" (Fachliteratur), к которой он относил, помимо упомянутой выше
тематики, также путешествия, сводки правовых уложений типа "Сак-
сонского зерцала", имела более широкое распространение, чем произ-
ведения художественной литературы. Бесспорно, такое суммарное утверж-
дение в отношении разных типов специальной литературы (спорно и от-
несение путешествий к этому типу памятников) является по меньшей
мере дискуссионным. Осторожнее формулирует характер изменений
.тематики литературы Г. Шиб [Schieb 1970, 353—354]; она пишет, что
в дальнейшем развитии немецкого литературного языка меньшую роль
играет поэт, чем масса образованных людей, которые применяют немец-
кий язык в широких практических целях. Поэзия все более занимает
периферийное положение. Особо престижными для писателя считаются
образованность, ученость.
В одном из известных стихотворений Генриха фон Мюгельна, автор
пишет, что поэт должен быть подлинным мастером, должен постичь
основы истинного знания ("wäre kunst", kirnst означала тогда совокуп-
ность знаний и умений). Владение семью свободными искусствами,
суммой наук той эпохи, идеал, к которому стремился не только фон Мю-
гельн, но и Иоганн фон Тепль и другие авторы, находившиеся под влия-
нием итальянского гуманизма. На смену поэту-рыцарю приходит писатель-
ученый (фон Мюгельн учился, по-видимому, в Studia Generale в Эрфурте,
Иоганн фон Тепль имел ученую степень магистра искусств). Престиж-
ным является в поэзии и художественной прозе определенной группы
писателей упоминание категорий философии, сведений из астрономии,
ботаники и тд. (ср. "Замок любви" и "Чешский землепашец").
141
2
Особое место в системе письменных жанров занимала в XIV—XV вв.
так называемая канцелярская проза. Вопрос о статусе этого жанра и о
роли его в развитии немецкого письменно-литературного языка длитель-
ное время оставался дискуссионным. Не однозначное освещение полу-
чает он и в исследованиях последних лет. В прошлом большая группа
ученых, среди них К. Мюлленгоф, К. Бурдах, А. Бернт и др., приписы-
вали канцеляриям важную роль в развитии немецкой культуры, особен-
но выделялась деятельность пражской имперской канцелярии при Кар-
ле IV [Mffllenhof 1892; Burdach 1893, 1926; Socin 1888; Bernt 1934].
Крупные канцелярии рассматривались как своеобразные центры распро-
странения языковой культуры и даже шире — образования. В этой связи,
согласно точке зрения К. Бурдаха и А. Бернта, пражская канцелярия иг-
рала определяющую роль и в формировании отличительных признаков
немецкого литературного языка нового времени. Данная концепция
встретила резкую критику со стороны ряда германистов. Наиболее ве-
сомы были возражения Л.Б. Шмитта, основанные на анализе языка дело-
вой письменности [Schmitt 1936; 1966, 1—14]. В дальнейшем критика
велась в двух направлениях.
Отмечалось", что языковые структурные признаки, на основании ко-
торых К. Бурдах и его последователи приписывали столь существенную
роль имперской канцелярии, были свойственны языку городских канце-
лярий других центров Германии [Skala 1967; Guchmann 1964, 146—147].
К тому же, вопреки утверждениям Бурдаха, анализ языка деловой пись-
менности в канцелярии Карла IV и даже документов, лично составленных
канцлером Ноймарктом, показал гетерогенность языковой формы, сме-
шение разных региональных традиций.
Вместе с тем уже Т. Фрингс [Frings 1956] справедливо отмечал край-
нюю стилистическую ограниченность, бедность лексики и фразеологии
языка деловой прозы, ее функциональную замкнутость, что, естественно,
должно было препятствовать широте воздействия данного жанра на раз-
витие немецкого литературного языка. Еще более резко развивал эти
мысли А. Широкауэр [Schirokauer 1957]. В известной степени как позд-
нее отражение концепции Бурдаха можйЬ рассматривать избранные
Г. Эггерсом хронологические рамки ранненововерхненемецкого периода.
Начало его он соотносит с первыми документами канцелярии Карла IV,
в которых, по его мнению, впервые столь отчетливо обнаруживается со-
вокупность признаков нового периода: дифтонгизация, монофтонгиза-
ция, удлинение кратких гласных в открытом ударном слоге и сокращение
долгих гласных в закрытом корневом слоге [Eggers 1969, 48—55]. За-
мечания против подобных критериев периодизации были даны во "Вве-
дении" к данной работе.
Не приходится отрицать своеобразную просветительскую роль веду-
щих канцелярий XIV—XV вв., во главе которых стояли образованные
люди того времени, учившиеся в Италии и Франции, а позднее в немец-
ких университетах. Среди деятелей канцелярий были ученые, писатели,
переводчики. Показателен в этом отношении круг деятельности не только
Иоганна фон Ноймаркта, главы имперской канцелярии, написавшего
142
"на основании латинских образцов" "Житие святого Иеронима" и соз-
давшего перевод одного из псевдоавгустинских трактатов, но и автора
"Чешского землепашца" Иоганна фон Тепль, выполнявшего одновре-
менно функции городского писца (Stadtschreiber) в Сааце, директора
школы повышенного типа и инспектора других учебных заведений этого
города. Прослеживаются личные связи деятелей канцелярий с Studium
generale, университетами, позднее книгопечатниками. Среди них люби-
тели изящной словесности, собиратели рукописей поэтов штауфенского
периода, создатели крупных библиотек; они в центре культурной жизни
города позднего средневековья. И вместе с тем они осуществляют опре-
деленную языковую политику, участвуя в создании стилистики немецкой
прозы на основе подражания итальянским образцам, широко используя
при этом специальные письмовники и формулярии, содержащие образ-
цы письменности на латинском и немецком языках.
Данное направление их деятельности приобретало особое значение в
связи со все расширяющимся применением немецкого языка в канце-
ляриях разного типа. Это было звено в процессе создания немецкой
"латинизированной прозы", представленной одновременно в языке пе-
ревода Ноймаркта и других авторов XIV в., а в XV в. в переводной ли-
тературе и в оригинальных произведениях, принадлежавших перу немец-
ких гуманистов. Единый источник* — латинская проза высокого стиля,
представленная в произведениях Петрарки, Поджио, Энея Сильвиуса,
считавшаяся непревзойденным образцом, которому следовало подра-
жать, обусловила формирование "латинизированной прозы", объединяв-
шей стилистически деловой язык и язык определенной группы памят-
ников переводных и оригинальных.
Характер отношения той группы авторов, которые создавали образцы
этого прозаического стиля, к изысканно-вычурным канонам латинских
риторик, фиксировавших узус языка поздней латинской письменности
в творениях итальянских гуманистов, постигается лишь на фоне общих
культурных процессов этого периода в истории Германии (см. преды-
дущий раздел). Существенно, что это направление в развитии немецкого
литературного языка не было связано с каким-либо определенным жан-
ром письменности, хотя некоторые наиболее гипертрофированные формы
немецкой латинизированной прозы встречаются именно в деловом языке.
Вряд ли справедлива поэтому та точка зрения, согласно которой ведущую
роль в подобных процессах играла деятельность канцелярий.
По-видимому, расцвет так называемого канцелярского стиля связан
с более общими тенденциями становления "высокого стиля" немецкого
языка, оформлявшегося под влиянием итальянского гуманизма. Но если
у Иоганна фон Тепль подражание латинским образцам преимущественно
проявлялось в свободном и индивидуальном использовании канонов
латинских риторик, в широком применении синонимики, повторов при
построении абзацев, в метафорике и нагнетании определений при одном
имени существительном, то у многочисленных авторов переводной лите-
ратуры, начиная с Иоганна фон Ноймаркта и кончая фон Виле во второй
половине XV в., оно проявлялось в сознательном рабском подражании
структуре текста оригинала.
143
Еще в 1384 г. венский учитель Леопольд Штейнройтер в предисловии
к переводу одного богословского трактата писал, что он стремился сле-
довать искусству латинской риторики и сохранять те же правила, которые
представлены в языке оригинала, поэтому он менял свойственный немец-
кому языку порядок слов на тот порядок слов, который характеризовал
язык подлинника [Eggers 1969, 153]. Этим принципам следовали многие
авторы переводов тех десятилетий, стремившиеся к созданию современ-
ной им формы немецкой прозы.
Вся эта линия развития немецкого языка "высокого стиля", к которой
примыкали отчасти и произведения, где явно обозначались уже в XIV в.
приемы der geblüemten Rede, как, например, аллегорическая поэма "За-
мок любви", а также проповеди и трактаты мистика Зойзе, были в основ-
ном ориентированы не на широкие массы грамотных людей, а преимущест-
венно на придворные круги, городской патрициат, наиболее имущие слои
купечества. Что касается der geblüemten Rede, то как справедливо отме-
чал Г. Пириц [Pyritz 1950, LXXIII] — это была своеобразная экстремаль-
ная форма риторического (высокого) стиля. С этой точки зрения и язык
"Чешского землепашца" приближается к geblüemten Rede (см. послед-
ний раздел этой главы).
Небезынтересно вместе с тем, что даже у наиболее последовательных
сторонников немецкой латинизированной прозы живым было понимание
ограниченности ее применения, вернее ограниченности тех обществен-
ных слоев, которым были адресованы произведения "высокого стиля".
С. Вербов приводит характерное высказывание Ульриха фон Поттен-
штейна из предисловия к религиозно-дидактическому трактату (1406 г.),
в котором отмечалось, что в этом тексте автор избрал "обычное тече-
ние немецкой речи, как это принято в стране, поскольку подражание
латыни нецелесообразно в таком произведении: для простого народа
(gemainen volkch) полезнее пересказ (umbred)" [Werbow 1963, 44-63].
Следовательно, уже в начале XV в. появляются высказывания отно-
сительно возможности и даже желательности существования двух сти-
левых вариантов литературного языка: высокого стиля риторически
изысканной литературы и сниженного типа литературного языка, более
близкого узусу разговорной речи, "среднего или нейтрального" стиля,
хотя на немецкой почве известное учение о трех стилях и в последующие
десятилетия не получило распространения. Эта вторая линия развития
стиля литературного языка, "средний или нейтральный стиль", представ-
лена преимущественно литературой для чтения: малой религиозной про-
зой (жития святых, переводы евангелия, перикопы), религиозно-дидак-
тическими памятниками, некоторыми описаниями путешествий (осо-
бенно имеющими характер путевых заметок), а также переводной и ори-
гинальной художественной литературой, в том числе пшанками, некото-
рыми народными книгами. Существовала кроме того группа памятни-
ков, включающих просторечную лексику и фразеологию, как, например,
народная книга "О Соломоне и Морольфе" или сатирическая поэма
"Кольцо" Витенвейлера. Обращает на себя внимание и наметка социаль-
ного разграничения обоих стилей: высокий стиль присущ литературе,
рассчитанной на образованного читателя, средний, или нейтральньга, стиль
144
характерец для литературы, адресованной широкому кругу читателей,
разным социальным группировкам.
Вместе с тем в рассматриваемый период создается сложное соотношение
между жанровой стратификацией памятников и стилистическим варьиро-
ванием литературного языка. Стилистическая неоднородность текстов
одного жанра — новая черта немецкой литературы, влияющая и на зако-
номерности функционирования литературного языка, в отличие от пред-
шествующего периода истории литературы и языка, когда дифференциа-
ция языковых стилей являлась проекцией жанровой специфики памят-
ника [Гухман, Семенюк 1969].
'Таскрепощение" стилистических систем было обусловлено снятием
жанровой скованности, формально-структурной стандартности в развер-
тывании сюжетной линии и подборе лексики, известной шаблонности
изобразительных средств в пределах одного жанра, которые были харак-
терны для литературы классического средневековья. Для новой эпохи
показательны пестрота тематики, сюжетных линий, языковых приемов,
быть может, наиболее ярко проявившиеся в совокупности тех памятни-
ков, которые несколько произвольно получили наименование народных
книг: здесь и подражания шпильманским поэмам XII—XIII вв. (сказания
о Дитрихе Бернском, о герцоге Эрнсте), использование античных сюже-
тов о золотом руне и разрушении Трои, первые образцы приключенчес-
ких романов типа повествования о Понтусе и Сидонии, новелла о верной
жене, легенда о царе Соломоне и Морольфе (один из бродячих сюжетов).
В начале XVI в. к этому списку примыкают народная книга о похожде-
ниях Фортунатуса (напечатана в 1508 г.), собрание шванков о Тиле
Уленшпигеле (1513 г.). В этом пестром конгломерате текстов представ-
лены разные языковые стили: от грубо-просторечных пластов в книге
о Соломоне и Морольфе или в шванках об Уленшпигеле, до языка ро-
манов типа "Понтус и Сидония", где сохраняются элементы куртуазного
стиля. Бесспорно, в данном случае сам жанр народных книг лишен после-
довательной однотипности, но стилистическая неоднородность характе-
ризует и другие литературные жанры. Можно в этой связи сослаться на
популярные в те годы описания путешествий: среди них выделяется мас-
терски обработанный язык описания путешествия в Святую землю Брей-
денбаха (конец XV в.), неоднократно переиздававшегося, с одной стороны,
и довольно примитивное изложение событий в описании путешествия
«кельнского рыцаря Харфа, с другой. Резко проходит демаркационная
линия между стилем языка Экхарта и Таулера и системой стилевых при-
емов в мистической прозе Зойзе: только у Зойзе проявляются стилис-
тические приемы der geblüemten Rede (см. последний раздел данной
главы), между тем жанровая характеристика, тематика, частично даже
принципы организации текста весьма близки у трех названных авторов.
В этот период впервые довольно значительной становится индивидуаль-
ность создателя памятника, его вкусы, уровень его образования при
выборе стилевых приемов, стилевой характеристики в оформлении про-
изведений одного и того же жанра. Известное исключение представляет
деловая проза, где формульность, господство стандартных моделей, лек-
сическая однородность и замкнутость достигают в этот период максималь-
ного развития.
10.3ак.336 145
Несмотря на стилевую гетерогенность памятников одного жанра все
же существовала известная зависимость между типом литературы и сти-
левыми системами. ''Высокий стиль" не используется в массовой рели-
гиозной и религиозно-дидактической литературе, в прозе Таулера, в по-
вествовательных жанрах, тем более в баснях и шванках. Здесь постепен-
но вырабатывалась на основе унаследованных образцов немецкой про-
поведи (Бертольд Регенсбургский, Дитрих фон Готта), немногочислен-
ной религиозной прозы предыдущего периода та стилистическая модель —
"средний, или нейтральный, стиль", которая получила дальнейшее раз-
витие в массовой литературе эпохи Реформации и Крестьянской войны
и явилась одним из компонентов языка Лютера. Это была демократи-
ческая струя в литературе и языке XIV—XV вв., по своему прогрессив-
ная, несмотря на примитивность повествования и необработанность язы-
ка некоторых памятников.
Носителем "высокого стиля" была преимущественно переводная и
оригинальная литература гуманистов XIV, XV вв. и деловая проза ве-
дущих канцелярий. Эта линия в XVI в. обнаруживается в языке тракта-
тов Гуттена, Меланхтона. С ней была связана в конечном итоге стилис-
тическая модель развитого барокко XVII в.
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
1
Для характеристики языковой ситуации рассматриваемого периода
наиболее существенны: 1) состав форм существования языка; 2) соот-
ношение родного языка и латыни в разных сферах коммуникации;
3) выделение относительно устойчивых территориальных вариантов ли-
тературного языка; 4) процессы интеграции территориальных вариантов
на основе взаимодействия разных локальных традиций письменно-лите-
ратурного языка.
Как уже отмечалось выше, в функциональной парадигме немецкого
языка XIV—XV вв. кристаллизуется новое образование — городские кой-
не, оформлявшиеся на основе интеграционных процессов в устном об-
щении городов. Появление койне было обусловлено, очевидно, терри-
ториально негомогенным составом городского населения: так сложи-
лось в XIII—XIV вв. койне города Аугсбурга, городские койне восточ-
носредненемецких городов. Диалект, сохранявший совокупность при-
марных и секундарных признаков, все явственнее закрепляется за сель-
ским населением. Все размышления относительно функционального соот-
ношения диалекта, койне и письменно-литературного языка, для данной
эпохи остаются на уровне гипотетических построений.
Вопреки тому, что престижность латинского языка не только сохра-
няется в эту эпоху, но даже становится более определенной под влияни-
ем идей раннего гуманизма, немецкий язык проникает и даже завоевы-
вает некоторые сферы, где ранее господствовала латынь. Наиболее ве-
домым являлось постепенное завоевание деловой коммуникации. Начало
этого процесса относится еще к первой половине ХШ в. (см. предыдущую
главу). Шаг за шагом проникает немецкий язык в канцелярии разных
146
типов: он применяется в частно-правовой переписке низшего дворянства,
затем в городских канцеляриях, ранее всего в южных центрах, в первой
половине XIV в. охватывая деловую переписку средненемецких городов
и, наконец, проникает в ганзейские города. В имперской канцелярии не-
мецкий язык широко применяется уже при Рудольфе Габсбургском,
вытесняя все больше латынь при последующих императорах. Медленнее
завоевывает родной язык деловую переписку монастырей и духовных
князей [Tschirch 1969,89; Guchmann 1964,83-84].
Существенным было появление немецких книг по естествознанию,
хотя в области науки и просвещения продолжает господствовать латынь.
В новых коммуникативных сферах немецкий язык не вытесняет ла-
тынь полностью: оба языка сосуществуют, выполняя одинаковые функ-
ции, как это наблюдается и в других жанрах письменности: в религиоз-
ной и религиозно-дидактической литературе, в историографии и худо-
жественной литературе. Двуязычие остается одной из примет немецкой
литературы данного периода и шире языковой ситуации в целом.
Региональное членение немецкого литературного языка приобретает
в рассматриваемый период более определенные очертания в связи с
оформлением феодальных территорий и фиксацией диалектных границ.
С некоторыми оговорками можно утверждать, что по своим дифферен-
циальным признакам оно соотнесено с членением диалектных ареалов.
Однако специфика литературного языка и прежде всего специфика пись-
менной его фиксации способствовали известному обособлению регио-
нальных вариантов литературного языка от системы местных диалек-
тов; в разных районах страны процесс этот реализовался не с одинако-
вой последовательностью. Впрочем, и в пределах одного ареала уровень
наддиалектности и набор местных признаков мог колебаться в зависи-
мости от жанра памятника, а также от уровня языковой культуры ав-
тора, переводчика, писца.
Вместе с тем ареальная гомогенность признаков отдельных вариантов
могла нарушаться, иногда довольно значительно, под влиянием другой
региональной письменной традиции. Показательны в этой связи разные
формы "оверхненемечивания" (Verhochdeutschung) — проникновения
в нижне- и восточносредненемецкие варианты явлений, свойственных
более южным вариантам литературного языка.
Взаимодействие и столкновение названных факторов усиливали ва-
риативность литературного языка, на фоне которой несколько условно
и обобщенно выделяются локально закрепленные типы литературного
языка.
Гетерогенность немецкого языка (преимущественно имелась в виду
письменная его форма) неоднократно отмечалась современниками. В
1485 г. в грамматике, изданной в Антверпене, упоминается, что немец-
кий язык членится на южнонемецкий (oberdeutsch), нижненемецкий
(niederdeutsch) и средненемецкий (mitteldeutsch). Термин "среднене-
мецкий" (das mittelste dutsch) впервые встречается в 1343 г. в руко-
писном евангелии5 (так называемое евангелие Бехейма), история соз-
5 В конце рукописи указывается "Uz der byblien ist dise ubirtragunge in daz mittelste
dutsch... uz gedrackit", BL 224.
147
дания которого и локализация остаются не вполне ясными, что объясня-
ется дискуссионностью соотношения разных вариантов евангелического
текста, существовавших в XIV в. [Guchmann 1969, 38—40]. Трехчлен-
ная ареальная стратификация письменно-литературного языка, однако,
не соответствует его реальной вариативности и дает лишь обобщенное
представление об его подлинной членимости. В пределах южнонемецкого
и средненемецкого вариантов литературного языка в свою очередь вы-
деляются западный и восточный ареалы: юго-западный вариант литера-
турного языка обладал, особенно в швейцарских городах (Цюрих, Кон-
станц, Берн, Базель), отличительными признаками, резко отграничиваю-
щими его от юго-восточной письменной традиции баварского ареала (Ве-
на, Зальцбург, Регенсбург). Не менее существенные признаки отличали
в Средней Германии письменно-литературный язык западных и восточ-
ных территорий.
♦
2
Наиболее устойчивой в рассматриваемый период была совокупность
отличительных признаков, характеризовавших нижненемецкий вариант
литературного языка. Вариант этот оформился на базе городского койне
Любека, являвшегося политическим и культурным центром ганзейского
союза. Непрерывная традиция от первых нижненемецких документов
и рукописей XIV в. до первопечатных книг XVI в. поддерживала его стой-
кость. Его существование, процветание и упадок связаны с судьбой ган-
зейского союза, падение которого относится к середине XVI в. Обособ-
ленность и сопротивляемость против проникновения "чужих" законо-
мерностей других письменно-литературных традиций отражает общую
позицию ганзейского союза по отношению к другим районам страны.
Характерными приметами этого варианта являются: 1) отсутствие
обозначения второго передвижения согласных, отражавшее основную
специфику этого диалектного ареала: laten —ср. южн. lazzen, to = zuo,
bischop = bischof, godes=gotes; 2) спирантизация смычных в интерво-
кальном положении: leven —ср. южн. lieben, borghere = burger; 3) от-
сутствие старых дифтонгов ie, uo: leven = lieben, to = zuo, broder = bruo-
der; 4) стяжение дифтонгов ou, ei: ok = ouch, helighen = heiligen; 5) вы-
падение носового перед дентальным: use = unse; 6) отличия в системе
местоимений: we, wi, а не wir, he, а не er, dhe, а не der. Группа лексичес-
ких единиц отличает также этот вариант литературного языка от южных:
biben 'дрожать9 — на юге bidmen, lippe 'губа' — на юге lefze, trene 'слеза' —
на юге zäre, ötmöde 'смирение' — на юге denmot и т.д. Некоторые явле-
ния образуют общие изоглоссы со средненемецкими особенностями
(см. дальше). На данном варианте создавалась многообразная литера-
тура разных жанров, он был языком канцелярий ганзейских городов,
переписки маркграфа бранденбургского, графов шверинских, голынтейн-
ских, использовался и в деловой переписке с Данией. После изобрете-
ния книгопечатания печатники Любека сохраняют верность местному
варианту литературного языка. И за пределами нижненемецкого ареала
печатались нижненемецкие книги: в Кельне — нижненемецкая Библия,
в Майнце — Саксонская хроника.
148
3
В отличие от нижненемецкого варианта литературного языка, раз-
вивавшегося на ограниченной замкнутой территории в немногих центрах,
средненемецкий вариант складывался во многих, нередко далеко друг
от друга отстоящих городах, на территории, расположенной от Кельна
на западе до земель Тевтонского ордена на востоке. Кельн, Франкфурт-
на-Майне, Майнц, Вормс, Вюрцбург, Бамберг, Эрфурт, позднее Прага,
Дрезден, Лейпциг — опорные пункты этой региональной разновидности
литературного языка. Фактически понятие "средненемецкий вариант лите-
ратурного языка" соответствует некой обобщенной модели нескольких
субвариантов литературного языка Средней Германии. Общим было слож-
ное переплетение изоглосс, которые обнаруживают связи как с нижне-
немецким и нижнефранкским (нидерландским) ареалами, так и с южными
письменными традициями. Процессы эти не были тождественны на западе
и востоке средненемецкого ареала. Это особенно касалось интенсивности
проникновения южных форм и вытеснения местных образований. На
востоке "оверхненемечивание" (проникновение южных форм) было
значительно более интенсивным. К тому же в северных тюрингских горо-
дах, которые ранее относились к области нижненемецкого, постепенно
письменность высших сфер коммуникации переходит на средненемец-
кий вариант литературного языка6. В колонизованных областях, в Пра-
ге, Мейссене, Лейпциге, Дрездене местная разновидность литературного
языка оформлялась на основе городских койне, возникавших в резуль-
тате смешения и выравнивания диалектов колонистов из разных районов
Германии. Отсутствие своей устоявшейся традиции способствовало тому,
что в XIV—XV вв. письменность этого ареала развивалась под сильным
влиянием других литературных вариантов и процессы интеграции, так
называемого "выравнивания" (des Ausgleichs), были здесь особенно
заметны.
Следствием своеобразия путей оформления данной региональной раз-
новидности литературного языка явилась значительная неустойчивость,
подвижность ее структурных признаков. Набор явлений варьируется в
большинстве случаев от памятника к памятнику даже в пределах одно-
го района.
К наиболее устойчивым и распространенным признакам данного ва-
рианта относятся следующие явления: 1) сосуществование в написании
новых монофтонгов (вместо старых дифтонгов ie, ш>, йе), т.е. gut вм.
guot, ginc вм. gienc (но возможно и о, е: broder, genc), и старых долгих
гласных — is 'лед', hfis 'дом', но не eis ~ais, hous ~haus юго-восточной
традиции; 2) ограничения в реализации второго передвижения соглас-
ных: отсутствие оглушения звонких смычных, случаи непередвинутого
р в начале спова,после сонорных и в удвоении, типа plegen, но не pflegen,
perd, но не pferd, helpen, но не helfen, appel, но не apfel; сохранение не-
передвинутого t в группе слов — dat, а не daz, wat, а не waz, it, а не ez;
однако в разных районах и в разных памятниках эти явления реализуют-
ся с неодинйковой последовательностью: 3) особенности в системе мес-
6 Е. Рот назвал этот процесс одной из наиболее значительных драм в истории немец-
кого языка [Rooth 1964].
149
тоимений, образующие общую изоглоссу с нижненемецким — wi, he, но
и скрещенная форма her, специфичная для средненемецкого; 4) отно-
сительно широкое распространение глаголов с Rückumlaut' ом; 5) неко-
торые особенности в словообразовательной системе — преобладание суф.
-niss (е), а не -nuss, преф. vor-, но не ver-; 6) наличие определенных лек-
сических особенностей beben ~biben вм. более южного bidmen, otmut
вм. demuot, dinsternisse вм. finsternisse, topf ~pot, а не hanf, bis, а не
unz, lippe, а не lefze и т.д.; 7) наличие некоторых особенностей в орфо-
графии: обозначение долготы гласного написанием последующего i
(kroin 'корона', hait 'имеет') в основном характерно для запада ; обозна-
чение (непоследовательное) редуцированного конечного гласного через
i: gotis, tempil.
_ А л А
Сохранение старых долгих i, и, и, которые на юго-востоке дали дифтон-
ги, отсутствие дифтонгов ie, uo, üe образуют общую изоглоссу с нижне-
немецким вариантом литературного языка; различие заключается, одна-
ко, в том, что в нижненемецком варианте старым дифтонгам всегда соот-
ветствует о, е (brodere, genc), в средненемецком варианте также возмож-
ны в этой позиции о, е, но преимущественно на западе (в Кельне и гессен-
ском районе), преобладает же u, i. Общую изоглоссу с нижненемецким
вариантом образуют также выделенные выше местоименные формы
(пункт 3), варианты словообразовательных суффиксов (пункт 5), а так-
же выделенные лексические единицы (пункт 6). Но отражение, хотя и
неполное, второго передвижения согласных, этого важнейшего разли-
чительного признака верхненемецкого ареала во всех формах сущест-
вования языка, образует общую изоглоссу с южными вариантами ли-
тературного языка и противопоставляет язык средненемецкой литера-
туры языку литературы нижненемецкого ареала.
Менее устойчивыми, а частично и территориально более ограниченными,
были следующие структурные особенности средненемецкого варианта:
1) переход chs > ss (ses вм. sechs, osse вм. ochse); 2) обозначение в
определенных позициях спирантного произношения b, g (geven = geben,
hillighen = heiligen); 3) переход u > о, i > e (borg = bürg, son = sun,
hemel = himel); 4) переход e>i (wilche = welche); 5) случаи умлаута
au > eu перед губными (heubt = haupt, gleubt = glaubt); 6) переход в
ограниченной группе слов о > а (sal = sol, adir = oder, van = von). И здесь
эти явления образуют общие изоглоссы с нижненемецким вариантом.
Распределение этих явлений по всей территории, где функционировал
средненемецкий вариант, достаточно пестро. В обобщенной форме можно
сказать, что сетка этих изоглосс обладает наибольшей плотностью на за-
паде, тогда как в восточносредненемецких памятниках многие из них
отсутствуют или представлены единичными примерами, вытесняемые
конкурирующими с ними более южными формами. Остановимся несколь-
ко подробнее на территориальных субвариантах в пределах средненемец-
кого ареала.
В Кельне, в текстах разных жанров устойчиво сохраняется тот тип ли-
тературного языка, который был зафиксирован при анализе памятни-
ков XII, XIII вв. Выделяются общие изоглоссы разных уровней с языком
нижненемецкой и нижнефранкской письменности. Это обусловило
особый статус кельнской разновидности средненемецкого варианта ли-
150
тературного языка в XIV—XV вв. по сравнению с литературным языком
других центров Германии. В. Беш, исследовавший язык рукописных ва-
риантов дидактической прозы Отто фон Пассау "Die vierundzwanzig
Alten", созданных в разных областях Германии, показал на основании
изучения пучка изоглосс, что рукописи из рипуарского диалектного ареа-
ла (Кельн и близлежащие районы) занимают особое положение, чаще
всего обнаруживая связи с нидерландско-нижнефранкскими рукопи-
сями. Нередко можно было бы даже выделить, по его мнению, рипуарско-
нижнефранкско-нижнесаксонскую группу изоглосс. Особенно показа-
телен в этом отношении лексический материал [Besch 1967, 352]. Спе-
циального упоминания заслуживают те явления, которые мало распро-
странены в средненемецких памятниках других центров и объединяют
кельнскую традицию с северной, например отражение старых дифтонгов
ie, uo, üe, не в i, u, и, но в е, о, о, cloicke = kluog, de = die; обозначение спи-
рантного произношения b, g; наиболее показательны лексические группы:
ind *и', suster 'сестра', tussen = zwischen, boven 'над', vorgaddern 'объеди-
нять', to gadder 'вместе', bit 'с', ove 'или', blide 'радостный', суф. -sehe
в образовании производных сущ. ж.р.: sunder-sche 'грешница' и т.д.
Вместе с тем наблюдаются единичные вкрапления как в рукописях, так
и в первопечатных книгах более южных образований, например: ind-vnd,
dit-diss, is 'есть'-ist.
Если при рассмотрении памятников средненемецкого ареала следовать
с запада на восток, то совокупность дифференциальных признаков, их
устойчивость будет ослабевать и все явственнее обнаружится включение
явлений, относящихся к другим традициям письменного языка.
Наиболее близка к кельнской традиции разновидность средненемец-
кого варианта литературного языка в рейнско-франкской области. Од-
нако в отличие от Кельна в таких центрах» как Франкфурт-на-Майне или
Майнц, письменно-литературный язык постепенно исключает специфичные
узколокальные формы под влиянием южных излучений. Процесс этот
медленный, неодинаково протекающий в языке разных жанров; он привел
к продуктивности ареальных дублетов, синонимичных форм на всех уров-
нях языковой системы. Некоторые дублеты, например средненемецкое
vregen и более южное vragen, отражают живые процессы, происходившие
в то время в гессенской области, ср. также борьбу глагольных личных
показателей 3 л. мн. ч. -еп (местная форма) и -nt, результат южных из-
лучений.
Южные излучения, продвижение южных вариантов в системе местоиме-
ний, интенсификации второго передвижения — следствия "оверхненеме-
чивания" франкских диалектов. Но вместе с тем сказывалось и влияние
южной письменной традиции, например написание глухого взрывного
вместо звонкого, ср. pusch 'куст', написание b между гласными вместо
v, употребление формы sol вместо местного sal и т.д. Наиболее интересна
в этом отношении лексика. В "Пассионале" Германа Фрицпарского
(XIV в.) сосуществуют разные локальные варианты, хотя доминирует,
естественно, средненемецкая традиция: ср. biben 'дрожать', ertbibunge
'землетрясение', otmutikeit 'смирение', dinsternisse 'темнота', binnen
'гореть*, burne 'колодец', serden 'боль*, treppin 'лестница', quid 'свобод-
ный', kruppel 'калека' и тд.1 варианты: vregen 'спрашивать', hebben 'иметь'.
151
Но вместе с тем в той же рукописи появляются элементы лексики дру-
гой традиции письменного языка: ertbidem 'землетрясение', demutikeit
'смирение', brennen 'гореть', конкурируют словообразовательные суф-
фиксы уменьшительности -chin (местная форма) и-lin (более южный
вариант).
Еще более сложное переплетение изоглосс разного происхождения
демонстрирует язык восточносредненемецкой письменности. В тюрингско-
саксонской области, в границах образовавшегося курфюршества Ветти-
нов, в течение XIV—XV вв. оформлялся относительно единообразный
языковой узус. В первой же половине XIV в. сохранялись еще различия
в степени активности специфичных средненемецких признаков в языке
памятников из Тюрингии и Саксонии; к типу языка саксонских текстов
примыкал узус письменности земель Тевтонского ордена. Памятники,
включая и деловую письменность тюрингских городов — Эрфурта, Мюль-
гаузена, Готы, значительно более последовательно отражали среднене-
мецкие дифференциальные признаки, чем письменность верхнесаксон-
ских городов — Мейссена, Лейпцига, Дрездена, позднее Виттенберга.
Отмечавшаяся многими исследователями [Feudel 1961, 221; Bach
1943, 11; Schmitt 1966] большая консервативность письменного языка
Тюрингии, устойчивость средненемецких фонетико-орфографических, грам-
матических и лексических явлений объяснялись несколькими причинами.
В Тюрингии сохранялись старые культурные и литературные связи
с традициями северо-запада Средней Германии, где средненемецкий ва-
риант литературного языка обладал наибольшим числом признаков, от-
сутствовавших в более южных вариантах (см. далее описание структур-
ных признаков литературного языка юго-запада, а также швабских и
баварских городов). Немаловажную роль играла также сложившаяся
языковая практика такого культурного центра, как Эрфурт, пользую-
щаяся достаточной престижностью, чтобы оказывать известное сопро-
тивление проникновению явлений других локальных вариантов. Иная
ситуация сложилась в молодых саксонских городах, где отсутствовала
длительная традиция, а городские койне оформлялись в результате
взаимодействия языка поселенцев из разных районов Германии: здесь
продвижение южных форм и колебания, обусловленные сосуществова-
нием местных и чужих форм, проявлялись более интенсивно.
Изучение языка деловой письменности и памятников разных литера-
турных жанров показывает временную соотнесенность продвижения
"чужих" форм в данном ареале. В качестве примера можно сослаться
на вытеснение "своих" личных местоимений wy, he, her, более южными
образованиями wir, er, происходившее не одновременно в разных типах
документов: частно-правовые документы, решения суда более консер-
вативны в этом отношении. Памятники XIV в. из Тюрингии и Саксонии
также дают представление о динамике процесса. Исчезают уже в XIV в.
местные формы с непередвинутым t (dat, wat, it). Сложнее была судь-
ба непередвинутого р в разных позициях в слове [Guchmann 1969, 36,
37, 39]. Весьма пестрым является соотношение u~o, i~e; довольно
часто появляются дуплеты: konig, somer, dorch, orkunde, но и kunig,
sumer, durch, Urkunde. Устойчивы вплоть до XVI в. написания adir, van,
heubt, gleubt, bork, burnen, но параллельно, особенно в саксонских текс-
152
Tax, употребляются заимствованные формы oder, von, haupt, glaubt и т.д.
Наиболее маркированной остается лексика: zige, träne, lippe, beben, quelen,
busch, dinsternisse,ötmot, treppe; суф.4Ш8е,^е,преф. vor- отличают в рас-
сматриваемый период восточносредненемецкую традицию от южных за-
кономерностей; на юге приведенной лексической группе соответствуют
geiz 'коза', zäher 'слеза', lefze 'губа', bidmen 'дрожать', peinigen 'мучить',
staudn 'куст', finsternuss, demuotigkeit, stiege 'лестница', суф. -nuss,
преф. ver- и т.д.
Более южные формы, включавшиеся в ткань средненемецкого вариан-
та литературного языка, были вместе с тем одним из проявлений его
обособления от закономерностей соответствующего диалектного ланд-
шафта. Одновременно усиливались его расхождения с письменной тра-
дицией рипуарско-гессенского ареала (Кельн, Франкфурт-на-Майне,
Майнц). Существенным звеном было проникновение в восточно-средне-
немецкую письменность новых дифтонгов, генетически связанных с юго-
востоком страны. В XV в. дифтонгические написания ei, ou ~au, ей вместо
i, u, ü постепенно завоевывают канцелярии Тюрингии и Саксонии, про-
никая сюда по линии Нюрнберг — Гера — Мейссен, с одной стороны, и
Прага — Дрезден, с другой [Gleissner 1936; Schirmunski 1962, 218].
Первопечатные книги (вторая половина XV в.) восточносредненемец-
ких центров, в отличие от изданий Кельна, Франкфурта-на-Майне, Майнца
(где сохраняются длительно старые долгие) дают довольно последователь-
но новые дифтонги. Тем самым именно в письменно-литературном язы-
ке этого ареала закрепляется сочетание новых монофтонгов i, и, й — bruder,
ginc,'füren 'вести' и новых дифтонгов ei, ou (au), eu — reich, haus, leute,
ставшее впоследствии произносительной нормой немецкого литератур-
ного языка.
4
Письменно-литературный язык южных районов также членится на не-
сколько разновидностей. Но имелись и общие признаки, отличающие
их не только от структурных особенностей нижненемецкого варианта,
но и от дифференциальных признаков литературного языка среднене-
мецких центров. Для фонетико-орфографического уровня характерной
была: 1) степень осуществления второго передвижения согласных: от-
сутствие непередвинутых р и t в любой позиции — всегда pflanzen, pferd,
а не perd, apfel, а не appel, opfer, helfen, а не hilpen, helpen, ofen, а не open;
daz, waz, ez, а не dat, wat, it; повсеместный переход d>t в любой по-
зиции: tage, alt, halten, unter, fater; в некоторых южных центрах переход
b > р, g > к, преимущественно свойственный баварской традиции; 2) от-
сутствие новых монофтонгов i, u, ü, т.е. устойчивое обозначение старых
дифтонгов ie, uo (u), üe (u), следовательно hiez 'звался', fuor 'ехал',
küene 'смелый, храбрый', а не hiz, für, küne и т.д., 3) иное распределение
i/e, u/o в корневом слоге: bringen, а не brengen, welcher, а не wilcher,
himel, а не hemel, sun, а не son, не torm, но türm, не dorch, но durch и т.д.;
4) отсутствие таких явлений, как умлаут перед губными — всегда glauben,
haupt и перехода в группе лексем о > а — всегда oder, sol, von, а не ader,
153
sal, van и т.д.; 5) иные варианты форм личных местоимений, только er, wir;
6) значительный пласт ареальной южнонемещсой лексики, частично при-
водившийся выше: bidem, staudn, zäher, scheur, kot 'грязь9, kästen 'ящик',
glast 'блеск', samstag 'суббота*, bühel 'холм', losen 'слушать', feist 'жир-
ный*, imme 'пчела', geiß 'коза*, hafen 'горшок', lefze 'губа', vraitz 'до'.
Однако vntz, например, встречается в "Истории апостолов" ("Apos-
telgeschichte"), созданной в XIV в. на территории Тевтонского ордена,
с другой стороны, bis преобладает в XV в. в изданиях нюрнбергского
печатника Кобергера, а также в страсбургских первопечатных книгах.
Ареальное распределение многих лексем представляет довольно сложную
картину [Schieb 1959; Frings, Schieb 1954, 429-462]. Сказанное отно-
сятся и к соотношению вариантов суф. -nis/-nus, из которых -nus обычно
характеризовался как южная форма. В действительности распределение
более сложное, что показали исследования Г. Штоппа и В. Беша [Stopp
1976; Besch 1979, 146—147], хотя все же в рассматриваемую эпоху на
юге, начиная с восточнофранкского, преобладает -nus.
Вместе с тем в южном ареале довольно ясно обозначаются и территори-
альные различия, позволяющие на основании некоторых изоглосс выделить
несколько письменных традиций; юго-восточную (Вена, Мюнхен, Зальц-
бург), юго-западную (Цюрих, Берн, Констанц, отчасти Базель), швабскую
(Ульм, первоначально Аугсбург). Так, например, только для юго-востока
было характерно: 1) появление еще в^ХП — XIII вв. новых дифтонгов из
старых долгих: ei < i, aü< ü, eu < ü — mein, sein, chnäblein, auf, haus,
euch, leute; 2) расширение старых дифтош-ов ei, ou>ai, au: ain, chlain,
auch; 3) оглушение, хотя и непоследовательное b > р, g > k: perg, prachte,
kuot = guot; частично подобные написания попадают и в рукописи из
других ареалов; 4) написание ch вместо к, следовательно chlain 'малень-
кий', chamen 'пришли'; 5) формы steen 'стоять', geen 'идти' вместо юго-
западных stän, gän: 6) типично баварские формы местоимений и сильных
прилагательных: dew, sew, grossew; 8) интенсивная редукция безударных
слогов, обозначавшаяся в языке деловых документов еще в XIII в.: frid,
gnad, lebnt (lebent), habn, gwalt (gewalt), gmacht (gemacht) и т.д.
Быть может, наиболее показательным для этого варианта по сравнению
с другими южными разновидностями литературного языка является систе-
ма вокализма ударных слогов. Сочетание новых дифтонгов ei, ou/au, eu,
старых дифтонгов ie, uo, Не, в равной степени как и последовательное
расширение старых ei, ou>ai, au, является специфической чертой юго-
восточной традиции в отличие от Швабии, а особенно от Швейцарии, где
письменная традиция устойчиво сохраняет и в XVI в. (Цюрих, Берн) неди-
фтонгизированные i, и, и, стойко сопротивляясь проникновению новых
дифтонгов, которые воспринимались как языковый узус, связанный с
враждебной швейцарским городам политикой и культурой. Языковый
сепаратизм швейцарских городов, особенно Цюриха и Берна, рефлексы
которого достаточно ярко проявляются еще в эпоху Реформации и Кре-
стьянской войны, был обусловлен экстралингвистическими факторами —
г борьбой швейцарских городов, отстаивавших свою независимость, про-
тив Габсбургской империи. Вплоть до XVI в. высмеивали писатели этого
ареала новые дифтонги. Никлас Мануэль употребляет в своих драмах
"ложные" дифтонги в качестве средства языковой характеристики поли-
154
тических противников: meich (mich), deich (dich). В трагедии "Иоанн
Креститель" Иоганна Ааля новые дифтонги появляются только в речи
палача, несмотря на то, что новые дифтонги приобретают, особенно в прак-
тике первопечатников, характер престижного узуса.
Специфичная для юго-запада замкнутость местного варианта литера-
турного языка, сохраняющаяся в современном Schwytzerdütsch, отража-
лась, естественно, и на лексическом уровне: Aette 'отец', gotte 'крестный
отец', alefantz 'веселость', trän 'лентяй', portz 'часть', baffen 'лаять', tratz
'оскорбление', ruck 'момент, мгновение', kyb 'ссора' и т.д. употребитель-
ны только в юго-западных текстах. Регионально маркирован и суффикс
уменьшительных существительных среднего рода -1е (ср. -ken, -сЪепв
нижненемецких и средненемецких текстах, -до на юго-востоке, в Аугсбур-
ге, а также в средненемецких памятниках): schlagle 'маленькие удары',
hasle 'зайчишка', stattle 'городишко', schaffte 'барашек' и т.д.
5
Иным было положение и иная судьба ожидала варианты литературного
языка, формировавшиеся в XIII, XIV вв. в Аугсбурге и Нюрнберге, т.е.
в центрах, занимавших пограничные территории между двумя диалектными
ландшафтами: Аугсбург находился в пограничной зоне между Швабией
и Баварией. Не только в его письменной традиции, но и в устном город-
ском койне исконно швабские закономерности постепенно модифици-
ровались под влиянием баварских излучений, как на уровне языка устно-
го общения, так и в письменной фиксации. В разных вариантах аугсбург-
ской Хроники (правда, в заметках, датированных 1500-1501 гг.) указы-
вается, что в языке жителей города наблюдались значительные изменения,
в частности в произношении старых Т, и, и, устойчиво сохранявшихся в дру-
гих швабских городах, но трансформировавшихся в Аугсбурге в дифтонги
ei, au, генетически связанные с баварской диалектной зоной [ср. Bohnen-
berger 1982; Он же 1953]. К этому примыкает и обозначение расширения
старых дифтонгов ei, ou: maister, gaisykaufft, auch и т.д. В XV в. эти при-
обретенные черты включаются в систему дифференциальных признаков
аугсбургских первопечатных изданий.
Вместе с тем в рукописях, а частично и в первопечатных изданиях отсут-
ствует интенсивная редукция безударных слогов, столь характерная для
баварской традиции. Встречаются даже алеманские (юго-западные) полно-
гласные окончания типа dannan 'потом', niuntzigosten 'в девяностом (го-
ду)' в печатных изданиях этого города. Устойчивой оказалась и такая
швабская особенность, как лабиализованные формы, широко представлен-
ные в перых аугсбургских изданиях: тог 'море*, stürn 'лоб9, opfel 'яблоки'
и т.д. Формы отдельных слов нередко обнаруживают колебания: западное
gat и восточное geet; stand auf и stee auf; в глагольной флексии швабская
модель -ent во всех трех лицах мн. ч~ сосуществует с парадигмой 1 л. мн. ч.
-en, -ent, 2 л. мн. ч. -et, 3 л. мн. ч. -ent.
В XV в. Аугсбург играл значительную роль как в экономической, так
и в культурной жизни Германии. Этим было обусловлено лидирующее
положение аугсбургского субварианта литературного языка. Численно
155
аугсбургские издания превосходили издания других город. Так как импер-
ские указы печатались в Аугсбурге, а аугсбургский первопечатник Шен-
спергер считался придворным печатником, письменно-литературный язык
этого города приобретал все большую популярность, проникая в издания
Ульма, Тюбингена (Швабия) и даже Страсбурга (Эльзас), постепенно
накапливая признаки обобщенного варианта литературного языка (вто-
рая половина XV — начало XVIbb.) .
Нюрнберг подобно Аугсбургу был расположен на стыке двух диалект-
ных ареалов — Баварии и Франконии, обстоятельство, естественно отразив-
шееся на всех функциональных уровнях языка, обусловив сочетание южно-
немецких и средненемецких черт не только в письменном, но и в устном
языке. Один из крупнейших имперских городов, достигший особого про-
цветания в конце XIII и в XIV вв., Нюрнберг оказался в центре пересека-
ющихся изоглосс письменных традиций разцых центров. Взаимодействие
юго-восточной и средненемецкой языковых стихий, северной Баварии
и юга Франконии, с такими центрами как Бамберг и Вюрцбург, обуслови-
ли своеобразие письменно-литературного языка этого города и способст-
вовали его включению в общий тип литературного языка, формировавше-
гося преимущественно в восточных областях Средней Германии.
Своеобразная "двуприродность" письменно-литературного языка Нюрн-
берга отразилась уже в документах и рукописях середины XIV в.: сочета-
ние новых, средненемецких монофтонгов (см. выше) и новых же юго-
восточных дифтонгов, юго-восточное же расширение дифтонгов ei, ou;
склонность к средненемецкому понижению и>о типа son / sone, но и
sun; sonne, но и sunne; konig, но и kunig (реже) и т.д. То же сочетание
разных традиций наблюдается в морфологии и лексике: в парадигме гла-
гола 'быть' употребляются варианты причастия II gewesen (юг) и gewest
(Средняя Германия), южное sein и средненемецкое sind. В словообразо-
вании господствует южный вариант суф. -nus — finsternus, gezeugnus
и т.д., а также уменьшительный суф. -lein:ringlein, schweinlein и т.д. Южные
bidmen, ertpidem, fast 'очень', zwahen 'мыть' сосуществуют со среднене-
мецкими hoffnung, bis, sere 'очень', gän и geen, stän и steen и т.д.
Когда во второй половине XV в. Нюрнберг становится одним из веду-
щих центров книгопечатания, то и в языке изданий этого города сохраня-
ется эта гетерогенность узуса письменно-литературного языка. Однако
у разных книгопечатников соотношение компонентов, связанных с раз-
ными локальными традициями, было неодинаковым. Общей была по-
вышенная вариативность в написании одних и тех же единиц. Показатель-
на в этом отношении практика крупнейшего нюрбергского первопечат-
ника Антона Кобергера (в его типографии работало около 100 чел.), изда-
вавшего хроники, жития святых, так называемую IX библию. Фактически
ни один из региональных признаков не был здесь устойчивым [Guchmann
1969,49—53] (см. вторую книгу).
156
6
При рассмотрении средненемецких субвариантов литературного языка
не был описан немецкий письменно-литературный язык, сложившийся в
Богемии и Силезии, исконных славянских землях. Выделение практи-
ки, развивавшейся на этой территории, объяснялось не только тем, что
длительное время удерживалась концепция, согласно которой именно
Богемия, точнее Прага, являлась первоначальным очагом формирования
основ современного немецкого национального литературного языка (ср.
выше историю вопроса, а также [Eggers 1969, 48]), но преимуществен-
но тем, что здесь уже в середине XIV в. образовался центр немецкого
раннего гуманизма и было создано такое рафинированное в стилистичес-
ком отношении художественное произведение, как Ackermann aus Böh-
men (около 1400 г.). Хотя стилистическая система этого памятника в
известной степени имеет параллели в довольно многочисленной аллегори-
ческой поэзии того времени, отчасти в прозе Иоганна фон Ноймаркта
(см. следующий раздел), на фоне разветвленной, довольно примитивной
морально-дидактической и занимательной прозы того времени "Чешский
землепашец9' уникальное явление, столь же поразительное как "Исидор"
в эпоху господства подстрочных переводов (см. гл. I).
После известных работ Шварца и Шмитта, упоминавшихся выше, нет
нужды доказывать отсутствие гомогенности языкового узуса в праж-
ской имперской канцелярии. Так же как и в языке письменных памятни-
ков из некоторых других районов Германии, здесь вариативность, являв-
шаяся типичной чертой письменно-литературного языка той эпохи, была
обусловлена взаимовлиянием разных письменных традиций. Частично это
было обусловлено отсутствием нормализующих принципов, но существен-
ную роль играли процессы взаимовлияния, интенсивность которых зави-
села от конкретных исторических условий существования разных диалект-
ных ареалов в различные исторические эпохи. Наиболее интенсивными
были эти процессы в городах, расположенных на стыке двух диалектных
ареалов подобно Аугсбургу и Нюрнбергу, а тем более в колонизованных
областях, там, где состав населения формировался в условиях смешения
переселенцев из разных районов Германии: такая ситуация сложилась
в верхнесаксонских городах, на территориях поселений Тевтонского орде-
на, в Чехии и Силезии.
Сочетание южнонемецких и средненемецких черт наблюдается в Праге
так же, как в Нюрнберге, несколько позднее в восточносредненемецких
городах. В имперских документах наряду с такими южными признаками,
как переход Ь>р, дифтонгизация старых долгих, появляются средне-
немецкие формы hemel, schermen 'защищать', adir, sal и, конечно, средне-
немецкая монофтонгизация старых дифтонгов. Дублеты типа samstag~
sonnabent, bis~unz, hoffmmg ~ Zuversicht ("Чешский землепашец")
устойчиво сохраняются в письменности не только Праги, но и других
городов этого района. Соотношение средненемецких и юго-восточных
признаков может меняться, например, в "Чешском землепашце" абсолютно
господствует oder (а не ader, adir), sun 'сын', sunn 'солнце', kunig, himel
(а не hemel), иными словами определенная совокупность средненемецких
черт здесь отсутствует, хотя такой существенный признак как монофтонги-
157
зация старых дифтонгов является и здесь узуальным. Проза Иоганна Ной-
маркта (но не подписанные им документы) характеризуется теми же осо-
бенностями, тогда как в документах, составление которых приписывается
ему, значительно интенсивнее проступают средненемецкие черты. Возмож-
но, что в последнем случае сказалось влияние навыков писца. В террито-
риальном членении немецкого письменно-литературного языка XIV в.
язык пражской имперской канцелярии, а также художественной литерату-
ры этого ареала, занимает те же позиции, что литературный язык Нюрн-
берга и восточносредненемецких городов в последующие десятилетия.
Территориальная стратификация немецкого письменно-литературного
языка далеко не полно и непоследовательно отражает членение диалект-
ных ареалов. Исключение узко-диалектных признаков ведет к известному
обособлению территориального варианта литературного языка от диалекта
той же местности. Еще в большей степени этому способствует включение
инодиалектных явлений, соотнесенных генетически с другими диалектны-
ми ландшафтами, причем узуальное употребление комплекса инодиалект-
ных признаков усиливает уровень наддиалектности литературного языка.
7
При описании территориальной стратификации литературного языка
неоднократно упоминались случаи проникновения в тот или иной вариант
иносистемных, "чужих" форм, отражавших закономерности другой пись-
менно-литературной традиции. Процесс этот сопровождал развитие немец-
кого письменно-литературного языка на протяжении многих столетий,
начиная от древненемецких памятников и вплоть до эпохи становления
общенациональной нормы. В разные периоды истории немецкого языка
и на разных территориях Германии он имел не тождественные формы реа-
лизации; наиболее интенсивным он становится с конца XIV в. и до сере-
дины XVII в., когда все явственнее обозначаются наряду с местным сепа-
ратизмом объединительные тенденции, ставшие исторической предпосыл-
кой формирования будущей общенациональной нормы [Guchmann 1969].
Для периода, рассматриваемого в данной главе, особенно характерно
сосуществование наряду с более или менее четкой территориальной члени-
мостью возникавших на отдельных участках системы объединительных
или надтерриториальных изоглосс.
Образование подобных изоглосс было следствием процессов двух типов:
излучений и смешений на уровне диалекта, опосредованно отражавшихся
затем в соответствующих региональных вариантах литературного языка,
и излучений, затрагивающих только высшие формы коммуникации, т.е.
только письменно-литературную ее форму. Так» например, проникновение
обозначений новых юго-восточных дифтонгов в некоторые первопечатные
книги Ульма (Швабия) и Страсбурга (Эльзас) отражало, бесспорно, только
влияние "чужой", по-видимому, аугсбургской традиции, поскольку диф-
тонгизация была чужда диалектам этих территорий. Напротив, проникно-
вение тех же дифтонгов в Аугсбург шло по двум линиям, как. было отме-
чено выше, и возможно, что в устной речи это происходило ранее, чем в
письменной фиксации. Значительно более спорен вопрос о распростране-
нии того же явления в саксонско-тюрингской языковой области: в памят-
158
никах деловой письменности прослеживается постепенное проникновение
дифтонгических написаний по линии Нюрнберг, Эгер, Плауен, Гера, с одной
стороны, и Прага — Дрезден, с другой. Но так как историческая диалектная
карта также отражает этот процесс, то вопрос о соотношении разных форм
существования языка в его реализации все же остается не вполне ясным
[Жирмунский 1956, 236-237; Feudel 1961, 37-38]. По-видимому, здесь
все же сочеталось отражение диалектных процессов, происходивших в дан-
ном ареале, и влияние письменно-литературных образцов.
Процесс "оверхненемечивания" письменно-литературного языка таких
исторически нижненемецких городов, как Мерзебург, Галле, Виттенберг,
Эйслебен сопровождался общим изменением диалектных границ между
нижненемецким и средненемецким ареалами, сдвигом границы на север,
однако определить удельный вес контактов на разговорном уровне и
взаимодействия письменных традиций для языковой ситуации XIV—XV вв.
в свою очередь не легко.
Сам факт проникновения иносистемных явлений в региональные ва-
рианты литературного языка являлся следствием комплекса внешних
и внутриструктурных факторов. Бесшорно, влияло само функциониро-
вание этих вариантов в пределах одного государства как форм существо-
вания языка одного народа, несмотря на сепаратистские тенденции отдель-
ных территорий. Развивались торгово-экономические и культурные связи
вопреки внутренним междоусобицам и вражде феодальных властей и горо-
дов.
Не менее существенную роль во взаимодействии письменно-литератур-
ных традиций и в интеграции разных региональных вариантов играли и
собственно языковые закономерности, способствовавшие "проницаемости"
региональных систем. К ним относятся: 1) генетическая общность, прояв-
лявшаяся в унаследованном подобии морфологической, синтаксической и
лексической подсистем; 2) однонаправленность тенденций развития грам-
матического строя, а также лексического состава; новые словоизме-
нительные образования — будущее I и II, кондиционалис — включались в
парадигму письменно-литературного языка независимо от территориально-
го варьирования, хотя и не одновременно, обнаруживая при этом функци-
онально-стилистическую общность; усложнение синтаксических построе-
ний, обусловленное бурным развитием гипотаксиса, преимущественно в
прозаических жанрах шгсьменности, которые в XIV—XV вв. были <лот»
популярны, происходило по одним и тем же моделям на всей территории
существовашш письменно-литературного немецкого языка; обогащение
словарного состава, отражавшее интенсивные изменения в духовной жиз-
ни немецкого народа, в немалой степени связанное с распшретаем сфер
применения немецкого языка, обнаруживало также общие тенденции,
хотя материальный состав мог быть нетождественным в разных региональ-
ных вариантах литературного языка. Иными словами, наряду со структур-
ными дифференциальными признаками в системе каждой региональной
разновидности литературного языка существовала совокупность общих
черт, некая модель-схема, характерная для языка немецкой народности.
Отсутствие кодифицированной нормы и крайняя терпимость писцов и
первых печатников немецких книг к включению в текст элементов -разных
159
территориально обусловленных графических традиций, вариантов написа-
ния одного и того же слова, синонимических лексических и граммати-
ческих единиц создавало благоприятные условия для проявления объеди-
нительных тенденций в письменном языке.
Активность некоторых дифференциальных признаков, их большая
"престижность" способствует постепенному вытеснению местной формы:
так было с расширенным вариантом дифтонга ou>au (юго-восточный
узус), который еще в XV в. не только теснит ои, но и средненемецкое
ей, на огромной территории средней и юго-восточной Германии. Побеждает
в значительном ареале, включающем Нюрнберг, Вюрцбург, Бамберг, Прагу
еще в XIV в., а позднее и средненемецкие города, сочетание южных новых
дифтонгов и средненемецких новых монофтонгов; южные варианты место-
имений, значительные группы лексики становятся достоянием письменного
языка от Нюрнберга, Бамберга, Вюрцбурга до Виттенберга и Лейпцига.
Процессы эти продолжаются и после изобретения книгопечатания, причем
в течение десятилетий идет борьба локальных вариантов на разных уровнях
языковой системы.
Показательно, что иносистемные излучения в письменно-литературном
языке имеют в рассматриваемый период преимущественно определенную
пространственную направленность: очаги этих излучений были расположены
на востоке страны, в южном и средненемецком ареале. С этим направлени-
ем процесса связано и неоднократно упоминавшееся "оверхненемечивание"
языка нижненемецких городов Мерзебурга, Виттенберга, Эйслебена, Галле.
Обратное движение в этот период практически отсутствовало в отличие
от последующих десятилетий. Индуцирующее влияние юго-востока, а
также, позднее, средневосточных закономерностей было обусловлено веду-
щей ролью этих районов во всей жизни страны. Реализация упомянутых
процессов происходила в письменном языке крайне медленно: включение
дифтонгических написаний в документы и рукописи средненемецких
городов происходило не фронтально, а в отдельные слова, например:
reich вм. rieh, laut вм. lut; при этом даже в применении к этим лексемам
в одном тексте могли встречаться оба варианта — старый с долгим глас-
ным и новый с дифтонгом [Guchmann, 1969]. Диалектика процесса зак-
лючалась в том, что непоследовательность реализации новых тенденций,
отражающих влитие "чужого" узуса, вела нередко к усилению вариант-
ности в пределах одного текста. Формирование объединительных изоглосс
происходит наряду с растущей гетерогенностью языка ряда памятников.
Как уже упоминалось, интеграционные процессы на разных террито-
риях не обладают одинаковой интенсивностью. Практически они отсут-
ствовали на юго-западе страны, в швейцарских городах. Обособление
нижненемецкого варианта в эпоху расцвета Ганзы сменяется в последую-
щие столетия медленным, но незаслонным его вытеснением.
Наиболее интенсивны в XIV в. были интеграционные процессы в Праге
и средненемецких центрах к востоку от гессенского ареала, в частности
в письменности Тевтонского ордена, а также в Нюрнберге. Во время гус-
ситских войн Прага теряет значение одного из центров развития немецкого
письменно-литературного языка. Выдвигаются как культурные центры
Аугсбург, Нюрнберг, Виттенберг, Лейпциг. Особую роль в усилении пози-
ций Лейпцига начинают играть торговые связи с Нюрнбергом.
160
Складывавшаяся в XIV—XV вв. ситуация может быть охарактеризова-
на как начало определенной языковой политики, приобретающей все
большее значение в деятельности печатников конца XV, начала XVI вв.
(см. вторую книгу данного труда).
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕМЕЦКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XIV-XV ВВ.
1
Для судеб немецкого литературного языка XIV—XV вв. наиболее су-
щественными были изменения в его синтаксической и лексической систе-
мах. Что касается фонетических процессов, то в литературном языке
они являлись письменным отражением изменений, спонтанно развивавших-
ся в обиходно-разговорной речи, т.е. в диалектах и городских койне. При
этом в литературном языке происходил определенный отбор явлений, бы-
товавших в языке устного общения. Одни фонетические инновации вклю-
чались (полно или частично) в систему литературного языка, другие остава-
лись за его пределами. Не одинаков бьш и статус тех изменений, которые
принимал литературный язык: существовала известная градация в зави-
симости от того, характеризовали ли те или иные инновации только одну
территориальную разновидность литературного языка или новое явление
приобретало статус надтерриториального обобщенного признака литератур-
ной формы.
Дифтонгизация старых долгих i, ü, ü, возникнув в XII в. в баварско-
австрийских диалектах, полутает отражение в рифмах поэтов этого реги-
она, а затем постепенно становится признаком письменно-литературного
языка многих культурных центров Германии, т.е. приобретает статус
надтерриториальной закономерности. Точно также монофтонгизация
старых дифтонгов (см. предыдущий раздел) ie, uo, üe возникает в XII—
XIII вв. в средненемёцких диалектах и получает отражение в письменности
этого ареала. Оба процесса были, таким образом, первоначально связаны
с группами разных диалектов. В дальнейшем судьба этих изменений не
была тождественной: дифтонгизация получила значительно большее про-
странственное распространение, чем монофтонгизация. Начиная с XIV в.,
оба явления сочетаются в письменности Нюрнберга и Праги, позднее Тю-
рингии и Саксонии, а также франкских городов (Майнц, Вюрцбург, Бам-
берг). Судьба каждой из изоглосс в письменно-литературном языке не
является зеркальным отражением диалеклшх процессов^— - -
Еще в большей степени функция отбора фонетических явлений в пись-
менно-литературном языке действует в отношении таких процессов, как
делабиализация, переход а>6. Известно, что делабиализация ö, ü, ей,
в результате которой снимается оппозиция лабиализованных и нелабиали-
зованных гласных, охватила большинство верхненемецких диалектов
за исключением восточнофранкского,среднефранкского, или рипуарского,
южной части тюрингского и верхнеалеманского диалектов. Предположи-
тельно первоначальным очагом этого процесса бьш баварский ареал, где
еще до 1300 г. в письменности засвидетельствованы формы derfl'деревуш-
ка' вм, dörfl, ibel 'плохо' вм. übel, vreide 'радость' вм. vröude, а также
1/2 11.3ак.336
161
рифмы, построенные на основе созвучия единиц с гласными нелабиализо-
ванными и старыми лабиализованными типа köpfe: nepfe. В XVI в. этот
процесс ясно обозначается в средненемецкой письменности, в XV в. —
в Эльзасе, в частности у страсбургских первопечатников. Однако в основ-
ном письменно-литературный язык сохраняет противопоставление лабиа-
лизованных и нелабиализованных форм, а делабиализованные образова-
ния представлены единичными примерами. В отличие от дифтонгизации
и монофтонгизации это явление не включается в узус письменно-литера-
турного языка, хотя не только у Опица, но и у Гете, Шиллера, отчасти
Гейне, рифмы сохраняют следы нейтрализации старой оппозиции: ср.
Glüch: Blick. Непопулярность в XIV, XV вв. делабиализованных форм —
свидетельство того, что подобные образования рассматривались как явле-
ния, присущие более низким сферам общения, тогда как новые дифтонги
связывались с узусом языка крупных издателей и имперской канцелярии.
Широко распространенный уже в ХШ в. в южных и средненемецких
диалектах переход а > 6 получает отражение в языке памятников XIV—
XV вв. Однако в разных памятниках он охватывает неодинаковые по своей
численности группы слов; к тому же нередко а, о варьируется в написании
одних и тех же слов: ср. da ~do, gethan ~gethon, kat — kot и т.д. Колебания
сохраняются вплоть до XVII в. (ср. у Опица и Шоттеля). Таким образом,
спонтанный на уровне диалекта процесс получает специфическое выбороч-
ное отражение в письменно-литературном языке.
Характерный для письменно-литературного языка отбор проявляется
и в судьбе стяжений ei > е, ои> о типа kled, bom средненемецких диалек-
тов; явление представлено буквально единичными примерами в рукопи-
сях XIV—XV вв., тем более в первопечатных книгах.
Отбор инноваций проявляется и в том, какие процессы отражаются в
письменности с известной последовательностью (ср. дифтонгизацию, моно-
фтонгизацию), тогда как другие, появившиеся в памятниках, не закрепля-
ются и относительно быстро исчезают, как это было со швабско-баварским
переходом а > au: ср. в отдельных рукописях и у первопечатников fraugte
'спросил', die gaub 'дар9, schauff 'баран9 и др. Эта особенность, сохранивша-
яся, в частности, в диалекте Нюрнберга до настоящего времени, редко
включалась в язык рукописей и изданий XV в.
По-видимому, у авторов и писцов, а тем более у первопечатников суще-
ствовали некоторые оценочные критерии, способствовавшие в одних слу-
чаях включению фонетических явлений в текст, в других — препятствовав-
шие этому. Бесспорно, уже во второй половине XV в. престижным являлся
узус аугсбургских и нюрнбергских печатников, а также признаки языка
имперской канцелярии.
2
В изменениях грамматической парадигматики, зафиксированных пись-
менно-литературным языком, выделяются два типа процессов: 1) отраже-
ние продолжающегося процесса унификации и обобщения дробных имен-
ных и глагольных парадигм, происходившее спонтанно в разговорном
языке обиходно-бытового общения, и 2) формирование новых элементов
162
глагольной парадигмы, происходившее преимущественно в самом лите-
ратурном языке.
Закрепление в системе индикатива форм футурума I и II, а также пер-
фекта и плюсквамперфекта пассива с werden, в системе конъюнктива —
футурума и кондиционалиса связано фактически с развитием письменно-
литературного языка.
Сочетание "werden + инфинитив в функции будущего времени встре-
чалось уже в языке Бертольда Регенсбургского и Экхарта, но его конкурен-
тами остаются простая форма настоящего времени и сочетания с модаль-
ными глаголами. Ф. Чирх приводит интересную цитату из "Книги о приро-
де" Конрада фон Мегенберга (1349/1350), где отмечается возможность
выразить будущее ("sprach der kunftichait") либо формой настоящего
времени, либо сочетанием с модальным глаголом wollen [Tschirch 1969,
4 42], футурум с werden не упоминается. Любопытен в этой связи и материал
разных грамматик, который приводит В.Вильманс [Wflmanns 1906, 178],
позволяющий прийти к выводу об определенном ареальном распределении
этих сочетаний в языке памятников из разных центров. Использование
сочетания "werden + инфинитив" в этой функции было поздним звеном в
оформлении глагольной парадигмы. Первые три издания библии практи-
чески не употребляют данную модель, но в четвертом, Цайнеровском,
издании она становится узуальной. И за пределами библейского текста,
преимущественно в восточносредненемецких памятниках XIV, XV вв. —
у автора "Чешского землепашца", в Хронике Немецкого ордена Николая
фон Иёрошина, - соотнесенность с будущим выражается сочетанием "ин-
финитив + werden". Еще позднее Появляются формы футурума конъюн-
ктива. В памятниках XV в. он представлен единичюлми случаями, футурум
II практически неупотребителен [Guchmann, Semenjuk 1981, 127].
В процессе завершения построения конъюнктивной парадигмы письмен-
ного язьпса наиболее существенным было образование кондиционалиса
I. Судя по материалам работы А.Я. Лурья [Лурья 1967], кондиционалис I
встречается относительно регулярно, начиная со второй половины XV в.
Процентное отношение этих поздних компонентов конъюнктивной парадиг-
мы к "старым" формам презенса и претерита конъюнктива колеблется
по памятникам, причем, как показали таблицы подсчетов, приведенные
М.М. Гухман [Guchmann, Semenjuk 1981], здесь затруднителыю устано-
вить последовательную зависимость от жанра памятника или от его ареаль-
ной принадлежности. Кондиционалис II в текстах, использованных в указан-
ной работе, отсутствовал.
На фоне длительных колебаний, в процессе обособления от сочетаний
с глаголом 'быть', происходило и образование перфекта и плюсквампер-
фекта пассива со вспомогательным глаголом werden. До XVI в. случаи
употребления этих сочетаний немногочисленны, но они встречаются в тек-
стах разных жанров и на разных территориях.
Формирование поздних компонентов глагольной парадигмы немецкого
языка происходило в основном на уровне письменно-литературного языка
и было связано с общим процессом развития его функциональной системы.
163
3
Для развития литературного язьпса XIV—XV вв. наиболее показатель-
ными были инновации в синтаксисе и лексике. Вместе с тем именно в
этих подсистемах, хотя и не прямолинейно, проявлялась зависимость
литературного язьпса от типа памятника и жанрово-стилистической специ-
фики текста. Распространение немецкого язьпса на такие сферы общения,
как наука, публицистика, дидактика, теология, дипломатия, юриспруден-
ция, деловая практика и т.д., способствовало формированию новых жан-
ров письменности. Отсутствие языковых традиций применения родного
языка в новых жанрах письменности наложило отпечаток на синтаксичес-
кие и лексические процессы этого периода.
В области синтаксиса — это поиски новых форм организации синтак-
сических отрезков, соответствующих сложному содержанию высказы-
вания, его логической членимости. Ареальное варьирование не играет
при этом никакой роли. В области словаря — это поиски новых единиц
номинации, создание разновидностей специальной лексики, значительная
часть которой постепенно теряла профессиональную ограниченность и
становилась достоянием общего словаря литературного языка. Вместе с
тем происходило известное обновление прежнего словаря литературного
языка в связи с тем, что уходят элементы микросистем, которые были со-
циально и стилистически сильно маркированными и не вписывались в лек-
сическую систему новых жанров. В отличие от синтаксических процессов
в развитии лексической системы известную роль играет территориальное
варьирование, конкуренция синонимических форм. Новое в синтаксисе
и лексике литературного язьпса этого периода неотделимо от его жанрово-
стилистической дифференциации, в значительной степени определявшей
отбор синтаксических моделей и лексических единиц в разных памятни-
ках [Kunisch 1974,257].
Сложные многозвеньевые синтаксические комплексы, нагромождение
зависимых отрезков» включаемых в ткань одного синтаксического цело- ,
го в виде разноуровневых придаточных предложений и причастных обо-
собленных оборотов, привлекавшее внимание исследователей [Адмони
1963» 132 и далее; Admoni 1972; Admoni 1980]» маркирует лишь язык У
определенных видов письменности — государственных договоров, посла-
ний, уложений, имперских указов, трактатов, а также значительной груп-
пы переводов» принадлежащих перу гуманистов. Однако в пределах тех
же видов прозы имелось множество текстов, где отмеченные синтакси-
ческие модели не были употребительны: не были тождественны в деловой
прозе жанрово-стилистические приметы язьпса официальных документов
и частно-правовых грамот» в религиозной прозе — языка кодифицирован-
ной библии и малых форм библейского текста (перикоп, пленариев, так
называемых Historienbibel).
Несмотря на жанрово-стилистические различия наблюдаются общие
процессы развертывания синтаксического строя немецкого литератур-
ного языка. Выделяется стремление к четкости логической членимости»
с чем связаны такие строевые особенности» как разграничение порядка
слов в самостоятельных и подчиненных синтаксических отрезках, офор-
мление системы функционально дифференцированных подчиняющих
164
служебных слов, закрепление модальных форм. Но наряду с этим ослож-
нение содержания высказывания, увеличение его емкости, требующие
совершенствования языковых форм, передающих логическую структу-
ру высказывания, как бы "опережают9'' темпы выработки новой системы
языковых средств и создают громоздкость, амбивалентность, затемнен-
ность соотношения отдельных отрезков крупного синтаксического целого.
В течение рассматриваемого периода происходит закрепление тех черт,
которые характеризуют специфику синтаксиса немецкого языка, отличия
его даже от узуса близкородственных языков: оформление разного поряд-
ка слов в независимых и зависимых синтаксических отрезках и соотнесен-
ное с этим разное оформление рамочной конструкции. Наиболее целена-
правленным было закрепление в независимом предложении второго места
за изменяемой глагольной формой сказуемого, что становится, однако,
нормой лишь в конце XV в. В рассматриваемый же период нарушения этого
узуса все еще встречаются, хотя и представлены немногими примерами
в произведениях разных жанров: ср. в записях кельнского рьщаря Харфа
о поездке в святую землю (RsHar): ich balde die rede vernam 86, 30 или
dat geleide wir gar balde kregen 85, 23, где используется конечная позиция
сказуемого. Отклонения от узуального порядка слов встречается и у перво-
печатников, в частности, в первых изданиях библии, где сказуемое может
занимать третье место, ср. в библии Цайнера: Nach disen dingen Jhesus
ging in Galileia Joh. VII Bl. XXXXII. Показательна, однако, не только мало-
численность этих примеров, но и стремление печатников цри переиздании
заменять их построением, где простая глагольная форма сказуемого зани-
мала бы второе место [Brodführer 1922, 164]. По-видимому, во второй
половине XV в. отступление от этого правила считалось несовместимым
с узусом литературного языка. То, что подобное нарушение встретилось
у Харфа объясняется общей низкой культурой языка этого памятника.
Значительно менее устойчиво положение простой глагольной формы
в зависимых синтаксических отрезках. Конечное положение такого ска-
зуемого, ставшее нормой в последующие столетия, нарушается довольно
часто. Колебания, варьирование пронизывают тексты разных жанров:
романы, религиозные памятники, прозу мистиков, деловую прозу и даже
язык переводов гуманистов. В XIV в. эта модель порядка слов весьма
продуктивна в Evangelistar; unde wir wizzen wol, daz war ist sin geczug-
nisse Ev. 6, 33; ср. также 8,32; 102, 28 и т.д. В языке "Чешского земле-
пашца": Wir tun als die sunn, die scheint über gut und über böse VI, 9;
ср. также VIII, 15; IX, 7 и т.д. В языке проповедей Экхарта примерное
соотношение конечного и неконечного положения сказуемого — 3:2. У него
так же, как и у другого мистика XIV в. Зойзе, в одном абзаце нередко
употребляются оба варианта, ср. у Зойзе: Ach zarter, einger herr mins
herzen und miner sele, darumbe so begert min herz als inneklichen, daz du
sunderlich liebi und minne zu mir hettist, » und daz dinu gütlichen ogen hettin
ein sunderliches lustlich wolgefallen in mir Bew 138,93.
В XV в. соотношение обоих вариантов по-прежнему не зависит от жанра
памятника. В путевых заметках Харфа. соотношение обоих вариантов
примерно такое же, как в языке Экхарта. В малых жанрах религиозной
литературы также популярен второй вариант. Но особенно показательно
165
его сохранение в произведениях высокого стиля. В Хронике города Майн-
ца, написанной с соблюдением основных канонов риторической прозы,
оба варианта довольно часто встречаются в одном абзаце: ср. dar umb so
bitten uch min heren ... das er dar an sin wollet, das in ein fruntlich, forder-
lich und trostlich antwort werde zwessen hie und nest fritag 1 Bl. 'Поэтому
просим мы вас, милостивые'господа, чтобы вы способствовали тому,
чтобы был дружественный, благоприятный и утешительный ответ до следу-
ющей пятницы'. Сохраняется возможность неконечного положения простой
глагольной формы и в прозе гуманистов XV в.
Значительно сложнее и многообразнее было развитие словосочетаний,
потенциально способных образовать рамку. В обоих разновидностях синта-
ксических построений, т.е. в независимых и зависимых комплексах, нару-
шение "регулярных" (в будущем) схем обладало значительной частот-
ностью, сохраняясь и в языке XVI в. По утверждению В.Г. Адмони, в памят-
никах разных жанров в XIV в. преобладало наличие рамки (полной и непол-
ной) . Однако это утверждение нуждается в уточнении. Как показали иссле-
дования И. Шильдта, в библейском тексте этого времени конструкции
с контактным положением компонентов аналитической формы или слож-
ного сказуемого обладали значительной частотностью [Schildt 1972, 234—
235; 1968J.
Дополнительно к этому наблюдению можно привести материал из других
памятников разных жанров, преимущественно не относящихся к высокому
стилю. Так, например, в средненемецком Evangelistar контактное положе-
ние встречается на каждой странице изданного текста: In der czit waz
gemachit eyne Wirtschaft in Kana Galylee 10, 21, ср. также 8,13; 7,17 и т.д.
Значительно реже встречается эта модель в "Чешском землепашце", про-
изведении высокого стиля: es wurd fressen ein mensch das ander, ein tier
das ander 147, 15. Сохраняется контактное положение потенциальных ком-
понентов рамки и в XV в., особенно в памятниках, где отсутствует тщатель-
ность языка высокого стиля. Однако по частотности употребления данной
структуры бесспорно выделяются первопечатные библии, в языке которых
она занимает ведущее «положение не только в первом издании, но и в публи-
кации Цайнера (так назьюаемая четвертая библия) [Schildt, 1972, 236].
Для статуса данной модели в XV в. показательно, что первопечатники
Зорг и Шенспергер употребляют ее в стандартных оборотах: Das hat ged-
ruckt Antonius Sorg zu Augspurg; Das hat gedruckt Hans Schönsperger.
Возможно, что эта модель была близка узусу разговорной речи. На одном
экземпляре Кобергеровского издания Золотой легенды, хранящемся в
Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, сохра-
нилась надпись: Ich fridericht rosenritter hob kauft das puch do mon zeit
nach kristi gepurt 1490 jaer. По-видимому, в некоторых случаях подобное
построение являлось средством смыслового выделения тех членов предло-
жения, которые размещались после сказуемого. В приведенной выше фор- .
муле первопечатников тем самым выделялось имя издателя.
Иной характер имеет соотношение полной и неполной рамки. Весьма
существенно для данного периода упрочение позиции нагруженной рамки
(полной и неполной) в независимом предложении. Соотношение обоих
вариантов колеблется в зависимости от характера текста. Однако общей
закономерностью является привычное равноправие обеих моделей. Еще
166
В.Г. Адмони отмечал в одной из ранних своих работ [Адмони 1963, 130—
132], что в языке некоторых документов число предложений с неполной
рамкой достигает 50%. Как показал анализ материала памятников разных
жанров, степень нагруженности как полной, так и неполной рамки во мно-
гом зависит от общего стиля текста. В XIV в. слабо нагруженная рамка
характерна для языка Evangelistar, для прозы мистиков, для библейского
текста. Но вот в "Чешском землепашце" сильно нагруженная рамка много-
кратно используется в построении риторически оформленного абзаца
речи земпепапща, обращенной к Смерти, погубившей его супругу: wann ir
habt mir den zwelf ten buchstaben, meiner f reuden hört, aus dem alpfabet gar
freissenlich gezucket, ir habt meiner wunnen lichte summerblume mir aus
meins herzen änger jemerlich ausgereutet, ir habt mir meiner seiden haft,
mein auserwelte turteltaube arglistiglich entfremdet,, unwiderbringlich
raub an mir getan Ack. 138,5—8.
В XV в. сильно нагруженная полная и неполная рамка, преимущественно
характерна для прозы высокого стиля, для языка Хроник, произведений
гуманистов, а также некоторых деловых текстов; ср. из "Хроники", издан-
ной Кобергером: Rudolffus graff zu habßpurg ward nach langer feyre des
6 сев
romischen kaysertumbs vnd zerrudung der guter des romischen reichs mit
gemayner eynhelliger wale der churfursten zu romischem konig mit geding
als hieuor stet in de iar darnach zu empfahung der kaiserlichen krön gein
rom ze ziehen erkorn BChr CC XVII. Русский перевод дает лишь весьма
приблизительное представление о структуре этого текста: Тудольф, граф
габсбургский, был после длительного упадка римской империи и распада
владений римского государства, согласно общему и единогласному выбору
курфюрстов при условии, как это положено, через год для получения
императорской короны поехать в Рим, римским королем избран9.
Что касается соотношения полной и неполной рамки, то оно стилисти-
чески слабо маркировано, поскольку оба варианта в равной степени свой-
ственны письменно-литературному языку. В XV в. в языке большинства
памятников примерное соотношение 3:2. Особенно употребительна была
неполная рамка в тех случаях, когда за вынесенным объектом или обсто-
ятельством следовало зависимое предложение.
4
Порядок слов и положение рамочной конструкции в зависимом предло-
жении имеет свои особенности: варьируется не только позиция аналити-
ческой формы или сложного сказуемого, но и порядок следования его
компонентов. В этой связи выделяются две основные модели: 1) модель
с конечным положением сказуемого: Nu hän ich iu geseit, dazJhesus
enphangen warf Eckhart 7, 142; 2) модель с некоцечным положением
сказуемого: Du klagest, wie wir dir leit haben getan an deiner zumal lieben
frauen Ack. 157, 5. Однако в пределах каждой из основных моделей выде-
ляются в зависимости от порядка следования компонентов сказуемого,
в свою очередь, два варианта. Так, например, в пределах первой модели
возможно: а) построение с конечной позицией флектированной формы,
типичное для специфики зависимого предложения, ср. ... uf daz sy von
167
den luten geeret werden Ev. 19,19; б) конструкция с обратным порядком
следования компонентов: ...von herzen gründe sei geschriren über das
jar, über den verworfen tag... darinn mein steter herter diamant ist zerbro-
chen Ack. 5, 11—14. Оба варианта конечного положения сказуемого в
зависимом комплексе сосуществуют в текстах разных жанров и стилей.
Например, в "Чешском землепашце" в первых десяти главах преобла-
дает именно второй вариант: он представлен четырнадцатью примерами,
тогда как первый встретился лишь четыре раза. Иное соотношение этих
вариантов в религиозной прозе: разительно преобладание первого вариан-
та в проповедях Экхарта — в первых двух проповедях, опубликованных
Квинтом, он встретился 23 раза, тогда как второй вариант представлен
лишь восемью примерами. Аналогично соотношение обоих вариантов
в Evangelistar: на стр. 1—10 первый вариант засвидетельствован 25, а
второй — лишь 9 раз. В обоих памятниках модель с конечным положением
аналитической формы или сложного сказуемого встречается преимущест-
венно в малых по объему отрезках текста.
В XV в. соотношение обоих вариантов конечной позиции аналитической
формы и сложного сказуемого также остается неодинаковым в разных
памятниках. Обращает на себя внимание, что в религиозной прозе XV в.
получает развитие тенденция, которая отмечалась выше, при характери-
стике языка XIV в. : устойчивое преобладание первого варианта (будущая
грамматическая норма) и совершенно периферийная позиция второго
варианта. В четвертой библии (печатник Цайнер), в житии св. Георгия
из "Золотой легенды", в религиозно-дидактическом трактате "24 старца"
второй вариант явно отступает на периферию. За пределами данных жанров
письменности сходные соотношения наблюдаются в памятниках высокого
стиля, в прозе гуманистов, в Хронике города Майнца, в официальных
документах. Примерные численные соотношения: Хроника — 54:12; "24
старца" — 27 : 6; "Золотая легенда" — 19 : 6; особенно редко встречается
второй вариант в языке деловой письменности, в некоторых документах
он полностью отсутствует.
Модель порядка слов в рамочной конструкции с неконечной позицией
сказуемого, в свою очередь, имела несколько вариантов в зависимости
от распределения компонентов глагольного сочетания. Выделяются
при этом два основных варианта: 1) контактное положение компонентов
сочетания типа ...der syne sunne lezet schynen uf dy guten unde uf dy bösen
Ev. 19, 9 и 2) компоненты сочетания образуют рамку типа ... darin ward
maria gottes muter begraben mit reinigkeit (Passional). Вместе с тем в
пределах каждого их этих вариантов не стабилен порядок следования
компонентов. Так, при контактном положении весьма часто побеждает
порядок следования, характерный для независимого предложения: ср.
примеры выше — lezet schynen, в "Чешском землепашце" — du klagest,
wie wir dir leit haben getan an deiner zumal lieben frauen 157, 5. В XV в.
проявляется резкая дифференциация в частотности этого варианта в произ-
ведениях разных стилей. Особенно широко он применялся в некоторых
повествовательных жанрах: в народных книгах, путешествиях. В нижне-
немецкой народной книге о разрушении Трои встречаются абзацы, где
данное построение повторяется несколько раз, ср., например, во введе-
нии: Darumme wil ik Gwido eyn boek van der historien beschriven, dat
168
ik mlnemert vtfa den boken, dar dan vmgemaketheff eyn greke geheiten
Dites, dat ander eyn van Troyen geheiten Dares, de alletkl hebten gewesen
in dem stride vnd hebbengeseenvnde gehört alle dinge in der vorstoring;
ср. также Tr. 76, 19; 77,24 и т.д. 8 описании путешествия в святую землю
Фелюсса Фабри он также является распространенной конструкцией. В
произведениях же высокого стиля эта модель представлена буквально
единичными случаями. Что касается второго варианта неконечного по-
ложения аналитической формы или сложного сказуемого, образующих
неполную рамку, то этот вариант не отличается вообще особенной продук-
тивностью.
Как показал анализ языка текстов разных жанров, отсутствие последо-
вательно осуществлявшегося узуса, многовариантность характерны .дая
порядка слов $ гшсьменно-лятературном языке рассматриваемогощериода.
На фоне общей неустойчивости и вариативности постепенно обоэшчается
совокупность доминирующих тенденций, определивших з дальнейшем
становление норм порядка слов немецкого литературного даыжа.
5
Потребность членения сложных синтаксических комплексов, сложив-
шихся в связи с развитием прозаических жанров на немедком языке,
оказала влияние не только на упорядочение закономерностей порядка
слов, но и на функционирование многообразных причастных оборотов.
Выделение главного содержания синтаксического комплекса, эдо семан-
тического центра, и сопутствующих элементов мыслительного содержа-^
ния, включаемых как подчиненные отрезки в общую ткань цельного пред-
ложения, повлекло за собой необычайную продуктивность зависимых
полупредикативных именных конструкций, ядром которых являлись
причастия I и II. Эти обороты характеризуются значительной частотностью
уже в текстах XIV в. Как показало детальное исследование Г. Батаруне-
не [Батарунене 1976], следует, по-видимому, отказаться от слишком
прямолинейных утверждений о заимствовании этих моделей из латинского
языка, хотя нельзя отрицать влияние латинских образцов особенно на
оформление сложных оборотов. Причастные конструкщш относятся к
числу тех синтаксических моделей, которые характерны для книжных
стилей языка. Они неупотребительны в языке проповедей, следовательно
в текстах мистиков, в народных книгах. Весьма большую частотность
эти обороты обнаруживают в научно-популярной прозе, в произведешшх
гуманистов XIV-XV вв. Статус причастных оборотов в языке разных па-
мятников определяется, не только степенью их частотности, но и объемом
оборота, емкостью выражаемого содержания, составом включаемых ком-
понентов.
Популярны в разных текстах "однословные" причастные обороты
типа ..In der czit gap lohannes geczugunge von demherren unde rif sprechen-
de Ev. I, 23; подобные обороты характерны особенно для библейского
текста и в XV в.; стилистически они отличаются однообразием, больше
половины составляют конструкции с причастием I, вводящие прямую
речь; в качестве стержневого слова выступают причастия sagend, sprechend,
lerend, lobend. Такие построения входят в систему шаблонов библейского
12. Зак. 336
169
текста. В "Чешском землепашце", произведении высокого стиля, возмож-
ны обороты разного объема (всего засвидетельствованы 40 случаев),
они значительно более разнообразны в структурном отношении, отличаются
нестандартностью и образностью, соотнесенной с общей стилистической
окраской языка памятника. Объем оборота разрастается и в связи с исполь-
зованием синонимики, столь популярной тоща в языке высокого сти-
ля. В XV в. различия в частотности и стилистической специфике оборотов
становятся еще более заметными.
В некоторых жанрах письменности частотность оборотов связана с их
стандартностью и формульностъю. Так, например, в травниках причастные
обороты приобретают характер своеобразных клише, вследствие наличия
однотипных лексем в функции стержневого слова, а также однообразия
в структуре оборота: Ite beyfuess... gesotten mit wein... ist gut 'Итак,
полынь, сваренная (прокипяченая) с вином,...полезна' и т. д.
Общие особенности языка деловой прозы с характерными для нее
многозвеньевыми синтаксическими построениями, языковыми шабло-
нами, специфичными для этого типа письменности, определяли и своеобра-
зие причастных оборотов, внося уточнение в текст решений, указов, до-
говоров. Обороты увеличивали и осложняли многозвеньевые синтакси-
ческие отрезки. Использование в качестве стержневого слова однотип-
ных лексем — antreffend, berurend, lautend, versiegelt, besigelt, bezeugt,
ausgenommen — стимулировало стандартность оборотов. Их объем в дан-
ном типе письменности, как и в прозе гуманистов, может достигать зна-
чительной величины.
Хотя причастные обороты — явление весьма широко распространенное,
существовавшее в языке многих жанров, тип используемых оборотов,
их статус в языковой ткани разных памятников стилистически маркиро-
ваны. Они, бесспорно, связаны с узусом письменного (книжного) языка,
сложившимся в результате развития прозаических жанров.
6
Переходный характер рассматриваемого периода проявляется не только
в действовавших моделях порядка слов, но и в процессах, связанных с
формированием дифференцированной системы подчинительных союзов,
способных однозначно маркировать типы придаточных предложений.
Основным направлением этих процессов является образование новых
подчиняющих слов и словосочетаний на основе сочетания старых единиц,
обладавших широкой смысловой структурой, с уточняющими их части-
цами. Так, например, союз als, вводивший предложения реального и ирре-
ального сравнения, а также временные предложения, получает, начиная
с памятников конца ХШ в., уточняющие его компоненты: для ирреаль-
ного сравнения формируются сочетания als ob, als weun, для временных
предложений — als schür, als bald 'как только', для уступительных — als
ferre. Точно так же на основе союза ob, который сочетал условное и усту-
пительное значения, а также вводил предложения, содержащие косвенный
вопрос, образуются союзы ob wohl, ob schon, ob gleich 'хотя*. Многознач-
ный союз dass, который вводил относительные предложения и вместе с
тем был союзом цели, получает также уточняющие частицы: этим путем
170
создаются целевые союзы uf daz, damit daz 'чтобы, для того чтобы9. Со-
юз, вводящий сравнительные и временные придаточные предложения,
so, получает дополнительные показатели — so bald, so wohl 'также как'.
Образование этих новых единиц приводило к сужению смысловой
структуры исходной формы или к полному ее исчезновению из системы
подчиняющих средств. Однако в действительности процесс этот проте-
кал крайне медленно, завершение его происходит лишь в XVI, XVII вв.
В XIV же и XV вв. в языке многих памятников использовались как ис-
ходные, так и производные единицы, что создавало разноплановость и
зыбкость всей системы.
Остановимся в этой связи на рассмотрении соотношения некоторых
простых и сложных единиц. Союз als сохраняет в рассматриваемую эпоху
свою многозначность, фактически он выражал общую категорию зави-
симости придаточного предложения, но многозначность характеризовала
и некоторые другое союзы, например, do, ob, so. Этим, по-видимому,
объясняется нетождественное распределение союзов по разным памятни-
кам. В Evangelistar в функции временного союза чаще всего используется
do: Do Iohannes horte dy werk Cristi 2,6; но представлены и случаи упот-
ребления в этой функции als(e), особенно, если в независимом отрезке
стоит коррелятивное so: Alse sy itczunt biengen ere fnicht, so wizzit ir
daz der summer nahen ist 1, 10. Наконец, в этом же памятнике в функции
временного союза используется wen... so 'когда... тогда'. Вместе с тем
als(e) в этом тексте часто соответствует современному wie 'как'. В "Чеш-
ском землепашце" als в функции временного союза вообще не употреб-
ляется, за ним закреплено значение реального и ирреального сравнения:
Laß ab... die lebenden mit den lebendigen, die toten mit den toten, als unz
her ist gewesen Ack 8,16... 'как это было до сих пор'; Du tust gleich als
dir ernst sei 2, 10 'ты делаешь так, как будто это для тебя серьезно.' Но в
функции ирреального сравнения в языке этого памятника употребляется
и более четко маркированное als ob.
Как показывает сопоставление языка разных текстов, союз als занимает
в них не тождественное положение. Его функции перекрещивались с функ-
циями союзов do, so, wie, wen, и распределение элементов этого ряда
отнюдь не совпадало в разных памятниках. В романе о Ланцелоте (XV в.)
als сохраняет преимущественно модальное значение: Also als der konig
vorsprach also dett die konigin 5,9. Обычным же временным союзом,
так же как в Evangelistar, является da (do), коррелирующее с da(do)
независимого отрезка. В путешествии Фабри, в качестве вводящего эле-
мента временных придаточных предложений, используются построения
als (as)...do и so... so, причем als употребляется в тех случаях, когда * речь
идет о действии в прошлом, so при описании повторных узуальных собы-
тий. К тому же als до) весьма часто используется как вводящее слово
в предложениях типа as sein legend sagt RsFab 290 'как гласит его леген-
да'. Что касается делового языка XV в., то als широко применяется в
значении временного союза, но при этом ведупщм остается все же его
использование в сравнительных построениях, где его конкурентом ста-
новится wie: ср. als danne geschriben stet и wie dann geschriben stet.
Показательно дли многозначности als в деловом языке его использование
в одном из обширных документов 1411 г. [Admoni 1980,49]..
171
Многофункциональным оставался и союз obv вопреки существованию
отмеченных выше производных образовании с более узкой семантикой.
В- документах XV в. ob 'если, хотя, то есть* — союз, вводящий условные
и уступительные предложения; срм в частности* повторяющуюся формулу
obLgpt wä. Л Майнцекой- Хронике, включающей переписку между города
ским советом п архиепископом, в языке договоров, в имперских указах
и ^cnessjx предложениях сохраняется obv лишь в конце XV в. его носте-
пеншмгзчишег вытеснять wenn, который затем ста^кшится единственным
союзом условного предложения [Behaghei 347]« Как союзг вводящий
усгушгга&ные предложении», ob сохраняется в языке разных жанров. XIV,
а частично и XV в».
Два уетойчивоете старых кшогофункционаяьных подчинительных сою-
зов, к после образование более- дифферешщрованных по своему значению
единиц, показательна судьба союза da^ — одного из наиболее древних
и многозначных союзов — в предложениях цели. В текстах XIV в, широко
представлены uff das (uffe daz, off dazr upp-dat), позднее dar imune, dar
umb-daz, особенно часто в деловом яэьпсе» но и в произведениях других
жанров, da mit — преимущественно в деловом языке в значении 'чтобы'.
Но старое многофункциональное daz не исчезает из предложения цели
и продолжает существовать параллельно, ср. два примера из Ланцелота:
Darnach kwam erzuUnpandragona... off das er im hülf syn urlage zu end
bringen LI, 26^ где применено сочетание off das, и sendet hinweg zum
konig Artus das er uchzuhilff stand L 4, 5, где те же отношения передает
союз das„
Следовательно, старые союзы с характерной для них смысловой структу-
рой сохраняются в книжном языке вплоть до конца XV в. наряду с новы-
ми^ структурами* коммуникативной задачей которых было уточнение ха-
рактера подчинительных связен в придаточных предложениях разных
типов г при этом многозначность переплеталась с развитой синонимией,
сообщая всей системе нечеткость разграничения функций отдельных
единиц.
?
Динамика общественных процессов, сплав отживающего, уходящего
и нового» зарождающегося в недрах старого общества, наиболее непо-
средственна отражались в развитии лексики немецкого литературного
языка. Недостаточная изученность памятников, а тем более устных форм
общения препятствует более или менее четкому разграничению изме-
нений на уровне разных страт. Слабо исследовано соотношение стилисти-
ческой и диалектной дифференциации лексики. Лишь неполно, схематич-
но и до известной степени поверхностно раскрывается перед исследова-
телем сложное сочетание процессов разной глубины и интенсивности, оп-
ределявших развитие лексики этого периода.
Потоки нахлынувших Неологизмов, создаваемых из материала родного
языка по своим словообразовательным моделям, подражания иноязыч-
ным образцам (кальки), непосредственные заимствования из латинского
языка сообщали стилистическую неоднородность, особенно языку тех
новых сфер общения, которые впервые открывались перед родным язы-
172
ком: кристаллизуется своеобразие лексики мистиков, научной прозы,
делового стиля, жанров художественной литературы. Исчезают вместе
с тем из письменно—литературного языка элементы тех микросистем,
которые были связаны с уходящими литературными традициями и куль-
турой прошлого. Так, исчезает значительная группа лексики, бытовав-
шей в рыцарской поэзии: amur, amie, 'возлюбленный9, tjoste 'поединок
на конях', gar^un 'паж', gentil 'благородный', runzin *конь, лошадь'. Но в
"Чешском землепашце" автор говорит о себе ich war ir fridel, sie mein
amei V, 1 'я был ее другом, она моей возлюбленной'. Некоторые сохра-
нившиеся слова, связанные с идеологией рыцарства, получают новое ос-
мысление: frech, заимствованное из французского языка (ср. frique),
означало 'смелый, подвижный', так же как vrevel 'смелый, храбрый', т. е.
служили наименованием положительных качеств рыцаря-воина, но в рас-
сматриваемый период они воспринимаются как номинация поведения
рыцарей-разбойников, нападавших на села и города, грабивших на боль-
ших дорогах. Поэтому frech приобретает значение 'наглый, нахальный',
vrevel 'грех, преступление'. Точно так же höhe muot, первоначально имев-
ший значение 'высокий образ мысли', переосмысляется в бюргерской сре-
де как hochmuot 'высокомерие' и т.д.
Постепенно исчезает также та традиционная лексика германской по-
эзии, которая в предыдущие столетия сохранялась преимущественно в
шпильманском эпосе: wigant, 'воин', degen 'витязь', wie 'борьба', gemeit
*весело\ elen 'сила', тас 'родич', künne 'семья'. Отдельные слова встреча-
ются в текстах в новом значении *- gotes degen, gotes Wigant 'божий воин';
Христос называется junge degen, а Мария — des degens vas 'сосуд витязя*.
Архаичное fruot 'мудрый' встречается в "Замке любви" наряду с wis-
lich, wisheit; устаревшее vrliuge включается в риторики, а в глоссарии,
изданном ЦайнероМ, латинская Tragoedia переводится как vrliug gedieht.
Меняется и состав разговорно-бытовой лексики, зафиксированной в
письменно-литературном языке: исчезают, являвшиеся, по-видимому,
архаизмами уже в XIV в. diet 'надрд' (его повсеместно заменяет volk),
zesem 'правый', winster 'левый', brütlouft 'свадьба', imgenge 'злой' и т. д.
Эта архаичная лексика еще сохраняется в тексте первой печатной библии,
но уже третье издание знает только (ge) recht(s),(ge)link(s),hochzeit,bös.
В четвертой же библии (печатник Цайнер) wuocher 'плод' заменяется
fnicht, eren > ackern, korter, kütte - herde, ünde - welle, an(e)geng -
anfang и т. д. Не всегда ясно соотношение инновационных процессов с
диалектными« излучениями. В свое время Циземер высказал предпо-
ложение, что лексические замены в тексте четвертой библии объясняются
частично влиянием восточносредненемецкой традиции [Ziesemer 1928,
369, 380]. Положение это, однако, отнюдь не бесспорно [Guchmann 1969,
13,14].
После сосуществования в течение длительного времени michel и groß,
lützel и klein, zwahen и waschen, heischen и bitten, unz и bis первоначаль-
ная конкуренщш сменяется победой одного из них и, следовательно, вы-
падением другого члена этих пар [Guchmann 1969,98-107].
173
8
Формирование неологизмов происходило преимущественно по уна-
следованным структурным образцам. Состав закрепившихся в преды-
дущие столетия словообразовательных моделей, включавший как древ-
ние еще общегерманские структуры тала сложных слов или старых суф-
фиксальных образований, так и более поздние модели производных слов,
в основном не изменился. Изменилось соотношение разных моделей и
позиция каждой из них в словообразовательной системе.
Словосложение, основанное на сцеплении двух полносложных единиц
без связующего элемента, восходящее к древним германским моделям,
широко используется в письменных памятниках независимо от их жан-
рово-стилистической специфики. Не всегда ясно, какие сложные слова
были созданы именно в этот период: так, например, в книге Пророков
Клауза Кранка (С1С, XIV в.) весьма употребительны сложные слова:
tint-faz 'чернильница', dienst-bote 'слуга, посланец', berg-rucke 'горный
хребет', hunger-not 'голод', lant-man 'селянин', erde-slunt 'пропасть',
heide-krut 'вереск', schrib-wise 'почерк', grunt-stein 'основа, фундамент',
stein-gruft 'склеп, пещера' и т. д.; из них tintfaz является новообразо-
ванием, так же как steingruft, grundstein, возможно также schribwise.
В "Чешском землепашце" часты индивидуальные неологизмы — слож-
ные слова vernunftleit 'страдание разума', wurmspeis 'еда для червей'
(человек), totbett 'ложе смерти', stemgewalt 'власть звезд', summerblume
'цветок' и серия окказиональных единиц — оскорблений, бранных слов,
которыми обмениваются землепашец и Смерть: kotfaz 'бочка для не-
чистот', lasterbalch 'мешок, полный пороков'.
Получают распространение и трехкомпонентные образования типа
hantwerkmeister, создававшиеся на базе сочетания сложного и простого слова.
Ф. Чирх обратил внимание на случаи замены простого слова сложным:
sprich-wortBM. д.-в.-н-/ср.-в.-н. bispel ^пословица, поговорка'; sur-teic
'кислое тесто, дрожжи* вм. hiefel, frischei; apfel-boum 'яблоня'вM.affoltra;
семантическая структура новообразований обладала в этих формах боль-
шим коммуникативным эффектом.
Относительной инновацией является модель неполносложных слов
типа augen-blick 'момент', gotis-knecht 'раб божий', eren-krone *почетная
корона;, корона славы, чести', huren-geld 'нечестный заработок' =е деньги
проститутки', todes-nöt 'страх смерти'. Эта модель отличается большой
продуктивностью, особенно в языке "Чешского землепашца" и в грушш
памятников высокого стиля: ср. faerzen-leit 'боль, страдания сердетаыа',
menschenwerk 'создание человека', toten-opfer 'жертва смерти' и т. д.
Особую модель сложных слов образуют сдвиги тина sternluger, sternseher
'астроном', sternbedeuter 'астролог' в словаре Цайнера» Структурой, спе-
цифичной для стиля der geblümten rede, являются сложные образования,
вторым компонентом которых являются причастия: lustgebende 'радость
дающая', gifttragende 'яд несущая', krafthabende 'силу имеющая' и т. д.
На грани словообразования и словосложения находятся стилистически
маркированные прилагательные с all-,обозначающие полноту качества
(особый тип суперлативов): allergrost 'самый большой', allerhöchst
'самый высокий', allerhubschest 'самый красивый'» allersenftiglist 'самьш не-
жный' и т. д.
174
Что касается нешлносложных образований, то они генетически свя-
заны с именными сочетаниями < препозитивный генитив+существитель-
ное , являющимися излюбленным стилистическим приемом у прозаиков
и поэтов так называемого раннего барокко (см. след. раздел). При именах
существительных нарицательных конструкция имеет оттенок торжествен-
ности, изысканности» По-видимому, это соотнесено с расширением сферы
употребления постпозитивного генитива, оборота стилистически нейтраль-
ного и к тому же лишенного амбивалентности (словосочетание-* сложное
слово), характерной для сочетаний с препозитивным генитивом.
Разграничение сложного слова и генитивного словосочетания далеко не
всегда обладает однозначностью не только в рассматриваемый период,
но и в последующее столетие, тем более, что раздельное и слитное напи-
сание не регламентированы [Павлов 1958]. Затруднительность опреде-
ления статуса отдельных примеров обусловлена дополнительно употребле-
нием неоформленного родительного падежа.
Особый пласт среди неологизмов образует абстрактная лексика, пред-
ставленная не только в языке мистиков, но и у ранних гуманистов (Иоганн
фон Ноймаркт, Иоганн фон Тепль), а позднее, в XV в., — у Виле, Эйба
и других деятелей развитого гуманизма. Среди суффиксальных образо-
ваний наиболее употребительны в этой функщш были формы на -heit,
-keit, широко представленные в языке мистиков и в "Чешском земле-
пашце", тогда как в поэме "Замок любви" они практически отсутствуют.
Среди многочисленных производных существительных, образованных
по этой модели,иногда затруднительно выделить унаследованные еди-
ницы и собственно неологизмы. Существенна сама частотность их упот-
ребления. В небольшом по объему диалоге "Чешский землепашец" засви-
детельствовано 18 существительных на -keit, но некоторые из них к тому
времени явно не были неологизмами, а были унаследованы традицией
письменного языка. Сказанное относится к gotheit 'божество, божествен-
ность', Christenheit 'христианство', menschheit 'человечество9, klarheit
'ясность', возможно, bosheit 'злоба', giteheit 'скупость, жадность', gehor-
samheit 'послушание', kiuschheit Непорочность' [Klinisch 1974, 313].
Вероятно, к неологизмам следует отнести persönliche it.' личность',
begriffenheit, begriffenlicheit 'понятийность(?)', unbekantheit 'неизвест-
ность9, ungewordenheit 'незавершенность(?)', selbesheit 'самость', ichheit
'ячество', nichtheit 'отрицание, лебытие, несуществование', vermugenheit
'возможность, способность', bestandenheit 'устойчивость, постоянство',
entfremdekeit 'отчуждение'. Не столь распространены у разных авторов
производные на -unge типа bekennunge 'признание', umbekerunge 'прев-
ращение, обращение', infleischunge 'инкарнация', bezeichnusge 'обозна-
чение', schepfung 'творение, созидание', zerrutung 'разрушение, потрясе-
ние', erbarmunge 'жалость'. Они встречаются преимущественно в "Замке
любви" у Таулера, Зойзе, в "Чешском землепашце".
Помимо существительных на -heit/keit, распространенной становится
номинация абстрактных категорий путем субстантивации единиц, при-
надлежавших к разным частям речи — глаголов, местоимений, предлогов,
частиц: ein tun "'деятельность, действие, процесс*, ein in sin 'бытие (в бо-
ге)', ein sin 'бытие', daz al 'всеобщее', daz eigen 'особое*, mit vor und
175
mit nach 'то, что предшествует и что следует', daz nicht 'ничто, небытие',
daz ungenante 'неназванное, не имеющее наименования', daz nicht wesen
'небытие' и т. д. Некоторые из этих наименований с трудом поддаются
переводу: daz nu 'то, что совершается мгновенно', но и 'что преходяще,
что дано сейчас', ein inhangen (in gote) 'пребывание (в боге)', но han-
gen 'висеть, находиться в висячем положении'. Структуры этого типа
стилистически маркированы. Они преимущественно характерны для язы-
ка мистиков, особенно Экхарта и Зойзе. Единичные образования встреча-
ются и в "Чешском землепашце", например daz nichtwesen; впрочем,
в языке этого памятника прослеживаются некоторые общие с языком
мистиков приметы.
В глагольной системе новые единицы создавались преимуществен-
но на основе префиксальных моделей. Нередко введение префиксальных
единиц прибретало определенную стилистическую окраску, причем пре-
фикс часто не вносил в смысловую структуру новой единицы присущее
ему лексическое значение, но лишь способствовал интенсификации содер-
жания глагольной лексемы. Большой продуктивностью отличались, напри-
мер, образования с преф. durch-. В поэме "Замок любви" они образуют
значительную группу (свыше 70 единиц); durchflogen 'украшать*, durch-
glenzen 'блестеть*, durchwelken 'отцвести, завянуть', durchbalsemen 'на-
душить бальзамом', durchvröwen 'радовать,' причем в durchwelken пре-
фикс подчеркивает завершенность процесса, durchglenzen в отличие от
Simplex glenzen можно было бы перевести как '(ярко) блестеть'; уси-
ление значения глагольного корня вносил префикс в durchfloriren (flo-
riren также означало 'украшать'), durchpoliren (poliren имело одинаковое
значение). Среди префиксальных образований большой продуктивностью
отличались сочетания с ge-, er-, ent-, при этом преф. ge- не вносил ника-
кого изменения в смысловую структуру глагола. Так, например, в том
же памятнике ("Замок любви") многочисленные глаголы с преф. ge-
сосуществуют с беспрефиксальными единицами, семантически ничем
от них не отличаясь и образуя тем самым синонимические пары:
gebilden ~ bilden » совр. gestalten, geblüejen ~ blüejen 'цвести', gebliie-
men ~ blüemen 'украшать' (имеются в виду риторические приемы, см.
дальше описание der geblüemter rede раннего барокко), geschaden ~scha-
den 'вредить', getihten ~tihten 'сочинять', getuon ~tuon 'делать'. Но пока-
зательно, что те префиксальные единицы, которые в этом памятнике не
имели беспрефиксальных соответствий, по своей смысловой структуре
ничем не отличаются от соответствующих беспрефиксальных глаголов
в других текстах, например: gemachen ~ machen 'делать', gehoeren ~hoe-
ren 'слышать', genennen ^nennen 'называть', geleren ~ leren 'учить', ge-
geben ""geben 'давать' и т. д. Префиксальные образования этого типа
становятся одним из приемов der geblüemter rede.
Именно в данный период получает особое распространение и произ-
водство прилагательных с суф. -lieh, наиболее показательны в этом от-
ношении в XIV в. тексты высокого стиля: в "Чешском землепашце" от-
мечены begreiflich ~ begreifenlich, durchlustiglich, durchwaltiglich, ge-
nediglich 'милостивый', genugelich 'достаточный', genugsamlich, getreu-
lich 'верный', gröblich 'грубый', leichtiglich 'легкий*, unbärmherzig-
lich 'безжалостный', unbeschreiblich 'неописуемый'; в "Замке люб-
176
ви" guotlich 'приветливый', griuwelich 'страшный', schamelich 'позорный',
senelich 'полный стремления', sichteclich 'видимый', sinneclich 'умный,
понятливый', sterclich 'сильный', trugenlich 'лживый' и т. д. Образования
по этой модели использовались и в языке других памятников, но не в
таком количестве.
Значительное число неологизмов, создававшихся в письменно-лите-
ратурном языке, были стилистически маркированы, их употребление
соотнесено с обшей функциональной системой памятников.
9
В течение многих столетий, начиная с первых письменных памятников,
влияние латыни сопровождало развитие немецкого литературного языка.
В зависимости от исторических условий, от конкретной ситуации оно то
ослабевало, как это было в период расцвета рыцарской культуры, то
набирало силу. В литературном языке накапливались латинские заимство-
вания, относящиеся к разным историческим периодам. Не всегда поэтому
возможна хронологическая стратификация латинской заимствованной
лексики. В XIV—XV вв. латинское влияние становится вновь значитель-
ным в связи с растущей популярностью идей итальянского Возрождения.
Образцом для подражания, как упоминалось выше, в большинстве слу-
чаев является не столько язык античной литературы, сколько латынь
современных итальянских писателей, отличавшаяся высоким уровнем
риторики, утонченностью стиля, отточенностью и искусственностью син-
таксических построений. В XIV в. для немецких писателей и поэтов, пред-
ставителей раннего, так называемого пражского гуманизма - Иоганна
фон Ноймаркта, Иоганна фон Тепля, Мюгельна — латинский язык Пет-
рарки и Боккаччо, Франциска Поджьо и Энея Сильвиуса являлся приме-
ром высокого стиля, которому они стремились следовать. Фон Ноймаркт
в предисловии к житию св. Иеронима уподоблял родной язык крапиве
в отличие от высокого "розоцветного фиалкоподобного искусства" ори-
гинала (rosenvarber und violschoner kunst).
Несколько десятилетий спустя сходные мысли выскажет известный гу-
манист, популяризатор итало-латинской литературы и переводчик Никлас
фон Вилле. Роль латинских заимствований была довольно значительна,
но отнюдь не во всех литературных жанрах одинаковой. Включение ла-
тинской лексики было обусловлено интенсивным процессом внедрения
немецкого языка в ранее закрытые для него сферы общения, отмечав-
шейся выше необходимостью создания новых терминологических систем
при отсутствии национальных традиций терминотворчества. Обращение
к структурным моделям родного языка, создание неологизмов на основе
словосложения и деривационных процессов не всегда оказывалось доста-
точным средством. К тому же слишком сильны были традиции латинского
языка в таких сферах как теология, наука, юриспруденция. Даже в язы-
ковой практике мистиков отразилась эта языковая ситуация^
Мистики, как, и некоторые последователи ересей, хтремились^найти
адекватное словесное обозначение основных идей своего учения о непо-
средственном общении человека с богом, о слиянии человеческой души
и божественного начала всех начал. Сам процесс номинации worten, zu
177
Worten bringen, wortigen был важнейшим элементом этого учения. Есте-
ственно, поэтому, стремление облечь понятия своих теологических построе-
ний в живую ткань родного языка, сделав их по возможности доступными
для широкого круга верующих. В этой связи многие общефилософские
понятия, восходящие еще к традиции категориального аппарата схоластики
(латинские термины), получают в произведениях мистиков немецкое
обозначение: ср. esse = wesen 'бытие9, essentia = wisenlicheit 'сущность',
existentia = isteheit 'существование', intelectus = Vernunft, vernunftecheit,
simplex = einfaltec, simplicitas = einfaltecheit 'простота*, но в других слу-
чаях параллельно встречаются немецкие и заимствованные обозначения,
образующие синонимические пары: memoria ~ gehugnisse, phantasie ~
~ bildung, inbildung, bildende kraft, substantie ~ wesen, ünderstant,
formieren ~ bilden, fundamentum ~ grünt, transformieren ~ uberbilden
[Kunisch 1974, 285]. По-видимому, немецкая лексика была недостаточ-
но "терминологична", что и вынуждало даже мистиков обращаться к
латыни.
Иная ситуация складывалась в таких понятийных группах, как наи-
менования "семи свободных искусств" (через латинскую традицию здесь
господствовали греческие термины) и других отраслей знания: Grammatica,
Rhetorica, Arismetica, Astronomia, Musica, Philosophia в "Чешском зем-
лепашце"; употребляет некоторые из приведенных слов и автор "Зам-
ка любви". Интересно, что в данном случае латинская традиция была силь-
нее, чем те немецкие эквиваленты, которые давали словари (Gramma-
tica = die selbe kunst, Phisica = naturlich kunst oder erczney, Gram-
maticus = ein kunstiger der buchstaben vnd der diction). У Мюгельна и в
тексте "Замка любви" появляется группа заимствованных терминов,
связанных с теорией композиции, пением, игрой на музыкальных инстру-
ментах: discant, discantiren, dissonanz, terz, quart, quint,quintieren,tenor,
visieren, quinterngedaene и т.д. Впрочем, следует отметить, что авторы
названных произведений, как и некоторых других памятников XIV в.
довольно сдержанны в употреблении латинской лексики.
Т Положение меняется в XV в., когда латинское влияние становится
особенно ощутимым в результате деятельности таких гуманистов Как
Никлас фон Виле и Штейнхевель [Rosenfeld 1974]. Нередко у этих ав-
торов латинская лексика употребляется рядом с немецким словом, обра-
зуя синонимическую пару: rumor und geschray, wane und opinion, red
undoracion,memory und angedachtnusz, prologus oder vorred, loben und
glorificieren, notari oder offen Schreiber. Особую группу образуют абстракт-
ные существительные: absolutie, Substanz, habitus, materie, memoria,
metaphysica, devotio, contemplacie и т. д. Латинские заимствования этого
типа преимущественно жанрово-стилистически маркированы, их упот-
ребление ограничено определенными типами письменности:проза гума-
нистов, язык науки, документа, теологии—вот те сферы, где функцио-
нируют слова, относящиеся к новому пласту латинских заимствований
(подробее см. вторую книгу).
178
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
XIV-XV вв.
1
В предыдущих разделах при характеристике стилистического варьи-
рования в реализации определенных языковых категорий неоднократно
упоминались приметы высокого и среднего стилей. Однако анализ статуса
этих примет и характера их функционирования в языке отдельных памят-
ников показывает, что чаще всего стилистическая система не была гомо-
генной не только в пределах одного жанра, но и одного памятника. В тек-
стах, которые можно считать наиболее яркими образцами высокого сти-
ля, как, например, "Чешский земплепашец", выделяется значительный
пласт просторечных и даже грубых слов и фразеологизмов, напоминаю-
щих язык карнавальных пьес (Fastnachtspiele) и не относящихся собст-
венно к лексике литературного языка. К тому же стилистическое мно-
гообразие языка письменности не соответствует жесткой оппозиции "вы-
сокий/средний стили". Язык Экхарта и Таулера, отличающийся ярко мар-
кированной лексикой и достигающий на этом уровне высокой обработан-
ности, сохраняет черты синтаксиса "среднего стиля" — простоту и проз-
рачность организации предложения, отсутствие многозвеньевых комплек-
сов. Вместе с тем несколько расплывчато и понятие "средний стиль".
Этот стиль характеризуется не столько совокупностью неких положи-
тельных, сколько отрицательных примет: отсутствием тех стилистических
приемов, которые так ярко отграничивали узус книжного языка от языка
разговорно-бытового общения.
Среди памятников высокого стиля, язык которых наиболее последовате-
льно и ярко отражал стилистическую систему латинских риторик, можно
вьзделить две группы текстов: переводы с латинского языка, в которых
непосредственно сказывалось влияние языка подлинника, и оригиналь-
ные произведения на немецком языке, где зависимость от канонов рито-
рики проявлялась в более сложных формах. Подобное разграничение
существенно главным образом для XIV в., начала XV в., поскольку во
второй половине XV в. немецкая оригинальная литература этого стиля
в языковом отношении мало отличается от переводов.
Кратковременный расцвет письменности высокого стиля со второй
половины XIV в. был частично связан, как уже отмечалось, с проникно-
вением идей итальянского гуманизма. Неверно было бы отнести эти про-
цессы только к деятельности писателей, близких ко двору Карла IV в
Праге. По-видимому, автор аллегорической поэмы "Замок любви" (Mb),
живший предположительно в Вюрцбурге, и Эгон фон Бамберг, значитель-
но повлиявший на стилистическую систему названной поэмы, а также
в известной степени мистик Зойзе не были чужды влиянию современной
им итальянской литературы на латинском языке.
Фон Ноймаркт и другие авторы XIV в., а позднее немецкие гуманисты,
выступавшие во второй половине XV в., сознательно стремились перенести
элементы высокого стиля на немецкую почву. В предисловии к житию св.
Иеронима автор, отметив несовершенство своего языка по сравнению с
высоким искусством оригинала, писал о горячем желании передать содер-
179
жание оригинала "сладчайшими словами (ubersussen worten), украшен-
ностью языка (geblumede) и веселым изяществом". В предисловии к
"Чешскому земплепашцу" выделяется стремление к стилистическому
совершенству риторик, к применению всего многоцветий стилистических
фигур. Сходные высказывания повторяет несколько десятилетий спустя
и фон Виле.
Набор приемов высокого стиля не представляет собой замкнутой си-
стемы. Отнюдь не вся совокупность приемов использовалась в равной
степени разными авторами. Интересно в этом отношении сопоставление
стиля прозы Иоганна фон Ноймаркта и "Чешского землепашца" Иоганна
фон Тепля. Первый из них переводчик и компилятор, довольно после-
довательно подражает латинскому синтаксису, широко применяя много-
звеньевые периоды, разноуровневые подчиненные отрезки, причастные
обороты, то есть все те синтакстические модели, которые через сто лет
в гипертрофированной форме проявятся в прозе гуманистов XV в. В "Чеш-
ском землепашце", построенном как диалог между человеком, у которо-
го скончалась молодая жена, и Смертью, использованы в синтаксисе язы-
ковые средства, близкие устной речи. Здесь предпочитаются паратаксис,
относительно краткие предложения, их объем увеличивается лишь за
счет многократных перечислений, нагрузки именных словосочетаний,
синонимики: ср. Die bürde mußen tragen heim und knecht, man und weib,
jung; und alt, reich und arm, gut und bos XXXII, 41, или lr habt mainer
wünne lichte sumerblume mir aus meines herzen anger jemerlichen ausgereutet
XIII, 5 'вы вырвали моего счастья сияющий летний цветок (подсолнеч-
ник?) из обиталища моего сердца'; нагромождение атрибутов при сущест-
вительном: die behenden, abenteurlichen, hochgelerten und allerlei meister-
schaft wolvermugenden leut X, 1 ö'проворные, озорные, высокообразованные,
хорошо владеющие всеми искусствами люди'. Непосредственное обраще-
ние к партнеру по диалогу, восклицания, вопросы, специфичные струк-
туры диалогического жанра, они сами по себе стилистически слабо мар-
кированы.
Но имеется совокупность приемов, характерных для канонов высо-
кого стиля, объединяющих произведения разных жанров, прозу и поэ-
зию. К числу этих устойчивых приемов относится широко развитая си-
нонимика, двучленные и трехчленные синонимические сочетания: mit pfer-
den und rossen, vertrieben und Verstössen 'изгнанный и отверженный', ge-
kundiget und gesagt ward 'сообщено и сказано" (Mügeln); gelobt und
gesworen 'клятвенно обещано', angesehen und geachtet 'почитаемый', volle
und gancze nacht 'всю ночь', hindern und beschedigen 'препятствовать и
вредить', die kur und wale "избрание и выборы', erlauben und g'ünnen
'допускать' (Neumarkt) и т. д.
Несколько иной, более содержательный характер имеют распространен-
ные в "Чешском земплепашце" ряды, включающие близкие, однотипные,
но не тождественные по своему значению лексемы: о die totliche mensch-
heit ist stet in engsten, in trybsal, in leit, in besorgen, in vorchten, in scheung,
in wetagen, in siechtagen, in trauren, in betrubmtf, in jamer, in kumer, in
elende und in mangerlei widerwertigkeit Ack XXXIII, 35—37 'О смертное
человечество всегда в страхе, в печали, в страдании, в заботах, в бояз-
ни, ужасе, в скорбных днях, в днях болезни, в огорчении, в печалях, в сте-
180
наниях, в горе, в несчастье и в множестве неприятностей'. Подобные со-
четания, стилистическая игра с синонимами .являлись <щним из факторов,
побуждавших к образованию новых производных лексических единиц.
Еще большее распространение получает этот прием в прозе XV в.: rede
und gespreche hatten "имели разговор, говорили*, er verschiede^mdstarbe
• е е
'он отошел и умер', es war vü wager, nüczer und besser *быпо бы лу«ш!е\
Синонимика становится все более привычным штампом, она вклю-
чается в тексты, лишенные других примет высокого стиля, как, напри-
мер, роман "Апнолоний Трирский" или народная книга об Александре
(1444 г.), где широко использовались абсолютные синонимы типа xhmkel
und finster, die yeczwesenden und gegenwärtigen forsten ит.д. Прием
этот явно вырождается, засоряет язык прозы и поэзии, делает его тяжело-
весным, тапыщенньн*. Обращает на себя внимание, что в языке переводов
XIV, XV «в. немецкие авторы значительно чаще прибегают кчжюнимике,
чем итальянские гуманисты. Сопоставление перевода жития йеронима,
осуществленного Ноймарктом,' с подлинником показывает, что часто
одной лексической-еданице в языке оригинала соответствует в немец-
ком тексте синонимичесхое-сочетание: ср. zu reden und zu sprechen Чтобы
говорить' = лат. ad toqeenten;-gesAinen und geleuchtet hat 'сиял я све-
тил = ef fidsit; reiner Tceuscfaer man « яат. vir и т. д. [Wenzlau 1906,12—76].
Иной статус в памятниках этого стиля имели другие стилистические
приемы: ^ойстаенный высокому стилю" шфалле!шзм в построении малых
и больших синтаксических отрезков и даже целых глав, их ритмическое
членение, использовавшееся преимущественно в памятниках XIV, шпала
XV в., сложные генитивные словосочетания, обилие определений к одному
стержневому слову, склонность к аллегориям и метафорам. Некоторые
из перечисленных приемов соотнесены с понятием der geblümte Stil 'ук-
рашенный, цветистый стиль'. Г. Куниш полагал, что предтечей его были
некоторые особенности стиля Вольфрама фон Эшенбаха и ГотфридаСтрас-
бургского, частично он связан, якобы, с так называемым "готическим
стилем" в поэзии (ср. "Золотую кузницу" Конрада Вюцбургского, поэтику
"Младшего Титуреля"). В интересующий нас период разновидность высо-
кого стиля с наибольшей определенностью проявлялась в любовных
речах Эгона фон Бамберг (1330 г.), в поэме "Замок любви" (MB, сере-
дина XIV в.), у Генриха фон Мютельна (середина XIV в.), в "Чешском
землепашце" {около I4Ö0 г.), спорадически у Ноймаркта и у мистика
Зойзе (середина XIV в.). Genus grave, omatus diffieiie, stiius floridus
немецкие авторы называют biuemen, geblüemen; mit worten woi gebiue-
met упоминает автор "Замка любви", неоднакратно применяя данный
термин: mit geblümten worten, mit geblümter rede; ach kund ich den...
mit worten wol geblumen 1939 'ах, если бы я мог словами расцвечивать
(украшать)'; floriert, dinchblumet — такой должна быть поэтическая
речь. О своей склонное** к многословию и к geblümten rede упоминал,
в Чш.шдсш, и фон Ноймаркт. Современники связьшали сами blumen
с канонами антитаых рихорик. Мюгепьн указывал, что bliinde spräche
он изучал у Цицерона.
В литературе неоднократно отмечалось, что совокупность примет згой
разновидности высокого стиля не вполне ясна [Stackmann 1958]. Помимо
некоторых особенностей словаря (см. подробнее дальше), отмечали»
181
обычно претенциозность образов, склонность к метафоре и аллегории,
вычурность, а также наличие некоторых излюбленных синтаксических
моделей, среди которых выделялся препозитивный генитив: у Мюгельна,
например, diner tugent rebe 'твоей добродетели лоза' или trostes wasser
'утешения вода'; jamers mort 'страдания смерть' в "Замке любви". Особен-
но разнообразны эти сочетания в языке "Чешского землепашца": meines
heiles verneuender brunnen 'моего благополучия обновляющий род-
ник'; meiner und irer eren teglich und nechtiglich wachterin 'моей и
ее чести постоянная (каждодневная и ночная)' хранительница', ср. приво-
дившийся пример meiner wünne lichte summerblume, а также у Зойзе
е ее
aller meien schonu blust, aller Hebten owen grunu ris, aller schonen hei-
e
den zartublumlu Bew 137,51 'всех лужаек прекрасные цветы, всех сия-
ющих полей зеленая трава, всех прекрасных степей нежные цве-
точки'.
Изысканности речи и вместе с тем ее эмоциональности в немалой сте-
пени способствуют характерные для этого стиля разные типы параллельных
структур: ср. у Зойзе отрывок из "Книжечки о вечной истине": Owe wun-
der und wunder ob allem wunder, der dich also mit dien ogen sins herzen
schowet, daz sin herz von minnen nit alles zerfluzet. Owe, wie selig der
minner ist, der din gemahe) heizzet und ist... Owe zarter herr, wann were
ich wirdig, daz min sele hiessi din minnerin Bew 138, 115 'О чудеса, чуде-
са, превосходящие любое чудо, если кто-либо посмотрел на тебя глазами
своего сердца... О как блажен тот возлюбленный, который зовется твоим
супругом. О нежный господин, когда я буду достоин того, чтобы душа
моя звалась твоей возлюбленной'. Три синтаксических отрезка вводятся
эмоциональным восклицанием Owe.
Но особенно широко применяется этот прием в "Чешском землепаш-
це". Параллелизм достигается здесь разными способами: семантическим
заполнением отрезков, тождественными зачинами и концовками; ср. пост-
роение обвинительной речи против Смерти, где: приводится следующий
семантический ряд: meiner eren rauber, meiner freuden dieb, meiner
guten lebtag steler, meiner wunnen vernichter XIII, 7 'моей чести грабитель,
моей радости вор, моего благополучия похититель, моего счастья раз-
рушитель'. Здесь семантический параллелизм, соприкасающийся с сино-
нимией, сопровождается устойчивым повторением вводящего слова —
meiner. Общность вводящего слова объединяет и значительные синтакси-
ческие отрезки. Zeter. Wafen. von herzen gründe sei geschriren über das
jar, über den verworfenen tag und über die leidigen stunde, darinn mein
steter herter diamant ist zerbrochen, darinn mein rechtfurender leitstab
unbarmherziglich mir aus den bänden wart gerucket, darinn ist zu meins
heilesverneundem jungbrunnenmirderwegverhauenV, 11—15 'Караул!кору-
жию! из сердца глубины надо кричать о том годе, о том проклятом дне,
о том печальном часе, когда мой стойкий крепкий алмаз был сломан, когда
мой путеводный жезл бессередечно был вырван из моих рук, когда к омола-
живающему источнику моего блаполучия для меня был закрыт путь'
Каждый отрезок этого сложного целого вводится словом darinn. В де-
сятой главе диалога Иоганна фон Тепль вводящее слово wie охватывает
период, состоящий из десяти параллельных самостоятельных отрезков,
182
причем их повторяемость и организация способствует нарастанию эмоцио-
нальной напряженности7.
Параллельные синтаксические структуры свойственны и языку других
авторов,примыкавших к тому же стилистическому направлению, ср. у Ио-
ганна фон Ноймаркта: wenn ich vor lieb siech, wenn ich an dich stirb,
wenn ich erweckt wird, so ich dein gedenck 'когда я болен от любви, когда
я умираю из-за тебя, когда я пробуждаюсь, я думаю о тебе9; широко ис-
пользуется этот прием и в прозе XV в., однако нигде он не достигает такой
рафинированности, многообразия и частотности,как в "Чешском земпле-
пашце".
2
В лексике и фразеологии тех памятников, которые относились к вы-
сокому стилю ("Чешский земппепашец", произведения Мюгельна, поэма
"Замок любви" и др.), или примыкали к данной стилистической модели
(мистики, особенно Зойзе) также выделяется совокупность обших черт.
Это повышенная образность, широкое использование аллегорий, склон-
ность к парадоксу. У мистиков эти стилистические особенности были в
значительной степени обусловлены идейным содержанием их религиозно-
философской концепции: необходимостью найти адекватное словесное
выражение, словесную оболочку для обозначения интуитивного позна-
ния бога, мистического единства (unio mystica) человека и божествен-
ного начала, души верующего и бога. Процесс номинации — Worten, ge-
worten, wortigen, gewortigen, zu Worten bringen существенный компонент
всей системы их философско-религиозных построений. Но в осуществле-
нии этой основной задачи мистического учения — приблизить верующего
к познанию божественного начала, освободить его от духовного гнета
официальной церкви — необычайно ярко сказалось противоречие, во мно-
гом определившее специфику стилистической системы мистиков.
Стремлению воплотить в доступной, понятной форме основы мисти-
ческого учения препятствовало постоянное осознание ущербности чело-
веческого языка: Unio mystica —, писал Таупер, — geht über alle sinne
und alle menschlich, ja engelisch verstentnisse. Бог и душа не имеют имени
sint namelos, von allen namen fn und von allen formen btöz; ez ist nicht
diz noch daz, noch hie noch d£ 'они лишены формы, они ни то, ни это, не
здесь и не там; ср. у Экхарта: diu erste sache (Gott als actus purus)
ist ob allen namen, si ist überminnic, überweselich, überverstentlich, Überrede-
lich und übernaturelich; перевод крайне затруднителен, приблизитель-
ный смысл:'первое дело (ср. из Ветхого завета "Вначале было дело")
выше любого наименования (обозначения), оно выше любви, выше рас-
судка, выше слова, выше природы.9 С этим была связана лексическая
группа прилагательных unsäglich 'невыразимый', wortelos 'бессловесный,
невыразимый9, unwortlich 'невыразимый в слове9, unbegrifflich 'непости-
жимый', образующих повторяющиеся определения к основным религиоз-
но-философским категориявг в произведениях мистиков. Бог имеет бе-
зымянное имя, einen namlosen namen, он — непроизнесенное слово daz
7 Ср. тонкий анализ этого отрывка у Эггерса [Eggeis 1969,95—96].
183
ungesprochen wort. С этим в известной степени соотносится создание так
называемой негативной лексики, под влиянием "негативной теологии"
неоплатоников, особенно Дионисия Ареопагита: бог—это daz nicht, daz
nichtwesen, daz ungesprochen wort, ср. также образования с niht — daz
nihtbilde 'не образ', nihtheit 'небытие', nihtwesen 'небытие'; необычай-
ная продуктивность образований с префиксом -un: unbegriffenlich 'не-
постижимый', ungotlich 'небожественный', unmenschlich 'нечеловеческий9,
unhekantheit 'неизвестность', ungewordenheit 'отсутствие завершенности,
не созданное', ungeschaffenheit 'несотворение =небытие'; к этому можно до-
бавить приводившиеся выше примеры. Сходную функцию выполнял и
суф. -los: namelös 'безымянный', endelos 'бесконечный' и т. д. [Kunisch
1974, 306].
Но если рассудок бессилен найти прямое наименование высшего нача-
ла, бога, души мира, то необходимо обрести другие языковые средства
воплощения в слове кардиальных понятий мистического учения. Образ-
ность, метафоричность способны приблизить человека к постижению ис-
тины. Зойзе обращается к bildgebende glichnus 'образному сравнению',
glichnussgebende rede '^брарной сречи^отмечая, однако, сложность das bild-
löse zu gebüden, das wiselose zu bewisen. Основной путь — это метафор-
рическое описание духовного начала в терминах материального мира; Эк-
харт пишет: din sele, die got minnet,diunimet in under dem velle der güete. Ver-
nünfltcheit zihet gote daz vel daz vel der güete abe und nimet in bloz, da er
entkleidet ist von güete und von wesene und von allen namen Eck 13,116
гДуша, которая возлюбила бога, берет его под оболочкой (кожей) доброты.
Рассудок снимает с бога оболочку доброты и берет его свободным (нагим)
от доброты, от субстанции, от любого наименования'.
У Мехтильды (см. предыдущую главу) аллегории, метафорические со-
поставления имели черты развернутых описаний любовных речей души
с богом. Нередко здесь звучали мотивы, связанные с культом девы Марии.
Стиль Экхарта и Таулера суше, но у Зойзе вновь появляется фразеология
любовных диалогов, бог и душа ведут hovesprache 'любовную беседу'
(буквально "придворную беседу")- Претенциозность, изощренность стиля
особенно характерны для трактата Зойзе "Книжечка о вечной истине".
Здесь слуга божий (человек, автор) ведет беседу с Вечной истиной, ниже
приводятся два отрывка: речи слуги божьего и Вечной истины: Owe wun-
der und wunder ob allem wunder, der dich also mit den ogen sins herzen
schowet, sin herz von minnen nit alles zerfluzet! Owe wie selig der minner
ist, der dingemahelheizzet und ist!... Owe zarter herr wann were ich wirdig,
daz min sele hiessi din minnerin Bew 115 О* чудеса, чудеса, превосходящие
любое чудо, если кто-либо посмотрел на тебя глазами своего сердца и его
сердце не растворилось бы от любви! О как блажен тот влюбленный (воз-
любленный), который зовется твоим супругом и является им! О нежный
господин, когда я буду достоин того, чтобы душа моя звалась твоей воз-
любленной'.
Еще более характерен ответ Вечной истины: Sich ich bin als wunklich
gezieret mit liehter wat, ich bin so finlich umbgeben mit geblümter mis-
sevarw der lebenden blumen, von roten rosen, wizen lylien, schonen vi-
- e e
oln... daz aller meien schonu blust, aller Hechten owen grunu ris... gegen
184
min gezierde sint als eine ruhe tistel.lch spil in der gotheit der vroden
spil... Bew. 137, 48'Смотри, как я украшена сверкающей одеждой, я так
красиво окружена (облачена) цветистыми красками живых цветов, крас-
ными розами, белыми лилиями, прекрасными фиалками... что разноцветие
лужаек, зеленая трава полей... по сравнению с моим украшением являются
грубым чертополохом. Я играю в боге (божестве) радостную
игру...'
Использование образности, метафорики сближает язык Зойзе со сти-
лем "Чешского землепашца", "Замка любви" и других прозведений der
geblümten rede (см. далее). Фактически стремлением донести до верую-
щих необычное содержание мистического учения объясняется и широкое
использование парадокса. Экхарт считал, что парадокс, необычайное соче-
тание слов, помогает постичь необычайное в содержании мыслей и чувств;
ср.: in einer unbekanter bekanter einekeit'B неизвестном, знакомом еди-
нении9; got ist Wise Sne wisheit, guot ähe gute, gewaltic änegewalt 'бог
мудр без мудрости, добр без доброты, обладает силой (властью) без
силы (власти)'. В языке Зойзе — mit unbekennen wirt warheit bekant
'незнанием (неизвестным) познается истина', lebender tot 'живая смерть'
и т. д. Одним из распространенных приемов номинации непознаваемого
духовного начала является использование конкретной лексики типа kleit,
wät 'одежда', grund 'фундамент, основа', begreifen 'хватать, брать', но и
'постигать', infliezen 'течь внутрь', но и 'влиять', bild 'картина', но и 'об-
раз', сохранившиеся в современных Begriff, Einfluß, Einfall, Eigenschaft
и т. д. Понятие Grünt у Таулера должно раскрыть тайное, окружающее
бога и человека, то, во что человек погружается: grünt сочетается с гла-
голами, обозначающими конкретное действие: sinken, versinken, vallen,
kommen, dringen, suochen, wonen и т. д. [Klinisch 1974,312].
Необычайная интенсивность языкотвореческих процессов отличает
произведения мистиков XIII/XIV вв. Вся палитра существовавших в пись-
менном языке словообразовательных средств широко применялась в
постоянном поиске оптимальных форм выражения сложнейших нюансов
интуитивного постижения основы основ мироздания. Это способствавало
образованию емких словообразовательнх гнезд: например, begriff, begrif-
flich, unbegrifflicheit, begriffenheit, begriffenlicheit; bild, bilden, inbil-
den, inerbilden, erbilden, vorbilden, entbilden, überbilden и т. д. Многие
из этих неологизмов близки по своему значению, некоторые из них окка-
зиональны, своеобразные однодневки, возникшие в определенном кон-
тексте, а затем исчезнувшие; с этим связана известная текучесть языка
мистиков, неустойчивость отдельных лексических единиц.
Стилистические особенности лексики и фразеологии языка мистиков
повторяются не только в прозе францисканцев XIV—XV вв. (Отто фон
Пассау, Иоганн Нидер). Во многих текстах высокого стиля, у Мюгельна,
в "Чешском землепашце", в поэме "Замок любви" и у некоторых других
авторов используются близкие стилистически маркированные пласты
лексики, отчасти однотипные стилистические приемы. Вопрос о том, в ка-
кой степени здесь сказалось влияние стилистики мистиков и что сле-
дует рассматривать как результат параллельного развития в условиях влия-
ния отчасти языка немецкой схоластики, отчасти традиций латинской
риторики, остается дискуссионным, преимущественно в связи с неясностью
13.3ак. 336 185
соотношения языка мистиков и немецкой схоластики [Stammler 1954;
Он же 1959; Kunisch 1947,302].
Сами авторы никогда не упоминают имени мистиков и не ссылаются
на них. Это может быть объяснено гонениями, которым подвегался со
стороны официальной церкви Экхарт. Ссылки же на латинских авторов
(ср. приводившиеся выше слова Мюгельна о Цицероне) и на узус латин-
ских риторик повторяются неоднократно. Бесспорно, что о влиянии мисти-
ков можно говорить преимущественно в отношении словообразовательных
моделей и некоторых групп лексики. Общей является особая продуктив-
ность одних и тех же моделей, например абстрактных имен существитель-
ных на -ung(e) (besließung 'заключение', besorgung 'забота', brufung
'призвание', besserung 'улучшение, исправление', beschaffung 'создание',
geschepfung 'творение' и т. д.), образований с преф. -un (un-barmherzig-
lich 'безжалостно', unbekant 'неизвестный', unbeschedenlich 'невредимый',
unbeschreiblich 'неописуемый' и т. д), глагольных префиксальных об-
разований с durch- (durchachten, durchbauen, durchgraben, durchhauen
и т. д.), ge-, ent- (ср. приведенные выше примеры из "Замка любви" и
произведении Мюгельна). Широкое использование получают модели при-
лагательных с суф. -lieh, субстантивация инфинитивов, ср. в "Чешском
землепашце" icht 'нечто', nichts 'ничто' (aus nicht ichts, aus icht nichts ver-
mugender wurker 'творец, способный из ничего (создать) нечто, и из нечто
создать ничто' XXIV, 58), weilwesen, zeitwesen 'нечто преходящее', immer-
wessen 'нечто устойчивое' Аск. Большой частотностью обладает эта модель
в поэме "Замок любви" и у Мюгельна.
Что касается образности, склонности к матафоре, аллегории, парадок-
су, то в этом отношении язык упомянутых художественных произве-
дений отличается значительно большей претенциозностью и изощренностью,
чем язык мистиков: у Мюгельна herzen гог 'сердца труба' (камыш), gena-
uen ast 'прощения ветвь', diner tugent reben 'твоей добродетели лоза';
в "Замке любви" jamers rost 'страданий ржавчина', mins leidens swefel-
kertzen 'моего страдания серные свечи', mit leides seile 'вервиями стра-
дания', mines freuden swartzer kol 'моих радостей черный уголь' и т. д.;
в "Чешском земплепашце" ich bin genant ein ackerman, von /vogelwat
ist mein pflüg III, 1 'меня зовут землепашцем, из одежны птиц сделан мой
плуг', — отвечает автор на вопрос Смерти, кто он. Образ землепашца сим-
волизирует деятельность писателя, плуг, сотворенный из одежды птиц, —
перо, которое ему служит. Само по себе сравнение писателя с землепашцем
не ново, оно восходит к античной традиции; ср. также нагромождение
сложных метафор в жалобе вдовца: Ir habt sie hin mein durchlustige
eugelweid; sie ist dahin mein frides. schilt fon ungemach, enweg ist mein
warsagend wunschelrut V, 1—3 'Вы увели ее, ту, которая была веселой
радостью моего взора; она исчезла, мой мирный щит от несчастий, уда-
лилась говорящая истину моя волшебная палочка' У Иоганна фон Тешш
матафора приобретает особую затрудненность, остраненность, в немалой
степени из-за употребления новых неожиданных сложных образований
(ср. в приведенном выше тексте warsagend wunschelrut, durchlustige
eugelweid, а также в другом контексте: verneunder Jungbrunnen 'обнов-
ляющий источник молодости', rechtfurender leitstab 'должным образом
ведущий посох' и г. д.). У Мюгельна и автора "Замка любви" в образе,
186
метафоре часто используется обыденная лексика: ветвь, лоза, ржавчи-
на, серная свеча, уголь. Типична метафора "Замка любви": Du bist ein
pfoste fin... daruff ich han gezymmert miner freuden gewelbe 2406 Ты
изящная опора (столб), на которой я построил свод моих радостей', где
используется архитектурная лексика.
Вместе с тем характерным для литературы этого направления является
сочетание разных стилистических пластов: ученой лексики (названий
наук, терминологии разных отраслей знания - химии, ботаники, меди-
цины, названий растений и минералов), элементов обиходно-разговор-
ной речи, даже грубых выражений, ремесленной терминологии, причем
это стилистическое многообразие функционирует в качестве вкраплений
в общей языковой ткани высокого стиля. Быть может, наиболее пока-
зателен в этом отношении "Чешский землепашец". Построенный по мо-
дели судебного процесса, в котором в качестве обвинителя выступает
безутешный вдовец, оплакивающий безвременную кончину молодой же-
ны, обвиняемой является Смерть, судебный же вердикт выносится Всевыш-
ним (глава XXXIII), памятник этот является блестящим образцом лите-
ратуры высокого стиля конца XIV в. (он создан около 1400 г.). Мастер-
ское владение риторическими приемами высокого стиля, проиллюстри-
рованное выше при анализе основных явлений этого направления, отрази-
лось в патетике обвинительных речей землепашца, скорбящего не только о
кончине возлюбленной, но и об обреченности любого человека: Grimmiger
tilger aller lant, schedUcher echter aller werft, freisamer morder aller leut, her
Tot euch sei verflucht 1,1 'Жестокий душитель (уничтожитель) всех стран,
вредный гонитель всего мира, ужасный убийца всех людей, господин смерть
(Tot мужского рода) будьте вы прокляты.' Этот высокий эмоциональный
накал первых строк определяет общий тон произведения. Ораторский
пафос, приподнятость стиля достигает своего апогея в заключительной
главе — в обращении автора к Всевышнему с мольбой даровать вечное
блаженство его возлюбленной; каждый абзац этой главы оканчивается
призывом — erhöre mich! 'услышь меня!9 В совершенно ином ключе
написаны жанровые картинки — воспоминания об утерянном счастье,
спокойной бюргерской жизни. На этом фоне жена — meines willens pflege-
rin 'моего желания хранительница', meines leibes auswarterin 'ухаживаю-
щая за моим здоровьем (телом)'; meiner eren und irer eren tegelich
und nechtlich wachterin was sie unverdrossen XI, 9-11 'моей и ее чести
постоянная хранительница (страж) она не боялась помех'; Für alles we
und ungemach mein heilsame erzetin XI, 8 'против любой боли и непри-
ятности приносящая успокоение исцелительница'. Образ былого материн-
ского счастья раскрывается в метафоре Tot ist die henne, die da aus zoch
soliche huner IX, 7 'умерла наседка, которая вывела таких цыплят'. Здесь
не только получили отражение идеалы новой буржуазной морали, столь
далекие от этики рыцарского служения даме, но и были найдены новые
средства языкового воплощения этих идеалов.
Близки к данному стилистическому уровню фразеологизмы, функцио-
нировавшие как устойчивые сочетания, типа пословиц и поговорок: haue
nicht über dich, so reren dir die spene nicht in die äugen VI, 24 'Не руби выше
себя, тогда опилки не упадут тебе в глаза'; siech zu arbeit, gesunt zu Wol-
lust XXVII, 16 'больная для работы, здоровая для любовной игры
187
(похоти)'; zeitig opfel vallen gern in das kot, reifend birnen vallen gern
in die pfutzen XX, 22 'зрелые яблоки легко (охотно) падают в грязь,
зреющие груши легко падают в лужи'. Наиболее часты подобные фразео-
логизмы в речах Смерти. Но языку Иоганна фон Тепль не чужды и грубо
просторечные элементы: klaffem 'бессодержательно болтать, трещать,
трепаться', unflat 'нечистоты', kot 'грязь, нечистоты'; сюда примыкают
и бранные слова, которыми обмениваются землепашец и Смерть: esel
'осел', eselsdorf 'деревенский осел, деревенщина*, stumpfer pickel 'тупи-
ца', böser lasterbalg, böser schandensack 'злой мешок (вместилище) поро-
ков9; но особенно грубы ругательства, произнесенные Смертью, в кото-
рых высказывается презрете к плотскому началу в человеке (распро-
страненный мотив средневековой теологии): kotfaß Чючка нечистот',
übelriechender harnkrug 'плохо пахнущий сосуд с уриной', ein stankhaus
букв, 'вонючий дом' = 'вместилище вони'и т. д.
Возможно, что в этой сниженной лексике и в приведенных фразеологиз-
мах сказалось влияние популярных шпрухов или карнавальных комедий
(Fastnachtspiele). Но независимо от этого сочетание совокупности приемов
высокого стиля, патетики, сложных метафор и аллегорий <: элементами
не только среднего, но и сниженного стиля грубого просторечия отличает
стилистику той разновидности литературы высокого стиля, которая свя-
зана с geblümten rede. Эта разновидаость высокого стиля, не только до-
пускающая, но пропагандирующая совместимость разностилевых элемен-
тов от возвышенного, усложненного до низменного, грубо-просторечного,
может быть охарактеризована как раннее барокко, развившееся во вто-
рой половине XIV в. на основе симбиоза разных литературно-стилисти-
ческих тенденций. Распространение этого литературно-стилистического
направления выходит далеко за пределы Праги. Бесспорна, в частности,
связь с мейстерзангом, к сожалению, до настоящего времет слабо изу-
ченная. По-видимому, в какой-то степени совмещение приемов высоко-
го стиля и грубопросторечных элементов, тематики, связанной с серь-
езными проблемами школьного обучения, воспитания морали, и с сати-
рическим изображением любовных похождений крестьянина Бертчи Триф-
наза в эпосе "Кольцо"' (Der Ring) швейцарского дворянина Генриха Витен-
вейлера (1445 г.), обнаруживает определенную близость к стилистике
der geblümten rede.
Можно в этой связи сослаться еще на лирику Освальда фон Волькен-
злтейн (умерв 1445г), в которой религиозные поучения, мотивы воспи-
■ *ния морали, философское осмысление действительности сочетаются с
изображением разнузданных страстей и восхвалением мирских утех. Однако
при наличии известного внешнего сходства "Чешского землепашца" и наз-
ванных выше произведений неверно было бы переоценивать это сходство
[ср. fcggers 1959, 118]. Вряд ли также в полкой мере можно характе-
ризовать язык Вйтенвейлера и Волькенштейыа как народный (volkstüm-
lich), хотя здесь элементы народной языковой стихии играют несравнен-
но большую роль, чем в прозе Иоганна фон Тепль.
В прозе традиции "Чешского землепашца" не получили развития в
последующие десятилетия. Между тем популярность этого памятника
в XV и даже в XVI вв. потдверждается не только существованием мно-
гочисленных рукописей (самая ранняя относится к 1449 г) и нескольких
188
печатных изданий (последнее из них помечено 1547г.), но и отношением
современников. Известно, что гуманисты второй половины XV в. высоко
ценили это произведение. Фон Эйб, например, использовал отрывки из
"Чешского землепашца" в одной из своих книг (1472 г.). В те же годы
Г. Фольц, известный майстерзингер и автор многих карнавальных пьес
(Fastnachtsspiele), включил элементы текста памятника в две свои песни.
Популярный проповедник Гейлер фор Кайзерберг ссылается в двух своих
проповедях на "Чешского землепашца". Однако следов непосредствен-
ного влияния Иоганна фон Тепля на развитие прозаических жанров не-
мецкой литературы не засвидетельствовано. Высокий стиль, обедненный
и все более подчиняющийся канонам и штампам латинизированной прозы,
сохраняется в этой форме у гуманистов конца XV — начала XVI вв.
(см. вторую книгу). И липа в XVn в .в эпоху расцвета культуры барокко,
вновь возраждаются, хотя и в измененном виде, стилистические приемы,
характерные для раннего барокко.
Возможно, что язык "Чешского землепашца", в равной степени как и
другие произведения этого стиля, был мало доступен широкому кругу
читателей, в отличие от многожанровой литературы для чтения светского
и религиозного содержания. Бе стилистические особенности, как уже
отмечалось выше, слабо маркированы, вернее они характеризуются не-
гативно, отсутствием изощренности, искусствешсости, но и языковой куль-
туры, столь характерных для высокого стиля XIV в. В общей форме мож-
но характеризовать язык этой литературы как средний стиль, как более
демократическую струю в развитии немецкого литературного языка.
Однако ничего сколько-нибудь значительного в этом направлении тогда
создано не было. Но именно здесь, в этой массовой литературе зрели пред-
посыпки будущего процесса формирования языка прогрессивых деяте-
лей эпохи Реформация и Крестьянской войны, те стилистические приемы,
которые приобретут новое качество в творчестве Мартина Лютера.
ИСТОЧНИКИ И ИХ СОКРАЩЕНИЯ
К главе I
Abrogans
Benediktinerregel
(Статут бенедиктинского
монастыря)
Heliand
(Спаситель)
Hildebrandslied
(Песнь о Хильдебранде)
Isidor
(Исидор)
Ludwigslied
(Песнь о Людвиге)
Merseburger Zaubersprüche
(Мерзербургские заклина-
ния)
Monseer Fragmente
(Монзеевские фрагменты)
Murbacher Hymnen
(Мурбахские гимны)
Muspilli
(Муспилли)
Notker
(Ноткер)
Otfrid
(Отфрид)
St. Galler Paternoster
(Сентгалленский "Отче
наш")
Strasburger Eide
(Страсбургские клятвы)
Tatian
(Татиан)
Vocabularius Sancti Galli
190
- Der deutsche Abrogans. Hrsg. von Baesecke G. Text *ab,
Altdeutsche Textbibliothek 30. Halle, 1931.
- BenediktinerregeL Die kleineren althochdeutschen Sprach-
denkmäler. Hrsg. von Steinmeyer £. 2. Aufl. Berlin,
1963.
- Heliand und Genesis. Hrsg. von Behaghel O. Halle (Saale),
1948.
- Hildebrandslied. Die kleineren althochdeutschen Sprach-
denkmäler. Hrsg. von Steinmeyer E.V. 2. Aufl. Berlin,
1963.
- Der althochdeutsche Isidor. Nach der Pariser Handschrift
und den Monseer Fragmenten, neuhrsg. von Eggers H.
Altdeutsche Textbibliothek: 63. Tübingen, 1964.
- Ludwigslied. - In: Braune W., Ebbinghaus E. Althoch-
deutsches Lesebuch. Tübingen, 1965.
- Merseburger Zauberspruche. - In: Braune W., Ebbinghaus
E. Althochdeutsches Lesebuch. Tubingen, 1965.
- The Monsee Fragments. Ed. by Hench G. Stra/Jbuig, 1891.
- Drei Reichenauer Denkmaler der altalemannischen Früh-
zeit. Hrsg. von Daab U. Altdeutsche Textbibliothek 57.
Tübingen, 1963.
- Muspilli - In: Braune W.,Ebbinghaus E. Althochdeut-
sches Lesebuch. Tübingen, 1965.
- Notker des deutschen Werke. Neu hrsg. von Sehrt E.H.
und Taylor St. Ersten Bandes erstes Heft: Boethius de
consolatione phflosophiae I, II. Halle (Saale), 1933; ersten
Bandes zweites Heft: Boethius de consolatio ne Philoso- _
phiae III. Halle (Saale), 1933: ersten Bandes drittes Heft:
Boethius de consolatione philosophiae TV/V. Halle
(Saale), 1934. Altdeutsche Textbibliothek 32-34. Die
Schriften Notkers und seiner Schule. Hrsg. von Piper P.
Psalmen und kathechetische Denkmaler. Freiburg i. Br.
und Tübingen, 1883.
- Otfrids Evangelienbuch. Hrsg. von Piper P. 2, durch Nach-
träge erweiterte Ausgabe.Freiburg i. Br. und Tubingen,
188Z
- St. Galler Paternoster und Credo. - In: Braune W.jEbbing-
haus E. Althochdeutsches Lesebuch. Tübingen, 1965.
- Strasburger Eide. Die kleineren althochdeutschen Sprach-
denkmaler. Hrsg. von Steinmeyer E.V. 2. Aufl. Berlin,
1963.
- Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glos-
sar. Hrsg. von Sievers Ed. 2. neubearbeitete Ausgabe. Pa-
deborn, 1892.
- Vocabularius Sancti Galli — In: Steinmeyer E.V., Sievers
Ed. Die and. Glossen Berlin, 1879-1922, Bd I-V.
Weissenburger Kathechis-
mus
(ВейсенбургскиА кате-
хизис)
Wessobrunner Gebet
(Вессобрунская молитва)
АН
AI
Bertht
Berth,
Er
FR
FW
Ger
Gr
HE
IW
Kehr
KR
MH
M
NL
NR
Or
Pz
Rl
SpEc
StrF
StrA
- Weissenburger Kathechismus Symbolum apostolicum. —
In: Braune W., Ebbinghaus E. Althochdeutsches Lesebuch.
Tübingen, 1965.
- Wessobrunner Schöptungsgedicht und Gebet. Die kleineren
althochdeutschen Sprachdenkmäler. Hrsg. von Steinmeyer
E.V. 2. Aufl. Berlin, 1963.
К главе П
- В. von Aue. Anner Heinrich. Hrsg. von Toischer. Basel,
1885.
- Lamprechts Alexander. Hrsg. und erklart von Kinzel K.
Haue, 1885. Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht;
das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Hrsg. von Maurer
Fr. — In: Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen.
Leipzig, 1940.
- Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner
deutschen Predigten. Hrsg. von Pfeiffer F., Strobl J.
Wien, 1862, BdL
- Die deutschen Überlieferungen der Predigten Berthold
von Regensburg. Hrsg. von Richter D. München, 1969.
- H. von Aue. Erec. Hrsg. von Haupt M. Leipzig, 1839.
- Heinrich der Glichesxre. Fuchs Reinhart. Nachwort und
Anmerkungen von Spiewock W. Leipzig, 1977.
- Corpus der deutschen Originalurkunden bis zum Jahr
1300. Hrsg. von Wilhelm F. Lahr (Baden), 1932-1953.
- R. von Ems. Der guote Gehart. Hrsg. von Asher J.A.
Tübingen,1962.
- H. von Aue. Gregorius. Hrsg. von Paul H., 9. Aufl., Halle
(Saale), 1955.
- Herzog Ernst. Hrsg. von Bartsch K.Wien, 1869.
- H. von Aue. Iwein. Hrsg. von Benecke G.F., Lachmann K.,
6. Aufl. Berlin, 1959.
- Die Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen. Hrsg.
von Schröder E. - In: Monumenta Germaniae historica,
Deutsche Chroniken. Hannover, 1892, Bd 1,1. Ab.
- König Rother. Hrsg. von Frings Th, Kuhnt J. - In: Reini-
sche Beiträge und Hilfsbücher. Bonn — Leipzig, 1922,
Bd3.
- Meier Helmbrecht von Wernher dem Gartenirre. Hrsg.
von F. Panzer F. 5. Aufl. Halle (Saale), 1951.
- Offenbarungen der Schwester Mechtüd von Magdeburg.
Hrsg. von Morel G. Regensburg,. 1869.
- Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Bartsch K.
Neu hrsg. von Boor H. de, 12. Aufl. Leipzig, 1949.
- Neidhart von Reuenthal. Nach der Ausgabe von Haupt M.
Hrsg. von Wie/Jner E. 2. Aufl. Leipzig, 1923.
- OrendeL Hrsg. von Berger. A.E. Bonn, 1888.
- W. von Eschenbach. Paizival. Hrsg. von Leitzmann A. Hal-
le (Saale), 1950-1955.
- Das Deutsche Rolandslied. Hrsg. von Bartsch K. Leipzig,
1974.
- Specuhim Ecclesiae. Hrsg. von Melbourn G. — In: Lunder
Germanistische Forschungen. Lund-Kopenhagen, 1944,
Bd 12 (Neudruck: Berlin, 1964).
- Fabeln und Maren von dem Stricker. Hrsg. von Mettke H.
Halle (Saale^, 1959.
- Der Pfaffe Amis. Erzählungen und Schwanke. Hrsg. von
LambelH. 2. Aufl. Leipzig, 1883.
191
SuM
SO
Tr
UH
US
VE
Ack
Apostelgesschichte
BChr
Beh
BewW
Bibel
C1C
ChrM
Eck
Ev
GL
Lanc
LegA
MB
Miigeln
Passional
(Пассиональ)
Der Ring
(Кольцо)
RsFab
RsHar
Tr
- Salman und Marolf. Hrgs. von Vogt F. Halle, 1880.
- Sant Oswaldes Leben. Hrsg. von Etmüller L. Zijrich, 18.15.
- Gottfried von Strasburg. Tristan und Isold. Hrsg. von Ran-
cke F. Berlin, 1930.
- Hessens Urkundenbuch. Hrsg. von Baur L. Darmstadt,
1861,BdI-U.
- Urkundenbuch der Stadt Strassburg, Bd I. Strassburg ,
1879; Bd IV. Strassburg, 1895.
- H. von Veldeken Eneide, I. Hrsg. von Frings Th., Schieb
G., 6. Aufl. Berlin, 1959.
К главе III
- Ackermann aus Böhmen. Hrsg. von Hammerich L.L. Und
JungbluthG. K^benhavn, 1951.
- Eine ostdeutsche Apostelgeschichte des XIV. Jhrh. Hrsg.
von Ziesemer W. Altdeutsche Textbibliothek 24. Halle,
1927.
- Buch der Chroniken und geschienten Nuremberg 1493.
Drucker A. Köberger.
- Des Matthias von Beheim Evangelienbuch in mitteldeutscher
Sprache 1343. Hrsg. von Bechstein R. Leipzig, 1867.
- Seuse Heinrich. Büchlein der ewigen Weisheit. - In:
Quint J. Textbuch zur Mystik des deutschen Mittel-
alters. Halle (Saale), 1952.
- Bibel.Augsburg ca. 1475. Drucker G. Zainer.
- Die Prophetenübersetzung des Claus Cranc. Hrsg. von
ZiesmerW. Halle, 1930.
- Chronik von alten Dingen der Stadt Mains (Mitte XV.
Jhrh.). - In: Die Chroniken der deutschen Städte. Leipzig,
1881, Bd. 17.
- Meister Eckhart. - In: Quint J. Textbuch zur Mystik des
Mittelalters. Halle (Saale), 1952.
- Das Evangelistar der Berliner Handschrift. MS. Germ. 4
553. Hrsg. von Feudel G. Berlin, 1961, T. 1 -2.
- Georgslegende, Legende aurea. - In: Ostmitteldeutsche
Chrestomatie. Hrsg. von Erben J. Berlin, 1961.
- Lancelot I. Hrsg. von Kluge R. Berlin, 1948.
- Legenda Aurea. Nuremberg. 1488. Drucker A. Köberger.
- Die Minneburg. Hrsg. von Pyritz H. Berlin, 1950.
- Heinrich von Miigeln. Der Meide Kranz. Hrsg. von Jahr W.
Leipzig, 1908. Die kleineren Dichtungen Heinrich von
Miigeln. Hrsg. von Stackmann K. Berlin, 1959, Bd 1-3.
- Fritzlar von Hermann. Hrsg. von Pfeiffer" Fr. Deutsche
Mystiker des XIV. Jhrh. Leipzig, 1845, Bd I.
- Wittenweiler H. Ring. Hrsg. von Wie/frier. Leipzig, 1931,
1936, Bd 1-2.
- Felix Fabri. Geistliche Pilgerfahrt (1492). - In: Deutsche
Pilgerreisen nach dem heiligen Lande. Hrsg. von Röhricht
R. und Meisner H. Berlin, 1886.
- Die Pilgerfahrt des ritters Arnold von Harff. Nach den:
Ältesten Handschriften. Hrsg. von Groote E.V. Köln, 1860.
- Troya Historie van der vorstorynge der stat Troy. Ein
mittelniederdeutsches Volksbuch. Textausgabe mit einer
sprachlichen Einleitung von Krogerus G. Helsingfors,
1951.
192
БИБЛИОГРАФИЯ
К главе!
Архив Маркса-Энгельса, т. IX. М.,
1941.
Адмони ВТ. Исторический синтаксис
немецкого языка. М., 1963.
ГухманММ. Взаимодействие диалект-
ных ареалов и развитие наддиалектных
форм в донационалъный период (на ма-
териале германских языков). - В кн.:
Энгельс и языкознание. М., 1972.
Гухман МЖ Существует ли литера-
турный язык в донационалъный пе-
риод. - В кн.: Проблемы истории и тео-
рии мировой культуры. М., 1974.
Гухман МЖ К типологии герман-
ских литературных языков донациональ-
ного периода. - В кн.: Типология гер-
манских литературных языков. М., 1976.
Жирмунский ВЖ История немецко-
го языка. Изд. 5-е. М., 1965.
История немецкой литературы. Т. 1.
IX-XVIIbb.M., 1962.
История средних веков. М., 1959.
Майоров Г.Г. Формирование средне-
вековой философии. М., 1979.
Althochdeutsches Wörterbuch. Hrsg. von
Gasterstädt E.K.,Frings Th. Berlin, 1932.
Baesecke G. Der deutsche Abrogans. Hal-
le, 1930.
Baesecke G Der Vocabularius St. Galli
in der angelsächsischen Mission. Halle,
1933.
Baesecke G. Vor- und Frühgeschichte
des deutschen Schrifttums, Bd I. Halle,
1940;Bdn - Halle, 1950-1953.
Baetke W. Die Aufnahme des Christen-
tums durch die Germanen. Darmstadt,
1959.
Betz W. Der Einfluß des Lateinischen auf
den althochdentschen Wortschatz I. Abro-
gans. Heidelberg, 1936.
Betz W. Deutsch^ und Lateinisch. Die
Lehnbildungen der althochdeutschen Bene-
diktinerregel. Bonn, 1949.
Betz W. Zum St. Galler Paternoster. -
PBB, 1961, Bd 82, Sonderband.
Betz W. Karl der Grosse und die Lingua
Theodisca. - In: Karl der Gro0e, Bd II.
Düsseldorf, 1965.
Betz W. Lehnwörter und Lehnprägun-
gen im Vor- und Frühdeutschen. - DW,
1974.
Bischoff B. Karl der Grossei Lebenswerk
und Nachleben, Bd. IL Das geistige Leben.
Dusseldorf, 1965.
Boor H. de. Die deutsche Literatur von
Karl dem Grossen dis zum Beginn der
höfischen Dichtung (770-1170). - In:
Boor H. de, Newald R. Geschichte der deut-
schen Literatur von den Anfangen bis zur
Gegenwart, Bd I. München, 1949.
Branne Althochdeutsch und Angelsäch-
sisch. - PBB, 1919, Bd 43.
Braune W., Eggers H. Althochdeutsche
Grammatik. 13. Aufl. Tübingen, 1975.
Dal I. Zur Stellung des Altsächsischen
und der Heliandsprache. - In: Norsk Tids-
skrift for Sprogvidenskaps, Bd 17, 1954.
Eggers H. Nachlese zur Frühgeschichte
des Wortes "Deutsch". - PBB, Bd 82,
Sonderband, 1961.
Eggers H. Gotisches in der Altbairischen
Beichte. - ZM, 1954, Jg. 22.
Eggers H. Vollständiges lateinisch-alt-
hochdeutsches Wörterbuch zur althochdeut-
schen Isidor-Übersetzung. Berlin, 1960.
Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte,
Bd I. Das Althochdeutsche. Hamburg, 1963.
Ehrismann G. Geschichte der deutschen
Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters.
3. Aufl. Bd I. Althochdeutsche Literatur.
München, 1954.
Grimm J. Deutsche Rechtsaltertümer.
4. Ausg. von Heusler A. und Hübner R.
Bd 1-2. Leipzig, 1922.
Grimm J. Von der Poesie im Recht. -
In: Kleinere Schriften. Bd 6. Recensionen
und vermischte Aufsätze. Berlin, 1882.
Frings Th. Das Wort "Deutsch". - In:
Altdeutsches Wort und Wortkunstwerk.
Festschrift für Baesecke G. Halle, 1941.
193
Frings Th. Antike und Christentum an
der Wiege der deutschen Sprache. Berlin,
1949.
Frings Th. Sprache und Geschichte.
Bd I-Ш. Halle (Saale).
Frings Th. Grundlegung einer Geschich-
te der deutschen Sprache. 3. Aufl. Halle
(Saale), 1957.
Frings Th. Germania Romana. 2. Aufl.
Halle (Saale), 1966-1968.
Frings Tb. Zum Wortschatz des He-
liand und zur Heimatfrage. - In: Germa-
nia Romana. - 2. Aufl. Halle (Saale),
1966-1968.
Heinrichs H. "Wye grois dan dyn andait
eff andachtis?" Überlegungen zur Frage
der sprachlichen Grundschicht im Mittel-
alter. - ZM, 1961, Bd XXVIII, H. 2.
Holthausen F. Altsächsisches Wörter-
buch. Münster-Köln, 1954.
Kluge F. Gotische Lehnworter im
Althochdeutschen. - PBB, 1909, Bd 35.
Krogmann W. Der Schopfer des
altsächsischen Epos. - ZDPh, 1958,
Bd 77, H. 3; 1959, Bd 78, H. 1.
Krogmann W. Altsächsisch und Mit-
telniederdeutsch. - KGrGPh, 1970.
Lindqaist A. Studien über Wortbil-
dung und Wortwahl im Althochdeut-
schen. - PBB, 1936, Bd 60.
Matzel K. Untersuchungen zur Ver-
fasserschaft, Sprache und Herkunft der
althochdeutschen Übersetzungen der
Isidor-Sippe, Beitrage zur Geschichte der
deutschen Sprache. Bonn, 1970.
Mitzka W. Die Sprache des Heliand
und die altsächsische Stammesgeschich-
te. - In: Mitzka W. Kleine Schriften zur
Sprachgeschichte und Sprachgeographie.
Berlin, 1968.
Moser H. Deutsche Sprachgeschichte
der älteren Zeit. - DPhA, 1957, Bd I.
Reiffenstein I. Das Althochdeutsche
und die irische Mission im oberdeutschen
Raum. Innsbruck, 1958.
Адмона В.Г. Истерический синтаксис
немецкого языка. М., 1963.
Алексеев М.П., Жирмунский ВМ.,
Мокульский С.С., Смирнов АЛ. История
западноевропейской литературы. Раннее
средневековье и Возрождение. М., 1947.
Бах А. История немецкого языка.
М., 1956.
Бахтин ММ. Вопросы литературы и
эстетики. Исследования разных лет. М.,
1975.
Гуревич А.Я. Пространственно-вре-
Rooth Е. Über Die Heliandsprache. -
In: Fragen und Forschungen im Bereich
und Umkreis der germanischen Philologie.
Festgabe für Th. Frings. Berlin, 1956.
Schützeichel R. Die Grundlagen des
westlichen Mitteldeutschen. Tübingen,
1961.
Schutzeichel R. Althochdeutsches Wör-
terbuch. Tübingen, 1969.
Sehrt ЕЖ Vollständiges Wörterbuch
zum Heliand und zur Genesis. Göttingen,
1925.
Sehrt E.H., Starck T. Notker-Wort-
schatz. Halle (Saale), 1955.
Sehrt E.H. Notker Wortschatz. Tübin-
gen, 1962.
Smet G. de. Zum Einfluß des Christen-
tums auf den altdeutschen Wortschatz.
Nijmegen - Utrecht, 1957.
Sonderegger S. Die ältesten Schichten
einer germanischen Rechtssprache. Fest-
schrift für K.S. Bader. Zürich-Graz, 1965.
Sonderegger S. Althochdeutsche Spra-
che. - KGrGPh, 1970.
Sonderegger & Althochdeutsche Sprache
und Literatur. Berlin -N.Y., 1974.
Sonderegger S Gesprochene Sprache im
Althochdeutschen und ihre Vergleichbarkeit
mit dem Neuhochdeutschen. - In: Ansätze
zu einer pragmatischen Sprachgeschichte.
Züricher Kolloquium 1978. Tübingen,
1980.
Jschirch F. Geschichte der deutschen
Sprache, T.i. Berlin, 1966.
Vries J.de. Altnordisches etymologisches
Wörterbuch. Leiden, 1961.
Weisweiler J., Betz W. Deutsche Friih-
zeh. - DW, 1974.
Weisgerber L. Theudisk„ der deutsche
Volksname und die westliche Sprachgren-
ze. - In: Weisgerber L. Deutsch als Volks-
name. Stuttgart, 1953.
Wissmann W. Skop. - In: Sitzungsbe-
richte der deutschen Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin, Berlin, 1955.
менной континуум "Песни о Нибелун-
гах". - В кн.: Традиция в истории
культуры. М., 1978.
Жирмунский BJM. Рифма, ее история
и теория. — В кн.: Жирмунский В.М.
Теория стиха. JL, 1975.
Рахманова H.H. Фразеология средне-
верхненемецкого периода (на материа-
ле проповедей Бертольда Регенсбургско-
го).М.,1981.
Семенюк H.H. Наддиалектные формы
в истории немецкого языка и некоторые
К главе И
194
аспекты их изучения. - В кн.: Типы
наддиалектных форм языка. М., 1981.
Строева Т.В. Развитие сложноподчи-
ненного предложения в немецком язы-
ке. Л., 1940.
Agricola Е. Die Prudentia als Anliegen
der- Stricker'schen Schwanke. - PBB,
1955, H. 1-3, Bd 77.
Altheim F. Literatur und Gesellschaft
im ausgehenden Altertum, Bd 1. Halle
(Saale), 1948.
Benath I. Vergleichende Studien zu den
Spielmannsepen König Rother, Orendel
und Salman und Morolf. - PBB, 1962,
H. 3, Bd 84; PBB, 1963, H. 2-3, Bd 85.
Boor H.de. Frühmitteldeutscher Sprach--
stiL - ZDPH, 1926, H. 2-3, Bd 51; 1927,
H. l,Bd52.
Boor H. de. Die deutsche Literatur von
Karl dem Großen bis zum Beginn der höfi-
schen Dichtung (770-1170). - In: BoorH.
de, Newald R. Geschichte der deutschen
Literatur von den Anfängen bis zur Gegen-
wart, Bd I. München, 1949.
Boor H. de. Die hofische Literatur.
Vorbereitung, Blüte, Ausklang (1170-
1250). - In: Boor H. de, Neuwald R.
Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfangen bis zur Gegenwart, Bd II.
München 1955.
Boor H.de. Actum et Datum. Eine
Untersuchung zur Formelsprache der deut-
schen Urkunden im 13. Jahrhundert.
München, 1975.
Boesch B. Das Aufkommen der deut-
schen Urkundensprache in der Schweiz und
seine sozialen Bedingungen. Zürich, 1943.
Burdach K. Reinmarder Alte und Walter
von der Vogelweide. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Minnesangs. Leipzig, 1880.
Burdach K. Vorspiet. Gesammelte Schrif-
ten zur Geschichte des deutschen Geistes.
Bd 1. Mittelalter. Halle (Saale), 1925.
Durrenmatt N. Das Niebelungenlied im
Kreis der höfischen Dichtung. Bern, 1945.
Eggen H. Deutsche Sprachgeschichte.
Ш II. Das Mittelhochdeutsche. Hamburg,
1965.
Ehrismann G. Geschichte der deutschen
Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters.
T. 2. Die mittelhochdeutsche Literatur.
I. Frahmitteldeutsche Zeit. München, 1954.
Erben. J. Ausklang des Mittelhochdeut-
schen. - In: Spätzeiten und Spätzeitlich-
keit. Hrsg. von W. Kohlschmidt. Bern -
München, 1962.
Fassbender H. Stellung des Verbums in
den Predigten des Bruder Berthold von
Regensburg. Diss. Bonn, 1908.
Frings Th., Schieb G. Heinrich von
Veldeke zwischen Scheide und Rhein.
Halle (Saale), 1949.
Frings Th. Über eine Veldekeabhandlung
der Koninklijke vlaamse academie voor
taal- ent letterkunde. - PBB, 1956, H. 1-2,
Bd78.
Götz H. Minnesang und Althoch-
deutsch. - PBB, 1958, H. 3, Bd 80.
Götz H. Zu "Leitworter des Minne-
sangs". - PBB, 1961, H. 3, Bd 82.
Guchmann M.M. Der Weg zur deutschen
Nationalsprache» Bd 1. Berlin, 1964.
Halbach K.H. Epik des Mittelalters. -
DPhA, 1960, BdU.
Hasse H. Beitrage zur Stilanalyse der
mittelhochdeutschen Predigt. — ZDPh,
1912, H. l,Bd44.
Henschel E. "Anno" und "Kaiserchro-
nik". - PBB, 1958, H. 3, Bd 80.
Heymann J. Über causalen ausdruck in
Minnesangs frühling. - ZDPh, 1903, Bd 35.
Haracek B. Zur Wortstellung in Wolf-
rams "Parzival". Wien, 1953.
Karg F. Die Konstruktion äno xoiycv
im Mittelhochdeutschen. - In: Syntaktische
Studien. Halle (Saale), 19291.
Karg F. Die Hypotaxe bei Hartmann von
Aue. - In: Syntaktische Studien. Halle
(Saale), 19292.
Kienast R. Die deutschsprachige Lyrik
des Mittelalters. - DPhA, 1960, Bd IL
Klein K.K. Zur Entwicklungsgeschichte
des Parzival. - PBB, 1961, Sonderband.
Kramer G. Zum König Rother. - PBB,
1957 bH. l-2,Bd79.
Kramer G. Die textkritische Bedeutung
der Reime in der Heidelberger Handschrift
des Königs Rother. - PBB, 19572, Bd
79, Sonderband.
Kramer G. Zum König Rother. - PBB,
1960, H. 1-2, Bd 82; PBB, 1962, H. 1-2,
Bd84.
Kuhn H. Stü als Epochen-, Gattungs-
und Wertproblem in der deutschen Lite-
ratur des Mittelalters. - In: Stil und Form-
probleme in der Literatur. Heidelberg,
1959.
Kunisch H. Spätes Mittelalter (1250-
1500). - DW, 1974.
Vkers G. Die Sprache der deutschen
Mystik des Mittelalteis im Werke der Mech-
tild von Magdeburg. München, 1926.
Metgell B. Annolied und Kaiserchro-
nik. - PBB, 1955, H. 1-3, Bd 77.
MuBer W: Das Weltbild Ulrichs von
Turheim. - PBB, 1961, H. 3, Bd 82.
Naumann H. Versuch einer Einschrän-
kung desromanischen Begriffs Spiermanns-
195
dichtung. - Deutsche Vierteljahrschrift,
1924, Jg. 2.
Naumann H. Schichten der Epik im
Niebelungenliede. Festschrift für Eugen
Mogk. Halle, 1929.
Neumann H. Beitrage zur Textgeschich-
te des "Fliessenden Lichts der Gottheit**
und zur Lebensgeschichte Mechtild von
Magdeburg. Göttingen, 1954.
Öhmann E. Die mittelhochdeutsche
Lchnpragung nach alt franzosischem Vor-
bild. Helsinki 1951.
Ohmann E. Der romanische Einfluss
auf das Deutsche bis zum Ausgang des
Mittelalters. - DW, 1974.
Ragotzky H. Gattungserneuerung und
Laienunterweisung in Texten des Strickers.
Tübingen, 1980.
Richter D. Die deutsche Überlieferung
der Predigten Bert hold von Regensburg.
Untersuchung zur geistlichen Literatur des
Spätmittelalters. München, 1960.
Roethe G. Vom literarischen Publikum
in Deutschland. Göttingen, 1902.
Roetteken H. Der zusammengesetzte
Satz bei Berthold von Regensburg. Stras-
sburg, 1884.
Ruh K. Die trinitarischen Spekulatio-
nen in deutscher Mystik und Scholastik.
Bern, 1956.
Rupp H. "Heldendichtung" als Gattung
der deutschen Literatur des 13. Jahrhun-
derts. - In: Volt, Sprache, Dichtung. Fest-
gabe für K. Wagner. Giessen, 1960.
Schieb G. Rechtswörter und Rechtsvor-
stellungen bei H. von Veldeke. - PBB,
1955, H. 1-3, Bd 77.
Schieb G. Deutsche Sprache des hohen
und späten Mittelalters (1150-1500). -
In: Kleine Enzyklopädie. Die deutsche
Sprache, Bd 1. Leipzig, ^69.
Schieb G. Mittelhochdeutsch.
KGrGPh, 1970.
Schieb G. Versuch einer Charakteristik
der grundlegenden Kommunikationsbezieh-
ungen Um 1200 (Cedanken zu einigen
Voraussetzungen einer Geschichte der deut-
schen Nationalsprache). - ZPSK, 1980,
H. 3, Bd 33.
Адмони В.Г. Исторический синтаксис
немецкого языка. М., 1963.
Адмони В.Г. Развитие структуры
предложения в период формирования
немецкого национального языка. Л.,
1966.
Schröder W.J. Das Niebelungenlied.
Versuch einer Deutung. Halle (Saale),
1954.
Schröder W.J. Zur Textstellung des
"König Rother". - PBB, 1957, H. 1-2,
Bd79.
Schwietering J. Der Tristan Gottfrieds
von Strassburg und die Bernhardische Mys-
tik. Berlin, 1943.
Schwietering J. Parzivals Schuld. Zur
Religiosität Wolframs in ihrer Bezicnung
zur Mystik. Frankfurt a.M., 1946.
Sparmann H. Beobachtungen zu den
Formeln in der mitteldeutschen Urkun-
densprache. - PBB, 1963, H. 2-3, Bd 85.
Spiewock W. Nachwort zu: H. der
Glichesaere Fuchs Reinhart. Leipzig, 1977.
Stammler W. Mittelalterliche Prosa in der
deutschen Sprache. - DPhA, i960, Bd II.
Thomas H. Zu den Liedern und Sprü-
chen Heinrichs von Veldecke. - PBB,
1956, H. l-2,Bd78.
Trier J. Der Deutsche Wortschatz im
Sinnbezirk des Verstandes. Von den Anfän-
gen bis zum Beginn des 13. Jahrhunders.
Bd 1. Heidelberg, 1931.
Tschirch F. Geschichte der deutschen
Sprache. Teil IL Entwicklung und Wand-
lungen der deutschen Sprachgestalt vom
Hochmittelalter bis zur Gegenwart. Ber-
lin,! 969.
Weithase I. Die Pflege der gesproche-
nen deutschen Sprache durch Berthold
von Regensburg, Meister Eckhart und
Johannes Tauler. - In: Festschrift für
H.A. Korff. Leipzig, 1957.
Weithase I. Zur Geschichte der gespro-
chenen deutschen Sprache. Bd 1.. Tübingen,
1961.
Wiegand J. Stilistische Untersuchungen
zum Konig Rother. Germanistische Abhand-
lungen, H. 22. Breslau, 1904.
Wießner E. Vollständiges Wörterbuch zu
Neidharts Liedern. Leipzig, 1954.
Wießner E, Burger H. Die höfische
Blütezeit. - DW, 1974.
Wisby R.A. Die Darstellung des Häß-
lichen im Hoch- _ und. Spätmittelalter.
Deutsche Literatur im späten Mittelalter.
Hamburger Colloquium, 1973.
Батарунене Г.И. Причастные кон-
струкции в немецком языке XV столе-
тия (синтаксические функции, се-
мантика, структура). Канд. дисс. М.,
1976.
Варбанец Н.В. Иоханн Гутенберг и
К главе III
196
начало книгопечатания в Европе. М.,
1980.
Гухман ММ., Семенюк ИМ. О со-
циологическом аспекте рассмотрения
немецкого литературного языка. —
Е кн.: Норма и социальная дифференциа-
ция языка. М., 1969.
Жирмунский ВЖ Немецкая диалек-
тология. M.-JL, 1956.
Истортко-типологическая морфоло-
гия германских языков. Морфология.
Парадигматика. Категория имени. М.,
1977.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.
М., 1978.
Лурья АЯ. Становление и развитие
кондиционалиса I в немецком языке. ^
М^ 1967.
Павлов ВЖ Развитие определитель-
ного сложного существительного в не-
мецком языке. - Учен. зап. ЛГПИ
им. А.И. Герцена, 1958»т. 190, ч. 2.
Admoni W.G. Der Umfang und die
Gestaltungsmittel des Satzes in der deut-
schen Literatursprache bis zum Ende des
18. Jahrhunderts. - PBB, 1967, Bd 89.
Admoni W.G* Die Entwicklung des
Ganzsatzes und seines Wortbestandes
in der deutschen Literatursprache bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Stu-
dien zur Geschichte der deutschen Sprache.
Berlin, 1972.
Admoni W.G. Zur Ausbildung der Norm
der deutschen Literatursprache im Bereich
des neuhochdeutschen Satzgefüges (1470-
1730). Berlin, 1980.
Bach H. Die thüringisch-sächsische Kanz-
leisprache bis 1325, Teil 1. Kopenhagen,
1937; Teü 2 - Kopenhagen, 1943.
Bahder K. Zur Wortwahl in der Früh-
neuhochdeutschen Schriftsprache. Heidel-
berg, 1925.
Bebermeyer G. Vom Wesen der früh-
neuhochdeutschen Sprache 1350-1600. -
Zeitschrift für Deutschkunde, 1929, Bd 43.
Behaghel O. Deutsche Syntax, Bd 3.
Heidelberg, 1928.#
Benedict A. Über die Sprache Heinrichs
von Mügeln. Prag, 1889.
Bentzinger Я Studien zur Erfurter
Literatursprache des 15. Jahrhunderts an
Hand der Erfurter Historienbibel vom
Jahre 1428. Berlin, 1973.
Bernt A. Der Ackermann aus Böhmen,
Bd 1-2., Berlin, 1971.
Bernt A. Entstehung unserer Schrift-
sprache. Berlin, 1934.
Besch W. Zweigliedriger Ausdruck in
der deutschen Prosa des 15. Jahrhunderts. -
О
Neuphilologische Mitteilungen, 1964,
Bd65.
Besch W. Sprachlandschaften und
Sprachausgleich im 15. Jahrhundert.
München, 1967.
Besch W. Zur Entstehung der neuhoch-
deutschen Schriftsprache. — ZDPh, 1968,
Bd87.
Besch W. Bemerkungen zur schreibso-
ziologischen Schichtung im Spätmittelal-
ter. - In: Die Stadt in der europäischen
Geschichte. Festschrift für Ennen. Bonn.
1972.
Besch W. Zur Bestimmung von Regula-
ritäten bei den sprachlichen Ausgleichs-
vorgängen im Fruhneuhochdeutschen. —
ZDPh, 1979, Bd 98.
Betz W. Spätzeiten in der Geschichte
der deutschen Sprache. - In: Spatzeiten
und Sp'ätzeitlichkeit. Hrsg. von W. Kohl-
schmidt. Bern - München, 1962.
Betz W. Scholastik, Mystik und deutsche
Sprachgeschichte. Festschrift für H. Meier.
München, 1971.
Bohnenberger K. Zur Geschichte der
schwabischen Mundart. Tübingen, 1892.
Bohnenberger K. Die alemannische Mun-
dart. Tübingen, 1953. ,
Brodfuhrer E. Untersuchungen zu vor-
lutherischen Bibelübersetzungen, Halle,
1922.
Burdach K. Vom Mittelalter zur Refor-
mation. Bd 1. Halle, 1893; Bd 3« Halle,
1926.
Burdach K. Die nationale Aneignung der
Bibel und die Anfange der germanischen
. Philologie. Halle, 1924.
Burdach K. Vorspiel. Bd 1-2. Halle,
1925.
Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte,
Bd III. Hamburg, 1969.
Eis G. Mittelalterliche Fachliteratur.
2. Aufl. Stuttgart, 1967.
Erben J. Ausklang des Mittelhochdeut-
schen. - In: Spätzeiten und Sp'ätzeit-
lichkeit. Hrsg. von Kohlschmidt. Bern -
München, 1962.
Erben J. Synchronische und diachro-
nische Betrachtungen im Bereich des Früh-
neuhochdeutschen. Jahrbuch des Instituts
für deutsche«. Sprache. Berlin, 1968.
Erben J. Frühneuhochdeutsch. -
KGrGPh, 1970.
Feudel G. Das Evangelistar der Berli-
ner Handschrift M.S. Germ 4°533, T. 1,
2. Berlin, 1961.
Frings Th. Die Grundlagen des Mei/mi-
schen.Deutsch. Halle, 1936.
Frings Ib.. Grundlegung einer Geschich-
197
te der deutschen Sprache. Halle (Saale),
1957.
Frings Th., Schieb G. "Bis". - Annales
Academiae Scientiarum Finnica, 1954,
Bd 84, N 22.
Frings Ib., Schmitt L.E. Der Weg zur
deutschen Hochsprache. - In: Jahrbuch
der deutschen Sprache. Leipzig, 1944.
Gehring H. The Language of Mysticism
in South German Dominician Convent.
Chronicles of the Fourteenth Century.
Diss., Michigan, 1957.
Giemner K. Urkunde und Mundart.
Halle, 1936.
Götze A. Frühneuhochdeutsches Le-
sebuch. Berlin, 1920.
Götze A. Frühneuhochdeutsche Glos-
sar. 7. AufL Berlin, 1967.
Guchmann M.M. Der Weg zur deutschen
Nationalsprache, Teil 1. Berlin, 1964;
Teil 2. Berlin, 1969.
Guchmann M.M., Semenjuk, N.N. Zur
Ausbildung der Norm der deutschen Li-
teratursprache im Bereich des Verbs
(1470-1730). Berlin, 1981.
Holmberg M. Asdahl Das älteste
Glied einer bekannten mittelhochdeutschen
Evangelienübersetzung. - SN, 1966,
vol. 38.
Hotzenkocherle R. Entwicklungsge-
schichtliche Grundzüge des Neuhochdeut-
schen. - WW, 1962, Bd 12.
hing G. Ausgleichsvorgänge bei der
Herausbildung des schriftsprachlichen deut-
schen Wortschatzes. Niederdeutsches Wort.
O.P., 1965.
Ising G. Zur Wortgeschichte. Wort-
geographie spätmittelalterlicher deutscher*
Schriftdialekte» Bd 1-2, Berlin, 1968.
Johansson E. Die Deutschordenschronik
des Nikolaus von Jeroschin. Ein Beitrag
zur Erforschung der Ordenssprache und
ihrer Rolle in der Entwicklung der neuhoch-
deutschen Schriftsprache. Lund - Kopen-
hagen, 1964.
Keimann G. Frühneuhochdeutsche Тех-
te. Leipzig, 1971.
Klinisch H. Spätes Mittelalter 1250-
1500. - DW» 1974.
Lirker O. Die Bereicherung des deut-
schen Wortschatzes durch die mittelal-
terliche Mystik. Jena, 1923.
Ludwig H.v. Miigeln "Ungarns-
chronik". Diss. Berlin, 1938.
Mathias A. Geschichte des deutschen
Unterrichts. München, 1907.
Maurer F.O. Studien zur mitteldeut-
schen Bibelübersetzung vor Luther. Hei-
delberg, 1929.
Merkel E. Das Aufkommen der deut-
schen Sprache in den städtischen Kanzleien
des ausgehenden Mittelalters. Hildesheim,
1973.
Mourek V.E. Zum Prager Deutsch des
14. Jahrhunderts. Prag, 1901.
MüUenhof K. Denkmäler deutscher
Poesie und Prosa. Berlin, 1892.
Müller J. Quellenschriften und Geschich-
te des deutschsprachigen Unterrichts bis
zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Gotha,
1882.
Nix U. Der mystische Wortschatz Meis-
ter Eckharts im Lichte der energetischen
Sprachbetrachtung. Düsseldorf, 1963.
Pyritz H. Einleitung. "Die Minneburg".
Berlin, 1950.
Reuter H. Geschichte der religiösen
Aufklarung. Bd 1-2, Berlin, 1870.
Rosenfeld H.-F. Humanistische
Strömungen (1350-1600). - DW, 1974.
Rooth E. {Рец. накн:] Johannsson
E. Die Deutschordenschronik des Nikolaus
von Jeroschin. - Lunder germanistische
Forschungen. 1964. Bd. 36.
Ruh K. Altdeutsche Mystik. - WW,
1957, Bd 7.
Schieb G. "Bis". - PBB, 1959, Bd 81.
Schieb G. Mittelhochdeutsch. -
KGrGPh, 1970.
Schildt J. Zur Ausbildung des Satzrah-
mens in Aussagesätzen der Bibelsprache. -
PBB, 1968, Bd 90.
Schildt J. Die Satzklammer und ihre
Ausbildung in Hoch-und niederdeutschen
Bibeltexten des 14. bis 16. Jahrhunderts.
Studien zur Geschichte der deutschen
Sprache. Berlin, 1972.
Schirmunski V.M. Deutsche Mundarten-
kunde. Berlin, 1962.
Schirokauer A. Der Anteil des Buch-
drucks an der Bildung des Gemeindeut-
schen. - Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte.
1951, Bd 25.
Schirokauer A. Frühneuhochdeutsch. -
DPhA, 1957.
Schmitt L.E Die.deutsche Urkunden-
sprache in der Kanzlei Kaiser Karls IV.
Prag, 1936.
Schmitt L.E. Zur Entstehung und
Erforschung der neuhochdeutschen
Schriftsprache. - ZM, 1936, Bd 12.
Schmitt L.E. Entstehung und Struktur
der neuhochdeutschen Schriftsprache. Köln,
1966.
Schmotdt Ä. Die deutsche Begriffs-
sprache Meister Eckhards. Heidelberg, 1954.
Schützeichel R. Mundart» Urkunden-
198
О
Sprache und Schriftsprache. Stidien zur
Sprachgeschichte am Mittelrhein. Bonn,
1960.
Schützeichel R. Die Grundlagen des
westlichen Mitteldeutschen. Tubingen,
1961 v
Skala E. Die Entwicklung der Kanzlei-
sprache in Eger 1310-1660. - PBB, 1964,
Bd 86VH. 1-2.
Skala E. Schriftsprache und Mundart
im Ackermann aus Böhmen. Deutsch-
tschechische Beziehungen im Bereich der
Sprache und Kultur. Berlin, 1965.
Skala E. Das Prager Deutsch - Tradi-
tion und Urspriinglichkert. Akten des
Ш. Internationalen Germanistenkongres-
ses. Bern - München, 1966.
Skala, E. Die Entwicklung der Kanz-
leisprache in Eger 1310-1660. Berlin,
1967.
Skala E Süddeutsch in der Entstehung
der deutschen SchriftssprachgL - PBB,
1970, Bd^2. 9
Sozin A. Schriftsprache und Dialekt
im Deutschen. Heilbronn, 1888.
Stackmann K. Der Sprachdichter
Heinrich von Miigeln. Heidelberg, 1958.
Stammler W. Kleine Schriften zur Li-
teraturgeschichte des Mittelalters. Berlin,
1954.
Stammler W. Mittelalterliche Prosa in
der deutschen Sprache. - DPhA, 1957.
Steinmetz M. Der deutsche Hunanis-
mus - seine historische Bedeutung. -
In: Albrecht Durer. Zeit und Werk.
Leipzig, 1971.
Stopp H. Zur Herausbildung der neu-
hochdeutschen Norm in rheinfränkischer
Schriftlichkeit des 14. bis 17. Jahrhun-
derts. - Rheinische Vierteljährsblätter,
1974, Bd 34.
Stopp H. Schreibsprachwandel. Zur
großräujnigen Untersuchung fruhneuhoch-
deutschen Schriftlichkeit. München, 1976.
Stolze! G. Zum Nominalstil Meister
Eckharts. Die syntaktischen Funktionen
grammatischer Verbabbstrakta.- WW, 1966,
Bdl6.
Tschirch F. Geschichte der deutschen
Sprache, Teil П. Berlin, 1969.
Valli К Die Übersetzungstechnik des
Claus Cranc. Helsinki, 1946.
Wenzlau К Zwei-und Mehigliedrigkeit
in der deutschen Prosa des XIV. und XV.
Jahrhunderts. Haue (Saale), 1906.
Werbow S. "Die gemeine Teutsch". -
ZDPh, 1963, Bd 83.
Wümanns W. Deutsche Grammatik, 1.
H., 3. Abt. Strasburg, 1906.
Wolf H. Zur Periodisierung der deut-
schen Sprachgeschichte. - Germanisch-
romanische Monatsschrift, "N.F., Bd 21,
1971.
Ziesemer W. Studien zu mittelalter-
lichen Bibelübersetzungen. Halle, 1928.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие «... 3
Введение 5
Принятые сокращения »» 9
Библиографические названия » 9
Названия языков и диалектов 9
Г л а в а I Истоки немецкого литературного языка и начальный этап его
развития 10
Вводные замечания 10
Социальные процессы и историко-культурная ситуация 15
Основные памятники древнего периода, их жанровая и языко-
вая характеристика 27
Языковая ситуация 44
Основные структурные процессы и уровень регионального варьи-
рования письменного языка 48
Функционально-стилистическое варьирование: языка древней пись-
менности 66
Г л а в а II Немецкий литературный язык эпохи расцвета феодальной куль-
туры (XII-XIII вв.)
Вводные замечания 68
Историческая ситуация 68
Культурно-историческая ситуация 70
Языковая ситуация и коммуникативные отношения 74
Тематическая и жанровая характеристика памятников письмен-
ности 77
Основные языковые процессы (синтаксис, лексика) 104
Формы дифференциации немецкого литературного языка и неко- •
торые наддиалектные тенденции 121
Глава III Немецкий литературный язык эпохи развития средневековой
городской культуры (XIV-XV вв.)
Вводные замечания 131
Социальные процессы и историко-культурная ситуация 132
Основные памятники, литературные жанры, их соотношение . ... 139
Языковая ситуация 146
Структурные изменения в системе немецкого литературного
языка XIV-XV вв 161
Стилистическая дифференциация литературного языка XI-XVbb. 179
Источники и их сокращения 190
Кглаве L 190
К главе II 191
Кглаве IIL 192
Библиография . 193
К главе L 193
К главе II 194
Кглаве Ш 196