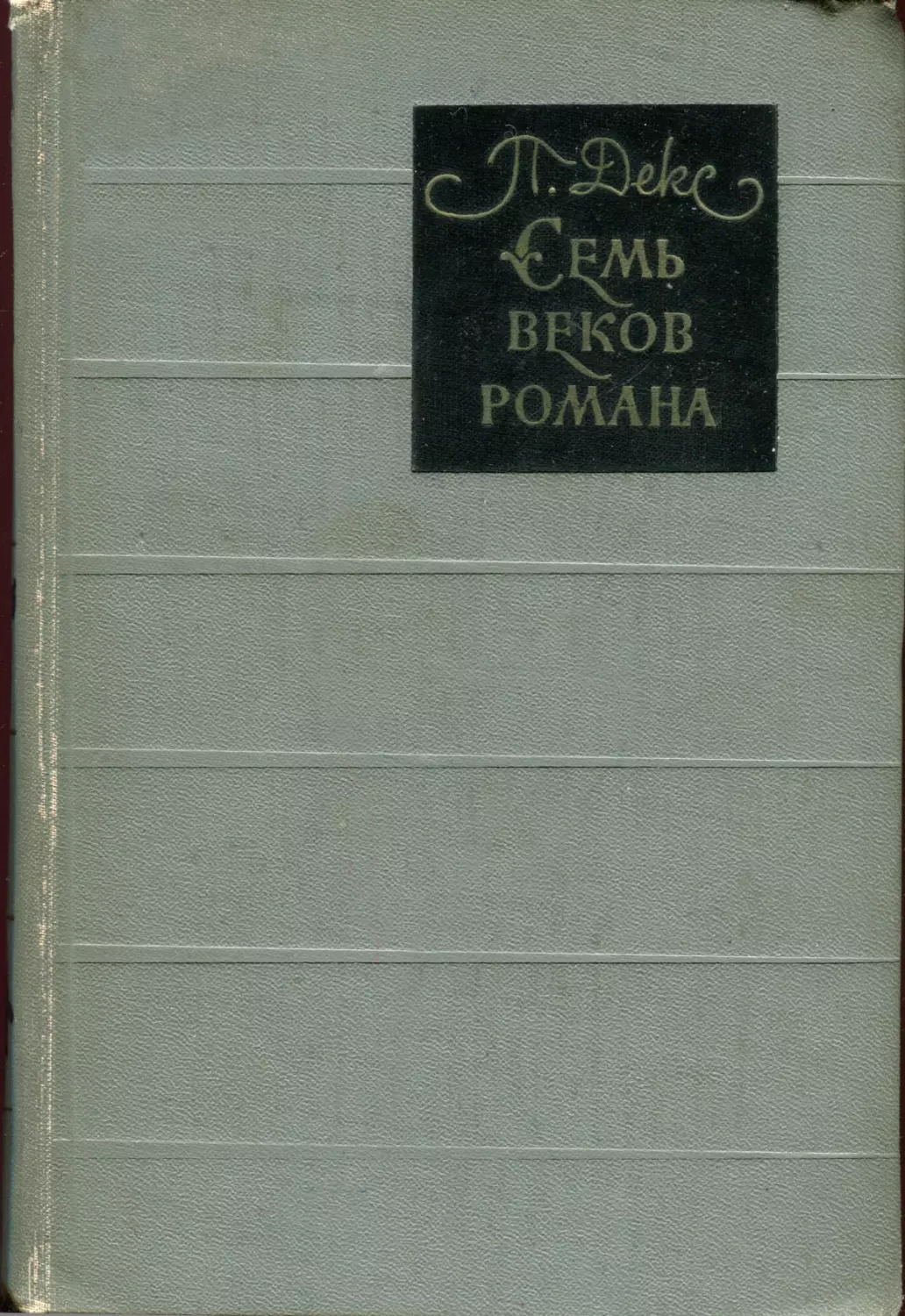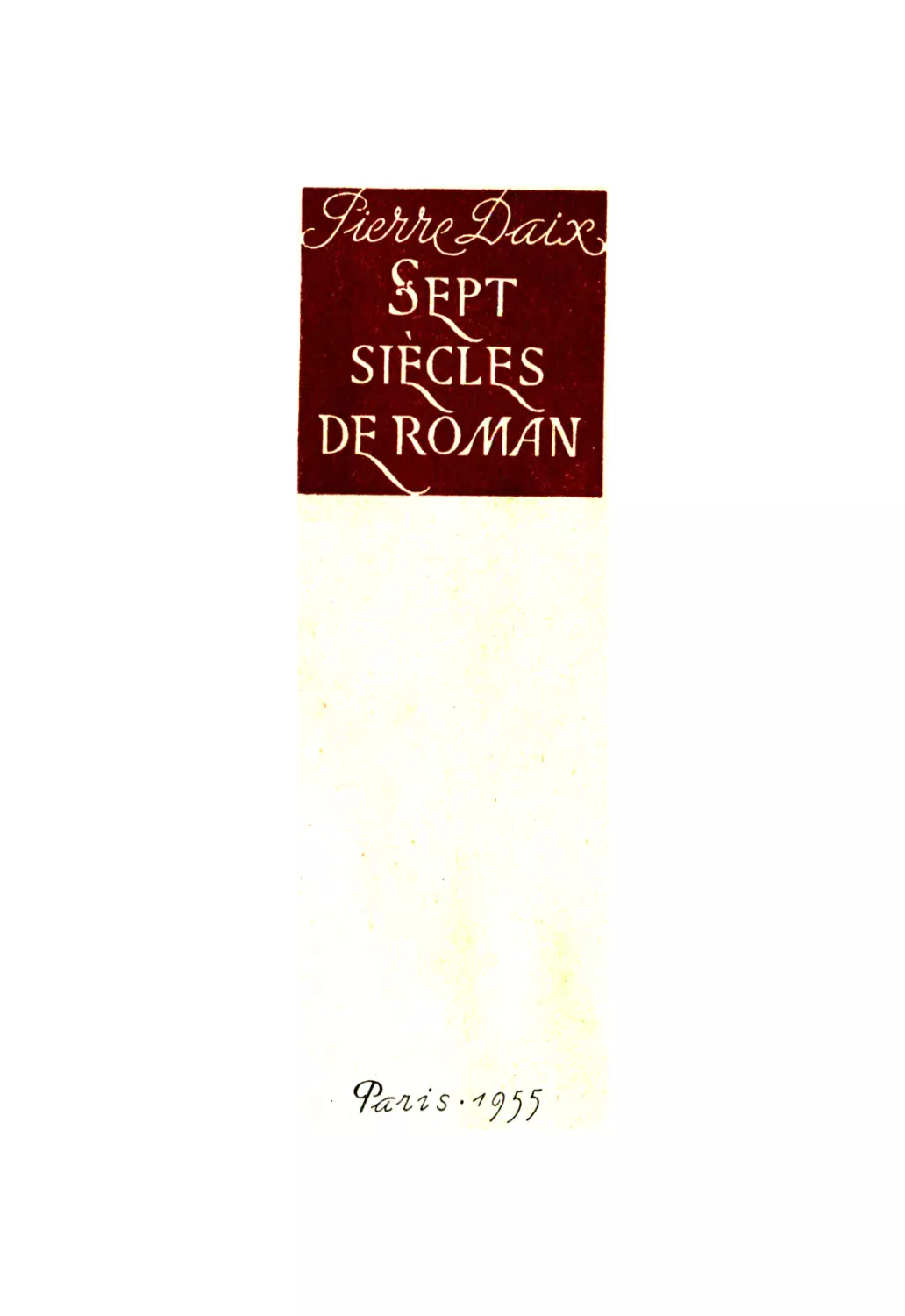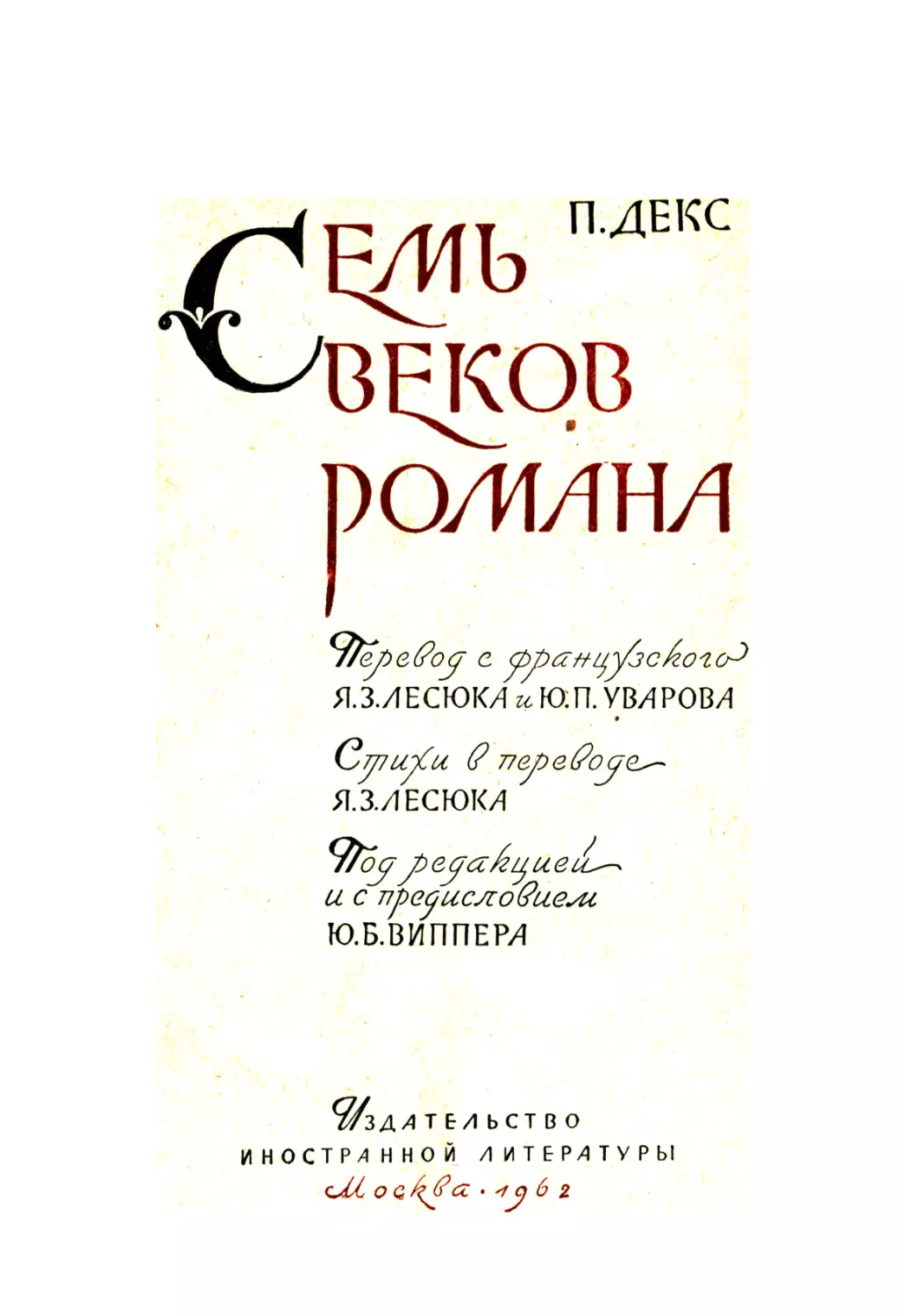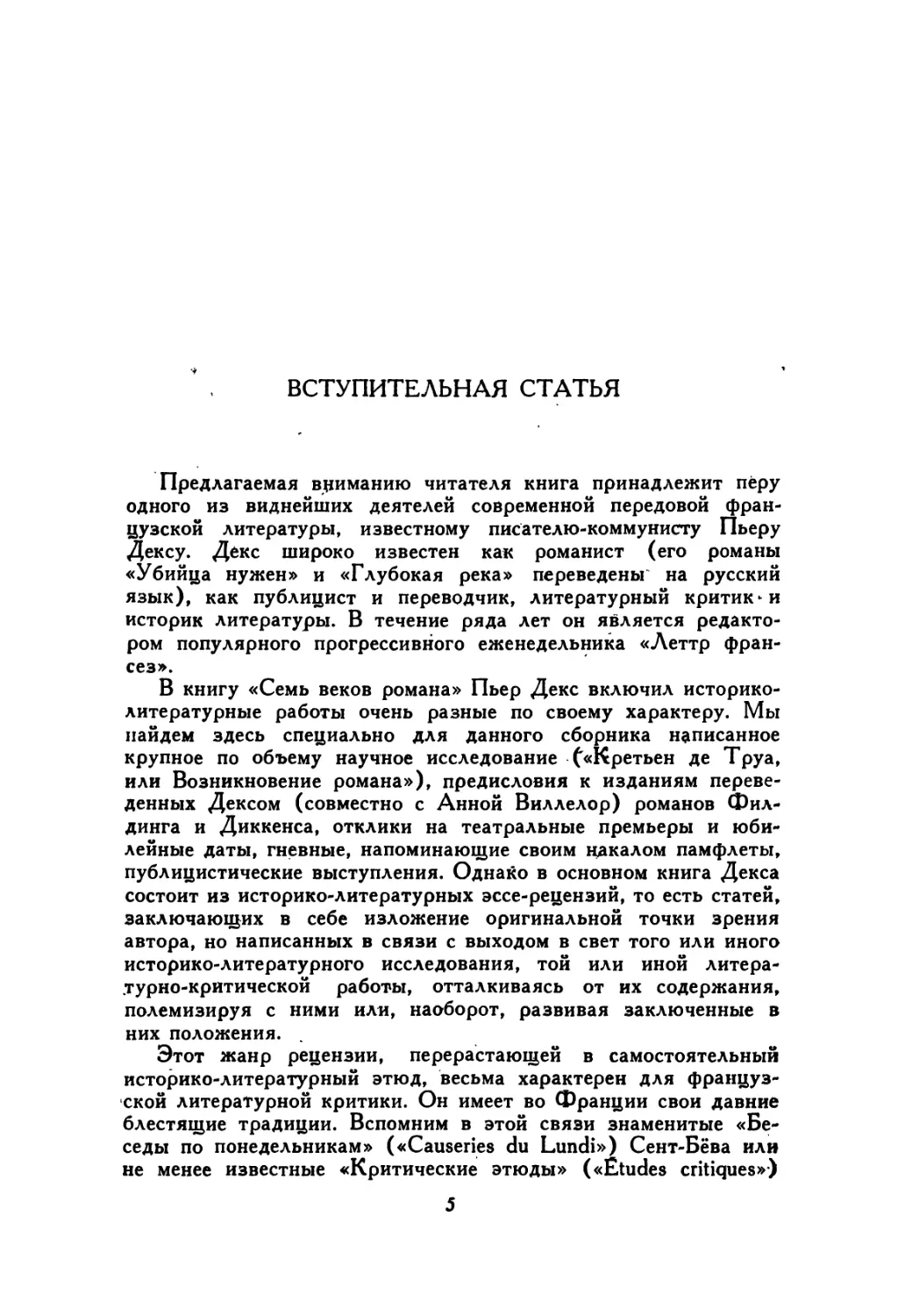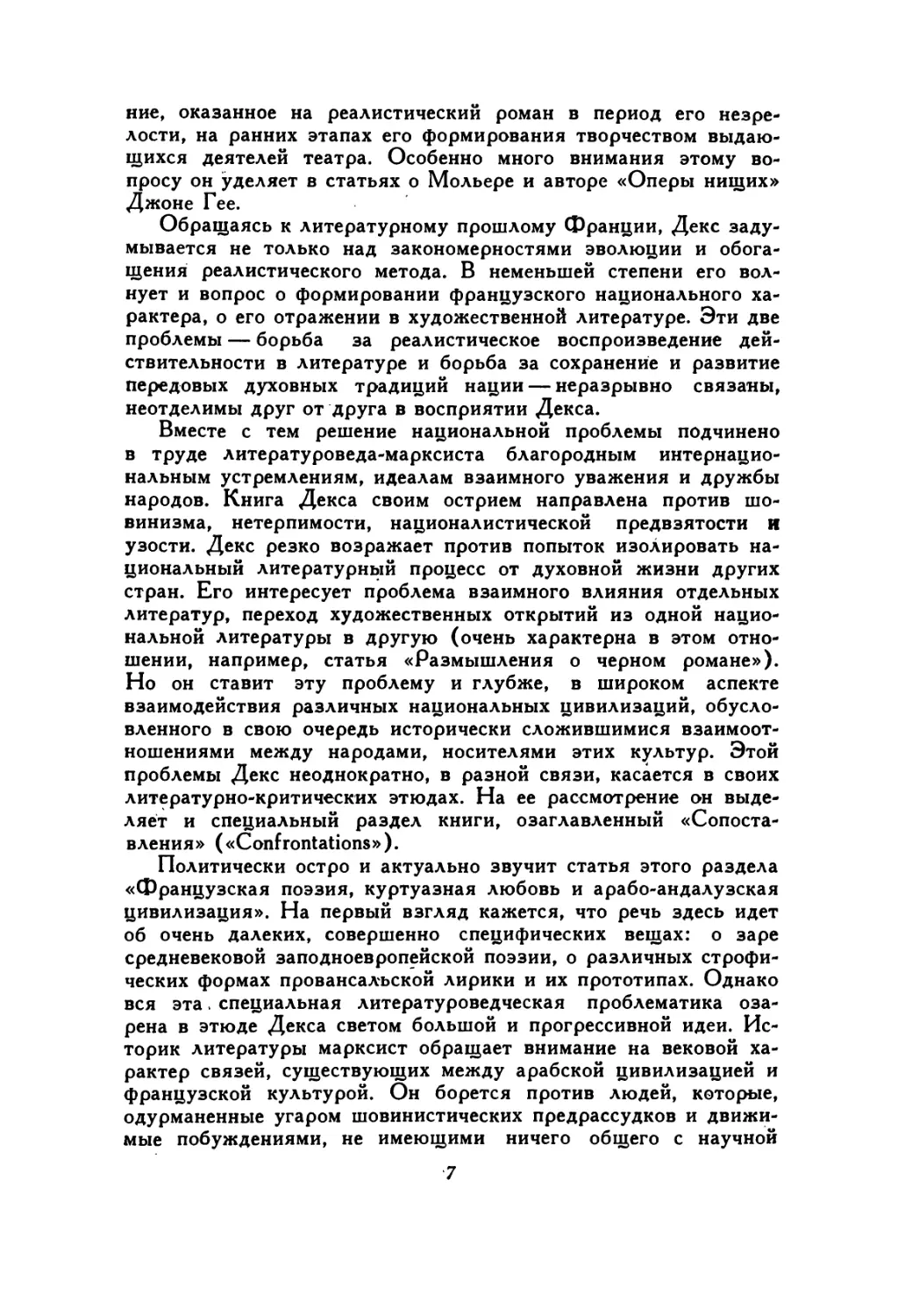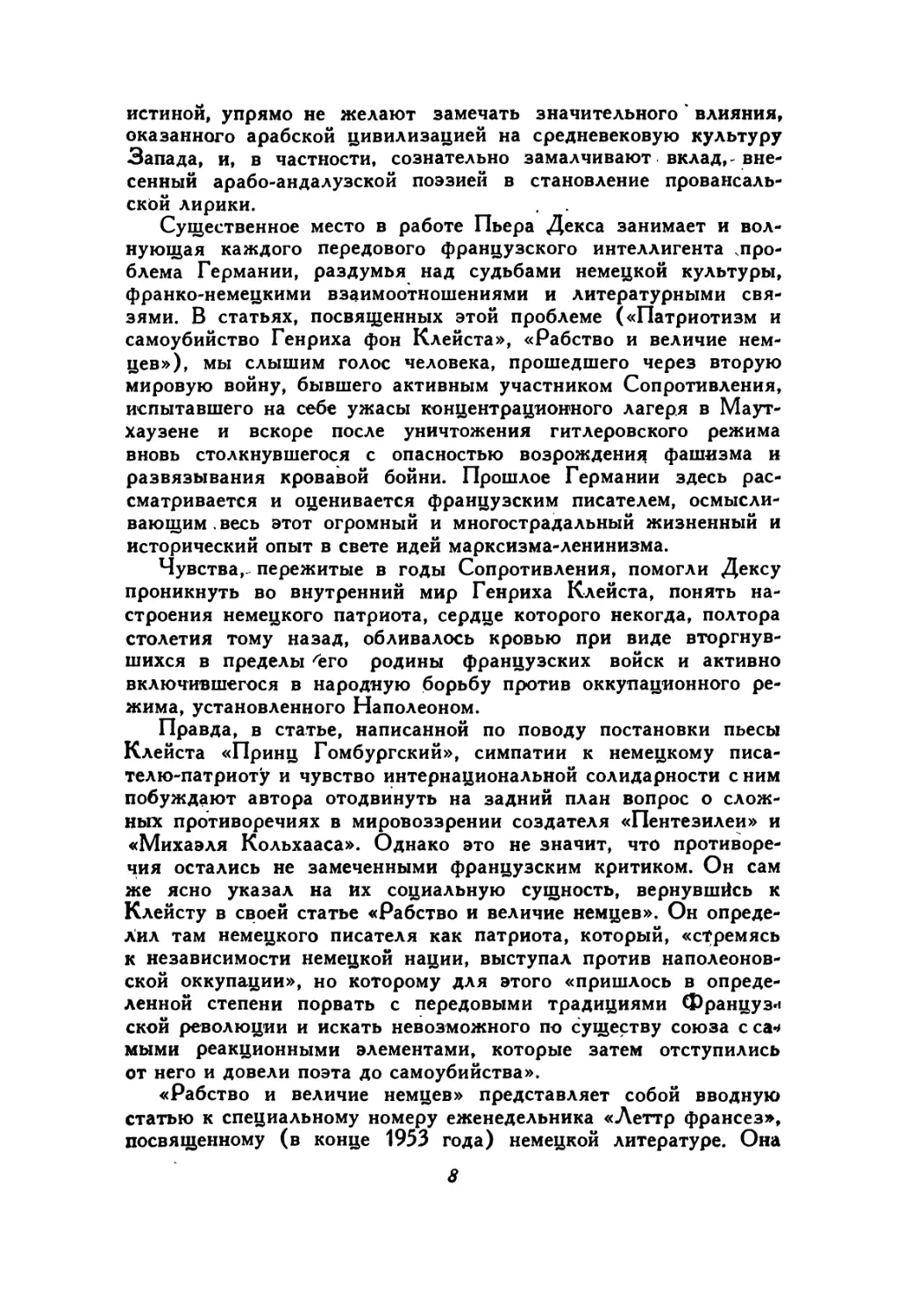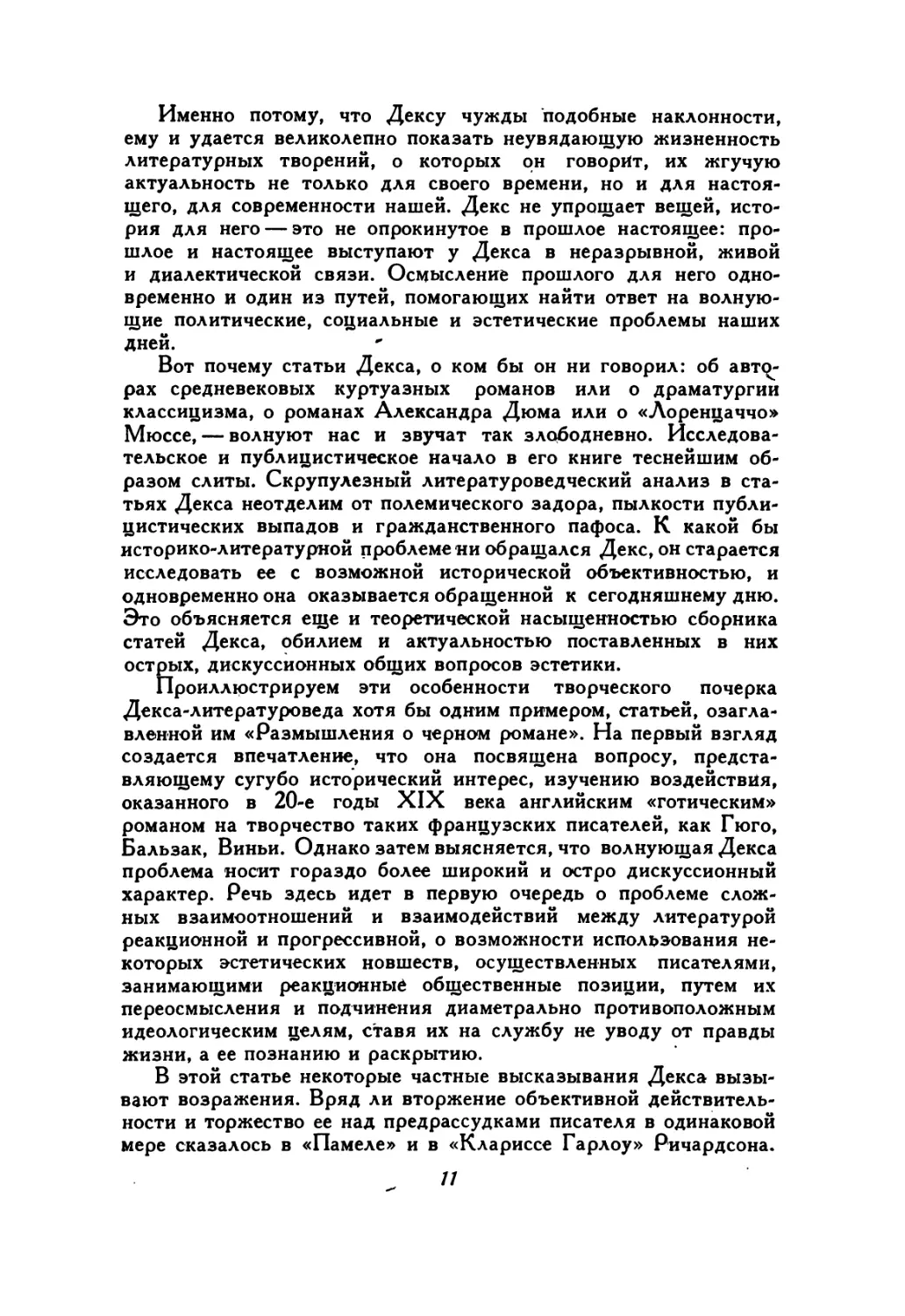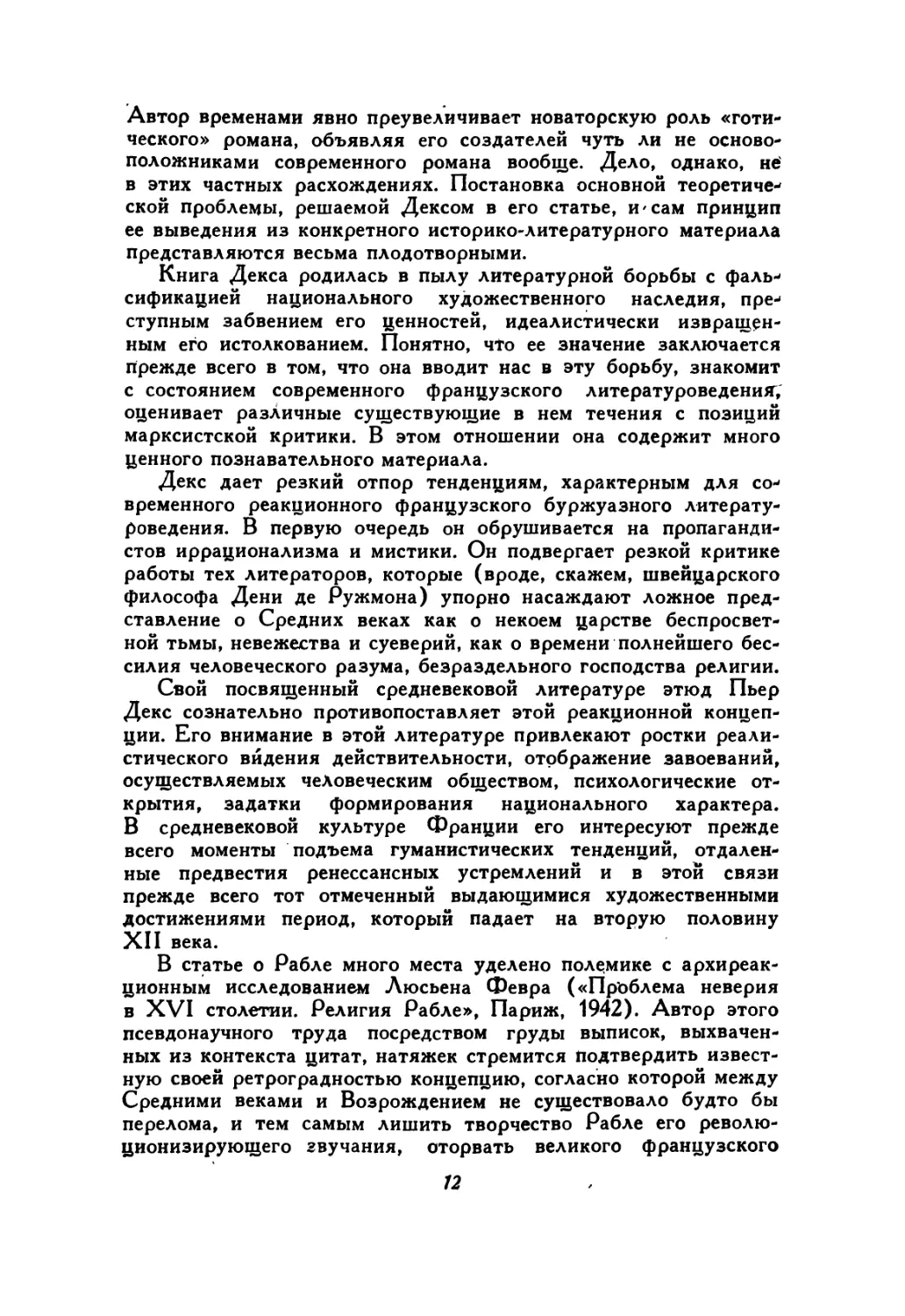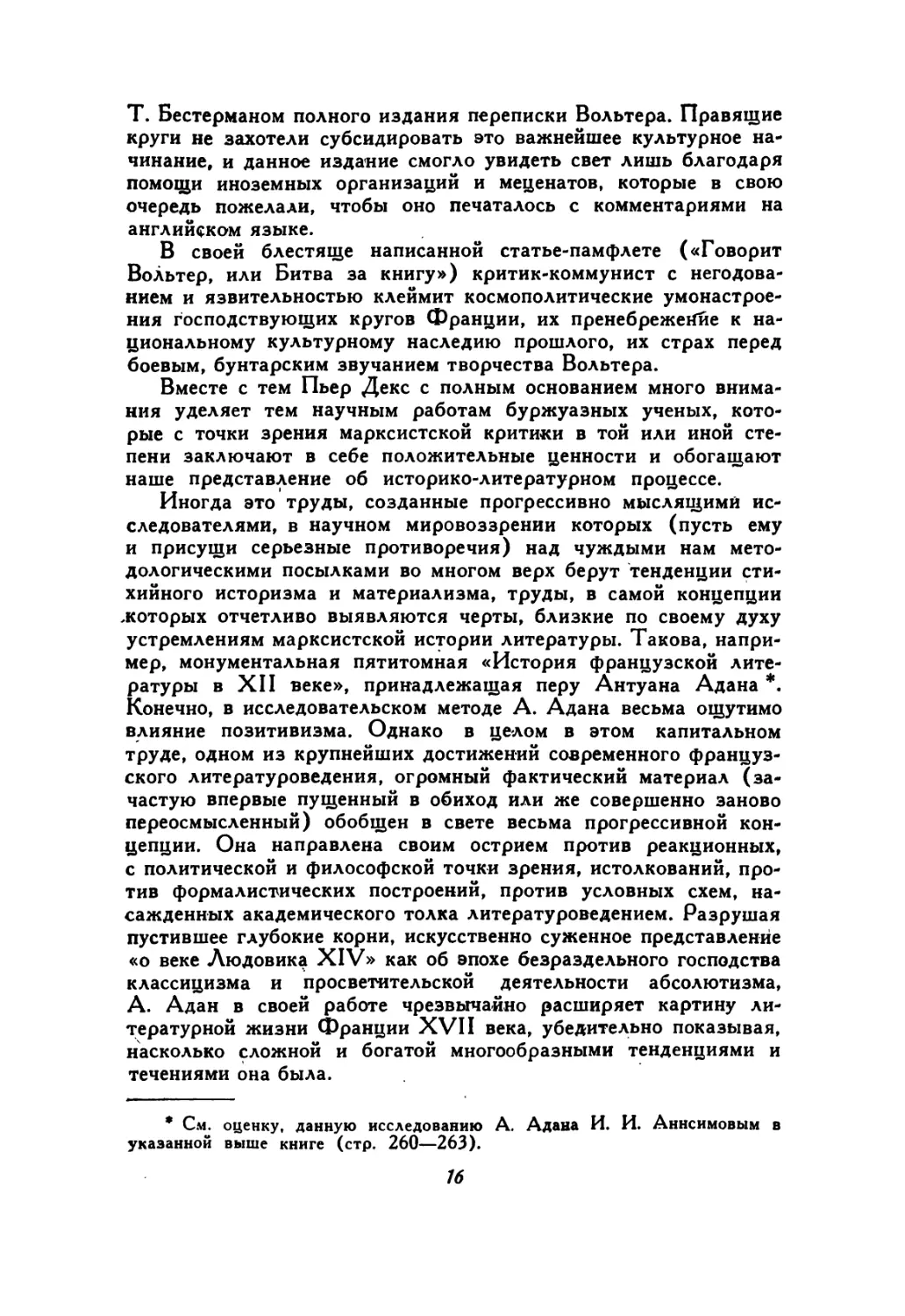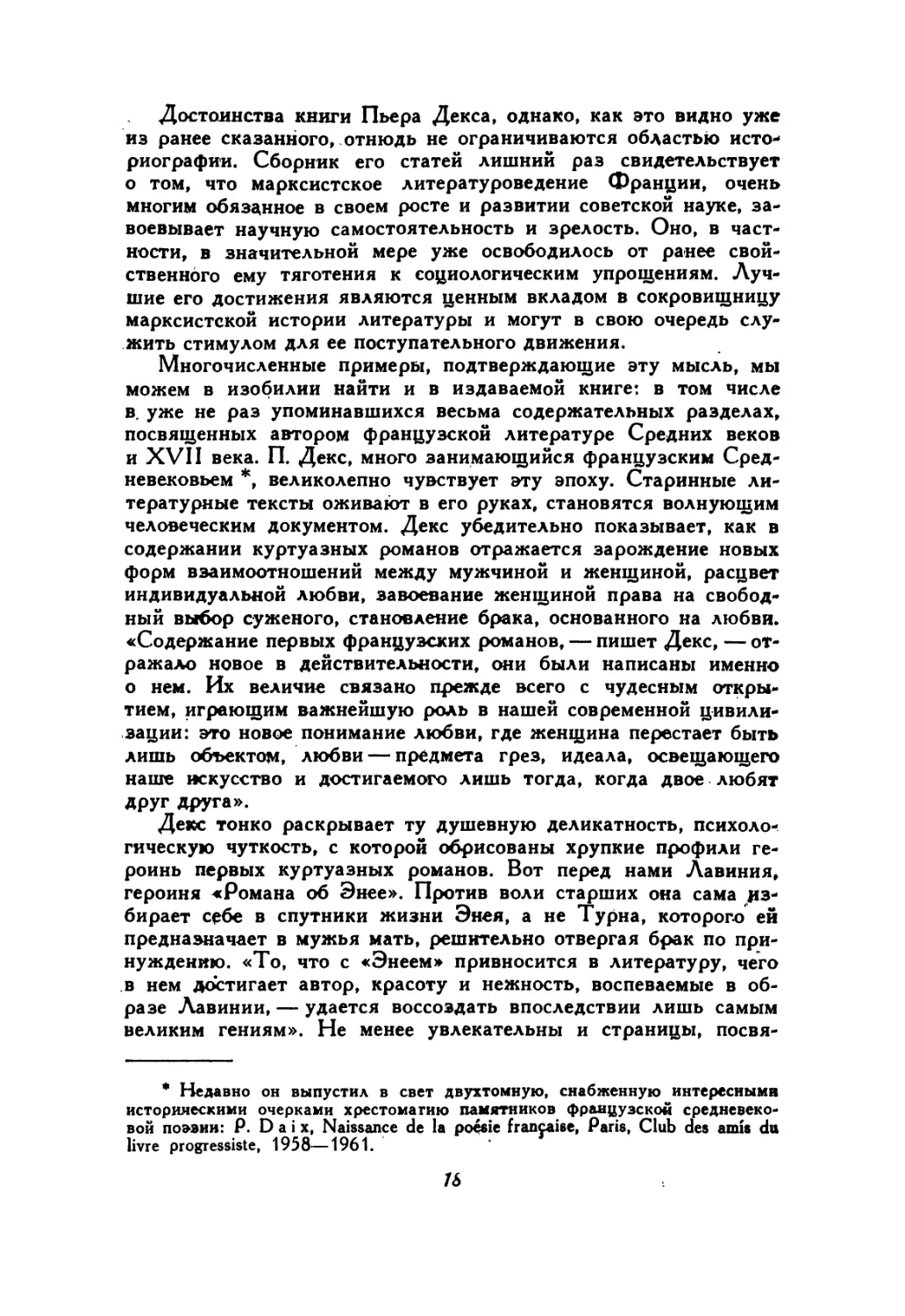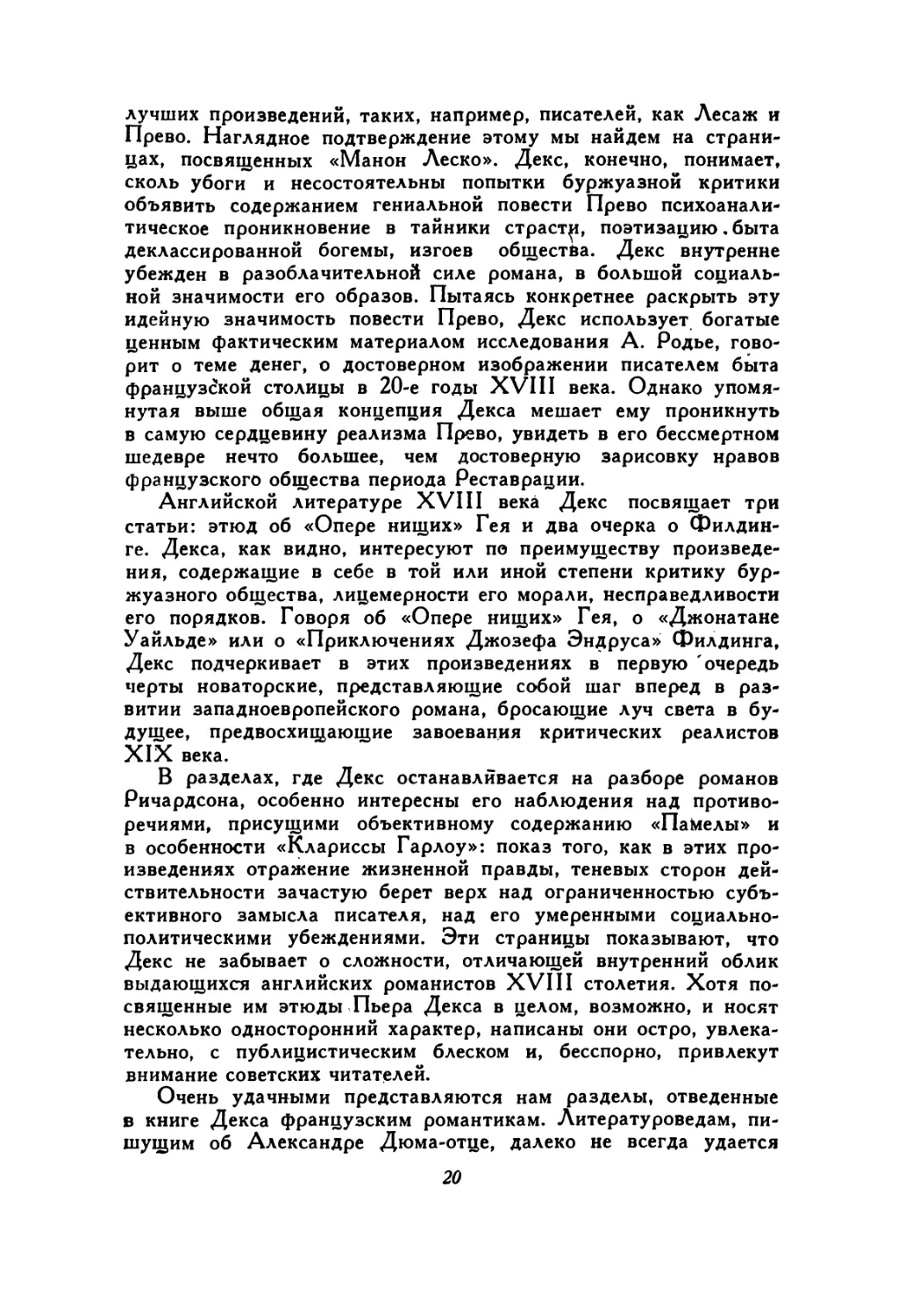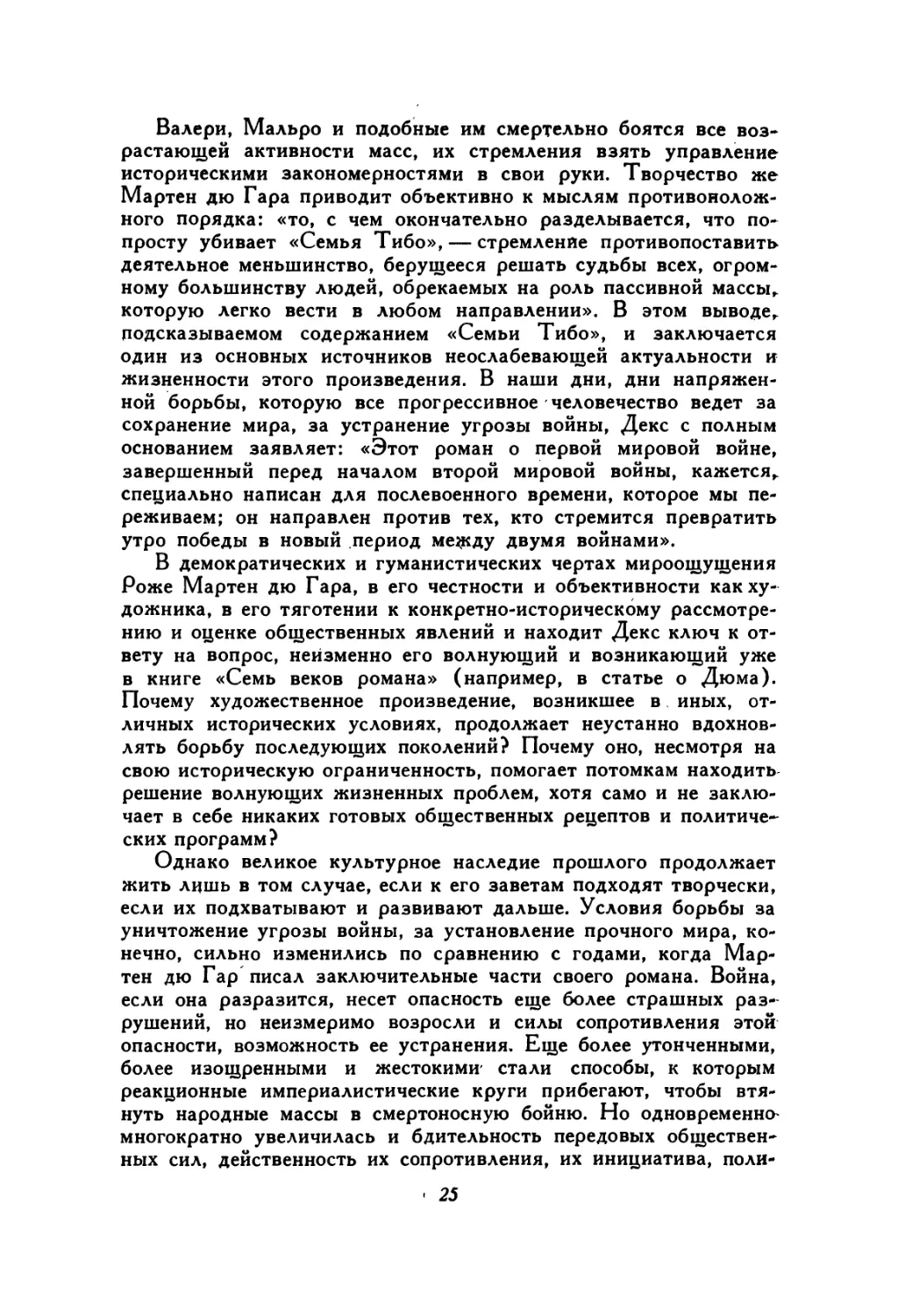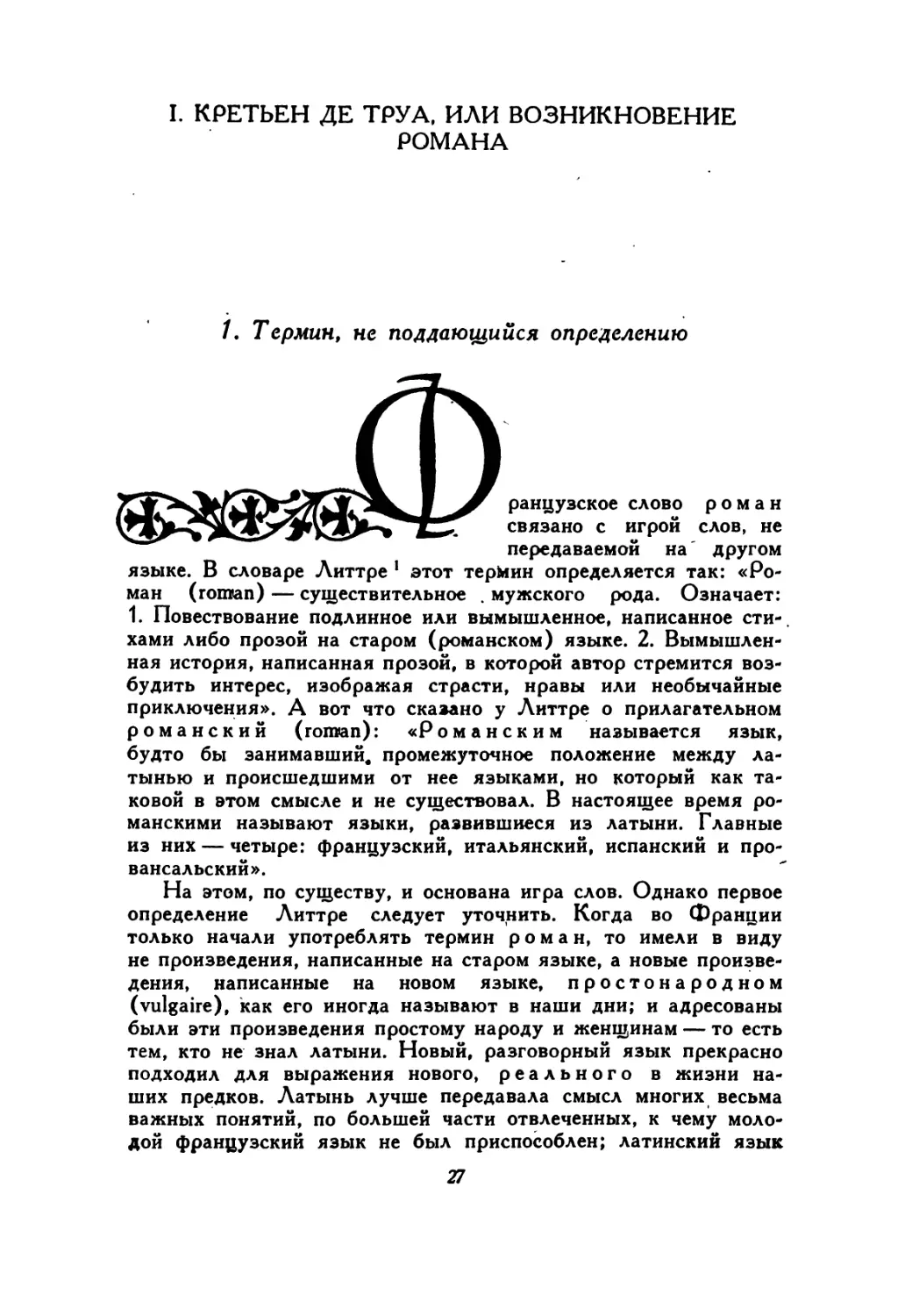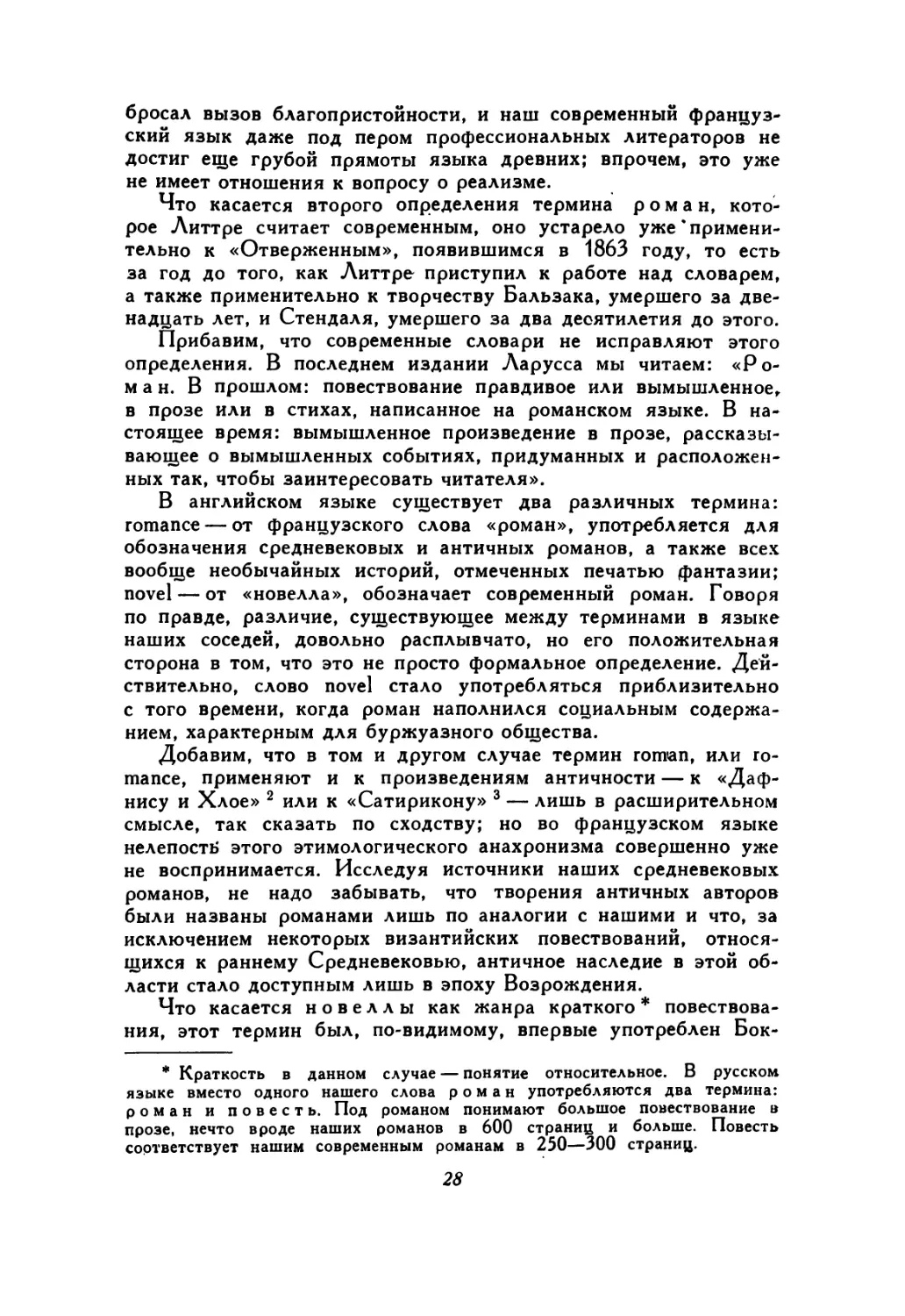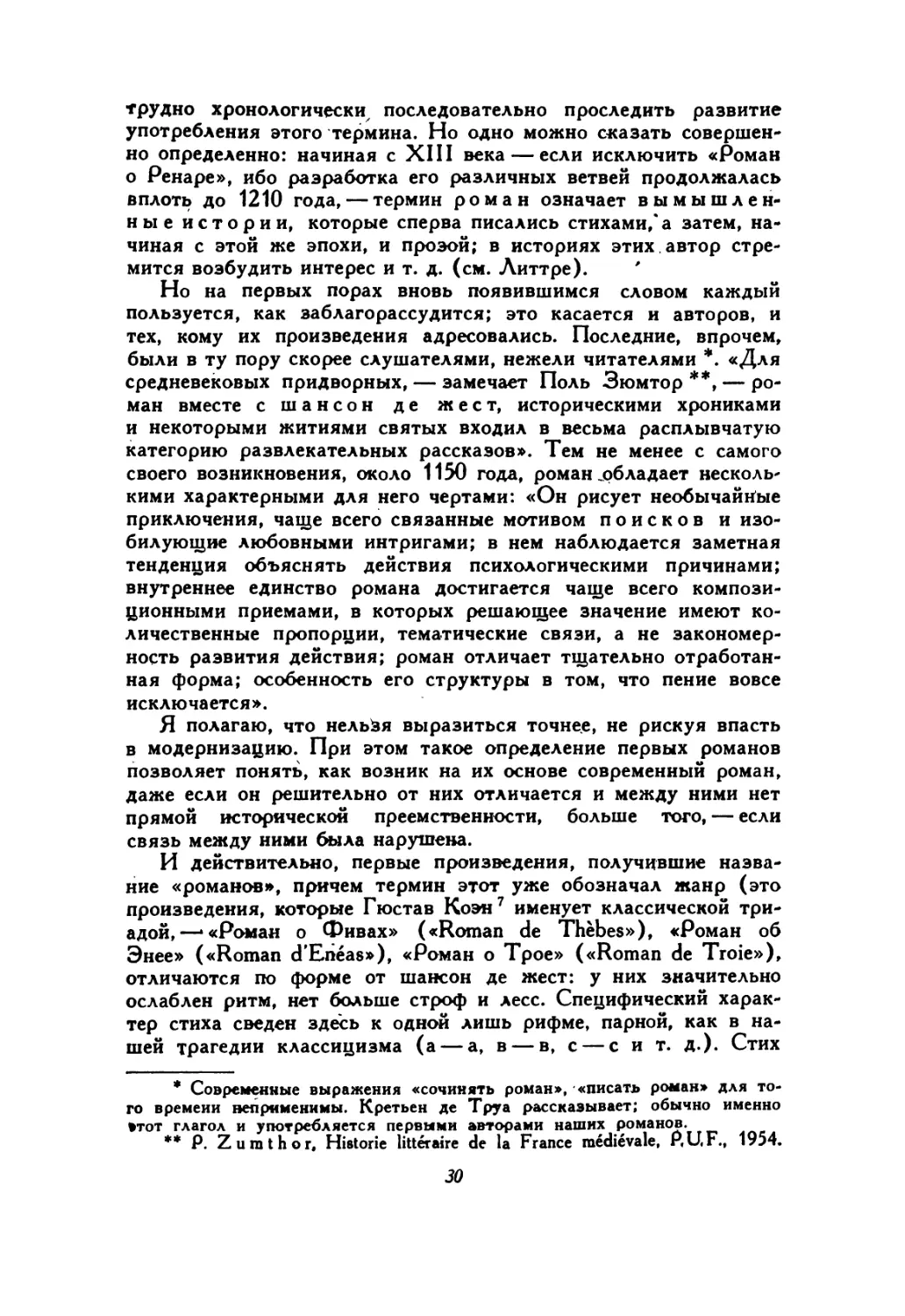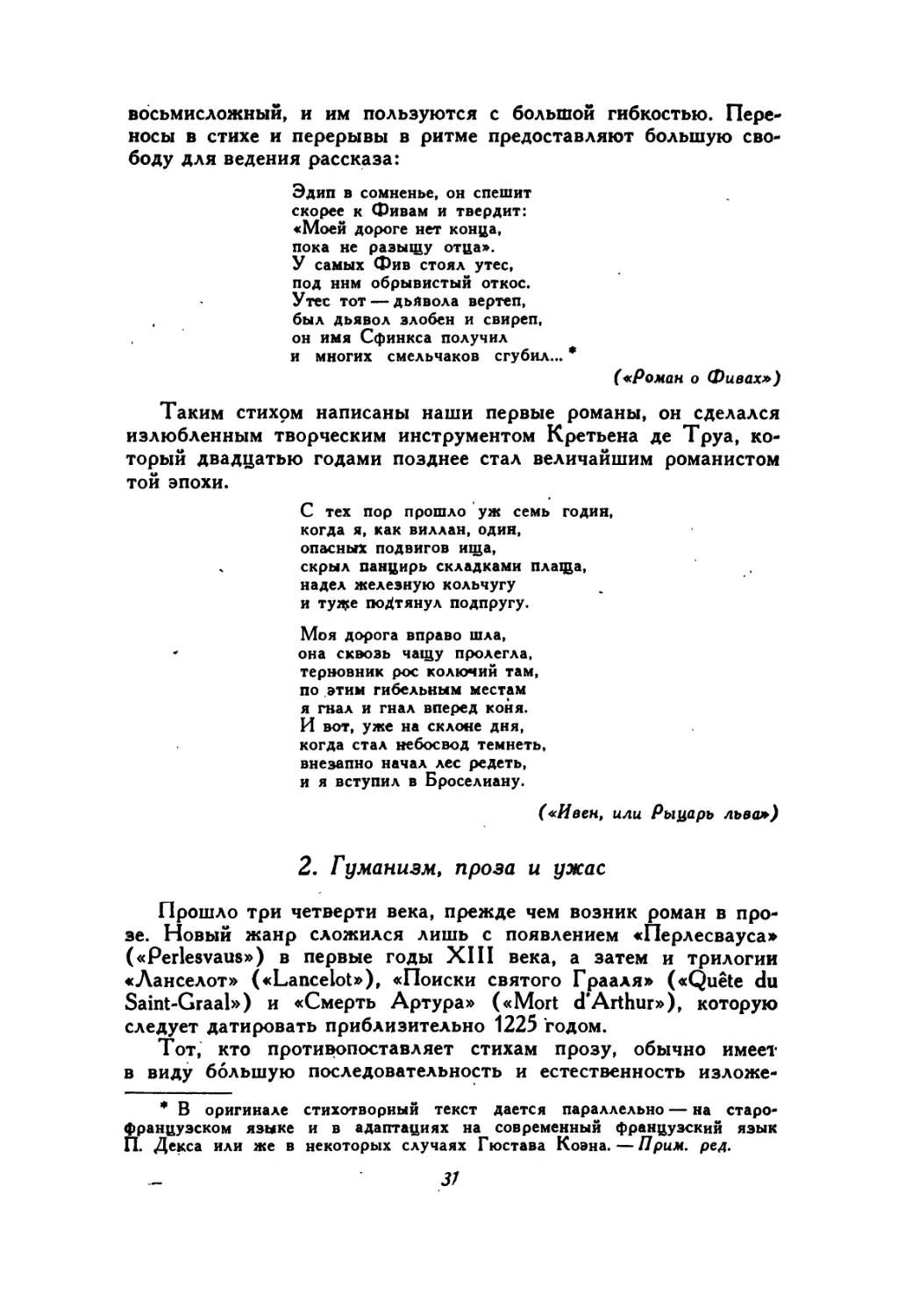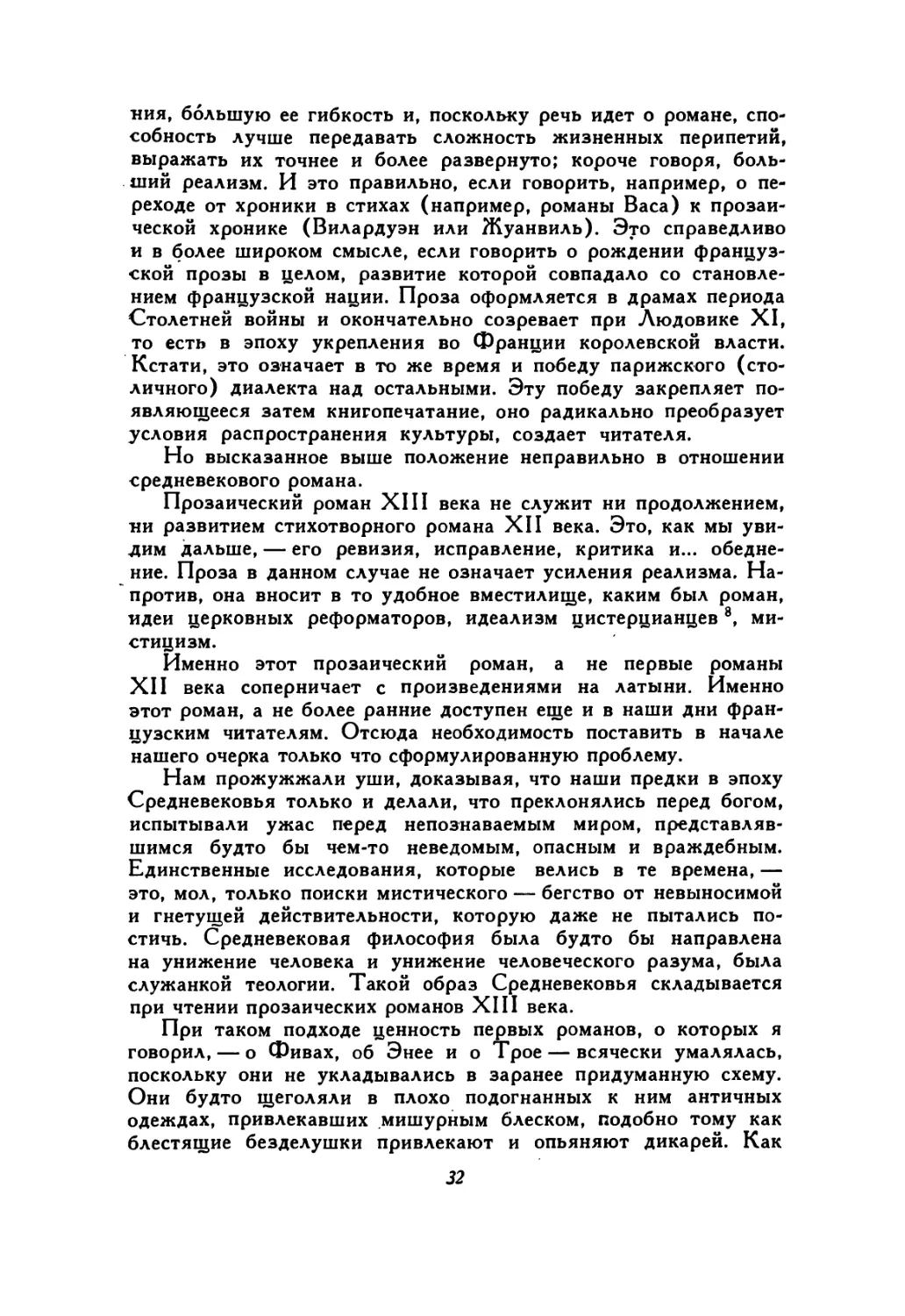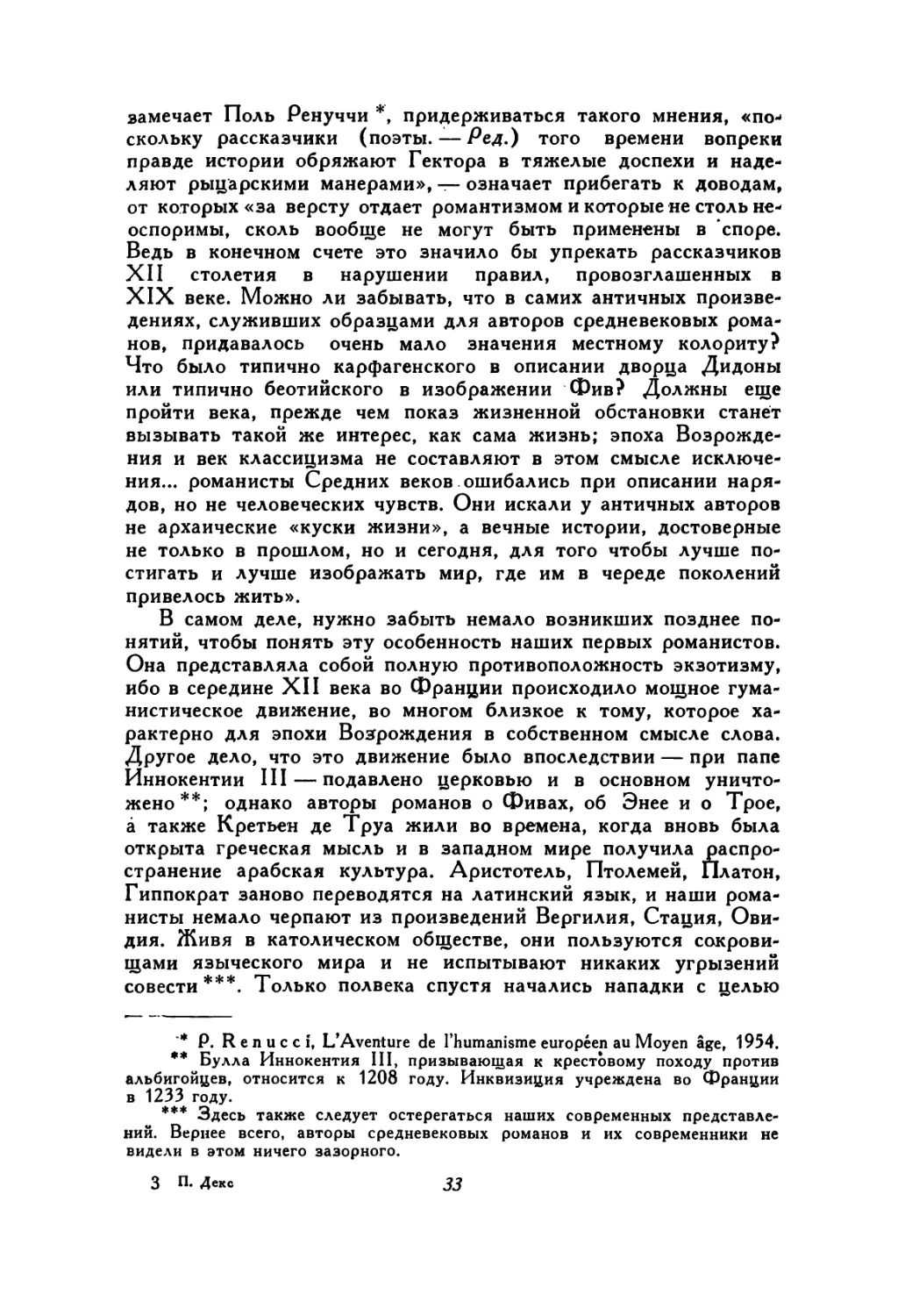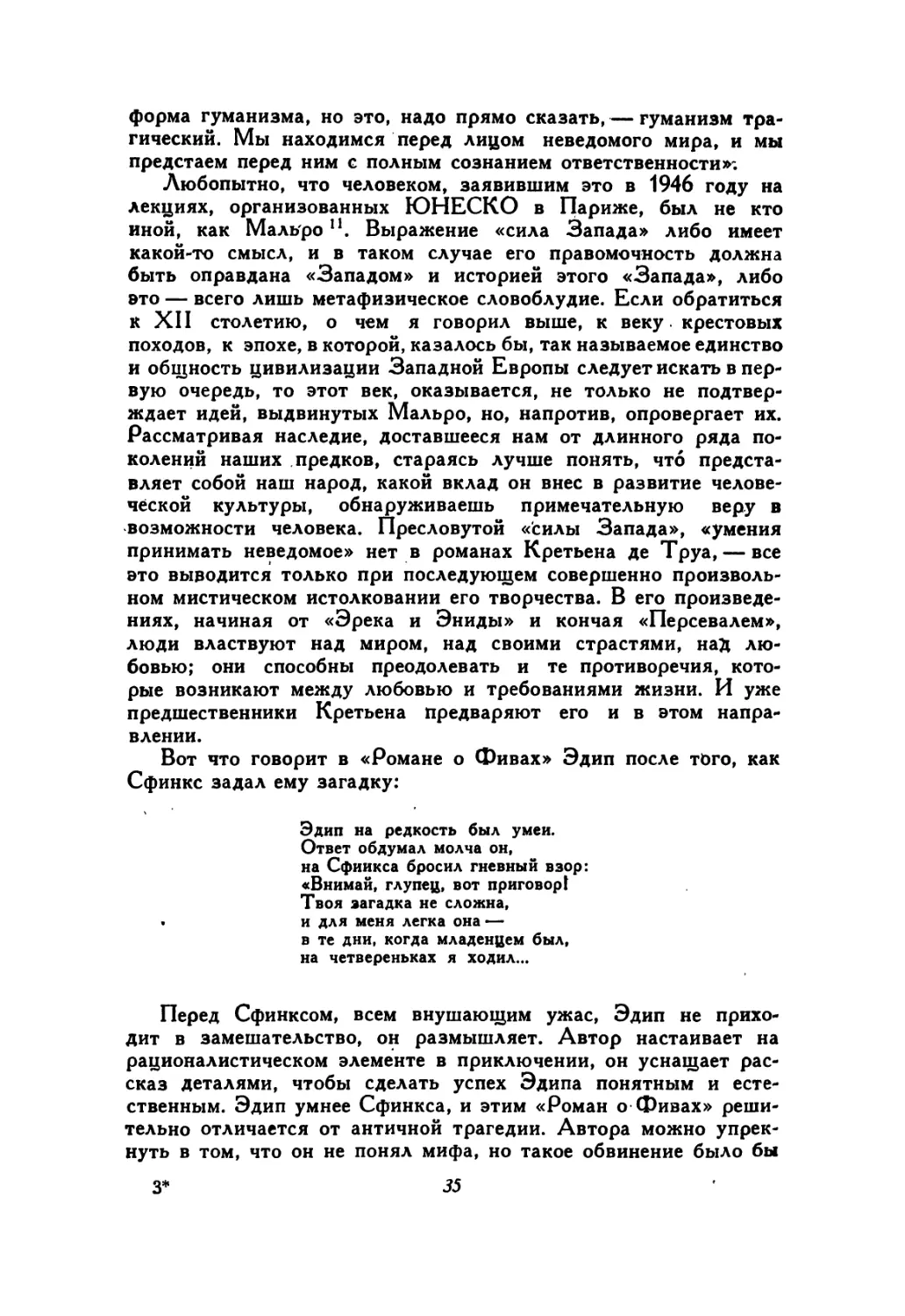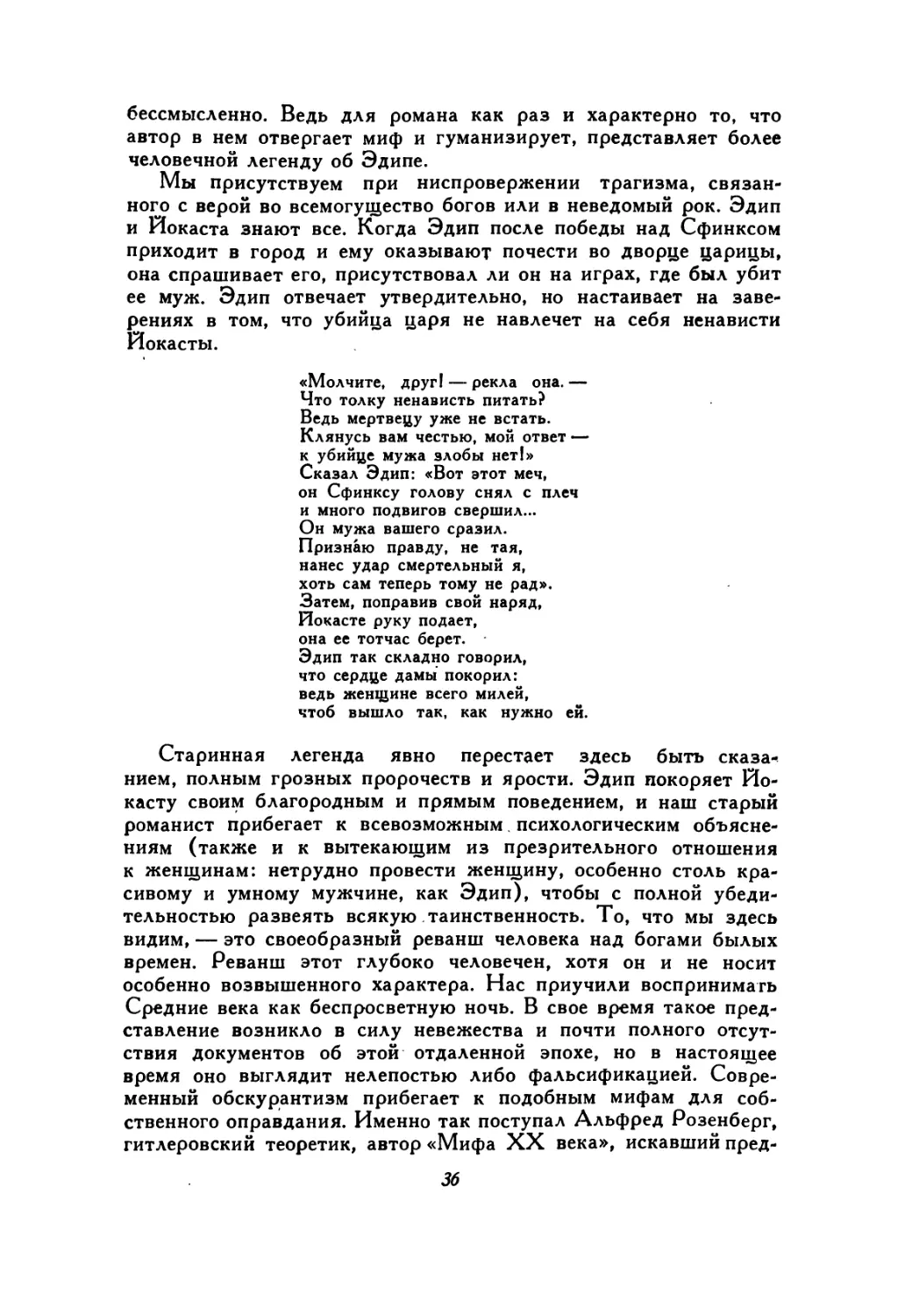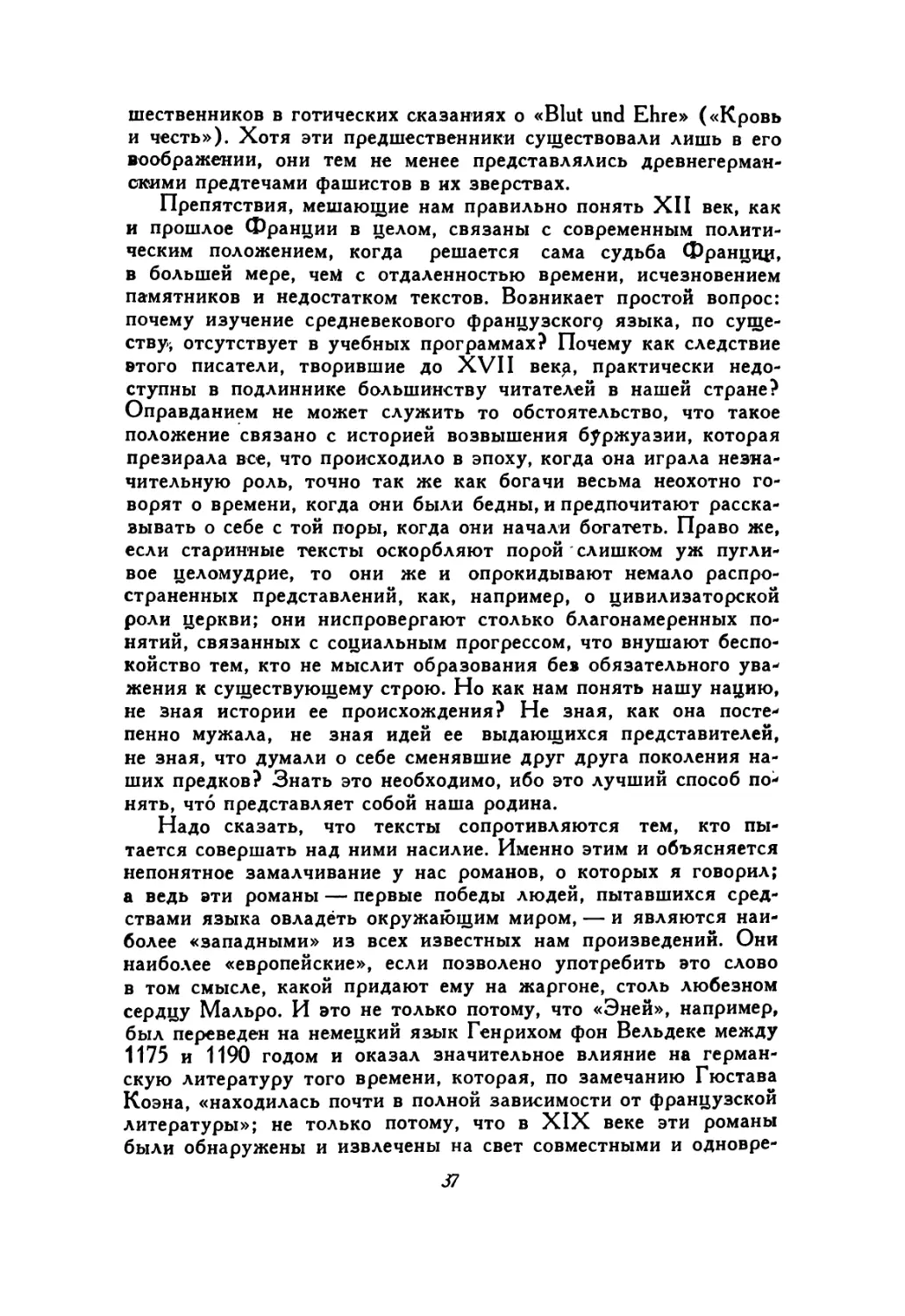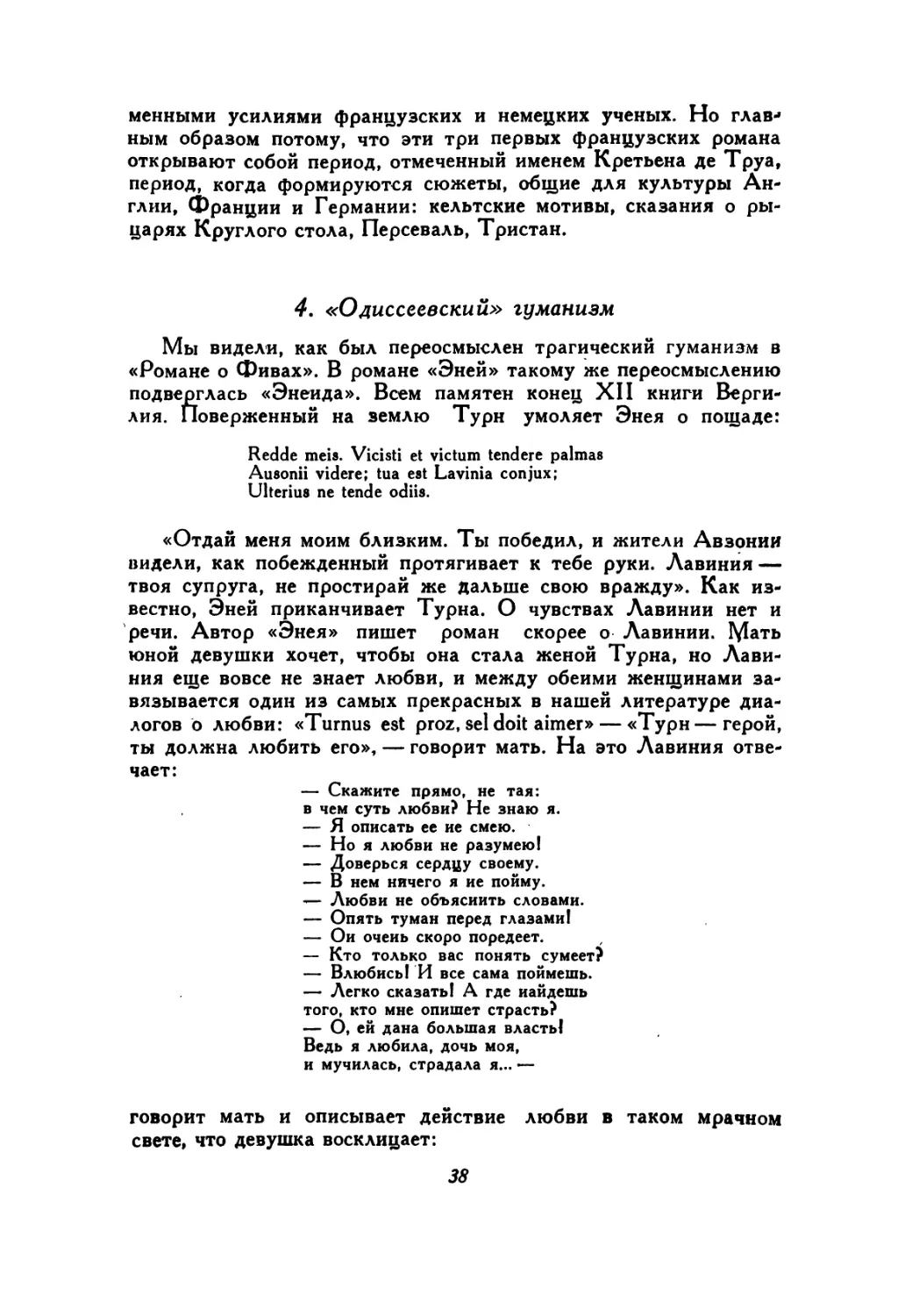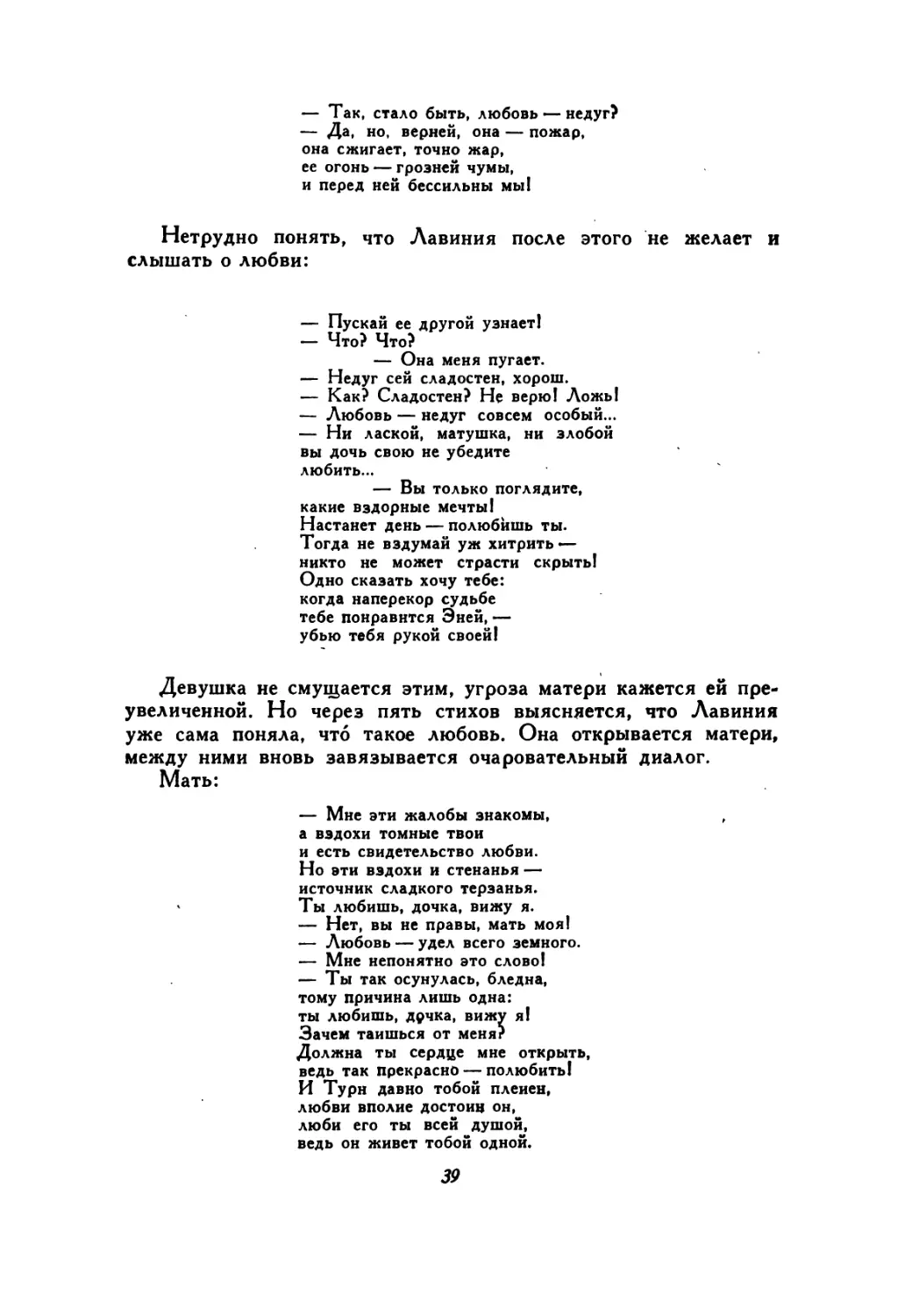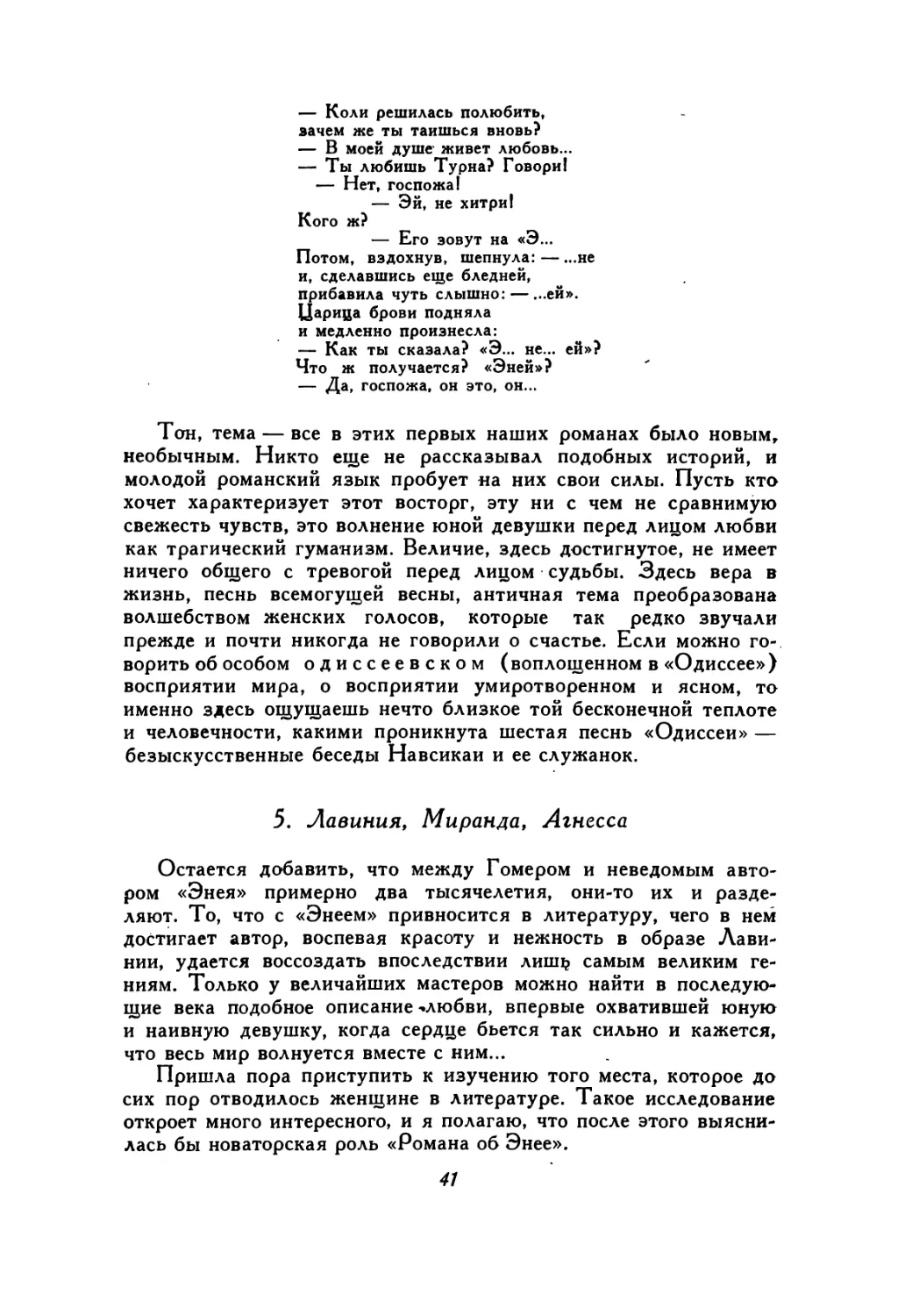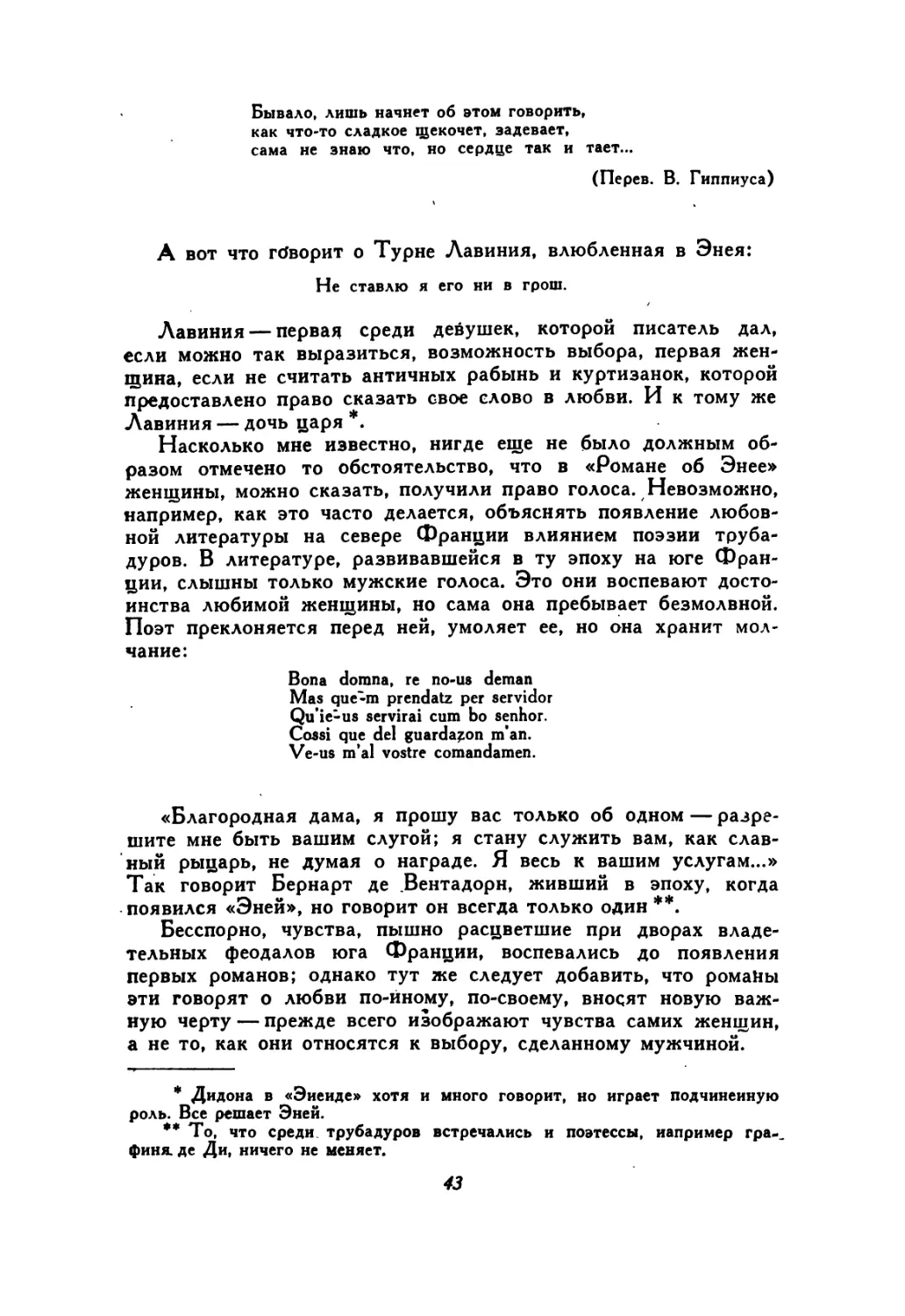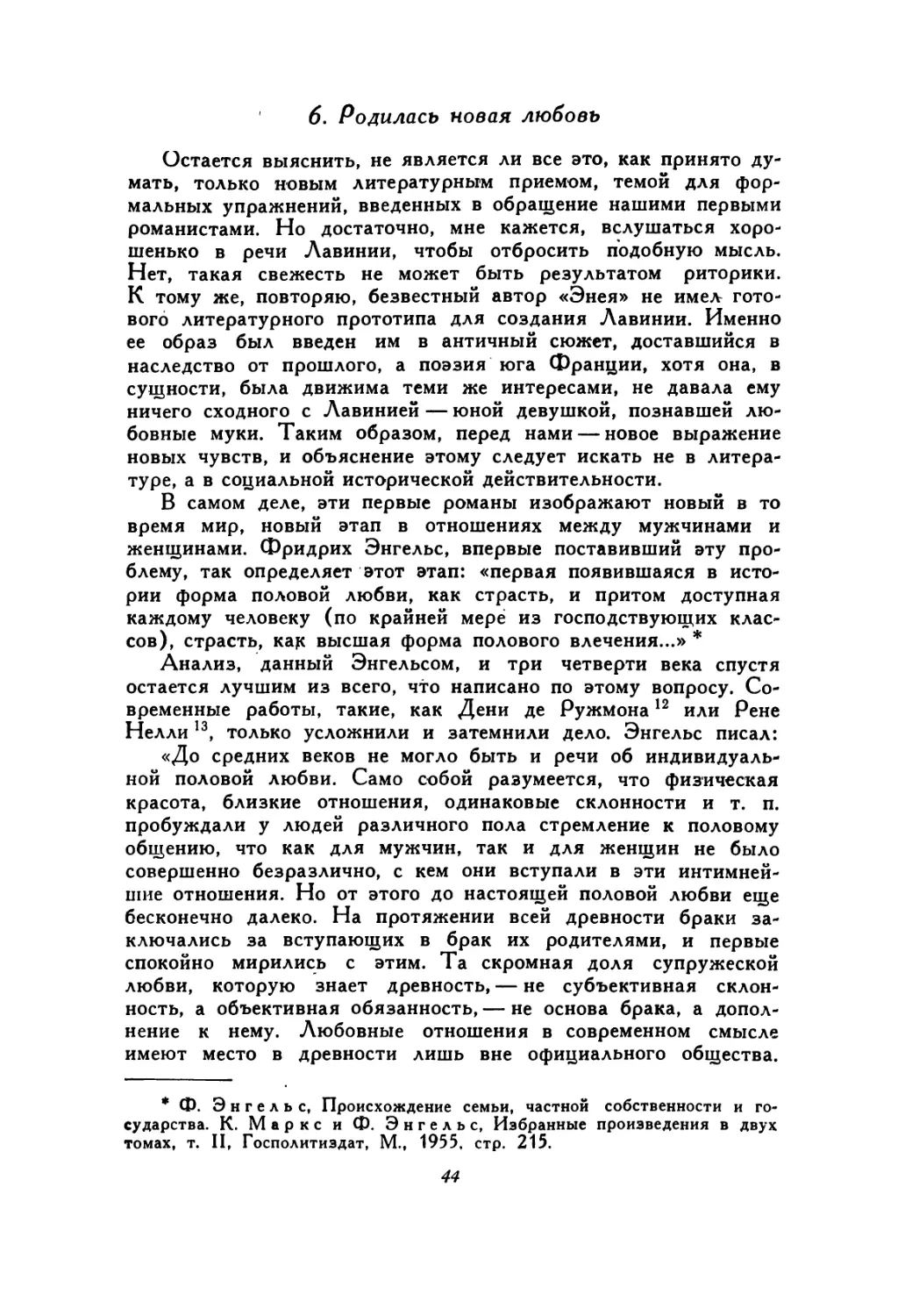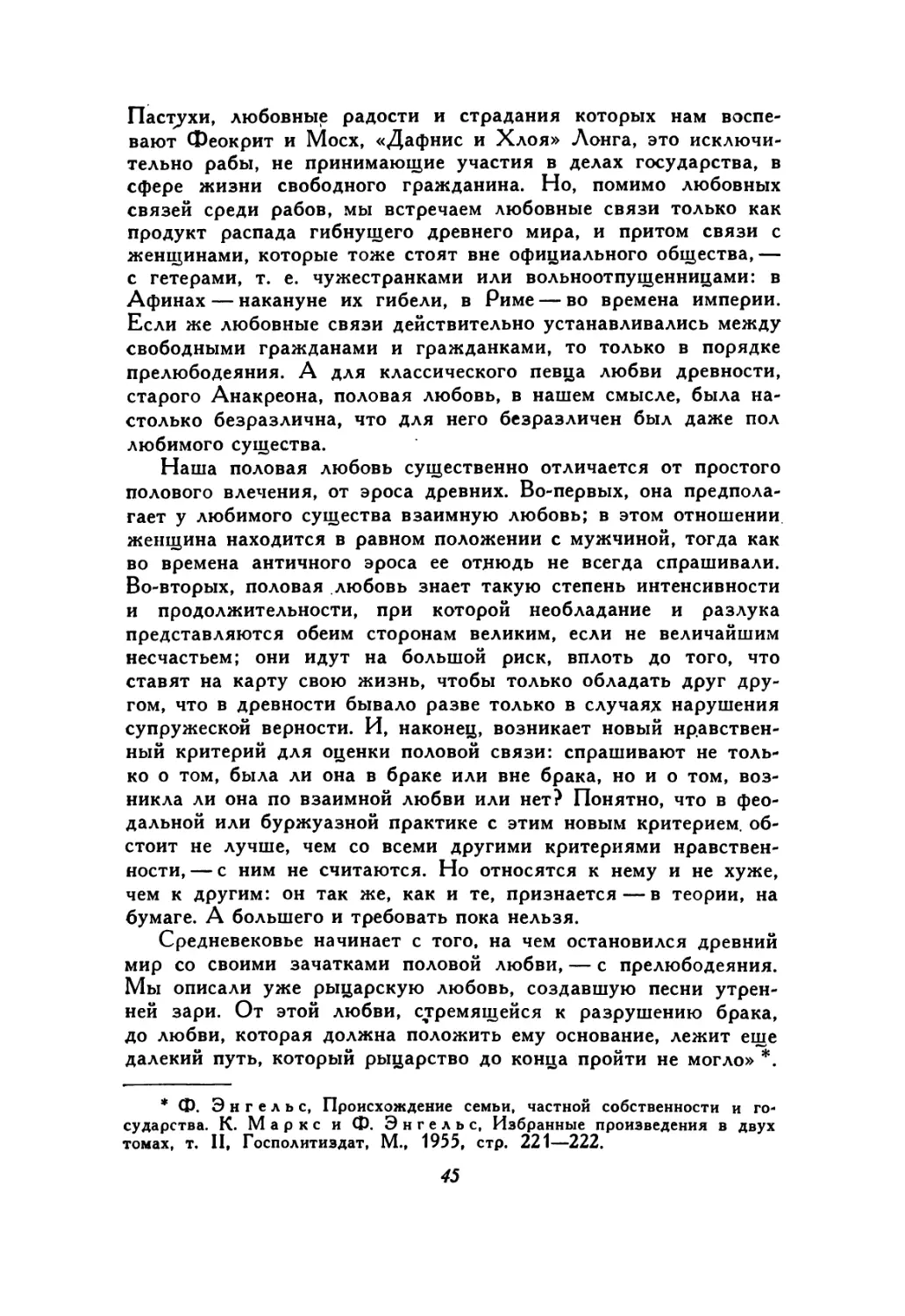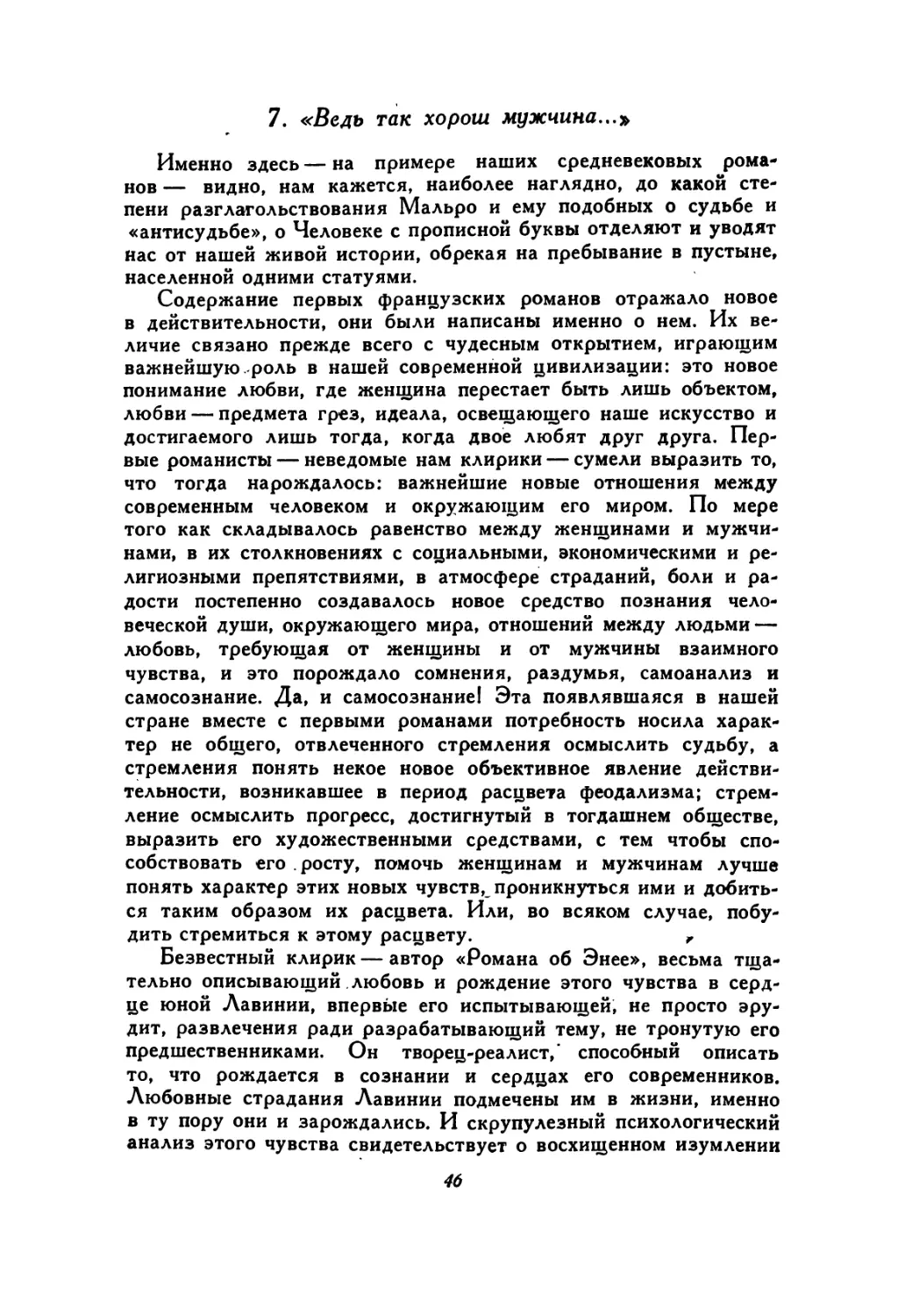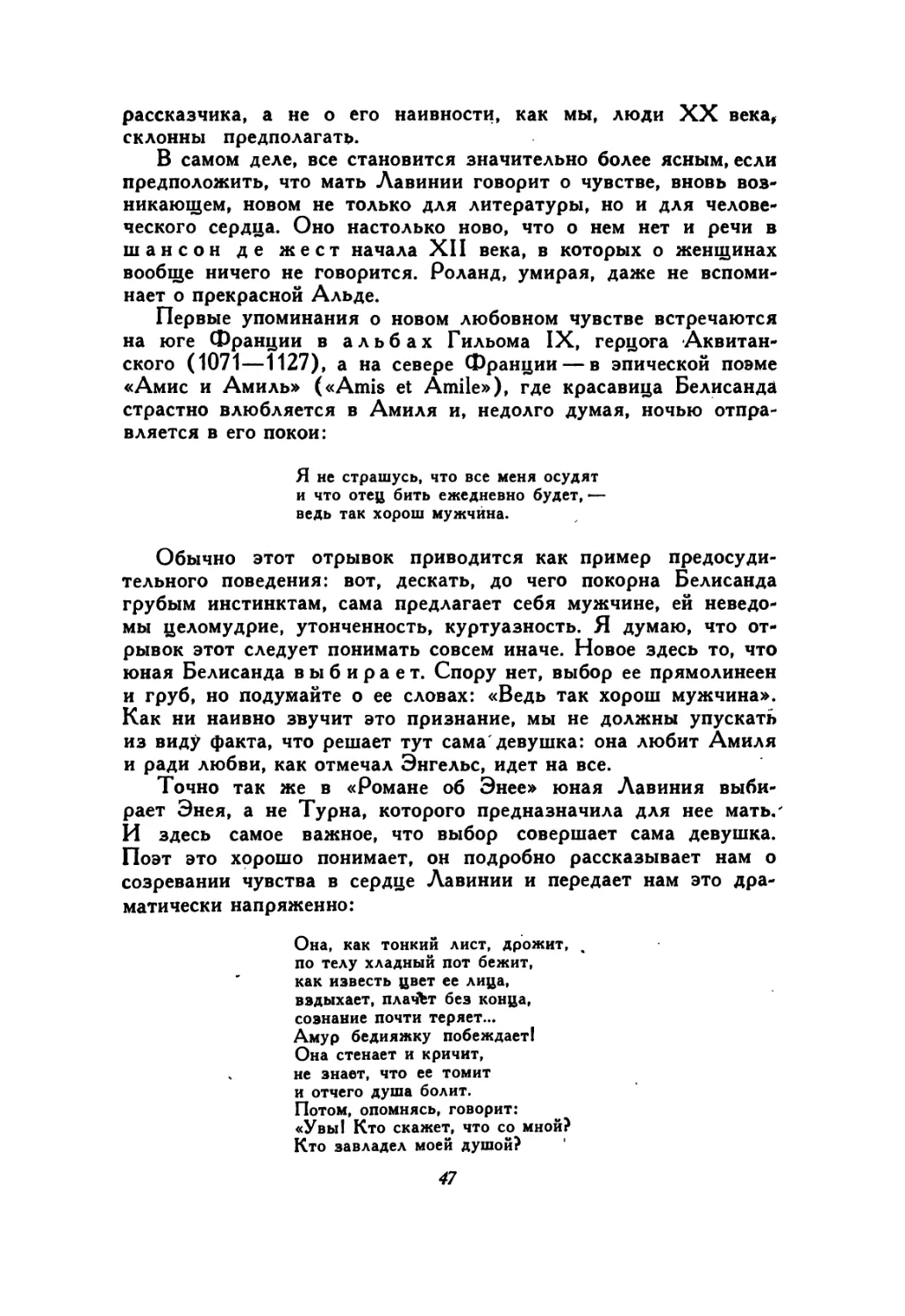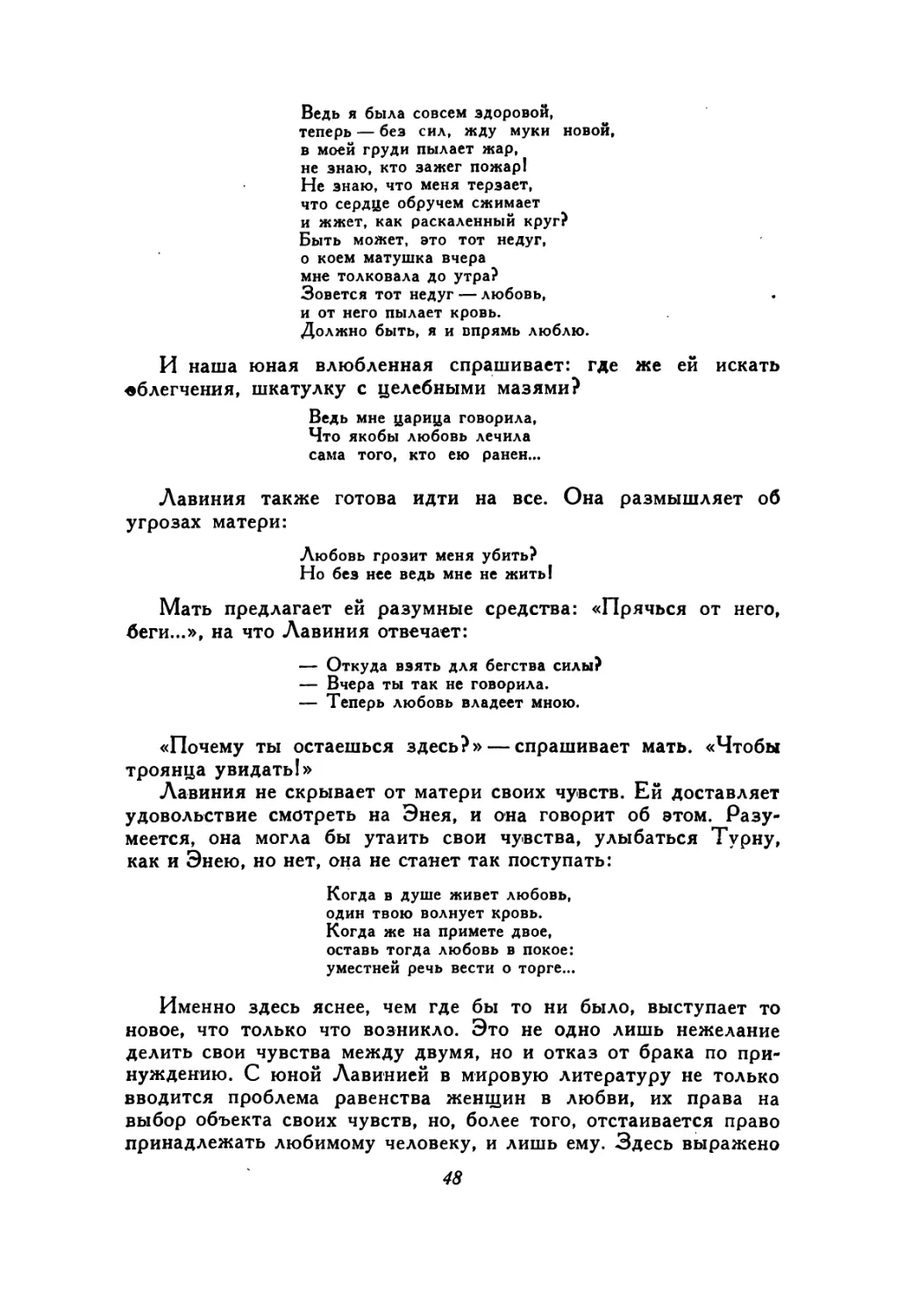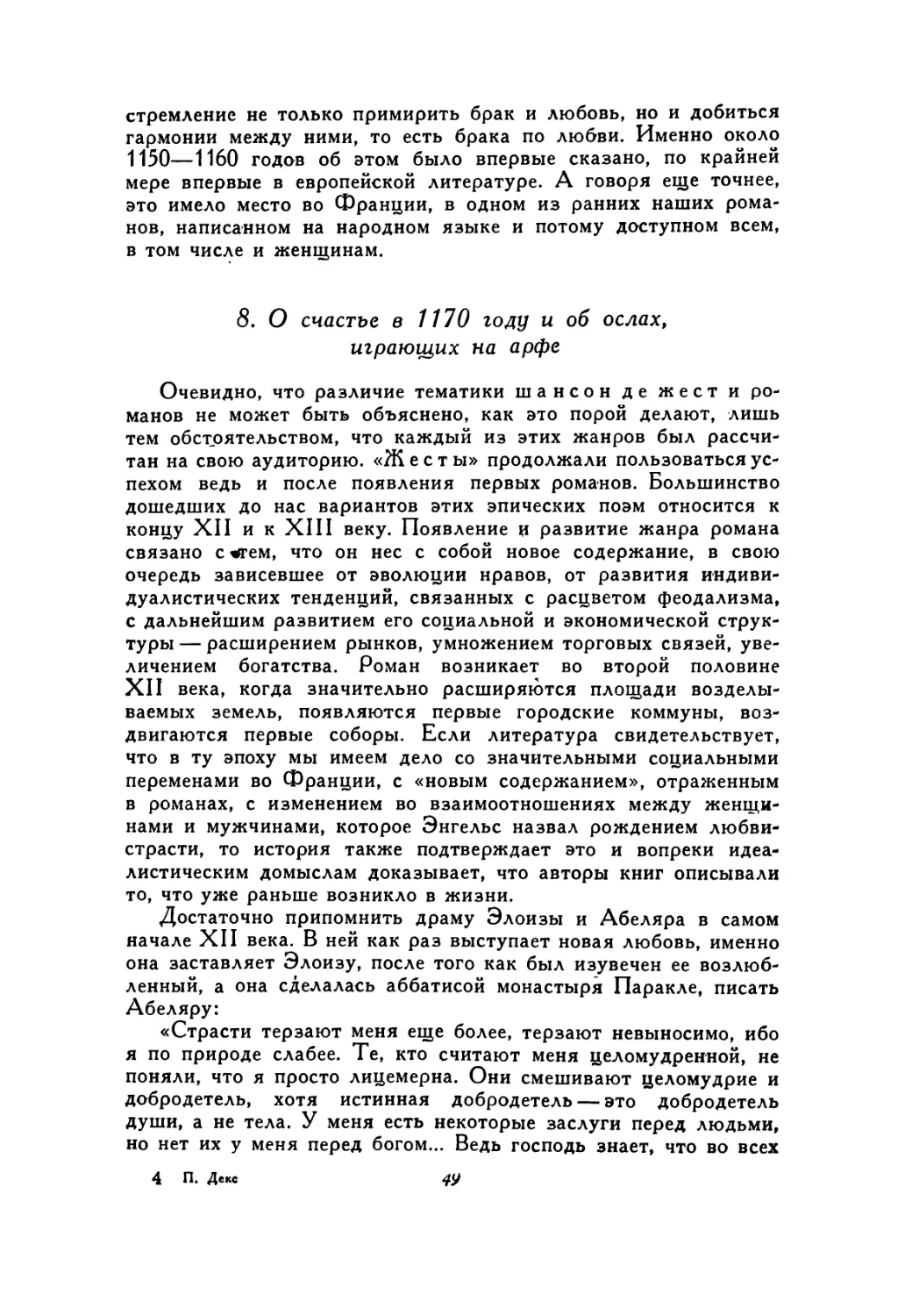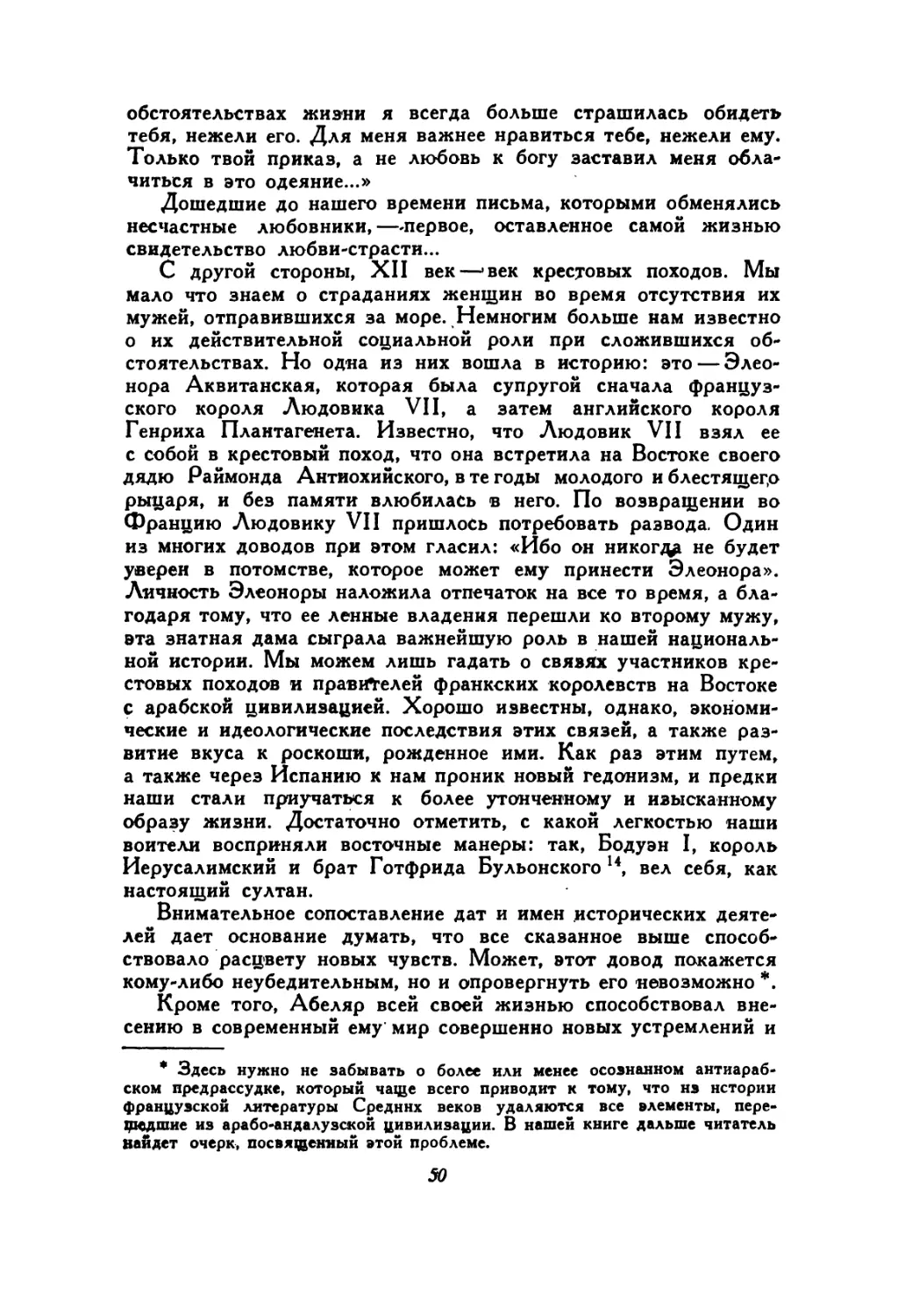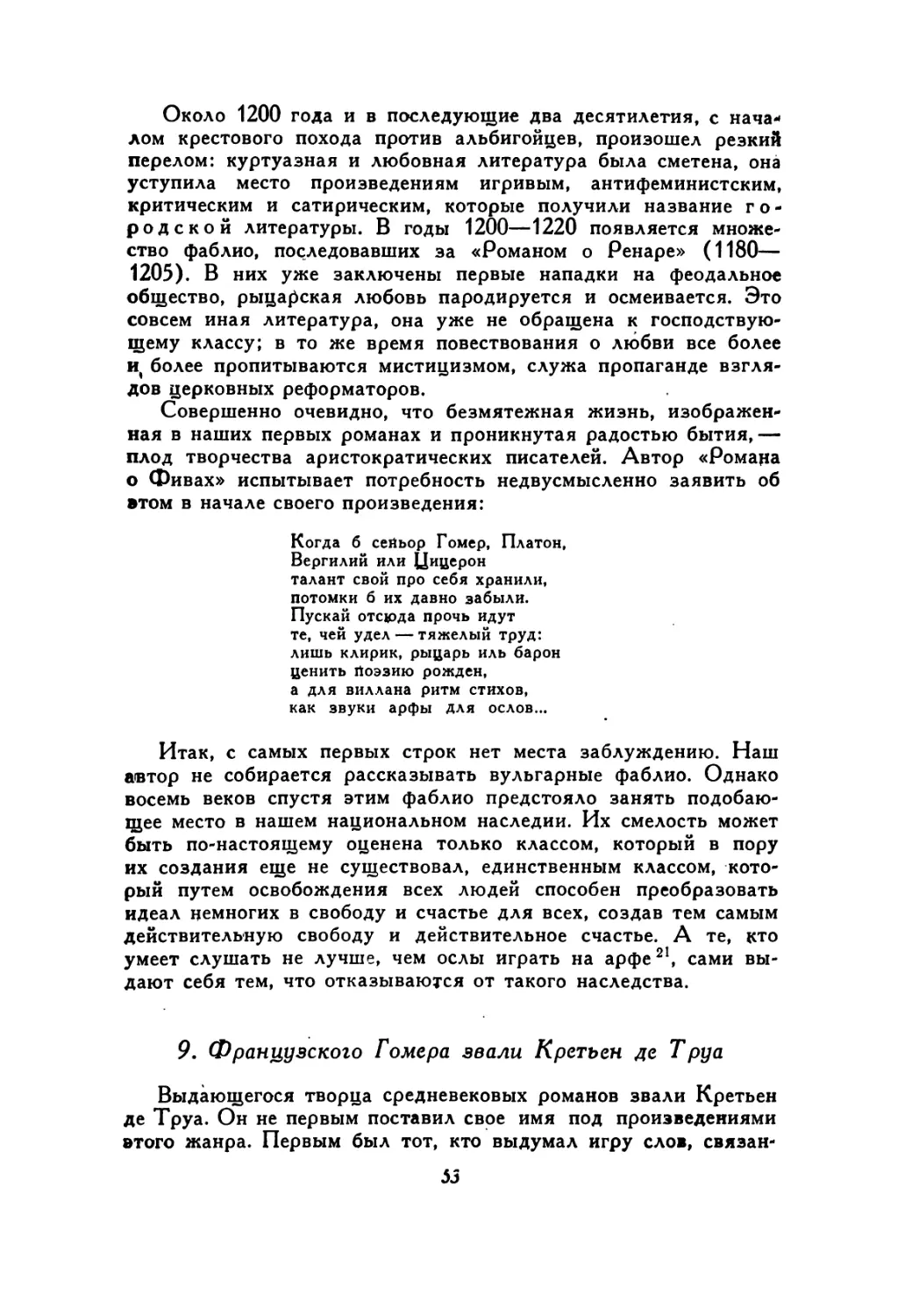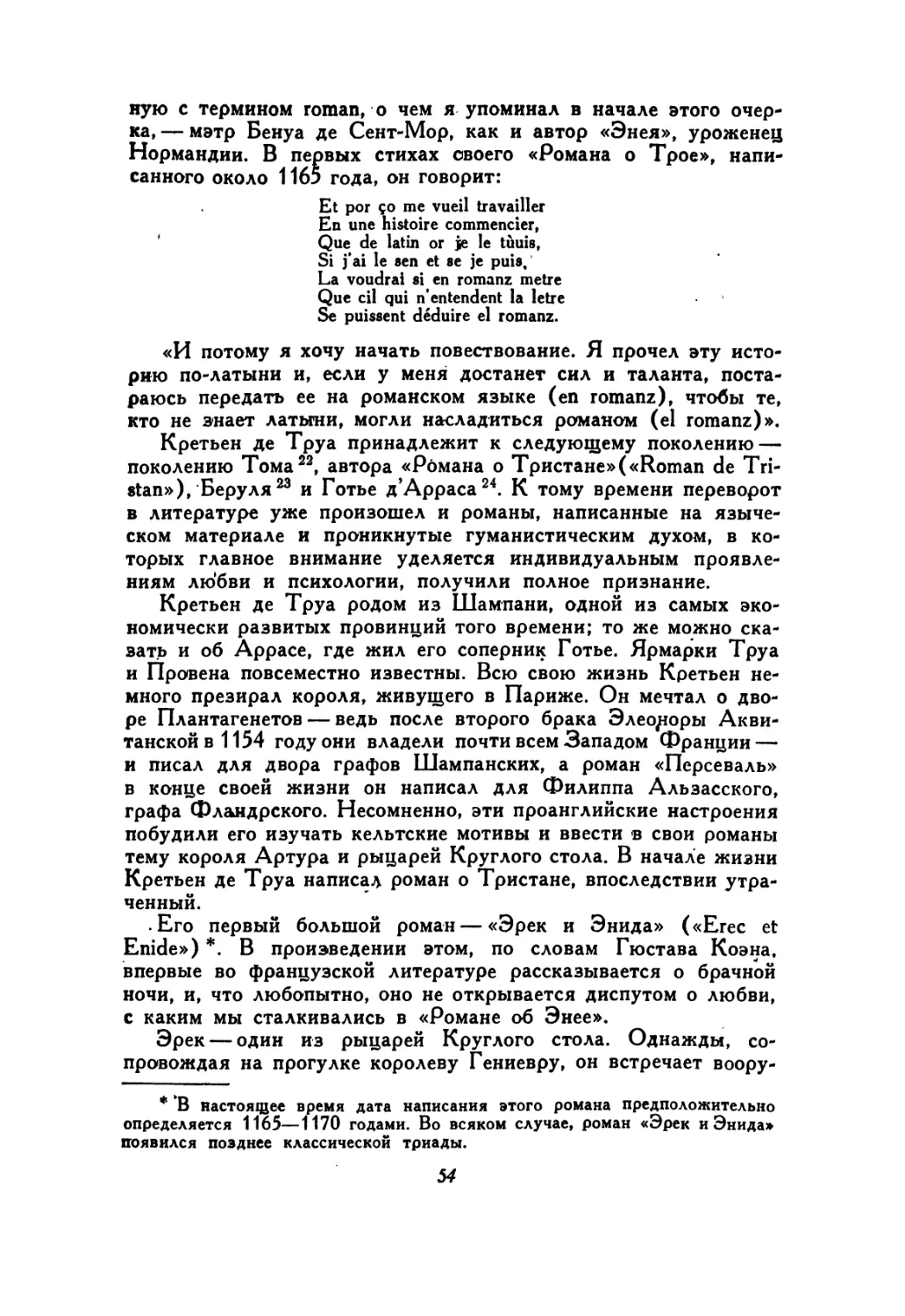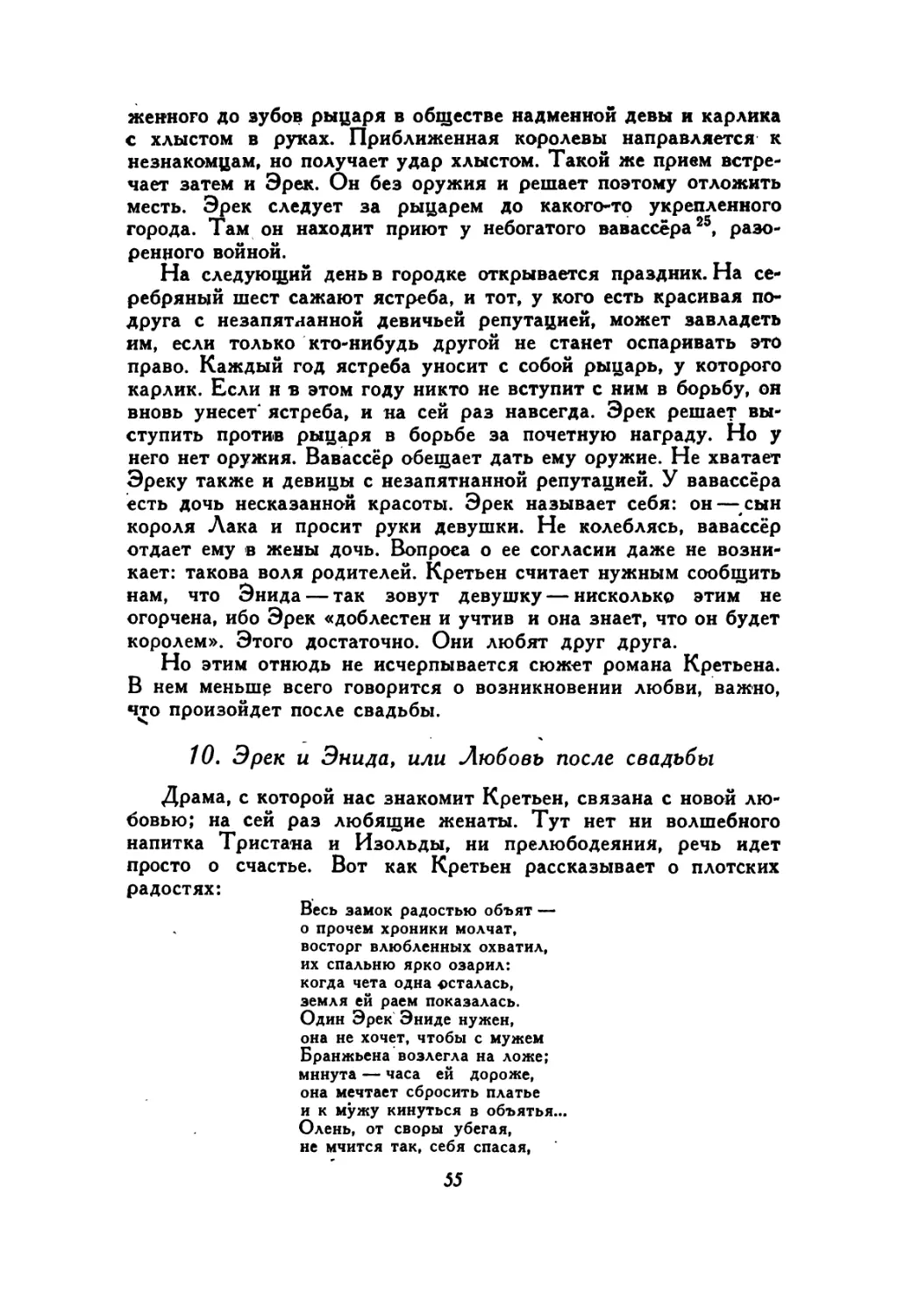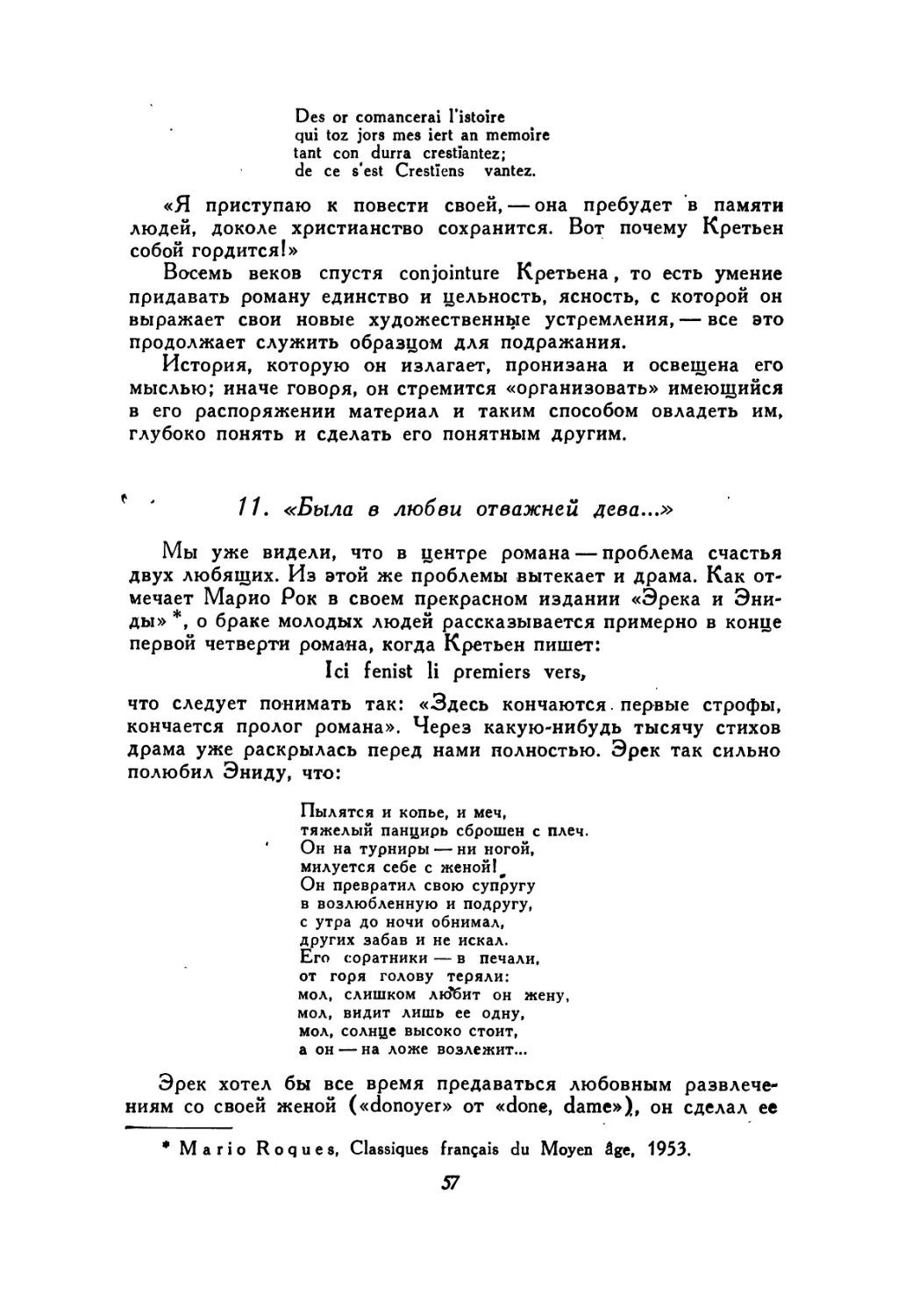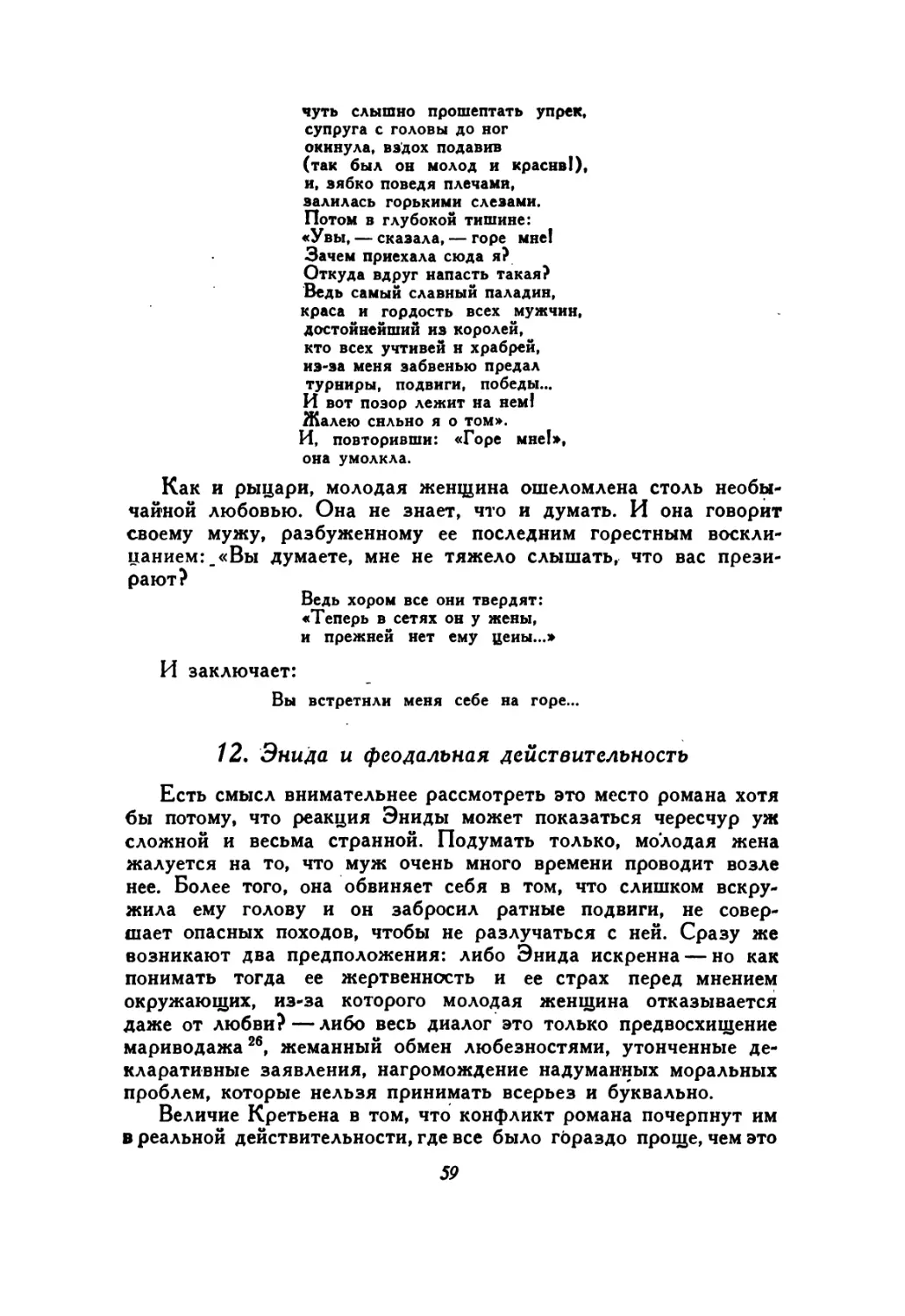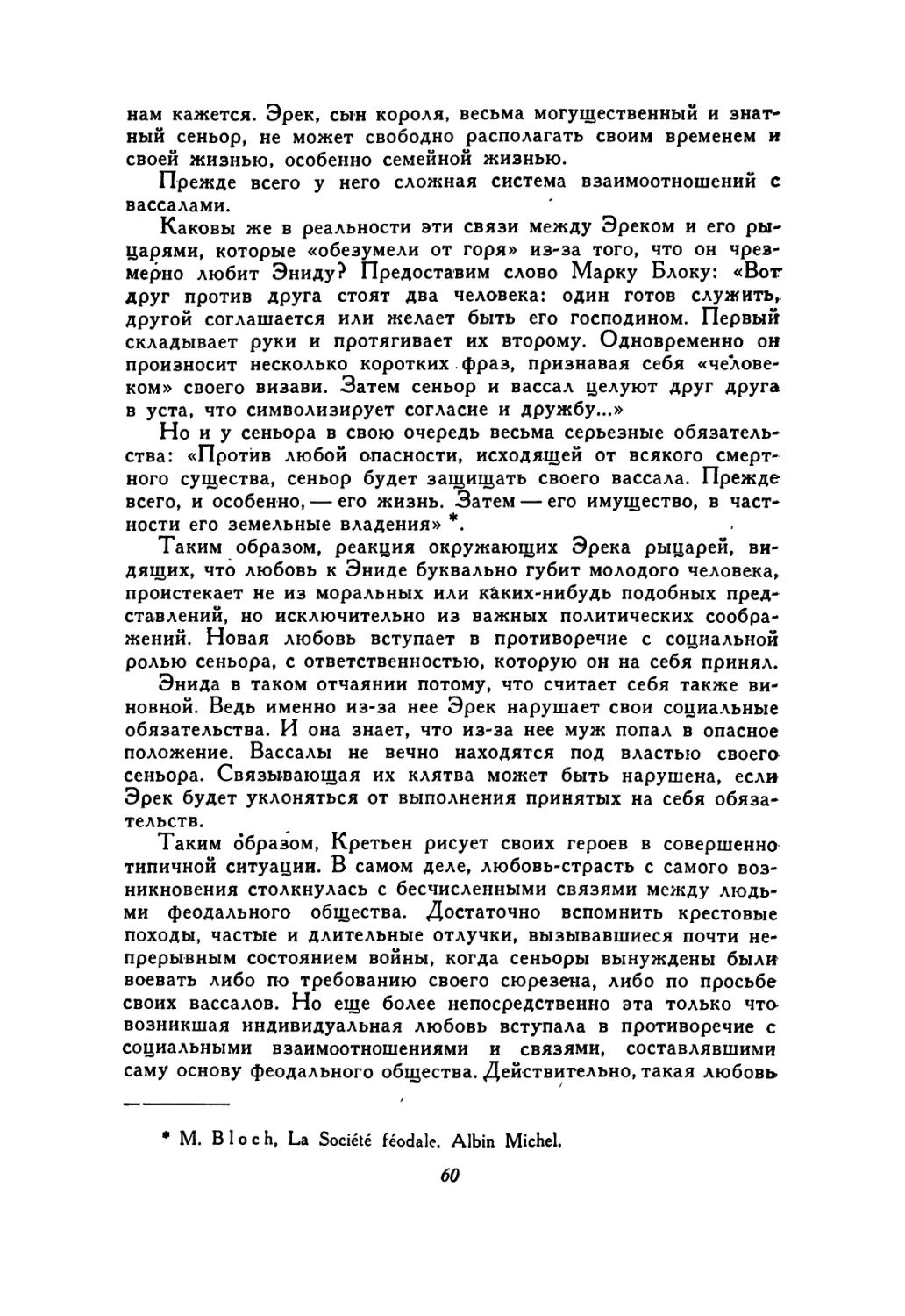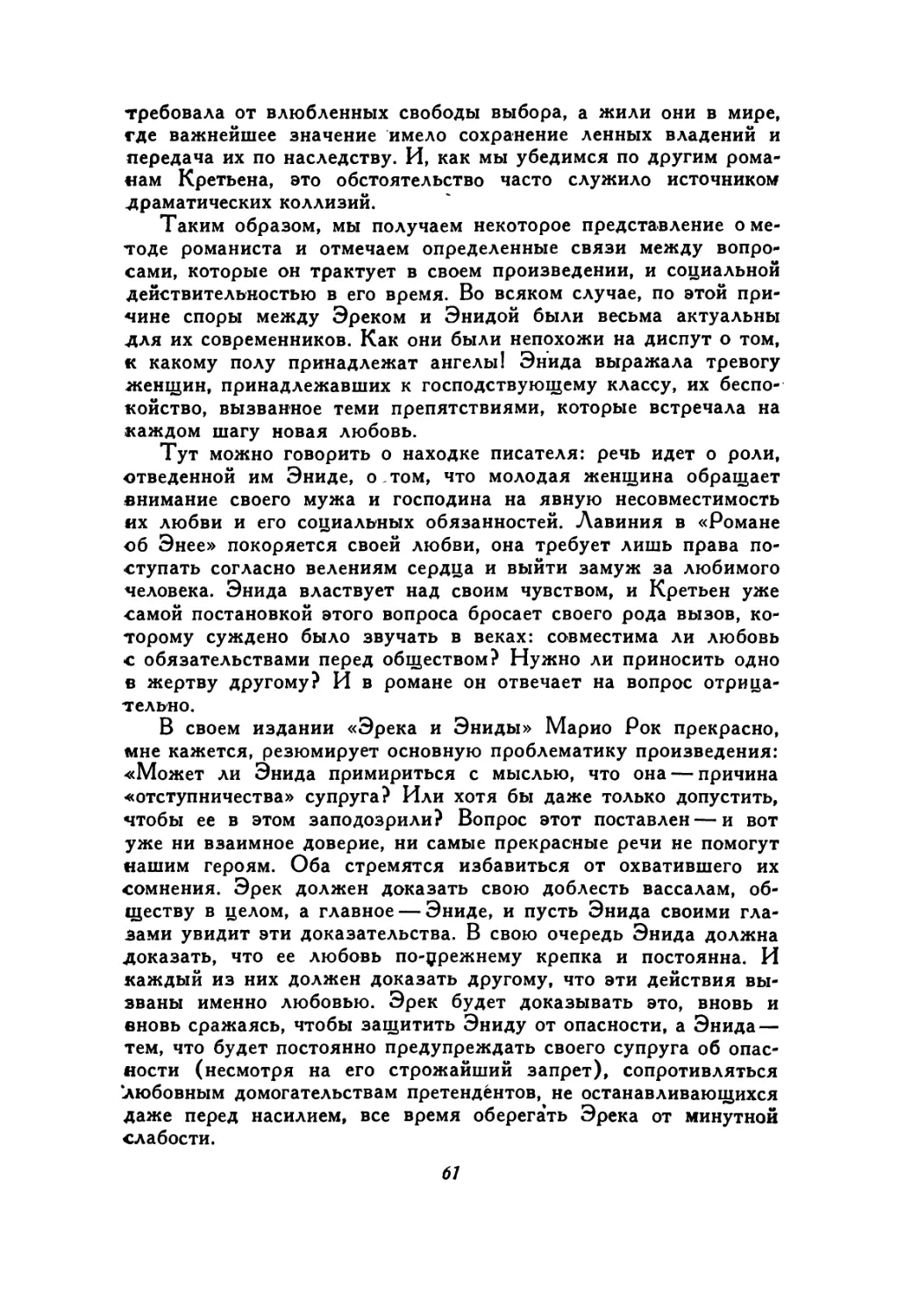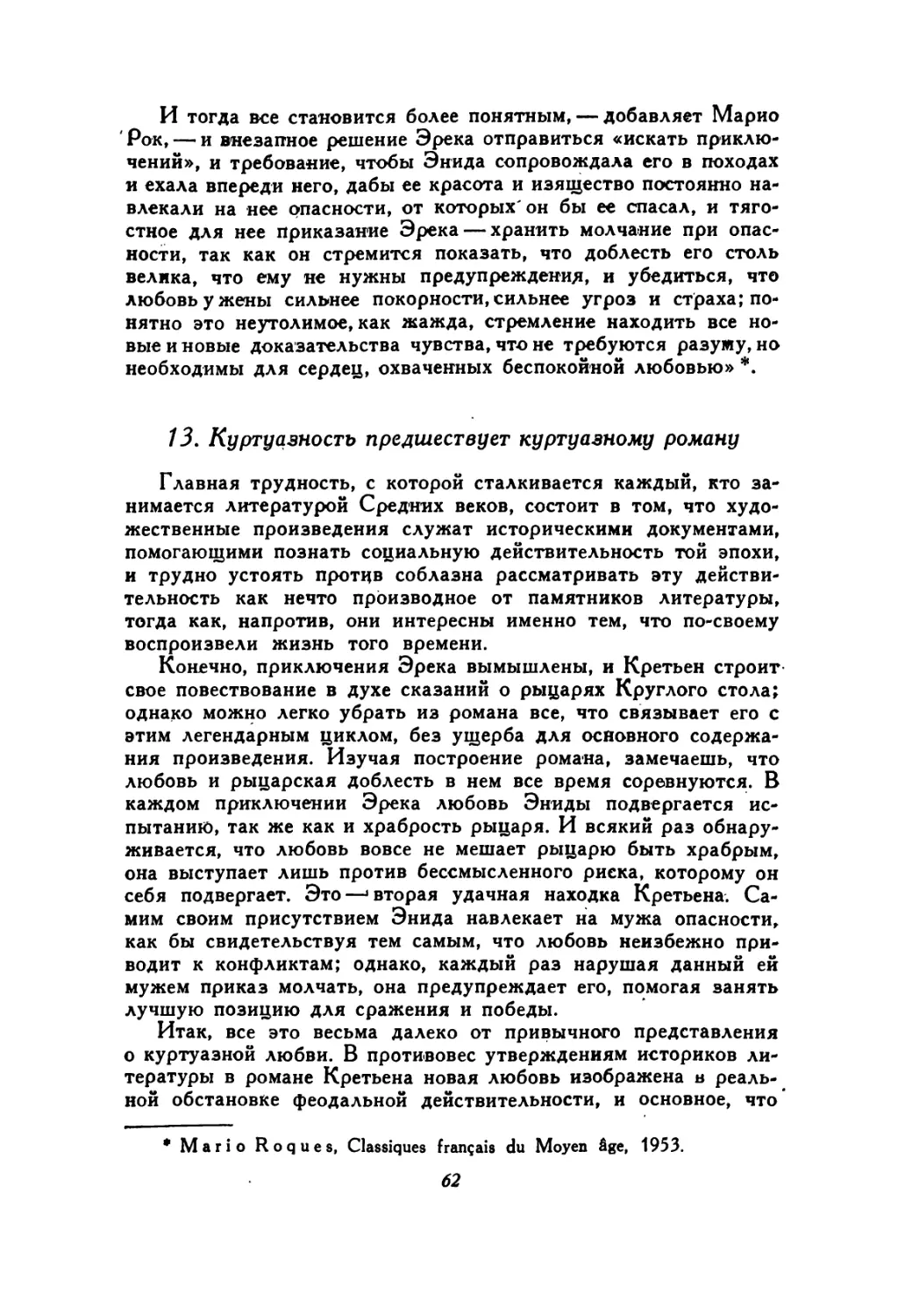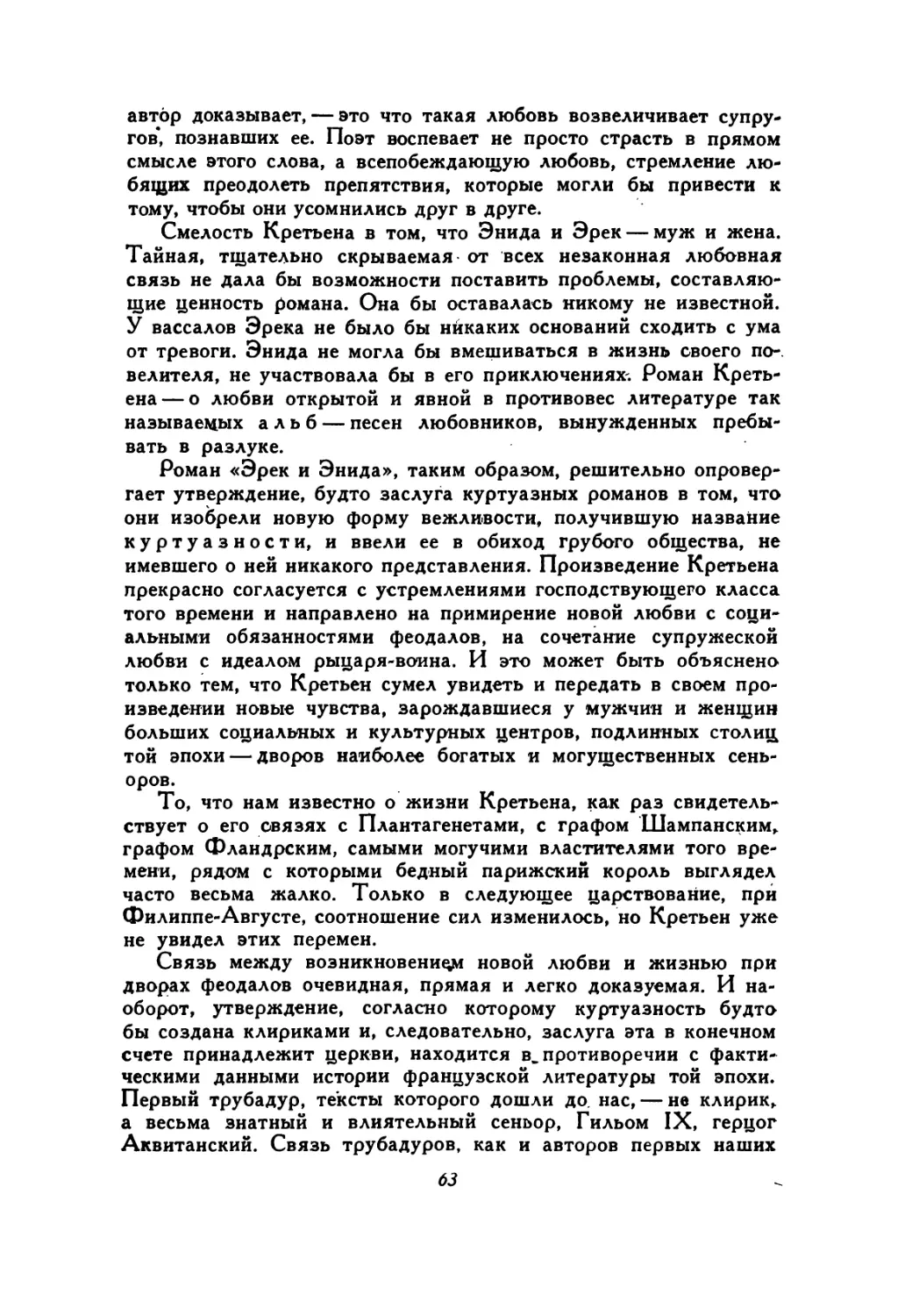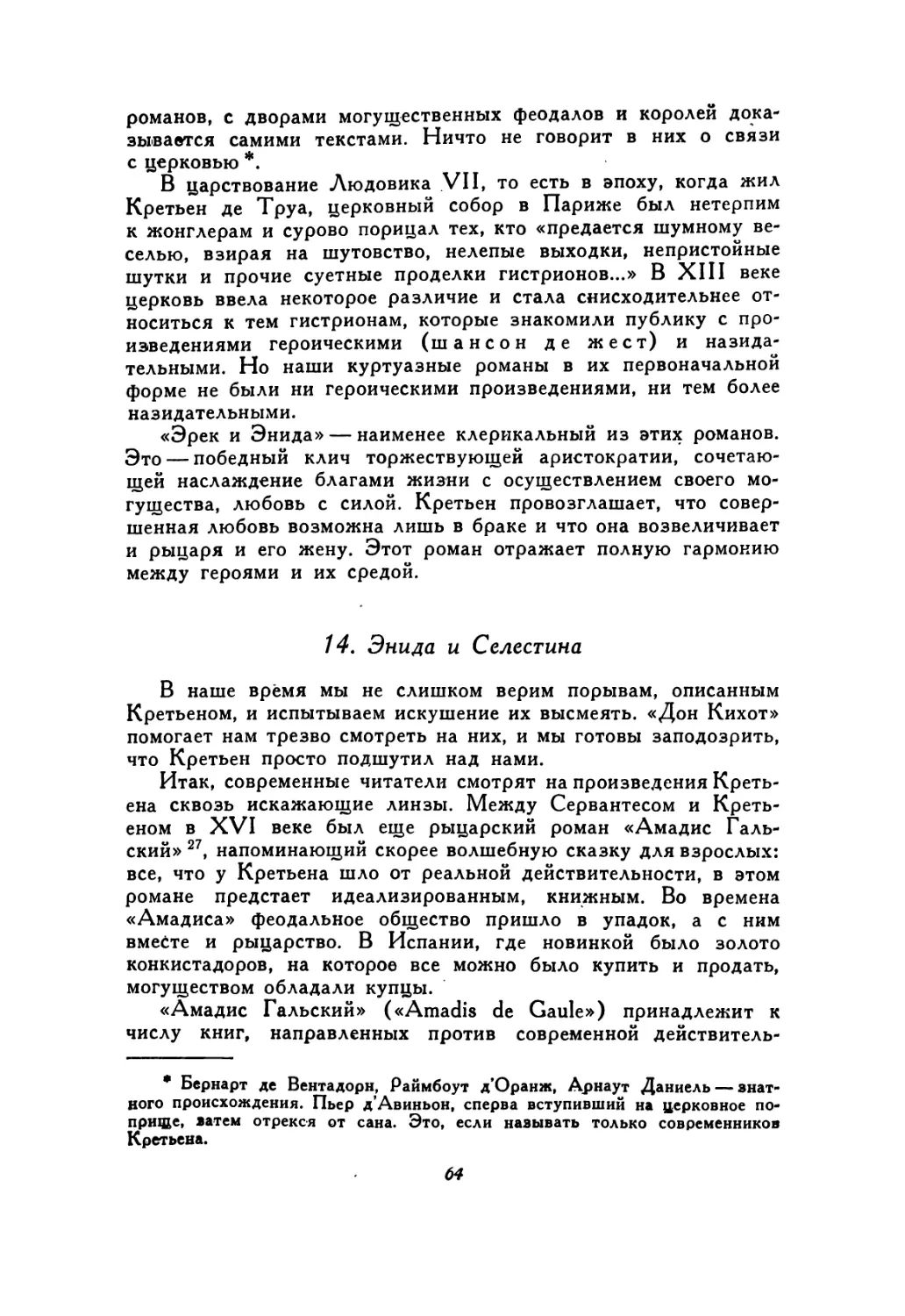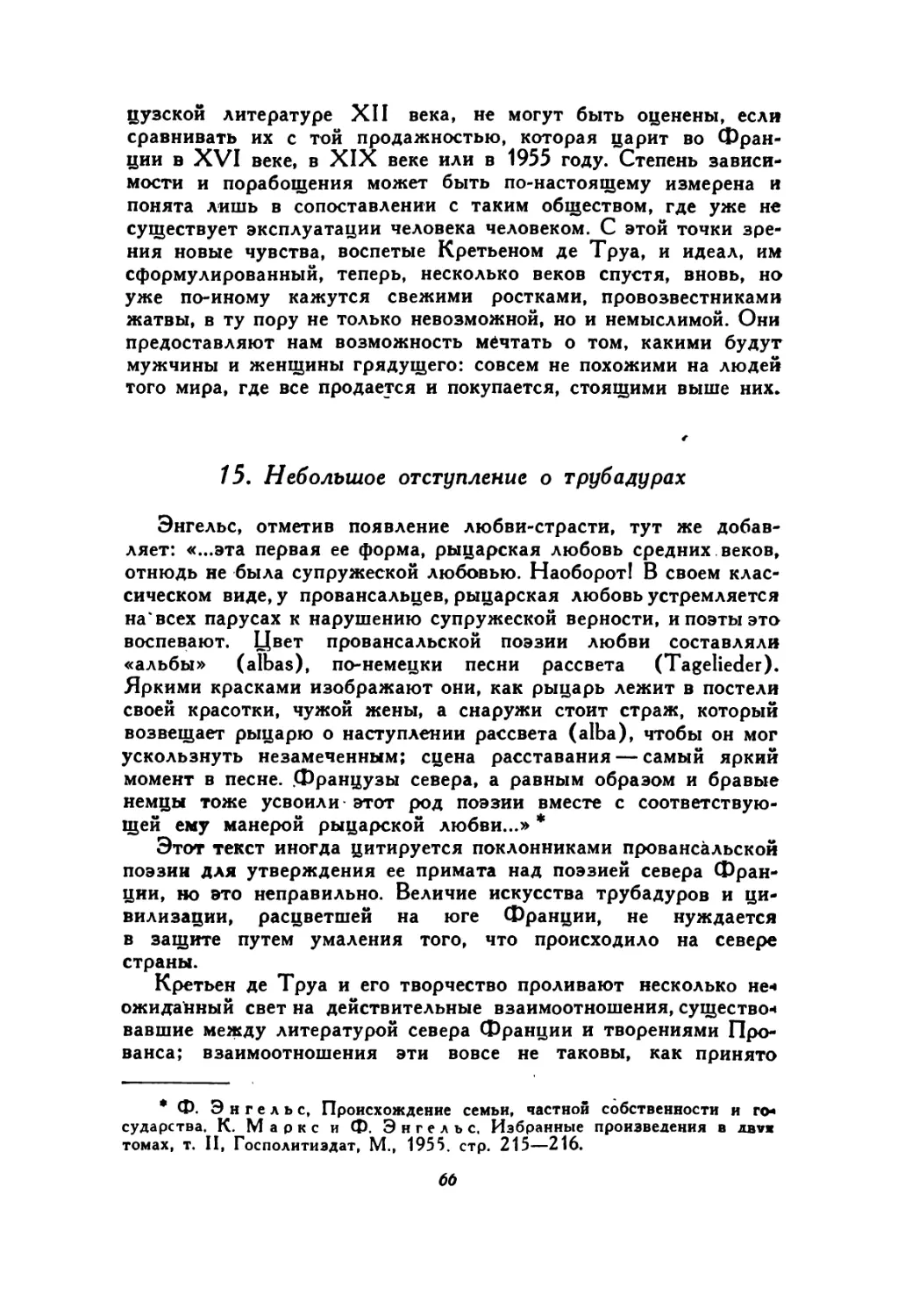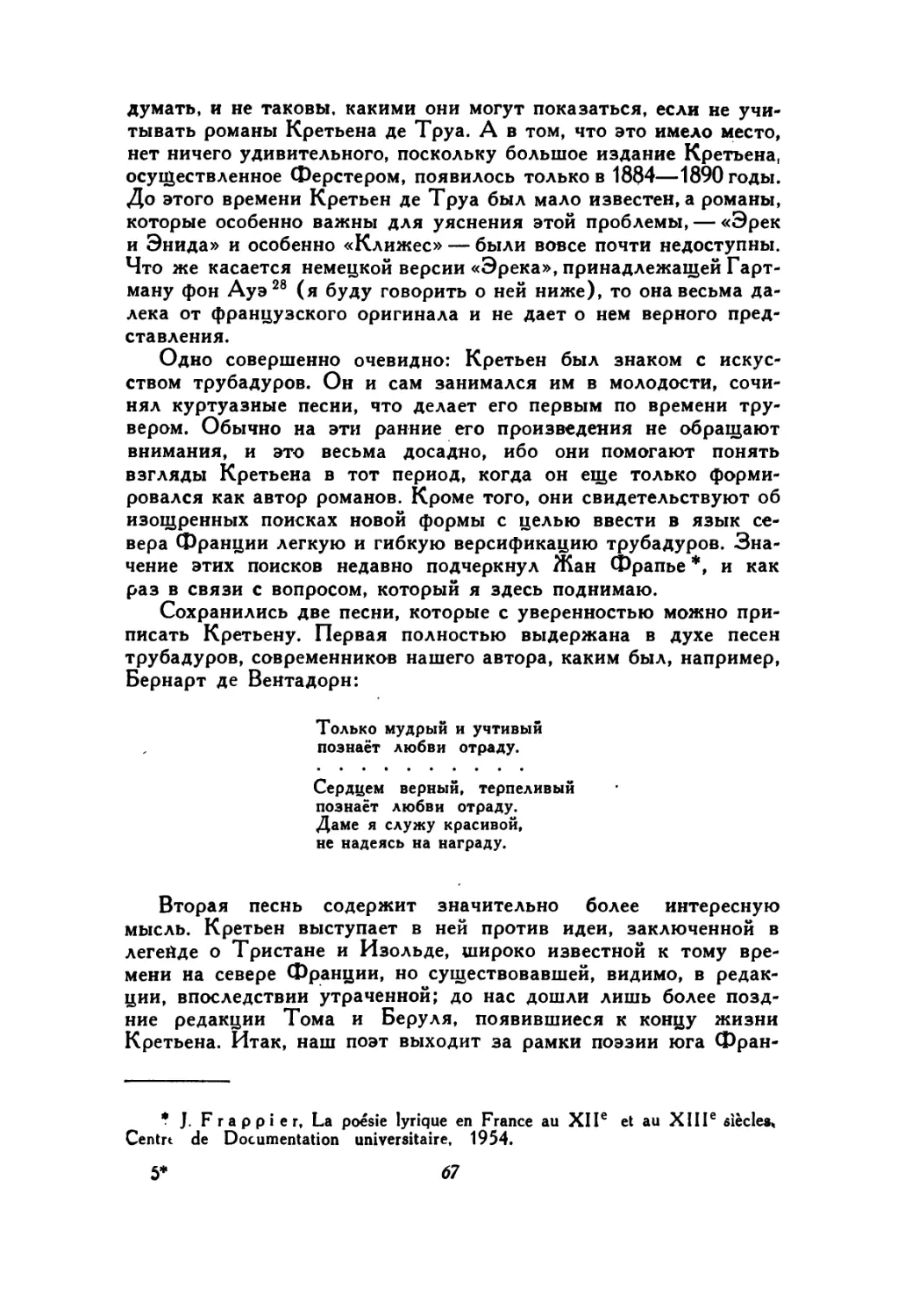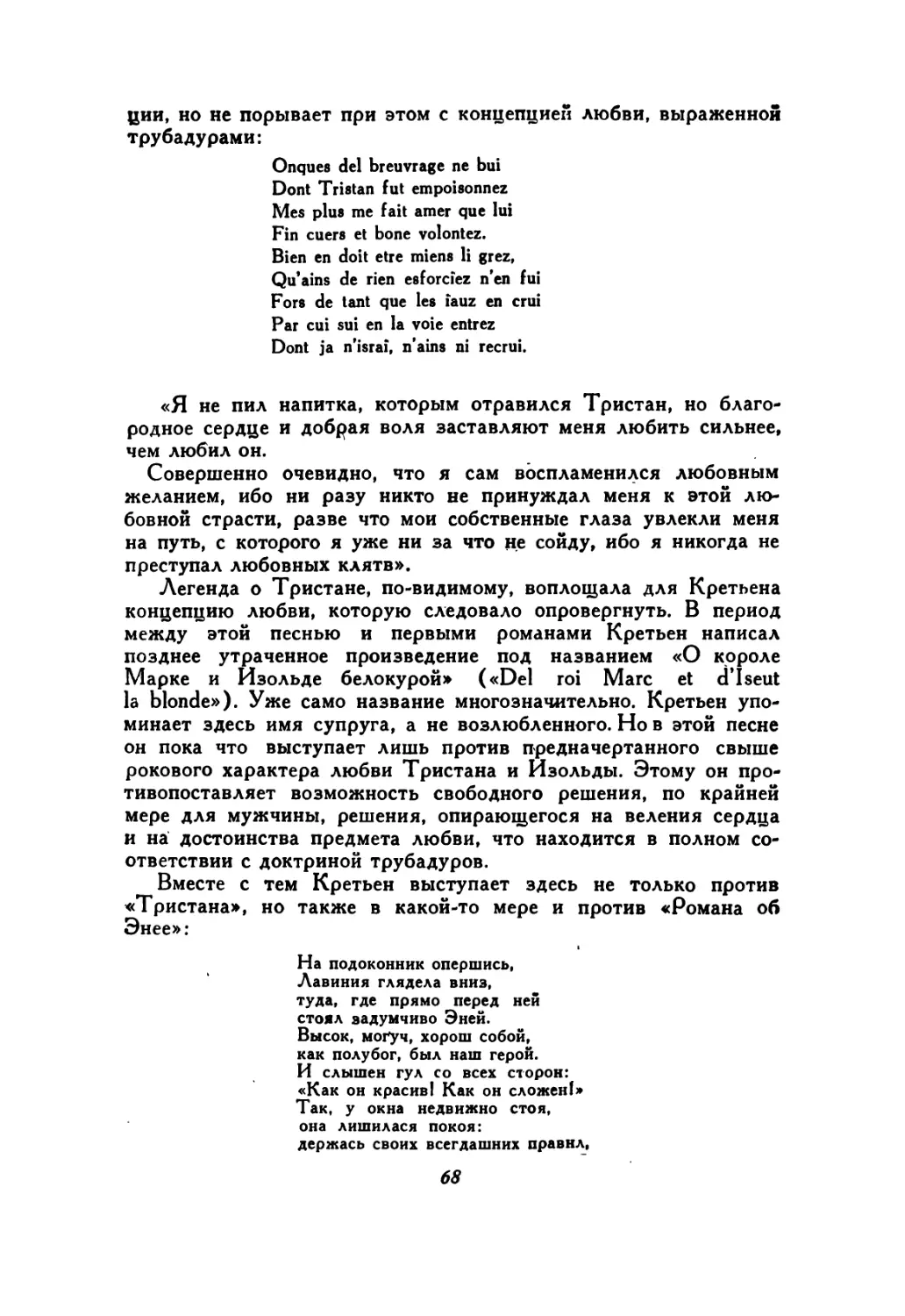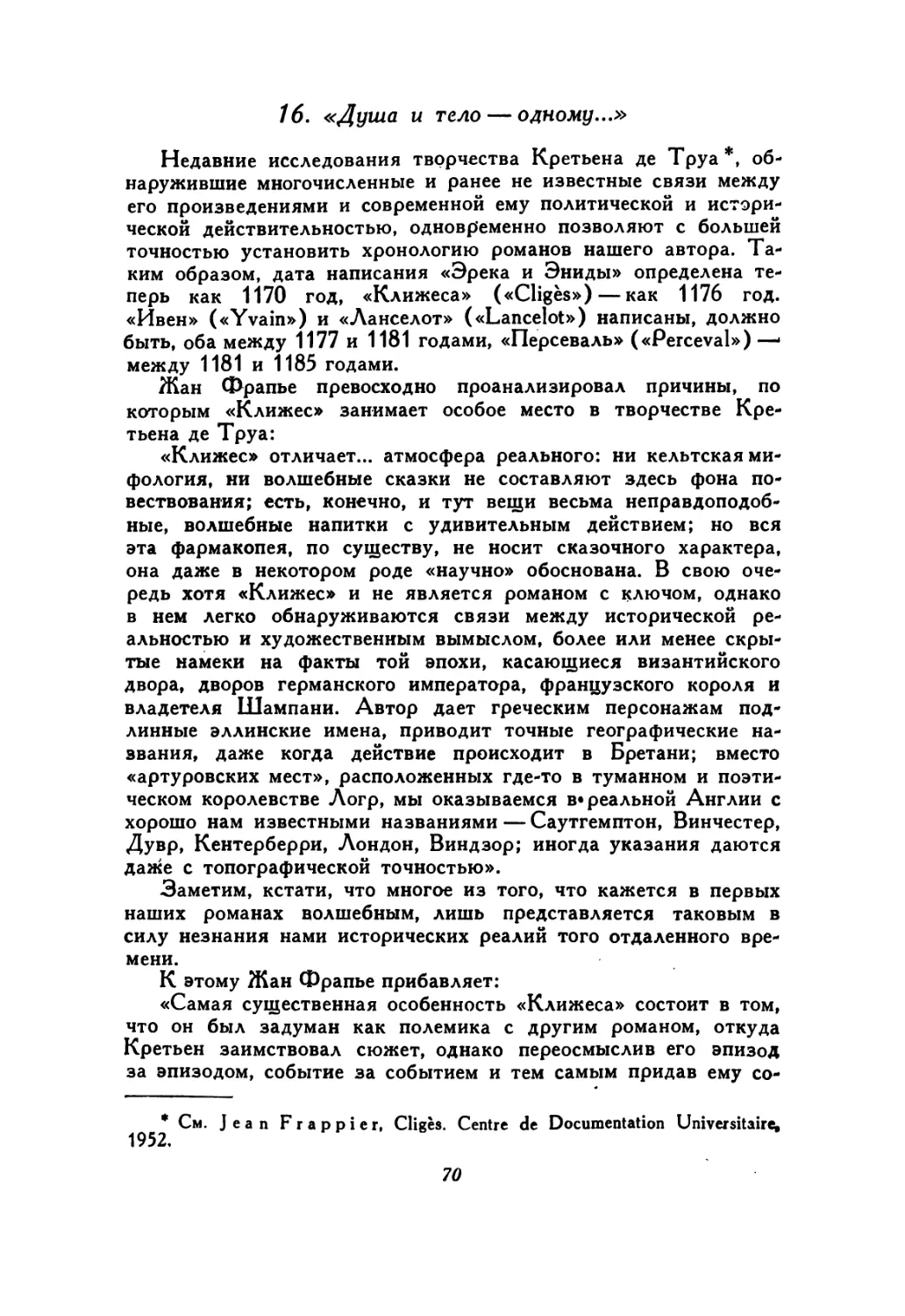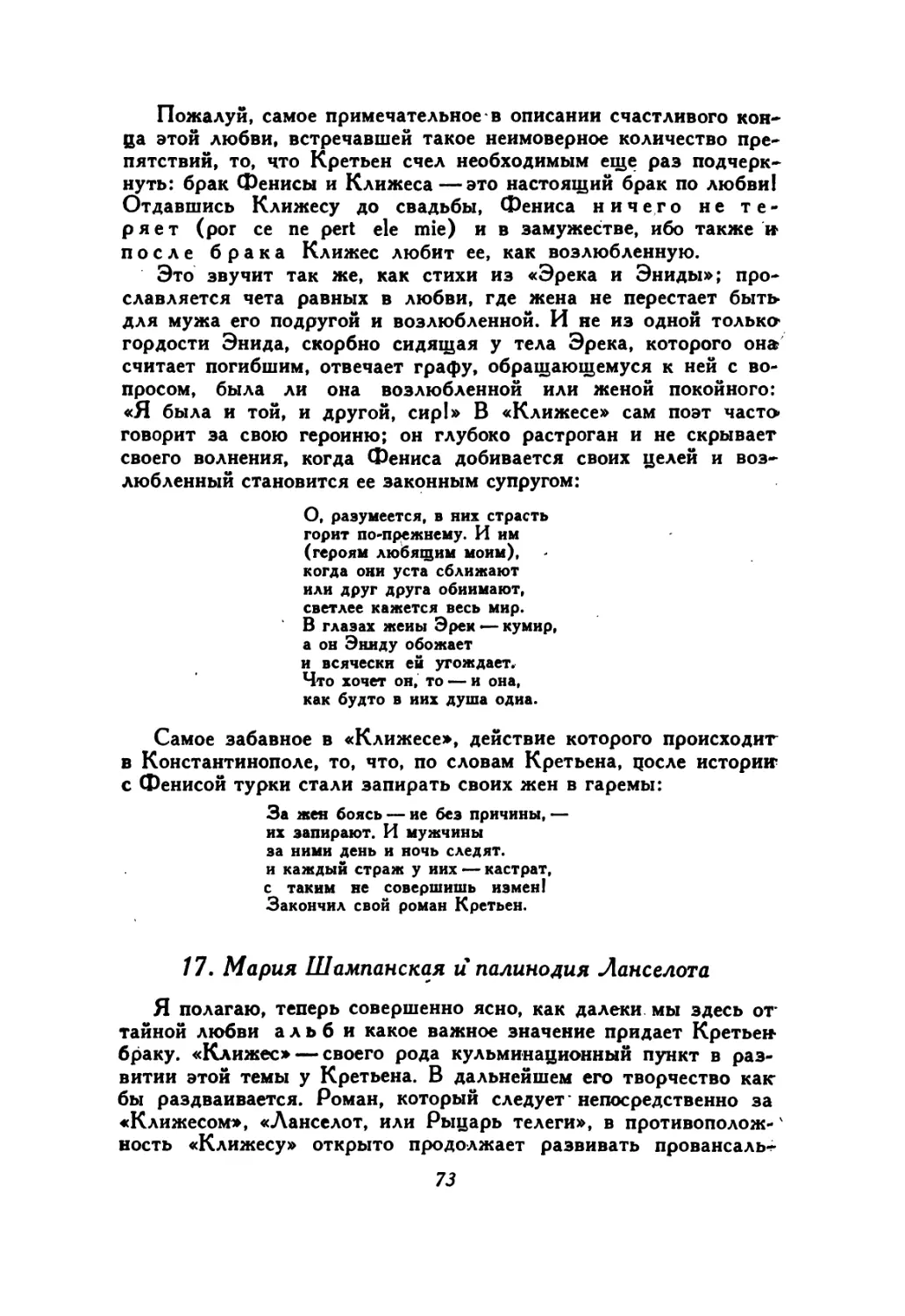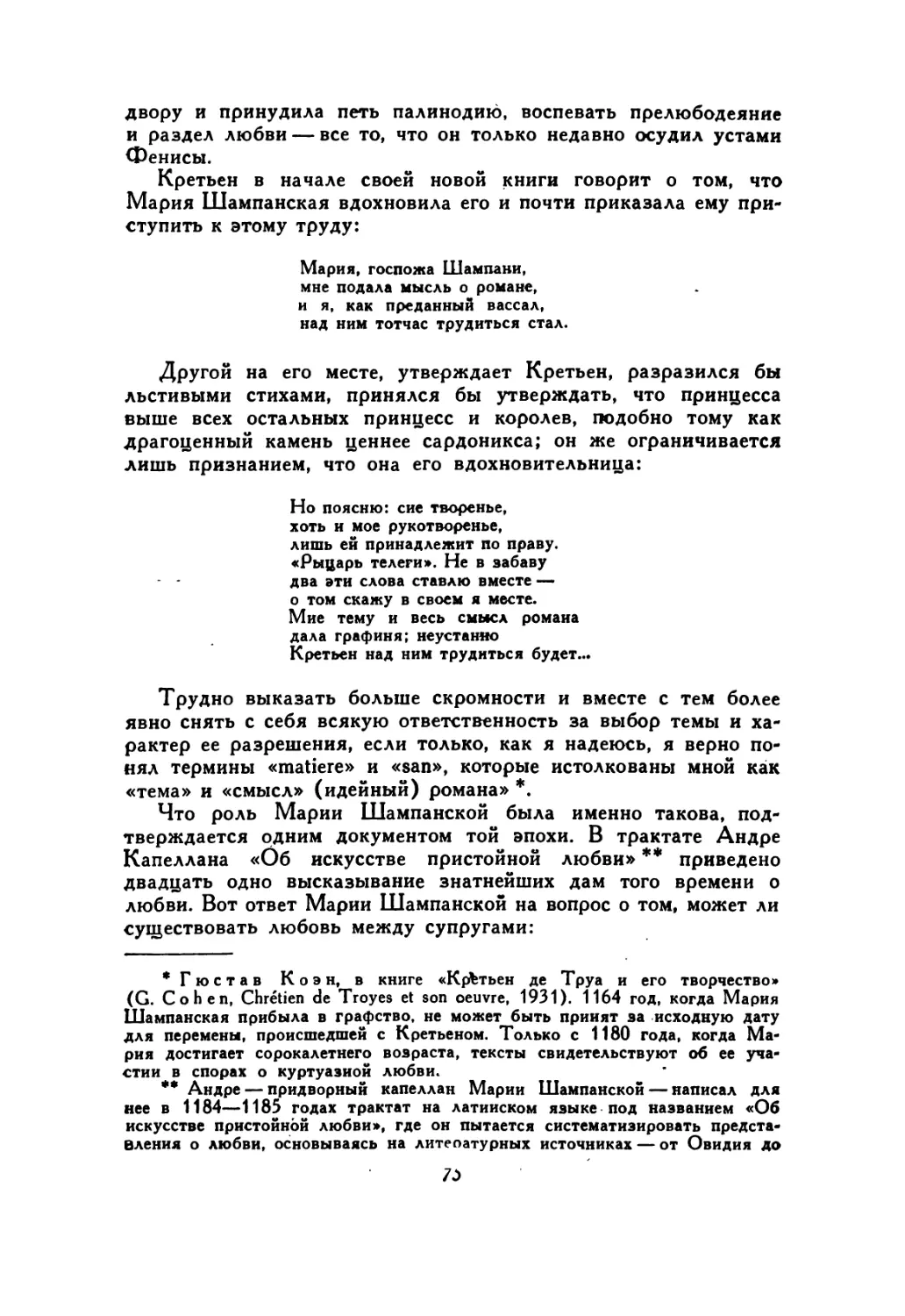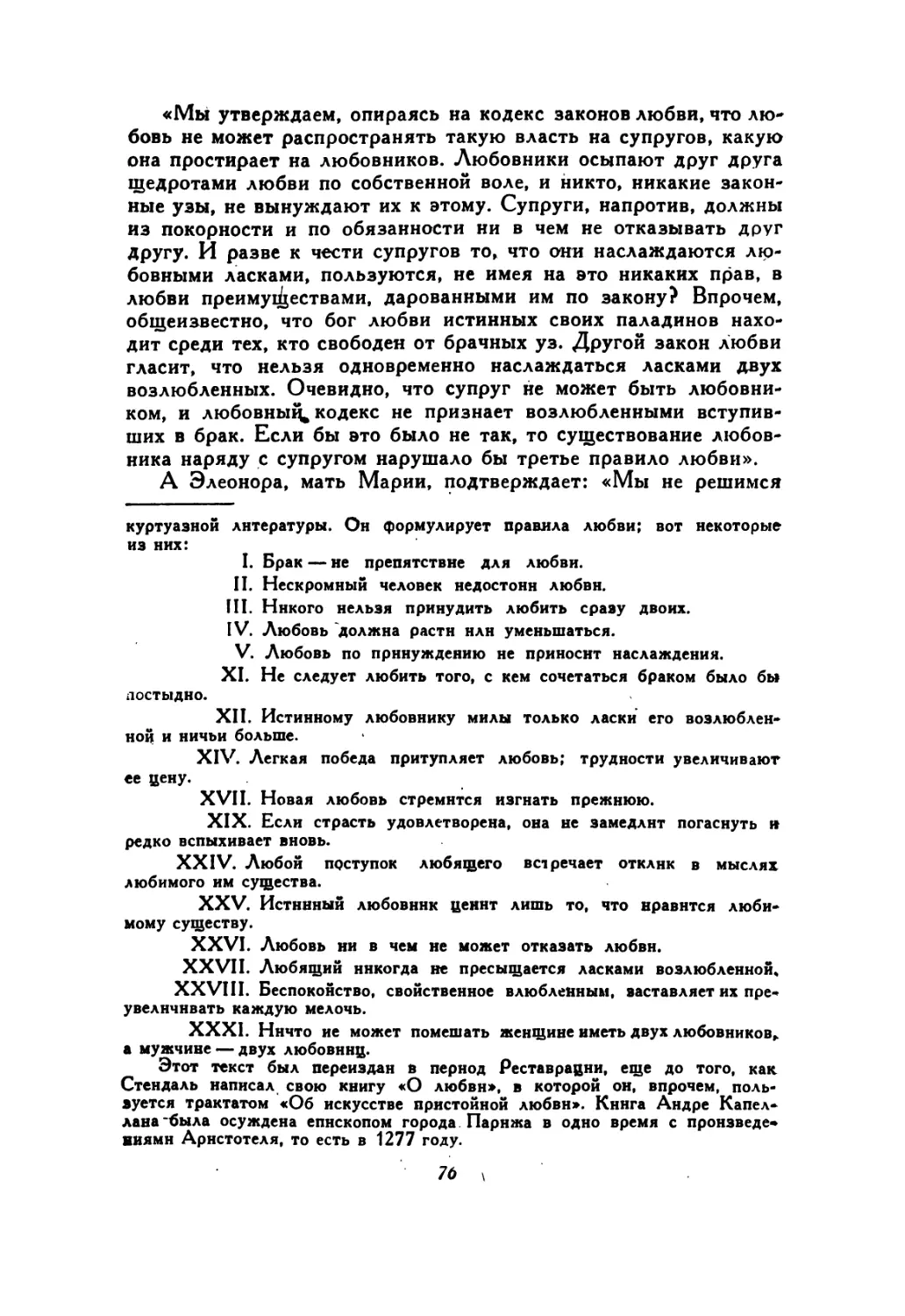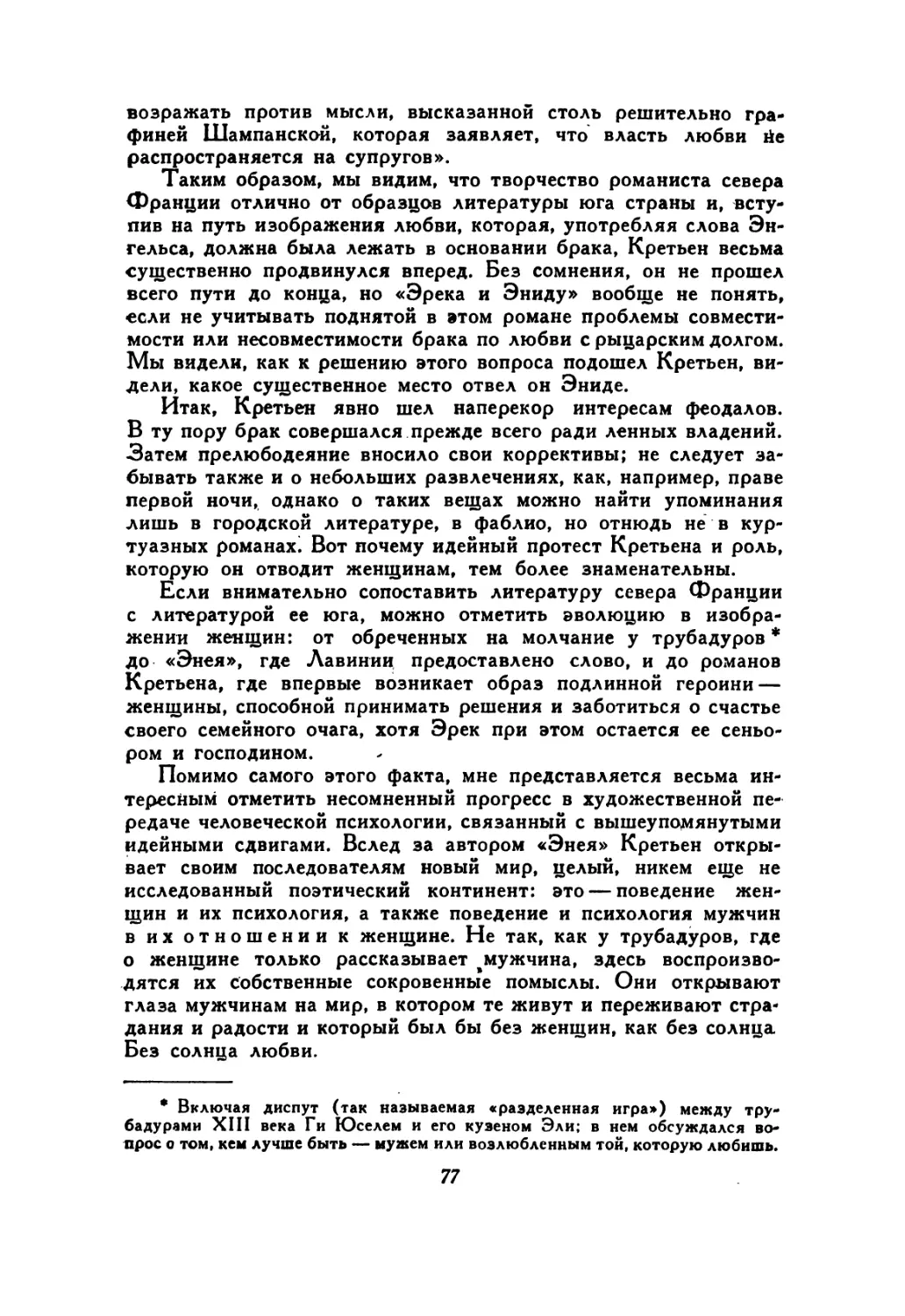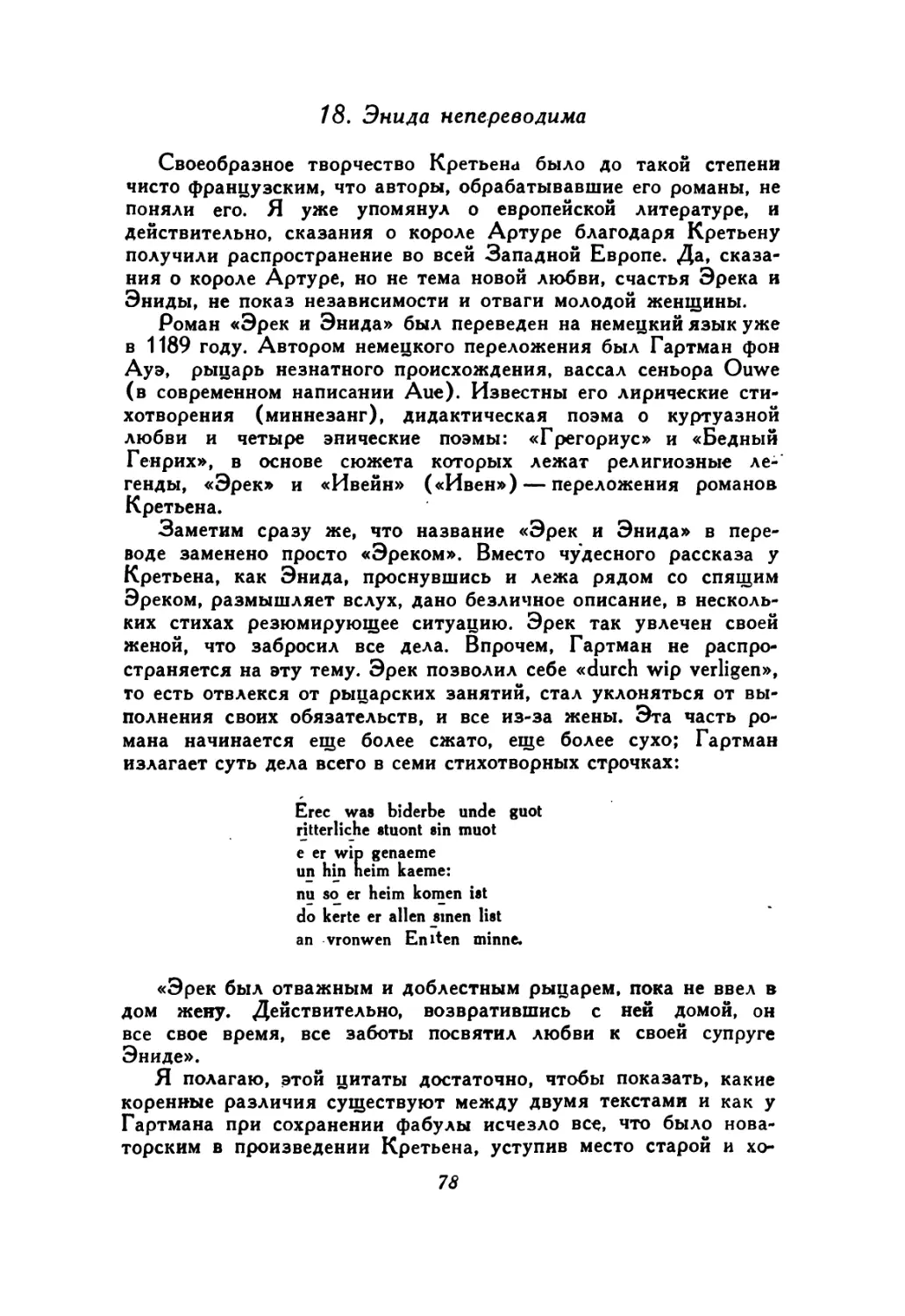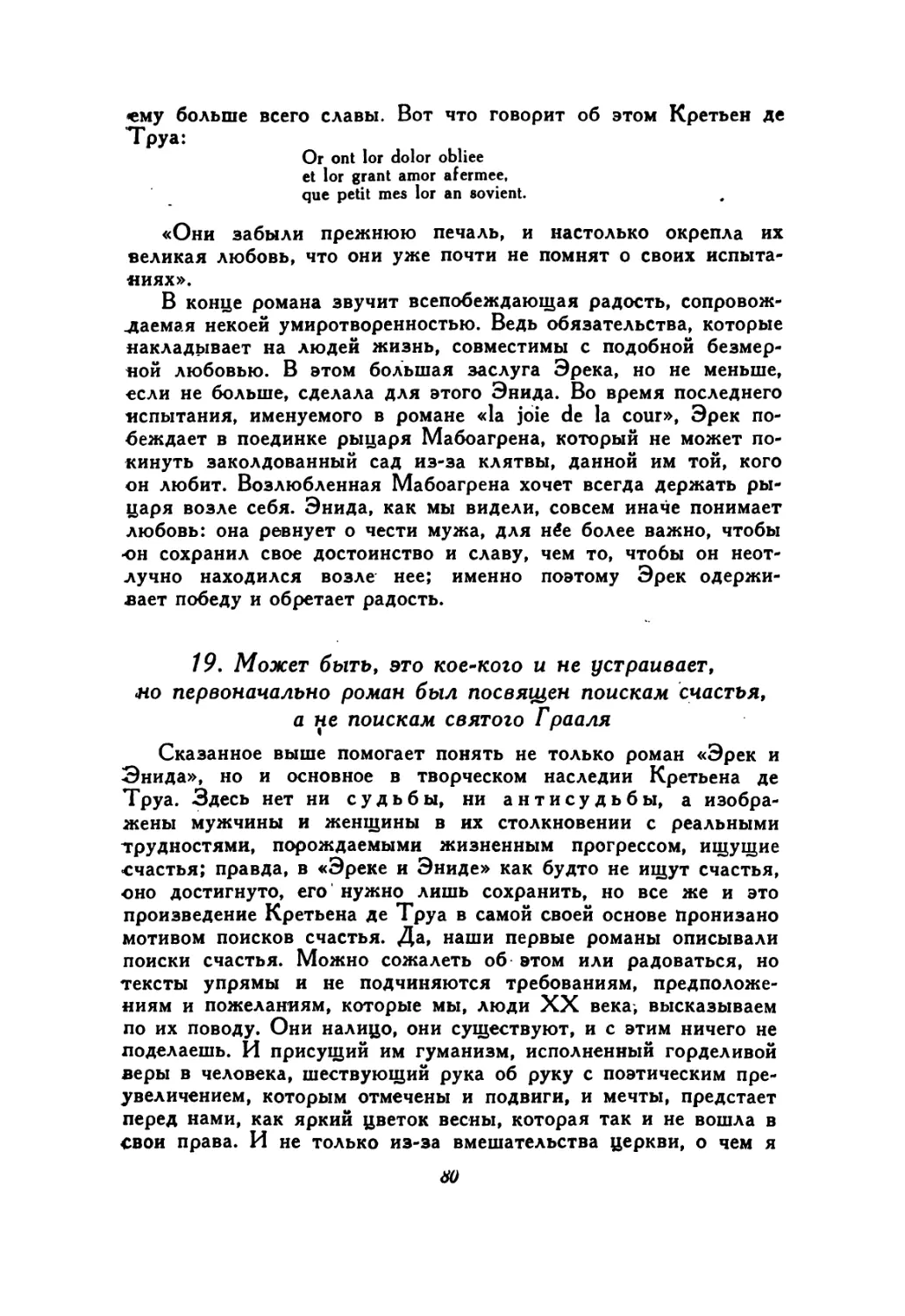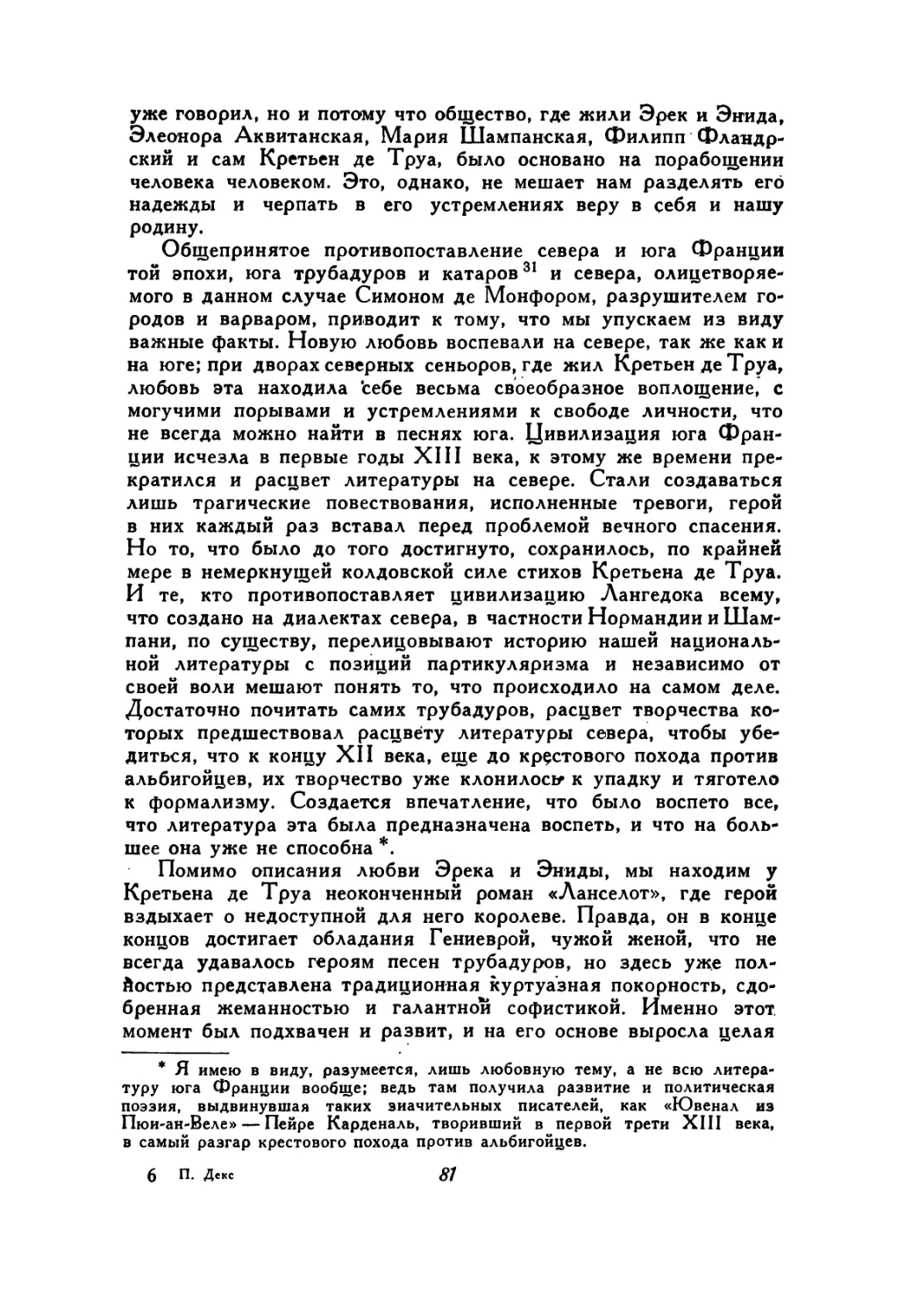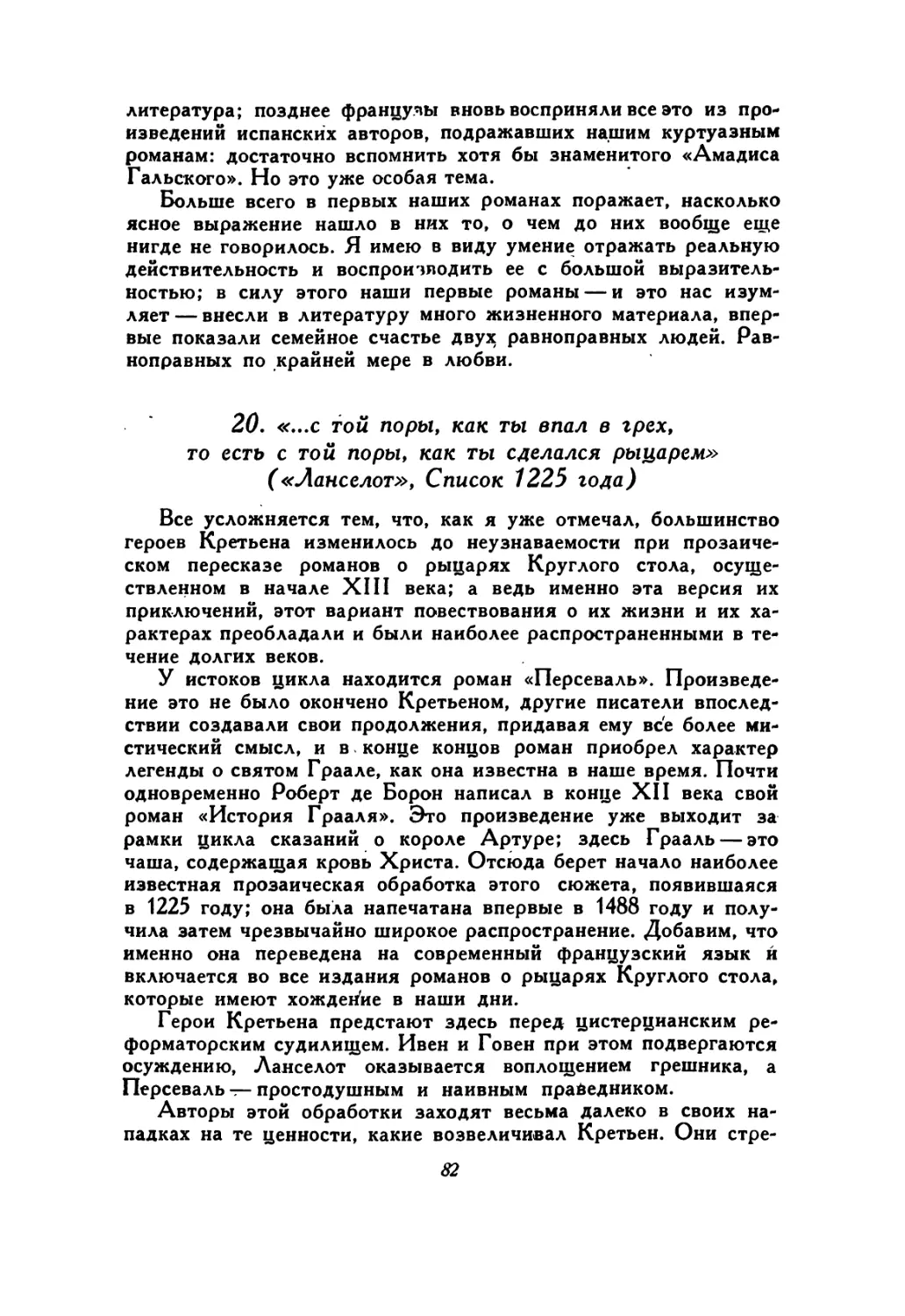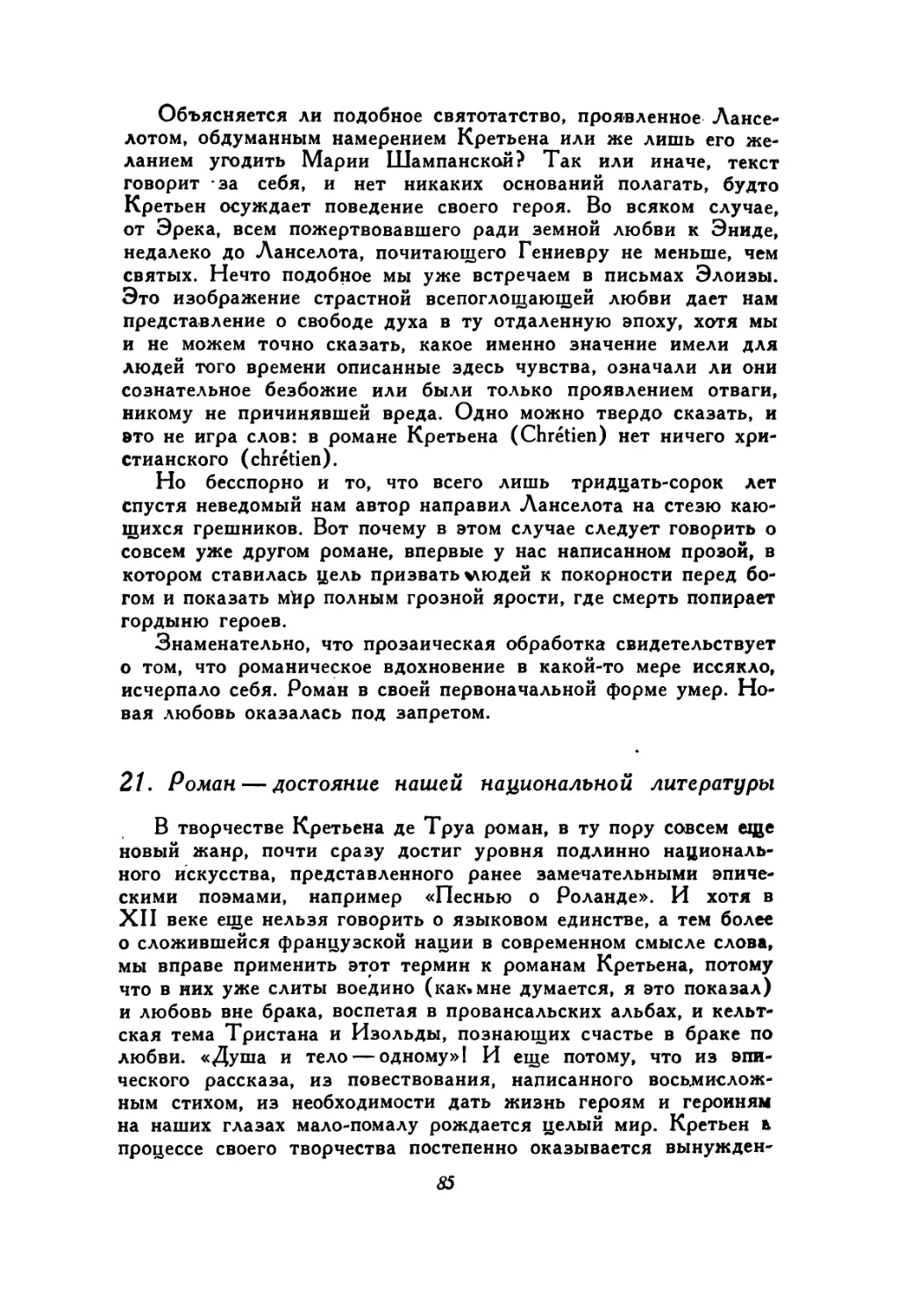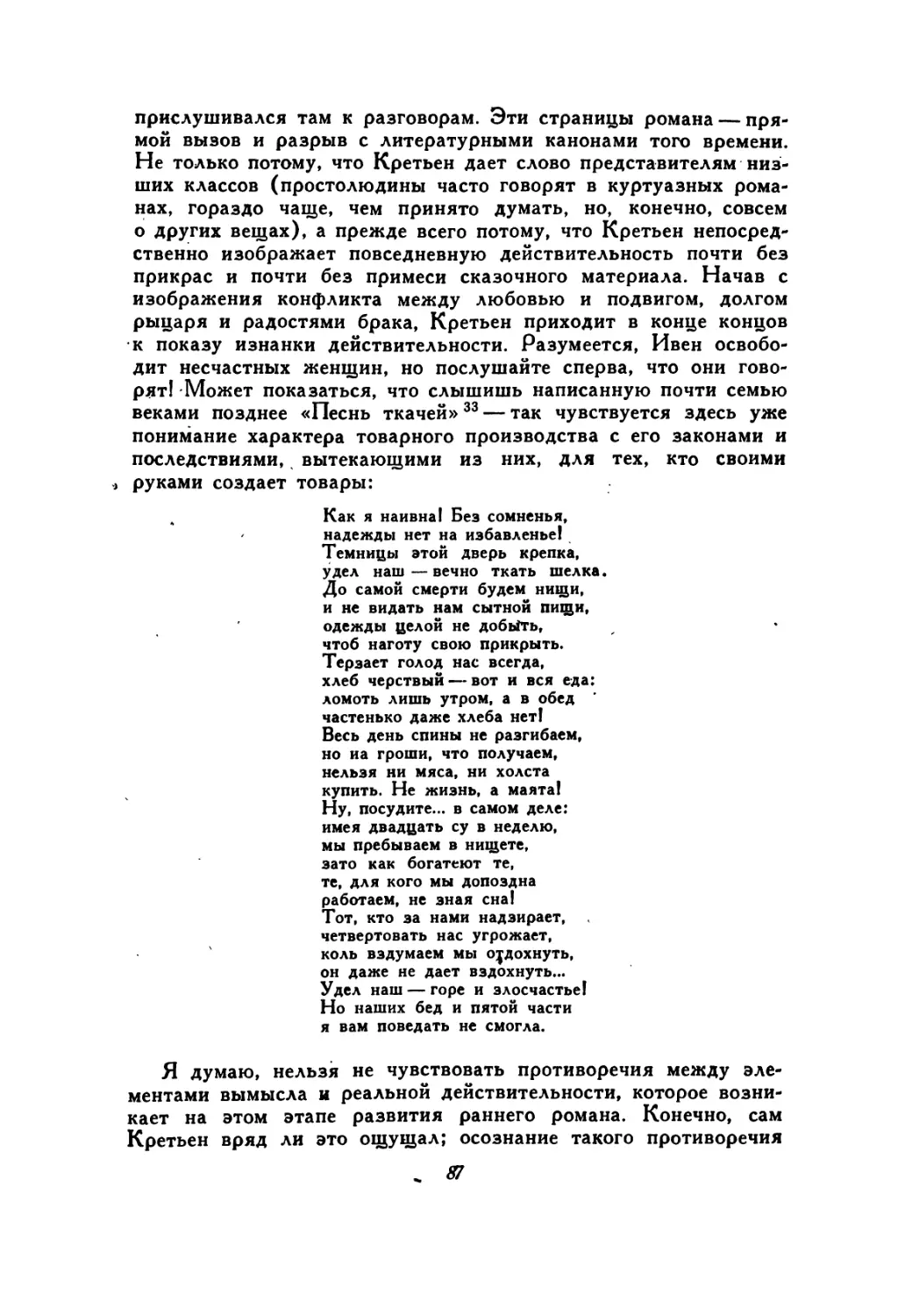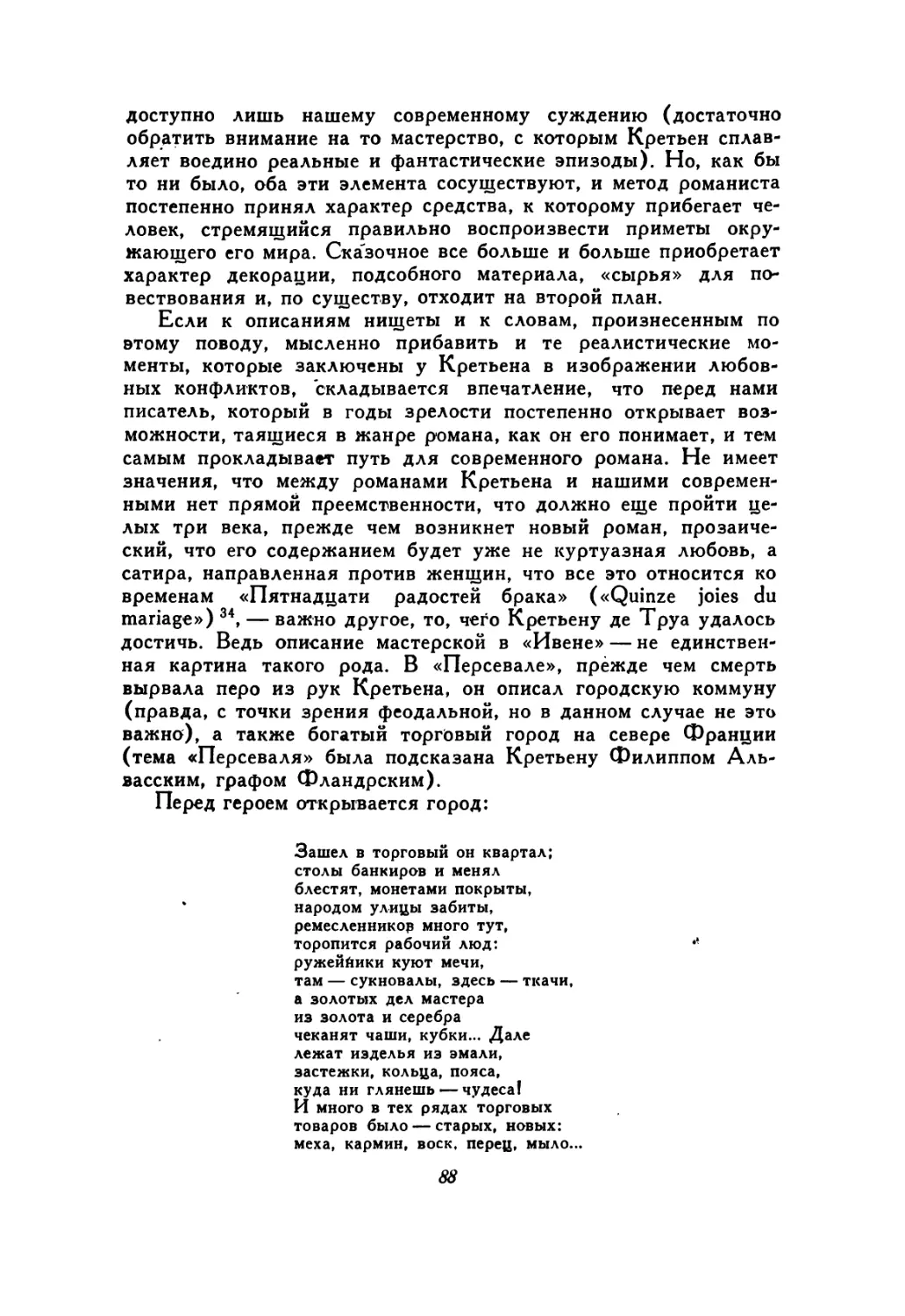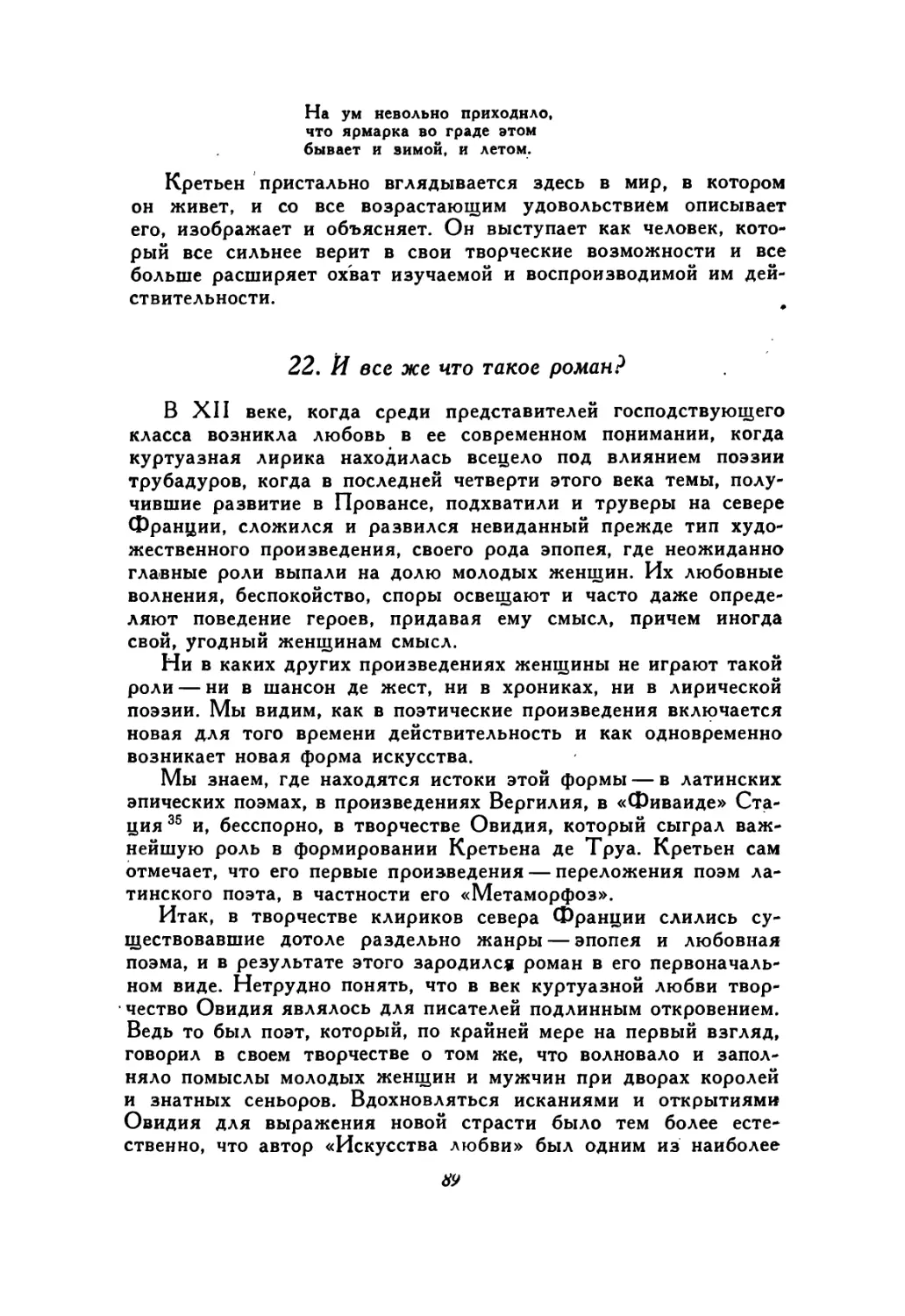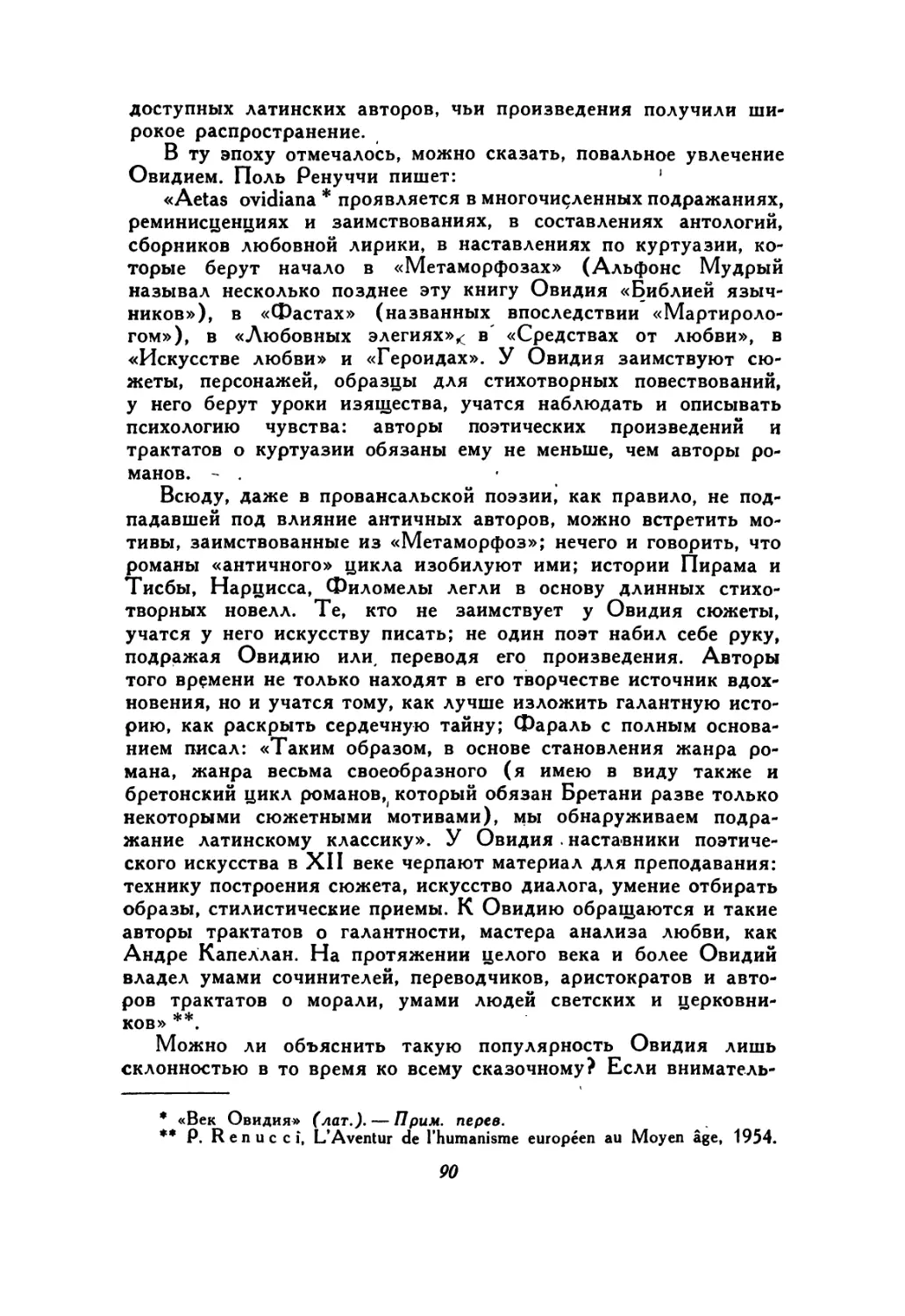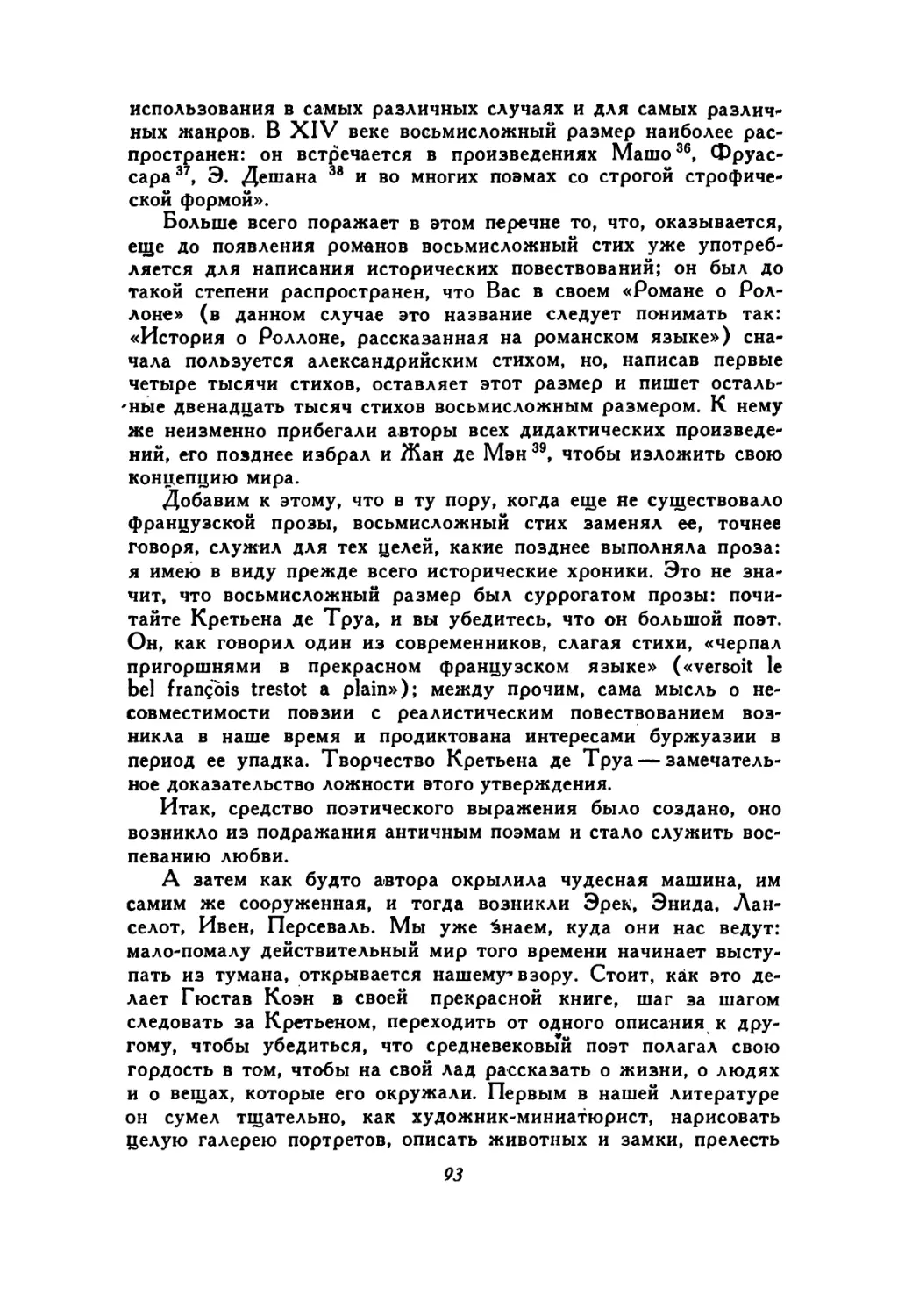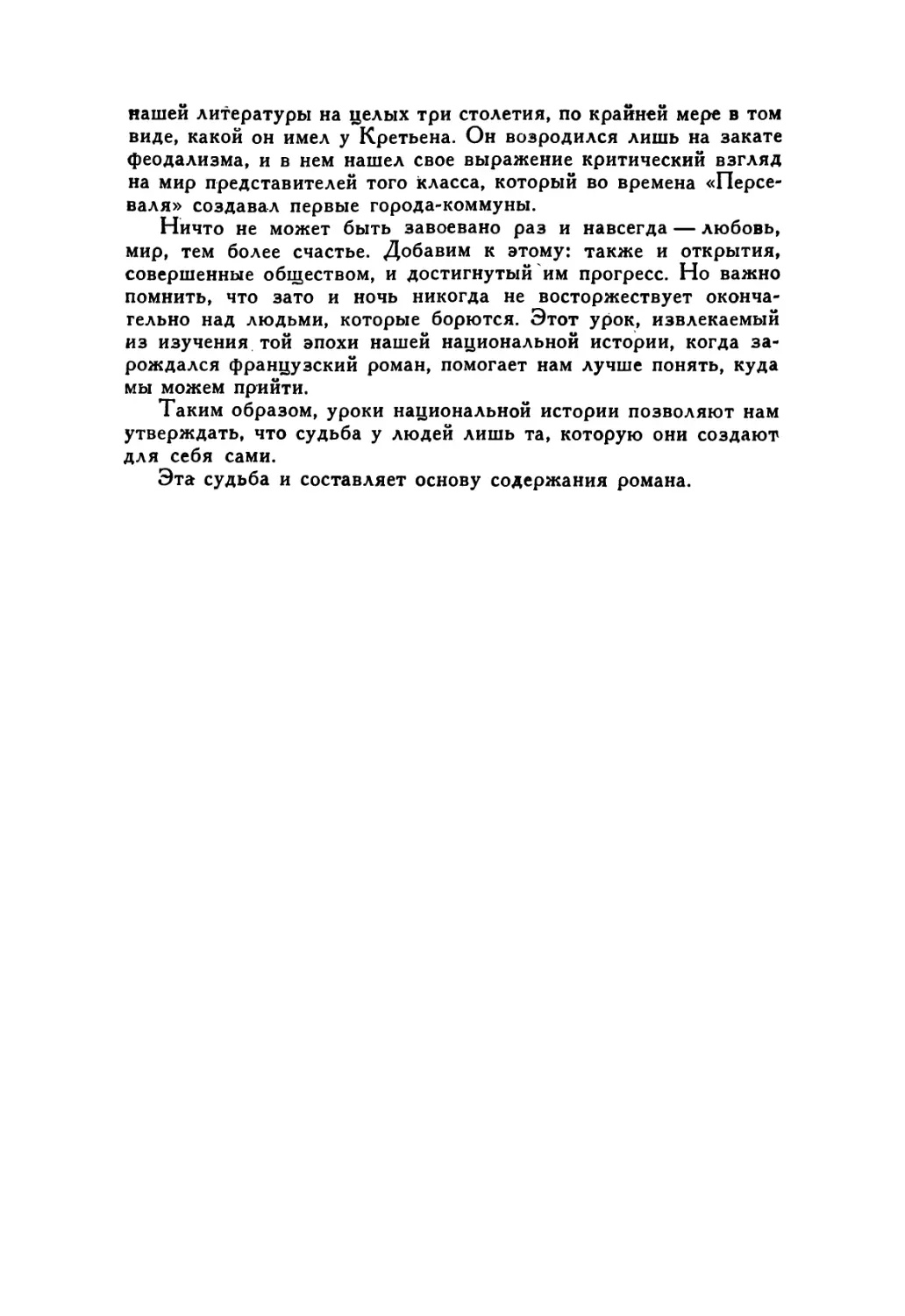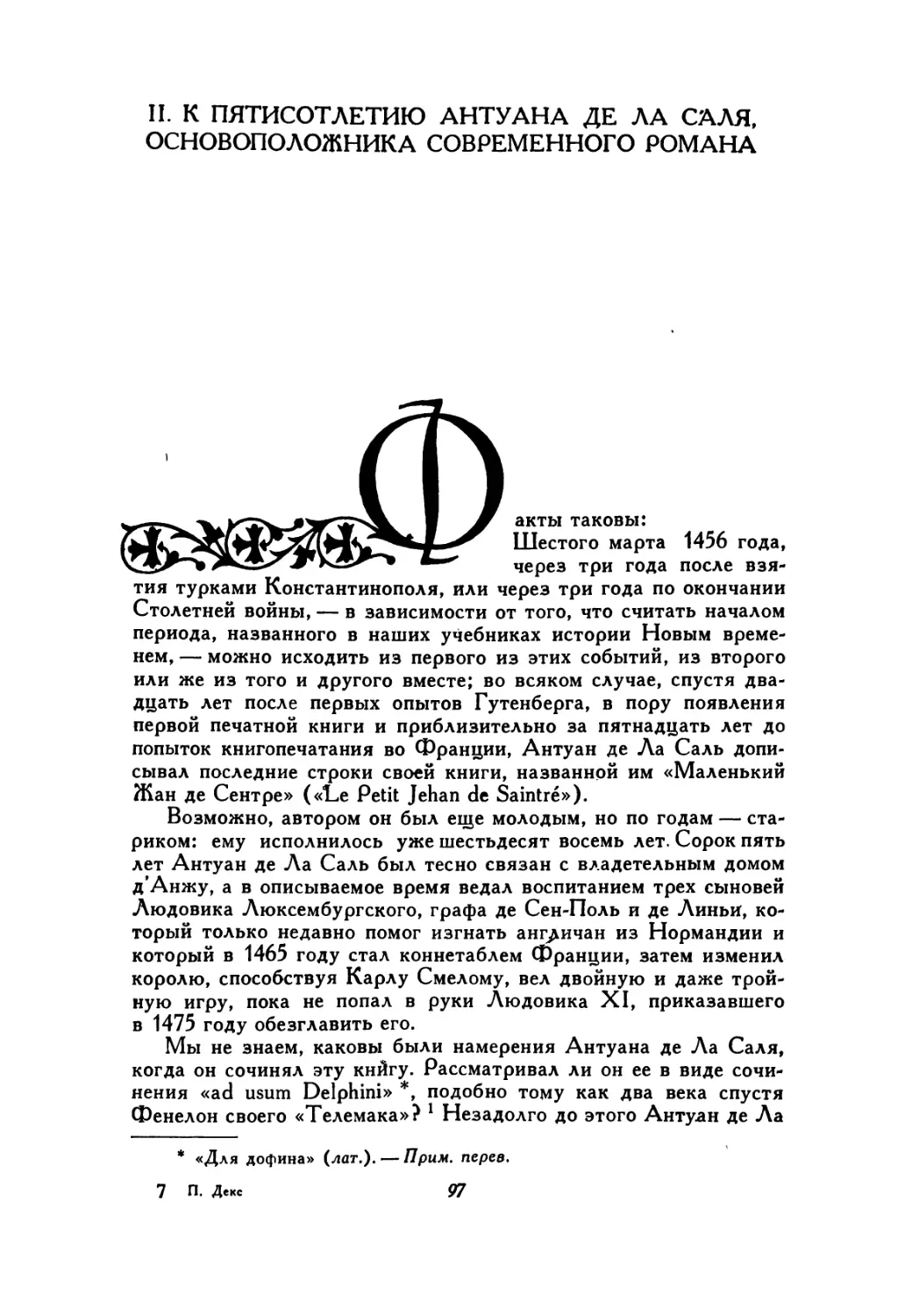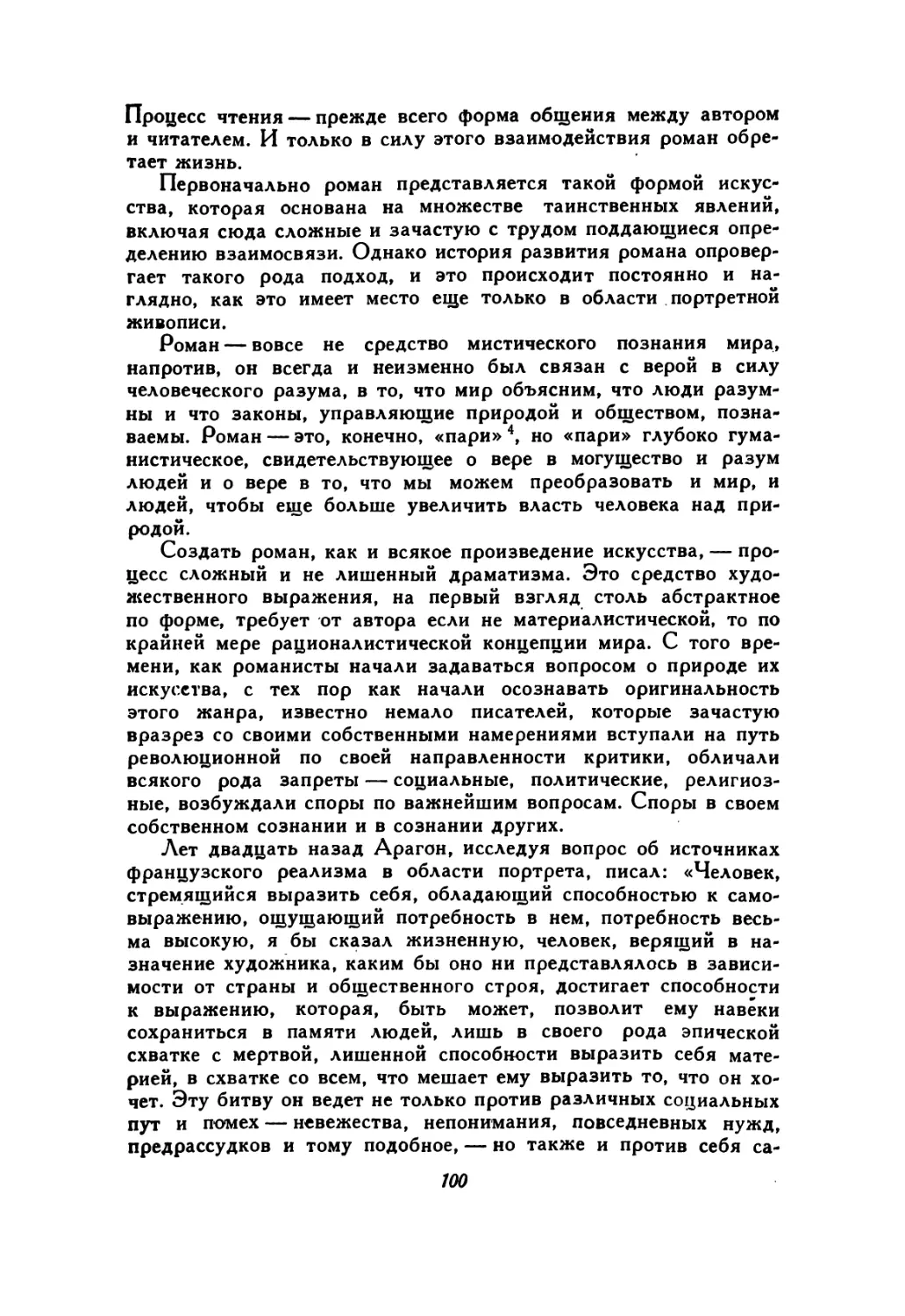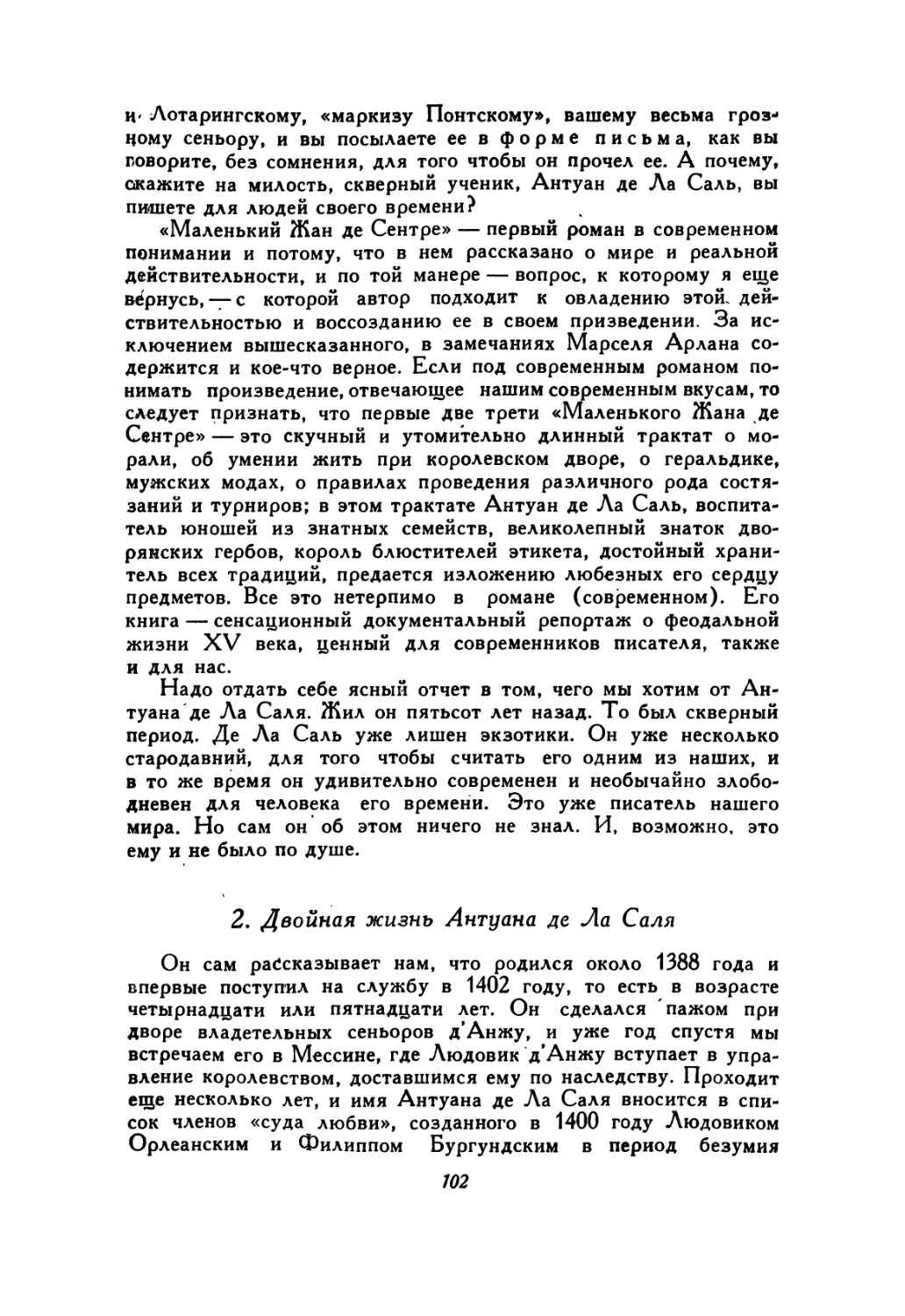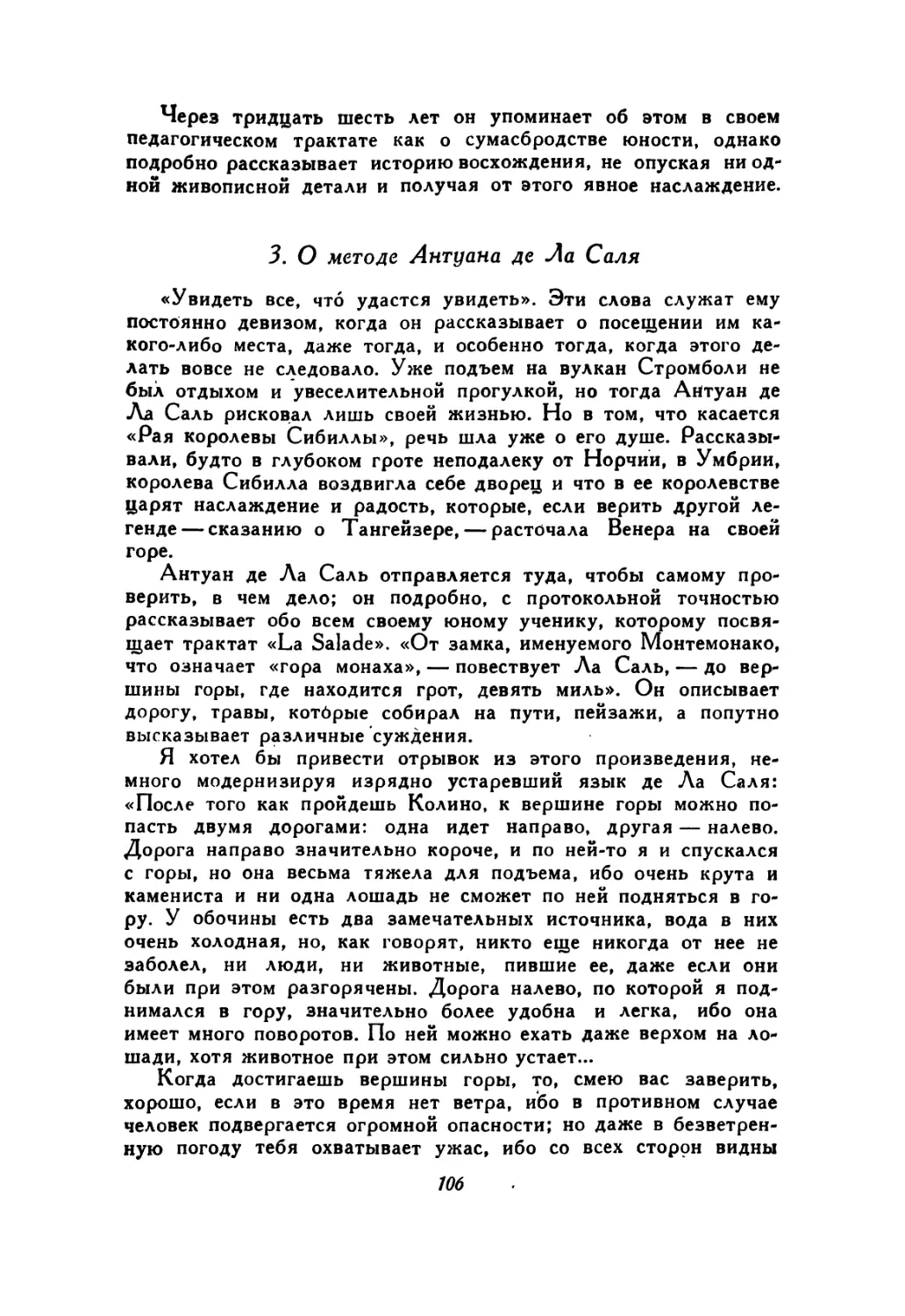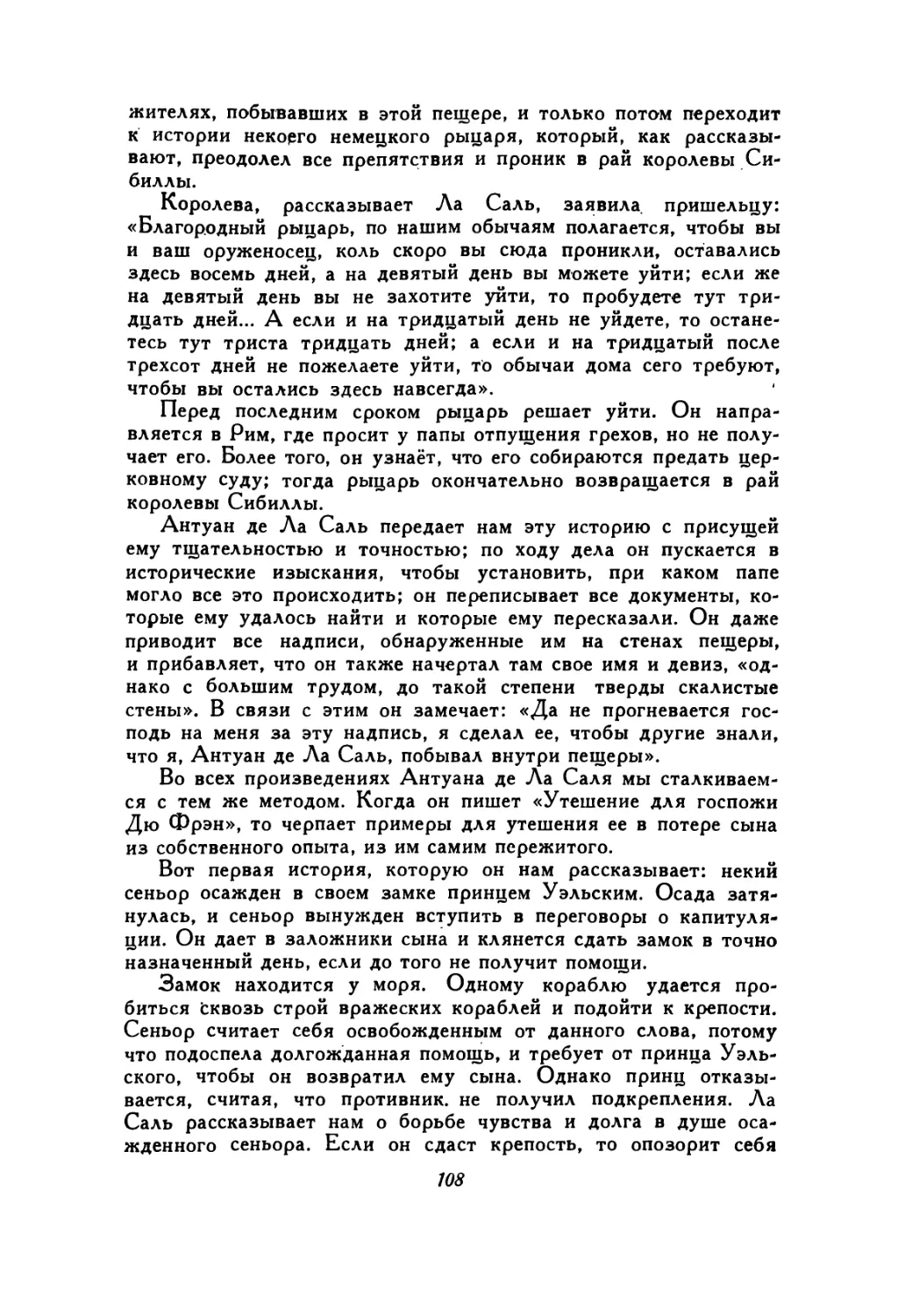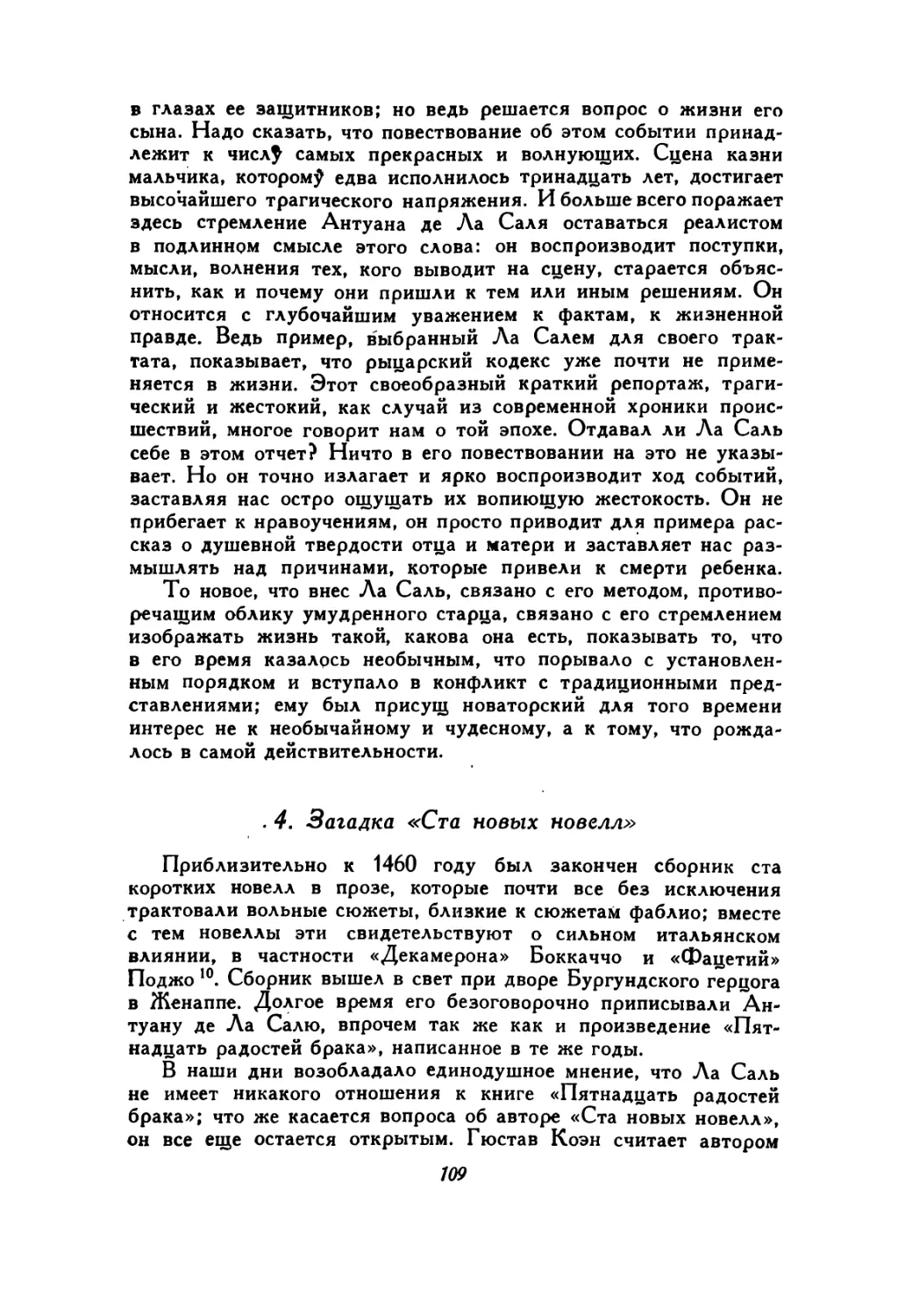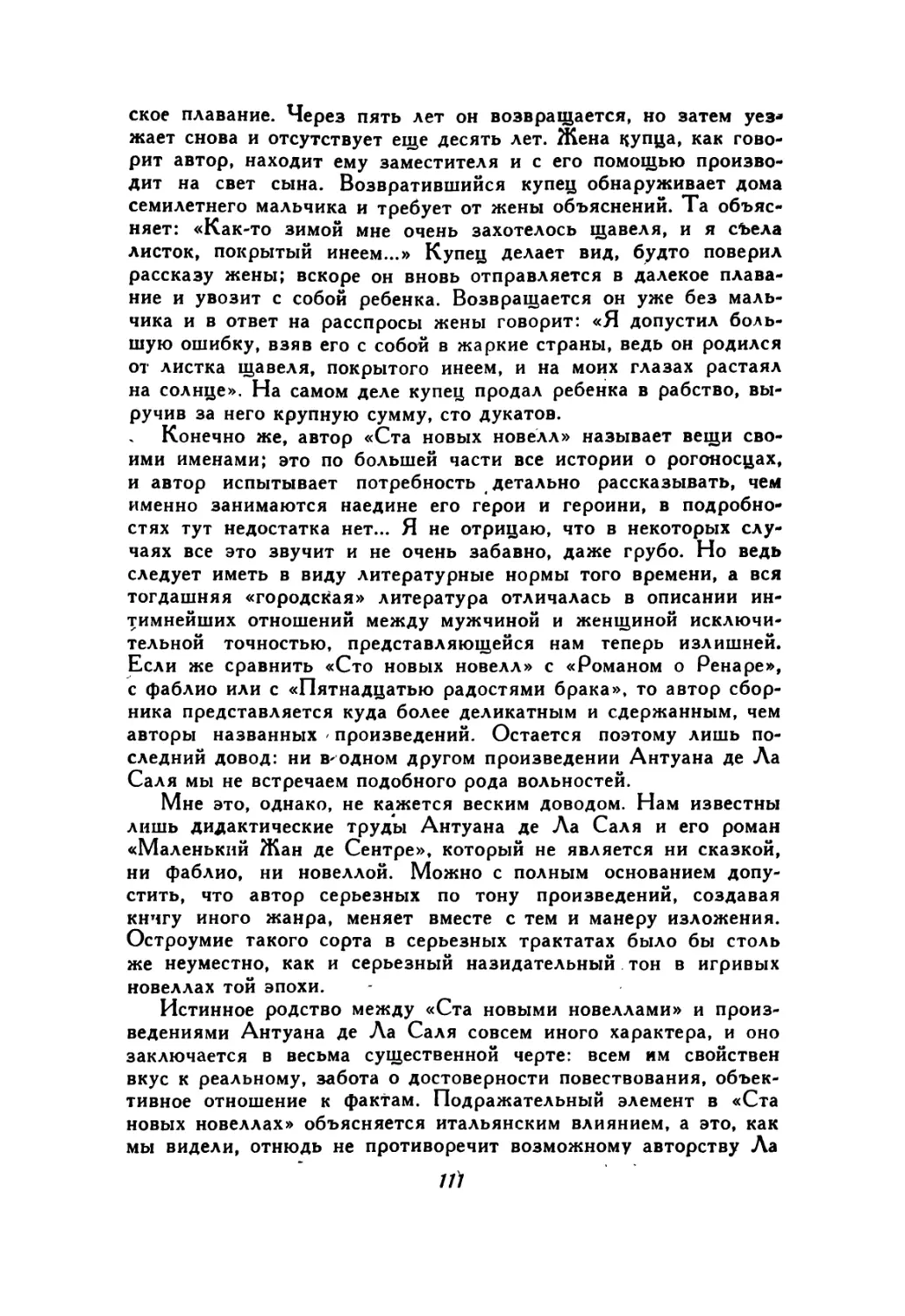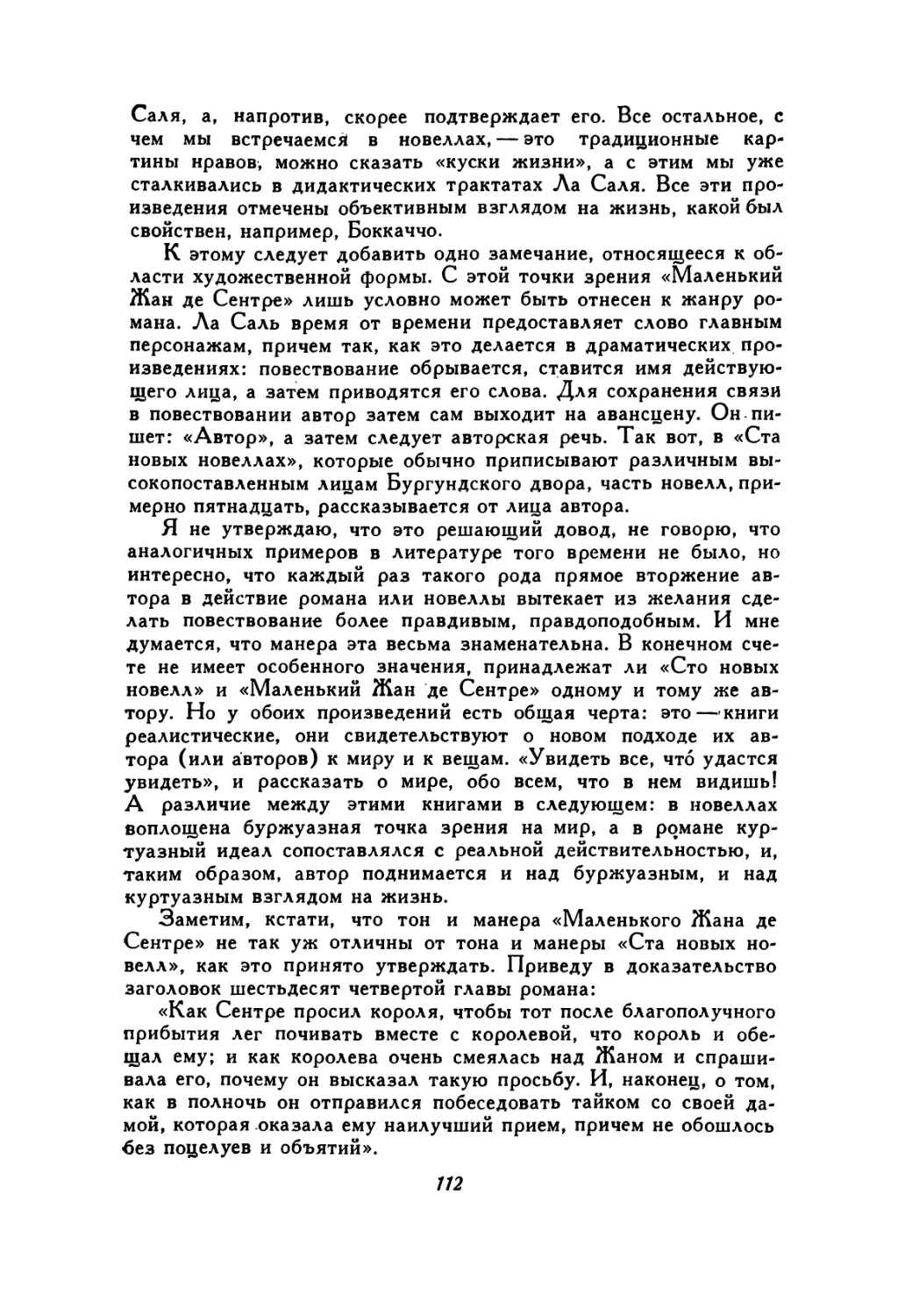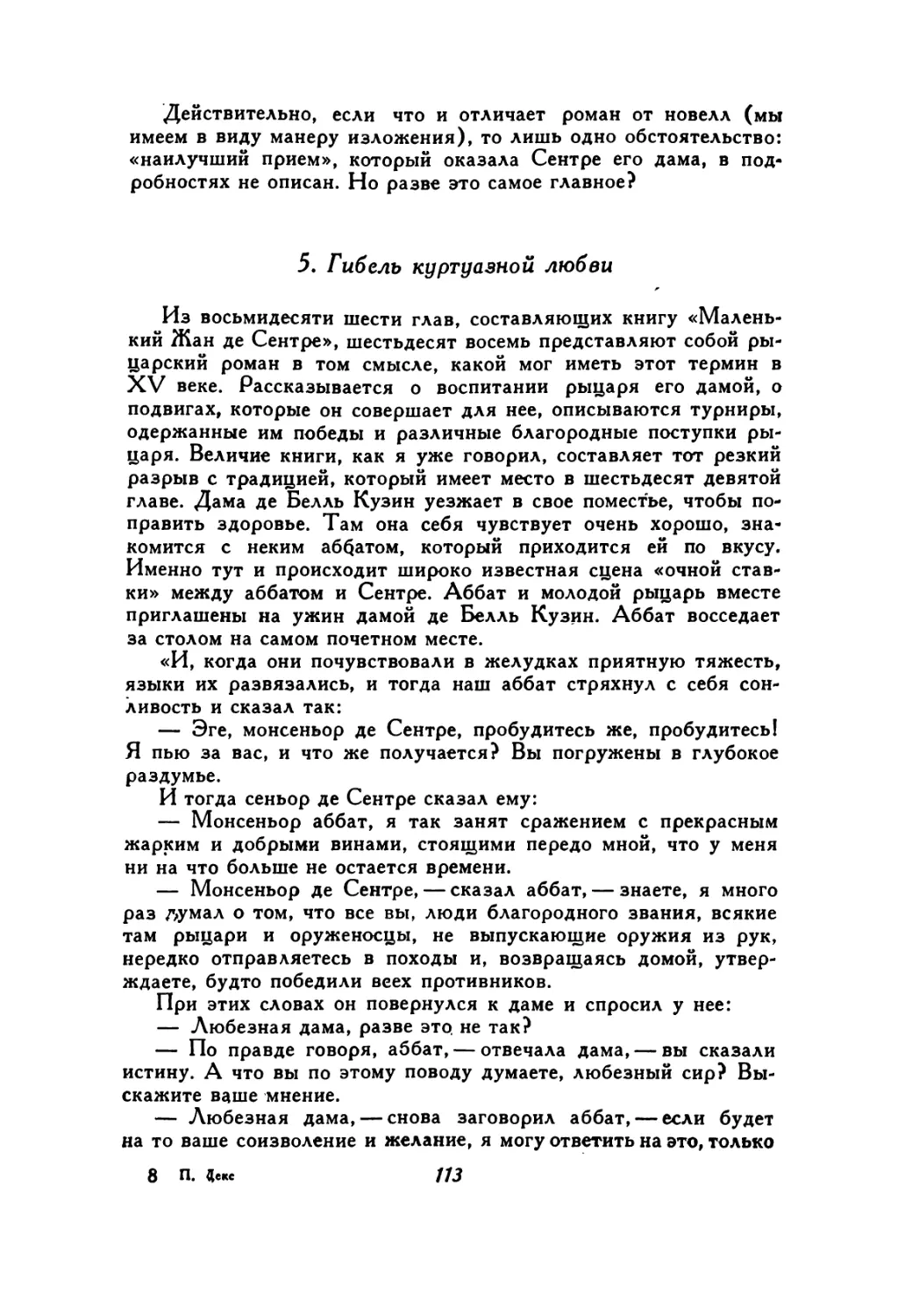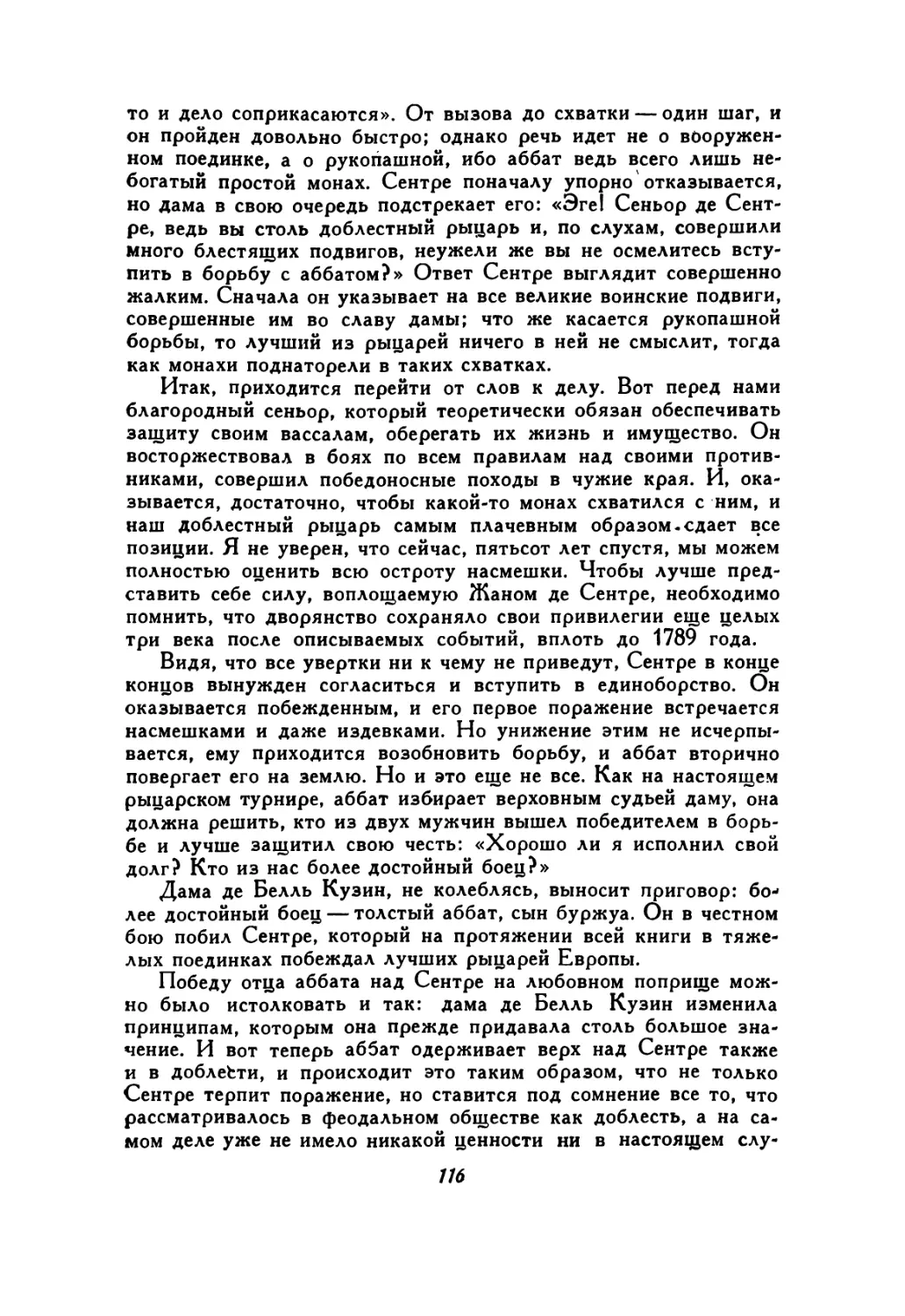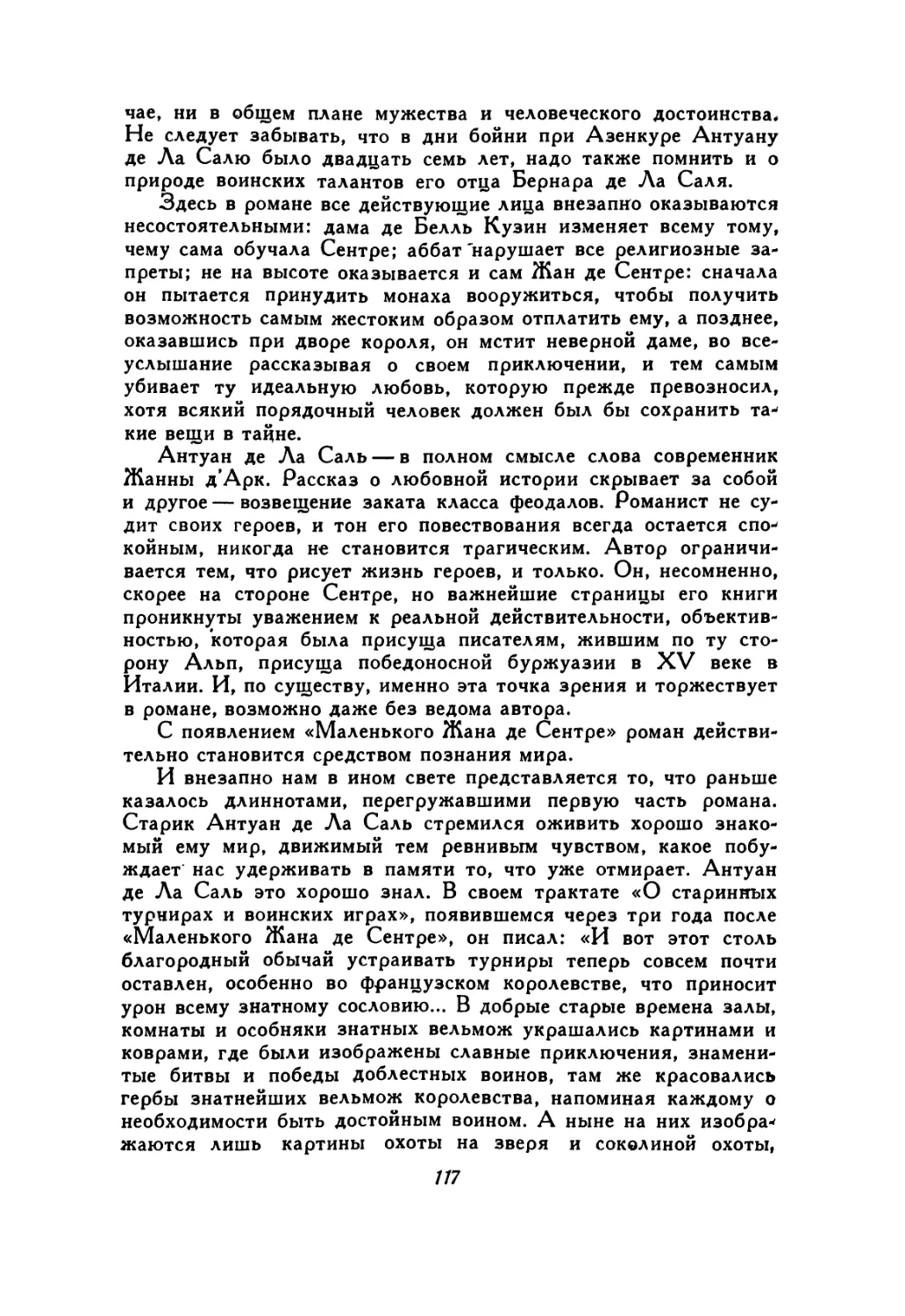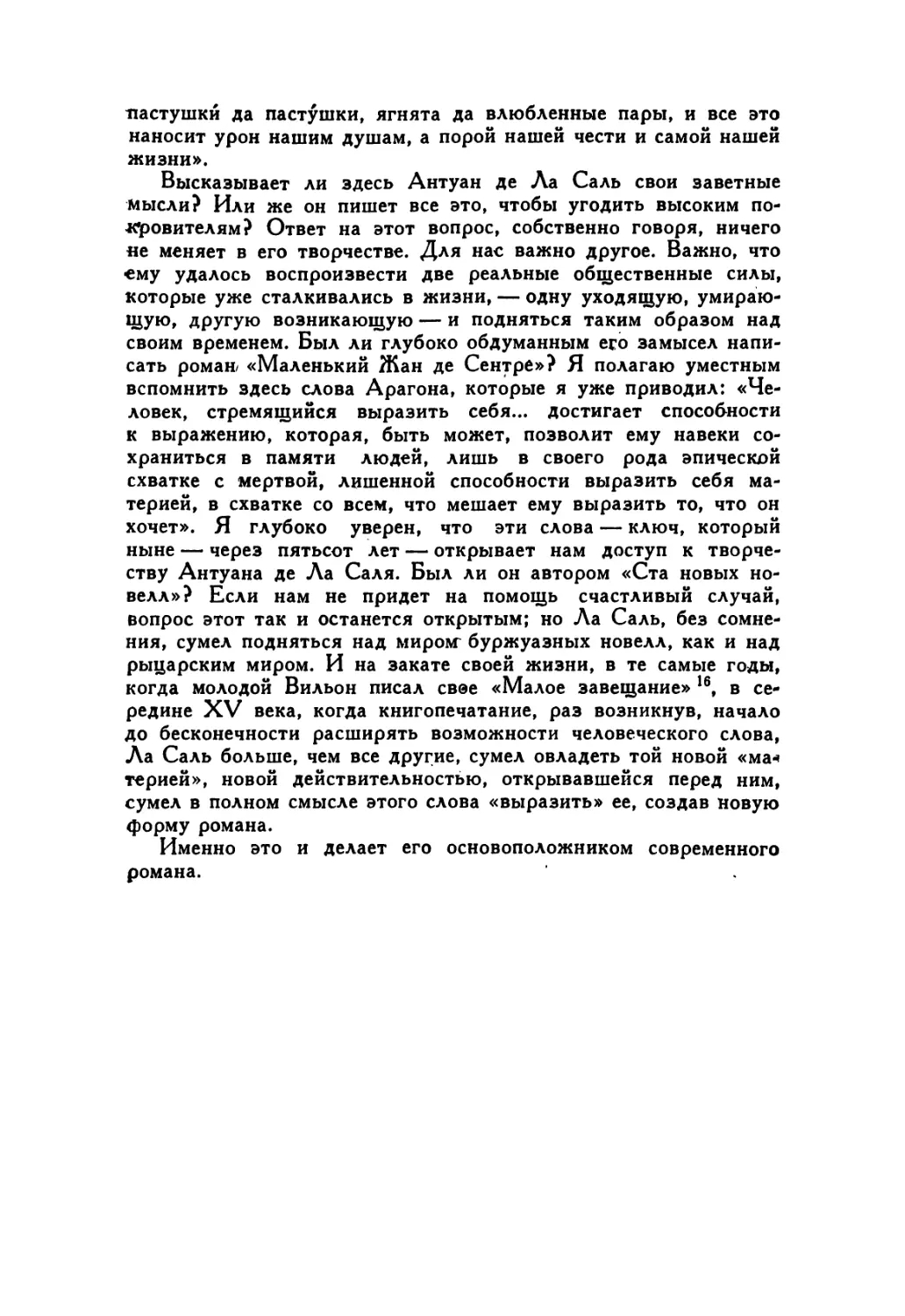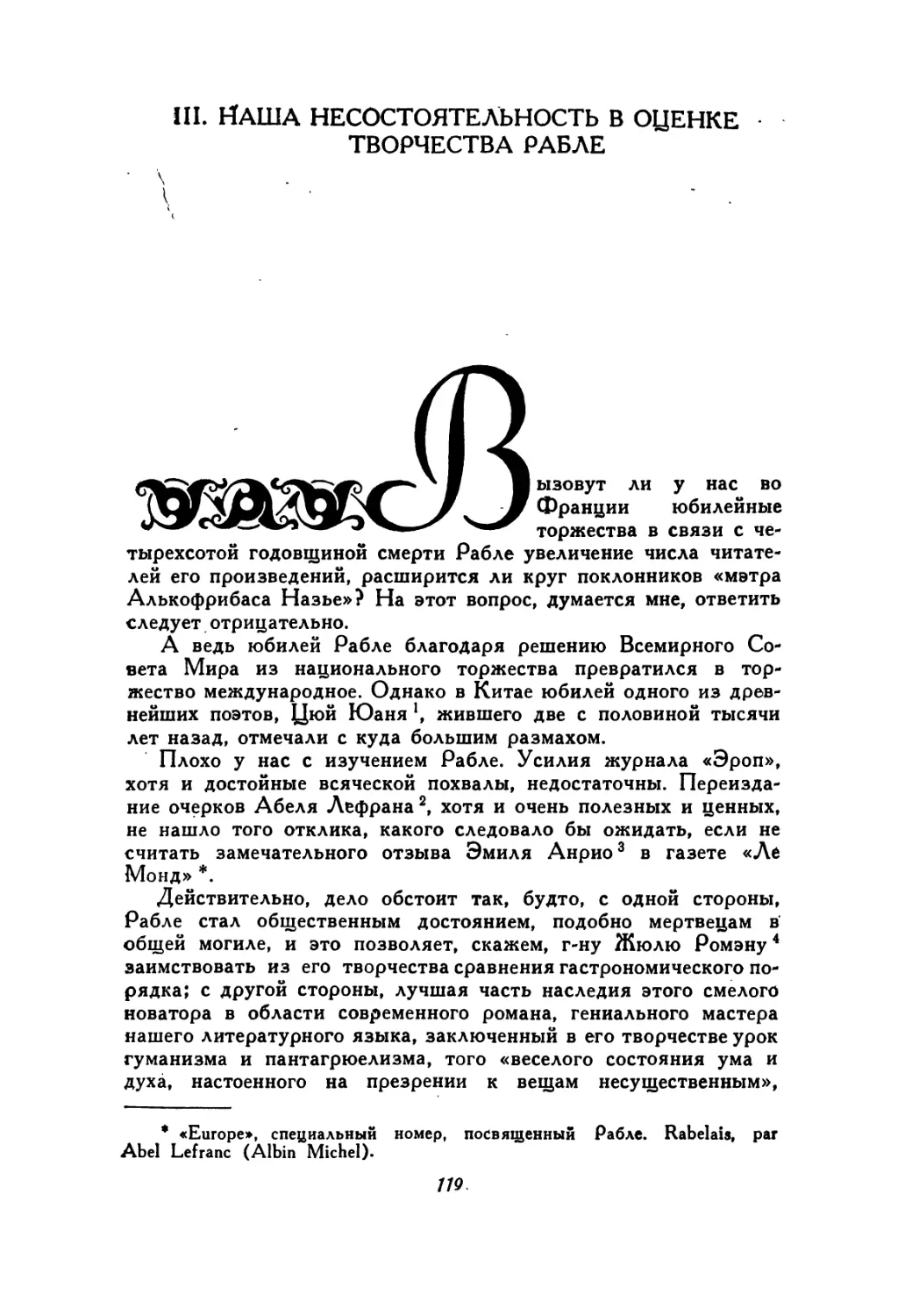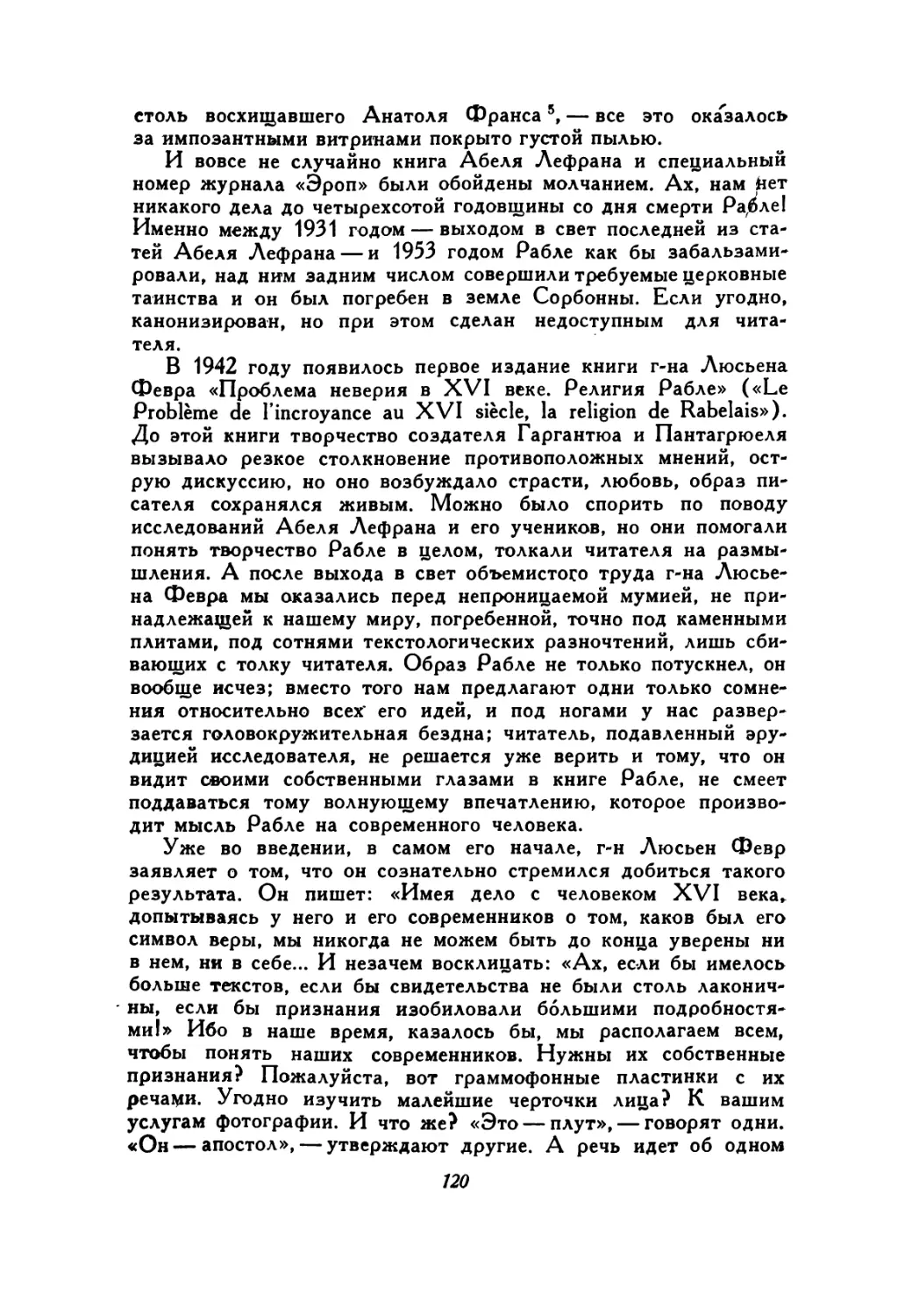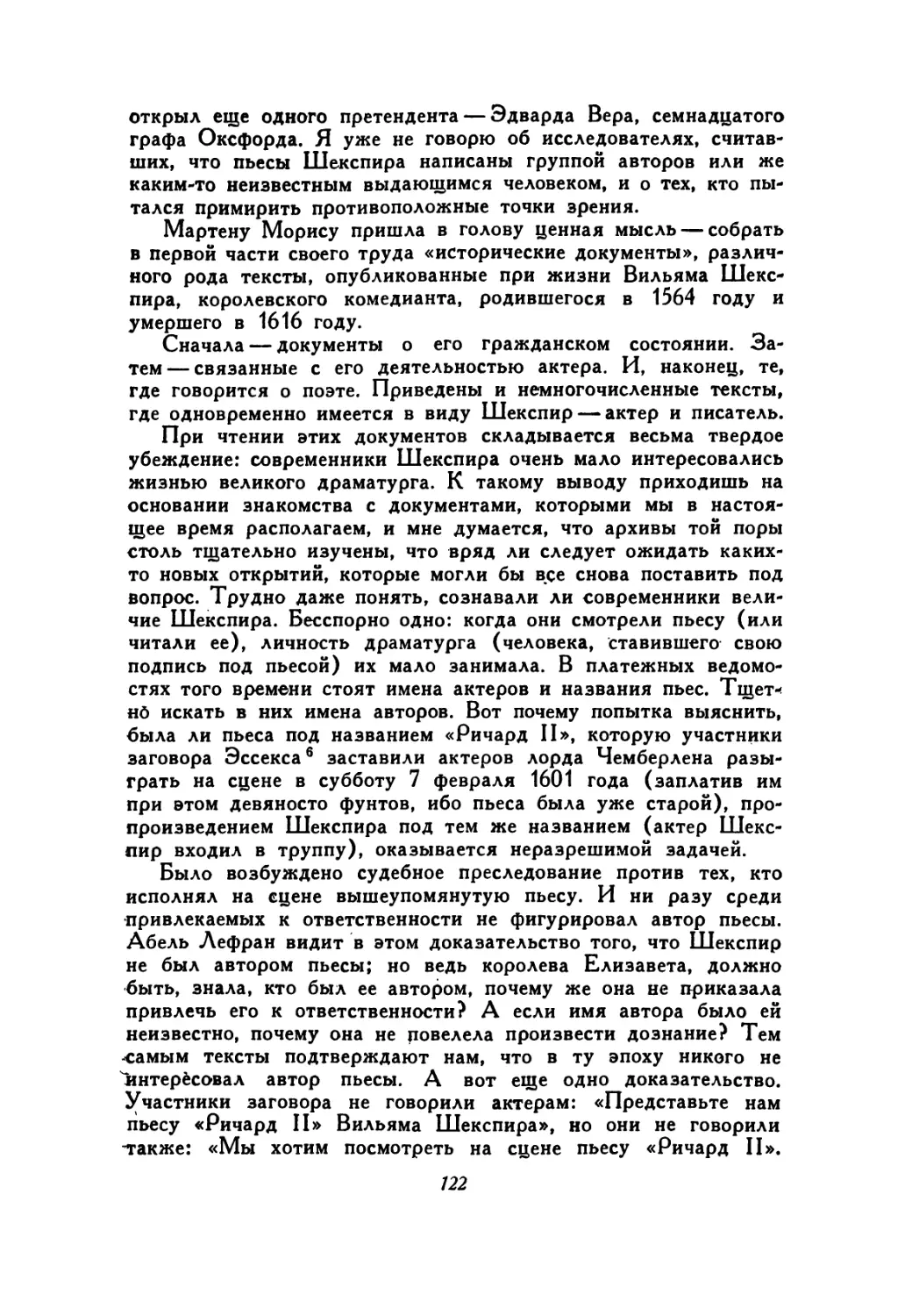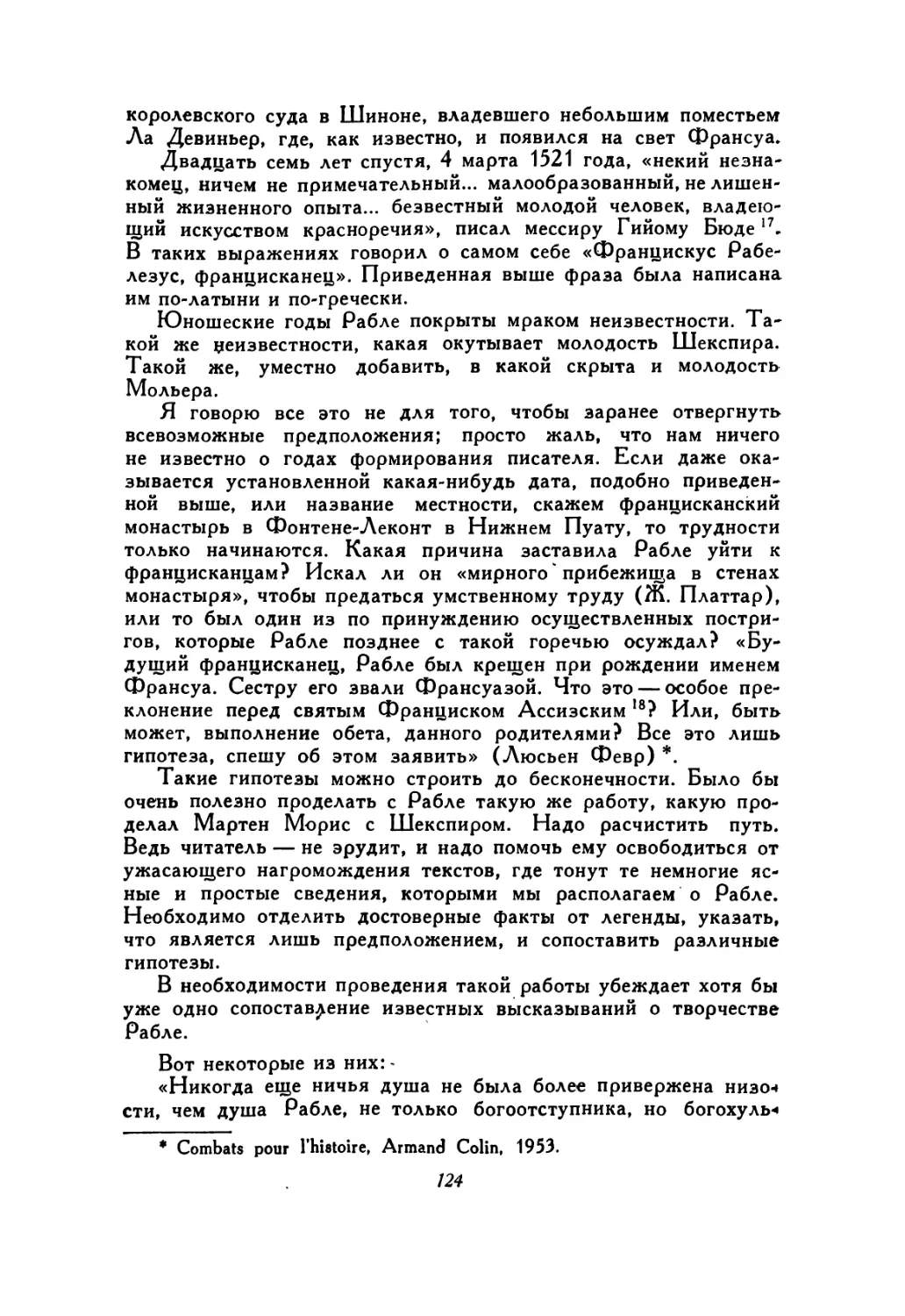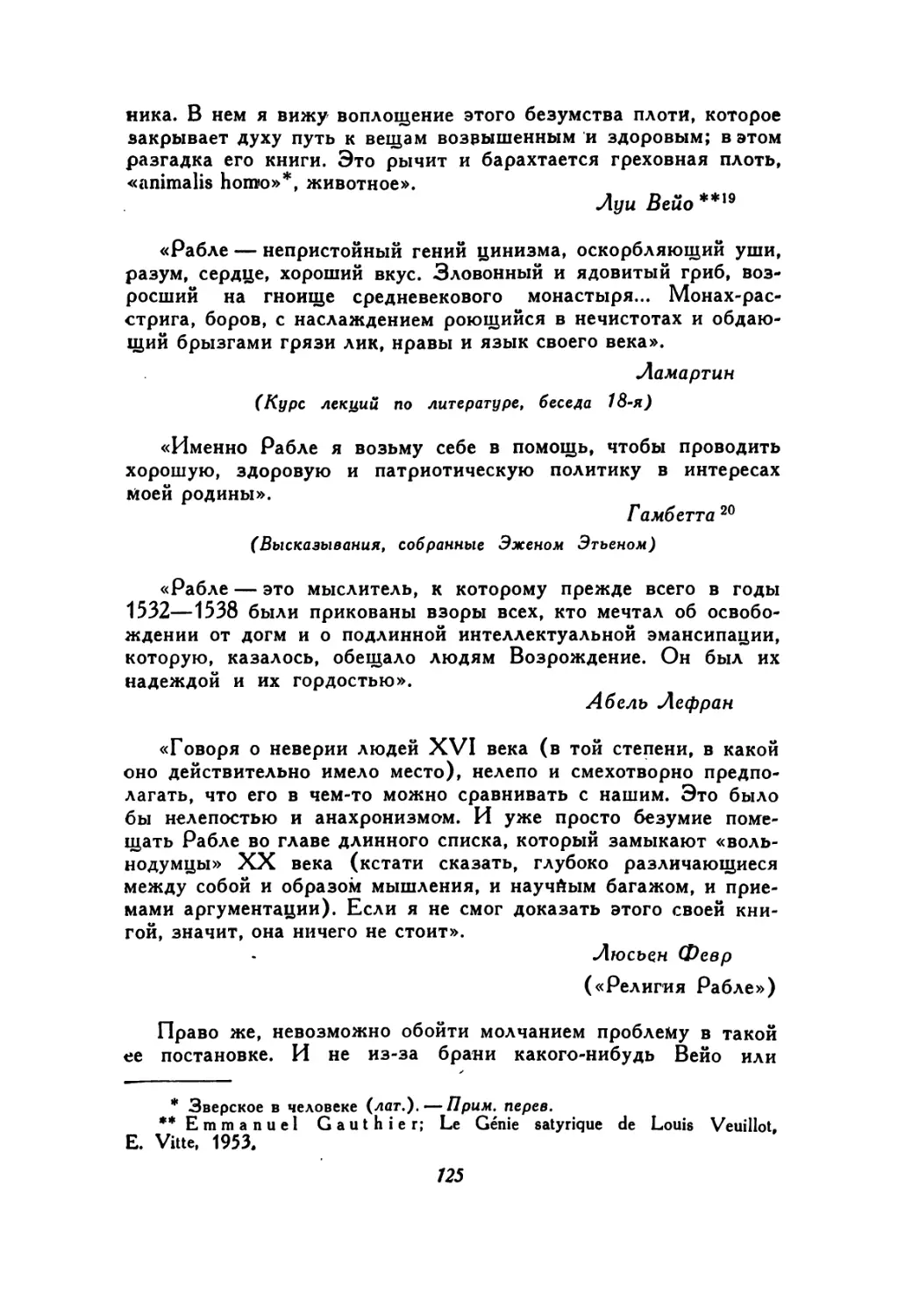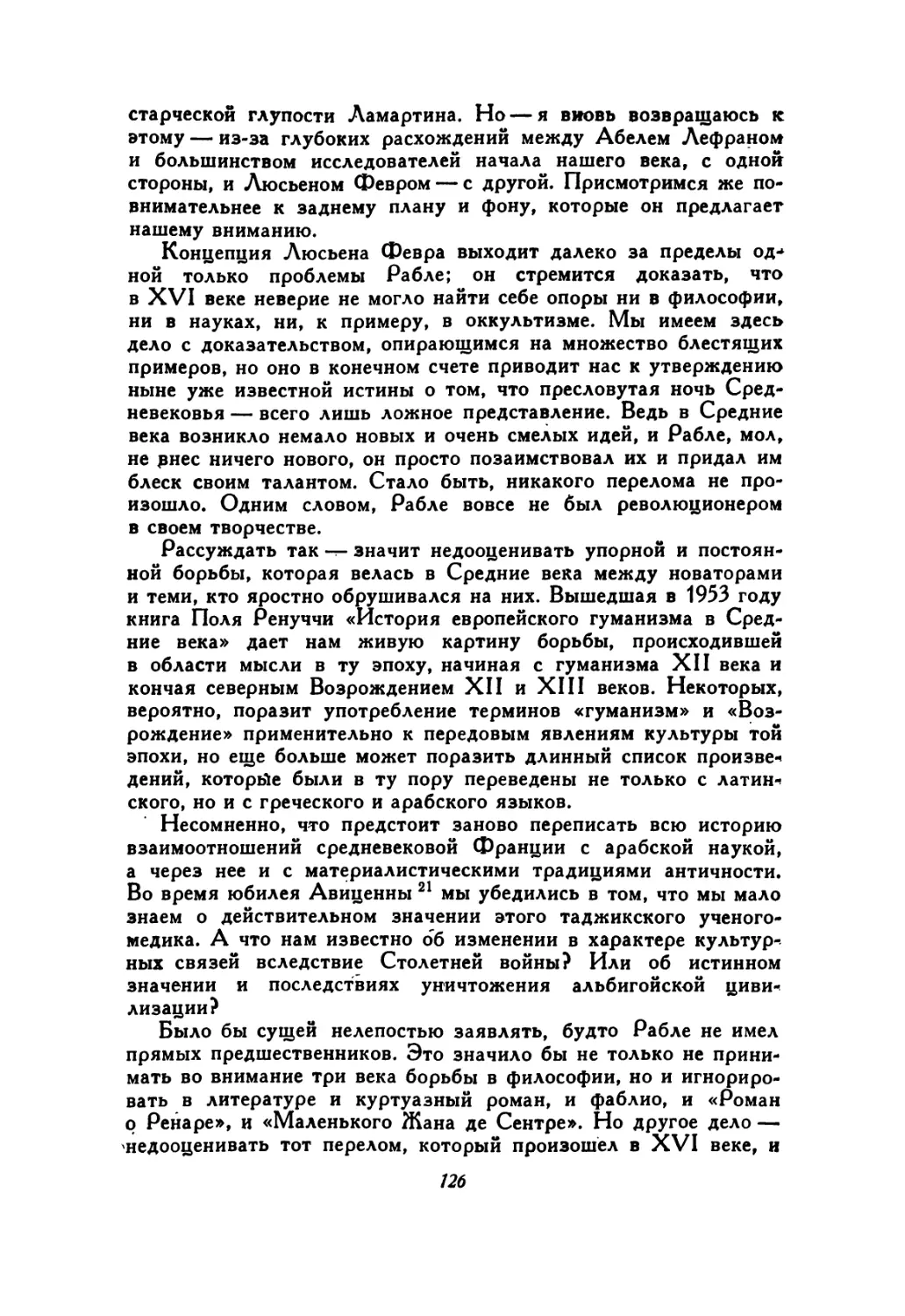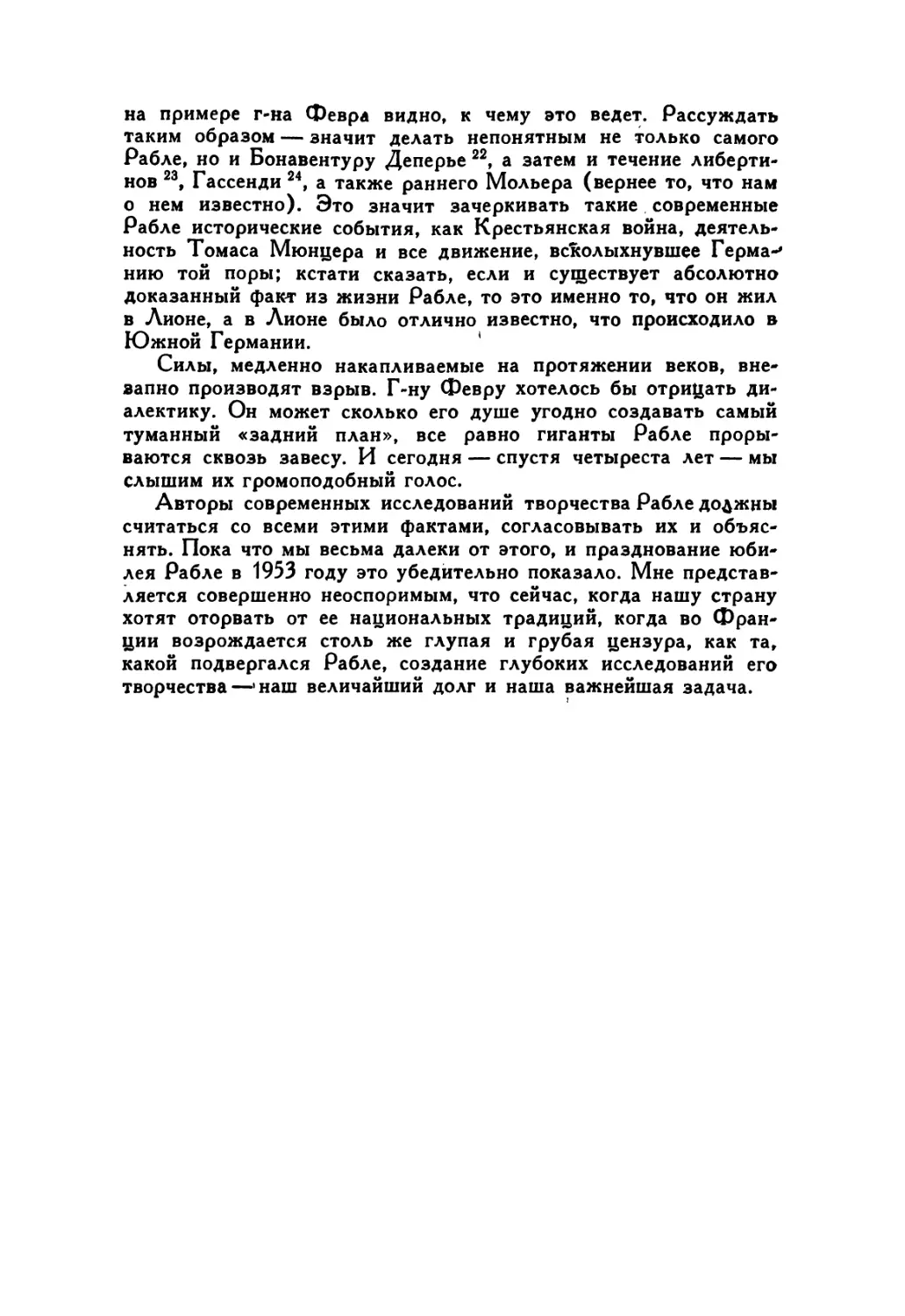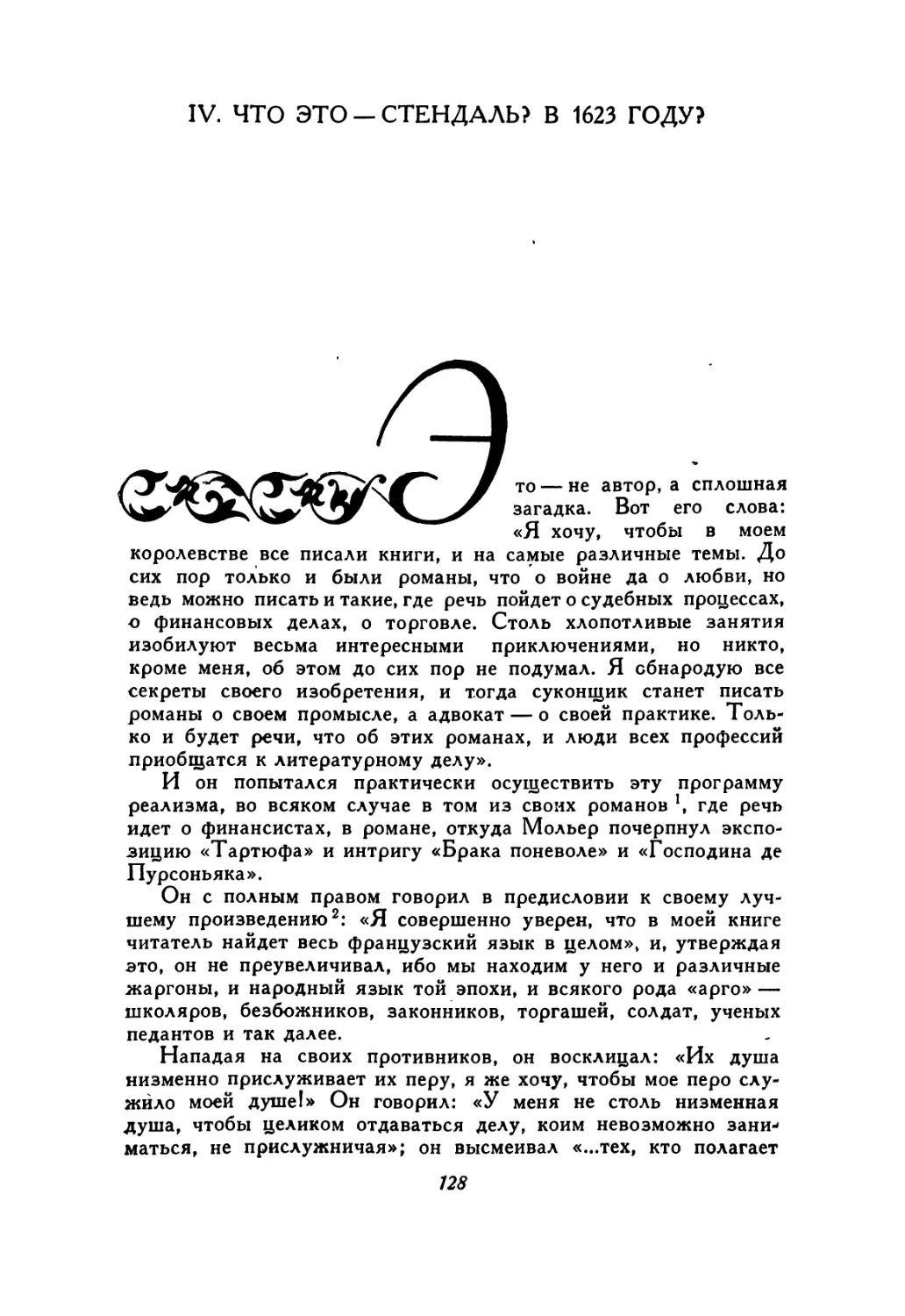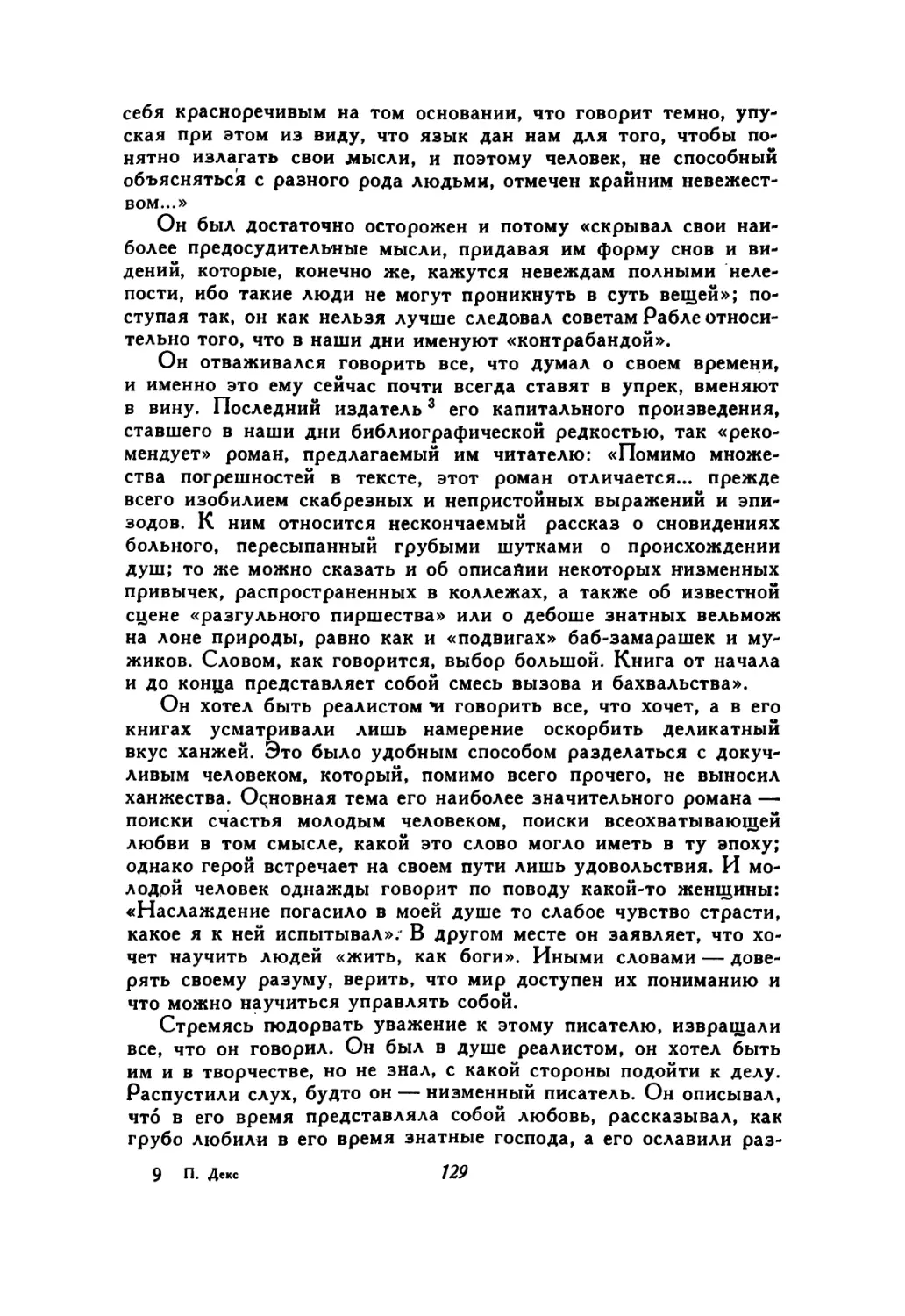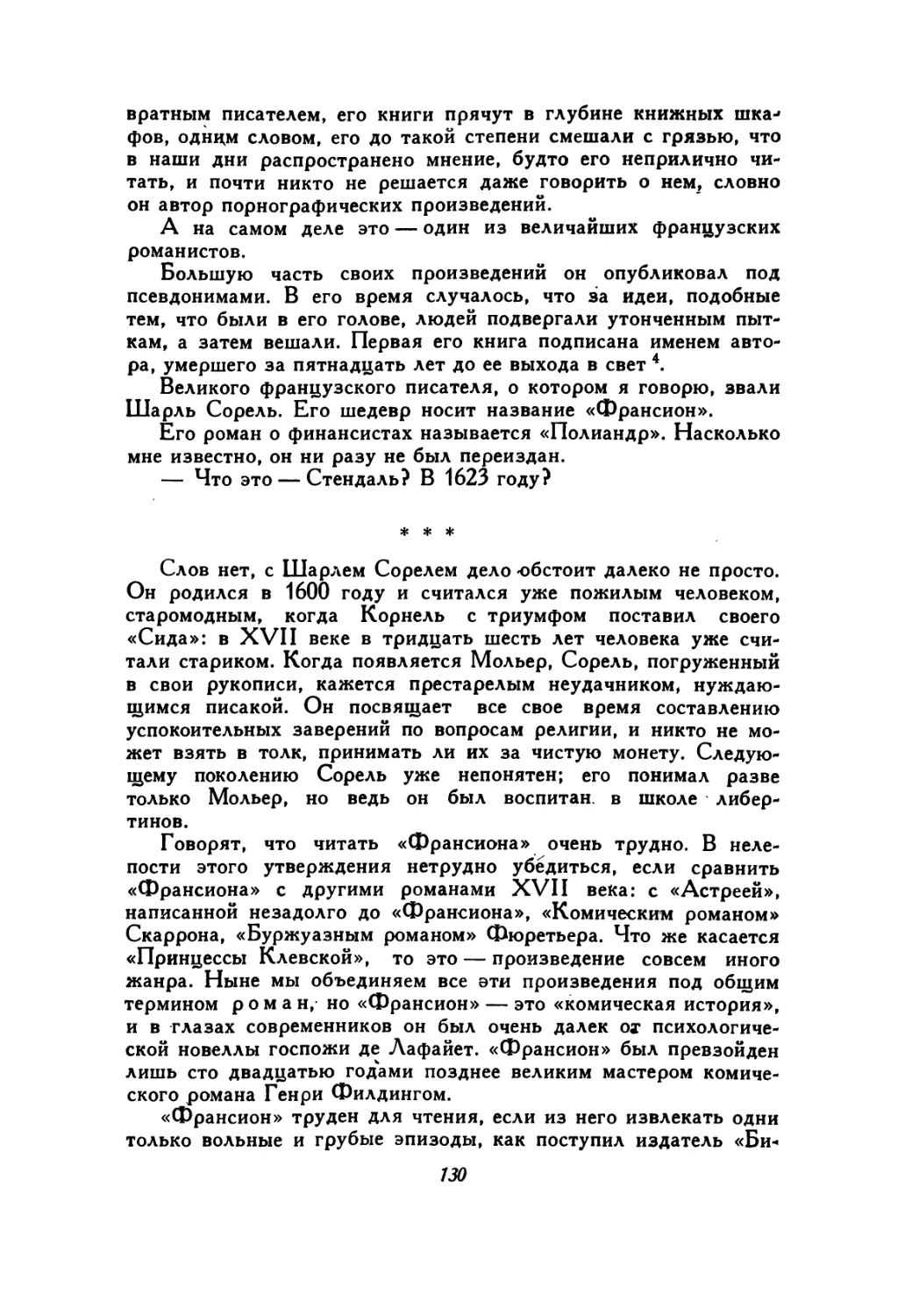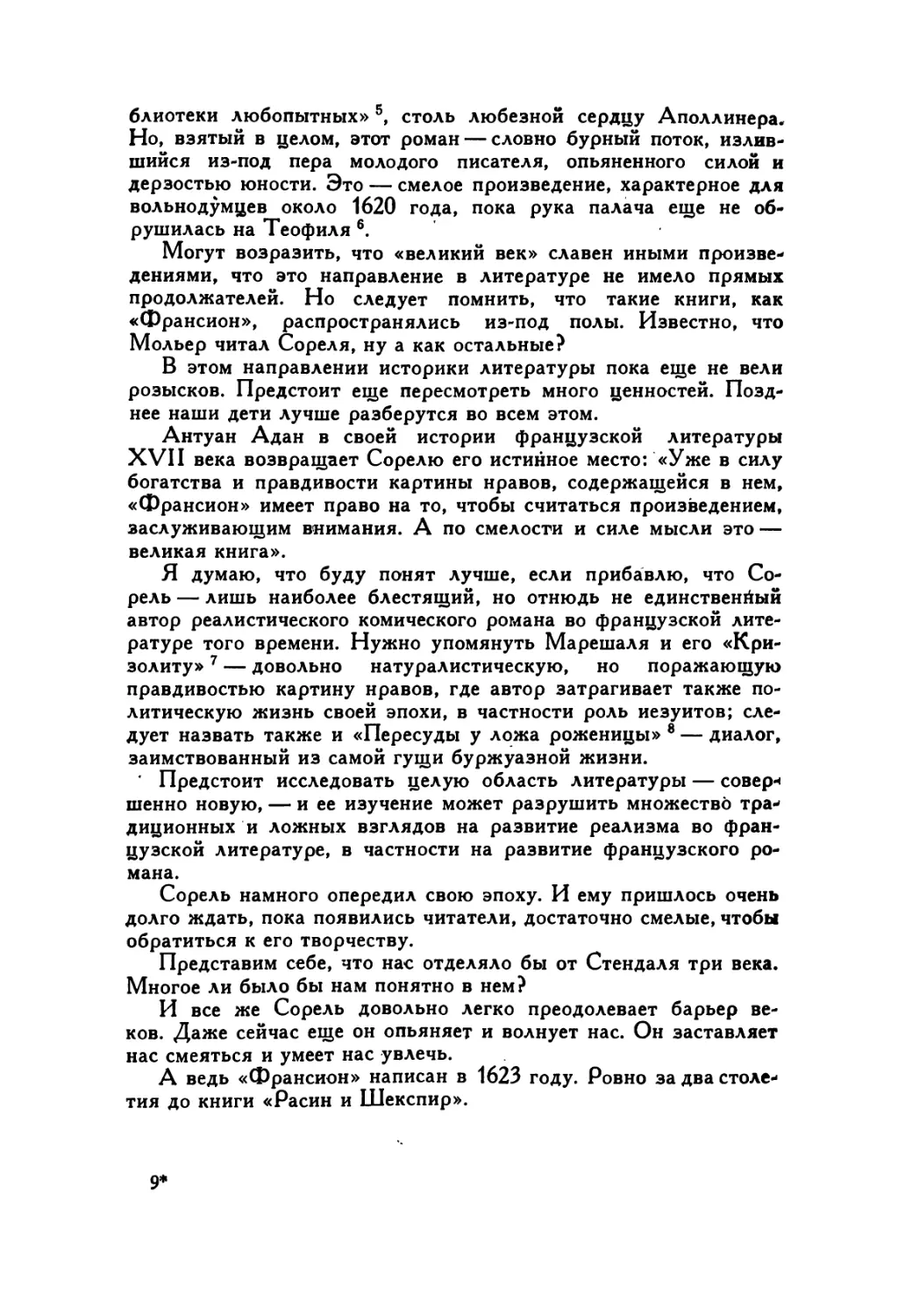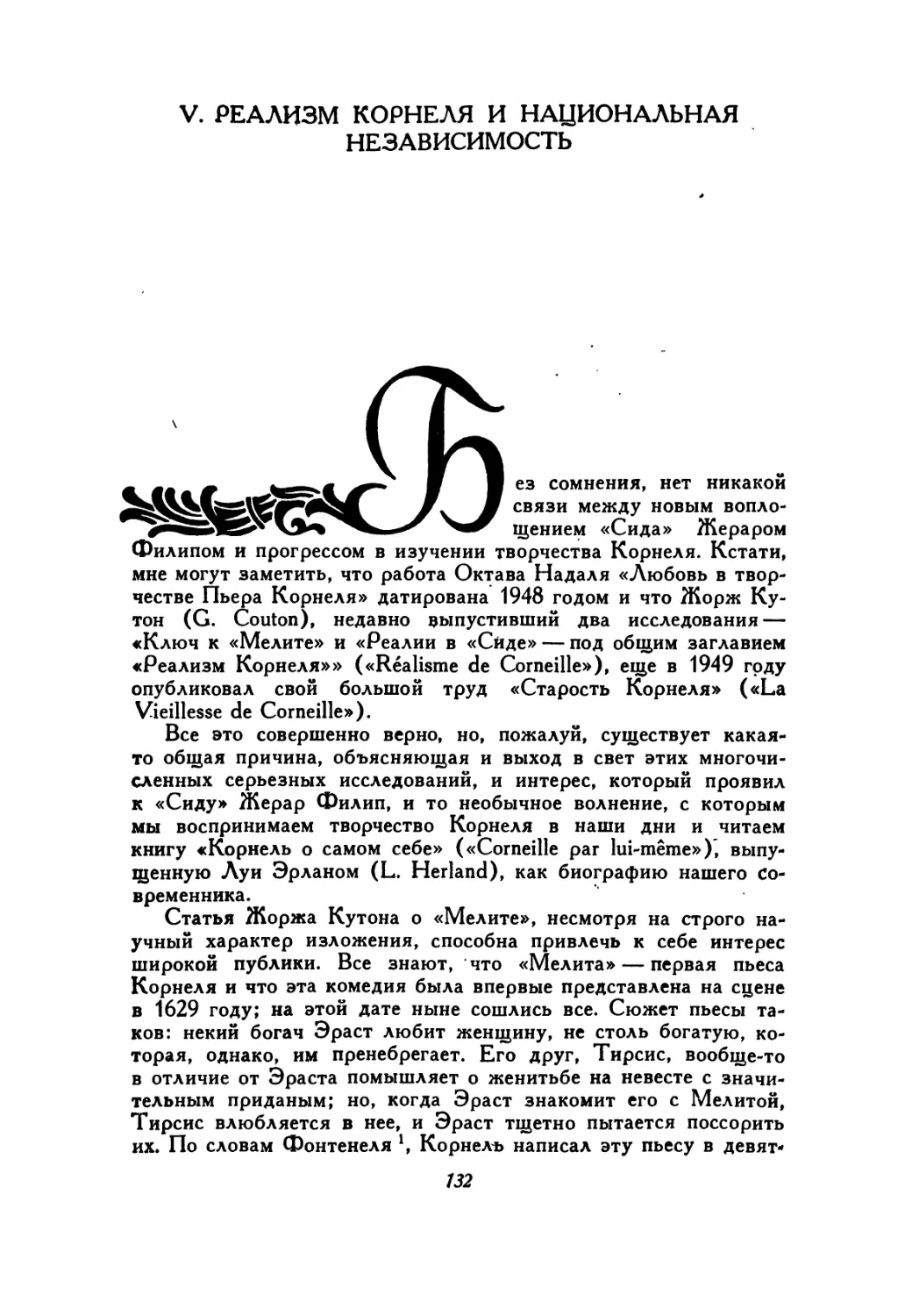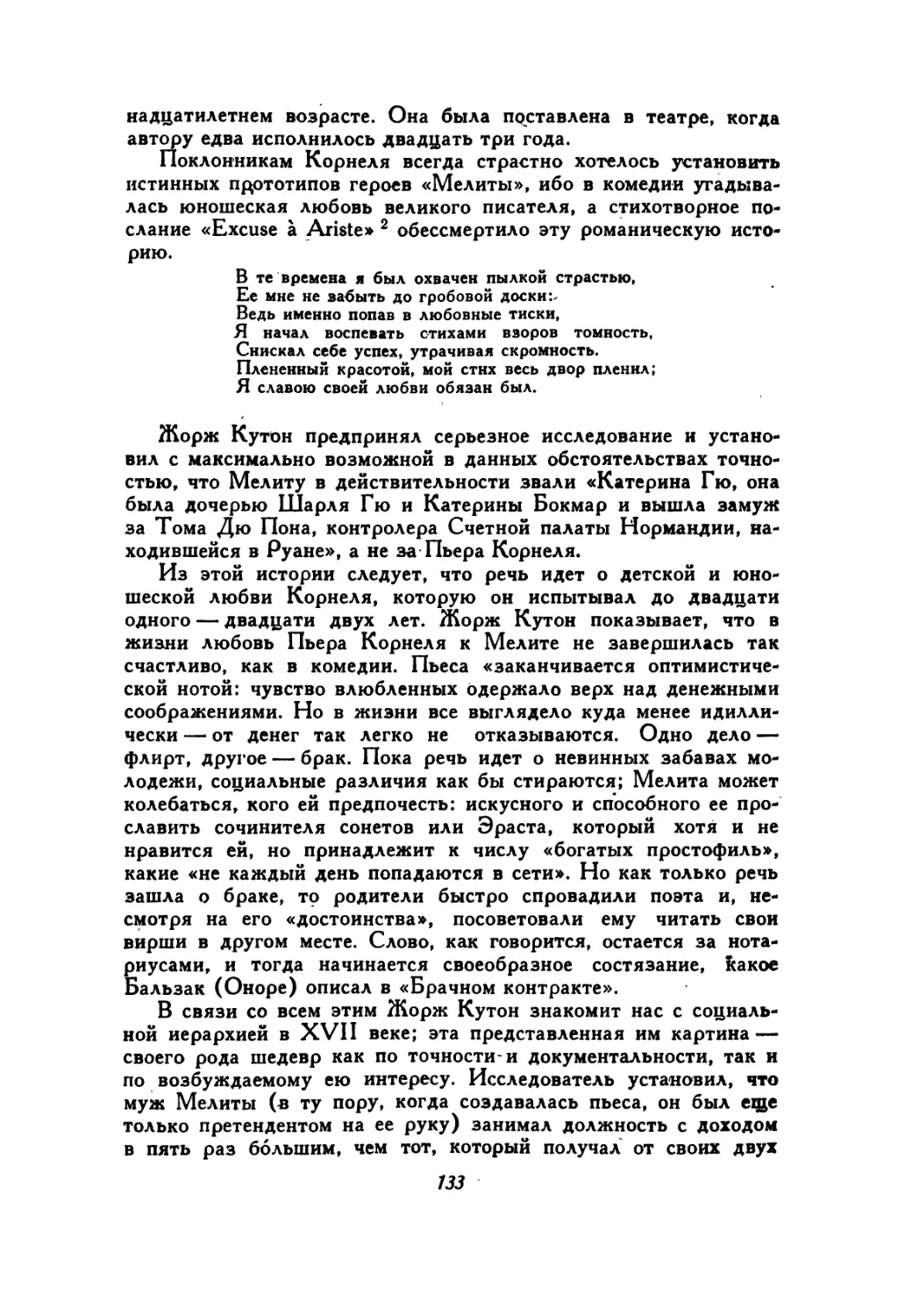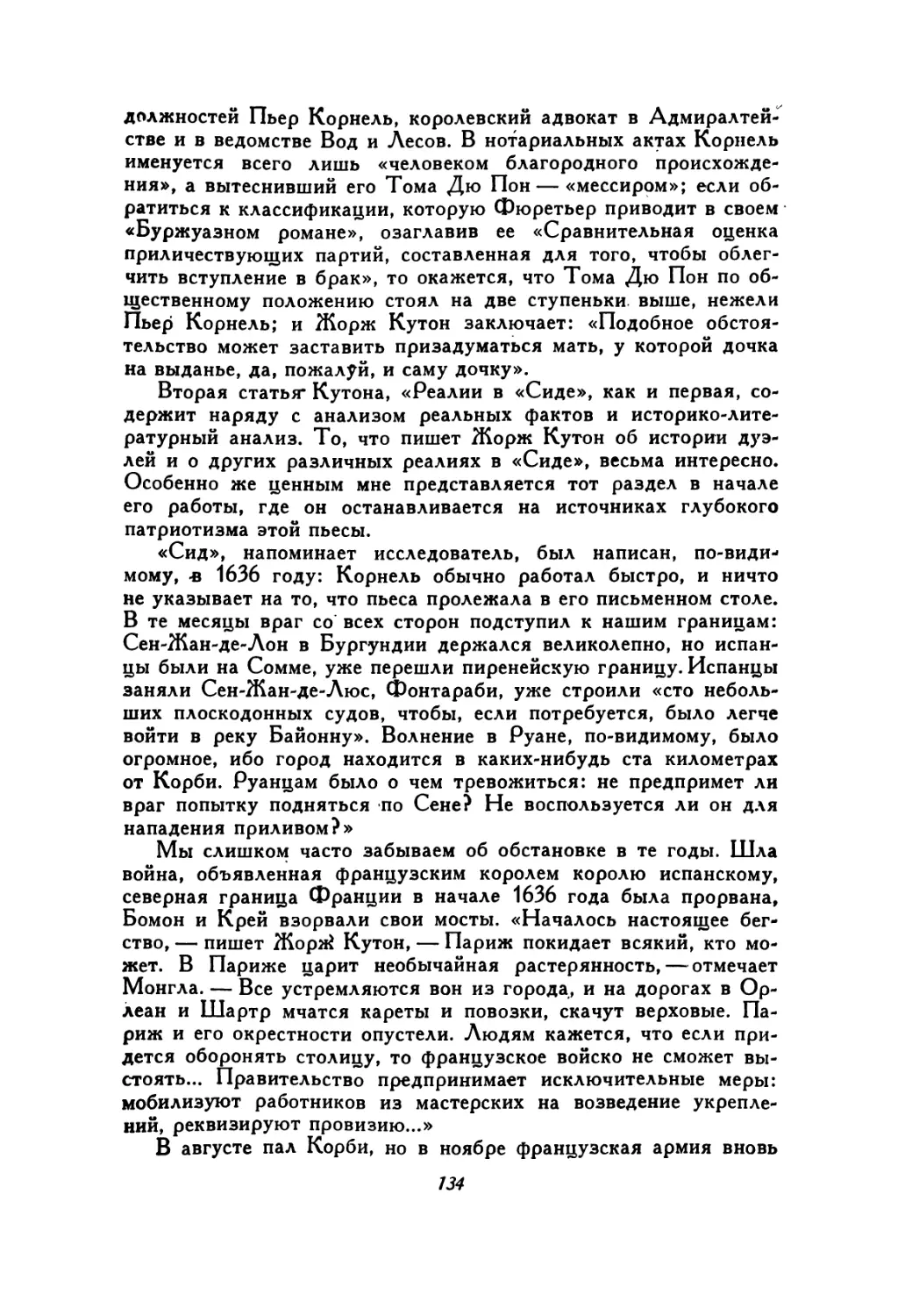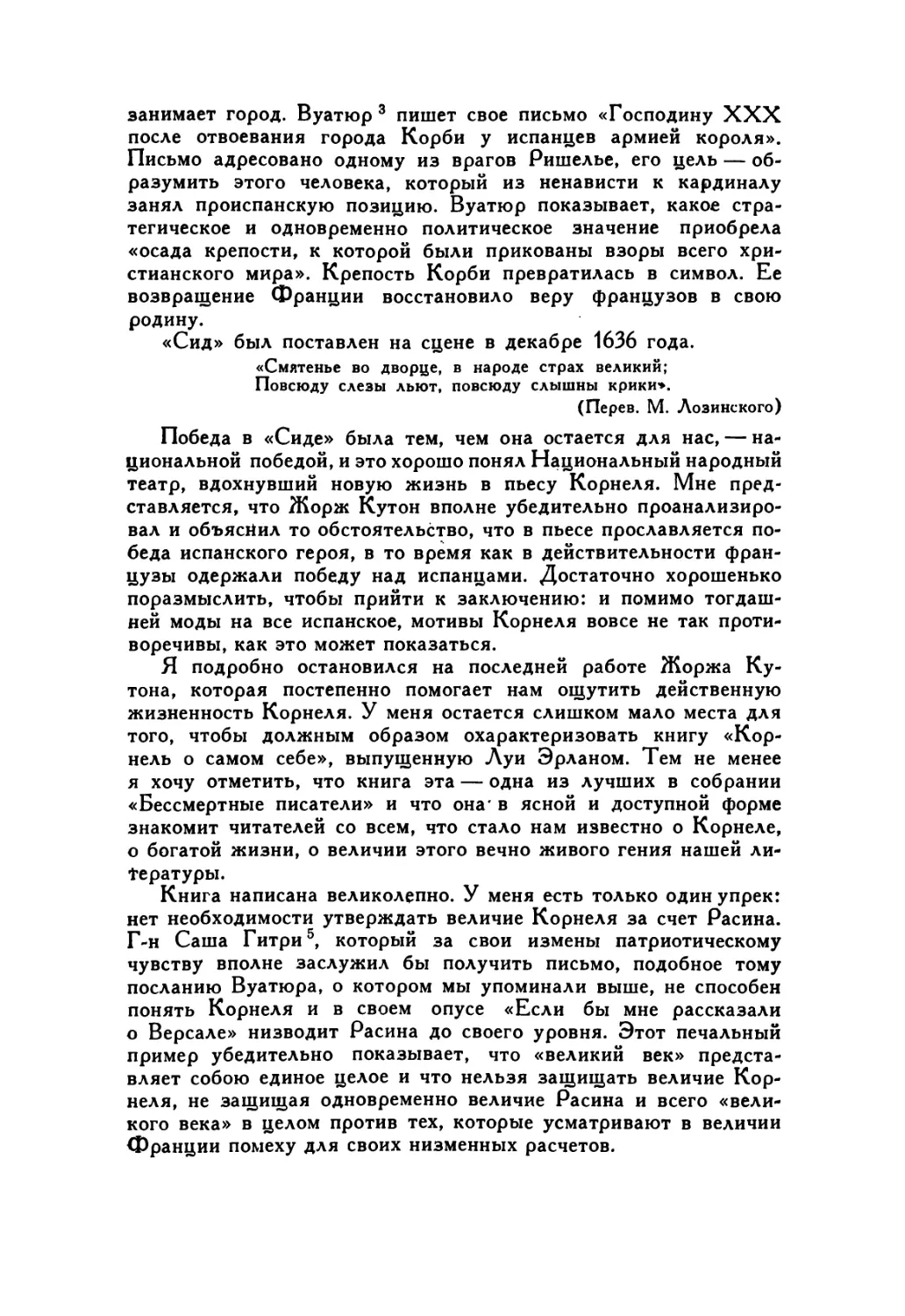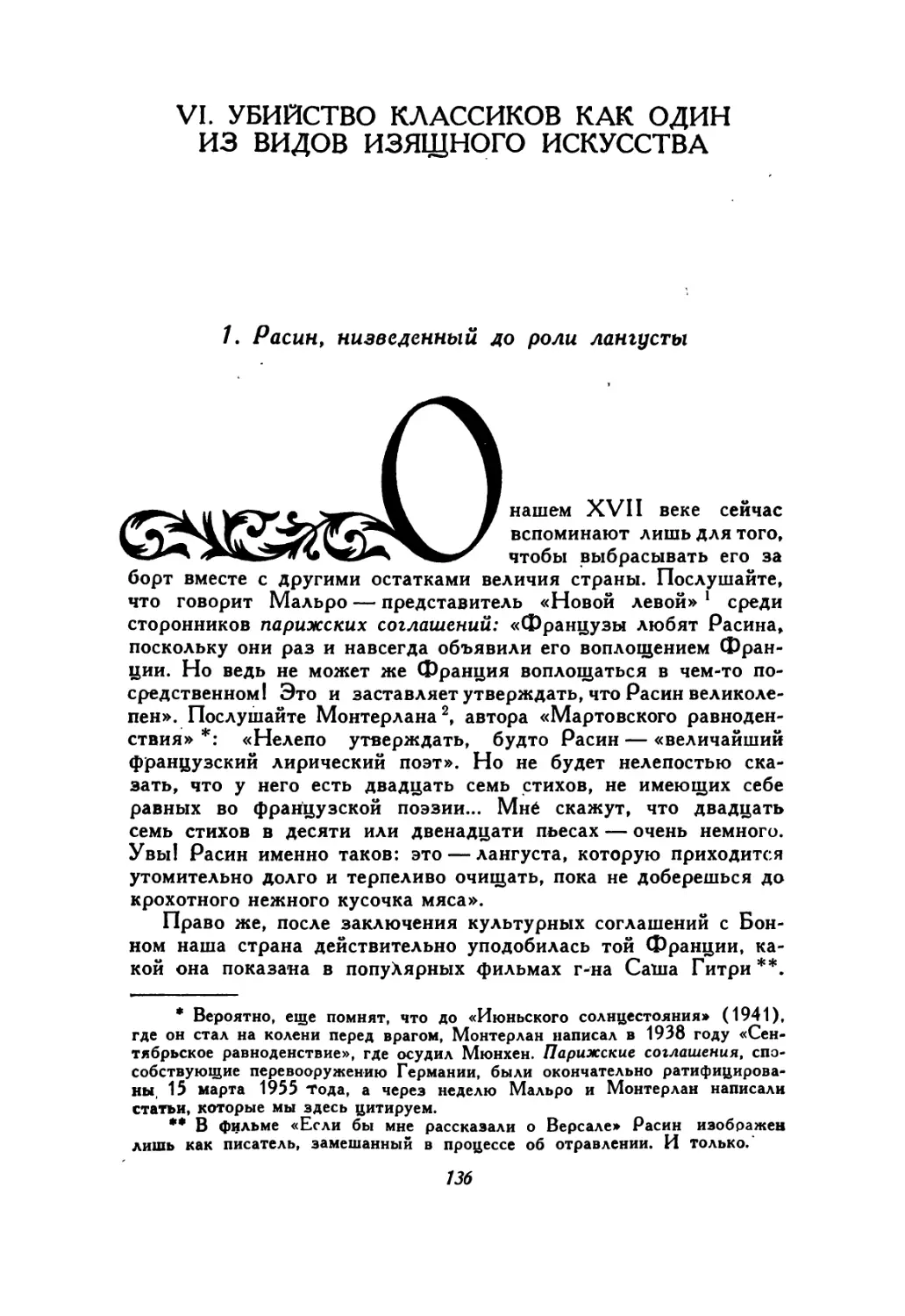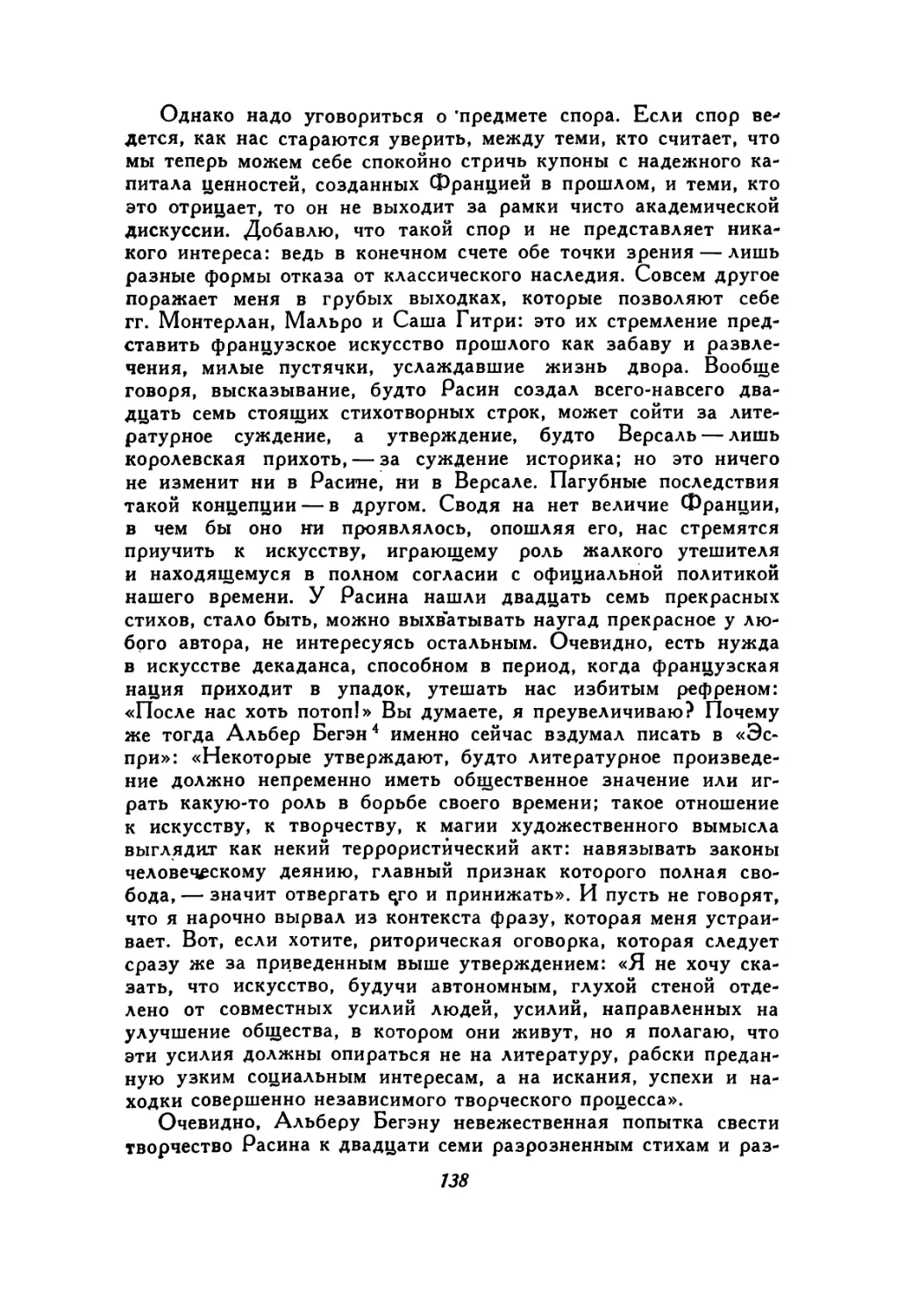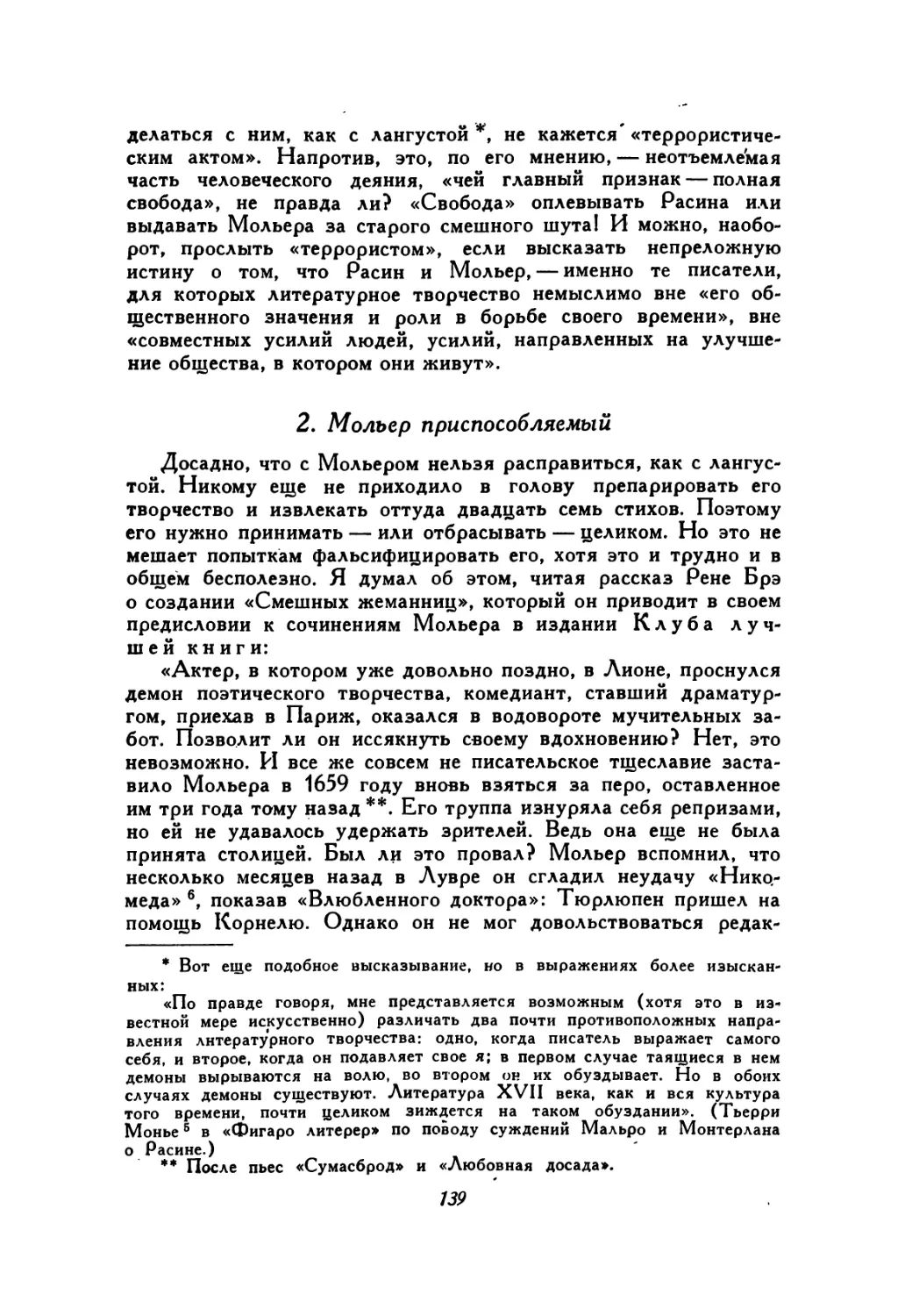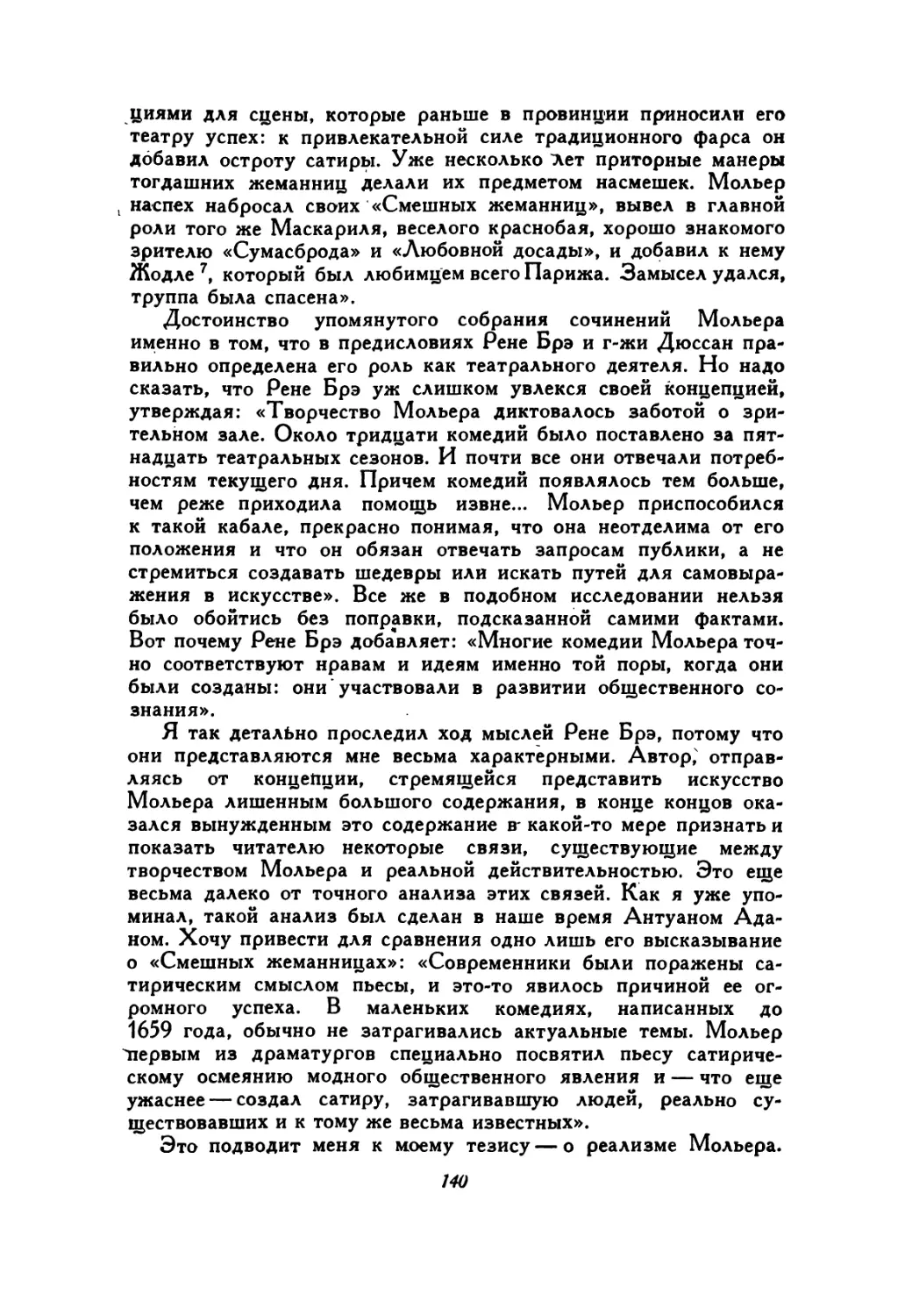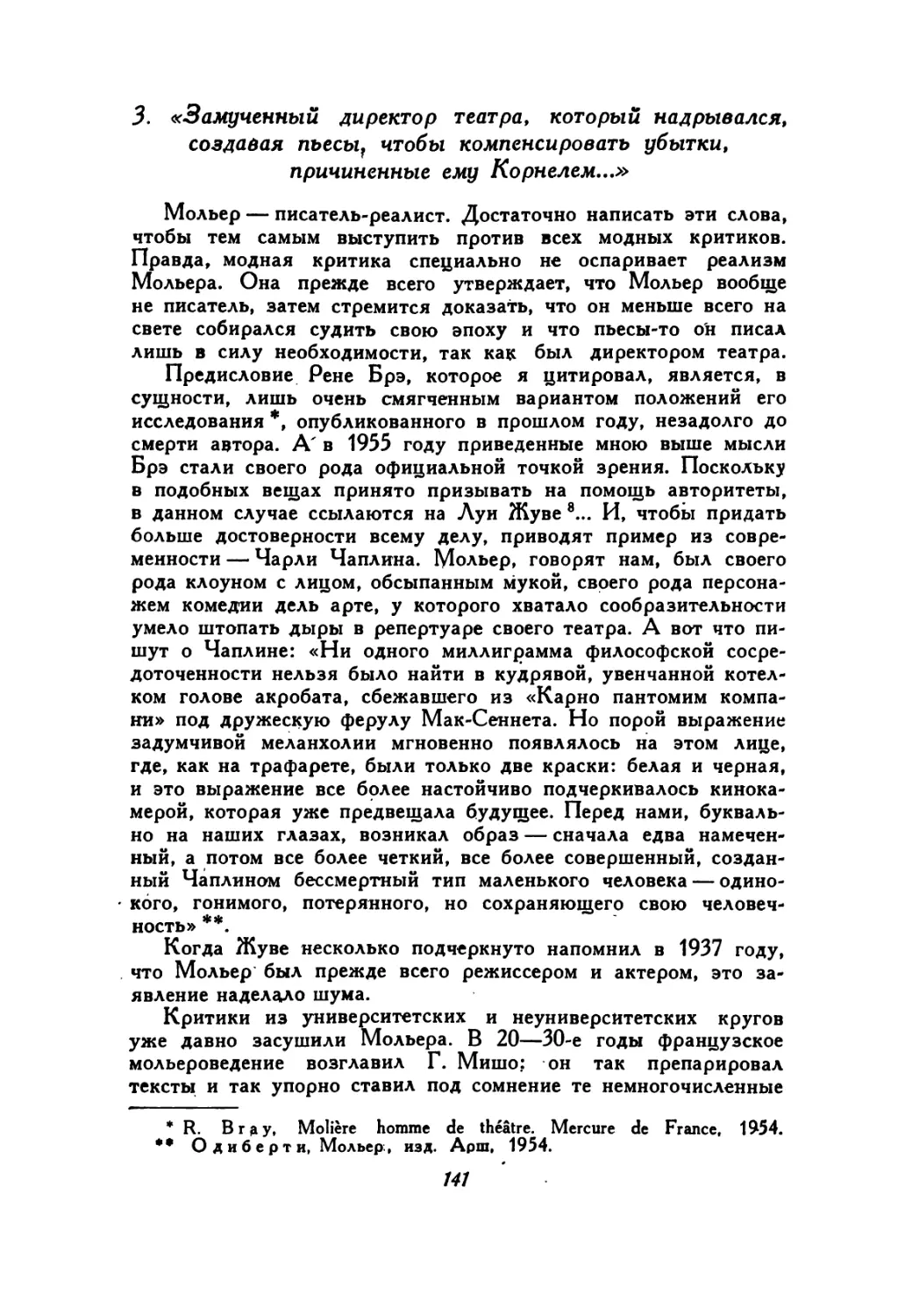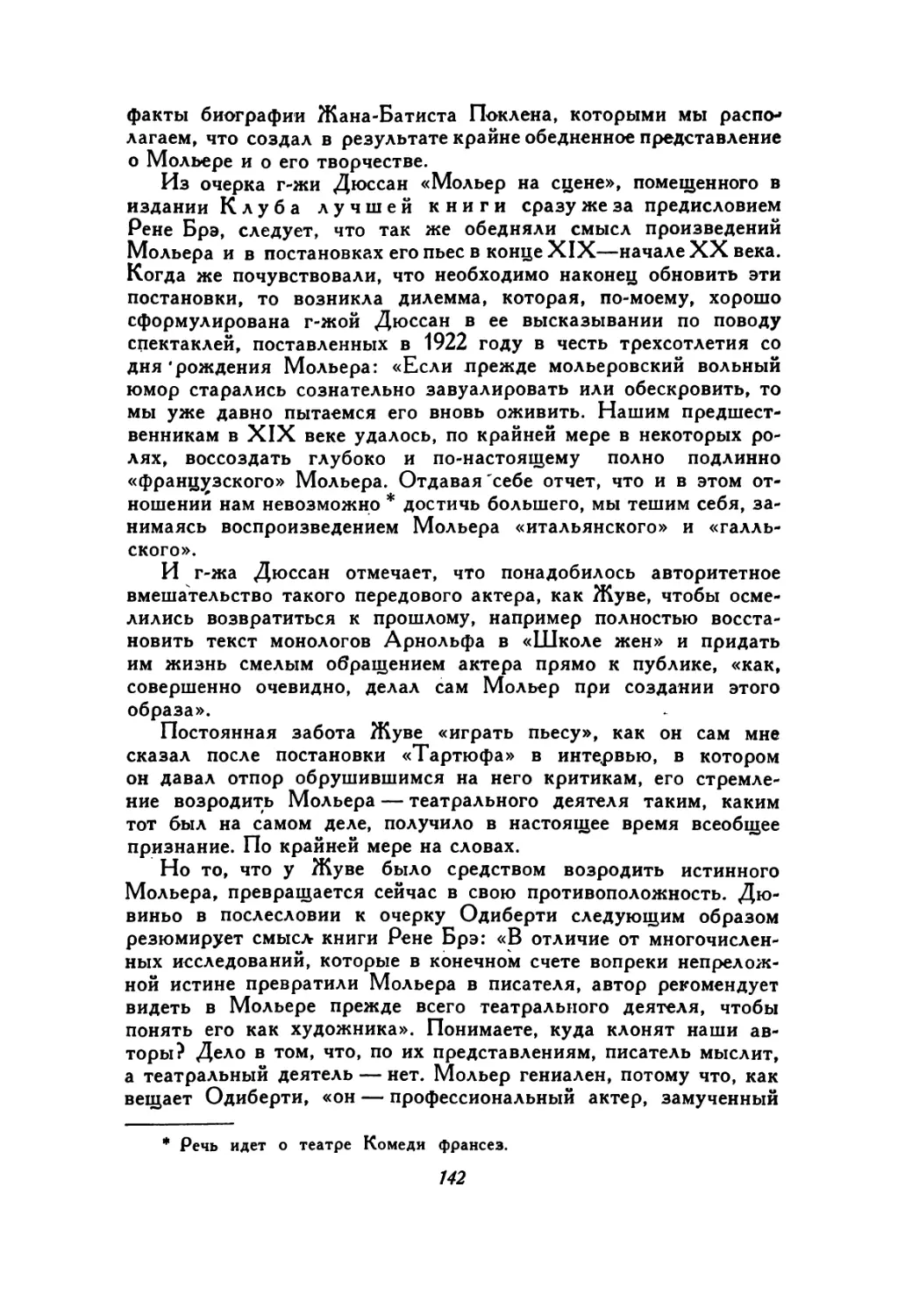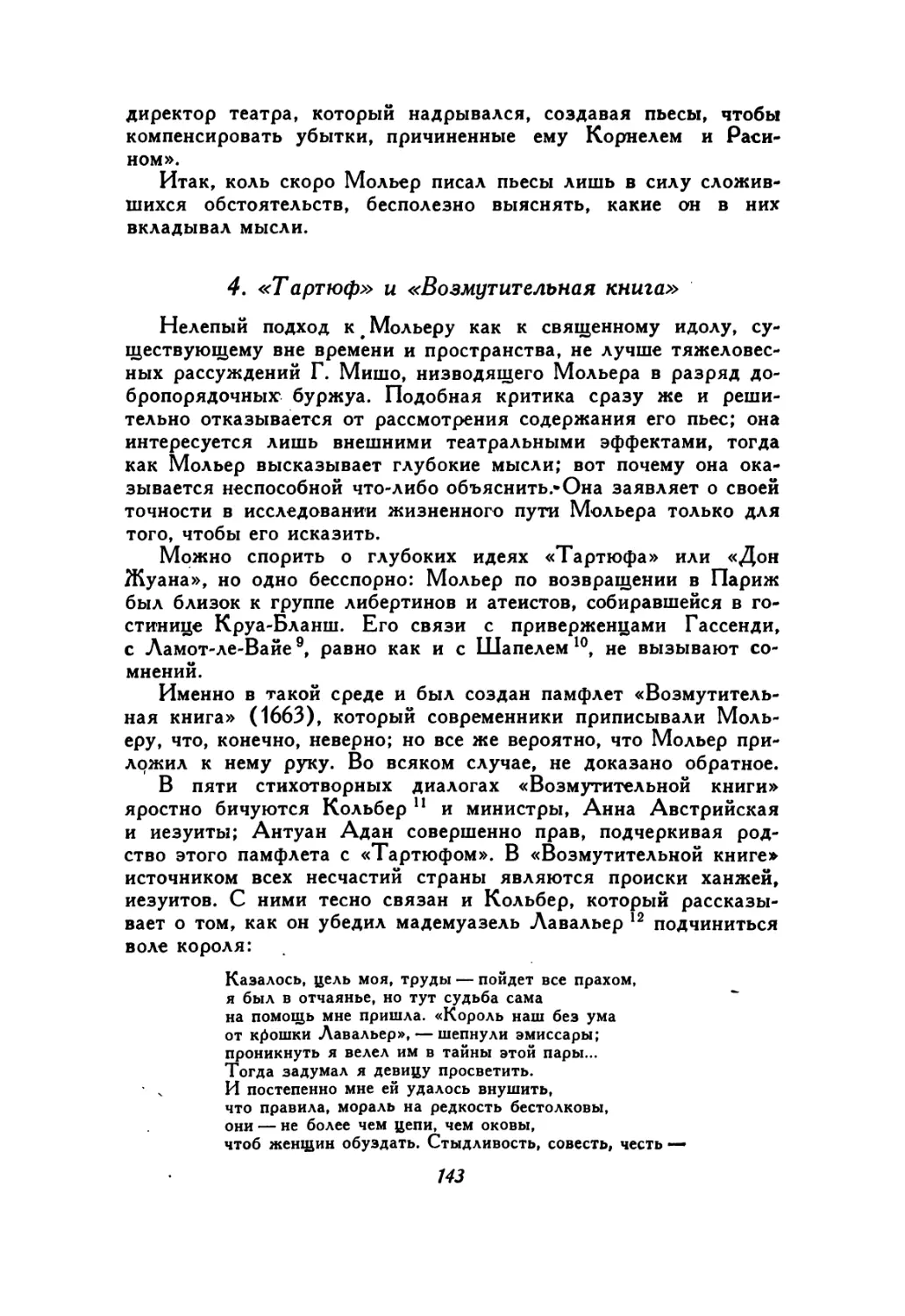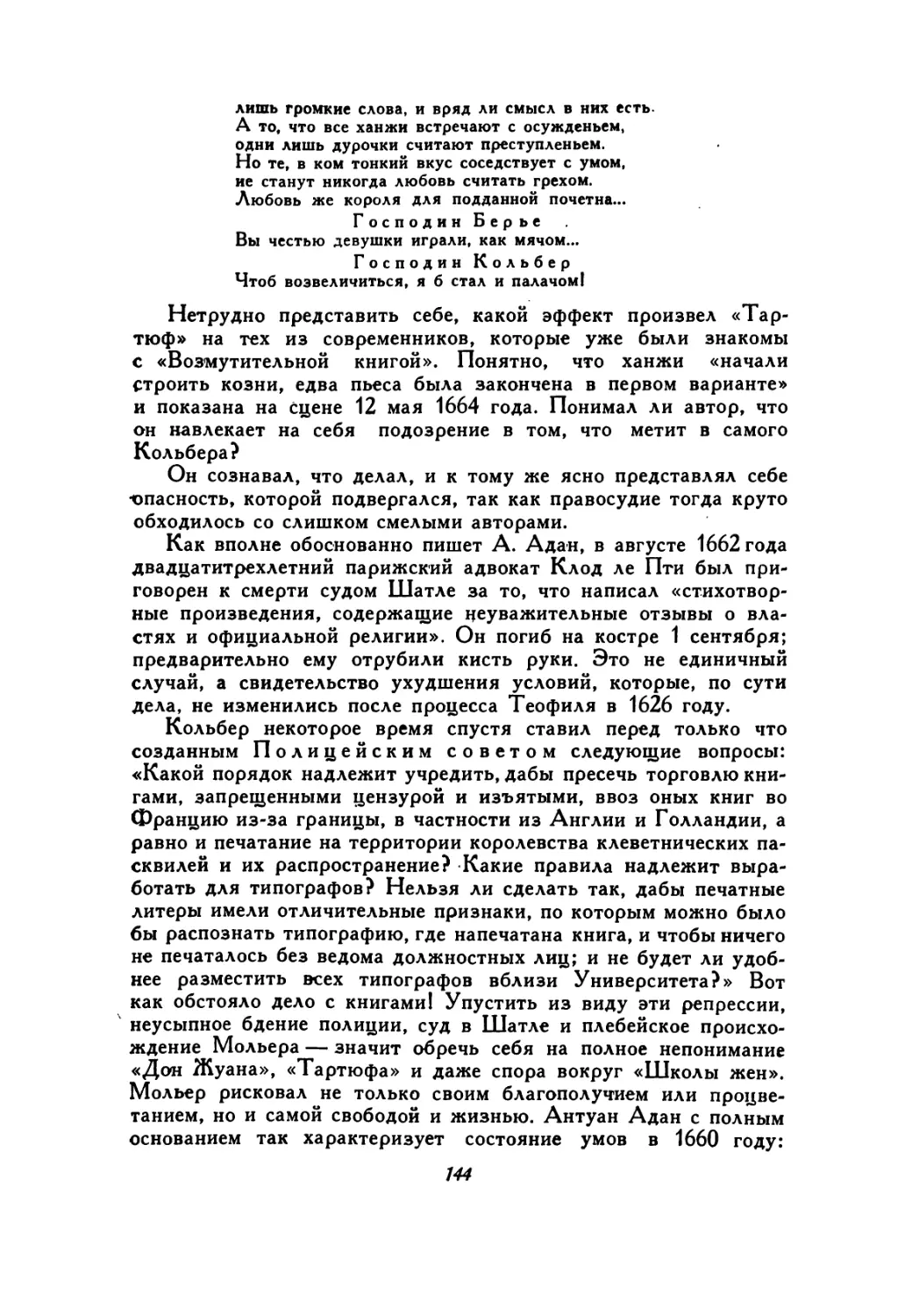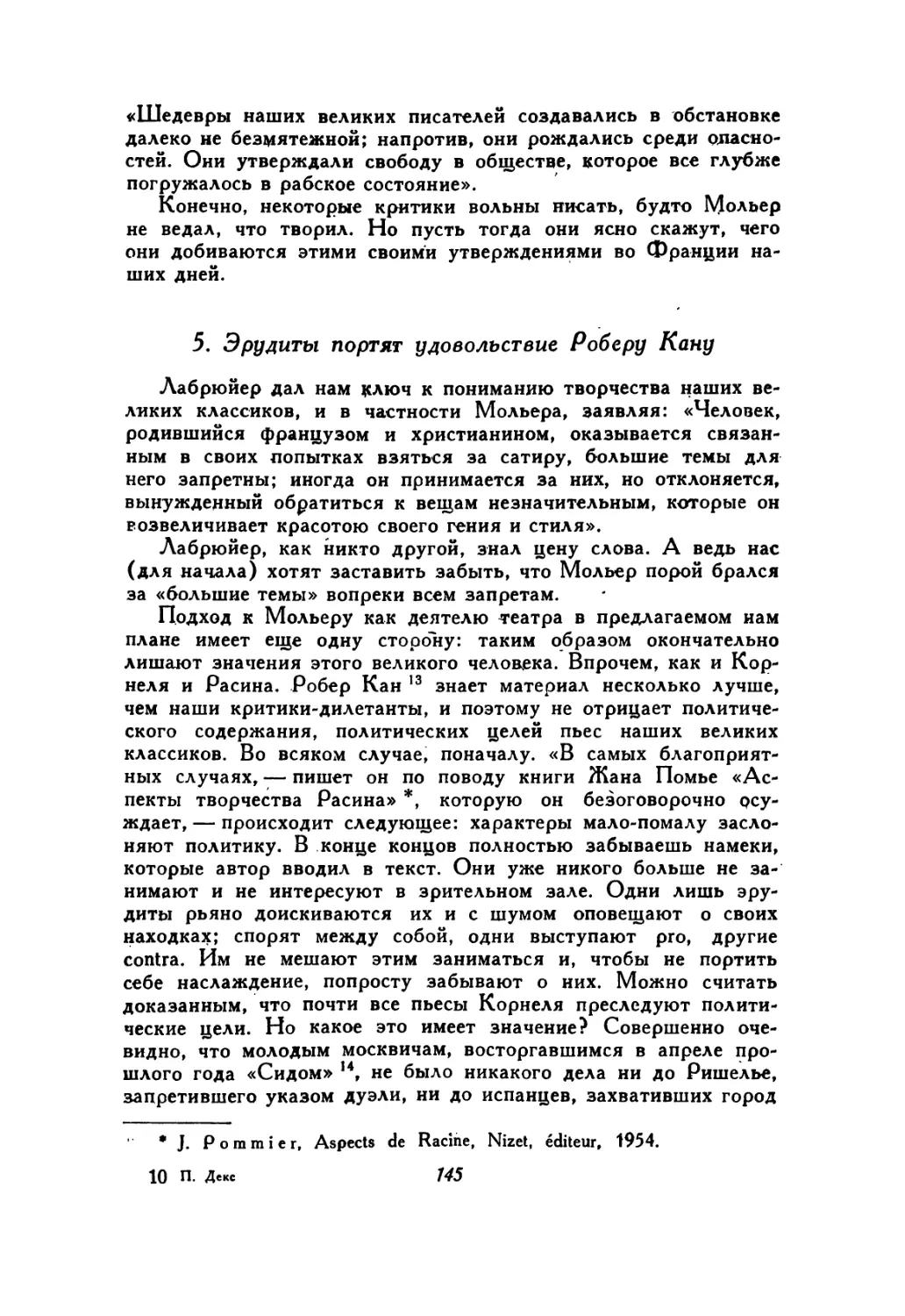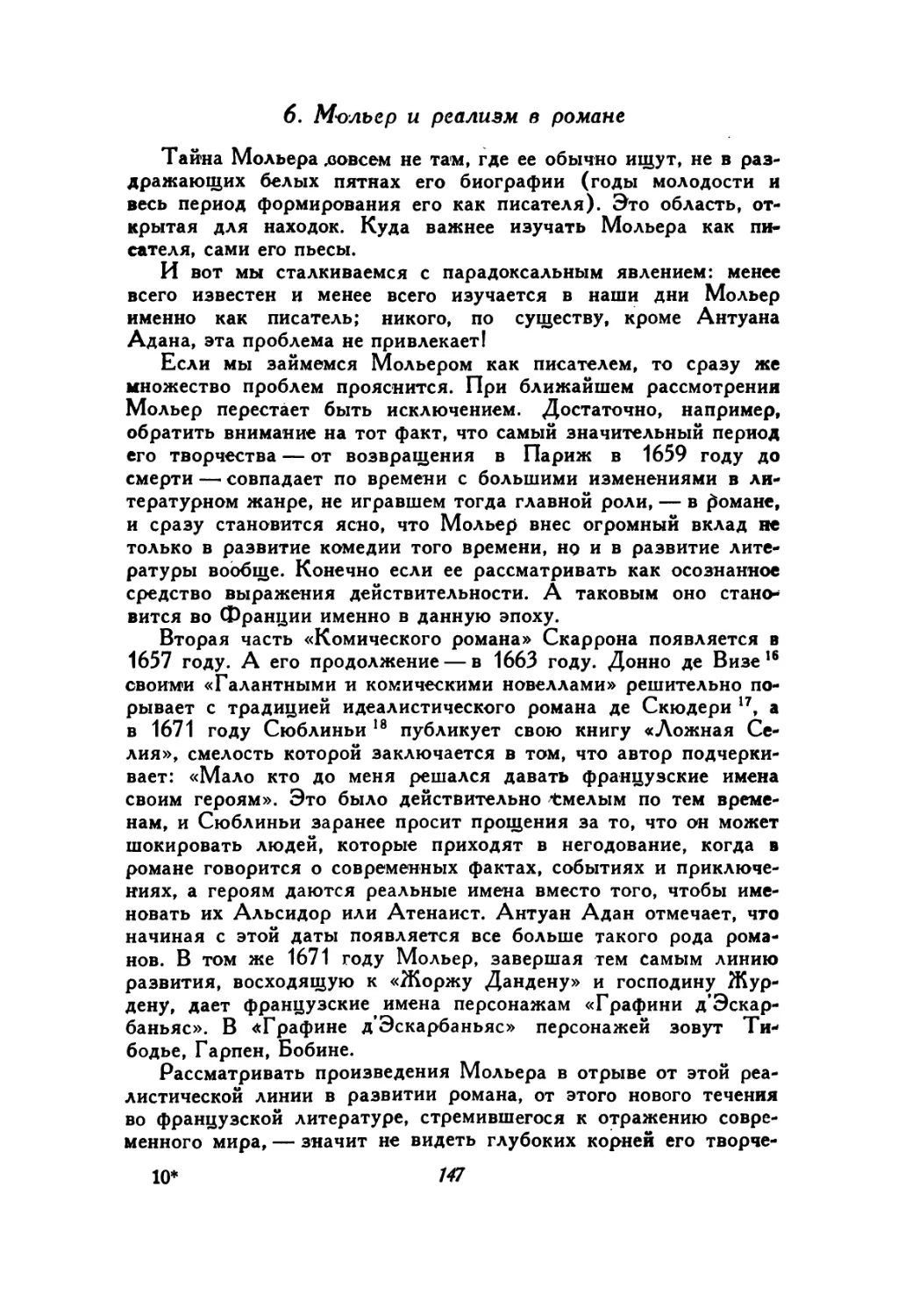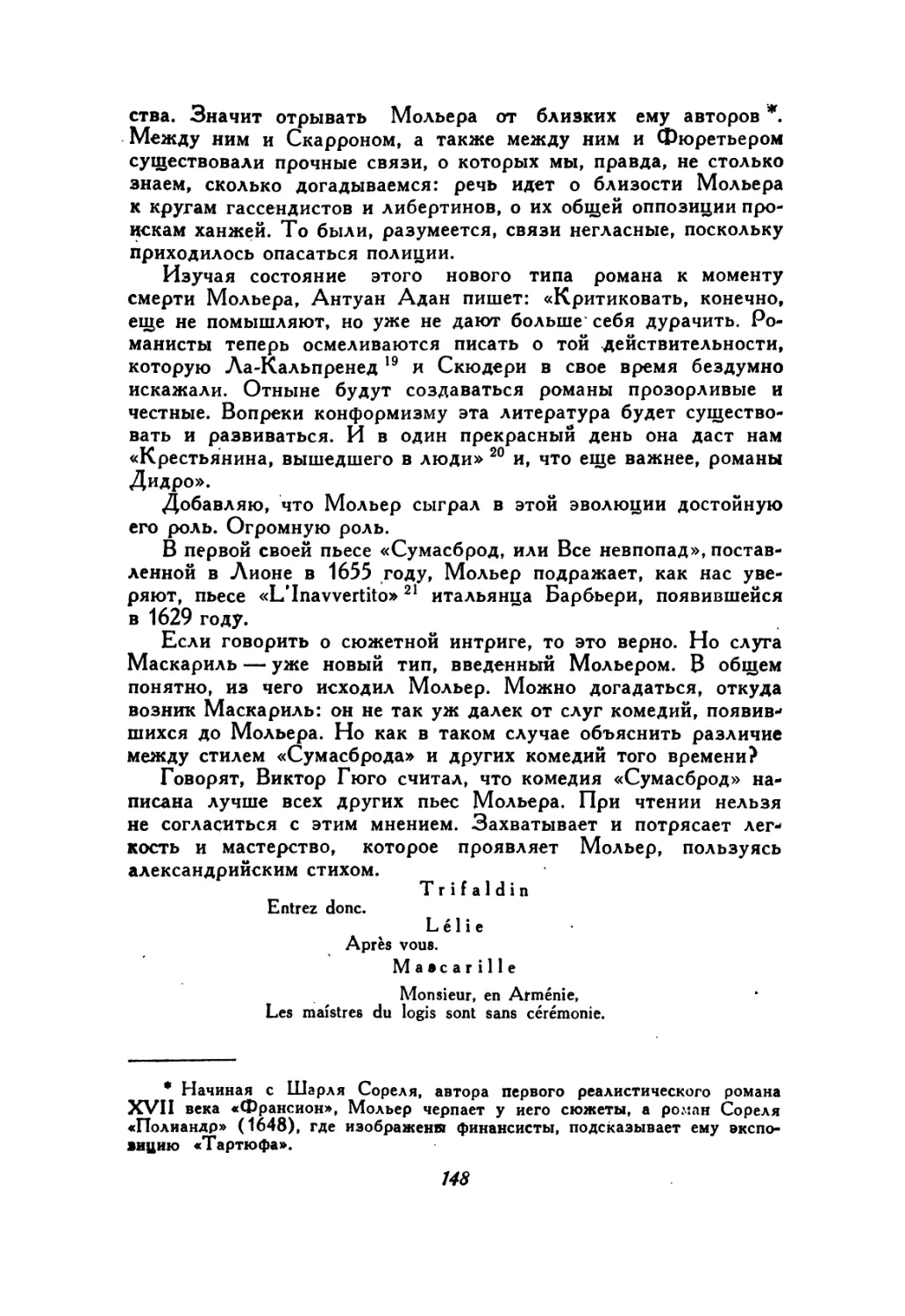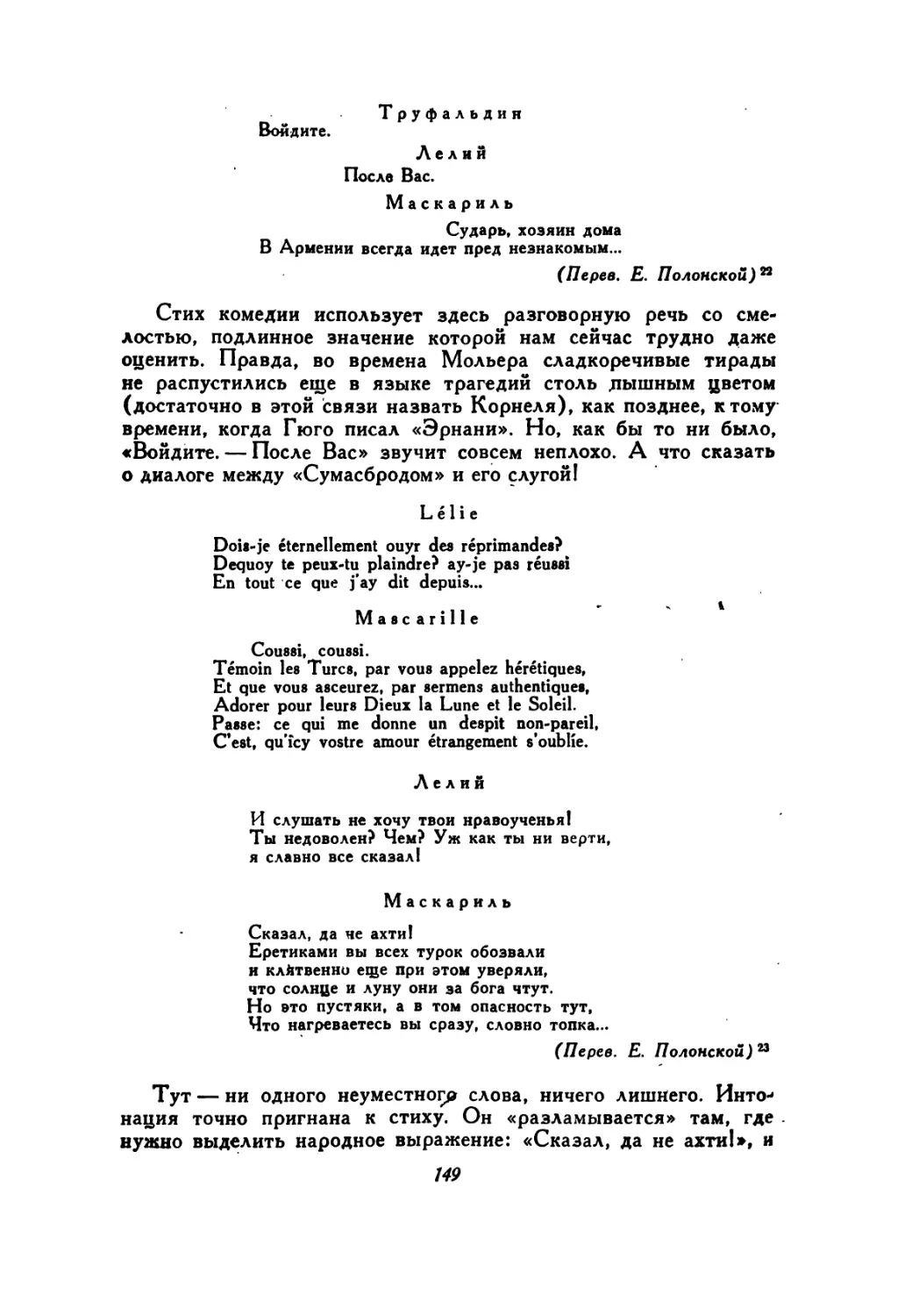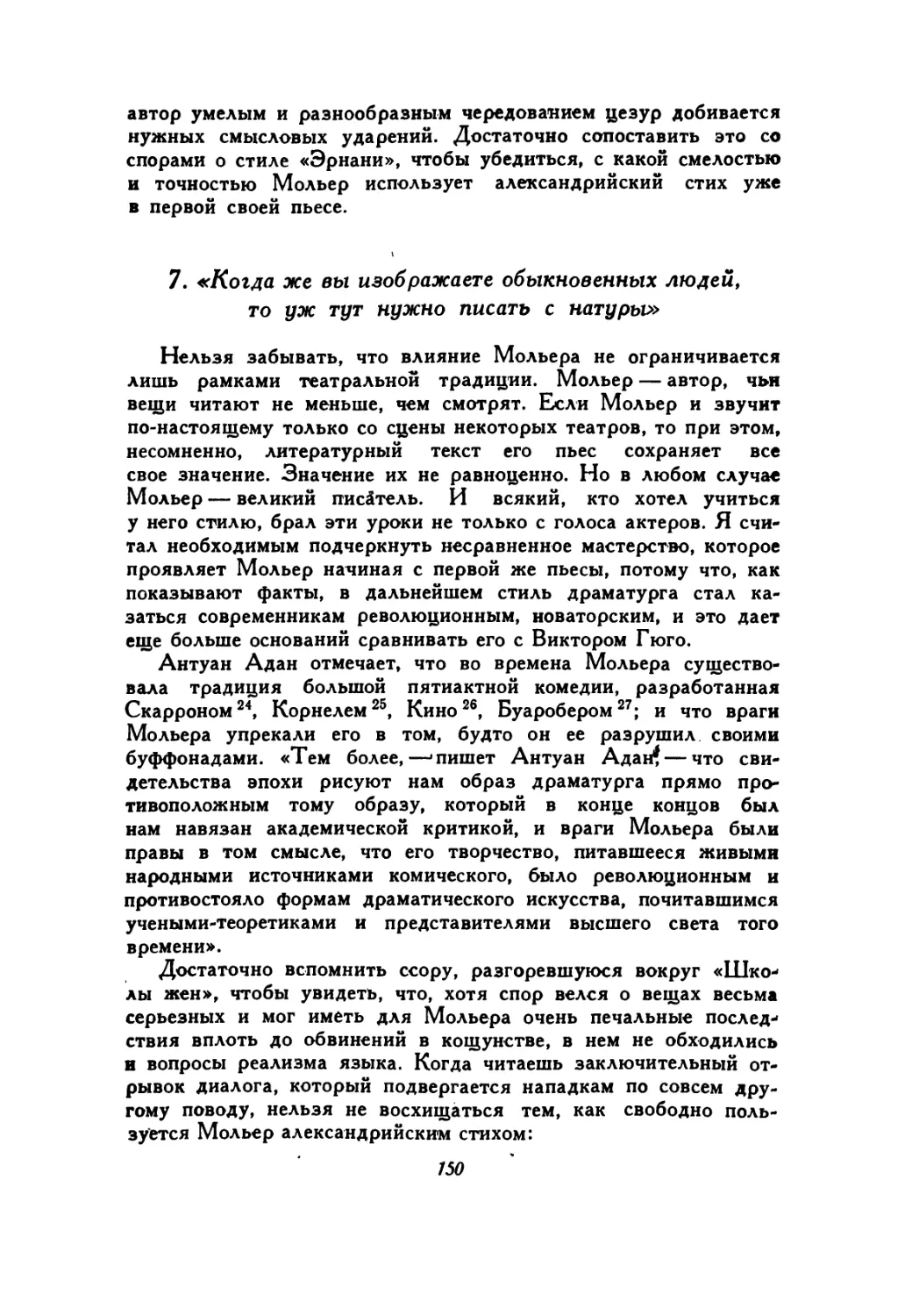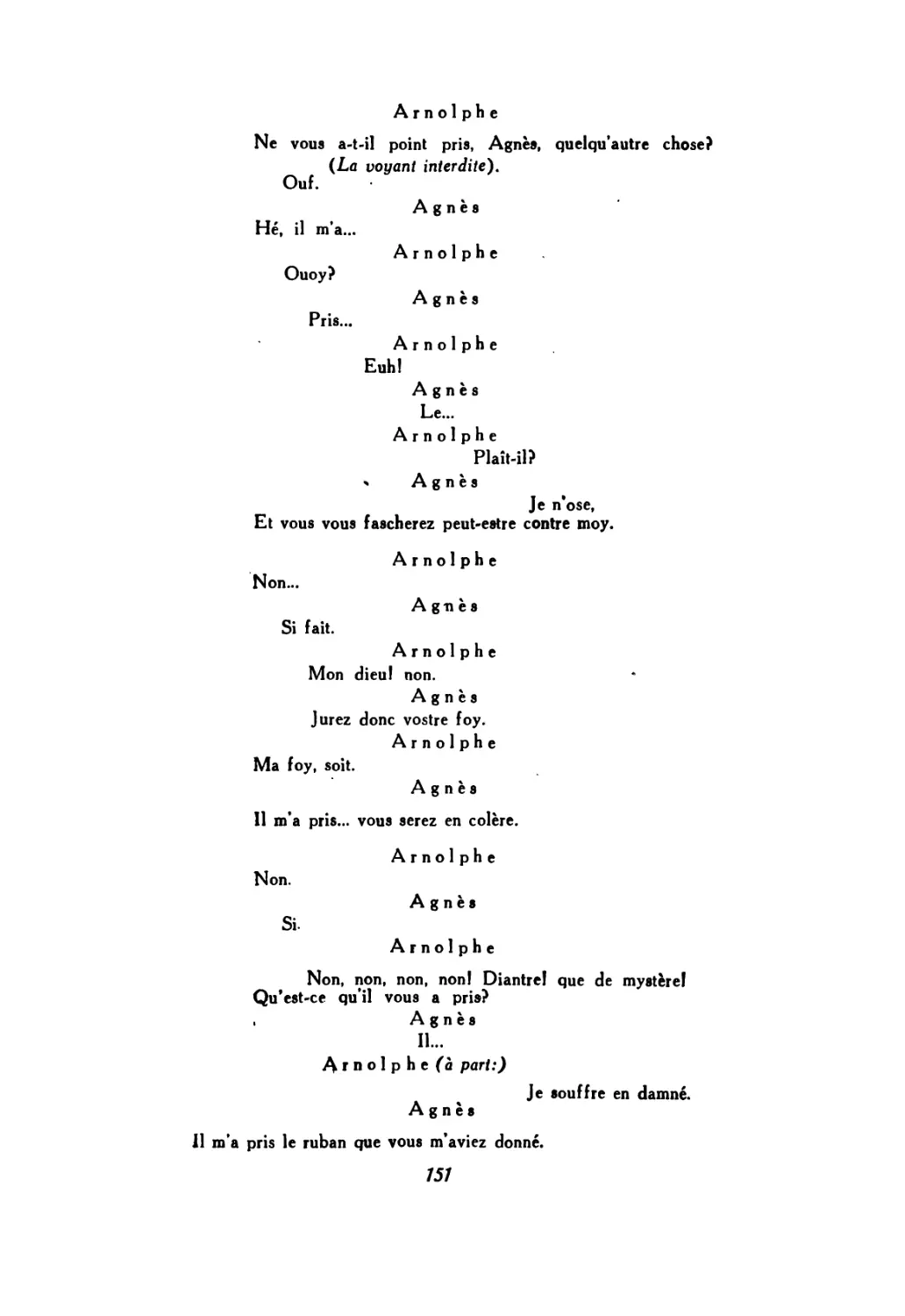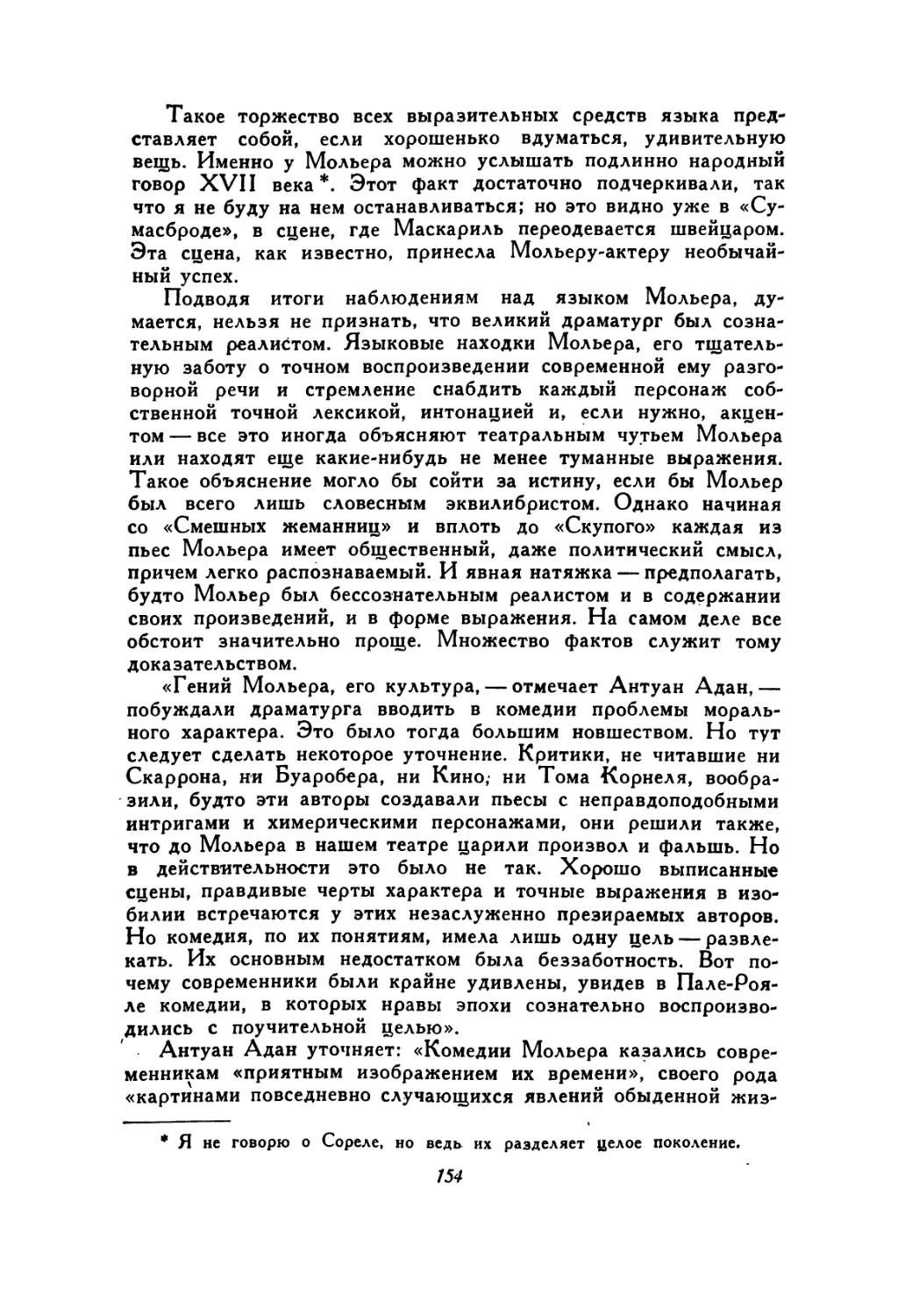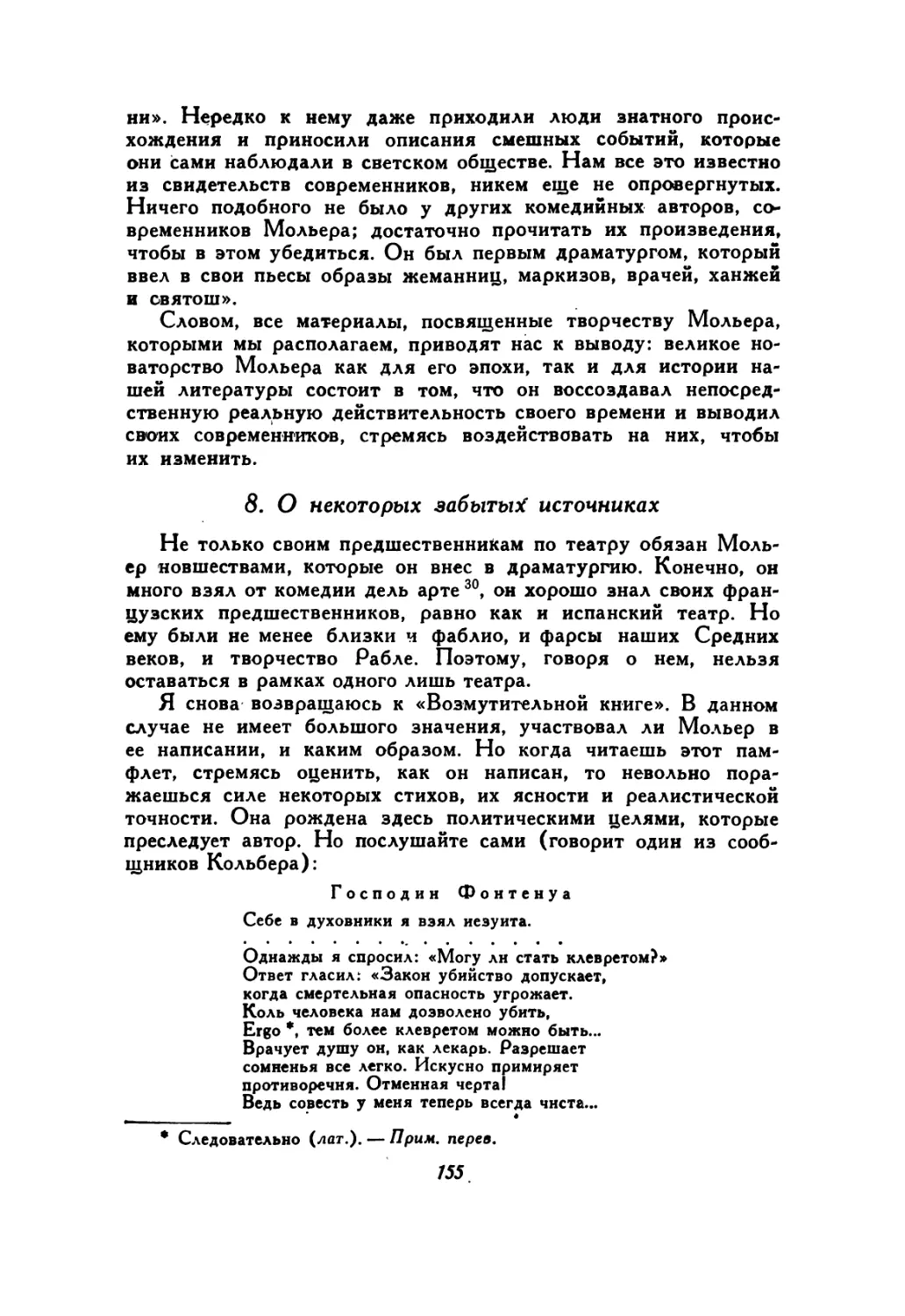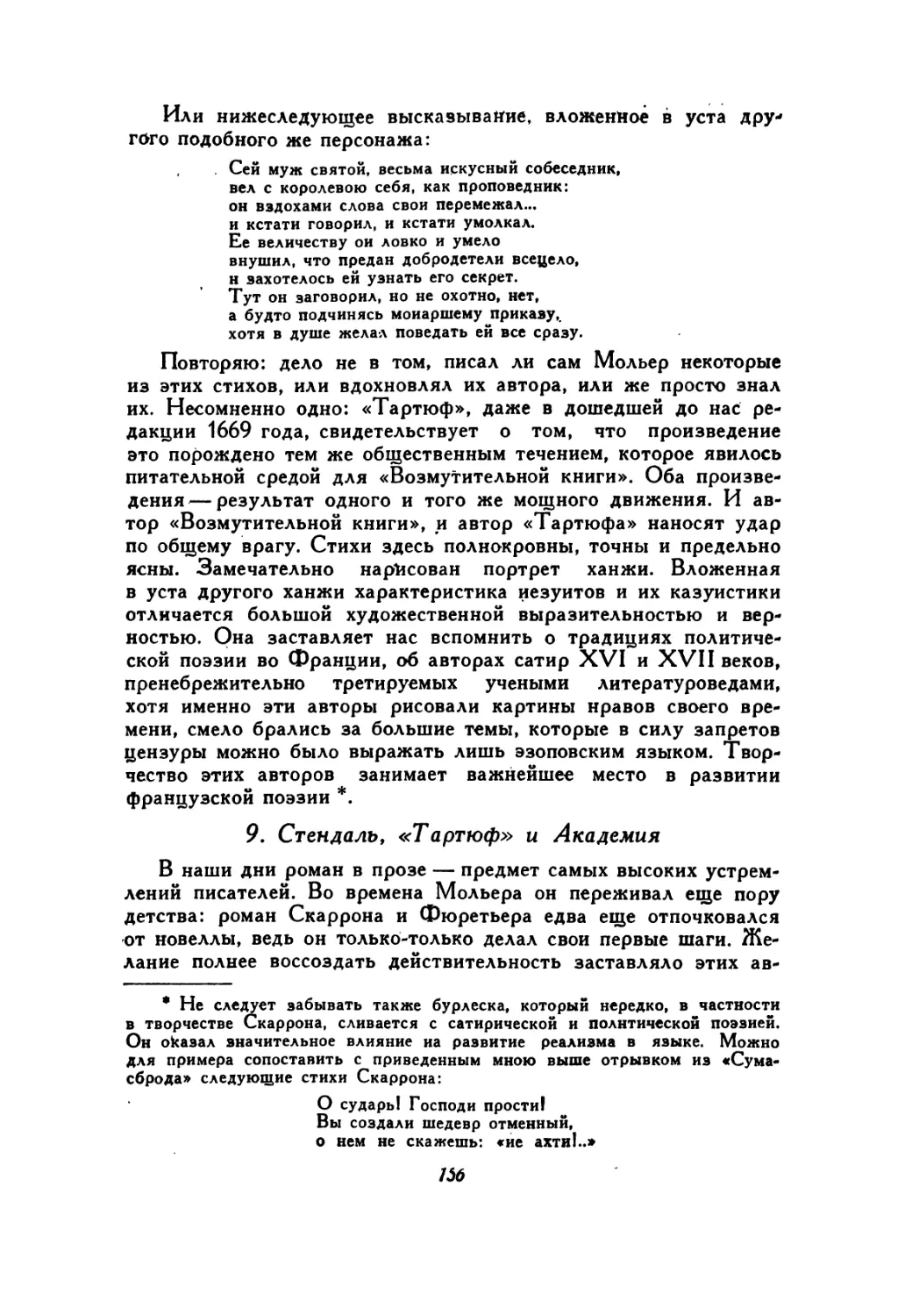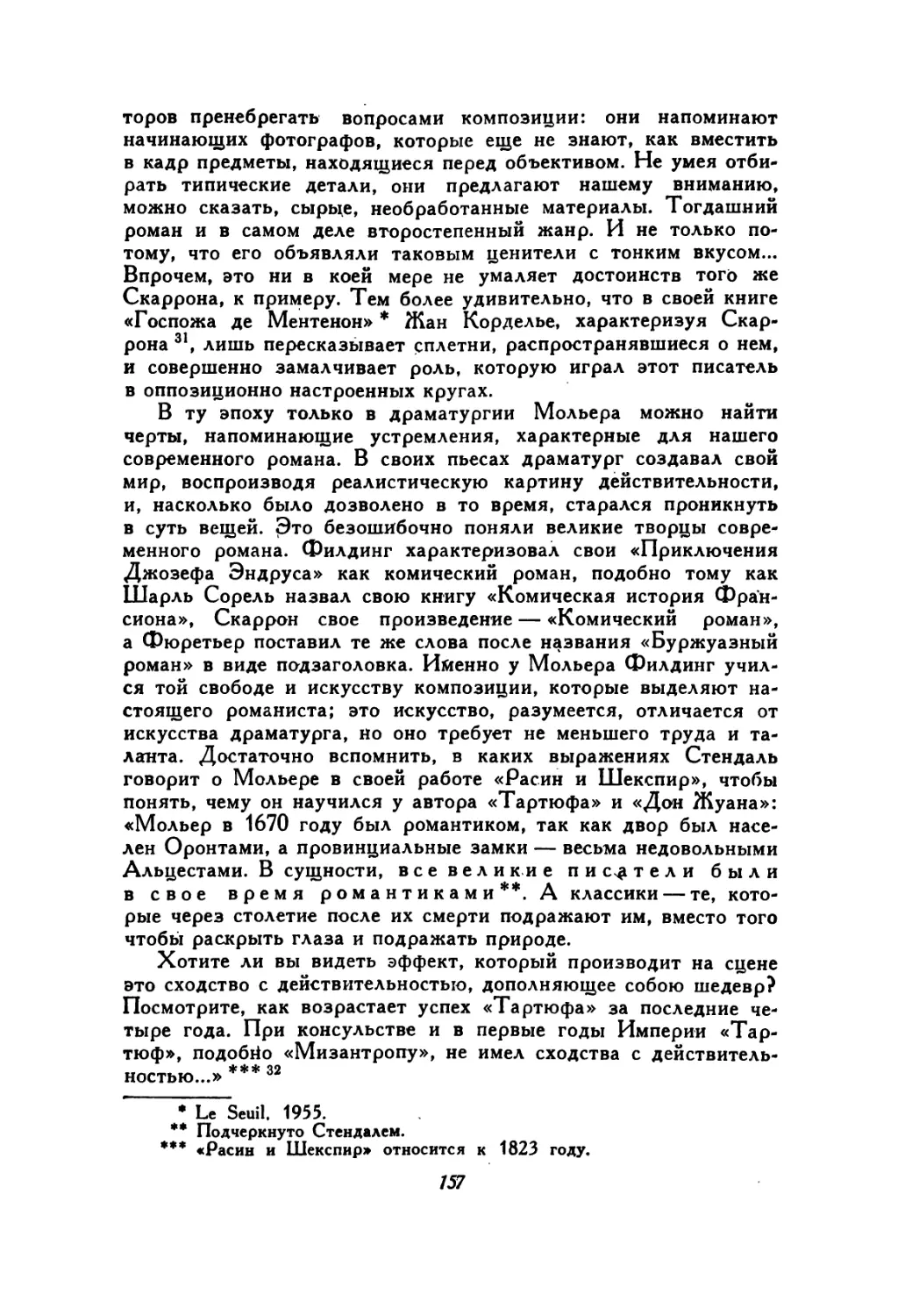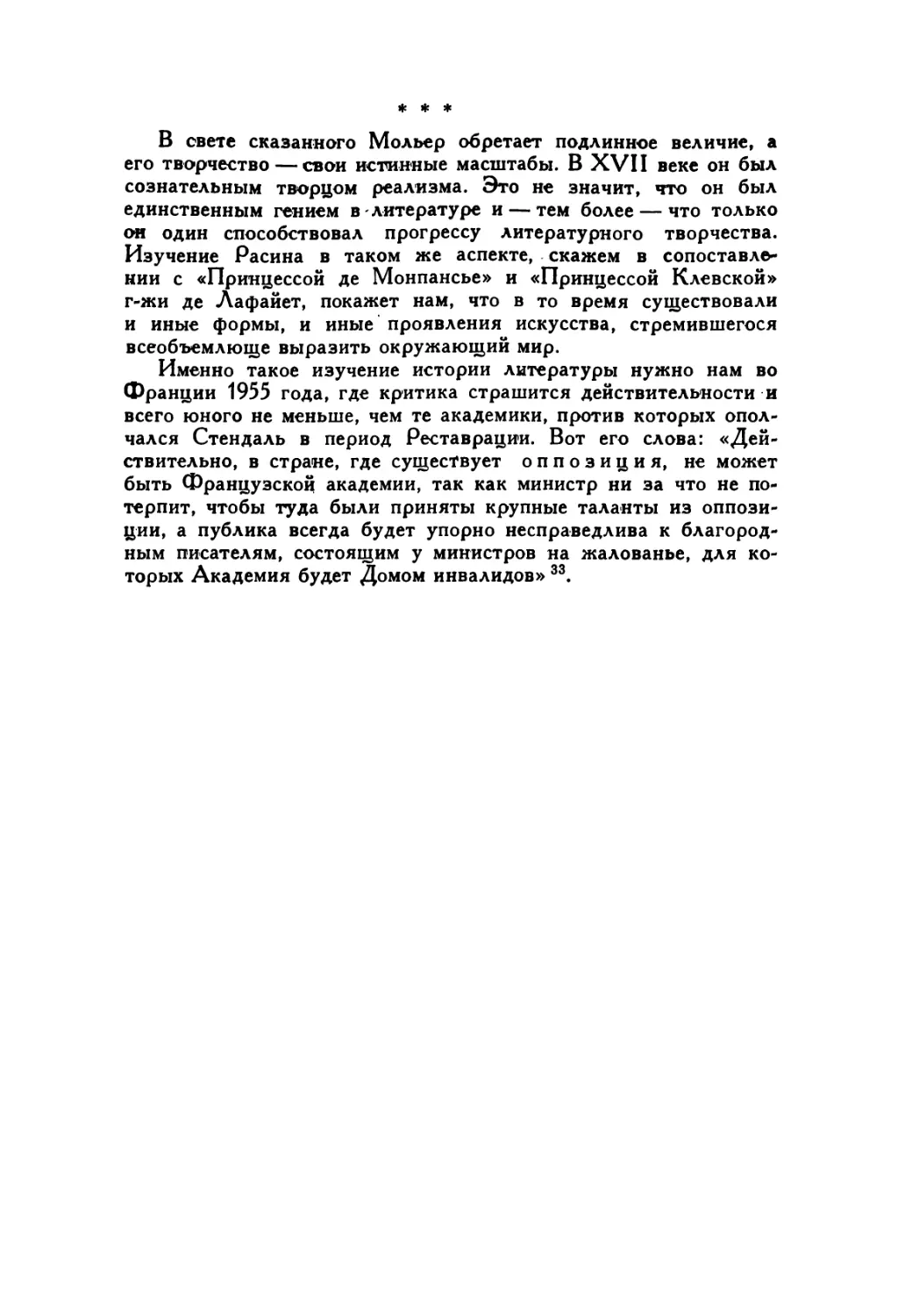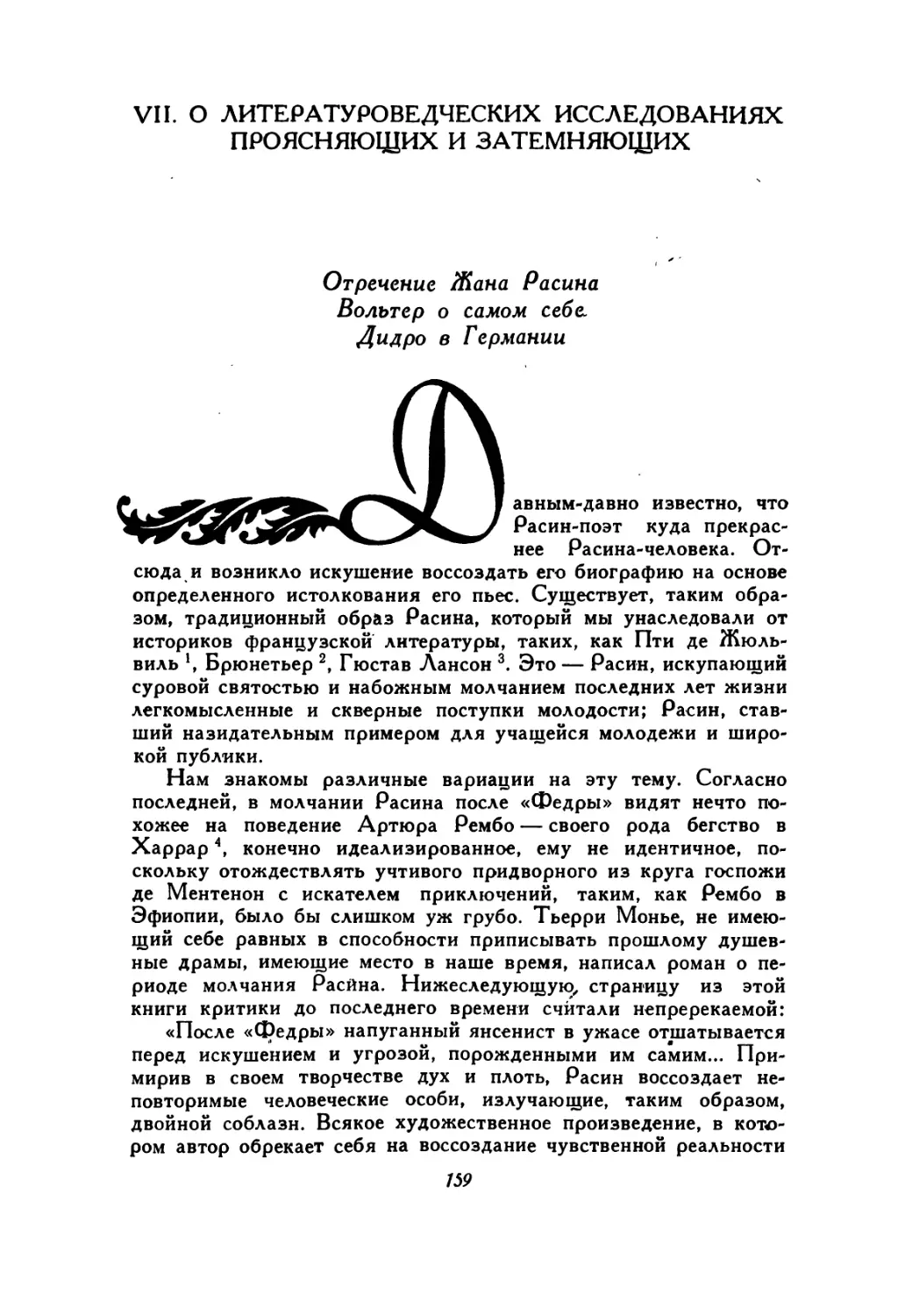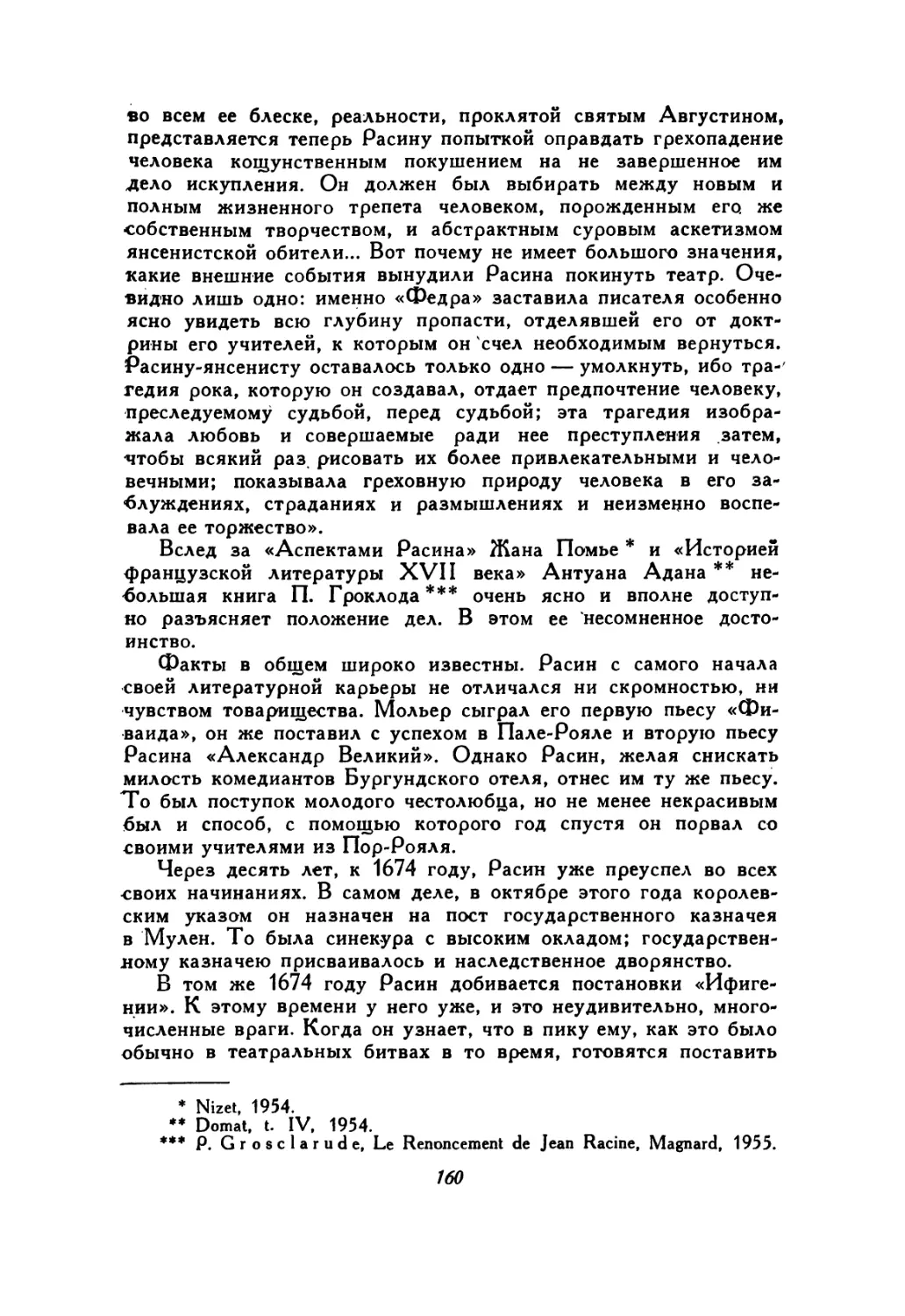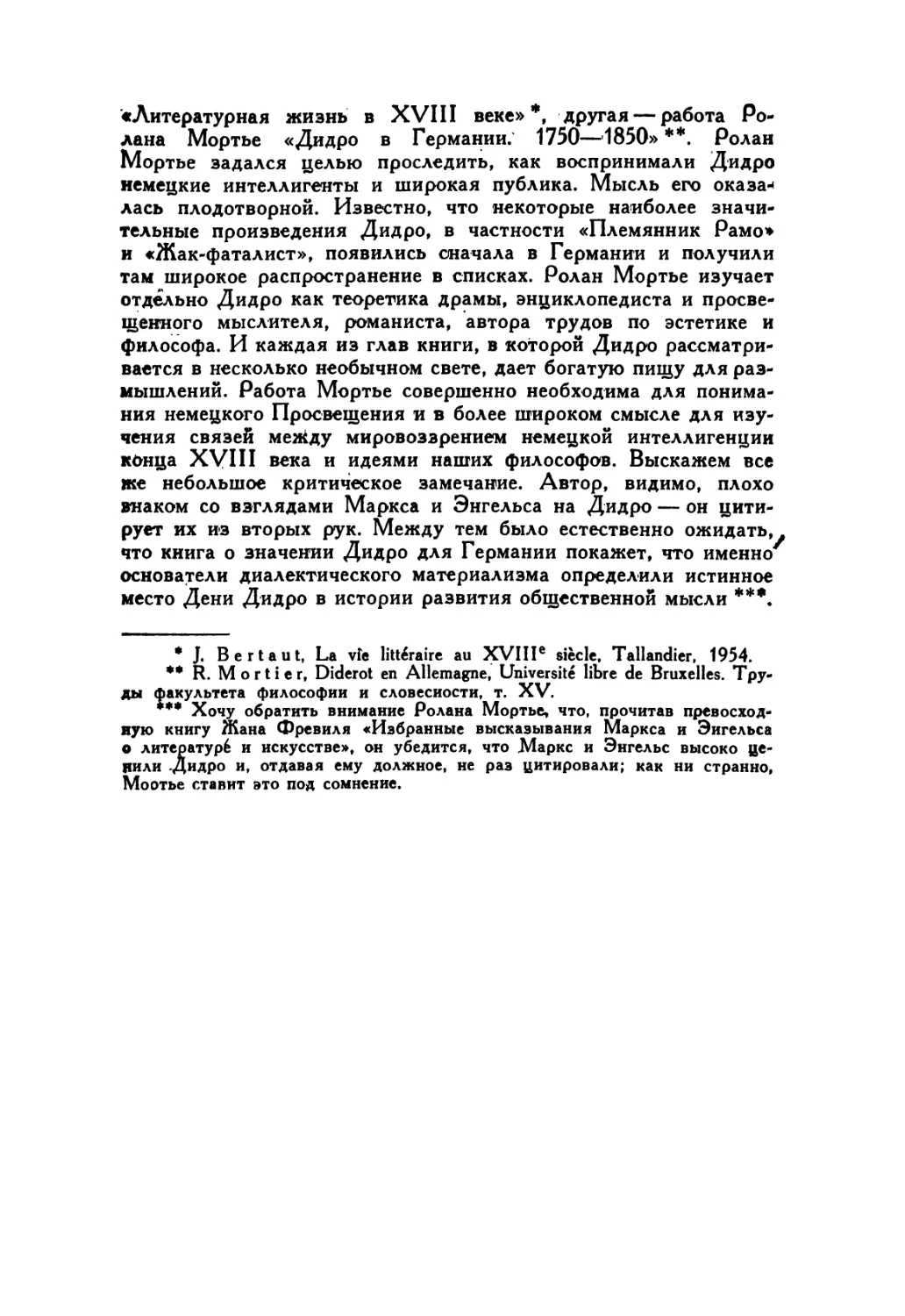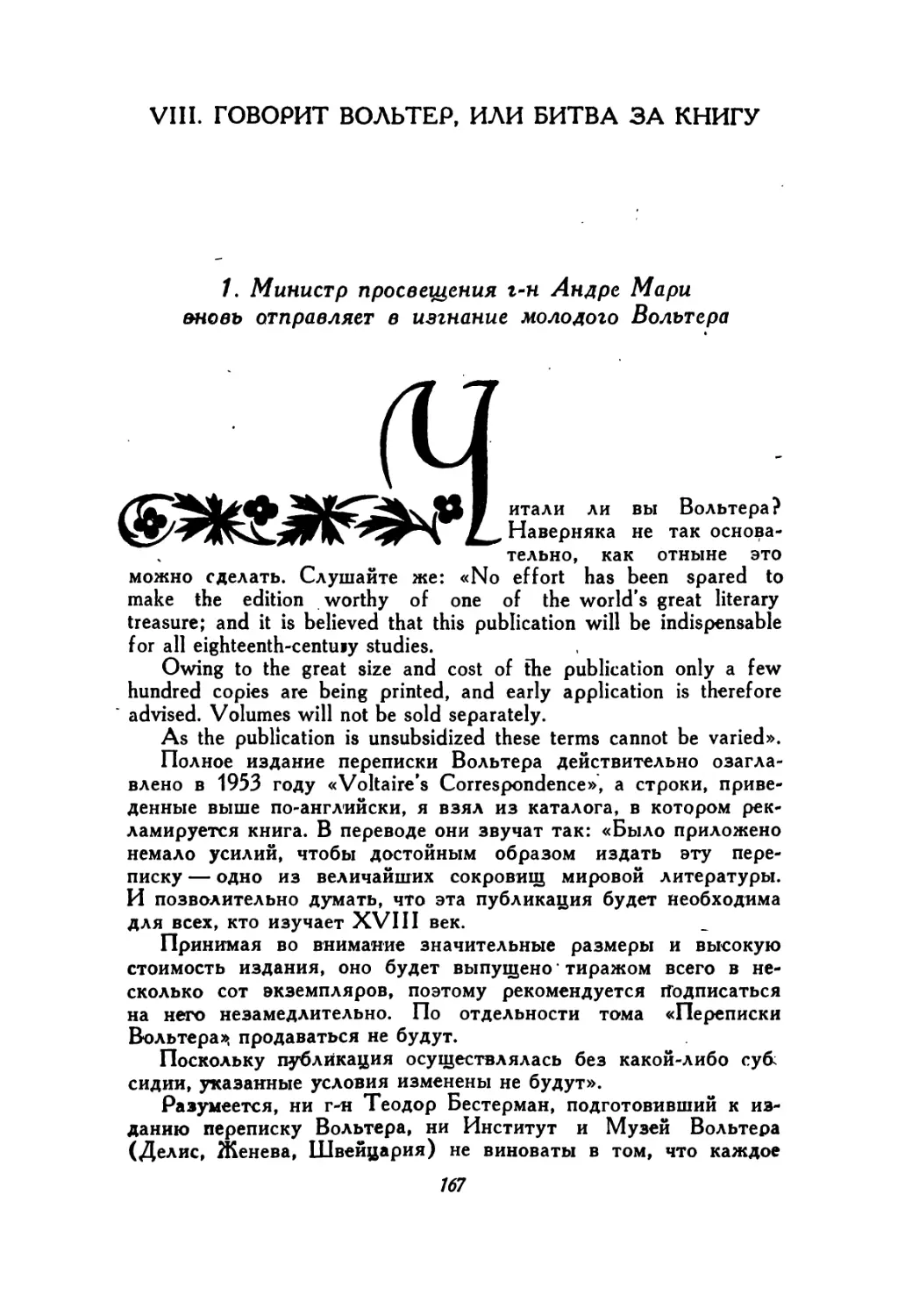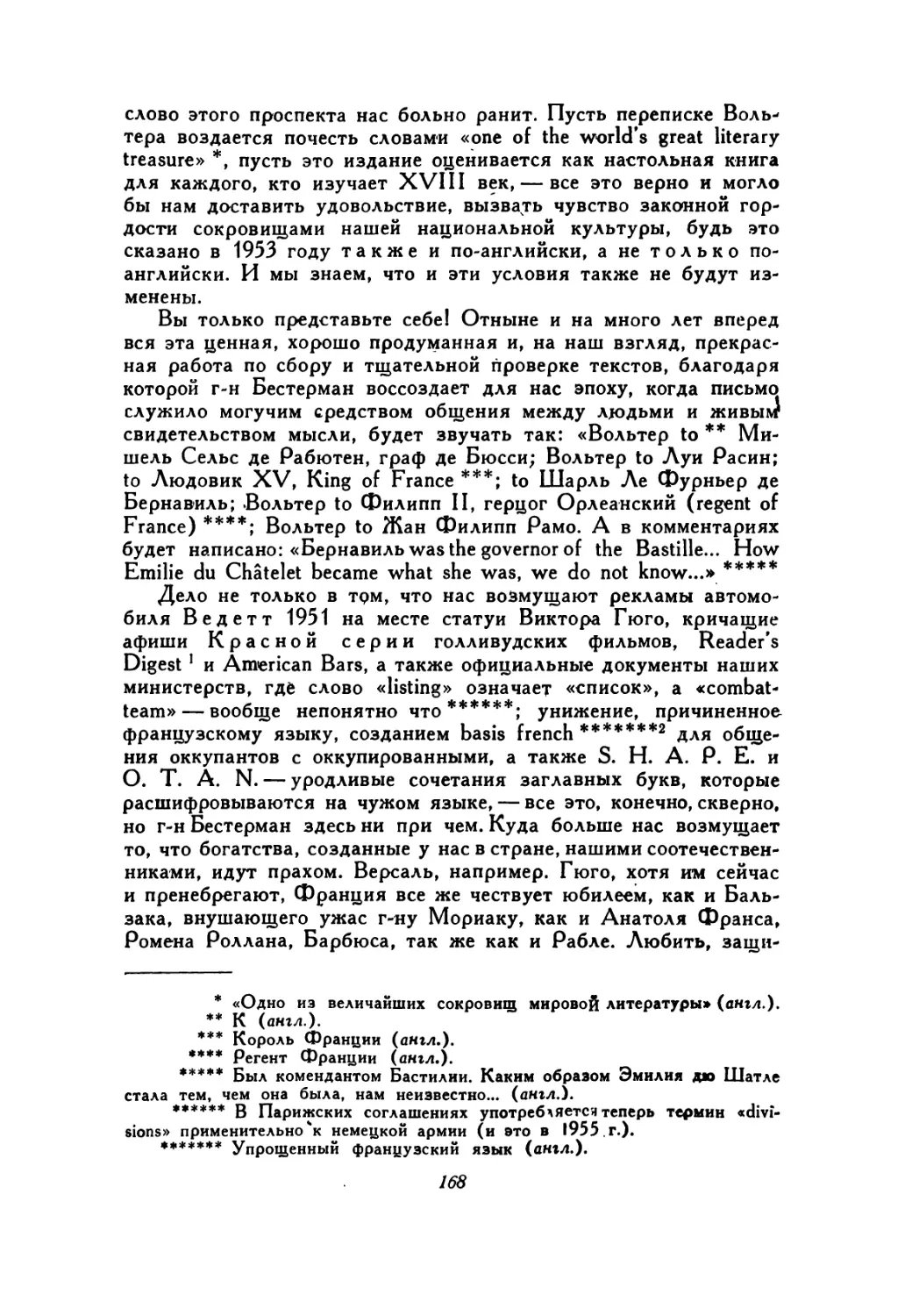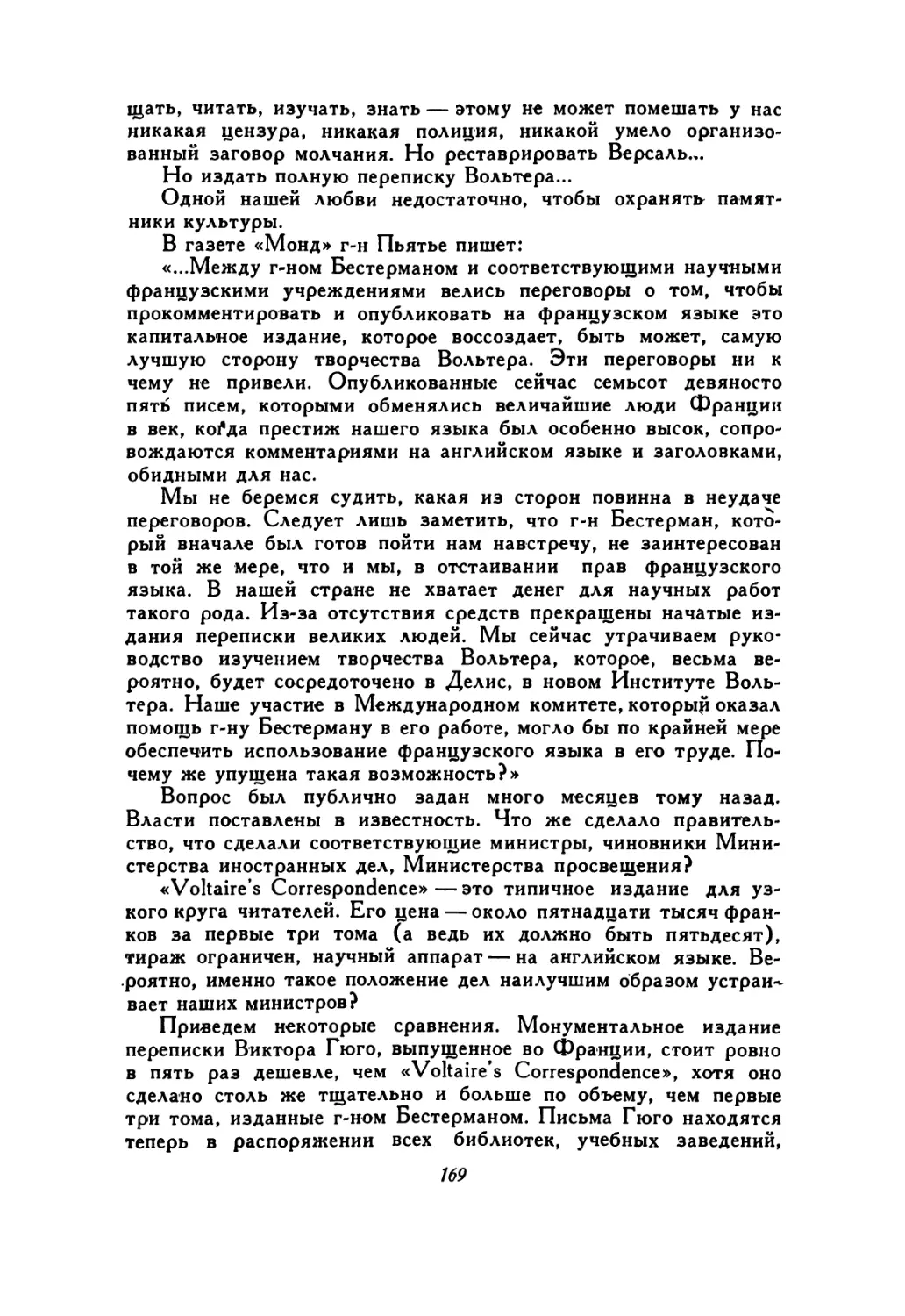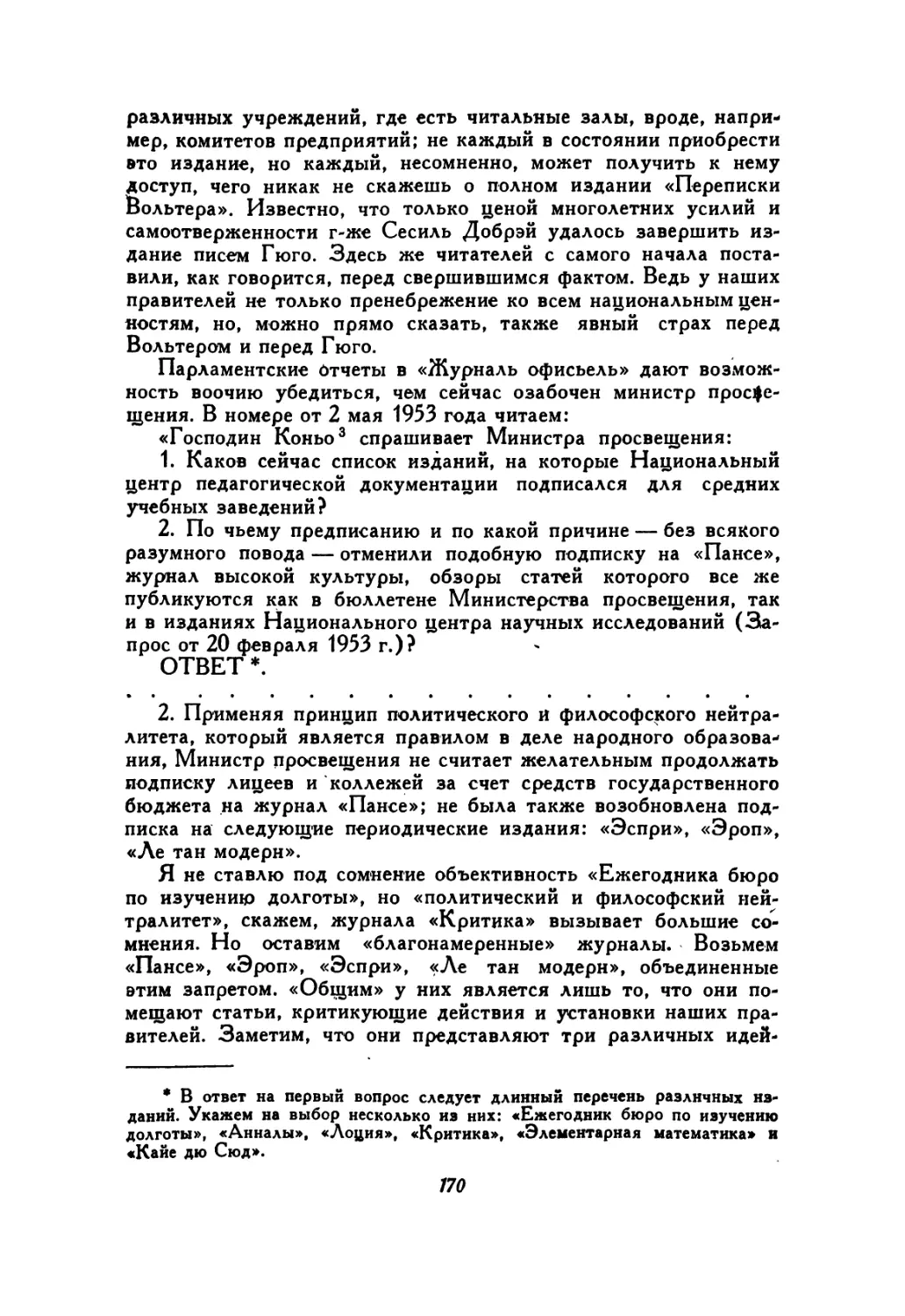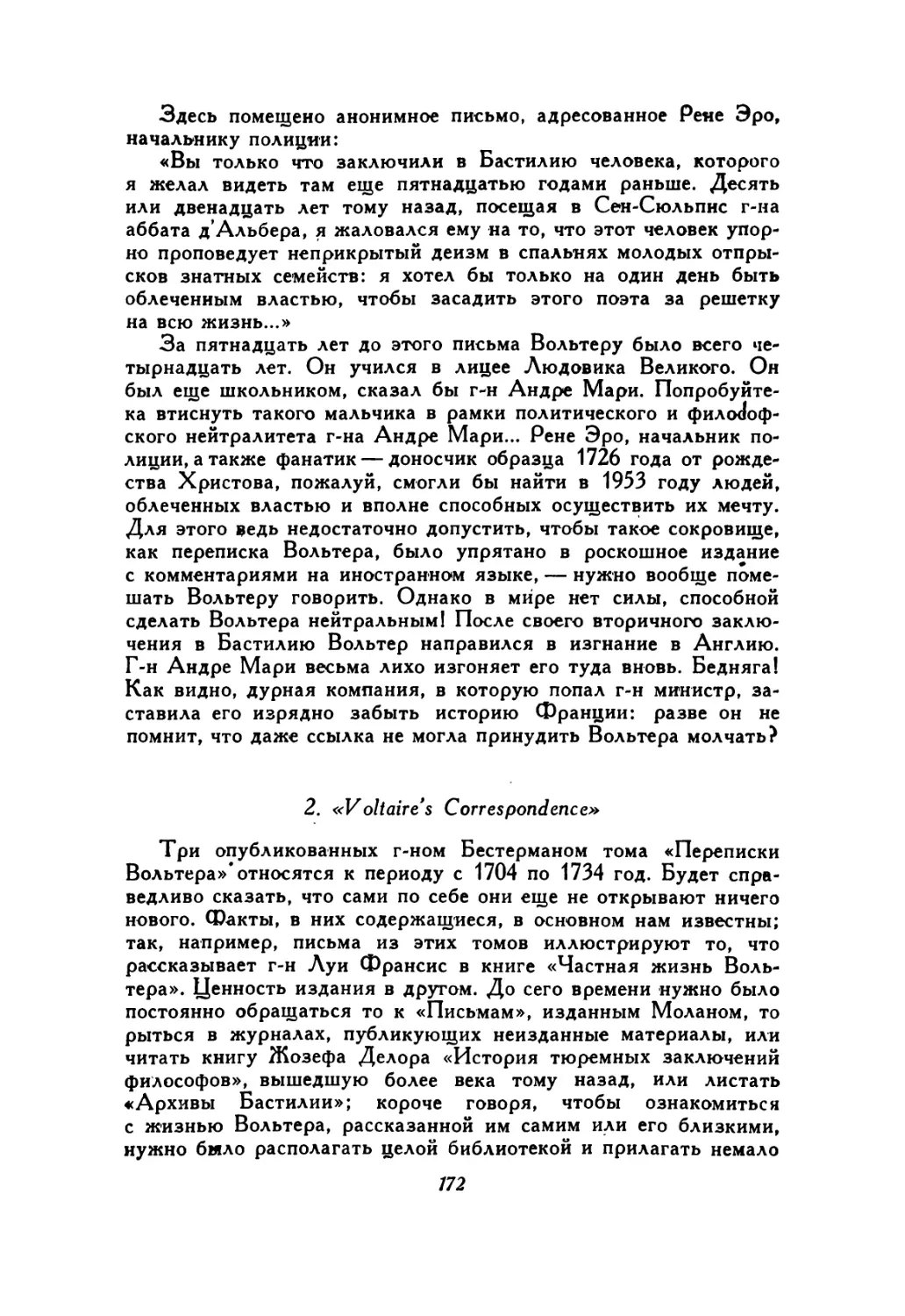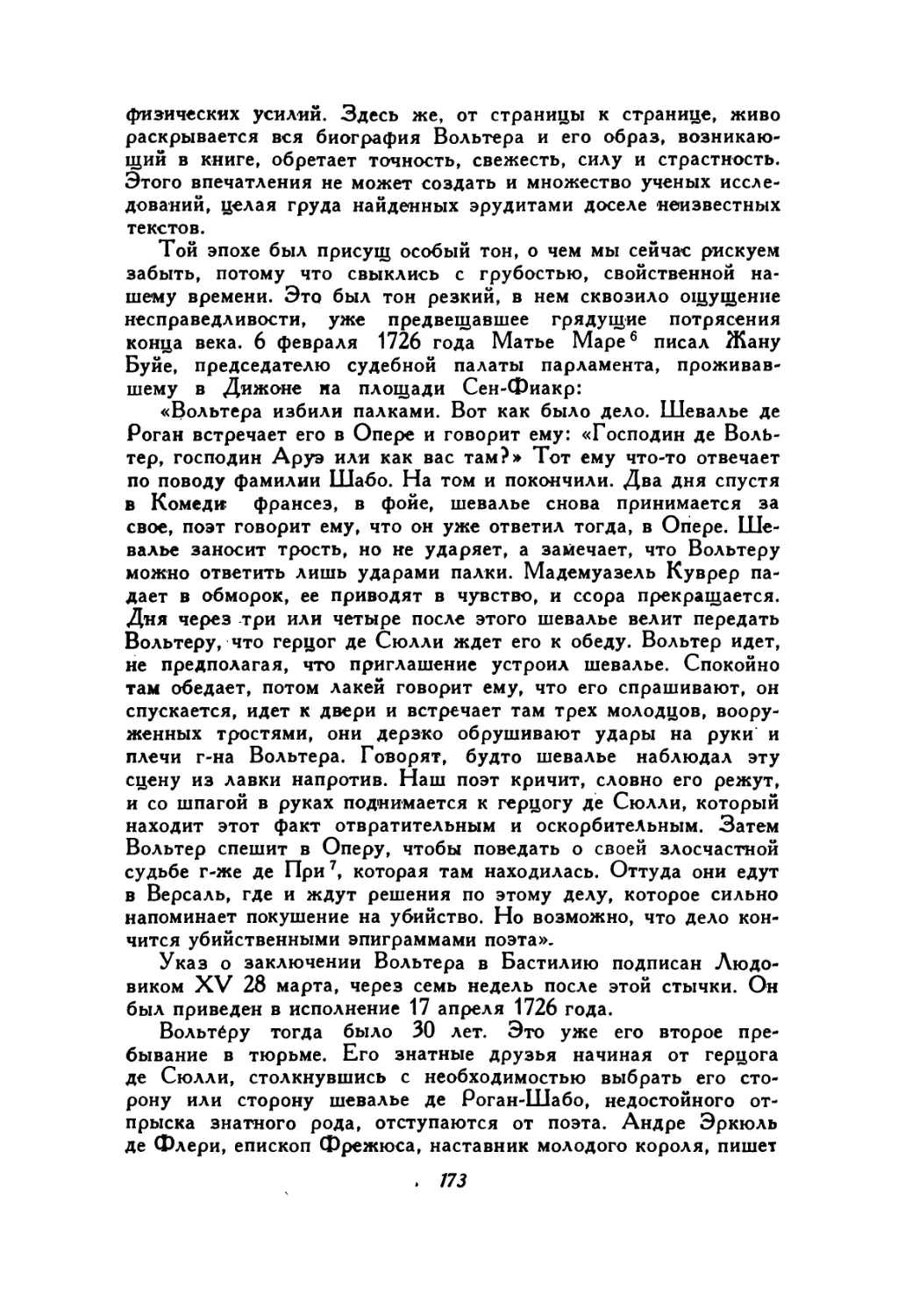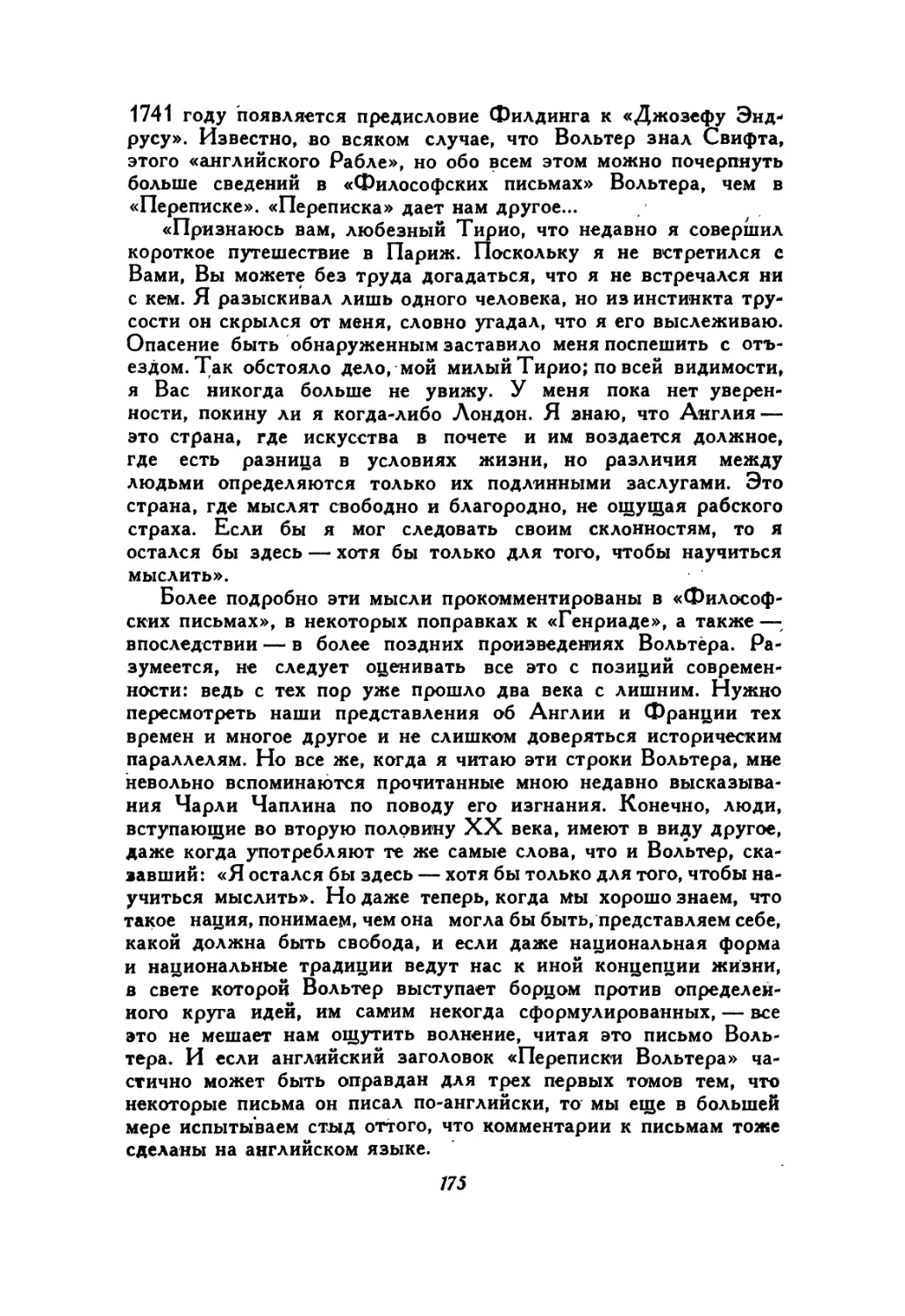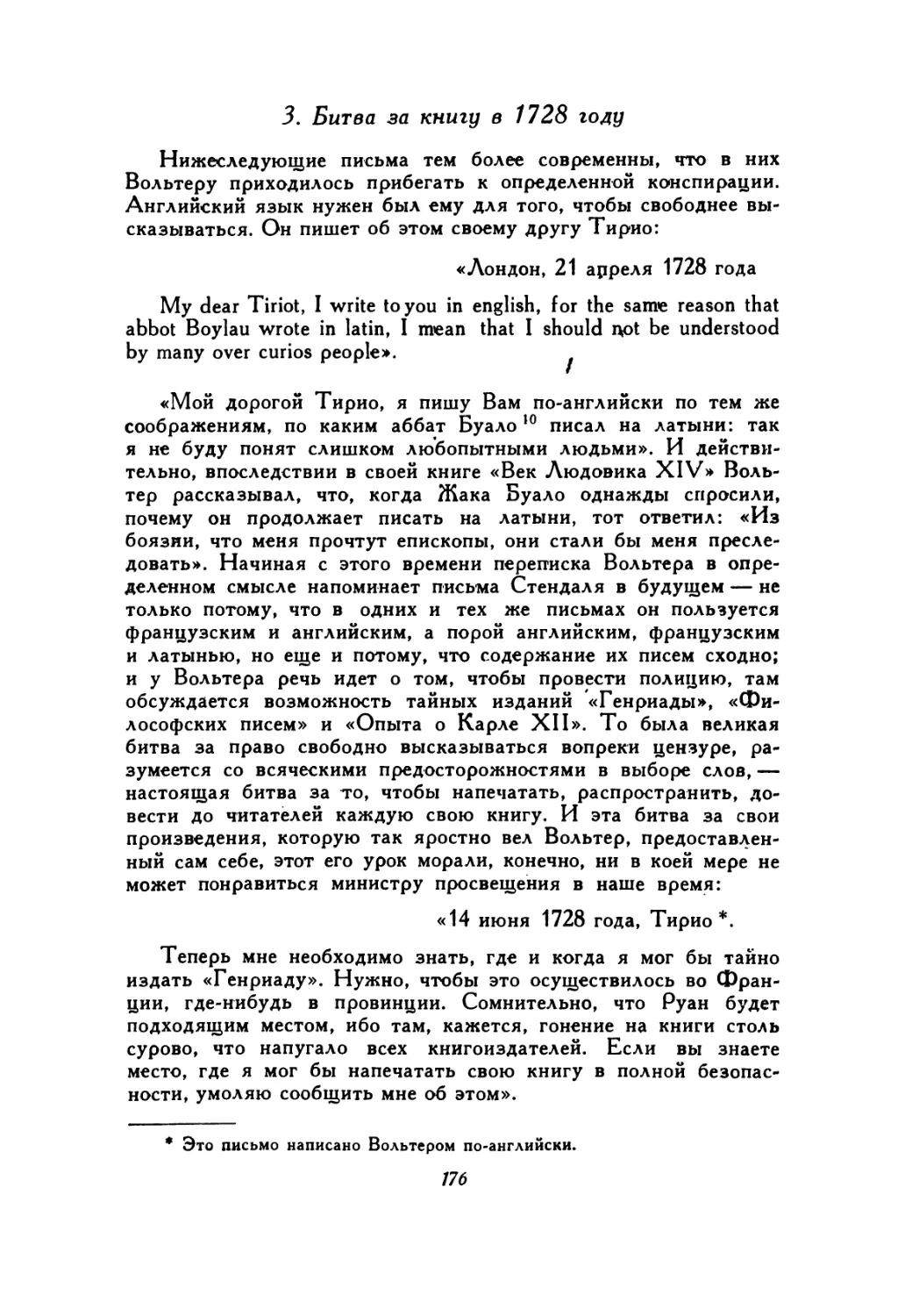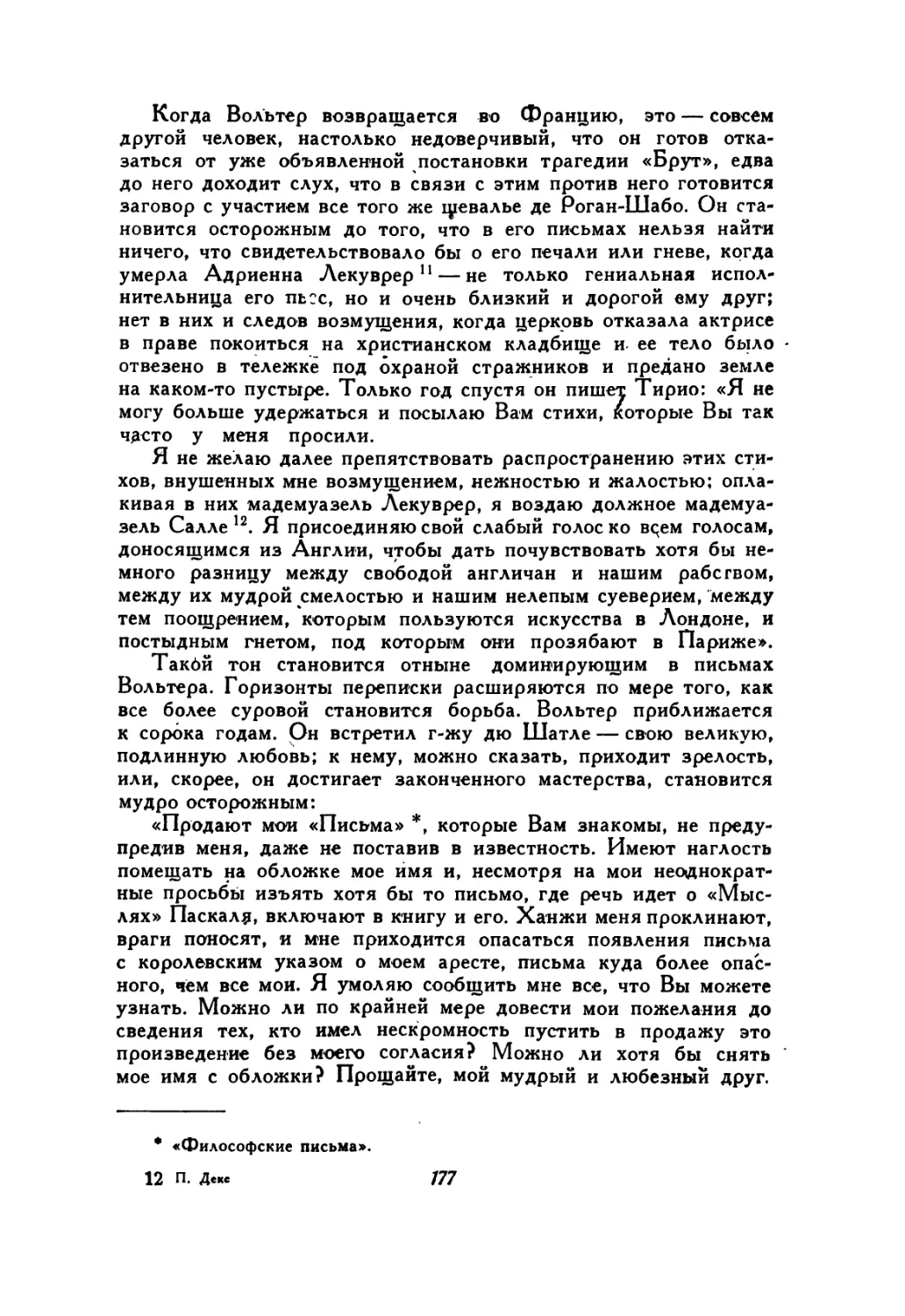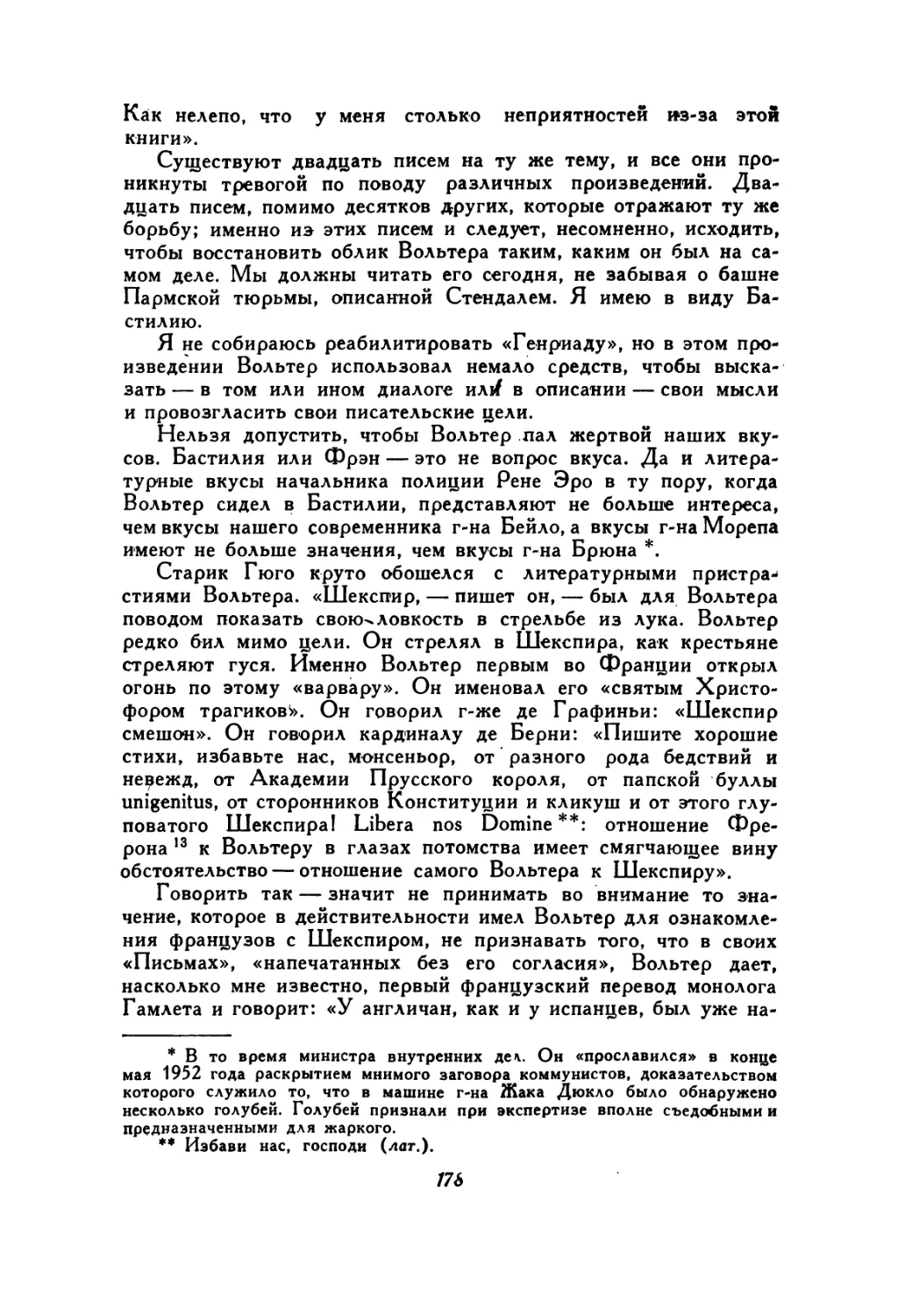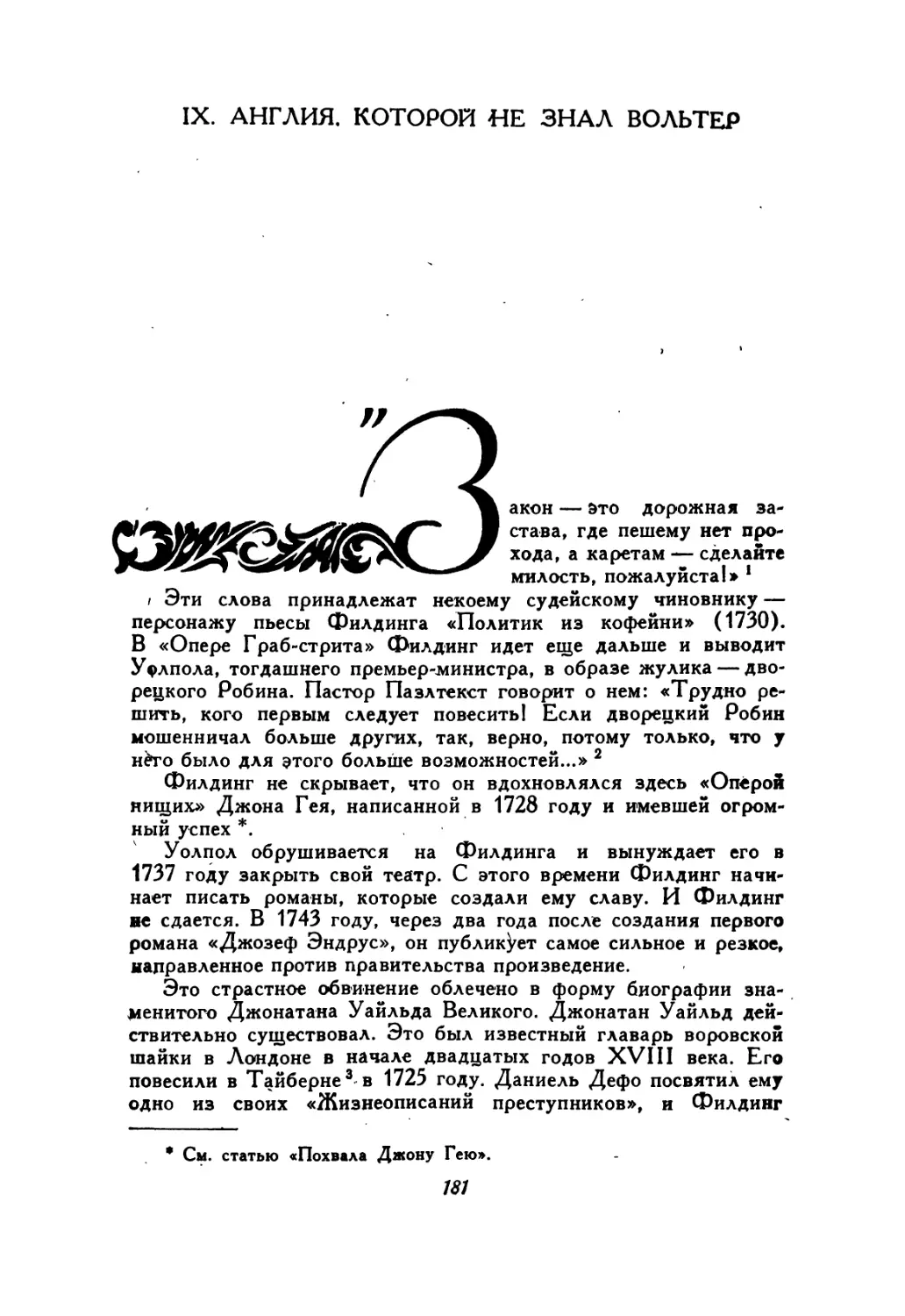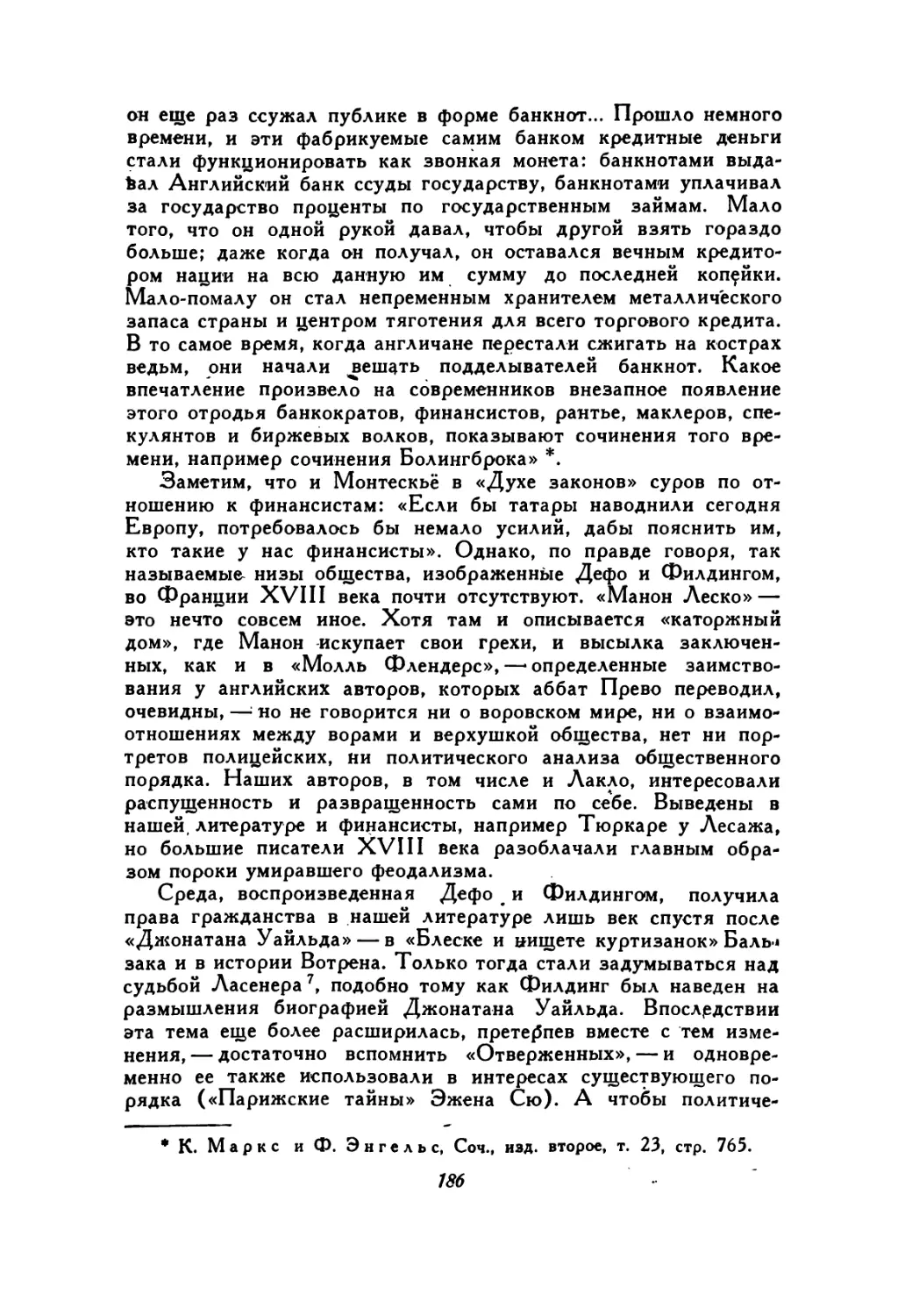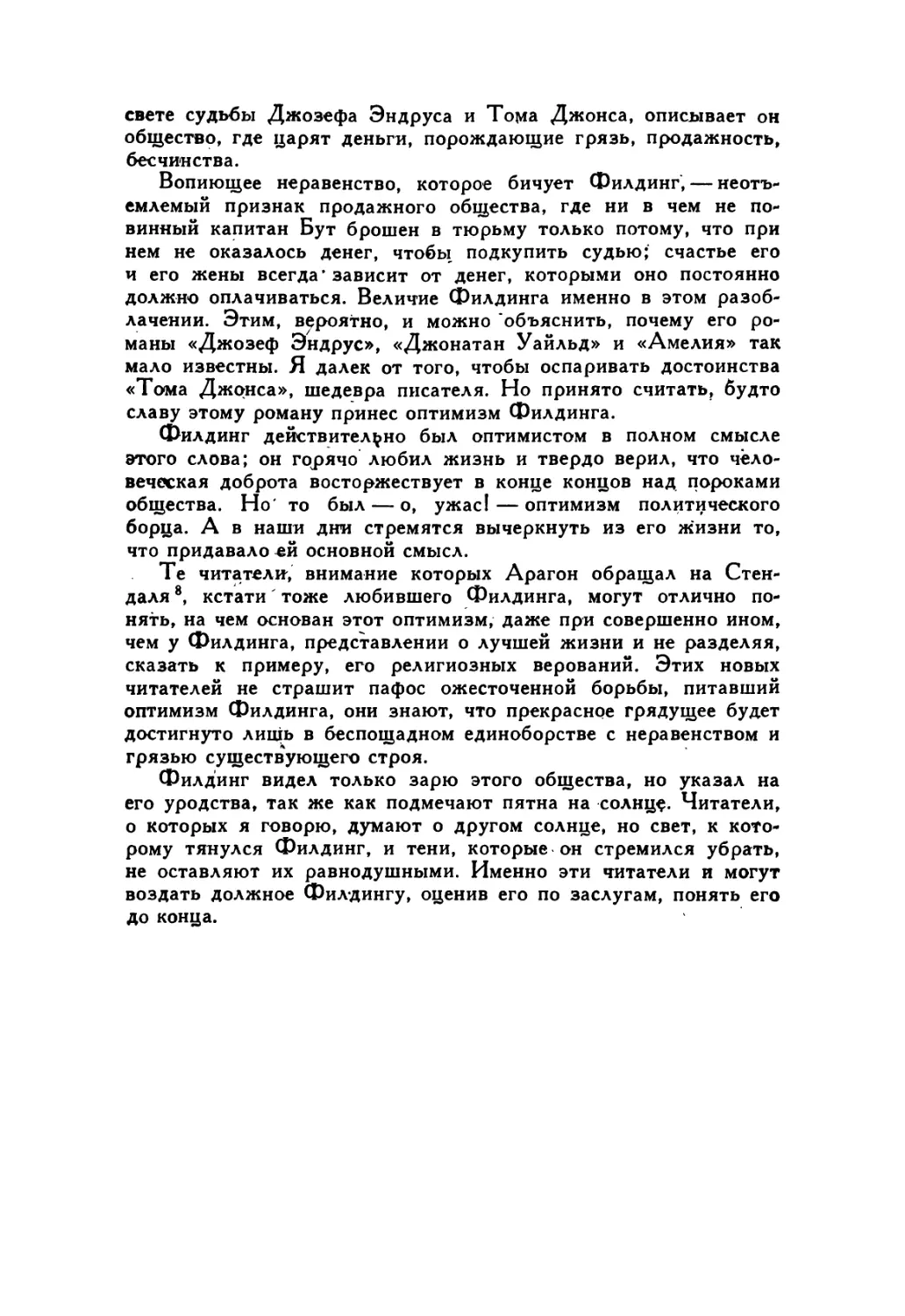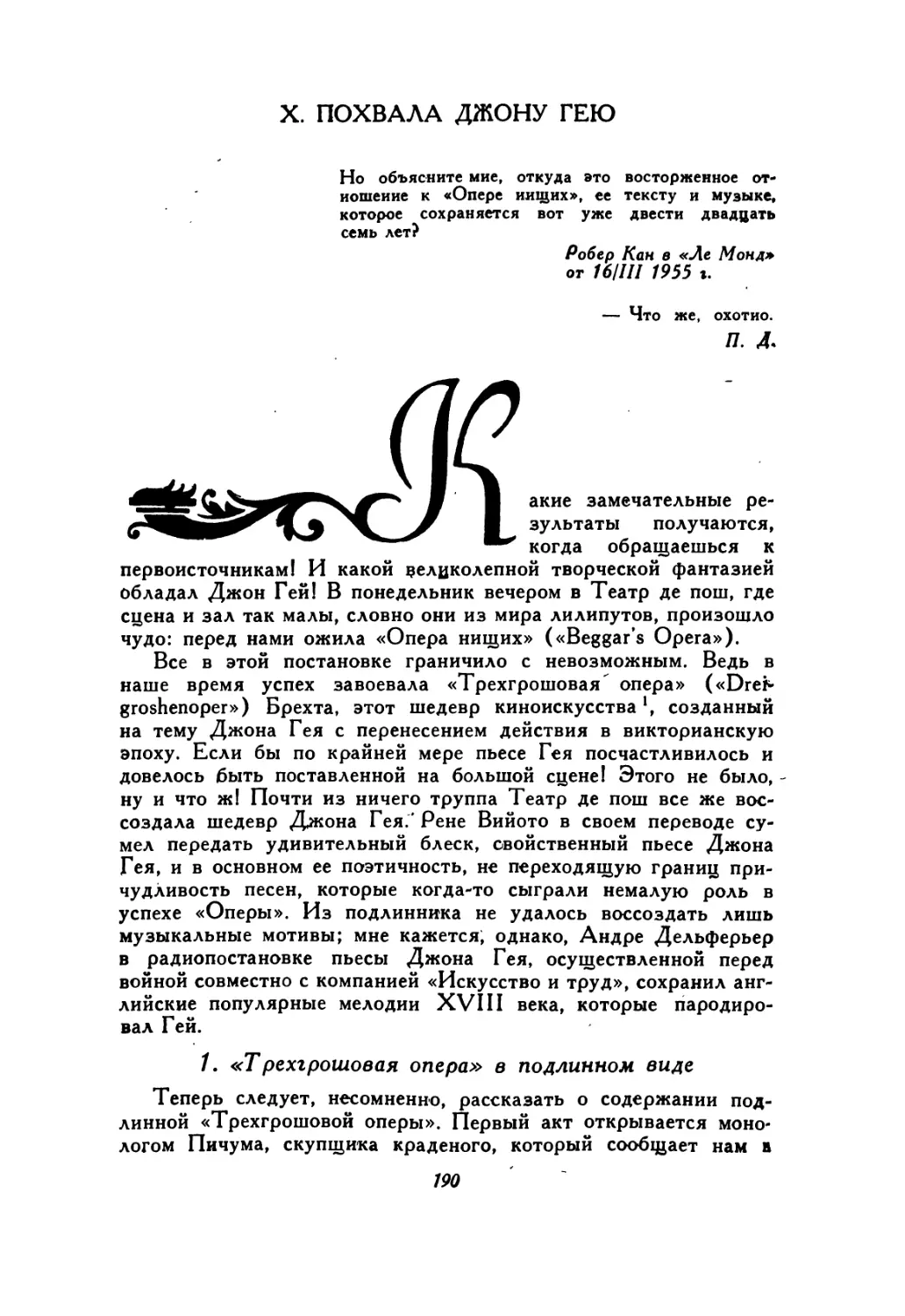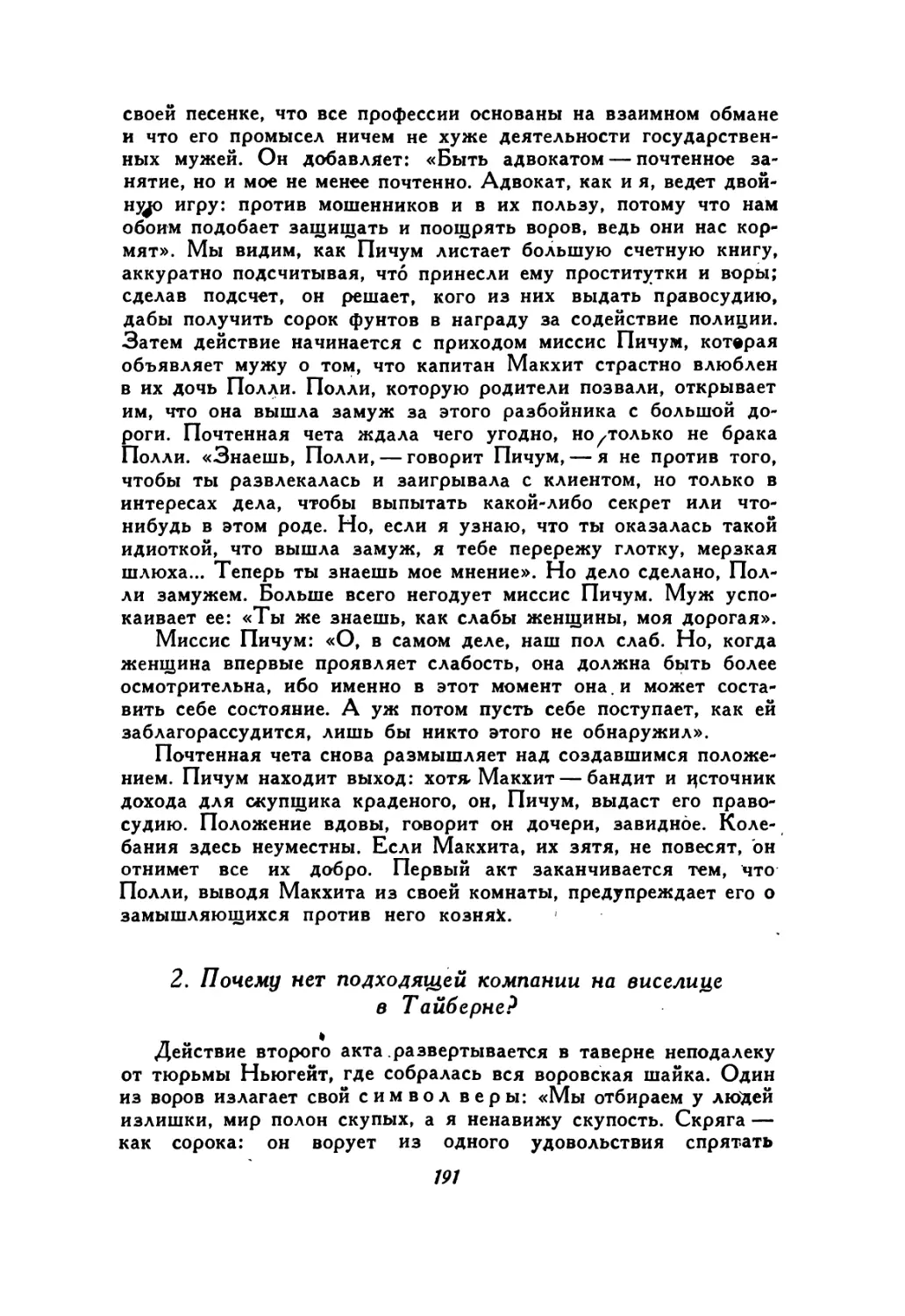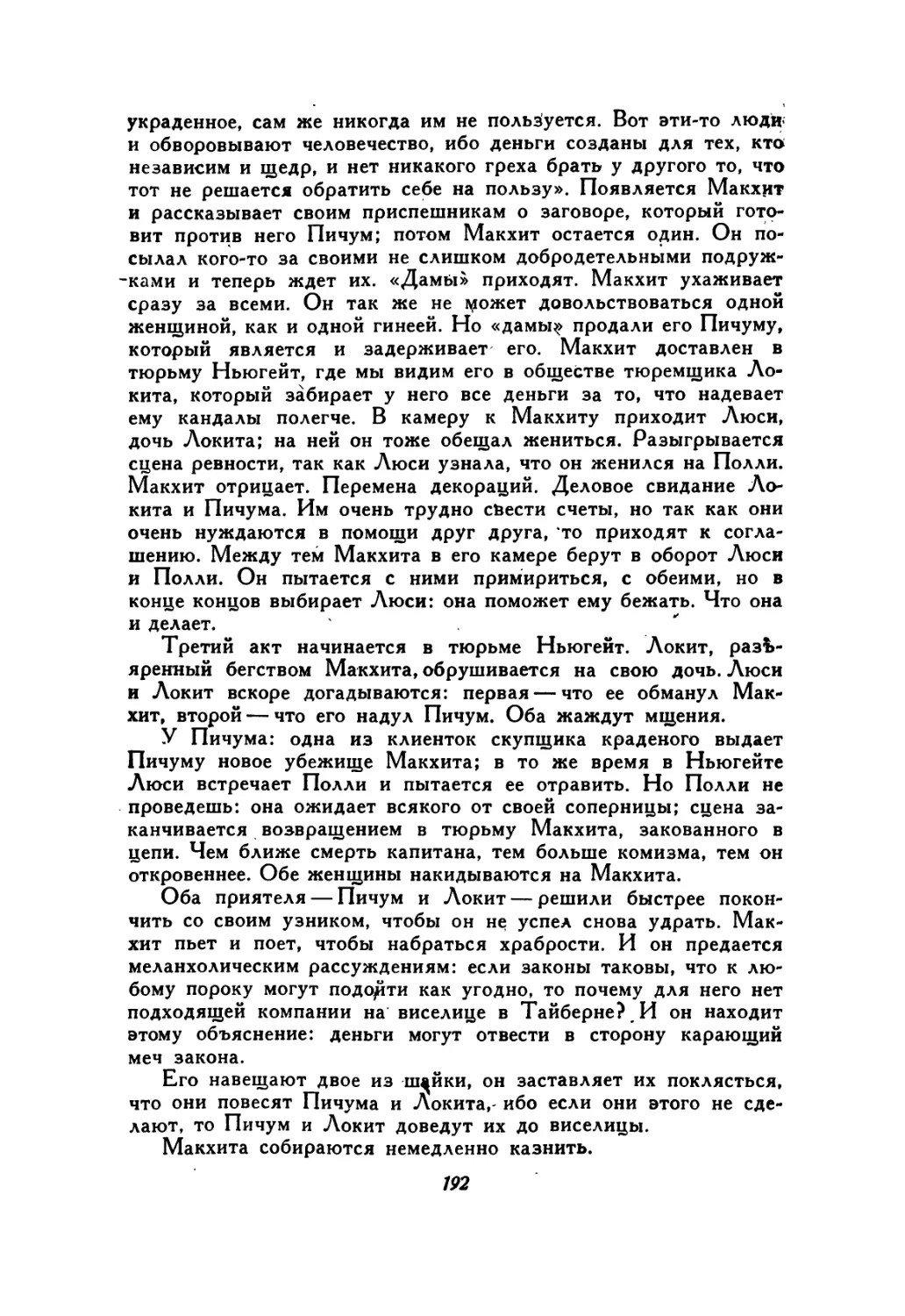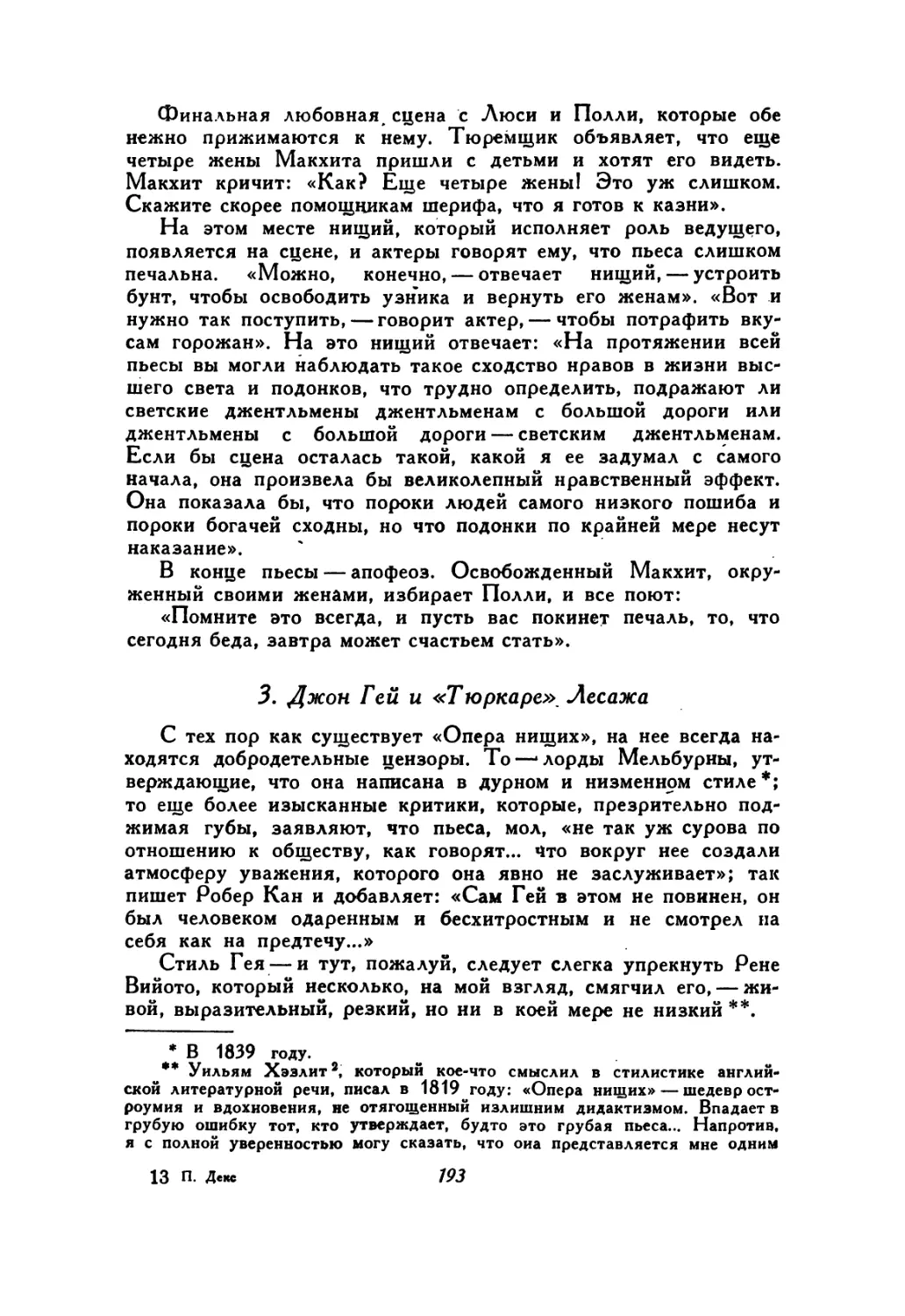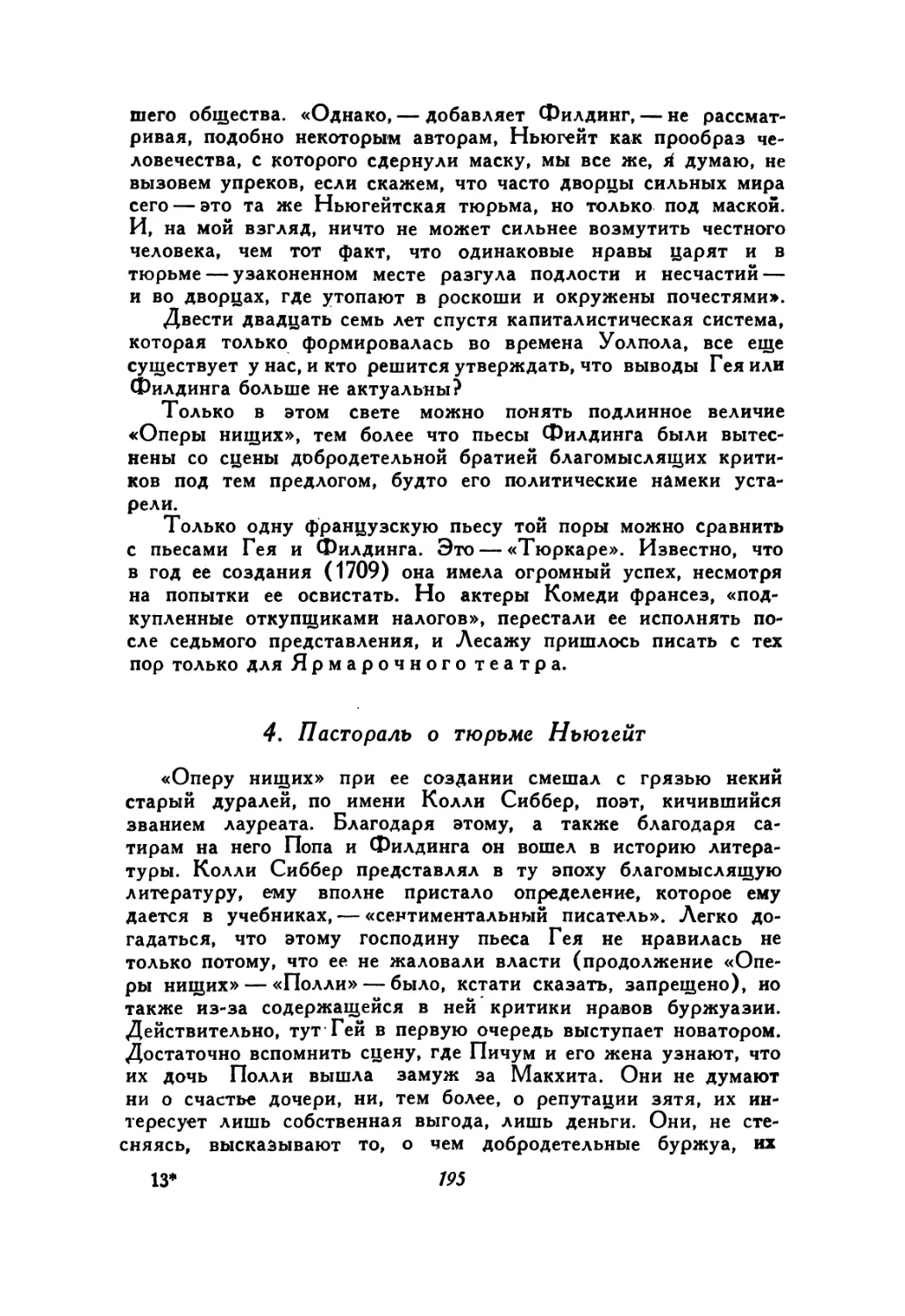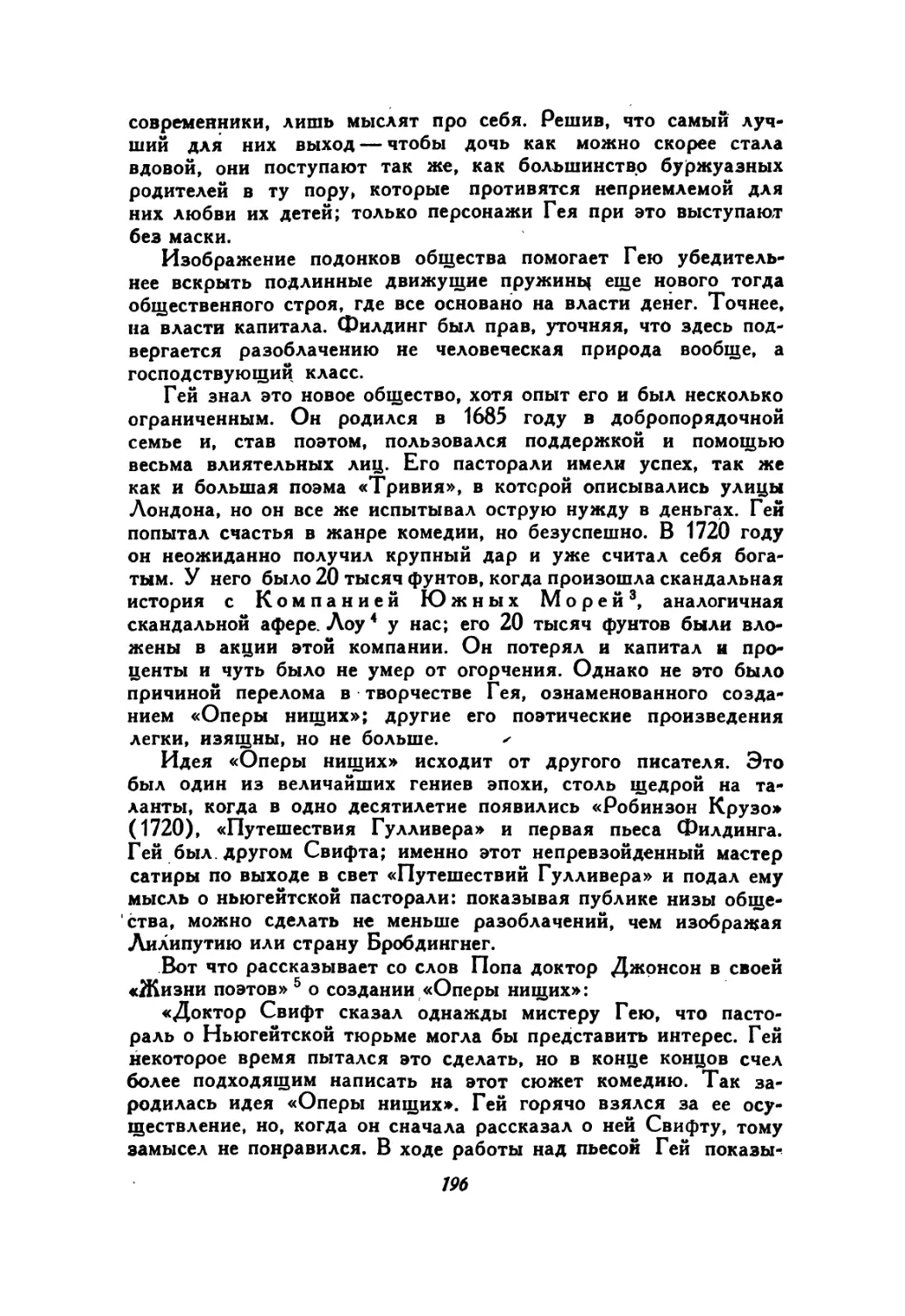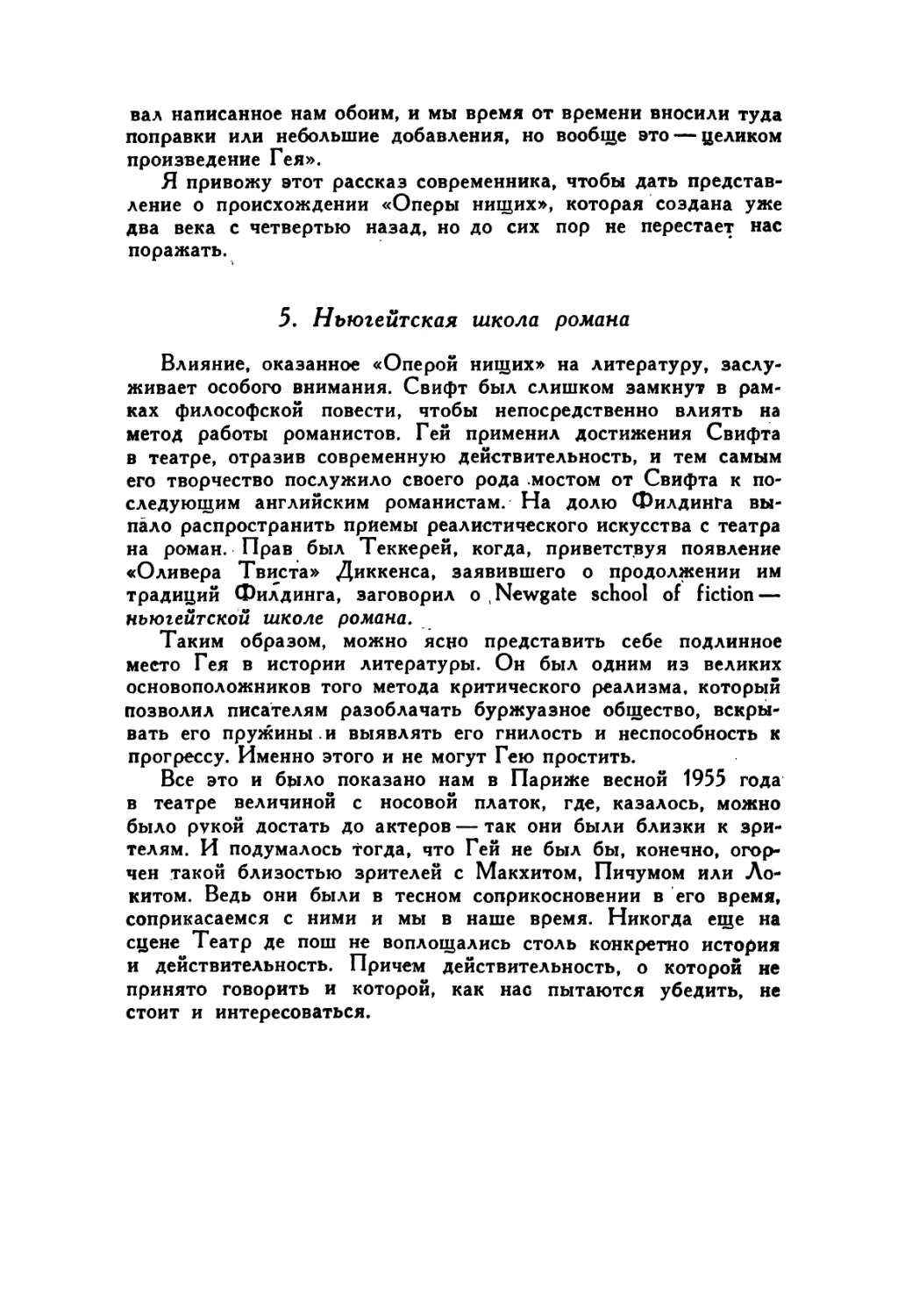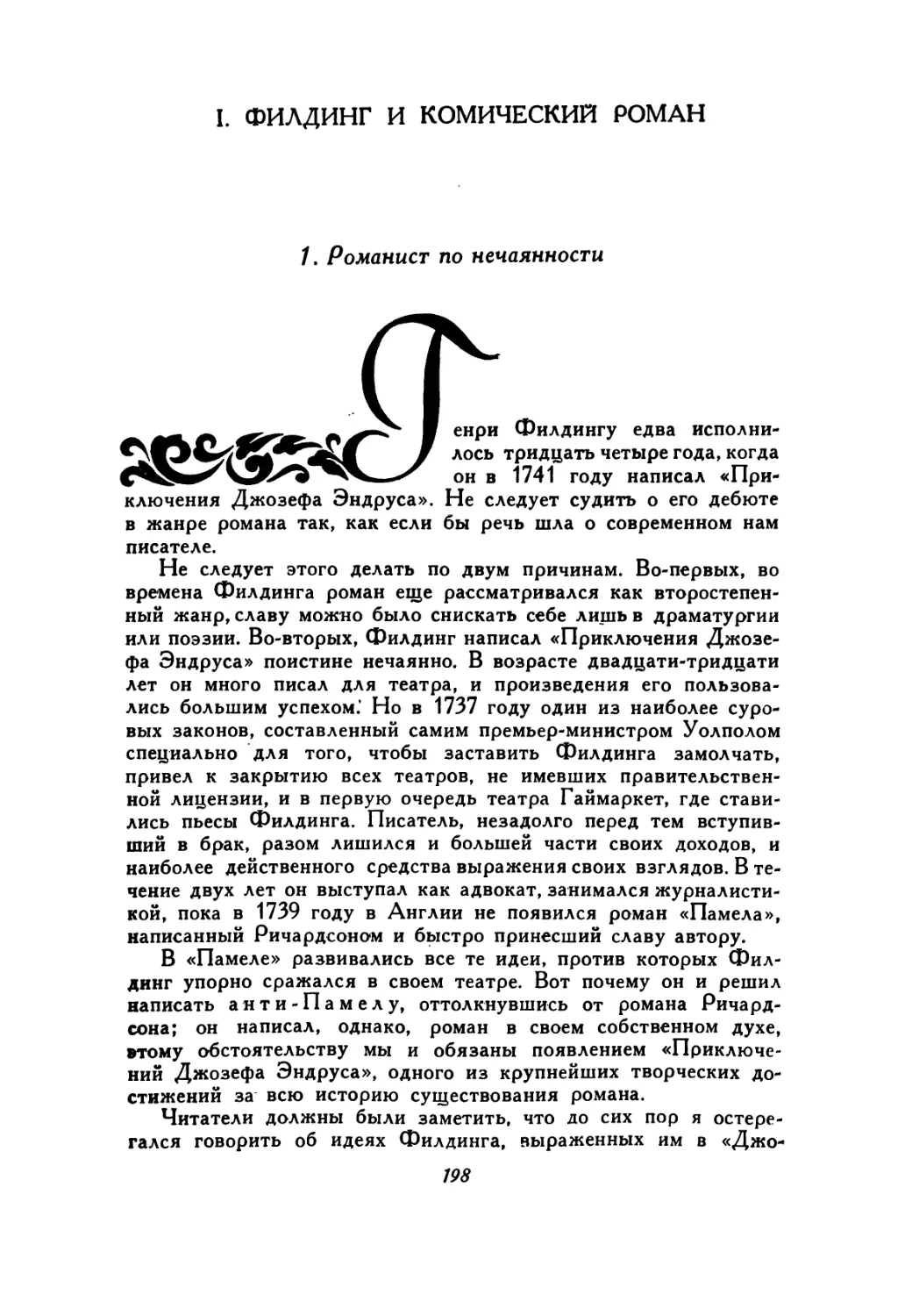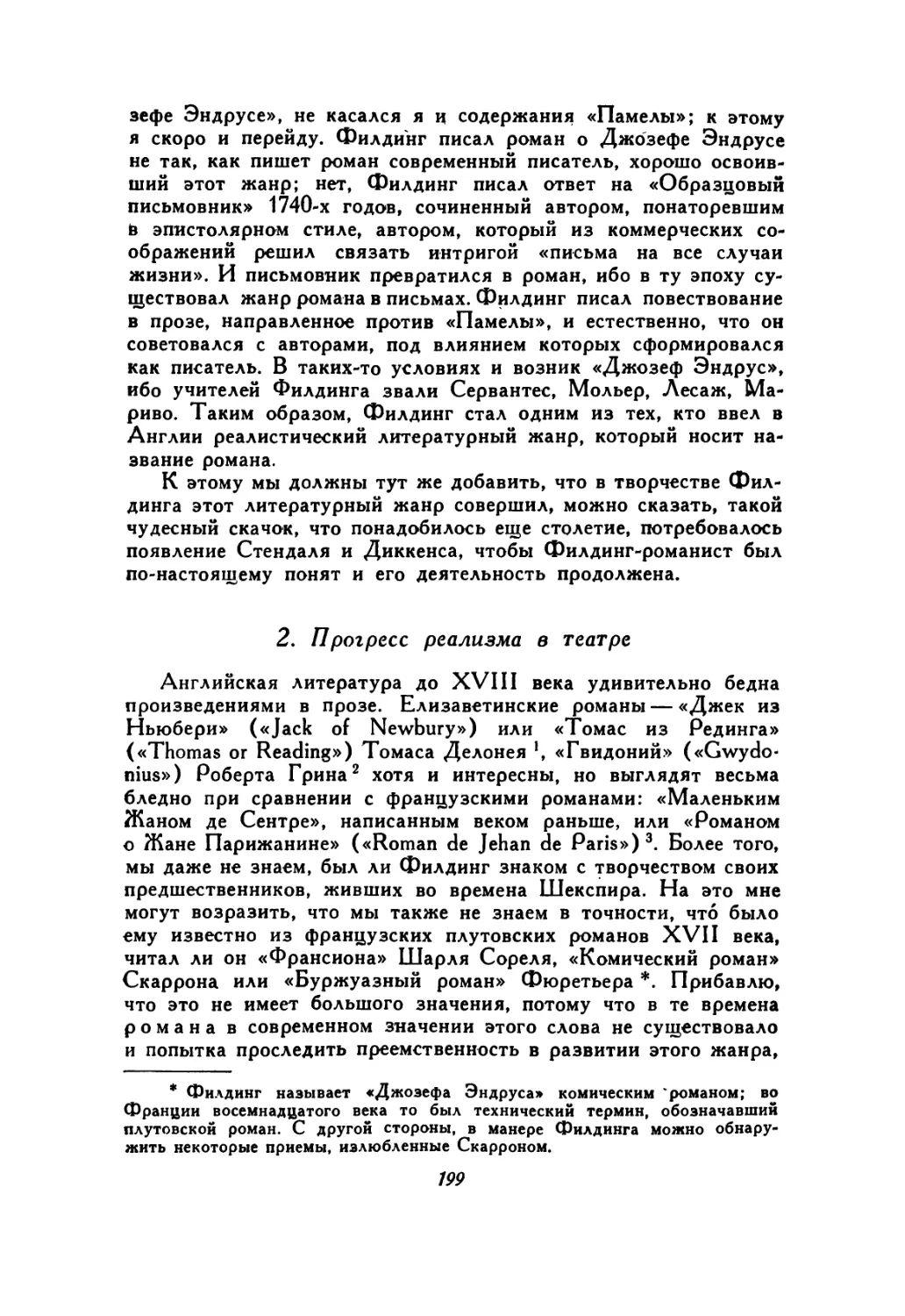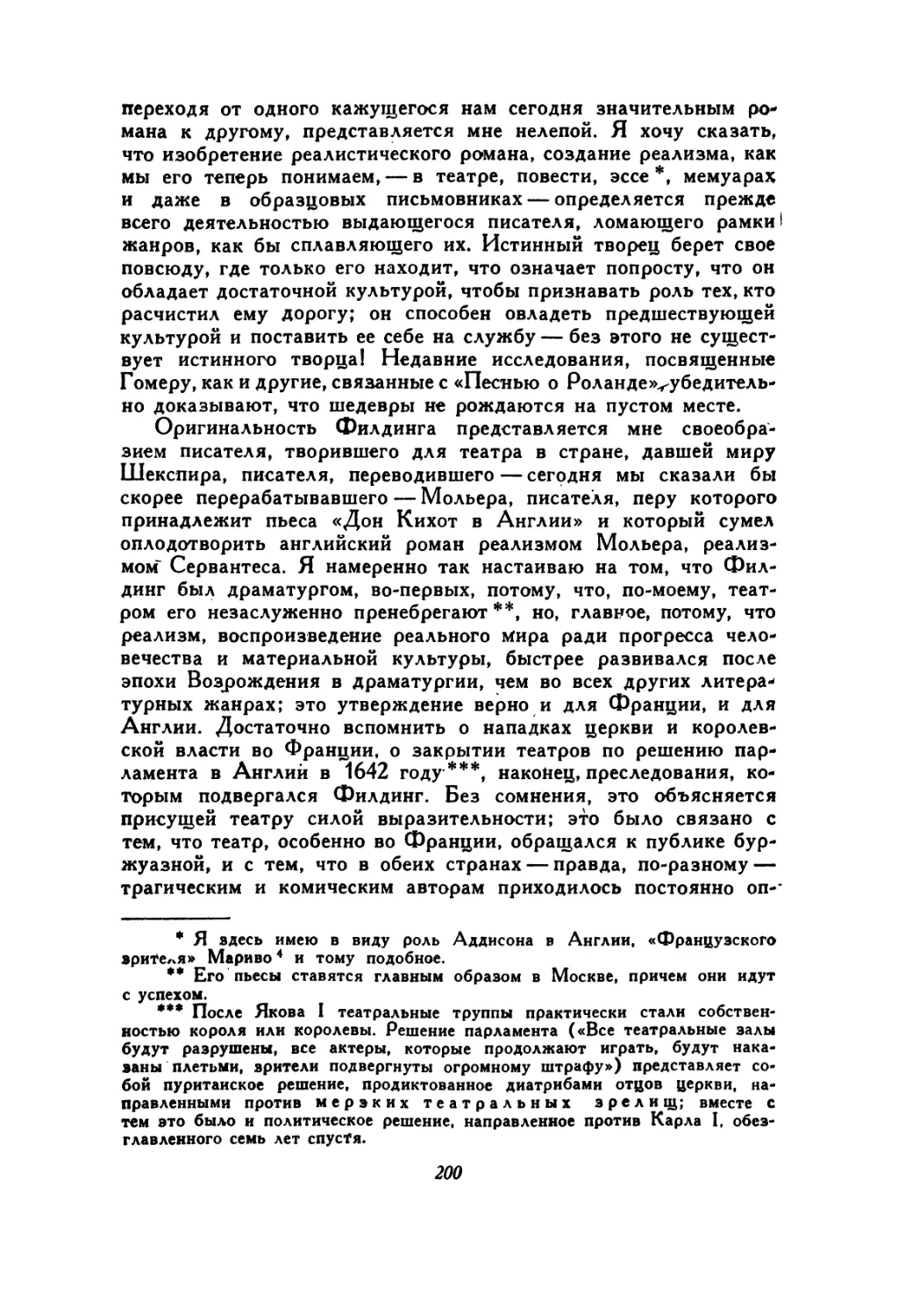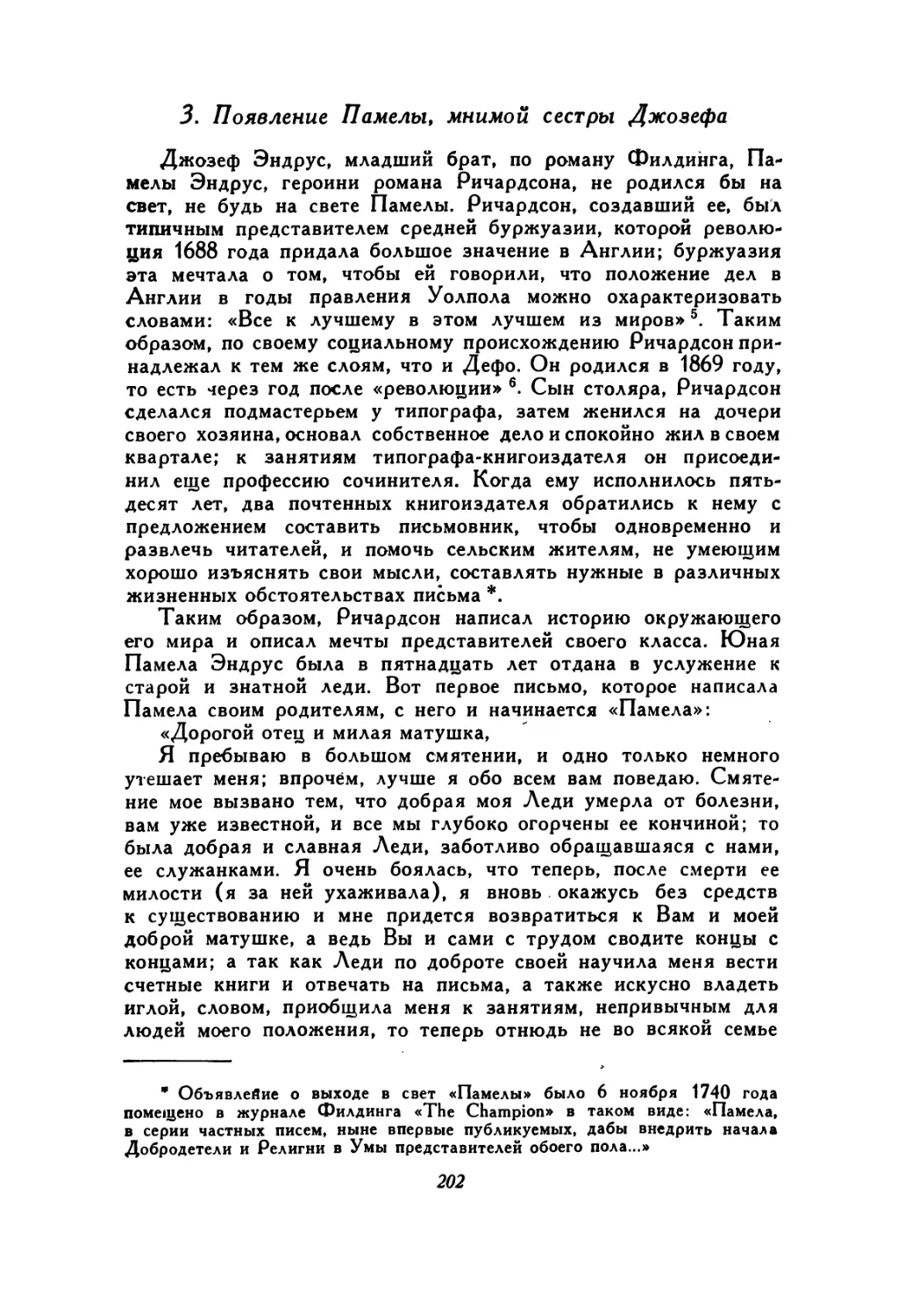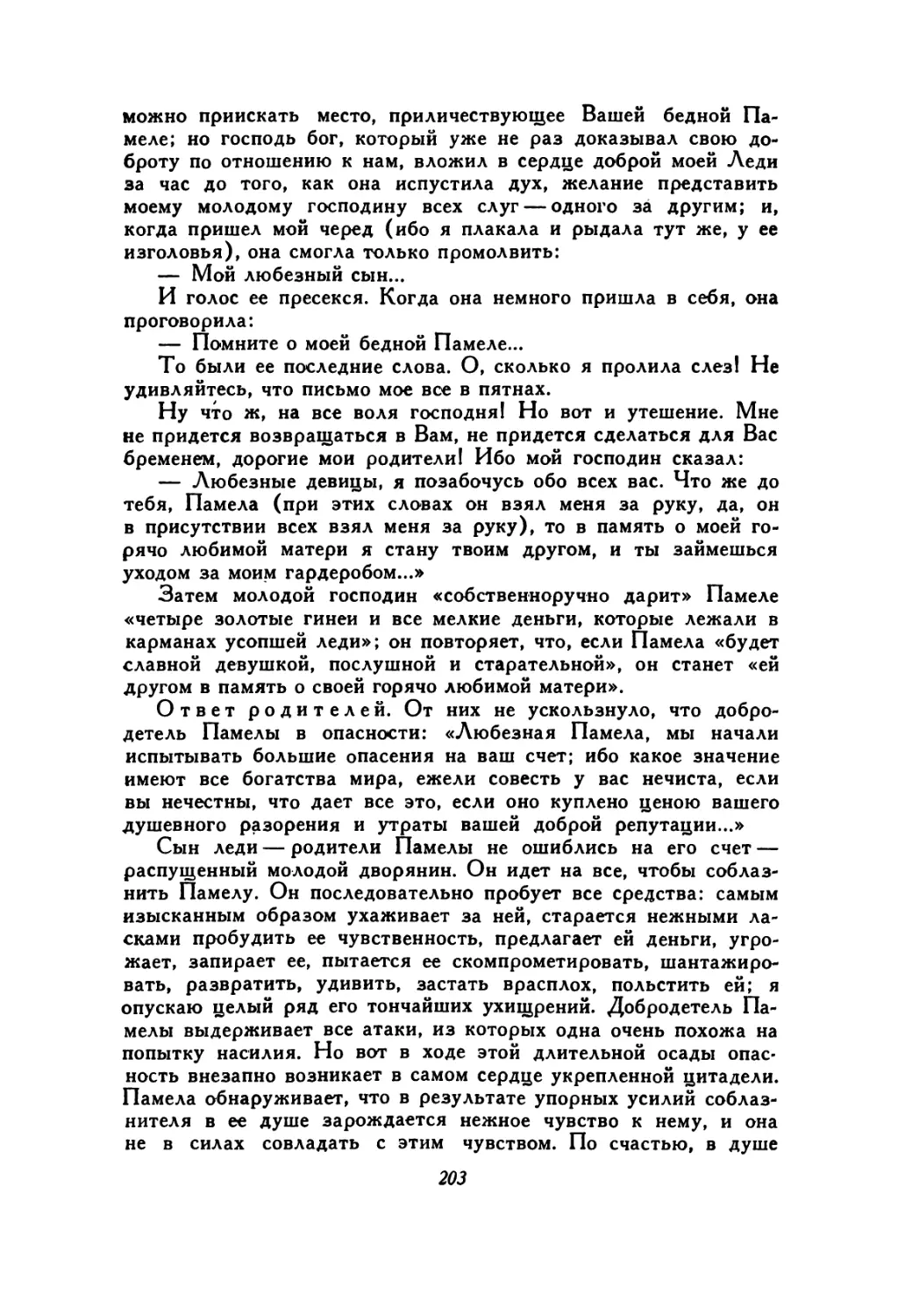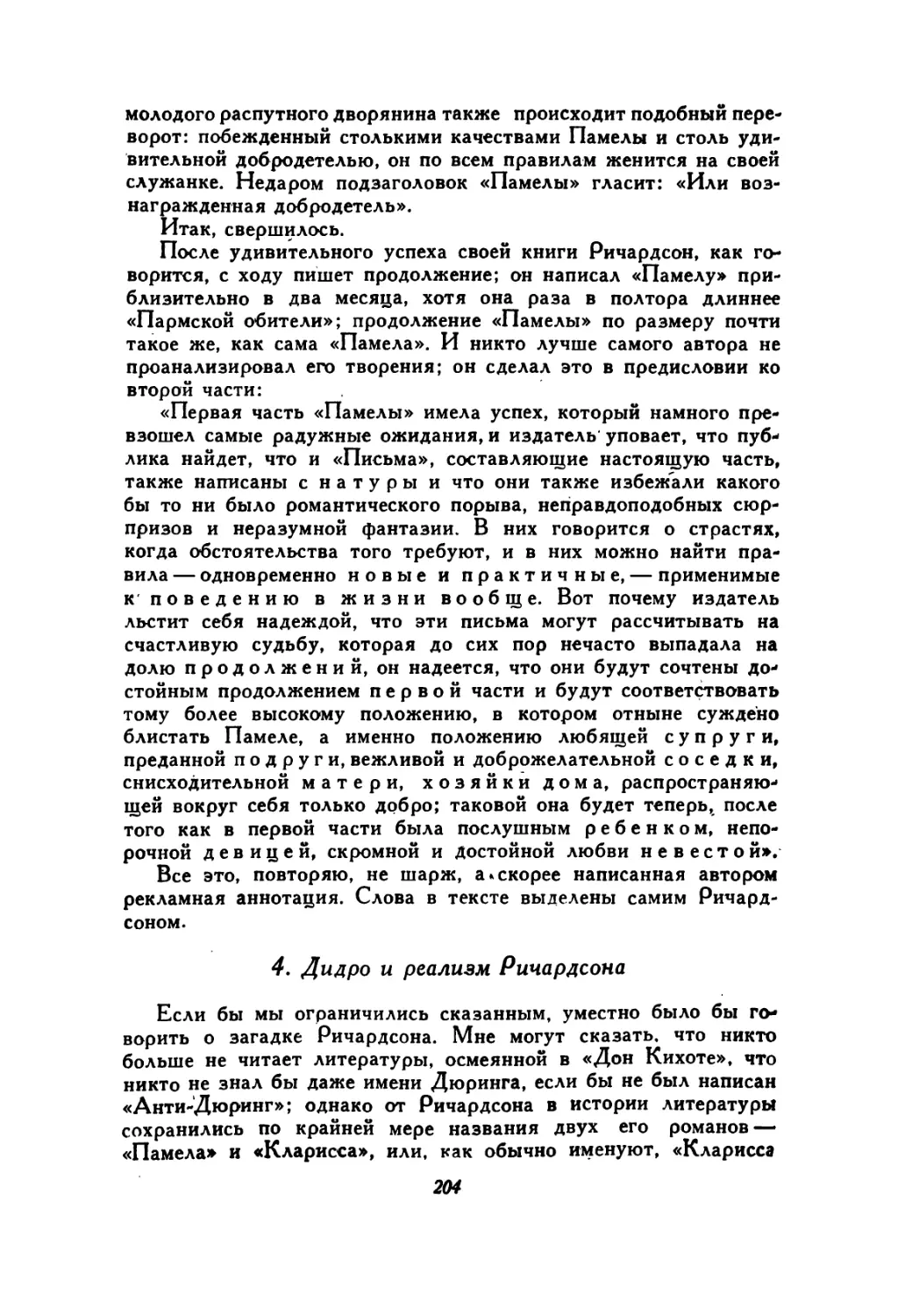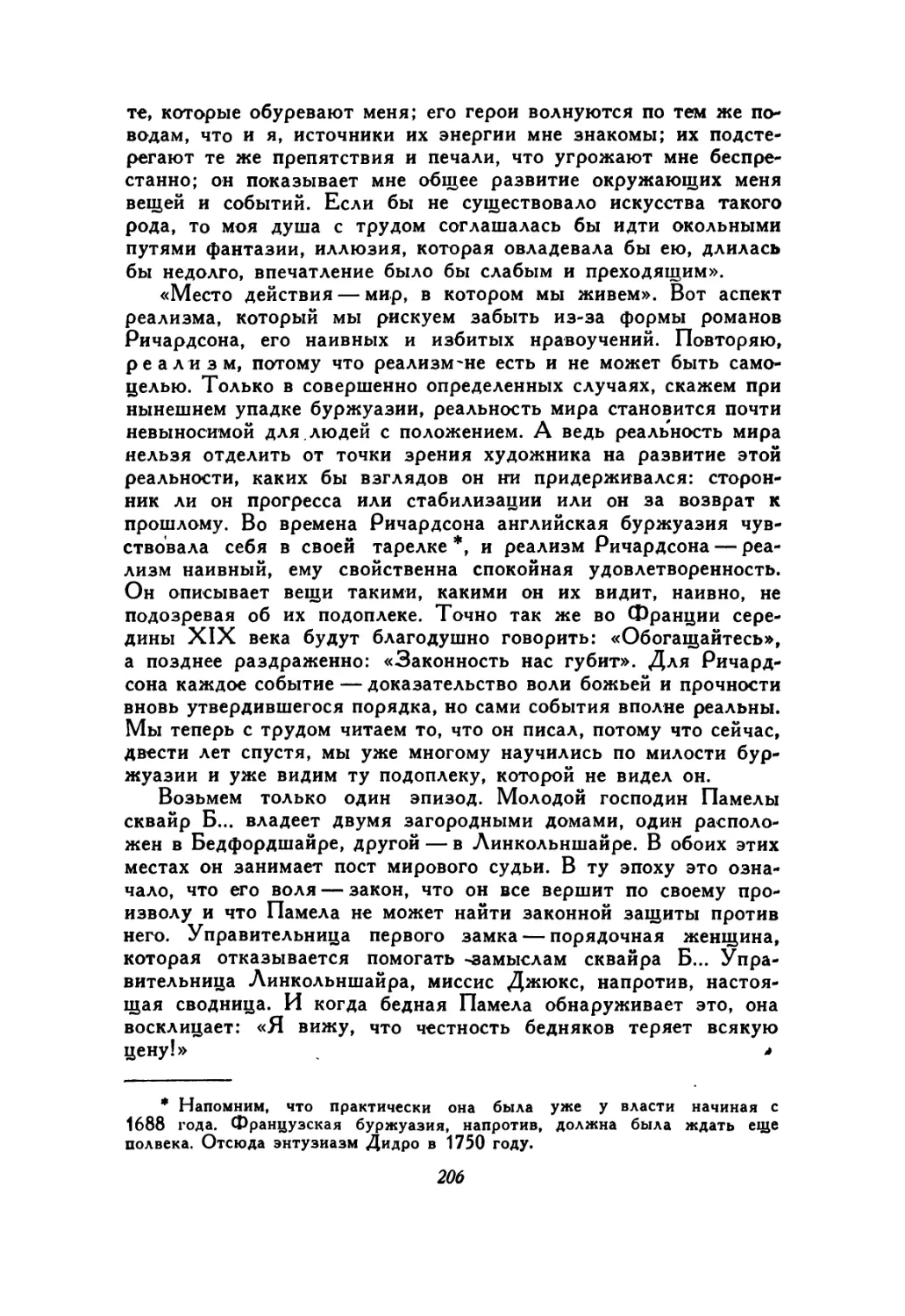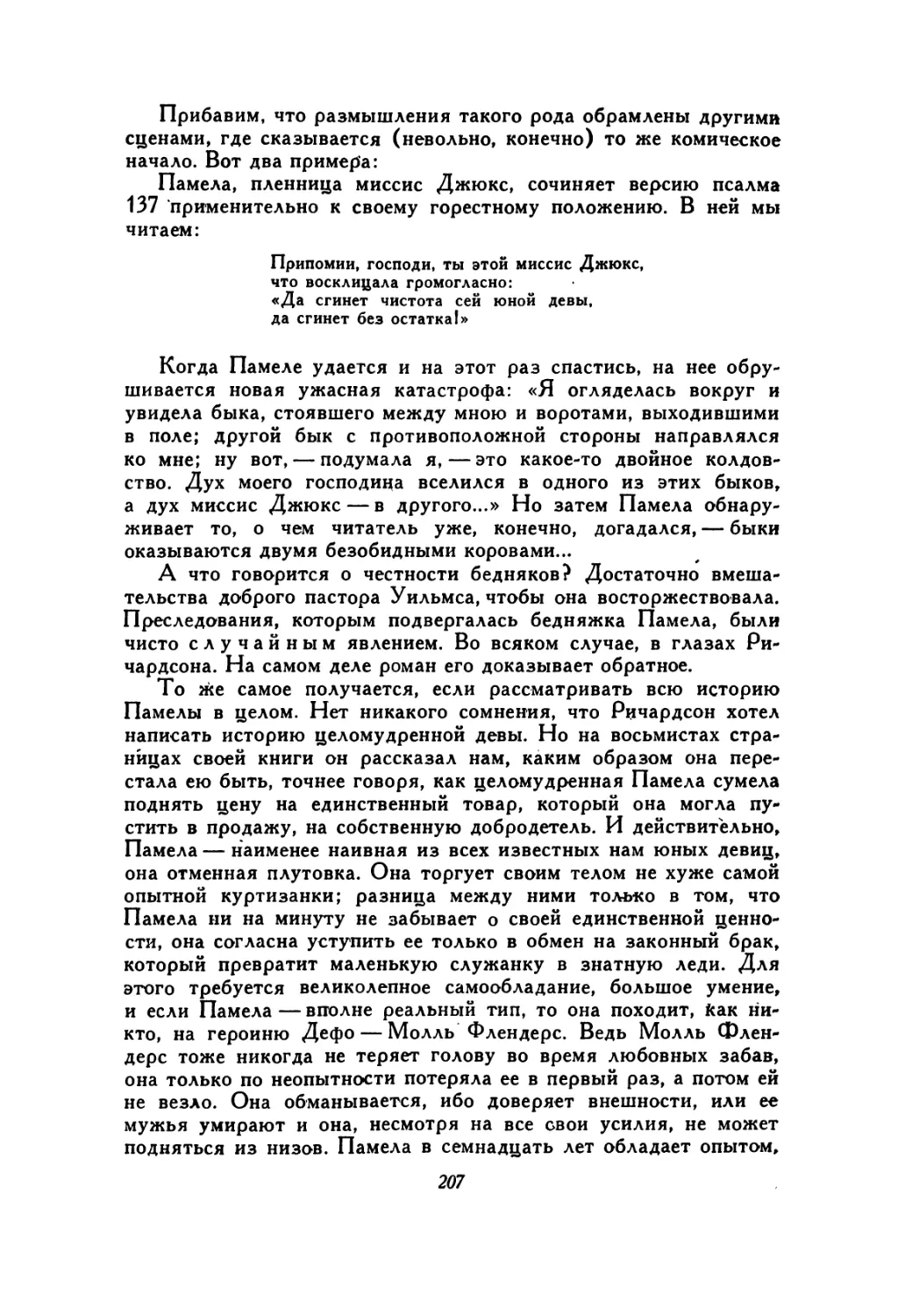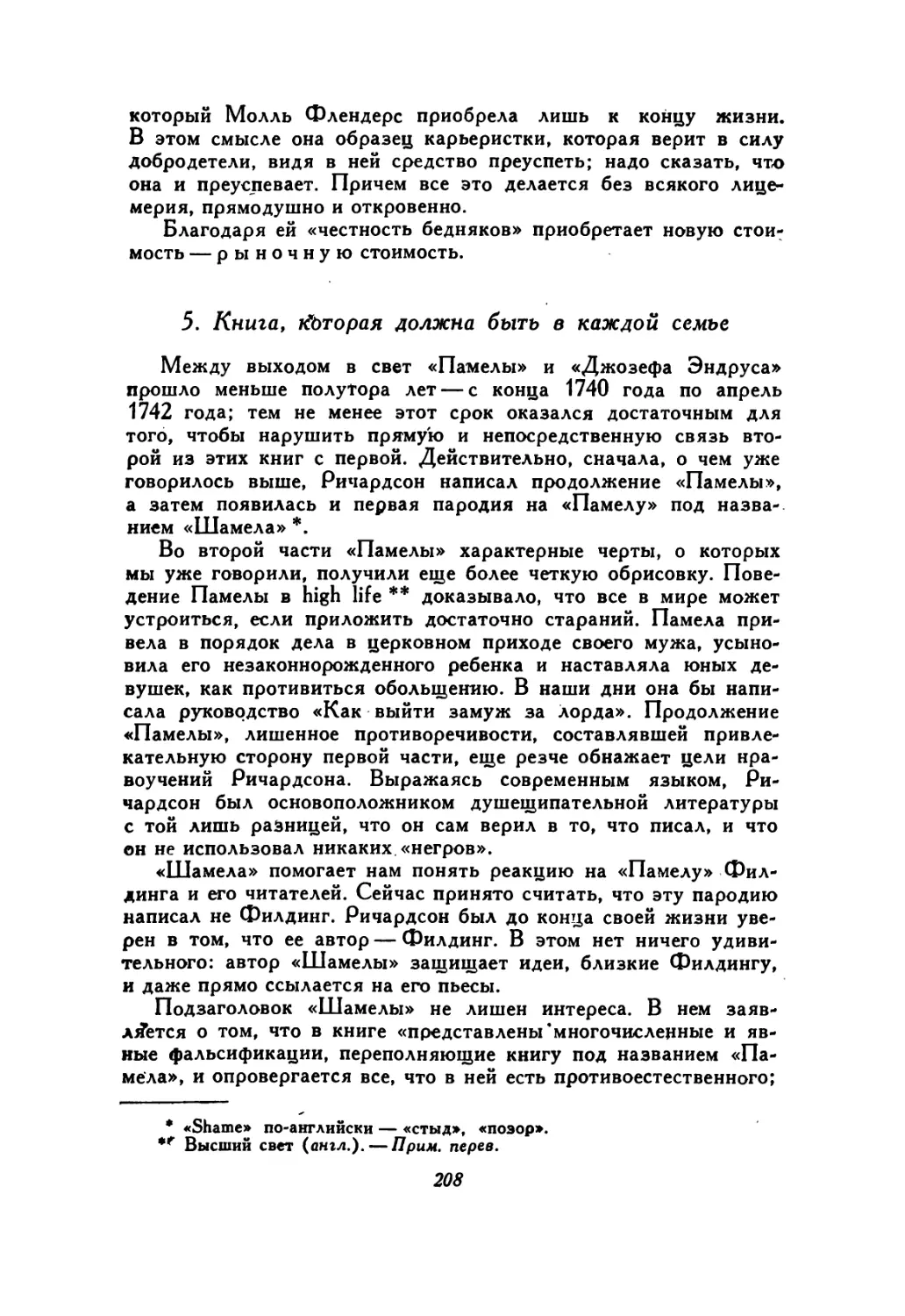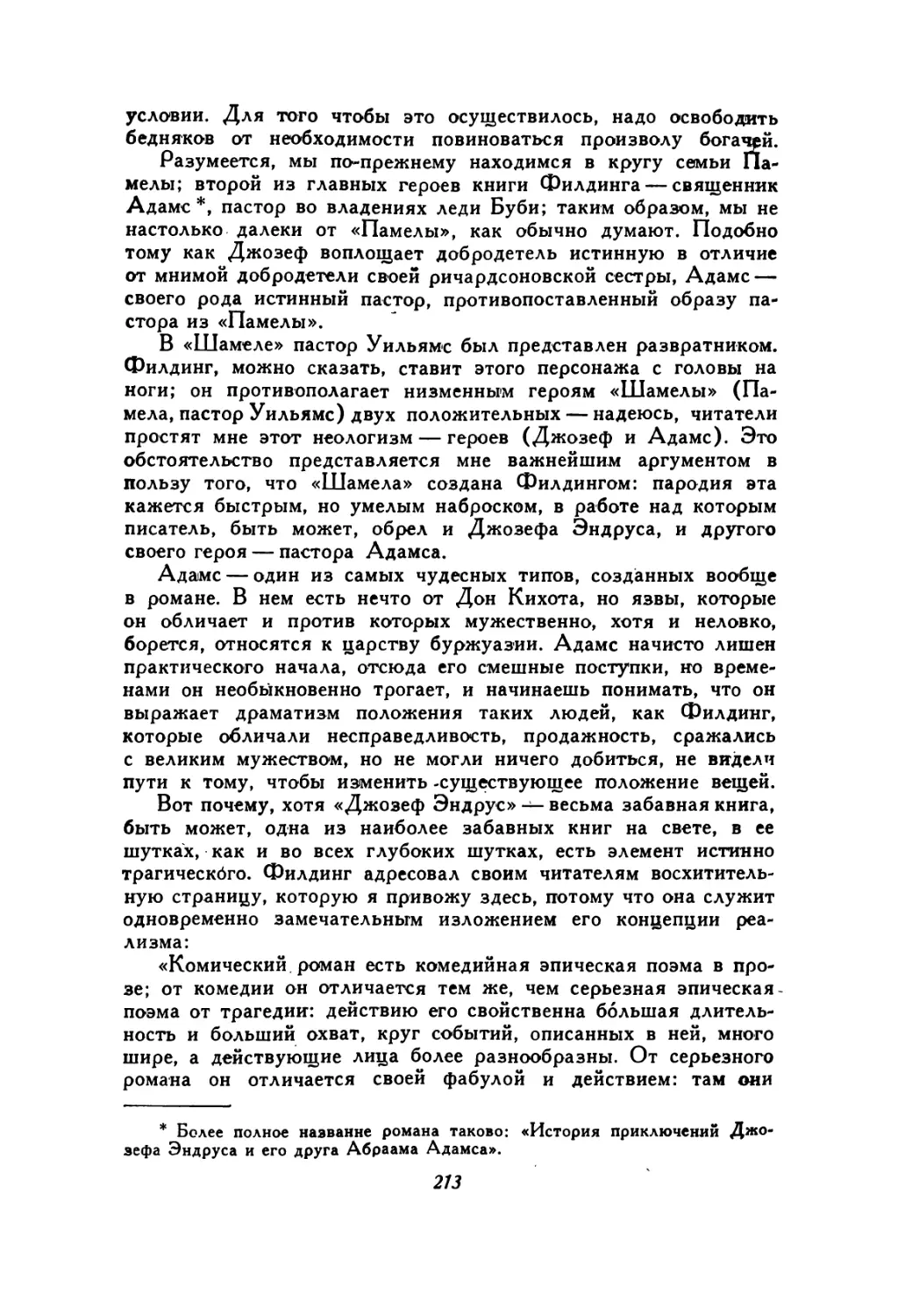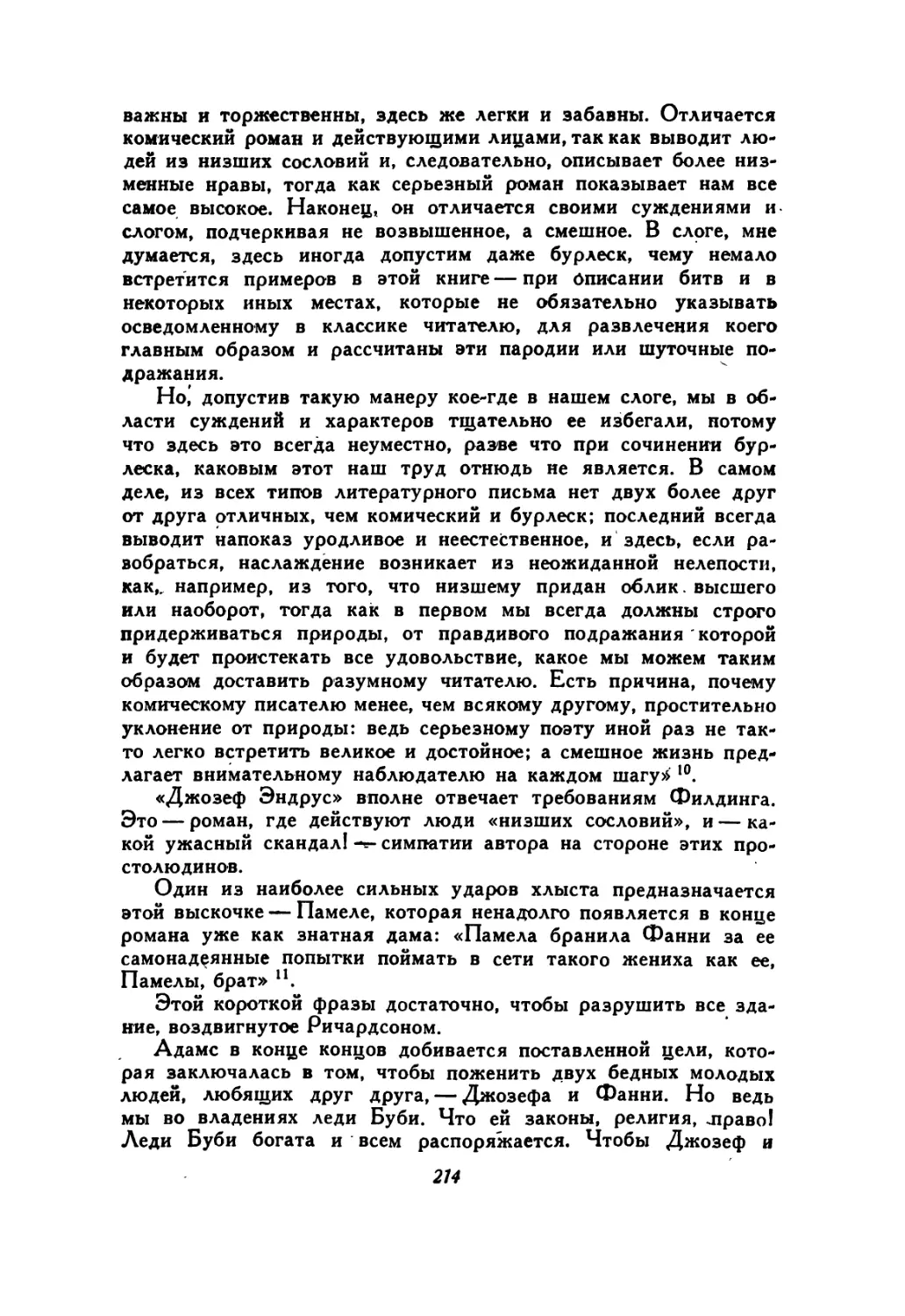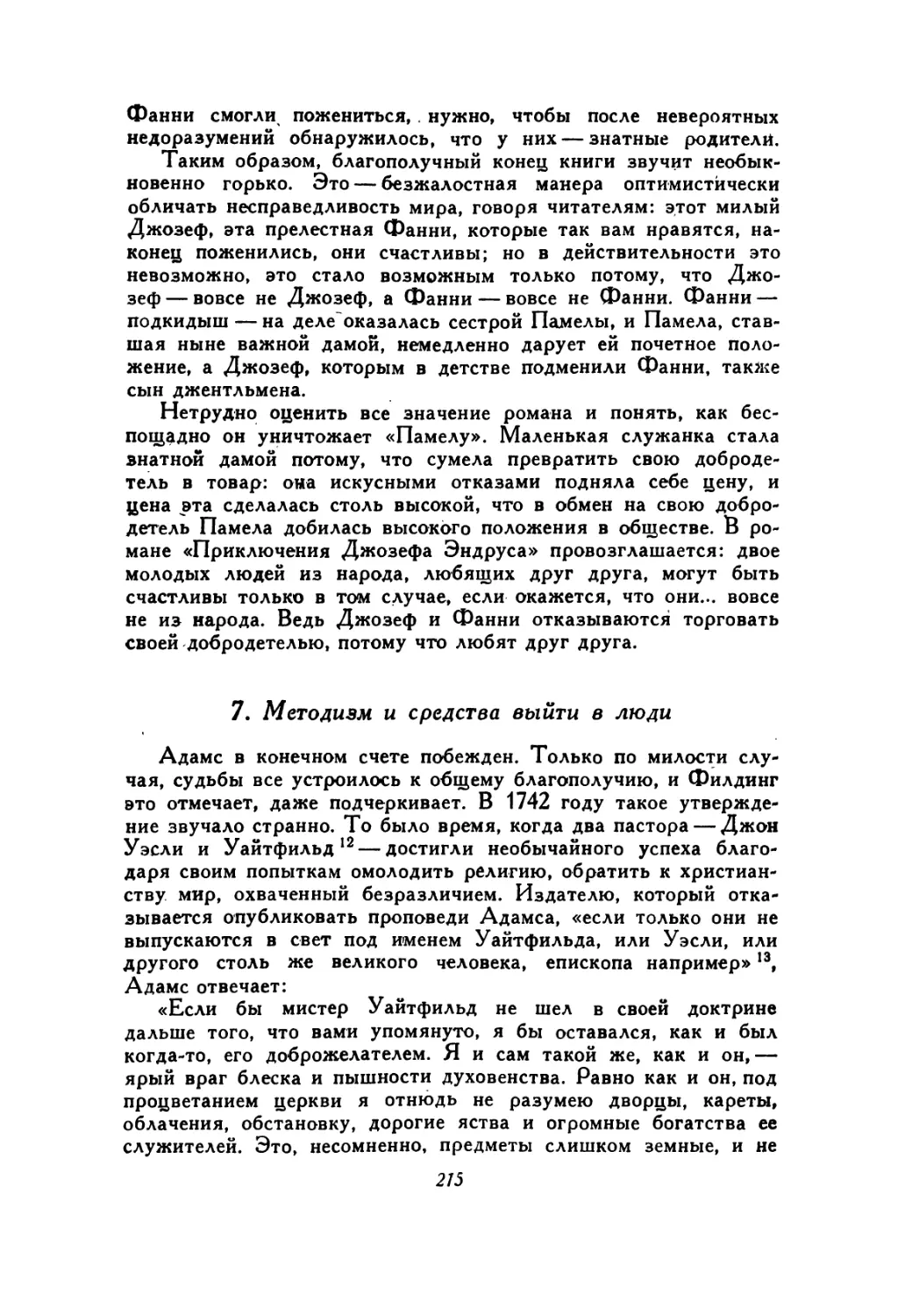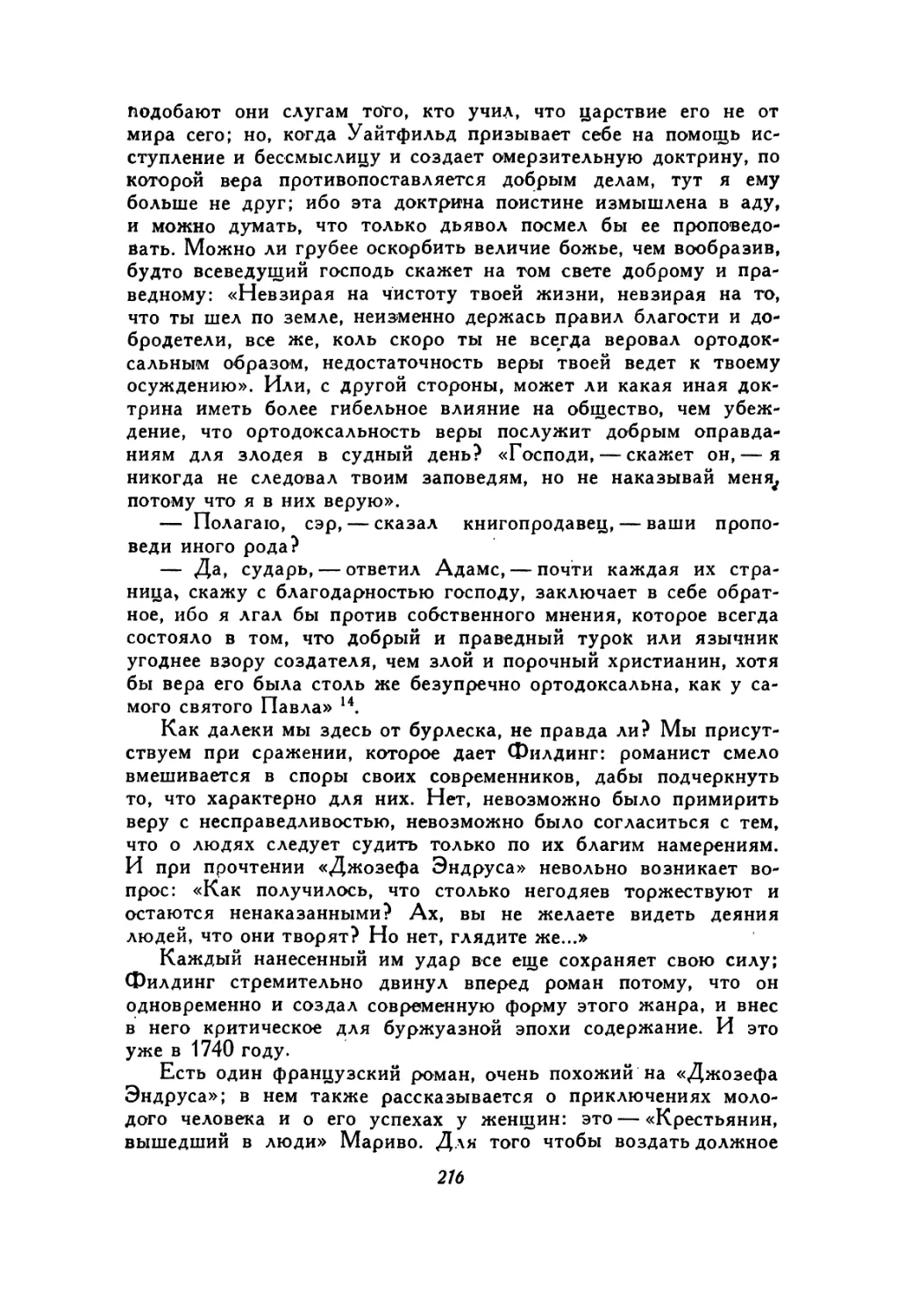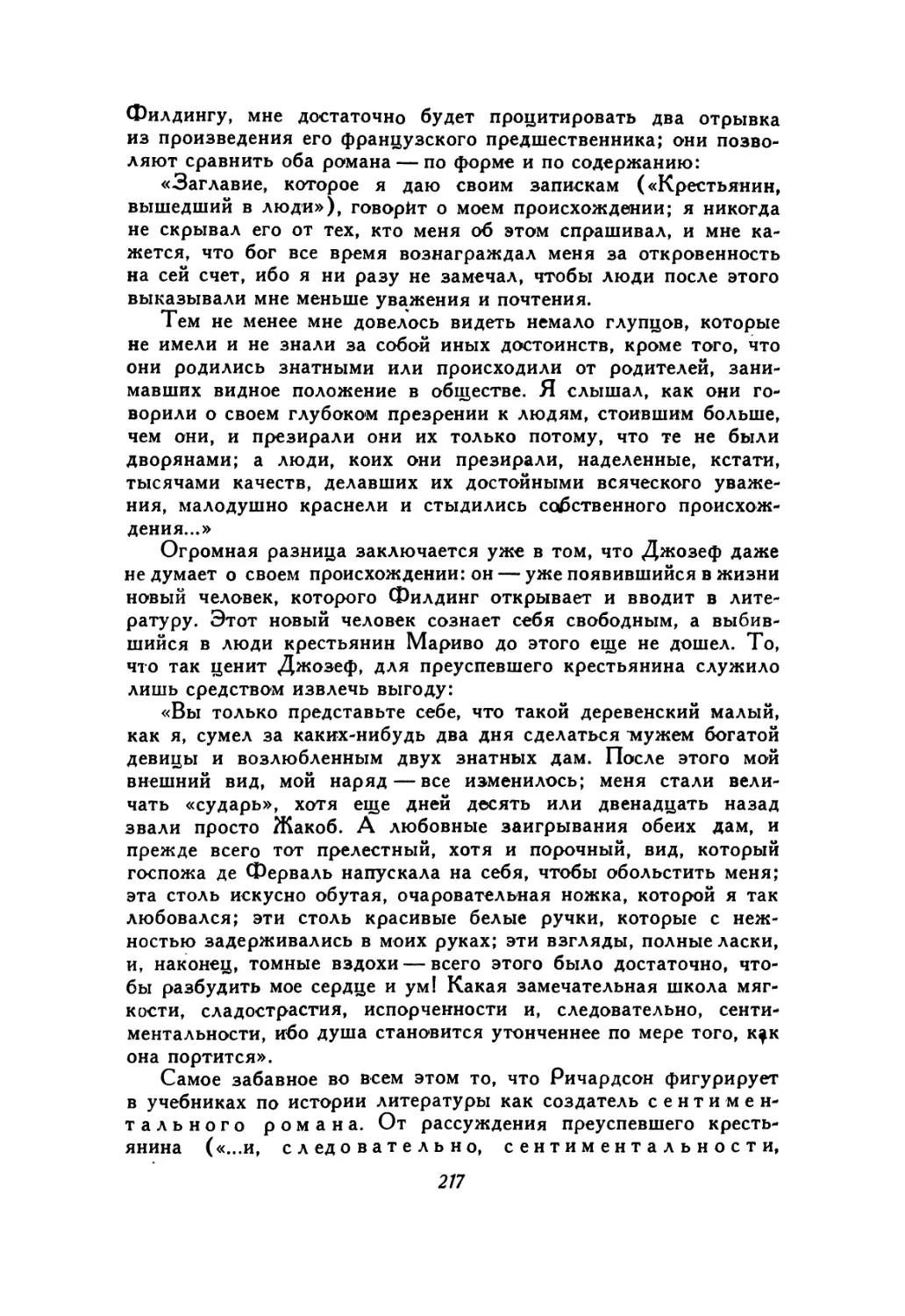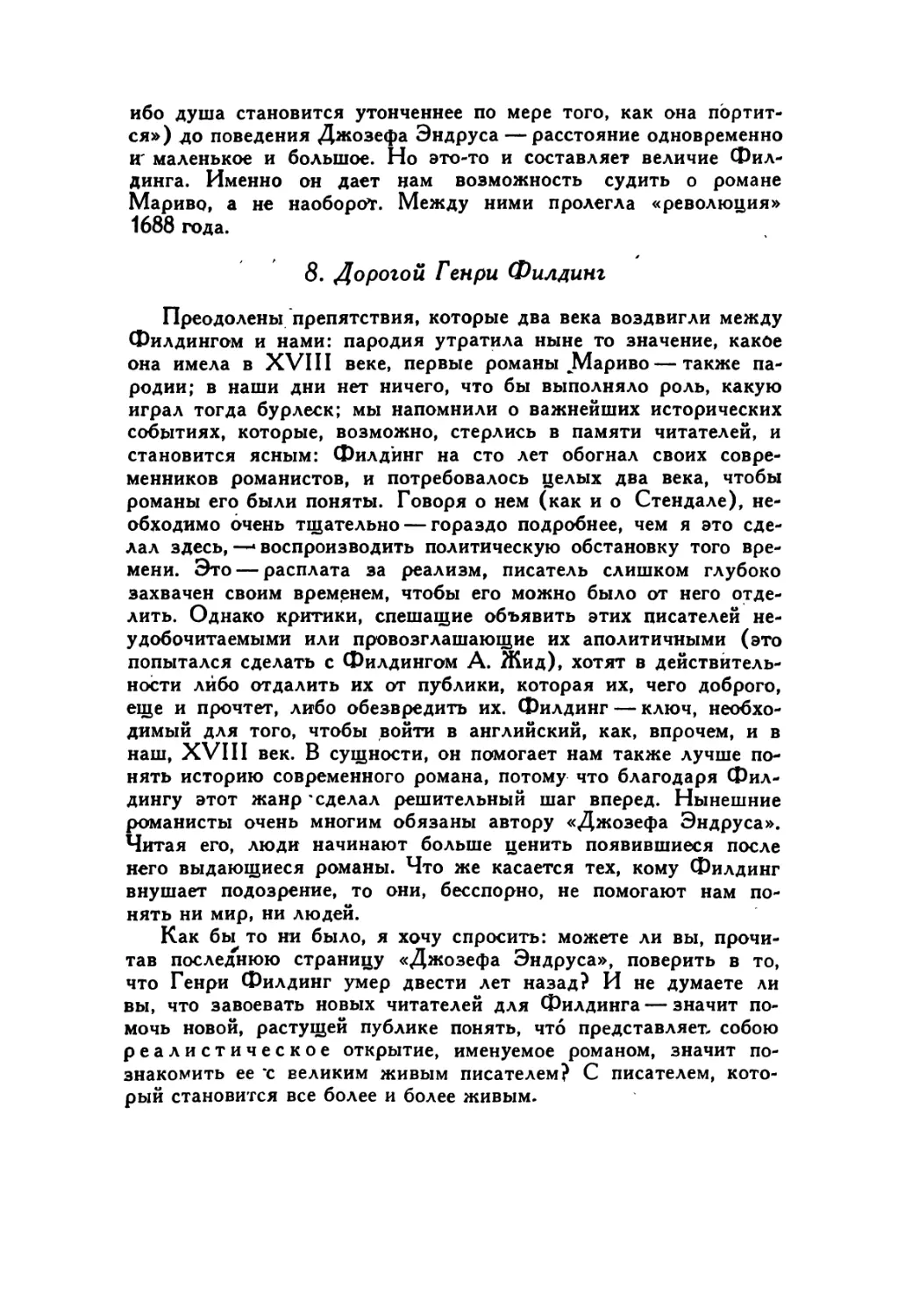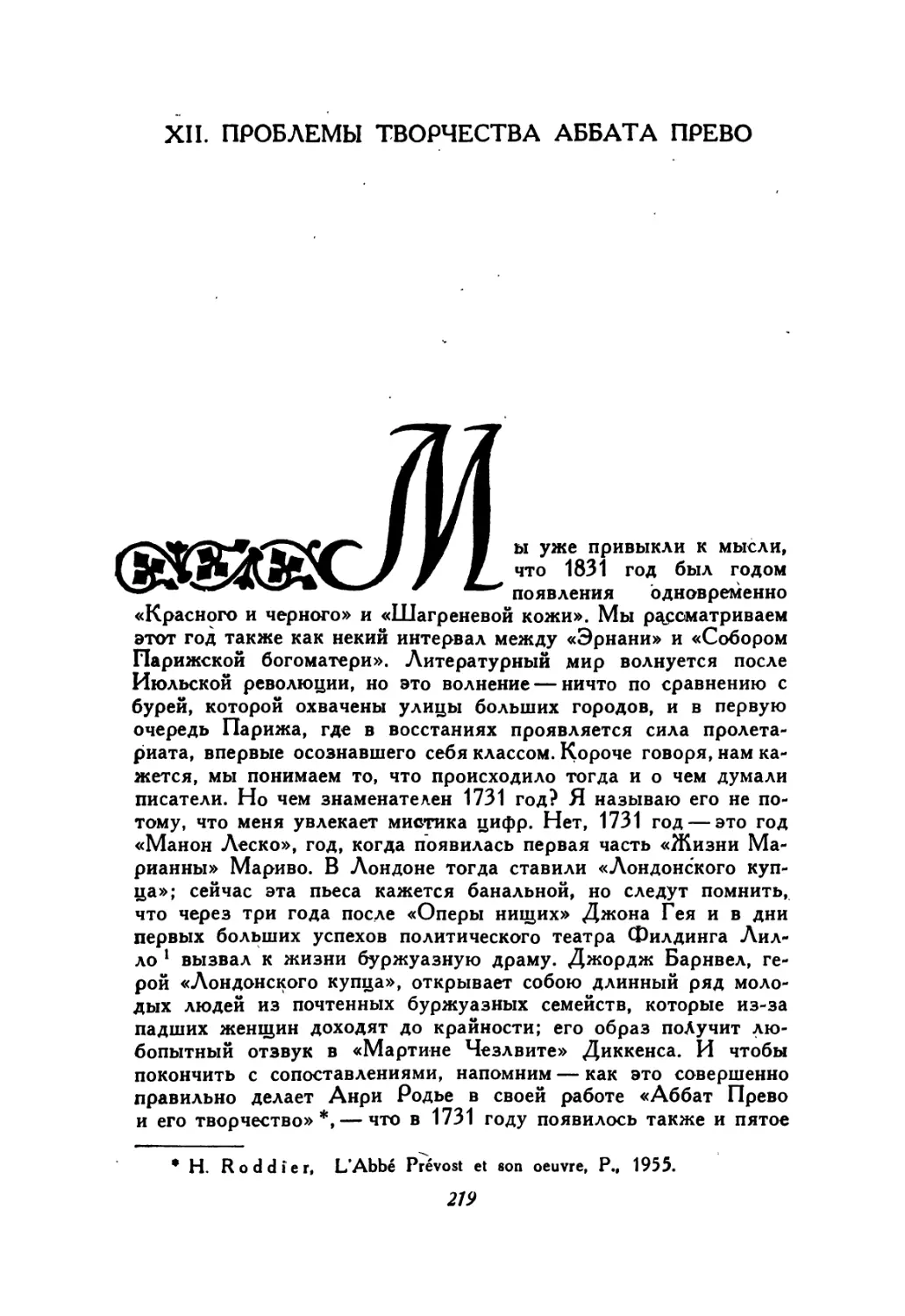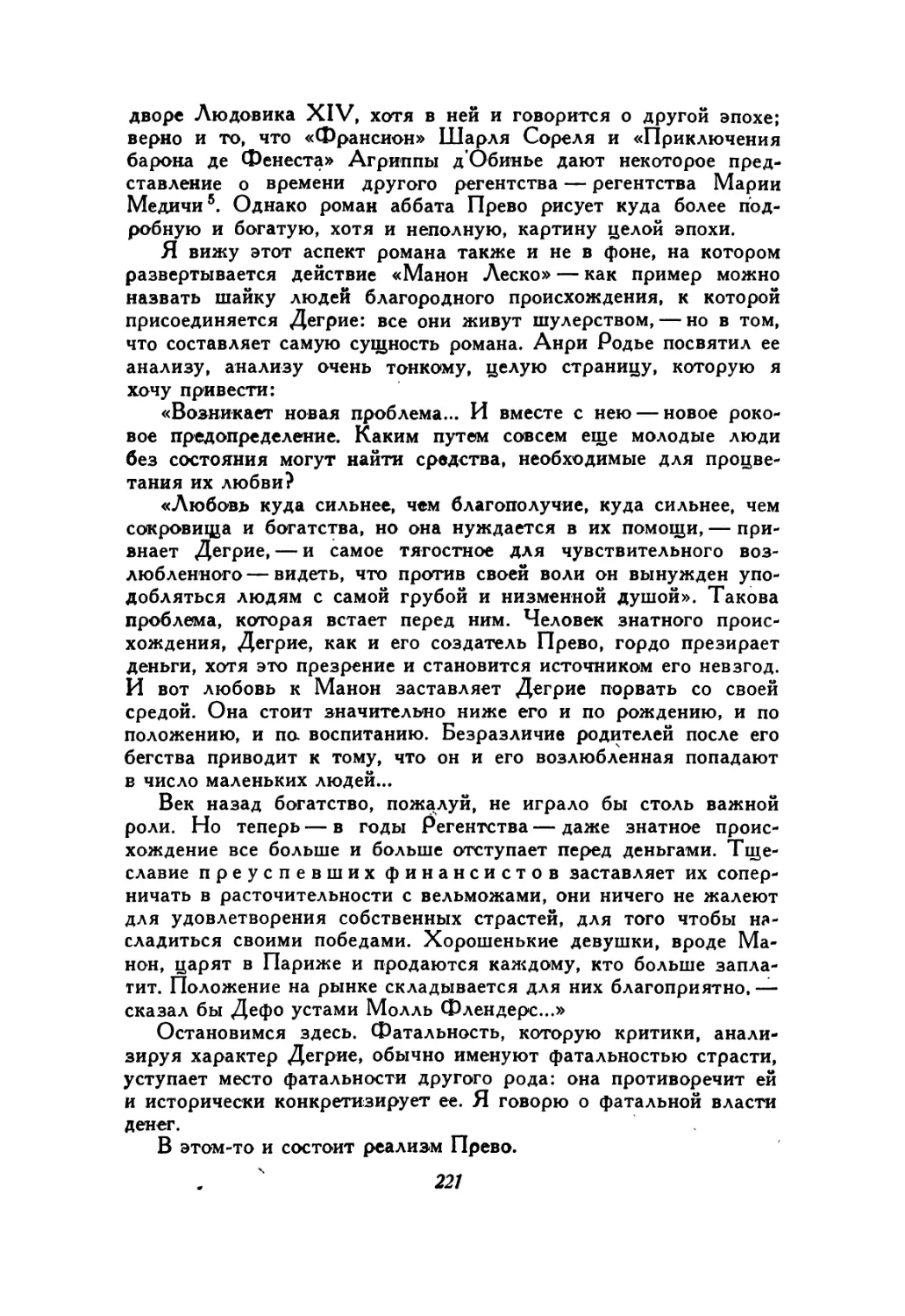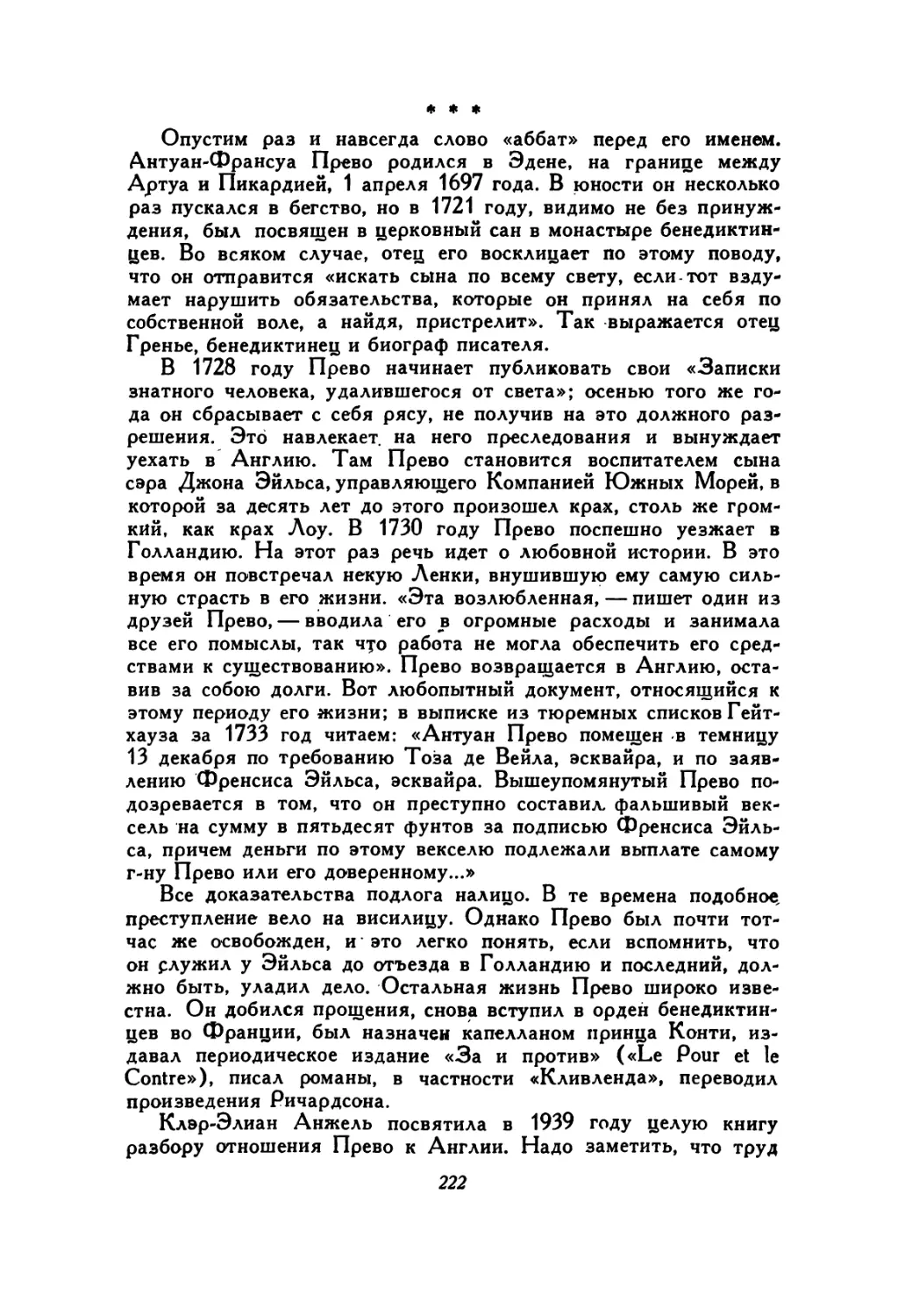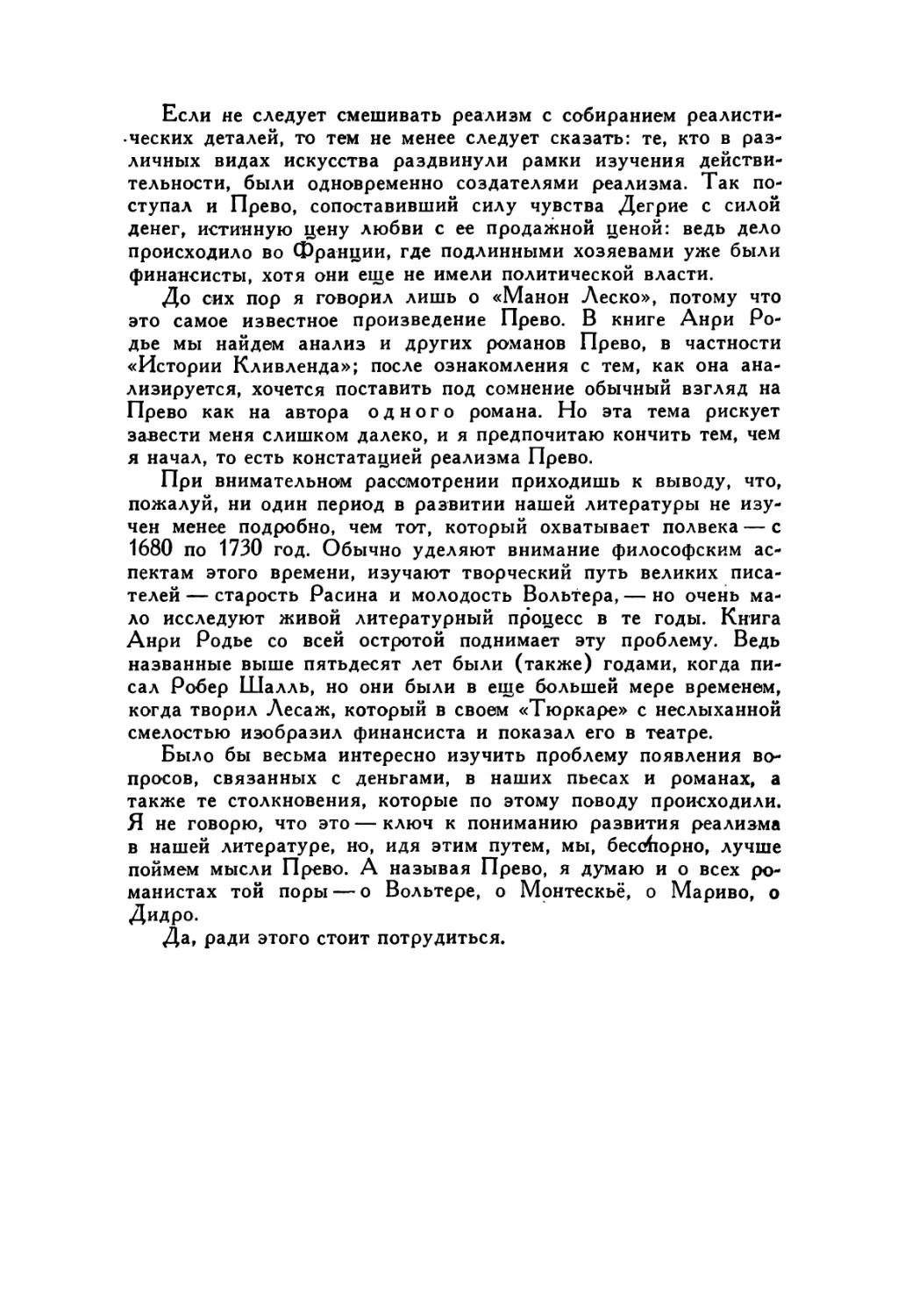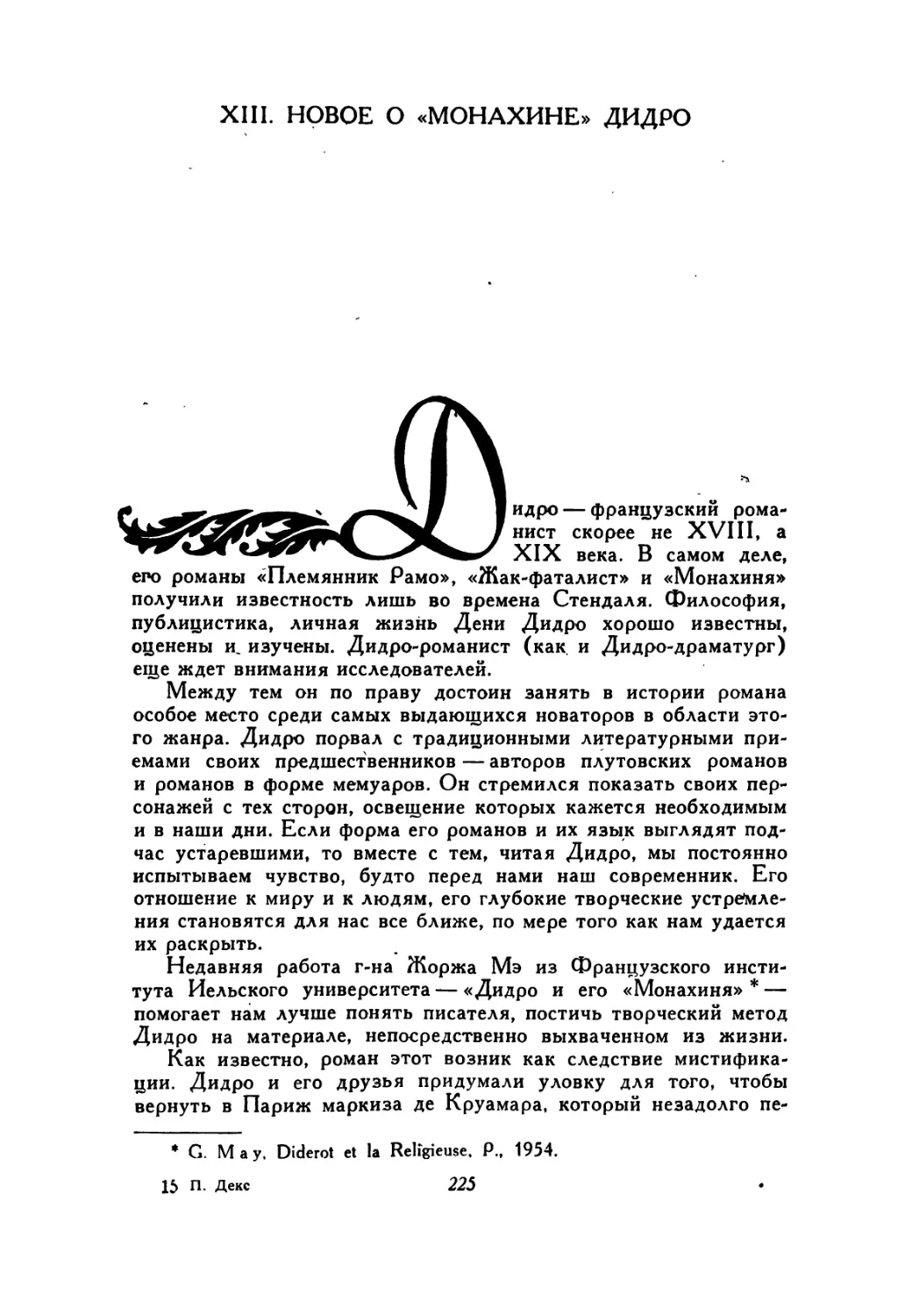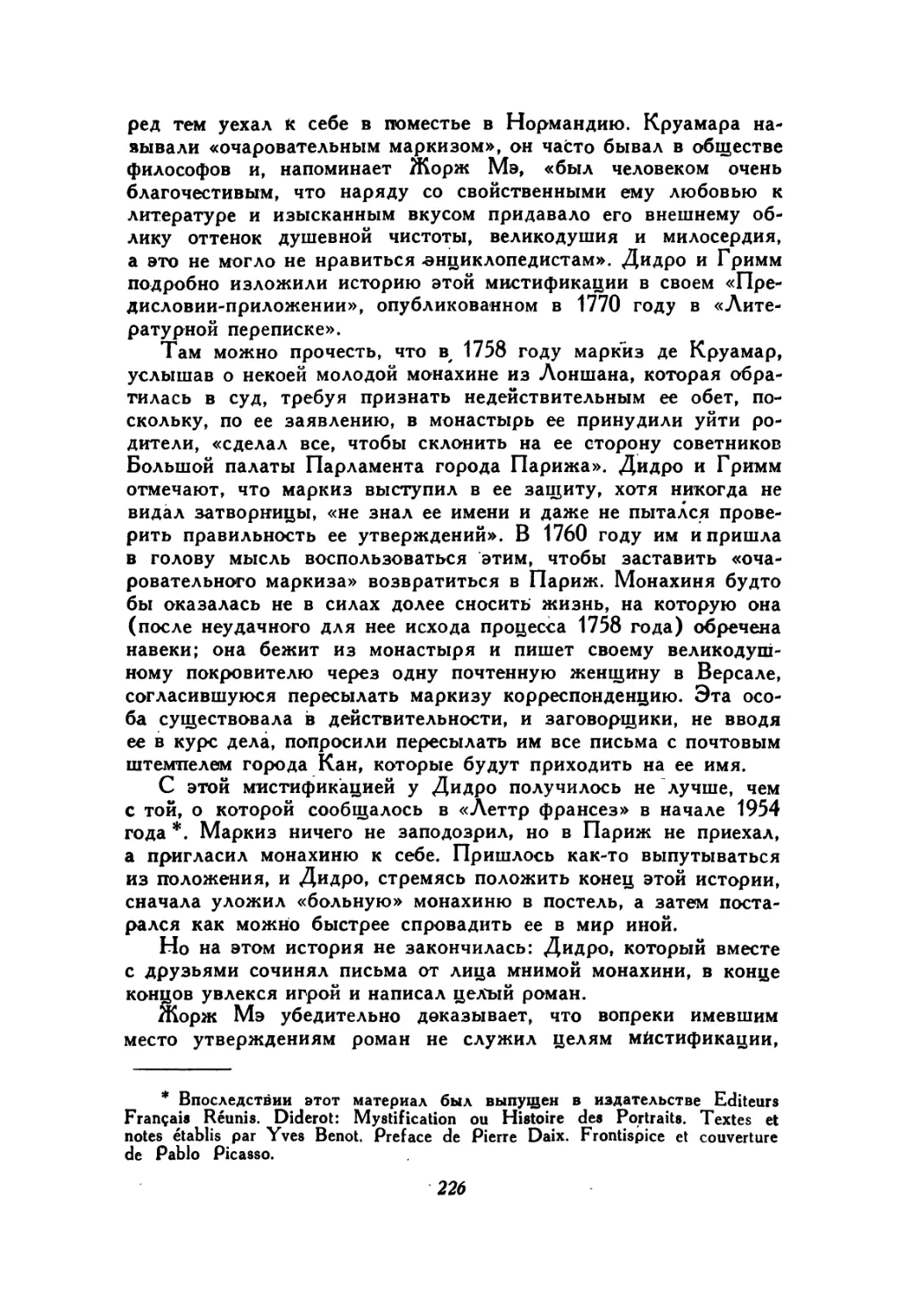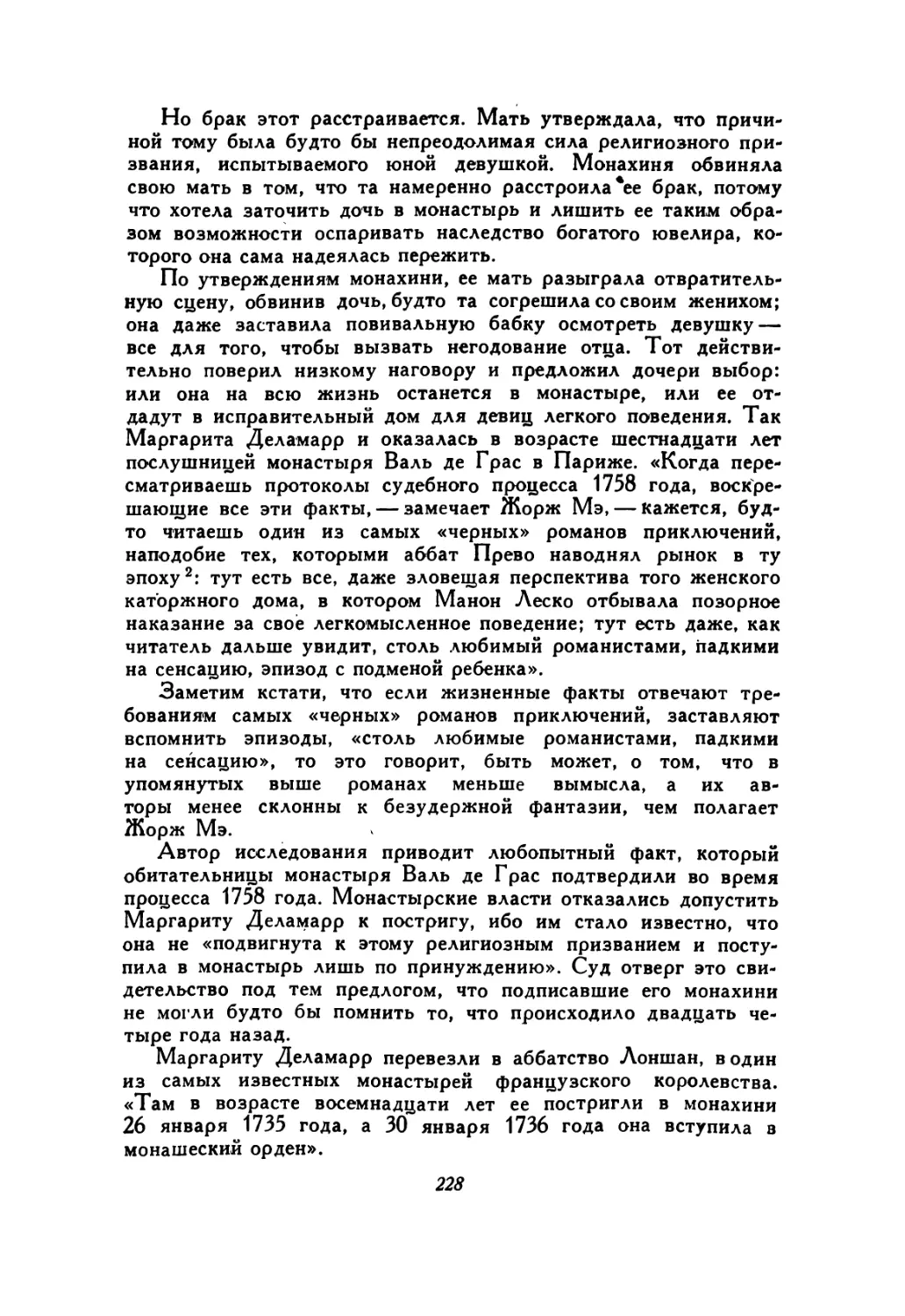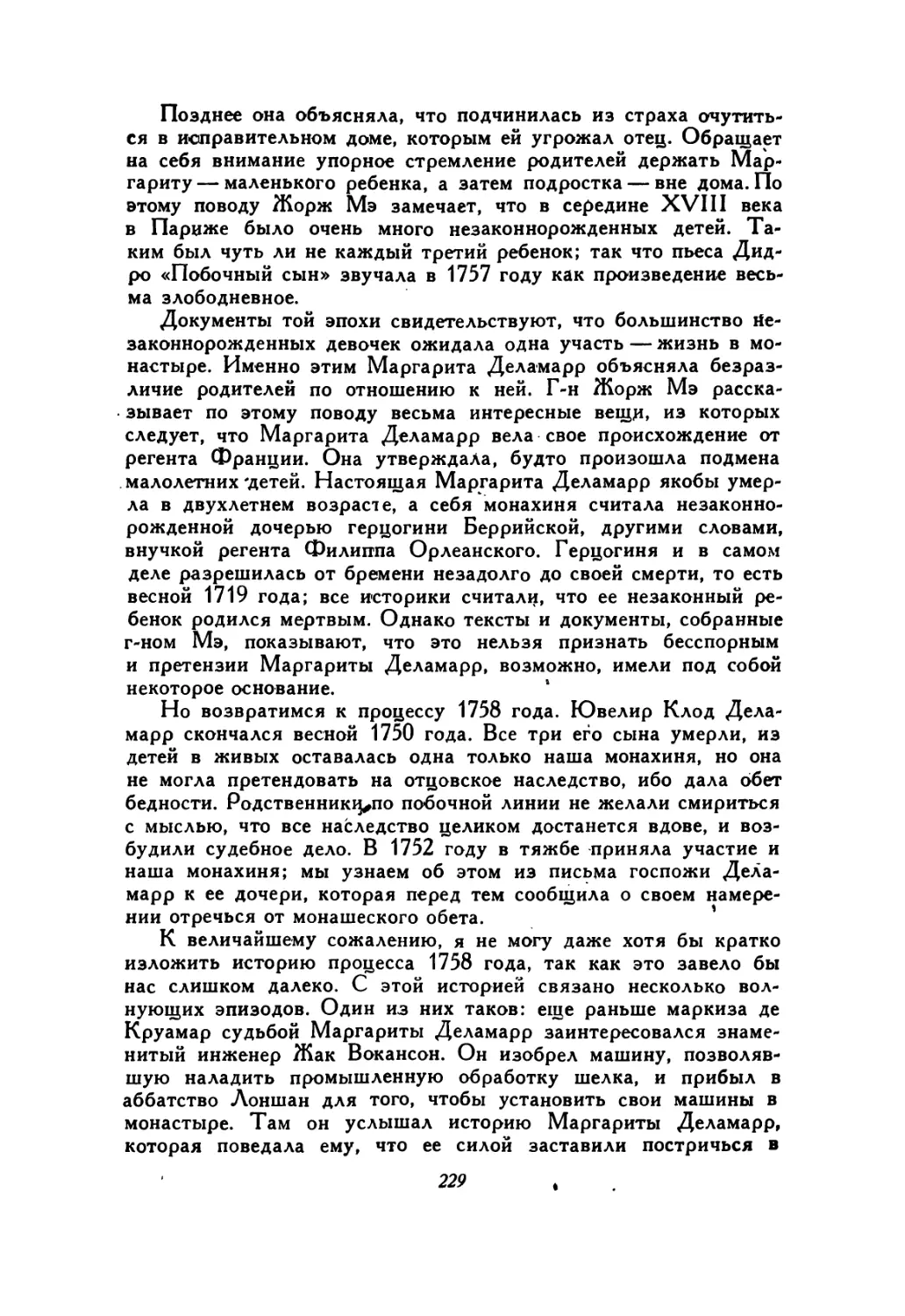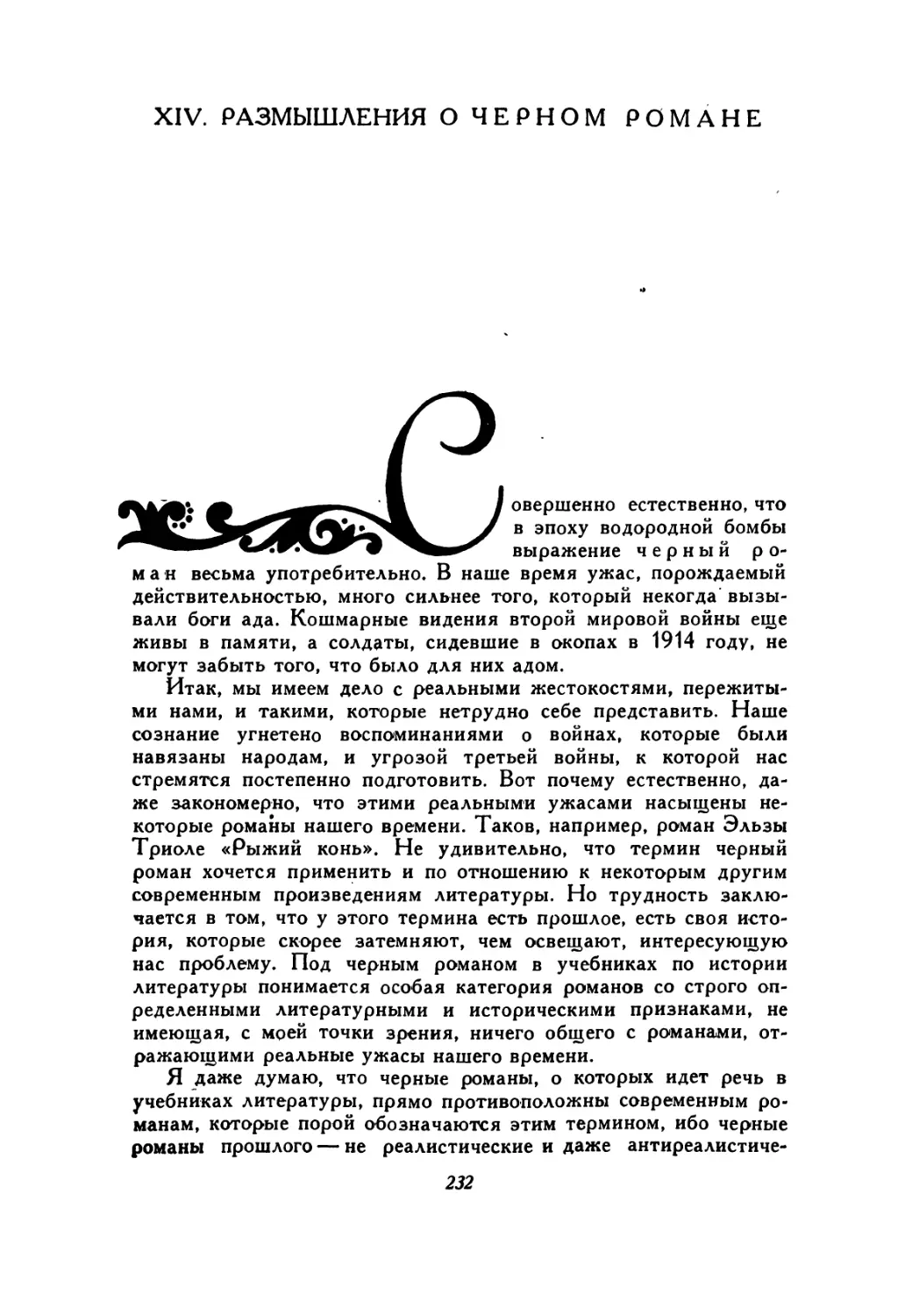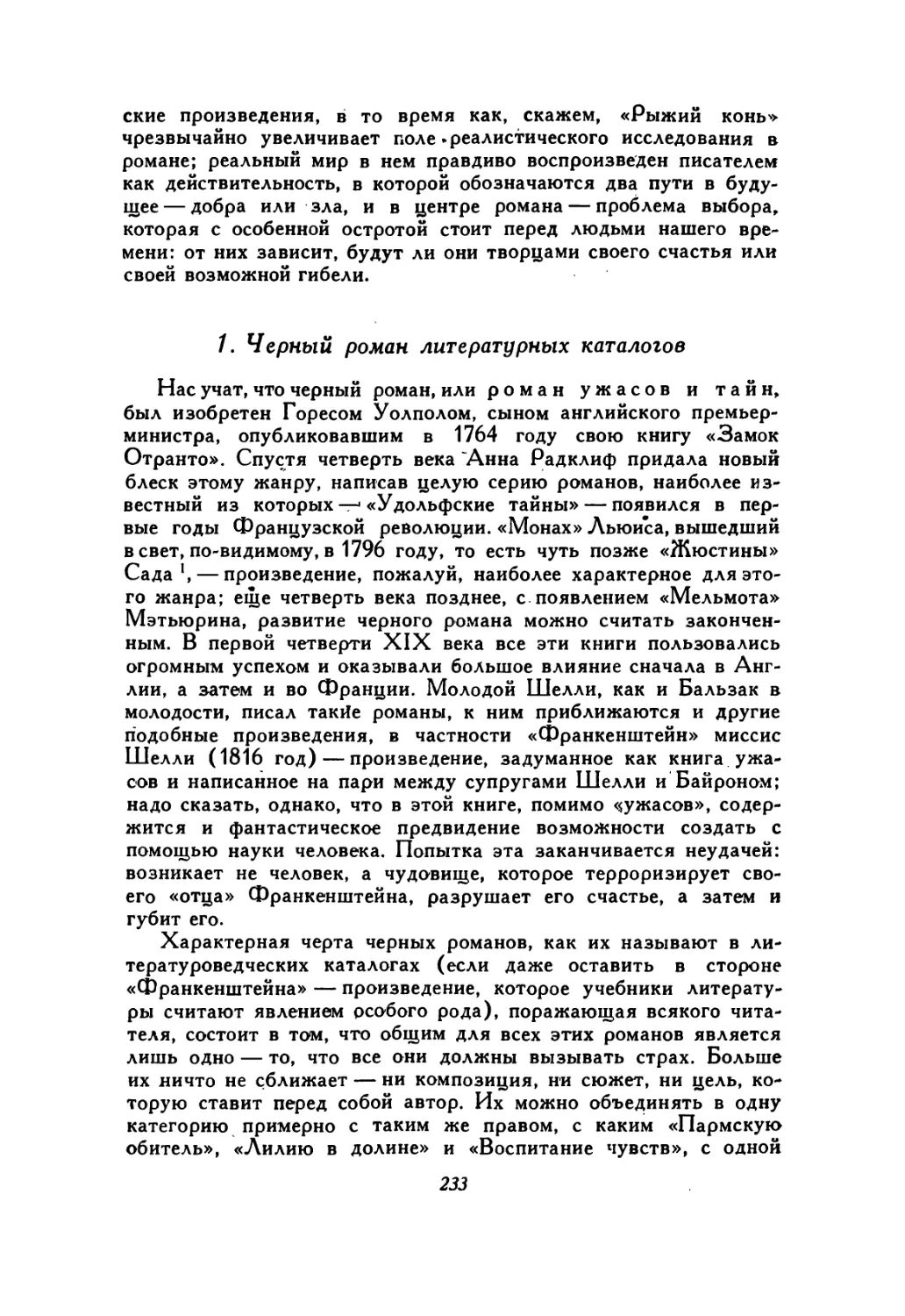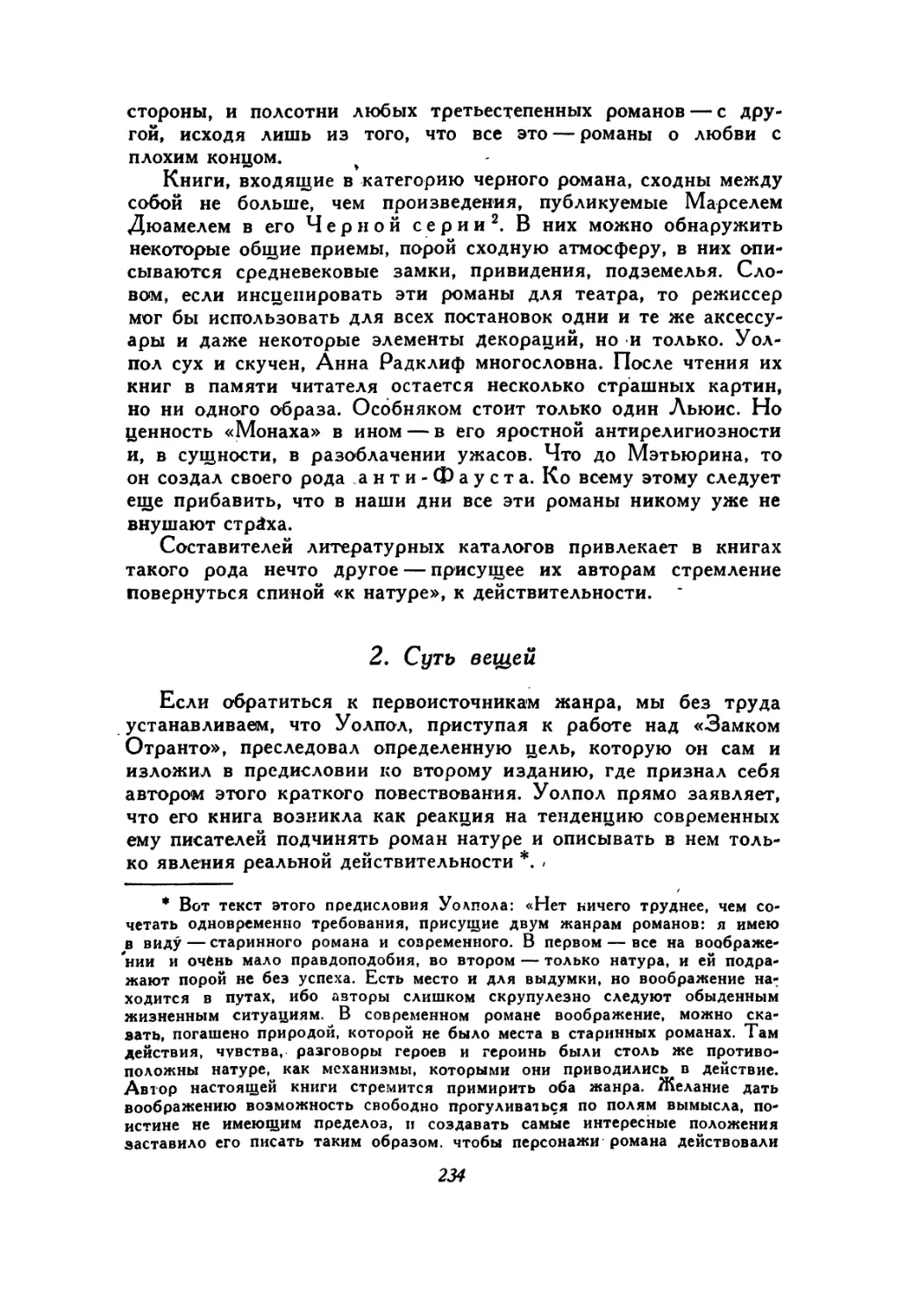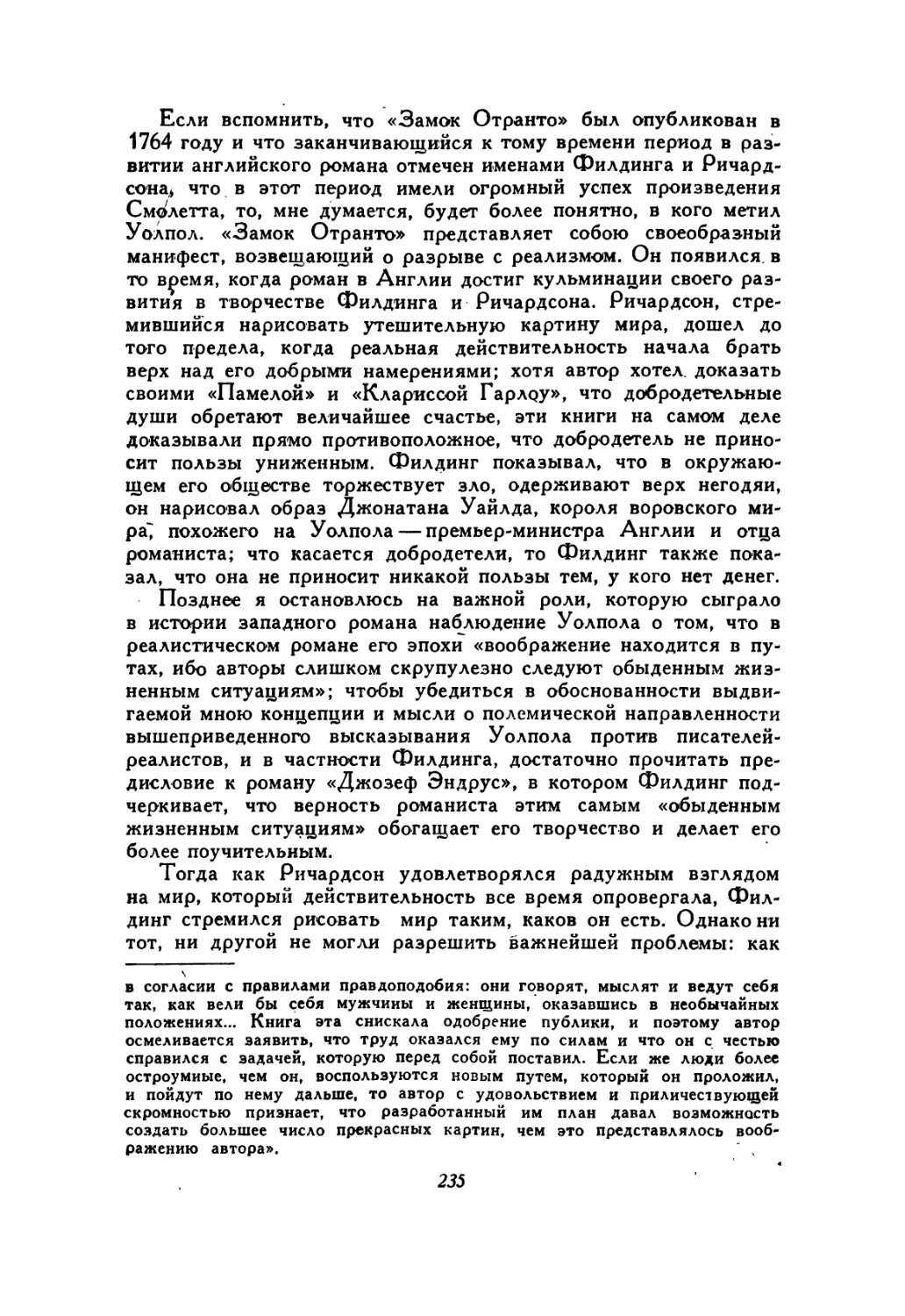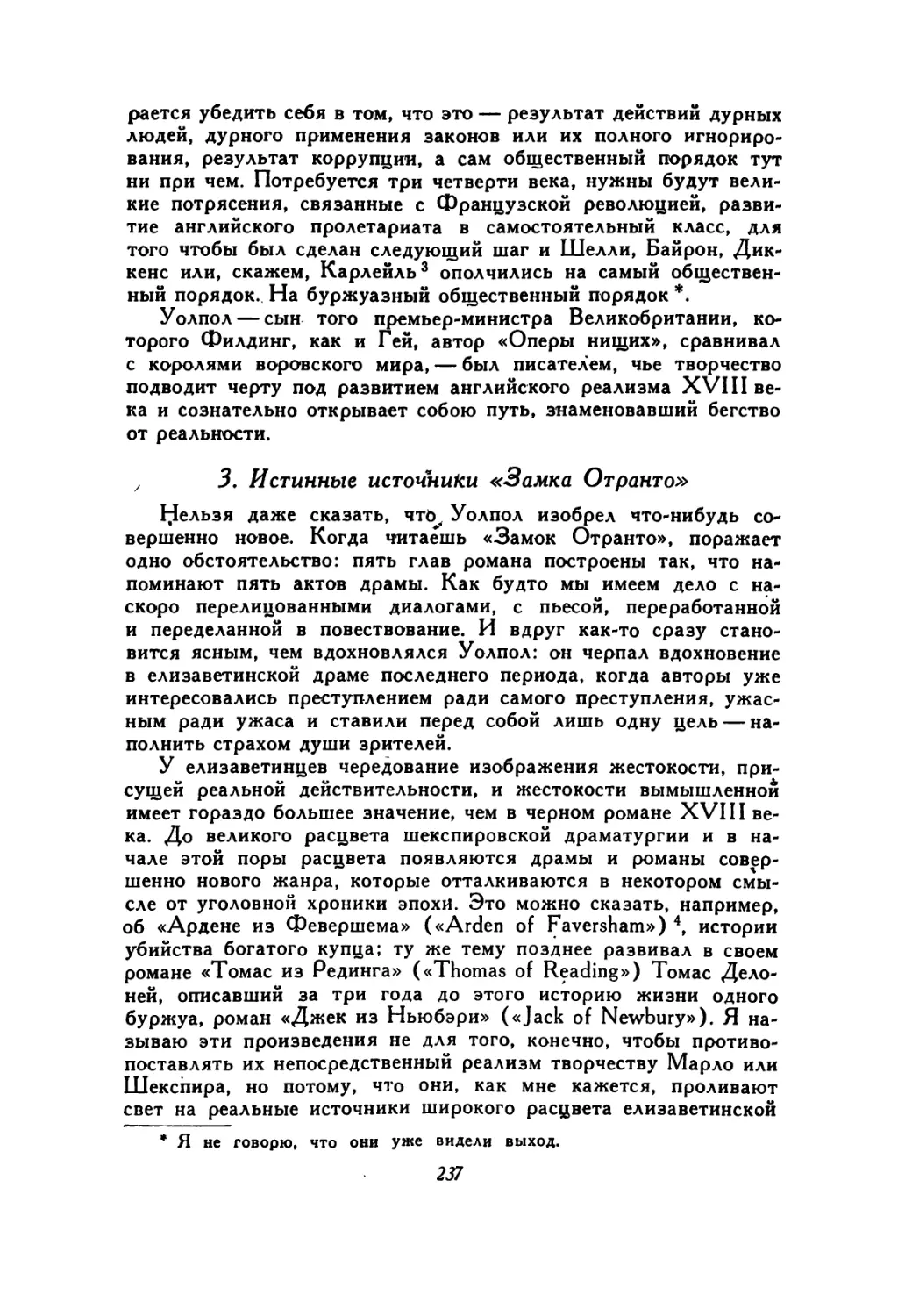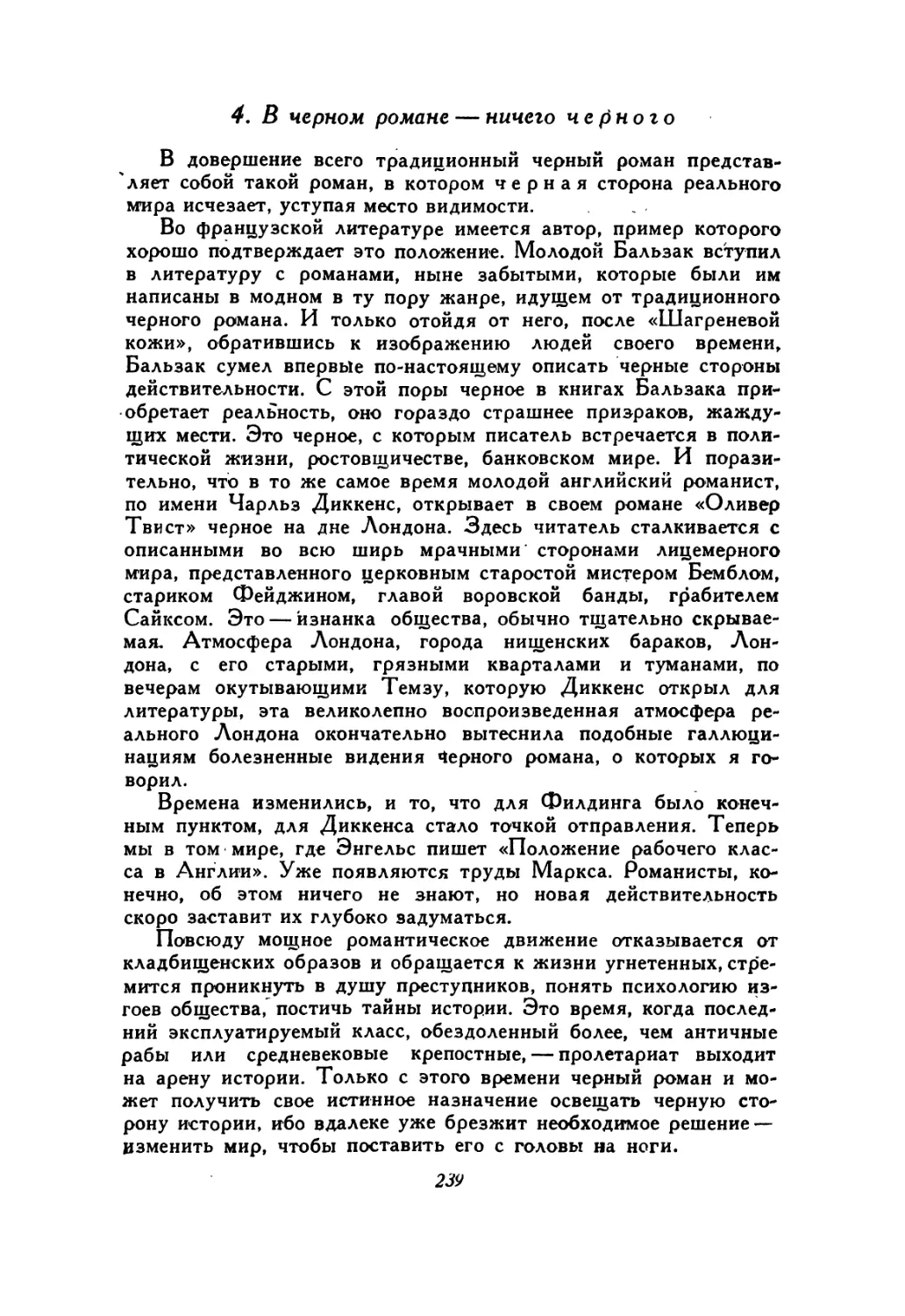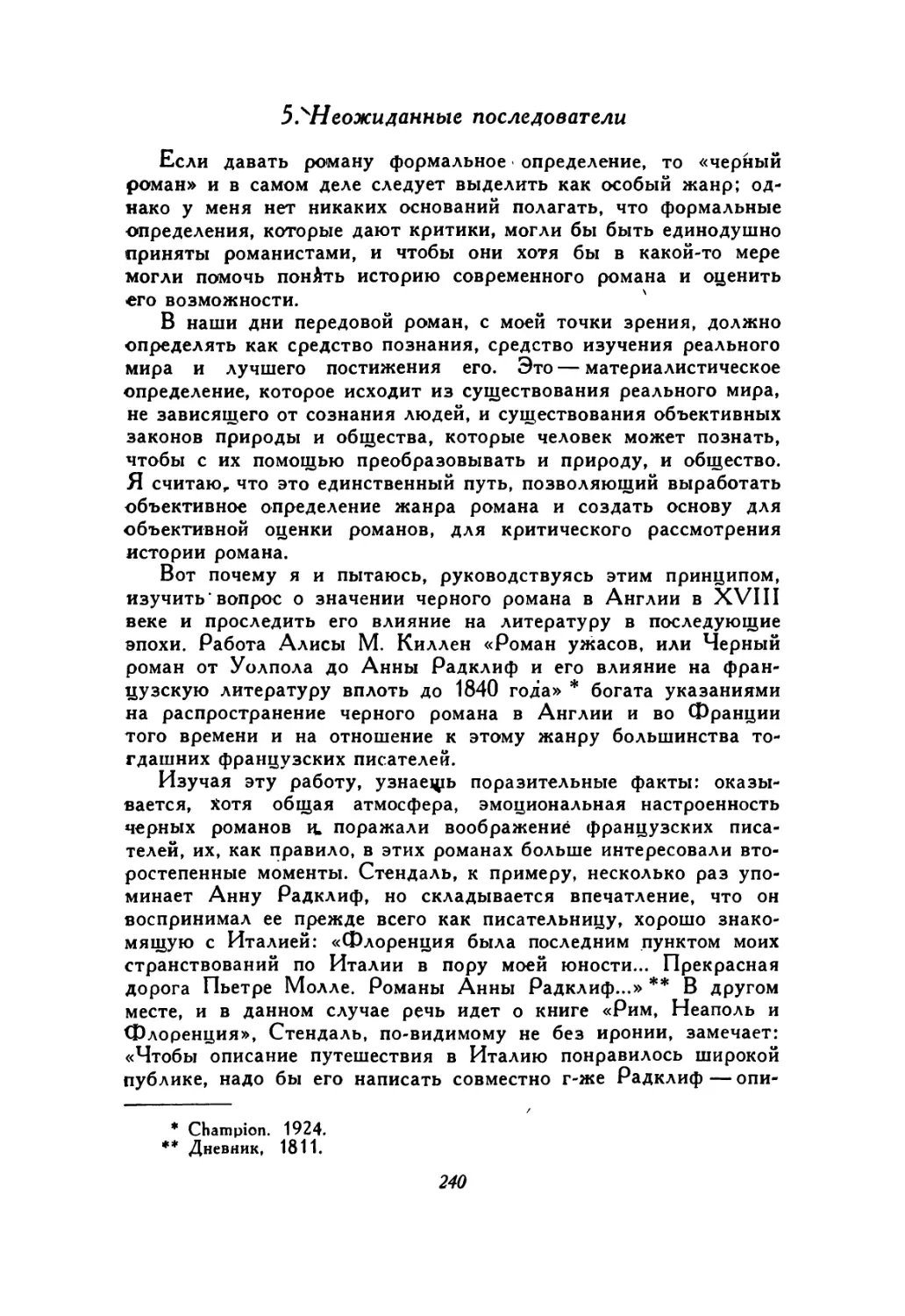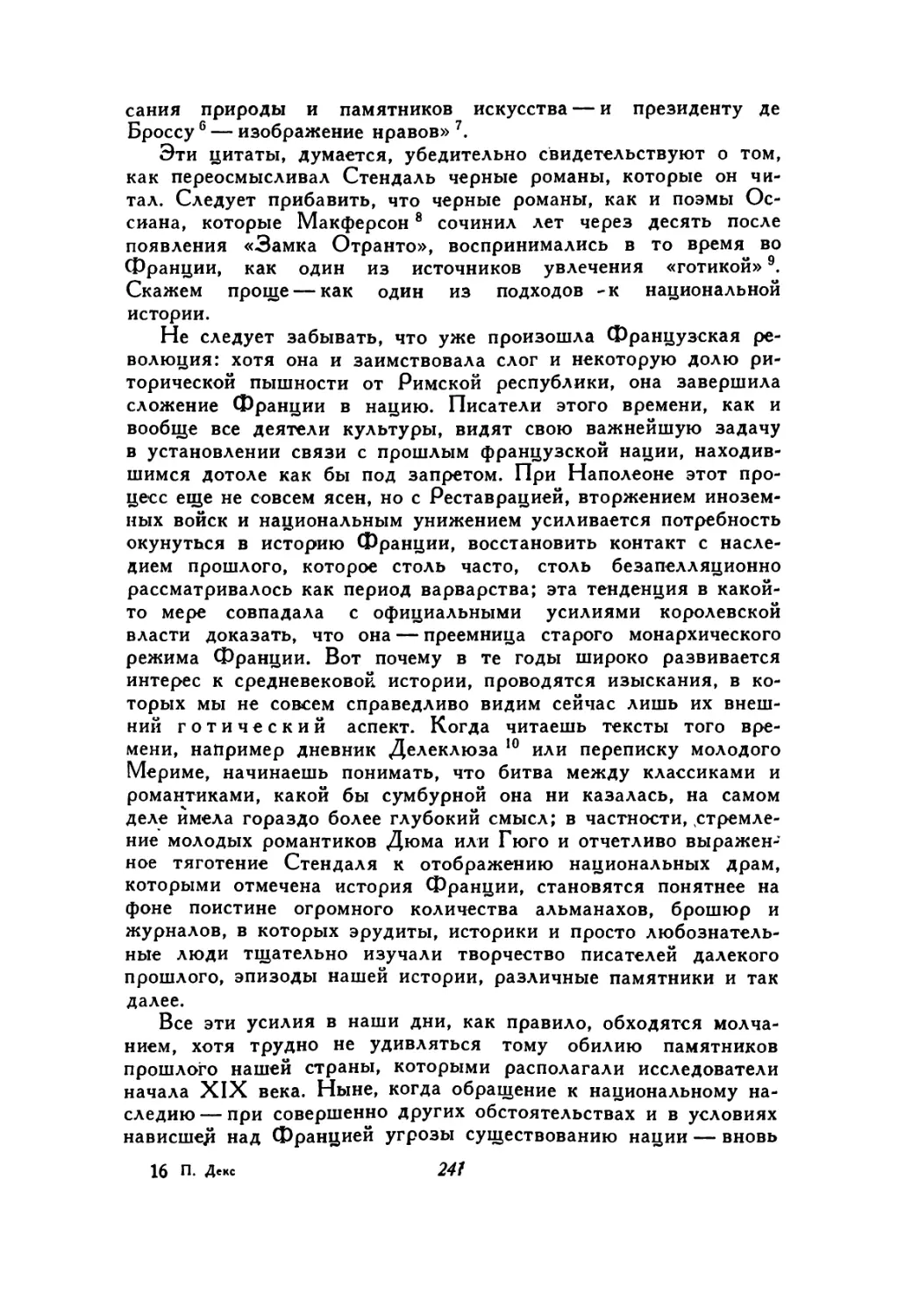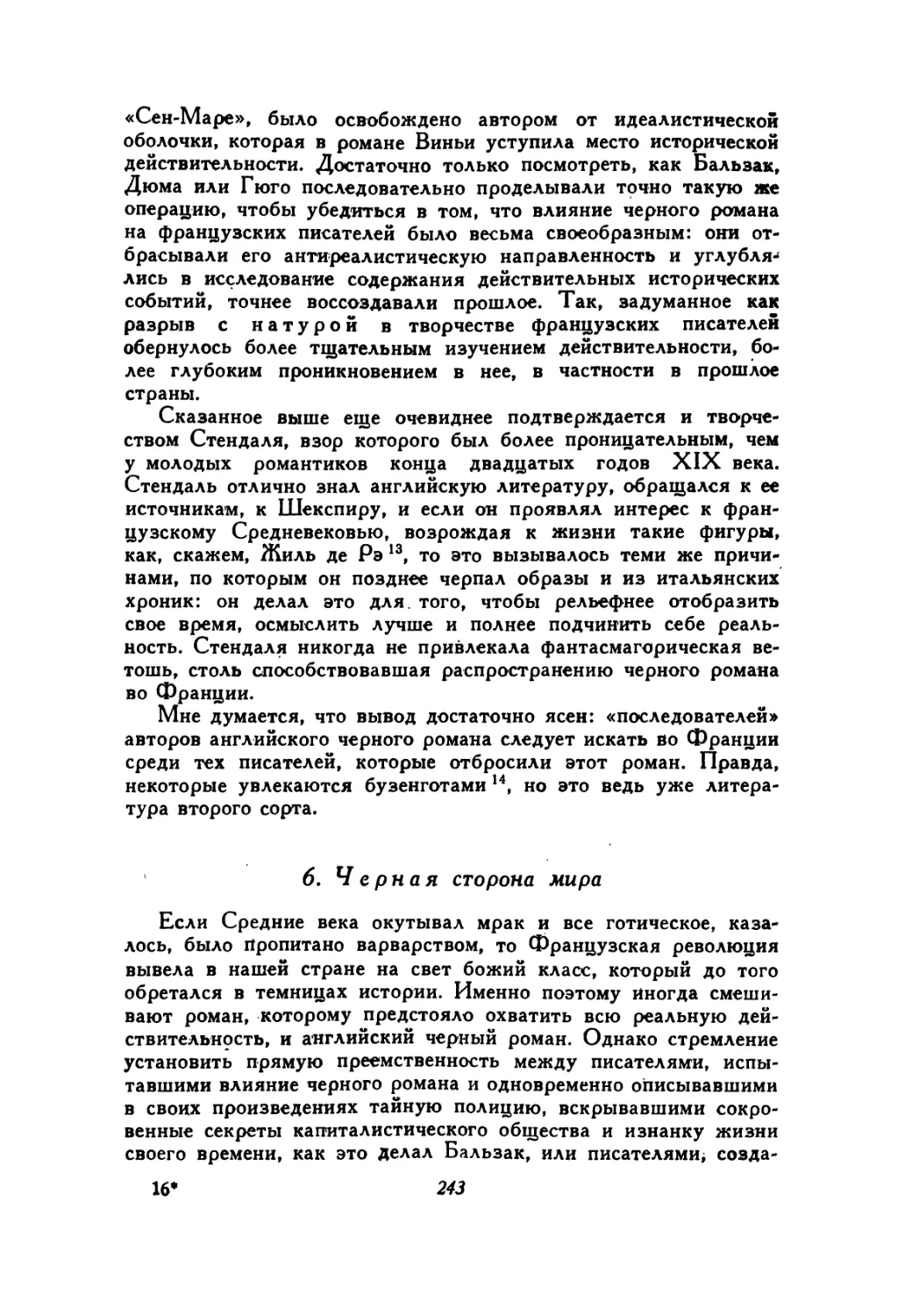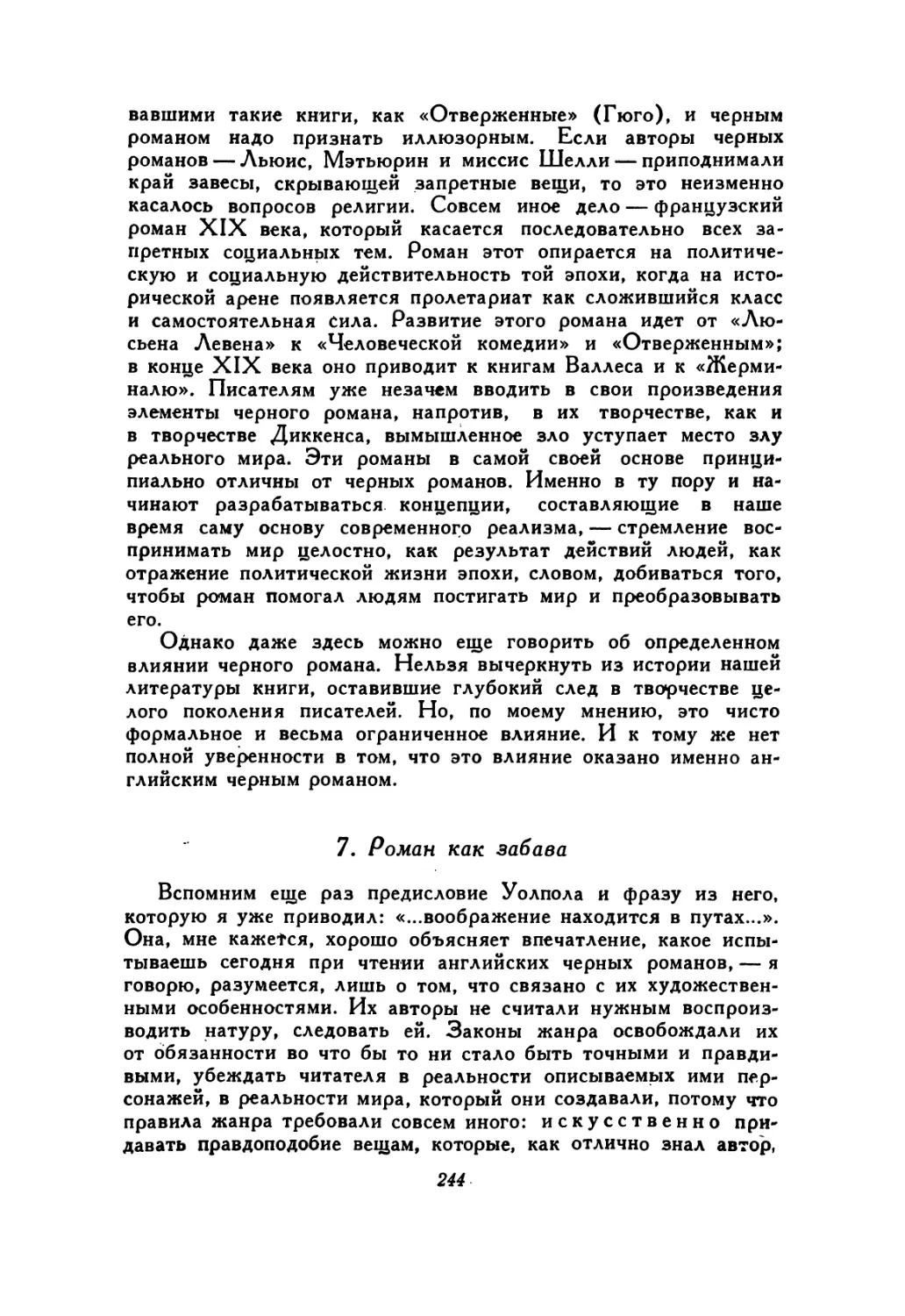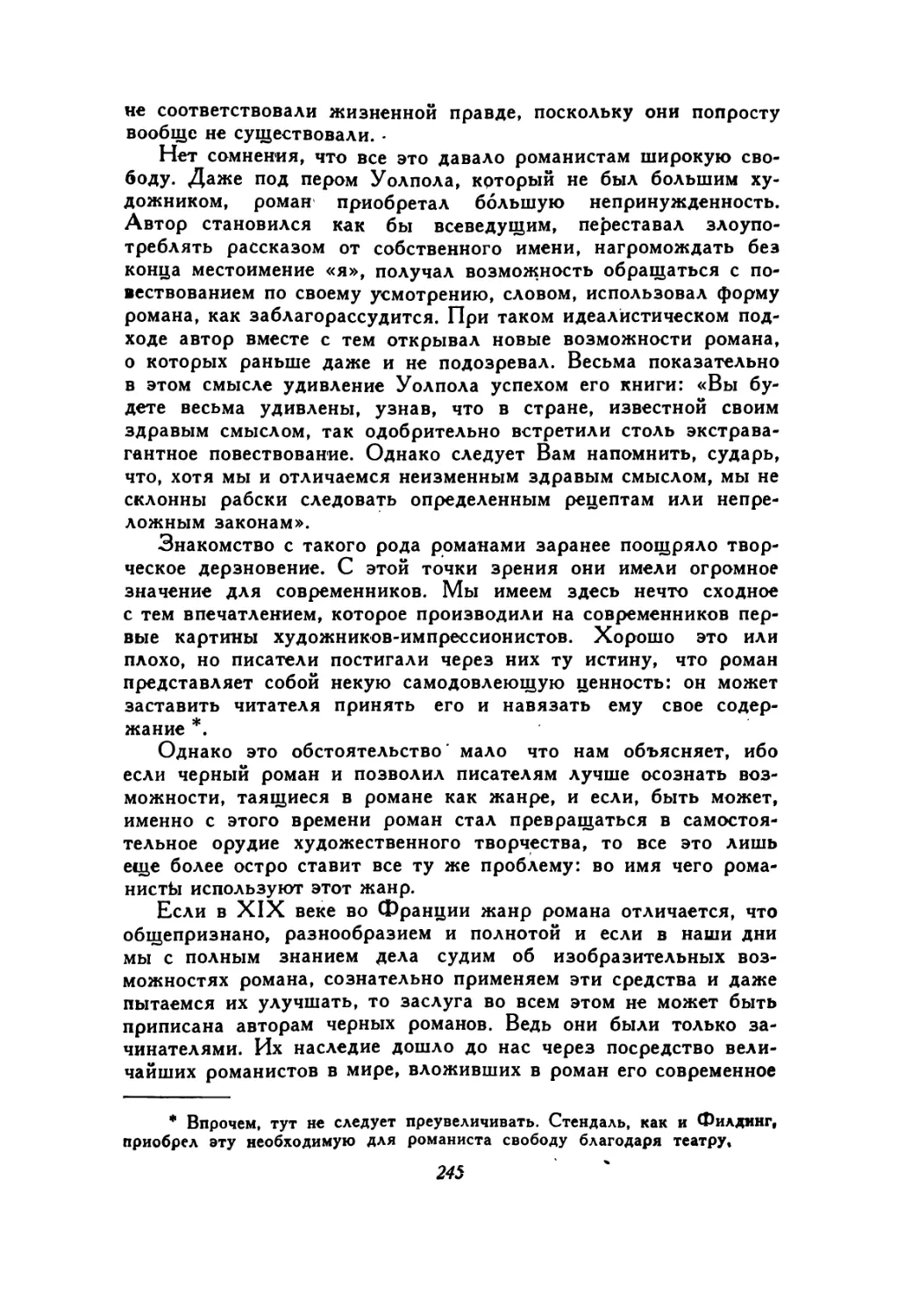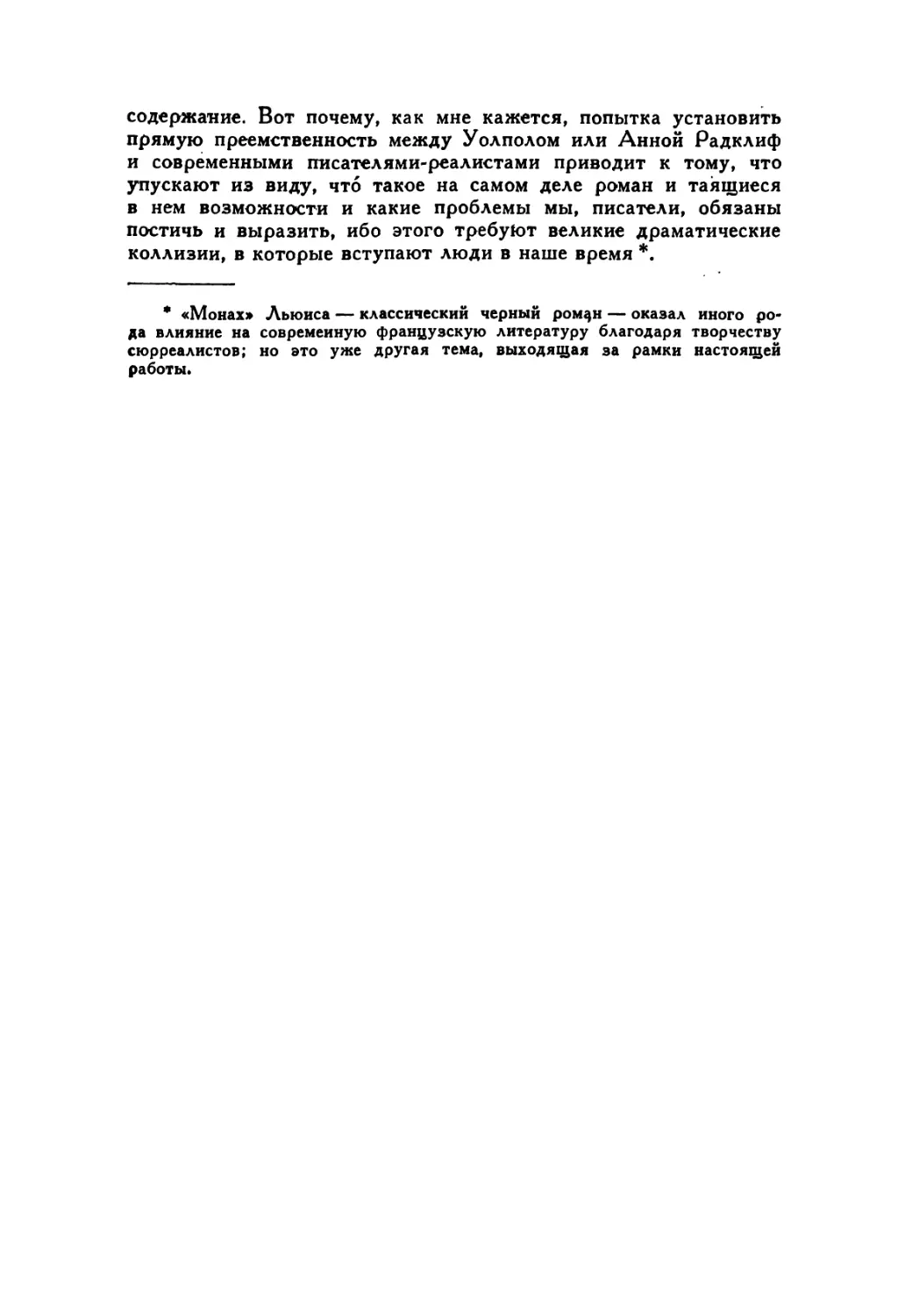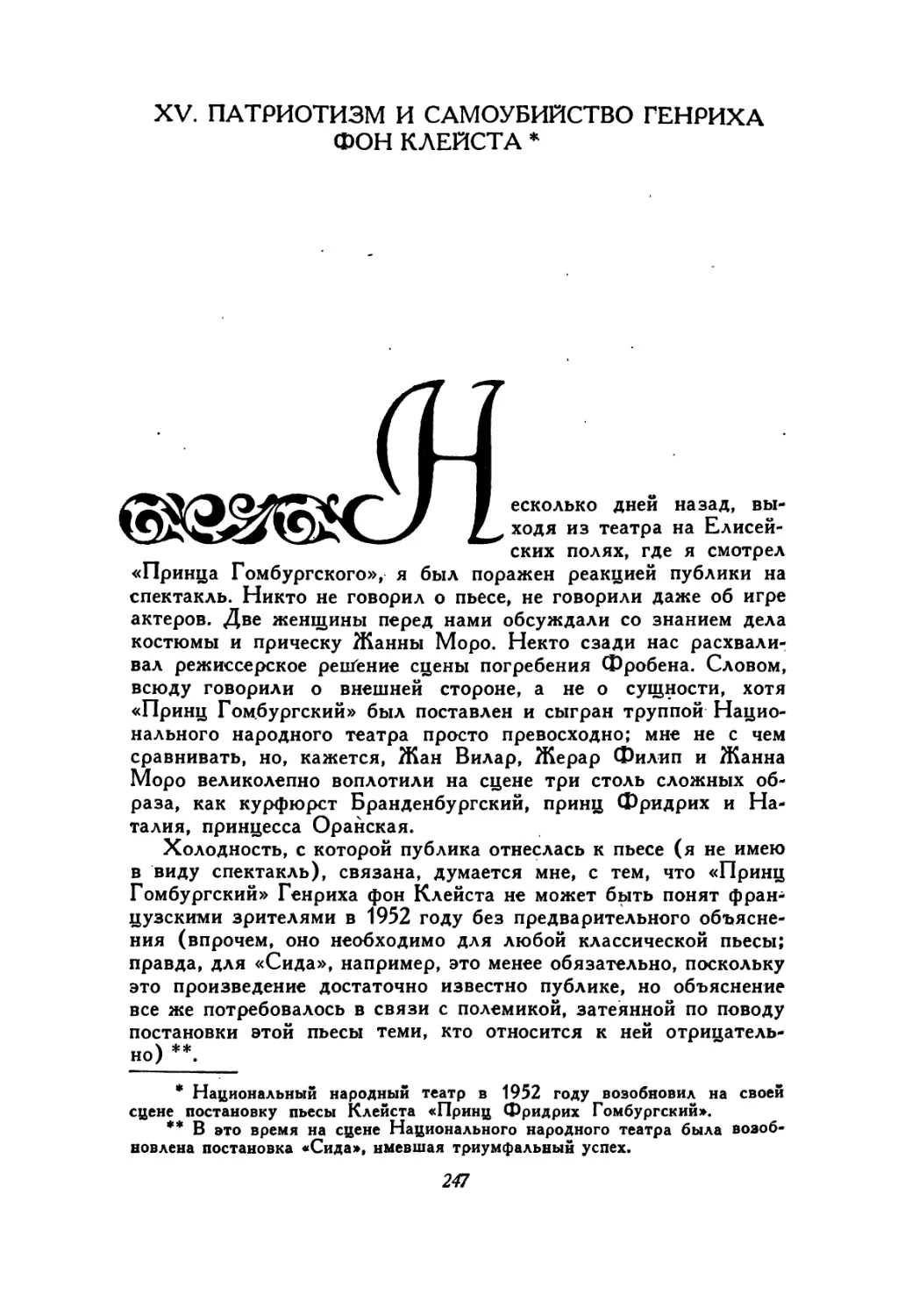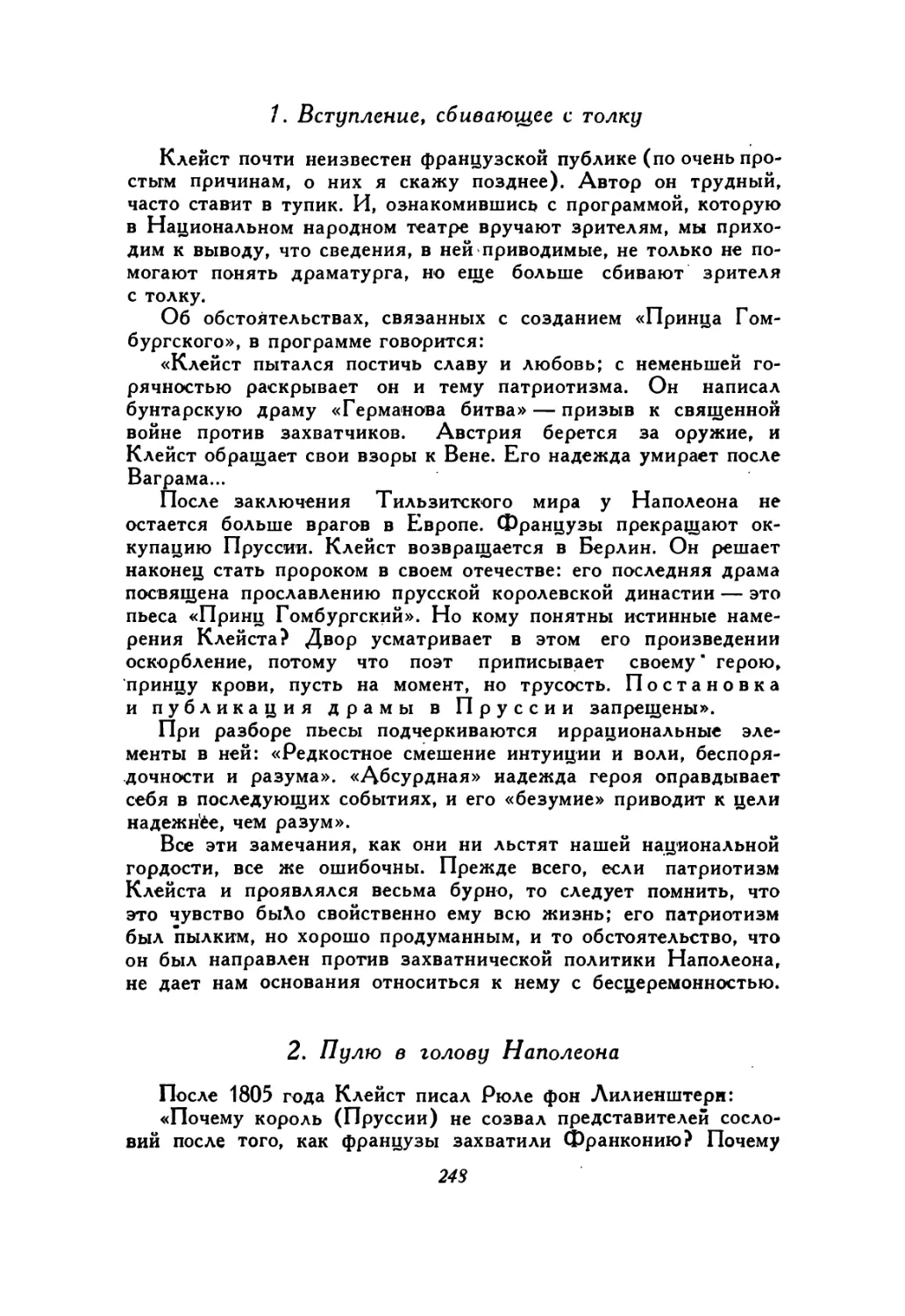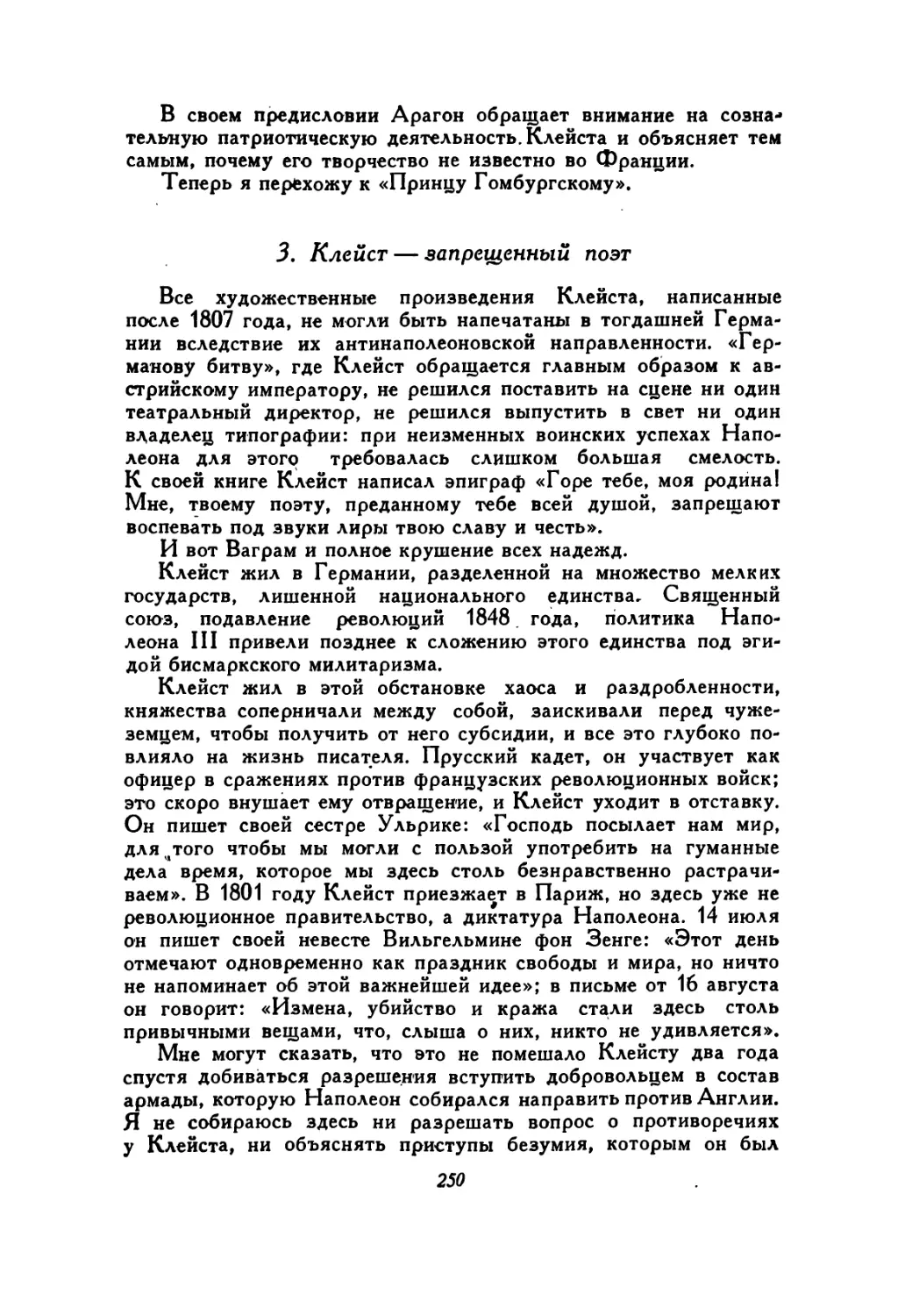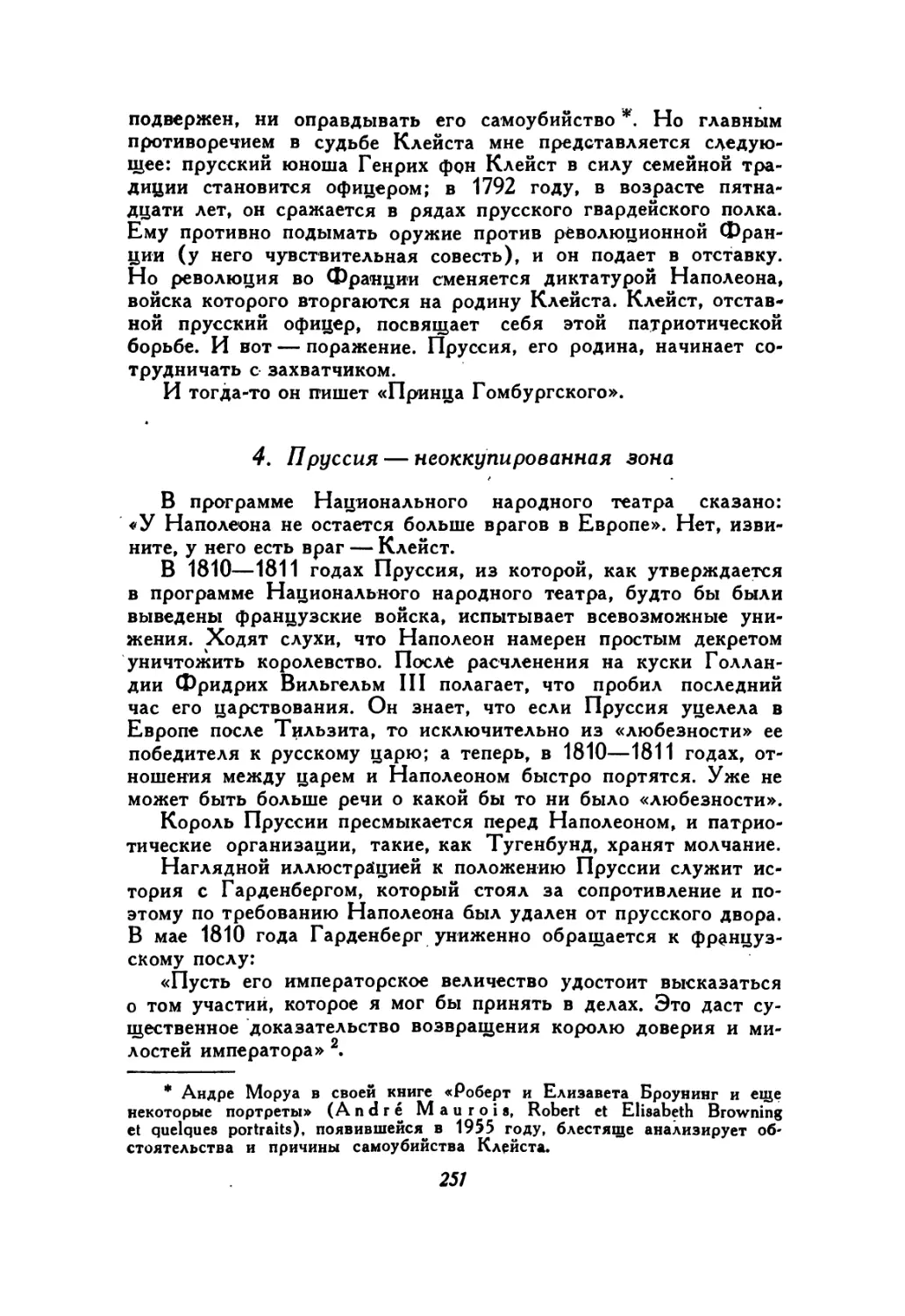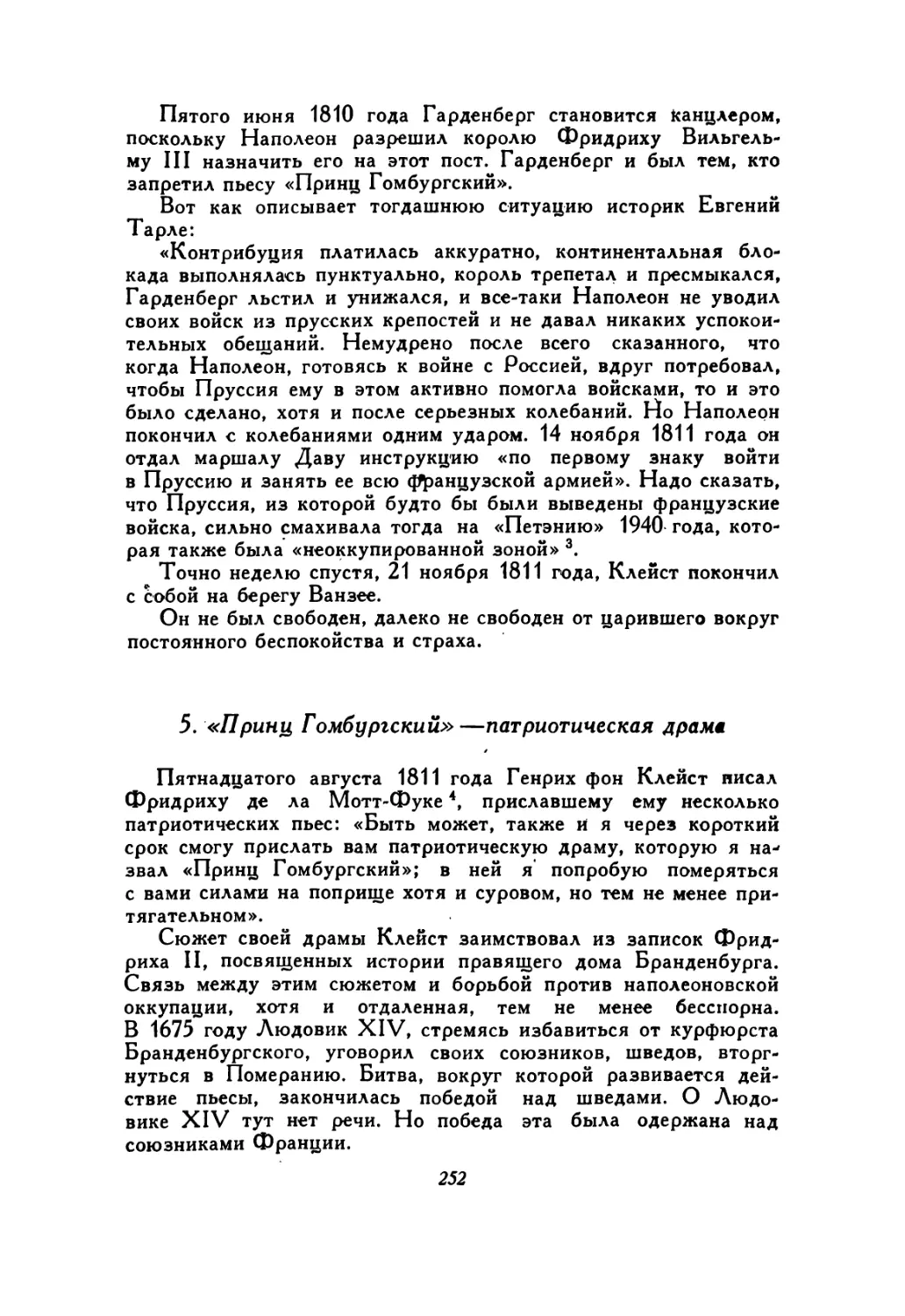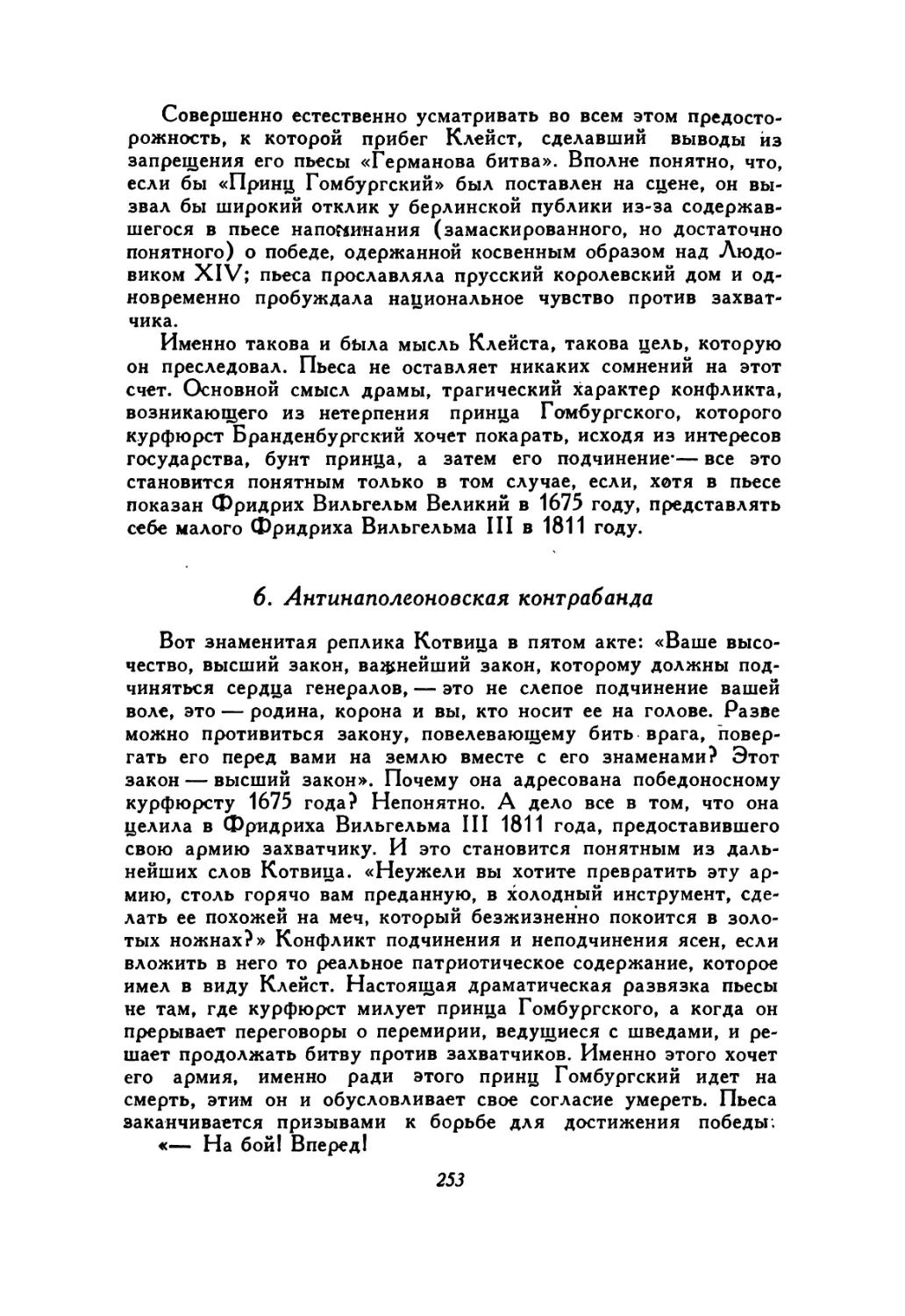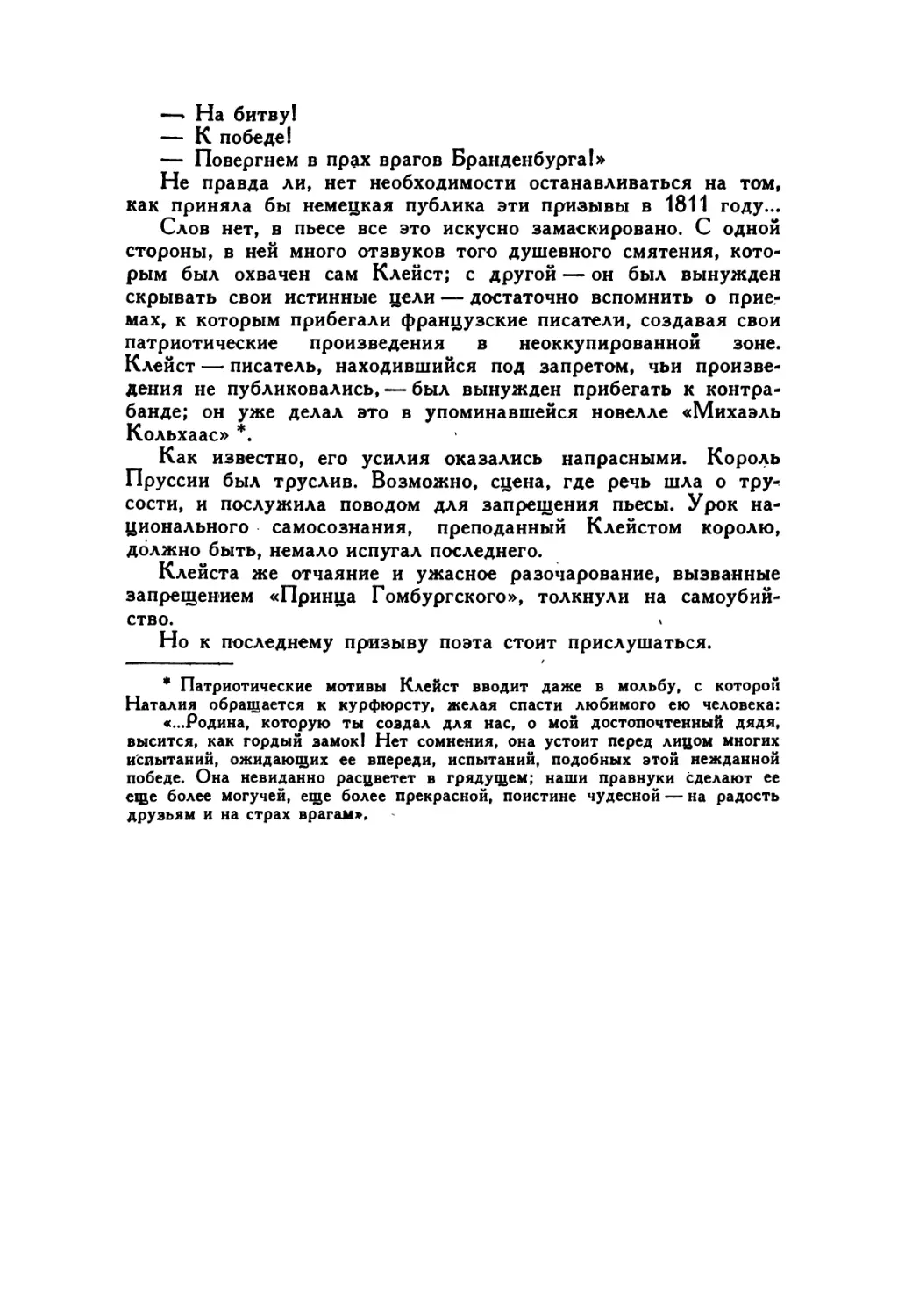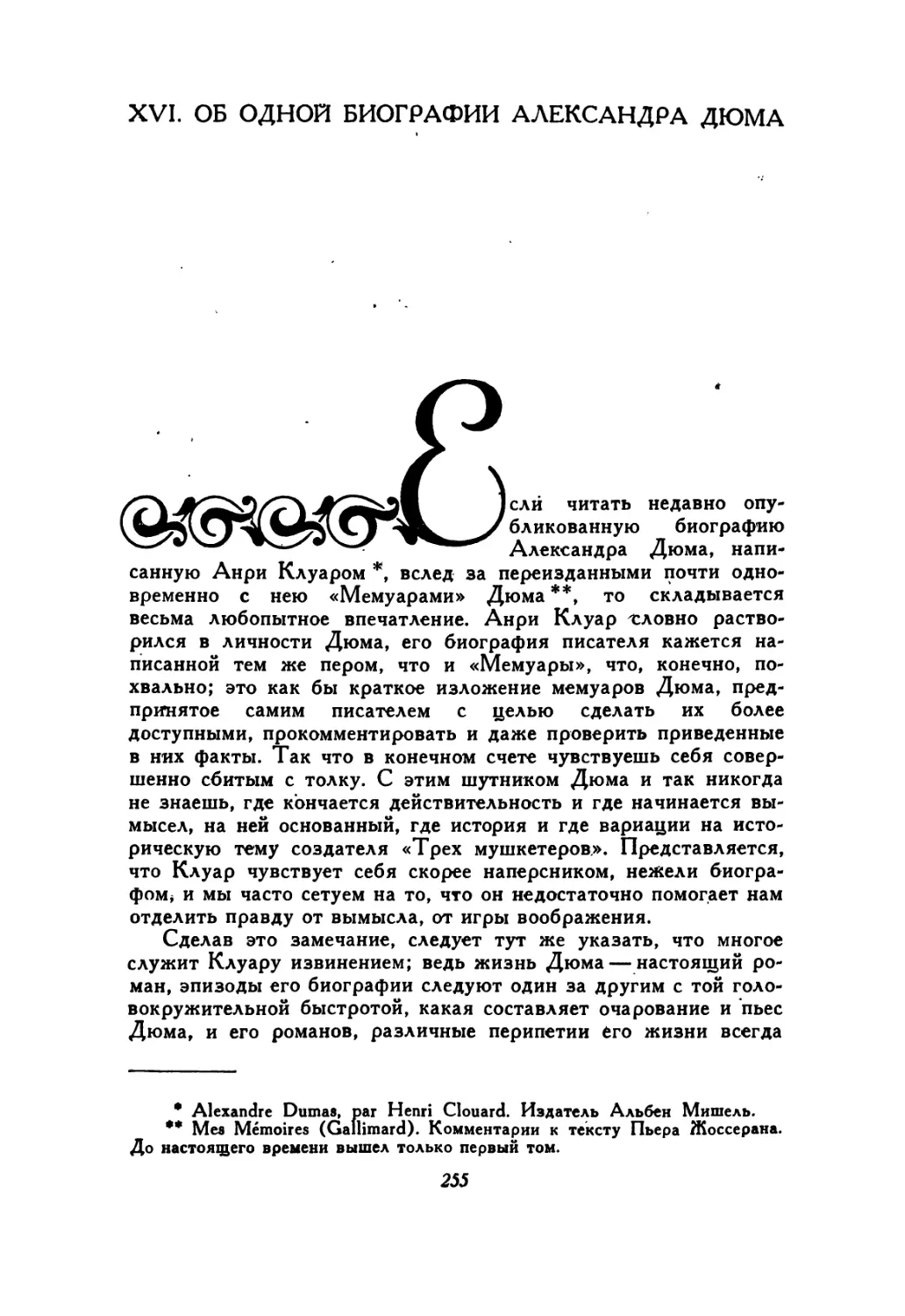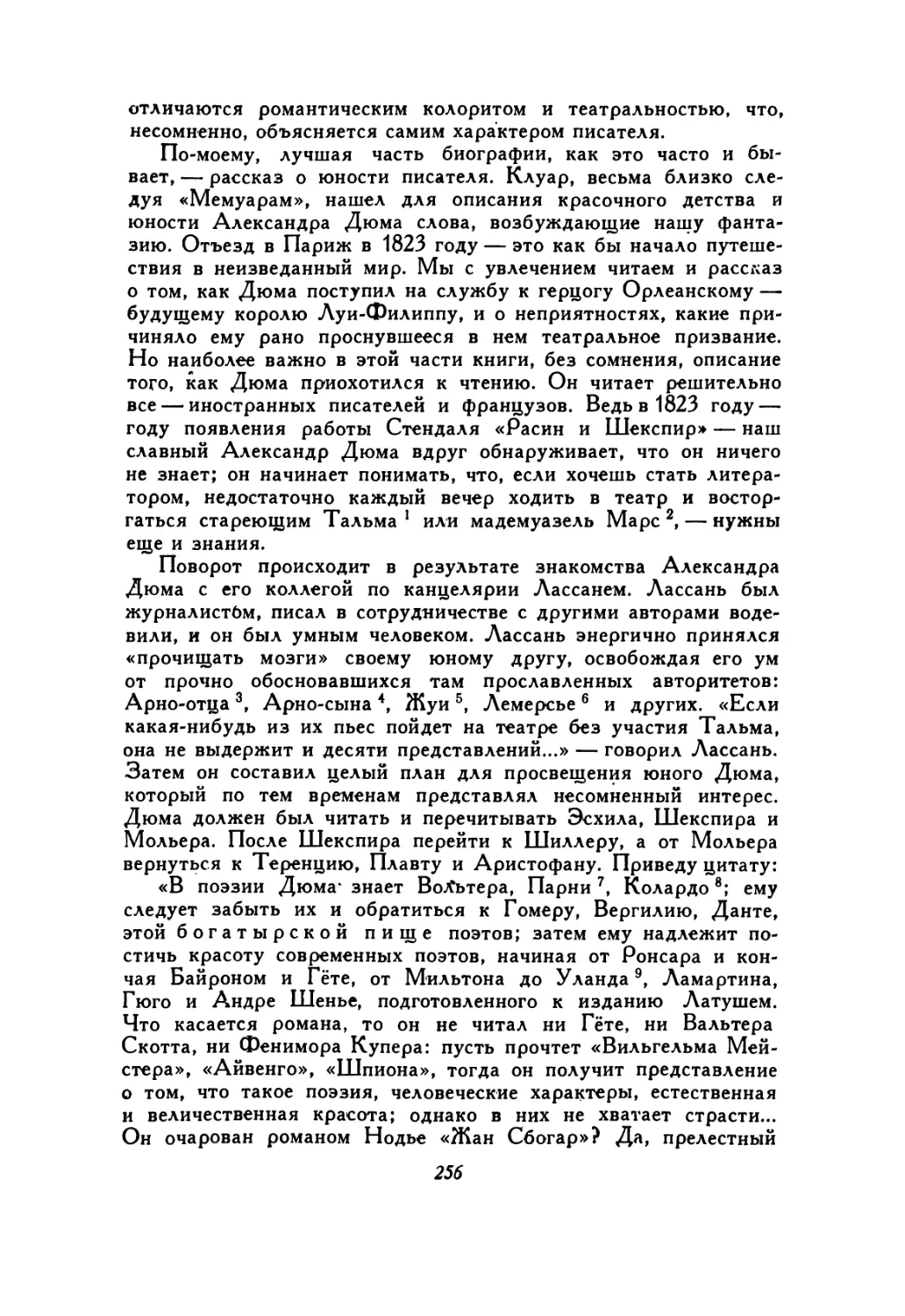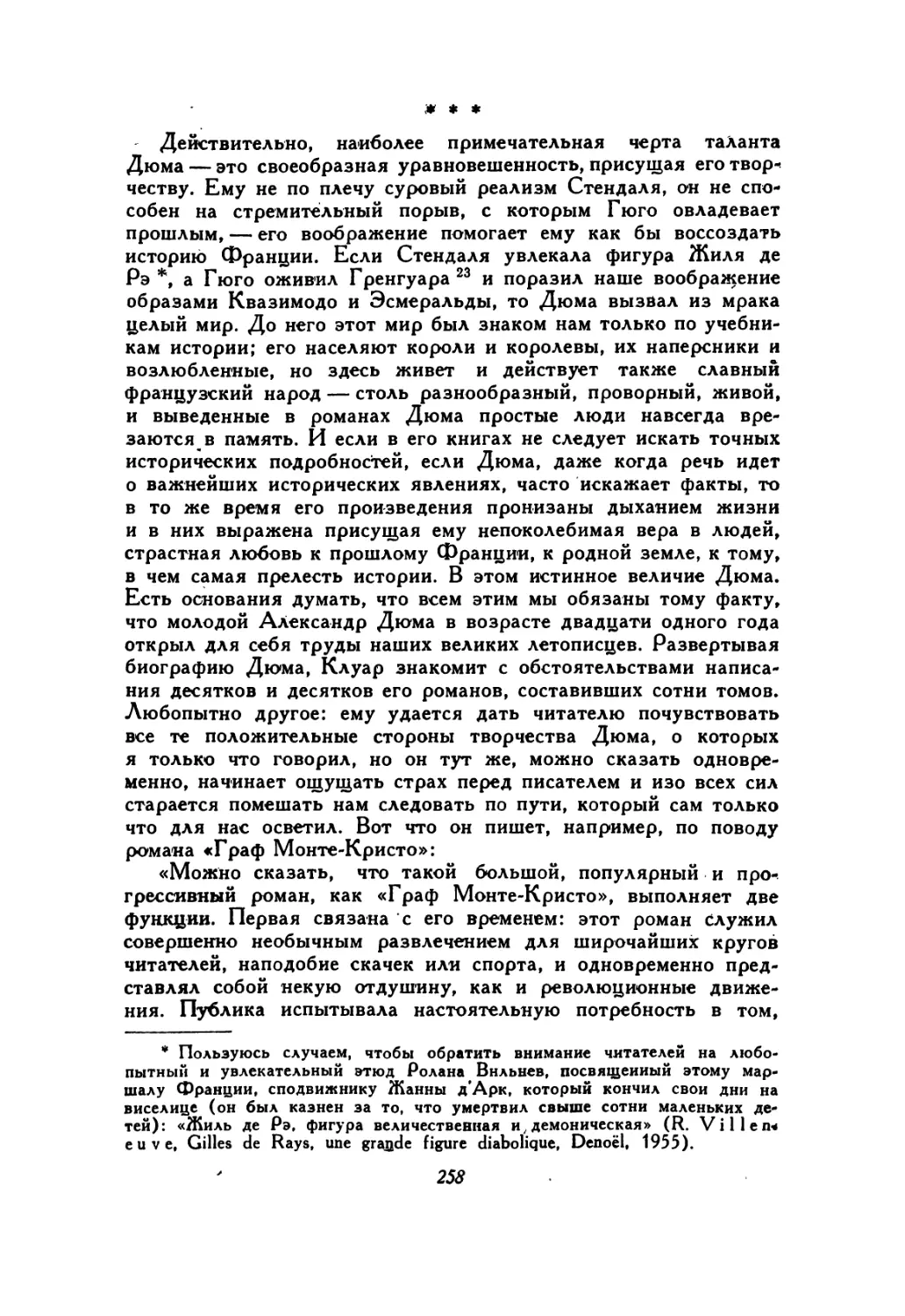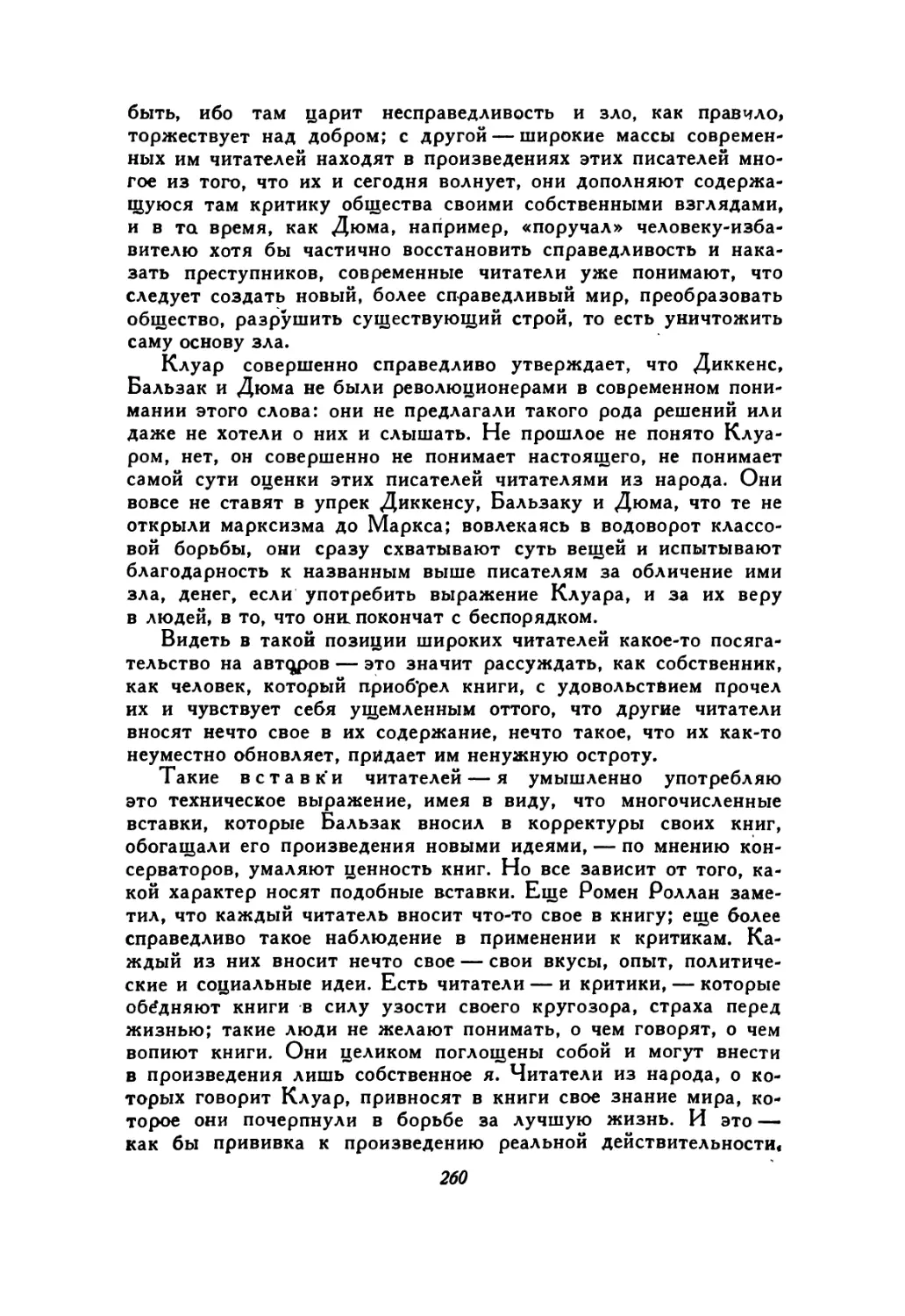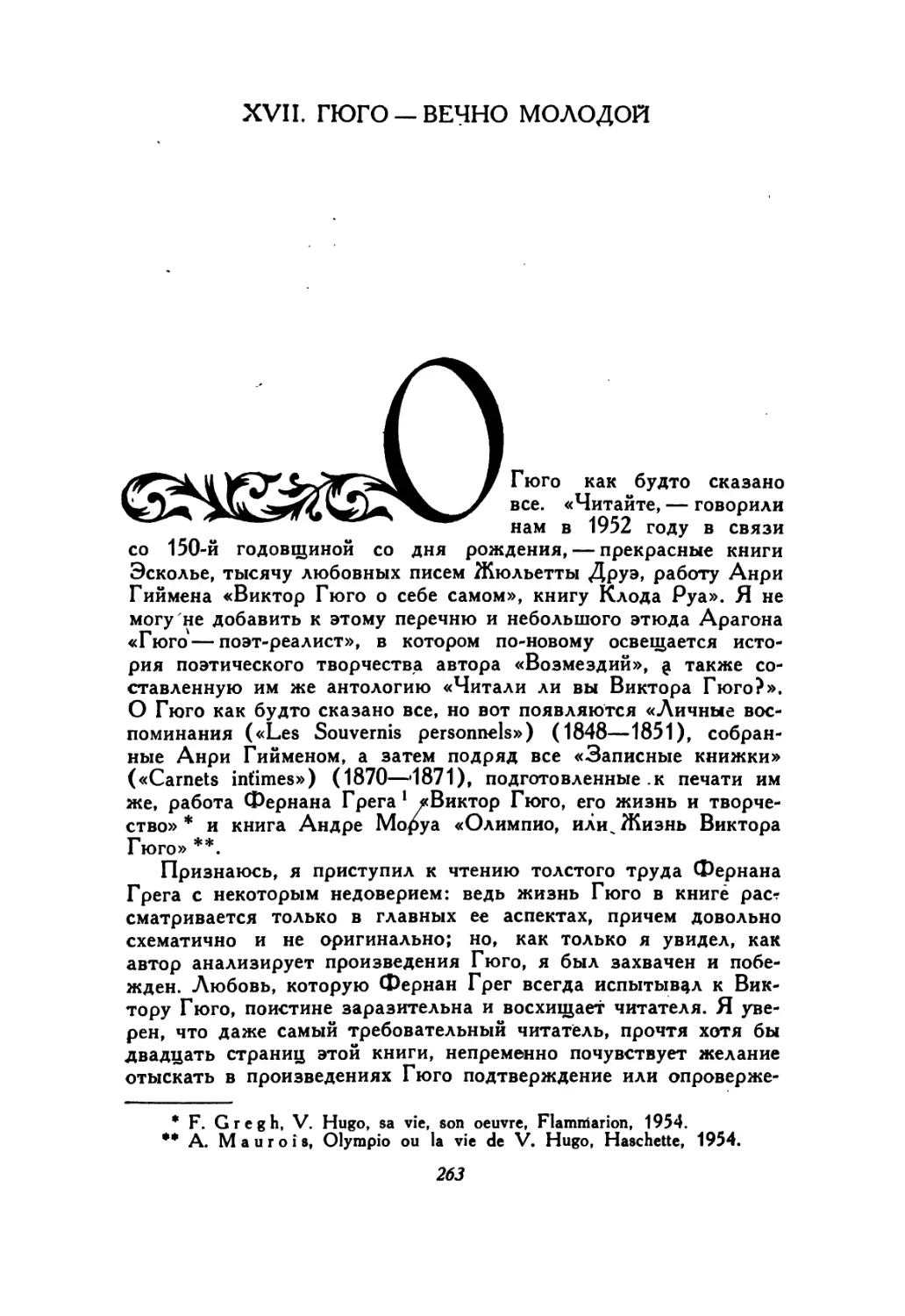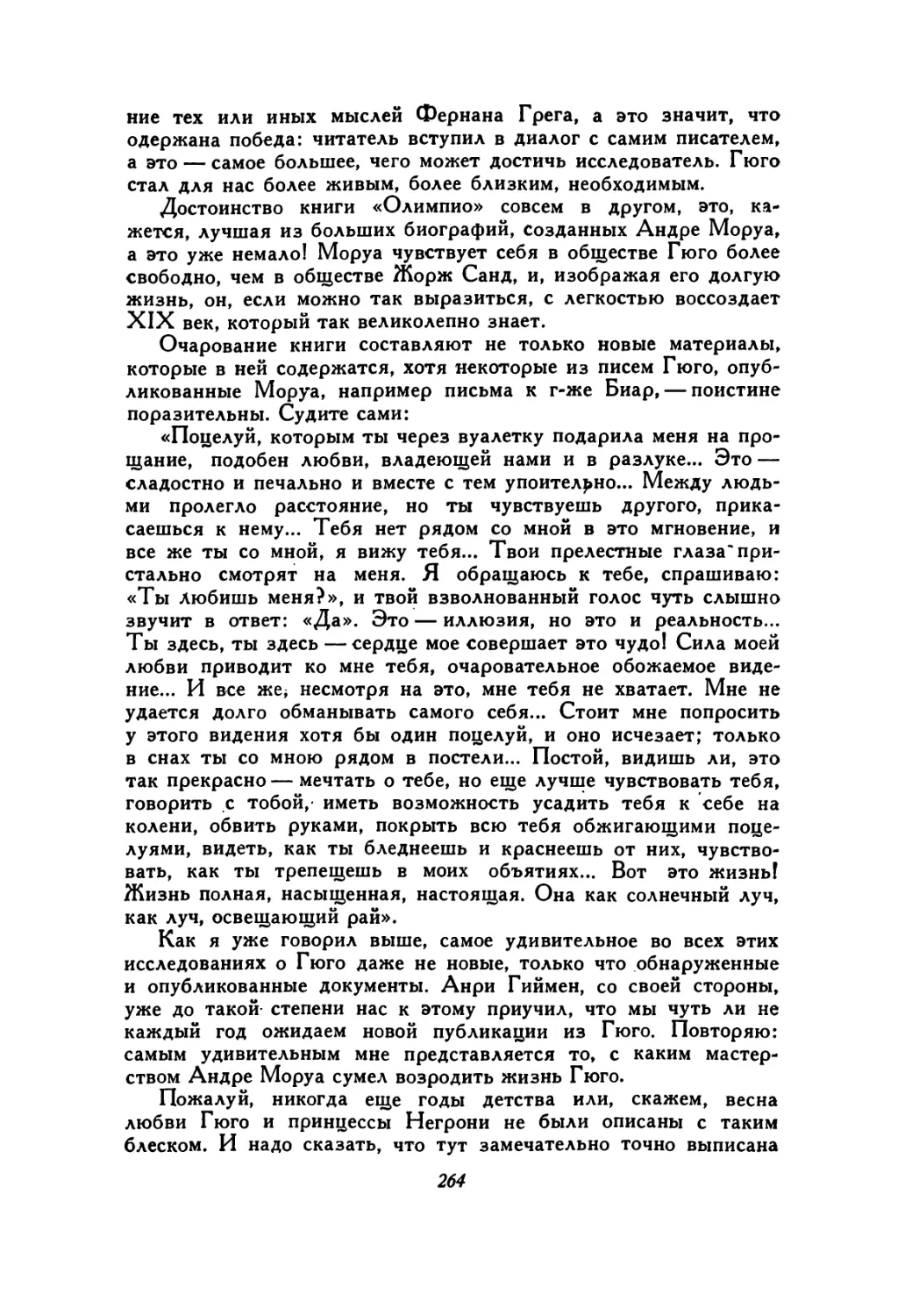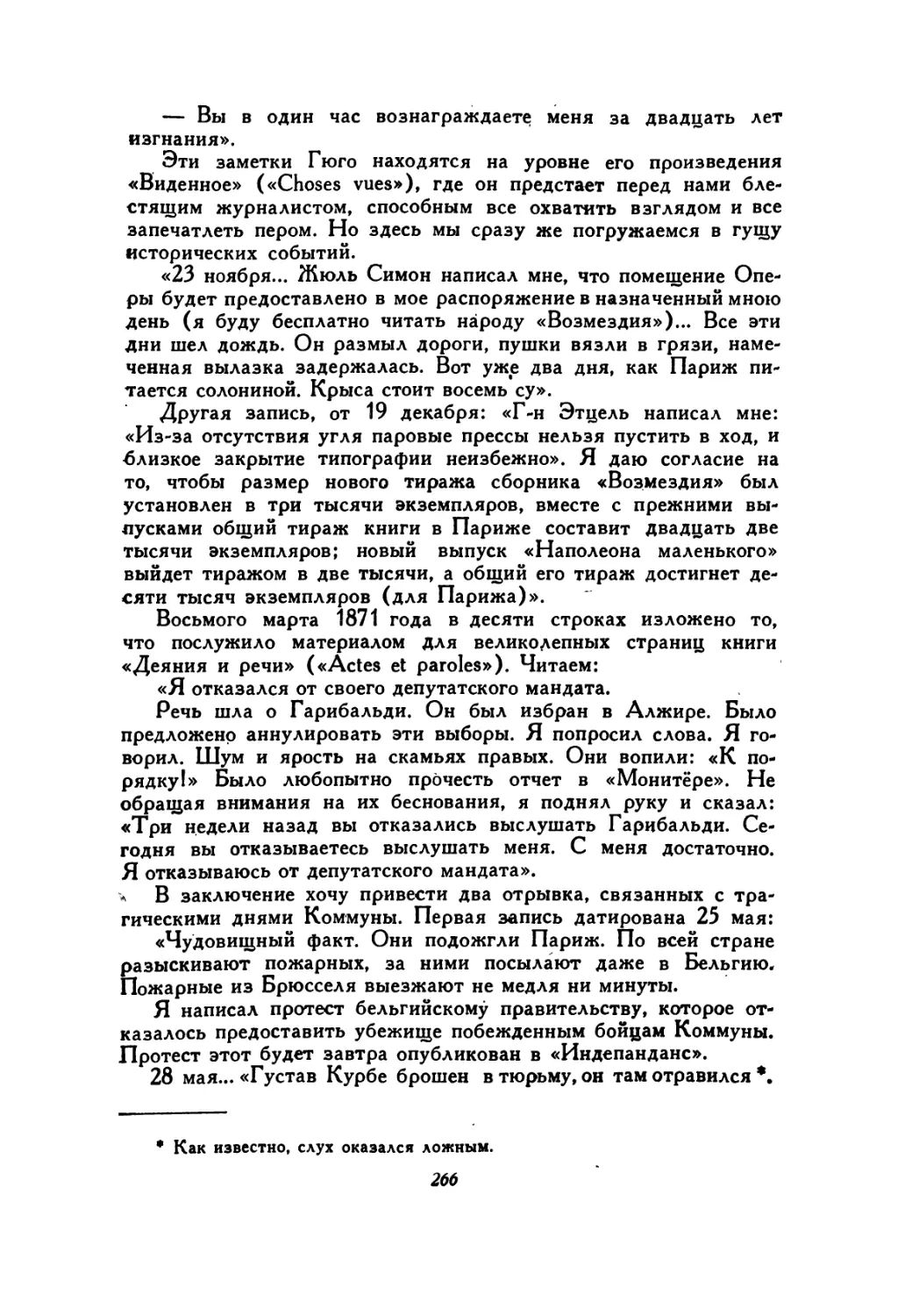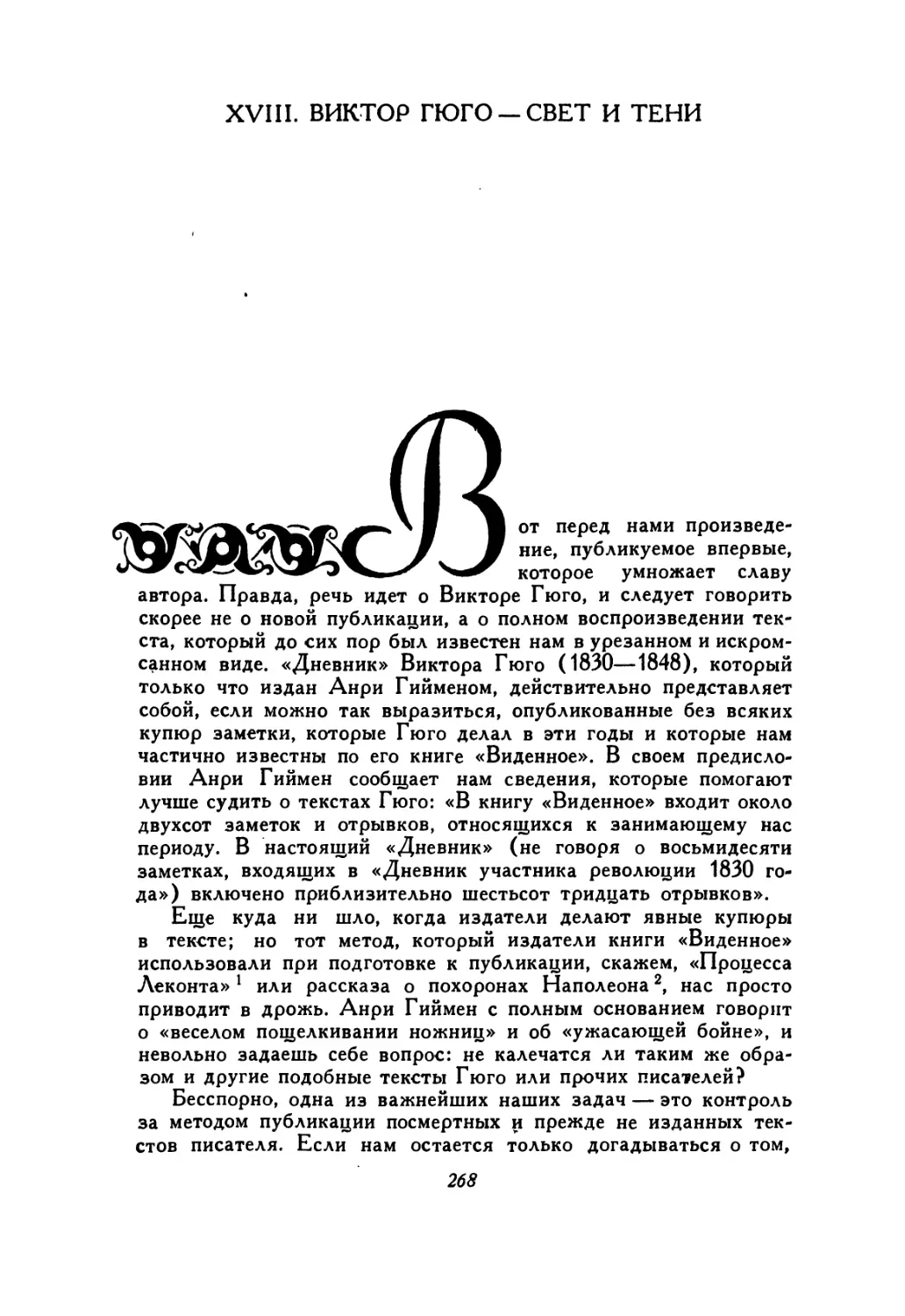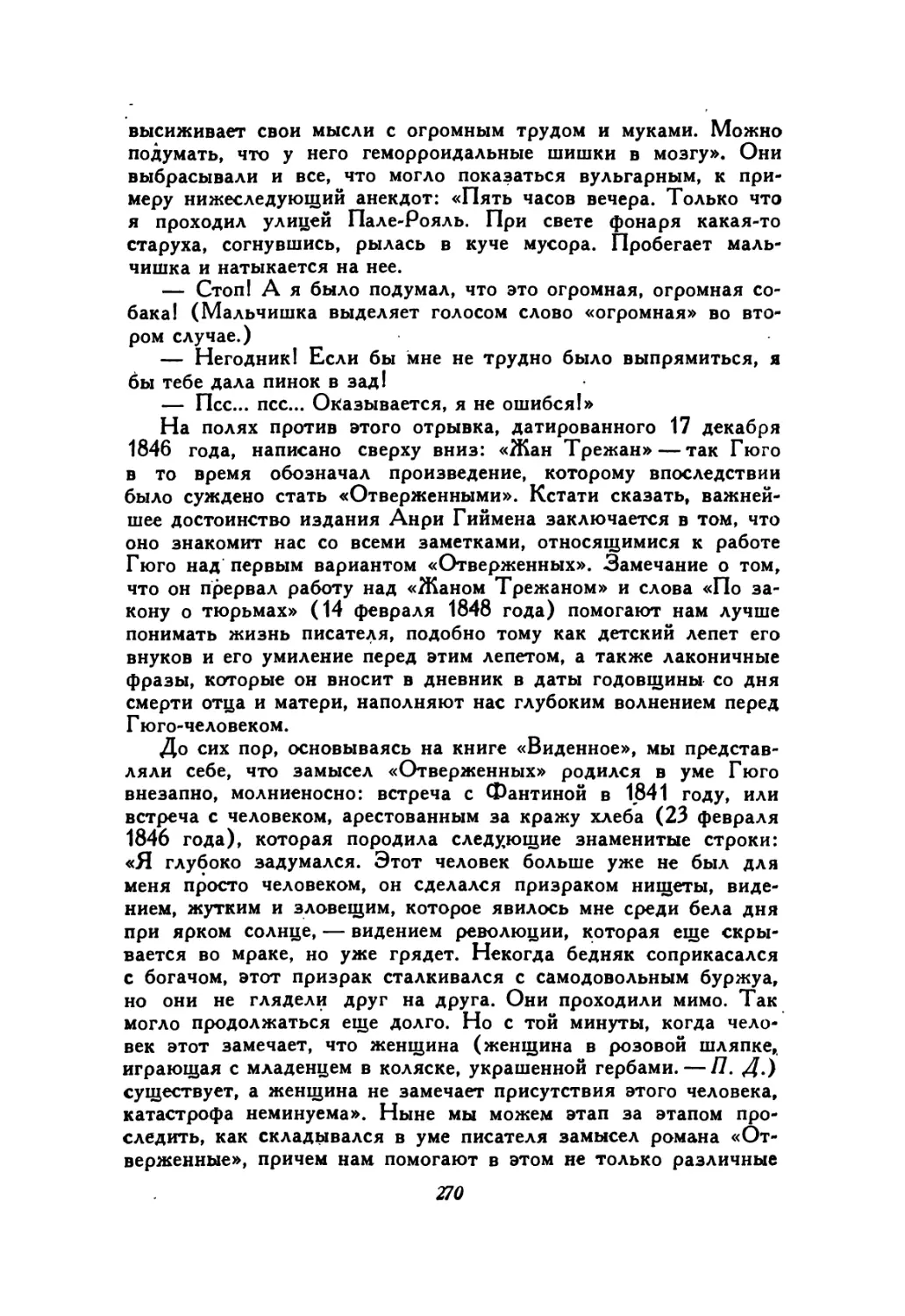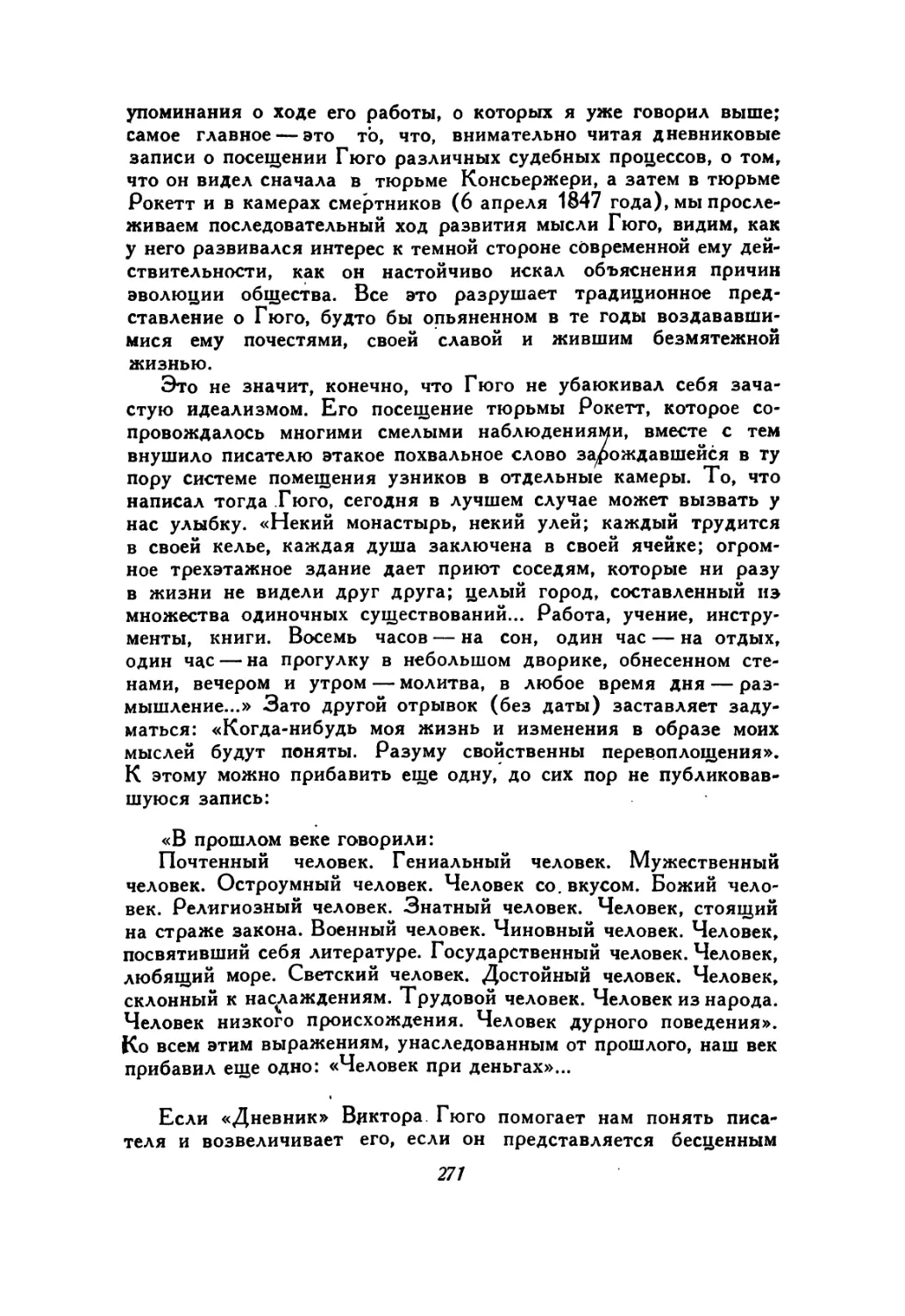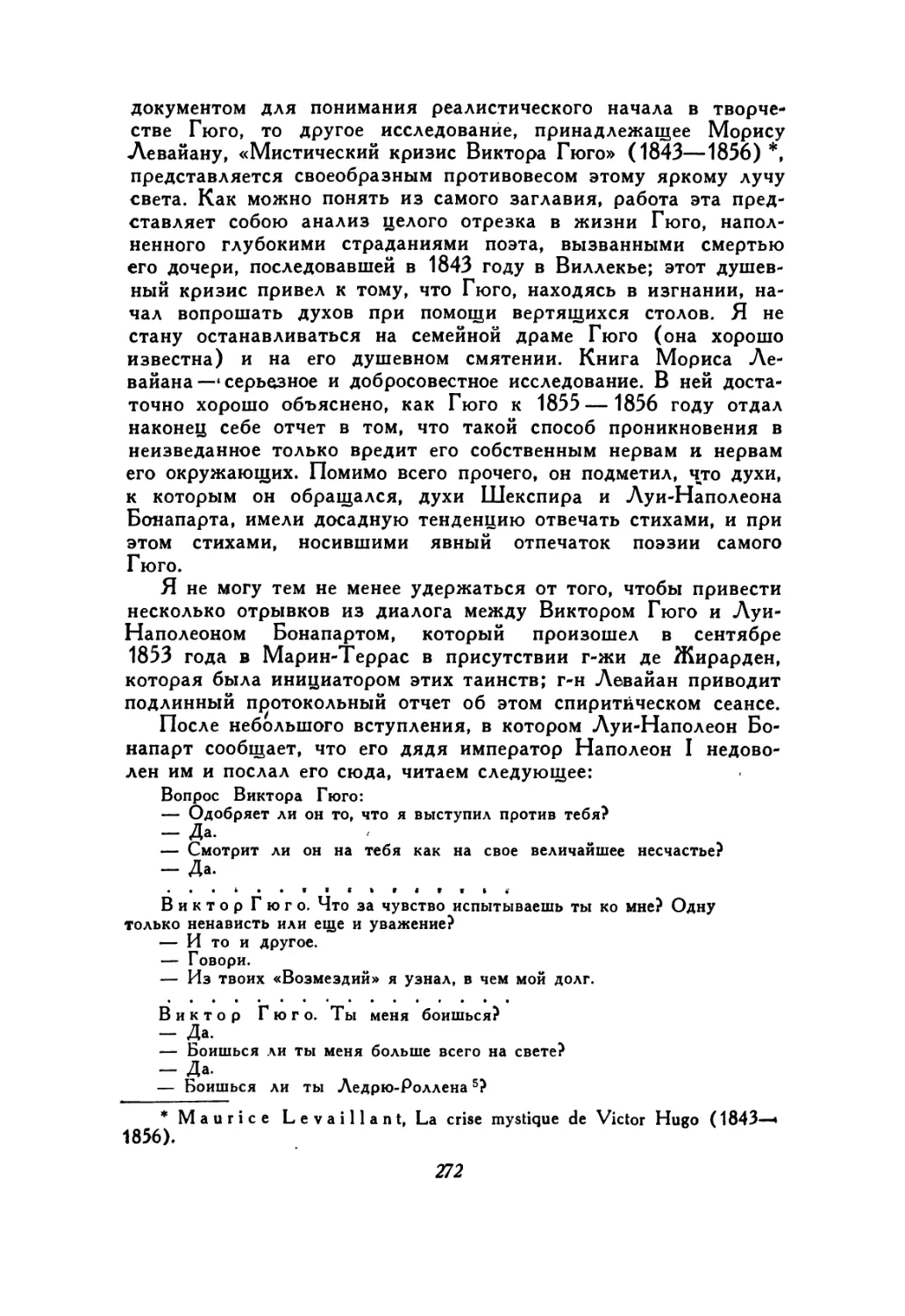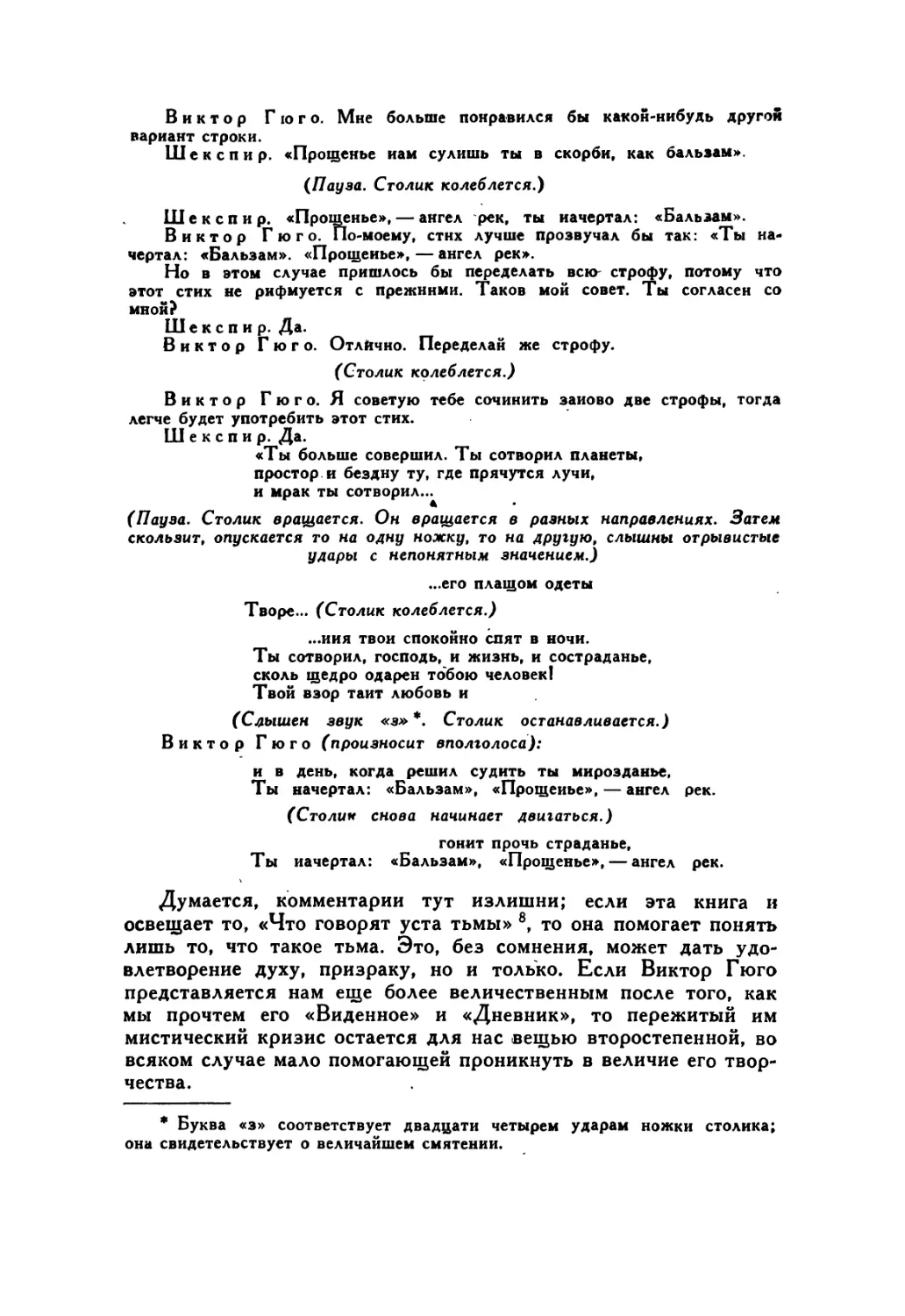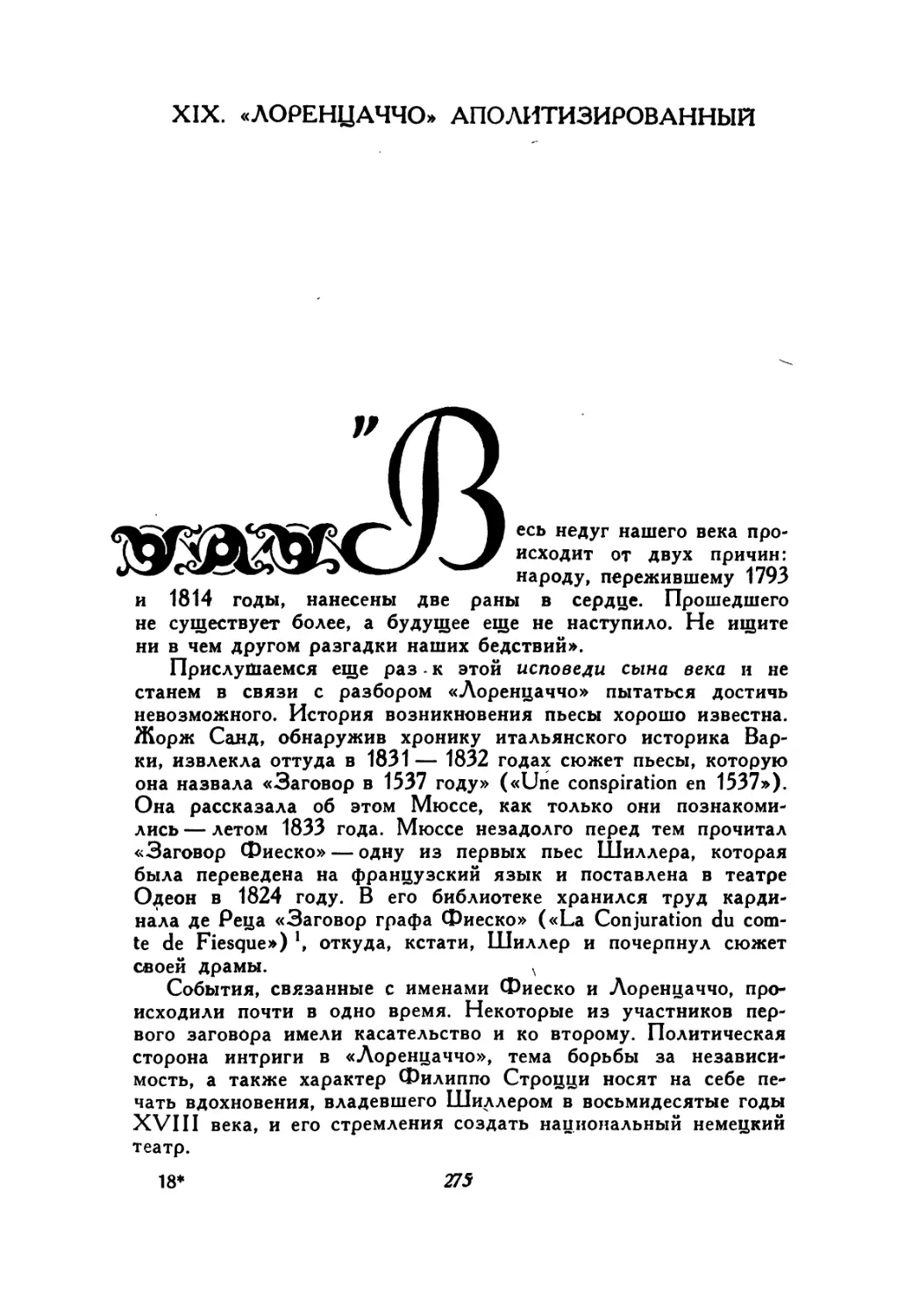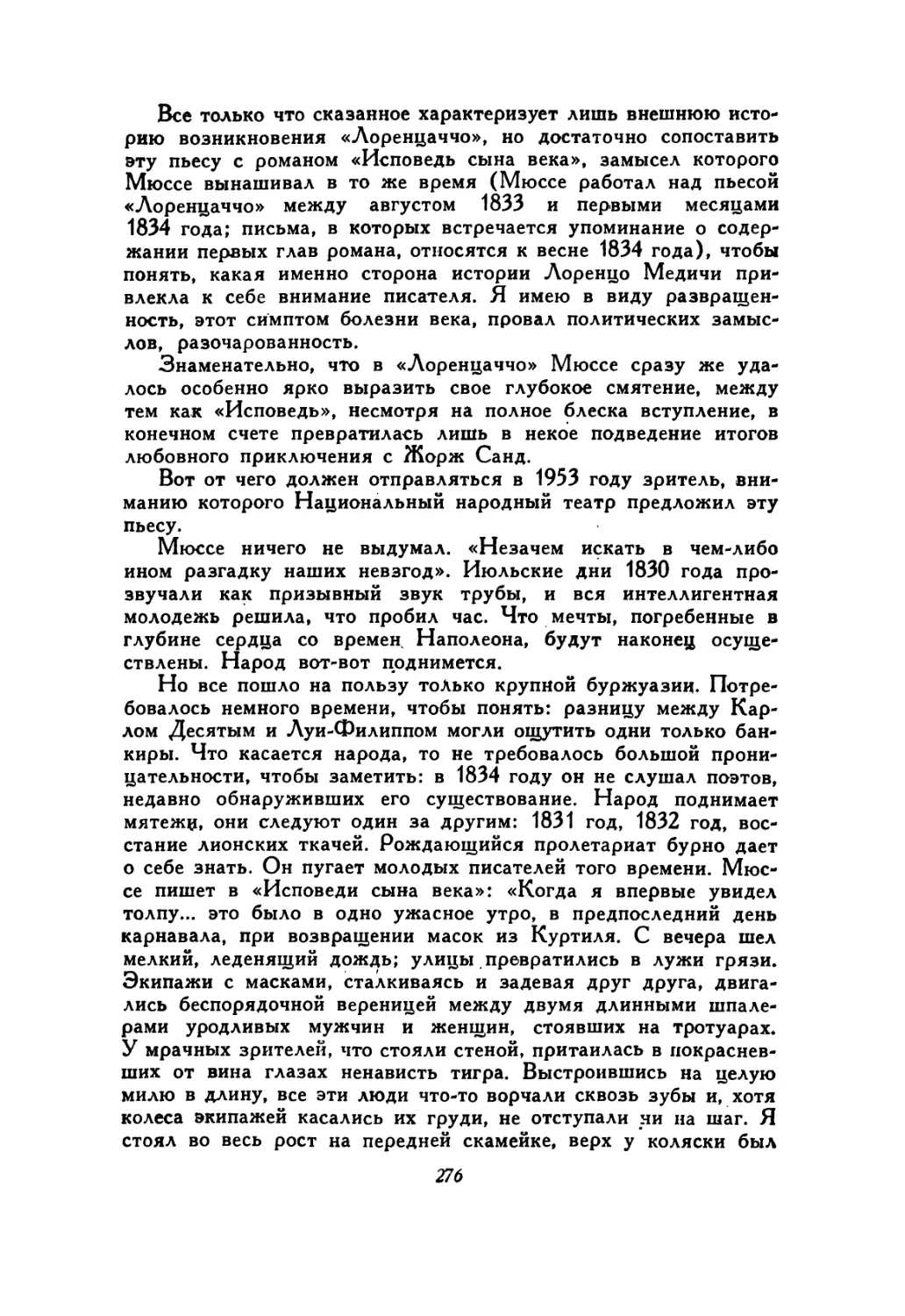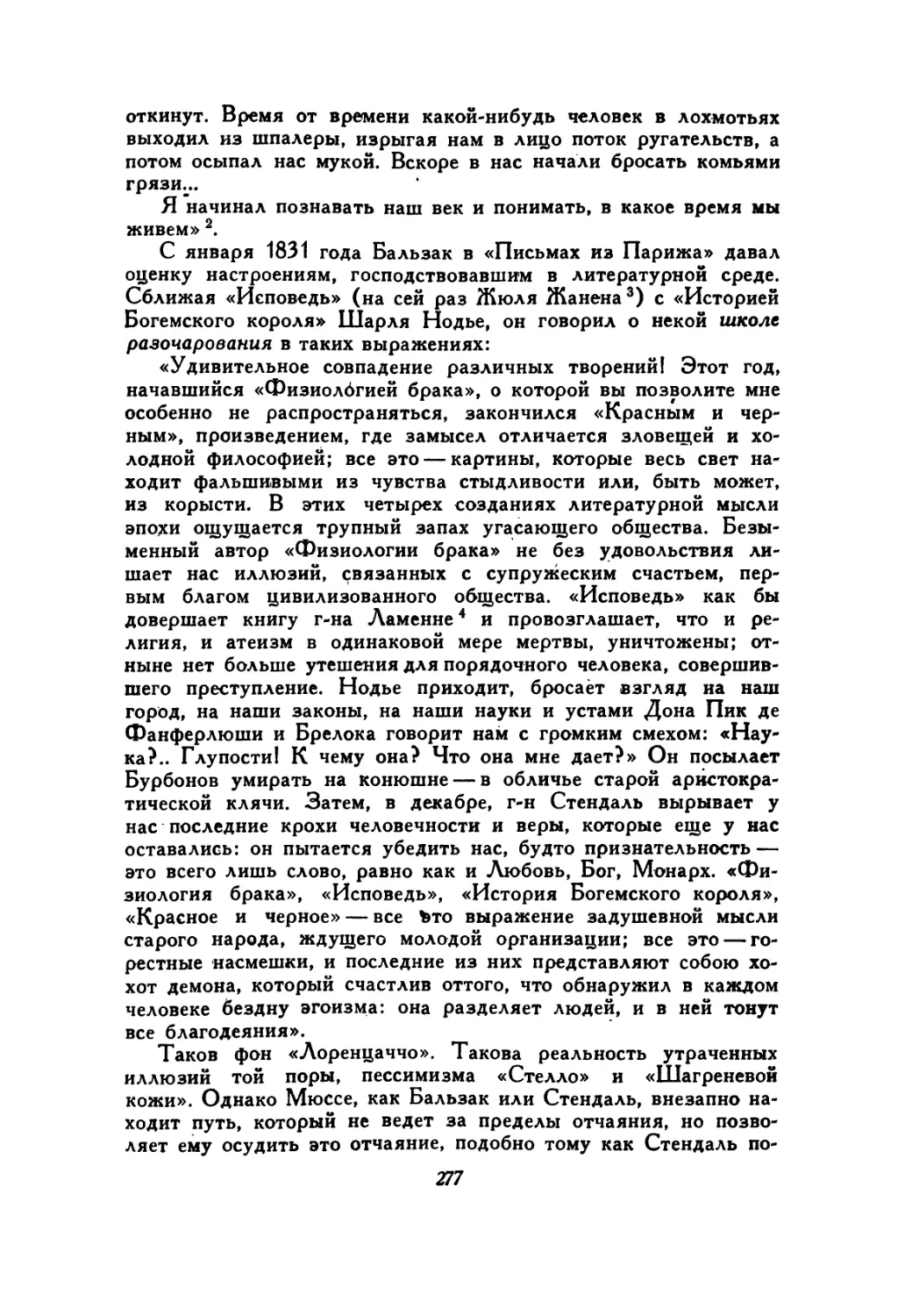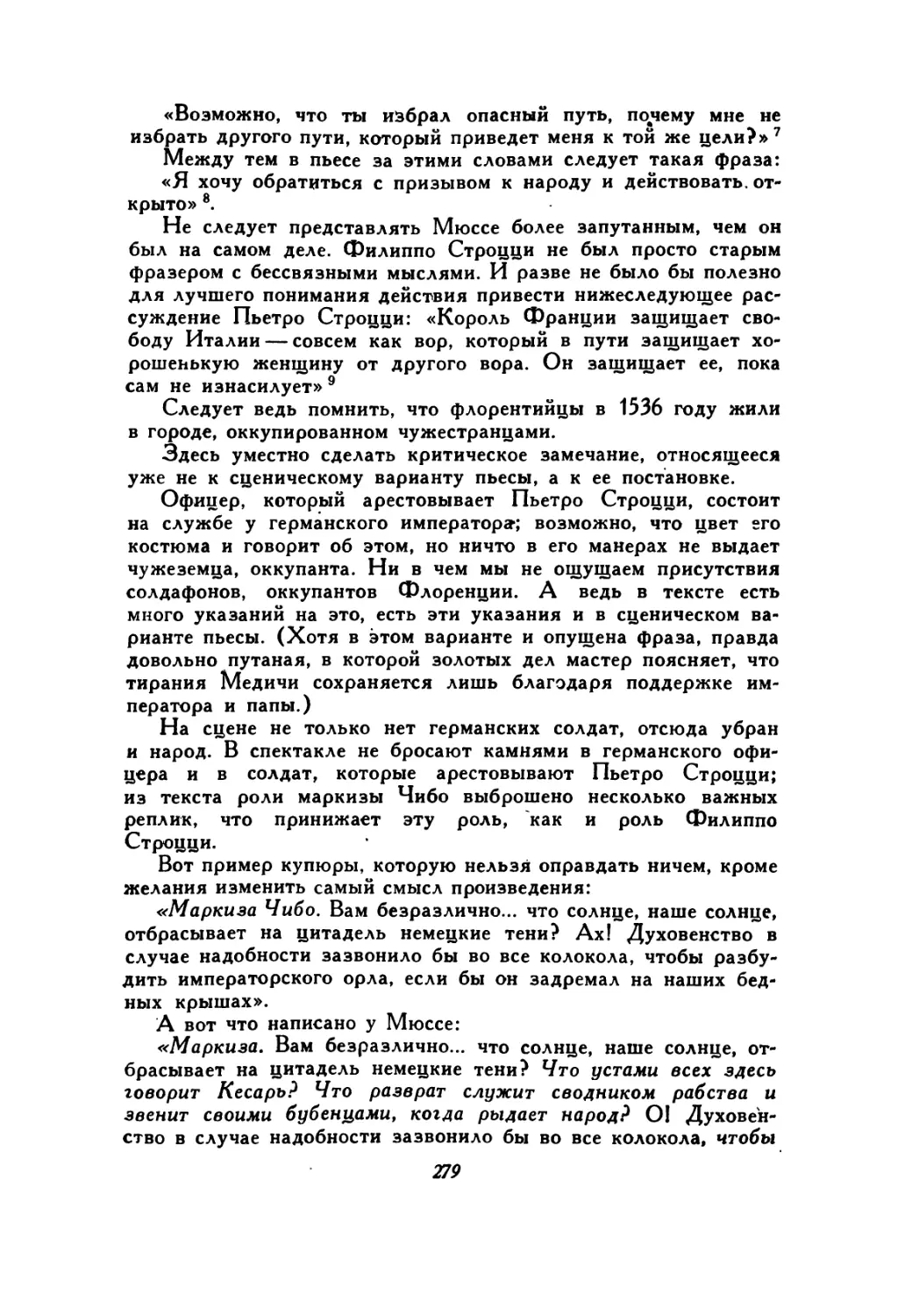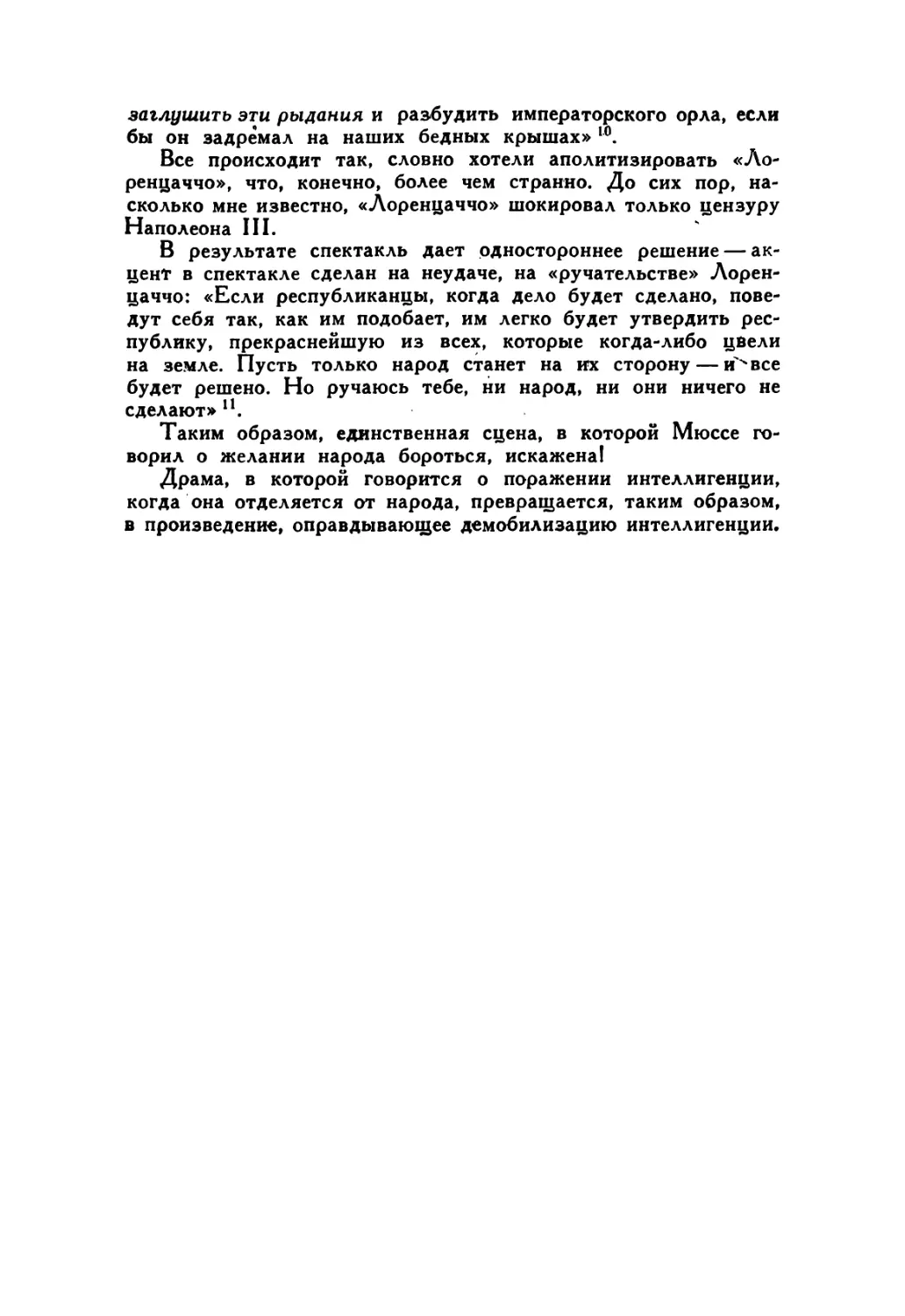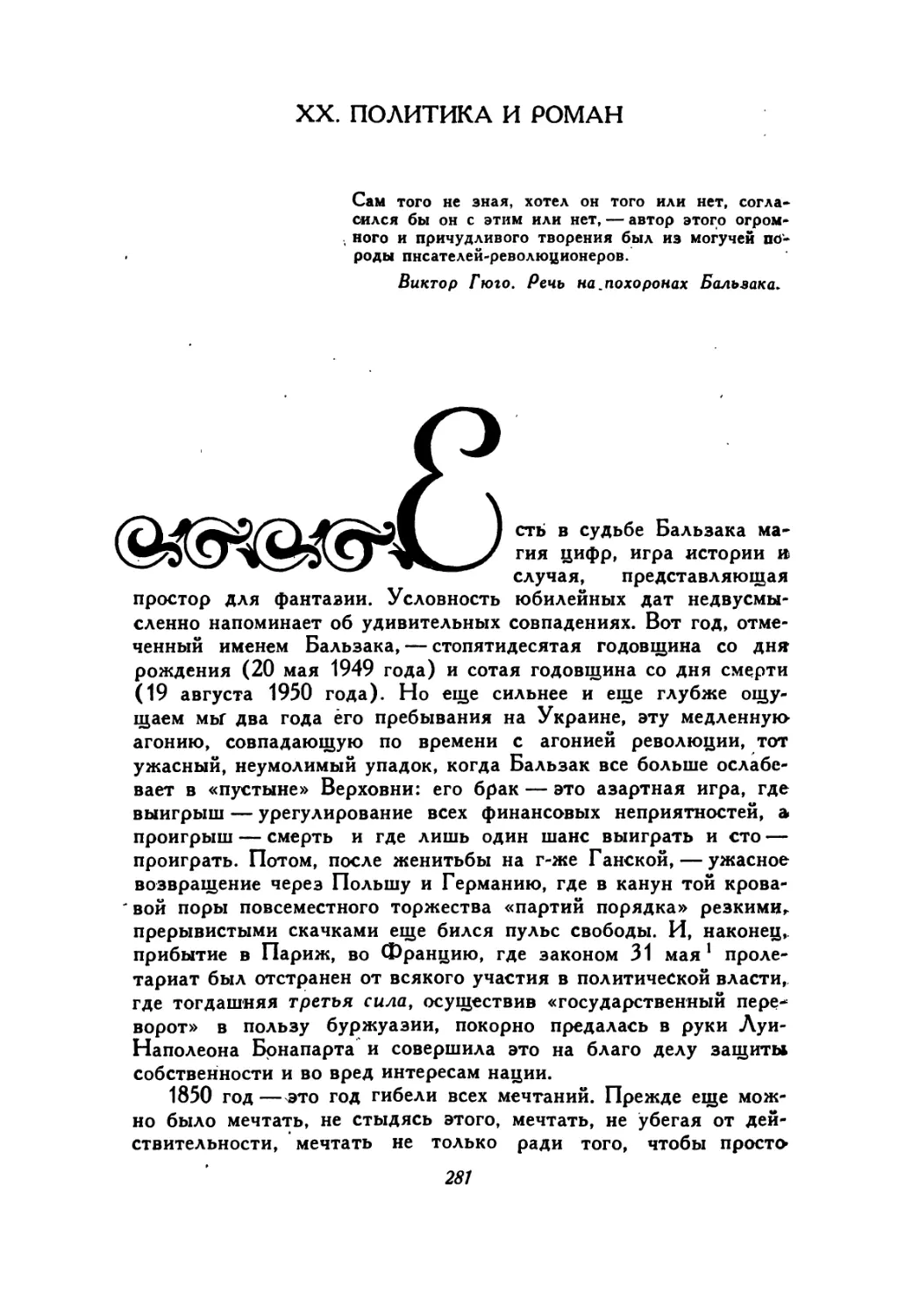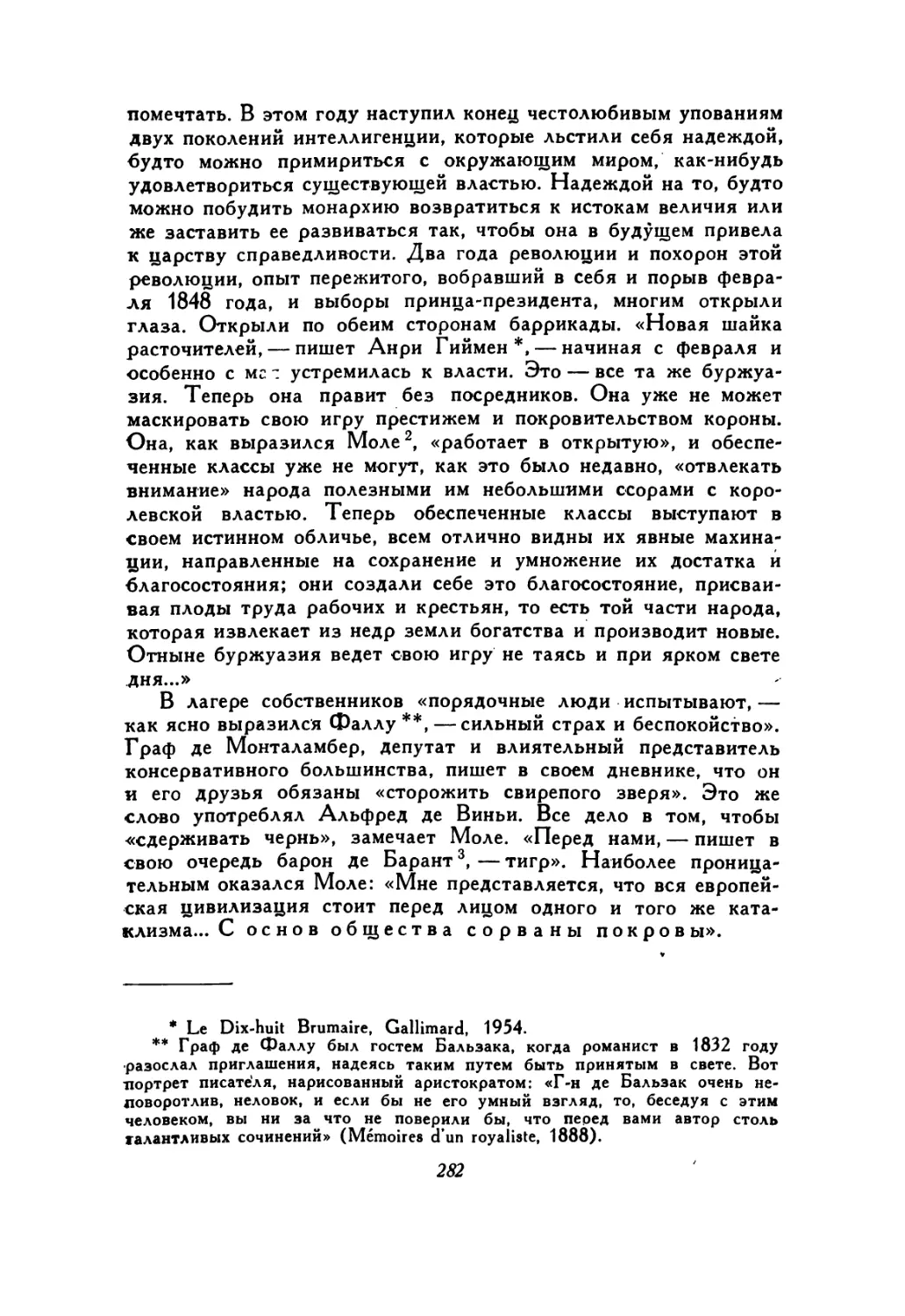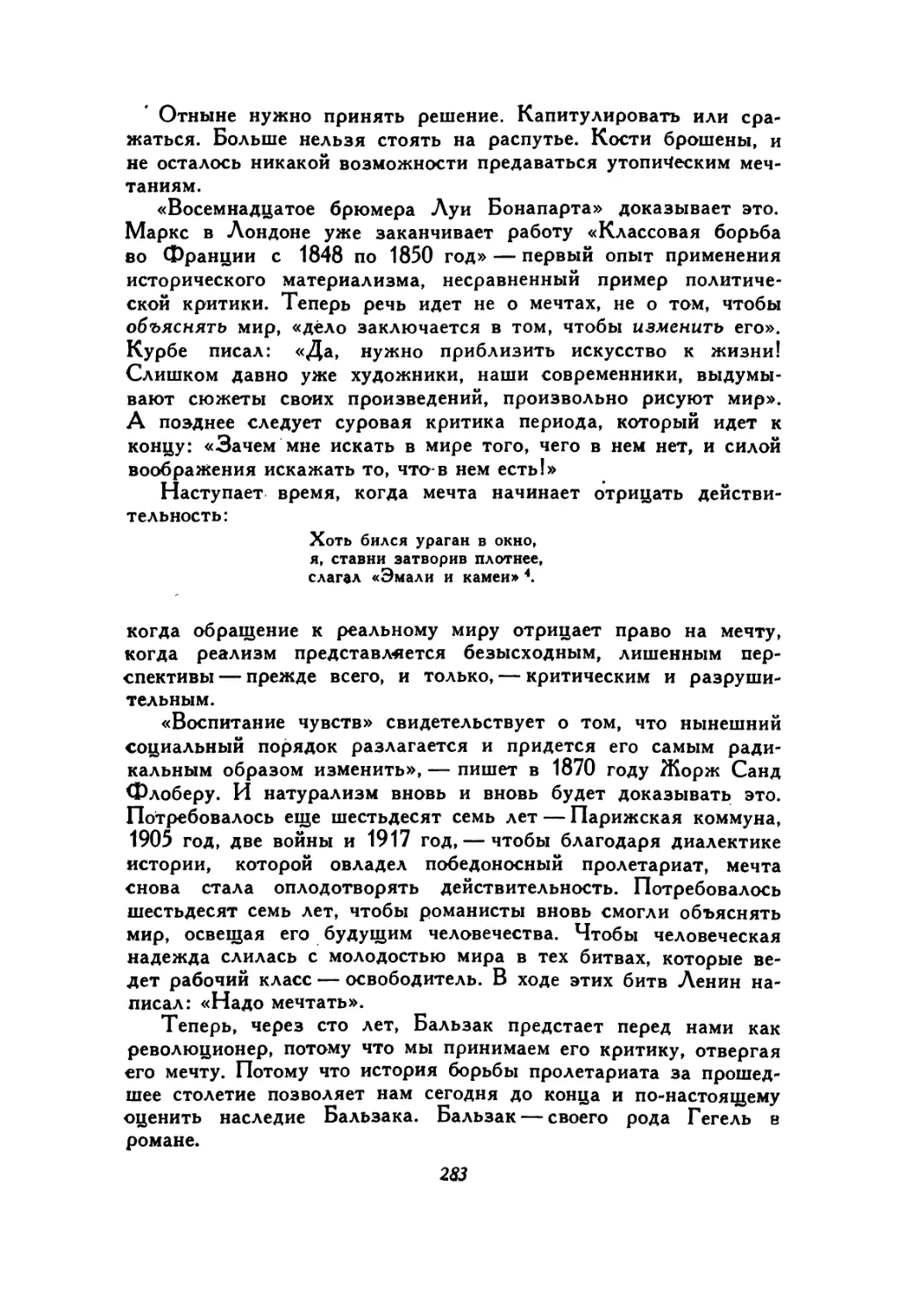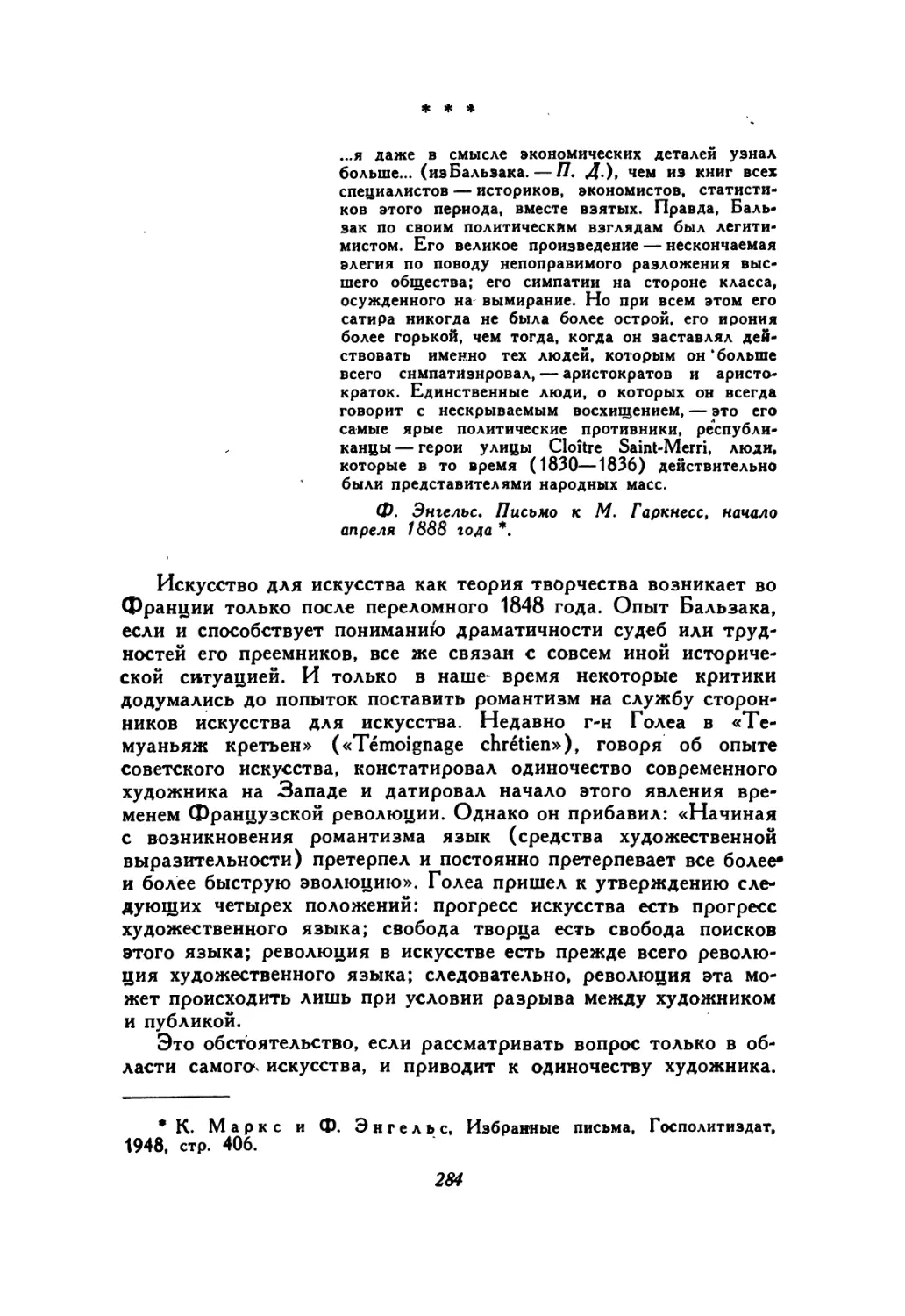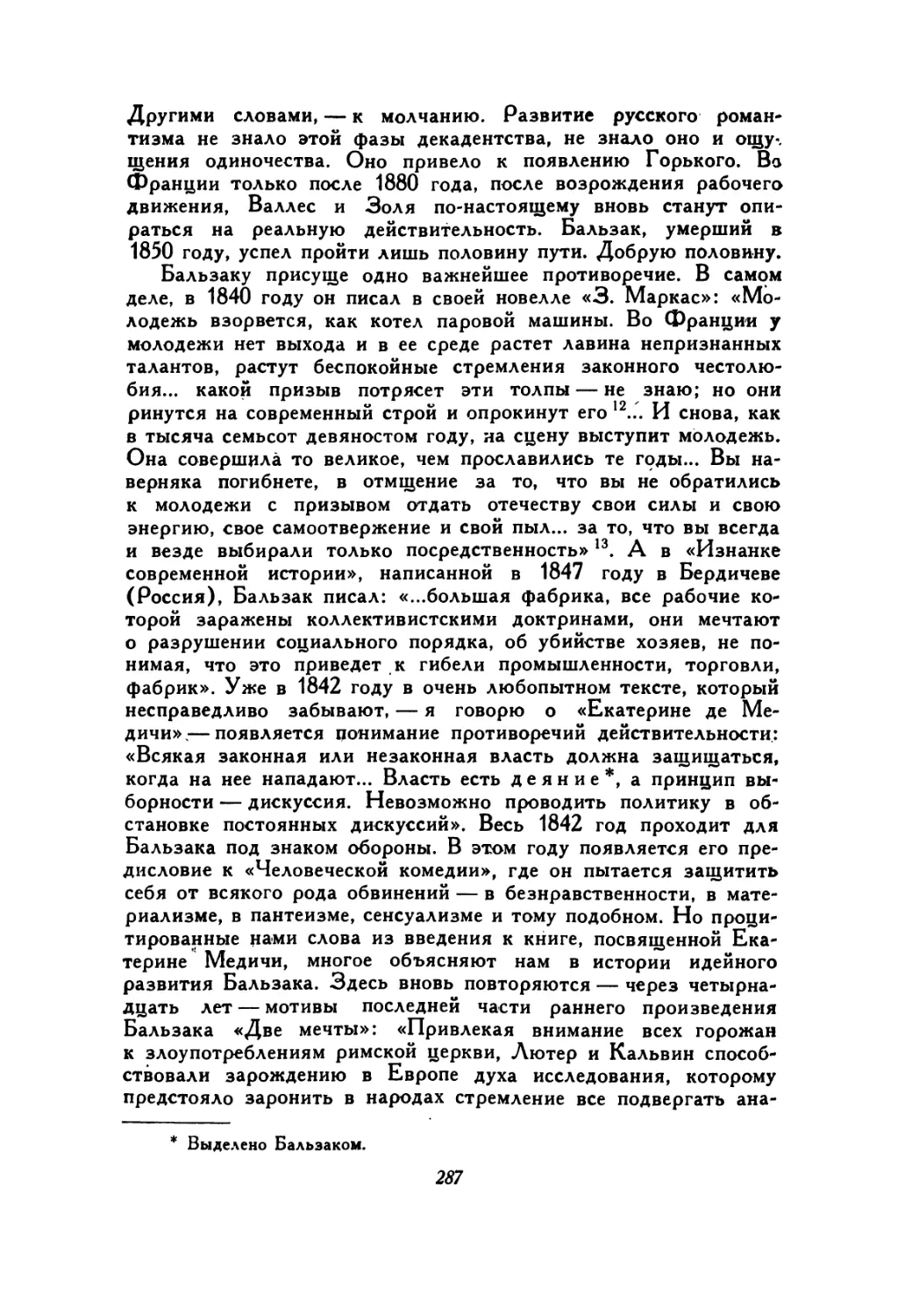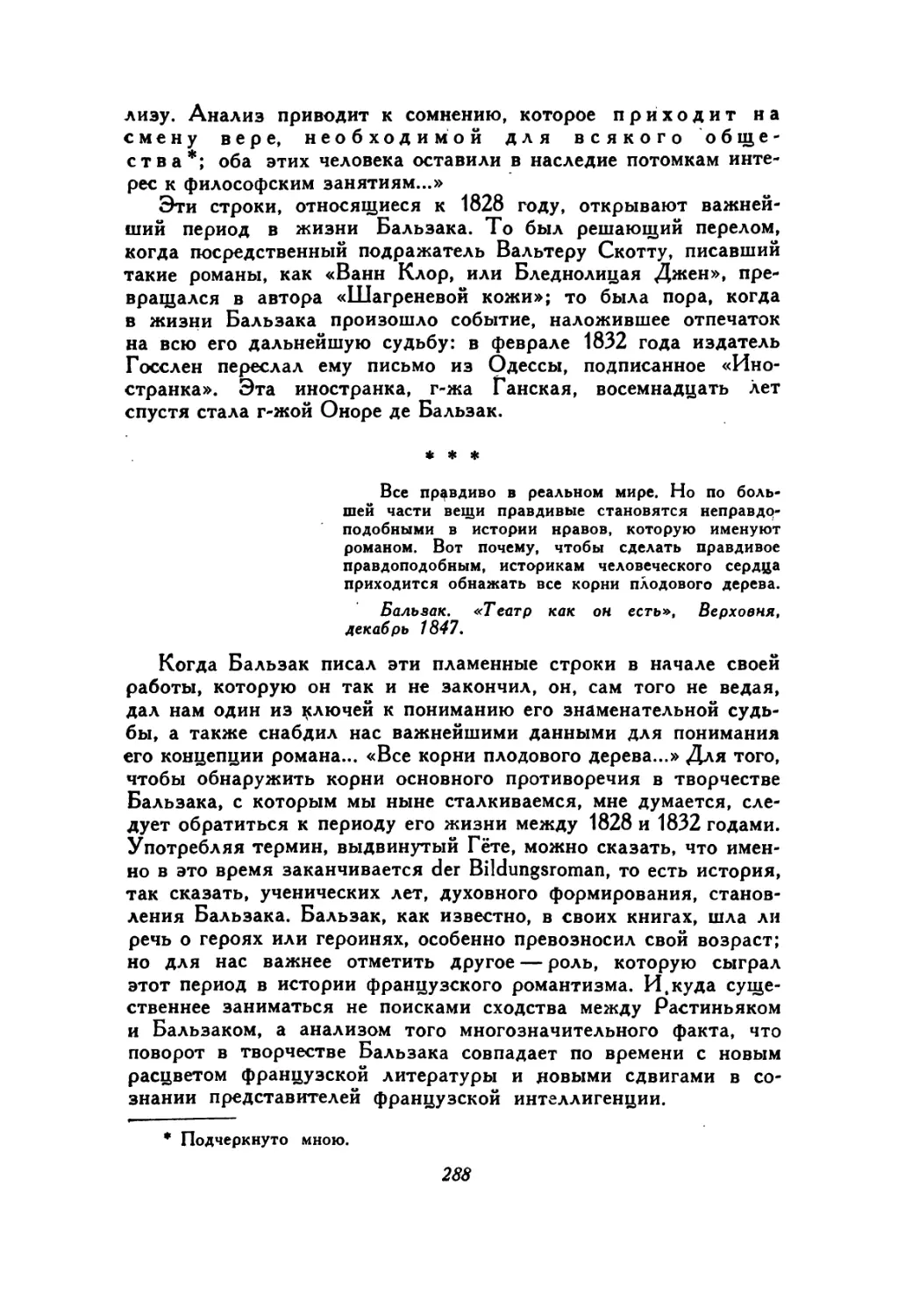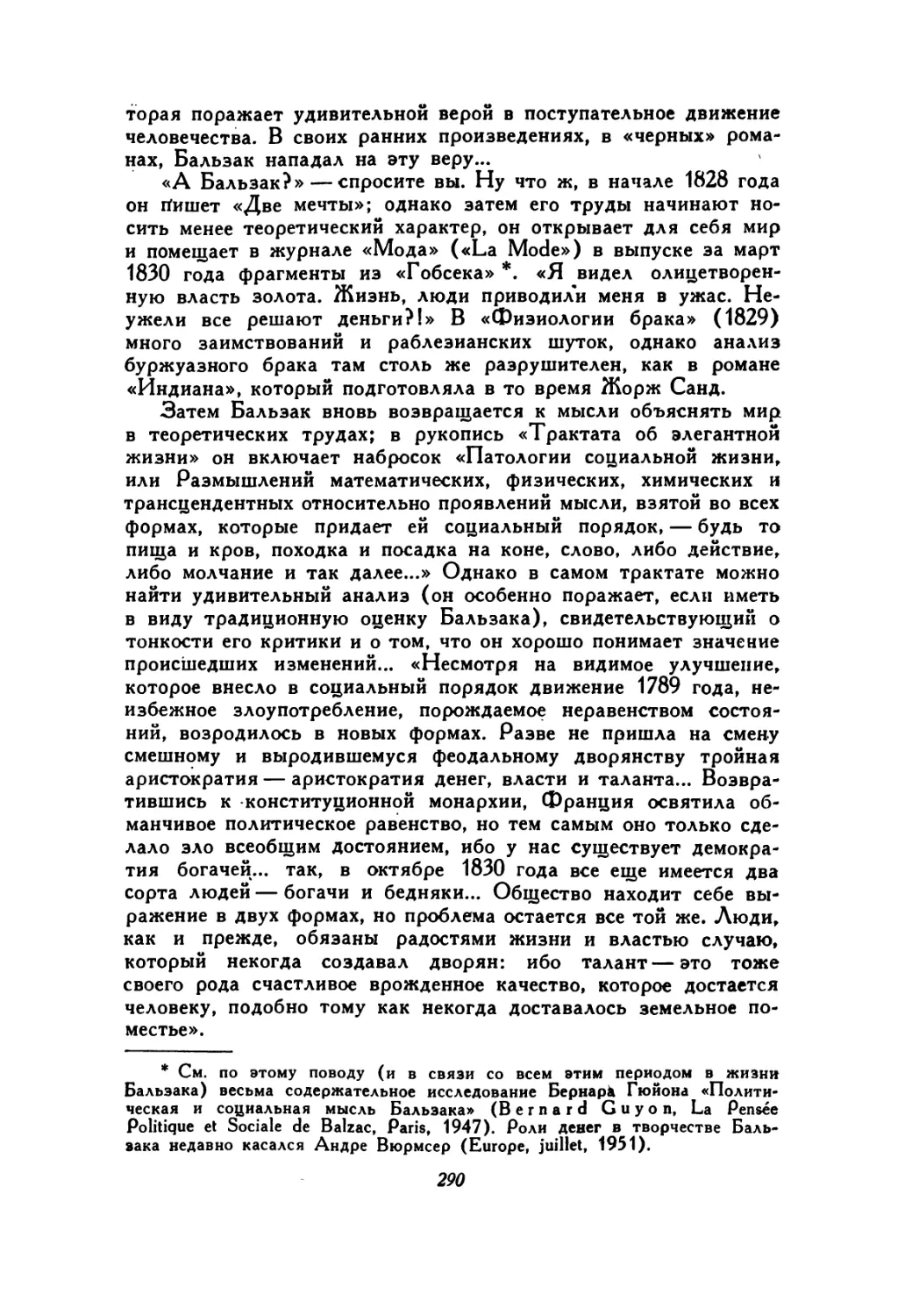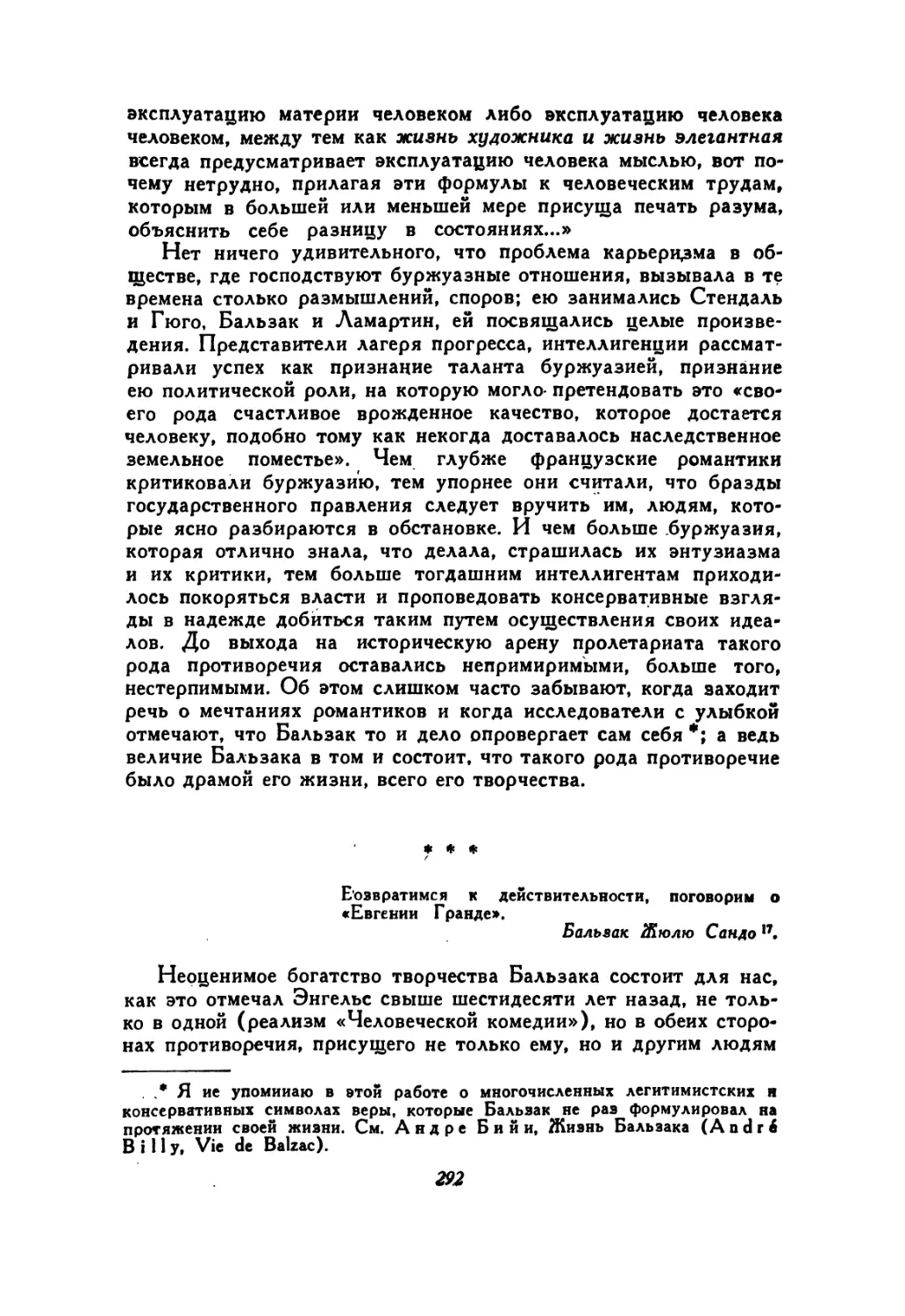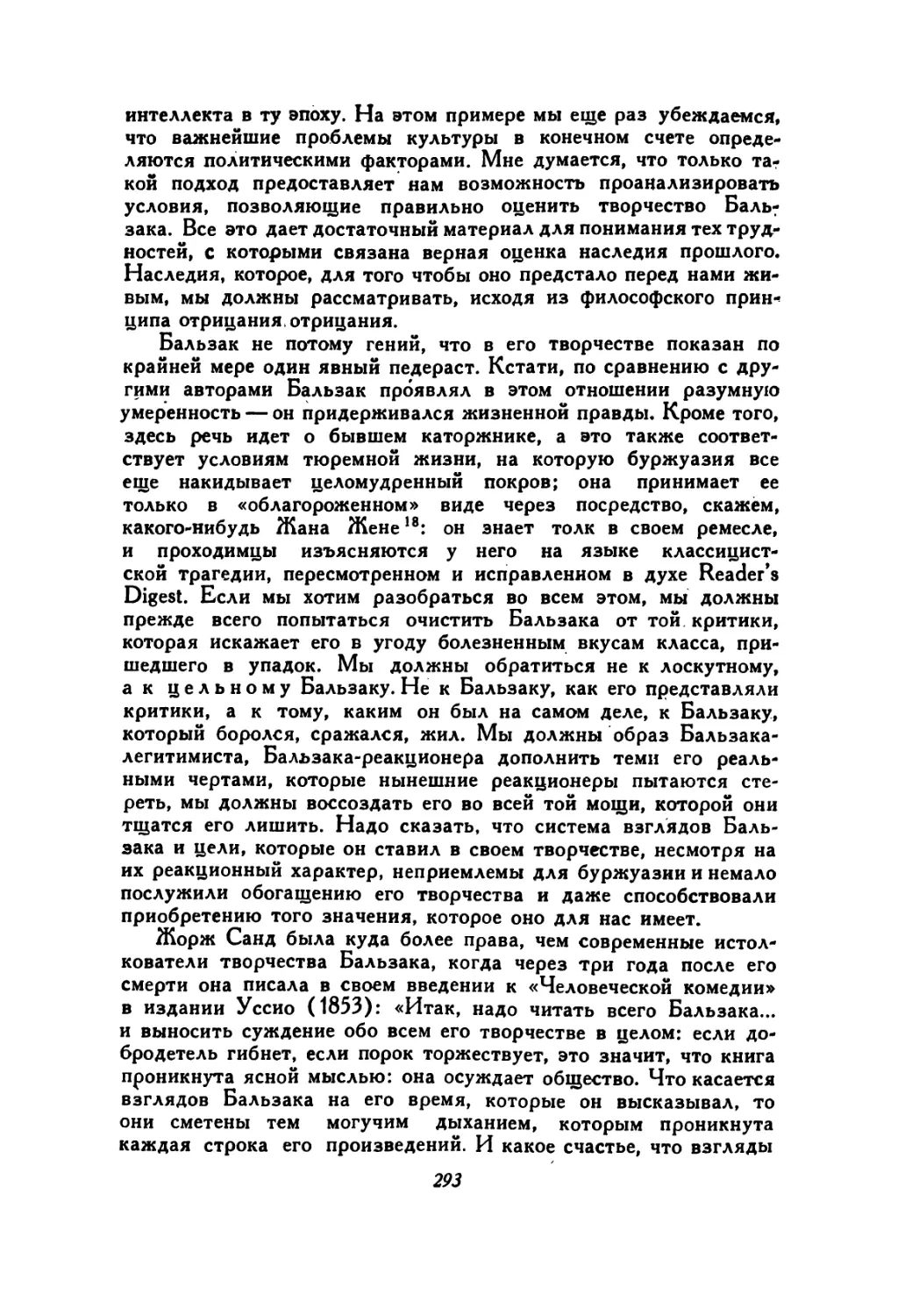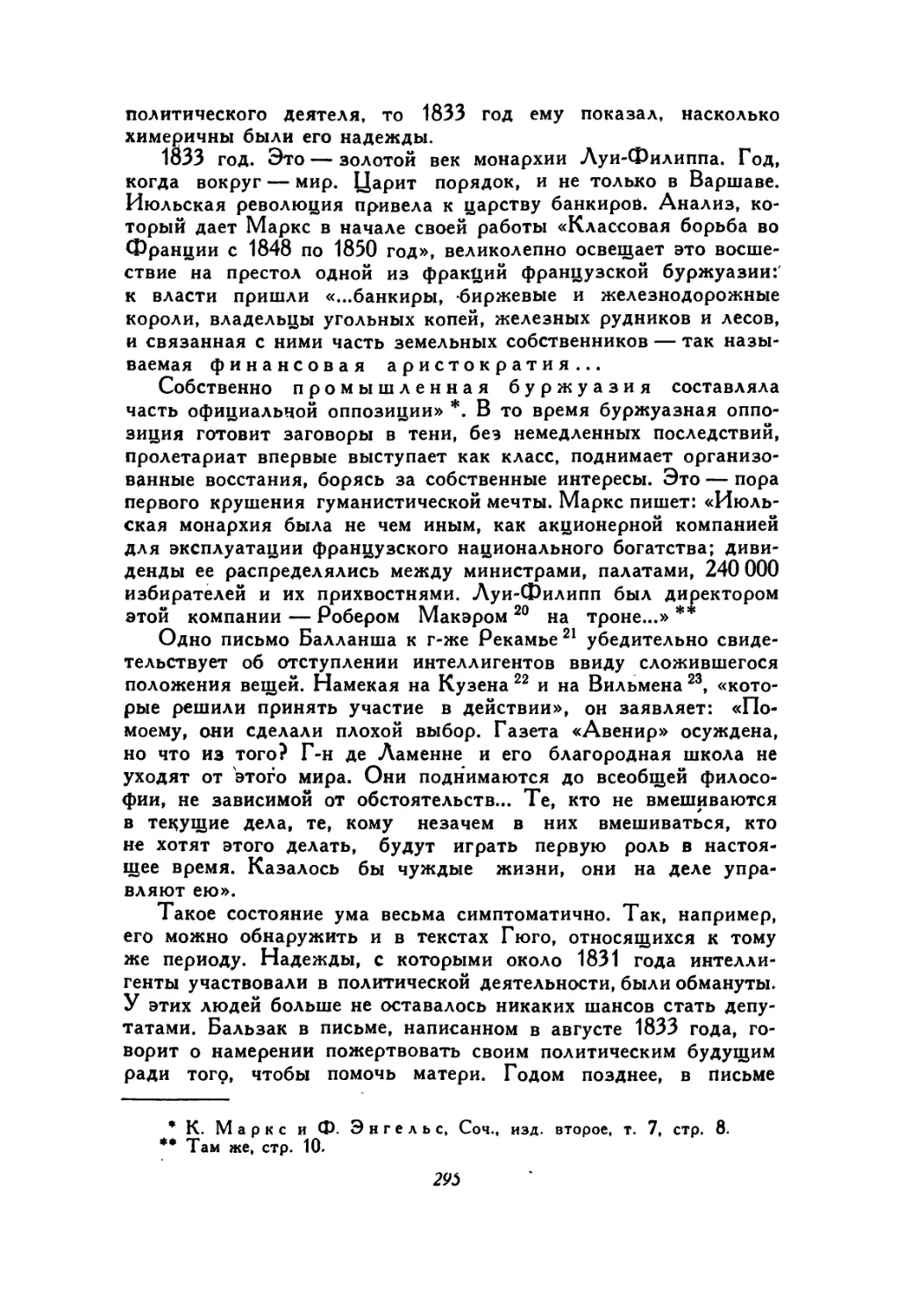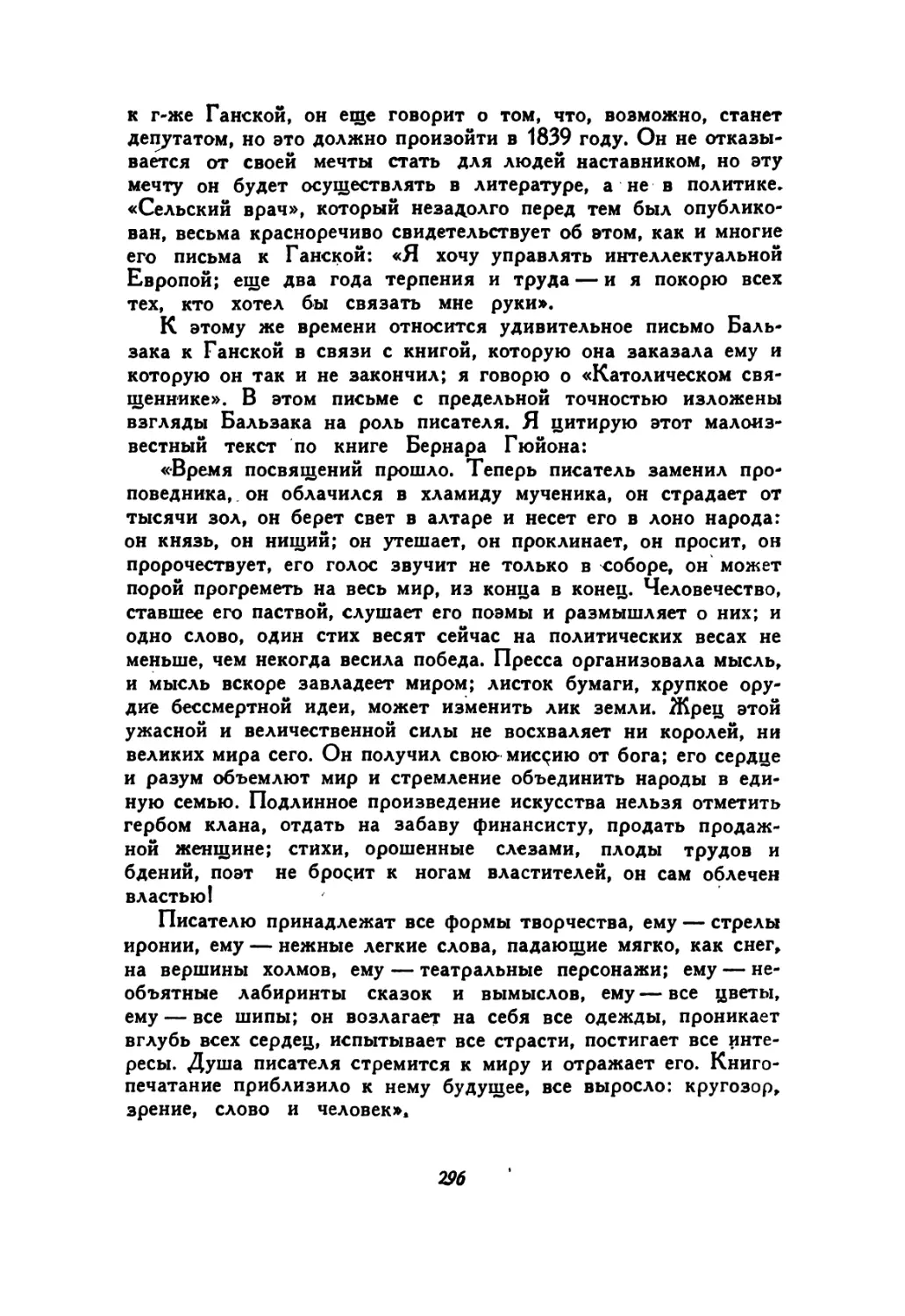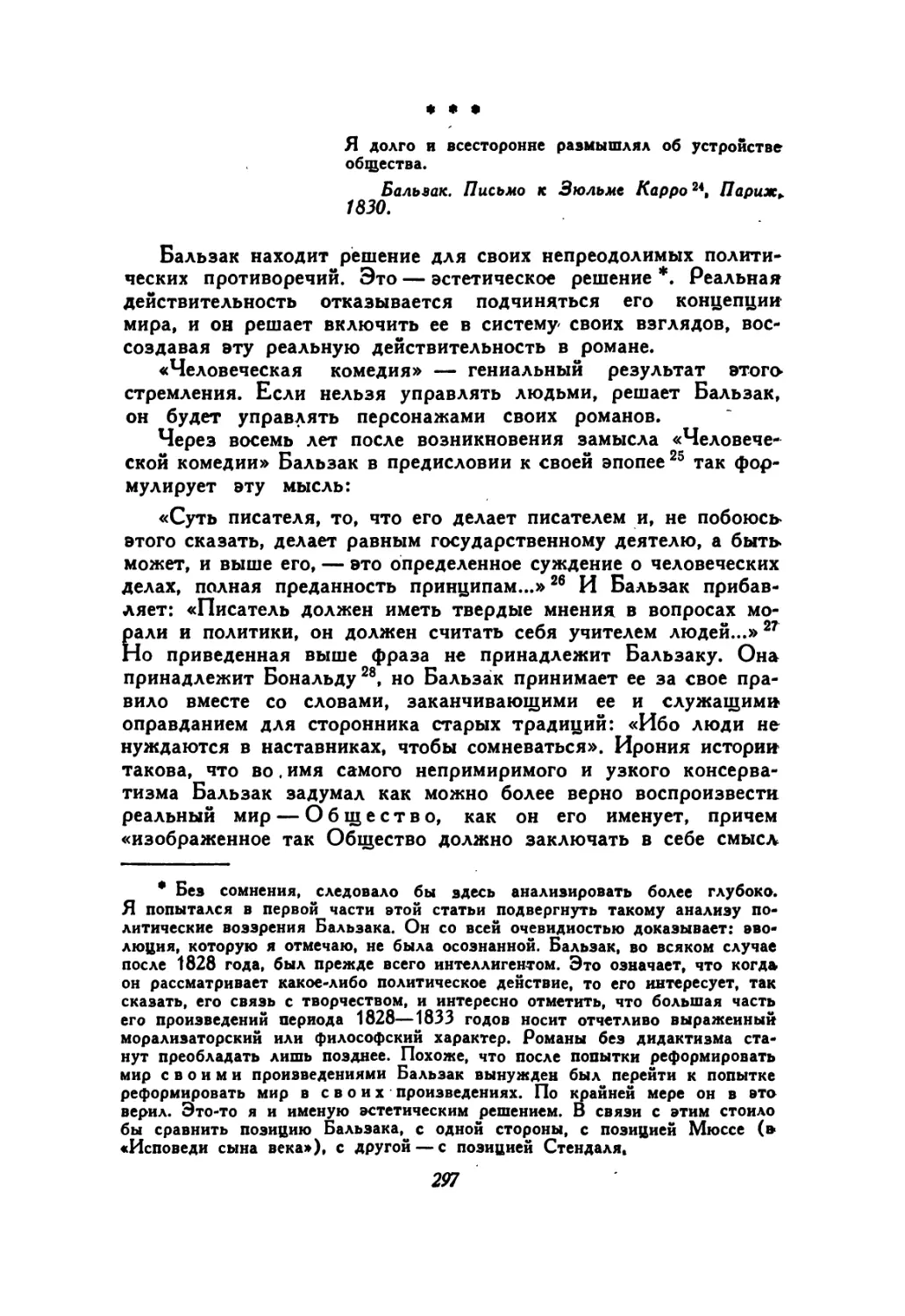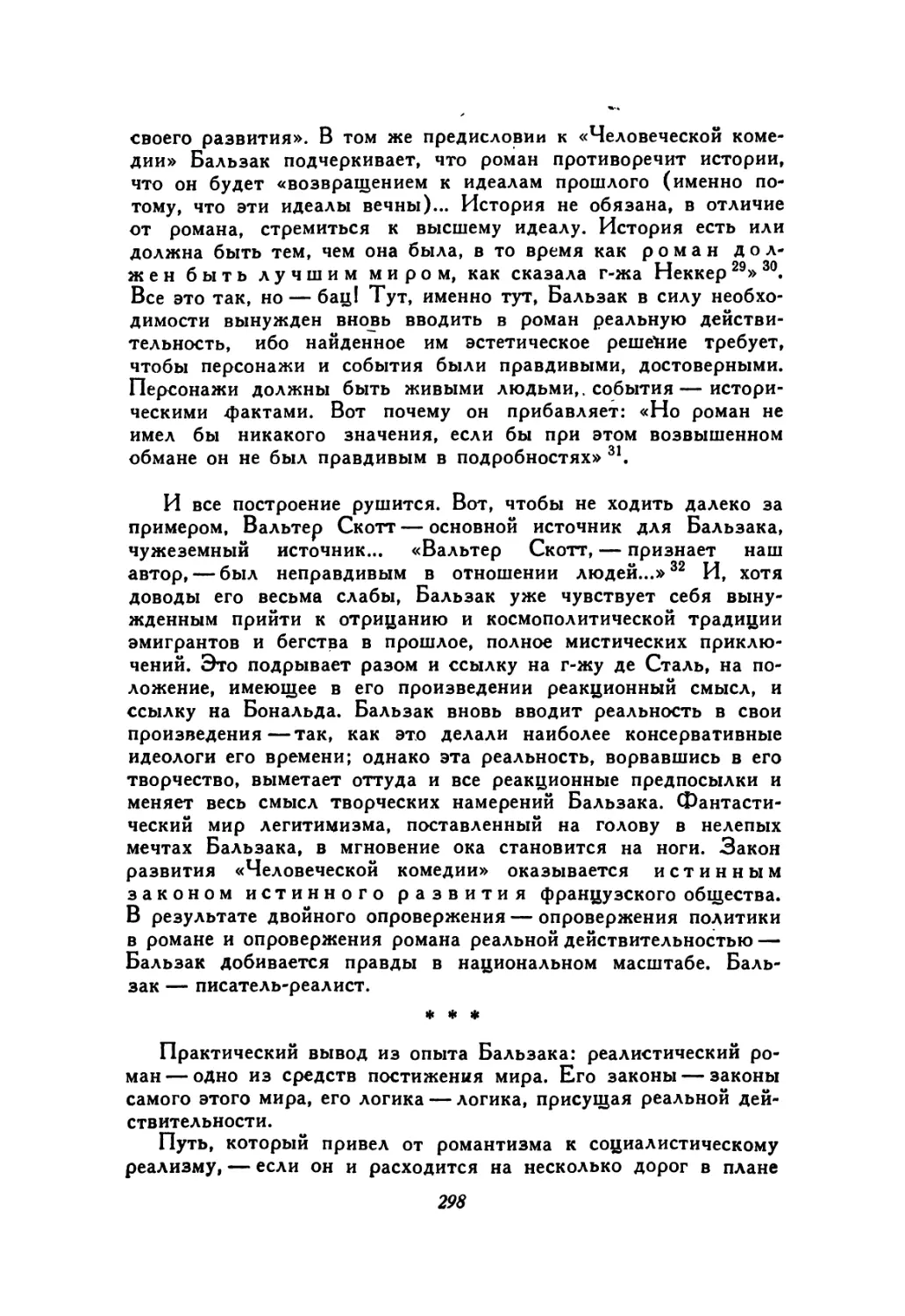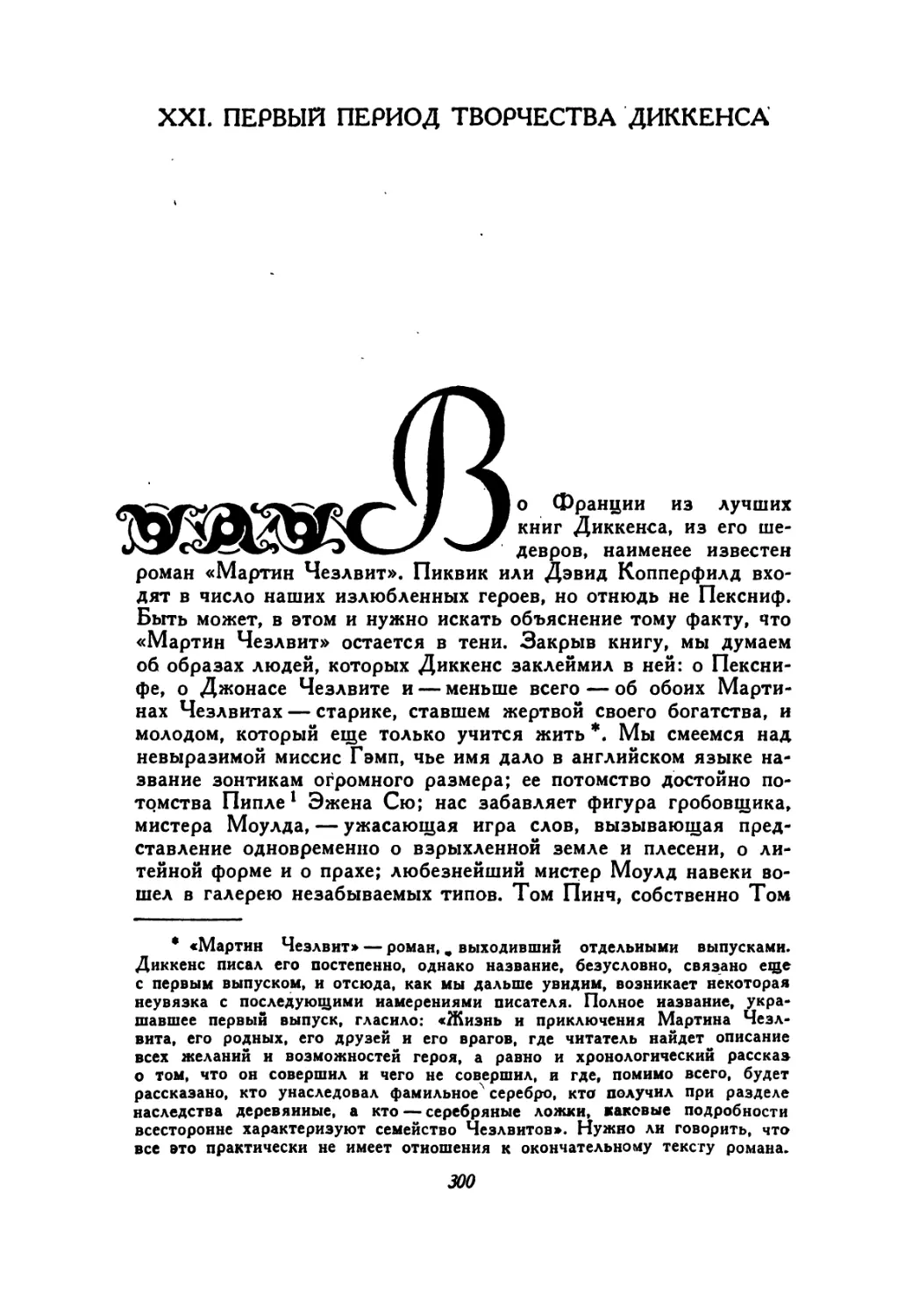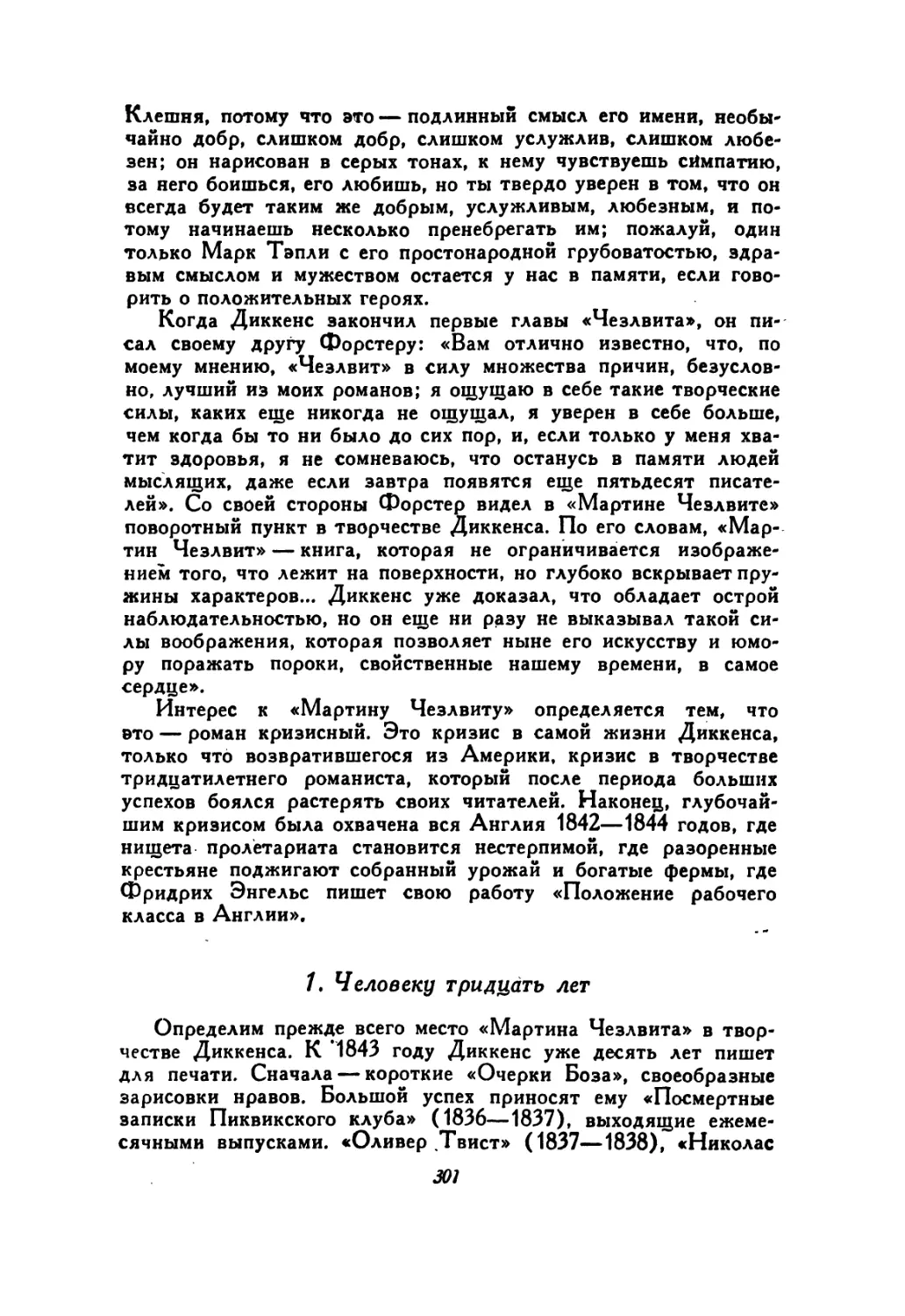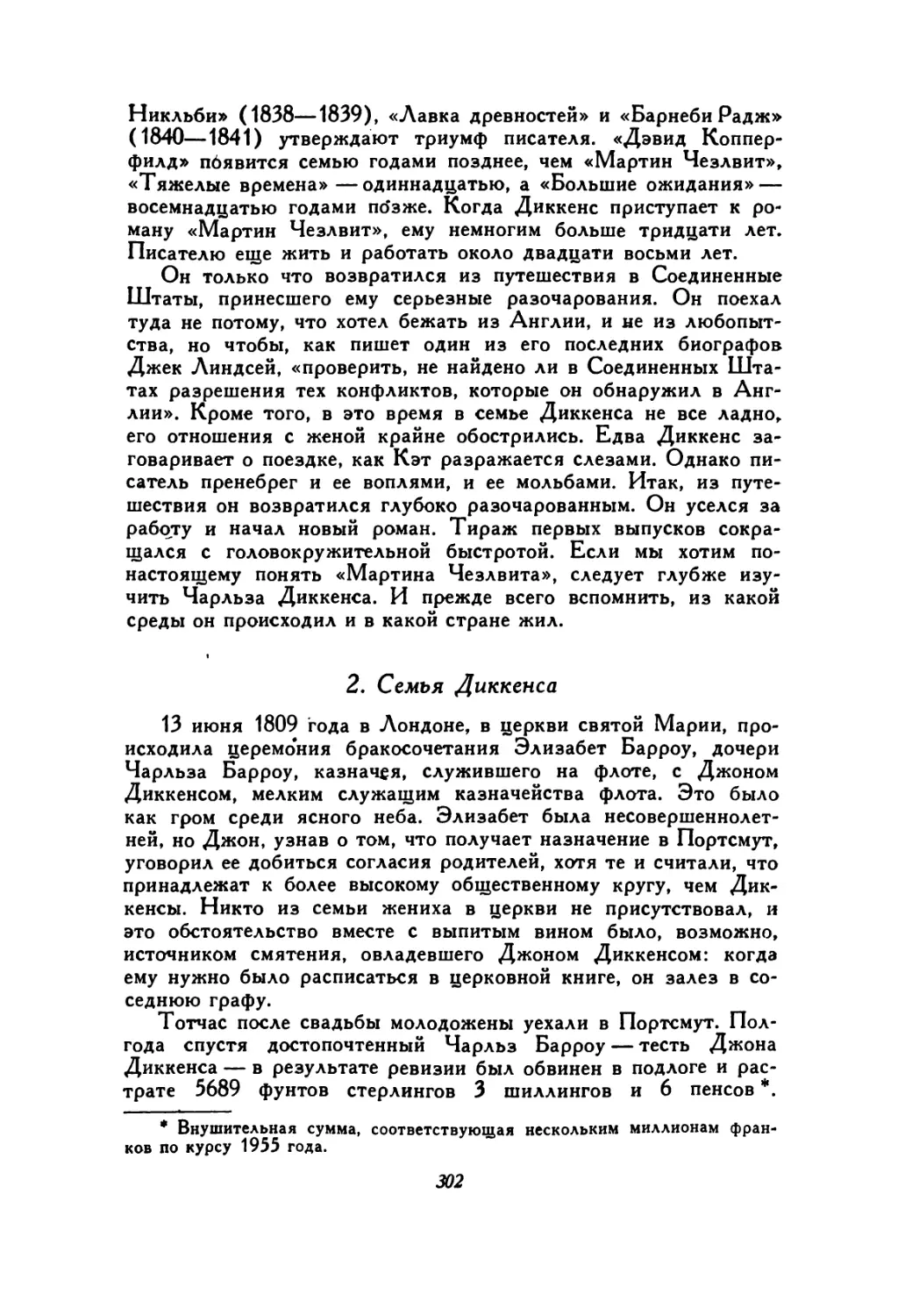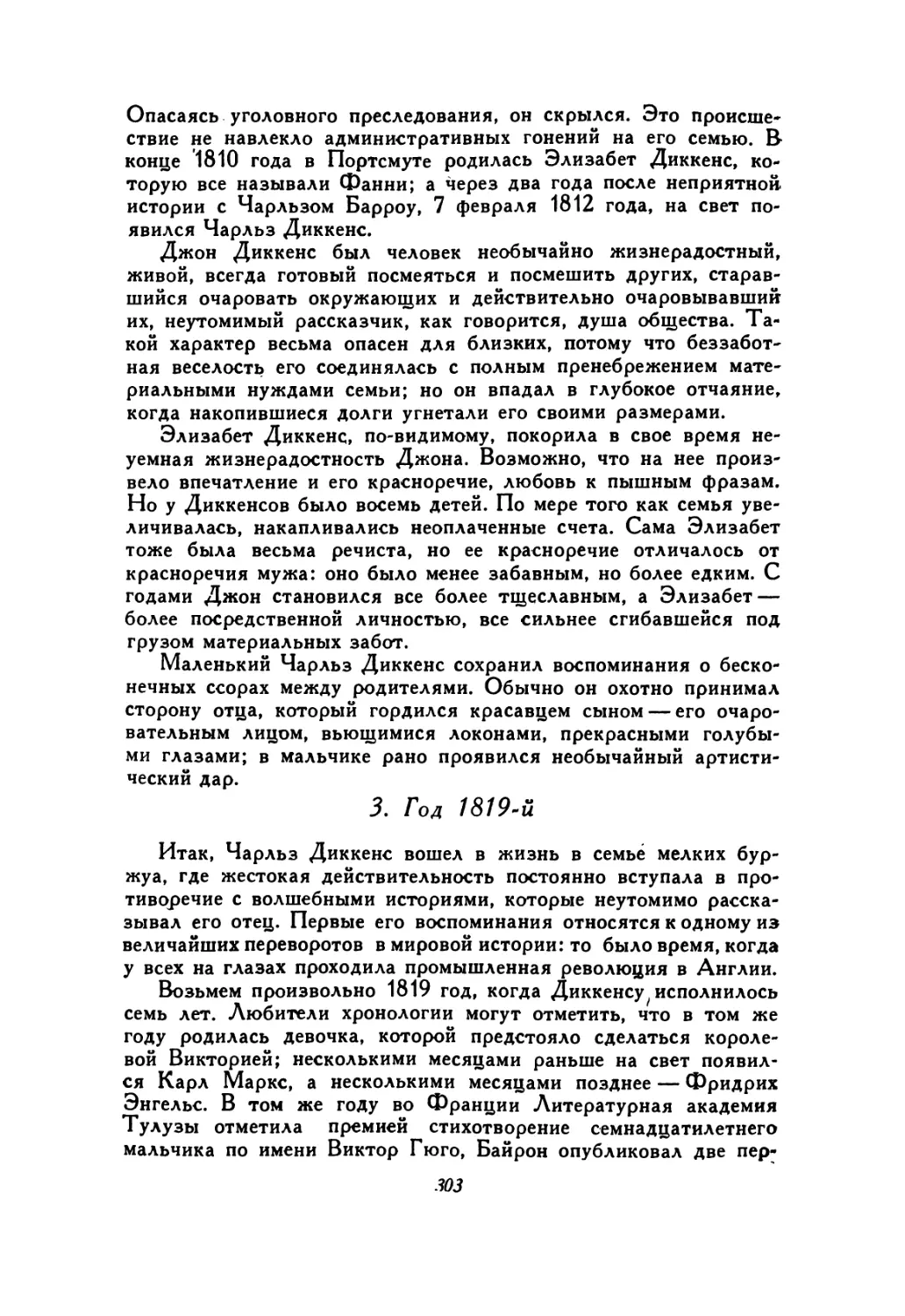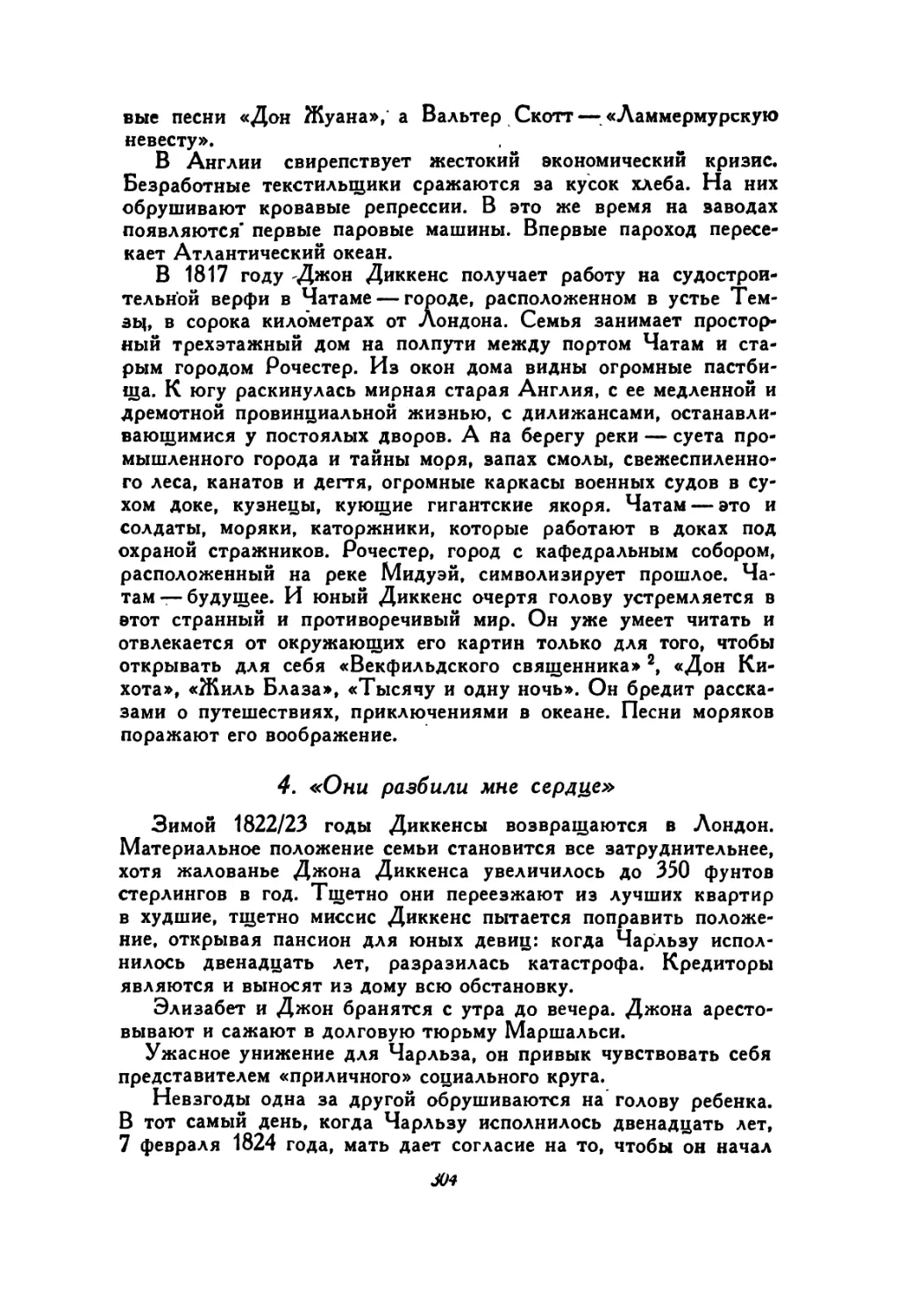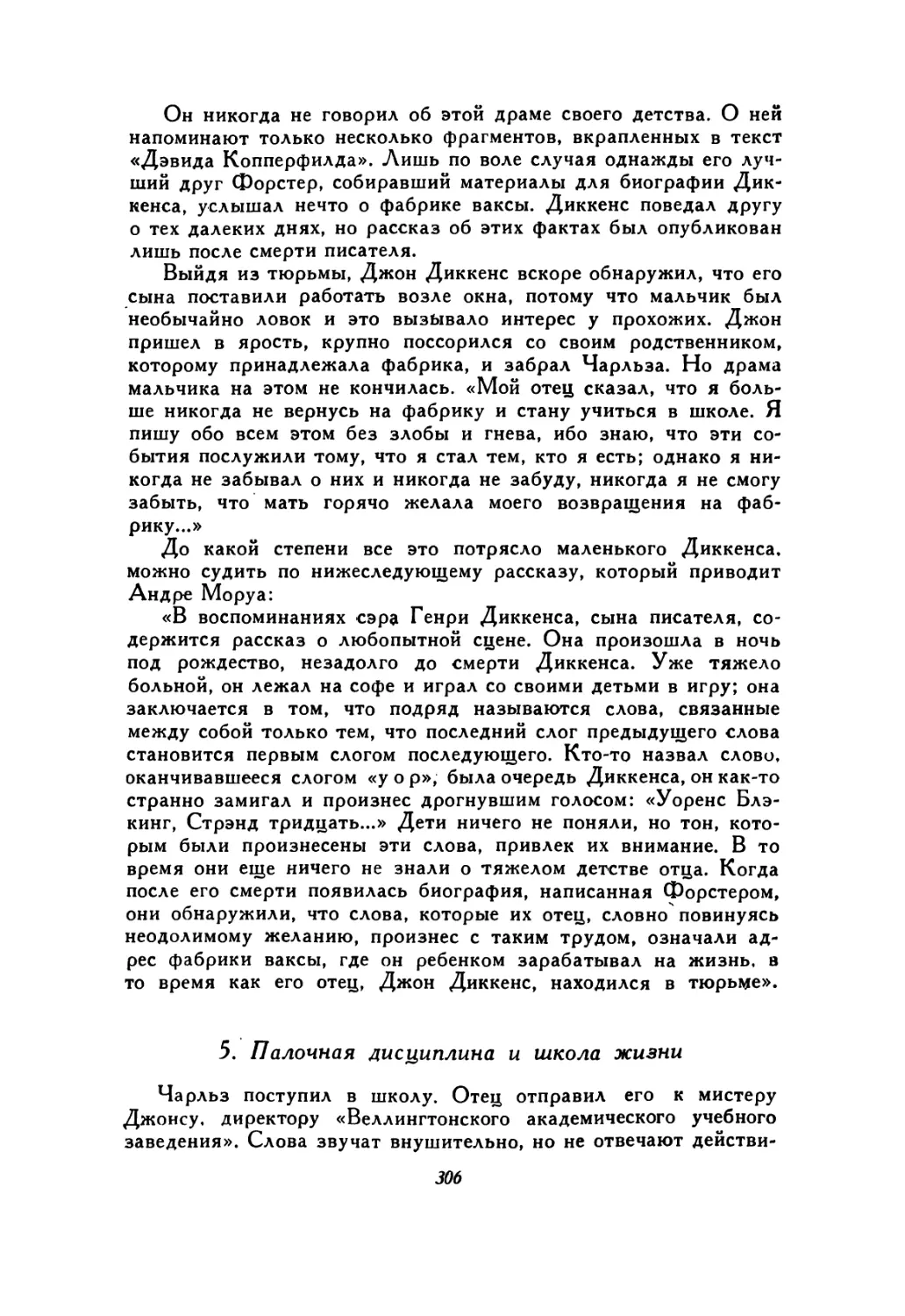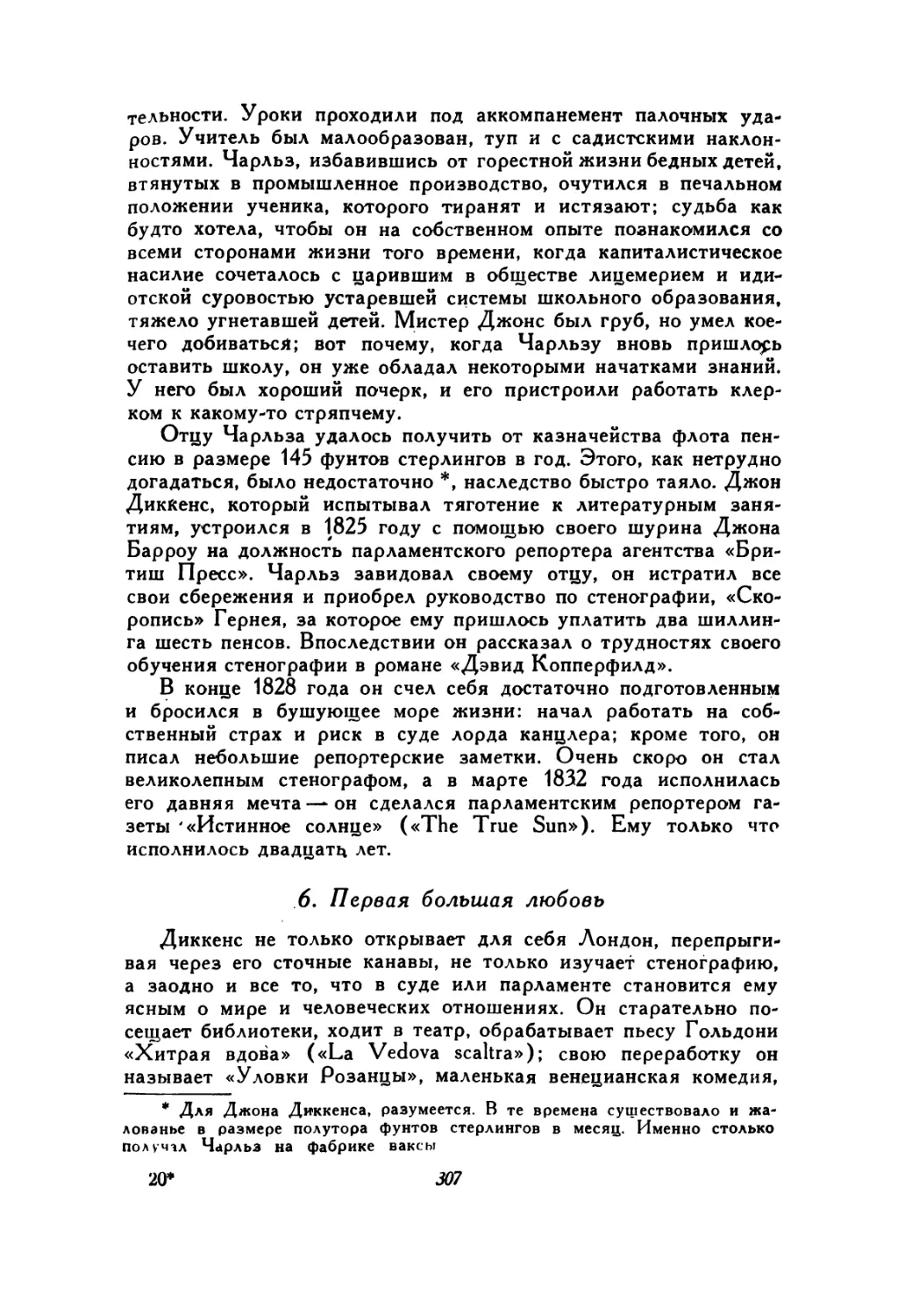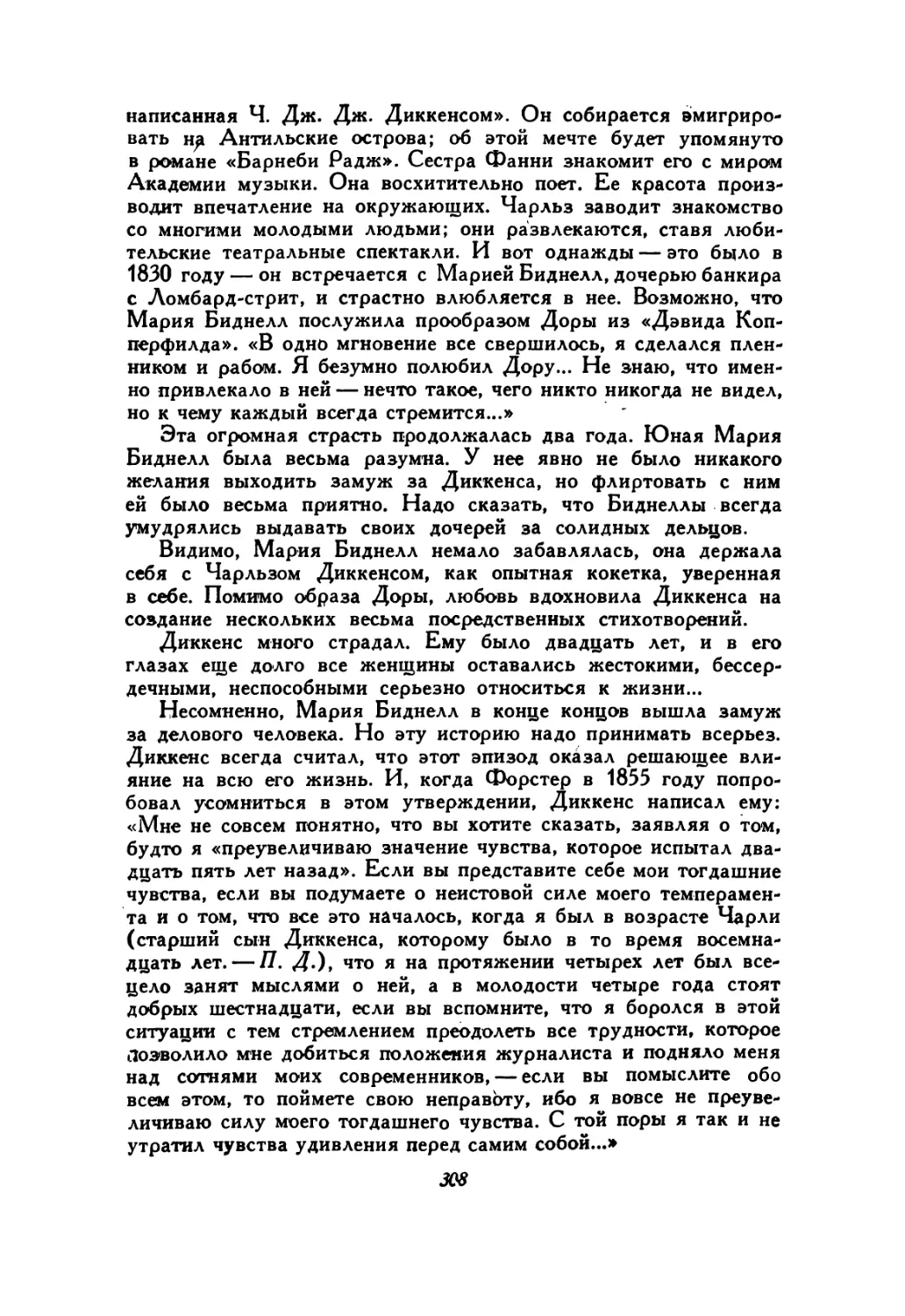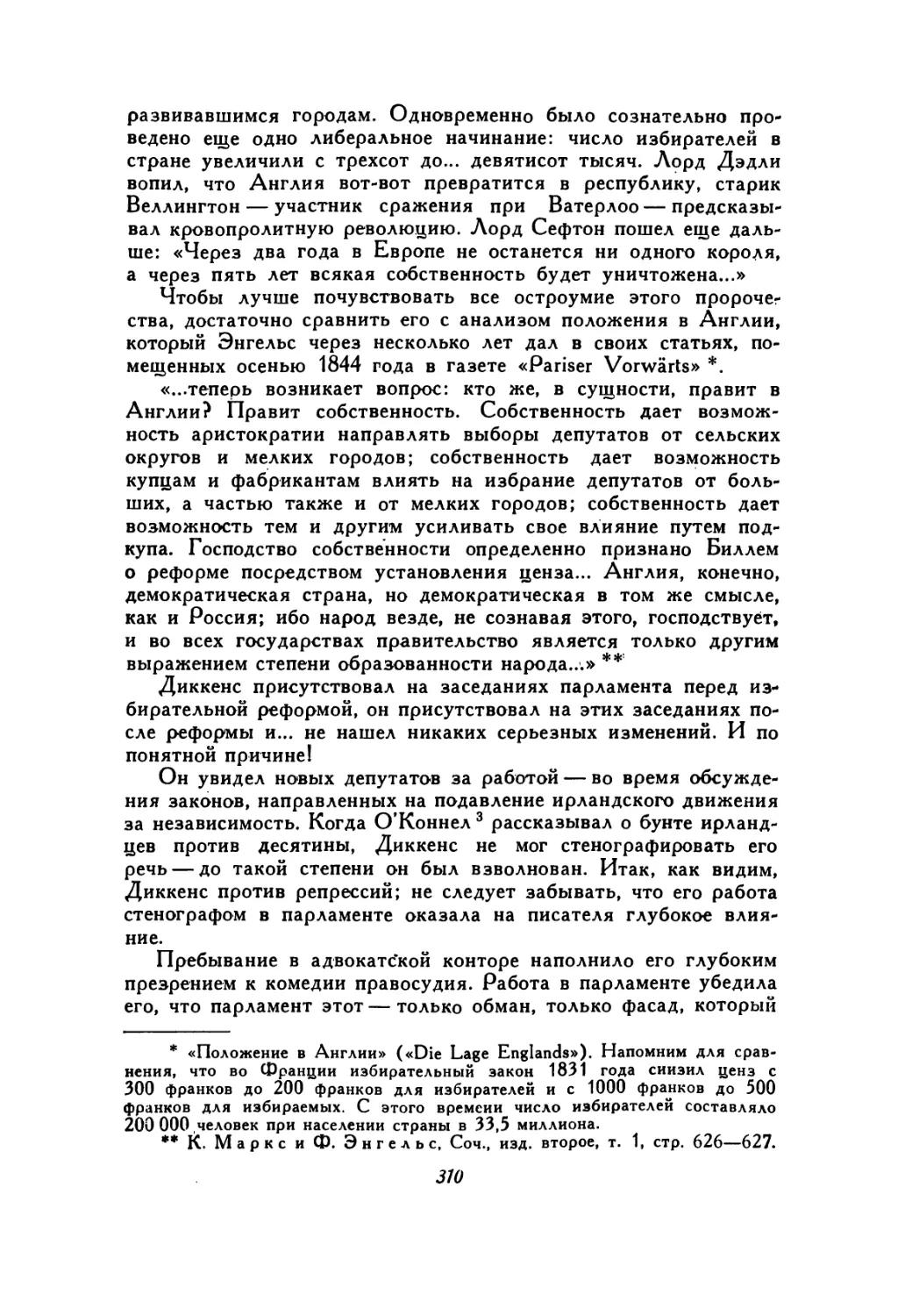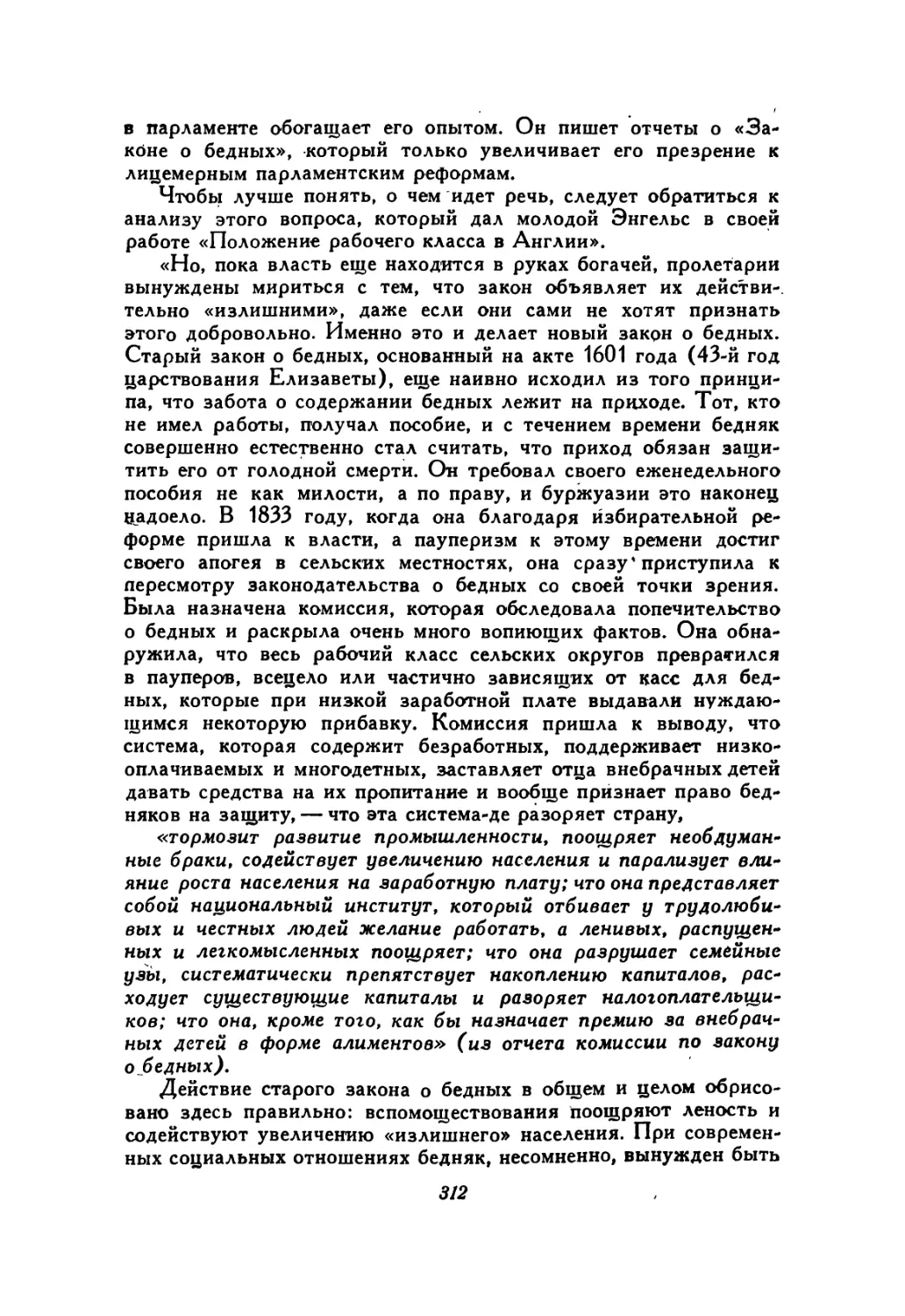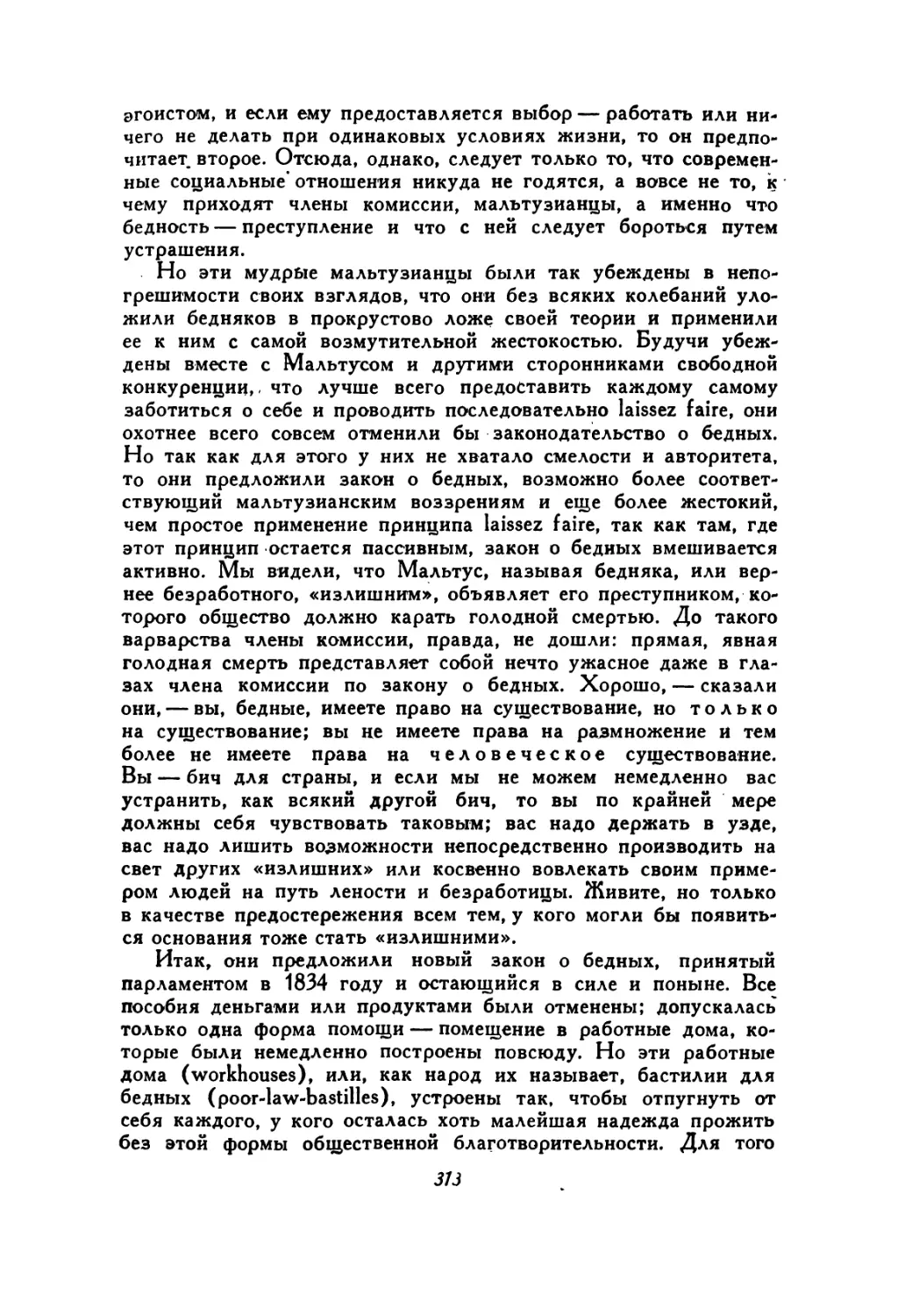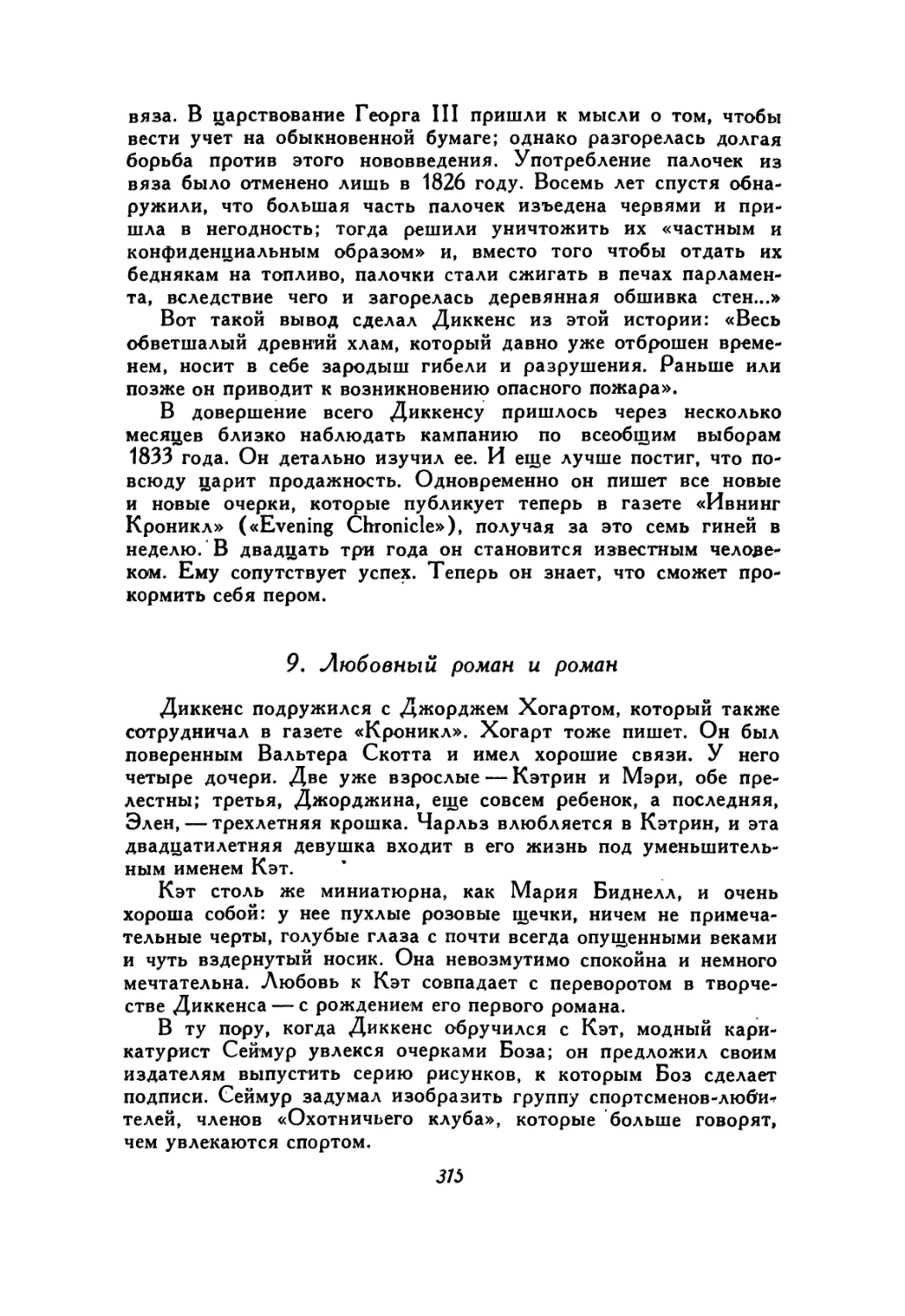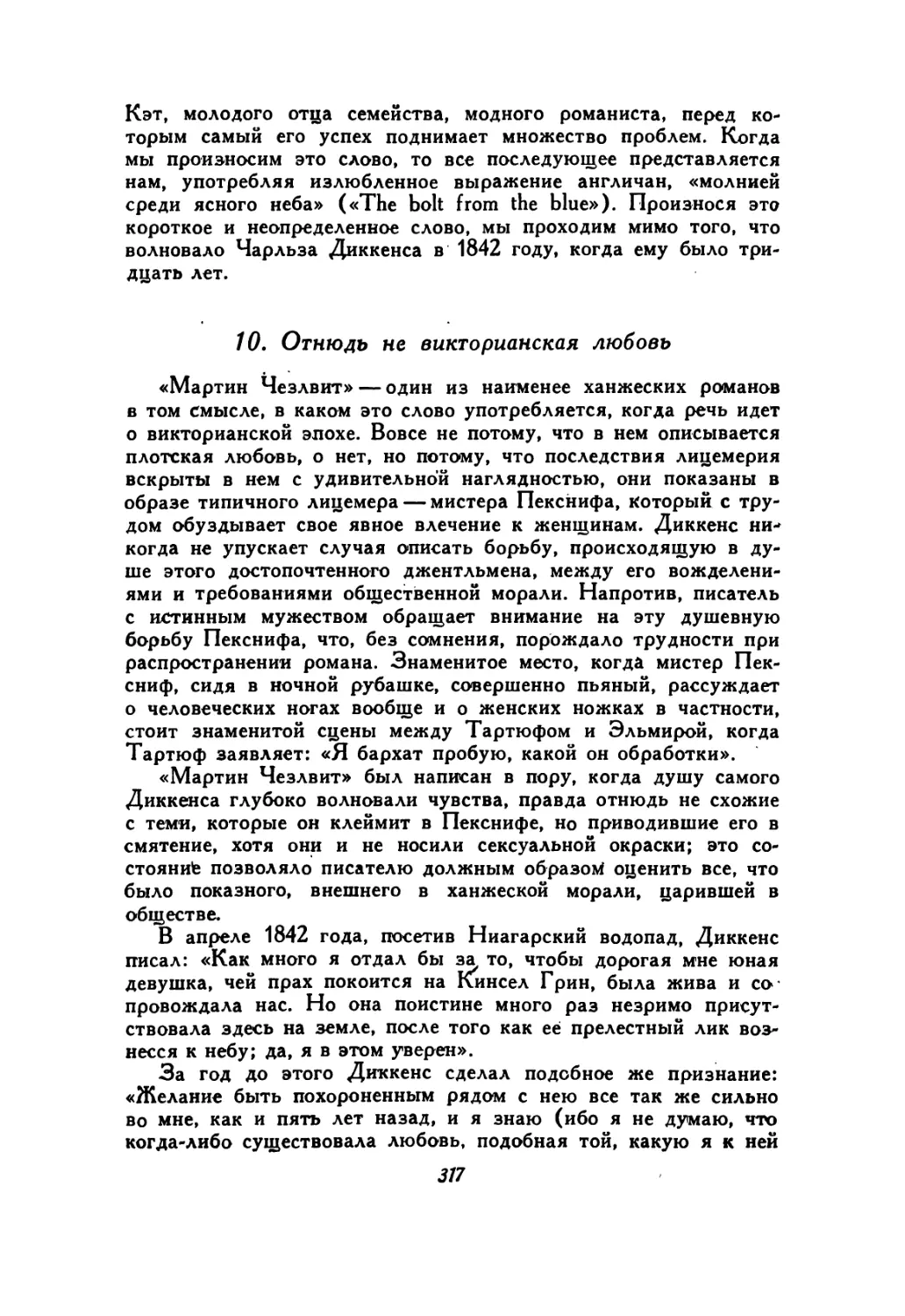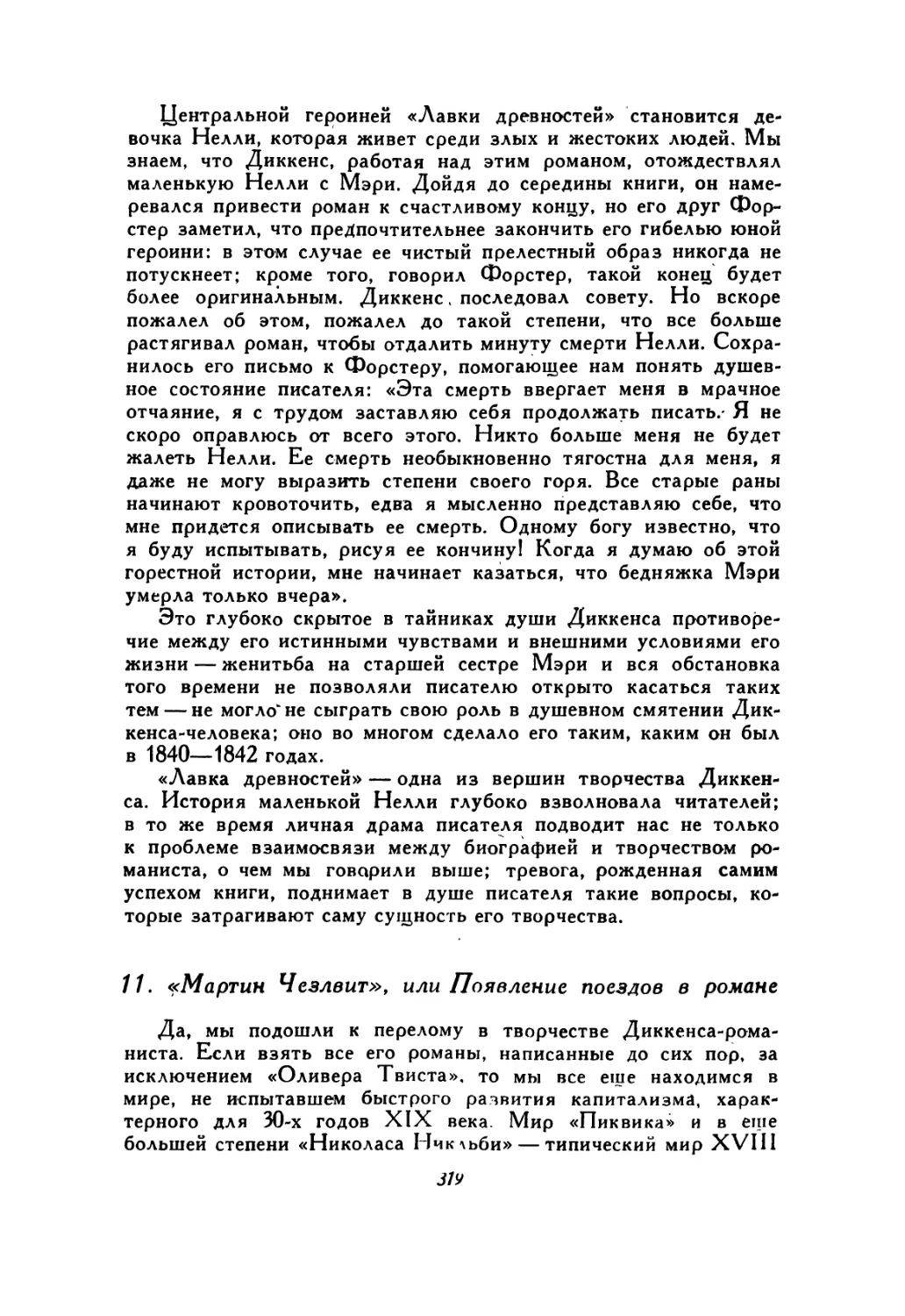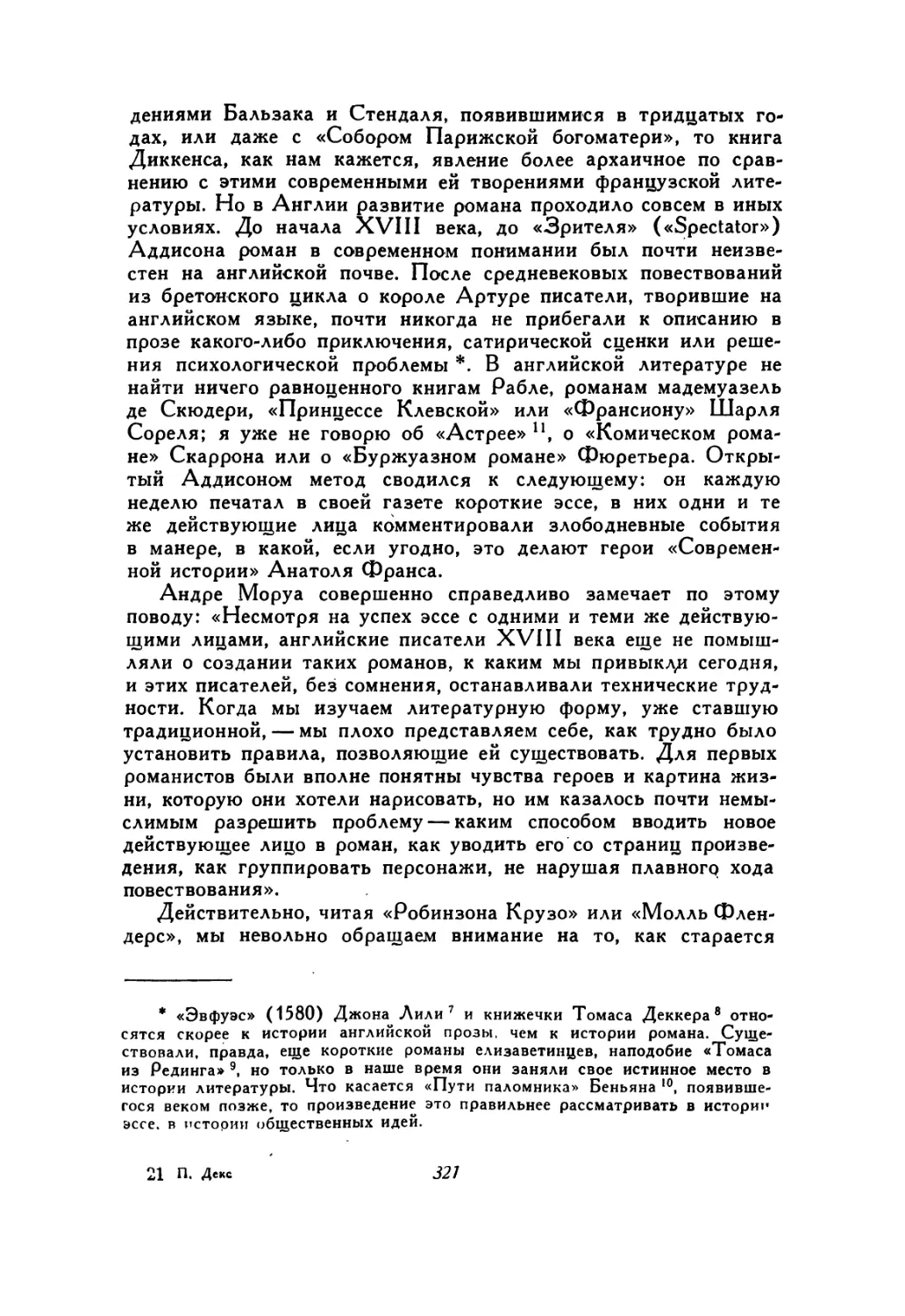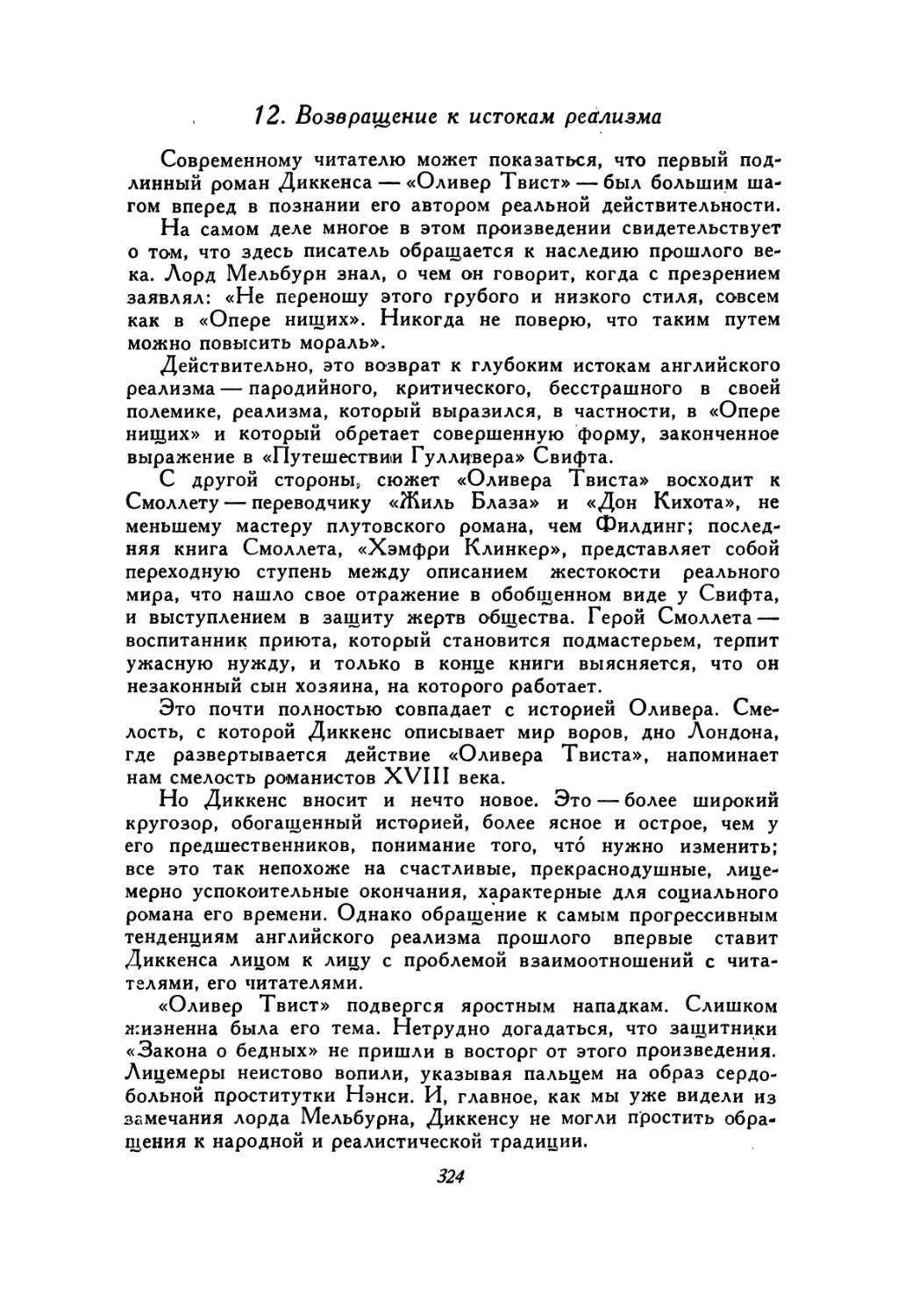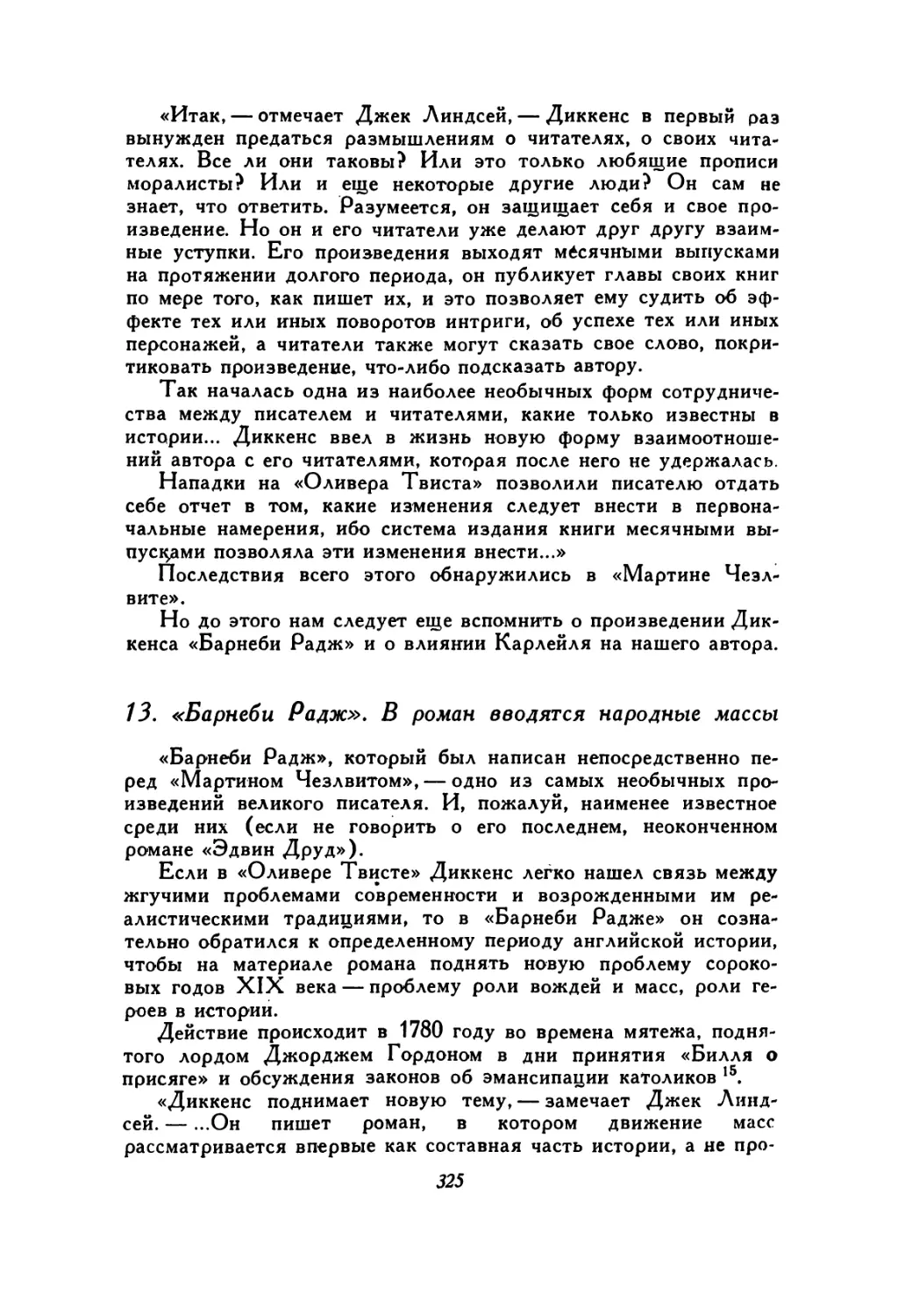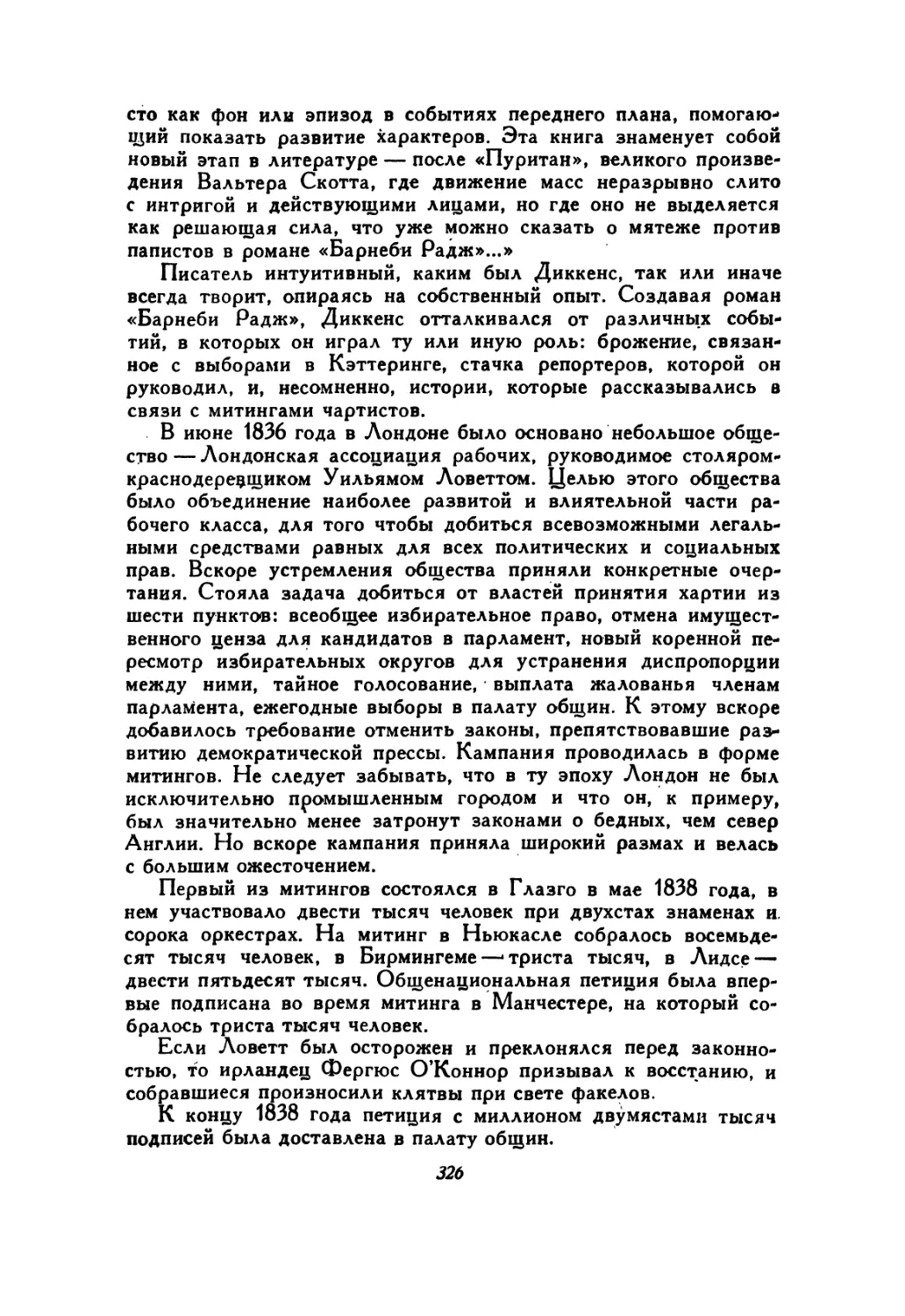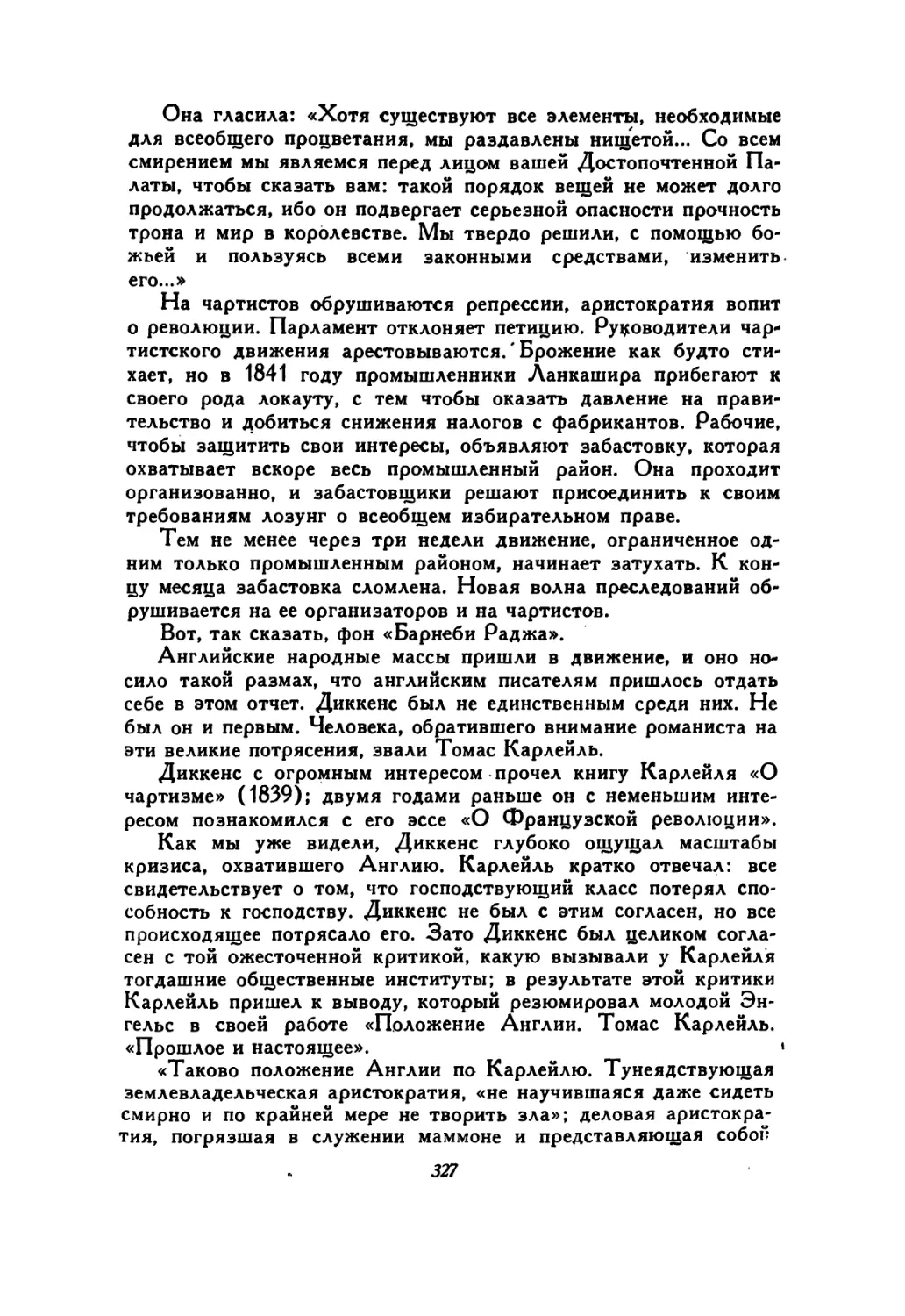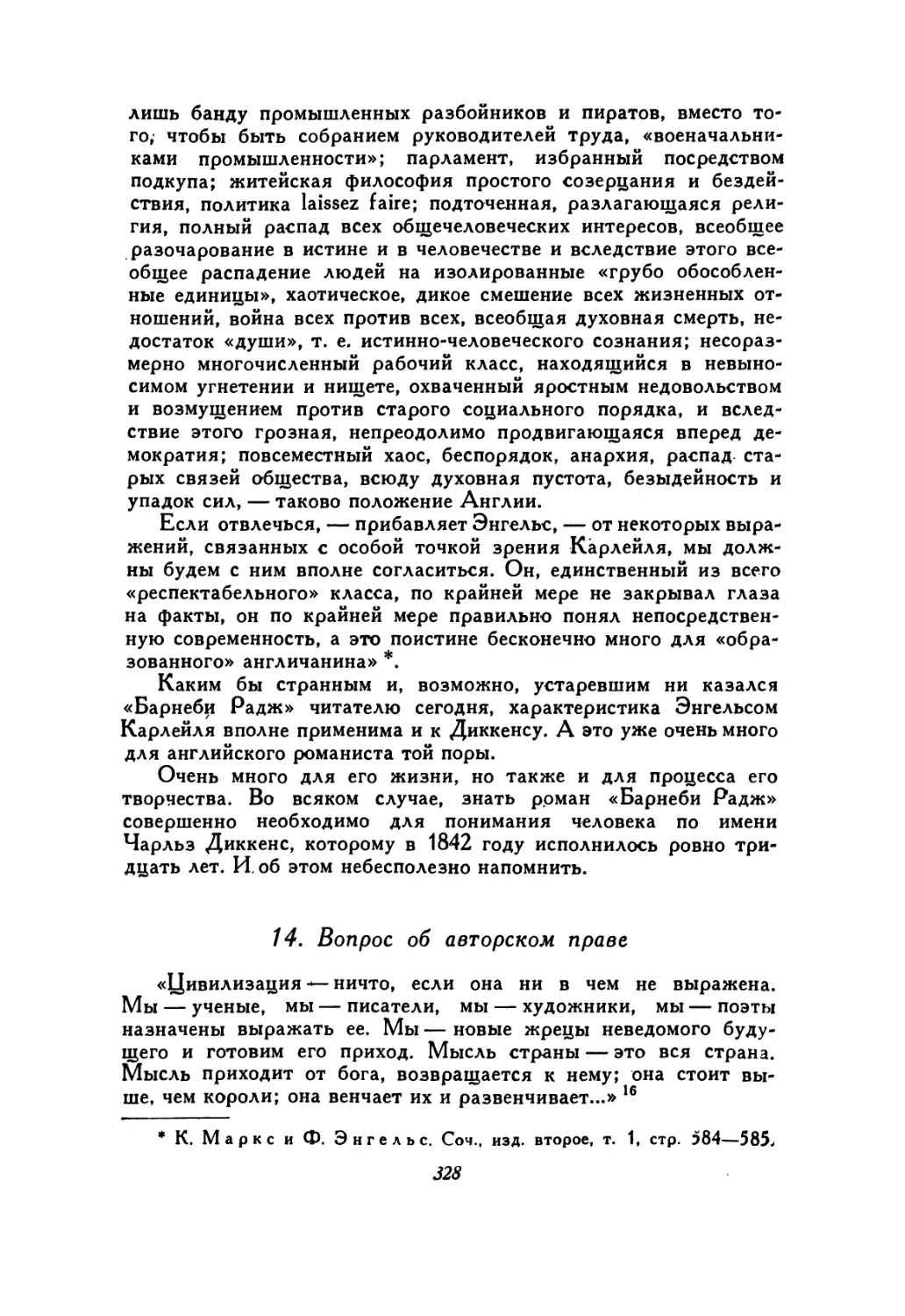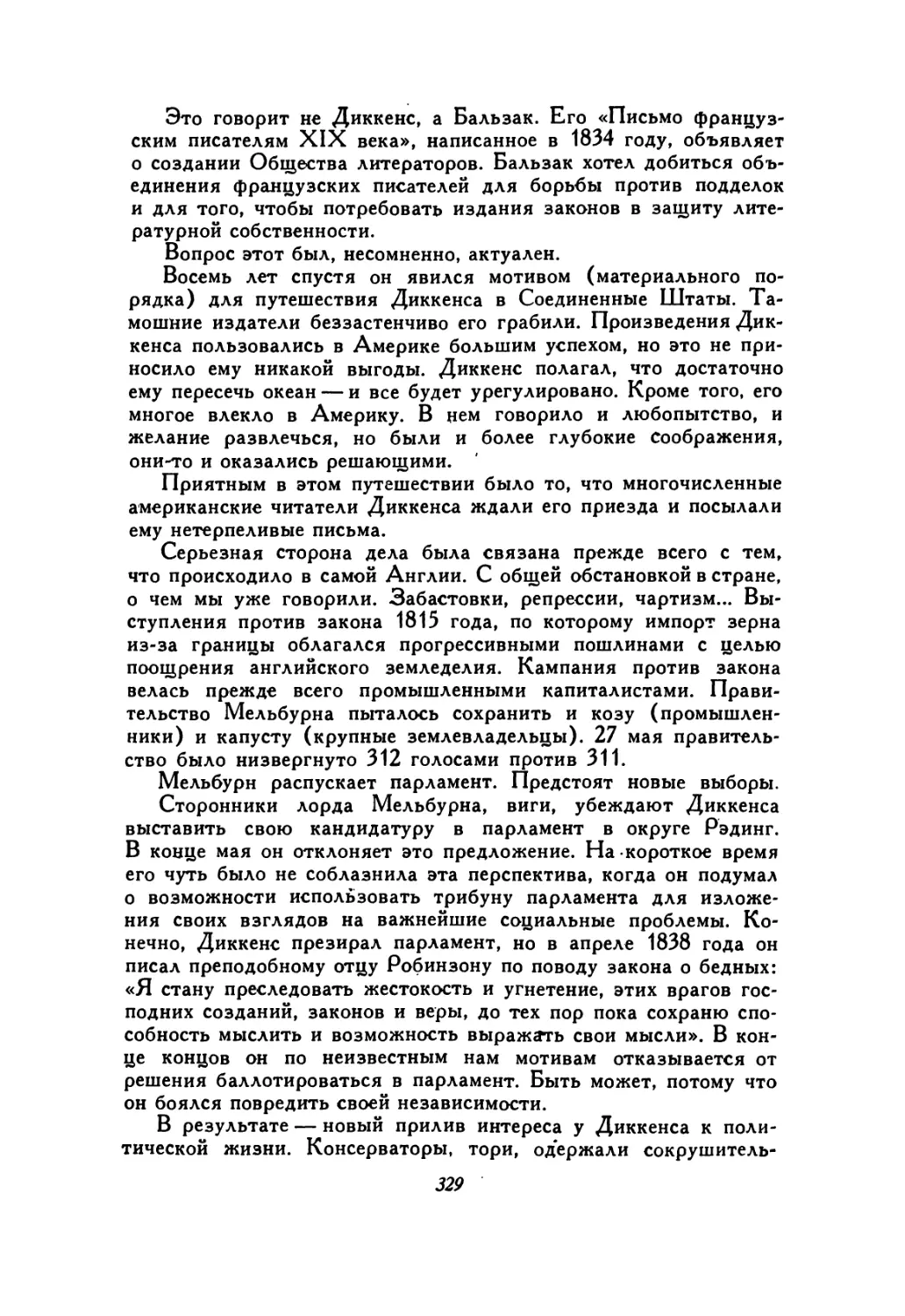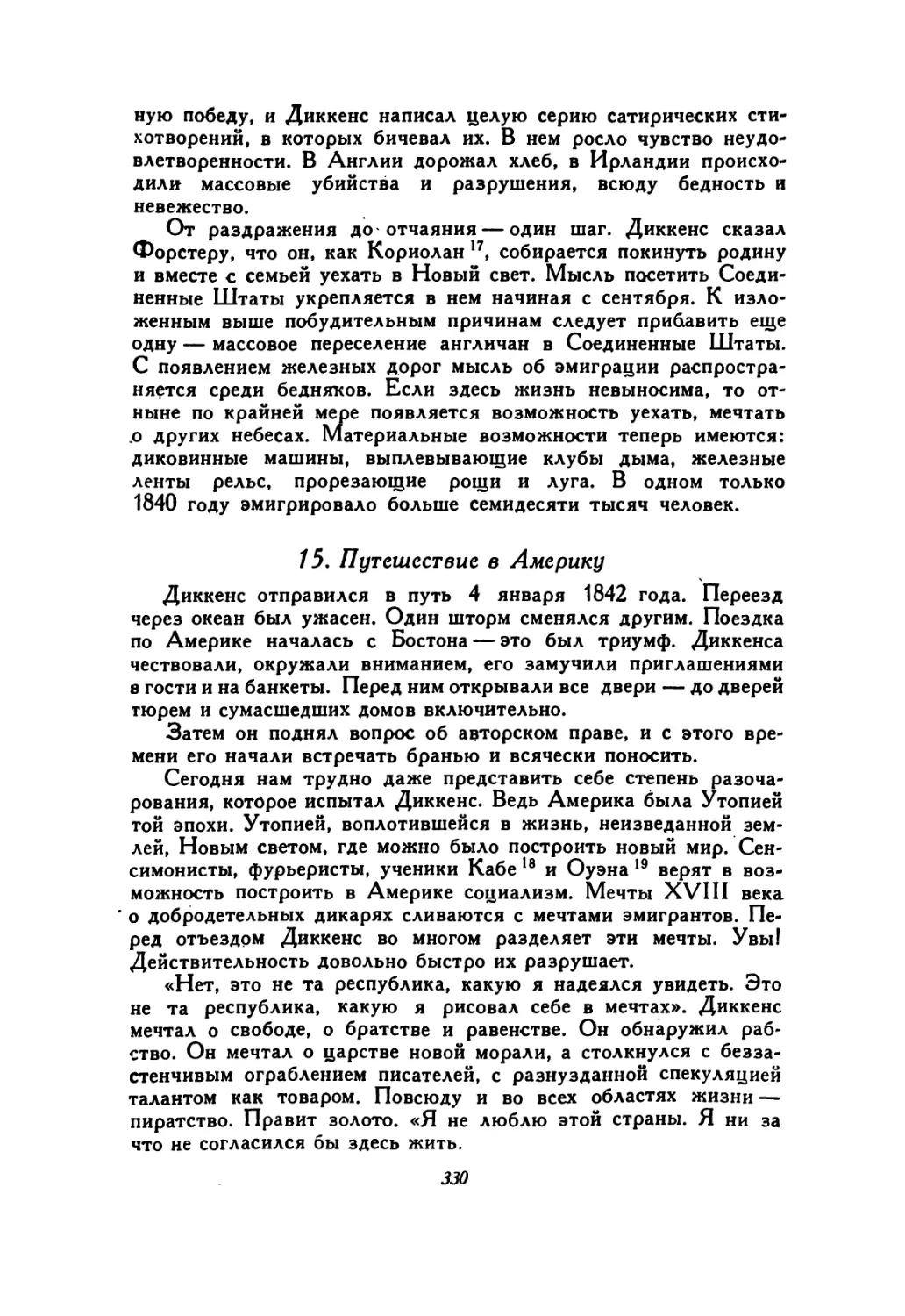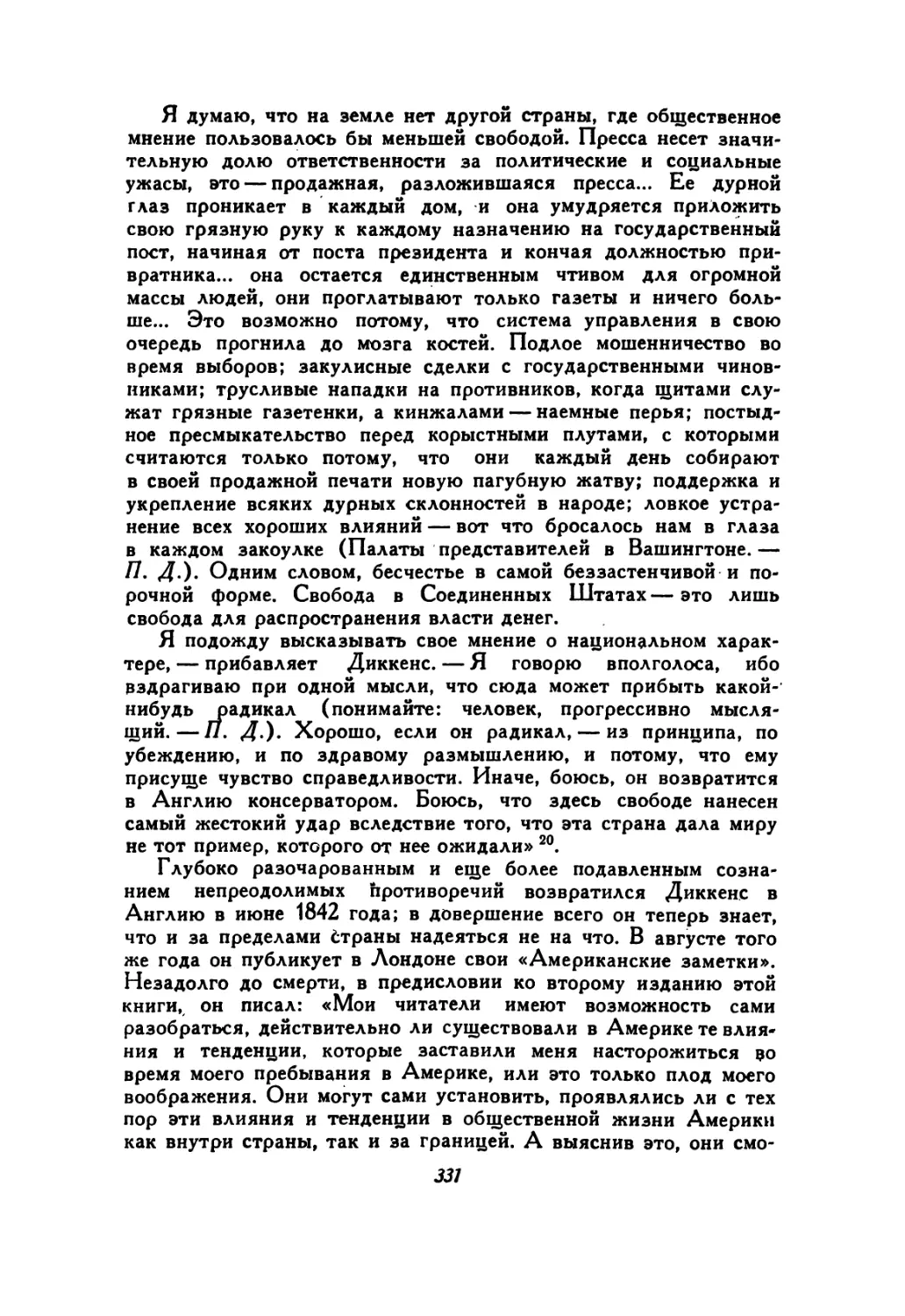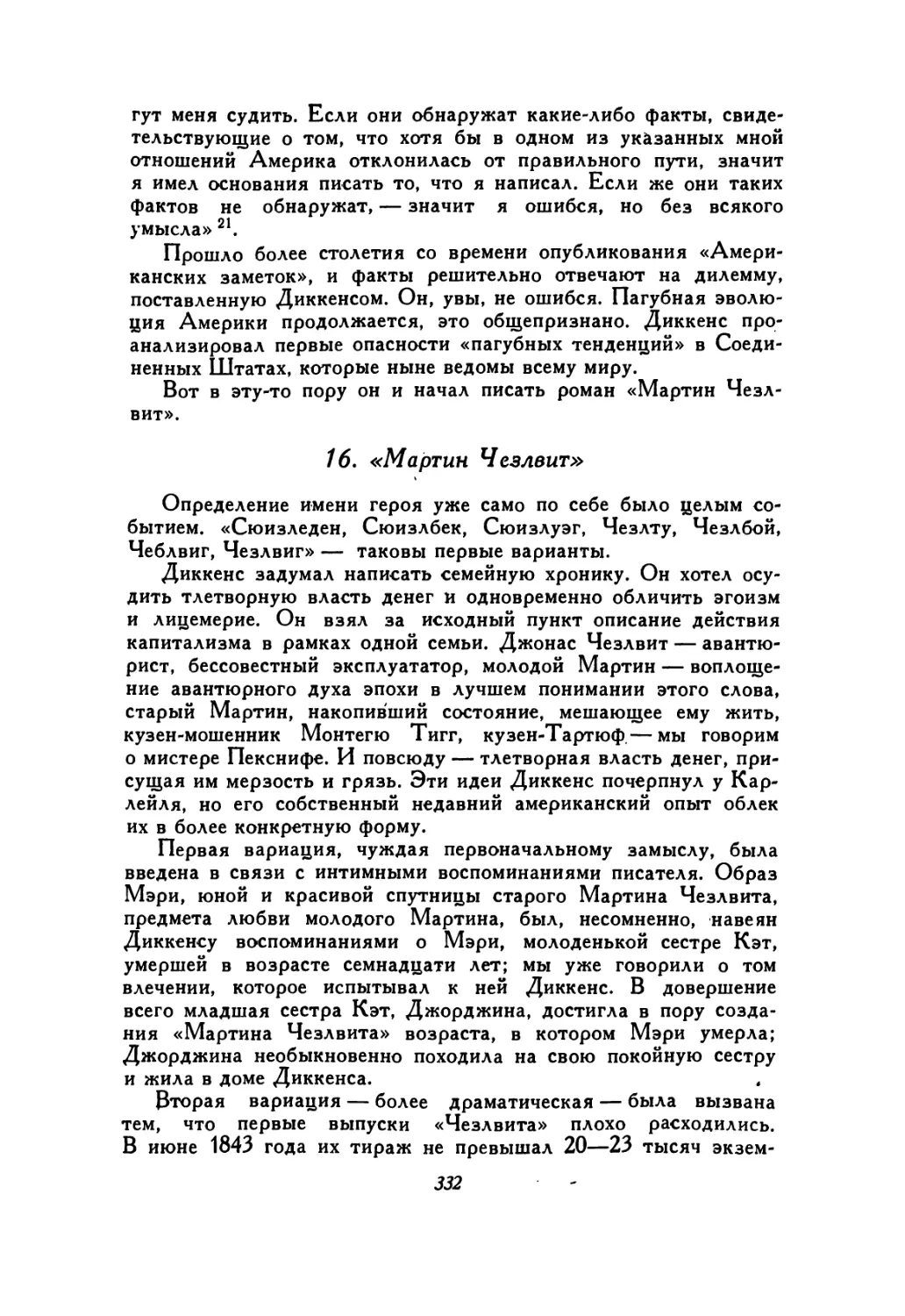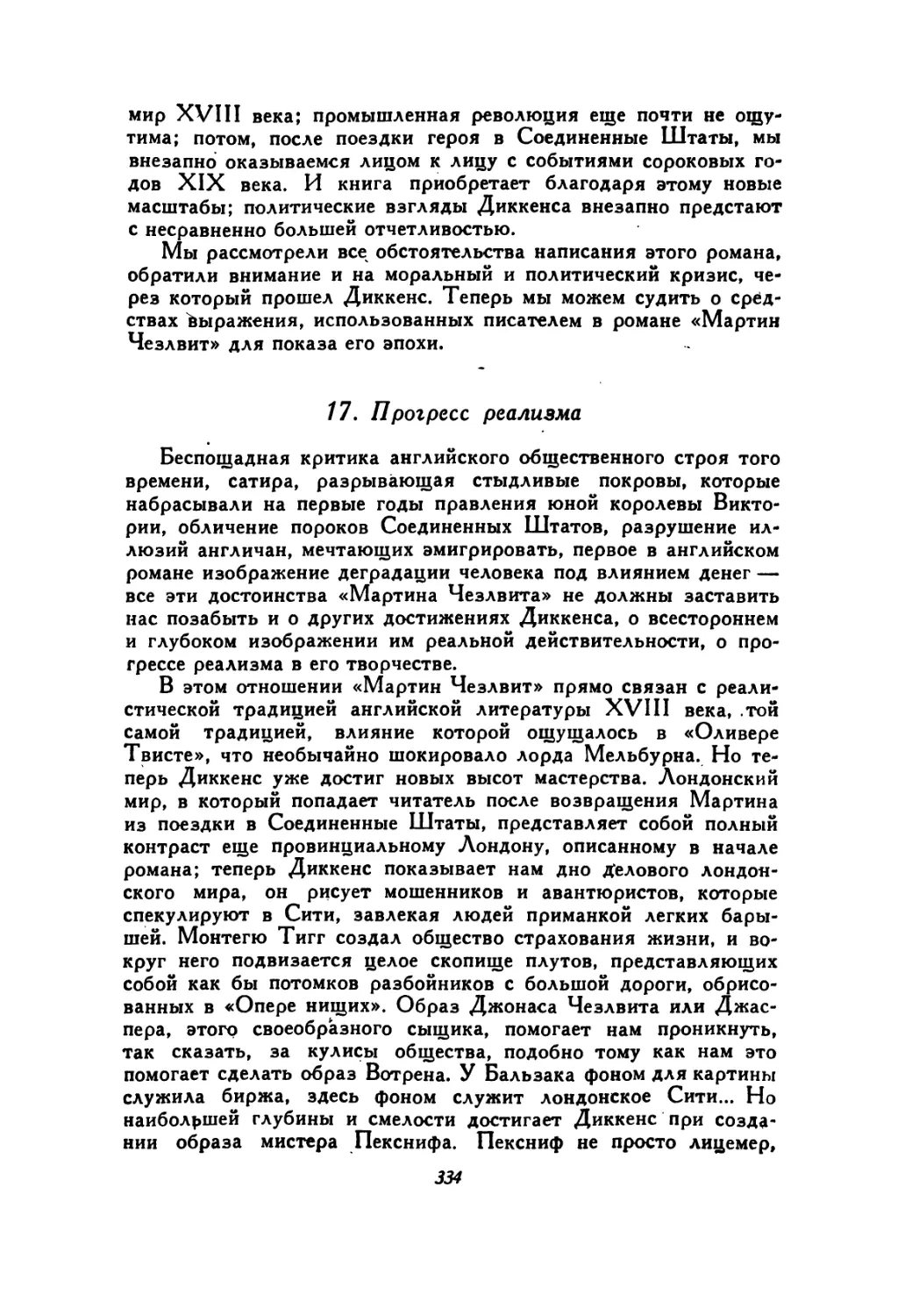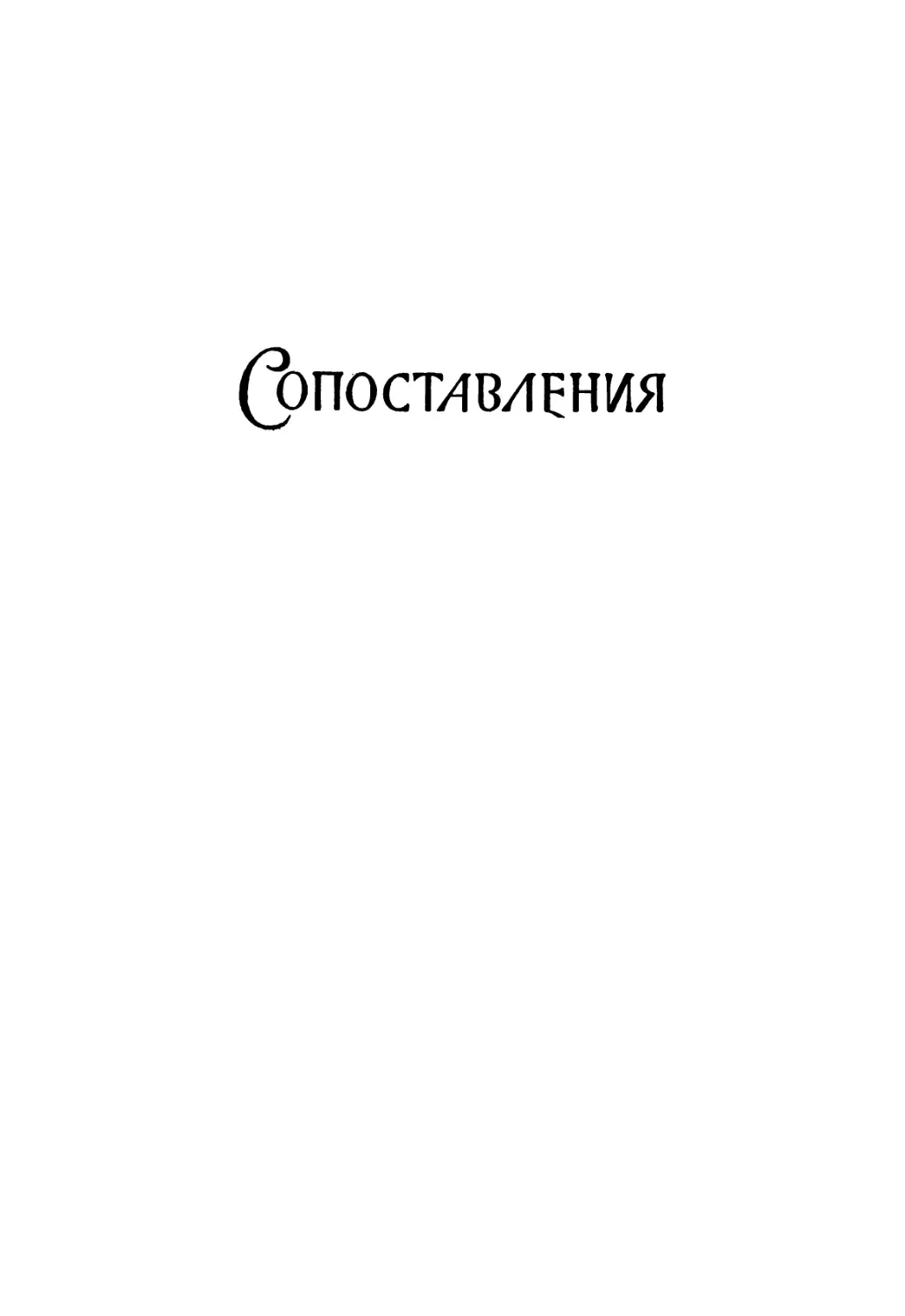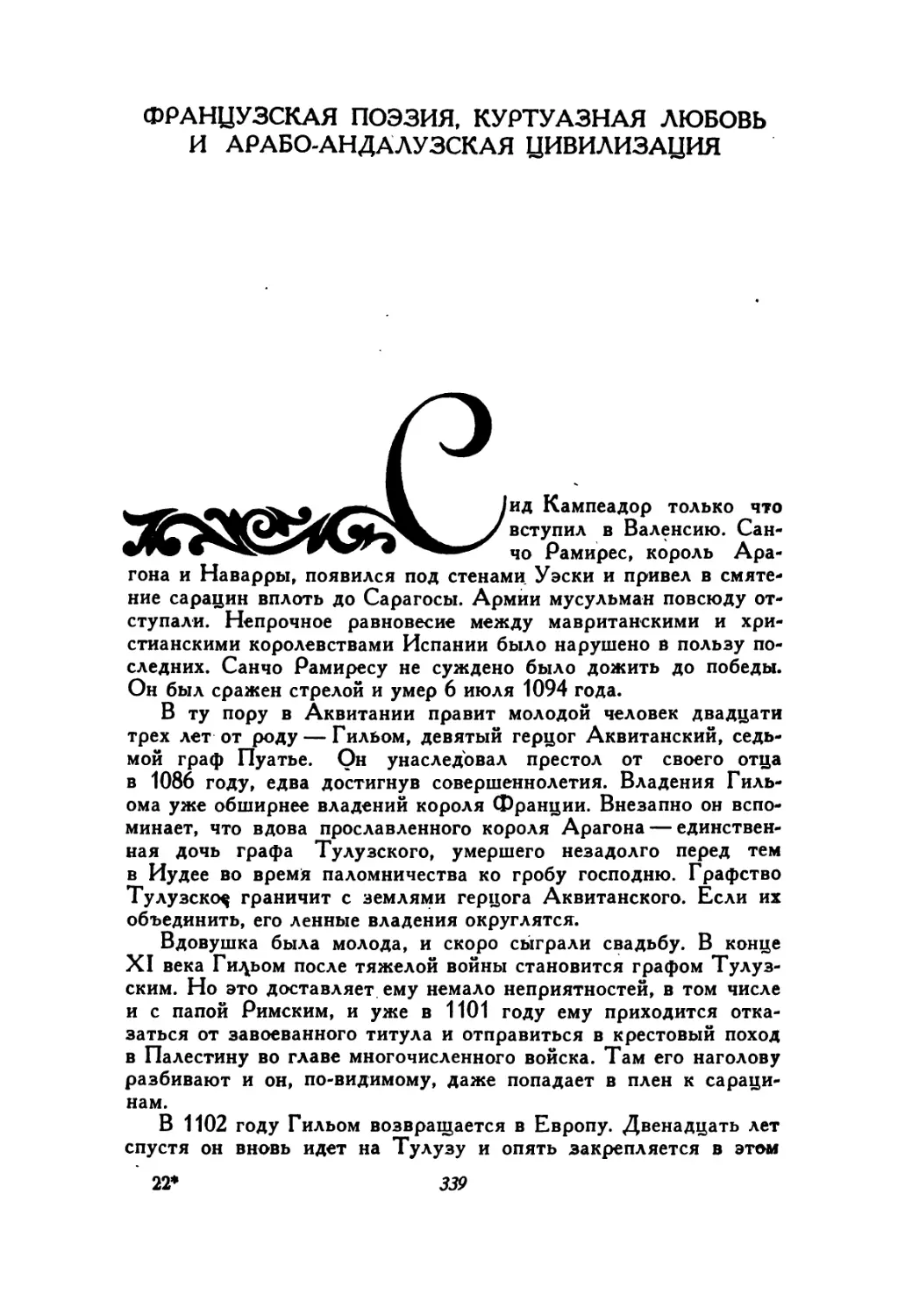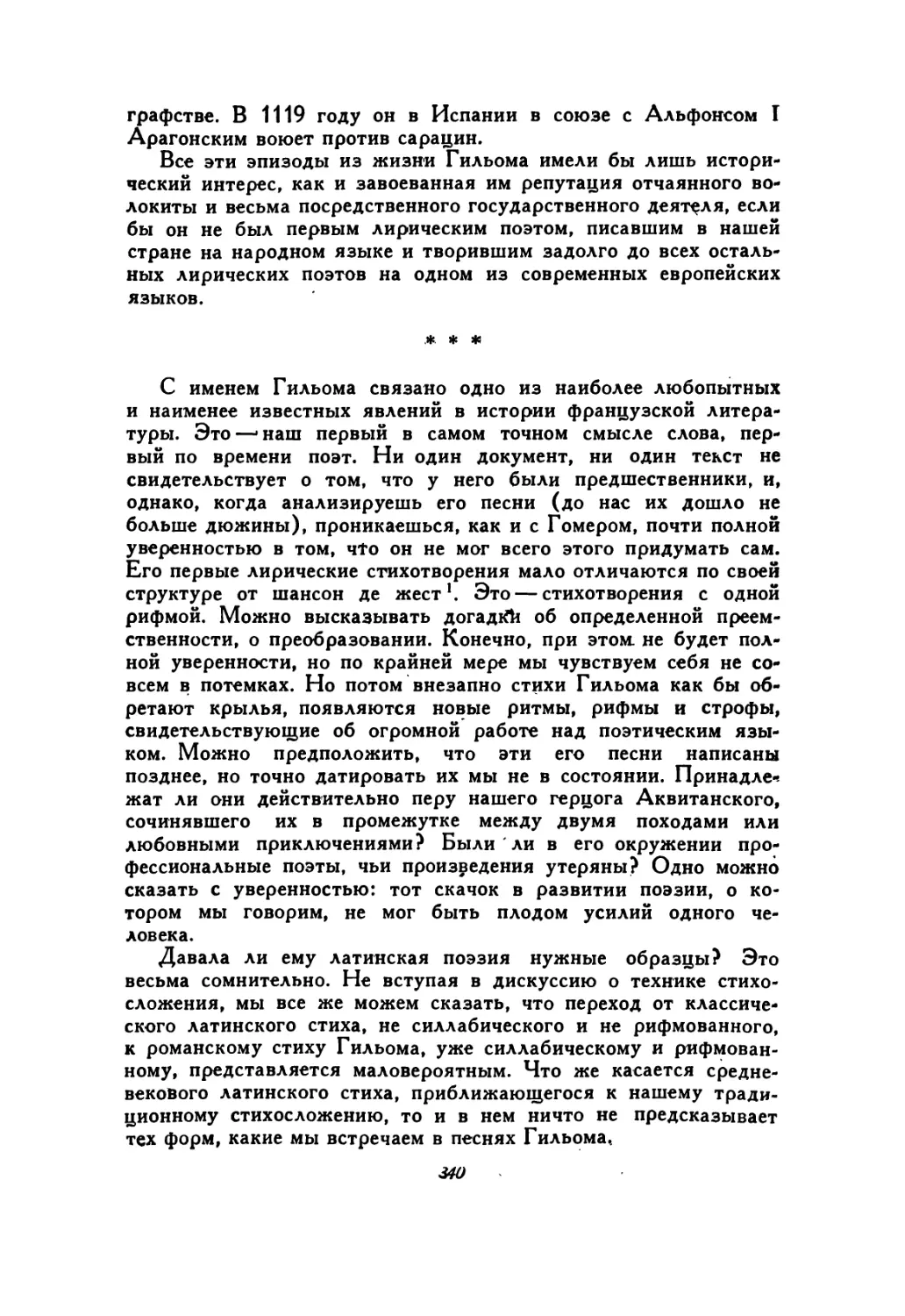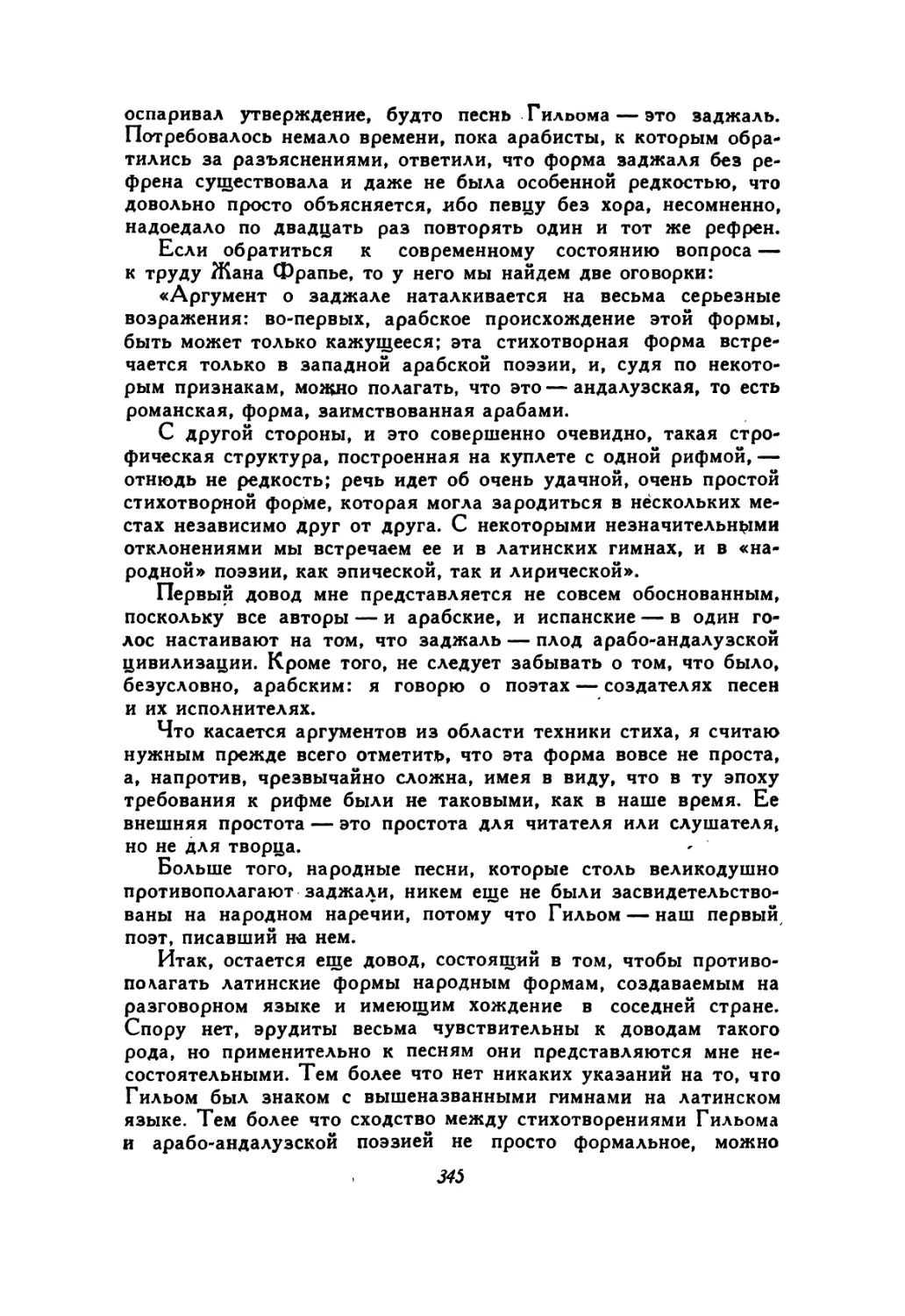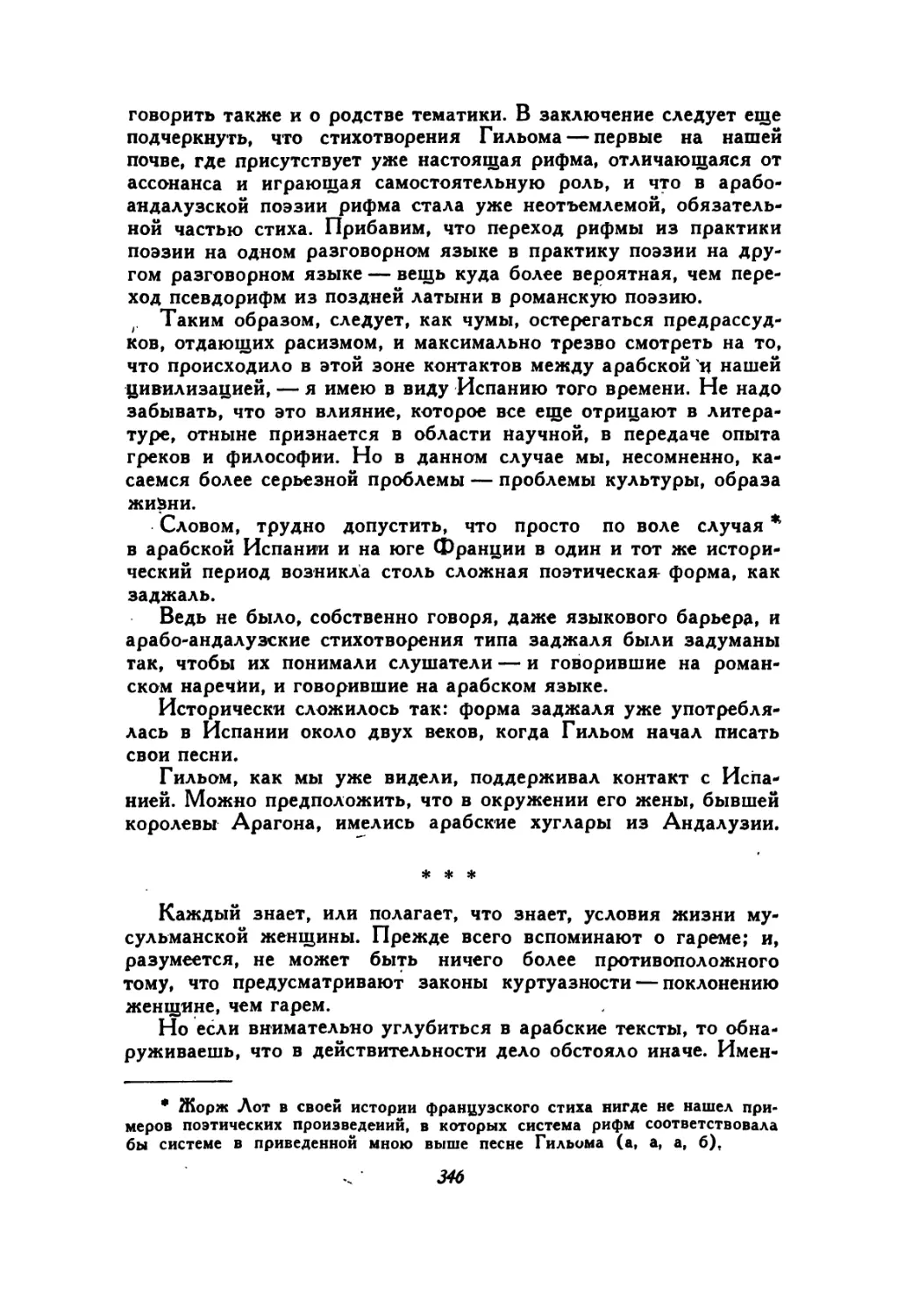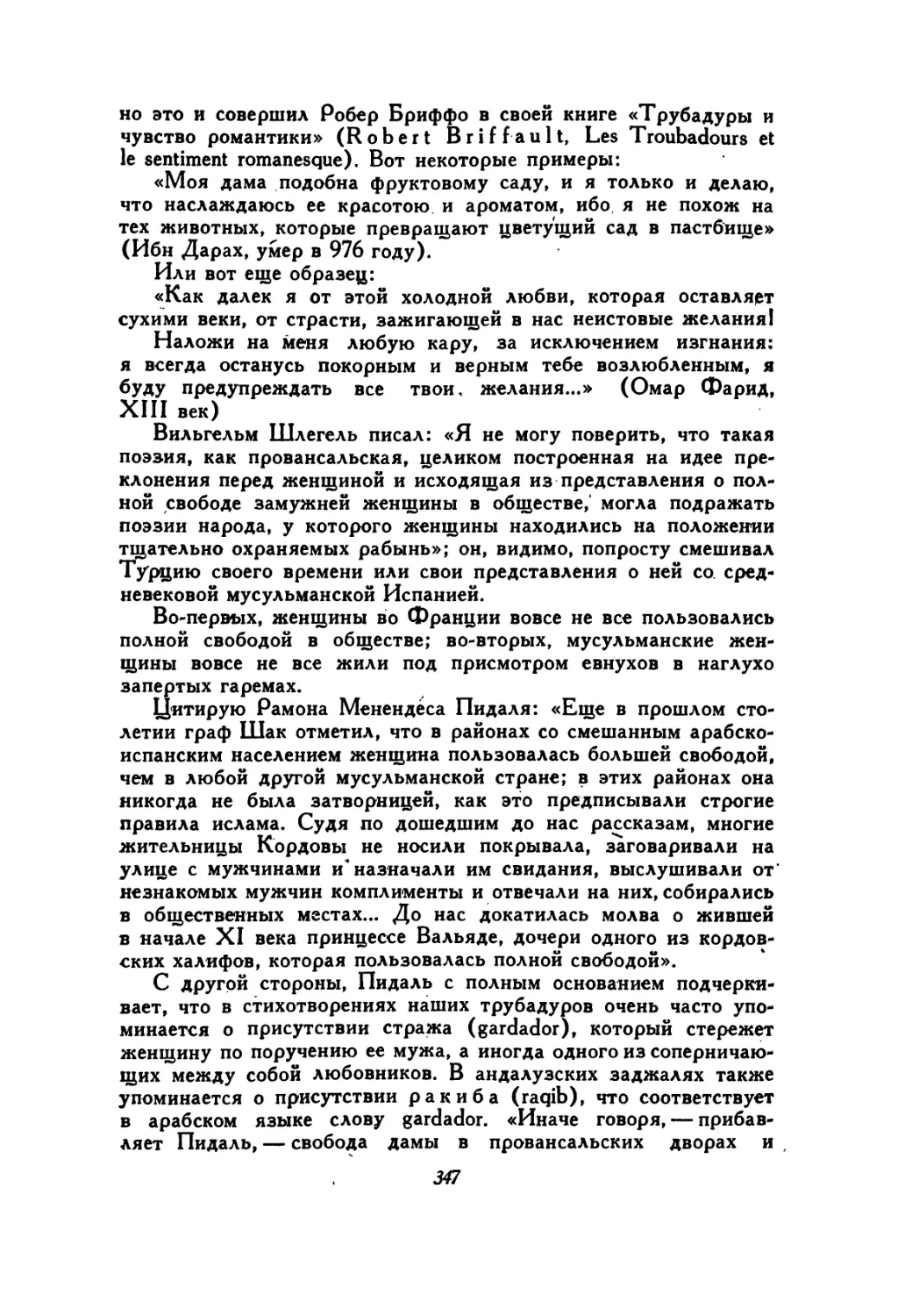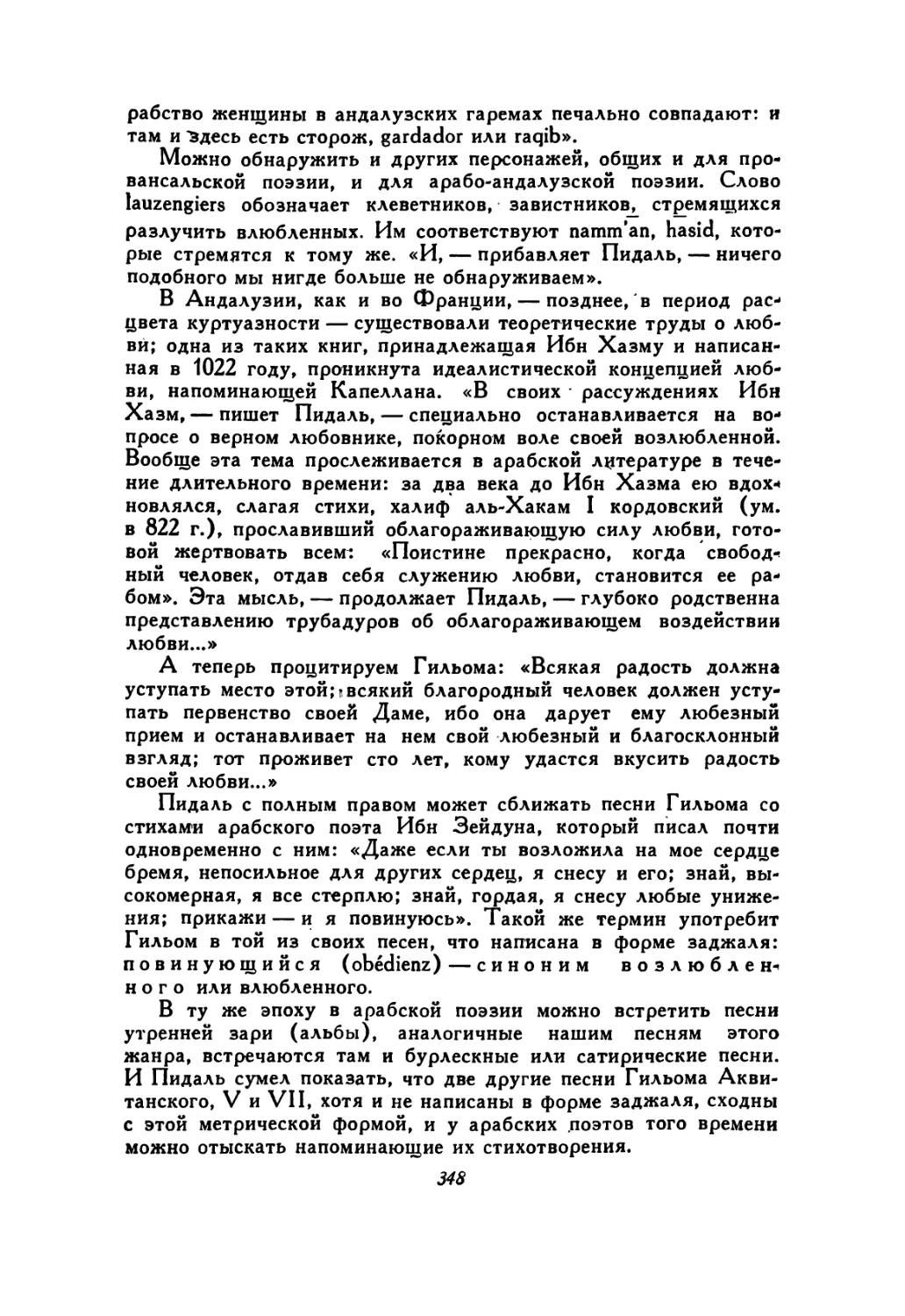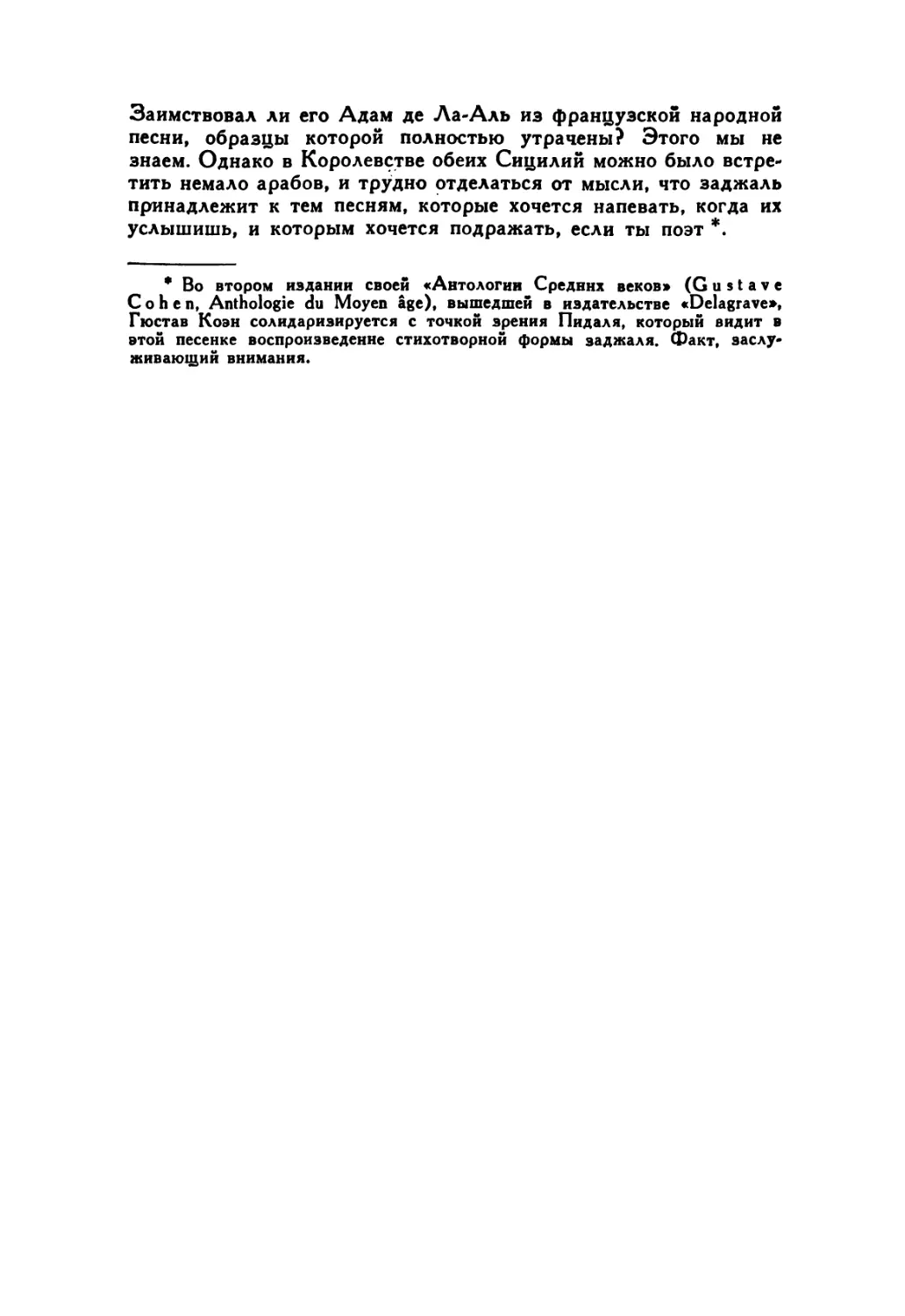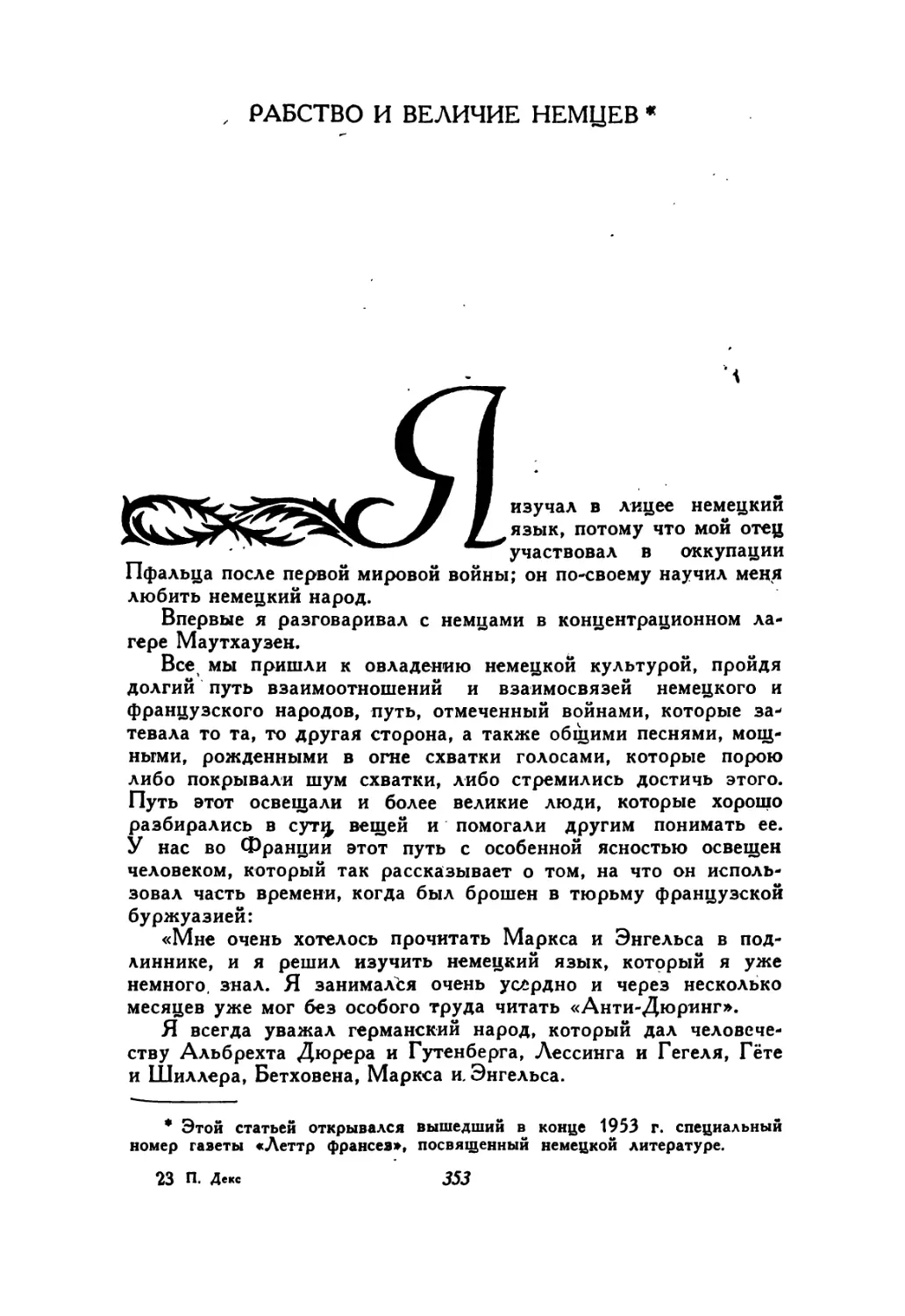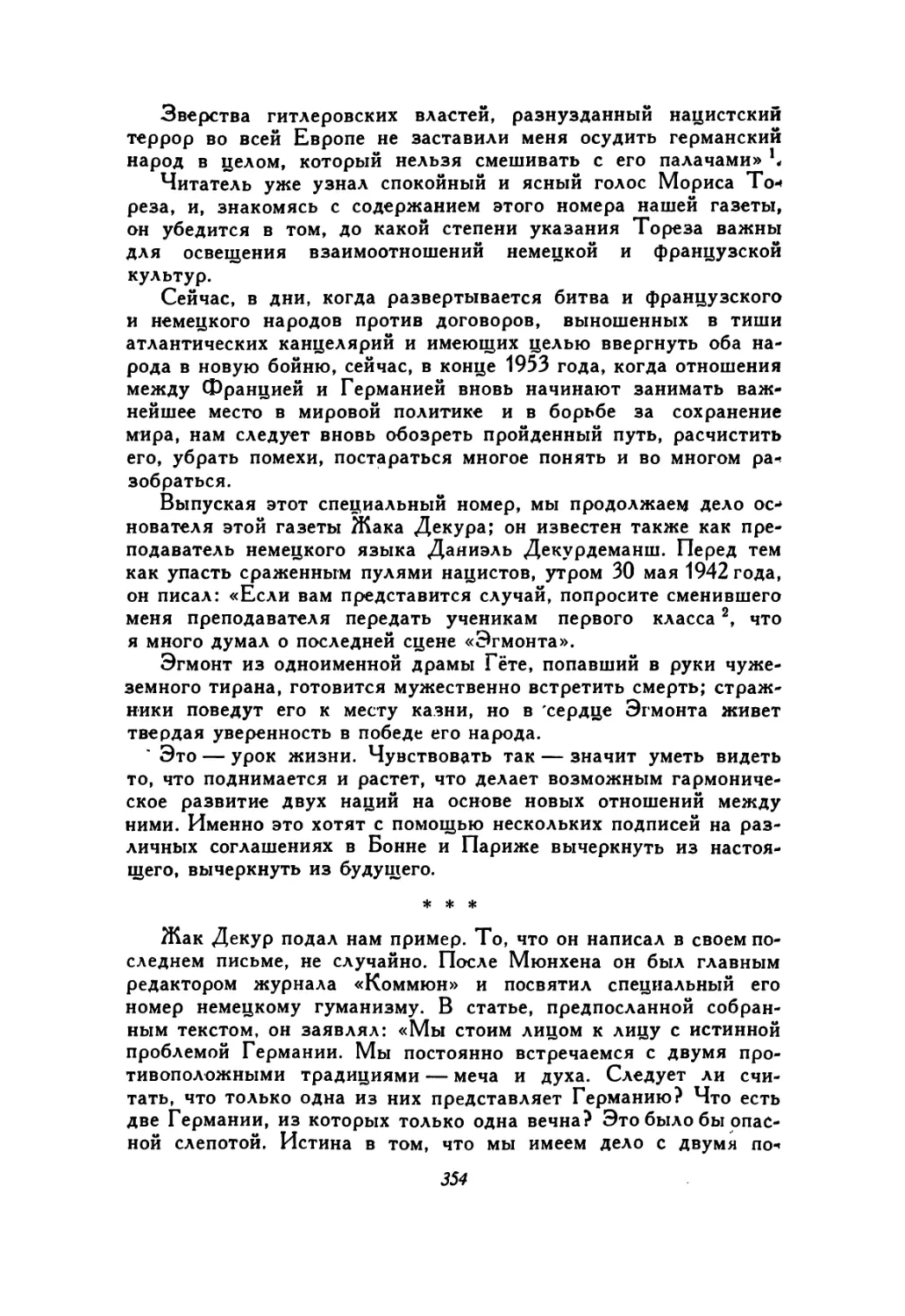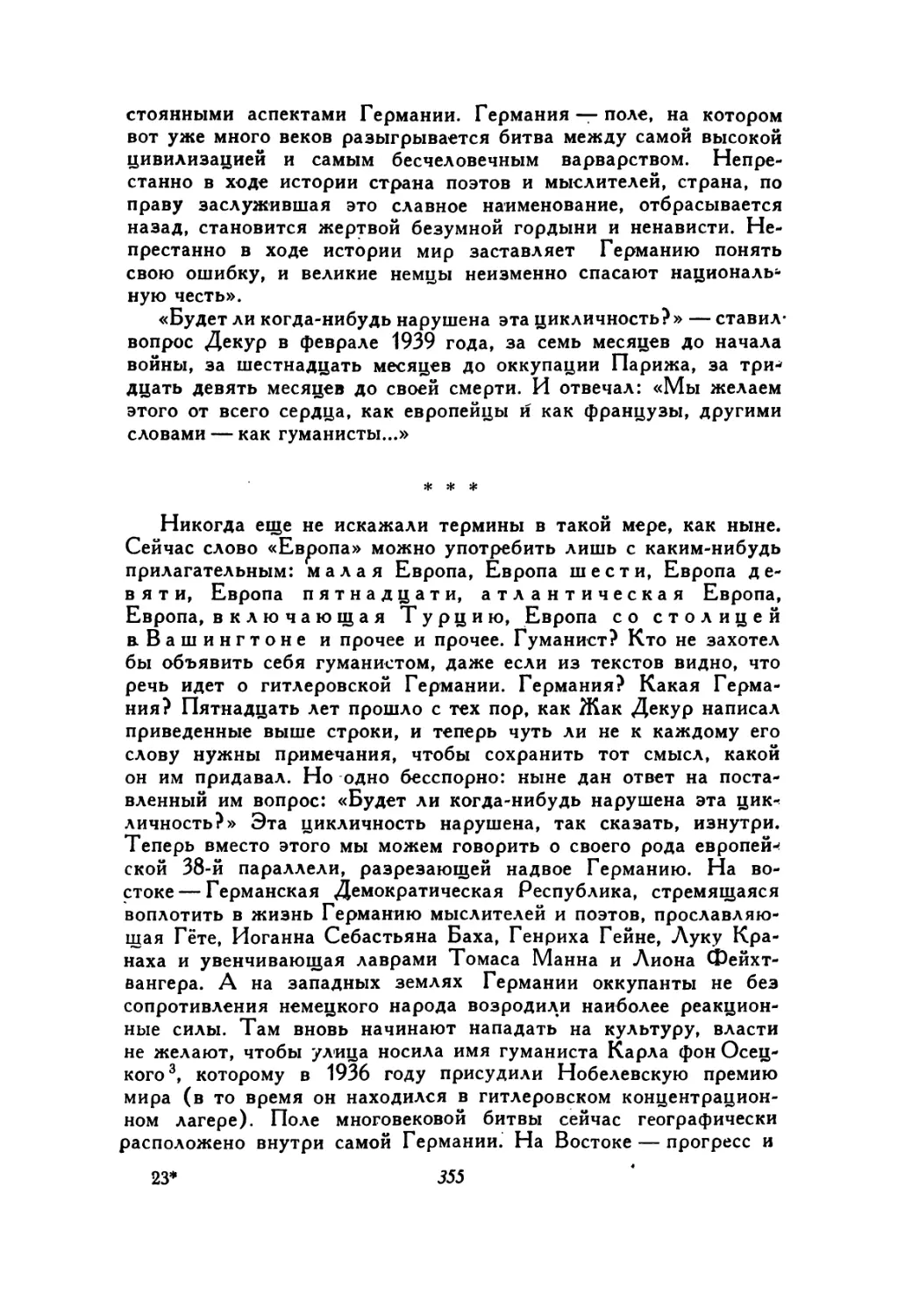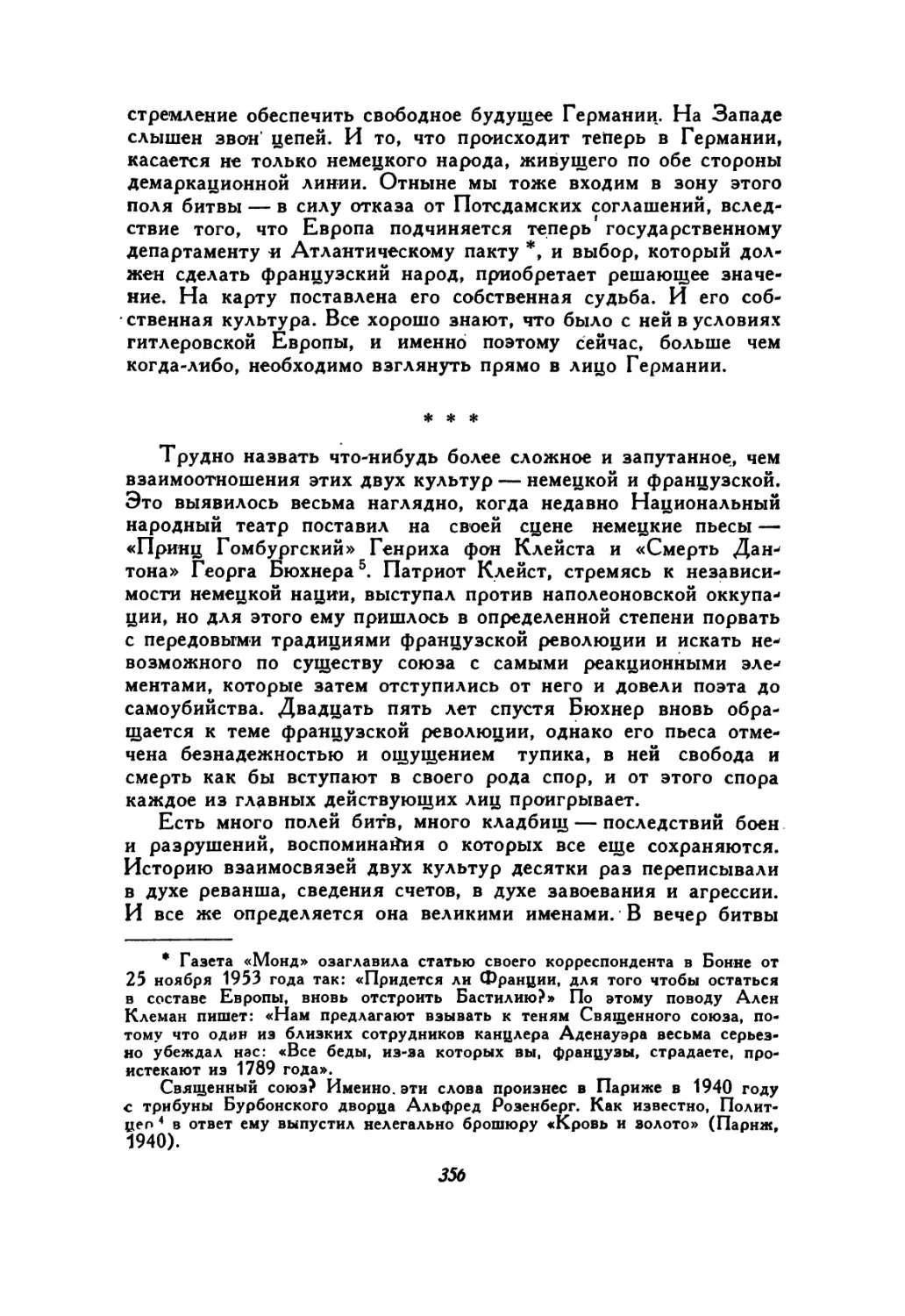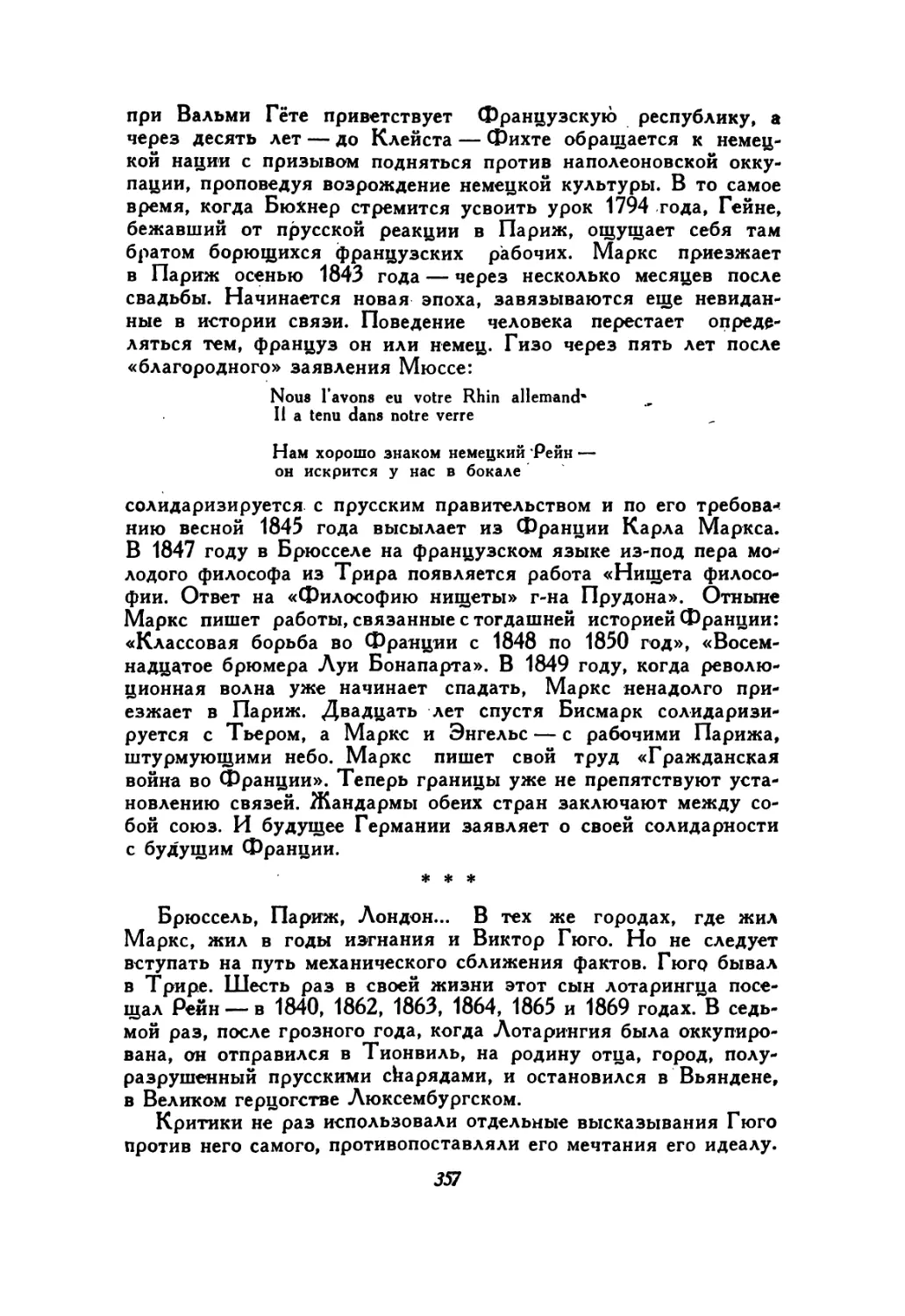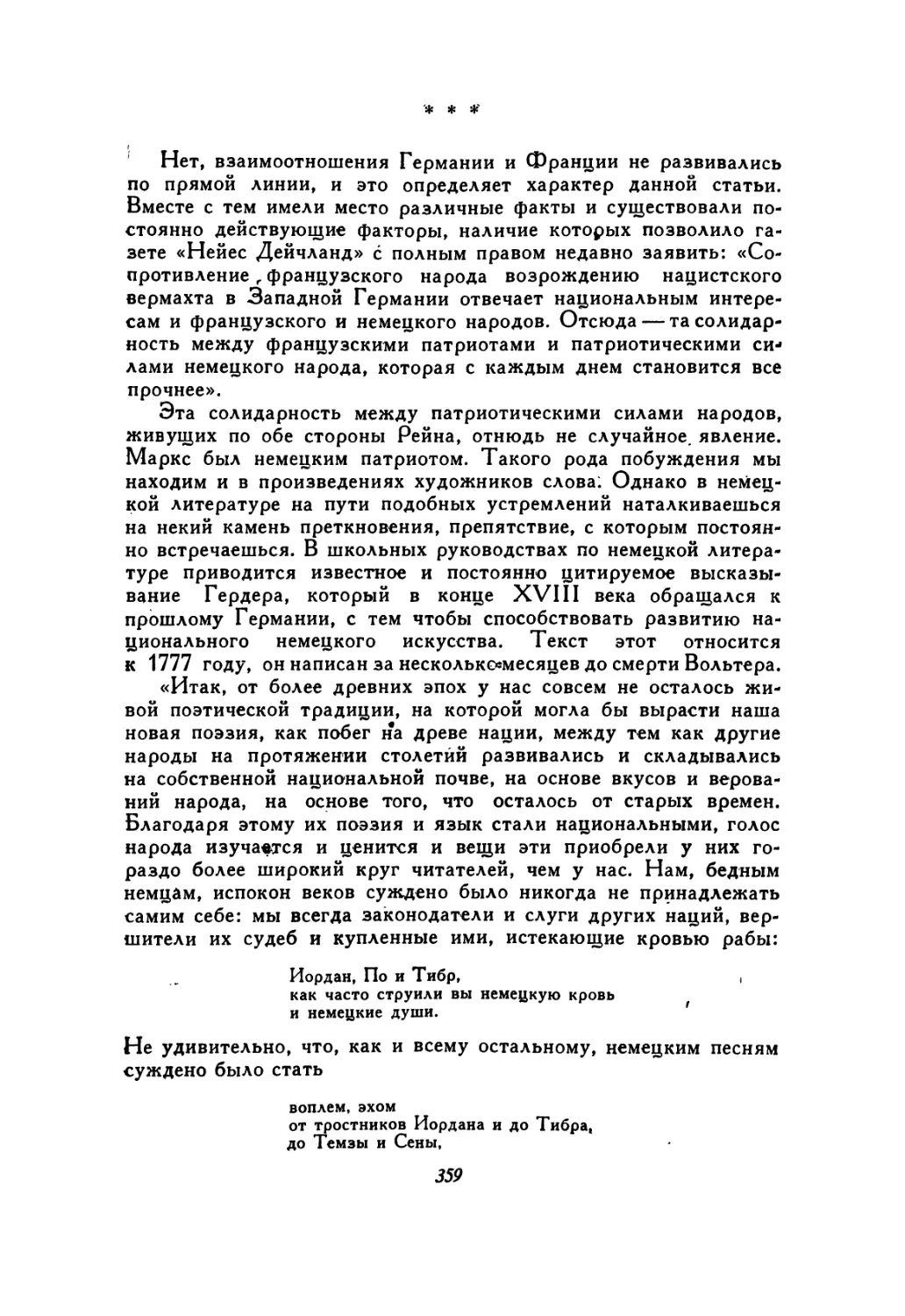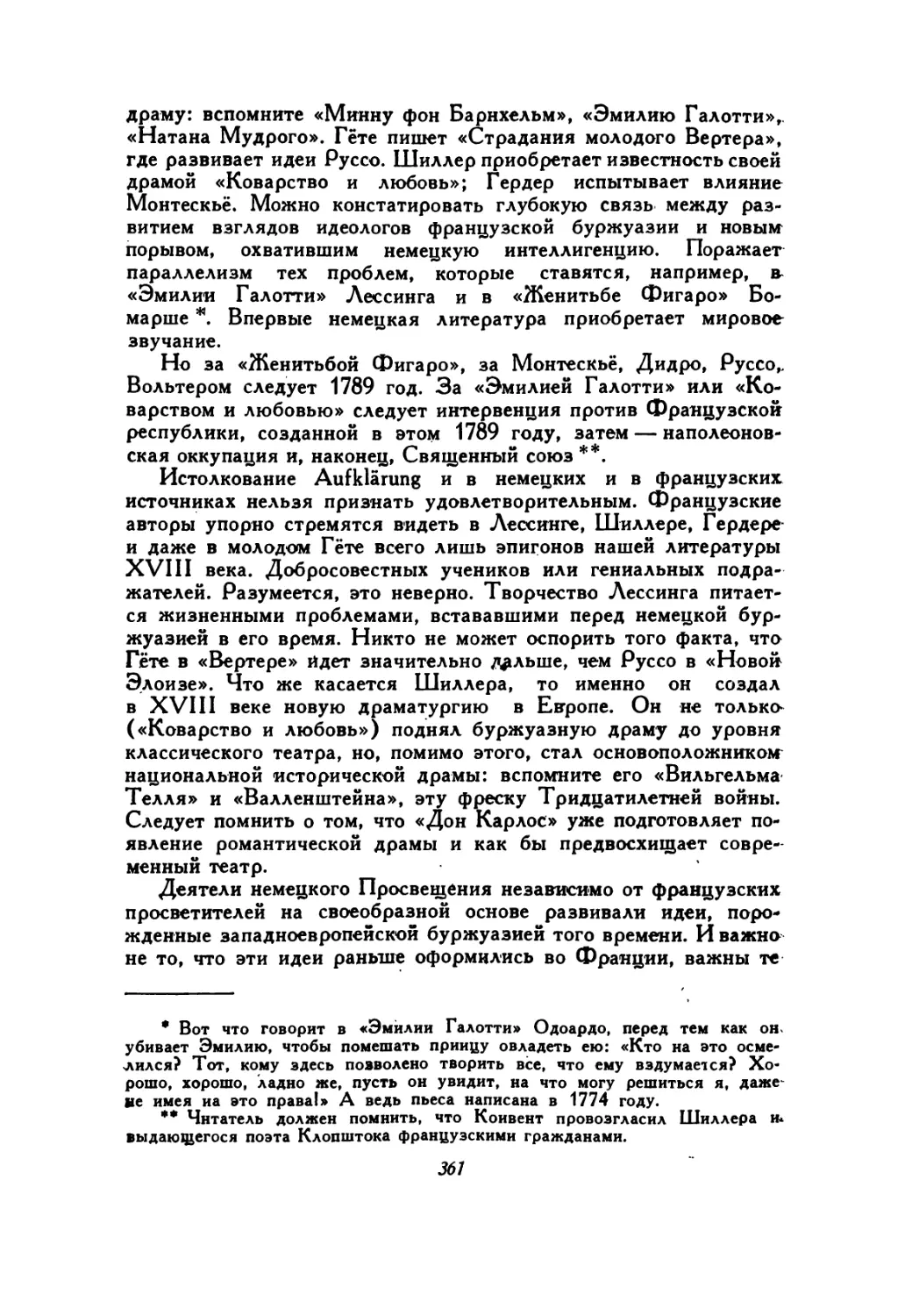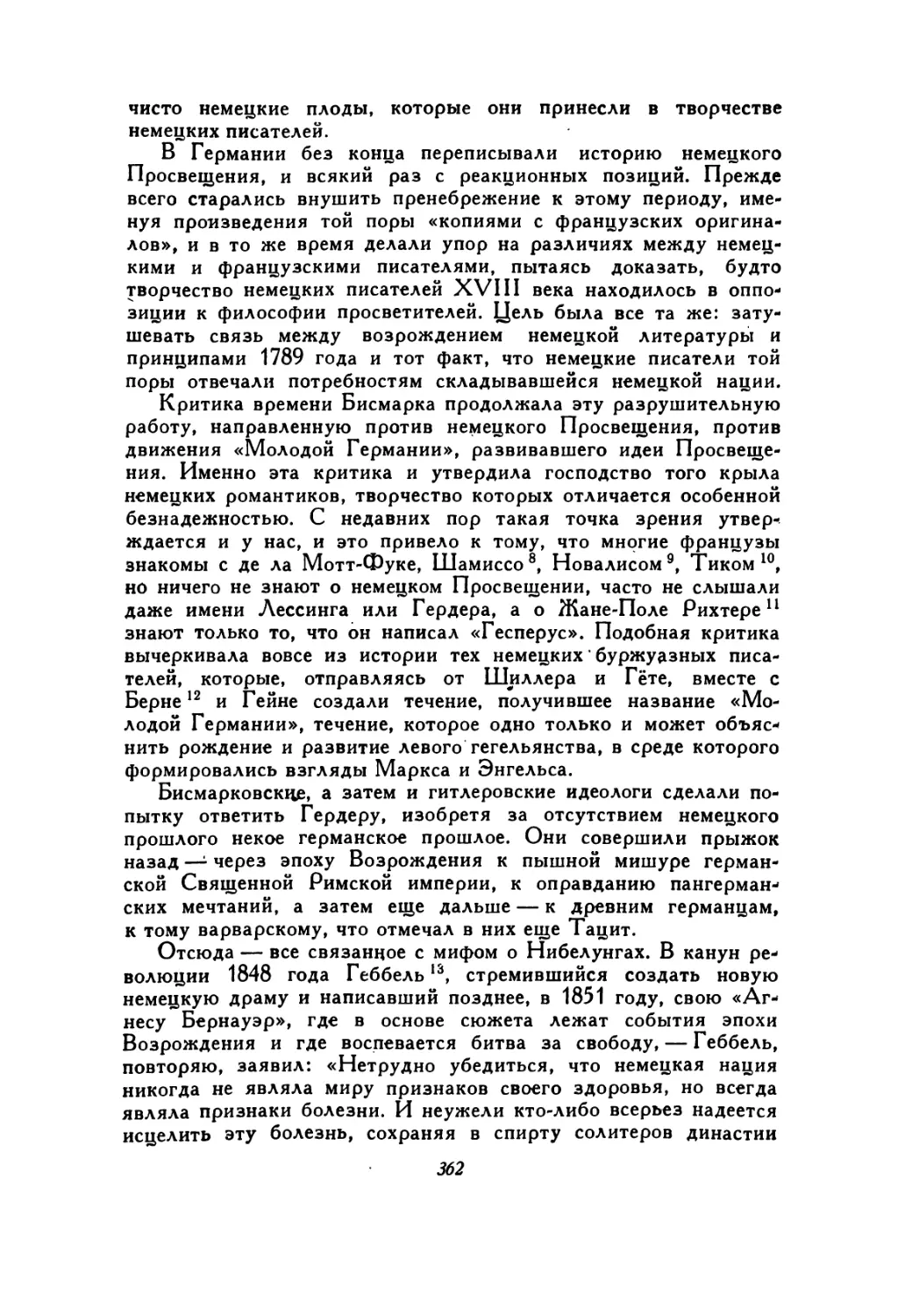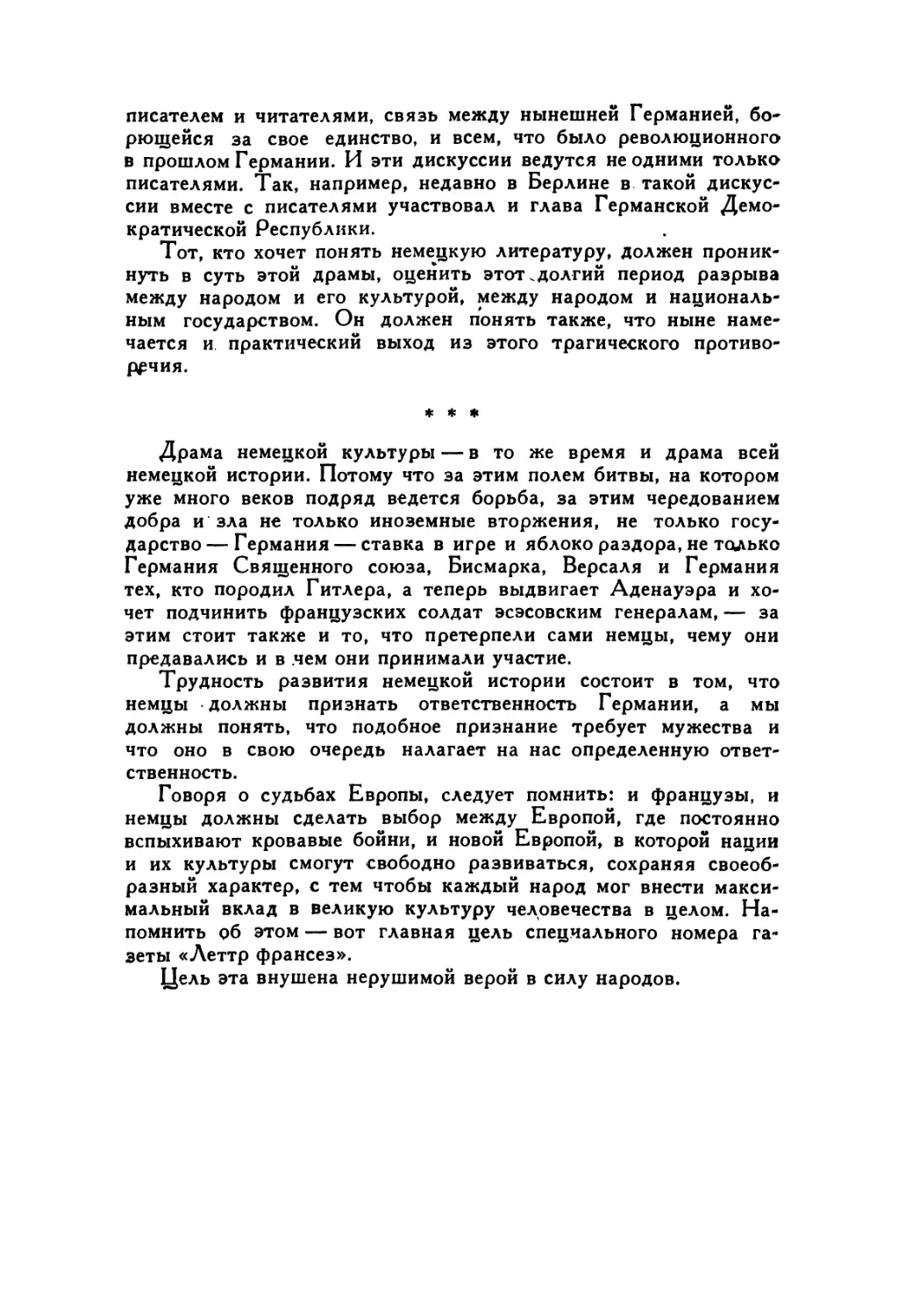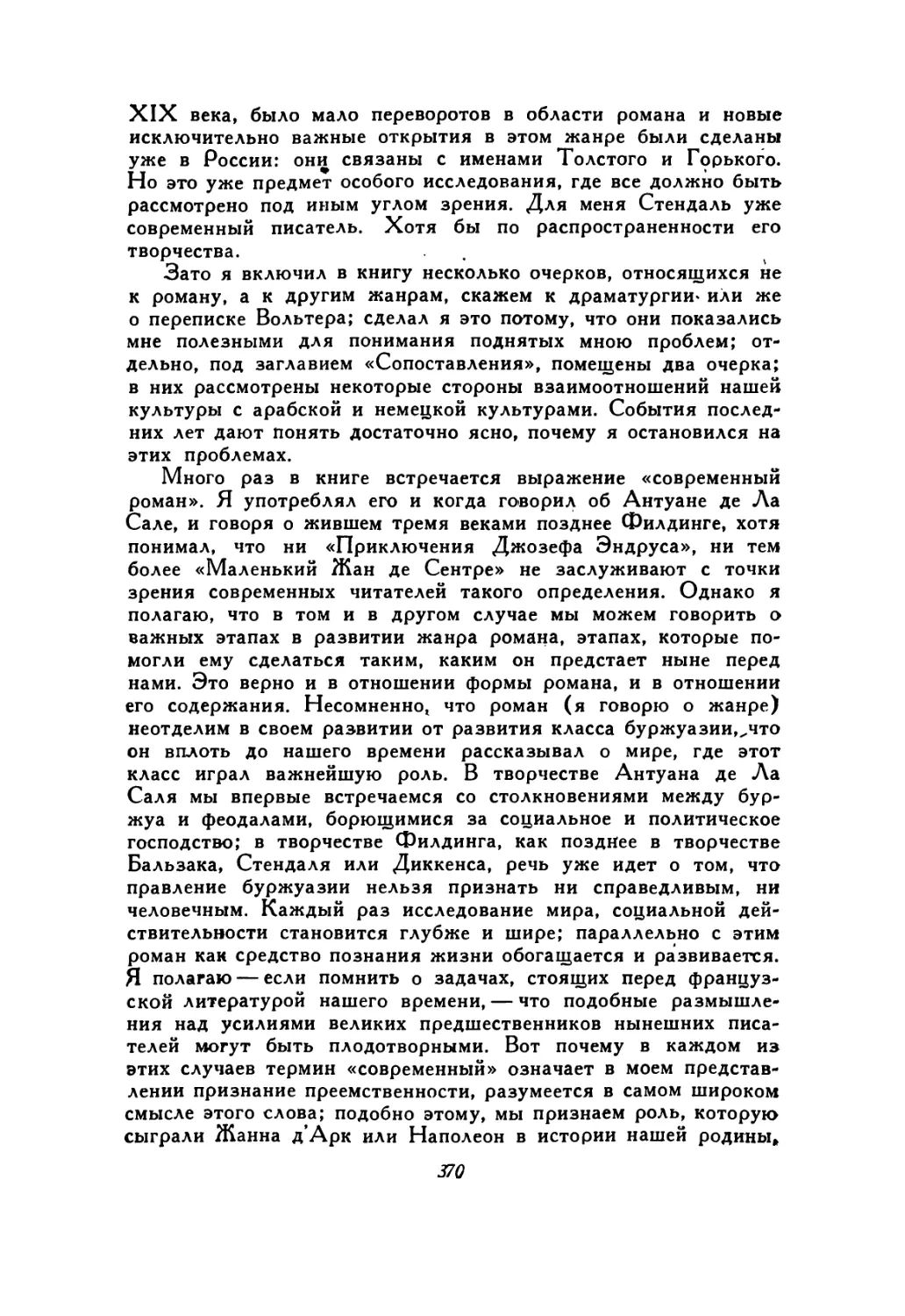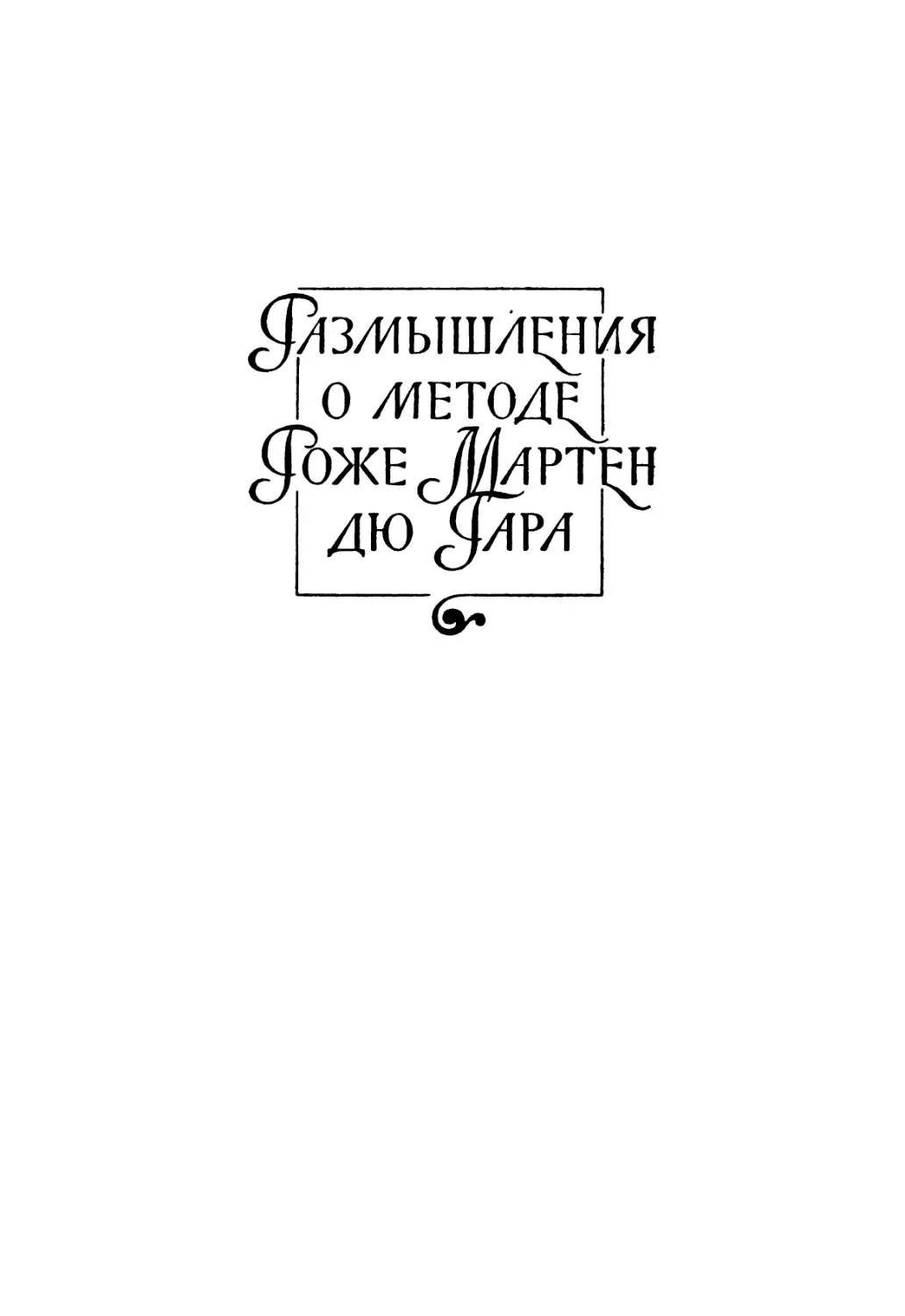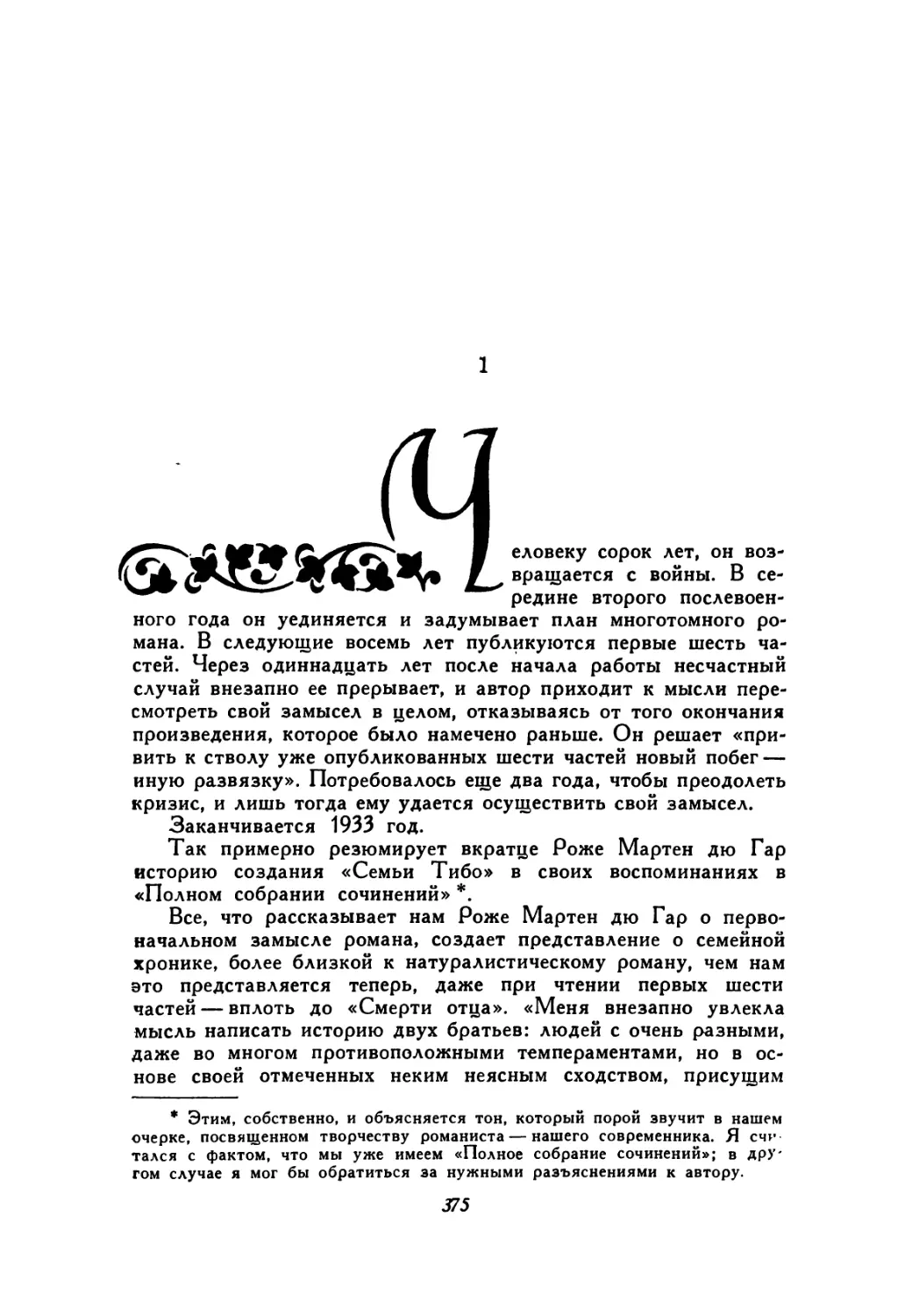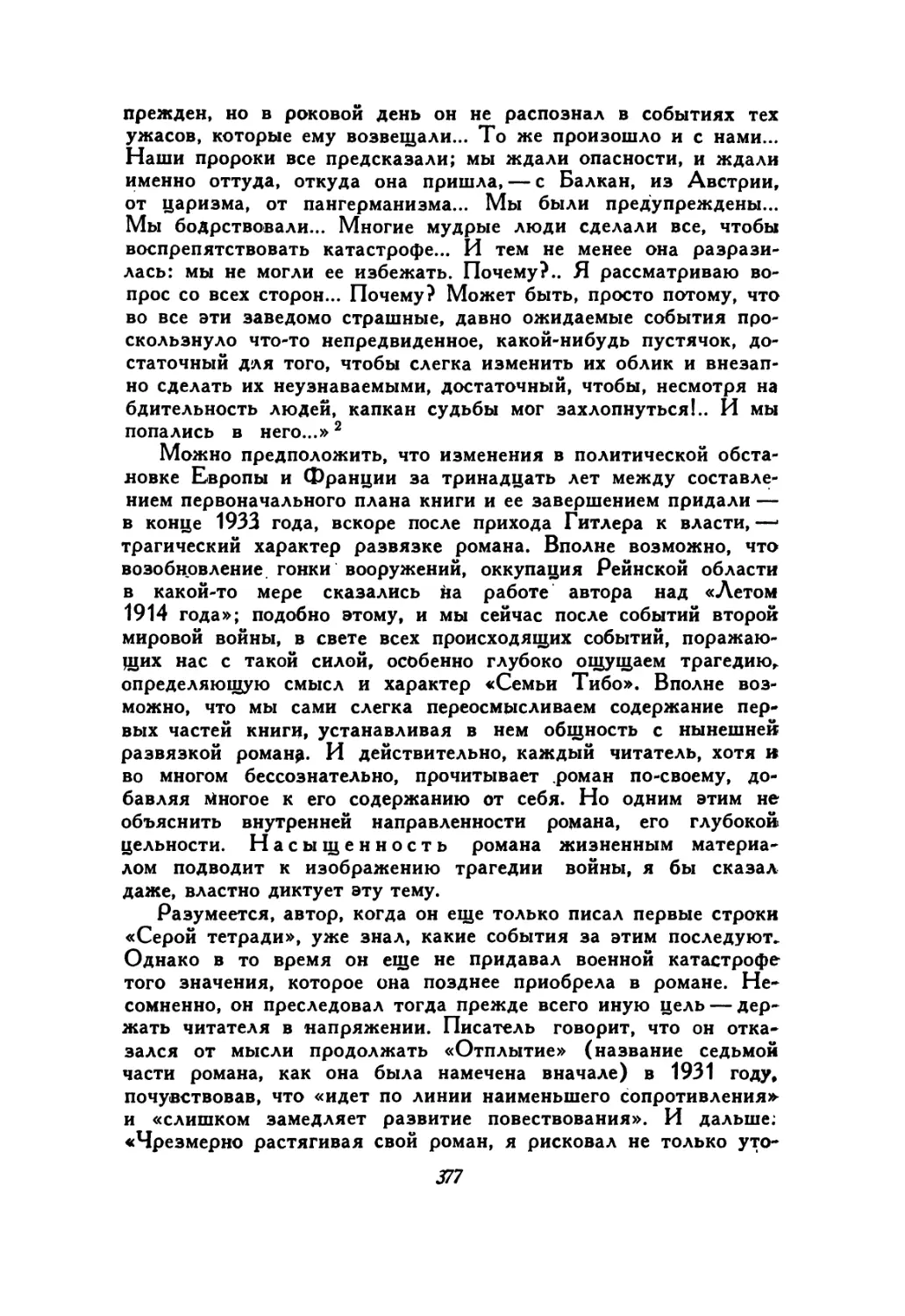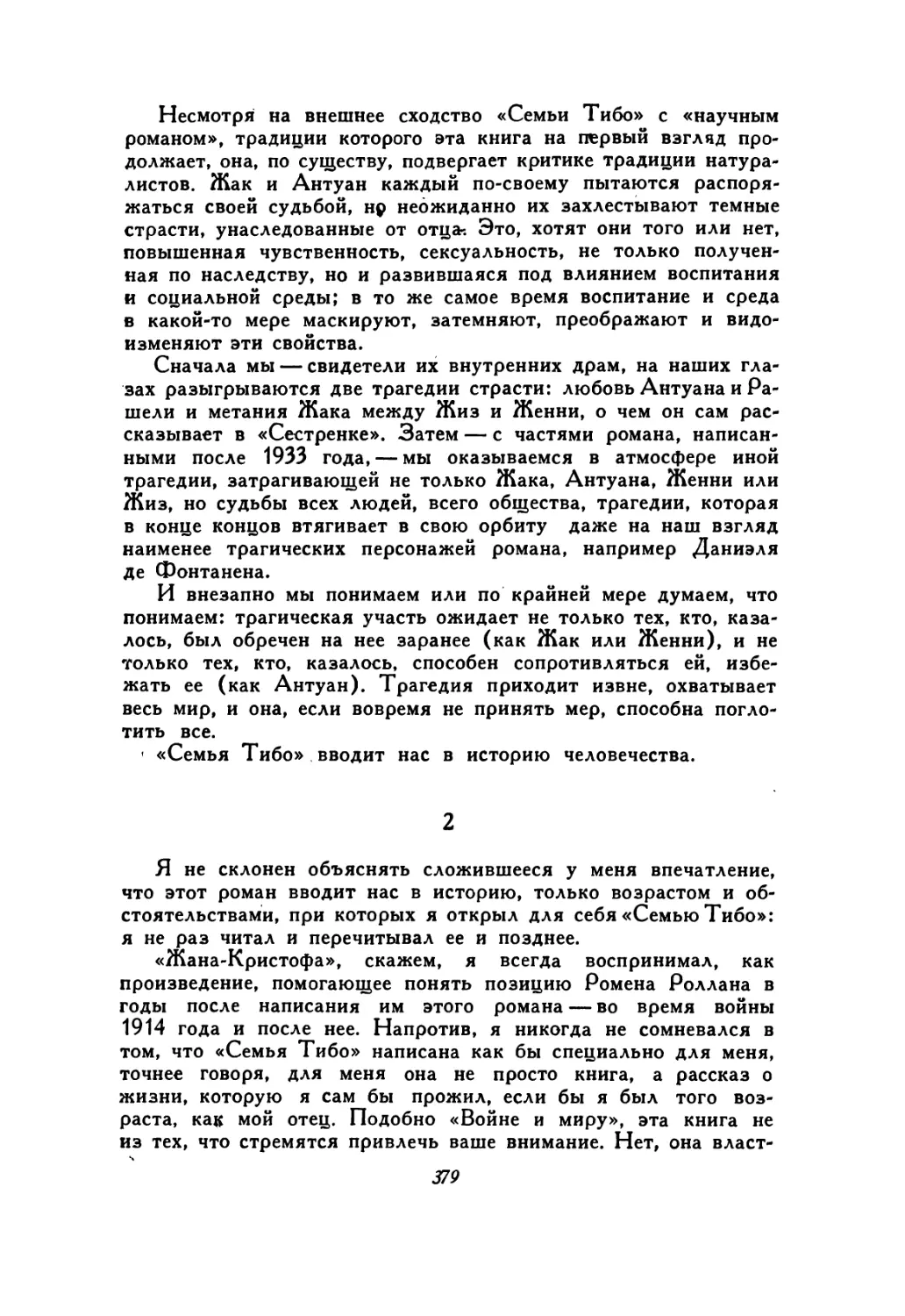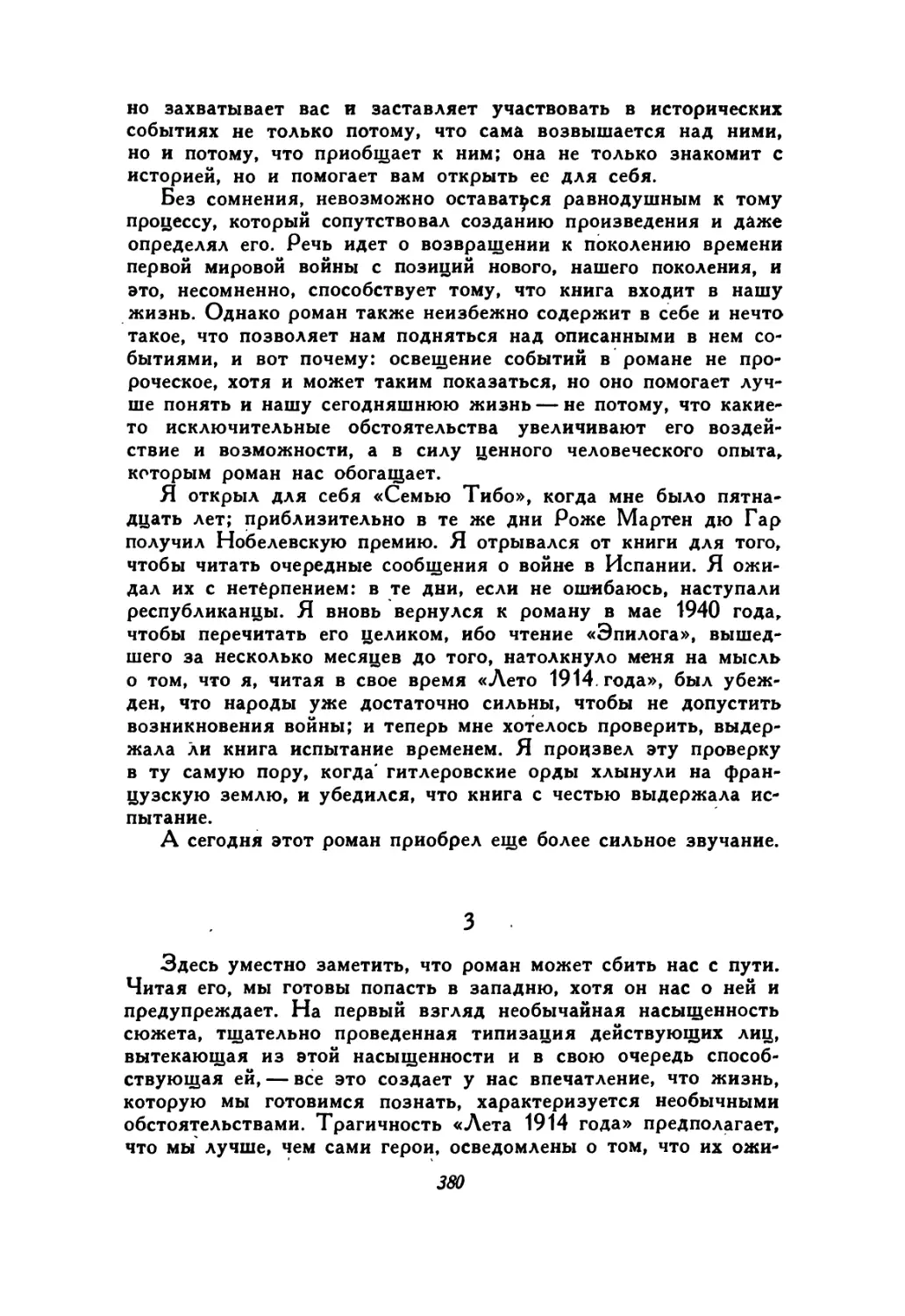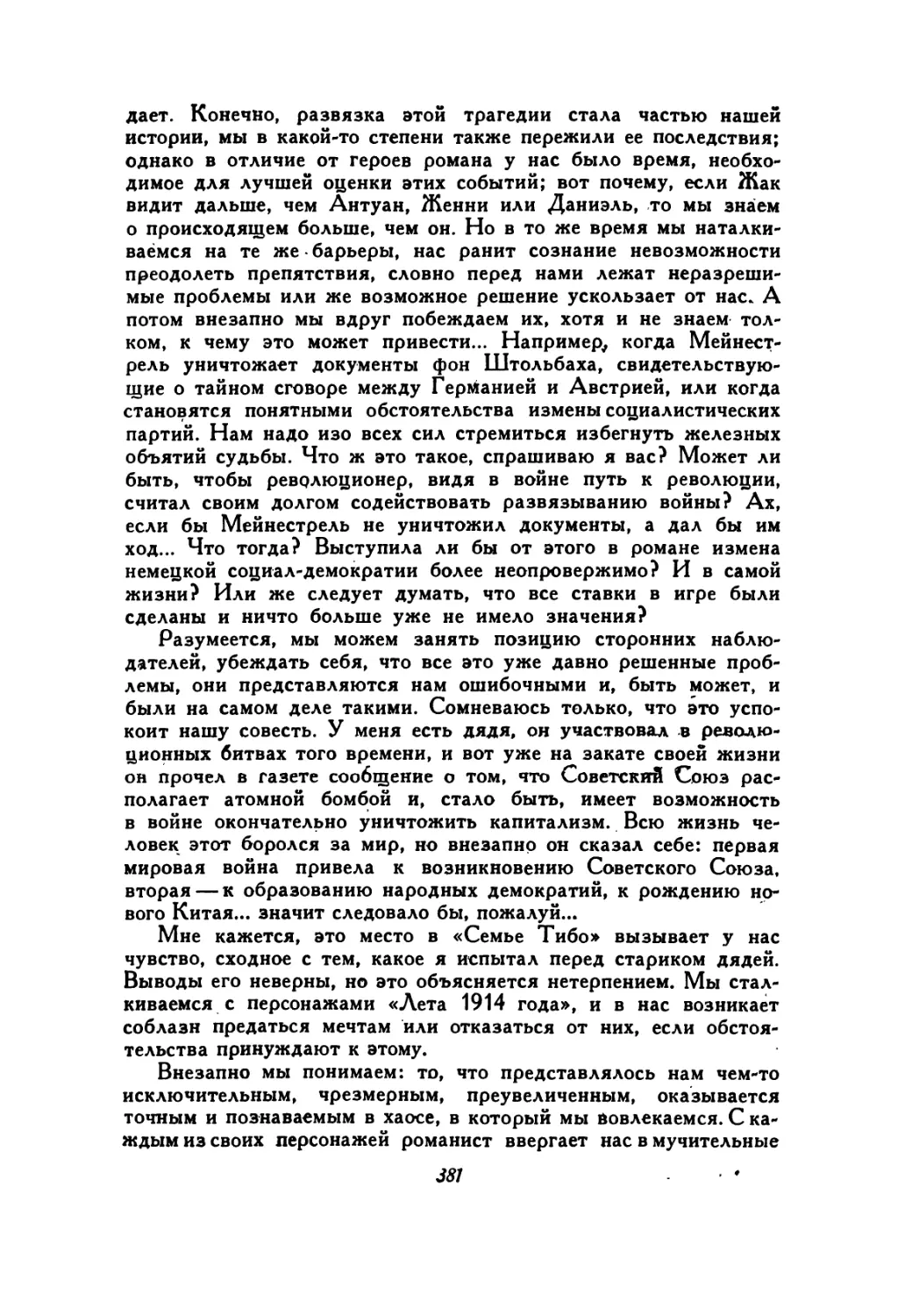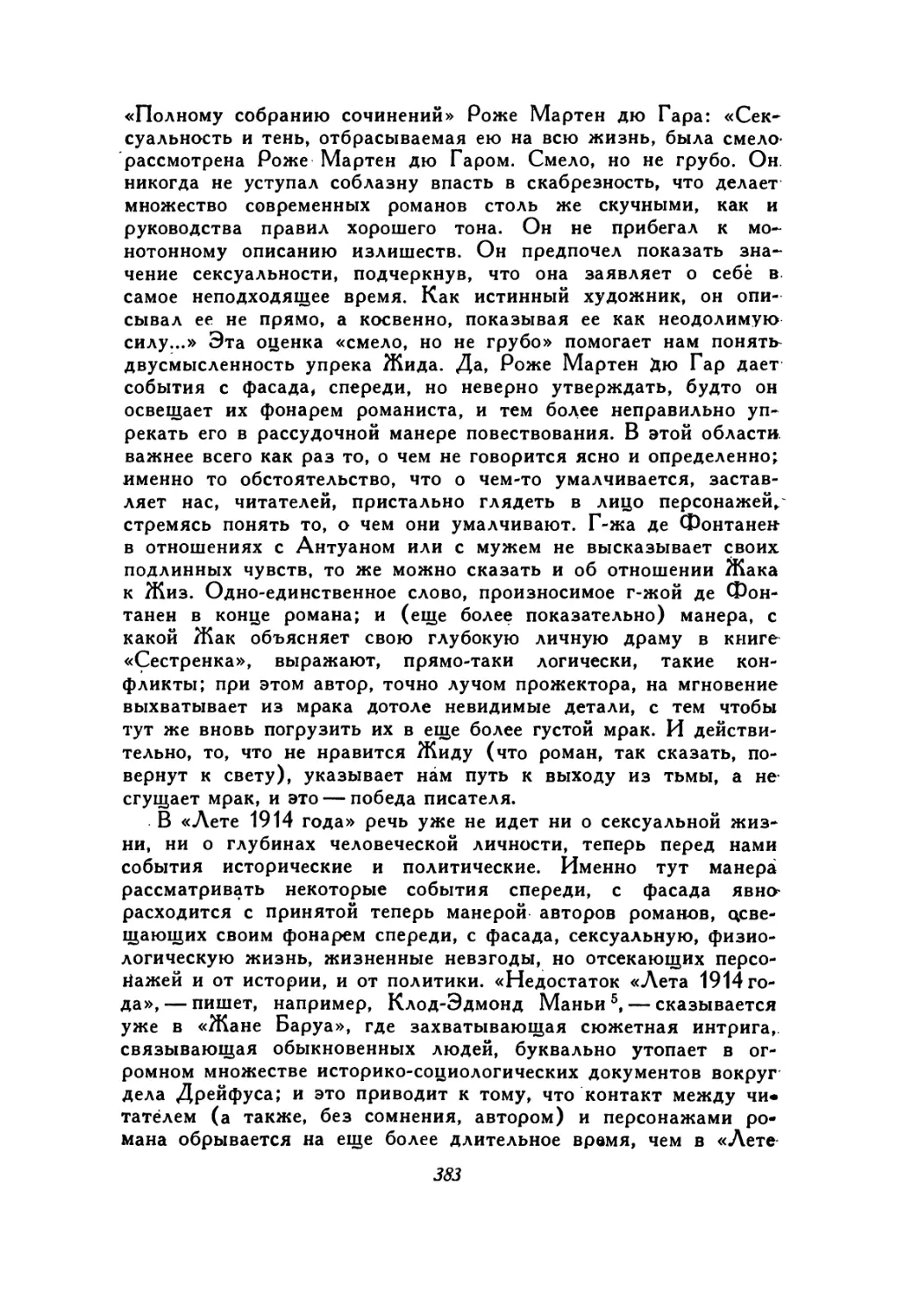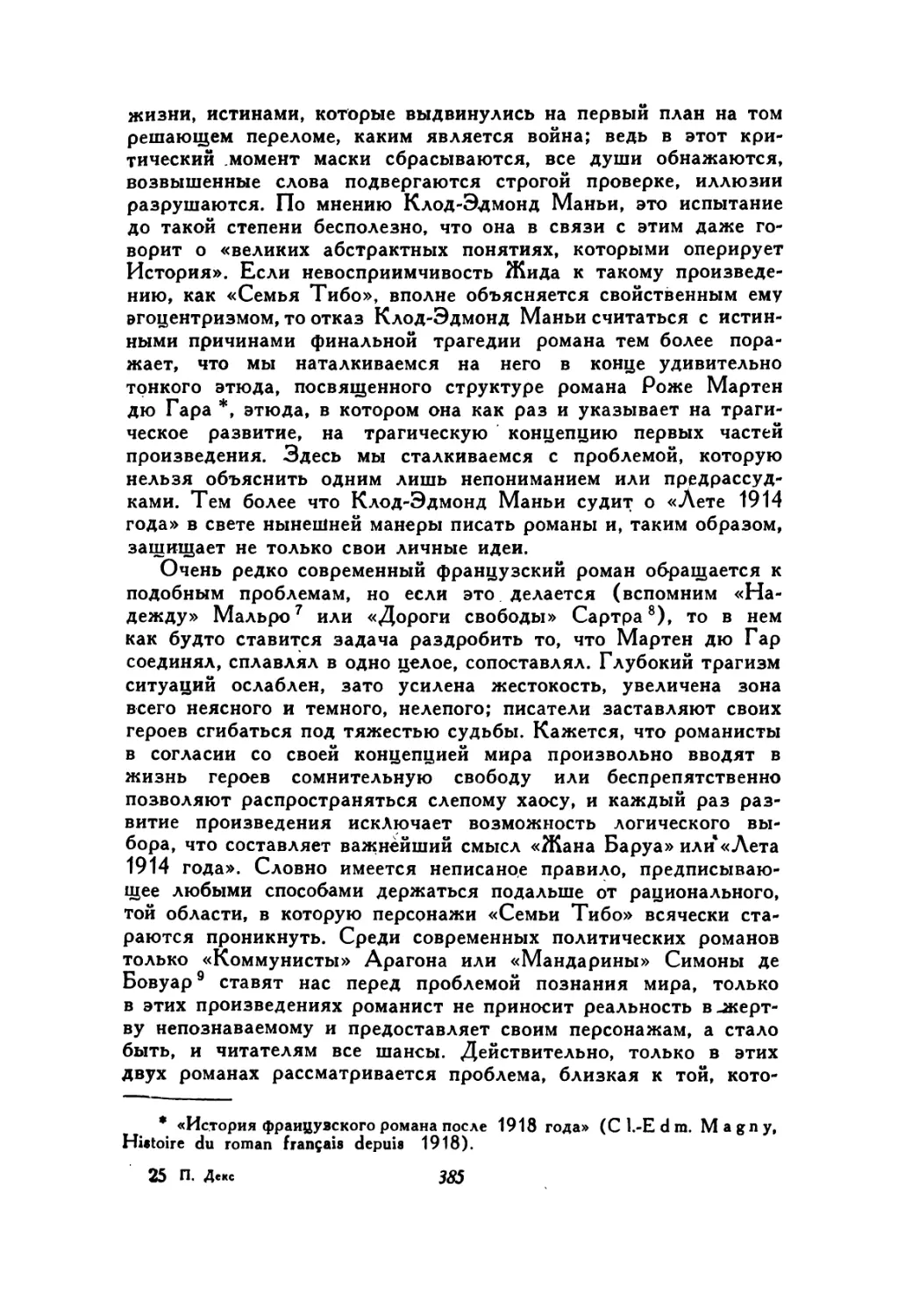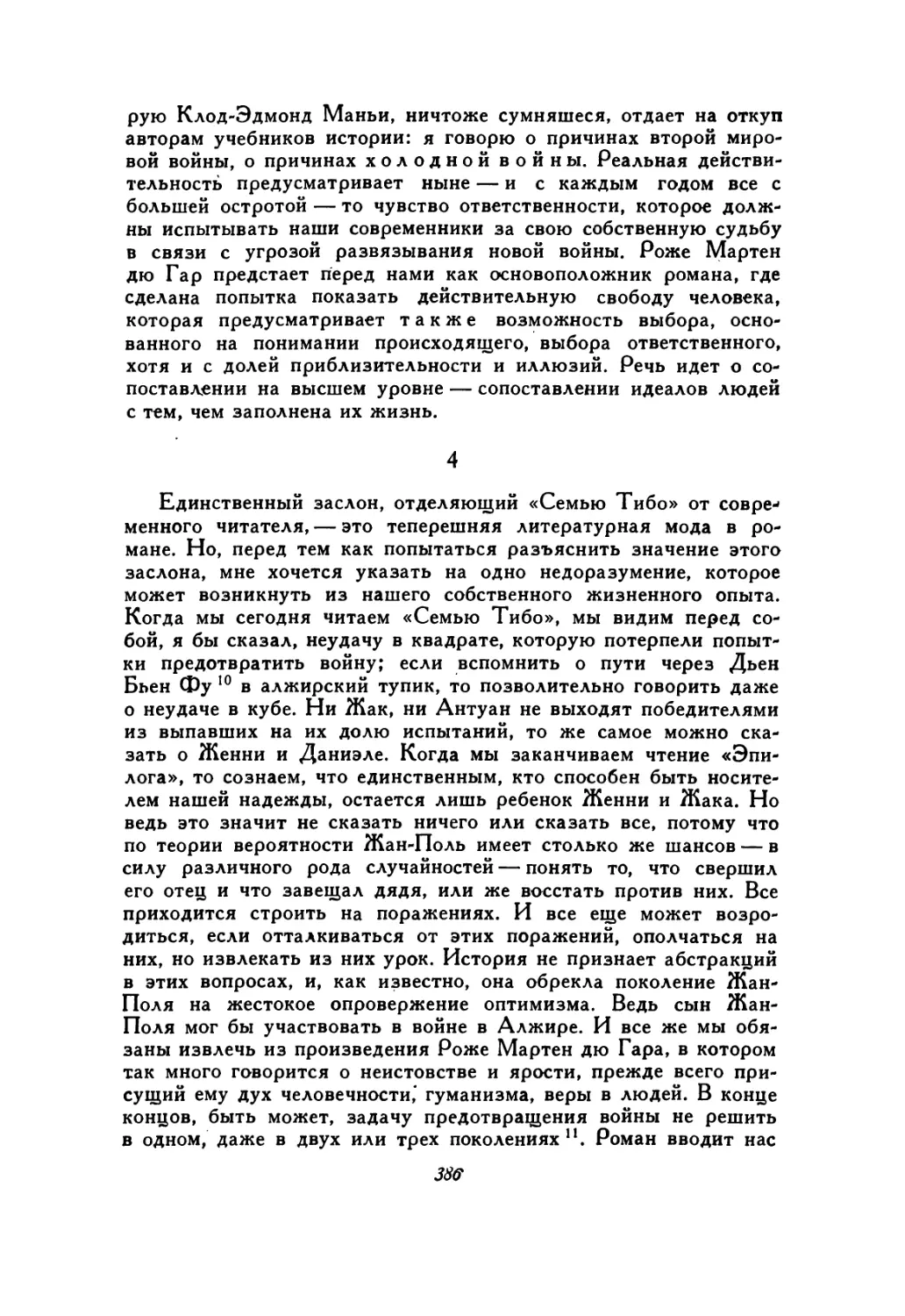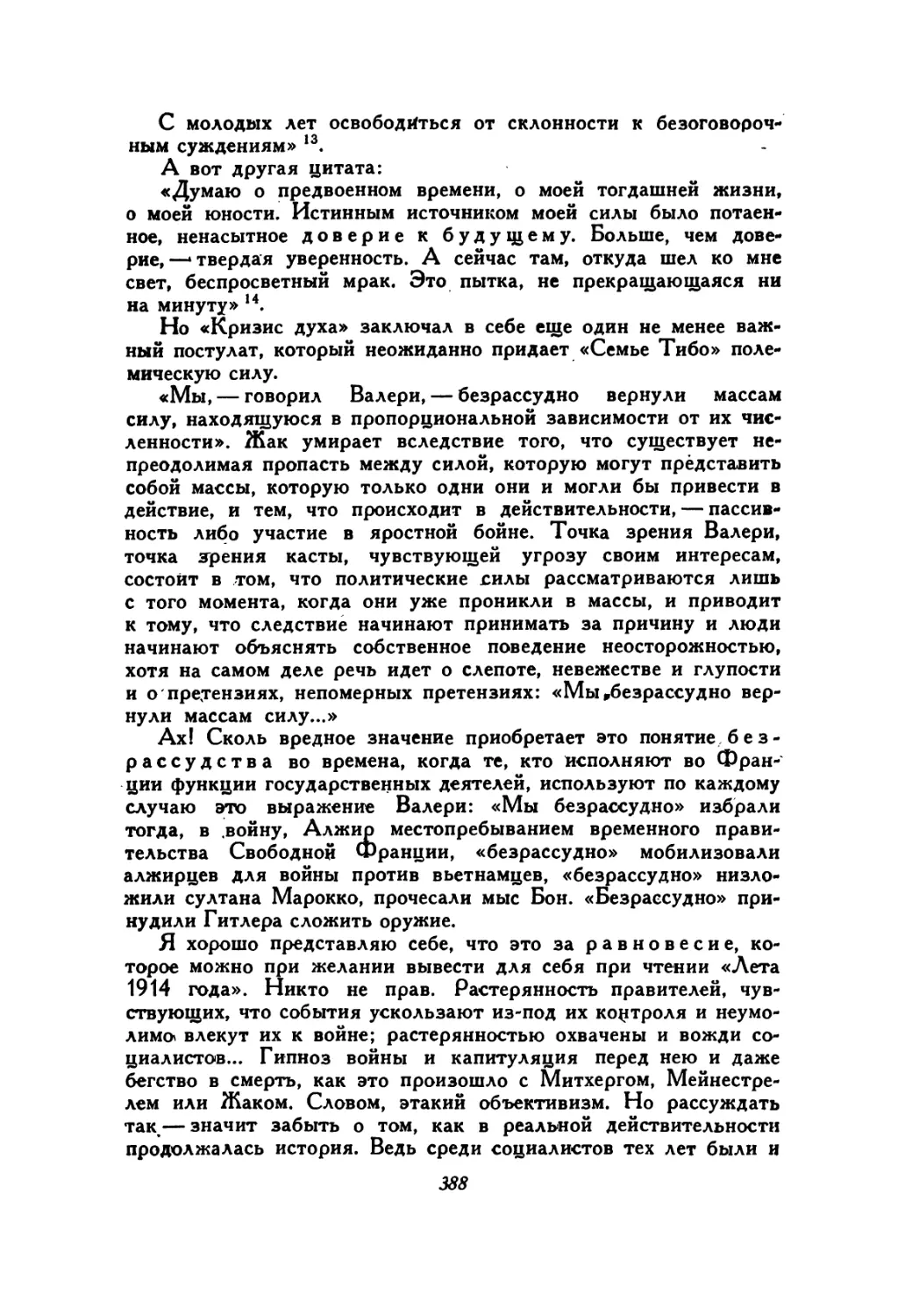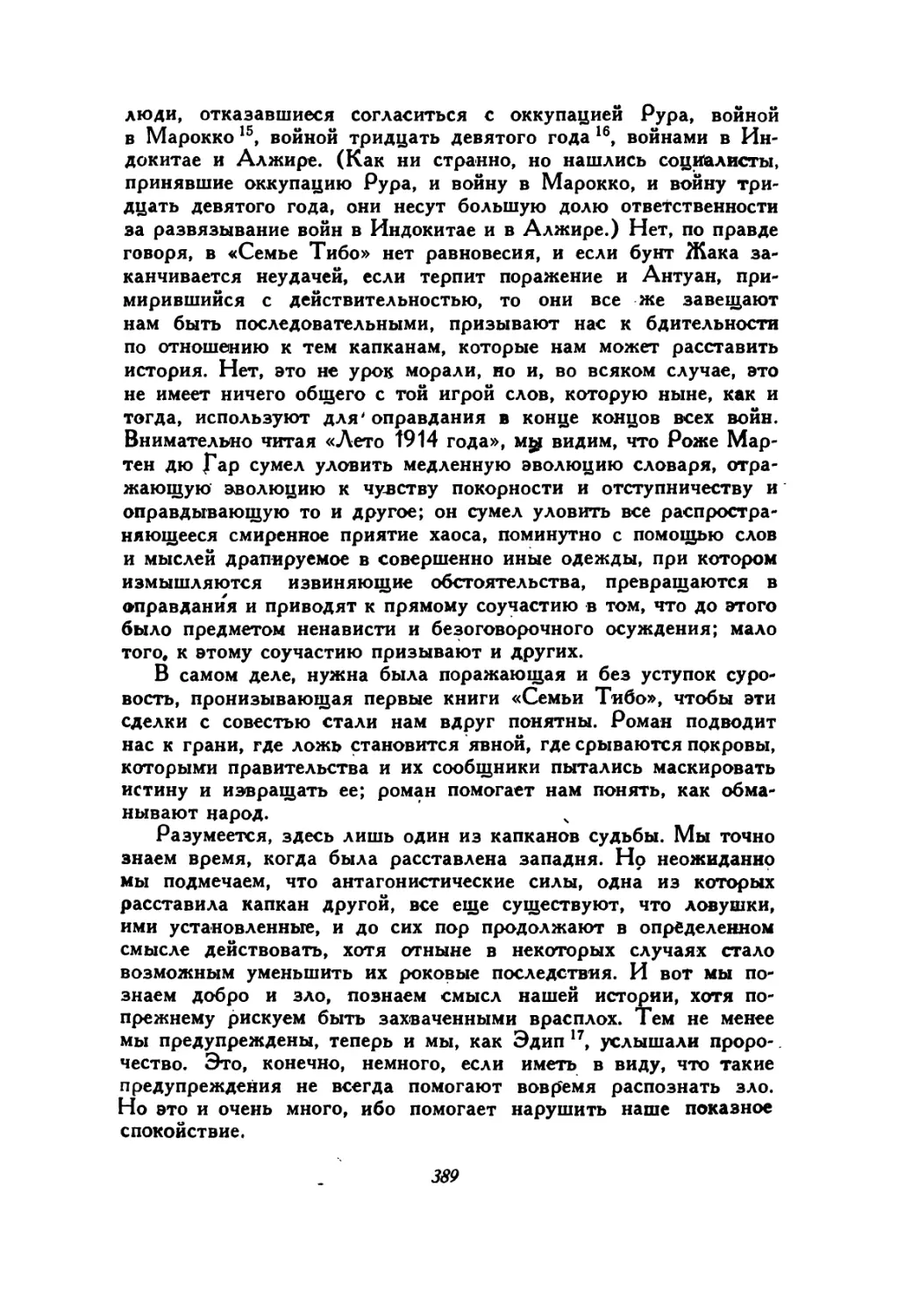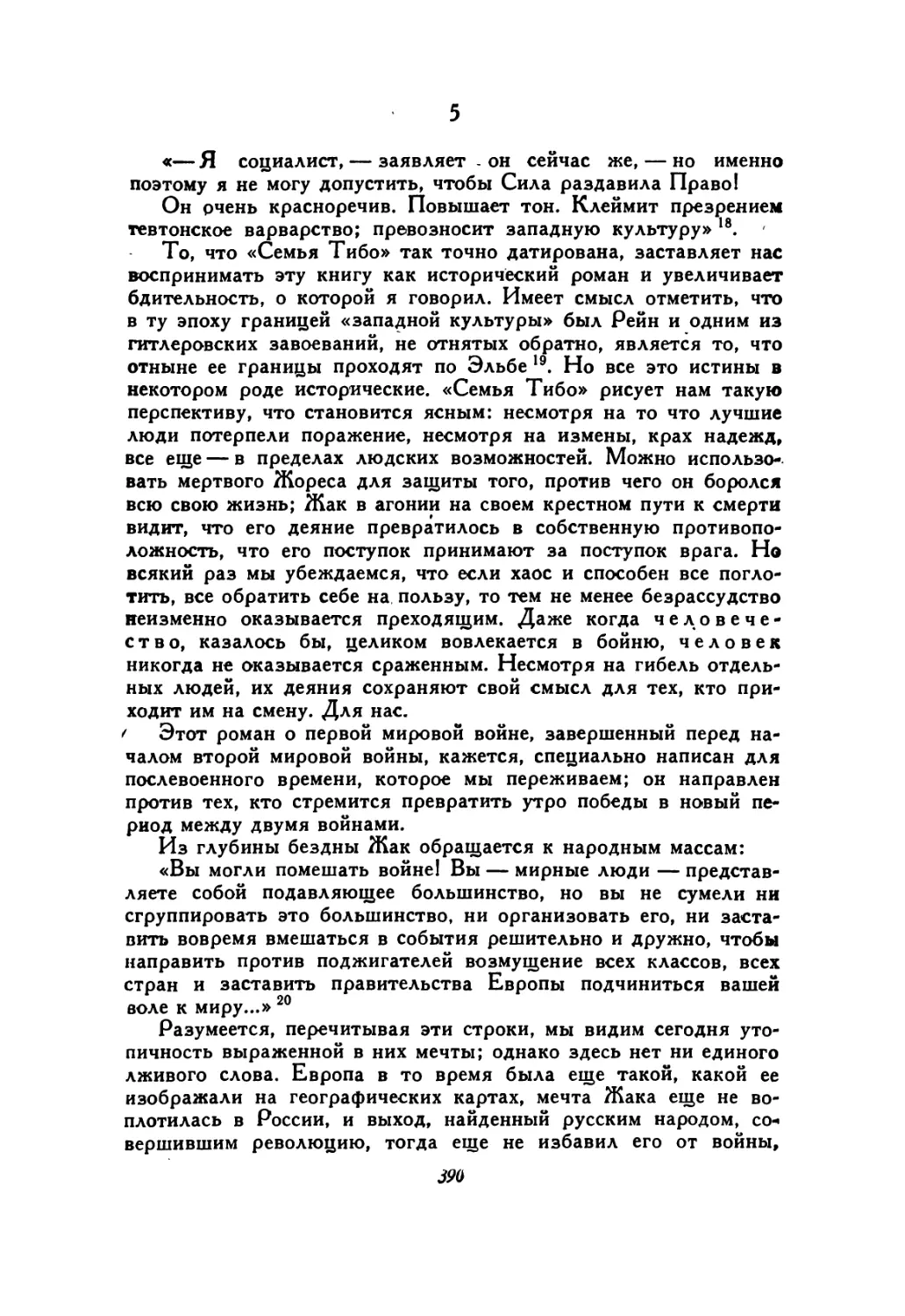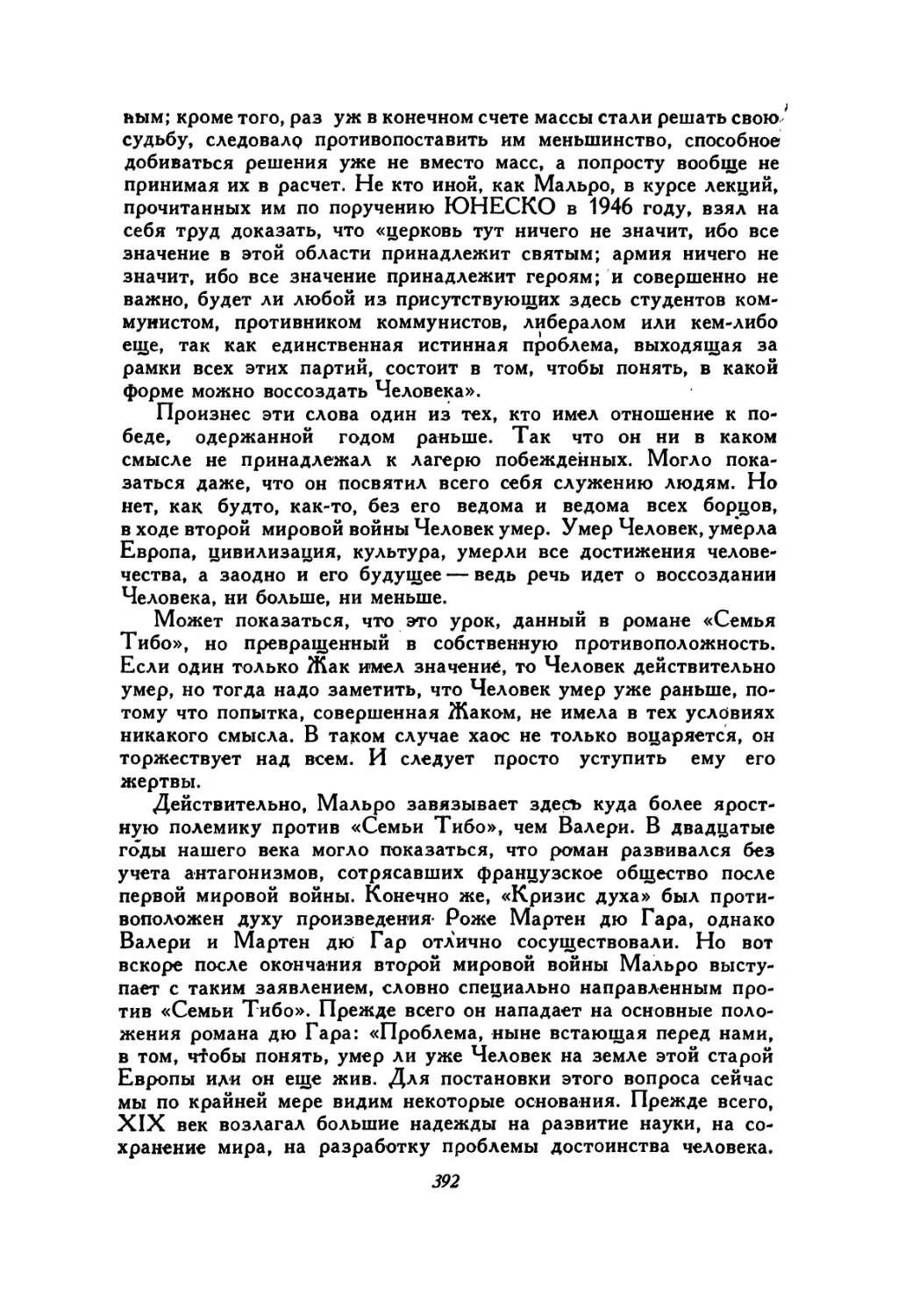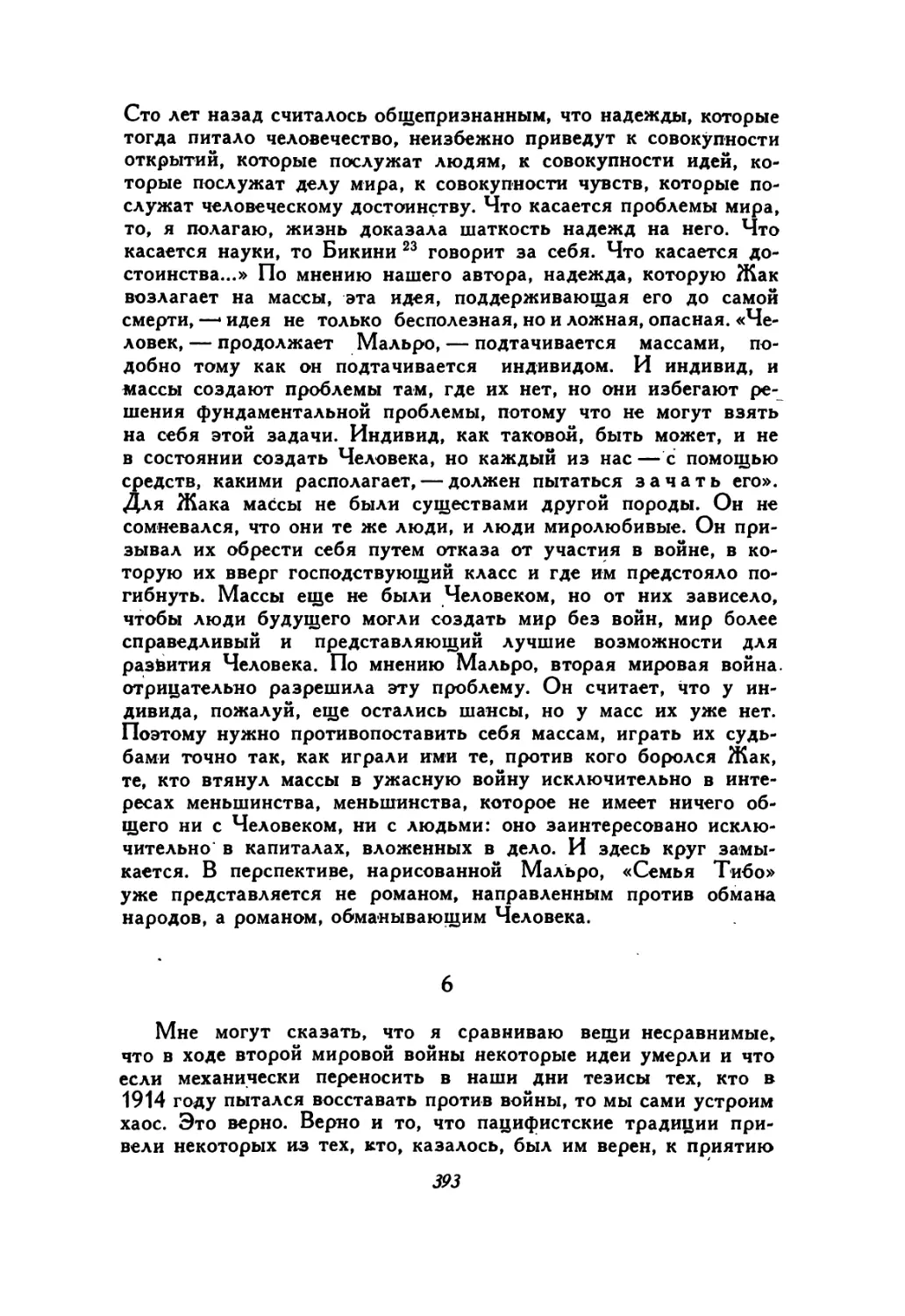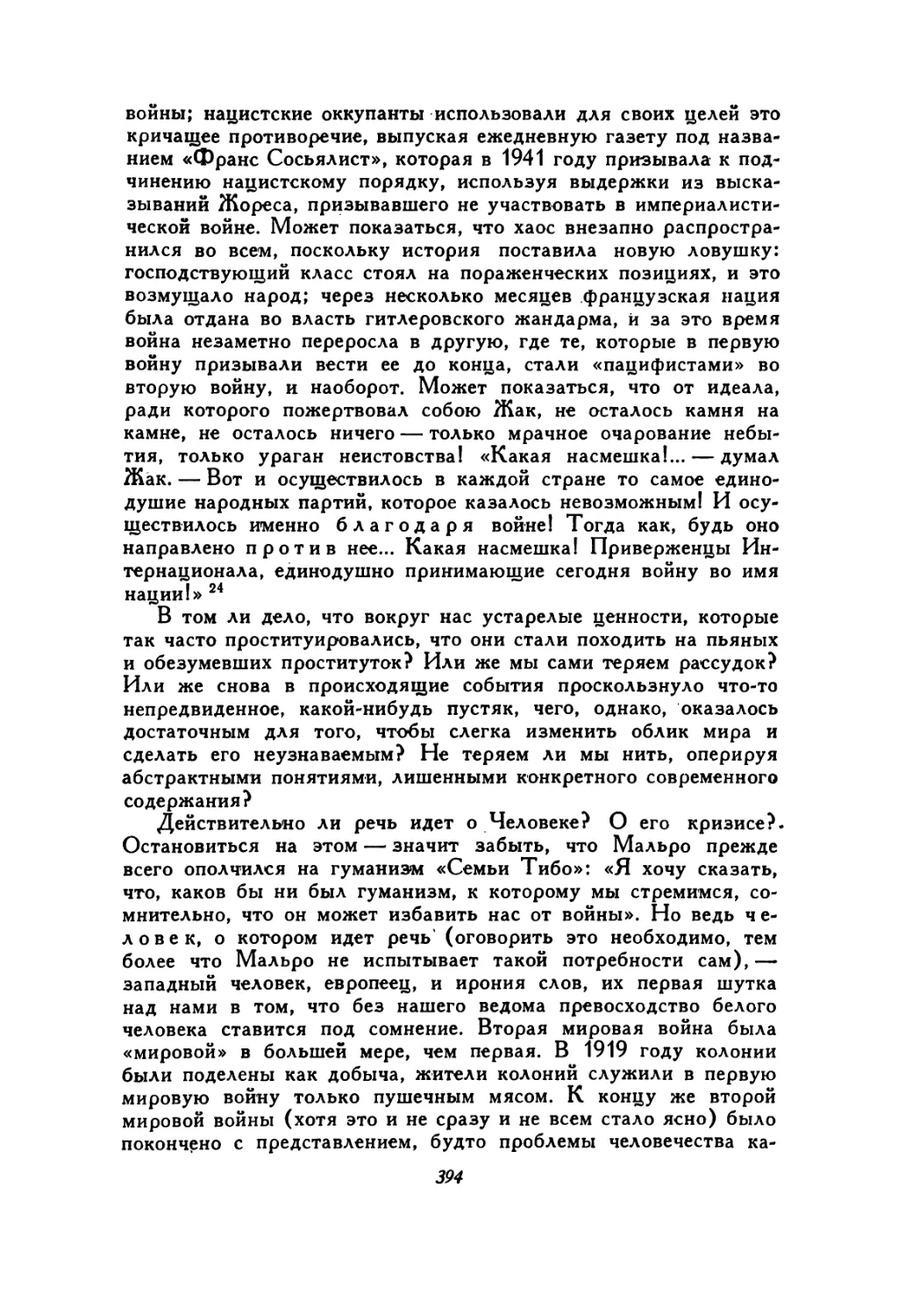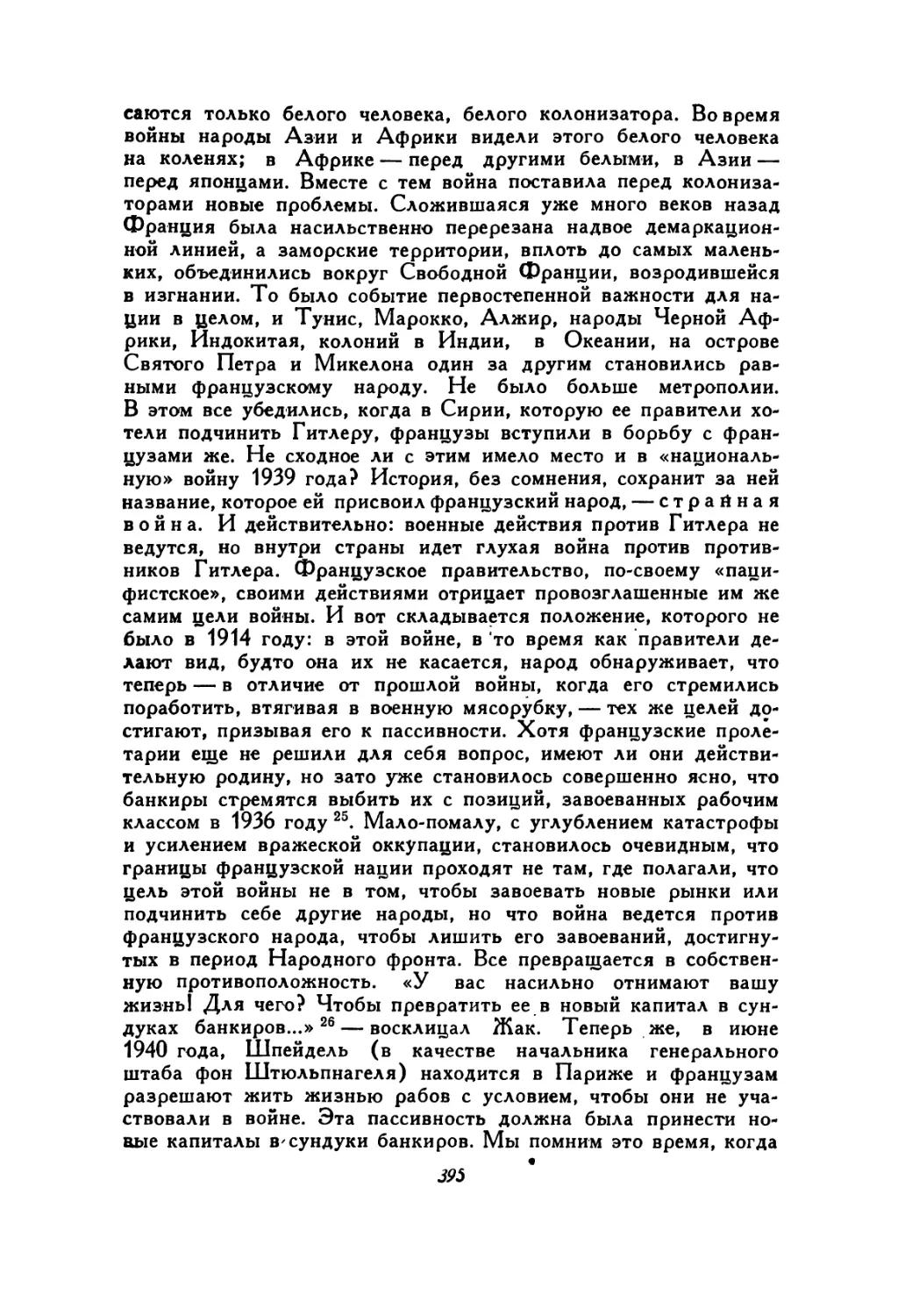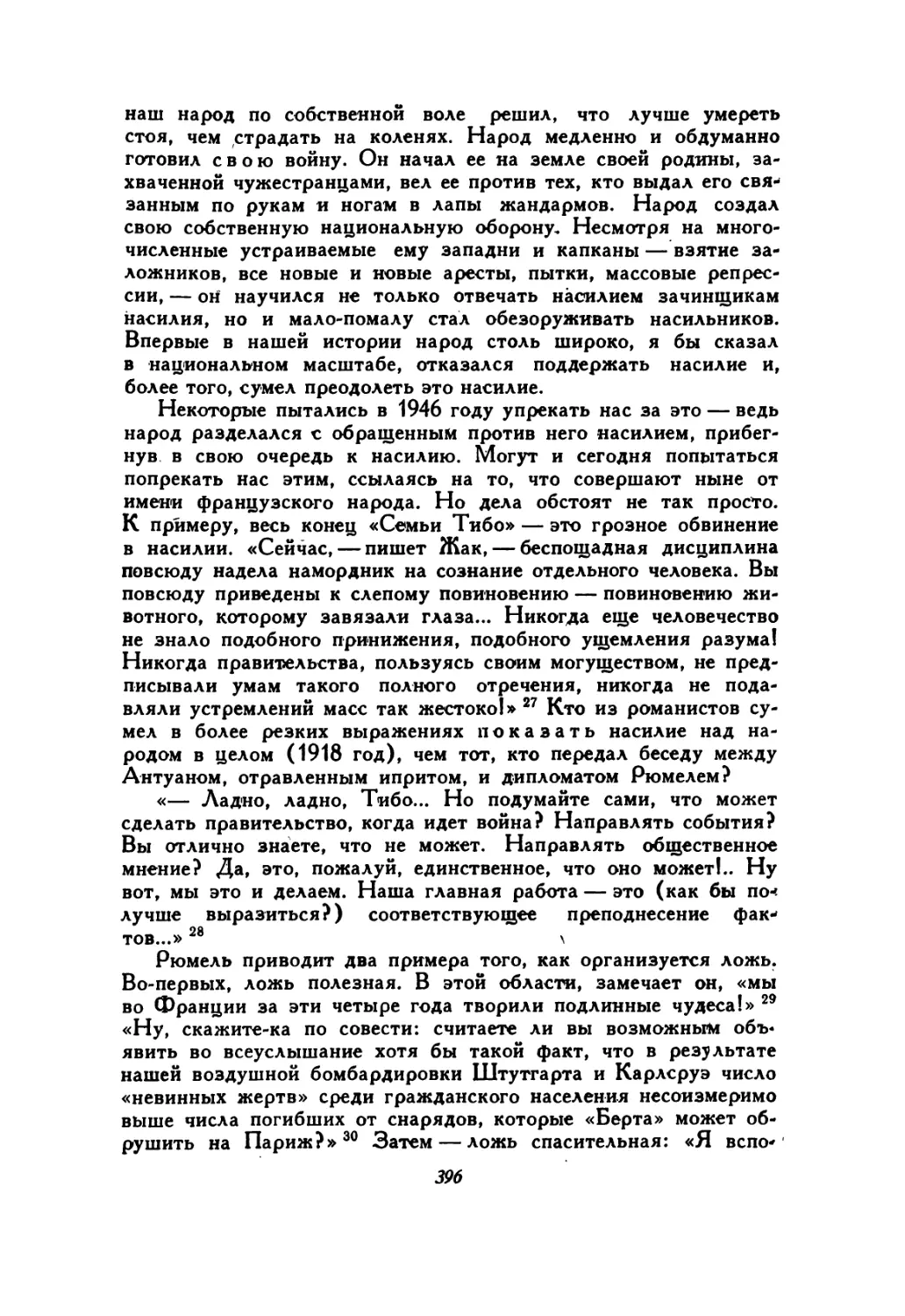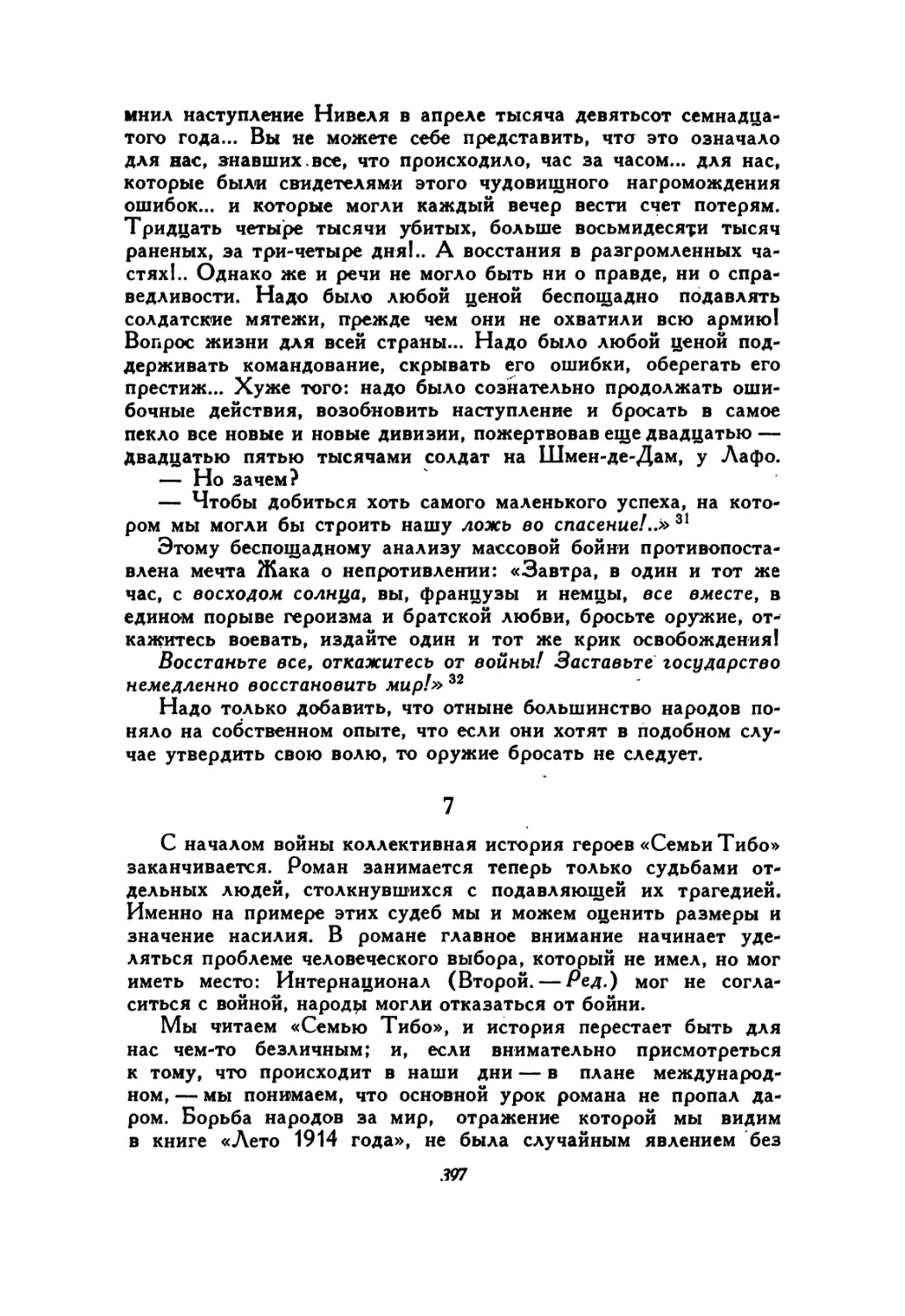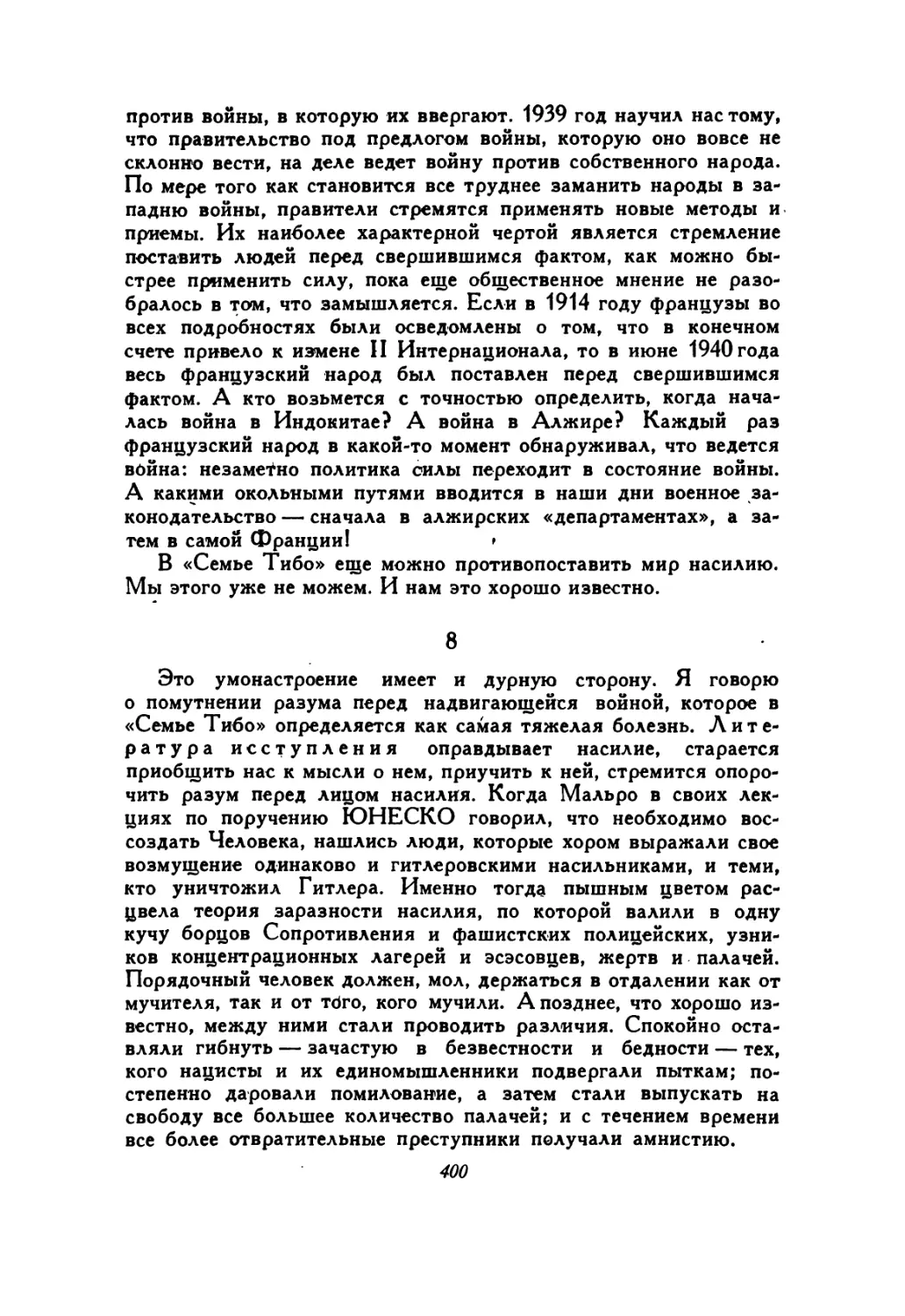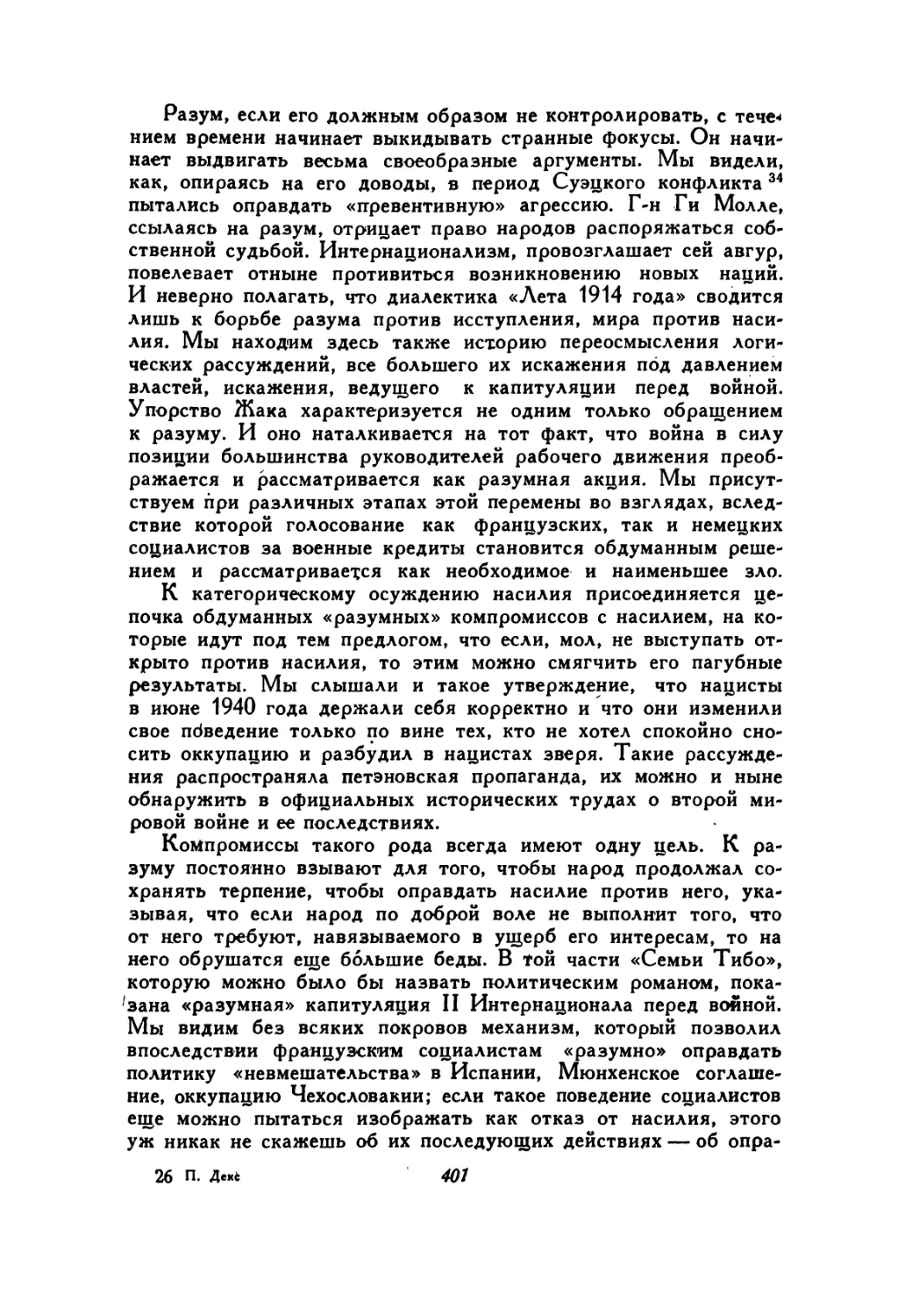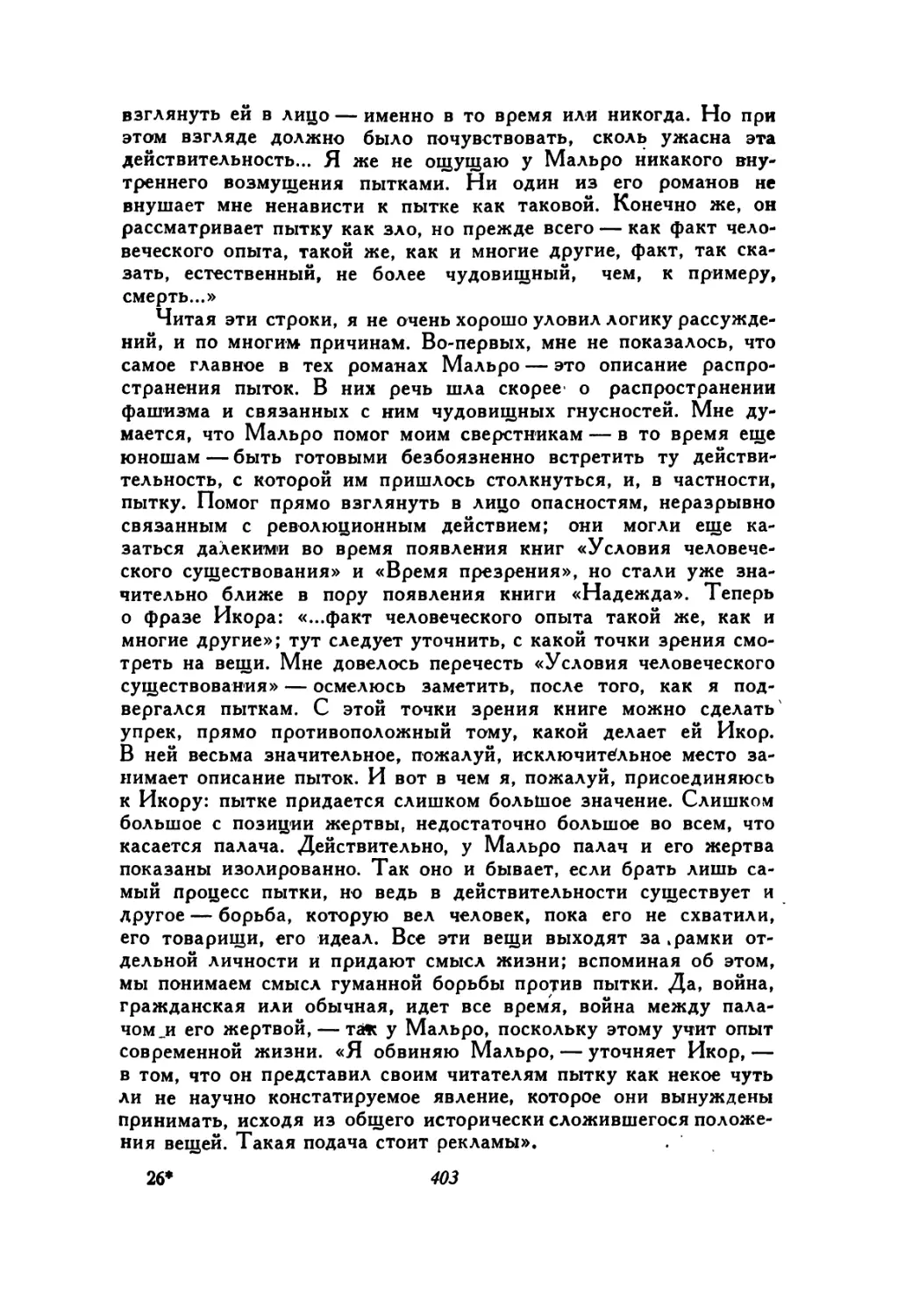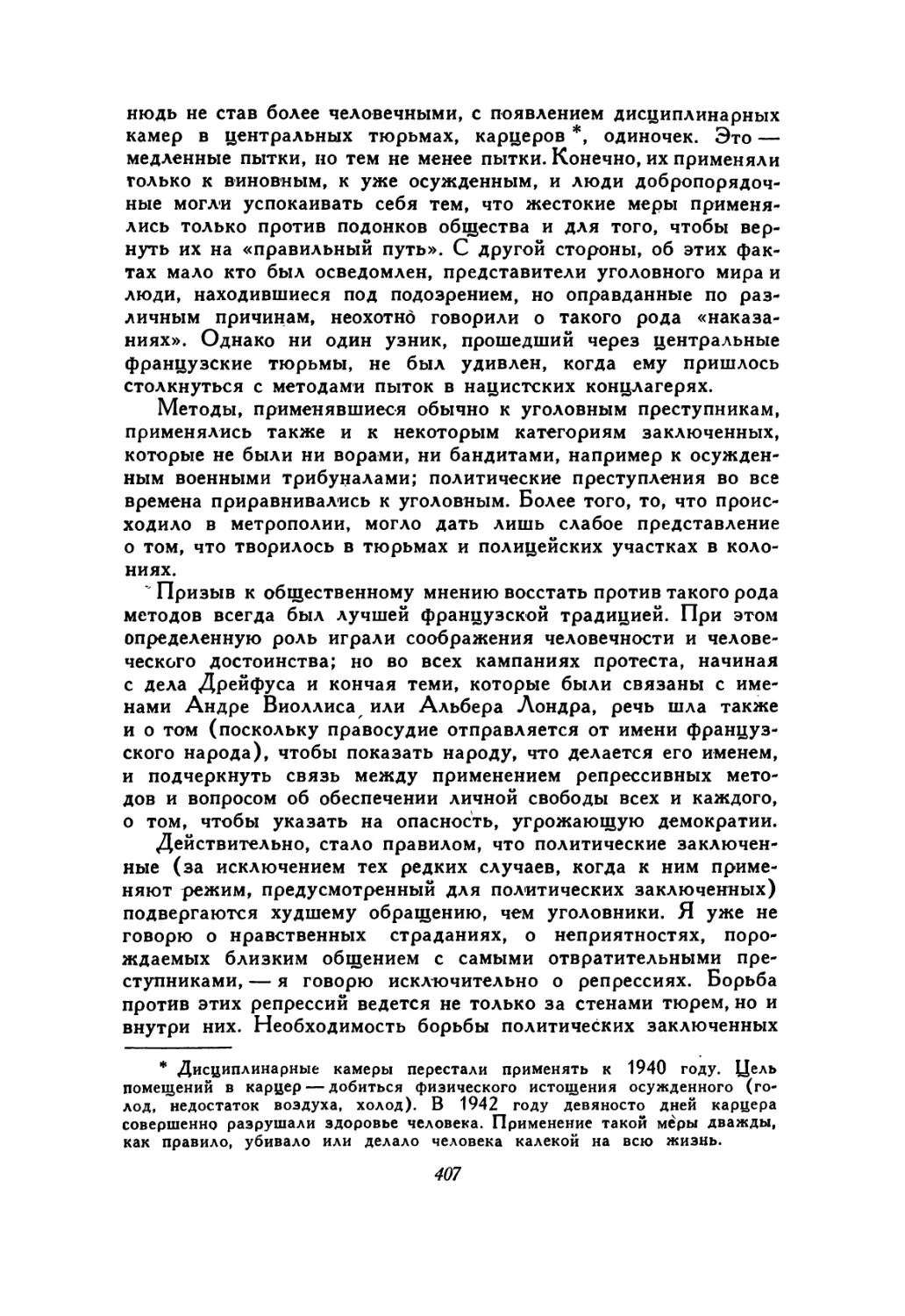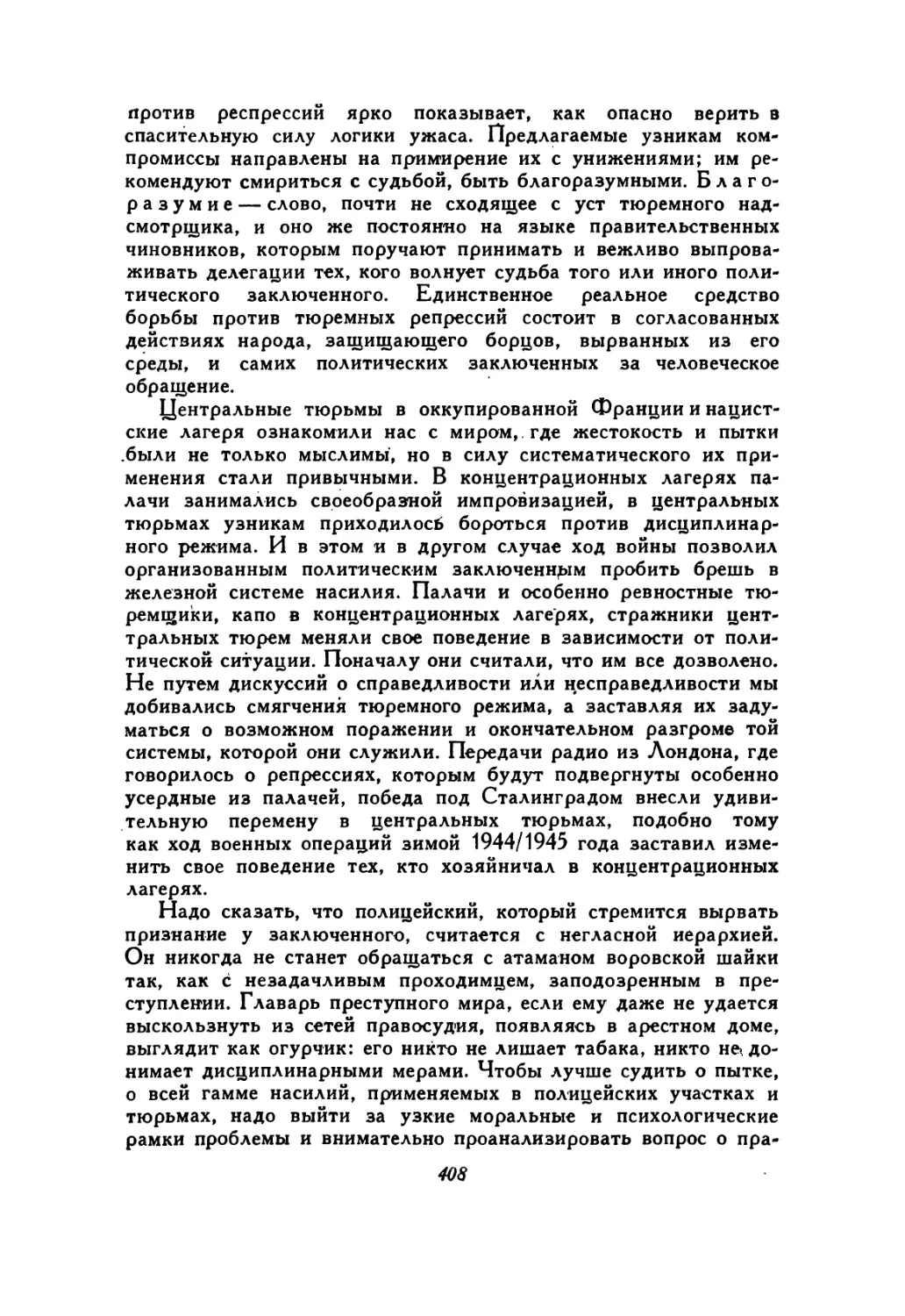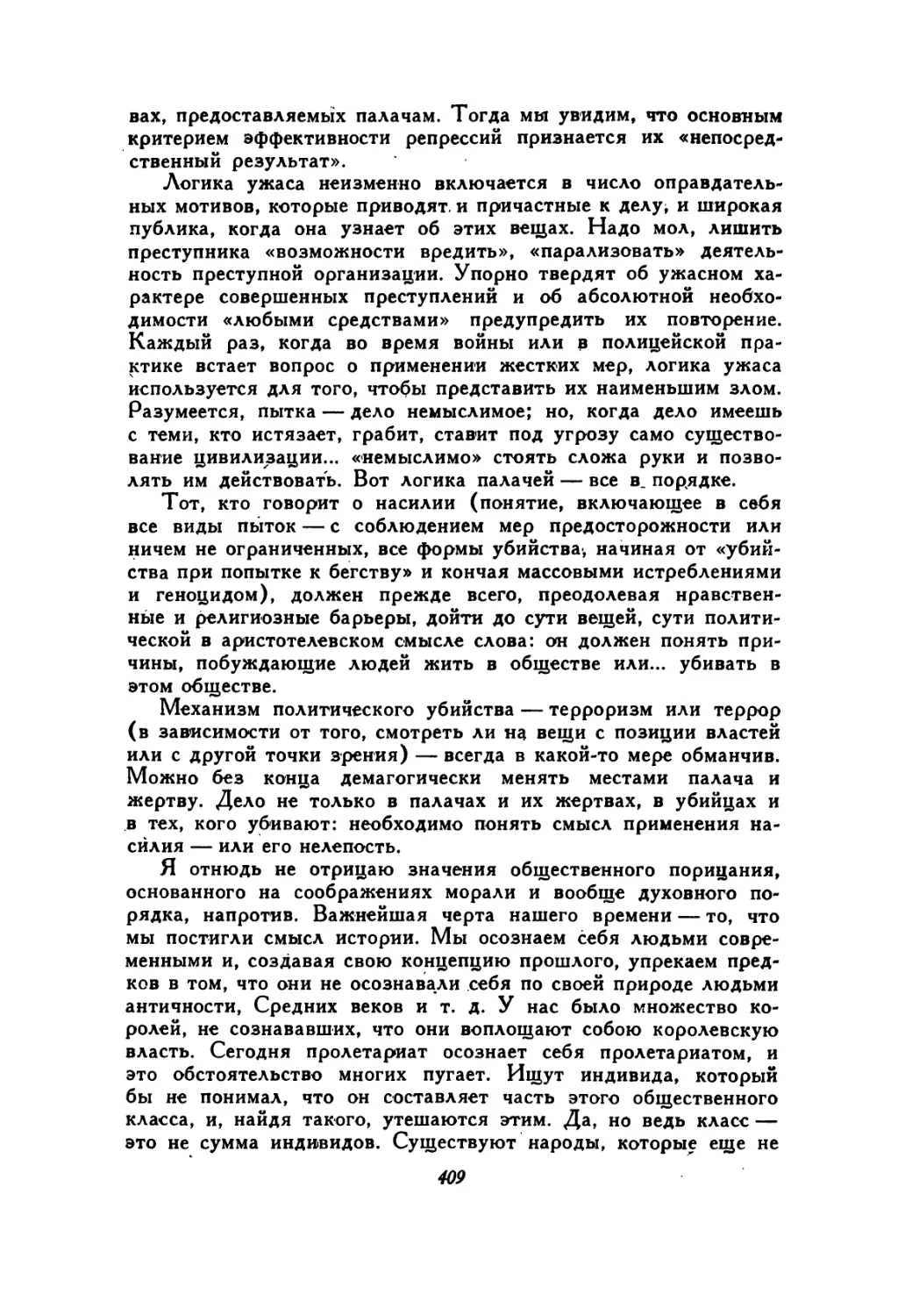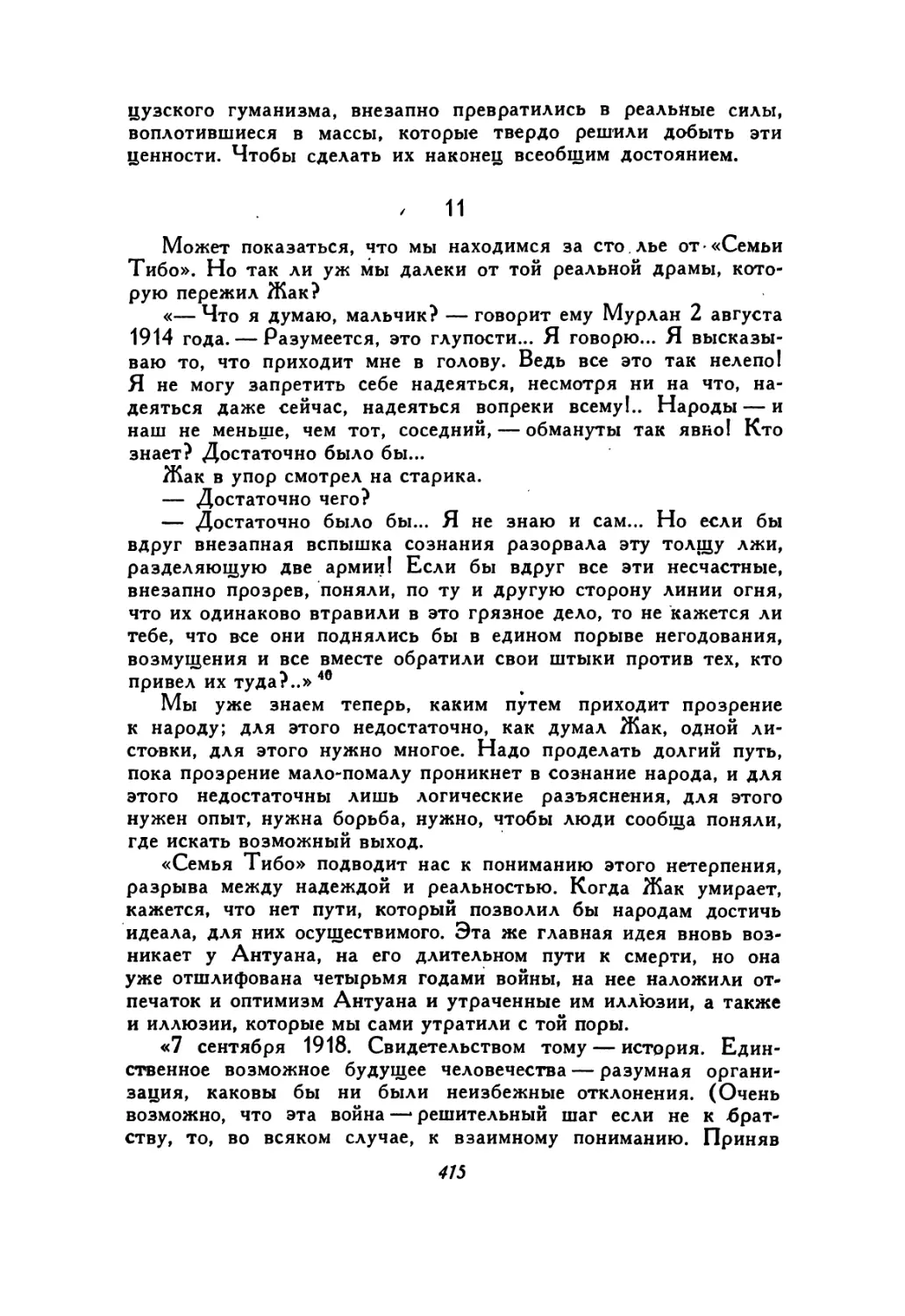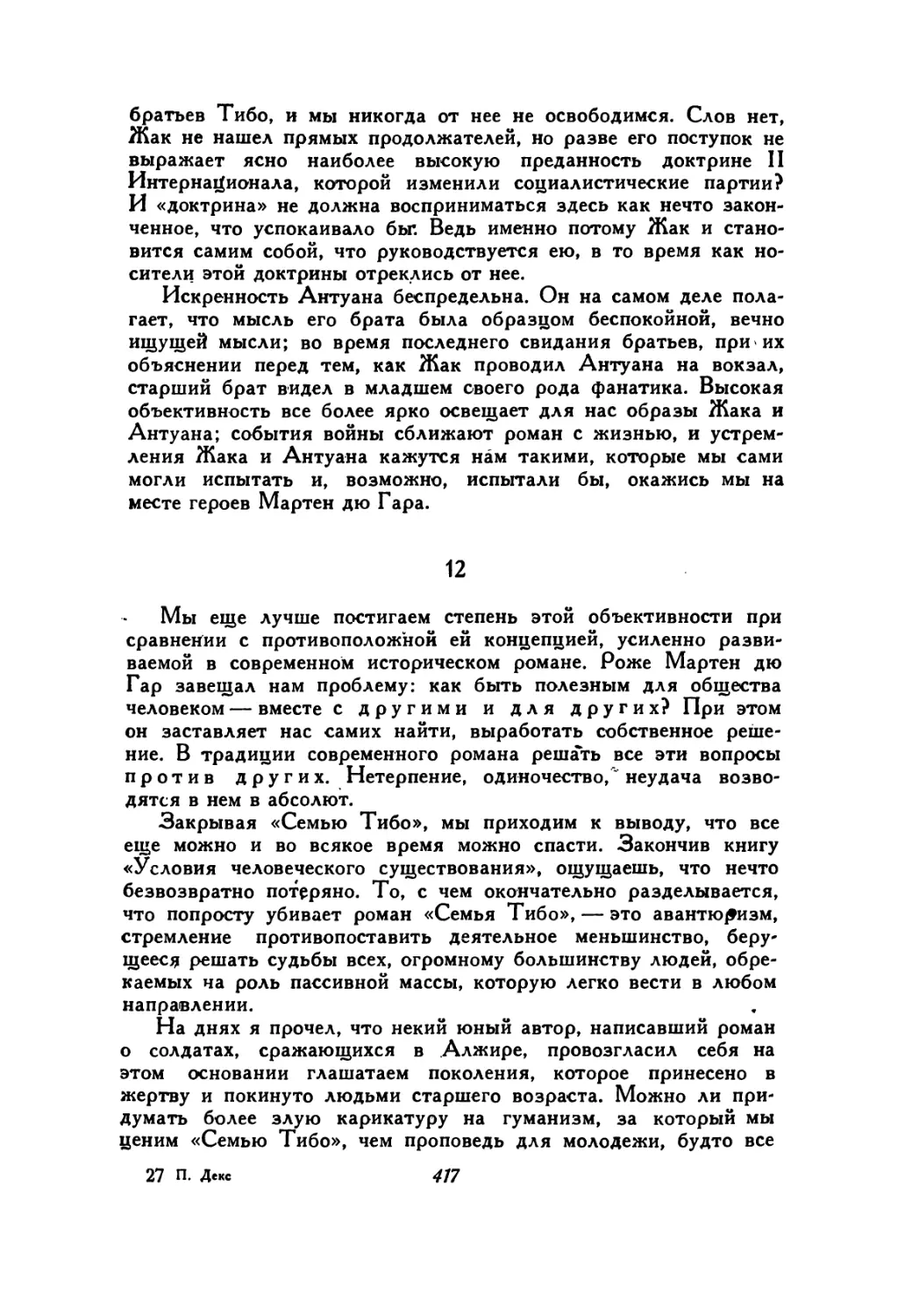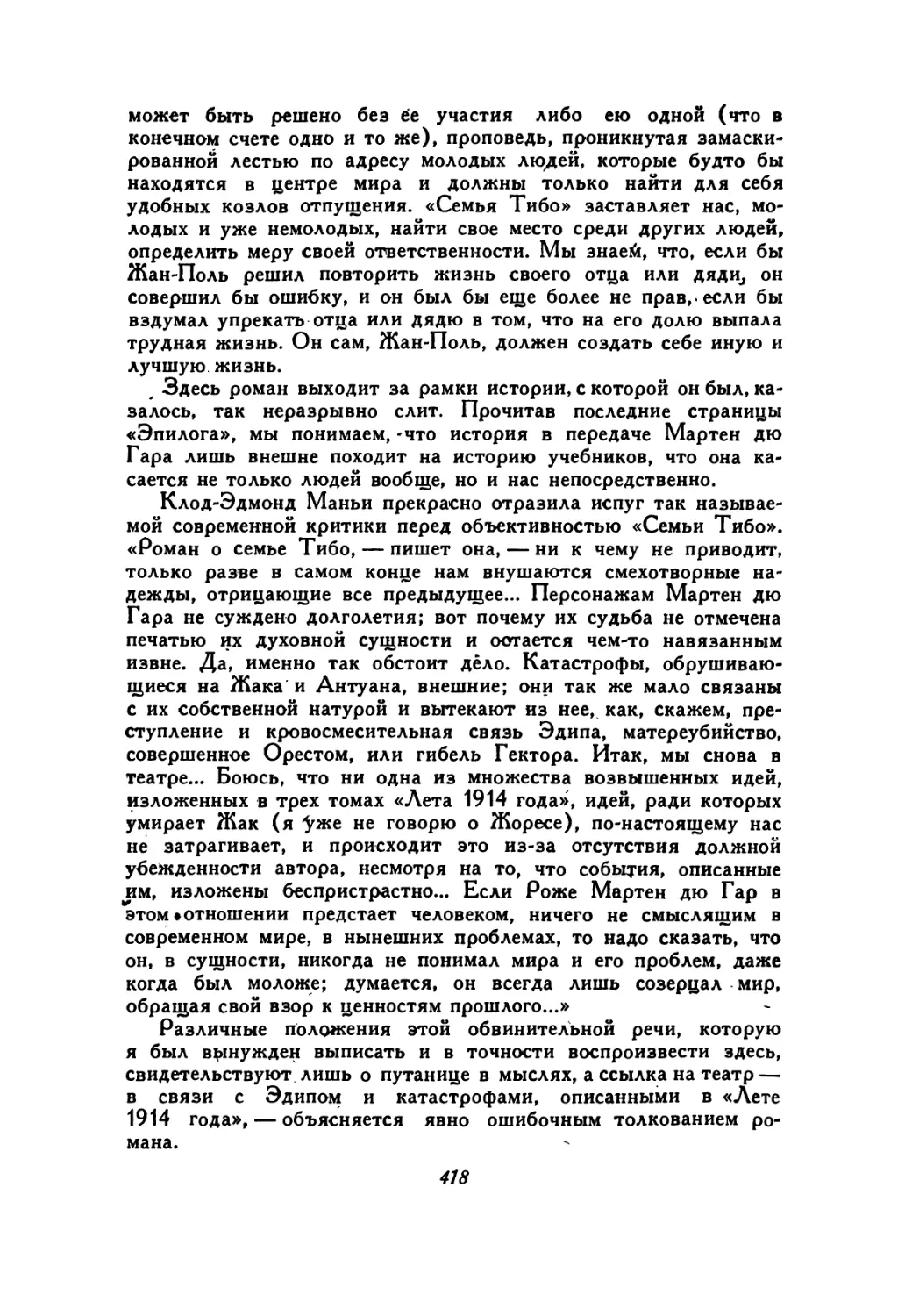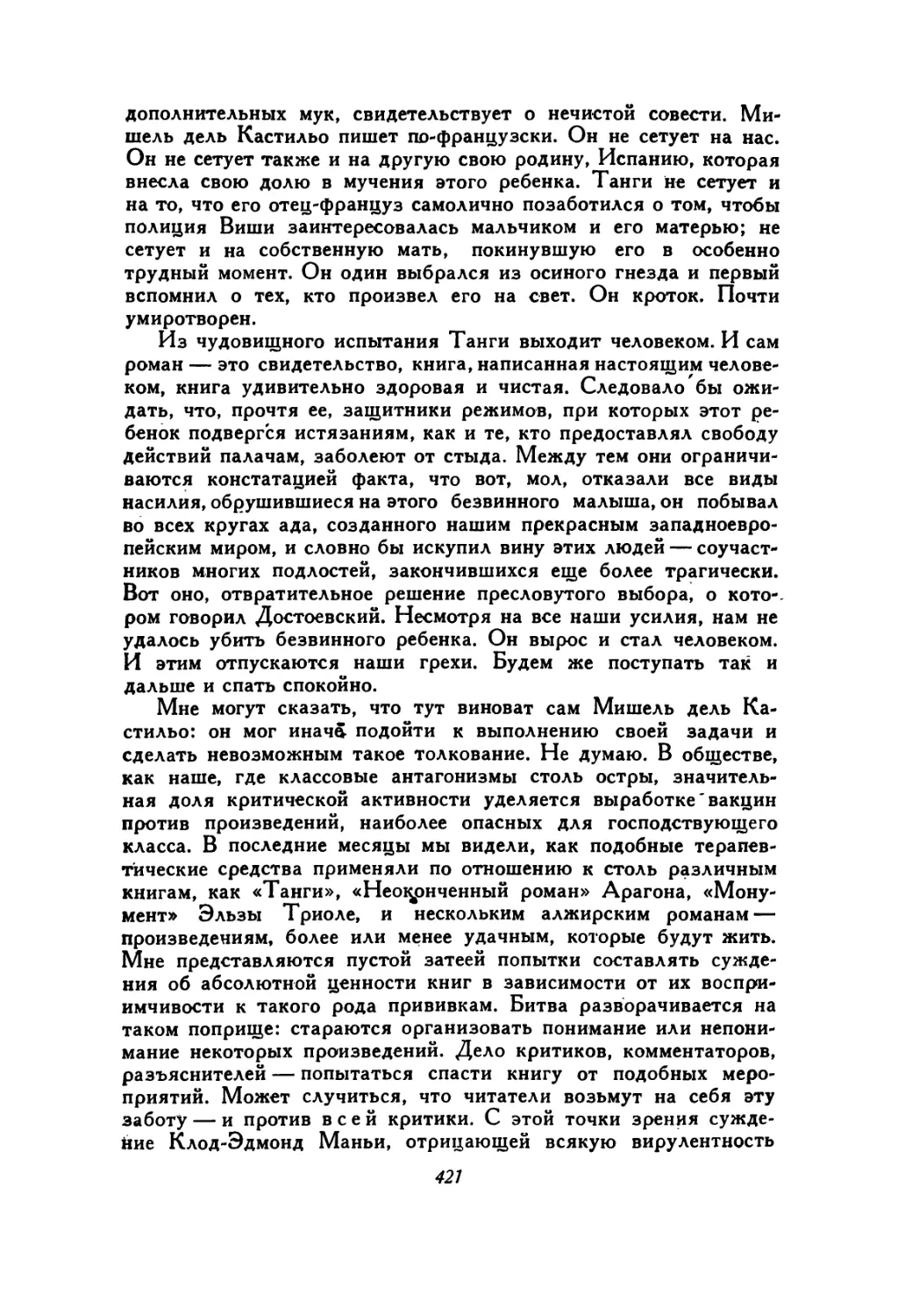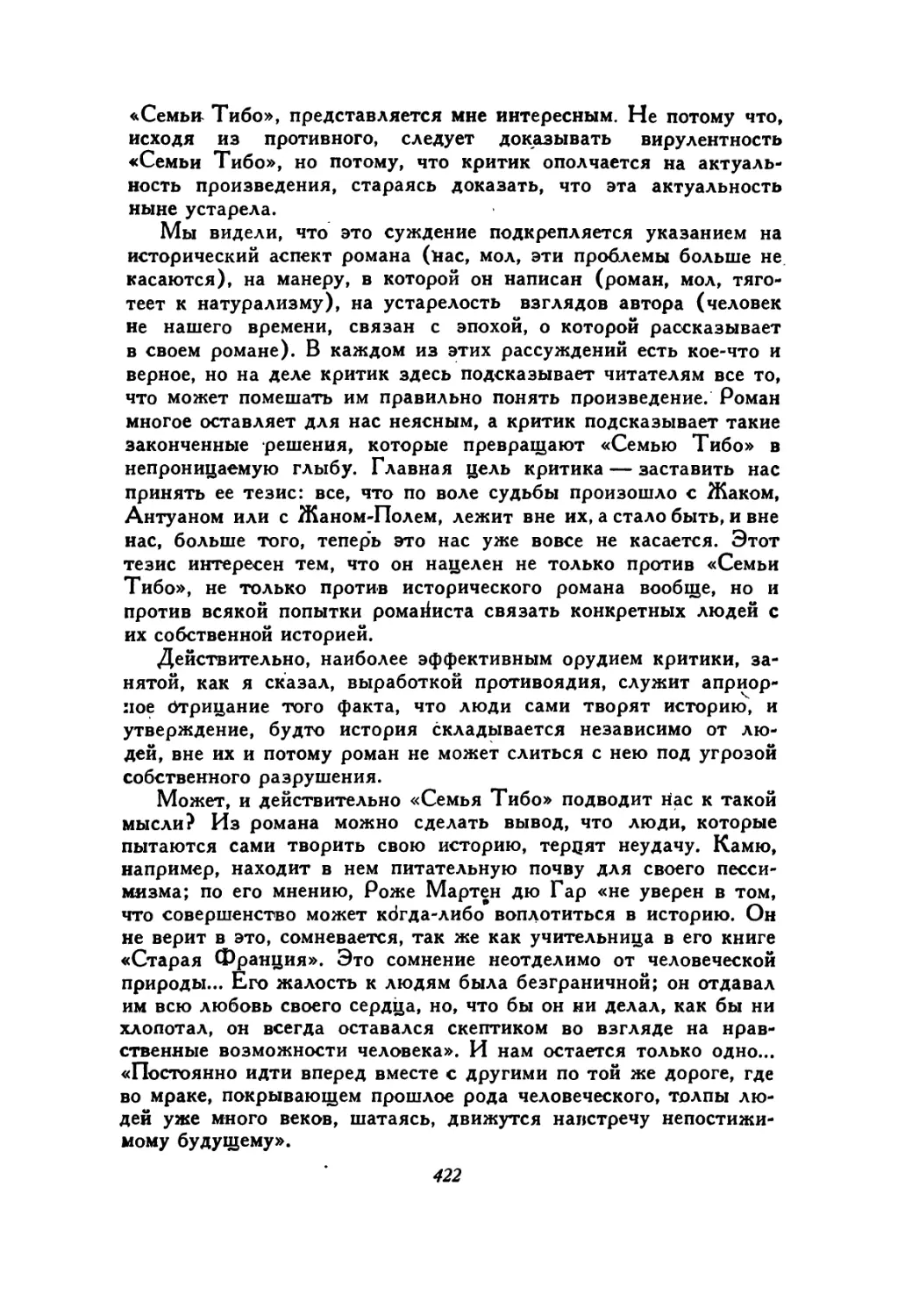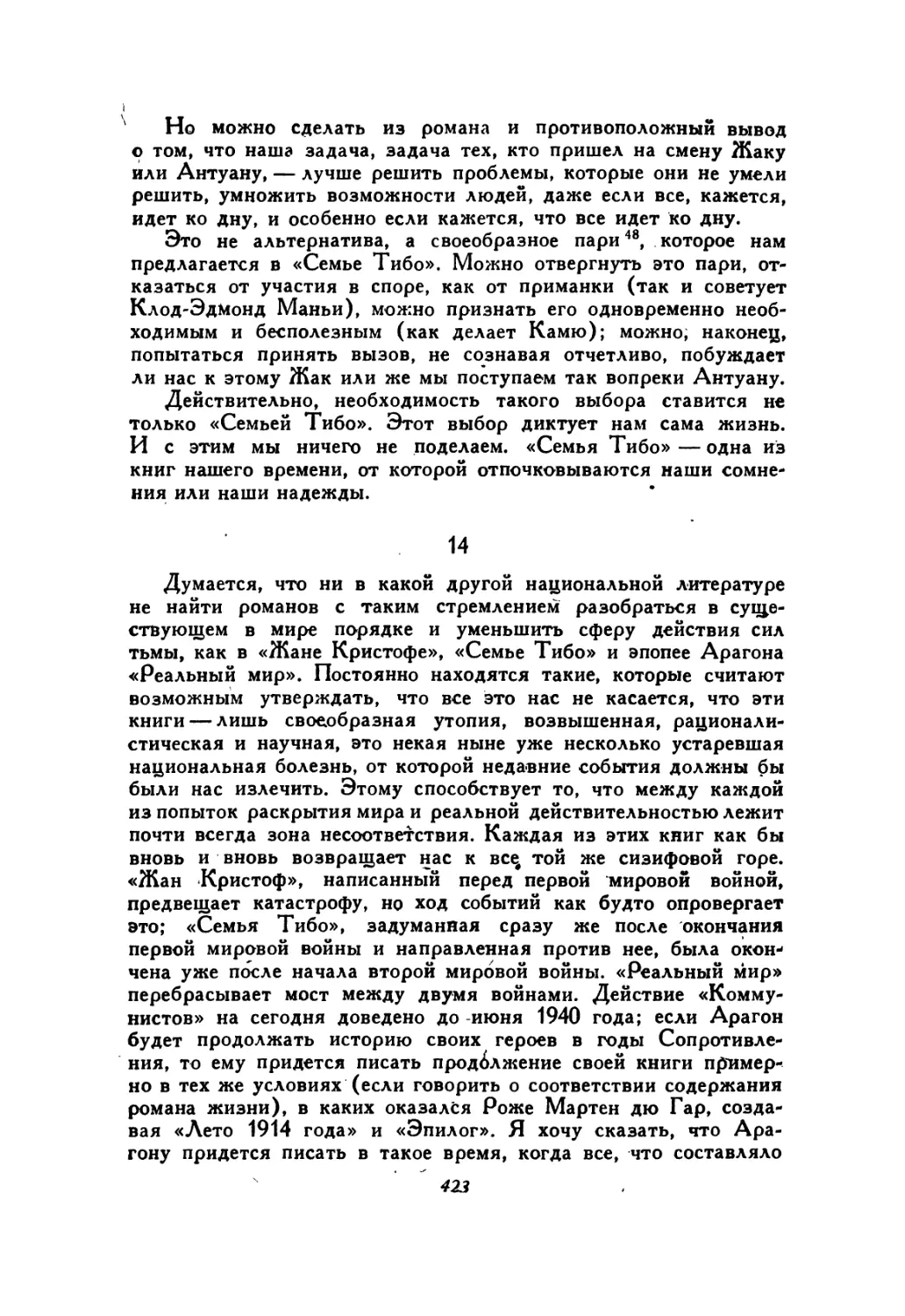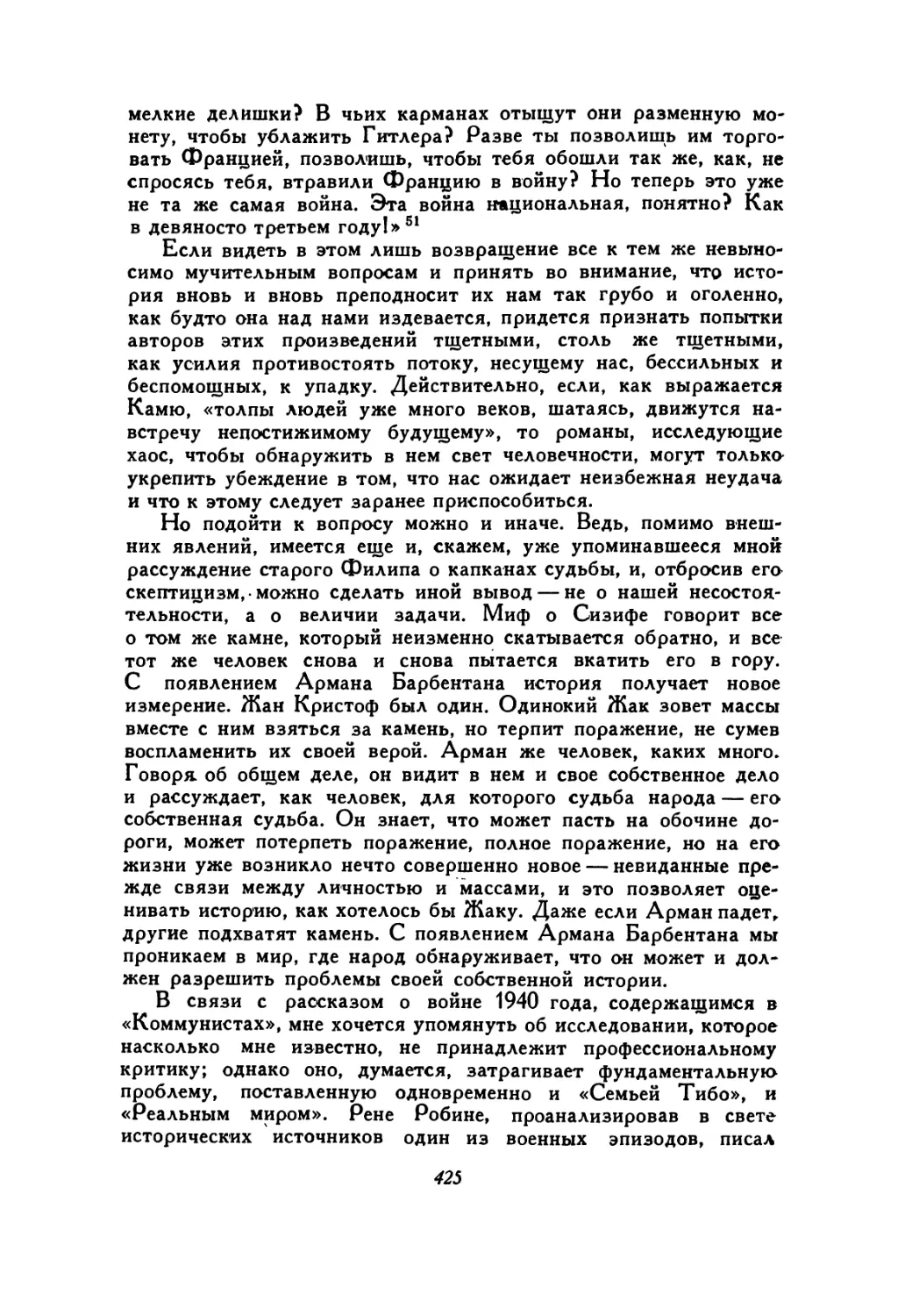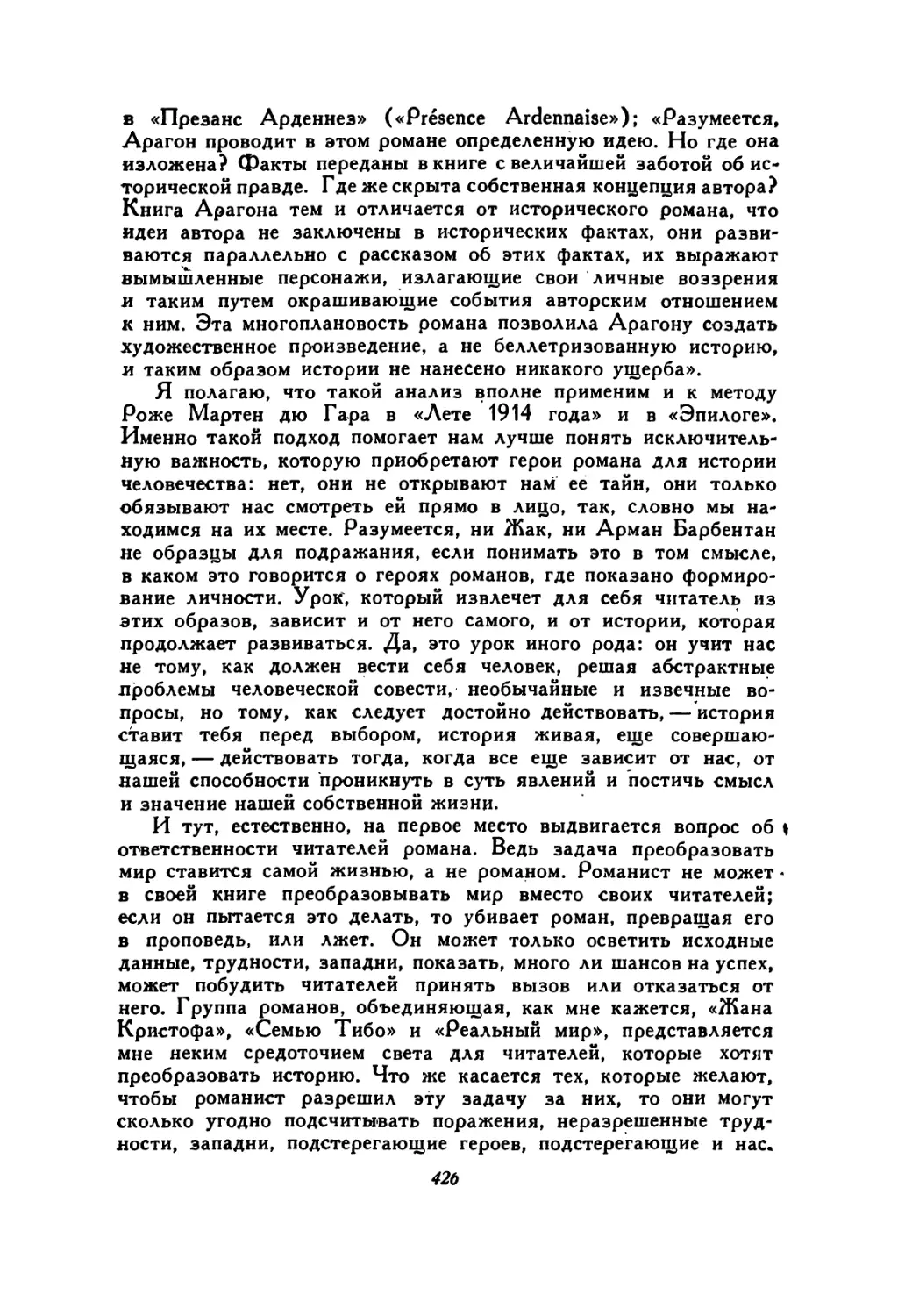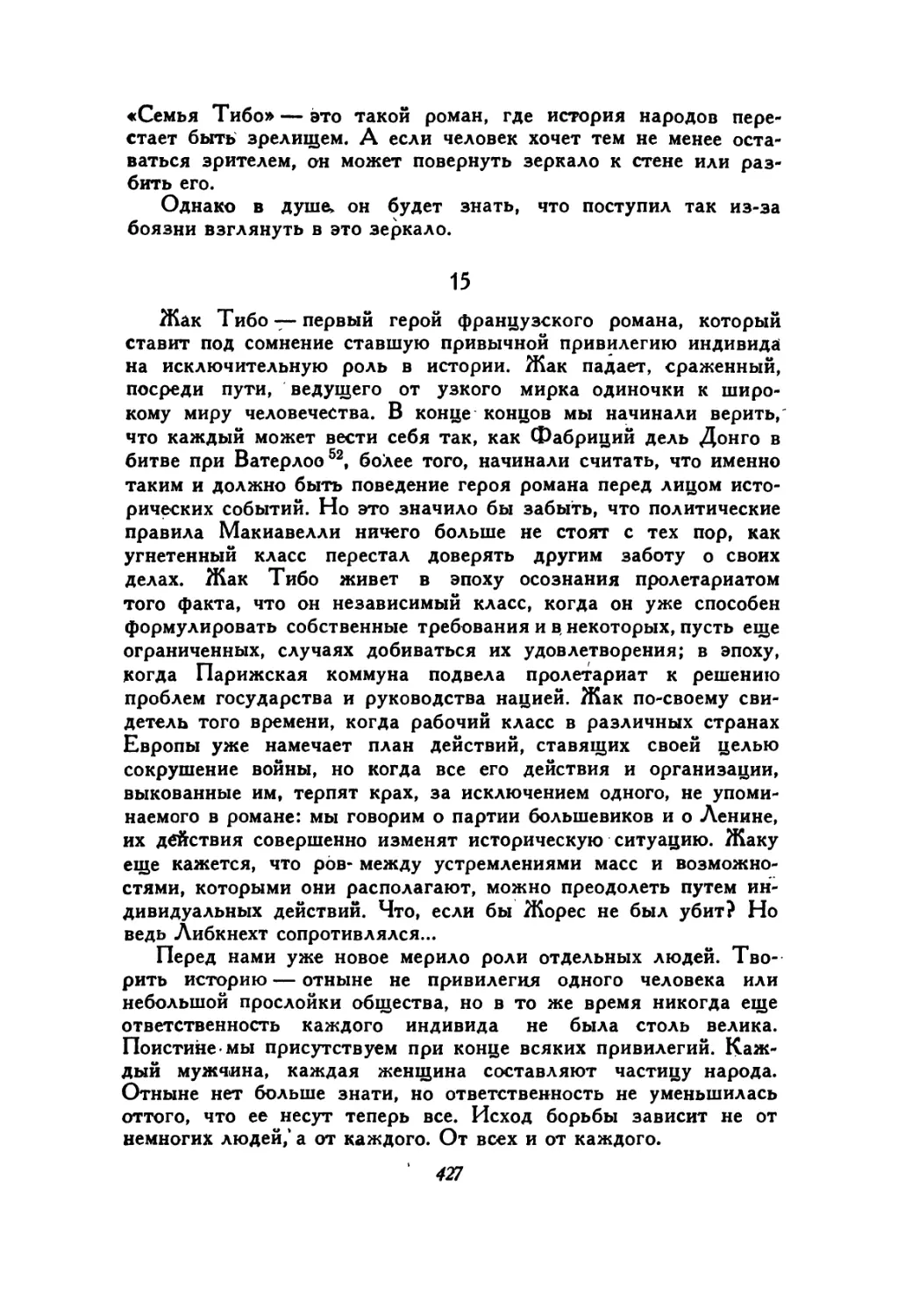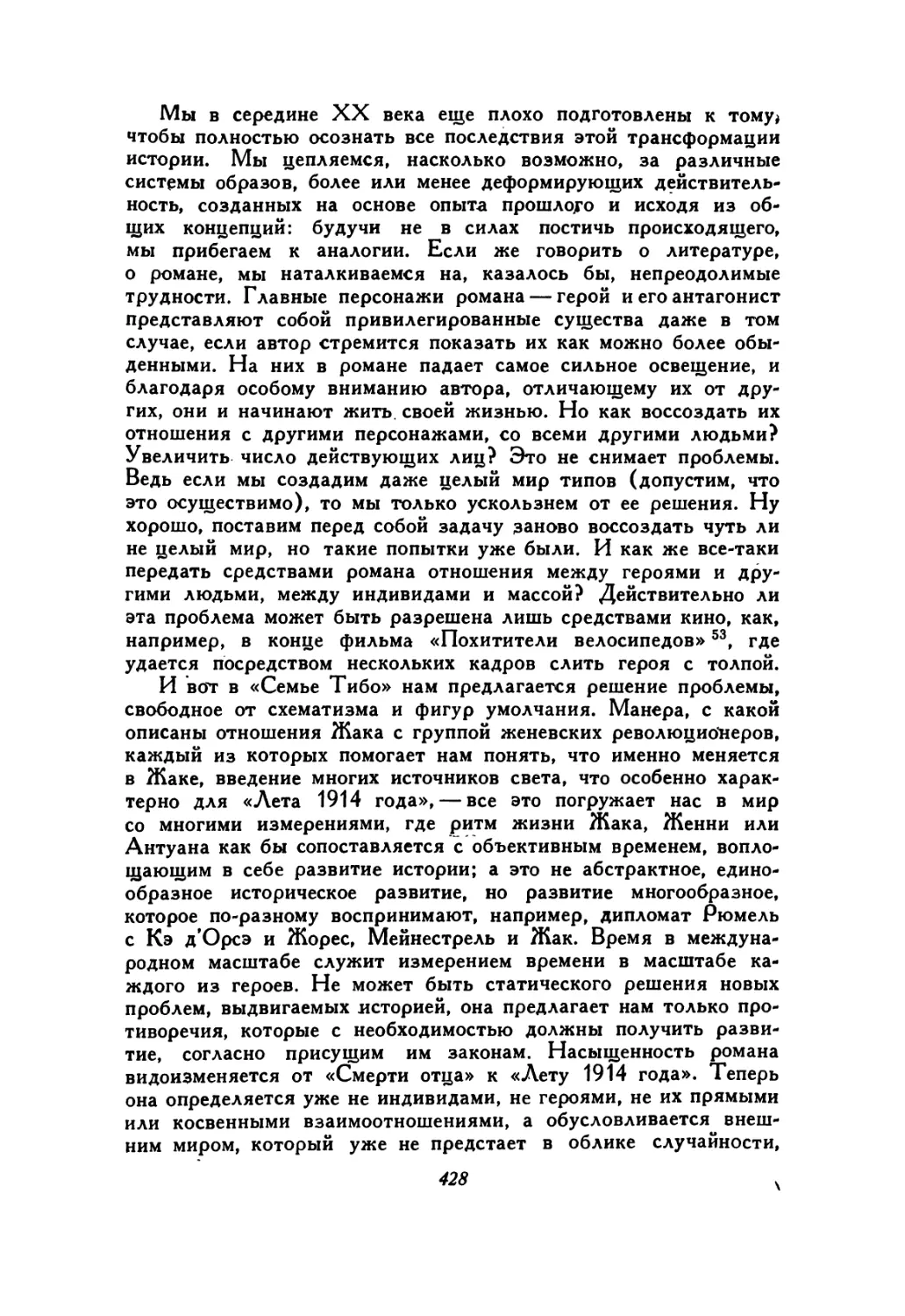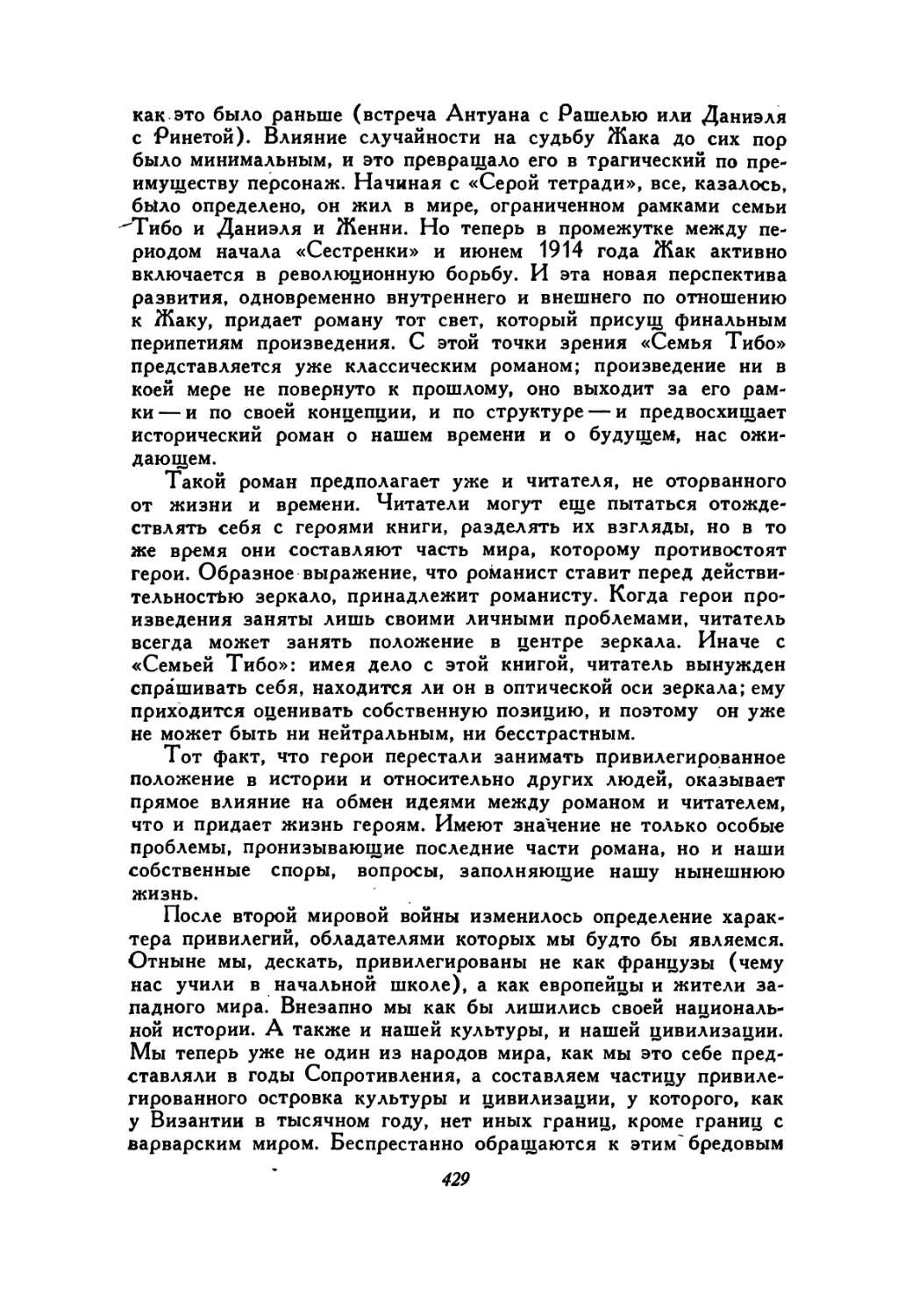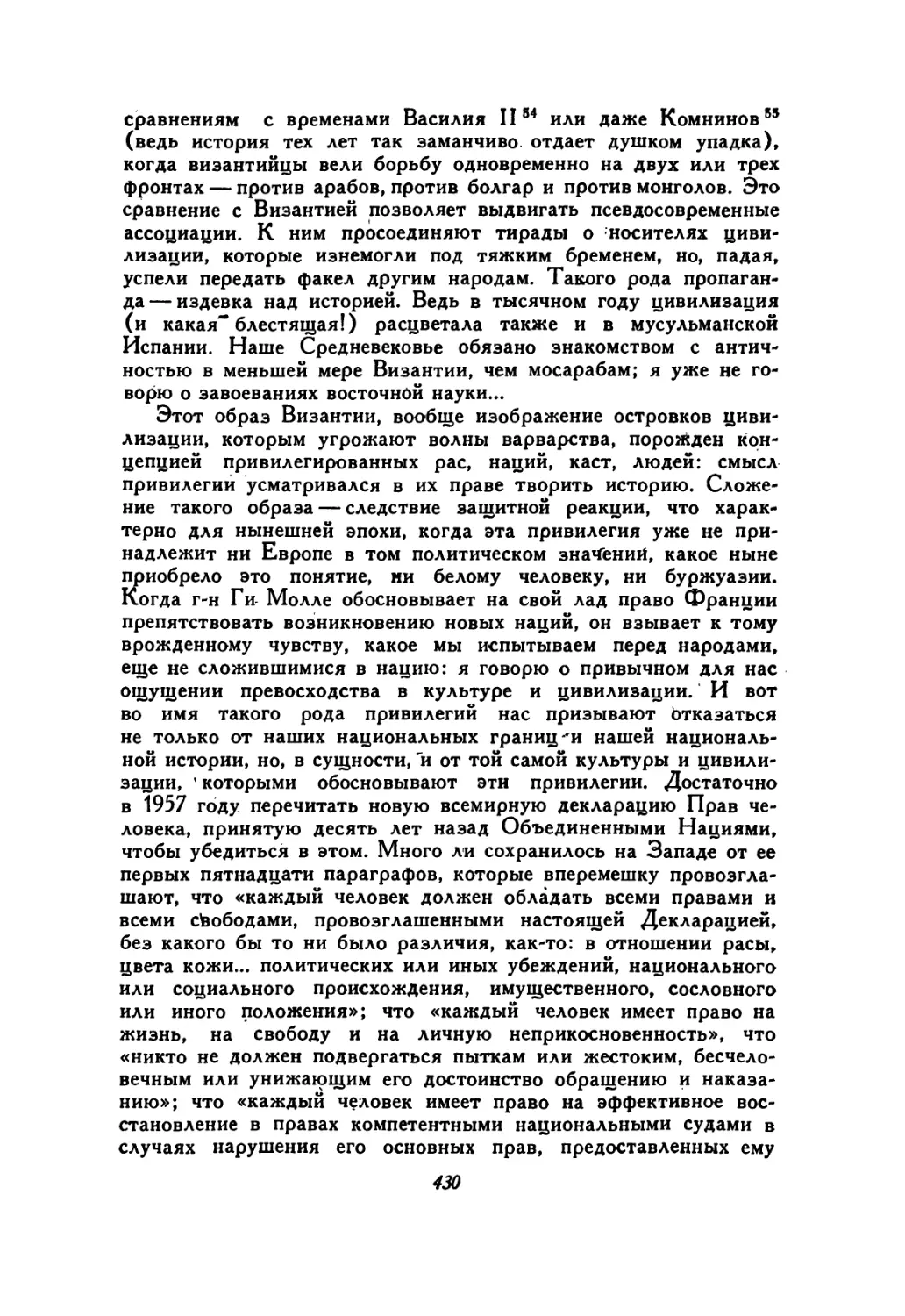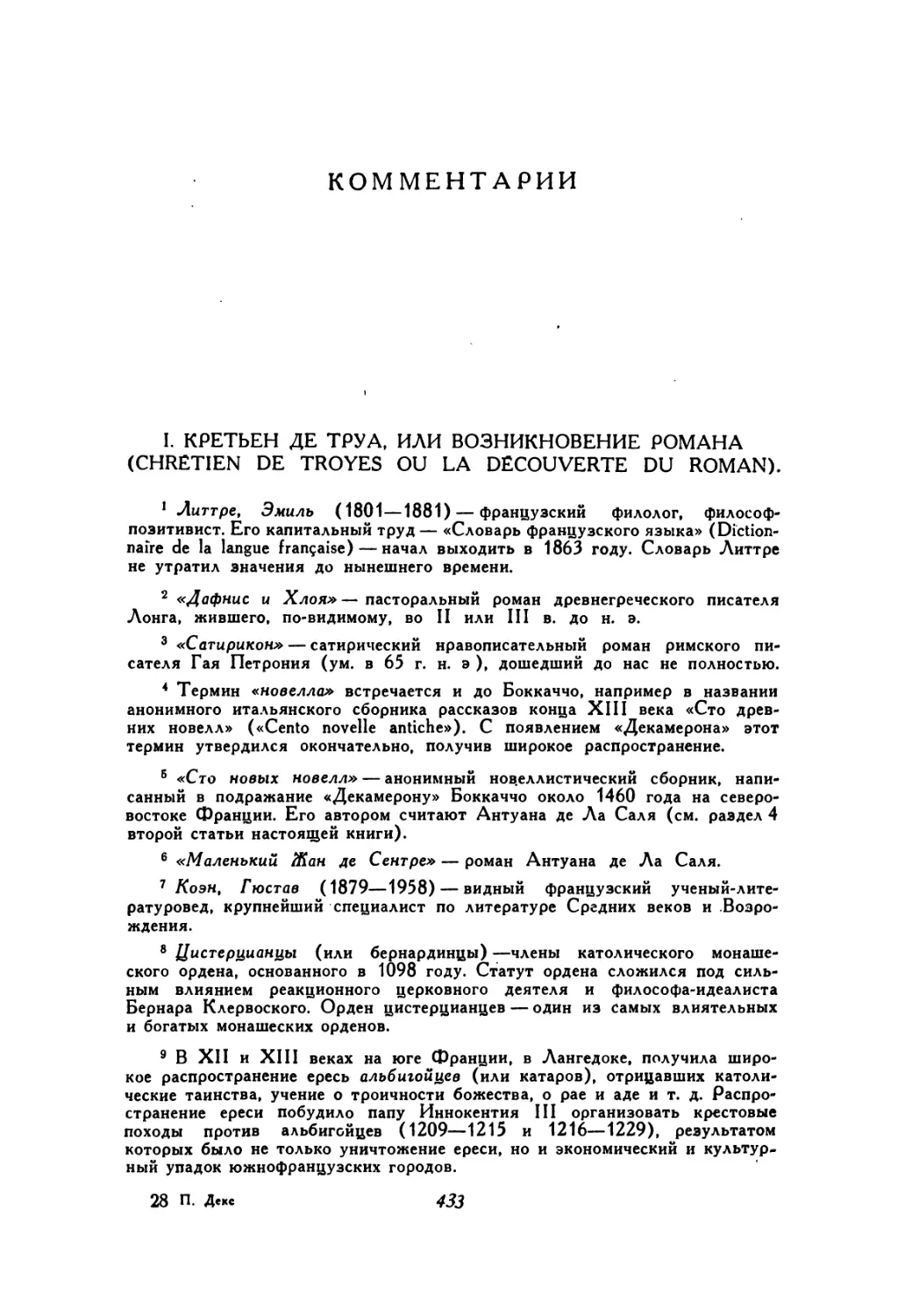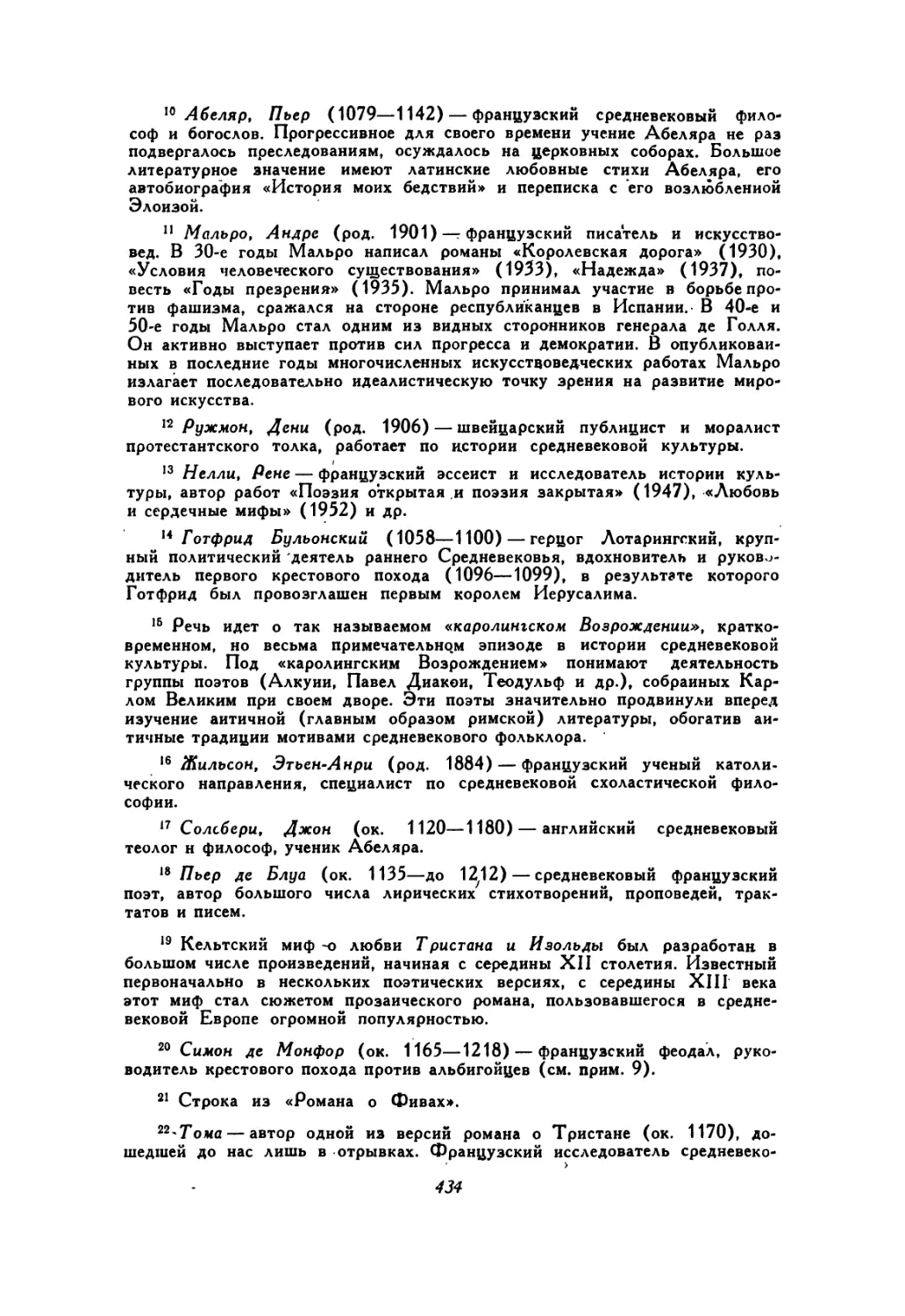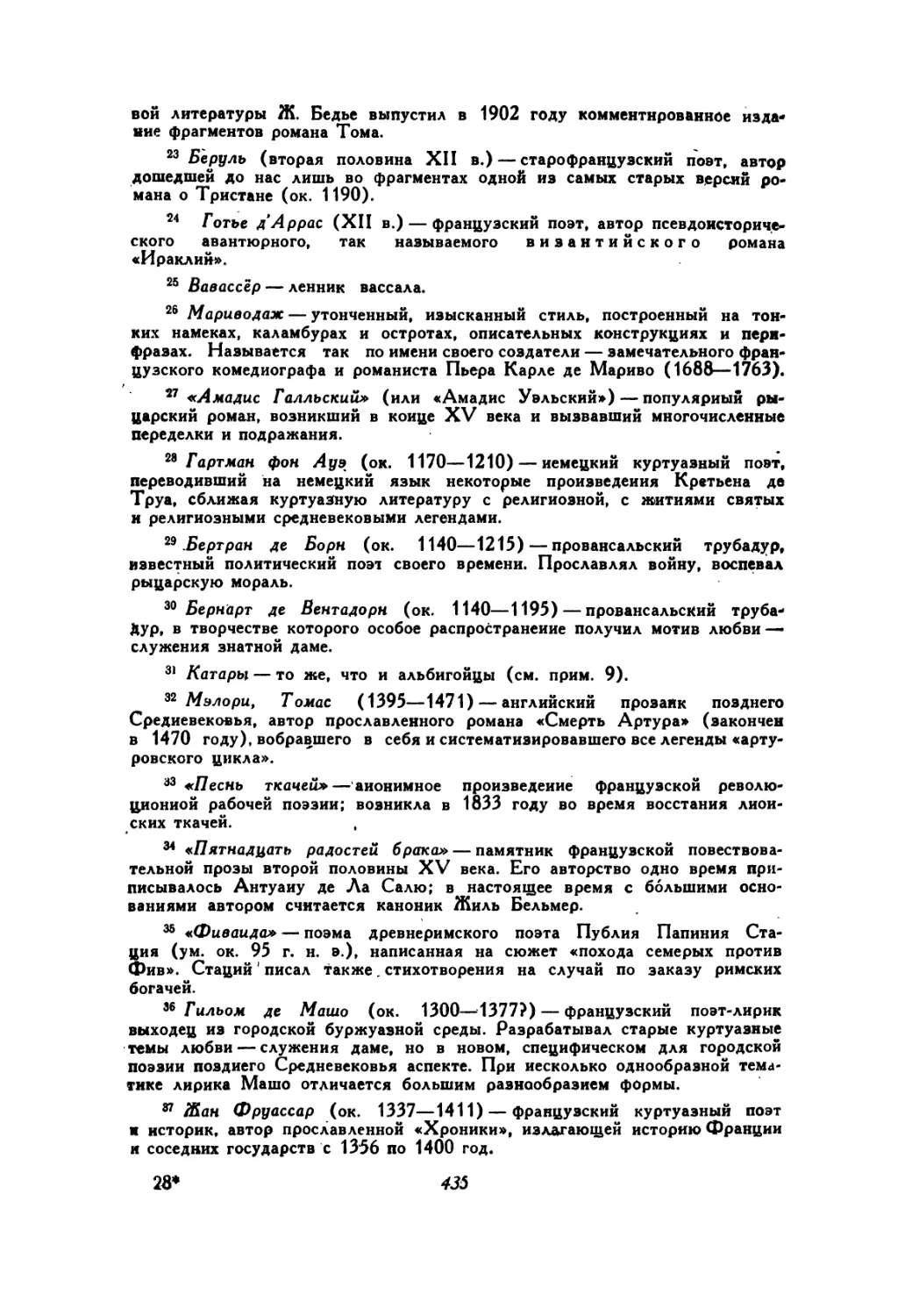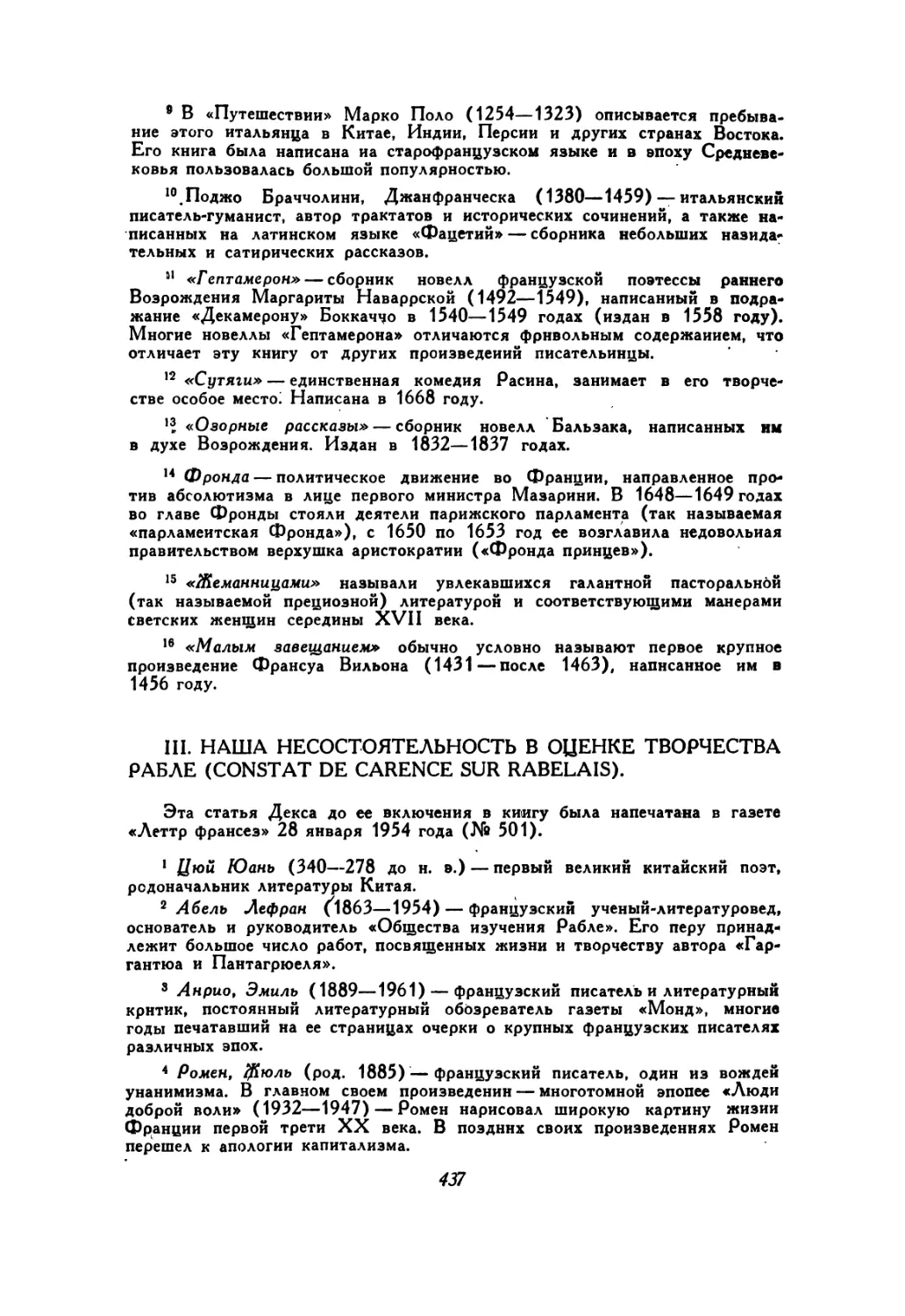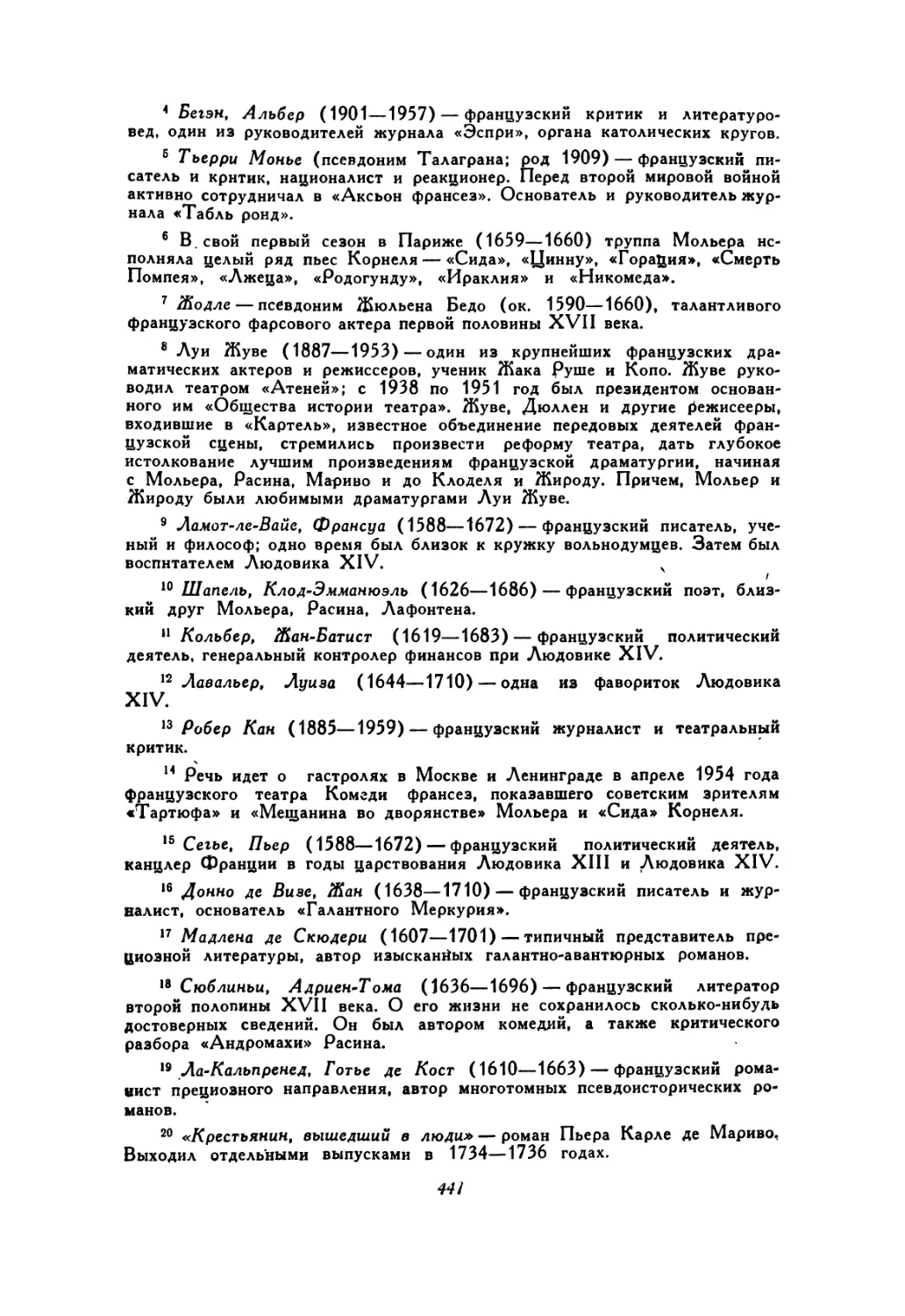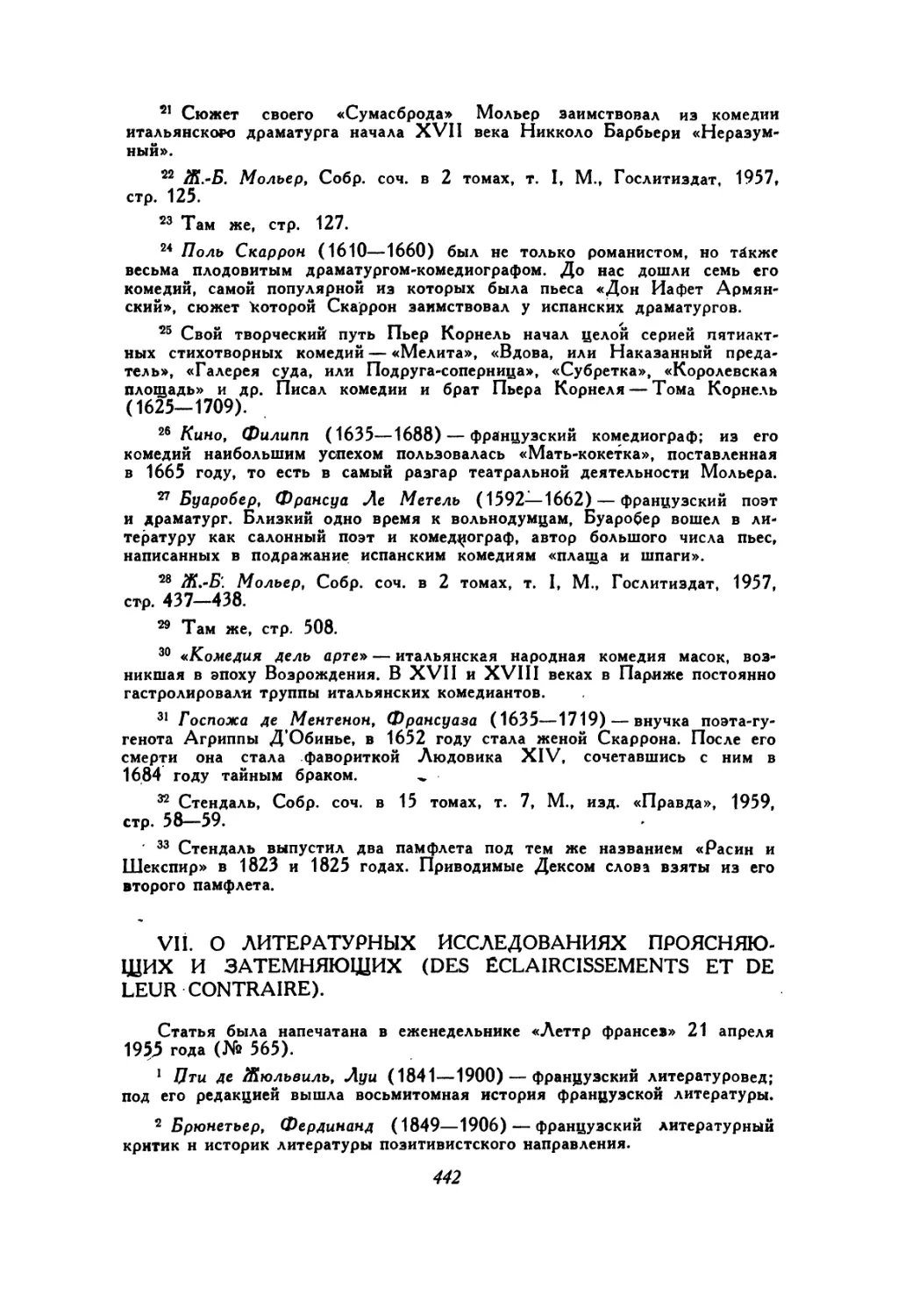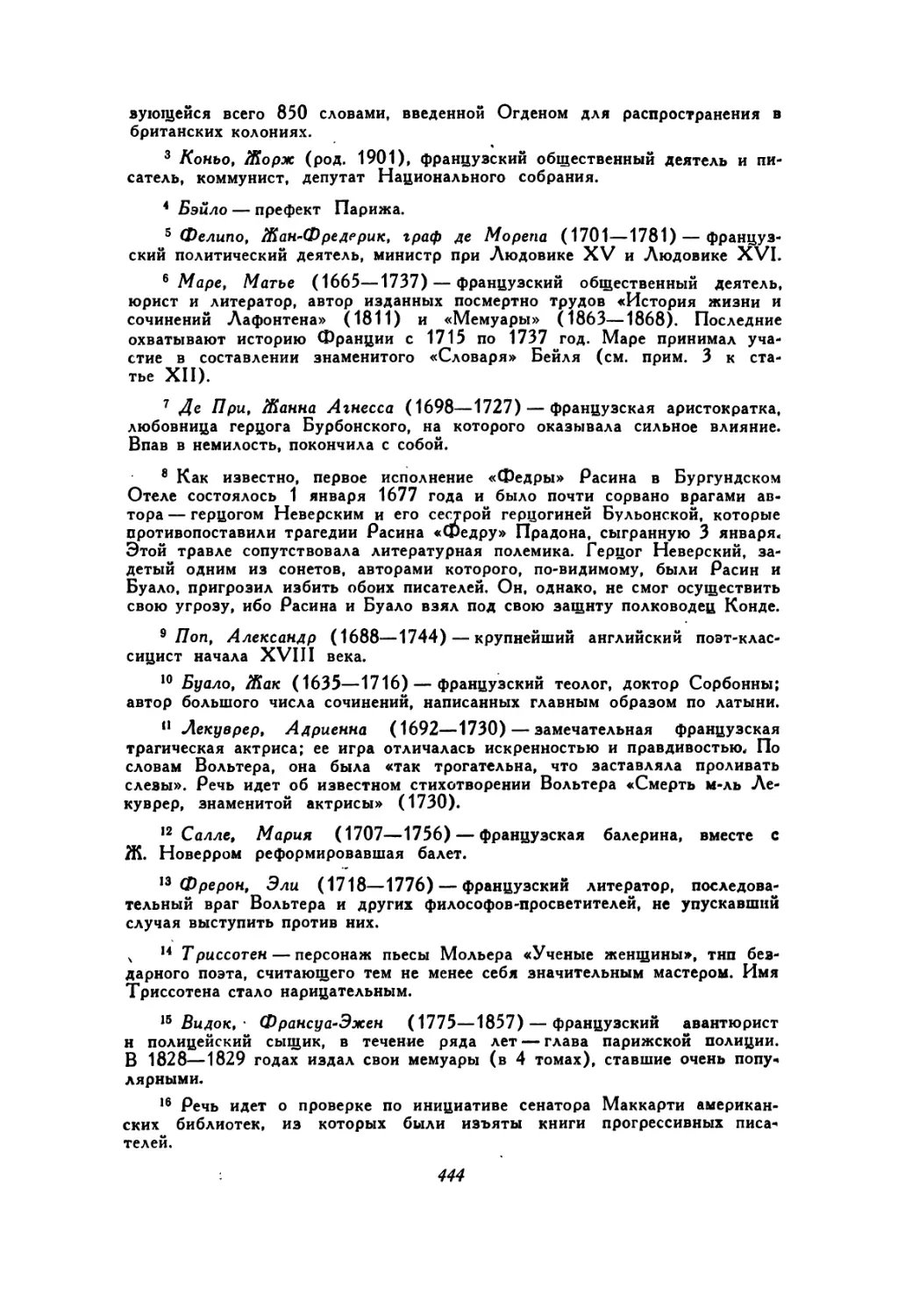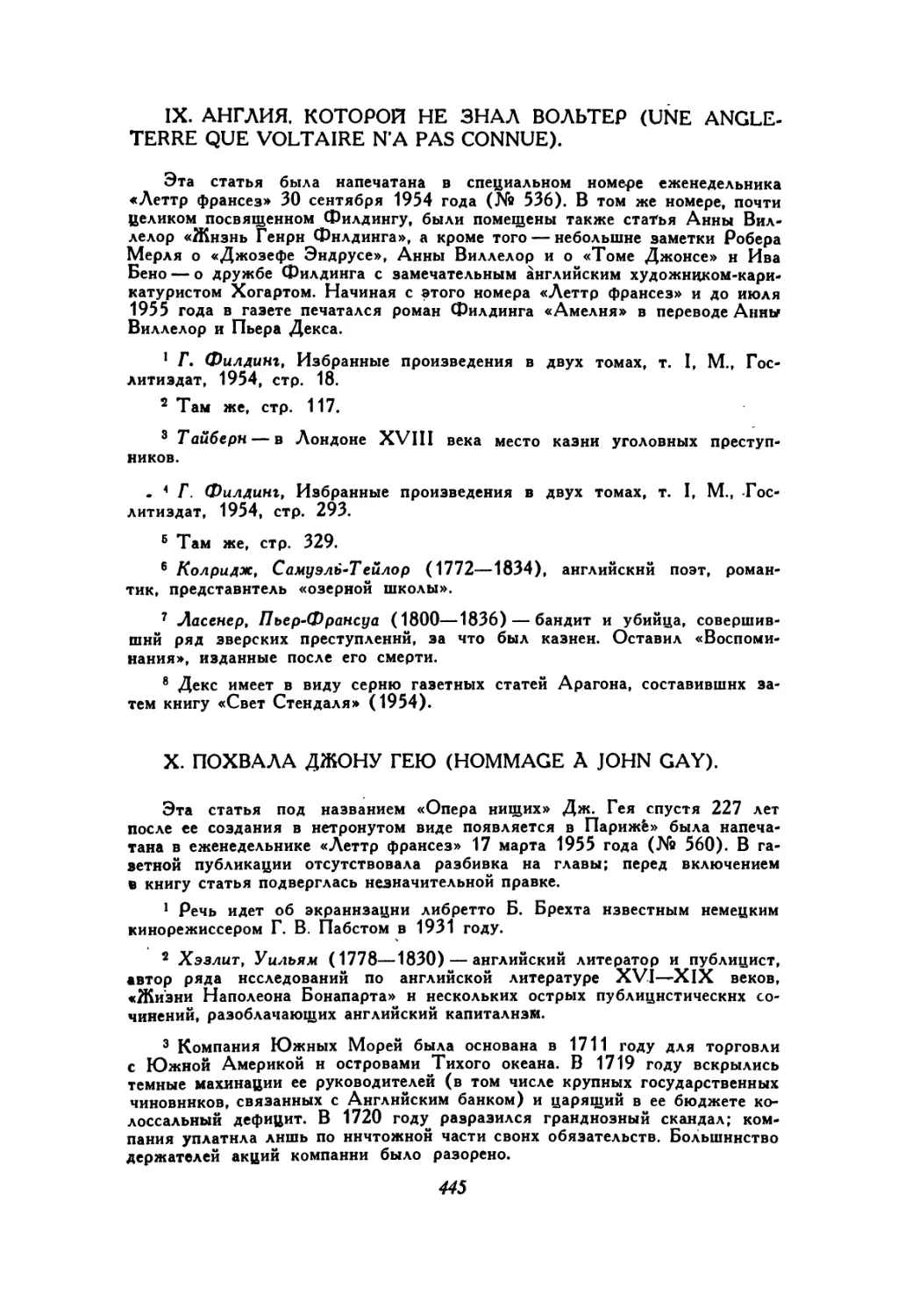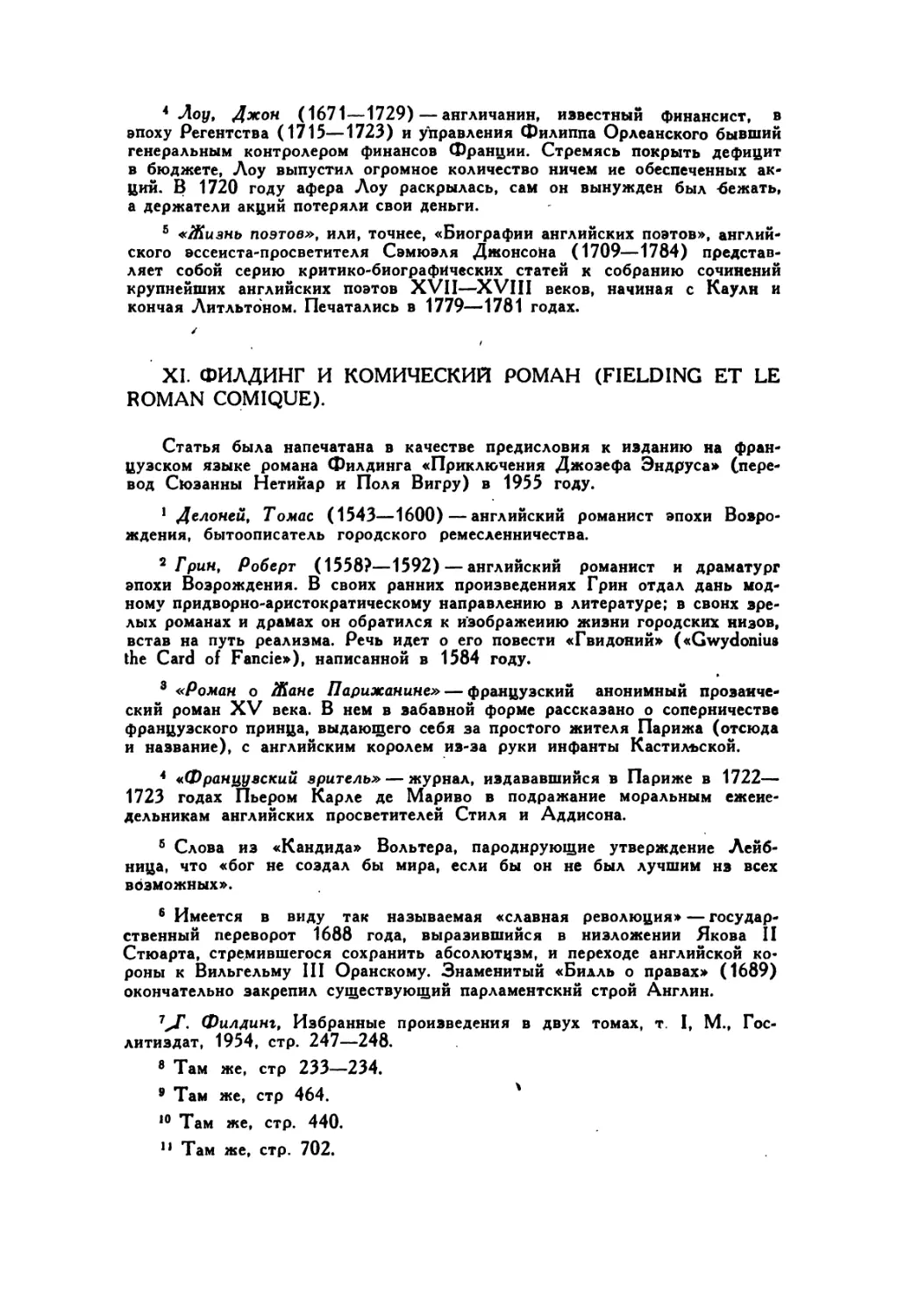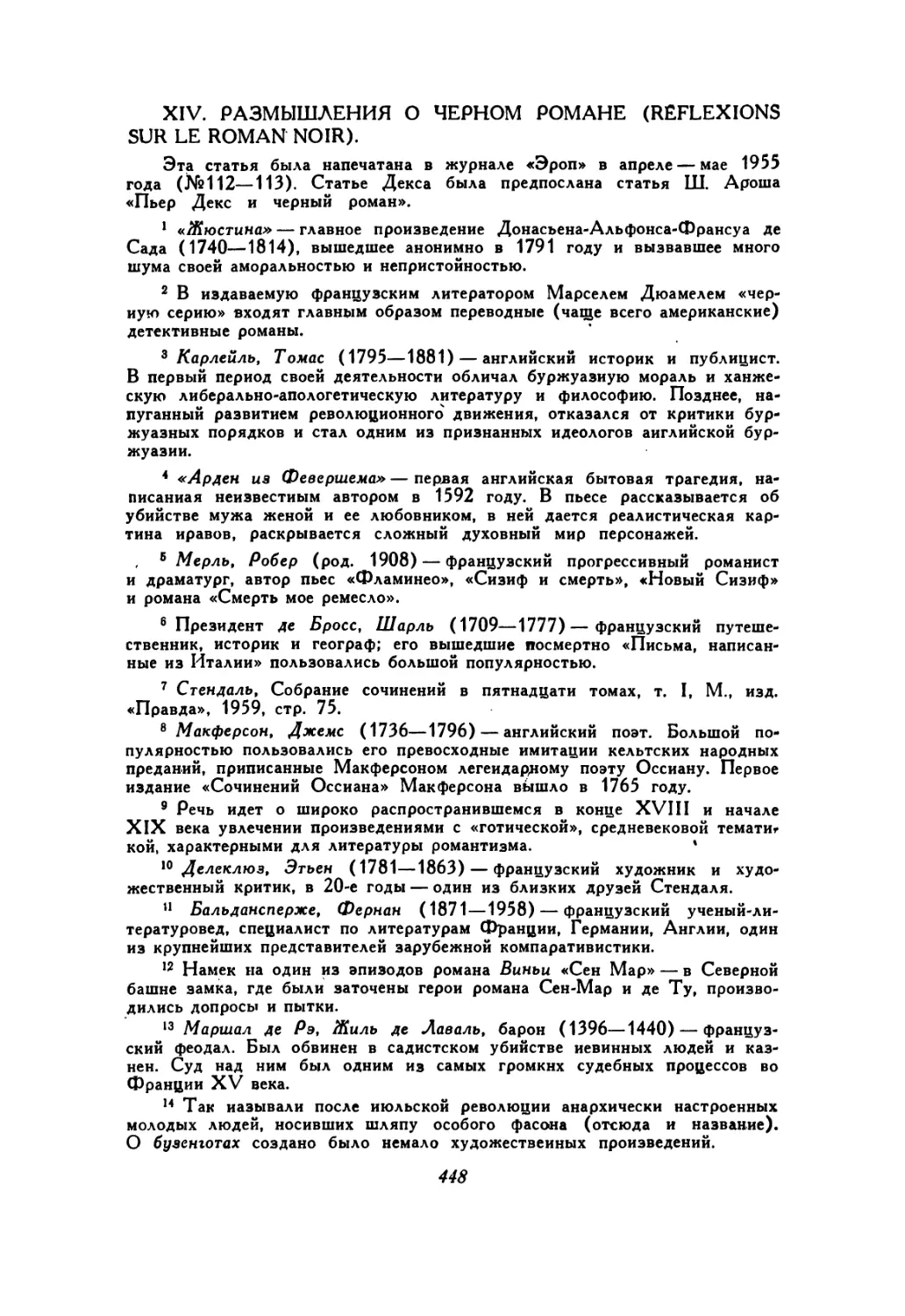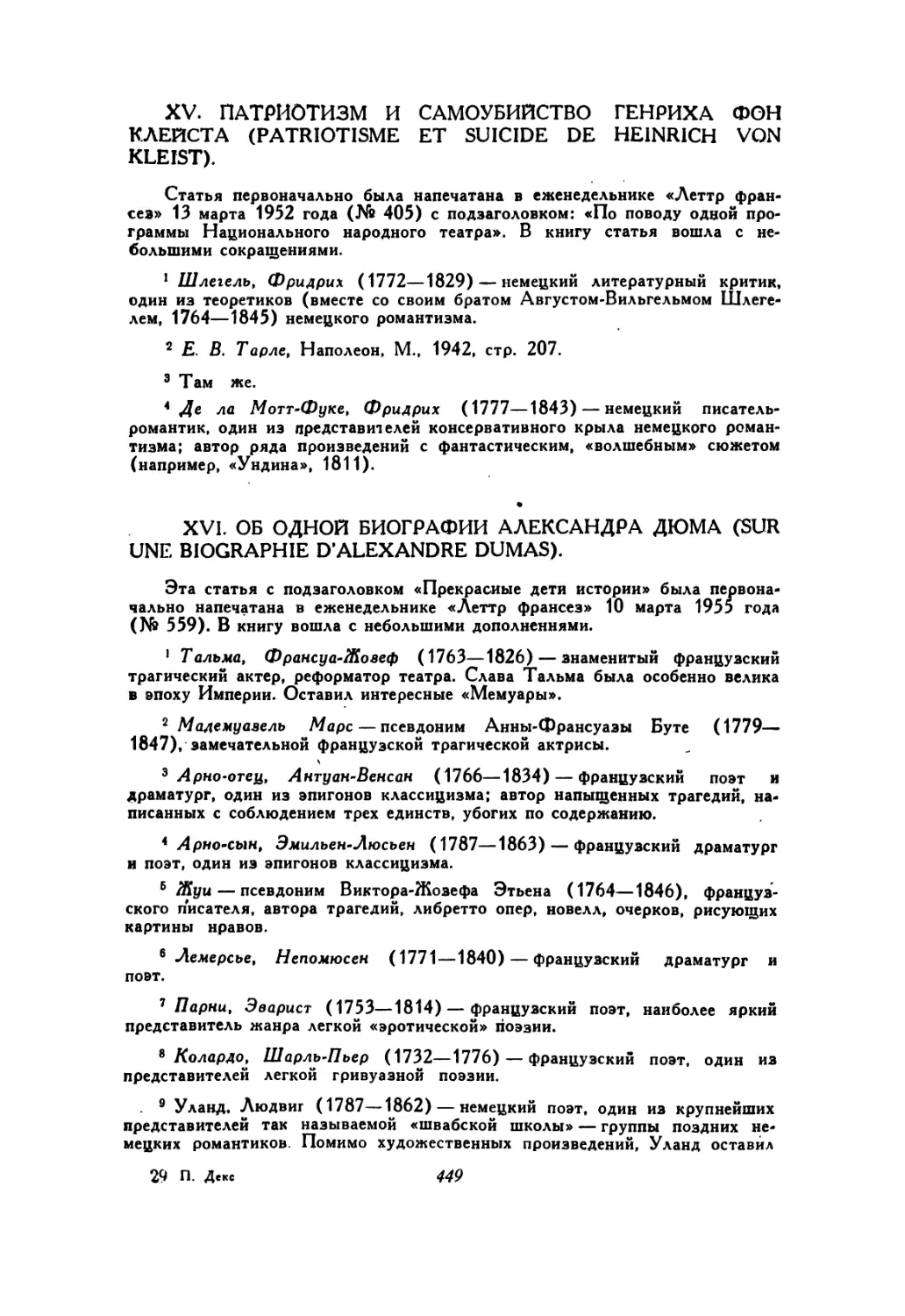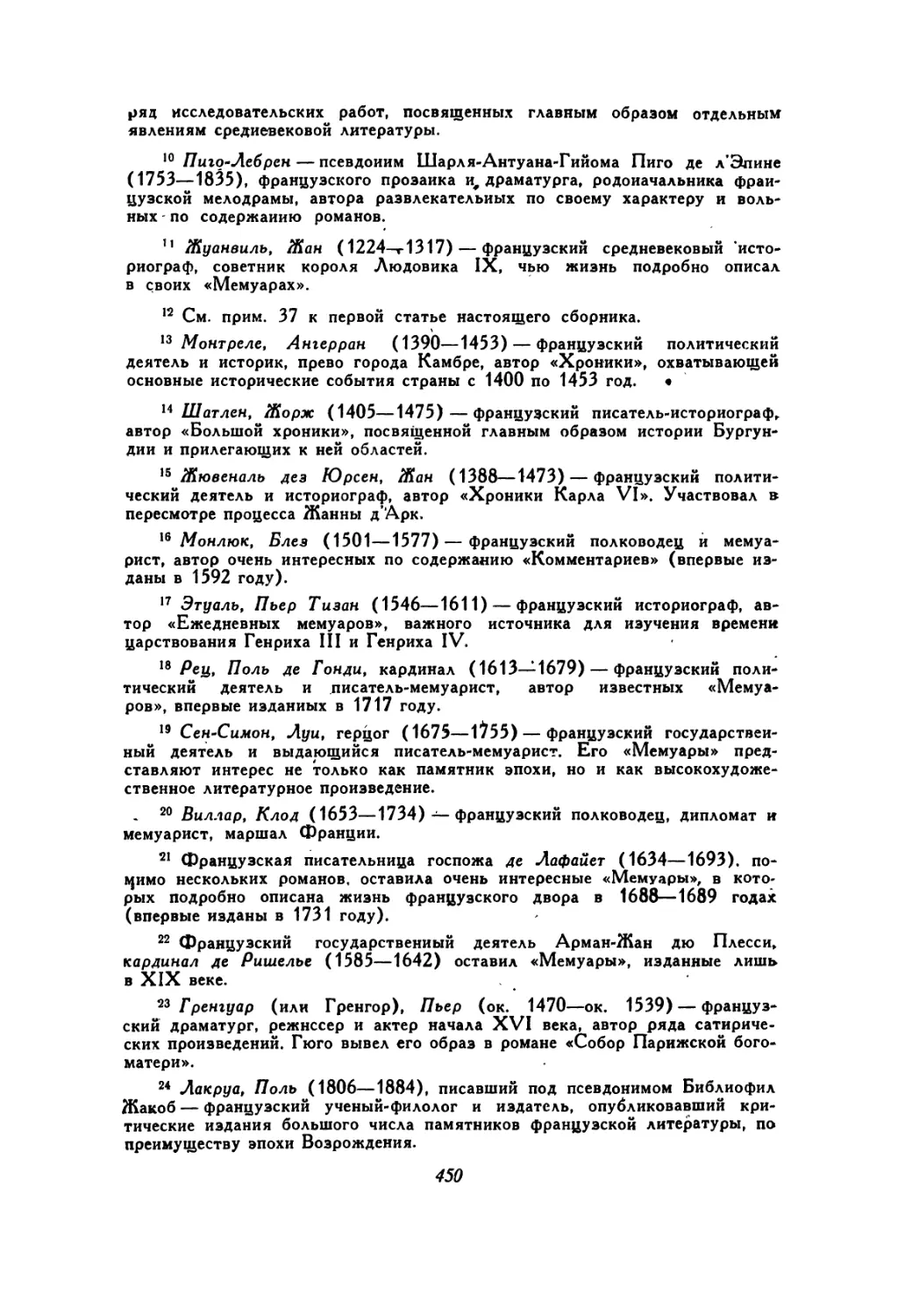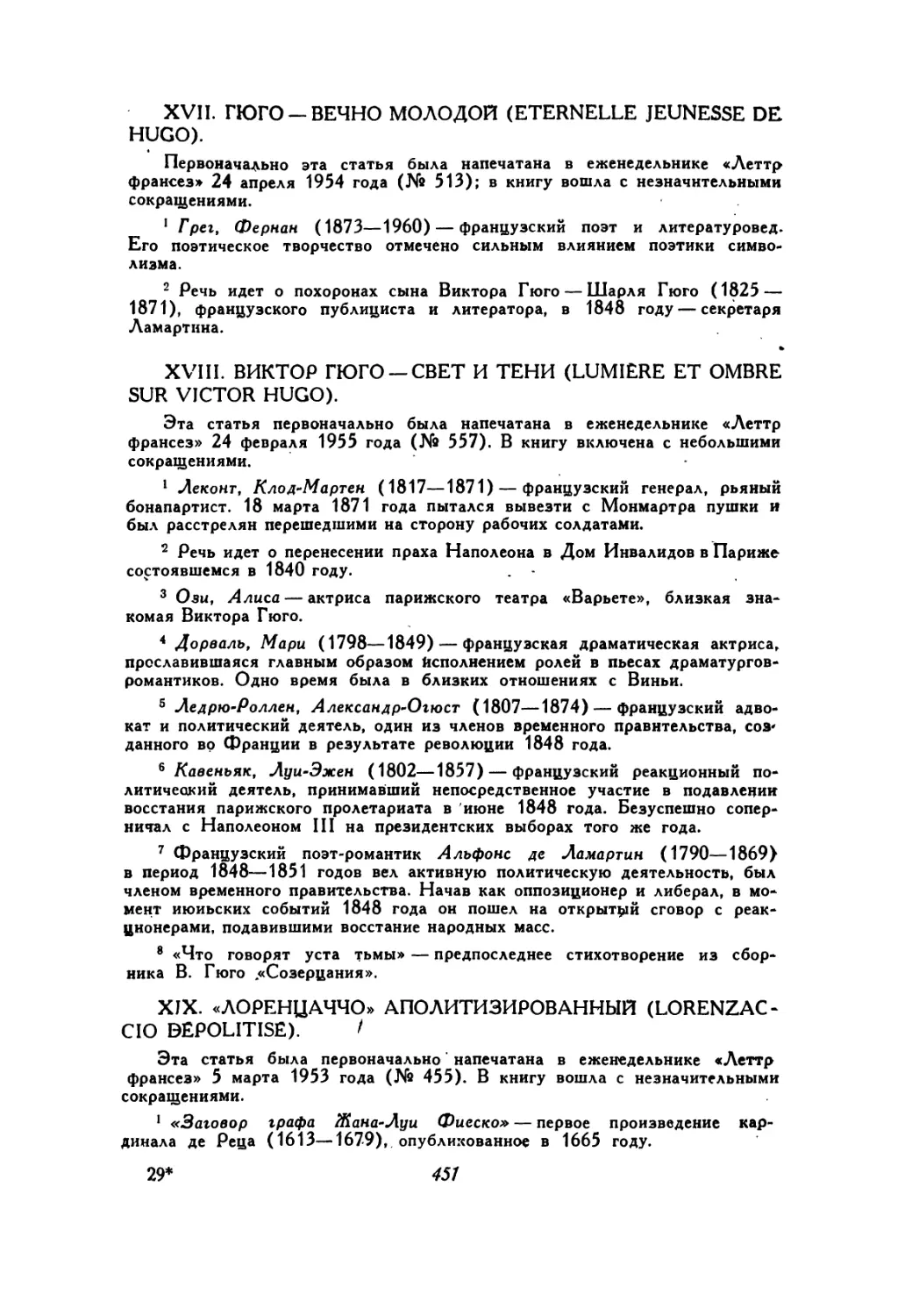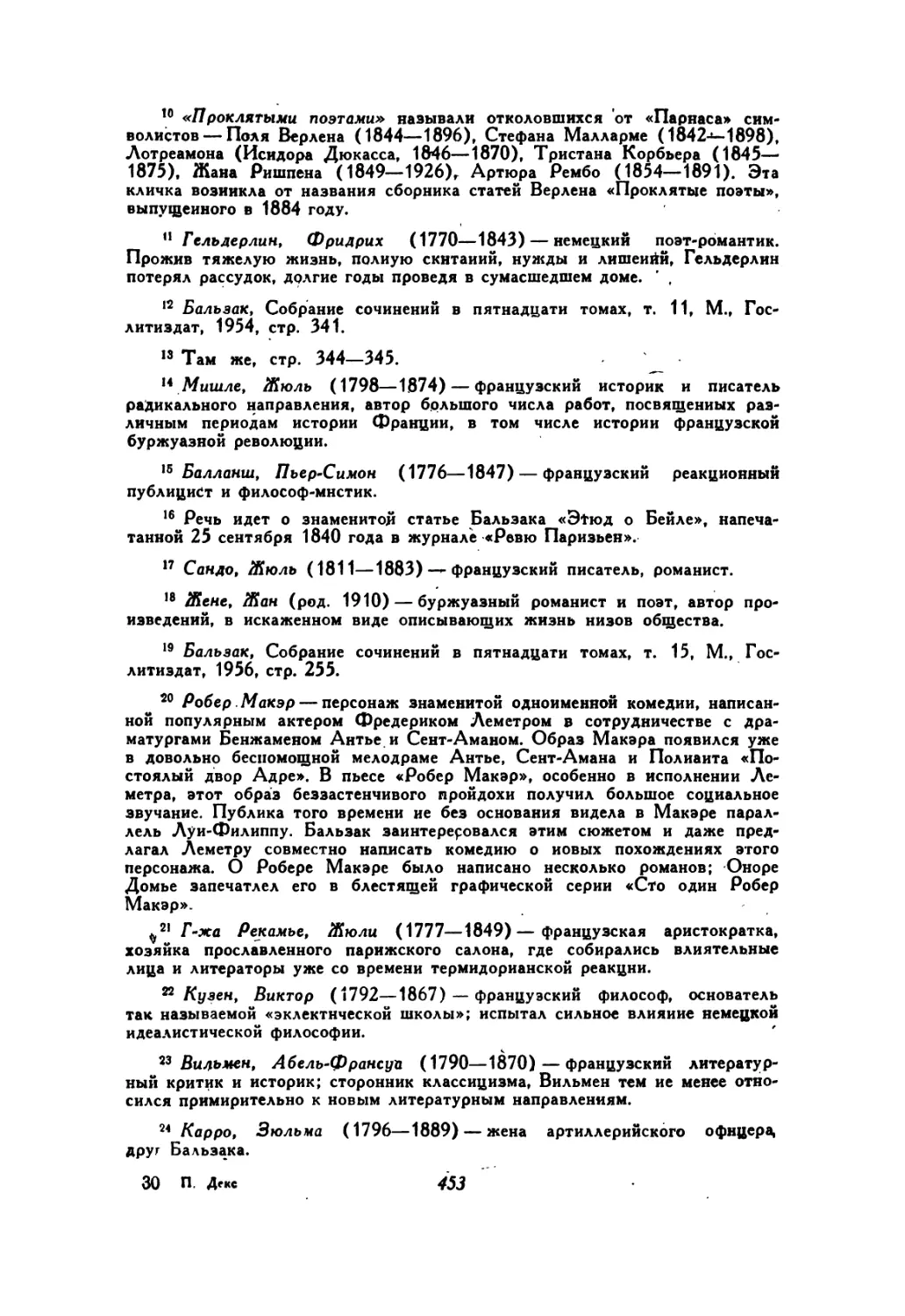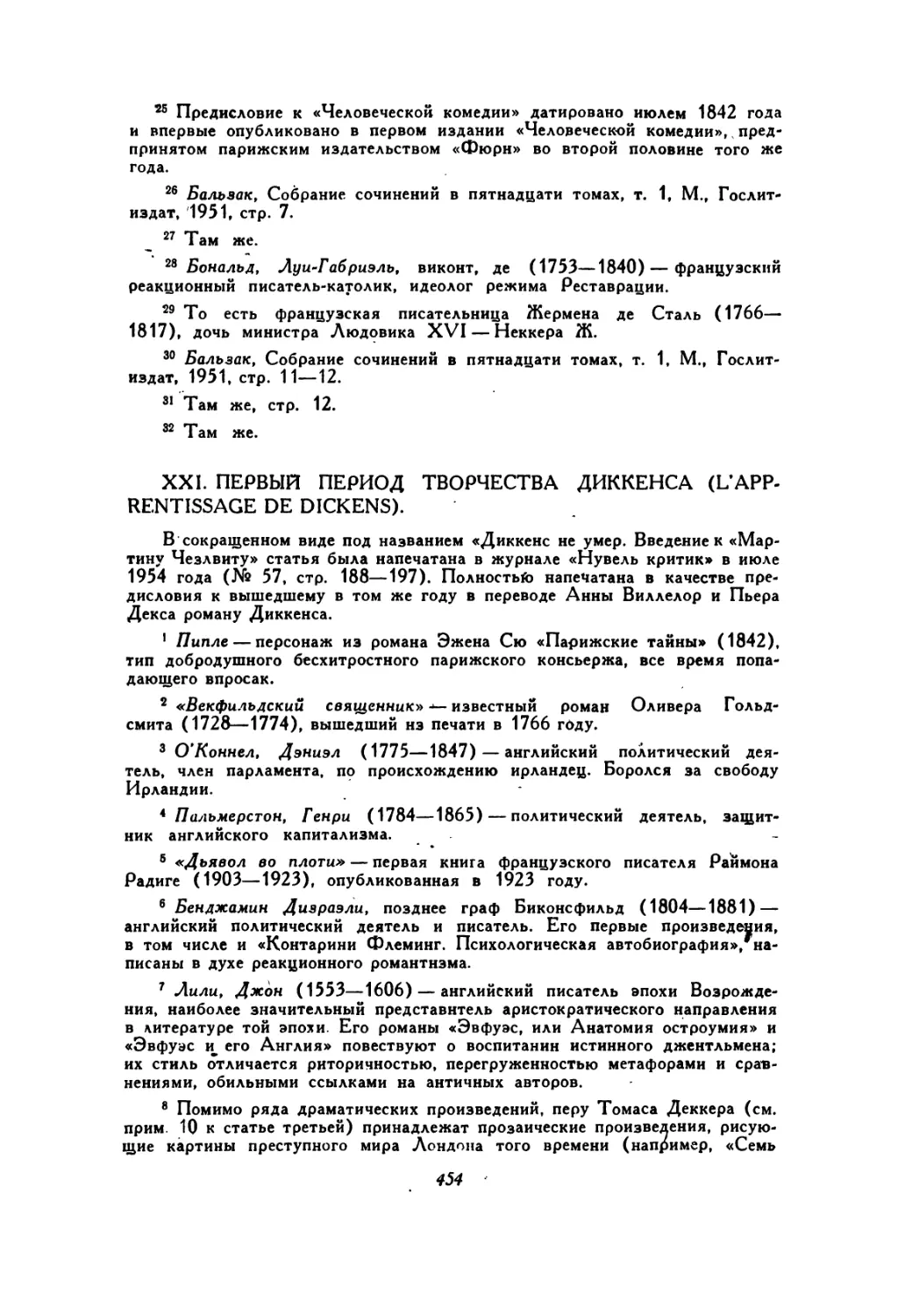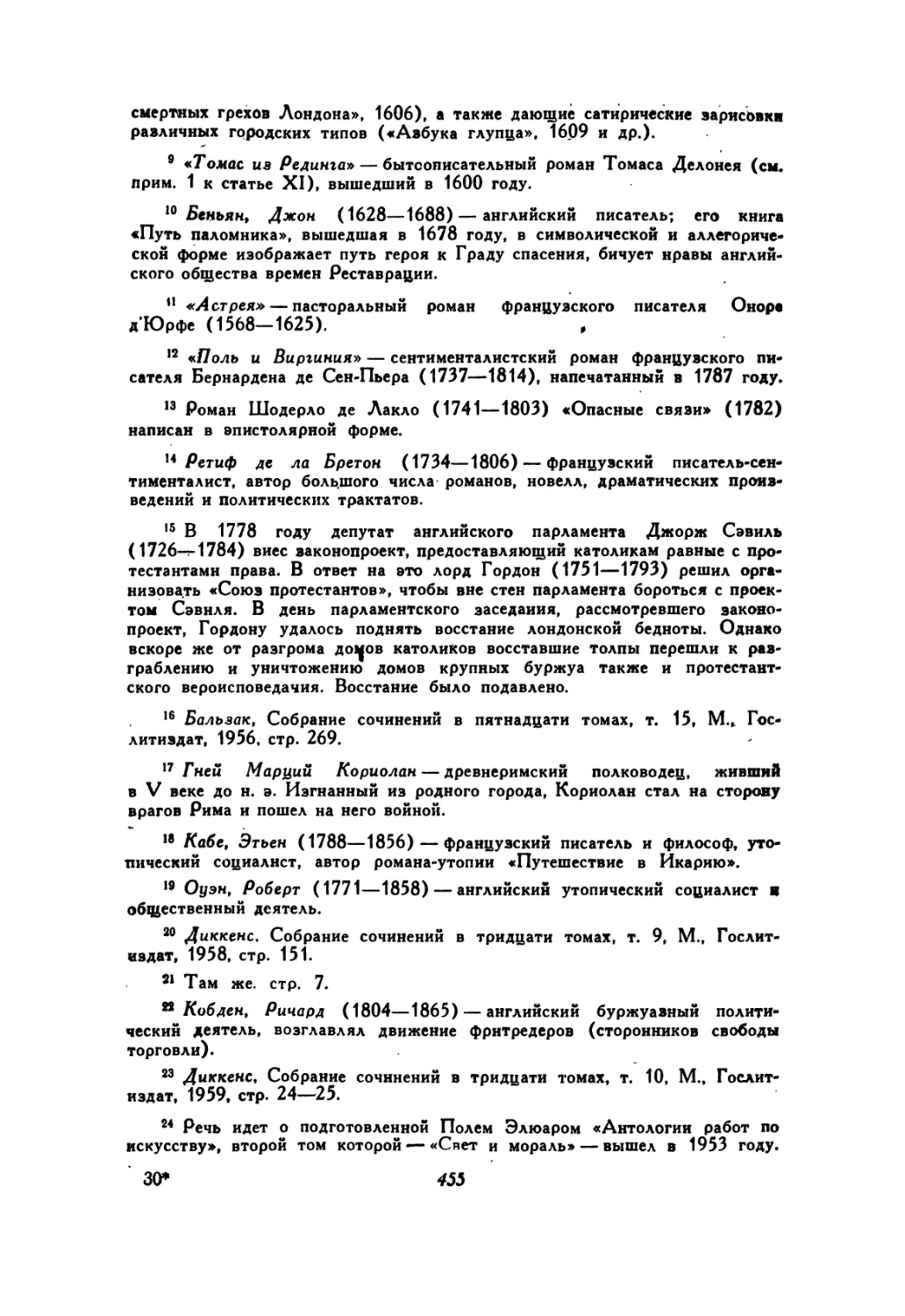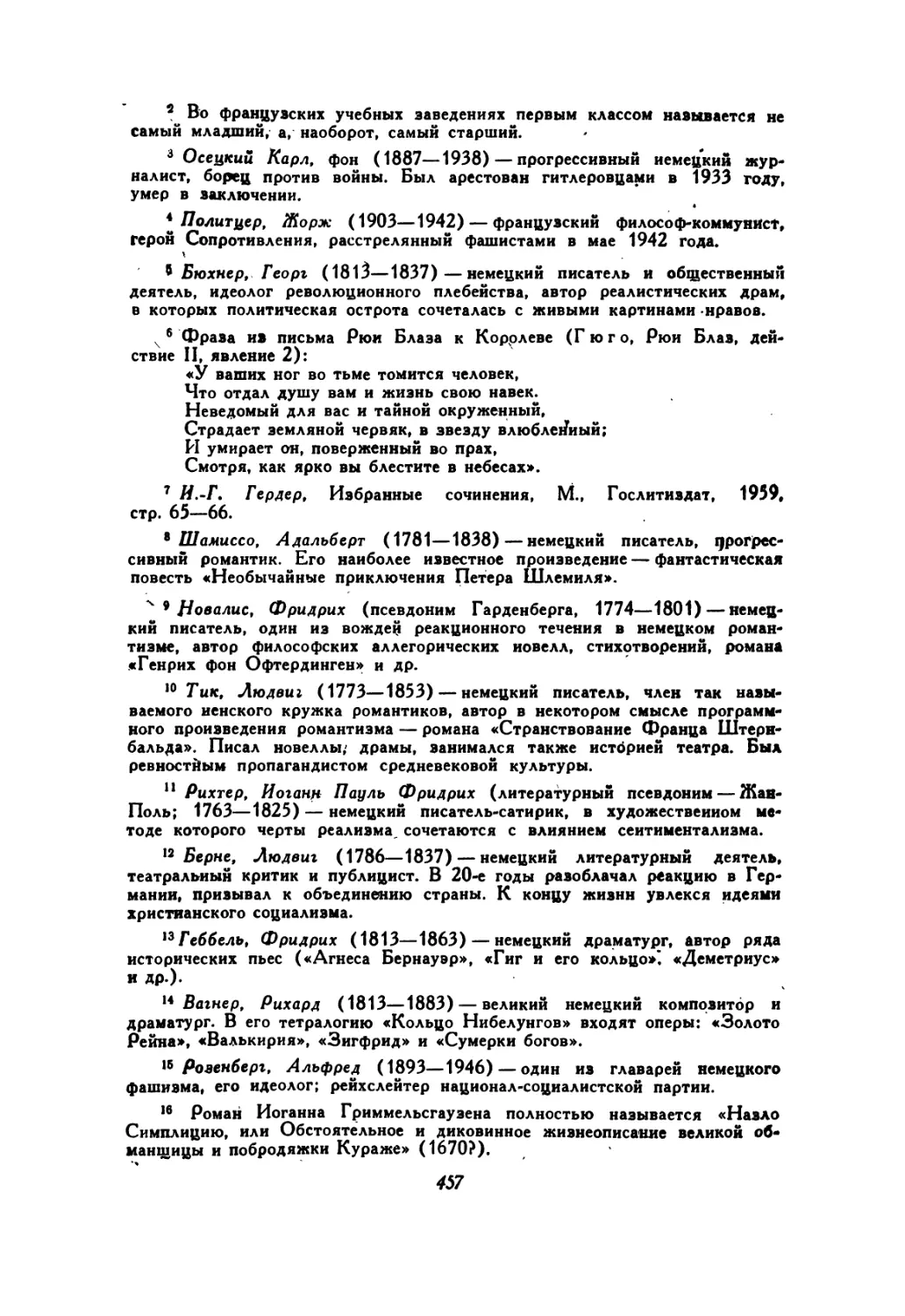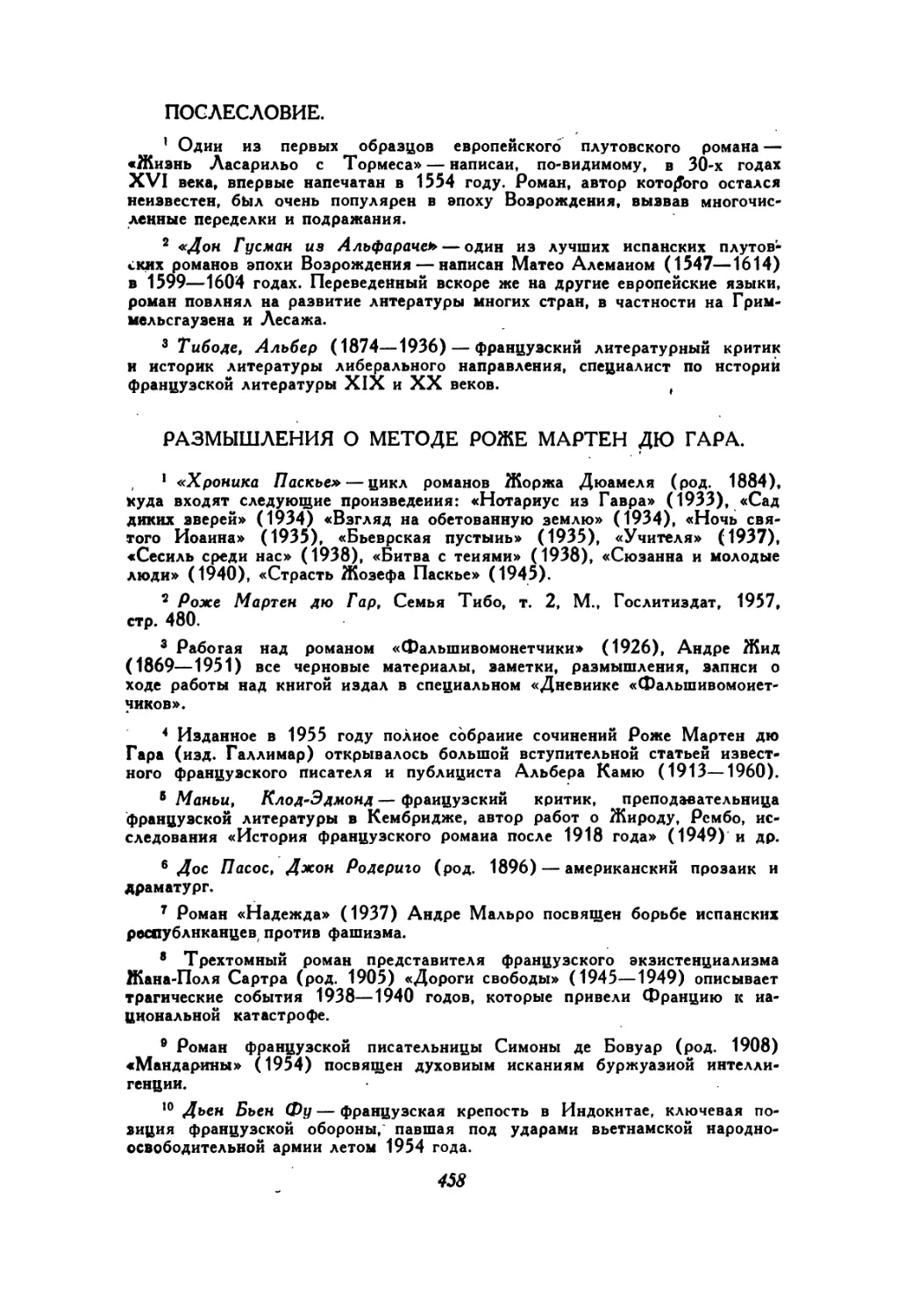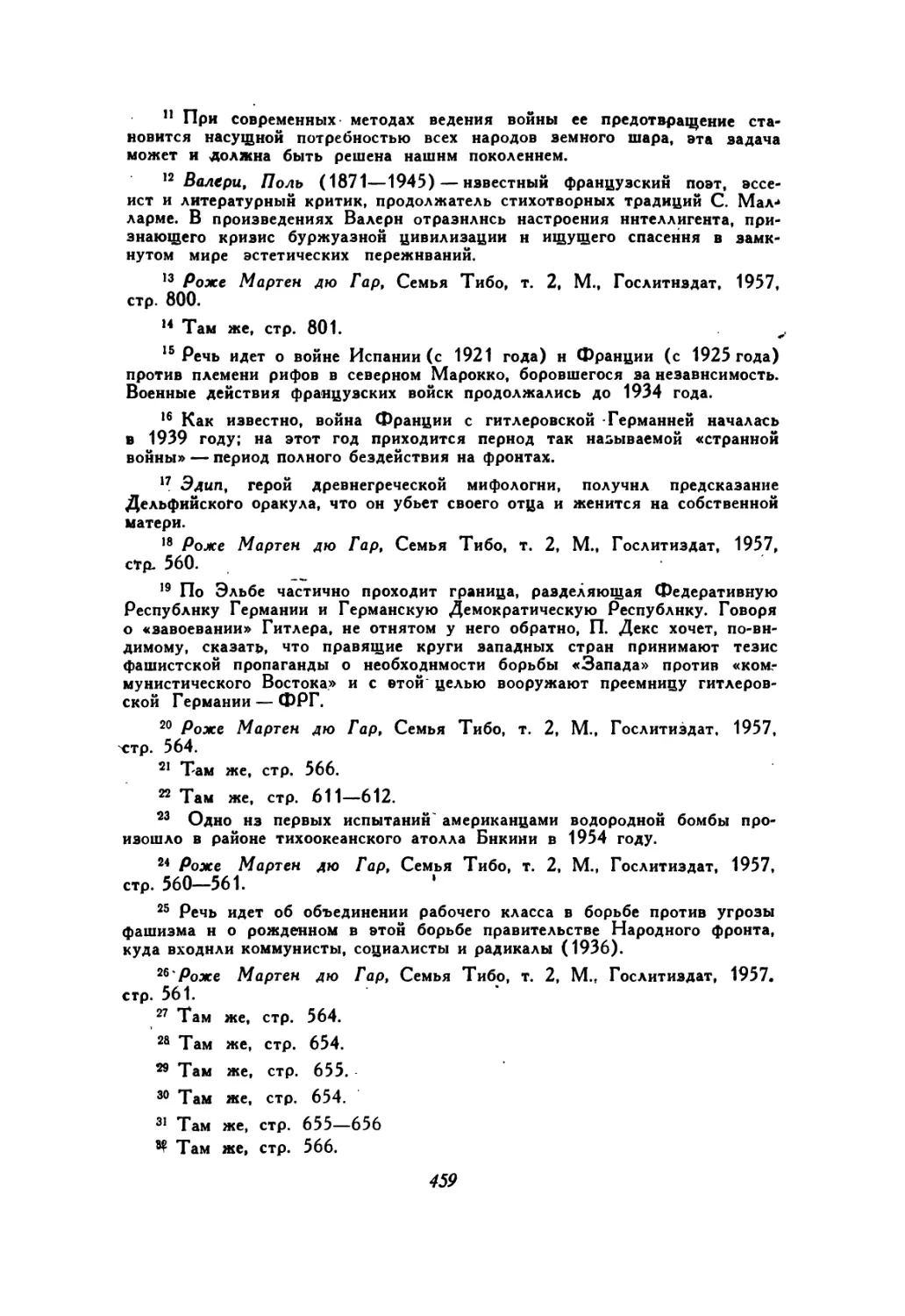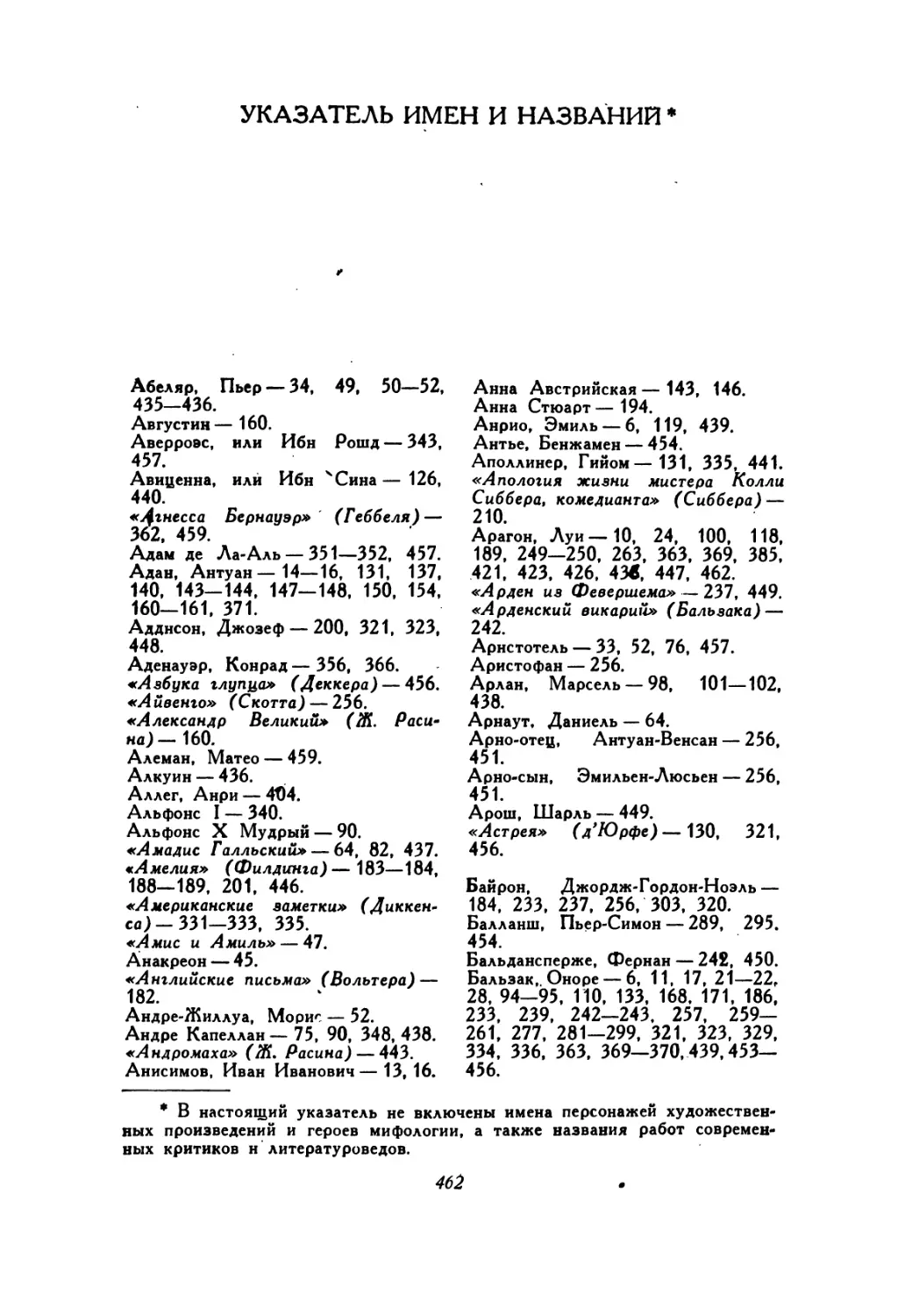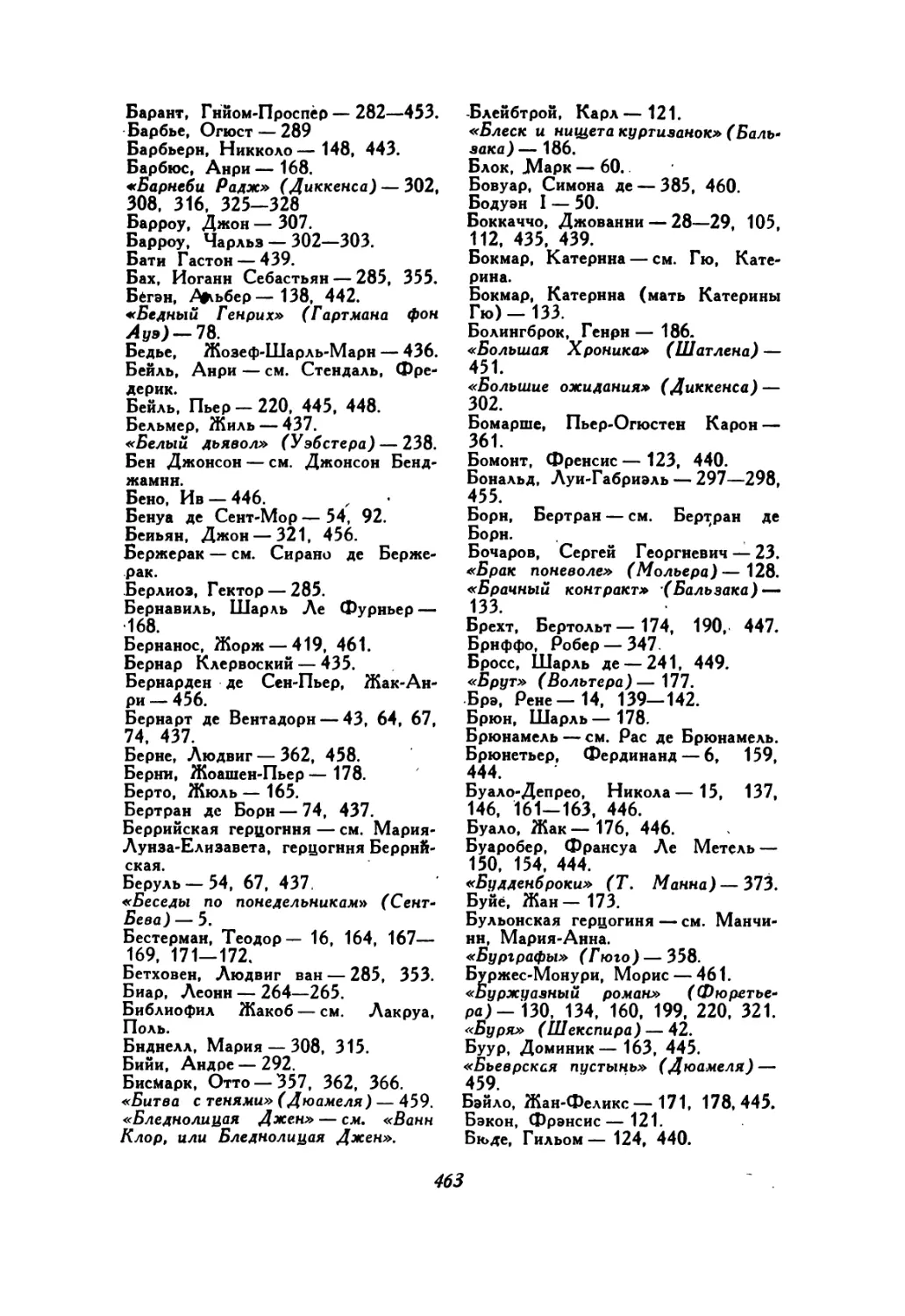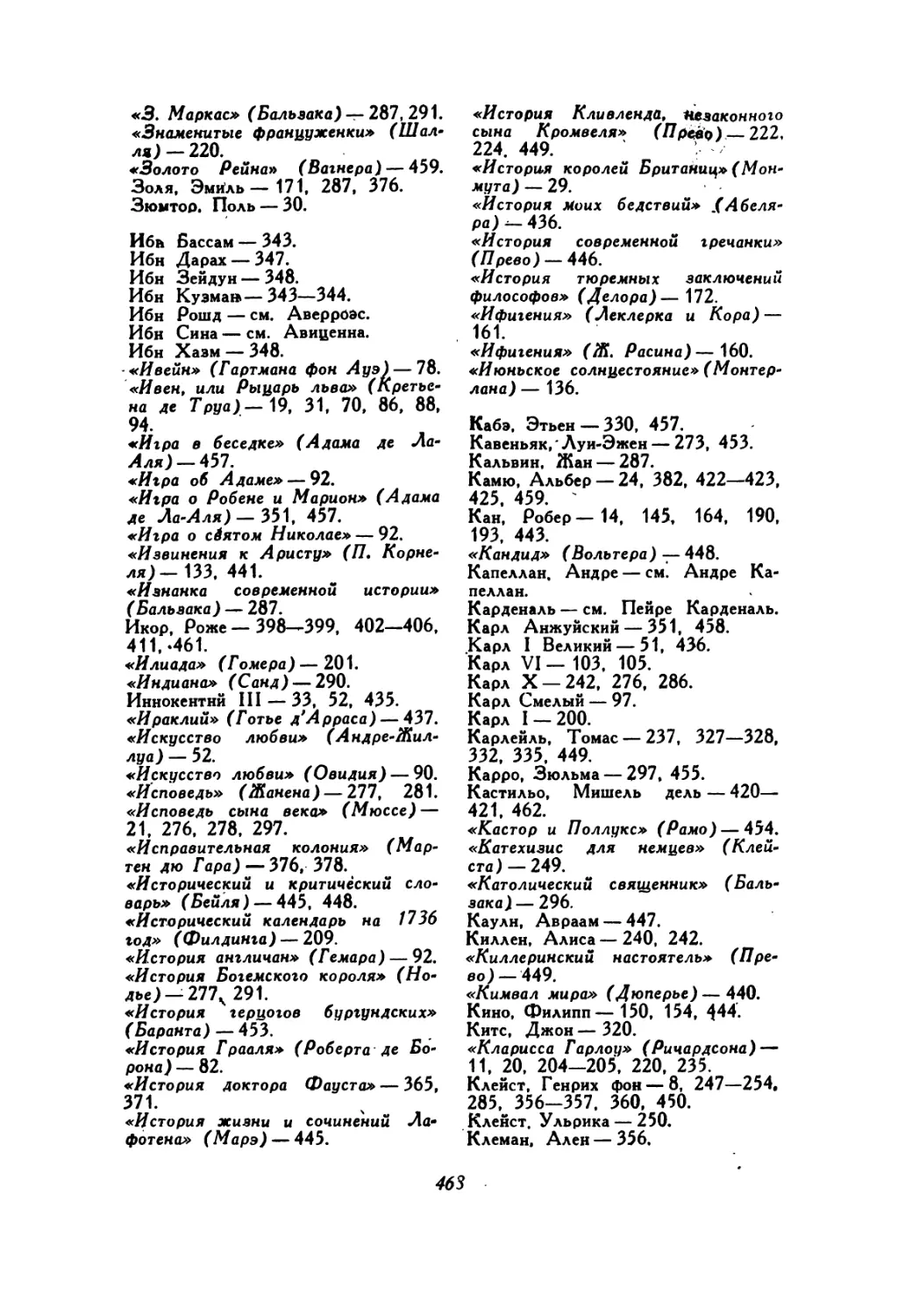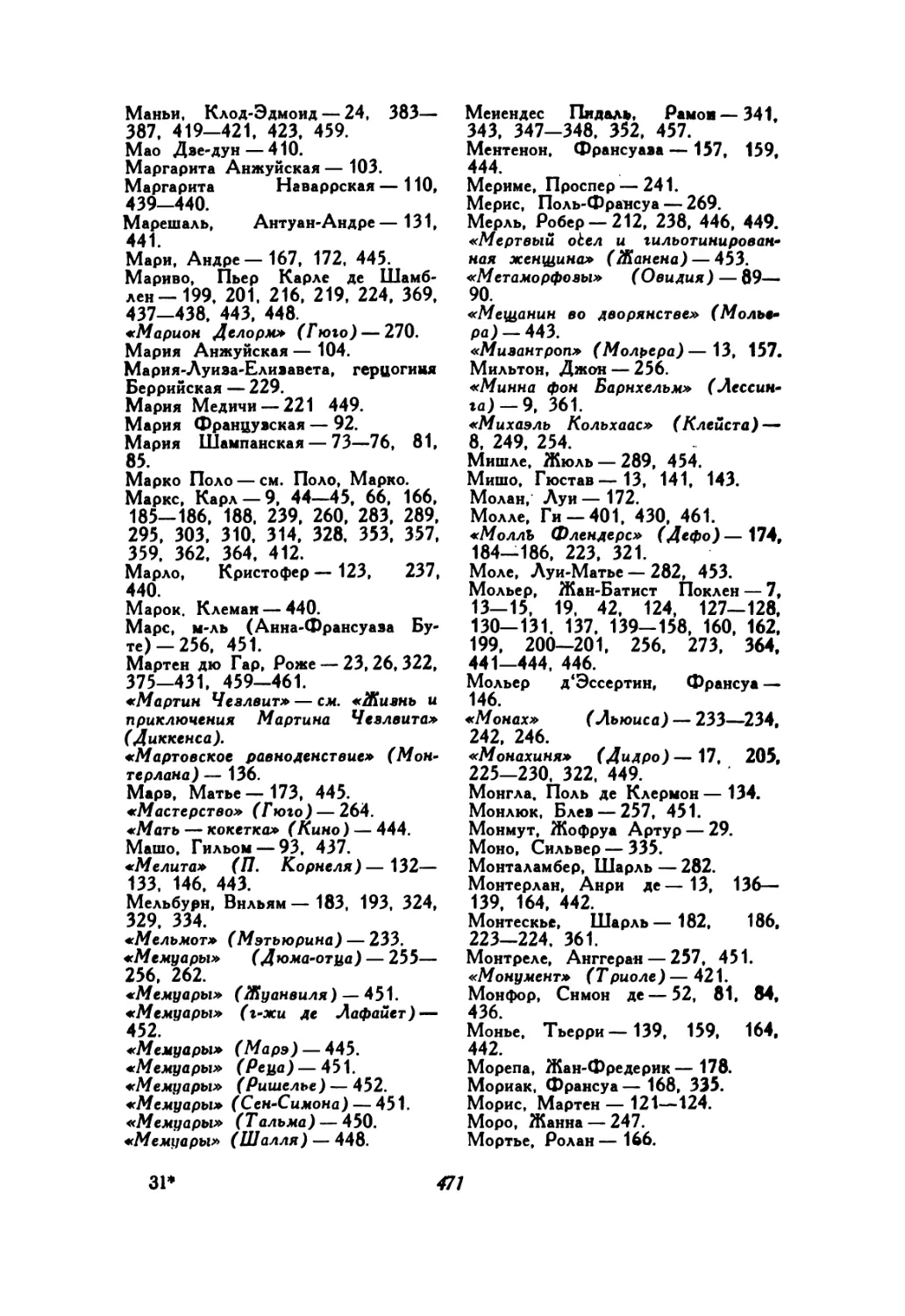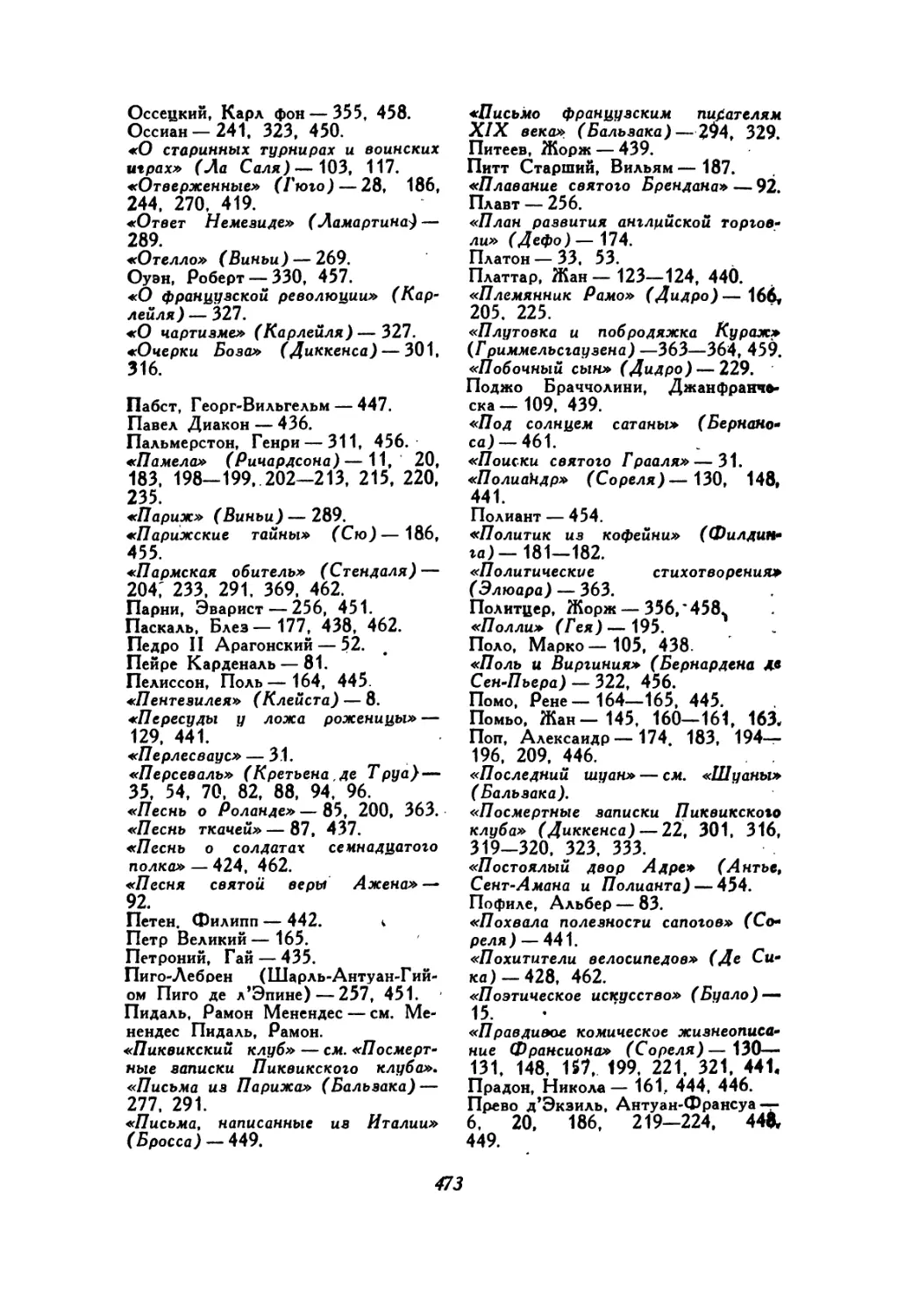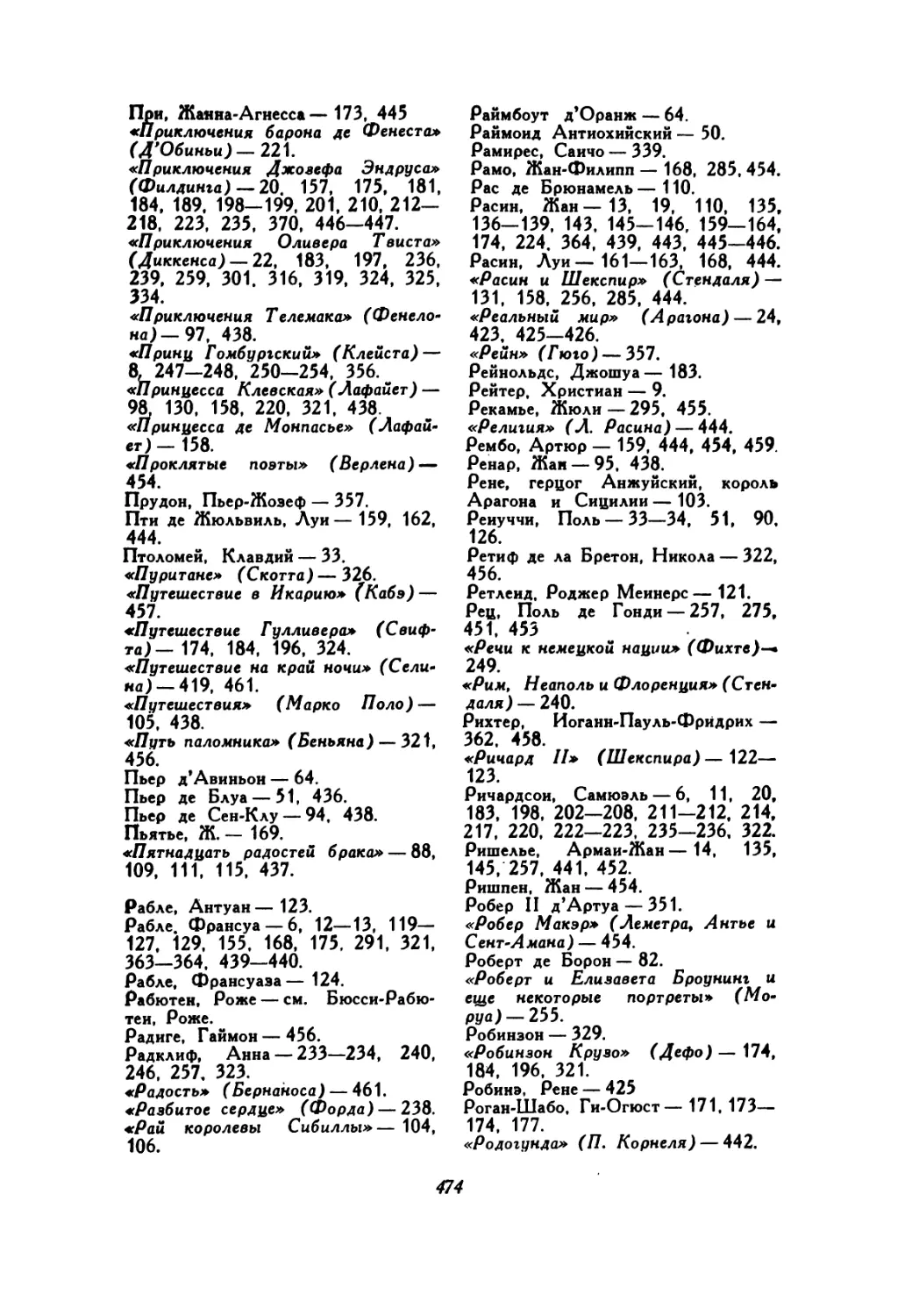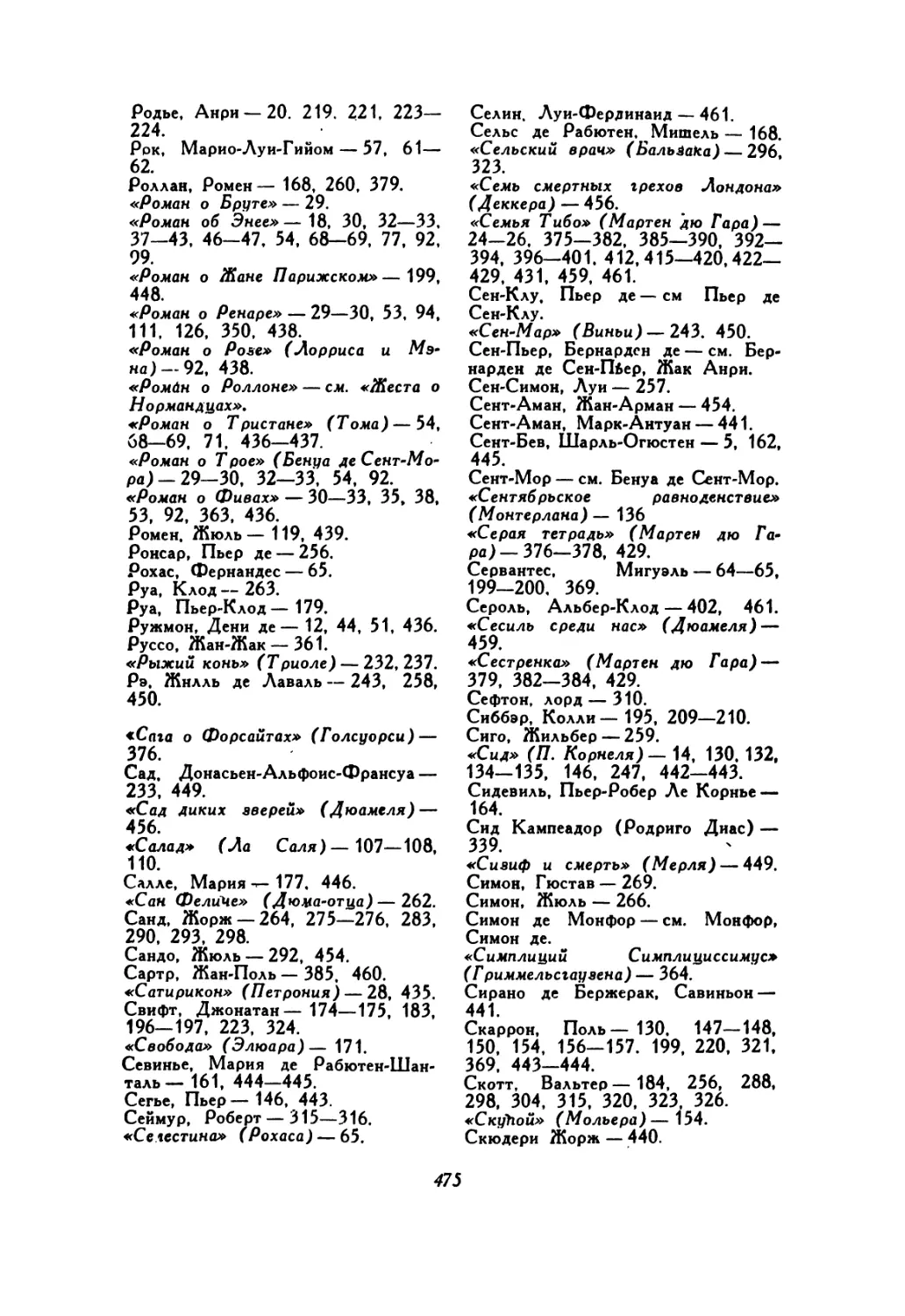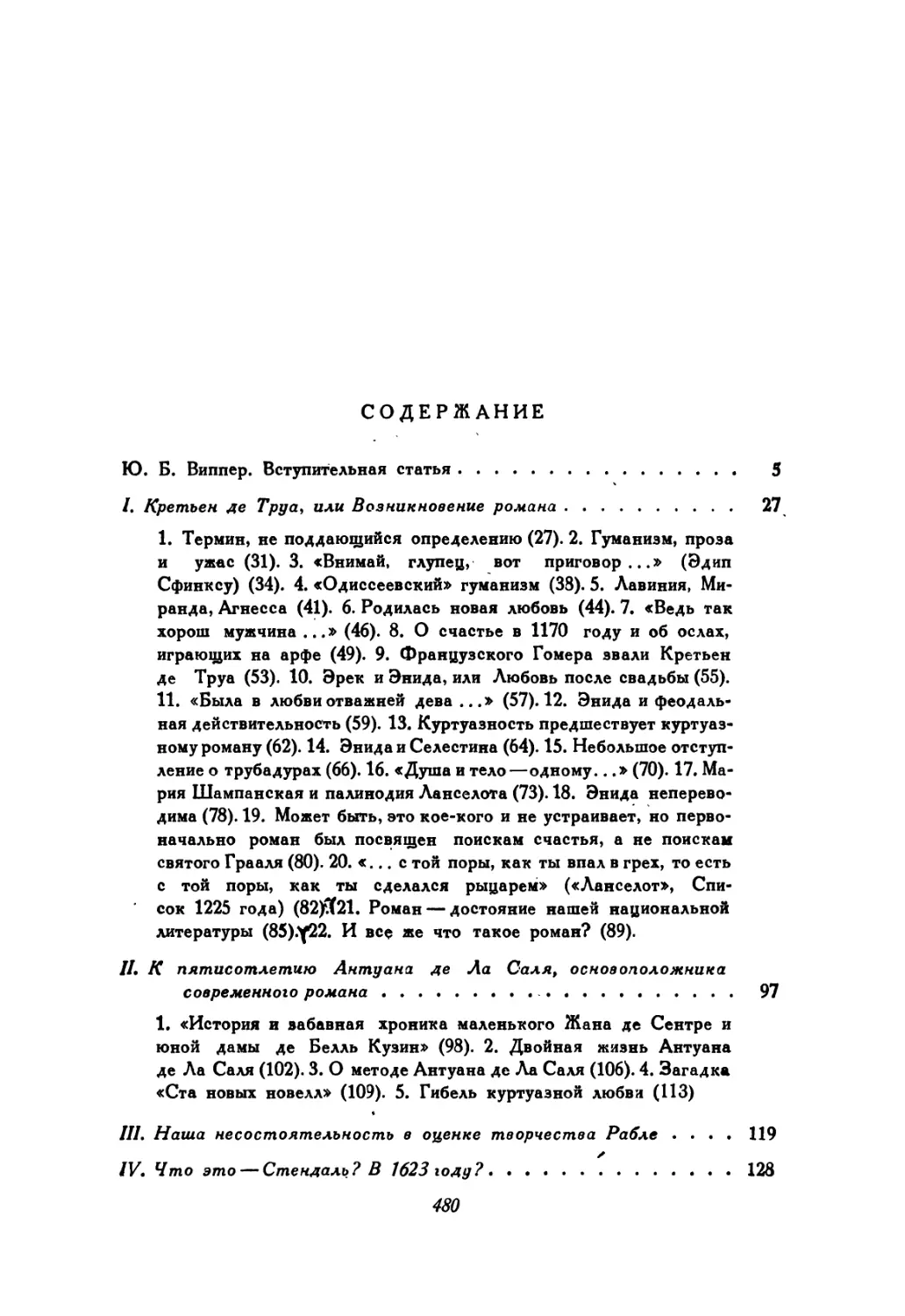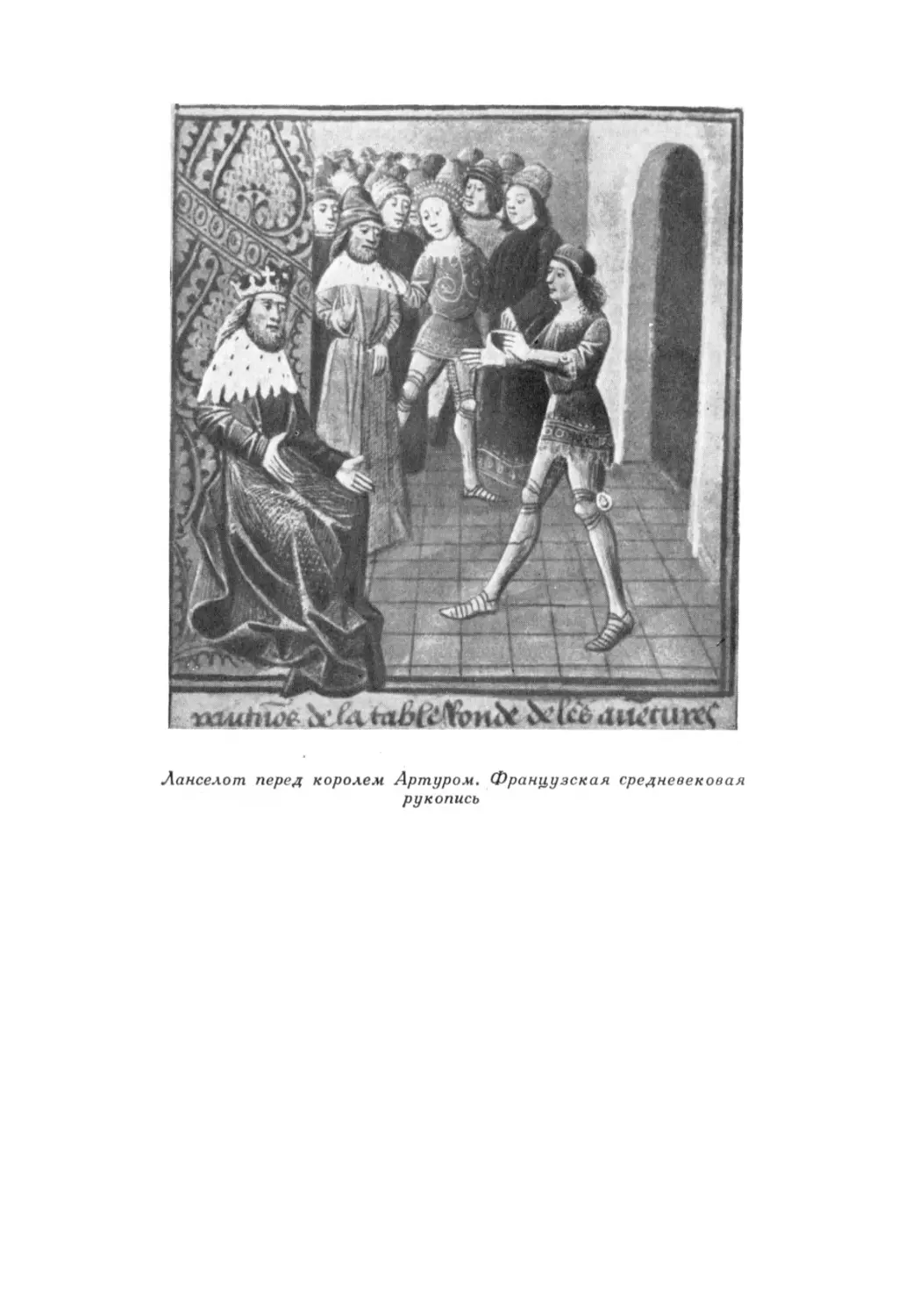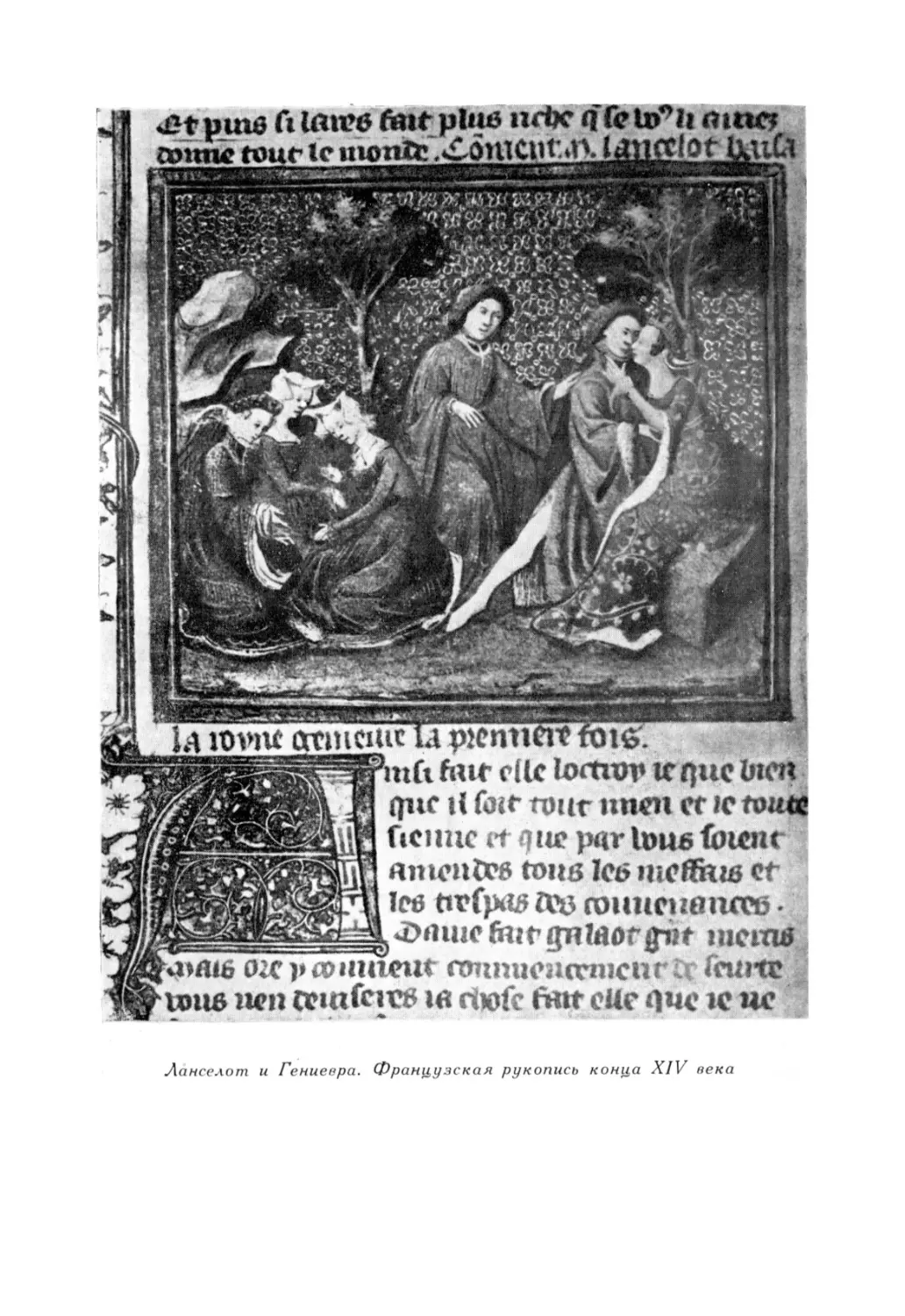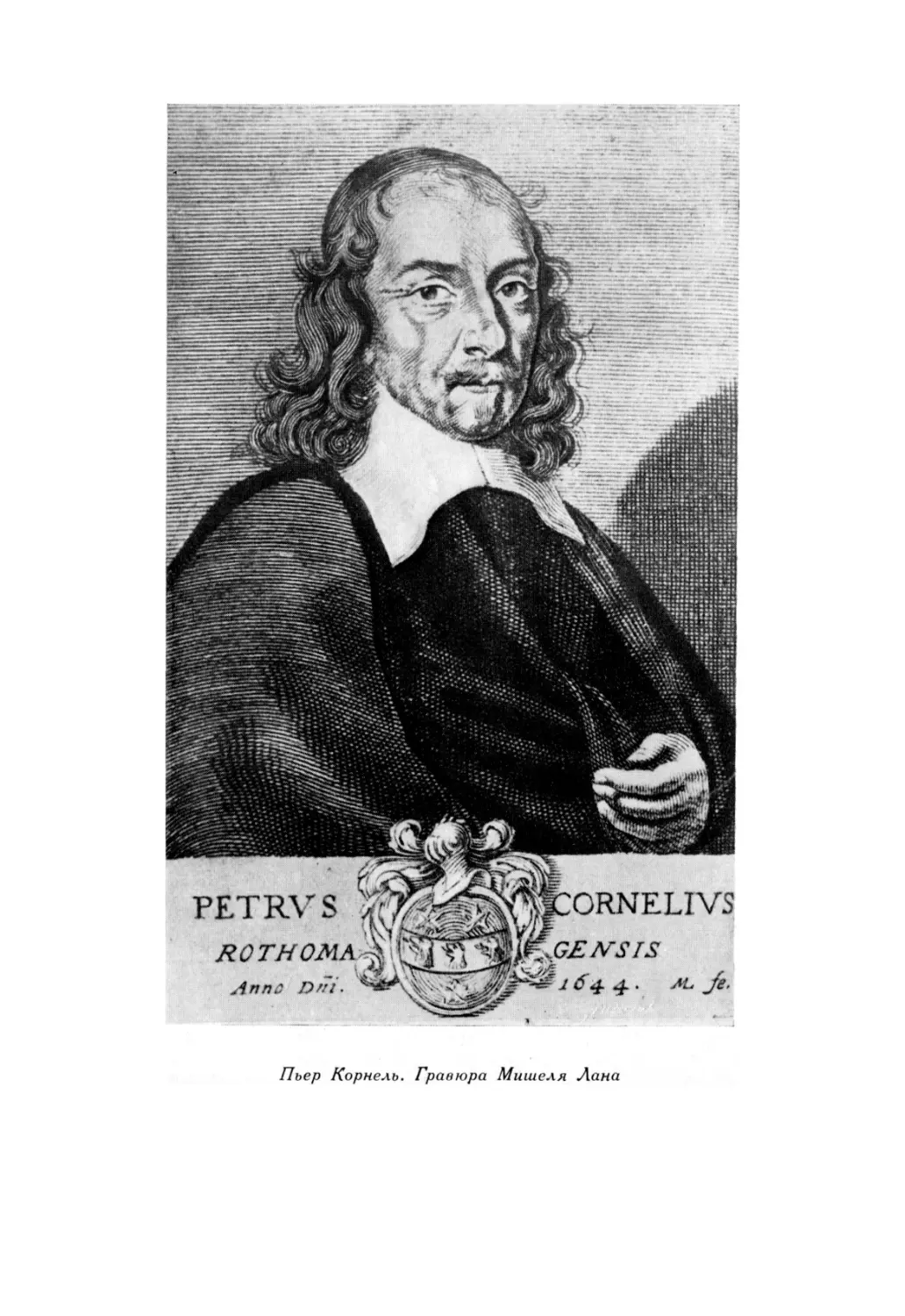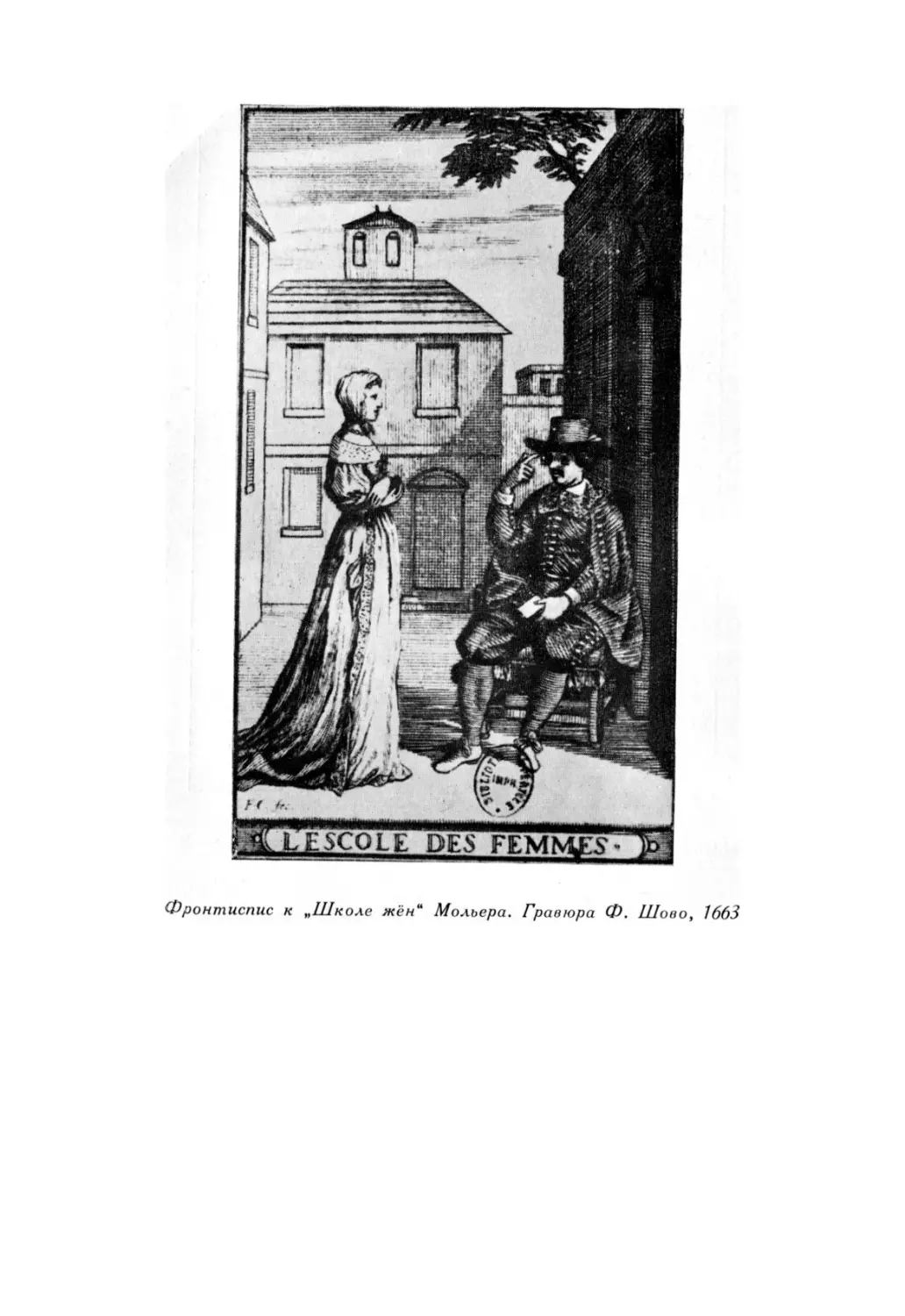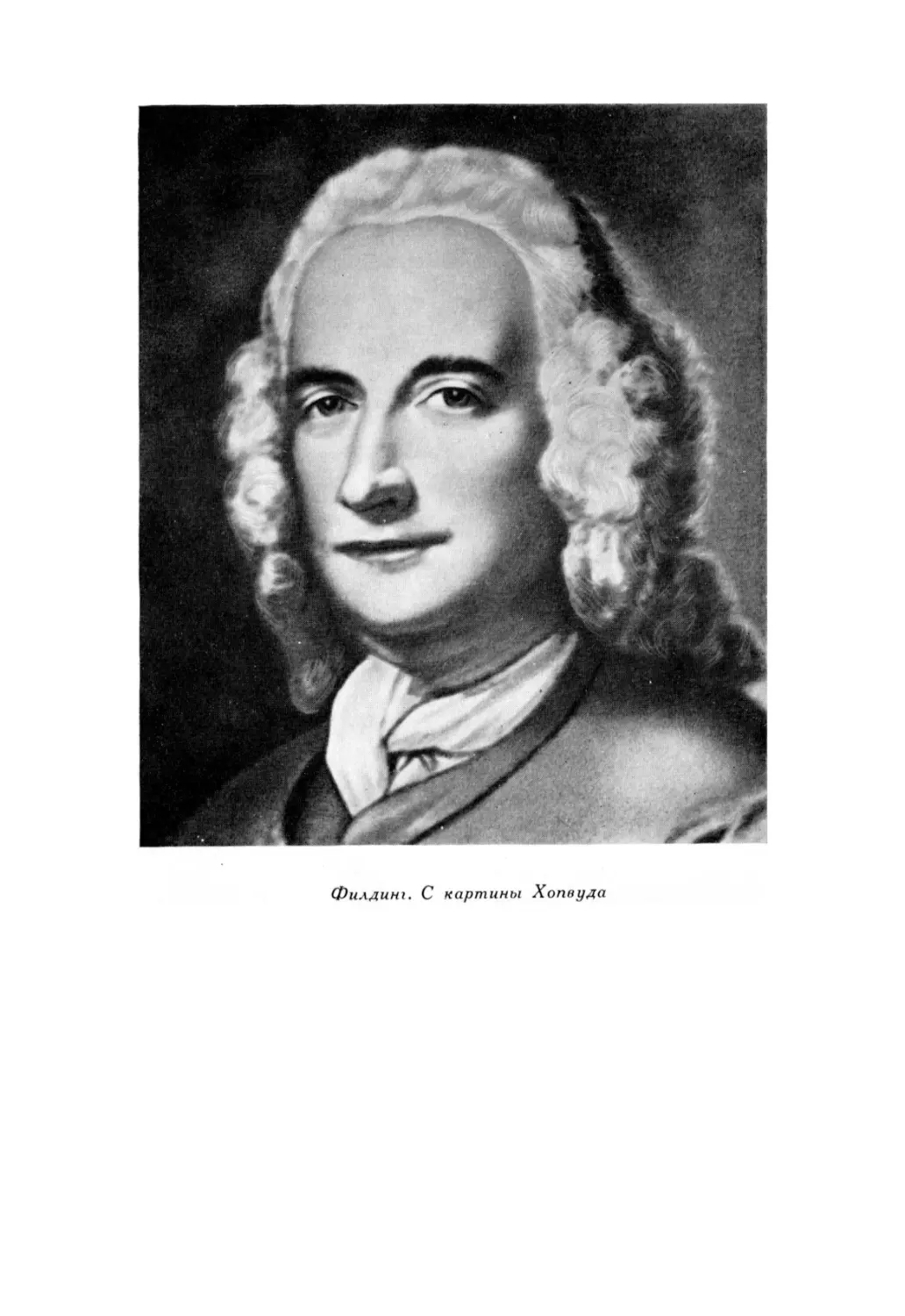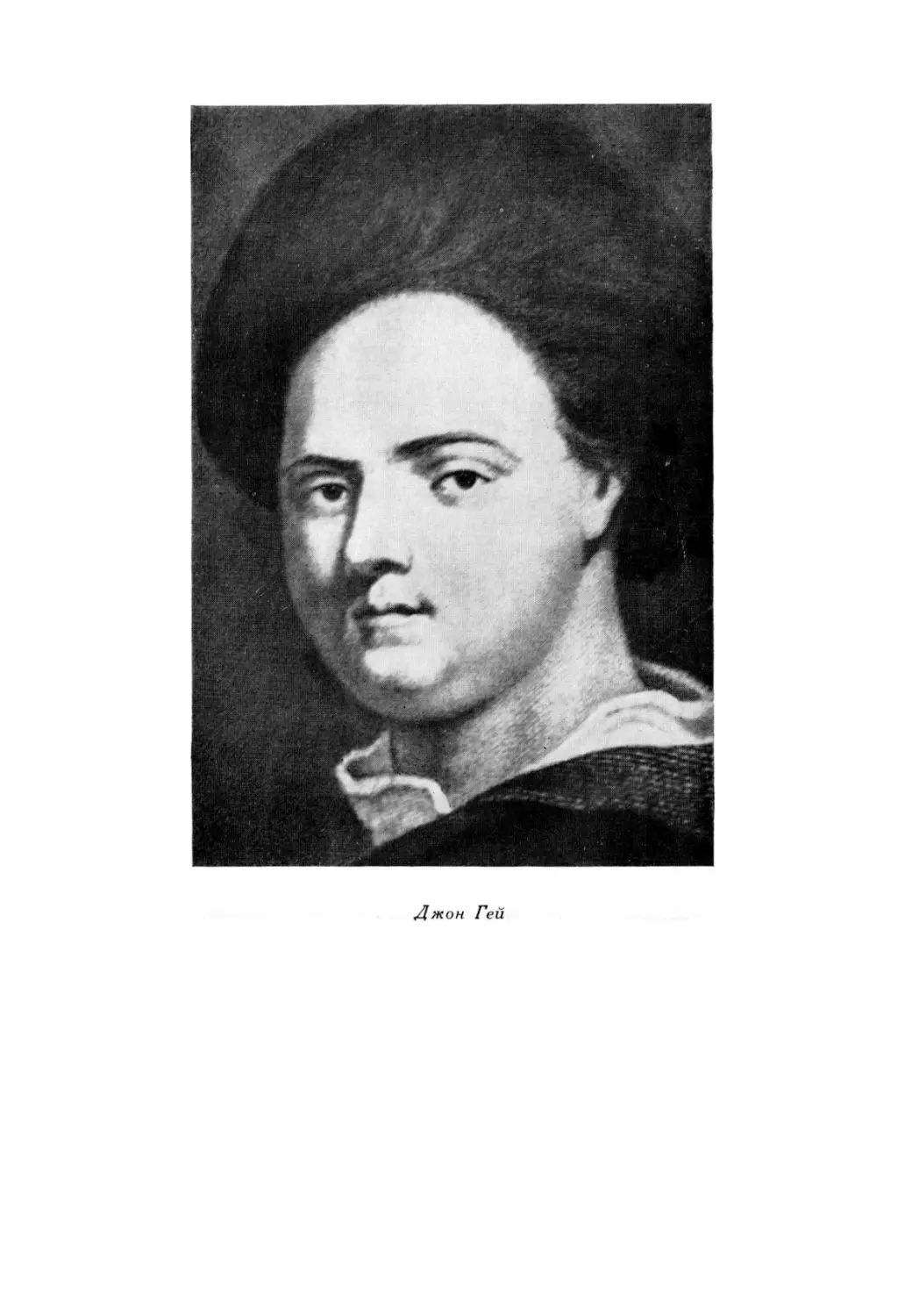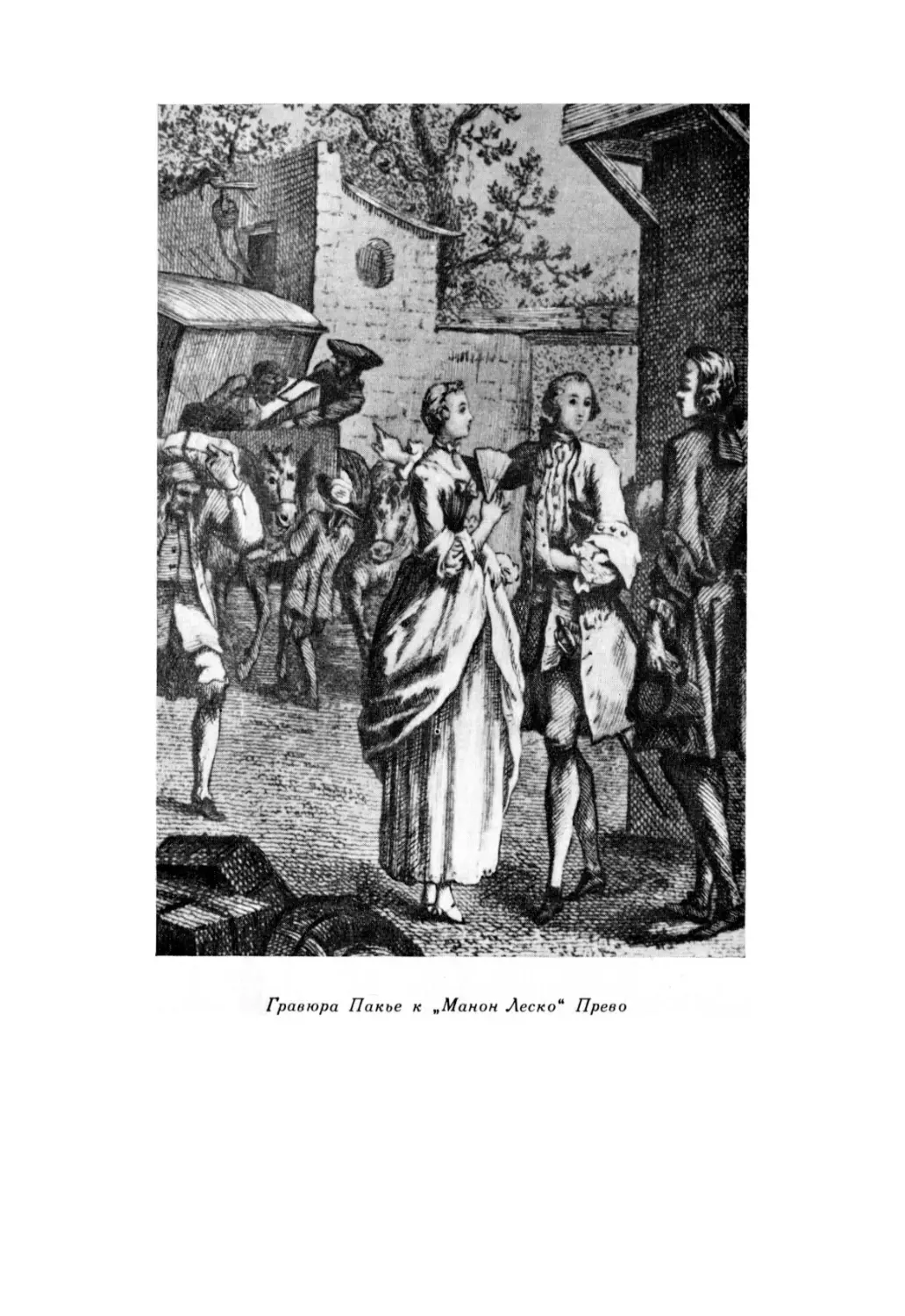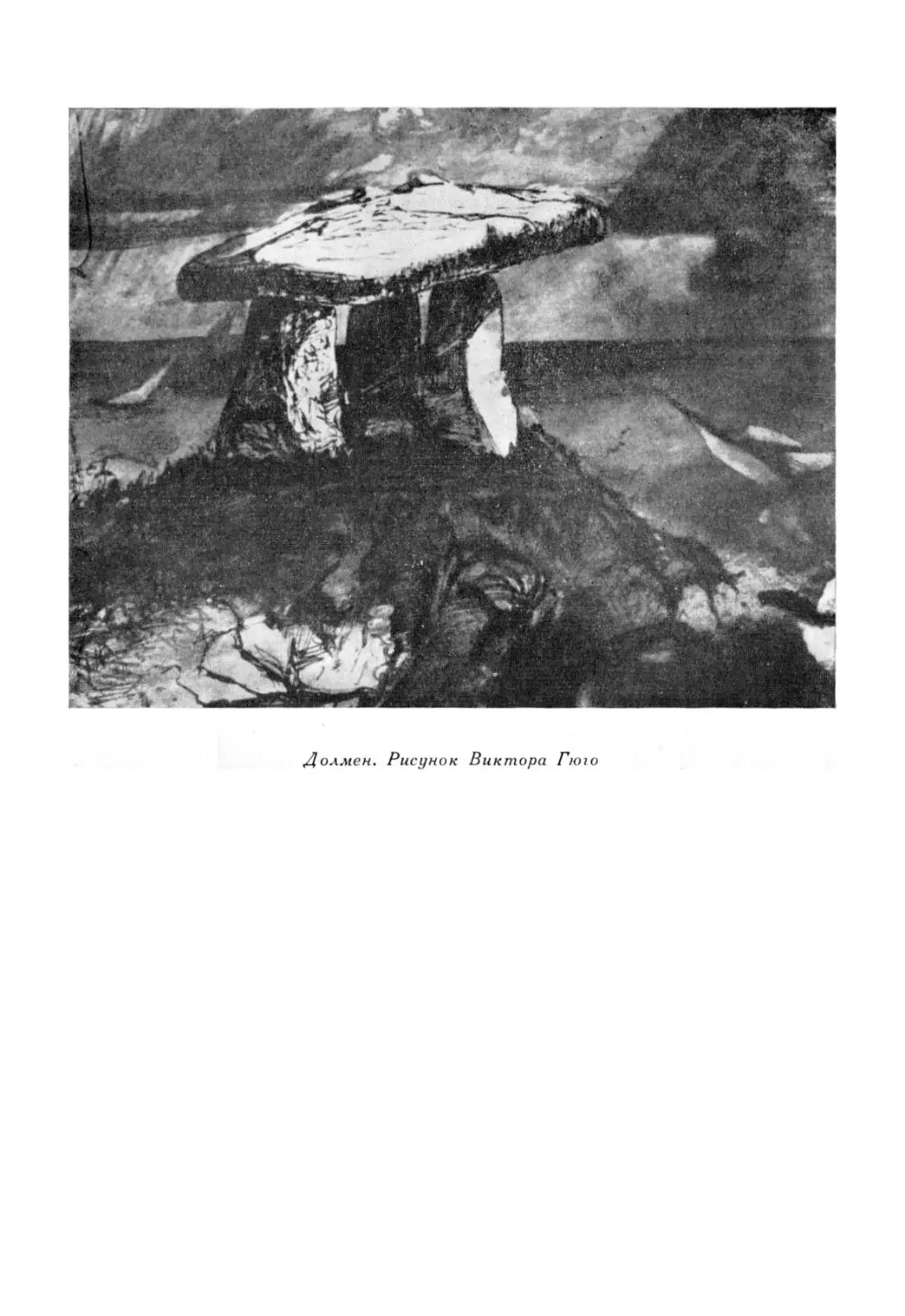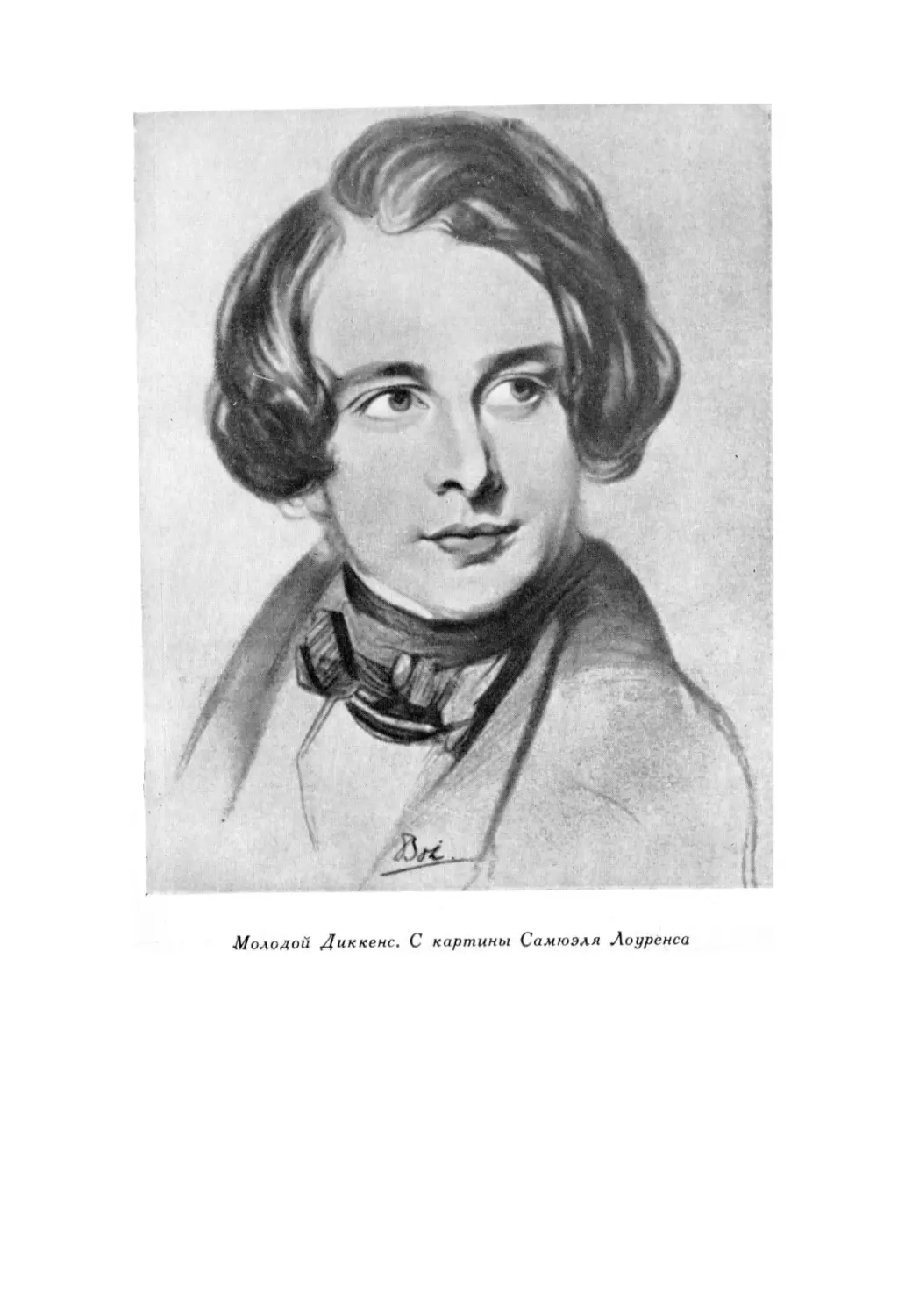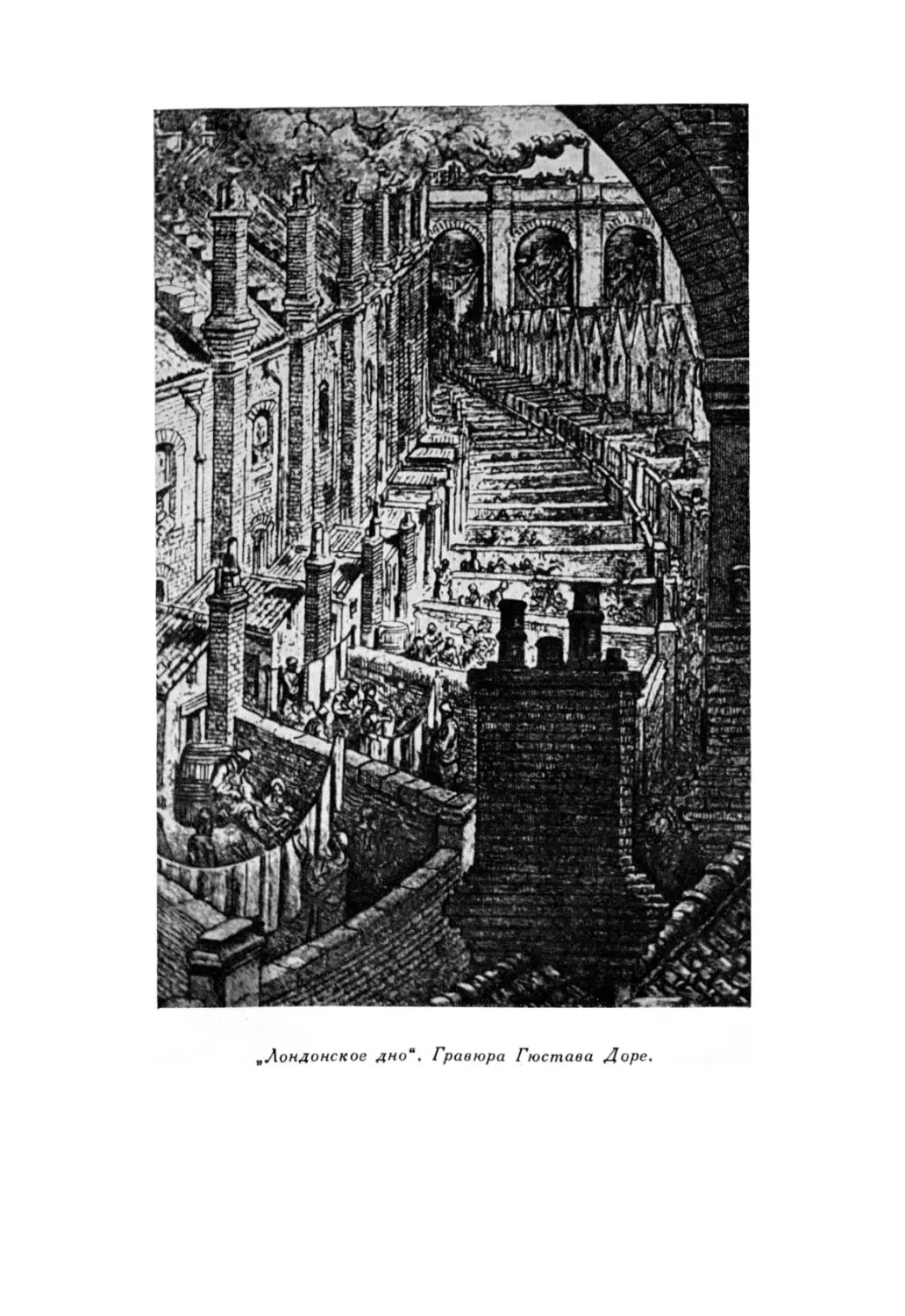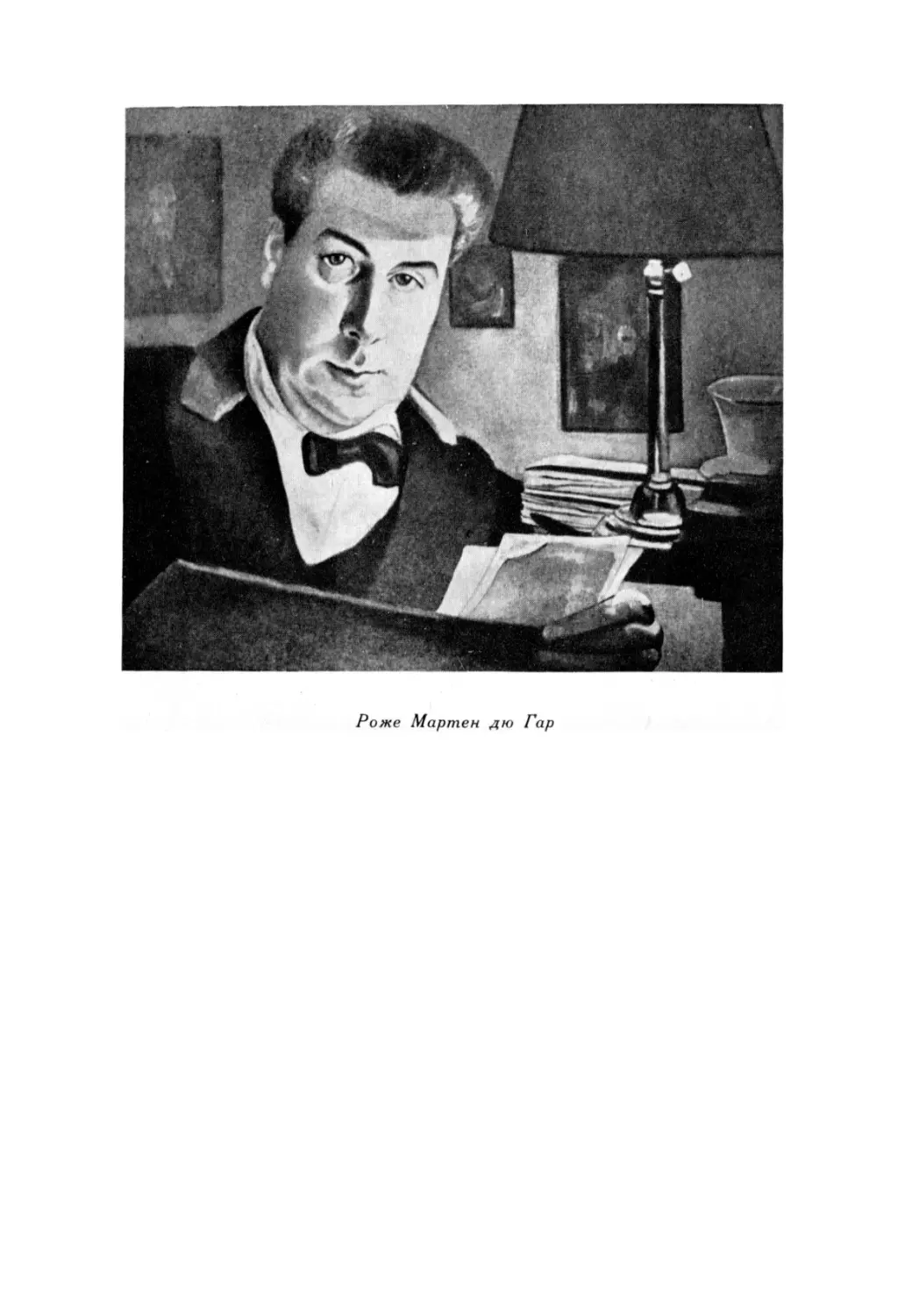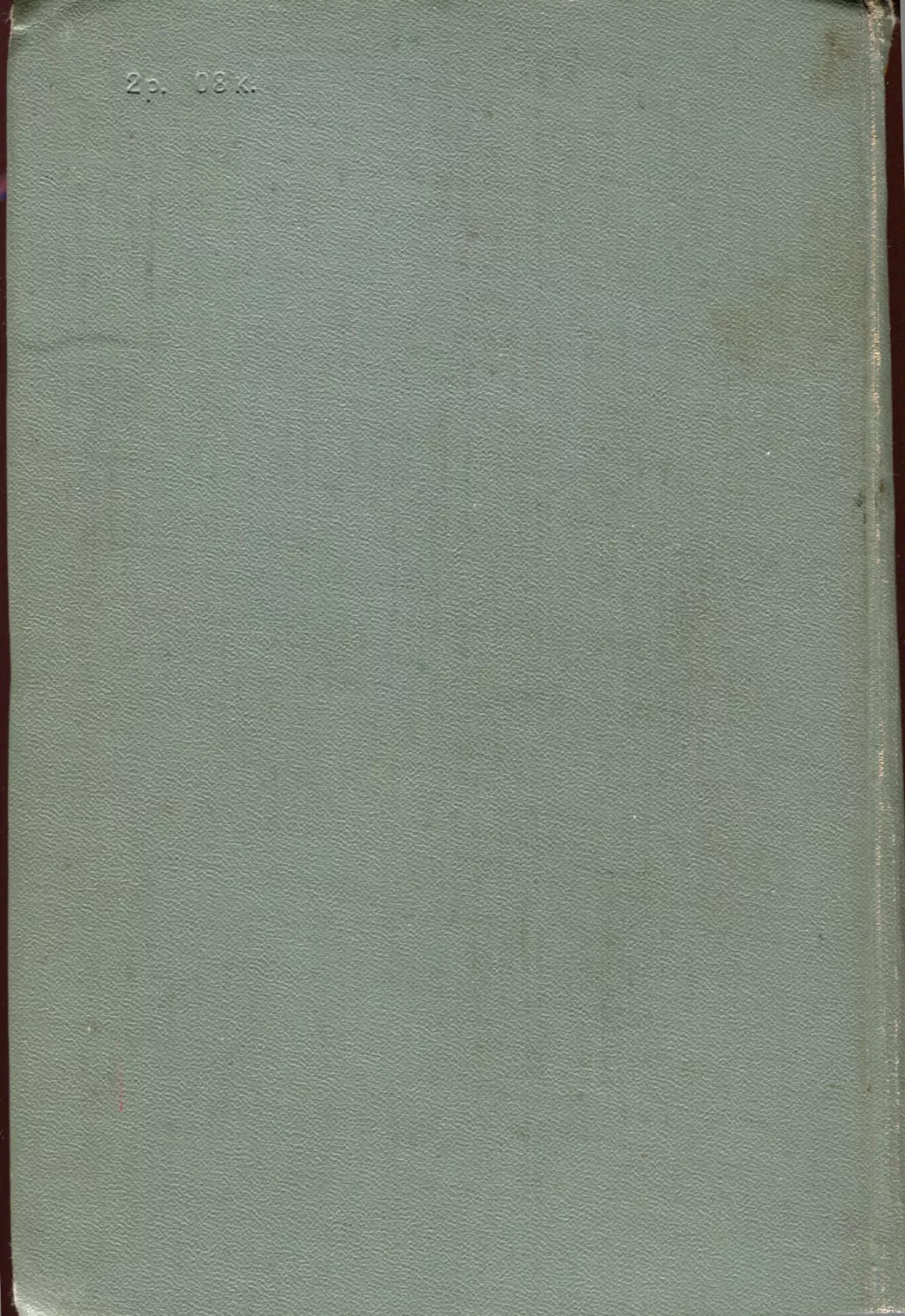Text
утйф
г*
STÇCLF^S
DF ROMAN
ClîzliS'iy1)')
П.ЛЕКС
КОВ
DO/ИЛНЛ
tieûeffoç с Французе koicJ
Я.З.ЛЕСКЖЛ^Ю:П.УВЛРОВЛ
CmuiCu (? л ере
Я.З.ЛЕСЮКЛ
0L
OGQ^~
эу,
tfoat) еоя/гц иеы^->
и с лрешсло&иеж
Ю.Б.ВИППЕРЛ
гЗДЛТЕ/1 ЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ /1ИТЕРЛТУРЫ
Ы1 О Gktfa- ta 6 2
Книга представляет собой сборник статей известного
французского* прогрессивного писателя и литературного кри-
тика Пьера Декса «Семь веков романа» (1955). Автор охваты-
вает широкий круг явлений из истории французской (средне-
вековый роман, Рабле, Сорель, Мольер, Расин, Прево, Баль-
зак), а также английской (Джон Гей, Филдинг, готический
роман, Диккенс) и немецкой литератур. Статьи Декса напи-
саны в остром публицистическом стиле, богаты новыми мате-
риалами и содержат интересные наблюдения и обобщения, сви-
детельствующие об успехах марксистского литературоведения
за рубежом.
В качестве дополнения в книгу включена статья «Раз-
мышления о методе Роже Мартен дю Гара», написанная
П. Дексом в 1957 г. В ней рассматривается творчество
дю Гара .и некоторые проблемы французской литературы в
целом.
Русское издание книги снабжено вступительной статьей,
комментариями, указателем и иллюстрациями. Книга рассчи-
тана как на литературоведов, так и на более широкие круги
советских читателей.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Предлагаемая вниманию читателя книга принадлежит перу
одного из виднейших деятелей современной передовой фран-
цузской литературы, известному писателю-коммунисту Пьеру
Дексу. Деке широко известен как романист (его романы
«Убийца нужен» и «Глубокая река» переведены на русский
язык), как публицист и переводчик, литературный критикой
историк литературы. В течение ряда лет он является редакто-
ром популярного прогрессивного еженедельника «Леттр фран-
сез».
В книгу «Семь веков романа» Пьер Деке включил историко-
литературные работы очень разные по своему характеру. Мы
найдем здесь специально для данного сборника написанное
крупное по объему научное исследование («Кретьен де Труа,
или Возникновение романа»), предисловия к изданиям переве-
денных Дексом (совместно с Анной Виллелор) романов Фил-*
динга и Диккенса, отклики на театральные премьеры и юби-
лейные даты, гневные, напоминающие своим ндкалом памфлеты,
публицистические выступления. Однако в основном книга Декса
состоит из историко-литературных эссе-рецензий, то есть статей,
заключающих в себе изложение оригинальной точки зрения
автора, но написанных в связи с выходом в свет того или иного
историко-литературного исследования, той или иной литера-
турно-критической работы, отталкиваясь от их содержания,
полемизируя с ними или, наоборот, развивая заключенные в
них положения.
Этот жанр рецензии, перерастающей в самостоятельный
историко-литературный этюд, весьма характерен для француз-
ской литературной критики. Он имеет во Франции свои давние
блестящие традиции. Вспомним в этой связи знаменитые «Бе-
седы по понедельникам» («Causeries du Lundi») Сент-Бёва или
не менее известные «Критические этюды» («Études critiques»)
5
Брюнетьера, а из аналогичных работ современных критиков
«Литературную почту» («Le Courrier littéraire») Эмиля Анрио.
От своих прототипов книга Декса отличается значительно
большей внутренней цельностью, единством. Это прежде
всего — цельность тематическая. Основной стержень статей
Декса составляют эссе, посвященные истории западноевропей-
ского (по преимуществу французского, а отчасти английского)
романа нового времени.
Конечно, Деке отнюдь не ставил перед собой задачу воссо-
здать полную, последовательную и всестороннюю историю за-
рождения и развития западноевропейского романа. Однако из
отдельных статей, посвященных многим примечательным мо-
ментам в этой истории (Антуан де Ла Саль, Рабле, Сорель,
Прево, Ричардсон и Филдинг, готический роман, Бальзак,
Дюма, Диккенс и т. д.) все же достаточно определенно выри-
совывается общая концепция этого процесса. Работа о куртуаз-
ном романе и о поэтическом наследии Кретьена де Труа—-это
как бы попытка проникнуть в предысторию романа, осветить
творчество замечательных поэтов, своими художественными от-
крытиями расчищавших путь будущим создателям нового
жанра. Рождение последнего связывается Дексом с укреплением
буржуазного уклада и началом упадка феодального общества.
Одним из первых французских литераторов, сумевших прони-
цательно и смело (к тому же вразрез с собственными симпа-
тиями) запечатлеть в художественных образах эти намечаю-
щиеся» важнейшие общественные сдвиги, был Антуан де Ла
Саль. Появление в свет его романа «Маленький Жан де Сентре»
(1456) и рассматривается автором (в очень ярко и увлекательно
написанном очерке) как одна из примечательных вех в стано-
влении романа нового времени, романа в современном смысле
этого термина. В дальнейшем (в Англии, например, по мнению
Декса, начиная с XVIII века) крупнейшими вехами в истории
романа становятся произведения, в которых с особенной глу-
биной раскрываются противоречия и язвы утверждающей себя
и торжествующей буржуазной действительности. Свою книгу
Деке сознательно заканчивает очерками о Бальзаке и Диккенсе.
Согласно его убеждениям, именно они, вместе со Стендалем, и
завершают длительный процесс образования и созревания со-
временного романа как жанра. В их руках он уже оказывается
совершенно сложившимся, безграничным по своим возможно-
стям средством художественного познания мира.
Вместе с тем заглавие книги Декса «Семь веков романа»
не должно вводить в заблуждение читателя. Ее содержание не
сводится к одной теме, к истории романа. Оно значительно шире.
Декса занимает, например, проблема взаимодействия литера-
турных родов и жанров и в первую очередь плодотворное влия-
6
ние, оказанное на реалистический роман в период его незре-
лости, на ранних этапах его формирования творчеством выдаю-
щихся деятелей театра. Особенно много внимания этому во-
просу он уделяет в статьях о Мольере и авторе «Оперы нищих»
Джоне Гее.
Обращаясь к литературному прошлому Франции, Деке заду-
мывается не только над закономерностями эволюции и обога-
щения реалистического метода. В неменьшей степени его вол-
нует и вопрос о формировании французского национального ха-
рактера, о его отражении в художественной литературе. Эти две
проблемы — борьба за реалистическое воспроизведение дей-
ствительности в литературе и борьба за сохранение и развитие
передовых духовных традиций нации — неразрывно связаны,
неотделимы друг от друга в восприятии Декса.
Вместе с тем решение национальной проблемы подчинено
в труде литературоведа-марксиста благородным интернацио-
нальным устремлениям, идеалам взаимного уважения и дружбы
народов. Книга Декса своим острием направлена против шо-
винизма, нетерпимости, националистической предвзятости и
узости. Деке резко возражает против попыток изолировать на-
циональный литературный процесс от духовной жизни других
стран. Его интересует проблема взаимного влияния отдельных
литератур, переход художественных открытий из одной нацио-
нальной литературы в другую (очень характерна в этом отно-
шении, например, статья «Размышления о черном романе»).
Но он ставит эту проблему и глубже, в широком аспекте
взаимодействия различных национальных цивилизаций, обусло-
вленного в свою очередь исторически сложившимися взаимоот-
ношениями между народами, носителями этих культур. Этой
проблемы Деке неоднократно, в разной связи, касается в своих
литературно-критических этюдах. На ее рассмотрение он выде-
ляет и специальный раздел книги, озаглавленный «Сопоста-
вления» («Confrontations»).
Политически остро и актуально звучит статья этого раздела
«Французская поэзия, куртуазная любовь и арабо-андалузская
цивилизация». На первый взгляд кажется, что речь здесь идет
об очень далеких, совершенно специфических вещах: о заре
средневековой заподноевропейской поэзии, о различных строфи-
ческих формах провансальской лирики и их прототипах. Однако
вся эта. специальная литературоведческая проблематика оза-
рена в этюде Декса светом большой и прогрессивной идеи. Ис-
торик литературы марксист обращает внимание на вековой ха-
рактер связей, существующих между арабской цивилизацией и
французской культурой. Он борется против людей, которые,
одурманенные угаром шовинистических предрассудков и движи-
мые побуждениями, не имеющими ничего общего с научной
7
истиной, упрямо не желают замечать значительного * влияния,
оказанного арабской цивилизацией на средневековую культуру
Запада, и, в частности, сознательно замалчивают вклад, вне-
сенный арабо-андалузской поэзией в становление провансаль-
ской лирики.
Существенное место в работе Пьера Декса занимает и вол-
нующая каждого передового французского интеллигента .про-
блема Германии, раздумья над судьбами немецкой культуры,
франко-немецкими взаимоотношениями и литературными свя-
зями. В статьях, посвященных этой проблеме («Патриотизм и
самоубийство Генриха фон Клейста», «Рабство и величие нем-
цев»), мы слышим голос человека, прошедшего через вторую
мировую войну, бывшего активным участником Сопротивления,
испытавшего на себе ужасы концентрационного лагеря в Маут-
хаузене и вскоре после уничтожения гитлеровского режима
вновь столкнувшегося с опасностью возрождения фашизма и
развязывания кровавой бойни. Прошлое Германии здесь рас-
сматривается и оценивается французским писателем, осмысли-
вающим . весь этот огромный и многострадальный жизненный и
исторический опыт в свете идей марксизма-ленинизма.
Чувства,, пережитые в годы Сопротивления, помогли Дексу
проникнуть во внутренний мир Генриха Клейста, понять на-
строения немецкого патриота, сердце которого некогда, полтора
столетия тому назад, обливалось кровью при виде вторгнув-
шихся в пределы 'его родины французских войск и активно
включившегося в народную борьбу против оккупационного ре-
жима, установленного Наполеоном.
Правда, в статье, написанной по поводу постановки пьесы
Клейста «Принц Гомбургский», симпатии к немецкому писа-
телю-патриоту и чувство интернациональной солидарности с ним
побуждают автора отодвинуть на задний план вопрос о слож-
ных противоречиях в мировоззрении создателя «Пентезилеи» и
«Михаэля Кольхааса». Однако это не значит, что противоре-
чия остались не замеченными французским критиком. Он сам
же ясно указал на их социальную сущность, вернувшись к
Клейсту в своей статье «Рабство и величие немцев». Он опреде-
лил там немецкого писателя как патриота, который, «стремясь
к независимости немецкой нации, выступал против наполеонов-
ской оккупации», но которому для этого «пришлось в опреде-
ленной степени порвать с передовыми традициями Француз*«
ской революции и искать невозможного по существу союза сса*
мыми реакционными элементами, которые затем отступились
от него и довели поэта до самоубийства».
«Рабство и величие немцев» представляет собой вводную
статью к специальному номеру еженедельника «Леттр франсез»,
посвященному (в конце 1953 года) немецкой литературе. Она
8
вся пронизана тревожным ощущением надвигающейся угрозы
возрождения немецкого фашизма и милитаризма, осознанием
огромной ответственности, выпавшей в этот критический исто-
рический момент на долю как интеллигенции обеих стран, так
и миллионов простых французов и немцев, стремлением, погру-
зившись в историю Германии, найти там ключ к разгадке зако-
номерностей будущего.
Сквозь всю эту статью проходит мысль о двух по существу
Германиях, об их многовековой взаимной борьбе. От ее исхода
зависит очень многое в судьбах Европы. Деке говорит о могу-
щественности реакционных сил Германии, о глубоких корнях,
какие они пустили в национальной- почве, об исторических при^
чинах этого явления. Но одновременно он обращает взор к дру-
гой Германии, Германии Томаса Мюнцера и революционных
масс 1525 года, Германии борющегося народа и воодушевлен-
ных возвышенными мечтами гуманистов, Германии Лессинга и
Гете, Бюхнера и Гейне, Маркса и Энгельса.
В статье Декса, может быть, временами сгущены краски.
Иногда автор слишком прямолинейно противопоставляет исто-
рический путь развития Франции как «нормальный», «здоро-
вый» общественный путь некой болезненной анормальности
исторических судеб Германии. Думается, что Деке неправ,
объявляя оторванность интеллигенции от народа извечным по-
роком, испокон веков отравлявшим духовную жизнь немецкой
нации. И литературная деятельность немецких гуманистов
XVI века, и творчество великих немецких просветителей, и поэзия
Гейне и Веерта — все это, к примеру, художественные явления,
неразрывно связанные с определенными этапами в освободитель-
ной борьбе широких народных масс, выраставшие на почве этой
борьбы и в свою очередь глубоко влиявшие на ее течение.
Преувеличен в статье Декса и вывод об одиночестве великих
немецких писателей прошлого. В частности, Деке, конечно,
слишком изолирует Гриммельсгаузена на общем фоне немецкой
литературы XVII века. Да, это был век трагический для немец-
кого народа и его культуры. Однако нет оснований утверждать,
как это делает Деке: «...Приходится говорить о своего рода
острове — Гриммельсгаузене. Ничего до него, ничего после, ни-
чего вокруг...» Ведь это столетие, когда творили Опиц, Фле-
минг, Мошерош, Грифиус, Логау, Рейтер.
Встречаются в статье и неточности. Так, например, с нашей
точки зрения, термин «буржуазная драма», имеющий совер-
шенно определенное, конкретное историко-литературное значе-
ние, неприменим к таким произведениям Лессинга, как «Минна
фон Барнхельм», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Их жан-
ровые особенности выводят их за узкие рамки понятия «бур-
жуазная драма».
9
Хотя статья Декса и представляется спорной в некоторых
частных моментах, главное заключается в ином: она дышит не-
поколебимой верой в конечную победу здоровых, прогрессивных
сил немецкой нации над силами реакции.
Основной источник внутренней цельности, присущей книге
Декса (несмотря на то, что она, как уже говорилось, состоит
из статей, написанных в разное время и по разному поводу),
заключается, конечно, не столько в ее тематике, сколько в един-
стве концепции и методологических принципов.
Общеизвестен подъем, переживаемый марксистской литера-
турной критикой во Франции. Но большие, серьезные успехи
в послевоенное время достигнуты французскими марксистами и
в области истории литературы. Наглядным свидетельством тому
являются такие работы Арагона, как, скажем, «Свет Стендаля»
или «Гюго — реалист». Из новейших историко-литературных
исследований, осуществленных французскими учеными-марк-
систами, можно в виде примера отметить интересный и глубо-
кий труд А. Вебера о развитии французской поэзии XVI века *:
или книгу Р. Гароди о творческом пути Арагона ** (перечень
этих удач и достижений можно было бы, понятно, и значи-
тельно расширить).
Очевидным подтверждением этого отрадного факта может
служить и сборник статей П. Декса. Деке — историк литера-
туры в высшей мере одарен тем, что можно назвать материа-
листическим чутьем истории. Он с удивительной остротой и
проницательностью ощущает связь литературных явлений про-
шлого с породившим их общественным бытием.
Понятие исторической эпохи не является для Декса растя-
нутой во времени, неподвижной и абстрактной типологической
категорией. Деке не боится подчеркивать животрепещущую
политическую актуальность для своего времени выдающихся
художественных произведений прошлого. Он любит историю
живую, конкретную, в которой общие закономерности выяв-
ляются через события индивидуальные, неповторимые, в кото-
рой общее и частное, глубокие внутренние процессы чи злоба
дня органически переплетены.
Вместе с тем он не принадлежит и к числу тех литературо-
ведов, для которых соблюдение историзма заключается в архаи-
зации классиков, в стремлении изображать их более наивными,
чем они были на самом деле, в одностороннем и совершенно
бесплодном выпячивании того, что составляет ограниченность
прошлого, что отделяет его от настоящего.
* Henri Weber, La Création poétique au XVIe siècle en France,
P. Nizet, 1956.
** Roger Garaudy, L'Itinéraire d'Aragon, P. Gallimard, 1961.
10
Именно потому, что Дексу чужды подобные наклонности,
ему и удается великолепно показать неувядающую жизненность
литературных творений, о которых он говорит, их жгучую
актуальность не только для своего времени, но и для настоя-
щего, для современности нашей. Деке не упрощает вещей, исто-
рия для него — это не опрокинутое в прошлое настоящее: про-
шлое и настоящее выступают у Декса в неразрывной, живой
и диалектической связи. Осмысление прошлого для него одно-
временно и один из путей, помогающих найти ответ на волную-
щие политические, социальные и эстетические проблемы наших
дней.
Вот почему статьи Декса, о ком бы он ни говорил: об авто-
рах средневековых куртуазных романов или о драматургии
классицизма, о романах Александра Дюма или о «Лоренцаччо»
Мюссе, — волнуют нас и звучат так злободневно. Исследова-
тельское и публицистическое начало в его книге теснейшим об-
разом слиты. Скрупулезный литературоведческий анализ в ста-
тьях Декса неотделим от полемического задора, пылкости публи-
цистических выпадов и гражданственного пафоса. К какой бы
историко-литературной проблеме ни обращался Деке, он старается
исследовать ее с возможной исторической объективностью, и
одновременно она оказывается обращенной к сегодняшнему дню.
Это объясняется еще и теоретической насыщенностью сборника
статей Декса, обилием и актуальностью поставленных в них
острых, дискуссионных общих вопросов эстетики.
Проиллюстрируем эти особенности творческого почерка
Декса-литературоведа хотя бы одним примером, статьей, озагла-
вленной им «Размышления о черном романе». На первый взгляд
создается впечатление, что она посвящена вопросу, предста-
вляющему сугубо исторический интерес, изучению воздействия,
оказанного в 20-е годы XIX века английским «готическим»
романом на творчество таких французских писателей, как Гюго,
Бальзак, Виньи. Однако затем выясняется, что волнующая Декса
проблема носит гораздо более широкий и остро дискуссионный
характер. Речь здесь идет в первую очередь о проблеме слож-
ных взаимоотношений и взаимодействий между литературой
реакционной и прогрессивной, о возможности использования не-
которых эстетических новшеств, осуществленных писателями,
занимающими реакционные общественные позиции, путем их
переосмысления и подчинения диаметрально противоположным
идеологическим целям, ставя их на службу не уводу от правды
жизни, а ее познанию и раскрытию.
В этой статье некоторые частные высказывания Декса вызы-
вают возражения. Вряд ли вторжение объективной действитель-
ности и торжество ее над предрассудками писателя в одинаковой
мере сказалось в «Памеле» и в «Клариссе Гарлоу» Ричардсона.
//
Автор временами явно преувеличивает новаторскую роль «готи-
ческого» романа, объявляя его создателей чуть ли не осново-
положниками современного романа вообще. Дело, однако, не
в этих частных расхождениях. Постановка основной теоретичен
ской проблемы, решаемой Дексом в его статье, и сам принцип
ее выведения из конкретного историко-литературного материала
представляются весьма плодотворными.
Книга Декса родилась в пылу литературной борьбы с фаль-
сификацией национального художественного наследия, пре-
ступным забвением его ценностей, идеалистически извращен-
ным его истолкованием. Понятно, что ее значение заключается
прежде всего в том, что она вводит нас в эту борьбу, знакомит
с состоянием современного французского литературоведения,
оценивает различные существующие в нем течения с позиций
марксистской критики. В этом отношении она содержит много
ценного познавательного материала.
Деке дает резкий отпор тенденциям, характерным для со-
временного реакционного французского буржуазного литерату-
роведения. В первую очередь он обрушивается на пропаганди-
стов иррационализма и мистики. Он подвергает резкой критике
работы тех литераторов, которые (вроде, скажем, швейцарского
философа Дени де Ружмона) упорно насаждают ложное пред-
ставление о Средних веках как о некоем царстве беспросвет-
ной тьмы, невежества и суеверий, как о времени полнейшего бес-
силия человеческого разума, безраздельного господства религии.
Свой посвященный средневековой литературе этюд Пьер
Деке сознательно противопоставляет этой реакционной концеп-
ции. Его внимание в этой литературе привлекают ростки реали-
стического видения действительности, отображение завоеваний,
осуществляемых человеческим обществом, психологические от-
крытия, задатки формирования национального характера.
В средневековой культуре Франции его интересуют прежде
всего моменты подъема гуманистических тенденций, отдален-
ные предвестия ренессансных устремлений и в этой связи
прежде всего тот отмеченный выдающимися художественными
достижениями период, который падает на вторую половину
XII века.
В статье о Рабле много места уделено полемике с архиреак-
ционным исследованием Люсьена Февра («Проблема неверия
в XVI столетии. Религия Рабле», Париж, 1942). Автор этого
псевдонаучного труда посредством груды выписок, выхвачен-
ных из контекста цитат, натяжек стремится подтвердить извест-
ную своей ретроградностью концепцию, согласно которой между
Средними веками и Возрождением не существовало будто бы
перелома, и тем самым лишить творчество Рабле его револю-
ционизирующего звучания, оторвать великого французского
12
писателя от развития опозиционной по отношению к религии,
вольнодумной мысли, привязать его к колеснице церкви *.
С иронической усмешкой характеризует Деке и попытки
М. Левайяна раздуть значение «мистического кризиса» у Гюго
и его увлечения спиритизмом на рубеже 1840—1850 годов.
Не менее серьезный отпор получают в книге Декса и систе-
матические попытки реакционных буржуазных литераторов и
критиков опошлять и принижать образы классиков француз-
ской литературы, выхолащивая из их творчества глубокое идей-
ное, общественное содержание и превращая их самих в легко-
весных придворных шаркунов или же в неразборчивых дельцов
и карьеристов, а то и просто в бездумных и непритязательны^
ремесленников. Деке показывает, что эти попытки не случайно
направлены в первую очередь на дискредитацию великих фран-
цузских писателей XVII века — Корнеля, Расина, Мольера. Не
случайно и то, что исходили они нередко от бывших коллабора-
ционистов (вроде С. Гитри или Монтерлана). Раскрывая поли-
тический смысл этих инсинуаций, Деке пишет: «Сводя на нет
величие Франции, в чем бы оно ни проявлялось, опошляя его,
нас стремятся приучить к искусству, играющему роль подлень-
кого утешителя... Очевидно, есть нужда в искусстве декаданса,
способном в период, когда французская нация приходит в упа-
док, утешать нас избитым рефреном: «После нас хоть потоп!»
В этой связи весьма показательна статья о Мольере. Деке
восстанавливает в ней некоторые основные моменты в истории
истолкования творческого наследия великого драматурга совре-
менным французским буржуазным литературоведением. Он
с полным основанием обращает внимание на серьезнейшие не-
достатки, присущие исследованиям Г. Мишо, возглавлявшего
/в течение многих лет фраицузскую мольеристику. Гиперкрити-
цизм Мишо и его стремление всячески обуржуазить Мольера
в сильнейшей мере обедняли и опошляли личный и творческий
облик создателя «Мизантропа». Затем обострился интерес
к Мольеру как к сценическому деятелю, актеру и режиссеру.
Это была своеобразная реакция на плоскую и бескрылую кон-
цепцию Мишо. Это направление исследований обогатило наше
представление о творческой деятельности Мольера целым рядом
открытий. Однако за последнее время оно приобрело чрезвы-
чайно односторонний и вместе с тем весьма симптоматичный ха-
рактер. Мольера — актера и режиссера — стали изображать че-
ловеком, лишенным возвышенных умственных интересов, в виде
недалекого театрального предпринимателя, озабоченного липну
* Следует указать, что книга Л. Февра еще в 1947 году была под-
вергнута справедливой критике в монографии Е. М. Евниной о Рабле.
См. также книгу И. И. Анисимова «Классическое наследство и современ-
ность», М, 1961, стр. 41.
13
срочным заполнением пробелов в репертуаре своей труппы и
завоеванием любой ценой успеха перед зрительным залом. До
своего рода абсурда эта циничная в своей сущности точка зре-
ния была доведена в монографии Рене Брэ (1954), с полным
основанием весьма сурово оцененной Дексом.
Резкой критике подвергает Деке и стремление буржуазных
литературоведов любой ценой затушевать связь, существующую
между творчеством великих французских писателей XVII века
и политической борьбой их времени. В этой связи, в частности,
весЬма любопытны замечания Декса в адрес известного теат-
рального критика Р. Кана. Последний, возмущаясь чрезмер-
ной, по его мнению, «политизацией» драматургов XVII века
французскими литературоведами, усомнился, в частности, в од-
ной из своих статей, написанной во время гастролей Комеди
Франсез в Москве, в способности москвичей заинтересоваться
политической стороной содержания «Сида» Корнеля. Споря
с критиками типа Кана, продолжающими, по словам Декса,
расплываться в иронической улыбке при одном упоминании
о патриотическом звучании «Сида» и его общественных истоках,
он сам опирается на работы таких великолепных знатоков Фран*
ции XVII столетия, как А. Адан и Ж. Кутон, ученых, прояв-
ляющих острый интерес к отражению общественной, политиче-
ской борьбы в развитии литературного процесса. Используя
их исследования, Деке раскрывает животрепещущую актуаль-
ность идейного содержания произведений Корнеля и Мольера.
Он воспроизводит тревожную общественную обстановку, сопут-
ствовавшую рождению «Сида»: тяжелый кризис в ходе воен-
ных действий между Францией и Испанией, страшную угрозу,
нависшую над родиной Корнеля после падения крепости Корби,
широкий патриотический подъем, спасший страну и вдохновив-
ший писателя на создание его драматического шедевра. Заклю-
чая свою статью («Реализм Корнеля и национальная независи-
мость»), Деке пишет: «Крепость Корби превратилась в символ.
Ее возвращение Франции возродило веру французов в свою
родину... Победа «Сида» была тем, чем она остается для нас...
национальной победой. Мне представляется, что Жорж Кутон
вполне убедительно проанализировал и объяснил то обстоя-
тельство, что в пьесе прославляется победа- испанского героя, в
то время как в действительности французы одержали победу
над испанцами» *.
* Любопытно сопоставить эту точку зрения с мнением некоторых
наших литературоведов, которые ищут общественный смысл пьесы Кор-
неля в героизации рыцарского, феодального прошлого и объясняют не-
приязнь к ней со стороны Ришелье происпанскими будто бы симпатиями
писателя. Прогрессивным французским историкам литературы такое вос-
приятие шедевра корнелевской драматургии совершенно чуждо.
H
Что же касается Мольера, то Деке осмеивает попытки ото-
рвать создателя «Тартюфа» от общественной борьбы своего
времени или же превратить его в благонамеренного буржуа. Он
напоминает литературоведам, любящим идеализировать полити-
ческий режим, установленный абсолютной монархией XVII века,
и ее благодеяния в области культуры, подлинную общественную
атмосферу того времени: сожжение на костре Клода Ле Пти,
разветвленность и неусыпность политического сыска, неутоми-
мую деятельность трибуналов и инквизиции — и в этой связи
лишний раз подчеркивает гражданственное мужество Мольера *.
Он говорит о близости Мольера кружкам атеистов и вольно-
думцев, о его связях с резко оппозиционными по отношению
к Кольберу людьми, из среды которых и вышел знаменитый
антиправительственный памфлет «Возмутительная книга», о
влиянии, оказанном замечательным комедиографом на развитие
реалистического романа. «Мольер, как и Буало **, принадлежал,
по современной терминологии, к оппозиции», — пишет Деке.
На страницах «Семи веков романа» не случайно весьма часто
всплывает имя А. Мальро. Деке не раз вступает в спор с этим
завоевавшим себе видное официальное положение идеалистиче-
ским теоретиком искусства. Раскрывая антигуманистическую
сущность утверждаемой им философии жизни, разоблачая на-
рочито туманный и демагогический характер фразеологии
Мальро, Деке убедительно показывает, что за этой словесной
завесой скрывается стремление разоружить человека, привить
ему пессимистическое чувство одиночества, реакционные полити-
ческие идеи.
Размышления о классовых корнях разоблачаемых им реак-
ционных тенденций в буржуазном литературоведении законо-
мерно приводят критика-коммуниста к характеристике политики,
проводимой господствующими кругами в области культуры.
Этой проблеме посвящена, в частности, статья, написанная Дек-
сом в связи с началом публикации нового, подготовленного
* Деке солидаризируется с мыслью А. Адана, который, характеризуя
умственную атмосферу 60-х годов XVII века, заявляет: «Шедевры наших
великих писателей создавались в обстановке далеко не безмятежной; на-
против, они рождались среди опасностей. Они утверждали свободу в обще-
стве, которое все глубже погружалось в рабское состояние».
** Вывод, касающийся Буало, может показаться несколько неожидан-
ным. Деке, однако, считается со сложностью эволюции, проделанной авто-
ром «Поэтического искусства». Он имеет в виду прежде всего обще-
ственные позиции, которые Буало занимал в 60-х годах. Тогда он писал
свои непочтительные по отношению к власть имущим (в том числе и по
отношению к Кольберу и церковным властям), задорные по своему духу
сатирические произведения. Деке подразумевает и сложившиеся позднее
симпатии Буало к преследуемым королевским правительством и правящей
церковью янсенистам.
75
Т. Бестерманом полного издания переписки Вольтера. Правящие
круги не захотели субсидировать это важнейшее культурное на-
чинание, и данное издание смогло увидеть свет лишь благодаря
помощи иноземных организаций и меценатов, которые в свою
очередь пожелали, чтобы оно печаталось с комментариями на
английском языке.
В своей блестяще написанной статье-памфлете («Говорит
Вольтер, или Битва за книгу») критик-коммунист с негодова-
нием и язвительностью клеймит космополитические умонастрое-
ния господствующих кругов Франции, их пренебрежение к на-
циональному культурному наследию прошлого, их страх перед
боевым, бунтарским звучанием творчества Вольтера.
Вместе с тем Пьер Деке с полным основанием много внима-
ния уделяет тем научным работам буржуазных ученых, кото-
рые с точки зрения марксистской критики в той или иной сте-
пени заключают в себе положительные ценности и обогащают
наше представление об историко-литературном процессе.
Иногда это труды, созданные прогрессивно мыслящими ис-
следователями, в научном мировоззрении которых (пусть ему
и присущи серьезные противоречия) над чуждыми нам мето-
дологическими посылками во многом верх берут тенденции сти-
хийного историзма и материализма, труды, в самой концепции
.которых отчетливо выявляются черты, близкие по своему духу
устремлениям марксистской истории литературы. Такова, напри-
мер, монументальная пятитомная «История французской лите-
ратуры в XII веке», принадлежащая перу Антуана Адана *.
Конечно, в исследовательском методе А. Адана весьма ощутимо
влияние позитивизма. Однако в целом в этом капитальном
труде, одном из крупнейших достижений современного француз-
ского литературоведения, огромный фактический материал (за-
частую впервые пущенный в обиход или же совершенно заново
переосмысленный) обобщен в свете весьма прогрессивной кон-
цепции. Она направлена своим острием против реакционных,
с политической и философской точки зрения, истолкований, про-
тив формалистических построений, против условных схем, на-
сажденных академического толка литературоведением. Разрушая
пустившее глубокие корни, искусственно суженное представление
«о веке Людовика XIV» как об эпохе безраздельного господства
классицизма и просветительской деятельности абсолютизма,
А. Адан в своей работе чрезвычайно расширяет картину ли-
тературной жизни Франции XVII века, убедительно показывая,
насколько сложной и богатой многообразными тенденциями и
течениями она была.
* См. оценку, данную исследованию А. Адана И. И. Анисимовым в
указанной выше книге (стр. 260—263).
76
П. Деке очень часто ссылается в своей книге на эту работу,
отталкиваясь от ее общей концепции и плодотворно используя
отдельные заключенные в ней мысли. Неоднократно опирается
он и на широко известные труды покойного Гюстава Коэна,
а также на исследования одного из ведущих французских медие-
вистов наших дней Жана Фрапье. Справедливо отмечает он и
достоинства, присущие двум работам о В. Гюго, написанным из-
вестными французскими писателями А. Моруа и Ф. Грегом.
Труд Грега служит ценным пособием для изучения творческого
наследия великого поэта. Книга же Моруа («Олимпио, или
Жизнь Виктора Гюго») интересно и ярко освещает биографию
Гюго.
Иногда речь идет о трудах, ценных не столько своими исто-
рико-литературными обобщениями, сколько прежде всего заклю-
ченным в них новым фактическим материалом. Такова, напри-
мер, работа Ж. Мэ о прототипах романа Дидро «Монахиня».
В ней использованы обнаруженные автором и ранее не извест-
ные тексты и документы.
Интереснейшие документальные открытия, которые вносят
новые и зачастую неожиданные штрихи в наше представление
о внутреннем облике многих французских писателей XIX века,
соединяются с передовой идейной направленностью в много-
численных работах А. Гиймена.
Иногда, правда, П. Деке проявляет, с нашей точки зрения,
недостаточно критицизма в отношении работ буржуавных лите-
ратуроведов. Так, он, говоря об исследованиях Ж. Мэ, в целом
дает ему явно завышенную оценку и напрасно проходит мимо
очень серьезных концептуальных изъянов и методологических
пороков, присущих этой книге (искажение идейного звучания
произведения, ведущее к отрицанию его антиклерикальной на-
правленности, наивное отождествление образа мысли героини
романа с точкой зрения самого автора и т. д.). Неприемлемой
представляется также и безоговорочно положительная характе-
ристика, данная автором книге Б. Гюйона «Политическая и со-
циальная мысль Бальзака». В советском бальзаковедении эта
работа, приписывающая создателю «Человеческой комедии»
глубоко пессимистический взгляд на общество, последовательно
смягчающая критику писателем буржуазной действительности,
решительно отрывающая Бальзака-мыслителя от Бальзака-ху-
дожника, получила совсем иную оценку *.
* См., например, главу о Бальзаке в «Истории французской литера-
туры» (АН СССР, М., 1956, т. II, стр. 510) и характеристику книги
Гюйона в работе Д. Обломиевского «Основные этапы творческого пути
Бальзака» (Автореферат докторской диссертации, М., ИМЛИ, 1957, стр.
1-2, 9).
2 П. Деке 17
, Достоинства книги Пьера Декса, однако, как это видно уже
из ранее сказанного, отнюдь не ограничиваются областью исто-
риографии. Сборник его статей лишний раз свидетельствует
о том, что марксистское литературоведение Франции, очень
многим обязанное в своем росте и развитии советской науке, за**
воевывает научную самостоятельность и зрелость. Оно, в част-
ности, в значительной мере уже освободилось от ранее свой-
ственного ему тяготения к социологическим упрощениям. Луч-
шие его достижения являются ценным вкладом в сокровищницу
марксистской истории литературы и могут в свою очередь слу-
жить стимулом для ее поступательного движения.
Многочисленные примеры, подтверждающие эту мысль, мы
можем в изобилии найти и в издаваемой книге: в том числе
в уже не раз упоминавшихся весьма содержательных разделах,
посвященных автором французской литературе Средних веков
и XVII века. П. Деке, много занимающийся французским Сред-
невековьем *, великолепно чувствует эту эпоху. Старинные ли-
тературные тексты оживают в его руках, становятся волнующим
человеческим документом. Деке убедительно показывает, как в
содержании куртуазных романов отражается зарождение новых
форм взаимоотношений между мужчиной и женщиной, расцвет
индивидуальной любви, завоевание женщиной права на свобод-
ный выбор суженого, становление брака, основанного на любви.
«Содержание первых французских романов, — пишет Деке, — от-
ражало новое в действительности, они были написаны именно
о нем. Их величие связано прежде всего с чудесным откры-
тием, играющим важнейшую роль в нашей современной цивили-
зации: это новое понимание любви, где женщина перестает быть
лишь объектом, любви — предмета грез, идеала, освещающего
наше искусство и достигаемого лишь тогда, когда двое любят
ДРУГ Друга».
Деке тонко раскрывает ту душевную деликатность, психоло-
гическую чуткость, с которой обрисованы хрупкие профили ге-
роинь первых куртуазных романов. Вот перед нами Лавиния,
героиня «Романа об Энее». Против воли старших она сама из-
бирает себе в спутники жизни Энея, а не Турна, которого ей
предназначает в мужья мать, решительно отвергая брак по при-
нуждению. «То, что с «Энеем» привносится в литературу, чего
в нем достигает автор, красоту и нежность, воспеваемые в об-
разе Лавинии, — удается воссоздать впоследствии лишь самым
великим гениям». Не менее увлекательны и страницы, посвя-
* Недавно он выпустил в свет двухтомную, снабженную интересными
историческими очерками хрестоматию памятников французской средневеко-
вой поэзии: P. D a i х, Naissance de la poésie française, Paris, Club des amis du
livre progressiste, 1958—1961.
76
щенные произведениям Кретьена де Труа: «Эреку и Эниде»,
роману, где поэт «провозглашает, что совершенная любовь воз-
можна лишь в браке и что она возвеличивает и рыцаря и его
жену», «Клижесу», где автор прославляет принцип «душа и
тело — одному», «Ивену», где необычайно расширяется охват
действительности куртуазным романом, где в область поэзии
вторгается изображение нищеты и страданий измученных не-
посильным трудом ткачих.
Как уже говорилось, весьма плодотворными представляются
научные тенденции, которые пронизывают эссе Декса, посвя-
щенные XVII веку, творчеству Сореля, Корнеля, Мольера,
Расина. Эти тенденции (борьба с академической узостью и схе-
матизмом в трактовке литературы XVII века во Франции, со
сведением ее к одному лишь течению классицизма, острое ощу-
щение связи этой литературы с общественной борьбой, интерес
к писателям — зачинателям реализма и вольнодумцам, подчерки-
вание настроения внутренней политической оппозиционности по
отношению к абсолютизму у большинства крупнейших француз-
ских писателей этого времени, анализ реалистических качеств
их творчества и т. д.) соответствуют общему направлению, в
котором развивается исследовательская мысль передовых пред-
ставителей французского литературоведения, специалистов по
этой эпохе. Советскому читателю будет, бесспорно, любопытно
ознакомиться с их точкой зрения и с направленностью их науч-
ных интересов.
Что касается литературы XVIII века, то концепция ее раз-
вития у Декса страдает в известной мере механистичностью.
Обращаясь к этой эпохе, автор слишком прямолинейно противо-
поставляет ход общественной жизни Англии и Франции и со-
ответственно литературный процесс в обеих странах. У него вре-
менами получается, что во Франции XVIII века все обществен-
ные проблемы сводятся лишь к борьбе с феодальным режимом,
властью абсолютизма и церкви, а в Англии этого времени без-
раздельно господствуют буржуазные отношения. Отсюда, по его
мнению, принципиальное отставание реалистической французской
литературы XVIII века от английской, иное ее качество. Осо-
бенности первой определяются необходимостью критики дворян-
ского общества, новаторство же второй обусловлено соприко-
сновением с пороками и язвами буржуазной действительности.
На самом деле, думается, все обстояло значительно сложнее.
В Англии XVIII столетия существовали еще сильные пере-
житки феодального строя, во Франции же этого времени фор-
мирование буржуазного уклада продвинулось далеко вперед и
было весьма и весьма ощутимым.
Подобная точка зрения, вполне естественно, не позволяет
Дексу оценить до конца всю подлинную глубину реализма
2*
19
лучших произведений, таких, например, писателей, как Лесаж и
Прево. Наглядное подтверждение этому мы найдем на страни-
цах, посвященных «Манон Леско». Деке, конечно, понимает,
сколь убоги и несостоятельны попытки буржуазной критики
объявить содержанием гениальной повести Прево психоанали-
тическое проникновение в тайники страсти, поэтизацию, быта
деклассированной богемы, изгоев общества. Деке внутренне
убежден в разоблачительной силе романа, в большой социаль-
ной значимости его образов. Пытаясь конкретнее раскрыть эту
идейную значимость повести Прево, Деке использует богатые
ценным фактическим материалом исследования А. Родье, гово-
рит о теме денег, о достоверном изображении писателем быта
французской столицы в 20-е годы XVIII века. Однако упомя-
нутая выше общая концепция Декса мешает ему проникнуть
в самую сердцевину реализма Прево, увидеть в его бессмертном
шедевре нечто большее, чем достоверную зарисовку нравов
французского общества периода Реставрации.
Английской литературе XVIII века Деке посвящает три
статьи: этюд об «Опере нищих» Гея и два очерка о Филдин-
ге. Декса, как видно, интересуют по преимуществу произведе-
ния, содержащие в себе в той или иной степени критику бур-
жуазного общества, лицемерности его морали, несправедливости
его порядков. Говоря об «Опере нищих» Гея, о «Джонатане
Уайльде» или о «Приключениях Джозефа Эндруса» Филдинга,
Деке подчеркивает в этих произведениях в первую очередь
черты новаторские, представляющие собой шаг вперед в раз-
витии западноевропейского романа, бросающие луч света в бу-
дущее, предвосхищающие завоевания критических реалистов
XIX века.
В разделах, где Деке останавливается на разборе романов
Ричардсона, особенно интересны его наблюдения над противо-
речиями, присущими объективному содержанию «Памелы» и
в особенности «Клариссы Гарлоу»: показ того, как в этих про-
изведениях отражение жизненной правды, теневых сторон дей-
ствительности зачастую берет верх над ограниченностью субъ-
ективного замысла писателя, над его умеренными социально-
политическими убеждениями. Эти страницы показывают, что
Деке не забывает о сложности, отличающей внутренний облик
выдающихся английских романистов XVIII столетия. Хотя по-
священные им этюды Пьера Декса в целом, возможно, и носят
несколько односторонний характер, написаны они остро, увлека-
тельно, с публицистическим блеском и, бесспорно, привлекут
внимание советских читателей.
Очень удачными представляются нам разделы, отведенные
в книге Декса французским романтикам. Литературоведам, пи-
шущим об Александре Дюма-отце, далеко не всегда удается
20
убедительно показать, какие именно познавательные качества и
эстетические ценности исторических романов, вышедших из-под
пера этого писателя, обусловливают их огромную, неувядающую
популярность у широких кругов читателей всех национальностей.
Им часто приходится отделываться стыдливыми оговорками и
внутренне противоречивыми суждениями. Деке, однако, пре-
красно справляется с этой задачей. Он великолепно показывает,
как поверхностность, а зачастую и просто ошибочность в ис-
толковании закономерностей прошлого соединяется в историче-
ских романах Дюма с «дыханием жизни», с «присущей ему не-
поколебимой верой в людей, страстной любовью к прошлому
Франции, к родной земле, к тому, в чем самая прелесть
истории», определяя тем самым их неотразимое поэтическое
обаяние.
Очень содержателен и маленький этюд Декса о «Лорен-
цаччо» Мюссе. Интересна общая характеристика, которую Деке
дает романтическому движению во Франции 20—40-х годов
XIX века, его общественным истокам, основным противоречиям
мироощущения французских романтиков. Не менее примечате-
лен и анализ самого «Лоренцаччо», одного из шедевров фран-
цузской романтической драматургии, произведения весьма по-
пулярного на родине, поэта, но все еще остающегося не оценен-
ным по достоинству нашей критикой и театральной обществен-
ностью. Деке тонко показывает, почему умонастроения Мюссе-
романтика нашли в «Лоренцаччо» идейно гораздо более значи-
тельное и художественно более полновесное и пластичное во-
площение, чем в субъективно более односторонней «Исповеди
сына века». Острое ощущение того, сколь глубоко актуаль-
ной остается пьеса Мюссе и в наши дни, позволило Дексу
очень четко выявить ведущие линии идейного содержания этой
драмы, «в которой говорится о поражении интеллигенции, когда
она отделяется от народа»; мысль о бесцельности борьбы в оди-
ночку, о том, что «человек не может безнаказанно связывать
себя с тиранией, с отвратительным прогнившим социальным
порядком» и что «двойная игра невозможна, невозможна с нрав-
ственной точки зрения»; значение темы народа и протеста про-
тив оккупации иноземной военщиной. Несмотря на свою сжа-
тость, статья Декса обогащает наше представление об идейной
значимости драматургии Мюссе.
По сравнению ç истолкованием французского романтизма
главы о критических реалистах несколько проигрывают. É цент-
ре статьи о Бальзаке стоит проблема противоречий, которыми
отмечен мощный творческий облик создателя «Человеческой
комедии». Пафос ее — в утверждении всемогущества реализма как
художественного метода, в показе его торжества над социально-
политическими иллюзиями и предрассудками романиста. Однако
21
в данной статье эта мысль проведена более абстрактно и прямо-
линейно, чем в других работах Декса, сведена местами к упро-
щенному противопоставлению метода и мировоззрения писа-
теля. Возможно, что здесь сказалось то обстоятельство, что это
самая ранняя по времени из включенных в сборник работ (она
написана в 1949 году). Возможно, что на критика оказала влия-
ние работа Б. Гюйона, которой, как уже указывалось выше, он
дал непомерно высокую оценку и которой присуща подобная
тенденция. Возможно, однако, что тут проявилось и не преодо-
ленное еще к этому времени воздействие какой-то другой из
концепций, тяготеющих к противопоставлению Бальзака-ху-
дожника Бальзаку-мыслителю.
Что касается главы о Диккенсе, то она написана с присущим
Дексу блеском, изобилует отдельными тонкими наблюдениями
и любопытными историко-литературными соображениями, но
все же в целом страдает некоторой описательностью. К тому же
бросается в глаза и определенная недооценка Дексом историко-
литературной ценности раннего творчества Диккенса, новатор-
ского значения таких его романов, как «Записки Пиквикского
клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби». У автора получается, что ранние ро-
маны Диккенса и его произведения, начиная от «Мартина Чезл-
вита», принадлежат как бы двум совершенно разным, отделен-
ным резкой гранью, эпохам («Николас Никльби» — это еще
порождение буржуазной действительности старого, патриархаль-
ного типа, а «Мартин Чезлвит» — уже отражение противоречий,
раздирающих современную буржуазную Англию). Конечно,
в творчестве Диккенса в начале 40-х годов происходят серьез-
ные сдвиги. Однако,, думается, что на самом деле эволюция
Диккенса происходила более последовательно и постепенно. Уже
в ранних его романах за несколько архаичной формой, восходящей
к повествовательным традициям английской прозы XVIII века,
скрываются существенные художественные открытия и замеча-
тельные реалистические прозрения.
Не все собранные в книге П. Декса материалы равноценны
по глубине содержания и оригинальности концепции. Но это
естественно для сборника, столь широкого по объему материала
и к тому же охватывающего целый этап работы критика, отра-
жающего развитие его мысли и неуклонный рост его мастерства.
Иногда с автором хочется вступить в товарищеский спор. Не-
которые его положения, как уже указывалось, представляются
недостаточно убедительными или точными. Изредка встре-
чаются частные «рецидивы» социологических упрощений. Од-
нако эти отдельные изъяны книги Декса (они неизбежны
в труде любого ищущего и не боящегося обходить острые углы,
сложные проблемы ученого) с лихвой перекрываются ее незау-*
22
рядными достоинствами. Советскому читателю она послужит
ярким примером тенденций, характерных для передового фран-
цузского литературоведения наших дней.
Состав книги П. Декса в русском издании соответствует
оригиналу, за исключением его последнего раздела. Он назван
автором «Приложения» («Annexes») и охватывает 28 заклю-
чительных страниц французского текста. Этот раздел посвящен
сугубо частным и не представляющим особенного интереса для
широких кругов советских читателей профессионального ха-
рактера вопросам истории французской литературы Средних
веков и XVII столетия. Текст оригинала воспроизведен в рус-
ском переводе полностью, за исключением нескольких подстроч-
ных примечаний автора, целесообразных во французском изда-
нии, но не дающих ничего нового для читателя советского.
* # #
Редакция сочла уместным дополнить русское издание
книги Декса «Семь веков романа» другой его большой рабо-
той «Размышления о методе Роже Мартен дю Гара». Эта
статья была написана Дексом летом 1957 года и опубликована
в том же году в сборнике эссе под заглавием «Размышления
о методе Роже Мартен дю Гара, а также Письмо Морису Надо
и другие эссе» («Réflexions sur la méthode de Roger Martin du
Gard suivi de Lettre à Maurice Nadeau et autres essais»). Редакция
считала, что, опубликовав эту статью как дополнение и своеоб-
разное заключение к книге «Семь веков романа», она придаст
этому изданию тем самым еще большую полноту, актуальность
и теоретическую остроту. Ведь это эссе, посвященное одному из
крупнейших романистов современности, во многом как бы при-
мыкает по своему содержанию к книге «Семь веков романа»,
подхватывая, развивая ее основную концепцию и доводя рас-
смотрение судеб французского романа до наших дней.
Работа Декса «Размышления о методе Роже Мартен дю
Гара» уже получила оценку в нашей печати * и поэтому не
нуждается в особенно подробной рекомендации читателю. Дёкс
опровергает попытки буржуазных литераторов (например,
А. Жида и Ж. Дюамеля) принизить значение творчества дю
Гара, поставить под сомнение его новаторский характер, объ-
явить писателя эпигоном реалистов XIX века, одним из про-
должателей натуралистической эстетики. Деке разбивает
* См. Л. 3 о н и н а. Летопись национального самосознания, «Вопро-
сы литературы», 1958, №8; С. Бочаров, Статьи В. И. Ленина
о Толстом и проблема художественного метода, «Вопросы литературы»,
1958, № 4, стр. 108—110; Ф. Наркирьер, О реализме Р, Мартен
дю Гара, «Иностранная литература», 1959, № 9. '
23
аргументы и тех критиков, которые (вроде Клод-Эдмонд
Маньи) объявляют устаревшим, потерявшим актуальность само
содержание романа-эпопеи Мартен дю Гара, утверждая, что из
негсГ невозможно извлечь уроки для настоящего.
Полемизируя с подобными взглядами, Деке ставит своей
задачей восстановить истинное место «Семьи Тибо» в истории
мировой литературы. Деке показывает, что подлинное право на
звание новатора, действительно обогатившего художественное
познание человечества, принадлежит не реакционным буржуаз-
ным писателям, не декадентам и формалистам разных мастей,
а писателю-реалисту Роже Мартен дю Гару. Писатели, идущие
по стопам А. Жида или А. Мальро, нагнетают изображение же-
стокостей, воспроизводят мир в виде некоего хаоса, где царит
слепая и бессмысленная случайность, заставляют своих героев
«сгибаться под тяжестью судьбы» или же предаются поискам
изощренных, но искажающих перспективу ракурсов, выпячи-
вают на первый план сексуальную проблематику. Что же ка-
сается Роже Мартен дю Гара, то он ввел в роман более глубо-
кое представление о зависимости отдельной человеческой лич-
ности от исторического процесса. Он неизменно утверждал спо-
собность разума познавать закономерность окружающей дей-
ствительности и одновременно высокую ответственность чело-
века перед собой и обществом.
Роман Мартен дю Гара глубоко трагичен, но он не подав-
ляет веру читателя в человечество, в его способность рано или
поздно найти путь к счастью и справедливости. «Семья Тибо»
рисует нам такую перспективу, что становится ясным: несмотря
на то, что лучшие люди потерпели поражение, несмотря на из-
мены, крах надежд,—«все еще в пределах людских возможно-
стей». Деке противопоставляет мужественное и жизнеутверждаю-
щее искусство Мартен дю Гара унылой, мрачной философии
жизни и пессимистическому восприятию судеб западноевропейской
цивилизации, которые пронизывают художественные произведе-
ния и публицистические выступления Валери, Мальро, Камю.
«Роже Мартен дю Гар завещал нам проблему: как быть полез-
ным для общества человеком — вместе с другими, для других?
При этом он заставляет нас самих найти, выработать собствен-
ное решение». Традиция же современных романистов, стоящих
на позициях, враждебных реалисту Мартен дю Гару, состоит,
по словам Декса, в том, чтобы «решать все эти вопросы против
других. Она возводит нетерпение, одиночество, неудачу в абсо-
лют». Истинными продолжателями художественных и граждан-
ственных заветов Мартен дю Гара являются, по глубокому убе-
ждению Пьера Декса, в первую очередь такие писатели, как
Арагон, автор цикла романов «Реальный мир», писатели, пере-
шедшие на позиции аоциалистического реализма.
24
Валери, Мальро и подобные им смертельно боятся все воз-
растающей активности масс, их стремления взять управление
историческими закономерностями в свои руки. Творчество же
Мартен дю Гара приводит объективно к мыслям противополож-
ного порядка: «то, с чем окончательно разделывается, что по*
просту убивает «Семья Тибо», — стремление противопоставить
деятельное меньшинство, берущееся решать судьбы всех, огром-
ному большинству людей, обрекаемых на роль пассивной массы,,
которую легко вести в любом направлении». В этом выводе,,
подсказываемом содержанием «Семьи Тибо», и заключается
один из основных источников неослабевающей актуальности и
жизненности этого произведения. В наши дни, дни напряжен-
ной борьбы, которую все прогрессивное человечество ведет за
сохранение мира, за устранение угрозы войны, Деке с полным
основанием заявляет: «Этот роман о первой мировой войне,
завершенный перед началом второй мировой войны, кажется,,
специально написан для послевоенного времени, которое мы пе-
реживаем; он направлен против тех, кто стремится превратить
утро победы в новый период между двумя войнами».
В демократических и гуманистических чертах мироощущения
Роже Мартен дю Гара, в его честности и объективности как ху-
дожника, в его тяготении к конкретно-историческому рассмотре-
нию и оценке общественных явлений и находит Деке ключ к от-
вету на вопрос, неизменно его волнующий и возникающий уже
в книге «Семь веков романа» (например, в статье о Дюма).
Почему художественное произведение, возникшее в иных, от-
личных исторических условиях, продолжает неустанно вдохнов-
лять борьбу последующих поколений? Почему оно, несмотря на
свою историческую ограниченность, помогает потомкам находить
решение волнующих жизненных проблем, хотя само и не заклю-
чает в себе никаких готовых общественных рецептов и политиче-
ских программ?
Однако великое культурное наследие прошлого продолжает
жить лишь в том случае, если к его заветам подходят творчески,
если их подхватывают и развивают дальше. Условия борьбы за
уничтожение угрозы войны, за установление прочного мира, ко-
нечно, сильно изменились по сравнению с годами, когда Мар-
тен дю Гар писал заключительные части своего романа. Война,
если она разразится, несет опасность еще более страшных раз-
рушений, но неизмеримо возросли и силы сопротивления этой
опасности, возможность ее устранения. Еще более утонченными,
более изощренными и жестокими' стали способы, к которым
реакционные империалистические круги прибегают, чтобы втя-
нуть народные массы в смертоносную бойню. Но одновременно-
многократно увеличилась и бдительность передовых обществен-
ных сил, действенность их сопротивления, их инициатива, поли-
• 25
тическая активность, историческая' роль народных масс. Задача
прогрессивных кругов французской интеллигенции заключается
в том, как показывает Деке, чтобы суметь извлечь жизненный
и эстетический урок, заключенный в «Семье Тибо» Мартен дю
Гара, и самостоятельно применить его к новым условиям борьбы
за мир.
Стремясь осуществить эту задачу, Деке в своей статье разо-
блачает демагогические приемы, к которым идеологи реакции
прибегают, стремясь разоружить народные массы, раскрывает
ошибки и заблуждения интеллигентов, становящихся жертвой
пацифистских иллюзий, приманок абстрактного буржуазного гу-
манизма. _ *
Одна из наиболее распространенных уловок этого буржуаз-
ного гуманизма заключается в попытках привить народным мас-
сам страх перед любым видом насилия как средством борьбы.
Подробнейшим образом освещая эту проблему, Деке, опираясь
на принципы марксистской философии, подчеркивает необхо-
димость конкретно-исторической ее постановки и диалектиче-
ского ее решения. Вопрос о праве на применение насилия нельзя
решать вообще, отвлеченно, в духе идеалистического кантов-
ского «императива», как это делают пацифистах или буржуазные
гуманисты, затуманивая мозги простых людей. Насилие может
быть и необходимым актом революционной борьбы за справед-
ливые цели и, в другом случае, осуществлением реакционного
террора, вопиющим нарушением демократических принципов.
Все дело в его объективном политическом смысле. Этот вопрос,
так же как и вопрос о справедливости или несправедливости
той или иной войны, можно решать лишь в зависимости от бо-
лее широкой проблемы, выясняя, каким целям, интересам ка-
кого именно класса, интересам ли прогресивных или реакцион-
ных общественных сил, может служить применение насилия в
данной конкретной обстановке.
Заключая свою статью и как бы подводя ей итог, Деке
вновь подчеркивает: «Непреходящая актуальность романа
«Семья Тибо» в том, что он подводит нас к проблеме нашего
собственного предназначения, которое заключается в том, что
мы должны жить в мире равных народов и людей, должны
выковать свободу в соответствии с нашими идеалами, жить не
так, как жили Жак или Антуан, а идти вперед навстречу буду-
щему, которое они уже провидели».
Ю. Б. Виппер
I. КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА, ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ
РОМАНА
/. Термин, не поддающийся определению
ранцузское слово роман
связано с игрой слов, не
передаваемой на другом
языке. В словаре Литтре 1 этот термин определяется так: «Ро-
ман (roman) — существительное . мужского рода. Означает:
1. Повествование подлинное или вымышленное, написанное сти-.
хами либо прозой на старом (романском) языке. 2. Вымышлен-
ная история, написанная прозой, в которой автор стремится воз-
будить интерес, изображая страсти, нравы или необычайные
приключения». А вот что сказано у Литтре о прилагательном
романский (roman) : «Романским называется язык,
будто бы занимавший, промежуточное положение между ла-
тынью и происшедшими от нее языками, но который как та-
ковой в этом смысле и не существовал. В настоящее время ро-
манскими называют языки, развившиеся из латыни. Главные
из них — четыре: французский, итальянский, испанский и про-
вансальский».
На этом, по существу, и основана игра слов. Однако первое
определение Литтре следует уточнить. Когда во Франции
только начали употреблять термин роман, то имели в виду
не произведения, написанные на старом языке, а новые произве-
дения, написанные на новом языке, простонародном
(vulgaire), как его иногда называют в наши дни; и адресованы
были эти произведения простому народу и женщинам — то есть
тем, кто не знал латыни. Новый, разговорный язык прекрасно
подходил для выражения нового, реального в жизни на-
ших предков. Латынь лучше передавала смысл многих весьма
важных понятий, по большей части отвлеченных, к чему моло-
дой французский язык не был приспособлен; латинский язык
27
бросал вызов благопристойности, и наш современный француз*
ский язык даже под пером профессиональных литераторов не
достиг еще грубой прямоты языка древних; впрочем, это уже
не имеет отношения к вопросу о реализме.
Что касается второго определения термина роман, кото-
рое Литтре считает современным, оно устарело уже*примени-
тельно к «Отверженным», появившимся в 1863 году, то есть
за год до того, как Литтре приступил к работе над словарем,
а также применительно к творчеству Бальзака, умершего за две-
надцать лет, и Стендаля, умершего за два десятилетия до этого.
Прибавим, что современные словари не исправляют этого
определения. В последнем издании Ларусса мы читаем: «Ро-
ман. В прошлом: повествование правдивое или вымышленное,
в прозе или в стихах, написанное на романском языке. В на-
стоящее время: вымышленное произведение в прозе, рассказы-
вающее о вымышленных событиях, придуманных и расположен-
ных так, чтобы заинтересовать читателя».
В английском языке существует два различных термина:
romance — от французского слова «роман», употребляется для
обозначения средневековых и античных романов, а также всех
вообще необычайных историй, отмеченных печатью фантазии;
novel — от «новелла», обозначает современный роман. Говоря
по правде, различие, существующее между терминами в языке
наших соседей, довольно расплывчато, но его положительная
сторона в том, что это не просто формальное определение. Дей-
ствительно, слово novel стало употребляться приблизительно
с того времени, когда роман наполнился социальным содержа-
нием, характерным для буржуазного общества.
Добавим, что в том и другом случае термин roman, или ro-
mance, применяют и к произведениям античности — к «Даф-
нису и Хлое» 2 или к «Сатирикону» 3 — лишь в расширительном
смысле, так сказать по сходству; но во французском языке
нелепость этого этимологического анахронизма совершенно уже
не воспринимается. Исследуя источники наших средневековых
романов, не надо забывать, что творения античных авторов
были названы романами лишь по аналогии с нашими и что, за
исключением некоторых византийских повествований, относя-
щихся к раннему Средневековью, античное наследие в этой об-
ласти стало доступным лишь в эпоху Возрождения.
Что касается новеллы как жанра краткого* повествова-
ния, этот термин был, по-видимому, впервые употреблен Бок-
* Краткость в данном случае — понятие относительное. В русском
языке вместо одного нашего слова роман употребляются два термина:
роман и повесть. Под романом понимают большое повествование в
прозе, нечто вроде наших романов в 600 страниц и больше. Повесть
соответствует нашим современным романам в 250—300 страниц.
28
каччо в его «Декамероне» 4. Первоначально новелла была очень
близка к городской литературе — жизнерадостной и даже не-
пристойной. Во Франции в XV веке «Сто новых новелл» («Les
cent Nouvelles nouvelles»)5 представляли собой слияние итальян-
ских новелл с темами наших фаблио. Таким образом, с самого
начала наши средневековые романы, куртуазные, аристократи-
ческие по духу, связанные с феодальной действительностью,
были противоположны по содержанию новеллам, рожденным
городской литературой, «приземленной», сатирической по своей
направленности, особенно охотно избиравшей мишенью своих
нападок женщин. Первый французский роман в современном
смысле слова «Маленький Жан де Сентре» («Le petit Jehan de
Sàintré») 6, появившийся в ту же эпоху, что и «Сто новых но-
велл», представляет собой произведение, где феодальная и бур-
жуазная действительность сопоставляются, подвергаются кри-
тике и переплетаются, так же как и два вида художественной
техники, применяемой в средневековой литературе *.
Слово roman начало появляться во Франции в заглавиях
литературных произведений в XII веке и в переводе на совре-
менный язык означало «по-французски» **. Это верно по отно-
шению к «Роману о Бруте» («Roman de Brut») Baca (около
1155 года), первому литературному памятнику, созданному на
общеразговорном языке и связанному со сказаниями о короле
Артуре; роман этот представляет собой изложенный восьми-
сложным романским стихом вольный перевод «Истории королей
Британии» («Historia regum Britanniae»), написанной Жофруа
де Монмутом на латинском языке (1135 год); в наши дни на-
звание этого произведения выглядело бы так: «История (хро-
ника) Брута на французском языке» (Брут, или Брутус,—
мифический предок королей Британии). Это относится к «Ро-
ману о Ренаре» («Roman de Renart»), который можно было бы
озаглавить «Истории (рассказы) о Ренаре на французском
языке».
Но в то же время были и другие произведения, также назы-
вавшиеся романами, но представлявшие собой особый жанр.
Еще в 1165 году автор «Романа о Трое», как мы увидим, на-
зывает свое произведение романом, причем уже употребляет
этот термин для обозначения литературного жанра (в смысле
второго значения слова роман у Литтре).
Литтре и впрямь был обескуражен фактом, что в XII веке
слово роман имело несколько значений, и тем, что весьма
* См. статью вторую: «К пятисотлетию Антуана де Ла Саля, осно-
воположника современного романа».
** По своему происхождению roman — наречие, подобно латинскому
romanice, и означало «по-романски», «на романском языке». Существитель-
ное появляется лишь позднее.
29
трудно хронологически последовательно проследить развитие
употребления этого термина. Но одно можно сказать совершен*
но определенно: начиная с XIII века — если исключить «Роман
о Ренаре», ибо разработка его различных ветвей продолжалась
вплоть до 1210 года, — термин роман означает вымышлен-
ные истории, которые сперва писались стихами,*а затем, на-
чиная с этой же эпохи, и прозой; в историях этих.автор стре-
мится возбудить интерес и т. д. (см. Литтре).
Но на первых порах вновь появившимся словом каждый
пользуется, как заблагорассудится; это касается и авторов, и
тех, кому их произведения адресовались. Последние, впрочем,
были в ту пору скорее слушателями, нежели читателями *. «Для
средневековых придворных, — замечает Поль Зюмтор **, — ро-
ман вместе с шансон де жест, историческими хрониками
и некоторыми житиями святых входил в весьма расплывчатую
категорию развлекательных рассказов». Тем не менее с самого
своего возникновения, около 1150 года, роман .обладает несколь'
кими характерными для него чертами: «Он рисует необычайные
приключения, чаще всего связанные мотивом поисков и изо-
билующие любовными интригами; в нем наблюдается заметная
тенденция объяснять действия психологическими причинами;
внутреннее единство романа достигается чаще всего компози-
ционными приемами, в которых решающее значение имеют ко-
личественные пропорции, тематические связи, а не закономер-
ность развития действия; роман отличает тщательно отработан-
ная форма; особенность его структуры в том, что пение вовсе
исключается».
Я полагаю, что нельзя выразиться точнее, не рискуя впасть
в модернизацию. При этом такое определение первых романов
позволяет понять, как возник на их основе современный роман,
даже если он решительно от них отличается и между ними нет
прямой исторической преемственности, больше того, — если
связь между ними была нарушена.
И действительно, первые произведения, получившие назва-
ние «романов», причем термин этот уже обозначал жанр (это
произведения, которые Гюстав Коэя7 именует классической три-
адой,—'«Роман о Фивах» («Roman de Thèbes»), «Роман об
Энее» («Roman d'Eneas»), «Роман о Трое» («Roman de Troie»),
отличаются по форме от шансон де жест: у них значительно
ослаблен ритм, нет больше строф и лесс. Специфический харак-
тер стиха сведен здесь к одной лишь рифме, парной, как в на-
шей трагедии классицизма (а — а, в — в, с — с и т. д.). Стих
* Современные выражения «сочинять роман», «писат* роман» для то-
го времени неприменимы. Кретьен де Труа рассказывает; обычно именно
этот глагол и употребляется первыми авторами наших романов.
** Р. Zumthor, Historie littéraire de la France médiévale, P,UF., 1954,
30
восьмисложный, и им пользуются с большой гибкостью. Пере-
носы в стихе и перерывы в ритме предоставляют большую сво-
боду для ведения рассказа:
Эдип в сомненье, он спешит
скорее к Фивам и твердит:
«Моей дороге нет конца,
пока не разыщу отца».
У самых Фив стоял утес,
под ним обрывистый откос.
Утес тот — дьявола вертеп,
был дьявол злобен и свиреп,
он имя Сфинкса получил
и многих смельчаков сгубил... *
(«Роман о Фивах»)
Таким стихом написаны наши первые романы, он сделался
излюбленным творческим инструментом Кретьена де Труа, ко-
торый двадцатью годами позднее стал величайшим романистом
той эпохи.
С тех пор прошло уж семь годин,
когда я, как виллан, один,
опасных подвигов ища,
скрыл панцирь складками плаща,
надел железную кольчугу
и туже подтянул подпругу.
Моя дорога вправо шла,
она сквозь чащу пролегла,
терновник рос колючий там,
по этим гибельным местам
я гнал и гнал вперед коня.
И вот, уже на склоне дня,
когда стал небосвод темнеть,
внезапно начал лес редеть,
и я вступил в Броселиану.
(«Ивен, или Рыцарь льва»)
2. Гуманизм, проза и ужас
Прошло три четверти века, прежде чем возник роман в про-
зе. Новый жанр сложился лишь с появлением «Перлесвауса»
(«Perlesvaus») в первые годы XIII века, а затем и трилогии
«Ланселот» («Lancelot»), «Поиски святого Грааля» («Quête du
Saint-Graal») и «Смерть Артура» («Mort d'Arthur»), которую
следует датировать приблизительно 1225 годом.
Тот, кто противопоставляет стихам прозу, обычно имеет
в виду большую последовательность и естественность изложе-
* В оригинале стихотворный текст дается параллельно — на старо-
французском языке и в адаптациях на современный французский язык
П. Декса или же в некоторых случаях Гюстава Коэна. — Прим. ред.
31
ния, большую ее гибкость и, поскольку речь идет о романе, спо-
собность лучше передавать сложность жизненных перипетий,
выражать их точнее и более развернуто; короче говоря, боль-
ший реализм. И это правильно, если говорить, например, о пе-
реходе от хроники в стихах (например, романы Васа) к прозаи-
ческой хронике (Вилардуэн или Жуанвиль). Это справедливо
и в более широком смысле, если говорить о рождении француз-
ской прозы в целом, развитие которой совпадало со становле-
нием французской нации. Проза оформляется в драмах периода
Столетней войны и окончательно созревает при Людовике XI,
то есть в эпоху укрепления во Франции королевской власти.
Кстати, это означает в то же время и победу парижского (сто-
личного) диалекта над остальными. Эту победу закрепляет по-
являющееся затем книгопечатание, оно радикально преобразует
условия распространения культуры, создает читателя.
Но высказанное выше положение неправильно в отношении
средневекового романа.
Прозаический роман XIII века не служит ни продолжением,
ни развитием стихотворного романа XII века. Это, как мы уви-
дим дальше, — его ревизия, исправление, критика и... обедне-
ние. Проза в данном случае не означает усиления реализма. На-
против, она вносит в то удобное вместилище, каким был роман,
идеи церковных реформаторов, идеализм цистерцианцев8, ми-
стицизм.
Именно этот прозаический роман, а не первые романы
XII века соперничает с произведениями на латыни. Именно
этот роман, а не более ранние доступен еще и в наши дни фран-
цузским читателям. Отсюда необходимость поставить в начале
нашего очерка только что сформулированную проблему.
Нам прожужжали уши, доказывая, что наши предки в эпоху
Средневековья только и делали, что преклонялись перед богом,
испытывали ужас перед непознаваемым миром, представляв-
шимся будто бы чем-то неведомым, опасным и враждебным.
Единственные исследования, которые велись в те времена, —
это, мол, только поиски мистического — бегство от невыносимой
и гнетущей действительности, которую даже не пытались по-
стичь. Средневековая философия была будто бы направлена
на унижение человека и унижение человеческого разума, была
служанкой теологии. Такой образ Средневековья складывается
при чтении прозаических романов XIII века.
При таком подходе ценность первых романов, о которых я
говорил, — о Фивах, об Энее и о Трое — всячески умалялась,
поскольку они не укладывались в заранее придуманную схему.
Они будто щеголяли в плохо подогнанных к ним античных
одеждах, привлекавших мишурным блеском, подобно тому как
блестящие безделушки привлекают и опьяняют дикарей. Как
32
замечает Поль Ренуччи *, придерживаться такого мнения, «по-
скольку рассказчики (поэты. — Ред.) того времени вопреки
правде истории обряжают Гектора в тяжелые доспехи и наде-
ляют рыцарскими манерами», — означает прибегать к доводам,
от которых «за версту отдает романтизмом и которые не столь не-
оспоримы, сколь вообще не могут быть применены в "споре.
Ведь в конечном счете это значило бы упрекать рассказчиков
XII столетия в нарушении правил, провозглашенных в
XIX веке. Можно ли забывать, что в самих античных произве-
дениях, служивших образцами для авторов средневековых рома-
нов, придавалось очень мало значения местному колориту?
Что было типично карфагенского в описании дворца Дидоны
или типично беотийского в изображении Фив? Должны еще
пройти века, прежде чем показ жизненной обстановки станет
вызывать такой же интерес, как сама жизнь; эпоха Возрожде-
ния и век классицизма не составляют в этом смысле исключе-
ния... романисты Средних веков ошибались при описании наря-
дов, но не человеческих чувств. Они искали у античных авторов
не архаические «куски жизни», а вечные истории, достоверные
не только в прошлом, но и сегодня, для того чтобы лучше по-
стигать и лучше изображать мир, где им в череде поколений
привелось жить».
В самом деле, нужно забыть немало возникших позднее по-
нятий, чтобы понять эту особенность наших первых романистов.
Она представляла собой полную противоположность экзотизму,
ибо в середине XII века во Франции происходило мощное гума-
нистическое движение, во многом близкое к тому, которое ха-
рактерно для эпохи Возрождения в собственном смысле слова.
Другое дело, что это движение было впоследствии — при папе
Иннокентии III — подавлено церковью и в основном уничто-
жено**; однако авторы романов о Фивах, об Энее и о Трое,
â также Кретьен де Труа жили во времена, когда вновь была
открыта греческая мысль и в западном мире получила распро-
странение арабская культура. Аристотель, Птолемей, Платон,
Гиппократ заново переводятся на латинский язык, и наши рома-
нисты немало черпают из произведений Вергилия, Стация, Ови-
дия. Живя в католическом обществе, они пользуются сокрови-
щами языческого мира и не испытывают никаких угрызений
совести***. Только полвека спустя начались нападки с целью
* P. Renucci, L'Aventure de l'humanisme européen au Moyen âge, 1954.
** Булла Иннокентия III, призывающая к крестовому походу против
альбигойцев, относится к 1208 году. Инквизиция учреждена во Франции
в 1233 году.
*** Здесь также следует остерегаться наших современных представле-
ний. Вернее всего, авторы средневековых романов и их современники не
видели в этом ничего зазорного.
3 П. Деке
33
подорвать уважение к великим учителям древности и сделать их
имена ненавистными: Аристотеля объявили сыном дьявола,
а Вергилия — магом. Осуждение Аристотеля Парижским уни-
верситетом произошло сто лет спустя, в 1277 году.
Лишь в XIII веке под влиянием цистерцианского движения
и воинственной активности церкви под эгидой папы Иннокен*
тия III, вдохновителя крестового похода против альбигойцев9,
начали уже усиленно извлекать из творений античных авторов
нужную мораль и придавать религиозный или мистический
смысл приключениям героев Круглого стола.
Романы XII века, с какой стороны к ним ни подходить, сви*
детельствуют о куда более рационалистической оценке окру-
жающего мира. В них поражают едва прикрытая налетом язы-
чества антиклерикальная смелость и та вера в человеческий ра-
зум, которая воодушевляла Абеляра10 в начале века. То были
первые ростки гуманизма — уже в том смысле, какой придает
этому слову эпоха Возрождения, в том смысле, какой сохранило
это слово до наших дней; античная мудрость, по весьма удач-?
ному, на мой взгляд, выражению Поля Ренуччи, позволяет авто-
рам романов «лучше постигать и лучше изображать мир, где им
в череде поколений привелось жить».
3. «Внимай, глупец, вот приговор...» (Эдип Сфинксу)
Если бы кто-нибудь забавы ради составил антологию из при-*
зывов к защите христианской и западной цивилизации, раз-
дававшихся за последние двадцать лет, он обнаружил бы среди
их авторов наряду с гитлеровскими вожаками и прочими поли-
тическими авантюристами, не отличавшимися культурой, также
довольно большое количество разного рода представителей ин-
теллигенции; примечательно, однако, что среди них крайне
редко встречаются — можно даже сказать, полностью. отсут-
ствуют — не только специалисты по Средним векам, но и вооб-
ще те, кто знает и любит Средневековье.
Сразу же после победы 1945 года абстрактные понятия
«Запад» и «Европа», в течение определенного отрезка времени
служившие обоснованию гитлеровской «Европы», были вновь
введены в международное обращение одним французским писа-
телем, который поспешил предупредить своих слушателей о том,
что, в сущности, всякое исследование гуманистического порядка
выходит за пределы истинной проблемы: «Я хочу сказать, что,
каков бы ни был гуманизм, к которому мы стремимся, сомни-
тельно, что он сможет избавить нас от войны...» Этот же самый
писатель несколько дальше уточнил свою мысль: «Сила За-
пада —nb уменье принимать неведомое. Возможна только одна
34
форма гуманизма, но это, надо прямо сказать,— гуманизм тра-
гический. Мы находимся перед лицом неведомого мира, и мы
предстаем перед ним с полным сознанием ответственности»;
Любопытно, что человеком, заявившим это в 1946 году на
лекциях, организованных ЮНЕСКО в Париже, был не кто
иной, как Мальроп. Выражение «сила Запада» либо имеет
какой-то смысл, и в таком случае его правомочность должна
быть оправдана «Западом» и историей этого «Запада», либо
это — всего лишь метафизическое словоблудие. Если обратиться
к XII столетию, о чем я говорил выше, к веку крестовых
походов, к эпохе, в которой, казалось бы, так называемое единство
и общность цивилизации Западной Европы следует искать в пер-
вую очередь, то этот век, оказывается, не только не подтвер-
ждает идей, выдвинутых Мальро, но, напротив, опровергает их.
Рассматривая наследие, доставшееся нам от длинного ряда по-
колений наших предков, стараясь лучше понять, что предста-
вляет собой наш народ, какой вклад он внес в развитие челове-
ческой культуры, обнаруживаешь примечательную веру в
возможности человека. Пресловутой «силы Запада», «умения
принимать неведомое» нет в романах Кретьена де Труа, — все
это выводится только при последующем совершенно произволь-
ном мистическом истолковании его творчества. В его произведе-
ниях, начиная от «Эрека и Эниды» и кончая «Персевалем»,
люди властвуют над миром, над своими страстями, над лю-
бовью; они способны преодолевать и те противоречия, кото-
рые возникают между любовью и требованиями жизни. И уже
предшественники Кретьена предваряют его и в этом напра-
влении.
Вот что говорит в «Романе о Фивах» Эдип после того, как
Сфинкс задал ему загадку:
Эдип на редкость был умен.
Ответ обдумал молча он,
на Сфинкса бросил гневный взор:
«Внимай, глупец, вот приговор I
Твоя загадка не сложна,
и для меня легка она —
в те дни, когда младенцем был,
на четвереньках я ходил...
Перед Сфинксом, всем внушающим ужас, Эдип не прихо-
дит в замешательство, он размышляет. Автор настаивает на
рационалистическом элементе в приключении, он уснащает рас-
сказ деталями, чтобы сделать успех Эдипа понятным и есте-
ственным. Эдип умнее Сфинкса, и этим «Роман о Фивах» реши-
тельно отличается от античной трагедии. Автора можно упрек-
нуть в том, что он не понял мифа, но такое обвинение было бы
3*
35
бессмысленно. Ведь для романа как раз и характерно то, что
автор в нем отвергает миф и гуманизирует, представляет более
человечной легенду об Эдипе.
Мы присутствуем при ниспровержении трагизма, связан-
ного с верой во всемогущество богов или в неведомый рок. Эдип
и Йокаста знают все. Когда Эдип после победы над Сфинксом
приходит в город и ему оказывают почести во дворце царицы,
она спрашивает его, присутствовал ли он на играх, где был убит
ее муж. Эдип отвечает утвердительно, но настаивает на заве-
рениях в том, что убийца царя не навлечет на себя ненависти
Йокасты.
«Молчите, друг! — рекла она. —
Что толку ненависть питать?
Ведь мертвецу уже не встать.
Клянусь вам честью, мой ответ —
к убийце мужа злобы нет!»
Сказал Эдип: «Вот этот меч,
он Сфинксу голову снял с плеч
и много подвигов свершил...
Он мужа вашего сразил.
Признаю правду, не тая,
нанес удар смертельный я,
хоть сам теперь тому не рад».
Затем, поправив свой наряд,
йокасте руку подает,
она ее тотчас берет.
Эдип так складно говорил,
что сердце дамы покорил:
ведь женщине всего милей,
чтоб вышло так, как нужно ей.
Старинная легенда явно перестает здесь быть сказа-
нием, полным грозных пророчеств и ярости. Эдип покоряет Йо-
касту своим благородным и прямым поведением, и наш старый
романист прибегает к всевозможным психологическим объясне-
ниям (также и к вытекающим из презрительного отношения
к женщинам: нетрудно провести женщину, особенно столь кра-
сивому и умному мужчине, как Эдип), чтобы с полной убеди-
тельностью развеять всякую таинственность. То, что мы здесь
видим, — это своеобразный реванш человека над богами былых
времен. Реванш этот глубоко человечен, хотя он и не носит
особенно возвышенного характера. Нас приучили воспринимать
Средние века как беспросветную ночь. В свое время такое пред-
ставление возникло в силу невежества и почти полного отсут-
ствия документов об этой отдаленной эпохе, но в настоящее
время оно выглядит нелепостью либо фальсификацией. Совре-
менный обскурантизм прибегает к подобным мифам для соб-
ственного оправдания. Именно так поступал Альфред Розенберг,
гитлеровский теоретик, автор «Мифа XX века», искавший пред-
ай
шественников в готических сказаниях о «Blut und Ehre» («Кровь
и честь»). Хотя эти предшественники существовали лишь в его
воображении, они тем не менее представлялись древнегерман-
скими предтечами фашистов в их зверствах.
Препятствия, мешающие нам правильно понять XII век, как
и прошлое Франции в целом, связаны с современным полити-
ческим положением, когда решается сама судьба Франции,
в большей мере, чем с отдаленностью времени, исчезновением
памятников и недостатком текстов. Возникает простой вопрос:
почему изучение средневекового французского, языка, по суще-
ству^ отсутствует в учебных программах? Почему как следствие
втого писатели, творившие до XVII века, практически недо-
ступны в подлиннике большинству читателей в нашей стране?
Оправданием не может служить то обстоятельство, что такое
положение связано с историей возвышения буржуазии, которая
презирала все, что происходило в эпоху, когда она играла незна-
чительную роль, точно так же как богачи весьма неохотно го-
ворят о времени, когда они были бедны, и предпочитают расска-
зывать о себе с той поры, когда они начали богатеть. Право же,
если старинные тексты оскорбляют порой слишком уж пугли-
вое целомудрие, то они же и опрокидывают немало распро-
страненных представлений, как, например, о цивилизаторской
роли церкви; они ниспровергают столько благонамеренных по-
нятий, связанных с социальным прогрессом, что внушают беспо-
койство тем, кто не мыслит образования без обязательного ува-
жения к существующему строю. Но как нам понять нашу нацию,
не зная истории ее происхождения? Не зная, как она посте-
пенно мужала, не зная идей ее выдающихся представителей,
не зная, что думали о себе сменявшие друг друга поколения на-
ших предков? Знать это необходимо, ибо это лучший способ по-
нять, что представляет собой наша родина.
Надо сказать, что тексты сопротивляются тем, кто пы-
тается совершать над ними насилие. Именно этим и объясняется
непонятное замалчивание у нас романов, о которых я говорил;
а ведь эти романы — первые победы людей, пытавшихся сред-
ствами языка овладеть окружающим миром, — и являются наи-
более «западными» из всех известных нам произведений. Они
наиболее «европейские», если позволено употребить это слово
в том смысле, какой придают ему на жаргоне, столь любезном
сердцу Мальро. И это не только потому, что «Эней», например,
был переведен на немецкий язык Генрихом фон Вельдеке между
1175 и 1190 годом и оказал значительное влияние на герман-
скую литературу того времени, которая, по замечанию Гюстава
Коэна, «находилась почти в полной зависимости от французской
литературы»; не только потому, что в XIX веке эти романы
были обнаружены и извлечены на свет совместными и одновре-
J7
менными усилиями французских и немецких ученых. Но глав-*
ным образом потому, что эти три первых французских романа
открывают собой период, отмеченный именем Кретьена де Труа,
период, когда формируются сюжеты, общие для культуры Ан-
глии, Франции и Германии: кельтские мотивы, сказания о ры-
царях Круглого стола, Персеваль, Тристан.
4. «Одиссеевский» гуманизм
Мы видели, как был переосмыслен трагический гуманизм в
«Романе о Фивах». В романе «Эней» такому же переосмыслению
подверглась «Энеида». Всем памятен конец XII книги Верги-
лия. Поверженный на землю Турн умоляет Энея о пощаде:
Redde meis. Vicisti et victum tendere palmae
Ausonii videre; tua est Lavinia con jux;
Ulterius ne tende odiis.
«Отдай меня моим близким. Ты победил, и жители Авзонии
видели, как побежденный протягивает к тебе руки. Лавиния —
твоя супруга, не простирай же Дальше свою вражду». Как из-
вестно, Эней приканчивает Турна. О чувствах Лавинии нет и
речи. Автор «Энея» пишет роман скорее о Лавинии. ОДать
юной девушки хочет, чтобы она стала женой Турна, но Лави-
ния еще вовсе не знает любви, и между обеими женщинами за-
вязывается один из самых прекрасных в нашей литературе диа-
логов о любви: «Turnus est proz, sel doit aimer» — «Турн—герой,
ты должна любить его», — говорит мать. На это Лавиния отве-
чает:
— Скажите прямо, не тая:
в чем суть любви? Не знаю я.
— Я описать ее не смею.
— Но я любви не разумею!
— Доверься сердцу своему.
— В нем ничего я не пойму.
— Любви не объяснить словами.
— Опять туман перед глазами!
— Он очень скоро поредеет.
— Кто только вас понять сумеет?
— Влюбись! И все сама поймешь.
— Легко сказать! А где найдешь
того, кто мне опишет страсть?
— О, ей дана большая власть!
Ведь я любила, дочь моя,
и мучилась, страдала я... —
говорит мать и описывает действие любви в таком мрачном
свете, что девушка восклицает:
38
— Так, стало быть, любовь — недуг?
— Да, но, верней, она — пожар,
она сжигает, точно жар,
ее огонь — грозней чумы,
и перед ней бессильны мы!
Нетрудно понять, что Лавиния после этого не желает
слышать о любви:
— Пускай ее другой узнает!
— Что? Что?
— Она меня пугает.
— Недуг сей сладостен, хорош.
— Как? Сладостен? Не верю! Ложь!
— Любовь — недуг совсем особый...
— Ни лаской, матушка, ни злобой
вы дочь свою не убедите
любить...
— Вы только поглядите,
какие вздорные мечты!
Настанет день — полюбишь ты.
Тогда не вздумай уж хитрить —
никто не может страсти скрыть!
Одно сказать хочу тебе:
когда наперекор судьбе
тебе понравится Эней, —
убью тебя рукой своей!
Девушка не смущается этим, угроза матери кажется ей пре-
увеличенной. Но через пять стихов выясняется, что Лавиния
уже сама поняла, что такое любовь. Она открывается матери,
между ними вновь завязывается очаровательный диалог.
Мать:
— Мне эти жалобы знакомы,
а вздохи томные твои
и есть свидетельство любви.
Но эти вздохи и стенанья —
источник сладкого терзанья.
Ты любишь, дочка, вижу я.
— Нет, вы не правы, мать моя!
— Любовь — удел всего земного.
— Мне непонятно это слово!
— Ты так осунулась, бледна,
тому причина лишь одна:
ты любишь, дочка, вижу я!
Зачем таишься от меня)
Должна ты сердце мне открыть,
ведь так прекрасно — полюбить!
И Турн давно тобой пленен,
любви вполне достоин он,
люби его ты всей душой,
ведь он живет тобой одной.
39
Теперь довольна я, мой свет,
ты выполнила мой совет:
я полюбить тебя просила,
и ты послушно поступила.
Скажи ему, что всех дороже
он для тебя.
— Избави, боже!
Я не люблю его, о нет!
— Не любишь?
— Нет!
— Каков отЬет!
Люби его!..
— Любите вы,
мне он не нравится, увы!
— Турн знатен, доблестен, хорош!
— Не ставлю я его ни в грош.
— Кого же любишь ты тогда?
— Кого? Но надобно сперва
совсем другое уяснить:
ужель я начала любить?
— Ты любишь, нечего скрывать!
— Ну, можно ли так утверждать?
— Не нужно признаков иных —
любовь горит в глазах твоих.
— Неужто, матушка моя,
так от любви страдаю я?
— Твои страданья впереди.
— И без того — огонь в груди,
и без того — лишаюсь сил...
— Скажи, тебе один лишь мил?
— Да, я мечтаю об одном,
тоскую, думаю о нем.
— Чего ж ты хочешь от него?
— Хочу я только одного:
чтоб он всегда здесь, рядом, был
и лишь со мною говорил.
Уходит он—'и стынет кровь...
— Так это же и есть любовь!
— Как? Стало быть, я влюблена?
— Конечно!
— Спала пелена
теперь навек с моих очей:
любовь живет в душе моей!
Скажите, как же дальше быть?
Меня должны вы научить.
— Урок тебе охотно дам,
ведь страсть понятнее для дам,
чем для девиц. Откройся мне.
— Я не решаюся, зане
боюсь в вас вызвать- сильный гнев,
ведь полюбила я, презрев
запрет ваш. Но любовь всевластна,
и я боролась с ней напрасно.
Теперь недостает мне сил
назвать того, кто покорил
меня. Боюсь вас огорчить...
40
— Коли решилась полюбить,
зачем же ты таишься вновь?
— В моей душе живет любовь...
— Ты любишь Турна? Говори!
— Нет, госпожа!
— Эй, не хитри!
Кого ж?
— Его зовут на «Э...
Потом, вздохнув, шепнула:—...не
и, сделавшись еще бледней,
прибавила чуть слышно: — ...ей».
Царица брови подняла
и медленно произнесла:
— Как ты сказала? «Э... не... ей»?
Что ж получается? «Эней»?
— Да, госпожа, он это, он...
Тон, тема — все в этих первых наших романах было новым,
необычным. Никто еще не рассказывал подобных историй, и
молодой романский язык пробует на них свои силы. Пусть кто
хочет характеризует этот восторг, эту ни с чем не сравнимую
свежесть чувств, это волнение юной девушки перед лицом любви
как трагический гуманизм. Величие, здесь достигнутое, не имеет
ничего общего с тревогой перед лицом судьбы. Здесь вера в
жизнь, песнь всемогущей весны, античная тема преобразована
волшебством женских голосов, которые так редко звучали
прежде и почти никогда не говорили о счастье. Если можно го-
ворить об особом одиссеевском (воплощенном в «Одиссее»)
восприятии мира, о восприятии умиротворенном и ясном, то
именно здесь ощущаешь нечто близкое той бесконечной теплоте
и человечности, какими проникнута шестая песнь «Одиссеи» —
безыскусственные беседы Навсикаи и ее служанок.
5. Лавиния, Миранда, Агнесса
Остается добавить, что между Гомером и неведомым авто-
ром «Энея» примерно два тысячелетия, они-то их и разде-
ляют. То, что с «Энеем» привносится в литературу, чего в нем
достигает автор, воспевая красоту и нежность в образе Лави-
нии, удается воссоздать впоследствии лишь самым великим ге-
ниям. Только у величайших мастеров можно найти в последую-
щие века подобное описание -любви, впервые охватившей юную
и наивную девушку, когда сердце бьется так сильно и кажется,
что весь мир волнуется вместе с ним...
Пришла пора приступить к изучению того места, которое до
сих пор отводилось женщине в литературе. Такое исследование
откроет много интересного, и я полагаю, что после этого выясни-
лась бы новаторская роль «Романа об Энее».
41
Рядом с Лавинией, на мой взгляд, можно поставить на рав-
ных правах лишь два женских образа: Миранду из «Бури»
Шекспира и Агнессу из «Школы жен» Мольера. Ни Шекспир,
ни Мольер не имели случая ознакомиться с их давним пред-
шественником. Но послушайте Миранду:
Не знаю женщин я, и их черты
я только в зеркале своем видала.
Мужчин я тоже знаю только двух:
вас, милый друг, и моего отца.
Не представляю, каковы другие;
но скромностью моей клянусь (она
в моем приданом — лучший перл), что в мире
мне, кроме вас, товарища не надо.
Воображенье лучше вас не может
себе представить никого на свете.
Но, кажется, я слишком заболталась,
забывши наставления отца...
или дальше, диалог Фернандо и Миранды:
Фернандо:
О чем же плакать?
Миранда:
О слабости моей; она не смеет
отдать вам то, что так бы я хотела
вам подарить, — и получить от вас.
то, без чего умру. Ах, все пустое:
чем больше я стараюсь чувство скрыть,
тем явственней оно. Прочь, ложный стыд,
и помоги мне, чистая невинность!
Хотите — буду вашею женой,
а нет — тогда умру служанкой вашей.
Отвергнете меня вы как подругу —
рабой вам буду.
(Перев. Т. Щепкиной-Куперник)
Разве все это не заложено уже в диалоге Лавинии и ее ма-
тери? Разве нет в нем всего того, что нас волнует в высшей
степени, волнует, как само чудо человеческой любви?
Пожалуй, именно Мольер обнажает источник нашего са-
мого глубокого волнения, когда Агнесса поверяет свое открытие
Арнольфу, и мы постигаем все, что отделяет ее от любви, все
преграды, которые мир воздвигает на пути мужчины и жен**
щины к свободе:
Он клялся мне в любви, в любви великой силы,
и говорил слова, и все мне были милы,
так милы, что ни с тем их не могу сравнить.
42
Бывало/ лишь начнет об этом говорить,
как что-то сладкое щекочет, задевает,
сама не знаю что, но сердце так и тает...
(Перев. В. Гиппиуса)
А вот что говорит о Турне Лавиния, влюбленная в Энея:
Не ставлю я его ни в грош.
Лавиния — первая среди девушек, которой писатель дал,
если можно так выразиться, возможность выбора, первая жен-
щина, если не считать античных рабынь и куртизанок, которой
предоставлено право сказать свое слово в любви. И к тому же
Лавиния — дочь царя *.
Насколько мне известно, нигде еще не было должным об-
разом отмечено то обстоятельство, что в «Романе об Энее»
женщины, можно сказать, получили право голоса. Невозможно,
например, как это часто делается, объяснять появление любов-
ной литературы на севере Франции влиянием поэзии труба-
дуров. В литературе, развивавшейся в ту эпоху на юге Фран-
ции, слышны только мужские голоса. Это они воспевают досто-
инства любимой женщины, но сама она пребывает безмолвной.
Поэт преклоняется перед ней, умоляет ее, но она хранит мол-
чание:
Bona domna, re no-us deman
Mas que-m prendatz per servidor
Qu'ie-us servirai cum bo senhor.
Cossi que del guarda?on m'an.
Ve-us m'ai vostre comandamen.
«Благородная дама, я прошу вас только об одном — разре-
шите мне быть вашим слугой; я стану служить вам, как слав-
ный рыцарь, не думая о награде. Я весь к вашим услугам...»
Так говорит Бернарт де Вентадорн, живший в эпоху, когда
появился «Эней», но говорит он всегда только один **.
Бесспорно, чувства, пышно расцветшие при дворах владе-
тельных феодалов юга Франции, воспевались до появления
первых романов; однако тут же следует добавить, что романы
эти говорят о любви по-иному, по-своему, вносят новую важ-
ную черту — прежде всего изображают чувства самих женщин,
а не то, как они относятся к выбору, сделанному мужчиной.
* Дидона в «Энеиде» хотя и много говорит, но играет подчиненную
роль. Все решает Эней.
••То. что среди трубадуров встречались и поэтессы, например гра-_
финя. де Ди, ничего не меняет.
43
6. Родилась новая любовь
Остается выяснить, не является ли все это, как принято ду-
мать, только новым литературным приемом, темой для фор-
мальных упражнений, введенных в обращение нашими первыми
романистами. Но достаточно, мне кажется, вслушаться хоро-
шенько в речи Лавинии, чтобы отбросить подобную мысль.
Нет, такая свежесть не может быть результатом риторики.
К тому же, повторяю, безвестный автор «Энея» не имел гото-
вого литературного прототипа для создания Лавинии. Именно
ее образ был введен им в античный сюжет, доставшийся в
наследство от прошлого, а поэзия юга Франции, хотя она, в
сущности, была движима теми же интересами, не давала ему
ничего сходного с Лавинией — юной девушкой, познавшей лю-
бовные муки. Таким образом, перед нами — новое выражение
новых чувств, и объяснение этому следует искать не в литера-
туре, а в социальной исторической действительности.
В самом деле, эти первые романы изображают новый в то
время мир, новый этап в отношениях между мужчинами и
женщинами. Фридрих Энгельс, впервые поставивший эту про-
блему, так определяет этот этап: «первая появившаяся в исто-
рии форма половой любви, как страсть, и притом доступная
каждому человеку (по крайней мере из господствующих клас-
сов), страсть, Kajc высшая форма полового влечения...» *
Анализ, данный Энгельсом, и три четверти века спустя
остается лучшим из всего, что написано по этому вопросу. Со-
временные работы, такие, как Дени де Ружмона12 или Рене
Нелли13, только усложнили и затемнили дело. Энгельс писал:
«До средних веков не могло быть и речи об индивидуаль-
ной половой любви. Само собой разумеется, что физическая
красота, близкие отношения, одинаковые склонности и т. п.
пробуждали у людей различного пола стремление к половому
общению, что как для мужчин, так и для женщин не было
совершенно безразлично, с кем они вступали в эти интимней-
шие отношения. Но от этого до настоящей половой любви еще
бесконечно далеко. На протяжении всей древности браки за-
ключались за вступающих в брак их родителями, и первые
спокойно мирились с этим. Та скромная доля супружеской
любви, которую знает древность, — не субъективная склон-
ность, а объективная обязанность, — не основа брака, а допол-
нение к нему. Любовные отношения в современном смысле
имеют место в древности лишь вне официального общества.
* Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и го-
сударства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух
томах, т. II, Госполитиздат, М., 1955, стр. 215.
44
Пастухи, любовные радости и страдания которых нам воспе-
вают Феокрит и Мосх, «Дафнис и Хлоя» Лонга, это исключи-
тельно рабы, не принимающие участия в делах государства, в
сфере жизни свободного гражданина. Но, помимо любовных
связей среди рабов, мы встречаем любовные связи только как
продукт распада гибнущего древнего мира, и притом связи с
женщинами, которые тоже стоят вне официального общества, —
с гетерами, т. е. чужестранками или вольноотпущенницами: в
Афинах — накануне их гибели, в Риме — во времена империи.
Если же любовные связи действительно устанавливались между
свободными гражданами и гражданками, то только в порядке
прелюбодеяния. А для классического певца любви древности,
старого Анакреона, половая любовь, в нашем смысле, была на-
столько безразлична, что для него безразличен был даже пол
любимого существа.
Наша половая любовь существенно отличается от простого
полового влечения, от эроса древних. Во-первых, она предпола-
гает у любимого существа взаимную любовь; в этом отношении
женщина находится в равном положении с мужчиной, тогда как
во времена античного эроса ее отнюдь не всегда спрашивали.
Во-вторых, половая любовь знает такую степень интенсивности
и продолжительности, при которой необладание и разлука
представляются обеим сторонам великим, если не величайшим
несчастьем; они идут на большой риск, вплоть до того, что
ставят на карту свою жизнь, чтобы только обладать друг дру-
гом, что в древности бывало разве только в случаях нарушения
супружеской верности. И, наконец, возникает новый нравствен-
ный критерий для оценки половой связи: спрашивают не толь-
ко о том, была ли она в браке или вне брака, но и о том, воз-
никла ли она по взаимной любви или нет? Понятно, что в фео-
дальной или буржуазной практике с этим новым критерием, об-
стоит не лучше, чем со всеми другими критериями нравствен-
ности, — с ним не считаются. Но относятся к нему и не хуже,
чем к другим: он так же, как и те, признается—в теории, на
бумаге. А большего и требовать пока нельзя.
Средневековье начинает с того, на чем остановился древний
мир со своими зачатками половой любви, — с прелюбодеяния.
Мы описали уже рыцарскую любовь, создавшую песни утрен-
ней зари. От этой любви, стремящейся к разрушению брака,
до любви, которая должна положить ему основание, лежит еще
далекий путь, который рыцарство до конца пройти не могло» *.
* Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и го-
сударства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух
томах, т. II, Госполитиздат, М., 1955, стр. 221—222.
45
7. «Ведь так хорош мужчина...»
Именно здесь — на примере наших средневековых рома-
нов— видно, нам кажется, наиболее наглядно, до какой сте-
пени разглагольствования Мальро и ему подобных о судьбе и
«антисудьбе», о Человеке с прописной буквы отделяют и уводят
нас от нашей живой истории, обрекая на пребывание в пустыне,
населенной одними статуями.
Содержание первых французских романов отражало новое
в действительности, они были написаны именно о нем. Их ве-
личие связано прежде всего с чудесным открытием, играющим
важнейшую.роль в нашей современной цивилизации: это новое
понимание любви, где женщина перестает быть лишь объектом,
любви — предмета грез, идеала, освещающего наше искусство и
достигаемого лишь тогда, когда двое любят друг друга. Пер-
вые романисты — неведомые нам клирики — сумели выразить то,
что тогда нарождалось: важнейшие новые отношения между
современным человеком и окружающим его миром. По мере
того как складывалось равенство между женщинами и мужчи-
нами, в их столкновениях с социальными, экономическими и ре-
лигиозными препятствиями, в атмосфере страданий, боли и ра-
дости постепенно создавалось новое средство познания чело-
веческой души, окружающего мира, отношений между людьми —
любовь, требующая от женщины и от мужчины взаимного
чувства, и это порождало сомнения, раздумья, самоанализ и
самосознание. Да, и самосознание! Эта появлявшаяся в нашей
стране вместе с первыми романами потребность носила харак-
тер не общего, отвлеченного стремления осмыслить судьбу, а
стремления понять некое новое объективное явление действи-
тельности, возникавшее в период расцвета феодализма; стрем-
ление осмыслить прогресс, достигнутый в тогдашнем обществе,
выразить его художественными средствами, с тем чтобы спо-
собствовать его росту, помочь женщинам и мужчинам лучше
понять характер этих новых чувств, проникнуться ими и добить-
ся таким образом их расцвета. Или, во всяком случае, побу-
дить стремиться к этому расцвету. г
Безвестный клирик—автор «Романа об Энее», весьма тща-
тельно описывающий любовь и рождение этого чувства в серд-
це юной Лавинии, впервые его испытывающей, не просто эру-
дит, развлечения ради разрабатывающий тему, не тронутую его
предшественниками. Он творец-реалист,* способный описать
то, что рождается в сознании и сердцах его современников.
Любовные страдания Лавинии подмечены им в жизни, именно
в ту пору они и зарождались. И скрупулезный психологический
анализ этого чувства свидетельствует о восхищенном изумлении
46
рассказчика, а не о его наивности, как мы, люди XX века»
склонны предполагать.
В самом деле, все становится значительно более ясным, если
предположить, что мать Лавинии говорит о чувстве, вновь воз-*
никающем, новом не только для литературы, но и для челове-
ческого сердца. Оно настолько ново, что о нем нет и речи в
шансон де жест начала XII века, в которых о женщинах
вообще ничего не говорится. Роланд, умирая, даже не вспоми-
нает о прекрасной Альде.
Первые упоминания о новом любовном чувстве встречаются
на юге Франции в а л ь б а х Гильома IX, герцога Аквитан-
ского (1071—1127), а на севере Франции — в эпической поэме
«Амис и Амиль» («Amis et Amile»), где красавица Белисанда
страстно влюбляется в Амиля и, недолго думая, ночью отпра-
вляется в его покои:
Я не страшусь, что все меня осудят
и что отец бить ежедневно будет, —
ведь так хорош мужчина.
Обычно этот отрывок приводится как пример предосуди-
тельного поведения: вот, дескать, до чего покорна Белисанда
грубым инстинктам, сама предлагает себя мужчине, ей неведо-
мы целомудрие, утонченность, куртуазность. Я думаю, что от-
рывок этот следует понимать совсем иначе. Новое здесь то, что
юная Белисанда выбирает. Спору нет, выбор ее прямолинеен
и груб, но подумайте о ее словах: «Ведь так хорош мужчина».
Как ни наивно звучит это признание, мы не должны упускать
из виду факта, что решает тут сама девушка: она любит Амиля
и ради любви, как отмечал Энгельс, идет на все.
Точно так же в «Романе об Энее» юная Лавиния выби-
рает Энея, а не Турна, которого предназначила для нее мать.'
И здесь самое важное, что выбор совершает сама девушка.
Поэт это хорошо понимает, он подробно рассказывает нам о
созревании чувства в сердце Лавинии и передает нам это дра-
матически напряженно:
Она, как тонкий лист, дрожит, в
по телу хладный пот бежит,
как известь цвет ее лица,
вздыхает, плачет без конца,
сознание почти теряет...
Амур бедняжку побеждает!
Она стенает и кричит,
не знает, что ее томит
и отчего душа болит.
Потом, опомнясь, говорит:
«Увы! Кто скажет, что со мной?
Кто завладел моей душой?
47
Ведь я была совсем здоровой,
теперь — без сил, жду муки новой,
в моей груди пылает жар,
не знаю, кто зажег пожар!
Не знаю, что меня терзает,
что сердце обручем сжимает
и жжет, как раскаленный круг?
Быть может, это тот недуг,
о коем матушка вчера
мне толковала до утра?
Зовется тот недуг — любовь,
и от него пылает кровь.
Должно быть, я и впрямь люблю.
И наша юная влюбленная спрашивает: где же ей искать
облегчения, шкатулку с целебными мазями?
Ведь мне царица говорила,
Что якобы любовь лечила
сама того, кто ею ранен...
Лавиния также готова идти на все. Она размышляет об
угрозах матери:
Любовь грозит меня убить?
Но без нее ведь мне не жить!
Мать предлагает ей разумные средства: «Прячься от него,
беги...», на что Лавиния отвечает:
— Откуда взять для бегства силы?
— Вчера ты так не говорила.
— Теперь любовь владеет мною.
«Почему ты остаешься здесь?» — спрашивает мать. «Чтобы
троянца увидать!»
Лавиния не скрывает от матери своих чувств. Ей доставляет
удовольствие смотреть на Энея, и она говорит об этом. Разу-
меется, она могла бы утаить свои чувства, улыбаться Турну,
как и Энею, но нет, она не станет так поступать:
Когда в душе живет любовь,
один твою волнует кровь.
Когда же на примете двое,
оставь тогда любовь в покое:
уместней речь вести о торге...
Именно здесь яснее, чем где бы то ни было, выступает то
новое, что только что возникло. Это не одно лишь нежелание
делить свои чувства между двумя, но и отказ от брака по при-
нуждению. С юной Лавинией в мировую литературу не только
вводится проблема равенства женщин в любви, их права на
выбор объекта своих чувств, но, более того, отстаивается право
принадлежать любимому человеку, и лишь ему. Здесь выражено
48
стремление не только примирить брак и любовь, но и добиться
гармонии между ними, то есть брака по любви. Именно около
1150—1160 годов об этом было впервые сказано, по крайней
мере впервые в европейской литературе. А говоря еще точнее,
это имело место во Франции, в одном из ранних наших рома-
нов, написанном на народном языке и потому доступном всем,
в том числе и женщинам.
8. О счастье в 1170 году и об ослах,
играющих на арфе
Очевидно, что различие тематики шансон де жест и ро-
манов не может быть объяснено, как это порой делают, лишь
тем обстоятельством, что каждый из этих жанров был рассчи-
тан на свою аудиторию. «Ж ест ы» продолжали пользоваться ус-
пехом ведь и после появления первых романов. Большинство
дошедших до нас вариантов этих эпических поэм относится к
концу XII и к XIII веку. Появление и развитие жанра романа
связано с **гем, что он нес с собой новое содержание, в свою
очередь зависевшее от эволюции нравов, от развития индиви-
дуалистических тенденций, связанных с расцветом феодализма,
с дальнейшим развитием его социальной и экономической струк-
туры — расширением рынков, умножением торговых связей, уве-
личением богатства. Роман возникает во второй половине
XII века, когда значительно расширяются площади возделы-
ваемых земель, появляются первые городские коммуны, воз-
двигаются первые соборы. Если литература свидетельствует,
что в ту эпоху мы имеем дело со значительными социальными
переменами во Франции, с «новым содержанием», отраженным
в романах, с изменением во взаимоотношениях между женщи-
нами и мужчинами, которое Энгельс назвал рождением любви-
страсти, то история также подтверждает это и вопреки идеа-
листическим домыслам доказывает, что авторы книг описывали
то, что уже раньше возникло в жизни.
Достаточно припомнить драму Элоизы и Абеляра в самом
начале XII века. В ней как раз выступает новая любовь, именно
она заставляет Элоизу, после того как был изувечен ее возлюб-
ленный, а она сделалась аббатисой монастыря Паракле, писать
Абеляру:
«Страсти терзают меня еще более, терзают невыносимо, ибо
я по природе слабее. Те, кто считают меня целомудренной, не
поняли, что я просто лицемерна. Они смешивают целомудрие и
добродетель, хотя истинная добродетель — это добродетель
души, а не тела. У меня есть некоторые заслуги перед людьми,
но нет их у меня перед богом... Ведь господь знает, что во всех
4 П. Деке
49
обстоятельствах жизни я всегда больше страшилась обидеть
тебя, нежели его. Для меня важнее нравиться тебе, нежели ему.
Только твой приказ, а не любовь к богу заставил меня обла-
читься в это одеяние...»
Дошедшие до нашего времени письма, которыми обменялись
несчастные любовники,—первое, оставленное самой жизнью
свидетельство любви-страсти...
С другой стороны, XII век—"век крестовых походов. Мы
мало что знаем о страданиях женщин во время отсутствия их
мужей, отправившихся за море. Немногим больше нам известно
о их действительной социальной роли при сложившихся об-
стоятельствах. Но одна из них вошла в историю: это — Элео-
нора Аквитанская, которая была супругой сначала француз-
ского короля Людовика VII, а затем английского короля
Генриха Плантагенета. Известно, что Людовик VII взял ее
с собой в крестовый поход, что она встретила на Востоке своего
дядю Раймонда Антиохийского, в те годы молодого и блестящего
рыцаря, и без памяти влюбилась в него. По возвращении во
Францию Людовику VII пришлось потребовать развода. Один
из многих доводов при этом гласил: «Ибо он никогда не будет
уверен в потомстве, которое может ему принести Элеонора».
Личность Элеоноры наложила отпечаток на все то время, а бла-
годаря тому, что ее ленные владения перешли ко второму мужу,
эта знатная дама сыграла важнейшую роль в нашей националь-
ной истории. Мы можем лишь гадать о связях участников кре-
стовых походов и правителей франкских королевств на Востоке
с арабской цивилизацией. Хорошо известны, однако, экономи-
ческие и идеологические последствия этих связей, а также раз-
витие вкуса к роскоши, рожденное ими. Как раз этим путем,
а также через Испанию к нам проник новый гедонизм, и предки
наши стали приучаться к более утонченному и изысканному
образу жизни. Достаточно отметить, с какой легкостью наши
воители восприняли восточные манеры: так, Бодуэн I, король
Иерусалимский и брат Готфрида Бульонского 14, вел себя, как
настоящий султан.
Внимательное сопоставление дат и имен исторических деяте-
лей дает основание думать, что все сказанное выше способ-
ствовало расцвету новых чувств. Может, этот довод покажется
кому-либо неубедительным, но и опровергнуть его невозможно *.
Кроме того, Абеляр всей своей жизнью способствовал вне-
сению в современный ему мир совершенно новых устремлений и
* Здесь нужно не забывать о более или менее осознанном антиараб«
ском предрассудке, который чаще всего приводит к тому, что из истории
французской литературы Средних веков удаляются все элементы, пере-
Шедшие из арабо-андалузской цивилизации. В нашей книге дальше читатель
Найдет очерк, посвященный »той проблеме.
50
взглядов:^ В философии он положил начало новому методу по-
знания — некоторыми своими сторонами весьма прогрессивно-
му, — основанному не на слепом доверии авторитетам, а на на-
блюдениях; Абеляр подчеркивал, что исходный пункт —это
люди, их бытие, а не общие идеи, будто бы существующие са-
мостоятельно от них.
Особенно важной чертой второго Возрождения, каж
иногда называют этот период (первым Возрождением1'
именуют эпоху Карла Великого), является возникновение гу-
манистических и свободолюбивых устремлений, весьма широ-
ких по своему масштабу. Одновременный расцвет цивилизации
на юге и на севере Франции, усиление жизнелюбивых настрое-
ний и в среде господствующего класса, и в среде зарождающей-
ся буржуазии, развивающейся в нескольких крупных торговых
городах, исследования рационалистического характера, принад-
лежащие ученым того времени, — все это, вместе взятое, рисует
картину той эпохи, которую мы теперь знаем лучше благодаря
многочисленным работам, в частности трудам Жильсона 16. Вот,
например, несколько имен ученых, живших в одно время с на-
шими первыми романистами. Это — Джон Солсбери 17, большой
знаток Италии (он не менее десяти раз пересекал Альпы) и
античности. Это—Пьер де Блуа18, заявивший: «Нельзя вы-
браться из мрака невежества и подняться к сияющим верши-
нам знания, если не перечитывать со все возрастающей лю-
бовью творения древних авторов». А вот еще одно его выска-
зывание: «Мы подобны карликам, взобравшимся на плечи этих
гигантов; если мы видим дальше, чем они, то этим мы обязаны
им...» Напомним, что духовные сокровища античности были
языческими. Ученые того времени производили исследования
в условиях такой свободы, какой уже не знали следующие века.
Как отмечает Поль Ренуччи: «Подобно тому как философия
стремится отойти от теологии, литературный и психологический
анализ текстов освобождается от мистического и моралистиче-
ского толкования. Романы и поэтические произведения суще-
ствовали лишь в силу этого» *.
Но если мы от историков литературы и философии обра-
тимся к литературным критикам, то обнаружим, что их привле-
кает в средневековой литературе того времени лишь мистиче-
ская подоплека. Так, Дени*де Ружмон, к примеру, в работе
«Любовь и Запад» утверждает, будто современная любовь ро-
дилась в X и XI веках, и в конечном счете приходит к выводу,
что она всего лишь порождение кельтского мифа о Тристане и
Изольде19; восхищаясь волшебными мотивами этой легенды,
он стремится доказать, что именно роман о Тристане создал
* P. Renucci, L'Aventure de l'humanisme européen au Moyen âge, 1954«
4*
%J7
современную любовную страсть. А Рене Нелли, например, от-
правляется в своем исследовании от магических обрядов, отме-
тая прочь все, что противоречит его концепции.
При ознакомлении со средневековыми текстами мы убе-
ждаемся (и это весьма знаменательно), что запреты, лишающие
в наши дни верующих плотских радостей, возникли значитель-
но позднее и совершенно неведомы первым нашим романистам,
которые не видели ничего греховного в этой области жизни»*.
Неопровержимо одно: то был период единственного в своем
роде расцвета, который окончился установлением тираническо-
го господства Аристотеля и тем, что церковь снова с исключи-
тельной жестокостью взяла под свой контроль духовную жизнь
людей; то была короткая пора ослабления ига теологии, и это
способствовала появлению романа. Правда, Абеляр был осу-
жден двумя церковными соборами, но он мог излагать свои
взгляды; его ближайшие последователи не испытывали за-
труднений. Конечно, то был католический мир, но только
с внешней стороны: лучшие мыслители и ученые невозбранно
обращались к школе античности, и авторы наших первых ро-
манов не говорят о религиозных чувствах, а церковь в их
произведениях изображается лишь в своей народной обряд-
ности.
То была пора расцвета феодализма. Он еще не был поражен
склерозом, не клонился к упадку, а являл собой общество мо-
лодое и полное сил. Господствующий класс, опьяненный своим
могуществом, снисходительно относился к дерзким выходкам
клириков и эрудитов, работавших в конечном счете на него.
Вольнодумцы были призваны к порядку в начале XIII века,
когда началась деятельность папы Иннокентия III и был орга-
низован крестовый поход против альбигойцев. Общеизвестны
слова, приписываемые Симону де Монфору20, который, узнав,
что король Педро Арагонский предоставил даме своего сердца,
супруге некоего феодала из Лангедока, право распоряжаться
его жизнью и смертью, будто бы воскликнул: «Если у него есть
своя Венера, которая его охраняет, то у нас зато есть Святая
Дева!» Крестовый поход против альбигойцев уничтожил языче-
скую свободу, развитие которой мы наблюдаем во второй поло-
вине XII века.
* См. Андре Жиллуа, Искусство любви, II «...лишь с возвыше-
нием буржуазии женщину стали рассматривать как низшее существо, ибо
с этого времени мужчина пытается переложить на нее ответственность за
грех. В произведениях XII века, посвященных любви, в произведениях
XIII века, проникнутых культом обожания Святой Девы, мужчина просит
женщину быть орудием его спасения. А в проникнутых буржуазным духом
религиозных представлениях нового времени начиная с XVI века муж-
чина стремится представить женщину воплощением греха. Мы до сих пор
испытываем влияние двух этих противоположных концепций».
.52
Около 1200 года и в последующие два десятилетия, с нача-
лом крестового похода против альбигойцев, произошел резкий
перелом: куртуазная и любовная литература была сметена, она
уступила место произведениям игривым, антифеминистским,
критическим и сатирическим, которые получили название го-
родской литературы. В годы 1200—1220 появляется множе-
ство фаблио, последовавших за «Романом о Ренаре» (1180—
1205). В них уже заключены первые нападки на феодальное
общество, рыцарская любовь пародируется и осмеивается. Это
совсем иная литература, она уже не обращена к господствую-
щему классу; в то же время повествования о любви все более
и% более пропитываются мистицизмом, служа пропаганде взгля-
дов церковных реформаторов.
Совершенно очевидно, что безмятежная жизнь, изображен-
ная в наших первых романах и проникнутая радостью бытия,—
плод творчества аристократических писателей. Автор «Романа
о Фивах» испытывает потребность недвусмысленно заявить об
атом в начале своего произведения:
Когда б сейьор Гомер, Платон,
Вергилий или Цицерон
талант свой про себя хранили,
потомки б их давно забыли.
Пускай отсюда прочь идут
те, чей удел — тяжелый труд:
лишь клирик, рыцарь иль барон
ценить поэзию рожден,
а для виллана ритм стихов,
как звуки арфы для ослов...
Итак, с самых первых строк нет места заблуждению. Наш
автор не собирается рассказывать вульгарные фаблио. Однако
восемь веков спустя этим фаблио предстояло занять подобаю-
щее место в нашем национальном наследии. Их смелость может
быть по-настоящему оценена только классом, который в пору
их создания еще не существовал, единственным классом, кото-
рый путем освобождения всех людей способен преобразовать
идеал немногих в свободу и счастье для всех, создав тем самым
действительную свободу и действительное счастье. А те, кто
умеет слушать не лучше, чем ослы играть на арфе21, сами вы-
дают себя тем, что отказываются от такого наследства.
9. Французского Гомера звали Кретьен де Труа
Выдающегося творца средневековых романов звали Кретьен
де Труа. Он не первым поставил свое имя под произведениями
втого жанра. Первым был тот, кто выдумал игру слов, связан-
53
ную с термином roman, о чем я упоминал в начале этого очер-
ка, — мэтр Бенуа де Сент-Мор, как и автор «Энея», уроженец
Нормандии. В первых стихах своего «Романа о Трое», напи-
санного около 1165 года, он говорит:
Et рог со me vueil travailler
En une histoire commencier,
' Que de latin or je le tùuie,
Si j'ai le sen et se je puis,
La voudrai si en romanz metre
Que cil qui n'entendent la letre
Se puissent déduire el romanz.
«И потому я хочу начать повествование. Я прочел эту исто-
рию по-латыни и, если у меня достанет сил и таланта, поста-
раюсь передать ее на романском языке (en romanz), чтобы те,
кто не знает латыни, могли насладиться романом (el romanz)».
Кретьен де Труа принадлежит к следующему поколению —
поколению Тома22, автора «Романа о Тристане»(«Roman de Tri-
stan»), Беруля23 и Готье д'Арраса24. К тому времени переворот
в литературе уже произошел и романы, написанные на языче-
ском материале и проникнутые гуманистическим духом, в ко-
торых главное внимание уделяется индивидуальным проявле-
ниям любви и психологии, получили полное признание.
Кретьен де Труа родом из Шампани, одной из самых эко-
номически развитых провинций того времени; то же можно ска-
зать и об Аррасе, где жил его соперник Готье. Ярмарки Труа
и Провена повсеместно известны. Всю свою жизнь Кретьен не-
много презирал короля, живущего в Париже. Он мечтал о дво-
ре Плантагенетов — ведь после второго брака Элеоноры Акви-
танскойв1154 году они владели почти всем Западом Франции —
и писал для двора графов Шампанских, а роман «Персеваль»
в конце своей жизни он написал для Филиппа Альзасского,
графа Фландрского. Несомненно, эти проанглийские настроения
побудили его изучать кельтские мотивы и ввести в свои романы
тему короля Артура и рыцарей Круглого стола. В начале жизни
Кретьен де Труа написал роман о Тристане, впоследствии утра-
ченный.
Его первый большой роман — «Эрек и Энида» («Егес et
Enide») *. В произведении этом, по словам Гюстава Коэна,
впервые во французской литературе рассказывается о брачной
ночи, и, что любопытно, оно не открывается диспутом о любви,
с каким мы сталкивались в «Романе об Энее».
Эрек — один из рыцарей Круглого стола. Однажды, со-
провождая на прогулке королеву Гениевру, он встречает воору-
* *В настоящее время дата написания этого романа предположительно
определяется 1165—1170 годами. Во всяком случае, роман «Эрек и Энида»
появился позднее классической триады.
54
женного до зубов рыцаря в обществе надменной девы и карлика
с хлыстом в руках. Приближенная королевы направляется к
незнакомцам, но получает удар хлыстом. Такой же прием встре-
чает затем и Эрек. Он без оружия и решает поэтому отложить
месть. Эрек следует за рыцарем до какого-то укрепленного
города. Там он находит приют у небогатого вавассера25, разо-
ренного войной.
На следующий день в городке открывается праздник. На се-
ребряный шест сажают ястреба, и тот, у кого есть красивая по-
друга с незапятнанной девичьей репутацией, может завладеть
им, если только кто-нибудь другой не станет оспаривать это
право. Каждый год ястреба уносит с собой рыцарь, у которого
карлик. Если и в этом году никто не вступит с ним в борьбу, он
вновь унесет ястреба, и на сей раз навсегда. Эрек решает вы-
ступить против рыцаря в борьбе за почетную награду. Но у
него нет оружия. Вавассёр обещает дать ему оружие. Не хватает
Эреку также и девицы с незапятнанной репутацией. У вавассера
есть дочь несказанной красоты. Эрек называет себя: он—сын
короля Лака и просит руки девушки. Не колеблясь, вавассёр
отдает ему в жены дочь. Вопроса о ее согласии даже не возни-
кает: такова воля родителей. Кретьен считает нужным сообщить
нам, что Энида — так зовут девушку — нисколько этим не
огорчена, ибо Эрек «доблестен и учтив и она знает, что он будет
королем». Этого достаточно. Они любят друг друга.
Но этим отнюдь не исчерпывается сюжет романа Кретьена.
В нем меньше всего говорится о возникновении любви, важно,
что произойдет после свадьбы.
10. Эрек и Энида, или Любовь после свадьбы
Драма, с которой нас знакомит Кретьен, связана с новой лю-
бовью; на сей раз любящие женаты. Тут нет ни волшебного
напитка Тристана и Изольды, ни прелюбодеяния, речь идет
просто о счастье. Вот как Кретьен рассказывает о плотских
радостях:
Весь замок радостью объят —
о прочем хроники молчат,
восторг влюбленных охватил,
их спальню ярко озарил:
когда чета одна осталась,
земля ей раем показалась.
Один Эрек Эниде нужен,
она не хочет, чтобы с мужем
Бранжьена возлегла на ложе;
минута — часа ей дороже,
она мечтает сбросить платье
и к мужу кинуться в объятья...
Олень, от своры убегая,
не мчится так, себя спасая,
55
и ястреб, раненный гтрелой,
так не спешит к скале родной,
как торопились эти двое
возлечь на ложе золотое!
Их эта ночь вознаградит —
ведь страсть давно в крови кипит!
Вот наконец все удалились
и двери спальни затворились.
Окутаны дыханьем ночи,
они глядят друг другу в очи;
любовь их сердце наполняет
и радостью переполняет.
На смену этой ласке глаз
приходит вскоре то, что нас
всех так пленяет, — жар лобзаний
и нега сладостных касаний, ( ~
что жажду сердца утоляют
и нам блаженство посылают.
Сплелись тела их, словно жгут,
уста им поцелуи жгут...
Была в любви отважней дева,
без возмущения, без гнева
она безропотно снесла
все, чем чревата ночь была.
Вечор она легла девицей,
а встала дамою с денницей.
Нет, тут явно не было необходимости укладывать на брачное
ложе другую женщину, какую-нибудь Бранжьену, как в ночь
женитьбы короля Марка, потому что Изольда любила Тристана,
а не своего мужа.
Наши герои любят друг друга, и,^ нужно заметить, сам
Кретьен часто и настойчиво подчеркивает в своих произведе-
ниях (в частности, в «Клижесе») то, в чем именно он расхо-
дится с драмой Тристана. В его романе, повторяю, очень важно,
что любящие друг друга герои — супруги.
Кретьен прекрасно говорит в первых стихах «Эрека и
Эниды»:
Que raison est que totevoies
doit chacune panser et antandrc
a bien dire et a bien aprandre;
et tret d'un conte d'avanturc
une molt belle conjointure.
«Понятно, однако, что каждый должен хорошо обдумывать и
стараться наилучшим образом выражать то, что хочет сказать,
чтобы поучать; и Кретьен делает из рассказа о приключении
«molt belle conjointure», то есть повествование, наилучшим об-
разом продуманное и построенное». Далее он упрекает тех, кто
«dépecer et corrompre suelent», то.есть усвривших привычку раз-
бивать и рассекать повествование на мелкие куски. Наш автор,
напротив, настолько горд своей conjointure, что даже пишет:
56
Des or comancerai l'istoire
qui toz jors mes iert an memoire
tant con durra crestïantez;
de ce s'est Crestïens vantez.
«Я приступаю к повести своей, — она пребудет в памяти
людей, доколе христианство сохранится. Вот почему Кретьен
собой гордится!»
Восемь веков спустя con jointure Кретьена, то есть умение
придавать роману единство и цельность, ясность, с которой он
выражает свои новые художественные устремления, — все это
продолжает служить образцом для подражания.
История, которую он излагает, пронизана и освещена его
мыслью; иначе говоря, он стремится «организовать» имеющийся
в его распоряжении материал и таким способом овладеть им,
глубоко понять и сделать его понятным другим.
//. «Была в любви отважней дева...»
Мы уже видели, что в центре романа — проблема счастья
двух любящих. Из этой же проблемы вытекает и драма. Как от-
мечает Марио Рок в своем прекрасном издании «Эрека и Эни-
ды» *, о браке молодых людей рассказывается примерно в конце
первой четверти романа, когда Кретьен пишет:
Ici fenist li premiers vers,
что следует понимать так: «Здесь кончаются. первые строфы,
кончается пролог романа». Через какую-нибудь тысячу стихов
драма уже раскрылась перед нами полностью. Эрек так сильно
полюбил Эниду, что:
Пылятся и копье, и меч,
тяжелый панцирь сброшен с плеч.
Он на турниры — ни ногой,
милуется себе с женой \т
Он превратил свою супругу
в возлюбленную и подругу,
с утра до ночи обнимал,
других забав и не искал.
Его соратники — в печали.
от горя голову теряли:
мол, слишком лк?бит он жену,
мол, видит лишь ее одну,
мол, солнце высоко стоит,
а он — на ложе возлежит...
Эрек хотел бы все время предаваться любовным развлече-
ниям со своей женой («donoyer» от «done, dame»), он сделал ее
* Mario Roques, Classiques français du Moyen âge, 1953.
57
своей подругой, своей «drue», «любовницей». Но можно ли
сделать жену «подругой и любовницей» и сохранить незапятнан-
ной рыцарскую честь? Разве такая любовь, новая, необычная,
когда рыцарь только и думает об «объятиях и поцелуях», совме-
стима с достоинством мужчины? Эрека
хулят, честят со всех сторон,
им каждый воин возмущен.
И рав Эниде рассказали,
что рыцари его ругали
за то, что, преданный объятьям,
он бранным изменил занятьям.
Если вспомнить, что подобная любовь была для того вре-
мени в диковинку, тогда и conjointure, чему Кретьен придает
такое значение, и только что приведенные стихи приобретают
особый смысл. Дело в том, что феодальная среда, воины, окру-
жающие королевского сына Эрека, не могут примириться с та-
кой любовью. Они— 4
от горя голову теряли:
мол, слишком любит он жену...
Эта новая роль женщины, громадное значение, которое Эрек
придает своей «подруге», сбивает окружающих с толку и за-
ставляет их даже «ее demanter» — очень сильное выражение,
означающее «обезуметь от горя» (от латинского слова «demen-
tare»). Что же будет дальше? Изнежится ли, совсем ли расслаб-
нет Эрек, или он все же в конце концов поставит Эниду на ее
место? Будет ли* он пренебрегать законами рыцарства, оставлять
свои доспехи ржаветь, вести,себя, как трус, или пожертвует своей
любовью? Чудесной плотской любовью, которую никто после
Кретьена не смог воспеть с большей силой и яркостью!
Необычайная смелость Кретьена де Труа в том, что реше-
ние у него принимает женщина. Сначала она не решается заго-
ворить об этом с Эреком из боязни, что он ее превратно поймет,
но...
...Однажды — это утром было —
Энида и Эрек вдвоем
на ложе нежились своем;
уста к устам прильнули нежно,
и сон бездумный, безмятежный
сковал супруга, но жена,
от грез своих пробуждена,
внезапно вспомнила о том,
что люди, говорят о нем
и что Эрека все хулят.
Печалью омрачился взгляд,
Эниду охватило горе,
такое острое, что вскоре,
от муки сдержанность теряя,
она осмелилась, страдая, .
58
чуть слышно прошептать упрек,
супруга с головы до ног
окинула, вздох подавив
(так был он молод и красив!),
и, зябко поведя плечами,
валилась горькими слезами.
Потом в глубокой тишине:
«Увы, — сказала, — горе мне!
Зачем приехала сюда я?
Откуда вдруг напасть такая?
Ведь самый славный паладин,
краса и гордость всех мужчин,
достойнейший из королей,
кто всех учтивей и храбрей,
из-за меня забвенью предал
турниры, подвиги, победы...
И вот позор лежит на нем!
Жалею сильно я о том».
И, повторивши: «Горе мне!»,
она умолкла.
Как и рыцари, молодая женщина ошеломлена столь необы-
чайной любовью. Она не знает, что и думать. И она говорит
своему мужу, разбуженному ее последним горестным воскли-
цанием: .«Вы думаете, мне не тяжело слышать, что вас прези-
рают?
Ведь хором все они твердят:
«Теперь в сетях он у жены,
и прежней нет ему цены...»
И заключает:
Вы встретили меня себе на горе...
12. Энида и феодальная действительность
Есть смысл внимательнее рассмотреть это место романа хотя
бы потому, что реакция Эниды может показаться чересчур уж
сложной и весьма странной. Подумать только, молодая жена
жалуется на то, что муж очень много времени проводит возле
нее. Более того, она обвиняет себя в том, что слишком вскру-
жила ему голову и он забросил ратные подвиги, не совер-
шает опасных походов, чтобы не разлучаться с ней. Сразу же
возникают два предположения: либо Энида искренна —но как
понимать тогда ее жертвенность и ее страх перед мнением
окружающих, из-за которого молодая женщина отказывается
даже от любви? — либо весь диалог это только предвосхищение
мариводажа26, жеманный обмен любезностями, утонченные де-
кларативные заявления, нагромождение надуманных моральных
проблем, которые нельзя принимать всерьез и буквально.
Величие Кретьена в том, что конфликт романа почерпнут им
в реальной действительности, где все было гораздо проще, чем это
59
нам кажется. Эрек, сын короля, весьма могущественный и знат-
ный сеньор, не может свободно располагать своим временем и
своей жизнью, особенно семейной жизнью.
Прежде всего у него сложная система взаимоотношений с
вассалами.
Каковы же в реальности эти связи между Эреком и его ры-
царями, которые «обезумели от горя» из-за того, что он чрез-
мерно любит Эниду? Предоставим слово Марку Блоку: «Вот
друг против друга стоят два человека: один готов служить,,
другой соглашается или желает быть его господином. Первый
складывает руки и протягивает их второму. Одновременно он
произносит несколько коротких. фраз, признавая себя «челове-
ком» своего визави. Затем сеньор и вассал целуют друг друга
в уста, что символизирует согласие и дружбу...»
Но и у сеньора в свою очередь весьма серьезные обязатель-
ства: «Против любой опасности, исходящей от всякого смерт-
ного существа, сеньор будет защищать своего вассала. Прежде
всего, и особенно, — его жизнь. Затем — его имущество, в част-
ности его земельные владения» *.
Таким образом, реакция окружающих Эрека рыцарей, ви-
дящих, что любовь к Эниде буквально губит молодого человека,,
проистекает не из моральных или каких-нибудь подобных пред-
ставлений, но исключительно из важных политических сообра-
жений. Новая любовь вступает в противоречие с социальной
ролью сеньора, с ответственностью, которую он на себя принял.
Энида в таком отчаянии потому, что считает себя также ви-
новной. Ведь именно из-за нее Эрек нарушает свои социальные
обязательства. И она знает, что из-за нее муж попал в опасное
положение. Вассалы не вечно находятся под властью своего
сеньора. Связывающая их клятва может быть нарушена, если
Эрек будет уклоняться от выполнения принятых на себя обяза-
тельств.
Таким образом, Кретьен рисует своих героев в совершенно
типичной ситуации. В самом деле, любовь-страсть с самого воз-
никновения столкнулась с бесчисленными связями между людь-
ми феодального общества. Достаточно вспомнить крестовые
походы, частые и длительные отлучки, вызывавшиеся почти не-
прерывным состоянием войны, когда сеньоры вынуждены были
воевать либо по требованию своего сюрезена, либо по просьбе
своих вассалов. Но еще более непосредственно эта только что
возникшая индивидуальная любовь вступала в противоречие с
социальными взаимоотношениями и связями, составлявшими
саму основу феодального общества. Действительно, такая любовь
* М. Bloch, La Société féodale. Albin Michel.
60
требовала от влюбленных свободы выбора, а жили они в мире,
где важнейшее значение имело сохранение ленных владений и
передача их по наследству. И, как мы убедимся по другим рома-
«ам Кретьена, это обстоятельство часто служило источником
драматических коллизий.
Таким образом, мы получаем некоторое представление о ме-
тоде романиста и отмечаем определенные связи между вопро-
сами, которые он трактует в своем произведении, и социальной
действительностью в его время. Во всяком случае, по этой при-
чине споры между Эреком и Энидой были весьма актуальны
для их современников. Как они были непохожи на диспут о том,
к какому полу принадлежат ангелы! Энида выражала тревогу
женщин, принадлежавших к господствующему классу, их беспо-
койство, вызванное теми препятствиями, которые встречала на
каждом шагу новая любовь.
Тут можно говорить о находке писателя: речь идет о роли,
отведенной им Эниде, о.том, что молодая женщина обращает
внимание своего мужа и господина на явную несовместимость
их любви и его социальных обязанностей. Лавиния в «Романе
об Энее» покоряется своей любви, она требует лишь права по-
ступать согласно велениям сердца и выйти замуж за любимого
человека. Энида властвует над своим чувством, и Кретьен уже
самой постановкой этого вопроса бросает своего рода вызов, ко-
торому суждено было звучать в веках: совместима ли любовь
с обязательствами перед обществом? Нужно ли приносить одно
в жертву другому? И в романе он отвечает на вопрос отрица-
тельно.
В своем издании «Эрека и Эниды» Марио Рок прекрасно,
мне кажется, резюмирует основную проблематику произведения:
«Может ли Энида примириться с мыслью, что она — причина
«отступничества» супруга? Или хотя бы даже только допустить,
чтобы ее в этом заподозрили? Вопрос этот поставлен — и вот
уже ни взаимное доверие, ни самые прекрасные речи не помогут
нашим героям. Оба стремятся избавиться от охватившего их
сомнения. Эрек должен доказать свою доблесть вассалам, об-
ществу в целом, а главное — Эниде, и пусть Энида своими гла-
зами увидит эти доказательства. В свою очередь Энида должна
доказать, что ее любовь по-прежнему крепка и постоянна. И
каждый из них должен доказать другому, что эти действия вы-
званы именно любовью. Эрек будет доказывать это, вновь и
вновь сражаясь, чтобы защитить Эниду от опасности, а Энида —
тем, что будет постоянно предупреждать своего супруга об опас-
ности (несмотря на его строжайший запрет), сопротивляться
любовным домогательствам претендентов, не останавливающихся
даже перед насилием, все время оберегать Эрека от минутной
слабости.
61
И тогда все становится более понятным, — добавляет Марио
Рок, — и внезапное решение Эрека отправиться «искать приклю-
чений», и требование, чтобы Энида сопровождала его в походах
и ехала впереди него, дабы ее красота и изящество постоянно на-
влекали на нее опасности, от которых'он бы ее спасал, и тяго-
стное для нее приказание Эрека — хранить молчание при опас-
ности, так как он стремится показать, что доблесть его столь
велика, что ему не нужны предупреждение, и убедиться, что
любовь у жены сильнее покорности, сильнее угроз и страха; по-
нятно это неутолимое, как жажда, стремление находить все но-
вые и новые доказательства чувства, что не требуются разуму, но
необходимы для сердец, охваченных беспокойной любовью» *.
13. Куртуазностъ предшествует куртуазному роману
Главная трудность, с которой сталкивается каждый, кто за-
нимается литературой Средних веков, состоит в том, что худо-
жественные произведения служат историческими документами,
помогающими познать социальную действительность той эпохи,
и трудно устоять против соблазна рассматривать эту действи-
тельность как нечто производное от памятников литературы,
тогда как, напротив, они интересны именно тем, что по-своему
воспроизвели жизнь того времени.
Конечно, приключения Эрека вымышлены, и Кретьен строит
свое повествование в духе сказаний о рыцарях Круглого стола;
однако можно легко убрать из романа все, что связывает его с
этим легендарным циклом, без ущерба для основного содержа-
ния произведения. Изучая построение романа, замечаешь, что
любовь и рыцарская доблесть в нем все время соревнуются. В
каждом приключении Эрека любовь Эниды подвергается ис-
пытанию, так же как и храбрость рыцаря. И всякий раз обнару-
живается, что любовь вовсе не мешает рыцарю быть храбрым,
она выступает лишь против бессмысленного риска, которому он
себя подвергает. Это—»вторая удачная находка Кретьена. Са-
мим своим присутствием Энида навлекает на мужа опасности,
как бы свидетельствуя тем самым, что любовь неизбежно при-
водит к конфликтам; однако, каждый раз нарушая данный ей
мужем приказ молчать, она предупреждает его, помогая занять
лучшую позицию для сражения и победы.
Итак, все это весьма далеко от привычного представления
о куртуазной любви. В противовес утверждениям историков ли-
тературы в романе Кретьена новая любовь изображена в реаль-
ной обстановке феодальной действительности, и основное, что'
■* Mario Roques, Classiques français du Moyen âge, 1953.
62
автор доказывает, — это что такая любовь возвеличивает супру-
гов*, познавших ее. Поэт воспевает не просто страсть в прямом
смысле этого слова, а всепобеждающую любовь, стремление лю-
бящих преодолеть препятствия, которые могли бы привести к
тому, чтобы они усомнились друг в друге.
Смелость Кретьена в том, что Энида и Эрек — муж и жена.
Тайная, тщательно скрываемая от всех незаконная любовная
связь не дала бы возможности поставить проблемы, составляю-
щие ценность романа. Она бы оставалась никому не известной.
У вассалов Эрека не было бы никаких оснований сходить с ума
от тревоги. Энида не могла бы вмешиваться в жизнь своего по-,
велителя, не участвовала бы в его приключениях-. Роман Креть-
ена— о любви открытой и явной в противовес литературе так
называемых а л ь б — песен любовников, вынужденных пребы-
вать в разлуке.
Роман «Эрек и Энида», таким образом, решительно опровер-
гает утверждение, будто заслуга куртуазных романов в том, что
они изобрели новую форму вежливости, получившую название
куртуазности, и ввели ее в обиход грубого общества, не
имевшего о ней никакого представления. Произведение Кретьена
прекрасно согласуется с устремлениями господствующего класса
того времени и направлено на примирение новой любви с соци-
альными обязанностями феодалов, на сочетание супружеской
любви с идеалом рыцаря-воина. И это может быть объяснено
только тем, что Кретьен сумел увидеть и передать в своем про-
изведении новые чувства, зарождавшиеся у мужчин и женщин
больших социальных и культурных центров, подлинных столиц
той эпохи — дворов наиболее богатых и могущественных сень-
оров.
То, что нам известно о жизни Кретьена, как раз свидетель-
ствует о его связях с Плантагенетами, с графом Шампанским»
графом Фландрским, самыми могучими властителями того вре-
мени, рядом с которыми бедный парижский король выглядел
часто весьма жалко. Только в следующее царствование, при
Филиппе-Августе, соотношение сил изменилось, но Кретьен уже
не увидел этих перемен.
Связь между возникновением новой любви и жизнью при
дворах феодалов очевидная, прямая и легко доказуемая. И на-
оборот, утверждение, согласно которому куртуазность будто
бы создана клириками и, следовательно, заслуга эта в конечном
счете принадлежит церкви, находится в_ противоречии с факти-
ческими данными истории французской литературы той эпохи.
Первый трубадур, тексты которого дошли до. нас, — не клирик»
а весьма знатный и влиятельный сеньор, Гильом IX, герцог
Аквитанский. Связь трубадуров, как и авторов первых наших
63
романов, с дворами могущественных феодалов и королей дока-
зывается самими текстами. Ничто не говорит в них о связи
с церковью *.
В царствование Людовика VII, то есть в эпоху, когда жил
Кретьен де Труа, церковный собор в Париже был нетерпим
к жонглерам и сурово порицал тех, кто «предается шумному ве-
селью, взирая на шутовство, нелепые выходки, непристойные
шутки и прочие суетные проделки гистрионов...» В XIII веке
церковь ввела некоторое различие и стала снисходительнее от-
носиться к тем гистрионам, которые знакомили публику с про-
изведениями героическими (шансон де жест) и назида-
тельными. Но наши куртуазные романы в их первоначальной
форме не были ни героическими произведениями, ни тем более
назидательными.
«Эрек и Энида» — наименее клерикальный из этих романов.
Это — победный клич торжествующей аристократии, сочетаю-
щей наслаждение благами жизни с осуществлением своего мо-
гущества, любовь с силой. Кретьен провозглашает, что совер-
шенная любовь возможна лишь в браке и что она возвеличивает
и рыцаря и его жену. Этот роман отражает полную гармонию
между героями и их средой.
14. Энида и Селестина
В наше время мы не слишком верим порывам, описанным
Кретьеном, и испытываем искушение их высмеять. «Дон Кихот»
помогает нам трезво смотреть на них, и мы готовы заподозрить,
что Кретьен просто подшутил над нами.
Итак, современные читатели смотрят на произведения Креть-
ена сквозь искажающие линзы. Между Сервантесом и Креть-
еном в XVI веке был еще рыцарский роман «Амадис Галь-
ский» 27, напоминающий скорее волшебную сказку для взрослых:
все, что у Кретьена шло от реальной действительности, в этом
романе предстает идеализированным, книжным. Во времена
«Амадиса» феодальное общество пришло в упадок, а с ним
вместе и рыцарство. В Испании, где новинкой было золото
конкистадоров, на которое все можно было купить и продать,
могуществом обладали купцы.
«Амадис Гальский» («Amadis de Gaule») принадлежит к
числу книг, направленных против современной действитель-
Бернарт де Вентадорн, Раймбоут д'Оранж, Арнаут Даниель — знат-
ного происхождения. Пьер д'Авиньон, сперва вступивший на церковное по-
прище, затем отрекся от сана. Это, если называть только современников
Кретьена.
64
ности и воспевающих прелести прошлого. Еще за пятьдесят лет
до этого, в 1499 году, любовная драма в Испании была пред-
ставлена «Селестиной» («La Célestina») Фернандеса де Рохаса;
это своеобразный роман в диалогической форме, в двадцати
одном действии. В нем мастерски нарисован образ сводни. Сто
лет спустя Сервантес сказал об этой книге, что она была бы
великолепна, не будь она столь беспощадна к роду челове-
ческому.
В мире, описанном Кретьеном, деньги еще не стали помехой
во взаимоотношениях между людьми — ни в их социальных свя-
зях, ни в делах любви. То обстоятельство, что родители Эни-
ды — небогатые вавассёры, не порождает серьезной проблемы,
а лишь создает некоторые легко преодолимые препятствия. Эрек
одерживает победу с помощью недорогого вооружения, он с
гордостью приводит Эниду ко двору короля Артура в том бед-
ном одеянии, в каком ее впервые встретил, и заявляет, что она
самая красивая и что он готов выступить с оружием в руках
против любого, кто посмеет это оспаривать.
Придя к власти и свергнув феодальный гнет, буржуазия
установила новые отношения, основанные на деньгах, купле и
продаже. Чистоган заменил феодальные связи. Наш мир и мир
феодальный разделены пропастью, образовавшейся в результа-
те переворота, повлиявшего на все чувства и все общественные
ценности и превратившего их в предмет купли и продажи.
Можно ли вообразить себе роман, рисующий банкира или куп-
ца, который достиг бы расцвета в своей коммерческой деятель-
ности под влиянием бескорыстной супружеской любви?
Дальше мы увидим, какие сложные связи существовали
между творчеством Кретьена и действительностью; но, во вся-
ком случае, хотя мир, в котором он жил, и основан на нера-
венстве, зависимость одного человека от другого была в то
время прямой, непосредственной и никогда не маскировалась
отношениями между вещами, между товарами, никогда на при-
нимала завуалированной формы денежных отношений.
В мои намерения отнюдь не входит предаваться сожалениям
по поводу того, что нет больше феодализма. Но мне кажется
необходимым подчеркнуть, что критика феодальных времен до
сих пор велась буржуазией, и велась с позиций ее интересов,
ее нравов, с очевидной целью прославить преимущество бур-
жуазных порядков. Если говорить о ценностях, которые защи-
щает куртуазный роман, то такая критика ведет к искажению
истинного положения вещей. Буржуазии не нужны бескорыст-
ные чувства, превозносимые в этом романе. Проще всего вы-
смеять их, сопоставив с реальностью нашего мира; но это отнюдь
не поможет нам ни понять ту эпоху, ни верно судить о ней.
Действительно, человеческие отношения, изображенные во фран-
5 П. Деке
65
цузской литературе XII века, не могут быть оценены, если
сравнивать их с той продажностью, которая царит во Фран^
ции в XVI веке, в XIX веке или в 1955 году. Степень зависи-
мости и порабощения может быть по-настоящему измерена и
понята лишь в сопоставлении с таким обществом, где уже не
существует эксплуатации человека человеком. С этой точки зре-
ния новые чувства, воспетые Кретьеном де Труа, и идеал, им
сформулированный, теперь, несколько веков спустя, вновь, но
уже по-иному кажутся свежими ростками, провозвестниками
жатвы, в ту пору не только невозможной, но и немыслимой. Они
предоставляют нам возможность мечтать о том, какими будут
мужчины и женщины грядущего: совсем не похожими на людей
того мира, где все продается и покупается, стоящими выше них.
15. Небольшое отступление о трубадурах
Энгельс, отметив появление любви-страсти, тут же добав-
ляет: «...эта первая ее форма, рыцарская любовь средних веков»
отнюдь не была супружеской любовью. Наоборот! В своем клас-
сическом виде, у провансальцев, рыцарская любовь устремляется
на всех парусах к нарушению супружеской верности, и поэты это
воспевают. Цвет провансальской поэзии любви составляли
«альбы» (albas), по-немецки песни рассвета (Tagelieder).
Яркими красками изображают они, как рыцарь лежит в постели
своей красотки, чужой жены, а снаружи стоит страж, который
возвещает рыцарю о наступлении рассвета (alba), чтобы он мог
ускользнуть незамеченным; сцена расставания — самый яркий
момент в песне. Французы севера, а равным образом и бравые
немцы тоже усвоили этот род поэзии вместе с соответствую-
щей ему манерой рыцарской любви...» *
Этот текст иногда цитируется поклонниками провансальской
поэзии для утверждения ее примата над поэзией севера Фран-
ции, но это неправильно. Величие искусства трубадуров и ци-
вилизации, расцветшей на юге Франции, не нуждается
в защите путем умаления того, что происходило на севере
страны.
Кретьен де Труа и его творчество проливают несколько не*
ожиданный свет на действительные взаимоотношения, существо«
вавшие между литературой севера Франции и творениями Про-
ванса; взаимоотношения эти вовсе не таковы, как принято
* Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и го*
сударства. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения в лвуж
томах, т. II, Госполитиэдат, М., 1955. стр. 215—216.
66
думать, и не таковы, какими они могут показаться, если не учи-
тывать романы Кретьена де Труа. А в том, что это имело место,
нет ничего удивительного, поскольку большое издание Кретьена,
осуществленное Ферстером, появилось только в 1894—1890 годы.
До этого времени Кретьен де Труа был мало известен, а романы,
которые особенно важны для уяснения этой проблемы, — «Эрек
и Энида» и особенно «Клижес» — были вовсе почти недоступны.
Что же касается немецкой версии «Эрека», принадлежащей Гарт-
ману фон Ауэ28 (я буду говорить о ней ниже), то она весьма да-
лека от французского оригинала и не дает о нем верного пред-
ставления.
Одно совершенно очевидно: Кретьен был знаком с искус-
ством трубадуров. Он и сам занимался им в молодости, сочи-
нял куртуазные песни, что делает его первым по времени тру-
вером. Обычно на эти ранние его произведения не обращают
внимания, и это весьма досадно, ибо они помогают понять
взгляды Кретьена в тот период, когда он еще только форми-
ровался как автор романов. Кроме того, они свидетельствуют об
изощренных поисках новой формы с целью ввести в язык се-
вера Франции легкую и гибкую версификацию трубадуров. Зна-
чение этих поисков недавно подчеркнул Жан Фрапье *, и как
раз в связи с вопросом, который я здесь поднимаю.
Сохранились две песни, которые с уверенностью можно при-
писать Кретьену. Первая полностью выдержана в духе песен
трубадуров, современников нашего автора, каким был, например,
Бернарт де Вентадорн:
Только мудрый и учтивый
познаёт любви отраду.
Сердцем верный, терпеливый
познаёт любви отраду.
Даме я служу красивой,
не надеясь на награду.
Вторая песнь содержит значительно более интересную
мысль. Кретьен выступает в ней против идеи, заключенной в
легенде о Тристане и Изольде, широко известной к тому вре-
мени на севере Франции, но существовавшей, видимо, в редак-
ции, впоследствии утраченной; до нас дошли лишь более позд-
ние редакции Тома и Беруля, появившиеся к концу жизни
Кретьена. Итак, наш поэт выходит за рамки поэзии юга Фран-
* J. Frappier, La poésie lyrique en France au XIIe et au XIIIe eieclee»
Centre de Documentation universitaire, 1954.
5* 67
ции, но не порывает при этом с концепцией любви, выраженной
трубадурами:
Onques del breuvrage ne bui
Dont Tristan fut empoisonnez
Mes plus me fait amer que lui
Fin euere et bone volontez.
Bien en doit être miens li grez,
Qu'ains de rien es forciez n'en fui
Fors de tant que les îauz en crui
Par cui sui en la voie entrez
Dont ja n'israî, n'ains ni recrui.
«Я не пил напитка, которым отравился Тристан, но благо-
родное сердце и добрая воля заставляют меня любить сильнее,
чем любил он.
Совершенно очевидно, что я сам воспламенился любовным
желанием, ибо ни разу никто не принуждал меня к этой лю-
бовной страсти, разве что мои собственные глаза увлекли меня
на путь, с которого я уже ни за что не сойду, ибо я никогда не
преступал любовных клятв».
Легенда о Тристане, по-видимому, воплощала для Кретьена
концепцию любви, которую следовало опровергнуть. В период
между этой песнью и первыми романами Кретьен написал
позднее утраченное произведение под названием «О короле
Марке и Изольде белокурой» («Del roi Marc et d'Iseut
la blonde»). Уже само название многозначительно. Кретьен упо-
минает здесь имя супруга, а не возлюбленного. Но в этой песне
он пока что выступает лишь против предначертанного свыше
рокового характера любви Тристана и Изольды. Этому он про-
тивопоставляет возможность свободного решения, по крайней
мере для мужчины, решения, опирающегося на веления сердца
и на достоинства предмета любви, что находится в полном со-
ответствии с доктриной трубадуров.
Вместе с тем Кретьен выступает здесь не только против
«Тристана», но также в какой-то мере и против «Романа об
Энее» :
На подоконник опершись,
Лавиния глядела вниз,
туда, где прямо перед ней
стоял задумчиво Эней.
Высок, могуч, хорош собой,
как полубог, был наш герой.
И слышен гул со всех сторон:
«Как он красивI Как он сложен!»
Так, у окна недвижно стоя,
она лишилася покоя:
держась своих всегдашних правил,
68
Амур ей в грудь стрелу направил,
как видно, так тому и быть.
Девица начала краснеть —
Амур сжимает туже сеть!
Исход один — любить, любить...
И ночью темною, и днем
она теперь грустит о нем:
недаром же Амур приметил
красавицу и ей отметил
своей стрелою сердце он.
Я знаю, что, говоря об эпохе Кретьена, — но так ли уж изме-
нилось положение вещей за это время? — не следует подходить
с одинаковой меркой к героям и героиням различных литера-
турных произведений. Лавиния — жертва любви, охватившей
девушку независимо от ее воли. Правда, автор романа говорит
нам о том, что Эней достоин любви, но тут же приводит объ-
яснение, взятое из мифологии, и это подчеркивает роковой ха-
рактер страсти, охватившей Лавинию. Позднее Кретьен создал
героинь, способных осуществлять выбор. Для него право ре-
шать и свободно выбирать всегда неотделимо от истинной
любви.
Но прошло еще несколько лет, и Кретьен решительно вы-
ступил против прелюбодеяния. Заметим, что в своих куртуаз-
ных песнях он обходит этот вопрос молчанием. Конечно, он не
муж дамы, которую воспевает, и она, несомненно, замужем, но
это обстоятельство не имеет никакого значения. Впрочем, и
саму даму автор почти не описывает, не дает ей глубокой ха-
рактеристики. Он говорит все время только о собственных чув-
ствах, а дама — предмет поклонения — остается невидимой, от-
сутствующей, она могла бы даже быть вообще существом иде-
альным, созданным воображением поэта.
Во втором из своих романов — в «Клижесе» — Кретьен
вновь возвращается к той же теме. И можно заранее догадать-
ся, что здесь мы опять встретимся с полемикой, направленной
против «Тристана». Теперь Кретьен выражает свое согласие
с автором «Энея», который, как мы видели, решительно отвер-
гает саму возможность делить любовь между двумя, усматри-
вая в этом профанацию высокого чувства; у Лавинии при всей
ее мягкости была на этот счет твЪрдая точка зрения:
Та улыбается двоим,
та хочет нравиться троим —
пускай! Но это не любовь.
Я повторяю вновь и вновь:
нельзя нам нескольких любить,
нельзя свою любовь делить.
09
16. «Луша и тело — одному...»
Недавние исследования творчества Кретьена де Труа *, об-
наружившие многочисленные и ранее не известные связи между
его произведениями и современной ему политической и истори-
ческой действительностью, одновременно позволяют с большей
точностью установить хронологию романов нашего автора. Та-
ким образом, дата написания «Эрека и Эниды» определена те-
перь как 1170 год, «Клижеса» («Cligès») — как 1176 год.
«Ивен» («Yvain») и «Ланселот» («Lancelot») написаны, должно
быть, оба между 1177 и 1181 годами, «Персеваль» («Perceval») —•
между 1181 и 1185 годами.
Жан Фрапье превосходно проанализировал причины, по
которым «Клижес» занимает особое место в творчестве Кре-
тьена де Труа:
«Клижес» отличает... атмосфера реального: ни кельтская ми-
фология, ни волшебные сказки не составляют здесь фона по-
вествования; есть, конечно, и тут вещи весьма неправдоподоб-
ные, волшебные напитки с удивительным действием; но вся
эта фармакопея, по существу, не носит сказочного характера,
она даже в некотором роде «научно» обоснована. В свою оче-
редь хотя «Клижес» и не является романом с ключом, однако
в нем легко обнаруживаются связи между исторической ре-
альностью и художественным вымыслом, более или менее скры-
тые намеки на факты той эпохи, касающиеся византийского
двора, дворов германского императора, французского короля и
владетеля Шампани. Автор дает греческим персонажам под-
линные эллинские имена, приводит точные географические на-
звания, даже когда действие происходит в Бретани; вместо
«артуровских мест», расположенных где-то в туманном и поэти-
ческом королевстве Логр, мы оказываемся в« реальной Англии с
хорошо нам известными названиями — Саутгемптон, Винчестер,
Дувр, Кентерберри, Лондон, Виндзор; иногда указания даются
даже с топографической точностью».
Заметим, кстати, что многое из того, что кажется в первых
наших романах волшебным, лишь представляется таковым в
силу незнания нами исторических реалий того отдаленного вре-
мени.
К этому Жан Фрапье прибавляет:
«Самая существенная особенность «Клижеса» состоит в том,
что он был задуман как полемика с другим романом, откуда
Кретьен заимствовал сюжет, однако переосмыслив его эпизод
за эпизодом, событие за событием и тем самым придав ему со-
* См. Jean Frappier, Cligès. Centre de Documentation Universitaire,
70
вершенно иной смысл; это позволило ему решить по-новому
также психологический и социальный конфликты, весьма инте-
ресовавшие светскую куртуазную среду, для которой писал
Кретьен. Этим другим романом был роман о «Тристане».
Итак, в «Клижесе» мы находим молодую женщину, столк-
нувшуюся с теми же затруднениями, что и Изольда. Она любит
юного Клижеса, явившегося к ней сватом. Клижес, как и Три-
стан, сватает девушку для своего дяди (здесь его зовут не
Марк, а Алис). Фениса (так зовут героиню—имя, по-види-
мому, производное от «Феникс», ибо ей приходится претерпеть
ложную смерть, чтобы избавиться от нелюбимого мужа, а по-
том снова «воскреснуть») не желает поступать, как Изольда,
она страстно заявляет:
Нет, лучше горькие мученья,
чем эти вечные сравненья:
«Она — Изольда. Он — Тристан».
Не для того мне раэум дан,
я поведенья их стыжусь
и никогда не соглашусь,
чтоб это повторялось вновь —
она унизила любовь!
Изольда знала двух мужчин,
хотя в душе царил один:
был ею лишь Тристан любим,
но отдалась она двоим.
Любовь такая незаконна,
и я останусь непреклонна,
я прямо заявляю вам,
что тело лишь тому отдам,
кто завладеет и душой,
иначе это — блуд прямой!
Душа и тело — одному...
Я полагаю, это место достаточно ясно и его не нужно ком-
ментировать. Кретьен во время написания «Клижеса» был сто-
ронником брака, основанного на взаимной любви, и защищал
право женщины принадлежать только тому, кого она лк»бит:
Душа и тело — одному...
Эти слова он высказывал и повторял, как девиз, который бур-
жуазия так и не воплотила в жизнь: на долгие века после Кре-
тьена девиз этот остался неосуществимым идеалом для героинь
многочисленных романов!
Главным препятствием в те времена были не деньги. Юная
Фениса прекрасно знает, что за трудности ей предстоит преодо-
леть, чтобы добиться своего *. Вот как излагает она стоящую
* Жан Фрапье заметил, что Кретьен единственный раз в своем твор-
честве употребил слово conciance (сознание), и именно в романе «Клижес».
Слово это, в то время новое в языке, он, впрочем, применял еще в значении
71
перед ней дилемму кормилице:
Лишь, одного я не пойму —
как мне принадлежать тому,
кто завладел моей душой?
Отец лелеет план иной:
меня он обещал другому...
Что делать? Хоть беги из дому,
чтоб уберечься от него,
от суженого моего!
О, окажите мне услугу,
кормилица! Его супругой
я вовсе не желаю быть,
хочу себя я сохранить
от рук того, кто присягал
отцу Клижеса, обещал
вовек не брать себе жены...
Но клятвы те обойдены:
меня он хочет в жены взять,
а я готова живнь отдать,
чтоб только никакой урон
Клижесу не был причинен,
Ведь, если сын у нас родится,
Клижес наследия лишится.
Я забыл сказать, что Алис дал в свое время отцу Клижеса
клятву никогда не вступать в брак. Этот обет гарантировал
Клижесу, что впоследствии он унаследует отцовские владения.
Таким образом, Фениса оказалась в положении, предусмотрен-*
ном феодальным правом, при котором склонности и желания
мужчин и женщин ставились в зависимость от необходимости
сохранить или передать наследство, вынуждая, к примеру, вдову
вторично выйти замуж за кого-нибудь из родственников умер-
шего, чтобы ленное владение не перешло после смерти женщины
в руки ее родственников.
В «Клижесе», как и в «Эреке», перед нами совершенно
реальная жизненная ситуация. Единственное, что нереально в
«Клижесе», — волшебство, благодаря которому Фениса, выйдя
замуж за Алиса, сохраняет свою девственность ради любимого.
Ибо. как нетрудно догадаться, «Клижес» заканчивается благо-«
получно и завершается победой любви:
Фенису сделавши супругой,
Клижес ее своей подругой,
своею радостью зовет,
любить жену не устает...
Он для нее — не только муж,
но и возлюбленный. К тому ж
растет их нежность с каждым днем...
внутреннее чувство, внутреннее осознание, но сам
факт свидетельствует о прогрессе психологического анализа и средств вы*
разительности в романском языке той эпохи.
72
Пожалуй, самое примечательное в описании счастливого кон*
ца этой любви, встречавшей такое неимоверное количество пре-
пятствий, то, что Кретьен счел необходимым еще раз подчерк*
нуть: брак Фенисы и Клижеса—это настоящий брак по любви!
Отдавшись Клижесу до свадьбы, Фениса ничего не те-
ряет (рог ce ne pert ele mie) и в замужестве, ибо также »
после брака Клижес любит ее, как возлюбленную.
Это звучит так же, как стихи из «Эрека и Эниды»; про*
славляется чета равных в любви, где жена не перестает быть-
для мужа его подругой и возлюбленной. И не из одной толька
гордости Энида, скорбно сидящая у тела Эрека, которого она
считает погибшим, отвечает графу, обращающемуся к ней с во*
просом, была ли она возлюбленной или женой покойного:
«Я была и той, и другой, сир!» В «Клижесе» сам поэт часто
говорит за свою героиню; он глубоко растроган и не скрывает
своего волнения, когда Фениса добивается своих целей и воз-
любленный становится ее законным супругом:
О, разумеется, в них страсть
горит по-прежнему. И им
(героям любящим моим),
когда они уста сближают
или друг друга обнимают,
светлее кажется весь мир.
В глаэах жены Эрек —- кумир,
а он Эниду обожает
и всячески ей угождает.
Что хочет он, то — и она,
как будто в них душа одна.
Самое забавное в «Клижесе», действие которого происходит
в Константинополе, то, что, по словам Кретьена, цосле истории;
с Фенисой турки стали запирать своих жен в гаремы:
За жея боясь — не без причины, —
их запирают. И мужчины
за ними день и ночь следят.
и каждый страж у них — кастрат,
с таким не совершишь измен!
Закончил свой роман Кретьен.
17. Мария Шампанская и палинодия Ланселота
Я полагаю, теперь совершенно ясно, как далеки мы здесь or
тайной любви а л ь б и какое важное значение придает Кретьен*
браку. «Клижес» — своего рода кульминационный пункт в раз-
витии этой темы у Кретьена. В дальнейшем его творчество как:
бы раздваивается. Роман, который следует* непосредственно за
«Клижесом», «Ланселот, или Рыцарь телеги», в противоположич
ность «Клижесу» открыто продолжает развивать провансаль-
73
скую тему любви-прелюбодеяния. Заглавие произведения весьма
знаменательно. На телеге, о которой идет речь, перевозят пре-
ступников и трусов. Это — то же самое, что позорный столб.
Ланселот садится на нее из любви к своей даме. «Какое зна-
чение имеет стыд, когда любовь приказывает и требует». Это —
служение любви, доведенное до предела. И полный отказ от
любой, преисполненной достоинства, подчиняющейся законам
разума, которую дотоле прославлял Кретьен.
Что же произошло? Я полагаю, что объяснение, которое
приводит Гюстав Коэн в своей книге о Кретьене де Труа, вполне
убедительно:
«В начале своего творческого пути — в «Эреке» целиком и
полностью, в «Клижесе» большей частью — Кретьен вдохнов-
ляется еще лишь опытом и духом лирической поэзии севера
Франции: завоевание невесты, любовь, ведущая к браку. Это
не значит, что наш автор не был знаком с доктриной, сложив-
шейся на юге Франции. Печать ее, вне всякого сомнения, ле-
жит на тогда еще мало обработанной, первоначальной легенде
о Дристане и Эйсильте (Тристане и Изольде), но Кретьен
пренебрегает этой доктриной, он даже выступает против нее
s «Клижесе».
Все же через некоторое время возникло новое обстоятель-
ство, оно-то и% заставило его отдать дань новой моде, кото-
рую Элеонора вывезла из своей родной Аквитании и которая
восходит к ее предкам — я имею в виду ее деда Гильома IX,
одного из первых трубадуров, а также Бертрана де Борна 29 и
Бернарта де Вентадорна 30. Быть может (это всего лишь про-
стое, но законное предположение с моей стороны), холодный
прием, оказанный первым произведениям Кретьена могуще-
ственной властительницей королевств Запада во время
пребывания в Нанте или в Англии, заставил романиста по-
нять, чт.о жизнь требует угождения новым богам.
То, что верно по отношению к Элеоноре, верно также и по
отношению к Марии, ее дочери от первого брака с Людови-
ком VII; выйдя замуж за Генриха I, Мария стала в 1164 году
графиней Шампанской. Молодая женщина (ей было в то время
девятнадцать лет) была воспитана на лирической поэзии юга
Франции. Став из принцессы простой графиней, она стремится
быть хотя бы королевой поэтов, и Мария властвовала над поэ-
тами, украсившими ее двор в Труа, она предписывала им такой
поэтический взгляд на мир, согласно которому женщина — вдох-
новительница всех доблестей — полновластная госпожа и даже
•самый храбрый рыцарь подчиняется ей с собачьей предан-
ностью.
Вот почему Мария Шампанская решила испытать свое могу-
щество на уже знаменитом поэте, которого она пригласила ко
74
двору и принудила петь палинодию, воспевать прелюбодеяние
и раздел любви — все то, что он только недавно осудил устами
Фенисы.
Кретьен в начале своей новой книги говорит о том, что
Мария Шампанская вдохновила его и почти приказала ему при-
ступить к этому труду:
Мария, госпожа Шампани,
мне подала мысль о романе,
и я, как преданный вассал,
над ним тотчас трудиться стал.
Другой на его месте, утверждает Кретьен, разразился бы
льстивыми стихами, принялся бы утверждать, что принцесса
выше всех остальных принцесс и королев, подобно тому как
драгоценный камень ценнее сардоникса; он же ограничивается
лишь признанием, что она его вдохновительница:
Но поясню: сие творенье,
хоть и мое рукотворенье,
лишь ей принадлежит по праву.
«Рыцарь телеги». Не в забаву
- - два эти слова ставлю вместе —
о том скажу в своем я месте.
Мне тему и весь смысл романа
дала графиня; неустанно
Кретьен над ним трудиться будет...
Трудно выказать больше скромности и вместе с тем более
явно снять с себя всякую ответственность за выбор темы и ха-
рактер ее разрешения, если только, как я надеюсь, я верно по-
нял термины «matière» и «san», которые истолкованы мной как
«тема» и «смысл» (идейный) романа»*.
Что роль Марии Шампанской была именно такова, под-
тверждается одним документом той эпохи. В трактате Андре
Капеллана «Об искусстве пристойной любви» ** приведено
двадцать одно высказывание знатнейших дам того времени о
любви. Вот ответ Марии Шампанской на вопрос о том, может ли
существовать любовь между супругами:
* Гюстав Коэн, в книге «Кр%тьен де Труа и его творчество»
(G. Cohen, Chrétien de Troyes et son oeuvre, 1931). 1164 год, когда Мария
Шампанская прибыла в графство, не может быть принят за исходную дату
для перемены, происшедшей с Кретьеном. Только с 1180 года, когда Ма-
рия достигает сорокалетнего возраста, тексты свидетельствуют об ее уча-
стии в спорах о куртуазной любви.
** Андре — придворный капеллан Марии Шампанской — написал для
нее в 1184—1185 годах трактат на латинском языке под названием «Об
искусстве пристойной любви», где он пытается систематизировать предста-
вления о любви, основываясь на литеоатурных источниках — от Овидия до
70
«Мы утверждаем, опираясь на кодекс законов любви, что лю-
бовь не может распространять такую власть на супругов, какую
она простирает на любовников. Любовники осыпают друг друга
щедротами любви по собственной воле, и никто, никакие закон-
ные узы, не вынуждают их к этому. Супруги, напротив, должны
из покорности и по обязанности ни в чем не отказывать друг
другу. И разве к чести супругов то, что они наслаждаются лю-
бовными ласками, пользуются, не имея на это никаких прав, в
любви преимуществами, дарованными им по закону? Впрочем,
общеизвестно, что бог любви истинных своих паладинов нахо-
дит среди тех, кто свободен от брачных уз. Другой закон любви
гласит, что нельзя одновременно наслаждаться ласками двух
возлюбленных. Очевидно, что супруг не может быть любовни-
ком, и любовный^ кодекс не признает возлюбленными вступив-
ших в брак. Если бы это было не так, то существование любов-
ника наряду с супругом нарушало бы третье правило любви».
А Элеонора, мать Марии, подтверждает: «Мы не решимся
куртуазной литературы. Он формулирует правила любви; вот некоторые
из них:
I. Брак — не препятствие для любви.
II. Нескромный человек недостоин любви.
III. Никого нельзя принудить любить сразу двоих.
IV. Любовь должна расти или уменьшаться.
V. Любовь по принуждению не приносит наслаждения.
XI. Не следует любить того, с кем сочетаться браком было бы
постыдно.
XII. Истинному любовнику милы только ласки его возлюблен-
ной и ничьи больше.
XIV. Легкая победа притупляет любовь; трудности увеличивают
ее цену.
XVII. Новая любовь стремится изгнать прежнюю.
XIX. Если страсть удовлетворена, она не замедлит погаснуть и
редко вспыхивает вновь.
XXIV. Любой поступок любящего встречает отклик в мыслях
любимого им существа.
XXV. Истинный любовник ценит лишь то, что нравится люби-
мому существу.
XXVI. Любовь ни в чем не может отказать любви.
XXVII. Любящий никогда не пресыщается ласками возлюбленной«
XXVIII. Беспокойство, свойственное влюбленным, заставляет их пре*
увеличивать каждую мелочь.
XXXI. Ничто не может помешать женщине иметь двух любовников*
а мужчине — двух любовниц.
Этот текст был переиздан в период Реставрации, еще до того, как
Стендаль написал свою книгу «О любви», в которой он, впрочем, поль-
зуется трактатом «Об искусстве пристойной любви». Книга Андре Капел-
лана была осуждена епископом города Парижа в одно время с произведем
виями Аристотеля, то есть в 1277 году.
76 \
возражать против мысли, высказанной столь решительно гра-
финей Шампанской, которая заявляет, что власть любви rie
распространяется на супругов».
Таким образом, мы видим, что творчество романиста севера
Франции отлично от образцов литературы юга страны и, всту-
пив на путь изображения любви, которая, употребляя слова Эн-
гельса, должна была лежать в основании брака, Кретьен весьма
существенно продвинулся вперед. Без сомнения, он не прошел
всего пути до конца, но «Эрека и Эниду» вообще не понять,
если не учитывать поднятой в этом романе проблемы совмести-
мости или несовместимости брака по любви с рыцарским долгом.
Мы видели, как к решению этого вопроса подошел Кретьен, ви-
дели, какое существенное место отвел он Эниде.
Итак, Кретьен явно шел наперекор интересам феодалов.
В ту пору брак совершался прежде всего ради ленных владений.
Затем прелюбодеяние вносило свои коррективы; не следует за-
бывать также и о небольших развлечениях, как, например, праве
первой ночи, однако о таких вещах можно найти упоминания
лишь в городской литературе, в фаблио, но отнюдь не в кур-
туазных романах. Вот почему идейный протест Кретьена и роль,
которую он отводит женщинам, тем более знаменательны.
Если внимательно сопоставить литературу севера Франции
с литературой ее юга, можно отметить эволюцию в изобра-
жении женщин: от обреченных на молчание у трубадуров*
до «Энея», где Лавинии предоставлено слово, и до романов
Кретьена, где впервые возникает образ подлинной героини —
женщины, способной принимать решения и заботиться о счастье
своего семейного очага, хотя Эрек при этом остается ее сеньо-
ром и господином.
Помимо самого этого факта, мне представляется весьма ин-
тересным отметить несомненный прогресс в художественной пе-
редаче человеческой психологии, связанный с вышеупомянутыми
идейными сдвигами. Вслед за автором «Энея» Кретьен откры-
вает своим последователям новый мир, целый, никем еще не
исследованный поэтический континент: это — поведение жен-
щин и их психология, а также поведение и психология мужчин
в их отношении к женщине. Не так, как у трубадуров, где
о женщине только рассказывает ^мужчина, здесь воспроизво-
дятся их собственные сокровенные помыслы. Они открывают
глаза мужчинам на мир, в котором те живут и переживают стра-
дания и радости и который был бы без женщин, как без солнца
Без солнца любви.
* Включая диспут (так называемая «разделенная игра») между тру-
бадурами XIII века Ги Юселем и его кузеном Эли; в нем обсуждался во-
прос о том, кем лучше быть — мужем или возлюбленным той, которую любишь.
77
18. Энида непереводима
Своеобразное творчество Кретьена было до такой степени
чисто французским, что авторы, обрабатывавшие его романы, не
поняли его. Я уже упомянул о европейской литературе, и
действительно, сказания о короле Артуре благодаря Кретьену
получили распространение во всей Западной Европе. Да, сказа-
ния о короле Артуре, но не тема новой любви, счастья Эрека и
Эниды, не показ независимости и отваги молодой женщины.
Роман «Эрек и Энида» был переведен на немецкий язык уже
в 1189 году. Автором немецкого переложения был Гартман фон
Ауэ, рыцарь незнатного происхождения, вассал сеньора Ouwe
(в современном написании Aue). Известны его лирические сти-
хотворения (миннезанг), дидактическая поэма о куртуазной
любви и четыре эпические поэмы: «Грегориус» и «Бедный
Генрих», в основе сюжета которых лежат религиозные ле-
генды, «Эрек» и «Ивейн» («Ивен») — переложения романов
Кретьена.
Заметим сразу же, что название «Эрек и Энида» в пере-
воде заменено просто «Эреком». Вместо чудесного рассказа у
Кретьена, как Энида, проснувшись и лежа рядом со спящим
Эреком, размышляет вслух, дано безличное описание, в несколь-
ких стихах резюмирующее ситуацию. Эрек так увлечен своей
женой, что забросил все дела. Впрочем, Гартман не распро-
страняется на эту тему. Эрек позволил себе «durch wip verligen»,
то есть отвлекся от рыцарских занятий, стал уклоняться от вы-
полнения своих обязательств, и все из-за жены. Эта часть ро-
мана начинается еще более сжато, еще более сухо; Гартман
излагает суть дела всего в семи стихотворных строчках:
Егес was biderbe unde guot
ritterliche etuont ein muot
e er wip genaeme
un hin heim kaeme:
nu so er heim komen ist
do kerte er allen einen list
an vronwen Eniten minne.
«Эрек был отважным и доблестным рыцарем, пока не ввел в
дом жену. Действительно, возвратившись с ней домой, он
все свое время, все заботы посвятил любви к своей супруге
Эниде».
Я полагаю, этой цитаты достаточно, чтобы показать, какие
коренные различия существуют между двумя текстами и как у
Гартмана при сохранении фабулы исчезло все, что было нова-
торским в произведении Кретьена, уступив место старой и хо~
78
рошо знакомой теме о том, как воин под влиянием любви к
женщине утратил свою мужественность.
Эрек у Гартмана поистине грешит против морали своего
круга: он неспособен обуздать свои инстинкты и лишь усилием
воли заставляет себя позднее вернуться к привычной деятель-
ности и вести себя вновь так, как подобает рыцарю. Движу-
щими силами оказываются благочестие и смирение, и при своем
возрождении Эрек проделывает путь от Tumpheit к Wisheit,
то есть от наивности к мудрости, которая, как выясняется, со-
стоит в том, чтобы приписывать богу то, что суетная гордость
относит за счет личных достоинств человека.
Как это бесконечно далеко от Кретьена де Труа! Вспомним
хотя бы только великолепную сцену, когда Энида берет копье,
чтобы прикрыть отступление мужа, только что сразившего»
графа. Эрек там говорит:
...Сестра моя,
Вас подвергал я испытаньям,
теперь скажу: «Конец страданьям!
Своей любви, как прежде, верен,
отныне твердо я уверен,
что вами горячо любим...
Кретьен так описывает примирение супругов, которое проис-
ходит еще до того, как Эрек совершил свой главный и наиболее
трудный подвиг и окончательно восторжествовал, хотя он любит
Эниду не меньше, чем прежде. Но судите сами:
И вот Эрек опять здоров,
как встарь, рука его сильна.
Энида радости полна.
Зачем любовь свою скрывать?
Супруги улеглись в кровать,
друг друга обнимают страстно,
и жизнь им кажется прекрасной.
Нет больше горя и забот,
а впереди их счастье ждет.
Нет больше тяжких испытаний —
помех для ласки и лобзаний.
Лежат они плечо к плечу...
об остальном я умолчу.
Тут нет ни благочестия, ни смирения, которые проповедует
Гартман фон Ауэ. Нет, Кретьен изображает триумф человече-
ской любви, торжество ее над всем тем, что было направлено
к ее разрушению. И победоносная любовь возвеличивает героя.
Повторяю, все это происходит еще до того решающего при-
ключения, описанного в романе, которое позволило Эреку наи-
лучшим образом выказать свою рыцарскую доблесть и принесло
79
«ему больше всего славы. Вот что говорит об этом Кретьен де
Тру а:
Or ont lor dolor obliee
et lor grant amor afermee,
que petit mes lor an sovient.
«Они забыли прежнюю печаль, и настолько окрепла их
великая любовь, что они уже почти не помнят о своих испыта-
ниях».
В конце романа звучит всепобеждающая радость, сопровож-
даемая некоей умиротворенностью. Ведь обязательства, которые
накладывает на людей жизнь, совместимы с подобной безмер-
ной любовью. В этом большая заслуга Эрека, но не меньше,
если не больше, сделала для этого Энида. Во время последнего
испытания, именуемого в романе «la joie de la cour», Эрек по-
беждает в поединке рыцаря Мабоагрена, который не может по-
кинуть заколдованный сад из-за клятвы, данной им той, кого
он любит. Возлюбленная Мабоагрена хочет всегда держать ры-
царя возле себя. Энида, как мы видели, совсем иначе понимает
любовь: она ревнует о чести мужа, для нее более важно, чтобы
юн сохранил свое достоинство и славу, чем то, чтобы он неот-
лучно находился возле нее; именно поэтому Эрек одержи-
вает победу и обретает радость.
19. Может быть, это кое-кого и не устраивает,
но первоначально роман был посвящен поискам счастья,
а не поискам святого Грааля
Сказанное выше помогает понять не только роман «Эрек и
Энида», но и основное в творческом наследии Кретьена де
Труа. Здесь нет ни судьбы, ни антисудьбы, а изобра-
жены мужчины и женщины в их столкновении с реальными
трудностями, порождаемыми жизненным прогрессом, ищущие
счастья; правда, в «Эреке и Эниде» как будто не ищут счастья,
оно достигнуто, его нужно лишь сохранить, но все же и это
произведение Кретьена де Труа в самой своей основе пронизано
мотивом поисков счастья. Да, наши первые романы описывали
поиски счастья. Можно сожалеть об этом или радоваться, но
тексты упрямы и не подчиняются требованиям, предположе-
ниям и пожеланиям, которые мы, люди XX века, высказываем
по их поводу. Они налицо, они существуют, и с этим ничего не
поделаешь. И присущий им гуманизм, исполненный горделивой
веры в человека, шествующий рука об руку с поэтическим пре-
увеличением, которым отмечены и подвиги, и мечты, предстает
перед нами, как яркий цветок весны, которая так и не вошла в
свои права. И не только из-за вмешательства церкви, о чем я
30
уже говорил, но и потому что общество, где жили Эрек и Энида,
Элеонора Аквитанская, Мария Шампанская, Филипп Фландр-
ский и сам Кретьен де Труа, было основано на порабощении
человека человеком. Это, однако, не мешает нам разделять его
надежды и черпать в его устремлениях веру в себя и нашу
родину.
Общепринятое противопоставление севера и юга Франции
той эпохи, юга трубадуров и катаров31 и севера, олицетворяе-
мого в данном случае Симоном де Монфором, разрушителем го-
родов и варваром, приводит к тому, что мы упускаем из виду
важные факты. Новую любовь воспевали на севере, так же как и
на юге; при дворах северных сеньоров, где жил Кретьен де Труа,
любовь эта находила 'себе весьма своеобразное воплощение, с
могучими порывами и устремлениями к свободе личности, что
не всегда можно найти в песнях юга. Цивилизация юга Фран-
ции исчезла в первые годы XIII века, к этому же времени пре-
кратился и расцвет литературы на севере. Стали создаваться
лишь трагические повествования, исполненные тревоги, герой
в них каждый раз вставал перед проблемой вечного спасения.
Но то, что было до того достигнуто, сохранилось, по крайней
мере в немеркнущей колдовской силе стихов Кретьена де Труа.
И те, кто противопоставляет цивилизацию Лангедока всему,
что создано на диалектах севера, в частности Нормандии и Шам-
пани, по существу, перелицовывают историю нашей националь-
ной литературы с позиций партикуляризма и независимо от
своей воли мешают понять то, что происходило на самом деле.
Достаточно почитать самих трубадуров, расцвет творчества ко-
торых предшествовал расцвету литературы севера, чтобы убе-
диться, что к концу XII века, еще до крестового похода против
альбигойцев, их творчество уже клонилось« к упадку и тяготело
к формализму. Создается впечатление, что было воспето все,
что литература эта была предназначена воспеть, и что на боль-
шее она уже не способна *.
Помимо описания любви Эрека и Эниды, мы находим у
Кретьена де Труа неоконченный роман «Ланселот», где герой
вздыхает о недоступной для него королеве. Правда, он в конце
концов достигает обладания Гениеврой, чужой женой, что не
всегда удавалось героям песен трубадуров, но здесь уже пол-
ностью представлена традиционная куртуазная покорность, сдо-
бренная жеманностью и галантной софистикой. Именно этот
момент был подхвачен и развит, и на его основе выросла целая
* Я имею в виду, разумеется, лишь любовную тему, а не всю литера-
туру юга Франции вообще; ведь там получила развитие и политическая
поэзия, выдвинувшая таких значительных писателей, как «Ювенал из
Пюи-ан-Веле» — Пейре Карденаль, творивший в первой трети XIII века,
в самый разгар крестового похода против альбигойцев.
6 П. Деке
81
литература; позднее французы вновь восприняли все это из про-
изведений испанских авторов, подражавших нашим куртуазным
романам: достаточно вспомнить хотя бы знаменитого «Амадиса
Гальского». Но это уже особая тема.
Больше всего в первых наших романах поражает, насколько
ясное выражение нашло в них то, о чем до них вообще еще
нигде не говорилось. Я имею в виду умение отражать реальную
действительность и воспроизводить ее с большой выразитель-
ностью; в силу этого наши первые романы — и это нас изум-
ляет— внесли в литературу много жизненного материала, впер-
вые показали семейное счастье двух равноправных людей. Рав-
ноправных по крайней мере в любви.
20. «...с той поры, как ты впал в грех,
то есть с той поры, как ты сделался рыцарем»
(«Ланселот», Список 1225 года)
Все усложняется тем, что, как я уже отмечал, большинство
героев Кретьена изменилось до неузнаваемости при прозаиче-
ском пересказе романов о рыцарях Круглого стола, осуще-
ствленном в начале XIII века; а ведь именно эта версия их
приключений, этот вариант повествования о их жизни и их ха-
рактерах преобладали и были наиболее распространенными в те-
чение долгих веков.
У истоков цикла находится роман «Персеваль». Произведе-
ние это не было окончено Кретьеном, другие писатели впослед-
ствии создавали свои продолжения, придавая ему все более ми-
стический смысл, и в конце концов роман приобрел характер
легенды о святом Граале, как она известна в наше время. Почти
одновременно Роберт де Борон написал в конце XII века свой
роман «История Грааля». Это произведение уже выходит за
рамки цикла сказаний о короле Артуре; здесь Грааль — это
чаша, содержащая кровь Христа. Отсюда берет начало наиболее
известная прозаическая обработка этого сюжета, появившаяся
в 1225 году; она была напечатана впервые в 1488 году и полу-
чила затем чрезвычайно широкое распространение. Добавим, что
именно она переведена на современный французский язык и
включается во все издания романов о рыцарях Круглого стола,
которые имеют хождение в наши дни.
Герои Кретьена предстают здесь перед цистерцианским ре-
форматорским судилищем. Ивен и Говен при этом подвергаются
осуждению, Ланселот оказывается воплощением грешника, а
Персеваль — простодушным и наивным праведником.
Авторы этой обработки заходят весьма далеко в своих на-
падках на те ценности, какие возвеличивал Кретьен. Они стре-
82
мятся решительно опровергнуть и уничтожить эти ценности. И
прежде всего они обрушиваются на рыцарство.
Ланселот, например, отправляется на поиски святого Гра-
аля; по пути он встречает самые невероятные препятствия, пока
наконец ему через видение во сне не становится ясным, что он
отлучен от церкви. Он исповедуется некоему отшельнику в своей
греховной любви к Гениевре — это, конечно, не могло даже и в
голову прийти герою Кретьена, — и в конце концов какой-то
священник читает ему строгое нравоучение: «Между тем много
было людей, которые долго пребывали во мраке греха, и господь
затем возвратил их на путь истинный, как только увидел,
что они всей душой стремятся к свету... Ланселот, я привел
тебе этот пример, зная о той жизни, какую ты так долго вел
с той поры, как ты впал в грех, то есть с той поры, как ты сде-
лался рыцарем. Ибо, прежде чем ты сделался им, тебе были свой-
ственны от природы такие добродетели, что я не знаю человека,
который был бы тебе равен...» («Поиски святого Грааля», из-
дание Пофиле).
Рыцарство здесь осуждается, а плотская любовь рассмат-
ривается как соблазн дьявольский. «Дьявол долго не решался
повести на тебя атаку, ибо полагал это делом бесполезным. За-
тем он обдумал несколько способов, с помощью которых мог бы
завладеть тобой. И в конце концов он решил, что быстрее всего
тебя можно ввергнуть в смертный грех через любовь к жен-
щине... И тогда-то он надоумил королеву Гениевру... и побудил
ее взглянуть на тебя с удовольствием, когда ты находился в ее
замке, в тот день, когда тебя посвятили в рыцари. Заметив ее
взгляд, ты стал думать о ней; и в этот самый миг враг челове-
ческий поразил тебя своим копьем с такой силой, что ты по-
шатнулся...»
Этих отрывков достаточно, чтобы показать, что на долю
Кретьена де Труа выпала самая жестокая судьба из всех, какие
могут выпасть на долю того, кто создает духовные ценности:
его произведения подверглись искажению, им придан противо-
положный смысл, важнейшие его идеи извращены.
Потому что речь здесь идет не о непонимании, как утверж-
дали некоторые, но о последовательных исправлениях, о под-
линном «очищении» его произведений с целью придать им мо-
рализующий и наставительный характер.
Пусть меня поймут правильно — я не упрекаю авторов этих
прозаических романов в литературной «агрессии» против Креть-
ена, такой упрек звучал бы нелепо, ибо моральное право авто-
ра— понятие современное. Я хотел бы только подчеркнуть, что
для того, чтобы в наши дни правильно понять Кретьена и его
произведения, следует совершенно отрешиться от всех тех на-
слоений, которые были привнесены последующей традицией.
6*
83
Непроизвольно память подсказывает нам сложившиеся в более
позднее время образы героев сказаний о короле Артуре, и мы
должны найти в себе силы вычеркнуть их из своей памяти, за-
быть также немецкую традицию, и Вагнера, и английскую тра-
дицию, и Мэлори 32, и сказки, которые читали в детстве.
Ведь во всех этих произведениях были не просто видоизме-
нены детали, внесены поправки, выполняющие роль фиговых
листков на статуях. Нет, прозаические обработки романов
Кретьена содержат прямую полемику с автором, нередко герои
их — прямая противоположность героям его оригинальных про-
изведений.
Отмечая изменение взглядов Кретьена, отразившееся в ро-
мане «Ланселот, или Рыцарь телеги» («Lancelot de la charrette»),
я говорил о тех формах, какие принимает любовь героя к суп-
руге короля Артура. Сейчас мне представляется необходимым
подчеркнуть еще один аспект решения любовной темы. В этом
произведении рыцарь всецело подчиняется воле своей дамы, но
плотская любовь, подобно той, что связывала Эрека и Эниду,
приобретает в романе Кретьена характер языческого поклонения
любимой женЕцине. Поклонение это граничит с богохульством,
и можно понять восклицание Симона де Монфора о Венере,
защищающей его противника. Вот, к примеру, сцена встречи
Ланселота и Гениевры:
Он стал пред нею на колени,
она ему — святых милей!
И королева — без затей —
с улыбкой рыцаря встречает,
целует, нежно обнимает,
ведь для нее он всех дороже!
Потом его к себе на ложе
Геньевра увлекает властно,
там лобызает пылко, страстно...
ему милы ее объятья,
и мог бы смело утверждать я,
что оба радость испытали
такую, что и не слыхали
нигде о ней. Но я не стану
здесь говорить о том: роману
не подобает суесловье...
Их радость рождена любовью,
Что так прекрасна в человеке.
О прочем — умолчу навеки.
«Он стал пред нею на колени, она ему — святых милей!»
Эти слова еще больше усилены описанием того, как прощается
Ланселот со своей дамой:
За дверью он склонился ниц —
с таким торжественным лицом,
как будто бы пред алтарем...
84
Объясняется ли подобное святотатство, проявленное Лансе-
лотом, обдуманным намерением Кретьена или же лишь его же-
ланием угодить Марии Шампанской? Так или иначе, текст
говорит за себя, и нет никаких оснований полагать, будто
Кретьен осуждает поведение своего героя. Во всяком случае,
от Эрека, всем пожертвовавшего ради земной любви к Эниде,
недалеко до Ланселота, почитающего Гениевру не меньше, чем
святых. Нечто подобное мы уже встречаем в письмах Элоизы.
Это изображение страстной всепоглощающей любви дает нам
представление о свободе духа в ту отдаленную эпоху, хотя мы
и не можем точно сказать, какое именно значение имели для
людей того времени описанные здесь чувства, означали ли они
сознательное безбожие или были только проявлением отваги,
никому не причинявшей вреда. Одно можно твердо сказать, и
это не игра слов: в романе Кретьена (Chrétien) нет ничего хри-
стианского (chrétien).
Но бесспорно и то, что всего лишь тридцать-сорок лет
Спустя неведомый нам автор направил Ланселота на стезю каю-
щихся грешников. Вот почему в этом случае следует говорить о
совсем уже другом романе, впервые у нас написанном прозой, в
котором ставилась цель призвать %модей к покорности перед бо-
гом и показать мир полным грозной ярости, где смерть попирает
гордыню героев.
Знаменательно, что прозаическая обработка свидетельствует
о том, что романическое вдохновение в какой-то мере иссякло,
исчерпало себя. Роман в своей первоначальной форме умер. Но-
вая любовь оказалась под запретом.
21. Роман — достояние нашей национальной литературы
В творчестве Кретьена де Труа роман, в ту пору совсем еще
новый жанр, почти сразу достиг уровня подлинно националь-
ного искусства, представленного ранее замечательными эпиче-
скими поэмами, например «Песнью о Роланде». И хотя в
XII веке еще нельзя говорить о языковом единстве, а тем более
о сложившейся французской нации в современном смысле слова,
мы вправе применить этот термин к романам Кретьена, потому
что в них уже слиты воедино (как»мне думается, я это показал)
и любовь вне брака, воспетая в провансальских альбах, и кельт-
ская тема Тристана и Изольды, познающих счастье в браке по
любви. «Душа и тело — одному»! И еще потому, что из эпи-
ческого рассказа, из повествования, написанного восьмислож-
ным стихом, из необходимости дать жизнь героям и героиням
на наших глазах мало-помалу рождается целый мир. Кретьен ь
процессе своего творчества постепенно оказывается вынужден-
85
ным выработать иное отношение к реальному миру, перейти на
позиции писателя-реалиста.
Основные идейные положения его романов взяты, как мы
видели, из самой действительности, также и весь фон главного
действия. Вымышленное, нереальное связано прежде всего с ис-
пытаниями, приключениями, выпадающими на долю героев, и
служит задаче—отчетливее оттенить конфликты, в которых ге-
рой дает доказательства своей храбрости, чести, любви.
С этой точки зрения эволюция творчества Кретьена осо-
бенно примечательна. В четвертом из его романов реальность
врывается и в ту область, где прежде господствовали вымысел
и легенда. В «Ивене» герой встречается на своем пути не с вол-
шебным садом или каким-либо другим чудом, а с нуждой людей
труда. Конечно, и эту картину обрамляют элементы, обычно
встречающиеся в сказках. Девы, о которых идет речь, получены
победителями в дань* (и прочее, и тому подобное), но это ничего
не меняет в том важнейшем факте, что в романе Кретьена впер-
вые в нашей литературе показаны те, кто изготовляет прекрас-
ные ткани, предназначенные для одежды героев и героинь.
Увидел триста он девиц.
Они сидели в низкой зале
и золотом по шелку ткали. *
Бедняжки выбились из сил,
их вид Ивена устрашил:
из кофт дырявых, безобразных,
из рубищ грубых, потных, грязных
торчали шел и ключицы,
бледны, как мел, бескровны лица,
истощены лихой нуждою...
Пришельца видя пред собою,
они невольно зарыдали
и долго глаз не подымали.
Заброшена теперь работа,
и на челе — печаль, забота
у каждой из несчастных дев.
Гюстав Коэн, который поистине открыл этот текст, опублико-
вал его перед войной в журнале «Коммюн» и так его прокоммен-
тировал: «Здесь перед нами картина, списанная с живой
модели, с натуры; по-видимому, образцом послужили мастерские
Арраса или Труа, где бедные работницы, плохо одетые, сши-
вали парчу и ткали ковры, которым предстояло украшать рос-
кошные дамские покои и рыцарские залы; богатство питается
нищетой».
Но Кретьен идет и еще дальше: оставаясь в рамках ска-
зочного сюжета, он дает слово работницам. И здесь воздей-
ствие реальной действительности проявляет себя полностью.
Как видно, Кретьен не только посещал такие мастерские, но и
86
прислушивался там к разговорам. Эти страницы романа — пря-
мой вызов и разрыв с литературными канонами того времени.
Не только потому, что Кретьен дает слово представителям низ-
ших классов (простолюдины часто говорят в куртуазных рома-
нах, гораздо чаще, чем принято думать, но, конечно, совсем
о других вещах), а прежде всего потому, что Кретьен непосред-
ственно изображает повседневную действительность почти без
прикрас и почти без примеси сказочного материала. Начав с
изображения конфликта между любовью и подвигом, долгом
рыцаря и радостями брака, Кретьен приходит в конце концов
к показу изнанки действительности. Разумеется, Ивен освобо-
дит несчастных женщин, но послушайте сперва, что они гово-
рят! Может показаться, что слышишь написанную почти семью
веками позднее «Песнь ткачей»33 — так чувствуется здесь уже
понимание характера товарного производства с его законами и
последствиями, вытекающими из них, для тех, кто своими
руками создает товары:
Как я наивна! Без сомненья,
надежды нет на избавленье!
Темницы этой дверь крепка,
удел наш—вечно ткать шелка.
До самой смерти будем нищи,
и не видать нам сытной пищи,
одежды целой не добыть,
чтоб наготу свою прикрыть.
Терзает голод нас всегда,
хлеб черствый — вот и вся еда:
ломоть лишь утром, а в обед
частенько даже хлеба нет!
Весь день спины не разгибаем,
но на гроши, что получаем,
нельзя ни мяса, ни холста
купить. Не жизнь, а маята!
Ну, посудите... в самом деле:
имея двадцать су в неделю,
мы пребываем в нищете,
зато как богатеют те,
те, для кого мы допоздна
работаем, не зная сна!
Тот, кто за нами надзирает,
четвертовать нас угрожает,
коль вздумаем мы отдохнуть,
он даже не дает вздохнуть...
Удел наш — горе и злосчастье!
Но наших бед и пятой части
я вам поведать не смогла.
Я думаю, нельзя не чувствовать противоречия между эле-
ментами вымысла и реальной действительности, которое возни-
кает на этом этапе развития раннего романа. Конечно, сам
Кретьен вряд ли это ощущал; осознание такого противоречия
. S7
доступно лишь нашему современному суждению (достаточно
обратить внимание на то мастерство, с которым Кретьен сплав-
ляет воедино реальные и фантастические эпизоды). Но, как бы
то ни было, оба эти элемента сосуществуют, и метод романиста
постепенно принял характер средства, к которому прибегает че-
ловек, стремящийся правильно воспроизвести приметы окру-
жающего его мира. Ска"зочное все больше и больше приобретает
характер декорации, подсобного материала, «сырья» для по-
вествования и, по существу, отходит на второй план.
Если к описаниям нищеты и к словам, произнесенным по
этому поводу, мысленно прибавить и те реалистические мо-
менты, которые заключены у Кретьена в изображении любов-
ных конфликтов, "складывается впечатление, что перед нами
писатель, который в годы зрелости постепенно открывает воз-
можности, таящиеся в жанре романа, как он его понимает, и тем
самым прокладывает путь для современного романа. Не имеет
значения, что между романами Кретьена и нашими современ-
ными нет прямой преемственности, что должно еще пройти це-
лых три века, прежде чем возникнет новый роман, прозаиче-
ский, что его содержанием будет уже не куртуазная любовь, а
сатира, направленная против женщин, что все это относится ко
временам «Пятнадцати радостей брака» («Quinze joies du
mariage») 3\ — важно другое, то, чего Кретьену де Труа удалось
достичь. Ведь описание мастерской в «Ивене» — не единствен-
ная картина такого рода. В «Персевале», прежде чем смерть
вырвала перо из рук Кретьена, он описал городскую коммуну
(правда, с точки зрения феодальной, но в данном случае не это
важно), а также богатый торговый город на севере Франции
(тема «Персеваля» была подсказана Кретьену Филиппом Аль-
васским, графом Фландрским).
Перед героем открывается город:
Зашел в торговый он квартал;
столы банкиров и менял
блестят, монетами покрыты,
народом улицы забиты,
ремесленникор много тут,
торопится рабочий люд: **
ружейники куют мечи,
там — сукновалы, здесь — ткачи,
а золотых дел мастера
из золота и серебра
чеканят чаши, кубки... Дале
лежат иэделья из эмали,
застежки, кольца, пояса,
куда ни глянешь — чудеса!
И много в тех рядах торговых
товаров было — старых, новых:
меха, кармин, воск, перец, мыло...
88
На ум невольно приходило,
что ярмарка во граде этом
бывает и зимой, и летом.
Кретьен пристально вглядывается здесь в мир, в котором
он живет, и со все возрастающим удовольствием описывает
его, изображает и объясняет. Он выступает как человек, кото-
рый все сильнее верит в свои творческие возможности и все
больше расширяет охват изучаемой и воспроизводимой им дей-
ствительности.
22. И все же что такое роман?
В XII веке, когда среди представителей господствующего
класса возникла любовь в ее современном понимании, когда
куртуазная лирика находилась всецело под влиянием поэзии
трубадуров, когда в последней четверти этого века темы, полу-
чившие развитие в Провансе, подхватили и труверы на севере
Франции, сложился и развился невиданный прежде тип худо-
жественного произведения, своего рода эпопея, где неожиданно
главные роли выпали на долю молодых женщин. Их любовные
волнения, беспокойство, споры освещают и часто даже опреде-
ляют поведение героев, придавая ему смысл, причем иногда
свой, угодный женщинам смысл.
Ни в каких других произведениях женщины не играют такой
роли — ни в шансон де жест, ни в хрониках, ни в лирической
поэзии. Мы видим, как в поэтические произведения включается
новая для того времени действительность и как одновременно
возникает новая форма искусства.
Мы знаем, где находятся истоки этой формы — в латинских
эпических поэмах, в произведениях Вергилия, в «Фиваиде» Ста-
ция 35 и, бесспорно, в творчестве Овидия, который сыграл важ-
нейшую роль в формировании Кретьена де Труа. Кретьен сам
отмечает, что его первые произведения — переложения поэм ла-
тинского поэта, в частности его «Метаморфоз».
Итак, в творчестве клириков севера Франции слились су-
ществовавшие дотоле раздельно жанры — эпопея и любовная
поэма, и в результате этого зародился роман в его первоначаль-
ном виде. Нетрудно понять, что в век куртуазной любви твор-
чество Овидия являлось для писателей подлинным откровением.
Ведь то был поэт, который, по крайней мере на первый взгляд,
говорил в своем творчестве о том же, что волновало и запол-
няло помыслы молодых женщин и мужчин при дворах королей
и знатных сеньоров. Вдохновляться исканиями и открытиями
Овидия для выражения новой страсти было тем более есте-
ственно, что автор «Искусства любви» был одним из наиболее
89
доступных латинских авторов, чьи произведения получили ши-
рокое распространение.
В ту эпоху отмечалось, можно сказать, повальное увлечение
Овидием. Поль Ренуччи пишет: '
«Aetas ovidiana * проявляется в многочисленных подражаниях,
реминисценциях и заимствованиях, в составлениях антологий,
сборников любовной лирики, в наставлениях по куртуазии, ко-
торые берут начало в «Метаморфозах» (Альфонс Мудрый
называл несколько позднее эту книгу Овидия «Библией языч-
ников»), в «Фастах» (названных впоследствии «Мартироло-
гом»), в «Любовных элегиях»< в «Средствах от любви», в
«Искусстве любви» и «Героидах». У Овидия заимствуют сю-
жеты, персонажей, образцы для стихотворных повествований,
у него берут уроки изящества, учатся наблюдать и описывать
психологию чувства: авторы поэтических произведений и
трактатов о куртуазии обязаны ему не меньше, чем авторы ро-
манов. - .
Всюду, даже в провансальской поэзии^ как правило, не под-
падавшей под влияние античных авторов, можно встретить мо-
тивы, заимствованные из «Метаморфоз»; нечего и говорить, что
романы «античного» цикла изобилуют ими; истории Пирама и
Тисбы, Нарцисса, Филомелы легли в основу длинных стихо-
творных новелл. Те, кто не заимствует у Овидия сюжеты,
учатся у него искусству писать; не один поэт набил себе руку,
подражая Овидию или переводя его произведения. Авторы
того времени не только находят в его творчестве источник вдох-
новения, но и учатся тому, как лучше изложить галантную исто-
рию, как раскрыть сердечную тайну; Фараль с полным основа-
нием писал: «Таким образом, в основе становления жанра ро-
мана, жанра весьма своеобразного (я имею в виду также и
бретонский цикл романов, который обязан Бретани разве только
некоторыми сюжетными мотивами), мы обнаруживаем подра-
жание латинскому классику». У Овидия . наставники поэтиче-
ского искусства в XII веке черпают материал для преподавания:
технику построения сюжета, искусство диалога, умение отбирать
образы, стилистические приемы. К Овидию обращаются и такие
авторы трактатов о галантности, мастера анализа любви, как
Андре Капеллан. На протяжении целого века и более Овидий
владел умами сочинителей, переводчиков, аристократов и авто-
ров трактатов о морали, умами людей светских и церковни-
ков» **.
Можно ли объяснить такую популярность Овидия лишь
склонностью в то время ко всему сказочному? Если вниматель-
* «Век Овидия» (лат.). — Прим. перев.
** P. Renuccî, L'Aventur de l'humanisme européen au Moyen âge, 1954.
90
но разобраться в том, как использовано наследие Овидия в ро-
манах и в творчестве трубадуров, или хотя бы просто припом-
нить произведения, вдохновленные им, то на этот вопрос при-
дется ответить отрицательно. Сказочный материал авторы
XII века чаще всего заимствовали из других источников. Зато
все, что касалось любви, было прямым подражанием латинскому
автору *.
Однако мы видели, что из слияния эпопеи и поэтического
любовного рассказа возникло нечто новое, не похожее уже ни
на то, ни на другое. Этот новый жанр изгоняет из литературы
богов и трагизм, присущий античному эпосу, сказочность и
фантастичность, характерные* для произведений Овидия, и
вместо всего этого начинает изображать реальную жизнь фео-
дального общества, характерную для куртуазной среды; нако-
нец, в последних романах Кретьена де Труа намечается от-
четливое стремление описывать и повседневную действитель-
ность.
Сначала авторы наших средневековых романов, искавшие
образцы для подражания, нашли нужную им форму в античных
произведениях, которые в свое время служили для изображения
явлений действительности, более или менее похожих на те, ка-
кие новые авторы испытывали потребность изображать; вот
почему, не боясь. впасть в грубую ошибку, можно предполо-
; \
* Тексты Овидия, впрочем, служат поводом для самых различных
недоразумений в этой области. Вот, например, отрывок из его «Любовных
элегий»:
Vir tuus est epulae nobis aditurus easdem:
Ultima cena tuo sit, precor, illa viro!
Ergo digo dilectam tantum conviva puellam
Aspiciam? tangi quem juvet, alter eriti*
Alteriusque sinus apte subjecta fovebfs?
Injiciet collo, cum volet, ille manum?
что в переводе звучит приблизительно так: «Муж твой зван на тот же
обед, что и я; о, как бы я желал, чтобы то была последняя трапеза в его
жизни! Итак, любовь моя, мне, как обычному гостю, придется ограничить-
ся лишь тем, чтобы смотреть на тебя, в то время как счастье прикасаться
к тебе*будет уделом другого? И ты станешь согревать его тело, тесно при-
жимаясь к нему? И он сможет, когда захочет, обнимать тебя?»
На самом деле здесь идет речь не о замужней женщине, матроне (Ови-
дий всегда подчеркивал, что он уважает достоинство матрон), но о жен-
щине, находящейся на содержании, и «муж» («vir») — в действительности
ее покровитель.
Однако идентичность терминов для обозначения любви вне брака и
любви супружеской могла привести к путанице при попытке переосмысле-
ния, особенно в XII веке, когда не очень-то заботились о соблюдении точ-
ности в историческом плане. Таким образом, в ту * пору Овидия нередко
воспринимали не так, как воспринимаем мы, а каким он кажется при по-
верхностном чтении — великим певцом любовной страсти в современном
ее понимании.
91
жить, что их обращение к античности было более или менее со-
знательным. Но в то же время у них возникала и другая по-
требность— быть как можно более точными и ясными в пове-
ствовании.
Я полагаю, что это можно показать на примере использова-
ния восьмисложного стиха. Вот что говорит Жорж Лот в своей
истории французского стихосложения о происхождении этого
стихотворного размера:
«Восьмисложный стих — просто привнесенный в романский
язык латинский ямбический диметр, это первый по времени наш
стихотворный размер; он появляется в строфах «Страстей» и
«Жития святого Леогардия» в конце X века, когда мир был ох-
вачен ужасом в связи с приближением тысячного года («...ибо
светопреставление уже недалеко», говорится в «Страстях»), За-
тем он встречается в духовных поэмах: в написанной на прова«-
сальском языке в начале XII века «Песни святой веры Ажена»
и в сочиненном между 1121 и 1125 годами «Плавании святого
Брендана». Он кажется недостаточно полнозвучным для эпи-
ческих произведений, и действительно, среди шансон де жест
один лишь «Фрагмент поэмы об Александре» и поэма «Гормон
и Изембар» являют нам пример использования этой стихотвор-
ной формы. Зато восьмисложный стих получает блестящее при-
менение в куртуазных романах, особенно у Кретьена де Труа,
а также в романах античного цикла — в «Романе о Фивах»
(около 1155—1160), в «Романе об Энее» (около 1160 —
1165), в «Романе о Трое» Бенуа де Сент-Мора (около
1170). Мария Французская пользуется им для своих лэ,
его считают пригодным также и для исторических хроник в сти-
хах; Гемар (между 1147 и 1151) пользуется им при написании
своей «Истории англичан» («Histoire des Englés»), его примеру
следует и Вас в своих произведениях «Жеста о бретонцах» («La
Geste des Bretons») или «Брут» (около 1157 года) и «Жеста
о нормандцах» или «Роман о Роллоне» («La Geste des Normands»,
между 1160 и 1174 годами). Прибегают к нему и авторы дидак-
тических произведений в стихах, так, Этьен де Фужер пишет
восьмисложным размером «Книгу правил поведения»; позднее
размер этот с успехом применяется в «Романе о Розе» («Ro-
man de la Rose»). Охотно используют восьмисложный стих и
лирические поэты. Он становится, за некоторыми немногочис-
ленными исключениями, излюбленным размером фаблио. На-
конец, этим размером пишут и драматические произведения, что
видно на примере «Игры об Адаме», восходящей к середине
XII века, и по нескольким отрывкам из «Игры о святом Нико-
лае». Таким образом, с самого своего возникновения этот сти-
хотворный размер становится универсальным, удобным для.
92
использования в самых различных случаях и для самых различ-
ных жанров. В XIV веке восьмисложный размер наиболее рас-
пространен: он встречается в произведениях Машо36, Фруас-
сара37, Э. Дешана 38 и во многих поэмах со строгой строфиче-
ской формой».
Больше всего поражает в этом перечне то, что, оказывается,
еще до появления романов восьмисложный стих уже употреб-
ляется для написания исторических повествований; он был до
такой степени распространен, что Вас в своем «Романе о Рол-
лоне» (в данном случае это название следует понимать так:
«История о Роллоне, рассказанная на романском языке») сна-
чала пользуется александрийским стихом, но, написав первые
четыре тысячи стихов, оставляет этот размер и пишет осталь-
ные двенадцать тысяч стихов восьмисложным размером. К нему
же неизменно прибегали авторы всех дидактических произведе-
ний, его позднее избрал и Жан де Мэн 39, чтобы изложить свою
концепцию мира.
Добавим к этому, что в ту пору, когда еще не существовало
французской прозы, восьмисложный стих заменял ее, точнее
говоря, служил для тех целей, какие позднее выполняла проза:
я имею в виду прежде всего исторические хроники. Это не зна-
чит, что восьмисложный размер был суррогатом прозы: почи-
тайте Кретьена де Труа, и вы убедитесь, что он большой поэт.
Он, как говорил один из современников, слагая стихи, «черпал
пригоршнями в прекрасном французском языке» («versoit le
bel français trestot a plain»); между прочим, сама мысль о не-
совместимости поэзии с реалистическим повествованием воз-
никла в наше время и продиктована интересами буржуазии в
период ее упадка. Творчество Кретьена де Труа — замечатель-
ное доказательство ложности этого утверждения.
Итак, средство поэтического выражения было создано, оно
возникло из подражания античным поэмам и стало служить вос-
певанию любви.
А затем как будто автора окрылила чудесная машина, им
самим же сооруженная, и тогда возникли Эрек, Энида, Лан-
селот, Ивен, Персеваль. Мы уже знаем, куда они нас ведут:
мало-помалу действительный мир того времени начинает высту-
пать из тумана, открывается нашему1-взору. Стоит, как это де-
лает Гюстав Коэн в своей прекрасной книге, шаг за шагом
следовать за Кретьеном, переходить от одного описания к дру-
гому, чтобы убедиться, что средневековый поэт полагал свою
гордость в том, чтобы на свой лад рассказать о жизни, о людях
и о вещах, которые его окружали. Первым в нашей литературе
он сумел тщательно, как художник-миниатюрист, нарисовать
целую галерею портретов, описать животных и замки, прелесть
93
ночи и красоту весны, создать прекраснейшие образы; описан*
ный им
Cerf chacié qui de eoif alainne
навсегда остается в памяти, так же и те любовные сцены,
которые Кретьен умел передавать, как никто другой.
А как великолепно звучат строки:
аз espees notent un lai
sor les hiaumes qui retantiesent.
«Удары шпаг о шлемы звучали, как стихи поэмы».
Человек, который так тщательно воссоздает жизнь и пыт-
ливо изучает ее во всех доступных для него проявлениях, про-
тивоположен мистику, которому вещи всегда кажутся не та-
кими, какими они представляются при непосредственном на-
блюдении. Кретьен преисполнен человеческой гордости за
искусных творцов соборов, которые начали воздвигать в те
годы, он и пишет свои произведения для того, чтобы вос-
славить силу человека, воспеть доблесть и мужество, укра-
шающие жизнь, любовь, возвеличивающую и мужчину, и жен-
щину.
И, хотя борьба, которую он ведет, непосредственно развер-
тывается в мире воображаемом, созданном им самим, мир этот
связан с реальностью не менее тесно, чем были связаны с ним
фаблио или «Роман о Ренаре», первые ветви которого Пьер
де Сен-Клу40 создавал в те же годы, когда Кретьен — «Ивена»
и «Персеваля».
Даже те места в его произведениях, которые сегодня нас
особенно шокируют (и, я бы сказал, эти места прежде всего),
уходят корнями в феодальную действительность. Когда в
«Ивене» Лодина сочетается браком с убийцей своего мужа, она
делает это для того, чтобы Ивен мог выполнить свои обяза-
тельства сеньора. Неважно, что здесь эти обязательства носят
вымышленный, сказочный характер; реальна ситуация, в кото-
рой находится Лодина; история дает нам немало примеров,
когда вдовы погибших феодалов поступали, подобно ей. Ивен
пришелся по сердцу Лодине, и Кретьен восхваляет доблесть ры-
царя, завоевывающую сердце вдовы противника, сраженного им
в честном бою.
Говорить, как это делает Гюстав Коэн, в связи с разбором
творчества Кретьена о Бальзаке, показывая при этом все, что
совершенно естественно их разделяет, в чем они противоположны,
вовсе не бессмысленно, ибо тем самым можно подчеркнуть то,
что было реалистического в творчестве автора «Ивена».
94
Остановимся еще на одном моменте, позволяющем говорить
одновременно о сходстве и о различии между этими писателями:
это в связи с описанием городской коммуны у Кретьена. В опи-
сании много реальных черт, и оно заканчивается саркастической
шуткой: рыцарь защищается от горожан, которые пытаются его
отколотить, пользуясь при этом вместо щита шахматной доской.
«Недальновидная насмешка человека подчиненного над аристо-
кратом»,— верно замечает по этому поводу Гюстав Коэн. Од-
нако это описание вступает в противоречие с политической на-
правленностью этой нереалистической развязки романа. У Баль-
зака же корректировка действительности с политической точки
зрения не проникает в художественную ткань романа, не мо-
жет быть осуществлена в рамках романа. Недаром же между
этими двумя писателями дистанция в семь веков, и удивительно
не то, что Кретьен чего-то не преодолел, а то, сколь многого он
достиг.
Как я уже говорил выше, в творчестве Кретьена роман в его
первоначальной форме достиг своей вершины. Он быстро при-
шел в упадок. Жан Ренар 41, представитель следующего поколе-
ния романистов, еще больше оттеснил на задний план сказоч-
ные элементы, но вместе с тем он уже и не воспроизводил в
своем творчестве существенных сторон реального мира. На пер-
вый взгляд он может показаться писателем более реалистиче-
ским, чем Кретьен, однако он лишь поверхностно показывал
жизнь. Если Кретьен велик, то Ренар всего лишь приятен, если
КретЬен может быть назван романистом, то Ренар всего лишь
сочинитель романов.
Ознакомление с эволюцией, которую пережил наш средне-
вековый роман, помогает лучше уловить своеобразие первых об-
разцов этого жанра и понять, к чему привело писателя стремле-
ние выразить свое понимание мира. Художественные побуждения
Кретьена привели его к тому, что он начал творчески воссозда-
вать в романах жизнь своих собратьев—• современников. Правда,
впоследствии стало ясно, что способность писателя достичь этих
целей была ограниченной, в какой-то степени даже иллюзорной,
ибо он не придавал должного значения узам социального по-
рабощения. Вскоре движение к реализму и вообще оказалось
невозможным. Это произошло, когда господствующий класс
феодального общества оказался вынужденным защищаться про-
тив нового класса, который заявил о себе уже в городских ком-
мунах, и когда рост влияния церкви и усиление борьбы короля
за упрочение своего могущества развеяли иллюзии и строго
ограничили возможность выявления индивидуальных устремле-
ний. Здесь мы вступаем в область истории, которая еще очень
слабо исследована; впрочем, достаточно вспомнить известные
факты, которые свидетельствуют об исчезновении романа из
95
нашей литературы на целых три столетия, по крайней мере в том
виде, какой он имел у Кретьена. Он возродился лишь на закате
феодализма, и в нем нашел свое выражение критический взгляд
на мир представителей того класса, который во времена «Персе-
валя» создавал первые города-коммуны.
Ничто не может быть завоевано раз и навсегда — любовь,
мир, тем более счастье. Добавим к этому: также и открытия,
совершенные обществом, и достигнутый им прогресс. Но важно
помнить, что зато и ночь никогда не восторжествует оконча-
тельно над людьми, которые борются. Этот урок, извлекаемый
из изучения той эпохи нашей национальной истории, когда за-
рождался французский роман, помогает нам лучше понять, куда
мы можем прийти.
Таким образом, уроки национальной истории позволяют нам
утверждать, что судьба у людей лишь та, которую они создают
для себя сами.
Эта судьба и составляет основу содержания романа.
II. К ПЯТИСОТЛЕТИЮ АНТУАНА ДЕ ЛА САЛЯ,
ОСНОВОПОЛОЖНИКА СОВРЕМЕННОГО РОМАНА
акты таковы:
Шестого марта 1456 года,
через три года после взя-
тия турками Константинополя, или через три года по окончании
Столетней войны, — в зависимости от того, что считать началом
периода, названного в наших учебниках истории Новым време-
нем, — можно исходить из первого из этих событий, из второго
или же из того и другого вместе; во всяком случае, спустя два-
дцать лет после первых опытов Гутенберга, в пору появления
первой печатной книги и приблизительно за пятнадцать лет до
попыток книгопечатания во Франции, Антуан де Ла Саль допи-
сывал последние строки своей книги, названной им «Маленький
Жан де Сентре» («Le Petit Jehan de Saintré»).
Возможно, автором он был еще молодым, но по годам — ста-
риком: ему исполнилось уже шестьдесят восемь лет. Сорок пять
лет Антуан де Ла Саль был тесно связан с владетельным домом
д'Анжу, а в описываемое время ведал воспитанием трех сыновей
Людовика Люксембургского, графа де Сен-Поль и де Линьи, ко-
торый только недавно помог изгнать англичан из Нормандии и
который в 1465 году стал коннетаблем Франции, затем изменил
королю, способствуя Карлу Смелому, вел двойную и даже трой-
ную игру, пока не попал в руки Людовика XI, приказавшего
в 1475 году обезглавить его.
Мы не знаем, каковы были намерения Антуана де Ла Саля,
когда он сочинял эту книгу. Рассматривал ли он ее в виде сочи-
нения «ad usum Delphini» *, подобно тому как два века спустя
Фенелон своего «Телемака»? 1 Незадолго до этого Антуан де Ла
«Для дофина» (лаг.). — Прим. перев.
7 П. Деке
97
Саль закончил трактат о морали под любопытным названием
«Зал» («La Salle») (тут нет каламбура *, речь идет о «Зале» —
аллегорическом здании Морали), и начальные страницы «Ма-
ленького Жана де Сентре» могут показаться иллюстрацией к
этому трактату; однако конец книги противоречит такому впеча-
тлению. Хотел ли Ла Саль попросту написать произведение более
развернутое, чем «Сто новых новелл», которые, возможно, так-
же принадлежат его перу? Тридцать самых важных страниц его
новой книги позволяют так думать. И действительно, наш автор
написал историю юного пажа, маленького Жана де Сентре, и
прекрасной, весьма знатной дамы, которая находит его до-
стойным любви, щедро ссужает деньгами и добивается того,
что он становится великолепным во всех отношениях рыцарем;
прочитав три четверти книги, мы приходим к выводу, что пе-
ред нами руководство на тему «Что такое совершенный рыцарь
и как им стать». Но достаточно еще сорока страниц, и это впе-
чатление рушится. Весьма богатая и знатная дама уезжает в
свое поместье, знакомится там с неким аббатом, молодым креп-
ким детиной, сыном буржуа, большим любителем повеселиться
и вкусно поесть, и в его обществе совершенно забывает своего
верного возлюбленного. Больше того, она его высмеивает. Жан
де Сентре, лучший рыцарь во всей Европе, посрамлен и побе-
жден в единоборстве здоровяком аббатом, и с ним вместе ока-
зались посрамленными и все принципы куртуазной любви. Мало
того, Жан де Сентре не имеет другой возможности отомстить,
как отказавшись от всего дотоле служившего ему идеалом, — он
мстит своей возлюбленной так, как обычно это делает обману-
тый буржуа. х
За сто пятьдесят лет до «Дон Кихота» Антуан де Ла Саль
положил начало современному роману.
/. «История и забавная хроника маленького
Жана де Сентре и юной дамы де Белль Кузин»
Я привожу название книги полностью, чтобы было понятнее,
как ее создатель, сегодня мы скажем — автор, рассматривал свое
произведение. Нет, Антуан де Ла Саль не поможет нам отве-
тить на вопросы, которые ставит в наши дни, к примеру, Мар-
сель Арлан2: «Я никак не возьму в толк, что здесь имеют
в виду, говоря о «современном романе»? Если, скажем, вести
речь о «Принцессе Клевской» 3 и искать, что ей предшествовало
в средневековой литературе, то это будут, пожалуй, куртуазные
* В созвучии названия трактата с именем романьста La Sale. — Прим.
ne рев.
98
романы. Если признаками современного романа считать остро-
умие, юмор, иронию, то песнь-сказка об «Окассене и Николет»
появилась раньше «Маленького Жана». Может быть, рассмат-
ривать его как, плутовской роман? Произведение Ла Саля не
особенно богато приключениями и бытовыми картинами. Не-
сомненно, в нем можно отметить определенную эволюцию
характеров; в нем, если угодно, можно найти в некотором
роде и воспитание чувств; к его достоинствам относится
склонность к реалистическому изображению внешности персо-
нажей и фона, на котором развертывается действие, а так-
же связи между ними. Но достаточно ли этого, чтобы книгу
можно было расценить кац роман в современном понимании
слова? По правде говоря, она с трудом может быть названа
романом...»
За три века до этого, во времена «Энея» и молодости Кре-
тьена де Труа, слово «роман» еще употреблялось в двух значе-
ниях. Прежде всего для обозначения французской речи, а также
тех произведений, где действительность воссоздавалась, гДе
о ней повествовали и где ее воспевали на французском языке.
При Антуане де Ла Сале игра слов уже потеряла свой смысл.
Но как же все-таки обстояло дело с романом?
Говоря об игре слов, я отлично понимаю, что придаю этому
выражению известный оттенок иронии. Быть может, причиной
тому — некая стеснительность, ибо искусство романиста близко
моему сердцу; ибо для этого жанра, использующего средства
логического языка, игра слов — демон, все время подстерегаю-
щий творца, чтобы отвлечь его от поставленной им перед собой
задачи. Вот мир, как таковой, а вот слова, язык; в силу какого
соответствия слова и предмета, о котором вы говорите, из описа-
ния рождается картина природы и, что особенно важно, пейзаж,
человек, которого вы хотите изобразить, становится живым для
читателей, настолько реальным, что в него верят, его оплаки-
вают и радуются за него? Тут уже нет ни пения с его воздей-
ствием, ни очарования красок, нет жонглера и вообще никого,
кто бы помог лучше донести слова до слушателя, — лишь про-
заический текст, сперва рукопись, а позднее — книга, набран-
ная типографскими знаками. Странная и удивительная вещь то
глубокое доверие, которое романист должен питать к тем, кому
он адресует свое произведение. Он не в состоянии немедленно
учитывать их реакцию. Если он даже иногда читает вслух ка-
кой-нибудь отрывок из книги перед аудиторией, то он пони-
мает, что это — лишь утешительный самообман. Ведь о книге
будут судить не по этому отрывку, а по всему ее содержанию,
и, если автор не достигает своей цели, роман перестает жить для
читателя с того самого места, на котором читатель остановился.
Роман никакими средствами нельзя «навязать» читателю.
7*
99
Процесс чтения — прежде всего форма общения между автором
и читателем. И только в силу этого взаимодействия роман обре-
тает жизнь.
Первоначально роман представляется такой формой искус-
ства, которая основана на множестве таинственных явлений,
включая сюда сложные и зачастую с трудом поддающиеся опре-
делению взаимосвязи. Однако история развития романа опровер-
гает такого рода подход, и это происходит постоянно и на-
глядно, как это имеет место еще только в области портретной
живописи.
Роман — вовсе не средство мистического познания мира,
напротив, он всегда и неизменно был связан с верой в силу
человеческого разума, в то, что мир объясним, что люди разум-
ны и что законы, управляющие природой и обществом, позна-
ваемы. Роман — это, конечно, «пари» 4, но «пари» глубоко гума-
нистическое, свидетельствующее о вере в могущество и разум
людей и о вере в то, что мы можем преобразовать и мир, и
людей, чтобы еще больше увеличить власть человека над при-
родой.
Создать роман, как и всякое произведение искусства, — про-
цесс сложный и не лишенный драматизма. Это средство худо-
жественного выражения, на первый взгляд столь абстрактное
по форме, требует от автора если не материалистической, то по
крайней мере рационалистической концепции мира. С того вре-
мени, как романисты начали задаваться вопросом о природе их
искусства, с тех пор как начали осознавать оригинальность
этого жанра, известно немало писателей, которые зачастую
вразрез со своими собственными намерениями вступали на путь
революционной по своей направленности критики, обличали
всякого рода запреты — социальные, политические, религиоз-
ные, возбуждали споры по важнейшим вопросам. Споры в своем
собственном сознании и в сознании других.
Лет двадцать назад Арагон, исследуя вопрос об источниках
французского реализма в области портрета, писал: «Человек,
стремящийся выразить себя, обладающий способностью к само-
выражению, ощущающий потребность в нем, потребность весь-
ма высокую, я бы сказал жизненную, человек, верящий в на-
значение художника, каким бы оно ни представлялось в зависи-
мости от страны и общественного строя, достигает способности
к выражению, которая, быть может, позволит ему навеки
сохраниться в памяти людей, лишь в своего рода эпической
схватке с мертвой, лишенной способности выразить себя мате-
рией, в схватке со всем, что мешает ему выразить то, что он хо-
чет. Эту битву он ведет не только против различных социальных
пут и помех — невежества, непонимания, повседневных нужд,
предрассудков и тому подобное, — но также и против себя са-
100
мого, против всего отсталого, что в нем есть, против всего,
что в нем самом мешает художественному творчеству не меньше,
чем внешние препятствия. Художественное произведение — это
результат борьбы противоречивых элементов, порождаемых в
сознании человека влиянием внешнего мира и общества, борьбы
противоречий в самом человеке» 5.
Роман, его история — наглядный пример этой драмы, пере-
живаемой творцом, вступающим в борьбу с миром. Ведь рома-
нист должен всегда рисовать образ своих ближних, современ-
ников, членов общества, даже тогда, когда речь идет о Робин-
зоне Крузо, оказавшемся на необитаемом острове, вернее
сказать, особенно если речь идет о Робинзоне, ибо в этом слу-
чае речь идет обо всем мире.
Антуан де Ла Саль, живший на стыке двух миров, сумел
с достойной удивления тщательностью описать умиравший мир
и изобразить в поражающем воображение ракурсе рождавшийся
мир, который ниспровергал мир уходящий с его идеалами, за-
конами жизни и морали; он засвидетельствовал антагонизм
между феодализмом и буржуазией, описал их первые столкно-
вения и показал, что в процессе этой борьбы приверженцы ста-
рого мира вынуждены приходить к его отрицанию.
И в этом смысле «История и забавная хроника...» — роман
о Жане де Сентре, юной даме де Белль Кузин и аббате. Роман
в современном смысле этого слова.
Что же остается в таком случае от возражений Марселя
Арлана? Только следующее: ученик Антуан де Ла Саль, вы
оказались неспособны написать психологический роман, плутов-
ской роман, словом, роман, отвечающий тому представлению,
которое существует о романе у нас, людей XX века. Бедный
Антуан де Ла Саль, вам отлично удалось раскрыть конфликт,
приведший к тому, что с наступлением новых времен куртуаз-
ный роман исчез со сцены; вы сумели описать обыкновенную
земную любовь, показать силу буржуазии, которая поднялась
против изнеженного рыцарства, занимавшегося платоническими
рассуждениями на тему о любви, но позволившего уничтожить
себя отрядам простонародных лучников, представлявшихся ему
достойными презрения, в то время как укрепленные рыцарские
замки были разбиты вдребезги выстрелами не менее презрен-
ных пушкарей; вы смогли передать нам смятение, воцарившееся
из-за всего этого в головах ваших современников; вы ведь жили
в такое время, когда, по данным наших учебников истории, на-
чался этот переворот, но ваш роман, увы, не написан в совре-
менной форме.
Черт побери! Вы посылаете свою книгу в 1459 году после
рождества Христова весьма блистательному и могущественному
властителю монсеньору Жану д'Анжу, герцогу Калабрийскому
101
И' Лотарингскому, «маркизу Понтскому», вашему весьма гроз-
ному сеньору, и вы посылаете ее в форме письма, как вы
говорите, без сомнения, для того чтобы он прочел ее. А почему,
окажите на милость, скверный ученик, Антуан де Ла Саль, вы
пишете для людей своего времени?
«Маленький Жан де Сентре» — первый роман в современном
понимании и потому, что в нем рассказано о мире и реальной
действительности, и по той манере — вопрос, к которому я еще
вернусь,— с которой автор подходит к овладению этой, дей-
ствительностью и воссозданию ее в своем призведении. За ис-
ключением вышесказанного, в замечаниях Марселя Арлана со-
держится и кое-что верное. Если под современным романом по-
нимать произведение, отвечающее нашим современным вкусам, то
следует признать, что первые две трети «Маленького Жана де
Сентре» — это скучный и утомительно длинный трактат о мо-
рали, об умении жить при королевском дворе, о геральдике,
мужских модах, о правилах проведения различного рода состя-
заний и турниров; в этом трактате Антуан де Ла Саль, воспита-
тель юношей из знатных семейств, великолепный знаток дво-
рянских гербов, король блюстителей этикета, достойный храни-
тель всех традиций, предается изложению любезных его сердцу
предметов. Все это нетерпимо в романе (современном). Его
книга — сенсационный документальный репортаж о феодальной
жизни XV века, ценный для современников писателя, также
и для нас.
Надо отдать себе ясный отчет в том, чего мы хотим от Ан-
туана де Ла Саля. Жил он пятьсот лет назад. То был скверный
период. Де Ла Саль уже лишен экзотики. Он уже несколько
стародавний, для того чтобы считать его одним из наших, и
в то же время он удивительно современен и необычайно злобо-
дневен для человека его времени. Это уже писатель нашего
мира. Но сам он об этом ничего не знал. И, возможно, это
ему и не было по душе.
2. Двойная жизнь Антуана де Ла Саля
Он сам рассказывает нам, что родился около 1388 года и
впервые поступил на службу в 1402 году, то есть в возрасте
четырнадцати или пятнадцати лет. Он сделался пажом при
дворе владетельных сеньоров д'Анжу, и уже год спустя мы
встречаем его в Мессине, где Людовик д'Анжу вступает в упра-
вление королевством, доставшимся ему по наследству. Проходит
еще несколько лет, и имя Антуана де Ла Саля вносится в спи-
сок членов «суда любви», созданного в 1400 году Людовиком
Орлеанским и Филиппом Бургундским в период безумия
702
Карла VI. «Суд» этот был организован для того, чтобы раз-
влечь придворных, смертельно напуганных эпидемией чумы.
В год битвы при Азенкуре7 Ла Саль находится в Сеуте, ко-
торую Жоан I Португальский пытается отвоевать у мавров.
В 1420 году мы встречаем Ла Саля в Неаполе в составе свиты
одолеваемого в то время заботами Людовика III д'Анжу. Он
пребывает там и в 1423, и в 1425 годах. В 1429 году он стано-
вится судьей в Арле. 27 октября 1432 года Людовик III отдает
ему в пожизненное пользование замок Седерон. В 1436 году
король Рене, наследовавший Людовику III, поручает Ла Салю
воспитание своего старшего сына, герцога Жана Калабрийского.
Десять лет спустя Ла Саль заканчивает свой первый труд, «La
Salade»8, — трактат о воспитании, написанный для принца, ко-
торому предстояло стать королем Сицилии. Это происходит в
том самом году, когда король Рене окончательно лишается своих
итальянских владений.
В марте 1445 года Ла Саль присутствует на празднествах
в честь бракосочетания Маргариты Анжуйской и короля Ан-
глии. Он выступает там как ученейший эксперт по вопросам
геральдики. В апреле 1446 года он — один из четырех судей
на турнире, который устроил в Сомюре король Рене.
В 1448 году, с достижением Жаном Калабрийскйм совер-
шеннолетия, Антуан де Ла Саль переходит на службу люксем-
бургской династии как воспитатель. В ту пору он сочиняет свой
второй трактат по вопросам морали, «Зал» (нашему автору ре-
шительно нравятся заголовки такого рода), а затем и роман
«Сентре». В 1458 году Ла Саль пишет «Утешение для госпожи
Дю Фрэн» («Réconfort de Madame Du Fresne»), с тем чтобы
внушить этой молодой матери, только что потерявшей своего
первенца, смирение и мужество. В 1459 году он заканчивает
трактат «О старинных турнирах и воинских играх» («Des
anciens tournois et faitz d'armes») и аллегорическую поэму «День
Чести и Доблести» («La Journée d'Onneur et de Prouesse»),
в которой Дама Честь и Дама Доблесть обмениваются велико-
лепными рассуждениями в обществе Умения Вести Себя, Хо-
рошей Репутации, Благородства, Красоты, Истинного Жела-
ния, Прилежания и уж не помню кого еще... В конце весны
1461 года он пишет на одном из экземпляров своего трактата
«Зал» посвящение герцогу Бургундскому, и это — последнее
письменное свидетельство о жизни Антуана де Ла Саля, Ко-
торым мы располагаем. В то время ему было, по-видимому,
семьдесят четыре года.
Такова жизнь Антуана де Ла Саля, человека Средних ве-
ков. Таким его рисуют исторические документы* которыми мы
располагаем.
Но к этому можно добавить факты и другого порядка.
103
Антуан де Ла Саль был побочным сыном Бернара де Ла
Саля, кондотьера благородного происхождения, который служил
Франции и затем Англии, вызывал восхищение Фруассара, по-
тому что был «сильным*и ловким воином, карабкавшимся по
лестнице на крепостные стены, как кошка», то есть Бернар де
Ла Саль умело, с применением тогдашних технических средств
осаждал и брал приступом укрепленные города. Нанятый на
службу папой Григорием IX, он сыграл важную роль в избра-
нии Клемента VII, — который положил начало великому расколу
Западной церкви, — изменив папе Урбану VI, приближенным ко-
торого он был. Клемент VII и помог Бернару де Ла Салю уста-
новить связи с владетельным домом д'Анжу. Защищая ин-
тересы Клемента VII и династии д'Анжу, Бернар содержал свои
войска на итальянской земле весьма простыми средствами, ко-
торые казались скандальными даже в ту много видавшую эпоху.
Он получил прозвище «Пень». Бернар погиб в результате ка-
кой-то стычки в 1391 году: кто-то свел с ним счеты.
Бернар де Ла Саль был гасконцем. Мать Антуана звали
Перинетта Дамандель. Предполагают, что она была из Про-
ванса. Антуан де Ла Саль сам указал дату своего рождения.
Эрудитов удивляет, что в то время, когда, надо предполагать,
былчзачат ребенок, его отца не было в Провансе; поэтому, если
считать надежным предположение о рождении Антуана де Ла
Саля в Провансе, следует думать, что его мать отлучалась из
Прованса.
Как уже говорилось, Антуан еще в отрочестве поступил на
службу в дом Анжу; тому были более веские причины, нежели
благородное происхождение его отца. Дело в том, что Бернар
одолжил большую сумму денег Марии Анжуйской. И к произ-
ведениям Антуана де Ла Саля, к тем, которые подписаны его
именем, должно подходить с неменьшим критицизмом, чем
к рыцарскому достоинству его отца. Педагогические трактаты
далеки от того, чтобы их считать только дидактикой и аполо-
гетикой.
Первый из трактатов, «La Salade», содержит, выражаясь
современным языком, примечательный репортаж о путешествии
на Липарские острова и пересказ легенды о «Рае королевы Си-
биллы», легенды, весьма напоминающей сказание о Тангейзере.
Примерно в таком же роде и трактаты «Зал» и «Утешение для
госпожи Дю Фрэн», где большое место уделено воспоминаниям
автора о том, что он сам пережил.
Антуан де Ла Саль предстает перед нами в вечной погоне
за фактами, за сильными впечатлениями, как человек, внима-
тельно присматривающийся к современникам, выслушивающий
их, наблюдающий их жизнь, собирающий их рассказы о различ-
ных вещах. Ла Салю было двенадцать лет, когда умер Фруас-
104
cap, но он постоянно обретался в Италии, где необычайным
успехом пользовался «Декамерон» Боккаччо, написанный пол-
века назад, и где все буквально бредили «Путешествиями»9
Марко Поло, написанными более века назад.
И тут-то личность Антуана де Ла Саля как бы раздваивает-
ся. Только к старости он предстает перед нами как умудренный
опытом воспитатель принца, хранитель рыцарских традиций,
приближенный нового короля Франции Людовика XI. Но ведь
когда Антуан де Ла Саль был юным, не было еще, собственно
говоря, даже и Франции. То было время Эсташа Дешана, кото-
рый оплакивал овдовевшую Францию, лишившуюся короля, ибо
Карл VI впал в безумие.
Lasse, lasse, chetive et esgarée,
Pauvre d'amis, défaillant de seigneurs,
Qui jadis fut partout si renommée,
Riche d'avoir, franche et digne d'honneur.
Serve en tout cas et presque anéantie.
Droit me défaut, sur moi règne rigueur:
Que deviendra la dolente esbahie?
Усталая, без сил и без надежды,
без истинных друзей и без вельмож,
в изнеможении смыкающая вежды, —
врагов ты раньше повергала в дрожь,
гордилась ты своим богатством, славой,
а ныне — слов от горя не найдешь...
Что будет с нашей страждущей державой?
А в Италии, где его отец почти что, можно сказать, возвел
на престол папу, где он, Бернар де Ла Саль, был самым гроз-
ным владыкой после господа бога и даже более грозным, чем
сам бог, Антуан де Ла Саль наблюдал рождение нового обще-
ства— общества побеждающей буржуазии, которую Боккаччо
учил видеть мир таким, каков он есть, и жизнь такой, какова
она на самом деле.
Любознательность Антуана де Ла Саля, его отношение
к фактам и событиям действительности сильно расходятся с его
собственными наставлениями, ибо они напоминают свойства,
присущие новому классу, который смотрит на мир широко от-
крытыми глазами.
Вот ему восемнадцать лет. Послушайте его: «И действи-
тельно, в году одна тысяча четыреста и шестом после рожде-
ния нашего господа, в двадцатый день апреля, еще до Пасхи,
я находился в городе Мессине, на острове Тринакль, каковой
именуют также островом Сицилия...» Он вбил себе в голову —
взобраться на вершину вулкана на Липарских островах, чтобы
«увидеть все, что удастся увидеть, хотя знатные господа, ка-
питан и моряки очень меня отговаривали».
105
Через тридцать шесть лет он упоминает об этом в своем
педагогическом трактате как о сумасбродстве юности, однако
подробно рассказывает историю восхождения, не опуская ни од-
ной живописной детали и получая от этого явное наслаждение.
3. О методе Антуана де Ла Саля
«Увидеть все, что удастся увидеть». Эти слова служат ему
постоянно девизом, когда он рассказывает о посещении им ка-
кого-либо места, даже тогда, и особенно тогда, когда этого де-
лать вовсе не следовало. Уже подъем на вулкан Стромболи не
был отдыхом и увеселительной прогулкой, но тогда Антуан де
Ла Саль рисковал лишь своей жизнью. Но в том, что касается
«Рая королевы Сибиллы», речь шла уже о его душе. Рассказы-
вали, будто в глубоком гроте неподалеку от Норчии, в Умбрии,
королева Сибилла воздвигла себе дворец и что в ее королевстве
царят наслаждение и радость, которые, если верить другой ле-
генде— сказанию о Тангейзере, — расточала Венера на своей
горе.
Антуан де Ла Саль отправляется туда, чтобы самому про-
верить, в чем дело; он подробно, с протокольной точностью
рассказывает обо всем своему юному ученику, которому посвя-
щает трактат «La Salade». «От замка, именуемого Монтемонако,
что означает «гора монаха», — повествует Ла Саль, — до вер-
шины горы, где находится грот, девять миль». Он описывает
дорогу, травы, которые собирал на пути, пейзажи, а попутно
высказывает различные суждения.
Я хотел бы привести отрывок из этого произведения, не-
много модернизируя изрядно устаревший язык де Ла Саля:
«После того как пройдешь Колино, к вершине горы можно по-
пасть двумя дорогами: одна идет направо, другая — налево.
Дорога направо значительно короче, и по ней-то я и спускался
с горы, но она весьма тяжела для подъема, ибо очень крута и
камениста и ни одна лошадь не сможет по ней подняться в го-
ру. У обочины есть два замечательных источника, вода в них
очень холодная, но, как говорят, никто еще никогда от нее не
заболел, ни люди, ни животные, пившие ее, даже если они
были при этом разгорячены. Дорога налево, по которой я под-
нимался в гору, значительно более удобна и легка, ибо она
имеет много поворотов. По ней можно ехать даже верхом на ло-
шади, хотя животное при этом сильно устает...
Когда достигаешь вершины горы, то, смею вас заверить,
хорошо, если в это время нет ветра, ибо в противном случае
человек подвергается огромной опасности; но даже в безветрен-
ную погоду тебя охватывает ужас, ибо со всех сторон видны
106
бездны, особенно справа. Бездны эти пугают своей глубиной и
отвесными стенами, так что, можете мне поверить, тот, кто бу-
дет подниматься на гору верхом, поступит неосмотрительно.
Самая верхушка горы представляет собою голый утес...
Две тропинки ведут к тому месту, где находится вход в пещеру,
и я удостоверяю, что даже более удобная из этих тропинок мо-
жет устрашить всякого... И особенно когда спускаешься по ней,
ибо; если, по несчастью, человек оступится, то никакие силы его
не спасут: если ему не придет на помощь господь, то злополуч-
ный путник разобьется вдребезги. Даже если просто посмотреть
вниз, в пугающую бездну, в сердце всякого проникнет страх.
У подножия этого утеса, именуемого венцом горы, во многих
местах видны большие скалы, которые, если бы собралось мно-
жество людей, можно было бы столкнуть вниз... Однако кое-где
встречаются и просторные площадки, поросшие травой; сюда
местные жители приходят, чтобы накосить сена; они увяэы-,
вают копны веревками и сбрасывают их вниз; на этой горе они
также пасут стада, ибо растущие здесь травы необыкновенно
сочны и высоки...
Если подняться вверх еще на двадцать пять — тридцать туа-
эов, то достигнешь входа в пещеру. Вход небольшой и по форме
напоминает щит, а потому тот, кто хочет проникнуть в него,
должен весь скорчиться и ползти на четвереньках, причем но-
гами вперед; наконец он попадает в квадратную выемку в скалах,
расположенную справа от входа.
В этой выемке, напоминающей каморку, в одной из стен вид-
неется круглая дыра; отверстие это чуть больше головы чело-
века, сквозь него проникает лишь очень слабый свет, ибо толща
горы здесь весьма значительна. Тот, кто хочет идти дальше,
должен направиться в правый угол пещеры, но ему снова при-
дется ползти ногами вперед, ибо другим способом двигаться
нельзя, до такой степени грот узок и мал, а спуск в высшей сте-
пени крут.
О других вещах и чудесах, каковые там имеются, я сказать
не могу, ибо дальше я не пошел, так как цель у меня была иная
и если бы я захотел, то мог бы это совершить, лишь подвергая
себя великой опасности...»
Я привожу это описание, чтобы показать, как ведет себя наш
автор, на каких подробностях останавливается и как озабочен
тем, чтобы ничего не упустить из виду, а рассказать ясно, пра-
вдиво обо всем, что он видел собственными глазами. Такое от-
ношение к реальной действительности непривычно ново для тех
времен. Тем более что мы имеем дело не с хроникером, а всего
лишь с путешественником, как бы мы сегодня сказали, с тури-
стом. Слов нет, с пещерой связана легенда, но Ла Саль прежде
всего спешит рассказать нам то, что ему известно о местных
707
жителях, побывавших в этой пещере, и только потом переходит
к истории некоего немецкого рыцаря, который, как рассказы-
вают, преодолел все препятствия и проник в рай королевы Си-
биллы.
Королева, рассказывает Ла Саль, заявила пришельцу:
«Благородный рыцарь, по нашим обычаям полагается, чтобы вы
и ваш оруженосец, коль скоро вы сюда проникли, оставались
здесь восемь дней, а на девятый день вы можете уйти; если же
на девятый день вы не захотите уйти, то пробудете тут три-
дцать дней... А если и на тридцатый день не уйдете, то остане-
тесь тут триста тридцать дней; а если и на тридцатый после
трехсот дней не пожелаете уйти, то обычаи дома сего требуют,
чтобы вы остались здесь навсегда».
Перед последним сроком рыцарь решает уйти. Он напра-
вляется в Рим, где просит у папы отпущения грехов, но не полу-
чает его. Более того, он узнаёт, что его собираются предать цер-
ковному суду; тогда рыцарь окончательно возвращается в рай
королевы Сибиллы.
Антуан де Ла Саль передает нам эту историю с присущей
ему тщательностью и точностью; по ходу дела он пускается в
исторические изыскания, чтобы установить, при каком папе
могло все это происходить; он переписывает все документы, ко-
торые ему удалось найти и которые ему пересказали. Он даже
приводит все надписи, обнаруженные им на стенах пещеры,
и прибавляет, что он также начертал там свое имя и девиз, «од-
нако с большим трудом, до такой степени тверды скалистые
стены». В связи с этим он замечает: «Да не прогневается гос-
подь на меня за эту надпись, я сделал ее, чтобы другие знали,
что я, Антуан де Ла Саль, побывал внутри пещеры».
Во всех произведениях Антуана де Ла Саля мы сталкиваем-
ся с тем же методом. Когда он пишет «Утешение для госпожи
Дю Фрэн», то черпает примеры для утешения ее в потере сына
из собственного опыта, из им самим пережитого.
Вот первая история, которую он нам рассказывает: некий
сеньор осажден в своем замке принцем Уэльским. Осада затя-
нулась, и сеньор вынужден вступить в переговоры о капитуля-
ции. Он дает в заложники сына и клянется сдать замок в точно
назначенный день, если до того не получит помощи.
Замок находится у моря. Одному кораблю удается про-
биться сквозь строй вражеских кораблей и подойти к крепости.
Сеньор считает себя освобожденным от данного слова, потому
что подоспела долгожданная помощь, и требует от принца Уэль-
ского, чтобы он возвратил ему сына. Однако принц отказы-
вается, считая, что противник, не получил подкрепления. Ла
Саль рассказывает нам о борьбе чувства и долга в душе оса-
жденного сеньора. Если он сдаст крепость, то опозорит себя
108
в глазах ее защитников; но ведь решается вопрос о жизни его
сына. Надо сказать, что повествование об этом событии принад-
лежит к числу самых прекрасных и волнующих. Сцена казни
мальчика, котором^ едва исполнилось тринадцать лет, достигает
высочайшего трагического напряжения. И больше всего поражает
здесь стремление Антуана де Ла Саля оставаться реалистом
в подлинном смысле этого слова: он воспроизводит поступки,
мысли, волнения тех, кого выводит на сцену, старается объяс-
нить, как и почему они пришли к тем или иным решениям. Он
относится с глубочайшим уважением к фактам, к жизненной
правде. Ведь пример, выбранный Ла Салем для своего трак-
тата, показывает, что рыцарский кодекс уже почти не приме-
няется в жизни. Этот своеобразный краткий репортаж, траги-
ческий и жестокий, как случай из современной хроники проис-
шествий, многое говорит нам о той эпохе. Отдавал ли Ла Саль
себе в этом отчет? Ничто в его повествовании на это не указы-
вает. Но он точно излагает и ярко воспроизводит ход событий,
заставляя нас остро ощущать их вопиющую жестокость. Он не
прибегает к нравоучениям, он просто приводит для примера рас-
сказ о душевной твердости отца и матери и заставляет нас раз-
мышлять над причинами, которые привели к смерти ребенка.
То новое, что внес Ла Саль, связано с его методом, противо-
речащим облику умудренного старца, связано с его стремлением
изображать жизнь такой, какова она есть, показывать то, что
в его время казалрсь необычным, что порывало с установлен-
ным порядком и вступало в конфликт с традиционными пред-
ставлениями; ему был присущ новаторский для того времени
интерес не к необычайному и чудесному, а к тому, что рожда-
лось в самой действительности.
. 4. Загадка «Ста новых новелл»
Приблизительно к 1460 году был закончен сборник ста
коротких новелл в прозе, которые почти все без исключения
трактовали вольные сюжеты, близкие к сюжетам фаблио; вместе
с тем новеллы эти свидетельствуют о сильном итальянском
влиянии, в частности «Декамерона» Боккаччо и «Фацетий»
Поджо 10. Сборник вышел в свет при дворе Бургундского герцога
в Женаппе. Долгое время его безоговорочно приписывали Ан-
туану де Ла Салю, впрочем так же как и произведение «Пят-
надцать радостей брака», написанное в те же годы.
В наши дни возобладало единодушное мнение, что Ла Саль
не имеет никакого отношения к книге «Пятнадцать радостей
брака»; что же касается вопроса об авторе «Ста новых новелл»,
он все еще остается открытым. Гюстав Коэн считает автором
109
Ла Саля, однако последний издатель «Ста новых новелл»,
Пьер Шампион, оспаривает это мнение.
Надо сказать, что биография Ла Саля не опровергает пред-
положений о его авторстве. Он проживал в Женаппев 1459 году,
именно эта дата стоит на одном из экземпляров книги «Малень-
кий Жан де Сентре». и его последнее посвящение на экземпляре
трактата «Зал» датировано первым июня 1461 года и помечено
Брюсселем; это посвящение герцогу Бургундскому.
Ни один из доводов ученых, придерживающихся противо-
положной точки зрения, не кажется достаточно убедительным.
Против того, чтобы считать Ла Саля автором сборника «Сто
новых новелл», выдвигают следующее соображение: стиль сбор-
ника значительно более живой, легкий и принизанный иронией,
чем стиль произведений де Ла Саля. Это справедливо. Но ведь
можно предположить, что наш автор, находившийся в расцвете
своего литературного таланта, дал себе волю, когда приступил
к работе в более развлекательном жанре. Ведь написали же
Маргарита Наваррская «Гептамерон» м, У Расин — «Сутяг» I2t а
Бальзак — «Озорные рассказы» l3I
Надо сказать, что в основе спора лежат моральные сообра-
жения. Жозеф Нэв пишет: «Задорное остроумие, свойственное
«Ста новым новеллам», сочетается с дерзкой распущенностью
и цинизмом, какие редко наблюдаются в литературе. Для того
чтобы предположить, будто Антуан де Ла Саль, прожив дол-
гую жизнь, наполненную весьма серьезными обязанностями, мог
на склоне лет, семидесятилетним стариком, написать подобную
книгу, надо допустить, что в его характере и образе мыслей
произошел внезапный переворот — переворот решительный и
ошеломляющий... Репутация забавного рассказчика оказала воз-
действие на представление о характере Антуана де Ла Саля;
она позволила ставить под сомнение те моральные качества, ко-
торые мы вправе предполагать в человеке, занимавшемся воспи-
танием будущих государей».
Оговоримся сразу, что если в «Ста новых новеллах» немало
непристойных историй, то многие из новелл вовсе не таковы.
Есть там и трагические, например девяносто восьмая новелла,
написанная в подражание одной латинской истории, которую,
как отметил Гюстав Коэн, ее переводчик на французский язык
Рас де Брюнамель посвятил Антуану де Ла Салю; в ней рас-
сказывается о приключениях молодого рыцаря, который увез из
дому свою возлюбленную- Юная чета подвергается нападению
четырех вилланов, которые хотят завладеть девушкой. Рыцарь
убит, а девица кончает жизнь самоубийством, чтобы избежать
насилия. Есть в сборнике и весьма жестокие по содержанию но-
веллы. Вот сюжет одной из них: некий лондонский купец вскоре
после свадьбы покидает жену и отправляется в далекое замор-*
110
ское плавание. Через пять лет он возвращается, но затем уез-
жает снова и отсутствует еще десять лет. Жена цупца, как гово-
рит автор, находит ему заместителя и с его помощью произво-
дит на свет сына. Возвратившийся купец обнаруживает дома
семилетнего мальчика и требует от жены объяснений. Та объяс-
няет: «Как-то зимой мне очень захотелось щавеля, и я съела
листок, покрытый инеем...» Купец делает вид, будто поверил
рассказу жены; вскоре он вновь отправляется в далекое плава-
ние и увозит с собой ребенка. Возвращается он уже без маль-
чика и в ответ на расспросы жены говорит: «Я допустил боль-
шую ошибку, взяв его с собой в жаркие страны, ведь он родился
от листка щавеля, покрытого инеем, и на моих глазах растаял
на солнце». На самом деле купец продал ребенка в рабство, вы-
ручив за него крупную сумму, сто дукатов.
Конечно же, автор «Ста новых новелл» называет вещи сво-
ими именами; это по большей части все истории о рогоносцах,
и автор испытывает потребность детально рассказывать, чем
именно занимаются наедине его герои и героини, в подробно-
стях тут недостатка нет... Я не отрицаю, что в некоторых слу-
чаях все это звучит и не очень забавно, даже грубо. Но ведь
следует иметь в виду литературные нормы того времени, а вся
тогдашняя «городская» литература отличалась в описании ин-
тимнейших отношений между мужчиной и женщиной исключи-
тельной точностью, представляющейся нам теперь излишней.
Если же сравнить «Сто новых новелл» с «Романом о Ренаре»,
с фаблио или с «Пятнадцатью радостями брака», то автор сбор-
ника представляется куда боЛее деликатным и сдержанным, чем
авторы названных произведений. Остается поэтому лишь по-
следний довод: ни вводном другом произведении Антуана де Ла
Саля мы не встречаем подобного рода вольностей.
Мне это, однако, не кажется веским доводом. Нам известны
лишь дидактические труды Антуана де Ла Саля и его роман
«Маленький Жан де Сентре», который не является ни сказкой,
ни фаблио, ни новеллой. Можно с полным основанием допу-
стить, что автор серьезных по тону произведений, создавая
кнчгу иного жанра, меняет вместе с тем и манеру изложения.
Остроумие такого сорта в серьезных трактатах было бы столь
же неуместно, как и серьезный назидательный тон в игривых
новеллах той эпохи.
Истинное родство между «Ста новыми новеллами» и произ-
ведениями Антуана де Ла Саля совсем иного характера, и оно
заключается в весьма существенной черте: всем им свойствен
вкус к реальному, забота о достоверности повествования, объек-
тивное отношение к фактам. Подражательный элемент в «Ста
новых новеллах» объясняется итальянским влиянием, а это, как
мы видели, отнюдь не противоречит возможному авторству Ла
11)
Саля, а, напротив, скорее подтверждает его. Все остальное, с
чем мы встречаемся в новеллах, — это традиционные кар-
тины нравов, можно сказать «куски жизни», а с этим мы уже
сталкивались в дидактических трактатах Ла Саля. Все эти про-
изведения отмечены объективным взглядом на жизнь, какой был
свойствен, например, Боккаччо.
К этому следует добавить одно замечание, относящееся к об-
ласти художественной формы. С этой точки зрения «Маленький
Жан де Сентре» лишь условно может быть отнесен к жанру ро-
мана. Ла Саль время от времени предоставляет слово главным
персонажам, причем так, как это делается в драматических про-
изведениях: повествование обрывается, ставится имя действую-
щего лица, а затем приводятся его слова. Для сохранения связи
в повествовании автор затем сам выходит на авансцену. Он пи-
шет: «Автор», а затем следует авторская речь. Так вот, в «Ста
новых новеллах», которые обычно приписывают различным вы-
сокопоставленным лицам Бургундского двора, часть новелл, при-
мерно пятнадцать, рассказывается от лица автора.
Я не утверждаю, что это решающий довод, не говорю, что
аналогичных примеров в литературе того времени не было, но
интересно, что каждый раз такого рода прямое вторжение ав-
тора в действие романа или новеллы вытекает из желания сде-
лать повествование более правдивым, правдоподобным. И мне
думается, что манера эта весьма знаменательна. В конечном сче-
те не имеет особенного значения, принадлежат ли «Сто новых
новелл» и «Маленький Жан де Сентре» одному и тому же ав-
тору. Но у обоих произведений есть общая черта: это — книги
реалистические, они свидетельствуют о новом подходе их ав-
тора (или авторов) к миру и к вещам. «Увидеть все, что удастся
увидеть», и рассказать о мире, обо всем, что в нем видишь!
А различие между этими книгами в следующем: в новеллах
воплощена буржуазная точка зрения на мир, а в романе кур-
туазный идеал сопоставлялся с реальной действительностью, и,
таким образом, автор поднимается и над буржуазным, и над
куртуазным взглядом на жизнь.
Заметим, кстати, что тон и манера «Маленького Жана де
Сентре» не так уж отличны от тона и манеры «Ста новых но-
велл», как это принято утверждать. Приведу в доказательство
заголовок шестьдесят четвертой главы романа:
«Как Сентре просил короля, чтобы тот после благополучного
прибытия лег почивать вместе с королевой, что король и обе-
щал ему; и как королева очень смеялась над Жаном и спраши-
вала его, почему он высказал такую просьбу. И, наконец, о том,
как в полночь он отправился побеседовать тайком со своей да-
мой, которая -оказала ему наилучший прием, причем не обошлось
без поцелуев и объятий».
112
Действительно, если что и отличает роман от новелл (мы
имеем в виду манеру изложения), то лишь одно обстоятельство:
«наилучший прием», который оказала Сентре его дама, в под-
робностях не описан. Но разве это самое главное?
5. Гибель куртуазной любви
Из восьмидесяти шести глав, составляющих книгу «Малень-
кий Жан де Сентре», шестьдесят восемь представляют собой ры-
царский роман в том смысле, какой мог иметь этот термин в
XV веке. Рассказывается о воспитании рыцаря его дамой, о
подвигах, которые он совершает для нее, описываются турниры,
одержанные им победы и различные благородные поступки ры-
царя. Величие книги, как я уже говорил, составляет тот резкий
разрыв с традицией, который имеет место в шестьдесят девятой
главе. Дама де Белль Кузин уезжает в свое поместье, чтобы по-
править здоровье. Там она себя чувствует очень хорошо, зна-
комится с неким аббатом, который приходится ей по вкусу.
Именно тут и происходит широко известная сцена «очной став-
ки» между аббатом и Сентре. Аббат и молодой рыцарь вместе
приглашены на ужин дамой де Белль Кузин. Аббат восседает
за столом на самом почетном месте.
«И, когда они почувствовали в желудках приятную тяжесть,
языки их развязались, и тогда наш аббат стряхнул с себя сон-
ливость и сказал так:
— Эге, монсеньор де Сентре, пробудитесь же, пробудитесь!
Я пью за вас, и что же получается? Вы погружены в глубокое
раздумье.
И тогда сеньор де Сентре сказал ему:
— Монсеньор аббат, я так занят сражением с прекрасным
жарким и добрыми винами, стоящими передо мной, что у меня
ни на что больше не остается времени.
— Монсеньор де Сентре, — сказал аббат, — знаете, я много
раз лумал о том, что все вы, люди благородного звания, всякие
там рыцари и оруженосцы, не выпускающие оружия из рук,
нередко отправляетесь в походы и, возвращаясь домой, утвер-
ждаете, будто победили веех противников.
При этих словах он повернулся к даме и спросил у нее:
— Любезная дама, разве это. не так?
— По правде говоря, аббат, — отвечала дама, — вы сказали
истину. А что вы по этому поводу думаете, любезный сир? Вы-
скажите ваше мнение.
— Любезная дама, — снова заговорил аббат, — если будет
на то ваше соизволение и желание, я могу ответить на это, только
8 П. Деке
113
боюсь, что монсеньор де Сентре на меня рассердится. Но
коль скоро вы этого хотите, то вот моя мысль: при дворе короля
и королевы можно встретить многих рыцарей и оруженосцев,
бывают они и при дворах других знатных вельмож и дам. И вот
эти рыцари утверждают, будто они преданно любят своих дам,
и, чтобы добиться ваших милостей, ежели они их еще не доби-
лись, эти люди плачут, вздыхают, стенают в вашем присутствии
и напускают на себя такой страдальческий вид, что вы, бедные
дамы с нежными и жалостливыми сердцами, начинаете испы-
тывать к ним жалость, становитесь жертвой обмана, попадаете
в их сети и идете навстречу их желаниям. И так они переходят
от дамы к даме и нацепляют на себя как знак отличия кто подвяз-
ку, кто браслет, кто небольшой щит, а кто и просто репу — сло-
вом, что кому заблагорассудится. А затем такой рыцарь, лю-
безная дама, говорит доброму десятку красавиц: «О милая да-
ма, я ношу этот знак в доказательство моей любви к вам».
О бедные дамы, как вас обманывают влюбленные в вас рыцари,
они совершают поступки, в которых нет ни капли верности и
любви к даме. Между тем король, королева и все знатные сень-
оры осыпают их похвалами, приближают к себе и щедро награ-
ждают земными благами, а тем только того и надо. Разве я что-
нибудь не так сказал? Каково ваше мнение, любезная дама?
Дама, которой такие речи пришлись по душе, сказала аббату
с улыбкой:
— Кого вы имеете в виду, аббат? Если вы спрашиваете ме-
ня, то я полагаю, что все обстоит именно так.
При этих словах она прикоснулась ногой к ноге аббата.
— Я вам больше того скажу, любезная дама: когда эти ры-
цари и оруженосцы отправляются в дальние походы, распро-
щавшись с королем, то они, если стоит холодная погода, держат
путь в Германию, поселяются там в домах, где есть печи, и всю
зиму развлекаются с девками. А если их поход происходит в
жаркое время, то они держат путь в чудесные королевства Си*
цилии и Арагона, где так сладки вина и так вкусны блюда, где
источники прохладны, а фрукты сочны, и целое лето они прово-
дят в прекрасных садах и кормятся возле знатных и прекрасных
дам и вельмож, которые потчуют их отменными кушаньями и
воздают им почести. Потом наши рыцари находят какого-нибудь
старого менестреля или трубача, разгуливающего в живописных
лохмотьях, дарят ему что-нибудь из своего старого платья, и
тот ходит от двора ко двору, крича: «Монсеньор победил! Мон-
сеньор победил, он совершил много подвигов и прославил свое
оружие!» И вы, бедные дамы, поддаетесь обману. Право, мне
вас жаль».
Впервые во французской литературе мы сталкиваемся со
столь яростными нападками на куртуазную любовь.
114
Заметим сразу: ни один из противников ни разу не обра-*
щается в споре к моральным доводам. Если это уже не времена
Кретьена, то вместе с тем это и не эпоха «обращенного Лансе-
лота». Мы встречаемся здесь с классовой критикой в самом точ-
ном смысле этого слова, и вложена она в уста аббата, сына
. буржуа, который сразу же заявляет, что он не походит на «лю-
дей благородного происхождения».
После Кретьена французская романическая литература раз-
вивалась в двух направлениях. Первое — куртуазное, а затем и
мистическое, оно идеализировало женщину; второе направле-
ние — «городское», оно нередко весьма жестоко обрушивалось на
женщин. Первому направлению свойственно стремление все силь-
нее идеализировать любовь, литература второго направления, на-
оборот, отличалась игривостью, грубоватой вольностью, ее инте-
ресовали прежде всего пути достижения плотских наслаждений.
Во времена Антуана де Ла Саля галантные придворные на ас-
самблеях уделяли внимание любви утонченной, но знатные фе-
одалы, выступающие со всей важностью на этих ассамблеях, яв-
ляются в то же время и персонажами «Ста новых новелл», и там
они предаются любви, как самые обычные горожане и простые
крестьяне.
От Кретьена до Ла Саля прошло три века, то есть столько
же, сколько отделяет нас от событий Фронды 14, или от «жеман-
ниц» 15. Феодальное сословие уже идет к закату, и в нем ясно
проявляются черты праздного и паразитического класса. Что
осталось от высоких идеалов, воспетых Кретьеном, — любви-
страсти и рыцарской доблести? Ничего, кроме звонких слов.
И по иронии истории как раз в век Жанны д'Арк торжествует
буржуазная антифеминистская точка зрения. Книга «Пятна-
дцать радостей брака» была написана в те годы, когда начался
процесс реабилитации Орлеанской девственницы.
Сначала в романе атакуется куртуазная любовь, но затем на-
падки принимают более основательный характер. Сперва аббат
говорит Жану де Сентре: вы просто насмехаетесь над нами,
разглагольствуя об идеальной любви и верности, в которой
клянетесь своим дамам; ведь, пускаясь в далекие походы и шны-
ряя по дорогам, вы просто гоняетесь за девками. Но затем он
начинает обличать и рыцарскую доблесть, показывая, что она
служит лишь средством снискать себе почести и добиться на-
град, изрядных денег. Таким образом, в произведении не толь-
ко резко противопоставляется действительности отживший и от-
мирающий идеал, но и феодалы как господствующий класс ока^
зываются на скамье подсудимых.
Сентре вступает в спор с аббатом, и тот настойчиво его про-
воцирует. Антуан де Ла Саль считает нужным подчеркнуть, что
дама де Белль Кузин целиком на стороне аббата, что «их ноги
8* m
то и дело соприкасаются». От вызова до схватки — один шаг, и
он пройден довольно быстро; однако речь идет не о вооружен-
ном поединке, а о рукопашной, ибо аббат ведь всего лишь не-
богатый простой монах. Сентре поначалу упорно отказывается,
но дама в свою очередь подстрекает его: «Эге! Сеньор де Сент-
ре, ведь вы столь доблестный рыцарь и, по слухам, совершили
много блестящих подвигов, неужели же вы не осмелитесь всту-
пить в борьбу с аббатом?» Ответ Сентре выглядит совершенно
жалким. Сначала он указывает на все великие воинские подвиги,
совершенные им во славу дамы; что же касается рукопашной
борьбы, то лучший из рыцарей ничего в ней не смыслит, тогда
как монахи поднаторели в таких схватках.
Итак, приходится перейти от слов к делу. Вот перед нами
благородный сеньор, который теоретически обязан обеспечивать
защиту своим вассалам, оберегать их жизнь и имущество. Он
восторжествовал в боях по всем правилам над своими против-
никами, совершил победоносные походы в чужие края. И, ока-
зывается, достаточно, чтобы какой-то монах схватился с ним, и
наш доблестный рыцарь самым плачевным образом «сдает все
позиции. Я не уверен, что сейчас, пятьсот лет спустя, мы можем
полностью оценить всю остроту насмешки. Чтобы лучше пред-
ставить себе силу, воплощаемую Жаном де Сентре, необходимо
помнить, что дворянство сохраняло свои привилегии еще целых
три века после описываемых событий, вплоть до 1789 года.
Видя, что все увертки ни к чему не приведут, Сентре в конце
концов вынужден согласиться и вступить в единоборство. Он
оказывается побежденным, и его первое поражение встречается
насмешками и даже издевками. Но унижение этим не исчерпы-
вается, ему приходится возобновить борьбу, и аббат вторично
повергает его на землю. Но и это еще не все. Как на настоящем
рыцарском турнире, аббат избирает верховным судьей даму, она
должна решить, кто из двух мужчин вышел победителем в борь-
бе и лучше защитил свою честь: «Хорошо ли я исполнил свой
долг? Кто из нас более достойный боец?»
Дама де Белль Кузин, не колеблясь, выносит приговор: бо-
лее достойный боец — толстый аббат, сын буржуа. Он в честном
бою побил Сентре, который на протяжении всей книги в тяже-
лых поединках побеждал лучших рыцарей Европы.
Победу отца аббата над Сентре на любовном поприще мож-
но было истолковать и так: дама де Белль Кузин изменила
принципам, которым она прежде придавала столь большое зна-
чение. И вот теперь аббат одерживает верх над Сентре также
и в доблести, и происходит это таким образом, что не только
Сентре терпит поражение, но ставится под сомнение все то, что
рассматривалось в феодальном обществе как доблесть, а на са-
мом деле уже не имело никакой ценности ни в настоящем слу-
116
чае, ни в общем плане мужества и человеческого достоинства.
Не следует забывать, что в дни бойни при Азенкуре Антуану
де Ла Салю было двадцать семь лет, надо также помнить и о
природе воинских талантов его отца Бернара де Ла Саля.
Здесь в романе все действующие лица внезапно оказываются
несостоятельными: дама де Белль Кузин изменяет всему тому,
чему сама обучала Сентре; аббат'нарушает все религиозные за-
преты; не на высоте оказывается и сам Жан де Сентре: сначала
он пытается принудить монаха вооружиться, чтобы получить
возможность самым жестоким образом отплатить ему, а позднее,
оказавшись при дворе короля, он мстит неверной даме, во все-
услышание рассказывая о своем приключении, и тем самым
убивает ту идеальную любовь, которую прежде превозносил,
хотя всякий порядочный человек должен был бы сохранить та-
кие вещи в тайне.
Антуан де Ла Саль — в полном смысле слова современник
Жанны д'Арк. Рассказ о любовной истории скрывает за собой
и другое — возвещение заката класса феодалов. Романист не су-
дит своих героев, и тон его повествования всегда остается спо-
койным, никогда не становится трагическим. Автор ограничи-
вается тем, что рисует жизнь героев, и только. Он, несомненно,
скорее на стороне Сентре, но важнейшие страницы его книги
проникнуты уважением к реальной действительности, объектив-
ностью, которая была присуща писателям, жившим по ту сто-
рону Альп, присуща победоносной буржуазии в XV веке в
Италии. И, по существу, именно эта точка зрения и торжествует
в романе, возможно даже без ведома автора.
С появлением «Маленького Жана де Сентре» роман действи-
тельно становится средством познания мира.
И внезапно нам в ином свете представляется то, что раньше
казалось длиннотами, перегружавшими первую часть романа.
Старик Антуан де Ла Саль стремился оживить хорошо знако-
мый ему мир, движимый тем ревнивым чувством, какое побу-
ждает нас удерживать в памяти то, что уже отмирает. Антуан
де Ла Саль это хорошо знал. В своем трактате «О старинных
турнирах и воинских играх», появившемся через три года после
«Маленького Жана де Сентре», он писал: «И вот этот столь
благородный обычай устраивать турниры теперь совсем почти
оставлен, особенно во французском королевстве, что приносит
урон всему знатному сословию... В добрые старые времена залы,
комнаты и особняки знатных вельмож украшались картинами и
коврами, где были изображены славные приключения, знамени-
тые битвы и победы доблестных воинов, там же красовались
гербы знатнейших вельмож королевства, напоминая каждому о
необходимости быть достойным воином. А ныне на них изобра*
жаются лишь картины охоты на зверя и соколиной охоты,
117
пастушки да пастушки, ягнята да влюбленные пары, и все это
наносит урон нашим душам, а порой нашей чести и самой нашей
жизни».
Высказывает ли здесь Антуан де Ла Саль свои заветные
мысли? Или же он пишет все это, чтобы угодить высоким по-
кровителям? Ответ на этот вопрос, собственно говоря, ничего
«е меняет в его творчестве. Для нас важно другое. Важно, что
ему удалось воспроизвести две реальные общественные силы,
которые уже сталкивались в жизни, — одну уходящую, умираю-
щую, другую возникающую — и подняться таким образом над
своим временем. Был ли глубоко обдуманным его замысел напи-
сать роман/ «Маленький Жан де Сентре»? Я полагаю уместным
вспомнить здесь слова Арагона, которые я уже приводил: «Че-
ловек, стремящийся выразить себя... достигает способности
к выражению, которая, быть может, позволит ему навеки со-
храниться в памяти людей, лишь в своего рода эпической
схватке с мертвой, лишенной способности выразить себя ма-
терией, в схватке со всем, что мешает ему выразить то, что он
хочет». Я глубоко уверен, что эти слова — ключ, который
ныне — через пятьсот лет — открывает нам доступ к творче-
ству Антуана де Ла Саля. Был ли он автором «Ста новых но-
велл»? Если нам не придет на помощь счастливый случай,
вопрос этот так и останется открытым; но Ла Саль, без сомне-
ния, сумел подняться над миром- буржуазных новелл, как и над
рыцарским миром. И на закате своей жизни, в те самые годы,
когда молодой Вильон писал свве «Малое завещание» 16, в се-
редине XV века, когда книгопечатание, раз возникнув, начало
до бесконечности расширять возможности человеческого слова,
Ла Саль больше, чем все другие, сумел овладеть той новой «ма«
терией», новой действительностью, открывавшейся перед ним,
сумел в полном смысле этого слова «выразить» ее, создав новую
форму романа.
Именно это и делает его основоположником современного
романа.
in. Наша несостоятельность в оценке
ТВОРЧЕСТВА РАБЛЕ
| ызовут ли у нас во
Франции юбилейные
торжества в связи с че-
тырехсотой годовщиной смерти Рабле увеличение числа читате-
лей его произведений, расширится ли круг поклонников «мэтра
Алькофрибаса Назье»? На этот вопрос, думается мне, ответить
следует отрицательно.
А ведь юбилей Рабле благодаря решению Всемирного Со-
вета Мира из национального торжества превратился в тор-
жество международное. Однако в Китае юбилей одного из древ-
нейших поэтов, Цюй Юаня *, жившего две с половиной тысячи
лет назад, отмечали с куда большим размахом.
Плохо у нас с изучением Рабле. Усилия журнала «Эроп»,
хотя и достойные всяческой похвалы, недостаточны. Переизда-
ние очерков Абеля Лефрана2, хотя и очень полезных и ценных,
не нашло того отклика, какого следовало бы ожидать, если не
считать замечательного отзыва Эмиля Анрио3 в газете «Ле
Монд» *.
Действительно, дело обстоит так, будто, с одной стороны,
Рабле стал общественным достоянием, подобно мертвецам в
общей могиле, и это позволяет, скажем, г-ну Жюлю Ромэну4
заимствовать из его творчества сравнения гастрономического по-
рядка; с другой стороны, лучшая часть наследия этого смелого
новатора в области современного романа, гениального мастера
нашего литературного языка, заключенный в его творчестве урок
гуманизма и пантагрюелизма, того «веселого состояния ума и
духа, настоенного на презрении к вещам несущественным»,
* «Europe», специальный номер, посвященный Рабле. Rabelais, par
Abel Lefranc (Albin Michel).
119.
столь восхищавшего Анатоля Франса5, — все это оказалось
за импозантными витринами покрыто густой пылью.
И вовсе не случайно книга Абеля Лефрана и специальный
номер журнала «Эроп» были обойдены молчанием. Ах, нам нет
никакого дела до четырехсотой годовщины со дня смерти Ра^бле!
Именно между 1931 годом — выходом в свет последней из ста-
тей Абеля Лефрана — и 1953 годом Рабле как бы забальзами-
ровали, над ним задним числом совершили требуемые церковные
таинства и он был погребен в земле Сорбонны. Если угодно,
канонизирован, но при этом сделан недоступным для чита-
теля.
В 1942 году появилось первое издание книги г-на Люсьена
Февра «Проблема неверия в XVI веке. Религия Рабле» («Le
Problème de l'incroyance au XVI siècle, la religion de Rabelais»).
До этой книги творчество создателя Гаргантюа и Пантагрюеля
вызывало резкое столкновение противоположных мнений, ост-
рую дискуссию, но оно возбуждало страсти, любовь, образ пи-
сателя сохранялся живым. Можно было спорить по поводу
исследований Абеля Лефрана и его учеников, но они помогали
понять творчество Рабле в целом, толкали читателя на размы-
шления. А после выхода в свет объемистого труда г-на Люсье-
на Февра мы оказались перед непроницаемой мумией, не при-
надлежащей к нашему миру, погребенной, точно под каменными
плитами, под сотнями текстологических разночтений, лишь сби-
вающих с толку читателя. Образ Рабле не только потускнел, он
вообще исчез; вместо того нам предлагают одни только сомне-
ния относительно всех' его идей, и под ногами у нас развер-
зается головокружительная бездна; читатель, подавленный эру-
дицией исследователя, не решается уже верить и тому, что он
видит своими собственными глазами в книге Рабле, не смеет
поддаваться тому волнующему впечатлению, которое произво-
дит мысль Рабле на современного человека.
Уже во введении, в самом его начале, г-н Люсьен Февр
заявляет о том, что он сознательно стремился добиться такого
результата. Он пишет: «Имея дело с человеком XVI века*
допытываясь у него и его современников о том, каков был его
символ веры, мы никогда не можем быть до конца уверены ни
в нем, ни в себе... И незачем восклицать: «Ах, если бы имелось
больше текстов, если бы свидетельства не были столь лаконич-
ны, если бы признания изобиловали большими подробностя-
ми!» Ибо в наше время, казалось бы, мы располагаем всем,
чтобы понять наших современников. Нужны их собственные
признания? Пожалуйста, вот граммофонные пластинки с их
речами. Угодно изучить малейшие черточки лица? К вашим
услугам фотографии. И что же? «Это — плут», — говорят одни.
«Он—апостол», — утверждают другие. А речь идет об одном
120
и том же человеке! Право же, всякая монография лишь сбивает
с толку, она дает лишь бюст, без заднего плана и фона».
Насколько мне известно, никто сейчас, в 1953 году, не под-
вергал критике такие рассуждения. А ведь очевидно, что надо
либо принять их, признав в таком случае, что творчество Рабле
уже потеряло всякую актуальность, либо их отвергнуть и тогда
заявить, что изучение Рабле должно быть продолжено, только
на иной основе. Ибо книга Февра представляет собой самую
утонченную попытку из всех, какие предпринимались за четыре-
ста лет после смерти Рабле, оторвать от народа его творчество.
Надо сказать прямо, что проблема, с которой мы сталки-
ваемся в книге Февра, не ограничивается одним Рабле, она
связана со всеми нашими представлениями о писателях эпохи
Возрождения, а также и Средних веков в Европе, «...моногра-
фия, — заявляет г-н Февр, — лишь сбивает с толку, она дает
лишь бюст, без заднего плана и фона». Отлично. Об этом же
свидетельствует и один недавний пример.
Пусть это после всего, что мной было выше сказано, и
покажется парадоксальным, я все же расскажу об одной не-
давно вышедшей книге, посвященной XVI веку, которая, как
мне кажется, подрывает идею, весьма дорогую Абелю Леф-
рану, выдвинувшему свою известную гипотезу о том, что под
именем Шекспира скрывался Вильям Стенли. Книга эта назы-
вается: «Мастер Вильям Шекспир» («Master William Shakes-
peare»). Ее автор — г-н Мартен Морис*.
Широко известны споры между сторонниками точки зрения,
что актер Вильям Шекспир был автором пьес, дошедших до
нас под его именем (их зовут «стратфордианцами», потому что
Вильям Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне в 1564 году),
и теми («антистратфордианцами»), кто полагает, будто эти
пьесы были созданы каким-то знатным вельможей, вынужден-
ным скрывать свое имя. Около 1850 года было выдвинуто
предположение об авторстве Фрэнсиса Бэкона, философа и
канцлера Англии. Мартен Морис отмечает: «В 1884 году
В. М. Уаймен насчитал около 250 книг и брошюр, где защища-
лось или опровергалось авторство Бэкона; большинство иссле-
дователей сходится на том, что к 1914 году число таких работ
по крайней мере утроилось».
В 1907 году немец Блейбтрой выдвинул новое имя—Род-
жера Меннонса, пятого графа Рэтлэнда. А в 1919 году Абель
Лефран назвал имя Вильяма Стенли, шестого графа Дерби. К
концу жизни он вновь возвратился к обоснованию этой гипо-
тезы. А в 1920 году, напоминает Мартен Морис, Томас Лурей .
* Gallimard, 1953. Книга А. Лефрана «A la découverte de Shakespeare»
была издана Альбеном Мишелем в 1945—1950 годах.
121
открыл еще одного претендента — Эдварда Вера, семнадцатого
графа Оксфорда. Я уже не говорю об исследователях, считав-
ших, что пьесы Шекспира написаны группой авторов или же
каким-то неизвестным выдающимся человеком, и о тех, кто пы-
тался примирить противоположные точки зрения.
Мартену Морису пришла в голову ценная мысль — собрать
в первой части своего труда «исторические документы», различ-
ного рода тексты, опубликованные при жизни Вильяма Шекс-
пира, королевского комедианта, родившегося в 1564 году и
умершего в 1616 году.
Сначала — документы о его гражданском состоянии. За-
тем— связанные с его деятельностью актера. И, наконец, те,
где говорится о поэте. Приведены и немногочисленные тексты,
где одновременно имеется в виду Шекспир — актер и писатель.
При чтении этих документов складывается весьма твердое
убеждение: современники Шекспира очень мало интересовались
жизнью великого драматурга. К такому выводу приходишь на
основании знакомства с документами, которыми мы в настоя-
щее время располагаем, и мне думается, что архивы той поры
столь тщательно изучены, что вряд ли следует ожидать каких-
то новых открытий, которые могли бы в.се снова поставить под
вопрос. Трудно даже понять, сознавали ли современники вели-
чие Шекспира. Бесспорно одно: когда они смотрели пьесу (или
читали ее), личность драматурга (человека, ставившего свою
подпись под пьесой) их мало занимала. В платежных ведомо-
стях того времени стоят имена актеров и названия пьес. Тщет-<
но искать в них имена авторов. Вот почему попытка выяснить,
была ли пьеса под названием «Ричард II», которую участники
заговора Эссекса6 заставили актеров лорда Чемберлена разы-
грать на сцене в субботу 7 февраля 1601 года (заплатив им
при этом девяносто фунтов, ибо пьеса была уже старой), про-
произведением Шекспира под тем же названием (актер Шекс-
пир входил в труппу), оказывается неразрешимой задачей.
Было возбуждено судебное преследование против тех, кто
исполнял на сцене вышеупомянутую пьесу. И ни разу среди
привлекаемых к ответственности не фигурировал автор пьесы.
Абель Лефран видит в этом доказательство того, что Шекспир
не был автором пьесы; но ведь королева Елизавета, должно
быть, знала, кто был ее автором, почему же она не приказала
привлечь его к ответственности? А если имя автора было ей
неизвестно, почему она не повелела произвести дознание? Тем
-самым тексты подтверждают нам, что в ту эпоху никого не
^интересовал автор пьесы. А вот еще одно доказательство.
Участники заговора не говорили актерам: «Представьте нам
пьесу «Ричард II» Вильяма Шекспира», но они не говорили
также: «Мы хотим посмотреть на сцене пьесу «Ричард II».
122
Нет, они просили актеров представить именно «пьесу о сверже-
нии и умерщвлении короля Ричарда II».
Известно, что знаменитая сцена свержения короля в пьесе
Шекспира «Ричард II» вычеркивалась цензурой во всех трех
изданиях, выходивших при жизни королевы Елизаветы; сцена
эта была восстановлена лишь в 1608 году, в царствование
Якова I. ■ -
Итак, все это лишь предположения, а не доказательства. Что
касается мнения по этому поводу вышеупомянутого Вильяма
Шекспира (кто бы ни скрывался под этим именем); то мы об
этом ничего не знаем. Сцена написана им. На чьей он сторо-
не— Болингброка или короля Ричарда? Королевское правосу-
дие не считало его ответственным за взгляды выведенных им на
сцену персонажей. Так же смотрела на это и публика в его время.
Читая текст пьесы, понимаешь, что Шекспир знал, что он делает.
Все дело в том, что ответственности драматурга, как мы ее пони-
маем теперь, для современников Шекспира не существовало.
Но это лишь пример. Важнейший вывод, к которому прихо-
дишь в результате ознакомления с потрясающей книгой Мар-
тена Мориса, где все тексты тщательно выверены и переведены,
все традиционные мнения сопоставлены, все современные гипо-
тезы, тезисы и днтитезисы сгруппированы вместе, можно сфор-
мулировать так: есть все основания допустить, что Шекспир —
©то тот самый Вильям Шекспир, актер и драматург, который
еще при жизни добился определенного успеха. И все, что мы
о нем знаем, — это несколько биографических дат, незначитель-
ные эпизоды его жизни и, наконец, его пьесы.
К этому можно лишь добавить, что поиски следует вести в
ином направлении; мы весьма поверхностно знакомы с елизаве-
тинской эпохой, а потому вместо попыток отгадывать Шекс-
пира, так сказать, изнутри (или попытаться приписывать его
творчество какому-нибудь Иксу, Игреку или Зету, что, соб-
ственно говоря, то же самое), следует постараться лучше понять
его время. Правда, это уже другой вопрос. Ведь мы также
почти ничего не знаем, не скажу о Бене Джонсоне7, но уж во
всяком случае, о таких писателях, как Марло8, Флетчер9, Дек-
кер 10, Бомонт11, Уэбстер12, Джон Форд13, Сайрел Тернер14.
А ведь Рабле умер за десять лет до рождения Шекспира.
* * *
Обратимся к «бюсту» Франсуа Рабле. К Рабле, каким он
предстает перед нами сегодня. Он родился, по-видимому, в
1494 году. На основе изучения текстов Платтар 15, Анри Клу*
зо 16 и Абель Лефран сходятся на этой дате. Франсуа Рабле был
сыном Антуана Рабле, преуспевающего буржуа, адвоката
123
королевского суда в Шиноне, владевшего небольшим поместьем
Ла Девиньер, где, как известно, и появился на свет Франсуа»
Двадцать семь лет спустя, 4 марта 1521 года, «некий незна-
комец, ничем не примечательный... малообразованный, не лишен-
ный жизненного опыта... безвестный молодой человек, владею-
щий искусством красноречия», писал мессиру Гийому Бюде17*
В таких выражениях говорил о самом себе «Францискус Рабе-
лезус, францисканец». Приведенная выше фраза была написана
им по-латыни и по-гречески.
Юношеские годы Рабле покрыты мраком неизвестности. Та-
кой же неизвестности, какая окутывает молодость Шекспира.
Такой же, уместно добавить, в какой скрыта и молодость
Мольера.
Я говорю все это не для того, чтобы заранее отвергнуть
всевозможные предположения; просто жаль, что нам ничего
не известно о годах формирования писателя. Если даже ока-
зывается установленной какая-нибудь дата, подобно приведен-
ной выше, или название местности, скажем францисканский
монастырь в Фонтене-Леконт в Нижнем Пуату, то трудности
только начинаются. Какая причина заставила Рабле уйти к
францисканцам? Искал ли он «мирного прибежища в стенах
монастыря», чтобы предаться умственному труду (Ж. Платтар),
или то был один из по принуждению осуществленных постри-
гов, которые Рабле позднее с такой горечью осуждал? «Бу-
дущий францисканец, Рабле был крещен при рождении именем
Франсуа. Сестру его звали Франсуазой. Что это — особое пре-
клонение перед святым Франциском Ассизским 18? Или, быть
может, выполнение обета, данного родителями? Все это лишь
гипотеза, спешу об этом заявить» (Люсьен Февр) *.
Такие гипотезы можно строить до бесконечности. Было бы
очень полезно проделать с Рабле такую же работу, какую про-
делал Мартен Морис с Шекспиром. Надо расчистить путь.
Ведь читатель — не эрудит, и надо помочь ему освободиться от
ужасающего нагромождения текстов, где тонут те немногие яс-
ные и простые сведения, которыми мы располагаем о Рабле.
Необходимо отделить достоверные факты от легенды, указать,
что является лишь предположением, и сопоставить различные
гипотезы.
В необходимости проведения такой работы убеждает хотя бы
уже одно сопоставление известных высказываний о творчестве
Рабле.
Вот некоторые из них:-
«Никогда еще ничья душа не была более привержена низо«
сти, чем душа Рабле, не только богоотступника, но богохулы
* Combats pour l'histoire, Armand Colin, 1953.
124
ника. В нем я вижу воплощение этого безумства плоти, которое
закрывает духу путь к вещам возвышенным и здоровым; в этом
разгадка его книги. Это рычит и барахтается греховная плоть,
«animalis horoo»*, животное».
Луи Вейо**19
«Рабле — непристойный гений цинизма, оскорбляющий уши,
разум, сердце, хороший вкус. Зловонный и ядовитый гриб, воз-
росший на гноище средневекового монастыря... Монах-рас-
стрига, боров, с наслаждением роющийся в нечистотах и обдаю-
щий брызгами грязи лик, нравы и язык своего века».
Ламартин
(Курс лекций по литературе, беседа 18-я)
«Именно Рабле я возьму себе в помощь, чтобы проводить
хорошую, здоровую и патриотическую политику в интересах
Моей родины».
Гамбетта20
(Высказывания, собранные Эженом Этъеном)
«Рабле — это мыслитель, к которому прежде всего в годы
1532—1538 были прикованы взоры всех, кто мечтал об освобо-
ждении от догм и о подлинной интеллектуальной эмансипации,
которую, казалось, обещало людям Возрождение. Он был их
надеждой и их гордостью».
Абель Лефран
«Говоря о неверии людей XVI века (в той степени, в какой
оно действительно имело место), нелепо и смехотворно предпо-
лагать, что его в чем-то можно сравнивать с нашим. Это было
бы нелепостью и анахронизмом. И уже просто безумие поме-
щать Рабле во главе длинного списка, который замыкают «воль-
нодумцы» XX века (кстати сказать, глубоко различающиеся
между собой и образом мышления, и научным багажом, и прие-
мами аргументации). Если я не смог доказать этого своей кни-
гой, значит, она ничего не стоит».
Люсъсн Февр
(«Религия Рабле»)
Право же, невозможно обойти молчанием проблему в такой
ее постановке. И не из-за брани какого-нибудь Вейо или
* Зверское в человеке (лат.). — Прим. перев.
** Emmanuel Gauthier; Le Génie satyrique de Louis Veuillot.
E. Vitte, 1953.
125
старческой глупости Ламартина. Но — я вновь возвращаюсь к
этому — из-за глубоких расхождений между Абелем Лефраном
и большинством исследователей начала нашего века, с одной
стороны, и Люсьеном Февром — с другой. Присмотримся же по-
внимательнее к заднему плану и фону, которые он предлагает
нашему вниманию.
Концепция Люсьена Февра выходит далеко за пределы од*
ной только проблемы Рабле; он стремится доказать, что
в XVI веке неверие не могло найти себе опоры ни в философии,
ни в науках, ни, к примеру, в оккультизме. Мы имеем здесь
дело с доказательством, опирающимся на множество блестящих
примеров, но оно в конечном счете приводит нас к утверждению
ныне уже известной истины о том, что пресловутая ночь Сред-
невековья — всего лишь ложное представление. Ведь в Средние
века возникло немало новых и очень смелых идей, и Рабле, мол,
не внес ничего нового, он просто позаимствовал их и придал им
блеск своим талантом. Стало быть, никакого перелома не про-
изошло. Одним словом, Рабле вовсе не был революционером
в своем творчестве.
Рассуждать так -г- значит недооценивать упорной и постоян-
ной борьбы, которая велась в Средние века между новаторами
и теми, кто яростно обрушивался на них. Вышедшая в 1953 году
книга Поля Ренуччи «История европейского гуманизма в Сред-
ние века» дает нам живую картину борьбы, происходившей
в области мысли в ту эпоху, начиная с гуманизма XII века и
кончая северным Возрождением XII и XIII веков. Некоторых,
вероятно, поразит употребление терминов «гуманизм» и «Воз-
рождение» применительно к передовым явлениям культуры той
эпохи, но еще больше может поразить длинный список произве-
дений, которьЛе были в ту пору переведены не только с латин*
ского, но и с греческого и арабского языков.
Несомненно, что предстоит заново переписать всю историю
взаимоотношений средневековой Франции с арабской наукой,
а через нее и с материалистическими традициями античности.
Во время юбилея Авиценны 21 мы убедились в том, что мы мало
знаем о действительном значении этого таджикского ученого-
медика. А что нам известно об изменении в характере культур-
ных связей вследствие Столетней войны? Или об истинном
значении и последствиях уничтожения альбигойской циви*
лизации?
Было бы сущей нелепостью заявлять, будто Рабле не имел
прямых предшественников. Это значило бы не только не прини-
мать во внимание три века борьбы в философии, но и игнориро-
вать в литературе и куртуазный роман, и фаблио, и «Роман
о Ренаре», и «Маленького Жана де Сентре». Но другое дело —
недооценивать тот перелом, который произошел в XVI веке, и
126
на примере г-на Феврд видно, к чему это ведет. Рассуждать
таким образом — значит делать непонятным не только самого
Рабле, но и Бонавентуру Деперье 22, а затем и течение либерти-
нов 23, Гассенди 24, а также раннего Мольера (вернее то, что нам
о нем известно). Это значит зачеркивать такие современные
Рабле исторические события, как Крестьянская война, деятель-
ность Томаса Мюнцера и все движение, всколыхнувшее Герма-*
нию той поры; кстати сказать, если и существует абсолютно
доказанный факт из жизни Рабле, то это именно то, что он жил
в Лионе, а в Лионе было отлично известно, что происходило в
Южной Германии. *
Силы, медленно накапливаемые на протяжении веков, вне-
запно производят взрыв. Г-ну Февру хотелось бы отрицать ди-
алектику. Он может сколько его душе угодно создавать самый
туманный «задний план», все равно гиганты Рабле проры-
ваются сквозь завесу. И сегодня — спустя четыреста лет — мы
слышим их громоподобный голос.
Авторы современных исследований творчества Рабле должны
считаться со всеми этими фактами, согласовывать их и объяс-
нять. Пока что мы весьма далеки от этого, и празднование юби-
лея Рабле в 1953 году это убедительно показало. Мне представ-
ляется совершенно неоспоримым, что сейчас, когда нашу страну
хотят оторвать от ее национальных традиций, когда во Фран-
ции возрождается столь же глупая и грубая цензура, как та,
какой подвергался Рабле, создание глубоких исследований его
творчества — наш величайший долг и наша важнейшая задача.
IV. ЧТО ЭТО —СТЕНДАЛЬ? В 1623 ГОДУ?
то — не автор, а сплошная
загадка. Вот его слова:
«Я хочу, чтобы в моем
королевстве все писали книги, и на самые различные темы. До
сих пор только и были романы, что о войне да о любви, но
ведь можно писать и такие, где речь пойдет о судебных процессах,
о финансовых делах, о торговле. Столь хлопотливые занятия
изобилуют весьма интересными приключениями, но никто,
кроме меня, об этом до сих пор не подумал. Я обнародую все
секреты своего изобретения, и тогда суконщик станет писать
романы о своем промысле, а адвокат — о своей практике. Толь-
ко и будет речи, что об этих романах, и люди всех профессий
приобщатся к литературному делу».
И он попытался практически осуществить эту программу
реализма, во всяком случае в том из своих романов ', где речь
идет о финансистах, в романе, откуда Мольер почерпнул экспо-
зицию «Тартюфа» и интригу «Брака поневоле» и «Господина де
Пурсоньяка».
Он с полным правом говорил в предисловии к своему луч-
шему произведению2: «Я совершенно уверен, что в моей книге
читатель найдет весь французский язык в целом»» и, утверждая
это, он не преувеличивал, ибо мы находим у него и различные
жаргоны, и народный язык той эпохи, и всякого рода «арго» —
школяров, безбожников, законников, торгашей, солдат, ученых
педантов и так далее.
Нападая на своих противников, он восклицал: «Их душа
низменно прислуживает их перу, я же хочу, чтобы мое перо слу-
жило моей душе!» Он говорил: «У меня не столь низменная
душа, чтобы целиком отдаваться делу, коим невозможно зани-
маться, не прислужничая»; он высмеивал «...тех, кто полагает
128
себя красноречивым на том основании, что говорит темно, упу-
ская при этом из виду, что язык дан нам для того, чтобы по-
нятно излагать свои мысли, и поэтому человек, не способный
объясняться с разного рода людьми, отмечен крайним невежест-
вом...»
Он был достаточно осторожен и потому «скрывал свои наи-
более предосудительные мысли, придавая им форму снов и ви-
дений, которые, конечно же, кажутся невеждам полными неле-
пости, ибо такие люди не могут проникнуть в суть вещей»; по-
ступая так, он как нельзя лучше следовал советам Рабле относи-
тельно того, что в наши дни именуют «контрабандой».
Он отваживался говорить все, что думал о своем времени,
и именно это ему сейчас почти всегда ставят в упрек, вменяют
в вину. Последний издатель3 его капитального произведения,
ставшего в наши дни библиографической редкостью, так «реко-
мендует» роман, предлагаемый им читателю: «Помимо множе-
ства погрешностей в тексте, этот роман отличается... прежде
всего изобилием скабрезных и непристойных выражений и эпи-
зодов. К ним относится нескончаемый рассказ о сновидениях
больного, пересыпанный грубыми шутками о происхождении
душ; то же можно сказать и об описании некоторых низменных
привычек, распространенных в коллежах, а также об известной
сцене «разгульного пиршества» или о дебоше знатных вельмож
на лоне природы, равно как и «подвигах» баб-замарашек и му-
жиков. Словом, как говорится, выбор большой. Книга от начала
и до конца представляет собой смесь вызова и бахвальства».
Он хотел быть реалистом *п говорить все, что хочет, а в его
книгах усматривали лишь намерение оскорбить деликатный
вкус ханжей. Это было удобным способом разделаться с докуч-
ливым человеком, который, помимо всего прочего, не выносил
ханжества. Основная тема его наиболее значительного романа —
поиски счастья молодым человеком, поиски всеохватывающей
любви в том смысле, какой это слово могло иметь в ту эпоху;
однако герой встречает на своем пути лишь удовольствия. И мо-
лодой человек однажды говорит по поводу какой-то женщины:
«Наслаждение погасило в моей душе то слабое чувство страсти,
какое я к ней испытывал». В другом месте он заявляет, что хо-
чет научить людей «жить, как боги». Иными словами — дове-
рять своему разуму, верить, что мир доступен их пониманию и
что можно научиться управлять собой.
Стремясь подорвать уважение к этому писателю, извращали
все, что он говорил. Он был в душе реалистом, он хотел быть
им и в творчестве, но не знал, с какой стороны подойти к делу.
Распустили слух, будто он — низменный писатель. Он описывал,
что в его время представляла собой любовь, рассказывал, как
грубо любили в его время знатные господа, а его ославили раз-
9 П. Деке
129
вратным писателем, его книги прячут в глубине книжных шка-»
фов, однцм словом, его до такой степени смешали с грязью, что
в наши дни распространено мнение, будто его неприлично чи-
тать, и почти никто не решается даже говорить о нем, словно
он автор порнографических произведений.
А на самом деле это — один из величайших французских
романистов.
Большую часть своих произведений он опубликовал под
псевдонимами. В его время случалось, что за идеи, подобные
тем, что были в его голове, людей подвергали утонченным пыт-
кам, а затем вешали. Первая его книга подписана именем авто-
ра, умершего за пятнадцать лет до ее выхода в свет 4.
Великого французского писателя, о котором я говорю, звали
Шарль Сорель. Его шедевр носит название «Франсион».
Его роман о финансистах называется «Полиандр». Насколько
мне известно, он ни разу не был переиздан.
— Что это — Стендаль? В 1623 году?
* * *
Слов нет, с Шарлем Сорелем дело обстоит далеко не просто.
Он родился в 1600 году и считался уже пожилым человеком,
старомодным, когда Корнель с триумфом поставил своего
«Сида»: в XVII веке в тридцать шесть лет человека уже счи-
тали стариком. Когда появляется Мольер, Сорель, погруженный
в свои рукописи, кажется престарелым неудачником, нуждаю-
щимся писакой. Он посвящает все свое время составлению
успокоительных заверений по вопросам религии, и никто не мо-
жет взять в толк, принимать ли их за чистую монету. Следую-
щему поколению Сорель уже непонятен; его понимал разве
только Мольер, но ведь он был воспитан, в школе либер-
тинов.
Говорят, что читать «Франсиона» очень трудно. В неле-
пости этого утверждения нетрудно убедиться, если сравнить
«Франсиона» с другими романами XVII века: с «Астреей»,
написанной незадолго до «Франсиона», «Комическим романом»
Скаррона, «Буржуазным романом» Фюретьера. Что же касается
«Принцессы Клевской», то это — произведение совсем иного
жанра. Ныне мы объединяем все эти произведения под общим
термином роман, но «Франсион» — это «комическая история»,
и в глазах современников он был очень далек ох психологиче-
ской новеллы госпожи де Лафайет. «Франсион» был превзойден
лишь сто двадцатью годами позднее великим мастером комиче-
ского романа Генри Филдингом.
«Франсион» труден для чтения, если из него извлекать одни
только вольные и грубые эпизоды, как поступил издатель «Би-<
130
блиотеки любопытных» 5, столь Любезной сердцу Аполлинера*
Но, взятый в целом, этот роман — словно бурный поток, излив-
шийся из-под пера молодого писателя, опьяненного силой и
дерзостью юности. Это — смелое произведение, характерное для
вольнодумцев около 1620 года, пока рука палача еще не об-
рушилась на Теофиля А
Могут возразить, что «великий век» славен иными произве-
дениями, что это направление в литературе не имело прямых
продолжателей. Но следует помнить, что такие книги, как
«Франсион», распространялись из-под полы. Известно, что
Мольер читал Сореля, ну а как остальные?
В этом направлении историки литературы пока еще не вели
розысков. Предстоит еще пересмотреть много ценностей. Позд-
нее наши дети лучше разберутся во всем этом.
Антуан Адан в своей истории французской литературы
XVII века возвращает Сорелю его истинное место: «Уже в силу
богатства и правдивости картины нравов, содержащейся в нем,
«Франсион» имеет право на то, чтобы считаться произведением,
заслуживающим внимания. А по смелости и силе мысли это —
великая книга».
Я думаю, что буду понят лучше, если прибавлю, что Со-
рель — лишь наиболее блестящий, но отнюдь не единственйый
автор реалистического комического романа во французской лите-
ратуре того времени. Нужно упомянуть Марешаля и его «Кри-
золиту»7 — довольно натуралистическую, но поражающую
правдивостью картину нравов, где автор затрагивает также по-
литическую жизнь своей эпохи, в частности роль иезуитов; сле-
дует назвать также и «Пересуды у ложа роженицы» 8 — диалог,
заимствованный из самой гущи буржуазной жизни.
' Предстоит исследовать целую область литературы — соверн
шенно новую, — и ее изучение может разрушить множество тра-
диционных и ложных взглядов на развитие реализма во фран-
цузской литературе, в частности на развитие французского ро-
мана.
Сорель намного опередил свою эпоху. И ему пришлось очень
долго ждать, пока появились читатели, достаточно смелые, чтобы
обратиться к его творчеству.
Представим себе, что нас отделяло бы от Стендаля три века.
Многое ли было бы нам понятно в нем?
И все же Сорель довольно легко преодолевает барьер ве-
ков. Даже сейчас еще он опьяняет и волнует нас. Он заставляет
нас смеяться и умеет нас увлечь.
А ведь «Франсион» написан в 1623 году. Ровно за два столе-
тия до книги «Расин и Шекспир».
9*
V. РЕАЛИЗМ КОРНЕЛЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ез сомнения, нет никакой
связи между новым вопло-
щением «Сида» Жераром
Филипом и прогрессом в изучении творчества Корнеля. Кстати,
мне могут заметить, что работа Октава Надаля «Любовь в твор-
честве Пьера Корнеля» датирована 1948 годом и что Жорж Ку-
тон (G. Couton), недавно эыпустивший два исследования —
«Ключ к «Мелите» и «Реалии в «Сйде» — под общим заглавием
«Реализм Корнеля»» («Réalisme de Corneille»), еще в 1949 году
опубликовал свой большой труд «Старость Корнеля» («La
Vieillesse de Corneille»).
Все это совершенно верно, но, пожалуй, существует какая-
то общая причина, объясняющая и выход в свет этих многочи-
сленных серьезных исследований, и интерес, который проявил
к «Сиду» Жерар Филип, и то необычное волнение, с которым
мы воспринимаем творчество Корнеля в наши дни и читаем
книгу «Корнель о самом себе» («Corneille par lui-même»), выпу-
щенную Луи Эрланом (L. Herland), как биографию нашего со-
временника.
Статья Жоржа Кутона о «Мелите», несмотря на строго на-
учный характер изложения, способна привлечь к себе интерес
широкой публики. Все знают, что «Мелита» — первая пьеса
Корнеля и что эта комедия была впервые представлена на сцене
в 1629 году; на этой дате ныне сошлись все. Сюжет пьесы та-
ков: некий богач Эраст любит женщину, не столь богатую, ко-
торая, однако, им пренебрегает. Его друг, Тирсис, вообще-то
в отличие от Эраста помышляет о женитьбе на невесте с значи-
тельным приданым; но, когда Эраст знакомит его с Мелитой,
Тирсис влюбляется в нее, и Эраст тщетно пытается поссорить
их. По словам Фонтенеля *, Корнель написал эту пьесу в девят-
JB
132
надцатилетнем возрасте. Она была поставлена в театре, когда
автору едва исполнилось двадцать три года.
Поклонникам Корнеля всегда страстно хотелось установить
истинных прототипов героев «Мелиты», ибо в комедии угадыва-
лась юношеская любовь великого писателя, а стихотворное по-
слание «Excuse à Ariste» 2 обессмертило эту романическую исто-
рию.
В те времена я был охвачен пылкой страстью,
Ее мне не забыть до гробовой доски:.
Ведь именно попав в любовные тиски,
Я начал воспевать стихами взоров томность,
Снискал себе успех, утрачивая скромность.
Плененный красотой, мой стих весь двор пленил;
Я славою своей любви обязан был.
Жорж Кутон предпринял серьезное исследование и устано-
вил с максимально возможной в данных обстоятельствах точно-
стью, что Мелиту в действительности звали «Катерина Гю, она
была дочерью Шарля Гю и Катерины Бокмар и вышла замуж
за Тома Дю Пона, контролера Счетной палаты Нормандии, на-
ходившейся в Руане», а не за Пьера Корнеля.
Из этой истории следует, что речь идет о детской и юно-
шеской любви Корнеля, которую он испытывал до двадцати
одного — двадцати двух лет. Жорж Кутон показывает, что в
жизни любовь Пьера Корнеля к Мелите не завершилась так
счастливо, как в комедии. Пьеса «заканчивается оптимистиче-
ской нотой: чувство влюбленных одержало верх над денежными
соображениями. Но в жизни все выглядело куда менее идилли-
чески — от денег так легко не отказываются. Одно дело —
флирт, другое — брак. Пока речь идет о невинных забавах мо-
лодежи, социальные различия как бы стираются; Мелита может
колебаться, кого ей предпочесть: искусного и способного ее про-
славить сочинителя сонетов или Эраста, который хотя и не
нравится ей, но принадлежит к числу «богатых простофиль»,
какие «не каждый день попадаются в сети». Но как только речь
зашла о браке, то родители быстро спровадили поэта и, не-
смотря на его «достоинства», посоветовали ему читать свои
вирши в другом месте. Слово, как говорится, остается за нота-
риусами, и тогда начинается своеобразное состязание, Какое
Бальзак (Оноре) описал в «Брачном контракте».
В связи со всем этим Жорж Кутон знакомит нас с социаль-
ной иерархией в XVII веке; эта представленная им картина —
своего рода шедевр как по точности-и документальности, так и
по возбуждаемому ею интересу. Исследователь установил, что
муж Мелиты (в ту пору, когда создавалась пьеса, он был еще
только претендентом на ее руку) занимал должность с доходом
в пять раз большим, чем тот, который получал от своих двух
133
должностей Пьер Корнель, королевский адвокат в Адмиралтей-
стве и в ведомстве Вод и Лесов. В нотариальных актах Корнель
именуется всего лишь «человеком благородного происхожде-
ния», а вытеснивший его Тома Дю Пон — «мессиром»; если об-
ратиться к классификации, которую Фюретьер приводит в своем
«Буржуазном романе», озаглавив ее «Сравнительная оценка
приличествующих партий, составленная для того, чтобы облег-
чить вступление в брак», то окажется, что Тома Дю Пон по об-
щественному положению стоял на две ступеньки, выше, нежели
Пьер Корнель; и Жорж Кутон заключает: «Подобное обстоя-
тельство может заставить призадуматься мать, у которой дочка
на выданье, да, пожалуй, и саму дочку».
Вторая статья- Кутона, «Реалии в «Сиде», как и первая, со-
держит наряду с анализом реальных фактов и историко-лите-
ратурный анализ. То, что пишет Жорж Кутон об истории дуэ-
лей и о других различных реалиях в «Сиде», весьма интересно.
Особенно же ценным мне представляется тот раздел в начале
его работы, где он останавливается на источниках глубокого
патриотизма этой пьесы.
«Сид», напоминает исследователь, был написан, по-види-
мому, * 1636 году: Корнель обычно работал быстро, и ничто
не указывает на то, что пьеса пролежала в его письменном столе.
В те месяцы враг со всех сторон подступил к нашим границам:
Сен-Жан-де-Лон в Бургундии держался великолепно, но испан-
цы были на Сомме, уже перешли пиренейскую границу. Испанцы
заняли Сен-Жан-де-Люс, Фонтараби, уже строили «сто неболь-
ших плоскодонных судов, чтобы, если потребуется, было легче
войти в реку Байонну». Волнение в Руане, по-видимому, было
огромное, ибо город находится в каких-нибудь ста километрах
от Корби. Руанцам было о чем тревожиться: не предпримет ли
враг попытку подняться по Сене? Не воспользуется ли он для
нападения приливом?»
Мы слишком часто забываем об обстановке в те годы. Шла
война, объявленная французским королем королю испанскому,
северная граница Франции в начале 1636 года была прорвана,
Бомон и Крей взорвали свои мосты. «Началось настоящее бег-
ство, — пишет Жоря£ Кутон, — Париж покидает всякий, кто мо-
жет. В Париже царит необычайная растерянность,;—отмечает
Монгла. — Все устремляются вон из города, и на дорогах в Ор-
леан и Шартр мчатся кареты и повозки, скачут верховые. Па-
риж и его окрестности опустели. Людям кажется, что если при-
дется оборонять столицу, то французское войско не сможет вы-
стоять... Правительство предпринимает исключительные меры:
мобилизуют работников из мастерских на возведение укрепле-
ний, реквизируют провизию...»
В августе пал Корби, но в ноябре французская армия вновь
134
занимает город. Вуатюр 3 пишет свое письмо «Господину XXX
после отвоевания города Корби у испанцев армией короля».
Письмо адресовано одному из врагов Ришелье, его цель — об-
разумить этого человека, который из ненависти к кардиналу
занял происпанскую позицию. Вуатюр показывает, какое стра-
тегическое и одновременно политическое значение приобрела
«осада крепости, к которой были прикованы взоры всего хри-
стианского мира». Крепость Корби превратилась в символ. Ее
возвращение Франции восстановило веру французов в свою
родину.
«Сид» был поставлен на сцене в декабре 1636 года.
«Смятенье во дворце, в народе страх великий;
Повсюду слезы льют, повсюду слышны крики*.
(Перев. М. Лозинского)
Победа в «Сиде» была тем, чем она остается для нас, — на-
циональной победой, и это хорошо понял Национальный народный
театр, вдохнувший новую жизнь в пьесу Корнеля. Мне пред-
ставляется, что Жорж Кутон вполне убедительно проанализиро-
вал и объяснил то обстоятельство, что в пьесе прославляется по-
беда испанского героя, в то время как в действительности фран-
цузы одержали победу над испанцами. Достаточно хорошенько
поразмыслить, чтобы прийти к заключению: и помимо тогдаш-
ней моды на все испанское, мотивы Корнеля вовсе не так проти-
воречивы, как это может показаться.
Я подробно остановился на последней работе Жоржа Ку-
тона, которая постепенно помогает нам ощутить действенную
жизненность Корнеля. У меня остается слишком мало места для
того, чтобы должным образом охарактеризовать книгу «Кор-
нель о самом себе», выпущенную Луи Эрланом. Тем не менее
я хочу отметить, что книга эта — одна из лучших в собрании
«Бессмертные писатели» и что она' в ясной и доступной форме
знакомит читателей со всем, что стало нам известно о Корнеле,
о богатой жизни, о величии этого вечно живого гения нашей ли-
тературы.
Книга написана великолепно. У меня есть только один упрек:
нет необходимости утверждать величие Корнеля за счет Расина.
Г-н Саша Гитри5, который за свои измены патриотическому
чувству вполне заслужил бы получить письмо, подобное тому
посланию Вуатюра, о котором мы упоминали выше, не способен
понять Корнеля и в своем опусе «Если бы мне рассказали
о Версале» низводит Расина до своего уровня. Этот печальный
пример убедительно показывает, что «великий век» предста-
вляет собою единое целое и что нельзя защищать величие Кор-
неля, не защищая одновременно величие Расина и всего «вели-
кого века» в целом против тех, которые усматривают в величии
Франции помеху для своих низменных расчетов.
VI. УБИЙСТВО КЛАССИКОВ КАК ОДИН
ИЗ ВИДОВ ИЗЯЩНОГО ИСКУССТВА
/. Расин, низведенный до роли лангусты
нашем XVII веке сейчас
вспоминают лишь для того,
чтобы выбрасывать его за
борт вместе с другими остатками величия страны. Послушайте,
что говорит Мальро — представитель «Новой левой» 1 среди
сторонников парижских соглашений: «Французы любят Расина,
поскольку они раз и навсегда объявили его воплощением Фран-
ции. Но ведь не может же Франция воплощаться в чем-то по-
средственном! Это и заставляет утверждать, что Расин великоле-
пен». Послушайте Монтерлана2, автора «Мартовского равноден-
ствия» *: «Нелепо утверждать, будто Расин — «величайший
французский лирический поэт». Но не будет нелепостью ска-
зать, что у него есть двадцать семь стихов, не имеющих себе
равных во французской поэзии... Мне скажут, что двадцать
семь стихов в десяти или двенадцати пьесах — очень немного.
Увы! Расин именно таков: это — лангуста, которую приходится
утомительно долго и терпеливо очищать, пока не доберешься до
крохотного нежного кусочка мяса».
Право же, после заключения культурных соглашений с Бон-
ном наша страна действительно уподобилась той Франции, ка-
кой она показана в популярных фильмах г-на Саша Гитри **.
* Вероятно, еще помнят, что до «Июньского солнцестояния» (1941),
где он стал на колени перед врагом, Монтерлан написал в 1938 году «Сен-
тябрьское равноденствие», где осудил Мюнхен. Парижские соглашения, спо-
собствующие перевооружению Германии, были окончательно ратифицирова-
ны, 15 марта 1955 Тода, а через неделю Мальро и Монтерлан написали
статьи, которые мы здесь цитируем.
** В фильме «Если бы мне рассказали о Версале» Расин изображен
лишь как писатель, замешанный в процессе об отравлении. И только.'
<&ШжАьУ
136
Что ж, будем разоблачать Расина, лишать величия Версаль, не
пожалеем вольных шуточек, на которые так способен француз-»
ский юмор; это развлечет зрителей, уже несколько уставших
от европейских ночных кабаре. Но нужно уважать традиции.
Та, что идет от XVII века, отмечена изяществом стиля, глуби-
ной мысли и верой в будущее страны. Отношение литераторов
к тому, что составляет высшее достижение нашего XVII века,
становится своего рода пробным камнем, как, например, в об-
ласти поэзии. Некий критик, желая унизить Гиейевика3, срав-
нил его с Буало...
Для полноты картины кого-то не хватает. Да, Мольера.
О нем недавно вспомнили в связи с тем, что один бельгийский
коллекционер в прошлом году объявил, будто он нашел принад-
лежащую перу Мольера неизвестную одноактную пьесу. Так
уж повелось у нас, что о Расине говорят для того, чтобы его
поносить, а о Мольере вспоминают из любопытства или, что
еще хуже, ради рекламы.
Однако в этом году нам предстоит им заняться. В предстоя-
щем сезоне Вилар покажет в Париже «Сумасброда». Тем самым
будет отмечено трехсотлетие этой пьесы, представленной впер-
вые в 1655 году в Лионе. В настоящее время Клуб лучшей
книги выпускает новое издание полного собрания сочинений
Мольера; два тома уже вышли. Это, пожалуй, наведет нас на
некоторые размышления. В самом деле, в то время как даже са-
мые видные официальные лица изо всех сил потворствуют пре-
небрежительному отношению к классическому наследию, мы ни-
когда не располагали столь великолепными средствами для того,
чтобы ознакомиться с нашими великими классиками, понять их
и полюбить, что особенно важно сейчас. Ведь в наши дни бук-
вально во всем перед нами две Франции: одна — воплощение
низости и малодушия — занимает авансцену; другая — храни-
тельница величия — оттеснена на задний план. Книга, которая
опрокинула привычные представления о XVII веке и дала нам
по-настоящему новое его понимание, всем хорошо известна. Она
даже была удостоена Большой премии за произведения
в области критики. И, быть может, именно поэтому Мальро и
Монтерлан столь яростно обрушились на Расина. Я имею в
виду «Историю французской литературы XVII века» * Антуана
Адана. Добросовестность исследования, четкость мысли и выра-
зительность изложения показывают, что его автор выступает
представителем лучших традиций нашей университетской куль-
туры.
** A. Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, Dbmat,
5tt. (1948-1956).
137
Однако надо уговориться о 'предмете спора. Если спор ве-*
дется, как нас стараются уверить, между теми, кто считает, что
мы теперь можем себе спокойно стричь купоны с надежного ка-
питала ценностей, созданных Францией в прошлом, и теми, кто
это отрицает, то он не выходит за рамки чисто академической
дискуссии. Добавлю, что такой спор и не представляет ника-
кого интереса: ведь в конечном счете обе точки зрения — лишь
разные формы отказа от классического наследия. Совсем другое
поражает меня в грубых выходках, которые позволяют себе
гг. Монтерлан, Мальро и Саша Гитри: это их стремление пред-
ставить французское искусство прошлого как забаву и развле-
чения, милые пустячки, услаждавшие жизнь двора. Вообще
говоря, высказывание, будто Расин создал всего-навсего два-
дцать семь стоящих стихотворных строк, может сойти за лите-
ратурное суждение, а утверждение, будто Версаль — лишь
королевская прихоть, — за суждение историка; но это ничего
не изменит ни в Расине, ни в Версале. Пагубные последствия
такой концепции — в другом. Сводя на нет величие Франции,
в чем бы оно ни проявлялось, опошляя его, нас стремятся
приучить к искусству, играющему роль жалкого утешителя
и находящемуся в полном согласии с официальной политикой
нашего времени. У Расина нашли двадцать семь прекрасных
стихов, стало быть, можно выхватывать наугад прекрасное у лю-
бого автора, не интересуясь остальным. Очевидно, есть нужда
в искусстве декаданса, способном в период, когда французская
нация приходит в упадок, утешать нас избитым рефреном:
«После нас хоть потоп!» Вы думаете, я преувеличиваю? Почему
же тогда Альбер Бегэн4 именно сейчас вздумал писать в «Эс-
при»: «Некоторые утверждают, будто литературное произведе-
ние должно непременно иметь общественное значение или иг-
рать какую-то роль в борьбе своего времени; такое отношение
к искусству, к творчеству, к магии художественного вымысла
выглядит как некий террористический акт: навязывать законы
человеческому деянию, главный признак которого полная сво-
бода, — значит отвергать е;го и принижать». И пусть не говорят,
что я нарочно вырвал из контекста фразу, которая меня устраи-
вает. Вот, если хотите, риторическая оговорка, которая следует
сразу же за приведенным выше утверждением: «Я не хочу ска-
зать, что искусство, будучи автономным, глухой стеной отде-
лено от совместных усилий людей, усилий, направленных на
улучшение общества, в котором они живут, но я полагаю, что
эти усилия должны опираться не на литературу, рабски предан-
ную узким социальным интересам, а на искания, успехи и на-
ходки совершенно независимого творческого процесса».
Очевидно, Альберу Бегэну невежественная попытка свести
творчество Расина к двадцати семи разрозненным стихам и раз-
138
делаться с ним, как с лангустой '*, не кажется' «террористиче-
ским актом». Напротив, это, по его мнению, — неотъемлемая
часть человеческого деяния, «чей главный признак — полная
свобода», не правда ли? «Свобода» оплевывать Расина или
выдавать Мольера за старого смешного шута! И можно, наобо-
рот, прослыть «террористом», если высказать непреложную
истину о том, что Расин и Мольер, — именно те писатели,
для которых литературное творчество немыслимо вне «его об-
щественного значения и роли в борьбе своего времени», вне
«совместных усилий людей, усилий, направленных на улучше-
ние общества, в котором они живут».
2. Мольер приспособляемый
Досадно, что с Мольером нельзя расправиться, как с лангус-
той. Никому еще не приходило в голову препарировать его
творчество и извлекать оттуда двадцать семь стихов. Поэтому
его нужно принимать — или отбрасывать — целиком. Но это не
мешает попыткам фальсифицировать его, хотя это и трудно и в
общем бесполезно. Я думал об этом, читая рассказ Рене Брэ
о создании «Смешных жеманниц», который он приводит в своем
предисловии к сочинениям Мольера в издании Клуба луч-
шей книги:
«Актер, в котором уже довольно поздно, в Лионе, проснулся
демон поэтического творчества, комедиант, ставший драматур-
гом, приехав в Париж, оказался в водовороте мучительных за-
бот. Позволит ли он иссякнуть своему вдохновению? Нет, это
невозможно. И все же совсем не писательское тщеславие заста-
вило Мольера в 1659 году вновь взяться за перо, оставленное
им три года тому назад **. Его труппа изнуряла себя репризами,
но ей не удавалось удержать зрителей. Ведь она еще не была
принята столицей. Был ли это провал? Мольер вспомнил, что
несколько месяцев назад в Лувре он сгладил неудачу «Нико,-
меда» 6, показав «Влюбленного доктора»: Тюрлюпен пришел на
помощь Корнелю. Однако он не мог довольствоваться редак-
* Вот еще подобное высказывание, но в выражениях более изыскан-
ных:
«По правде говоря, мне представляется возможным (хотя это в из*
вестной мере искусственно) различать два почти противоположных напра-
вления литературного творчества: одно, когда писатель выражает самого
себя, и второе, когда он подавляет свое я; в первом случае таящиеся в нем
демоны вырываются на волю, во втором он их обуздывает. Но в обоих
случаях демоны существуют. Литература XVII века, как и вся культура
того времени, почти целиком зиждется на таком обуздании». (Тьерри
Моньеб в «Фигаро литерер» по поводу суждений Мальро и Монтерлана
о Расине.)
** После пьес «Сумасброд» и «Любовная досада».
139
циями для сцены, которые раньше в провинции приносили его
театру успех: к привлекательной силе традиционного фарса он
добавил остроту сатиры. Уже несколько Лет приторные манеры
тогдашних жеманниц делали их предметом насмешек. Мольер
{ наспех набросал своих «Смешных жеманниц», вывел в главной
роли того же Маскариля, веселого краснобая, хорошо знакомого
зрителю «Сумасброда» и «Любовной досады», и добавил к нему
Жодле 7, который был любимцем всего Парижа. Замысел удался,
труппа была спасена».
Достоинство упомянутого собрания сочинений Мольера
именно в том, что в предисловиях Рене Брэ и г-жи Дюссан пра-
вильно определена его роль как театрального деятеля. Но надо
сказать, что Рене Брэ уж слишком увлекся своей концепцией,
утверждая: «Творчество Мольера диктовалось заботой о зри-
тельном зале. Около тридцати комедий было поставлено за пят-
надцать театральных сезонов. И почти все они отвечали потреб-
ностям текущего дня. Причем комедий появлялось тем больше,
чем реже приходила помощь извне... Мольер приспособился
к такой кабале, прекрасно понимая, что она неотделима от его
положения и что он обязан отвечать запросам публики, а не
стремиться создавать шедевры или искать путей для самовыра-
жения в искусстве». Все же в подобном исследовании нельзя
было обойтись без поправки, подсказанной самими фактами.
Вот почему Рене Брэ добавляет: «Многие комедии Мольера точ-
но соответствуют нравам и идеям именно той поры, когда они
были созданы: они участвовали в развитии общественного со-
знания».
Я так детально проследил ход мыслей Рене Брэ, потому что
они представляются мне весьма характерными. Автор,4 отправ-
ляясь от концепции, стремящейся представить искусство
Мольера лишенным большого содержания, в конце концов ока-
зался вынужденным это содержание в* какой-то мере признать и
показать читателю некоторые связи, существующие между
творчеством Мольера и реальной действительностью. Это еще
весьма далеко от точного анализа этих связей. Как я уже упо-
минал, такой анализ был сделан в наше время Антуаном Ада-
ном. Хочу привести для сравнения одно лишь его высказывание
о «Смешных жеманницах»: «Современники были поражены са-
тирическим смыслом пьесы, и это-то явилось причиной ее ог-
ромного успеха. В маленьких комедиях, написанных до
1659 года, обычно не затрагивались актуальные темы. Мольер
Первым из драматургов специально посвятил пьесу сатириче-
скому осмеянию модного общественного явления и — что еще
ужаснее — создал сатиру, затрагивавшую людей, реально су-
ществовавших и к тому же весьма известных».
Это подводит меня к моему тезису — о реализме Мольера.
140
3. «Замученный директор театра, который надрывался,
создавая пъесы^ чтобы компенсировать убытки,
причиненные ему Корнелем...»
Мольер — писатель-реалист. Достаточно написать эти слова,
чтобы тем самым выступить против всех модных критиков.
Правда, модная критика специально не оспаривает реализм
Мольера. Она прежде всего утверждает, что Мольер вообще
не писатель, затем стремится доказать, что он меньше всего на
свете собирался судить свою эпоху и что пьесы-то он писал
лишь в силу необходимости, так как был директором театра.
Предисловие Рене Брэ, которое я цитировал, является, в
сущности, лишь очень смягченным вариантом положений его
исследования *, опубликованного в прошлом году, незадолго до
смерти автора. А' в 1955 году приведенные мною выше мысли
Брэ стали своего рода официальной точкой зрения. Поскольку
в подобных вещах принято призывать на помощь авторитеты,
в данном случае ссылаются на Луи Жуве 8... И, чтобы придать
больше достоверности всему делу, приводят пример из совре-
менности — Чарли Чаплина. Мольер, говорят нам, был своего
рода клоуном с лицом, обсыпанным мукой, своего рода персона-
жем комедии дель арте, у которого хватало сообразительности
умело штопать дыры в репертуаре своего театра. А вот что пи-
шут о Чаплине: «Ни одного миллиграмма философской сосре-
доточенности нельзя было найти в кудрявой, увенчанной котел-
ком голове акробата, сбежавшего из «Карно пантомим компа-
ни» под дружескую ферулу Мак-Сеннета. Но порой выражение
задумчивой меланхолии мгновенно появлялось на этом лице,
где, как на трафарете, были только две краски: белая и черная,
и это выражение все более настойчиво подчеркивалось кинока-
мерой, которая уже предвещала будущее. Перед нами, букваль-
но на наших глазах, возникал образ — сначала едва намечен-
ный, а потом все более четкий, все более совершенный, создан-
ный Чаплином бессмертный тип маленького человека — одино-
кого, гонимого, потерянного, но сохраняющего свою человеч-
ность» **.
Когда Жуве несколько подчеркнуто напомнил в 1937 году,
что Мольер был прежде всего режиссером и актером, это за-
явление наделало шума.
Критики из университетских и неуниверситетских кругов
уже давно засушили Мольера. В 20—30-е годы французское
мольероведение возглавил Г. Мишо: он так препарировал
тексты и так упорно ставил под сомнение те немногочисленные
* R. Вгау, Molière homme de théâtre. Mercure de France, 1954.
*• О диберти, Мольер., изд. Арш, 1954.
141
факты биографии Жана-Батиста Поклена, которыми мы распо-*
лагаем, что создал в результате крайне обедненное представление
о Мольере и о его творчестве.
Из очерка г-жи Дюссан «Мольер на сцене», помещенного в
издании Клуба лучшей книги сразу же за предисловием
Рене Брэ, следует, что так же обедняли смысл произведений
Мольера и в постановках его пьес в конце XIX—начале XX века.
Когда же почувствовали, что необходимо наконец обновить эти
постановки, то возникла дилемма, которая, по-моему, хорошо
сформулирована г-жой Дюссан в ее высказывании по поводу
спектаклей, поставленных в 1922 году в честь трехсотлетия со
дня 'рождения Мольера: «Если лрежде мольеровский вольный
юмор старались сознательно завуалировать или обескровить, то
мы уже давно пытаемся его вновь оживить. Нашим предшест-
венникам в XIX веке удалось, по крайней мере в некоторых ро-
лях, воссоздать глубоко и по-настоящему полно подлинно
«французского» Мольера. Отдавая 'себе отчет, что и в этом от-
ношении нам невозможно * достичь большего, мы тешим себя, за-
нимаясь воспроизведением Мольера «итальянского» и «галль-
ского».
И г-жа Дюссан отмечает, что понадобилось авторитетное
вмешательство такого передового актера, как Жуве, чтобы осме-
лились возвратиться к прошлому, например полностью восста-
новить текст монологов Арнольфа в «Школе жен» и придать
им жизнь смелым обращением актера прямо к публике, «как,
совершенно очевидно, делал сам Мольер при создании этого
образа».
Постоянная забота Жуве «играть пьесу», как он сам мне
сказал после постановки «Тартюфа» в интервью, в котором
он давал отпор обрушившимся на него критикам, его стремле-
ние возродить Мольера — театрального деятеля таким, каким
тот был на самом деле, получило в настоящее время всеобщее
признание. По крайней мере на словах.
Но то, что у Жуве было средством возродить истинного
Мольера, превращается сейчас в свою противоположность. Дю-
виньо в послесловии к очерку Одиберти следующим образом
резюмирует смысл книги Рене Брэ: «В отличие от многочислен-
ных исследований, которые в конечном счете вопреки непрелож-
ной истине превратили Мольера в писателя, автор рекомендует
видеть в Мольере прежде всего театрального деятеля, чтобы
понять его как художника». Понимаете, куда клонят наши ав-
торы? Дело в том, что, по их представлениям, писатель мыслит,
а театральный деятель — нет. Мольер гениален, потому что, как
вещает Одиберти, «он — профессиональный актер, замученный
Речь идет о театре Комеди франсез.
142
директор театра, который надрывался, создавая пьесы, чтобы
компенсировать убытки, причиненные ему Корнелем и Раси-
ном».
Итак, коль скоро Мольер писал пьесы лишь в силу сложив-
шихся обстоятельств, бесполезно выяснять, какие он в них
вкладывал мысли.
4. «Тартюф» и «Возмутительная книга»
Нелепый подход к # Мольеру как к священному идолу, су-
ществующему вне времени и пространства, не лучше тяжеловес-
ных рассуждений Г. Мишо, низводящего Мольера в разряд до-
бропорядочных буржуа. Подобная критика сразу же и реши-
тельно отказывается от рассмотрения содержания его пьес; она
интересуется лишь внешними театральными эффектами, тогда
как Мольер высказывает глубокие мысли; вот почему она ока-
зывается неспособной что-либо объяснить.*Она заявляет о своей
точности в исследовании жизненного пути Мольера только для
того, чтобы его исказить.
Можно спорить о глубоких идеях «Тартюфа» или «Дон
Жуана», но одно бесспорно: Мольер по возвращении в Париж
был близок к группе либертинов и атеистов, собиравшейся в го-
стинице Круа-Бланш. Его связи с приверженцами Гассенди,
с Ламот-ле-Вайе9, равно как и с Шапелем 10, не вызывают со-
мнений.
Именно в такой среде и был создан памфлет «Возмутитель-
ная книга» (1663), который современники приписывали Моль-
еру, что, конечно, неверно; но все же вероятно, что Мольер при-
ложил к нему руку. Во всяком случае, не доказано обратное.
В пяти стихотворных диалогах «Возмутительной книги»
яростно бичуются Кольбер м и министры, Анна Австрийская
и иезуиты; Антуан Адан совершенно прав, подчеркивая род-
ство этого памфлета с «Тартюфом». В «Возмутительной книге»
источником всех несчастий страны являются происки ханжей»
иезуитов. С ними тесно связан и Кольбер, который рассказы-
вает о том, как он убедил мадемуазель Лавальер 12 подчиниться
воле короля:
Казалось, цель моя, труды — пойдет все прахом,
я был в отчаянье, но тут судьба сама
на помощь мне пришла. «Король наш без ума
от крошки Лавальер», — шепнули эмиссары;
проникнуть я велел им в тайны этой пары...
Тогда задумал я девицу просветить.
• v И постепенно мне ей удалось внушить,
что правила, мораль на редкость бестолковы,
они — не более чем цепи, чем оковы,
чтоб женщин обуздать. Стыдливость, совесть, честь ^~
143
лишь громкие слова, и вряд ли смысл в них есть.
А то, что все ханжи встречают с осужденьем,
одни лишь дурочки считают преступленьем.
Но те, в ком тонкий вкус соседствует с умом,
не станут никогда любовь считать грехом.
Любовь же короля для подданной почетна...
Господин Берье
Вы честью девушки играли, как мячом...
Господин Кольбер
Чтоб возвеличиться, я б стал и палачом!
Нетрудно представить себе, какой эффект произвел «Тар-
тюф» на тех из современников, которые уже были знакомы
с «Возмутительной книгой». Понятно, что ханжи «начали
строить козни, едва пьеса была закончена в первом варианте»
и показана на сцене 12 мая 1664 года. Понимал ли автор, что
он навлекает на себя подозрение в том, что метит в самого
Кольбера?
Он сознавал, что делал, и к тому же ясно представлял себе
•опасность, которой подвергался, так как правосудие тогда круто
обходилось со слишком смелыми авторами.
Как вполне обоснованно пишет А. Ада«, в августе 1662 года
двадцатитрехлетний парижский адвокат Клод ле Пти был при-
говорен к смерти судом Шатле за то, что написал «стихотвор-
ные произведения, содержащие неуважительные отзывы о вла-
стях и официальной религии». Он погиб на костре 1 сентября;
предварительно ему отрубили кисть руки. Это не единичный
случай, а свидетельство ухудшения условий, которые, по сути
дела, не изменились после процесса Теофиля в 1626 году.
Кольбер некоторое время спустя ставил перед только что
созданным Полицейским советом следующие вопросы:
«Какой порядок надлежит учредить, дабы пресечь торговлю кни-
гами, запрещенными цензурой и изъятыми, ввоз оных книг во
Францию из-за границы, в частности из Англии и Голландии, а
равно и печатание на территории королевства клеветнических па-
сквилей и их распространение? Какие правила надлежит выра-
ботать для типографов? Нельзя ли сделать так, дабы печатные
литеры имели отличительные признаки, по которым можно было
бы распознать типографию, где напечатана книга, и чтобы ничего
не печаталось без ведома должностных лиц; и не будет ли удоб-
нее разместить всех типографов вблизи Университета?» Вот
как обстояло дело с книгами! Упустить из виду эти репрессии,
неусыпное бдение полиции, суд в Шатле и плебейское происхо-
ждение Мольера — значит обречь себя на полное непонимание
«Дон Жуана», «Тартюфа» и даже спора вокруг «Школы жен».
Мольер рисковал не только своим благополучием или процве-
танием, но и самой свободой и жизнью. Антуан Адан с полным
основанием так характеризует состояние умов в 1660 году:
144
«Шедевры наших великих писателей создавались в обстановке
далеко не безмятежной; напротив, они рождались среди опасно-
стей. Они утверждали свободу в обществе, которое все глубже
погружалось в рабское состояние».
Конечно, некоторые критики вольны писать, будто Мольер
не ведал, что творил. Но пусть тогда они ясно скажут, чего
они добиваются этими своими утверждениями во Франции на-
ших дней.
5. Эрудиты портят удовольствие Роберу Кану
Лабрюйер дал нам ключ к пониманию творчества наших ве-
ликих классиков, и в частности Мольера, заявляя: «Человек,
родившийся французом и христианином, оказывается связан-
ным в своих попытках взяться за сатиру, большие темы для
него запретны; иногда он принимается за них, но отклоняется,
вынужденный обратиться к вещам незначительным, которые он
возвеличивает красотою своего гения и стиля».
Лабрюйер, как никто другой, знал цену слова. А ведь нас
(для начала) хотят заставить забыть, что Мольер порой брался
за «большие темы» вопреки всем запретам.
Подход к Мольеру как деятелю театра в предлагаемом нам
плане имеет еще одну сторо"ну: таким образом окончательно
лишают значения этого великого человека. Впрочем, как и Кор-
неля и Расина. Робер Кан 13 знает материал несколько лучше,
чем наши критики-дилетанты, и поэтому не отрицает политиче-
ского содержания, политических целей пьес наших великих
классиков. Во всяком случае, поначалу. «В самых благоприят-
ных случаях, — пишет он по поводу книги Жана Помье «Ас-
пекты творчества Расина» *, которую он безоговорочно осу-
ждает, — происходит следующее: характеры мало-помалу засло-
няют политику. В конце концов полностью забываешь намеки,
которые автор вводил в текст. Они уже никого больше не за-
нимают и не интересуют в зрительном зале. Одни лишь эру-
диты рьяно доискиваются их и с шумом оповещают о своих
находках; спорят между собой, одни выступают pro, другие
contra. Им не мешают этим заниматься и, чтобы не портить
себе наслаждение, попросту забывают о них. Можно считать
доказанным, что почти все пьесы Корнеля преследуют полити-
ческие цели. Но какое это имеет значение? Совершенно оче-
видно, что молодым москвичам, восторгавшимся в апреле про-
шлого года «Сидом» и, не было никакого дела ни до Ришелье,
запретившего указом дуэли, ни до испанцев, захвативших город
* J. Pommier, Aspects de Racine, Nizet, éditeur, 1954.
10 П. Деке 145
Корби *, ни до королевы Анны Австрийской... Кому на теат*
ральном фестивале в Авиньоне было интересно, что «Цинна» —
это, своего рода челобитная в пользу руанцев, восставших про-
тив непомерных налогов, и просьба прекратить суровые кары —
казни через повешение и тому подобное, которые Сегье1б
обрушил на непокорных магистратов».
Право же, благомыслящая критика надевает на глаза шоры.
Увеличивает или уменьшает удовольствие от спектакля знаком-
ство с исследованиями эрудитов? Нелепая постановка вопроса!
Но вряд ли режиссеру безразлично, что у Корнеля были такие
намерения, когда он писал «Сида» или «Цинну». Вряд ли ему
также не интересно и то, что Мольер, создавая «Дон Жуана»,
имел в виду пьяные скандалы и низменные поступки разврат-
ных вельмож из окружения брата короля. И то, что, создавая
«Тартюфа», Мольер метил в святош, осмеянных в «Возмути-
тельной книге»!
\1о не это главное. Можно ли понять Корнеля, Мольера или
Расина, не проникая в тайны их творческой лаборатории? Не
зная их намерений? Мольер, как и Буало, принадлежал, по со-
временной терминологии, к оппозиции. И, если по отношению к
Расину эта проблема более сложна, она от этого не становится ме-
нее значительной. Почему же мы сами должны обрекать себя на
незнание их внутренних побуждений? Может быть, из опасения,
что теперь, триста лет спустя, будут следовать дурному примеру
этих писателей, которые создали бессмертные образы, хотя и сме-
ло участвовали в борьбе своего времени, оставив после себя бое-
вую литературу, приобретшую общечеловеческое значение?
Бесспорно, что обстоятельства того времени потеряли для
нас свое значение. То, что Мольер ожесточенно нападал на
Кольбера или что Кольбер решительно вынуждал всех прини-
мать новшества, которые он считал необходимым ввести, — все
это уже прошлое, и вряд ли сейчас столь важно разбираться,
кто из них был прав. Разделяющие их противоречия стерты
временем. Деяния Кольбера, как и пьесы Мольера, стали не-
отъемлемой частью нашего национального достояния. Однако
в отличие от вклада Кольбера наследие Мольера сохраняется
как живое и близкое нам вплоть до сегодняшнего дня. И чтобы
приобщиться к нему и почерпнуть из него все, что возможно,
нужно, чтобы Мольер оставался для нас не просто именем, а
борцом, каким он и был на самом деле **.
* Это в свою очередь выпад против Ж. Кутона, который в 1953 году
опубликовал свое замечательное исследование о «Мелите» и «Сиде» (см.
«Реализм Корнеля и национальная независимость»).
** Замечу, кстати, что в начале XVII века жил французский писатель
по имени Мольер д'Эссертин, друг Сореля и Теофиля. Он слыл безбож-
ником и ярым либертином. В 1624 году он был убит. Не об этом ли
Мольере думал молодой Жан-Батист Поклей, выбирая себе псевдоним?
' Но
б. Мольер и реализм в романе
Тайна Мольера дювсем не там, где ее обычно ищут, не в раз-
дражающих белых пятнах его биографии (годы молодости и
весь период формирования его как писателя). Это область, от-
крытая для находок. Куда важнее изучать Мольера как пи-
сателя, сами его пьесы.
И вот мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: менее
всего известен и менее всего изучается в наши дни Мольер
именно как писатель; никого, по существу, кроме Антуана
Адана, эта проблема не привлекает!
Если мы займемся Мольером как писателем, то сразу же
множество проблем прояснится. При ближайшем рассмотрении
Мольер перестает быть исключением. Достаточно, например,
обратить внимание на тот факт, что самый значительный период
его творчества — от возвращения в Париж в 1659 году до
смерти — совпадает по времени с большими изменениями в ли-
тературном жанре, не игравшем тогда главной роли, — в романе,
и сразу становится ясно, что Мольер внес огромный вклад не
только в развитие комедии того времени, но и в развитие лите-
ратуры вообще. Конечно если ее рассматривать как осознанное
средство выражения действительности. А таковым оно стано-
вится во Франции именно в данную эпоху.
Вторая часть «Комического романа» Скаррона появляется в
1657 году. А его продолжение — в 1663 году. Донно де Визе16
своими «Галантными и комическими новеллами» решительно по-
рывает с традицией идеалистического романа де Скюдери l7, а
в 1671 году Сюблиньи 18 публикует свою книгу «Ложная Се-
лия», смелость которой заключается в том, что автор подчерки-
вает: «Мало кто до меня решался давать французские имена
своим героям». Это было действительно -смелым по тем време-
нам, и Сюблиньи заранее просит прощения за то, что он может
шокировать людей, которые приходят в негодование, когда в
романе говорится о современных фактах, событиях и приключе-
ниях, а героям даются реальные имена вместо того, чтобы име-
новать их Альсидор или Атенаист. Антуан Адан отмечает, что
начиная с этой даты появляется все больше такого рода рома-
нов. В том же 1671 году Мольер, завершая тем самым линию
развития, восходящую к «Жоржу Дандену» и господину Жур-
дену, дает французские имена персонажам «Графини д'Эскар-
баньяс». В «Графине д'Эскарбаньяс» персонажей зовут Ти*
бодье, Гарпен, Бобине.
Рассматривать произведения Мольера в отрыве от этой реа-
листической линии в развитии романа, от этого нового течения
во французской литературе, стремившегося к отражению совре-
менного мира, — значит не видеть глубоких корней его творче-
10*
147
ства. Значит отрывать Мольера от близких ему авторов*.
Между ним и Скарроном, а также между ним и Фюретьером
существовали прочные связи, о которых мы, правда, не столько
знаем, сколько догадываемся: речь идет о близости Мольера
к кругам гассендистов и либертинов, о их общей оппозиции про-
искам ханжей. То были, разумеется, связи негласные, поскольку
приходилось опасаться полиции.
Изучая состояние этого нового типа романа к моменту
смерти Мольера, Антуан Адан пишет: «Критиковать, конечно,
еще не помышляют, но уже не дают больше себя дурачить. Ро-
манисты теперь осмеливаются писать о той действительности,
которую Ла-Кальпренед 19 и Скюдери в свое время бездумно
искажали. Отныне будут создаваться романы прозорливые и
честные. Вопреки конформизму эта литература будет существо-
вать и развиваться. И в один прекрасный день она даст нам
«Крестьянина, вышедшего в люди» 20 и, что еще важнее, романы
Дидро».
Добавляю, что Мольер сыграл в этой эволюции достойную
его роль. Огромную роль.
В первой своей пьесе «Сумасброд, или Все невпопад», постав-
ленной в Лионе в 1655 году, Мольер подражает, как нас уве-
ряют, пьесе «L'Inavvertito»21 итальянца Барбьери, появившейся
в 1629 году.
Если говорить о сюжетной интриге, то это верно. Но слуга
Маскариль — уже новый тип, введенный Мольером. В общем
понятно, из чего исходил Мольер. Можно догадаться, откуда
возник Маскариль: он не так уж далек от слуг комедий, появив-
шихся до Мольера. Но как в таком случае объяснить различие
между стилем «Сумасброда» и других комедий того времени?
Говорят, Виктор Гюго считал, что комедия «Сумасброд» на-
писана лучше всех других пьес Мольера. При чтении нельзя
не согласиться с этим мнением. Захватывает и потрясает лег-
кость и мастерство, которое проявляет Мольер, пользуясь
александрийским стихом.
Тг i f al din
Entrez donc.
Lél i e
Après vous.
Маас ar il 1 e
Monsieur, en Arménie,
Les maistres du logis sont sans cérémonie.
* Начиная с Шарля Сореля, автора первого реалистического романа
XVII века «Франсион», Мольер черпает у него сюжеты, а роман Сореля
«Полиандр» (1648), где изображена финансисты, подсказывает ему экспо-
жнцию «Тартюфа».
148
Труфальдин
Войдите.
Лел ий
После Вас.
Маскариль
Сударь, хозяин дома
В Армении всегда идет пред незнакомым...
(Перев. Е. Полонской)и
Стих комедии использует здесь разговорную речь со сме-
лостью, подлинное значение которой нам сейчас трудно даже
оценить. Правда, во времена Мольера сладкоречивые тирады
не распустились еще в языке трагедий столь дышным цветом
(достаточно в этой связи назвать Корнеля), как позднее, к тому
времени, когда Гюго писал «Эрнани». Но, как бы то ни было,
«Войдите. — После Вас» звучит совсем неплохо. А что сказать
о диалоге между «Сумасбродом» и его слугой!
Léli е
Dois-je éternellement ouyr des réprimandes?
Dequoy te peux-tu plaindre? a y-je pas réussi
En tout ce que j'ay dit depuis...
M asc ar i 11 e
Coussi, coussi.
Témoin les Turcs, par vous appelez hérétiques,
Et que vous asceurez, par sermens authentiques,
Adorer pour leurs Dieux la Lune et le Soleil.
Passe: ce qui me donne un despit non-pareil,
C'est, qu'icy vostre amour étrangement s'oublie.
Лелий
И слушать не хочу твои нравоученья!
Ты недоволен? Чем? Уж как ты ни верти,
я славно все сказал!
Маскариль
Сказал, да не ахти!
Еретиками вы всех турок обозвали
и клятвенно еще при этом уверяли,
что солнце и луну они за бога чтут.
Но это пустяки, а в том опасность тут,
Что нагреваетесь вы сразу, словно топка...
(Перев. Е. Полонской) м
Тут — ни одного неуместного слова, ничего лишнего. Инто-
нация точно пригнана к стиху. Он «разламывается» там, где
нужно выделить народное выражение: «Сказал, да не ахти!», и
149
автор умелым и разнообразным чередованием цезур добивается
нужных смысловых ударений. Достаточно сопоставить это со
спорами о стиле «Эрнани», чтобы убедиться, с какой смелостью
и точностью Мольер использует александрийский стих уже
в первой своей пьесе.
7. «Когда же вы изображаете обыкновенных людей,
то уж тут нужно писать с натуры»
Нельзя забывать, что влияние Мольера не ограничивается
лишь рамками театральной традиции. Мольер — автор, чьи
вещи читают не меньше, чем смотрят. Если Мольер и звучит
по-настоящему только со сцены некоторых театров, то при этом,
несомненно, литературный текст его пьес сохраняет все
свое значение. Значение их не равноценно. Но в любом случае
Мольер — великий писатель. И всякий, кто хотел учиться
у него стилю, брал эти уроки не только с голоса актеров. Я счи-
тал необходимым подчеркнуть несравненное мастерство, которое
проявляет Мольер начиная с первой же пьесы, потому что, как
показывают факты, в дальнейшем стиль драматурга стал ка-
заться современникам революционным, новаторским, и это дает
еще больше оснований сравнивать его с Виктором Гюго.
Антуан Адан отмечает, что во времена Мольера существо-
вала традиция большой пятиактной комедии, разработанная
Скарроном24, Корнелем25, Кино26, Буаробером27; и что враги
Мольера упрекали его в том, будто он ее разрушил своими
буффонадами. «Тем более,—»пишет Антуан Адан1} — что сви-
детельства эпохи рисуют нам образ драматурга прямо про-
тивоположным тому образу, который в конце концов был
нам навязан академической критикой, и враги Мольера были
правы в том смысле, что его творчество, питавшееся живыми
народными источниками комического, было революционным и
противостояло формам драматического искусства, почитавшимся
учеными-теоретиками и представителями высшего света того
времени».
Достаточно вспомнить ссору, разгоревшуюся вокруг «Шко-
лы жен», чтобы увидеть, что, хотя спор велся о вещах весьма
серьезных и мог иметь для Мольера очень печальные послед-
ствия вплоть до обвинений в кощунстве, в нем не обходились
и вопросы реализма языка. Когда читаешь заключительный от-
рывок диалога, который подвергается нападкам по совсем дру-
гому поводу, нельзя не восхищаться тем, как свободно поль-
зуется Мольер александрийским стихом:
150
Arnolphe
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelqu'autre chose?
(La voyant interdite).
Ouf.
Agnès
Hé, il m'a...
Arnolphe
Ouoy?
Agnès
Pris...
Arnolphe
Euh!
Agnès
Le...
Arnolphe
Plaît-il?
Agnès
Je n'ose,
Et vous vous fascherez peut-eetre contre moy.
Arnolphe
Non-
Agnès
Si fait.
Arnolphe
Mon dieu! non.
Agnès
Jurez donc vostre foy.
Arnolphe
Ma foy, soit.
Agnès
Il m'a pris... vous serez en colère.
Arnolphe
Non.
Agnès
Si.
Arnolphe
Non, non, non, non! Diantre! que de mystère!
Qu'est-ce qu'il vous a pris?
Agnès
II...
Arnolphe (à part:)
Je souffre en damné.
Agnès
11 m'a pris le ruban que vous m'aviez donné.
151
А р н о л ь ф
Ну, а не брал ли он у вас чего другого?
(заметив, что она смущена)
Уф!
Агнесса
Он...
А р н о л ь ф
Что?
Агнесса
Взял...
А р н ол ь ф
Ну-ну?
Агнесса
Мою...
А р н о л ь ф
Что ж?
Агнесса
Нет ни слова!
Своим рассказом вас я, верно, рассержу...
А р нол ь ф
Нет.
Агнесса
Да.
Ар но ль ф
О боже, нет!
Агнесса
Клянитесь — я скажу!
Арнольф
Ну, так и быть, клянусь.
Агнесса
Он взял... Вам будет больно.
Арнольф
Нет.
Агнесса
Да.
Арнольф
Нет, нет, нет, нет! Черт, право тайн довольно.
Ну, что он взял у вас?
Агнесса
Он...
Арнольф (в сторону ;
Как в огне стою»
152
Агнесса
Он как-то у меня взял ленточку мою;
то был подарок ваш, но я не отказала.
(Перев. В. Гиппиуса) 2*
Этот отрывок знаком каждому, но, только вчитываясь в
него, видишь, каким прекрасным поэтом был Мольер! Из-за
того, что жанры рассматриваются в изоляции, а театр изучают
как обособленный мир, связи, существующие между жанрами,
перестают нами улавливаться, даже когда речь идет о Гюго,
который был одновременно поэтом, романистом и драматургом.
Я понимаю, что назвать Мольера великим поэтом — признак
дурного вкуса, ибо, если верить нашим критическим авгурам,
имеется, дескать, непроходимый барьер между стихотворным
текстом пьес и поэзией. Меня интересует здесь другое. Даже
не то, замыслил ли Мольер все восемь реплик до реплики Аг-
нессы «Нет, ни слова» как один александрийский стих, а то,
что он его написал. Это не спор о словах. Совершенная приспо-
собленность александрийского стиха к разговорному языку,
удивительное расчленение стиха (одна стопа, одна, одна, одна,
две, две, одна, четыре), с тем чтобы точно передать отры-
вистость вопросов и ответов, — все это учит нас тому, какие
богатые возможности заложены в александрийском стихе. И
при этом здесь такая сила реализма, что условные имена персо-
нажей оказываются явно неуместньши. По-видимому, и сам
Мольер это почувствовал и дал поэтому Арнольфу другое имя,
«господин де Ла Суш», что также было своего рода реалистиче-
ским элементом в характеристике Арнольфа.
Любопытно, что именно в «Критике «Школы жен» Мольер
определил своеобразие своего искусства, вложив в уста До-
ранта следующие слова: «Когда вы изображаете героев, вы со-
вершенно свободны. Это произвольные портреты, в которых
никто не станет доискиваться сходства. Вам нужно только сле-
дить за полетом вашего воображения, которое иной раз слишком
высоко заносится и пренебрегает истиной ради чудесного. Когда
же вы изображаете обыкновенных людей, то уж тут нужно
писать с натуры. Портреты должны быть похожи, и если в
них не узнают людей нашего времени, то цели вы не до-
стигли» 29.
Мольер1— во всяком случае, в период от «Сумасброда» до
«Школы жен» — не переставал совершенствовать свое мастер-
ство драматического поэта: во всех пьесах он непрестанно рас-
ширял свой регистр; достаточно только посмотреть, как он ра-
ботал над прозой, чтобы убедиться в том пристальном внима-
нии, какое он уделял совершенствованию языка.
153
Такое торжество всех выразительных средств языка пред-
ставляет собой, если хорошенько вдуматься, удивительную
вещь. Именно у Мольера можно услышать подлинно народный
говор XVII века*. Этот факт достаточно подчеркивали, так
что я не буду на нем останавливаться; но это видно уже в «Су-
масброде», в сцене, где Маскариль переодевается швейцаром.
Эта сцена, как известно, принесла Мольеру-актеру необычай-
ный успех.
Подводя итоги наблюдениям над языком Мольера, ду-
мается, нельзя не признать, что великий драматург был созна-
тельным реалистом. Языковые находки Мольера, его тщатель-
ную заботу о точном воспроизведении современной ему разго-
ворной речи и стремление снабдить каждый персонаж соб-
ственной точной лексикой, интонацией и, если нужно, акцен-
том — все это иногда объясняют театральным чутьем Мольера
или находят еще какие-нибудь не менее туманные выражения.
Такое объяснение могло бы сойти за истину, если бы Мольер
был всего лишь словесным эквилибристом. Однако начиная
со «Смешных жеманниц» и вплоть до «Скупого» каждая из
пьес Мольера имеет общественный, даже политический смысл,
причем легко распознаваемый. И явная натяжка — предполагать,
будто Мольер был бессознательным реалистом и в содержании
своих произведений, и в форме выражения. На самом деле все
обстоит значительно проще. Множество фактов служит тому
доказательством.
«Гений Мольера, его культура, — отмечает Антуан Адан,—
побуждали драматурга вводить в комедии проблемы мораль-
ного характера. Это было тогда большим новшеством. Но тут
следует сделать некоторое уточнение. Критики, не читавшие ни
Скаррона, ни Буаробера, ни Кино, ни Тома Корнеля, вообра-
зили, будто эти авторы создавали пьесы с неправдоподобными
интригами и химерическими персонажами, они решили также,
что до Мольера в нашем театре царили произвол и фальшь. Но
в действительности это было не так. Хорошо выписанные
сцены, правдивые черты характера и точные выражения в изо-
билии встречаются у этих незаслуженно презираемых авторов.
Но комедия, по их понятиям, имела лишь одну цель — развле-
кать. Их основным недостатком была беззаботность. Вот по-
чему современники были крайне удивлены, увидев в Пале-Роя-
ле комедии, в которых нравы эпохи сознательно воспроизво-
дились с поучительной целью».
Антуан Адан уточняет: «Комедии Мольера казались совре-
менникам «приятным изображением их времени», своего рода
«картинами повседневно случающихся явлений обыденной жиз-
* Я не говорю о Сореле, но ведь их разделяет целое поколение.
154
ни». Нередко к нему даже приходили люди знатного проис-
хождения и приносили описания смешных событий, которые
они сами наблюдали в светском обществе. Нам все это известно
из свидетельств современников, никем еще не опровергнутых.
Ничего подобного не было у других комедийных авторов, со-
временников Мольера; достаточно прочитать их произведения,
чтобы в этом убедиться. Он был первым драматургом, который
ввел в свои пьесы образы жеманниц, маркизов, врачей, ханжей
и святош».
Словом, все материалы, посвященные творчеству Мольера,
которыми мы располагаем, приводят нас к выводу: великое но-
ваторство Мольера как для его эпохи, так и для истории на-
шей литературы состоит в том, что он воссоздавал непосред-
ственную реальную действительность своего времени и выводил
своих современников, стремясь воздействовать на них, чтобы
их изменить.
8. О некоторых забыты* источниках
Не только своим предшественникам по театру обязан Моль-
ер новшествами, которые он внес в драматургию. Конечно, он
много взял от комедии дель арте30, он хорошо знал своих фран-
цузских предшественников, равно как и испанский театр. Но
ему были не менее близки и фаблио, и фарсы наших Средних
веков, и творчество Рабле. Поэтому, говоря о нем, нельзя
оставаться в рамках одного лишь театра.
Я снова возвращаюсь к «Возмутительной книге». В данном
случае не имеет большого значения, участвовал ли Мольер в
ее написании, и каким образом. Но когда читаешь этот пам-
флет, стремясь оценить, как он написан, то невольно пора-
жаешься силе некоторых стихов, их ясности и реалистической
точности. Она рождена здесь политическими целями, которые
преследует автор. Но послушайте сами (говорит один из сооб-
щников Кольбера):
Господин Фонтенуа
Себе в духовники я взял иезуита.
Однажды я спросил: «Могу ли стать клевретом?»
Ответ гласил: «Закон убийство допускает,
когда смертельная опасность угрожает.
Коль человека нам дозволено убить,
Ergo *, тем более клевретом можно быть...
Врачует душу он, как лекарь. Разрешает
сомненья все легко. Искусно примиряет
противоречия. Отменная черта!
Ведь совесть у меня теперь всегда чиста...
* •
* Следовательно (лат.). — Прим. перев.
755
Или нижеследующее высказывание, вложенное в уста дру-
гого подобного же персонажа:
. Сей муж святой, весьма искусный собеседник,
вел с королевою себя, как проповедник:
он вздохами слова свои перемежал...
и кстати говорил, и кстати умолкал.
Ее величеству он ловко и умело
внушил, что предан добродетели всецело,
и захотелось ей узнать его секрет.
Тут он заговорил, но не охотно, нет,
а будто подчинясь монаршему приказу,,
хотя в душе желал поведать ей все сразу.
Повторяю: дело не в том, писал ли сам Мольер некоторые
из этих стихов, или вдохновлял их автора, или же просто знал
их. Несомненно одно: «Тартюф», даже в дошедшей до нас ре-
дакции 1669 года, свидетельствует о том, что произведение
это порождено тем же общественным течением, которое явилось
питательной средой для «Возмутительной книги». Оба произве-
дения^— результат одного и того же мощного движения. И ав-
тор «Возмутительной книги», и автор «Тартюфа» наносят удар
по общему врагу. Стихи здесь полнокровны, точны и предельно
ясны. Замечательно нарисован портрет ханжи. Вложенная
в уста другого ханжи характеристика иезуитов и их казуистики
отличается большой художественной выразительностью и вер-
ностью. Она заставляет нас вспомнить о традициях политиче-
ской поэзии во Франции, об авторах сатир XVI и XVII веков,
пренебрежительно третируемых учеными литературоведами,
хотя именно эти авторы рисовали картины нравов своего вре-
мени, смело брались за большие темы, которые в силу запретов
цензуры можно было выражать лишь эзоповским языком. Твор-
чество этих авторов занимает важнейшее место в развитии
французской поэзии *.
9. Стендаль, «Тартюф» и Академия
В наши дни роман в прозе — предмет самых высоких устрем-
лений писателей. Во времена Мольера он переживал еще пору
детства: роман Скаррона и Фюретьера едва еще отпочковался
от новеллы, ведь он только-только делал свои первые шаги. Же-
лание полнее воссоздать действительность заставляло этих ав-
* Не следует забывать также бурлеска, который нередко, в частности
в творчестве Скаррона, сливается с сатирической и политической поэзией.
Он оказал значительное влияние на развитие реализма в языке. Можно
для примера сопоставить с приведенным мною выше отрывком из «Сума-
сброда» следующие стихи Скаррона:
О сударь! Господи прости!
Вы создали шедевр отменный,
о нем не скажешь: «не ахти!..»
IÔ6
торов пренебрегать вопросами композиции: они напоминают
начинающих фотографов, которые еще не знают, как вместить
в кадр предметы, находящиеся перед объективом. Не умея отби-
рать типические детали, они предлагают нашему вниманию,
можно сказать, сырые, необработанные материалы. Тогдашний
роман и в самом деле второстепенный жанр. И не только по-
тому, что его объявляли таковым ценители с тонким вкусом...
Впрочем, это ни в коей мере не умаляет достоинств того же
Скаррона, к примеру. Тем более удивительно, что в своей книге
«Госпожа де Ментенон» * Жан Корделье, характеризуя Скар-
рона 31, лишь пересказывает сплетни, распространявшиеся о нем,
и совершенно замалчивает роль, которую играл этот писатель
в оппозиционно настроенных кругах.
В ту эпоху только в драматургии Мольера можно найти
черты, напоминающие устремления, характерные для нашего
современного романа. В своих пьесах драматург создавал свой
мир, воспроизводя реалистическую картину действительности,
и, насколько было дозволено в то время, старался проникнуть
в суть вещей. Это безошибочно поняли великие творцы совре-
менного романа. Филдинг характеризовал свои «Приключения
Джозефа Эндруса» как комический роман, подобно тому как
Шарль Сорель назвал свою книгу «Комическая история Фран-
сиона», Скаррон свое произведение — «Комический роман»,
а Фюретьер поставил те же слова после названия «Буржуазный
роман» в виде подзаголовка. Именно у Мольера Филдинг учил-
ся той свободе и искусству композиции, которые выделяют на-
стоящего романиста; это искусство, разумеется, отличается от
искусства драматурга, но оно требует не меньшего труда и та-
ланта. Достаточно вспомнить, в каких выражениях Стендаль
говорит о Мольере в своей работе «Расин и Шекспир», чтобы
понять, чему он научился у автора «Тартюфа» и «Дон Жуана»:
«Мольер в 1670 году был романтиком, так как двор был насе-
лен Оронтами, а провинциальные замки — весьма недовольными
Альцестами. В сущности, все вели к и е писатели были
в свое время романтиками**. А классики — те, кото-
рые через столетие после их смерти подражают им, вместо того
чтобы раскрыть глаза и подражать природе.
Хотите ли вы видеть эффект, который производит на сцене
это сходство с действительностью, дополняющее собою шедевр?
Посмотрите, как возрастает успех «Тартюфа» за последние че-
тыре года. При консульстве и в первые годы Империи «Тар-
тюф», подобно «Мизантропу», не имел сходства с действитель-
ностью...» *** 32
' * Le Seuil. 1955.
** Подчеркнуто Стендалем.
*** «Расин и Шекспир» относится к 1823 году.
157
* * *
В свете сказанного Мольер обретает подлинное величие, а
его творчество — свои истинные масштабы. В XVII веке он был
сознательным творцом реализма. Это не значит, что он был
единственным гением в литературе и — тем более — что только
он один способствовал прогрессу литературного творчества.
Изучение Расина в таком же аспекте, скажем в сопоставле-
нии с «Принцессой де Монпансье» и «Принцессой Клевской»
г-жи де Лафайет, покажет нам, что в то время существовали
и иные формы, и иные проявления искусства, стремившегося
всеобъемлюще выразить окружающий мир.
Именно такое изучение истории литературы нужно нам во
Франции 1955 года, где критика страшится действительности и
всего юного не меньше, чем те академики, против которых опол-
чался Стендаль в период Реставрации. Вот его слова: «Дей-
ствительно, в стране, где существует оппозиция, не может
быть Французской академии, так как министр ни за что не по-
терпит, чтобы туда были приняты крупные таланты из оппози-
ции, а публика всегда будет упорно несправедлива к благород-
ным писателям, состоящим у министров на жалованье, для ко-
торых Академия будет Домом инвалидов» 33.
VII. О ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПРОЯСНЯЮЩИХ И ЗАТЕМНЯЮЩИХ
Отречение Жана Расина
Вольтер о самом себе.
Дидро в Германии
авным-давно известно, что
Расин-поэт куда прекрас-
нее Расина-человека. От-
сюда и возникло искушение воссоздать его биографию на основе
определенного истолкования его пьес. Существует, таким обра-
зом, традиционный образ Расина, который мы унаследовали от
историков французской литературы, таких, как Пти де Жюль-
виль !, Брюнетьер 2, Гюстав Лансон 3. Это — Расин, искупающий
суровой святостью и набожным молчанием последних лет жизни
легкомысленные и скверные поступки молодости; Расин, став-
ший назидательным примером для учащейся молодежи и широ-
кой публики.
Нам знакомы различные вариации на эту тему. Согласно
последней, в молчании Расина после «Федры» видят нечто по-
хожее на поведение Артюра Рембо — своего рода бегство в
Харрар4, конечно идеализированное, ему не идентичное, по-
скольку отождествлять учтивого придворного из круга госпожи
де Ментенон с искателем приключений, таким, как Рембо в
Эфиопии, было бы слишком уж грубо. Тьерри Монье, не имею-
щий себе равных в способности приписывать прошлому душев-
ные драмы, имеющие место в наше время, написал роман о пе-
риоде молчания Расина. Нижеследующую,, страницу из этой
книги критики до последнего времени считали непререкаемой:
«После «Федры» напуганный янсенист в ужасе отшатывается
перед искушением и угрозой, порожденными им самим... При-
мирив в своем творчестве дух и плоть, Расин воссоздает не-
повторимые человеческие особи, излучающие, таким образом,
двойной соблазн. Всякое художественное произведение, в кото-
ром автор обрекает себя на воссоздание чувственной реальности
WSß^oU
159
во всем ее блеске, реальности, проклятой святым Августином,
представляется теперь Расину попыткой оправдать грехопадение
человека кощунственным покушением на не завершенное им
дело искупления. Он должен был выбирать между новым и
полным жизненного трепета человеком, порожденным его. же
собственным творчеством, и абстрактным суровым аскетизмом
янсенистской обители... Вот почему не имеет большого значения,
какие внешние события вынудили Расина покинуть театр. Оче-
видно лишь одно: именно «Федра» заставила писателя особенно
ясно увидеть всю глубину пропасти, отделявшей его от докт-
рины его учителей, к которым он счел необходимым вернуться.
Расину-янсенисту оставалось только одно — умолкнуть, ибо тра-у
гедия рока, которую он создавал, отдает предпочтение человеку,
преследуемому судьбой, перед судьбой; эта трагедия изобра-
жала любовь и совершаемые ради нее преступления затем,
чтобы всякий раз. рисовать их более привлекательными и чело-
вечными; показывала греховную природу человека в его за-
блуждениях, страданиях и размышлениях и неизменно воспе-
вала ее торжество».
Вслед за «Аспектами Расина» Жана Помье * и «Историей
французской литературы XVII века» Антуана Адана ** не-
большая книга П. Гроклода *** очень ясно и вполне доступ-
но разъясняет положение дел. В этом ее несомненное досто-
инство.
Факты в общем широко известны. Расин с самого начала
своей литературной карьеры не отличался ни скромностью, ни
чувством товарищества. Мольер сыграл его первую пьесу «Фи-
ваида», он же поставил с успехом в Пале-Рояле и вторую пьесу
Расина «Александр Великий». Однако Расин, желая снискать
милость комедиантов Бургундского отеля, отнес им ту же пьесу.
То был поступок молодого честолюбца, но не менее некрасивым
был и способ, с помощью которого год спустя он порвал со
своими учителями из Пор-Рояля.
Через десять лет, к 1674 году, Расин уже преуспел во всех
своих начинаниях. В самом деле, в октябре этого года королев-
ским указом он назначен на пост государственного казначея
в Мулен. То была синекура с высоким окладом; государствен-
ному казначею присваивалось и наследственное дворянство.
В том же 1674 году Расин добивается постановки «Ифиге-
нии». К этому времени у него уже, и это неудивительно, много-
численные враги. Когда он узнает, что в пику ему, как это было
обычно в театральных битвах в то время, готовятся поставить
* Nizet, 1954.
** Domat, t. IV, 1954.
** P. Grosclarude, Le Renoncement de Jean Racine, Magnard, 1955.
160
другую «Ифигению» — Леклерка и Кора 5, он хлопочет и доби-
вается вмешательства двора, чтобы воспрепятствовать осуще-
ствлению этого замысла. И действительно, авторы другой
«Ифигении» смогли увидеть свою пьесу на сцене только 9 меся-
цев спустя.
В такой обстановке в 1677 году и возник заговор против
«Федры». Расиновской трагедии была противопоставлена
«Федра» Прадона6. В связи с этим сперва была провалена
«Федра» Расина. Но вскоре публика отвернулась от пьесы Пра-
дона и отдала свои симпатии творению Расина. Провал ^быстро
сменился признанием. Он, разумеется, раздосадовал драматурга
и заставил его немало страдать. Однако ни один факт не под-
тверждает, что именно это обстоятельство послужило причиной
отказа Расина от драматургии. Его уход из театра пытались
объяснять религиозным обращением, будто бы вызванным кри-
зисом, который он переживал в то время; это объяснение, под-
крепленное всего лишь свидетельством Луи Расина 7, человека
слишком религиозного, чтобы ему можно было в этом вопросе
верить, опровергается самим Расином в его предисловии к «Фед-
ре», опубликованном через два месяца после премьеры пьесы.
В этом предисловии, как указывает Пьер Гроклод, «Расин от-
стаивает свое искусство; конечно, он явно стремится к примире-
нию с Пор-Роялем, но рассматривает это примирение как ре-
зультат взаимопонимания... Здесь перед нами писатель, за-
щищающий свое искусство, а не вновь обращенный, который
это искусство проклинает и отрицает».
Подобно Жану Помье и Антуану Адану, Пьер Гроклод дает
молчанию Расина объяснение, все более подтверждающееся
фактами, которыми мы располагаем. В 1677 году Расин вместе
с Буало был назначен историографом короля. Точно известно,
что он вступил в должность в середине сентября. Решение
об этом было, вероятно, принято несколькими месяцами ра-
нее. Из всех свидетельств современников ясно: должность ко-
ролевского историографа как в силу соображений морального
порядка, так и вследствие обязанностей, которые она налагала,
в частности из-за постоянных поездок в действующую армию,
была несовместима с театральной деятельностью. Литературная
газета того времени «Меркюр галан» в октябрьском номере
1677 года писала совершенно недвусмысленно, и нет никаких
оснований этому не верить: «Театру угрожает большая потеря.
Говорят (и этот слух отовсюду подтверждается), что один из
наиболее известных наших авторов отказывается от театра,
с тем чтобы целиком посвятить себя истории».
Госпожа де Севинье 8 13 октября пишет Бюсси-Рабютену9,
который со своей стороны домогался должности королевского
историографа, весьма определенно: «Слышали ли вы когда-
11 П. Деке
161
нибудь о звезде столь счастливой, как звезда нашего короля? Как
вам известно, он назначил пенсион в две тысячи экю Расину и
Депрео, приказав им оставить все прочие занятия, дабы им тру-
диться над историей его царствования, а он уж озаботится
о том, чтобы она изобиловала памятными событиями. Я бы хо-
тела увидеть образец их труда».
Высказывание Буало («Если бы история не заставила меня
отойти от поэзии...») свидетельствует о том же. Всякий, кто
не предубежден, легко может убедиться в том, что Гроклод
прав, объясняя поведение Расина в эти годы его положением
придворного, который знает, чего добиваться, и делает для
этого все, что требуется; этим объясняется и поспешная же-
нитьба поэта в том же году, и его последующая роль при дворе.
Самое удивительное, что религиозная версия святоши Луи Ра-
сина безоговорочно принималась на веру в течение стольких
десятилетий и такими людьми, как Пти де Жюльвиль и Лансон.
Без сомнения, эта версия устраивает тех, кто хочет, чтобы исто-
рия литературы, как и вообще всякая история, превозносила
добродетели церкви. Но на свою беду она противоречит фактам.
Нет, при ознакомлении с биографией Расина возникает со-
всем иная, действительно интересная проблема. Последний пе-
риод его жизни, по-моему, хорошо и обобщенно объяснен Гро-
клодом: «Невозможно объяснить отказ Расина от литературы,
если ясно не представить себе ту по-человечески вполне понят-
ную и правдоподобную эволюцию, какую проделал Расин; речь
идет о духовном развитии человека, в котором трезвые расчеты
и корыстные соображения соседствовали с нравственной щепе-
тильностью и внушающими уважение религиозными терза-
ниями; таким образом, складывался комплекс разноречивых
чувств и взглядов и вырастал новый человек, который не мог
не испытывать порою, в долгие минуты одиночества, то страх
перед тем, чем он когда-то был, то тоску по прошлому». В пер-
вую очередь следует искать объяснение творчеству Расина, а не
его безмолвию, где речь, собственно, идет о нем лишь как о че-
ловеке. Но это — болезненный вопрос для всех тех, кто поль-
зуется методом Сент-Бева 10. Величие расиновского театра про-
тиворечит его мелочности как человека и лживости той среды,
в которой он охотно вращался большую часть своей жизни.
Пьесы Расина к тому же находятся в отрыве от реалистической
традиции, восторжествовавшей благодаря Мольеру. Произведе-
ния Расина затрагивают только такие спорные вопросы, которые
вполне приемлемы для королевского слуха; это литература
внешне благонамеренная, стоявшая в стороне от действитель-
ных драм французского народа. И все же Расин сумел создать
подлинно великие ценности, сохранившиеся в веках. Вот почему,
говоря о Расине, нужно исходить из фактов.
162
* * ¥
Отрекся ли Расин от своего творчества в конце жизни —
в пресловутом письме к Буало, где речь идет о нападках на его
пьесы со стороны некоего иезуита из коллежа Людовика Вели-
кого? «Я еще не слышал высказываний этого наставника из
третьего класса коллежа Людовика Великого; по отношению
к иезуитам совесть моя чиста, и поэтому, признаюсь, я был не-
сколько удивлен, узнав, что они объявили мне войну... Я охотно
отдаю свои трагедии на суд их критики. Уже давно Господь по
милости своей сделал меня почти нечувствительным, говорят ли
хорошо или дурно о моих произведениях, и внушил мне лишь
одну заботу — ответ, который мне придется когда-нибудь дер-
жать перед ним. Поэтому, милостивый государь, Вы можете
заверить отца Буура11 и всех знакомых Вам иезуитов, что я не
только не сержусь на их собрата, который так страстно выступил
против мои^с пьес, но, напротив, почти благодарен ему и за про-
поведь добронравия в коллеже, и за то, что он предоставил воз-
можность своим коллегам столь ревностно позаботиться о моих
интересах».
Однако, по мнению Жана Помье, совесть Расина, деятельно
выступавшего в те годы в защиту Пор-Рояля, не могла быть
чистой по отношению к иезуитам, и поэтому фраза о них имеет
двойной смысл. И еще одно: в ту пору все жаловались на дур^
ные нравы, царившие в коллеже Людовика Великого, так что
Расин хотел, в сущности, сказать совсем не то, что он, казалось,
говорит. Жан Помье не без основания призывает быть осторож-
ным в оценке той полуопалы, в которой, как утверждал Луи Ра-
син, поэт находился к концу своей жизни. Не следует, однако,
забывать, что придворный историограф Расин тайком писал
вместе с Буало «Краткую историю Пор-Рояля». И что суще-
ствует его «Записка о народной нищете». Пора начать наконец
рассматривать жизнь Расина со всей объективностью и видеть
его творчество таким, каково оно на самом деле.
Людовик XIV и интриги его двора занимали тогда весьма
значительное место в жизни нации; наши нынешние правители
не дают нам об этом даже и представления. В наше время они
путают Версаль с Вашингтоном; в XVII веке французские дела
обсуждались и решались в Версале. Возникали всякого рода
драматические конфликты, типичные для окружения само»
держца, муки совести, связанные с янсенизмом и происками
иезуитов; реальные жизненные основы, на которые опирался
Расин, были сложными; все это совершенно очевидно; не менее
очевидно и то, что эти факты были впоследствии затемнены из
религиозных побуждений или из желания Приукрасить Расина.
Но ведь в стихах этого писателя нашла отражение жизнь
страны, его творчество помогает нам понять подлинное лицо
11* 163
Франции, и не стоит поэтому жалеть труда, чтобы лучше понять
его. Не случайно, что, говоря о Расине, полное пренебрежение
к фактам выказывают люди, подобные Тьерри Монье, обретаю-
щиеся на задворках политики, вроде Робера Кана, такие столпы
поэзии, как Монтерлан, или такие представители национального
облика Франции, как Мальро.
* * *
Широко известно высказывание Вольтера: «Людовик XIV
назначил пенсион в две тысячи экю Пелиссону 12, Расину и Вален-
куру 13 для создания истории, которую они так и не написали».
Фраза эта красива, но не точна. Исторические труды Расина и
его коллег погибли во время пожара в отеле Валенкур в
1726 году. Теперь мы получили возможность ознакомиться пол-
ностью с письмом Вольтера, адресованным Сидевилю 9 января
1740 года, откуда взяты эти строки; письмо опубликовано
в «Переписке Вольтера» *, которую издает г-н Бестерман (сей-
час ее публикация доведена как раз до 1740 года). Но если не
считать этого издания, то следует сказать, что Вольтеру гораздо
меньше повезло, чем Расину; серьезных исследований, во вся-
ком случае за последнее время, ему было посвящено гораздо
меньше. Рене Помо14 только что опубликовал книгу «Воль-
тер о самом себе» **. Она обладает всеми внешними достоин-
ствами, присущими изданиям данной серии, но, к сожалению, она
дает лишь беглое и даже однобокое представление о Вольтере.
Я прекрасно знаю, к примеру, что автор считает осмотри-
тельным «не поддаваться искушению и не вставать на путь
психоанализа, каким бы соблазнительным он ни казался»; но
тут же он пишет: «Нелепый образ фанатичного священника,
вооруженного кинжалом, проходит через все творчество Воль-
тера от «Генриады» до «Законов Миноса». У Вольтера был бо-
лезненный интерес к фанатизму, подобно тому как у Флобера —
к «печальному гротеск у...» Право же, весьма любопытна
эта манера превращать преследуемого в маньяка, одержимого
манией преследования; она напоминает прием, увы, слишком
хорошо нам известный по американской критике, которая
умудряется обнаруживать комплекс непримиримого негативизма
у своих политических прютивников, которых яростно преследует
правительственная полиция ***. Данное высказывание, увы, не
* Voltaire's Correspondence, тома VII, VIII, IX, X, изд. Делис, Же-
нева. Примечание и комментарии на английском языке.
** R. Pom eau, Voltaire par lui-même, Le Seuil, 1955.
*** Я хорошо знаю, что Рене Помо в другом месте пишет: «Вольтер
боролся отнюдь не с призраком фанатизма: гонения на протестантов, как и
дело Лабарра, были в его время слишком реальными симптомами «рели-
164
единично; приведем в доказательство еще один абзац: «Порой
удивляются благосклонному отношению, которое Вольтер встре-
чает в Советском Союзе. Удивляюсь, почему это кажется уди-
вительным. Весьма «прогрессивный» вольтерьянский дух пре-
красно сочетается с духом Октябрьской революции. Разве Воль-
тер не предлагал отвергнуть все, что относится к ненавистному
прошлому, и построить на ровном месте цивилизацию «Просве-
щения»? Сейчас видно, что Октябрьская революция продол-
жает русскую традицию, идущую от Петра Великого. А сколько
раз Вольтер прославлял московского Ликурга за то, что он, как
казалось Вольтеру, создал ex nihilo * современную нацию! От
восторга Вольтер даже забывал о некоторых весьма неприятных
аспектах этой «прогрессивной» политики. С достойной сожаления
сдержанностью он умалчивает о преступлениях Петра I и Ека-
терины II...»
Нетрудно увидеть здесь определенную политическую тенден-
цию и понять, для чего нужен пример Вольтера. Беда нашего
автора в том, что он плохо информирован: Октябрьская рево-
люция не брала уроков ни у Вольтера, ни у Петра Великого, и,
полностью свергнув капиталистическую эксплуатацию, она глу-
боко уважает национальные традиции, развивает их и обога-
щает; в Вольтере ее привлекает критика старого мира, и в ча-
стности фанатизма.
А ведь именно эту сторону смягчает и сглаживает Рене
Помо. Он предлагает нашему вниманию Вольтера — человека
хорошего тона, хотя и признает, что характер у отшельника из
Сирэ был весьма тяжелый. Создается впечатление, что г-н Помо
стремился уловить в облике Вольтера буквально все, при этом
он воспроизвел столько разнообразных граней его личности,
что образ писателя в них затерялся. Слов нет, фигура такого
человека, как Вольтер, — трудный объект для исследования:
боец и полемист по натуре, он наносил яростные удары врагам,
но, когда пытаются сосчитать эти удары и разложить их по по-
лочкам, неизбежно упускают из виду главное — смысл самой
борьбы.
* * *
Я не хочу расставаться с XVIII веком, не остановившись
еще на двух работах, различных по своему значению. Одна из
них — наспех написанная -и поверхностная книга Жюля Берто
гиозного безумия». Однако наличие такого рода противоречивых высказы-
ваний исследователя в одной и той же работе, разумеется, не проясняет
вопроса. k ,
* Из ничего (лаг.). — Прим. перев.
165
«Литературная жизнь в XVIII веке» *, другая — работа Ро-
лана Мортье «Дидро в Германии. 1750—1850» **. Ролан
Мортье задался целью проследить, как воспринимали Дидро
немецкие интеллигенты и широкая публика. Мысль его ока за*
лась плодотворной. Известно, что некоторые наиболее значи-
тельные произведения Дидро, в частности «Племянник Рамо»
и «Жак-фаталист», появились сначала в Германии и получили
там широкое распространение в списках. Ролан Мортье изучает
отдельно Дидро как теоретика драмы, энциклопедиста и просве-
щенного мыслителя, романиста, автора трудов по эстетике и
философа. И каждая из глав книги, в которой Дидро рассматри-
вается в несколько необычном свете, дает богатую пищу для раз-
мышлений. Работа Мортье совершенно необходима для понима-
ния немецкого Просвещения и в более широком смысле для изу-
чения связей между мировоззрением немецкой интеллигенции
конца XVIII века и идеями наших философов. Выскажем все
же небольшое критическое замечание. Автор, видимо, плохо
знаком со взглядами Маркса и Энгельса на Дидро — он цити-
рует их из вторых рук. Между тем было естественно ожидать,
что книга о значении Дидро для Германии покажет, что именно4
основатели диалектического материализма определили истинное
место Дени Дидро в истории развития общественной мысли ***.
* J. В ertaut, La vfe littéraire au XVIIIe siècle. Tallandier, 1954.
** R. Mortier, Diderot en Allemagne, Université libre de Bruxelles. Тру-
ды факультета философии и словесности, т. XV.
*** Хочу обратить внимание Ролана Мортье, что, прочитав превосход-
ную книгу Жана Фревиля «Избранные высказывания Маркса и Энгельса
о литературе и искусстве», он убедится, что Маркс и Энгельс высоко це-
нили .Дидро и, отдавая ему должное, не раз цитировали; как ни странно,
Моотье ставит это под сомнение.
VIII. ГОВОРИТ ВОЛЬТЕР, ИЛИ БИТВА ЗА КНИГУ
/. Министр просвещения г-н Андре Мари
вновь отправляет в изгнание молодого Вольтера
итали ли вы Вольтера?
, Наверняка не так основа-
тельно, как отныне это
можно сделать. Слушайте же: «No effort has been spared to
make the edition worthy of one of the world's great literary
treasure; and it is believed that this publication will be indispensable
for all eighteenth-centuiy studies.
Owing to the great size and cost of the publication only a few
hundred copies are being printed, and early application is therefore
advised. Volumes will not be sold separately.
As the publication is unsubsidized these terms cannot be varied».
Полное издание переписки Вольтера действительно озагла-
влено в 1953 году «Voltaire's Correspondence», а строки, приве-
денные выше по-английски, я взял из каталога, в котором рек*
ламируется книга. В переводе они звучат так: «Было приложено
немало усилий, чтобы достойным образом издать эту пере-
писку — одно из величайших сокровищ мировой литературы.
И позволительно думать, что эта публикация будет необходима
для всех, кто изучает XVIII век.
Принимая во внимание значительные размеры и высокую
стоимость издания, оно будет выпущено * тиражом всего в не-
сколько сот экземпляров, поэтому рекомендуется Подписаться
на него незамедлительно. По отдельности тома «Переписки
Вольтера», продаваться не будут.
Поскольку публикация осуществлялась без какой-либо су&
сидии, указанные условия изменены не будут».
Разумеется, ни г-н Теодор Бестерман, подготовивший к из-
данию переписку Вольтера, ни Институт и Музей Вольтера
(Делис, Женева, Швейцария) не виноваты в том, что каждое
бЖ&МЯМ
167
слово этого проспекта нас больно ранит. Пусть переписке Воль-
тера воздается почесть словами «one of the world's great literary
treasure» *, пусть это издание оценивается как настольная книга
для каждого, кто изучает XVIII век, — все это верно и могло
бы нам доставить удовольствие, вызвать чувство законной гор-
дости сокровищами нашей национальной культуры, будь это
сказано в 1953 году также и по-английски, а не только по-
английски. И мы знаем, что и эти условия также не будут из-
менены.
Вы только представьте себе! Отныне и на много лет вперед
вся эта ценная, хорошо продуманная и, на наш взгляд, прекрас-
ная работа по сбору и тщательной проверке текстов, благодаря
которой г-н Бестерман воссоздает для нас эпоху, когда письмо
служило могучим средством общения между лдодьми и живым*
свидетельством мысли, будет звучать так: «Вольтер to ** Ми-
шель Сельс де Рабютен, граф де Бюсси; Вольтер to Луи Расин;
to Людовик XV, King of France ***; to Шарль Ле Фурньер де
Бернавиль; Вольтер to Филипп II, герцог Орлеанский (regent of
France) ****; Вольтер to Жан Филипп Рамо. А в комментариях
будет написано: «Бернавиль was the governor of the Bastille... How
Emilie du Châtelet became what she was, we do not know...» *****
Дело не только в том, что нас возмущают рекламы автомо-
биля Ведетт 1951 на месте статуи Виктора Гюго, кричащие
афиши Красной серии голливудских фильмов, Reader's
Digest 1 и American Bars, а также официальные документы наших
министерств, где слово «listing» означает «список», a «combat-
team»— вообще непонятно что******; унижение, причиненное
французскому языку, созданием basis french *******2 для обще-
ния оккупантов с оккупированными, а также S. H. А. Р. Е. и
О. Т. А. N. — уродливые сочетания заглавных букв, которые
расшифровываются на чужом языке, — все это, конечно, скверно,
но г-н Бестерман здесь ни при чем. Куда больше нас возмущает
то, что богатства, созданные у нас в стране, нашими соотечествен-
никами, идут прахом. Версаль, например. Гюго, хотя им сейчас
и пренебрегают, Франция все же чествует юбилеем, как и Баль-
зака, внушающего ужас г-ну Мориаку, как и Анатоля Франса,
Ромена Роллана, Барбюса, так же как и Рабле. Любить, защи-
* «Одно из величайших сокровищ мировой литературы» (англ.),
** К (англ.).
*** Король Франции (англ.).
**** регент франции (англ.).
***** Был комендантом Бастилии. Каким образом Эмилия дю Шатле
стала тем, чем она была, нам неизвестно... (англ.).
****** В Парижских соглашениях употребляетсч теперь термин «divi-
sions» применительно "к немецкой армии (и это в 1955. г.).
******* Упрощенный французский язык (англ.).
168
щать, читать, изучать, знать — этому не может помешать у нас
никакая цензура, никакая полиция, никакой умело организо-
ванный заговор молчания. Но реставрировать Версаль.,.
Но издать полную переписку Вольтера...
Одной нашей любви недостаточно, чтобы охранять памят-
ники культуры.
В газете «Монд» г-н Пьятье пишет:
«...Между г-ном Бестерманом и соответствующими научными
французскими учреждениями велись переговоры о том, чтобы
прокомментировать и опубликовать на французском языке это
капитальное издание, которое воссоздает, быть может, самую
лучшую сторону творчества Вольтера. Эти переговоры ни к
чему не привели. Опубликованные сейчас семьсот девяносто
пять писем, которыми обменялись величайшие люди Франции
в век, ког*да престиж нашего языка был особенно высок, сопро-
вождаются комментариями на английском языке и заголовками,
обидными для нас.
Мы не беремся судить, какая из сторон повинна в неудаче
переговоров. Следует лишь заметить, что г-н Бестерман, кото-
рый вначале был готов пойти нам навстречу, не заинтересован
в той же мере, что и мы, в отстаивании прав французского
языка. В нашей стране не хватает денег для научных работ
такого рода. Из-за отсутствия средств прекращены начатые из-
дания переписки великих людей. Мы сейчас утрачиваем руко-
водство изучением творчества Вольтера, которое, весьма ве-
роятно, будет сосредоточено в Делис, в новом Институте Воль-
тера. Наше участие в Международном комитете, которые оказал
помощь г-ну Бестерману в его работе, могло бы по крайней мере
обеспечить использование французского языка в его труде. По-
чему же упущена такая возможность?»
Вопрос был публично задан много месяцев тому назад.
Власти поставлены в известность. Что же сделало правитель-
ство, что сделали соответствующие министры, чиновники Мини-
стерства иностранных дел, Министерства просвещения?
«Voltaire's Correspondence» — это типичное издание для уз-
кого круга читателей. Его цена — около пятнадцати тысяч фран-
ков за первые три тома (а ведь их должно быть пятьдесят),
тираж ограничен, научный аппарат — на английском языке. Ве-
роятно, именно такое положение дел наилучшим образом устрани
вает наших министров?
Приведем некоторые сравнения. Монументальное издание
переписки Виктора Гюго, выпущенное во Франции, стоит ровно
в пять раз дешевле, чем «Voltaire's Correspondence», хотя оно
сделано столь же тщательно и больше по объему, чем первые
три тома, изданные г-ном Бестерманом. Письма Гюго находятся
теперь в распоряжении всех библиотек, учебных заведений,
169
различных учреждений, где есть читальные залы, вроде, напри-
мер, комитетов предприятий; не каждый в состоянии приобрести
»то издание, но каждый, несомненно, может получить к нему
доступ, чего никак не скажешь о полном издании «Переписки
Вольтера». Известно, что только ценой многолетних усилий и
самоотверженности г-же Сесиль Добрэй удалось завершить из-
дание писем Гюго. Здесь же читателей с самого начала поста-
вили, как говорится, перед свершившимся фактом. Ведь у наших
правителей не только пренебрежение ко всем национальным цен-
ностям, но, можно прямо сказать, также явный страх перед
Вольтером и перед Гюго.
Парламентские отчеты в «Журналь офисьель» дают возмож-
ность воочию убедиться, чем сейчас озабочен министр просве-
щения. В номере от 2 мая 1953 года читаем:
«Господин Коньо3 спрашивает Министра просвещения:
1. Каков сейчас список изданий, на которые Национальный
центр педагогической документации подписался для средних
учебных заведений?
2. По чьему предписанию и по какой причине — без всякого
разумного повода — отменили подобную подписку на «Пансе»,
журнал высокой культуры, обзоры статей которого все же
публикуются как в бюллетене Министерства просвещения, так
и в изданиях Национального центра научных исследований (За-
прос от 20 февраля 1953 г.)?
ОТВЕТ *.
2. Применяя принцип политического й философского нейтра-
литета, который является правилом в деле народного образова-
ния, Министр просвещения не считает желательным продолжать
подписку лицеев и коллежей за счет средств государственного
бюджета на журнал «Пансе»; не была также возобновлена под-
писка на следующие периодические издания: «Эспри», «Эроп»,
«Ле тан модерн».
Я не ставлю под сомнение объективность «Ежегодника бюро
по изучению долготы», но «политический и философский ней-
тралитет», скажем, журнала «Критика» вызывает большие со-
мнения. Но оставим «благонамеренные» журналы. Возьмем
«Пансе», «Эроп», «Эспри», «Ле тан модерн», объединенные
этим запретом. «Общим» у них является лишь то, что они по-
мещают статьи, критикующие действия и установки наших пра-
вителей. Заметим, что они представляют три различных идей-
* В ответ на первый вопрос следует длинный перечень различных из-
даний. Укажем на выбор несколько из них: «Ежегодник бюро по изучению
долготы», «Анналы», «Лоция», «Критика», «Элементарная математика» и
«Кайе дю Сюд».
170
ных течения, но, однако, в равной степени необходимы для по-
нимания эволюции идей в нашей стране в настоящее время.
Короче говоря, министр намерен отныне изымать из библиотек
все, что «политически и философски» не нейтрально по отноше-
нию к нему и его коллегам. Чествование Гюго, Бальзака и Золя
в журнале «Эроп» нарушает указание — замалчивать или ху-
лить; Прекратим на него подписку. Этот журнал собирается воз-
дать почести Полю Элюару, но ведь г-н Бэйло4 в свое время
противился торжественным похоронам поэта; какое нарушение
политического и философского нейтралитета — говорить об ав-
торе стихотворения «Свобода»! Ход мыслей очевиден, и ясно,
Руда, он ведет, потому что ведь, в конце концов, и Бальзак, и
юго, и Золя не были нейтральными ни в философии, ни в по-
литике. А кто может требовать этого от Элюара? Неужели же,
только представив этих авторов нейтральными, журнал или
книга, им посвященные, смогут пробиться сквозь заслон, поста-
вленный министром? Тогда да здравствуют тщательно подо-
бранные и подогнанные по нужной мерке избранные отрывки!..
Пока же они не подобраны, эти произведения включаются
в список запрещенных книг. Хорошо организованное замалчи-
вание гарантирует более верный иммунитет, чем брань наемных
критиков, поскольку всякое бывает и даже самое официальное
порицание может вызвать желание взять да почитать тексты це-
ликом. Особенно когда человеку 15 лет и когда он школьник...
Эта великолепная программа начала уже понемногу осущест-
вляться. Увольняют учителя за то, что он дал диктант из Ана-
толя Франса, организуют разного рода преследования, и вот
уже принимаются за журналы! Когда же придет черед книг?
Кто теперь поверит, что «Переписка Вольтера», письма его
молодых лет, может показаться министру произведением, кото-
рое он разрешит читать всем? N
Подумайте только, ведь здесь рассказывается о неоднократ-
ном заключении Вольтера в Бастилию, ведь здесь помещено
письмо, которое Вольтер пишет to Жан-Фредерик Фелипо граф
де Морепа5:
«Милостивый государь,
самым нижайшим образом довожу до Вашего сведения, что я
был избит * бравым шевалье де Роганом: ему помогали шестеро
головорезов, за спинами которых он мужественно занял пози-
цию.
С этого времени я стремился восстановить не мою честь,
а его, но сделать это оказалось очень трудно».
* Теодор Бестерма н: The sense in which Voltaire used this word
here, is perfectly correct: see Littré. Смысл, в котором Вольтер употреблял
ото слово, совершенно точен. См. Литтре.
171
Здесь помещено анонимное письмо, адресованное Рене Эро,
начальнику полиции:
«Вы только что заключили в Бастилию человека, которого
я желал видеть там еще пятнадцатью годами раньше. Десять
или двенадцать лет тому назад, посещая в Сен-Сюльпис г-на
аббата д'Альбера, я жаловался ему на то, что этот человек упор-
но проповедует неприкрытый деизм в спальнях молодых отпры-
сков знатных семейств: я хотел бы только на один день быть
облеченным властью, чтобы засадить этого поэта за решетку
на всю жизнь...»
За пятнадцать лет до этого письма Вольтеру было всего че-
тырнадцать лет. Он учился в лицее Людовика Великого. Он
был еще школьником, сказал бы г-н Андре Мари. Попробуйте-
ка втиснуть такого мальчика в рамки политического и философ-
ского нейтралитета г-на Андре Мари... Рене Эро, начальник по-
лиции, а также фанатик — доносчик образца 1726 года от рожде-
ства Христова, пожалуй, смогли бы найти в 1953 году людей,
облеченных властью и вполне способных осуществить их мечту.
Для этого ведь недостаточно допустить, чтобы такое сокровище,
как переписка Вольтера, было упрятано в роскошное издание
с комментариями на иностранном языке, — нужно вообще поме-
шать Вольтеру говорить. Однако в мире нет силы, способной
сделать Вольтера нейтральным! После своего вторичного заклю-
чения в Бастилию Вольтер направился в изгнание в Англию.
Г-н Андре Мари весьма лихо изгоняет его туда вновь. Бедняга!
Как видно, дурная компания, в которую попал г-н министр, за-
ставила его изрядно забыть историю Франции: разве он не
помнит, что даже ссылка не могла принудить Вольтера молчать?
2. «Voltaire's Correspondence»
Три опубликованных г-ном Бестерманом тома «Переписки
Вольтера»'относятся к периоду с 1704 по 1734 год. Будет спра-
ведливо сказать, что сами по себе они еще не открывают ничего
нового. Факты, в них содержащиеся, в основном нам известны;
так, например, письма из этих томов иллюстрируют то, что
рассказывает г-н Луи Франсис в книге «Частная жизнь Воль-
тера». Ценность издания в другом. До сего времени нужно было
постоянно обращаться то к «Письмам», изданным Моланом, то
рыться в журналах, публикующих неизданные материалы, или
читать книгу Жозефа Делора «История тюремных заключений
философов», вышедшую более века тому назад, или листать
«Архивы Бастилии»; короче говоря, чтобы ознакомиться
с жизнью Вольтера, рассказанной им самим или его близкими,
нужно бмло располагать целой библиотекой и прилагать немало
172
физических усилий. Здесь же, от страницы к странице, живо
раскрывается вся биография Вольтера и его образ, возникаю-
щий в книге, обретает точность, свежесть, силу и страстность.
Этого впечатления не может создать и множество ученых иссле-
дований, целая груда найденных эрудитами доселе неизвестных
текстов.
Той эпохе был присущ особый тон, о чем мы сейчас рискуем
забыть, потому что свыклись с грубостью, свойственной на-
шему времени. Это был тон резкий, в нем сквозило ощущение
несправедливости, уже предвещавшее грядущие потрясения
конца века. 6 февраля 1726 года Матье Маре6 писал Жану
Буйе, председателю судебной палаты парламента, проживав-
шему в Дижоне на площади Сен-Фиакр:
«Вольтера избили палками. Вот как было дело. Шевалье де
Роган встречает его в Опере и говорит ему: «Господин де Воль-
тер, господин Аруэ или как вас там?» Тот ему что-то отвечает
по поводу фамилии Шабо. На том и покончили. Два дня спустя
в Комедгс франсез, в фойе, шевалье снова принимается за
свое, поэт говорит ему, что он уже ответил тогда, в Опере. Ше-
валье заносит трость, но не ударяет, а замечает, что Вольтеру
можно ответить лишь ударами палки. Мадемуазель Куврер па-
дает в обморок, ее приводят в чувство, и ссора прекращается.
Дня через три или четыре после этого шевалье велит передать
Вольтеру, что герцог де Сюлли ждет его к обеду. Вольтер идет,
не предполагая, что приглашение устроил шевалье. Спокойно
там обедает, потом лакей говорит ему, что его спрашивают, он
спускается, идет к двери и встречает там трех молодцов, воору-
женных тростями, они дерзко обрушивают удары на руки и
плечи г-на Вольтера. Говорят, будто шевалье наблюдал эту
сцену из лавки напротив. Наш поэт кричит, словно его режут,
и со шпагой в руках поднимается к герцогу де Сюлли, который
находит этот факт отвратительным и оскорбительным. Затем
Вольтер спешит в Оперу, чтобы поведать о своей злосчастной
судьбе г-же де При7, которая там находилась. Оттуда они едут
в Версаль, где и ждут решения по этому делу, которое сильно
напоминает покушение на убийство. Но возможно, что дело кон-
чится убийственными эпиграммами поэта».
Указ о заключении Вольтера в Бастилию подписан Людо-
виком XV 28 марта, через семь недель после этой стычки. Он
был приведен в исполнение 17 апреля 1726 года.
Вольтеру тогда было 30 лет. Это уже его второе пре-
бывание в тюрьме. Его знатные друзья начиная от герцога
де Сюлли, столкнувшись с необходимостью выбрать его сто-
рону или сторону шевалье де Роган-Шабо, недостойного от-
прыска знатного рода, отступаются от поэта. Андре Эркюль
де Флери, епископ Фрежюса, наставник молодого короля, пишет
173
8 февраля: «Вольтер — безумец; несколько герцогов и пэров
вскружили ему голову и сделали его нахальным. Он не жалуется
и хочет уверить, что они, мол, за него отомстят. Его противник
тоже неправильно ведет себя по отношению к нему, его способ
мстить непростителен и недопустим...»
Конечно, это письмо не характерно. Каждый, кто писал в тот
век, писал прекрасно, и не »наешь, чему больше удивляться —
благородству взглядов достопочтенного епископа или же стран-
ному французскому языку, которым пользуется сей королевский
наставник. Но сам по себе факт симптоматичен. Из переписки
Вольтера видно, что причину его ареста не найти в опублико-
ванных здесь письмах. Разумеется, Рене Эро — начальник по«
лиции и бывший товарищ Вольтера по школе — кажется озабо-
ченным лишь одним: как защитить от оскорбления храброго
шевалье де Роган-Шабо. Но очевидно, что прав Луи Франсис,
усматривающий в этом инциденте настоящую провокацию, под-
строенную Вольтеру теми, кто уже почуял в нем опасность. Это
также объясняет и неожиданную пассивность друзей Вольтера
в этой резкой ссоре литератора с аристократом, что было явле-
нием отнюдь не новым — достаточно вспомнить спор вокруг
«Федры» и угрозы герцога Неверского по адресу Расина8, —
однако аристократы, друзья поэта, были бы, несомненно, на его
стороне, если бы события приняли такой же оборот.'
Второй арест был поворотным пунктом в жизни и тем самым
в переписке молодого Вольтера. Он уезжает в изгнание, в Анг-
лию. Сразу же, с первых дней мая 1726 года, тон писем ме-
няется, открывается новая полоса его жизни, оказавшая решаю-
щее влияние на все последующее творчество.
В переписку входит совсем иная тема: поэт рассказывает об
Англии, Англии «Путешествий Гулливера» Свифта, «Оперы ни-
щих» Джона Гея, вдохновившей впоследствии Бертольта Брехта
на создание «Трехгрошовой оперы», поэм Попа8. Он открывает
для себя страну, которая дала Шекспира и начала осваивать
два все еще чуждых литературе явления, пока существовавших
порознь, — умение выражать реальную действительность, даже
самую грубую, и роман. Но это уже другая тема, и нам, людям
более позднего времени, трудно судить о ней, так как Вольтер и
англичане того времени оставили нам слишком мало данных,
позволяющих восстановить детальную картину его жизни в Ан-
глии. Можно высказывать гипотезы об отношениях Вольтера и
Даниеля Дефо, но мы даже не знаем, встречались ли они, хотя
«Робинзон Крузо» написан в 1719 году, «Молль Флендерс» н
«Записки о чумном годе»—в 1722 году, а в 1727—1728 годах
Дефо опубликовал «Трактат о женитьбе» и «План развития ан-
глийской торговли»—произведения, которые по своему харак«
теру не могли оставить Вольтера равнодушным. Только в
174
1741 году появляется предисловие Филдинга к «Джозефу Энд-
русу». Известно, во всяком случае, что Вольтер знал Свифта,
этого «английского Рабле», но обо всем этом можно почерпнуть
больше сведений в «Философских письмах» Вольтера, чем в
«Переписке». «Переписка» дает нам другое...
«Признаюсь вам, любезный Тирио, что недавно я совершил
короткое путешествие в Париж. Поскольку я не встретился е
Вами, Вы можете без труда догадаться, что я не встречался ни
с кем. Я разыскивал лишь одного человека, но из инстинкта тру-
сости он скрылся от меня, словно угадал, что я его выслеживаю.
Опасение быть обнаруженным заставило меня поспешить с отъ-
ездом. Так обстояло дело, мой милый Тирио; по всей видимости,
я Вас никогда больше не увижу. У меня пока нет уверен-
ности, покину ли я когда-либо Лондон. Я знаю, что Англия —
это страна, где искусства в почете и им воздается должное,
где есть разница в условиях жизни, но различия между
людьми определяются только их подлинными заслугами. Это
страна, где мыслят свободно и благородно, не ощущая рабского
страха. Если бы я мог следовать своим склонностям, то я
остался бы здесь — хотя бы только для того, чтобы научиться
мыслить».
Более подробно эти мысли прокомментированы в «Философ-
ских письмах», в некоторых поправках к «Генриаде», а также —/
впоследствии — в более поздних произведениях Вольтера. Ра-
зумеется, не следует оценивать все это с позиций современ-
ности: ведь с тех пор уже прошло два века с лишним. Нужно
пересмотреть наши представления об Англии и Франции тех
времен и многое другое и не слишком доверяться историческим
параллелям. Но все же, когда я читаю эти строки Вольтера, мне
невольно вспоминаются прочитанные мною недавно высказыва-
ния Чарли Чаплина по поводу его изгнания. Конечно, люди,
вступающие во вторую половину XX века, имеют в виду другое,
даже когда употребляют те же самые слова, что и Вольтер, ска-
завший: «Я остался бы здесь — хотя бы только для того, чтобы на-
учиться мыслить». Но даже теперь, когда мы хорошо знаем, что
такое нация, понимаем» чем она могла бы быть, представляем себе,
какой должна быть свобода, и если даже национальная форма
и национальные традиции ведут нас к иной концепции жизни,
в свете которой Вольтер выступает борцом против определен-
ного круга идей, им самим некогда сформулированных, — все
это не мешает нам ощутить волнение, читая это письмо Воль-
тера. И если английский заголовок «Переписки Вольтера» ча-
стично может быть оправдан для трех первых томов тем, что
некоторые письма он писал по-английски, то мы еще в большей
мере испытываем стыд оттого, что комментарии к письмам тоже
сделаны на английском языке.
175
3. Битва за книгу в 1728 году
Нижеследующие письма тем более современны, что в них
Вольтеру приходилось прибегать к определенной конспирации.
Английский язык нужен был ему для того, чтобы свободнее вы-
сказываться. Он пишет об этом своему другу Тирио:
«Лондон, 21 апреля 1728 года
My dear Tiriot, I write to you in english, for the same reason that
abbot Boylau wrote in latin, I mean that I should not be understood
by many over curios people».
«Мой дорогой Тирио, я пишу Вам по-английски по тем же
соображениям, по каким аббат Буало 10 писал на латыни: так
я не буду понят слишком любопытными людьми». И действи-
тельно, впоследствии в своей книге «Век Людовика XIV» Воль-
тер рассказывал, что, когда Жака Буало однажды спросили,
почему он продолжает писать на латыни, тот ответил: «Из
боязни, что меня прочтут епископы, они стали бы меня пресле-
довать». Начиная с этого времени переписка Вольтера в опре-
деленном смысле напоминает письма Стендаля в будущем — не
только потому, что в одних и тех же письмах он пользуется
французским и английским, а порой английским, французским
и латынью, но еще и потому, что содержание их писем сходно;
и у Вольтера речь идет о том, чтобы провести полицию, там
обсуждается возможность тайных изданий «Генриады», «Фи-
лософских писем» и «Опыта о Карле XII». То была великая
битва за право свободно высказываться вопреки цензуре, ра-
зумеется со всяческими предосторожностями в выборе слов, —
настоящая битва за то, чтобы напечатать, распространить, до-
вести до читателей каждую свою книгу. И эта битва за свои
произведения, которую так яростно вел Вольтер, предоставлен-
ный сам себе, этот его урок морали, конечно, ни в коей мере не
может понравиться министру просвещения в наше время:
«14 июня 1728 года, Тирио*.
Теперь мне необходимо знать, где и когда я мог бы тайно
издать «Генриаду». Нужно, чтобы это осуществилось во Фран-
ции, где-нибудь в провинции. Сомнительно, что Руан будет
подходящим местом, ибо там, кажется, гонение на книги столь
сурово, что напугало всех книгоиздателей. Если вы знаете
место, где я мог бы напечатать свою книгу в полной безопас-
ности, умоляю сообщить мне об этом».
* Это письмо написано Вольтером по-английски.
176
Когда Вольтер возвращается во Францию, это — совсем
другой человек, настолько недоверчивый, что он готов отка-
заться от уже объявленной постановки трагедии «Брут», едва
до него доходит слух, что в связи с этим против него готовится
заговор с участием все того же щевалье де Роган-Шабо. Он ста-
новится осторожным до того, что в его письмах нельзя найти
ничего, что свидетельствовало бы о его печали или гневе, когда
умерла Адриенна Лекуврер *1 — не только гениальная испол-
нительница его пьес, но и очень близкий и дорогой ему друг;
нет в них и следов возмущения, когда церковь отказала актрисе
в праве покоиться на христианском кладбище и ее тело было
отвезено в тележке под охраной стражников и предано земле
на каком-то пустыре. Только год спустя он пишет Тирио: «Я не
могу больше удержаться и посылаю Вам стихи, которые Вы так
часто у меня просили.
Я не желаю далее препятствовать распространению этих сти-
хов, внушенных мне возмущением, нежностью и жалостью; опла-
кивая в них мадемуазель Лекуврер, я воздаю должное мадемуа-
зель Салле 12. Я присоединяю свой слабый голос ко всем голосам,
доносящимся из Англии, чтобы дать почувствовать хотя бы не-
много разницу между свободой англичан и нашим рабством,
между их мудрой смелостью и нашим нелепым суеверием, между
тем поощрением, которым пользуются искусства в Лондоне, и
постыдным гнетом, под которым они прозябают в Париже».
Такой тон становится отныне доминирующим в письмах
Вольтера. Горизонты переписки расширяются по мере того, как
все более суровой становится борьба. Вольтер приближается
к сорока годам. Он встретил г-жу дю Шатле — свою великую,
подлинную любовь; к нему, можно сказать, приходит зрелость,
или, скорее, он достигает законченного мастерства, становится
мудро осторожным:
«Продают мои «Письма» *, которые Вам знакомы, не преду-
предив меня, даже не поставив в известность. Имеют наглость
помещать на обложке мое имя и, несмотря на мои неоднократ-
ные просьбы изъять хотя бы то письмо, где речь идет о «Мыс-
лях» Паскаля, включают в книгу и его. Ханжи меня проклинают,
враги поносят, и мне приходится опасаться появления письма
с королевским указом о моем аресте, письма куда более опас-
ного, чем все мои. Я умоляю сообщить мне все, что Вы можете
узнать. Можно ли по крайней мере довести мои пожелания до
сведения тех, кто имел нескромность пустить в продажу это
произведение без моего согласия? Можно ли хотя бы снять
мое имя с обложки? Прощайте, мой мудрый и любезный друг.
* «Философские письма».
12 П. Деке 177
Как нелепо, что у меня столько неприятностей из-за этой
книги».
Существуют двадцать писем на ту же тему, и все они про-
никнуты тревогой по поводу различных произведений. Два-
дцать писем, помимо десятков других, которые отражают ту же
борьбу; именно из этих писем и следует, несомненно, исходить,
чтобы восстановить облик Вольтера таким, каким он был на са-
мом деле. Мы должны читать его сегодня, не забывая о башне
Пармской тюрьмы, описанной Стендалем. Я имею в виду Ба-
стилию.
Я не собираюсь реабилитировать «Генриаду», но в этом про-
изведении Вольтер использовал немало средств, чтобы выска-
зать — в том или ином диалоге или* в описании — свои мысли
и провозгласить свои писательские цели.
Нельзя допустить, чтобы Вольтер пал жертвой наших вку-
сов. Бастилия или Фрэн — это не вопрос вкуса. Да и литера-
турные вкусы начальника полиции Рене Эро в ту пору, когда
Вольтер сидел в Бастилии, представляют не больше интереса,
чем вкусы нашего современника г-на Бейло, а вкусы г-на Морепа
имеют не больше значения, чем вкусы г-на Брюна *.
Старик Гюго круто обошелся с литературными пристра-
стиями Вольтера. «Шекспир, — пишет он, — был для Вольтера
поводом показать своккловкость в стрельбе из лука. Вольтер
редко бил мимо цели. Он стрелял в Шекспира, как крестьяне
стреляют гуся. Именно Вольтер первым во Франции открыл
огонь по этому «варвару». Он именовал его «святым Христо-
фором трагиков». Он говорил г-же де Графиньи: «Шекспир
смешон». Он говорил кардиналу де Берни: «Пишите хорошие
стихи, избавьте нас, монсеньор, от разного рода бедствий и
невежд, от Академии Прусского короля, от папской буллы
unigenitus, от сторонников Конституции и кликуш и от этого глу-
поватого Шекспира! Libera nos Domine**: отношение Фре-
рона 13 к Вольтеру в глазах потомства имеет смягчающее вину
обстоятельство — отношение самого Вольтера к Шекспиру».
Говорить так — значит не принимать во внимание то зна-
чение, которое в действительности имел Вольтер для ознакомле-
ния французов с Шекспиром, не признавать того, что в своих
«Письмах», «напечатанных без его согласия», Вольтер дает,
насколько мне известно, первый французский перевод монолога
Гамлета и говорит: «У англичан, как и у испанцев, был уже на-
* В то время министра внутренних де\. Он «прославился» в конце
мая 1952 года раскрытием мнимого заговора коммунистов, доказательством
которого служило то, что в машине г-на Жака Дюкло было обнаружено
несколько голубей. Голубей признали при экспертизе вполне съедобными и
предназначенными для жаркого.
** Иэбави нас, господи (лат.).
17S
стоящий театр, когда французы еще довольствовались балаган««
ньгми представлениями». Затем он добавляет: «Вы, несомненно«
пожалеете, что до сих пор все, кто говорил Вам об английском
театре и, конечно же, о знаменитом Шекспире, показывали лишь
его слабые стороны и никто не перевел ни одного из тех потря-
сающих мест, которые искупают все его погрешности...»
Я не стану здесь доискиваться подлинной мысли Вольтера,
к тому же я думаю, что его взгляды в юности явно были
меньше отмечены иронией, чем многие его более поздние выска-
зывания. Ревнители сегодняшнего" «хорошего вкуса», которые
осуждают Вольтера-поэта, не читая его, не лучше ревнителей «хо-
рошего вкуса» »тех лет, который отвергал Шекспира. Но, отвле-
каясь от вольтеровской переписки, я хотел бы подчеркнуть
поучительный пример Виктора Гюго, который, даже выступая
против Вольтера, делает это таким образом, что фактически
продолжает его же борьбу, и делает это Гюго все в той. же
книге «Вильям Шекспир».
Кажущаяся порой чрезмерной чувствительность, с которой
Вольтер воспринимал каждый укол критики, понятна Виктору
Гюго. На вершине, на скалистом острове Гернсей, он не забывал
о Бастилии.
«Памфлет, — пишет он в «Вильяме Шекспире», — может при
случае обслуживать правительство.
Так, не без участия полиции был создан эстамп «Избиение
Дидро плетью», и гравер, видно, был сродни тюремщику Вен-
сенского замка. Не в меру рьяные правительства не брезгуют
использовать вражду нижестоящих. Политические гонения в
прошлом — мы говорим только о прошлом — охотно сдабрива-
лись литературными преследованиями. Конечно, тот, кто полон
ненависти, не нуждается в оплате, чтобы ненавидеть; завист-
нику не нужно ни вознаграждения, ни пенсии от министра,
чтобы завидовать; клевета рождается без правительственных
гарантий. Новее же вспомоществование не ухудшит дела. Когда
Руа, придворный поэт, сочинял на Вольтера пасквиль: «Скажи
мне, отважный стоик...», то место казначея палаты податного
суда в Клермоне и крест святого Михаила отнюдь не повредили
его пылу сатирика и не остудили его верноподданнических
чувств. Сладостно получить на чай за оказанную услугу; хо-
зяева улыбаются; приказ хулить того, кого ненавидишь, прия-
тен; ему охотно подчиняешься; можешь свободно кусаться в
полное удовольствие, и отдаешься этому всей душой; словом,
сплошная выгода: и ненавидишь, и благодарность видишь! Не-
когда власти имели своих борзописцев, и те действительно на-
поминали свору борзых. На свободомыслящего бунтаря деспот
напускал наемного писаку. Пыток оказывалось недостаточно,
добавлялась еще и травля. Триссотен u снюхивался с Видоком 15,
12* 179
и из их альянса рождалось удвоенное вдохновение. Педагогика,
подкрепленная полицией, ощущала себя неотъемлемой частью
властей предержащих и дополняла свою эстетику обвинитель-
ным заключением. Это было величественно. Педант, возведен-
ный в ранг полицейского надзирателя! Что может быть высоко-
мернее этой низости?»
, Когда переписка Вольтера превращается в «Voltaire's Corres-
pondence», то это* не так уж далеко от фордовской машины
марки «Ведетт» на месте статуи Виктора Гюго и заставляет
вспомнить тот отрывок из «Вильяма Шекспира», где Гюго рас-
сказывает, как в первый же месяц после возвращения Бурбонов
из Пантеона выбрасывали прах Вольтера.
Гюго, писал: «В памфлеты порой примешивают негашеную
известь.
Все эти черные вороны пера в конце концов роют зловещие
могилы... Кто оскорбляет Вольтера, оказывается по праву ту-
пым педантом». А ныне, оскорбив Виктора Гюго, делаются по
праву академиками. Приходится вести все ту же борьбу. В ре-
прессивные меры, перечисленные Гюго, наше правительство вно-
сит свою лепту: оно организует заговор молчания. Это — зама-
скированная цензура. Своего рода список Отто,.пока не пе-
реименованный в список Маккарти16, но имеющий то же
назначение. Известно, что во время оккупации список Отто
французы из духа противоречия рассматривали как каталог
своей библиотеки.
Сегодня они из духа противоречия видят в списке Маккарти
каталог тех книг, за которые должно бороться во Франции.
Вольтер не был бы обижен. Он к этому привык.
IX. АНГЛИЯ. КОТОРОЙ «Е ЗНАЛ ВОЛЬТЕР
акон — это дорожная за-
става, где пешему нет про-
хода, а каретам — сделайте
милость, пожалуйста!» !
/ Эти слова принадлежат некоему судейскому чиновнику —
персонажу пьесы Филдинга «Политик из кофейни» (1730).
В «Опере Граб-стрита» Филдинг идет еще дальше и выводит
Уфлпола, тогдашнего премьер-министра, в образе жулика — дво-
рецкого Робина. Пастор Пазлтекст говорит о нем: «Трудно ре-
шить, кого первым следует повесить! Если дворецкий Робин
мошенничал больше других, так, верно, потому только, что у
него было для этого больше возможностей...» 2
Филдинг не скрывает, что он вдохновлялся здесь «Оперой
нищих» Джона Гея, написанной в 1728 году и имевшей огром-
ный успех *.
Уолпол обрушивается на Филдинга и вынуждает его в
1737 году закрыть свой театр. С этого времени Филдинг начи-
нает писать романы, которые создали ему славу. И Филдинг
ие сдается. В 1743 году, через два года после создания первого
романа «Джозеф Эндрус», он публикует самое сильное и резкое,
направленное против правительства произведение.
Это страстное обвинение облечено в форму биографии зна-
менитого Джонатана Уайльда Великого. Джонатан Уайльд дей-
ствительно существовал. Это был известный главарь воровской
шайки в Лондоне в начале двадцатых годов XVIII века. Его
повесили в Тайберне3 в 1725 году. Даниель Дефо посвятил ему
одно из своих «Жизнеописаний преступников», и Филдинг
См. статью «Похвала Джону Гею».
181
воздает должное своему предшественнику, «этому прекрасному
историку, который, основываясь на документах и свидетельствах
современников, оставил нам подробный рассказ о подвигах и
жизни сего великого человека...»
В книге развивается тема, с которой мы уже встречались
в «Опере нищих». Филдинг прекрасно формулирует ее в «Джо-
натане Уайльде»: «Тот же*гений, те же дарования нередко от-
мечали наравне государственного мужа и м а з а, как мы име-
' нуем того, кого чернь называет вором. Нередко те же качества /
и тот же образ действий, какие ставят человека во главе об-
щества в высших слоях, поднимают его до главенства и в низ-
ших; и где тут существенная разница, если один кончает Тауэ-
ром, а другой Тайберном. Разве это не пустое заблуждение,
что плаха предпочтительнее виселицы, а топор — веревки?..»
Разница лишь в том, что, несомненно, «лучше царствовать
в аду, чем быть лакеем в раю...» и что в Тауэре за сто лет не
соберется столько раз толпа поглазеть на казнь, сколько на
Тайберне за год...»4 «Только его тайная слава, сокровенное
сознание, что он совершает великие и дивные деяния, одна и
может поддержать подлинно великого человека, будь то за-
воеватель, тиран, государственный деятель или
же маз (вор)» 5. *
Лейтмотивам проходит через всю книгу мысль о «подлинно
великом человеке, будь то завоеватель, тиран, госу-
дарственный деятель или же м а з (вор)». Сокровен-
ное «сознание, что он совершает великие и дивные деяния», по-
стоянно вдохновляет Джонатана Уайльда. Он прикидывается
добродетельным, благородным, всегда готовый оказать помощь
своим близким, позаботиться об их нуждах. Это тип лицемера,
обрисованный с невиданной доселе силой; Филдинг срывает
здесь маску с государственных деятелей своего времени, изобра-
жая деятеля государства воров, их императора, воспевая вели-
чие ецо подвигов, так же как это делает официальный биограф
короля или великого министра; Филдинг с убийственной иро-
нией показывает, что, по сути дела, у них те же заботы и на-«
мерения, то же поведение.
Перенесемся за Ламанш. Если послушать наших филосо-
фов — Монтескье, Вольтера или Дидро, то перестанешь что-
либо понимать. Вольтер, например, провел в Англии четыре
года, с 1726 по 1730. Он мог быть свидетелем ускеха «Оперы
нищих» или смотреть в театре «Политика из кофейни» Фил-
динга. Но мы ничего об этом не знаем. Напротив, он в это
время пишет в своих «Английских письмах»: «Сопоставление
Рима и Англии складывается в пользу последней. Различие
между ними сводится к следующему: следствием гражданских
войн в Риме было рабство, а результатом общественных потря-
182
сений в Англии — свобода. Английской нации единственной на
земле удалось оказать сопротивление королевской власти, ог-
раничить ее и постепенно создать разумное правительство, при
котором монарх всемогущ, ежели он творит добро, и беспомо-
щен, ежели вздумает учинять зло, аристократы знатны без за-
носчивости и не имеют вассалов, а народ участвует в управле-
нии, не внося хаоса».
Что же получается? Вольтер ли грезит наяву или же Фил-
дингу, как и Гею, желчь мешает увидеть «разумное правитель-
ство, при котором монарх всемогущ, ежели он творит добро, и
беспомощен, ежели вздумает учинять зло»?
Обратимся к английским художникам того времени. У Рей-
нолдса или Гейнсборо мы видим портреты аристократов, полных
достоинства, но ведь есть еще Хогарт, оставивший для потом-
ства бичующую сатиру на упадок нравов. И оба эти аспекта
неотделимы друг от друга.
Что осталось в литературе от писателей того времени? К сфе-
ре «возвышенного» принадлежит Поп, которого теперь никто
уже не читает, либо «Памела» Ричардсона, нравившаяся Дидро,
но с тех пор... И, наоборот, «низкой» литературой считались
тогда, да и в XIX веке произведения Дефо, Джона Гея,
Свифта, Филдинга...
Предоставим слово Диккенсу. «Я не знаю, — пишет он, — ни
одного из наших писателей, уважающего себя и хотя бы не-
много — своих потомков, который пал бы так низко, чтобы по-
трафлять пресыщенным вкусам господствующих классов. С дру-
гой стороны, если я стану искать примеры противоположного
порядка, то я найду их в самой благородной сфере английской
литературы — в творчестве Филдинга, Дефо, которые... ради
высоких целей... не гнушались описывать самое низменное, что
было тогда в стране... и вместе с тем если обратиться к про-
шлому, то встретишь хорошо знакомые упреки: ими осыпали этих
писателей, каждого в свое время, насекомые той поры, которые,
надоев всем своим жалким жужжанием, умерли и были пол-
ностью забыты... Вскоре после того как Филдйнг описал Нью-
гейт, тюрьма эта прекратила свое существование...»
Диккенс хорошо знал, о чем говорит. Сверхдобродетельный
лорд Мельбурн в первые годы викторианской эпохи встретил
появление «Оливера Твиста» словами: «Не переношу этого гру-
бого и низкого стиля*; совсем как в «Опере нищих». Никогда не
поверю, что таким путем можно повысить мораль...»
Описание тюрьмы Ньюгейт, о котором говорит^ Диккенс,
подробнее всего дано в романе Филдинга «Амелия», не изда-
вавшемся у нас с 1832 и до 1955 года.
Можно ли быть уверенным, что в истории нашей критики нет
своего лорда Мельбурна?
183
Сэр Вальтер Скотт не любил «Джонатана Уайльда». В
1825 году он с важным видом поделился своим сомнениями':
«Трудно понять, какую цель преследовал Филдинг, рисуя бес-
просветную картину порока, без малейшего проблеска живого
человеческого чувства».
Напротив, Байрон за четыре года до этого приходил в вос-
хищение: «Я только что перечел Филдинга. Сейчас (как мне
рассказали) ведется много разговоров о радикализме, якобин-
стве и прочем... в Англии. Я бы посоветовал полистать «Джо-
натана Уайльда Великого». Никогда еще социальное неравен-
ство и все ничтожество великих мира сего не были показаны
с большей силой; презрение Филдинга к завоевателям и им
подобным таково, что, живи он сейчас, «Курьер» объявил бы
его рупором революционеров и мятежников. И тем не менее
я не припоминаю, чтобы кто-нибудь отмечал эту особенность
творчества Филдинга, хотя она бросается в глаза на каждой
странице его произведений».
Байрон ошибался; один человек до него уже обратил внима-
ние на эту сторону творчества Филдинга, и в частности в
связи с романом «Джонатан Уайльд». То был английский поэт,
который в дни молодости восхищался Французской револю-
цией и боролся против сторонников рабства. По правде го-
воря, Байрон в 1821 году не мог этого и подозревать, читая па-
линодии этого человека, который стремился к тому, чтобы его
«радикальное» прошлое было забыто. Я говорю о Колридже6,
который во времена, когда он восхищался Конвентом, ставил
«Джонатана Уайльда» по силе сатиры выше «Гулливера».
Остается выяснить один вопрос.
Неужели Дефо и Филдинг намеренно ограничивались изо-
бражением только уродливой, низменной стороны своей эпохи?
Достаточно просто назвать их произведения, чтобы опроверг-
нуть такое мнение. Если Дефо изобразил бандитов в «Молль
Флендерс» или в «Жизнеописании полковника Джека», то ведь
он еще и автор «Робинзона Крузо». Помимо жизнеописания
Джонатана Уайльда и сцен из мира воров в «Амелии», Фил-
динг создал также «Джозефа Эндруса» и «Тома Джонса».
В «Молль Флендерс» героиня, рассказывая о своей жизни
грешницы, стремится на примере своих злоключений показать
несчастную долю незамужней женщины того времени. Молль
Флендерс Bogce не проститутка, как о ней часто пишут. Правда,
она обычно называет себя a whore*, но тогда это слово приме-
нялось и к любой женщине, живущей в незаконном браке, и
к последней потаскухе. Молль Флендерс постоянно не везло.
У нее была одна мечта — заполучить законного супруга и чтобы
* Проститутка, блудница (англ.). — Прим. ne рев.
184
он был не без денег. Но* всякий раз, даже когда у нее самой
есть деньги, она оказывается в конечном счете без мужа. И пра-
во же не по своей вине. Из десятка более или менее законных
браков по меньшей мере трижды она остается вдовой, а один
Îa3 выходит замуж за собственного брата, сама того не зная,
от из мужей* которого она любит больше всего, очень скоро
полюбовно расстается„ с Молль: он надеялся найти женщину
с богатым приданым и получить возможность покончить с ре-
меслом разбойника с большой дороги... В сущности, Молль
Флендерс начинает заниматься проституцией в прямом смысле
»того слова, только перевалив за пятьдесят лет, когда она уже
стала профессиональной воровкой...
Я напоминаю об этом, чтобы дать верное представление об
условиях существования женщин того времени. Вообще о жизни
той эпохи.
Какой же была тогда английская действительность?
Разобраться в творчестве наших, авторов помогает нам по-
литическая экономия. Ключ к разрешению противоречий, на
которые мы натолкнулись, можно найти в «Капитале» Маркса:
«Gloriouse Revolution» (славная революция) вместе с Виль-
гельмом III Оранским поставила у власти наживал из земле-
владельцев и капиталистов. Они освятили новую эру, доведя до
колоссальных размеров то расхищение государственных иму-
ществ, которое до сих пор практиковалось лишь в умеренной
степени. Государственные земли отдавались в дар, продавались
эа бесценок или же присоединялись к частным поместьям
путем прямой узурпации. Все это совершалось без малейшего
соблюдения норм законности. Присвоенное таким мошенниче-
ским способом государственное имущество наряду с землями,
награбленными у церкви, поскольку они не были снова утеряны
во время республиканской революции, и составляют основу со-
временных княжеских владений английской олигархии. Капи-
талисты-буржуа покровительствовали этой операции, между
прочим для того, чтобы превратить землю в предмет свободной
торговли, расширить область крупного земледельческого произ-
водства, увеличить прилив из деревни поставленных вне закона
пролетариев и т. д. К тому же новая земельная аристократия
была естественной союзницей новой банкократии, этой только
что вылупившейся из яйца финансовой знати, и владельцев
крупных мануфактур, опиравшихся в то время на покровитель-
ственные пошлины» *.
«Английский банк начал свою деятельность ссудами прави-
тельству денег из 8%; вместе с тем он был уполномочен парла-
ментом чеканить деньги из того же самого капитала, который
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 23, стр. 735.
185
он еще раз ссужал публике в форме банкнот... Прошло немного
времени, и эти фабрикуемые самим банком кредитные деньги
стали функционировать как звонкая монета: банкнотами выда-
вал Английский банк ссуды государству, банкнотами уплачивал
за государство проценты по государственным займам. Мало
того, что он одной рукой давал, чтобы другой взять гораздо
больше; даже когда он получал, он оставался вечным кредито-
ром нации на всю данную им сумму до последней копейки.
Мало-помалу он стал непременным хранителем металлического
запаса страны и центром тяготения для всего торгового кредита.
В то самое время, когда англичане перестали сжигать на кострах
ведьм, они начали ^вешать подделывателей банкнот. Какое
впечатление произвело на современников внезапное появление
этого отродья банкократов, финансистов, рантье, маклеров, спе-
кулянтов и биржевых волков, показывают сочинения того вре-
мени, например сочинения Болингброка» *.
Заметим, что и Монтескье в «Духе законов» суров по от-
ношению к финансистам: «Если бы татары наводнили сегодня
Европу, потребовалось бы немало усилий, дабы пояснить им,
кто такие у нас финансисты». Однако, по правде говоря, так
называемые низы общества, изображенные Дефо и Филдингом,
во Франции XVIII века почти отсутствуют. «Манон Леско» —
это нечто совсем иное. Хотя там и описывается «каторжный
дом», где Манон искупает свои грехи, и высылка заключен-
ных, как и в «Молль Флендерс»,—'определенные заимство-
вания у английских авторов, которых аббат Прево переводил,
очевидны, —: но не говорится ни о воровском мире, ни о взаимо-
отношениях между ворами и верхушкой общества, нет ни пор-
третов полицейских, ни политического анализа общественного
порядка. Наших авторов, в том числе и Лакло, интересовали
распущенность и развращенность сами по себе. Выведены в
нашей, литературе и финансисты, например Тюркаре у Лесажа,
но большие писатели XVIII века разоблачали главным обра-
зом пороки умиравшего феодализма.
Среда, воспроизведенная Дефо # и Филдингом, получила
права гражданства в нашей литературе лишь век спустя после
«Джонатана Уайльда» — в «Блеске и нищете куртизанок» Балы
зака и в истории Вотрена. Только тогда стали задумываться над
судьбой Ласенера7, подобно тому как Филдинг был наведен на
размышления биографией Джонатана Уайльда. Впоследствии
эта тема еще более расширилась, претерпев вместе с тем изме-
нения,— достаточно вспомнить «Отверженных», — и одновре-
менно ее также использовали в интересах существующего по-
рядка («Парижские тайны» Эжена Сю). А чтобы политиче-
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 23, стр. 765.
186
екая коррупция буржуазии нашла изображение в литературе/
нужно было дождаться появления «Люсьена Левена» Стендаля.
Достаточно обратиться к датам, чтобы увидеть, что достичь
понимания указанных выше явлений действительности мы смо-
гли лишь после нашей буржуазной революции, в эпоху господ-
ства банкиров.
Увеличение числа воров, разного рода бандитов, нищих и
босяков, обитавших в таком большом городе, как Лондон, уста-
новление сходства между шайками лондонского дна и той, какая
вместе с Уолполом была у власти, — все это оказалось возмож-
ным лишь в Англии* Англии после революции 1688 года.
Вольтер только что вышел из Бастилии, куда его бросил
Людовик XV, по прозвищу Возлюбленный, и поэтому он ви-
дит — и не без оснований — в Англии того времени политиче-
скую свободу для своего класса, правительство, заботящееся
о развитии торговли и управляющее государством с учетом в
первую очередь интересов купцов.
И в самом деле, Уолпол любой ценой хочет мира, — мира,
столь необходимого для постоянного расширения торговли,
мира, который позволит ему снизить налоги на земельную соб-
ственность помещиков и тем самым примирить интересы соб-
ственников обеих категорий, составляющих его опору.
Его отстранили лишь в 1742 году, когда английская буржуа-
зия обнаружила, что Испания поставила под угрозу ее торговлю
с Испанской Америкой. В свое время, после Утрехтского мира
в 1715 году, Уолпол добился от Испании права для Англии на
торговлю неграми, которых доставляли из Африки в Испанскую
Америку. Тридцать лет спустя вместо предусмотренного согла-
шением одного корабля в год между континентами тсурсировал
уже целый английский флот. Когда Испания стала этому про-
тивиться, Питт заявил: «Нужна война». «Коль скоро затронуты
интересы торговли, — воскликнул он в парламенте, — знайте:
это ваша последняя линия обороны, ваш последний рубеж, и вы
должны отстаивать его до конца или погибнуть!» Его призыв
был услышан. Но в то же самое время, когда католики под-
няли возню, чтобы с помощью французского короля вернуть ан-
глийский трон претенденту из семейства Стюартов, Филдинг
вновь вступил на политическое поприще — на этот раз на сто-
роне правительства, чтобы отстаивать английскую независи-.
мость и поддержать тех, кто защищал торговлю и величие
страны.
Филдинг был возмущен не самой формой правления, а тем,
что буржуазное правительство вместо всеобщего процветания
и благоденствия вызывало к жизни прежде всего торжество
порока и разгула, неурядицы и распутство. За рубежами Ан-
глии — мир, а внутри страны — ожесточенная война, массовая
187
экспроприация крестьян выбрасывает на мостовые городов
толпы нищих, и возникающая мануфактурная промышленность
не в состоянии их поглотить. На фабриках широко используется
детский труд. Но больше всего Филдинга возмущает невидан-
ный рост воровских шаек. Он вынужден отметить, что поведе-
ние главарей воровского мира не отличается от поведения тех,
кто стоит во главе государства. Одни грабят внизу, другие —
наэерху, и Филдинг гневно заявляет, что нужно уничтожить это
зло, а не прикрывать его флером добродетели. Однако Филдинг
(ив этом его ограниченность) не мог понять одной вещи: что
в Англии эпохи первых буржуазных правительств было дове-
дено до колоссальных размеров то «...расхищение государствен-
ных имуществ, которое до сих пор практиковалось лишь в уме-
ренной степени... Все это совершалось без малейшего соблюдем
ния норм законности...» * '
Вольтер видел лишь положительные стороны нового полити-
ческого строя, не вникая в его подлинную суть. Такое разли-
чие в оценке английской действительности ух Филдинга и Воль-
тера объясняется различием исторических судеб двух наций.
Вольтера приводит в восхищение свобода. Филдинг ж$ пре-
красно знает, что каждое депутатское кресло покупается, как и
любой, даже самый незначительный, пост в государственных
учреждениях или в армии, что депутаты открыто продают свои
голоса, свои малейшие услуги, подобно тому как судьи нагло
торгуют правосудием. »И об этом он кричит во весь голос.
Величие Филдинга в том, что он все это высказал до конца.
Ему была свойственна, конечно, известная историческая
ограниченность, обусловленная его эпохой. Ее рамки, однако,
следует очертить весьма точно. Например, карьерист той поры
(да простят мне этот анахронизмI) стремился составить себе
состояние торговлей неграми. Занимался ею и Робинзон Крузо,
и Родерик Рэндом Смоллета. Причем делали они это без всяких
угрызений совести, и ни Дефо, ни Смоллет не находят для них
слов осуждения. В этом они разделяли точку зрения Молль
Флендерс. Будучи выслана в Америку, она совсем не в вос-
торге от перспективы быть проданной в услужение сроком на
пять лет одному колонисту. Но, выкупившись на свободу на
остатки украденных денег, Молль Флендерс немедленно «по-
купает» черного раба и ссыльного белого-для работы на планта-
ций, где она поселяется с мужем.
Филдинг не ополчается против рабства, но у него нет ни од-»'
ного героя работорговца; напротив, в «Амелии», например, он
делает своими героями людей бедных — капитана Бута и его
жену Амелию. В свете судьбы этих простых людей, как и в
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 23, стр. 735.
188
свете судьбы Джозефа Эндруса и Тома Джонса, описывает он
общество, где царят деньги, порождающие грязь, продажность,
бесчинства.
Вопиющее неравенство, которое бичует Филдинг, — неотъ-
емлемый признак продажного общества, где ни в чем не по-
винный капитан Бут брошен в тюрьму только потому, что при
нем не оказалось денег, чтобы подкупить судью; счастье его
ч его жены всегда'зависит от денег, которыми оно постоянно
должно оплачиваться. Величие Филдйнга именно в этом разоб-
лачении. Этим, вероятно, и можно объяснить, почему его ро-
маны «Джозеф Эндрус», «Джонатан Уайльд» и «Амелия» так
мало известны. Я далек от того, чтобы оспаривать достоинства
«Тома Джонса», шедевра писателя. Но принято считать, будто
славу этому роману принес оптимизм Филдйнга.
Филдинг действительно был оптимистом в полном смысле
этого слова; он горячо любил жизнь и твердо верил, что чело-
веческая доброта восторжествует в конце концов над пороками
общества. Но то был — о, ужас! — оптимизм политического
борца. А в наши дни стремятся вычеркнуть из его жизни то,
что придавало ^й основной смысл.
Те читатели^ внимание которых Арагон обращал на Стен-
даля 8, кстати тоже любившего Филдйнга, могут отлично по-
нять, на чем основан этот оптимизм, даже при совершенно ином,
чем у Филдйнга, представлении о лучшей жизни и не разделяя,
сказать к примеру, его религиозных верований. Этих новых
читателей не страшит пафос ожесточенной борьбы, питавший
оптимизм Филдйнга, они знают, что прекрасное грядущее будет
достигнуто лишь в беспощадном единоборстве с неравенством и
грязью существующего строя.
Филдинг видел только зарю этого общества, но указал на
его уродства, так же как подмечают пятна на солнце. Читатели,
о которых я говорю, думают о другом солнце, но свет, к кото-
рому тянулся Филдинг, и тени, которые он стремился убрать,
не оставляют их равнодушными. Именно эти читатели и могут
воздать должное Филдингу, оценив его по заслугам, понять его
до конца.
X. ПОХВАЛА ДЖОНУ ГЕЮ
Но объясните мне, откуда это восторженное от-
ношение к «Опере нищих», ее тексту и музыке,
которое сохраняется вот уже двести двадцать
семь лет?
Робер Кан в «Ле Монд»
от 16/111 1955 г.
— Что же, охотно.
п. 4.
акие замечательные ре-
зультаты получаются,
когда обращаешься к
первоисточникам! И какой великолепной творческой фантазией
обладал Джон Гей! В понедельник вечером в Театр де пош, где
сцена и зал так малы, словно они из мира лилипутов, произошло
чудо: перед нами ожила «Опера нищих» («Beggar's Opera»).
Все в этой постановке граничило с невозможным. Ведь в
наше время успех завоевала «Трехгрошовая' опера» («DreK
groshenoper») Брехта, этот шедевр киноискусства1, созданный
на тему Джона Гея с перенесением действия в викторианскую
эпоху. Если бы по крайней мере пьесе Гея посчастливилось и
довелось быть поставленной на большой сцене! Этого не было, -
ну и что ж! Почти из ничего труппа Театр де пош все же вос-
создала шедевр Джона Гея.' Рене Вийото в своем переводе су-
мел передать удивительный блеск, свойственный пьесе Джона
Гея, и в основном ее поэтичность, не переходящую границ при-
чудливость песен, которые когда-то сыграли немалую роль в
успехе «Оперы». Из подлинника не удалось воссоздать лишь
музыкальные мотивы; мне кажется, однако, Андре Дельферьер
в радиопостановке пьесы Джона Гея, осуществленной перед
войной совместно с компанией «Искусство и труд», сохранил анг-
лийские популярные мелодии XVIII века, которые пародиро-
вал Гей.
/. «Трехгрошовая опера» в подлинном виде
Теперь следует, несомненно, рассказать о содержании под-
линной «Трехгрошовой оперы». Первый акт открывается моно-
логом Пичума, скупщика краденого, который сообщает нам в
«S-CXlA
190
своей песенке, что все профессии основаны на взаимном обмане
и что его промысел ничем не хуже деятельности государствен-
ных мужей. Он добавляет: «Быть адвокатом — почтенное за-
нятие, но и мое не менее почтенно. Адвокат, как и я, ведет двой-
H)jo игру: против мошенников и в их пользу, потому что нам
обоим подобает защищать и поощрять воров, ведь они нас кор-
мят». Мы видим, как Пичум листает большую счетную книгу,
аккуратно подсчитывая, что принесли ему проститутки и воры;
сделав подсчет, он решает, кого из них выдать правосудию,
дабы получить сорок фунтов в награду за содействие полиции.
Затем действие начинается с приходом миссис Пичум, которая
объявляет мужу о том, что капитан Макхит страстно влюблен
в их дочь Полли. Полли, которую родители позвали, открывает
им, что она вышла замуж за этого разбойника с большой до-
роги. Почтенная чета ждала чего угодно, но^тоЛько не брака
Полли. «Знаешь, Полли, — говорит Пичум, — я не против того,
чтобы ты развлекалась и заигрывала с клиентом, но только в
интересах дела, чтобы выпытать какой-либо секрет или что-
нибудь в этом роде. Но, если я узнаю, что ты оказалась такой
идиоткой, что вышла замуж, я тебе перережу глотку, мерзкая
шлюха... Теперь ты знаешь мое мнение». Но дело сделано, Пол-
ли замужем. Больше всего негодует миссис Пичум. Муж успо-
каивает ее: «Ты же знаешь, как слабы женщины, моя дорогая».
Миссис Пичум: «О, в самом деле, наш пол слаб. Но, когда
женщина впервые проявляет слабость, она должна быть более
осмотрительна, ибо именно в этот момент она. и может соста-
вить себе состояние. А уж потом пусть себе поступает, как ей
заблагорассудится, лишь бы никто этого не обнаружил».
Почтенная чета снова размышляет над создавшимся положе-
нием. Пичум находит выход: хотя* Макхит — бандит и источник
дохода для скупщика краденого, он, Пичум, выдаст его право-
судию. Положение вдовы, говорит он дочери, завидное. Коле-
бания здесь неуместны. Если Макхита, их зятя, не повесят, он
отнимет все их добро. Первый акт заканчивается тем, что
Полли, выводя Макхита из своей комнаты, предупреждает его о
замышляющихся против него кознях.
2. Почему нет подходящей компании на виселице
в Тайберне?
Действие второго акта развертывается в таверне неподалеку
от тюрьмы Ньюгейт, где собралась вся воровская шайка. Один
из воров излагает свой символ веры: «Мы отбираем у людей
излишки, мир полон скупых, а я ненавижу скупость. Скряга —
как сорока: он ворует из одного удовольствия спрятать
191
украденное, сам же никогда им не пользуется. Вот эти-то люди*
и обворовывают человечество, ибо деньги созданы для тех, кто
независим и щедр, и нет никакого греха брать у другого то, что
тот не решается обратить себе на пользу». Появляется Макхит
и рассказывает своим приспешникам о заговоре, который гото-
вит против него Пичум; потом Макхит остается один. Он по-
сылал кого-то за своими не слишком добродетельными подруж-
ками и теперь ждет их. «Дамы» приходят. Макхит ухаживает
сразу за всеми. Он так же не может довольствоваться одной
женщиной, как и одной гинеей. Но «дамьц> продали его Пичуму,
который является и задерживает его. Макхит доставлен в
тюрьму Ньюгейт, где мы видим его в обществе тюремщика Ло-
кита, который забирает у него все деньги за то, что надевает
ему кандалы полегче. В камеру к Макхиту приходит Люси,
дочь Локита; на ней он тоже обещал жениться. Разыгрывается
сцена ревности, так как Люси узнала, что он женился на Полли.
Макхит отрицает. Перемена декораций. Деловое свидание Ло-
кита и Пичума. Им очень трудно свести счеты, но так как они
очень нуждаются в помощи друг друга, то приходят к согла-
шению. Между тем Макхита в его камере берут в оборот Люси
и Полли. Он пытается с ними примириться, с обеими, но в
конце концов выбирает Люси: она поможет ему бежать. Что она
и делает.
Третий акт начинается в тюрьме Ньюгейт. Локит, разъ-
яренный бегством Макхита, обрушивается на свою дочь. Люси
и Локит вскоре догадываются: первая — что ее обманул Мак-
хит, второй — что его надул Пичум. Оба жаждут мщения.
У Пичума: одна из клиенток скупщика краденого выдает
Пичуму новое убежище Макхита; в то же время в Ньюгейте
Люси встречает Полли и пытается ее отравить. Но Полли не
проведешь: она ожидает всякого от своей соперницы; сцена за-
канчивается возвращением в тюрьму Макхита, закованного в
цепи. Чем ближе смерть капитана, тем больше комизма, тем он
откровеннее. Обе женщины накидываются на Макхита.
Оба приятеля — Пичум и Локит — решили быстрее покон-
чить со своим узником, чтобы он не успел снова удрать. Мак-
хит пьет и поет, чтобы набраться храбрости. И он предается
меланхолическим рассуждениям: если законы таковы, что к лю-
бому пороку могут подойти как угодно, то почему для него нет
подходящей компании на виселице в Тайберне? И он находит
этому объяснение: деньги могут отвести в сторону карающий
меч закона.
Его навещают двое из ш^йки, он заставляет их поклясться,
что они повесят Пичума и Локита,- ибо если они этого не сде-
лают, то Пичум и Локит доведут их до виселицы.
Макхита собираются немедленно казнить.
192
Финальная любовная> сцена с Люси и Полли, которые обе
нежно прижимаются к нему. Тюремщик объявляет, что еще
четыре жены Макхита пришли с детьми и хотят его видеть.
Макхит кричит: «Как? Еще четыре жены! Это уж слишком.
Скажите скорее помощникам шерифа, что я готов к казни».
На этом месте нищий, который исполняет роль ведущего,
появляется на сцене, и актеры говорят ему, что пьеса слишком
печальна. «Можно, конечно, — отвечает нищий, — устроить
бунт, чтобы освободить узника и вернуть его женам». «Вот и
нужно так поступить, — говорит актер, — чтобы потрафить вку-
сам горожан». На это нищий отвечает: «На протяжении всей
пьесы вы могли наблюдать такое сходство нравов в жизни выс-
шего света и подонков, что трудно определить, подражают ли
светские джентльмены джентльменам с большой дороги или
джентльмены с большой дороги — светским джентльменам.
Если бы сцена осталась такой, какой я ее задумал с самого
начала, она произвела бы великолепный нравственный эффект.
Она показала бы, что пороки людей самого низкого пошиба и
пороки богачей сходны, но что подонки по крайней мере несут
наказание».
В конце пьесы — апофеоз. Освобожденный Макхит, окру-
женный своими женами, избирает Полли, и все поют:
«Помните это всегда, и пусть вас покинет печаль, то, что
сегодня беда, завтра может счастьем стать».
3. Джон Гей и «Тюркаре». Лесажа
С тех пор как существует «Опера нищих», на нее всегда на-
ходятся добродетельные цензоры. То—* лорды Мельбурны, ут-
верждающие, что она написана в дурном и низменном стиле*;
то еще более изысканные критики, которые, презрительно под-
жимая губы, заявляют, что пьеса, мол, «не так уж сурова по
отношению к обществу, как говорят... что вокруг нее создали
атмосферу уважения, которого она явно не заслуживает»; так
пишет Робер Кан и добавляет: «Сам Гей в этом не повинен, он
был человеком одаренным и бесхитростным и не смотрел на
себя как на предтечу...»
Стиль Гея-—и тут, пожалуй, следует слегка упрекнуть Рене
Вийото, который несколько, на мой взгляд, смягчил его, — жи-
вой, выразительный, резкий, но ни в коей мере не низкий**.
* В 1839 году.
** Уильям Хэзлит2, который кое-что смыслил в стилистике англий-
ской литературной речи, писал в 1819 году: «Опера нищих» — шедевр ост-
роумия и вдохновения, не отягощенный излишним дидактизмом. Впадает в
грубую ошибку тот, кто утверждает, будто это грубая пьеса... Напротив.
я с полной уверенностью могу сказать, что она представляется мне одним
13 П. Деке
m
«Опера нищих» — отнюдь не поверхностное произведение;
это удар, который Гей смело и искусно наносит обществу, рож-
давшемуся в его время, в первые десятилетия XVIII века, в
Англии, где правил Уолпол. Некоторые ныне делают вид, что
не понимают, куда метит Гей и кого он пригвождает к позор-
ному столбу. Это нас не удивляет: таков принятый, можно
сказать академический, способ выхолостить содержание великих
реалистических творений прошлого, выбросив из них все, что
ставит в затруднительное положение в настоящее время.
Полезно, однако, иногда обращаться к истории. Поп сле-
дующим образом описывает триумф первых представлений
«Оперы нищих» в феврале 1728 года: «Ничего подобного этому
грандиозному успеху никогда не было, он был совершенно не-
вероятным... Ее ставили в Лондоне шестьдесят три дня подряд
и возобновили в следующем сезоне с неменьшим успехом... Она
была представлена на сценах во всех больших городах Англии,
и во многих местах она шла по тридцать или сорок раз, в Бате
и в Бристоле — пятьдесят раз... Проникла она и в Уэльс, в
Шотландию и в Ирландию, где ее играли двадцать три дня
подряд. Популярным стал не только автор. Дамы наносили на
веера тексты песенок из оперы, которые им пришлись больше
всего по вкусу...»
Каждый понимал явные намерения Гея; когда он сравнивал
людей из высшего общества с ворами и скупщиками краденого,
зритель думал о тогдашнем премьер-министре Уолполе, мастере
коррупции, главе сообщества грабителей, которые со времени
воцарения Ганноверской династии (после смерти королевы
Анны в 1714 году) рассматривали Англию как свою добычу и
беззастенчиво ее грабили.
Гей своей пьесой положил начало политическому направле-
нию в театре того времени. Этим объясняется* его огромный
успех в стране, где все люто ненавидели придворных, разжи-
ревших на разграблении страны, этих «ганноверских крыс»,
как назвал их позднее сквайр Уэстерн в «Томе Джонсе». Гей
проложил путь писателю, который в своих пьесах, а также и в
романах (когда Уолпол прогнал его со сцены) усилил до пре-
дела выдвинутое Геем обвинение; я говорю о Генри Филдинге.
Филдинг хорошо понял мораль «Оперы нищих». Мазурики,
которыми кишит тюрьма Ньюгейт, по природе своей часто не
отличаются от преступников, восседающих в креслах предста-
вителей власти, но только первые не так уж часто умирают на
эшафоте в Тауэр-Хил, предназначенном для людей из хоро-
из наиболее утонченных произведений, написанных на нашем языке. Изя-
щество ее композиции оказалось в полном соответствии с грубым сюжетом:
с помощью какой-то удачной алхимии духа автору удалось извлечь квинт-
эссенцию даже из отбросов жизни и превратить шлак в золото».
194
шего общества. «Однако, — добавляет Филдинг, — не рассмат-
ривая, подобно некоторым авторам, Ньюгейт как прообраз че-
ловечества, с которого сдернули маску, мы все же, ä думаю, не
вызовем упреков, если скажем, что часто дворцы сильных мира
сего — это та же Ньюгейтская тюрьма, но только под маской.
И, на мой взгляд, ничто не может сильнее возмутить честного
человека, чем тот факт, что одинаковые нравы царят и в
тюрьме — узаконенном месте разгула подлости и несчастий —
и во дворцах, где утопают в роскоши и окружены почестями».
Двести двадцать семь лет спустя капиталистическая система,
которая только формировалась во времена Уолпола, все еще
существует у нас, и кто решится утверждать, что выводы Гея или
Филдинга больше не актуальны?
Только в этом свете можно понять подлинное величие
«Оперы нищих», тем более что пьесы Филдинга были вытес-
нены со сцены добродетельной братией благомыслящих крити-
ков под тем предлогом, будто его политические намеки уста-
рели.
Только одну французскую пьесу той поры можно сравнить
с пьесами Гея и Филдинга. Это — «Тюркаре». Известно, что
в год ее создания (1709) она имела огромный успех, несмотря
на попытки ее освистать. Но актеры Комеди франсез, «под-
купленные откупщиками налогов», перестали ее исполнять по-
сле седьмого представления, и Лесажу пришлось писать с тех
пор только для Ярмарочного театра.
4. Пастораль о тюрьме Ньюгейт
«Оперу нищих» при ее создании смешал с грязью некий
старый дуралей, по имени Колли Сиббер, поэт, кичившийся
званием лауреата. Благодаря этому, а также благодаря са-
тирам на него Попа и Филдинга он вошел в историю литера-
туры. Колли Сиббер представлял в ту эпоху благомыслящую
литературу, ему вполне пристало определение, которое ему
дается в учебниках, — «сентиментальный писатель». Легко до-
гадаться, что этому господину пьеса Гея не нравилась не
только потому, что ее не жаловали власти (продолжение «Опе-
ры нищих» — «Полли» — было, кстати сказать, запрещено), но
также из-за содержащейся в ней критики нравов буржуазии.
Действительно, тут Гей в первую очередь выступает новатором.
Достаточно вспомнить сцену, где Пичум и его жена узнают, что
их дочь Полли вышла замуж за Макхита. Они не думают
ни о счастье дочери, ни, тем более, о репутации зятя, их ин-
тересует лишь собственная выгода, лишь деньги. Они, не сте-
сняясь, высказывают то, о чем добродетельные буржуа, их
13*
195
современники, лишь мыслят про себя. Решив, что самый луч-
ший для них выход — чтобы дочь как можно скорее стала
вдовой, они поступают так же, как большинство буржуазных
родителей в ту пору, которые противятся неприемлемой для
них любви их детей; только персонажи Гея при это выступают
без маски.
Изображение подонков общества помогает Гею убедитель-
нее вскрыть подлинные движущие пружинь; еще нового тогда
общественного строя, где все основано на власти денег. Точнее,
на власти капитала. Филдинг был прав, уточняя, что здесь под-
вергается разоблачению не человеческая природа вообще, а
господствующий класс.
Гей знал это новое общество, хотя опыт его и был несколько
ограниченным. Он родился в 1685 году в добропорядочной
семье и, став поэтом, пользовался поддержкой и помощью
весьма влиятельных лиц. Его пасторали имели успех, так же
как и большая поэма «Тривия», в которой описывались улицы
Лондона, но он все же испытывал острую нужду в деньгах. Гей
попытал счастья в жанре комедии, но безуспешно. В 1720 году
он неожиданно получил крупный дар и уже считал себя бога-
тым. У него было 20 тысяч фунтов, когда произошла скандальная
история с Компанией Южных Морей3, аналогичная
скандальной афере. Лоу4 у нас; его 20 тысяч фунтов были вло-
жены в акции этой компании. Он потерял и капитал и про-
центы и чуть было не умер от огорчения. Однако не это было
причиной перелома в творчестве Гея, ознаменованного созда-
нием «Оперы нищих»; другие его поэтические произведения
легки, изящны, но не больше. '
Идея «Оперы нищих» исходит от другого писателя. Это
был один из величайших гениев эпохи, столь щедрой на та-
ланты, когда в одно десятилетие появились «Робинзон Крузо»
(1720), «Путешествия Гулливера» и первая пьеса Филдинга.
Гей был. другом Свифта; именно этот непревзойденный мастер
сатиры по выходе в свет «Путешествий Гулливера» и подал ему
мысль о ньюгейтской пасторали: показывая публике низы обще-*
ства, можно сделать не меньше разоблачений, чем изображая
Лилипутию или страну Бробдингнег.
Вот что рассказывает со слов Попа доктор Джонсон в своей
«Жизни поэтов» 5 о создании «Оперы нищих»:
«Доктор Свифт сказал однажды мистеру Гею, что пасто-
раль о Ньюгейтской тюрьме могла бы представить интерес. Гей
некоторое время пытался это сделать, но в конце концов счел
более подходящим написать на этот сюжет комедию. Так за-
родилась идея «Оперы нищих». Гей горячо взялся за ее осу-
ществление, но, когда он сначала рассказал о ней Свифту, тому
замысел не понравился. В ходе работы над пьесой Гей показы-
196
вал написанное нам обоим, и мы время от времени вносили туда
поправки или небольшие добавления, но вообще это — целиком
произведение Гея».
Я привожу этот рассказ современника, чтобы дать представ-
ление о происхождении «Оперы нищих», которая создана уже
два века с четвертью назад, но до сих пор не перестает нас
поражать.
5. Ньюгейтская школа романа
Влияние, оказанное «Оперой нищих» на литературу, заслу-
живает особого внимания. Свифт был слишком замкнут в рам-
ках философской повести, чтобы непосредственно влиять на
метод работы романистов. Гей применил достижения Свифта
в театре, отразив современную действительность, и тем самым
его творчество послужило своего рода мостом от Свифта к по-
следующим английским романистам. На долю Филдинга вы-
пало распространить приемы реалистического искусства с театра
на роман. Прав был Теккерей, когда, приветствуя появление
«Оливера Твиста» Диккенса, заявившего о продолжении им
традиций Филдинга, заговорил о , Newgate school of fiction —
ньюгейтской школе романа.
Таким образом, можно ясно представить себе подлинное
место Гея в истории литературы. Он был одним из великих
основоположников того метода критического реализма, который
позволил писателям разоблачать буржуазное общество, вскры-
вать его пружины.и выявлять его гнилость и неспособность к
прогрессу. Именно этого и не могут Гею простить.
Все это и было показано нам в Париже весной 1955 года
в театре величиной с носовой платок, где, казалось, можно
было рукой достать до актеров — так они были близки к зри-
телям. И подумалось тогда, что Гей не был бы, конечно, огор-
чен такой близостью зрителей с Макхитом, Пичумом или Ло-
китом. Ведь они были в тесном соприкосновении в его время,
соприкасаемся с ними и мы в наше время. Никогда еще на
сцене Театр де пош не воплощались столь конкретно история
и действительность. Причем действительность, о которой не
принято говорить и которой, как нас пытаются убедить, не
стоит и интересоваться.
I. ФИЛДИНГ И КОМИЧЕСКИЙ РОМАН
/. Романист по нечаянности
енри Филдингу едва исполни-
лось тридцать четыре года, когда
он в 1741 году написал «При-
ключения Джозефа Эндруса». Не следует судить о его дебюте
в жанре романа так, как если бы речь шла о современном нам
писателе.
Не следует этого делать по двум причинам. Во-первых, во
времена Филдинга роман еще рассматривался как второстепен-
ный жанр, славу можно было снискать себе лишь в драматургии
или поэзии. Во-вторых, Филдинг написал «Приключения Джозе-
фа Эндруса» поистине нечаянно. В возрасте двадцати-тридцати
лет он много писал для театра, и произведения его пользова-
лись большим успехом.' Но в 1737 году один из наиболее суро-
вых законов, составленный самим премьер-министром Уолполом
специально для того, чтобы заставить Филдинга замолчать,
привел к закрытию всех театров, не имевших правительствен-
ной лицензии, и в первую очередь театра Гаймаркет, где стави-
лись пьесы Филдинга. Писатель, незадолго перед тем вступив-
ший в брак, разом лишился и большей части своих доходов, и
наиболее действенного средства выражения своих взглядов. В те-
чение двух лет он выступал как адвокат, занимался журналисти-
кой, пока в 1739 году в Англии не появился роман «Памела»,
написанный Ричардсоном и быстро принесший славу автору.
В «Памеле» развивались все те идеи, против которых Фил-
динг упорно сражался в своем театре. Вот почему он и решил
написать анти-Памелу, оттолкнувшись от романа Ричард-
сона; он написал, однако, роман в своем собственном духе,
этому обстоятельству мы и обязаны появлением «Приключе-
ний Джозефа Эндруса», одного из крупнейших творческих до-
стижений за всю историю существования романа.
Читатели должны были заметить, что до сих пор я остере-
гался говорить об идеях Филдинга, выраженных им в «Джо-
&$«>
198
зефе Эндрусе», не касался я и содержания «Памелы»; к этому
я скоро и перейду. Филдинг писал роман о Джозефе Эндрусе
не так, как пишет роман современный писатель, хорошо освоив-
ший этот жанр; нет, Филдинг писал ответ на «Образцовый
письмовник» 1740-х годов, сочиненный автором, понаторевшим
в эпистолярном стиле, автором, который из коммерческих со-
ображений решил связать интригой «письма на все случаи
жизни». И письмовник превратился в роман, ибо в ту эпоху су-
ществовал жанр романа в письмах. Филдинг писал повествование
в прозе, направленное против «Памелы», и естественно, что он
советовался с авторами, под влиянием которых сформировался
как писатель. В таких-то условиях и возник «Джозеф Эндрус»,
ибо учителей Филдинга звали Сервантес, Мольер, Лесаж, Ма-
риво. Таким образом, Филдинг стал одним из тех, кто ввел в
Англии реалистический литературный жанр, который носит на-
звание романа.
К этому мы должны тут же добавить, что в творчестве Фил-
динга этот литературный жанр совершил, можно сказать, такой
чудесный скачок, что понадобилось еще столетие, потребовалось
появление Стендаля и Диккенса, чтобы Филдинг-романист был
по-настоящему понят и его деятельность продолжена.
2. Прогресс реализма в театре
Английская литература до XVIII века удивительно бедна
произведениями в прозе. Елизаветинские романы — «Джек из
Ньюбери» («Jack of Newbury») или «Томас из Рединга»
(«Thomas or Reading») Томаса Делонея !, «Гвидоний» («Gwydo-
nius») Роберта Грина2 хотя и интересны, но выглядят весьма
бледно при сравнении с французскими романами: «Маленьким
Жаном де Сентре», написанным веком раньше, или «Романом
о Жане Парижанине» («Roman de Jehan de Paris»)3. Более того,
мы даже не знаем, был ли Филдинг знаком с творчеством своих
предшественников, живших во времена Шекспира. На это мне
могут возразить, что мы также не знаем в точности, что было
ему известно из французских плутовских романов XVII века,
читал ли он «Франсиона» Шарля Сореля, «Комический роман»
Скаррона или «Буржуазный роман» Фюретьера *. Прибавлю,
что это не имеет большого значения, потому что в те времена
романа в современном значении этого слова не существовало
и попытка проследить преемственность в развитии этого жанра,
* Филдинг называет «Джозефа Эндруса» комическим романом; во
Франции восемнадцатого века то был технический термин, обозначавший
плутовской роман. С другой стороны, в манере Филдинга можно обнару-
жить некоторые приемы, излюбленные Скарроном.
199
переходя от одного кажущегося нам сегодня значительным ро-
мана к другому, представляется мне нелепой. Я хочу сказать,
что изобретение реалистического романа, создание реализма, как
мы его теперь понимаем, — в театре, повести, эссе *, мемуарах
и даже в образцовых письмовниках — определяется прежде
всего деятельностью выдающегося писателя, ломающего рамки!
жанров, как бы сплавляющего их. Истинный творец берет свое
повсюду, где только его находит, что означает попросту, что он
обладает достаточной культурой, чтобы признавать роль тех, кто
расчистил ему дорогу; он способен овладеть предшествующей
культурой и поставить ее себе на службу — без этого не сущест-
вует истинного творца! Недавние исследования, посвященные
Гомеру, как и другие, связанные с «Песнью о Роланде »^убедитель-
но доказывают, что шедевры не рождаются на пустом месте.
Оригинальность Филдинга представляется мне своеобра-
зием писателя, творившего для театра в стране, давшей миру
Шекспира, писателя, переводившего — сегодня мы сказали бы
скорее перерабатывавшего — Мольера, писателя, перу которого
принадлежит пьеса «Дон Кихот в Англии» и который сумел
оплодотворить английский роман реализмом Мольера, реализ-
мом^ Сервантеса. Я намеренно так настаиваю на том, что Фил-
динг был драматургом, во-первых, потому, что, по-моему, теат-
ром его незаслуженно пренебрегают**, но, главное, потому, что
реализм, воспроизведение реального мира ради прогресса чело-
вечества и материальной культуры, быстрее развивался после
эпохи Возрождения в драматургии, чем во всех других литера-
турных жанрах; это утверждение верно и для Франции, и для
Англии. Достаточно вспомнить о нападках церкви и королев-
ской власти во Франции, о закрытии театров по решению пар-
ламента в Англии в 1642 году***, наконец, преследования, ко-
торым подвергался Филдинг. Без сомнения, это объясняется
присущей театру силой выразительности; это было связано с
тем, что театр, особенно во Франции, обращался к публике бур-
жуазной, и с тем, что в обеих странах — правда, по-разному —
трагическим и комическим авторам приходилось постоянно оп--
* Я вдесь имею в виду роль Аддисона в Англии, «Французского
зрителя» Мариво4 и тому подобное.
** Его пьесы ставятся главным образом в Москве, причем они идут
с успехом.
*** После Якова I театральные труппы практически стали собствен-
ностью короля или королевы. Решение парламента («Все театральные залы
будут разрушены, все актеры, которые продолжают играть, будут нака-
заны плетьми, зрители подвергнуты огромному штрафу») представляет со-
бой пуританское решение, продиктованное диатрибами отцов церкви, на-
правленными против мерзких театральных зрелищ; вместе с
тем это было и политическое решение, направленное против Карла I, обез-
главленного семь лет спустя.
200
равдываться перед церковью и властями. Вот почему мысль о
театре, не выражающем никаких идей, театре чисто развлека-
тельном, совершенно нереальна. Автор, писавший пьесы, риско-
вал и спасением своей души и своей свободой, разве только он
умел найти себе покровителей, но Филдинг был на это не спо-
собен. А если авторы комедий, такие, как Мольер или Филдинг,
задавались целью исправлять нравы, то от них требовалась ве-
личайшая точность в воспроизведении действительности; эта
точность диктовалась и постоянной необходимостью оправды-
ваться, и стремлением оказывать воздействие на публику. Вот
таким путем и развивалась сатира, а вместе с ней и реализм. Ко-
медия должна была опираться на современную ей действитель-
ность, на типическое в этой действительности, а это-то и приво-
дит к современному роману.
Комедия обладала еще и другим качеством — свободой из-
ложения, которая поражает нас и в «Джозефе Эндрусе» и пред-
ставляет собой огромный вклад, внесенный Филдингом в жанр
романа. Дефо, как и Лесаж или Мариво, еще с трудом выходит
за рамки повествования от первого лица, в форме дневника или
и того и другого. Все эти писатели прибегают к невообразимым
ухищрениям, чтобы заставить читателя поверить в их истории
и в их персонажей, чтобы включить в романы события, которые
требуются, которых рассказчик сам не мог ни видеть, ни пере-
жить; к этому добавлялись внутренние монологи и пересказ
мыслей других. Этим писателям надо о стольком рассказать, но
в их распоряжении всего лишь два или три рассказчика; авторы
сталкиваются с необходимостью для романиста быть всеведу-
щим, знать одинаково хорошо и прошлое и настоящее персона-
жей, ведать, что происходит на улице, когда герои сидят у ка-
мелька или же спят. Автор же пьес для театра умеет заставить
действовать всех персонажей, сделать так, что они сами знако-
мятся друг с другом и с публикой; одновременное развертыва-
ние нескольких интриг — его сильная сторона, как и искусство
поведать публике то, чего не знают его персонажи. Нужна была
большая смелость, чтобы использовать все эти возможности в
обычном повествовании — в прозе, где нет ни живых актеров,
чтобы донести текст до зрителей, ни декораций, чтобы придать
действию правдоподобие.
Филдинг отважился на это; в наши дни этим никого уже
че поразишь, но в его время такая смелость была, можно ска-
зать, беспрецедентной. В результате и появились «Приключения
Джозефа Эндруаа», затем «Жизнеописание Джонатана Уайльда
Великого», «Том Джонс», «Амелия». Скажем только, что Стен-
даль, хорошо разбиравшийся в таких вещах, сказал, что «Том
Джонс» занимает такое же место среди романов, какое «Илиада»
среди эпических поэм.
201
3. Появление Памелы, мнимой сестры Джозефа
Джозеф Эндрус, младший брат, по роману Филдинга, Па-
мелы Эндрус, героини романа Ричардсона, не родился бы на
свет, не будь на свете Памелы. Ричардсон, создавший ее, был
типичным представителем средней буржуазии, которой револю-
ция 1688 года придала большое значение в Англии; буржуазия
эта мечтала о том, чтобы ей говорили, что положение дел в
Англии в годы правления Уолпола можно охарактеризовать
словами: «Все к лучшему в этом лучшем из миров»5. Таким
образом, по своему социальному происхождению Ричардсон при-
надлежал к тем же слоям, что и Дефо. Он родился в 1869 году,
то есть через год после «революции» 6. Сын столяра, Ричардсон
сделался подмастерьем у типографа, затем женился на дочери
своего хозяина, основал собственное дело и спокойно жил в своем
квартале; к занятиям типографа-книгоиздателя он присоеди-
нил еще профессию сочинителя. Когда ему исполнилось пять-
десят лет, два почтенных книгоиздателя обратились к нему с
предложением составить письмовник, чтобы одновременно и
развлечь читателей, и помочь сельским жителям, не умеющим
хорошо изъяснять свои мысли, составлять нужные в различных
жизненных обстоятельствах письма *.
Таким образом, Ричардсон написал историю окружающего
его мира и описал мечты представителей своего класса. Юная
Памела Эндрус была в пятнадцать лет отдана в услужение к
старой и знатной леди. Вот первое письмо, которое написала
Памела своим родителям, с него и начинается «Памела»:
«Дорогой отец и милая матушка,
Я пребываю в большом смятении, и одно только немного
утешает меня; впрочем, лучше я обо всем вам поведаю. Смяте-
ние мое вызвано тем, что добрая моя Леди умерла от болезни,
вам уже известной, и все мы глубоко огорчены ее кончиной; то
была добрая и славная Леди, заботливо обращавшаяся с нами,
ее служанками. Я очень боялась, что теперь, после смерти ее
милости (я за ней ухаживала), я вновь окажусь без средств
к существованию и мне придется возвратиться к Вам и моей
доброй матушке, а ведь Вы и сами с трудом сводите концы с
концами; а так как Леди по доброте своей научила меня вести
счетные книги и отвечать на письма, а также искусно владеть
иглой, словом, приобщила меня к занятиям, непривычным для
людей моего положения, то теперь отнюдь не во всякой семье
* Объявлейие о выходе в свет «Памелы» было 6 ноября 1740 года
помещено в журнале Филдинга «The Champion» в таком виде: «Памела,
в серии частных писем, ныне впервые публикуемых, дабы внедрить начала
Добродетели и Религии в Умы представителей обоего пола...»
202
можно приискать место, приличествующее Вашей бедной Па-
меле; но господь бог, который уже не раз доказывал свою до-
броту по отношению к нам, вложил в сердце доброй моей Леди
за час до того, как она испустила дух, желание представить
моему молодому господину всех слуг — одного за другим; и,
когда пришел мой черед (ибо я плакала и рыдала тут же, у ее
изголовья), она смогла только промолвить:
— Мой любезный сын...
И голос ее пресекся. Когда она немного пришла в себя, она
проговорила:
— Помните о моей бедной Памеле...
То были ее последние слова. О, сколько я пролила слез! Не
удивляйтесь, что письмо мое все в пятнах.
Ну что ж, на все воля господня! Но вот и утешение. Мне
не придется возвращаться в Вам, не придется сделаться для Вас
бременем, дорогие мои родители! Ибо мой господин сказал:
— Любезные девицы, я позабочусь обо всех вас. Что же до
тебя, Памела (при этих словах он взял меня за руку, да, он
в присутствии всех взял меня за руку), то в память о моей го-
рячо любимой матери я стану твоим другом, и ты займешься
уходом за моим гардеробом...»
Затем молодой господин «собственноручно дарит» Памеле
«четыре золотые гинеи и все мелкие деньги, которые лежали в
карманах усопшей леди»; он повторяет, что, если Памела «будет
славной девушкой, послушной и старательной», он станет «ей
другом в память о своей горячо любимой матери».
Ответ родителей. От них не ускользнуло, что добро-
детель Памелы в опасности: «Любезная Памела, мы начали
испытывать большие опасения на ваш счет; ибо какое значение
имеют все богатства мира, ежели совесть у вас нечиста, если
вы нечестны, что дает все это, если оно куплено ценою вашего
душевного разорения и утраты вашей доброй репутации...»
Сын леди — родители Памелы не ошиблись на его счет —
распущенный молодой дворянин. Он идет на все, чтобы соблаз-
нить Памелу. Он последовательно пробует все средства: самым
изысканным образом ухаживает за ней, старается нежными ла-
сками пробудить ее чувственность, предлагает ей деньги, угро-
жает, запирает ее, пытается ее скомпрометировать, шантажиро-
вать, развратить, удивить, застать врасплох, польстить ей; я
опускаю целый ряд его тончайших ухищрений. Добродетель Па-
мелы выдерживает все атаки, из которых одна очень похожа на
попытку насилия. Но вот в ходе этой длительной осады опас-
ность внезапно возникает в самом сердце укрепленной цитадели.
Памела обнаруживает, что в результате упорных усилий соблаз-
нителя в ее душе зарождается нежное чувство к нему, и она
не в силах совладать с этим чувством. По счастью, в душе
203
молодого распутного дворянина также происходит подобный пере-
ворот: побежденный столькими качествами Памелы и столь уди-
вительной добродетелью, он по всем правилам женится на своей
служанке. Недаром подзаголовок «Памелы» гласит: «Или воз-
награжденная добродетель».
Итак, свершилось.
После удивительного успеха своей книги Ричардсон, как го-
ворится, с ходу пишет продолжение; он написал «Памелу» при-
близительно в два месяца, хотя она раза в полтора длиннее
«Пармской обители»; продолжение «Памелы» по размеру почти
такое же, как сама «Памела». И никто лучше самого автора не
проанализировал его творения; он сделал это в предисловии ко
второй части:
«Первая часть «Памелы» имела успех, который намного пре-^
взошел самые радужные ожидания, и издатель уповает, что пуб-
лика найдет, что и «Письма», составляющие настоящую часть,
также написаны с натуры и что они также избежали какого
бы то ни было романтического порыва, неправдоподобных сюр-
призов и неразумной фантазии. В них говорится о страстях,
когда обстоятельства того требуют, и в них можно найти пра-
вила — одновременно новые и практичные, — применимые
кповедению в жизни вообще. Вот почему издатель
льстит себя надеждой, что эти письма могут рассчитывать на
счастливую судьбу, которая до сих пор нечасто выпадала на
долю продолжений, он надеется, что они будут сочтены до-
стойным продолжением первой части и будут соответствовать
тому более высокому положению, в котором отныне суждено
блистать Памеле, а именно положению любящей супруги,
преданной подруги, вежливой и доброжелательной соседки,
снисходительной матери, хозяйки дома, распространяю-
щей вокруг себя только добро; таковой она будет теперь, после
того как в первой части была послушным ребенком, непо-
рочной девицей, скромной и достойной любви н е в е с т о й».
Все это, повторяю, не шарж, а * скорее написанная автором
рекламная аннотация. Слова в тексте выделены самим Ричард-
соном.
4. Дидро и реализм Ричардсона
Если бы мы ограничились сказанным, уместно было бы го-
ворить о загадке Ричардсона. Мне могут сказать, что никто
больше не читает литературы, осмеянной в «Дон Кихоте», что
никто не знал бы даже имени Дюринга, если бы не был написан
«Анти-Дюринг»; однако от Ричардсона в истории литературы
сохранились по крайней мере названия двух его романов —
«Памела» и «Кларисса», или, как обычно именуют, «Кларисса
204
Гарлоу», и литературный тип соблазнителя Клариссы, Лов-
ласа... Ричардсон неотъемлемо входит в историю английского,
как, впрочем, и французского, романа, без учета его не понять
полностью творчества Дидро или «Новую Элоизу». Если же
Ричардсон сильно устарел, то кто в этом виноват?
Прежде всего он сам, та форма романа, к которой он при-
бегал: ведь, за редкими исключениями, роман в письмах непри-
емлем для современных читателей; виновата и свойственная его
времени риторичность стиля, думается, что приведенные мною
отрывки из его произведения достаточно говорят за себя. Я не
собираюсь здесь выступать в защиту Ричардсона. И все же надо
сказать, что в «Памеле» было кое-что и другое.
Наш друг Дидро в связи с «Клариссой» написал такую по-
хвалу Ричардсону, которая ныне представляется чрезмерной.
Я опускаю его слова о гениальности, панегирик Ричардсону. Но
приводимые ниже замечания заслуживают того, чтобы пораз-
мыслить над ними: «До сих пор под романом понимали перепле-
тение химерических событий либо фривольных приключений;
чтение произведений такого рода было опасно для хорошего
вкуса и нравов. Мне бы хотелось, чтобы было найдено иное на-
звание для книг Ричардсона, которые возвышают дух, трогают
сердце, повсюду распространяют любовь к добру; а ведь ныне
эти книги также именуют романами».
Вот что уже должно нас насторожить. Дидро знал, о чем
говорил: в то самое время, когда он писал эту похвалу Ричард-
сону, он уже приступил к работе над «Монахиней» и над «Пле-
мянником Рамо»; поспешу тут же передать и некоторые другие
впечатления этого читателя о произведениях того же Ричард-
сона:
«За несколько часов я побывал во множестве ситуаций, ко-
торые обычно испытывает человек на протяжении лишь очень
долгой жизни. Я слушал речи, подсказанные подлинными стра-
стями; я видел скрытые пружины корысти и самолюбия, видел,
как они 'действуют в тысячах случаев и всякий раз по-иному; я
сделался зрителем множества происшествий, и я чувствовал, что
приобрел немалый опыт.
В книгах этого автора кровь не стекает со стены; он не пе-
реносит вас в далекие страны; он не подвергает вас опасности
быть съеденными дикарями; он не замыкается в злачных ме-
стах, где тайно предаются разврату; он не улетает в область
феерии. Место действия его произведений — мир, в котором мы
живем; фон, на котором разыгрываются его драмы,—действи-
тельность; его персонажи обладают вполне реальными чертами;
созданные им характеры выхвачены из окружающего нас об-
щества; происходящие события вытекают из нравов всех циви-
.лизованных народов; страсти, которые он рисует, такие же, как
205
те, которые обуревают меня; его герои волнуются по тем же по-
водам, что и я, источники их энергии мне знакомы; их подсте-
регают те же препятствия и печали, что угрожают мне беспре-
станно; он показывает мне общее развитие окружающих меня
вещей и событий. Если бы не существовало искусства такого
рода, то моя душа с трудом соглашалась бы идти окольными
путями фантазии, иллюзия, которая овладевала бы ею, длилась
бы недолго, впечатление было бы слабым и преходящим».
«Место действия — мир, в котором мы живем». Вот аспект
реализма, который мы рискуем забыть из-за формы романов
Ричардсона, его наивных и избитых нравоучений. Повторяю,
реализм, потому что реализм-не есть и не может быть само-
целью. Только в совершенно определенных случаях, скажем при
нынешнем упадке буржуазии, реальность мира становится почти
невыносимой для.людей с положением. А ведь реальность мира
нельзя отделить от точки зрения художника на развитие этой
реальности, каких бы взглядов он ни придерживался: сторон-
ник ли он прогресса или стабилизации или он за возврат к
прошлому. Во времена Ричардсона английская буржуазия чув-
ствовала себя в своей тарелке *, и реализм Ричардсона — реа-
лизм наивный, ему свойственна спокойная удовлетворенность.
Он описывает вещи такими, какими он их видит, наивно, не
подозревая об их подоплеке. Точно так же во Франции сере-
дины XIX века будут благодушно говорить: «Обогащайтесь»,
а позднее раздраженно: «Законность нас губит». Для Ричард-
сона каждое событие — доказательство воли божьей и прочности
вновь утвердившегося порядка, но сами события вполне реальны.
Мы теперь с трудом читаем то, что он писал, потому что сейчас,
двести лет спустя, мы уже многому научились по милости бур-
жуазии и уже видим ту подоплеку, которой не видел он.
Возьмем только один эпизод. Молодой господин Памелы
сквайр Б... владеет двумя загородными домами, один располо-
жен в Бедфордшайре, другой — в Линкольншайре. В обоих этих
местах он занимает пост мирового судьи. В ту эпоху это озна-
чало, что его воля — закон, что он все вершит по своему про-
изволу и что Памела не может найти законной защиты против
него. Управительница первого замка — порядочная женщина,
которая отказывается помогать -замыслам сквайра Б... Упра-
вительница Линкольншайра, миссис Джюкс, напротив, настоя-
щая сводница. И когда бедная Памела обнаруживает это, она
восклицает: «Я вижу, что честность бедняков теряет всякую
цену!» à
* Напомним, что практически она была уже у власти начиная с
1688 года. Французская буржуазия, напротив, должна была ждать еще
полвека. Отсюда энтузиазм Дидро в 1750 году.
206
Прибавим, что размышления такого рода обрамлены другими
сценами, где сказывается (невольно, конечно) то же комическое
начало. Вот два примера:
Памела, пленница миссис Джюкс, сочиняет версию псалма
137 применительно к своему горестному положению. В ней мы
читаем:
Припомни, господи, ты этой миссис Джюкс,
что восклицала громогласно:
«Да сгинет чистота сей юной девы,
да сгинет без остатка!»
Когда Памеле удается и на этот раз спастись, на нее обру-
шивается новая ужасная катастрофа: «Я огляделась вокруг и
увидела быка, стоявшего между мною и воротами, выходившими
в поле; другой бык с противоположной стороны направлялся
ко мне; ну вот, — подумала я, — это какое-то двойное колдов-
ство. Дух моего господина вселился в одного из этих быков,
а дух миссис Джюкс — в другого...» Но затем Памела обнару-
живает то, о чем читатель уже, конечно, догадался, — быки
оказываются двумя безобидными коровами...
А что говорится о честности бедняков? Достаточно вмеша-
тельства доброго пастора Уильмса, чтобы она восторжествовала.
Преследования, которым подвергалась бедняжка Памела, были
чисто случайным явлением. Во всяком случае, в глазах Ри-
чардсона. На самом деле роман его доказывает обратное.
То же самое получается, если рассматривать всю историю
Памелы в целом. Нет никакого сомнения, что Ричардсон хотел
написать историю целомудренной девы. Но на восьмистах стра-
ницах своей книги он рассказал нам, каким образом она пере-
стала ею быть, точнее говоря, как целомудренная Памела сумела
поднять цену на единственный товар, который она могла пу-
стить в продажу, на собственную добродетель. И действительно,
Памела — наименее наивная из всех известных нам юных девиц,
она отменная плутовка. Она торгует своим телом не хуже самой
опытной куртизанки; разница между ними только в том, что
Памела ни на минуту не забывает о своей единственной ценно-
сти, она согласна уступить ее только в обмен на законный брак,
который превратит маленькую служанку в знатную леди. Для
этого требуется великолепное самообладание, большое умение,
и если Памела — вполне реальный тип, то она походит, Как ни-
кто, на героиню Дефо — Молль Флендере. Ведь Молль Флен-
дерс тоже никогда не теряет голову во время любовных забав,
она только по неопытности потеряла ее в первый раз, а потом ей
не везло. Она обманывается, ибо доверяет внешности, или ее
мужья умирают и она, несмотря на все свои усилия, не может
подняться из низов. Памела в семнадцать лет обладает опытом.
207
который Молль Флендерс приобрела лишь к концу жизни.
В этом смысле она образец карьеристки, которая верит в силу
добродетели, видя в ней средство преуспеть; надо сказать, что
она и преуспевает. Причем все это делается без всякого лице-
мерия, прямодушно и откровенно.
Благодаря ей «честность бедняков» приобретает новую стои-
мость — рыночную стоимость.
5. Книга, которая должна быть в каждой семье
Между выходом в свет «Памелы» и «Джозефа Эндруса»
прошло меньше полутора лет — с конца 1740 года по апрель
1742 года; тем не менее этот срок оказался достаточным для
того, чтобы нарушить прямую и непосредственную связь вто-
рой из этих книг с первой. Действительно, сначала, о чем уже
говорилось выше, Ричардсон написал продолжение «Памелы»,
а затем появилась и первая пародия на «Памелу» под назва-
нием «Шамела» *.
Во второй части «Памелы» характерные черты, о которых
мы уже говорили, получили еще более четкую обрисовку. Пове-
дение Памелы в high life ** доказывало, что все в мире может
устроиться, если приложить достаточно стараний. Памела при-
вела в порядок дела в церковном приходе своего мужа, усыно-
вила его незаконнорожденного ребенка и наставляла юных де-
вушек, как противиться обольщению. В наши дни она бы напи-
сала руководство «Как выйти замуж за лорда». Продолжение
«Памелы», лишенное противоречивости, составлявшей привле-
кательную сторону первой части, еще резче обнажает цели нра-
воучений Ричардсона. Выражаясь современным языком, Ри-
чардсон был основоположником душещипательной литературы
с той лишь разницей, что он сам верил в то, что писал, и что
он не использовал никаких, «негров».
«Шамела» помогает нам понять реакцию на «Памелу» Фил-
динга и его читателей. Сейчас принято считать, что эту пародию
написал не Филдинг. Ричардсон был до конца своей жизни уве-
рен в том, что ее автор — Филдинг. В этом нет ничего удиви-
тельного: автор «Шамелы» защищает идеи, близкие Филдингу,
и даже прямо ссылается на его пьесы.
Подзаголовок «Шамелы» не лишен интереса. В нем заяв-
ляется о том, что в книге «представленьГмногочисленные и яв-
ные фальсификации, переполняющие книгу под названием «Па-
мела», и опровергается все, что в ней есть противоестественного;
* «Shame» по-английски — «стыд», «позор».
lt Высший свет (англ.). — Прим. ne ре в.
208
все ни с чем не сравнимые хитрости этой юной политиканки
представлены в их истинном свете. Одновременно в ней дается
подробный отчет о том, что произошло на самом деле между
героиней и пастором Артуром Уильямсом, который обрисован
в этой книге несколько иначе, чем в «Памеле».
Книга, которая должна быть в каждой семье, написанная ми-
стером Конни Кибером».
В те времена жил в Англии известный актер по имени Колли
Сиббер. Он очень скверно играл трагические роли, но с блеском
выступал в ролях комических и написал довольно много пьес,
пользовавшихся успехом. В 1730 году Сиббер удостоился зва-
ния поэта-лауреата; он представлял собой классический образец
придворного поэта. Колли Сиббер вошел в историю литературы
благодаря тому, что он поссорился с Попом и тот сделал его
героем своей второй «Дунсиады», а также еще и потому, что его
избрал объектом своих нападок Филдинг.
Перенесемся во времена, когда премьер-министром Англии
был Уолпол. С 1688 года, когда англичане изгнали короля
Якова II, чтобы заменить его Вильгельмом Оранским, в стране
произошли большие перемены. Это — период правления королей
Ганноверской династии и их приближенных, рассматривавших
Англию как страну, где можно обогащаться. На деле у власти
начиная с 1688 года находится торговая буржуазия. Она безза-
стенчиво захватывает национальное достояние, возлагая на «чу-
жеземных монархов» ответственность за осуществляемый ею
грабеж. Скоро все становится предметом купли и продажи. Уол-
пол покупает себе большинство в парламенте, подобно тому как
члены парламента покупают свои мандаты. Колли Сиббер был
автором пьес, в которых утверждалось, что все идет хорошо.
Филдинг же сначала изобразил Уолпола в обличье вора-управ-
ляющего, а затем писал пьесы, где провозглашал, что нужно
низвергнуть Уолпола.
В 1737 году, как мы уже видели, в результате провокацион-
ного маневра, осуществленного с помощью некоего директора
театра, по фамилии Джиллард, Уолпол приказал закрыть все
театры страны, за исключением двух. Одним из них был
Дрюри-Лейн, его директора звали Колли Сиббер.
В своей предпоследней пьесе «Исторический календарь на
1736 год», всецело направленной против Уолпола, Филдинг пи-
шет своего рода завещание драматурга, весьма существенное
для всей этой истории. В этой пьесе продаются с торгов в виде
костюмов и отрезов на костюмы различные необычайные' вещи:
«Первая редкость — в высшей степени любопытной остаток
политической честности.
14 П. Деке
209
Вторая редкость — Весьма небольшой кусок патриотизма.
Седьмая редкость — Очень чистая совесть, которую сперва
носил судья, а затем епископ (цена —
один шиллинг)!» 7
В «Посвящении публике» Филдинг излагает и свой символ
веры; вот он:.
«Если же всюду проникнет коррупция, а те, кто призван
стоять на страже, быть оплотом нашей свободы, увидят свой
действительный или мнимый интерес в предательстве по отно-
шению к ней, и не понадобится больших способностей, чтобы
погубить ее. Напротив, если у самого низкого, ничтожного, гряз-
ного субъекта достанет наглости внушить окружающим, будто
у него сила... он... сумеет искоренить вольности самого храброго
народа... Раз природа наделила меня известной способностью
осмеивать порок и плутовство, я буду упражнять ее усердно и
бесстрашно, пока существует свобода печати и сцены, иначе го-
воря, пока сохраняется у нас хоть какая-нибудь свобода»8.
Свободы сцены больше не существовало; Филдингу при-
шлось в возрасте тридцати лет начать изучать право, а в ноябре
1739 года он основывает журнал «Борец» («The Champion»),
где продолжает нападки на Уолпола и на его продажность.
Между тем в 1740 году появляется «Апология жизни ми-
стера Колли Сиббера, комедианта», написанная... самим Колли
Сиббером.
Пусть человек — фат и пусть он стремится всячески прислужи-
вать правительству, — это еще куда ни шло; но если он со спо-
койным самодовольством расхваливает сам себя... Филдинг
всласть насладился, используя этот факт. Колли Сиббер стал
его излюбленной мишенью — сначала в журнале, а позднее в
«Приключениях Джозефа Эндруса».
Итак, в 1741 году «Шамела» появилась за подписью Кончи
Кибера. Филдинг уже назвал однажды Колли Сиббера Кибе-
ром — в одной из своих пьес; что касается имени Конни, то в
английском языке оно ассоциируется со словами кролик и
дурак, простофиля, которого морочит мошен-
ник. Мы видим, в чем соль шутки. Конни Кибер не желает
быть одураченным политиканкой Памелой.
Пародия начинается с обмена письмами между пастором
Тиклтекстом * и пастором Оливером. Первый в таких выраже-
ниях рекомендует «Памелу» своему корреспонденту: «Книга
это — душа Религии, хорошего Воспитания, Скромности, при-
родной Доброты, Ума, Воображения, Благомыслия и Нравствен-
* В пьесе Филдинга «Опера Граб-стрита» фигурирует некий пастор
Пазлтекст, то есть тот, который путает тексты; пастор Тиклтекст их «ще-
кочет».
270
ности...» Он ожидает, что епископ Лондона особым пастырским
посланием привлечет к ней внимание всей церкви.
Пастор Оливер отвечает ему: «Наставления, которые сия
книга преподает девицам, находящимся в услужении, по-моему,
таковы: изо всех сил строить глазки своему господину. Это при-
ведет прежде всего к тому, что девицы эти станут пренебрегать
своими обязанностями, а затем если господин их не дурак, то
он их развратит, а ежели* он дурак, то они женят его на себе.
А я полагаю, любезный друг, что мы не желаем ни того, ни
другого нашим сыновьям».
И вот случаю было угодно, чтобы в руках пастора Оливера
оказалась подлинная история Памелы. Он решает предать ее
гласности.
Прежде всего, пастор Уильяме — вовсе не ангел-хранитель
Памелы, каким хотел его изобразить Ричардсон; напротив, он
ее первый соблазнитель, от него у нее ребенок! Господин ее
об этом, разумеется, и не подозревает. Этот юный господин Па-
мелы—»набитый дурак. Сквайр Б. из «Памелы» Ричардсона
вдесь носит свое истинное имя — Буби *.
На самом деле Памела — интриганка и испорченная жен-
щина. Когда ей говорят, что она завоевала сердце сквайра, она
отвечает: «Пусть он позаботится обо мне, как положено, мне ну-
жен контракт по всем правилам, который обеспечит меня и моих
наследников до конца моей жизни. Только -тогда можно будет
считать дело завершенным».
Что касается теологии пастора Уильямса, то вот образец
его взглядов в передаче «подлинной» Памелы: «Он говорил мне,
что Плоть и Дух — совершенно различные начала, между со-
бой никак не связанные. Что все неосязаемые субстанции, та-
кие, как Любовь, Желание и им подобные, подчиняются Духу.
Между тем как роскошные дома, земельные владения, коляски
и изысканные забавы суть порождения Плоти. Стало быть, моя
милая, — прибавлял он,— у вас два мужа, один призван удо-
влетворять ваши потребности и доставлять вам все жизненные
удобства... И, поскольку Дух предпочтительнее Плоти, я должен
иметь преимущества перед вашим супругом, тем более что я к
тому же его предшественник».
П. Вилкокс**, у которого я заимствовал эти отрывки, ана-
лизируя стиль «Шамелы», отмечает его сходство со стилем Фил-
динга; исследователь заключает, что при чтении этой пародии
невольно приходишь к выводу: «Если ее написал не дьявол, То
ее автор — Генри Филдинг».
* Дурак, болван (англ.).
** «Истинный прирожденный англичанин Генри Филдинг» (P. Wîll-
cocks, A true born Englishman, Henri Fielding).
14*
211
Одно мы точно знаем: Филдинг написал «Джозефа Энд-
руса». Дело осложняется тем, что, хотя Джозеф Эндрус — брат
Памелы Ричардсона, а не «подлинной» Памелы, выведенной в
«Шамеле», Филдинг тем не менее знает эту пародию. Он заим-
ствует из нее имя Буби: на целомудрие Джозефа покушается
леди Буби, тетка мужа Памелы; напомню, что в романе Ричард-
сона имя Буби не было упомянуто. Однако, по существу, между
романом Филдинга и «Шамелой» нет ничего общего.
6. «Джозеф Эндрус» (при всем прочем) — серьезный роман
Главная идея романа Филдинга — поменять героев местами
и показать, как брат Памелы, столь же добродетельный, как
его сестра (Ричардсон dixit*), подвергается атакам старой знат-
ной барыни, родственницы лорда, который в конце концов же-
нился на Памеле; мысль эта открывает нам новые горизонты.
Прежде всего ее следует признать гениальной, потому что
она создает множество необычайно комических ситуаций. Затем
Филдинг вскрывает в своем романе неравенство между полами.
То, что бесчестит женщину, мужчине чуть ли не прибавляет
чести. К тому же Джозеф отнюдь не ханжа или недотрога.
Позднее мы узнаем, что он любит прелестную юную девушку
Фанни, и отнюдь не платонически. Вот что он говорит своей
госпоже:
«Сударыня, — сказал Джозеф леди Буби, которая подзадо-
ривала его, — я не понимаю, почему если у леди нет доброде-
тели, то ее не должно быть и у меня? Или, скажем, почему если
я мужчина или если я беден, то моя добродетель должна стать
прислужницей ее желаний?» ** 9
Коль скоро женщины продаются, продаются и мужчины.
Идея эта необычайно смелая и новая, вот почему с первых же
страниц романа мы оказываемся весьма далеко и от «Памелы»,
и от «Шамелы». Филдинг сразу же уловил все последствия для
жизни людей развития капитализма в Англии в начале XVIII ве-
ка: продажность и тот факт, что все — и добродетель, и честь —
становится предметом купли и продажи; писатель понимает, что
в этих условиях ни мужчины, ни женщины не свободны, и по-
казывает, что стать свободными они могут лишь при одном
* Изрек, сказал (лаг.). — Прим. перев.
** См. великолепную статью Робера Мерля о «Джозефе Эндрусе» в
газете «Леттр франсез» от 2 октября 1954 года: «Эта реплика Джозефа
весьма важна, она указывает на момент, когда... Джозеф перестает быть
бурлескной пародией на Памелу и становится привлекательным персона-
жем».
212
условии. Для того чтобы это осуществилось, надо освободить
бедняков от необходимости повиноваться произволу богачей.
Разумеется, мы по-прежнему находимся в кругу семьи Па-
мелы; второй из главных героев книги Филдинга — священник
Адаме *, пастор во владениях леди Буби; таким образом, мы не
настолько далеки от «Памелы», как обычно думают. Подобно
тому как Джозеф воплощает добродетель истинную в отличие
от мнимой добродетели своей ричардсоновской сестры, Адаме —
своего рода истинный пастор, противопоставленный образу па-
стора из «Памелы».
В «Шамеле» пастор Уильяме был представлен развратником.
Филдинг, можно сказать, ставит этого персонажа с головы на
ноги; он противополагает низменным героям «Шамелы» (Па-
мела, пастор Уильяме) двух положительных — надеюсь, читатели
простят мне этот неологизм — героев (Джозеф и Адаме). Это
обстоятельство представляется мне важнейшим аргументом в
пользу того, что «Шамела» создана Филдингом: пародия эта
кажется быстрым, но умелым наброском, в работе над которым
писатель, быть может, обрел и Джозефа Эндруса, и другого
своего героя — пастора Адамса.
Адаме — один из самых чудесных типов, созданных вообще
в романе. В нем есть нечто от Дон Кихота, но язвы, которые
он обличает и против которых мужественно, хотя и неловко,
борется, относятся к царству буржуазии. Адаме начисто лишен
практического начала, отсюда его смешные поступки, но време-
нами он необыкновенно трогает, и начинаешь понимать, что он
выражает драматизм положения таких людей, как Филдинг,
которые обличали несправедливость, продажность, сражались
с великим мужеством, но не могли ничего добиться, не видели
пути к тому, чтобы изменить -существующее положение вещей.
Вот почему, хотя «Джозеф Эндрус» — весьма забавная книга,
быть может, одна из наиболее забавных книг на свете, в ее
шутках, как и во всех глубоких шутках, есть элемент истинно
трагического. Филдинг адресовал своим читателям восхититель-
ную страницу, которую я привожу здесь, потому что она служит
одновременно замечательным изложением его концепции реа-
лизма:
«Комический, роман есть комедийная эпическая поэма в про-
зе; от комедии он отличается тем же, чем серьезная эпическая-
поэма от трагедии: действию его свойственна большая длитель-
ность и больший охват, круг событий, описанных в ней, много
шире, а действующие лица более разнообразны. От серьезного
романа он отличается своей фабулой и действием: там они
* Более полное название романа таково: «История приключений Джо-
зефа Эндруса и его друга Абраама Адамса».
213
важны и торжественны, здесь же легки и забавны. Отличается
комический роман и действующими лицами, так как выводит лю-
дей из низших сословий и, следовательно, описывает более низ-
менные нравы, тогда как серьезный роман показывает нам все
самое высокое. Наконец» он отличается своими суждениями и
слогом, подчеркивая не возвышенное, а смешное. В слоге, мне
думается, здесь иногда допустим даже бурлеск, чему немало
встретится примеров в этой книге — при Описании битв и в
некоторых иных местах, которые не обязательно указывать
осведомленному в классике читателю, для развлечения коего
главным образом и рассчитаны эти пародии или шуточные по-
дражания.
Но, допустив такую манеру кое-где в нашем слоге, мы в об-
ласти суждений и характеров тщательно ее избегали, потому
что здесь это всегда неуместно, разве что при сочинении бур-
леска, каковым этот наш труд отнюдь не является. В самом
деле, из всех типов литературного письма нет двух более друг
от друга отличных, чем комический и бурлеск; последний всегда
выводит напоказ уродливое и неестественное, и здесь, если ра-
вобраться, наслаждение возникает из неожиданной нелепости,
как,, например, из того, что низшему придан облик. высшего
или наоборот, тогда как в первом мы всегда должны строго
придерживаться природы, от правдивого подражания ' которой
и будет проистекать все удовольствие, какое мы можем таким
образом доставить разумному читателю. Есть причина, почему
комическому писателю менее, чем всякому другому, простительно
уклонение от природы: ведь серьезному поэту иной раз не так-
то легко встретить великое и достойное; а смешное жизнь пред-
лагает внимательному наблюдателю на каждом шагу»10.
«Джозеф Эндрус» вполне отвечает требованиям Филдинга.
Это — роман, где действуют люди «низших сословий», и — ка-
кой ужасный скандал!-г-симпатии автора на стороне этих про-
столюдинов.
Один из наиболее сильных ударов хлыста предназначается
этой выскочке — Памеле, которая ненадолго появляется в конце
романа уже как знатная дама: «Памела бранила Фанни за ее
самонадеянные попытки поймать в сети такого жениха как ее,
Памелы, брат» ll.
Этой короткой фразы достаточно, чтобы разрушить все зда-
ние, воздвигнутое Ричардсоном.
Адаме в конце концов добивается поставленной цели, кото-
рая заключалась в том, чтобы поженить двух бедных молодых
людей, любящих друг друга, — Джозефа и Фанни. Но ведь
мы во владениях леди Буби. Что ей законы, религия, лраво!
Леди Буби богата и всем распоряжается. Чтобы Джозеф и
214
Фанни смогли пожениться,. нужно, чтобы после невероятных
недоразумений обнаружилось, что у них — знатные родители.
Таким образом, благополучный конец книги звучит необык-
новенно горько. Это — безжалостная манера оптимистически
обличать несправедливость мира, говоря читателям: этот милый
Джозеф, эта прелестная Фанни, которые так вам нравятся, на-
конец поженились, они счастливы; но в действительности это
невозможно, это стало возможным только потому, что Джо-
зеф — вовсе не Джозеф, а Фанни — вовсе не Фанни. Фанни —
подкидыш — на деле~оказалась сестрой Памелы, и Памела, став-
шая ныне важной дамой, немедленно дарует ей почетное поло-
жение, а Джозеф, которым в детстве подменили Фанни, также
сын джентльмена.
Нетрудно оценить все значение романа и понять, как бес-
пощадно он уничтожает «Памелу». Маленькая служанка стала
знатной дамой потому, что сумела превратить свою доброде-
тель в товар: она искусными отказами подняла себе цену, и
цена эта сделалась столь высокой, что в обмен на свою добро-
детель Памела добилась высокого положения в обществе. В ро-
мане «Приключения Джозефа Эндруса» провозглашается: двое
молодых людей из народа, любящих друг друга, могут быть
счастливы только в том случае, если окажется, что они... вовсе
не из народа. Ведь Джозеф и Фанни отказываются торговать
своей добродетелью, потому что любят друг друга.
7. Методизм и средства выйти в люди
Адаме в конечном счете побежден. Только по милости слу-
чая, судьбы все устроилось к общему благополучию, и Филдинг
это отмечает, даже подчеркивает. В 1742 году такое утвержде-
ние звучало странно. То было время, когда два пастора — Джон
Уэсли и Уайтфильд12 — достигли необычайного успеха благо-
даря своим попыткам омолодить религию, обратить к христиан-
ству мир, охваченный безразличием. Издателю, который отка-
зывается опубликовать проповеди Адамса, «если только они не
выпускаются в свет под именем Уайтфильда, или Уэсли, или
другого столь же великого человека, епископа например»13,
Адаме отвечает:
«Если бы мистер Уайтфильд не шел в своей доктрине
дальше того, что вами упомянуто, я бы оставался, как и был
когда-то, его доброжелателем. Я и сам такой же, как и он,—
ярый враг блеска и пышности духовенства. Равно как и он, под
процветанием церкви я отнюдь не разумею дворцы, кареты,
облачения, обстановку, дорогие яства и огромные богатства ее
служителей. Это, несомненно, предметы слишком земные, и не
215
подобают они слугам того, кто учил, что царствие его не от
мира сего; но, когда Уайтфильд призывает себе на помощь ис-
ступление и бессмыслицу и создает омерзительную доктрину, по
которой вера противопоставляется добрым делам, тут я ему
больше не друг; ибо эта доктрина поистине измышлена в аду,
и можно думать, что только дьявол посмел бы ее проповедо-
вать. Можно ли грубее оскорбить величие божье, чем вообразив,
будто всеведущий господь скажет на том свете доброму и пра-
ведному: «Невзирая на чистоту твоей жизни, невзирая на то,
что ты шел по земле, неизменно держась правил благости и до-
бродетели, все же, коль скоро ты не всегда веровал ортодок-
сальным образом, недостаточность веры твоей ведет к твоему
осуждению». Или, с другой стороны, может ли какая иная док-
трина иметь более гибельное влияние на общество, чем убеж-
дение, что ортодоксальность веры послужит добрым оправда-
ниям для злодея в судный день? «Господи, — скажет он,— я
никогда не следовал твоим заповедям, но не наказывай меня^
потому что я в них верую».
— Полагаю, сэр, — сказал книгопродавец, — ваши пропо-
веди иного рода?
— Да, сударь, — ответил Адаме, — почти каждая их стра-
ница» скажу с благодарностью господу, заключает в себе обрат-
ное, ибо я лгал бы против собственного мнения, которое всегда
состояло в том, что добрый и праведный турок или язычник
угоднее взору создателя, чем злой и порочный христианин, хотя
бы вера его была столь же безупречно ортодоксальна, как у са-
мого святого Павла» 14.
Как далеки мы здесь от бурлеска, не правда ли? Мы присут-
ствуем при сражении, которое дает Филдинг: романист смело
вмешивается в споры своих современников, дабы подчеркнуть
то, что характерно для них. Нет, невозможно было примирить
веру с несправедливостью, невозможно было согласиться с тем,
что о людях следует судить только по их благим намерениям.
И при прочтении «Джозефа Эндруса» невольно возникает во-
прос: «Как получилось, что столько негодяев торжествуют и
остаются ненаказанными? Ах, вы не желаете видеть деяния
людей, что они творят? Но нет, глядите же...»
Каждый нанесенный им удар все еще сохраняет свою силу;
Филдинг стремительно двинул вперед роман потому, что он
одновременно и создал современную форму этого жанра, и внес
в него критическое для буржуазной эпохи содержание. И это
уже в 1740 году.
Есть один французский роман, очень похожий на «Джозефа
Эндруса»; в нем также рассказывается о приключениях моло-
дого человека и о его успехах у женщин: это — «Крестьянин,
вышедший в люди» Мариво. Для того чтобы воздать должное
216
Филдингу, мне достаточно будет процитировать два отрывка
из произведения его французского предшественника; они позво-
ляют сравнить оба романа — по форме и по содержанию:
«Заглавие, которое я даю своим запискам («Крестьянин,
вышедший в люди»), говорит о моем происхождении; я никогда
не скрывал его от тех, кто меня об этом спрашивал, и мне ка-
жется, что бог все время вознаграждал меня за откровенность
на сей счет, ибо я ни разу не замечал, чтобы люди после этого
выказывали мне меньше уважения и почтения.
Тем не менее мне довелось видеть немало глупцов, которые
не имели и не знали за собой иных достоинств, кроме того, что
они родились знатными или происходили от родителей, зани-
мавших видное положение в обществе. Я слышал, как они го-
ворили о своем глубоком презрении к людям, стоившим больше,
чем они, и презирали они их только потому, что те не были
дворянами; а люди, коих они презирали, наделенные, кстати,
тысячами качеств, делавших их достойными всяческого уваже-
ния, малодушно краснели и стыдились собственного происхож-
дения...»
Огромная разница заключается уже в том, что Джозеф даже
не думает о своем происхождении: он — уже появившийся в жизни
новый человек, которого Филдинг открывает и вводит в лите-
ратуру. Этот новый человек сознает себя свободным, а выбив-
шийся в люди крестьянин Мариво до этого еще не дошел. То,
что так ценит Джозеф, для преуспевшего крестьянина служило
лишь средством извлечь выгоду:
«Вы только представьте себе, что такой деревенский малый,
как я, сумел за каких-нибудь два дня сделаться тиужем богатой
девицы и возлюбленным двух знатных дам. После этого мой
внешний вид, мой наряд — все изменилось; меня стали вели-
чать «сударь», хотя еще дней десять или двенадцать назад
звали просто Жакоб. А любовные заигрывания обеих дам, и
прежде всего тот прелестный, хотя и порочный, вид, который
госпожа де Ферваль напускала на себя, чтобы обольстить меня;
эта столь искусно обутая, очаровательная ножка, которой я так
любовался; эти столь красивые белые ручки, которые с неж-
ностью задерживались в моих руках; эти взгляды, полные ласки,
и, наконец, томные вздохи — всего этого было достаточно, что-
бы разбудить мое сердце и ум! Какая замечательная школа мяг-
кости, сладострастия, испорченности и, следовательно, сенти-
ментальности, ибо душа становится утонченнее по мере того, как
она портится».
Самое забавное во всем этом то, что Ричардсон фигурирует
в учебниках по истории литературы как создатель сентимен-
тального романа. От рассуждения преуспевшего кресть-
янина («...и, следовательно, сентиментальности,
217
ибо душа становится утонченнее по мере того, как она портит-
ся») до поведения Джозефа Эндруса — расстояние одновременно
И' маленькое и большое. Но это-то и составляет величие Фил-
динга. Именно он дает нам возможность судить о романе
Мариво, а не наоборот. Между ними пролегла «революция»
1688 года.
8. Дорогой Генри Филдинг
Преодолены препятствия, которые два века воздвигли между
Шиллингом и нами: пародия утратила ныне то значение, какое
она имела в XVIII веке, первые романы ^Мариво — также па-
родии; в наши дни нет ничего, что бы выполняло роль, какую
играл тогда бурлеск; мы напомнили о важнейших исторических
событиях, которые, возможно, стерлись в памяти читателей, и
становится ясным: Филдинг на сто лет обогнал своих совре-
менников романистов, и потребовалось целых два века, чтобы
романы его были поняты. Говоря о нем (как и о Стендале), не-
обходимо очень тщательно — гораздо подробнее, чем я это сде-
лал здесь,—* воспроизводить политическую обстановку того вре-
мени. Это — расплата за реализм, писатель слишком глубоко
захвачен своим временем, чтобы его можно было от него отде-
лить. Однако критики, спешащие объявить этих писателей не-
удобочитаемыми или провозглашающие их аполитичными (это
попытался сделать с Филдингом А. Жид), хотят в действитель-
ности либо отдалить их от публики, которая их, чего доброго,
еще и прочтет, либо обезвредить их. Филдинг — ключ, необхо-
димый для того, чтобы войти в английский, как, впрочем, и в
наш, XVIII век. В сущности, он помогает нам также лучше по-
нять историю современного романа, потому что благодаря Фил-
дингу этот жанр 'сделал решительный шаг вперед. Нынешние
романисты очень многим обязаны автору «Джозефа Эндруса».
Читая его, люди начинают больше ценить появившиеся после
него выдающиеся романы. Что же касается тех, кому Филдинг
внушает подозрение, то они, бесспорно, не помогают нам по-
нять ни мир, ни людей.
Как бы то ни было, я хочу спросить: можете ли вы, прочи-
тав последнюю страницу «Джозефа Эндруса», поверить в то,
что Генри Филдинг умер двести лет назад? И не думаете ли
вы, что завоевать новых читателей для Филдинга — значит по-
мочь новой, растущей публике понять, что представляет, собою
реалистическое открытие, именуемое романом, значит по-
знакомить ее *с великим живым писателем? С писателем, кото-
рый становится все более и более живым.
XII. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА АББАТА ПРЕВО
<юж
jh
ы уже привыкли к мысли,
что 1831 год был годом
появления одновременно
«Красного и черного» и «Шагреневой кожи». Мы рассматриваем
этот год также как некий интервал между «Эрнани» и «Собором
Парижской богоматери». Литературный мир волнуется после
Июльской революции, но это волнение — ничто по сравнению с
бурей, которой охвачены улицы больших городов, и в первую
очередь Парижа, где в восстаниях проявляется сила пролета-
риата, впервые осознавшего себя классом. Короче говоря, нам ка-
жется, мы понимаем то, что происходило тогда и о чем думали
писатели. Но чем знаменателен 1731 год? Я называю его не по-
тому, что меня увлекает мистика цифр. Нет, 1731 год — это год
«Манон Леско», год, когда появилась первая часть «Жизни Ма-
рианны» Мариво. В Лондоне тогда ставили «Лондонского куп-
ца»; сейчас эта пьеса кажется банальной, но следут помнить,
что через три года после «Оперы нищих» Джона Гея и в дни
первых больших успехов политического театра Филдинга Лил-
ло 1 вызвал к жизни буржуазную драму. Джордж Барнвел, ге-
рой «Лондонского купца», открывает собою длинный ряд моло-
дых людей из почтенных буржуазных семейств, которые из-за
падших женщин доходят до крайности; его образ поЛучит лю-
бопытный отзвук в «Мартине Чезлвите» Диккенса. И чтобы
покончить с сопоставлениями, напомним — как это совершенно
правильно делает Анри Родье в своей работе «Аббат Прево
и его творчество»*, — что в 1731 году появилось также и пятое
♦ H. Roddîer. L'Abbé Prévost et son oeuvre, P., 1955.
219
издание сборника новелл под названием «Знаменитые францу-
женки» («Les Illustres Françaises»); книга вышла в издатель-
стве Госса и Нома в Гааге; эти издатели снабжали работой
Прево, который жил в то время в изгнании.
«Знаменитые француженки» принадлежат перу некоего Ро-
бера Шалля2, современника Лабрюйера и Бейля3. Шанфлери4
в XIX веке вновь открыл его и видел в нем предшественника
той формы реализма, которую он сам защищал. «В «Знамени-
тых француженках», — замечает г-н Родье,—»можно обнаружить
столько удивительных совпадений с «Манон», с одной стороны,
и «Памелой», а также «Клариссой Гарлоу»—с другой, что книга
эта, по всей вероятности, была важнейшим источником 'и для
аббата Прево, и для Ричардсона».
Таким образом, ставится одна из важных проблем истории
нашей литературы: обычно «Манон Леско» рассматривают как
шедевр психологического или сентиментального романа (это
лишь вопрос терминологии); но не знаменует ли собой эта книга
также — и в первую очередь—решающий этап в истории фран-
цузского реалистического романа?
Я не утверждаю, что г-н Анри Родье сформулировал про-
блему с такой определенностью, но вся его книга бросает на
аббата Прево и его творчество новый свет, что и приводит к
постановке этого вопроса.
Если я говорю, что «Манрн Леско» — реалистический ро-
ман, то следует тут же уточнить, что такое определение может
быть ему дано не вследствие поведения самой юной героини,
не из-за нравов ее достойного братца и даже не потому, что
Дегрие невольно становится на путь сводничества, ибо если
вначале он лишь неохотно мирится с поведением своей подруж-
ки, то затем этот кавал/ер самым преспокойным образом живет
на деньги, заработанные Манон. Я говорю о реализме романа
и не потому, что можно провести некоторые прямые параллели
между биографией самого Прево и «Манон Леско» (по крайней
мере некоторые толкователи утверждают, что они такие парал-
лели обнаружили). Надо сказать, что термин реализм не-
редко применяют к чему попало, и он в конце концов до такой
степени потерял свое истинное содержание, что каждый раз
приходится чуть ли не заново определять его. Шедевр аббата
Прево, его роман, написан так, что на вопрос: «Как жили в
эпоху Регентства и вскоре после нее?» — можно ответить: «Про-
чтите «Манон Леско».
Вопрос и ответ кажутся банальными — до такой степени мы
привыкли к современным романам. Но не так было в прошлом:
ни «Буржуазный роман» Фюретьера, ни «Комический роман»
Скаррона не дают нам подобного ответа. Правда, «Принцесса
Клевская» в каком-то смысле знакомит нас с тем, как жили при
220
дворе Людовика XIV, хотя в ней и говорится о другой эпохе;
верно и то, что «Франсион» Шарля Сореля и «Приключения
барона де Фенеста» Агриппы д'Обинье дают некоторое пред-
ставление о времени другого регентства — регентства Марии
Медичи5. Однако роман аббата Прево рисует куда более под-
робную и богатую, хотя и неполную, картину целой эпохи.
Я вижу этот аспект романа также и не в фоне, на котором
развертывается действие «Манон Леско» — как пример можно
назвать шайку людей благородного происхождения, к которой
присоединяется Дегрие: все они живут шулерством, — но в том,
что составляет самую сущность романа. Анри Родье посвятил ее
анализу, анализу очень тонкому, целую страницу, которую я
хочу привести:
«Возникает новая проблема... И вместе с нею — новое роко-
вое предопределение. Каким путем совсем еще молодые люди
без состояния могут найти средства, необходимые для процве-
тания их любви?
«Любовь куда сильнее, чем благополучие, куда сильнее, чем
сокровища и богатства, но она нуждается в их помощи, — при-
внает Дегрие, — и самое тягостное для чувствительного воз-
любленного — видеть, что против своей воли он вынужден упо-
добляться людям с самой грубой и низменной душой». Такова
проблема, которая встает перед ним. Человек знатного проис-
хождения, Дегрие, как и его создатель Прево, гордо презирает
деньги, хотя это презрение и становится источником его невзгод.
И вот любовь к Манон заставляет Дегрие порвать со своей
средой. Она стоит значительно ниже его и по рождению, и по
положению, и па воспитанию. Безразличие родителей после его
бегства приводит к тому, что он и его возлюбленная попадают
в число маленьких людей...
Век назад богатство, пожалуй, не играло бы столь важной
роли. Но теперь — в годы Регентства — даже знатное проис-
хождение все больше и больше отступает перед деньгами. Тще-
славие преуспевших финансистов заставляет их сопер-
ничать в расточительности с вельможами, они ничего не жалеют
для удовлетворения собственных страстей, для того чтобы на-
сладиться своими победами. Хорошенькие девушки, вроде Ма-
нон, царят в Париже и продаются каждому, кто больше запла-
тит. Положение на рынке складывается для них благоприятно. —
сказал бы Дефо устами Молль Флендерс...»
Остановимся здесь. Фатальность, которую критики, анали-
зируя характер Дегрие, обычно именуют фатальностью страсти,
уступает место фатальности другого рода: она противоречит ей
и исторически конкретизирует ее. Я говорю о фатальной власти
денег.
В этом-то и состоит реализм Прево.
Kc 4e *
Опустим раз и навсегда слово «аббат» перед его именем.
Антуан-Франсуа Прево родился в Эдене, на границе между
Артуа и Пикардией, 1 апреля 1697 года. В юности он несколько
раз пускался в бегство, но в 1721 году, видимо не без принуж-
дения, был посвящен в церковный сан в монастыре бенедиктин-
цев. Во всяком случае, отец его восклицает по этому поводу,
что он отправится «искать сына по всему свету, если тот взду-
мает нарушить обязательства, которые он принял на себя по
собственной воле, а найдя, пристрелит». Так выражается отец
Гренье, бенедиктинец и биограф писателя.
В 1728 году Прево начинает публиковать свои «Записки
знатного человека, удалившегося от света»; осенью того же го-
да он сбрасывает с себя рясу, не получив на это должного раз-
решения. Это навлекает на него преследования и вынуждает
уехать в Англию. Там Прево становится воспитателем сына
сэра Джона Эйльса, управляющего Компанией Южных Морей, в
которой за десять лет до этого произошел крах, столь же гром-
кий, как крах Лоу. В 1730 году Прево поспешно уезжает в
Голландию. На этот раз речь идет о любовной истории. В это
время он повстречал некую Ленки, внушившую ему самую силь-
ную страсть в его жизни. «Эта возлюбленная, — пишет один из
друзей Прево, — вводила его в огромные расходы и занимала
все его помыслы, так что работа не могла обеспечить его сред-
ствами к существованию». Прево возвращается в Англию, оста-
вив за собою долги. Вот любопытный документ, относящийся к
этому периоду его жизни; в выписке из тюремных списков Гейт-
хауза за 1733 год читаем: «Антуан Прево помещен в темницу
13 декабря по требованию Тоза де Вейла, эсквайра, и по заяв-
лению Френсиса Эйльса, эсквайра. Вышеупомянутый Прево по-
дозревается в том, что он преступно составил, фальшивый век-
сель на сумму в пятьдесят фунтов за подписью Френсиса Эйль-
са, причем деньги по этому векселю подлежали выплате самому
г-ну Прево или его доверенному...»
Все доказательства подлога налицо. В те времена подобно^
преступление вело на висилицу. Однако Прево был почти тот-
час же освобожден, и это легко понять, если вспомнить, что
он служил у Эйльса до отъезда в Голландию и последний, дол-
жно быть, уладил дело. Остальная жизнь Прево широко изве-
стна. Он добился прощения, снова вступил в орден бенедиктин-
цев во Франции, был назначен капелланом принца Конти, из-
давал периодическое издание «За и против» («Le Pour et le
Contre»), писал романы, в частности «Кливленда», переводил
произведения Ричардсона.
Клэр-Элиан Анжель посвятила в 1939 году целую книгу
разбору отношения Прево к Англии. Надо заметить, что труд
222
Анри Родье вновь затрагивает эту тему. Он умеет обобщать
факты, доискиваться самой сути, в то время как Клэр-Элидн
Анжель зачастую многословна, расплывчата, а порой не подни-
мается над бытописанием. Читая Родье, мы приближаемся к
пониманию важнейших истоков реализма «Манон Леско».
*i * #
Трудно точно установить, что вынесли французы из своего
знакомства с Англией в начале XVIII века: сводной, обобщаю-
щей работы по этому вопросу еще нет. Наиболее прославлен-
ных путешественников, посетивших эту страну в тридцатые годы
XVIII века, звали Вольтер, Прево, Монтескье. Начиная с
революции 1688 года буржуазия царит за Ла-Маншем. Вольтер
за свое пребывание в Англии усвоил главным образом это. Пре-
ва позднее проникся оптимизмом Ричардсона, но сначала он
побывал в школе Дефо, в школе нового романа, который можно
определить одной фразой: роман, начинающий принимать в
расчет деньги. Не следует думать, что Прево это сознавал. Ска-
жем просто, что именно книги Дефо научили его находить есте-
ственным, когда автор описывает тюрьму или исправительный
дом, и не считать зазорным, когда в литературу вводятся во-:*-
просы, касающиеся звонкой монеты, К.-Э. Анжель и Анри
Родье отметили у Прево достаточно много моментов подража-
ния Дефо, и подражания бесспорного. В «Записках знатного че-
ловека» можно встретить упоминания о Робинзоне, и если «Ма-
нон Леско» нельзя рассматривать как некий вариант «Молль
Флендерс», то можно считать безусловно доказанным, что Пре-
во был хорошо известен этот роман Дефо. В Англии деньги
царствовали законно, во Франции — стыдливо и скрытно. Уол-
пол. покупал большинство в парламенте, во Франции генераль-
ные откупщики покупали лишь должности. Но красотки и в той
и в другой стране легко и открыто продавали свои ласки. Молль
Флендерс это знает, и в 1740 году Филдинг в своем романе
«Джозеф Эндрус» критикует такое положение. Во Франции та-
кие наблюдения приходилось вуалировать. С появлением «Ма-
нон Леско» они впервые вторгаются в любовную историю.
Разумеется, это лишь грубое обобщение, без всяких нюан-
сов. Я думаю, большая заслуга книги Анри Родье как раз и
состоит в том, что она устанавливает связь, придающую любов-
ной драме Манон ее истинное значение, ее истинное своеобразие.
Не следует, конечно, думать, будто наш Прево ведает, что тво-
рит. Как и Дидро, он позднее предпочел Ричардсона, человека,
примирявшегося с действительностью, которую воспроизводил
Дефо и которую Свифт и Филдинг беспощадно обличали.
223
Если не следует смешивать реализм с собиранием реалисти-
ческих деталей, то тем не менее следует сказать: те, кто в раз-
личных видах искусства раздвинули рамки изучения действи-
тельности, были одновременно создателями реализма. Так по-
ступал и Прево, сопоставивший силу чувства Дегрие с силой
денег, истинную цену любви с ее продажной ценой: ведь дело
происходило во Франции, где подлинными хозяевами уже были
финансисты, хотя они еще не имели политической власти.
До сих пор я говорил лишь о «Манон Леско», потому что
это самое известное произведение Прево. В книге Анри Ро-
дье мы найдем анализ и других романов Прево, в частности
«Истории Кливленда»; после ознакомления с тем, как она ана-
лизируется, хочется поставить под сомнение обычный взгляд на
Прево как на автора одного романа. Но эта тема рискует
завести меня слишком далеко, и я предпочитаю кончить тем, чем
я начал, то есть констатацией реализма Прево.
При внимательном рассмотрении приходишь к выводу, что,
пожалуй, ни один период в развитии нашей литературы не изу-
чен менее подробно, чем тот, который охватывает полвека — с
1680 по 1730 год. Обычно уделяют внимание философским ас-
пектам этого времени, изучают творческий путь великих писа-
телей — старость Расина и молодость Вольтера, — но очень ма-
ло исследуют живой литературный процесс в те годы. Книга
Анри Родье со всей остротой поднимает эту проблему. Ведь
названные выше пятьдесят лет были (также) годами, когда пи-
сал Робер Шалль, но они были в еще большей мере временем,
когда творил Лесаж, который в своем «Тюркаре» с неслыханной
смелостью изобразил финансиста и показал его в театре.
Было бы весьма интересно изучить проблему появления во-
просов, связанных с деньгами, в наших пьесах и романах, а
также те столкновения, которые по этому поводу происходили.
Я не говорю, что это — ключ к пониманию развития реализма
в нашей литературе, но, идя этим путем, мы, бесспорно, лучше
поймем мысли Прево. А называя Прево, я думаю и о всех ро-
манистах той поры — о Вольтере, о Монтескье, о Мариво, о
Дидро.
Да, ради этого стоит потрудиться.
XIII. НОВОЕ О «МОНАХИНЕ» ДИДРО
I* «^^^^—^ч g -^ * V I идро — французский рома-
W^!3SMX /нист скорее не XVIII, а
^ГкШГг1&ЖГгщУ^ш^^т/ XIX века. В самом деле,
его романы «Племянник Рамо», «Жак-фаталист» и «Монахиня»
получили известность лишь во времена Стендаля. Философия,
публицистика, личная жизнь Дени Дидро хорошо известны,
оценены и. изучены. Дидро-романист (как и Дидро-драматург)
еще ждет внимания исследователей.
Между тем он по праву достоин занять в истории романа
особое место среди самых выдающихся новаторов в области это-
го жанра. Дидро порвал с традиционными литературными при-
емами своих предшественников — авторов плутовских романов
и романов в форме мемуаров. Он стремился показать своих пер-
сонажей с тех сторон, освещение которых кажется необходимым
и в наши дни. Если форма его романов и их язык выглядят под-
час устаревшими, то вместе с тем, читая Дидро, мы постоянно
испытываем чувство, будто перед нами наш современник. Его
отношение к миру и к людям, его глубокие творческие устремле-
ния становятся для нас все ближе, по мере того как нам удается
их раскрыть.
Недавняя работа г-на Жоржа Мэ из Французского инсти-
тута Иельского университета — «Дидро и его «Монахиня» * —■
помогает нам лучше понять писателя, постичь творческий метод
Дидро на материале, непосредственно выхваченном из жизни.
Как известно, роман этот возник как следствие мистифика-
ции. Дидро и его друзья придумали уловку для того, чтобы
вернуть в Париж маркиза де Круамара, который незадолго пе-
* G. May. Diderot et la Relfgieuse, P., 1954.
15 П. Деке
225
ред тем уехал к себе в поместье в Нормандию. Круамара на-
аывали «очаровательным маркизом», он часто бывал в обществе
философов и, напоминает Жорж Мэ, «был человеком очень
благочестивым, что наряду со свойственными ему любовью к
литературе и изысканным вкусом придавало его внешнему об-
лику оттенок душевной чистоты, великодушия и милосердия,
а это не могло не нравиться -энциклопедистам». Дидро и Гримм
подробно изложили историю этой мистификации в своем «Пре-
дисловии-приложении», опубликованном в 1770 году в «Лите-
ратурной переписке».
Там можно прочесть, что в, 1758 году маркиз де Круамар,
услышав о некоей молодой монахине из Лоншана, которая обра-
тилась в суд, требуя признать недействительным ее обет, по-
скольку, по ее заявлению, в монастырь ее принудили уйти ро-
дители, «сделал все, чтобы склонить на ее сторону советников
Большой палаты Парламента города Парижа». Дидро и Гримм
отмечают, что маркиз выступил в ее защиту, хотя никогда не
видал затворницы, «не знал ее имени и даже не пытался прове-
рить правильность ее утверждений». В 1760 году им и пришла
в голову мысль воспользоваться этим, чтобы заставить «оча-
ровательного маркиза» возвратиться в Париж. Монахиня будто
бы оказалась не в силах долее сносить жизнь, на которую она
(после неудачного для нее исхода процесса 1758 года) обречена
навеки; она бежит из монастыря и пишет своему великодуш-
ному покровителю через одну почтенную женщину в Версале,
согласившуюся пересылать маркизу корреспонденцию. Эта осо-
ба существовала в действительности, и заговорщики, не вводя
ее в курс дела, попросили пересылать им все письма с почтовым
штемпелем города Кан, которые будут приходить на ее имя.
С этой мистификацией у Дидро получилось не лучше, чем
с той, о которой сообщалось в «Леттр франсез» в начале 1954
года *. Маркиз ничего не заподозрил, но в Париж не приехал,
а пригласил монахиню к себе. Пришлось как-то выпутываться
из положения, и Дидро, стремясь положить конец этой истории,
сначала уложил «больную» монахиню в постель, а затем поста-
рался как можно быстрее спровадить ее в мир иной.
Но на этом история не закончилась: Дидро, который вместе
с друзьями сочинял письма от лица мнимой монахини, в конце
концов увлекся игрой и написал целъш роман.
Жорж Мэ убедительно доказывает, что вопреки имевшим
место утверждениям роман не служил целям мистификации,
* Впоследствии этот материал был выпущен в издательстве Editeurs
Français Réunis. Diderot: Mystification ou Histoire des Portraits. Textes et
notes établis par Yves Benot. Preface de Pierre Daix. Frontispice et couverture
de Pablo Picasso.
226
не был «Мемуарами», будто бы оставшимися после -смерти
монахини. Он был задуман автором в связи со всей этой
историей, но написан как самостоятельное литературное про-
изведение.
Труд г-на Жоржа Мэ можно разделить на две части: одна —
это розыски исторических прототипов «Монахини» Дидро, дру-
гая —: глубокий разбор самого романа, рассмотрение его связей
с реальной действительностью той эпохи, его литературных до-
стоинств. Обе части в равной мере интересными мысль исследо-
вать жизнь настоящей монахини, участью которой заинтересо-
вался в 1758 году маркиз де Круамар, оказалась в высшей
степени плодотворной. Невозможно, разумеется, установить, в ка-
кой степени Дидро знал подробности дела в то время, когда
он писал свой, роман, но это сопоставление живого прообраза
с литературным персонажем весьма интересно.
Настоящую монахиню — в книге она носит имя Сюзанны
Симонен — звали Маргарита Деламарр. Она родилась в 1717 го-
ду в буржуазной семье, не столь богатой, как та, которую опи-
сывает Дидро. Ее отец был парижским ювелиром, мать — рано
осиротевшей дочерью казначея главного госпиталя в Дурдане.
Когда девочке исполнилось три года, родители отдали ее в
пансионат при королевском аббатстве в Лоншане, а еще через
год перевезли в монастырь урсулинок в город Шартр, куда
переехала сестра ее матери. Жорж Мэ отмечает, что в эти годы
ювелир быстро разбогател. То было время финансовых опера-
ций Лоу, и г-н Деламарр, по-видимому, удачно спекулировал.
В 1722 году он приобрел земельное владение стоимостью в сто
тысяч ливров» а через семь лет купил за пятьдесят четыре ты-
сячи ливров дом в Париже.
Любопытно, что содержание маленькой Маргариты, которую
переводят из одного монастыря в другой (в тринадцать лет
она попадает в монастырь визитандинок 1 на улице дю Бак в
Париже), дорого обходится родителям, не желающим держать
ее дома: оно колеблется от трехсот до пятисот ливров в год.
С этого времени, с 1731 года, реальные обстоятельства жиз-
ни действительно существовавшей девушки начинают служить
материалом для Дидро-романиста.
Жорж Мэ первый установил, что образцом для описанного
в романе монастыря святой Марии, где находилась Сюзанна
Симонен, послужил монастырь визитандинок на улице дю Бак.
Он специально посетил эти места. В наши дни там ничего не
сохранилось, и «только высота комнат да толщина стен могут
дать представление о том, как выглядели до революции кельи
монахинь».
В пятнадцать лет Маргарита Деламарр покидает монастырь,
потому что родители собираются выдать ее замуж.
15* 227
Но брак этот расстраивается. Мать утверждала, что причи-
ной тому была будто бы непреодолимая сила религиозного при-
звания, испытываемого юной девушкой. Монахиня обвиняла
свою мать в том, что та намеренно расстроила *ее брак, потому
что хотела заточить дочь в монастырь и лишить ее таким обра-
зом возможности оспаривать наследство богатого ювелира, ко-
торого она сама надеялась пережить.
По утверждениям монахини, ее мать разыграла отвратитель-
ную сцену, обвинив дочь, будто та согрешила со своим женихом;
она даже заставила повивальную бабку осмотреть девушку —
все для того, чтобы вызвать негодование отца. Тот действи-
тельно поверил низкому наговору и предложил дочери выбор:
или она на всю жизнь останется в монастыре, или ее от-
дадут в исправительный дом для девиц легкого поведения. Так
Маргарита Деламарр и оказалась в возрасте шестнадцати лет
послушницей монастыря Валь де Грае в Париже. «Когда пере-
сматриваешь протоколы судебного процесса 1758 года, воскре-
шающие все эти факты, — замечает Жорж Мэ, — Кажется, буд-
то читаешь один из самых «черных» романов приключений,
наподобие тех, которыми аббат Прево наводнял рынок в ту
эпоху2: тут есть все, даже зловещая перспектива того женского
каторжного дома, в котором Манон Леско отбывала позорное
наказание за свое легкомысленное поведение; тут есть даже, как
читатель дальше увидит, столь любимый романистами, падкими
на сенсацию, эпизод с подменой ребенка».
Заметим кстати, что если жизненные факты отвечают тре-
бованиям самых «черных» романов приключений, заставляют
вспомнить эпизоды, «столь любимые романистами, падкими
на сенсацию», то это говорит, быть может, о том, что в
упомянутых выше романах меньше вымысла, а их ав-
торы менее склонны к безудержной фантазии, чем полагает
Жорж Мэ.
Автор исследования приводит любопытный факт, который
обитательницы монастыря Валь де Грае подтвердили во время
процесса 1758 года. Монастырские власти отказались допустить
Маргариту Деламарр к постригу, ибо им стало известно, что
она не «подвигнута к этому религиозным призванием и посту-
пила в монастырь лишь по принуждению». Суд отверг это сви-
детельство под тем предлогом, что подписавшие его монахини
не могли будто бы помнить то, что происходило двадцать че-
тыре года назад.
Маргариту Деламарр перевезли в аббатство Лоншан, в один
из самых известных монастырей французского королевства.
«Там в возрасте восемнадцати лет ее постригли в монахини
26 января 1735 года, а 30 января 1736 года она вступила в
монашеский орден».
228
Позднее она объясняла, что подчинилась из страха очутить-
ся в исправительном доме, которым ей угрожал отец. Обращает
на себя внимание упорное стремление родителей держать Map-*
гариту — маленького ребенка, а затем подростка — вне дома. По
этому поводу Жорж Мэ замечает, что в середине XVIII века
в Париже было очень много незаконнорожденных детей. Та-
ким был чуть ли не каждый третий ребенок; так что пьеса Дид-
ро «Побочный сын» звучала в 1757 году как произведение весь-
ма злободневное.
Документы той эпохи свидетельствуют, что большинство Не-
законнорожденных девочек ожидала одна участь — жизнь в мо-
настыре. Именно этим Маргарита Деламарр объясняла безраз-
личие родителей по отношению к ней. Г-н Жорж Мэ расска-
зывает по этому поводу весьма интересные вещи, из которых
следует, что Маргарита Деламарр вела свое происхождение от
регента Франции. Она утверждала, будто произошла подмена
малолетних'детей. Настоящая Маргарита Деламарр якобы умер-
ла в двухлетнем возрасте, а себя монахиня считала незаконно-
рожденной дочерью герцогини Беррийской, другими словами,
внучкой регента Филиппа Орлеанского. Герцогиня и в самом
деле разрешилась от бремени незадолго до своей смерти, то есть
весной 1719 года; все историки считали, что ее незаконный ре-
бенок родился мертвым. Однако тексты и документы, собранные
г-ном Мэ, показывают, что это нельзя признать бесспорным
и претензии Маргариты Деламарр, возможно, имели под собой
некоторое основание. '
Но возвратимся к процессу 1758 года. Ювелир Клод Дела-
марр скончался весной 1750 года. Все три его сына умерли, из
детей в живых оставалась одна только наша монахиня, но она
не могла претендовать на отцовское наследство, ибо дала обет
бедности. Родственники^по побочной линии не желали смириться
с мыслью, что все наследство целиком достанется вдове, и воз-
будили судебное дело. В 1752 году в тяжбе приняла участие и
наша монахиня; мы узнаем об этом из письма госпожи Дела-
марр к ее дочери, которая перед тем сообщила о своем намере-
нии отречься от монашеского обета.
К величайшему сожалению, я не могу даже хотя бы кратко
изложить историю процесса 1758 года, так как это завело бы
нас слишком далеко. С этой историей связано несколько вол-
нующих эпизодов. Один из них таков: еще раньше маркиза де
Круамар судьбой Маргариты Деламарр заинтересовался знаме-
нитый инженер Жак Вокансон. Он изобрел машину, позволяв-
шую наладить промышленную обработку шелка, и прибыл в
аббатство Лоншан для того, чтобы установить свои машины в
монастыре. Там он услышал историю Маргариты Деламарр,
которая поведала ему, что ее силой заставили постричься в
229
монахини; кажется, инженер даже мечтал построить машину,
которая позволила бы похитить несчастную из монастыря.
Конец истории Маргариты Деламарр, без сомнения, был
еще более ужасным, чем развязка романа. Маргарита проиграла
процесс, и "отрывок из выступления аддоката госпожи Дела-
марр-матери позволяет нам представить себе, в каком тоне
велось судебное разбирательство:
«Ежели мы прислушались бы к требованию монахини Дела-
марр при создавшихся обстоятельствах, то это привело бы к
тому, что в наши семьи вторглись бы смута и беспорядок,
а в монастыри — возмущение и смятение! Следует задержать
поток в самом его истоке, применив самым строгим образом за-
коны...»
По решению суда от 17 марта 1758 года Маргарита Дела-
марр должна была до самой смерти остаться заключенной в мо-
настыре.
Последний документ, относящийся к ее жизни, датирован
1790 годом, когда монахине исполнилось семьдесят три года.
Это было в самый разгар революции. Владения монастыря
Лоншан сделались национальным достоянием и были назначе-
ны к продаже.
Маргарита Деламарр была в числе монахинь, подписавших
петицию с просьбой о том, чтобы им позволили «жить и уме-
реть в монастыре».
Она провела в нем около шестидесяти лет.
Мне думается, что все рассказанное выше помогает лучше
понять значение романа Дидро и подчеркивает поистине реали-
стический характер многих эпизодов, которые современному чи-
тателю могут показаться чрезмерно преувеличенными. Исследо-
вание Жоржа Мэ богато фактами, многочисленные сопоставле-
ния и сравнения показывают нам необычайную смелость Дидро,
в частности в вопросах пола, а также точное соблюдение им
исторической правды и в этом отношении.
Метод исследования, применяемый Жоржем Мэ, должен,
как мне кажется, быть одним из необходимых элементов лите-
ратурной критики. Хотя он ищет в самой действительности
факты, послужившие основой для повествования, и показывает,
как они перенесены в роман, он не принадлежит к числу тех,
которые сводят искусство романиста к чему-то напоминающему
ремесло фотографа; применительно к Дидро можно было бы
сказать—»к чему-то вроде иллюстрации к его «Энциклопедии»;
и если по целому ряду вопросов хочется вступить с автором ис-
следования в спор, в частности потому, что он, с моей точки
зрения, слишком мало говорит о материализме Дидро, то в
целом следует признать, что Жорж Мэ хорошо разрешает по-
230
ставленную им перед собой задачу и помогает нам понять вклад
Дидро в искусство романа. Нынешние читатели нередко не заме-
чают шага вперед, сделанного Дидро в развитии реализма, из-
за присущей ему напыщенности в выражении чувств.
Г-н Жорж Мэ умеет показать нам, в чем заключалась цель
Дидро: осуждая условия жизни монахинь, он выступал против
зависимого положения женщин вообще. Обнажая беспорядки,
царившие в монастырях, он обличал тем самым горестное поло-
жение женщин. "Жорж Мэ дает нам ключ к пониманию одной
из самых яростных и сильных книг, одного из самых реалисти-
ческих романов не только французской, но и всемирной литера-
туры.
XIV. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕРНОМ РОМАНЕ
овершенно естественно, что
в эпоху водородной бомбы
выражение черный ро-
ман весьма употребительно. В наше время ужас, порождаемый
действительностью, много сильнее того, который некогда вызы-
вали боги ада. Кошмарные видения второй мировой войны еще
живы в памяти, а солдаты, сидевшие в окопах в 1914 году, не
могут забыть того, что было для них адом.
Итак, мы имеем дело с реальными жестокостями, пережиты-
ми нами, и такими, которые нетрудно себе представить. Наше
сознание угнетено воспоминаниями о войнах, которые были
навязаны народам, и угрозой третьей войны, к которой нас
стремятся постепенно подготовить. Вот почему естественно, да-
же закономерно, что этими реальными ужасами насыщены не-
которые романы нашего времени. Таков, например, роман Эльзы
Триоле «Рыжий конь». Не удивительно, что термин черный
роман хочется применить и по отношению к некоторым другим
современным произведениям литературы. Но трудность заклю-
чается в том, что у этого термина есть прошлое, есть своя исто-
рия, которые скорее затемняют, чем освещают, интересующую
нас проблему. Под черным романом в учебниках по истории
литературы понимается особая категория романов со строго оп-
ределенными литературными и историческими признаками, не
имеющая, с моей точки зрения, ничего общего с романами, от-
ражающими реальные ужасы нашего времени.
Я даже думаю, что черные романы, о которых идет речь в
учебниках литературы, прямо противоположны современным ро-
манам, которые порой обозначаются этим термином, ибо черные
романы прошлого — не реалистические и даже антиреалистиче-
232
ские произведения, в то время как, скажем, «Рыжий конь*
чрезвычайно увеличивает поле * реалистического исследования в
романе; реальный мир в нем правдиво воспроизведен писателем
как действительность, в которой обозначаются два пути в буду-
щее— добра или зла, и в центре романа — проблема выбора,
которая с особенной остротой стоит перед людьми нашего вре-
мени: от них зависит, будут ли они творцами своего счастья или
своей возможной гибели.
/. Черный роман литературных каталогов
Нас учат, что черный роман, или роман ужасов и тайн,
был изобретен Горесом Уолполом, сыном английского премьер-
министра, опубликовавшим в 1764 году свою книгу «Замок
Отранто». Спустя четверть века "Анна Радклиф придала новый
блеск этому жанру, написав целую серию романов, наиболее из-
вестный из которых —' «Удольфские тайны» — появился в пер-
вые годы Французской революции. «Монах» Льюиса, вышедший
в свет, по-видимому, в 1796 году, то есть чуть позже «Жюстины»
Сада1, — произведение, пожалуй, наиболее характерное для это-
го жанра; еще четверть века позднее, с появлением «Мельмота»
Мэтьюрина, развитие черного романа можно считать закончен-
ным. В первой четверти XIX века все эти книги пользовались
огромным успехом и оказывали большое влияние сначала в Анг-
лии, а затем и во Франции. Молодой Шелли, как и Бальзак в
молодости, писал такие романы, к ним приближаются и другие
подобные произведения, в частности «Франкенштейн» миссис
Шелли (1816 год) — произведение, задуманное как книга ужа-
сов и написанное на пари между супругами Шелли и Байроном;
надо сказать, однако, что в этой книге, помимо «ужасов», содер-
жится и фантастическое предвидение возможности создать с
помощью науки человека. Попытка эта заканчивается неудачей:
возникает не человек, а чудовище, которое терроризирует сво-
его «отца» Франкенштейна, разрушает его счастье, а затем и
губит его.
Характерная черта черных романов, как их называют в ли-
тературоведческих каталогах (если даже оставить в стороне
«Франкенштейна» — произведение, которое учебники литерату-
ры считают явлением особого рода), поражающая всякого чита-
теля, состоит в том, что общим для всех этих романов является
лишь одно — то, что все они должны вызывать страх. Больше
их ничто не сближает — ни композиция, ни сюжет, ни цель, ко-
торую ставит перед собой автор. Их можно объединять в одну
категорию примерно с таким же правом, с каким «Пармскую
обитель», «Лилию в долине» и «Воспитание чувств», с одной
233
стороны, и полсотни любых третьестепенных романов — с дру-
гой, исходя лишь из того, что все это — романы о любви с
плохим концом.
Книги, входящие в категорию черного романа, сходны между
собой не больше, чем произведения, публикуемые Марселем
Дюамелем в его Черной серии2. В них можно обнаружить
некоторые общие приемы, порой сходную атмосферу, в них опи-
сываются средневековые замки, привидения, подземелья. Сло-
вом, если инсценировать эти романы для театра, то режиссер
мог бы использовать для всех постановок одни и те же аксессу-
ары и даже некоторые элементы декораций, но и только. Уол-
пол сух и скучен, Анна Радклиф многословна. После чтения их
книг в памяти читателя остается несколько страшных картин,
но ни одного образа. Особняком стоит только один Льюис. Но
ценность «Монаха» в ином — в его яростной антирелигиозности
и, в сущности, в разоблачении ужасов. Что до Мэтьюрина, то
он создал своего рода анти-Фауста. Ко всему этому следует
еще прибавить, что в наши дни все эти романы никому уже не
внушают страха.
Составителей литературных каталогов привлекает в книгах
такого рода нечто другое — присущее их авторам стремление
повернуться спиной «к натуре», к действительности.
2. Суть вещей
Если обратиться к первоисточникам жанра, мы без труда
устанавливаем, что Уолпол, приступая к работе над «Замком
Отранто», преследовал определенную цель, которую он сам и
изложил в предисловии ко второму изданию, где признал себя
автором этого краткого повествования. Уолпол прямо заявляет,
что его книга возникла как реакция на тенденцию современных
ему писателей подчинять роман натуре и описывать в нем толь-
ко явления реальной действительности *. /
* Вот текст этого предисловия Уолпола: «Нет ничего труднее, чем со-
четать одновременно требования, присущие двум жанрам романов: я имею
в виду — старинного романа и современного. В первом — все на воображе-
нии и очень мало правдоподобия, во втором — только натура, и ей подра-
жают порой не без успеха. Есть место и для выдумки, но воображение на-
ходится в путах, ибо авторы слишком скрупулезно следуют обыденным
жизненным ситуациям. В современном романе воображение, можно ска-
зать, погашено природой, которой не было места в старинных романах. Там
действия, чувства, разговоры героев и героинь были столь же противо-
положны натуре, как механизмы, которыми они приводились в действие.
Автор настоящей книги стремится примирить оба жанра. Желание дать
воображению возможность свободно прогуливаться по полям вымысла, по-
истине не имеющим пределов, и создавать самые интересные положения
заставило его писать таким образом, чтобы персонажи романа действовали
234
Если вспомнить, что «Замок Отранто» был опубликован в
1764 году и что заканчивающийся к тому времени период в раз-
витии английского романа отмечен именами Филдинга и Ричард-
сона* что в этот период имели огромный успех произведения
Смолетта, то, мне думается, будет более понятно, в кого метил
Уолпол. «Замок Отранто» представляет собою своеобразный
манифест, возвещающий о разрыве с реализмом. Он появился в
то время, когда роман в Англии достиг кульминации своего раз-
вития в творчестве Филдинга и Ричардсона. Ричардсон, стре-
мившийся нарисовать утешительную картину мира, дошел до
того предела, когда реальная действительность начала брать
верх над его добрыми намерениями; хотя автор хотел, доказать
своими «Памелой» и «Клариссой Гарлоу», что добродетельные
души обретают величайшее счастье, эти книги на самом деле
доказывали прямо противоположное, что добродетель не прино-
сит пользы униженным. Филдинг показывал, что в окружаю-
щем его обществе торжествует зло, одерживают верх негодяи,
он нарисовал образ Джонатана Уайлда, короля воровского ми-
ра^ похожего на Уолпола — премьер-министра Англии и отца
романиста; что касается добродетели, то Филдинг также пока-
зал, что она не приносит никакой пользы тем, у кого нет денег.
Позднее я остановлюсь на важной роли, которую сыграло
в истории западного романа наблюдение Уолпола о том, что в
реалистическом романе его эпохи «воображение находится в пу-
тах, ибо авторы слишком скрупулезно следуют обыденным жиз-
ненным ситуациям»; чтобы убедиться в обоснованности выдви-
гаемой мною концепции и мысли о полемической направленности
вышеприведенного высказывания Уолпола против писателей-
реалистов, и в частности Филдинга, достаточно прочитать пре-
дисловие к роману «Джозеф Эндрус», в котором Филдинг под-
черкивает, что верность романиста этим самым «обыденным
жизненным ситуациям» обогащает его творчество и делает его
более поучительным.
Тогда как Ричардсон удовлетворялся радужным взглядом
на мир, который действительность все время опровергала, Фил-
динг стремился рисовать мир таким, каков он есть. Однако ни
тот, ни другой не могли разрешить важнейшей проблемы: как
s
в согласии с правилами правдоподобия: они говорят, мыслят и ведут себя
так, как вели бы себя мужчины и женщины, оказавшись в необычайных
положениях... Книга эта снискала одобрение публики, и поэтому автор
осмеливается заявить, что труд оказался ему по силам и что он с честью
справился с задачей, которую перед собой поставил. Если же люди более
остроумные, чем он, воспользуются новым путем, который он проложил,
и пойдут по нему дальше, то автор с удовольствием и приличествующей
скромностью признает, что разработанный им план давал возможность
создать большее число прекрасных картин, чем это представлялось вооб-
ражению автора».
235
сделать, чтобы добро восторжествовало над злом? Ричардсон
попросту избегал этой проблемы, Филдинг, напротив, затраги-
вал ее во всех своих романах. Но к концу жизни, став мировым
судьей округа Вестминстер, Филдинг предстал перед нами в
дотоле не знакомом нам облике. В своих романах он изображал
мир критически, в мрачных красках, и если они и кончались
счастливо, то герои — Джозеф Эндрус, Том Джонс, Амелия —
достигали счастья лишь в результате подлинных чудес. Джозеф
Эндрус и Том Джонс вышли из своего плачевного состояния
только потому, что, как обнаружилось, они принадлежали по
рождению к знатным родам: беднякам и подкидышам ни за что
не удалось бы выбраться и упрочить свое положение. Амелия
обнаруживает, что завещание ее матери было подделано; надо
сказать, что этот последний из романов Филдинга — безусловно,
наиболее горький, ибо если Амелия и ее муж, капитан Бут, из-
бавляются от финансовых затруднений, то общество, которое
преследовало их, когда они бедствовали, отнюдь не изменилось.
Став мировым судьей, Филдинг был вынужден уже зани-
маться развязками не романов, а историй, предлагаемых его вни-
манию жизнью. Он пишет для Лорда Верховного судьи, иначе
говоря, для министра юстиции, «Трактат об умножении числа
воров» (1751 год). В нем он отмечает один из результатов раз-
вития капитализма в Англии XVIII века, наводнявшего города
тысячами разоренных крестьян и уже тогда, при зарождении
капитализма, порождавшего безработицу. Но дальше Филдинг
предпочитает не смотреть в лицо фактам. Во всяком случае, он
стремится ограничиться в своих наблюдениях лишь одной обла-
стью, приходя к выводу, что все в современной ему Англии
можно купить, начиная с судей. Это приводит его к заключению,
что единственный выход — мудрое и строгое применение зако-
нов. Он подробно перечисляет все ме£ы принуждения и объяс-
няет рост числа-преступлений стремлением бедняков к роскоши,
азартными играми, пьянством и так далее... Филдинг заявляет,
что следует заставить бедняков работать, что не надо увели-
чивать плату за труд, ибо это будто бы приводит к повышению
цен, и в довершение всего набрасывает на бумаге осуществлен-
ный во времена Диккенса проект создания работных домов, этих
темниц, возникших как следствие законд о бедняках, которые
с такой силой бичевал позднее автор «Оливера Твиста» *.
Ричардсон попросту замалчивал проблему преодоления зла,
царящего в обществе; мы видим, на какие препятствия в пои-
сках ее решения наталкивается Филдинг. Он отмечает, что мир,
возникший после революции 1688 года, — дурной мир. Он ста-
* Сравните со статьей Анны Виллелор в «Леттр франсез» от 17 марта
1955 года.
236
рается убедить себя в том, что это — результат действий дурных
людей, дурного применения законов или их полного игнориро-
вания, результат коррупции, а сам общественный порядок тут
ни при чем. Потребуется три четверти века, нужны будут вели-
кие потрясения, связанные с Французской революцией, разви-
тие английского пролетариата в самостоятельный класс, для
того чтобы был сделан следующий шаг и Шелли, Байрон, Дик-
кенс или, скажем, Карлейль3 ополчились на самый обществен-
ный порядок. На буржуазный общественный порядок *.
Уолпол— сын того премьер-министра Великобритании, ко-
торого Филдинг, как и Гей, автор «Оперы нищих», сравнивал
с королями воровского мира, — был писателем, чье творчество
подводит черту под развитием английского реализма XVIII ве-
ка и сознательно открывает собою путь, знаменовавший бегство
от реальности.
/ 3. Истинные источники «Замка Отранто»
Цельзя даже сказать, что^ Уолпол изобрел что-нибудь со-
вершенно новое. Когда читаешь «Замок Отранто», поражает
одно обстоятельство: пять глав романа построены так, что на-
поминают пять актов драмы. Как будто мы имеем дело с на-
скоро перелицованными диалогами, с пьесой, переработанной
и переделанной в повествование. И вдруг как-то сразу стано-
вится ясным, чем вдохновлялся Уолпол: он черпал вдохновение
в елизаветинской драме последнего периода, когда авторы уже
интересовались преступлением ради самого преступления, ужас-
ным ради ужаса и ставили перед собой лишь одну цель — на-
полнить страхом души зрителей.
У елизаветинцев чередование изображения жестокости, при-
сущей реальной действительности, и жестокости вымышленной
имеет гораздо большее значение, чем в черном романе XVIII ве-
ка. До великого расцвета шекспировской драматургии и в на-
чале этой поры расцвета появляются драмы и романы совер-
шенно нового жанра, которые отталкиваются в некотором смы-
сле от уголовной хроники эпохи. Это можно сказать, например,
об «Ардене из Февершема» («Arden of Faversham») 4, истории
убийства богатого купца; ту же тему позднее развивал в своем
романе «Томас из Рединга» («Thomas of Reading») Томас Дело-
ней, описавший за три года до этого историю жизни одного
буржуа, роман «Джек из Ньюбэри» («Jack of Newbury»). Я на-
зываю эти произведения не для того, конечно, чтобы противо-
поставлять их непосредственный реализм творчеству Марло или
Шекспира, но потому, что они, как мне кажется, проливают
свет на реальные источники широкого расцвета елизаветинской
* Я не говорю, что они уже видели выход.
237
драмы; и, хотя лучшие образцы этой драмы, освещающие про-*
блемы всемирного значения, связаны с современной английской
действительностью, они не менее часто отходили от нее. Когда
же мы подходим к творчеству Уэбстера и Джона Форда, к
закату елизаветинской драмы, то видим, что у них связь с ре-
альной действительностью уже почти неощутима. Читая пьесу
Джона Форда «Разбитое сердце», опубликованную в 1633 году,
не можешь отделаться от впечатлений, что ужас здесь ради
ужаса, так же как, скажем, уже в драмах Сайрела Тернера.
В «Разбитом сердце» применено уже много приемов, которые мы
найдем позднее в арсенале авторов черного романа, в том числе
механическое кресло-западня: человек садится в него и не может
двинуть ни рукой, ни ногой.
Но если у елизаветинцев обращение к ужасам ради ужаса
и свидетельствовало об упадке драматургии, то оно часто имело
лишь второстепеиное значение. Мы всегда можем установить
определенную связь между жестокостью, характерной для этих
драм, и жестокостью, свойственной тому обществу конца XVI —
начала XVII века, которое в них изображается. Театр елиза-
ветинцев представляет нам живые, полнокровные, словно высе-
ченные резцом персонажи. Достаточно ознакомиться, например,
с «Фламинео» Робера Мерля5, навеянным «Белым дьяволом»
Уэбстера, чтобы убедиться в том, что никакие фантасмагории
не могли иссушите живительного сока, которым пропитаны про-
изведения елизаветинцев.
«Замок Отранто», напротив, представляет собой историю,
лишенную всякого серьезного содержания, прикрытую мишур-
ным облачением, сотканным из средневековых ужасов. Единст-
венный живой характер в этом произведении—субретка, кото-
рую ее господин хочет подкупить. Манфред, печальный герой
этого романа, и другие важнейшие действующие лица лишены
всякой индивидуальности. Это — всего лишь марионетки, кото-
рые испытывают ужас, когда автор хочет нас испугать; которые
ничему нас не учат и, что всего хуже, не внушают нам никакого
страха.
Сравнивая Уолпола с его непосредственными предшествен-
никами, с Филдингом, видишь, до чего оскудело искусство ро-
маниста под пером этого основоположника черного романа. Ни
в одном из произведений этого жанра вы не встретите холодной
жестокости, присущей, скажем, Джонатану Уайлду. Тут нет
даже никого, кто выдержал бы сравнение с Блайфилом. Настоя-
щие негодяи, описанные Дефо в его «Жизнеописаниях преступ-
ников» или Джоном Геем в его «Опере нищих» (например, Пи-
чум), вызывают у нас дрожь, на что авторы черных романов
никогда не были способны. Недостаточно вывести на сцене при-
зрак, для того чтобы создать Гамлета.
238
4. В черном романе — ничего че рного
В довершение всего традиционный черный роман представ-
ляет собой такой роман, в котором черная сторона реального
мира исчезает, уступая место видимости.
Во французской литературе имеется автор, пример которого
хорошо подтверждает это положение. Молодой Бальзак вступил
в литературу с романами, ныне забытыми, которые были им
написаны в модном в ту пору жанре, идущем от традиционного
черного романа. И только отойдя от него, после «Шагреневой
кожи», обратившись к изображению людей своего времени,
Бальзак сумел впервые по-настоящему описать черные стороны
действительности. С этой поры черное в книгах Бальзака при-
обретает реальность, оно гораздо страшнее призраков, жажду-
щих мести. Это черное, с которым писатель встречается в поли-
тической жизни, ростовщичестве, банковском мире. И порази-
тельно, что в то же самое время молодой английский романист,
по имени Чарльз Диккенс, открывает в своем романе «Оливер
Твист» черное на дне Лондона. Здесь читатель сталкивается с
описанными во всю ширь мрачными сторонами лицемерного
мира, представленного церковным старостой мистером Бемблом,
стариком Фейджином, главой воровской банды, грабителем
Сайксом. Это — изнанка общества, обычно тщательно скрывае-
мая. Атмосфера Лондона, города нищенских бараков, Лон-
дона, с его старыми, грязными кварталами и туманами, по
вечерам окутывающими Темзу, которую Диккенс открыл для
литературы, эта великолепно воспроизведенная атмосфера ре-
ального Лондона окончательно вытеснила подобные галлюци-
нациям болезненные видения черного романа, о которых я го-
ворил.
Времена изменились, и то, что для Филдинга было конеч-
ным пунктом, для Диккенса стало точкой отправления. Теперь
мы в том мире, где Энгельс пишет «Положение рабочего клас-
са в Англии». Уже появляются труды Маркса. Романисты, ко-
нечно, об этом ничего не знают, но новая действительность
скоро заставит их глубоко задуматься.
Повсюду мощное романтическое движение отказывается от
кладбищенских образов и обращается к жизни угнетенных, стре-
мится проникнуть в душу преступников, понять психологию из-
гоев общества, постичь тайны истории. Это время, когда послед-
ний эксплуатируемый класс, обездоленный более, чем античные
рабы или средневековые крепостные, — пролетариат выходит
на арену истории. Только с этого времени черный роман и мо-
жет получить свое истинное назначение освещать черную сто-
рону истории, ибо вдалеке уже брезжит необходимое решение —
изменить мир, чтобы поставить его с головы на ноги.
239
5.^Неожиданные последователи
Если давать роману формальное определение, то «черный
роман» и в самом деле следует выделить как особый жанр; од-
нако у меня нет никаких оснований полагать, что формальные
определения, которые дают критики, могли бы быть единодушно
приняты романистами, и чтобы они хотя бы в какой-то мере
могли помочь понять историю современного романа и оценить
его возможности.
В наши дни передовой роман, с моей точки зрения, должно
определять как средство познания, средство изучения реального
мира и лучшего постижения его. Это — материалистическое
определение, которое исходит из существования реального мира,
не зависящего от сознания людей, и существования объективных
законов природы и общества, которые человек может познать,
чтобы с их помощью преобразовывать и природу, и общество.
Я считаю,, что это единственный путь, позволяющий выработать
объективное определение жанра романа и создать основу для
объективной оценки романов, для критического рассмотрения
истории романа.
Вот почему я и пытаюсь, руководствуясь этим принципом,
изучить * вопрос о значении черного романа в Англии в XVIII
веке и проследить его влияние на литературу в последующие
эпохи. Работа Алисы М. Киллен «Роман ужасов, или Черный
роман от Уолпола до Анны Радклиф и его влияние на фран-
цузскую литературу вплоть до 1840 года» * богата указаниями
на распространение черного романа в Англии и во Франции
того времени и на отношение к этому жанру большинства то-
гдашних французских писателей.
Изучая эту работу, узнаешь поразительные факты: оказы-
вается, Хотя общая атмосфера, эмоциональная настроенность
черных романов и, поражали воображение французских писа-
телей, их, как правило, в этих романах больше интересовали вто-
ростепенные моменты. Стендаль, к примеру, несколько раз упо-
минает Анну Радклиф, но складывается впечатление, что он
воспринимал ее прежде всего как писательницу, хорошо знако-
мящую с Италией: «Флоренция была последним пунктом моих
странствований по Италии в пору моей юности... Прекрасная
дорога Пьетре Молле. Романы Анны Радклиф...» ** В другом
месте, и в данном случае речь идет о книге «Рим, Неаполь и
Флоренция», Стендаль, по-видимому не без иронии, замечает:
«Чтобы описание путешествия в Италию понравилось широкой
публике, надо бы его написать совместно г-же Радклиф — опи-
* Champion. 1924.
** Дневник, 1811.
240
сания природы и памятников искусства — и президенту де
Броссу6 — изображение нравов» 7.
Эти цитаты, думается, убедительно свидетельствуют о том,
как переосмысливал Стендаль черные романы, которые он чи-
тал. Следует прибавить, что черные романы, как и поэмы Ос-
сиана, которые Макферсон8 сочинил лет через десять после
появления «Замка Отранто», воспринимались в то время во
Франции, как один из источников увлечения «готикой»9.
Скажем проще — как один из подходов -к национальной
истории.
Не следует забывать, что уже произошла Французская ре-
волюция: хотя она и заимствовала слог и некоторую долю ри-
торической пышности от Римской республики, она завершила
сложение Франции в нацию. Писатели этого времени, как и
вообще все деятели культуры, видят свою важнейшую задачу
в установлении связи с прошлым французской нации, находив-
шимся дотоле как бы под запретом. При Наполеоне этот про-
цесс еще не совсем ясен, но с Реставрацией, вторжением инозем-
ных войск и национальным унижением усиливается потребность
окунуться в историю Франции, восстановить контакт с насле-
дием прошлого, которое столь часто, столь безапелляционно
рассматривалось как период варварства; эта тенденция в какой-
то мере совпадала с официальными усилиями королевской
власти доказать, что она — преемница старого монархического
режима Франции. Вот почему в те годы широко развивается
интерес к средневековой истории, проводятся изыскания, в ко-
торых мы не совсем справедливо видим сейчас лишь их внеш-
ний готический аспект. Когда читаешь тексты того вре-
мени, например дневник Делеклюза 10 или переписку молодого
Мериме, начинаешь понимать, что битва между классиками и
романтиками, какой бы сумбурной она ни казалась, на самом
деле имела гораздо более глубокий смысл; в частности, стремле-
ние молодых романтиков Дюма или Гюго и отчетливо выражен-
ное тяготение Стендаля к отображению национальных драм,
которыми отмечена история Франции, становятся понятнее на
фоне поистине огромного количества альманахов, брошюр и
журналов, в которых эрудиты, историки и просто любознатель-
ные люди тщательно изучали творчество писателей далекого
прошлого, эпизоды нашей истории, различные памятники и так
далее.
Все эти усилия в наши дни, как правило, обходятся молча-
нием, хотя трудно не удивляться тому обилию памятников
прошлого нашей страны, которыми располагали исследователи
начала XIX века. Ныне, когда обращение к национальному на-
следию — при совершенно других обстоятельствах и в условиях
нависшее над Францией угрозы существованию нации — вновь
16 П. Деке 241
становится насущной потребностью, уроки наиболее выдающихся
писателей и историков периода Реставрации нередко приобре-
тают необычайную актуальность.
Такова обстановка, в которой английский черный роман
распространялся во Франции. К этому следует добавить, что
около 1825 года правительство Карла X сочло необходимым
запретить публикацию во Франции подобных романов. В част-
ности, «Арденский викарий» Бальзака был запрещен вскоре
после выхода в свет. И хотя официальные мотивы выдвигались
такие, как борьба против ужасов и защита нравственности,
действительные причины были другими: подражание, к при-
меру, Льюису или Мэтьюрину позволяло авторам делать
яростные антиклерикальные выпады, что не могло не вызвать
неодобрения иезуитов. Я касаюсь этого лишь мельком, ибо,
с моей точки зрения, отнюдь не это главное. Но бесспорно одно:
распространение английского черного романа во Франции со-
ответствовало интересам молодого поколения интеллигенции,
стремившейся проникнуть в прошлое своей страны и восстано-
вить традиций, от которых оно было искусственно отгорожено.
Больше того, эти романы были отмечены неким оппозиционным
духом и порой рассматривались как одно из средств борьбы
против церковной реакции.
Алиса М. Киллен приводит весьма интересные данные
о влиянии черного романа на французских писателей периода
Реставрации. Я не стану говорить здесь ни о Бальзаке,
ни о Гюго («Ган Исландец»), ибо это хорошо известно.
Но зато очень интересно отметить прямую связь между
«Сен-Маром» Альфреда де Виньи и романами Уолпола и
Льюиса. Г-н Фернан Бальдансперже !I отмечает: «До своего
пребывания в Париже, которое позволило Виньи ознакомиться
с многими историческими документами, положенными в основу
его книги, писатель уже задумал, а частично и написал некото-
рые главы, где речь идет о мрачном деле Лудэна и об ужасном
наказании, которое обрушилось на участников этого процесса;
усердный читатель знаменитого «Монаха» Льюиса, Виньи по-
старался погрузить в пучину мстительных замыслов демониче-
ского сына Лобардемона и самого Лобардемона; в арсенале пи-
сателя, еще только нащупывавшего свой путь романиста, мы на-
ходим множество типично романтических приемов — предчув-
ствия, предсказания, роковые совпадения, видения, «Северную
башню» 12. Дальнейшая работа над романом в какой-то степени
устранила эти чересчур уж откровенные искусственные
приемы».
Я считаю это наблюдение весьма существенным. Черный ро-
ман здесь — движущая пружина и начальный толчок для по-
исков; но затем его воздействие, так же, как и, например, в
242
«Сен-Маре», было освобождено автором от идеалистической
оболочки, которая в романе Виньи уступила место исторической
действительности. Достаточно только посмотреть, как Бальзак,
Дюма или Гюго последовательно проделывали точно такую же
операцию, чтобы убедиться в том, что влияние черного романа
на французских писателей было весьма своеобразным: они от-
брасывали его антиреалистическую направленность и углубля-1
лись в исследование содержания действительных исторических
событий, точнее воссоздавали прошлое. Так, задуманное как
разрыв с натурой в творчестве французских писателей
обернулось более тщательным изучением действительности, бо-
лее глубоким проникновением в нее, в частности в прошлое
страны.
Сказанное выше еще очевиднее подтверждается и творче-
ством Стендаля, взор которого был более проницательным, чем
у молодых романтиков конца двадцатых годов XIX века.
Стендаль отлично знал английскую литературу, обращался к ее
источникам, к Шекспиру, и если он проявлял интерес к фран-
цузскому Средневековью, возрождая к жизни такие фигуры,
как, скажем, Жиль де Рэ 13, то это вызывалось теми же причи-
нами, по которым он позднее черпал образы и из итальянских
хроник: он делал это для. того, чтобы рельефнее отобразить
свое время, осмыслить лучше и полнее подчинить себе реаль-
ность. Стендаля никогда не привлекала фантасмагорическая ве-
тошь, столь способствовавшая распространению черного романа
во Франции.
Мне думается, что вывод достаточно ясен: «последователей»
авторов английского черного романа следует искать во Франции
среди тех писателей, которые отбросили этот роман. Правда,
некоторые увлекаются бузенготами и, но это ведь уже литера-
тура второго сорта.
6. Черная сторона мира
Если Средние века окутывал мрак и все готическое, каза-
лось, было пропитано варварством, то Французская революция
вывела в нашей стране на свет божий класс, который до того
обретался в темницах истории. Именно поэтому иногда смеши-
вают роман, которому предстояло охватить всю реальную дей-
ствительность, и английский черный роман. Однако стремление
установить прямую преемственность между писателями, испы-
тавшими влияние черного романа и одновременно описывавшими
в своих произведениях тайную полицию, вскрывавшими сокро-
венные секреты капиталистического общества и изнанку жизни
своего времени, как это делал Бальзак, или писателями; созда-
16*
243
вавшими такие книги, как «Отверженные» (Гюго), и черным
романом надо признать иллюзорным. Если авторы черных
романов — Льюис, Мэтьюрин и миссис Шелли — приподнимали
край завесы, скрывающей запретные вещи, то это неизменно
касалось вопросов религии. Совсем иное дело — французский
роман XIX века, который касается последовательно всех за-
претных социальных тем. Роман этот опирается на политиче-
скую и социальную действительность той эпохи, когда на исто-
рической арене появляется пролетариат как сложившийся класс
и самостоятельная сила. Развитие этого романа идет от «Лю-
сьена Левена» к «Человеческой комедии» и «Отверженным»;
в конце XIX века оно приводит к книгам Валлеса и к «Жерми-
налю». Писателям уже незачем вводить в свои произведения
элементы черного романа, напротив, в их творчестве, как и
в творчестве Диккенса, вымышленное зло уступает место злу
реального мира. Эти романы в самой своей основе принци-
пиально отличны от черных романов. Именно в ту пору и на-
чинают разрабатываться концепции, составляющие в наше
время саму основу современного реализма, — стремление вос-
принимать мир целостно, как результат действий людей, как
отражение политической жизни эпохи, словом, добиваться того,
чтобы роман помогал людям постигать мир и преобразовывать
его.
Однако даже здесь можно еще говорить об определенном
влиянии черного романа. Нельзя вычеркнуть из истории нашей
литературы книги, оставившие глубокий след в творчестве це-
лого поколения писателей. Но, по моему мнению, это чисто
формальное и весьма ограниченное влияние. И к тому же нет
полной уверенности в том, что это влияние оказано именно ан-
глийским черным романом.
7. Роман как забава
Вспомним еще раз предисловие Уолпола и фразу из него,
которую я уже приводил: «...воображение находится в путах...».
Она, мне кажется, хорошо объясняет впечатление, какое испы-
тываешь сегодня при чтении английских черных романов, — я
говорю, разумеется, лишь о том, что связано с их художествен-
ными особенностями. Их авторы не считали нужным воспроиз-
водить натуру, следовать ей. Законы жанра освобождали их
от обязанности во что бы то ни стало быть точными и правди-
выми, убеждать читателя в реальности описываемых ими пер-
сонажей, в реальности мира, который они создавали, потому что
правила жанра требовали совсем иного: искусственно при-
давать правдоподобие вещам, которые, как отлично знал автор,
244
не соответствовали жизненной правде, поскольку они попросту
вообще не существовали. -
Нет сомнения, что все это давало романистам широкую сво-
боду. Даже под пером Уолпола, крторый не был большим ху-
дожником, роман приобретал большую непринужденность.
Автор становился как бы всеведущим, переставал злоупо-
треблять рассказом от собственного имени, нагромождать без
конца местоимение «я», получал возможность обращаться с по-
вествованием по своему усмотрению, словом, использовал форму
романа, как заблагорассудится. При таком идеалистическом под-
ходе автор вместе с тем открывал новые возможности романа,
о которых раньше даже и не подозревал. Весьма показательно
в этом смысле удивление Уолпола успехом его книги: «Вы бу-
дете весьма удивлены, узнав, что в стране, известной своим
здравым смыслом, так одобрительно встретили столь экстрава-
гантное повествование. Однако следует Вам напомнить, сударь,
что, хотя мы и отличаемся неизменным здравым смыслом, мы не
склонны рабски следовать определенным рецептам или непре-
ложным законам».
Знакомство с такого рода романами заранее поощряло твор-
ческое дерзновение. С этой точки зрения они имели огромное
значение для современников. Мы имеем здесь нечто сходное
с тем впечатлением, которое производили на современников пер-
вые картины художников-импрессионистов. Хорошо это или
плохо, но писатели постигали через них ту истину, что роман
представляет собой некую самодовлеющую ценность: он может
заставить читателя принять его и навязать ему свое содер-
жание *.
Однако это обстоятельство мало что нам объясняет, ибо
если черный роман и позволил писателям лучше осознать воз-
можности, таящиеся в романе как жанре, и если, быть может,
именно с этого времени роман стал превращаться в самостоя-
тельное орудие художественного творчества, то все это лишь
еще более остро ставит все ту же проблему: во имя чего рома-
ниста используют этот жанр.
Если в XIX веке во Франции жанр романа отличается, что
общепризнано, разнообразием и полнотой и если в наши дни
мы с полным знанием дела судим об изобразительных воз-
можностях романа, сознательно применяем эти средства и даже
пытаемся их улучшать, то заслуга во всем этом не может быть
приписана авторам черных романов. Ведь они были только за-
чинателями. Их наследие дошло до нас через посредство вели-
чайших романистов в мире, вложивших в роман его современное
* Впрочем, тут не следует преувеличивать. Стендаль, как и Филдинг,
приобрел эту необходимую для романиста свободу благодаря театру.
245
содержание. Вот почему, как мне кажется, попытка установить
прямую преемственность между Уолполом или Анной Радклиф
и современными писателями-реалистами приводит к тому, что
упускают из виду, что такое на самом деле роман и таящиеся
в нем возможности и какие проблемы мы, писатели, обязаны
постичь и выразить, ибо этого требуют великие драматические
коллизии, в которые вступают люди в наше время *.
* «Монах» Льюиса — классический черный роман — оказал иного ро-
да влияние на современную французскую литературу благодаря творчеству
сюрреалистов; но это уже другая тема, выходящая за рамки настоящей
работы.
XV. ПАТРИОТИЗМ И САМОУБИЙСТВО ГЕНРИХА
ФОН КЛЕЙСТА *
есколько дней назад, вы-
ходя из театра на Елисей-
ских полях, где я смотрел
«Принца Гомбургского», я был поражен реакцией публики на
спектакль. Никто не говорил о пьесе, не говорили даже об игре
актеров. Две женщины перед нами обсуждали со знанием дела
костюмы и прическу Жанны Моро. Некто сзади нас расхвали-
вал режиссерское решение сцены погребения Фробена. Словом,
всюду говорили о внешней стороне, а не о сущности, хотя
«Принц Гомбургский» был поставлен и сыгран труппой Нацио-
нального народного театра просто превосходно; мне не с чем
сравнивать, но, кажется, Жан Вилар, Жерар Филип и Жанна
Моро великолепно воплотили на сцене три столь сложных об-
раза, как курфюрст Бранденбургский, принц Фридрих и На-
талия, принцесса Оранская.
Холодность, с которой публика отнеслась к пьесе (я не имею
в виду спектакль), связана, думается мне, с тем, что «Принц
Гомбургский» Генриха фон Клейста не может быть понят фран-
цузскими зрителями в 1952 году без предварительного объясне-
ния (впрочем, оно необходимо для любой классической пьесы;
правда, для «Сида», например, это менее обязательно, поскольку
это произведение достаточно известно публике, но объяснение
все же потребовалось в связи с полемикой, затеянной по поводу
постановки этой пьесы теми, кто относится к ней отрицатель-
но) **.
* Национальный народный театр в 1952 году возобновил на своей
сцене постановку пьесы Клейста «Принц Фридрих Гомбургский».
** В это время на сцене Национального народного театра была возоб-
новлена постановка «Сида», имевшая триумфальный успех.
247
/. Вступление, сбивающее с толку
Клейст почти неизвестен французской публике (по очень про-
стым причинам, о них я скажу позднее). Автор он трудный,
часто ставит в тупик. И, ознакомившись с программой, которую
в Национальном народном театре вручают зрителям, мы прихо-
дим к выводу, что сведения, в ней приводимые, не только не по-
могают понять драматурга, но еще больше сбивают зрителя
с толку.
Об обстоятельствах, связанных с созданием «Принца Гам-
бургского», в программе говорится:
«Клейст пытался постичь славу и любовь; с неменьшей го-
рячностью раскрывает он и тему патриотизма. Он написал
бунтарскую драму «Германова битва» — призыв к священной
войне против захватчиков. Австрия берется за оружие, и
Клейст обращает свои взоры к Вене. Его надежда умирает после
Ваграма...
После заключения Тильзитского мира у Наполеона не
остается больше врагов в Европе. Французы прекращают ок-
купацию Пруссии. Клейст возвращается в Берлин. Он решает
наконец стать пророком в своем отечестве: его последняя драма
посвящена прославлению прусской королевской династии — это
пьеса «Принц Гомбургский». Но кому понятны истинные наме-
рения Клейста? Двор усматривает в этом его произведении
оскорбление, потому что поэт приписывает своему" герою»
принцу крови, пусть на момент, но трусость. Постановка
и публикация драмы в Пруссии запрещены».
При разборе пьесы подчеркиваются иррациональные эле-
менты в ней: «Редкостное смешение интуиции и воли, беспоря-
дочности и разума». «Абсурдная» надежда героя оправдывает
себя в последующих событиях, и его «безумие» приводит к цели
надежнее, чем разум».
Все эти замечания, как они ни льстят нашей национальной
гордости, все же ошибочны. Прежде всего, если патриотизм
Клейста и проявлялся весьма бурно, то следует помнить, что
это чувство было свойственно ему всю жизнь; его патриотизм
был пылким, но хорошо продуманным, и то обстоятельство, что
он был направлен против захватнической политики Наполеона,
не дает нам основания относиться к нему с бесцеремонностью.
2. Пулю в голову Наполеона
После 1805 года Клейст писал Рюле фон Лилиенштерн:
«Почему король (Пруссии) не созвал представителей сосло-
вий после того, как французы захватили Франконию? Почему
24S
он в взволнованной речи (ведь горе сделало бы его речь волную-
щей) не ознакомил их с создавшимся положением? Если бы он
предоставил их чувству чести решить, хотят ли они, чтобы ими
и дальше управлял король, который подвергается унижениям,
национальный дух, должно быть, заговорил бы в них. А если
бы это произошло, он должен был бы воспользоваться случаем
и объявить им, что речь идет не об обычной войне, а о том, быть
или не быть Пруссии...»
И Клейст добавлял:
«...Но почему до сих пор не нашлось никого, кто пустил бы
пулю в голову этому злому гению мира (Наполеону)? Хотел бы
я знать, чем это так заняты господа эмигранты?»
В той патриотической борьбе, которую начиная с 1807 года
завязывают немецкие философы и писатели, Клейст стоял
в первом ряду. В годы, когда Фихте пишет в Берлине свои
«Речи к немецкой нации», а Шлегель 1 провоэглашает: «Нам
нужны не мечтания, а живая, энергическая и, главное, патрио-
тическая поэзия», Клейст составляет свой «Катехизис для нем-
цев», затем «Воинскую песнь для немцев»; в ней он воскли-
цает: «Слушайте!.. В ночи, о братья мои, что это такое, словно
раздался удар грома? Не ты ли это подымаешься, Герма-
ния? Наступает день мести... К оружию! К оружию! Берите
все, что попадется под руки! Хватайте дубинку или лом и спу-
скайтесь в долину для битвы... Покиньте ваши хижины и дома
и обрушьтесь на французов, как пенистый вал безбрежного
моря».
Это тот же тон, в котором шестьдесят три года спустя Вик-
тор Гюго призывал французских вольных стрелков на бой про-
тив прусских захватчиков, вторгшихся во Францию в 1871 году;
точно так же и драма Клейста «Германова битва», где доказы-
валось, что для изгнания захватчиков хороши все средства, про-
буждает в нашей памяти годы Сопротивления.
Да, патриотический пыл, призыв к борьбе за освобождение
связаны у Клейста с тем фактом, что французы были в то
время захватчиками и его произведения были направлены про-
тив наполеоновских войск. В большинстве случаев в их основе
заложена идея освобождения родной страны. Не следует закры-
вать на это глаза.
Напротив, чтобы понять Клейста, не исказить его мысль,
особенно важно, чтобы мы, французы, видели факты такими,
каковы они есть.
И это вполне возможно, поскольку в 1950 году у нас вышла
в свет новелла Клейста «Михаэль Кольхаас» с предисловием
Арагона, и очень жаль, что программа Национального народ-
ного театра даже не упоминает об этой короткой патриотиче-
ской повести.
249
В своем предисловии Арагон обращает внимание на созна-
тельную патриотическую деятельность. Клейста и объясняет тем
самым, почему его творчество не известно во Франции.
Теперь я перехожу к «Принцу Гамбургскому»,
3. Клсйст — запрещенный поэт
Все художественные произведения Клейста, написанные
после 1807 года, не могли быть напечатаны в тогдашней Герма-
нии вследствие их антинаполеоновской направленности. «Гер-
манову битву», где Клейст обращается главным образом к ав-
стрийскому императору, не решился поставить на сцене ни один
театральный директор, не решился выпустить в свет ни один
владелец типографии: при неизменных воинских успехах Напо-
леона для этого требовалась слишком большая смелость.
К своей книге Клейст написал эпиграф «Горе тебе, моя родина!
Мне, твоему поэту, преданному тебе всей душой, запрещают
воспевать под звуки лиры твою славу и честь».
И вот Ваграм и полное крушение всех надежд.
Клейст жил в Германии, разделенной на множество мелких
государств, лишенной национального единства. Священный
союз, подавление революций 1848. года, политика Напо-
леона III привели позднее к сложению этого единства под эги-
дой бисмаркского милитаризма.
Клейст жил в этой обстановке хаоса и раздробленности,
княжества соперничали между собой, заискивали перед чуже-
земцем, чтобы получить от него субсидии, и все это глубоко по-
влияло на жизнь писателя. Прусский кадет, он участвует как
офицер в сражениях против французских революционных войск;
это скоро внушает ему отвращение, и Клейст уходит в отставку.
Он пишет своей сестре Ульрике: «Господь посылает нам мир,
для^того чтобы мы могли с пользой употребить на гуманные
дела время, которое мы здесь столь безнравственно растрачи-
ваем». В 1801 году Клейст приезжает в Париж, но здесь уже не
революционное правительство, а диктатура Наполеона. 14 июля
он пишет своей невесте Вильгельмине фон Зенге: «Этот день
отмечают одновременно как праздник свободы и мира, но ничто
не напоминает об этой важнейшей идее»; в письме от 16 августа
он говорит: «Измена, убийство и кража стали здесь столь
привычными вещами, что, слыша о них, никто не удивляется».
Мне могут сказать, что это не помешало Клейсту два года
спустя добиваться разрешения вступить добровольцем в состав
армады, которую Наполеон собирался направить против Англии.
Я не собираюсь здесь ни разрешать вопрос о противоречиях
у Клейста, ни объяснять приступы безумия, которым он был
250
подвержен, ни оправдывать его самоубийство *. Но главным
противоречием в судьбе Клейста мне представляется следую-
щее: прусский юноша Генрих фон Клейст в силу семейной тра-
диции становится офицером; в 1792 году, в возрасте пятна-
дцати лет, он сражается в рядах прусского гвардейского полка.
Ему противно подымать оружие против революционной Фран-
ции (у него чувствительная совесть), и он подает в отставку.
Но революция во Франции сменяется диктатурой Наполеона,
войска которого вторгаются на родину Клейста. Клейст, отстав-
ной прусский офицер, посвящает себя этой патриотической
борьбе. И вот — поражение. Пруссия, его родина, начинает со-
трудничать с захватчиком.
И тогда-то он пишет «Принца Гомбургского».
4. Пруссия — неоккупированная зона
В программе Национального народного театра сказано:
«У Наполеона не остается больше врагов в Европе». Нет, изви-
ните, у него есть враг — Клейст.
В 1810—1811 годах Пруссия, из которой, как утверждается
в программе Национального народного театра, будто бы были
выведены французские войска, испытывает всевозможные уни-
жения. Ходят слухи, что Наполеон намерен простым декретом
уничтожить королевство. После расчленения на куски Голлан-
дии Фридрих Вильгельм III полагает, что пробил последний
час его царствования. Он знает, что если Пруссия уцелела в
Европе после Тильзита, то исключительно из «любезности» ее
победителя к русскому царю; а теперь, в 1810—1811 годах, от-
ношения между царем и Наполеоном быстро портятся. Уже не
может быть больше речи о какой бы то ни было «любезности».
Король Пруссии пресмыкается перед Наполеоном, и патрио-
тические организации, такие, как Тугенбунд, хранят молчание.
Наглядной иллюстрацией к положению Пруссии служит ис-
тория с Гарденбергом, который стоял за сопротивление и по-
этому по требованию Наполеона был удален от прусского двора.
В мае 1810 года Гарденберг униженно обращается к француз-
скому послу:
«Пусть его императорское величество удостоит высказаться
о том участии, которое я мог бы принять в делах. Это даст су-
щественное доказательство возвращения королю доверия и ми-
лостей императора» 2.
* Андре Моруа в своей книге «Роберт и Елизавета Броунинг и еще
некоторые портреты» (André Maurois, Robert et Elisabeth Browning
et quelques portraits), появившейся в 1955 году, блестяще анализирует об-
стоятельства и причины самоубийства Клейста.
251
Пятого июня 1810 года Гарденберг становится канцлером,
поскольку Наполеон разрешил королю Фридриху Вильгель-
му III назначить его на этот пост. Гарденберг и был тем, кто
запретил пьесу «Принц Гомбургский».
Вот как описывает тогдашнюю ситуацию историк Евгений
Тарле:
«Контрибуция платилась аккуратно, континентальная бло-
када выполнялась пунктуально, король трепетал и пресмыкался,
Гарденберг льстил и унижался, и все-таки Наполеон не уводил
своих войск из прусских крепостей и не давал никаких успокои-
тельных обещаний. Немудрено после всего сказанного, что
когда Наполеон, готовясь к войне с Россией, вдруг потребовал,
чтобы Пруссия ему в этом активно помогла войсками, то и это
было сделано, хотя и после серьезных колебаний. Но Наполеон
покончил с колебаниями одним ударом. 14 ноября 1811 года он
отдал маршалу Даву инструкцию «по первому знаку войти
в Пруссию и занять ее всю (французской армией». Надо сказать,
что Пруссия, из которой будто бы были выведены французские
войска, сильно смахивала тогда на «Петэнию» 1940 года, кото-
рая также была «неоккупированной зоной» 3.
Точно неделю спустя, 21 ноября 1811 года, Клейст покончил
с собой на берегу Ванзее.
Он не был свободен, далеко не свободен от царившего вокруг
постоянного беспокойства и страха.
5. «Принц Гомбургский»—патриотическая драма
Пятнадцатого августа 1811 года Генрих фон Клейст писал
Фридриху де ла Мотт-Фуке \ приславшему ему несколько
патриотических пьес: «Быть может, также и я через короткий
срок смогу прислать вам патриотическую драму, которую я на-?
звал «Принц Гомбургский»; в ней я попробую померяться
с вами силами на поприще хотя и суровом, но тем не менее при-
тягательном».
Сюжет своей драмы Клейст заимствовал из записок Фрид-
риха II, посвященных истории правящего дома Бранденбурга.
Связь между этим сюжетом и борьбой против наполеоновской
оккупации, хотя и отдаленная, тем не менее бесспорна.
В 1675 году Людовик XIV, стремясь избавиться от курфюрста
Бранденбургского, уговорил своих союзников, шведов, вторг-
нуться в Померанию. Битва, вокруг которой развивается дей-
ствие пьесы, закончилась победой над шведами. О Людо-
вике XIV тут нет речи. Но победа эта была одержана над
союзниками Франции.
252
Совершенно естественно усматривать во всем этом предосто-
рожность, к которой прибег Клейст, сделавший выводы из
запрещения его пьесы «Германова битва». Вполне понятно, что,
если бы «Принц Гомбургский» был поставлен на сцене, он вы-
звал бы широкий отклик у берлинской публики из-за содержав-
шегося в пьесе напоминания (замаскированного, но достаточно
понятного) о победе, одержанной косвенным образом над Людо-
виком XIV; пьеса прославляла прусский королевский дом и од-
новременно пробуждала национальное чувство против захват-
чика.
Именно такова и была мысль Клейста, такова цель, которую
он преследовал. Пьеса не оставляет никаких сомнений на этот
счет. Основной смысл драмы, трагический характер конфликта,
возникающего из нетерпения принца Гомбургского, которого
курфюрст Бранденбургский хочет покарать, исходя из интересов
государства, бунт принца, а затем его подчинение*— все это
становится понятным только в том случае, если, хотя в пьесе
показан Фридрих Вильгельм Великий в 1675 году, представлять
себе малого Фридриха Вильгельма III в 1811 году.
б. Антинаполеоновская контрабанда
Вот знаменитая реплика Котвица в пятом акте: «Ваше высо-
чество, высший закон, важнейший закон, которому должны под-
чиняться сердца генералов, — это не слепое подчинение вашей
воле, это — родина, корона и вы, кто носит ее на голове. Разве
можно противиться закону, повелевающему бить врага, повер-
гать его перед вами на землю вместе с его знаменами? Этот
закон — высший закон». Почему она адресована победоносному
курфюрсту 1675 года? Непонятно. А дело все в том, что она
целила в Фридриха Вильгельма III 1811 года, предоставившего
свою армию захватчику. И это становится понятным из даль-
нейших слов Котвица. «Неужели вы хотите превратить эту ар-
мию, столь горячо вам преданную, в холодный инструмент, сде-
лать ее похожей на меч, который безжизненно покоится в золо-
тых ножнах?» Конфликт подчинения и неподчинения ясен, если
вложить в него то реальное патриотическое содержание, которое
имел в виду Клейст. Настоящая драматическая развязка пьесы
не там, где курфюрст милует принца Гомбургского, а когда он
прерывает переговоры о перемирии, ведущиеся с шведами, и ре-
шает продолжать битву против захватчиков. Именно этого хочет
его армия, именно ради этого принц Гомбургский идет на
смерть, этим он и обусловливает свое согласие умереть. Пьеса
заканчивается призывами к борьбе для достижения победы.
«— На бой! Вперед!
253
—> На битву!
— К победе!
— Повергнем в прах врагов Бранденбурга!»
Не правда ли, нет необходимости останавливаться на том,
как приняла бы немецкая публика эти призывы в 1811 году...
Слов нет, в пьесе все это искусно замаскировано. С одной
стороны, в ней много отзвуков того душевного смятения, кото-
рым был охвачен сам Клейст; с другой — он был вынужден
скрывать свои истинные цели — достаточно вспомнить о прие-
мах, к которым прибегали французские писатели, создавая свои
патриотические произведения в неоккупированной зоне.
Клейст — писатель, находившийся под запретом, чьи произве-
дения не публиковались, — был вынужден прибегать к контра-
банде; он уже делал это в упоминавшейся новелле «Михаэль
Кольхаас» *.
Как известно, его усилия оказались напрасными. Король
Пруссии был труслив. Возможно, сцена, где речь шла о тру*
сости, и послужила поводом для запрещения пьесы. Урок на-
ционального самосознания, преподанный Клейстом королю,
должно быть, немало испугал последнего.
Клейста же отчаяние и ужасное разочарование, вызванные
запрещением «Принца Гомбургского», толкнули на самоубий-
ство.
Но к последнему призыву поэта стоит прислушаться.
* Патриотические мотивы Клейст вводит даже в мольбу, с которой
Наталия обращается к курфюрсту, желая спасти любимого ею человека:
«...Родина, которую ты создал для нас, о мой достопочтенный дядя,
высится, как гордый замок! Нет сомнения, она устоит перед лицом многих
испытаний, ожидающих ее впереди, испытаний, подобных этой нежданной
победе. Она невиданно расцветет в грядущем; наши правнуки сделают ее
еще более могучей, еще более прекрасной, поистине чудесной — на радость
друзьям и на страх врагам».
XVI. ОБ ОДНОЙ БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА ДЮМА
1сли читать недавно опу-
бликованную биографию
Александра Дюма, напи-
санную Анри Клуаром *, вслед за переизданными почти одно-
временно с нею «Мемуарами» Дюма**, то складывается
весьма любопытное впечатление. Анри Клуар ^словно раство-
рился в личности Дюма, его биография писателя кажется на-
писанной тем же пером, что и «Мемуары», что, конечно, по-
хвально; это как бы краткое изложение мемуаров Дюма, пред-
принятое самим писателем с целью сделать их более
доступными, прокомментировать и даже проверить приведенные
в них факты. Так что в конечном счете чувствуешь себя совер-
шенно сбитым с толку. С этим шутником Дюма и так никогда
не знаешь, где кончается действительность и где начинается вы-
мысел, на ней основанный, где история и где вариации на исто-
рическую тему создателя «Трех мушкетеров». Представляется,
что Клуар чувствует себя скорее наперсником, нежели биогра-
фом* и мы часто сетуем на то, что он недостаточно помогает нам
отделить правду от вымысла, от игры воображения.
Сделав это замечание, следует тут же указать, что многое
служит Клуару извинением; ведь жизнь Дюма — настоящий ро-
ман, эпизоды его биографии следуют один за другим с той голо-
вокружительной быстротой, какая составляет очарование и пьес
Дюма, и его романов, различные перипетии его жизни всегда
* Alexandre Dumas, par Henri Clouard. Издатель Альбен Мишель.
** Мее Mémoires (Gallimard). Комментарии к тексту Пьера Жоссерана.
До настоящего времени вышел только первый том.
255
отличаются романтическим колоритом и театральностью, что,
несомненно, объясняется самим характером писателя.
По-моему, лучшая часть биографии, как это часто и бы-
вает, — рассказ о юности писателя. Клуар, весьма близко сле-
дуя «Мемуарам», нашел для описания красочного детства и
юности Александра Дюма слова, возбуждающие нашу фанта-
зию. Отъезд в Париж в 1823 году — это как бы начало путеше-
ствия в неизведанный мир. Мы с увлечением читаем и рассказ
о том, как Дюма поступил на службу к герцогу Орлеанскому —
будущему королю Луи-Филиппу, и о неприятностях, какие при-
чиняло ему рано проснувшееся в нем театральное призвание.
Но наиболее важно в этой части книги, без сомнения, описание
того, как Дюма приохотился к чтению. Он читает решительно
все — иностранных писателей и французов. Ведь в 1823 году —
году появления работы Стендаля «Расин и Шекспир» — наш
славный Александр Дюма вдруг обнаруживает, что он ничего
не знает; он начинает понимать, что, если хочешь стать литера-
тором, недостаточно каждый вечер ходить в театр и востор-
гаться стареющим Тальма 1 или мадемуазель Марс 2, — нужны
еще и знания.
Поворот происходит в результате знакомства Александра
Дюма с его коллегой по канцелярии Лассанем. Лассань был
журналистом, писал в сотрудничестве с другими авторами воде-
вили, и он был умным человеком. Лассань энергично принялся
«прочищать мозги» своему юному другу, освобождая его ум
от прочно обосновавшихся там прославленных авторитетов:
Арно-отца3, Арно-сына4, Жуй5, Лемерсье6 и других. «Если
какая-нибудь из их пьес пойдет на театре без участия Тальма,
она не выдержит и десяти представлений...» — говорил Лассань.
Затем он составил целый план для просвещения юного Дюма,
который по тем временам представлял несомненный интерес.
Дюма должен был читать и перечитывать Эсхила, Шекспира и
Мольера. После Шекспира перейти к Шиллеру, а от Мольера
вернуться к Теренцию, Плавту и Аристофану. Приведу цитату:
«В поэзии Дюма* знает Вольтера, Парни 7, Колардо8; ему
следует забыть их и обратиться к Гомеру, Вергилию, Данте,
этой богатырской пище поэтов; затем ему надлежит по-
стичь красоту современных поэтов, начиная от Ронсара и кон-
чая Байроном и Гёте, от Мильтона до Уланда9, Ламартина,
Гюго и Андре Шенье, подготовленного к изданию Латушем.
Что касается романа, то он не читал ни Гёте, ни Вальтера
Скотта, ни Фенимора Купера: пусть прочтет «Вильгельма Мей-
стера», «Айвенго», «Шпиона», тогда он получит представление
о том, что такое поэзия, человеческие характеры, естественная
и величественная красота; однако в них не хватает страсти...
Он очарован романом Нодье «Жан Сбогар»? Да, прелестный
256
роман в своем жанре, способный развенчать Пиго-Лебрена ,0.
Но разве в этом нуждается Франция? — В чем же она нуждает-
ся?— Она — в ожидании исторического романа... — Но ведь
история Франции так скучна!..—'Лассань удивлен и скандали-
зован.— Кто это вам сказал? Сначала прочтите сами, а потом
уже высказывайте свое мнение. — А что читать?—Черт по-
бери! Да не перечтешь: Жуанвиль11, Фруассар 12, Монтреле 13,
Шатлен 14, Жювеналь дез Юрсен 15, Монлюк 16, Этуаль 17, Рец 18,
Сен-Симон19, Виллар20, госпожа де Лафайет21, Ришелье22...»
Клуар с полным основанием задается вопросом, действи-
тельно ли Лассань сказал в 1823 году, что Франция — в ожида-
нии исторического романа, или же эта фраза — великолепный
дар, который Дюма уже a posteriori преподнес своему старшему
товарищу. Как бы то ни было, у нас нет оснований сомневаться
в достоверности этого подробного плана, и весьма примеча-
тельно, что в нем отразились три значительных течения в лите-
ратуре, влияние которых сказалось на всей последующей эпохе.
Первое из них — творчество титанов, как их называл Гюго,—
Эсхила, Шекспира, Данте; второе берет истоки в английском
романтизме, у предшественников наших романтиков, а также
в произведениях таких обновивших немецкую литературу пи-
сателей, как Гёте и Шиллер; наконец, третье течение предста-
влено книгами, в которых возрождается прошлое Франции.
Манера, в которой Дюма излагает эту программу изучения
литературы, хорошо помогает нам понять охватившую его по-
требность обратиться к источникам; готические фантасма-
гории, унаследованные от английского романа ужасов конца
XVIII века, слишком часто их затуманивали или вовсе не при-
нимали в расчет.
Дюма, как явствует из дальнейшего развития его творчества,
не знал окольных дорог, которыми пришлось идти Бальзаку.
Он, к счастью, разом порвал с соблазнами черного ро-
мана, которым Бальзак, автор «Бледнолицей Джен», был под-
вержен вплоть до 1830 года. Дюма шел некоторым образом бо-
лее прямым путем, ему был ближе урок, данный Стендалем, реко-
мендовавшим искать образцы энергии и примеры ужасного
в реальных событиях истории, чем страхи, столь любезные
сердцу госпожи Радклиф. И в этом смысле его своеобразный
опыт представляет большой интерес для изучения и понимания
начального периода романтизма в нашей стране.
Достоинство книги Анри Клуара в том, что в ней наглядно
показана преемственность между различными произведениями
Дюма, она помогает нам нащупать то, что красной нитью про-
ходит через все его творчество, начиная с первых исторических
драм — «Генрих III и его двор», «Нельская башня» — и кон-
чая его большими романами, хорошо известными всему миру.
17 П. Деке
257
* * *
Действительно, наиболее примечательная черта таланта
Дюма — это своеобразная уравновешенность, присущая его твор-*
честву. Ему не по плечу суровый реализм Стендаля, он не спо-
собен на стремительный порыв, с которым Гюго овладевает
прошлым, — его воображение помогает ему как бы воссоздать
историю Франции. Если Стендаля увлекала фигура Жиля де
Рэ *, а Гюго оживил Гренгуара 23 и поразил наше воображение
образами Квазимодо и Эсмеральды, то Дюма вызвал из мрака
целый мир. До него этот мир был знаком нам только по учебни-
кам истории; его населяют короли и королевы, их наперсники и
возлюбленные, но здесь живет и действует также славный
французский народ — столь разнообразный, проворный, живой,
и выведенные в романах Дюма простые люди навсегда вре-
заются в память. И если в его книгах не следует искать точных
исторических подробностей, если Дюма, даже когда речь идет
о важнейших исторических явлениях, часто искажает факты, то
в то же время его произведения пронизаны дыханием жизни
и в них выражена присущая ему непоколебимая вера в людей,
страстная любовь к прошлому Франции, к родной земле, к тому,
в чем самая прелесть истории. В этом истинное величие Дюма.
Есть основания думать, что всем этим мы обязаны тому факту,
что молодой Александр Дюма в возрасте двадцати одного года
открыл для себя труды наших великих летописцев. Развертывая
биографию Дюма, Клуар знакомит с обстоятельствами написа-
ния десятков и десятков его романов, составивших сотни томов.
Любопытно другое: ему удается дать читателю почувствовать
все те положительные стороны творчества Дюма* о которых
я только что говорил, но он тут же, можно сказать одновре-
менно, начинает ощущать страх перед писателем и изо всех сил
старается помешать нам следовать по пути, который сам только
что для нас осветил. Вот что он пишет, например, по поводу
романа «Граф Монте-Кристо»:
«Можно сказать, что такой большой, популярный и про-
грессивный роман, как «Граф Монте-Кристо», выполняет две
функции. Первая связана с его временем: этот роман служил
совершенно необычным развлечением для широчайших кругов
читателей, наподобие скачек или спорта, и одновременно пред-
ставлял собой некую отдушину, как и революционные движе-
ния. Публика испытывала настоятельную потребность в том,
* Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание читателей на любо-
пытный и увлекательный этюд Ролана Вильнев, посвященный этому мар-
шалу Франции, сподвижнику Жанны д'Арк, который кончил свои дни на
виселице (он был казнен за то, что умертвил свыше сотни маленьких де-
тей): «Жиль де Рэ, фигура величественная и,демоническая» (R. Villen*
euve, Gilles de Rays, une grande figure diabolique, Denoël, 1955).
258
чтобы проблемы, занимавшие ее воображение не меньше, чем
важнейшие житейские нужды, нашли себе образное воплоще-
ние— в романе и в театре; в эпоху Дюма это были примерно
такие проблемы *: сочувствие жертве социальной несправедли-
вости, стремление помочь ей и отомстить за нее, жажда бы-
стрейшего торжества справедливости, ожидание человека-изба-
вителя, мстителя, который свершит правосудие. Эта публика
хотела также, чтобы ей объяснили, почему она обречена влачить
жалкое существование, играть роль жертвы; вернее сказать,
она желала, чтобы ей указали козла отпущения, которого -еле-,
довало ненавидеть как главного носителя зла. Дюма, подобно
Бальзаку, указал его: это деньги. Власть денег господствует над
всем — над честолюбивыми устремлениями, над ревностью, над
социальной тиранией. Дюма удовлетворил чаяния своих народ-
ных читателей, он поманил их осуществлением несбыточной на-
дежды, показав, как благодаря гению Фариа и упорной воле
Дантеса роковая власть денег обернулась против себя самой.
И толпа аплодировала чуду, так же как жители предместий, по--
сещая театр или кино, освистывают предателей и аплодируют
рыцарям без страха и упрека» **. Цитирую дальше:
«Другая функция затрагивает людей всех эпох, она при-
звана ободрить человека, убедить его, что превыше всего — ра-
зум, воля, сила духа. Дюма верит в прогресс, а не в рок, в мед-
ленное улучшение условий человеческого существования, а не
в марксистский детерминизм». щ
Я привел этот абзац для того, чтобы показать, куда кло-
нит наш биограф и как забавно выглядит весь ход его рассу-
ждений. Впрочем, такого рода соображения свойственны не
одному только Анри Клуару. Жильбер Сиго в предисловии
к «Оливеру Твисту» испытывает ту же потребность выдать
Диккенсу свидетельство о непричастности к марксизму. И в
том, и в другом случае усердие исследователей доходит до гро-
теска; достаточно напомнить, что «Оливер Твист» написан
в 1838 году, а «Граф Монте-Кристо» — в 1844 году, в то время
как «Манифест коммунистической партии» появился в 1848 году.
Считать этих писателей предшественниками марксизма тоже не
приходится.
Но приведенное выше высказывание современного биографа
свидетельствует и о другом. Клуар констатирует следующее:
с одной стороны, Диккенс, Бальзак или Дюма показали в своих
романах, что мир, общество не таковы, какими им следует
* Вопрос: а каковы проблемы нашей эпохи?
** Клуар здесь несколько упрощает. Ведь у Бальзака деньги — это так-
же и капитал«
17*
259
быть, ибо там царит несправедливость и зло, как правило,
торжествует над добром; с другой — широкие массы современ-
ных им читателей находят в произведениях этих писателей мно-
гое из того, что их и сегодня волнует, они дополняют содержа-
щуюся там критику общества своими собственными взглядами,
и в та время, как Дюма, например, «поручал» человеку-изба-
вителю хотя бы частично восстановить справедливость и нака-
зать преступников, современные читатели уже понимают, что
следует создать новый, более справедливый мир, преобразовать
общество, разрушить существующий строй, то есть уничтожить
саму основу зла.
Клуар совершенно справедливо утверждает, что Диккенс,
Бальзак и Дюма не были революционерами в современном пони-
мании этого слова: они не предлагали такого рода решений или
даже не хотели о них и слышать. Не прошлое не понято Клуа-
ром, нет, он совершенно не понимает настоящего, не понимает
самой сути оценки этих писателей читателями из народа. Они
вовсе не ставят в упрек Диккенсу, Бальзаку и Дюма, что те не
открыли марксизма до Маркса; вовлекаясь в водоворот классо-
вой борьбы, они сразу схватывают суть вещей и испытывают
благодарность к названным выше писателям за обличение ими
зла, денег, если употребить выражение Клуара, и за их веру
в людей, в то, что они. покончат с беспорядком.
Видеть в такой позиции широких читателей какое-то посяга-
тельство на авторов — это значит рассуждать, как собственник,
как человек, который приобрел книги, с удовольстЕием прочел
их и чувствует себя ущемленным оттого, что другие читатели
вносят нечто свое в их содержание, нечто такое, что их как-то
неуместно обновляет, придает им ненужную остроту.
Такие вставки читателей — я умышленно употребляю
это техническое выражение, имея в виду, что многочисленные
вставки, которые Бальзак вносил в корректуры своих книг,
обогащали его произведения новыми идеями, — по мнению кон-
серваторов, умаляют ценность книг. Но все зависит от того, ка-
кой характер носят подобные вставки. Еще Ромен Роллан заме-
тил, что каждый читатель вносит что-то свое в книгу; еще более
справедливо такое наблюдение в применении к критикам. Ка-
ждый из них вносит нечто свое — свои вкусы, опыт, политиче-
ские и социальные идеи. Есть читатели — и критики, — которые
обедняют книги в силу узости своего кругозора, страха перед
жизнью; такие люди не желают понимать, о чем говорят, о чем
вопиют книги. Они целиком поглощены собой и могут внести
в произведения лишь собственное я. Читатели из народа, о ко-
торых говорит Клуар, привносят в книги свое знание мира, ко-
торое они почерпнули в борьбе за лучшую жизнь. И это —
как бы прививка к произведению реальной действительности«
260
Вставки, которые делают эти читатели, не пропадают попусту*
Их источник — живая история, которая не прекращает своего
развития после опубликования книги, после смерти писателя«
Вставки эти рождены той жизнью, которую творец произведения
уже не мог знать. Они дополняют сказанное им опытом прошед«
ших с тех пор лет и свершившихся событий, и сказанные писа-«
телем слова, выраженные им чувства, сформулированные на*
дежды становятся от этого еще богаче.
Но такого рода вставки делаются не во все книги. Необхо-
димо, чтобы произведение бросало луч света в том же направлен
нии, в котором развивается поступательное движение человече-
ства. Именно таковы произведения Диккенса, Бальзака, Дюма.
Широкие круги читателей во Франции 1955 года не так-то
просто обмануть. Успех «Графа Монте-Кристо», который публии
ковался газетой «Юманите» (привожу тот же пример, что и
Клуар), и, беря шире, огромный успех произведений Дюма вооб-
ще, который наблюдается в настоящее время и в книготорговлей
в кино, объясняется тем, что нынешние читатели по-новому по-»
нимают оптимизм Дюма. Они исполнены веры, которая зиждется
на событиях, происшедших в мире в нашем веке, на том историче-
ском прогрессе, которого не мог предвидеть Дюма. Это — по-
беда того самого «марксистского детерминизма», который так
пугает Клуара, но который уже невозможно отрицать, как невоз-
можно отрицать закон всемирного тяготения. И подобно тому
как мысли Гомера о строении нашей планеты не мешают нам чи-;
тать его, идеи Дюма относительно движущих сил истории ни
в какой мере не препятствуют нам восторгаться его стремле-
нием подбодрить и воодушевить людей, его верой в прогресс,
а не в рок. Напротив, эта вера в прогресс наполняется в наши
дни таким содержанием, о каком Дюма и не подозревал. Тем
хуже для Клуара, если ему это не нравится, потому что он здесь
бессилен: миллионы мужчин и женщин читают Дюма, они, не
испрашивая разрешения у . критика, любят этого писателя и
вкладывают в созданные им образы те чувства и мысли, кото-«
рые волнуют их самих.
* * *
В книге Клуара много интересного. Это — и колоритное опи-
сание многочисленных увлечений Дюма, и характеристики его
сотрудников, ознакомившись с которыми мы начинаем больше
ценить Макэ и меньше — Поля Лакруа (библиофила Жако-
ба)24. Эта биография учит любить Дюма и — независимо от
намерений Клуара — помогает нам правильно понять этого пи-
сателя. Клуар — серьезный, хотя и пристрастный историк,
а история, как известно, часто играет весьма любопытные шутки
с теми, кто предоставляет ей слово.
261
Популярность Дюма продолжает расти. Его последний боль»
шой исторический роман «Сан Феличе» в одно и то же время
переиздан Французским клубом книги (в хорошем оформлении)
и опубликован в «Юманите». Как известно, это— вообще одна из
последних книг Дюма (1864—1865). В ней воссоздано время
французской оккупации Неаполитанского королевства в годы
Директории и Консульства. Сравнивая этот роман с теми
страницами «Мемуаров», где Дюма рассказывает о -жизни
своего отца-генерала, о том, как тот попал в плен в Неаполи-
танском королевстве вскоре после своего возвращения из похода
в Египет, узнаешь много интересного о творческом методе
Дюма. Небезынтересно сравнить также страницы романа с опи-
санием морского путешествия Дюма и его поездки в Неаполь
в 1860 году. Все знают, что Дюма не боялся насиловать исто-
рию, если знал, что дети будут удачные, но тут мы имеем дело
с иной переработкой: писатель видоизменяет не реальные исто-
рические факты, а свое собственное, более раннее изложение этих
фактов. Дюма, как только он обращается к жанру романа, этому
орудию воспроизведения мира, можно сказать, перерастает са-
мого себя. И, должно быть, именно эта его способность стать
выше того, кем он был в обычной жизни, выше своего предприя-
тия ' по изготовлению литературной продукции, выше собствен-
ных литературных творений и способствовала тому, что он
остается для нас вечно живым писателем.
XVII. ГЮГО —ВЕЧНО МОЛОДОЙ
Гюго как будто сказано
все. «Читайте, — говорили
нам в 1952 году в связи
со 150-й годовщиной со дня рождения, — прекрасные книги
Эсколье, тысячу любовных писем Жюльетты Друэ, работу Анри
Гиймена «Виктор Гюго о себе самом», книгу Клода Руа». Я не
могу не добавить к этому перечню и небольшого этюда Арагона
«Гюго — поэт-реалист», в котором по-новому освещается исто-
рия поэтического творчества автора «Возмездий», а также со-
ставленную им же антологию «Читали ли вы Виктора Гюго?».
О Гюго как будто сказано все, но вот появляются «Личные вос-
поминания («Les Souvernis personnels») (1848—1851), собран-
ные Анри Гийменом, а затем подряд все «Записные книжки»
(«Carnets intimes») (1870—»1871), подготовленные .к печати им
же, работа Фернана Грега 1 «Виктор Гюго, его жизнь и творче-
ство» * и книга Андре Моруа «Олимпио, или ^ Жизнь Виктора
Гюго» **.
Признаюсь, я приступил к чтению толстого труда Фернана
Грега с некоторым недоверием: ведь жизнь Гюго в книге рас?
сматривается только в главных ее аспектах, причем довольно
схематично и не оригинально; но, как только я увидел, как
автор анализирует произведения Гюго, я был захвачен и побе-
жден. Любовь, которую Фернан Грег всегда испытывал к Вик-
тору Гюго, поистине заразительна и восхищает читателя. Я уве-
рен, что даже самый требовательный читатель, прочтя хотя бы
двадцать страниц этой книги, непременно почувствует желание
отыскать в произведениях Гюго подтверждение или опроверже-
* F. Gregh, V. Hugo, sa vie, son oeuvre, Flammarion, 1954.
* A. Maurois, Olympio ou la vie de V. Hugo, Haschette, 1954.
<&mtää\J
263
ние тех или иных мыслей Фернана Грега, а это значит, что
одержана победа: читатель вступил в диалог с самим писателем,
а это — самое большее, чего может достичь исследователь. Гюго
стал для нас более живым, более близким, необходимым.
Достоинство книги «Олимпио» совсем в другом, это, ка-
жется, лучшая из больших биографий, созданных Андре Моруа,
а это уже немало! Моруа чувствует себя в обществе Гюго более
свободно, чем в обществе Жорж Санд, и, изображая его долгую
жизнь, он, если можно так выразиться, с легкостью воссоздает
XIX век, который так великолепно знает.
Очарование книги составляют не только новые материалы,
которые в ней содержатся, хотя некоторые из писем Гюго, опуб-
ликованные Моруа, например письма к г-же Биар, — поистине
поразительны. Судите сами:
«Поцелуй, которым ты через вуалетку подарила меня на про-
щание, подобен любви, владеющей нами и в разлуке... Это —
сладостно и печально и вместе с тем упоительно... Между людь-
ми пролегло расстояние, но ты чувствуешь другого, прика-
саешься к нему... Тебя нет рядом со мной в это мгновение, и
все же ты со мной, я вижу тебя... Твои прелестные глаза" при-
стально смотрят на меня. Я обращаюсь к тебе, спрашиваю:
«Ты любишь меня?», и твой взволнованный голос чуть слышно
звучит в ответ: «Да». Это — иллюзия, но это и реальность...
Ты здесь, ты здесь — сердце мое совершает это чудо! Сила моей
любви приводит ко мне тебя, очаровательное обожаемое виде-
ние... И все же; несмотря на это, мне тебя не хватает. Мне не
удается долго обманывать самого себя... Стоит мне попросить
у этого видения хотя бы один поцелуй, и оно исчезает; только
в снах ты со мною рядом в постели... Постой, видишь ли, это
так прекрасно — мечтать о тебе, но еще лучше чувствовать тебя,
говорить с тобой, иметь возможность усадить тебя к себе на
колени, обвить руками, покрыть всю тебя обжигающими поце-
луями, видеть, как ты бледнеешь и краснеешь от них, чувство-
вать, как ты трепещешь в моих объятиях... Вот это жизнь!
Жизнь полная, насыщенная, настоящая. Она как солнечный луч,
как луч, освещающий рай».
Как я уже говорил выше, самое удивительное во всех этих
исследованиях о Гюго даже не новые, только что обнаруженные
и опубликованные документы. Анри Гиймен, со своей стороны,
уже до такой степени нас к этому приучил, что мы чуть ли не
каждый год ожидаем новой публикации из Гюго. Повторяю:
самым удивительным мне представляется то, с каким мастер-
ством Андре Моруа сумел возродить жизнь Гюго.
Пожалуй, никогда еще годы детства или, скажем, весна
любви Гюго и принцессы Негрони не были описаны с таким
блеском. И надо сказать, что тут замечательно точно выписана
264
не только фигура Гюго, но и Адель, — я имею в виду главы, где
описано счастье в годы 1826 и 1830 («Мастерство», «Восточные
мотивы»); также и портрет Жюльетты Друе во всей книге в
целом, и образ Леони Биар. Надо заметить, что Моруа, как
никто, умеет представить атмосферу. Это можно сказать и о его
описании кануна 1830 года, кануна 1848 года и о более поздних
главах, где рассказывается о жизни изгнанников.
Особенно хорошо, по-моему, удалось Моруа рассказать о
молодости Гюго; быть может, наиболее примечательная черта
этой большой книги — то, что она с начала и до конца представ-
ляется нам романом о формировании, о годах ученичества, о
молодости, хотя уже. в середине книги автор доходит до
1840 года; но это впечатление создается вовсе не тем, что речъ
идет о юности Гюго, а свойством поэта быть вечно молодым и
безусловно также и талантом самого биографа.
Наряду с книгами Раймона Эсколье «Этот незнакомец, Вик-
тор Гюго» «Любовь в жизни Виктора Гюго», «Олимпио» —
произведение, превосходящее их по своей ценности, ознакомиться
с ним совершенно необходимо каждому, кто хочет понять эво-
люцию гения Гюго и его формирование. Правда, здесь сказана
не все, что можно было бы сказать по этому вопросу. Мы не
найдем в книге (автор сделал это сознательно) анализа поэтиче-
ской техники, но зато в ней анализируются многие обстоятель-
ства личной и общественной жизни, оказавшие влияние на фор-
мирование поэта; книга эта — важное историческое повествова-
ние, прокладывающее новые просеки в гигантском лесу
XIX века, она представляет собою дальнейшее проникновение
в глубины души гиганта, чье имя — Виктор Гюго.
Книга эта — важнейший труд, который приближает к нам
Гюго, делает его понятнее для нас; в ней использованы дотоле
неизвестные материалы, которые становятся нам доступными.
Я думаю о «Записных книжках» 1870—1871 годов, которые
только что опубликованы Анри Гийменом. Тут мы имеем дело
с сырыми, совершенно необработанными свидетельствами; но
они удивительно живы, они порою до такой степени откровенны,
что иногда даже приводят в смущение, сама их непосредствен-
ность потрясает.
Вот несколько записей:
«4 сентября 1870 года.—'Объявление об отречении импера-
тора. В час у меня собрание изгнанников».
«5 сентября... Мы прибыли в Париж в 9 часов 35 минут.
Огромная толпа ожидала меня. Неописуемый прием. Я говорил
четыре раза. Один раз — с балкона кафе, трижды — прямо из
экипажа. Прощаясь с толпой, которая все прибывала, я сказал
народу:
265
— Вы в один час вознаграждаете меня за двадцать лет
изгнания».
Эти заметки Гюго находятся на уровне его произведения
«Виденное» («Choses vues»), где он предстает перед нами бле-
стящим журналистом, способным все охватить взглядом и все
запечатлеть пером. Но здесь мы сразу же погружаемся в гущу
исторических событий.
«23 ноября... Жюль Симон написал мне, что помещение Опе-
ры будет предоставлено в мое распоряжение в назначенный мною
день (я буду бесплатно читать народу «Возмездия»)... Все эти
дни шел дождь. Он размыл дороги, пушки вязли в грязи, наме-
ченная вылазка задержалась. Вот уже два дня, как Париж пи-
тается солониной. Крыса стоит восемь су».
Другая запись, от 19 декабря: «Г-н Этцель написал мне:
«Из-за отсутствия угля паровые прессы нельзя пустить в ход, и
близкое закрытие типографии неизбежно». Я даю согласие на
то, чтобы размер нового тиража сборника «Возмездия» был
установлен в три тысячи экземпляров, вместе с прежними вы-
пусками общий тираж книги в Париже составит двадцать две
тысячи экземпляров; новый выпуск «Наполеона маленького»
выйдет тиражом в две тысячи, а общий его тираж достигнет де-
сяти тысяч экземпляров (для Парижа)».
Восьмого марта 1871 года в десяти строках изложено то,
что послужило материалом для великолепных страниц книги
«Деяния и речи» («Actes et paroles»). Читаем:
«Я отказался от своего депутатского мандата.
Речь шла о Гарибальди. Он был избран в Алжире. Было
предложено аннулировать эти выборы. Я попросил слова. Я го-
ворил. Шум и ярость на скамьях правых. Они вопили: «К по-
рядку!» Было любопытно прочесть отчет в «Монитёре». Не
обращая внимания на их беснования, я поднял руку и сказал:
«Три недели назад вы отказались выслушать Гарибальди. Се-
годня вы отказываетесь выслушать меня. С меня достаточно.
Я отказываюсь от депутатского мандата».
* В заключение хочу привести два отрывка, связанных с тра-
гическими днями Коммуны. Первая запись датирована 25 мая:
«Чудовищный факт. Они подожгли Париж. По всей стране
разыскивают пожарных, за ними посылают даже в Бельгию*
Пожарные из Брюсселя выезжают не медля ни минуты.
Я написал протест бельгийскому правительству, которое от-
казалось предоставить убежище побежденным бойцам Коммуны.
Протест этот будет завтра опубликован в «Индепанданс».
28 мая... «Густав Курбе брошен в тюрьму, он там отравился *.
* Как известно, слух оказался ложным.
266
Курбе умер. Это был талантливый человек. Он пожал мне
руку на кладбище в день похорон Шарля2. Я видел его тогда
в первый раз. Ив последний.
Мне жаль Курбе.
Комиссар полиции посетил меня, чтобьГ определить размер
повреждений, причиненных моей квартире прошлой ночью. На
полу валяются камни, осколки оконных стекол, занавеси пор-
ваны и так далее. Крошка Жанна смотрит на беспорядок и
произносит: «Кака».
Анри Гиймен пишет в предисловии к книге: «К числу наи-
более поучительных страниц этого сборника, по моему мнению,
относятся те, где день за днем Гюго выражал свои чувства по
отношению к Коммуне».
Надо ли говорить, что я не согласен с этой оценкой Гйй-
мена? Я полагаю, что «Записные книжки» могут быть правиль-
но поняты лишь в свете всего творчества Гюго, после прочтения
таких его произведений^ как «Грозный год» и, скажем, «Деяния
и, речи»; только при этом условии его «Записные книжки» мно-
гое нам объясняют. Сырые записи обогащаются всем тем, что
Гюго вносит в них, а вносит он свой огромный жизненный опыт,
свою удивительную творческую мощь. Основная ценность его
«Записных книжек» в том, что они помогают нам понять путь
писателя, понять тот чудесный процесс преображения действи-
тельности, когда она в результате творческого анализа воссо-
здается им и обретает новую жизнь. И в этом смысле можно ска-
зать, что они нередко свидетельствуют сами против себя, ибо
они свидетельствуют о необыкновенной и вечной молодости
Виктора Гюго. Вот почему они вносят свою лепту в усилия мно-
гих исследователей сделать Гюго вечно живым для нас писате-^
лем. Они также призывают нас усвоить величайший урок, ко-
торый состоит вот в чем: нам следует черпать в творчестве Гюго
именно то, что обеспечило ему бессмертие; я имею в виду его
удивительную творческую силу, свойственную ему необыкновен-
ную способность любви — качества* превращающие его в вели-
чайшего поэта Франции. ^
XVIII. ВИКТОР ГЮГО —СВЕТ И ТЕНИ
КУ/Т^с**^-"4^* ^—* л Ш Ш от пеРеД нами произведе-
ние, публикуемое впервые,
которое умножает славу
автора. Правда, речь идет о Викторе Гюго, и следует говорить
скорее не о новой публикации, а о полном воспроизведении тек-
ста, который до сих пор был известен нам в урезанном и искром-
санном виде. «Дневник» Виктора Гюго (1830—1848), который
только что издан Анри Гийменом, действительно представляет
собой, если можно так выразиться, опубликованные без всяких
купюр заметки, которые Гюго делал в эти годы и которые нам
частично известны по его книге «Виденное». В своем предисло-
вии Анри Гиймен сообщает нам сведения, которые помогают
лучше судить о текстах Гюго: «В книгу «Виденное» входит около
двухсот заметок и отрывков, относящихся к занимающему нас
периоду. В настоящий «Дневник» (не говоря о восьмидесяти
заметках, входящих в «Дневник участника революции 1830 го-
да») включено приблизительно шестьсот тридцать отрывков».
Еще куда ни шло, когда издатели делают явные купюры
в тексте; но тот метод, который издатели книги «Виденное»
использовали при подготовке к публикации, скажем, «Процесса
Леконта» 1 или рассказа о похоронах Наполеона2, нас просто
приводит в дрожь. Анри Гиймен с полным основанием говорит
о «веселом пощелкивании ножниц» и об «ужасающей бойне», и
невольно задаешь себе вопрос: не калечатся ли таким же обра-
зом и другие подобные тексты Гюго или прочих писателей?
Бесспорно, одна из важнейших наших задач — это контроль
за методом публикации посмертных и прежде не изданных тек-
стов писателя. Если нам остается только догадываться о том,
268
как монастырские писцы «подчищали» в Средние века античные
тексты, то наших любезных издателей мы можем, как говорится,
накрыть на месте преступления. Сравнение «Виденного» Гюго и
его «Дневника» приводит к очень неутешительным для издания
Поля Мериса и Гюстава Симона выводам. Последний отрывок
из «Дневника» — великолепный рассказ о том, как Гюго ужи-
нал в компании с Алисой Ози3 и художником Шассерио, —*
был сначала помечен датой «Ночь с 23 на 24 февраля». Впо-
следствии сам поэт позаботился зачеркнуть цифру 2 в том и
другом случае, и, таким образом, дата преобразилась: «Ночь с
3 на 4 февраля». Как видно, Гюго смущал тот факт, что речь
шла именно о ночи с 23 на 24 февраля 1848 года, то есть о са-
мом кануне революции. Гюстав Симон иде/еще дальше и ставит
новую дату — 1849 год. Теперь, по прошествии целого века, нам
и в голову не приходит требовать отчета у Виктора Гюго в том,
как он проводил свое время в канун дней, ставших историче-
скими, и надо быть слишком уж мелочным, чтобы беспокоиться
об этой стороне дела, особенно если иметь в виду, как хорош
сам текст. Поучительно здесь иное: стремление приукрасить
писателя после его смерти привело к такого рода «поправкам».
Впрочем, надо сказать, что бывают поправки еще более риско-
ванные *.
Не трудно догадаться, что побудило издателей опустить сле-
дующую запись от 20 июня 1843 года: «Г-н д'Э... сказал мне
вчера: «Александр Дюма испортил свой талант; он испортил
свою репутацию; испортил себе будущее; теперь он портит
своего сына». Вместе с тем если вспомнить, как вел себя упо-
мянутый выше Александр Дюма-сын во время Коммуны и
после нее, то следует признать, что суждение Виктора Гюго не
было лишено проницательности. Еще один пример: «У А. де
Виньи две причины не любить меня. Во-первых, «Марион Де-
лорм» принесла больше денег; чем «Жена маршала д'Анкр», а
«Эрнани» — больше, чем «Отелло». Во-вторых, я несколько раз
брал под руку г-жу Дорваль 4. Завистник и ревнивец» ( 1832 год,
без месяца и числа). Стремление сохранить репутацию литера-
торов-современников привело к тому, что издатели убрали и
резкий отзыв о поэте, ныне уже совершенно забытом: «Ж. Л.
* Самое удивительное во всем этом то, что любовь Мериса или Си-
мона к Гюго не может быть поставлена под сомнение. Тем более — их
преданность ему. Они произвели огромную работу. Но почему же они не
отнеслись с должным уважением к последней воле поэта: «Я хочу, чтобы
после моей смерти все мои неопубликованные рукописи вместе с имеющи-
мися их копиями, а равно и все те записи, которые после меня останутся,
независимо от их содержания, — повторяю, я хочу, чтобы все мои рукописи
без исключения, как большие, так и малые, были собраны и предоставлены
в распоряжение трех моих друзей: Поля Мериса, Огюста Вакери, Эрнеста
Лефевра. Им поручаю я публикацию моих рукописей».
269
высиживает свои мысли с огромным трудом и муками. Можно
подумать, что у него геморроидальные шишки в мозгу». Они
выбрасывали и все, что могло показаться вульгарным, к при-
меру нижеследующий анекдот: «Пять часов вечера. Только что
я проходил улицей Пале-Рояль. При свете фонаря какая-то
старуха, согнувшись, рылась в куче мусора. Пробегает маль-
чишка и натыкается на нее.
— Стоп! А я было подумал, что это огромная, огромная со-
бака! (Мальчишка выделяет голосом слово «огромная» во вто-
ром случае.)
— Негодник! Если бы мне не трудно было выпрямиться, я
бы тебе дала пинок в зад!
— Пес... пес... Оказывается, я не ошибся!»
На полях против этого отрывка, датированного 17 декабря
1846 года, написано сверху вниз: «Жан Трежан» — так Гюго
в то время обозначал произведение, которому впоследствии
было суждено стать «Отверженными». Кстати сказать, важней-
шее достоинство издания Анри Гиймена заключается в том, что
оно знакомит нас со всеми заметками, относящимися к работе
Гюго над первым вариантом «Отверженных». Замечание о том,
что он прервал работу над «Жаном Трежаном» и слова «По за-
кону о тюрьмах» (14 февраля 1848 года) помогают нам лучше
понимать жизнь писателя, подобно тому как детский лепет его
внуков и его умиление перед этим лепетом, а также лаконичные
фразы, которые он вносит в дневник в даты годовщины со дня
смерти отца и матери, наполняют нас глубоким волнением перед
Гюго-человеком.
До сих пор, основываясь на книге «Виденное», мы представ-
ляли себе, что замысел «Отверженных» родился в уме Гюго
внезапно, молниеносно: встреча с Фантиной в 1841 году, или
встречах человеком, арестованным за кражу хлеба (23 февраля
1846 года), которая породила следующие знаменитые строки:
«Я глубоко задумался. Этот человек больше уже не был для
меня просто человеком, он сделался призраком нищеты, виде-
нием, жутким и зловещим, которое явилось мне среди бела дня
при ярком солнце, — видением революции, которая еще скры-
вается во мраке, но уже грядет. Некогда бедняк соприкасался
с богачом, этот призрак сталкивался с самодовольным буржуа,
но они не глядели друг на друга. Они проходили мимо. Так
могло продолжаться еще долго. Но с той минуты, когда чело-
век этот замечает, что женщина (женщина в розовой шляпке,
играющая с младенцем в коляске, украшенной гербами. — /7. Д.)
существует, а женщина не замечает присутствия этого человека,
катастрофа неминуема». Ныне мы можем этап за этапом про-
следить, как складывался в уме писателя замысел романа «От-
верженные», причем нам помогают в этом не только различные
270
упоминания о ходе его работы, о которых я уже говорил выше;
самое главное — это то, что, внимательно читая дневниковые
записи о посещении Гюго различных судебных процессов, о том,
что он видел сначала в тюрьме Консьержери, а затем в тюрьме
Рокетт и в камерах смертников (6 апреля 1847 года), мы просле-
живаем последовательный ход развития мысли Гюго, видим, как
у него развивался интерес к темной стороне современной ему дей-
ствительности, как он настойчиво искал объяснения причин
эволюции общества. Все это разрушает традиционное пред-
ставление о Гюго, будто бы опьяненном в те годы воздававши-
мися ему почестями, своей славой и жившим безмятежной
жизнью.
Это не значит, конечно, что Гюго не убаюкивал себя зача-
стую идеализмом. Его посещение тюрьмы Рокетт, которое со-
провождалось многими смелыми наблюдениями, вместе с тем
внушило писателю этакое похвальное слово зарождавшейся в ту
пору системе помещения узников в отдельные камеры. То, что
написал тогда Гюго, сегодня в лучшем случае может вызвать у
нас улыбку. «Некий монастырь, некий улей; каждый трудится
в своей келье, каждая душа заключена в своей ячейке; огром-
ное трехэтажное здание дает приют соседям, которые ни разу
в жизни не видели друг друга; целый город, составленный иэ
множества одиночных существований... Работа, учение, инстру-
менты, книги. Восемь часов — на сон, один час — на отдых,
один час — на прогулку в небольшом дворике, обнесенном сте-
нами, вечером и утром — молитва, в любое время дня — раз-
мышление...» Зато другой отрывок (без даты) заставляет заду-
маться: «Когда-нибудь моя жизнь и изменения в образе моих
мыслей будут поняты. Разуму свойственны перевоплощения».
К этому можно прибавить еще одну, до сих пор не публиковав-
шуюся запись:
«В прошлом веке говорили:
Почтенный человек. Гениальный человек. Мужественный
человек. Остроумный человек. Человек со. вкусом. Божий чело-
век. Религиозный человек. Знатный человек. Человек, стоящий
на страже закона. Военный человек. Чиновный человек. Человек,
посвятивший себя литературе. Государственный человек. Человек,
любящий море. Светский человек. Достойный человек. Человек,
склонный к наслаждениям. Трудовой человек. Человек из народа.
Человек низкого происхождения. Человек дурного поведения».
Ко всем этим выражениям, унаследованным от прошлого, наш век
прибавил еще одно: «Человек при деньгах»...
Если «Дневник» Виктора Гюго помогает нам понять писа-
теля и возвеличивает его, если он представляется бесценным
271
документом для понимания реалистического начала в творче-
стве Гюго, то другое исследование, принадлежащее Морису
Левайану, «Мистический кризис Виктора Гюго» (1843—1856) *,
представляется своеобразным противовесом этому яркому лучу
света. Как можно понять из самого заглавия, работа эта пред-
ставляет собою анализ целого отрезка в жизни Гюго, напол-
ненного глубокими страданиями поэта, вызванными смертью
его дочери, последовавшей в 1843 году в Виллекье; этот душев-
ный кризис привел к тому, что Гюго, находясь в изгнании, на-
чал вопрошать духов при помощи вертящихся столов. Я не
стану останавливаться на семейной драме Гюго (она хорошо
известна) и на его душевном смятении. Книга Мориса Ле-
вайана—4 серьезное и добросовестное исследование. В ней доста-
точно хорошо объяснено, как Гюго к 1855—1856 году отдал
наконец себе отчет в том, что такой способ проникновения в
неизведанное только вредит его собственным нервам и нервам
его окружающих. Помимо всего прочего, он подметил, что духи,
к которым он обращался, духи Шекспира и Луи-Наполеона
Бонапарта, имели досадную тенденцию отвечать стихами, и при
этом стихами, носившими явный отпечаток поэзии самого
Гюго.
Я не могу тем не менее удержаться от того, чтобы привести
несколько отрывков из диалога между Виктором Гюго и Луи-
Наполеоном Бонапартом, который произошел в сентябре
1853 года в Марин-Террас в присутствии г-жи де Жирарден,
которая была инициатором этих таинств; г-н Левайан приводит
подлинный протокольный отчет об этом спиритическом сеансе.
После небольшого вступления, в котором Луи-Наполеон Бо-
напарт сообщает, что его дядя император Наполеон I недово-
лен им и послал его сюда, читаем следующее:
Вопрос Виктора Гюго:
— Одобряет ли он то, что я выступил против тебя?
-Да.
— Смотрит ли он на тебя как на свое величайшее несчастье?
-Да.
Виктор Гюго. Что за чувство испытываешь ты ко мне? Одну
только ненависть или еще и уважение?
— И то и другое.
— Говори.
— Из твоих «Возмездий» я узнал, в чем мой долг.
Виктор Гюго. Ты меня боишься?
— Да.
— Боишься ли ты меня больше всего на свете?
-Да.
— Боишься ли ты Ледрю-Роллена5?
* Maurice L е v a i 11 a n t, La crise mystique de Victor Hugo (1843—»
1856).
272
— Нет.
— Кавеньяка 6?
— Нет (с силой).
— Виктора Гюго?
-Да.
— Боишься ли ты Ламартина7?
— Нет.
К этому следует прибавить ту удивительную сцену с Шекс-
пиром, где Виктор Гюго дает духу великого английского поэта
урок французской поэтики.
Я привожу здесь в полном изложении рукописную запись
по книге Левайана:
— Спиритический сеанс начался в девять часов; Виктор Гюго,
хотя он присутствовал на этом сеансе и принимал в нем дея-
тельное участие, предоставил Вакери записать начало диалога.
Начатое стихотворение развивало тему необходимого смирения
поэта перед лицом бога, ибо бог — единственный великий
творец:
...Эсхила соэдал ты — и создал он Ореста;
Шекспира соэдал ты — им Гамлет создан был;
Мольера создал ты — и соэдал он Альцеста;
лучами солнца ты наш мир благословил.
Ты больше совершил: ты сотворил просторы,
и в небе ты зажег горящее навек
светило...
(Колебания. Столик покачивается на ножке. П родолжительное молчание.
Три удара.)
— Что ты исправил бы в этих стихах?
Дух Шекспира: Все, начиная со второго стиха:
«Ты сотворил цветы и подарил их нам;
когда страдаем мы—к тебе возводим взоры;
прощенье создал ты — сей горестный бальзам».
Вакери. Я не совсем понимаю. Доволен ли ты этой строфой?
— Да.
— Я не совсем ее понимаю. Особенно последний стих. N
Шекспир. А не будет ли понятнее так:
«(Прощенье соэдал ты — от всех скорбей бальзам»?
Виктор Гюго. Я понимаю, ты хочешь сказать: «Прощение —.это
величественное порождение скорби». Правильно?
Шекспир. Да.
Я говорю Огюсту Вакери: «Если дать другую рифму, стих этот мог
бы прозвучать так:
«Ты скорби повелел прощенье породить».
(Пауза. Столик сильно раскачивается.)
Шекспир. «Прощенье, как и скорбь, — от всех грехов бальзам».
Виктор Гюго. Хорошо бы, чтобы строка закончилась словами:
«прощенье породить».
Шекспир. «Прощенье создал ты, оно — от мук бальзам».
18 П. Деке
273
Виктор Гюго. Мне больше понравился бы какой-нибудь другой
вариант строки.
Шекспир. «Прощенье нам сулишь ты в скорби, как бальзам».
(Пауза. Столик колеблется.)
Шекспир. «Прощенье», — ангел рек, ты начертал: «Бальзам».
Виктор Гюго. По-моему, стих лучше прозвучал бы так: «Ты на-
чертал: «Бальзам». «Прощенье»,—ангел рек».
Но в этом случае пришлось бы переделать всю- строфу, потому что
этот стих не рифмуется с прежними. Таков мой совет. Ты согласен со
мной?
Шекспир. Да.
Виктор Гюго. Отлично. Переделай же строфу.
(Столик колеблется.)
Виктор Гюго. Я советую тебе сочинить заново две строфы, тогда
легче будет употребить этот стих.
Шекспир. Да.
«Ты больше совершил. Ты сотворил планеты,
простор.и бездну ту, где прячутся лучи,
и мрак ты сотворил...
(Пауза. Столик вращается. Он вращается в разных направлениях. Затем
скользит, опускается то на одну ножку, то на другую, слышны отрывистые
удары с непонятным значением.)
...его плащом одеты
Творе... (Столик колеблется.)
...ния твои спокойно спят в ночи.
Ты сотворил, господь, и жизнь, и состраданье,
сколь щедро одарен тобою человек!
Твой взор таит любовь и
(Слышен звук «з»*. Столик останавливается.)
Виктор Гюго (произносит вполголоса):
и в день, когда решил судить ты мирозданье,
Ты начертал: «Бальзам», «Прощенье», — ангел рек.
(Столик снова начинает двигаться.)
гонит прочь страданье.
Ты начертал: «Бальзам», «Прощенье», — ангел рек.
Думается, комментарии тут излишни; если эта книга и
освещает то, «Что говорят уста тьмы» 8, то она помогает понять
лишь то, что такое тьма. Это, без сомнения, может дать удо-
влетворение духу, призраку, но и только. Если Виктор Гюго
представляется нам еще более величественным после того, как
мы прочтем его «Виденное» и «Дневник», то пережитый им
мистический кризис остается для нас вещью второстепенной, во
всяком случае мало помогающей проникнуть в величие его твор-
чества.
* Буква «з» соответствует двадцати четырем ударам ножки столика;
она свидетельствует о величайшем смятении.
XIX. «ЛОРЕНЦАЧЧО» АПОЛИТИЗИРОВАННЫИ
есь недуг нашего века про-
исходит от двух причин:
народу, пережившему 1793
и 1814 годы, нанесены две раны в сердце. Прошедшего
не существует более, а будущее еще не наступило. Не ищите
ни в чем другом разгадки наших бедствий».
Прислушаемся еще раз - к этой исповеди сына века и не
станем в связи с разбором «Лоренцаччо» пытаться достичь
невозможного. История возникновения пьесы хорошо известна.
Жорж Санд, обнаружив хронику итальянского историка Вар-
ки, извлекла оттуда в 1831— 1832 годах сюжет пьесы, которую
она назвала «Заговор в 1537 году» («Une conspiration en 1537»).
Она рассказала об этом Мюссе, как только они познакоми-
лись — летом 1833 года. Мюссе незадолго перед тем прочитал
«Заговор Фиеско» — одну из первых пьес Шиллера, которая
была переведена на французский язык и поставлена в театре
Одеон в 1824 году. В его библиотеке хранился труд карди-
нала де Реца «Заговор графа Фиеско» («La Conjuration du com-
te de Fiesque») !, откуда, кстати, Шиллер и почерпнул сюжет
своей драмы. N
События, связанные с именами Фиеско и Лоренцаччо, про-
исходили почти в одно время. Некоторые из участников пер-
вого заговора имели касательство и ко второму. Политическая
сторона интриги в «Лоренцаччо», тема борьбы за независи-
мость, а также характер Филиппо Строцци носят на себе пе-
чать вдохновения, владевшего Шиллером в восьмидесятые годы
XVIII века, и его стремления создать национальный немецкий
театр.
18*
275
Все только что сказанное характеризует лишь внешнюю исто«*
рию возникновения «Лоренцаччо», но достаточно сопоставить
эту пьесу с романом «Исповедь сына века», замысел которого
Мюссе вынашивал в то же время (Мюссе работал над пьесой
«Лоренцаччо» между августом 1833 и первыми месяцами
1834 года; письма, в которых встречается упоминание о содер-
жании первых глав романа, относятся к весне 1834 года), чтобы
понять, какая именно сторона истории Лоренцо Медичи при-
влекла к себе внимание писателя. Я имею в виду развращен-
ность, этот симптом болезни века, провал политических замыс-
лов, разочарованность.
Знаменательно, что в «Лоренцаччо» Мюссе сразу же уда-
лось особенно ярко выразить свое глубокое смятение, между
тем как «Исповедь», несмотря на полное блеска вступление, в
конечном счете превратилась лишь в некое подведение итогов
любовного приключения с Жорж Санд.
Вот от чего должен отправляться в 1953 году зритель, вни-
манию которого Национальный народный театр предложил эту
пьесу.
Мюссе ничего не выдумал. «Незачем искать в чем-либо
ином разгадку наших невзгод». Июльские дни 1830 года про-
звучали как призывный звук трубы, и вся интеллигентная
молодежь решила, что пробил час. Что мечты, погребенные в
глубине сердца со времен Наполеона, будут наконец осуще-
ствлены. Народ вот-вот поднимется.
Но все пошло на пользу только крупной буржуазии. Потре-
бовалось немного времени, чтобы понять: разницу между Кар-
лом Десятым и Луи-Филиппом могли ощутить одни только бан-
киры. Что касается народа, то не требовалось большой прони-
цательности, чтобы заметить: в 1834 году он не слушал поэтов,
недавно обнаруживших его существование. Народ поднимает
мятежи, они следуют один за другим: 1831 год, 1832 год, вос-
стание лионских ткачей. Рождающийся пролетариат бурно дает
о себе знать. Он пугает молодых писателей того времени. Мюс-
се пишет в «Исповеди сына века»: «Когда я впервые увидел
толпу... это было в одно ужасное утро, в предпоследний день
карнавала, при возвращении масок из Куртиля. С вечера шел
мелкий, леденящий дождь; улицы превратились в лужи грязи.
Экипажи с масками, сталкиваясь и задевая друг друга, двига-
лись беспорядочной вереницей между двумя длинными шпале-
рами уродливых мужчин и женщин, стоявших на тротуарах.
У мрачных зрителей, что стояли стеной, притаилась в покраснев-
ших от вина глазах ненависть тигра. Выстроившись на целую
милю в длину, все эти люди что-то ворчали сквозь зубы и, хотя
колеса экипажей касались их груди, не отступали ни на шаг. Я
стоял во весь рост на передней скамейке, верх у коляски был
276
откинут. Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях
выходил из шпалеры, изрыгая нам в лицо поток ругательств, а
потом осыпал нас мукой. Вскоре в нас начали бросать комьями
грязи„.
Я начинал познавать наш век и понимать, в какое время мы
живем» 2.
С января 1831 года Бальзак в «Письмах из Парижа» давал
оценку настроениям, господствовавшим в литературной среде.
Сближая «Исповедь» (на сей раз Жюля Жанена3) с «Историей
Богемского короля» Шарля Нодье, он говорил о некой школе
разочарования в таких выражениях:
«Удивительное совпадение различных творений! Этот год,
начавшийся «Физиологией брака», о которой вы позволите мне
особенно не распространяться, закончился «Красным и чер-
ным», произведением, где замысел отличается зловещей и хо-
лодной философией; все это — картины, которые весь свет на-
ходит фальшивыми из чувства стыдливости или, быть может,
из корысти. В этих четырех созданиях литературной мысли
эпохи ощущается трупный запах угасающего общества. Безы-
менный автор «Физиологии брака» не без удовольствия ли-
шает нас иллюзий, связанных с супружеским счастьем, пер-
вым благом цивилизованного общества. «Исповедь» как бы
довершает книгу г-на Ламенне4 и провозглашает, что и ре-
лигия, и атеизм в одинаковой мере мертвы, уничтожены; от-
ныне нет больше утешения для порядочного человека, совершив-
шего преступление. Нодье приходит, бросает взгляд на наш
город, на наши законы, на наши науки и устами Дона Пик де
Фанферлюши и Брелока говорит нам с громким смехом: «Нау-
ка?.. Глупости! К чему она? Что она мне дает?» Он посылает
Бурбонов умирать на конюшне — в обличье старой аристокра-
тической клячи. Затем, в декабре, г-н Стендаль вырывает у
нас последние крохи человечности и веры, которые еще у нас
оставались: он пытается убедить нас, будто признательность —
это всего лишь слово, равно как и Любовь, Бог, Монарх. «Фи-
зиология брака», «Исповедь», «История Богемского короля»,
«Красное и черное» — все Ъто выражение задушевной мысли
старого народа, ждущего молодой организации; все это — го-
рестные насмешки, и последние из них представляют собою хо-
хот демона, который счастлив оттого, что обнаружил в каждом
человеке бездну эгоизма: она разделяет людей, и в ней тонут
все благодеяния».
Таков фон «Лоренцаччо». Такова реальность утраченных
иллюзий той поры, пессимизма «Стелло» и «Шагреневой
кожи». Однако Мюссе, как Бальзак или Стендаль, внезапно на-
ходит путь, который не ведет за пределы отчаяния, но позво-
ляет ему осудить это отчаяние, подобно тому как Стендаль по-
277
своему судил и преодолел Жюльена Сореля. Разврат Лорен-
цаччо — не фатальная болезнь: «Я хотел действовать один... Я
трудился для человечества, но гордость моя оставалась оди-
нокой среди всех моих человеколюбивых мечтаний. Мой стран-
ный поединок надо было начинать с хитрости. Я не хотел под-
нимать народ. Я хотел добраться до самого человека, вступить
в схватку с живой тиранией, убить ее» 5.
«Ты хочешь видеть во мне только человеконенавистника;
это оскорбление для меня. Я отлично знаю, что есть добрые
люди; но что в них толку? Что они делают? Как поступают?
Что-пользы, если совесть жива, но рука мертва? А мне, мне
ясно одно: я погиб и гибелью своей не принесу людям пользы,
так же как не буду понят ими... Я был честен... слишком поздно.
Я сбыкся с моим ремеслом. Порок был для меня покровом, те-
перь он прирос к моему телу» 6.
Именно благодаря этому «Лоренцаччо» выходит за рамки
своего времени и обладает большей жизнеспособностью, чем
«Исповедь сына века». Совсем еще юный Мюссе сумел преодо-
леть разочарование, грусть, которая могла показаться данью
моде, и постичь глубокую мысль: человек не может безнака-
занно связывать себя с тиранией, с отвратительным, прогнившим
социальным порядком, и двойная игра невозможна, невозможна
с нравственной точки зрения. Этот урок особенно убедительно
звучит во Франции 1953 года, где возрождается фашизм, где
апостолы двойной игры любезно читают мораль тем, кто не
позаботился принять рекомендованных ими мер предосторож-
ности.
Сто двадцать лет спустя мы понимаем, что драма, которую
переживали «сыновья века» Мюссе, могла иметь и положитель-
ное решение. «Все, что будет, уже существует». Но конфликт
«Лоренцаччо» тем не менее нам не чужд.
Часть публики во Франции довольна тем, что драма за-
канчивается поражением. Другие знают, что именно из этих-то
поражений и рождается победа.
Несомненно, что в «Лоренцаччо» Мюссе признает пораже-
ние. Он не радуется этому. Просто он не видит иного решения.
И вот в сценической редакции, принятой и поставленной на
сцене Национальным народным театром, не осталось ни одной
из цитат, которые я только что привел, чтобы подчеркнуть по-
литический замысел «Лоренцаччо».
Я отлично понимаю, что эта пьеса не была написана для
сцены и поэтому на театре нельзя сохранить полностью ее
текст. Но вот характерный пример: в сценической редакции
театра старый Филиппо Строцци, «республиканец», споря с
Лоренцаччо, прибегает к таким общим местам:
278
«Возможно, что ты избрал опасный путь, почему мне не
избрать другого пути, который приведет меня к той же цели?»7
Между тем в пьесе за этими словами следует такая фраза:
«Я хочу обратиться с призывом к народу и действовать, от-
крыто» 8.
Не следует представлять Мюссе более запутанным, чем он
был на самом деле. Филиппо Строцци не был просто старым
фразером с бессвязными мыслями. И разве не было бы полезно
для лучшего понимания действия привести нижеследующее рас-
суждение Пьетро Строцци: «Король Франции защищает сво-
боду Италии — совсем как вор, который в пути защищает хо-
рошенькую женщину от другого вора. Он защищает ее, пока
сам не изнасилует» 9
Следует ведь помнить, что флорентийцы в 1536 году жили
в городе, оккупированном чужестранцами.
Здесь уместно сделать критическое замечание, относящееся
уже не к сценическому варианту пьесы, а к ее постановке.
Офицер, который арестовывает Пьетро Строцци, состоит
на службе у германского императора1; возможно, что цвет его
костюма и говорит об этом, но ничто в его манерах не выдает
чужеземца, оккупанта. Ни в чем мы не ощущаем присутствия
солдафонов, оккупантов Флоренции. А ведь в тексте есть
много указаний на это, есть эти указания и в сценическом ва-
рианте пьесы. (Хотя в этом варианте и опущена фраза, правда
довольно путаная, в которой золотых дел мастер поясняет, что
тирания Медичи сохраняется лишь благодаря поддержке им-
ператора и папы.)
На сцене не только нет германских солдат, отсюда убран
и народ. В спектакле не бросают камнями в германского офи-
цера и в солдат, которые арестовывают Пьетро Строцци;
из текста роли маркизы Чибо выброшено несколько важных
реплик, что принижает эту роль, как и роль Филиппо
Строцци.
Вот пример купюры, которую нельзя оправдать ничем, кроме
желания изменить самый смысл произведения:
«Маркиза Чибо. Вам безразлично... что солнце, наше солнце,
отбрасывает на цитадель немецкие тени? Ах! Духовенство в
случае надобности зазвонило бы во все колокола, чтобы разбу-
дить императорского орла, если бы он задремал на наших бед-
ных крышах».
А вот что написано у Мюссе:
«Маркиза. Вам безразлично... что солнце, наше солнце, от-
брасывает на цитадель немецкие тени? Что устами всех здесь
говорит Кесарь? Что разврат служит сводником рабства и
звенит своими бубенцами, когда рыдает народ? Ol Духовен-
ство в случае надобности зазвонило бы во все колокола, чтобы
279
заглушить эти рыдания и разбудить императорского орла, если
бы он задремал на наших бедных крышах» 10.
Все происходит так, словно хотели аполитизировать «Ло-
ренцаччо», что, конечно, более чем странно. До сих пор, на-
сколько мне известно, «Лоренцаччо» шокировал только цензуру
Наполеона III. s
В результате спектакль дает одностороннее решение — ак-
цент в спектакле сделан на неудаче, на «ручательстве» Лорен-
цаччо: «Если республиканцы, когда дело будет сделано, пове-
дут себя так, как им подобает, им легко будет утвердить рес-
публику, прекраснейшую из всех, которые когда-либо цвели
на земле. Пусть только народ станет на их сторону — и'"все
будет решено. Но ручаюсь тебе, ни народ, ни они ничего не
сделают» п.
Таким образом, единственная сцена, в которой Мюссе го-
ворил о желании народа бороться, искажена!
Драма, в которой говорится о поражении интеллигенции,
когда она отделяется от народа, превращается, таким образом,
в произведение, оправдывающее демобилизацию интеллигенции.
XX. ПОЛИТИКА И РОМАН
Сам того не зная, хотел он того или нет, согла-
сился бы он с этим или нет, — автор этого огром»
., ного и причудливого творения был из могучей по»
роды писателей-революционеров.
Виктор Гюго. Речь на.похоронах Бальзака.
сть в судьбе Бальзака ма-
гия цифр, игра истории и>
случая, представляющая
простор для фантазии. Условность юбилейных дат недвусмы-
сленно напоминает об удивительных совпадениях. Вот год, отме-
ченный именем Бальзака, — стопятидесятая годовщина со дня
рождения (20 мая 1949 года) и сотая годовщина со дня смерти
(19 августа 1950 года). Но еще сильнее и еще глубже ощу-
щаем мьг два года его пребывания на Украине, эту медленную
агонию, совпадающую по времени с агонией революции, тот
ужасный, неумолимый упадок, когда Бальзак все больше ослабе-
вает в «пустыне» Верховни: его брак — это азартная игра, где
выигрыш — урегулирование всех финансовых неприятностей, а
проигрыш — смерть и где лишь один шанс выиграть и сто —
проиграть. Потом, после женитьбы на г-же Ганской, — ужасное
возвращение через Польшу и Германию, где в канун той крова-
вой поры повсеместного торжества «партий порядка» резкими^
прерывистыми скачками еще бился пульс свободы. И, наконец,
прибытие в Париж, во Францию, где законом 31 мая1 проле-
тариат был отстранен от всякого участия в политической власти,
где тогдашняя третья сила, осуществив «государственный пере-=
ворот» в пользу буржуазии, покорно предалась в руки Луи-
Наполеона Бонапарта и совершила это на благо делу защиты
собственности и во вред интересам нации.
1850 год — это год гибели всех мечтаний. Прежде еще мож-
но было мечтать, не стыдясь этого, мечтать, не убегая от дей-
ствительности, мечтать не только ради того, чтобы просто»
281
помечтать. В этом году наступил конец честолюбивым упованиям
двух поколений интеллигенции, которые льстили себя надеждой,
будто можно примириться с окружающим миром, как-нибудь
удовлетвориться существующей властью. Надеждой на то, будто
можно побудить монархию возвратиться к истокам величия или
же заставить ее развиваться так, чтобы она в будущем привела
к царству справедливости. Два года революции и похорон этой
революции, опыт пережитого, вобравший в себя и порыв февра-
ля 1848 года, и выборы принца-президента, многим открыли
глаза. Открыли по обеим сторонам баррикады. «Новая шайка
расточителей, — пишет Анри Гиймен *, — начиная с февраля и
особенно с мс ~. устремилась к власти. Это — все та же буржуа-
зия. Теперь она правит без посредников. Она уже не может
маскировать свою игру престижем и покровительством короны.
Она, как выразился Моле2, «работает в открытую», и обеспе-
ченные классы уже не могут, как это было недавно, «отвлекать
внимание» народа полезными им небольшими ссорами с коро-
левской властью. Теперь обеспеченные классы выступают в
своем истинном обличье, всем отлично видны их явные махина-
ции, направленные на сохранение и умножение их достатка и
благосостояния; они создали себе это благосостояние, присваи-
вая плоды труда рабочих и крестьян, то есть той части народа,
которая извлекает из недр земли богатства и производит новые.
Отныне буржуазия ведет свою игру не таясь и при ярком свете
дня...»
В лагере собственников «порядочные люди испытывают, —
как ясно выразился Фаллу **, — сильный страх и беспокойство».
Граф де Монталамбер, депутат и влиятельный представитель
консервативного большинства, пишет в своем дневнике, что он
и его друзья обязаны «сторожить свирепого зверя». Это же
слово употреблял Альфред де Виньи. Все дело в том, чтобы
«сдерживать чернь», замечает Моле. «Перед нами, — пишет в
свою очередь барон де Барант3, — тигр». Наиболее проница-
тельным оказался Моле: «Мне представляется, что вся европей-
ская цивилизация стоит перед лицом одного и того же ката-
клизма... С основ общества сорваны покровы».
* Le Dix-huit Brumaire, Gallimard, 1954.
** Граф де Фаллу был гостем Бальзака, когда романист в 1832 году
■разослал приглашения, надеясь таким путем быть принятым в свете. Вот
портрет писателя, нарисованный аристократом: «Г-н де Бальзак очень не-
поворотлив, неловок, и если бы не его умный взгляд, то, беседуя с этим
человеком, вы ни за что не поверили бы, что перед вами автор столь
талантливых сочинений» (Mémoires d'un royaliste, 1888).
282
Отныне нужно принять решение. Капитулировать или сра-
жаться. Больше нельзя стоять на распутье. Кости брошены, и
не осталось никакой возможности предаваться утопическим меч-
таниям.
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» доказывает это.
Маркс в Лондоне уже заканчивает работу «Классовая борьба
во Франции с 1848 по 1850 год» — первый опыт применения
исторического материализма, несравненный пример политиче-
ской критики. Теперь речь идет не о мечтах, не о том, чтобы
объяснять мир, «дело заключается в том, чтобы изменить его».
Курбе писал: «Да, нужно приблизить искусство к жизни!
Слишком давно уже художники, наши современники, выдумы-
вают сюжеты своих произведений, произвольно рисуют мир».
А позднее следует суровая критика периода, который идет к
концу: «Зачем мне искать в мире того, чего в нем нет, и силой
воображения искажать то, что-в нем есть!»
Наступает время, когда мечта начинает отрицать действи-
тельность:
Хоть бился ураган в окно,
я, ставни затворив плотнее,
слагал «Эмали и камеи» 4.
когда обращение к реальному миру отрицает право на мечту,
когда реализм представляется безысходным, лишенным пер-
спективы — прежде всего, и только, — критическим и разруши-
тельным.
«Воспитание чувств» свидетельствует о том, что нынешний
социальный порядок разлагается и придется его самым ради-
кальным образом изменить», — пишет в 1870 году Жорж Санд
Флоберу. И натурализм вновь и вновь будет доказывать это.
Потребовалось еще шестьдесят семь лет — Парижская коммуна,
1905 год, две войны и 1917 год, — чтобы благодаря диалектике
истории, которой овладел победоносный пролетариат, мечта
снова стала оплодотворять действительность. Потребовалось
шестьдесят семь лет, чтобы романисты вновь смогли объяснять
мир, освещая его будущим человечества. Чтобы человеческая
надежда слилась с молодостью мира в тех битвах, которые ве-
дет рабочий класс — освободитель. В ходе этих битв Ленин на-
писал: «Надо мечтать».
Теперь, через сто лет, Бальзак предстает перед нами как
революционер, потому что мы принимаем его критику, отвергая
его мечту. Потому что история борьбы пролетариата за прошед-
шее столетие позволяет нам сегодня до конца и по-настоящему
оценить наследие Бальзака. Бальзак — своего рода Гегель в
романе.
283
* * *
...я даже в смысле экономических деталей узнал
больше... (изБальзака. — П. Д.), чем из книг всех
специалистов — историков, экономистов, статисти-
ков этого периода, вместе взятых. Правда, Баль-
зак по своим политическим взглядам был легити-
мистом. Его великое произведение — нескончаемая
элегия по поводу непоправимого разложения выс-
шего общества; его симпатии на стороне класса,
осужденного на вымирание. Но при всем этом его
сатира никогда не была более острой, его ирония
более горькой, чем тогда, когда он заставлял дей-
ствовать именно тех людей, которым он 'больше
всего симпатизировал, — аристократов и аристо-
краток. Единственные люди, о которых он всегда
говорит с нескрываемым восхищением, — это его
самые ярые политические противники, республи-
канцы — герои улицы Cloître Saint-Merri, люди,
которые в то время (1830—1836) действительно
были представителями народных масс.
Ф. Энгельс. Письмо к М. Гаркнесс, начало
апреля 1888 года *.
Искусство для искусства как теория творчества возникает во
Франции только после переломного 1848 года. Опыт Бальзака,
если и способствует пониманию драматичности судеб или труд-
ностей его преемников, все же связан с совсем иной историче-
ской ситуацией. И только в наше- время некоторые критики
додумались до попыток поставить романтизм на службу сторон-
ников искусства для искусства. Недавно г-н Голеа в «Те-
муаньяж кретьен» («Témoignage chrétien»), говоря об опыте
советского искусства, констатировал одиночество современного
художника на Западе и датировал начало этого явления вре-
менем Французской революции. Однако он прибавил: «Начиная
с возникновения романтизма язык (средства художественной
выразительности) претерпел и постоянно претерпевает все более*
и более быструю эволюцию». Голеа пришел к утверждению сле-
дующих четырех положений: прогресс искусства есть прогресс
художественного языка; свобода творца есть свобода поисков
этого языка; революция в искусстве есть прежде всего револю-
ция художественного языка; следовательно, революция эта мо-
жет происходить лишь при условии разрыва между художником
и публикой.
Это обстоятельство, если рассматривать вопрос только в об-
ласти самого* искусства, и приводит к одиночеству художника.
*К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиэдат,
1948. стр. 406.
284
Действительно, романтизм с самого начала означал разрыв
между интеллигентами и средой, которую правильнее именовать
не их публикой, а их классовой опорой.
Чем это было вызвано? Тем ли, что, как ныне утверждают,
романтики искали прежде всего новый язык, непонятный для
людей, которые слушают музыку, заучивают наизусть стихи
поэтов, читают романы, рассматривают картины?
Поставим несколько вопросов. Следует ли считать язык Ве-
бера более простым или более сложным, чем язык Рамо5? Был
ли язык Бетховена проще или сложнее языка Иоганна Себа-
стьяна Баха? Применим тот же подход к живописи и спросим:
был ли язык Жерико6 проще или сложнее, чем у Греза7? Язык
Делакруа проще или сложнее языка Давида8? Были ли стихи
Гюго, это воплощение романтического бунта, проще или сложнее
стихов Вольтера? Достаточно этих примеров, чтобы убедиться в
абсурдности такой постановки вопроса.
Гюго надел красный колпак на старый словарь; но не сле-
дует забывать и о работе Стендаля «Расин и Шекспир». Если
в «Эрнани» стихотворный перенос выражения «потайная лест-
ница» (l'escalier dérobé) показался слишком смелым и вызвал
скандал9, то совершенно очевидно, что Гюго говорил языком
своего времени, так же как Вебер, как Берлиоз, и что язык этот
был понятен публике, особенно молодежи; он был непонятен
только тем людям — старикам и молодым, — которые все еще
коснели в уже давно преодоленных формальных правилах.
Таким образом, столь характерное для романтиков обновле-
ние языка — вовсе не главная, а лишь второстепенная сторона
их творчества. Разрыв между художниками и читателями в во-
просах формы произошел во Франции значительно позднее — во
времена второго поколения романтиков, в период, когда роман-
тизм уже клонился к упадку, когда уже трудно было провести
водораздел между умирающим романтизмом и зарождающимся
символизмом. То была пора «проклятых» поэтов 10.
Мне могут возразить, что в Германии разрыв между худож-
никами и читателями произошел еще в конце XVIII века. Однако
и там объяснение надо искать не в художественном языке.
В девяностые годы XVIII века в Германии отмечается ду-
ховная изоляция людей творческого труда. Но в чем ее при-
чина? Достаточно вспомнить, что Гёте, когда он в вечер битвы
при Вальми прозревает начало новой эры в истории человече-
ства, пишет эти слова в армии, сражающейся против револю-
ции. Мечты Гёте связаны со станом противника. Как и мечты
Шиллера, которого французский Конвент объявил почетным
гражданином. Немецкие писатели следующего поколения уже
лишены возможности даже и мечтать. Клейст приезжает в Па-
риж в 1803 году в поисках революции — он находит там напо-
285
леоновский цезаризм и реакцию. Он был патриотом Германии,
оккупированной Наполеоном, и поэтому оказался вынужденным
объединиться с самыми реакционными феодалами немецких кня-
жеств, Австрии и Пруссии. Этот путь привел его к самоубий-
ству, так же как в то же время он привел Гельдерлинап к
безумию.
У нас, во Франции, мечты дважды потерпели полное кру-
шение: в дни термидора и при Ватерлоо. Удар был нанесен бур-
жуазией, которая стремилась укрепить свою власть и остано-
вить дальнейшее развитие революции; двадцать лет спустя
король возвратился в обозе чужеземных войск. Это — конец
эпопеи. Первая попытка вычеркнуть 1789 год из истории.
Здесь — источник душевного надрыва романтиков. Но не их
одиночества. В последние годы правления Карла X они в боль-
шинстве своем еще не так далеки от движения, приводящего
к Июльской революции. Разочарование, если употребить опреде-
ление Бальзака, начинается именно с этой поры, оно объяс-
няется тем фактом, что 1830 год привел к власти банкиров, но
одиночество возникает реально лишь после поражения 1848 года:
речь идет об одиночестве тех, кто пытается столковаться с
Наполеоном Малым. Гюго на Гернсее менее одинок, чем в те
времена, когда он был пэром Франции.
Душевный надрыв романтиков связан с тем, что люди твор-
чества были вынуждены вступить в конфликт с собственным
классом и не могли найти выхода из обнаруженных ими проти-
воречий. Это — интеллигенты без социальной опоры. Бальзак
видит прогресс в наиболее полной реставрации исчезнувшей мо-
нархии. Гюго тоже сначала мечтает об этой монархии, а затем
о канувшей в Лету наполеоновской эпопее. Творчество Стендаля
пронизано светом революции, которая уже миновала и которую
предади.
Но одиночество — это нечто совсем иное. Это — капитуля-
ция и бегство, это прежде всего разрыв с действительностью,
которая отныне обнажена, разрыв, вызванный полной невоз-
можностью в новых условиях выражать эту действительность
вне ее революционных перспектив.
После романтизма, связанного с прогрессом, романтизма,
скажем, Гюго, Бальзака или Стендаля, которые умели сочетать
революционные мечты с реалистическим мастерством, во Фран-
ции наступило расчленение этого единства мечты и реальности.
Реальность стали воспринимать совершенно узко, перспективы
ее развития приносить в жертву «детали ради детали»; так по-
ступали натуралисты; представители других направлений, ска-
жем символисты, позднее занялись «мечтой ради мечты», отде-
ляя мечту от реальности. А потом стали заниматься «языком
ради языка», что вскоре привело к понятию о «невыразимом».
286
Другими словами, — к молчанию. Развитие русского роман*
тизма не знало этой фазы декадентства, не знало оно и ощу-,
щения одиночества. Оно привело к появлению Горького. Во
Франции только после 1880 года, после возрождения рабочего
движения, Валлес и Золя по-настоящему вновь станут опи-
раться на реальную действительность. Бальзак, умерший в
1850 году, успел пройти лишь половину пути. Добрую половину.
Бальзаку присуще одно важнейшее противоречие. В самом
деле, в 1840 году он писал в своей новелле «3. Маркас»: «Мо-
лодежь взорвется, как котел паровой машины. Во Франции у
молодежи нет выхода и в ее среде растет лавина непризнанных
талантов, растут беспокойные стремления законного честолю-
бия... какой призыв потрясет эти толпы — не знаю; но они
ринутся на современный строй и опрокинут его 12... И снова, как
в тысяча семьсот девяностом году, на сцену выступит молодежь.
Она совершила то великое, чем прославились те годы... Вы на-
верняка погибнете, в отмщение за то, что вы не обратились
к молодежи с призывом отдать отечеству свои силы и свою
энергию, свое самоотвержение и свой пыл... за то, что вы всегда
и везде выбирали только посредственность»13. А в «Изнанке
современной истории», написанной в 1847 году в Бердичеве
(Россия), Бальзак писал: «...большая фабрика, все рабочие ко-
торой заражены коллективистскими доктринами, они мечтают
о разрушении социального порядка, об убийстве хозяев, не по-
нимая, что это приведет к гибели промышленности, торговли,
фабрик». Уже в 1842 году в очень любопытном тексте, который
несправедливо забывают, — я говорю о «Екатерине де Ме-
дичи».— появляется понимание противоречий действительности:
«Всякая законная или незаконная власть должна защищаться,
когда на нее нападают... Власть есть деяние*, а принцип вы-
борности — дискуссия. Невозможно проводить политику в об-
становке постоянных дискуссий». Весь 1842 год проходит для
Бальзака под знаком обороны. В этом году появляется его пре-
дисловие к «Человеческой комедии», где он пытается защитить
себя от всякого рода обвинений — в безнравственности, в мате-
риализме, в пантеизме, сенсуализме и тому подобном. Но проци-
тированные нами слова из введения к книге, посвященной Ека-
терине Медичи, многое объясняют нам в истории идейного
развития Бальзака. Здесь вновь повторяются — через четырна-
дцать лет — мотивы последней части раннего произведения
Бальзака «Две мечты»: «Привлекая внимание всех горожан
к злоупотреблениям римской церкви, Лютер и Кальвин способ-
ствовали зарождению в Европе духа исследования, которому
предстояло заронить в народах стремление все подвергать ана-
* Выделено Бальзаком.
287
лиэу. Анализ приводит к сомнению, которое приходит на
смену вере, необходимой для всякого обще-
ства*; оба этих человека оставили в наследие потомкам инте-
рес к философским занятиям...»
Эти строки, относящиеся к 1828 году, открывают важней-
ший период в жизни Бальзака. То был решающий перелом,
когда посредственный подражатель Вальтеру Скотту, писавший
такие романы, как «Ванн Клор, или Бледнолицая Джен», пре-
вращался в автора «Шагреневой кожи»; то была пора, когда
в жизни Бальзака произошло событие, наложившее отпечаток
на всю его дальнейшую судьбу: в феврале 1832 года издатель
Госслен переслал ему письмо из Одессы, подписанное «Ино-
странка». Эта иностранка, г-жа Ганская, восемнадцать лет
спустя стала г-жой Оноре де Бальзак.
* * *
Все правдиво в реальном мире. Но по боль-
шей части вещи правдивые становятся неправдо-
подобными в истории нравов, которую именуют
романом. Вот почему, чтобы сделать правдивое
правдоподобным, историкам человеческого сердца
приходится обнажать все корни плодового дерева.
Бальзак. «Театр как он есть», Верховня,
декабрь 1847.
Когда Бальзак писал эти пламенные строки в начале своей
работы, которую он так и не закончил, он, сам того не ведая,
дал нам один из ключей к пониманию его знаменательной судь-
бы, а также снабдил нас важнейшими данными для понимания
его концепции романа... «Все корни плодового дерева...» Для того,
чтобы обнаружить корни основного противоречия в творчестве
Бальзака, с которым мы ныне сталкиваемся, мне думается, сле-
дует обратиться к периоду его жизни между 1828 и 1832 годами.
Употребляя термин, выдвинутый Гёте, можно сказать, что имен-
но в это время заканчивается der Bildungsroman, то есть история,
так сказать, ученических лет, духовного формирования, станов-
ления Бальзака. Бальзак, как известно, в своих книгах, шла ли
речь о героях или героинях, особенно превозносил свой возраст;
но для нас важнее отметить другое — роль, которую сыграл
этот период в истории французского романтизма. И,куда суще-
ственнее заниматься не поисками сходства между Растиньяком
и Бальзаком, а анализом того многозначительного факта, что
поворот в творчестве Бальзака совпадает по времени с новым
расцветом французской литературы и новыми сдвигами в со-
знании представителей французской интеллигенции.
* Подчеркнуто мною.
288
Анализируя один из источников марксизма —: утопический
социализм, Энгельс дал необычайно глубокое определение поло-
жения во Франции в ту эпоху; он писал:
«Быстрое развитие промышленности на капиталистической
основе сделало бедность и страдания трудящихся необходимым
условием существования общества... Количество преступлений
возрастало с каждым годом. Если пороки феодальной эпохи,
прежде выставлявшиеся напоказ, — не уничтоженные, впрочем,
еще и теперь, — были все же отодвинуты пока на задний план,
то тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, кото-
рым раньше предавались только тайком. Торговля все более и
более превращалась в мошенничество. Революционный девиз
«братства» осуществился в плутнях и в зависти, порождаемых
конкуренцией. Место насильственного угнетения занял подкуп,
а вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали
деньги. Право первой ночи перешло от феодалов к буржуа-
фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров,
и даже самый брак остался, как и прежде, признанной законом
формой проституции, ее официальным прикрытием, дополняясь
к тому же многочисленными нарушениями супружеской верно-
сти. Одним словом, установленные «победой разума» обще-
ственные и политические учреждения оказались злой, вызы-
вающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обе-
щания просветителей»*.
Французские утописты довольно далеко зашли в своей кри-
тике социальной действительности, существовавшей в период,
когда к власти пришла буржуазия, причем критика эта велась
с позиций революционной буржуазии. Июльские дни нанесли
удар их надеждам, и это привело к появлению значительных
произведений. Мишлеu публикует в 1831 году свое введение
к «Всеобщей истории»: «Война человека против природы, ра-
зума против материи, свободы против рока».
Поэты с головой погружаются в политику, Гюго адресуется
к Молодой Франции, Виньи пишет свою удивительную поэму
«Париж» («Paris, elevation»), драму человека в эпоху историче-
ского перелома, Ламартин создает «Ответ Немезиде» и «Оду
против смертной казни», Барбье слагает «Ямбы». В кипящей
атмосфере той поры Балланш |5 продолжает публикацию своего
труда, Ламенне основывает газету «Авенир» («Avenir»), Стен-
даль создает «Красное и черное», эту первую хронику
XIX века, а Гюго достраивает «Собор Парижской богома-
тери», книгу, в которой много размышлений о прошлом, но ко-
* Ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к науке, К. Маркс,
Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух томах, т. II, Госполитиздат,
М. 1955, стр. 110-111.
19 П. Деке
289
торая поражает удивительной верой в поступательное движение
человечества. В своих ранних произведениях, в «черных» рома-
нах, Бальзак нападал на эту веру...
«А Бальзак?» — спросите вы. Ну что ж, в начале 1828 года
он пишет «Две мечты»; однако затем его труды начинают но-
сить менее теоретический характер, он открывает для себя мир
и помещает в журнале «Мода» («La Mode») в выпуске за март
1830 года фрагменты из «Гобсека» *. «Я видел олицетворен-
ную власть золота. Жизнь, люди приводили меня в ужас. Не-
ужели все решают деньги?!» В «Физиологии брака» (1829)
много заимствований и раблезианских шуток, однако анализ
буржуазного брака там столь же разрушителен, как в романе
«Индиана», который подготовляла в то время Жорж Санд.
Затем Бальзак вновь возвращается к мысли объяснять мир
в теоретических трудах; в рукопись «Трактата об элегантной
жизни» он включает набросок «Патологии социальной жизни,
или Размышлений математических, физических, химических и
трансцендентных относительно проявлений мысли, взятой во всех
формах, которые придает ей социальный порядок, — будь то
пища и кров, походка и посадка на коне, слово, либо действие,
либо молчание и так далее...» Однако в самом трактате можно
найти удивительный анализ (он особенно поражает, если иметь
в виду традиционную оценку Бальзака), свидетельствующий о
тонкости его критики и о том, что он хорошо понимает значение
происшедших изменений... «Несмотря на видимое улучшение,
которое внесло в социальный порядок движение 1789 года, не-
избежное злоупотребление, порождаемое неравенством состоя-
ний, возродилось в новых формах. Разве не пришла на смену
смешному и выродившемуся феодальному дворянству тройная
аристократия — аристократия денег, власти и таланта... Возвра-
тившись к -конституционной монархии, Франция освятила об-
манчивое политическое равенство, но тем самым оно только сде-
лало зло всеобщим достоянием, ибо у нас существует демокра-
тия богачей... так, в октябре 1830 года все еще имеется два
сорта людей — богачи и бедняки... Общество находит себе вы-
ражение в двух формах, но проблема остается все той же. Люди,
как и прежде, обязаны радостями жизни и властью случаю,
который некогда создавал дворян: ибо талант—это тоже
своего рода счастливое врожденное качество, которое достается
человеку, подобно тому как некогда доставалось земельное по-
местье».
* См. по этому поводу (ив связи со всем этим периодом в жизни
Бальзака) весьма содержательное исследование Бернара Гюйона «Полити-
ческая и социальная мысль Бальзака» (Bernard Guyon, La Pensée
Politique et Sociale de Balzac, Paris, 1947). Роли денег в творчестве Баль-
зака недавно касался Андре Вюрмсер (Europe, juillet, 1951).
290
Я так подробно процитировал этот текст, потому что он
представляется мне весьма существенным для понимания основ-
ного противоречия Бальзака. Во всем его творчестве начиная
с этого времени мы будем встречать резкую, безжалостную кри-
тику окружающего его мира. «3. Маркаса» уже предвещали
появившиеся десятью годами раньше «Письма из Парижа»,
опубликованные в журнале «Волер» («Voleur»); в них Бальзак,
пользуясь тем, что «Физиология брака» не была подписана его
именем, рекламировал свое собственное произведение и уже на-
мечал черты, сближающие его со Стендалем. Высказывания
Бальзака помогают понять не только поведение Многих писате-
лей того поколения, на что я уже обращал внимание, говоря о
Мюссе, но прежде всего поведение самого Бальзака. Достаточно
красноречива уже его похвала «Красному и черному», предве-
щающая то, что он позднее скажет по адресу «Пармской оби-
тели» 16. Не следует только подходить к оценке, какую он давал
Стендалю, с наших нынешних позиций. Ведь Бальзак — в то
время еще молодой человек — высказывается о писателе старше
его, и писателе непризнанном.
Не так уж важно, что с этим шедевром Бальзак сравнивает
«Историю Богемского короля» Шарля Нодье и «Исповедь»
Жюля Жанена. Несомненно, куда важнее, что он объединяет все
эти книги под общим понятием — школа разочарования
и видит в них «выражение задушевной мысли старого народа,
ждущего молодой организации». И заканчивает Бальзак свою
параллель такими словами: «Быть может, явится человек, кото-
рый в одном произведении объединит все эти четыре идеи, и
тогда XIX век обретет своего грозного Рабле: он окажет такое
же влияние на свободу, которое оказал Стендаль на человече-
ское сердце». Таким человеком мечтал стать сам Бальзак. Рабле
и Стендаль были для него тем пределом, превзойти который он
надеялся.
Ныне — сто лет спустя — велик соблазн кричать о недобро-
совестности, об отвратительном компромиссе. Да, Бальзак пони-
мал необходимость молодой, то есть новой, организации обще-
ства. Он ее превозносил. Но как добиться ее осуществления?
Буржуазия захватила власть. Она обманула все надежды. Про-
летариата как организованного класса еще не существовало...
У Бальзака была удивительно продуманная точка зрения на сей
счет. Она дает нам ключ ко всему его существованию; в «Трак-
тате об элегантной жизни» он пишет: «...XIX век развивается
под знаком мысли, чья цель — заменить эксплуатацию человека
человеком «эксплуатацией» человека разумом!,.»
В одном замечании он объясняет всю свою Жизнь, то, что
У него долги, присущий ему вкус к роскоши, теоретически оправ-
дывая это: «...жизнь деловая всегда представляет собою
19*
291
эксплуатацию материи человеком либо эксплуатацию человека
человеком, между тем как жизнь художника и жизнь элегантная
всегда предусматривает эксплуатацию человека мыслью, вот по-
чему нетрудно, прилагая эти формулы к человеческим трудам,
которым в большей или меньшей мере присуща печать разума,
объяснить себе разницу в состояниях...»
Нет ничего удивительного, что проблема карьеризма в об-
ществе, где господствуют буржуазные отношения, вызывала в те
времена столько размышлений, споров; ею занимались Стендаль
и Гюго, Бальзак и Ламартин, ей посвящались целые произве-
дения. Представители лагеря прогресса, интеллигенции рассмат-
ривали успех как признание таланта буржуазией, признание
ею политической роли, на которую могло- претендовать это «сво-
его рода счастливое врожденное качество, которое достается
человеку, подобно тому как некогда доставалось наследственное
земельное поместье». Чем глубже французские романтики
критиковали буржуазию, тем упорнее они считали, что бразды
государственного правления следует вручить им, людям, кото-
рые ясно разбираются в обстановке. И чем больше буржуазия,
которая отлично знала, что делала, страшилась их энтузиазма
и их критики, тем больше тогдашним интеллигентам приходи-
лось покоряться власти и проповедовать консервативные взгля-
ды в надежде добиться таким путем осуществления своих идеа-
лов. До выхода на историческую арену пролетариата такого
рода противоречия оставались непримиримыми, больше того,
нестерпимыми. Об этом слишком часто забывают, когда заходит
речь о мечтаниях романтиков и когда исследователи с улыбкой
отмечают, что Бальзак то и дело опровергает сам себя *; а ведь
величие Бальзака в том и состоит, что такого рода противоречие
было драмой его жизни, всего его творчества.
♦ * *
Е'озвратимся к действительности, поговорим о
«Евгении Гранде».
Бальзак Жюлю Сандоп.
Неоценимое богатство творчества Бальзака состоит для нас,
как это отмечал Энгельс свыше шестидесяти лет назад, не толь-
ко в одной (реализм «Человеческой комедии»), но в обеих сторо-
нах противоречия, присущего не только ему, но и другим людям
.* Я не упоминаю в этой работе о многочисленных легитимистских н
консервативных символах веры, которые Бальзак не раз формулировал на
протяжении своей жизни. См. Андре Бийи, Жизнь Бальзака (André
Billy, Vie de Balzac).
292
интеллекта в ту эпоху. На этом примере мы еще раз убеждаемся,
что важнейшие проблемы культуры в конечном счете опреде-
ляются политическими факторами. Мне думается, что только таг
кой подход предоставляет нам возможность проанализировать
условия, позволяющие правильно оценить творчество Баль-
зака. Все это дает достаточный материал для понимания тех труд-
ностей, с которыми связана верная оценка наследия прошлого.
Наследия, которое, для того чтобы оно предстало перед нами жи-
вым, мы должны рассматривать, исходя из философского прин-
ципа отрицания, отрицания.
Бальзак не потому гений, что в его творчестве показан по
крайней мере один явный педераст. Кстати, по сравнению с дру*
гими авторами Бальзак проявлял в этом отношении разумную
умеренность — он придерживался жизненной правды. Кроме того,
здесь речь идет о бывшем каторжнике, а это также соответ-
ствует условиям тюремной жизни, на которую буржуазия все
еще накидывает целомудренный покров; она принимает ее
только в «облагороженном» виде через посредство, скажем,
какого-нибудь Жана Жене18: он знает толк в своем ремесле,
и проходимцы изъясняются у него на языке классицист-
ской трагедии, пересмотренном и исправленном в духе Reader's
Digest. Если мы хотим разобраться во всем этом, мы должны
прежде всего попытаться очистить Бальзака от той критики,
которая искажает его в угоду болезненным вкусам класса, при-
шедшего в упадок. Мы должны обратиться не к лоскутному,
а к цельному Бальзаку. Не к Бальзаку, как его представляли
критики, а к тому, каким он был на самом деле, к Бальзаку,
который боролся, сражался, жил. Мы должны образ Бальзака-
легитимиста, Бальзака-реакционера дополнить теми его реаль-
ными чертами, которые нынешние реакционеры пытаются сте-
реть, мы должны воссоздать его во всей той мощи, которой они
тщатся его лишить. Надо сказать, что система взглядов Баль-
зака и цели, которые он ставил в своем творчестве, несмотря на
их реакционный характер, неприемлемы для буржуазии и немало
послужили обогащению его творчества и даже способствовали
приобретению того значения, которое оно для нас имеет.
Жорж Санд была куда более права, чем современные истол-
кователи творчества Бальзака, когда через три года после его
смерти она писала в своем введении к «Человеческой комедии»
в издании Уссио (1853): «Итак, надо читать всего Бальзака...
и выносить суждение обо всем его творчестве в целом: если до-
бродетель гибнет, если порок торжествует, это значит, что книга
проникнута ясной мыслью: она осуждает общество. Что касается
взглядов Бальзака на его время, которые он высказывал, то
они сметены тем могучим дыханием, которым проникнута
каждая строка его произведений. И какое счастье, что взгляды
293
его развеялись в прах и что он, сам того не думая, показал, как
повсюду разум поднимается и снизу доверху разрушает здание
старого мира: знание, мужество, любовь, талант, воля, бушевав-
шие в душе самого Бальзака, точно пламя, пожирали это здание».
Поистине с полным основанием можно потребовать от совре-
менных нам критиков только одного: держаться хотя бы на
уровне высказываний славной дамы из Ногана.
Мысль страны — это вся страна... Мысль при-
ходит от бога, возвращается к нему; она стоит
выше, чем короли; она их венчает и развенчи-
вает... Цивилизация — ничто, если она ни в чем
не выражена. Мы — ученые, мы — писатели, мы —
художники, мы — поэты назначены выражать ее.
Мы новые жрецы неведомого будущего и готовим
его приход19.
Бальзак. «Письмо французским писателям
XIX века», 1834.
Не было никакого противоречия между политическими взгля-
дами Дидро и его эстетическими взглядами, между его деятель-
ностью, направленной к изменению действительности, и тем, как
он выражал'эту действительность. И то и другое было в согла-
сии с историческим прогрессом. Сознательный идеолог восходя-
щей буржуазии, он вписывал свою надежду в окружающий мир
и этот мир — в свою надежду. Приход буржуазии к власти дол-
жен был решительно изменить саму природу власти, потому что
буржуазия мыслила себе будущее как упрочение настоящего,
как сохранение завоеванного против новой высвобожденной
силы — пролетариата, призванного окончательно разрешить
классовые антагонизмы. Реальная действительность, ее разви-
тие представлялось буржуазии уже не надеждой, а угрозой.
Познание мира оборачивалось невозможным для нее осознанием
фатального упадка. Критика воспринималась как оскорбление
его величества капитала. И в этих обстоятельствах интеллигент
Бальзак, который констатирует недостатки мира, но видит
возможность их исправления только в «возвращении к вечным
принципам религии и монархии», становится на свой путь с не-
избежностью, но цель его неосуществима. Прошлое не может
стать будущим. Неизменные противоречия, огромное разочаро-
вание, которые ощущал Бальзак, невозможно преодолеть путем
возвращения к первопричинам этих противоречий, этого разо-
чарования.
Сам Бальзак осознает невозможность этого пути сначала
в плане политическом. Если в 1831 году он еще мечтал о карьере
294
политического деятеля, то 1833 год ему показал, насколько
химеричны были его надежды.
1833 год. Это — золотой век монархии Луи-Филиппа. Год,
когда вокруг — мир. Царит порядок, и не только в Варшаве.
Июльская революция привела к царству банкиров. Анализ, ко-
торый дает Маркс в начале своей работы «Классовая борьба во
Франции с 1848 по 1850 год», великолепно освещает это восше-
ствие на престол одной из фракций французской буржуазии:'
к власти пришли «...банкиры, биржевые и железнодорожные
короли, владельцы угольных копей, железных рудников и лесов,
и связанная с ними часть земельных собственников — так назы-
ваемая финансовая аристократия...
Собственно промышленная буржуазия составляла
часть официальной оппозиции» *. В то время буржуазная оппо-
зиция готовит заговоры в тени, без немедленных последствий,
пролетариат впервые выступает как класс, поднимает организо-
ванные восстания, борясь за собственные интересы. Это — пора
первого крушения гуманистической мечты. Маркс пишет: «Июль-
ская монархия была не чем иным, как акционерной компанией
для эксплуатации французского национального богатства; диви-
денды ее распределялись между министрами, палатами, 240 000
избирателей и их прихвостнями. Луи-Филипп был директором
этой компании — Робером Макэром 20 на троне...» *
Одно письмо Балланша к г-же Рекамье21 убедительно свиде-
тельствует об отступлении интеллигентов ввиду сложившегося
положения вещей. Намекая на Кузена 22 и на Вильмена 23, «кото-
рые решили принять участие в действии», он заявляет: «По-
моему, они сделали плохой выбор. Газета «Авенир» осуждена,
но что из того? Г-н де Ламенне и его благородная школа не
уходят от этого мира. Они поднимаются до всеобщей филосо-
фии, не зависимой от обстоятельств... Те, кто не вмешиваются
в текущие дела, те, кому незачем в них вмешиваться, кто
не хотят этого делать, будут играть первую роль в настоя-
щее время. Казалось бы чуждые жизни, они на деле упра-
вляют ею».
Такое состояние ума весьма симптоматично. Так, например,
его можно обнаружить и в текстах Гюго, относящихся к тому
же периоду. Надежды, с которыми около 1831 года интелли-
генты участвовали в политической деятельности, были обмануты.
У этих людей больше не оставалось никаких шансов стать депу-
татами. Бальзак в письме, написанном в августе 1833 года, го-
ворит о намерении пожертвовать своим политическим будущим
ради того, чтобы помочь матери. Годом позднее, в письме
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 7, стр. 8.
!* Там же, стр. 10.
295
к г-же Ганской, он еще говорит о том, что, возможно, станет
депутатом, но это должно произойти в 1839 году. Он не отказы-
вается от своей мечты стать для людей наставником, но эту
мечту он будет осуществлять в литературе, а не в политике-
«Сельский врач», который незадолго перед тем был опублико-
ван, весьма красноречиво свидетельствует об этом, как и многие
его письма к Ганской: «Я хочу управлять интеллектуальной
Европой; еще два года терпения и труда — и я покорю всех
тех, кто хотел бы связать мне руки».
К этому же времени относится удивительное письмо Баль-
зака к Ганской в связи с книгой, которую она заказала ему и
которую он так и не закончил; я говорю о «Католическом свя-
щеннике». В этом письме с предельной точностью изложены
взгляды Бальзака на роль писателя. Я цитирую этот малоиз-
вестный текст по книге Бернара Гюйона:
«Время посвящений прошло. Теперь писатель заменил про-
поведника, он облачился в хламиду мученика, он страдает от
тысячи зол, он берет свет в алтаре и несет его в лоно народа:
он князь, он нищий; он утешает, он проклинает, он просит, он
пророчествует, его голос звучит не только в хоборе, он может
порой прогреметь на весь мир, из конца в конец. Человечество,
ставшее его паствой, слушает его поэмы и размышляет о них; и
одно слово, один стих весят сейчас на политических весах не
меньше, чем некогда весила победа. Пресса организовала мысль,
и мысль вскоре завладеет миром; листок бумаги, хрупкое ору-
дие бессмертной идеи, может изменить лик земли. Жрец этой
ужасной и величественной силы не восхваляет ни королей, ни
великих мира сего. Он получил свою миссию от бога; его сердце
и разум объемлют мир и стремление объединить народы в еди-
ную семью. Подлинное произведение искусства нельзя отметить
гербом клана, отдать на забаву финансисту, продать продаж-
ной женщине; стихи, орошенные слезами, плоды трудов и
бдений, поэт не бросит к ногам властителей, он сам облечен
властью!
Писателю принадлежат все формы творчества, ему — стрелы
иронии, ему — нежные легкие слова, падающие мягко, как снег,
на вершины холмов, ему — театральные персонажи; ему — не-
объятные лабиринты сказок и вымыслов, ему — все цветы,
ему — все шипы; он возлагает на себя все одежды, проникает
вглубь всех сердец, испытывает все страсти, постигает все инте-
ресы. Душа писателя стремится к миру и отражает его. Книго-
печатание приблизило к нему будущее, все выросло: кругозор,
зрение, слово и человек».
296
• • ф
Я долго и всесторонне размышлял об устройстве
общества.
Бальзак. Письмо к Зюлъмс Карро 2\ Париж,.
1830.
Бальзак находит решение для своих непреодолимых полити-
ческих противоречий. Это — эстетическое решение *. Реальная
действительность отказывается подчиняться его концепции
мира, и он решает включить ее в систему своих взглядов, вос-
создавая эту реальную действительность в романе.
«Человеческая комедия» — гениальный результат этого
стремления. Если нельзя управлять людьми, решает Бальзак,
он будет управлять персонажами своих романов.
Через восемь лет после возникновения замысла «Человече-
ской комедии» Бальзак в предисловии к своей эпопее 25 так фор-
мулирует эту мысль:
«Суть писателя, то, что его делает писателем и, не побоюсь
этого сказать, делает равным государственному деятелю, а быть
может, и выше его, — это определенное суждение о человеческих
делах, полная преданность принципам...»26 И Бальзак прибав-
ляет: «Писатель должен иметь твердые мнения в вопросах мо-
Рали и политики, он должен считать себя учителем людей...» 27
1о приведенная выше фраза не принадлежит Бальзаку. Она
принадлежит Бональду 28, но Бальзак принимает ее за свое пра-
вило вместе со словами, заканчивающими ее и служащими
оправданием для сторонника старых традиций: «Ибо люди не
нуждаются в наставниках, чтобы сомневаться». Ирония истории
такова, что во. имя самого непримиримого и узкого консерва-
тизма Бальзак задумал как можно более верно воспроизвести
реальный мир — Общество, как он его именует, причем
«изображенное так Общество должно заключать в себе смысл
* Без сомнения, следовало бы здесь анализировать более глубоко.
Я попытался в первой части этой статьи подвергнуть такому анализу по-
литические воззрения Бальзака. Он со всей очевидностью доказывает: эво-
люция, которую я отмечаю, не была осознанной. Бальзак, во всяком случае
после 1828 года, был прежде всего интеллигентом. Это означает, что когда
он рассматривает какое-либо политическое действие, то его интересует, так
сказать, его связь с творчеством, и интересно отметить, что большая часть
его произведений периода 1828—1833 годов носит отчетливо выраженный
моралиэаторский или философский характер. Романы без дидактизма ста-
нут преобладать лишь позднее. Похоже, что после попытки реформировать
мир своими произведениями Бальзак вынужден был перейти к попытке
реформировать мир в своих произведениях. По крайней мере он в это
верил. Это-то я и именую эстетическим решением. В связи с этим стоило
бы сравнить позицию Бальзака, с одной стороны, с позицией Мюссе (»
«Исповеди сына века»), с другой — с позицией Стендаля.
297
своего развития». В том же предисловии к «Человеческой коме-
дии» Бальзак подчеркивает, что роман противоречит истории,
что он будет «возвращением к идеалам прошлого (именно по-
тому, что эти идеалы вечны)... История не обязана, в отличие
от романа, стремиться к высшему идеалу. История есть или
должна быть тем, чем она была, в то время как роман дол-
жен быть лучшим миром, как сказала г-жа Неккер29»30.
Все это так, но — бац! Тут, именно тут, Бальзак в силу необхо-
димости вынужден вновь вводить в роман реальную действи-
тельность, ибо найденное им эстетическое решение требует,
чтобы персонажи и события были правдивыми, достоверными.
Персонажи должны быть живыми людьми,, события—истори-
ческими -фактами. Вот почему он прибавляет: «Но роман не
имел бы никакого значения, если бы при этом возвышенном
обмане он не был правдивым в подробностях» 31.
И все построение рушится. Вот, чтобы не ходить далеко за
примером, Вальтер Скотт — основной источник для Бальзака,
чужеземный источник... «Вальтер Скотт, — признает наш
автор, — был неправдивым в отношении людей...»32 И, хотя
доводы его весьма слабы, Бальзак уже чувствует себя выну-
жденным прийти к отрицанию и космополитической традиции
эмигрантов и бегства в прошлое, полное мистических приклю-
чений. Это подрывает разом и ссылку на г-жу де Сталь, на по-
ложение, имеющее в его произведении реакционный смысл, и
ссылку на Бональда. Бальзак вновь вводит реальность в свои
произведения—так, как это делали наиболее консервативные
идеологи его времени; однако эта реальность, ворвавшись в его
творчество, выметает оттуда и все реакционные предпосылки и
меняет весь смысл творческих намерений Бальзака. Фантасти-
ческий мир легитимизма, поставленный на голову в нелепых
мечтах Бальзака, в мгновение ока становится на ноги. Закон
развития «Человеческой комедии» оказывается истинным
законом истинного развития французского общества.
В результате двойного опровержения —• опровержения политики
в романе и опровержения романа реальной действительностью —
Бальзак добивается правды в национальном масштабе. Баль-
зак — писатель-реалист.
* * *
Практический вывод из опыта Бальзака: реалистический ро-
ман— одно из средств постижения мира. Его законы — законы
самого этого мира, его логика — логика, присущая реальной дей-
ствительности.
Путь, который привел от романтизма к социалистическому
реализму, — если он и расходится на несколько дорог в плане
298
эстетическом — был исторически намечен политическими битва-
ми пролетариата. Поражение 1848 года привело к окончательно-
му разъединению двух противоречивых элементов, неосознан-
ным синтезом которых стала «Человеческая комедия». Критика
окружающего мира отрицает надежду, мечта отрицает действи-
тельность. После каждого поражения пролетариата в его осво-
бодительной борьбе французские романисты — люди с разо-
рванным сознанием и душевным надрывом — все более утрачи-
вали способность схватывать законы развития обще-
ства, и реальное, конкретное улетучивалось из их произведе-
ний. Драма постепенно перерастала в трагедию, обрекавшую на
молчание, а порою на потерю рассудка. Великая буря 1917 года
потрясла мир, и — подобно тому как раньше Парижская Коммуна
Курбе — она показала лучшим французским интеллигентам, что
пролетариат воплощает в жизнь надежды человечества и искать
их реализации следует отныне, идя в направлении, противополож-
ном пути, пройденному Бальзаком.
Вот почему быть сегодня истинным продолжателем Бальза-
ка — значит отрицать этот аспект его творчества.
XXI. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ДИККЕНСА
| о Франции из лучших
книг Диккенса, из его ше-
девров, наименее известен
роман «Мартин Чезлвит». Пиквик или Дэвид Копперфилд вхо-
дят в число наших излюбленных героев, но отнюдь не Пексниф.
Быть может, в этом и нужно искать объяснение тому факту, что
«Мартин Чезлвит» остается в тени. Закрыв книгу, мы думаем
об образах людей, которых Диккенс заклеймил в ней: о Пексни-
фе, о Джонасе Чезлвите и — меньше всего — об обоих Марти-
нах Чезлвитах — старике, ставшем жертвой своего богатства, и
молодом, который еще только учится жить *. Мы смеемся над
невыразимой миссис Гэмп, чье имя дало в английском языке на-
звание зонтикам огромного размера; ее потомство достойно по-
томства Пипле 1 Эжена Сю; нас забавляет фигура гробовщика,
мистера Моулда, — ужасающая игра слов, вызывающая пред-
ставление одновременно о взрыхленной земле и плесени, о ли-
тейной форме и о прахе; любезнейший мистер Моулд навеки во-
шел в галерею незабываемых типов. Том Пинч, собственно Том
* «Мартин Чезлвит» — роман, 9 выходивший отдельными выпусками.
Диккенс писал его постепенно, однако название, безусловно, связано еще
с первым выпуском, и отсюда, как мы дальше увидим, возникает некоторая
неувязка с последующими намерениями писателя. Полное название, укра-
шавшее первый выпуск, гласило: «Жизнь и приключения Мартина Чезл-
вита, его родных, его друзей и его врагов, где читатель найдет описание
всех желаний и возможностей героя, а равно и хронологический рассказ
о том, что он совершил и чего не совершил, и где, помимо всего, будет
рассказано, кто унаследовал фамильное серебро, кто получил при разделе
наследства деревянные, а кто — серебряные ложки, каковые подробности
всесторонне характеризуют семейство Чезлвитов». Нужно ли говорить, что
все это практически не имеет отношения к окончательному тексту романа.
300
Клешня, потому что это — подлинный смысл его имени, необы*
чайно добр, слишком добр, слишком услужлив, слишком любе-
зен; он нарисован в серых тонах, к нему чувствуешь симпатию,
за него боишься, его любишь, но ты твердо уверен в том, что он
всегда будет таким же добрым, услужливым, любезным, и по-
тому начинаешь несколько пренебрегать им; пожалуй, один
только Марк Тэпли с его простонародной грубоватостью, здра-
вым смыслом и мужеством остается у нас в памяти, если гово-
рить о положительных героях.
Когда Диккенс закончил первые главы «Чезлвита», он пи-
сал своему другу Форстеру: «Вам отлично известно, что, по
моему мнению, «Чезлвит» в силу множества причин, безуслов-
но, лучший из моих романов; я ощущаю в себе такие творческие
силы, каких еще никогда не ощущал, я уверен в себе больше,
чем когда бы то ни было до сих пор, и, если только у меня хва-
тит здоровья, я не сомневаюсь, что останусь в памяти людей
мыслящих, даже если завтра появятся еще пятьдесят писате-
лей». Со своей стороны Форстер видел в «Мартине Чезлвите»
поворотный пункт в творчестве Диккенса. По его словам, «Мар-
тин Чезлвит» — книга, которая не ограничивается изображе-
нием того, что лежит на поверхности, но глубоко вскрывает пру-
жины характеров... Диккенс уже доказал, что обладает острой
наблюдательностью, но он еще ни разу не выказывал такой си-
лы воображения, которая позволяет ныне его искусству и юмо-
ру поражать пороки, свойственные нашему времени, в самое
сердце».
Интерес к «Мартину Чезлвиту» определяется тем, что
это — роман кризисный. Это кризис в самой жизни Диккенса,
только что возвратившегося из Америки, кризис в творчестве
тридцатилетнего романиста, который после периода больших
успехов боялся растерять своих читателей. Наконец, глубочай-
шим кризисом была охвачена вся Англия 1842—1844 годов, где
нищета пролетариата становится нестерпимой, где разоренные
крестьяне поджигают собранный урожай и богатые фермы, где
Фридрих Энгельс пишет свою работу «Положение рабочего
класса в Англии».
7. Человеку тридцать лет
Определим прежде всего место «Мартина Чезлвита» в твор-
честве Диккенса. К '1843 году Диккенс уже десять лет пишет
для печати. Сначала — короткие «Очерки Боэа», своеобразные
зарисовки нравов. Большой успех приносят ему «Посмертные
записки Пиквикского клуба» (1836—1837), выходящие ежеме-
сячными выпусками. «Оливер Твист» (1837—1838), «Николас
301
Никльби» (1838—1839), «Лавка древностей» и «Барнеби Радж»
(1840—1841) утверждают триумф писателя. «Дэвид Коппер-
филд» появится семью годами позднее, чем «Мартин Чезлвит»,
«Тяжелые времена» — одиннадцатью, а «Большие ожидания» —
восемнадцатью годами позже. Когда Диккенс приступает к ро-
ману «Мартин Чезлвит», ему немногим больше тридцати лет.
Писателю еще жить и работать около двадцати восьми лет.
Он только что возвратился из путешествия в Соединенные
Штаты, принесшего ему серьезные разочарования. Он поехал
туда не потому, что хотел бежать из Англии, и не из любопыт-
ства, но чтобы, как пишет один из его последних биографов
Джек Линдсей, «проверить, не найдено ли в Соединенных Шта-
тах разрешения тех конфликтов, которые он обнаружил в Анг-
лии». Кроме того, в это время в семье Диккенса не все ладно,
его отношения с женой крайне обострились. Едва Диккенс за-
говаривает о поездке, как Кэт разражается слезами. Однако пи-
сатель пренебрег и ее воплями, и ее мольбами. Итак, из путе-
шествия он возвратился глубоко разочарованным. Он уселся за
работу и начал новый роман. Тираж первых выпусков сокра-
щался с головокружительной быстротой. Если мы хотим по-
настоящему понять «Мартина Чезлвита», следует глубже изу-
чить Чарльза Диккенса. И прежде всего вспомнить, из какой
среды он происходил и в какой стране жил.
2. Семья Диккенса
13 июня 1809 года в Лондоне, в церкви святой Марии, про-
исходила церемония бракосочетания Элизабет Барроу, дочери
Чарльза Барроу, казначея, служившего на флоте, с Джоном
Диккенсом, мелким служащим казначейства флота. Это было
как гром среди ясного неба. Элизабет была несовершеннолет-
ней, но Джон, узнав о том, что получает назначение в Портсмут,
уговорил ее добиться согласия родителей, хотя те и считали, что
принадлежат к более высокому общественному кругу, чем Дик-
кенсы. Никто из семьи жениха в церкви не присутствовал, и
это обстоятельство вместе с выпитым вином было, возможно,
источником смятения, овладевшего Джоном Диккенсом: когда
ему нужно было расписаться в церковной книге, он залез в со-
седнюю графу.
Тотчас после свадьбы молодожены уехали в Портсмут. Пол-
года спустя достопочтенный Чарльз Барроу — тесть Джона
Диккенса — в результате ревизии был обвинен в подлоге и рас-
трате 5689 фунтов стерлингов 3 шиллингов и 6 пенсов *.
* Внушительная сумма, соответствующая нескольким миллионам фран-
ков по курсу 1955 года.
302
Опасаясь уголовного преследования, он скрылся. Это происше-
ствие не навлекло административных гонений на его семью. В
конце 1810 года в Портсмуте родилась Элизабет Диккенс, ко-
торую все называли Фанни; а через два года после неприятной
истории с Чарльзом Барроу, 7 февраля 1812 года, на свет по-
явился Чарльз Диккенс.
Джон Диккенс был человек необычайно жизнерадостный,
живой, всегда готовый посмеяться и посмешить других, старав-
шийся очаровать окружающих и действительно очаровывавший
их, неутомимый рассказчик, как говорится, душа общества. Та-
кой характер весьма опасен для близких, потому что беззабот-
ная веселость его соединялась с полным пренебрежением мате-
риальными нуждами семьи; но он впадал в глубокое отчаяние,
когда накопившиеся долги угнетали его своими размерами.
Элизабет Диккенс, по-видимому, покорила в свое время не-
уемная жизнерадостность Джона. Возможно, что на нее произ-
вело впечатление и его красноречие, любовь к пышным фразам.
Но у Диккенсов было восемь детей. По мере того как семья уве-
личивалась, накапливались неоплаченные счета. Сама Элизабет
тоже была весьма речиста, но ее красноречие отличалось от
красноречия мужа: оно было менее забавным, но более едким. С
годами Джон становился все более тщеславным, а Элизабет —
более посредственной личностью, все сильнее сгибавшейся под
грузом материальных забот.
Маленький Чарльз Диккенс сохранил воспоминания о беско-
нечных ссорах между родителями. Обычно он охотно принимал
сторону отца, который гордился красавцем сыном — его очаро-
вательным лицом, вьющимися локонами, прекрасными голубы-
ми глазами; в мальчике рано проявился необычайный артисти-
ческий дар.
3. Год 1819-й
Итак, Чарльз Диккенс вошел в жизнь в семье мелких бур-
жуа, где жестокая действительность постоянно вступала в про-
тиворечие с волшебными историями, которые неутомимо расска-
зывал его отец. Первые его воспоминания относятся к одному из
величайших переворотов в мировой истории: то было время, когда
у всех на глазах проходила промышленная революция в Англии.
Возьмем произвольно 1819 год, когда Диккенсу/исполнилось
семь лет. Любители хронологии могут отметить, что в том же
году родилась девочка, которой предстояло сделаться короле-
вой Викторией; несколькими месяцами раньше на свет появил-
ся Карл Маркс, а несколькими месяцами позднее — Фридрих
Энгельс. В том же году во Франции Литературная академия
Тулузы отметила премией стихотворение семнадцатилетнего
мальчика по имени Виктор Гюго, Байрон опубликовал две пер-
303
вые песни «Дон Жуана», а Вальтер Скотт—. «Ламмермурскую
невесту».
В Англии свирепствует жестокий экономический кризис.
Безработные текстильщики сражаются за кусок хлеба. На них
обрушивают кровавые репрессии. В это же время на заводах
появляются" первые паровые машины. Впервые пароход пересе-
кает Атлантический океан.
В 1817 году Джон Диккенс получает работу на судострои-
тельной верфи в Чатаме — городе, расположенном в устье Тем-
аъ\, в сорока километрах от Лондона. Семья занимает простор-
ный трехэтажный дом на полпути между портом Чатам и ста-
рым городом Рочестер. Из окон дома видны огромные пастби-
ща. К югу раскинулась мирная старая Англия, с ее медленной и
дремотной провинциальной жизнью, с дилижансами, останавли-
вающимися у постоялых дворов. А на берегу реки — суета про-
мышленного города и тайны моря, запах смолы, свежеспиленно-
го леса, канатов и дегтя, огромные каркасы военных судов в су-
хом доке, кузнецы, кующие гигантские якоря. Чатам — это и
солдаты, моряки, каторжники, которые работают в доках под
охраной стражников. Рочестер, город с кафедральным собором,
расположенный на реке Мидуэй, символизирует прошлое. Ча-
там—будущее. И юный Диккенс очертя голову устремляется в
этот странный и противоречивый мир. Он уже умеет читать и
отвлекается от окружающих его картин только для того, чтобы
открывать для себя «Векфильдского священника» 2, «Дон Ки-
хота», «Жиль Блаза», «Тысячу и одну ночь». Он бредит расска-
зами о путешествиях, приключениями в океане. Песни моряков
поражают его воображение.
4. «Они разбили мне сердце»
Зимой 1822/23 годы Диккенсы возвращаются в Лондон.
Материальное положение семьи становится все затруднительнее,
хотя жалованье Джона Диккенса увеличилось до 350 фунтов
стерлингов в год. Тщетно они переезжают из лучших квартир
в худшие, тщетно миссис Диккенс пытается поправить положе-
ние, открывая пансион для юных девиц: когда Чарльзу испол-
нилось двенадцать лет, разразилась катастрофа. Кредиторы
являются и выносят из дому всю обстановку.
Элизабет и Джон бранятся с утра до вечера. Джона аресто-
вывают и сажают в долговую тюрьму Маршальси.
Ужасное унижение для Чарльза, он привык чувствовать себя
представителем «приличного» социального круга.
Невзгоды одна за другой обрушиваются на голову ребенка.
В тот самый день, когда Чарльзу исполнилось двенадцать лет,
7 февраля 1824 года, мать дает согласие на то, чтобы он начал
JÜ4
работать у их дальних родственников, Ламертов, которые изго-
товляют ваксу. 20 февраля его отец попадает в тюрьму.
Никогда Диккенс не забудет этого периода своей я^изни:
«Мне действительно казалось, — признается он позднее одному
из друзей, — что они разбили мне сердце».
Однажды, в понедельник утром, он отправляется работать
на фабрику. Став взрослым, Диккенс писал об этом времени:
«Меня удивляет одна вещь: с какой легкостью они выбросили
меня из дому в таком раннем возрасте. И еще меня удивляет
то обстоятельство, что; когда я вскоре после нашего приезда в
Лондон превратился в жалкого маленького раба, не нашлось ни
одного человека, который по-настоящему пожалел бы меня и
уговорил бы моих родителей сэкономить на чем-нибудь — а это,
без сомнения, можно было сделать, — чтобы отправить меня
учиться в какую-нибудь казенную школу. А ведь я был весьма
способным ребенком, живым, увлекающимся, хрупким, легко
ранимым и в физическом и в нравственном отношении. Наши
друзья, думается, уже устали помогать нам. Никто ничего не
сделал. Мой отец и моя мать были вполне удовлетворены. Они,
верно, не ощутили бы большего удовлетворения, если бы мне
было двадцать лет и я отличился бы в~ каком-нибудь колледже
или держал экзамены в Кембридж».
Фабрика по изготовлению ваксы помещалась в ветхом зда-
нии, где было множество крыс. Чарльз вместе с двумя или тре-
мя мальчуганами его возраста занимался упаковкой баночек с
ваксой. Хотя его товарищи были славными ребятами, чувство-
вал себя в своем новом положении он очень тоскливо. «Нет
слов, — писал он в своих автобиографических заметках, — чтобы
выразить тайные страдания моей души, вызванные тем, что я
очутился в такой компании; я сравнивал моих тогдашних товари-
щей с теми, что окружали меня в дни счастливого детства, и
чувствовал, что все мои надежды сделаться образованным и вы-
дающимся человеком угасали в моем сердце...»
Вскоре, как это часто бывало в те времена, Джон Диккенс
получил возможность снять в долговой тюрьме Маршальси
квартиру, и вся семья поселилась с ним вместе, за исключением
Чарльза, который приходил туда только обедать. У Джона Дик-
кенса не было никакой надежды уплатить долги, но в апреле
1824 года умерла его мать, и полученное им наследство суще-
ственно изменило положение. Он был освобожден из тюрьмы
28 мая, пробыв в ней около ста дней.
В это время старшая сестра Чарльза, Фанни, получила на-
граду в Академии музыки; это было новым испытанием для
мальчика: он и радовался успеху своей любимой сестры, и стра-
дал оттого, что на пороге жизни уже считал себя неудачником,
маленьким изгоем.
20 П. Деке
305
Он никогда не говорил об этой драме своего детства. О ней
напоминают только несколько фрагментов, вкрапленных в текст
«Дэвида Копперфилда». Лишь по воле случая однажды его луч-
ший друг Форстер, собиравший материалы для биографии Дик-
кенса, услышал нечто о фабрике ваксы. Диккенс поведал другу
о тех далеких днях, но рассказ об этих фактах был опубликован
лишь после смерти писателя.
Выйдя из тюрьмы, Джон Диккенс вскоре обнаружил, что его
сына поставили работать возле окна, потому что мальчик был
необычайно ловок и это вызывало интерес у прохожих. Джон
пришел в ярость, крупно поссорился со своим родственником,
которому принадлежала фабрика, и забрал Чарльза. Но драма
мальчика на этом не кончилась. «Мой отец сказал, что я боль-
ше никогда не вернусь на фабрику и стану учиться в школе. Я
пишу обо всем этом без злобы и гнева, ибо знаю, что эти со-
бытия послужили тому, что я стал тем, кто я есть; однако я ни-
когда не забывал о них и никогда не забуду, никогда я не смогу
забыть, что мать горячо желала моего возвращения на фаб-
рику...»
До какой степени все это потрясло маленького Диккенса,
можно судить по нижеследующему рассказу, который приводит
Анд ре Мору а:
«В воспоминаниях сэра Генри Диккенса, сына писателя, со-
держится рассказ о любопытной сцене. Она произошла в ночь
под рождество, незадолго до смерти Диккенса. Уже тяжело
больной, он лежал на софе и играл со своими детьми в игру; она
заключается в том, что подряд называются слова, связанные
между собой только тем, что последний слог предыдущего слова
становится первым слогом последующего. Кто-то назвал слово,
оканчивавшееся слогом «у о р», была очередь Диккенса, он как-то
странно замигал и произнес дрогнувшим голосом: «Уорене Блэ-
кинг, Стрэнд тридцать...» Дети ничего не поняли, но тон, кото-
рым были произнесены эти слова, привлек их внимание. В то
время они еще ничего не знали о тяжелом детстве отца. Когда
после его смерти появилась биография, написанная Форстером,
они обнаружили, что слова, которые их отец, словно повинуясь
неодолимому желанию, произнес с таким трудом, означали ад-
рес фабрики ваксы, где он ребенком зарабатывал на жизнь, в
то время как его отец, Джон Диккенс, находился в тюрьме».
5. Палочная дисциплина и школа жизни
Чарльз поступил в школу. Отец отправил его к мистеру
Джонсу, директору «Веллингтонского академического учебного
заведения». Слова звучат внушительно, но не отвечают действи-
306
тельности. Уроки проходили под аккомпанемент палочных уда-
ров. Учитель был малообразован, туп и с садистскими наклон-
ностями. Чарльз, избавившись от горестной жизни бедных детей,
втянутых в промышленное производство, очутился в печальном
положении ученика, которого тиранят и истязают; судьба как
будто хотела, чтобы он на собственном опыте познакомился со
всеми сторонами жизни того времени, когда капиталистическое
насилие сочеталось с царившим в обществе лицемерием и иди-
отской суровостью устаревшей системы школьного образования,
тяжело угнетавшей детей. Мистер Джонс был груб, но умел кое-
чего добиваться; вот почему, когда Чарльзу вновь пришлось
оставить школу, он уже обладал некоторыми начатками знаний.
У него был хороший почерк, и его пристроили работать клер-
ком к какому-то стряпчему.
Отцу Чарльза удалось получить от казначейства флота пен-
сию в размере 145 фунтов стерлингов в год. Этого, как нетрудно
догадаться, было недостаточно *, наследство быстро таяло. Джон
Диккенс, который испытывал тяготение к литературным заня-
тиям, устроился в 1825 году с помощью своего шурина Джона
Барроу на должность парламентского репортера агентства «Бри-
тиш Пресс». Чарльз завидовал своему отцу, он истратил все
свои сбережения и приобрел руководство по стенографии, «Ско-
ропись» Гернея, за которое ему пришлось уплатить два шиллин-
га шесть пенсов. Впоследствии он рассказал о трудностях своего
обучения стенографии в романе «Дэвид Копперфилд».
В конце 1828 года он счел себя достаточно подготовленным
и бросился в бушующее море жизни: начал работать на соб-
ственный страх и риск в суде лорда канцлера; кроме того, он
писал небольшие репортерские заметки. Очень скоро он стал
великолепным стенографом, а в марте 1832 года исполнилась
его давняя мечта — он сделался парламентским репортером га-
зеты '«Истинное солнце» («The True Sun»). Ему только что
исполнилось двадцать, лет.
6. Первая большая любовь
Диккенс не только открывает для себя Лондон, перепрыги-
вая через его сточные канавы, не только изучает стенографию,
а заодно и все то, что в суде или парламенте становится ему
ясным о мире и человеческих отношениях. Он старательно по-
сещает библиотеки, ходит в театр, обрабатывает пьесу Гольдони
«Хитрая вдова» («La Vedova scaltra»); свою переработку он
называет «Уловки Розанцы», маленькая венецианская комедия,
* Для Джона Диккенса, разумеется. В те времена существовало и жа-
лованье в размере полутора фунтов стерлингов в месяц. Именно столько
получи Чарльз на фабрике ваксы
20*
307
написанная Ч. Дж. Дж. Диккенсом». Он собирается эмигриро-
вать нр. Антильские острова; об этой мечте будет упомянуто
в романе «Барнеби Радж». Сестра Фанни знакомит его с миром
Академии музыки. Она восхитительно поет. Ее красота произ-
водит впечатление на окружающих. Чарльз заводит знакомство
со многими молодыми людьми; они развлекаются, ставя люби-
тельские театральные спектакли. И вот однажды — это было в
1830 году — он встречается с Марией Биднелл, дочерью банкира
с Ломбард-стрит, и страстно влюбляется в нее. Возможно, что
Мария Биднелл послужила прообразом Доры из «Дэвида Коп-
перфилда». «В одно мгновение все свершилось, я сделался плен-
ником и рабом. Я безумно полюбил Дору... Не знаю, что имен-
но привлекало в ней — нечто такое, чего никто никогда не видел,
но к чему каждый всегда стремится...»
Эта огромная страсть продолжалась два года. Юная Мария
Биднелл была весьма разумна. У нее явно не было никакого
желания выходить замуж за Диккенса, но флиртовать с ним
ей было весьма приятно. Надо сказать, что Биднеллы всегда
умудрялись выдавать своих дочерей за солидных дельцов.
Видимо, Мария Биднелл немало забавлялась, она держала
себя с Чарльзом Диккенсом, как опытная кокетка, уверенная
в себе. Помимо образа Доры, любовь вдохновила Диккенса на
создание нескольких весьма посредственных стихотворений.
Диккенс много страдал. Ему было двадцать лет, и в его
глазах еще долго все женщины оставались жестокими, бессер-
дечными, неспособными серьезно относиться к жизни...
Несомненно, Мария Биднелл в конце концов вышла замуж
за делового человека. Но эту историю надо принимать всерьез.
Диккенс всегда считал, что этот эпизод оказал решающее вли-
яние на всю его жизнь. И, когда Форстер в 1855 году попро-
бовал усомниться в этом утверждении, Диккенс написал ему:
«Мне не совсем понятно, что вы хотите сказать, заявляя о том,
будто я «преувеличиваю значение чувства, которое испытал два-
дцать пять лет назад». Если вы представите себе мои тогдашние
чувства, если вы подумаете о неистовой силе моего темперамен-
та и о том, что все это началось, когда я был в возрасте Чарли
(старший сын Диккенса, которому было в то время восемна-
дцать лет. — П. Д.), что я на протяжении четырех лет был все-
цело занят мыслями о ней, а в молодости четыре года стоят
добрых шестнадцати, если вы вспомните, что я боролся в этой
ситуации с тем стремлением преодолеть все трудности, которое
дозволило мне добиться положения журналиста и подняло меня
над сотнями моих современников, — если вы помыслите обо
всем этом, то поймете свою неправоту, ибо я вовсе не преуве-
личиваю силу моего тогдашнего чувства. С той поры я так и не
утратил чувства удивления перед самим собой...»
308
7. Журналист
Жизнь Диккенса-журналиста... Предоставим опять слово
Джону Форстеру, который в 1832 году был молодым театраль-
ным критиком из Ньюкасла, также поступившим на работу в
газету «Истинное солнце». В первый раз он увидел Диккенса во
время всеобщей забастовки репортеров... «Я хорошо помню, —
пишет Форстер, — что в эти трудные минуты заметил на лест-
нице роскошного дома, где помещалась редакция газеты, моло-
дого человека моего возраста, чей оживленный и возбужденный
вид не мог не привлечь к себе внимания. Я навел справки и
тогда впервые услышал его имя. То, что мне рассказали о нем,
было очень интересно: «Диккенс-младший» был рупором непри-
миримых репортеров и победоносно руководил их стачкой».
Диккенс открывал для себя новый мир. И не* только в связи
с тем эпизодом, о котором я только что рассказал и по поводу
которого его биографы, за исключением Джека Линдсея, хра-
нят молчание, но и вследствие того, что «Диккенс-младший»
занимался репортажем, то есть излагал, пересказывал факты.
Занятия Диккенса в то время действительно определяются свое-
образной игрой слов: по-английски слово «репортер» употреб-
ляется для обозначения и стенографа палаты общин, и того,
кто пишет отчет о дебатах, то есть журналиста. Едва начав за-
ниматься этим ремеслом, Диккенс сталкивается с важным собы-
тием — избирательной реформой.
Английская парламентская система в то время, как и сего-
дня, предполагала две палаты — палату лордов и палату общин.
Но в ту пору в силу влияния законов и избирательных тради-
ций палата общин целиком находилась в руках лордов, то есть
крупных землевладельцев. В 1832. году в результате продолжи-
тельной кампании, предпринятой в первую очередь складываю-
щейся промышленной буржуазией, аристократия сочла нужным
пойти на уступки и «произвести избирательную реформу, полу-
чившую название «Билля о реформе» («Reform Bill»).
Теоретически депутаты избирались существовавшими с дав-
них пор населенными пунктами. В связи с начавшейся полвека
назад промышленной революцией немало такого рода населен-
ных пунктов исчезло с лица земли, но от них по-прежнему из-
бирали депутатов. Такие гнилые местечки, как их назы-
вали, предоставляли возможность крупным землевладельцам, ко-
торым они принадлежали, по своему выбору назначать депута-
тов. Так,, лорд Лоунсдэйл располагал девятью голосами в пала-
те общин, лорд Хорсфорд — восемью, столькими же депутатами
распоряжался и лорд Фитцуильям... Избирательная реформа
уничтожила 167 гнилых местечек и передала право избиоать
депутатов, которые раньше посылались от них, большим, бурно
309
развивавшимся городам. Одновременно было сознательно про-
ведено еще одно либеральное начинание: число избирателей в
стране увеличили с трехсот до... девятисот тысяч. Лорд Дэдли
вопил, что Англия вот-вот превратится в республику, старик
Веллингтон — участник сражения при Ватерлоо — предсказы-
вал кровопролитную революцию. Лорд Сефтон пошел еще даль-
ше: «Через два года в Европе не останется ни одного короля,
а через пять лет всякая собственность будет уничтожена...»
Чтобы лучше почувствовать все остроумие этого пророчег
ства, достаточно сравнить его с анализом положения в Англии,
который Энгельс через несколько лет дал в своих статьях, по-
мещенных осенью 1844 года в газете «Pariser Vorwärts» *.
«...теперь возникает вопрос: кто же, в сущности, правит в
Англии? Правит собственность. Собственность дает возмож-
ность аристократии направлять выборы депутатов от сельских
округов и мелких городов; собственность дает возможность
купцам и фабрикантам влиять на избрание депутатов от боль-
ших, а частью также и от мелких городов; собственность дает
возможность тем и другим усиливать свое влияние путем под-
купа. Господство собственности определенно признано Биллем
о реформе посредством установления ценза... Англия, конечно,
демократическая страна, но демократическая в том же смысле,
как и Россия; ибо народ везде, не сознавая этого, господствует,
и во всех государствах правительство является только другим
выражением степени образованности народа...» **
Диккенс присутствовал на заседаниях парламента перед из-
бирательной реформой, он присутствовал на этих заседаниях по-
сле реформы и... не нашел никаких серьезных изменений. И по
понятной причине!
Он увидел новых депутатов за работой — во время обсужде-
ния законов, направленных на подавление ирландского движения
за независимость. Когда О'Коннел 3 рассказывал о бунте ирланд-
цев против десятины, Диккенс не мог стенографировать его
речь — до такой степени он был взволнован. Итак, как видим,
Диккенс против репрессий; не следует забывать, что его работа
стенографом в парламенте оказала на писателя глубокое влия-
ние.
Пребывание в адвокатской конторе наполнило его глубоким
презрением к комедии правосудия. Работа в парламенте убедила
его, что парламент этот — только обман, только фасад, который
* «Положение в Англии» («Die Lage Englands»). Напомним для срав-
нения, что во Франции избирательный закон 1831 года снизил ценз с
300 франков до 200 франков для избирателей и с 1000 франков до 500
франков для избираемых. С этого времени число избирателей составляло
200 000 человек при населении страны в 33,5 миллиона.
** К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 1, стр. 626—627.
310
под прикрытием свободного обсуждения позволяет власть иму-
щим протаскивать — оставаясь в тени и благодаря этому -— нуж-
ные им решения. Конечно, Диккенс не знал, как изменить эту
систему, но он навсегда сохранил убеждение, что парламентская
система несправедлива, противоречит устремлениям народа, при-
думана для того, чтобы уклоняться от выполнения этих устремле-
ний, а не для того, чтобы их проводить в жизнь.
Опыт, почерпнутый в парламенте *, побудил Диккенса на-
писать произведение, не имевшее никакого отношения ни к его
парламентским отчетам, ни к его стихотворениям, ни к его теат-
ральным опытам. Речь идет о сатирической сказке, героями ко-
торой были Хауза Каммаунс (House of Commons, то есть палата
общин) и одалиска Риформ (реформа); в этом произведении
он обличал продажность и лицемерие депутатов, за пышными
словами скрывающих свои мелкие делишки. Сказка эта покои-
лась в ящиках письменного стола писателя до 1855 года: в этом
году Диккенс придал ей злободневный характер, введя в нее
новое действующее лицо — Пальмерстона4, и опубликовал ее
под заглавием «Тысяча и одна мистификация».
8. Рождение писателя
В ту пору Диккенс отдыхал от своих трудов в парламенте,
сочиняя небольшие сценки, рисовавшие нравы. Однажды он
пришел к выводу, что одна из этих историй уже вполне готова.
Она называлась «Обед на Поплар-Уок» («Dinner at Poplar Walk»).
Речь в ней шла о богатом пятидесятилетнем человеке, который
не выносит собак и маленьких детей. Однажды какой-то родст-
венник приглашает его на прогулку. Герой рассказа встречается
со злой собакой и балованным ребенком; придя в. ярость, он ли-
шает наследства и родственника, и всю его семью.
Как-то ноябрьским^вечером 1833 года Диккенс опустил свою
рукопись в ящик для писем редакции журнала «Мансли мэгэ-
зин». Через несколько дней, в начале декабря, он купил свежий
номер журнала. Его очерк был опубликован. Молодой писатель
был взволнован до слез.
За первым очерком последовало шесть других. Все они были
приняты. Правда, оплачены они были не лучше, чем первый.
Между тем Диккенс перешел на работу в газету «Кроникл».
Теперь ему платят пять фунтов в неделю — независимо от того,
происходит сессия в парламенте или нет. В августе 1834 года
он избирает себе псевдоним Боз, которым и подписывает свои
очерки. Читатели начинают обращать на него внимание. Работа
* См. Jack Lindsay, Charles Dickens, pp. 84, 89.
311
в парламенте обогащает его опытом. Он пишет отчеты о «За-
коне о бедных», который только увеличивает его презрение к
лицемерным парламентским реформам.
Чтобы лучше понять, о чем идет речь, следует обратиться к
анализу этого вопроса, который дал молодой Энгельс в своей
работе «Положение рабочего класса в Англии».
«Но, пока власть еще находится в руках богачей, пролетарии
вынуждены мириться с тем, что закон объявляет их действи-.
тельно «излишними», даже если они сами не хотят признать
этого добровольно. Именно это и делает новый закон о бедных.
Старый закон о бедных, основанный на акте 1601 года (43-й год
царствования Елизаветы), еще наивно исходил из того принци-
па, что забота о содержании бедных лежит на приходе. Тот, кто
не имел работы, получал пособие, и с течением времени бедняк
совершенно естественно стал считать, что приход обязан защи-
тить его от голодной смерти. Он требовал своего еженедельного
пособия не как милости, а по праву, и буржуазии это наконец
надоело. В 1833 году, когда она благодаря избирательной ре-
форме пришла к власти, а пауперизм к этому времени достиг
своего апогея в сельских местностях, она сразу *■ приступила к
пересмотру законодательства о бедных со своей точки зрения.
Была назначена комиссия, которая обследовала попечительство
о бедных и раскрыла очень много вопиющих фактов. Она обна-
ружила, что весь рабочий класс сельских округов превратился
в пауперов, всецело или частично зависящих от касс для бед-
ных, которые при низкой заработной плате выдавали нуждаю-
щимся некоторую прибавку. Комиссия пришла к выводу, что
система, которая содержит безработных, поддерживает низко-
оплачиваемых и многодетных, заставляет отца внебрачных детей
давать средства на их пропитание и вообще признает право бед-
няков на защиту, — что эта система-де разоряет страну,
«тормозит развитие промышленности, поощряет необдуман-
ные браки, содействует увеличению населения и парализует вли-
яние роста населения на заработную плату; что она представляет
собой национальный институт, который отбивает у трудолюби-
вых и честных людей желание работать, а ленивых, распущен-
ных и легкомысленных поощряет; что она разрушает семейные
узы, систематически препятствует накоплению капиталов, рас-
ходует существующие капиталы и разоряет налогоплательщи-
ков; что она, кроме того, как бы назначает премию за внебрач-
ных детей в форме алиментов» (из отчета комиссии по закону
о бедных).
Действие старого закона о бедных в общем и целом обрисо-
вано здесь правильно: вспомоществования поощряют леность и
содействуют увеличению «излишнего» населения. При современ-
ных социальных отношениях бедняк, несомненно, вынужден быть
312
эгоистом, и если ему предоставляется выбор — работать или ни-
чего не делать при одинаковых условиях жизни, то он предпо-
читает второе. Отсюда, однако, следует только то, что современ-
ные социальные' отношения никуда не годятся, а вовсе не то, к
чему приходят члены комиссии, мальтузианцы, а именно что
бедность — преступление и что с ней следует бороться путем
устрашения.
Но эти мудрые мальтузианцы были так убеждены в непо-
грешимости своих взглядов, что они без всяких колебаний уло-
жили бедняков в прокрустово ложе своей теории и применили
ее к ним с самой возмутительной жестокостью. Будучи убеж-
дены вместе с Мальтусом и другими сторонниками свободной
конкуренции, что лучше всего предоставить каждому самому
заботиться о себе и проводить последовательно laissez faire, они
охотнее всего совсем отменили бы законодательство о бедных.
Но так как для этого у них не хватало смелости и авторитета,
то они предложили закон о бедных, возможно более соответ-
ствующий мальтузианским воззрениям и еще более жестокий,
чем простое применение принципа laissez faire, так как там, где
этот принцип остается пассивным, закон о бедных вмешивается
активно. Мы видели, что Мальтус, называя бедняка, или вер-
нее безработного, «излишним», объявляет его преступником, ко-
торого общество должно карать голодной смертью. До такого
варварства члены комиссии, правда, не дошли: прямая, явная
голодная смерть представляет собой нечто ужасное даже в гла-
зах члена комиссии по закону о бедных. Хорошо, — сказали
они, — вы, бедные, имеете право на существование, но только
на существование; вы не имеете права на размножение и тем
более не имеете права на человеческое существование.
Вы — бич для страны, и если мы не можем немедленно вас
устранить, как всякий другой бич, то вы по крайней мере
должны себя чувствовать таковым; вас надо держать в узде,
вас надо лишить возможности непосредственно производить на
свет других «излишних» или косвенно вовлекать своим приме-
ром людей на путь лености и безработицы. Живите, но только
в качестве предостережения всем тем, у кого могли бы появить-
ся основания тоже стать «излишними».
Итак, они предложили новый закон о бедных, принятый
парламентом в 1834 году и остающийся в силе и поныне. Все
пособия деньгами или продуктами были отменены; допускалась
только одна форма помощи — помещение в работные дома, ко-
торые были немедленно построены повсюду. Но эти работные
дома (workhouses), или, как народ их называет, бастилии для
бедных (poor-law-bastilles), устроены так, чтобы отпугнуть от
себя каждого, у кого осталась хоть малейшая надежда прожить
без этой формы общественной благотворительности. Для того
313
чтобы человек обращался в кассу для бедных только в самых
крайних случаях, чтобы он прибегал к ней, только исчерпав все
возможности обойтись собственными силами, работный дом пре-
вратили в самое отвратительное местопребывание, какое только
может придумать утонченная фантазия мальтузианца. Питание
в нем хуже, чем питание самых бедных рабочих, а работа тяже-
лее: ведь иначе рабочие предпочли бы пребывание в работном
доме своему жалкому существованию вне его. Мясо, в особен-
ности свежее, обитатели работного дома видят очень редко; они
получают большей частью картофель, хлеб самого плохого ка-
чества, овсяную кашу, пиво в очень малом количестве или со-
всем его не получают. Даже в тюрьмах питание в среднем луч-
ше, так что обитатели работного дома часто нарочно совершают
какой-нибудь проступок, чтобы только попасть в тюрьму. Ведь
работный дом — та же тюрьма. Кто не выполняет положенного
ему количества работы, не получает еды; кто хочет пойти в го-
род, должен предварительно просить разрешение, в котором ему
может быть отказано в зависимости от его поведения или от
того, какого мнения о нем надзиратель; употребление ' табака
запрещается; запрещается также принимать подарки от друзей
и родственников вне работного дома. Пауперы носят форму ра-
ботного дома и целиком отданы на произвол надзирателя. Что-
бы их труд не конкурировал с частной промышленностью, им
дают большей частью довольно бесполезную работу; мужчин
заставляют разбивать камни, и они должны разбить их столько,
«сколько может разбить сильный мужчина при напряженной
работе в течение дня»; женщины, дети и старики щиплют ста-
рые канаты, не помню уж для каких целей. Чтобы «излишние»
не могли размножаться и чтобы «деморализованные» родители
не влияли на своих детей, семью разбивают: мужа помещают в
одном корпусе, жену в другом, а детей в третьем. Видеться они
могут только изредка, в определенное время, да и то лишь в
случае, если они, по мнению администрации, хорошо себя вели.
А для того, чтобы в этих бастилиях зараза пауперизма была
совершенно изолирована от внешнего мира, обитатели могут
принимать посетителей только с разрешения начальства и в
особой приемной, да и вообще могут общаться с другими людьми
только под надзором или с разрешения начальства» *.
В октябре 1834 года здание палаты общин было уничтожено
пожаром. В силу существовавших тогда условий причины ка-
тастрофы показались Диккенсу символическими. Вот что гово-
рит по этому поводу Джек Линдсей: «Долгое время учет в каз-
начействе (Exchequer) велся по допотопному методу, который
состоял в том, что делались отметки, зарубки на палочках из
•К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 2, стр. 505—508.
' 314
вяза. В царствование Георга III пришли к мысли о том, чтобы
вести учет на обыкновенной бумаге; однако разгорелась долгая
борьба против этого нововведения. Употребление палочек из
вяза было отменено лишь в 1826 году. Восемь лет спустя обна-
ружили, что большая часть палочек изъедена червями и при-
шла в негодность; тогда решили уничтожить их «частным и
конфиденциальным образом» и, вместо того чтобы отдать их
беднякам на топливо, палочки стали сжигать в печах парламен-
та, вследствие чего и загорелась деревянная обшивка стен...»
Вот такой вывод сделал Диккенс из этой истории: «Весь
обветшалый древний хлам, который давно уже отброшен време-
нем, носит в себе зародыш гибели и разрушения. Раньше или
позже он приводит к возникновению опасного пожара».
В довершение всего Диккенсу пришлось через несколько
месяцев близко наблюдать кампанию по всеобщим выборам
1833 года. Он детально изучил ее. И еще лучше постиг, что по-
всюду царит продажность. Одновременно он пишет все новые
и новые очерки, которые публикует теперь в газете «Ивнинг
Кроникл» («Evening Chronicle»), получая за это семь гиней в
неделю. В двадцать три года он становится известным челове-
ком. Ему сопутствует успех. Теперь он знает, что сможет про-
кормить себя пером.
9. Любовный роман и роман
Диккенс подружился с Джорджем Хогартом, который также
сотрудничал в газете «Кроникл». Хогарт тоже пишет. Он был
поверенным Вальтера Скотта и имел хорошие связи. У него
четыре дочери. Две уже взрослые — Кэтрин и Мэри, обе пре-
лестны; третья, Джорджина, еще совсем ребенок, а последняя,
Элен, — трехлетняя крошка. Чарльз влюбляется в Кэтрин, и эта
двадцатилетняя девушка входит в его жизнь под уменьшитель-
ным именем Кэт.
Кэт столь же миниатюрна, как Мария Биднелл, и очень
хороша собой: у нее пухлые розовые щечки, ничем не примеча-
тельные черты, голубые глаза с почти всегда опущенными веками
и чуть вздернутый носик. Она невозмутимо спокойна и немного
мечтательна. Любовь к Кэт совпадает с переворотом в творче-
стве Диккенса — с рождением его первого романа.
В ту пору, когда Диккенс обручился с Кэт, модный кари-
катурист Сеймур увлекся очерками Боза; он предложил своим
издателям выпустить серию рисунков, к которым Боз сделает
подписи. Сеймур задумал изобразить группу спортсменов-люби*
телей, членов «Охотничьего клуба», которые больше говорят,
чем увлекаются спортом.
315
Все это происходило в канун рождества 1835 года.
Когда появился первый выпуск «Посмертных записок Пик-
викского клуба», — это было в начале апреля 1836 года — оказа-
лось, что на самом деле Сеймур проиллюстрировал текст Дик-
кенса, который даровал бессмертие этому клубу и образу ми-
стера Пиквика с его округлым брюшком, короткими ручками,
очками и белым жилетом.
Тут мы уже вступаем в период жизни Диккенса, который
хорошо известен. Пиквику предстояло стать героем романа вме-
сте со своим верным слугой Сэмом Уэллером: они-то и прине-
сли ежемесячным выпускам ошеломляющий успех. Первый вы-
пуск был напечатан тиражом пятьсот экземпляров. Пятнадцать
месяцев спустя тираж увеличился более чем в сто раз.
Как только вышел первый выпуск «Пиквика», в апреле 1836
года, Диккенс женился на Кэт...
Со стороны его жизнь кажется вполне счастливой. Он объ-
единяет в отдельную книгу «Очерки Боза». Все издатели напе-
ребой просят у него романов для издания их ежемесячными вы-
пусками. .За «Пиквиком» следует «Оливер Твист». Это — дра-
матическая история сиротки, который проводит свое детство
в одном из ужасных работных домов — убежищ; созданных
в связи с принятием нового закона о бедных; это название в
Соединенных Штатах применяется к исправительным домам для
малолетних, что, как мы только что убедились, куда более со-
ответствовало действительности. Еще до окончания «Оливера
Твиста» начинает публиковаться следующий роман Диккенса —
«Николас Никльби».
И тогда Диккенс попробовал отказаться от этой формы ро-
мана, опубликовав серию небольших историй, как мы сейчас ска-
зали бы, новелл; однако тираж падает, и Диккенсу приходится
отступиться от своего намерения. Вот каким образом рождается
«Лавка древностей», за которой тут же следует «Барнеби Радж».
За пять лет Диккенс написал от четырех с половиной до пяти
тысяч страниц художественной прозы, не считая статей и те-
атральных пьес. Тираж выпусков «Лавки древностей» достиг
семидесяти тысяч экземпляров. Теперь все знают Диккенса, все
увлекаются судьбой его героев. В Соединенных Штатах изда-
тели его обкрадывают, но повсюду писателя чествуют, окружа-
ют вниманием, говорят ему льстивые комплименты. Никогда
еще романист не пользовался столь шумным успехом, не был
столь популярен. Все это верно, но это лишь видимость. Ничто,
казалось, не предвещало кризиса, о котором мы упоминали, ко-
гда старались определить место «Мартина Чезлвита» в творче-
стве Диккенса. Сказать ничто — значит сказать очень много
и очень мало. Произнося это слово, мы упускаем из виду внут-
реннее состояние тридцатилетнего человека, молодого мужа юной
316
Кэт, молодого отца семейства, модного романиста, перед ко-
торым самый его успех поднимает множество проблем. Когда
мы произносим это слово, то все последующее представляется
нам, употребляя излюбленное выражение англичан, «молнией
среди ясного неба» («The bolt from the blue»). Произнося это
короткое и неопределенное слово, мы проходим мимо того, что
волновало Чарльза Диккенса в 1842 году, когда ему было три-
дцать лет.
10. Отнюдь не викторианская любовь
«Мартин Чезлвит» — один из наименее ханжеских романов
в том смысле, в каком это слово употребляется, когда речь идет
о викторианской эпохе. Вовсе не потому, что в нем описывается
плотская любовь, о нет, но потому, что последствия лицемерия
вскрыты в нем с удивительной наглядностью, они показаны в
образе типичного лицемера — мистера Пекснифа, который с тру-
дом обуздывает свое явное влечение к женщинам. Диккенс ни->
когда не упускает случая описать борьбу, происходящую в ду-
ше этого достопочтенного джентльмена, между его вожделени-
ями и требованиями общественной морали. Напротив, писатель
с истинным мужеством обращает внимание на эту душевную
борьбу Пекснифа, что, без сомнения, порождало трудности при
распространении романа. Знаменитое место, когда мистер Пек-
сниф, сидя в ночной рубашке, совершенно пьяный, рассуждает
о человеческих ногах вообще и о женских ножках в частности,
стоит знаменитой сцены между Тартюфом и Эльмирой, когда
Тартюф заявляет: «Я бархат пробую, какой он обработки».
«Мартин Чезлвит» был написан в пору, когда душу самого
Диккенса глубоко волновали чувства, правда отнюдь не схожие
с теми, которые он клеймит в Пекснифе, но приводившие его в
смятение, хотя они и не носили сексуальной окраски; это со-
стояние позволяло писателю должным образом оценить все, что
было показного, внешнего в ханжеской морали, царившей в
обществе.
В апреле 1842 года, посетив Ниагарский водопад, Диккенс
писал: «Как много я отдал бы за то, чтобы дорогая мне юная
девушка, чей прах покоится на Кинсел Грин, была жива и со
провождала нас. Но она поистине много раз незримо присут-
ствовала здесь на земле, после того как её прелестный лик воз-
несся к небу; да, я в этом уверен».
За год до этого Диккенс сделал подобное же признание:
«Желание быть похороненным рядом с нею все так же сильно
во мне, как и пять лет назад, и я знаю (ибо я не думаю, что
когда-либо существовала любовь, подобная той, какую я к ней
317
испытывал), что желание это никогда не угаснет. Боюсь толь-
ко, что это мне не удастся...»
А еще тремя годами раньше, в 1838 году, когда Диккенс в
одном из писем рассказывает своей теще миссис Хогарт о том,
как были отпразднованы первые именины его сына, он уже
через несколько строк отклоняется от темы письма и говорит:
«В этот самый день — год назад — Мэри и я отправились гу-
лять; мы бродили по Холборн и соседним улицам долгие часы.
Мы разыскивали небольшой столик для спальни Кэт. В конце
концов мы купили его в первой же лавке старьевщика, где он
попался нам на глаза. Мы проходили мимо этой лавки по мень-
шей мере шесть раз, но не заходили в нее, потому что мне не
хотелось справляться о цене. Я отвез Мэри в Бромптон, где
она должна была провести ночь, потому что у нас не было ме-
ста... Она снова пришла на другой день, чтобы вести мое хозяй-
ство. Она оставалась у нас до кон^а месяца. Я никогда не буду
вновь так счастлив, как я был в те дни в наших высоченных
комнатах, — никогда, даже если буду купаться в лучах славы
и иметь кучу денег, — и я хотел бы, если бы я имел для этого
достаточно средств, снять эти комнаты, чтобы они так и стояли
пустыми...»
Это звучит, как «Дьявол во плоти» 5 того времени.
Героиня всех его произведений — Мэри. Мэри, а не Кэт.
Мэри, которой было шестнадцать лет, когда ее сестра вышла
замуж за Диккенса* Она была очень хороша, просто прелестна.
Когда Кэт забеременела и пребывала в мрачном расположении
духа, никуда не желая выходить из дому, Чарльз обычно бывал
в обществе и на прогулках со своей юной свояченицей.
Шестого мая 1837 года Мэри возвращалась из театра Сент-
Джемс в обществе Чарльза и Кэт; внезапно она почувствовала
себя плохо, потеряла сознание и начала задыхаться. В пять ча-
сов утра она испустила последний вздох на руках у Чарльза.
Глубоко страдавший Диккенс снял с безымянного пальца Мэри
колечко, надел на свой мизинец и до самой своей смерти не сни-
мал era
Все это происходило через месяц после рождения первенца
Диккенса. Через тринадцать месяцев после его бракосочетания
с Кэт.
Таковы факты.
Нет никаких оснований идти дальше, воображать, что меж-
ду Мэри и Чарльзом существовали иные отношения, кроме тех,
о которых мы рассказали.
Но, как мы уже видели, у этой истории было продолжение.
Чарльз не забыл юной Мэри, и воспоминания о молоденькой
свояченице продолжали преследовать его на протяжении всей
жизни. А потом, ведь мы имеем дело с романистом.
318
Центральной героиней «Лавки древностей» становится де-
вочка Нелли, которая живет среди злых и жестоких людей. Мы
знаем, что Диккенс, работая над этим романом, отождествлял
маленькую Нелли с Мэри. Дойдя до середины книги, он наме-
ревался привести роман к счастливому концу, но его друг Фор-
стер заметил, что предпочтительнее закончить его гибелью юной
героини: в этом случае ее чистый прелестный образ никогда не
потускнеет; кроме того, говорил Форстер, такой конец будет
более оригинальным. Диккенс, последовал совету. Но вскоре
пожалел об этом, пожалел до такой степени, что все больше
растягивал роман, чтобы отдалить минуту смерти Нелли. Сохра-
нилось его письмо к Форстеру, помогающее нам понять душев-
ное состояние писателя: «Эта смерть ввергает меня в мрачное
отчаяние, я с трудом заставляю себя продолжать писать.- Я не
скоро оправлюсь от всего этого. Никто больше меня не будет
жалеть Нелли. Ее смерть необыкновенно тягостна для меня, я
даже не могу выразить степени своего горя. Все старые раны
начинают кровоточить, едва я мысленно представляю себе, что
мне придется описывать ее смерть. Одному богу известно, что
я буду испытывать, рисуя ее кончину! Когда я думаю об этой
горестной истории, мне начинает казаться, что бедняжка Мэри
умерла только вчера».
Это глубоко скрытое в тайниках души Диккенса противоре-
чие между его истинными чувствами и внешними условиями его
жизни — женитьба на старшей сестре Мэри и вся обстановка
того времени не позволяли писателю открыто касаться таких
тем — не могло* не сыграть свою роль в душевном смятении Дик-
кенса-человека; оно во многом сделало его таким, каким он был
в 1840—1842 годах.
«Лавка древностей» — одна из вершин творчества Диккен-
са. История маленькой Нелли глубоко взволновала читателей;
в то же время личная драма писателя подводит нас не только
к проблеме взаимосвязи между биографией и творчеством ро-
маниста, о чем мы говорили выше; тревога, рожденная самим
успехом книги, поднимает в душе писателя такие вопросы, ко-
торые затрагивают саму сущность его творчества.
//. «Мартин Чезлвит», или Появление поездов в романе
Да, мы подошли к перелому в творчестве Диккенса-рома-
ниста. Если взять все его романы, написанные до сих пор, за
исключением «Оливера Твиста», то мы все еще находимся в
мире, не испытавшем быстрого развития капитализма, харак-
терного для 30-х годов XIX века. Мир «Пиквика» и в еще
большей степени «Николаса Нчк\ьби» — типический мир XVIII
31У
века, мир наполовину деревенский, где всем управляют сквай-
ры, мелкие помещики, играющие в ту эпоху важнейшую роль.
По самой своей форме «Николас Никльби» — это роман
XVIII века, очень близкий романам Филдинга и Смоллета; по-
знание мира в нем осуществляется в путешествии, его реализм —
еще реализм плутовского романа, где развитие сюжета неотдели-
мо от ощущения новизны, от атмосферы непривычного, экзотиче-
ского, окружавшей в те времена даже самое короткое путеше-
ствие, представлявшееся рискованным, так как человек отдавал
себя на милость дилижансов. Именно в «Мартине Чезлвите» у
Диккенса впервые появляются железные дороги. Правда, про-
исходит это в Соединенных Штатах *. Надо только представить
себе, какую огромную роль играли они в разрушении той спо-
койной деревенской жизни, какую Диккенс наблюдал в детстве
на берегах Темзы, когда семья жила на полпути между Чата-
мом и Рочестером. Разумеется, романист еще далек от, того,
чтобы полностью отдать себе отчет в том, как решительно из-
менится окружающий ландшафт с появлением машины, и в
последствиях, какие промышленная революция вызовет в самых
глухих уголках страны. Разрушенные дома, преображенные лан-.
дшафты, решительная ломка старых, традиционных форм жиз-
ни — все это появится в творчестве Диккенса лишь позднее, в
романе «Домби и сын». Но по зданию общественного порядка
уже нанесен удар, и Диккенс-романист это знает. Читатели
века железных дорог, англичане, живущие после избирательной
реформы, в эпоху быстрого промышленного развития, ожидают
от писателей чего-то нового. Когда Диккенс говорит в «Мартине
Чезлвите» о дилижансах, он волнуется уже как человек, вызы-
вающий в памяти образы умирающего прошлого.
Это прошлое умирает также и в литературе.
Если в 1830 году у нас во Франции романтизм еще празд-
нует триумф, то в Англии он уже идет к закату. Байрон умер
в Миссолунги в 1824 году. Нет уже ни Китса, ни Шелли. Валь-
тер Скотт принадлежит к другой эпохе. В 1830 году мы уже
встречаемся с подражателями Скотта, посредственными писате-
лями, которых вскоре забудут. Социальный роман в это время
представлен поверхностными и циничными наблюдателями, та-
кими, как миссис Гор или леди Дакр. Дизраэли 6 публикует в
1833 году свою книгу «Контарини Флеминг» («Contarini Fle-
ming»), но никому еще не ясно, что это означает.
И вот в этой обстановке Диккенс создает новую форму ро-
мана. «Пиквик» был не просто новшеством, а подлинным пере-
воротом в литературе. Если сопоставить этот' роман с произве-
* Но в романе уже разбросаны новые картины, рассказы о тех не-
обыкновенных последствиях, к каким приводит появление локомотивов.
320
дениями Бальзака и Стендаля, появившимися в тридцатых го-
дах, или даже с «Собором Парижской богоматери», то книга
Диккенса, как нам кажется, явление более архаичное по срав-
нению с этими современными ей творениями французской лите-
ратуры. Но в Англии развитие романа проходило совсем в иных
условиях. До начала XVIII века, до «Зрителя» («Spectator»)
Аддисона роман в современном понимании был почти неизве-
стен на английской почве. После средневековых повествований
из бретонского цикла о короле Артуре писатели, творившие на
английском языке, почти никогда не прибегали к описанию в
прозе какого-либо приключения, сатирической сценки или реше-
ния психологической проблемы*. В английской литературе не
найти ничего равноценного книгам Рабле, романам мадемуазель
де Скюдери, «Принцессе Клевской» или «Франсиону» Шарля
Сореля; я уже не говорю об «Астрее» п, о «Комическом рома-
не» Скаррона или о «Буржуазном романе» Фюретьера. Откры-
тый Аддисоном метод сводился к следующему: он каждую
неделю печатал в своей газете короткие эссе, в них одни и те
же действующие лица комментировали злободневные события
в манере, в какой, если угодно, это делают герои «Современ-
ной истории» Анатоля Франса.
Андре Моруа совершенно справедливо замечает по этому
поводу: «Несмотря на успех эссе с одними и теми же действую-
щими лицами, английские писатели XVIII века еще не помыш-
ляли о создании таких романов, к каким мы привыкл^ сегодня,
и этих писателей, без сомнения, останавливали технические труд-
ности. Когда мы изучаем литературную форму, уже ставшую
традиционной, — мы плохо представляем себе, как трудно было
установить правила, позволяющие ей существовать. Для первых
романистов были вполне понятны чувства героев и картина жиз-
ни, которую они хотели нарисовать, но им казалось почти немы-
слимым разрешить проблему — каким способом вводить новое
действующее лицо в роман, как уводить его со страниц произве-
дения, как группировать персонажи, не нарушая плавного хода
повествования».
Действительно, читая «Робинзона Крузо» или «Молль Флен-
дерс», мы невольно обращаем внимание на то, как старается
* «Эвфуэс» (1580) Джона Лили7 и книжечки Томаса Деккера 8 отно-
сятся скорее к истории английской прозы, чем к истории романа. Суще-
ствовали, правда, еще короткие романы елизаветинцев, наподобие «Томаса
из Рединга» 9, но только в наше время они заняли свое истинное место в
истории литературы. Что касается «Пути паломника» Беньяна ,0, появивше-
гося веком позже, то произведение это правильнее рассматривать в истории
эссе, в истории общественных идей.
21 П. Деке 327
Дефо подтвердить правдоподобие своего романа, который носит
характер биографии героя. Повествование здесь ведется от пер-
вого лица, и зачастую герою приходится прибегать к многочис-
ленным ухищрениям, чтобы свести концы с концами, расска-
зать читателю все, что необходимо для понимания действия.
Параллельно с этой формой романа развивается и роман в пись-
мах (вспомним Ричардсона): фикция переписки нескольких лиц
позволяет писателю вводить в действие одновременно несколько
персонажей; однако косвенное повествование, рассказ, в котором
автор без стеснения вводит столько действующих лиц, сколько
ему нужно, и применяет сюжетные ходы по своему желанию,
появляется в Англии лишь в середине XVIII века — с Филдин-
гом и Стерном.
Конечно, и у нас роман, в котором повествование ведется
от первого лица, имеет достойные образцы. Этот жанр прослав-
лен такими произведениями, как «Жиль Блаз из Сантильяны»,
«Манон Леско» и «Монахиня». Однако от него до произведем
ний, где повествование ведется от лица автора, — один шаг»
«Иауф Зелес Танзай уже давно царствовал в огромной Шешь-
яне, и этот сладострастный государь продолжал предаваться
наслаждениям. Акажу, король Минусии..г Я не стану подробно
касаться, — прибавляет Дидро в начале второй главы «Нескром-
ных сокровищ», — первых лет царствования Мангога...» И это
Я уже носит характер стендалевского Я, когда автор сам берет
слово; стиль косвенного повествования в равной степени был
подготовлен и Я «Поля и Виргинии»12, и письмами, фигури*
рующими в «Опасных связях» 13. Под пером Вольтера стиль этот
приводит к созданию философской повести, с появлением «Жа-
ка-фаталиста» — к сближению романа с театральной пьесой»
подобно тому как это происходит и с «Жаном Баруа» Роже
Мартен дю Гара. После Ретифа де ла Бретона 14 он становится
повсеместным. В 1831 году новое орудие литературного твор-
чества уже вполне отточено, и Стендаль пишет: «Городок Вер-
рьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-
Контэ»; он выступает как нейтральный рассказчик, который все
знает, все видит, обо всем рассказывает, что совершенно необхо-
димо для дальнейшего развития реализма. Теперь автор вмеши-
вается в повествование, когда ему заблагорассудится, и говорит:
«Мой герой»; при этом его не преследует мысль, что он пре-
рвал свое повествование, напротив, ему нравится время от вре-
мени разрушать, иллюзию, которая стала некоей условностью,
следствием привычки и доверия читателя к романисту. Теперь
автор романа должен без всяких ухищрений заставить верить
в то, что он рассказывает, и тем самым сделать свое повество-
вание более «реальным»', извлечь его из реальной действитель*
ности.
322
Этот резкий свет действительности, это испытание реализма
еще неведомы английскому роману ко времени начала литера-
турной деятельности Диккенса. Косвенный стиль, стиль плу-
товского романа, присущий «Тому Джонсу» (Я Филдинга —
уже признак современного романа), служит выражению самой
буйной фантазии, далекой от реальности. В романе «Замок От-
ранто» Гореса Уолпола (1760) мы сталкиваемся уже с мисти-
фикацией. Этот роман ужасов с знаменитой мраморной статуей,
у которой из носу течет кровь, был подан читателям как старо-
давняя история, изложенная в старинном манускрипте, и чита-
тели поверили в это, как они поверили в поэмы Оссиана, древ-
него барда, выдуманного Макферсоном. Эту линию в развитии
романа продолжают Анна Радклиф и Льюис, она заканчивает-
ся с Мэтьюрйном. Между тем Стерн доводит авторскую непо-
средственность до апогея, в романе «Тристрам Шенди» он бук-
вально жонглирует повествованием и своим авторским Я, его
можно считать в каком-то смысле изобретателем авторских от-
ступлений, однако техника романа от этого существенно не
меняется, и непосредственные продолжатели Филдинга не смо-
гли разрешить тех проблем, с которыми он столкнулся.
С Вальтером Скоттом в историческом романе все эти эле-
менты сливаются воедино, и свобода романиста, его творческая
свобода выражается теперь в воссоздании событий прошлого.
Мы знаем, какую трудную эволюцию проделал во Франции
Бальзак: он начал как бледный подражатель Вальтеру Скотту
(таким он был в «Ванн Клоре») и, пройдя через такие ступени,
как «Последний Шуан», «Физиология брака» и «Шагреневая
кожа», пришел к «Сельскому врачу». Этот путь Диккенс пре-
одолевает разом, долго не раздумывая: он создает «Пиквика»,
который выходит ежемесячными выпусками; тем самым
■появляется своеобразный роман — беседа с читателем, автор
пишет его день за днем, словно держа руку на пульсе пуб-
лики.
Диккенс, можно сказать, отталкивается от опыта Аддисона,
проделанного сто двадцать лет назад, и вот молодой писатель —
уже автор пяти романов, он сознает, что может все создать,
все сказать *. Причем у него такое ощущение, что он ничего не
придумал, он просто рассказал, и ему поверили, с увлечением
отнеслись к рассказанному. Пиквик реально существует, так
же как и Сэм Уэллер или Оливер Твист. Смерть маленькой
Нелли стала национальным трауром.
* Весьма важная деталь. Начиная с «Пиквика» Диккенс становится
профессиональным литератором-романистом. Вальтер Скотт был чиновни-
ком, писавшим романы.
21*
323
12. Возвращение к истокам реализма
Современному читателю может показаться, что первый под-
линный роман Диккенса — «Оливер Твист» — был большим ша-
гом вперед в познании его автором реальной действительности.
На самом деле многое в этом произведении свидетельствует
о том, что здесь писатель обращается к наследию прошлого ве-
ка. Лорд Мельбурн знал, о чем он говорит, когда с презрением
заявлял: «Не переношу этого грубого и низкого стиля, совсем
как в «Опере нищих». Никогда не поверю, что таким путем
можно повысить мораль».
Действительно, это возврат к глубоким истокам английского
реализма — пародийного, критического, бесстрашного в своей
полемике, реализма, который выразился, в частности, в «Опере
нищих» и который обретает совершенную форму, законченное
выражение в «Путешествии Гулливера» Свифта.
С другой стороны, сюжет «Оливера Твиста» восходит к
Смоллету — переводчику «Жиль Блаза» и «Дон Кихота», не
меньшему мастеру плутовского романа, чем Филдинг; послед-
няя книга Смоллета, «Хэмфри Клинкер», представляет собой
переходную ступень между описанием жестокости реального
мира, что нашло свое отражение в обобщенном виде у Свифта,
и выступлением в защиту жертв общества. Герой Смоллета —
воспитанник приюта, который становится подмастерьем, терпит
ужасную нужду, и только в конце книги выясняется, что он
незаконный сын хозяина, на которого работает.
Это почти полностью совпадает с историей Оливера. Сме-
лость, с которой Диккенс описывает мир воров, дно Лондона,
где развертывается действие «Оливера Твиста», напоминает
нам смелость романистов XVIII века.
Но Диккенс вносит и нечто новое. Это — более широкий
кругозор, обогащенный историей, более ясное и острое, чем у
его предшественников, понимание того, что нужно изменить;
все это так непохоже на счастливые, прекраснодушные, лице-
мерно успокоительные окончания, характерные для социального
романа его времени. Однако обращение к самым прогрессивным
тенденциям английского реализма прошлого впервые ставит
Диккенса лицом к лицу с проблемой взаимоотношений с чита-
телями, его читателями.
«Оливер Твист» подвергся яростным нападкам. Слишком
жизненна была его тема. Нетрудно догадаться, что защитники
«Закона о бедных» не пришли в восторг от этого произведения.
Лицемеры неистово вопили, указывая пальцем на образ сердо-
больной проститутки Нэнси. И, главное, как мы уже видели из
замечания лорда Мельбурна, Диккенсу не могли простить обра-
щения к народной и реалистической традиции.
324
«Итак, — отмечает Джек Линдсей, — Диккенс в первый раз
вынужден предаться размышлениям о читателях, о своих чита-
телях. Все ли они таковы? Или это только любящие прописи
моралисты? Или и еще некоторые другие люди? Он сам не
знает, что ответить. Разумеется, он защищает себя и свое про-
изведение. Но он и его читатели уже делают друг другу взаим-
ные уступки. Его произведения выходят месячными выпусками
на протяжении долгого периода, он публикует главы своих книг
по мере того, как пишет их, и это позволяет ему судить об эф-
фекте тех или иных поворотов интриги, об успехе тех или иных
персонажей, а читатели также могут сказать свое слово, покри-
тиковать произведение, что-либо подсказать автору.
Так началась одна из наиболее необычных форм сотрудниче-
ства между писателем и читателями, какие только известны в
истории... Диккенс ввел в жизнь новую форму взаимоотноше-
ний автора с его читателями, которая после него не удержалась.
Нападки на «Оливера Твиста» позволили писателю отдать
себе отчет в том, какие изменения следует внести в первона-
чальные намерения, ибо система издания книги месячными вы-
пусками позволяла эти изменения внести...»
Последствия всего этого обнаружились в «Мартине Чезл-
вите».
Но до этого нам следует еще вспомнить о произведении Дик-
кенса «Барнеби Радж» и о влиянии Карлейля на нашего автора.
13. «Барнеби Радж». В роман вводятся народные массы
«Барнеби Радж», который был написан непосредственно пе-
ред «Мартином Чезлвитом», — одно из самых необычных про-
изведений великого писателя. И, пожалуй, наименее известное
среди них (если не говорить о его последнем, неоконченном
романе «Эдвин Друд»).
Если в «Оливере Твисте» Диккенс легко нашел связь между
жгучими проблемами современности и возрожденными им ре-
алистическими традициями, то в «Барнеби Радже» он созна-
тельно обратился к определенному периоду английской истории,
чтобы на материале романа поднять новую проблему сороко-
вых годов XIX века — проблему роли вождей и масс, роли ге-
роев в истории.
Действие происходит в 1780 году во времена мятежа, подня-
того лордом Джорджем Гордоном в дни принятия «Билля о
присяге» и обсуждения законов об эмансипации католиков 15.
«Диккенс поднимает новую тему, — замечает Джек Линд-
сей. — ...Он пишет роман, в котором движение масс
рассматривается впервые как составная часть истории, а не про-
325
сто как фон или эпизод в событиях переднего плана, помогаю-
щий показать развитие характеров. Эта книга знаменует собой
новый этап в литературе — после «Пуритан», великого произве-
дения Вальтера Скотта, где движение масс неразрывно слито
с интригой и действующими лицами, но где оно не выделяется
как решающая сила, что уже можно сказать о мятеже против
папистов в романе «Барнеби Радж»...»
Писатель интуитивный, каким был Диккенс, так или иначе
всегда творит, опираясь на собственный опыт. Создавая роман
«Барнеби Радж», Диккенс отталкивался от различных собы-
тий, в которых он играл ту или иную роль: брожение, связан-
ное с выборами в Кэттеринге, стачка репортеров, которой он
руководил, и, несомненно, истории, которые рассказывались в
связи с митингами чартистов.
В июне 1836 года в Лондоне было основано небольшое обще-
ство— Лондонская ассоциация рабочих, руководимое столяром-
краснодередщиком Уильямом Ловеттом. Целью этого общества
было объединение наиболее развитой и влиятельной части ра-
бочего класса, для того чтобы добиться всевозможными легаль-
ными средствами равных для всех политических и социальных
прав. Вскоре устремления общества приняли конкретные очер-
тания. Стояла задача добиться от властей принятия хартии из
шести пунктов: всеобщее избирательное право, отмена имущест-
венного ценза для кандидатов в парламент, новый коренной пе-
ресмотр избирательных округов для устранения диспропорции
между ними, тайное голосование, выплата жалованья членам
парламента, ежегодные выборы в палату общин. К этому вскоре
добавилось требование отменить законы, препятствовавшие раз-
витию демократической прессы. Кампания проводилась в форме
митингов. Не следует забывать, что в ту эпоху Лондон не был
исключительно промышленным городом и что он, к примеру,
был значительно менее затронут законами о бедных, чем север
Англии. Но вскоре кампания приняла широкий размах и велась
с большим ожесточением.
Первый из митингов состоялся в Глазго в мае 1838 года, в
нем участвовало двести тысяч человек при двухстах знаменах и.
сорока оркестрах. На митинг в Ньюкасле собралось восемьде-
сят тысяч человек, в Бирмингеме—'триста тысяч, в Лидсе —
двести пятьдесят тысяч. Общенациональная петиция была впер-
вые подписана во время митинга в Манчестере, на который со-
бралось триста тысяч человек.
Если Ловетт был осторожен и преклонялся перед законно-
стью, то ирландец Фергюс О'Коннор призывал к восстанию, и
собравшиеся произносили клятвы при свете факелов.
К концу 1838 года петиция с миллионом двумястами тысяч
подписей была доставлена в палату общин.
326
Она гласила: «Хотя существуют все элементы, необходимые
для всеобщего процветания, мы раздавлены нищетой... Со всем
смирением мы являемся перед лицом вашей Достопочтенной Па-
латы, чтобы сказать вам: такой порядок вещей не может долго
продолжаться, ибо он подвергает серьезной опасности прочность
трона и мир в королевстве. Мы твердо решили, с помощью бо-
жьей и пользуясь всеми законными средствами, изменить
его...»
На чартистов обрушиваются репрессии, аристократия вопит
о революции. Парламент отклоняет петицию. Руководители чар-
тистского движения арестовываются. ' Брожение как будто сти-
хает, но в 1841 году промышленники Ланкашира прибегают к
своего рода локауту, с тем чтобы оказать давление на прави-
тельство и добиться снижения налогов с фабрикантов. Рабочие,
чтобы защитить свои интересы, объявляют забастовку, которая
охватывает вскоре весь промышленный район. Она проходит
организованно, и забастовщики решают присоединить к своим
требованиям лозунг о всеобщем избирательном праве.
Тем не менее через три недели движение, ограниченное од-
ним только промышленным районом, начинает затухать. К кон-
цу месяца забастовка сломлена. Новая волна преследований об-
рушивается на ее организаторов и на чартистов.
Вот, так сказать, фон «Барнеби Раджа».
Английские народные массы пришли в движение, и оно но-
сило такой размах, что английским писателям пришлось отдать
себе в этом отчет. Диккенс был не единственным среди них. Не
был он и первым. Человека, обратившего внимание романиста на
эти великие потрясения, звали Томас Карлейль.
Диккенс с огромным интересом прочел книгу Карлейля «О
чартизме» (1839); двумя годами раньше он с неменьшим инте-
ресом познакомился с его эссе «О Французской революции».
Как мы уже видели, Диккенс глубоко ощущал масштабы
кризиса, охватившего Англию. Карлейль кратко отвечал: все
свидетельствует о том, что господствующий класс потерял спо-
собность к господству. Диккенс не был с этим согласен, но все
происходящее потрясало его. Зато Диккенс был целиком согла-
сен с той ожесточенной критикой, какую вызывали у Карлейля
тогдашние общественные институты; в результате этой критики
Карлейль пришел к выводу, который резюмировал молодой Эн-
гельс в своей работе «Положение Англии. Томас Карлейль.
«Прошлое и настоящее». »
«Таково положение Англии по Карлейлю. Тунеядствующая
землевладельческая аристократия, «не научившаяся даже сидеть
смирно и по крайней мере не творить зла»; деловая аристокра-
тия, погрязшая в служении маммоне и представляющая собой
327
лишь банду промышленных разбойников и пиратов, вместо то-
го, чтобы быть собранием руководителей труда, «военачальни-
ками промышленности»; парламент, избранный посредством
подкупа; житейская философия простого созерцания и бездей-
ствия, политика laissez faire; подточенная, разлагающаяся рели-
гия, полный распад всех общечеловеческих интересов, всеобщее
разочарование в истине и в человечестве и вследствие этого все-
общее распадение людей на изолированные «грубо обособлен-
ные единицы», хаотическое, дикое смешение всех жизненных от-
ношений, война всех против всех, всеобщая духовная смерть, не-
достаток «души», т. е. истинно-человеческого сознания; несораз-
мерно многочисленный рабочий класс, находящийся в невыно-
симом угнетении и нищете, охваченный яростным недовольством
и возмущением против старого социального порядка, и вслед-
ствие этого грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед де-
мократия; повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад ста-
рых связей общества, всюду духовная пустота, безыдейность и
упадок сил, — таково положение Англии.
Если отвлечься, — прибавляет Энгельс, — от некоторых выра-
жений, связанных с особой точкой зрения Карлейля, мы долж-
ны будем с ним вполне согласиться. Он, единственный из всего
«респектабельного» класса, по крайней мере не закрывал глаза
на факты, он по крайней мере правильно понял непосредствен-
ную современность, а это поистине бесконечно много для «обра-
зованного» англичанина» *.
Каким бы странным и, возможно, устаревшим ни казался
«Барнеби Радж» читателю сегодня, характеристика Энгельсом
Карлейля вполне применима и к Диккенсу. А это уже очень много
для английского романиста той поры.
Очень много для его жизни, но также и для процесса его
творчества. Во всяком случае, знать роман «Барнеби Радж»
совершенно необходимо для понимания человека по имени
Чарльз Диккенс, которому в 1842 году исполнилось ровно три-
дцать лет. И. об этом небесполезно напомнить.
14. Вопрос об авторском праве
«Цивилизация — ничто, если она ни в чем не выражена.
Мы — ученые, мы — писатели, мы — художники, мы — поэты
назначены выражать ее. Мы — новые жрецы неведомого буду-
щего и готовим его приход. Мысль страны — это вся страна.
Мысль приходит от бога, возвращается к нему; она стоит вы-
ше, чем короли; она венчает их и развенчивает...» 16
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. второе, т. 1, стр. 584—585,
328
Это говорит не Диккенс, а Бальзак. Его «Письмо француз-
ским писателям XIX века», написанное в 1834 году, объявляет
о создании Общества литераторов. Бальзак хотел добиться объ-
единения французских писателей для борьбы против подделок
и для того, чтобы потребовать издания законов в защиту лите-
ратурной собственности.
Вопрос этот был, несомненно, актуален.
Восемь лет спустя он явился мотивом (материального по-
рядка) для путешествия Диккенса в Соединенные Штаты. Та-
мошние издатели беззастенчиво его грабили. Произведения Дик-
кенса пользовались в Америке большим успехом, но это не при-
носило ему никакой выгоды. Диккенс полагал, что достаточно
ему пересечь океан — и все будет урегулировано. Кроме того, его
многое влекло в Америку. В нем говорило и любопытство, и
желание развлечься, но были и более глубокие соображения,
они-то и оказались решающими.
Приятным в этом путешествии было то, что многочисленные
американские читатели Диккенса ждали его приезда и посылали
ему нетерпеливые письма.
Серьезная сторона дела была связана прежде всего с тем,
что происходило в самой Англии. С общей обстановкой в стране,
о чем мы уже говорили. Забастовки, репрессии, чартизм... Вы-
ступления против закона 1815 года, по которому импорт зерна
из-за границы облагался прогрессивными пошлинами с целью
поощрения английского земледелия. Кампания против закона
велась прежде всего промышленными капиталистами. Прави-
тельство Мельбурна пыталось сохранить и козу (промышлен-
ники) и капусту (крупные землевладельцы). 27 мая правитель-
ство было низвергнуто 312 голосами против 311.
Мельбурн распускает парламент. Предстоят новые выборы.
Сторонники лорда Мельбурна, виги, убеждают Диккенса
выставить свою кандидатуру в парламент в округе Рэдинг.
В конце мая он отклоняет это предложение. На короткое время
его чуть было не соблазнила эта перспектива, когда он подумал
о возможности использовать трибуну парламента для изложе-
ния своих взглядов на важнейшие социальные проблемы. Ко-
нечно, Диккенс презирал парламент, но в апреле 1838 года он
писал преподобному отцу Робинзону по поводу закона о бедных:
«Я стану преследовать жестокость и угнетение, этих врагов гос-
подних созданий, законов и веры, до тех пор пока сохраню спо-
собность мыслить и возможность выражать свои мысли». В кон-
це концов он по неизвестным нам мотивам отказывается от
решения баллотироваться в парламент. Быть может, потому что
он боялся повредить своей независимости.
В результате — новый прилив интереса у Диккенса к поли-
тической жизни. Консерваторы, тори, одержали сокрушитель-
329
ную победу, и Диккенс написал целую серию сатирических сти-
хотворений, в которых бичевал их. В нем росло чувство неудо-
влетворенности. В Англии дорожал хлеб, в Ирландии происхо-
дили массовые убийства и разрушения, всюду бедность и
невежество.
От раздражения до отчаяния — один шаг. Диккенс сказал
Форстеру, что он, как Кориолан 17, собирается покинуть родину
и вместе с семьей уехать в Новый свет. Мысль посетить Соеди-
ненные Штаты укрепляется в нем начиная с сентября. К изло-
женным выше побудительным причинам следует прибавить еще
одну — массовое переселение англичан в Соединенные Штаты.
С появлением железных дорог мысль об эмиграции распростра-
няется среди бедняков. Если здесь жизнь невыносима, то от-
ныне по крайней мере появляется возможность уехать, мечтать
.о других небесах. Материальные возможности теперь имеются:
диковинные машины, выплевывающие клубы дыма, железные
ленты рельс, прорезающие рощи и луга. В одном только
1840 году эмигрировало больше семидесяти тысяч человек.
15. Путешествие в Америку
Диккенс отправился в путь 4 января 1842 года. Переезд
через океан был ужасен. Один шторм сменялся другим. Поездка
по Америке началась с Бостона — это был триумф. Диккенса
чествовали, окружали вниманием, его замучили приглашениями
в гости и на банкеты. Перед ним открывали все двери — до дверей
тюрем и сумасшедших домов включительно.
Затем он поднял вопрос об авторском праве, и с этого вре-
мени его начали встречать бранью и всячески поносить.
Сегодня нам трудно даже представить себе степень разоча-
рования, которое испытал Диккенс. Ведь Америка была Утопией
той эпохи. Утопией, воплотившейся в жизнь, неизведанной зем-
лей, Новым светом, где можно было построить новый мир. Сен-
симонисты, фурьеристы, ученики Кабе 18 и Оуэна 19 верят в воз-
можность построить в Америке социализм. Мечты XVIII века
о добродетельных дикарях сливаются с мечтами эмигрантов. Пе-
ред отъездом Диккенс во многом разделяет эти мечты. Увы!
Действительность довольно быстро их разрушает.
«Нет, это не та республика, какую я надеялся увидеть. Это
не та республика, какую я рисовал себе в мечтах». Диккенс
мечтал о свободе, о братстве и равенстве. Он обнаружил раб-
ство. Он мечтал о царстве новой морали, а столкнулся с безза-
стенчивым ограблением писателей, с разнузданной спекуляцией
талантом как товаром. Повсюду и во всех областях жизни —
пиратство. Правит золото. «Я не люблю этой страны. Я ни за
что не согласился бы здесь жить.
330
Я думаю, что на земле нет другой страны, где общественное
мнение пользовалось бы меньшей свободой. Пресса несет значи-
тельную долю ответственности за политические и социальные
ужасы, это — продажная, разложившаяся пресса... Ее дурной
глаз проникает в каждый дом, и она умудряется приложить
свою грязную руку к каждому назначению на государственный
пост, начиная от поста президента и кончая должностью при-
вратника... она остается единственным чтивом для огромной
массы людей, они проглатывают только газеты и ничего боль-
ше... Это возможно потому, что система управления в свою
очередь прогнила до мозга костей. Подлое мошенничество во
время выборов; закулисные сделки с государственными чинов-
никами; трусливые нападки на противников, когда щитами слу-
жат грязные газетенки, а кинжалами — наемные перья; постыд-
ное пресмыкательство перед корыстными плутами, с которыми
считаются только потому, что они каждый день собирают
в своей продажной печати новую пагубную жатву; поддержка и
укрепление всяких дурных склонностей в народе; ловкое устра-
нение всех хороших влияний — вот что бросалось нам в глаза
в каждом закоулке (Палаты представителей в Вашингтоне.—
/7. Д.). Одним словом, бесчестье в самой беззастенчивой и по-
рочной форме. Свобода в Соединенных Штатах — это лишь
свобода для распространения власти денег.
Я подожду высказывать свое мнение о национальном харак-
тере, — прибавляет Диккенс. — Я говорю вполголоса, ибо
рздрагиваю при одной мысли, что сюда может прибыть какой-
нибудь радикал (понимайте: человек, прогрессивно мысля-
щий.— и. Д.). Хорошо, если он радикал, — из принципа, по
убеждению, и по здравому размышлению, и потому, что ему
присуще чувство справедливости. Иначе, боюсь, он возвратится
в Англию консерватором. Боюсь, что здесь свободе нанесен
самый жестокий удар вследствие того, что эта страна дала миру
не тот пример, которого от нее ожидали» 20.
Глубоко разочарованным и еще более подавленным созна-
нием непреодолимых противоречий возвратился Диккенс в
Англию в июне 1842 года; в довершение всего он теперь знает,
что и за пределами страны надеяться не на что. В августе того
же года он публикует в Лондоне свои «Американские заметки».
Незадолго до смерти, в предисловии ко второму изданию этой
книги, он писал: «Мои читатели имеют возможность сами
разобраться, действительно ли существовали в Америке те влия*
ния и тенденции, которые заставили меня насторожиться во
время моего пребывания в Америке, или это только плод моего
воображения. Они могут сами установить, проявлялись ли с тех
пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки
как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смо-
331
гут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свиде-
тельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мной
отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит
я имел основания писать то, что я написал. Если же они таких
фактов не обнаружат, — значит я ошибся, но без всякого
умысла» 21.
Прошло более столетия со времени опубликования «Амери-
канских заметок», и факты решительно отвечают на дилемму,
поставленную Диккенсом. Он, увы, не ошибся. Пагубная эволю-
ция Америки продолжается, это общепризнано. Диккенс про-
анализировал первые опасности «пагубных тенденций» в Соеди-
ненных Штатах, которые ныне ведомы всему миру.
Вот в эту-то пору он и начал писать роман «Мартин Чезл-
вит».
16. «Мартин Чезлвит»
Определение имени героя уже само по себе было целым со-
бытием. «Сюизледен, Сюизлбек, Сюизлуэг, Чезлту, Чезлбой,
Чеблвиг, Чезлвиг» — таковы первые варианты.
Диккенс задумал написать семейную хронику. Он хотел осу-
дить тлетворную власть денег и одновременно обличить эгоизм
и лицемерие. Он взял за исходный пункт описание действия
капитализма в рамках одной семьи. Джонас Чезлвит — авантю-
рист, бессовестный эксплуататор, молодой Мартин — воплоще-
ние авантюрного духа эпохи в лучшем понимании этого слова,
старый Мартин, накопивший состояние, мешающее ему жить,
кузен-мошенник Монтегю Тигг, кузен-Тартюф.— мы говорим
о мистере Пекснифе. И повсюду — тлетворная власть денег, при-
сущая им мерзость и грязь. Эти идеи Диккенс почерпнул у Кар-
лейля, но его собственный недавний американский опыт облек
их в более конкретную форму.
Первая вариация, чуждая первоначальному замыслу, была
введена в связи с интимными воспоминаниями писателя. Образ
Мэри, юной и красивой спутницы старого Мартина Чезлвита,
предмета любви молодого Мартина, был, несомненно, навеян
Диккенсу воспоминаниями о Мэри, молоденькой сестре Кэт,
умершей в возрасте семнадцати лет; мы уже говорили о том
влечении, которое испытывал к ней Диккенс. В довершение
всего младшая сестра Кэт, Джорджина, достигла в пору созда-
ния «Мартина Чезлвита» возраста, в котором Мэри умерла;
Джорджина необыкновенно походила на свою покойную сестру
и жила в доме Диккенса.
Зторая вариация — более драматическая — была вызвана
тем, что первые выпуски «Чезлвита» плохо расходились.
В июне 1843 года их тираж не превышал 20—23 тысяч экзем-
332
пляров, что побудило издателей урезать права Диккенса. Сна-
чала писатель подумал, что он сможет выправить положение,
создав новое действующее лицо. Однажды ему это уже удалось,
когда он ввел в «Пиквика» Сэма Уэллера; и вот читатели стали
свидетелями возникновения невыразимой миссис Гэмп с ее ярко
выраженной склонностью к крепким ликерам и колоритной
речью. Однако это ни к чему не привело. Издатели уменьшили
гонорар. Кризис разразился. Диккенс решил немедленно поды-
скать себе другого издателя. В августе он отправился на мор-
ские купания. В ярости он ежедневно, как сумасшедший, целыми
часами шагал; только находившись до изнеможения, он был
в состоянии уснуть. В сентябре он возвратился в Лондон и
вместе с Кобденом22 и Дизраэли принял участие в собрании
в Манчестере, посвященном . народному образованию; потом
уехал осматривать тюрьмы. В ходе митинга Диккенс заявил рабо-
чей аудитории: «Чем более образованным становится общество,
чем больше оно размышляет, с тем большим доверием писатели
будут относиться к мнению народа». В эту пору Диккенс заду-
мывает свое произведение «Гимн рождеству».
Этот рождественский рассказ появился в конце
года с иллюстрациями Джона Лича; однако Диккенс, опублико-
вавший его на собственный страх и риск, получил только пятьсот
фунтов, хотя рассчитывал на сумму в два раза большую.
И вот тогда-то ему пришла в голову мысль отправить героя
романа, молодого Мартина, в Соединенные Штаты: это, на-
деялся писатель, увеличит тираж книги.
«Американские заметки» не имели большого успеха в
Англии, но зато вызвали "большое волнение в Америке. Однако
Диккенсу пришлось исключить из них все места, свидетельство-
вавшие о его негодовании, и он остерегся касаться в них спор-
ных вопросов, в частности вопроса об авторском праве.
То, что он написал об Америке в «Мартине Чезлвите», мо-
жет показаться своеобразным резюме, свободным и откровен-
ным дополнением к его рассказу о путешествии; но не это
главное. Куда более интересно то, что Диккенс, желая усилить
свое влияние на десятки тысяч читателей, с которыми он по-
стоянно поддерживал связь благодаря системе издания книг от-
дельными месячными выпусками, — ввел в свой роман злобо-
дневную тему, прямое выражение действительности, которую
он рассматривал под углом своих политических взглядов.
Если перечесть первые главы «Мартина Чезлвита» и по-
смотреть на них с этой точки зрения, то поражает следующий
факт: до американских глав, которые воспринимаются как до
некоторой степени чужеродная вставка, история семьи Чезлви-
тов описана так, что трудно точно определить, когда происходит
действие. Мир мистера Пекснифа — во многих отношениях еще
333
мир XVIII века; промышленная революция еще почти не ощу-
тима; потом, после поездки героя в Соединенные Штаты, мы
внезапно оказываемся лицом к лицу с событиями сороковых го-
дов XIX века. И книга приобретает благодаря этому новые
масштабы; политические взгляды Диккенса внезапно предстают
с несравненно большей отчетливостью.
Мы рассмотрели все обстоятельства написания этого романа,
обратили внимание и на моральный и политический кризис, че-
рез который прошел Диккенс. Теперь мы можем судить о сред-
ствах выражения, использованных писателем в романе «Мартин
Чезлвит» для показа его эпохи.
17. Прогресс реализма
Беспощадная критика английского общественного строя того
времени, сатира, разрывающая стыдливые покровы, которые
набрасывали на первые годы правления юной королевы Викто-
рии, обличение пороков Соединенных Штатов, разрушение ил-
люзий англичан, мечтающих эмигрировать, первое в английском
романе изображение деградации человека под влиянием денег —
все эти достоинства «Мартина Чезлвита» не должны заставить
нас позабыть и о других достижениях Диккенса, о всестороннем
и глубоком изображении им реальной действительности, о про-
грессе реализма в его творчестве.
В этом отношении «Мартин Чезлвит» прямо связан с реали-
стической традицией английской литературы XVIII века, той
самой традицией, влияние которой ощущалось в «Оливере
Твисте», что необычайно шокировало лорда Мельбурна. Но те-
перь Диккенс уже достиг новых высот мастерства. Лондонский
мир, в который попадает читатель после возвращения Мартина
из поездки в Соединенные Штаты, представляет собой полный
контраст еще провинциальному Лондону, описанному в начале
романа; теперь Диккенс показывает нам дно Делового лондон-
ского мира, он рисует мошенников и авантюристов, которые
спекулируют в Сити, завлекая людей приманкой легких бары-
шей. Монтегю Тигг создал общество страхования жизни, и во-
круг него подвизается целое скопище плутов, представляющих
собой как бы потомков разбойников с большой дороги, обрисо-
ванных в «Опере нищих». Образ Джонаса Чезлвита или Джас-
пера, этого своеобразного сыщика, помогает нам проникнуть,
так сказать, за кулисы общества, подобно тому как нам это
помогает сделать образ Вотрена. У Бальзака фоном для картины
служила биржа, здесь фоном служит лондонское Сити... Но
наибольшей глубины и смелости достигает Диккенс при созда-
нии образа мистера Пекснифа. Пексниф не просто лицемер,
334
а английский Тартюф XIX века; подобно Тартюфу, он имеет
ясную социальную характеристику и приобретает характер сим-
вола, типа, в котором отразились недостатки целого класса, а не
пороки какой-либо одной группы людей. Пексниф —■ типиче-
ский образ мелкого буржуа-викторианца, пошлого, трусливого,
эгоистичного, любящего пышные фразы и набрасывающего вы-
сокоморальную маску на самые мерзкие, низкие расчеты.
Диккенс вслед за Карлейлем и вместе с ним сумел разгля-
деть зло и беспощадно обличал его. «...Это был человек самого
примерного поведения, — писал он о мистере Пекснифе, — на-
битый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некото-
рые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который
только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет, — но это
были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже
его шея выглядела добродетельной... Эта шея как будто гово-
рила, предстательствуя за мистера Пекснифа: «Никакого обмана
тут нет, леди и джентльмены, здесь все исполнено мира и свя-
щеннрго спокойствия...» го
Все творчество Диккенса до того живо, до того злободневно,
что, погружаясь в него, испытываешь необходимость припо-
мнить множество фактов и исторических событий, которые кри-
тики, испытывающие страх перед Диккенсом, подобно тому как
г-н Мориак боится Бальзака, всячески стараются затушевать.
Ведь всякий подлинно реалистический писатель открывает своим
читателям одновременно и правду о существующем мире, и пер-
спективу его развития, его грядущее, а оно неумолимо возвещает
гибель господствующему классу, буржуазии.
Я упоминал о железных дорогах. Когда мы смотрим на по-
лотно Тернера «Дождь, пар, скорость», которое воспроизведено
в книге Поля Элюара «Свет и мораль» 24, то нам не приходит
в голову, что картина написана в сороковые годы XIX века,»
то есть во времена «Мартина Чезлвита». В стихе Аполлинера —
«Боюсь, однажды уж не взглянешь ты на поезд» — говорится не
только о поездах. Но также и о людях, которые умели видеть
поезда. И не только поезда.
Чтобы проверить свою оценку остроты зрения Диккенса,
обратимся к одному из английских Мориаков.
Сильвер Моно в своей книге «Диккенс-романист» (Sylvère
M о п о d, Dickens romancier) приводит некоторые оценки таких
критиков и, комментирует их. Я процитирую отрывок, относя-
щийся к Дж. К. Честертону 25:
«Когда он в связи с «Американскими заметками» пишет, что
антиамериканиэм Диккенса основывается, по-видимому, на не-
приятии «плевков в еще большей мере, чем рабства», он, без
сомнения, излагает новую и блестящую мысль, противоречащую,
однако, фактам. Спору нет, Диккенс возмущается тем, что аме-
335
риканцы плюются в общественных местах, но для него это
только повод для шуток, а против рабства он выступает со всей
своей могучей силой полемиста. Доказательством тому может
служить реакция тогдашней американской прессы. Она возму-
щается вовсе не замечаниями Диккенса о том, что американцы
привыкли плевать в общественных местах. Нет, она ополчается
на него потому, что «его яростные нападки и гнусная клевета
на общественные институты, которые он даже не пытался как
следует понять, заслуживают негодующего презрения нации, ко-
торую оскорбили и смешали с грязью» («Саутерн Литерери Мес-
сенджер», Ричмонд, цит. Киттон, «Диккенсиана»).
Далее Сильвер Моно цитирует, уже без комментариев, еще
одно суждение Честертона: «Основное в искусстве Диккенса —
это гротескное преувеличение».
«Плевки, а не рабство», «гротескное преувеличение» — такие
и подобные суждения не только проявления легковесности. Они
свидетельствуют прежде всего о стремлении этих критиков вы-
холостить подлинное содержание творчества писателя. Уместно
и здесь поставить вопрос: кому выгодно, чтобы Диккенс не был
понят? А ведь Дж. К. Честертон — вовсе не дурачок.
Д. Оруэлл26, позднее известный патологической ненавистью
к коммунизму, так заключает свои рассуждения о Диккенсе:
«Либо эстетическое предпочтение — вещь необъяснимая,
либо оно искажено уже не эстетическими соображениями, иска-
жено до такой степени, что невольно спрашиваешь себя: не
представляет ли собой литературная критика в целом некую
систему мистификации?»
Какая элегантная манера исключать возможность всякой
дискуссии по существу! Либо доводы — эстетического толка, а
они необъяснимы, либо доводы искаженные... Зато можно без
труда объяснить, почему стремятся навести туман на творчество
Диккенса. Ведь вопреки желанию многих он не мертв. Поэтому
его не так просто забальзамировать. Не просто и похоронить.
Диккенс — как Бальзак и Стендаль — открывает новый пе-
риод в истории романа, период, когда личность уже вступила
в борьбу против сил и социальных конфликтов, значительно
превосходящих ее по мощи. Период, когда личное счастье уже
неотделимо от судеб мира, от его драм, от родовых схваток
истории. Период, в который живем и мы, хотя так много изме-
нилось за те сто лет, что отделяют нас от этих писателей.
Именно поэтому они так близки нам, неотделимы от наших
битв; именно поэтому и на их долю достается часть ударов, но
вместе с тем они занимают важное место в мечтах, воспламеняю-
щих мужчин и женщин нашего времени. Их произведения осве-
щены мечтами, которые помогают нам жить.
(Ъпостлвления
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ, КУРТУАЗНАЯ ЛЮБОВЬ
И АРАБО-АНДАЛУЗСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ид Кампеадор только что
вступил в Валенсию. Сан-
чо Рамирес, король Ара-
гона и Наварры, появился под стенами Уэски и привел в смяте-
ние сарацин вплоть до Сарагосы. Армии мусульман повсюду от-
ступали. Непрочное равновесие между мавританскими и хри-
стианскими королевствами Испании было нарушено в пользу по-
следних. Санчо Рамиресу не суждено было дожить до победы.
Он был сражен стрелой и умер 6 июля 1094 года.
В ту пору в Аквитании правит молодой человек двадцати
трех лет от роду — Гильом, девятый герцог Аквитанский, седь-
мой граф Пуатье. Он унаследовал престол от своего отца
в 1086 году, едва достигнув совершеннолетия. Владения Гиль-
ома уже обширнее владений короля Франции. Внезапно он вспо-
минает, что вдова прославленного короля Арагона — единствен-
ная дочь графа Тулузского, умершего незадолго перед тем
в Иудее во время паломничества ко гробу господню. Графство
Тулузско^ граничит с землями герцога Аквитанского. Если их
объединить, его ленные владения округлятся.
Вдовушка была молода, и скоро сыграли свадьбу. В конце
XI века Гильом после тяжелой войны становится графом Тулуз-
ским. Но это доставляет ему немало неприятностей, в том числе
и с папой Римским, и уже в 1101 году ему приходится отка-
заться от завоеванного титула и отправиться в крестовый поход
в Палестину во главе многочисленного войска. Там его наголову
разбивают и он, по-видимому, даже попадает в плен к сараци-
нам.
В 1102 году Гильом возвращается в Европу. Двенадцать лет
спустя он вновь идет на Тулузу и опять закрепляется в этом
=^ß
22*
339
графстве. В 1119 году он в Испании в союзе с Альфонсом I
Арагонским воюет против сарацин.
Все эти эпизоды из жизни Гильома имели бы лишь истори-
ческий интерес, как и завоеванная им репутация отчаянного во-
локиты и весьма посредственного государственного деятеля, если
бы он не был первым лирическим поэтом, писавшим в нашей
стране на народном языке и творившим задолго до всех осталь-
ных лирических поэтов на одном из современных европейских
языков.
* * #
С именем Гильома связано одно из наиболее любопытных
и наименее известных явлений в истории французской литера-
туры. Это—»наш первый в самом точном смысле слова, пер-
вый по времени поэт. Ни один документ, ни один текст не
свидетельствует о том, что у него были предшественники, и,
однако, когда анализируешь его песни (до нас их дошло не
больше дюжины), проникаешься, как и с Гомером, почти полной
уверенностью в том, что он не мог всего этого придумать сам.
Его первые лирические стихотворения мало отличаются по своей
структуре от шансон де жест1. Это — стихотворения с одной
рифмой. Можно высказывать догадки об определенной преем-
ственности, о преобразовании. Конечно, при этом, не будет пол-
ной уверенности, но по крайней мере мы чувствуем себя не со-
всем в потемках. Но потом внезапно стихи Гильома как бы об-
ретают крылья, появляются новые ритмы, рифмы и строфы,
свидетельствующие об огромной работе над поэтическим язы-
ком. Можно предположить, что эти его песни написаны
позднее, но точно датировать их мы не в состоянии. Принадле*«
жат ли они действительно перу нашего герцога Аквитанского,
сочинявшего их в промежутке между двумя походами или
любовными приключениями? Были ли в его окружении про-
фессиональные поэты, чьи произведения утеряны? Одно можно
сказать с уверенностью: тот скачок в развитии поэзии, о ко-
тором мы говорим, не мог быть плодом усилий одного че-
ловека.
Давала ли ему латинская поэзия нужные образцы? Это
весьма сомнительно. Не вступая в дискуссию о технике стихо-
сложения, мы все же можем сказать, что переход от классиче-
ского латинского стиха, не силлабического и не рифмованного,
к романскому стиху Гильома, уже силлабическому и рифмован-
ному, представляется маловероятным. Что же касается средне-
векового латинского стиха, приближающегося к нашему тради-
ционному стихосложению, то и в нем ничто не предсказывает
тех форм, какие мы встречаем в песнях Гильома,
340
К этому надо добавить, что и содержание песен Гильома
было по тем временам совершенно новым. Именно в них мы
впервые сталкиваемся с темами куртуазной любви.
Невозможно допустить, что и в этом отношении Гильом
был первооткрывателем. Но и тут мы ничего не можем сказать
ни о его окружении, ни о его возможных предшественниках. Од-
нако можно определенно утверждать: общее определение поня-
тия куртуазности, развитие любви-страсти относятся к более
раннему времени, и заслуга Гильома состоит в том, что он вое-,
пел их если и не первым, то с таким талантом, что его произве-
дения сохранились и дошли до нас.
И вот, оказывается, в соседней стране уже по крайней мере
два столетия существовала рифмованная поэзия на народном
языке с не менее развитыми ритмическими формами, нежели те,
какие мы находим в песнях Гильома. Эта поэзия воспевала лю-
бовь, сходную с куртуазной любовью. И между этой страной
и страной Гильома существовали самые тесные связи.
Речь идет об арабо-андалузской Испании.
В самом деле, на юге Испании, захваченной арабами, при-
мерно в X веке развилась оригинальная цивилизация, возник-
шая в результате слияния местной романской культуры с куль-
турой завоевателей. Развилась здесь и поэзия, которую рас-
пространяли хуглары, напоминающие наших средневековых
жонглеров. Исторические документы показывают, что руководи-
тели христианского воинства, сражавшегося против мусульман,
располагали такими жонглерами-хугларами: то были пленники
или рабы, купленные у мусульманских военачальников.
Мы вовсе не претендуем на то, что этим все объясняется.
Такое утверждение было бы просто нелепым. Но показательно,
что все эти факты и документы, как правило, не учитываются
в французских исследованиях, относящихся к средневековой ли-
тературе. Только в самых недавних работах, например в велико-
лепном труде Жана Фрапье «Лирическая поэзия Франции XII
и XIII веков» *, эту позицию начинают пересматривать, хотя еще
перед второй мировой войной усилия испанских медиевистов,
в частности Менендеса Пидаля 2, чу*ке в значительной мере осве-
тили этот вопрос. Можно с полным основанием предположить,
что французские авантюры в Северной Африке сыграли свою
роль в том, что существует такой контраст между историей, ко-
торую пишут по одну сторону Пиренеев, и историей, которую
пишут по другую их сторону; причем это продолжается уже
добрых сто лет. Я уже не говорю, естественно, о других пред-
рассудках, религиозного происхождения.
* Jean Frappier, La Poésie lyrique en France aux XII et XIII
siècles, Centre de Documentation Universitaire, Paris, 1954.
341
* * *•
О расцвете поэзии в арабо-андалузской Испании мы почти
ничего не знаем из-за отсутствия хороших переводов. И когда
читаешь испанские исследования на эту тему и знакомишься с
примерами, которые в них приводятся, то начинаешь сожалеть
об этом досадном пробеле.
Среди стихотворных форм, распространенных в арабо-анда-
лузской поэзии, есть одна, вызывающая особый интерес. Я го-
ворю о заджале — рифмованном стихотворении строфиче-
ской формы с рефреном. В каждой строфе три стиха — на одну
рифму, а четвертый — на рифму рефрена. Рифма первых трех
стихов меняется в каждой строфе, рифма четвертого стиха
остается неизменной для всего стихотворения.
Вот пример, заимствованный из испанской поэзии XIV века:
Vivo ledo con razon
amigos, toda eazon.
Vivo ledo e sin peear,
pues amor me fizo amar
a la que podré llamar
mas, bella de cuantas son
Vivo ledo con razon,
amigos, toda sazon.
Vivo ledo y viviré...
И доволен я судьбой,
други, летом и зимой.
Я ни разу не грустил
с той поры, как полюбил
ту, чей взор меня пленил
больше, чем любой другой.
И доволен я судьбой,
други, летом и зимой.
И доволен буду я...
По мнению арабских историков, создателем формы заджаля
был андалузский поэт по имени Муккаддам ибн Муафа аль-
Кабри, по прозвищу Слепец («слепой из Кабры, что возле Кор-
довы»). Он жил в конце X — начале XI века. Впоследствии
стихотворная форма заджаль пользовалась большим успехом
и широко применялась в позднейшие века. '
Это — песнь, и специалисты, занимавшиеся ее изучением,
полагают, что она первоначально исполнялась певцом в сопро-
вождении хора, подхватывавшего рефрен. Если говорить о рас-
пространении поэзии, то положение в Андалузии во многом
сходно с тем, что мы знаем о Франции того времени. И там,
и здесь мы сталкиваемся с бродячими жонглерами. Это, несо-
мненно, объясняет нам, почему употреблявшийся ими язык пред-
ставляет собой смешение арабского и романского языков: та-
342
кой язык был понятен всем слушателям *. МененДес Пидаль
приводит пример, заимствованный из творчества Ибн Кузмана,
поэта, который, как нам известно, начал писать до 1094 года;
он жил еще тогда, когда уже прославился Аверроэс3 (родив-
шийся в 1126 году), ибо Кузман воспевал его; умер он в'глу-
бокой старости, около 1160 года.
Заджаль Ибн Кузмана:
Ya, mutarnani Sabato;
tun hazin tu'n penato
' tara al-yauma wastato
lam taduq fih geir luquyema.
Испанский перевод:
Oh, mi locuelo Salvado,
tu estas triste, tu penado
veras el dia gastado
ein probar mas que un poquito **.
В тексте Ибн Кузмана мною подчеркнуты романские слова,
вошедшие в песнь. К этому надо прибавить, что в ту эпоху тес-
ного смешения обоих народов многие арабские слова были по-
нятны испанским слушателям. Менендес Пидаль приводит
весьма убедительные доказательства на этот счет.
Весьма важно отметить, что такая структура не случайна,
а характерна для заджаля. Арабский историк Ибн Бассам, жив-
ший в XII веке, поясняет, что заджали Муккаддама были
написаны на языке, образованном из арабского и романских
элементов, в значительной мере искаженных. Можно с полным
правом предположить, что этот смешанный язык был весьма
близок к разговорному языку, употреблявшемуся при контактах
между арабами и местным населением. Другой, более поздний
комментатор отмечает, что этот смешанный язык и составлял
«аромат заджаля, соль, сахар и мускус этой стихотворной
формы».
Итак, сама структура заджаля свидетельствует о контактах,
о слиянии двух культур. Пидаль полагает, что игра рифм, зна-
чение рифмы, которая пронизывает все стихотворение в окон-
чаниях четвертого стиха каждой строфы, рефрен — результат
арабского влияния, зато деление на строфы и значение, прида-
ваемое рефрену, — по всей вероятности, романского происхожде-
ния. Поэты были арабами. Также и содержание стихотворений
(мы еще вернемся к этому вопросу) свидетельствует о том же
слиянии элементов двух цивилизаций: мы находим здесь и
* Речь идет о межарабском языке.
* Неразумный мой Сальвадо, день пройдет, а ты награды,
не грусти, грустить не надо: видно, так и не заслужишь.
343
темы, заимствованные из ислама, и намеки, скажем, на празд-
ники латинского календаря.
И вот Гильом, живший в ту же эпоху, что и Ибн Кузман,
употреблял поэтические формы, о которых можно сказать, что
они близки к форме заджаля.
Вот начало* его^Х1 песни:
I
Pos de chantar m'es près
[talents,
Farai un vers, don eui
[dolenz:
Mais non serai obedienz
En Peitau ni en Limozi.
II
Qu'era m'en irai en eisil:
En gran paor, en gran peril.
En guerra laissarai mon fil
E faran li mal sieil vezi.
III
Lo departirs m'es aitan
[grieus
Del seignoratge de Peiteusl
En garda lais Folcon
fd'Angieus
Tota la terra e son cozi...
I
Хочу теперь я песнь сложить,
в стихи свою тоску вложить:
любви не стану я служить —
знай, Пуату и Лимузен!
II
В изгнание ведет мой путь,
боязнь и скорбь сжимают грудь:
мой сын не сможет глаз сомкнуть,
шумит война у наших стен.
ш
Я покидаю на заре
мой ленный город Пуатье...
На страже будь, Фолькон д'Анжье, —
тебе доверен твой кузен...
Ведь это строфическая форма заджаля, только без рефрена,
В спорах в связи с этим сходством было израсходовано много
чернил, и когда читаешь труды французских исследователей,
например Жанруа 4, и труды испанских авторов, то приходишь
к выводу, что существуют целых две пропасти: одна — между
французскими и испанскими эрудитами, другая — между "рома-
нистами и арабистами. Жанруа, опираясь на отсутствие рефрена,
344
оспаривал утверждение, будто песнь Гильома — это заджаль.
Потребовалось немало времени, пока арабисты, к которым обра«
тились за разъяснениями, ответили, что форма заджаля без ре-
френа существовала и даже не была особенной редкостью, что
довольно просто объясняется, ибо певцу без хора, несомненно,
надоедало по двадцать раз повторять один и тот же рефрен.
Если обратиться к современному состоянию вопроса —
к труду Жана Фрапье, то у него мы найдем две оговорки:
«Аргумент о заджале наталкивается на весьма серьезные
возражения: во-первых, арабское происхождение этой формы,
быть может только кажущееся; эта стихотворная форма встре-
чается только в западной арабской поэзии, и, судя по некото-
рым признакам, мояцю полагать, что это — андалузская, то есть
романская, форма, заимствованная арабами.
С другой стороны, и это совершенно очевидно, такая стро-
фическая структура, построенная на куплете с одной рифмой, —
отнюдь не редкость; речь идет об очень удачной, очень простой
стихотворной форме, которая могла зародиться в нескольких ме-
стах независимо друг от друга. С некоторыми незначительными
отклонениями мы встречаем ее и в латинских гимнах, и в «на-
родной» поэзии, как эпической, так и лирической».
Первый довод мне представляется не совсем обоснованным,
поскольку все авторы — и арабские, и испанские — в один го-
лос настаивают на том, что заджаль — плод арабо-андалузскои
цивилизации. Кроме того, не следует забывать о том, что было,
безусловно, арабским: я говорю о поэтах — создателях песен
и их исполнителях.
Что касается аргументов из области техники стиха, я считаю
нужным прежде всего отметить, что эта форма вовсе не проста,
а, напротив, чрезвычайно сложна, имея в виду, что в ту эпоху
требования к рифме были не таковыми, как в наше время. Ее
внешняя простота — это простота для читателя или слушателя»
но не для творца.
Больше того, народные песни, которые столь великодушно
противополагают заджали, никем еще не были засвидетельство-
ваны на народном наречии, потому что Гильом — наш первый
поэт, писавший не нем.
Итак, остается еще довод, состоящий в том, чтобы противо-
по\агать латинские формы народным формам, создаваемым на
разговорном языке и имеющим хождение в соседней стране.
Спору нет, эрудиты весьма чувствительны к доводам такого
рода, но применительно к песням они представляются мне не-
состоятельными. Тем более что нет никаких указаний на то, что
Гильом был знаком с вышеназванными гимнами на латинском
языке. Тем более что сходство между стихотворениями Гильома
и арабо-андалузской поэзией не просто формальное, можно
345
говорить также и о родстве тематики. В заключение следует еще
подчеркнуть, что стихотворения Гильома — первые на нашей
почве, где присутствует уже настоящая рифма, отличающаяся от
ассонанса и играющая самостоятельную роль, и что в арабо-
андалузской поэзии рифма стала уже неотъемлемой, обязатель-
ной частью стиха. Прибавим, что переход рифмы из практики
поэзии на одном разговорном языке в практику поэзии на дру-
гом разговорном языке — вещь куда более вероятная, чем пере-
ход псевдорифм из поздней латыни в романскую поэзию.
г Таким образом, следует, как чумы, остерегаться предрассуд-
ков, отдающих расизмом, и максимально трезво смотреть на то,
что происходило в этой зоне контактов между арабской и нашей
цивилизацией, — я имею в виду Испанию того времени. Не надо
забывать, что это влияние, которое все еще отрицают в литера-
туре, отныне признается в области научной, в передаче опыта
греков и философии. Но в данном случае мы, несомненно, ка-
саемся более серьезной проблемы — проблемы культуры, образа
жидни.
Словом, трудно допустить, что просто по воле случая *
в арабской Испании и на юге Франции в один и тот же истори-
ческий период возникла столь сложная поэтическая форма, как
заджаль.
Ведь не было, собственно говоря, даже языкового барьера, и
арабо-андалузские стихотворения типа заджаля были задуманы
так, чтобы их понимали слушатели — и говорившие на роман-
ском наречии, и говорившие на арабском языке.
Исторически сложилось так: форма заджаля уже употребля-
лась в Испании около двух веков, когда Гильом начал писать
свои песни.
Гильом, как мы уже видели, поддерживал контакт с Испа-
нией. Можно предположить, что в окружении его жены, бывшей
королевы Арагона, имелись арабские хуглары из Андалузии.
Каждый знает, или полагает, что знает, условия жизни му-
сульманской женщины. Прежде всего вспоминают о гареме; и,
разумеется, не может быть ничего более противоположного
тому, что предусматривают законы куртуазности — поклонению
женщине, чем гарем.
Но если внимательно углубиться в арабские тексты, то обна-
руживаешь, что в действительности дело обстояло иначе. Имен-
* Жорж Лот в своей истории французского стиха нигде не нашел при-
меров поэтических произведений, в которых система рифм соответствовала
бы системе в приведенной мною выше песне Гильома (а, а, а, б).
346
но это и совершил Робер Бриффо в своей книге «Трубадуры и
чувство романтики» (Robert В г i f f a u 11, Les Troubadours et
le sentiment romanesque). Вот некоторые примеры:
«Моя дама подобна фруктовому саду, и я только и делаю,
что наслаждаюсь ее красотою и ароматом, ибо я не похож на
тех животных, которые превращают цветущий сад в пастбище»
(Ибн Дарах, умер в 976 году).
Или вот еще образец:
«Как далек я от этой холодной любви, которая оставляет
сухими веки, от страсти, зажигающей в нас неистовые желания!
Наложи на меня любую кару, за исключением изгнания:
я всегда останусь покорным и верным тебе возлюбленным, я
буду предупреждать все твои, желания...» (Омар Фарид,
XIII век)
Вильгельм Шлегель писал: «Я не могу поверить, что такая
поэзия, как провансальская, целиком построенная на идее пре-
клонения перед женщиной и исходящая из представления о пол-
ной свободе замужней женщины в обществе, могла подражать
поэзии народа, у которого женщины находились на положении
тщательно охраняемых рабынь»; он, видимо, попросту смешивал
Турцию своего времени или свои представления о ней со. сред»
невековой мусульманской Испанией.
Во-первых, женщины во Франции вовсе не все пользовались
полной свободой в обществе; во-вторых, мусульманские жен-
щины вовсе не все жили под присмотром евнухов в наглухо
запертых гаремах.
Цитирую Рамона Менендеса Пидаля: «Еще в прошлом сто-
летии граф Шак отметил, что в районах со смешанным арабско-
испанским населением женщина пользовалась большей свободой,
чем в любой другой мусульманской стране; в этих районах она
никогда не была затворницей, как это предписывали строгие
правила ислама. Судя по дошедшим до нас рассказам, многие
жительницы Кордовы не носили покрывала, заговаривали на
улице с мужчинами и* назначали им свидания, выслушивали от'
незнакомых мужчин комплименты и отвечали на них, собирались
в общественных местах... До нас докатилась молва о жившей
в начале XI века принцессе Вальяде, дочери одного из кордов-
ских халифов, которая пользовалась полной свободой».
С другой стороны, Пидаль с полным основанием подчерки-
вает, что в стихотворениях наших трубадуров очень часто упо-
минается о присутствии стража (gardador), который стережет
женщину по поручению ее мужа, а иногда одного из соперничаю-
щих между собой любовников. В андалузских заджалях также
упоминается о присутствии ракиба (raqib), что соответствует
в арабском языке слову gardador. «Иначе говоря, — прибав-
ляет Пидаль, — свобода дамы в провансальских дворах и ,
347
рабство женщины в андалузских гаремах печально совпадают: и
там и 'здесь есть сторож, gardador или raqib».
Можно обнаружить и других персонажей, общих и для про-
вансальской поэзии, и для арабо-андалузской поэзии. Слово
lauzengiers обозначает клеветников, завистников^ стремящихся
разлучить влюбленных. Им соответствуют namm'an, hasid, кото-
рые стремятся к тому же. «И, — прибавляет Пидаль, — ничего
подобного мы нигде больше не обнаруживаем».
В Андалузии, как и во Франции, — позднее, в период рас-
цвета куртуазности — существовали теоретические труды о люб-
ви; одна из таких книг, принадлежащая Ибн Хазму и написан-
ная в 1022 году, проникнута идеалистической концепцией люб-
ви, напоминающей Капеллана. «В своих рассуждениях Ибн
Хазм, — пишет Пидаль, — специально останавливается на во-
просе о верном любовнике, покорном воле своей возлюбленной.
Вообще эта тема прослеживается в арабской литературе в тече-
ние длительного времени: за два века до Ибн Хазма ею вдох-*
новлялся, слагая стихи, халиф аль-Хакам I кордовский (ум.
в 822 г.), прославивший облагораживающую силу любви, гото-
вой жертвовать всем: «Поистине прекрасно, когда свобод-
ный человек, отдав себя служению любви, становится ее ра-
бом». Эта мысль, — продолжает Пидаль, — глубоко родственна
представлению трубадуров об облагораживающем воздействии
любви...»
А теперь процитируем Гильома: «Всякая радость должна
уступать место этой ;* всякий благородный человек должен усту-
пать первенство своей Даме, ибо она дарует ему любезный
прием и останавливает на нем свой любезный и благосклонный
взгляд; тот проживет сто лет, кому удастся вкусить радость
своей любви...»
Пидаль с полным правом может сближать песни Гильома со
стихами арабского поэта Ибн Зейдуна, который писал почти
одновременно с ним: «Даже если ты возложила на мое сердце
бремя, непосильное для других сердец, я снесу и его; знай, вы-
сокомерная, я все стерплю; знай, гордая, я снесу любые униже-
ния; прикажи — и я повинуюсь». Такой же термин употребит
Гильом в той из своих песен, что написана в форме заджаля:
повинующийся (obédienz) — синоним возлюблен-
ного или влюбленного.
В ту же эпоху в арабской поэзии можно встретить песни
утренней зари (альбы), аналогичные нашим песням этого
жанра, встречаются там и бурлескные или сатирические песни.
И Пидаль сумел показать, что две другие песни Гильома Акви-
танского, V и VII, хотя и не написаны в форме заджаля, сходны
с этой метрической формой, и у арабских поэтов того времени
можно отыскать напоминающие их стихотворения.
348
* * f
Мы можем лишь строить догадки о природе духовных взаимо-
отношений, о культурном обмене в тот далекий период Средне-
вековья, от которого нас отделяет почти девятьсот лет. Но одно
нам, во всяком случае, известно: провансальские жонглеры бы-
вали в Испании, в Италии, они знакомили жителей этих стран
со своей лирической поэзией, и темы куртуазной любви пользо-
вались там огромным успехом. Нам известно и то, что в сосед-
ние страны из Франции проникали также шансон де жест, и,
хотя сообщение и было затруднено, они приобрели широкое рас-
пространение. С другой стороны, мы знаем из множества тек-
стов, документов и фактов, что, несмотря на войны и крестовые
походы, в ту эпоху происходило взаимопроникновение арабской
и нашей культуры. Однако если из этого сделать вывод, что
арабо-андалузская поэзия, написанная на разговорном языке
(сабир Б — термин, до настоящего времени применяемый в Сре-
диземноморье для обозначения смеси из нескольких языков),
дала готовый рецепт для провансальской лирики через посред-
ство заджаля, то, бесспорно, такой вывод будет произвольным
и весьма ограниченным. Но если признать существование такой
народной поэзии, какой была арабо-андалузская, если помнить
о том, что ее распространяли профессионалы — странствующие
хуглары, короче говоря, если представить себе, что такое песнь,
хорошие певцы, обаяние экзотики и чарующее влияние араб-
ского стиха и музыки, то можно с полным правом предполо-
жить, что это искусство послужило стимулом для поэтов, жив-
ших в ту эпоху на юге Франции.
В тот период в Западной Европе происходили два совпадаю-
щих по времени явления, которые не следует смешивать. Пер-
вое из них — радикальное изменение в нравах, в любовных
взаимоотношениях, увеличение свободы для Женщины, борьба
индивидуальной любви против узких рамок, определявшихся
характером брака в феодальном обществе. Происходило то, что
мы назвали бы сегодня стремлением к большему комфорту,
к некоторой разрядке после непрерывных войн6 и ужасов
1000 года, жаждой удовольствий, причем знакомство с привле-
кательными чертами Востока, с утонченной цивилизацией ара-
бов— более непосредственной в эту эпоху наследницей куль-
туры античного мира — сыграло во всем этом свою роль.
Второе явление — это литературная кодификация для Удо-
влетворения нужд господствующего класса, другими словами,
выработка кодекса куртуазной любви.
Но когда рассматриваешь французскую лирическую по-
эзию — народную и ученую, — начинаешь отдавать себе отчет
в том, что стремление к радостям жизни выходит за рамки
Ö49
куртуазной литературы. Куртуазная песнь, как это убедительно
показал Жан Фрапье, — всего лишь небольшая часть француз-
ской лирической поэзии. Когда изучаешь, например, пасто-
релу—более поздний жанр, появившийся к концу XII века
как на севере, так и на юге страны, — то невольно поражает
тот факт, что певцы — аристократические поэты вынуждены
учитывать разницу сословий. Главная тема этих произведе-
ний — попытка сеньора соблазнить крестьянку. Вилланы в них
осмеиваются, изображаются карикатурно. С ними считаются не
больше, чем в.античном мире считались с рабами. Но даже в
этих условиях пастушки знают, чего хотят. И песни этого жанра
при всем их аристократизме кое в чем соприкасаются с другими
песнями, сатирическими, написанными с позиций горожан, то
есть направленными более или менее прямо против аристокра-
тов. В этих последних песнях излагаются такие же взгляды на
куртуазную любовь, с какими мы сталкиваемся в «Романе
о Ренаре», где аристократический идеал высмеивается путем его
сравнения с реальной действительностью.
С какой бы стороны ни подходить к обществу той поры, по-
всюду ощущается глубокое желание наслаждаться жизнью. Как
же в этих условиях не прийти к мысли, что арабо-андалузская
цивилизация, проникнутая этой жаждой и развившаяся еще до
того, как во Франции возникли новые условия, не сыграла роли
привлекательного примера, предмета мечтаний?
Мы охотно допускаем, что провансальская лирика сыграла
именно такую роль по отношению к лирике севера Франции или
Италии либо по отношению к миннезангу. Но, едва заходит
речь об арабском влиянии, на сцену выступают предрассудки
и все тормозят.
Однако во всех областях мы мало-помалу вынуждены воз-
давать арабской культуре должное, признавать истинную роль,
которую она сыграла в Средние века и в истории науки, и в
истории философии, и в развитии технических открытий, и
в прикладном искусстве. Оговариваюсь снова: я не предлагаю
усматривать какую-то чудодейственную преемственность, в ко-
торой заджаль играет роль видимых нитей; однако можно пред-
полагать, что, до тех пор пока у нас не будет серьезных иссле-
дований, посвященных арабо-андалузской лирической поэзии,
ее излюбленным ритмам и, главное, тому важному обстоятель-
ству, что в ней впервые стала постоянно применяться рифма,
мы по-прежнему не будем знать ни того, что могли услышать
наши средневековые поэты, ни того, что распевали хуглары, ко-
торых, по всей вероятности, знал Гильом Аквитанский.
Изучение проблемы творчества Гомера мало-помалу привле-
кает наше внимание к той роли, которую играли в истории и
географии гомеровской Греции Троя, Малая Азия, финикийцы,
350
хетты, то есть тесно связанные с нею народы. Хотят этого.или
не хотят, но арабо-андалузская цивилизация тесно связана
с провансальской.
# * #
Надо сказать, что в поэзии севера Франции существует лю-
бопытное доказательство популярности арабо-андалузской сти-
хотворной формы заджаля; мы говорим об «Игре о Робене и Ма-
рион» Адама де Ла-Аль 7, получившего прозвище Горбун. Эта
пьеса была также сочинена на границе с арабским миром, в Ко-
ролевстве обеих Сицилии, кудс^Адам из Арраса прибыл со
своим господином Робером д'Артуа, поспешившим на помощь
к своему дяде Карлу Анжуйскому после избиения французов
во время Сицилийской вечерни8. Гюстав Коэн, под руковод-
ством которого студенты Сорбонны поставили эту пьесу, гово-
рит: «В ней поют; танцуют, в ней острый диалог, и она заслу-
живает названия первой комической оперы».
Пьеса была написана в восьмидесятые годы XIII века. Она
проникнута антикуртуазными тенденциями, ибо полная покор-
ность даме в ней изрядно осмеяна и пастушка Марион предпо-
читает пастуха Робена, трусоватого, немного смешного парня,
гордому рыцарю, который ухаживает за ней по всем правилам.
Пьеса открывается следующей песенкой (французский текст не-
много модернизирован):
Robin m'aime, Robin m'a;
Robin m'a demandée, si m'aura.
Robin m'acheta cotèle
D'écarlate bonne et belle,
Souskanie et chainturele
A leur y va
Robin m'aime, Robin m'a;
Robin m'a demandée, si m'aura.
Мой Робен меня спросил,
Долго ль он мне будет мил.
Мой дружок принес подарки:
юбку, плащ и пояс яркий;
алый шелк, совсем немаркий,
для меня купил!.
Мой Робен меня спросил,
долго ль он мне будет мил.
В этой песенке точно воспроизведен ритм заджаля: первые
два стиха представляют собой рефрен, затем следуют три стиха
строфы, написанные на одну рифму, а рифма четвертого стиха
повторяет рифму рефрена. Достаточно внимательно прочесть
песенку, чтобы почувствовать народный характер ее ритма.
351
Заимствовал ли его Адам де Ла-Аль из французской народной
песни, образцы которой полностью утрачены? Этого мы не
знаем. Однако в Королевстве обеих Сицилии можно было ветре-*
тить немало арабов, и трудно отделаться от мысли, что заджаль
принадлежит к тем песням, которые хочется напевать, когда их
услышишь, и которым хочется подражать, если ты поэт *.
* Во втором издании своей «Антологии Средних веков» (Gustave
Cohen, Anthologie du Moyen âge), вышедшей в издательстве «Delagrave»,
Гюстав Коэн солидаризируется с точкой зрения Пидаля, который видит в
этой песенке воспроизведение стихотворной формы заджаля. Факт, заслу-
живающий внимания.
, РАБСТВО И ВЕЛИЧИЕ НЕМЦЕВ *
\
изучал в лицее немецкий
язык, потому что мой отец
участвовал в оккупации
Пфальца после первой мировой войны; он по-своему научил меня
любить немецкий народ.
Впервые я разговаривал с немцами в концентрационном ла-
гере Маутхаузен.
Все^ мы пришли к овладению немецкой культурой, пройдя
долгий путь взаимоотношений и взаимосвязей немецкого и
французского народов, путь, отмеченный войнами, которые за-
тевала то та, то другая сторона, а также общими песнями, мощ-
ными, рожденными в огне схватки голосами, которые порою
либо покрывали шум схватки, либо стремились достичь этого.
Путь этот освещали и более великие люди, которые хорошо
разбирались в сути, вещей и помогали другим понимать ее.
У нас во Франции этот путь с особенной ясностью освещен
человеком, который так рассказывает о том, на что он исполь-
зовал часть времени, когда был брошен в тюрьму французской
буржуазией:
«Мне очень хотелось прочитать Маркса и Энгельса в под-
линнике, и я решил изучить немецкий язык, который я уже
немного, знал. Я занимался очень усердно и через несколько
месяцев уже мог без особого труда читать «Анти-Дюринг».
Я всегда уважал германский народ, который дал человече-
ству Альбрехта Дюрера и Гутенберга, Лессинга и Гегеля, Гёте
и Шиллера, Бетховена, Маркса и. Энгельса.
* Этой статьей открывался вышедший в конце 1953 г. специальный
номер газеты «Леттр франсеэ», посвященный немецкой литературе.
^^
23 П. Деке
353
Зверства гитлеровских властей, разнузданный нацистский
террор во всей Европе не заставили меня осудить германский
народ в целом, который нельзя смешивать с его палачами» Ч
Читатель уже узнал спокойный и ясный голос Мориса То*
реза, и, знакомясь с содержанием этого номера нашей газеты,
он убедится в том, до какой степени указания Тореза важны
для освещения взаимоотношений немецкой и французской
культур.
Сейчас, в дни, когда развертывается битва и французского
и немецкого народов против договоров, выношенных в тиши
атлантических канцелярий и имеющих целью ввергнуть оба на-
рода в новую бойню, сейчас, в конце 1953 года, когда отношения
между Францией и Германией вновь начинают занимать важ-
нейшее место в мировой политике и в борьбе за сохранение
мира, нам следует вновь обозреть пройденный путь, расчистить
его, убрать помехи, постараться многое понять и во многом ра*
зобраться.
Выпуская этот специальный номер, мы продолжаем дело ос-»
нователя этой газеты Жака Декура; он известен также как пре-
подаватель немецкого языка Даниэль Декурдеманш. Перед тем
как упасть сраженным пулями нацистов, утром 30 мая 1942 года,
он писал: «Если вам представится случай, попросите сменившего
меня преподавателя передать ученикам первого класса2, что
я много думал о последней сцене «Эгмонта».
Эгмонт из одноименной драмы Гёте, попавший в руки чуже-
земного тирана, готовится мужественно встретить смерть; страж-
ники поведут его к месту казни, но в сердце Эгмонта жнвет
твердая уверенность в победе его народа.
* Это — урок жизни. Чувствовать так — значит уметь видеть
то, что поднимается и растет, что делает возможным гармониче-
ское развитие двух наций на основе новых отношений между
ними. Именно это хотят с помощью нескольких подписей на раз-
личных соглашениях в Бонне и Париже вычеркнуть из настоя-
щего, вычеркнуть из будущего.
* * *
Жак Декур подал нам пример. То, что он написал в своем по-
следнем письме, не случайно. После Мюнхена он был главным
редактором журнала «Коммюн» и посвятил специальный его
номер немецкому гуманизму. В статье, предпосланной собран-
ным текстом, он заявлял: «Мы стоим лицом к лицу с истинной
проблемой Германии. Мы постоянно встречаемся с двумя про-
тивоположными традициями — меча и духа. Следует ли счи-
тать, что только одна из них представляет Германию? Что есть
две Германии, из которых только одна вечна? Это было бы опас-
ной слепотой. Истина в том, что мы имеем дело с двумя по-г
354
стоянными аспектами Германии. Германия — поле, на котором
вот уже много веков разыгрывается битва между самой высокой
цивилизацией и самым бесчеловечным варварством. Непре-
станно в ходе истории страна поэтов и мыслителей, страна, по
праву заслужившая это славное наименование, отбрасывается
назад, становится жертвой безумной гордыни и ненависти. Не-
престанно в ходе истории мир заставляет Германию понять
свою ошибку, и великие немцы неизменно спасают националь-
ную честь».
«Будет ли когда-нибудь нарушена эта цикличность?» — ставил*
вопрос Декур в феврале 1939 года, за семь месяцев до начала
войны, за шестнадцать месяцев до оккупации Парижа, за три*
дцать девять месяцев до своей смерти. И отвечал: «Мы желаем
этого от всего сердца, как европейцы и как французы, другими
словами — как гуманисты...»
* * *
Никогда еще не искажали термины в такой мере, как ныне.
Сейчас слово «Европа» можно употребить лишь с каким-нибудь
прилагательным: малая Европа, Европа шести, Европа де-
вяти, Европа пятнадцати, атлантическая Европа,
Европа, включающая Турцию, Европа со столицей
вВашингтоне и прочее и прочее. Гуманист? Кто не захотел
бы объявить себя гуманистом, даже если из текстов видно, что
речь идет о гитлеровской Германии. Германия? Какая Герма-
ния? Пятнадцать лет прошло с тех пор, как Жак Декур написал
приведенные выше строки, и теперь чуть ли не к каждому его
слову нужны примечания, чтобы сохранить тот смысл, какой
он им придавал. Но одно бесспорно: ныне дан ответ на поста-
вленный им вопрос: «Будет ли когда-нибудь нарушена эта цик-
личность?» Эта цикличность нарушена, так сказать, изнутри.
Теперь вместо этого мы можем говорить о своего рода европей-;
ской 38-й параллели, разрезающей надвое Германию. На во-
стоке— Германская Демократическая Республика, стремящаяся
воплотить в жизнь Германию мыслителей и поэтов, прославляю-
щая Гёте, Иоганна Себастьяна Баха, Генриха Гейне, Луку Кра-
наха и увенчивающая лаврами Томаса Манна и Лиона Фейхт-
вангера. А на западных землях Германии оккупанты не без
сопротивления немецкого народа возродили наиболее реакцион-
ные силы. Там вновь начинают нападать на культуру, власти
не желают, чтобы улица носила имя гуманиста Карла фон Осец-
кого3, которому в 1936 году присудили Нобелевскую премию
мира (в то время он находился в гитлеровском концентрацион-
ном лагере). Поле многовековой битвы сейчас географически
расположено внутри самой Германии. На Востоке — прогресс и
23* 355
стремление обеспечить свободное будущее Германии. На Западе
слышен звон цепей. И то, что происходит теперь в Германии,
касается не только немецкого народа, живущего по обе стороны
демаркационной линии. Отныне мы тоже входим в зону этого
поля битвы — в силу отказа от Потсдамских соглашений, вслед-
ствие того, что Европа подчиняется теперь' государственному
департаменту « Атлантическому пакту *, и выбор, который дол-
жен сделать французский народ, приобретает решающее значе-
ние. На карту поставлена его собственная судьба. И его соб-
ственная культура. Все хорошо знают, что было с ней в условиях
гитлеровской Европы, и именно поэтому сейчас, больше чем
когда-либо, необходимо взглянуть прямо в лицо Германии.
* * *
Трудно назвать что-нибудь более сложное и запутанное, чем
взаимоотношения этих двух культур — немецкой и французской.
Это выявилось весьма наглядно, когда недавно Национальный
народный театр поставил на своей сцене немецкие пьесы —
«Принц Гомбургский» Генриха фон Клейста и «Смерть Дан-
тона» Георга Бюхнера5. Патриот Клейст, стремясь к независи-
мости немецкой нации, выступал против наполеоновской оккупа-1
ции, но для этого ему пришлось в определенной степени порвать
с передовыми традициями французской революции и искать не-
возможного по существу союза с самыми реакционными эле-
ментами, которые затем отступились от него и довели поэта до
самоубийства. Двадцать пять лет спустя Бюхнер вновь обра-
щается к теме французской революции, однако его пьеса отме-
чена безнадежностью и ощущением тупика, в ней свобода и
смерть как бы вступают в своего рода спор, и от этого спора
каждое из главных действующих лиц проигрывает.
Есть много полей битв, много кладбищ — последствий боен
и разрушений, воспоминания о которых все еще сохраняются.
Историю взаимосвязей двух культур десятки раз переписывали
в духе реванша, сведения счетов, в духе завоевания и агрессии.
И все же определяется она великими именами. В вечер битвы
* Газета «Монд» озаглавила статью своего корреспондента в Бонне от
25 ноября 1953 года так: «Придется ли Франции, для того чтобы остаться
в составе Европы, вновь отстроить Бастилию?» По этому поводу Ален
Клеман пишет: «Нам предлагают взывать к теням Священного союза, по-
тому что один из близких сотрудников канцлера Аденауэра весьма серьез-
но убеждал нас: «Все беды, из-за которых вы, французы, страдаете, про-
истекают из 1789 года».
Священный союз? Именно, эти слова произнес в Париже в 1940 году
с трибуны Бурбонского дворца Альфред Розенберг. Как известно, Полит-
цеп 4 в ответ ему выпустил нелегально брошюру «Кровь и золото» (Париж,
1940).
356
при Вальми Гёте приветствует Французскую республику, а
через десять лет — до Клейста — Фихте обращается к немец-
кой нации с призывом подняться против наполеоновской окку-
пации, проповедуя возрождение немецкой культуры. В то самое
время, когда БюХнер стремится усвоить урок 1794 года, Гейне,
бежавший от прусской реакции в Париж, ощущает себя там
братом борющихся французских рабочих. Маркс приезжает
в Париж осенью 1843 года — через несколько месяцев после
свадьбы. Начинается новая эпоха, завязываются еще невидан-
ные в истории связи. Поведение человека перестает опреде-
ляться тем, француз он или немец. Гизо через пять лет после
«благородного» заявления Мюссе:
Noue l'avons eu votre Rhin allemand»
Il a tenu dans notre verre
Нам хорошо знаком немецкий Рейн —
он искрится у нас в бокале
солидаризируется с прусским правительством и по его требовав
нию весной 1845 года высылает из Франции Карла Маркса.
В 1847 году в Брюсселе на французском языке из-под пера мо-
лодого философа из Трира появляется работа «Нищета филосо-
фии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона». Отньгае
Маркс пишет работы, связанные с тогдашней историей Франции:
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год», «Восем-
надцатое брюмера Луи Бонапарта». В 1849 году, когда револю-
ционная волна уже начинает спадать, Маркс ненадолго при-
езжает в Париж. Двадцать лет спустя Бисмарк солидаризи-
руется с Тьером, а Маркс и Энгельс — с рабочими Парижа,
штурмующими небо. Маркс пишет свой труд «Гражданская
война во Франции». Теперь границы уже не препятствуют уста-
новлению связей. Жандармы обеих стран заключают между со-
бой союз. И будущее Германии заявляет о своей солидарности
с будущим Франции.
# * *
Брюссель, Париж, Лондон... В тех же городах, где жил
Маркс, жил в годы изгнания и Виктор Гюго. Но не следует
вступать на путь механического сближения фактов. Гюго бывал
в Трире. Шесть раз в своей жизни этот сын лотарингца посе-
щал Рейн —в 1840, 1862, 1863, 1864, 1865 и 1869 годах. В седь-
мой раз, после грозного года, когда Лотарингия была оккупиро-
вана, он отправился в Тионвиль, на родину отца, город, полу-
разрушенный прусскими снарядами, и остановился в Вьяндене,
в Великом герцогстве Люксембургском.
Критики не раз использовали отдельные высказывания Гюго
против него самого, противопоставляли его мечтания его идеалу.
357
В размышлениях поэта о Рейне и Германии можно отыскать
все, что захочешь; у великого писателя, упорно мечтавшего
о мире, выписывают высказывания, способные приукрасить
мрачную и мерзкую действительность, на которую наложило
свой отпечаток угольно-стальное объединение (представьте себе
этого сына лотарингца рядом с г-ном Шуманом!). Елена Мек-
ленбургская, герцогиня Орлеанская, привела поэта в восторг, и
он оставил нам расплывчатое пророчество о чете Франция —
Германия. Нет, я ничего не преувеличиваю. Ведь это Пьер
Одна из газеты «Фигаро» замечает по этому поводу: «Мысль
о Европе, объединенной в длительном процессе сближения
Франции и Германии, была близка сердцу немецкой, принцессы,
которая путем брака должна была сделаться в один прекрасный
день королевой Франции». Пусть так, но в промежутке произо-
шли события февраля 1848 года.
Нет, не «земляной червь, влюбленный в звезду» 6, Гюго — Рюи
Блаз может помочь нам понять «Рейн», появившийся 28 июля
1842 года, а то, что из него выросло. А с ним связаны не только
эфемерные мечты о династических связях, не только смутные
картины и чудесные наброски (я говорю о «Бурграфах»), но
и такие образы «Легенды веков», как Велф Кастеллан д'Осбор.
Гюго искал поэтических тем не в «Нибелунгах», в песнях,
воспевающих кровавую месть, но в рейнских легендах, просла-
вляющих свободу. Именно там Гюго нашел образ Велфа Кастел-
лана д'Осбора и вложил в уста бурграфа следующие стихи:
Монархи, средь лесов живу я одиноко.
Вы грабите людей! И целая страна,
рыдая, вас клянет, на ваши имена
навеки тень легла от гнусных преступлений.
Чего хотите вы? Нет у меня владений.
Вы ужас сеете! Несчастна та земля,
что терпит герцога и сносит короля,
и кесаря пяту, и злую алчность папы:
Ландскнехты буйствую!, в людской крови их лапы,
они насилуют крестьянских дочерей...
Жить в мире с каждым днем становится страшней —
нет людям воздуха, и нет росы растеньям.
Ведь гром, свободный гром, нуждается в степи,
в глубоких пропастях и в неприступных кручах,
в гонимых вихрями свинцово-темных тучах
и в грозных небесах... А что до королей —
их сокрушить готов он в ярости...
Это произведение помечено датой «14 июля 1869 года». Ста-
рик Гюго умел в царствование Наполеона III на собственный
лад отмечать день взятия Бастилии. Через сорок лет француз-
ские размышления о свободнам Рейне получили название «Жан-*
Кристоф».
358
* * #
Нет, взаимоотношения Германии и Франции не развивались
по прямой линии, и это определяет характер данной статьи.
Вместе с тем имели место различные факты и существовали по-
стоянно действующие факторы, наличие которых позволило га-
зете «Нейес Дейчланд» с полным правом недавно заявить: «Со-
противление г французского народа возрождению нацистского
вермахта в Западной Германии отвечает национальным интере-
сам и французского и немецкого народов. Отсюда — та солидар-
ность между французскими патриотами и патриотическими си-
лами немецкого народа, которая с каждым днем становится все
прочнее».
Эта солидарность между патриотическими силами народов,
живущих по обе стороны Рейна, отнюдь не случайное, явление.
Маркс был немецким патриотом. Такого рода побуждения мы
находим и в произведениях художников слова: Однако в немец-
кой литературе на пути подобных устремлений наталкиваешься
на некий камень преткновения, препятствие, с которым постоян-
но встречаешься. В школьных руководствах по немецкой литера-
туре приводится известное и постоянно цитируемое высказы-
вание Гердера, который в конце XVIII века обращался к
прошлому Германии, с тем чтобы способствовать развитию на-
ционального немецкого искусства. Текст этот относится
к 1777 году, он написан за несколькс*месяцев до смерти Вольтера.
«Итак, от более древних эпох у нас совсем не осталось жи-
вой поэтической традиции, на которой могла бы вырасти наша
новая поэзия, как побег на древе нации, между тем как другие
народы на протяжении столетий развивались и складывались
на собственной национальной почве, на основе вкусов и верова-
ний народа, на основе того, что осталось от старых времен.
Благодаря этому их поэзия и язык стали национальными, голос
народа изучается и ценится и вещи эти приобрели у них го-
раздо более широкий круг читателей, чем у нас. Нам, бедным
немцам, испокон веков суждено было никогда не принадлежать
самим себе: мы всегда законодатели и слуги других наций, вер-
шители их судеб и купленные ими, истекающие кровью рабы:
Иордан, По и Тибр, ,
как часто струили вы немецкую кровь
и немецкие души.
Не удивительно, что, как и всему остальному, немецким песням
суждено было стать
воплем, эхом
от тростников Иордана и до Тибра,
до Темзы и Сены,
359
и таким же должен был стать и немецкий дух:
Наемником, глодающим жадно I
то, что растоптано ногой другого.
И при этом «незыблемо и бесспорно, что если у нас не будет
народа, то не будет ни публики, ни нации, ни языка, ни поэзии,
которую мы могли бы назвать своей, которая бы жила и тво-
рила в нас самих. Тогда мы вечно будем писать для кабинетных
ученых и брюзгливых рецензентов, из их уст и желудка мы
будем получать обратно все написанное нами, будем сочинять
романсы, оды, эпопеи, церковные и кухонные песни, которых
никто не понимает, никто не хочет,«никто не чувствует. Наша
классическая литература — это райская птичка, такая же пе-
страя, такая же благовоспитанная, она вся — полет, высота; она
порхает, не касаясь нашей немецкой земли» 7.
Эти строки приоткрывают нам драму немецких интеллиген-
тов той эпохи. Но их значение шире. Существует термин, ко-
торый читатель часто встретит в публикуемых нами немецких
текстах, это — французское слово, но оно уже не восприни-
мается немцами как иностранное, потому что его неизменно упо-
требляют при воспоминании о духовном прошлом Германии.
Это слово — misère. Так прямо и пишут: Die deutsche ^Misere —
немецкое убожество.
Государство, раздробленное на сотни небольших кня*
жеств; — анархия, гражданские войны и войны обычные; война,
получившая название Тридцатилетней, и бесконечные тайные и
открытые, гражданские и междоусобные войны разной продол-
жительности, которые возникали то ft одном, то в другом кня-
жестве. . Драматическое поражение Крестьянской войны в пер-
вой четверти XVI века, поражение революции 1848 года, то
обстоятельство, что немецкая нация формировалась под реак-
ционным господством Пруссии... Прибавьте к этому бисмарков-
ский милитаризм, измену социал-демократов, обнищание после
Версаля, Гитлера и хаос боннской Германии... Разумеется, я
многое еще опустил. Немецкое убожество — это жалоба Гер-
дера, Гёте — министр в Веймаре, самоубийство Клейста, безумие
Гельдерлина, безумие Ницше, это — многие писатели, поэты,
музыканты, погибшие в войнах.
Не следует допускать, чтобы немецкое убожество лишало
нас способности видеть и другое. Но не следует и сбрасывать
его со счетов.
Гердер предпринимал отчаянные попытки реконструировать
немецкое прошлое. Это было во времена Aufklärung (термин, ко-
торый можно перевести как философия Просвещения). Соглас-
но учебникам, в эту эпоху зарождается немецкая литература.
Лессинг, взяв Дидро за образец, создает немецкую буржуазную
360
драму: вспомните «Минну фон Барнхельм», «Эмилию Галотти»,
«Натана Мудрого». Гёте пишет «Страдания молодого Вертера»,
где развивает идеи Руссо. Шиллер приобретает известность своей
драмой «Коварство и любовь»; Гердер испытывает влияние
Монтескье. Можно констатировать глубокую связь между раз-
витием взглядов идеологов французской буржуазии и новым
порывом, охватившим немецкую интеллигенцию. Поражает
параллелизм тех проблем, которые ставятся, например, в-
«Эмилии Галотти» Лессинга и в «Женитьбе Фигаро» Бо-
марше *. Впервые немецкая литература приобретает мировое
звучание.
Но за «Женитьбой Фигаро», за Монтескье, Дидро, Руссо,,
Вольтером следует 1789 год. За «Эмилией Галотти» или «Ко-
варством и любовью» следует интервенция против Французской
республики, созданной в этом 1789 году, затем — наполеонов-
ская оккупация и, наконец, Священный союз **.
Истолкование Aufklärung и в немецких и в французских
источниках нельзя признать удовлетворительным. Французские
авторы упорно стремятся видеть в Лессинге, Шиллере, Гердере
и даже в молодом Гёте всего лишь эпигонов нашей литературы
XVIII века. Добросовестных учеников или гениальных подра-
жателей. Разумеется, это неверно. Творчество Лессинга питает-
ся жизненными проблемами, встававшими перед немецкой бур-
жуазией в его время. Никто не может оспорить того факта, что
Гёте в «Вертере» идет значительно дальше, чем Руссо в «Новой
Элоизе». Что же касается Шиллера, то именно он создал
в XVIII веке новую драматургию в Европе. Он не только-
(«Коварство и любовь») поднял буржуазную драму до уровня
классического театра, но, помимо этого, стал основоположником
национальной исторической драмы: вспомните его «Вильгельма
Телля» и «Валленштейна», эту фреску Тридцатилетней войны.
Следует помнить о том, что «Дон Карлос» уже подготовляет по-
явление романтической драмы и как бы предвосхищает совре-
менный театр.
Деятели немецкого Просвещения независимо от французских
просветителей на своеобразной основе развивали идеи, поро-
жденные западноевропейской буржуазией того времени. И важно
не то, что эти идеи раньше оформились во Франции, важны те
* Вот что говорит в «Эмилии Галотти» Одоардо, перед тем как oit
убивает Эмилию, чтобы помешать принцу овладеть ею: «Кто на это осме-
лился? Тот, кому здесь позволено творить все, что ему вздумается? Хо-
рошо, хорошо, ладно же, пусть он увидит, на что могу решиться я, даже
не имея на это права!» А ведь пьеса написана в 1774 году.
** Читатель должен помнить, что Конвент провозгласил Шиллера и*
выдающегося поэта Клопштока французскими гражданами.
361
чисто немецкие плоды, которые они принесли в творчестве
немецких писателей.
В Германии без конца переписывали историю немецкого
Просвещения, и всякий раз с реакционных позиций. Прежде
всего старались внушить пренебрежение к этому периоду, име-
нуя произведения той поры «копиями с французских оригина-
лов», и в то же время делали упор на различиях между немец-*
кими и французскими писателями, пытаясь доказать, будто
творчество немецких писателей XVIII века находилось в оппо-
зиции к философии просветителей. Цель была все та же: зату-
шевать связь между возрождением немецкой литературы и
принципами 1789 года и тот факт, что немецкие писатели той
поры отвечали потребностям складывавшейся немецкой нации.
Критика времени Бисмарка продолжала эту разрушительную
работу, направленную против немецкого Просвещения, против
движения «Молодой Германии», развивавшего идеи Просвеще-
ния. Именно эта критика и утвердила господство того крыла
немецких романтиков, творчество которых отличается особенной
безнадежностью. С недавних пор такая точка зрения утвер-
ждается и у нас, и это привело к тому, что многие французы
знакомы с де ла Мотт-Фуке, Шамиссо8, Новалисом 9, Тиком 10,
но ничего не знают о немецком Просвещении, часто не слышали
даже имени Лессинга или Гердера, а о Жане-Поле Рихтере11
знают только то, что он написал «Гесперус». Подобная критика
вычеркивала вовсе из истории тех немецких ' буржуазных писа-
телей, которые, отправляясь от Шиллера и Гёте, вместе с
Берне12 и Гейне создали течение, получившее название «Мо-
лодой Германии», течение, которое одно только и может объяс-
нить рождение и развитие левого гегельянства, в среде которого
формировались взгляды Маркса и Энгельса.
Бисмарковскце, а затем и гитлеровские идеологи сделали по-
пытку ответить Гердеру, изобретя за отсутствием немецкого
прошлого некое германское прошлое. Они совершили прыжок
назад —- через эпоху Возрождения к пышной мишуре герман-
ской Священной Римской империи, к оправданию пангерман-?
ских мечтаний, а затем еще дальше — к древним германцам,
к тому варварскому, что отмечал в них еще Тацит.
Отсюда — все связанное с мифом о Нибелунгах. В канун ре-
волюции 1848 года Геббель13, стремившийся создать новую
немецкую драму и написавший позднее, в 1851 году, свою «Аг-
несу Бернауэр», где в основе сюжета лежат события эпохи
Возрождения и где воспевается битва за свободу, — Геббель,
повторяю, заявил: «Нетрудно убедиться, что немецкая нация
никогда не являла миру признаков своего здоровья, но всегда
являла признаки болезни. И неужели кто-либо всерьез надеется
исцелить эту болезнь, сохраняя в спирту солитеров династии
362
Гогенштауфенов, которые в свое время разъедали нутро Герма*
НИИ?..»
Невольный комизм положения в том, что сам Геббель, минуя
Гогенштауфенов, основателей Священной Римской империи
германской нации, обратился к теме «Нибелунгов» еще.до «Те-
тралогии» Вагнера 14. И еще семьдесят лет спустя дух авантюр
будет сопровождаться ритмом барабана Альфреда Розенберга 15,
варварского певца «Крови и чести» («Blut und Ehre»), расизма,
убийств, мести, кровавого возмездия, возведенных в националь-
ные принципы.
* * *
Борясь против всего этого, необходимо восстановить подлин-
ное немецкое прошлое, чтобы на этой основе возводить здание
новой немецкой культуры. Для нас, французов, такая проблема
может на первый взгляд показаться абсурдной. Начиная с «Пес-
ни о Роланде» и кончая «Политическими стихотворениями»
Элюара или «Новым ножом в сердце» Арагона, начиная с «Ро-
мана о Фивах» и кончая современным французским романом,
можно говорить о непрерывной линии развития литературы, ра-
зумеется знающей и подъемы и падения; вот почему критика на-
шего культурного наследия должна прежде всего состоять в том,
чтобы поставить все на свои места и, разоблачая фальсифици-
рующую роль буржуазной критики, обнаружить истинные пути
преемственности в развитии культуры.
Что касается немецкой литературы, то здесь прежде всего
необходимо обнаружить подлинный путь ее развития, преодо-
леть рубеж второй половины XVIII века и постараться обна-
ружить то, что в более раннюю эпоху, в хаосе сотен мелких
княжеств, на земле, сожженной пожарами многочисленных войн,
предвосхищает немецкую нацию, которой еще только предстояло
возникнуть. И вот в атмосфере Тридцатилетней войны, в стране,
которая, в сущности, не знакома с реалистической школой, в
стране, которая в XIX веке не выдвинула ни одного писателя,
способного выдержать сравнение с Гоголем или Толстым, Стен-
далем или Бальзаком, Теккереем или Диккенсом, мы внезапно
обнаруживаем удивительного прозаика-реалиста. Каким обра-
зом вырос здесь Гриммельсгаузен? Откуда появился «Симпли-
ций Симплициссимус»? Откуда возникло такое произведение,
как «Плутовка и побродяжка Кураж» 16 — один из наиболее не-
обычайных портретов солдатской девки, который можно найти
в истории романа? Откуда все это взялось? Быть может, ска-
зался тот успех, который за век до этого имел перевод про-
изведения Рабле? Или это влияние книг, которые приносили
с собой из доброго десятка стран солдаты, наводнявшие в ту
пору Германию? И чему послужили эти книги? Ведь прихо-
363
дится говорить о своего рода острове — Гриммельсгаузене *«
Ничего до него, ничего после, ничего вокруг... Во всяком случае,
на нынешнем этапе исследований.
Катастрофа произошла в Германии в более ранний период.
Мы говорим о неудачном исходе Крестьянской войны. Об этом
стало широко известно после поражения революции 1848 года
в Германии, когда Энгельс обратился к изучению исторических
источников движения. Он писал: «Немецкий народ также имеет
свою революционную традицию. Было время, когда Германия
выдвигала личности, которЫе можно поставить рядом с луч-<
шими революционными деятелями других стран, когда немец*
кий народ проявлял такую выдержку и развивал такую энер-
гию, которые у централизованной нации привели бы к самым
блестящим результатам, когда у немецких крестьян и плебеев
зарождались идеи и планы, которые достаточно часто приводят
в содрогание и ужас их потомков» **.
Эти слова Энгельса весьма знаменательны. Маркс и Энгельс
расчищали немецкое прошлое, помогали своим соотечественни-
кам в нем разобраться, и их заслуга в этом огромна. В «Диа-
лектике природы» Энгельс приступает к переоценке немецкого
гуманизма, эпохи Возрождения. Он пишет: «Альбрехт Дюрер
был живописцем, гравером, скульпторам, архитектором и, кроме
того, изобрел систему фортификации... Лютер вычистил авгиевы
конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал со-
временную немецкую прозу и, — прибавляет Энгельс, — сочи-
нил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе
хорала, который стал «Марсельезой» XVI века» ***.
Сегодня мы можем видеть роль Германии в ту эпоху; Кра-
нах, а за ним Гольбейн оставили нам неумирающие образы бур-
жуа того времени. Достаточно почитать Рабле, чтобы предста-
вить себе значение в то время Германии с ее франкфуртскими
ярмарками и то, что проникало из нее в Лион, тогдашнюю ин-
теллектуальную столицу Франции. Не следует забывать и того,
что, когда после появления третьей книги «Гаргантюа и Панта-
грюэля» (1547) мэтр Франсуа подвергся преследованию, он
искал прибежища на территории Германской империи.
* «Похождения Симплиция Симплициссимуса» относятся к 1658 году,
«Жизнеописание плутовки и побродяжки Кураж», а также «Чудаковатый
Шпрингинсфельд» — к 1670 году. Гриммельсгауэен родился около 1620
года, он был непосредственным свидетелем и участником Тридцатилетней
войны. Умер он в 1676 году — снова в разгар войны; к этому времени
французы уже четыре года вели войну против войск императора. Почти
одновременно с ним умер Тюренн. Мы сравнили Гряммельсгауэена с остро«
вом. Да, то был остров посреди двух войн. Расин, Мольер и старик Кор-
не ль ничего и не подозревали о нем.
*'* К. M а рк с и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 7, стр. 345«
*** Ф. Энгельс, Диалектика природы. М., 1955, стр. 4.
3Ö4
Вот почему такое значение приобретают события той
эпохи — Крестьянская война — в создании революционной не-
мецкой традиции, вот почему надо помнить о великой фигуре
Томаса Мюнцера, не забывая также о поражении восстания.
Энгельс трезво анализирует события. Крестьянская война, по-
топленная в крови, не пошла на пользу ни городской буржуа-
зии, ни среднему дворянству. Она не могла принести новых бед
крестьянам, ибо им нечего было терять, кроме жизни. Она ока-
залась выгодной только князьям, и после ее поражения мрак
еще плотнее окутал развалины. И именно в этой атмосфере воз-
ник «Фауст». Недавно в Германской Демократической Респуб-
лике состоялась горячая полемика о смысле «Фауста» и об
исторической роли немецких гуманистов той эпохи. Предали ли
они народное движение и тем самым вырыли ров между интел-
лигенцией и борющимся народом? Или же они были в какой-то
степени носителями высокого идеала, за который шли ожесто-
ченные битвы?
, * * *
Это — центральный вопрос. Не потому, что все зависит от
интерпретации событий, происходивших в 1525 году, незадолго
до него и вскоре после него, но потому, что вековое поле
битвы — немецкая литература — используется и теми силами,
которые хотят оторвать немецкую интеллигенцию от нации, и
теми силами, которые, напротив, стремятся сделать ее выраже-
нием нации, нации развивающейся, растущей и освобождаю-
щейся. Ни в одной другой стране попытки реакционеров при-
влечь на свою сторону представителей интеллигенции не были
более методическими, более жестокими, более продуманными.
И нигде также борьба против убожества не велась более
упорно.
Этим летом Анна Зегерс вспоминала: «Если Гитлеру уда-
лось заставить людей сжигать* книги, то это произошло потому,
что в то время писатели были изолированы, их не читали и не
понимали. Вот как получилось, что во Франкфурте, городе, где
родился Гёте, так называемые интеллигенты и преподаватели
на глазах у ошеломленных прохожих принимали участие в по-
гребальном шествии культуры».
«Писателей не читали и не понимали». Эти слова звучат, как
отходная, во всей полной трагизма истории немецкой культуры.
Ее путь вел от Гердера к тем, кто сжигал книги в 1933 году,
к тому глубоко грустному, лишенному иллюзий тексту, который
можно обнаружить, например, в «Вопроснике» фон Саломона.
Важнейшая проблема, занимающая ныне писателей, — это проб-
лема установления связи между интеллигенцией и нацией, между
365
писателем и читателями, связь между нынешней Германией, бо-
рющейся за свое единство, и всем, что было революционного
в прошлом Германии. И эти дискуссии ведутся не одними только
писателями. Так, например, недавно в Берлине в такой дискус-
сии вместе с писателями участвовал и глава Германской Демо-
кратической Республики.
Тот, кто хочет понять немецкую литературу, должен проник-
нуть в суть этой драмы, оценить этот.долгий период разрыва
между народом и его культурой, между народом и националь-
ным государством. Он должен понять также, что ныне наме-
чается и практический выход из этого трагического противо-
речия.
* * *
Драма немецкой культуры — в то же время и драма всей
немецкой истории. Потому что за этим полем битвы, на котором
уже много веков подряд ведется борьба, за этим чередованием
добра и зла не только иноземные вторжения, не только госу-
дарство— Германия — ставка в игре и яблоко раздора, не только
Германия Священного союза, Бисмарка, Версаля и Германия
тех, кто породил Гитлера, а теперь выдвигает Аденауэра и хо-
чет подчинить французских солдат эсэсовским генералам, — за
этим стоит также и то, что претерпели сами немцы, чему они
предавались и в чем они принимали участие.
Трудность развития немецкой истории состоит в том, что
немцы должны признать ответственность Германии, а мы
должны понять, что подобное признание требует мужества и
что оно в свою очередь налагает на нас определенную ответ-
ственность.
Говоря о судьбах Европы, следует помнить: и французы, и
немцы должны сделать выбор между Европой, где постоянно
вспыхивают кровавые бойни, и новой Европой, в которой нации
и их культуры смогут свободно развиваться, сохраняя своеоб-
разный характер, с тем чтобы каждый народ мог внести макси-
мальный вклад в великую культуру человечества в целом. На«
помнить об этом — вот главная цель специального номера га-
зеты «Леттр франсез».
Цель эта внушена нерушимой верой в силу народов.
Лослсслови^
та книга возникла на осно-»
ве статей, продиктованных
требованиями современно«
сти: юбилейные даты, рецензии на новые работы о творчестве
различных писателей, полемические выступления.
Когда Арагон посоветовал мне собрать вместе эти очерки,
написанные на протяжений примерно пяти лет, я заметил, что
все они объединены некоторыми общими темами: исследование
нашего литературного наследия, критическая история развития
реализма в литературе, борьба против агностицизма в истории
искусства — этой болезни, которая, по-видимому, приняла в
настоящее время острый и эпидемический характер. В конеч-
ном счете я выбрал иное главное направление — историю ро-
мана. И это побудило меня написать специально для этой кни-
ги открывающий ее очерк о Кретьене де Труа и очерк об Ан-
туане де Ла Сале.
Эта книга, разумеется, не история романа, пусть даже толь-
ко французского. В ней нет достаточной последовательности,
даже в самой ее концепции. В ней не соблюдены пропорции,
которые отвечали бы значению писателей, о которых говорится.
Бросаются в глаза существенные пробелы. Ведь в книге отсут-
ствуют Сервантес, Скаррон, Гриммельсгаузен, Лесаж, Мариво,
Дефо. Хотя я очень высоко ставлю их творчество.
С другой стороны, я сознательно ограничился в этом сбор-
нике рассмотрением произведений, написанных не позднее три-
дцатых— сороковых годов XIX века. Ибо Диккенсом, Стенда-
лем и Бальзаком заканчивается предыстория романа, именно
они-то и стали основоположниками современного романа. Это
не значит, что его дальнейшее развитие прекратилось. Однако
если вспомнить, какие именно произведения, входящие в «Че-
ловеческую комедию», были созданы до 1840 года, если приба*
вить к этому ранние романы Диккенса, а также «Красное it
черное» и «Пармскую обитель» Стендаля, то придется при*
знать, что в дальнейшем, по крайней* мере на протяжении
24 П. Деке
369
XIX века, было мало переворотов в области романа и новые
исключительно важные открытия в этом жанре были сделаны
уже в России: они связаны с именами Толстого и Горького.
Но это уже предмет особого исследования, где все должно быть
рассмотрено под иным углом зрения. Для меня Стендаль уже
современный писатель. Хотя бы по распространенности его
творчества.
Зато я включил в книгу несколько очерков, относящихся не
к роману, а к другим жанрам, скажем к драматургии» или же
о переписке Вольтера; сделал я это потому, что они показались
мне полезными для понимания поднятых мною проблем; от-
дельно, под заглавием «Сопоставления», помещены два очерка;
в них рассмотрены некоторые стороны взаимоотношений нашей
культуры с арабской и немецкой культурами. События послед-
них лет дают понять достаточно ясно, почему я остановился на
этих проблемах.
Много раз в книге встречается выражение «современный
роман». Я употреблял его и когда говорид об Антуане де Ла
Сале, и говоря о жившем тремя веками позднее Филдинге, хотя
понимал, что ни «Приключения Джозефа Эндруса», ни тем
более «Маленький Жан де Сентре» не заслуживают с точки
зрения современных читателей такого определения. Однако я
полагаю, что в том и в другом случае мы можем говорить о
важных этапах в развитии жанра романа, этапах, которые по-
могли ему сделаться таким, каким он предстает ныне перед
нами. Это верно и в отношении формы романа, и в отношении
его содержания. Несомненно* что роман (я говорю о жанре)
неотделим в своем развитии от развития класса буржуазии,^что
он вплоть до нашего времени рассказывал о мире, где этот
класс играл важнейшую роль. В творчестве Антуана де Ла
Саля мы впервые встречаемся со столкновениями между бур-
жуа и феодалами, борющимися за социальное и политическое
господство; в творчестве Филдинга, как позднее в творчестве
Бальзака, Стендаля или Диккенса, речь уже идет о том, что
правление буржуазии нельзя признать ни справедливым, ни
человечным. Каждый раз исследование мира, социальной дей-
ствительности становится глубже и шире; параллельно с этим
роман как средство познания жизни обогащается и развивается.
Я полагаю — если помнить о задачах, стоящих перед француз-
ской литературой нашего времени, — что подобные размышле-
ния над усилиями великих предшественников нынешних писа-
телей могут быть плодотворными. Вот почему в каждом из
этих случаев термин «современный» означает в моем представ-
лении признание преемственности, разумеется в самом широком
смысле этого слова; подобно этому, мы признаем роль, которую
сыграли Жанна д'Арк или Наполеон в истории нашей родины»
370
не стараясь отыскивать в их жизни правила поведения или
политические рецепты.
С этой точки зрения взаимоотношения соседних культур
имеют огромное значение, и следует признать весьма серьез-
ным пробелом настоящего сборника то, что в нем ничего не го-
ворится о таких испанских произведениях, как «Ласарильо с
Тормеса» 1, «Назидательные новеллы» и «Дон Гусман из Аль-
фараче» 2, оказавших большое влияние на развитие романа в на-
шей стране, или же о таких достижениях немецкой литературы,
как «История доктора Фауста», или фламандской литературы,
как «Тиль Уленшпигель».
Вот почему не следует считать настоящую работу действи-
тельной историей романа или даже попыткой наметить главные
линии развития этой истории *. Моя цель была куда более
скромной: помочь пересмотреть некоторые проблемы и уяснить
некоторые вопросы, которые я считаю важными и способствую-
щими более верному освещению истории нашей литературы и
борьбы наших писателей; я хотел также наметить несколько
вех, которые помогли бы в критике, как правило, сектантских
и опасных традиций в исследовании этих вопросов. В этом на-
правлении имеются уже в наше время различные попытки,
скажем прекрасная работа Антуана Адана, который, к сожале-
нию, в этой области все еще не нашел себе последователей. Я
хотел также подчеркнуть, что мы стоим перед необходимостью
заново пересмотреть реестр наших сокровищ и, наконец, пу-
тем полемики и исследований уточнить метод материалисти-
ческой критики, который, по моему мнению, один только по-
зволяет разобраться в сумме фактов, в развитии литературы и
в эволюции творческого пути романистов.
Считаю должным поблагодарить всех, кдо помог мне, предо-
ставив в мое распоряжение редкие издания. Особо хочу побла-
годарить Гюстава Коэна, который разрешил мне воспользо-
ваться его трудами о Кретьене* де Труа, а также моих товари-
щей по газете «Леттр франсез», которые приняли деятельное
участие в работе над настоящими очерками.
Париж, июнь 1955
* В этом случае следовало бы, к примеру, поспорить с тезисом, кото-
рый Тибоде3 выдвинул в своей книге «Размышления о романе» (Т h i-
baudet, Réflexions sur le roman), где он утверждает, будто бретонский
роман находится у истоков этого литературного жанра, «который в XIX ве-
ке превратился в огромное устье реки, сливающейся с безбрежным морем;
благодаря своим глубинам и различным течениям роман включает в себя
почти все литературные жанры...» Следовало бы также изучить зарожде-
ние и развитие городской литературы Средних веков, проследив, как шел
этот процесс в итальянских городах, остановиться на творчестве Данте и
так далее. Все эти проблемы в настоящих очерках даже не затронуты,
24*
$лз/иыш/щния
i о /иетоде^
^xeJUptfh
ЛЮ (}А?А
&
1
еловеку сорок лет, он воз-
вращается с войны. В се-
редине второго послевоен-
ного года он уединяется и задумывает план многотомного ро-
мана. В следующие восемь лет публикуются первые шесть ча-
стей. Через одиннадцать лет после начала работы несчастный
случай внезапно ее прерывает, и автор приходит к мысли пере-
смотреть свой замысел в целом, отказываясь от того окончания
произведения, которое было намечено раньше. Он решает «при-
вить к стволу уже опубликованных шести частей новый побег —
иную развязку». Потребовалось еще два года, чтобы преодолеть
кризис, и лишь тогда ему удается осуществить свой замысел.
Заканчивается 1933 год.
Так примерно резюмирует вкратце Роже Мартен дю Гар
историю создания «Семьи Тибо» в своих воспоминаниях в
«Полном собрании сочинений» *.
Все, что рассказывает нам Роже Мартен дю Гар о перво-
начальном замысле романа, создает представление о семейной
хронике, более близкой к натуралистическому роману, чем нам
это представляется теперь, даже при чтении первых шести
частей — вплоть до «Смерти отца». «Меня внезапно увлекла
мысль написать историю двух братьев: людей с очень разными,
даже во многом противоположными темпераментами, но в ос-
нове своей отмеченных неким неясным сходством, присущим
* Этим, собственно, и объясняется тон, который порой звучит в нашем
очерке, посвященном творчеству романиста — нашего современника. Я счг
тался с фактом, что мы уже имеем «Полное собрание сочинений»; в дру-
гом случае я мог бы обратиться за нужными разъяснениями к автору.
<5#®№*
S75
близким родственникам, чертами наследственными». Более
того, эти авторские указания о характере первоначальной раз-
вязки свидетельствуют о том, что война 1914 года должна
была явиться в романе лишь эпизодом: «Только Жак был
убит на войне. Антуан возвращается живым и здоровым. Он
становится мужем Женни и помогает ей воспитывать Жана-Поля,
сына Жака. Многочисленные — на этот раз уже вымышлен-
ные— события позволяли мне рельефнее изобразить жизнь
крупного врача-практика на весьма своеобразном фоне после-
военной Франции».
Я отмечаю эту мысль, которую выделяет и подчеркивает
сам автор, потому что она приводит нас к сравнению «Семьи
Тибо» с произведениями, с которыми сейчас нам, пожалуй, не
пришло бы и в голову ее сравнивать: не только с книгами Золя,
но также и с «Будденброками» Томаса Манна или с «Сагой
о Форсайтах» Голсуорси. Она объясняет также и реакцию
Дюамеля, который, прослушав в авторском чтении «Серую
тетрадь» и «Исправительную колонию», сказал: «Слушая вас,
я спрашивал себя, что нового в вашей книге. Откровенно го-
воря, не очень много. Замысел смелый, и в целом он удался.
Но вы, в сущности, лишь используете достижения хороших
французских и иностранных романистов XIX века. Однако, по-
моему, дело не в том, чтобы по-новому, в новой комбинации
расположить уже известные и хорошо изученные элементы.
Наш высший долг, долг романистов, — улавливать в таинствен-
ном мире еще не исследованных чувств те новые черты, кото-
рые ускользали до сих пор от внимания специалистов; иначе
говоря, мы должны обогатить каким-нибудь неожиданным от-
крытием наше еще столь несовершенное знание человека...» *
Чем же объяснить, что в наши дни не только «Семья Тибо»
в целом, но даже и ее первые шесть частей сразу же представ-
ляются нам удивительно современными? Только ли из-за но-
вого освещения, которое придает им позднее данная автором
развязка? Несомненно, что трагическое зарево «Лета 1914 го-
да» по-новому освещает для нас содержание первых частей ро-
мана и мы воспринимаем их иначе, чем их первые читатели.
Этот ключевой момент в истории человечества и в развитии
сюжета романа определяет все его содержание; и неслучайно
старый доктор Филип, учитель Антуана, говорит: «Одна не-
деля бессмысленных страхов, преувеличений, фанфаронства —
и вот все народы Европы с криками ненависти бросаются, слов-
но бесноватые, друг на друга... Я беспрерывно думаю обо всем
этом... Это настоящая трагедия Эдипа... Эдип тоже был преду-*
* «Хроника Паскье» 1 весьма мало отвечает подобным требованиям. Но-
не всегда автору удается осуществить то, что он замышляет.
. 376
прежден, но в роковой день он не распознал в событиях тех
ужасов, которые ему возвещали... То же произошло и с нами...
Наши пророки все предсказали; мы ждали опасности, и ждали
именно оттуда, откуда она пришла, — с Балкан, из Австрии,
от царизма, от пангерманизма... Мы были предупреждены...
Мы бодрствовали... Многие мудрые люди сделали все, чтобы
воспрепятствовать катастрофе... И тем не менее она разрази-
лась: мы не могли ее избежать. Почему?.. Я рассматриваю во-
прос со всех сторон... Почему? Может быть, просто потому, что
во все эти заведомо страшные, давно ожидаемые события про-
скользнуло что-то непредвиденное, какой-нибудь пустячок, до-
статочный для того, чтобы слегка изменить их облик и внезап-
но сделать их неузнаваемыми, достаточный, чтобы, несмотря на
бдительность людей, капкан судьбы мог захлопнуться!.. И мы
попались в него...»2
Можно предположить, что изменения в политической обста-
новке Европы и Франции за тринадцать лет между составле-
нием первоначального плана книги и ее завершением придали —
в конце 1933 года, вскоре после прихода Гитлера к власти, —■
трагический характер развязке романа. Вполне возможно, что
возобновление, гонки вооружений, оккупация Рейнской области
в какой-то мере сказались на работе автора над «Летом
1914 года»; подобно этому, и мы сейчас после событий второй
мировой войны, в свете всех происходящих событий, поражаю-
щих нас с такой силой, особенно глубоко ощущаем трагедию,,
определяющую смысл и характер «Семьи Тибо». Вполне воз-
можно, что мы сами слегка переосмысливаем содержание пер"
вых частей книги, устанавливая в нем общность с нынешней
развязкой романа. И действительно, каждый читатель, хотя и
во многом бессознательно, прочитывает роман по-своему, до-
бавляя Многое к его содержанию от себя. Но одним этим не
объяснить внутренней направленности романа, его глубокой
цельности. Насыщенность романа жизненным материа-
лом подводит к изображению трагедии войны, я бы сказал
даже, властно диктует эту тему.
Разумеется, автор, когда он еще только писал первые строки
«Серой тетради», уже знал, какие события за этим последу ют.
Однако в то время он еще не придавал военной катастрофе
того значения, которое она позднее приобрела в романе. Не*
сомненно, он преследовал тогда прежде всего иную цель — дер-
жать читателя в напряжении. Писатель говорит, что он отка-
зался от мысли продолжать «Отплытие» (название седьмой
части романа, как она была намечена вначале) в 1931 году»
почувствовав, что «идет по линии наименьшего сопротивления»
и «слишком замедляет развитие повествования». И дальше;
«Чрезмерно растягивая свой роман, я рисковал не только уто-
S77
■мить читателя, но и окончательно разрушить то, чему я прида*
вал столь важное значение: единство и стройность произ-
ведения».
И здесь мы вновь сталкиваемся с тем, что я только что
отважился назвать свойственной роману насыщенностью.
Это не только ритм произведения, не только ритм, чередова-
ние, сменяющих одно другое событий. Это — нагнетание в ко-
роткий отрезок времени множества событий и фактов, весьма
существенных для действующих лиц. В романе «Семья Тибо»
время настолько насыщено событиями, что оно как бы приобре-
тает иную протяженность. Романист переходит от эпизода
к эпизоду, лишь косвенно давая нам возможность почувствовать,
сколько времени прошло. Каждый из этих эпизодов содержит
в себе множество жизненных поворотов, противодействий, откры-
тий. Автор ведет нас от кризиса к кризису с неумолимой после-
довательностью, тем более поражающей нас, что она расходится
с нынешней манерой. Писатель сохраняет неизменным только са-
мое существенное, и всякий раз, встречаясь с его персонажами,
мы знаем: сейчас произойдет нечто важное, решающее. Кризис
в «Серой тетради» еще не позволяет распознать этой авторской
манеры. Бегство Жака Тибо и Даниэля Фонтанена настолько
сильно потрясает их семьи, что читатель уже ощущает своеобра-
зие ее. Читая «Исправительную колонию», мы еще колеблемся,
но, начиная с «Солнечной поры», с того места, где Жак посту-
пает в Нормальную школу, а Антуан встречается с Рашелью,
мы уже чувствуем, что развитие романа вступает в трагическую
фазу*. Отсюда и то, что я назвал насыщенностью романа; в
«Семье Тибо» она такова, что читатель как бы стоит перед
чем-то неизбежным, неотвратимо надвигающимся и попадает в
такое положение, что начинает опасаться, как бы не упустить
нечто важное, какую-нибудь существенную деталь и не потерять
вследствие этого нити повествования. Мы уже живем в атмо-
сфере приближающейся трагической развязки, среди всех этих
«заведомо страшных, давно ожидаемых событий», мы готовы к
тому, что в них может проскользнуть что-то непредвиденное,
«какой-нибудь пустячок, достаточный для того, чтобы слегка
изменить их облик и внезапно сделать их неузнаваемыми». Мы
напряженно ждем той минуты, когда, несмотря на всю бдитель-
ность Жака, а особенно Антуана, а также отца, Жиз или Женни,
Даниэля или Рашель, «капкан судьбы может захлопнуться».
* Прибавим, что в тот же самый вечер Даниэль де Фонтанен встре-
чает Ринету, некогда соблазненную его отцом и теперь делающую первые
шаги в карьере «дамы полусвета». Но рассказ романиста ни на одно мгно-
вение не переходит в мелодраму. И дело не только в умении писателя.
Он сумел создать подлинно трагическое нагнетение; даже при первом чте-
нии, когда еще не знаешь, что все встречи того вечера окажут роковое
влияние на судьбы героев, ты уже предчувствуешь дыхание ада.
378
Несмотря на внешнее сходство «Семьи Тибо» с «научным
романом», традиции которого эта книга на первый взгляд про-
должает, она, по существу, подвергает критике традиции натура-
листов. Жак и Антуан каждый по-своему пытаются распоря-
жаться своей судьбой, нр неожиданно их захлестывают темные
страсти, унаследованные от отца-. Это, хотят они того или нет,
повышенная чувственность, сексуальность, не только получен-
ная по наследству, но и развившаяся под влиянием воспитания
и социальной среды; в то же самое время воспитание и среда
в какой-то мере маскируют, затемняют, преображают и видо-
изменяют эти свойства.
Сначала мы — свидетели их внутренних драм, на наших гла-
зах разыгрываются две трагедии страсти: любовь Антуана и Ра-
шели и метания Жака между Жиз и Женни, о чем он сам рас-
сказывает в «Сестренке». Затем — с частями романа, написан-
ными после 1933 года, — мы оказываемся в атмосфере иной
трагедии, затрагивающей не только Жака, Антуана, Женни или
Жиз, но судьбы всех людей, всего общества, трагедии, которая
в конце концов втягивает в свою орбиту даже на наш взгляд
наименее трагических персонажей романа, например Даниэля
де Фонтанена.
И внезапно мы понимаем или по крайней мере думаем, что
понимаем: трагическая участь ожидает не только тех, кто, каза-
лось, был обречен на нее заранее (как Жак или Женни), и не
только тех, кто, казалось, способен сопротивляться ей, избе-
жать ее (как Антуан). Трагедия приходит извне, охватывает
весь мир, и она, если вовремя не принять мер, способна погло-
тить все.
• «Семья Тибо» вводит нас в историю человечества.
2
Я не склонен объяснять сложившееся у меня впечатление,
что этот роман вводит нас в историю, только возрастом и об-
стоятельствами, при которых я открыл для себя «Семью Тибо»:
я не раз читал и перечитывал ее и позднее.
«Жана-Кристофа», скажем, я всегда воспринимал, как
произведение, помогающее понять позицию Ромена Роллана в
годы после написания им этого романа — во время войны
1914 года и после нее. Напротив, я никогда не сомневался в
том, что «Семья Тибо» написана как бы специально для меня,
точнее говоря, для меня она не просто книга, а рассказ о
жизни, которую я сам бы прожил, если бы я был того воз-
раста, как мой отец. Подобно «Войне и миру», эта книга не
из тех, что стремятся привлечь ваше внимание. Нет, она власт-
379
но захватывает вас и заставляет участвовать в исторических
событиях не только потому, что сама возвышается над ними,
но и потому, что приобщает к ним; она не только знакомит с
историей, но и помогает вам открыть ее для себя.
Без сомнения, невозможно оставаться равнодушным к тому
процессу, который сопутствовал созданию произведения и даже
определял его. Речь идет о возвращении к поколению времени
первой мировой войны с позиций нового, нашего поколения, и
это, несомненно, способствует тому, что книга входит в нашу
жизнь. Однако роман также неизбежно содержит в себе и нечто
такое, что позволяет нам подняться над описанными в нем со-
бытиями, и вот почему: освещение событий в романе не про-
роческое, хотя и может таким показаться, но оно помогает луч-
ше понять и нашу сегодняшнюю жизнь — не потому, что какие-
то исключительные обстоятельства увеличивают его воздей-
ствие и возможности, а в силу ценного человеческого опыта,
которым роман нас обогащает.
Я открыл для себя «Семью Тибо», когда мне было пятна-
дцать лет; приблизительно в те же дни Роже Мартен дю Гар
получил Нобелевскую премию. Я отрывался от книги для того,
чтобы читать очередные сообщения о войне в Испании. Я ожи-
дал их с нетерпением: в те дни, если не ошибаюсь, наступали
республиканцы. Я вновь вернулся к роману в мае 1940 года,
чтобы перечитать его целиком, ибо чтение «Эпилога», вышед-
шего за несколько месяцев до того, натолкнуло меня на мысль
о том, что я, читая в свое время «Лето 1914. года», был убеж-
ден, что народы уже достаточно сильны, чтобы не допустить
возникновения войны; и теперь мне хотелось проверить, выдер-
жала ли книга испытание временем. Я произвел эту проверку
в ту самую пору, когда гитлеровские орды хлынули на фран-
цузскую землю, и убедился, что книга с честью выдержала ис-
пытание.
А сегодня этот роман приобрел еще более сильное звучание.
3
Здесь уместно заметить, что роман может сбить нас с пути.
Читая его, мы готовы попасть в западню, хотя он нас о ней и
предупреждает. На первый взгляд необычайная насыщенность
сюжета, тщательно проведенная типизация действующих лиц,
вытекающая из этой насыщенности и в свою очередь способ-
ствующая ей, — все это создает у нас впечатление, что жизнь,
которую мы готовимся познать, характеризуется необычными
обстоятельствами. Трагичность «Лета 1914 года» предполагает,
что мы лучше, чем сами герои, осведомлены о том, что их ожи-
380
дает. Конечно, развязка этой трагедии стала частью нашей
истории, мы в какой-то степени также пережили ее последствия;
однако в отличие от героев романа у нас было время, необхо-
димое для лучшей оценки этих событий; вот почему, если Жак
видит дальше, чем Антуан, Женни или Даниэль, то мы знаем
о происходящем больше, чем он. Но в то же время мы наталки-
ваемся на те же барьеры, нас ранит сознание невозможности
преодолеть препятствия, словно перед нами лежат неразреши-
мые проблемы или же возможное решение ускользает от нас. А
потом внезапно мы вдруг побеждаем их, хотя и не знаем тол-
ком, к чему это может привести... Например, когда Мейнест-
рель уничтожает документы фон Штольбаха, свидетельствую-
щие о тайном сговоре между Германией и Австрией, или когда
становятся понятными обстоятельства измены социалистических
партий. Нам надо изо всех сил стремиться избегнуть железных
объятий судьбы. Что ж это такое, спрашиваю я вас? Может ли
быть, чтобы революционер, видя в войне путь к революции,
считал своим долгом содействовать развязыванию войны? Ах,
если бы Мейнестрель не уничтожил документы, а дал бы им
ход... Что тогда? Выступила ли бы от этого в романе измена
немецкой социал-демократии более неопровержимо? И в самой
жизни? Или же следует думать, что все ставки в игре были
сделаны и ничто больше уже не имело значения?
Разумеется, мы можем занять позицию сторонних наблю-
дателей, убеждать себя, что все это уже давно решенные проб-
лемы, они представляются нам ошибочными и, быть может, и
были на самом деле такими. Сомневаюсь только, что это успо-
коит нашу совесть. У меня есть дядя, он участвовал в револю-
ционных битвах того времени, и вот уже на закате своей жизни
он прочел в газете сообщение о том, что Советский Союз рас-
полагает атомной бомбой и, стало быть, имеет возможность
в войне окончательно уничтожить капитализм. Всю жизнь че-
ловек этот боролся за мир, но внезапно он сказал себе: первая
мировая война привела к возникновению Советского Союза,
вторая — к образованию народных демократий, к рождению но-
вого Китая... значит следовало бы, пожалуй...
Мне кажется, это место в «Семье Тибо» вызывает у нас
чувство, сходное с тем, какое я испытал перед стариком дядей.
Выводы его неверны, но это объясняется нетерпением. Мы стал-
киваемся с персонажами «Лета 1914 года», и в нас возникает
соблазн предаться мечтам или отказаться от них, если обстоя-
тельства принуждают к этому.
Внезапно мы понимаем: то, что представлялось нам чем-то
исключительным, чрезмерным, преувеличенным, оказывается
точным и познаваемым в хаосе, в который мы вовлекаемся. С ка-
ждым из своих персонажей романист ввергает нас в мучительные
381
раздумья и терзания, и они становятся нашим уделом, как
только мы вступаем в борьбу с социальной действительностью,
с обществом. Личность полна противоречий, она постигает
окружающий мир, стремится действовать и на каждом шагу
рискует попасть в расставленные ей западни, причем виной
тому и ее успехи и неудачи, ее нетерпение и упадок духа,
ее заблуждения и правильные суждения, принимаемые ею на
себя обязательства и отказ от их выполнения...
Манера, в которой пишут романы в наше время, создает
множество препятствий для понимания нами «Семьи Тибо». Все
выглядит так, как будто совершенный романист в наши дни
составляет свой кодекс правил творчества в полной противо-
положности методу Роже Мартен дю Гара, его манера письма
воспринимается как собрание ошибок, которых следует избе-
жать. Андре Жид в своем «Дневнике «Фальшивомонетчиков»3
точно выразил такую точку зрения: «Я упрекнул бы Мартен
дю Гара в рассудочной манере повествования; долгие годы он
освещает фонарем романиста лишь фасад описываемых им собы-
тий, и все они—.одно за другим—»выступают на передний план;
никогда их линии не пересекаются, и вследствие отсутствия тени
не возникает и перспективы».
Если рассматривать «Лето 1914 года» не как случайный эпи-
зод в романе, а как неизбежный результат логики развития
самого романа и в свете событий, происходивших в долгий
период, предшествовавший созданию этой части произведения,
то проблема предстанет перед нами в ином виде. Мне думается,
я показал, что без того, чтобы достичь такой насыщенности
романа, — против которой ополчается Жид — автор не смог бы
и создать трагическую атмосферу в книгах «Лето 1914 года» и
«Эпилог». Но Жид на материале ранних частей романа (его
«Дневник» написан вскоре после появления «Сестренки») под-
черкивает и другую сторону метода Роже Мартен дю Гара,
которая прямо не* вытекает из того, что я назвал насыщен-
ностью романа: «Он освещает фонарем романиста фасад опи-
сываемых им событий». По правде говоря, как это часто бывает,
Жид здесь занят скорее самим собой, чем Мартен дю Гаром,
и «Семья Тибо» послужила просто удобным предлогом. Жид
исходил примерно из такой предпосылки: «Я никогда не осве-
щаю фасада» — и прочее. Но на самом деле Роже Мартен дю
Гару как раз и свойственно то, что он дает перспективу, и ощу-
щения перспективы можно добиться только при рассмотрении
некоторых событий, так сказать, с фасада. (Мы скоро убе-
димся, что речь идет о таких событиях, которые по современ-
ной литературной моде противопоказано воспроизводить в про-
изведении.) Что же касается тени, или, вернее, светотени, то,
по-моему, Камю4 имеет все основания писать во введении к
382
«Полному собранию сочинений» Роже Мартен дю Гара: «Сек-
суальность и тень, отбрасываемая ею на всю жизнь, была смело-
рассмотрена Роже Мартен дю Гаром. Смело, но не грубо. Он.
никогда не уступал соблазну впасть в скабрезность, что делает
множество современных романов столь же скучными, как и
руководства правил хорошего тона. Он не прибегал к мо-
нотонному описанию излишеств. Он предпочел показать зна-
чение сексуальности, подчеркнув, что она заявляет о себе в:
самое неподходящее время. Как истинный художник, он опи-
сывал ее не прямо, а косвенно, показывая ее как неодолимую
силу...» Эта оценка «смело, но не грубо» помогает нам понять-
двусмысленность упрека Жида. Да, Роже Мартен Дю Гар дает
события с фасада, спереди, но неверно утверждать, будто он
освещает их фонарем романиста, и тем более неправильно уп-
рекать его в рассудочной манере повествования. В этой области,
важнее всего как раз то, о чем не говорится ясно и определенно;
именно то обстоятельство, что о чем-то умалчивается, застав-
ляет нас, читателей, пристально глядеть в лицо персонажей,
стремясь понять то, о чем они умалчивают. Г-жа де Фонтанен*
в отношениях с Антуаном или с мужем не высказывает своих
подлинных чувств, то же можно сказать и об отношении Жака
к Жиз. Одно-единственное слово, произносимое г-жой де Фон-
танен в конце романа; и (еще более показательно) манера, с
какой Жак объясняет свою глубокую личную драму в книге
«Сестренка», выражают, прямо-таки логически, такие кон-
фликты; при этом автор, точно лучом прожектора, на мгновение
выхватывает из мрака дотоле невидимые детали, с тем чтобы
тут же вновь погрузить их в еще более густой мрак. И действи-
тельно, то, что не нравится Жиду (что роман, так сказать, по-
вернут к свету), указывает нам путь к выходу из тьмы, а не
сгущает мрак, и это — победа писателя.
В «Лете 1914 года» речь уже не идет ни о сексуальной жиз-
ни, ни о глубинах человеческой личности, теперь перед нами
события исторические и политические. Именно тут манера
рассматривать некоторые события спереди, с фасада явно-
расходится с принятой теперь манерой авторов романов, осве-
щающих своим фонарем спереди, с фасада, сексуальную, физио-
логическую жизнь, жизненные невзгоды, но отсекающих персо-
нажей и от истории, и от политики. «Недостаток «Лета 1914 го-
да», — пишет, например, Клод-Эдмонд Маньи 5, — сказывается
уже в «Жане Баруа», где захватывающая сюжетная интрига,
связывающая обыкновенных людей, буквально утопает в ог-
ромном множестве историко-социологических документов вокруг
дела Дрейфуса; и это приводит к тому, что контакт между чи*
татёлем (а также, без сомнения, автором) и персонажами ро-
мана обрывается на еще более длительное время, чем в «Лете
383
1914 года», где приходится непрестанно перемещаться из одного
плана повествования в другой...» Тем не менее Клод-Эдмонд
Маньи немного дальше прибавляет: «Этот метод (метод Дос
Пасоса6, который «умеет избегать дидактизма, потому что он
отказывается излагать объективную историю, какую мы на-
ходим в учебниках, и ограничивается воссозданием политиче-
ской и социальной атмосферы эпохи») непригоден для Мар-
тен дю Гара, который стремится дать нам «ясное представле-
ние» о событии и пытается осветить дело Дрейфуса и причины
первой мировой войны с той сверхъясностью, которой ему
так блестяще удалось достичь в «Сестренке». Повторяю, все
это —не непосредственное впечатление читателя, а серьезное
критическое наблюдение. Без сомнения, Клод-Эдмонд Маньи
считает, что прав Дос Пасос, а неправ Мартен дю Гар, и через
две строки наш автор уподобляет объективную историю исто-
рии в изложении учебников, а попытку Роже Мартен дю Гара
осветить причины первой мировой войны — попыткам авторов
вышеупомянутых учебников. Хорошо было бы еще обьяснить,
каким образом он в «Лете 1914 года» упорно поворачивается
спиной к этой пресловутой «объективной истории». По правде
говоря, Клод-Эдмонд Маньи отлично отдает себе отчет в пре-
емственности творческого метода «Сестренки» и «Лета 1914 го-
да», но она не может допустить, чтобы романист задавался
целью раскрыть нам глубокий смысл истории, подобно тому как
он раскрывает нам глубины личной жизни своего героя. «Не
может быть, — подчеркивает она, — органического слияния меж-
ду по необходимости вымышленным сюжетом, в котором фигу-
рируют его герои, и будущим тех великих абстрактных понятий,
которыми оперирует История: я- имею в виду Францию, Мир,
Европу, патриотизм, социал-демократию...» *
Но ведь когда говорится о причинах первой мировой войны,
то в то же время речь идет и о жизни Жака, Антуана или Даниэля,
и такое обстоятельство представляется нам достаточным обо-
снованием органического слияния событий их жизни с историче-
скими событиями.
Впрочем, правильнее говорить не о слиянии, а о сопоста-
влении, столкновении. Сверхъясность «Сестренки»
рождается из целого ряда сопоставлений — между образом Ан-
туана и тайной Жака, между Жаком и г-ном де Жаликуром,
профессором, к которому он приходит за советом, перед тем
как решить свою судьбу, между литературной формой, в ко-
торую облечена тайна Жака, и действительностью. В «Лете
1914 года» можно говорить о столкновении главных персона-
жей романа с истинами, характерными для их эпохи и их
* Прописные 6>квы поставлены Клод-Эдмонд Маньи.
384
жизни, истинами, которые выдвинулись на первый план на том
решающем переломе, каким является война; ведь в этот кри-
тический момент маски сбрасываются, все души обнажаются,
возвышенные слова подвергаются строгой проверке, иллюзии
разрушаются. По мнению Клод-Эдмонд Маньи, это испытание
до такой степени бесполезно, что она в связи с этим даже го-
ворит о «великих абстрактных понятиях, которыми оперирует
История». Если невосприимчивость Жида к такому произведе-
нию, как «Семья Тибо», вполне объясняется свойственным ему
эгоцентризмом, то отказ Клод-Эдмонд Маньи считаться с истин-
ными причинами финальной трагедии романа тем более пора-
жает, что мы наталкиваемся на него в конце удивительно
тонкого этюда, посвященного структуре романа Роже Мартен
дю Гара *, этюда, в котором она как раз и указывает на траги-
ческое развитие, на трагическую концепцию первых частей
произведения. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которую
нельзя объяснить одним лишь непониманием или предрассуд-
ками. Тем более что Клод-Эдмонд Маньи судит о «Лете 1914
года» в свете нынешней манеры писать романы и, таким образом,
защищает не только свои личные идеи.
Очень редко современный французский роман обращается к
подобным проблемам, но если это делается (вспомним «На-
дежду» Мальро7 или «Дороги свободы» Сартра8), то в нем
как будто ставится задача раздробить то, что Мартен дю Гар
соединял, сплавлял в одно целое, сопоставлял. Глубокий трагизм
ситуаций ослаблен, зато усилена жестокость, увеличена зона
всего неясного и темного, нелепого; писатели заставляют своих
героев сгибаться под тяжестью судьбы. Кажется, что романисты
в согласии со своей концепцией мира произвольно вводят в
жизнь героев сомнительную свободу или беспрепятственно
позволяют распространяться слепому хаосу, и каждый раз раз-
витие произведения исключает возможность логического вы-
бора, что составляет важнейший смысл «Жана Баруа» или «Лета
1914 года». Словно имеется неписаное правило, предписываю-
щее любыми способами держаться подальше от рационального,
той области, в которую персонажи «Семьи Тибо» всячески ста-
раются проникнуть. Среди современных политических романов
только «Коммунисты» Арагона или «Мандарины» Симоны де
Бовуар9 ставят нас перед проблемой познания мира, только
в этих произведениях романист не приносит реальность в-жерт-
ву непознаваемому и предоставляет своим персонажам, а стало
быть, и читателям все шансы. Действительно, только в этих
двух романах рассматривается проблема, близкая к той, кото-
* «История французского романа после 1918 года» (Cl.-Edm. Magny,
Histoire du roman français depuis 1918).
25 П. Деке
385
рую Клод-Эдмонд Маньи, ничтоже сумняшеся, отдает на откуп
авторам учебников истории: я говорю о причинах второй миро-
вой войны, о причинах холодной войны. Реальная действи-
тельность предусматривает ныне — и с каждым годом все с
большей остротой — то чувство ответственности, которое долж-
ны испытывать наши современники за свою собственную судьбу
в связи с угрозой развязывания новой войны. Роже Мартен
дю Гар предстает перед нами как основоположник романа, где
сделана попытка показать действительную свободу человека,
которая предусматривает также возможность выбора, осно-
ванного на понимании происходящего, выбора ответственного,
хотя и с долей приблизительности и иллюзий. Речь идет о со-
поставлении на высшем уровне — сопоставлении идеалов людей
с тем, чем заполнена их жизнь.
4
Единственный заслон, отделяющий «Семью Тибо» от соврем
менного читателя, — это теперешняя литературная мода в ро-
мане. Но, перед тем как попытаться разъяснить значение этого
заслона, мне хочется указать на одно недоразумение, которое
может возникнуть из нашего собственного жизненного опыта.
Когда мы сегодня читаем «Семью Тибо», мы видим перед со-
бой, я бы сказал, неудачу в квадрате, которую потерпели попыт-
ки предотвратить войну; если вспомнить о пути через Дьен
Бьен Фу 10 в алжирский тупик, то позволительно говорить даже
о неудаче в кубе. Ни Жак, ни Антуан не выходят победителями
из выпавших на их долю испытаний, то же самое можно ска-
зать о Женни и Даниэле. Когда мы заканчиваем чтение «Эпи-
лога», то сознаем, что единственным, кто способен быть носите-
лем нашей надежды, остается лишь ребенок Женни и Жака. Но
ведь это значит не сказать ничего или сказать все, потому что
по теории вероятности Жан-Поль имеет столько же шансов — в
силу различного рода случайностей — понять то, что свершил
его отец и что завещал дядя, или же восстать против них. Все
приходится строить на поражениях. И все еще может возро-
диться, если отталкиваться от этих поражений, ополчаться на
них, но извлекать из них урок. История не признает абстракций
в этих вопросах, и, как известно, она обрекла поколение Жан-
Поля на жестокое опровержение оптимизма. Ведь сын Жан-
Поля мог бы участвовать в войне в Алжире. И все же мы обя-
заны извлечь из произведения Роже Мартен дю Гара, в котором
так много говорится о неистовстве и ярости, прежде всего при-
сущий ему дух человечности," гуманизма, веры в людей. В конце
концов, быть может, задачу предотвращения войны не решить
в одном, даже в двух или трех поколениях11. Роман вводит нас
38G
в атмосферу этого духа гуманизма и тут останавливается. Для
того чтобы лонять масштаб этого гуманизма (или его иллюзии),
нам следует выйти за рамки собственно романа.
В 1957 году, хотим мы того или нет, мы в своем понимании
«Семьи Тибо» как бы заключены в двойные тиски. Если при-
знать, что роман потерпел неудачу, столкнувшись с историей,
то выводы, которые, нам казалось, мы почерпнули из него, на
самом деле лишь результат нашего собственного исторического
опыта, пробужденного благодаря тому, что автор вывел историю
на сцену. Если же, напротив, считать, что роман выдержал это
испытание, то мы можем поддаться искушению исказить его
уроки в русле уже упоминавшегося нашего собственного истори-
ческого опыта. Таким образом, и авторская манера, и наш соб-
ственный опыт призывают к одному и тому же—'к недоверчи-
вой настороженности. На деле все — в нас самих. Надо решить
для себя вопрос — лишена или не лишена человеческая история
смысла.
Именно так и шло развитие в различных романах, входя-
щих в цикл «Семьи Тибо»: под знаком сомнения перед лицом
истории и в смысле человеческой жизни. Если мы начнем раз-
бираться в их своеобразном контексте — не только в формаль-
ном или эстетическом, но и в идеологическом, — то мы прежде
всего станем перед тем же итогом, какой подвел первой мировой
войне Валери в своей книге «Кризис духа»12; соображения
Клод-Эдмонд Маньи, которые я только что цитировал, — всего
лишь своего рода следствие этого итога. Может показаться, что
роман только подтверждает знаменитое утверждение Валери:
«Мы — цивилизации, мы сознаем, что мы смертны». В «Семье
Тибо» умирает общество, разрушается мир, который прежде
можно было считать, который ,сам имел основания считать и счи-
тал себя неуязвимым; то было время, когда люди приступали
к овладению научными познаниями чуть ли не во всех областях,
и казалось, что эта победа разума обеспечивает возможность
покончить со всеми чудовищами.
Подход Жака к истории таков же, как у Антуана к жизни.
Война уничтожает эту уверенность и этот идеализм. Вот что
пишет Антуан:
«Жану-Полю:
Нет истины, кроме преходящей.
(Помню еще те времена, когда все верили, что антисептика
важнее всего, — «убить микроба». А потом поняли, что вместе
с микробом часто убивают и живые клетки.)
Идти осторожно, ощупью, не доверять первому впечатле-
нию, ничего не утверждать окончательно. В конце всякого пути,
если стать на него без оглядки, — тупик...
25*
387
С молодых лет освободиться от склонности к безоговороч-
ным суждениям» 13.
А вот другая цитата:
«Думаю о предвоенном времени, о моей тогдашней жизни,
о моей юности. Истинным источником моей силы было потаен-
ное, ненасытное доверие к будущему. Больше, чем дове-
рие,—'твердая уверенность. А сейчас там, откуда шел ко мне
свет, беспросветный мрак. Это пытка, не прекращающаяся ни
на минуту» 14.
Но «Кризис духа» заключал в себе еще один не менее важ-
ный постулат, который неожиданно придает «Семье Тибо» поле-
мическую силу.
«Мы, — говорил Валери, — безрассудно вернули массам
силу, находящуюся в пропорциональной зависимости от их чис-
ленности». Жак умирает вследствие того, что существует не-
преодолимая пропасть между силой, которую могут представить
собой массы, которую только одни они и могли бы привести в
действие, и тем, что происходит в действительности, — пассив-
ность либо участие в яростной бойне. Точка зрения Валери,
точка зрения касты, чувствующей угрозу своим интересам,
состоит в том, что политические силы рассматриваются лишь
с того момента, когда они уже проникли в массы, и приводит
к тому, что следствие начинают принимать за причину и люди
начинают объяснять собственное поведение неосторожностью,
хотя на самом деле речь идет о слепоте, невежестве и глупости
и о претензиях, непомерных претензиях: «Мы »безрассудно вер-
нули массам силу...»
Ах! Сколь вредное значение приобретает это понятие без-
рассудства во времена, когда те, кто исполняют во Фран-
ции функции государственных деятелей, используют по каждому
случаю это выражение Валери: «Мы безрассудно» избрали
тогда, в .войну, Алжир местопребыванием временного прави-
тельства Свободной Франции, «безрассудно» мобилизовали
алжирцев для войны против вьетнамцев, «безрассудно» низло-
жили султана Марокко, прочесали мыс Бон. «Безрассудно» при-
нудили Гитлера сложить оружие.
Я хорошо представляю себе, что это за равновесие, ко-
торое можно при желании вывести для себя при чтении «Лета
1914 года». Никто не прав. Растерянность правителей, чув-
ствующих, что события ускользают из-под их контроля и неумо-
лима влекут их к войне; растерянностью охвачены и вожди со-
циалистов... Гипноз войны и капитуляция перед нею и даже
бегство в смерть, как это произошло с Митхергом, Мейнестре-
лем или Жаком. Словом, этакий объективизм. Но рассуждать
так — значит забыть о том, как в реальной действительности
продолжалась история. Ведь среди социалистов тех лет были и
388
люди, отказавшиеся согласиться с оккупацией Рура, войной
в Марокко 15, войной тридцать девятого года 16, войнами в Ин-
докитае и Алжире. (Как ни странно, но нашлись социалисты,
принявшие оккупацию Рура, и войну в Марокко, и войну три-
дцать девятого года, они несут большую долю ответственности
за развязывание войн в Индокитае и в Алжире.) Нет, по правде
говоря, в «Семье Тибо» нет равновесия, и если бунт Жака за-
канчивается неудачей, если терпит поражение и Антуан, при-
мирившийся с действительностью, то они все же завещают
нам быть последовательными, призывают нас к бдительности
по отношению к тем капканам, которые нам может расставить
история. Нет, это не урок морали, но и, во всяком случае, это
не имеет ничего общего с той игрой слов, которую ныне, как и
тогда, используют для'оправдания в конце концов всех войн.
Внимательно читая «Лето Î914 года», мы видим, что Роже Мар-
тен дю fap сумел уловить медленную эволюцию словаря, отра-
жающую эволюцию к чувству покорности и отступничеству и
оправдывающую то и другое; он сумел уловить все распростра-
няющееся смиренное приятие хаоса, поминутно с помощью слов
и мыслей драпируемое в совершенно иные одежды, при котором
измышляются извиняющие обстоятельства, превращаются в
оправдания и приводят к прямому соучастию в том, что до этого
было предметом ненависти и безоговорочного осуждения; мало
того, к этому соучастию призывают и других.
В самом деле, нужна была поражающая и без уступок суро-
вость, пронизывающая первые книги «Семьи Тибо», чтобы эти
сделки с совестью стали нам вдруг понятны. Роман подводит
нас к грани, где ложь становится явной, где срываются покровы,
которыми правительства и их сообщники пытались маскировать
истину и извращать ее; роман помогает нам понять, как обма-
нывают народ.
Разумеется, здесь лишь один из капканов судьбы. Мы точно
знаем время, когда была расставлена западня. Нр неожиданно
мы подмечаем, что антагонистические силы, одна из которых
расставила капкан другой, все еще существуют, что ловушки,
ими установленные, и до сих пор продолжают в определенном
смысле действовать, хотя отныне в некоторых случаях стало
возможным уменьшить их роковые последствия. И вот мы по-
знаем добро и зло, познаем смысл нашей истории, хотя по-
прежнему рискуем быть захваченными врасплох. Тем не менее
мы предупреждены, теперь и мы, как Эдип 17, услышали проро-
чество. Это, конечно, немного, если иметь в виду, что такие
предупреждения не всегда помогают вовремя распознать зло.
Но это и очень много, ибо помогает нарушить наше показное
спокойствие,
389
5
«с— Я социалист, — заявляет - он сейчас же, — но именно
поэтому я не могу допустить, чтобы Сила раздавила Право!
Он очень красноречив. Повышает тон. Клеймит презрением
тевтонское варварство; превозносит западную культуру» 18.
То, что «Семья Тибо» так точно датирована, заставляет нас
воспринимать эту книгу как исторический роман и увеличивает
бдительность, о которой я говорил. Имеет смысл отметить, что
в ту эпоху границей «западной культуры» был Рейн и одним из
гитлеровских завоеваний, не отнятых обратно, является то, что
отныне ее границы проходят по Эльбе 19. Но все это истины в
некотором роде исторические. «Семья Тибо» рисует нам такую
перспективу, что становится ясным: несмотря на то что лучшие
люди потерпели поражение, несмотря на измены, крах надежд,
все еще — в пределах людских возможностей. Можно использо-
вать мертвого Жореса для защиты того, против чего он боролся
всю свою жизнь; Жак в агонии на своем крестном пути к смерти
видит, что его деяние превратилось в собственную противопо-
ложность, что его поступок принимают за поступок врага. Но
всякий раз мы убеждаемся, что если хаос и способен все погло-
тить, все обратить себе на пользу, то тем не менее безрассудство
неизменно оказывается преходящим. Даже когда человече-
ство, казалось бы, целиком вовлекается в бойню, человек
никогда не оказывается сраженным. Несмотря на гибель отдель-
ных людей, их деяния сохраняют свой смысл для тех, кто при-
ходит им на смену. Для нас.
' Этот роман о первой мировой войне, завершенный перед на-
чалом второй мировой войны, кажется, специально написан для
послевоенного времени, которое мы переживаем; он направлен
против тех, кто стремится превратить утро победы в новый пе-
риод между двумя войнами.
Из глубины бездны Жак обращается к народным массам:
«Вы могли помешать войне! Вы — мирные люди — представ-
ляете собой подавляющее большинство, но вы не сумели ни
сгруппировать это большинство, ни организовать его, ни заста-
вить вовремя вмешаться в события решительно и дружно, чтобы
направить против поджигателей возмущение всех классов, всех
стран и заставить правительства Европы подчиниться вашей
90
воле к миру...»
Разумеется, перечитывая эти строки, мы видим сегодня уто-
пичность выраженной в них мечты; однако здесь нет ни единого
лживого слова. Европа в то время была еще такой, какой ее
изображали на географических картах, мечта Жака еще не во-
плотилась в России, и выход, найденный русским народом, со*
вершившим революцию, тогда еще не избавил его от войны,
390
одновременно исключив его из вышеназванной «Европы». А что
сказать о людях, о простом человеке с маленькой буквы, к кото-
рому обращался Жак:
«Французы и немцы! Вы — люди, вы — братья! Во имя ва-
ших матерей, ваших жен, ваших детей, во имя самого благород-
ного, что есть в ваших сердцах, во имя творческого вдохновения,
пришедшего к вам из глубины веков и стремящегося сделать из
человека справедливое и разумное существо, воспользуйтесь
этой последней возможностью! Спасение близко!»21
Ничто в этих словах Жака, постигшего жестокость смерти,
на пороге которой он стоит, не направлено против других людей,
против масс. Ничто. Мы не ощущаем ненависти даже к жан-
дарму Маржула. «Страх попасть к немцам борется в нем со
страхом перед убийством. Он никогда еще никого не убивал, да-
же животных... Возможно, если бы в эту минуту глаза раненого
еще раз приоткрылись, если бы Маржула пришлось выдержать
живой взгляд... Чтобы подбодрить себя, чтобы оправдаться
перед самим собой, он, стиснув зубы, кричит:
— Дерьмо!
Крик и выстрел раздаются одновременно...» 22
Сцена с описанием мрачного и слепого насилия, когда чув-
ствуешь, что как будто бы все, кажется, погибло, когда остается
лишь неистовство и ярость, охватывающие всего человека, усту-
пает в романе место развязке действительной истории; в этой
развязке ничего не отброшено, она дана нам как есть, и она
примиряет нас с «подавляющим большинством» людей, с ко-
торым были связаны надежды Жака. И, читая последние строки
книги «Лето 1914 года», мы ощущаем, как такие же надежды
пробуждаются в самой глубине нашего существа. Несмотря на
физическую смерть Жака, действие романа как бы продолжается
в нас. В сердце и в голове каждого человека, всех людей. Даже
в тот момент, когда Жак, а с ним и мы, терпит полное пораже-
ние в ту ночь, когда свершаются убийства и льется кровь, люди
еще могут, они всегда могут, себя спасти.
Нужно было дожить до первого года мира, обретенного
после второй мировой войны, когда, казалось, люди вторично
перебороли свои беды, чтобы выяснилось, что нам для решения
системы уравнений Валери предлагают относить все битвы и
отречения, победы и поражения опять же за счет Человека.
Значит, дело уже не в том, чтобы удвоить бдительность против
капканов истории, не в том, чтобы усвоить опыт второй мировой
войны и тем самым помешать новой бойне. Поскольку мы «без-
рассудно вернули массам силу, находящуюся в пропорциональ-
ной зависимости от их численности», и так как под ударами этих
самых масс некое другое общество погибло в страшной новой
резне, следовало сделать вывод, что Человек оказался сражен-
391
ным; кроме того, раз уж в конечном счете массы стали решать свою
судьбу, следовалр противопоставить им меньшинство, способное
добиваться решения уже не вместо масс, а попросту вообще не
принимая их в расчет. Не кто иной, как Мальро, в курсе лекций,
прочитанных им по поручению ЮНЕСКО в 1946 году, взял на
себя труд доказать, что «церковь тут ничего не значит, ибо все
значение в этой области принадлежит святым; армия ничего не
значит, ибо все значение принадлежит героям; и совершенно не
важно, будет ли любой из присутствующих здесь студентов ком-
мунистом, противником коммунистов, либералом или кем-либо
еще, так как единственная истинная проблема, выходящая за
рамки всех этих партий, состоит в том, чтобы понять, в какой
форме можно воссоздать Человека».
Произнес эти слова один из тех, кто имел отношение к по-
беде, одержанной годом раньше. Так что он ни в каком
смысле не принадлежал к лагерю побежденных. Могло пока-
заться даже, что он посвятил всего себя служению людям. Но
нет, как будто, как-то, без его ведома и ведома всех борцов,
в ходе второй мировой войны Человек умер. Умер Человек, умерла
Европа, цивилизация, культура, умерли все достижения челове-
чества, а заодно и его будущее — ведь речь идет о воссоздании
Человека, ни больше, ни меньше.
Может показаться, что это урок, данный в романе «Семья
Тибо», но превращенный в собственную противоположность.
Если один только Жак имел значение, то Человек действительно
умер, но тогда надо заметить, что Человек умер уже раньше, по-
тому что попытка, совершенная Жаком, не имела в тех условиях
никакого смысла. В таком случае хаос не только воцаряется, он
торжествует над всем. И следует просто уступить ему его
жертвы.
Действительно, Мальро завязывает здесь куда более ярост-
ную полемику против «Семьи Тибо», чем Валери. В двадцатые
годы нашего века могло показаться, что роман развивался без
учета антагонизмов, сотрясавших французское общество после
первой мировой войны. Конечно же, «Кризис духа» был проти-
воположен духу произведения- Роже Мартен дю Гара, однако
Валери и Мартен дю Гар отлично сосуществовали. Но вот
вскоре после окончания второй мировой войны Мальро высту-
пает с таким заявлением, словно специально направленным про-
тив «Семьи Тибо». Прежде всего он нападает на основные поло-
жения романа дю Гара: «Проблема, ныне встающая перед нами,
в том, чтобы понять, умер ли уже Человек на земле этой старой
Европы иди он еще жив. Для постановки этого вопроса сейчас
мы по крайней мере видим некоторые основания. Прежде всего,
XIX век возлагал большие надежды на развитие науки, на со-
хранение мира, на разработку проблемы достоинства человека.
392
Сто лет назад считалось общепризнанным, что надежды, которые
тогда питало человечество, неизбежно приведут к совокупности
открытий, которые послужат людям, к совокупности идей, ко-
торые послужат делу мира, к совокупности чувств, которые по-
служат человеческому достоинству. Что касается проблемы мира,
то, я полагаю, жизнь доказала шаткость надежд на него. Что
касается науки, то Бикини 23 говорит за себя. Что касается до-
стоинства...» По мнению нашего автора, надежда, которую Жак
возлагает на массы, эта идея, поддерживающая его до самой
смерти, —• идея не только бесполезная, но и ложная, опасная. «Че-
ловек, — продолжает Мальро, — подтачивается массами, по-
добно тому как он подтачивается индивидом. И индивид, и
массы создают проблемы там, где их нет, но они избегают ре-
шения фундаментальной проблемы, потому что не могут взять
на себя этой задачи. Индивид, как таковой, быть может, и не
в состоянии создать Человека, но каждый из нас — с помощью
средств, какими располагает, — должен пытаться зачать его».
Для Жака массы не были существами другой породы. Он не
сомневался, что они те же люди, и люди миролюбивые. Он при-
зывал их обрести себя путем отказа от участия в войне, в ко-
торую их вверг господствующий класс и где им предстояло по-
гибнуть. Массы еще не были Человеком, но от них зависело,
чтобы люди будущего могли создать мир без войн, мир более
справедливый и представляющий лучшие возможности для
развития Человека. По мнению Мальро, вторая мировая война,
отрицательно разрешила эту проблему. Он считает, что у ин-
дивида, пожалуй, еще остались шансы, но у масс их уже нет.
Поэтому нужно противопоставить себя массам, играть их судь-
бами точно так, как играли ими те, против кого боролся Жак,
те, кто втянул массы в ужасную войну исключительно в инте-
ресах меньшинства, меньшинства, которое не имеет ничего об-
щего ни с Человеком, ни с людьми: оно заинтересовано исклю-
чительно в капиталах, вложенных в дело. И здесь круг замы-
кается. В перспективе, нарисованной Мальро, «Семья Тибо»
уже представляется не романом, направленным против обмана
народов, а романом, обманывающим Человека.
6
Мне могут сказать, что я сравниваю вещи несравнимые,
что в ходе второй мировой войны некоторые идеи умерли и что
если механически переносить в наши дни тезисы тех, кто в
1914 году пытался восставать против войны, то мы сами устроим
хаос. Это верно. Верно и то, что пацифистские традиции при-
вели некоторых из тех, кто, казалось, был им верен, к приятию
393
войны; нацистские оккупанты использовали для своих целей это
кричащее противоречие, выпуская ежедневную газету под назва-
нием «Франс Сосьялист», которая в 1941 году призывала к под-
чинению нацистскому порядку, используя выдержки из выска-
зываний Жореса, призывавшего не участвовать в империалисти-
ческой войне. Может показаться, что хаос внезапно распростра-
нился во всем, поскольку история поставила новую ловушку:
господствующий класс стоял на пораженческих позициях, и это
возмущало народ; через несколько месяцев французская нация
была отдана во власть гитлеровского жандарма, и за это время
война незаметно переросла в другую, где те, которые в первую
войну призывали вести ее до конца, стали «пацифистами» во
вторую войну, и наоборот. Может показаться, что от идеала,
ради которого пожертвовал собою Жак, не осталось камня на
камне, не осталось ничего — только мрачное очарование небы-
тия, только ураган неистовства! «Какая насмешка!... — думал
Жак. — Вот и осуществилось в каждой стране то самое едино-
душие народных партий, которое казалось невозможным! И осу-
ществилось именно благодаря войне! Тогда как, будь оно
направлено против нее... Какая насмешка! Приверженцы Ин-
тернационала, единодушно принимающие сегодня войну во имя
нации!» 24
В том ли дело, что вокруг нас устарелые ценности, которые
так часто проституировались, что они стали походить на пьяных
и обезумевших проституток? Или же мы сами теряем рассудок?
Или же снова в происходящие события проскользнуло что-то
непредвиденное, какой-нибудь пустяк, чего, однако, оказалось
достаточным для того, чтобы слегка изменить облик мира и
сделать его неузнаваемым? Не теряем ли мы нить, оперируя
абстрактными понятиями, лишенными конкретного современного
содержания?
Действительно ли речь идет о Человеке? О его кризисе?.
Остановиться на этом — значит забыть, что Мальро прежде
всего ополчился на гуманизм «Семьи Тибо»: «Я хочу сказать,
что, каков бы ни был гуманизм, к которому мы стремимся, со-
мнительно, что он может избавить нас от войны». Но ведь че-
ловек, о котором идет речь (оговорить это необходимо, тем
более что Мальро не испытывает такой потребности сам),—
западный человек, европеец, и ирония слов, их первая шутка
над нами в том, что без нашего ведома превосходство белого
человека ставится под сомнение. Вторая мировая война была
«мировой» в большей мере, чем первая. В 1919 году колонии
были поделены как добыча, жители колоний служили в первую
мировую войну только пушечным мясом. К концу же второй
мировой войны (хотя это и не сразу и не всем стало ясно) было
покончено с представлением, будто проблемы человечества ка-
394
саются только белого человека, белого колонизатора. Во время
войны народы Азии и Африки видели этого белого человека
на коленях; в Африке — перед другими белыми, в Азии —
перед японцами. Вместе с тем война поставила перед колониза-
торами новые проблемы. Сложившаяся уже много веков назад
Франция была насильственно перерезана надвое демаркацион-
ной линией, а заморские территории, вплоть до самых малень-
ких, объединились вокруг Свободной Франции, возродившейся
в изгнании. То было событие первостепенной важности для на-
ции в целом, и Тунис, Марокко, Алжир, народы Черной Аф-
рики, Индокитая, колоний в Индии, в Океании, на острове
Святого Петра и Микелона один за другим становились рав-
ными французскому народу. Не было больше метрополии.
В этом все убедились, когда в Сирии, которую ее правители хо-
тели подчинить Гитлеру, французы вступили в борьбу с фран-
цузами же. Не сходное ли с этим имело место и в «националь-
ную» войну 1939 года? История, без сомнения, сохранит за ней
название, которое ей присвоил французский народ, — страйная
война. И действительно: военные действия против Гитлера не
ведутся, но внутри страны идет глухая война против против-
ников Гитлера. Французское правительство, по-своему «паци-
фистское», своими действиями отрицает провозглашенные им же
самим цели войны. И вот складывается положение, которого не
было в 1914 году: в этой войне, в то время как правители де-
лают вид, будто она их не касается, народ обнаруживает, что
теперь — в отличие от прошлой войны, когда его стремились
поработить, втягивая в военную мясорубку, — тех же целей до-
стигают, призывая его к пассивности. Хотя французские проле-
тарии еще не решили для себя вопрос, имеют ли они действи-
тельную родину, но зато уже становилось совершенно ясно, что
банкиры стремятся выбить их с позиций, завоеванных рабочим
классом в 1936 году 25. Мало-помалу, с углублением катастрофы
и усилением вражеской оккупации, становилось очевидным, что
границы французской нации проходят не там, где полагали, что
цель этой войны не в том, чтобы завоевать новые рынки или
подчинить себе другие народы, но что война ведется против
французского народа, чтобы лишить его завоеваний, достигну-
тых в период Народного фронта. Все превращается в собствен-
ную противоположность. «У вас насильно отнимают вашу
жизнь! Для чего? Чтобы превратить ее в новый капитал в сун-
дуках банкиров...»26 — восклицал Жак. Теперь же, в июне
1940 года, Шпейдель (в качестве начальника генерального
штаба фон Штюльпнагеля) находится в Париже и французам
разрешают жить жизнью рабов с условием, чтобы они не уча-
ствовали в войне. Эта пассивность должна была принести но-
аые капиталы В' сундуки банкиров. Мы помним это время, когда
395
наш народ по собственной воле решил, что лучше умереть
стоя, чем страдать на коленях. Народ медленно и обдуманно
готовил свою войну. Он начал ее на земле своей родины, за-
хваченной чужестранцами, вел ее против тех, кто выдал его свя-
занным по рукам и ногам в лапы жандармов. Народ создал
свою собственную национальную оборону. Несмотря на много-
численные устраиваемые ему западни и капканы — взятие за-
ложников, все новые и новые аресты, пытки, массовые репрес-
сии, — он научился не только отвечать насилием зачинщикам
насилия, но и мало-помалу стал обезоруживать насильников.
Впервые в нашей истории народ столь широко, я бы сказал
в национальном масштабе, отказался поддержать насилие и,
более того, сумел преодолеть это насилие.
Некоторые пытались в 1946 году упрекать нас за это — ведь
народ разделался с обращенным против него насилием, прибег-
нув в свою очередь к насилию. Могут и сегодня попытаться
попрекать нас этим, ссылаясь на то, что совершают ныне от
имени французского народа. Но дела обстоят не так просто.
К примеру, весь конец «Семьи Тибо» — это грозное обвинение
в насилии. «Сейчас, — пишет Жак, — беспощадная дисциплина
повсюду надела намордник на сознание отдельного человека. Вы
повсюду приведены к слепому повиновению — повиновению жи-
вотного, которому завязали глаза... Никогда еще человечество
не знало подобного принижения, подобного ущемления разума!
Никогда правительства, пользуясь своим могуществом, не пред-
писывали умам такого полного отречения, никогда не пода-
вляли устремлений масс так жестоко!» 27 Кто из романистов су-
мел в более резких выражениях показать насилие над на-
родом в целом (1918 год), чем тот, кто передал беседу между
Антуаном, отравленным ипритом, и дипломатом Рюмелем?
«— Ладно, ладно, Тибо... Но подумайте сами, что может
сделать правительство, когда идет война? Направлять события?
Вы отлично знаете, что не может. Направлять общественное
мнение? Да, это, пожалуй, единственное, что оно может!.. Ну
вот, мы это и делаем. Наша главная работа — это (как бы по-?
лучше выразиться?) соответствующее преподнесение фак-
тов...» 28 \
Рюмель приводит два примера того, как организуется ложь.
Во-первых, ложь полезная. В этой области, замечает он, «мы
во Франции за эти четыре года творили подлинные чудеса!»29
«Ну, скажите-ка по совести: считаете ли вы возможным объ-
явить во всеуслышание хотя бы такой факт, что в результате
нашей воздушной бомбардировки Штутгарта и Карлсруэ число
«невинных жертв» среди гражданского населения несоизмеримо
выше числа погибших от снарядов, которые «Берта» может об-
рушить на Париж?»30 Затем — ложь спасительная: «Я вспо*
396
мнил наступление Нивеля в апреле тысяча девятьсот семнадца-
того года... Вы не можете себе представить, что это означало
для нас, знавших.все, что происходило, час за часом... для нас,
которые были свидетелями этого чудовищного нагромождения
ошибок... и которые могли каждый вечер вести счет потерям.
Тридцать четыре тысячи убитых, больше восьмидесяти тысяч
раненых, за три-четыре дня!.. А восстания в разгромленных ча-
стях!.. Однако же и речи не могло быть ни о правде, ни о спра-
ведливости. Надо было любой ценой беспощадно подавлять
солдатские мятежи, прежде чем они не охватили всю армию!
Вопрос жизни для всей страны... Надо было любой ценой под-
держивать командование, скрывать его ошибки, оберегать его
престиж... Хуже того: надо было сознательно продолжать оши-
бочные действия, возобновить наступление и бросать в самое
пекло все новые и новые дивизии, пожертвовав еще двадцатью —
Двадцатью пятью тысячами солдат на Шмен-де-Дам, у Лафо.
— Но зачем?
— Чтобы добиться хоть самого маленького успеха, на кото-
ром мы могли бы строить нашу ложь во спасение! .>>31
Этому беспощадному анализу массовой бойни противопоста-
влена мечта Жака о непротивлении: «Завтра, в один и тот же
час, с восходом солнца, вы, французы и немцы, все вместе, в
едином порыве героизма и братской любви, бросьте оружие, от-
кажитесь воевать, издайте один и тот же крик освобождения!
Восстаньте все, откажитесь от войны! Заставьте государство
немедленно восстановить мир!» 32
Надо только добавить, что отныне большинство народов по-
няло на собственном опыте, что если они хотят в подобном слу-
чае утвердить свою волю, то оружие бросать не следует.
7
С началом войны коллективная история героев «Семьи Тибо»
заканчивается. Роман занимается теперь только судьбами от-
дельных людей, столкнувшихся с подавляющей их трагедией.
Именно на примере этих судеб мы и можем оценить размеры и
значение насилия. В романе главное внимание начинает уде-
ляться проблеме человеческого выбора, который не имел, но мог
иметь место: Интернационал (Второй. — Ред.) мог не согла-
ситься с войной, народь1 могли отказаться от бойни.
Мы читаем «Семью Тибо», и история перестает быть для
нас чем-то безличным; и, если внимательно присмотреться
к тому, что происходит в наши дни — в плане международ-
ном, — мы понимаем, что основной урок романа не пропал да-
ром. Борьба народов за мир, отражение которой мы видим
в книге «Лето 1914 года», не была случайным явлением без
397
перспектив и будущего. Во времена Бандунгской конференции и
Всемирного (поистине) Совета Мира становится ясным, что
фундаментальные решения в этой области теперь уже не яв-
ляются исключительно делом правительств. Общественное мне-
ние стало организованной силой. Чувство персональной ответ-
ственности, диктующее Жаку его поведение, свойственно теперь
уже не только единицам, оно все больше и больше распростра-
няется в народных массах как в великих державах, так и в ко-
лониях — странах зависимых или только что завоевавших неза-
висимость; в это же время развитие государства нового типа
в мире социализма приводит к тому, что правительственные
проблемы становятся коллективным делом народа.
Однако из того, что «Семья Тибо» подводит нас к современ-
ной перспективе, к той роли, которую играют ныне народы в
истории, вовсе не вытекает, что подход автора к рассмотрению
связи между судьбами отдельных людей и коллективными си-
лами не искажался впоследствии и не отбрасывался. Разумеется,
мы уже видели, что дух произведения противоречит господствую-
щей идеологии, представители которой, страшась все возрастаю-
щего значения движения масс, высказывают опасение, что «чело-
век подтачивается массами». С другой стороны, факты, показан-
ные в романе, его реализм мешают людям, призывающим к
применению силы в практике международных отношений, и легко
догадаться, что «Семья Тибо» отнюдь не настольная книга у
теперешних правителей Франции. Но всего этого еще недоста-
точно для ответа на поставленный нами вопрос.
Роже Икор33 недавно * так охарактеризовал современную
ситуацию во французской литературе: «Слово «мир», конечно
же, не означает отсутствия конфликтов, наоборот, оно предпо-
лагает наличие постоянного конфликта между силами, находящи-
мися в равновесии и уважающими друг друга; в противном слу-
чае это слово было бы синонимом смерти. Точно« так же и ра-
зум — могущественная сила прогресса — играет огромную роль
и в умиротворении человека; у разума хватает мужества прибе-
гать при конфликтах к компромиссу, продолжать дипломати-
ческие переговоры даже тогда, когда уже говорит сила. А ис-
ступление трусливо требует окончательного решения всякого
конфликта, оно допускает только беспощадную войну либо
безоговорочную капитуляцию, то есть убийство или самоубий-
ство, смерть другого или свою собственную смерть, но так или
иначе смерть. Понятно ли ныне, почему мысль за последние пол-
века стремилась с такой глубиной отобразить современное об-
щество? О, разумеется, обскурантизм всячески затемнял смысл
истории! Ветер дул ему в корму, и мы теперь хорошо знаем,
* В своей работе «Внесем ясность» (R. I к о г, Mise au net, 1957).
398
в каком он дул направлении, — он гнал все европейское обще-
ство к двум разрушительнейшим войнам, к смерти, а это об-
щество сознавало все и тем не менее соглашалось, оно подда-
валось головокружению с болезненной радостью, в приступе
мазохизма, маскировавшего сладострастной тягой ц самоубий-
ству неспособность избежать убийства. «Смерть разуму!» — во-
пили невежды. Несчастные, они считали себя «передовыми»...
Они действительно шли впереди — в первых рядах движения
ретроградов; сами того не понимая, они указывали ему путь,
предоставляли интеллектуальную поддержку».
Оставляя без внимания некоторые неточности, с этим анали-
зом можно бы и согласиться, если бы в нем не было весьма
серьезной, с моей точки зрения, двусмысленности, которую мо-
гут использовать для того, чтобы лишить нас возможности вос-
пользоваться уроком «Семьи Тибо». Спору нет, Роже Икор
справедливо подчеркивает антиномию разума и исступления,
связывая на основе исторического опыта эти понятия с пробле-
мой мира и войны. Однако чтение этого отрывка еще углубляет
неуверенность, возникающую после прочтения «Семьи Тибо». Что
делать, если, несмотря ни на что, трагедия все же разразилась?
Разумеется, не отчаиваться в силе разума, «продолжать дипло-
матические переговоры даже тогда, когда уже говорит сила» —
пусть так. Но если вспомнить Жака в августе 1914 года, роль
Антуана в его беседе с Рюмелем в 1918 году, то придется при-
знать, что они еще не усвоили тех уроков, которые дает опыт
борьбы народов за сохранение мира. Абсолютное противопоста-
вление разума исступлению вполне применимо при обозначении
проблем, с которыми столкнулись социалисты в июле 1914 года,
когда войне еще можно было помешать; но если применить этот
термин, следует сказать, что и Февральская революция
1917 года, и Октябрьская революция 1917 года не были лишены
элементов «исступления». В то же время насилие революционе-
ров против буржуазии было актом борьбы против войны. Ленин
во время переговоров в Брест-Литовске дал пример мужества,
состоявшего в решении пойти на компромисс. В самом деле, про-
тивопоставляя разум исступлению и насилие непротивлению, мы.
рискуем утерять опыт двух важных уроков, которые, на мой
взгляд, отнюдь не противоречат гуманизму «Семьи Тибо».
Первый из них заключается в том, что наступает момент, когда
народ должен прибегнуть к насилию, чтобы уничтожить наси-
лие, которое применяют против него; второй урок с необходи-
мостью вытекает из первого, и он гласит: история знает справед-
ливые войны.
Отправной точкой романа «Семья Тибо» была, если так по-
зволено выразиться, ситуация в ее чистом виде: все народы
Европы в одинаковой мере .заинтересованы в выступлении
399
против войны, в которую их ввергают. 1939 год научил нас тому,
что правительство под предлогом войны, которую оно вовсе не
склонно вести, на деле ведет войну против собственного народа.
По мере того как становится все труднее заманить народы в за-
падню войны, правители стремятся применять новые методы и
приемы. Их наиболее характерной чертой является стремление
поставить людей перед свершившимся фактом, как можно бы-
стрее применить силу, пока еще общественное мнение не разо-
бралось в том, что замышляется. Если в 1914 году французы во
всех подробностях были осведомлены о том, что в конечном
счете привело к измене II Интернационала, то в июне 1940 года
весь французский народ был поставлен перед свершившимся
фактом. А кто возьмется с точностью определить, когда нача-
лась война в Индокитае? А война в Алжире? Каждый раз
французский народ в какой-то момент обнаруживал, что ведется
война: незаметно политика силы переходит в состояние войны.
А какими окольными путями вводится в наши дни военное за-
конодательство — сначала в алжирских «департаментах», а за-
тем в самой Франции! »
В «Семье Тибо» еще можно противопоставить мир насилию.
Мы этого уже не можем. И нам это хорошо известно.
8
Это умонастроение имеет и дурную сторону. Я говорю
о помутнении разума перед надвигающейся войной, которое в
«Семье Тибо» определяется как самая тяжелая болезнь. Лите-
ратура исступления оправдывает насилие, старается
приобщить нас к мысли о нем, приучить к ней, стремится опоро-
чить разум перед лицом насилия. Когда Мальро в своих лек-
циях по поручению ЮНЕСКО говорил, что необходимо вос-
создать Человека, нашлись люди, которые хором выражали свое
возмущение одинаково и гитлеровскими насильниками, и теми,
кто уничтожил Гитлера. Именно тогда пышным цветом рас-
цвела теория заразности насилия, по которой валили в одну
кучу борцов Сопротивления и фашистских полицейских, узни-
ков концентрационных лагерей и эсэсовцев, жертв и палачей.
Порядочный человек должен, мол, держаться в отдалении как от
мучителя, так и от того, кого мучили. А позднее, что хорошо из-
вестно, между ними стали проводить различия. Спокойно оста-
вляли гибнуть — зачастую в безвестности и бедности — тех,
кого нацисты и их единомышленники подвергали пыткам; по-
степенно даровали помилование, а затем стали выпускать на
свободу все большее количество палачей; и с течением времени
все более отвратительные преступники получали амнистию.
400
Разум, если его должным образом не контролировать, с тече*
нием времени начинает выкидывать странные фокусы. Он начи-
нает выдвигать весьма своеобразные аргументы. Мы видели,
как, опираясь на его доводы, в период Суэцкого конфликта 34
пытались оправдать «превентивную» агрессию. Г-н Ги Молле,
ссылаясь на разум, отрицает право народов распоряжаться соб-
ственной судьбой. Интернационализм, провозглашает сей авгур,
повелевает отныне противиться возникновению новых наций.
И неверно полагать, что диалектика «Лета 1914 года» сводится
лишь к борьбе разума против исступления, мира против наси-
лия. Мы находим здесь также историю переосмысления логи-
ческих рассуждений, все большего их искажения под давлением
властей, искажения, ведущего к капитуляции перед войной.
Упорство Жака характеризуется не одним только обращением
к разуму. И оно наталкивается на тот факт, что война в силу
позиции большинства руководителей рабочего движения преоб-
ражается и рассматривается как разумная акция. Мы присут-
ствуем при различных этапах этой перемены во взглядах, вслед-
ствие которой голосование как французских, так и немецких
социалистов за военные кредиты становится обдуманным реше-
нием и рассматривается как необходимое и наименьшее зло.
К категорическому осуждению насилия присоединяется це-
почка обдуманных «разумных» компромиссов с насилием, на ко-
торые идут под тем предлогом, что если, мол, не выступать от-
крыто против насилия, то этим можно смягчить его пагубные
результаты. Мы слышали и такое утверждение, что нацисты
в июне 1940 года держали себя корректно и что они изменили
свое поведение только по вине тех, кто не хотел спокойно сно-
сить оккупацию и разбудил в нацистах зверя. Такие рассужде-
ния распространяла петэновская пропаганда, их можно и ныне
обнаружить в официальных исторических трудах о второй ми-
ровой войне и ее последствиях.
Компромиссы такого рода всегда имеют одну цель. К ра-
зуму постоянно взывают для того, чтобы народ продолжал со-
хранять терпение, чтобы оправдать насилие против него, ука-
зывая, что если народ по доброй воле не выполнит того, что
от него требуют, навязываемого в ущерб его интересам, то на
него обрушатся еще большие беды. В Той части «Семьи Тибо»,
которую можно было бы назвать политическим романом, пока-
зана «разумная» капитуляция II Интернационала перед войной.
Мы видим без всяких покровов механизм, который позволил
впоследствии французским социалистам «разумно» оправдать
политику «невмешательства» в Испании, Мюнхенское соглашен
ние, оккупацию Чехословакии; если такое поведение социалистов
еще можно пытаться изображать как отказ от насилия, этого
уж никак не скажешь об их последующих действиях — об опра-
26 П. Деке
401
вдании ими запрещения коммунистической партии в 1939 году,
декрета Сероля35, предусматривавшего смертную казнь для
коммунистов, войны в Индокитае, предоставления г-ну Лакосту
особых полномочий в Алжире 36 и, если брать недавний пример,
предоставления таких же полномочий правительству в самой ме-
трополии. Ведь все это не просто принятие насилия или компро-
мисс с ним, нет, это — применение «разумной» теории мень-
шего зла, доведенной до такой степени, когда ее сторонники
принимают на себя ответственность за насилие, ссылаясь на то,
что их насилие будет более человечно, чем если бы его приме-
няли другие.
«Если сегодня ты еще не думаешь так же, как он, то ты при-
дешь к этому завтра, — говорит социалист Рабб Жаку 1 авгу-
ста 1914 года. — Это бесспорно. Дело Франции есть дело де-
мократии. И мы, социалисты, обязаны первыми защищать де-
мократию от вторжения соседей империалистов!
— Значит, и ты тоже?
— Я? Не будь я так стар, я пошел бы добровольцем... Впро-
чем, я попытаюсь... Что ты так смотришь на меня? Я не пере-
менил своих убеждений. Я твердо надеюсь дожить до того дня,
когда можно будет возобновить борьбу с милитаризмом.
Я остаюсь его заклятым врагом! Но в настоящий момент — без
глупостей: милитаризм уже не то, чем он был вчера. Милита-
ризм сегодняшнего дня — это спасение Франции и даже боль-
ше: спасение демократии, которой грозит опасность» 37.
9
Впрочем, сам того не ведая, подобную иллюстрацию смяте-
нля разума дает нам Роже Икор. Он пишет: «Сначала в Ки-
тае, затем в Германии, а потом в Испании — повсюду прак-
тиковались пытки, приближались к нам, нас окружали, и вдруг
Мальро обратил наше внимание на их распространение. И, когда
пытки обрушились на нас, мы уже были к ним внутренне го-
товы: слово постепенно приучило нас к явлению. Своим творче-
ством Мальро расчистил пытке путь. Я знаю, что возвожу на
него ужасное обвинение. Вот почему спешу ограничить его.
Разумеется, я не обвиняю наших литераторов, и Мальро в ча-
стности, в том, что им нравятся пытки и они желали бы их
применения. Я не выдвигаю против них и упрека в том, что они
объективно отметили вехами путь применения пыток. Распро-
странение системы пыток было фактом действительности; писа-
тели это видели и обязаны были об этом сказать; я не смеши-
ваю прозорливость с сообщничеством. Напротив, если бы пи-
сатели отвернулись от действительности под предлогом, что она
ужасна, это и было бы сообщничеством; они должны были
402
взглянуть ей в лицо — именно в то время или никогда. Но при
этом взгляде должно было почувствовать, сколь ужасна эта
действительность... Я же не ощущаю у Мальро никакого вну-
треннего возмущения пытками. Ни один из его романов не
внушает мне ненависти к пытке как таковой. Конечно же, он
рассматривает пытку как зло, но прежде всего — как факт чело-
веческого опыта, такой же, как и многие другие, факт, так ска-
зать, естественный, не более чудовищный, чем, к примеру,
смерть...»
Читая эти строки, я не очень хорошо уловил логику рассужде-
ний, и по многим причинам. Во-первых, мне не показалось, что
самое главное в тех романах Мальро — это описание распро-
странения пыток. В них речь шла скорее о распространении
фашизма и связанных с ним чудовищных гнусностей. Мне ду-
мается, что Мальро помог моим сверстникам — в то время еще
юношам — быть готовыми безбоязненно встретить ту действи-
тельность, с которой им пришлось столкнуться, и, в частности,
пытку. Помог прямо взглянуть в лицо опасностям, неразрывно
связанным с революционным действием; они могли еще ка-
заться далекими во время появления книг «Условия человече-
ского существования» и «Время презрения», но стали уже зна-
чительно ближе в пору появления книги «Надежда». Теперь
о фразе Икора: «...факт человеческого опыта такой же, как и
многие другие»; тут следует уточнить, с какой точки зрения смо-
треть на вещи. Мне довелось перечесть «Условия человеческого
существования» — осмелюсь заметить, после того, как я под-
вергался пыткам. С этой точки зрения книге можно сделать
упрек, прямо противоположный тому, какой делает ей Икор.
В ней весьма значительное, пожалуй, исключительное место за-
нимает описание пыток. И вот в чем я, пожалуй, присоединяюсь
к Икору: пытке придается слишком большое значение. Слишком
большое с позиции жертвы, недостаточно большое во всем, что
касается палача. Действительно, у Мальро палач и его жертва
показаны изолированно. Так оно и бывает, если брать лишь са-
мый процесс пытки, но ведь в действительности существует и
другое — борьба, которую вел человек, пока его не схватили,
его товарищи, его идеал. Все эти вещи выходят за k рамки от-
дельной личности и придают смысл жизни; вспоминая об этом,
мы понимаем смысл гуманной борьбы против пытки. Да, война,
гражданская или обычная, идет все время, война между пала-
чом _и его жертвой, — так у Мальро, поскольку этому учит опыт
современной жизни. «Я обвиняю Мальро, — уточняет Икор, —
в том, что он представил своим читателям пытку как некое чуть
ли не научно констатируемое явление, которое они вынуждены
принимать, исходя из общего исторически сложившегося положе-
ния вещей. Такая подача стоит рекламы».
26*
403
Двусмысленность снова остается. Как это понимать? Реклам]
мирует ли автор пытки или старается привлечь внимание к этой;
опасности? Я возражаю также против слова «принимать». Сле-;
дует ли обвинять Мальро в том, что он был предтечей палачей»
и обвинять в соучастии тех узников концлагерей, которые ныне;
осмысливая происшедшее, приходят к выводу, что среди весьма
немногих форм человеческой активности, область которых рас-,
ширилась, следует назвать и пытку? Если внимательно прислуг
шаться к тому, что говорят вокруг, становится ясно, что приме-
нение пыток умножилось и они приняли более жестокий и утон-
ченный характер. Разумеется, в этих разговорах есть некоторая
доля бахвальства, хвастовства, но в конечном счете достаточно
почитать газеты, чтобы наткнуться на сообщения о допросах с
пристрастием, о методе, именуемом телефон, или же о том,
что некий войсковой священник был подвергнут порицанию за то,
что оправдывал необходимость такого рода допросов *. Вы го-
ворите «принимать»? Но «Журналь офисьель» Французской
республики сообщает нам в связи с реформой уголовного ко-
декса, что отныне легализован и признан законным определен-
ный срок, на протяжении которого подозреваемый может содер-
жаться в полиции без должных гарантий **. Такой срок уста-
новлен с целью лишить обвиняемого тех гарантий неприкосно-
венности, физической и нравственной, какие предусматривались
уголовным судопроизводством. А когда Пьер Кот потребовал,
чтобы подобного рода допросы обязательно прерывались через
каждые четыре часа, нашелся министр, который ответил ему,
что это невозможно, потому что лишит допрос эффективности.
По этому поводу Икор прибавляет: «Известно о том, что
происходило вчера в Индокитае и сегодня еще слишком часто
имеет место в Алжире, но все же атмосфера изменилась. Же-
стокости, которые совершаем мы сами, французы, уже не на-
полняют нас гордостью***. Мы не только не оправды-
ваем их, напротив, мы были бы рады свалить их на кого-нибудь
другого. Любая кампании против применения пыток рождает
мощный отзвук и в общественном мнении, и в правительстве.
Даже те, кто не возмущается пытками и их не осуждает, воз-
держиваются от того, чтобы их восхвалять, и ограничиваются
тем, что пытаются оправдать наши жестокости ссылками на же-
стокость наших противников. Пусть не думают, что все это ма-
* А некое весьма высокопоставленное французское должностное лицо
оправдывает их перед комиссией, состоящей из представителей бывших
узников нацизма.
** И это — во Франции, в дни мира* Такое положение уже раньше
существовало в Алжире. Дела Аллега и Одена наглядно свидетельствуют
о том, что вто означает«
••* Эти слова выделены Икором.
404
ло существенные нюансы: очень важно, что пытка — этот про-
дукт импорта, еще вчера освященный обычаем, — теперь вновь
выступает в своем чудовищном облике, те, кто прибегают к ней,
ищут извинений, перестали ее афишировать; пытка утратила
свой официальный или хотя бы официозный характер, перешла,
так сказать, к защите, ей приходится скрываться и маскиро-
ваться. Отныне применение пытки стало чем-то постыдным. Для
того чтобы пытка стала вообще невозможной, надо сделать ее
невообразимой, немыслимой. Дело за нами, интеллигентами; мы
доХжны бороться против применения пыток не только нашей
общественной деятельностью, бюллетенями для голосования или
смехотворными петициями, нет, мы должны бороться всем
своим творчеством, самым характером наших произведений.
Пытка отступает, обратим же ее в бегство и прежде всего изго-
ним ее навеки из нашей страны, добьемся возрождения издавна
распространенного в Европе взгляда на пытку как на что-то от-
вратительное; убьем обскурантиз м».
Я так подробно цитирую Роже Икора, чтобы ничего не упу-
стить из его рассуждений. Его позиция, rto-моему, — характерный
пример того, как разум (если воспользоваться терминологией
автора) ставят на службу исступлению. Отправляясь от
существования пытки, он приходит к выводу о необходимости
сделать ее немыслимой, убив обскурантизм в нас самих, в нашцх
произведениях. И тем самым, как следствие этого, убив его и
в других, значит, и в палачах. Получается, что и мы чуть ли не
повинны в пытках, поскольку мы их на себя навлекаем. Посту-
лат, на который опирается Роже Икор, — это утверждение, что
отношение, к пытке изменилось. По сравнению с какими време-
нами? С теми, когда действовало гестапо? Очевидно, потому
что чуть дальше Икор называет пытку «продуктом импорта».
Но ведь и гитлеровцы не прославляли пытку. Они просто
применяли ее с той смесью цинизма и негодующего запира-
тельства, которые обычно сопровождают систематическое при-
менение пыток. Слишком упорное молчание тут не подходит:
ведь необходимо, чтобы угроза пыток терроризировала людей.
Слишком большая ясность также неуместна: для большей эф-
фективности палачам нужно, чтобы жертвы не знали, какая
участь их ожидает, чтобы не было известно, кто именно аресто-
ван, когда, каким образом. Но где во всем этом обскурантизм?
Налицо отменная полицейская логика. Ведь полицейский знает,
что те, кого он преследует, пользуются поддержкой народа. Об-
щественное мнение осуждает преступления и правонарушения
уголовного порядка; в данном же случае, напротив, полицейский
наталкивается на национальную и политическую солидарность,
лишающую его осведомителей. Вот почему полицейскому нужно
заставить подозреваемого открыть ему все, что поможет нащупать
405
другие звенья цепи. А раз уж прибегли к пытке, примене«
ние ее не знает границ. Лучше, гласит полицейская логика, —
подвергнуть пыткам десять невинных, чем избавить от допроса
с пристрастием хотя бы одного подозреваемого.
Система пыток располагает вполне благопристойной шир*
мой, которую используют во время судебного разбирательства.
Полицейские отлично знают, что на процессе будет упоминаться
о пытках, что они приобретут некоторую гласность. И вот не-
обходимо противопоставить тому, что осужденные могут рас-
сказать о примененных к ним пытках, рассказ о совершенных
ими самими ужасных преступлениях. Это уже дело прессы; и,
читая газеты оккупантов, мы видим, как они высмеивают жа-
лобы заключенных на жестокое обращение: ведь речь идет об
отвратительных террористах, которых-де военные трибуналы
истребляли, как сорную траву на ниве человечества. И разве
к тому же ужасным чудовищам, которых судили трибуналы,
можно доверять? Итак, достаточно посеять сомнения, и в сое-
динении с некоей концепцией возмездия это заставит простаков
думать, что в конечном счете преступник получил по заслугам.
Полицейский, применяя пытки, знает, что от него могут от-
межеваться,— это входит в издержки ремесла; но он знает
также, что в случае необходимости для него отыщут оправдание*
Обратитесь к судебным решениям по такого рода делам. Все
эти нюансы имеют кое-какое значение, не спорю, но я не верю,
что они могут привести к серьезному изменению атмосферы.
При полной гласности применение пыток и вербовка палачей
были бы невозможны. Они могут существовать и произрастать
только под защитой теории меньшего зла, теории, вовсе не
отмеченной исступлением, а весьма «разумной» — во
всех ее самых позорных аспектах.
Наиболее опасным в рассуждении Икора я считаю следую-
щее: он полагает, что логика ужаса — достаточное основание
для того, чтобы уничтожить такую форму насилия, как пытка;
между тем весь опыт применения насилия в XX веке, когда
народы особенно внимательно относятся к тому, что совер-
шается от их имени, как и к тому, во что их втягивают, доказы-
вает, напротив, что с помощью логики ужаса людей заставляют
верить в различные виды полезной лжи, спасительной лжи,
о которой дипломат Рюмель говорил Антуану. «Для того чтобы
пытка стала невозможной, надо сделать ее немыслимой...» До-
статочно обратиться только к французскому опыту применения
пытки, и слова «стала невозможной» покажутся сильным пре-
увеличением. До освобождения наша исправительная система
основывалась на методах искупления вины, включавших и физи-
ческое насилие. Галеры и каторга — всего лишь видимые аспек-
ты привычных методов, которые были усовершенствованы, от*
406
нюдь не став более человечными, с появлением дисциплинарных
камер в центральных тюрьмах, карцеров *, одиночек. Это —
медленные пытки, но тем не менее пытки. Конечно, их применяли
только к виновным, к уже осужденным, и люди добропорядоч-
ные могли успокаивать себя тем, что жестокие меры применя-
лись только против подонков общества и для того, чтобы вер-
нуть их на «правильный путь». С другой стороны, об этих фак-
тах мало кто был осведомлен, представители уголовного мира и
люди, находившиеся под подозрением, но оправданные по раз-
личным причинам, неохотно говорили о такого рода «наказа-
ниях». Однако ни один узник, прошедший через центральные
французские тюрьмы, не был удивлен, когда ему пришлось
столкнуться с методами пыток в нацистских концлагерях.
Методы, применявшиеся обычно к уголовным преступникам,
применялись также и к некоторым категориям заключенных,
которые не были ни ворами, ни бандитами, например к осужден-
ным военными трибуналами; политические преступления во все
времена приравнивались к уголовным. Более того, то, что проис-
ходило в метрополии, могло дать лишь слабое представление
о том, что творилось в тюрьмах и полицейских участках в коло-
ниях.
Призыв к общественному мнению восстать против такого рода
методов всегда был лучшей французской традицией. При этом
определенную роль играли соображения человечности и челове-
ческого достоинства; но во всех кампаниях протеста, начиная
с дела Дрейфуса и кончая теми, которые были связаны с име-
нами Анд ре Виоллиса или Альбера Лондра, речь шла также
и о том (поскольку правосудие отправляется от имени француз-
ского народа), чтобы показать народу, что делается его именем,
и подчеркнуть связь между применением репрессивных мето-
дов и вопросом об обеспечении личной свободы всех и каждого,
о том, чтобы указать на опасность, угрожающую демократии.
Действительно, стало правилом, что политические заключен-
ные (за исключением тех редких случаев, когда к ним приме-
няют режим, предусмотренный для политических заключенных)
подвергаются худшему обращению, чем уголовники. Я уже не
говорю о нравственных страданиях, о неприятностях, поро-
ждаемых близким общением с самыми отвратительными пре-
ступниками, — я говорю исключительно о репрессиях. Борьба
против этих репрессий ведется не только за стенами тюрем, но и
внутри них. Необходимость борьбы политических заключенных
* Дисциплинарные камеры перестали применять к 1940 году. Цель
помещений в карцер — добиться физического истощения осужденного (го-
лод, недостаток воздуха, холод). В 1942 году девяносто дней карцера
совершенно разрушали здоровье человека. Применение такой меры дважды,
как правило, убивало или делало человека калекой на всю жизнь.
407
против респрессий ярко показывает, как опасно верить в
спасительную силу логики ужаса. Предлагаемые узникам ком-
промиссы направлены на примирение их с унижениями; им ре-
комендуют смириться с судьбой, быть благоразумными. Благо-
разумие — слово, почти не сходящее с уст тюремного над-
смотрщика, и оно же постоянно на языке правительственных
чиновников, которым поручают принимать и вежливо выпрова-
живать делегации тех, кого волнует судьба того или иного поли-
тического заключенного. Единственное реальное средство
борьбы против тюремных репрессий состоит в согласованных
действиях народа, защищающего борцов, вырванных из его
среды, и самих политических заключенных за человеческое
обращение.
Центральные тюрьмы в оккупированной Франции и нацист-
ские лагеря ознакомили нас с миром,, где жестокость и пытки
.были не только мыслимы, но в силу систематического их при-
менения стали привычными. В концентрационных лагерях па-
лачи занимались своеобразной импровизацией, в центральных
тюрьмах узникам приходилось бороться против дисциплинар-
ного режима. И в этом и в другом случае ход войны позволил
организованным политическим заключенным пробить брешь в
железной системе насилия. Палачи и особенно ревностные тю-
ремщики, капо в концентрационных лагерях, стражники цент-
тральных тюрем меняли свое поведение в зависимости от поли-
тической ситуации. Поначалу они считали, что им все дозволено.
Не путем дискуссий о справедливости или несправедливости мы
добивались смягчения тюремного режима, а заставляя их заду-
маться о возможном поражении и окончательном разгроме той
системы, которой они служили. Передачи радио из Лондона, где
говорилось о репрессиях, которым будут подвергнуты особенно
усердные из палачей, победа под Сталинградом внесли удиви-
тельную перемену в центральных тюрьмах, подобно тому
как ход военных операций зимой 1944/1945 года заставил изме-
нить свое поведение тех, кто хозяйничал в концентрационных
лагерях.
Надо сказать, что полицейский, который стремится вырвать
признание у заключенного, считается с негласной иерархией.
Он никогда не станет обращаться с атаманом воровской шайки
так, как с незадачливым проходимцем, заподозренным в пре-
ступлении. Главарь преступного мира, если ему даже не удается
выскользнуть из сетей правосудия, появляясь в арестном доме,
выглядит как огурчик: его никто не лишает табака, никто не», до-
нимает дисциплинарными мерами. Чтобы лучше судить о пытке,
о всей гамме насилий, применяемых в полицейских участках и
тюрьмах, надо выйти за узкие моральные и психологические
рамки проблемы и внимательно проанализировать вопрос о пра-
408
вах, предоставляемых палачам. Тогда мы увидим, что основным
критерием эффективности репрессий признается их «непосред-
ственный результат».
Логика ужаса неизменно включается в число оправдатель-
ных мотивов, которые приводят, и причастные к делу^ и широкая
публика, когда она узнает об этих вещах. Надо мол, лишить
преступника «возможности вредить», «парализовать» деятель-
ность преступной организации. Упорно твердят об ужасном ха-
рактере совершенных преступлений и об абсолютной необхо-
димости «любыми средствами» предупредить их повторение.
Каждый раз, когда во время войны или в полицейской пра-
ктике встает вопрос о применении жестких мер, логика ужаса
используется для того, чтоСы представить их наименьшим злом.
Разумеется, пытка — дело немыслимое; но, когда дело имеешь
с теми, кто истязает, грабит, ставит под угрозу само существо-
вание цивилизации... «немыслимо» стоять сложа руки и позво-
лять им действовать. Вот логика палачей — все в_ порядке.
Тот, кто говорит о насилии (понятие, включающее в себя
все виды пыток — с соблюдением мер предосторожности или
ничем не ограниченных, все формы убийства, начиная от «убий-
ства при попытке к бегству» и кончая массовыми истреблениями
и геноцидом), должен прежде всего, преодолевая нравствен-
ные и религиозные барьеры, дойти до сути вещей, сути полити-
ческой в аристотелевском смысле слова: он должен понять при-
чины, побуждающие людей жить в обществе или... убивать в
этом обществе.
Механизм политического убийства — терроризм или террор
(в зависимости от того, смотреть ли на вещи с позиции властей
или с другой точки зрения) — всегда в какой-то мере обманчив.
Можно без конца демагогически менять местами палача и
жертву. Дело не только в палачах и их жертвах, в убийцах и
в тех, кого убивают: необходимо понять смысл применения на-
силия — или его нелепость.
Я отнюдь не отрицаю значения общественного порицания,
основанного на соображениях морали и вообще духовного по-
рядка, напротив. Важнейшая черта нашего времени — то, что
мы постигли смысл истории. Мы осознаем себя людьми совре-
менными и, создавая свою концепцию прошлого, упрекаем пред-
ков в том, что они не осознавали себя по своей природе людьми
античности, Средних веков и т. д. У нас было множество ко-
ролей, не сознававших, что они воплощают собою королевскую
власть. Сегодня пролетариат осознает себя пролетариатом, и
это обстоятельство многих пугает. Ищут индивида, который
бы не понимал, что он составляет часть этого общественного
класса, и, найдя такого, утешаются этим. Да, но ведь класс —
это не сумма индивидов. Существуют народы, которые еще не
409
конституировались в нации, но' уже осознают себя нацией. И тут
опять же отыскивают индивида, лишенного понимания этого, и,
найдя его, испытывают удовлетворение. Однако такой нехитрый
обман годен только для людей политически неопытных, можно
сколько угодно играть в слова и даже фабриковать из них изби-
рательные лозунги, но действительность-то остается.
В наше время нужно считаться с возможностью атомной
войны, с партизанскими войнами; вопрос о массовом истребле-
нии становится проблемой, которую обсуждают сами народы.
Правда, и здесь, подобно тому как мы говорили о пролетариате
и нации, можно успокаивать себя тем, что еще удается найти
индивидов и даже народы, которые верят в спасительную силу
атомного оружия, можно еще думать, что удастся победить на-
цию, если истребить партизан. „
И нельзя недооценивать широкого применения логики ужасэ
в качестве инструмента пропаганды. Она включена в арсенал
милитаристских методов, предназначенных для превращения
мирного простого парня в убийцу. Он убивает не только по-
тому, что вынужден защищать свою шкуру перед лицом про-
тивника, но и потому, что, выполняя некоторые приказы, он про-
сто испытывает необходимость верить, что его начальники не
варвары и знают, что они делают. Такого рода пропаганда по-
могает уклоняться от ответа на вопросы, которые начинают ста-
вить те, кто воюет.
Ныне специализированные журналы начинают уделять вни-
мание вопросам простых солдат, относящимся к стратегии.
Наши военные журналы занимаются разбором стратегии и
тактики Мао Цзэ-дуна, но подходят к делу с другого конца.
Это, конечно, подмена одного понятия другим, и она при-
мечательна. Мао Цзэ-дун разработал стратегию масс, кото-
рая делала цели войны понятными для каждого солдата, и это
помогало солдатам вести войну; наши же специалисты пытают-
ся использовать только результат, советуют офицерам приме-
нять методы китайской революционной армии, но те не могут
объяснить солдатам целей войны и даже не думают их объяс-
нять.
Обскурантизм только сопутствующее явление в попытках
использовать логику ужаса против народов. Его проповедуют,
чтобы легче добиться покорности или чтобы дать видимость
цели тому, у кого ее нет, оправдать то, что необъяснимо. Исходя
из логики ужаса, стремятся доказать, что иначе действовать
нельзя. То, что совершается, отвратительно, низко, пачкает
руки и души, но другого выхода, увы, нет. Обскурантизм тут
как тут, его задача — привить вкус к этому абсурду. Он ста-
рается придать некую приятность тому, что в лучшем случае
могло бы сойти за необходимое зло. Обскурантизм неотъемлем
410
от пыток и костров инквизиции, от судов старого режима, он
свойствен и мыслям тех, кто в наши дни верит еще в назида-
тельность наказаний. Следы обскурантизма у нас обнаружи-
ваются также в церемониале и практике смертной казни.
Гитлеровский терроризм широко использовал обскурантизм
при расовых преследованиях. Пропаганда обскурантизма стре-
мится увести сознание людей в сторону от существа дела, от
цели, преследуемой террором. Разумеется, нужно бороться про-
тив обскурантизма, ибо он несет в себе яд террора. Но прежде
всего следует понять, на что направлен террор.
Следует отметить, к примеру, что систематическое применение
пыток палачами гестапо сопровождалось распространением в ок-
купированных странах мнения, будто никто не в силах перед ними
устоять. В связи с ^тим раздавались голоса, советовавшие бла-
горазумие, здравый смысл, приводились трезвые доводы. Но
то был лишь грубый шантаж. Истинный гуманизм состоял тогда
в том, чтобы объяснять людям: нельзя капитулировать перед
террором. Нужно было уничтожить тайну, которой окружали
себя палачи, описать их методы, назвать их по именам, научить
тех, которым угрожала опасность попасть в их руки, как защи-
щаться, оказывать им сопротивление, разрушать их козни. Но
такая деятельность по разрушению лживого мифа была воз-
можна лишь при одном условии — следовало стать выше пытки,
выше опасности смерти. Надо было помочь борцам постичь
смысл борьбы, подготовить их безбоязненно встретить пытку,
отправку в концентрационный лагерь, смерть. Надо было разъ-
яснить цели их борьбы.
Могут сказать, что в таком поведении есть нечто от иссту-
пления. Но оно основывалось на идее, что человек в силах не
уступить палачам и что можнб коллективно сопротивляться лю-
бому насилию, бороться против него и его уничтожить. Именно
этому гуманизму, именно жертвам, принесенным отдельными лич-
ностями и целыми коллективами, утверждавшими этот гума-
низм, многие из нас обязаны опытом борьбы против гитлеров-
ского насилия и тем, что остались живы. Впрочем, мне предста-
вляется вероятным, что Роже Икор это понимает. Ведь этим
борцам (если подойти к вопросу в несколько ином плане) Фран-
ция обязана тем, что она ныне существует как нация.
И вот в такой плоскости обнаруживается соответствие между
романами Мальро и идеями, которые он излагал в 1946 году.
Ведь это все тот же обскурантизм делает человека-одиночку
мерилом мира и превращает пытку из факта действительности
в абсолют. Пытка — всего лишь симптом болезни, как лихо-
радка. Конечно же, надо ополчиться на нее, добиться ее уничто-
жения. Но для того, чтобы искоренить применение пыток, а не
411
просто вынудить лучше их маскировать, следует доискаться
первопричин зла.
Метод изучения действительности, примененный в «Семье
Тибо», помогает героям романа подняться над жестокостью со-
бытий, обрушивающихся на них, помогает им разобраться в не-
постижимом хаосе, окутывающем эти события, и дойти до ко-
нечных причин. Бессилие героев подчинить себе ход событий
в романе уже перестает быть констатацией бессилия вообще. Как
действовать, если в одиночку терпишь поражение? Как убедить
других — всех других — вместе ухватиться за канат? Ведь,
если осознать, что народы и в то же время каждый отдельный
человек должны играть большую роль, чем они играют, такое
сознание поднимает людей. Вся наша эпоха это подтверждает.
Противоречие, конечно, отнюдь не снимается, но ведь это про-
тиворечие действительности. Если, как говорит Маркс, челове-
чество ставит перед собой только те задачи, которые оно может
разрешить, то с отдельными людьми, его составляющими, дело
обстоит иначе.
С другой стороны, время в масштабе человечества — нечто
совсем иное, чем время в масштабе жизни одного человека,
а тем более его молодости, его зрелости — периода полного рас-
цвета сил и возможностей. «Семья Тибо» дает нам представле-
ние об историческом времени, и это отнюдь не абстракция, а
время, взятое в масштабе народов, построения социализма
в СССР, Великого похода в Китае, борьбы за национальное
освобождение. Это также время человеческой личности, которая
бесстрашно встречает пытку и сопротивляется ей, жертвуя здо-
ровьем и самой жизнью, ибо она видит смысл жизни в борьбе
за приближение светлой поры для ее товарищей, ее народа.
10
В конечном счете великий урок нашей эпохи заключается
в следующем: нельзя победить народ, борющийся за свое су-
ществование. При невиданных ужасах гитлеровской оккупации
в Советском Союзе Василий Гроссман нашел слова, которые он
взял названием своей военной повести: «Народ бессмертен».
Мы во Франции убедились в справедливости этого утверждения.
Несмотря на все зверства оккупантов — взятие заложников, мас-
совые убийства, лагеря уничтожения, где истреблены миллионы
мужчин и женщин, — ни один из народов оккупированной Ев-
ропы не встал на колени перед Гитлером. Вот уже двадцать лет,
как народ Испании не покоряется Франко. Известно, что про-
изошло с Чан Кай-ши, который систематически уничтожал всех
инакомыслящих, о чем рассказывается в «Условиях человече-
ского существования». Сегодня техника умерщвления и террора
412
достигла значительного прогресса. Водородные бомбы, даже «чи-
стые» 38, готовят нам крематории на вольном воздухе, в сравне-
нии с которыми печи Биркенау кажутся жалким кустарным изо-
бретением. Одновременно в национальном и интернациональном
масштабах народы учатся борьбе против ужасной перспективы
стать жертвами этого чудовищного крематория.
Ужас — одно из важных орудий террора. Стремление загип-
нотизировать жертвы путем внушения ужаса составляло одно
из средств арсенала гитлеровцев. Опыт народов, полученный
в ходе последних войн, показывает, что можно сорвать эти от-
вратительные расчеты: надо только хорошо усвоить, что ужас —
это орудие шантажа.
Борьба против ужаса велась и ведется в национальных рам-
ках. Гитлеровская Европа, в программу которой входило пора-
бощение оккупированных народов на целое тысячелетие, способ-
ствовала осознанию этого: она более отчетливо выявила роль и
ответственность народов во всех тех странах, где большая часть
«элиты», господствующего класса, капитулировала, проводила,
как правило, политику коллаборационизма, призывала к выжи-
данию и покорности.
Самое значительное достижение современного гуманизма -—
победа над массовым террором. Уместно заметить, что в этой
борьбе народы опирались на опыт русского народа, который
разорвал сначала цепи царского самодержавия, вырвался из
тисков империалистической войны, затем покончил с интервен-
цией четырнадцати держав в период гражданской войны, с го-
лодом и блокадой.
Именно против этих уроков направлены и тревожный вопль
Валери «мы .безрассудно вернули массам силу, находящуюся
в пропорциональной зависимости от их численности», и призыв
Мальро «возродить Человека». Сразу же после первой мировой
войны (Советский Союз) и после второй мировой войны (Ев-
ропа в целом, не говоря уж о последствиях, легко предвидимых
для Азии и Африки) эксплуататорское меньшинство повсюду
констатировало качественный скачок в организации сплочен-
ности народов: эксплуататоры почувствовали, что возникла
массовая сила, способная противостоять тем методам, какие
они применяли до тех пор, чтобы укрепить свое господство.
Отныне речь уже идет не~ о сопротивлении отдельных лично-
стей. Но можно ли сделать отсюда вывод, что личность поги-
бает? Истина заключается в Другом: если Мальро заговорил
о необходимости воссоздать Человека, то произошло это потому,
что он отлично знает о возникновении людей нового типа.
Это уже не те покорные люди, готовые умереть ради мифов,
вымышленных для того, чтобы держать их в послушании, или
ради идеалов, маскируемых словом «родина», которые служили
413
ширмой для прикрытия интересов определенных кругов, а люди,
понимающие, что их личное освобождение невозможно без все-
общего освобождения, способные до такой степени отдаться
борьбе своего народа, что их, как русских рабочих в 1905 году,
не может устрашить ни пытка, ни смерть.
Этими людьми движет, конечно, не фанатизм, в чем их пы-
таются упрекать. Напротив. Чего стоили бы доводы разума,
если бы они только констатировали наличие в мире безумия,
ужаса и бесчеловечности, но не призывали бы против них бо-
роться? Что дало бы обличение этих ужасов, если бы одновре-
менно не указывалось средств, как со всем этим покончить?
Разум нельзя оставлять на созерцательной, объективистской,
пассивной позиции перед лицом совершаемых жестокостеи, его
роль нельзя свести к подсчету наносимых ударов. Нет, как бы
это ни было неприятно людям уравновешенным, нужно прини-
мать решение, ковать оружие, которое поможет выступить про-
тив жестокостеи, а не ограничиваться словами, сожалениями и
даже негодованием. Самым разумным актом войны 1939—
1945 годов во Франции мне представляется смелый поступок
человека, который впоследствии стал полковником Фабианом 39:
как только начались первые убийства заложников, он 23 августа
1941 года выстрелом из пистолета убил немецкого морского офи-
цера на станции метрополитена Барбес-Рошшуар. Этот поступок
превратил протест, негодование, омерзение в реальную силу:
пора было принять вызов, брошенный французам гитлеровским
террором, и этот поступок вовсе не означал, что мы становимся
на ту же почву, что и оккупанты, как пытались уверять некото-
рые благодушные, склонные оплакивать порабощенный народ,
но не поддержать его, когд^ он разбивает ярмо; выстрел пол-
ковника Фабиана противопоставил гитлеровскому террору то,
чего страшились оккупанты, он служил доказательством, что со-
противление армии и народа было не только возможным, но и
стало необходимым.
Кризис западных ценностей, как принято выражаться, в том,
что эти ценности уже не могут гарантировать безнаказанность
террора, совершающегося под их маской. Право народов распо-
ряжаться собственной судьбой уже не сулит успеха дипломатии
канонерок; заявление о равенстве прав всех людей отныне уже
препятствует эксплуатации зависимых народов. И вот приходят
в ярость перед тем, что народы приняли всерьез идейные цен-
ности, которые избегали экспортировать в колонии. Настало
время, когда господствующие классы охотно избавляются от
этих ценностей, впрочем так же, как и от индивидуальных
свобод.
Гуманизм в наше время опирается, в частности, на тот факт,
что абстрактные ценности, составляющие суть, например, фран-
474
цузского гуманизма, внезапно превратились в реальные силы,
воплотившиеся в массы, которые твердо решили добыть эти
ценности. Чтобы сделать их наконец всеобщим достоянием.
/ 11
Может показаться, что мы находимся за сто.лье от «Семьи
Тибо». Но так ли уж мы далеки от той реальной драмы, кото-
рую пережил Жак?
«—Что я думаю, мальчик? — говорит ему Мурлан 2 августа
1914 года. — Разумеется, это глупости... Я говорю... Я высказы-
ваю то, что приходит мне в голову. Ведь все это так нелепо!
Я не могу запретить себе надеяться, несмотря ни на что, на-
деяться даже сейчас, надеяться вопреки всему!.. Народы — и
наш не меньше, чем тот, соседний, — обмануты так явно! Кто
знает? Достаточно было бы...
Жак в упор смотрел на старика.
— Достаточно чего?
— Достаточно было бы... Я не знаю и сам... Но если бы
вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи,
разделяющую две армии! Если бы вдруг все эти несчастные,
внезапно прозрев, поняли, по ту и другую сторону линии огня,
что их одинаково втравили в это грязное дело, то не кажется ли
тебе, что все они поднялись бы в едином порыве негодования,
возмущения и все вместе обратили свои штыки против тех, кто
привел их туда?..»40
Мы уже знаем теперь, каким путем приходит прозрение
к народу; для этого недостаточно, как думал Жак, одной ли-
стовки, для этого нужно многое. Надо проделать долгий путь,
пока прозрение мало-помалу проникнет в сознание народа, и для
этого недостаточны лишь логические разъяснения, для этого
нужен опыт, нужна борьба, нужно, чтобы люди сообща поняли,
где искать возможный выход.
«Семья Тибо» подводит нас к пониманию этого нетерпения,
разрыва между надеждой и реальностью. Когда Жак умирает,
кажется, что нет пути, который позволил бы народам достичь
идеала, для них осуществимого. Эта же главная идея вновь воз-
никает у Антуана, на его длительном пути к смерти, но она
уже отшлифована четырьмя годами войны, на нее наложили от-
печаток и оптимизм Антуана и утраченные им иллюзии, а также
и иллюзии, которые мы сами утратили с той поры.
«7 сентября 1918. Свидетельством тому — история. Един-
ственное возможное будущее человечества — разумная органи-
зация, каковы бы ни были неизбежные отклонения. (Очень
возможно, что эта война—'решительный шаг если не к .брат-
ству, то, во всяком случае, к взаимному пониманию. Приняв
415
вильсоно-вский мир, Европа расширит свои горизонты; идеи
общественной солидарности, коллективной цивилизации заме-
нят идею национализма и т. д.)» 41
Тем не менее Антуан не питает иллюзий, он отдает себе от-
чет в трудностях, которые ожидают Жана-Поля: «Боюсь, что
тебе придется войти в жизнь в смутные, тревожные времена.
Противоречия, неуверенность, столкновение старых и новых сил.
Потребуются крепкие легкие, чтобы не задохнуться в этом_ за-
раженном воздухе»42. Все же надежда не оставляет сердце
Антуана: «И вот что я хочу тебе сказать. Мне кажется, что в ту
пору общественное мнение, идеи, силы, которые направляют его,
будут иметь решающее, невиданно возросшее влияние. Будущий
мир, очевидно, предоставит вам необычайно пластичный мате-
риал для перестройки. Значение личности возрастет. Настоя-
щий человек сможет, как никогда раньше, громко сказать свое
слово о нашем мире, оно будет услышано; сможет участвовать
в перестройке мира» 43.
В эту минуту Антуан, который ничего не знает об известной
нам сцене между Жаком и Мурланом, чувствует необходимость,
я бы сказал, преподать своему племяннику урок, вытекающий
из нее: «Чем менее ясным кажется путь человеку, тем более
склонен он любой ценой выбраться из лабиринта, цепляясь за
любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указы-
вала выход. Всякий мало-мальски убедительный ответ на те
вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем
решить по своему разумению, кажется нам надежным выходом,
в особенности если мы полагаем, что ему обеспечено одобрение
большинства. Вот она, опасность! Крепись, отвергай лозунги!
Не позволяй завербовать себя! Пусть лучше терзания неуверен-
ности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают
доктрины каждому, кто согласен пойти за ними! Нащупывать
пути самому, в потемках, не очень весело; но это меньшее зло.
Худшее — покорно идти за тусклым светильником, который
твой сосед выдает за светоч. Остерегайся! Память об отце бу-
дет тебе примером! Пусть его одинокая жизнь, его беспокойная
мысль, вечно ищущая мысль, будет для тебя образцом честно-
сти по отношению к самому себе, примером правдивости, внут-
ренней силы и достоинства» 44.
Искусство Роже Мартен дю Гара — в достижении им такой
степени объективности, что нас глубоко трогают и Жак, и Ан-
туан, и будущая судьба Жана-Поля. Жану-Полю предстоит еще
воссоздать для себя образ отца и сопоставить его с тем, какой
дан в записках дяди. Два этих образа не во всем совпадают, и
этого достаточно, чтобы наряду с отчетливым представлением
мы ощутили и какое-то неясное раздражение, поскольку мы
вдруг обнаруживаем: нам так и не удалось отойти от истории
416
братьев Тибо, и мы никогда от нее не освободимся. Слов нет,
Жак не нашел прямых продолжателей, но разве его поступок не
выражает ясно наиболее высокую преданность доктрине II
Интернационала, которой изменили социалистические партии?
И «доктрина» не должна восприниматься здесь как нечто закон-
ченное, что успокаивало бы. Ведь именно потому Жак и стано-
вится самим собой, что руководствуется ею, в то время как но-
сители этой доктрины отреклись от нее.
Искренность Антуана беспредельна. Он на самом деле пола-
гает, что мысль его брата была образцом беспокойной, вечно
ищущей мысли; во время последнего свидания братьев, при их
объяснении перед тем, как Жак проводил Антуана на вокзал,
старший брат видел в младшем своего рода фанатика. Высокая
объективность все более ярко освещает для нас образы Жака и
Антуана; события войны сближают роман с жизнью, и устрем-
ления Жака и Антуана кажутся нам такими, которые мы сами
могли испытать и, возможно, испытали бы, окажись мы на
месте героев Мартен дю Гара.
12
Мы еще лучше постигаем степень этой объективности при
сравнении с противоположной ей концепцией, усиленно разви-
ваемой в современном историческом романе. Роже Мартен дю
Гар завещал нам проблему: как быть полезным для общества
человеком—вместе с другими и для других? При этом
он заставляет нас самих найти, выработать собственное реше-
ние. В традиции современного романа решать все эти вопросы
против других. Нетерпение, одиночество," неудача возво-
дятся в нем в абсолют.
Закрывая «Семью Тибо», мы приходим к выводу, что все
еще можно и во всякое время можно спасти. Закончив книгу
«Условия человеческого существования», ощущаешь, что нечто
безвозвратно потеряно. То, с чем окончательно разделывается,
что попросту убивает роман «Семья Тибо», — это авантюризм,
стремление противопоставить деятельное меньшинство, беру
щееся решать судьбы всех, огромному большинству людей, обре-
каемых на роль пассивной массы, которую легко вести в любом
направлении.
На днях я прочел, что некий юный автор, написавший роман
о солдатах, сражающихся в Алжире, провозгласил себя на
этом основании глашатаем поколения, которое принесено в
жертву и покинуто людьми старшего возраста. Можно ли при-
думать более злую карикатуру на гуманизм, за который мы
ценим «Семью Тибо», чем проповедь для молодежи, будто все
27 П. Деке
417
может быть решено без ее участия либо ею одной (что в
конечном счете одно и то же), проповедь, проникнутая замаски-
рованной лестью по адресу молодых людей, которые будто бы
находятся в центре мира и должны только найти для себя
удобных козлов отпущения. «Семья Тибо» заставляет нас, мо-
лодых и уже немолодых, найти свое место среди других людей,
определить меру своей ответственности. Мы знаем, что, если бы
Жан-Поль решил повторить жизнь своего отца или дяди, он
совершил бы ошибку, и он был бы еще более не прав, • если бы
вздумал упрекать отца или дядю в том, что на его долю выпала
трудная жизнь. Он сам, Жан-Поль, должен создать себе иную и
лучшую жизнь.
ф Здесь роман выходит за рамки истории, с которой он был, ка-
залось, так неразрывно слит. Прочитав последние страницы
«Эпилога», мы понимаем, *что история в передаче Мартен дю
Гара лишь внешне походит на историю учебников, что она ка-
сается не только людей вообще, но и нас непосредственно.
Клод-Эдмонд Маньи прекрасно отразила испуг так называе-
мой современной критики перед объективностью «Семьи Тибо».
«Роман о семье Тибо, — пишет она, — ни к чему не приводит,
только разве в самом конце нам внушаются смехотворные на-
дежды, отрицающие все предыдущее... Персонажам Мартен дю
Гара не суждено долголетия; вот почему их судьба не отмечена
печатью их духовной сущности и остается чем-то навязанным
извне. Да, именно так обстоит дело. Катастрофы, обрушиваю-
щиеся на Жака и Антуана, внешние; они так же мало связаны
с их собственной натурой и вытекают из нее, как, скажем, пре-
ступление и кровосмесительная связь Эдипа, матереубийство,
совершенное Орестом, или гибель Гектора. Итак, мы снова в
театре... Боюсь, что ни одна из множества возвышенных идей,
изложенных в трех томах «Лета 1914 года», идей, ради которых
умирает Жак (я ^же не говорю о Жоресе), по-настоящему нас
не затрагивает, и происходит это из-за отсутствия должной
убежденности автора, несмотря на то, что события, описанные
им, изложены беспристрастно... Если Роже Мартен дю Гар в
этом »отношении предстает человеком, ничего не смыслящим в
современном мире, в нынешних проблемах, то надо сказать, что
он, в сущности, никогда не понимал мира и его проблем, даже
когда был моложе; думается, он всегда лишь созерцал мир,
обращая свой взор к ценностям прошлого...»
Различные положения этой обвинительной речи, которую
я был вьшужден выписать и в точности воспроизвести здесь,
свидетельствуют лишь о путанице в мыслях, а ссылка на театр —
в связи с Эдипом и катастрофами, описанными в «Лете
1914 года», — объясняется явно ошибочным толкованием ро-
мана.
418
Кстати, эта аберрация зрения помогает, как мне кажется,
обнаружить источник« непонимания смысла «Семьи Тибо», в
чем расписалась Клод-Эдмонд Маньи. В самом деле, что ка-
сается сходства с трагедией, то его подчеркнул сам романист,
создав образ старого Филипа, который выполняет роль хора
и выступает как носитель «ценностей прошлого». Но неверно,
будто катастрофа обрушивается на героев извне. Ведь именно
из-за нее персонажи романа находят свое место, проясняются,
раскрываются. На Антуана катастрофа и в самом деле обру-
шивается извне, но Филип и Жак каждый по-своему понимают,
что мир, в котором они живут, чреват катаклизмами, облекаю-
щимися на их глазах в определенную форму. Именно поэтому
Филип, несмотря на свой скептицизм, начинает чувствовать
свою причастность к происходящему. И каждый из героев на
собственный лад оказывается перед капканом, уготовленным
судьбой. А то, что никто не в состоянии разобраться в ката-
строфе, что она- действительно не выражает природу персона-
жей, объясняется тем, что в ррмане показаны люди перед лицом
мира и они выражают мир и самих себя в столкновении с этим
миром. Нет, судьба героев не представляется нам навязан-
ной извне, напротив, каждый персонаж в развитии катастрофы
идет путем, который позволяет ему не сносить свою судьбу пас-
сивно. Роман подводит нас к новому, нашему времени, когда
мы уже не воспринимаем войны как нечто навязываемое
извне, когда суть трагедии заключается в противоречии между
коллективным сознанием того, что мы можем стать господами
своей судьбы, и средствами (или их отсутствием) для достиже-
ния этой цели.
Клод-Эдмонд Маньи ошибочно понимает роман дю Гара и
в силу свойственного ей идеалистического взгляда на вещи —
мир, дескать, целиком и полностью это сами люди, — и вслед-
ствие того политического ослепления, которое у нее проявляется
в оценке «Лета 1914 года», когда она говорит о возвышенных
идеях, великих абстракциях и т. д. Впрочем, так она, без со-
мнения, относится и к роману вообще: «В отличие от трагедии
роман, естественно, стремится подражать событиям, которые
в нем излагаются; поэтому проповедники и моралисты с полным
правом постоянно указывают на опасность этого. Если роман
слишком уж отягощен жизненными общечеловеческими пробле-
мами, он должен призывать к действию. И он превращается
в тенденциозный роман или же по крайней мере в роман агита-
ционный... Не думаю, что можно безнаказанно читать Достоев-
ского, • Бернаноса45 либо Мальро, даже «Путешествие на край
ночи» 46 или же «Отверженных»...» Здесь наш крик, сам того
не ведая, затрагивает самую суть проблемы. Верно, что в «Семье
Тибо» читателю не рекомендуется какой-либо линии действия.
27*
419
Юноша, узнающий себя в Жаке, зрелый человек, отождествляю-
щий себя с Антуаном, не найдут здесь жизненных рецептов.
Разве только предупреждение — наподобие тех, какие Антуан
оставляет своему племяннику. Однако «Семья Тибо» действи-
тельно зовет к действию, но иных читателей, тех, для кого «Лето
1914 года» не только выражение возвышенных идей, а отраже-
ние этапа в борьбе их класса; при этом безразлично, принадле-
жат ли они к этому угнетенному классу или они из тех, кто по-
рвал все связи с господствующим классом, сделав это еще более
решительно и бесповоротно, чем Жак. В самом деле, ни Жак, ни
Антуан не могут быть носителями истории, которая в разных
формах продолжается вне их. Но констатировать это — значит
констатировать, что «Семья Тибо» заканчивается на рубеже
двух миров. Один из них — тот, где общественный класс, к ко-
торому принадлежат Тибо, все еще безраздельно вершит судь-
бами мира и еще может отождествлять их со своей собственной
судьбой; другой мир рождается как раз вследствие катастрофы,
мир, где возникает Советский4 Союз, мир, где уже нельзя пре-
небрегать той ролью, которую народы не только Европы, но и
всех стран начинают отныне играть в решении своей собствен-
ной судьбы.
Я не утверждаю, что «Семья Тибо» непременно призывает
к действию новых читателей, о которых я говорю; не утверждаю
также, что Роже Мартен дю Гар предвидел эту эволюцию и что
она его удовлетворяет. Это — вопросы совсем другого плана.
КХод-Эдмонд Маньи чужд роман дю Гара, особенно начиная
с того поворотного места, которым отмечен переход от «Смерти
отца» к «Лету 1914 года». Чувствуешь, что она одновременно
и дезориентирована и раздражена и поэтому, естественно, опол-
чается на книгу, не отдавая себе отчета, что тем самым подни-
мает вопрос о своем собственном месте в мире и о своих убежде-
ниях. Против своей воли она свидетельствует этим, что никто не
может безнаказанно читать «Семью Тибо». Защитная реакция
нашего критика в высшей степени характерна.
13
Я' не настолько наивен, чтобы думать, будто нельзя упра-
виться с романом, который вас беспокоит. У меня перед гла-
зами недавний пример — случай с «Танги» 47 Мишеля дель Ка-
стильо. Поверхностное отношение критики к этой почти автобио-
графической книге, к истории ребенка, ввергнутого в ад в
возрасте пяти-шести лет, когда он попал в свой первый кон-
центрационный лагерь во Франции, а затем по нашей милости
оказавшегося в руках нацистов, бросивших его в свой лагерь, и
уже после 1945 года испытавшего в Испании еще десять лет
420
дополнительных мук, свидетельствует о нечистой совести. Ми-
шель дель Кастильо пишет по-французски. Он не сетует на нас.
Он не сетует также и на другую свою родину, Испанию, которая
внесла свою долю в мучения этого ребенка. Танги не сетует и
на то, что его отец-француз самолично позаботился о том, чтобы
полиция Виши заинтересовалась мальчиком и его матерью; не
сетует и на собственную мать, покинувшую его в особенно
трудный момент. Он один выбрался из осиного гнезда и первый
вспомнил о тех, кто произвел его на свет. Он кроток. Почти
умиротворен.
Из чудовищного испытания Танги выходит человеком. И сам
роман — это свидетельство, книга, написанная настоящим челове-
ком, книга удивительно здоровая и чистая. Следовало бы ожи-
дать, что, прочтя ее, защитники режимов, при которых этот ре-
бенок подвергся истязаниям, как и те, кто предоставлял свободу
действий палачам, заболеют от стыда. Между тем они ограничи-
ваются констатацией факта, что вот, мол, отказали все виды
насилия, обрушившиеся на этого безвинного малыша, он побывал
во всех кругах ада, созданного нашим прекрасным западноевро-
пейским миром, и словно бы искупил вину этих людей — соучаст-
ников многих подлостей, закончившихся еще более трагически.
Вот оно, отвратительное решение пресловутого выбора, о кото-,
ром говорил Достоевский. Несмотря на все наши усилия, нам не
удалось убить безвинного ребенка. Он вырос и стал человеком.
И этим отпускаются наши грехи. Будем же поступать так и
дальше и спать спокойно.
Мне могут сказать, что тут виноват сам Мишель дель Ка-
стильо: он мог инач5 подойти к выполнению своей задачи и
сделать невозможным такое толкование. Не думаю. В обществе,
как наше, где классовые антагонизмы столь остры, значитель-
ная доля критической активности уделяется выработке "вакцин
против произведений, наиболее опасных для господствующего
класса. В последние месяцы мы видели, как подобные терапев-
тические средства применяли по отношению к столь различным
книгам, как «Танги», «Неоконченный роман» Арагона, «Мону-
мент» Эльзы Триоле, и нескольким алжирским романам —
произведениям, более или менее удачным, которые будут жить.
Мне представляются пустой затеей попытки составлять сужде-
ния об абсолютной ценности книг в зависимости от их воспри-
имчивости к такого рода прививкам. Битва разворачивается на
таком поприще: стараются организовать понимание или непони-
мание некоторых произведений. Дело критиков, комментаторов,
разъяснителей — попытаться спасти книгу от подобных меро-
приятий. Может случиться, что читатели возьмут на себя эту
заботу — и против всей критики. С этой точки зрения сужде-
ние Клод-Эдмонд Маньи, отрицающей всякую вирулентность
421
«Семьи Тибо», представляется мне интересным. Не потому что,
исходя из противного, следует доказывать вирулентность
«Семьи Тибо», но потому, что критик ополчается на актуаль-
ность произведения, стараясь доказать, что эта актуальность
ныне устарела.
Мы видели, что это суждение подкрепляется указанием на
исторический аспект романа (нас, мол, эти проблемы больше не
касаются), на манеру, в которой он написан (роман, мол, тяго-
теет к натурализму), на устарелость взглядов автора (человек
не нашего времени, связан с эпохой, о которой рассказывает
в своем романе). В каждом из этих рассуждений есть кое-что и
верное, но на деле критик здесь подсказывает читателям все то,
что может помешать им правильно понять произведение. Роман
многое оставляет для нас неясным, а критик подсказывает такие
законченные решения, которые превращают «Семью Тибо» в
непроницаемую глыбу. Главная цель критика — заставить нас
принять ее тезис: все, что по воле судьбы произошло с Жаком,
Антуаном или с Жаном-Полем, лежит вне их, а стало быть, и вне
нас, больше того, теперь это нас уже вовсе не касается, Этот
тезис интересен тем, что он нацелен не только против «Семьи
Тибо», не только против исторического романа вообще, но и
против всякой попытки романиста связать конкретных людей с
их собственной историей.
Действительно, наиболее эффективным орудием критики, за-
нятой, как я сказал, выработкой противоядия, служит априор-
ное отрицание того факта, что люди сами творят историю, и
утверждение, будто история складывается независимо от лю-
дей, вне их и потому роман не может слиться с нею под угрозой
собственного разрушения.
Может, и действительно «Семья Тибо» подводит нас к такой
мысли? Из романа можно сделать вывод, что люди, которые
пытаются сами творить свою историю, терпят неудачу. Камю,
например, находит в нем питательную почву для своего песси-
мизма; по его мнению, Роже Мартен дю Гар «не уверен в том,
что совершенство может когда-либо воплотиться в историю. Он
не верит в это, сомневается, так же как учительница в его книге
«Старая Франция». Это сомнение неотделимо от человеческой
природы... Его жалость к людям была безграничной; он отдавал
им всю любовь своего сердца, но, что бы он ни делал, как бы ни
хлопотал, он всегда оставался скептиком во взгляде на нрав-
ственные возможности человека». И нам остается только одно...
«Постоянно идти вперед вместе с другими по той же дороге, где
во мраке, покрывающем прошлое рода человеческого, толпы лю-
дей уже много веков, шатаясь, движутся навстречу непостижи-
мому будущему».
422
Но можно сделать из романа и противоположный вывод
о том, что наша задача, задача тех, кто пришел на смену Жаку
или Антуану, — лучше решить проблемы, которые они не умели
решить, умножить возможности людей, даже если все, кажется,
идет ко дну, и особенно если кажется, что все идет ко дну.
Это не альтернатива, а своеобразное пари48, которое нам
предлагается в «Семье Тибо». Можно отвергнуть это пари, от-
казаться от участия в споре, как от приманки (так и советует
Клод-Эдмонд Маньи), можно признать его одновременно необ-
ходимым и бесполезным (как делает Камю); можно, наконец,
попытаться принять вызов, не сознавая отчетливо, побуждает
ли нас к этому Жак или же мы поступаем так вопреки Антуану.
Действительно, необходимость такого выбора ставится не
только «Семьей Тибо». Этот выбор диктует нам сама жизнь.
И с этим мы ничего не поделаем. «Семья Тибо» — одна из
книг нашего времени, от которой отпочковываются наши сомне-
ния или наши надежды.
14
Думается, что ни в какой другой национальной литературе
не найти романов с таким стремлением разобраться в суще-
ствующем в мире порядке и уменьшить сферу действия сил
тьмы, как в «Жане Кристофе», «Семье Тибо» и эпопее Арагона
«Реальный мир». Постоянно находятся такие, которые считают
возможным утверждать, что все это нас не касается, что эти
книги — лишь своеобразная утопия, возвышенная, рационали-
стическая и научная, это некая ныне уже несколько устаревшая
национальная болезнь, от которой недавние события должны бы
были нас излечить. Этому способствует то, что между каждой
из попыток раскрытия мира и реальной действительностью лежит
почти всегда зона несоответствия. Каждая из этих книг как бы
вновь и вновь возвращает нас к все# той же сизифовой горе.
«Жан Кристоф», написанный перед первой мировой войной»
предвещает катастрофу, но ход событий как будто опровергает
это; «Семья Тибо», задуманная сразу же после окончания
первой мировой войны и направленная против нее, была окон-*
чена уже после начала второй мировой войны. «Реальный мир»
перебрасывает мост между двумя войнами. Действие «Комму-
нистов» на сегодня доведено до июня 1940 года; если Арагон
будет продолжать историю своих героев в годы Сопротивле-
ния, то ему придется писать продолжение своей книги пример-
но в тех же условиях (если говорить о соответствии содержания
романа жизни), в каких оказался Роже Мартен дю Гар, созда-
вая «Лето 1914 года» и «Эпилог». Я хочу сказать, что Ара-
гону придется писать в такое время, когда все, что составляло
423
идеал людей Сопротивления, все, что, как им казалось, они с/
тяжелыми потерями завоевали в боях, не только вновь постав-
лено под вопрос, но почти полностью уничтожено, и этот безжа-
лостный процесс разрушения продолжается — систематически,
день з_а днем.
Сейчас принято, не задумываясь, констатировать, что вот,
мол, мы недостаточно внимания уделяем теневым сторонам
жизни. Жан Кристоф, например, даже отдаленно не представлял
себе ни характера надвигавшейся бойни, ни возможности приме-
нения удушливых газов; Жак или Антуан не могли предугадать
Дахау и Аушвица 49. А в наТне время, сообщают газеты, высоко-
поставленный французский чиновник в Алжире признал перед
делегацией из бывших узников нацизма, что «пытка применя-
лась, поскольку только этим путем можно было получить инфор-
мацию о готовившихся покушениях, информацию, которая (по
мнению его и других представителей властей) должна помочь
спасти множество человеческих жизней»; ведь это время Хиро-
симы, аттола Бикини и дальнейших шагов в развитии атом-
ного вооружения, о котором столько толкуют; наше время гото-
вит нам все новые и новые сюрпризы.
И что же из этого следует? Должны ли мы отказаться от
попыток освободить историю человечества от теневой сто-
роны, сферы мрака? Можно ли считать названные выше фран-
цузские романы, авторы которых стремятся сохранить и расши-
рить сферу света, лицемерием или некой умственной гимнастикой,
устаревшей игрой? Ведь в них по крайней мере провозглашается,
что человек никогда не должен отступать перед мраком!
Чтение всех этих книг под таким углом зрения просто мучи-
тельно. «Семья. Тибо» бередит рану, нанесенную «Жаном Кри-
стофом», а Арман Барбентан как бы продолжает историю Жака
Тибо, наполняя порою наше сердце нестерпимой болью. Я ду-
маю при этом не только о пути, который приводит этого моло-
дого буржуа из провинции в 1913 году на митинг в Пре-Сен-
Жерве, где Жорес выступает с речью, направленной против
введения трехлетнего срока военной службы, и где Арман впер-
вые слышит незнакомую песнь: «Привет, привет вам, храбрые
солдаты семнадцатого полка... Привет!»50, — пути участника
двух мировых войн; я думаю также и об описанной на последних
страницах недавно появившейся книги «Коммунистов» встрече
между Арманом и шахтером Константеном Бокетом, встрече в
парке Леклюз, куда немцы свезли тысячи людей из Па-де-
Кале... «Но характер войны, — говорит Арман, — изменился.
Она перестала быть их делом. Она теперь дело всех, кто будет
судить их стратегию, запретит им распоряжаться Францией, на-
шей жизнью, нашими свободами. Завтра, если эти господа капи-
тулируют, какой ценой они выторгуют право продолжать свои
424
мелкие делишки? В чьих карманах отыщут они разменную мо-
нету, чтобы ублажить Гитлера? Разве ты позволишь им торго-
вать Францией, позволишь, чтобы тебя обошли так же, как, не
спросясь тебя, втравили Францию в войну? Но теперь это уже
не та же самая война. Эта война национальная, понятно? Как
в девяносто третьем году!»51
Если видеть в этом лишь возвращение все к тем же невыно-
симо мучительным вопросам и принять во внимание, что исто-
рия вновь и вновь преподносит их нам так грубо и оголенно,
как будто она над нами издевается, придется признать попытки
авторов этих произведений тщетными, столь же тщетными,
как усилия противостоять потоку, несущему нас, бессильных и
беспомощных, к упадку. Действительно, если, как выражается
Камю, «толпы людей уже много веков, шатаясь, движутся на-
встречу непостижимому будущему», то романы, исследующие
хаос, чтобы обнаружить в нем свет человечности, могут только
укрепить убеждение в том, что нас ожидает неизбежная неудача
и что к этому следует заранее приспособиться.
Но подойти к вопросу можно и иначе. Ведь, помимо внеш-
них явлений, имеется еще и, скажем, уже упоминавшееся мной
рассуждение старого Филипа о капканах судьбы, и, отбросив его
скептицизм,-можно сделать иной вывод — не о нашей несостоя-
тельности, а о величии задачи. Миф о Сизифе говорит все
о том же камне, который неизменно скатывается обратно, и все
тот же человек снова и снова пытается вкатить его в гору.
С появлением Армана Барбентана история получает новое
измерение. Жан Кристоф был один. Одинокий Жак зовет массы
вместе с ним взяться за камень, но терпит поражение, не сумев
воспламенить их своей верой. Арман же человек, каких много»
Говоря об общем деле, он видит в нем и свое собственное дело
и рассуждает, как человек, для которого судьба народа — его
собственная судьба. Он знает, что может пасть на обочине до-
роги, может потерпеть поражение, полное поражение, но на его
жизни уже возникло нечто совершенно новое — невиданные пре-
жде связи между личностью и массами, и это позволяет оце-
нивать историю, как хотелось бы Жаку. Даже если Арман падет,
другие подхватят камень. С появлением Армана Барбентана мы
проникаем в мир, где народ обнаруживает, что он может и дол-
жен разрешить проблемы своей собственной истории.
В связи с рассказом о войне 1940 года, содержащимся в
«Коммунистах», мне хочется упомянуть об исследовании, которое
насколько мне известно, не принадлежит профессиональному
критику; однако оно, думается, затрагивает фундаментальную
проблему, поставленную одновременно и «Семьей Тибо», и
«Реальным миром». Рене Робине, проанализировав в свете
исторических источников один из военных эпизодов, писал
425
в «Презанс Арденнез» («Présence Ardennaise»); «Разумеется,
Арагон проводит в этом романе определенную идею. Но где она
изложена? Факты переданы в книге с величайшей заботой об ис-
торической правде. Где же скрыта собственная концепция автора?
Книга Арагона тем и отличается от исторического романа, что
идеи автора не заключены в исторических фактах, они разви-
ваются параллельно с рассказом об этих фактах, их выражают
вымышленные персонажи, излагающие свои личные воззрения
и таким путем окрашивающие события авторским отношением
к ним. Эта многоплановость романа позволила Арагону создать
художественное произведение, а не беллетризованную историю,
и таким образом истории не нанесено никакого ущерба».
Я полагаю, что такой анализ вполне применим и к методу
Роже Мартен дю Гара в «Лете 1914 года» и в «Эпилоге».
Именно такой подход помогает нам лучше понять исключитель-
ную важность, которую приобретают герои романа для истории
человечества: нет, они не открывают нам ее тайн, они только
обязывают нас смотреть ей прямо в лицо, так, словно мы на-
ходимся на их месте. Разумеется, ни Жак, ни Арман Барбентан
не образцы для подражания, если понимать это в том смысле,
в каком это говорится о героях романов, где показано формиро-
вание личности. Урок, который извлечет для себя читатель из
этих образов, зависит и от него самого, и от истории, которая
продолжает развиваться. Да, это урок иного рода: он учит нас
не тому, как должен вести себя человек, решая абстрактные
проблемы человеческой совести, необычайные и извечные во-
просы, но тому, как следует достойно действовать, — история
ставит тебя перед выбором, история живая, еще совершаю-
щаяся, — действовать тогда, когда все еще зависит от нас, от
нашей способности проникнуть в суть явлений и постичь смысл
и значение нашей собственной жизни.
И тут, естественно, на первое место выдвигается вопрос об |
ответственности читателей романа. Ведь задача преобразовать
мир ставится самой жизнью, а не романом. Романист не может «
в своей книге преобразовывать мир вместо своих читателей;
если он пытается это делать, то убивает роман, превращая его
в проповедь, или лжет. Он может только осветить исходные
данные, трудности, западни, показать, много ли шансов на успех,
может побудить читателей принять вызов или отказаться от
него. Группа романов, объединяющая, как мне кажется, «Жана
Кристофа», «Семью Тибо» и «Реальный мир», представляется
мне неким средоточием света для читателей, которые хотят
преобразовать историю. Что же касается тех, которые желают,
чтобы романист разрешил эту задачу за них, то они могут
сколько угодно подсчитывать поражения, неразрешенные труд-
ности, западни, подстерегающие героев, подстерегающие и нас.
426
«Семья Тибо» — это такой роман, где история народов пере-
стает быть зрелищем. А если человек хочет тем не менее оста-
ваться зрителем, он может повернуть зеркало к стене или раз-
бить его.
Однако в душе, он будет знать, что поступил так из-за
боязни взглянуть в это зеркало.
15
Жак Тибо — первый герой французского романа, который
ставит под сомнение ставшую привычной привилегию индивида
на исключительную роль в истории. Жак падает, сраженный,
посреди пути, ведущего от узкого мирка одиночки к широ-
кому миру человечества. В конце концов мы начинали верить,
что каждый может вести себя так, как Фабриций дель Донго в
битве при Ватерлоо52, боЛее того, начинали считать, что именно
таким и должно быть поведение героя романа перед лицом исто-
рических событий. Но это значило бы забыть, что политические
правила Макиавелли ничего больше не стоят с тех пор, как
угнетенный класс перестал доверять другим заботу о своих
делах. Жак Тибо живет в эпоху осознания пролетариатом
того факта, что он независимый класс, когда он уже способен
формулировать собственные требования и в некоторых, пусть еще
ограниченных, случаях добиваться их удовлетворения; в эпоху,
когда Парижская коммуна подвела пролетариат к решению
проблем государства и руководства нацией. Жак по-своему сви-
детель того времени, когда рабочий класс в различных странах
Европы уже намечает план действий, ставящих своей целью
сокрушение войны, но когда все его действия и организации,
выкованные им, терпят крах, за исключением одного, не упоми-
наемого в романе: мы говорим о партии большевиков и о Ленине,
их действия совершенно изменят историческую ситуацию. Жаку
еще кажется, что ров- между устремлениями масс и возможно-
стями, которыми они располагают, можно преодолеть путем ин-
дивидуальных действий. Что, если бы Жорес не был убит? Но
ведь Либкнехт сопротивлялся...
Перед нами уже новое мерило роли отдельных людей. Тво-
рить историю — отныне не привилегия одного человека или
небольшой прослойки общества, но в то же время никогда еще
ответственность каждого индивида не была столь велика.
Поистине«мы присутствуем при конце всяких привилегий. Каж-
дый мужчина, каждая женщина составляют частицу народа.
Отныне нет больше знати, но ответственность не уменьшилась
оттого, что ее несут теперь все. Исход борьбы зависит не от
немногих людей/ а от каждого. От всех и от каждого.
427
Мы в середине XX века еще плохо подготовлены к тому*
чтобы полностью осознать все последствия этой трансформации
истории. Мы цепляемся, насколько возможно, за различные
системы образов, более или менее деформирующих действитель-
ность, созданных на основе опыта прошлого и исходя из об-
щих концепций: будучи не в силах постичь происходящего,
мы прибегаем к аналогии. Если же говорить о литературе,
о романе, мы наталкиваемся на, казалось бы, непреодолимые
трудности. Главные персонажи романа — герой и его антагонист
представляют собой привилегированные существа даже в том
случае, если автор стремится показать их как можно более обы-
денными. На них в романе падает самое сильное освещение, и
благодаря особому вниманию автора, отличающему их от дру-
гих, они и начинают жить своей жизнью. Но как воссоздать их
отношения с другими персонажами, со всеми другими людьми?
Увеличить число действующих лиц? Это не снимает проблемы.
Ведь если мы создадим даже целый мир типов (допустим, что
это осуществимо), то мы только ускользнем от ее решения. Ну
хорошо, поставим перед собой задачу заново воссоздать чуть ли
не целый мир, но такие попытки уже были. И как же все-таки
передать средствами романа отношения между героями и дру-
гими людьми, между индивидами и массой? Действительно ли
эта проблема может быть разрешена лишь средствами кино, как,
например, в конце фильма «Похитители велосипедов»53, где
удается посредством нескольких кадров слить героя с толпой.
И вот в «Семье Тибо» нам предлагается решение проблемы,
свободное от схематизма и фигур умолчания. Манера, с какой
описаны отношения Жака с группой женевских революционеров,
каждый из которых помогает нам понять, что именно меняется
в Жаке, введение многих источников света, что особенно харак-
терно для «Лета 1914 года», — все это погружает нас в мир
со многими измерениями, где ритм жизни Жака, Женни или
Антуана как бы сопоставляется с объективным временем, вопло-
щающим в себе развитие истории; а это не абстрактное, едино-
образное историческое развитие, но развитие многообразное,
которое по-разному воспринимают, например, дипломат Рюмель
с Кэ д'Орсэ и Жорес, Мейнестрель и Жак. Время в междуна-
родном масштабе служит измерением времени в масштабе ка-
ждого из героев. Не может быть статического решения новых
проблем, выдвигаемых историей, она предлагает нам только про-
тиворечия, которые с необходимостью должны получить разви-
тие, согласно присущим им законам. Насыщенность романа
видоизменяется от «Смерти отца» к «Лету 1914 года». Теперь
она определяется уже не индивидами, не героями, не их прямыми
или косвенными взаимоотношениями, а обусловливается внеш-
ним миром, который уже не предстает в облике случайности,
428
\
как это было раньше (встреча Антуана с Рашелью или Даниэля
с Ринетой). Влияние случайности на судьбу Жака до сих пор
было минимальным, и это превращало его в трагический по пре-
имуществу персонаж. Начиная с «Серой тетради», все, казалось,
было определено, он жил в мире, ограниченном рамками семьи
^Тибо и Даниэля и Женни. Но теперь в промежутке между пе-
риодом начала «Сестренки» и июнем 1914 года Жак активно
включается в революционную борьбу. И эта новая перспектива
развития, одновременно внутреннего и внешнего по отношению
к Жаку, придает роману тот свет, который присущ финальным
перипетиям произведения. С этой точки зрения «Семья Тибо»
представляется уже классическим романом; произведение ни в
коей мере не повернуто к прошлому, оно выходит за его рам-
ки— и по своей концепции, и по структуре — и предвосхищает
исторический роман о нашем времени и о будущем, нас ожи-
дающем.
Такой роман предполагает уже и читателя, не оторванного
от жизни и времени. Читатели могут еще пытаться отожде-
ствлять себя с героями книги, разделять их взгляды, но в то
же время они составляют часть мира, которому противостоят
герои. Образное выражение, что романист ставит перед действи-
тельностью зеркало, принадлежит романисту. Когда герои про-
изведения заняты лишь своими личными проблемами, читатель
всегда может занять положение в центре зеркала. Иначе с
«Семьей Тибо»: имея дело с этой книгой, читатель вынужден
спрашивать себя, находится ли он в оптической оси зеркала; ему
приходится оценивать собственную позицию, и поэтому он уже
не может быть ни нейтральным, ни бесстрастным.
Тот факт, что герои перестали занимать привилегированное
положение в истории и относительно других людей, оказывает
прямое влияние на обмен идеями между романом и читателем,
что и придает жизнь героям. Имеют значение не только особые
проблемы, пронизывающие последние части романа, но и наши
собственные споры, вопросы, заполняющие нашу нынешнюю
жизнь.
После второй мировой войны изменилось определение харак-
тера привилегий, обладателями которых мы будто бы являемся.
Отныне мы, дескать, привилегированы не как французы (чему
нас учили в начальной школе), а как европейцы и жители за-
падного мира. Внезапно мы как бы лишились своей националь-
ной истории. А также и нашей культуры, и нашей цивилизации.
Мы теперь уже не один из народов мира, как мы это себе пред-
ставляли в годы Сопротивления, а составляем частицу привиле-
гированного островка культуры и цивилизации, у которого, как
у Византии в тысячном году, нет иных границ, кроме границ с
варварским миром. Беспрестанно обращаются к этим бредовым
429
сравнениям с временами Василия II64 или даже Комнинов59
(ведь история тех лет так заманчиво отдает душком упадка),
когда византийцы вели борьбу одновременно на двух или трех
фронтах — против арабов, против болгар и против монголов. Это
сравнение с Византией позволяет выдвигать псевдосовременные
ассоциации. К ним присоединяют тирады о носителях циви-
лизации, которые изнемогли под тяжким бременем, но, падая,
успели передать факел другим народам. Такого рода пропаган-
да— издевка над историей. Ведь в тысячном году цивилизация
(и какая* блестящая!) расцветала также и в мусульманской
Испании. Наше Средневековье обязано знакомством с антич-
ностью в меньшей мере Византии, чем мосарабам; я уже не го-
ворю о завоеваниях восточной науки...
Этот образ Византии, вообще изображение островков циви-
лизации, которым угрожают волны варварства, порожден кон-
цепцией привилегированных рас, наций, каст, людей: смысл
привилегии усматривался в их праве творить историю. Сложе-
ние такого образа — следствие защитной реакции, что харак-
терно для нынешней эпохи, когда эта привилегия уже не при-
надлежит ни Европе в том политическом значений, какое ныне
приобрело это понятие, ни белому человеку, ни буржуазии.
Когда г-н Ги Молле обосновывает на свой лад право Франции
препятствовать возникновению новых наций, он взывает к тому
врожденному чувству, какое мы испытываем перед народами,
еще не сложившимися в нацию: я говорю о привычном для нас
ощущении превосходства в культуре и цивилизации. И вот
во имя такого рода привилегий нас призывают отказаться
не только от наших национальных границ--и нашей националь-
ной истории, но, в сущности, 'и от той самой культуры и цивили-
зации, ' которыми обосновывают эти привилегии. Достаточно
в 1957 году перечитать новую всемирную декларацию Прав че-
ловека, принятую десять лет назад Объединенными Нациями,
чтобы убедиться в этом. Много ли сохранилось на Западе от ее
первых пятнадцати параграфов, которые вперемешку провозгла-
шают, что «каждый человек должен обладать всеми правами и
всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией,
без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы,
цвета кожи... политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения»; что «каждый человек имеет право на
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность», что
«никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчело-
вечным или унижающим его достоинство обращению и наказа-
нию»; что «каждый человек имеет право на эффективное вос-
становление в правах компетентными национальными судами в
случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему
430
конституцией или законом»; что «никто не может быть подверг-
нут произвольному аресту, задержанию или изгнанию»; что
«каждый человек имеет право на гражданство» Б6.
Мальро говорил в 1946 году: «Мы бы многого достигли и
многое изменили, если бы могли добиться, чтобы в Европе,
стоящей перед лицом сложных социальных, военных и трагиче-
ских проблем, возникла наконец идея Человека, которому можно
было бы взглянуть в лицо».
«Семья Тибо» уже заранее отвечает нам, что никто не волен
поместить зеркало в нужном ему месте. Мы должны смотреть
в глаза другим людям, именно им мы должны научиться смот-
реть в лицо. Мы должны смотреть в глаза немцев и французов
«Лета 1914 года», ввергнутых в бойню, смотреть прямо в глаза
вьетнамцам, алжирцам. Там — в обстановке, где уже нет речи
о привилегиях в человеческой истории, а речь идет об общем
усилии всех людей, стремящихся взять в свои руки собственную
судьбу, и возникает нечто новое. Но это не новый, более прием-
лемый образ человека, а новые люди, способные смести
все старые образы.
Жак верил, что он стоит на пороге того времени, когда люди
подчинятся духу созидания, возникшему на основе опыта веков-
и стремящемуся сделать человека существом справедливым и
разумным. Вместе с ^Каком умирает не утопия, не поспешность,
не нетерпение, с ним умирает эпоха, когда судьбы истории нахо-
дились в руках небольшой прослойки общества, которая тогда
еще невозбранно распоряжалась людьми. И непреходящая
актуальность романа «Семья Тибо» в том, что он подводит нас
к проблеме нашего собственного предназначения, которое за-
ключается в том, что мы должны жить в мире равных народов
и людей, должны выковать свободу в соответствии с нашими
идеалами и жить не так, как Жак или Антуан, а идти вперед
навстречу будущему, которое они уже провидели.
КОММЕНТАРИИ
I. КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА, ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОМАНА
(CHRETIEN DE TROYES OU LA DECOUVERTE DU ROMAN).
1 Литтре, Эмиль (1801—1881) — французский филолог, философ-
позитивист. Его капитальный труд— «Словарь французского языка» (Diction-
naire de la langue française) — начал выходить в 1863 году. Словарь Литтре
не утратил значения до нынешнего времени.
2 «Дафнис и Хлоя»— пасторальный роман древнегреческого писателя
Лонга, жившего, по-видимому, во II или III в. до н. э.
3 «Сатирикон» — сатирический нравописательный роман римского пи-
сателя Гая Петрония (ум. в 65 г. н. э ), дошедший до нас не полностью.
4 Термин «новелла» встречается и до Боккаччо, например в названии
анонимного итальянского сборника рассказов конца XIII века «Сто древ-
них новелл» («Cento novelle antiche»). С появлением «Декамерона» этот
термин утвердился окончательно, получив широкое распространение.
6 «Сто новых новелл» — анонимный новеллистический сборник, напи-
санный в подражание «Декамерону» Боккаччо около 1460 года на северо-
востоке Франции. Его автором считают Антуана де Ла Саля (см. раздел 4
второй статьи настоящей книги).
6 «Маленький Жан де Сентре» — роман Антуана де Ла Саля.
7 Коэн, Гюстав (1879—1958) — видный французский ученый-лите-
ратуровед, крупнейший специалист по литературе Средних веков и Возро-
ждения.
8 Цистерцианцы (или бернардинцы) —члены католического монаше-
ского ордена, основанного в 1098 году. Статут ордена сложился под силь-
ным влиянием реакционного церковного деятеля и философа-идеалиста
Бернара Клервоского. Орден цистерцианцев — один из самых влиятельных
и богатых монашеских орденов.
9 В XII и XIII веках на юге Франции, в Лангедоке, получила широ-
кое распространение ересь альбигойцев (или катаров), отрицавших католи-
ческие таинства, учение о троичности божества, о рае и аде и т. д. Распро-
странение ереси побудило папу Иннокентия III организовать крестовые
походы против альбигойцев (1209—1215 и 1216—1229), результатом
которых было не только уничтожение ереси, но и экономический и культур*
ный упадок южнофранцузских городов.
28 П. Деке
433
10 Абеляр» Пьер (1079—1142) — французский средневековый фило-
соф и богослов. Прогрессивное для своего времени учение Абеляра не раз
подвергалось преследованиям, осуждалось на церковных соборах. Большое
литературное значение имеют латинские любовные стихи Абеляра, его
автобиография «История моих бедствий» и переписка с его возлюбленной
Элоизой.
11 Мальро, Андре (род. 1901) — французский писатель и искусство-
вед. В 30-е годы Мальро написал романы «Королевская дорога» (1930),
«Условия человеческого существования» (1933), «Надежда» (1937), по-
весть «Годы презрения» (1935). Мальро принимал участие в борьбе про-
тив фашизма, сражался на стороне республиканцев в Испании.- В 40-е и
50-е годы Мальро стал одним из видных сторонников генерала де Голля.
Он активно выступает против сил прогресса и демократии. В опубликован-
ных в последние годы многочисленных искусствоведческих работах Мальро
излагает последовательно идеалистическую точку зрения на развитие миро-
вого искусства.
12 Ружмон, Дени (род. 1906) — швейцарский публицист и моралист
протестантского толка, работает по истории средневековой культуры.
13 Нелли, Йене — французский эссеист и исследователь истории куль-
туры, автор работ «Поэзия открытая и поэзия закрытая» (1947), «Любовь
и сердечные мифы» (1952) и др.
14 Готфрид Булъонский (1058—1100) — герцог Лотарингский, круп-
ный политический деятель раннего Средневековья, вдохновитель и руково-
дитель первого крестового похода (1096—1099), в результате которого
Готфрид был провозглашен первым королем Иерусалима.
15 Речь идет о так называемом «каролингском Возрождении», кратко-
временном, но весьма примечательном эпизоде в истории средневековой
культуры. Под «каролингским Возрождением» понимают деятельность
группы поэтов (Алкуин, Павел Диакон, Теодульф и др.), собранных Кар-
лом Великим при своем дворе. Эти поэты значительно продвинули вперед
изучение античной (главным образом римской) литературы, обогатив ан-
тичные традиции мотивами средневекового фольклора.
16 Жильсон, Этьен-Анри (род. 1884) — французский ученый католи-
ческого направления, специалист по средневековой схоластической фило-
софии.
17 Солсбери, Джон (ок. 1120—1180) — английский средневековый
теолог и философ, ученик Абеляра.
18 Пьер де Блуа (ок. 1135—до 1212) — средневековый французский
поэт, автор большого числа лирических стихотворений, проповедей, трак-
татов и писем.
19 Кельтский миф -о любви Тристана и Изольды был разработан в
большом числе произведений, начиная с середины XII столетия. Известный
первоначально в нескольких поэтических версиях, с середины XIII века
этот миф стал сюжетом прозаического романа, пользовавшегося в средне-
вековой Европе огромной популярностью.
20 Симон де Монфор (ок. 1165—1218) — французский феодал, руко-
водитель крестового похода против альбигойцев (см. прим. 9).
21 Строка из «Романа о Фивах».
22-Тома — автор одной из версий романа о Тристане (ок. 1170), до-
шедшей до нас лишь в отрывках. Французский исследователь средневеко-
434
вой литературы Ж. Бедье выпустил в 1902 году комментированное изда-
ние фрагментов романа Тома.
23 Бе руль (вторая половина XII в.) — старофранцузский поэт, автор
дошедшей до нас лишь во фрагментах одной из самых старых версий ро-
мана о Тристане (ок. 1190).
24 Готье д'Аррас (XII в.) — французский поэт, автор псевдоисториче-
ского авантюрного, так называемого византийского романа
«Ираклий».
25 Вавассер— ленник вассала.
26 Мариводаж — утонченный, изысканный стиль, построенный на тон-
ких намеках, каламбурах и остротах, описательных конструкциях и пери-
фразах. Называется так по имени своего создатели — замечательного фран-
цузского комедиографа и романиста Пьера Карле де Мариво (1688—1763).
27 «Амадис Галльский» (или «Амадис Уэльский») — популярный ры-
царский роман, возникший в конце XV века и вызвавший многочисленные
переделки и подражания.
28 Гарт май фон Ауэ (ок. 1170—1210) — немецкий куртуазный поэт,
переводивший на немецкий язык некоторые произведения Кретьена де
Труа, сближая куртуазную литературу с религиозной, с житиями святых
и религиозными средневековыми легендами.
29 .Бертран де Борн (ок. 1140—1215) — провансальский трубадур,
известный политический поэт своего времени. Прославлял войну, воспевал
рыцарскую мораль.
30 Бернарт де Вентадорн (ок. 1140—1195) — провансальский труба-
Аур, в творчестве которого особое распространение получил мотив любви —•
служения знатной даме.
31 Катары — то же, что и альбигойцы (см. прим. 9).
32 Мэлори, Томас (1395—1471) — английский прозаик позднего
Средневековья, автор прославленного романа «Смерть Артура» (закончен
в 1470 году), вобравшего в себя и систематизировавшего все легенды «арту-
ровского цикла».
33 «Песнь ткачей» — анонимное произведение французской револю-
ционной рабочей поэзии; возникла в 1833 году во время восстания лион-
ских ткачей.
34 «Пятнадцать радостей брака» — памятник французской повествова-
тельной прозы второй половины XV века. Его авторство одно время при-
писывалось Антуану де Ла Салю; в настоящее время с большими осно-
ваниями автором считается каноник Жиль Бельмер.
35 «Фив au да» — поэма древнеримского поэта Публия Папиния Ста-
ция (ум. ок. 95 г. н. э.), написанная на сюжет «похода семерых против
Фив». Стаций ' писал также, стихотворения на случай по заказу римских
богачей.
36 Гильом де Машо (ок. 1300—1377?) — французский поэт-лирик
выходец из городской буржуазной среды. Разрабатывал старые куртуазные
темы любви — служения даме, но в новом, специфическом для городской
поэзии позднего Средневековья аспекте. При несколько однообразной тема-
тике лирика Машо отличается большим разнообразием формы.
87 Жан Фруассар (ок. 1337—1411) — французский куртуазный поэт
и историк, автор прославленной «Хроники», излагающей историю Франции
и соседних государств с 1356 по 1400 год.
2Я*
435
38 Эсташ Дешан (ок. 1336—1407) — французский поэт позднего
Средневековья, ученик Машо. Лирика Дешана носит по преимуществу са-
тирический и моралистический характер. Сильны в ней и патриотические
мотивы. Однако усложненность формы становится одним из ее отличи-
тельных признаков.
39 Жан де Мэн, или Жан Клопинель (ок. 1240—1305),— французский
поэт, написавший в 1266—1277 годах продолжение аллегорического «Романа
о Розе», автором первой части которого был Гильом де Лоррис. Написан-
ная Жаном де Мэном вторая часть романа содержит больше бытовых ха-
рактеристик персонажей, в ней меньше традиционной для средневековой
литературы символики и аллегоричности.
40 Пьер де Сен-Клу был автором одной из 26 ветвей (или бран-
шей) популярного в Средние века «Романа о Ренаре», памятника сатири-
ческого животного эпоса.
41 Жан Ренар (XII или XIII в.) — французский куртуазный писа-
тель, автор многочисленных рыцарских романов.
II. К ПЯТИСОТЛЕТИЮ АНТУАНА ДЕ Л А САЛЯ, ОСНОВО-
ПОЛОЖНИКА СОВРЕМЕННОГО РОМАНА (POUR LE DEMI-MIL-
LENAIRE D'ANTOINE DE LA SALE, FONDATEUR DU ROMAN
MODERNE).
1 «Приключения Телемака» — роман французского писателя Фенелона
(1651—1715) — был написан им в 1693—1694 годах на сюжет «Одиссеи»
для его воспитанника герцога Бургундского. Издан в 1699 году.
2 Арлан, Марсель (род. 1889) — французский писатель и литера-
туровед. С 1953 года — главный редактор журнала «Нувель ревю фран-
сеэ». Из литературоведческих работ Арлана укажем его монографии о Па-
скале (1947), Мариво (1950), его книгу «Французская проза» (1951).
3 «Принцесса Клевская» — психологический роман французской писа-
тельницы Марии-Мадлены де Лафайет ( 1634—-1693), написанный в 1678
году.
4 Деке употребляет здесь термин «пари» в том значении, в котором
его применял Паскаль. В заключении некоего «пари» о существовании за-
гробной жизни Паскаль видел один из путей, способных будто бы привести
к доказательству истинности религии.
6 Приводимые Дексом слова Арагона взяты из статьи последнего
сВ защиту французского романа», напечатанной в журнале «Коммюн» в
1936 году (№ 29).
6 «Суд любви» — придворное увеселение, в ходе которого дамы и ка-
валеры, члены «суда любви» обсуждали различные «сложные» казусы
любви. Подробно о «судах любви» рассказывает Андре Капеллан (вторая
половина XII в.) в своей написанной на латыни книжке «Об искусстве
пристойной любви». '
7 Битва при Азенкуре между англичанами и французами произошла
25 октября 1415 года и закончилась полным поражением французских
войск.
8 В названии этого дидактического трактата Антуана де Ла Саля
обыграно совпадение названия кушанья и имени писателя.
436
9 В «Путешествии» Марко Поло (1254—1323) описывается пребыва-
ние этого итальянца в Китае, Индии, Персии и других странах Востока.
Его книга была написана на старофранцузском языке и в эпоху Средневе-
ковья пользовалась большой популярностью.
10.Поджо Браччолини, Джанфранческа (1380—1459) — итальянский
писатель-гуманист, автор трактатов и исторических сочинений, а также на-
писанных на латинском языке «Фацетий» — сборника небольших назида-
тельных и сатирических рассказов.
й1 «Гептамерон» — сборник новелл французской поэтессы раннего
Возрождения Маргариты Наваррской (1492—1549), написанный в подра-
жание «Декамерону» Боккаччо в 1540—1549 годах (издан в 1558 году).
Многие новеллы «Гептамерона» отличаются фривольным содержанием, что
отличает эту книгу от других произведений писательницы.
12 «Сутяги» — единственная комедия Расина, занимает в его творче-
стве особое место! Написана в 1668 году.
lî «Озорные рассказы» — сборник новелл Бальзака, написанных им
в духе Возрождения. Издан в 1832—1837 годах.
14 Фронда — политическое движение во Франции, направленное про-
тив абсолютизма в лице первого министра Мазарини. В 1648—1649 годах
во главе Фронды стояли деятели парижского парламента (так называемая
«парламентская Фронда»), с 1650 по 1653 год ее возглавила недовольная
правительством верхушка аристократии («Фронда принцев»).
15 «Жеманницами» называли увлекавшихся галантной пасторальной
(так называемой прециозной) литературой и соответствующими манерами
светских женщин середины XVII века.
16 «Малым завещанием» обычно условно называют первое крупное
произведение Франсуа Вильона (1431—после 1463), написанное им в
1456 году.
III. НАША НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ОЦЕНКЕ ТВОРЧЕСТВА
РАБЛЕ (CONSTAT DE CARENCE SUR RABELAIS).
Эта статья Декса до ее включения в книгу была напечатана в газете
«Леттр франсез» 28 января 1954 года (№ 501).
1 Цюй Юань (340—278 до н. э.) — первый великий китайский поэт,
родоначальник литературы Китая.
2 Абель Лефран ("1863—1954) — французский ученый-литературовед,
основатель и руководитель «Общества изучения Рабле». Его перу принад-
лежит большое число работ, посвященных жизни и творчеству автора «Гар-
тантюа и Пантагрюеля».
8 Анрио, Эмиль (1889—1961) — французский писатель и литературный
критик, постоянный литературный обозреватель газеты «Монд», многие
годы печатавший на ее страницах очерки о крупных французских писателях
различных эпох.
4 Ромен, $юлъ (род. 1885) — французский писатель, один из вождей
унанимизма. В главном своем произведении — многотомной эпопее «Люди
доброй воли» (1932—1947) — Ромен нарисовал широкую картину жизни
Франции первой трети XX века. В поздних своих произведениях Ромен
перешел к апологии капитализма.
437
5 Как известно, Анатоль Франс очень любил Рабле, часто обращался
к его творчеству, был активным членом «Общества изучения Рабле». Он
написал об авторе «Гаргантюа и Пантагрюеля» несколько статей и посвя-
тил ему цикл лекций, прочитанных в 1909 году в Аргентине (изданы в
1928 году).
е Эссекс, Роберт Довере, граф (1567—1601) — английский политиче-
ский деятель, возглавивший заговор против королевы Елизаветы. Заговор
Эссекса был раскрыт, и его участники казнены.
7 Бен (или, точнее, Бенджамин) Джонсон (ок. 1573—1637) — англий-
ский драматург, современник Шекспира.
8 Марло, Кристофер (1563—1593) — английский драматург елизаве-
тинской эпохи, самый талантливый из предшественников Шекспира. Был
убит в драке при невыясненных обстоятельствах. Есть основания предпо-
лагать, что это было преднамеренное политическое убийство.
9 CDлетнер, Джон (1579—-1625) — английский драматург, писавший
главным образом в сотрудничестве с Бомонтом. Их перу приписывают не-
мало произведений, авторами которых они, очевидно, не являются.
10 Деккер, Томас (ок. 1570 — ок. 1641) — английский драматург, один
ив талантливых представителей елизаветинской драмы. Деккер происходил
из городских низов, был одаренным самоучкой. О его жизни почти не со-
хранилось достоверных сведений.
11 Бомонт, Френсис (1584—1616) — английский драматург позднего
Возрождения; писал в соавторстве с Джоном Флетчером.
12 Уэбстер, Джон (ок. 1580—1625)—английский драматург, один из
представителей «драмы ужасов». О жизни Уэбстера до нас не дошло ни-
каких сведений.
13 Форд, Джон (1586—1639?) — английский драматург. В его твор-
честве отчетливо проявились черты кризиса возрожденческого гуманизма.
14 Тернер, Сайрел (1575—1626) — английский драматург. До нас до-
шли всего две его трагедии. О других его произведениях, как и о жизни
их автора, не сохранилось никаких сведений.
16 Платтар, Жан (1873—1940) — современный французский литерату-
ровед, автор большого числа работ, посвященных жизни и творчеству
Рабле, капитальной биографии писателя (1932), а также обширного науч-
ного аппарата в ряде изданий произведений Рабле.
16 Клузо, Анри (1865—1940)— французский литературовед, занимав-
шийся в основном творчеством Рабле и писателей его эпохи. Активно
сотрудничал в «Обществе изучения Рабле».
17 Бюде, Гийом (1467—1540) — французский ученый-эллинист эпохи
Возрождения, основатель Коллеж де Франс.
18 Франциск Ассизский (1181—1226) — религиозный деятель, осно-
ватель монашеского ордена францисканцев; проповедовал простоту, нищен-
скую жизнь, самоограничение и т. п.
19 Вейо, Луи (1813—1883) —реакционный французский публицист ка-
толического направления.
20 Гамбетта, Леон (1838—1882) — видный французский политический
деятель и публицист.
21 Авиценна (или Ибн-Сина) (ок. 980—1037) — выдающийся средне-
азиатский философ, ученый и писатель.
438
22 Бонавентура, Деперье (ок. 1510—1544) — французский поэт, новел-
лист и ученый эпохи Возрождения, автор латинского трактата «Кимвал мира»,
проникнутого духом вольномыслия и гуманизма. Был секретарем Марга-
риты Наваррской, состоял в близких отношениях с рядом писателей-гума-
нистов (Клеман Маро, Рабле и др.).
23 Либертинами (или вольнодумцами) назывались в начале XVII века
склонявшиеся к атеизму, оппозиционно настроенные представители передо-
вых литературных кругов того времени (Теофиль де Вио, Сент-Аман, Си-
рано де Бержерак и др.).
24 Гассенди,' Пьер (1592—1655) — выдающийся французский фило-
соф-материалист, оказавший сильное влияние на мировоззрение либертинов.
Последователями учения Гассенди были Сирано де Бержерак, Мольер и
Лафонтен.
IV. ЧТО ЭТО-СТЕНДАЛЬ? В 1623 ГОДУ?
(STENDHAL EN 1623?)
1 Имеется в виду роман Шарля Сореля «Полиандр», опубликованный
в 1648 году.
2 Лучшим произведением Сореля является, несомненно, его роман
«Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» (1623).
3 Деке имеет, очевидно, в виду Эмиля Руа, издавшего эту книгу Со-
реля в 1924—1931 годах в 4 томах.
4 Первая книга Сореля, его «Похвала полезности сапогов», вышла в
1622 году под псевдонимом шевалье де Роэандр. Роман «Правдивое коми-
ческое жизнеописание Франсиона» был опубликован сначала анонимно, за-
тем под именем Никола де Мулине, третьестепенного писателя начала
XVII века. .
6 «Библиотека для любопытных» — серия книг, издававшихся фран-,
цуэским поэтом Гийомом Аполлинером (1880—1918) и его друзьями на
рубеже нашего века. В серию включались давно забытые произведения
писателей прошлых эпох, часто весьма фривольного содержания. Особенно-
сти оформления книг серии, сопутствующая их выходу в свет реклама при-
дали этому начинанию Аполлинера скандальную известность.
6 Теофиль де Вио (1590—1626) — французский поэт-вольнодумец, за
свой атеизм, скептицизм и смелые стихи не раз подвергавшийся преследо-
ваниям.
7 Марешалъ, Антуан-Андре (первая половина XVII в.) — француз-
ский романист и драматург; его бытописательный роман «Кризолита» вы-
шел в 1627 году.
8 «Пересуды у ложа роженицы» — анонимный сатирический сборник,
состоящий из восьми памфлетов, выходивших первоначально отдельно и
собранных вместе в 1622 году. Очень интересная как памятник эпохи, эта
книга написана, очевидно, одним из сторонников кардинала Ришелье.
439
V. РЕАЛИЗМ КОРНЕЛЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ (LE REALISME DE CORNEILLE ET L'INDEPENDANCE
NATIONALE).
Впервые напечатана в еженедельнике «Леттр франсез» 6 мая 1954 года
(J* 515).
^ Фонте не ль, Бернар Ле Бовье (1657—1757) — французский писатель
и литературный критик, племянник Корнеля.
2 Это стихотворение написано Корнелем в середине 30-х годов
XVII века. В нем он говорит о своей юношеской любви к одной из житель-
ниц Руана, для которой он написал большое число не дошедших до нас
лирических стихотворений.
3 Вуатюр, Венсс.н (1598—1648) — французский поэт, один из типич-
ных представителей салонной, так называемой прециозной литературы-
4 «Сид», действие третье, явление VI. П. К о р н е л ь, Избранные
трагедии, Гослитиздат. М., 1956, стр. 46.
5 Саша Гит pu (1885—1957) — французский драматург и сценарист.
В период второй мировой войны и гитлеровской оккупации Франции под-
держивал режим Петэна.
VI. УБИЙСТВО КЛАССИКОВ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ИЗЯЩ-
НОГО ИСКУССТВА (DE L'ASSASSINAT DES CASSIQUES CONSI-
DERE COMME UN DES BEAUX-ARTS).
Первые два параграфа этой статьи были напечатаны в еженедельнике
«Лсттр франсез» 31 марта 1955 года (№ 562) под заглавием «Трехсотле-
тие «Сумасброда», первой пьесы Мольера». Продолжение статьи (пара-
графы 3—5) было опубликовано в следующем номере «Леттр франсез»
7 апреля 1955 года (№ 563) под тем же заглавием и с подзаголовком
«Театр против Мольера». Окончание статьи (параграфы 6—9) напечатано
в «Леттр франсез» 14 апреля 1955 года (№ 564) все под тем же загла-
вием и с подзаголовком «Мольер и реализм романов». В газетной публи-
кации принятая в настоящем издании разбивка на параграфы отсутство-
вала.
1 Борьба вокруг так называемых «Парижских соглашений», направлен-
ных на перевооружение Западной Германии, с особой силой развернулась
во французском парламенте в 1953—1955 годах. Эта борьба вызвала об-
остренные разногласия внутри некоторых буржуазных партий. Среди сто-
ронников генерала де Голля (к ним относится и Андре Мальро) также не
было единодушия. Большинство деголлевцев было за создание оборонитель-
ного сообщества, но требовало ряда «ограничений» и «гарантий».
2 Монтерлан, Анри (род. 1896) — французский писатель, автор ряда
произведений, воспевающих «сверхчеловека» — спортсмена. В культе силь-
ной личности Монтерлан видел возрождение в литературе героического и
романтического начал. Это привело писателя к приятию фашистской идео-
логии, к сотрудничеству с правительством Петэна.
3 Гийевик, Эжен (род. 1907) — французский поэт. Начав как сторон-
ник сюрреализма и герметического письма, Гийевик, обратившись к нацио-
нальным традициям, создал ряд реалистических поэтических произведений
(сборник «Тридцать один сонет» и др.).
440
4 Бсгэм, Альбер (1901—1957) — французский критик и литературо-
вед, один из руководителей журнала «Эспри», органа католических кругов.
6 Тьерри Монье (псевдоним Талаграна; род 1909) — французский пи-
сатель и критик, националист и реакционер. Перед второй мировой войной
активно сотрудничал в «Аксьон франсез». Основатель и руководитель жур-
нала «Табль ронд».
6 В. свой первый сезон в Париже (1659—1660) труппа Мольера ис-
полняла целый ряд пьес Корнеля — «Сида», «Цинну», «Горация», «Смерть
Помпея», «Лжеца», «Родогунду», «Ираклия» и «Никомеда».
7 Жодле — псевдоним Жюльена Бедо (ок. 1590—1660), талантливого
французского фарсового актера первой половины XVII века.
8 Луи Жуве (1887—1953) — один из крупнейших французских дра-
матических актеров и режиссеров, ученик Жака Руше и Копо. Жуве руко-
водил театром «Атеней»; с 1938 по 1951 год был президентом основан-
ного им «Общества истории театра». Жуве, Дюллен и другие ^ежисееры,
входившие в «Картель», известное объединение передовых деятелей фран-
цузской сцены, стремились произвести реформу театра, дать глубокое
истолкование лучшим произведениям французской драматургии, начиная
с Мольера, Расина, Мариво и до Клоделя и Жироду. Причем, Мольер и
Жироду были любимыми драматургами Луи Жуве.
9 Аамот-ле-Вайе, Франсуа (1588—1672) — французский писатель, уче-
ный и философ; одно время был близок к кружку вольнодумцев. Затем был
воспитателем Людовика XIV. ч
10 Шапелъ, Клод-Эмманюэль (1626—1686) — французский поэт, близ-
кий друг Мольера, Расина, Лафонтена.
11 Кольбер, Жан-Батист (1619—1683) — французский политический
деятель, генеральный контролер финансов при Людовике XIV.
12 Аавалъер, Луиза (1644—1710) — одна из фавориток Людовика
XIV.
13 Ровер Как (1885—1959) — французский журналист и театральный
критик.
14 Речь идет о гастролях в Москве и Ленинграде в апреле 1954 года
французского театра Комеди франсез, показавшего советским зрителям
«Тартюфа» и «Мещанина во дворянстве» Мольера и «Сида» Корнеля.
15 Сегье, Пьер (1588—1672) — французский политический деятель,
канцлер Франции в годы царствования Людовика XIII и Людовика XIV.
16 Донно де Визе, Жан (1638—1710) — французский писатель и жур-
налист, основатель «Галантного Меркурия».
17 Мадлена де Скюдери (1607—1701) — типичный представитель пре-
циоэной литературы, автор изысканных галантно-авантюрных романов.
18 Сюблиньи, Адриен-Тома (1636—1696) — французский литератор
второй полопины XVII века. О его жизни не сохранилось сколько-нибудь
достоверных сведений. Он был автором комедий, а также критического
раэбора «Андромахи» Расина.
19 Аа-Кальпренед, Готье де Кост (1610—1663) — французский рома-
нист прециозного направления, автор многотомных псевдоисторических ро-
манов.
20 «Крестьянин, вышедший в люди» — роман Пьера Карле де Мариво,
Выходил отдельными выпусками в 1734—1736 годах.
44 J
21 Сюжет своего «Сумасброда» Мольер заимствовал из комедии
итальянского драматурга начала XVII века Никколо Барбьери «Неразум-
ный».
22 Ж.-Б. Мольер, Собр. соч. в 2 томах, т. I, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 125.
23 Там же, стр. 127.
24 Поль Скаррон (1610—1660) был не только романистом, но также
весьма плодовитым драматургом-комедиографом. До нас дошли семь его
комедий, самой популярной из которых была пьеса «Дон Иафет Армян-
ский», сюжет которой Скаррон заимствовал у испанских драматургов.
25 Свой творческий путь Пьер Корнель начал целой серией пятиакт-
ных стихотворных комедий — «Мелита», «Вдова, или Наказанный преда-
тель», «Галерея суда, или Подруга-соперница», «Субретка», «Королевская
площадь» и др. Писал комедии и брат Пьера Корнеля — Тома Корнель
(1625-1709).
26 Кино, Филипп (1635—1688) — французский комедиограф; из его
комедий наибольшим успехом пользовалась «Мать-кокетка», поставленная
в 1665 году, то есть в самый разгар театральной деятельности Мольера.
27 Буаробер, Франсуа Ле Метель (1592—1662) — французский поэт
и драматург. Близкий одно время к вольнодумцам, Буаробер вошел в ли-
тературу как салонный поэт и комедиограф, автор большого числа пьес,
написанных в подражание испанским комедиям «плаща и шпаги».
28 Ж.-Б'. Мольер, Собр. соч. в 2 томах, т. I, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 437—438.
29 Там же, стр. 508.
30 «Комедия дель арте» — итальянская народная комедия масок, воз-
никшая в эпоху Возрождения. В XVII и XVIII веках в Париже постоянно
гастролировали труппы итальянских комедиантов.
31 Госпожа де Ментенон, Франсуаза (1635—1719) — внучка поэта-гу-
генота Агриппы Д'Обинье, в 1652 году стала женой Скаррона. После его
смерти она стала фавориткой Людовика XIV, сочетавшись с ним в
1684 году тайным браком. _
32 Стендаль, Собр. соч. в 15 томах, т. 7, М., изд. «Правда», 1959,
стр. 58—59.
33 Стендаль выпустил два памфлета под тем же названием «Расин и
Шекспир» в 1823 и 1825 годах. Приводимые Дексом слова взяты из его
второго памфлета.
VII. О ЛИТЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОЯСНЯЮ-
ЩИХ И ЗАТЕМНЯЮЩИХ (DES ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE
LEUR CONTRAIRE).
Статья была напечатана в еженедельнике «Леттр франсез» 21 апреля
1955 года (№ 565).
1 Цти де Жюльвилъ, Луи (1841—1900) — французский литературовед;
под его редакцией вышла восьмитомная история французской литературы.
2 Брюнетьер, Фердинанд (1849—1906) — французский литературный
критик и историк литературы позитивистского направления.
442
3 Лансон, Тюстав (1857—1934) — французский ученый-литературовед,
автор большого числа работ по истории французской литературы и капи-
тальной библиографии французской литературы XVI—XIX веков.
4 Французский поэт-символист Артюр Рембо (1854—189t) с 1874 го-
да вел скитальческую жизнь на Востоке, а затем (с 1880 года) устроился
торговым агентом в Харраре (Эфиопия).
6 Леклерк и Кора — второстепенные французские драматурги середи-
ны XVII века.
6 Прадон, Никола (1632—1698) — французский драматург-классицист,
автор многочисленных трагедий.
I Луи Расин (1692—1763) — французский поэт, автор поэмы «Рели-
гия», сын драматурга Жана Расина.
8 Госпожа де Севинье, Мария де Рабютен-Шанталъ (1626—1696) —
французская писательница, наиболее значительная представительница эпи-
столярного жанра во французской литературе XVII века.
9 Бюсси-Рабютен, Роже (1618—1693) — французский писатель, автор
«Любовной истории галлов», скандальной хроники любовных похождений
при королевском дворе, стоившей ему длительного изгнания; двоюродный
брат госпожи де Севинье.
10 Французский критик Шарль-Огюстен Сент-Бев (1804—1869) в
своих многочисленных статьях и литературных портретах писателей интер-
претировал их творчество, исходя прежде всего из фактов их биографии.
II Буур, Доминик (1628—1702) — иезуит, теоретик классицизма, уча-
стник спора о древних и новых авторах.
12 Пелиссон, Поль (1624—1693) — французский литератор; его бли-
зость к Фуке стоила ему пятилетнего заключения в Бастилии, однако за-
тем Людовик XIV приказал освободить его, назначив историографом.
13 Валенкур, - Жан-Анри (1653—1730) — французский писатель и
историограф, близкий друг Расина.
14 Помо, Рене — современный французский историк литературы, про-
фессор Тулуэского университета, автор работ о Вольтере, в том числе
интересной статьи в журнале «Эроп» (№ 361—362).'В 1960 году прочел
цикл лекций в университетах Москвы и Ленинграда.
VIII. ГОВОРИТ ВОЛЬТЕР, ИЛИ БИТВА ЗА КНИГУ (VOL-
TAIRE PARLE OU LA BATAILLE DU LIVRE).
Первый параграф этой статьи под названием «Министр просвещения
г-н Андре Мари вновь отправляет в изгнание молодого Вольтера» был
напечатан в еженедельнике «Леттр франсез» 15 мая 1953 года (№ 465).
Окончание статьи под названием «Говорит Вольтер, или Битва за кни-
гу» появилось в следующем номере «Леттр франсез» 21 мая (№ 466).
1 Readers Digest — американские сокращенные издания, где значитель-
ное художественное произведение дается в основном в пересказе и укла-
дывается в небольшой по объему томик.
2 Упрощенный французский язык (англ.) Называется — по аналогии с.
Basic English — упрощенной системой изучения английского языка, поль-
443
вующейся всего 850 словами, введенной Огденом для распространения в
британских колониях.
3 Коньо, Жорж (род. 1901), французский общественный деятель и пи-
сатель, коммунист, депутат Национального собрания.
4 Бэйло — префект Парижа.
5 Фелипо, Жан-Фредерик, граф де Морепа (1701—1781) — француз-
ский политический деятель, министр при Людовике XV и Людовике XVI.
6 Маре, Матье (1665—1737) — французский общественный деятель,
юрист и литератор, автор изданных посмертно трудов «История жизни и
сочинений Лафонтена» (1811) и «Мемуары» (1863—1868). Последние
охватывают историю Франции с 1715 по 1737 год. Маре принимал уча-
стие в составлении знаменитого «Словаря» Бейля (см. прим. 3 к ста-
тье XII).
7 Де При, Жанна Агнесса (1698—1727) — французская аристократка,
любовница герцога Бурбонского, на которого оказывала сильное влияние.
Впав в немилость, покончила с собой.
8 Как известно, первое исполнение «Федры» Расина в Бургундском
Отеле состоялось 1 января 1677 года и было почти сорвано врагами ав-
тора — герцогом Неверским и его сестрой герцогиней Бульонской, которые
противопоставили трагедии Расина «Федру» Прадона, сыгранную 3 января«
Этой травле сопутствовала литературная полемика. Герцог Неверский, за-
детый одним из сонетов, авторами которого, по-видимому, были Расин и
Буало, пригрозил избить обоих писателей. Он, однако, не смог осуществить
свою угрозу, ибо Расина и Буало взял под свою защиту полководец Конде.
9 Поп, Александр (1688—1744) — крупнейший английский поэт-клас-
сицист начала XVIII века.
10 Буало, Жак (1635—1716) — французский теолог, доктор Сорбонны;
автор большого числа сочинений, написанных главным образом по латыни.
11 Аекуврер, Адриенна (1692—1730) — замечательная французская
трагическая актриса; ее игра отличалась искренностью и правдивостью. По
словам Вольтера, она была «так трогательна, что заставляла проливать
слезы». Речь идет об известном стихотворении Вольтера «Смерть м-ль Ле-
куврер, знаменитой актрисы» (1730).
12 Салле, Мария (1707—1756) — французская балерина, вместе с
Ж. Новерром реформировавшая балет.
13 Фрерон, Эли (1718—1776) — французский литератор, последова-
тельный враг Вольтера и других философов-просветителей, не упускавший
случая выступить против них.
ч 14 Триссотен — персонаж пьесы Мольера «Ученые женщины», тип без-
дарного поэта, считающего тем не менее себя значительным мастером. Имя
Триссотена стало нарицательным.
16 Видок, - Франсуа-Эжен (1775—1857) — французский авантюрист
и полицейский сыщик, в течение ряда лет — глава парижской полиции.
В 1828—1829 годах издал свои мемуары (в 4 томах), ставшие очень попу*
лярными.
16 Речь идет о проверке по инициативе сенатора Маккарти американ-
ских библиотек, из которых были изъяты книги прогрессивных писа*<
телей.
444
IX. АНГЛИЯ. КОТОРОЙ НЕ ЗНАЛ ВОЛЬТЕР (UNE ANGLE-
TERRE QUE VOLTAIRE N'A PAS CONNUE).
Эта статья была напечатана в специальном номере еженедельника
«Леттр франсез» 30 сентября 1954 года (Ne 536). В том же номере, почти
целиком посвященном Филдингу, были помещены также статья Анны Вил-
лелор «Жизнь Генри Филдинга», а кроме того — небольшие заметки Робера
Мерля о «Джозефе Эндрусе», Анны Виллелор и о «Томе Джонсе» и Ива
Бено — о дружбе Филдинга с замечательным английским художником-кари-
катуристом Хогартом. Начиная с этого номера «Леттр франсез» и до июля
1955 года в газете печатался роман Филдинга «Амелия» в переводе Анны
Виллелор и Пьера Декса.
1 Г. Филдинг, Избранные произведения в двух томах, т. I, Мм Гос-
литиздат, 1954, стр. 18.
2 Там же, стр. 117.
3 Тайберн — в Лондоне XVIII века место казни уголовных преступ-
ников.
. 4 Г. Филдинг, Избранные произведения в двух томах, т. I, М., -Гос-
литиздат, 1954, стр. 293.
5 Там же, стр. 329.
6 Колридж, Саму эль-Тейлор (1772—1834), английский поэт, роман-
тик, представитель «озерной школы».
7 Аасенер, Пьер-Франсуа (1800—1836) — бандит и убийца, совершив-
ший ряд зверских преступлений, за что был казнен. Оставил «Воспоми-
нания», изданные после его смерти.
8 Деке имеет в виду серию газетных статей Арагона, составивших за-
тем книгу «Свет Стендаля» (1954).
X. ПОХВАЛА ДЖОНУ ГЕЮ (HOMMAGE A JOHN GAY).
Эта статья под названием «Опера нищих» Дж. Гея спустя 227 лет
после ее создания в нетронутом виде появляется в Париже» была напеча-
тана в еженедельнике «Леттр франсез» 17 марта 1955 года (№ 560). В га-
зетной публикации отсутствовала разбивка на главы; перед включением
в книгу статья подверглась незначительной правке.
1 Речь идет об экранизации либретто Б. Брехта известным немецким
кинорежиссером Г. В. Пабстом в 1931 году.
2 Хэзлит, Уильям (1778—1830) — английский литератор и публицист,
автор ряда исследований по английской литературе XVI—XIX веков,
«Жизни Наполеона Бонапарта» и нескольких острых публицистических со-
чинений, разоблачающих английский капитализм.
3 Компания Южных Морей была основана в 1711 году для торговли
с Южной Америкой и островами Тихого океана. В 1719 году вскрылись
темные махинации ее руководителей (в том числе крупных государственных
чиновников, связанных с Английским банком) и царящий в ее бюджете ко-
лоссальный дефицит. В 1720 году разразился грандиозный скандал; ком-
пания уплатила лишь по ничтожной части своих обязательств. Большинство
держателей акций компании было разорено.
445
4 Лоу, Джон (1671—1729) — англичанин, известный финансист, в
эпоху Регентства (1715—1723) и управления Филиппа Орлеанского бывший
генеральным контролером финансов Франции. Стремясь покрыть дефицит
в бюджете, Лоу выпустил огромное количество ничем не обеспеченных ак-
ций. В 1720 году афера Лоу раскрылась, сам он вынужден был бежать,
а держатели акций потеряли свои деньги.
5 «Жизнь поэтов», или, точнее, «Биографии английских поэтов», англий-
ского эссеиста-просветителя Сэмюэля Джонсона (1709—1784) представ-
ляет собой серию критико-биографических статей к собранию сочинений
крупнейших английских поэтов XVlI—XVIII веков, начиная с Каули и
кончая Литльтоном. Печатались в 1779—1781 годах.
XI. ФИЛДИНГ И КОМИЧЕСКИЙ РОМАН (FIELDING ET LE
ROMAN COMIQUE).
Статья была напечатана в качестве предисловия к изданию на фран-
цузском языке романа Филдинга «Приключения Джозефа Эндруса» (пере-
вод Сюзанны Нетийар и Поля Вигру) в 1955 году.
1 Делоней, Томас (1543—1600) — английский романист эпохи Возро-
ждения, бытоописатель городского ремесленничества.
2 Грин, Роберт (1558?—1592) — английский романист и драматург
эпохи Возрождения. В своих ранних произведениях Грин отдал дань мод-
ному придворно-аристократическому направлению в литературе; в своих зре-
лых романах и драмах он обратился к изображению жизни городских низов,
встав на путь реализма. Речь идет о его повести «Гвидоний» ( «Gwydoniue
the Card of Fancie»), написанной в 1584 году.
3 «Роман о Жане Парижанине» — французский анонимный прозаиче-
ский роман XV века. В нем в забавной форме рассказано о соперничестве
французского принца, выдающего себя за простого жителя Парижа (отсюда
и название), с английским королем из-за руки инфанты Кастильской.
4 «Французский зритель» — журнал, издававшийся в Париже в 1722—
1723 годах Пьером Карле де Мариво в подражание моральным ежене-
дельникам английских просветителей Стиля и Аддисона.
6 Слова из «Кандида» Вольтера, пародирующие утверждение Лейб-
ница, что «бог не создал бы мира, если бы он не был лучшим из всех
возможных».
6 Имеется в виду так называемая «славная революция» — государ-
ственный переворот 1688 года, выразившийся в низложении Якова II
Стюарта, стремившегося сохранить абсолютизм, и переходе английской ко-
роны к Вильгельму III Оранскому. Знаменитый «Билль о правах» (1689)
окончательно закрепил существующий парламентский строй Англии.
1JT. Филдинг, Избранные произведения в двух томах, т. I, М., Гос-
литиздат, 1954, стр. 247—248.
8 Там же, стр 233—234.
9 Там же, стр 464.
10 Там же, стр. 440.
11 Там же, стр. 702.
12 Джон У вели (1703—1791) и Уайтфилъд- (1714—1770) — деятели
так называемого «методизма», одного из течений англиканской церкви,
впоследствии отделившегося от нее.
13 Г. Филдинг, Избранные произведения в двух томах, т. I, М., Гос-
литиздат, 1954, стр. 497.
14 Там же, стр. 498—499.
XII. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА АББАТА ПРЕВО (LES PROB-
LEMES DE L'ABBÉ PRÉVOST).
Эта статья была первоначально напечатана в еженедельнике «Леттр
франсез» 18 августа 1955 года (№ 581).
1 Аилло, Джордж (1693—1739) — английский драматург; его пьеса
«Лондонский купец» (1731) положила начало буржуазной драме.
2 Шал ль, Робер (1659—1720) — французский писатель и путешествен-
ник, автор стихотворений, новелл, эссе и «Мемуаров», в которых он до-
статочно откровенно описывает закулисные стороны французской полити-
ческой жизни его времени.
3 Бейлъ, Пьер (1647—1706)—французский писатель и философ; его
основное • произведение — «Исторический и критический словарь» — в ка-
кой-то мере предвосхитило идеи просветителей в создании энциклопедии и
в борьбе с религиозной моралью.
4 Шанфлери-- псевдоним Жюля Юссона (1821—1889) — французский
писатель, литературный и художественный критик, теоретик реализма.
° Регентство Марии Медичи, жены Генриха IV, в малолетство Людо-
вика XIII длилось с 1610 по 1617 год.
XIII. НОВОЕ О «МОНАХИНЕ» ДИДРО (DU NOUVEAU SUR
«LA RELIGIEUSE» DE DIDEROT).
Эта статья первоначально была напечатана в еженедельнике «Леттр
франсез» 16 сентября 1954 года (№ 534). В книгу вошла с небольшими
сокращениями и поправками. Деке за несколько месяцев до публикации
статьи напечатал в «Леттр франсез» посвященную Дидро работу «О новом
национальном издании Дидро» (11 февраля 1954 года, № 503).
1 Визитандинки — члены католического монашеского женского ордена,
основанного в 1610 году. Устав этого ордена отличался мягкостью. В мо-
настырях виэитандинок часто воспитывались девушки из аристократи-
ческих семей.
2 Большинство произведений Прево, например его романы «История
Кливленда, незаконного сына Кромвеля» и «Киллеринский настоятель»
(1736), содержат в себе задатки будущего жанра «черных романов».
447
XIV. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕРНОМ РОМАНЕ (RÉFLEXIONS
SUR LE ROMAN NOIR).
Эта статья была напечатана в журнале «Эроп» в апреле — мае 1955
года (№112—113). Статье Декса была предпослана статья Ш. Ароша
«Пьер Деке и черный роман».
1 «Жюстина» — главное произведение Донасьена-Альфонса-Франсуа де
Сада (1740—1814), вышедшее анонимно в 1791 году и вызвавшее много
шума своей аморальностью и непристойностью.
2 В издаваемую французским литератором Марселем Дюамелем «чер-
ную серию» входят главным образом переводные (чаще всего американские)
детективные романы.
3 Карлейлъ, Томас (1795—1881) — английский историк и публицист.
В первый период своей деятельности обличал буржуазную мораль и ханже-
скую либерально-апологетическую литературу и философию. Позднее, на-
пуганный развитием революционного4 движения, отказался от критики бур-
жуазных порядков и стал одним из признанных идеологов английской бур-
жуазии.
4 «Арден из Февершема» — первая английская бытовая трагедия, на-
писанная неизвестным автором в 1592 году. В пьесе рассказывается об
убийстве мужа женой и ее любовником, в ней дается реалистическая кар-
тина нравов, раскрывается сложный духовный мир персонажей.
6 Мерлъ, Ровер (род. 1908) — французский прогрессивный романист
и драматург, автор пьес «Фламинео», «Сизиф и смерть», «Новый Сизиф»
и романа «Смерть мое ремесло».
6 Президент де Б росс, Шарль (1709—1777) — французский путеше-
ственник, историк и географ; его вышедшие посмертно «Письма, написан-
ные из Италии» пользовались большой популярностью.
7 Стендаль, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. I, М., изд.
«Правда», 1959, стр. 75.
8 Макферсон, Джемс (1736—1796) — английский поэт. Большой по-
пулярностью пользовались его превосходные имитации кельтских народных
преданий, приписанные Макферсоном легендарному поэту Оссиану. Первое
издание «Сочинений Оссиана» Макферсона вышло в 1765 году.
9 Речь идет о широко распространившемся в конце XVIII и начале
XIX века увлечении произведениями с «готической», средневековой тематиг
кой, характерными для литературы романтизма. *
10 Делеклюз, Этьен (1781—1863) — французский художник и худо-
жественный критик, в 20-е годы — один из близких друзей Стендаля.
11 Бальдансперже, Фернан (1871 —1958) — французский ученый-ли-
тературовед, специалист по литературам Франции, Германии, Англии, один
из крупнейших представителей зарубежной компаративистики.
12 Намек на один из эпизодов романа Виньи «Сен Map» — в Северной
башне замка, где были заточены герои романа Сен-Map и де Ту, произво-
дились допросы и пытки.
13 Маршал де Рэ, Жиль де Ааваль, барон (1396—1440) — француз-
ский феодал. Был обвинен в садистском убийстве невинных людей и каз-
нен. Суд над ним был одним из самых громких судебных процессов во
Франции XV века.
14 Так называли после июльской революции анархически настроенных
молодых людей, носивших шляпу особого фасона (отсюда и название).
О бузенготах создано было немало художественных произведений.
448
XV. ПАТРИОТИЗМ И САМОУБИЙСТВО ГЕНРИХА ФОН
КЛЕЙСТА (PATRIOTISME ET SUICIDE DE HEINRICH VON
KLEIST).
Статья первоначально была напечатана в еженедельнике «Леттр фран-
сеэ» 13 марта 1952 года (Ne 405) с подзаголовком: «По поводу одной про-
граммы Национального народного театра». В книгу статья вошла с не-
большими сокращениями.
1 Шлегелъ, Фридрих (1772—1829) — немецкий литературный критик,
один из теоретиков (вместе со своим братом Августом-Вильгельмом Шлеге-
лем, 1764—1845) немецкого романтизма.
2 £. В. Тарле, Наполеон, М., 1942, стр. 207.
3 Там же.
4 Де ла Мотт-Фуке, Фридрих (1777—1843) — немецкий писатель-
романтик, один из представителей консервативного крыла немецкого роман-
тизма; автор ряда произведений с фантастическим, «волшебным» сюжетом
(например, «Ундина», 1811).
XVI. ОБ ОДНОЙ БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА ДЮМА (SUR
UNE BIOGRAPHIE D'ALEXANDRE DUMAS).
Эта статья с подзаголовком «Прекрасные дети истории» была первона-
чально напечатана в еженедельнике «Леттр франсез» 10 марта 1955 года
(Mo 559). В книгу вошла с небольшими дополнениями.
1 Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский
трагический актер, реформатор театра. Слава Тальма была особенно велика
в впоху Империи. Оставил интересные «Мемуары».
2 Мадемуазель Марс — псевдоним Анны-Франсуазы Буте (1779—
1847), замечательной французской трагической актрисы.
3 Арно-отец, Антуан-Венсан (1766—1834) — французский поэт и
драматург, один из эпигонов классицизма; автор напыщенных трагедий, на*
писанных с соблюдением трех единств, убогих по содержанию.
4 Арно-сын, Эмильен-Люсьен (1787—1863) — французский драматург
и поэт, один из эпигонов классицизма.
6 Жуй — псевдоним Виктора-Жозефа Этьена (1764—1846), француз-
ского писателя, автора трагедий, либретто опер, новелл, очерков, рисующих
картины нравов.
6 Аемерсье, Непомюсен (1771 —1840) — французский драматург и
поэт.
1 Парни, Эварист (1753—1814) — французский поэт, наиболее яркий
представитель жанра легкой «эротической» поэзии.
8 Колардо, Шарль-Пьер (1732—1776) — французский поэт, один из
представителей легкой гривуазной поэзии.
. 9 Уланд, Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт, один из крупнейших
представителей так называемой «швабской школы» — группы поздних не-
мецких романтиков. Помимо художественных произведений, Уланд оставил
29 П. Деке
449
ряд исследовательских работ, посвященных главным образом отдельным
явлениям средневековой литературы.
10 Пигд-Лебрен — псевдоним Шарля-Антуана-Гийома Пиго де л'Эпине
(1753—1835), французского прозаика и, драматурга, родоначальника фран-
цузской мелодрамы, автора развлекательных по своему характеру и воль-
ных - по содержанию романов.
11 Жуанвиль, Жан ( 1224—^1317) — французский средневековый исто-
риограф, советник короля Людовика IX, чью жизнь подробно описал
в своих «Мемуарах».
12 См. прим. 37 к первой статье настоящего сборника.
13 Mопт реле, Ангерран (1390—1453) — французский политический
деятель и историк, прево города Камбре, автор «Хроники», охватывающей
основные исторические события страны с 1400 по 1453 год. •
14 Шатлен, Жорж (1405—1475) — французский писатель-историограф,
автор «Большой хроники», посвященной главным образом истории Бургун-
дии и прилегающих к ней областей.
15 Жювеналь дез Юрссн, Жан (1388—1473) — французский полити-
ческий деятель и историограф, автор «Хроники Карла VI». Участвовал в
пересмотре процесса Жанны д'Арк.
16 Монлюк, Блез (1501—1577)—французский полководец и мемуа-
рист, автор очень интересных по содержанию «Комментариев» (впервые из-
даны в 1592 году).
17 Этуалъ, Пьер Тизан (1546—1611) — французский историограф, ав-
тор «Ежедневных мемуаров», важного источника для изучения времени
царствования Генриха III и Генриха IV.
18 Рец, Поль де Гонди, кардинал (1613—1679) — французский поли-
тический деятель и писатель-мемуарист, автор известных «Мемуа-
ров», впервые изданных в 1717 году.
19 Сен-Симон, Ауи, герцог (1675—1/55) — французский государствен-
ный деятель и выдающийся писатель-мемуарист. Его «Мемуары» пред-
ставляют интерес не только как памятник эпохи, но и как высокохудоже-
ственное литературное произведение.
20 Виллар, Клод (1653—1734) — французский полководец, дипломат и
мемуарист, маршал Франции.
21 Французская писательница госпожа де Аафайет (1634—1693). по-
мимо нескольких романов, оставила очень интересные «Мемуары», в кото-
рых подробно описана жизнь французского двора в 1688—1689 годах
(впервые изданы в 1731 году).
22 Французский государственный деятель Арман-Жан дю Плесси,
кардинал де Ришелье (1585—1642) оставил «Мемуары», изданные лишь
в XIX веке.
23 Гренгуар (или Гренгор), Пьер (ок. 1470—ок. 1539) — француз-
ский драматург, режиссер и актер начала XVI века, автор ряда сатириче-
ских произведений. Гюго вывел его образ в романе «Собор Парижской бого-
матери».
24 Аакруа, Поль (1806—1884), писавший под псевдонимом Библиофил
Жакоб — французский ученый-филолог и издатель, опубликовавший кри-
тические издания большого числа памятников французской литературы, по
преимуществу эпохи Возрождения.
450
XVII. ГЮГО-ВЕЧНО МОЛОДОЙ (ETERNELLE JEUNESSE DE
HUGO).
Первоначально эта статья была напечатана в еженедельнике «Леттр
франсез» 24 апреля 1954 года (№ 513); в книгу вошла с незначительными
сокращениями.
1 Трех, Фернан (1873—1960) — французский поэт и литературовед.
Его поэтическое творчество отмечено сильным влиянием поэтики симво-
лизма.
2 Речь идет о похоронах сына Виктора Гюго — Шарля Гюго (1825 —
1871), французского публициста и литератора, в 1848 году — секретаря
Ламартнна.
XVIII. ВИКТОР ГЮГО —СВЕТ И ТЕНИ (LUMIERE ET OMBRE
SUR VICTOR HUGO).
Эта статья первоначально была напечатана в еженедельнике «Леттр
франсез» 24 февраля 1955 года (№ 557). В книгу включена с небольшими
сокращениями.
1 Аеконт, Клод-Мартен (1817—1871) — французский генерал, рьяный
бонапартист. 18 марта 1871 года пытался вывезти с Монмартра пушки и
был расстрелян перешедшими на сторону рабочих солдатами.
2 Речь идет о перенесении праха Наполеона в Дом Инвалидов в Париже
состоявшемся в 1840 году.
3 Ози, Алиса — актриса парижского театра «Варьете», близкая зна-
комая Виктора Гюго.
4 Дорвалъ, Мари (1798—1849) — французская драматическая актриса,
прославившаяся главным образом исполнением ролей в пьесах драматургов-
романтиков. Одно время была в близких отношениях с Виньи.
5 Аедрю-Роллен, Александр-Огюст (1807—1874) — французский адво-
кат и политический деятель, один из членов временного правительства, соз*
данного во Франции в результате революции 1848 года.
6 Кавенъяк, Луи-Эжен (1802—1857) — французский реакционный по-
литический деятель, принимавший непосредственное участие в подавлении
восстания парижского пролетариата в июне 1848 года. Безуспешно сопер-
ничал с Наполеоном III на президентских выборах того же года.
7 Французский поэт-романтик Альфонс де Аамартин (1790—1869)
в период 1848—1851 годов вел активную политическую деятельность, был
членом временного правительства. Начав как оппозиционер и либерал, в мо-
мент июньских событий 1848 года он пошел на открытый сговор с реак-
ционерами, подавившими восстание народных масс.
8 «Что говорят уста тьмы» — предпоследнее стихотворение из сбор-
ника В. Гюго «Созерцания».
XJX. «ЛОРЕНЦАЧЧО» АПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ (LORENZAC-
СЮ DÉPOLITISÉ). /
Эта статья была первоначально ' напечатана в еженедельнике «Леттр
франсез» 5 марта 1953 года (№ 455). В книгу вошла с незначительными
сокращениями.
1 «Заговор графа Жана-Ауи Фиеско» — первое произведение кар-
динала де Реца (1613—1679), опубликованное в 1665 году.
29*
451
2 А. де Мюссе, Избранные произведения в двух томах, т. 2, M , Гос-
литиздат, 1957, стр. 60.
3 Жанен, Жюль (1804—1874) — французский писатель и литератур-
ный критик, автор нашумевшего в свое время романа «Мертвый осел и
гильотинированная женщина».
4 Ааменне, Фелисите (1782—1854) — французский философ-социолог,
основатель христианского социализма.
Б А. де Мюссе, Избранные произведения в двух томах, т. I, М., Гос-
литиздат, 1957, стр. 511.
6 Там же, стр. 514.
7 Там же, стр. 515.
6 Там же.
9 Там же, стр. 547.
J0 Там же, стр. 470.
11 Там же, стр. 515.
XX. ПОЛИТИКА И РОМАН (LA POLITIQUE ET LE ROMAN).
Эта Статья первоначально была напечатана в журнале «Нувель критик»
в апреле — мае 1949 года (№ 5, стр. 64—72; № 6, стр. 58—65). В жур-
нальном варианте первая часть статьи называлась «Бальзак и романтизм»,
вторая — «Бальзак и реализм».
1 Речь идет о принятом Законодательным собранием 31 мая 1850 года
законе, ограничивающем всеобщее избирательное право введением ценза
оседлости и имущественного ценза.
2 Моле, Ауи~Матъе (1781—1855) — французский политический дея-
тель, премьер-министр при Луи-Филиппе.
3 Барант, Гийом-Проспер (1782—1866) — французский политический
деятель, историк и публицист, автор популярной в свое время работы
«История герцогов Бургундских».
4 Строки из сборника стихотворений Теофиля Готье (1811—1872)
«Эмали и камеи», вышедшего первым изданием в 1852 году.
6 Рамо, Жан-Филипп (1683—1768) — французский композитор, автор
большого числа опер («Кастор и Поллукс» и др.) и музыкальных произ-
ведений других жанров.
6 Же pu ко, Теодор (1791—1824) — французский художник, один из
первых представителей романтического направления в живописи. -
7 Грез, Жан-Батист (1725—1805) — французский художник, предста-
витель сентиментализма в живописи.
6 Давид, Луи (1748—1825) — французский художник, руководитель
движения революционного классицизма во французском искусстве.
9 Премьера драмы Гюго «Эрнани», состоявшаяся во Французском
театре 25 февраля 4830 года, превратилась в откровенную схватку сторон-
ников романтизма с защитниками классицистических канонов. Буквально
каждая реплика пьесы вызывала аплодисменты друзей Гюго и свистки и
шиканье его врагов.
452
10 «Проклятыми поэтами» называли отколовшихся от «Парнаса» сим-
волистов—Поля Верлена (1844—1896), Стефана Малларме ( 1842-*—1898),
Лотреамона (Исидора Дюкасса, 1846—1870), Тристана Корбьера (1845—
1875). Жана Ришпена (1849—1926)г Артюра Рембо (1854—1891). Эта
кличка возникла от названия сборника статей Верлена «Проклятые поэты»,
выпущенного в 1884 году.
11 Гелъдерлин, Фридрих (1770—1843) — немецкий поэт-романтик.
Прожив тяжелую жизнь, полную скитаний, нужды и лишений, Гелъдерлин
потерял рассудок, долгие годы проведя в сумасшедшем доме.
12 Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 11, М., Гос-
литиздат, 1954, стр. 341.
18 Там же, стр. 344—345.
14 Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк и писатель
радикального направления, автор большого числа работ, посвященных раз-
личным периодам истории Франции, в том числе истории французской
буржуазной революции.
15 Балланш, Пьер-Симон (1776—1847) — французский реакционный
публицист и философ-мистик.
16 Речь идет о знаменитой статье Бальзака «Этюд о Бейле», напеча-
танной 25 сентября 1840 года в журнале «Ревю Паризьен».
17 Сандо, Жюль (1811—1883)—^ французский писатель, романист.
18 Жене, Жан (род. 1910) — буржуазный романист и поэт, автор про-
изведений, в искаженном виде описывающих жизнь низов общества.
19 Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, М., Гос-
литиздат, 1956, стр. 255.
20 Робер.Макэр — персонаж знаменитой одноименной комедии, написан-
ной популярным актером Фредериком Леметром в сотрудничестве с дра-
матургами Бенжаменом Антье и Сент-Аманом. Образ Макэра появился уже
в довольно беспомощной мелодраме Антье, Сент-Амана и Полианта «По-
стоялый двор Адре». В пьесе «Робер Макэр», особенно в исполнении Ле-
метра, этот образ беззастенчивого пройдохи получил большое социальное
звучание. Публика того времени не без основания видела в Макэре парал-
лель Луи-Филиппу. Бальзак заинтересовался этим сюжетом и даже пред-
лагал Леметру совместно написать комедию о новых похождениях этого
персонажа. О Робере Макэре было написано несколько романов; Оноре
Домье запечатлел его в блестящей графической серии «Сто один Робер
Макэр».
^2| Г-жа Рекамье, Жюли (1777—1849)—французская аристократка,
хозяйка прославленного парижского салона, где собирались влиятельные
лица и литераторы уже со времени термидорианской реакции.
72 Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ, основатель
так называемой «эклектической школы»; испытал сильное влияние немецкой
идеалистической философии.
23 Вильмен, Абель-Франсуа (1790—1870) — французский литератур-
ный критик и историк; сторонник классицизма, Вильмен тем не менее отно-
сился примирительно к новым литературным направлениям.
24 Карро, Зюльма (1796—1889) — жена артиллерийского офицера,
друг Бальзака.
30 П. Деке 453
25 Предисловие к «Человеческой комедии» датировано июлем 1842 года
и впервые опубликовано в первом издании «Человеческой комедии», , пред-
принятом парижским издательством «Фюрн» во второй половине того же
года.
26 Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 1, М., Гослит-
издат, 1951, стр. 7.
27 Там же.
28 Боналъд, Луи-Габриэль, виконт, де (1753—1840)—французский
реакционный писатель-католик, идеолог режима Реставрации.
29 То есть французская писательница Жермена де Сталь (1766—
1817), дочь министра Людовика XVI — Неккера Ж.
30 Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 1, М., Гослит-
издат, 1951, стр. 11—12.
31 Там же, стр. 12.
32 Там же.
XXI. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ДИККЕНСА (L'APP-
RENTISSAGE DE DICKENS).
В сокращенном виде под названием «Диккенс не умер. Введение к «Мар-
тину Чезлвиту» статья была напечатана в журнале «Нувель критик» в июле
1954 года (№ 57, стр. 188—197). Полностью напечатана в качестве пре-
дисловия к вышедшему в том же году в переводе Анны Виллелор и Пьера
Декса роману Диккенса.
1 Пипле — персонаж из романа Эжена Сю «Парижские тайны» (1842),
тип добродушного бесхитростного парижского консьержа, все время попа-
дающего впросак.
2 «Векфильдский священник» -■— известный роман Оливера Гольд-
смита (1728—1774), вышедший из печати в 1766 году.
3 О'Коннел, Дэниэл (1775—1847)—английский политический дея-
тель, член парламента, по происхождению ирландец. Боролся за свободу
Ирландии.
4 Палъмерстон, Генри (1784—1865) — политический деятель, защит-
ник английского капитализма.
5 «Дьявол во плоти» — первая книга французского писателя Раймона
Радиге (1903—1923), опубликованная в 1923 году.
6 Бенджамин Дизраэли, позднее граф Биконсфильд (1804—1881) —
английский политический деятель и писатель. Его первые произведения,
в том числе и «Контарини Флеминг. Психологическая автобиография», на-
писаны в духе реакционного романтизма.
7 Лили, Джон (1553—1606) — английский писатель эпохи Возрожде-
ния, наиболее значительный представитель аристократического направления
в литературе той эпохи. Его романы «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» и
«Эвфуэс и_ его Англия» повествуют о воспитании истинного джентльмена;
их стиль отличается риторичностью, перегруженностью метафорами и срав-
нениями, обильными ссылками на античных авторов.
8 Помимо ряда драматических произведений, перу Томаса Деккера (см.
прим. 10 к статье третьей) принадлежат прозаические произведения, рисую-
щие картины преступного мира Лондона того времени (например, «Семь
454
смертных грехов Лондона», 1606), а также дающие сатирические зарисовки
различных городских типов («Азбука глупца». 1609 и др.).
9 «Томас из Рединга» — бытсописательный роман Томаса Делонея (см.
прим. 1 к статье XI), вышедший в 1600 году.
10 Беньян, Джон (1628—1688) — английский писатель; его книга
сПуть паломника», вышедшая в 1678 году, в символической и аллегориче-
ской форме изображает путь героя к Граду спасения, бичует нравы англий-
ского общества времен Реставрации.
11 «Аст рея» — пасторальный роман французского писателя Онорв
дЮрфе (1568-1625).
12 «Поль и Виргиния» — сентименталистский роман французского пи-
сателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), напечатанный в 1787 году.
13 Роман Шодерло де Лакло (1741—1803) «Опасные связи» (1782)
написан в эпистолярной форме.
14 Ретиф де ла Бретон (1734—1806) — французский писатель-сен-
тименталист, автор большого числа романов, новелл, драматических произ-
ведений и политических трактатов.
15 В 1778 году депутат английского парламента Джорж Сэвиль
(1726—1784) внес законопроект, предоставляющий католикам равные с про-
тестантами права. В ответ на это лорд Гордон (1751—1793) решил орга-
низовать «Союз протестантов», чтобы вне стен парламента бороться с проек-
том Сэвиля. В день парламентского заседания, рассмотревшего законо-
проект, Гордону удалось поднять восстание лондонской бедноты. Однако
вскоре же от разгрома домов католиков восставшие толпы перешли к раз-
граблению и уничтожению домов крупных буржуа также и протестант-
ского вероисповедачия. Восстание было подавлено.
16 Бальзак, Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 15, М.* Гос-
литиздат, 1956, стр. 269.
17 Гней Мариий Кориолан — древнеримский полководец, живший
в V веке до н. э. Изгнанный из родного города, Кориолан стал на сторону
врагов Рима и пошел на него войной.
18 Кабе, Этьен (1788—1856) — французский писатель и философ, уто-
пический социалист, автор романа-утопии «Путешествие в Икарию».
19 Оуэн, Роберт (1771—1858) — английский утопический социалист ■
общественный деятель.
20 Диккенс. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 9, М., Гослит-
издат, 1958, стр. 151.
21 Там же. стр. 7.
22 Кобден, Ричард (1804—1865) — английский буржуазный полити-
ческий деятель, возглавлял движение фритредеров (сторонников свободы
торговли).
23 Диккенс, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10, М., Гослит-
издат, 1959, стр. 24—25.
24 Речь идет о подготовленной Полем Элюаром «Антологии работ по
искусству», второй том которой'—«Свет и мораль» — вышел в 1953 году.
30*
455
,5 Джилъберт Кейт Честертон (1874—1936) — английский романист и
новеллист, автор большого Числа детективных рассказов и повестей.
Книга «Чарльз Диккенс» (1906)— наиболее удачная из его критических и
историко-литературных работ.
26 Оруэлл, Джордж (псевдоним Эрика Блэра, 1903—1950) — реак-
ционный английский писатель, автор псевдоутопических романов «Зверо-
ферма» . (1946), «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год» (1949)
и др.
СОПОСТАВЛЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ, КУРТУАЗНАЯ ЛЮБОВЬ И АРАБО-
АНДАЛУЗСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (POÉSIE FRANÇAISE, AMOUR
COURTOIS ET CIVILISATION ARABO-ANDALOUSE).
1 Шансон де жест («песни о деяниях») — памятники французского ге-
роического эпоса XI—XIII веков.
2 Менендес Пи даль, Рамон (род. 1869) — выдающийся испанский уче-
ный—филолог и историк, крупнейший специалист по истории средневековой
испанской литературы.
3 Аверроэс (или Ибн-Рошд; 1126—1198) — крупнейший арабский фи-
лософ эпохи Средних веков, последователь Аристотеля. Его сочинения ока-
зали большое влияние на развитие средневековой европейской философии.
4 Жанруа, Альфред (1859—1953) — французский ученый-литературо-
вед, крупнейший специалист по средневековой провансальской культуре.
5 Саб up — наречие, появившееся в результате смешения французского
и провансальского, испанского и каталанского, греческого, итальянского и
арабского языков.
6'Речь идет о борьбе первого короля из династии Капетингов — Гуго
Капета за власть, о многочисленных феодальных междоусобных войнах
и о народных восстаниях, самое крупное из которых — восстание крестьян
в Нормандии — началось в 997 году.
7 Адам де Ла-Аль (ок. 1240—ок. 1288) — французский поэт, ком-
позитор и драматург; родился в Аррасе (отсюда и прозвище — «Аррасский
горбун»). Его «Игра о Робене и Марион» и «Игра в беседке» — первые из
дошедших до нас светских пьес на французском языке.
8 «Сицилийская вечерня» — восстание населения Сицилии, - прежде
всего жителей Палермо, против французов, захвативших во главе с Карлом
Анжуйским в 1268 году Сицилийское королевство. Восстание произошло на
пасху 1282 года.
РАБСТВО И ВЕЛИЧЦЕ НЕМЦЕВ (SERVITUDE ET GRANDEUR
ALLEMANDE).
Эта статья под названием «Рабство и величие» была первоначально
напечатана в специальном номере еженедельника «Леттр франсез» 26 ноября
1953 года (№ 492). В номере, вышедшем под девизом «Немецкая куль-
тура или европейское перевооружение?», были помещены и другие мате-
риалы, посвященные немецкой литературе и искусству.
1 М. Торез, Сын народа, М., ИЛ, 1960, стр. 66.
456
2 Во французских учебных заведениях первым классом называется не
самый младший, а, наоборот, самый старший.
3 Осецкий Карл, фон (1887—1938) — прогрессивный немецкий жур-
налист, борец против войны. Был арестован гитлеровцами в 1933 году,
умер в заключении.
* Политцер, Жорж (1903—1942) — французский философ-коммунист,
герой Сопротивления, расстрелянный фашистами в мае 1942 года.
* Бюхнер, Георг (1813—1837)—немецкий писатель и общественный
деятель, идеолог революционного плебейства, автор реалистических драм,
в которых политическая острота сочеталась с живыми картинами нравов.
ч 6 Фраза ив письма Рюи Блаза к Коррлеве (Гюго, Рюи Блаз, дей-
ствие II, явление 2):
«У ваших ног во тьме томится человек,
Что отдал душу вам и жизнь свою навек.
Неведомый для вас и тайной окруженный.
Страдает земляной червяк, в звезду влюбленный;
И умирает он, поверженный во прах,
Смотря, как ярко вы блестите в небесах».
7 И.-Г. Г ер дер, Избранные сочинения, М., Гослитиздат, 1959,
стр. 65—66.
8 Шамиссо, Адальберт (1781—1838) — немецкий писатель, прогрес-
сивный романтик. Его наиболее известное произведение — фантастическая
повесть «Необычайные приключения Петера Шлемиля».
4 9 Иовалис, Фридрих (псевдоним Гарденберга, 1774—1801) — немец-
кий писатель, один из вождей реакционного течения в немецком роман-
тизме, автор философских аллегорических новелл, стихотворений, романа
«Генрих фон Офтердинген» и др.
10 Тик, Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель, член так назы-
ваемого иенского кружка романтиков, автор в некотором смысле программ-
ного произведения романтизма — романа «Странствование Франца Штерн-
бальда». Писал новеллы; драмы, занимался также историей театра. Был
ревностйым пропагандистом средневековой культуры.
11 Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих (литературный псевдоним — Жан-
Поль; 1763—1825) — немецкий писатель-сатирик, в художественном ме-
тоде которого черты реализма, сочетаются с влиянием сентиментализма.
12 Берне, Людвиг (1786—1837) — немецкий литературный деятель,
театральный критик и публицист. В 20-е годы разоблачал реакцию в Гер-
мании, призывал к объединению страны. К концу жизни увлекся идеями
христианского социализма.
хгГеббель, Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург, автор ряда
исторических пьес («Агнеса Бернауэр», «Гиг и его кольцо»*, «Деметриус»
и др.).
14 Вагнер, Рихард (1813—1883) — великий немецкий композитор и
драматург. В его тетралогию «Кольцо Нибелунгов» входят оперы: «Золото
Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов».
16 Розенберг, Альфред (1893—1946)— один из главарей немецкого
фашизма, его идеолог; рейхслейтер национал-социалистской партии.
16 Роман Иоганна Гриммельсгауэена полностью называется «Назло
Симплицию, или Обстоятельное и диковинное жизнеописание великой об-
манщицы и побродяжки Кураже» (1670?).
457
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
1 Один из первых образцов европейского плутовского романа —
«Жизнь Ласарильо с Тормеса» — написан, по-видимому, в 30-х годах
XVI века, впервые напечатан в 1554 году. Роман, автор которого остался
неизвестен, был очень популярен в эпоху Возрождения, вызвав многочис-
ленные переделки и подражания.
2 «Дон Гусман из Алъфарачеь— один из лучших испанских плутов-
ских романов эпохи Возрождения — написан Матео Алеманом (1547—1614)
в 1599—1604 годах. Переведенный вскоре же на другие европейские языки,
роман повлиял на развитие литературы многих стран, в частности на Грим-
мельсгаузена и Лесажа.
3 Тибоде, Алъбер (1874—1936) — французский литературный критик
и историк литературы либерального направления, специалист по историй
французской литературы XIX и XX веков. ,
РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕТОДЕ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА.
1 «Хроника Паскье» — цикл романов Жоржа Дюамеля (род. 1884),
куда входят следующие произведения: «Нотариус из Гавра» (1933), «Сад
диких зверей» (1934) «Взгляд на обетованную землю» (1934), «Ночь свя-
того Иоанна» (1935), «Бьеврская пустынь» (1935), «Учителя» (1937),
«Сеснль среди нас» (1938), «Битва с тенями» (1938), «Сюзанна и молодые
люди» (1940), «Страсть Жозефа Паскье» (1945).
2 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 480.
3 Работая над романом «Фальшивомонетчики» (1926), Андре Жид
(1869—1951) все черновые материалы, заметки, размышления, записи о
ходе работы над книгой издал в специальном «Дневнике «Фальшивомонет-
чиков».
4 Изданное в 1955 году полное собрание сочинений Роже Мартен дю
Гара (изд. Галлимар) открывалось большой вступительной статьей извест-
ного французского писателя и публициста Альбера Камю (1913—1960).
5 Маньи, Клод-Эдмонд — французский критик, преподавательница
французской литературы в Кембридже, автор работ о Жироду, Рембо, ис-
следования «История французского романа после 1918 года» (1949) и др.
6 Дос Пасос, Джон Родериго (род. 1896) — американский прозаик и
драматург.
7 Роман «Надежда» (1937) Андре Мальро посвящен борьбе испанских
республиканцев, против фашизма.
8 Трехтомный роман представителя французского экзистенциализма
Жана-Поля Сартра (род. 1905) «Дороги свободы» (1945—1949) описывает
трагические события 1938—1940 годов, которые привели Францию к на-
циональной катастрофе.
9 Роман французской писательницы Симоны де Бовуар (род. 1908)
«Мандарины» (1954) посвящен духовным исканиям буржуазной интелли-
генции.
10 Дьен Бьен Фу — французская крепость в Индокитае, ключевая по-
зиция французской обороны, павшая под ударами вьетнамской народно-
освободительной армии летом 1954 года.
458
11 При современных методах ведения войны ее предотвращение ста-
новится насущной потребностью всех народов земного шара, эта задача
может н должна быть решена нашим поколением.
12 Валери, Поль (1871—1945) — известный французский поэт, эссе-
ист и литературный критик, продолжатель стихотворных традиций С. Мал-»
ларме. В произведениях Валери отразились настроения интеллигента, при-
знающего кризис буржуазной цивилизации и ищущего спасения в замк-
нутом мире эстетических переживаний.
13 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 800.
14 Там же, стр. 801. . ф
15 Речь идет о войне Испании (с 1921 года) и Франции (с 1925 года)
против племени рифов в северном Марокко, боровшегося за независимость.
Военные действия французских войск продолжались до 1934 года.
16 Как известно, война Франции с гитлеровской -Германией началась
в 1939 году; на этот год приходится период так называемой «странной
войны» — период полного бездействия на фронтах.
17 Эдип, герой древнегреческой мифологии, получил предсказание
Дельфийского оракула, что он убьет своего отца и женится на собственной
матери.
18 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М„ Гослитиздат, 1957,
ÇTÇL 560.
19 По Эльбе частично проходит граница, разделяющая Федеративную
Республику Германии и Германскую Демократическую Республику. Говоря
о «завоевании» Гитлера, не отнятом у него обратно, П. Деке хочет, по-ви-
димому, сказать, что правящие круги западных стран принимают тезис
фашистской пропаганды о необходимости борьбы «Запада» против «ком-
мунистического Востока» и с этой" целью вооружают преемницу гитлеров-
ской Германии — ФРГ.
20 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М., Гослитиздат, 1957,
^:тр. 564.
21 Там же, стр. 566.
22 Там же, стр. 611—612.
23 Одно из первых испытаний американцами водородной бомбы про-
изошло в районе тихоокеанского атолла Бикини в 1954 году.
24 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 560—561.
25 Речь идет об объединении рабочего класса в борьбе против угрозы
фашизма и о рожденном в этой борьбе правительстве Народного фронта,
куда входили коммунисты, социалисты и радикалы (1936).
2ЬРоже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, M.t Гослитиздат, 1957.
стр. 561.
27 Там же, стр. 564.
28 Там же, стр. 654.
29 Там же, стр. 655*
30 Там же, стр. 654.
31 Там же, стр. 655—656
■? Там же, стр. 566.
459
33 Икор, Роже (род. 1912) — французский романист и литературный
критик. Его книга «Внесем ясность. К революции скромности» вышла в
1957 году.
34 Речь идет об агрессивных действиях Англии, Франции и Израиля
против Египта в 1956 году.
35 Серолъ, Альбер-Клод (род. 1877) — французский реакционный по-
литический деятель, министр юстиции в правительстве Даладье (1940).
36 Аакост, Ровер »(род. 1898) — французский политический деятель,
депутат парламента, министр по делам Алжира в правительствах Ги Молле
Буржес — Монури, Гайара (1953—1958)."
ъ1 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М, Гослитиздат, 1957,
стр. 497—498.
38 Идея «чистой» водородной бомбы состоит в том, что, сохраняя свою
разрушительную Силу, «чистая» бомба не будет давать после взрыва радиа-
ции. Рассуждения зарубежных политиков о «чистой» бомбе призваны об-
мануть народы, не желающие испытать на себе всю разрушительную мощь
современного оружия массового уничтожения.
39 Полковник Фабиан — подпольная кличка Пьера Жоржа (1919—
1944)-, деятеля Французской коммунистической партии, героя Сопротивле-
ния.
40 Роже Мартен дю Гар, Семья Тибо, т. 2, М., Гослитиздат, 1957,
стр. 520-521.
41 Там же, стр. 789.
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же, стр. 789^-790.
45 Бернанос, Жорж (1888—1948) — французский католический писа-
тель и публицист. В его романах «Под солнцем сатаны» (1926), «Радость»
(1929), «Дневник сельского священника» (1936), «Новая история Му-
шетты» (1937), «Господин Уин» (1943) с католических позиций крити-
куется современное буржуазное общество с царящими в нем несправедли-
востью, индивидуализмом, моральной опустошенностью и вместе с тем.
проповедуется пессимизм и мистицизм.
46 «Путешествие на край ночи» — роман реакционного французского пи-
сателя Луи-Фердинанда Селина (1894—1961). В этой книге черты сатиры
на современное буржуазное общество сочетаются с пессимистической
мыслью о безраздельном господстве в нем зла и насилия, о врожденной
порочности человека.
47 Автобиографический роман французского писателя, испанца по про-
исхождению, Мишеля дель Кастильо (род. 1933), вышедший в 1953 году.
Мишель дель Кастильо выпустил также романы «Гитара» (1957) и «Рас-
клейщик афиш» (1958).
48 Слово «пари» Деке употребляет в том смысле, в каком его упо-
треблял Паскаль (см. прим. 4 к статье второй).
49 Расположенные на территории Германии фашистские концентра-
ционные лагеря.
460
50 В 1907 году на юге Франции произошли крупные революционные
выступления крестьян-виноделов. Солдаты направленного против них 17-го
пехотного полка отказались выступить против народа. Так' возникла знаме-
нитая «Песнь о солдатах семнадцатого полка», ставшая одним из популяр-
ных произведений французской революционной рабочей поэзии.
51 Арагон, Собрание сочинений в одиннадцати томах, тк 7, М., Гослит-
издат, 1959, стр. 542.
52 Речь идет об известном эпизоде из романа Стендаля «Пармская
обитель».
63 «Похитители велосипедов» — фильм итальянского режиссера Витто-
рио Де Сика, снятый в 1948 году.
64 Василий II Болгаробойца (976—1025) — византийский император,
завоевавший Болгарию.
59 Комнины — династия византийских императоров, правивших с 1057
по 1059 и с 1081 по 1185 год.
56 «Международное право в избранных отрывках», т. I, изд. ИМО, М.,
1957, стр. 207 ел.
А. Д. Михайлов
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *
Абеляр. Пьер —34. 49. 50—52.
435-436.
Августин— 160.
Аверроэс. или Ибн Рошд — 343,
457.
Авиценна, или Ибн чСина — 126,
440.
«Агнесса Бернауэр» (Геббеля) —
362. 459.
Адам де Ла-Аль —351—352, 457.
Адан, Антуан—14—16, 131, 137,
140, 143-144, 147-148, 150, 154,
160-161. 371.
Аддисон, Джозеф —200, 321, 323,
448.
Аденауэр, Конрад — 356, 366.
«Азбука глупца» (Деккера) — 456.
«Айвенго» (Скотта) — 256.
«Александр Великий» (Ж. Раси-
на)— 160.
Алеман, Матео — 459.
Алкуин — 436.
Аллег, Анри — 4Т)4.
Альфонс 1 — 340.
Альфонс X Мудрый —90.
«Амадис Галльский» — 64, 82, 437.
« А мелия» (Филдинга) — 183— 184,
188-189, 201, 446.
«Американские заметки» (Диккен-
са) -331-333. 335.
«Амис и Амиль» — 47.
Анакреон — 45.
«Английские письма» (Вольтера) —
182.
Андре-Жиллуа, Мориг — 52.
Андре Капеллан— 75, 90, 348,438.
«Андромаха» (Ж. Расина) — 443.
Анисимов, Иван Иванович—13,16.
Анна Австрийская — 143, 146.
Анна Стюарт—194.
Анрио. Эмиль —6. 119, 439.
Антье, Бенжамен — 454.
Аполлинер, Гийом—131, 335, 441.
«Апология жизни мистера Колли
Сиббера, комедианта» (Сиббера) —
210.
Арагон, Луи—10, 24, 100, 118,
189, 249—250, 263, 363, 369, 385,
421, 423, 426, 43«, 447, 462.
«Арден из Февершема» — 237, 449.
«Арденский викарий» (Бальзака) —
242.
Аристотель — 33, 52, 76, 457.
Аристофан — 256.
Арлан, Марсель —98, 101—102,
438.
Арнаут, Даниель — 64.
Арно-отец, Антуан-Венсан — 256,
451.
Арно-сын, Эмильен-Люсьен — 256,
451.
Арош, Шарль — 449.
«Астрея» (д'Юрфе)—130, 321.
456.
Байрон, Джордж-Гордон-Ноэль —
184, 233, 237, 256, 303. 320.
Балланш, Пьер-Симон — 289, 295.
454.
Бальдансперже, Фернан — 242, 450.
Бальзак,. Оноре — 6, 11, 17, 21—22,
28, 94-95, 110. 133. 168. 171. 186,
233, 239. 242—243, 257. 259-
261. 277. 281-299. 321, 323, 329,
334, 336, 363, 369—370,439.453—
456.
* В настоящий указатель не включены имена персонажей художествен-
ных произведений и героев мифологии, а также названия работ современ-
ных критиков и литературоведов.
462
Барант, Гийом-Проспер — 282—453.
Барбье, Огюст — 289
Барбьери, Никколо—148, 443.
Барбюс, Анри — 168,
«Барнеби Радж» (Диккенса) — 302,
308, 316, 325—328
Барроу, Джон — 307.
Барроу, Чарльз — 302—303.
Бати Гастон — 439.
Бах, Иоганн Себастьян — 285, 355.
Бегэн, ^ьбер—138, 442.
«Бедный Генрих» (Гартмана фон
Ауэ) —78.
Бедье, Жозеф-Шарль-Мари — 436.
Бейль, Анри — см. Стендаль, Фре-
дерик.
Бейль, Пьер — 220, 445, 448.
Бельмер, Жиль — 437.
«Белый дьявол» (Уэбстера) — 238.
Бен Джонсон — см. Джонсон Бенд-
жамин.
Бено, Ив — 446.
Бенуа де Сент-Мор — 54, 92.
Беньян, Джон — 321, 456.
Бержерак — см. Сирано де Берже-
рак.
Берлиоз, Гектор — 285.
Бернавиль, Шарль Ле Фурньер —
168.
Бернанос, Жорж — 419, 461.
Бернар Клервоский — 435.
Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Ан-
ри - 456.
Бернарт де Вентадорн — 43, 64, 67,
74, 437.
Берне, Людвиг — 362, 458.
Берни. Жоашен-Пьер—178.
Берто, Жюль—165.
Бертран де Борн — 74, 437.
Беррийская герцогиня — см. Мария-
Луиза-Елизавета, герцогиня Беррий-
ская.
Беруль —54, 67, 437,
«Беседы по понедельникам» (Сент-
Бева) — 5.
Бестерман, Теодор— 16, 164, 167—
169. 171-172,
Бетховен, Людвиг ван — 285, 353.
Биар, Леони — 264—265.
Библиофил Жакоб — см. Лакруа,
Поль.
Биднелл, Мария — 308, 315.
Бийи, Андре — 292.
Бисмарк, Отто — 357, 362, 366.
«Битва с тенями» (Дюамеля) — 459.
«Бледнолицая Джен» — см. «Ванн
Клор, или Бледнолицая Джен».
-Блейбтрой, Карл—121.
«Блеск и нищета куртизанок» (Баль-
зака)— 186.
Блок, JMapK — 60.
Бовуар, Симона де — 385, 460.
Бодуэн I — 50.
Боккаччо, Джованни — 28—29, 105,
112, 435. 439.
Бокмар, Катерина — см. Гю, Кате-
рина.
Бокмар, Катерина (мать Катерины
Гю)-133.
Болингброк, Генри — 186.
«Большая Хроника» (Шатлена) —
451.
«Большие ожидания» (Диккенса) —
302.
Бомарше, Пьер-Огюстен Карон —
361.
Бомонт, Френсис—123, 440.
Бональд, Луи-Габриэль — 297—298,
455.
Борн, Бертран — см. Бертран де
Борн.
Бочаров, Сергей Георгиевич — 23.
«Брак поневоле» (Мольера)—128.
«Брачный контракт» (Бальзака) —
133.
Брехт, Бертольт — 174, 190, 447.
Бриффо, Робер — 347.
Бросс, Шарль де —241, 449.
«Брут» (Вольтера)—177.
Брэ, Рене-14, 139-142.
Брюн, Шарль— 178.
Брюнамель — см. Рас де Брюнамель.
Брюнетьер, Фердинанд — 6, 159,
444.
Буало-Депрео, Никола—15, 137,
146, 161—163, 446.
Буало, Жак—176, 446.
Буаробер, Франсуа Ле Метель —
150, 154, 444.
«Будденброки» (Т. Манна) — 373.
Буйе, Жан — 173.
Бульонская герцогиня — см. Манчи-
ни, Мария-Анна.
«Бурграфы» (Гюго) — 358.
Буржес-Монури, Морис — 461.
«Буржуазный роман» (Фюретье-
ра) — '130, 134, 160, 199, 220. 321.
«Буря» (Шекспира) — 42.
Буур, Доминик—163, 445.
«Бьеврскся пустынь» (Дюамеля) —
459.
Бэйло, Жан-Феликс—171, 178,445.
Бэкон, Фрэнсис 121.
Бюде, Гильом— 124, 440.
463
Бюсси, граф — см, Сельс де Рабю-
тен, Мишель, граф де Бюсси.
Бюсси-Рабютен, Роже—161, 445.
Бюхнер, Георг —9, 356—357, 458.
Вагнер, Рихард —84, 363, 459.
Вакери, Огюст —269, 273.
Валенкур, Жак-Анри— 164, 445.
Валери, Поль —24—25, 387—388,
391—392, 413, 460.
«Валленштейн» (Шиллера) — 361.
Валлес, Жюль — 244, 287.
«Валькирия» (Вагнера) — 459.
Вальяда — 347.
«Ванн Клор, или Бледнолицая
Джен» (Бальзака) — 257, 288, 323.
Варки, Бенедетто — 275.
Вас, Роберт —29, 32, 92—93.
Василий II —430, 462.
«Вдова, или Наказанный предатель»
(П. Корнеля) — 443.
Вебер, Анри— 10.
Вебер, Карл-Мария — 285.
Веерт, Георг — 9.
Вейо, Луи—125, 440.
«Век Людовика XIV» (Вольтера) —
176.
«Векфильдский священник» (Голд-
смита)— 304, 455.
Веллингтон, Артур — 310.
Вельдеке, Генрих — см. Генрих фон
Вельдеке.
Вентадорн, Бернарт де — см. Бер-
нарт де Вентадорн.
Вер, Эдвард, граф Оксфорд—122.
Вергилий, Марон, Публий — 34, 38,
53, 89. 256.
Берлен, Поль — 454.
«Вертер» (Гете) — см. «Страдания
молодого Вертера».
«Взгляд на обетованную землю»
(Дюамеля) — 459.
Вигру, Поль —447.
«Виденное» (Гюго) — 266, 268—
270, 274.
Видок, Франсуа-Эжен—179, 446.
Визе — см. Донно де Визе, Жан.
Вийон — см. Вильон, Франсуа.
Вийото. Рене—190, 193.
Виктория — 303—304.
Вилар, Жан—137, 247.
Вилардуэн, Жоффруа — 32.
Вилкокс, П.— 211.
Виллар, Клод — 257, 452.
Виллелор, Анна —5, 237, 446, 455.
Вильгельм III Оранский—185,209,
448.
«Вильгельм Мейстер» (Гете) — 256.
«Вильгельм Телль» (Шиллера) —
361.
Вильмен, Абель-Франсуа — 295,
455.
Вильнев, Ролан — 258.
Вильон, Франсуа—118, 439.
«Вильям Шекспир» (Гюго)—179—
180.
Виньи, Альфред де— 11, 242—243,
269, 282, 289, 450, 452.
Вио, Теофиль де—131, 144, 146,
441. f
Виоллис, Андре — 407.
«Влюбленный доктор» (Мольера) —
139,
«Возмездия» (Гюго) — 263, 266,
272.
«Возмутительная книга»—15,
143-144, 146, 155-156.
«Воинская песнь для немцев»
(Клейста) — 249.
«Война и мир» (Толстого) — 379.
Вокансон, Жак — 229.
Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ — 16,
159, 164-165. 167—183. 188,
223-224, 256, 285, 322, 359, 361,
370.
«Воспитание чувств» (Флобера) —
233. 283.
«Воспоминания» (Аесенсра) — 447.
«Восточные мотивы» (Гюго) — 264.
Вуатюр, Венсан—135, 442.
Вюрмсер, Андре — 290.
Гайар, Феликс — 461.
«Галантные и комические новеллы»
(Доно де Визе)—147.
«Галерея суда, или Подруга-сопер*
ница» (П. Корнеля) — 443.
Гамбетта, Леон— 125, 440.
«Ган Исландец» (Гюго) — 242.
Ганская, Эвелина — 281, 288,
296.
«Гаргантюа и Пантагрюель» (Раб*
ле) — 364, 439.
Гарденберг, Карл-Август — 251—
252.
Гарибальди, Джузеппе — 266. >
Гаркнесс, Маргарет — 284.
Гароди, Роже—10.
Гартман фон Ауэ — 67, 78—79,
437.
Гассенди, Пьер—127, Т43, 441.
«Гвидоний» (Грина)—199, 448.
Геббель, Фридрих — 362—363, 459.
Гегель, Фридрих — 283, 353
464
Гей. Джон-7. 20, 174, 181, 183.
190—197. 219. 237-238, 447.
Гейне, Генрих —9. 355. 357, 362.
Гейнеборо, Томас — 183.
Гельдерлин, Фридрих — 286. 360,
454. *
Гемар. Жоффруа — 92.
«Генриада» (Вольтера)— 164. 175—
176. 178.
Генрих I, граф Шампанский — 74.
Генрих II Плантагенет— 50.
Генрих III—451.
Генрих IV-449. 451.
Генрих фон Вельдеке — 37.
«Генрих III и его двор» (Дюма-от-
ца)— 257.
«Генрих фон Офтердинген» (Новали-
са) _ 458.
Георг III-315.
«Гептамерон» (Маргариты Наварр-
ской) — 110, 439-440.
«Геракл» (П. Корнеля) — 442.
Гердер, Иоганн Готфрид — 359—
362. 365. 458.
«Германова битва» (Клейста) —
248-250. 253.
Герней — 307.
«Героиды» (Овидия) — 90.
«Гесперус» (Рихтера) — 362.
Гете. Вольфганг — 9. 256—257, 285,
288, 353-355, 357, 361-362, 365.
«Гиг и его кольцо» (Геббеля) —
459.
Гизо, Франсуа — 357.
Гийевик, Эжен—137, 442.
Гиймен, Анри—17, 263—265,
267-268, 270, 282.
Гильом IX-47, 63, 74, 339-341,
344-346, 348, 350.
Гильом де Лоррис — 438.
«Гимн рождеству» (Диккенса) —
333.
Гиппократ — 33.
«Гитара» (Кастильо) — 462.
Гитри, Саша-13, 135-136, 138,
442.
Ги Юсель —77.
«Гобсек» (Бальзака) — 290.
Гоголь, Николай Васильевич — 363.
«Годы презрения» (Мальро) — 436.
Годвин, Мэри — см. Шелли, Мэри.
Голль, Шарль де — 436. 442.
Голсуорси, Джон — 373.
Гольбейн. Ганс — 364.
Гольдони. Карло — 307.
Голдсмит, Оливер — 455.
Голэа — 284.
Гомер —41, 53, 200, 256, 261, 340,
350.
Гор, Кэтрин — 320.
«Гораций» (П. Корнеля) — 442.
Гордон, Джордж — 325, 456.
«Гормон и Изембар» — 92.
Горький, Алексей Максимович —
287. 370.
«Господин де Пурсоньяк» (Молье-
ра)—Ш.
«Господин Уин» (Бернаноса) — 461.
«Господину XXX после отвоевания
города Корби у испанцев армией
короля» (Вуатюра)—135.
Госслен, Шарль — 288.
Готфрид Бульонский — 50, 436.
Готье д'Аррас — 54, 437.
Графиньи, Франсуаза—178.
«Графиня д'Эскарбанья» (Молье-
ра)—U7.
«Граф Монте-Кристо» (Дюма-от-
ца) -258-259. 261.
Грег. Фернан—17. 263, 452.
«Грегориус» (Гартмана фон АуэУ-*
78.
Грез, Жан-Батист — 285, 454.
Гренгуар, Пьер — 258; 452.
Гренье — 222. ч
Григорий IX — 104.
Гримм, Мельхиор-Фридрих — 226.
Гриммельсгаузен, Ганс — 9, 364, 369,
459.
Грин, Роберт—199, 448.
Грифиус, Андреас —г 9.
«Грозный год» (Гюго) — 267.
Гроклод, Пьер-Поль— 160—162.
Гроссман, Василий Семенович —
412.
Гуго Капет — 457.
«Гуливер» — см. «Путешествие Гул-
ливера».
Гутенберг, Иоганн — 353.
Гю, Катерина.— 133.
Гю, Шарль— 133.
Гюго, Адель — 264.
Гюго, Виктор—10—11. 13. 17,
148-149, 168-171, 178-180,
241—242, 244. 249. 256-258.
263-274, 281. 285-286. 289. 292.
295. 303, 357-358, 452, 454, 458.
Гюго, Жанна — 264.
Гюго, Шарль —267, 452.
Гюйон. Бернар—17, 22, 290. 296.
Давид, Луи — 285, 454.
Даву, Луи-Никола — 252.
Дакр, леди — 320.
465
Даладье, Эдуард —461.
Д'Альбер—172.
Дамандель, Перинетта—104.
Данте, Алигьери — 256—257, 371.
«Дафнис и Хлоя» (Лонга) — 28,45.
435.
«Две мечты» (Бальзака) — 287, 290.
Дебрэй, Сесиль—170.
Де Голль, Шарль — см. Голль,
Шарль де.
«Декамерон» (Боккаччо) — 29, 105,
109, 435. 439.
Деккер, Томас—123, 321, 440,
456.
Декур, Жак (Даниэль - Декурде-
манш) —354-355.
Делакруа, Эжен — 285.
Деламарр, госпожа — 227—228,
230.
Деламарр, Клод — 227, 229.
Деламарр, Маргарита — 227—230.
Делеклюз, Этьен — 241, 450.
Делоней, Томас—199, 237, 447,
456.
Делор, Жозеф— 172.
Дельферьер, Андре— 190.
«Деметриус» (Геббеля ) — 459.
«День Чести и Доблести» (Ла Са-
ля)—ЮЗ.
Деперье, Бонавентура—127, 440.
Дерби, граф — см. Стенли, Вильям.
Де Сика, Витторио — 462.
Дефо, Даниэль—174, 181, 183—
184, 186, 188, 201, 202, 207, 221,
223, 238, 322, 368.
Дешан, Эсташ —93. 105, 437.
«Деяния и речи» (Гюго) — 266—
267.
«Джек из Ньюбери» (Делонея) —
199. 237.
Джиллард — 209.
«Джозеф Эндрус» — см, «Приклю-
чения Джозефа Эндруса».
«Джонатан Уайльд Великий» — см.
«Жизнеописания Джонатана Уайль-
да Великого».
Джонс — 306—3Ô7.
Джонсон, Бенджамин— 123, 440.
Джонсон, Сэмюэль—196, 447.
Ди, графиня — 43.
Дидро, Дени—17, 148, 159, 166.
179. 182—183, 204—206, 223-
231, 294, 322, 361, 449.
Дизраэли, Бенджамин — 320, 333,
456.
Диккенс, Генри■— 306.
Диккенс, Джон — 302—307.
Диккенс, Кэтрин —302, 315—316.
320, 332,
Диккенс, Чарльз —5—6, 22, 183,
197, 199, 219, 236-237, 239, 244,
259—261, 300—337, 364, 368-369,
455. 457. ф
Диккенс, Чарльз (сын писателя) —
308.
Диккенс, Элизабет — 302—306.
Диккенс, Элизабет (Фанни) — 303,
305. 308.
«Дневник» (Гюго) — 268—269, 271,
274.
«Дневник сельского священника»
(Бернаноса) — 461.
«Дневник «Фальшивомонетчиков*
(Жиде) —378, 459.
Д'Обиньи, Агриппа —221, 444.
«Домби и сын» (Диккенса) — 320.
Домье, Оноре -*- 455.
«Дон Гусман из Альфараче» (Але-
мана) — 370, 459.
«Дон Жуан» (Байрона) — 304.
«Дон Жуан» (Мольера)—143,
145—146, 158.
«Дон Иафет Армянский» (Скарро-
на) — 443.
«Дон Карлос» (Шиллера) — 362.
«Дон Кихот» (Сервантеса) — 64,98,
204, 304, 324.
«Дон Кихот в Англии» (Филдин-
га) — 200.
Донно де Визе, Жан — 147, 443.
Дорваль, Мари — 269, 452.
«Дороги свободы» (Сартра) — 460.
Дос Пасос, Джон-Родериго — 384,
459. . ж -
Достоевский, Федор Михайлович —
419. 421.
Дрейфус, Альфред — 383—384.
Друэ, Жюльетта — 263, 265.
«Дунсиада» (Попа) — 209.
«Дух законов» (Монтескье)—186.
«Дьявол во плоти» (Радиге) — 318,
456.
«Дэвид Копперфильд» (Диккен-
са)— 302, 306—308.
Дэдли, Лорд — 310.
Дюамель, Жорж — 23, 373, 376,
459.
Дюамель, Марсель — 234, 449.
Дювиньо, Жан—142.
Дюкло, Жак—178.
Дюллен, Шарль — 442.
Дюма-отец, Александр — 6, 11, 20,
25, 241. 243, 255-262, 269. 450.
Дюма-сын, Александр — 269.
466
Дю Пен, Тома— 133—134.
Дюрер, Альбрехт — 353, 364.
Дюринг, Евгений — 204, 353.
Д'Юрфе, Оноре —456.
Дюссан, Беатриса—140, 142.
«Евгения Гранде» (Бальзака) —
292.
Евнина Елена Марковна—13.
«Ежедневные мемуары» (Этуаля) —
451.
Екатерина II — 165.
«Екатерина де Медичи» (Бальза-
ка)— 287.
Екатерина Медичи — 287.
Елена Макленбургская — 358.
Елизавета-122. 123, 312, 439.
«Если бы мне рассказали о Верса-
ле» (Гитри)—135—136.
«Жак-фаталист» (Дидро)—166,
225, 322.
«Жан Бару а» (Мартен дю Гара)—~
322, 383, 385.
Жан д'Анжу-101, 103.
Жан де Мэн — 93, 438.
Жанен, Жюль — 277, 291, 453.
«Жан Кристоф» (Роллана) — 357,
379, 423—424, 426.
Жанна д'Арк—115.417, 258, 371,
451.
Жан-Поль — см. Рихтер.
Жанруа, Альфред —344, 457.
«Жан Сбогар» (Нодье) — 256.
«Жена маршала дАнкр» (Виньи) —
269.
Жене, Жан-293, 454.
«Женитьба Фигаро» (Бомарше) —
361.
Жерико, Теодор — 295, 454.
«Жерминаль» (Золя) — 244.
«Жеста о Бретонцах» (Васа) — 92.
«Жеста о Нормандцах» (Васа) —
92-93.
Жид, Андре-23, 218, 382-383,
385, 459.
«Жизнеописание Джонатана Уайльда
Великого» (Филдинга) — 20, 182,
184, 186. 189, 201.
«Жизнеописания полковника Джека»
(Дефо)— 184.
«Жизнеописания преступников» (Де-
фо)—"{Si. 238.
«Жизнь и приключения Мартина
Чезлвита» (Диккенса) — 22, 219,
300—302, 316—317, 319-320, 325.
332-335. 455.
«Жизнь и приключения Николаса
Никльби» (Диккенса)—22, J01—
302, 316, 319—320.
«Жизнь Аасарильо с Тормеса» —
371, 459.
«Жизнь Марианны» (Мариво) —
219.
«Жизнь поэтов» (Джонсона)— 196,
447.
Жиллуа, Андре — см. Андре-Жил-
луа, Морис.
Жилль де Рэ — см. Рэ, Жилль де
Лаваль.
«Жиль Блаз» (Аесажа) — 304, 322,
324.
Жильсон, Этьен-Анри — 51, 436.
Жирарден, Дельфина — 272.
Жироду, Жан — 443, 459.
«Житие святого Аеогардия» — 92.
Жодле-140, 442.
Жорес, Жан —390. 394, 418, 424.
427-428.
«Жорж Данден» (Мольера) — 147.
Жорж Санд — см. Санд, -Жорж.
Жоссеран, Пьер — 255.
Жуанвиль, Жан — 32, 257, 451.
Жуан 1-103. -
Жуве, Луи-141-142, 442-443.
Жуй (Виктор-Жозеф Этьен) — 256,
451.
Жювеналь дез Юрсен, Жан — 257,
451.
«Жюстина» (Сада) — 233, 449.
«Заговор в 1537 году» (Санд) —
275.
«Заговор графа Фиеско» (Реца) —
275. 453.
«Заговор Фиеско» (Шиллера) —
275.
«Законы Миноса» (Вольтера) —
164.
«Зал» (Аа Саля)— 98, 103—104,
110.
«Замок Отранто» (Уолпола) —
233—235, 237—238, 241, 323.
«Записки о народной нищете»
(Ж, Расина)—163.
«Записки знатного человека, удалив'
шегося от света» (Прево) — 222—
223.
«Записки о чумном годе» (Дефо) —
174.
«3 ее ро форма» (Оруэлла) — 457*
Зегерс, Анна—365.
Зенге, Вильгельмина фон — 250«
«Зигфрид» (Вагнера).
467
«3» Маркас» (Бальзака)-г-287,291.
«Знаменитые француженки» (Шал»
ля) — 220.
«Золото Рейна» (Вагнера) — 459.
Золя, Эмиль—171, 287, 376.
Зюмтоо. Поль — 30.
Ибь Бассам — 343.
Ибн Дарах —347.
Ибн Зейдун — 348.
Ибн Куэма»—343—344.
Ибн Рошд — см. Аверроэс.
Ибн Сина — см. Авиценна.
Ибн Хазм — 348.
«Ивейн» (Гартмана фон Ауэ)— 78.
«Ивен, или Рыцарь льва» (Кретье-
на де Труа)— 19, 31, 70, 86, 88,
94.
«Игра в беседке» (Адама де Ла-
Аля) — 457.
«Игра об Адаме» — 92.
«Игра о Робене и Марион» (Адама
де Ла-Лля) —351, 457.
«Игра о сёятом Николае» — 92.
«Извинения к Аристу» (П, Корне-
ля)—133. 441.
«Изнанка современной истории»
(Бальзака) — 287.
Икор, Роже— 398-399, 402—406,
411,-461.
«Илиада» (Гомера) — 201.
«Индиана» (Санд) — 290.
Иннокентий III — 33, 52, 435.
«Ираклий» (Готье д'Арраса) — 437.
«Искусство любви» (Андре-Жил-
луа) — 52.
«Искусство любви» (Овидия) — 90.
«Исповедь» (Жанена) — 277, 281.
«Исповедь сына века» (Мюссе) —
21, 276, 278, 297.
«Исправительная колония» (Мар-
тен дю Г ара) — 376, 378.
«Исторический и критический сло-
варь» (Бейля) — 445, 448.
«Исторический календарь на 1736
год» (Филдинга)— 209.
«История англичан» (Гемара) — 92.
«История Богемского короля» (Но-
дье) — 277v291.
«История герцогов бургундских»
(Баранта) — 453.
«История Грааля» (Роберта де Бо-
рона) — 82.
«История доктора Фауста» — 365,
371.
«История жизни и сочинений Ла-
фотена» (Марэ) — 445.
«История Кливленда, Незаконного
сына Кромвеля» (ПреаЪ) 222,
224. 449. :
«История королей Британии,» (Мон-
мута)— 29.
«История Моих бедствий» (Абеля-
ра) ^436.
«История современной гречанки»
(Прево) — 446.
«История тюремных заключений
философов» (Делора)— 172.
«Ифигения» (Леклерка и Кора) —
161.
«Ифигения» (Ж. Расина)—160.
«Июньское солнцестояние» (Монтер-
лана) — 136.
Кабэ. Этьен — 330, 457.
Кавеньяк, Луи-Эжен— 273, 453.
Кальвин, Жан — 287.
Камю, Альбер —24, 382, 422—423,
425. 459. ^
Кан, Робер-14, 145, 164, 190.
193, 443.
«Кандид» (Вольтера) — 448.
Капеллан, Андре — см. Андре Ка-
пеллан.
Карденаль — см. Пейре Карденаль.
Карл Анжуйский — 351, 458.
Карл I Великий — 51, 436.
Карл VI-103. 105.
Карл Х-242, 276, 286.
Карл Смелый — 97.
Карл 1 — 200.
Карлейль, Томас — 237, 327—328,
332, 335, 449.
Карро. Зюльма — 297, 455.
Кастильо, Мишель дель — 420—
421. 462.
«Кастор и Поллукс» (Рамо) — 454.
«Катехизис для немцев» (Клей-
ста) — 249.
«Католический священник» (Баль-
зака)— 296.
Kay ли, Авраам — 447.
Киллен, Алиса — 240, 242.
«Киллеринский настоятель» (Пре-
во)— 449.
«Кимвал мира» (Дюперье) — 440.
Кино, Филипп—150, 154, 444.
Ките, Джон — 320.
«Кларисса Гарлоу» (Ричардсона) —
11, 20, 204—205, 220, 235.
Клейст, Генрих фон — 8, 247—254,
285, 356-357, 360, 450.
Клейст. Ульрика — 250.
Клеман, Ален — 356.
463
Клемент VII— 104.
«Кливленд» — см. «История Клив-
ленда, незаконного сына Кромвеля»
(Прево).
«Клижес» (Кретьена де Тpua) —
19, 56. 67. 69. 70^-74.
Клодель, Поль — 443.
Клопшток. Фридрих — 361.
Клуар, Анри —255—261.
Клузо, Анри—123, 440.
«Книга правил поведения» (Этьена
де Фужера) — 92.
Кобден, Ричард —333, 457.
«Коварство и любовь» (Шиллера) —
361-362.
Кол ар до, Шарль-Пьер — 256, 451.
Кольбер, Жан-Батист—15, 143—
144. 146. 155. 443.
Колридж, Самуэль-Тейлор—184,
447.
«Кольцо Нибелингов» (Вагнера) —
361, 459.
«Комический роман» (Скаррона) —
130, 147, 157. 199. 220, 321.
«Комментарии» (Монлюка) —451.
«Коммунисты» (А рагона) — 385.
423-425.
Конде, Луи — 446.
«Контарини Флеминг» (Дизраэ-
ли) — 320. 456.
Конти, Луи-Франсуа — 222.
Коньо, Жорж—170, 445.
Копо, Жак-Руже — 442.
Кора, Жак-161, 444.
Корбьер, Тристан — 454.
Корделье, Жан—157.
Кориолан, Гней Марций — 330,
456.
Корнель, Пьер—13—14, 19, 130,
132—135. 139. 141, 143, 145-146,.
149—150, 364, 441—444.
Корнель, Тома — 154, 444.
«Королевская дорога» (Мадъро) —
436.
«Королевская площадь» (П. Корне-
ля) —443—444.
Кот, Пьер —404.
Коэн, Гюстав—17. 30—31, 37, 54.
74-75. 86, 93-95, 109-110.
351—352. 371. 435.
Кранах. Лукас—355. 364.
«Красное и черное» (Стендаля) —
219. 277. 289, 291. 369.
«Краткая история Пор-Рояля» (Ра-
сина и Буало)—163.
«Крестьянин, вышедший в люди»
(Мариво)-Ш, 216—217, 443.
Кретьен де Труа — 5, 6. 19, 27—
96, 99, 115, 369. 371, 435, 437.
«Кризис духа» (Валери) — 385—
386. 390.
«Кризолита» (Марешаля)—131,
441.
«Критика «Школы жен» (Молье-
ра)- 153.
«Критические этюды» (Брюнетье-
ра) -5.
«Кровь и золото» (Политиера) —
356.
Кромвель, Оливер — 449.
Круамар, Марк-Антуан-Никола —
225-227, 229.
Кузен, Виктор — 295, 455.
Купер, Фенимор — 256.
Курбэ, Гюстав —267, 283, 299.
Кутон, Жорж—14. 132—136.
Лабарр, Жан-Франсуа— 164.
Лабрюйер, Жан—145, 220.
Лавальер, Луиза — 143, 443.
«Лавка древностей» (Диккенса) —
302, 316, 319.
Ла-Кальпренед, Готье де Кост —
148. 443.
Лакло, Пьер Шодерло де— 186,
456.
Лакост, Робер — 402, 461.
Лакруа, Поль (Библиофил Жакоб) —
261: 452.
Ламартин, Альфонс — 125—126,
256. 273. 289, 293. 452-453.
Ламенне. Фелисите — 277. 289. 295,
453.
Ламерт — 303.
«Ааммермурская невеста» (Скот-
та) — 304.
Ламот-ле-Вайе, Франсуа—143.443.
Ла Мотт-Фуке, Фридрих — см. Фу-
ке, Фридрих де ла Мотт.
«Ланселот, или Рыцарь телеги»
(Кретьена де Труа) — 3], 70. 73,
75, 81-82, 84.
Лансон, Гюстав—159, 162, 444.
Ларусс, Пьер — 28.
Ла Саль, Антуан де — 6, 29, 97—
118, 369—370, 435, 437—438.
Ла Саль, Бернар де—104—105,
117.
«Ласарильо с Тормеса» — см.
«Жизнь Ласарильо с Тормеса».
Ласенер, Пьер Франсуа — 186,
447.
Лассань—256—257.
Латуш, Анри — 256«
31 П. Д.кс
469
Лафайет, Мария-Мадлена де—130,
158. 257, 438, 452.
Лафонтен, Жан — 443, 445.
Левайан, Морис—13, 271—273.
«Легенды веков» (Гюго) — 358.
Ледрю-Роллен, Александр-Огюст —
272, 452.
Лейбниц, Готфрид-Вильгельм — 448.
Леклерк, Мишель— 161, 444.
Леконт, Клод-Мартен — 268, 452.
Лекуврер, Адриенна—173, 177,
446.
Лемерсье, Непомюсен — 256, 451.
Леметр, Фредерик — 454—455.
Ленин, Владимир Ильич — 283, 399,
427.
«Леоне и Лена» (Бюхнера)—455.
Ле Пти. Клод—15, 144.
Лесаж, Ален-Рене — 20, 186, 193.
195, 199, 201, 224, 369. 459.
Лессинг, Готфрид-Эфраим — 9, 353,
360-362.
«Лето 1914 года» (Мартен дю Га-
Ра) _ 376—377, 380—385, 388—
389, 391, 397, 401, 418-420, 423,
426, 428.
Лефевр, Эрнест — 269.
Лефран, Абель—119—123, 125—
126. 439.
«Лжей» (П. Корнеля) — 442.
Либкнехт, Карл — 427.
Ликург— 165.
Лили, Джон— 321, 456.
Лилиенштерн, Рюле фон — 248.
«Лилия в долине» (Бальзака) —
233.
Лилло. Джордж — 219, 448.
Линдсей, Джек — 302—309, 311,
314. 325.
«Литературная переписка» (Дидро и
Гримма) — 226.
«Литературная почта» (Анрио) — 6.
Литльтон, Джордж — 447.
Литтре, Эмиль —27—30, 171. 435.
Лич, Джон — 333.
Ловетт. Уильям — 326.
Логау, Фридрих — 9.
«Ложная Селия» . (Сюблинъи) —
147.
Лонг-45. 435.
Лондр, Альбер — 407.
«Лондонский купец» (Лилло) —
219. 448.
«Лоренцаччо» (Мюссе)—11, 21,
275-280. 453.
Лоррис, Гильом де — см. Гильом де
Лоррис.
Лот, Жорж — 92, 346.
Лотреамон (Исидор Дюкас) — 454*
Лоу, Джон— 196, 222. 227. 447.
Лоунсдейэл — 309.
Луй-Филипп —256—257, 295, 455.
Лурей, Томас — 121.
Льюис, Метью-Грегори — 234, 242,
244, 246, 323.
«Любовная досада» (Мольера) —
139-140.
«Любовная историк галлов» (Бюс-
си-Рабютена) — 445.
«Любовные элегии* (Овидия) —
90-91.
«Люди доброй воли» (Ромена) —
439.
Людовик VII —50, 64, 74.
Людовик IX — 451.
Людовик XI — 97. 105.
Людовик XIII-443. 449.
Людовик XIV-163-164.176.221.
252—253, 443—445.
Людовик XV—168, 173, 187, 445.
Людовик XVI-445. 455.
Людовик III д'Анжу — 102—103.
Людовик Люксембургский — 97.
«Люсьен Левен» (Стендаля)—187,
244.
Лютер. Мартин — 287, 364.
«Мадемуазель де Ла Сеглиер» (Сан-
до) -451.
«Мадлен» (Сандо) — 451.
Маэарнни, Джулио — 439.
Маккиавелли, Никколо — 427.
Маккарти—180, 446.
Мак-Сеннет (Майкл Синотт)— 141.
Макферсон, Джемс — 241, 323, 450.
Макэ, Огюст — 261.
«Маленький Жан де Сентре» (Ла
Саля) —6, 29, 97-103, 110-118,
126, 199, 370. 435.
Малларме, Стефан — 454, 460.
«Малое завещание» (Вильона) —
118, 439.
Мальро, Андре—15, 24—25, 35,
37, 46, 136-139, 164, 385, 392-
394. 400. 402—404. 411, 413, 419,
431, 436. 442. 460.
Мальтус, Томас Роберт — 313.
«Мандарины» (Бовуар)— 385—460.
Манн, Томас — 355, 376.
«Манон Леско» (Прево) — 20, 186,
219-221, 223-224, 322.
Манчини. Мария-Анна — 446.
Манчини. Филипп-Жюльен—174,
446.
470
Маньи, Клод-Эдмонд — 24, 383—
387, 419—421. 423, 459.
Мао Две-дун — 410.
Маргарита Анжуйская — 103.
Маргарита Наваррская — 110,
439-440.
Марешаль, Антуан-Андре—131,
441.
Мари, Андре—167, 172, 445.
Мариво, Пьер Карле де Шамб-
Лен—199, 201, 216, 219, 224, 369,
437-438. 443, 448.
«Марион Делорм» (Гюго) — 270.
Мария Анжуйская — 104.
Мария-Луиза-Елизавета, герцогиня
Беррийская — 229.
Мария Медичи — 221 449.
Мария Французская — 92.
Мария Шампанская — 73—76, 81,
85.
Марко Поло — см. Поло, Марко.
Маркс, Карл-9, 44-45, 66, 166,
185—186, 188. 239, 260, 283, 289,
295, 303. 310. 314. 328, 353. 357,
359, 362, 364. 412.
Марло, Кристофер—123, 237,
440.
Марок. Клемаи — 440.
Марс, м-ль (Анна-Франсуаза Бу-
те) - 256, 451.
Мартен дю Гар, Роже — 23, 26, 322,
375-431. 459-461.
«Мартин Чезлвит» — см. «Жизнь и
приключения Мартина Чезлвита»
(Диккенса).
«Мартовское равноденствие» (Мон-
терлана) — 136.
Марэ, Матье—173. 445.
«Мастерство» (Гюго) — 264.
«Мать — кокетка» (Кино ) — 444.
Машо. Гильом — 93, 437.
«Мелита» (П. Корнеля)—132—
133, 146. 443.
Мельбурн, Вильям—183, 193, 324,
329. 334.
«Мельмот» (Мвтьюрина) — 233.
«Мемуары» (Дюма-отца) — 255—
256. 262.
«Мемуары» (Жуанвиля ) — 4 51.
«Мемуары» (г-жи де Лафайет) —
452.
«Мемуары» (Марэ) — 445.
«Мемуары» (Реца) — 451.
«Мемуары» (Ришелье) — 452.
«Мемуары» (Сен-Симона) — 451.
«Мемуары» (Тальма) — 450.
«Мемуары» (Шалля) — 448.
Менендес Пи дал», Рамой—341,
343, 347-348. 352. 457.
Ментенон, Франсуаза — 157, 159,
444.
Мериме, Проспер — 241.
Мерис, Поль-Франсуа — 269.
Мерль, Робер —212, 238, 446, 449.
«Мертвый оЬел и гильотинирован-
ная женщина» (Жанена) — 453.
«Метаморфозы» (Овидия) — 89—
90.
«Мещанин во дворянстве» (Молье-
ра) — 443.
«Мизантроп» (Мольера)—13, 157.
Мильтон, Джон — 256.
«Минна фон Барнхельм» (Аессин-
tû)_9. 361.
«Михаэль Кольхаас» (Клейста) —
8, 249. 254.
Мишле. Жюль — 289, 454.
Мишо, Постав—13, 141, 143.
Молан, Луи— 172.
Молле, Ги-401. 430. 461.
«МоллЪ Ф лен дере» (Дефо)—174,
184—186. 223. 321.
Моле, Луи-Матье — 282, 453.
Мольер, Жан-Батист Поклен — 7,
13-15, 19, 42, 124, 127—128,
130-131, 137. 139-158. 160, 162.
199. 200—201. 256. 273. 364,
441—444, 446.
Мольер д'Эссертин, Франсуа —
146.
«Монах» (Льюиса) — 233—234,
242. 246.
«Монахиня» (Дидро)— 17, 205,
225-230, 322, 449.
Монгла. Поль де Клермон—134.
Монлюк, Блез — 257, 451.
Монмут, Жофруа Артур — 29.
Моно, Сильвер — 335.
Монталамбер, Шарль — 282.
Монтерлан, Анри де—13, 136—
139, 164, 442.
Монтескье, Шарль—182, 186,
223—224, 361.
Монтреле, Анггеран — 257, 451.
«Монумент» (Триоле)—421.
Монфор, Симон де — 52, 81, 84,
436.
Монье, Тьерри—139, 159, 164,
442.
Морепа, Жан-Фредерик—178.
Мориак, Франсуа— 168, 335.
Морис, Мартен — 121—124.
Моро, Жанна — 247.
Мортье, Ролан—166.
31*
471
Моруа, Андре—17, 251, 263—265,
306. 321.
Мосх из Сиракуз — 45.
Мошерош, Иоганн-Михель — 9.
Муккаддам ибн Муафа аль-Кабри —
342—343.
Мулине, Никола де — 441.
«Мысли» (Паскаля)—177.
Мэ, Жорж- 17, 225—231.
Мэлори, Томас — 84, 437.
Мэтьюрин, Чарльз-Роберт — 233—
234, 242. 244, 323.
Мюнцер, Томас —9, 127, 365.
Мюссе, Альфред де— 11, 21, 275—
280, 291, 297, 357, 453.
Надаль, Октав—132.
«Надежда» (Мальро) — 385, 403,
436, 460.
Надо, Морис — 23.
«Назидательные новеллы» (Серван-
теса)— 371.
Наполеон I Бонапарт — 8, 241,
248-252, 268, 272, 276, 286, 371,
447. 452.
Наполеон III —50. 272, 280-281,
286, 357, 359, 453.
«Наполеон маленький» (Гюго) —
266.
Наркирьер, Федор Семенович — 23.
«Народ бессмертен» (Гроссмана) —
412.
«Натан Мудрый» (Лессинга) — 9,
361
Неверский, герцог — см. Манчини,
филипп-Жольян.
Негрони, принцесса — 264.
Неккер, Жак — 455.
Неккер, г-жа — см. Сталь, Жермена
Нелли, Рене-44. 52, 436.
«Нельская башня» (Дюма-отца) —
257.
«Необычайные приключения Пгтера
Шлемиля» (Шамиссо) — 428.
«Неоконченный роман» (Арагона) —
421.
«Неразумный» (Барбьери)—149,
443.
«Нескромные сокровища» (ДиД~
ро) — 322.
«Нибелунги» — 358, 363.
Нивель, Робер —397.
«Николас Никльби» — см. «Жизнь и
приключения Николаса Никльби».
«Никомед» (П. Корнеля)—139,
442.
Ницше, Фридрих — 360.
Новалис, Фридрих — 362, 458.
«Новая история Мушотты» (Берна»
носа) — 461.
«Новая Элоиза» (Руссо) — 205-
361.
Новерр, Жан-Жорж — 446.
«Новый нож в сердце» (Арагона)—
363.
«Новый Сизиф» (Мерля) — 449.
Нодье, Шарль —256, 277, 291.
«Нотариус из Гавра» (Дюамеля) —
459.
«Ночь святого Иоанна» (Дюаме-
ля)-459.
Нэв, Жозеф— 110.
«Обед на Попла-Уок» (Диккенса) —
311.
«Об искусстве пристойной любви»
(Андре Капеллана) — 75—76, 438.
Обломиевский, Дмитрий Дмитрие-
вич — 17.
Овидий —33, 75, 89—91.
Огден К. — 445.
«Ода против смертной казни» (Ла-
мартина) — 289.
Оден, Морис — 404.
Одна, Пьер —358.
Одиберти, Жак— 141—142.
«Одиссея» (Гомера) — 41, 438.
Ози, Алиса —269. 452.
«Озорные рассказы» (Бальзака)-^*
110, 439.
«Окассен и Николетт» — 99.
О'Коннел, Дэниэл — 310, 455.
О'Коннор, Фергюс — 326.
«О короле Марке и Изольде бело-
курой» (Кретьена де Труа) — 68.
Оксфорд, граф—см. Вер^ Эдвард.
«Оливер Твист» — см. «Приключе-
ния Оливера Твиста» (Диккенса).
«Олимпио, или жизнь Виктора Гю-
го» (Моруа)— 17, 263—265.
«О любви» (Стендаля) — 76.
Омар Фарид — 347.
«Опасные связи» (Лакло) — 322,
456.
«Опера Граб-стрита» (Филдинга)—>
181. 210.
«Опера нищих» (Гея)—7, 20, 174,
181—183; 190—197; 219, 237—238,
324, 334. 447.
Опиц, Мартин-Ч 9.
«Опыт о Карле XII» (Вольтера) —
176. 'у-
Оруэлл, Джордж — 336, 457.
472
Оссецкий, Карл фон — 355, 458.
Оссиан-241. 323, 450.
«О старинных турнирах и воинских
играх» (Ла Саля)— 103, 117.
«Отверженные» (Гюго) — 28, 186,
244, 270, 419.
«Ответ Немезиде» (Ламартина) —
289.
«Отелло» (Виньи) — 269.
Оуэн, Роберт —330, 457.
«О французской революции» (Кар-
лейля) — 327.
«О чартизме» (Карлейля) — 327.
«Очерки Боза» (Диккенса) — 301,
316.
Пабст, Георг-Вильгельм — 447.
Павел Диакон — 436.
Пальмерстон, Генри — 311, 456.
«Памела» (Ричардсона) — 11, 20,
183, 198-199. 202-213, 215, 220,
235.
«Париж» (Виньи) — 289.
«Парижские тайны» (Сю)—186,
455.
«Пармская обитель» (Стендаля) —
204; 233, 291. 369, 462.
Парни, Эварист — 256, 451.
Паскаль, Блез—177; 438, 462.
Педро II Арагонский — 52.
Пейре Карденаль — 81.
Пелиссон, Поль—164, 445.
«Пентеэилея» (Клейста) — 8.
«Пересуды у ложа роженицы» —
129, 441.
«Перлесваус» — 3.1.
«Персеваль» (Кретьенаде Тру а} —
35, 54, 70, 82, 88, 94, 96.
«Песнь о Роланде» — 85, 200, 363.
«Песнь ткачей» — 87, 437.
«Песнь о солдатах сеннадцатого
полка» — 424, 462.
«Песня святой веры Ажена» —
92.
Петен. Филипп — 442. \
Петр Великий—165.
Петроний, Гай — 435.
Пиго-Лебоен (Шарль-Антуан-Гий-
ом Пиго де л'Эпине) — 257, 451.
Пидаль, Рамон Менендес —*■ см. Ме-
нендес Пидаль, Рамон.
«Пиквикский клуб» — см. «Посмерт-
ные записки Пиквикского клуба»,
«Письма из Парижа» (Бальзака) —
277. 291.
«Письма, написанные из Италии»
(Бросса) — 449.
«Письмо французским писателям
XIX века» (Бальзака) — 294, 329.
Питеев, Жорж — 439.
Питт Старший, Вильям—187.
«Плавание святого Брендана» — 92.
Плавт — 256.
«План развития английской торгов-
ли» (Дефо)— 174.
Платон — 33. 53.
Платтар, Жан—123—124, 44Ö.
«Племянник Рамо» (Дидро)— 166,
205, 225.
«Плутовка и побродяжка Кураж»
(Гриммельсгаузена) —363—364, 459.
«Побочный сын» (Дидро) — 229.
Поджо Браччолини, Д ж ан Франче-
ска-109, 439.
«Под солнцем сатаны» (Бернано-
са) —46].
«Поиски святого Грааля»—31.
«Полиандр» (Сореля)—130, 148,
441.
Полиант — 454.
«Политик из кофейни» (Филдин-
га)— 181—182.
«Политические стихотворения*
(Элюара) — 363.
Политцер, Жорж — 356, * 458..
«Полли» (Гея)— 195.
Поло, Марко—105, 438.
«Поль и Виргиния» (Бернардена де
Сен-Пьера) — 322, 456.
Помо, Рене-164—165, 445.
Помьо, Жан—145, 160—161, 163.
Поп, Александр—174. 183, 194—
196, 209, 446.
«Последний шуан» — см. «Шуаны»
(Бальзака).
«Посмертные записки Пиквикского
клуба» (Диккенса) — 22, 301, 316,
319-320, 323, 333.
«Постоялый двор Ад ре» (Антье,
Сент-Амана и Полианта) — 454.
Пофиле, Альбер — 83.
«Похвала полезности сапогов» (Со-
реля) — 441.
«Похитители велосипедов» (Де Си-
ка) — 428, 462.
«Поэтическое искусство» (Буало) —
15.
«Правдивое комическое жизнеописа-
ние Франсиона» (Сореля) — 130—
131, 148, Ш, 199, 221. 321, 441,
Прадон, Никола—161, 444, 446.
Прево д'Экзиль, Антуан-Франсуа —
6, 20, 186, 219-224, 44«,
449.
473
При, Жанна-Агнесса—173, 445
«Приключения барона де Фенеста»
(Д'Обиньи)-22\.
«Приключения Джозефа Эндруса»
(Филдинга) — 20. 157, 175, 181,
184, 189, 198-199, 201, 210, 212—
218, 223, 235, 370, 446-447.
«Приключения Оливера Твиста»
(Диккенса) — 22, 183, 197, 236,
239, 259, 301. 316, 319, 324, 325,
334.
«Приключения Телемака» (Фенело-
на)—97, 438.
«Принц Гомбургский» (Клейста) —
8, 247-248, 250-254, 356. ^
«Принцесса Клевская» (Аафайет) —
9& 130, 158. 220, 321, 438.
«Принцесса де Монпасье» (Аафай-
er)-158.
«Проклятые поэты» (Верлена) —
454.
Прудон, Пьер-Жоэеф — 357.
Пти де Жюльвиль, Луи— 159, 162,
444.
Птоломей, Клавдий — 33.
«Пуритане» (Скотта) — 326.
«Путешествие в Икарию» (Кабэ) —
457.
«Путешествие Гулливера» (Сейф'
Tû)__174, 184, 196, 324.
«Путешествие на край ночи» (Сели*
на) — 419, 461.
«Путешествия» (Марко Поло) —
105, 438.
«Путь паломника» (Беньяна) — 321,
456.
Пьер д* Авиньон — 64.
Пьер де Блуа — 51, 436.
Пьер де Сен-Клу — 94, 438.
Пьятье, Ж. - 169.
«Пятнадцать радостей брака» — 88,
109, 111, 115, 437.
Рабле, Антуан—123.
Рабле. Франсуа —6, 12—13, 119—
127, 129, 155. 168, 175. 291, 321,
363—364, 439—440.
Рабле, Франсуаза— 124.
Рабютен, Роже — см. Бюсси-Рабю-
тен, Роже.
Радиге, Гаймон — 456.
Радклиф, Анна — 233—234, 240,
246, 257, 323.
«Радость» (Бернаноса) — 461.
«Разбитое сердце» (Форда) — 238.
«Рай королевы Сибиллы»— 104,
106.
Раймбоут д'Оранж — 64.
Раймонд Антиохийский — 50.
Рамирес, Санчо — 339.
Рамо, Жан-Филипп — 168, 285.454.
Рас де Брюнамель—110.
Расин, Жан—13, 19, 110, 135,
136-139, 143, 145-146, 159—164,
174, 224, 364, 439, 443, 445-446.
Расин, Луи—161—163, 168, 444.
«Расин и Шекспир» (Стендаля) —
131, 158, 256, 285, 444.
«Реальный мир» (Арагона) — 24,
423. 425-426.
«Рейн» (Гюго) — 357.
Рейнольде, Джошуа—183.
Рейтер, Христиан — 9.
Рекамье, Жюли — 295, 455.
«Религия» (А. Расина) — 444.
Рембо, Артюр — 159, 444, 454, 459.
Ренар, Жан —95. 438.
Рене, герцог Анжуйский, король
Арагона и Сицилии — 103.
Ренуччи, Поль —33—34, 51, 90,
126.
Ретиф де ла Бретон, Никола — 322,
456.
Ретленд, Роджер Меннерс— 121.
Рец, Поль де Гонди — 257, 275,
451, 453
«Речи к немецкой нации» (Фихте)—
249.
«Рим, Неаполь и Флоренция» (Стен-
даля) — 240.
Рихтер, Иоганн-Пауль-Фридрих —
362. 458.
«Ричард II» (Шекспира)—122—
123.
Ричардсон, Самюэль — 6, 11, 20,
183, 198. 202-208. 211-212, 214,
217. 220. 222-223. 235-236, 322.
Ришелье, Арман-Жан—14, 135,
145, 257, 441. 452.
Ришпен, Жан — 454.
Робер II д'Артуа —351.
«Робер Макэр» (Аеметра, Антье и
Сент-Амана) — 454.
Роберт де Борон — 82.
«Роберт и Елизавета Броунинг и
еще некоторые портреты» (Мо-
руа) — 255.
Робинзон — 329.
«Робинзон Крузо» (Дефо) — 174,
184. 196. 321.
Робинэ. Рене — 425
Роган-Шабо, Ги-Огюст— 171, 173—
174. 177.
«Родогунда» (П. Корнеля) — 442.
474
Родье, Анри — 20. 219. 221, 223—
224.
Ррк, Марио-Луи-Гийом— 57, 61—
62.
Роллан, Ромен— 168, 260, 379.
«Роман о Бруте» — 29.
«Роман об Энее»—18, 30, 32—33,
37-43. 46-47, 54, 68—69, 77, 92,
99.
«Роман о Жане Парижском»—199,
448.
«Роман о Ренаре» — 29—30, 53, 94,
111, 126, 350, 438.
«Роман о Pose» (Лорриса и Мэ-
на)—92, 438.
«Роман о Роллоне» — см. «Жеста о
Нормандцах».
«Роман о Тристане» (Тома)—54,
68-69, 71, 436-437.
«Роман о Трое» (Бенуа де Сент-Мо-
ра)- 29-30, 32—33, 54, 92.
«Роман о Фивах» — 30—33, 35, 38,
53, 92, 363. 436.
Ромен. Жюль— 119, 439.
Ронсар, Пьер де — 256.
Рохас, Фернандес — 65.
Руа, Клод—263.
Руа, Пьер-Клод— 179.
Ружмон, Дени де— 12, 44, 51, 436.
Руссо, Жан-Жак — 361.
«Рыжий конь» (Триоле) — 232, 237.
Рэ, Жилль де Лаваль — 243, 258,
450.
*Сага о Форсайтах» (Голсуорси) —
376.
Сад, Донасьен-Альфонс-Франсуа —
233, 449.
«Сад диких зверей» (Дюамеля) —
456.
«Салад» (Ла Саля)— 107—108,
110.
Салле, Мария -^— 177. 446.
«Сан ФелиМе» (Дюма-отца) — 262.
Санд, Жорж —264, 275—276, 283,
290, 293, 298.
Сандо, Жюль — 292, 454.
Сартр, Жан-Поль — 385, 460.
«Сатирикон» (Петрония) — 28, 435.
Свифт, Джонатан—174—175, 183,
196-197, 223, 324.
«Свобода» (Элюара)— 171.
Севинье, Мария де Рабютен-Шан-
таль—161, 444-445.
Сегье, Пьер—146, 443.
Сеймур, Роберт — 315—316.
«Селестина» (Рохаса) — 65.
Селин. Луи-Фердинанд — 461.
Сельс де Рабютен. ^ Мишель—168.
«Сельский врач» (Балъеака) — 296.
323.
«Семь смертных грехов Лондона»
(Деккера) — 456.
«Семья Тибо» (Мартен дю Тара) —
24-26, 375-382, 385—390, 392—
394, 396—401. 412,415—420,422—
429, 431, 459, 461.
Сен-Клу, Пьер де—см Пьер де
Сен-Клу.
«Сен-Map» (Виньи) — 243. 450.
Сен-Пьер, Бернардсн де — см. Бер-
нарден де Сен-Пьер, Жак Анри.
Сен-Симон, Луи — 257.
Сент-Аман, Жан-Арман — 454.
Сент-Аман, Марк-Антуан — 441.
Сент-Бев, Шарль-Огюстен — 5, 162,
445.
Сент-Мор — см. Бенуа де Сент-Мор.
«Сентябрьское равноденствие»
(Монтерлана) — 136
«Серая тетрадь» (Мартен дю Га»
ра) — Ъ1Ь—ПЪ, 429.
Сервантес, Мигуэль — 64—65,
199-200, 369.
Сероль, Альбер-Клод — 402, 461.
«Сесиль среди нас» (Дюамеля) —
459.
«Сестренка» (Мартен дю Тара) —
379, 382—384, 429.
Сефтон, лорд — 310.
Сиббэр, Колли—195, 209—210.
Сиго, Жильбер — 259.
«Сид» (П. Корнеля)— 14, 130, 132,
134—135, 146, 247, 442-443.
Сидевиль, Пьер-Робер Ле Корнье —
164.
Сид Кампеадор (Родриго Диас) —
339.
«Сизиф и смерть» (Мерля) — 449.
Симон, Гюстав — 269.
Симон, Жюль — 266.
Симон де Монфор — см. Монфор,
Симон де.
«Симплиций СимпЛициссимус»
( Г риммельсгаузена) — 364.
Сирано де Бержерак, Савиньон —
441.
Скаррон, Поль—130. 147—148,
150, 154. 156-157. 199, 220, 321.
369. 443-444.
Скотт, Вальтер—184, 256, 288,
298, 304, 315, 320, 323. 326.
«СкуЬой» (Мольера)—154.
Скюдери Жорж — 440.
475
Скюдери, Мадлена— 148, 321, 443.
«Смерть Артура» — 31.
«Смерть Артура» (Мэлори)— 437.
«Смерть Дантона» (Бюхнера) —
356.
«Смерть м-лъ Лекуврер» (Вольте-
ра)— 446.
«Смерть мое ремесло» — (Мерля) —
449.
«Смерть отца» (Мартен дю Г ара) —
375, 420, 428.
«Смерть Помпея» (П. Корнеля) —
442.
«Смешные жеманницы» (Молье-
ра)— 139—140. J 54.
Смоллет, Тобайас-Джордж—188,
235, 320, 324.
«Собор Парижской богоматери»
(Гюго) — 2\9, 289, 321, 452.
«Современная история» (Франса) —
321.
«Созерцание» (Гюго) — 453.
«Солнечная пора» (Мартен дю Га-
ра) — 378. ч
Солсбери, Джон—51, 436.
Сорель, Шарль-6, 19, 130-131,
146, 148, 154, 199, 221. 321, 441.
«Средства от любви» (Овидия) —
90.
Сталь, Жермена — 298, 455.
«Старая Франция» (Мартен дю Га-
ра) — 422.
Стаций, Публий Папиний — 33, 89,
437.
«Стелло» (Виньи) — 277.
Стендаль, Фредерик — 10, 28, 76,
128, 130-131, 157-158, 176, 178,
187, 189, 197, 201, 218, 225, 240-
241, 243, 245, 256-257, 258, 277,
285—286, 289, 291—292,297, 321—
322, 336, 363, 369—370, 441, 444,
447, 449—450, 454, 462.
Стенли, Вильям, граф Дерби— 121.
Стерн, Лоуренс — 322—323.
Стиль, Ричард — 448.
«Сто древних новелл» — 435.
«Сто новых новелл» — 29, 98, 109—
112, 115, 118, 435.
«Страдания молодого Вертера» (Ге-
те)— 361.
«Странствование Франца Штерн-
бальда» (Тика) — 458.
«Страсти» — 92.
«Страсть Жозефа Паскье» (Дюаме-
ля^ —459.
Строцци. Филиппо — 275, 278—279.
«Субретка» (/7. Корнеля) — 443.
«Сумасброд» (Мольера)—137,
139—140, 148—14?, 153—154, 157,
442—443.
«Сумерки богов» (Вагнера) — 459.
«Сутяги» (Расина)— WO, 439.
Сэвиль/ Джордж — 456.
Сю, Эжен—186, 300, 455
Сюблиньи, Адриен-Тома—147,443.
«Сюзанна и молодые люди» (Дюа-
меля) — 459.
Сюлли, Максимильен-Анри де Бе-
тюн — 173.
«Тайна Эдвина Друда» (Диккен-
са)— 325.
Тальма, Франсуа-Жозеф —256, 450.
«Танги» (Кастильо)— 420—421.
Тарле, Евгений Викторович — 252,
450.
«Тартюф» (Мольера)—15, 128,
142—144, 146, 156-157, 443.
Тацит — 362.
«Театр, как он есть» (Бальзака) —
288.
Теккерей, Вильям-Мейкпис—197,
363.
«Телемак» — см. «Приключения Те-
лемака».
Теофиль — см. Вио, Теофиль де.
Теренций — 256.
Тернер, Вильям — 335.
Тернер, Сайрел—123, 238, 440.
«Тетралогия» — см. «Кольцо Нибе-
лунгов».
Тибоде, Альбер — 371, 459.
Тик, Людвиг — 362, 458.
«Тиль Уленшпигель» (Костера) —
371.
Тирио, Никола-Клод—175—177.
Тоз де Вейл — 222.
Толстой, Лев Николаевич — 363,
370.
Тома-54, 67, 436.
«Томас из Рединга» (Делонея) —
199, 237, 321, 456.
«Том Джонс Найденыш» (Филдин-
га)-184, 189, 194, 201, 323,
446.
Торез, Морис —355, 458.
«Трактат об умножении числа во-
ров» (Филдинга) — 236.
«Трактат об элегантной жизни»
(Бальзака) — 290—291.
«Трактат о женитьбе» (Дефо) —
174.
«Трехгрошовая опера» (Брехта) —
174. 190.
476
«Трехгрошовая опера» (Пабста) —
444.
«Тривия» (Гея) — .196.
«Тридцать один сонет» (Гийеви-
ка) — 442.
«Три мушкетера» (Дюма-отца) —
255.
Триоле, Эльза— 232, 421.
«Тристрам Шенди» (Стерна) — 323.
«Тысяча девятьсот восемьдесят чет-
вертый год» (Оруэлла) — 457.
«Тысяча и одна мистификация»
(Диккенса) — 311.
«Тысяча и одна ночь» — 304.
Тьер, Адольф—357.
Тьерри Монье — см. Монье, Тьерри.
Тюренн, Анри де Ла Тур
д'Овернь — 364.
«Тюркаре» (Аесажа)—193, 195,
224.
Тюрлюпен (Анри Легран) — 139.
«Тяжелые времена» (Диккенса) —
302.
Уайтфильд, Джордж — 215—216,
448.
«Удольфские тайны» (Радклиф)—
235.
Уланд, Людвиг — 256. 451.
«Уловки Розанцы» (Диккенса) —
307.
Уолпол, Горес-233-235. 237. 240,
242. 244. 246, 323.
Уолпол, Роберт—181, 187, 194—
195, 198, 202, 209—210, 233, 235,
237.
Урбан VI - 104.
«Условия человеческого существо-
вания» (Мальро) — 403, 412, 417,
436.
«Утешение для госпожи Дю Фрэн»
(Ла Саля)— 103—104, 108.
«Ученые женщины» (Мольера) —
446.
«Учителя» (Дюамеля)—459.
Уэбстер, Джон—123, 238, 440.
Уэсли, Джон —215, 448.'
Фабиан, полковник—414, 461.
Фаллу, Фредерик — 282
«Фальшивомонетчики (Жида) —
382,459.
Фараль. Эдмонд — 90.
«Фасты* (Овидия) — 90.
«Фауст» — см. «История доктора
Фауста».
«Фацетии» (Поджо) — 109, 439.
Февр, Люсьен— 12, 13. 120—121.
124-127.
«Федра» (Прадона)—161, 446.
«Федра» (Ж. Расина)—139—161#
174. 446.
Фейхтвангер. Лион — 355.
Фелипо, Жан-Фредерик—171, 445«
Фенелон, Франсуа де Салиньяк —*
97. 438.
Феокрит — 45.
Ферстер, Венделин — 67.
«Фиваида» — (Ж. Расина) —160. -
«Фиваида» (Стация) — 89, 437.
Фиеско, Джан-Луиджи— 275, 453.
«Физиология брака» (Бальзака) —
277, 290—291, 323.
Филдинг, Генри—5—6, 20, 130,
157, 175, 181-189, 194-219, 223,
235—239, 245. 320, 322-324, 370/
446—448.
Филип. Жерар —132, 247.
Филипп-Август — 63.
Филипп Альзасский — 54, 81, 88.
Филипп II Бургундский—102.
Филипп III, герцог Орлеанский-—•
168/ 229.
«Философские письма» (Вольте-
ра,)-175-178.
Фитцуильям. лорд — 309.
Фихте, Иоганн-Готлиб — 249, 357.
«Фламинео» (Мерля) — 238, 449.
Флеминг, Пауль — 9.
Флери, Андре Эркюль — 173.
Флетчер, Джон — 123, 440.
Флобер, Гюстав—164, 283.
Фонтенель. Бернар ле Бовье—132,
441.
Форд, Джон—123, 238, 440.
Форстер, Джон —301. 306. 308^
309, 319, 330.
«Фрагмент поэмы об Александ-
ре» — 92.
«Франкенштейн» (М. Шелли) —
233.
Франс, Анатоль—120. 168, 171,
321, 439.
«Франсион» — см. «Правдивое ко-
мическое жизнеописание Франсиона»
(Сореля).
Франсис, Луи—172, 174.
Франциск Ассизский—124, 440.
Фрапье, Жан- 17, 67, 70-71, 341,
345, 350.
Фревиль, Жан—166.
Фрерон, Эли— 178, 446.
Фридрих II —252—253.
Фридрих-Вильгельм III — 251—253.
477
Фруассар, Жан-93, 104-105. 257.
437.
Фужер, Этьен де — см. Этьен де
Фужер.
Фуке, Никола — 445.
Фуке, Фридрих де ла Мотт — 252,
362. 450.
Фюретьер, Антуан—130, 134, 148,
156-157, 199. 220. 321.
аль-Хакам I — 348.
«Хитрая вдова» (Гольдони) —
307.
Хогарт, Вильям — 183, 446.
Хогарт, Джордж — 315.
Хогарт. Мэри —315.318-319. 332.
Хогарт, Элен — 315.
Хорефорд, лорд — 309.
«Хроника» (Монтреле) — 451.
«Хроника» (Фруассара) — 437.
«Хроника Карла VI» — 456.
«Хроника Паскье» (Дюамеля) —
376, 459.
Хэзлнт. Уильям — 193. 447.
«Хэмфри Клинкер» (Смоллета) —
324.
«Цинна» (77. Корнеля) — 146, 442.
Цицерон, Марк Туллий — 53.
Цюй Юань-119, 439.
Чаплин, Чарльз—141, 175.
«Чарльз Диккенс» (Честертона) —
457.
«Человеческая комедия» (Бальза-
ка) -21, 244, 287, 292-293.297-
299. 369, 455.
Честертон, Джилберт-Кейт — 335—
336, 457.
«Что говорят уста тьмы» (Гюго) —
274, 453.
«Чудоковатый Шпрингинсфельд»
(Гриммельсгаузена) — 364.
«Шагреневая кожа» (Бальзака) —
219, 239, 277, 288, 323.
Шак, Адольф-Фридрих — 347.
Шалль, Робер — 220, 224, 448. "
«Шамела» -208, 210-213.
Шамиссо, Адальберт — 362, 458.
Шампион, Пьер—110.
Шанфлери (Жюль Юссон) — 220,
449.
Шапель, Клод-Эмманюэль — 143,
443.
Шассерио, Теодор — 269.
Шатлен, Жорж — 257, 451.
Шатлен, Эмилия — 168, 177.
Шекспир, Вильям—42, 121—124,
158, 174, 178-180, 199-200,
237. 243. 256-257. 272-274.
440.
Шелли, Мэри —233, 244.
Шелли, Перси-Биши — 233, 237.
320.
Шенье, Андре — 256.
Шиллер, Фридрих — 256—257, 275.
285, 353. 361-362.
«Школа жен» (Мольера) — 42, 142.
144, 150, 153.
Шлегель, Август-Вильгельм — 249.
347, 450.
Шлегель, Фридрих — 450.
Шодерло де Лакло — см. Лакло.
Пьер Шодерло де.
«Шпион» (Купера) — 260.
«Шуаны» (Бальзака) — 323.
Шуман, Робер —357.
«Эвфуэс» (Лили) — 321, 456.
«Эгмонт» (Гете) — 354.
«Эдвин Друд» — см, «Тайна Эдви-
на Друда» (Диккенса).
Эйльс, Френсис — 222.
Элеонора, герцогиня Аквитанская,
французская королева — 50, 54, 74.
76, 81.
Эли —77.
Элоиза — 49, 436.
Элюар, Поль—171, 335, 363,
457.
«Эмали и камеи» (Готье) — 283,
454.
«Эмилия Галотти» (Лессинга) — 9,
361.
Энгельс, Фридрих — 9, 44—45, 66—
67, 77, 166, 185—186, 188, 239,
284, 289, 292, 301, 310, 312, 314,
327—328, 353, 357, 362, 364—
365.
Энджель, Клэр-Элиан — 222—223.
«Энеида» (Вергилия) — 38, 43.
«Эпилог» (Мартен дю Г ара) — 380,
382, 386, 418, 423, 426.
«Эрек» (Гартмана фон Ауэ) — 67,
78.
«Эрек и Энида» (Кретьена дс
Труа) — 19, 35, 54-67, 70, 72-
73, 77—78. 80-81.
Эрлан, Луи—132, 135.
«Эрнани» (Гюго)— 149—150. 219,
269. 285. 454.
Эро. Рене—172. 174. 178.
Эсколье, Раймон — 263, 265.
478
Эссекс, Роберт Довере — 122, «Этюд о Бейле» — 454.
432.
Эсхил — 256—257, 273. Ювенал, Децим Юний —81.
Этуаль, Пьер-Тизан — 257, 451.
Этцель, Пьер-Жюль — 266. Яков I — 123, 200.
Этьен де Фужер — 92. Яков II —209, 448
Этьен, Эжен—125. «Ямбы» (Барбье),— 289.
СОДЕРЖАНИЕ
Ю. Б. Виппер. Вступительная статья 5
/. Кретьен де Труа, или Возникновение романа 27
I. Термин, не поддающийся определению (27). 2. Гуманизм, проза
и ужас (31). 3. «Внимай, глупец, вот приговор...» (Эдип
Сфинксу) (34). 4. «Одиссеевский» гуманизм (33). 5. Лавиния, Ми-
ранда, Агнесса (41). 6. Родилась новая любовь (44). 7. «Ведь так
хорош мужчина ...» (46). 8. О счастье в 1170 году и об ослах,
играющих на арфе (49). 9. Французского Гомера звали Кретьен
де Труа (53). 10. Эрек и Энида, или Любовь после свадьбы (55).
II. «Была в любви отважней дева ...» (57). 12. Энида и феодаль-
ная действительность (59). 13. Куртуазность предшествует куртуаз-
ному роману (62). 14. Энида и Селестина (64). 15. Небольшое отступ-
ление о трубадурах (66). 16. «Душа и тело—одному...» (70). 17. Ма-
рия Шампанская и палинодия Ланселота (73). 18. Энида неперево-
дима (78). 19. Может быть, это кое-кого и не устраивает, но перво-
начально роман был посвящен поискам счастья, а не поискам
святого Грааля (80). 20. «... с той поры, как ты впал в грех, то есть
с той поры, как ты сделался рыцарем» («Ланселот», Спи-
сок 1225 года) (82)н21. Роман — достояние нашей национальной
литературы (85).^22. И все же что такое роман? (89).
//• К пятисотлетию Антуана де Ла Саля, основоположника
современного романа 97
1. «История и забавная хроника маленького Жана де Сентре и
юной дамы де Белль Кузин» (98). 2. Двойная жизнь Антуана
де Ла Саля (102). 3. О методе Антуана де Ла Саля (106). 4. Загадка
«Ста новых новелл» (109). 5. Гибель куртуазной любви (113)
///. Наша несостоятельность в оценке творчества Рабле .... 119
IV, Что это — Стендаль? В 7623 году? 128
480
V. Реализм Корне л я и национальная независимость ... . . . 132
V/. Убийство классиков как один из видов изящного искусства 136
1. Расин, низведенный до роли лангусты (136). 2. Мольер приспо-
собляемый (139). 3. «Замученный директор театра, который надры-
вался, создавая пьесы, чтобы компенсировать убытки, причинен-
ные ему Корнелем...» (141). 4. «Тартюф» и «Возмутительная
книпа» (143); 5. Эрудиты портят удовольствие Роберу Кану (145).
6. Мольер и реализм в романе (147). 7. «Когда же вы изображаете
обыкновенных людей, то уж тут нужно писать с натуры» (150).
8. О некоторых забытых источниках (155). 9. Стендаль, «Тартюф»
и Академия (156)
VIL О литературоведческих исследованиях, проясняющих и зате- ?
мняющих . . . . 159
Отречение Жана Расина. Вольтер о самом себе. Дидро в Германии 159
VIII. Говорит Вольтер, или Битва за книгу . . • 167
1. Министр просвещения г-н Андре Мари вновь отправляет в из-
гнание молодого Вольтера (167).2. «Voltaire's Correspondence» (172).
3. Битва за книгу в 1728 году (176).
IX. Англия, которой не знал Вольтер 181
X. Похвала Джону Гею . 190
1. «Трехгрошовая опера» в подлинном виде (190). 2. Почему нет
подходящей компании на виселице в Тайберне? (191). 3. Джон
Гей и «Тюркаре» Лесажа (193). 4. Пастораль о тюрьме Ньюгейт (195).
5. Ньюгейтская школа романа (197).
XI. Филдинг и комический роман 198
1. Романист по нечаянности (198). 2. Прогресс реализма в те-
атре (199). 3. Появление Памелы, мнимой сестры Джозефа (202).
4. Дидро и реализм Ричардсона (204). 5. Книга, которая должна
быть в каждой семье (203). 6. «Джозеф Эндрус» (при всем про*--
чем) — серьезный роман (212). 7. Методизм и средства выйти
в люди (215). 8. Дорогой Генри Филдинг (218).
XIL Проблемы творчества аббата Прев о 219
XIII* Новое о «Монахине» Дидро 225
XIV. Размышления о че р но м романе '"' 232
4 1. Черный роман литературных каталогов (233). 2. Суть вещей (234).
3. Истинные источники «Замка Отранто» (237)^4. В черном ро-
мане — ничего черного (239). 5. Неожиданные последова-
тели (240). 6. Черная сторона мира (243). 7. Роман как забава
(244).
481
XV. Патриотизм и самоубийство Генриха фон Клейста .... 247
1. Вступление, сбивающее с толку (248). 2. Пулю в голову Напо- '
леона (248). 3. Клейст — запрещенный поэт (250). 4. Пруссия — не-
оккупированная зона (251). 5. «Принц Гомбургский» — патриоти-
ческая драма (252). 6. Антинаполеоновская контрабанда (253).
XVI. Об одной биографии Александр! Дюма 255
XVII. Гюго— вечно молодой 263
XVIII. Виктор Гюго — свет и тени 268
XIX. «Лоренцаччо* аполитизированный , 275
XX. Политика и роман . ■ 231
XXI. Первый период творчества Диккенса 300
1. Человеку тридцать лет (301). 2. Семья Диккенса (302). 3. Год
1819-й (303) 4. «Они разбили мре сердце» (304). 5. Палочная дис-
циплина и школа жизни (306). 6. Первая большая любовь (307).
7. Журналист (309). 8. Рождение писателя (311). 9. Любовный роман
и роман (315). 10. Отнюдь не викторианская любовь (317). 11. «Мар-
тин Чезлвит», или Появление поездов в романе (319). 12. Возвраще-
ние к истокам реализма (324). 13. «Барнеби Радж». В роман вво-
дятся народные массы (325). 14. Вопрос об авторском праве (328).
15. Путешествие в Америку (330). 16. «Мартин Чезлвит» (332).
17. Прогресс реализма (334).
Сопоставления 337
Французская поэзия, куртуазная любовь и арабо-андалузская
цивилизация (339). Рабство и величие немцев (353).
Послесловие 367
Размъинления о методе Роте Мартен дю Гара 373
А. Д. Михайлов. Комментарии 433
А. Д. Михайлов. Указатель имен и названий 462
П. Деке
СЕМЬ веков романа
Редактор С. Д. Комаров
Художник М. В, Серегин
Художественный редактор Б. И. Астафьев
Технический редактор Е. С, Потапенкова
корректор К. И. Иванова
Сдано в производство 7/VI1-1961 г.
Подписано к печати 21/11-1962 г.
Бумага 60x92Vi.. = 15,7 бум. л.
31,4 печ. д., в т/ч 17 вкл.
Уч.-изд. л. 31,2. Инд. № 13/096
Цена 2 р. 08 к. Зак. 2677
*
издательство
иностранной литературы.
Москва» 1-й Рижский пер., 2.
*
Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.
ММ *&Ш
»l^ttto. .
>w.- ■ -,
[ёЖ'М.
i»-*
< ' F
•Ърш&*
S^^v^-^
P8«
я
V
rm.: i i
.r, |
.
3i~
, .' ' * i
)/Щ
ж|
-—«~ :- 1
Иллюстрация к „Роману о Трое". Французская средневековая рукопись
^^sÇ
laitue ucrtnem* nwr
illOWU
«ai. ttt^
1?ш
те«Г?
ûtwtr лЬлш ft ami te ttamt
u фсиаш&* *ша«г tmtw'
it*te* cotntoe ol <)ш m\uytr ta
te«r>An*fttr «tue йхитШг
nue n«e ttiiT га» ф$ <v*ü я
Twtr Ät»,*me ncvafc лркГ Uu.
fn& феиаиф* Wirte t*tr/
~\%m? cete ttw «,1^M«4f
neue bamt'tcimtixe bu
ne fbieÔM ta Mme 4$€&щ
meto Ш t тЛ? !>#t#f AMe*t#.
Л1 ЙИГ wmtrautMuttter
ttiuoldwr eg1**«* A table mr
Щ, ea cb>Tt" taa# аШя# ef ^
тмтг шепе,ше>** ensue,
"t fbw TctnÄtfter дип>дше
ЪеШепС&аеи* fo^1'^
ma** berfxgtcr ato» ефИ
*U \tfjxmr mat* соятСезт^
[kvugnew лштс Гешжгиет?
Car cerw бит-el* |чи тагами
bttn Cou t& егтггг qui' ut>tf
f^Unr|>crbqpcr tit (bo *ft*L,
tt4$ к Ьй atmtf cÇte еггдпе
ApieC « <nte Ь Ьн ф «m'totel
4*иш*г*егойи*е iimrtttmu
Ce mifm matrntniior ru vue
uantTcfartne. U Ълте л>тг
14C»f 6 to* р*«г jur îerwur
г\Л тлгпе лхш Ыпж d$V*%
Се лш*т£tue геадаяъе «m* и
tot dfe ей*>щ|г te >uw que
илжС«- ooo 1i£r U CmCcûuC
* иаиша* ^игаэааГ. Дш11йоп
t»m с$ cihneur t U?we» pa
M? U ôturttr tpwr ttm
Ш U л>яГ mmvt Ывъ*
^ynâ£. <|ui4>UtC «totr ешр
» $иес*е aœtjf^mf $w*nc
pur pttmemtuemeur г &t£r
d^C refpw tum^lbj^tit; te
fia e#tf «ТДдГ fr €&f и<н>
sc ta maitcu te «m astu <«tr
Vpttatf. Dew* te поп fcttr и
«te. C«*«C ce puer noue
jtÄr fei©' ЪщаМоГ л и со
€i ^ew* iptnf ttetjcotn^tie
ce que tienf ni auef côe'- Car
t€ Caotf 4«t ttenf tte yocCc?
inerte gnu«? tee tte орт?
ym fe u^ttf eu est awl ne
repamee. Фar те ert aft«l^
vtenet*rtimc«e tee tvnnî«^
Страница французской рукописи XIII пека
Бернарт де Вентадорн. Французская рукопись
Ланселот перед королем Артуром. Французская средневековая
рукопись
&t time fi lave* ftttr plias ncbc q Ce U^îi mttci
wtrae tour tc moniter.£otHC|it*l\ latKtf at bait
лрнцрн
la tovnt atmemc u pîcmmt fou
~\wtt fair clic lomw if que torn
flue ti foit* tour îmeii et ie ftm«
(ternie vt qm par tone fbienr
ameittee tone les mefiSiiß et
lee ttrfpa^ сс*з гшшешшгб •
^mue fair gpUôt pit тети
|а»Л1б огс )> animcut гошшеасгшеигц feuitc
*ипш «en ceitifeitß ie rtiofc fine eue nue ie ue
Ланслот и Гениевра. Французская рукопись конца XIV века
fW ï* pvetotmw? et \wtw»m
& await Зе
„Суд любви". Франиузская средневековая рукопись
i
Франсуа Рабле. Портрет неизвестного художника XVII века
PETRVS fr^^^%:ORNELIVS
л о TN ома ^Ш^ОтШ^£ЛГ,£1'5
Artnû Dnt.
Пьер Корнель. Гравюра Мишеля Лана
~ ...
ВД
•'-Is*,
Фронтиспис к „Гораиию" Корнеля. Издание 1641 года, гравюра Дарэ
——мм
ML LE SCO LE DES FEMMp:
Фронтиспис к „Школе жён" Мольера. Гравюра Ф. Шово, 1663
1
■È
i|| 1
I1
tu.
г
Ж
LE«i(rA'RTVrrE
Фронтиспис к „Тартюфу" Мольера. Издание 1669 года
Атали, изгоняемая из храма. С картины Л. Куанеля (Лувр)
Иллюстрация Моннс к „Микромегасу" Вольтера
Филдинг. С картины Хопвуда
Джон Гей
Граиюра Морилье к „Тюркаре" Лесажа
W4L
*;ик.
It Fl
ЛГ
IV# 4
ш-i
' »'Té'
/ft-- Y'l > 11
"u "V, (s Г
Лондонский рынок Коиент-Гарден во времена Филдита. С картины Б. Небо
Гравюра Пакье к „Манон Леско" Прево
Гравюра Эйзена к
„Клариссе Гарлоу" Ричардсона, изданной во Франции
в переводе Прево
Чтение „Энциклопедии1* у госпожи Жоффран. С картины Лемонье
P Y R
ЛЪг
тщ tf v ■
V
_ ifiltre
Hitler â
'tn реш
d*ns un pa)>ol Гп
par *m<?
U,*rt «tmU
»iK'mv refi*
I Г«ит t cm dh % hi ' 1 c*n elk &m жр?<щ, û ûuêfz ща#
^^^^^^^^ ^ггЦм*.
f-ni tub**!«.*. t*J tuLr-afur vrjl are **,иСм1е;
cV^ ck t* 0Е*1гэ1Ы feuk %m ttiwm lev осад ргш»
fi^jun *t «;>?.<£« * |ti I:«.'« и-f*• & к §>p<'> I V* vcitfr,
q itÎI? <|«VSfe <«.*il # ffHtifitrir pt*tr II p | r^~-
«riLtnfiifrjf utikiLim Г*у«а*Г< it i
i)a*i! tat: | ir<Kj|gm р<Ш-^И< »*
Г .. * ncftiTlifrfttf Jif *% iC к temw 1.
cYlH rlH'»,^]
!>.."•• Or, ■ ■ m\n Hti
|1, €*:ьХ r i '. \ ■ . , i. .. и (QUI j# ,
1tf% li t*
I pmrntfee s \ re
ï рш&исе civile
rn elk йт %ръ
44 Untrn fttêfuè
si ЕЦфэвЫ
lutreon
ï ft* m
Ш 1 i f< |
>J% Vffi
1С r*t*ns
i i*i
<l*
la
ftg
Страница из „Энциклопедии" с пометками ле Бретона
ЩР^шЛеА
Э<
7е».
'о,
Щ*'
IP
Âx
:л UUS
Карикатура на Дюма
Виктор Гюго
Долмен. Рисунок Виктора Гюго
Жорж Санд и M юсе е. С картины Гаварни
1
i i!
i'\
i L i ■
1 HI
iH
'i
m 11
Бальзак и Теофиль Готье у Фредерика Леметра
-4
Молодой Диккенс. С картины Самюэля Лоуренса
тщтт
лшт
„Лондонское днои. Гравюра Гюстава Доре.
Диккенс, читающий друзьям — Карлейлю, Фоксу, Форстеру и др, (1844)
Роже Мартен дю Гар
Иллюстрация к „Пятнадцати радостям брака*1.
Издание конца XV века
fotitofegre*cnenouucff<enoim<(> qmttoumfucot)MoüitU(aftmmc
tt»ttqurttt)fort<mtimtM*nt<fa& Ь(щЩуЬфаКаШгт*9?1Ьг
Автор сборника „Сто новых новелл" преподносит свою книгу
герцогу Бургундскому. Гравюра на дереве. Издание 1486 года
\ **!