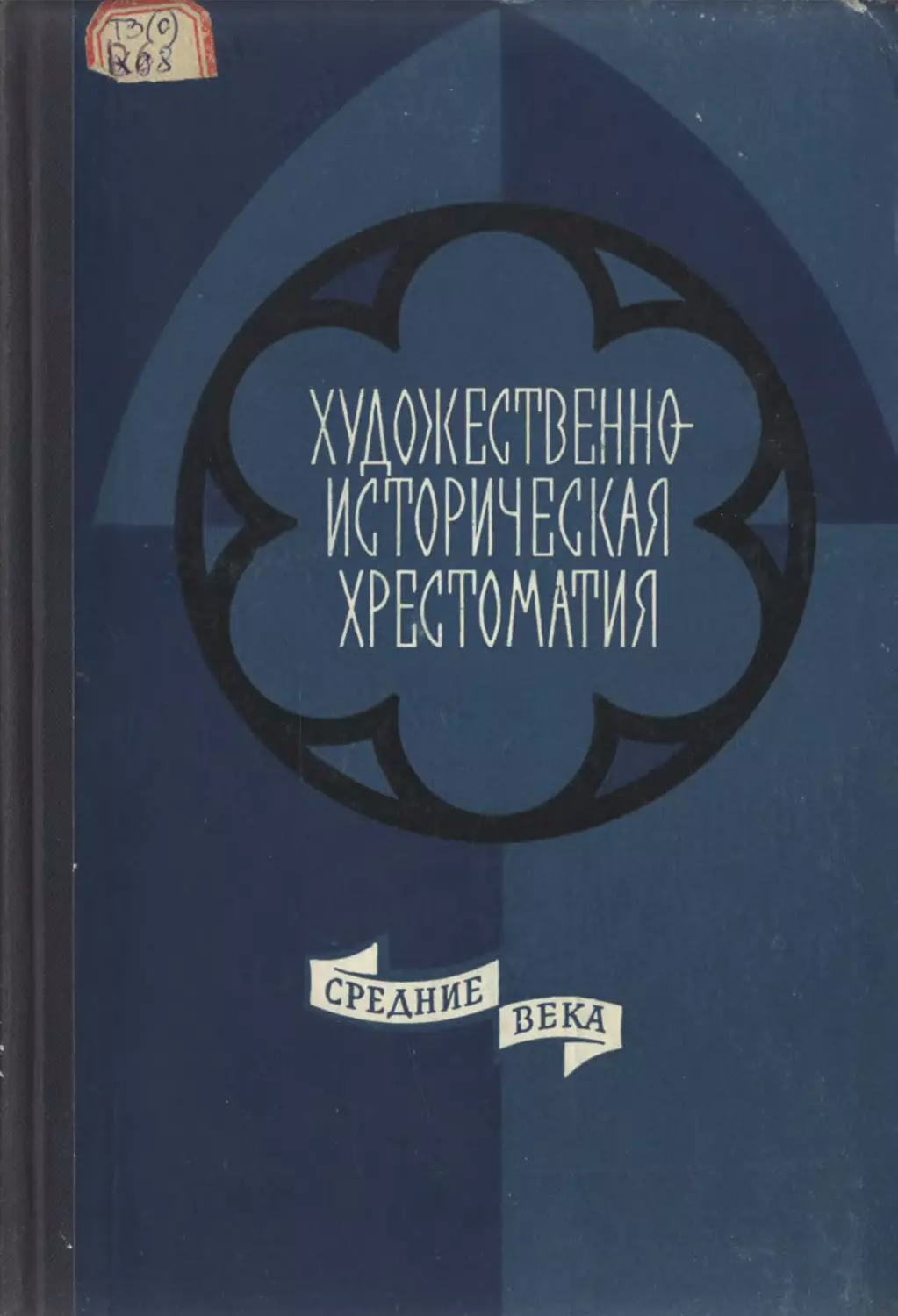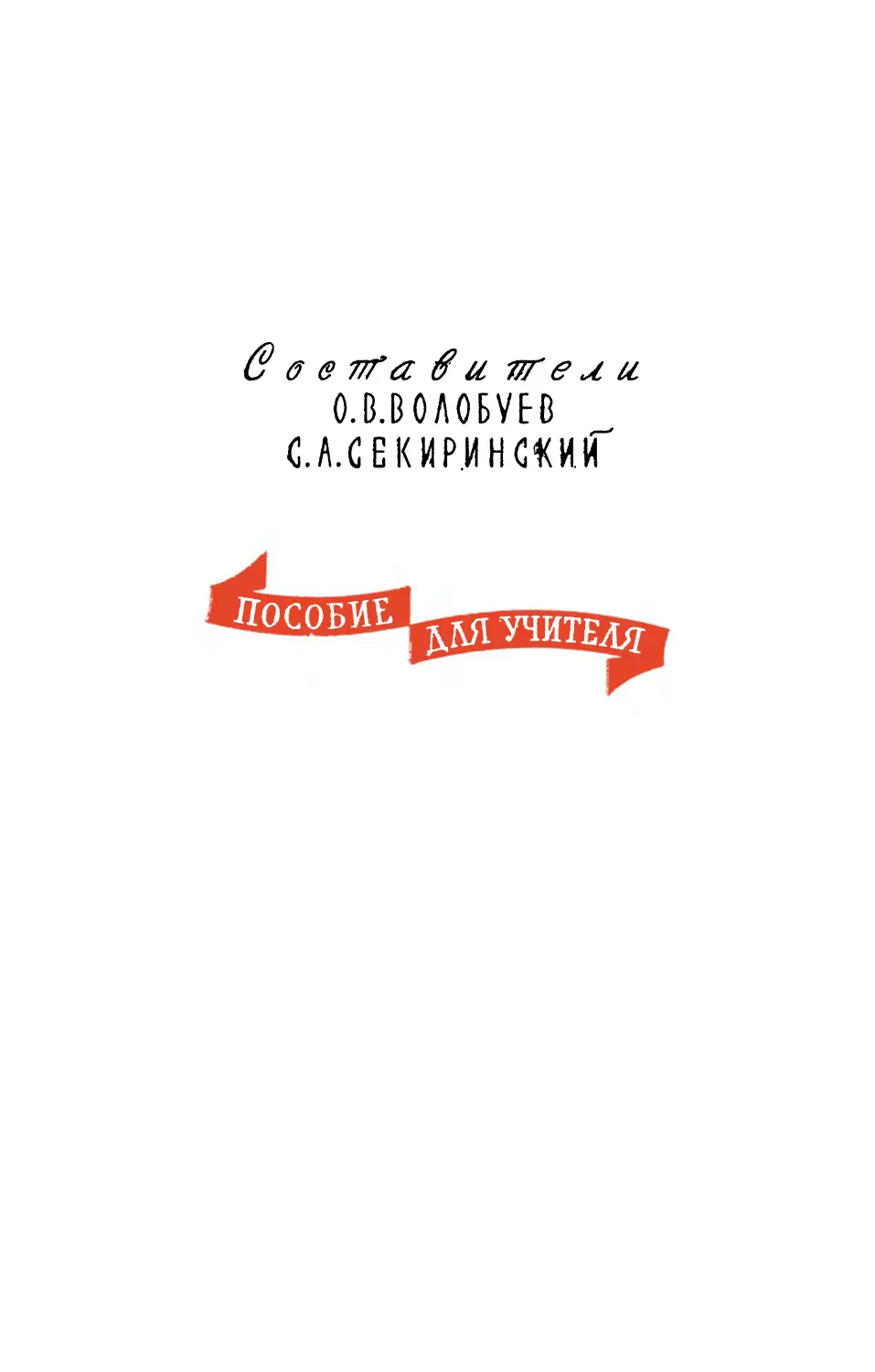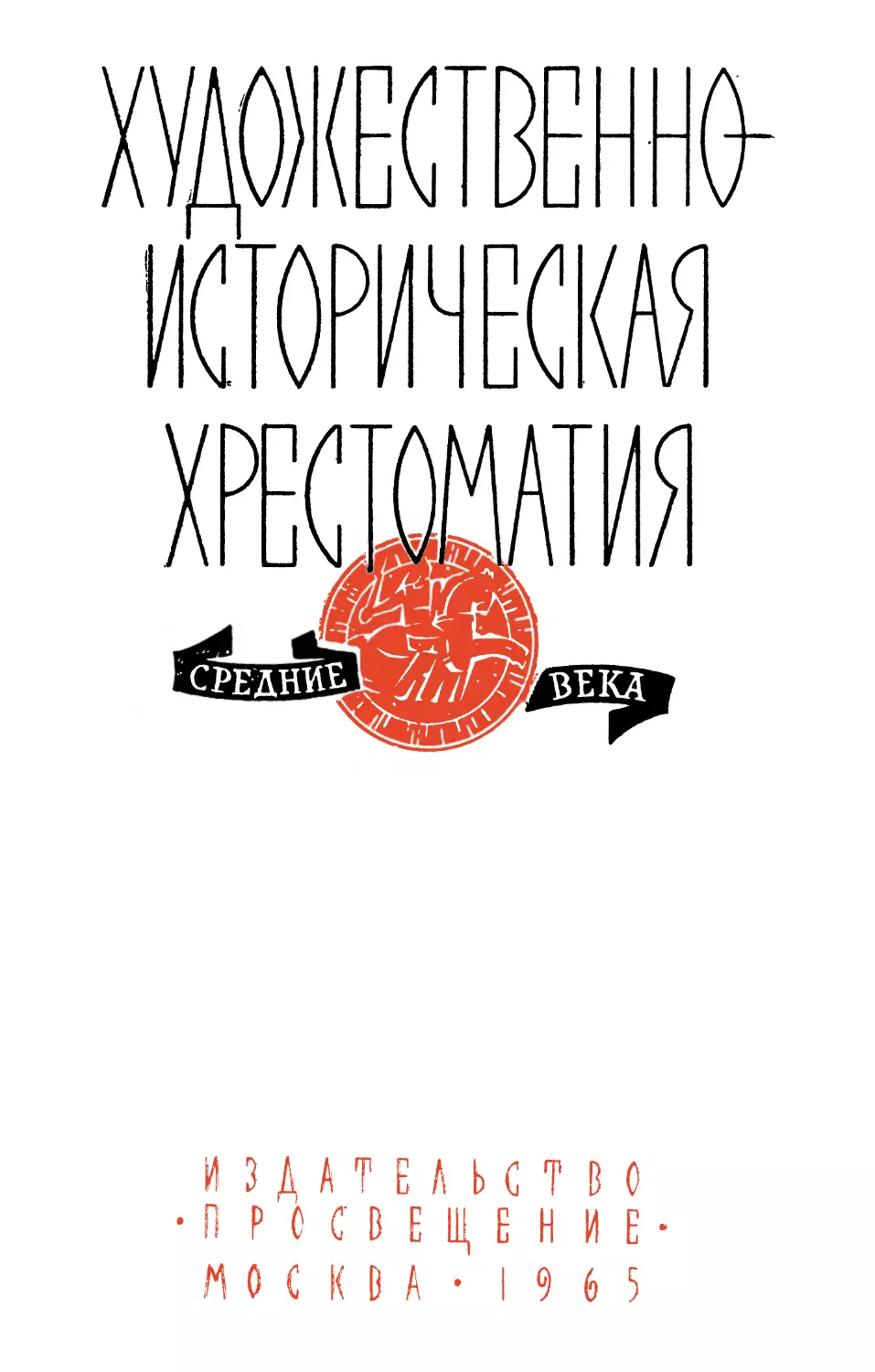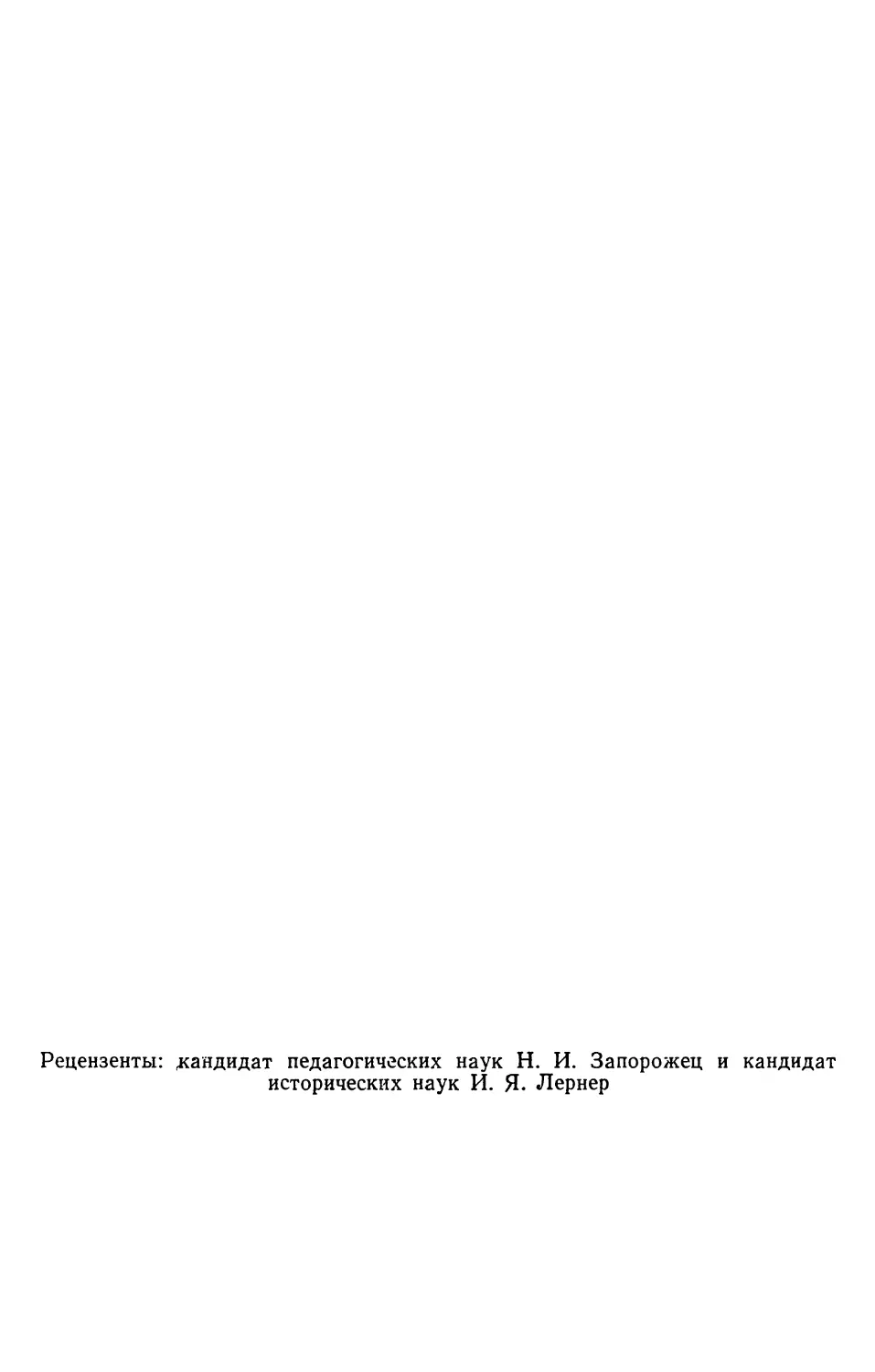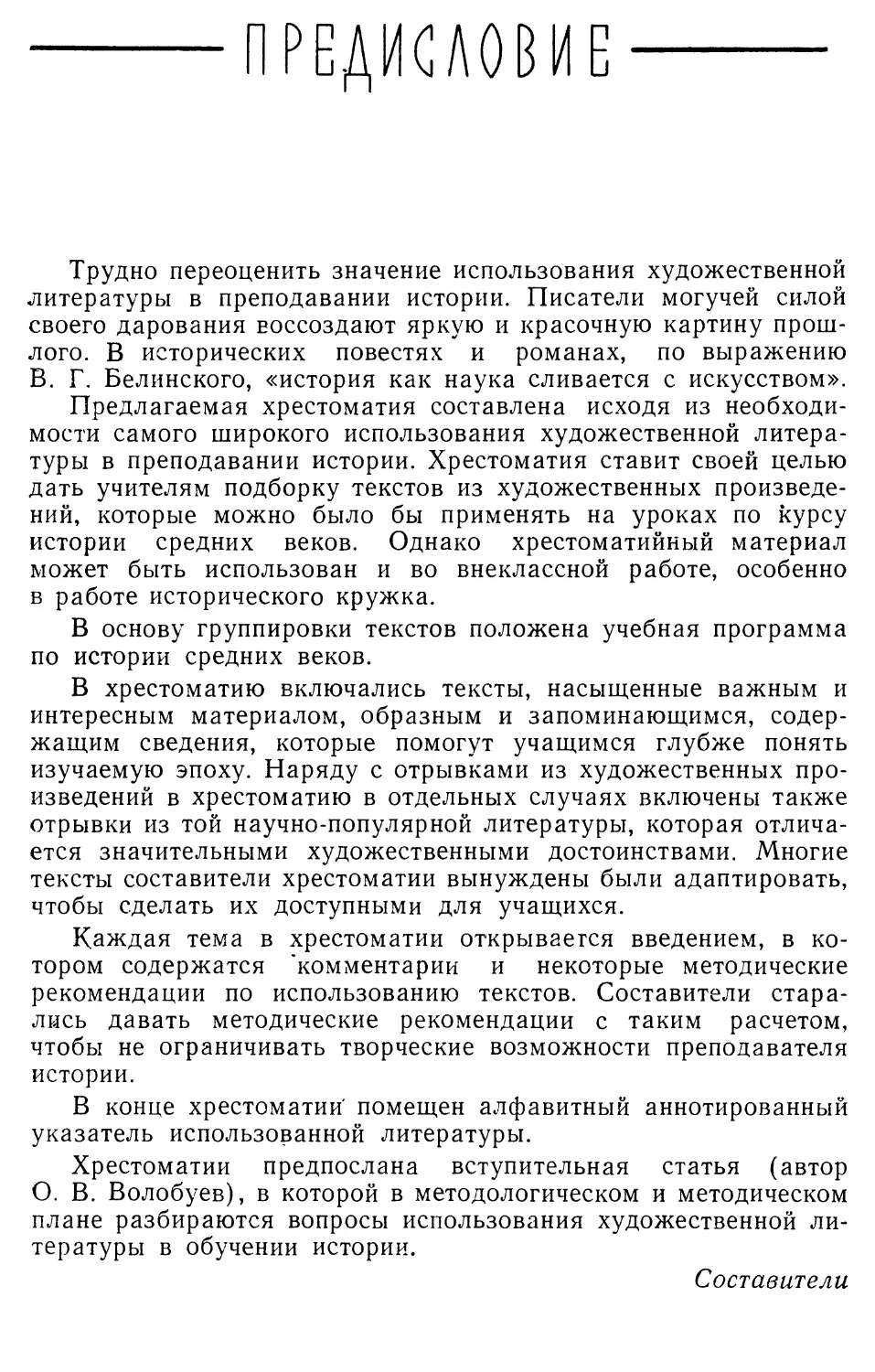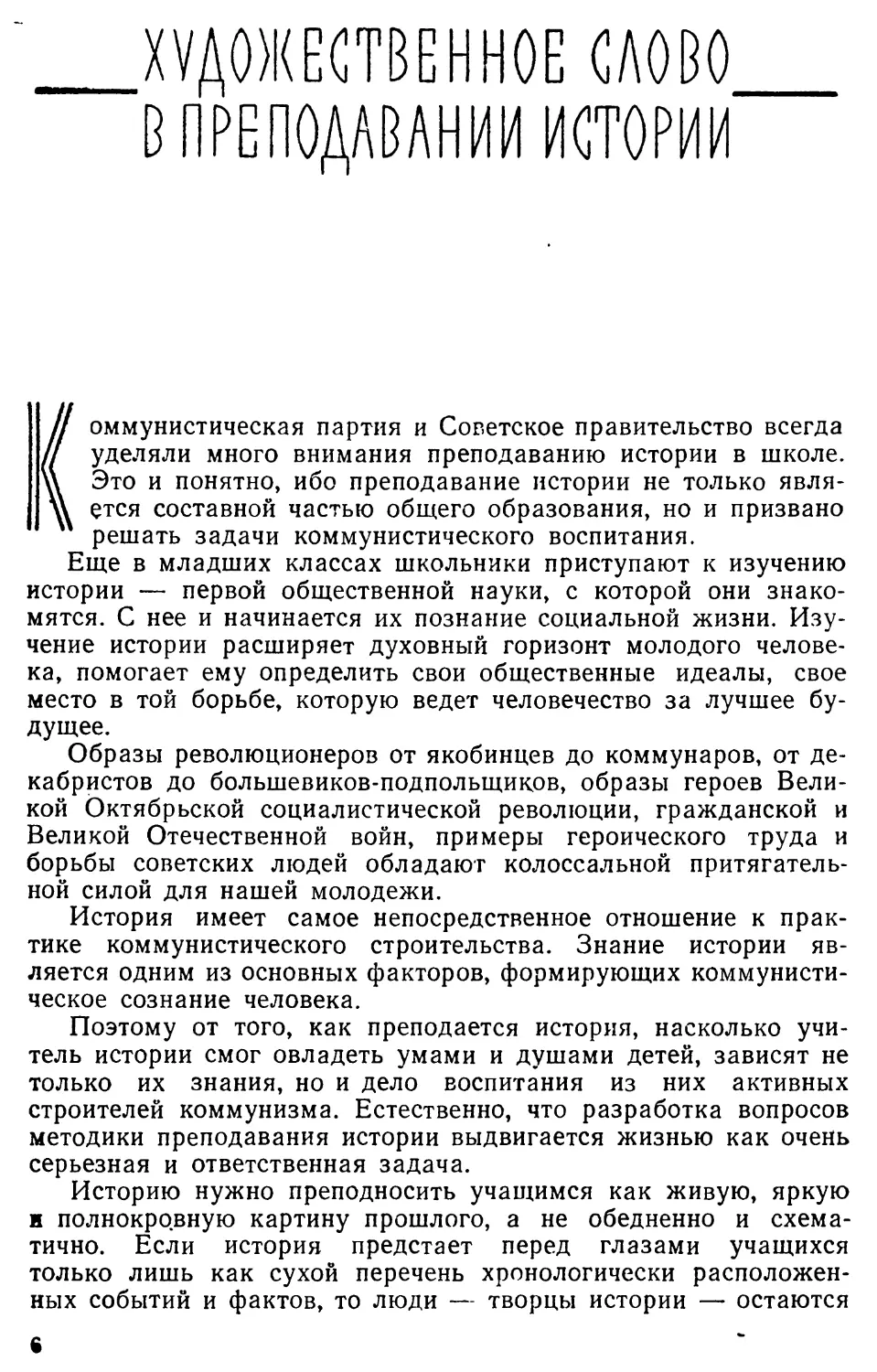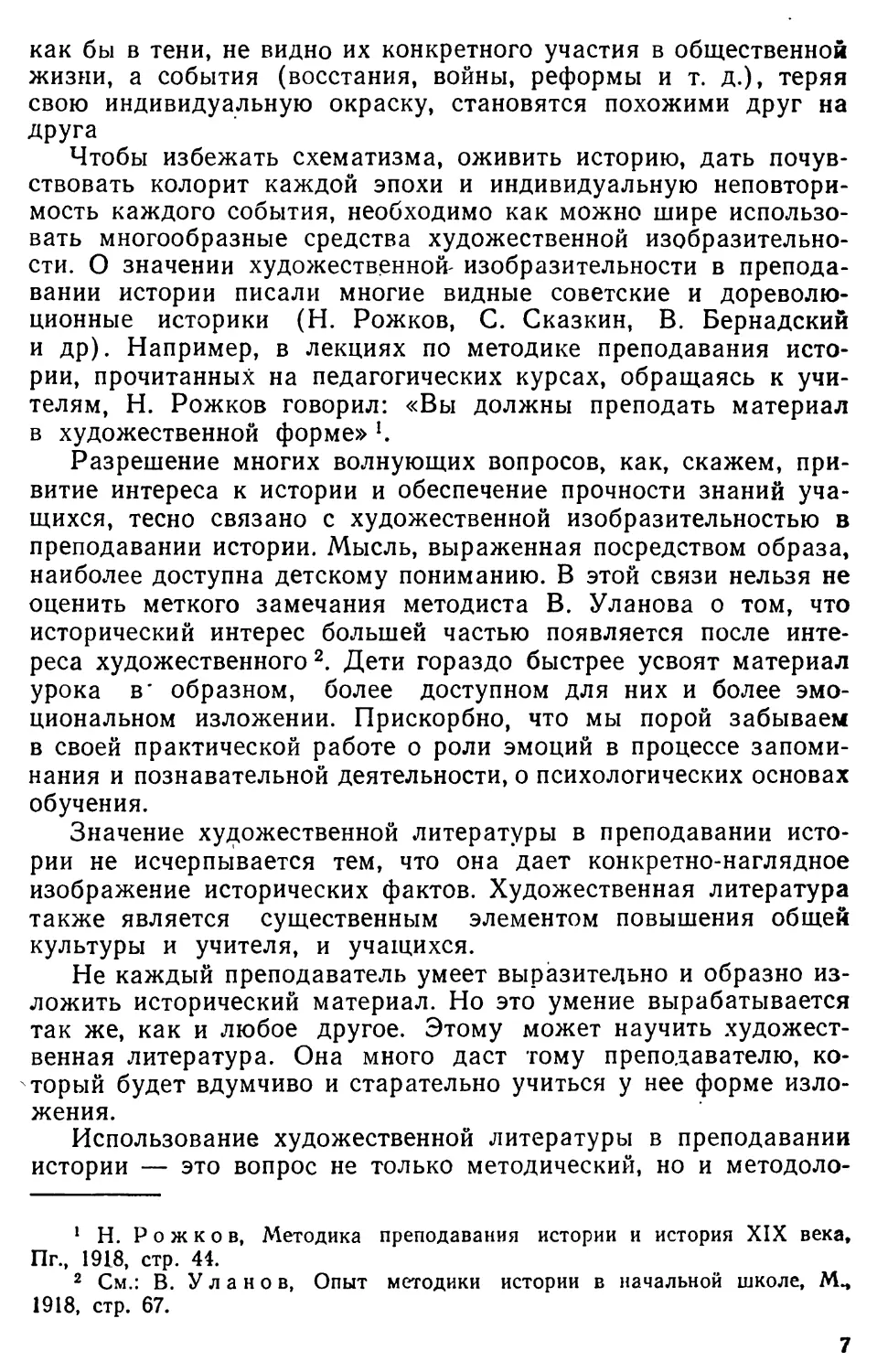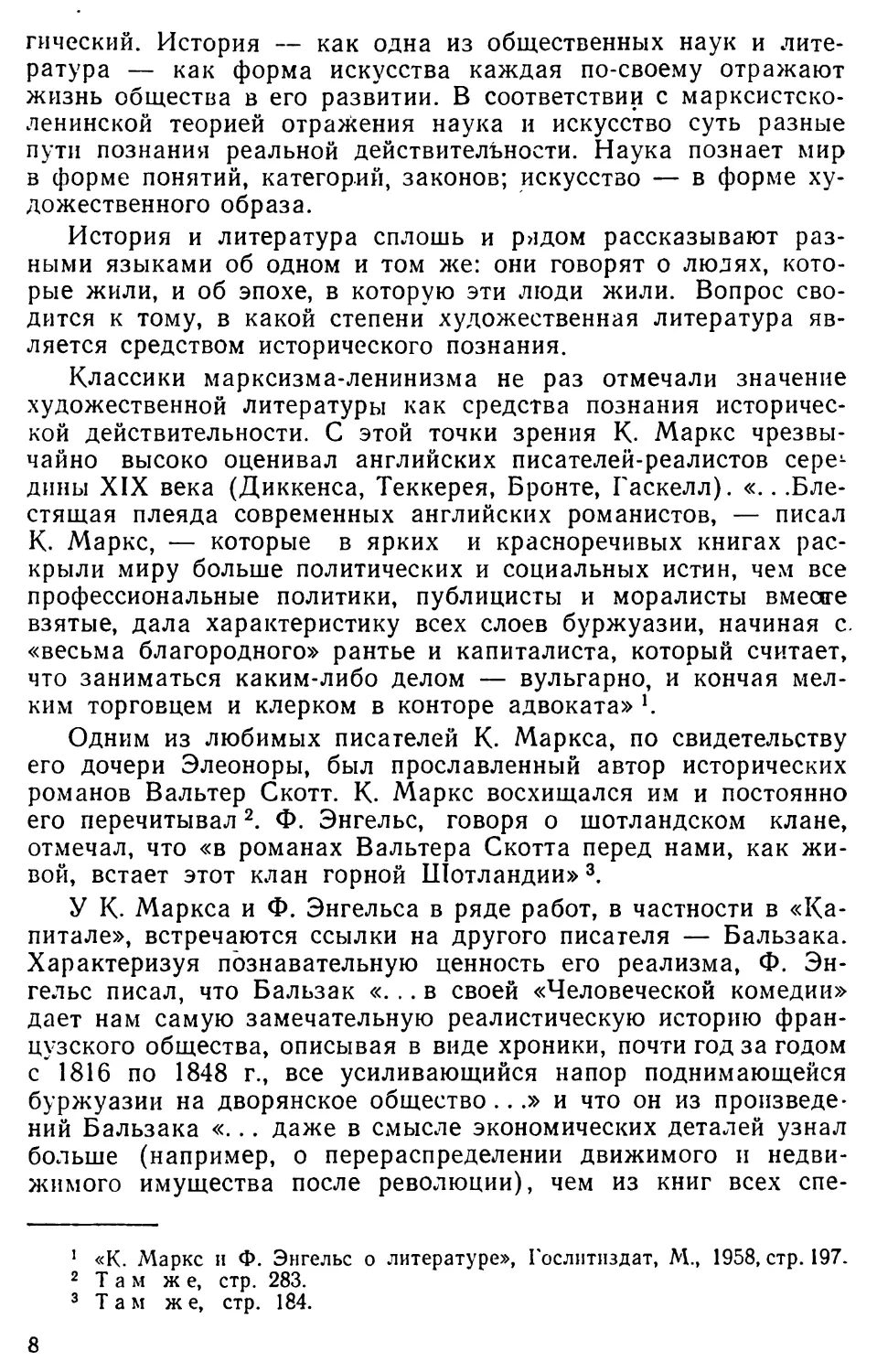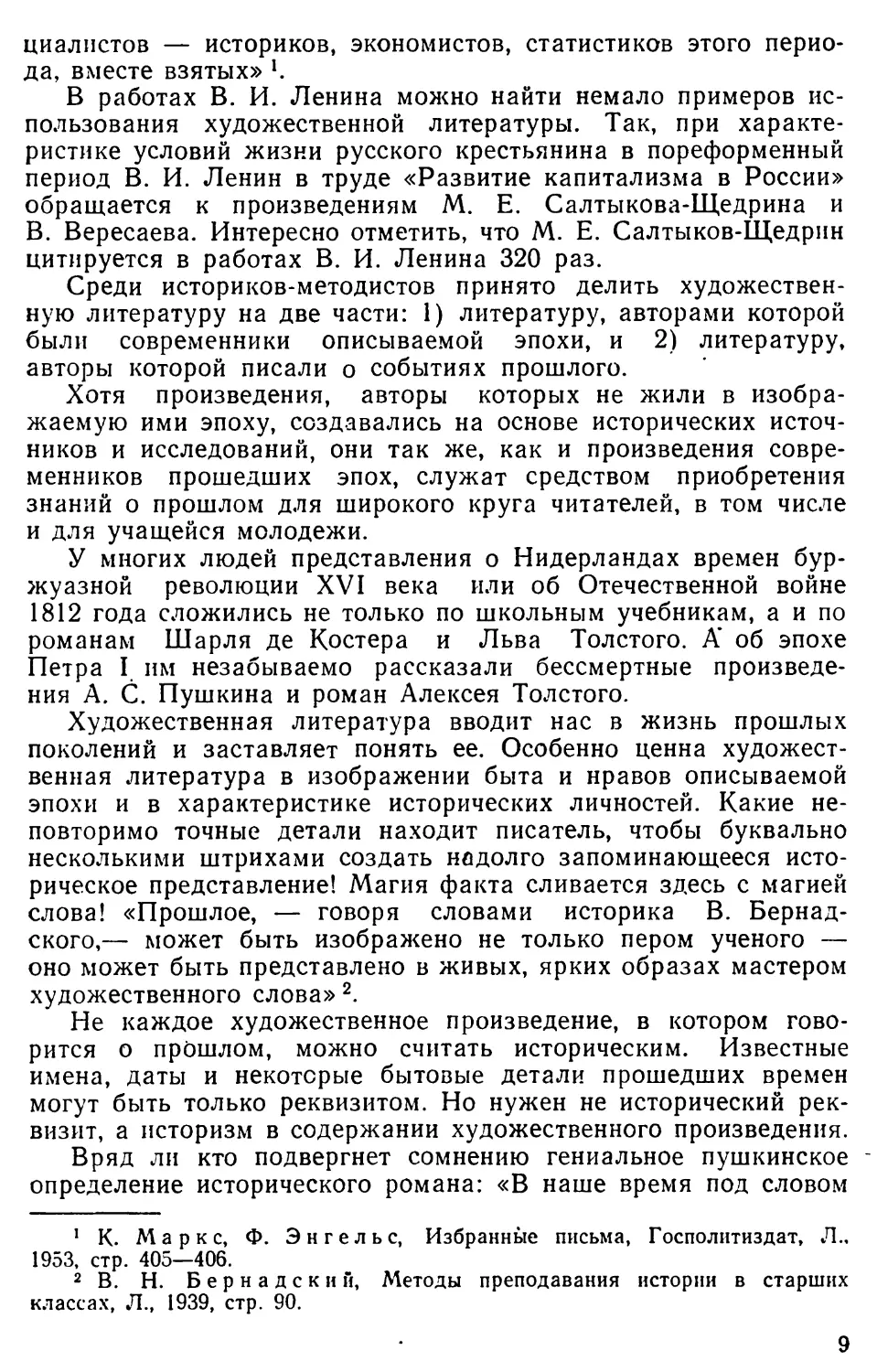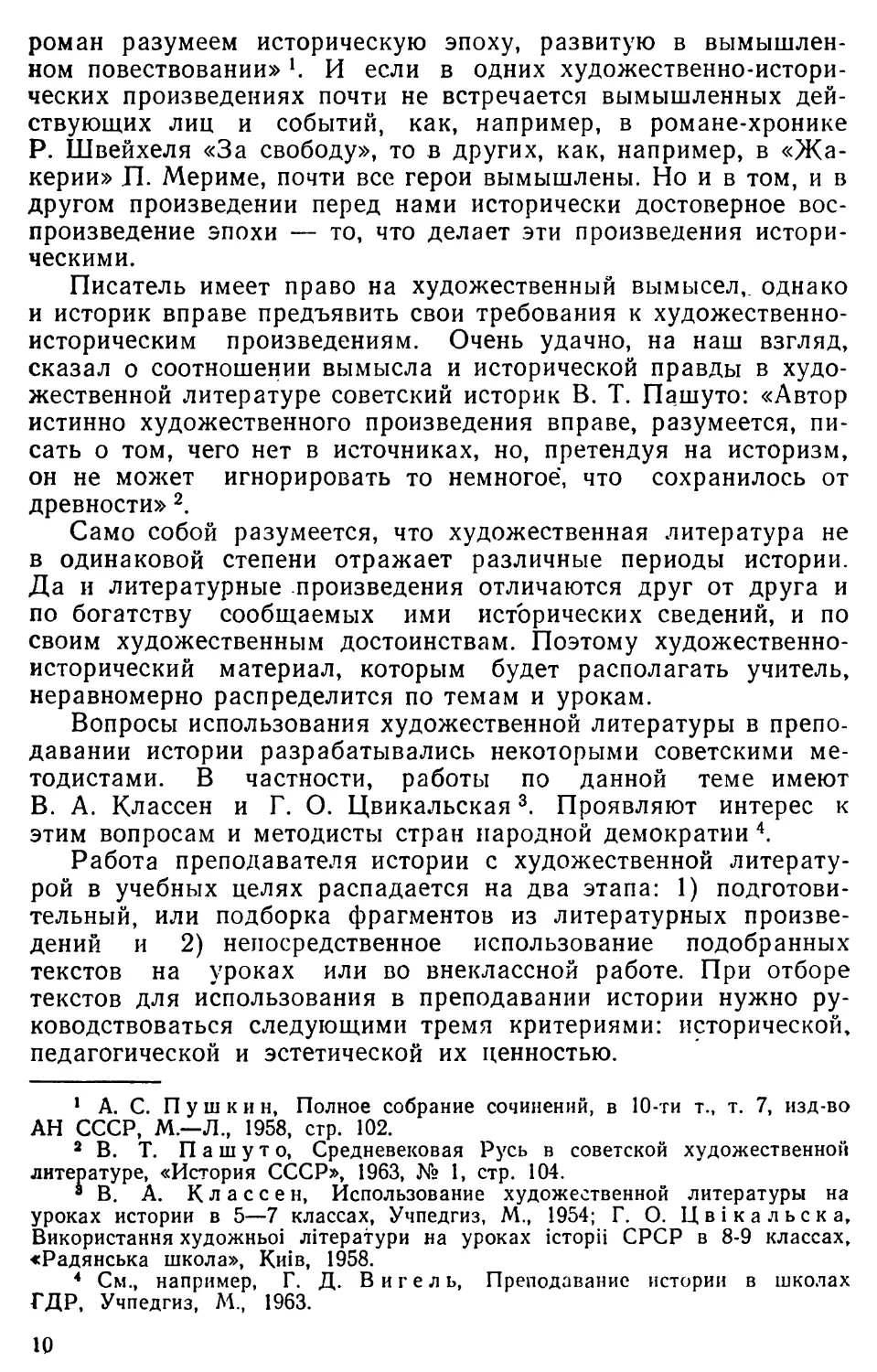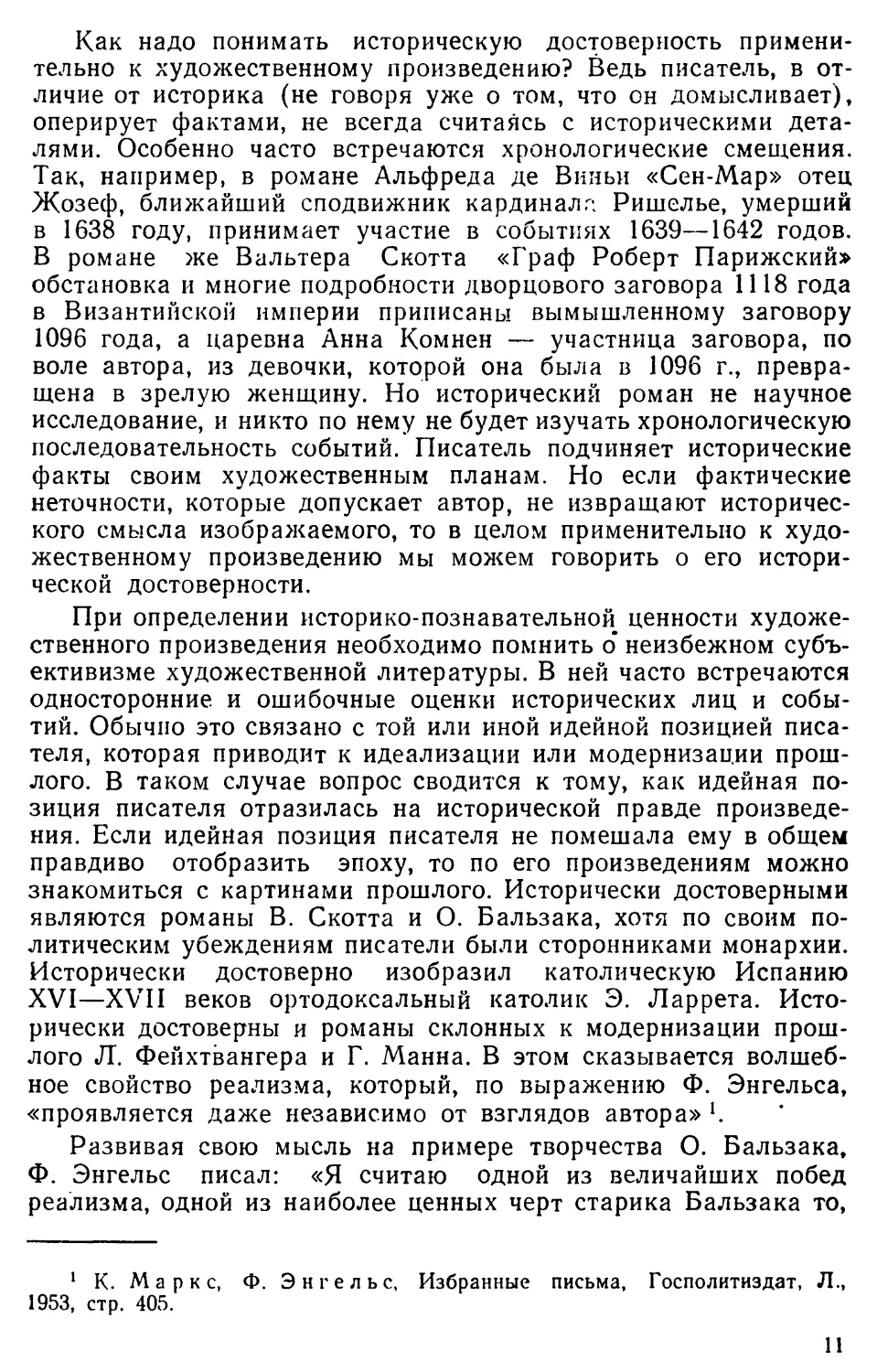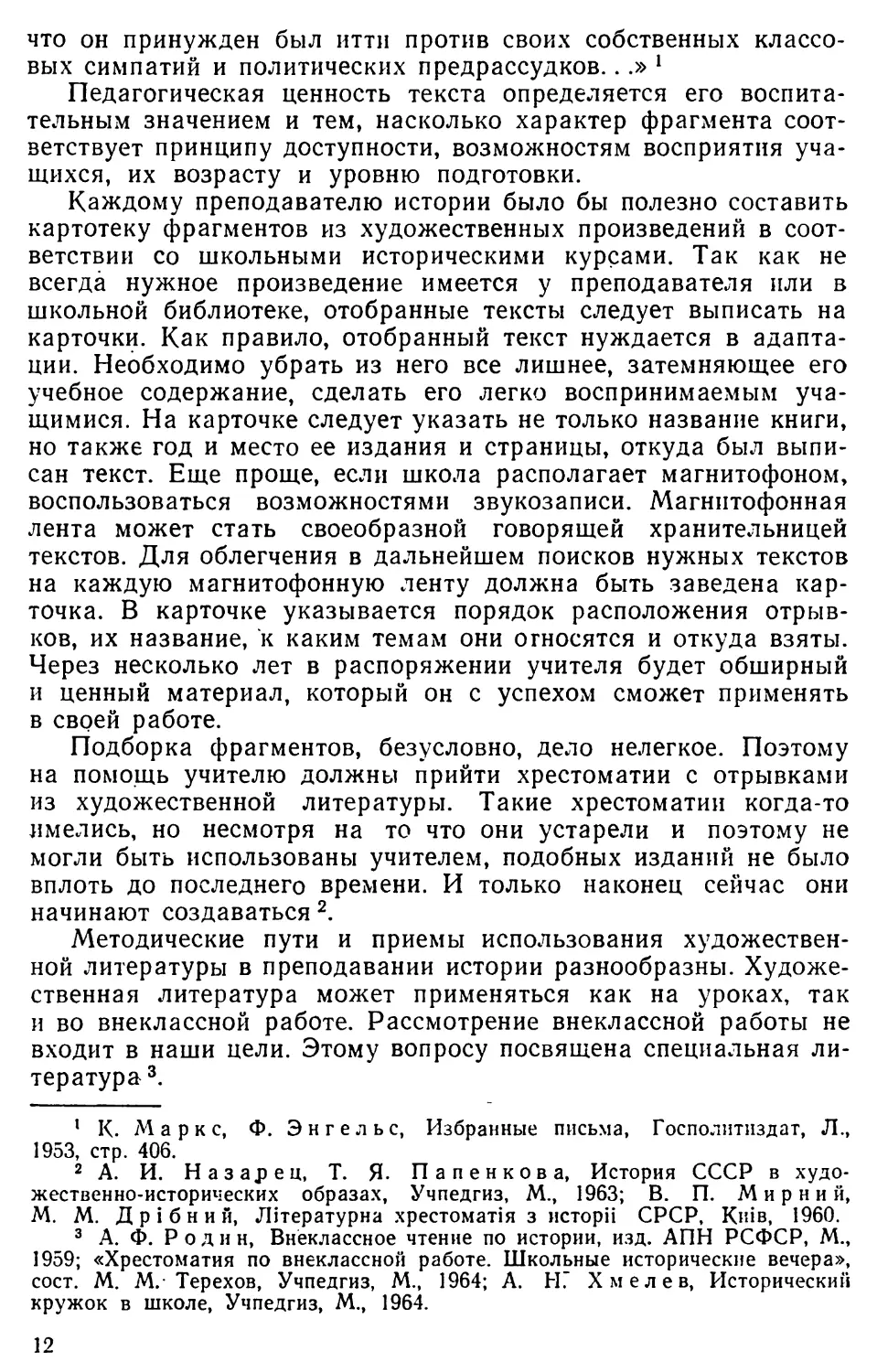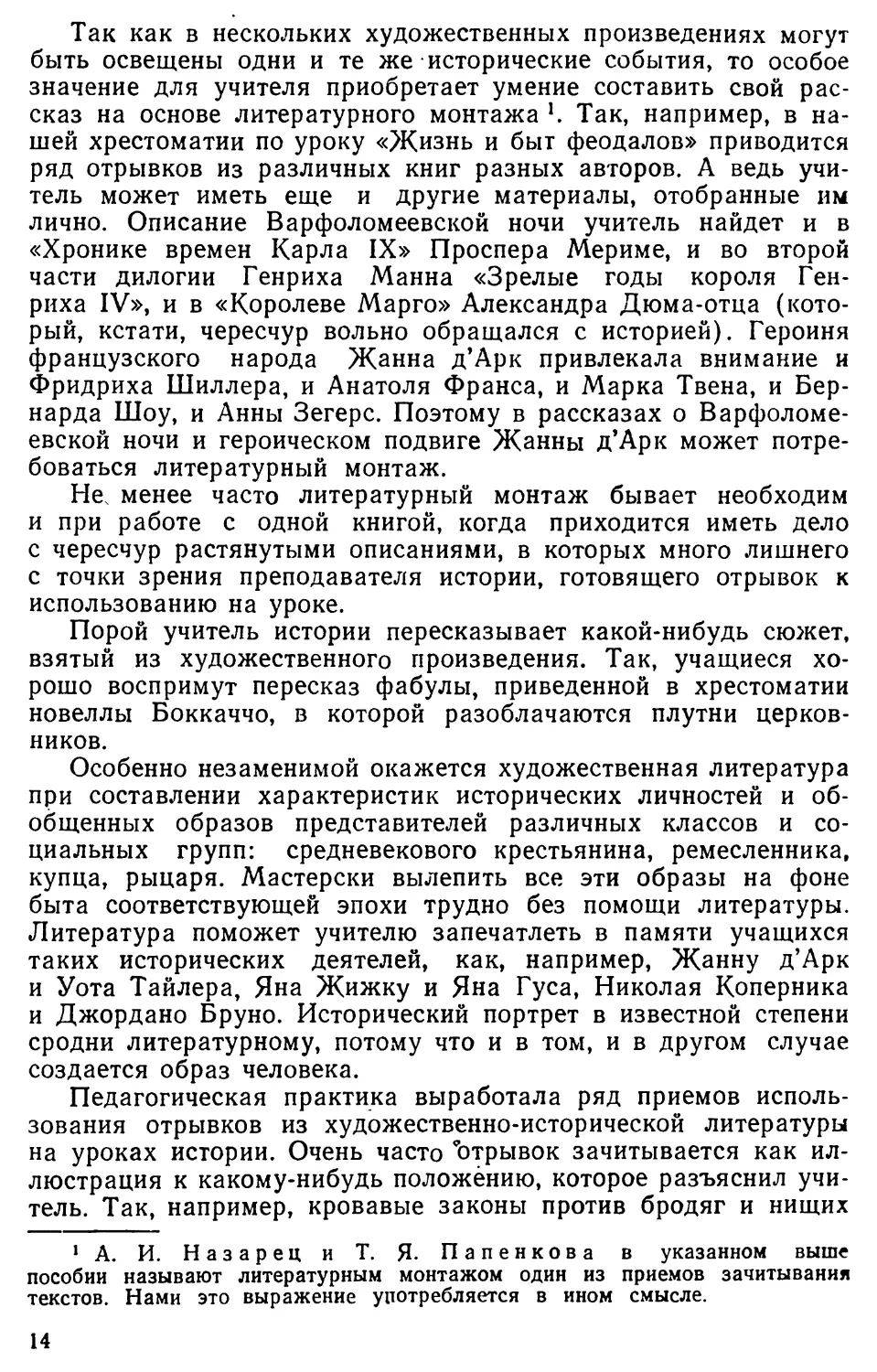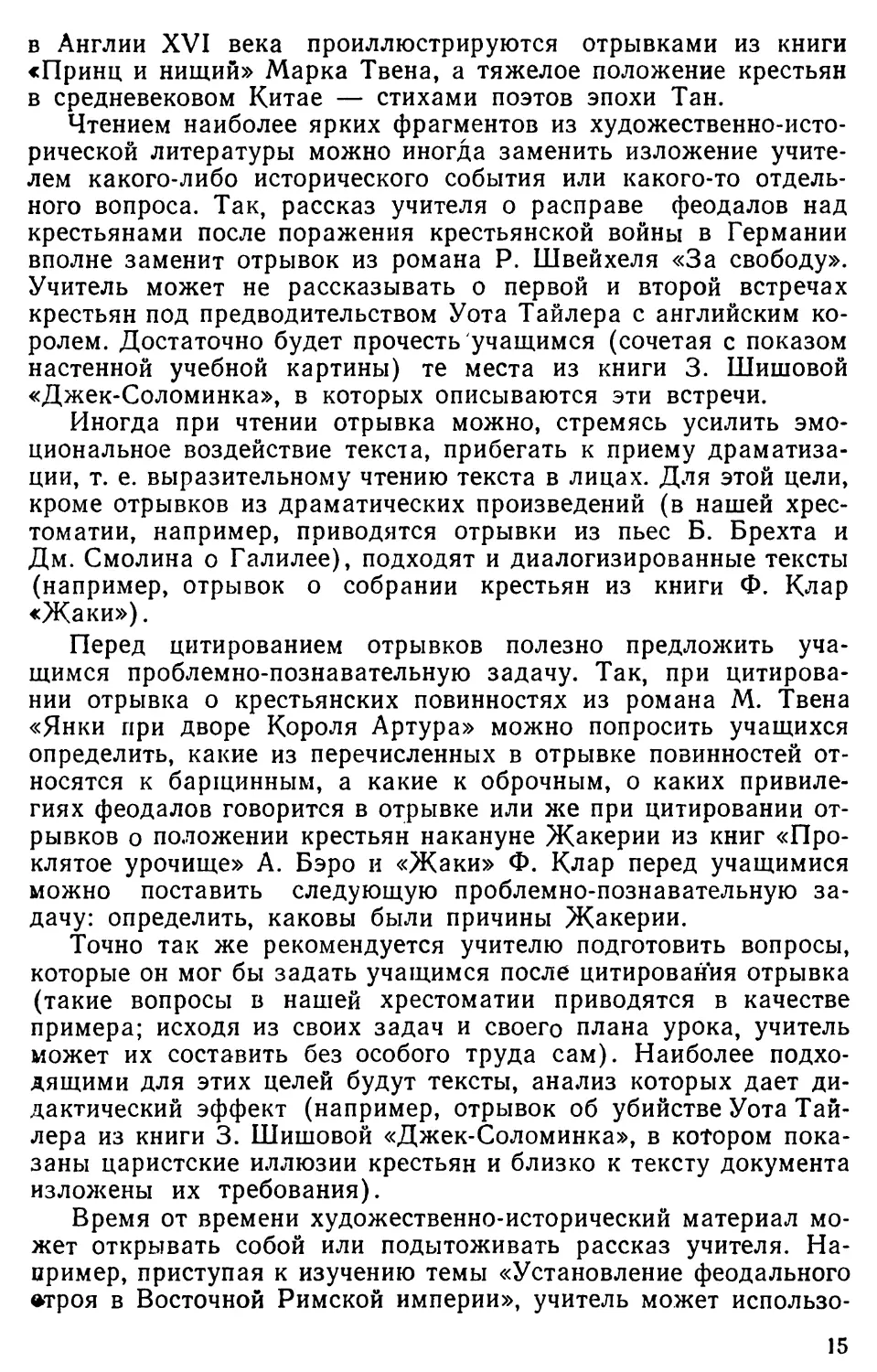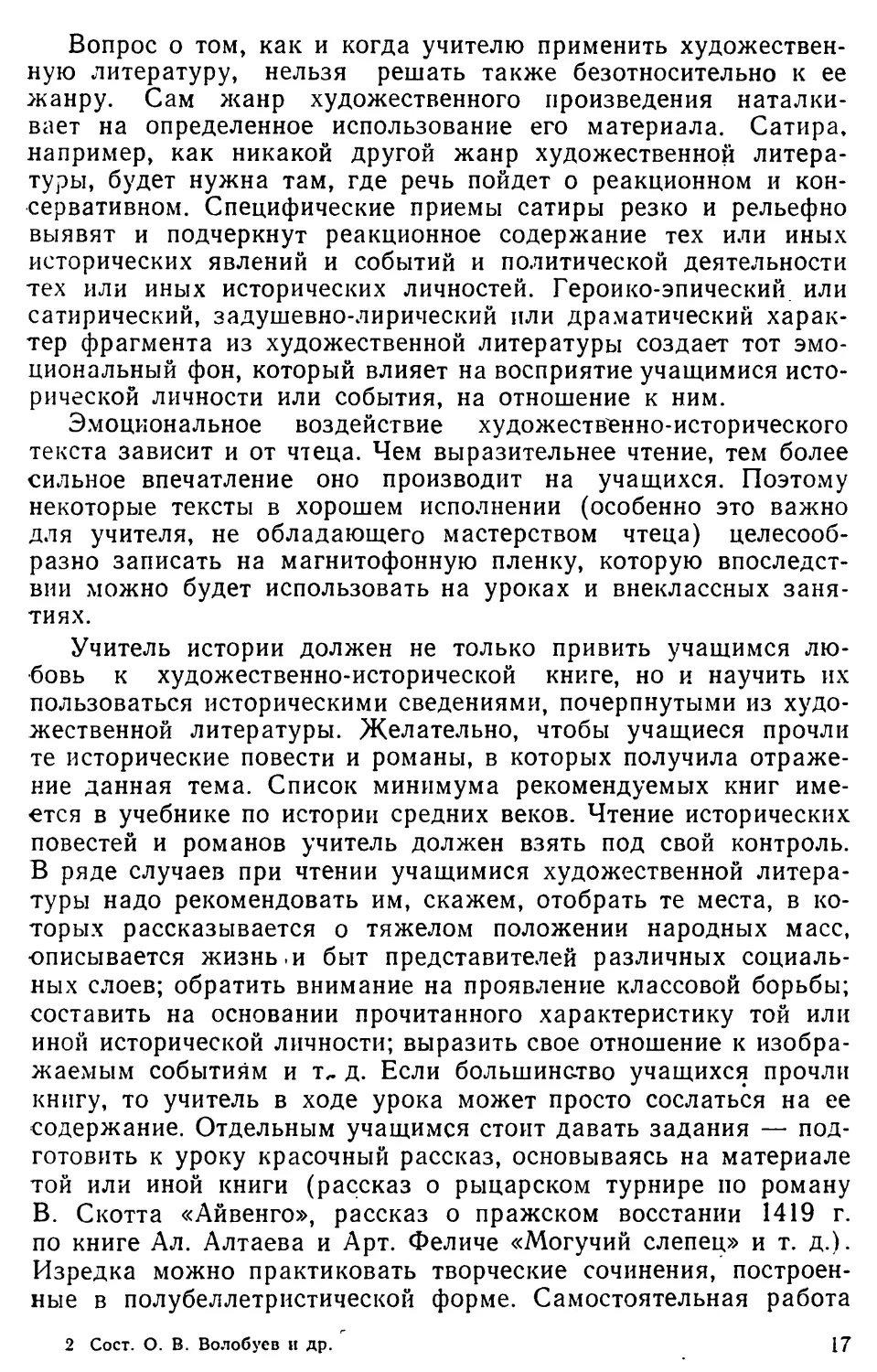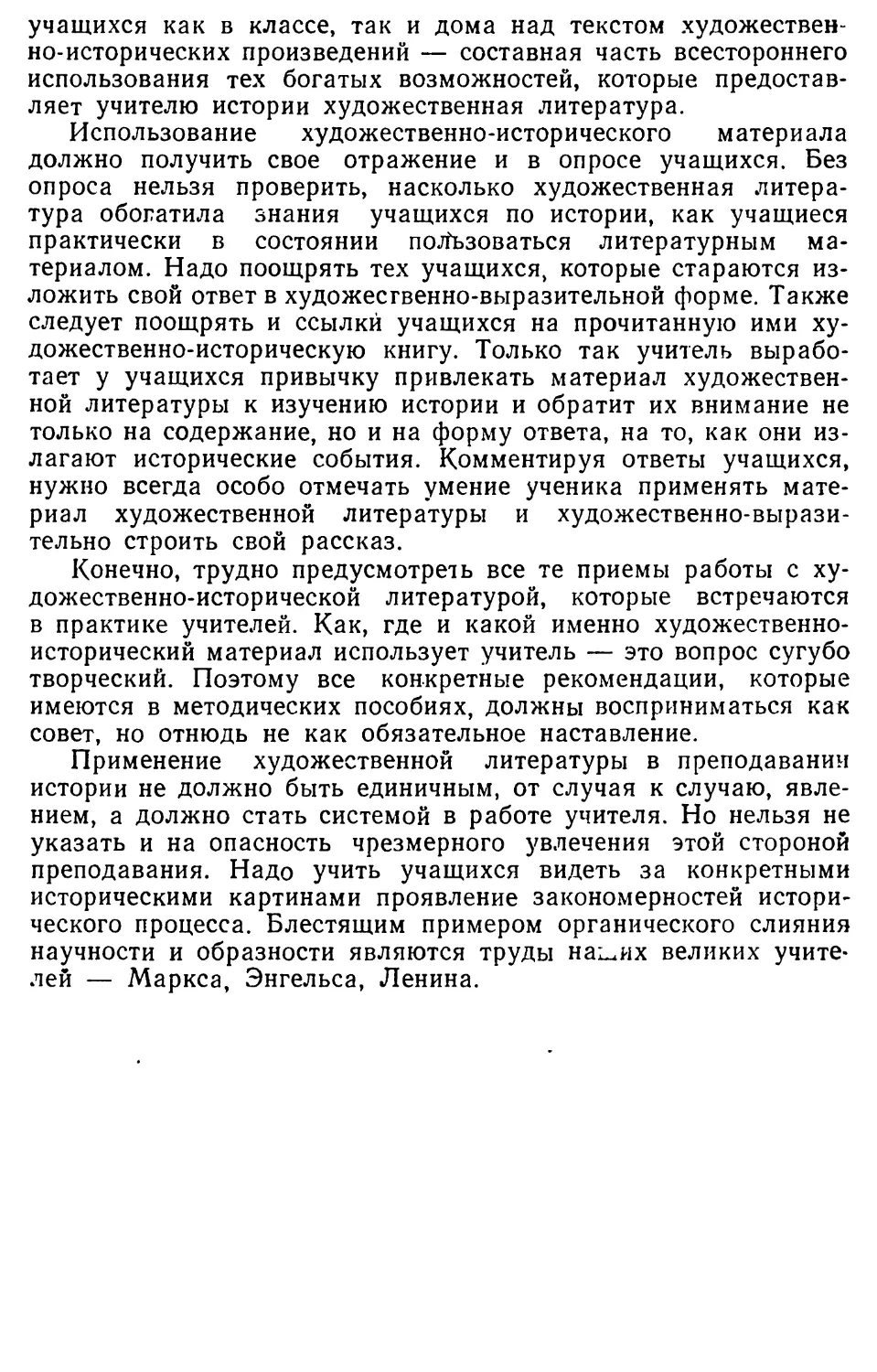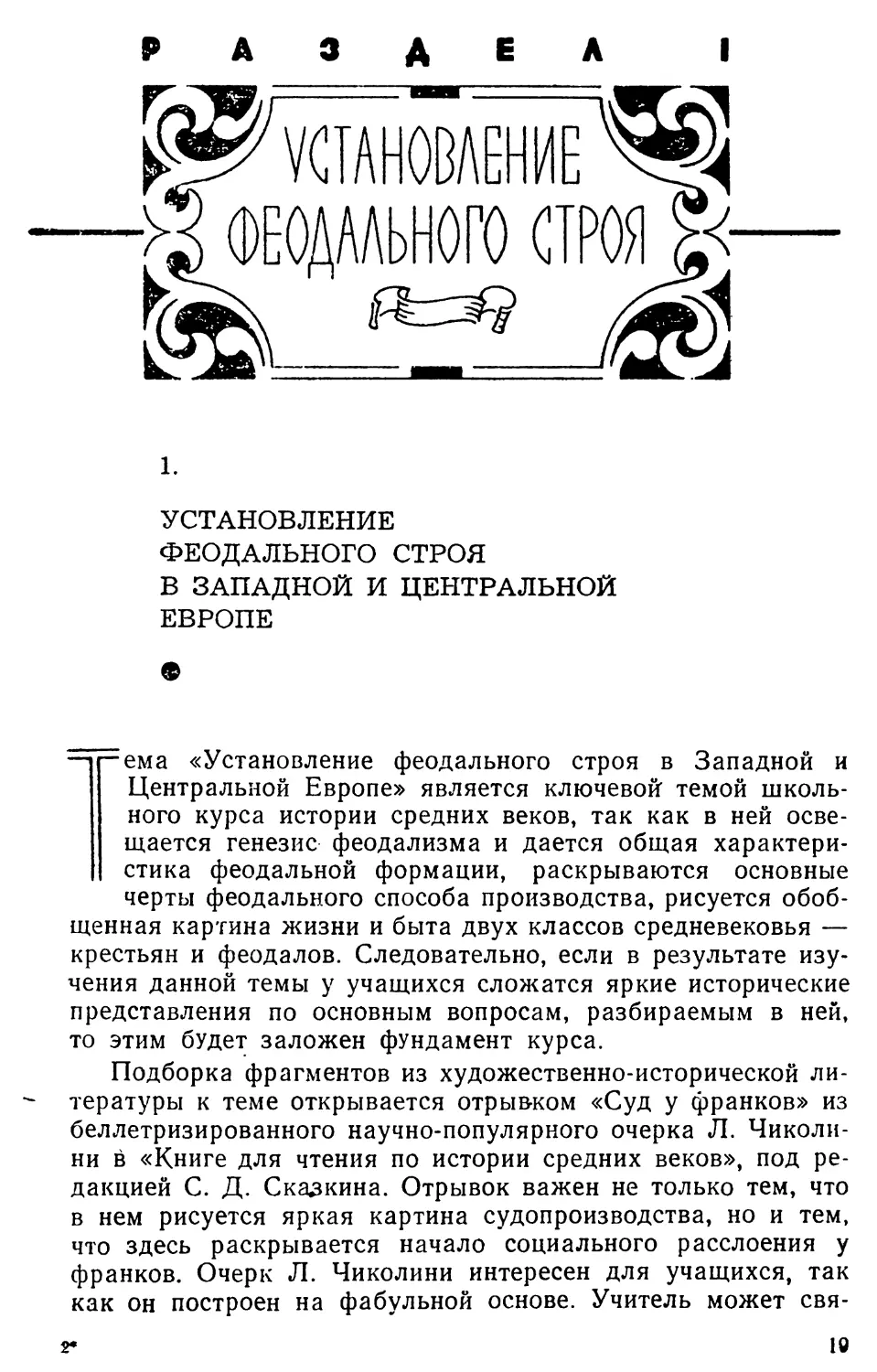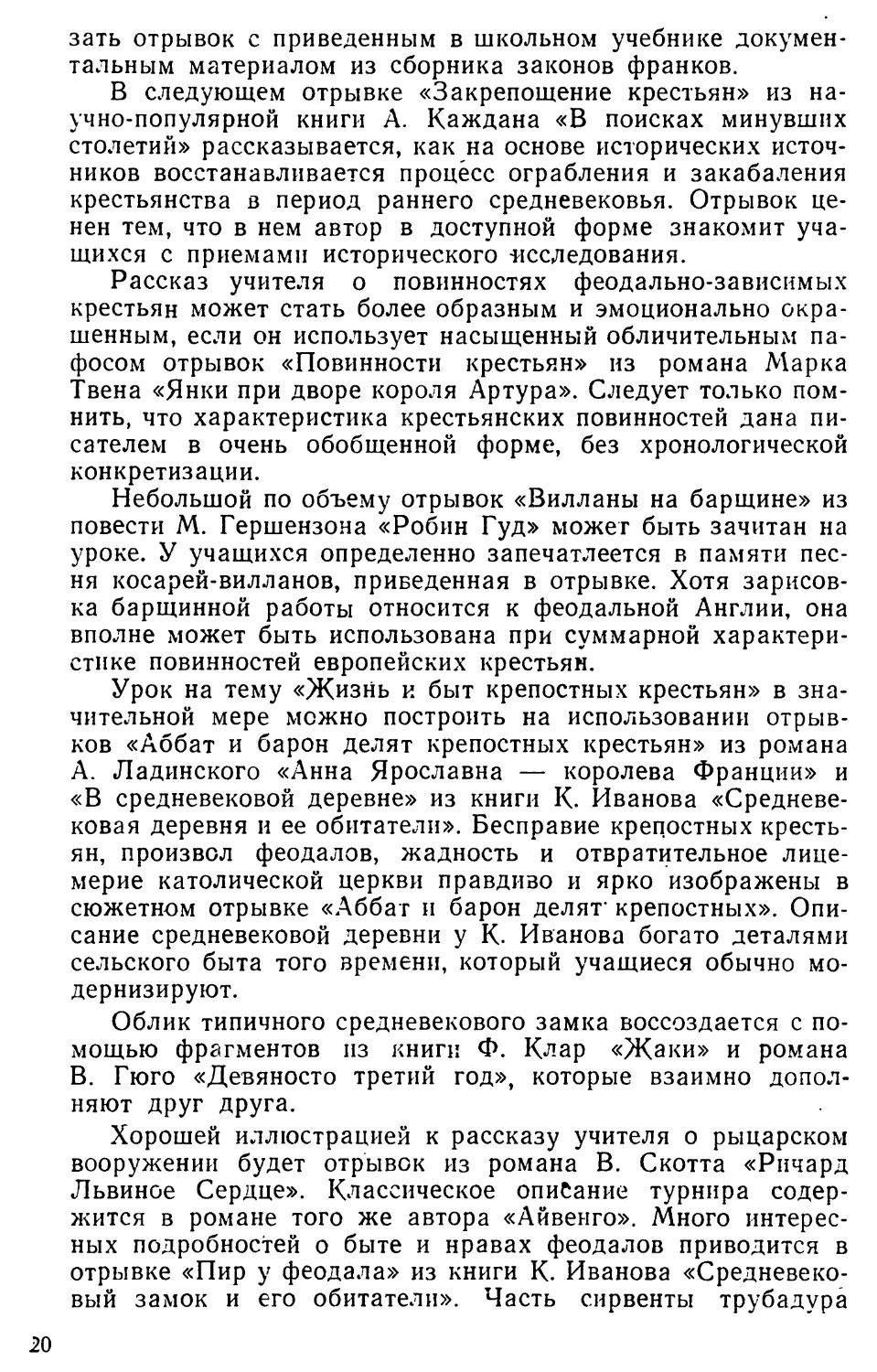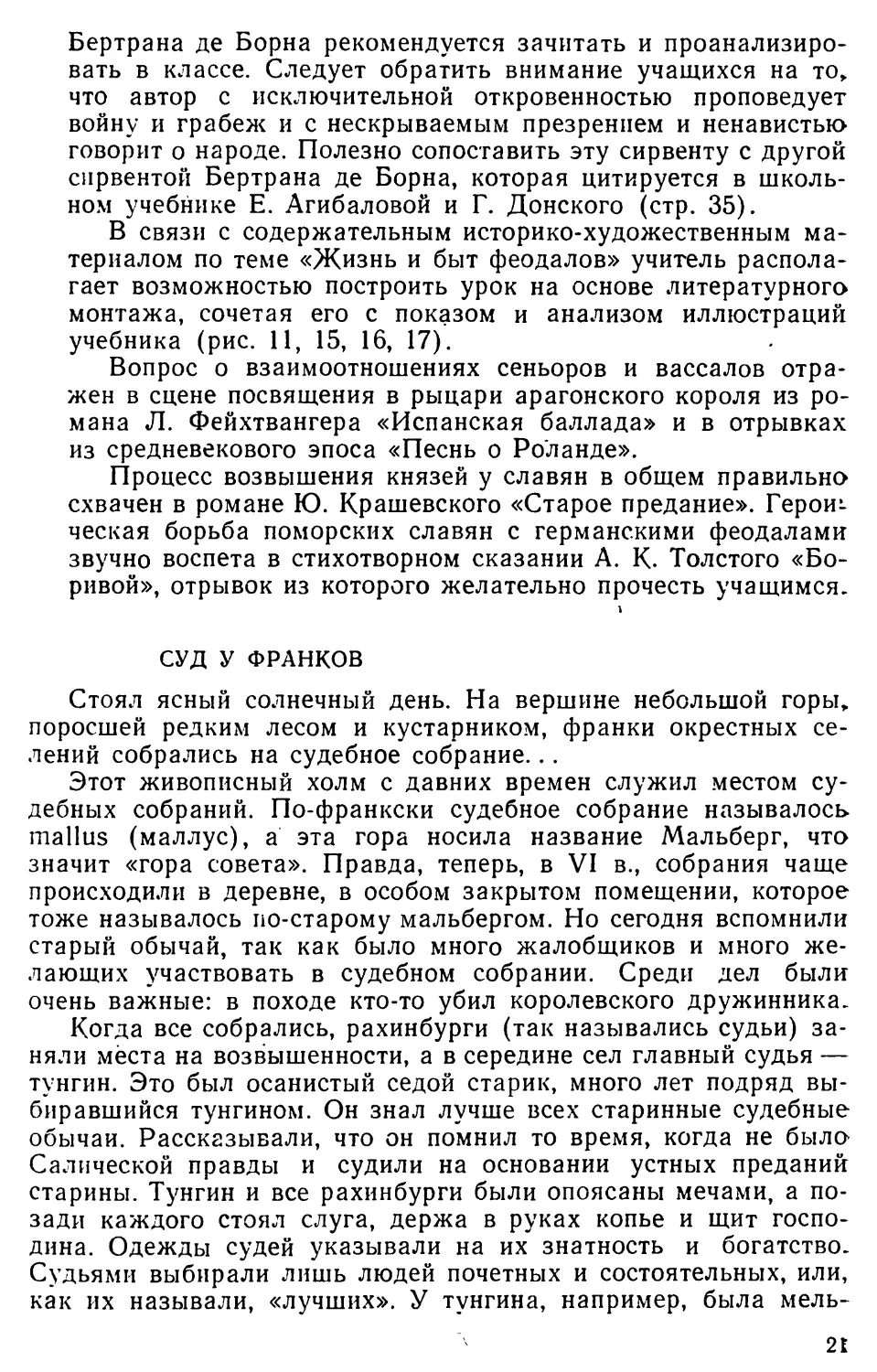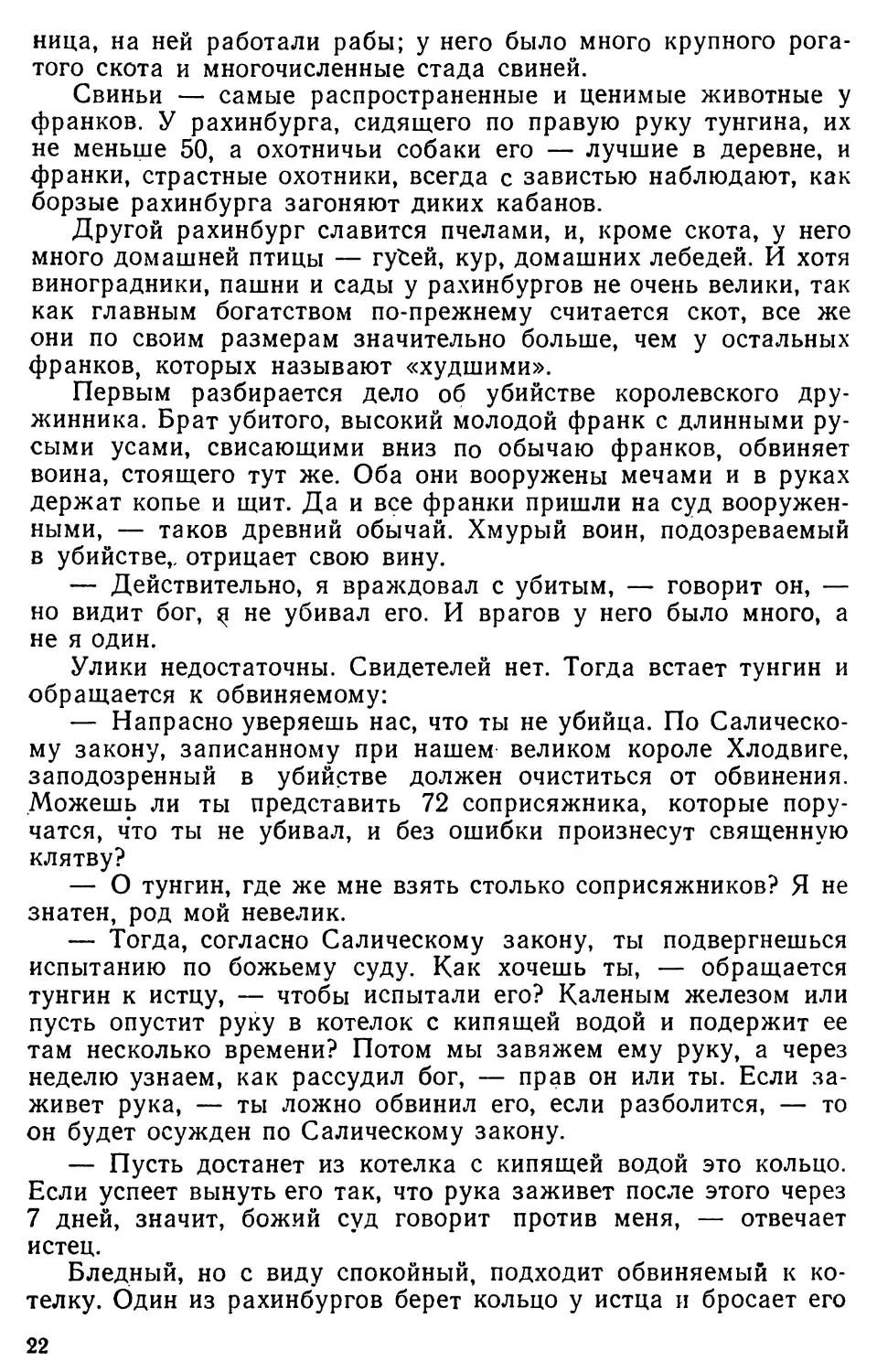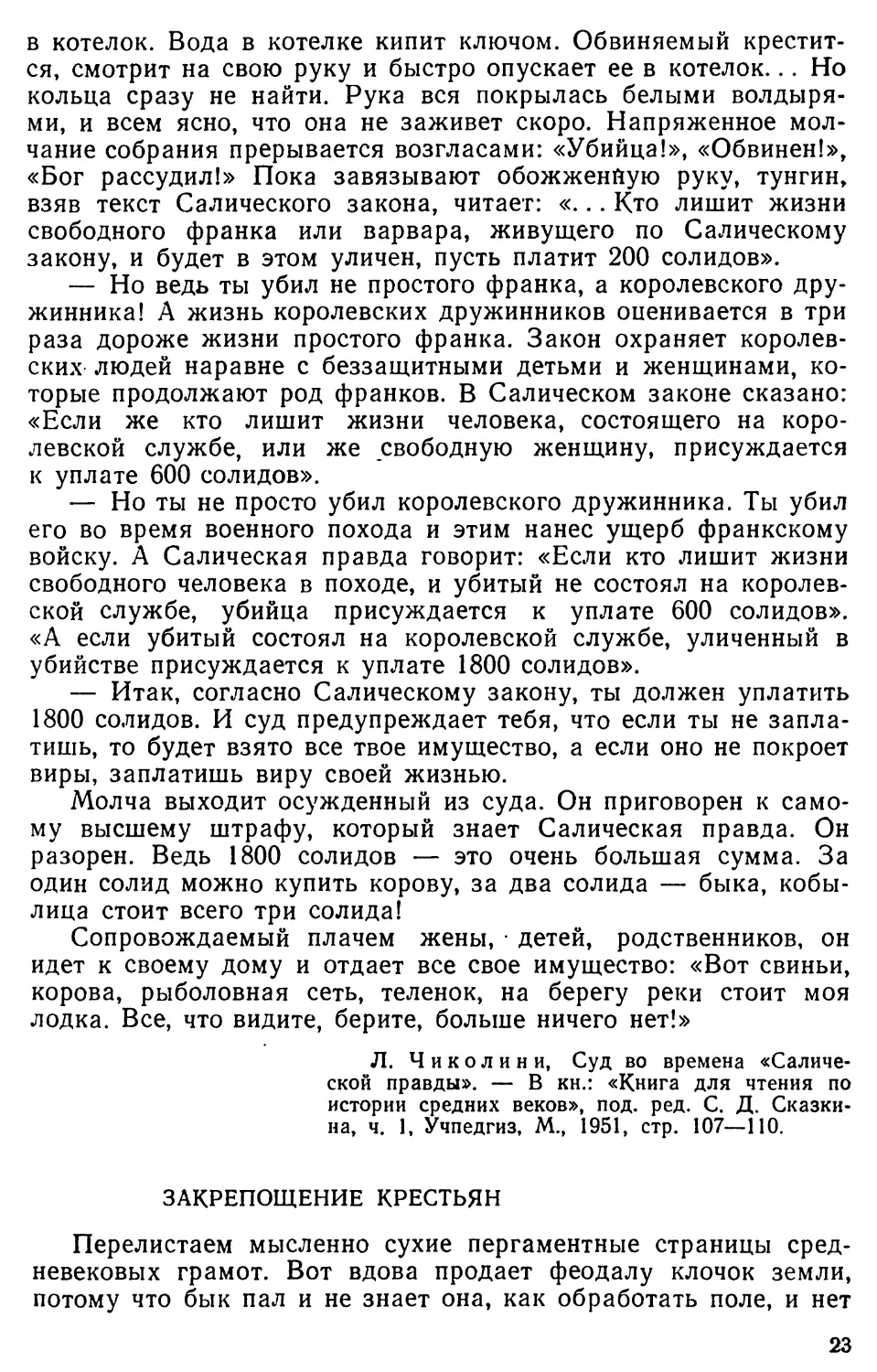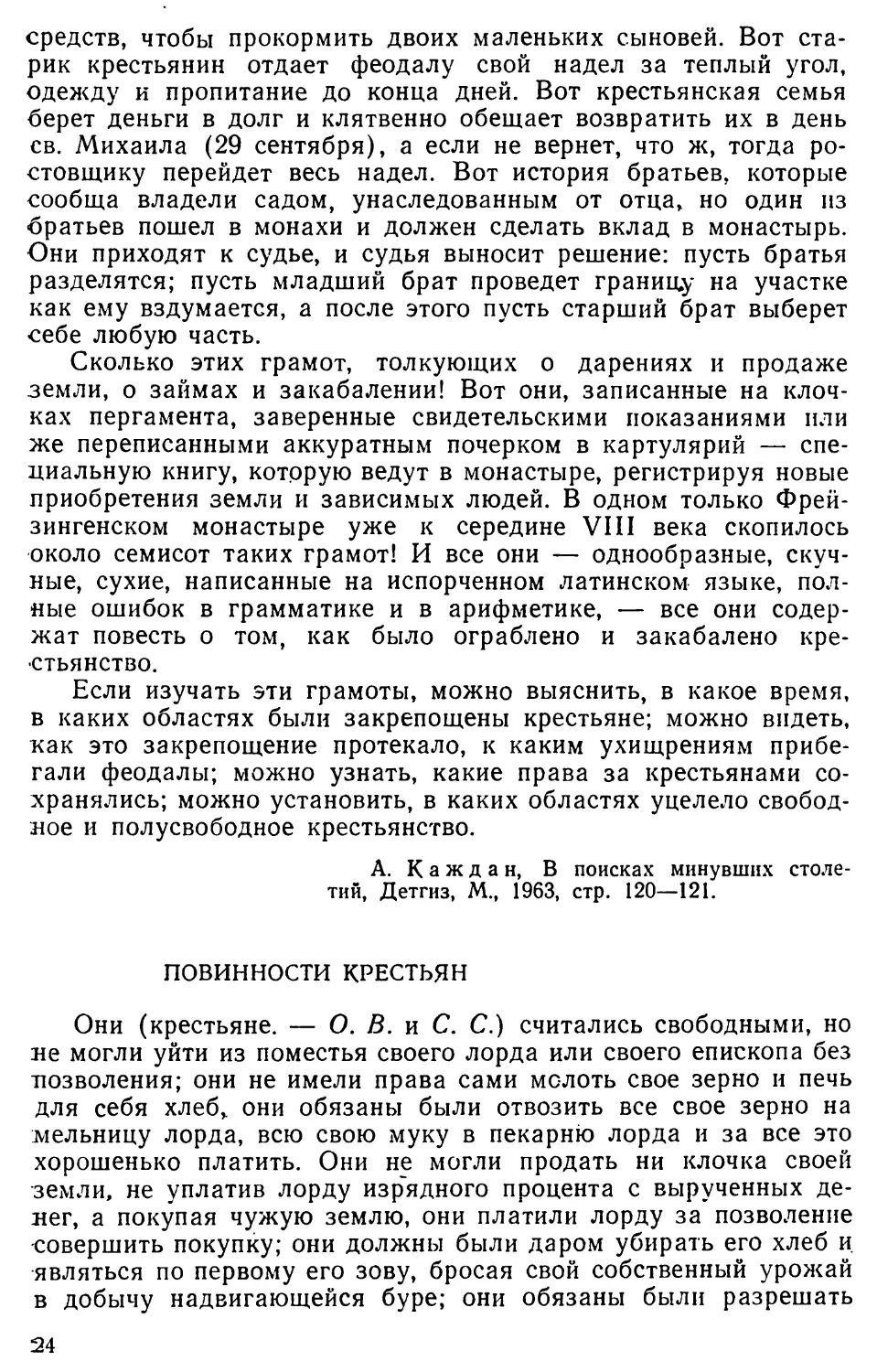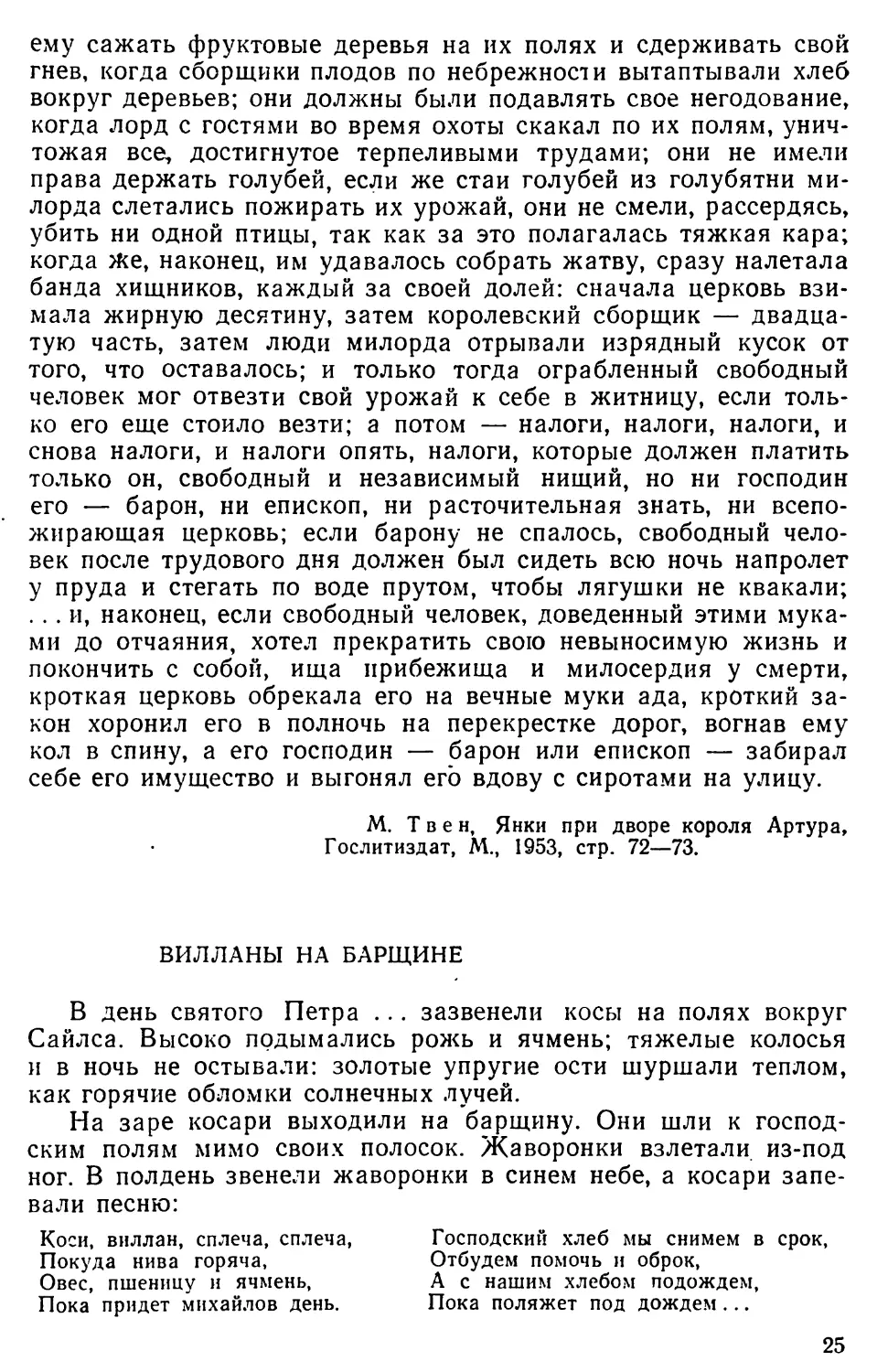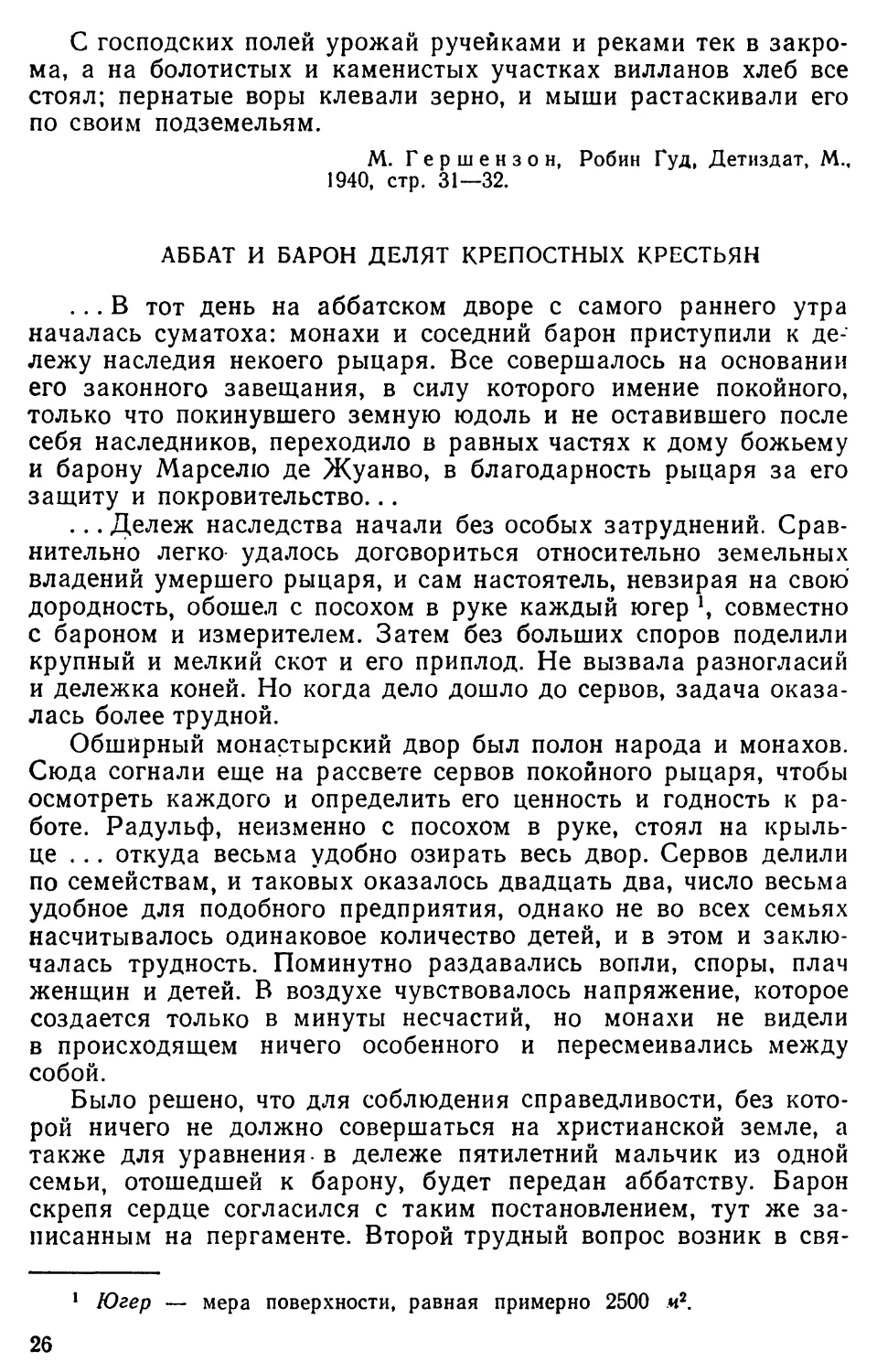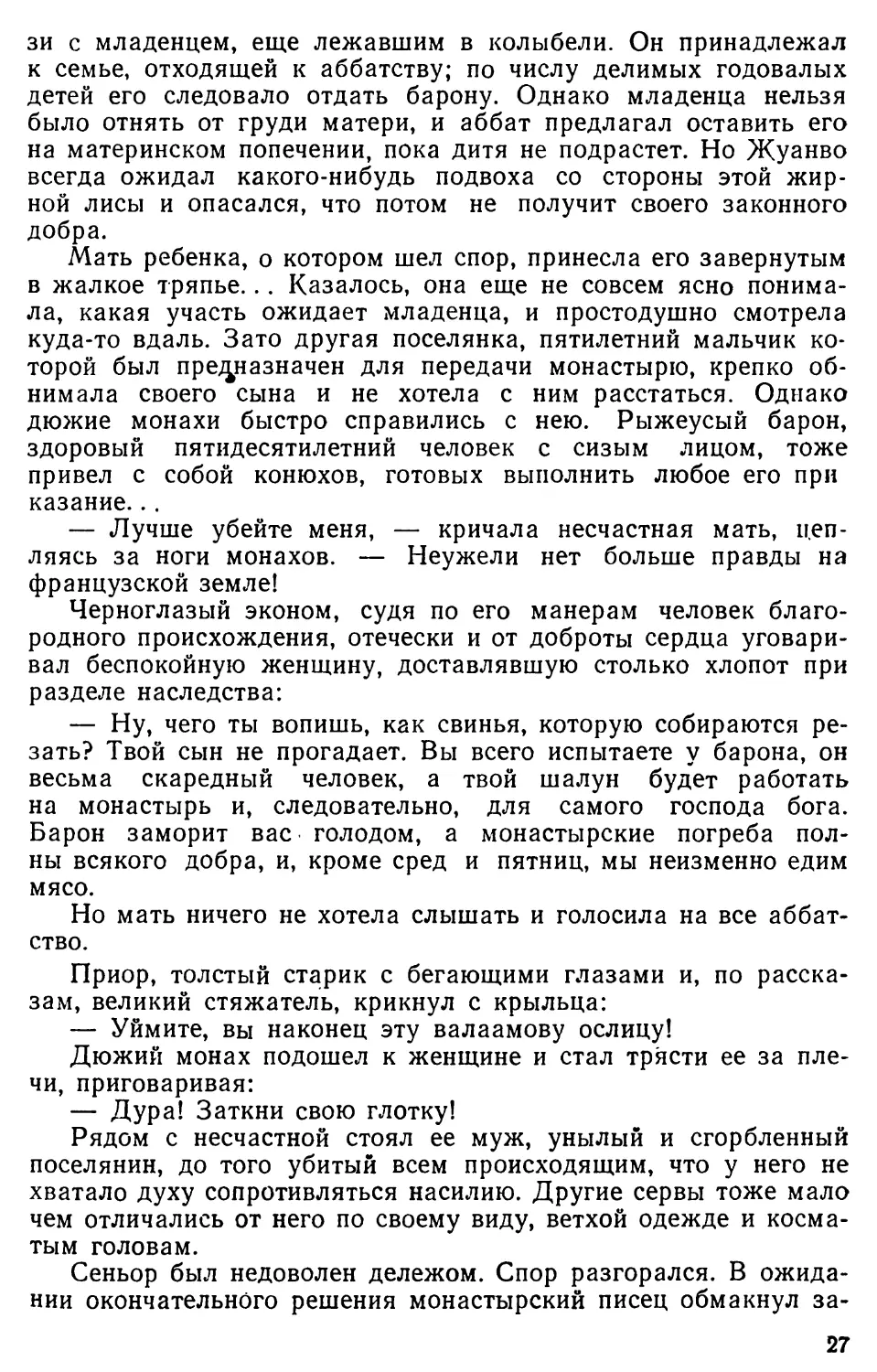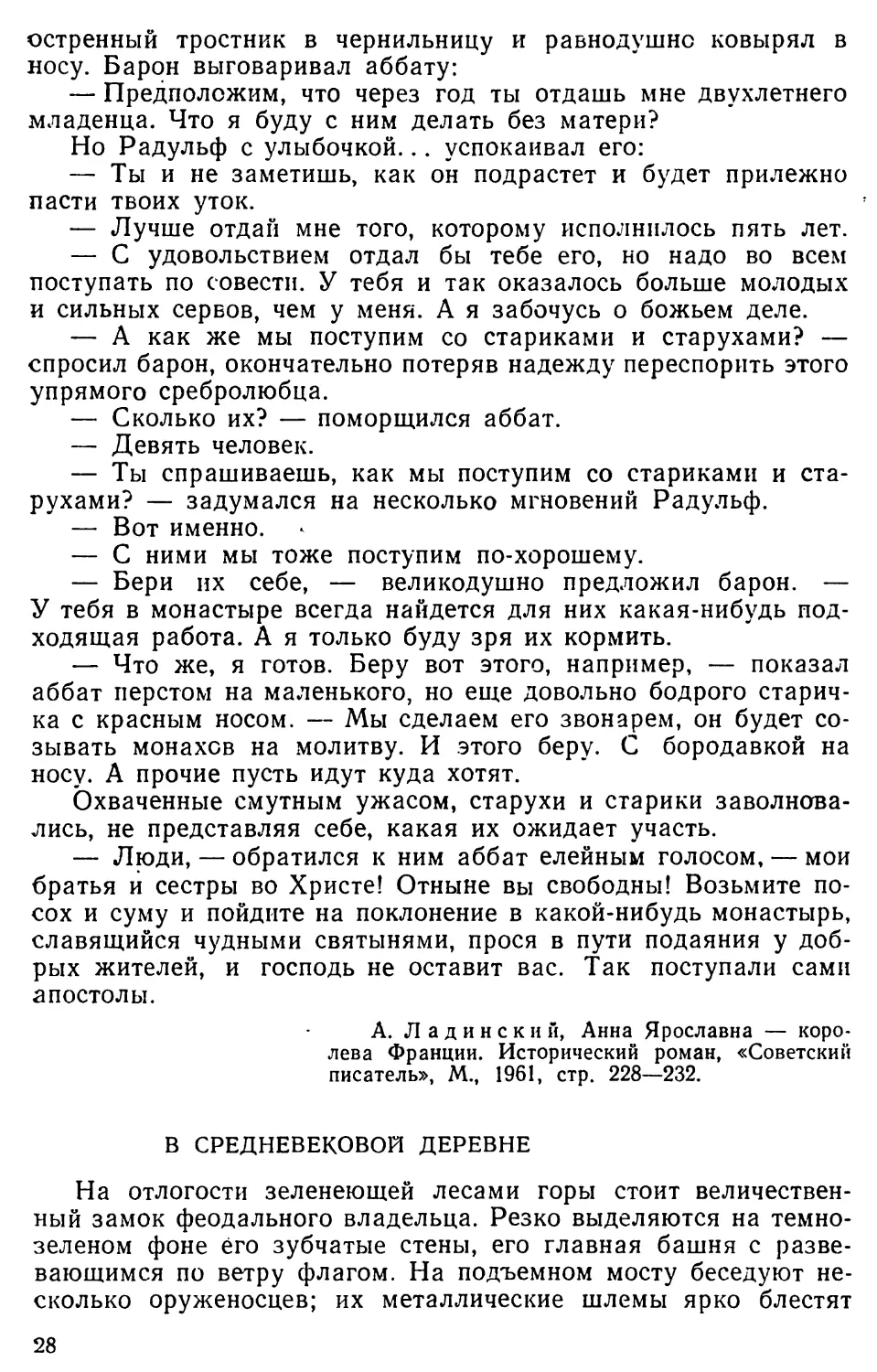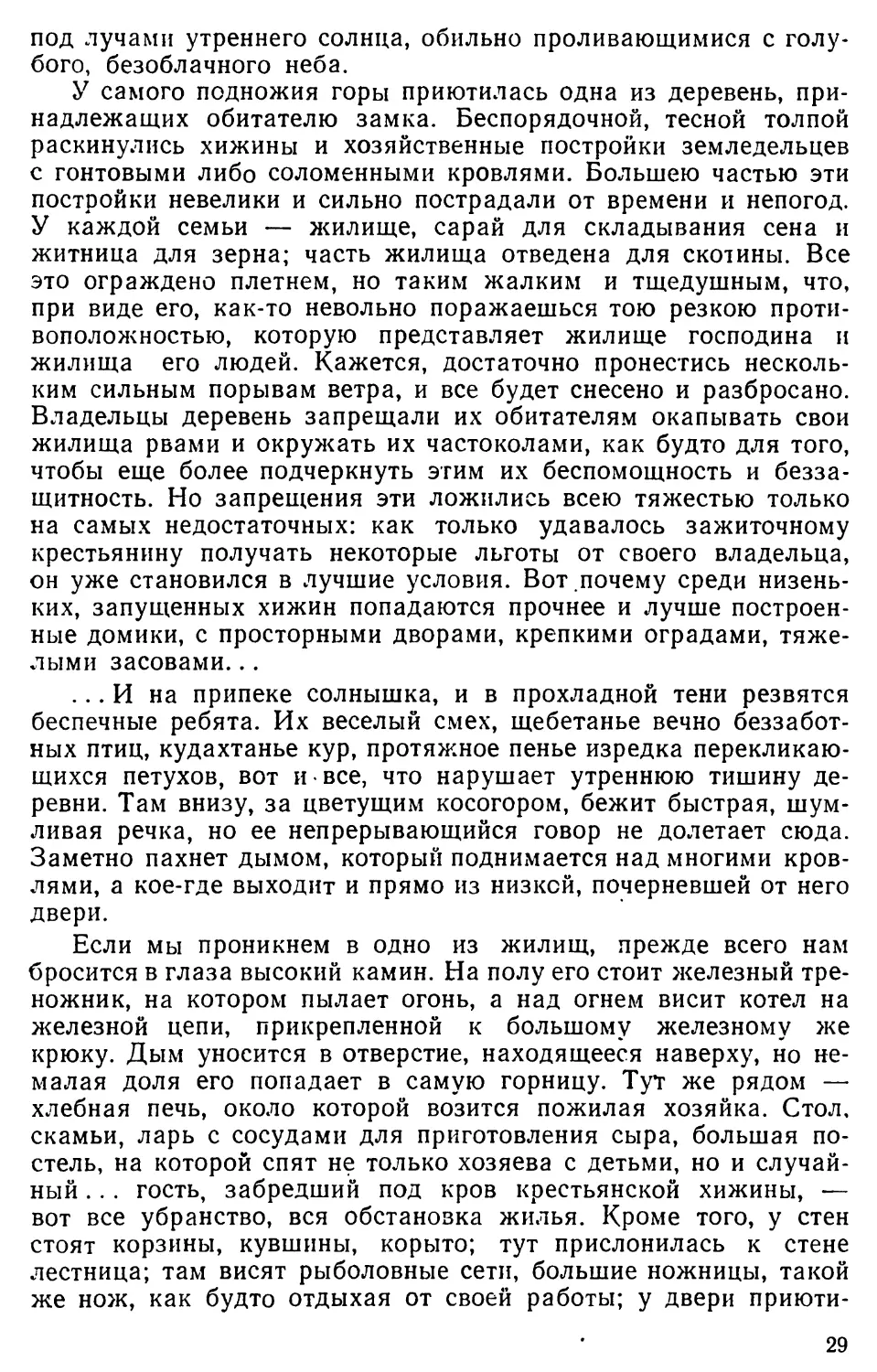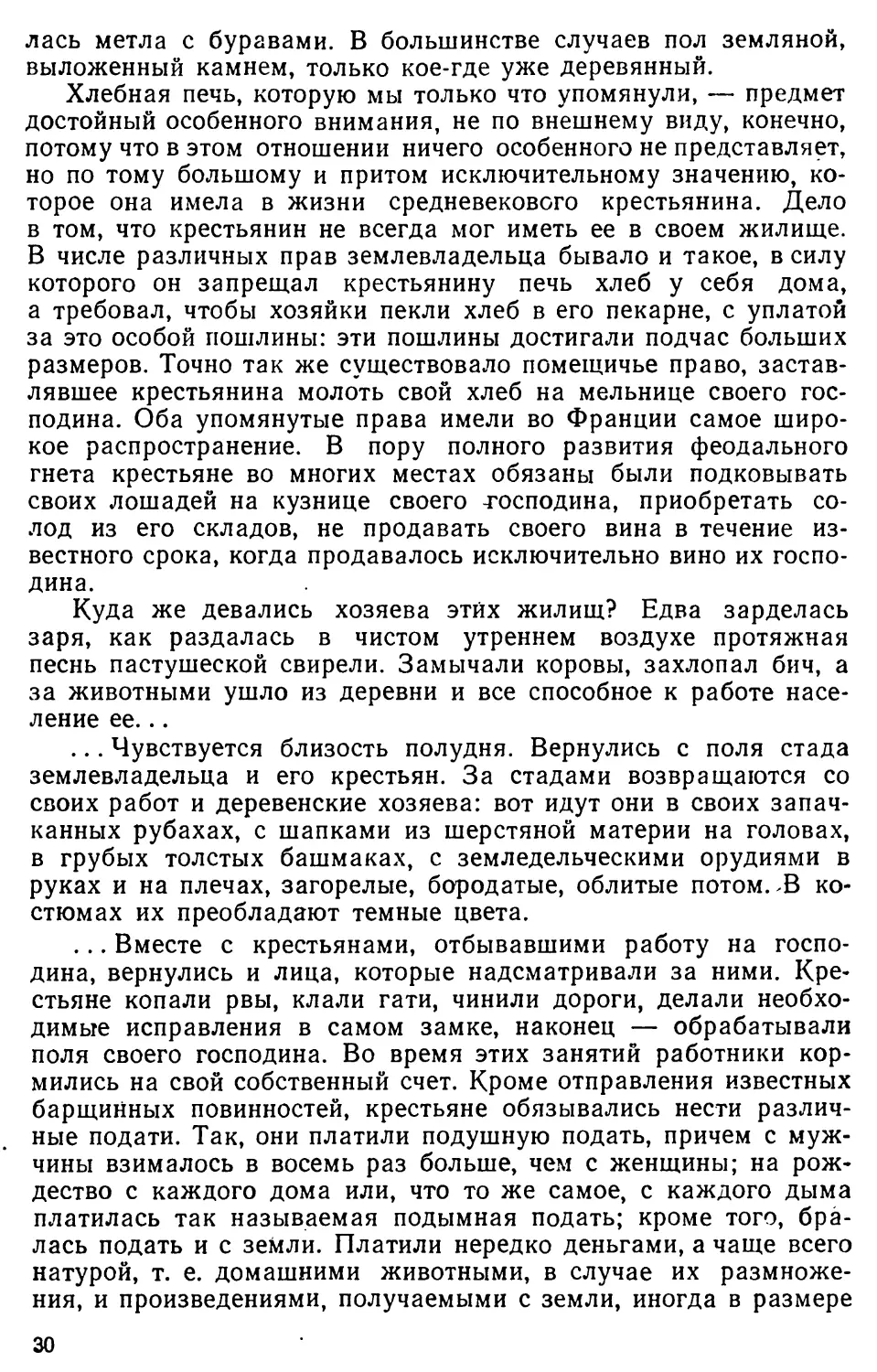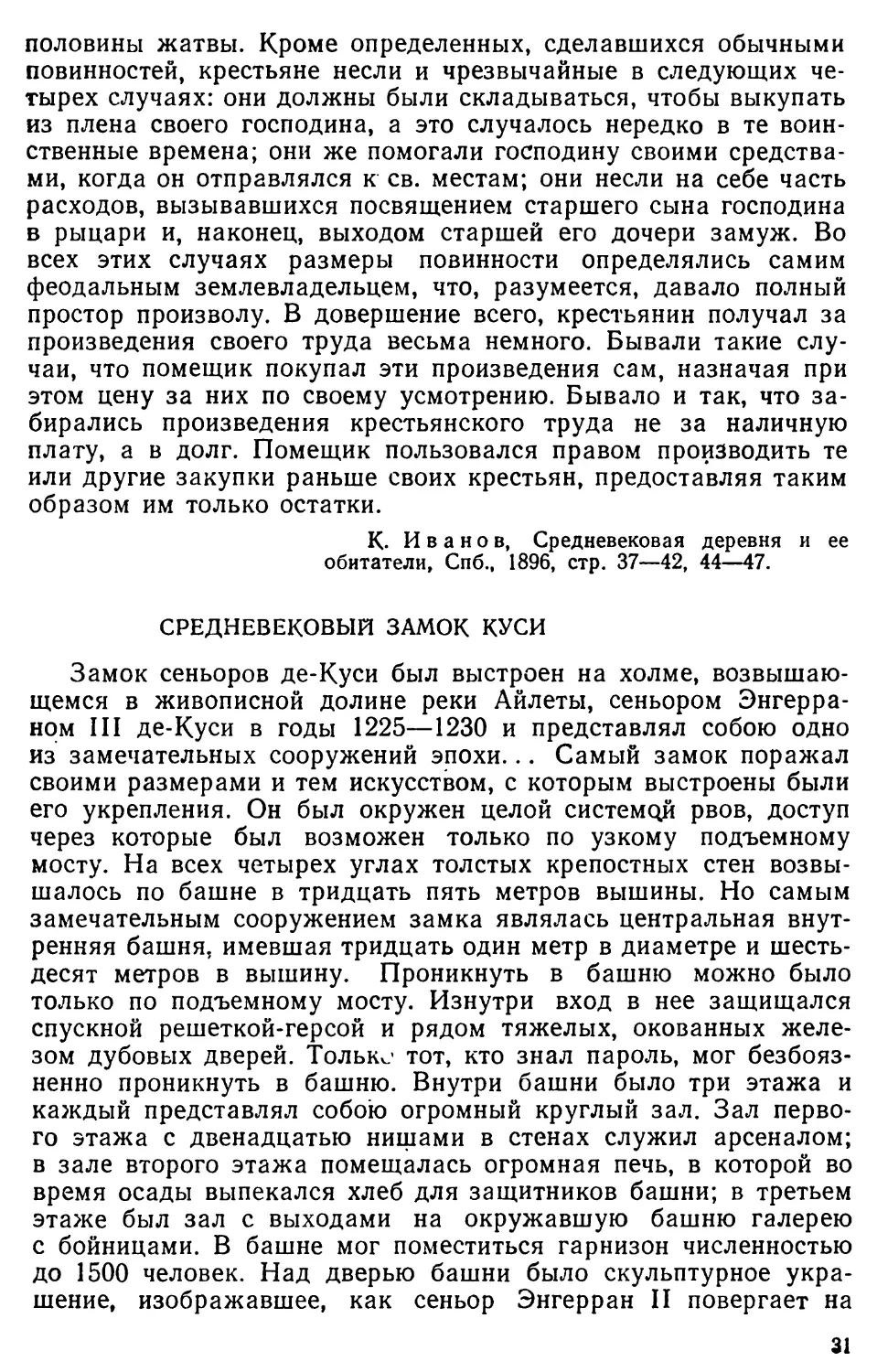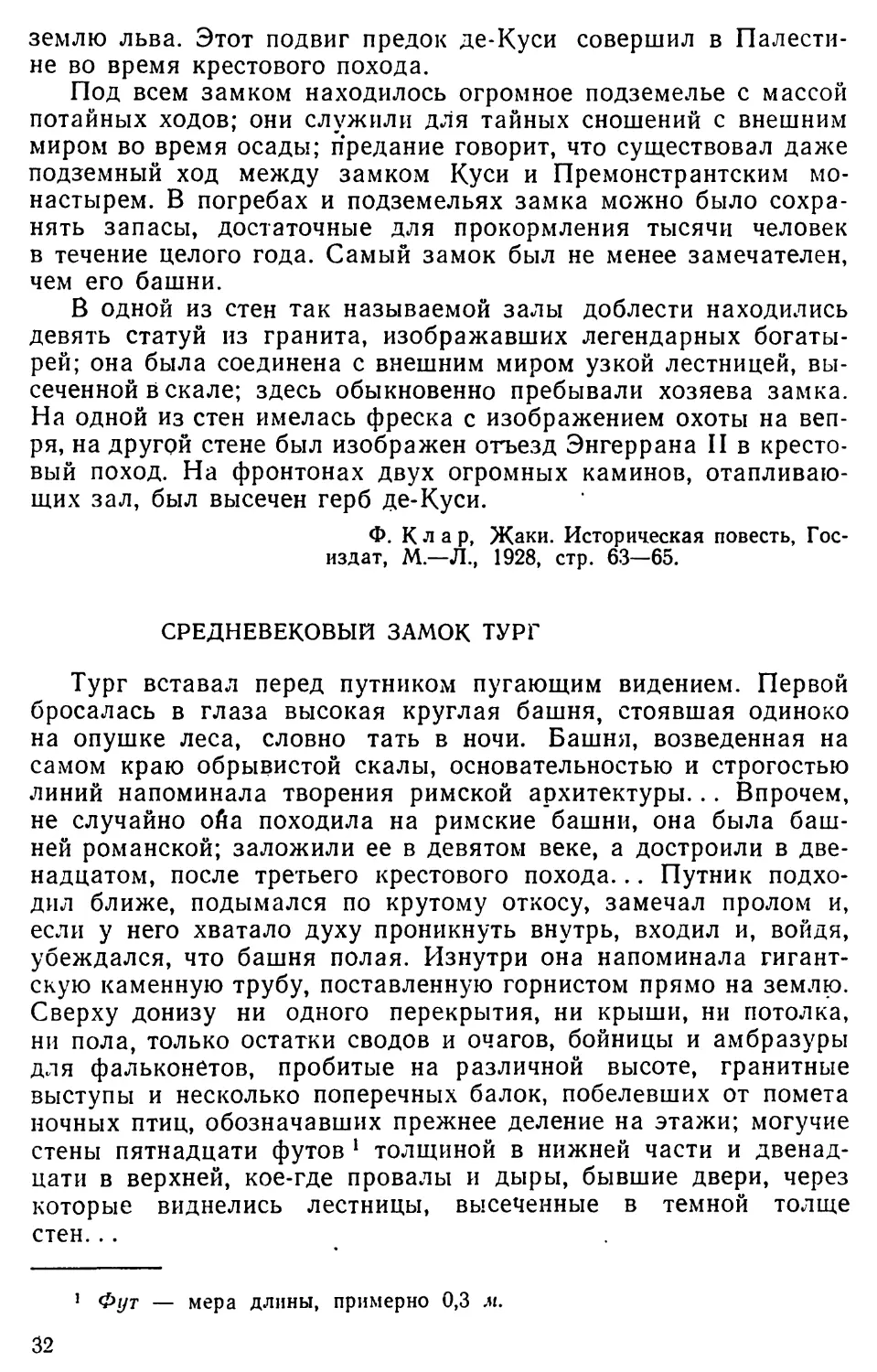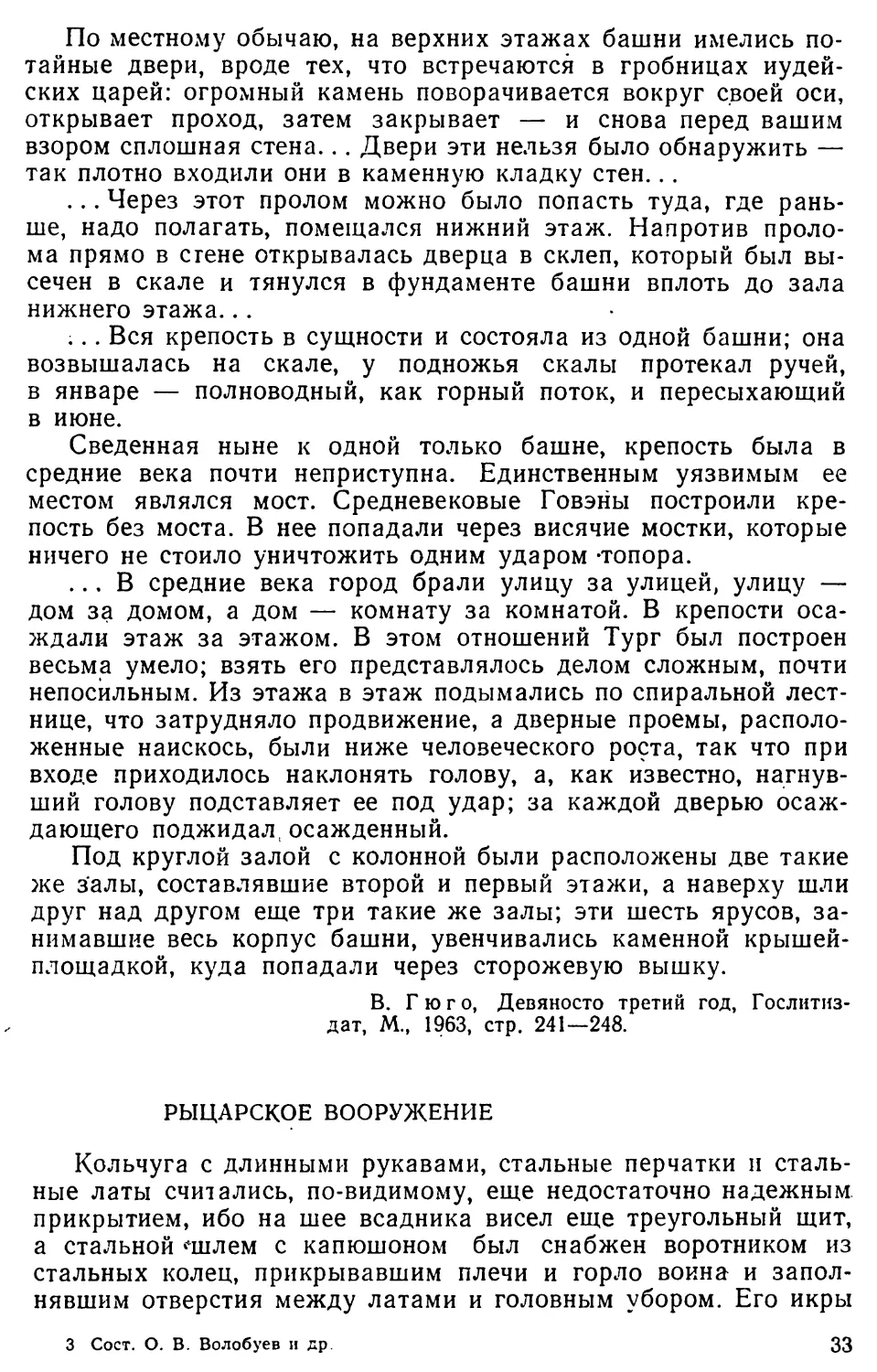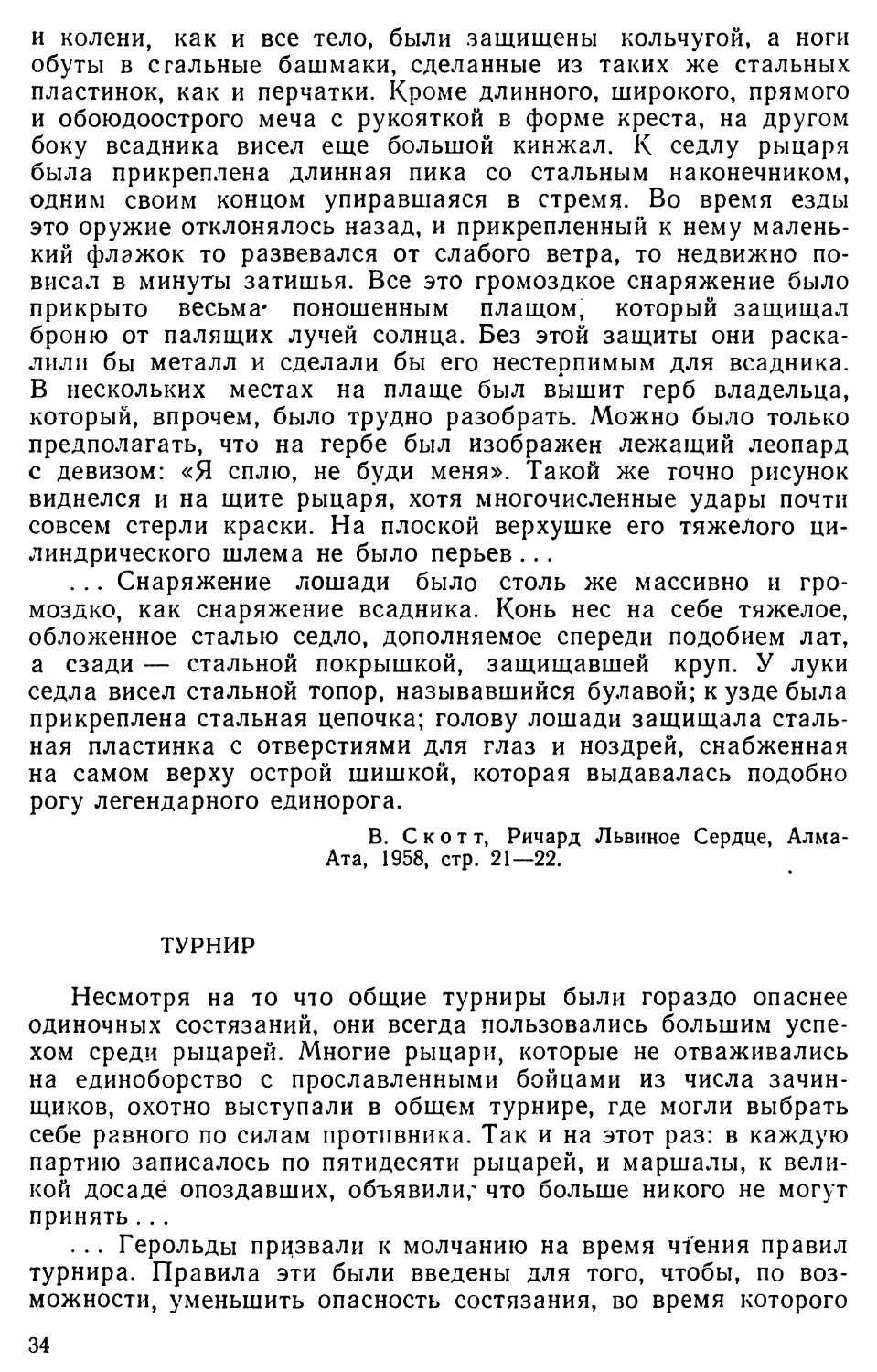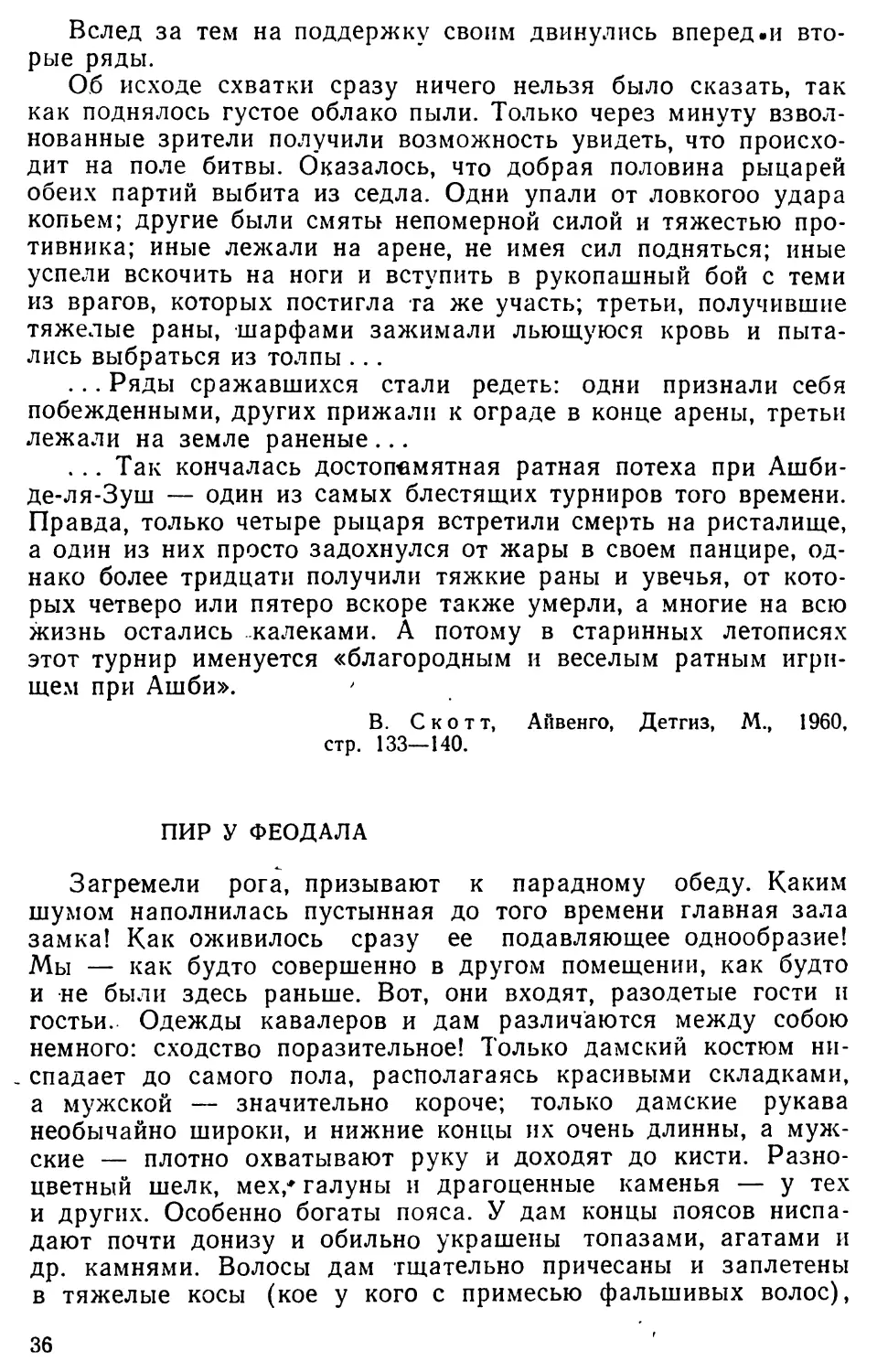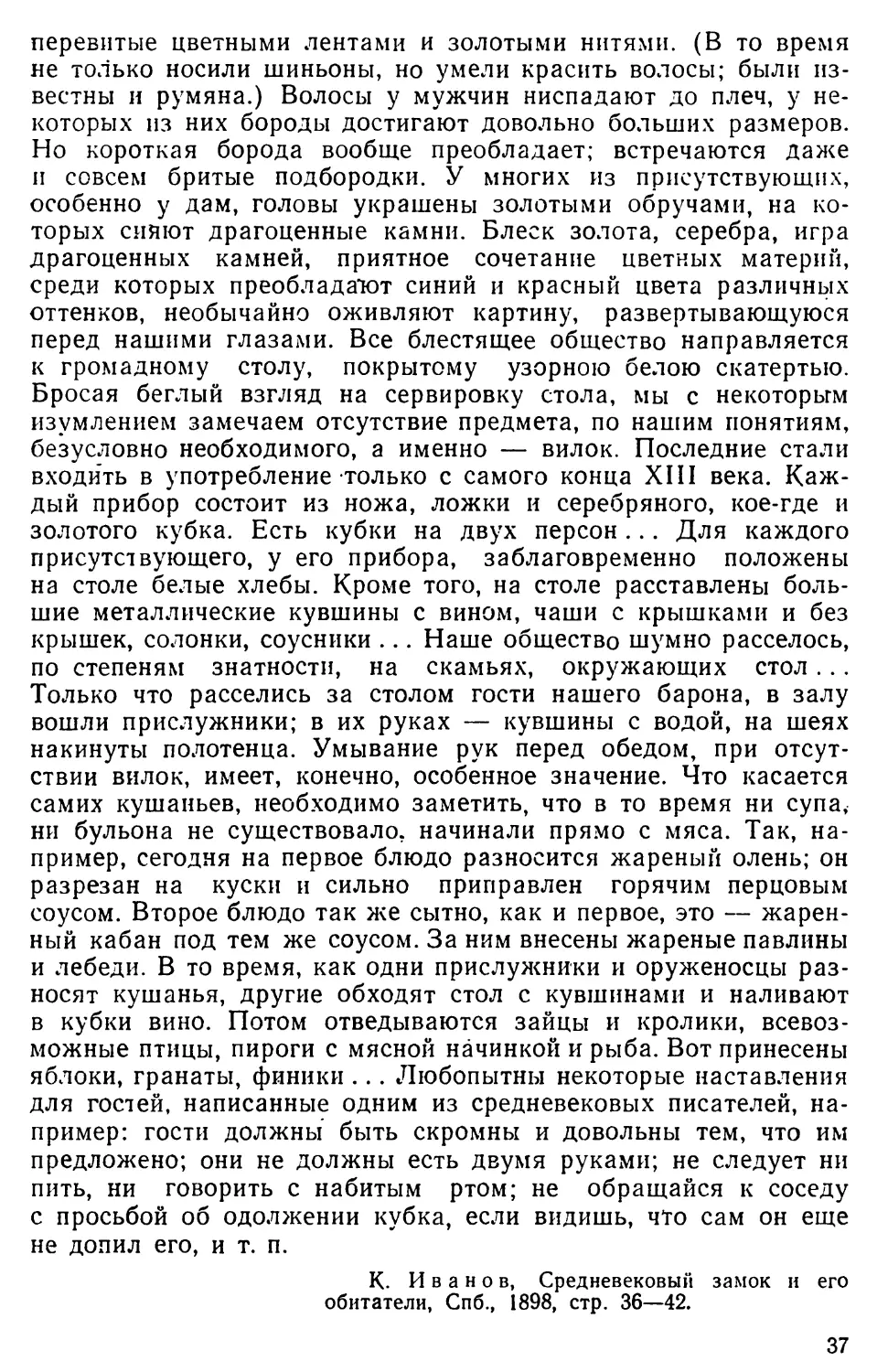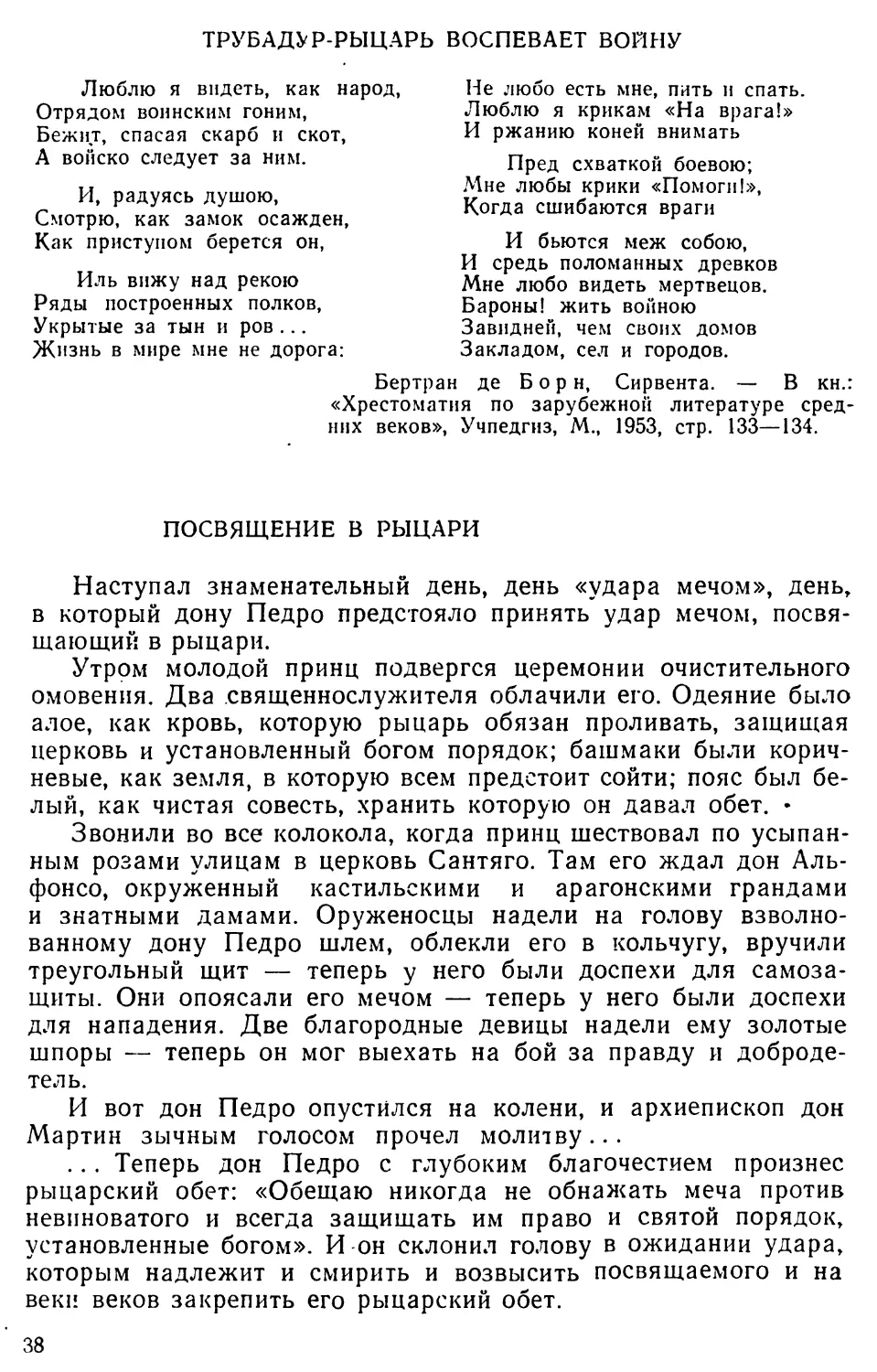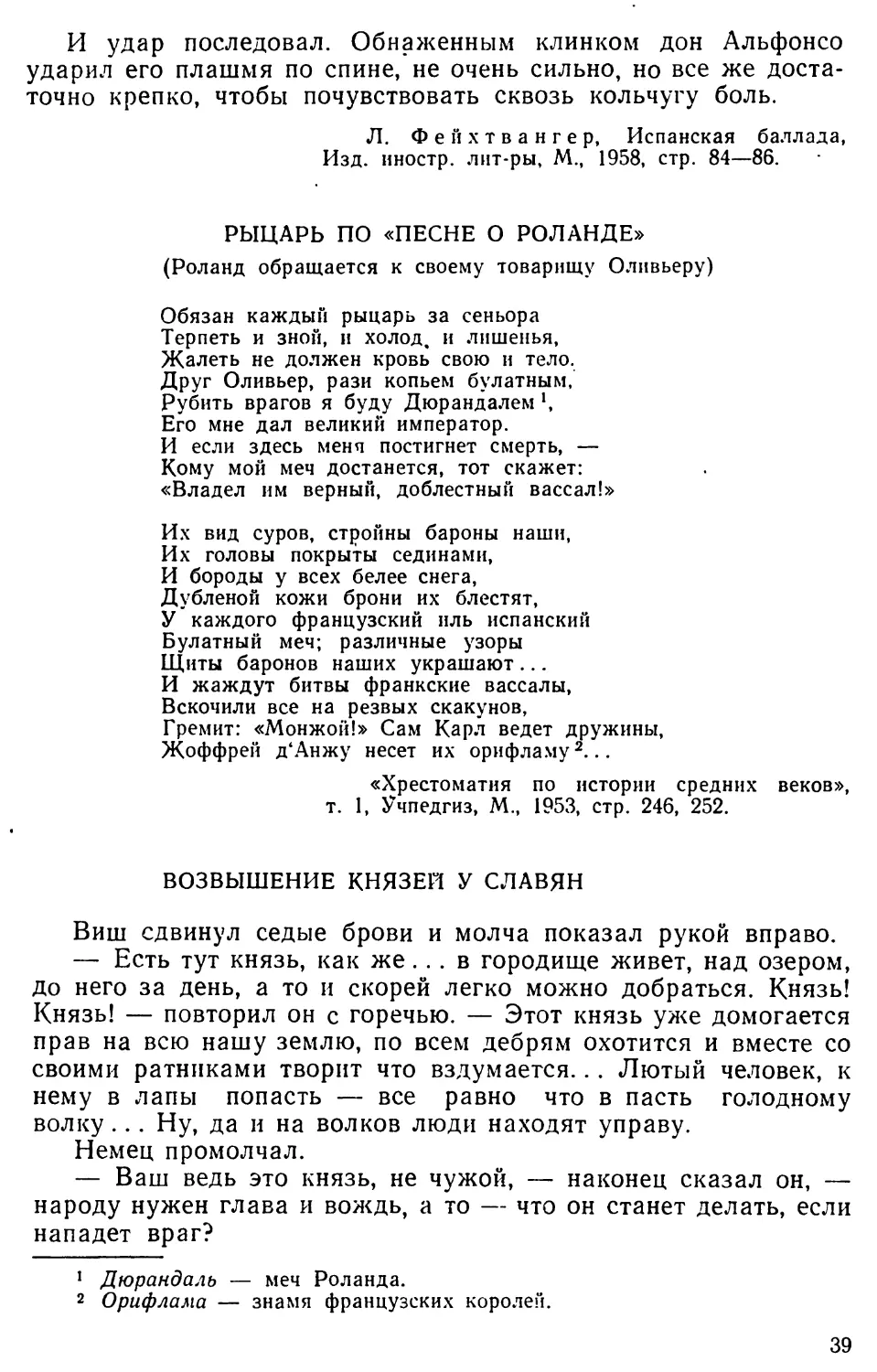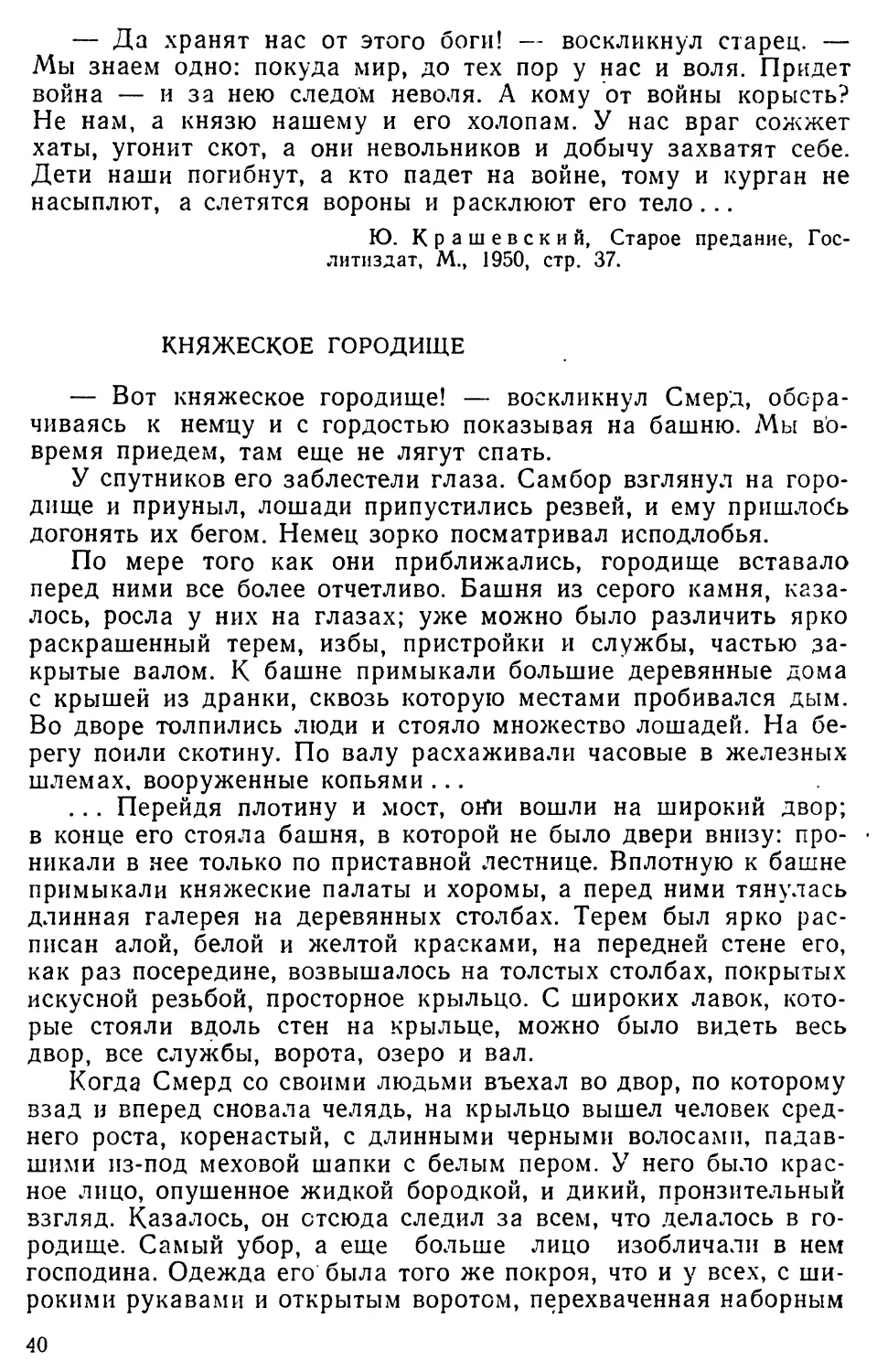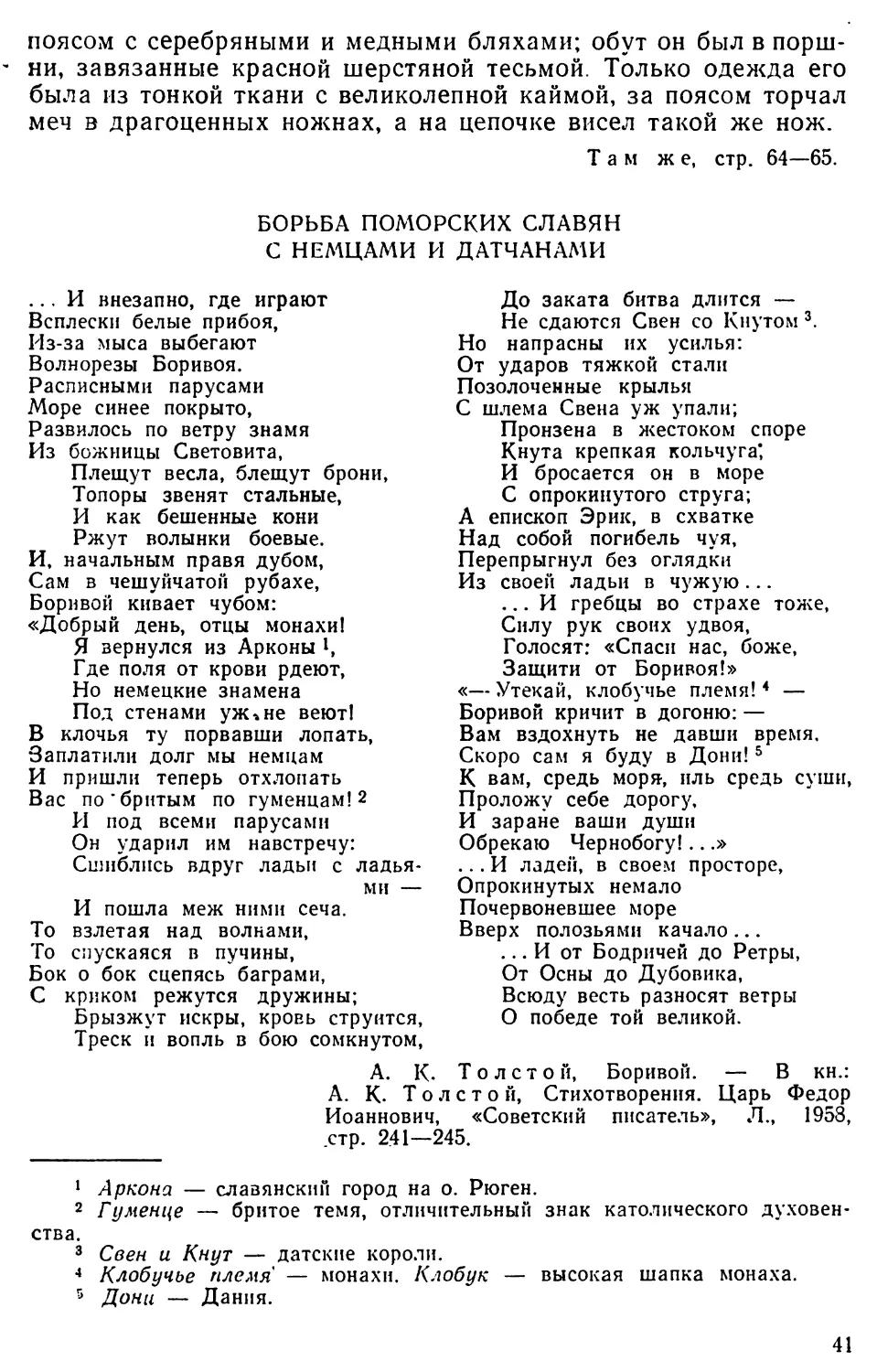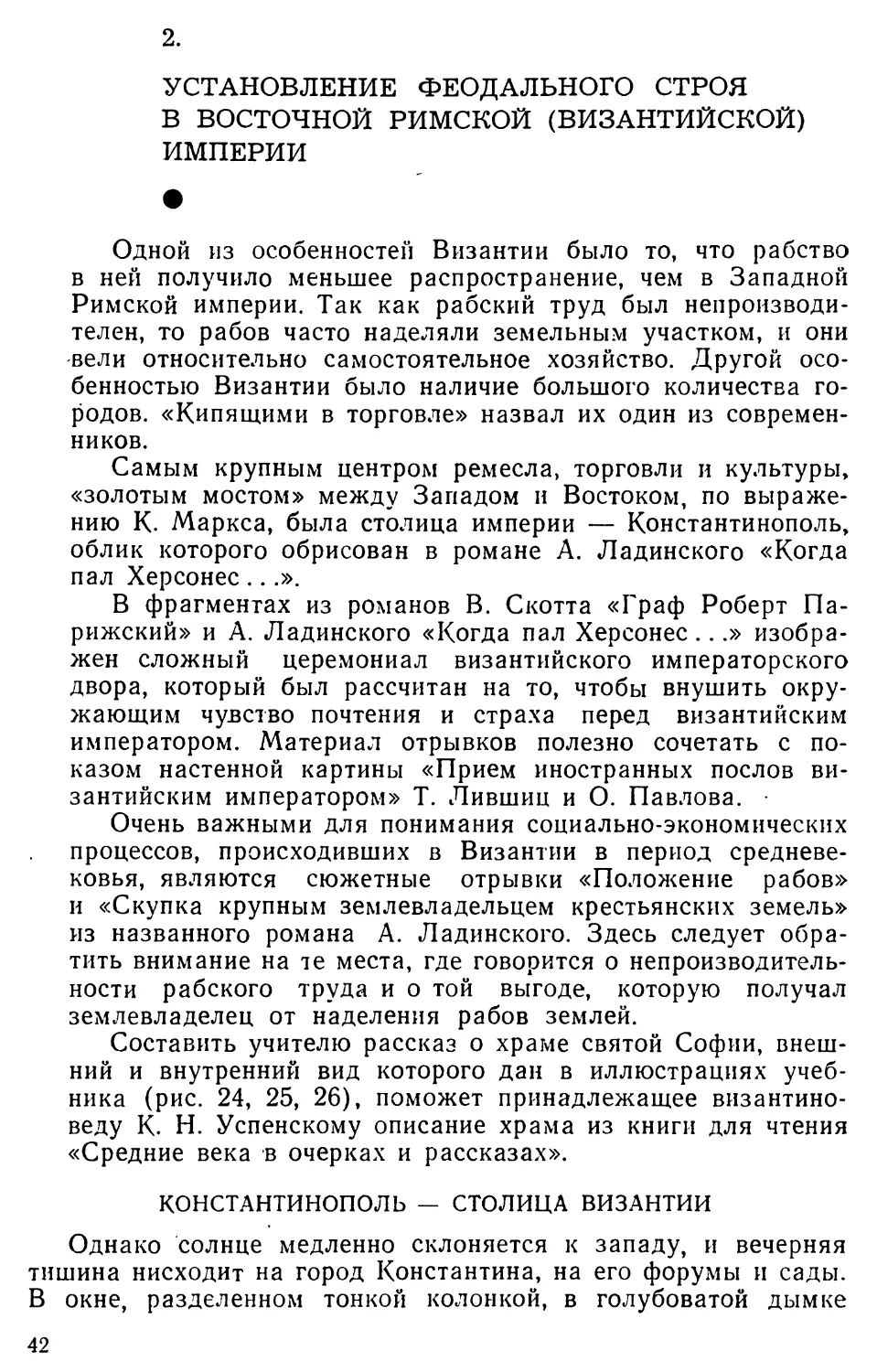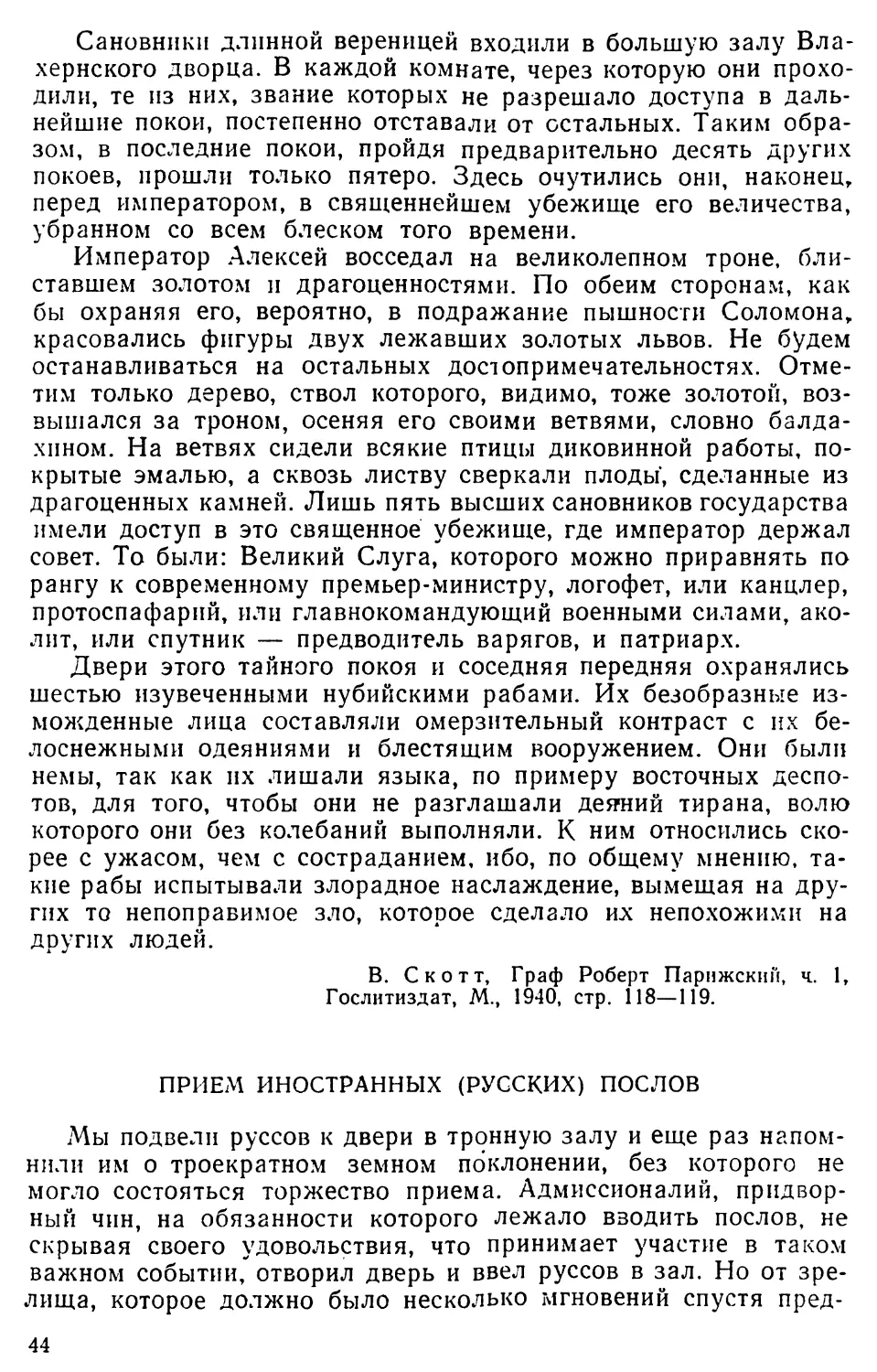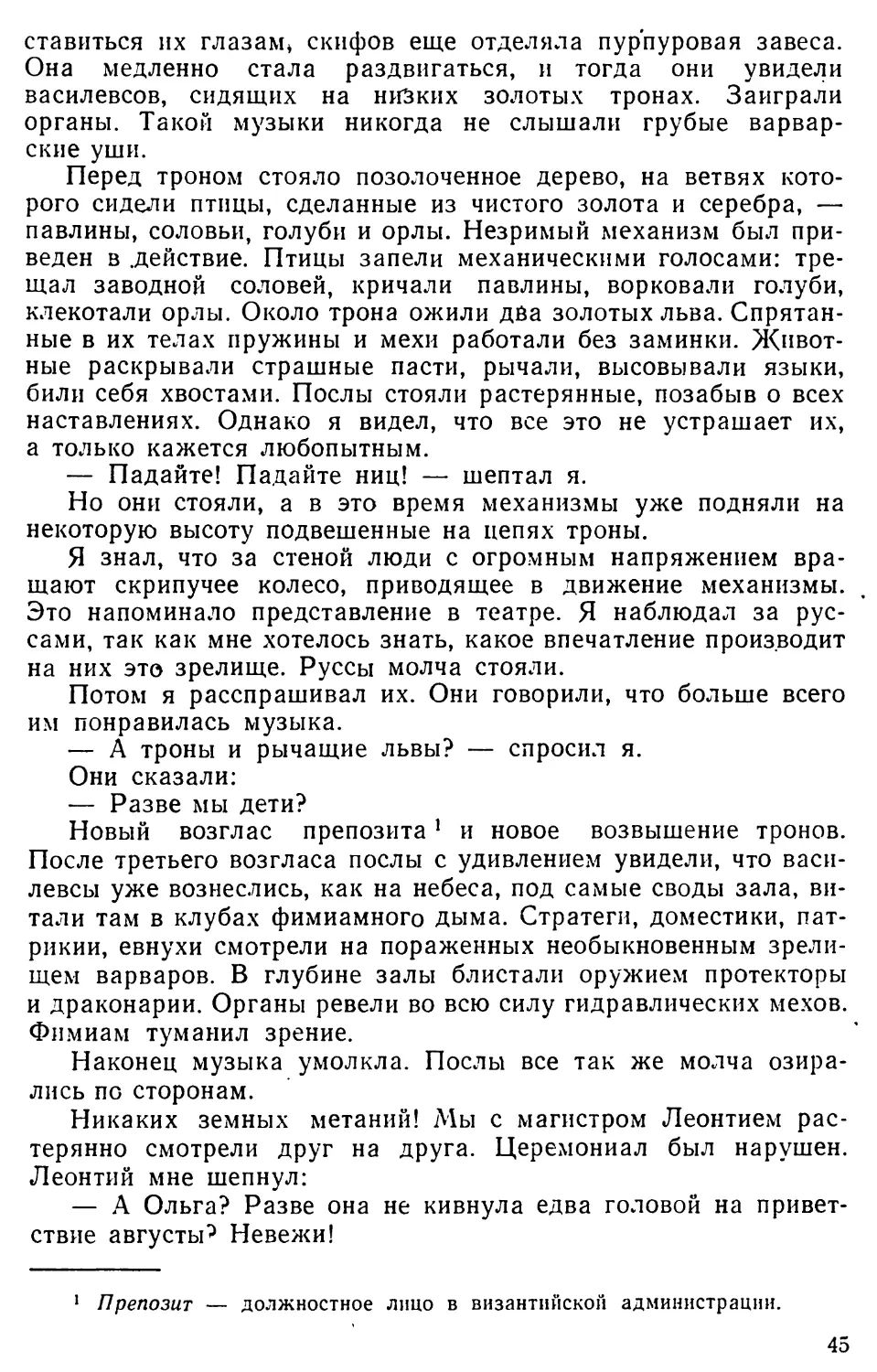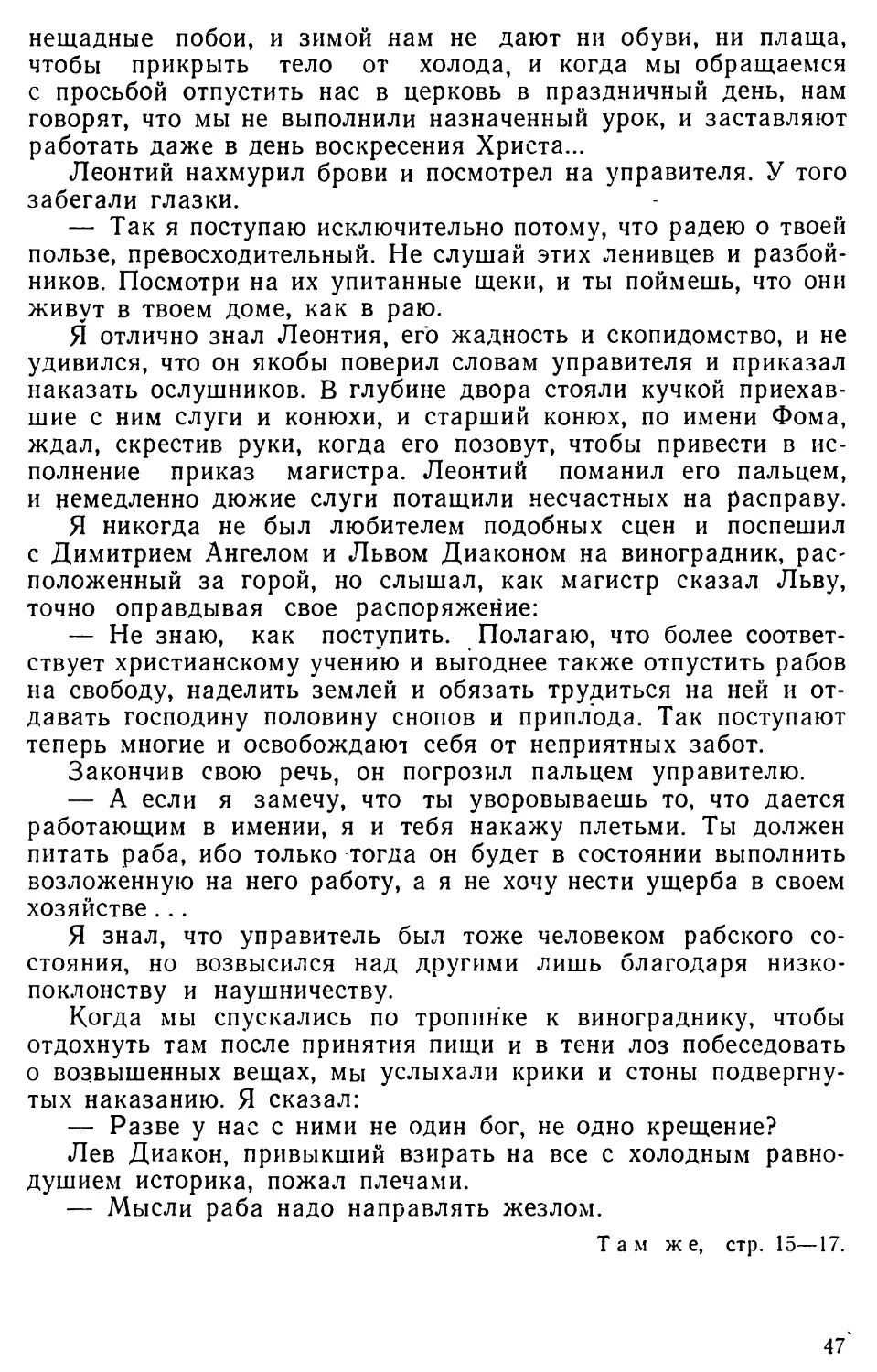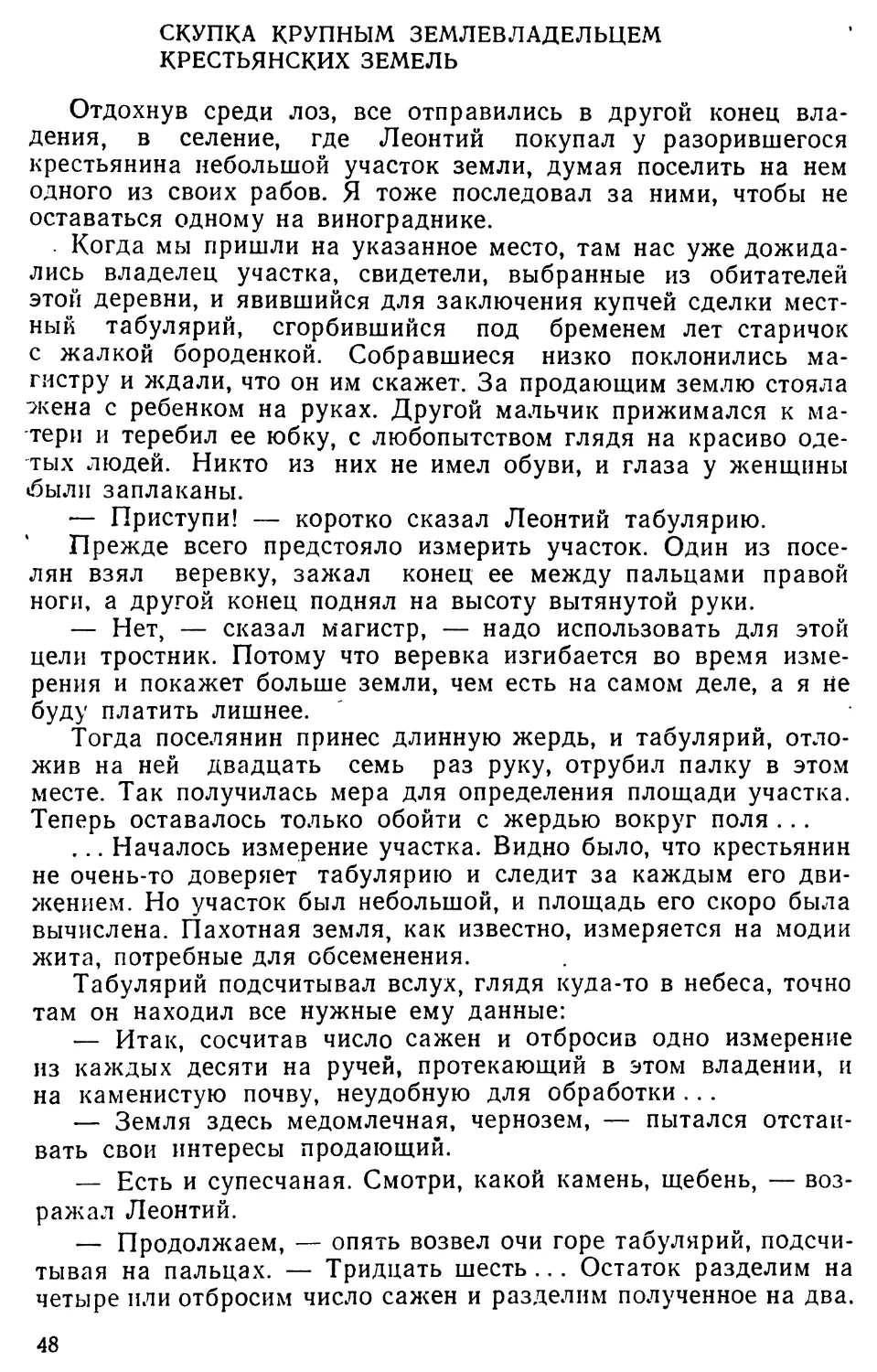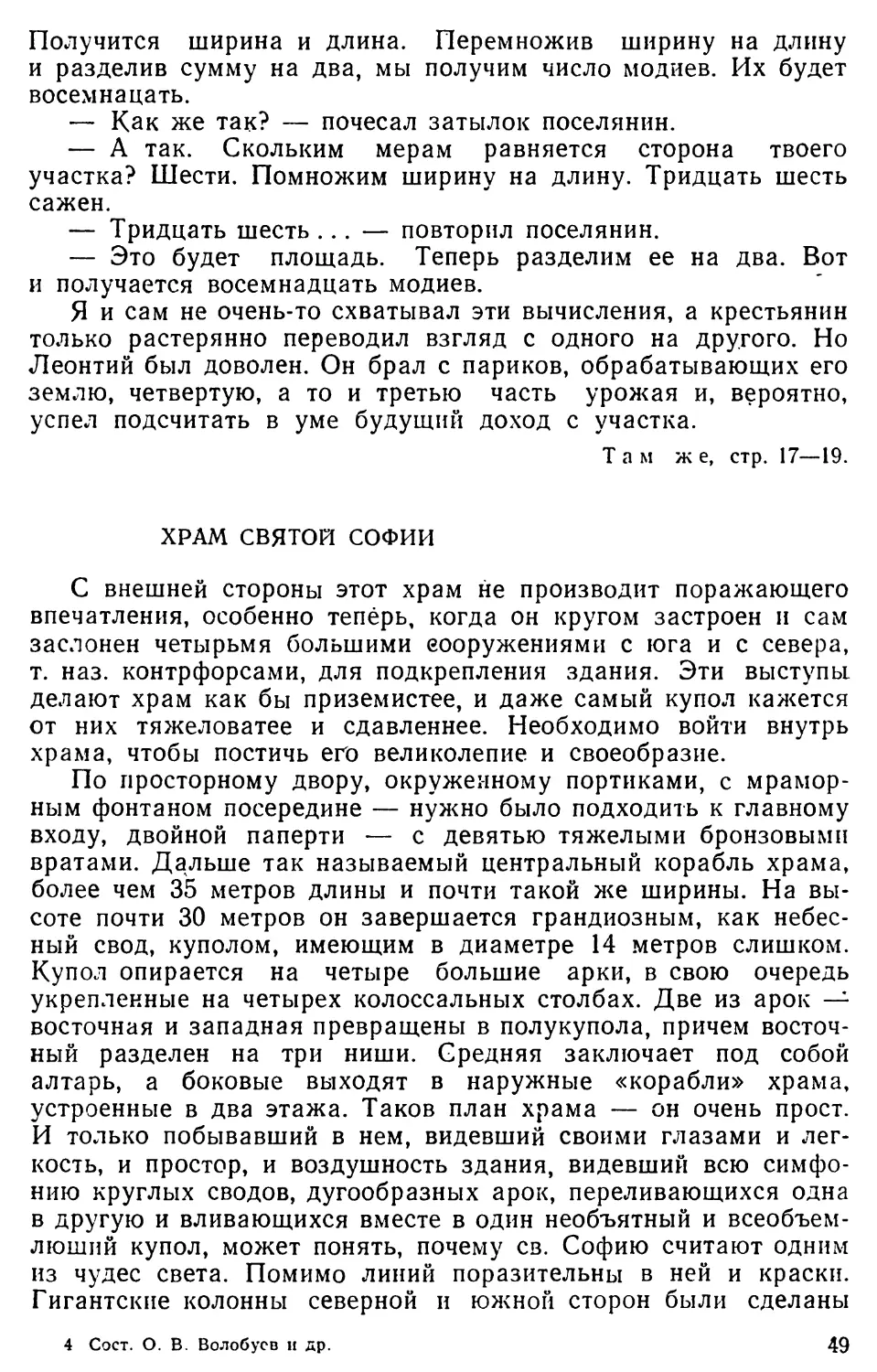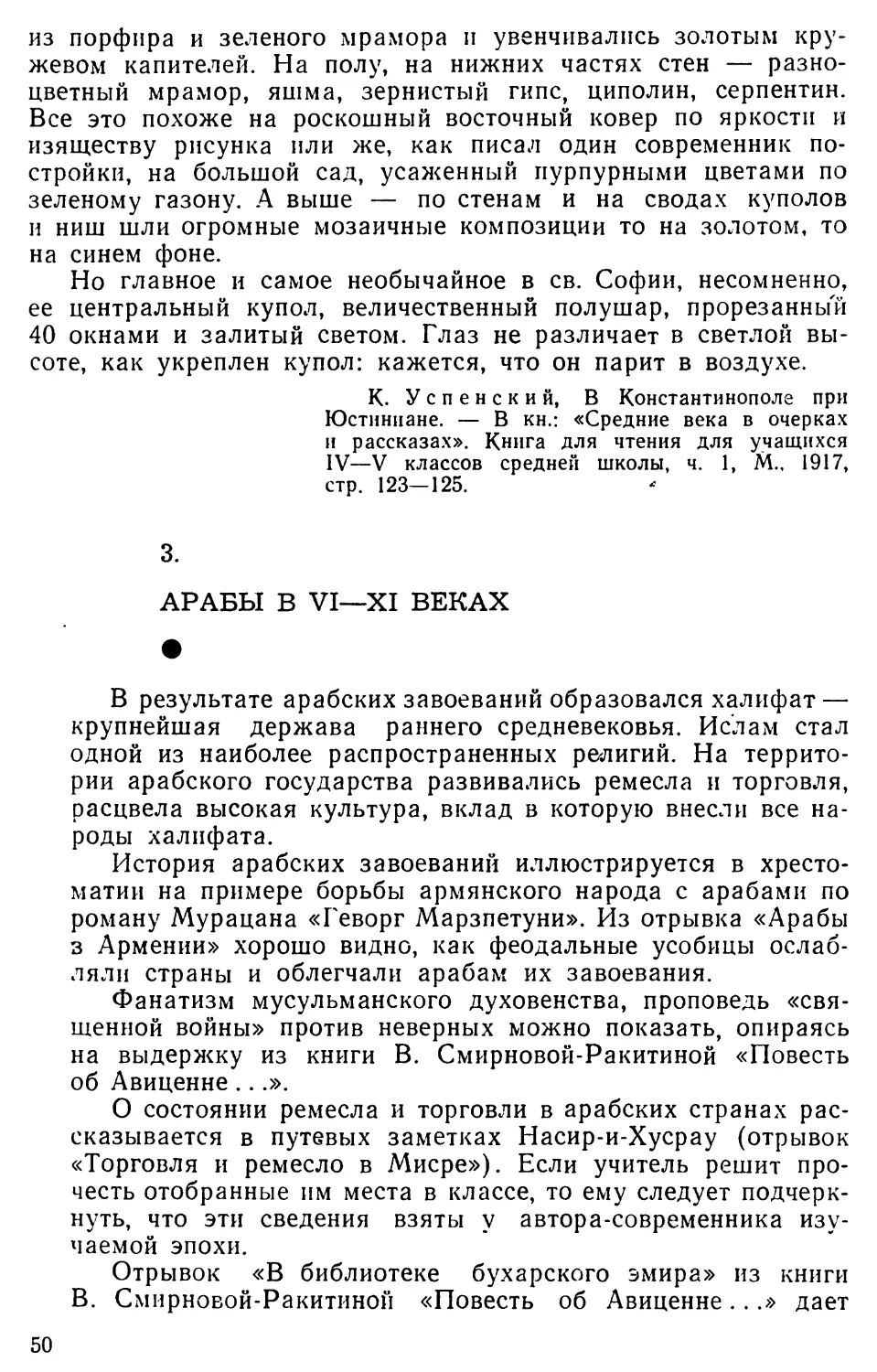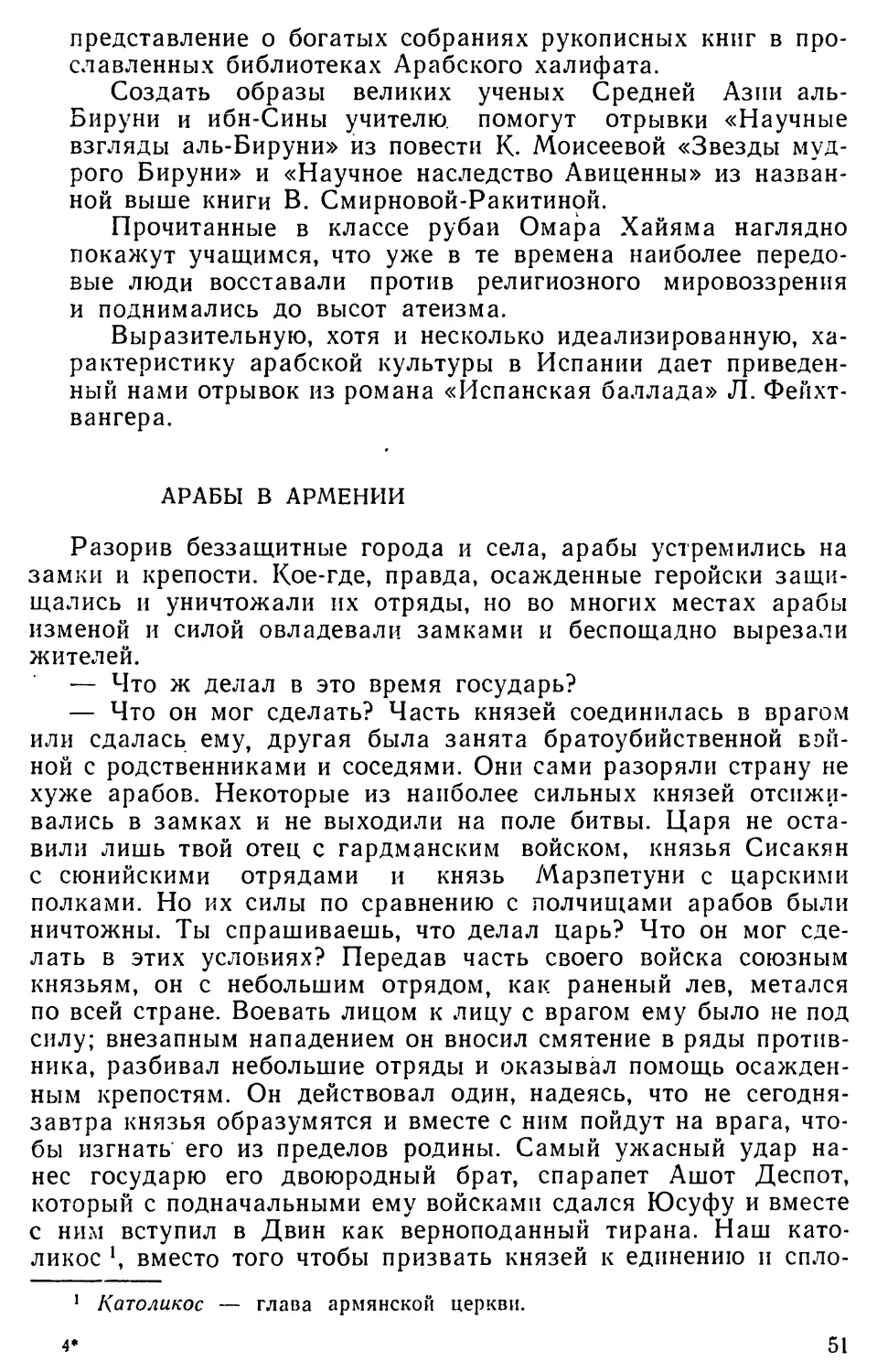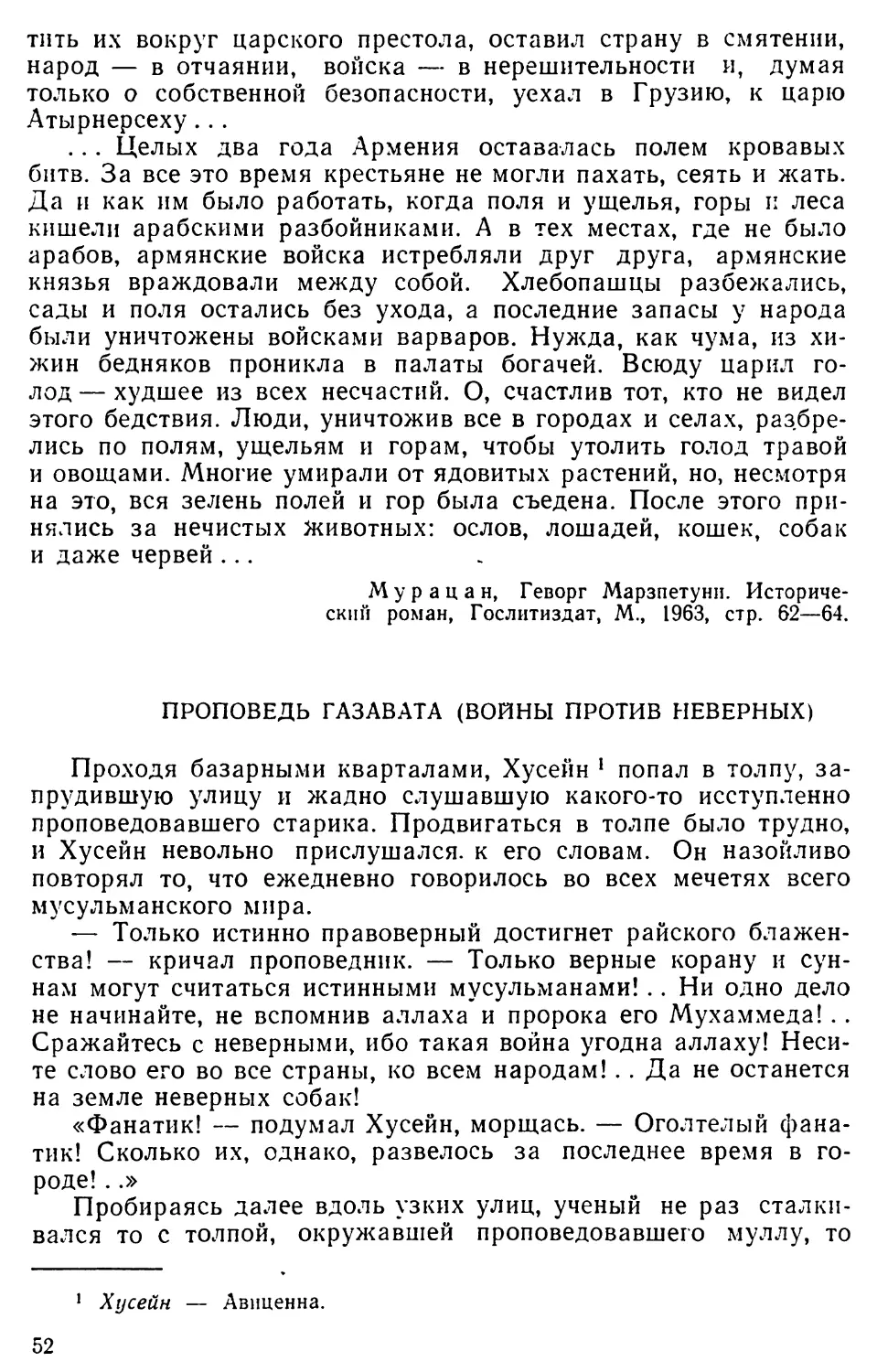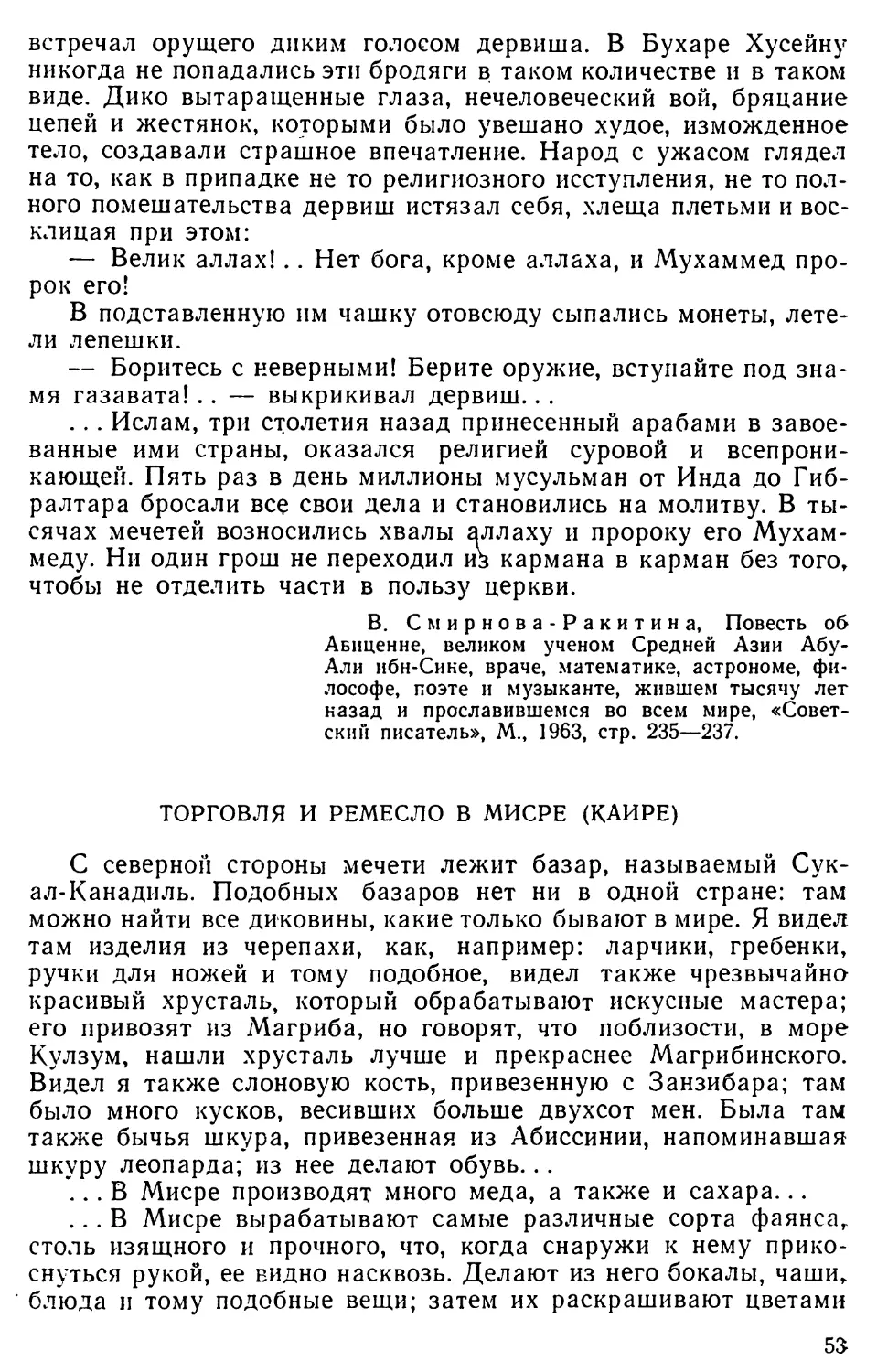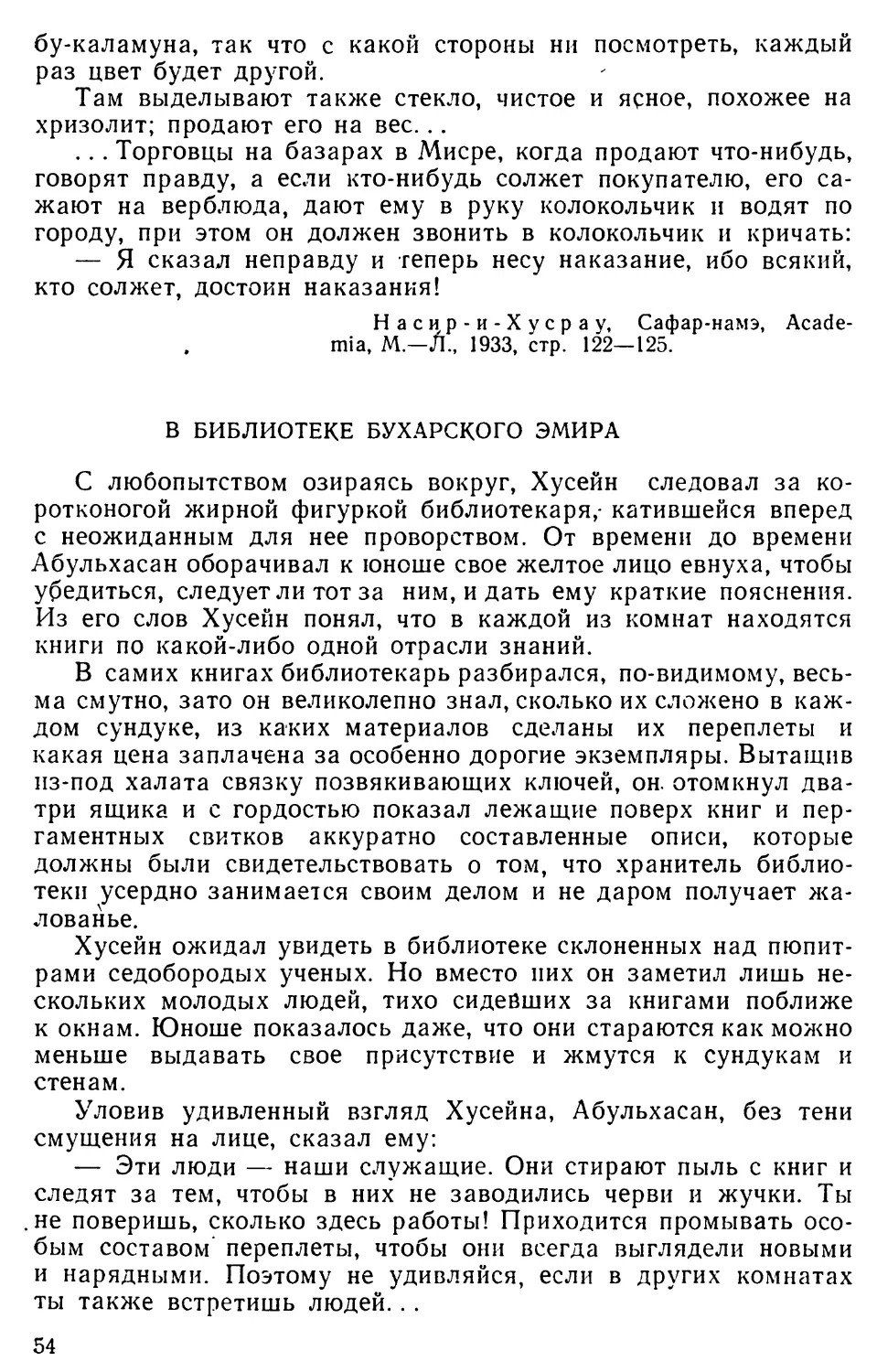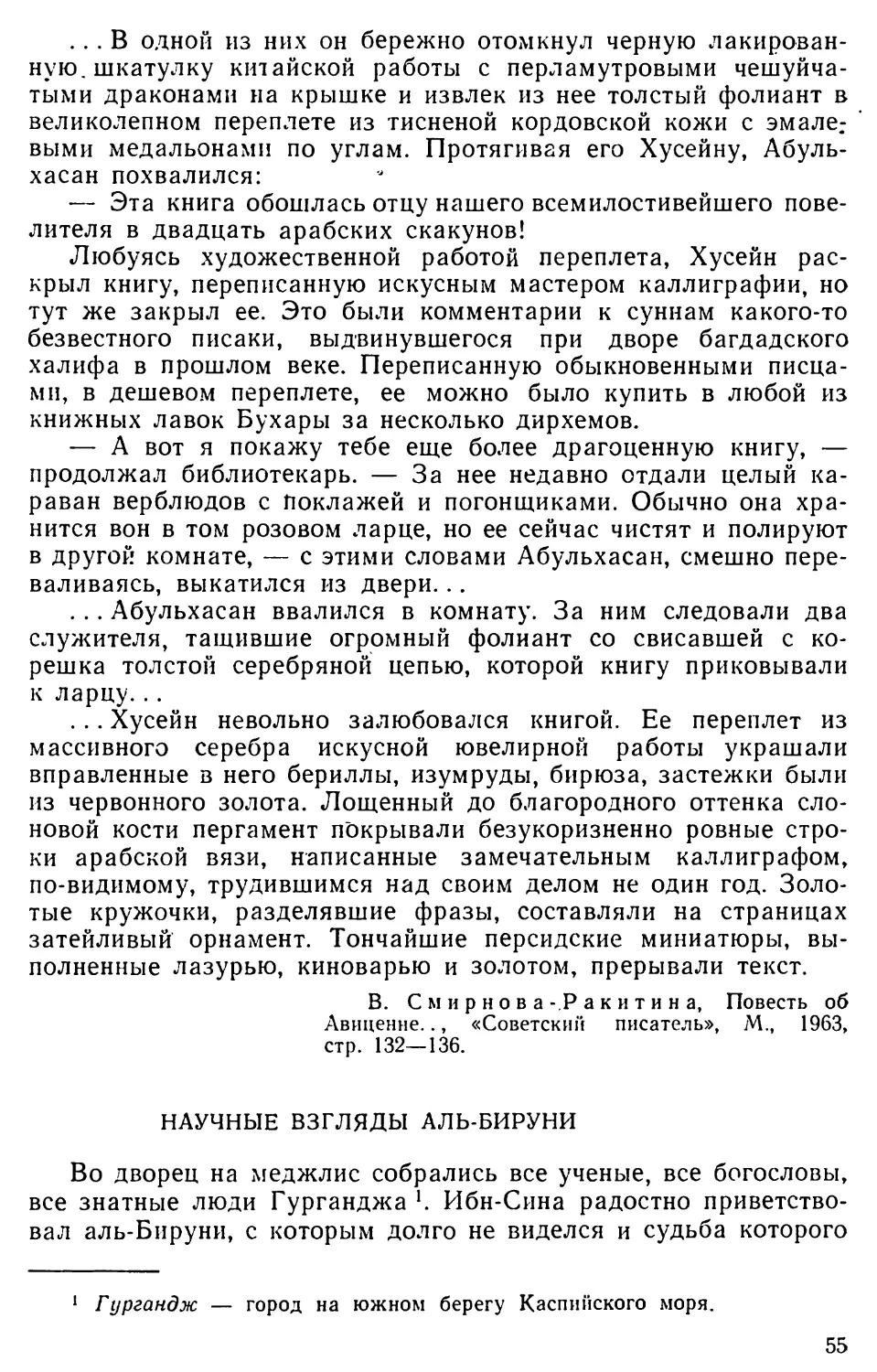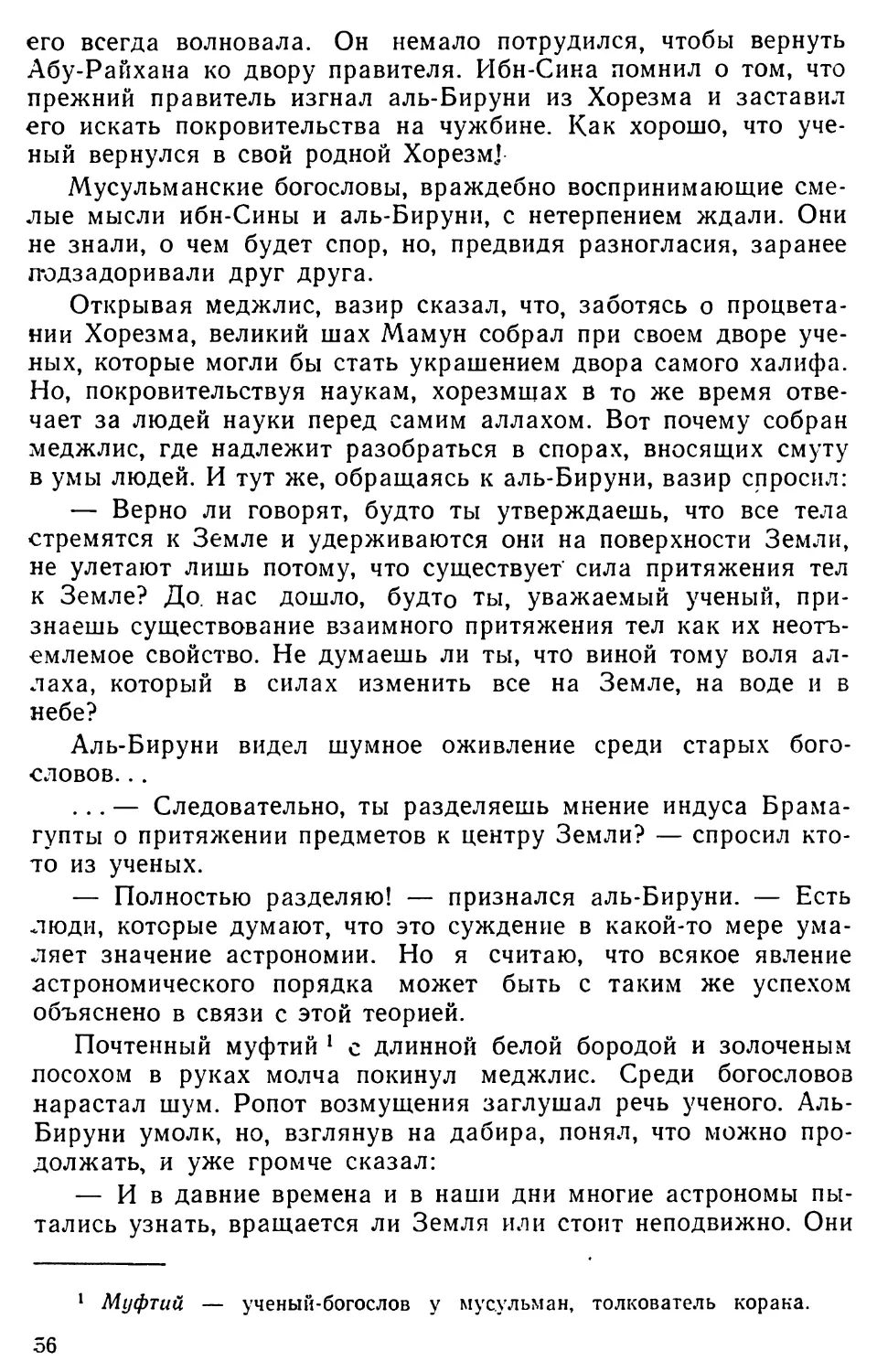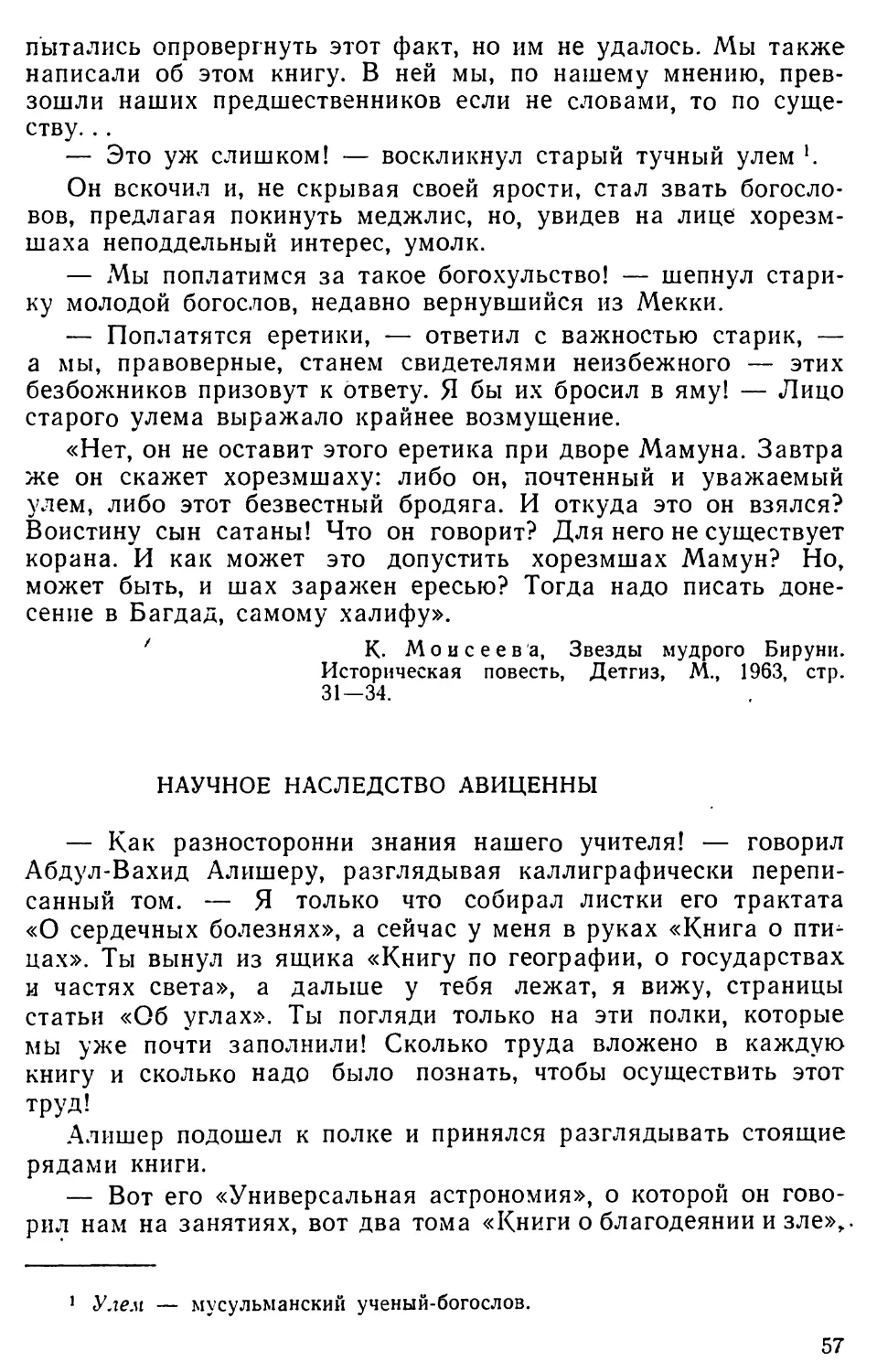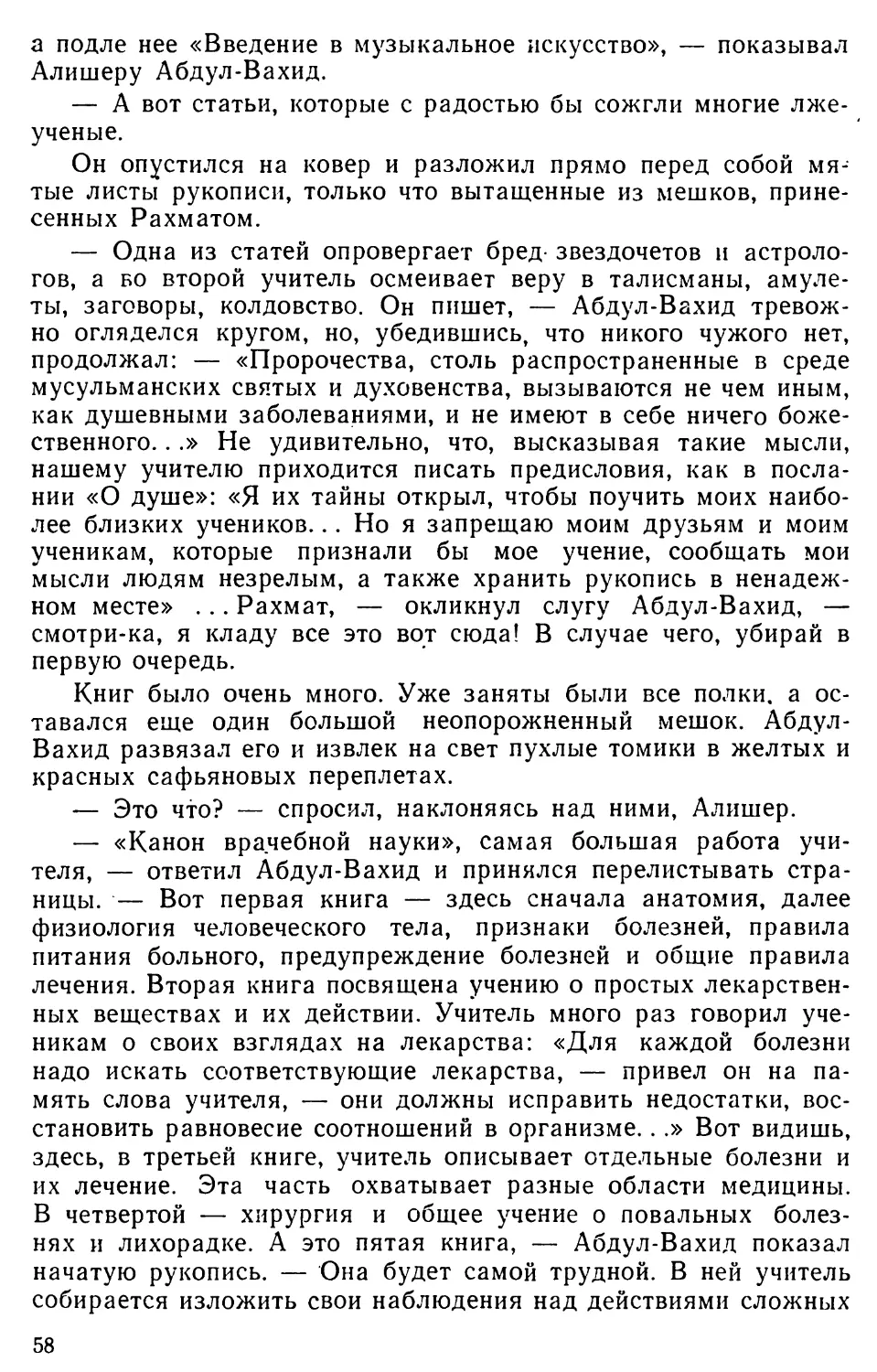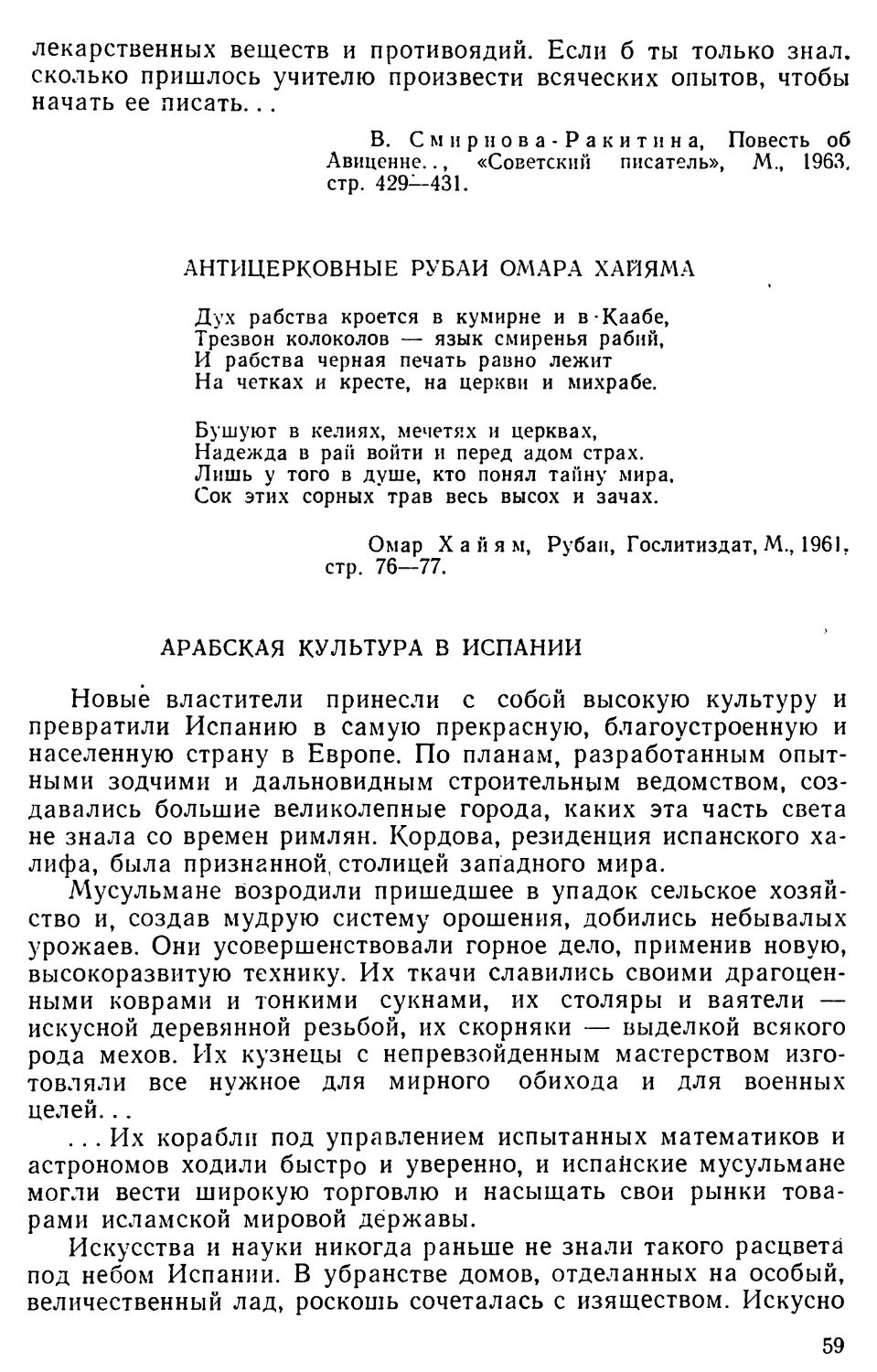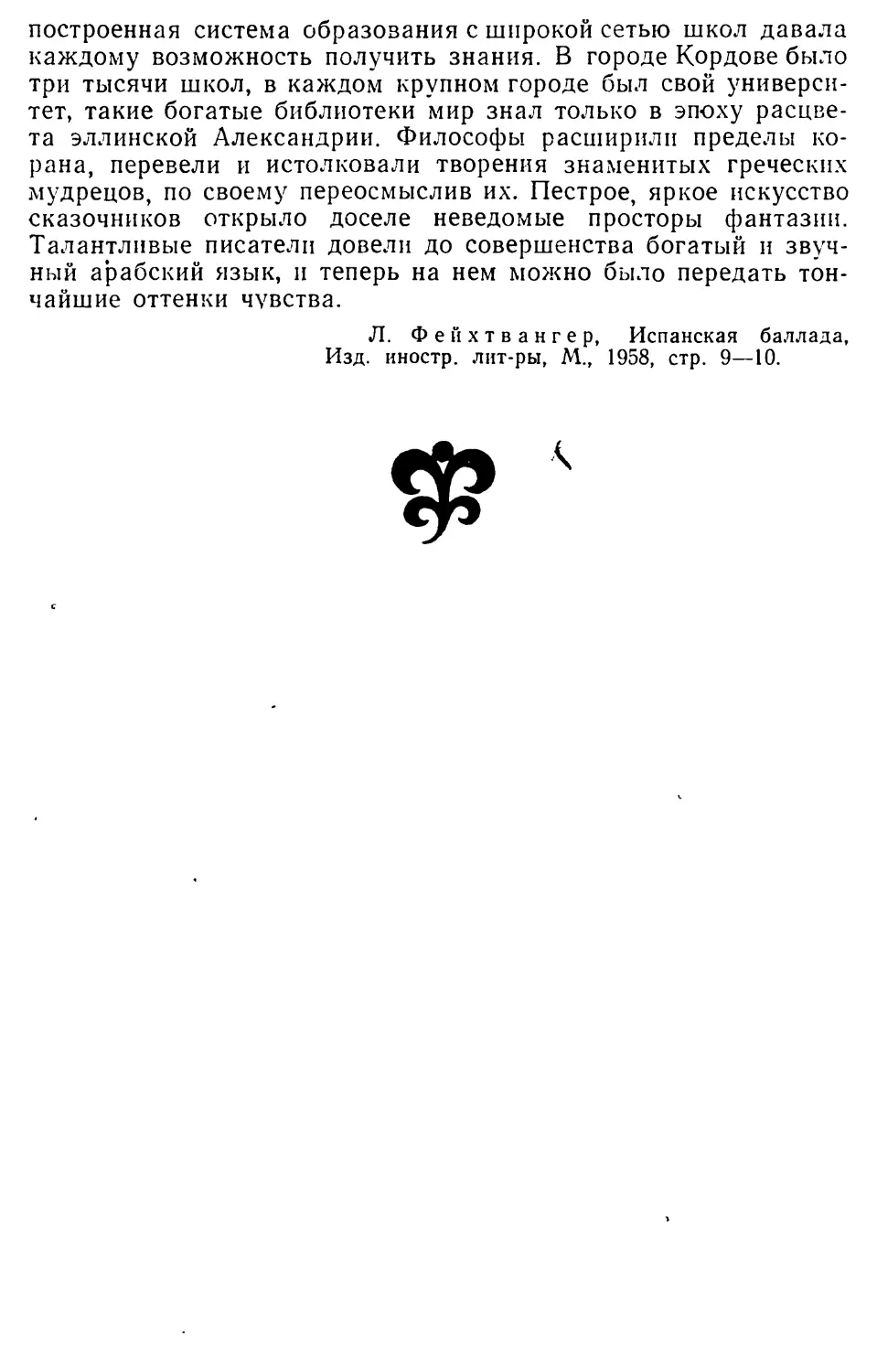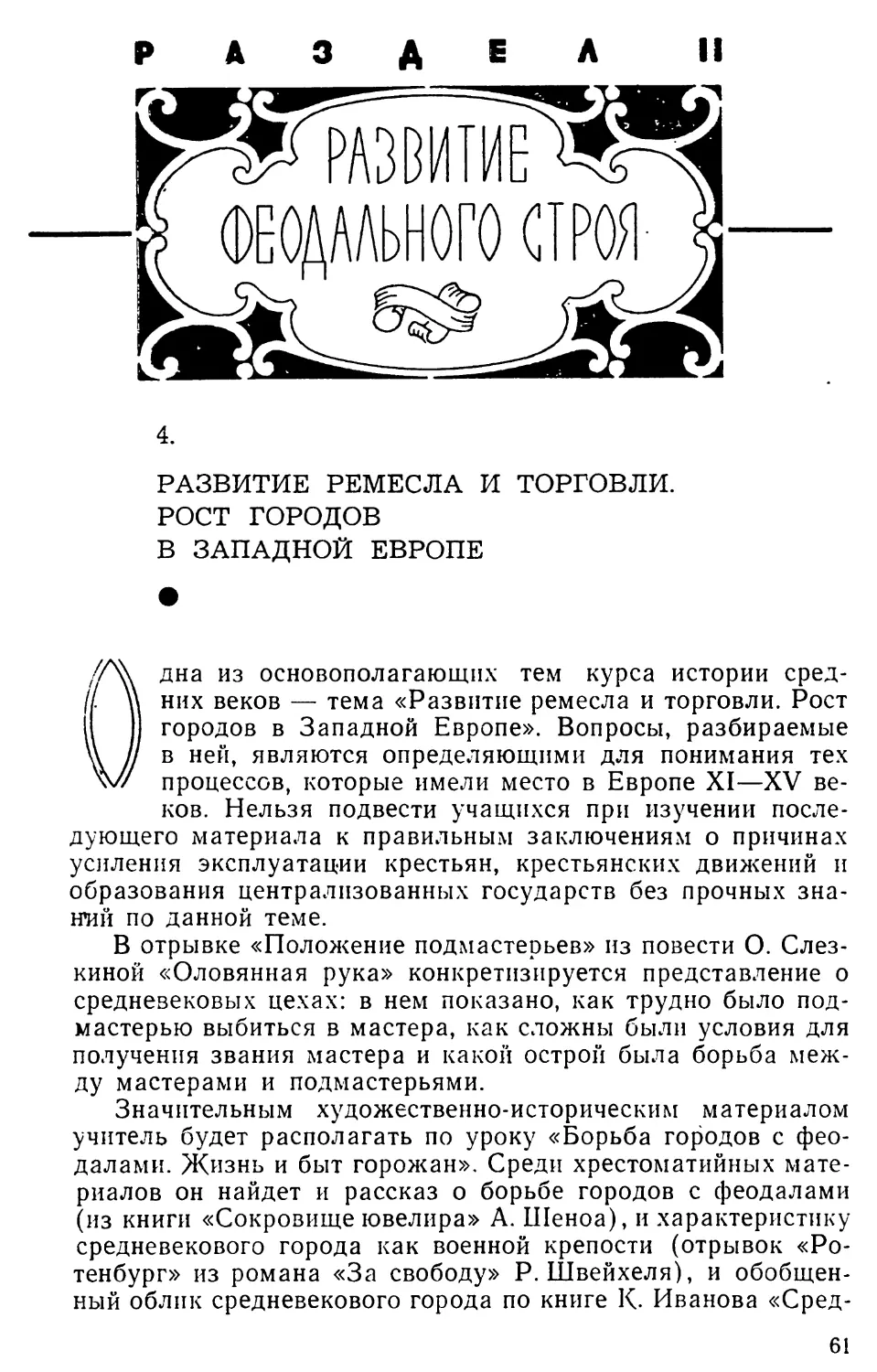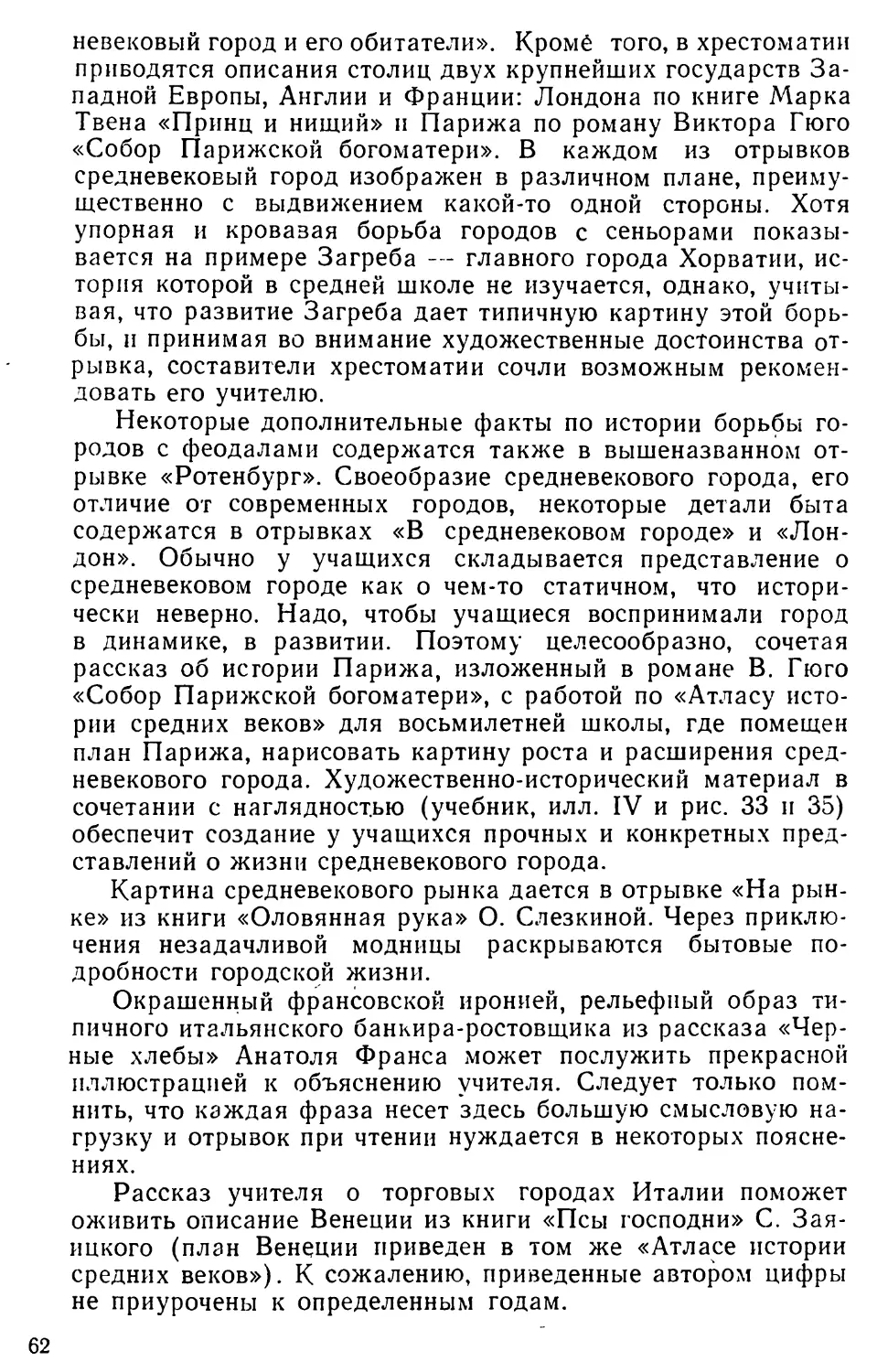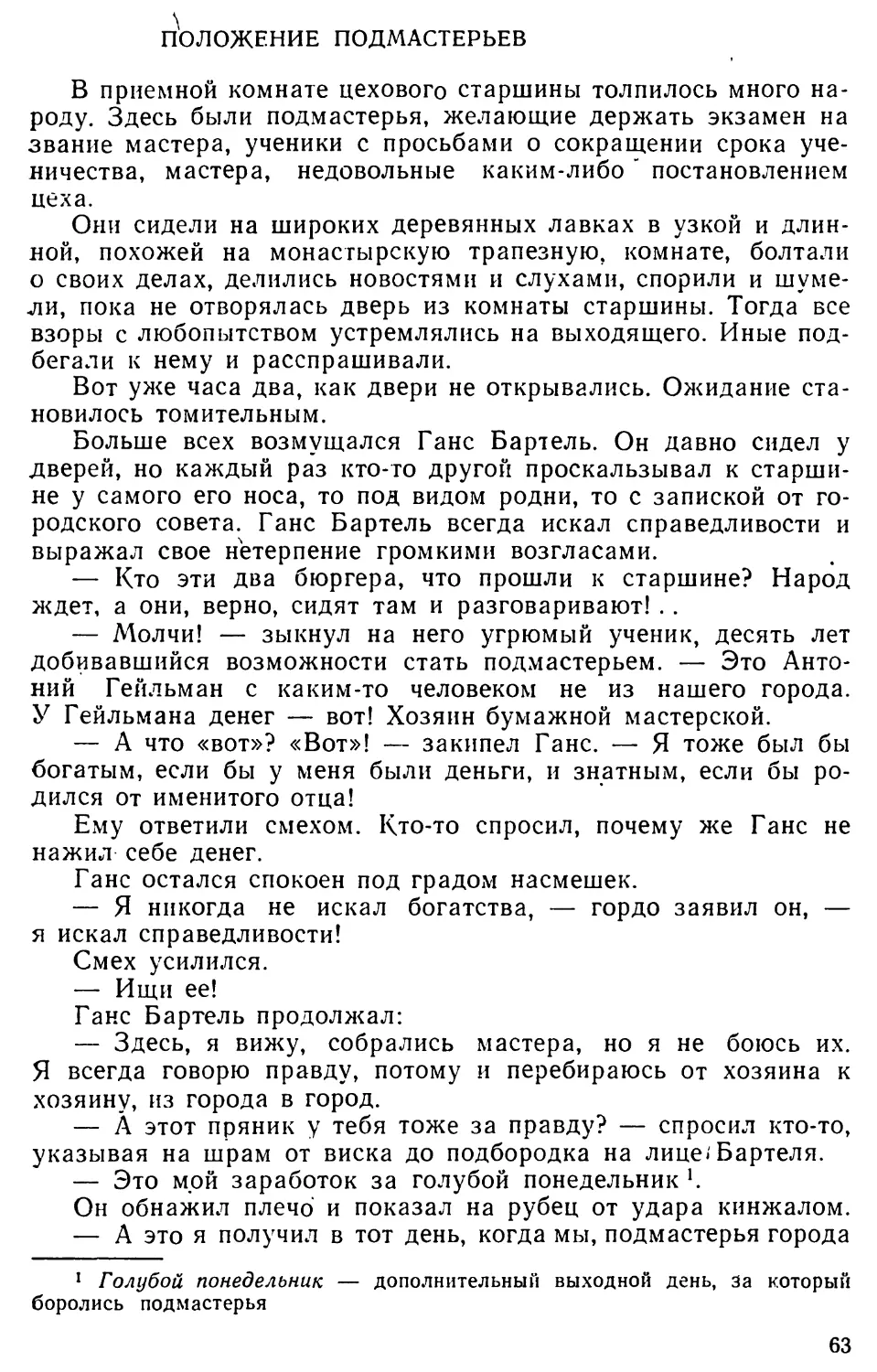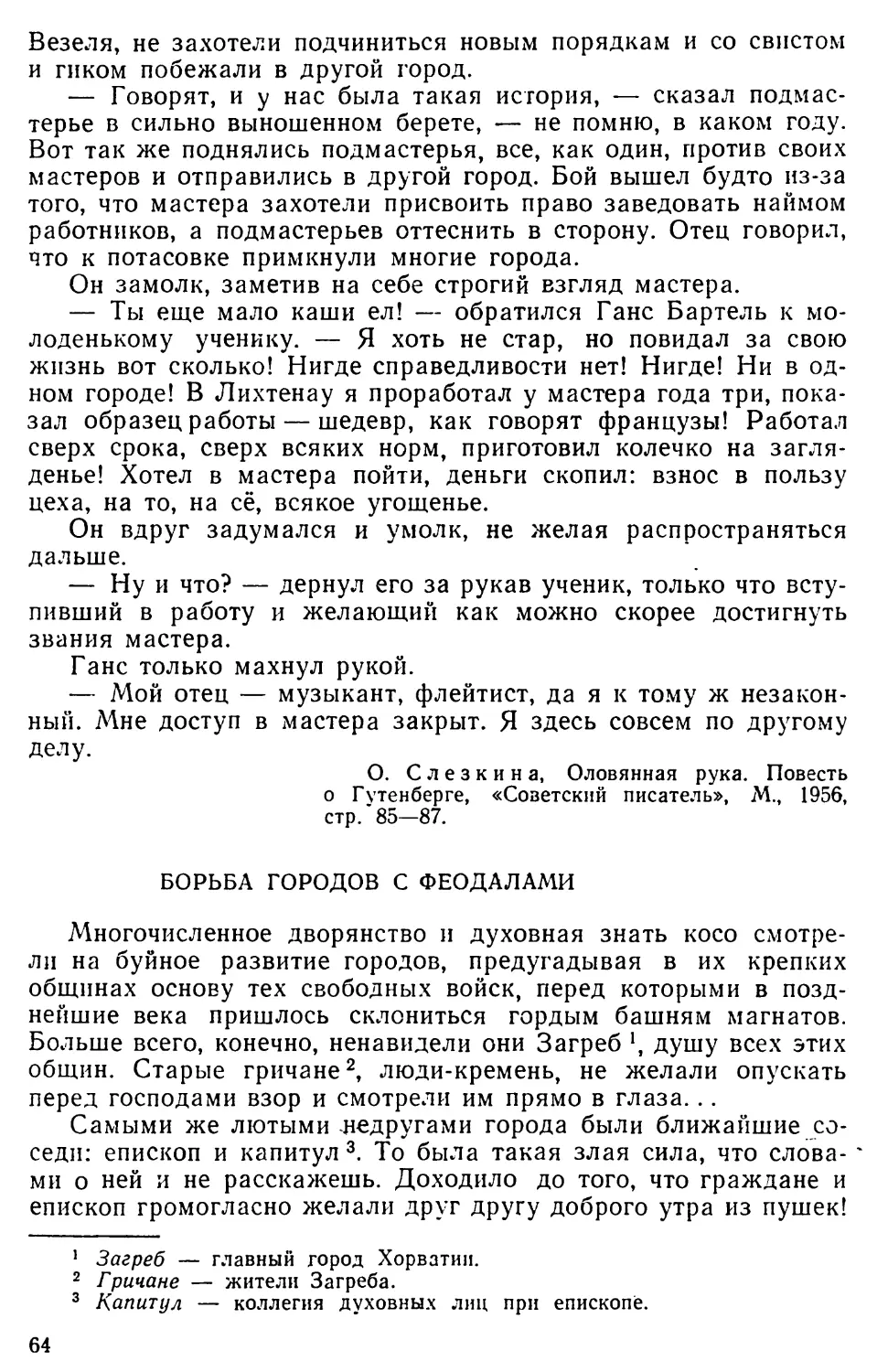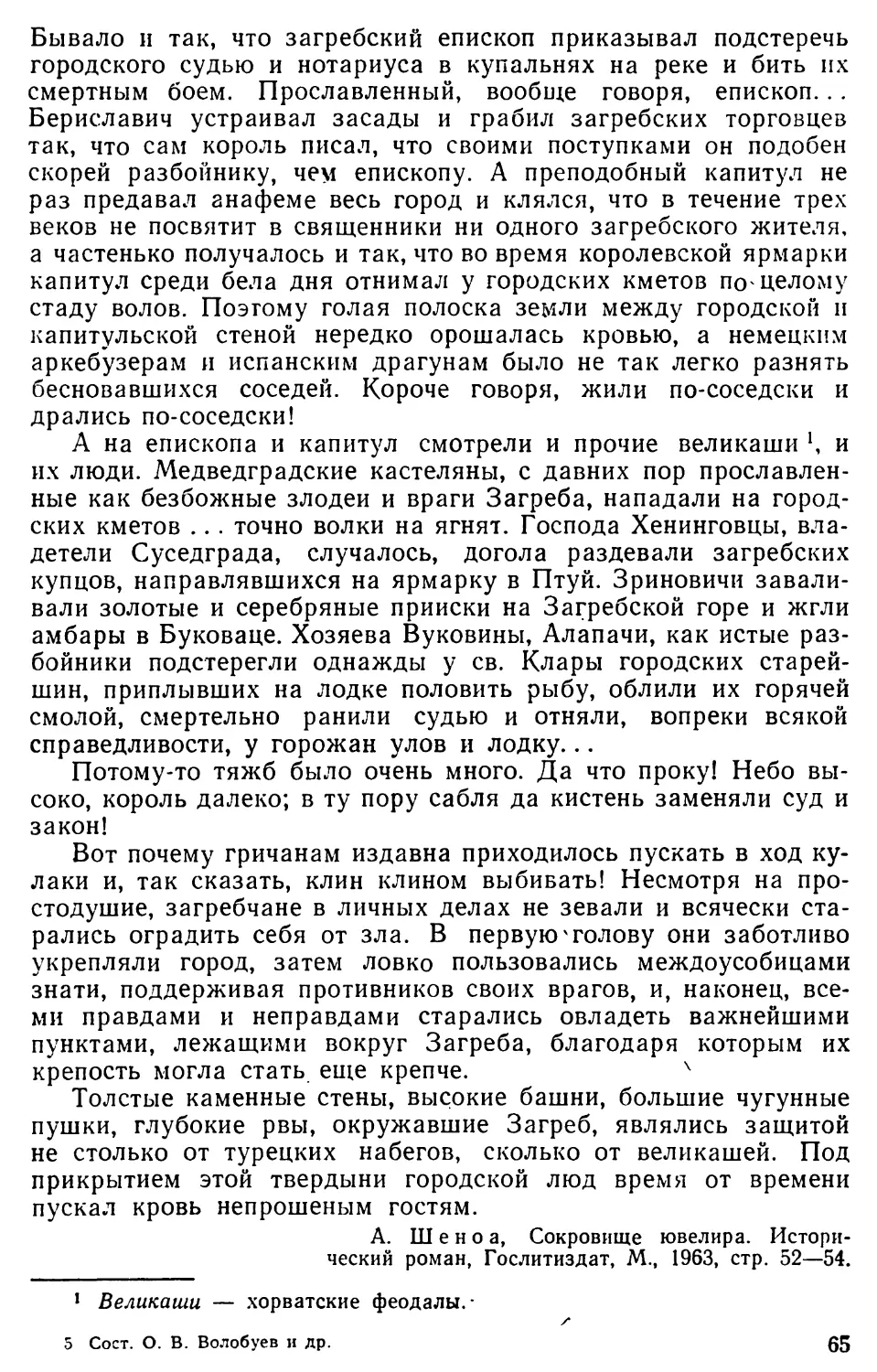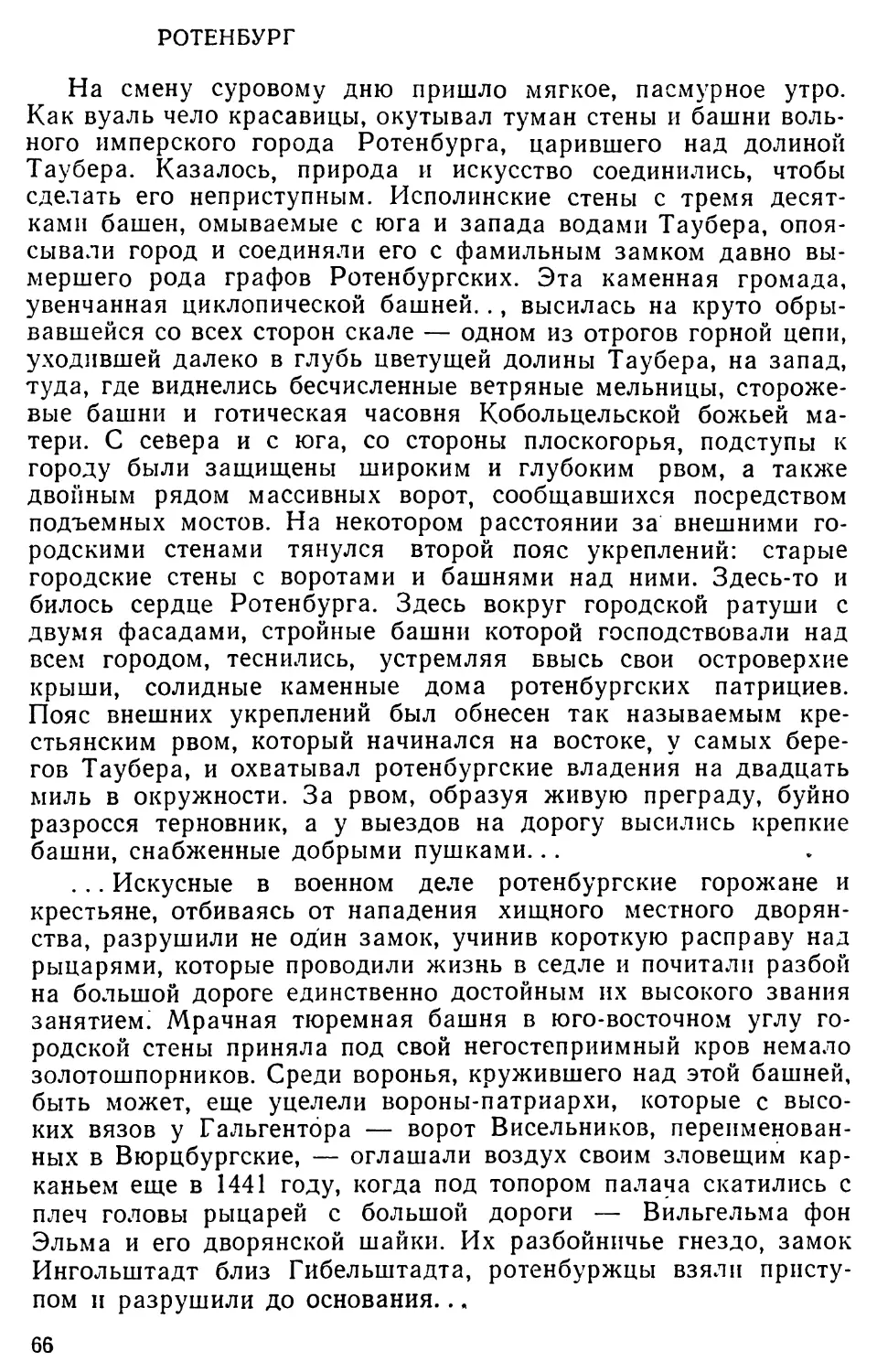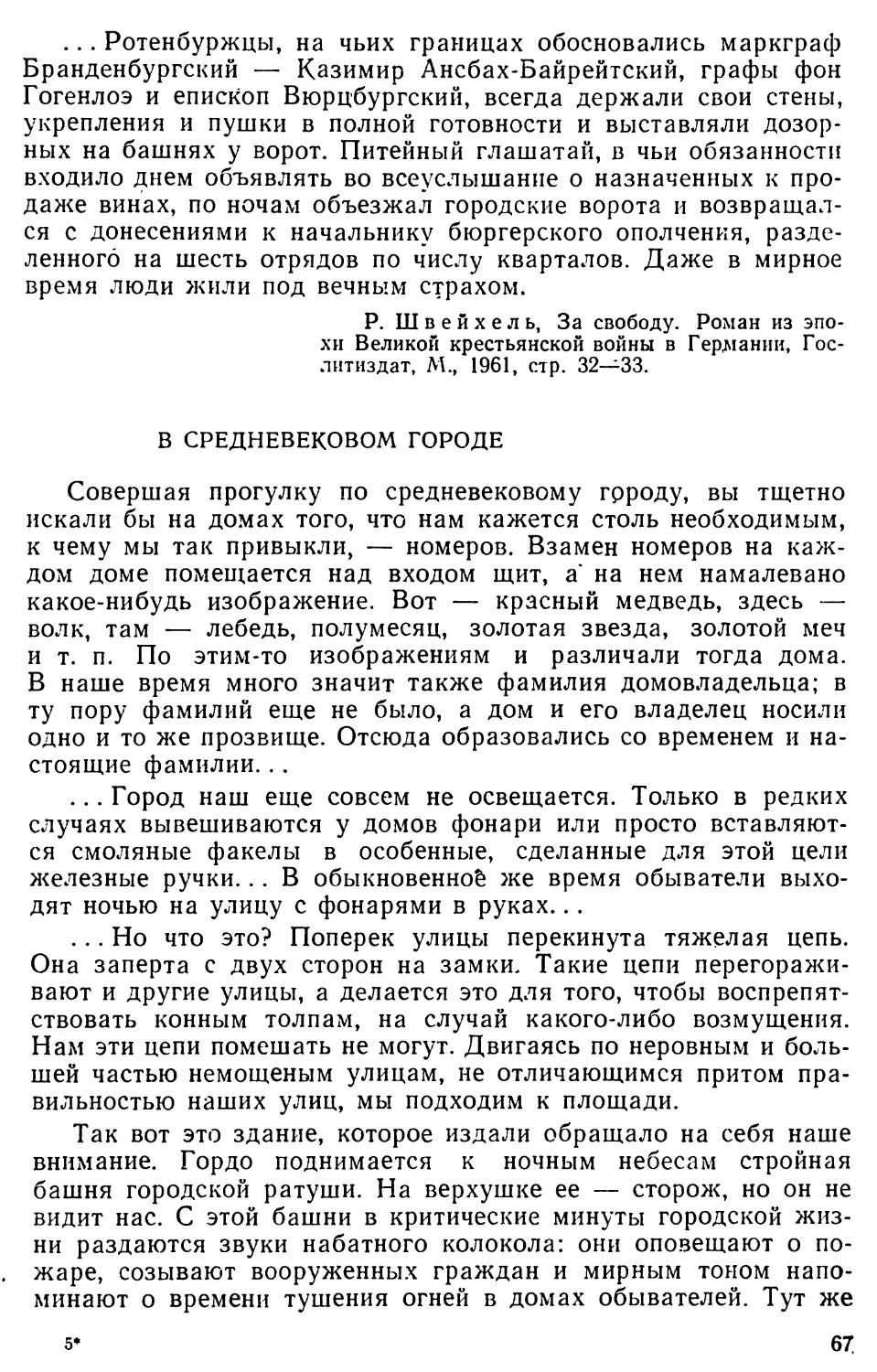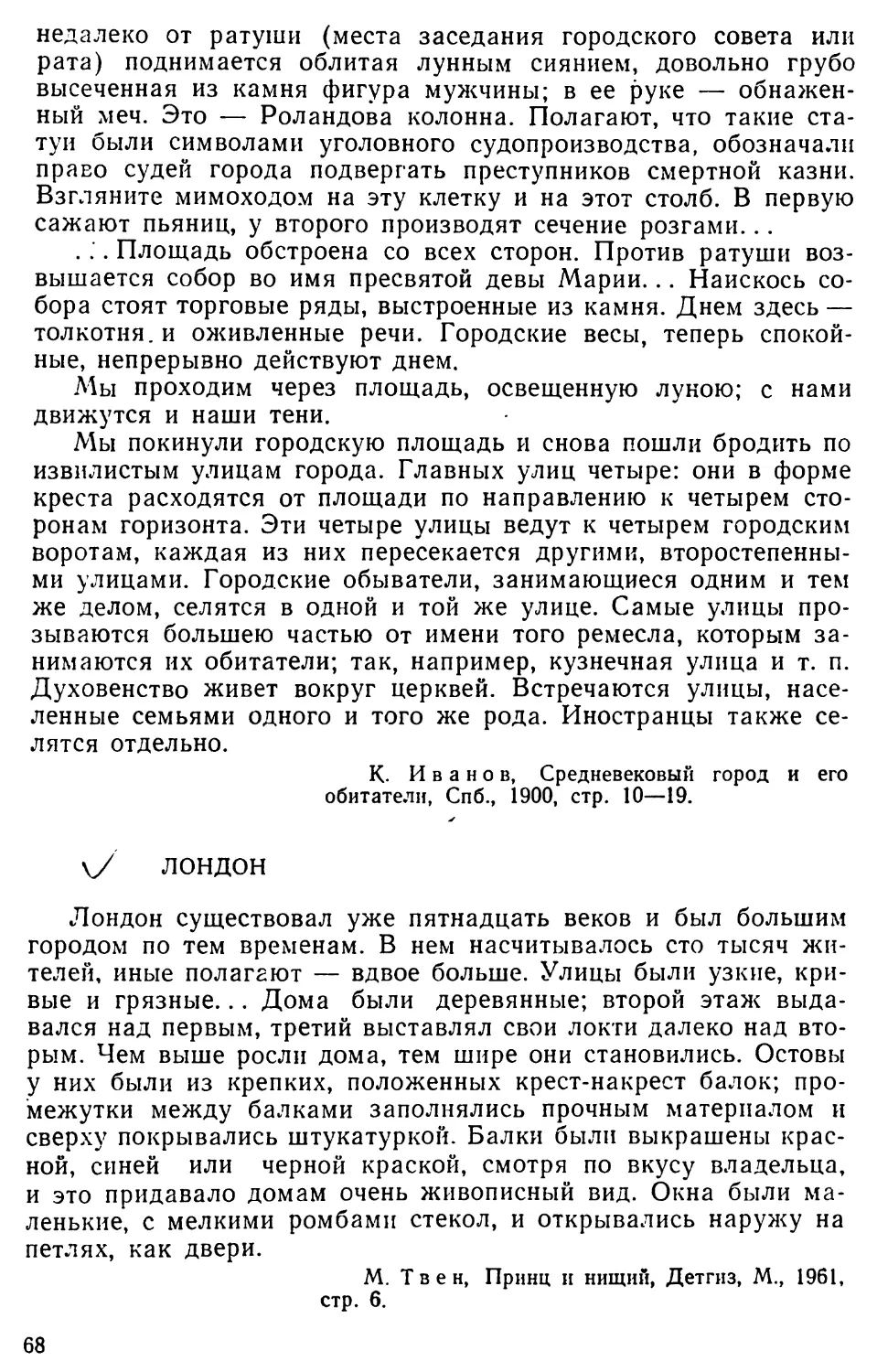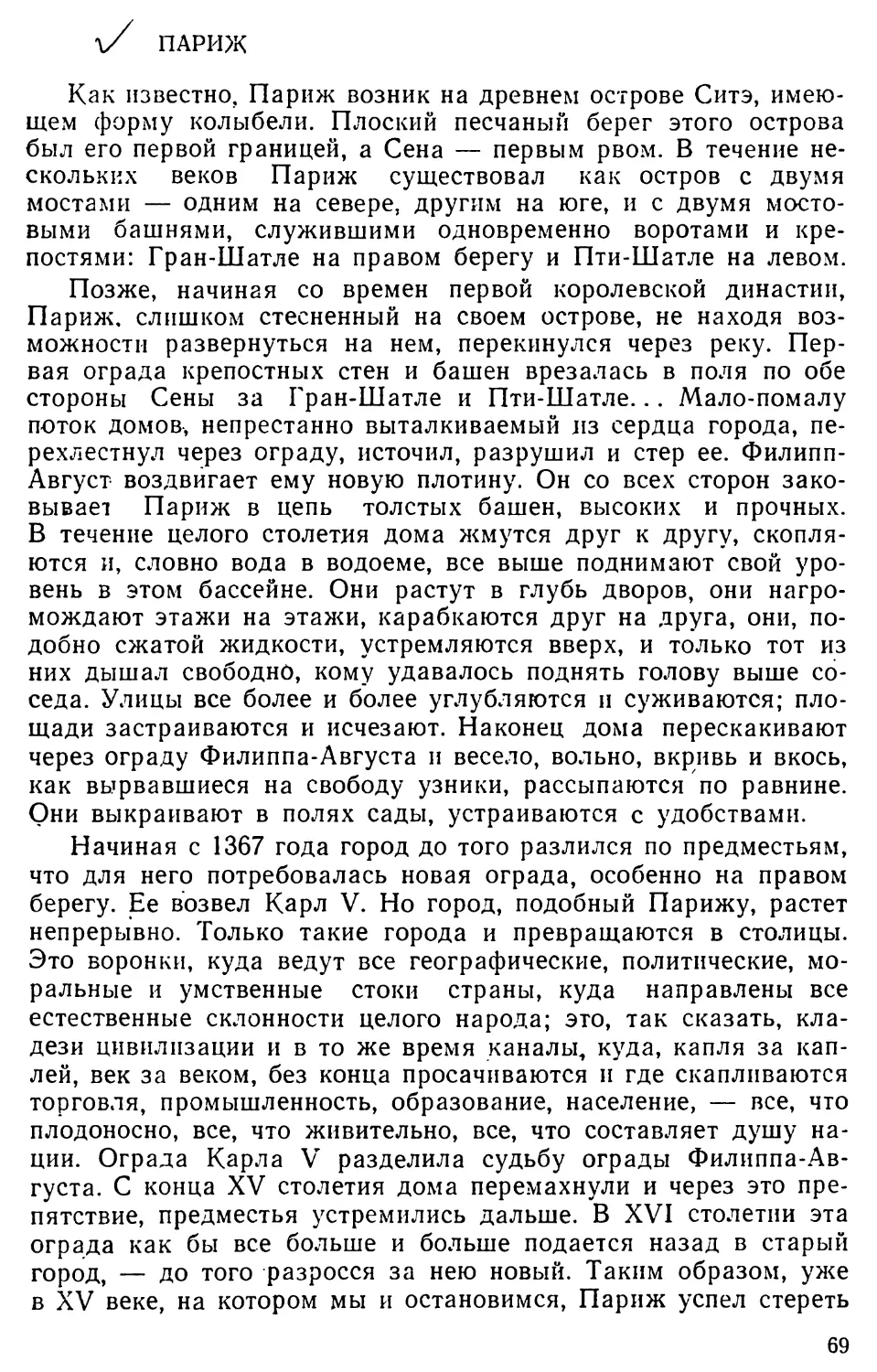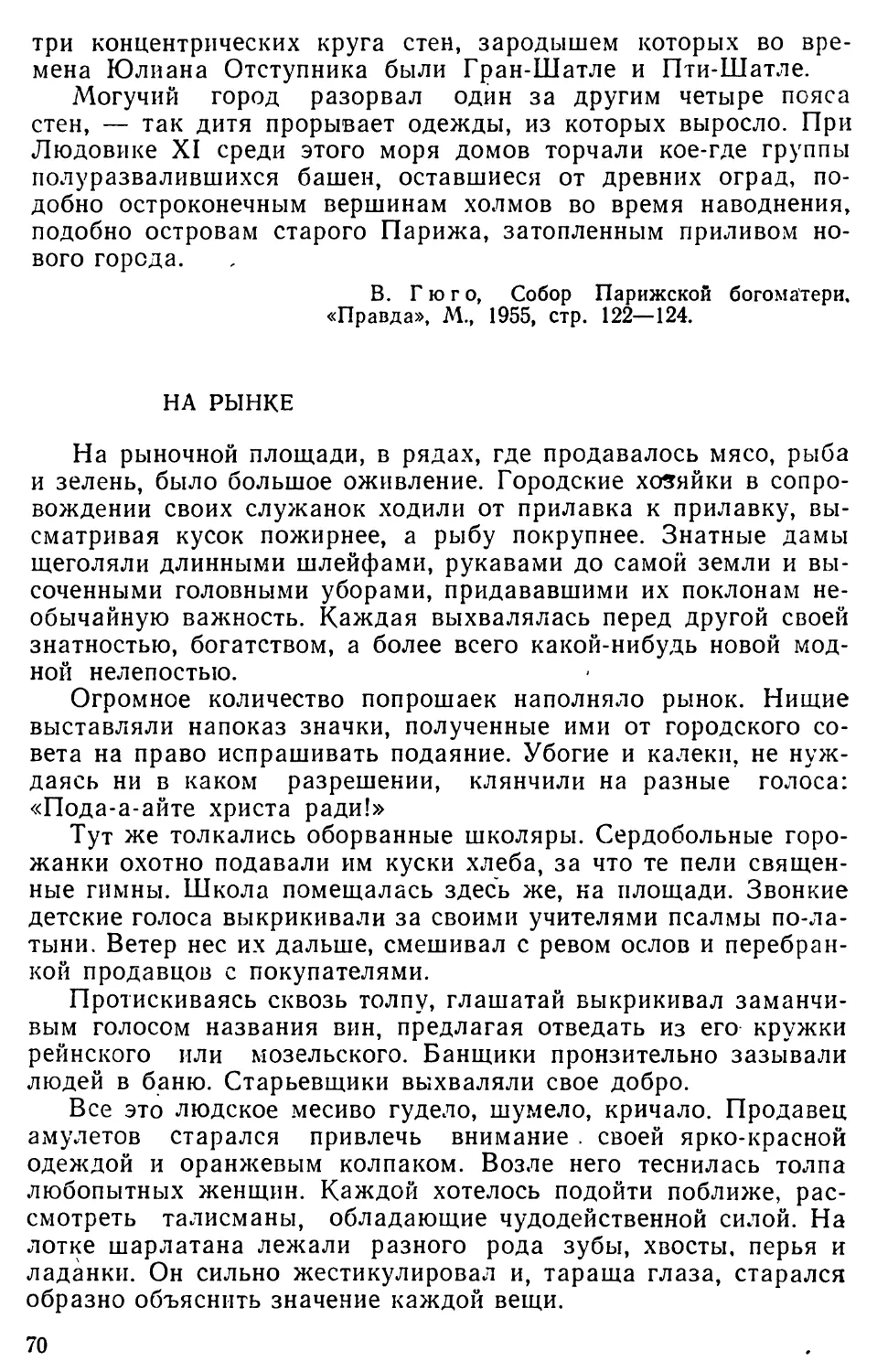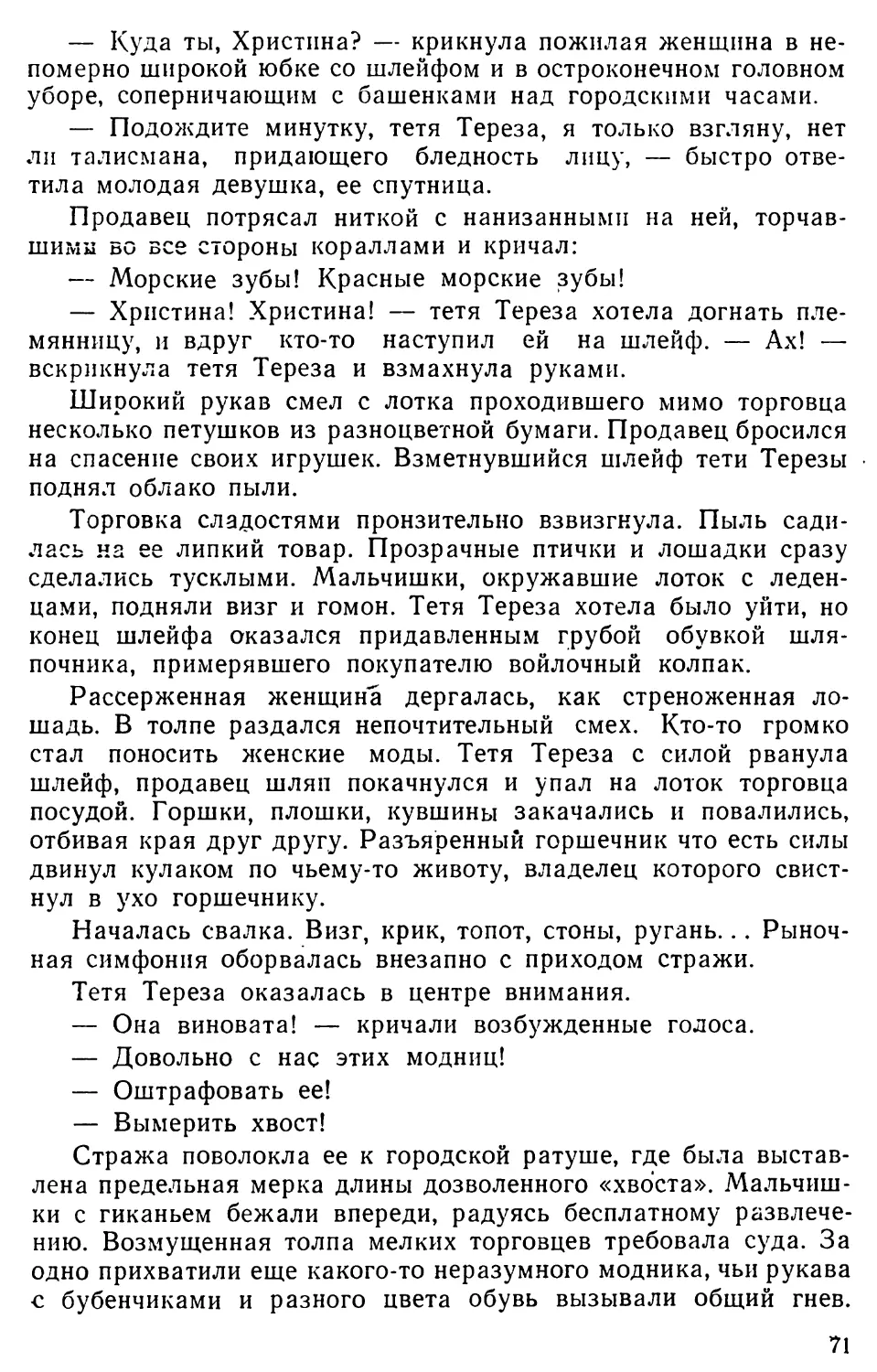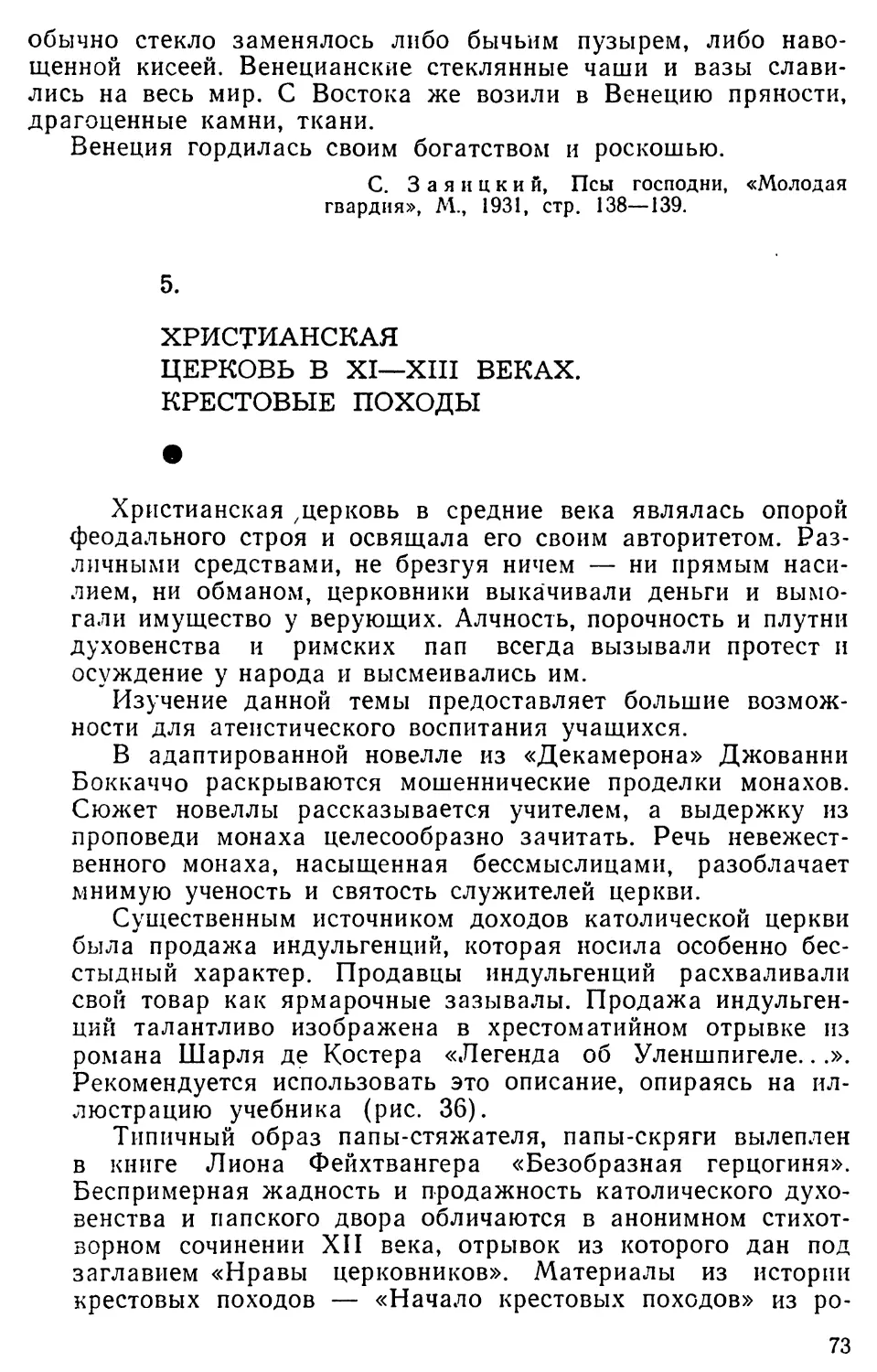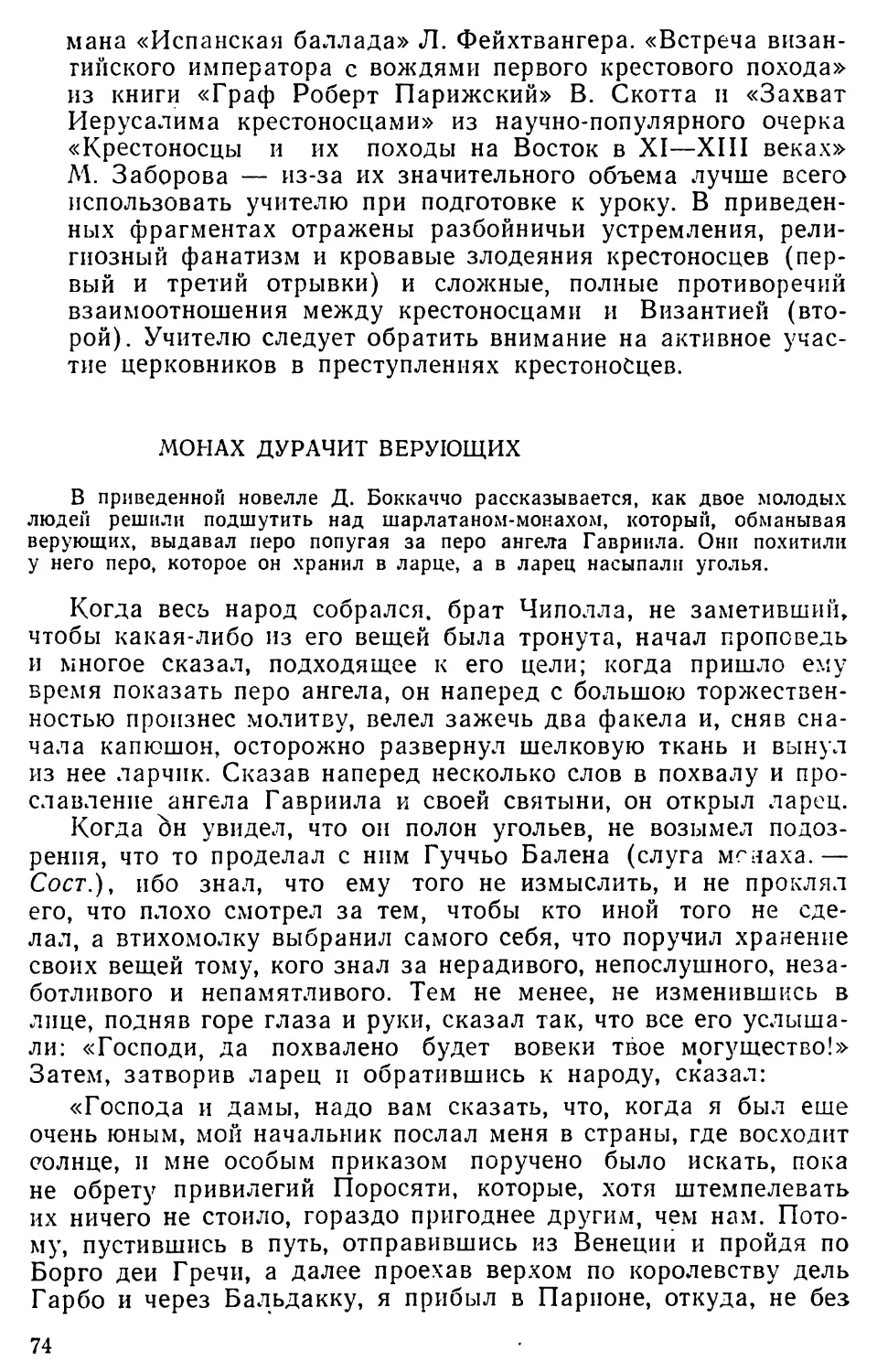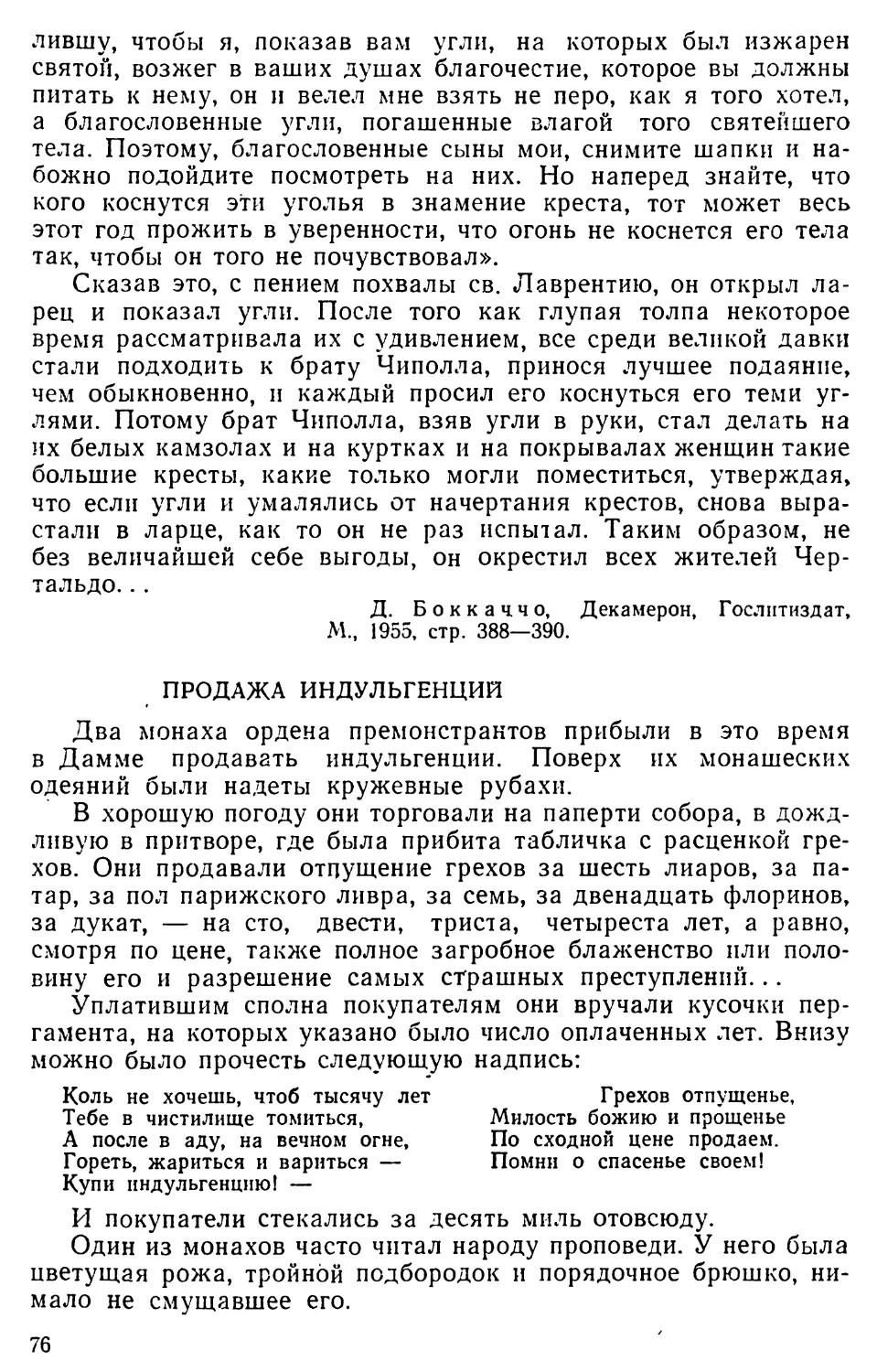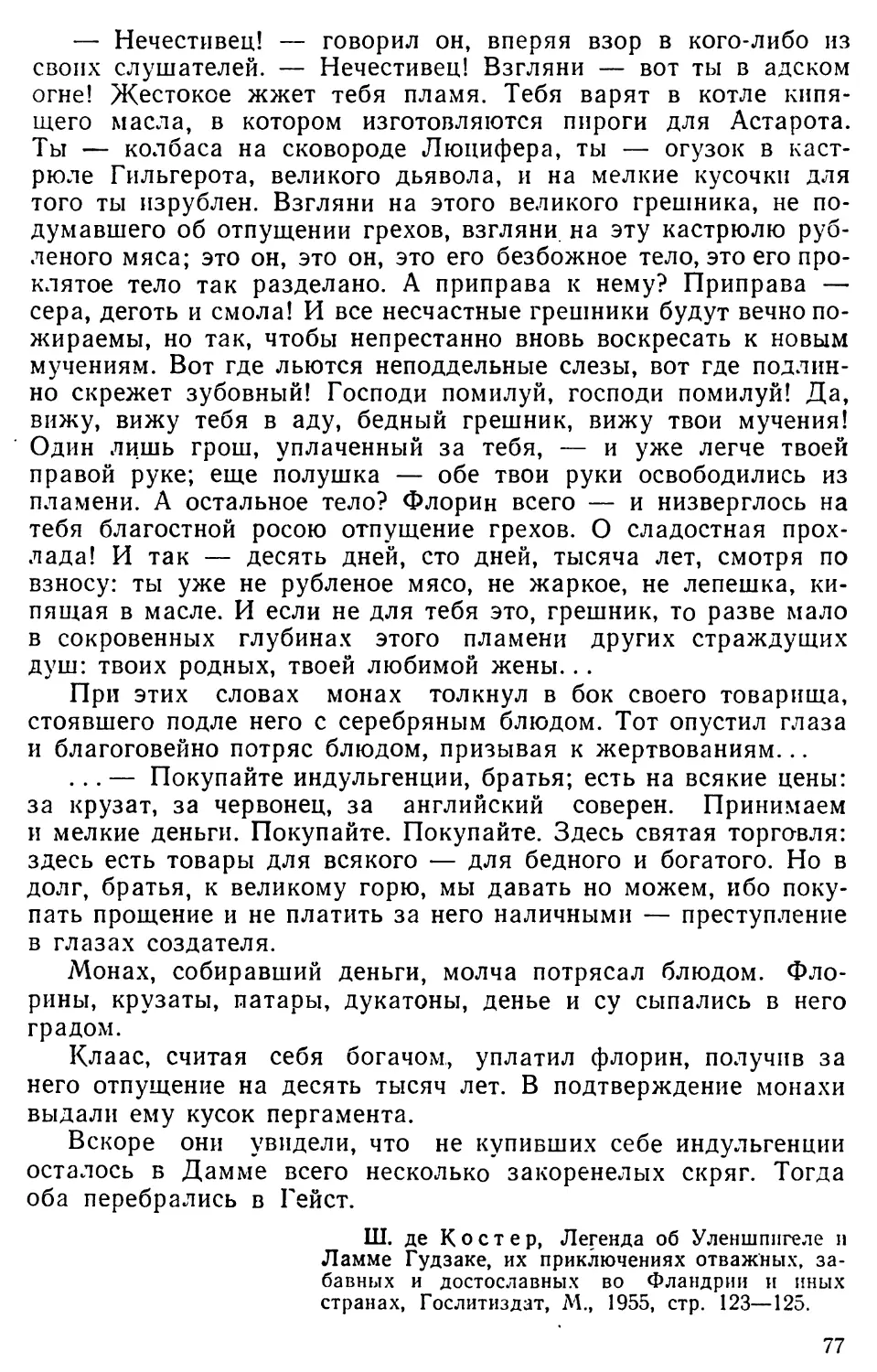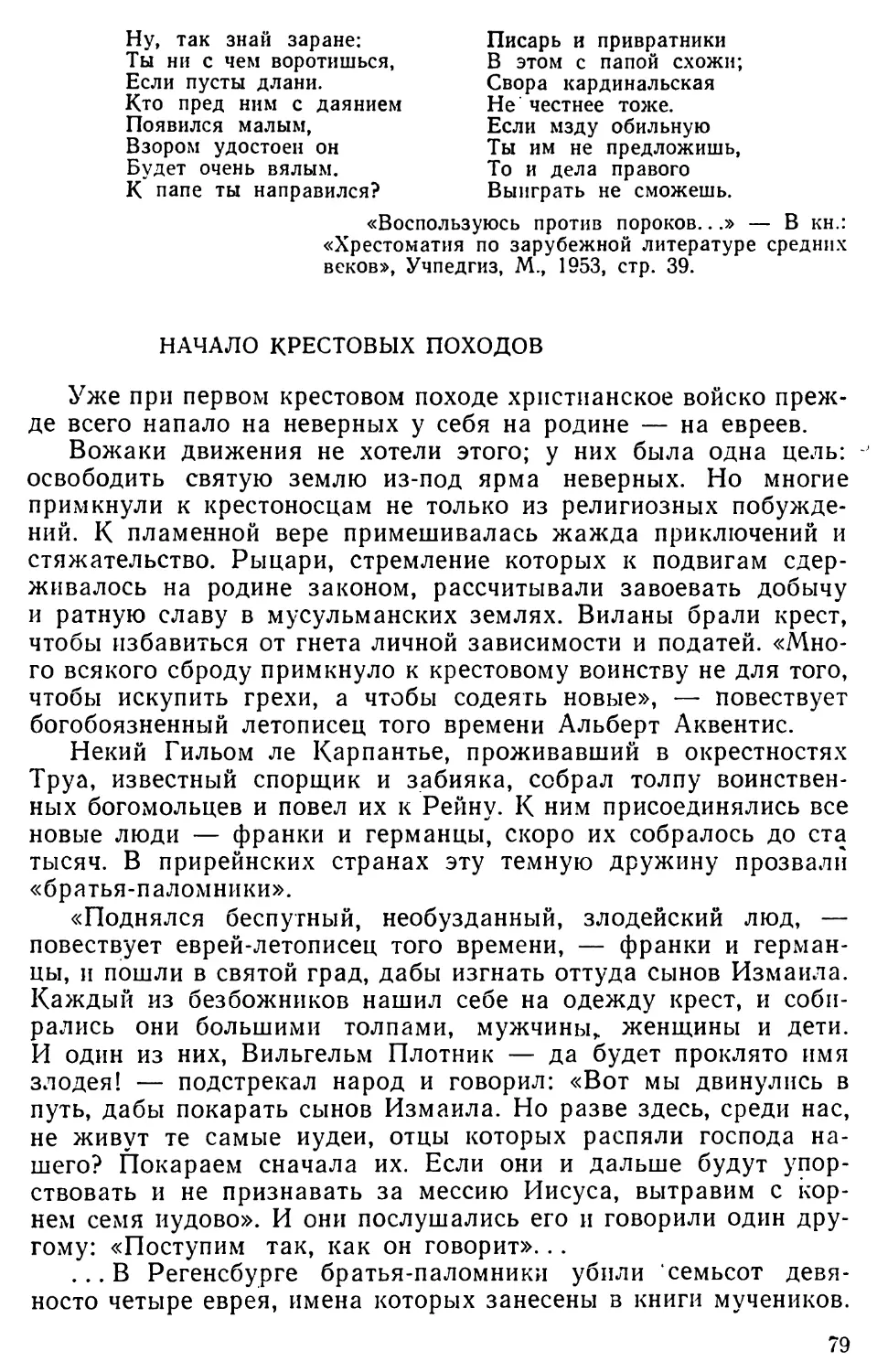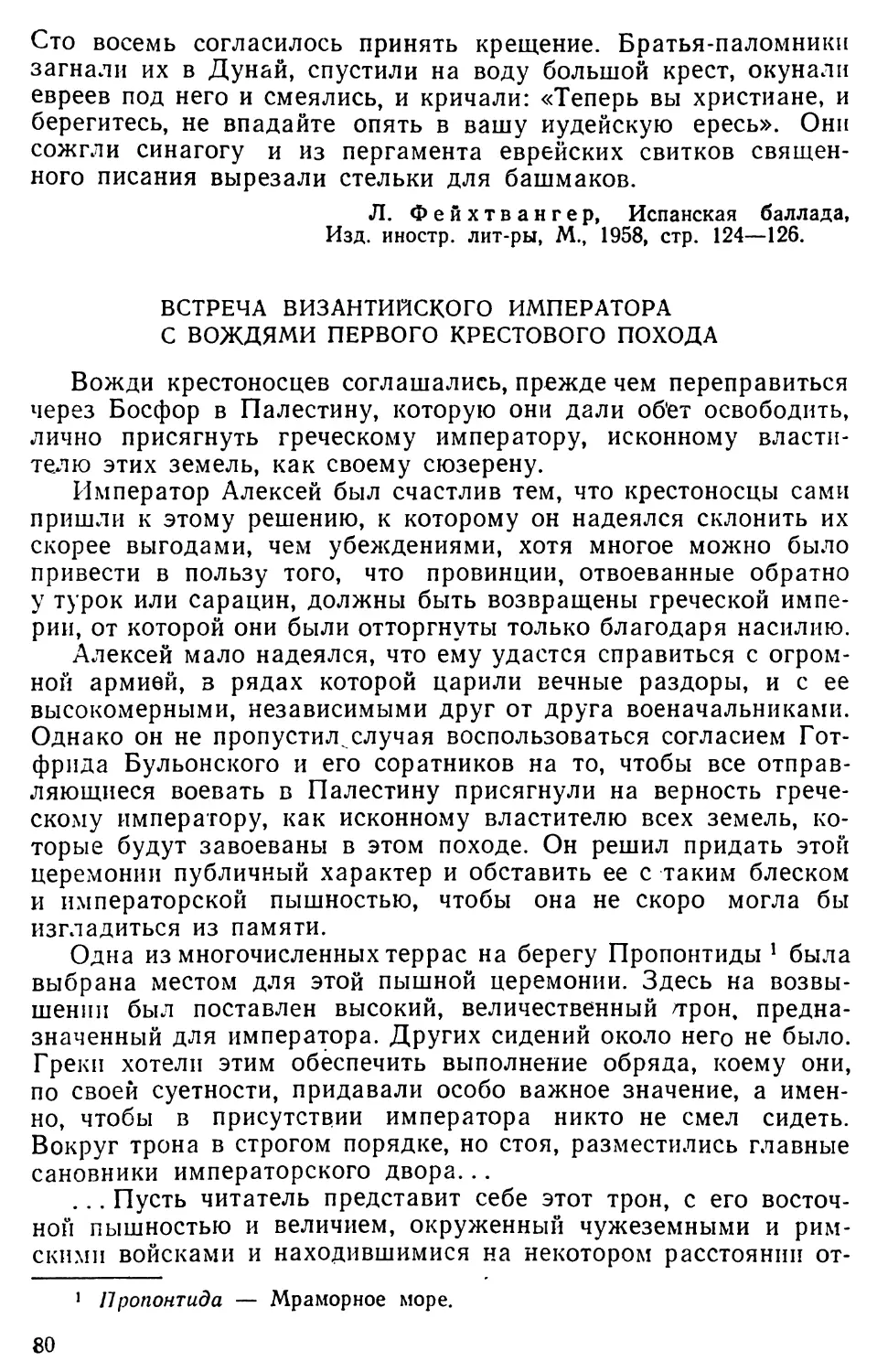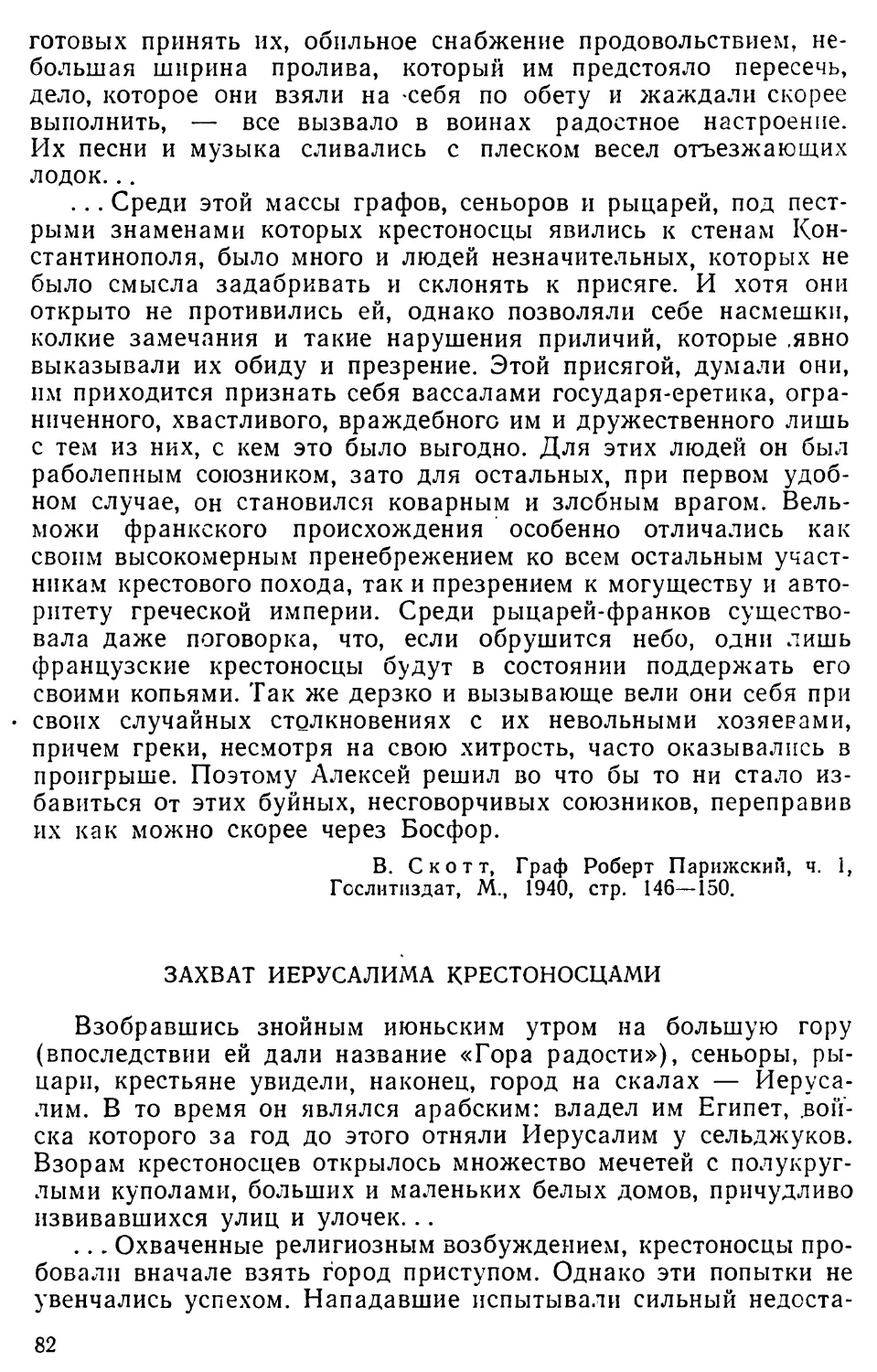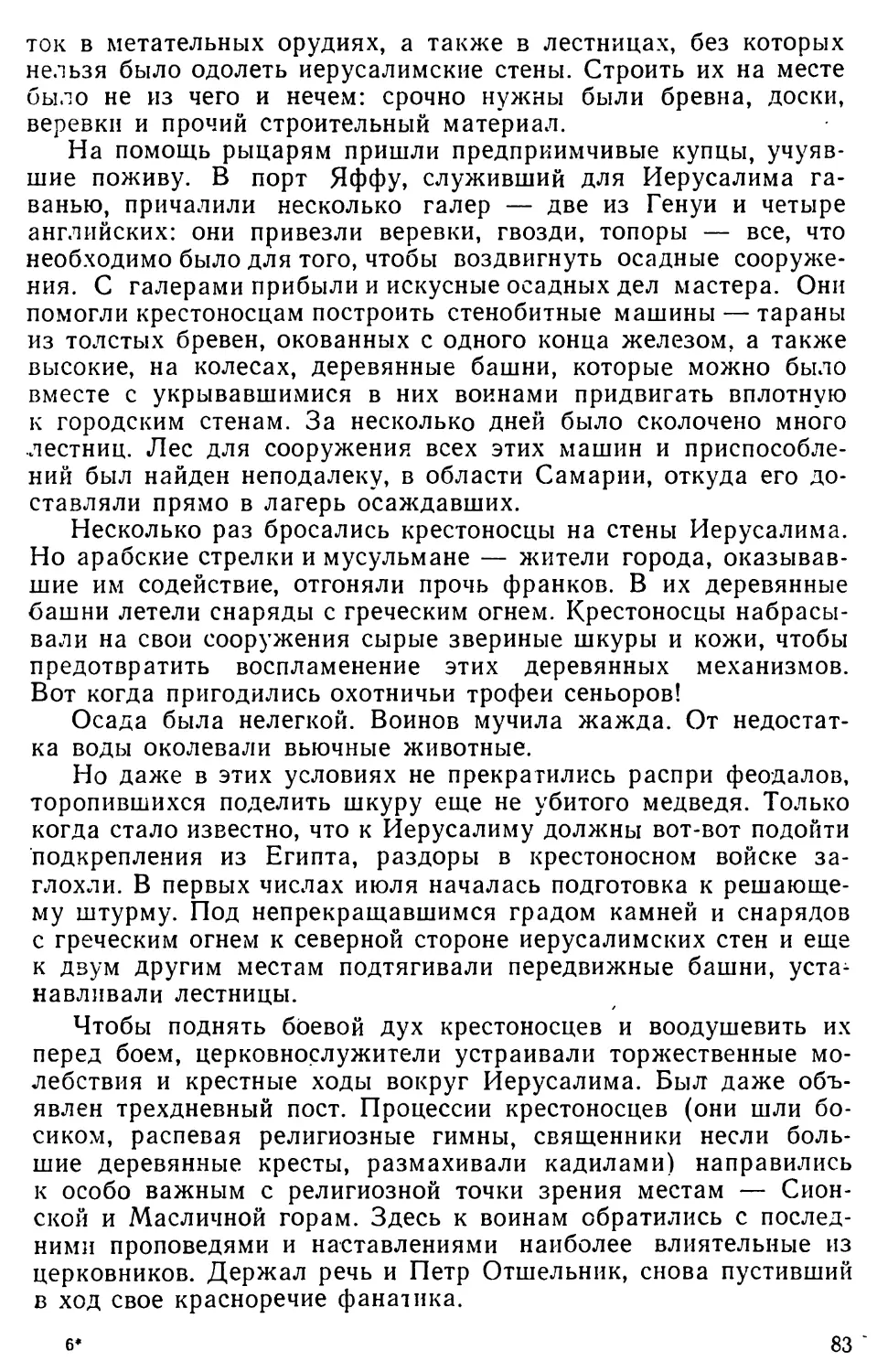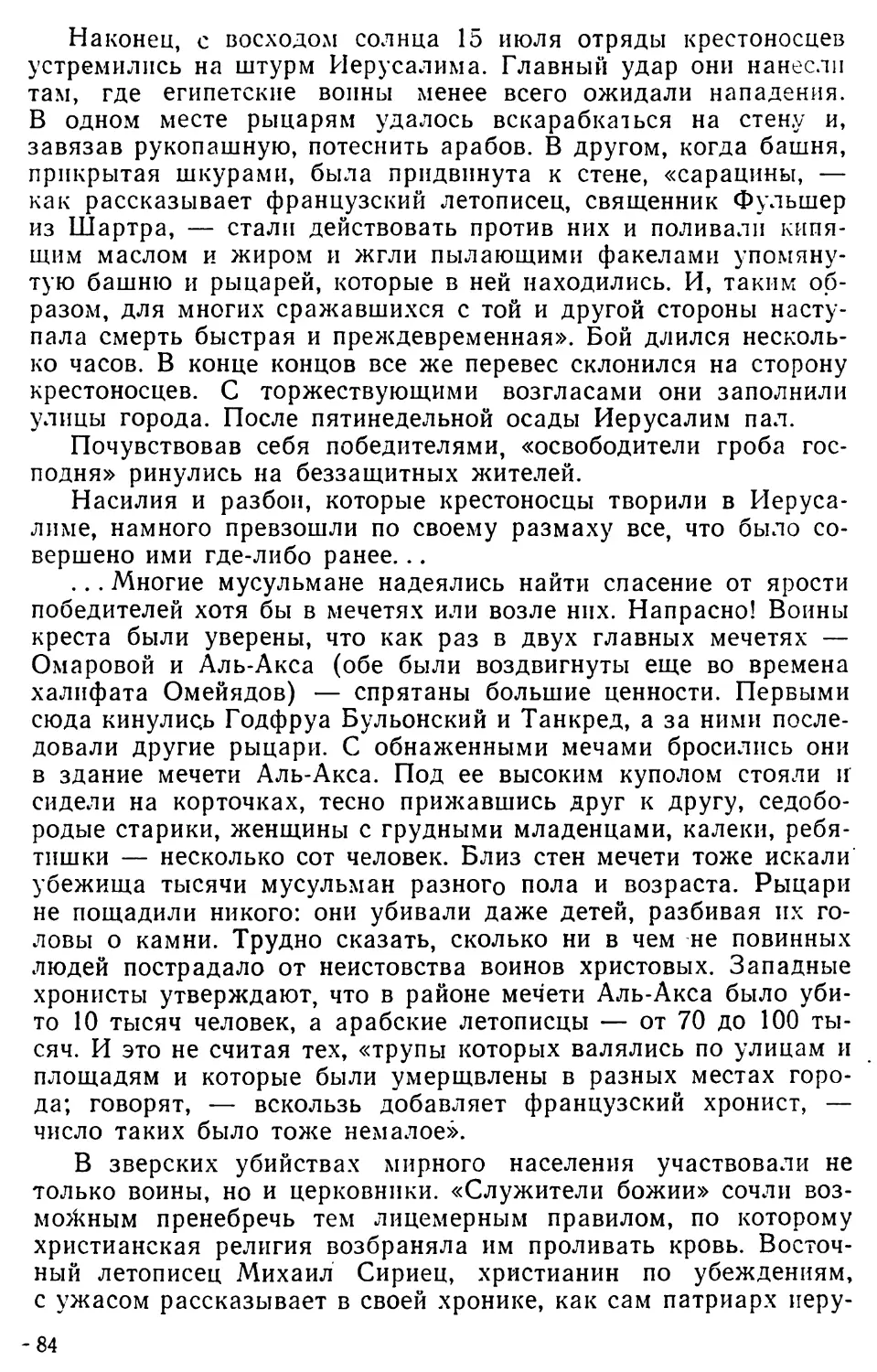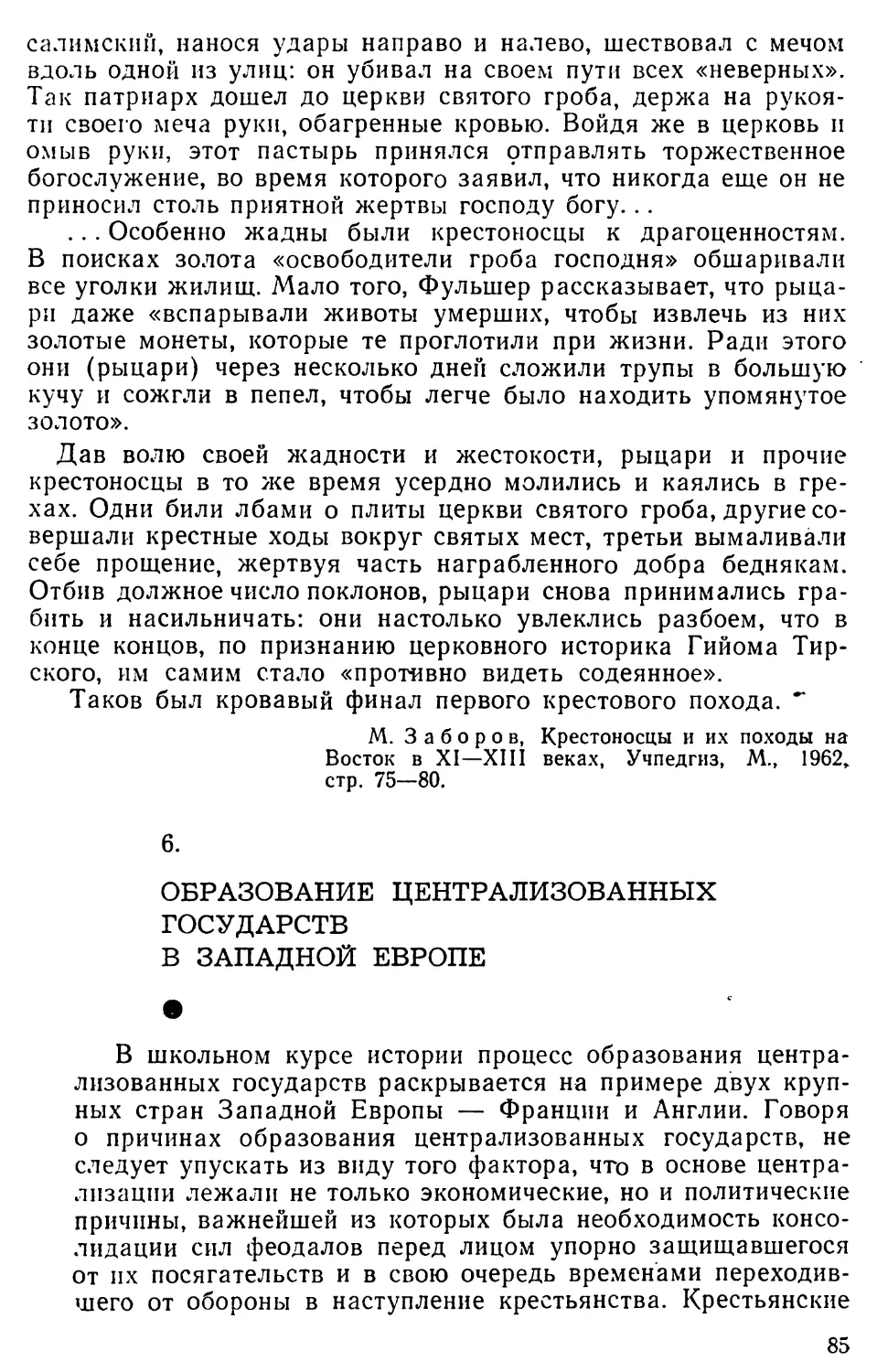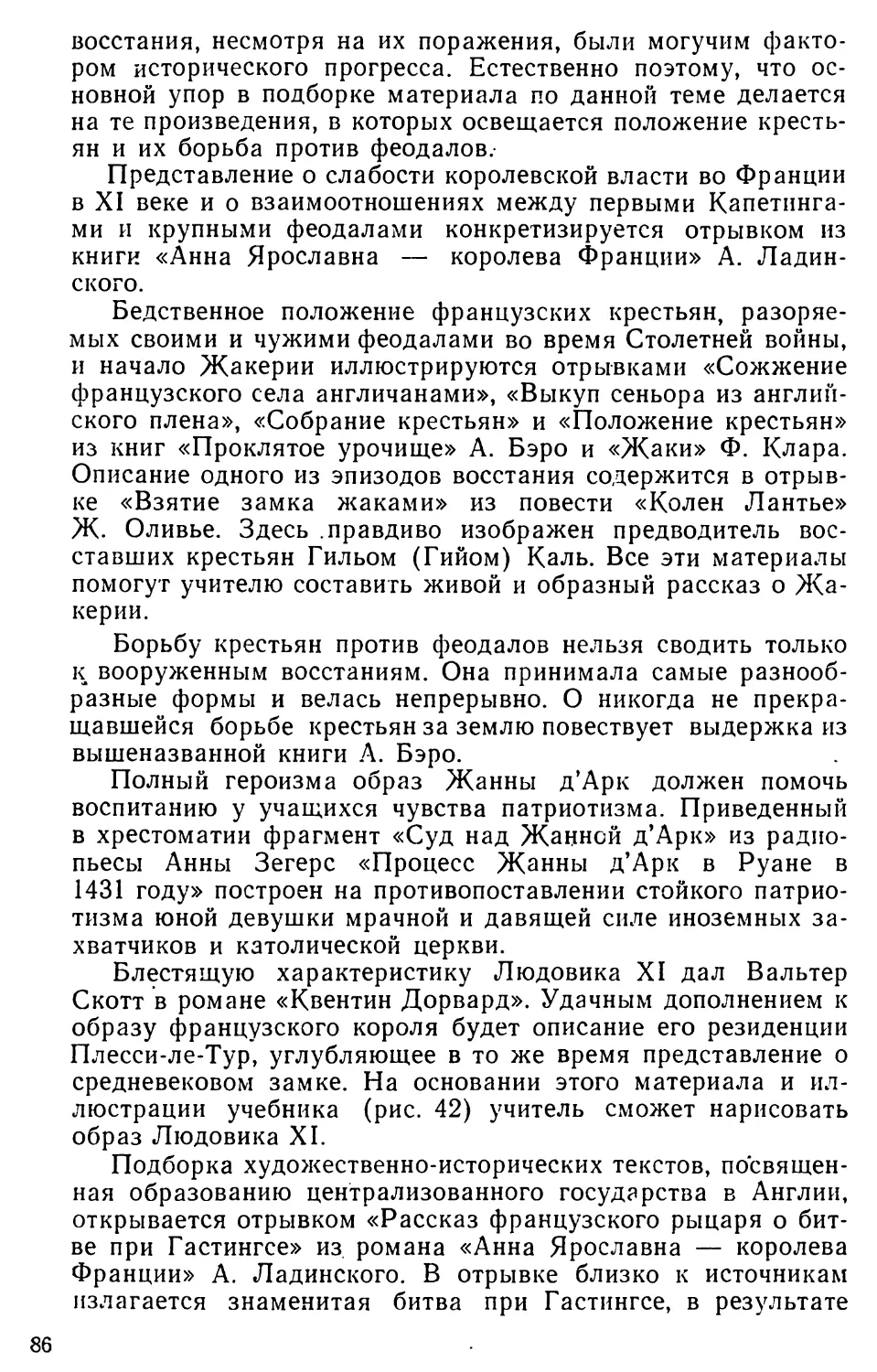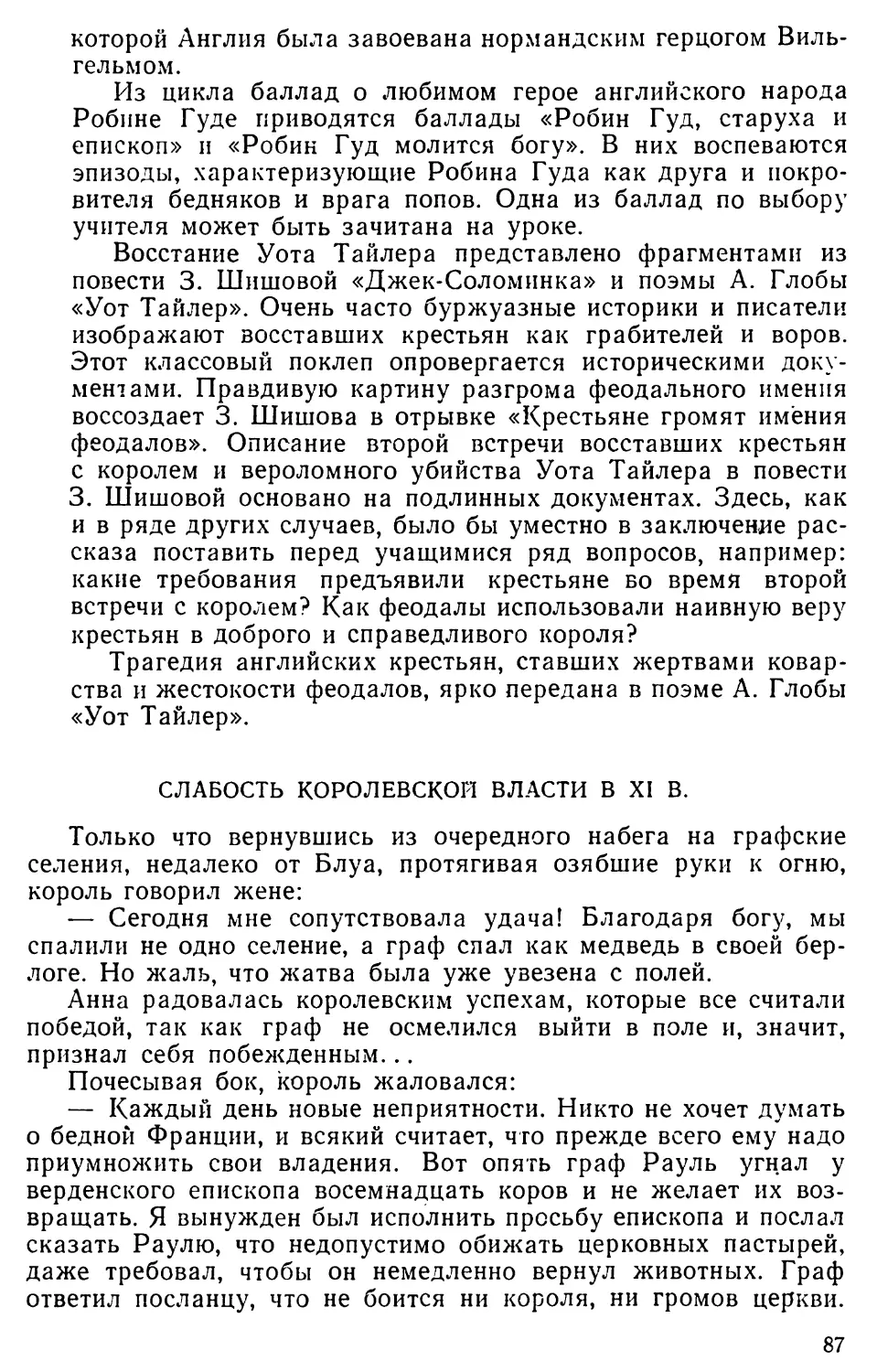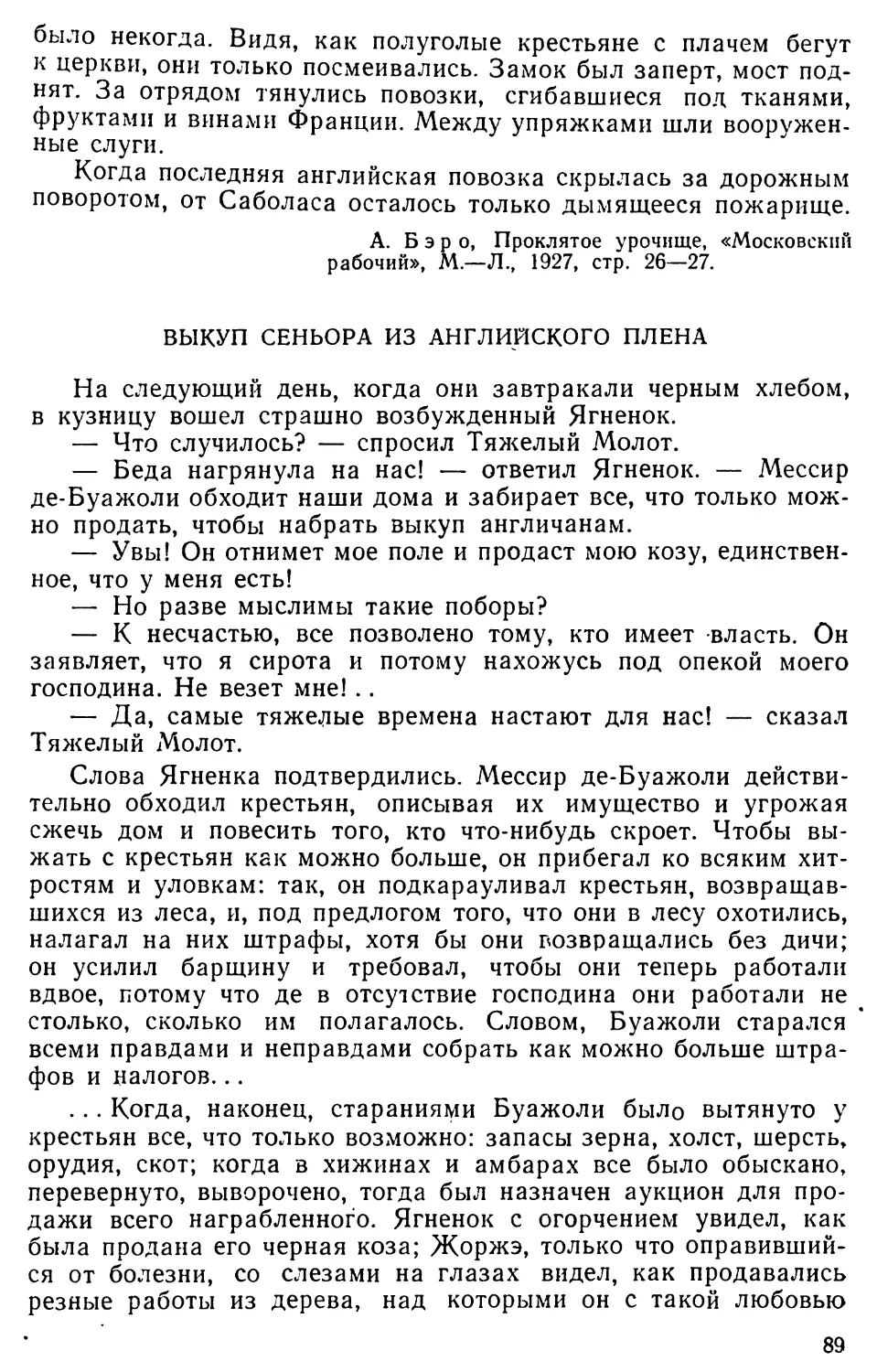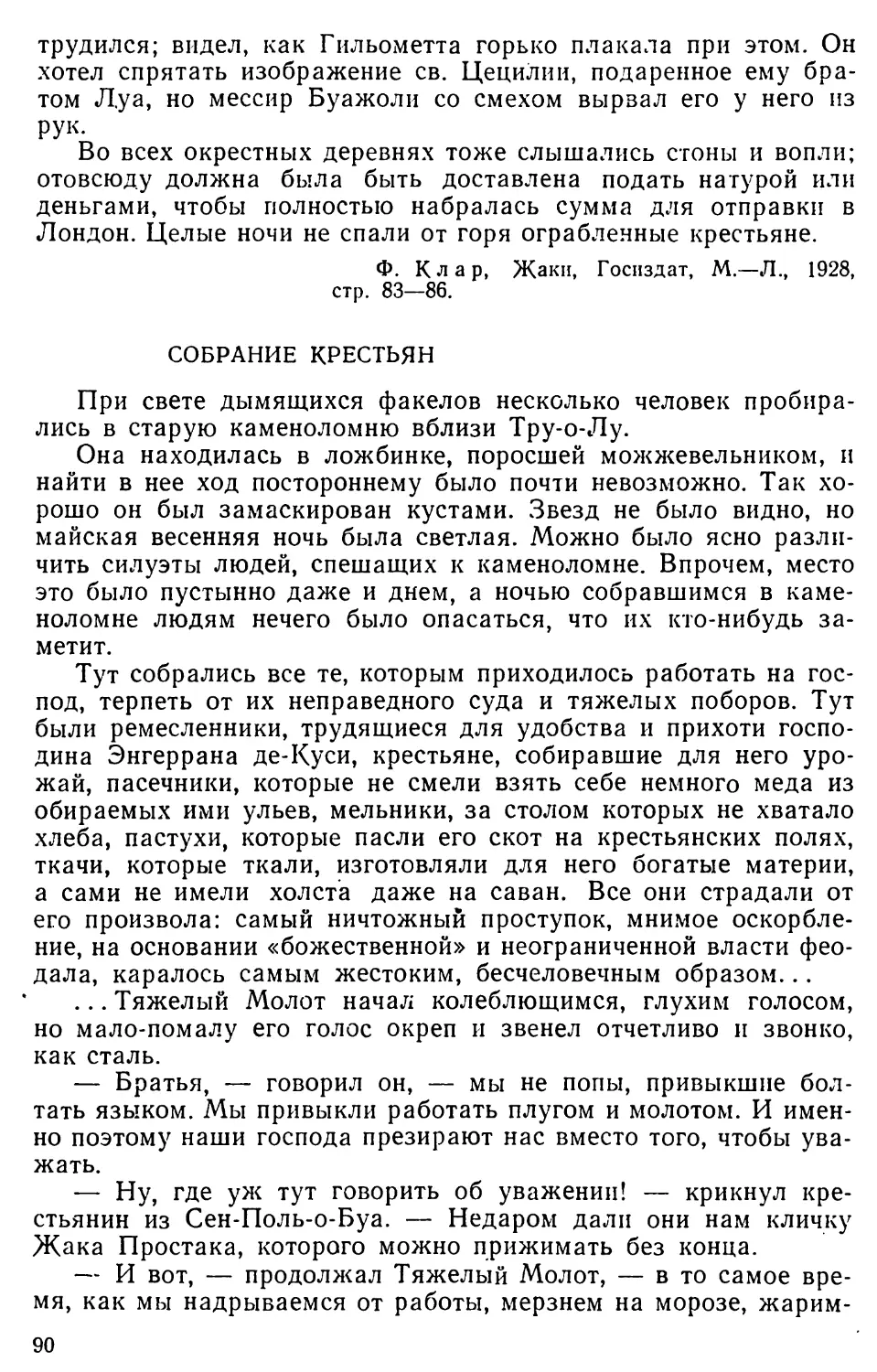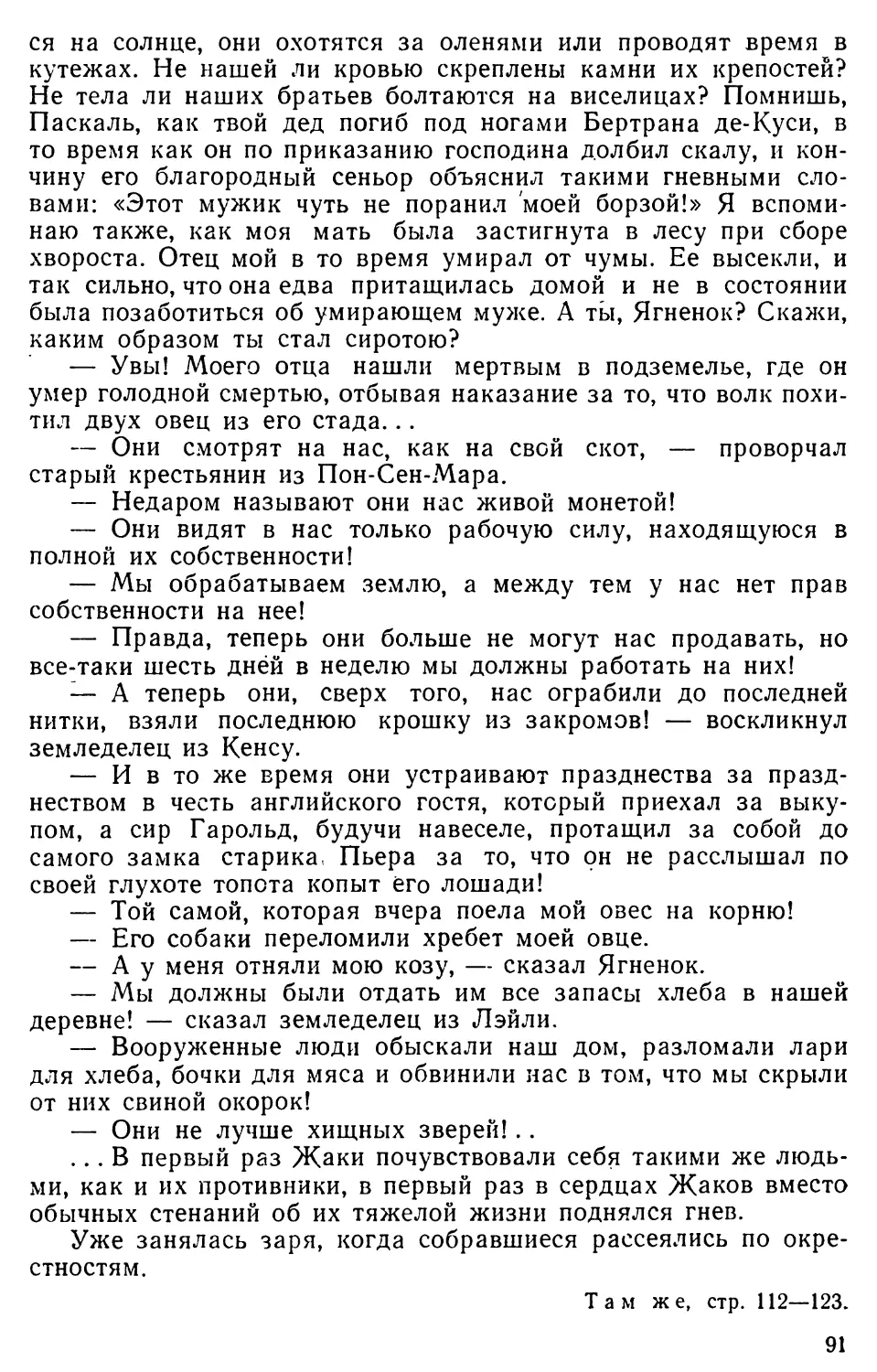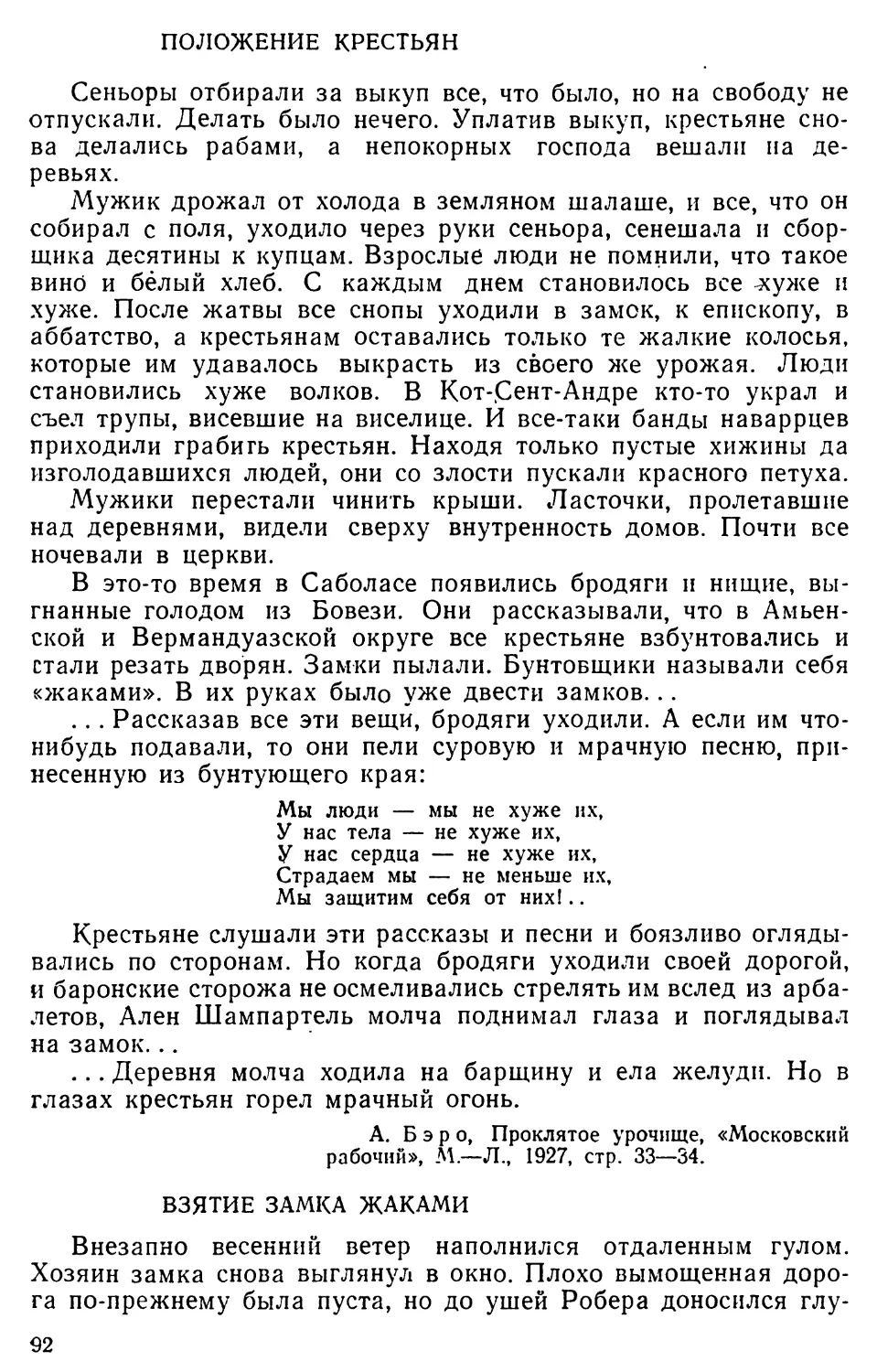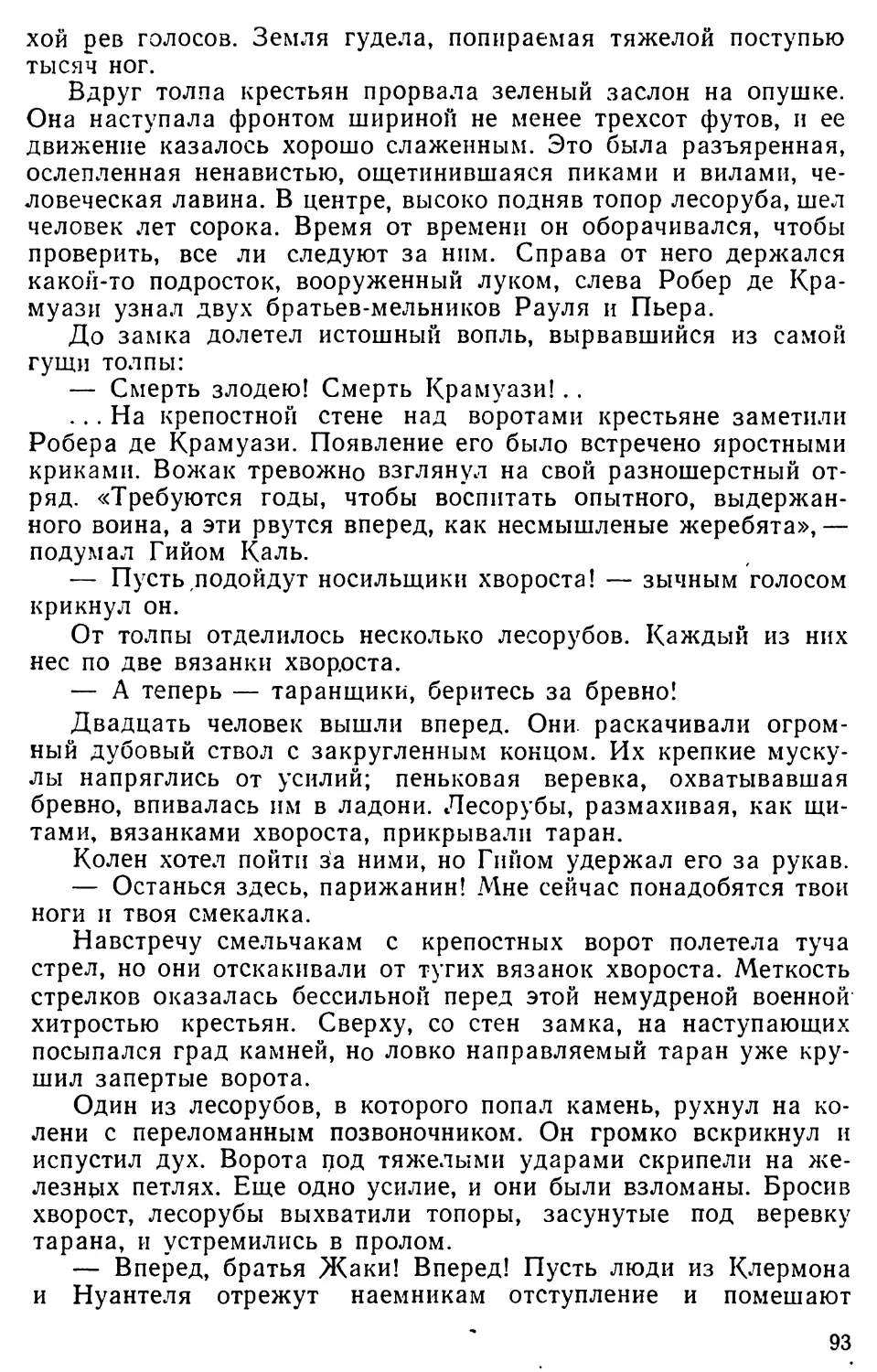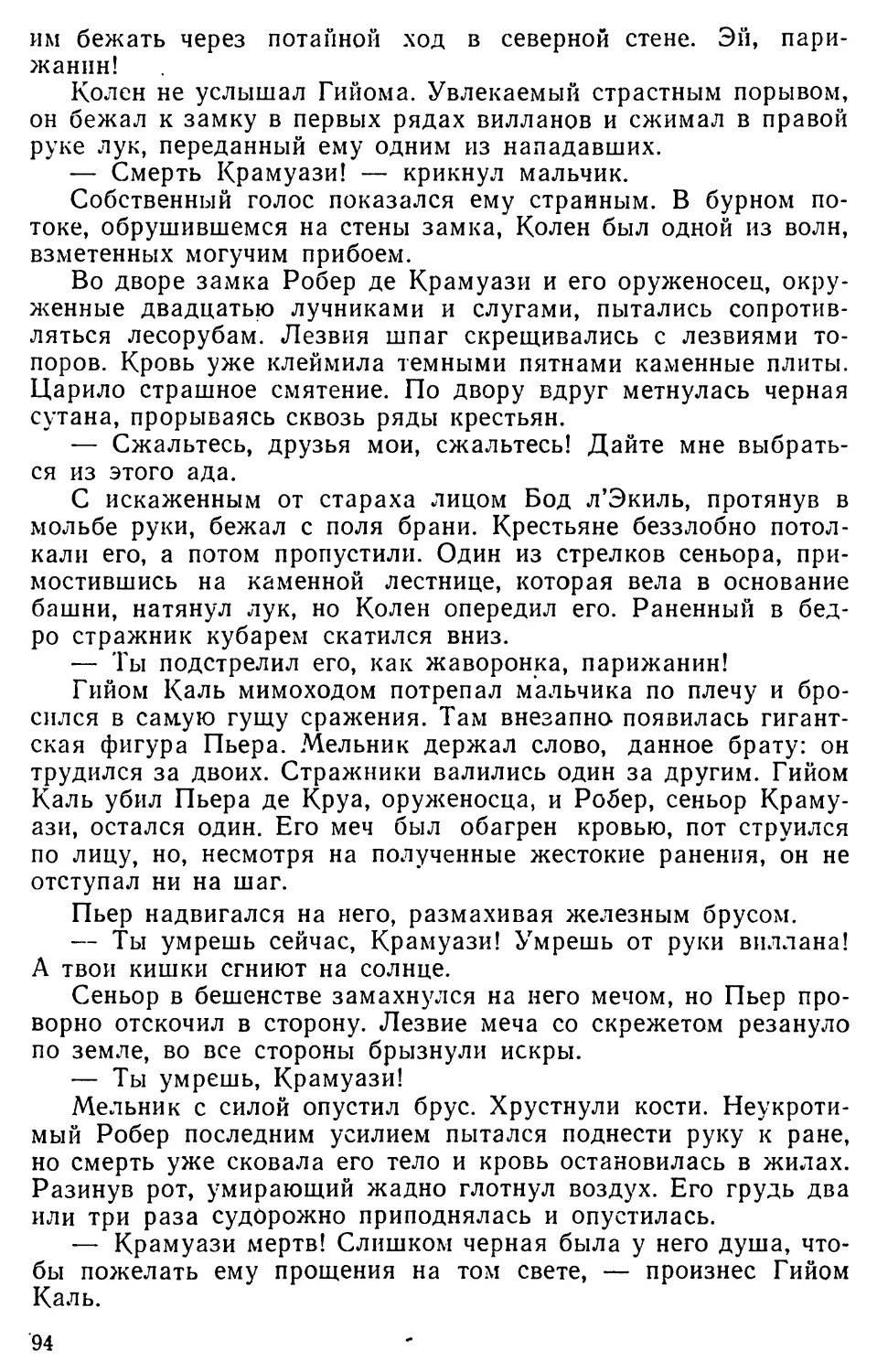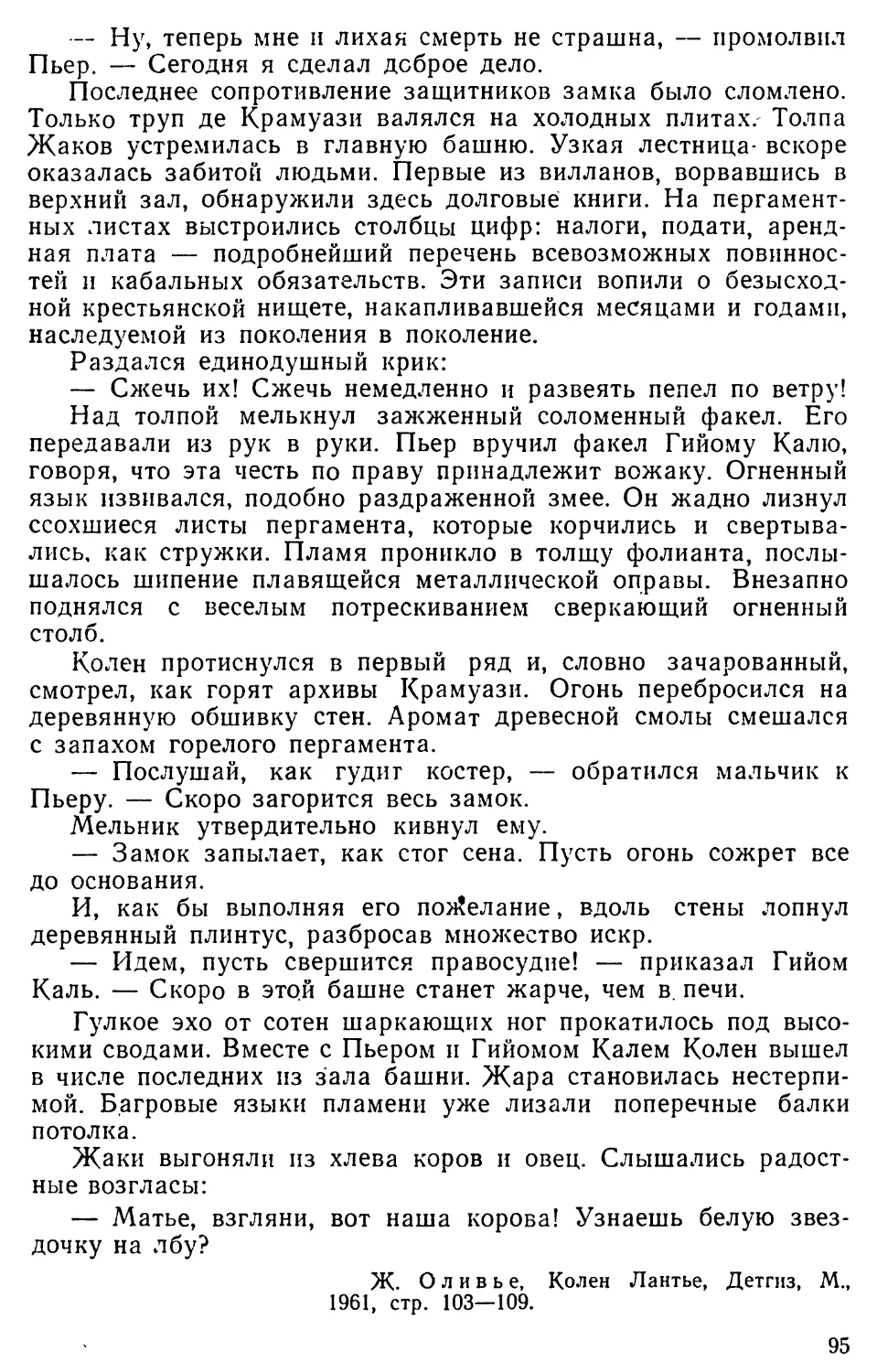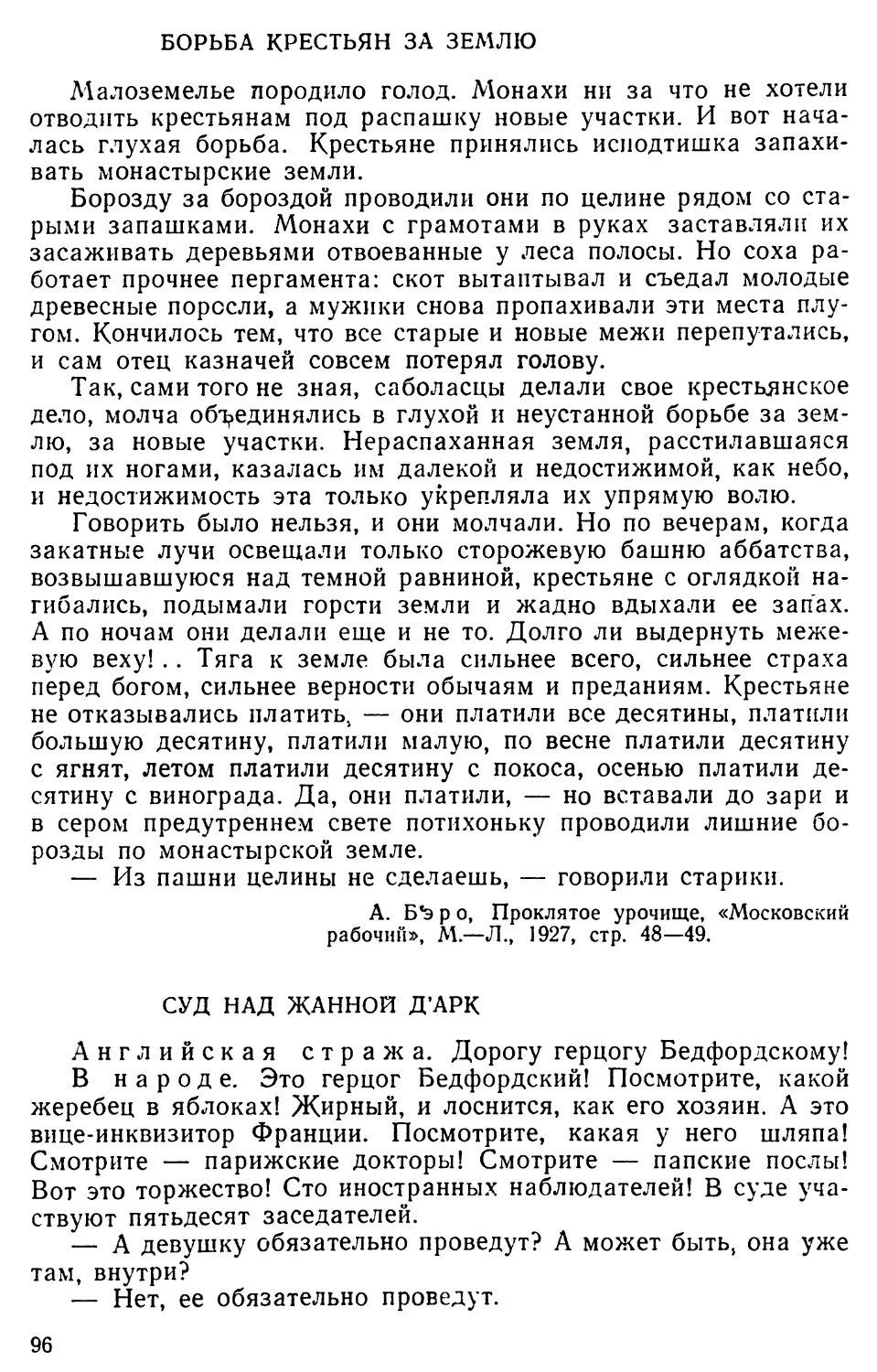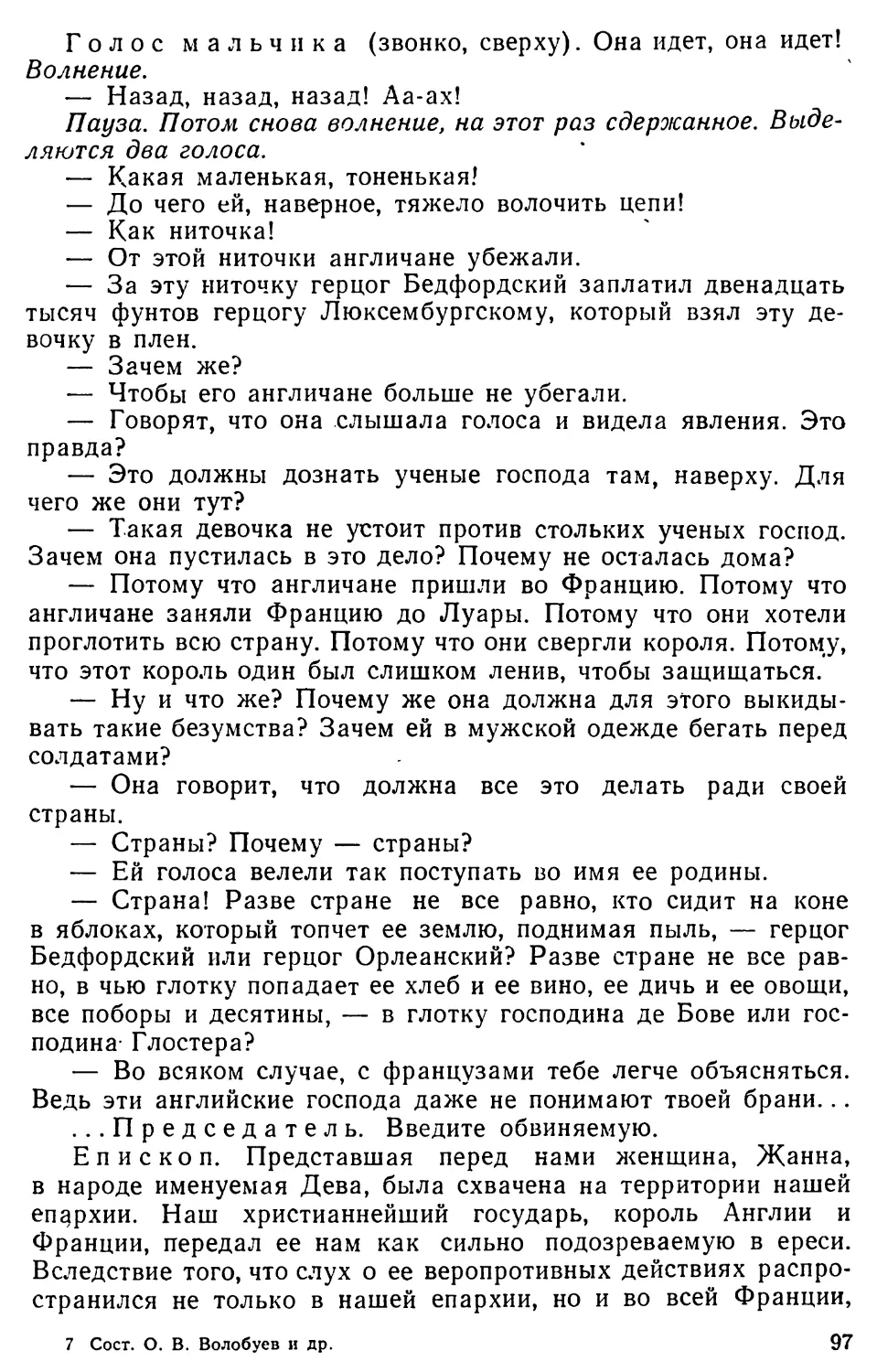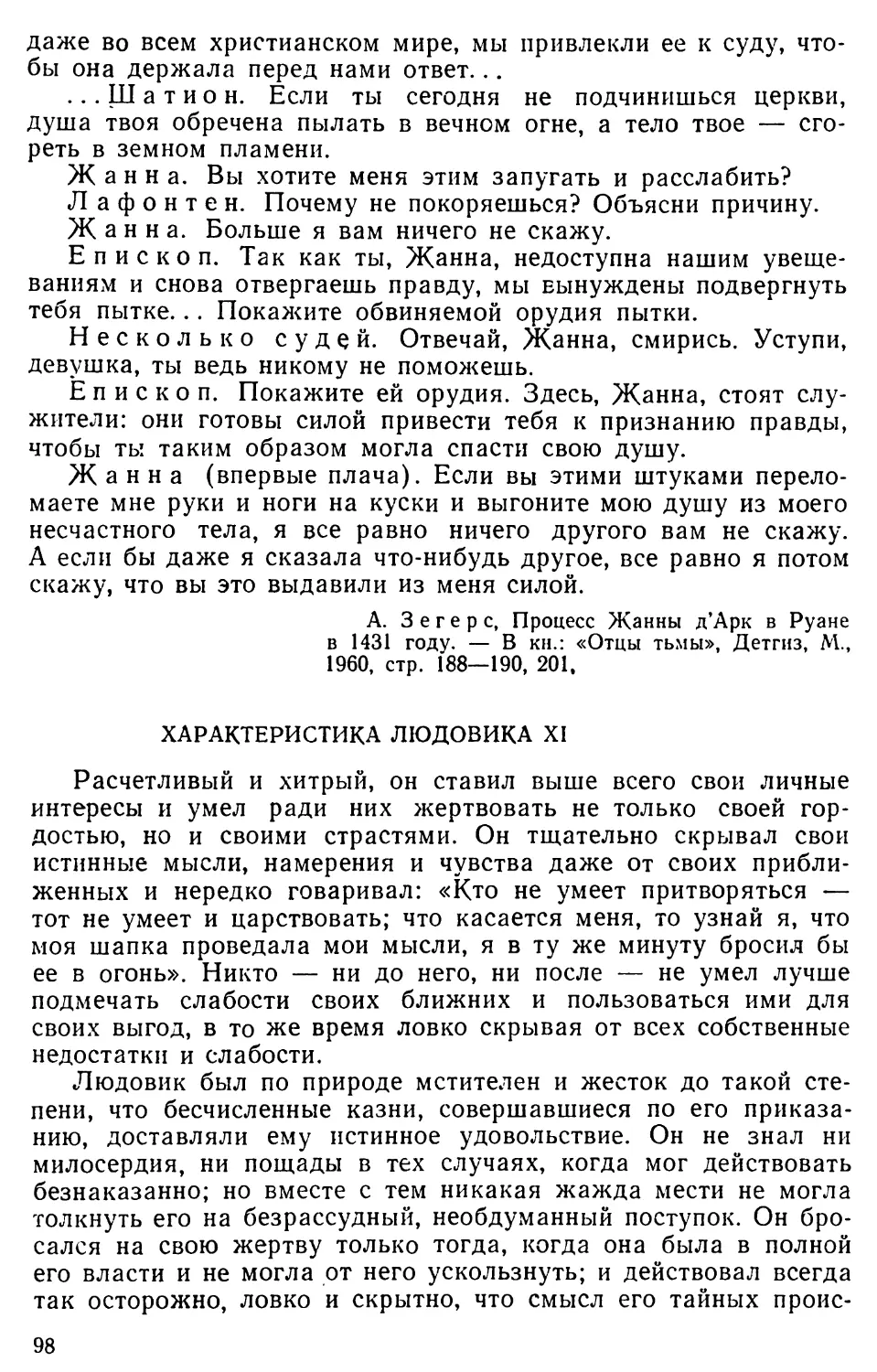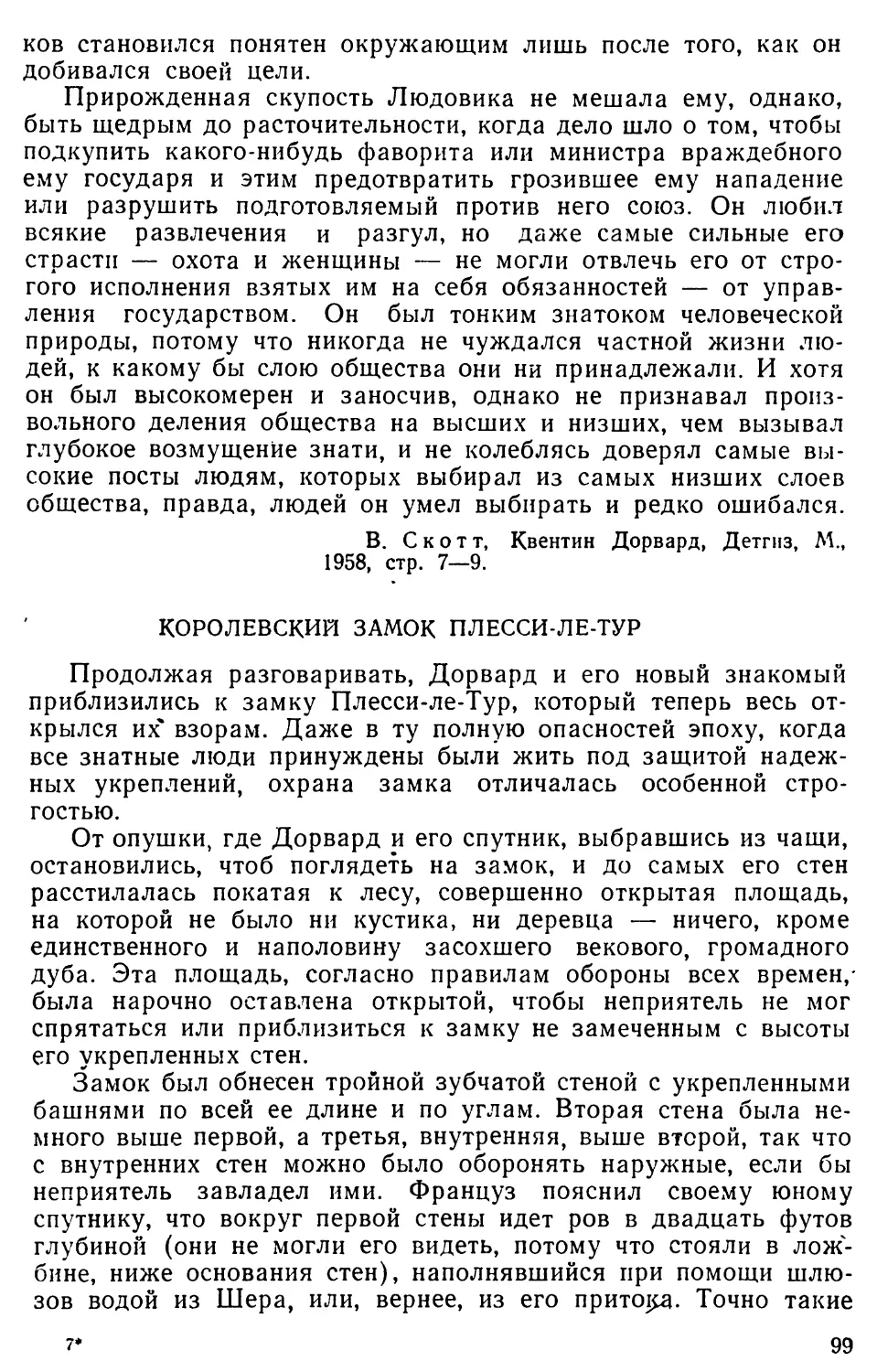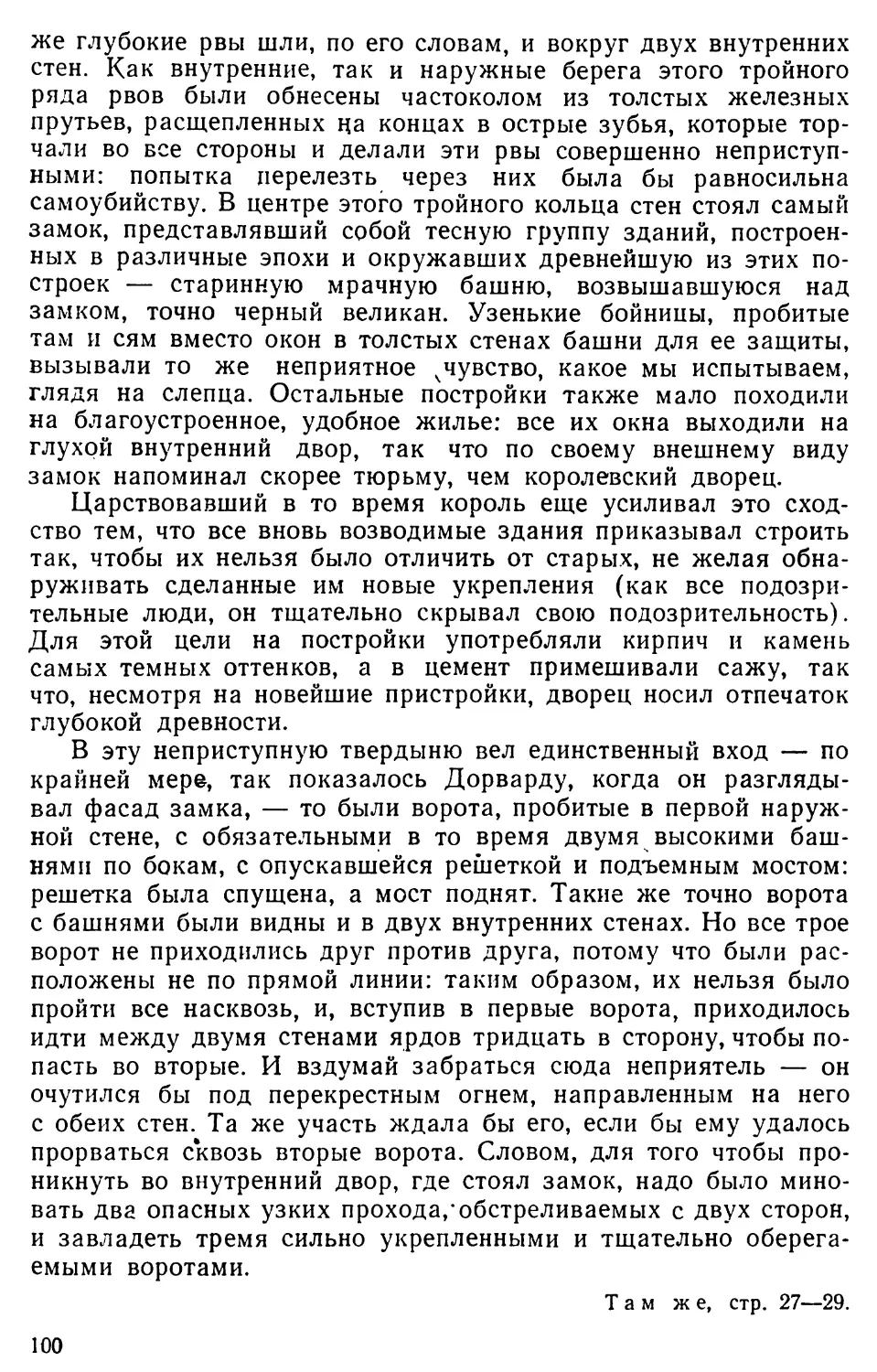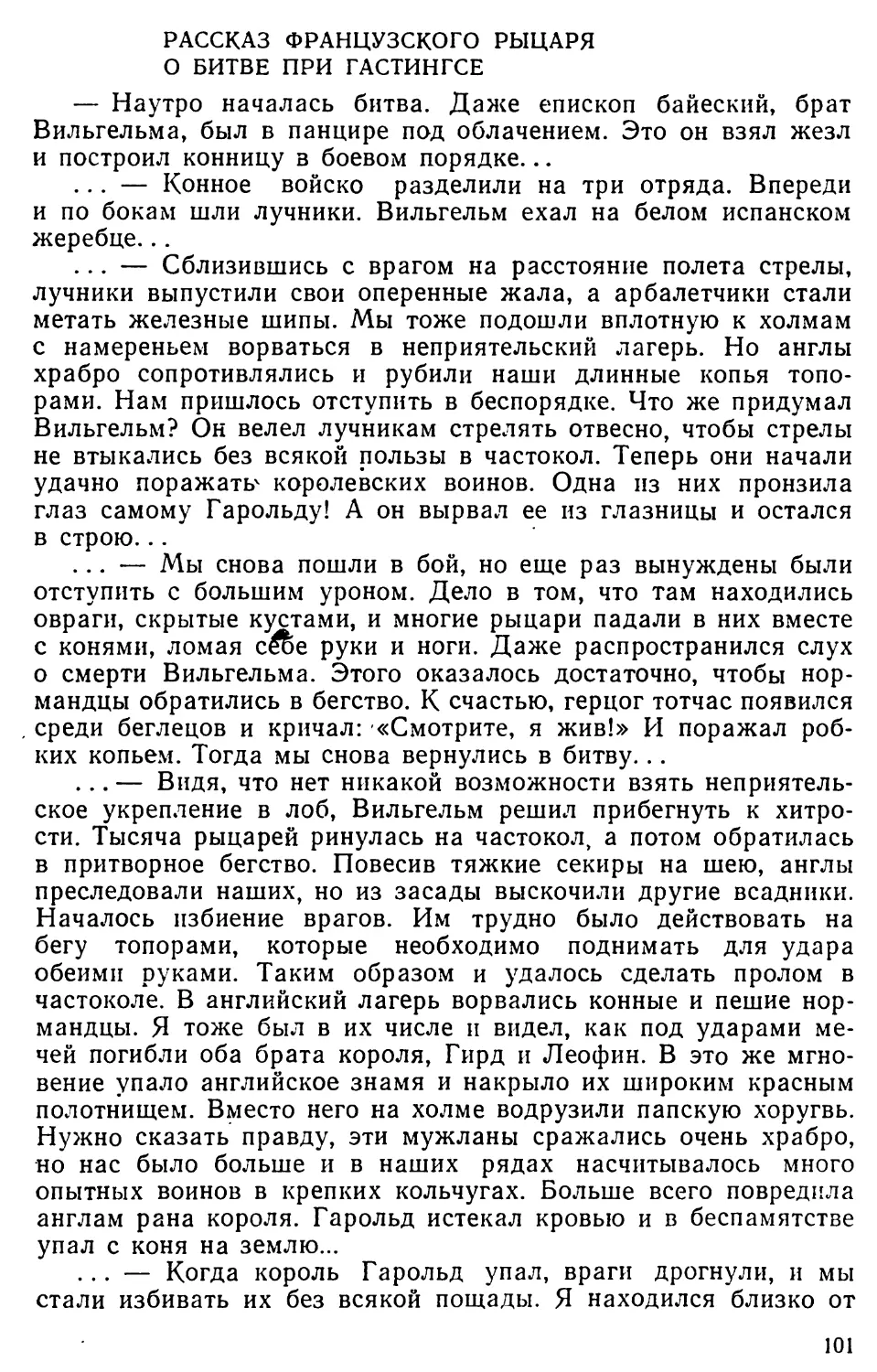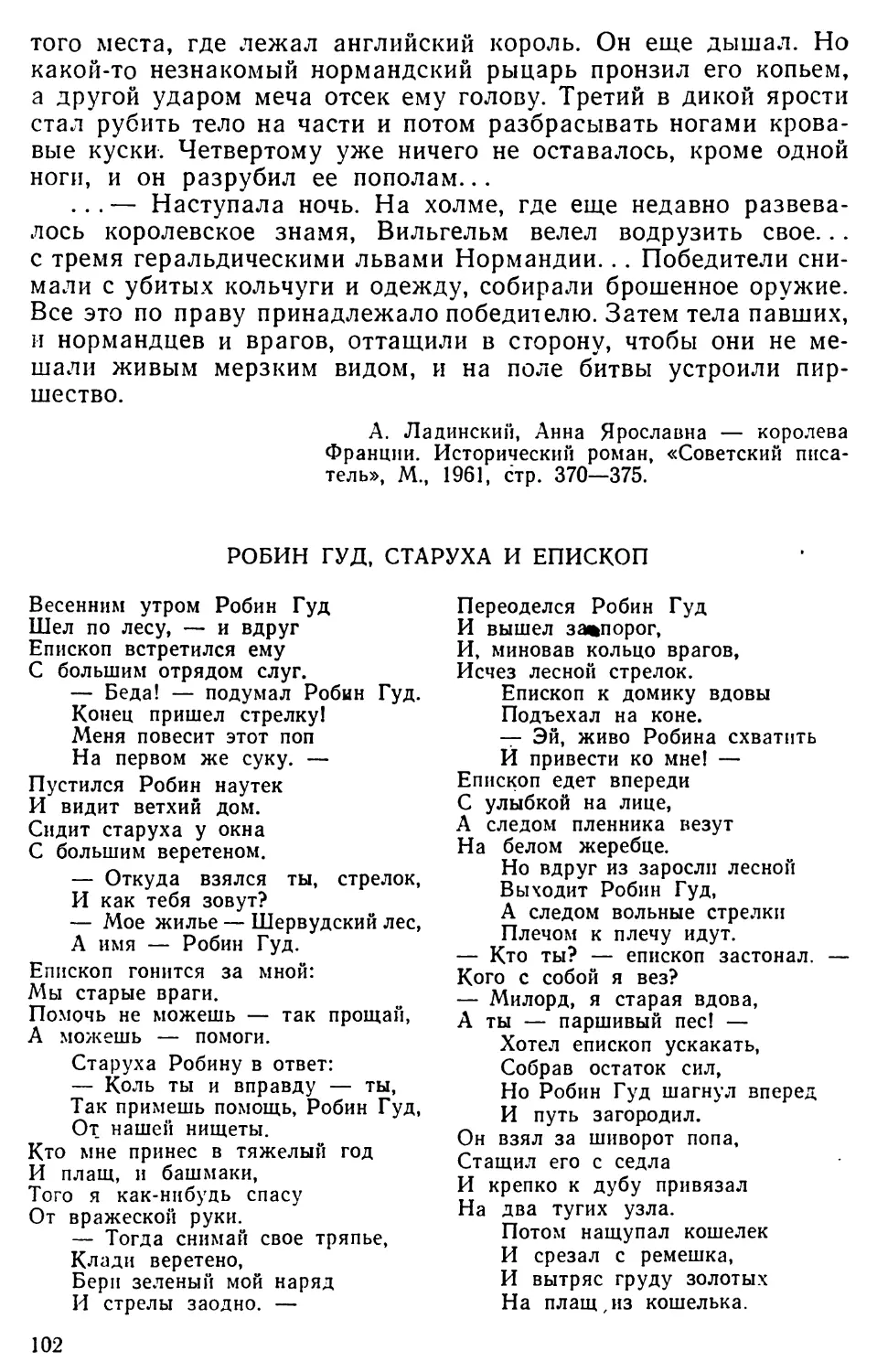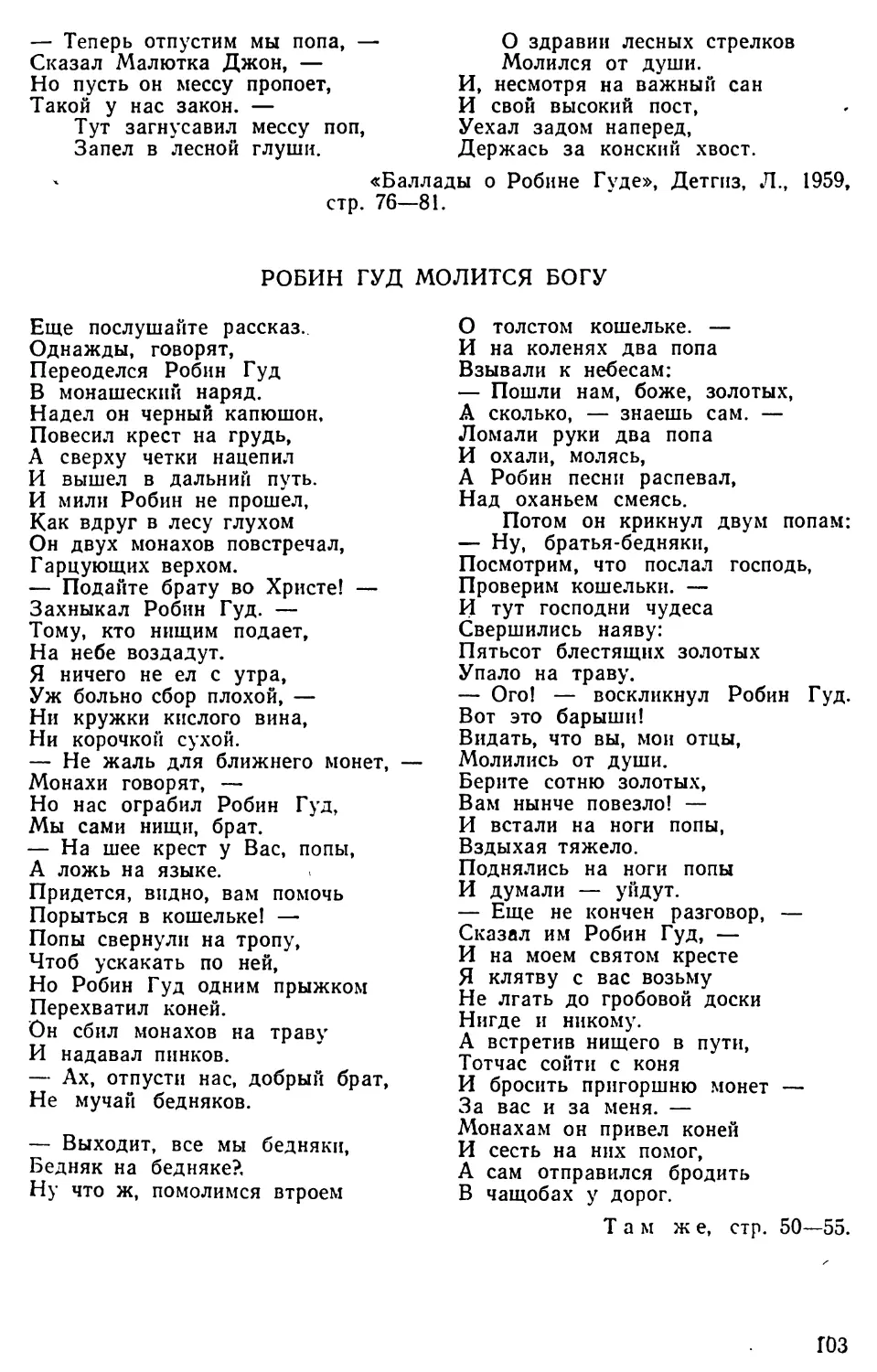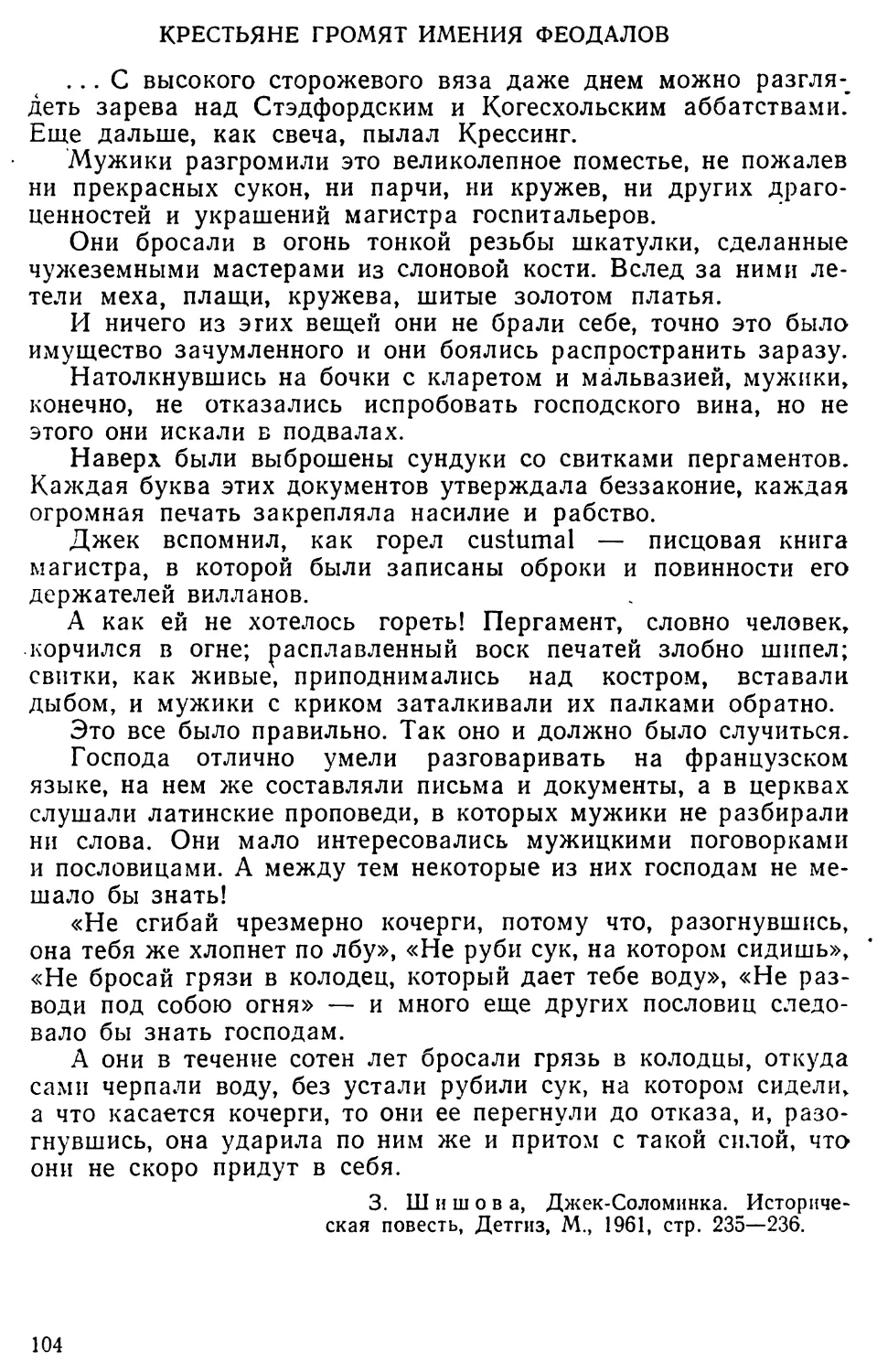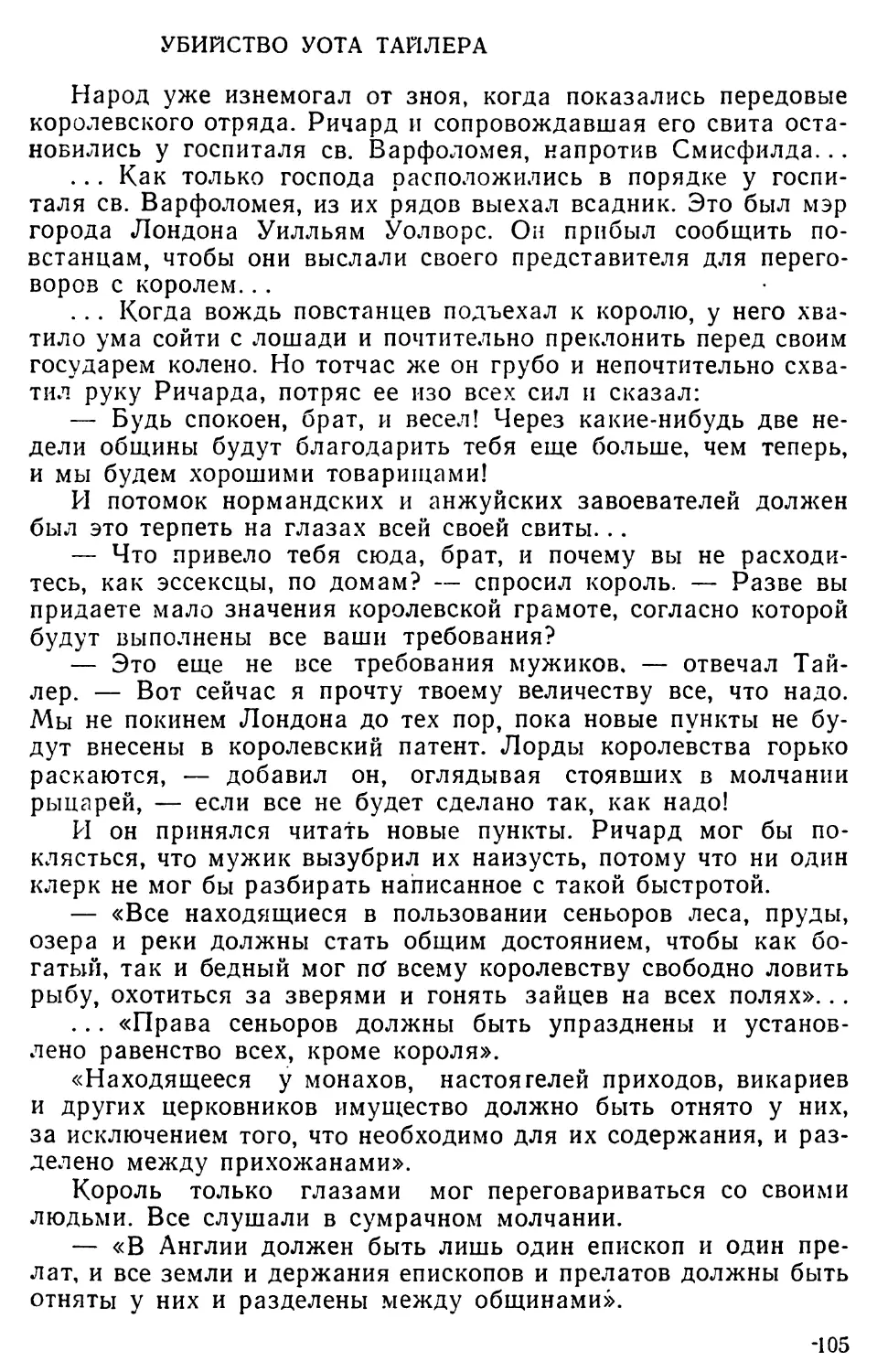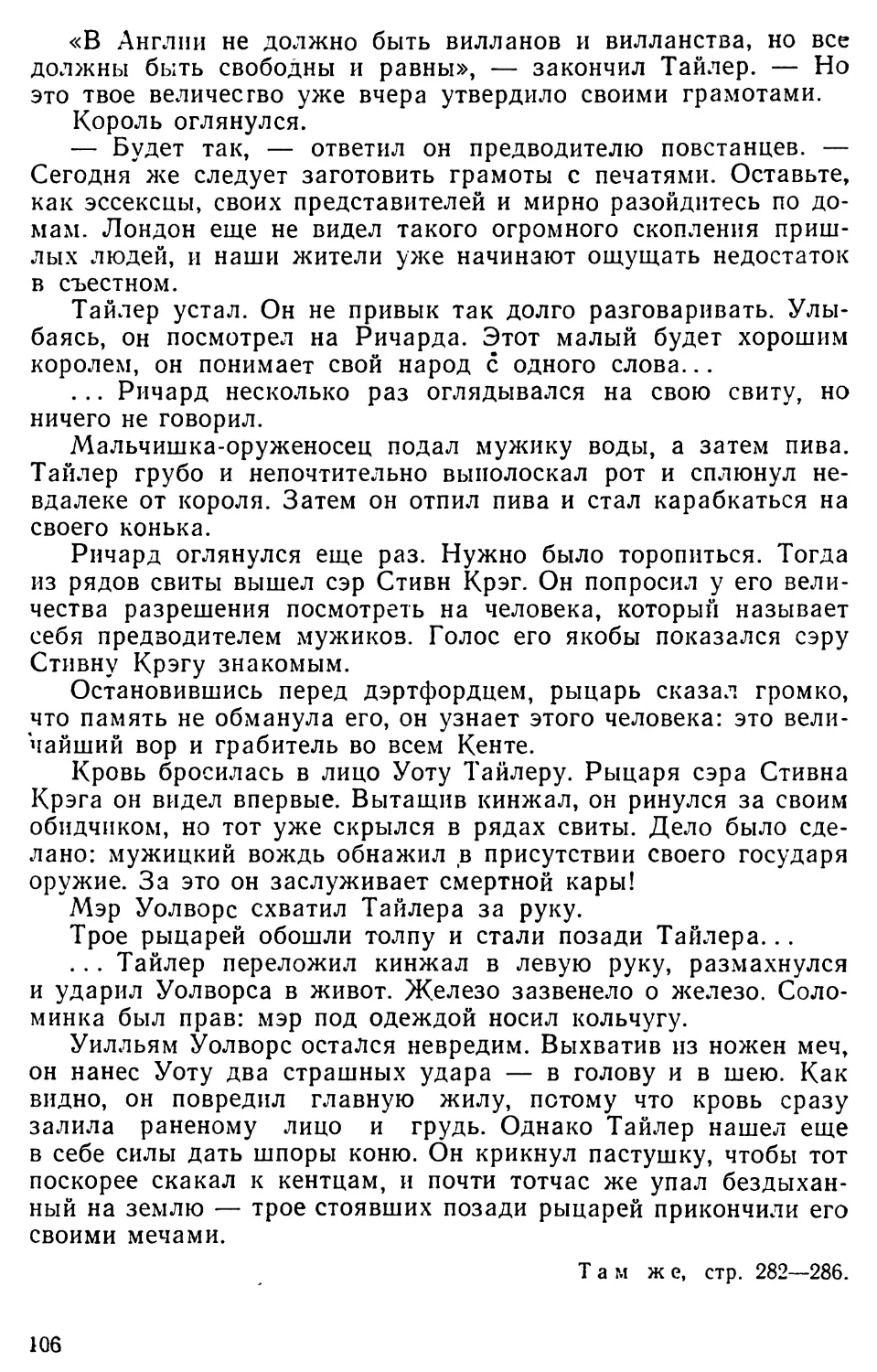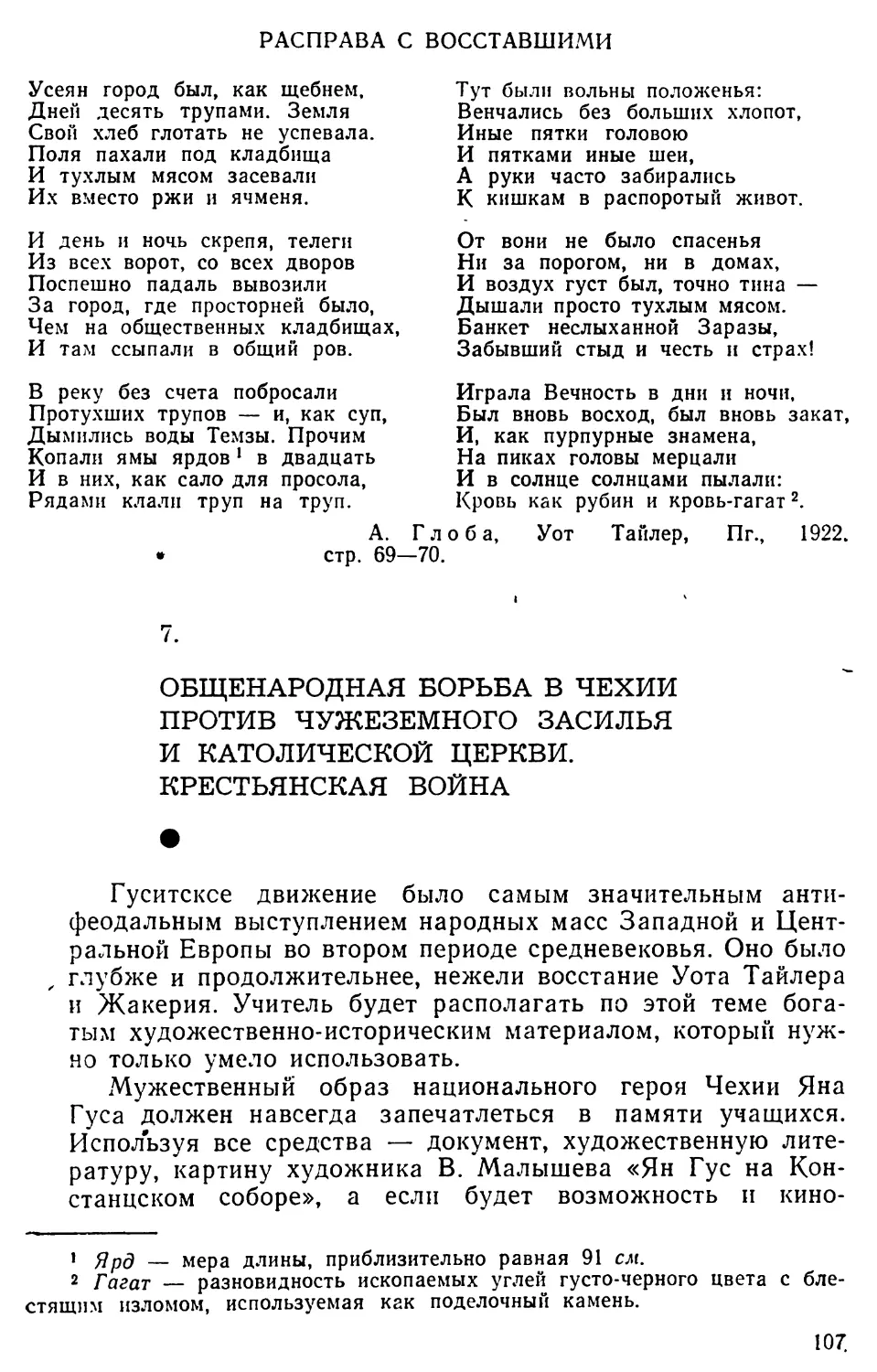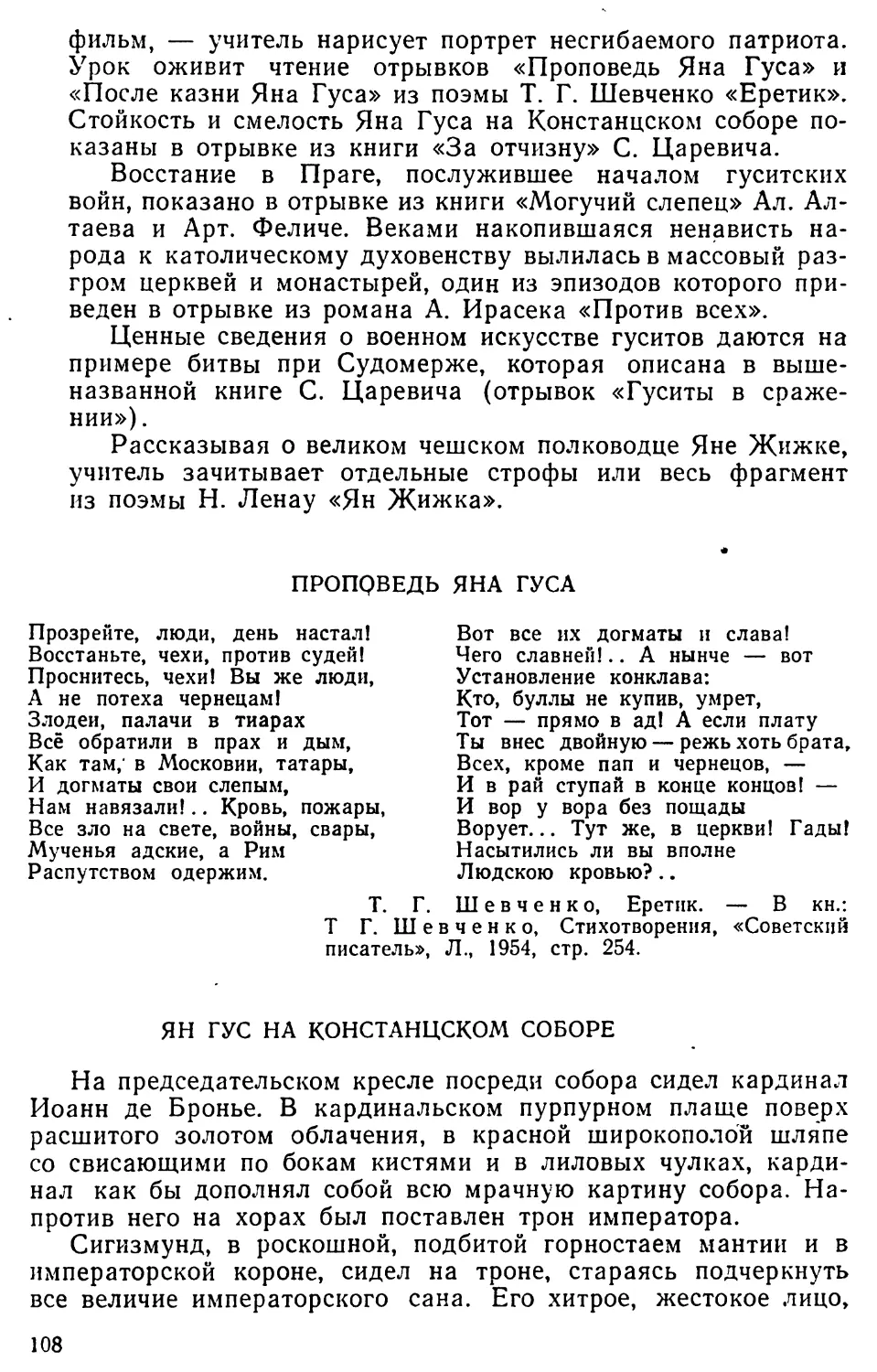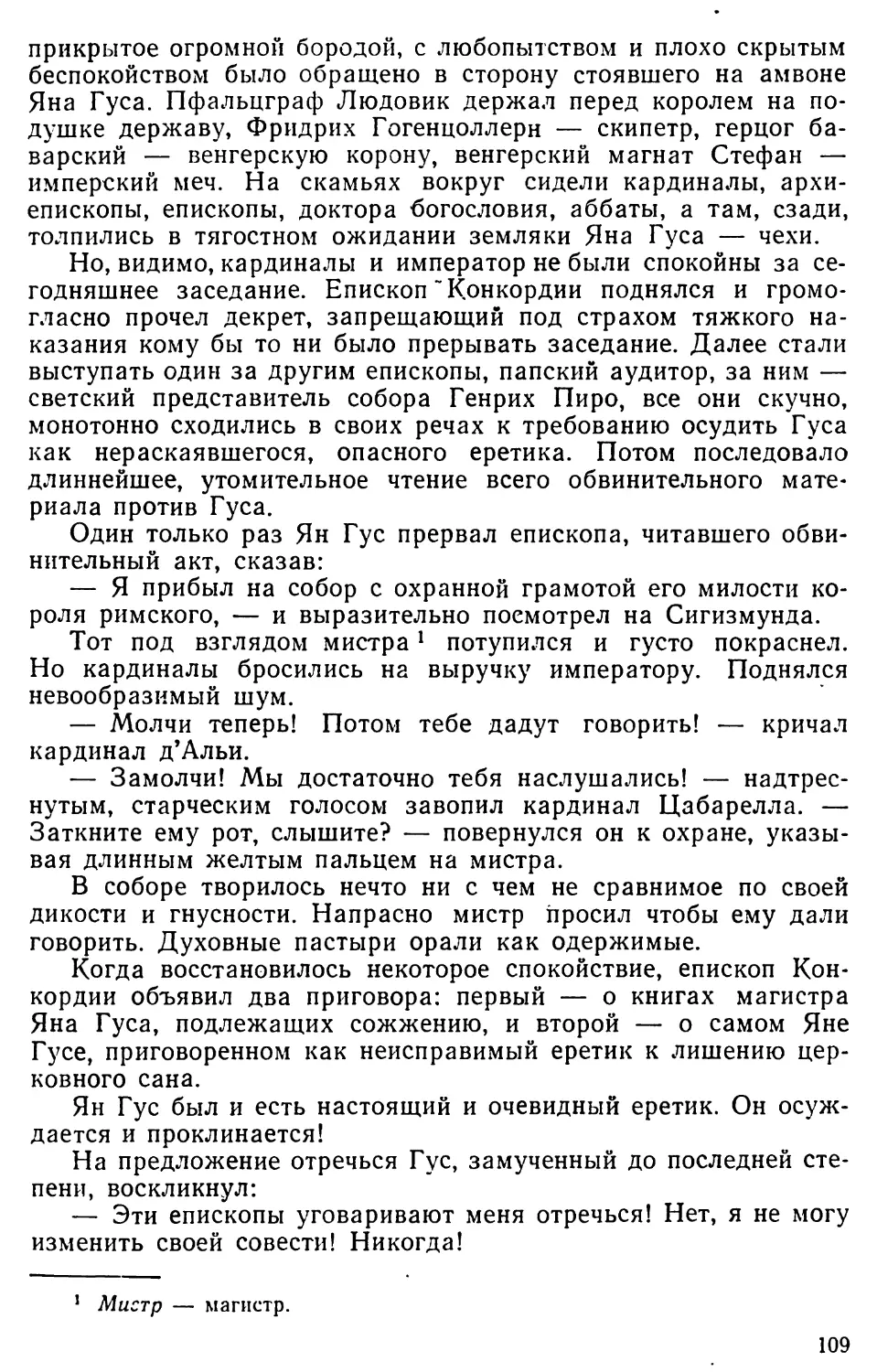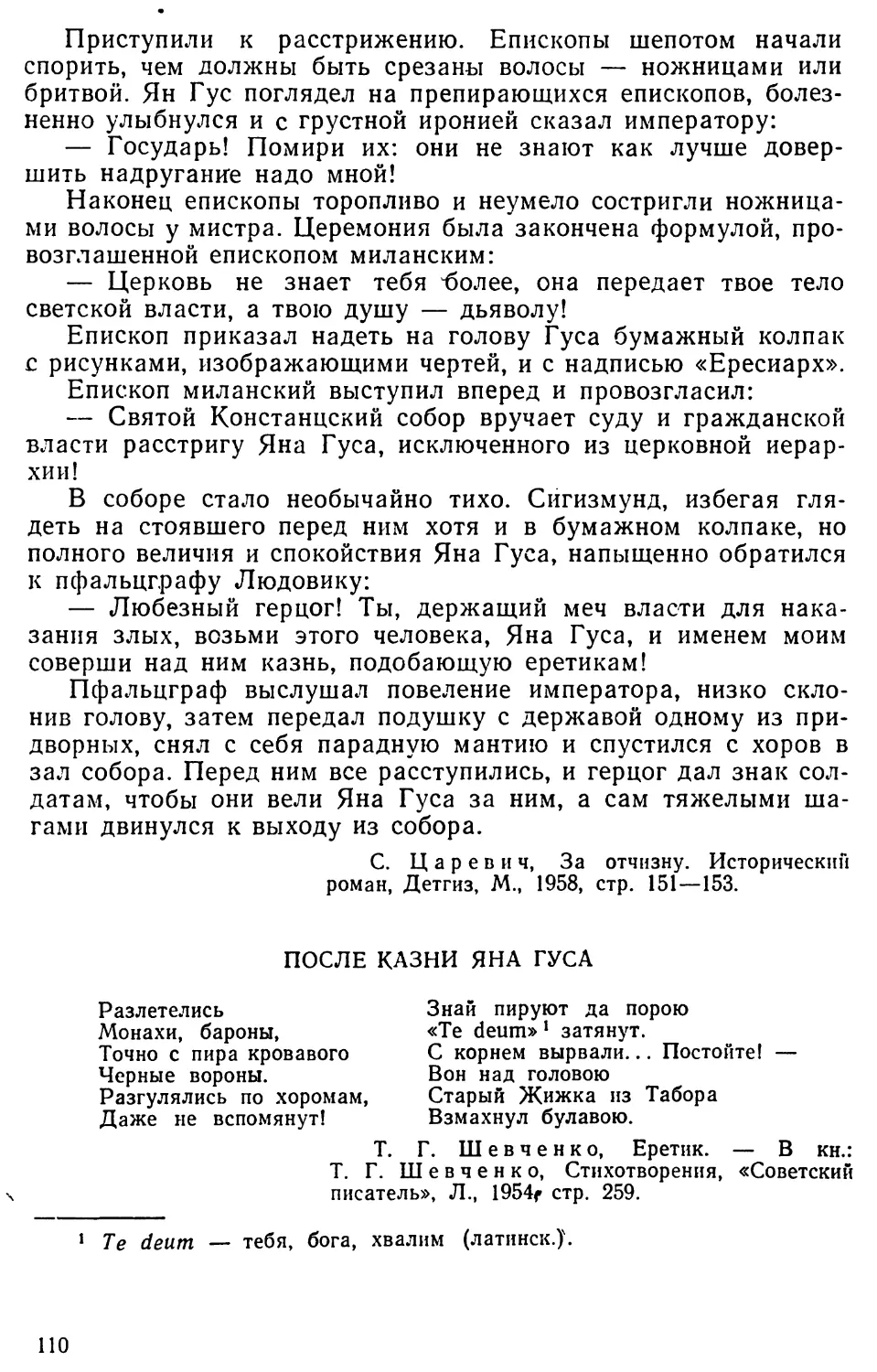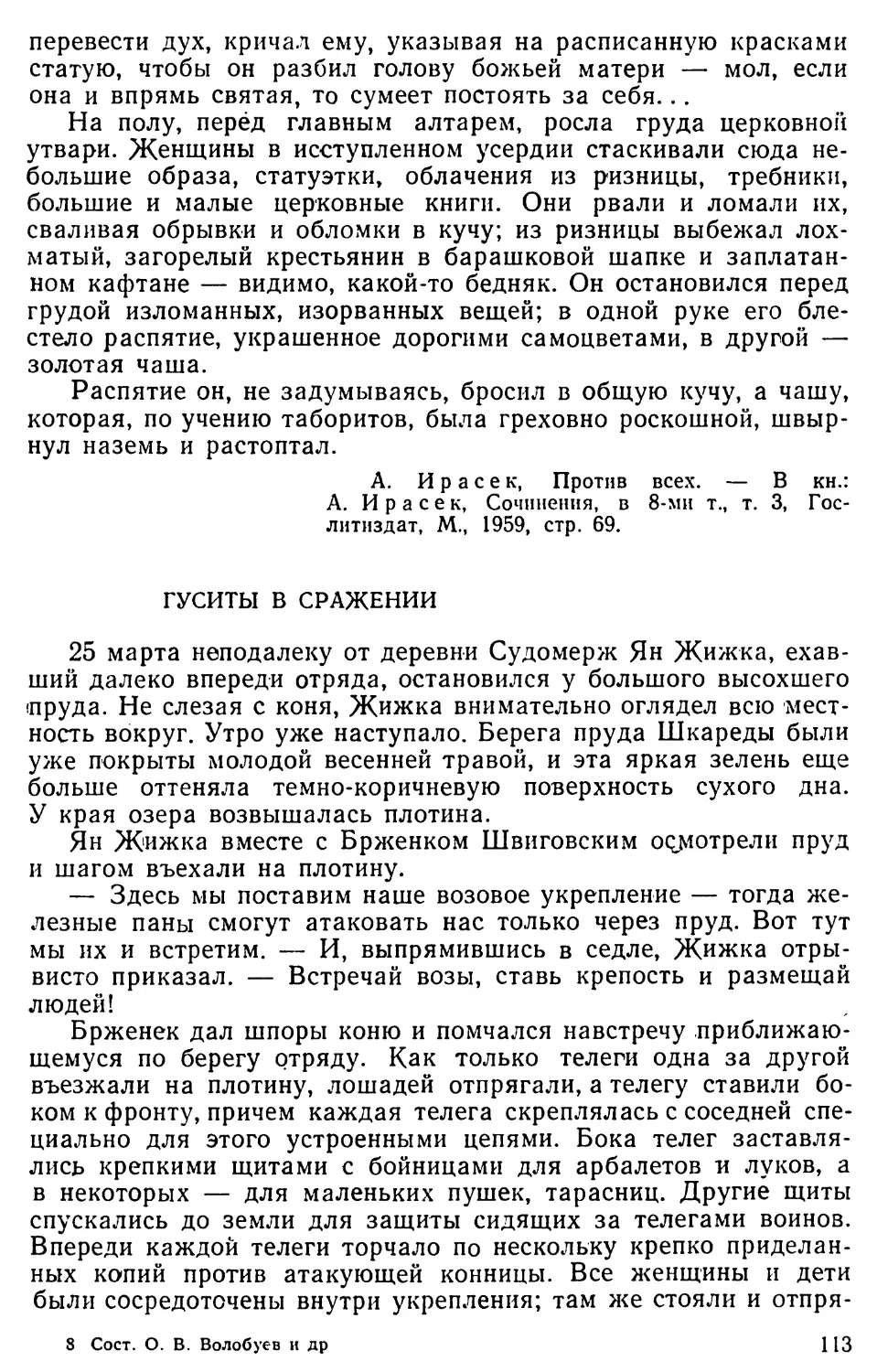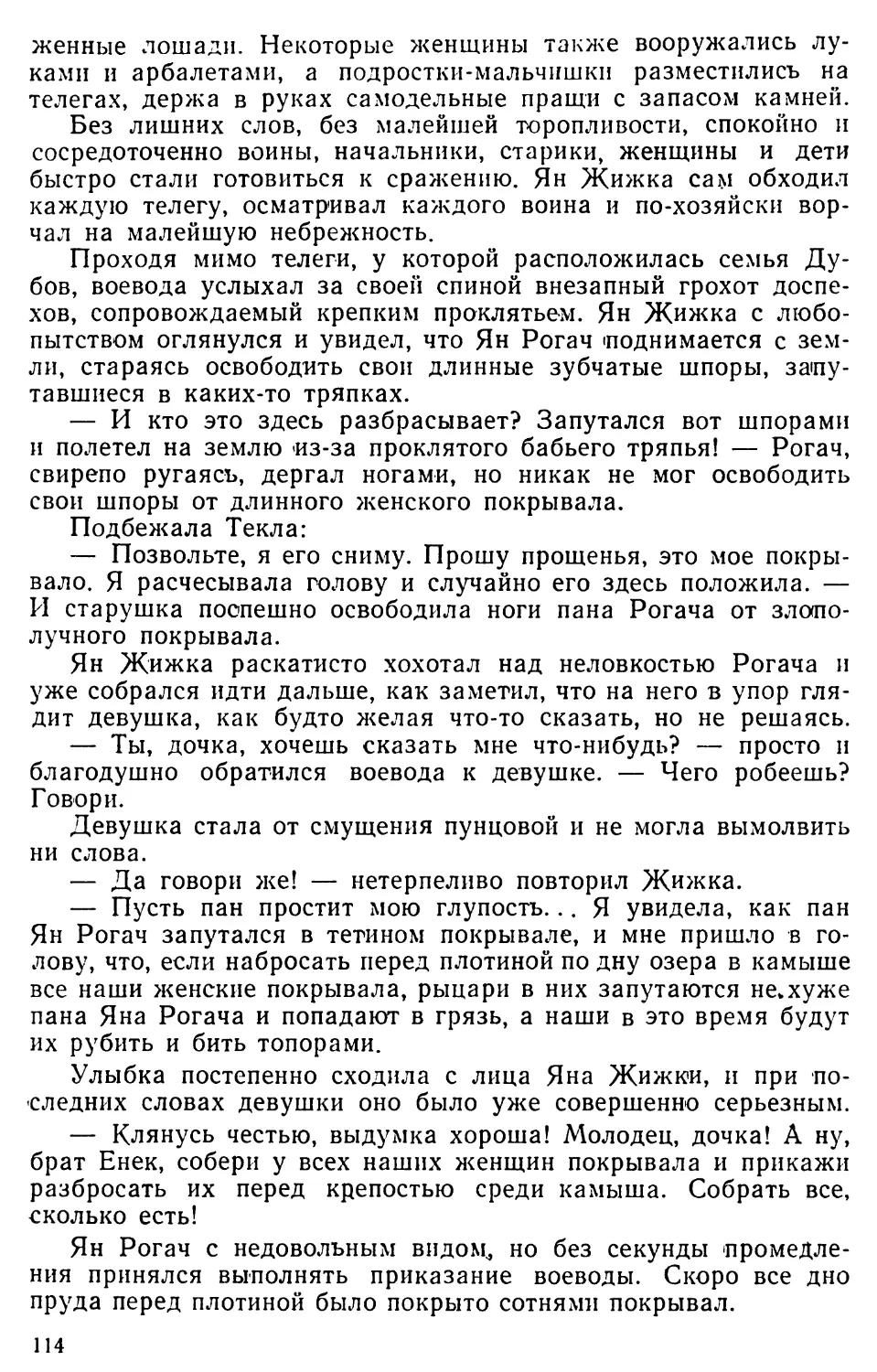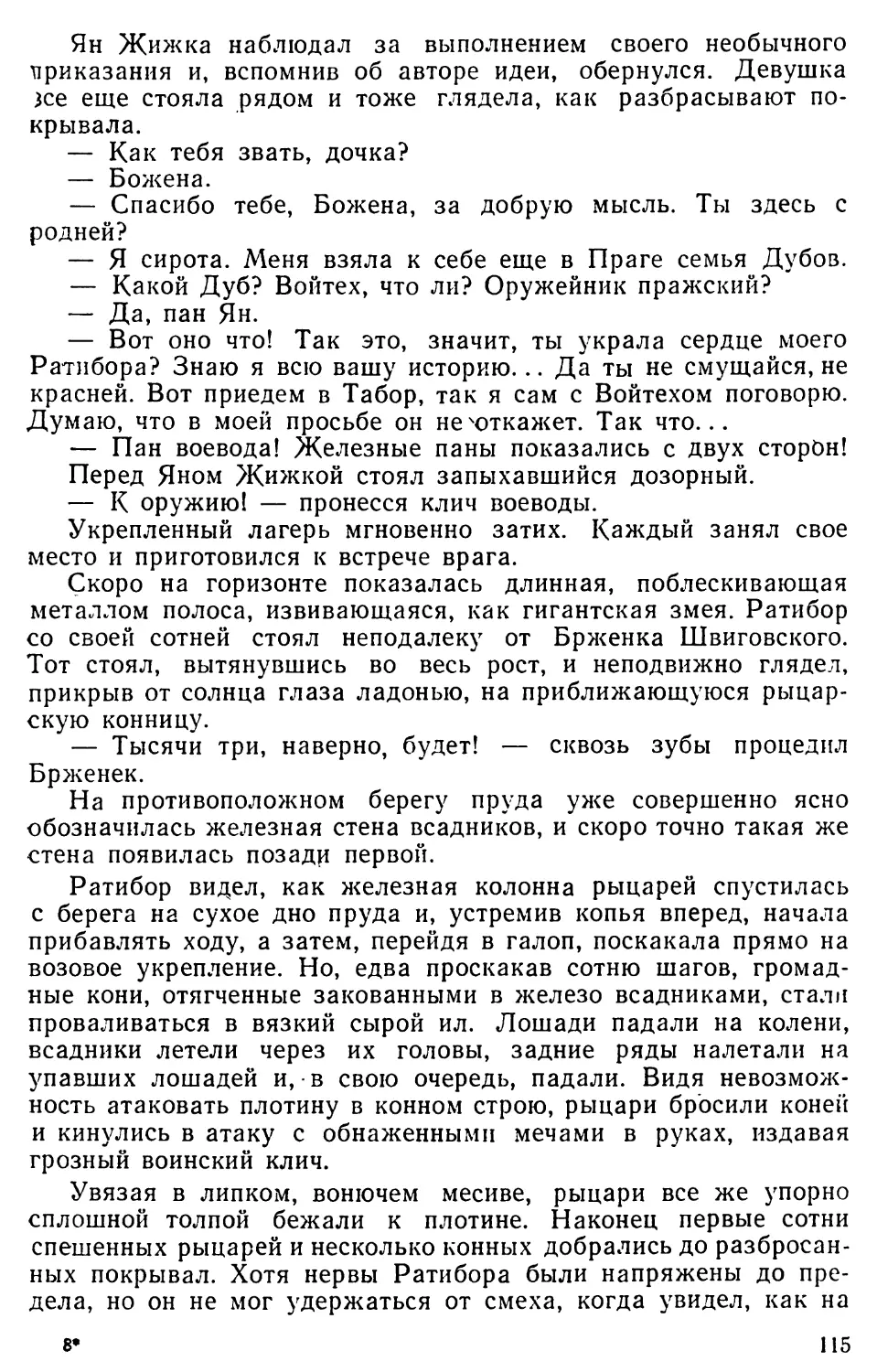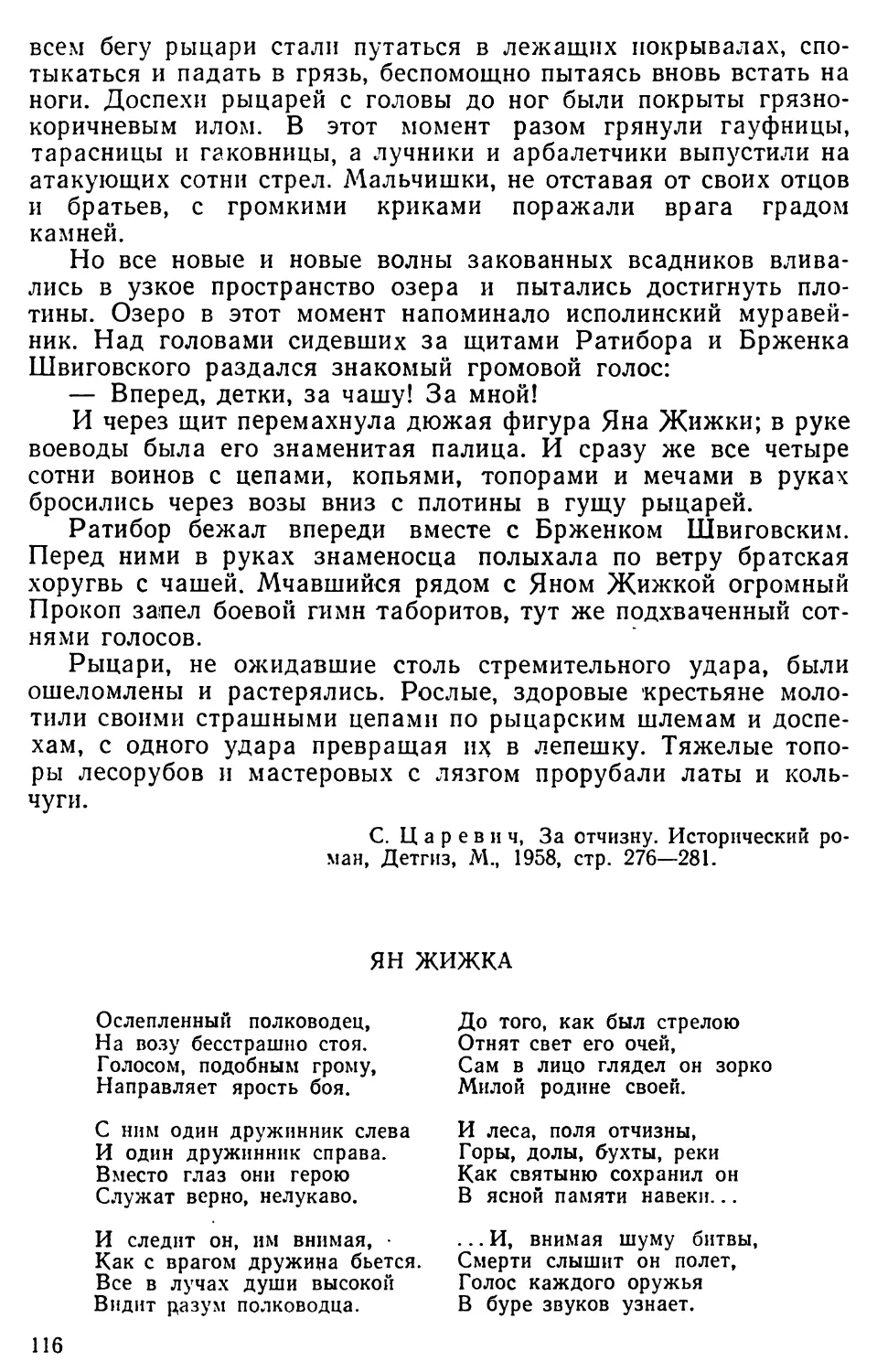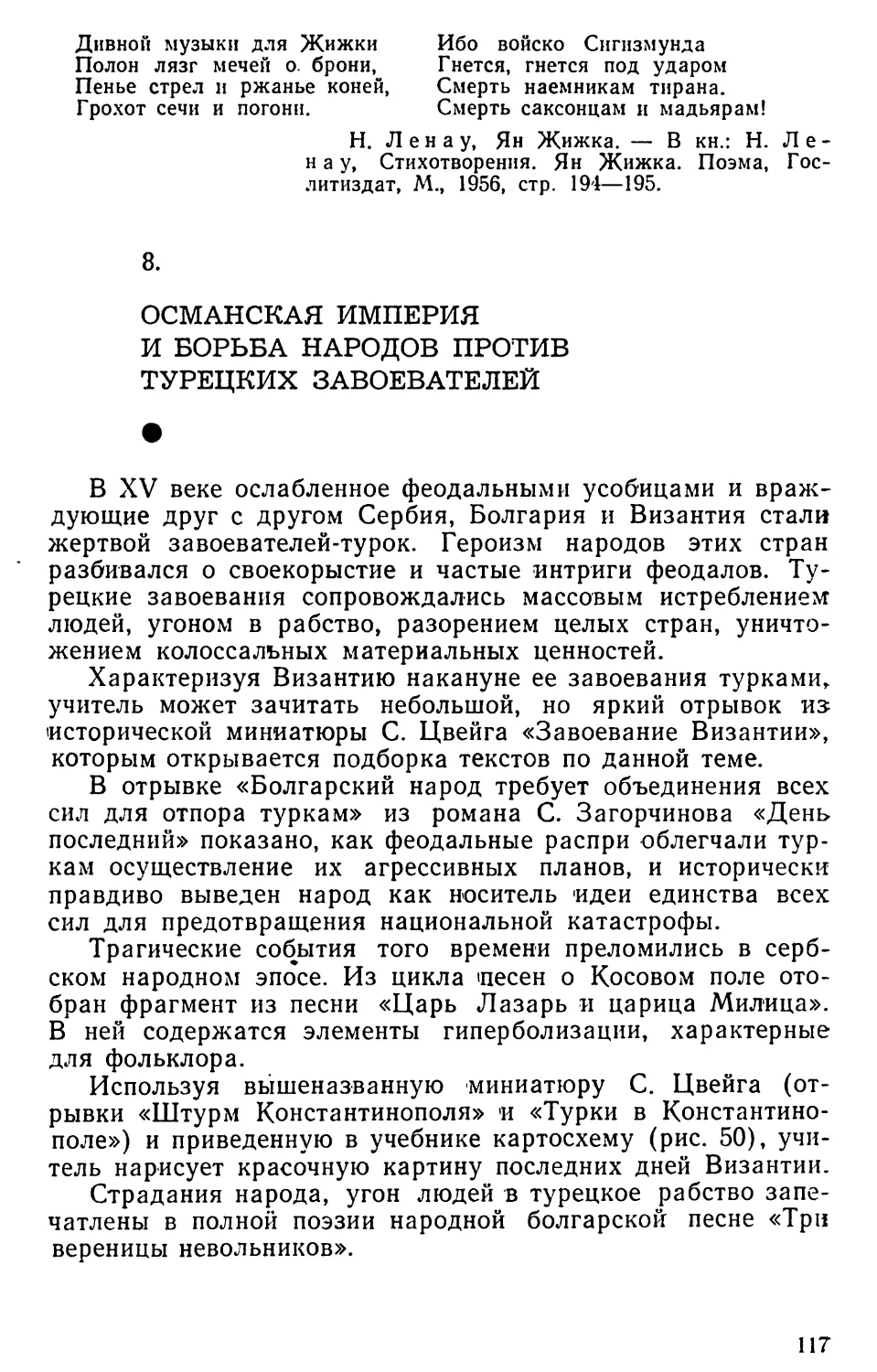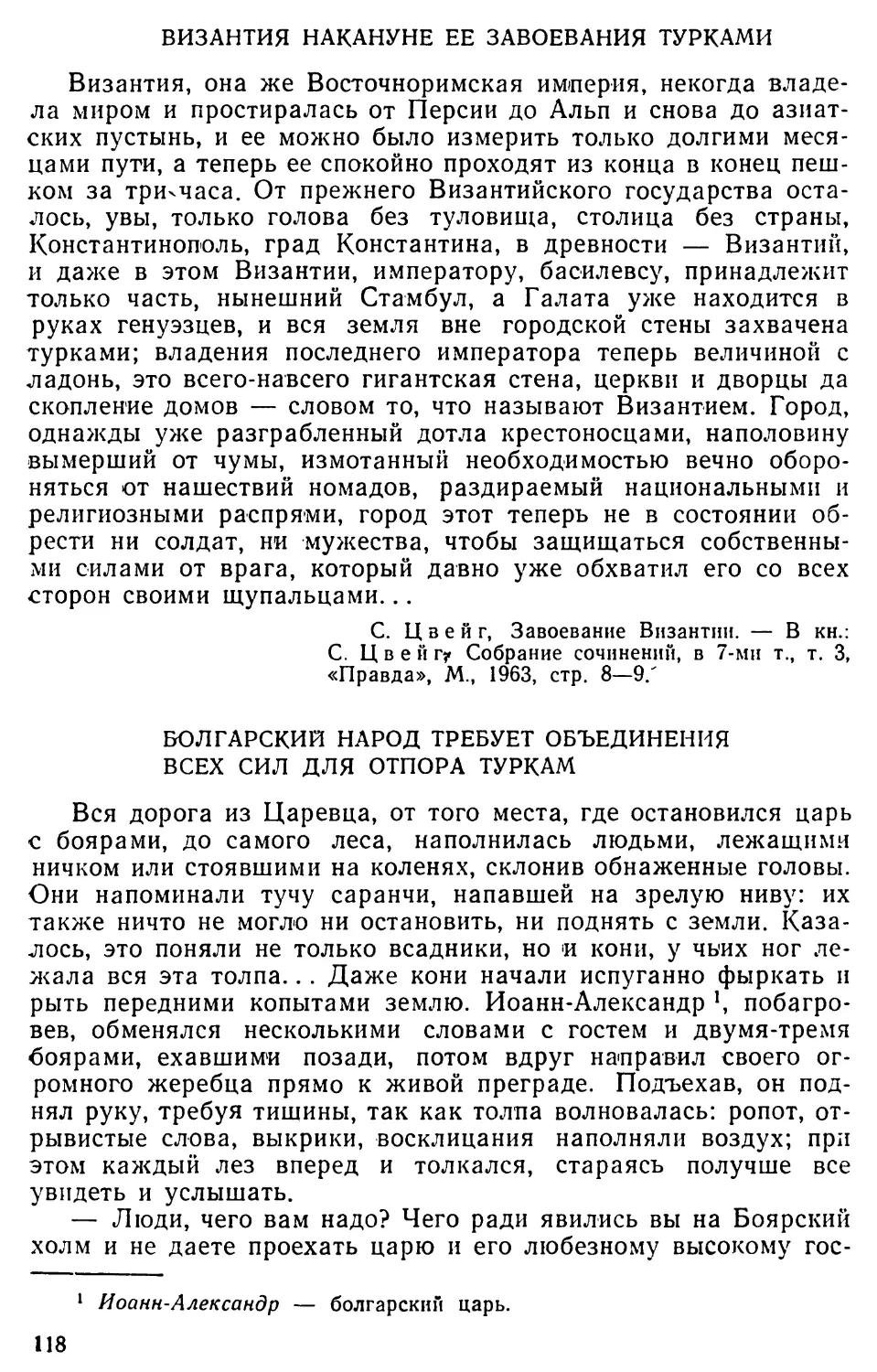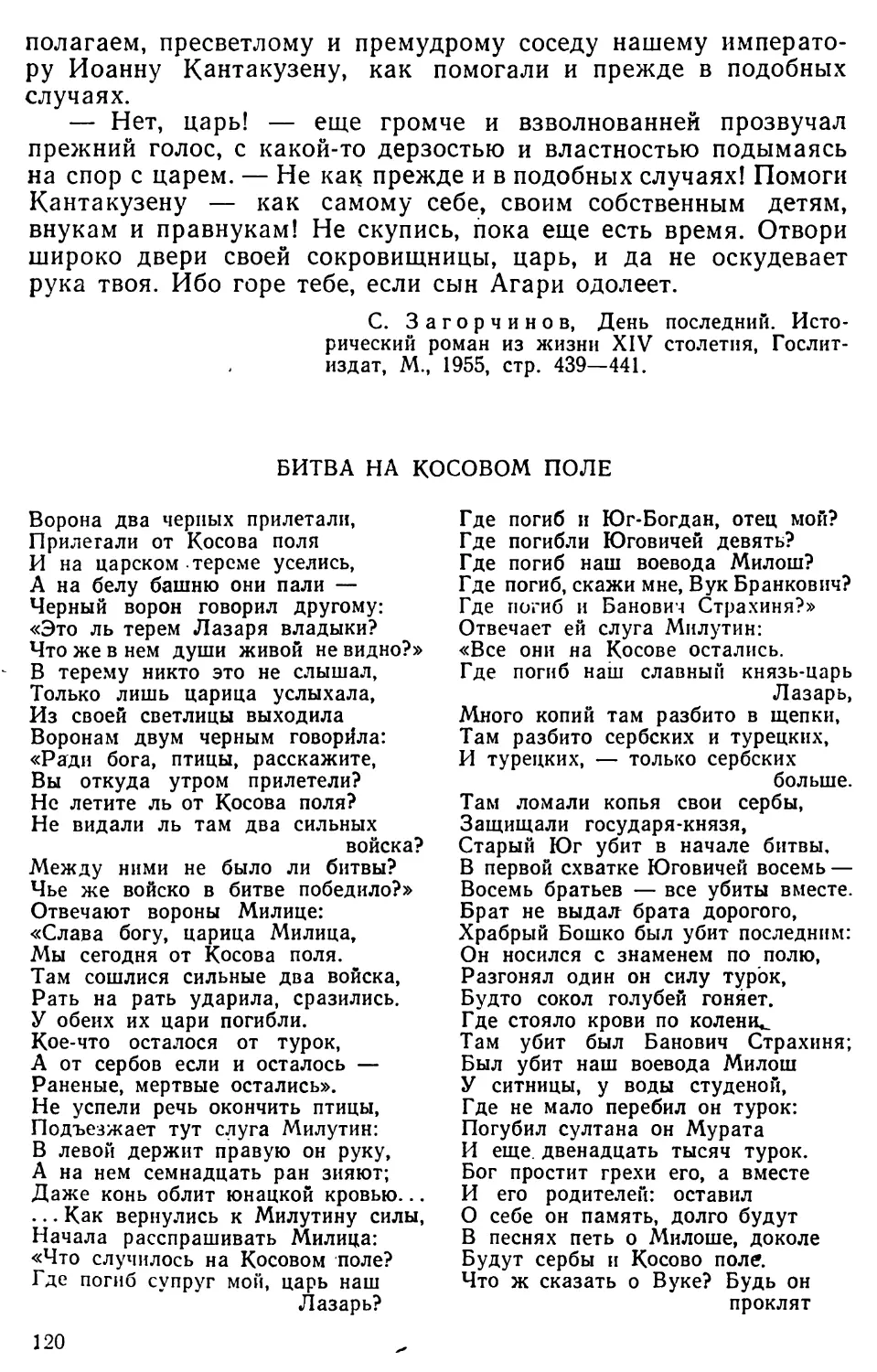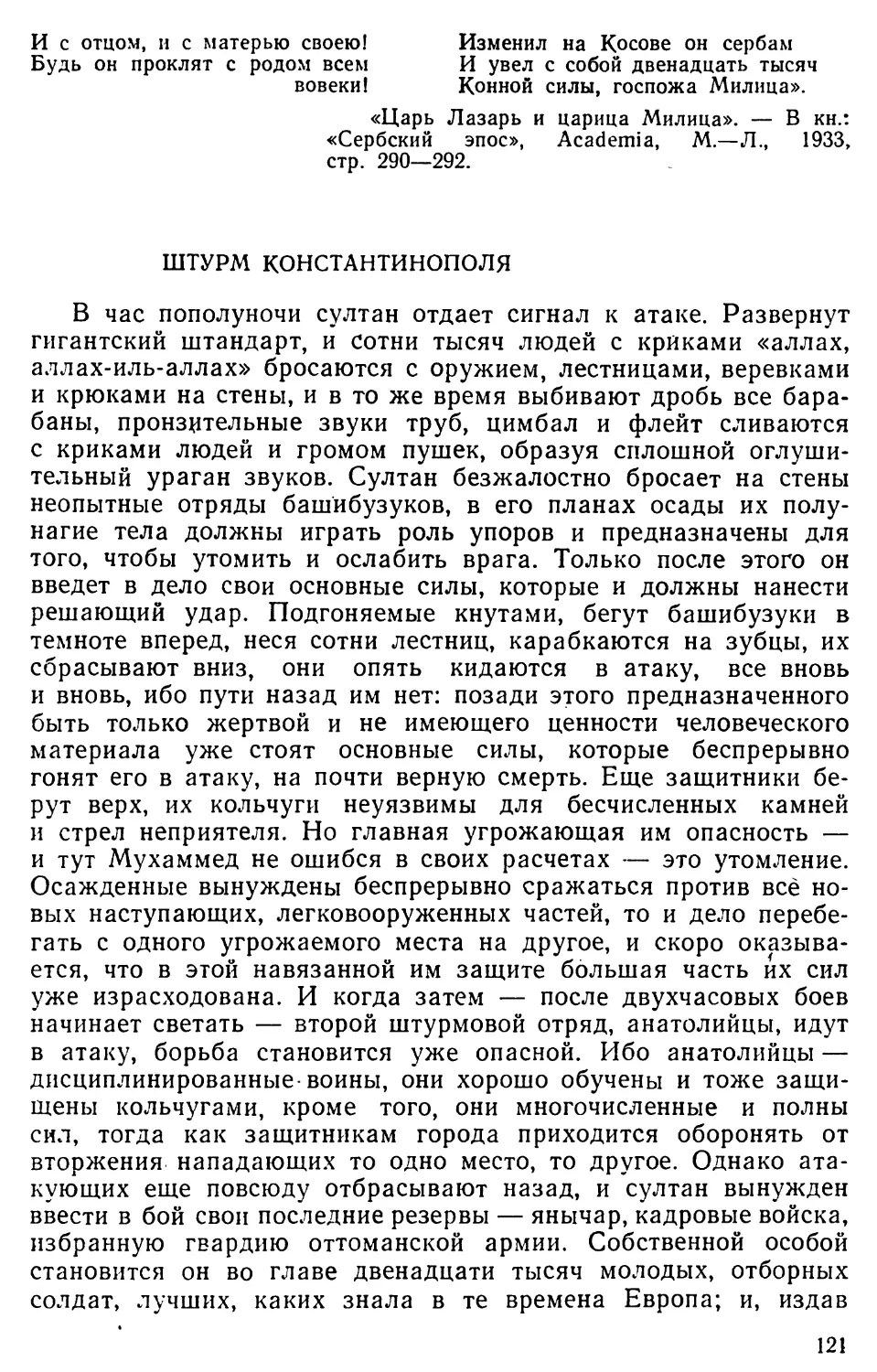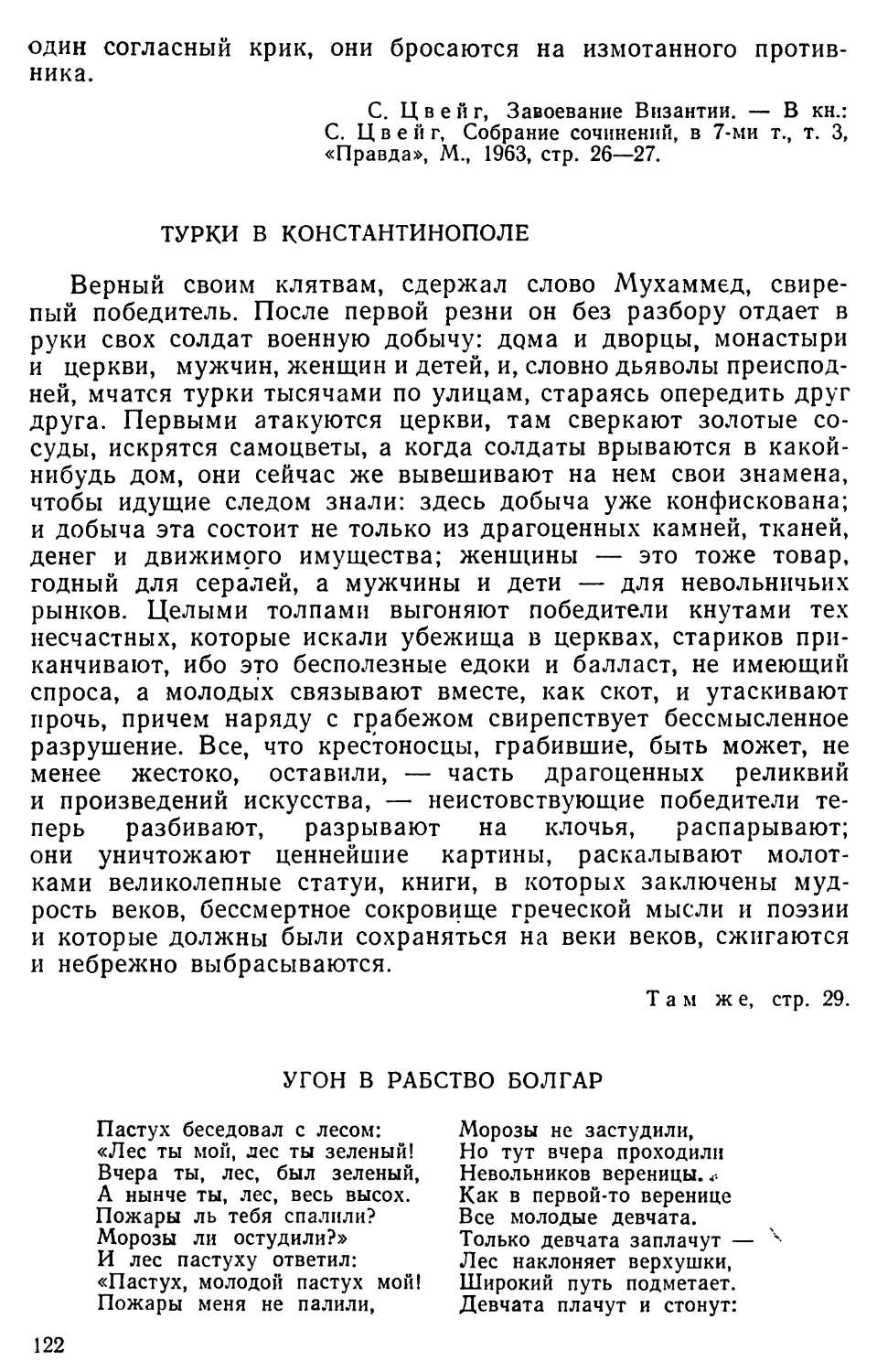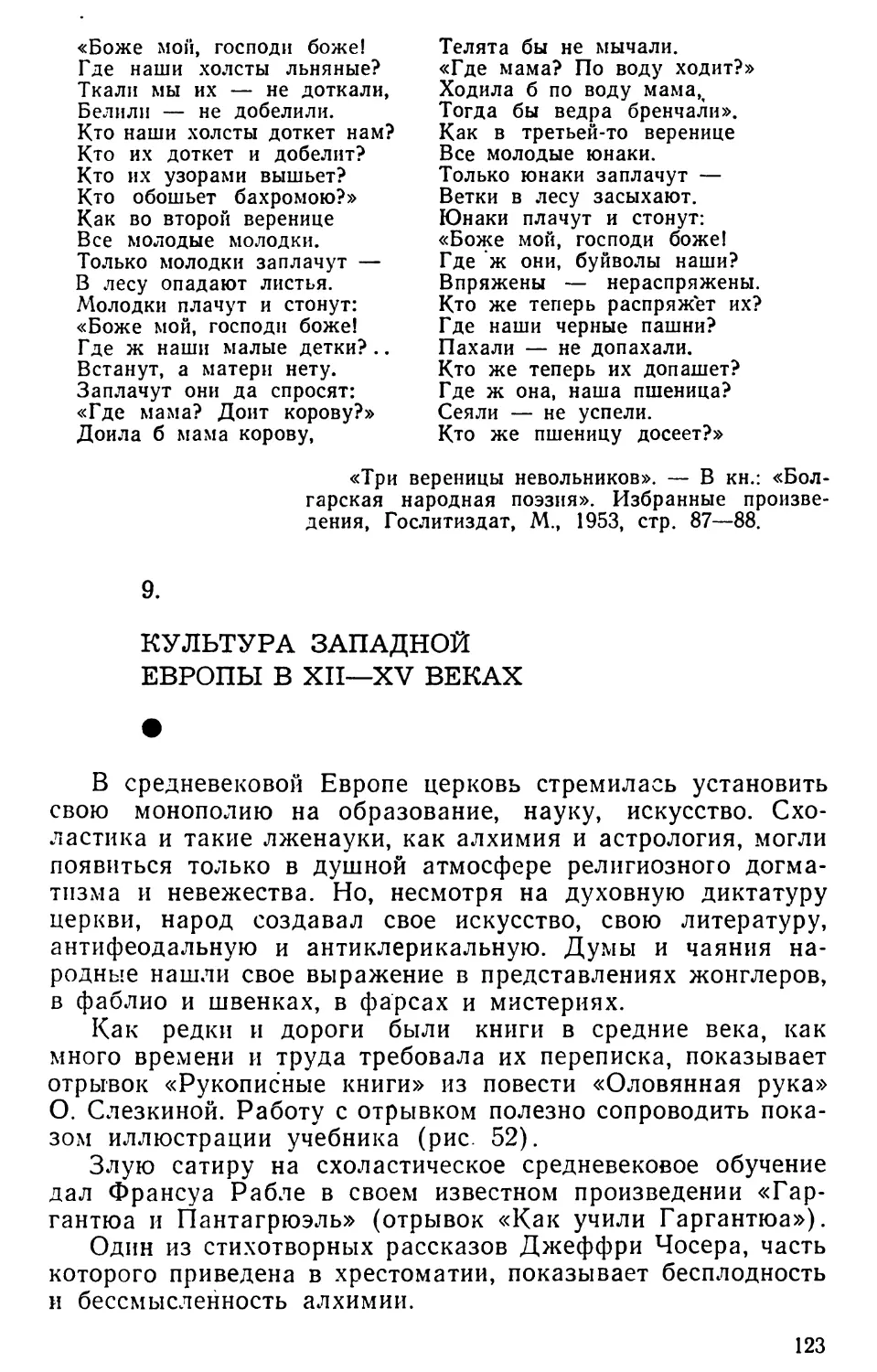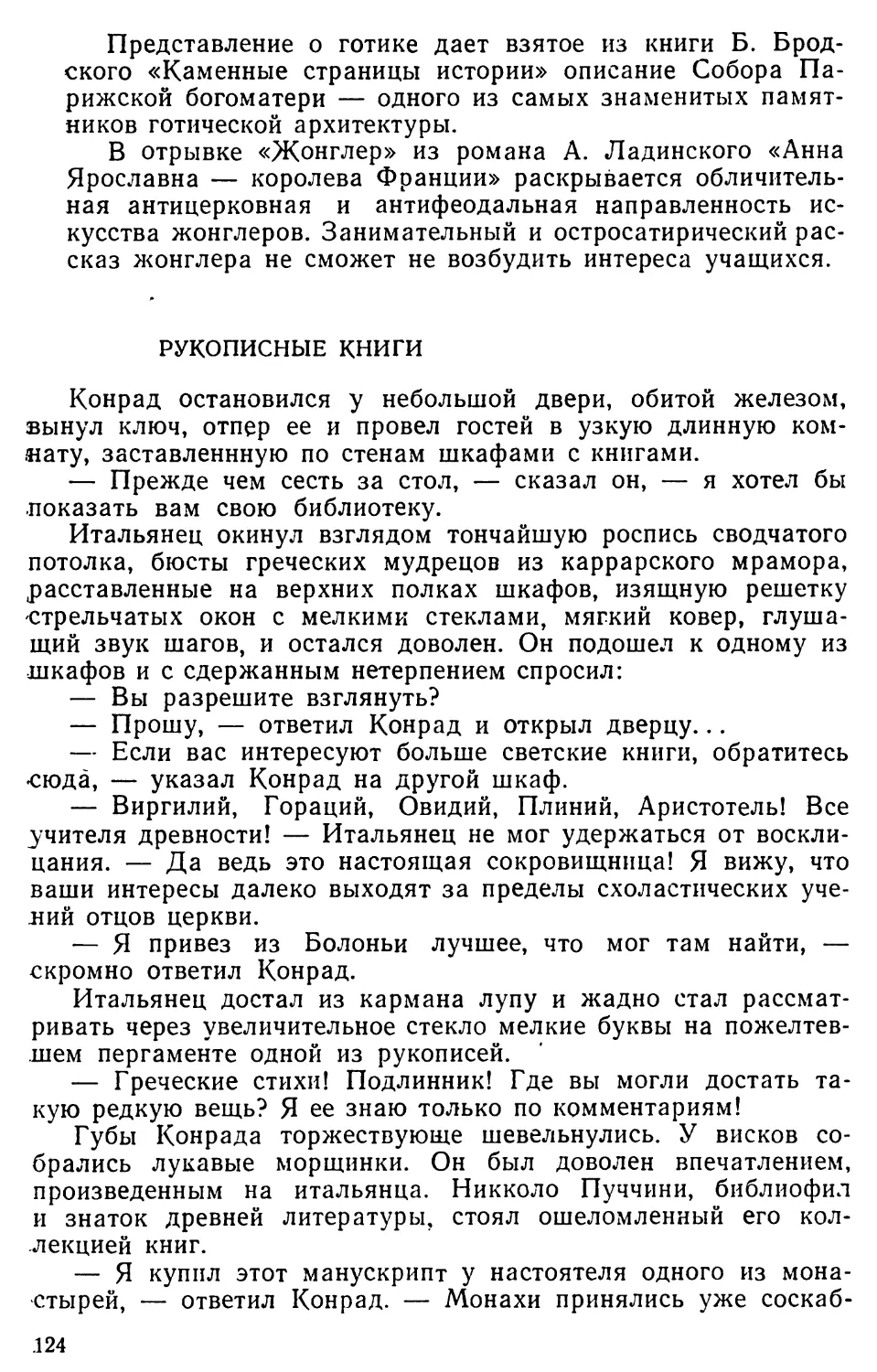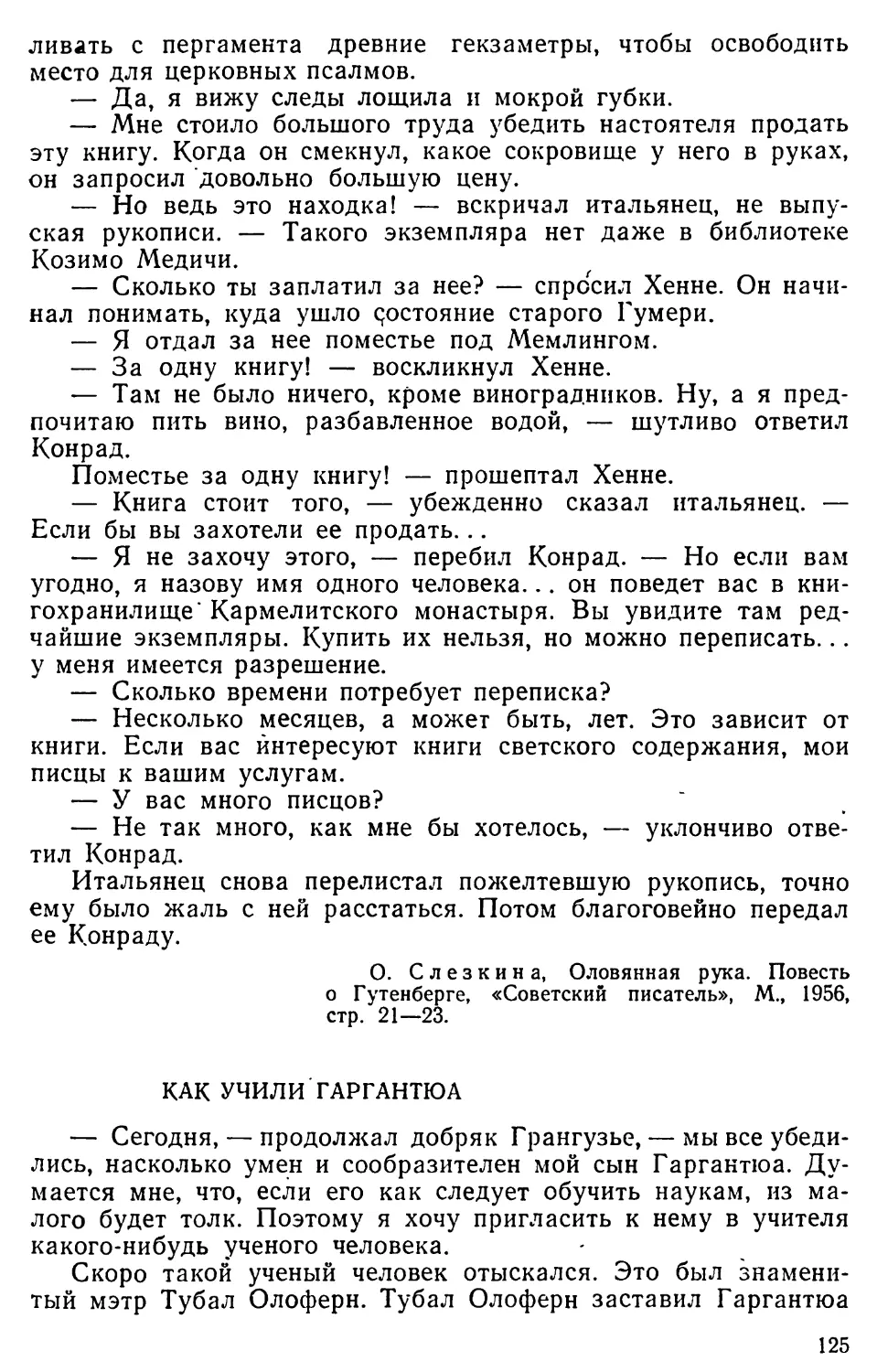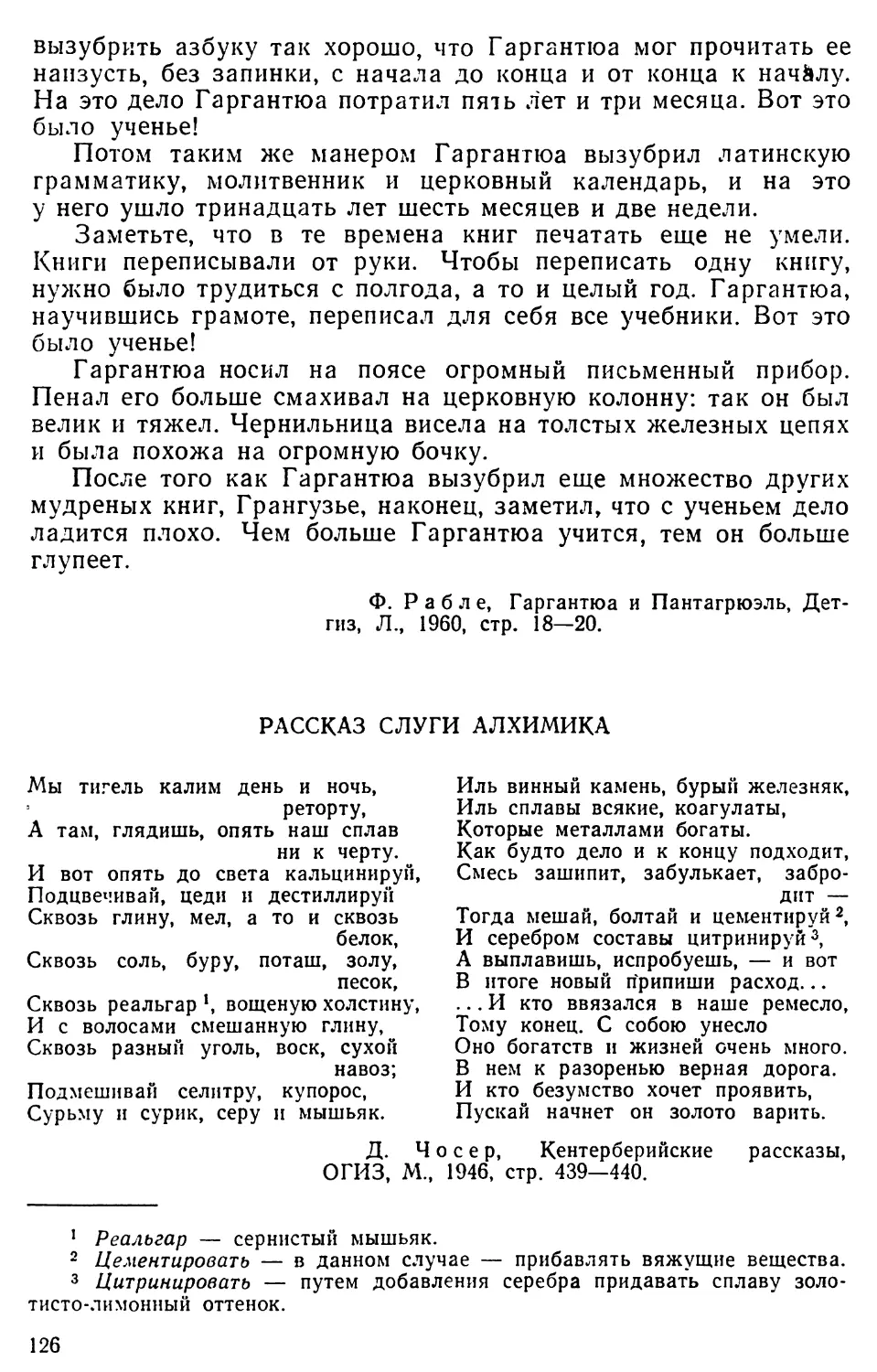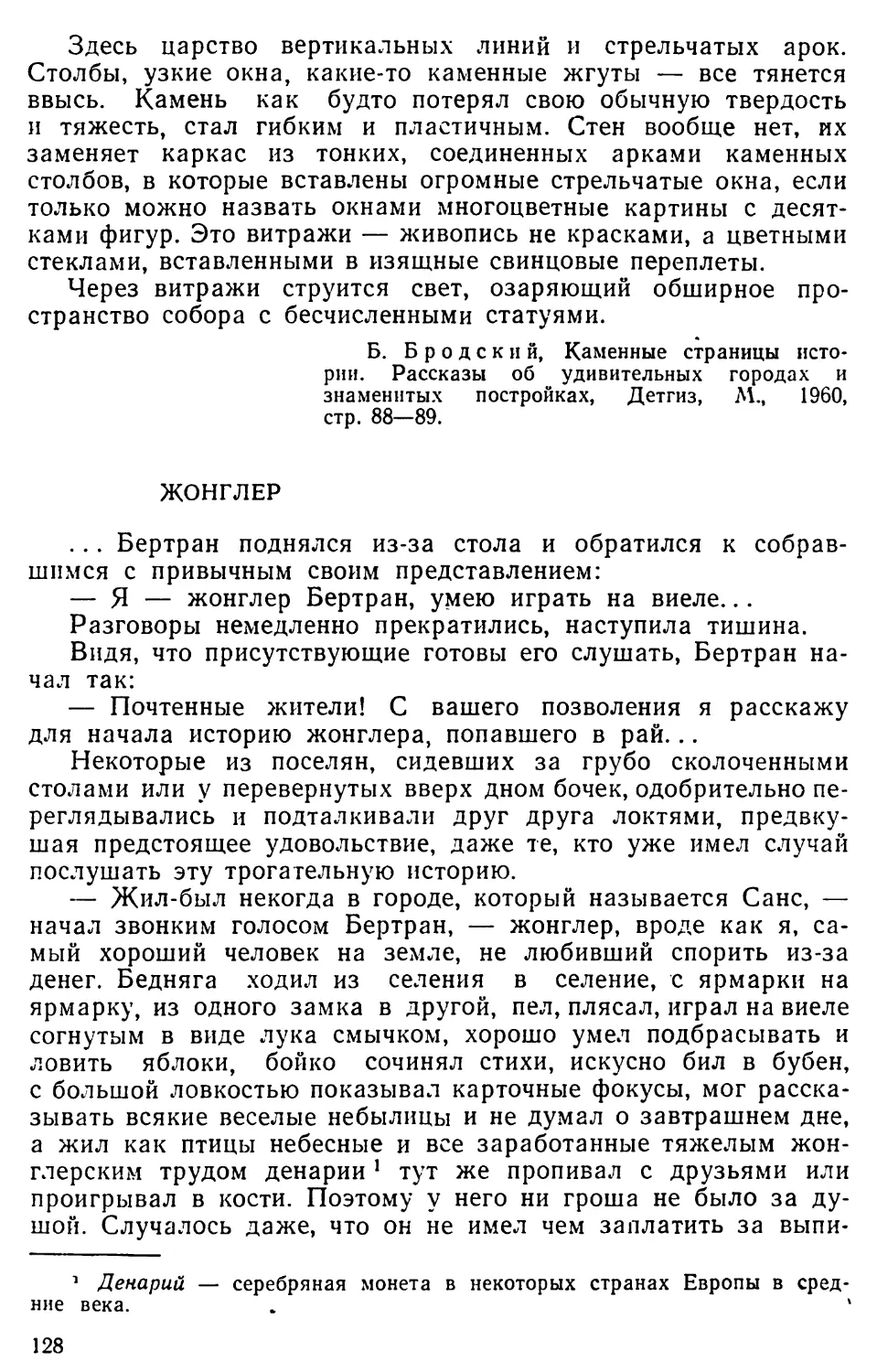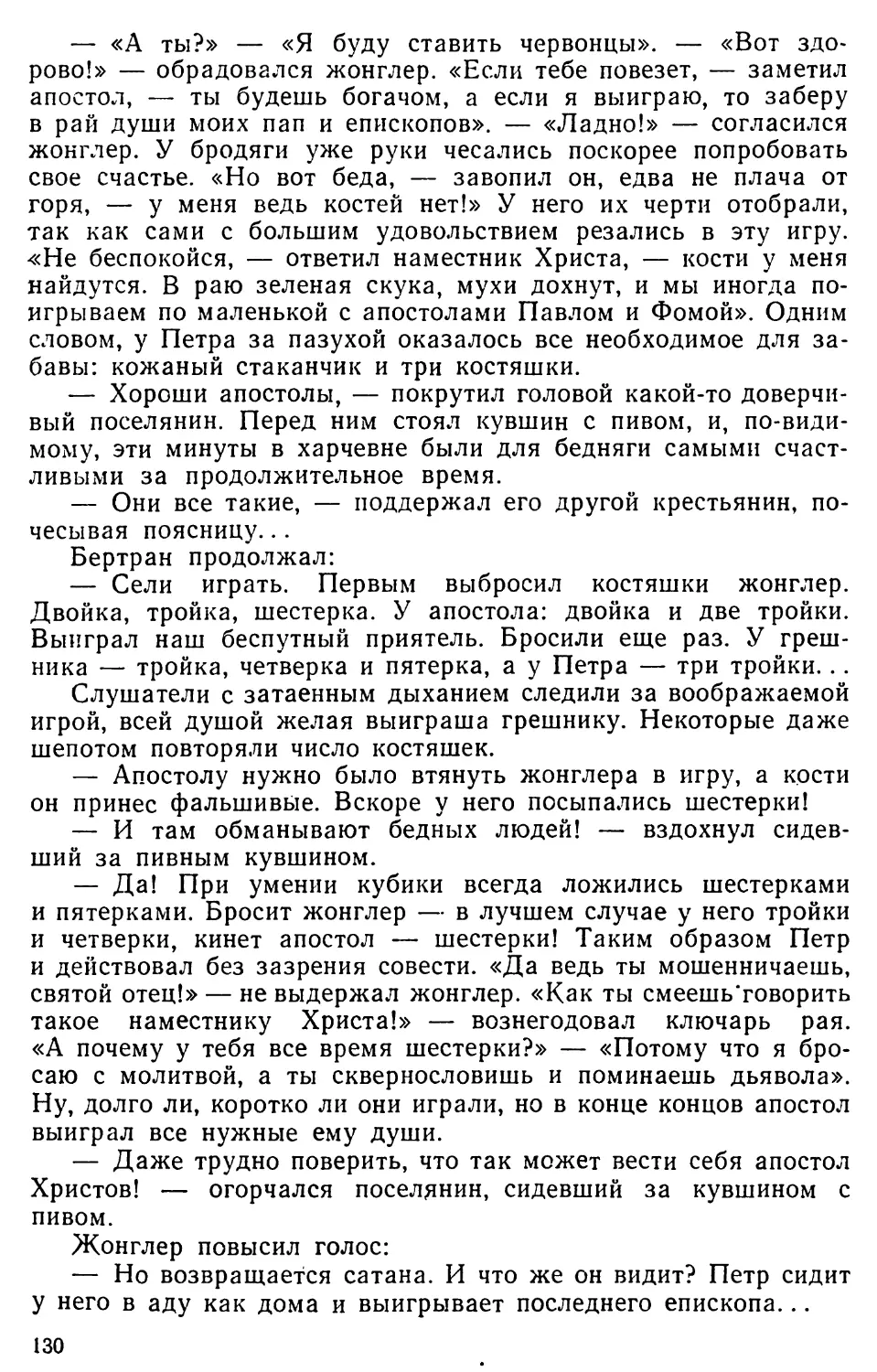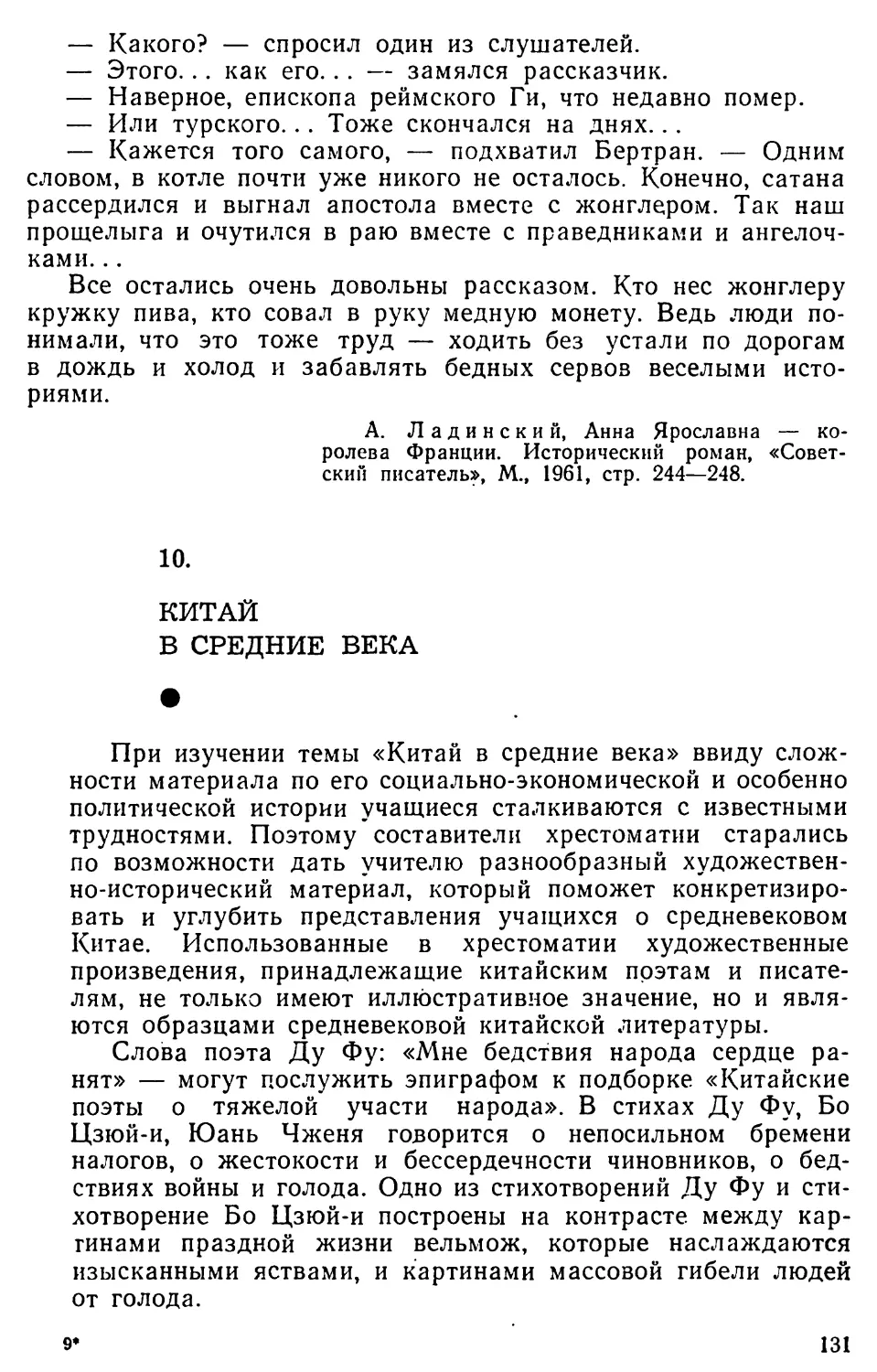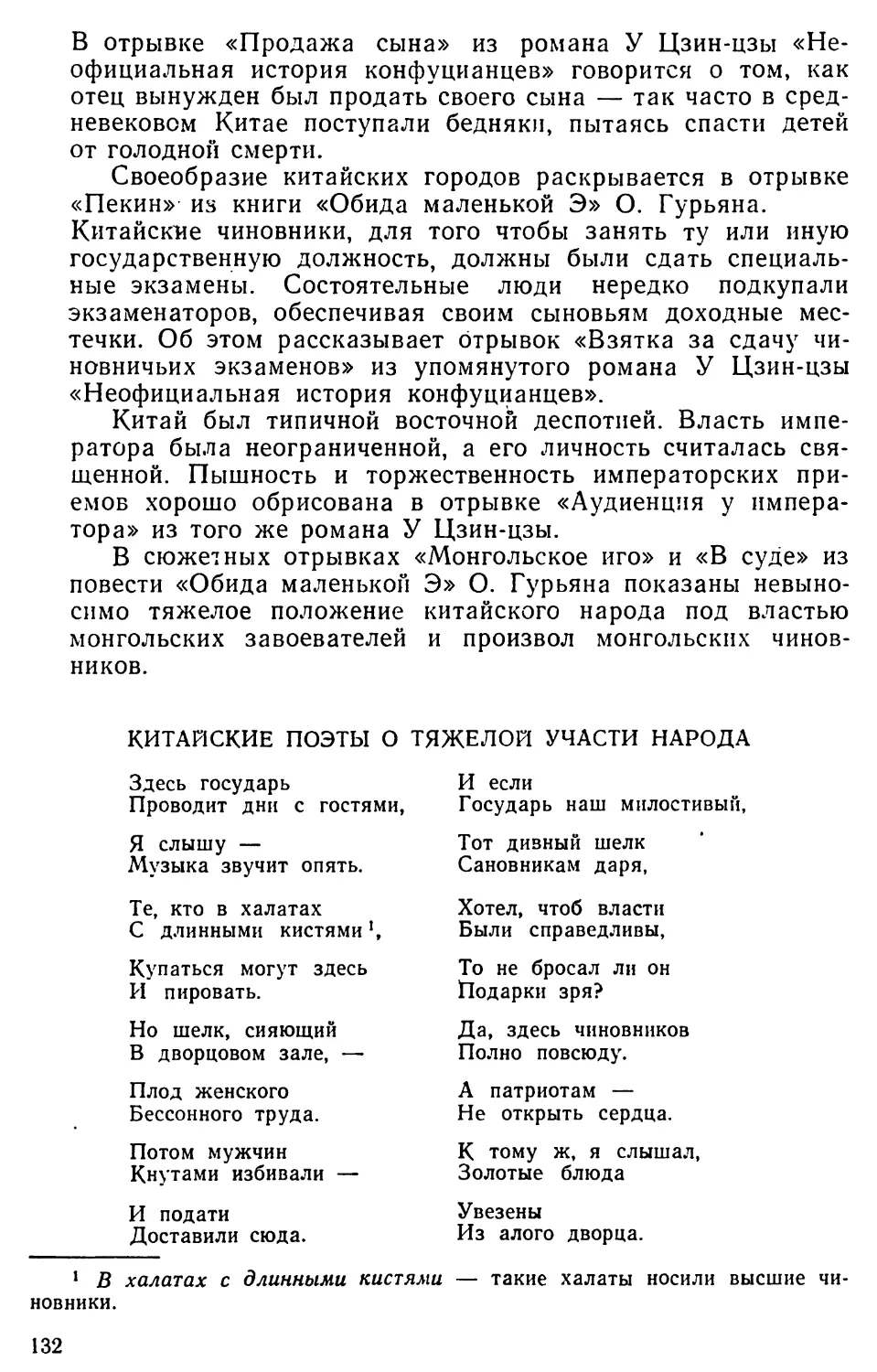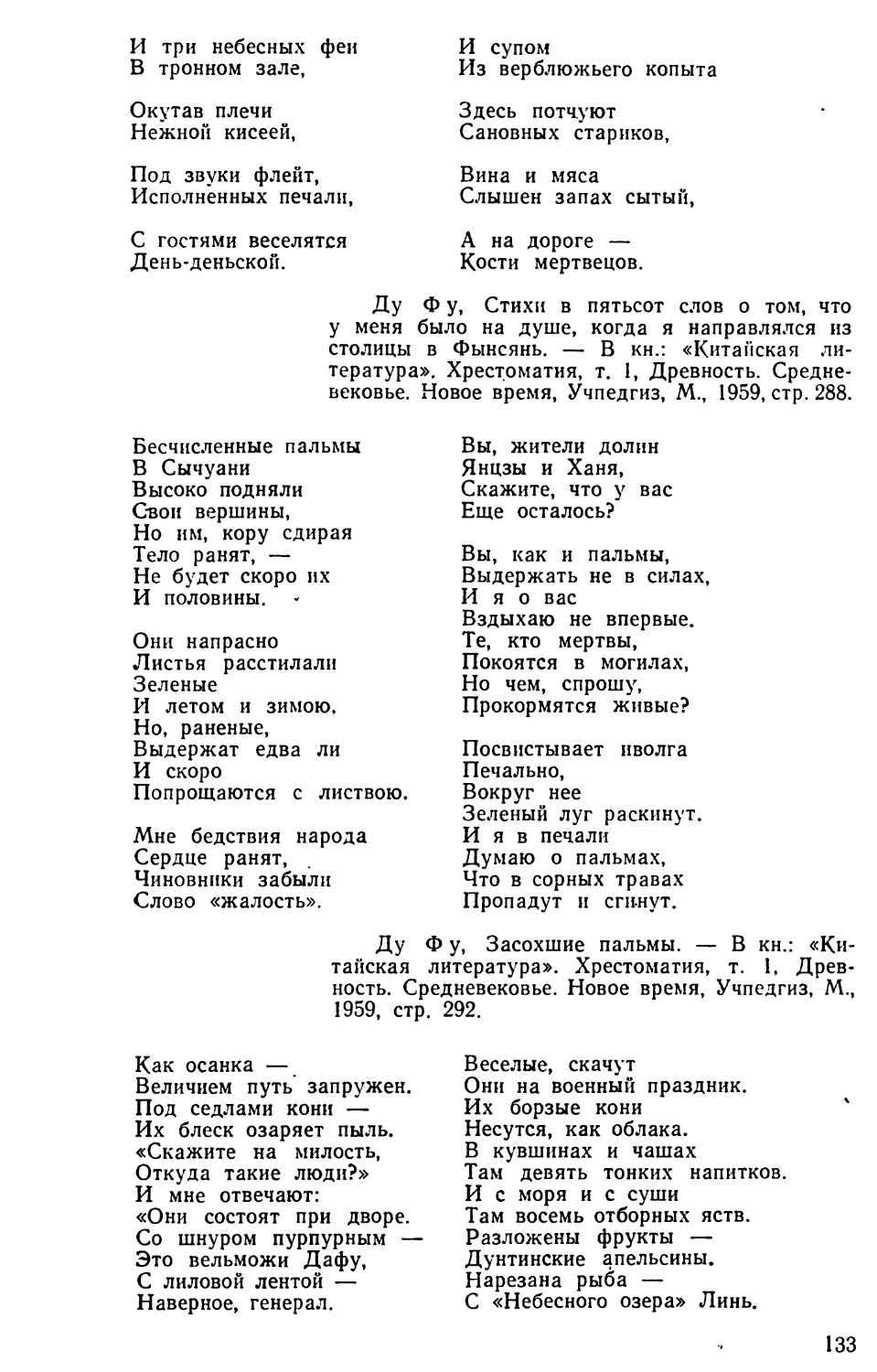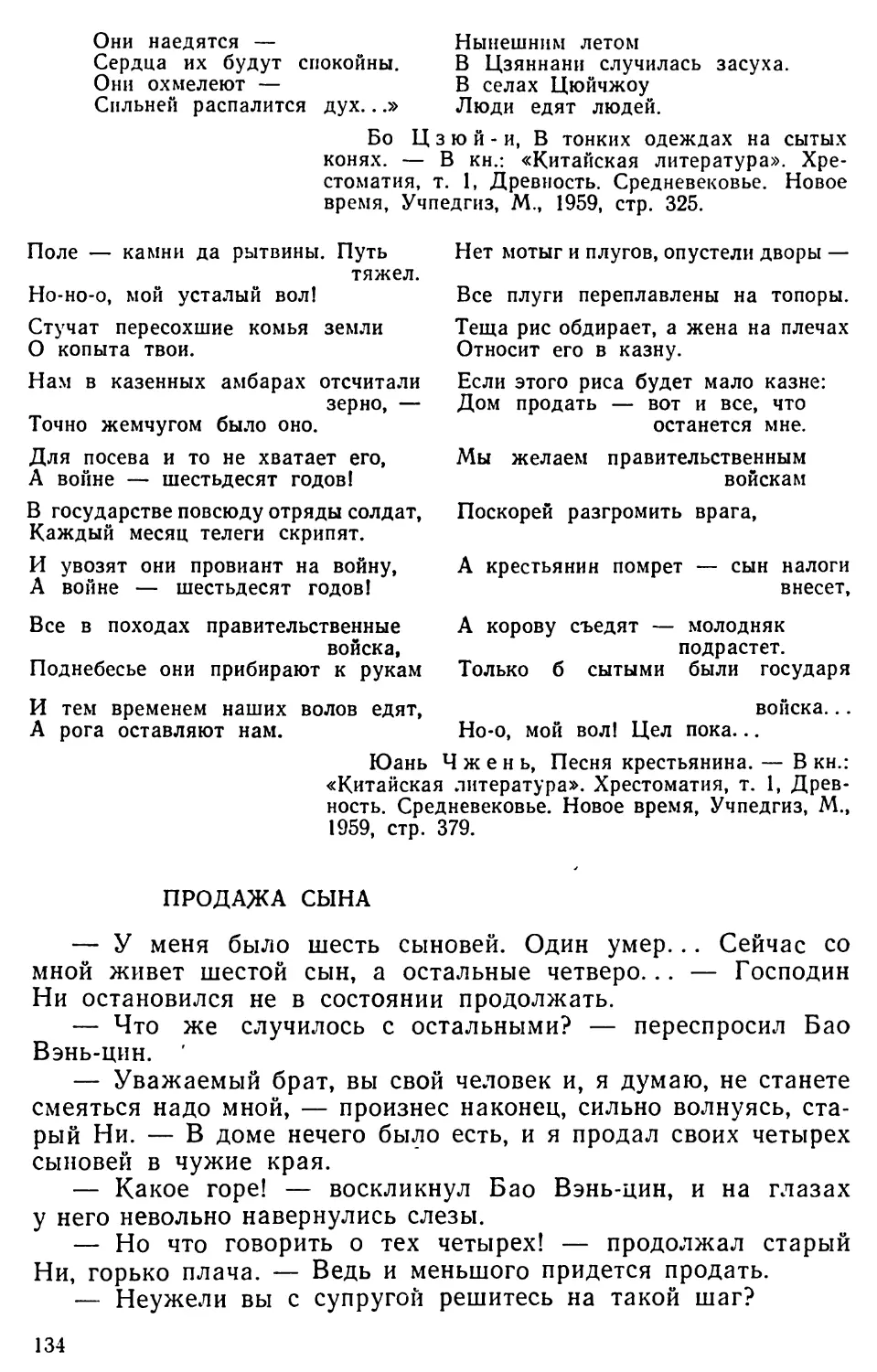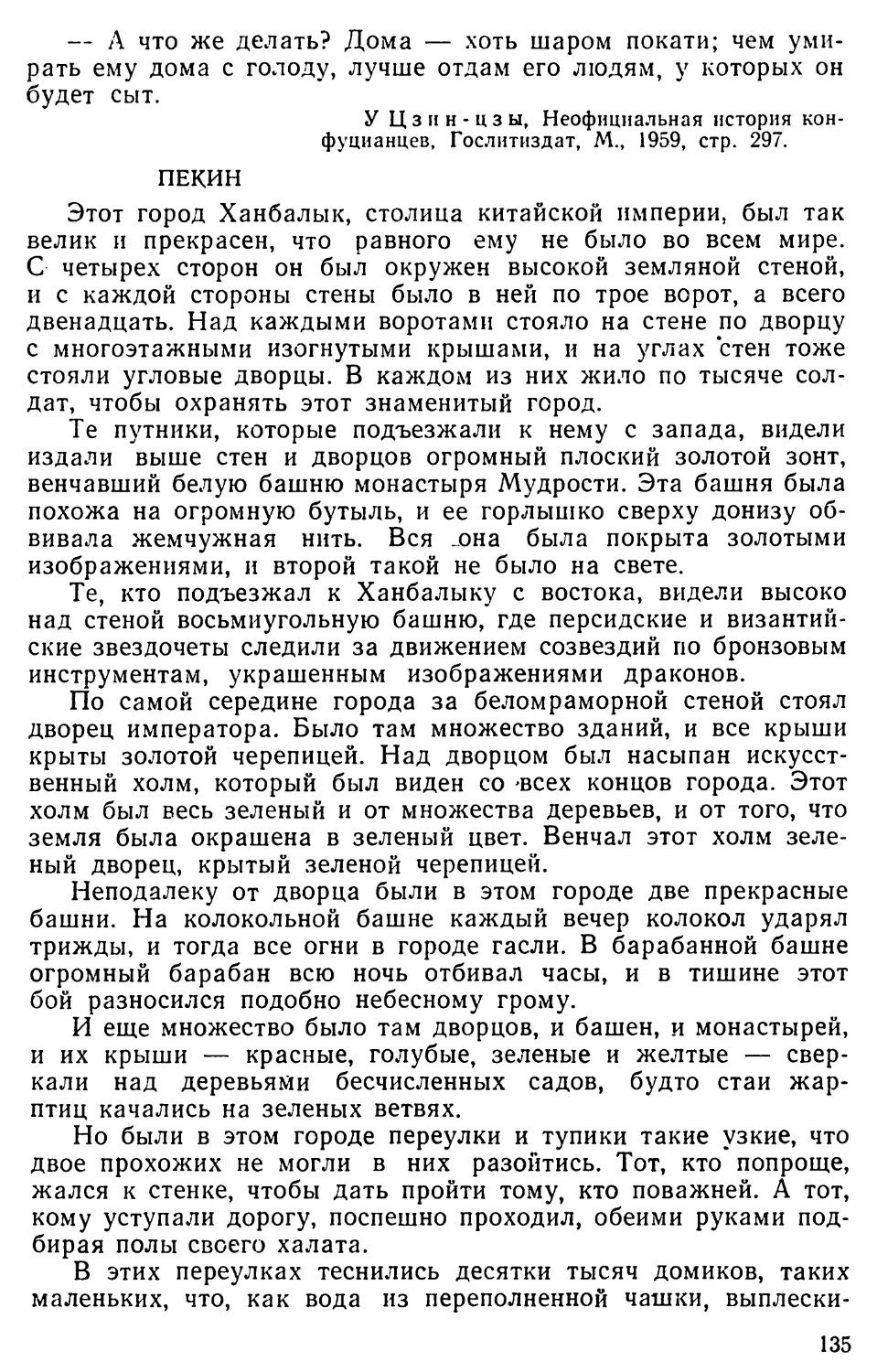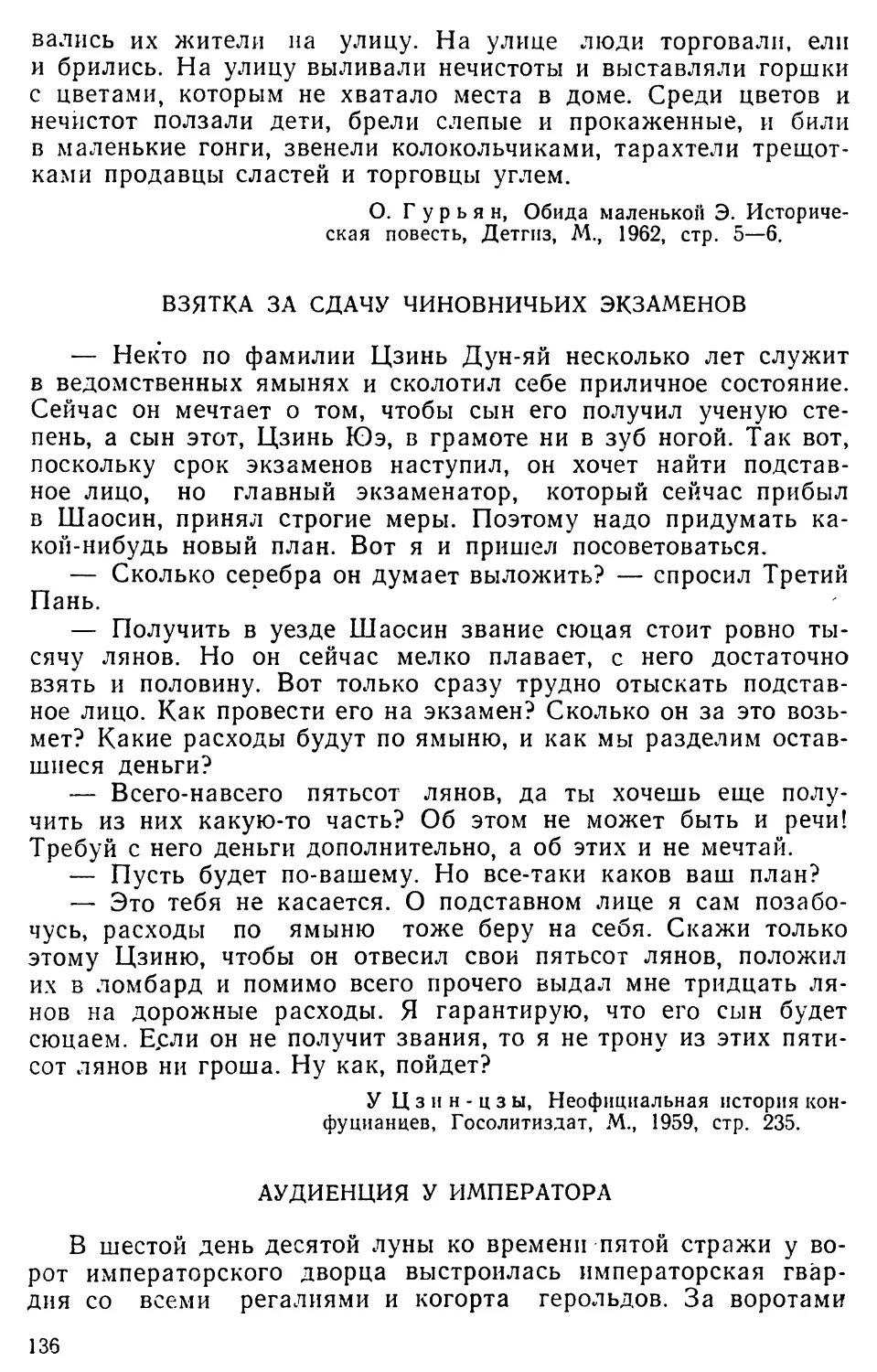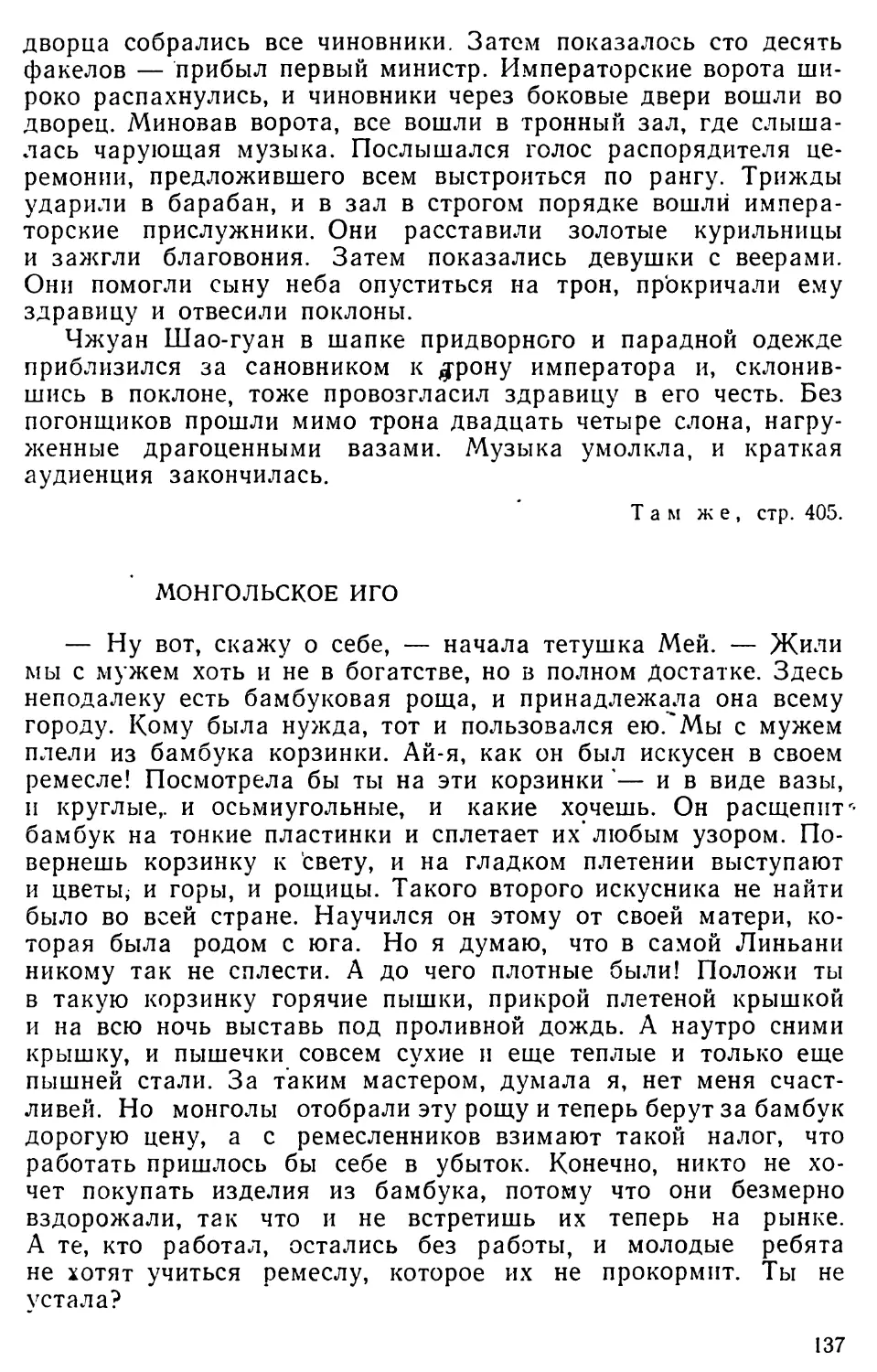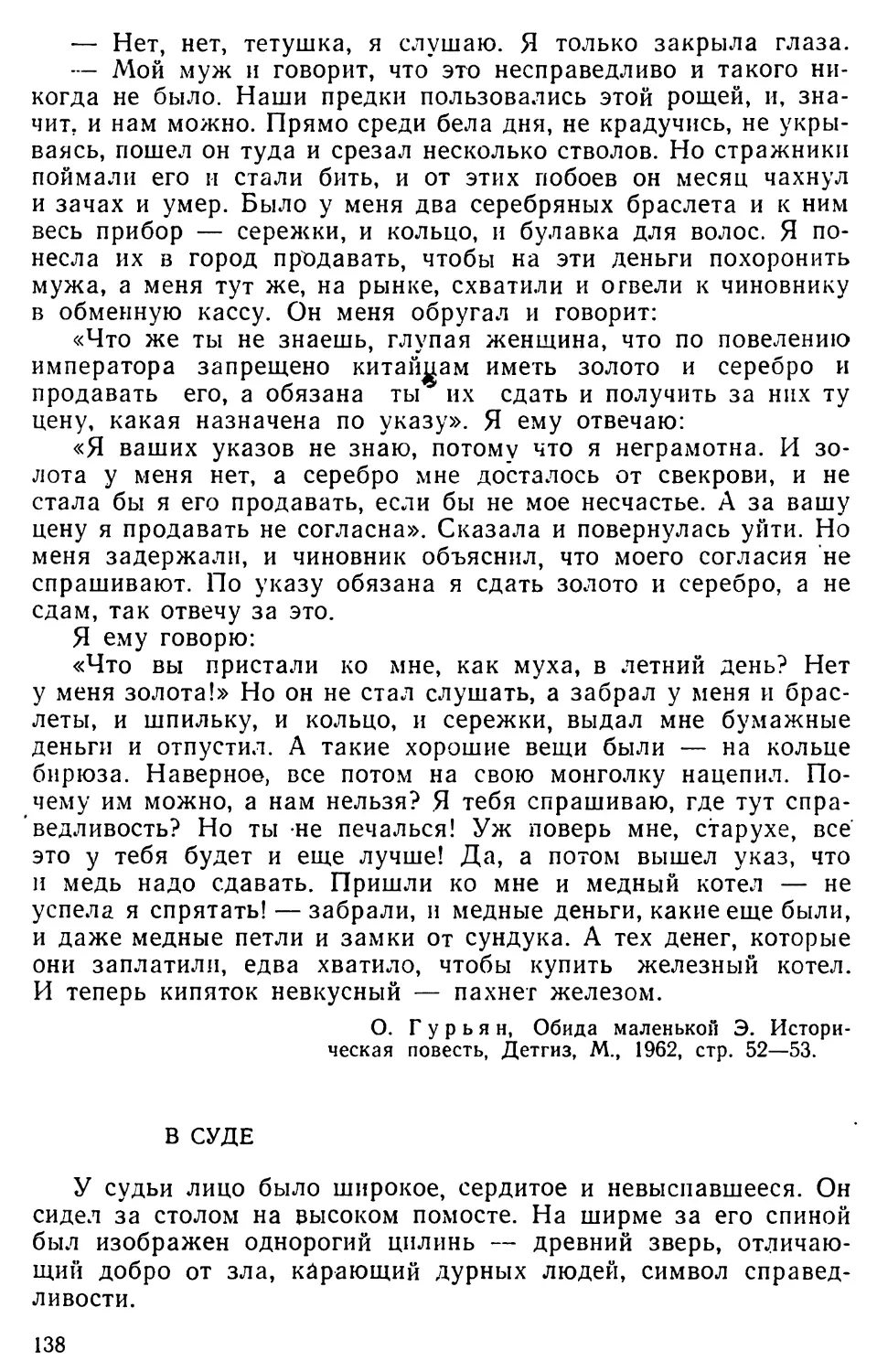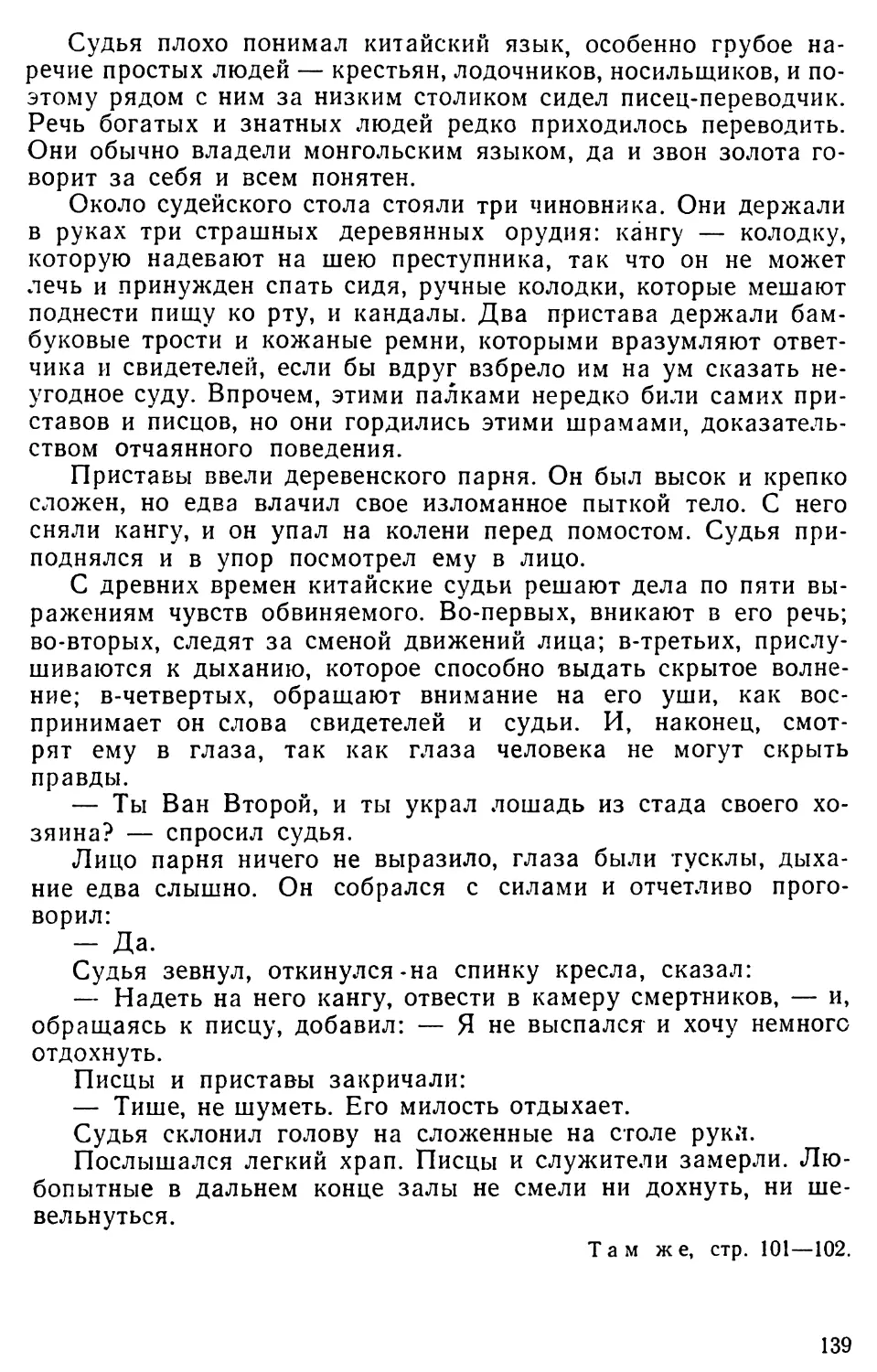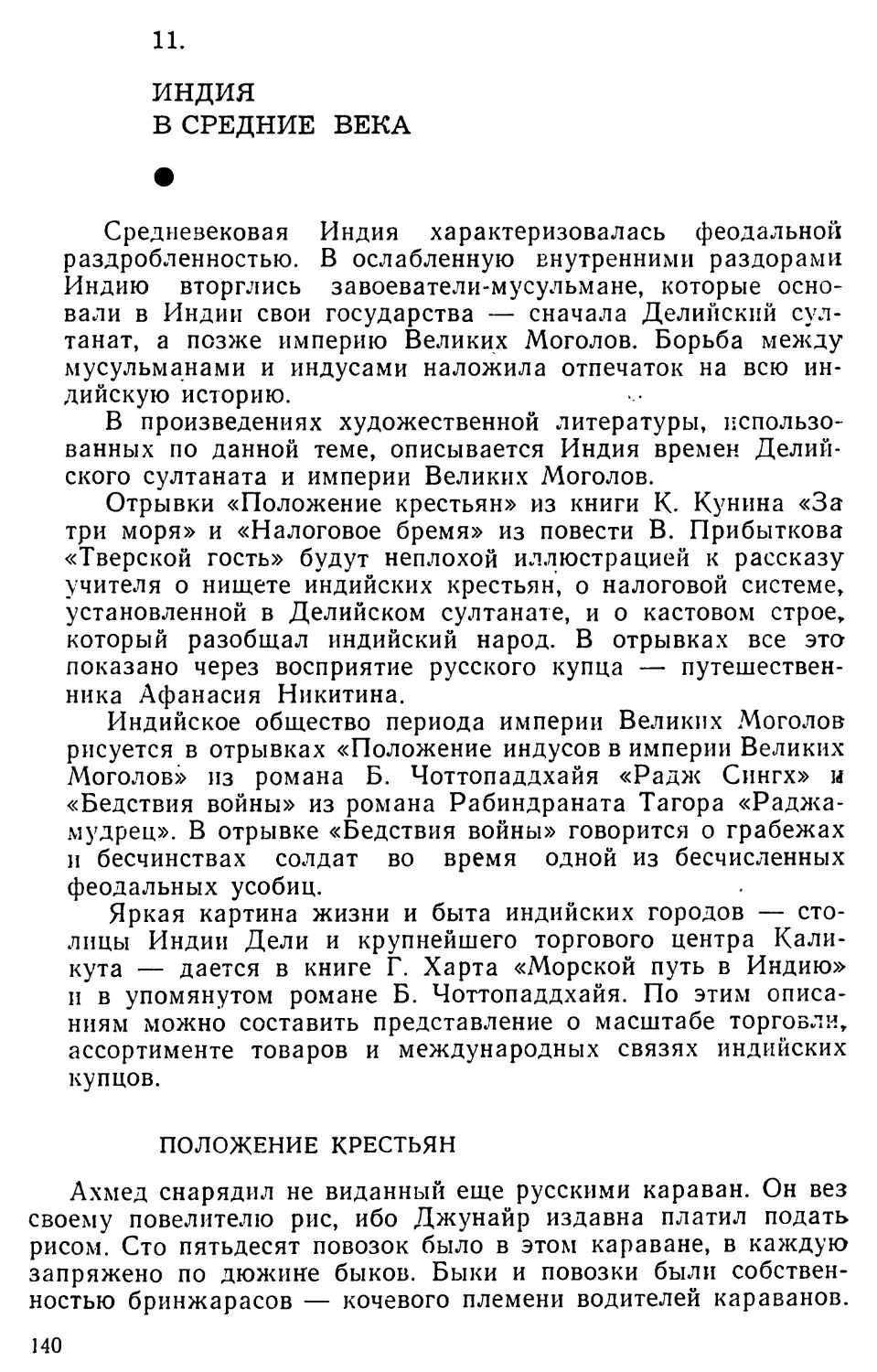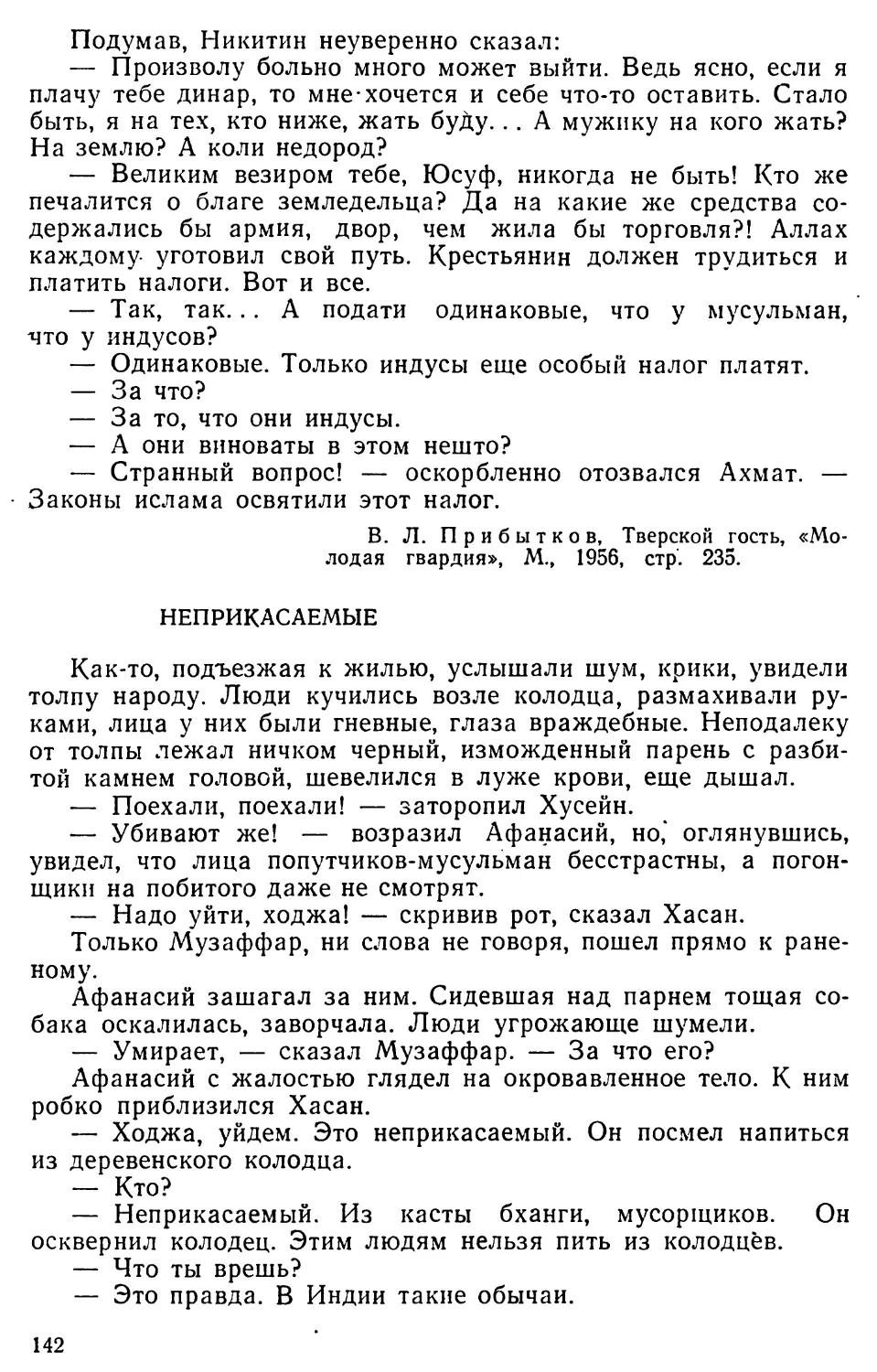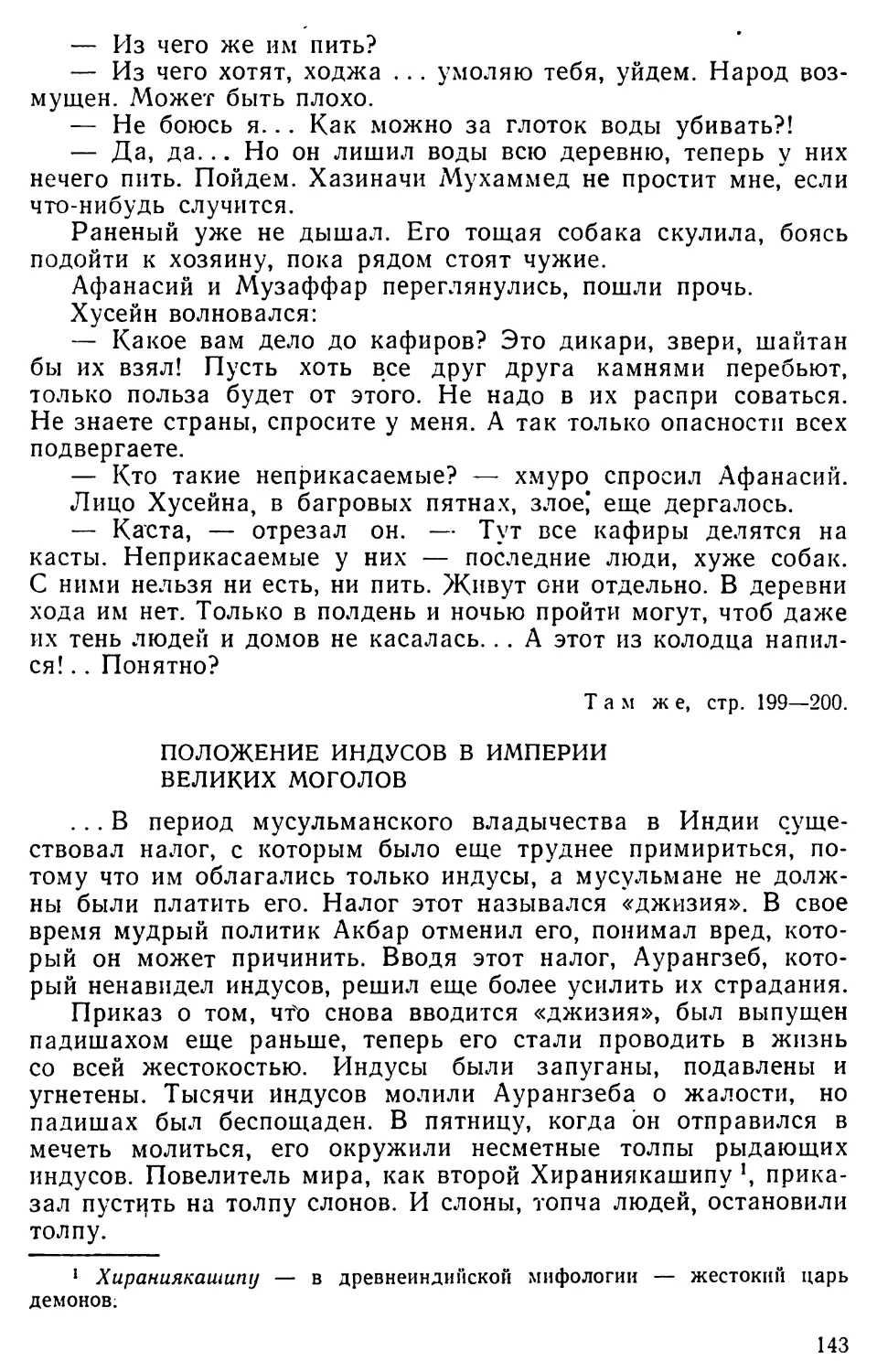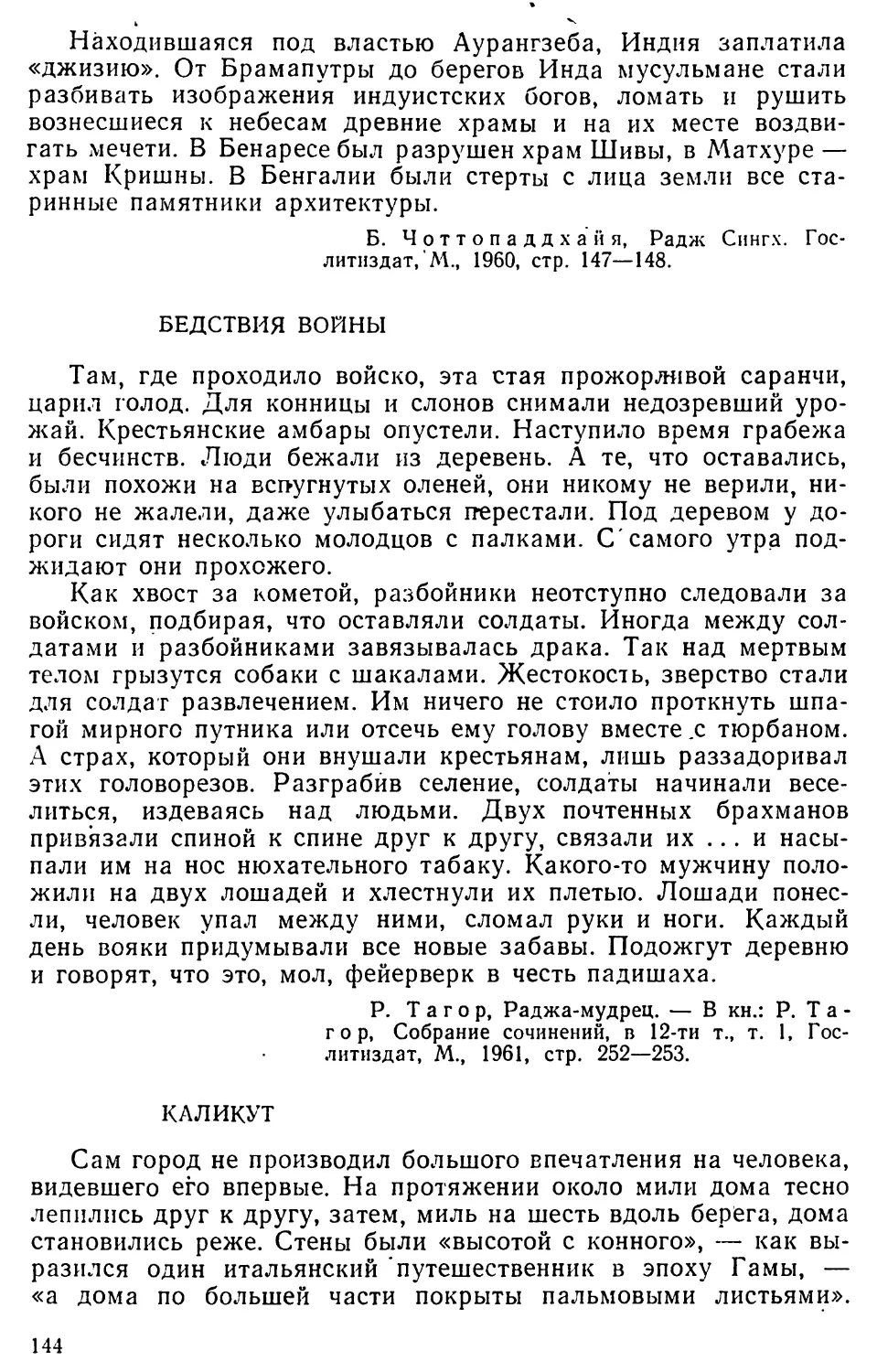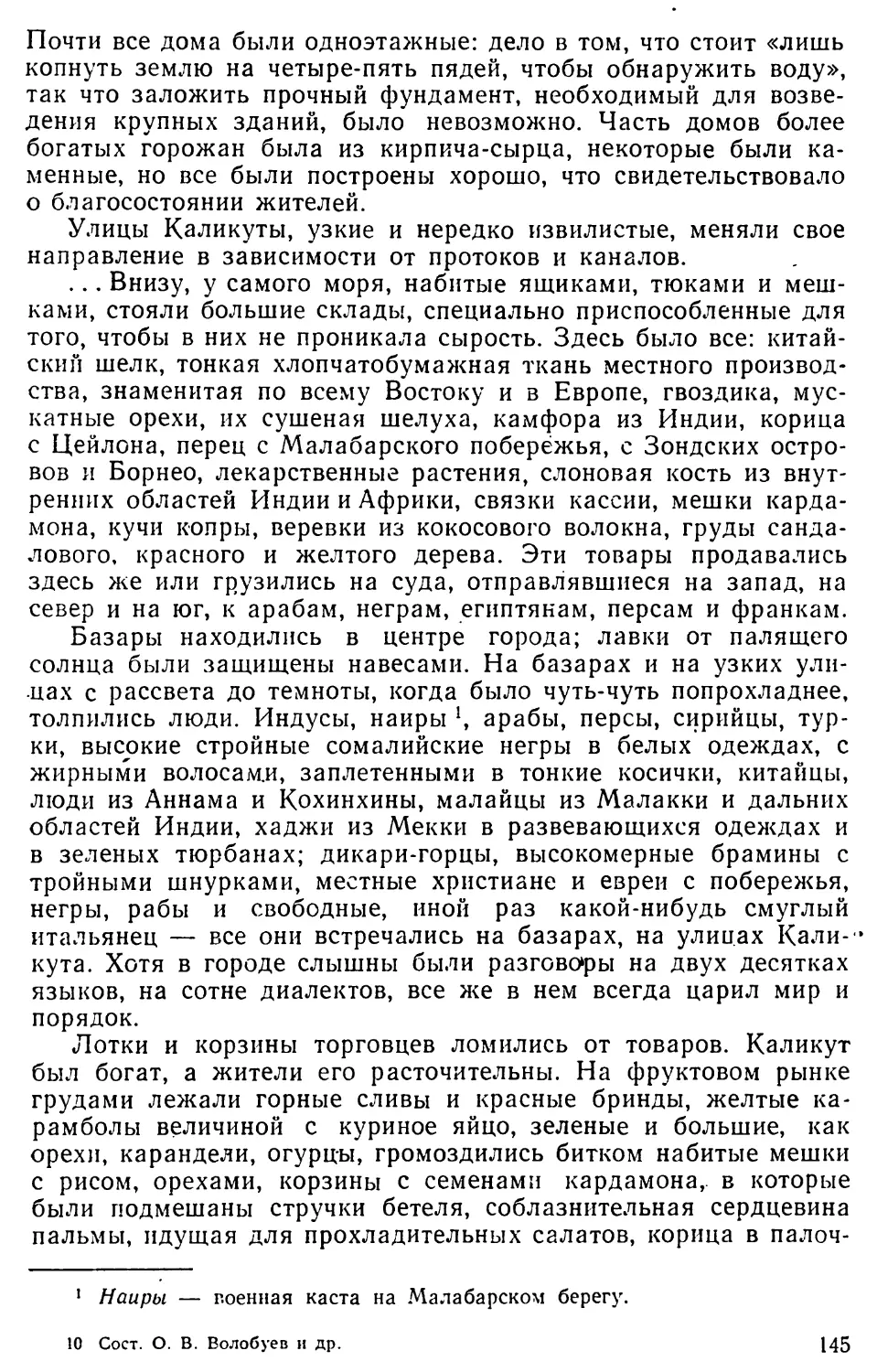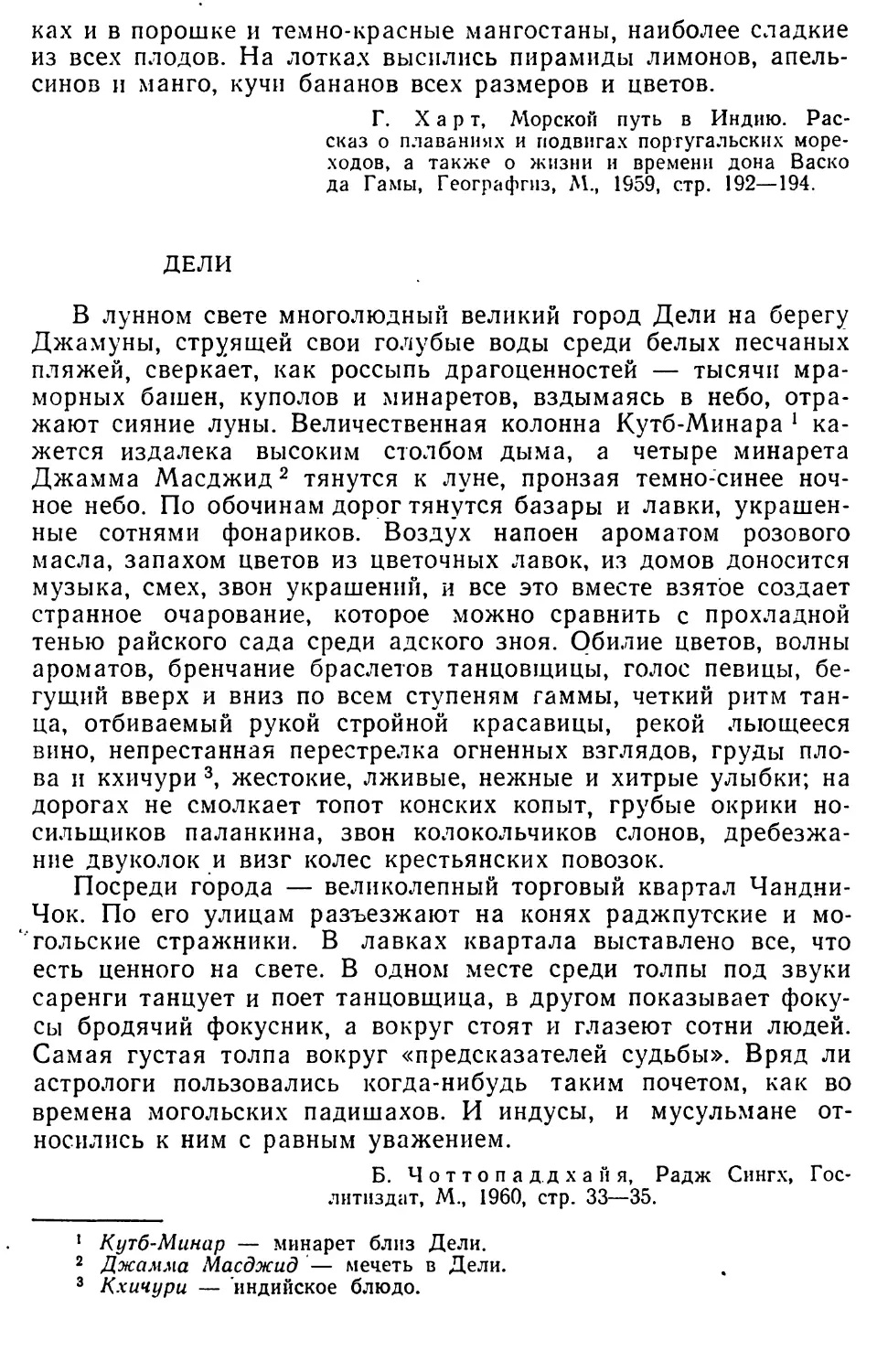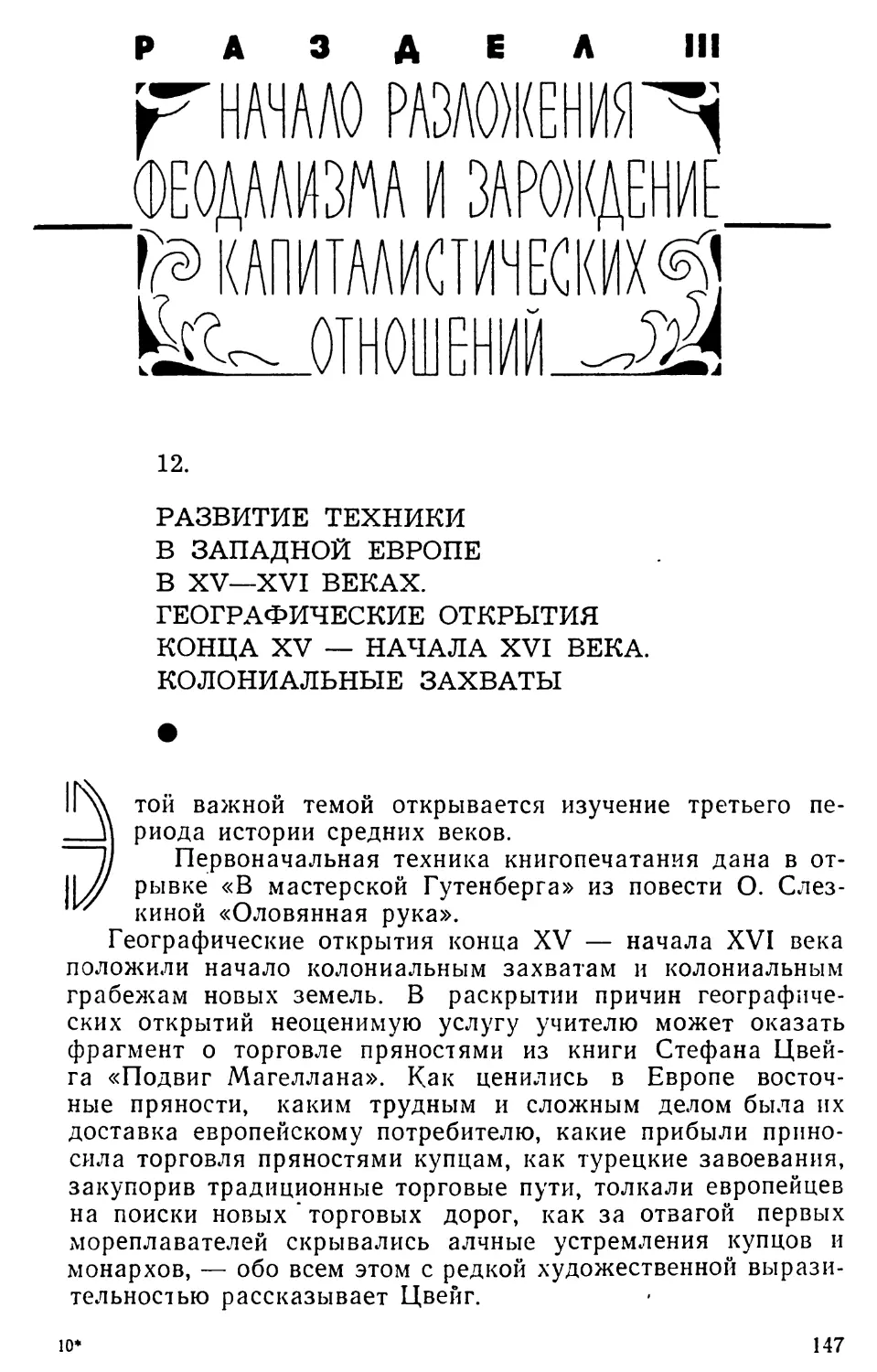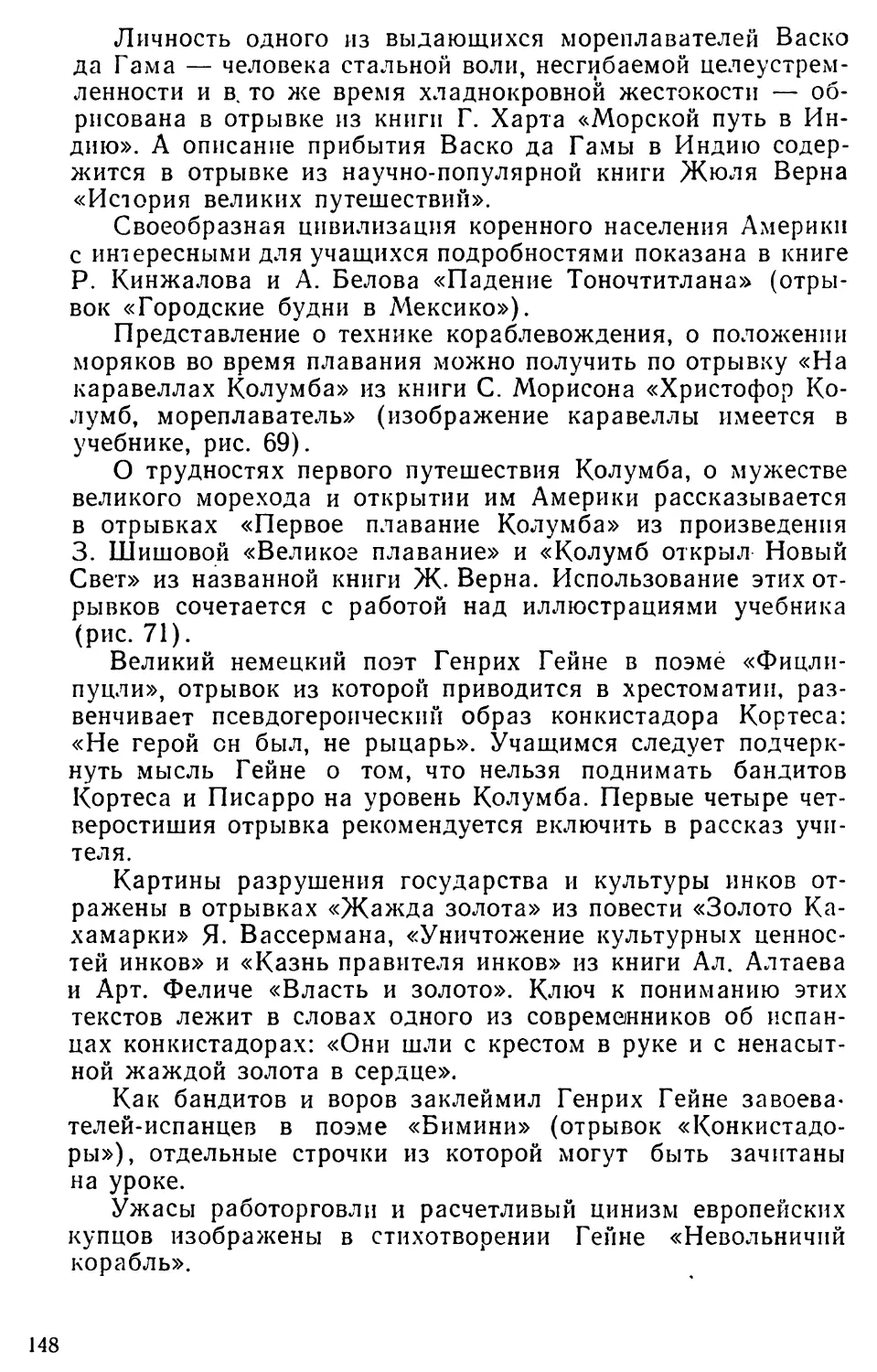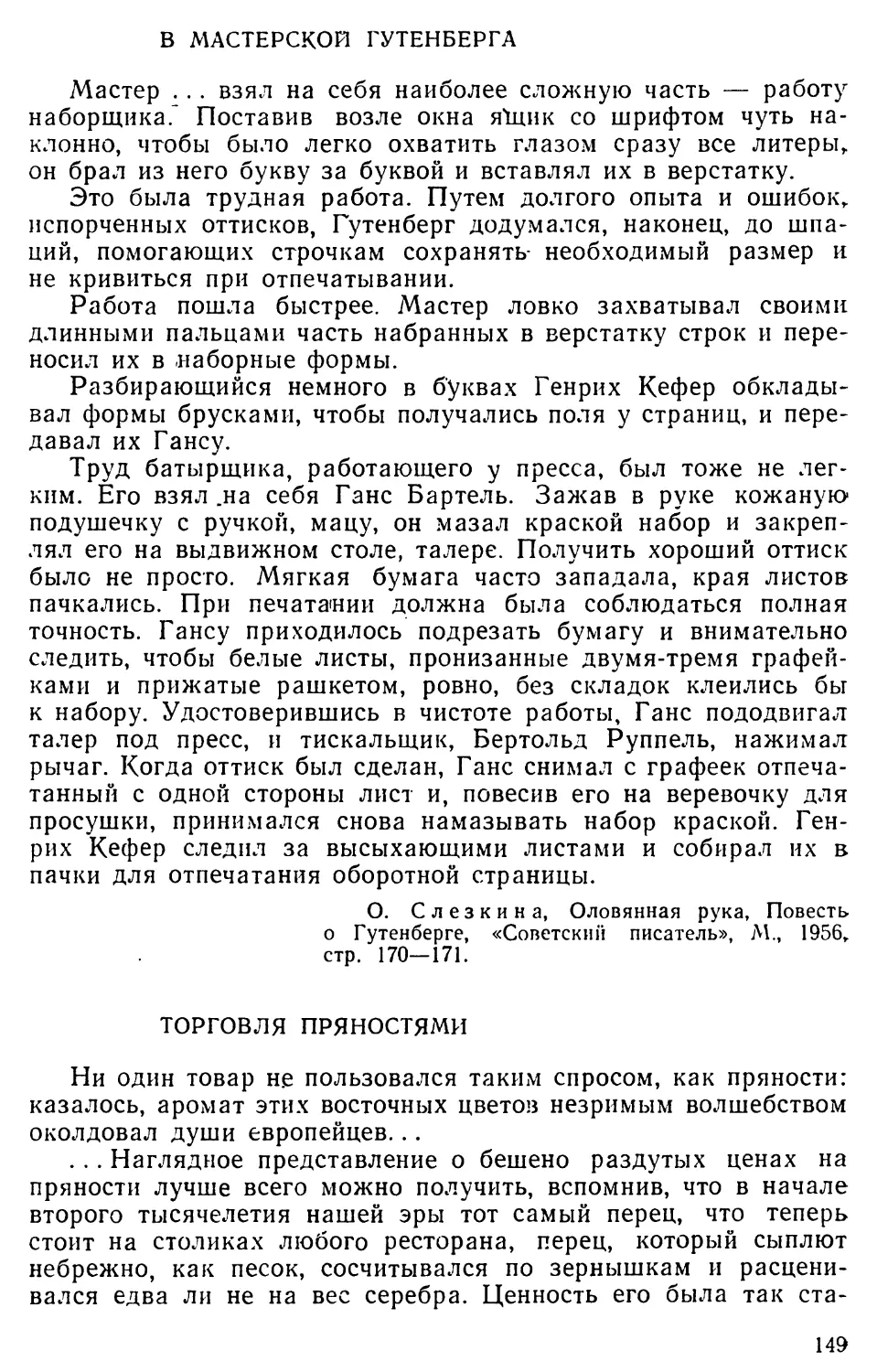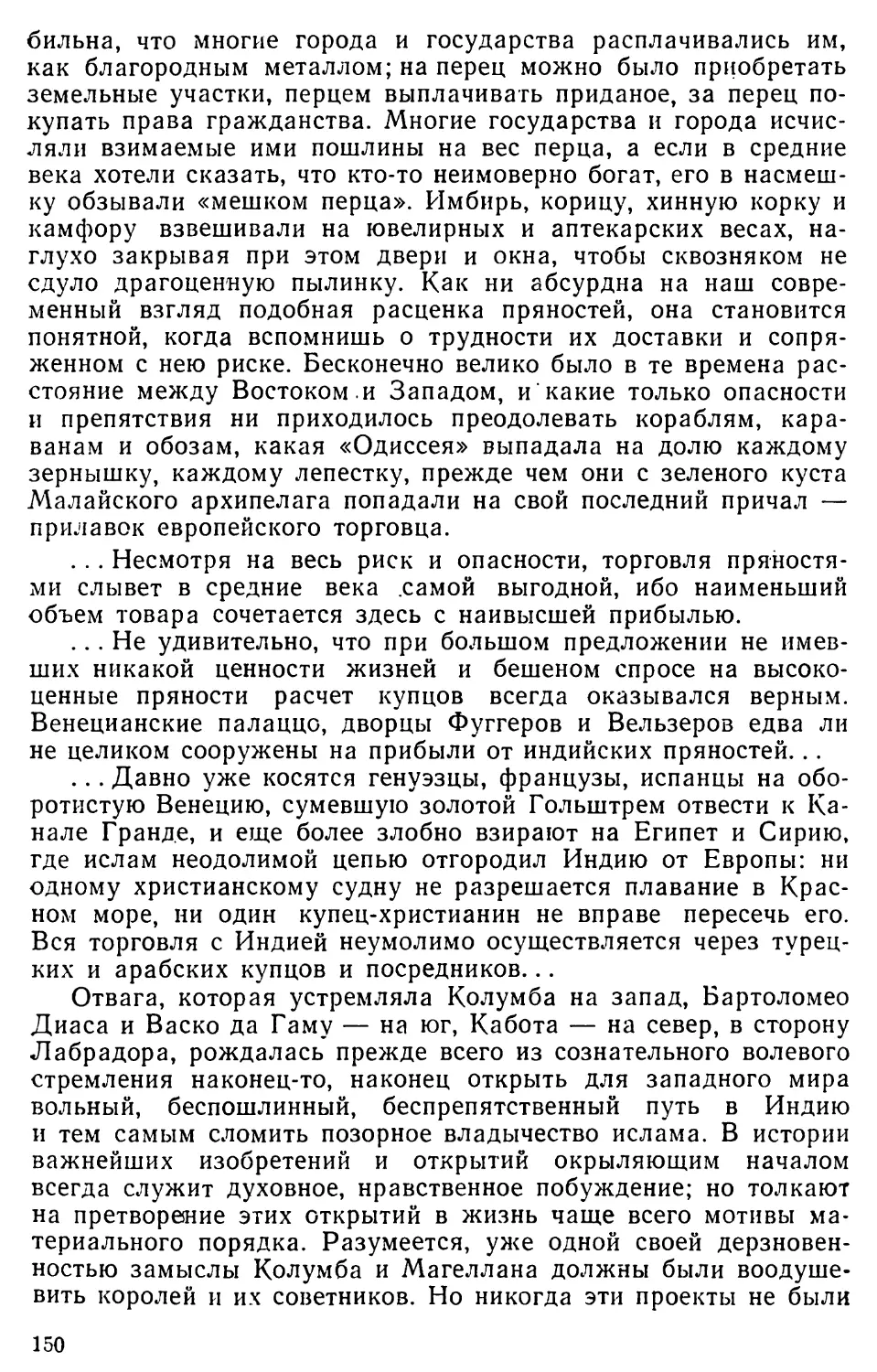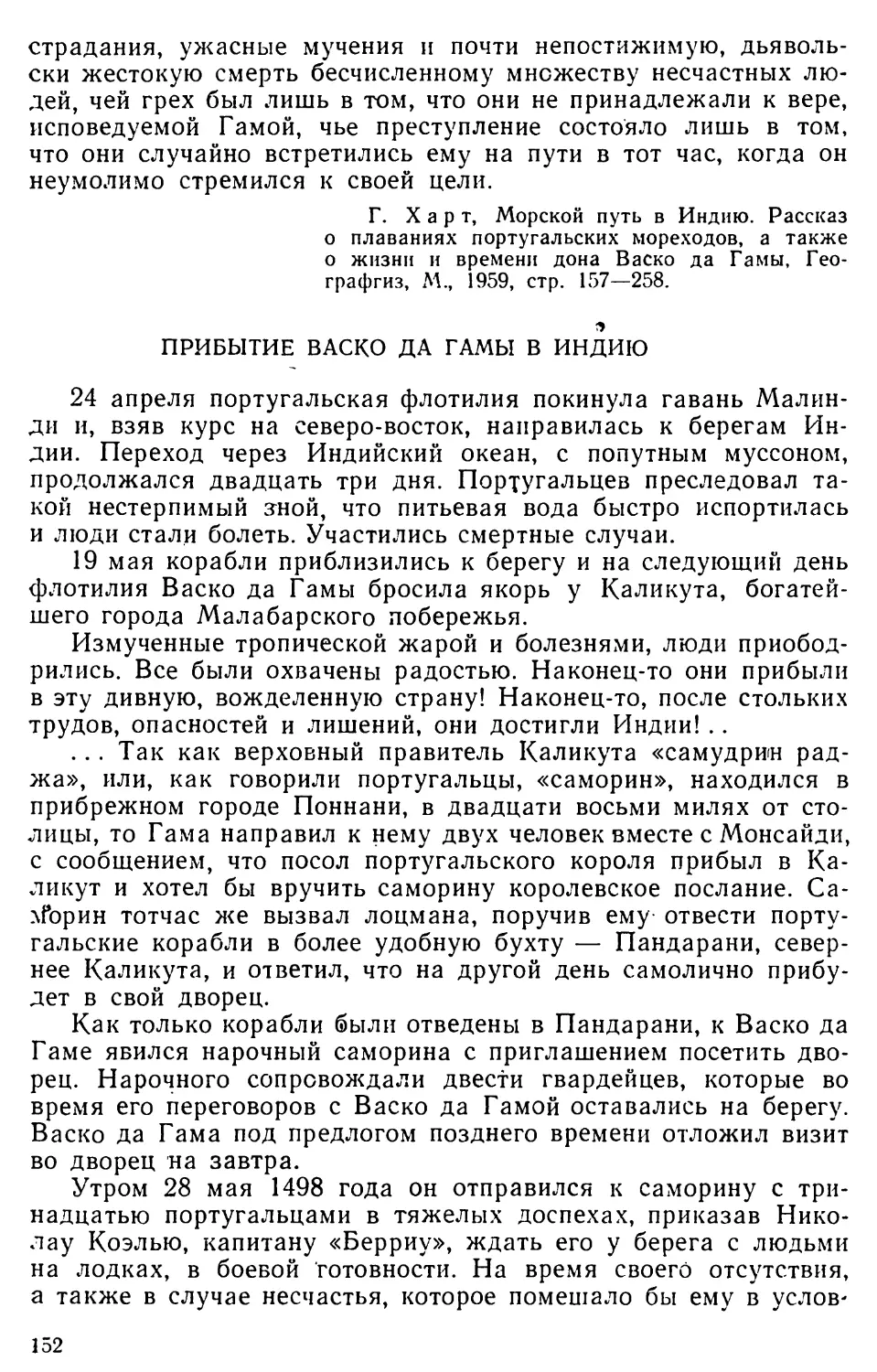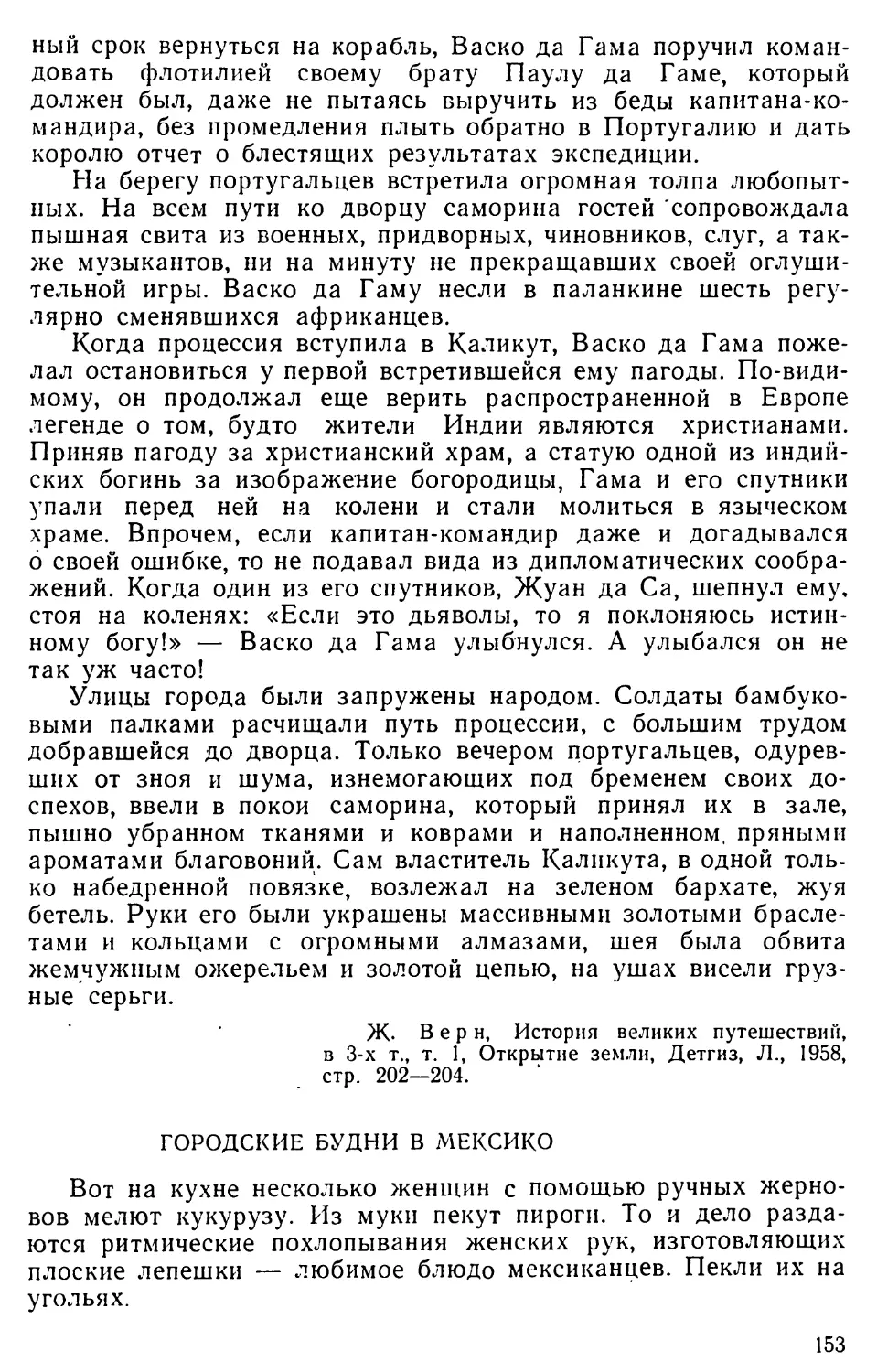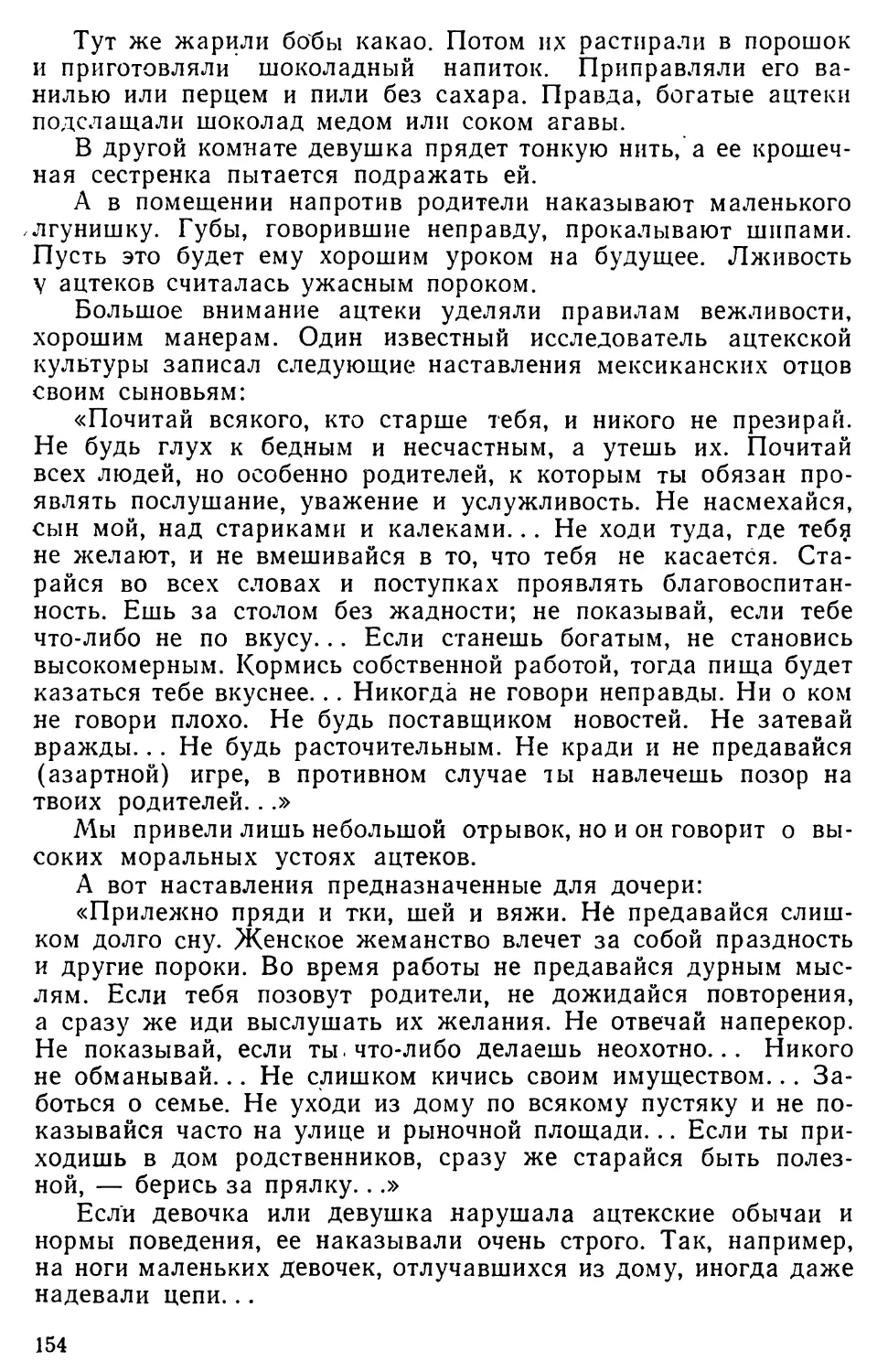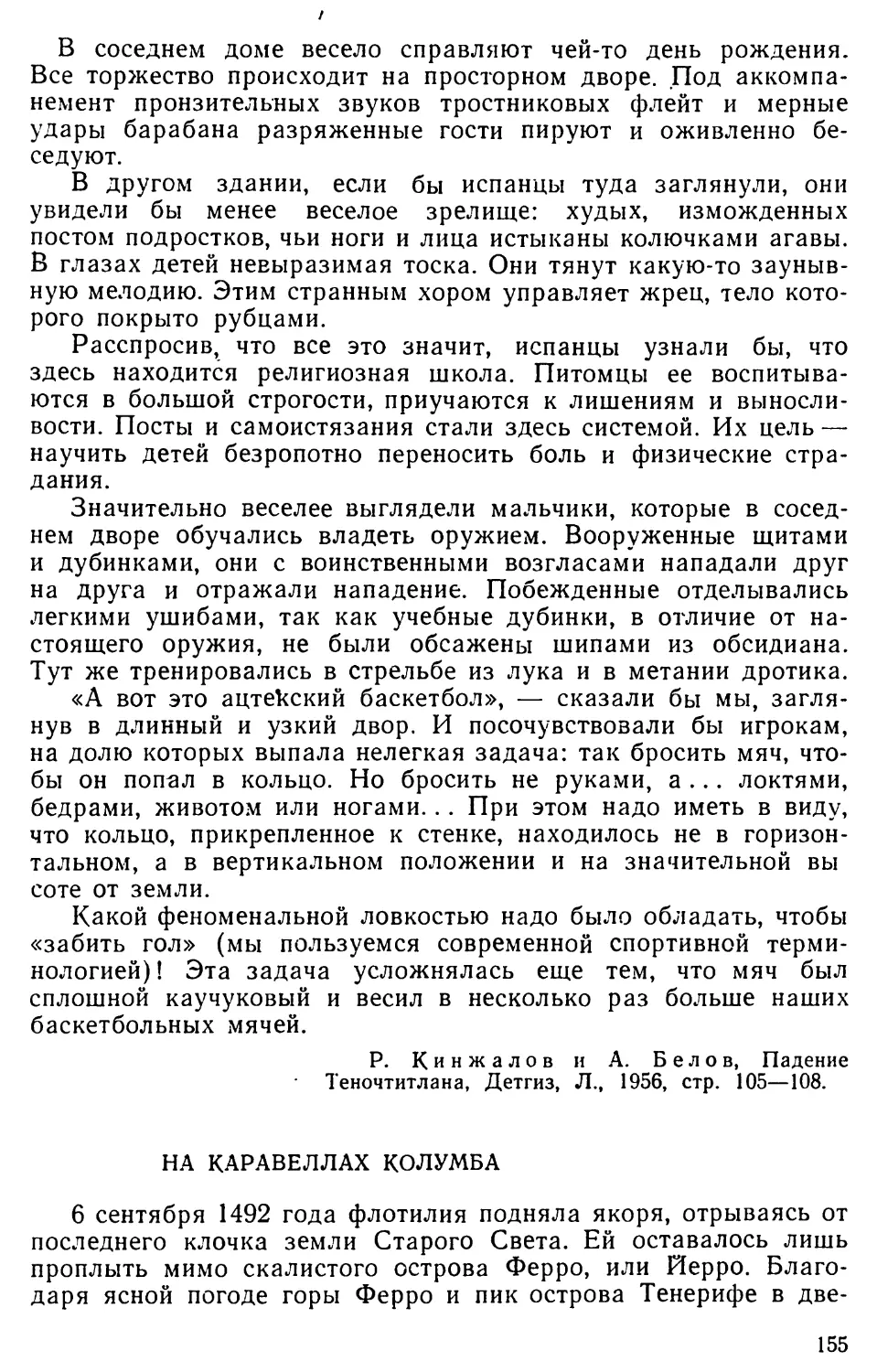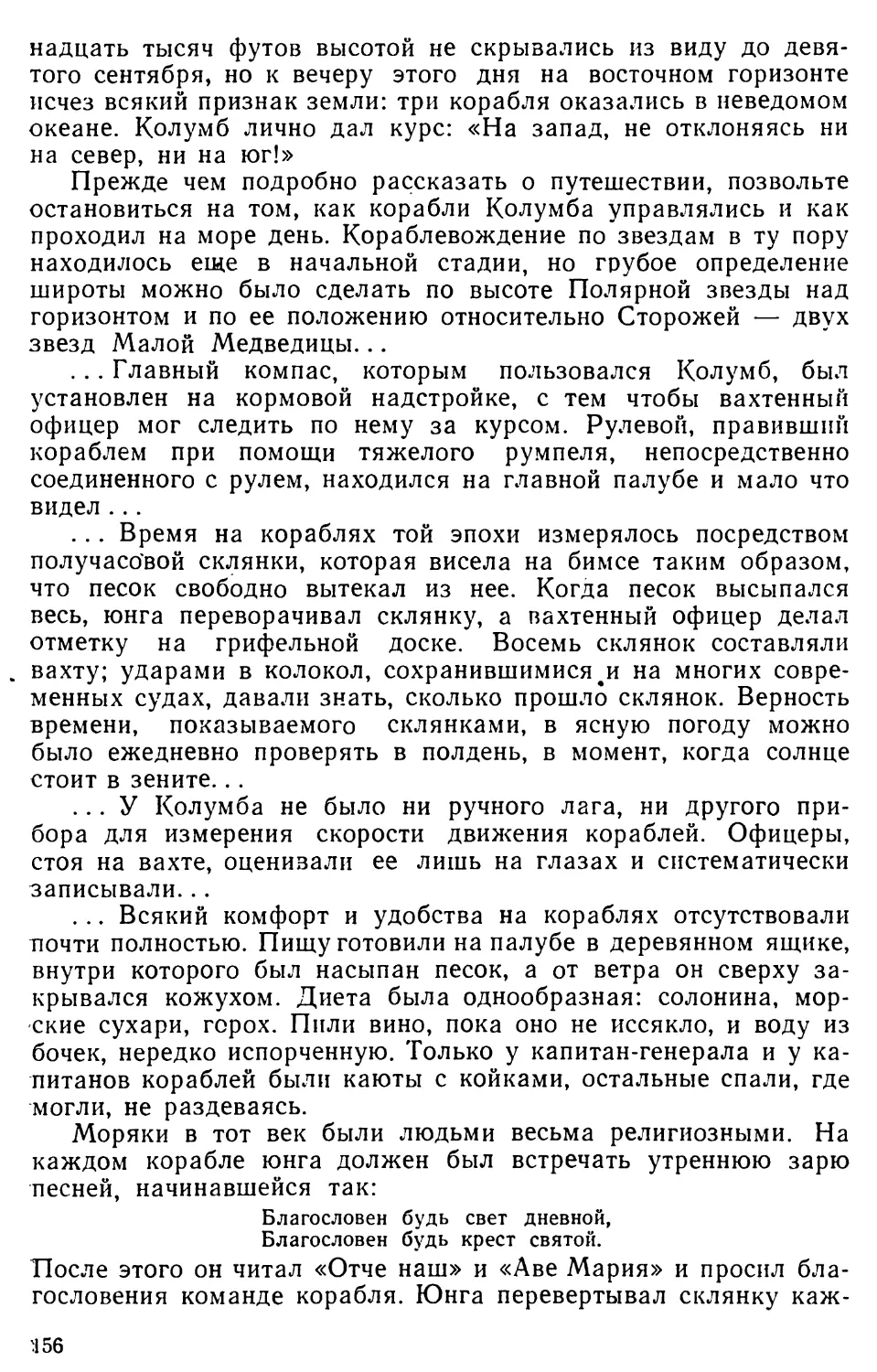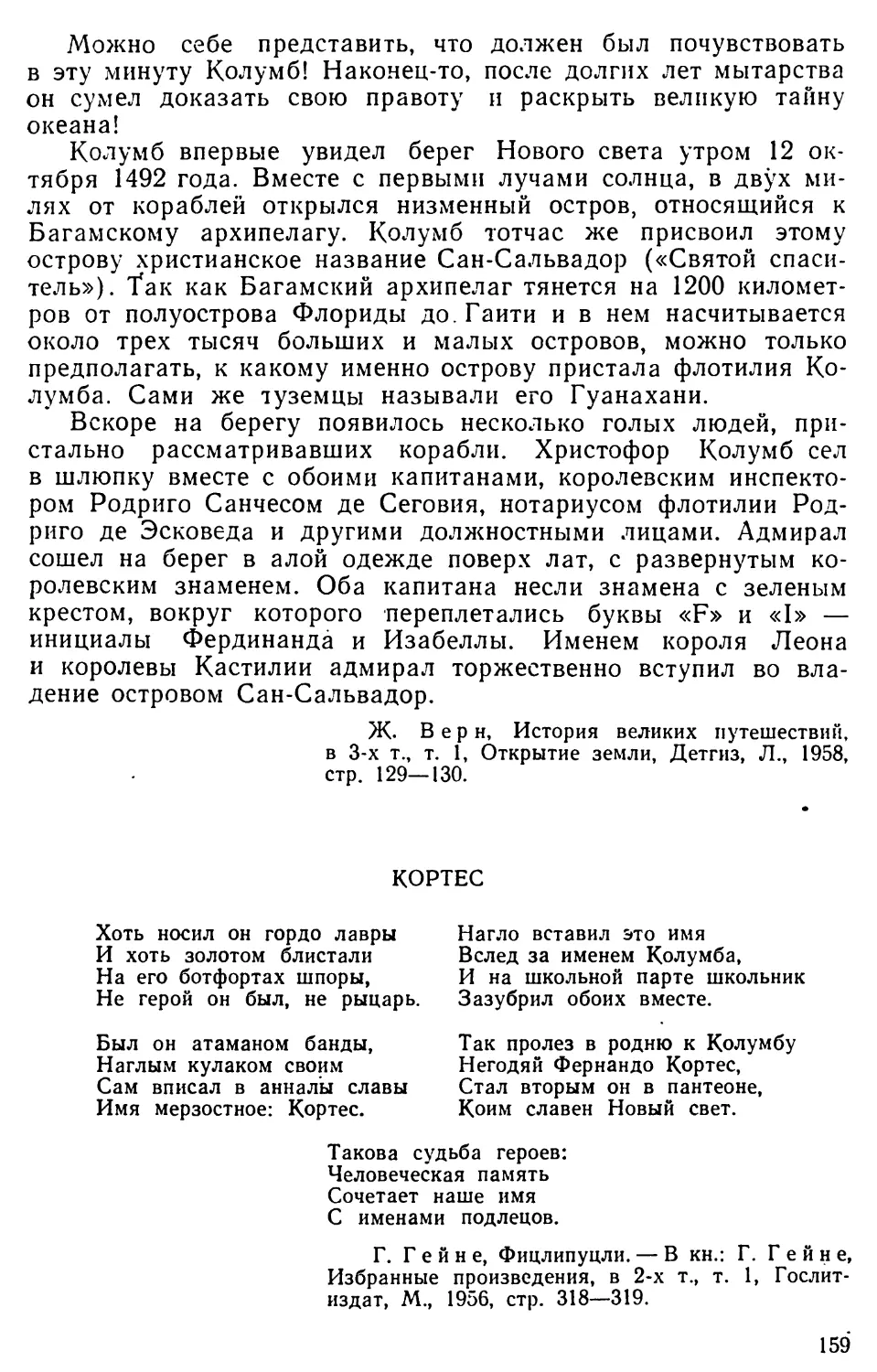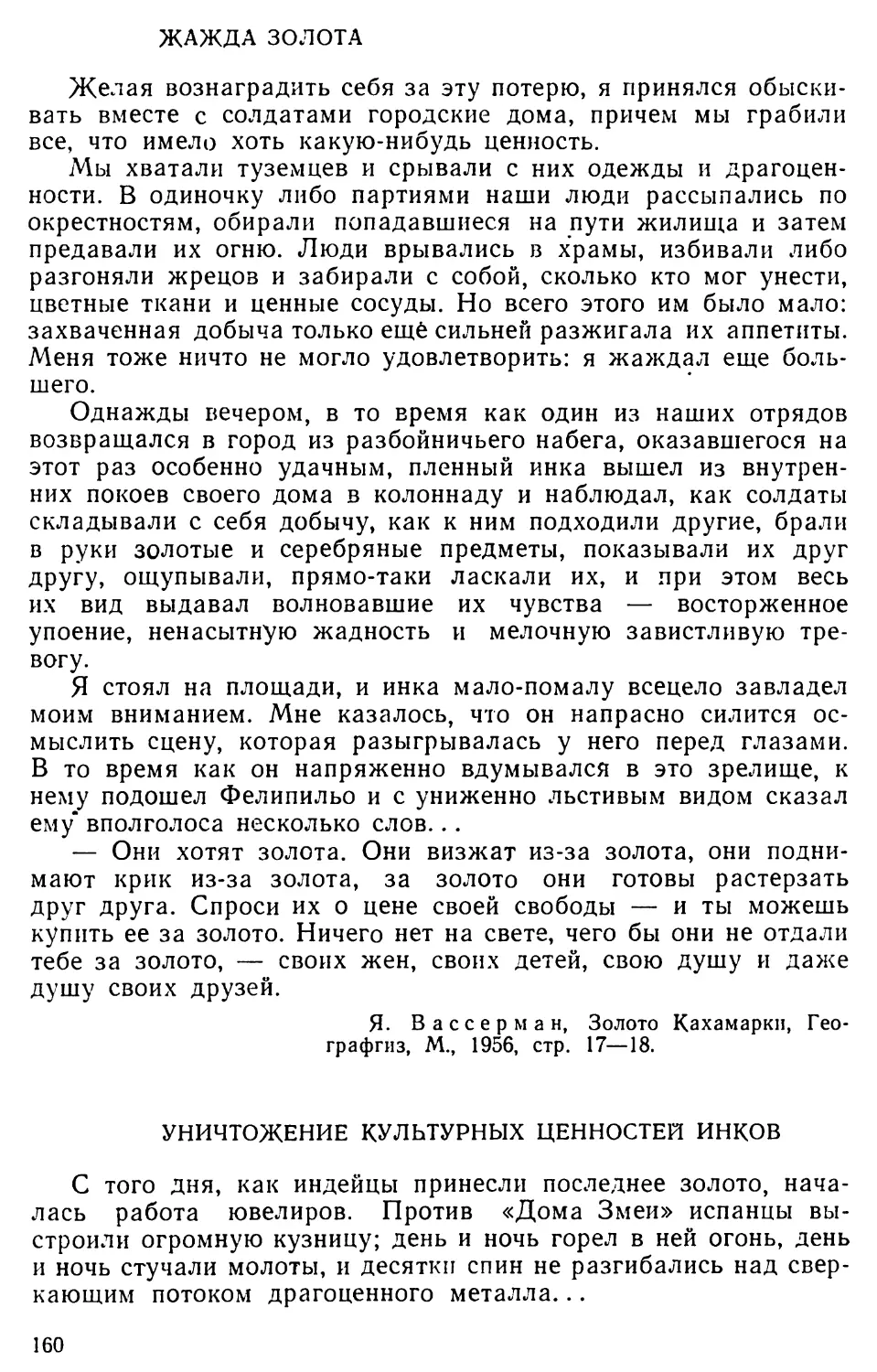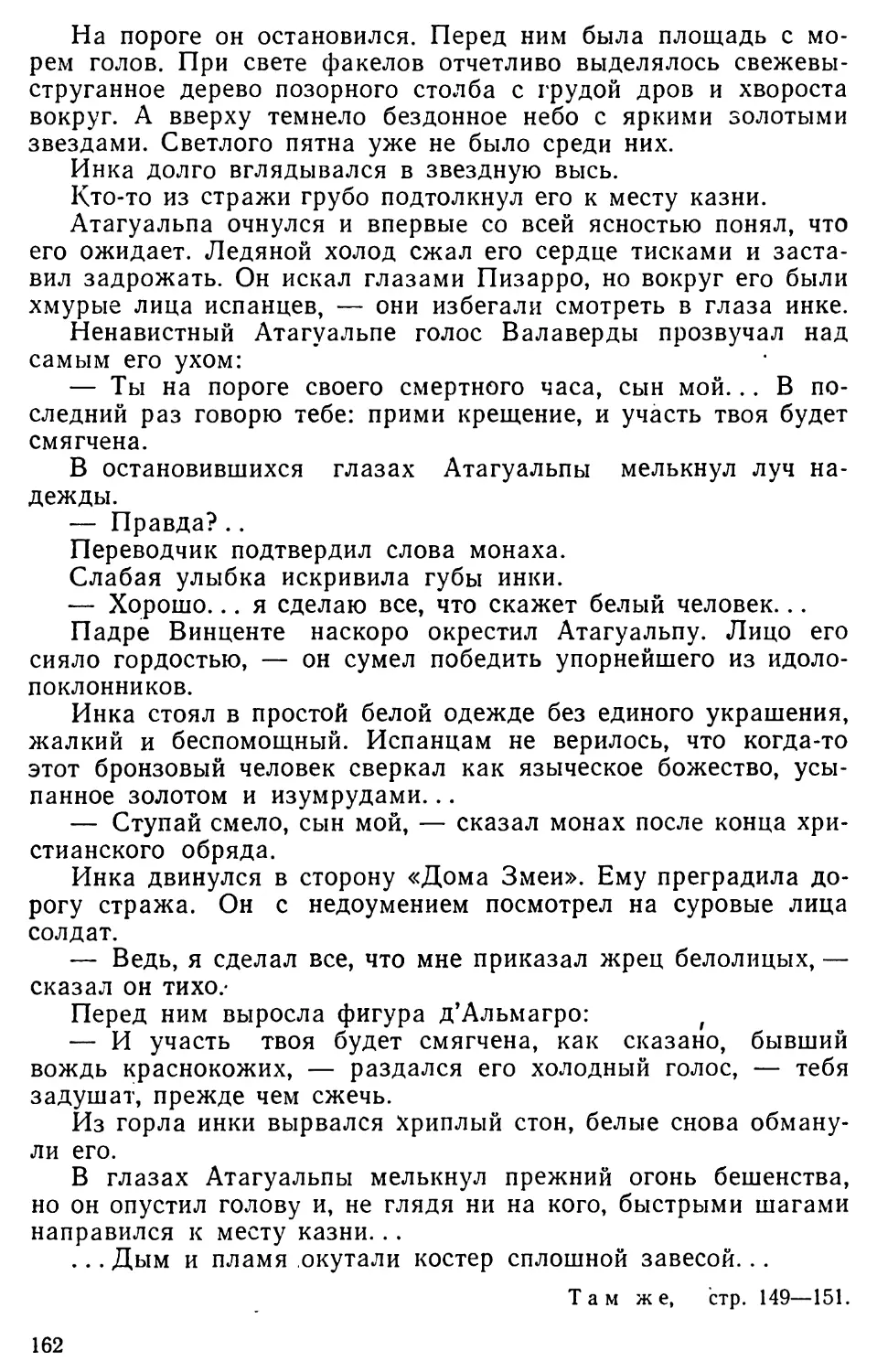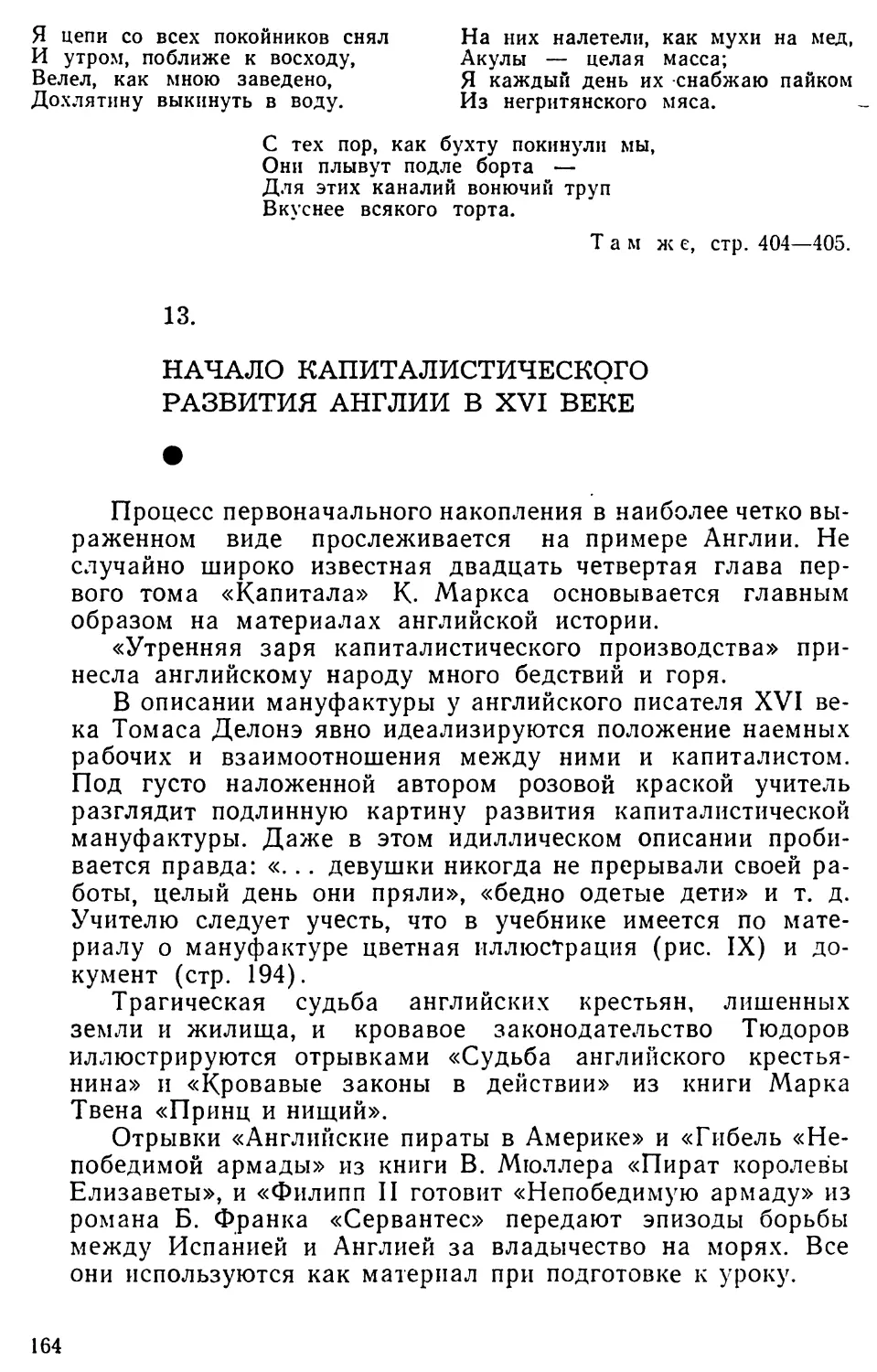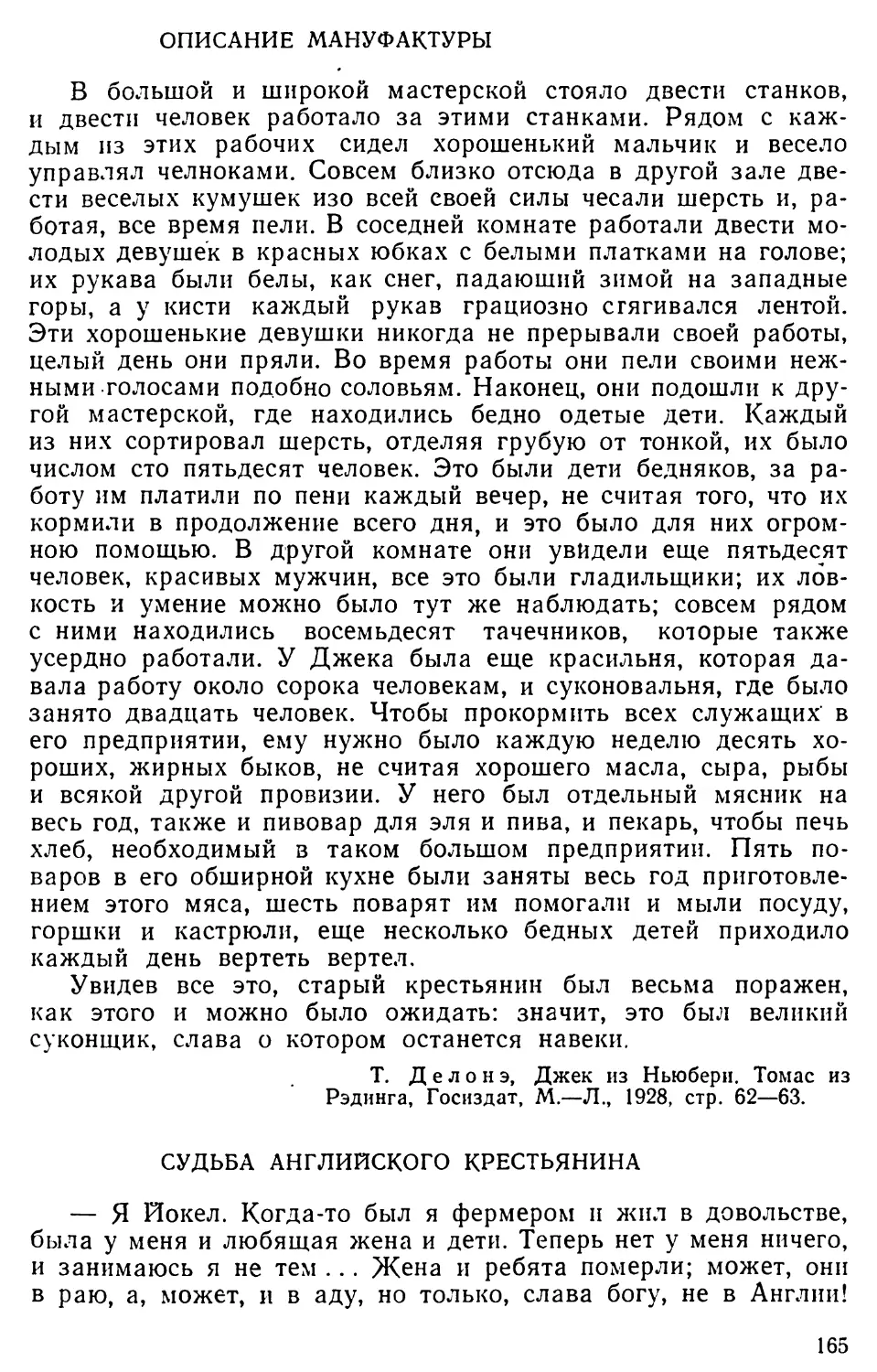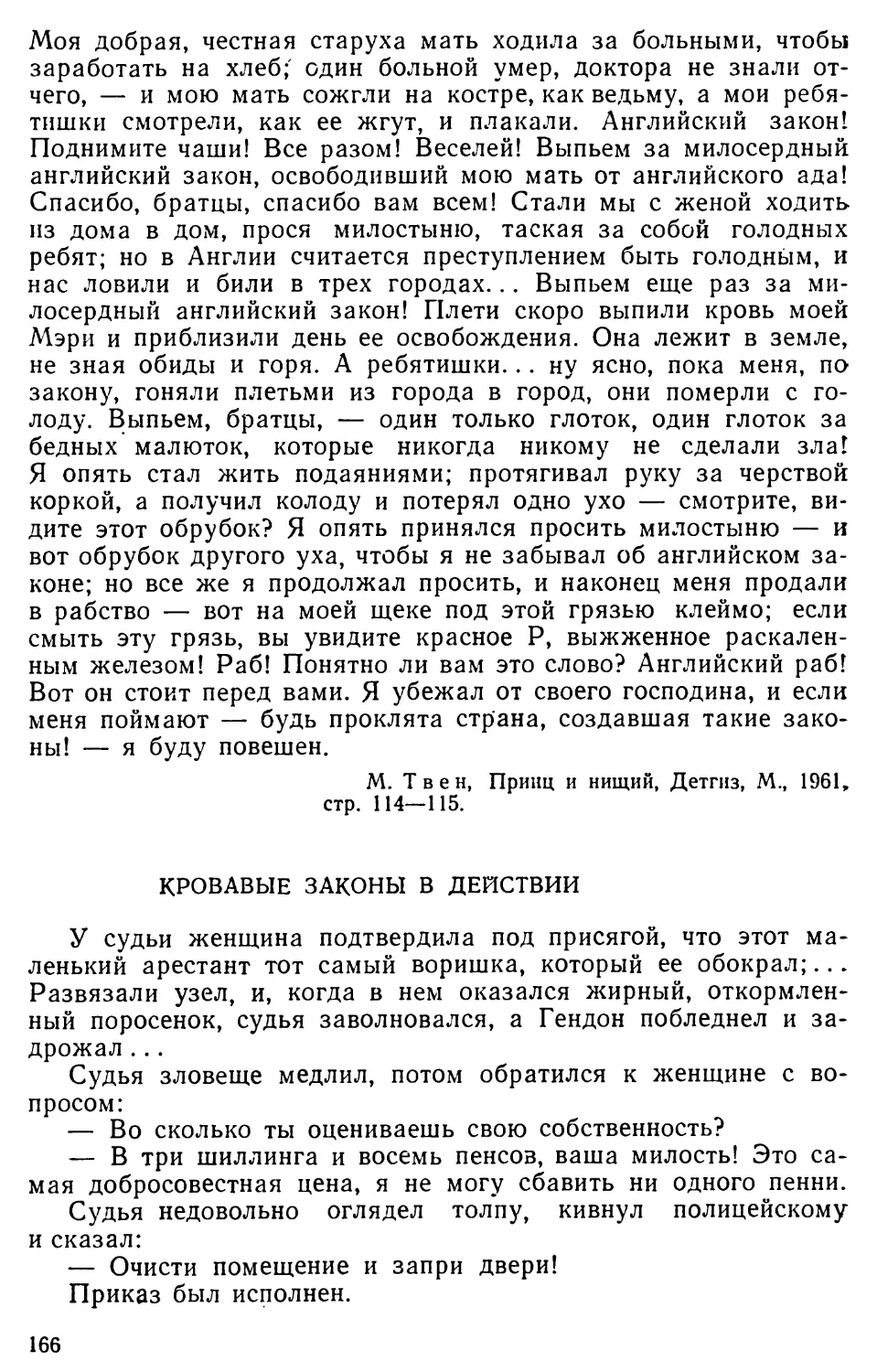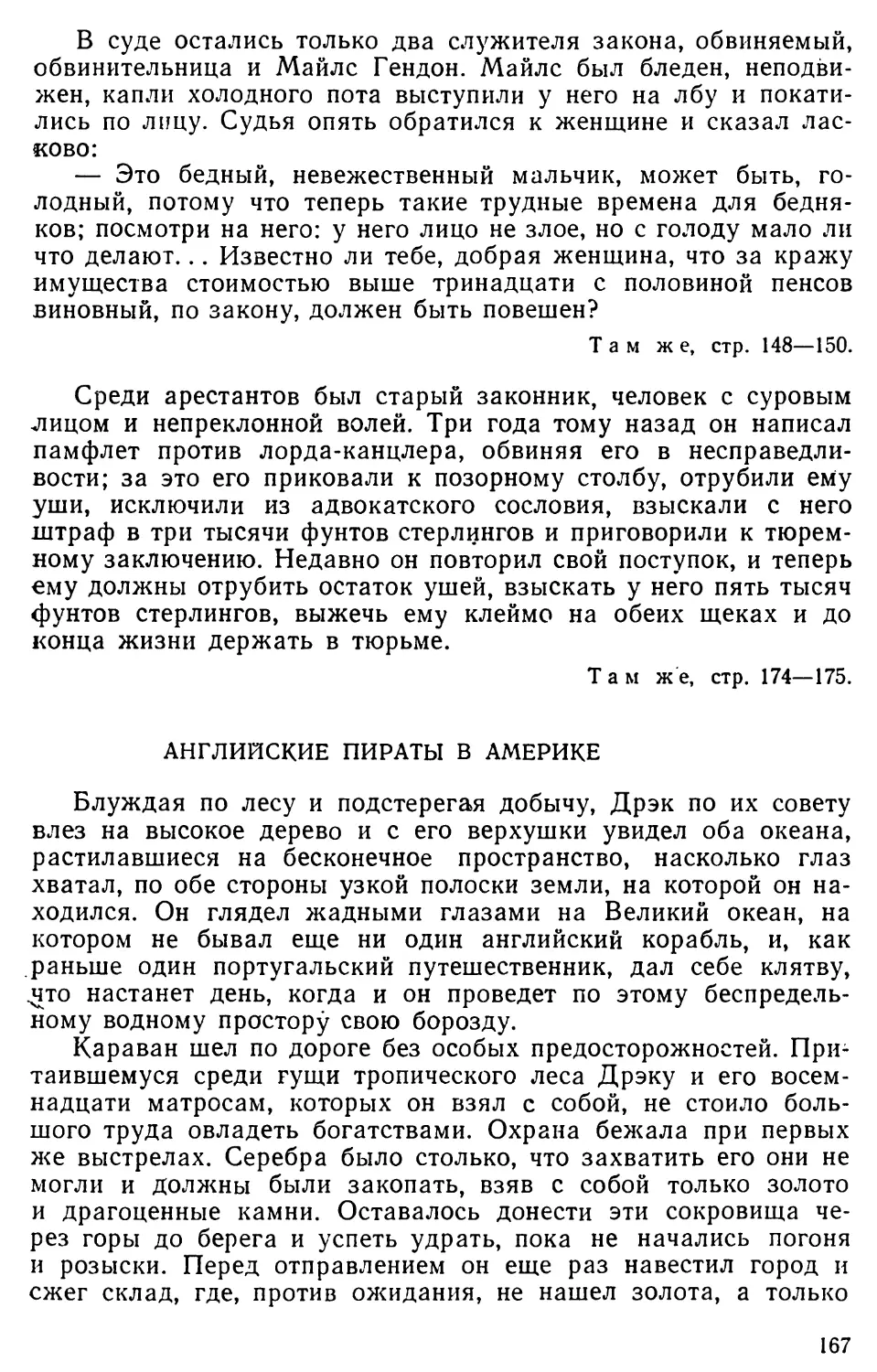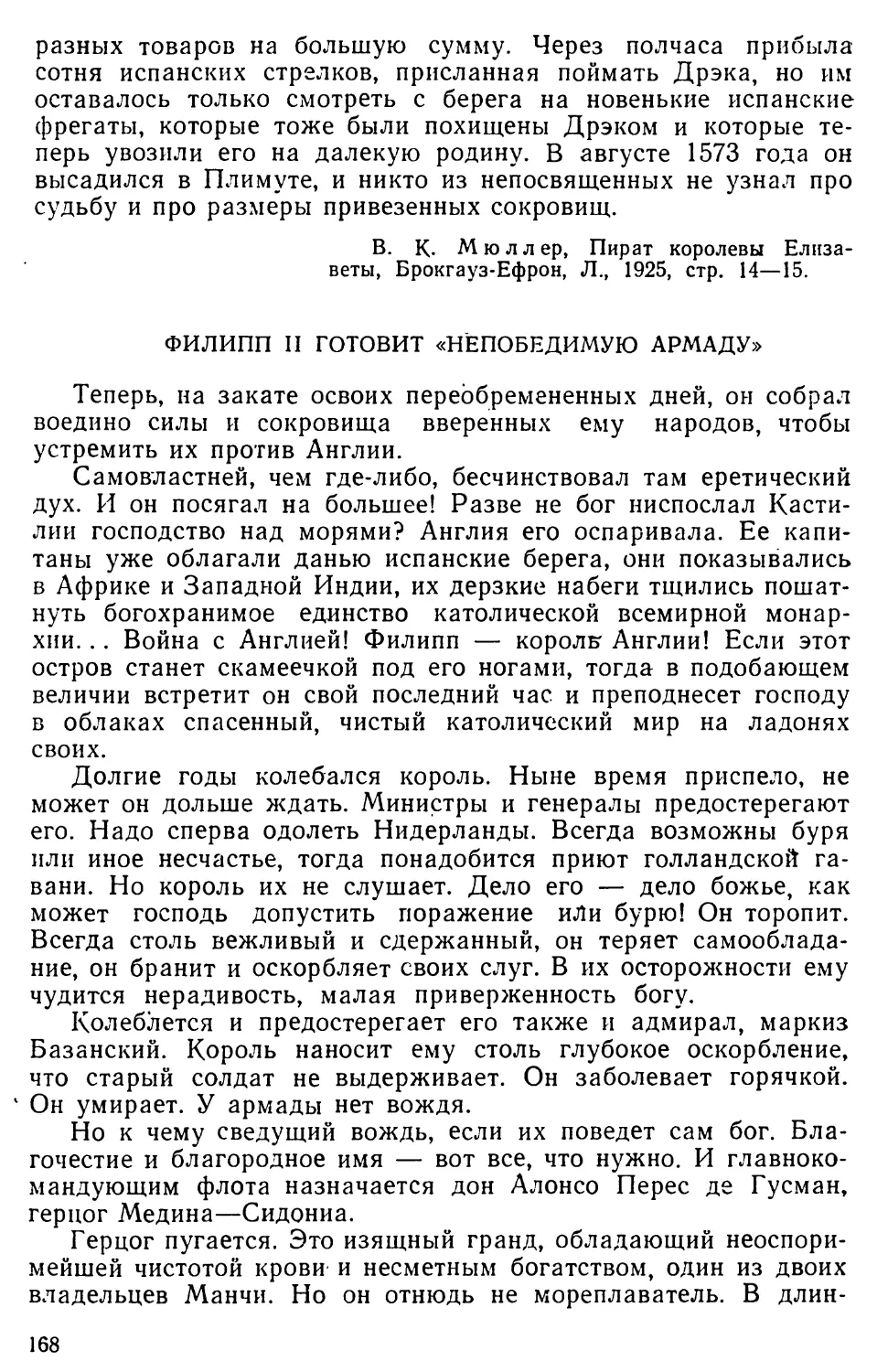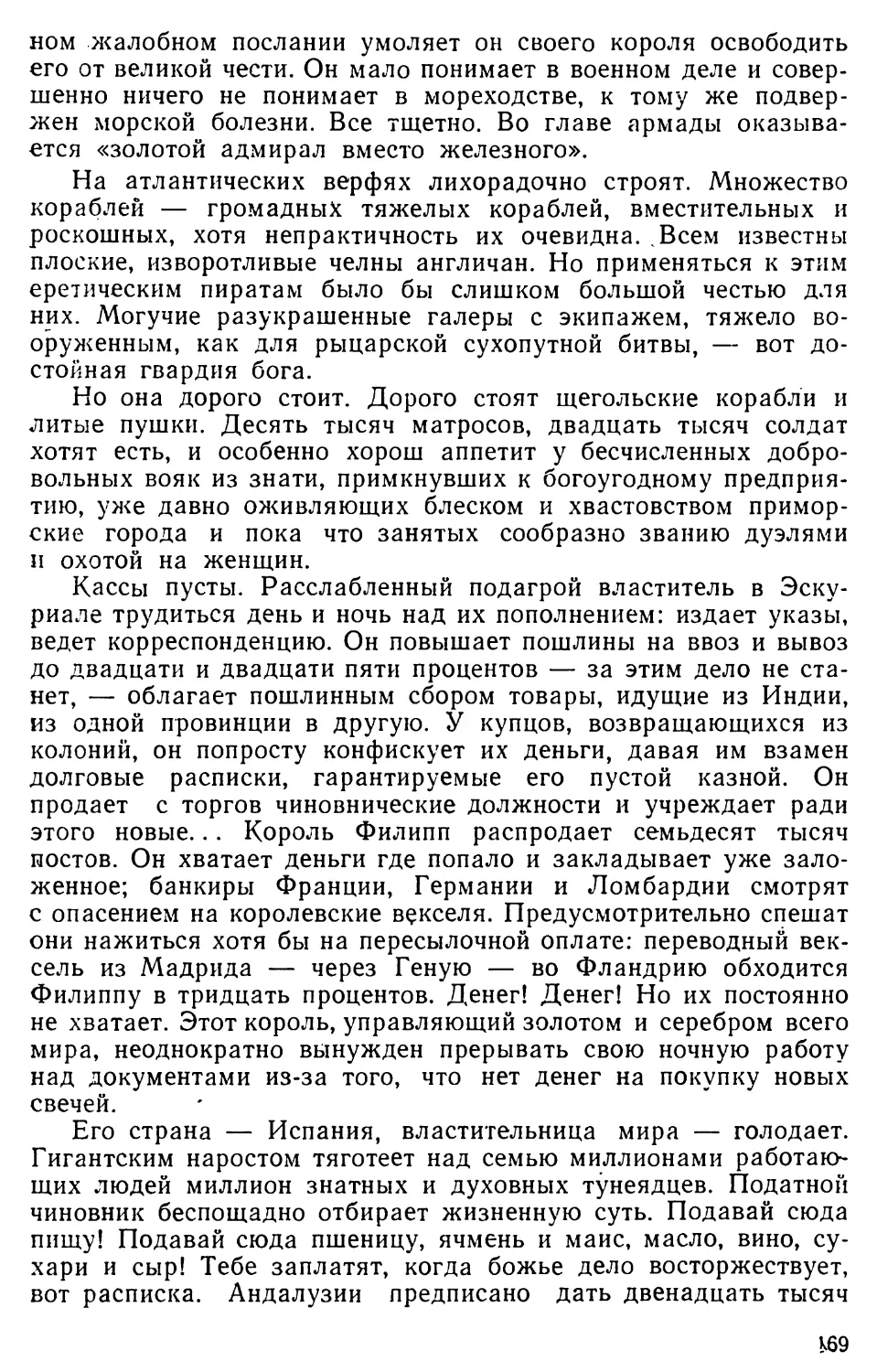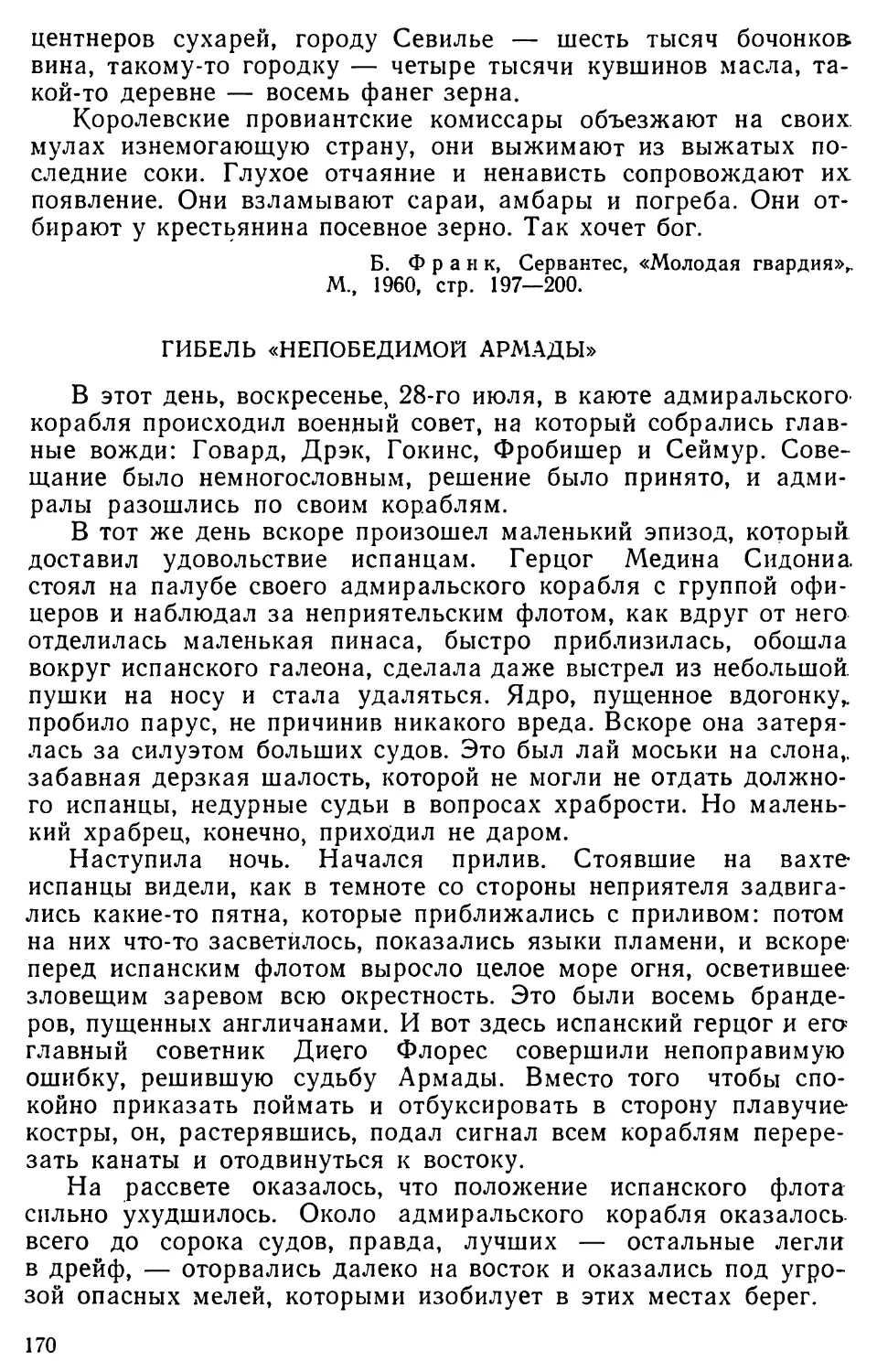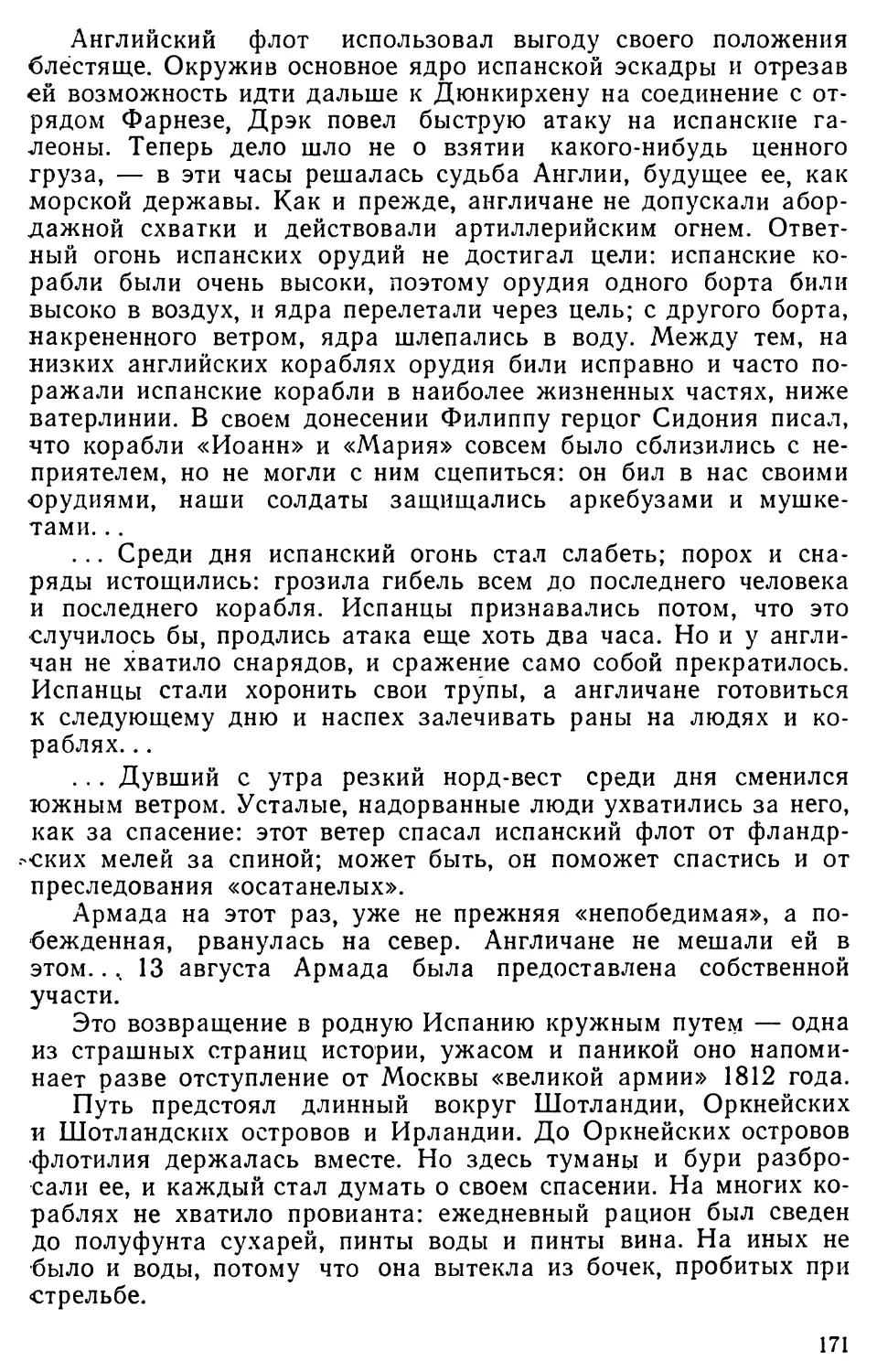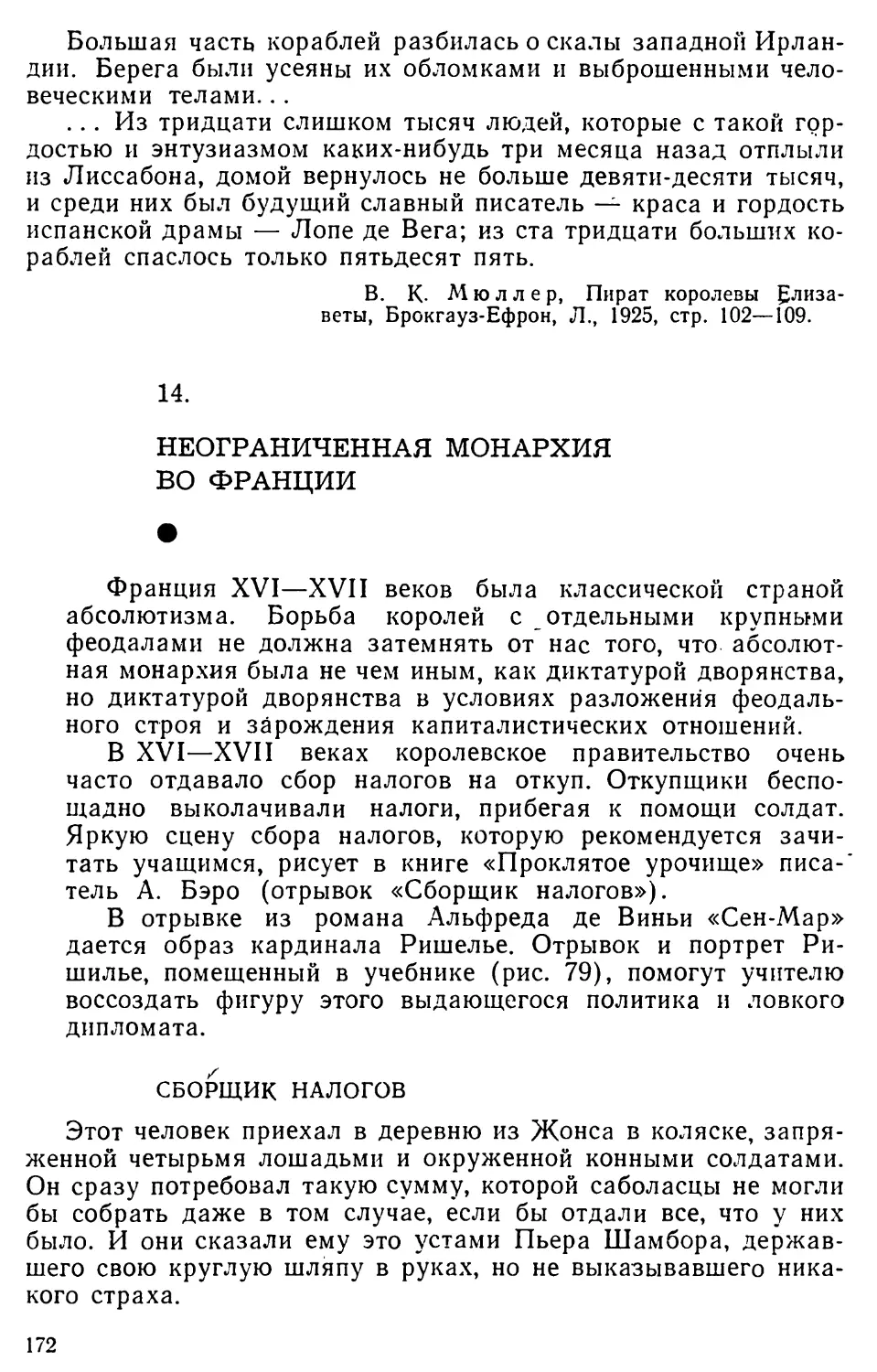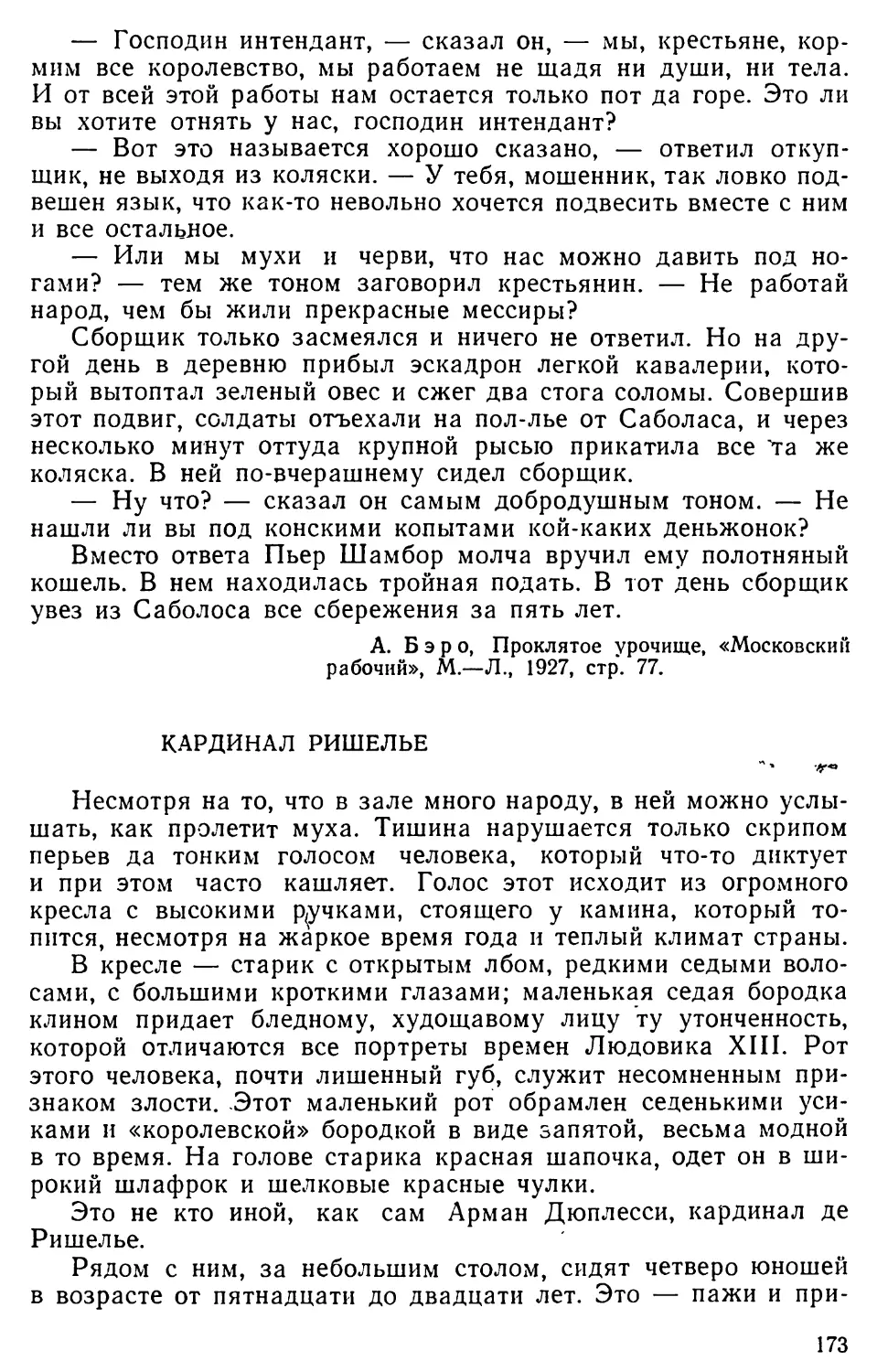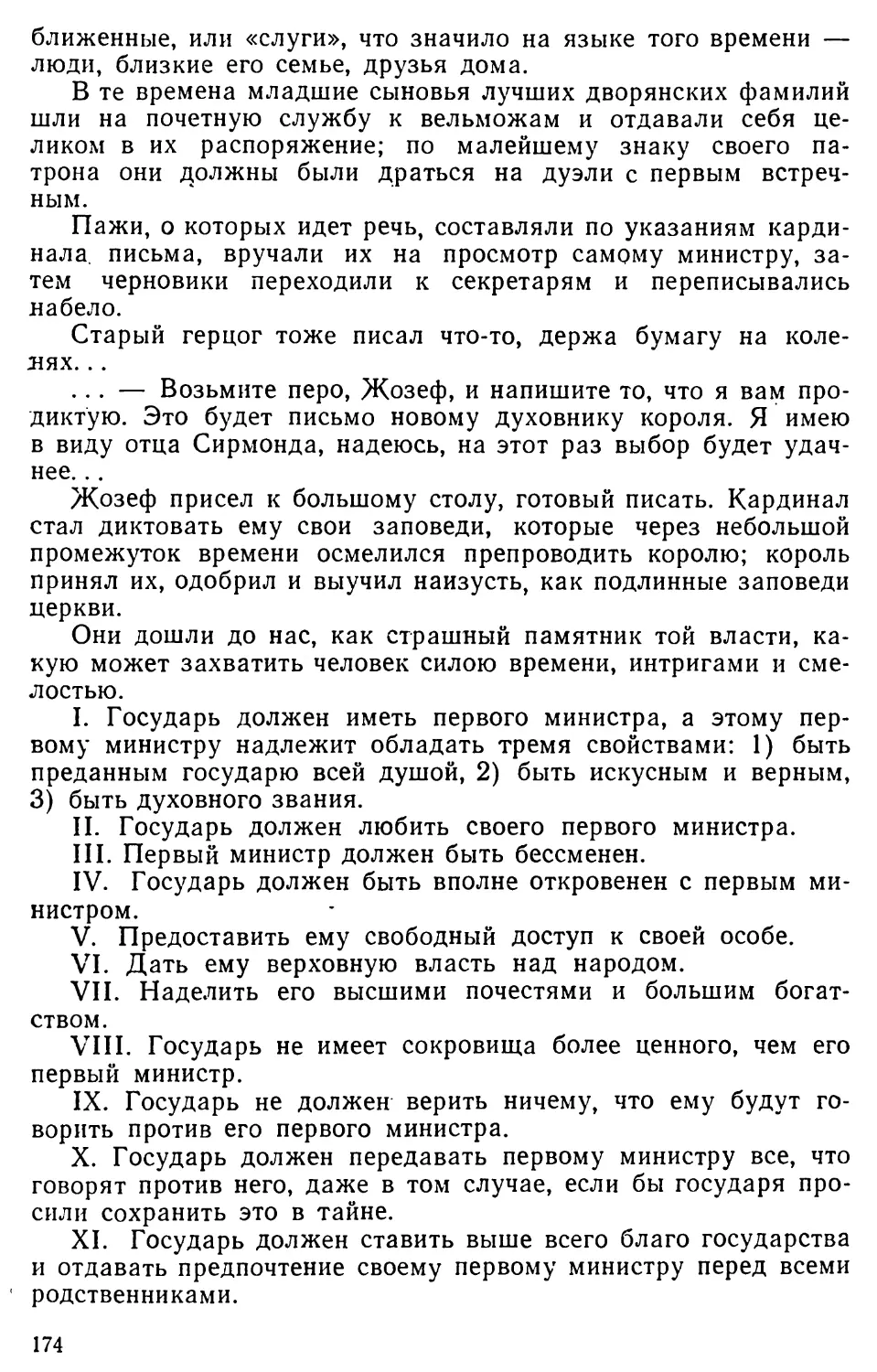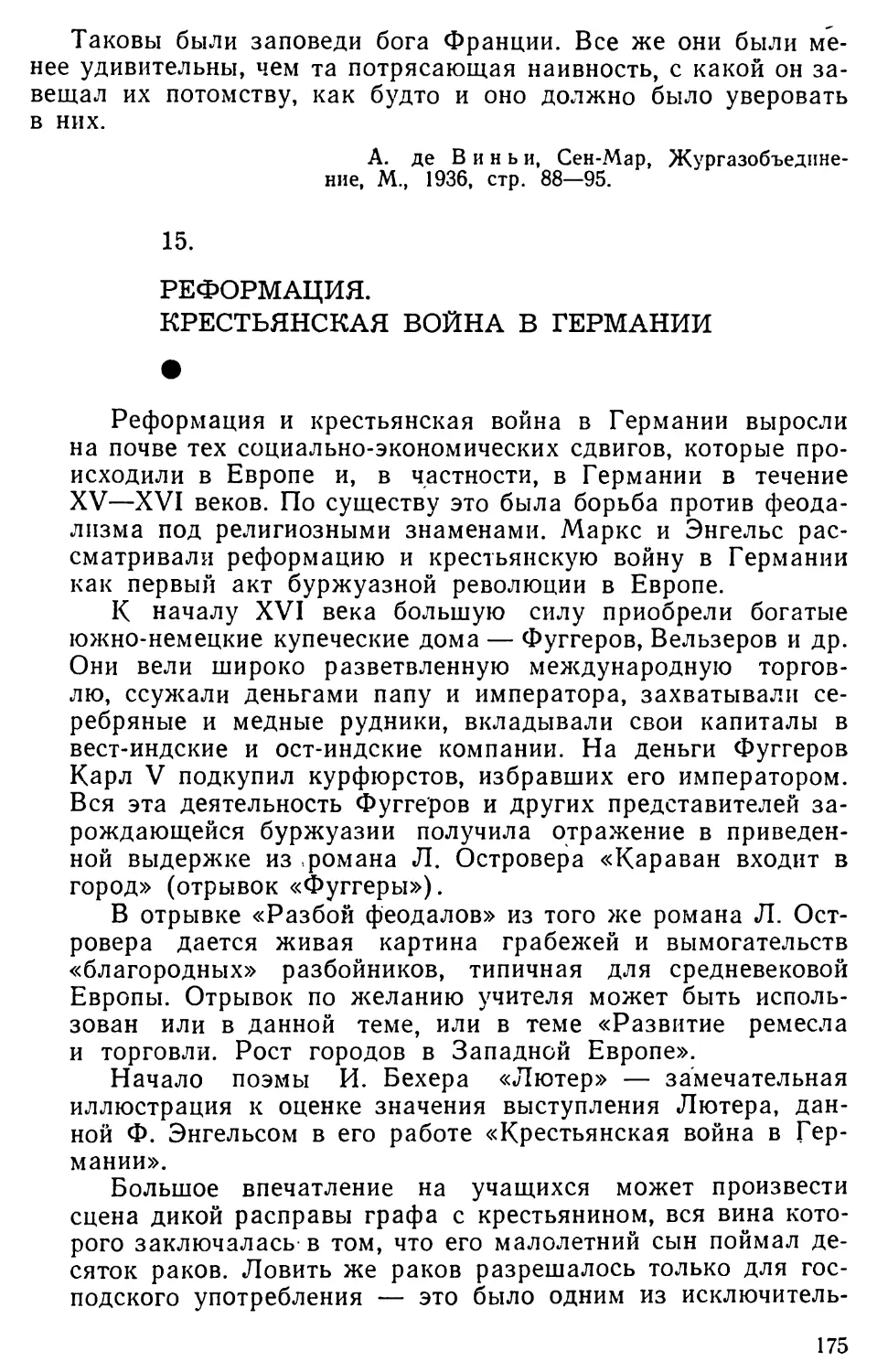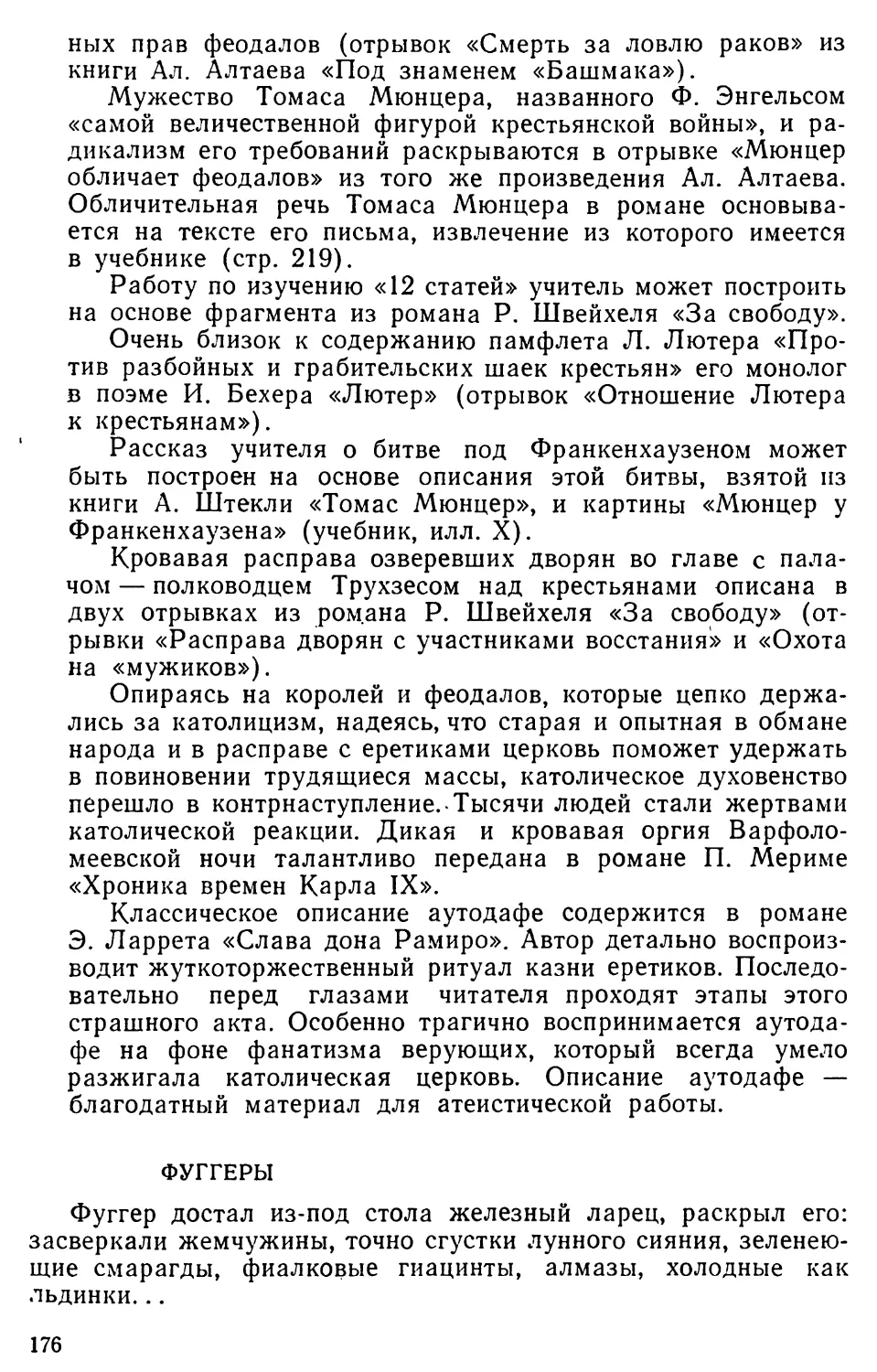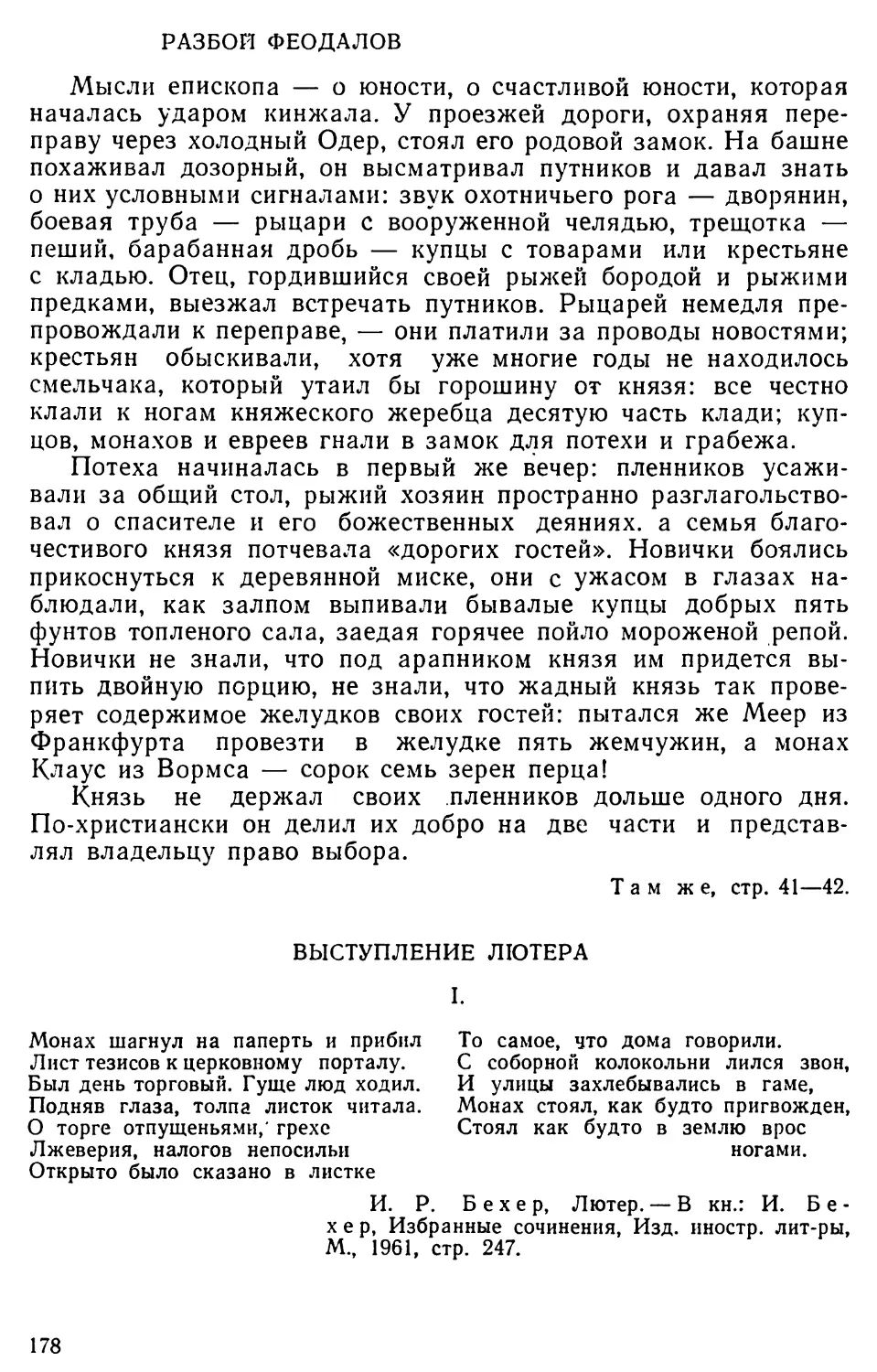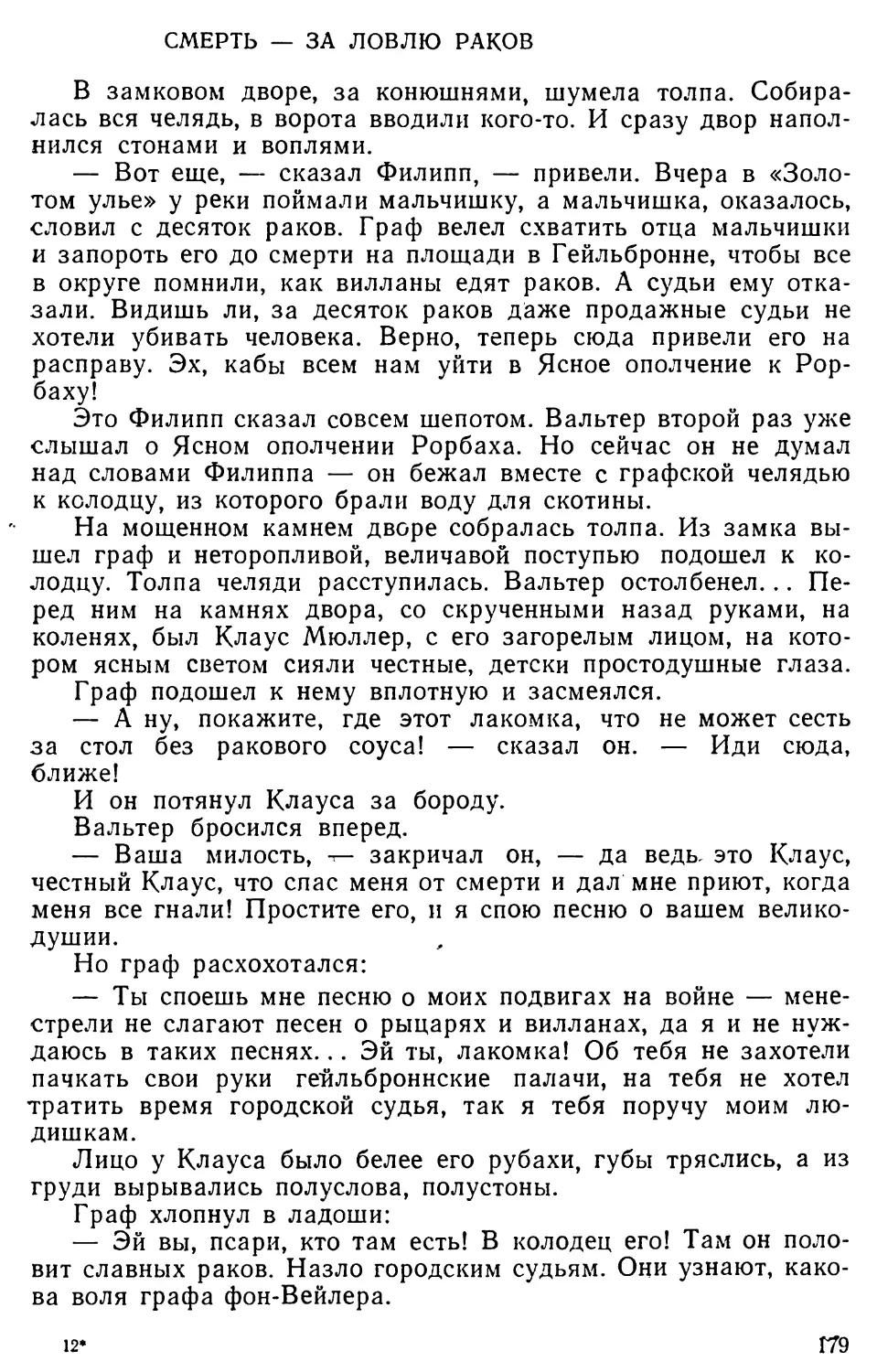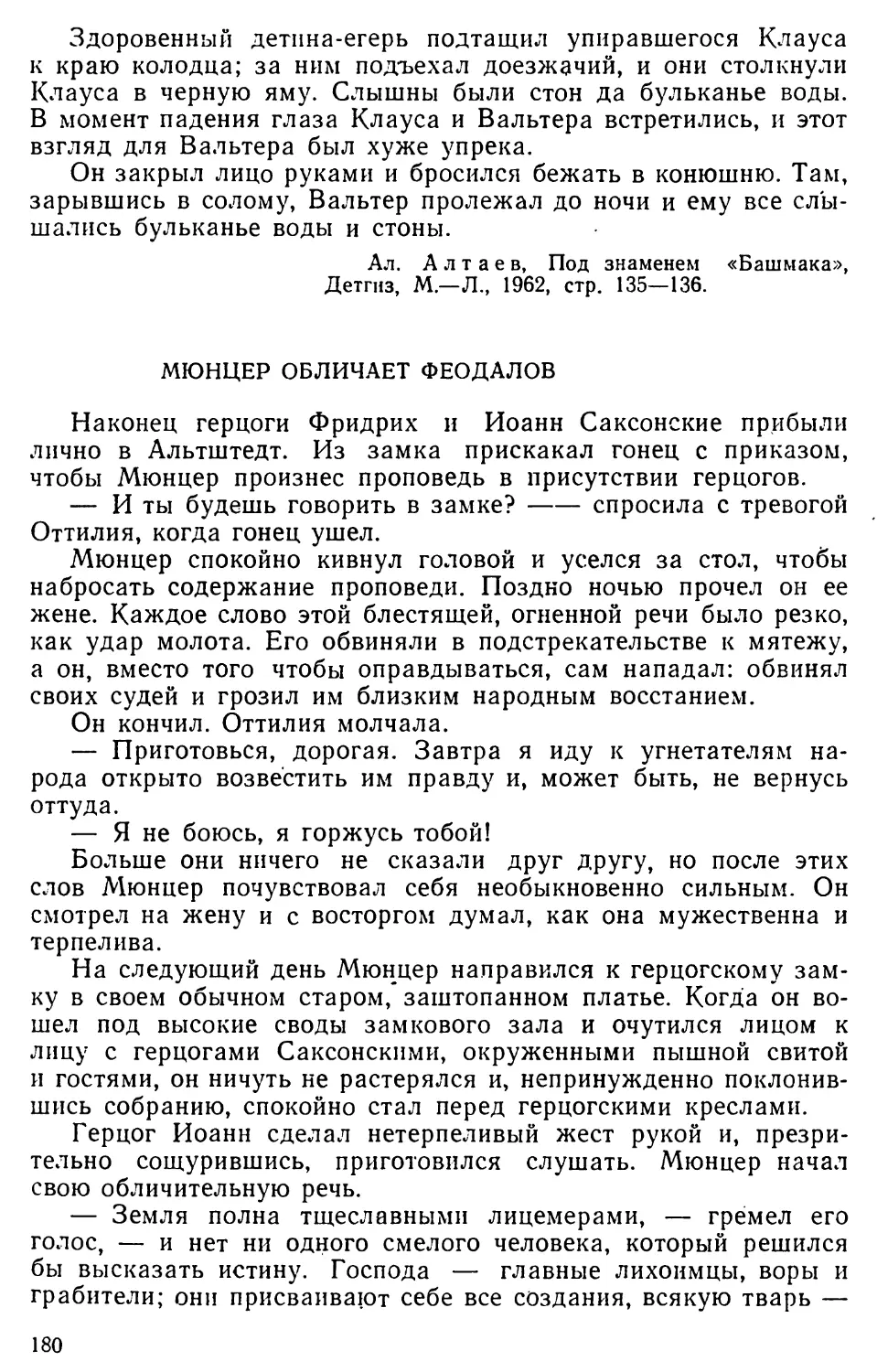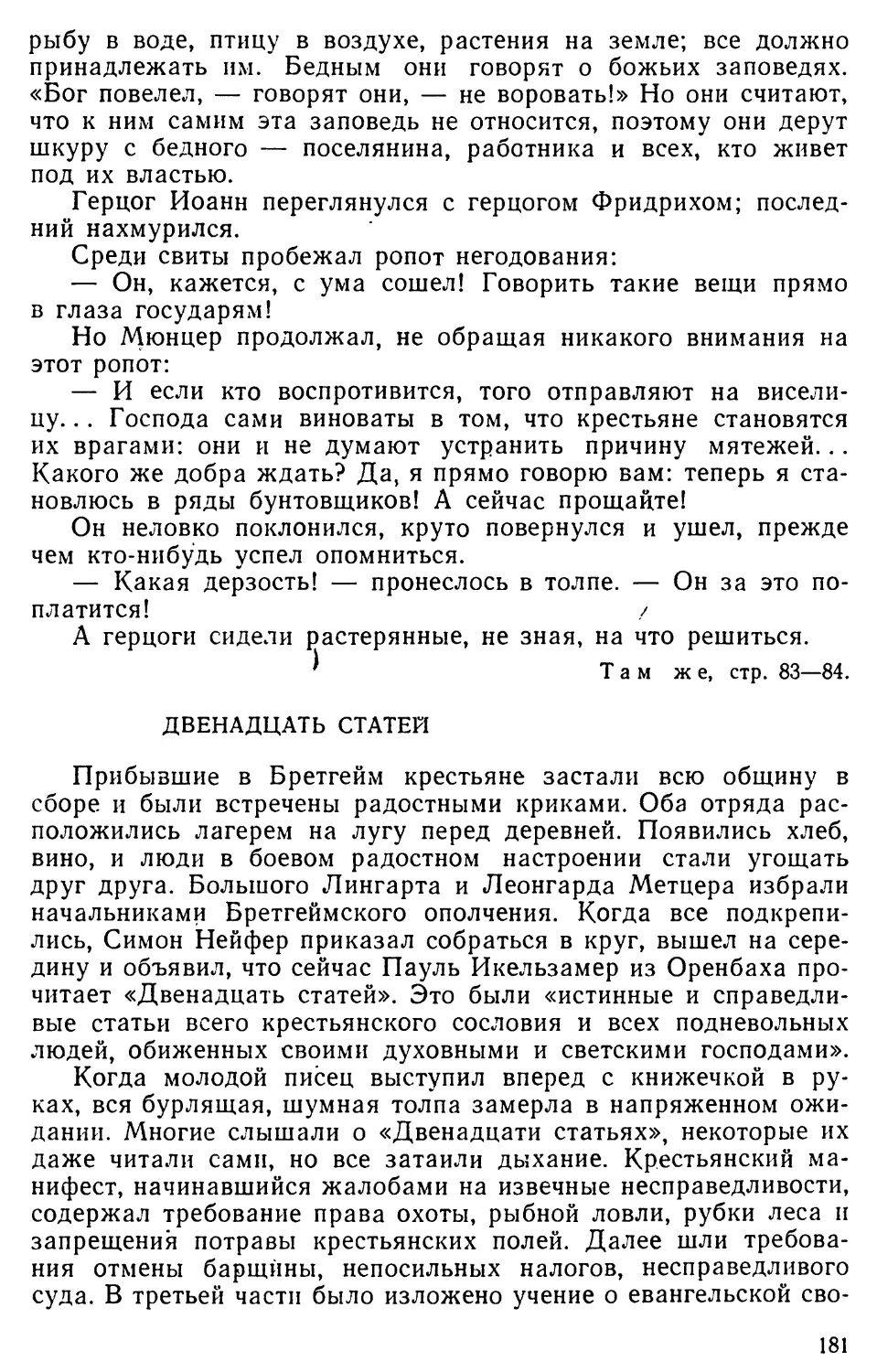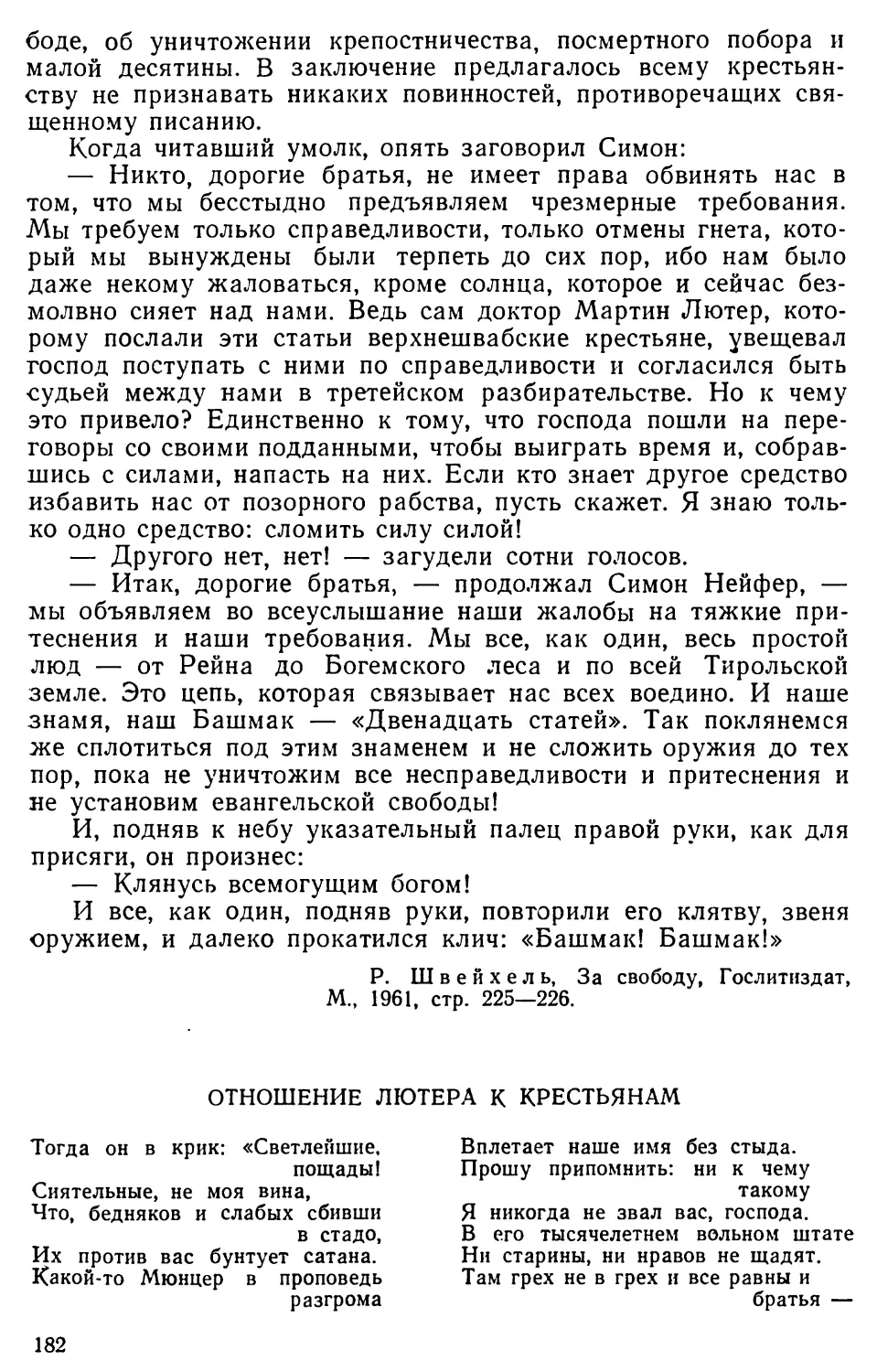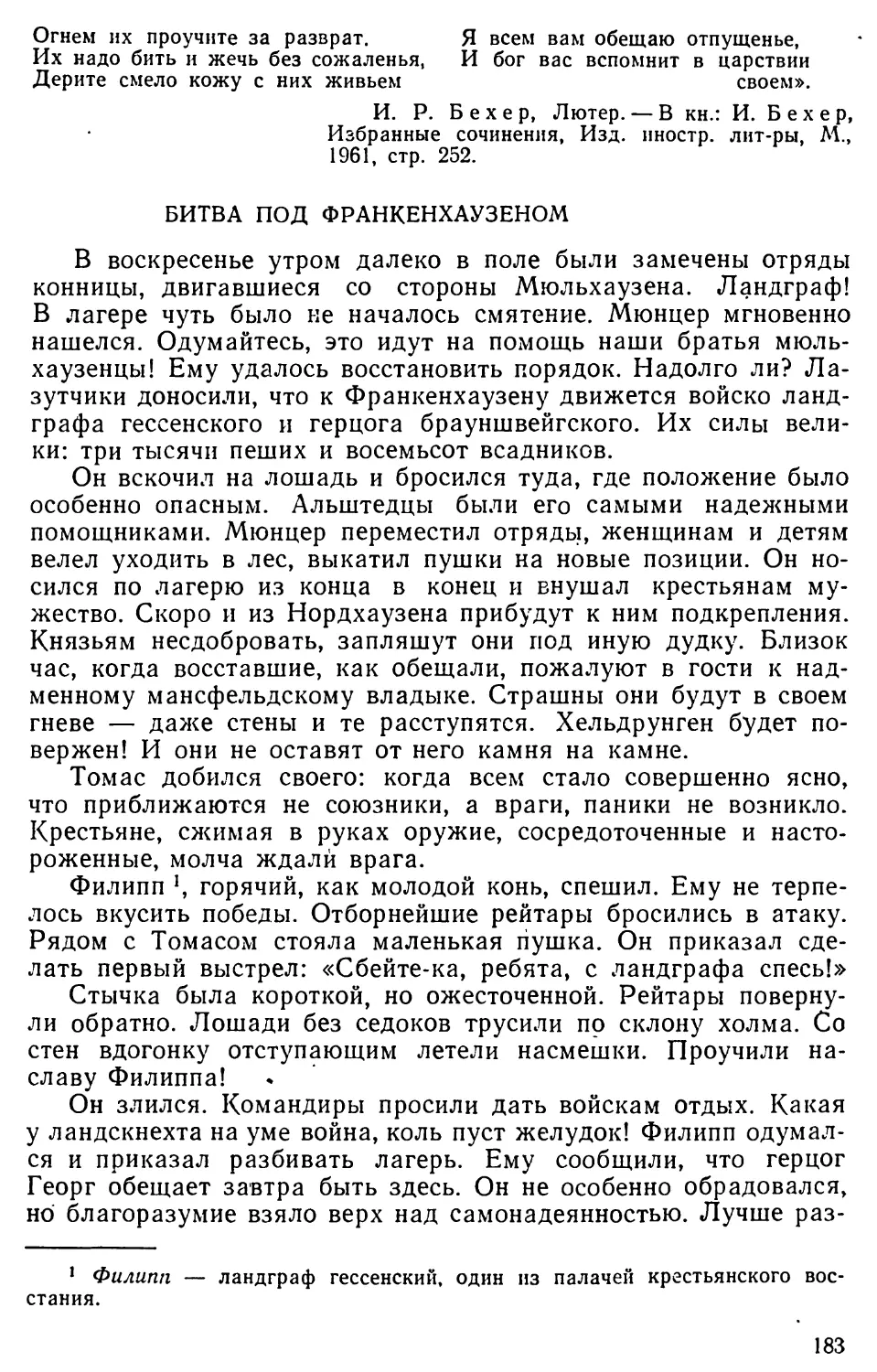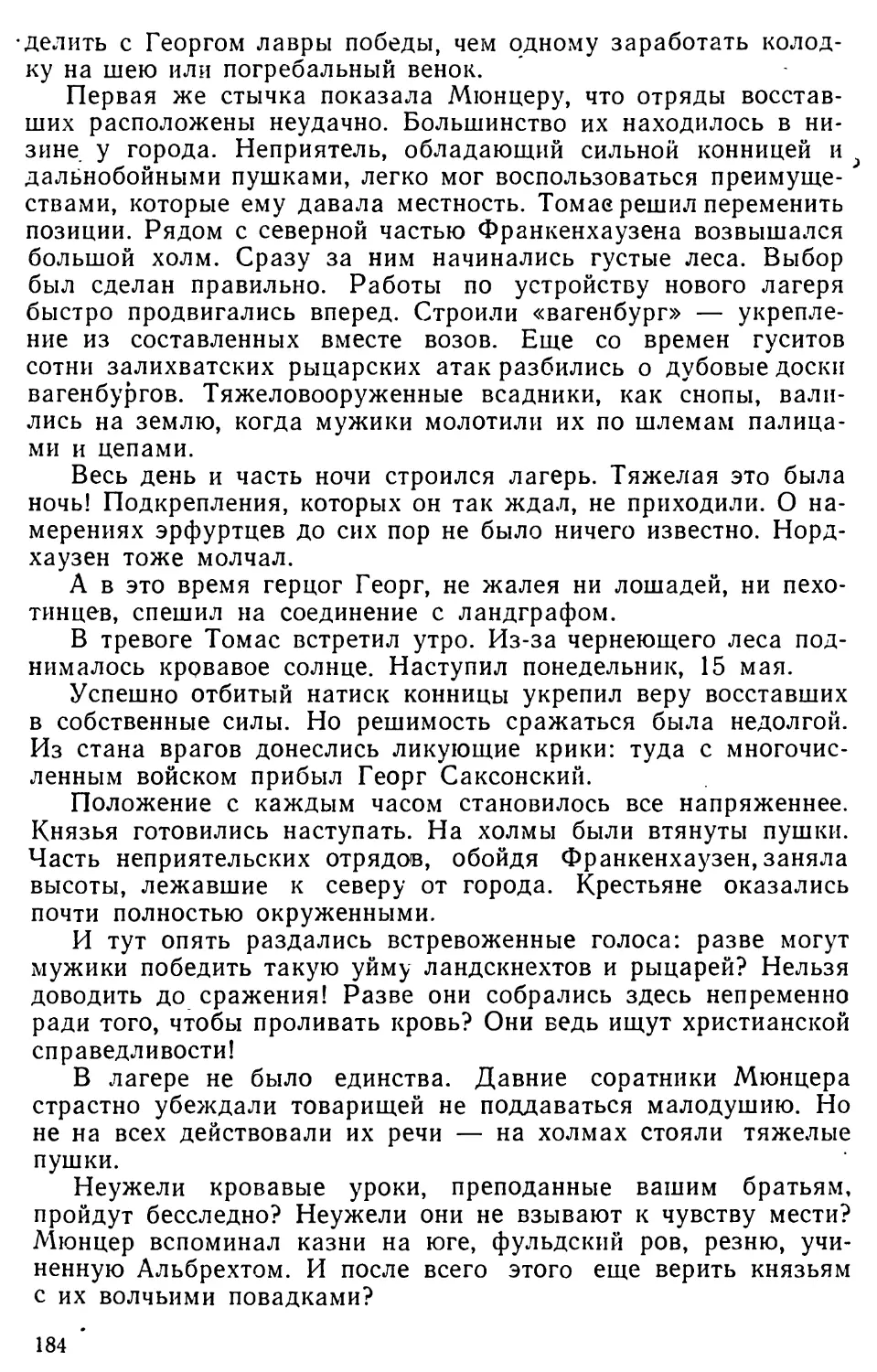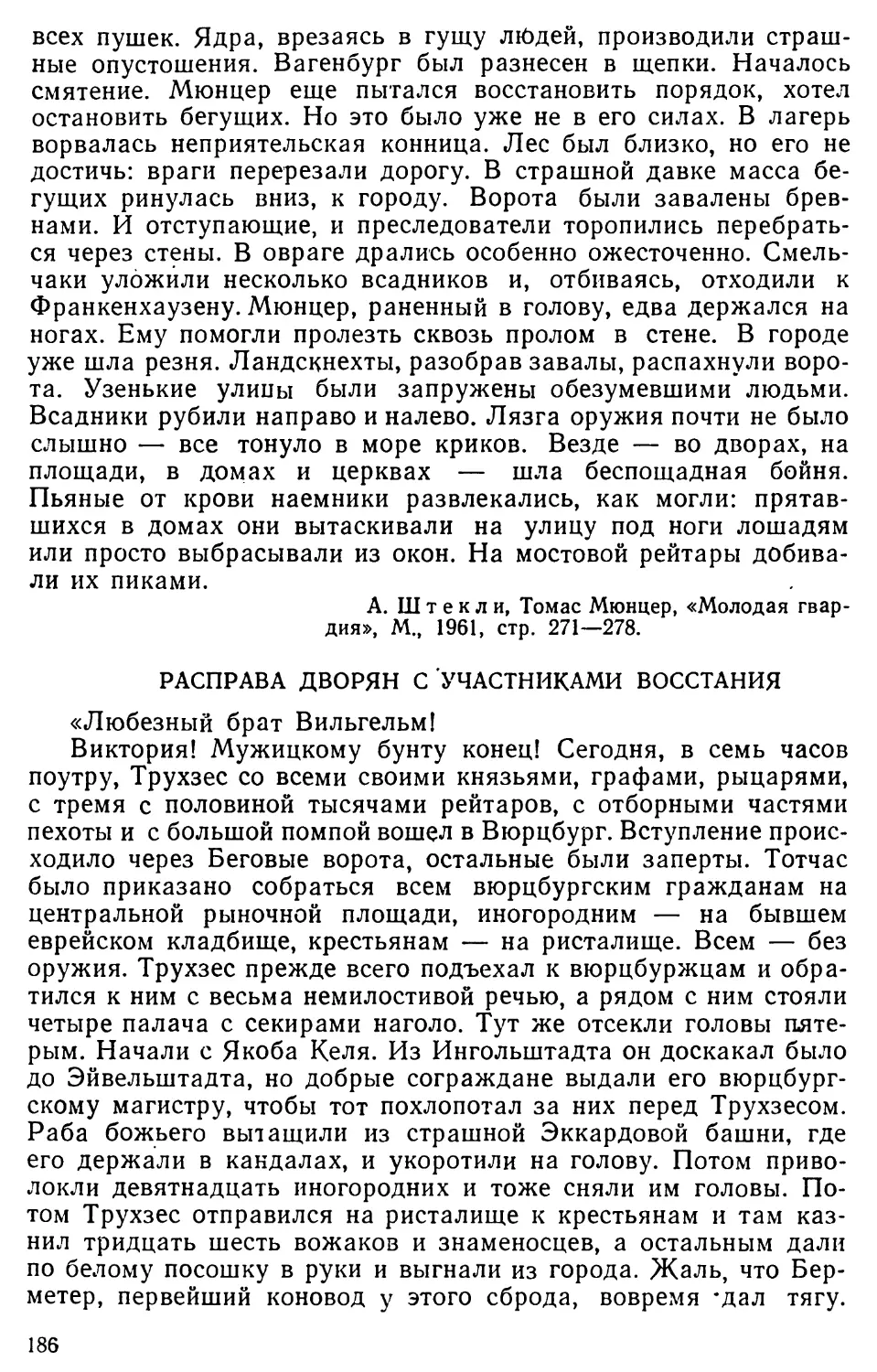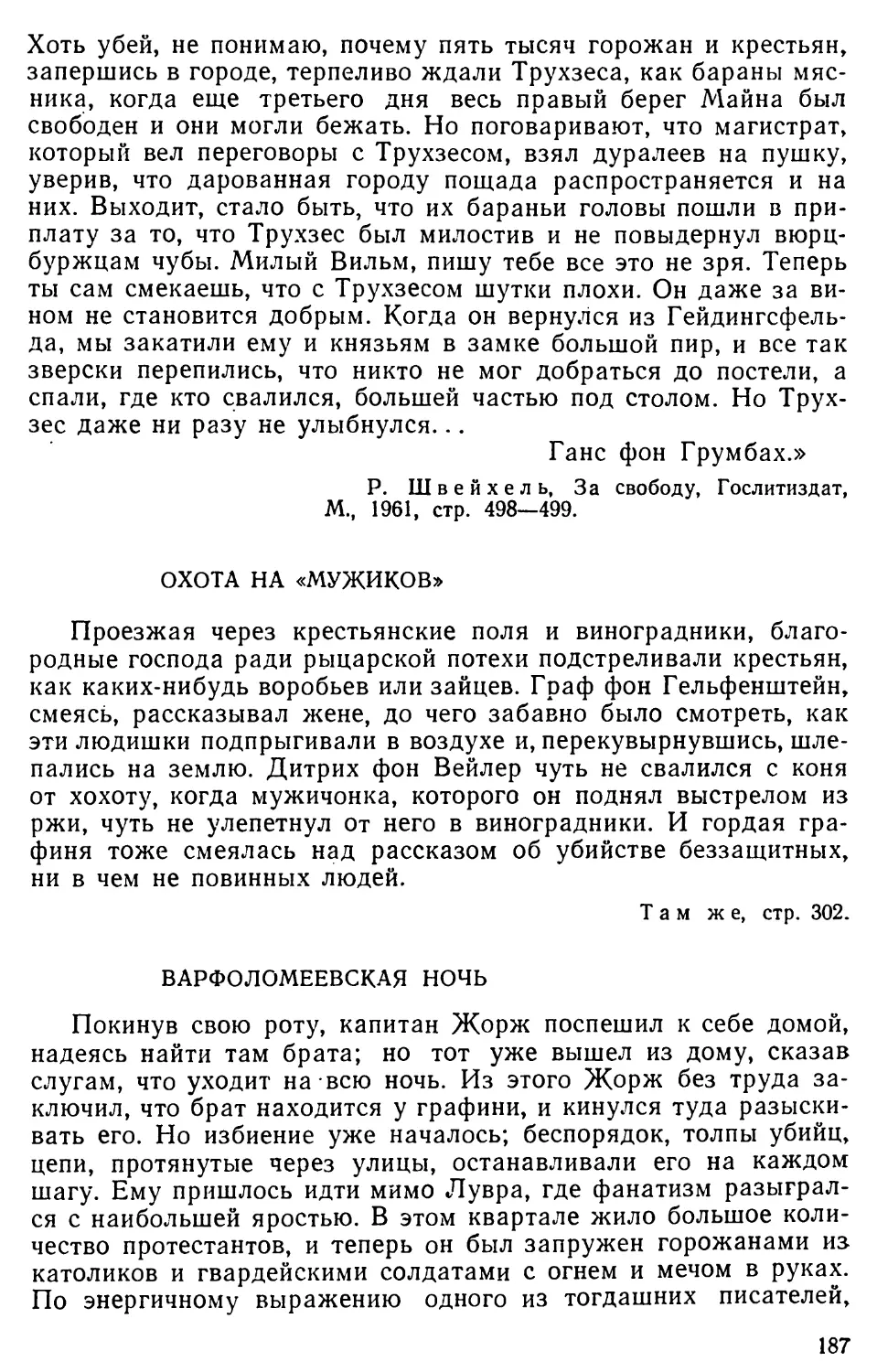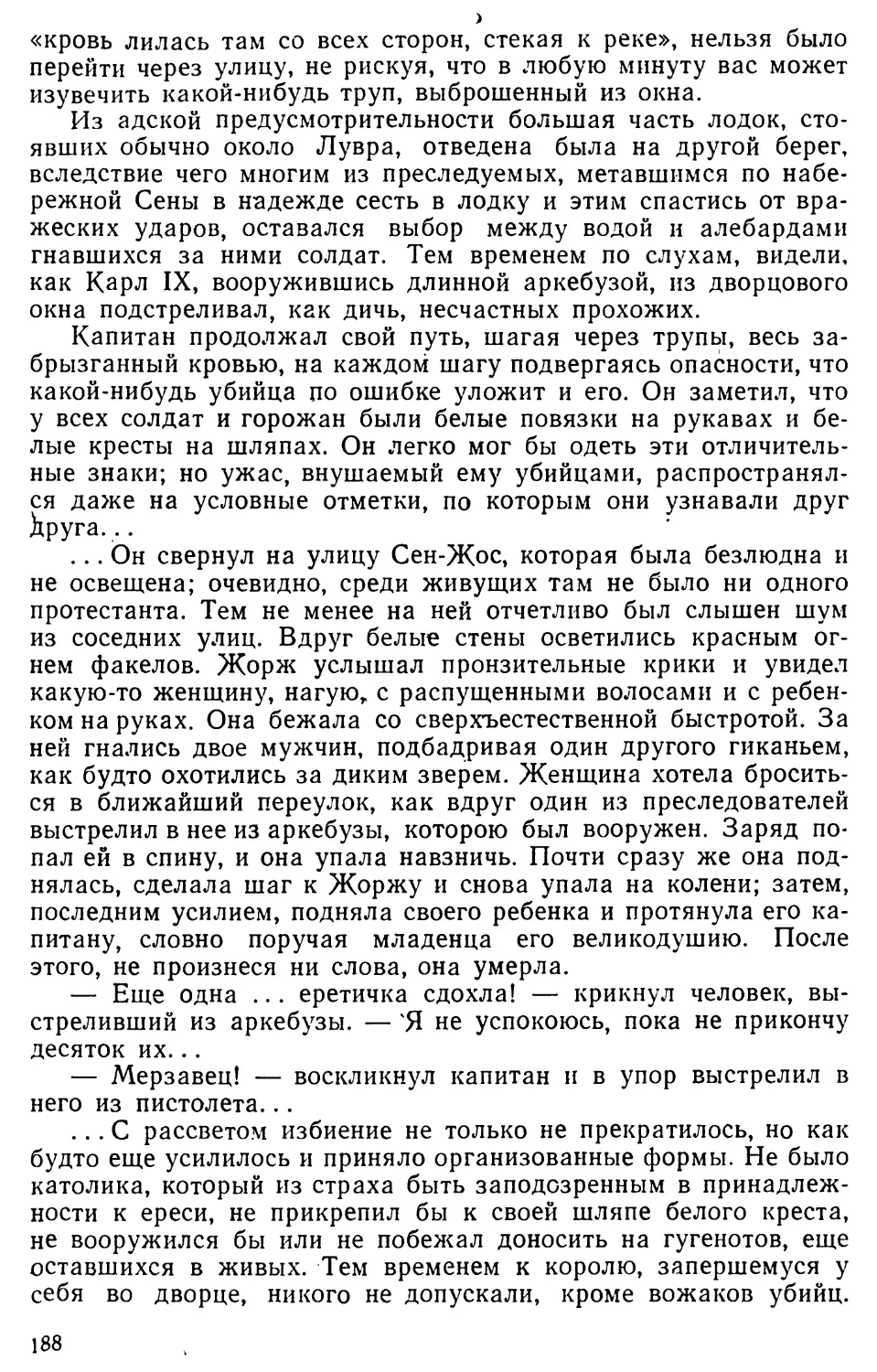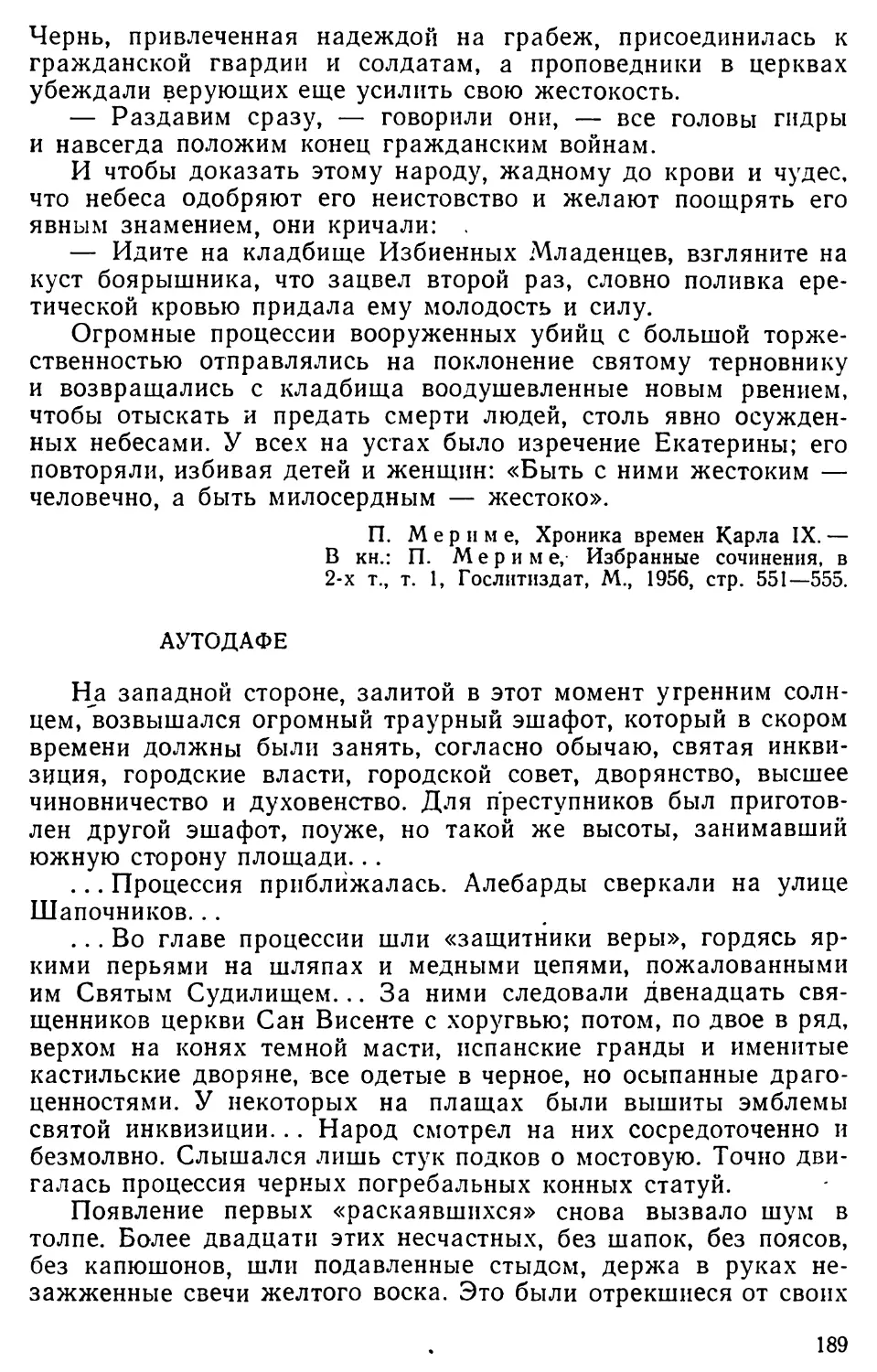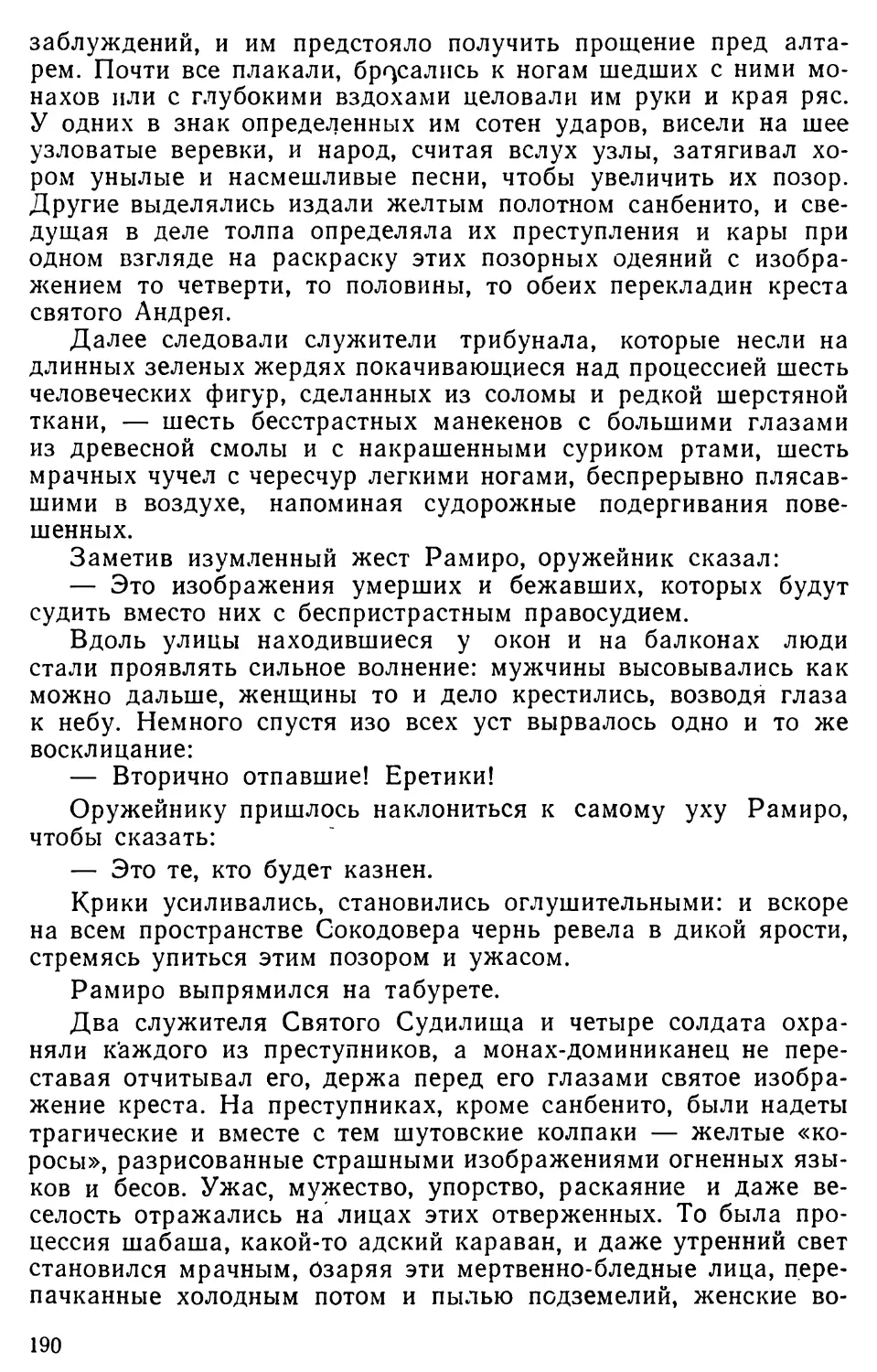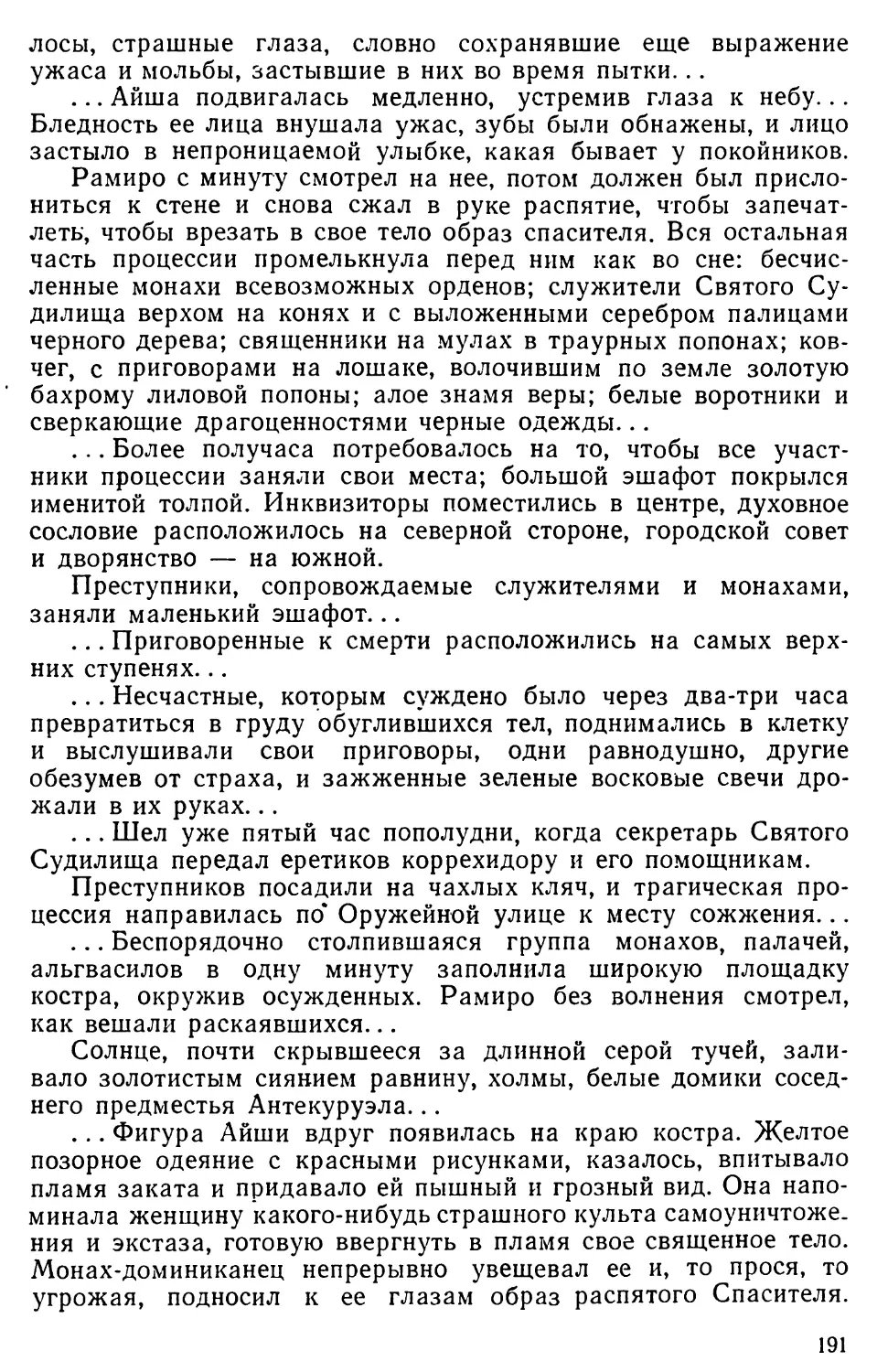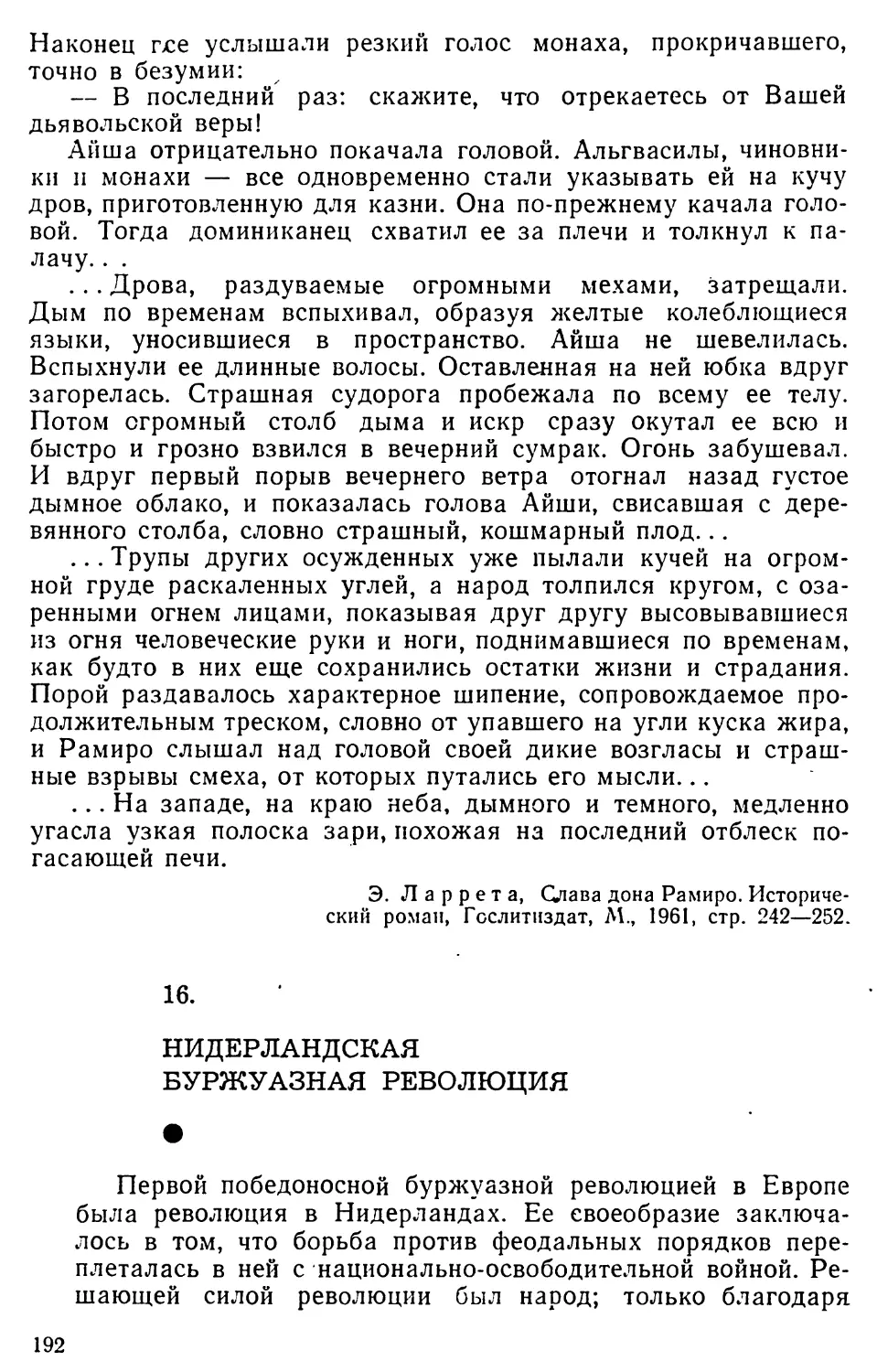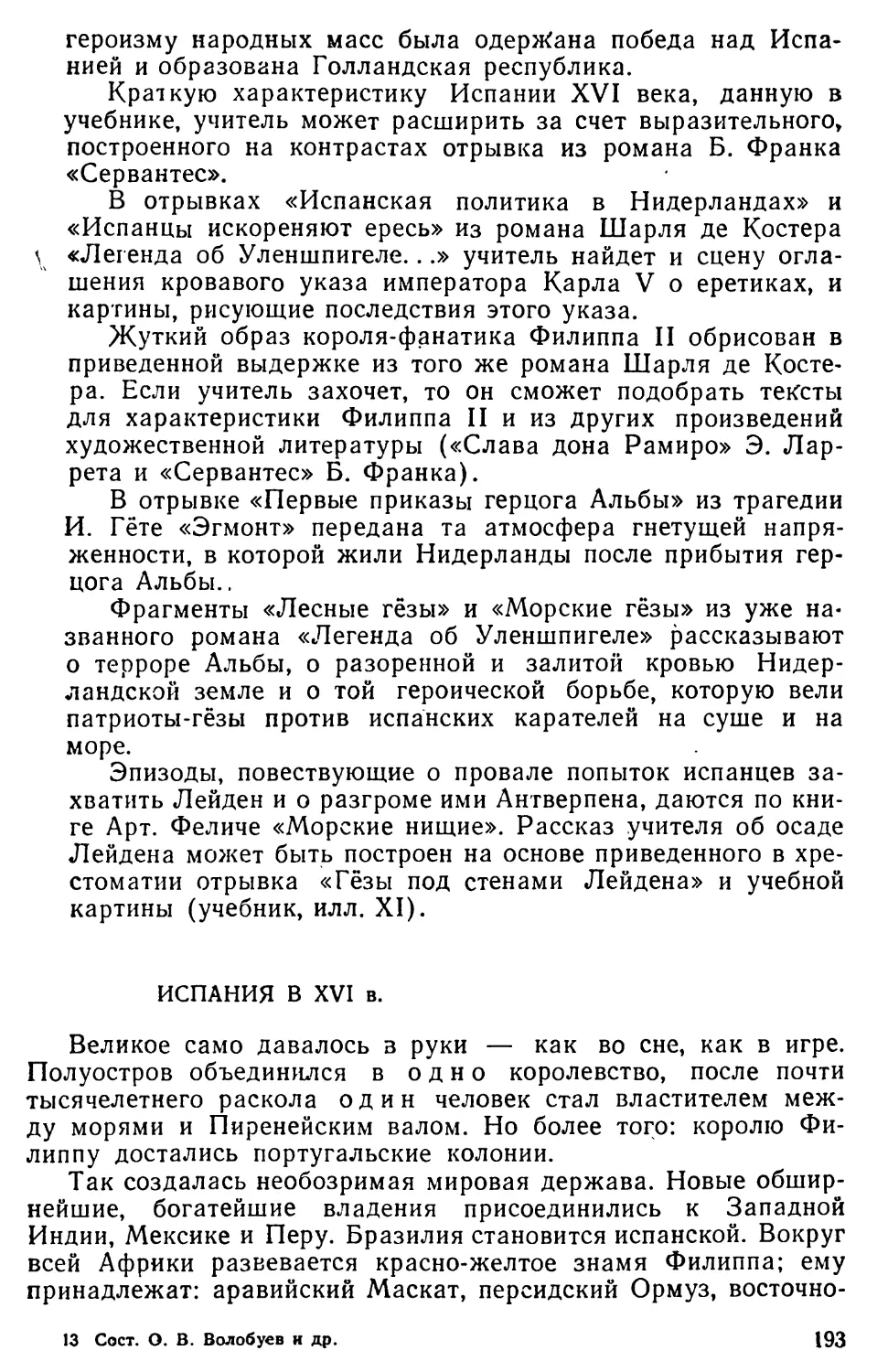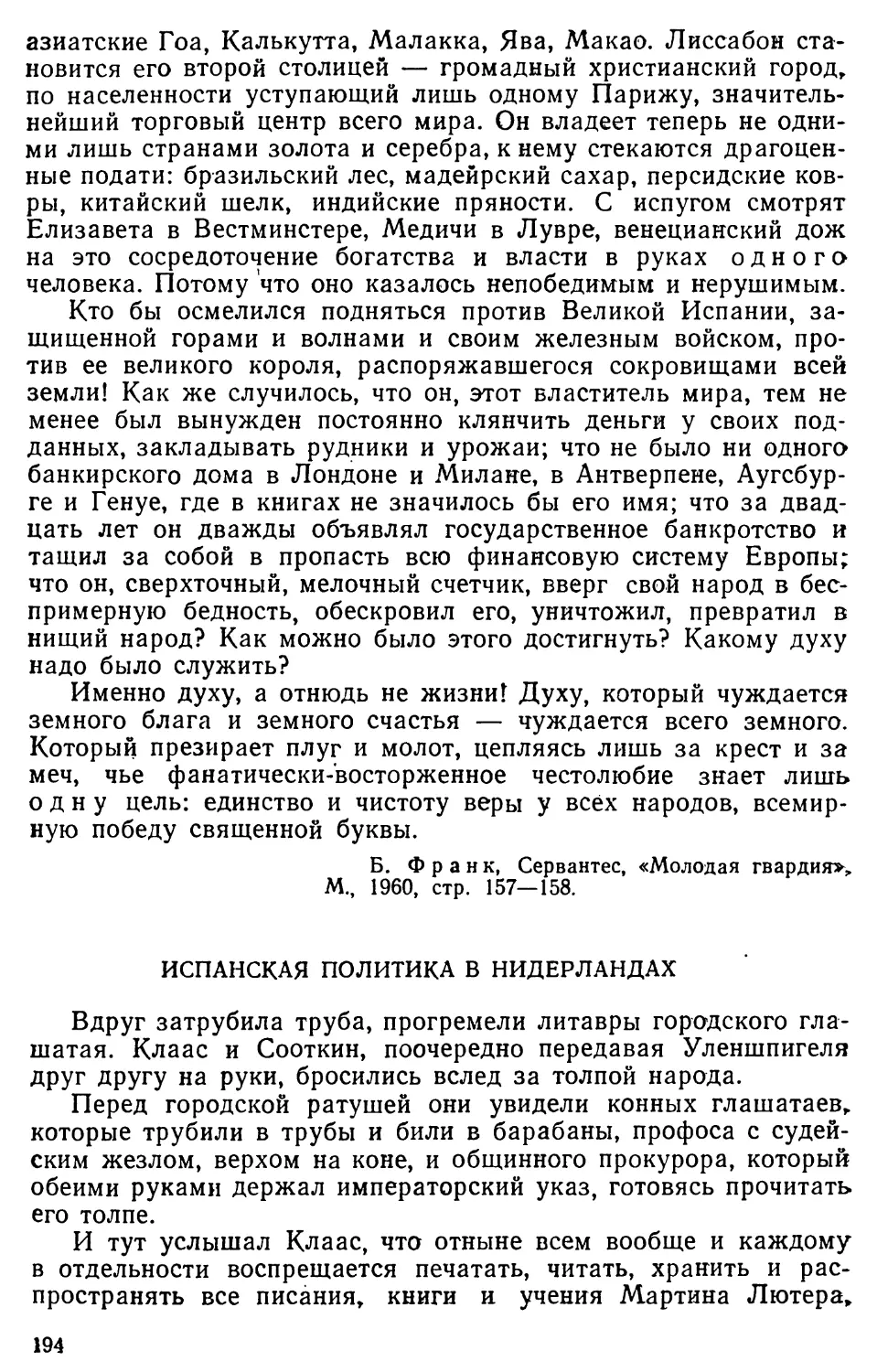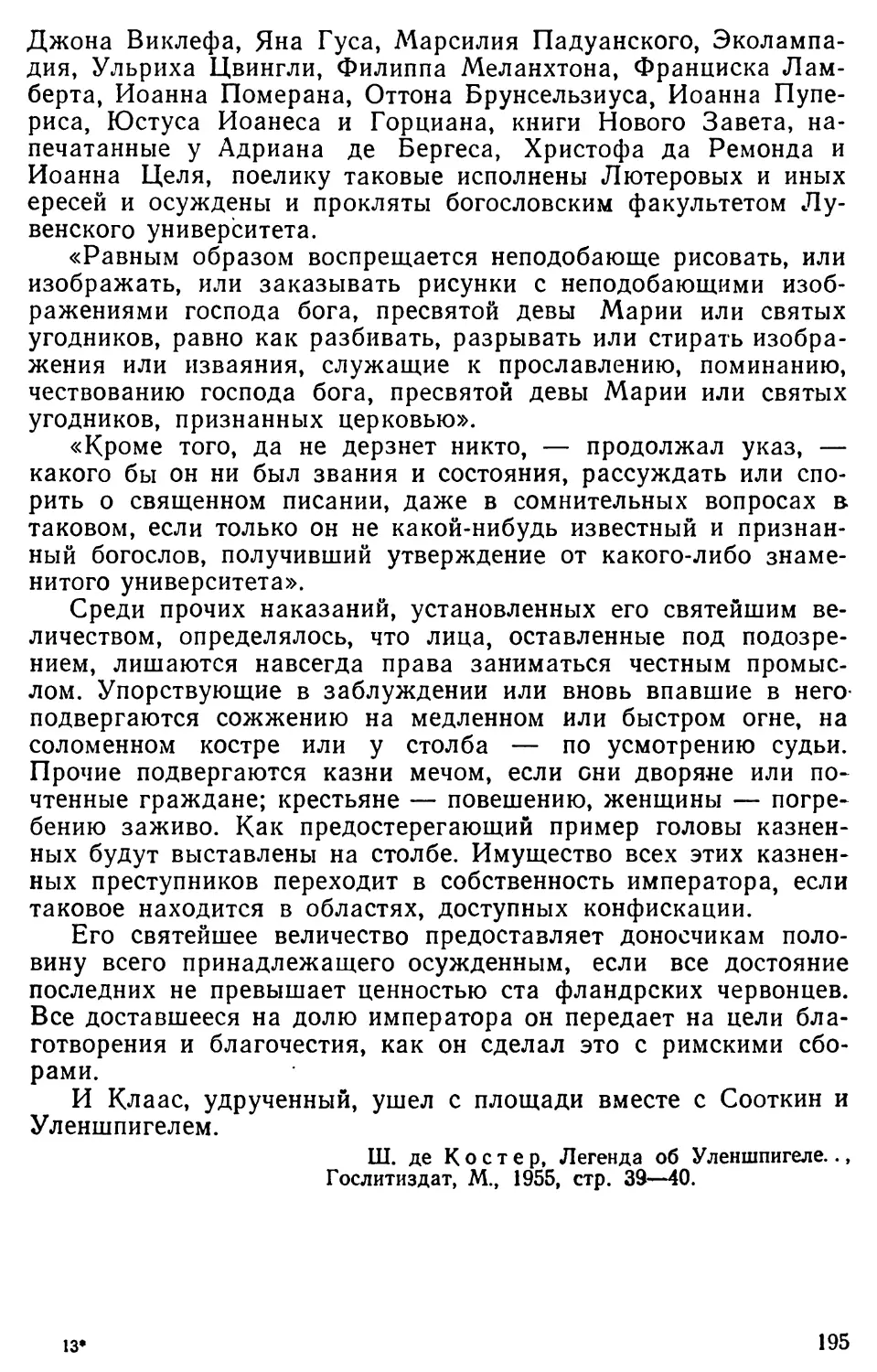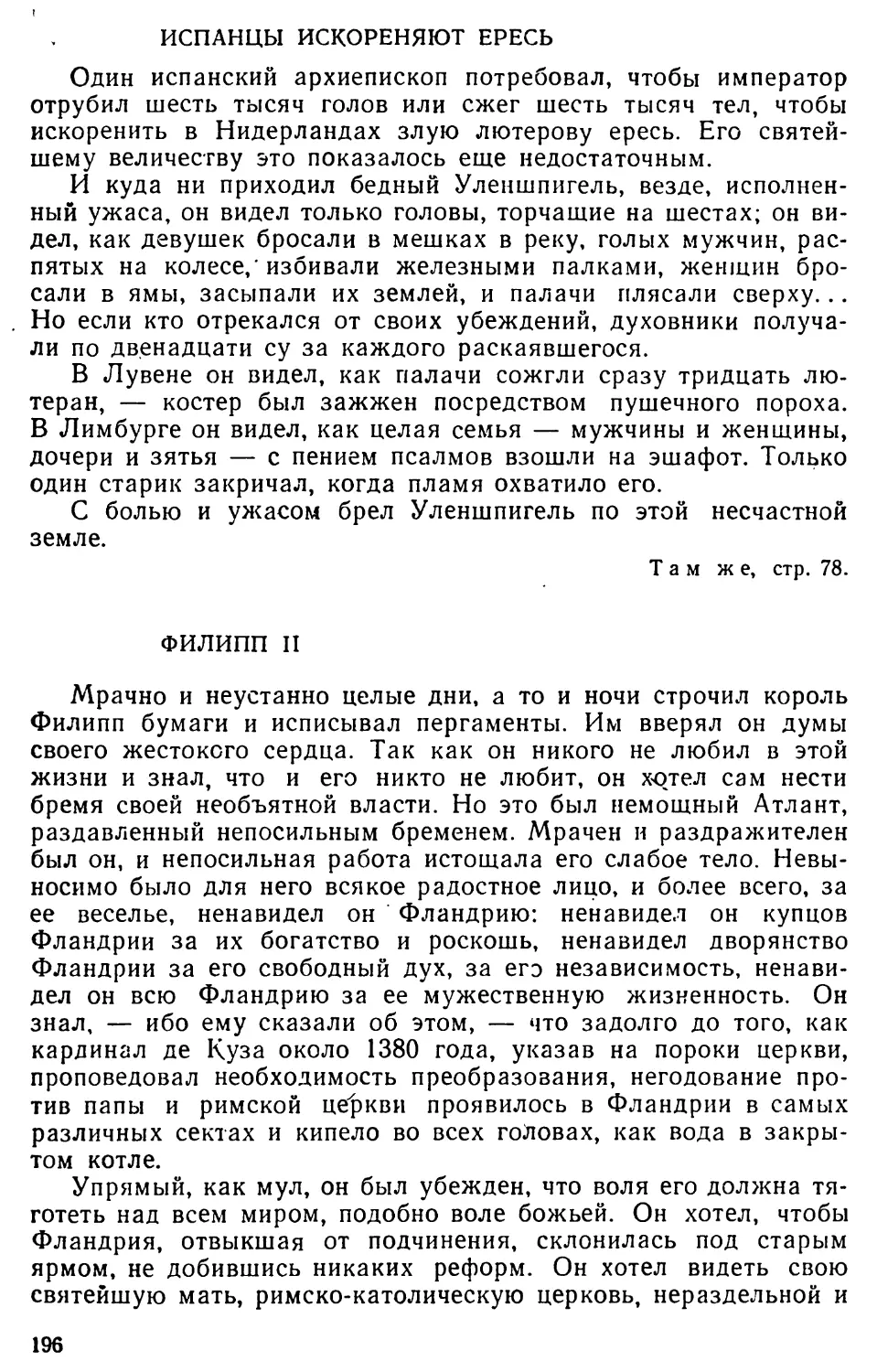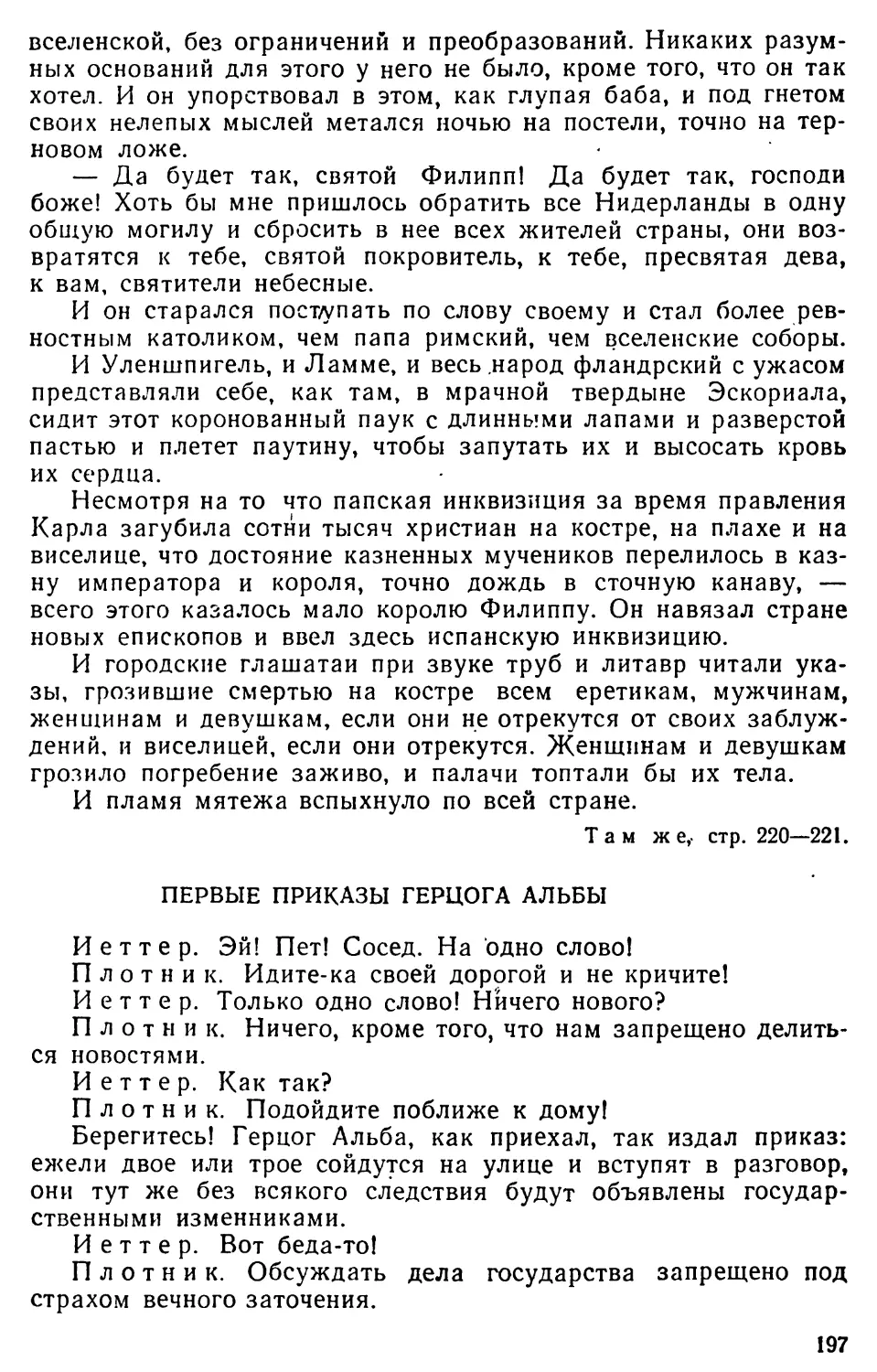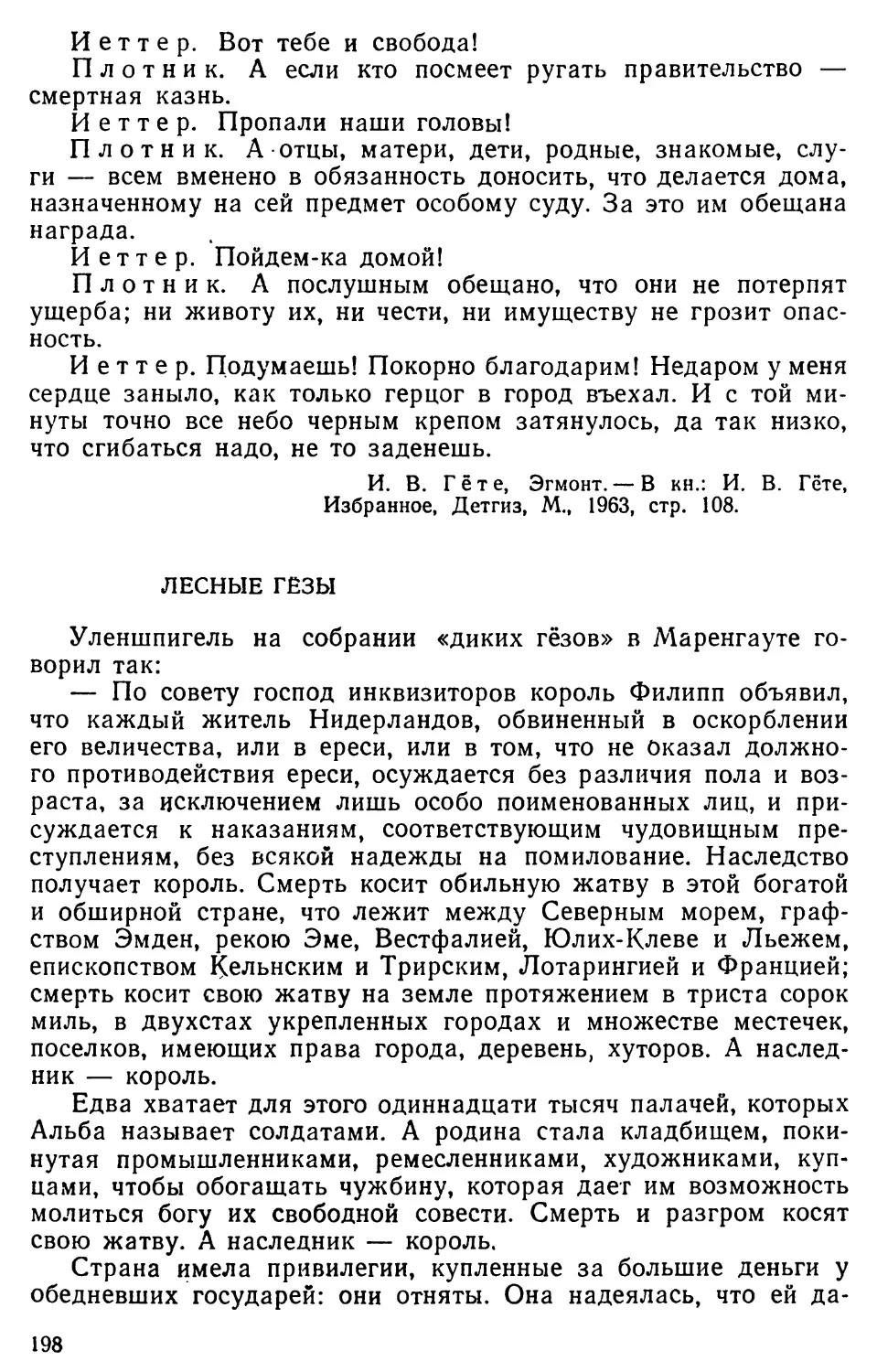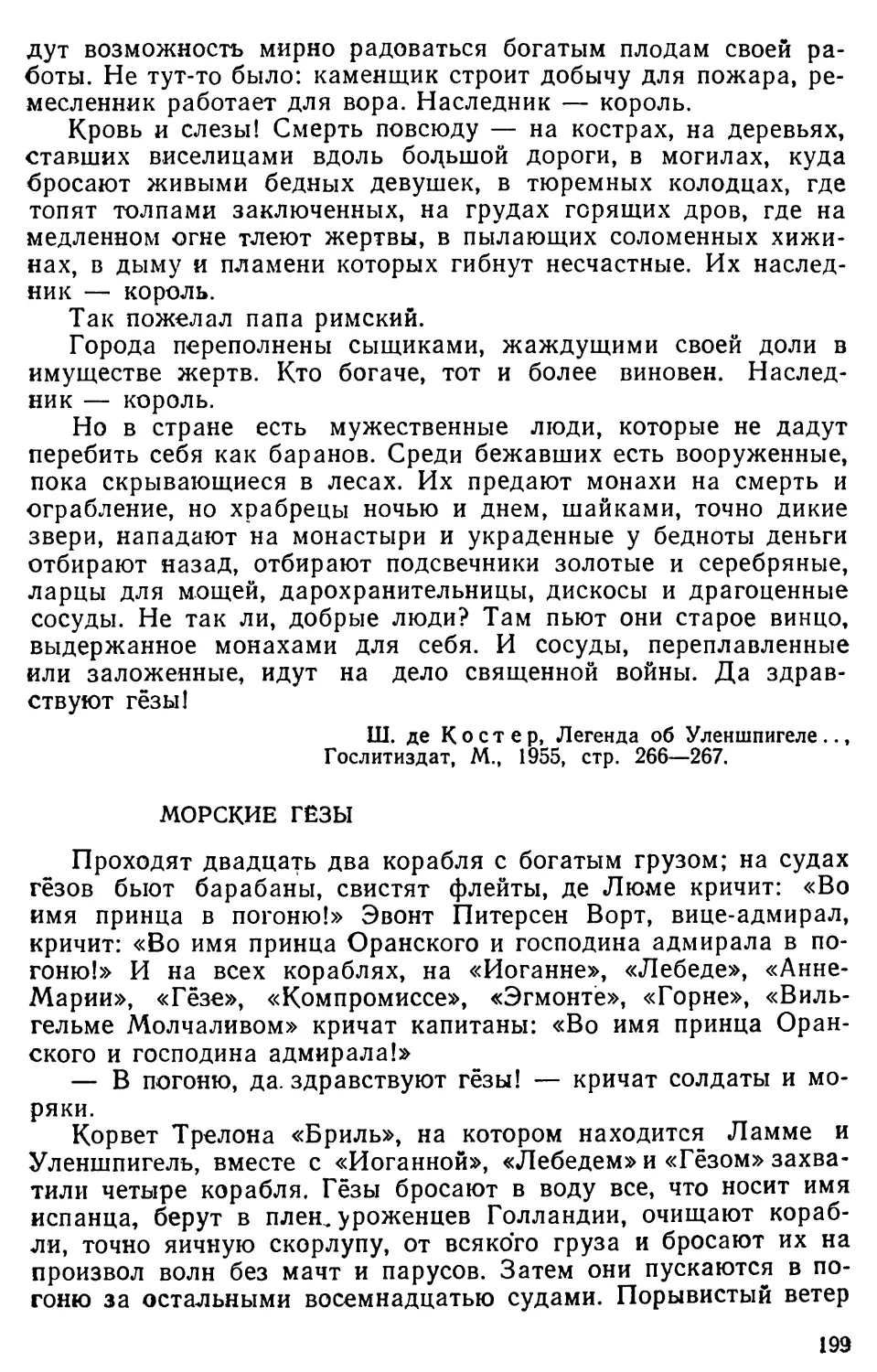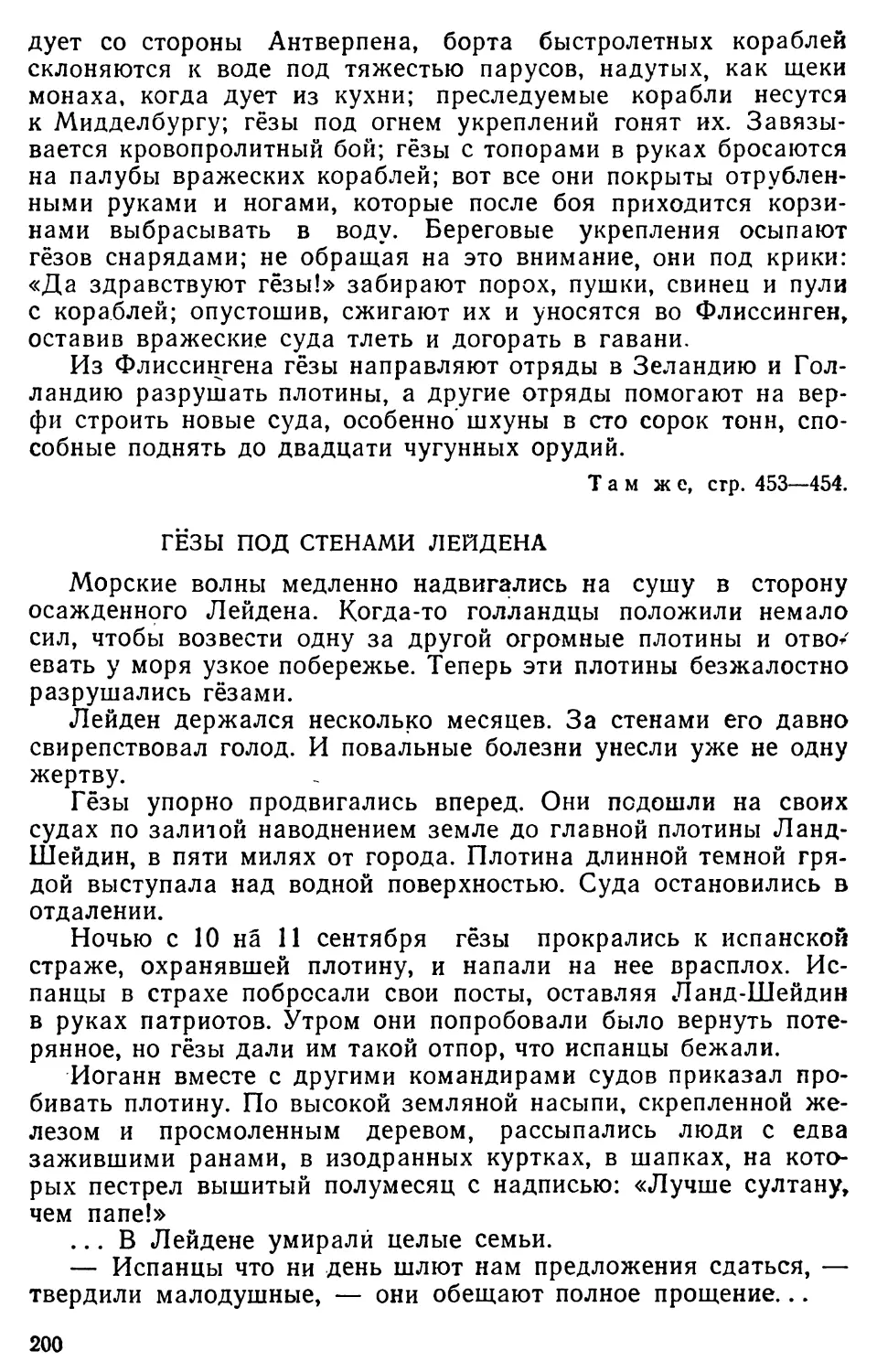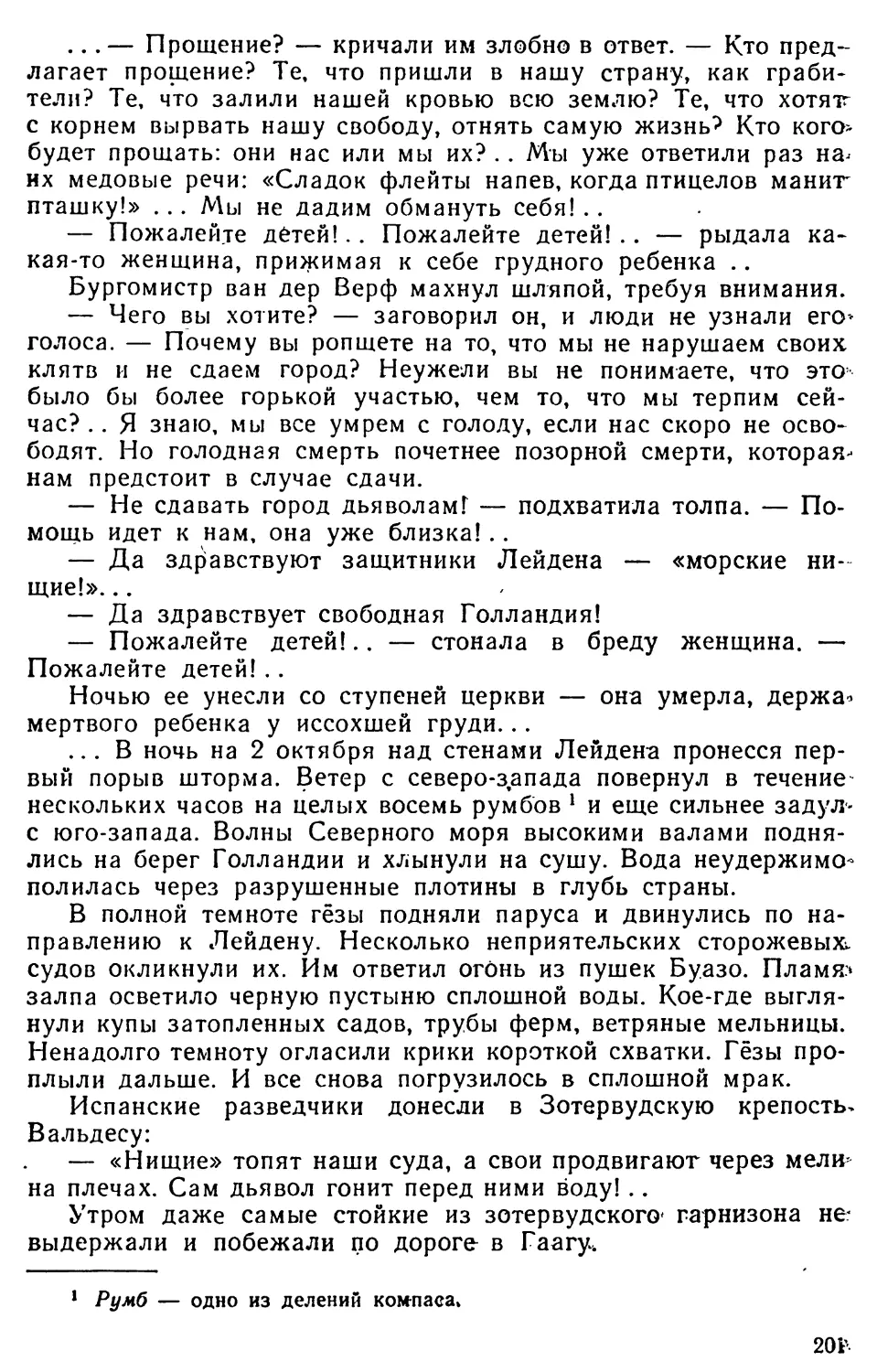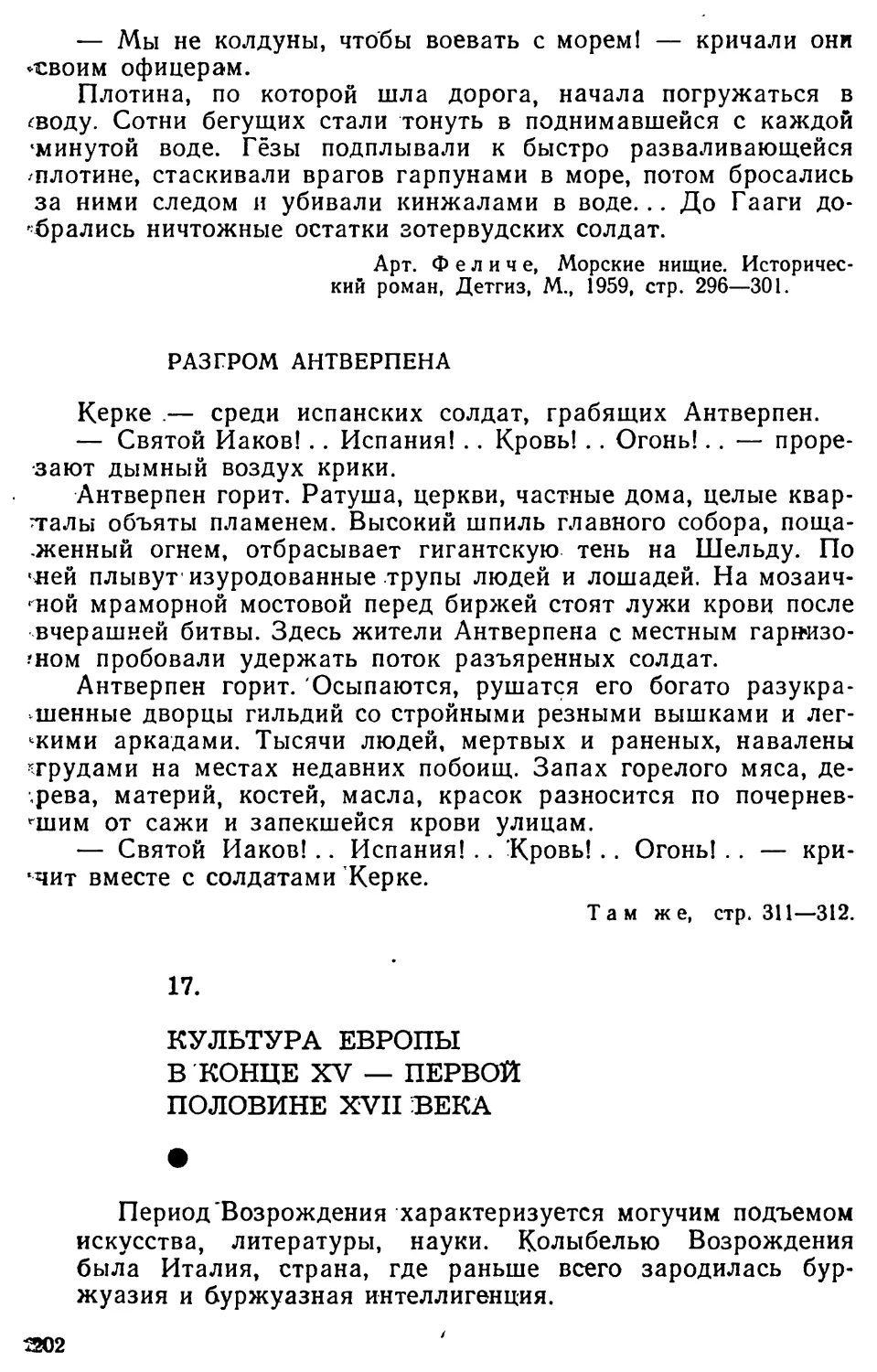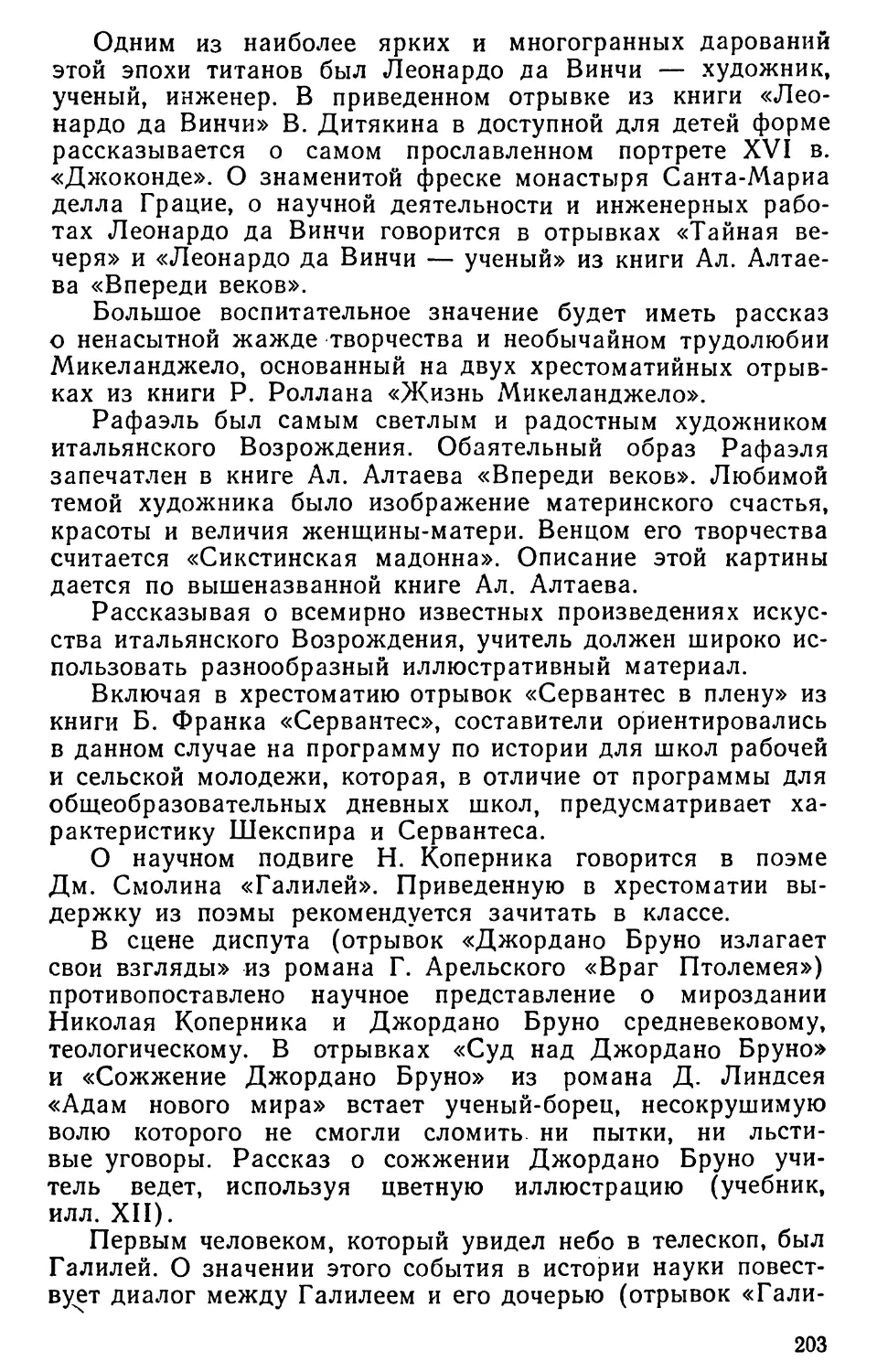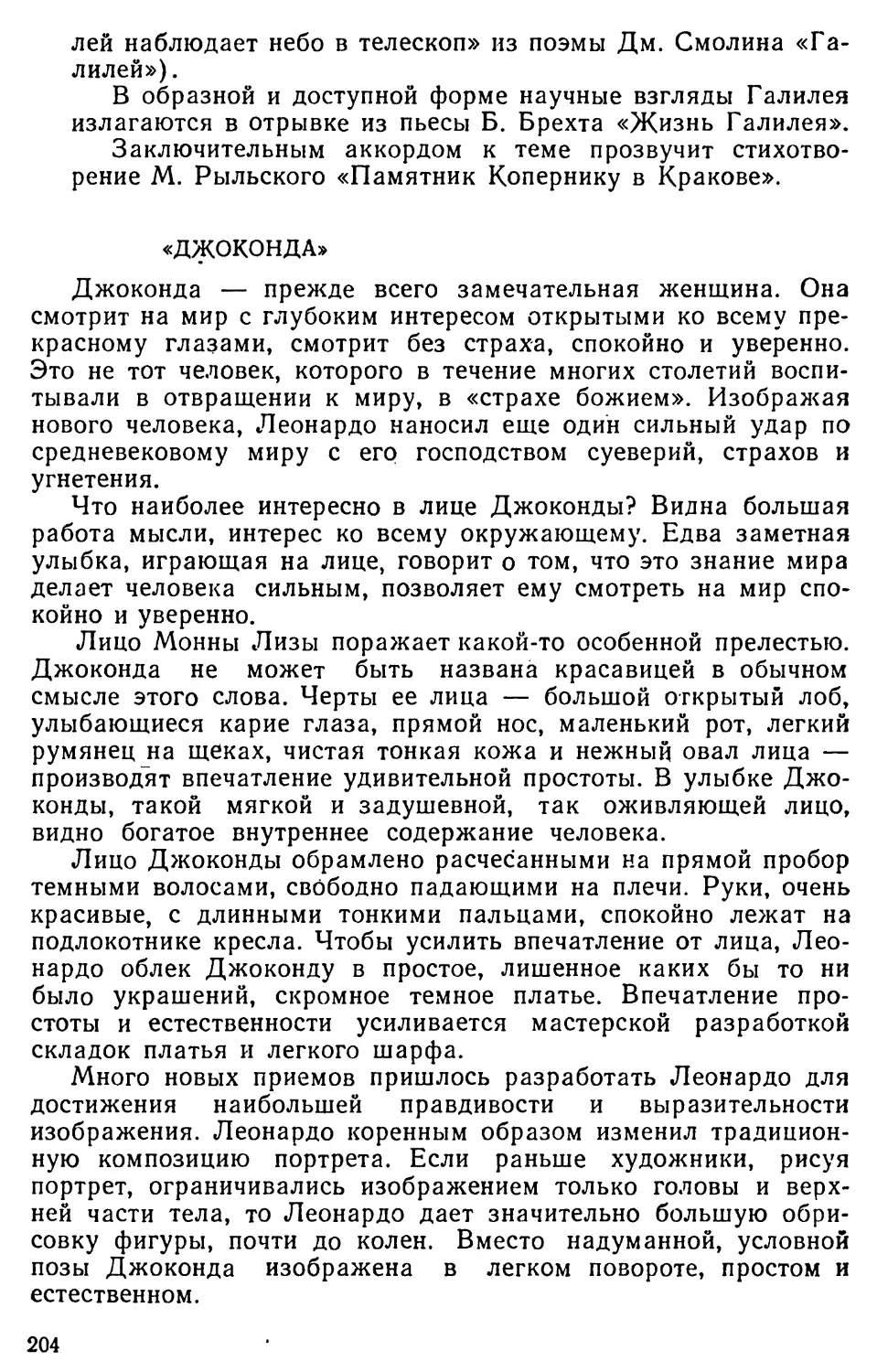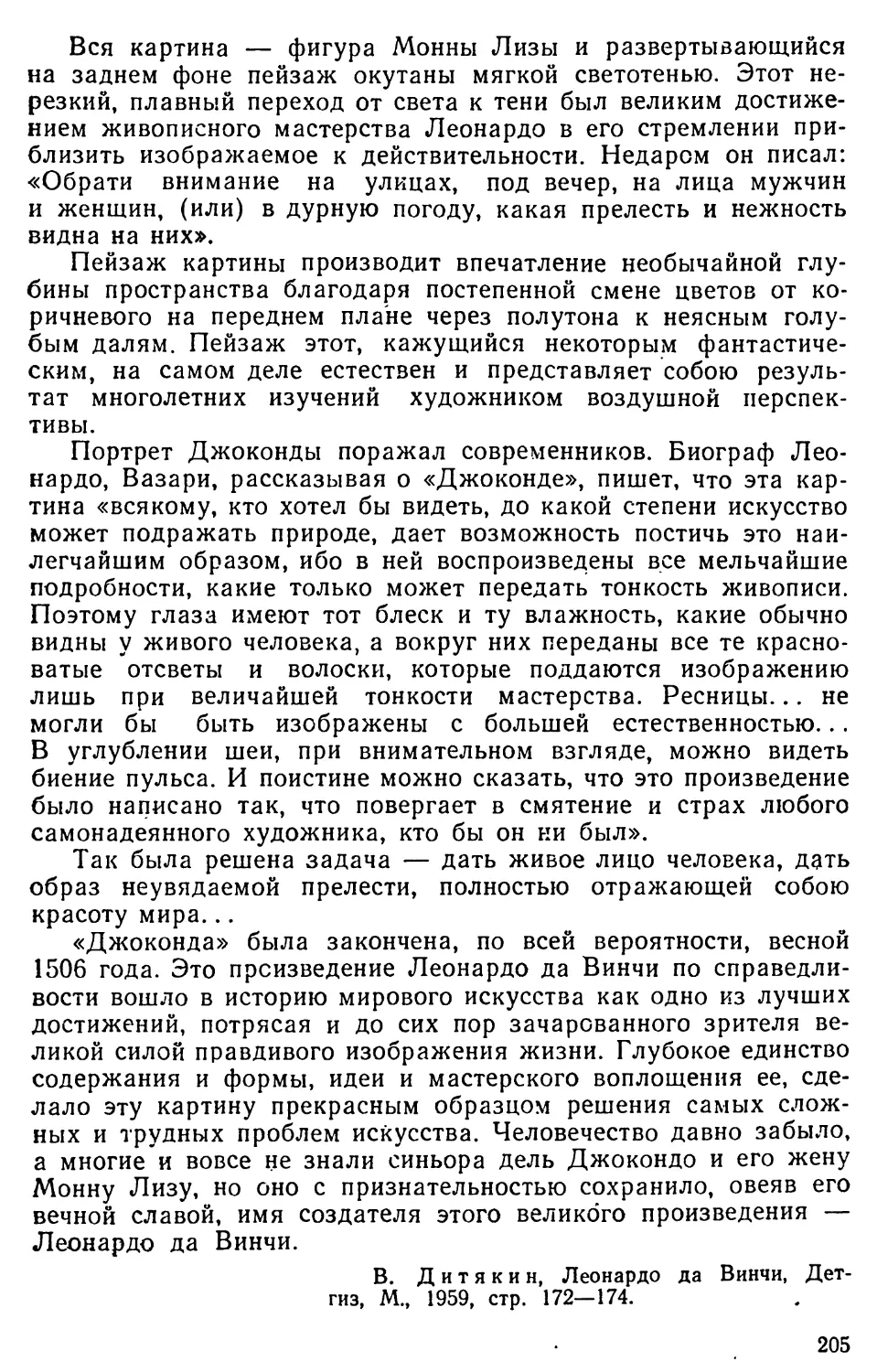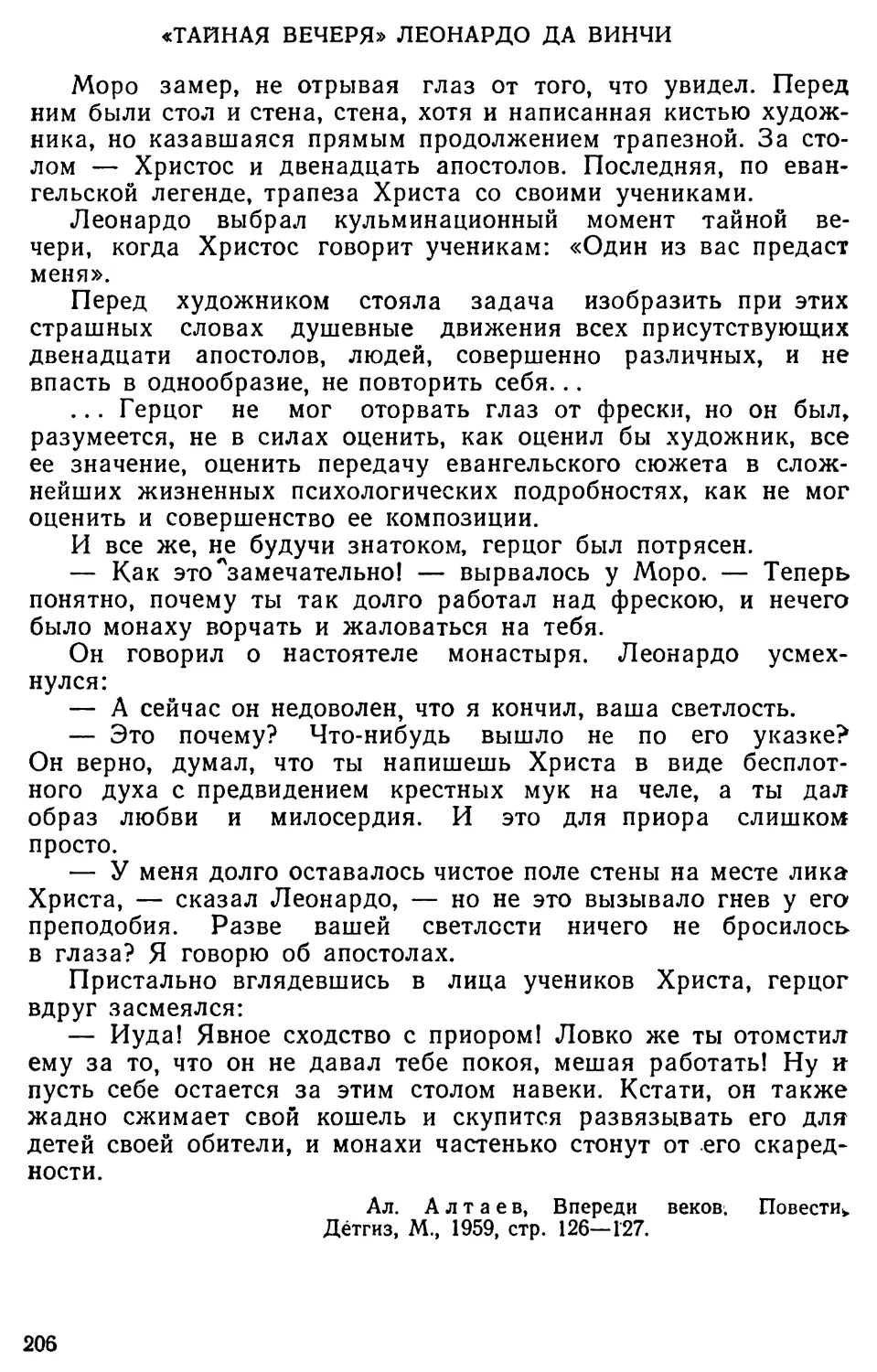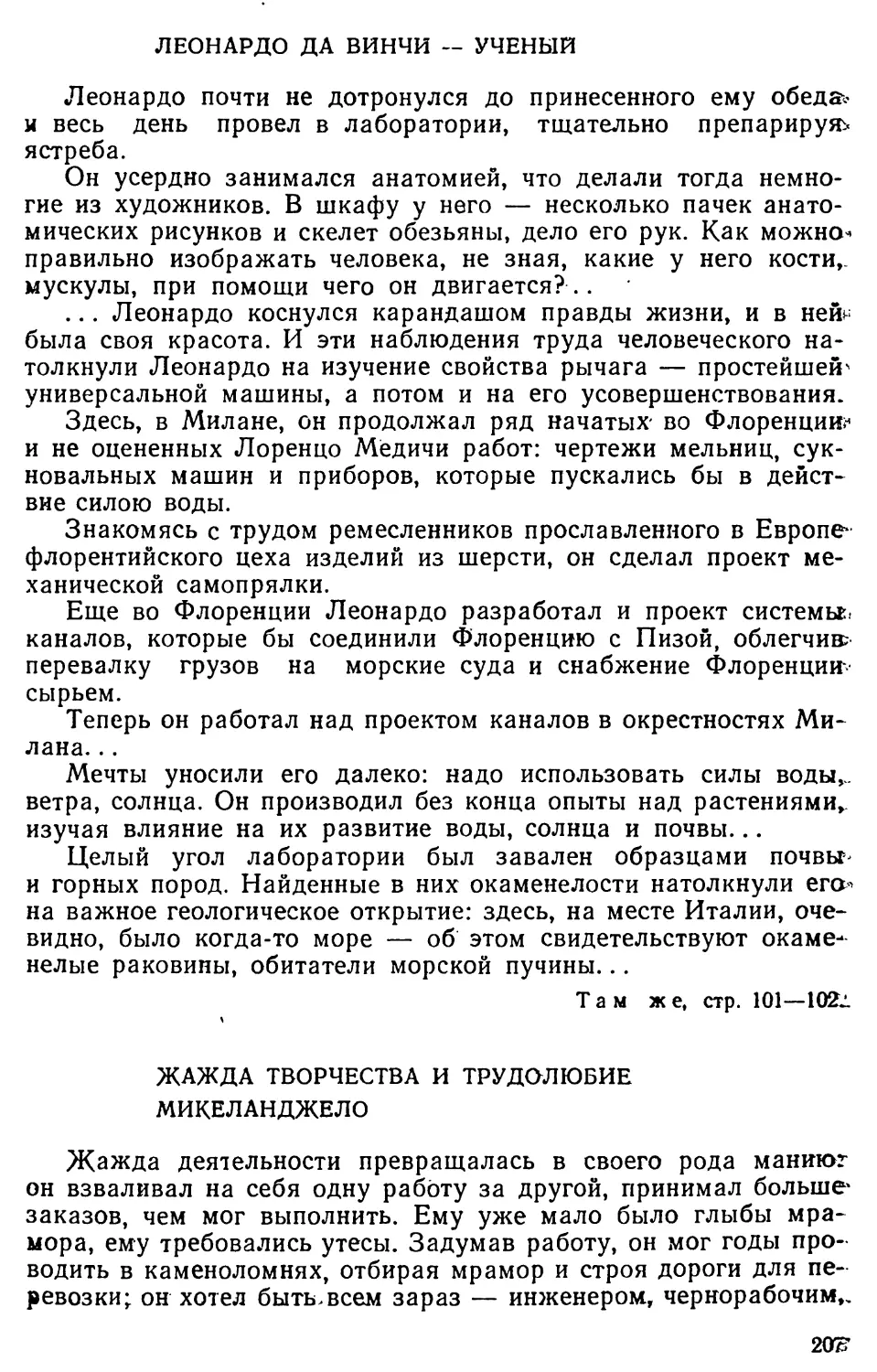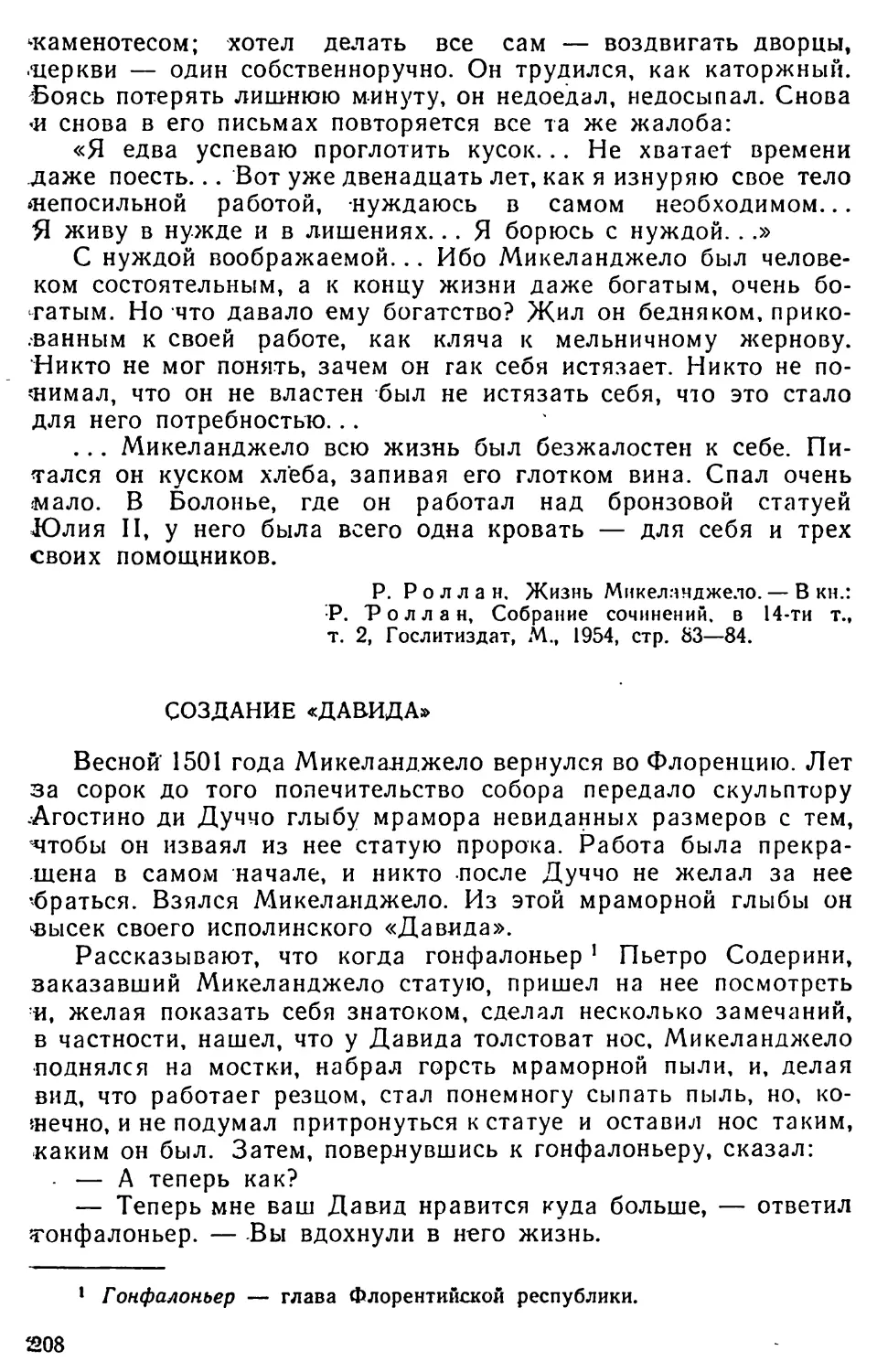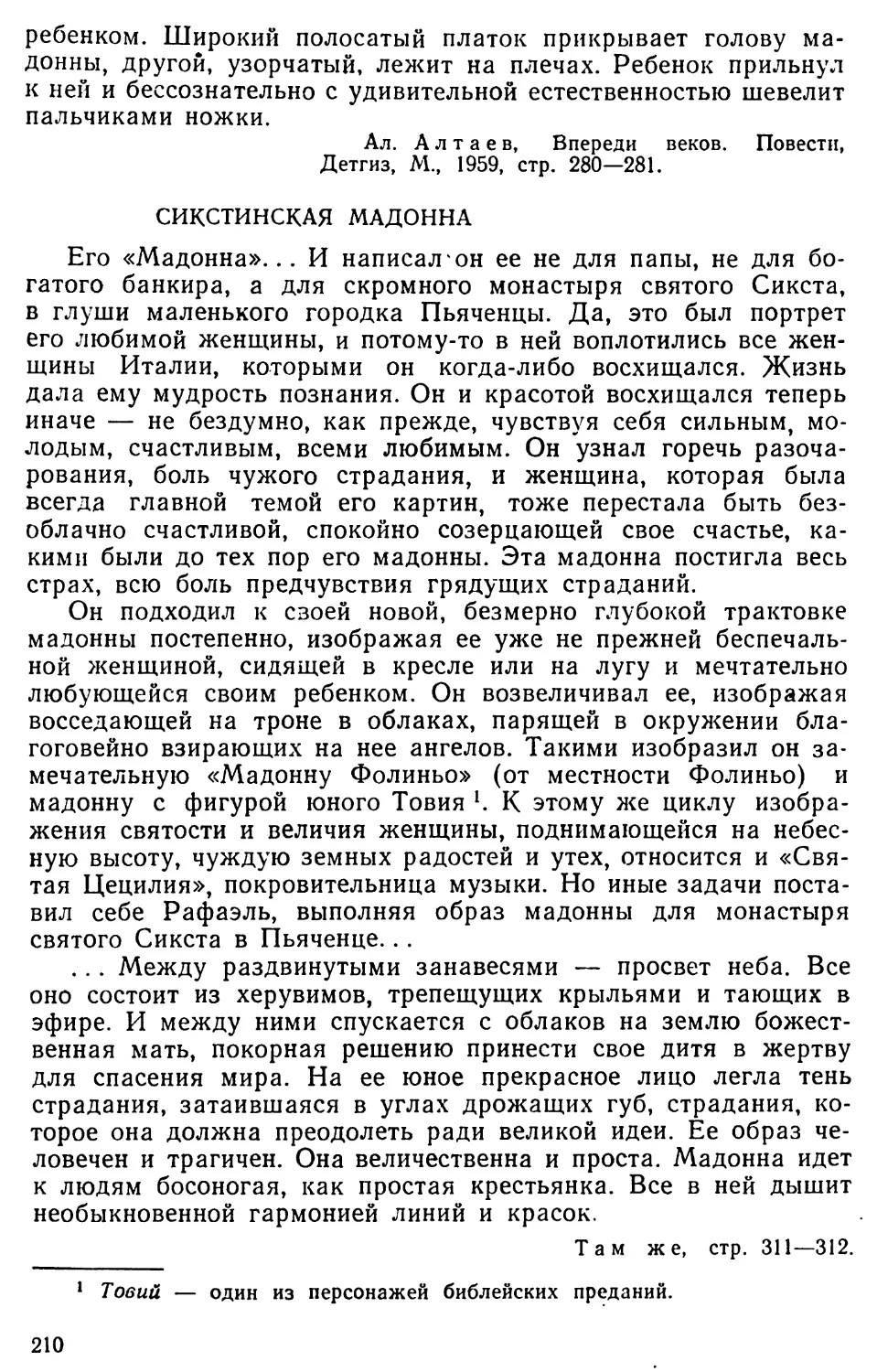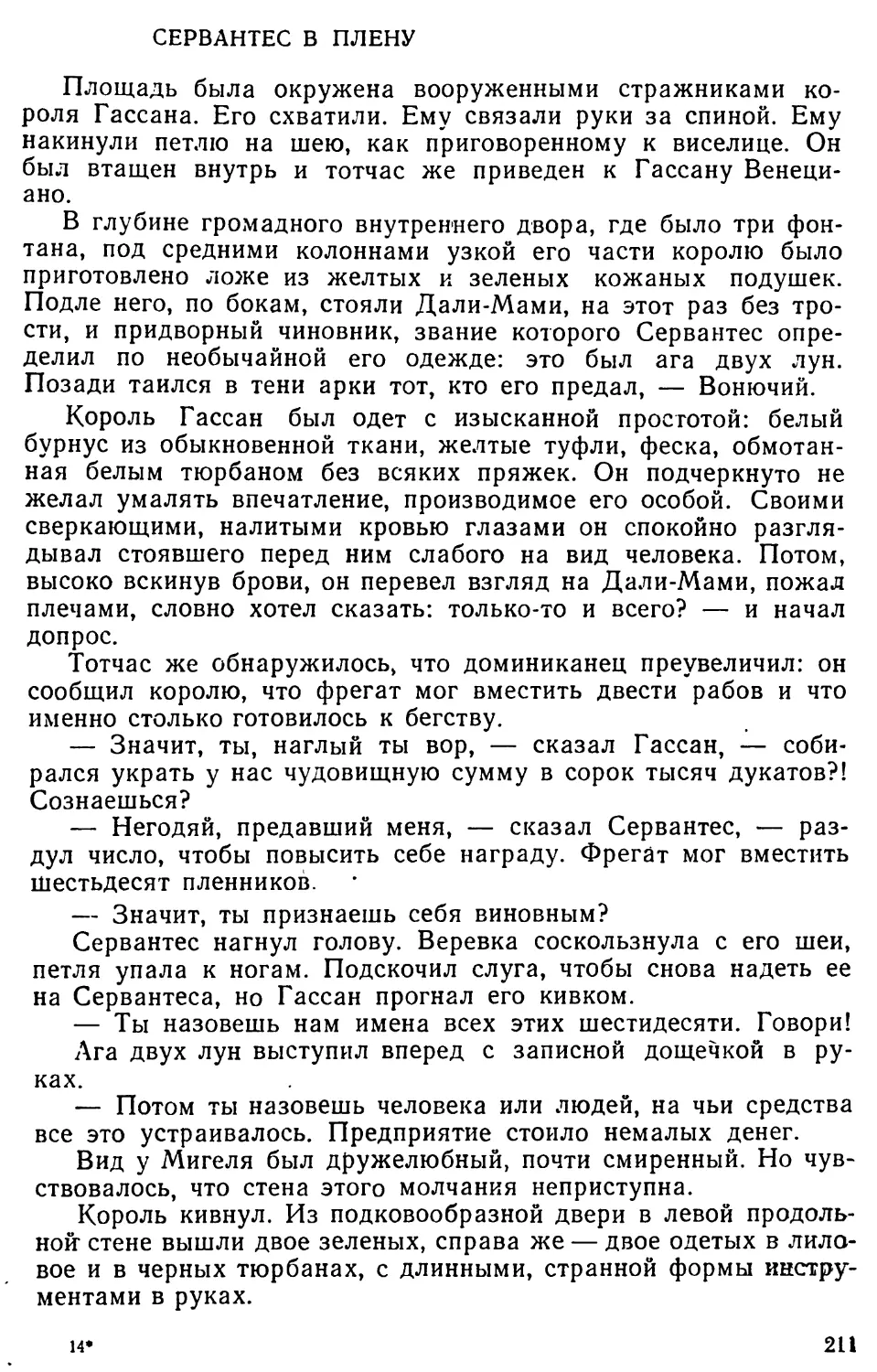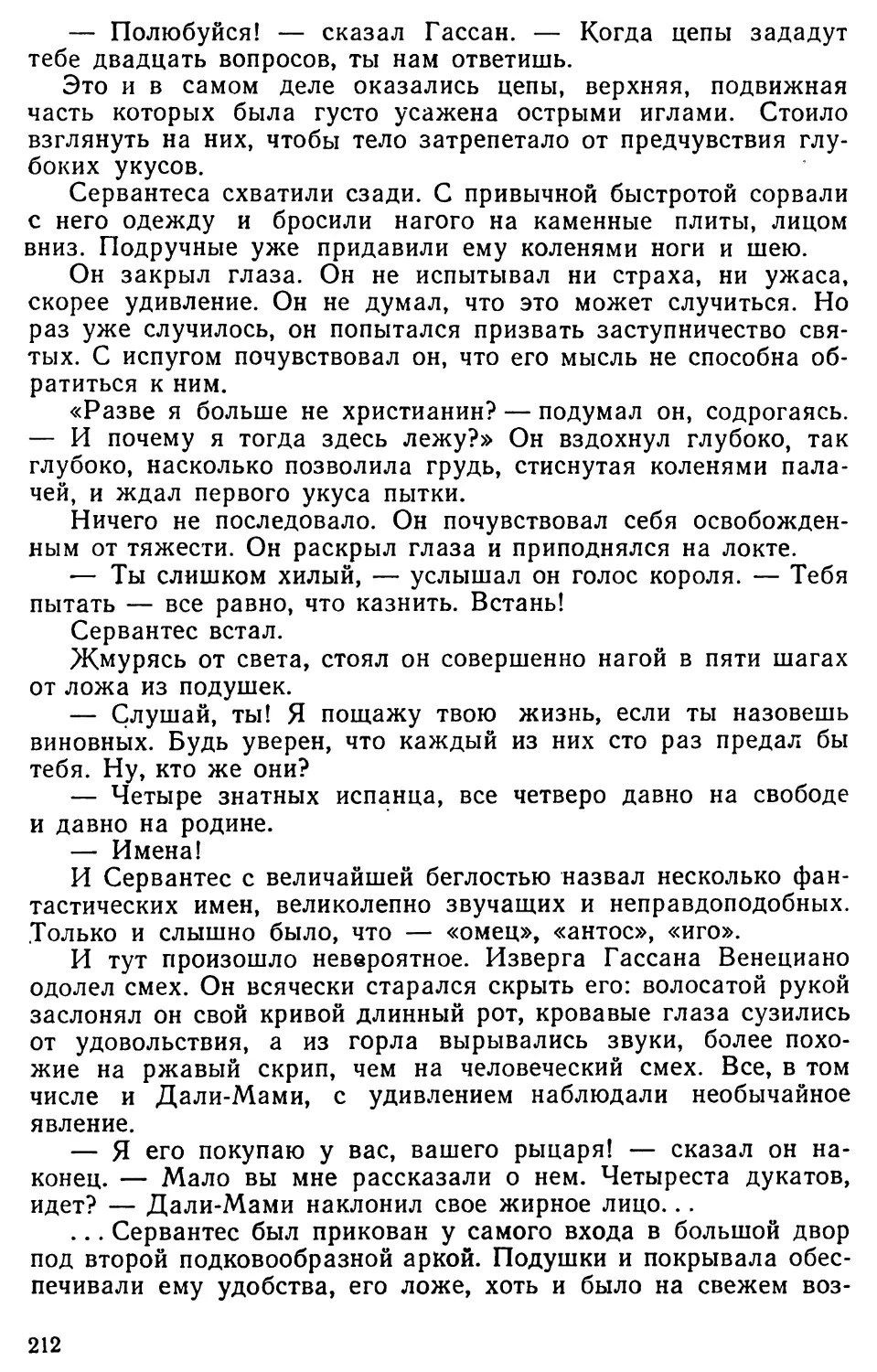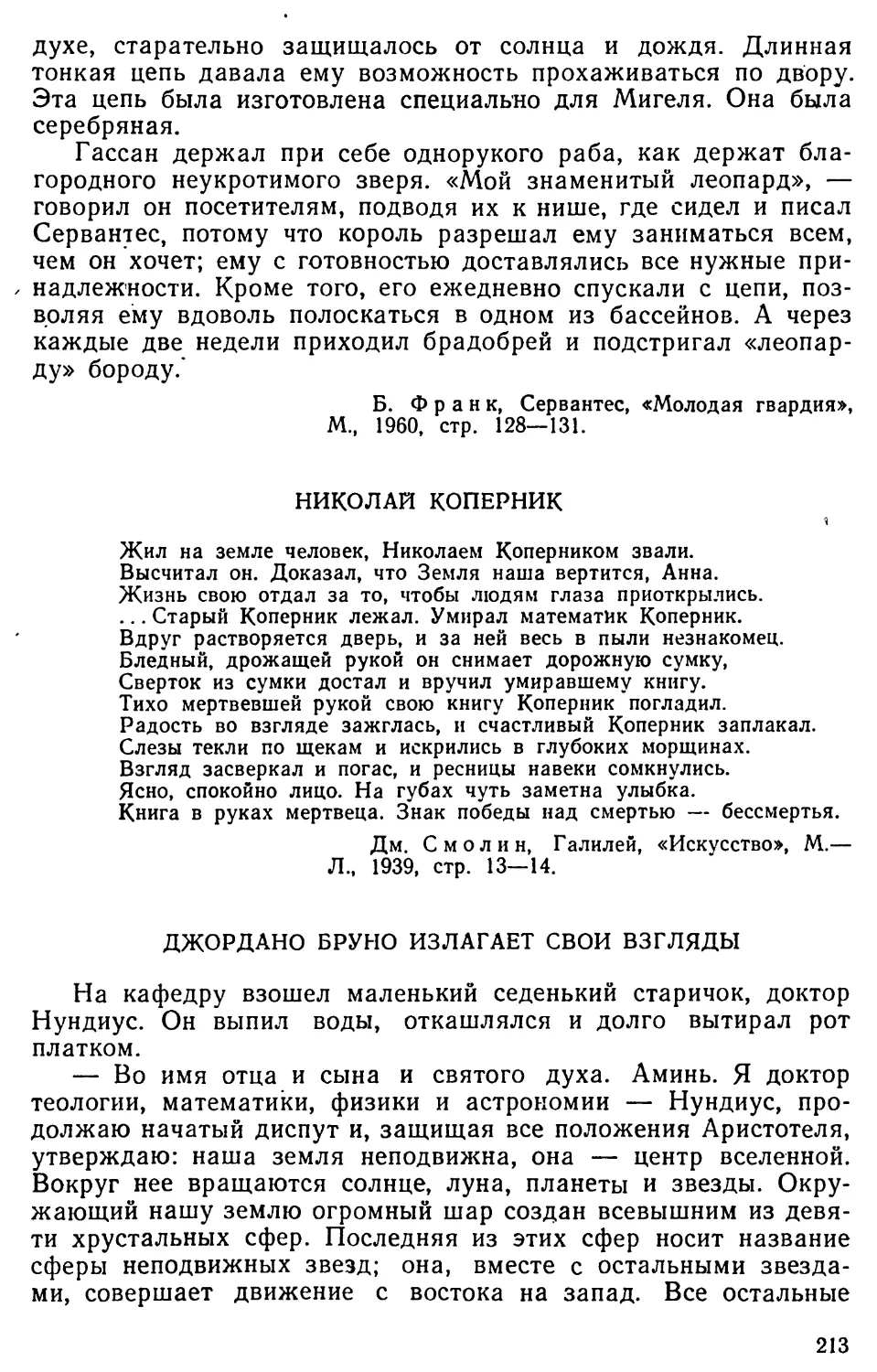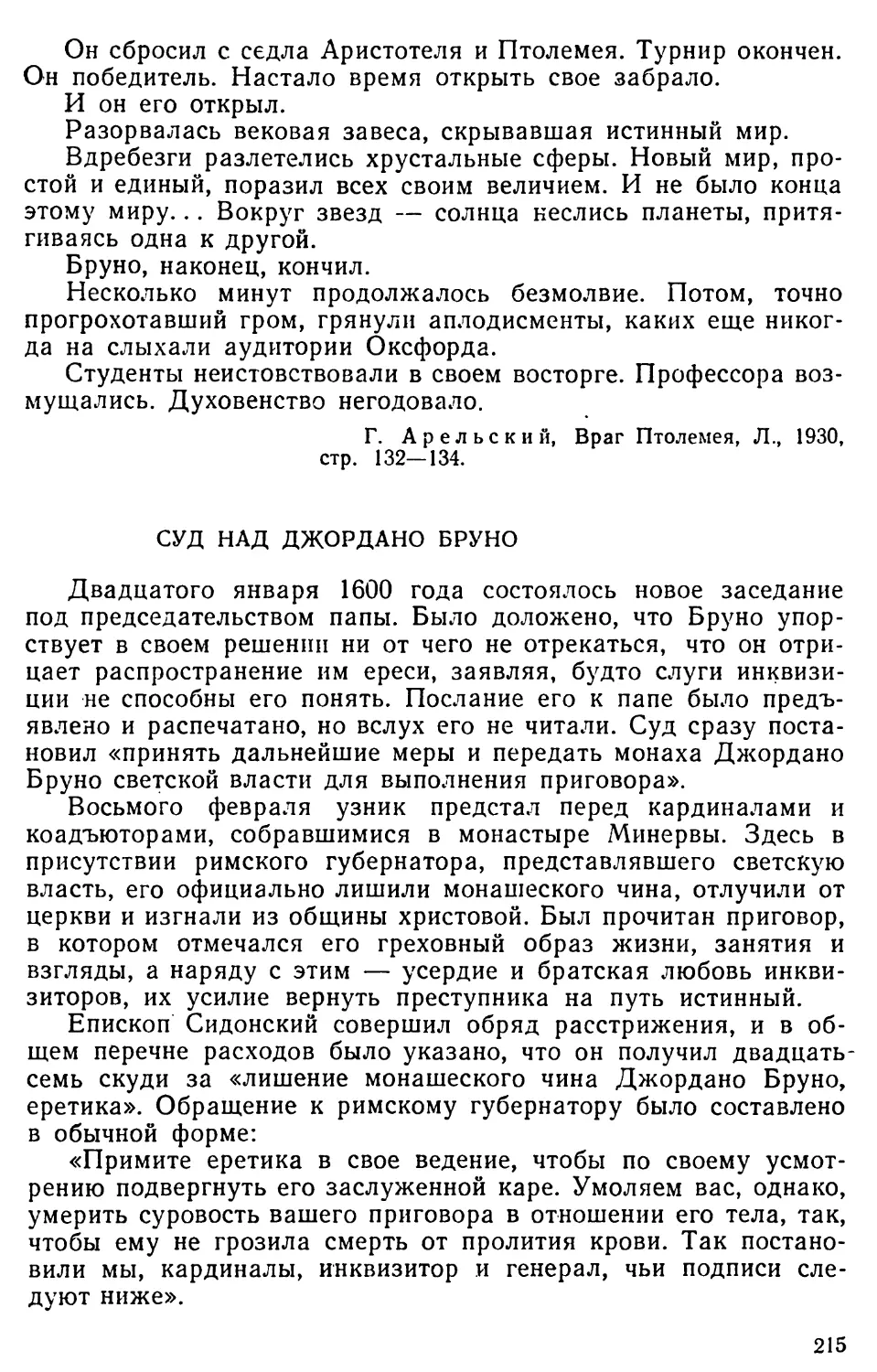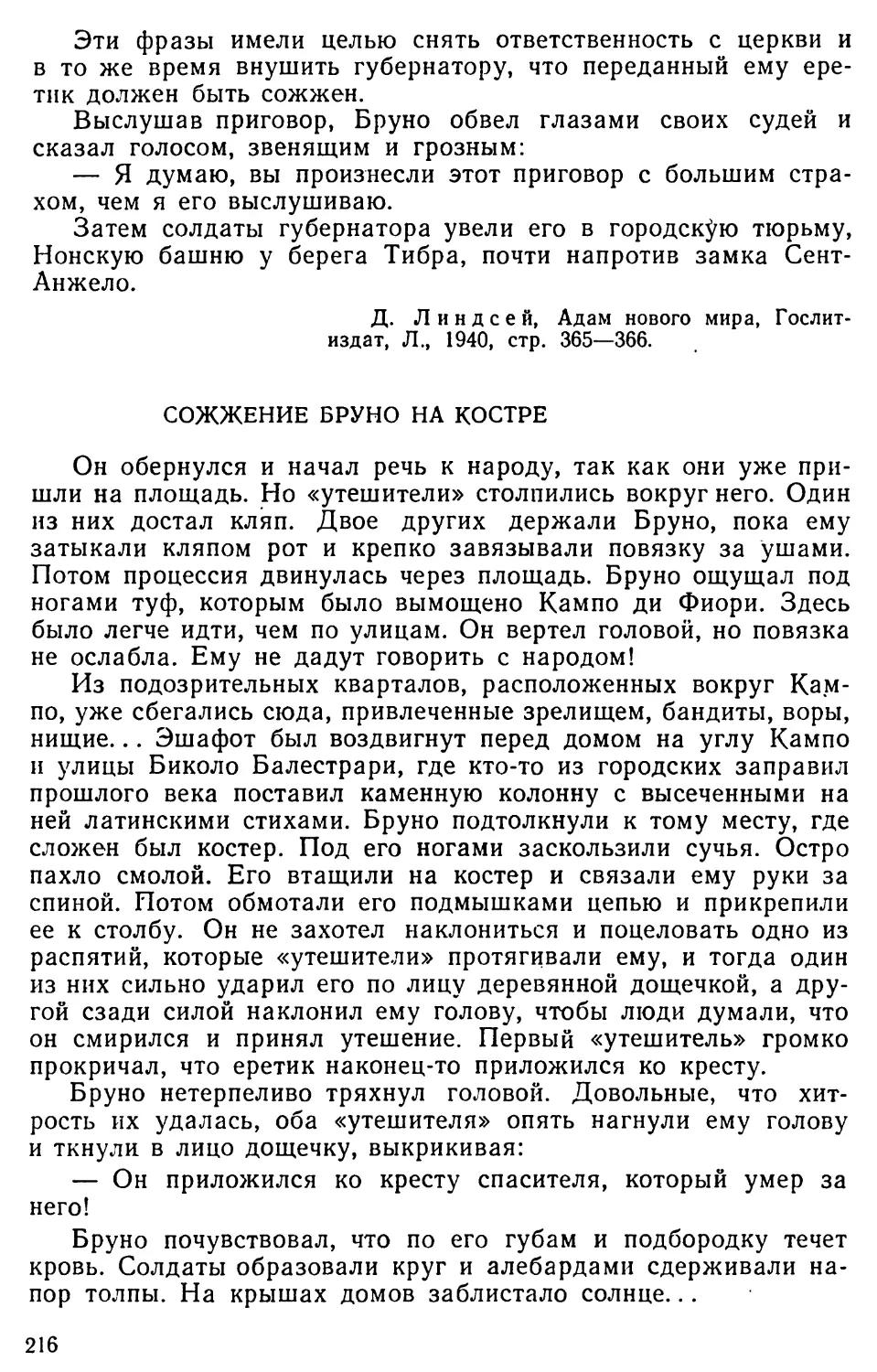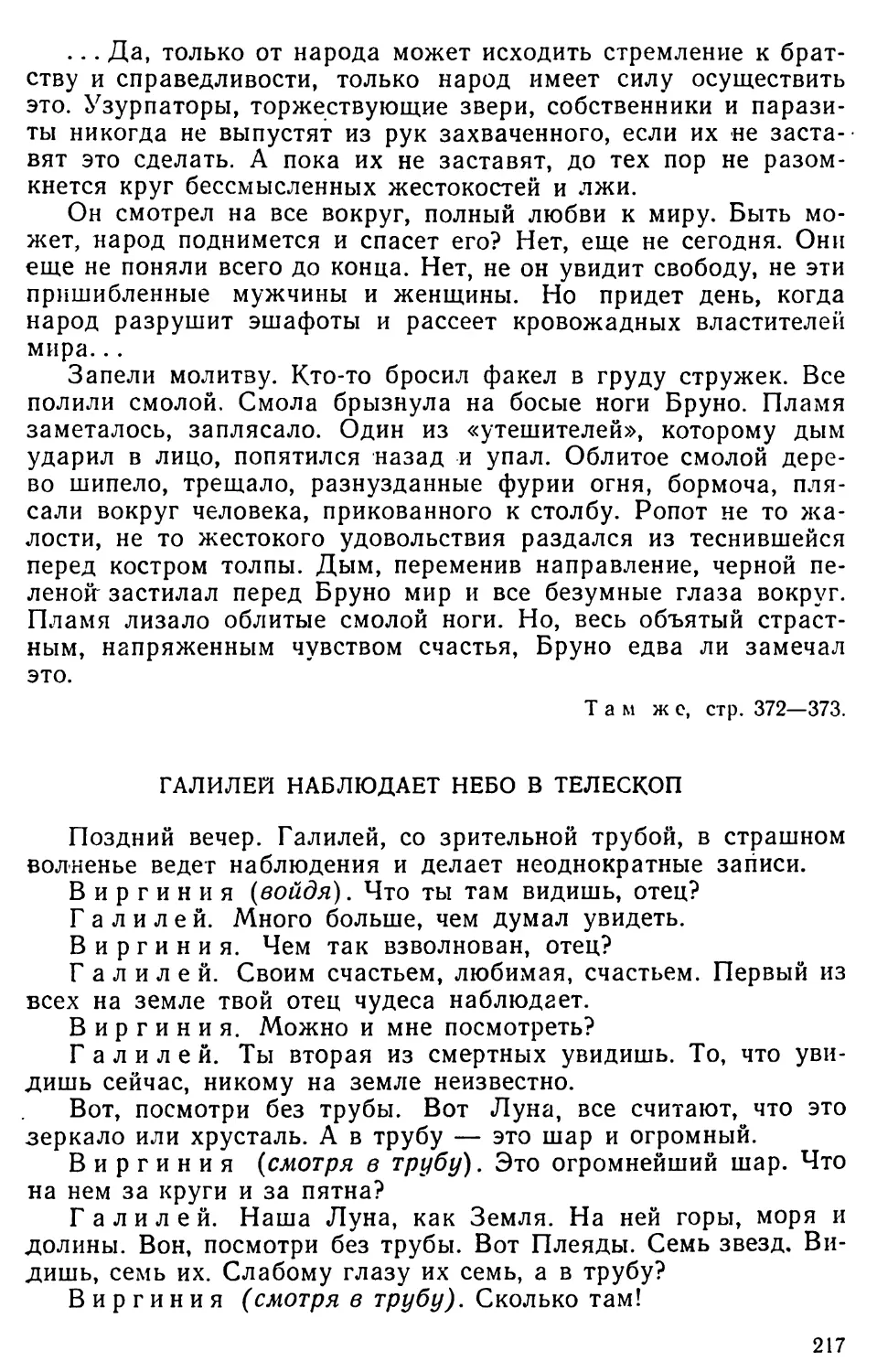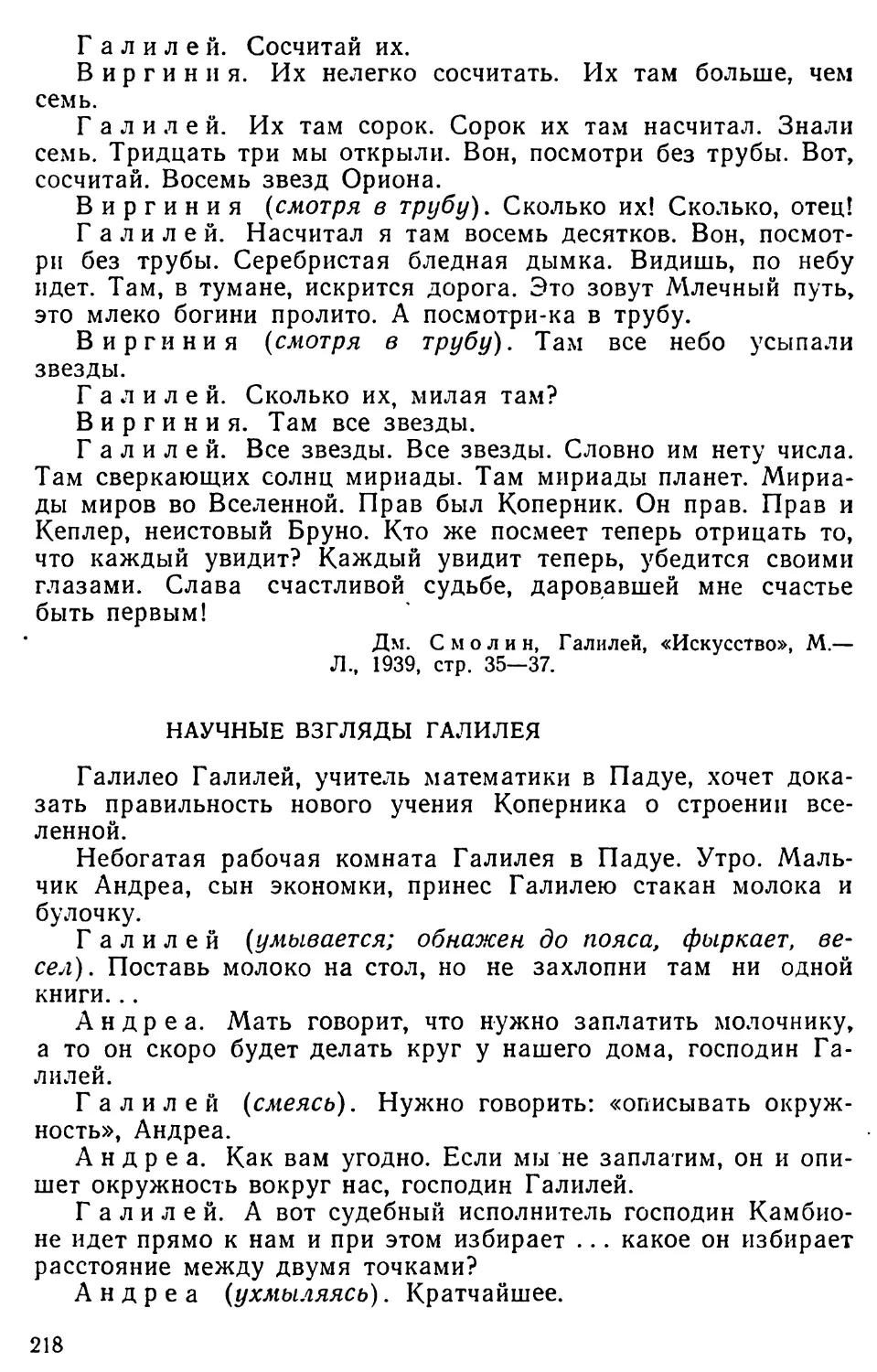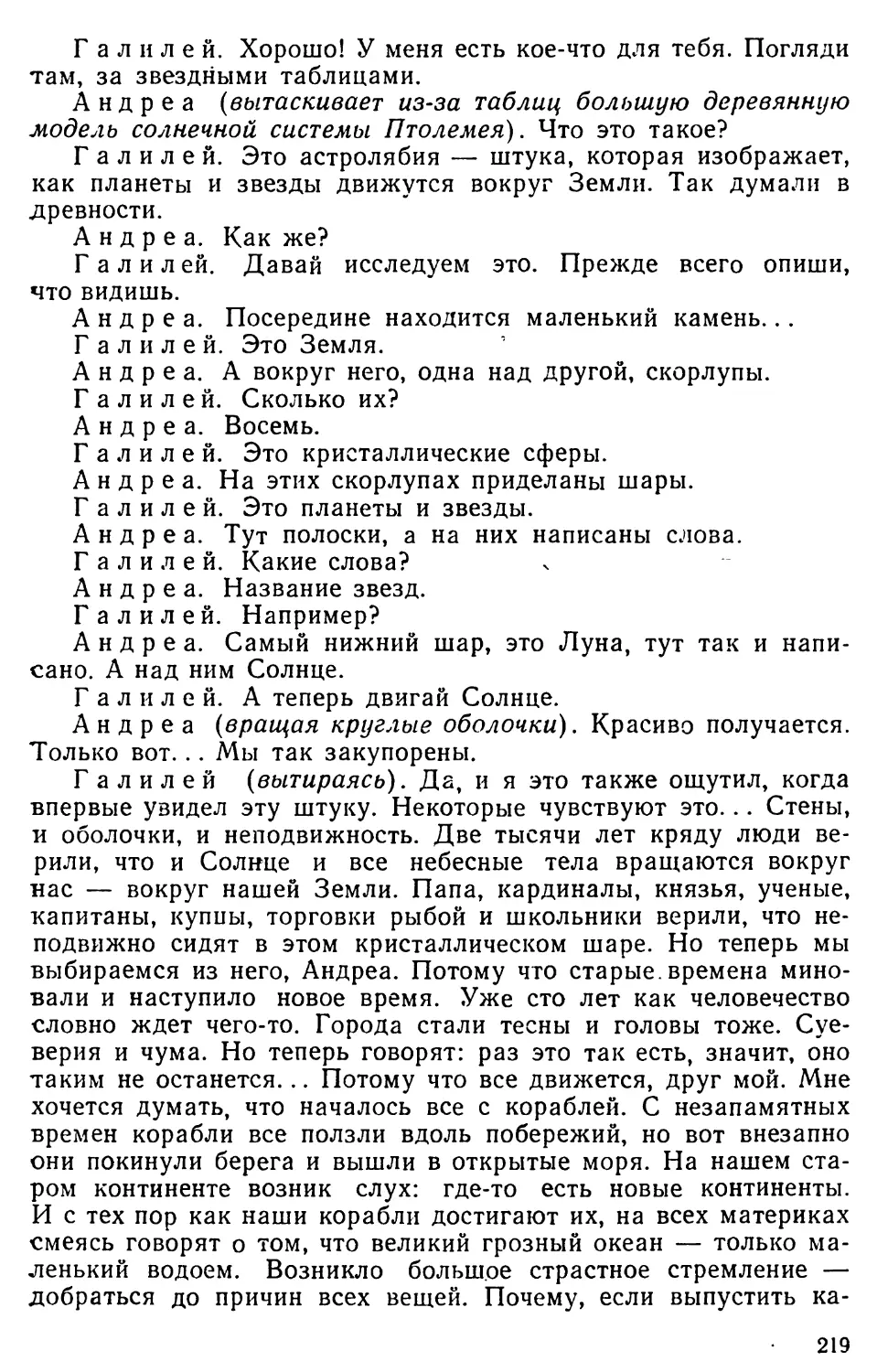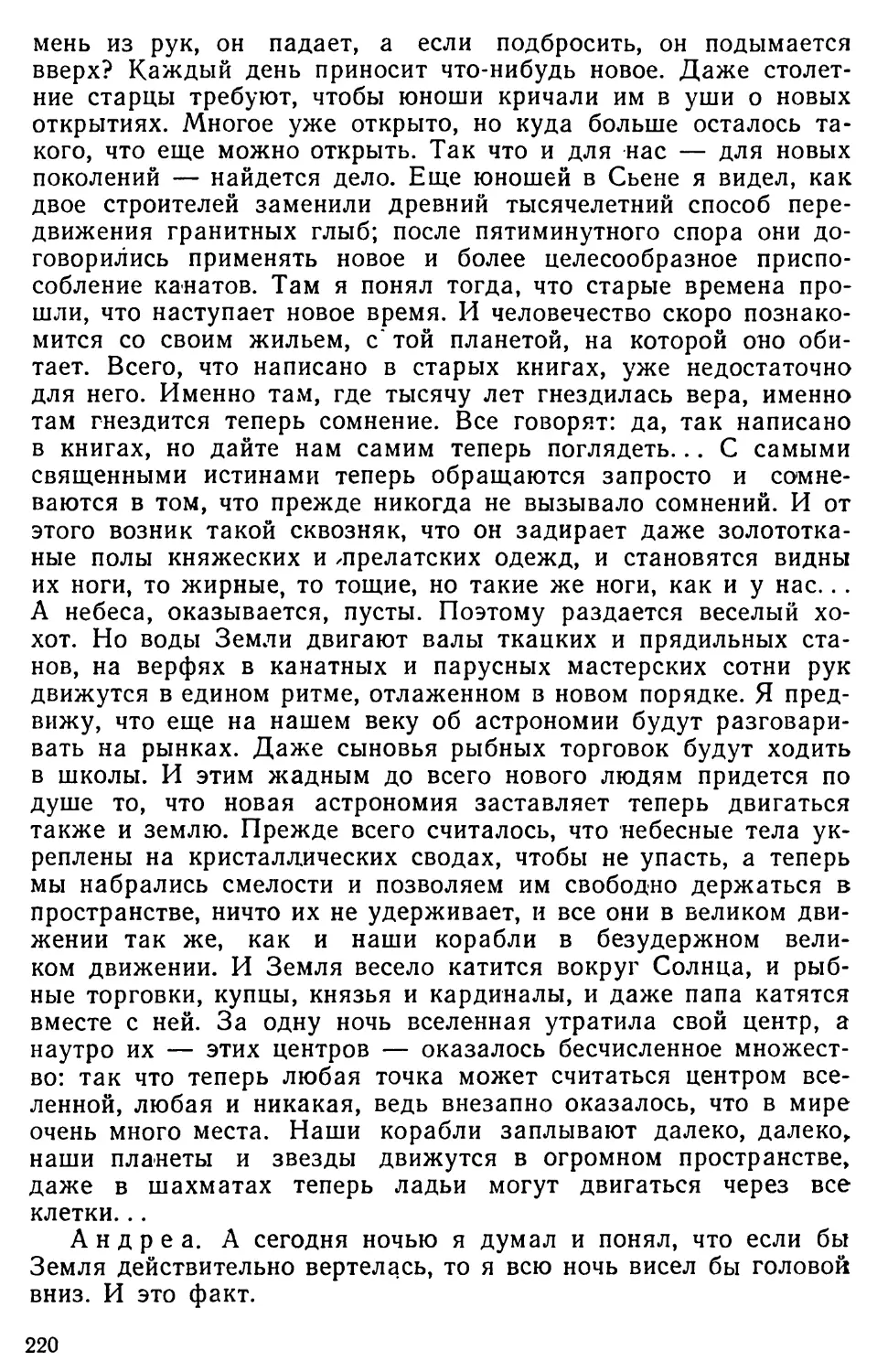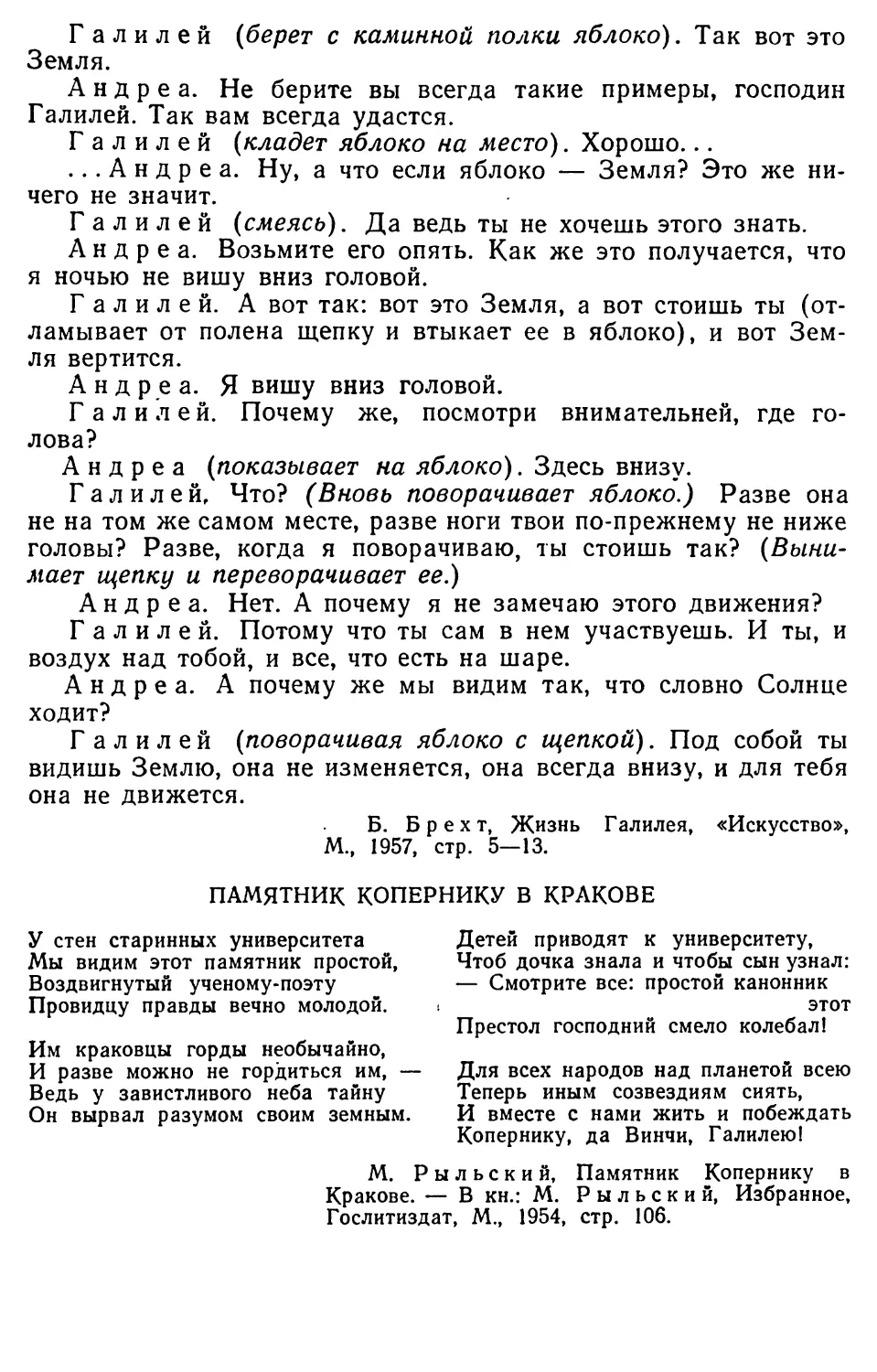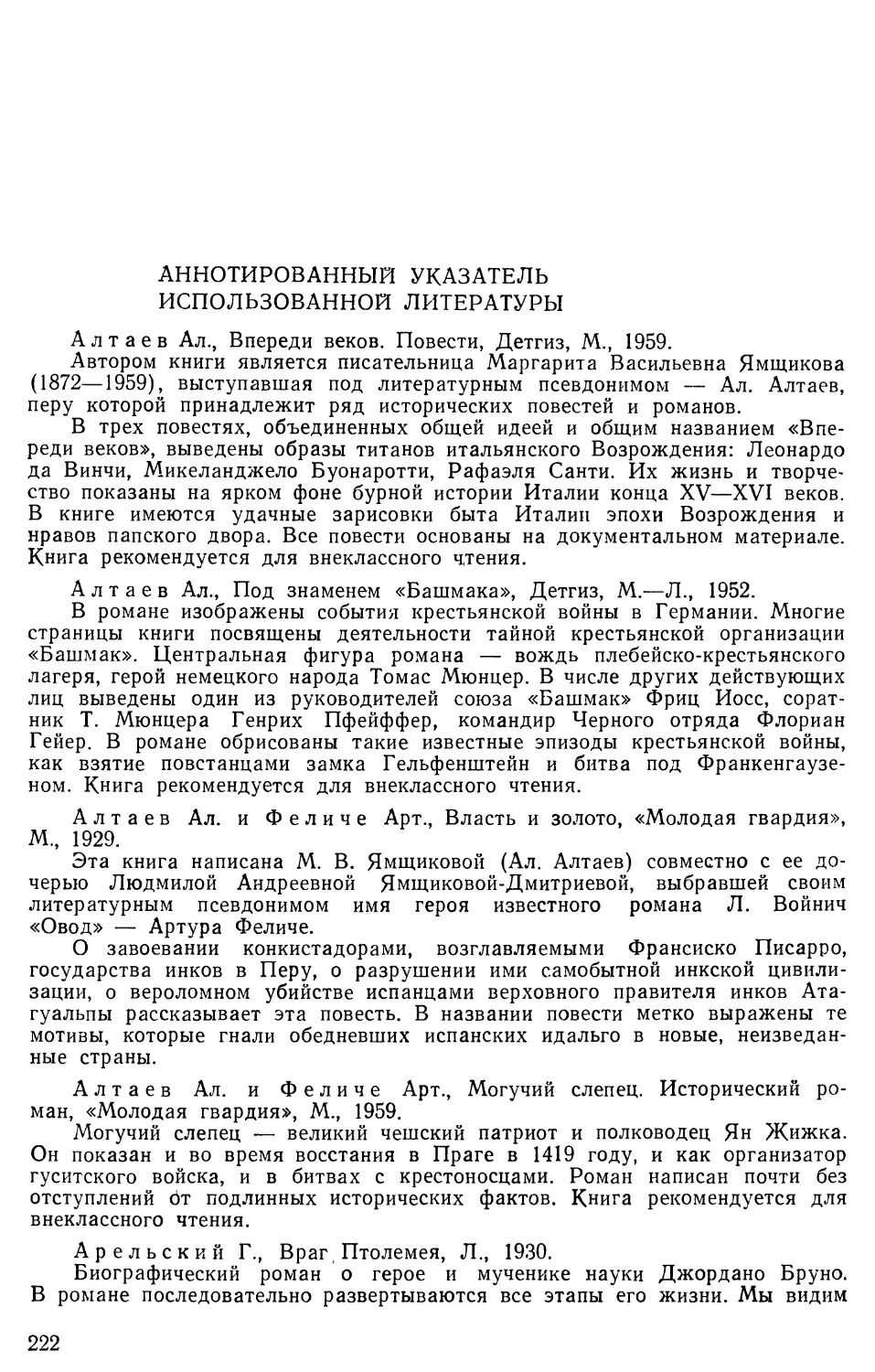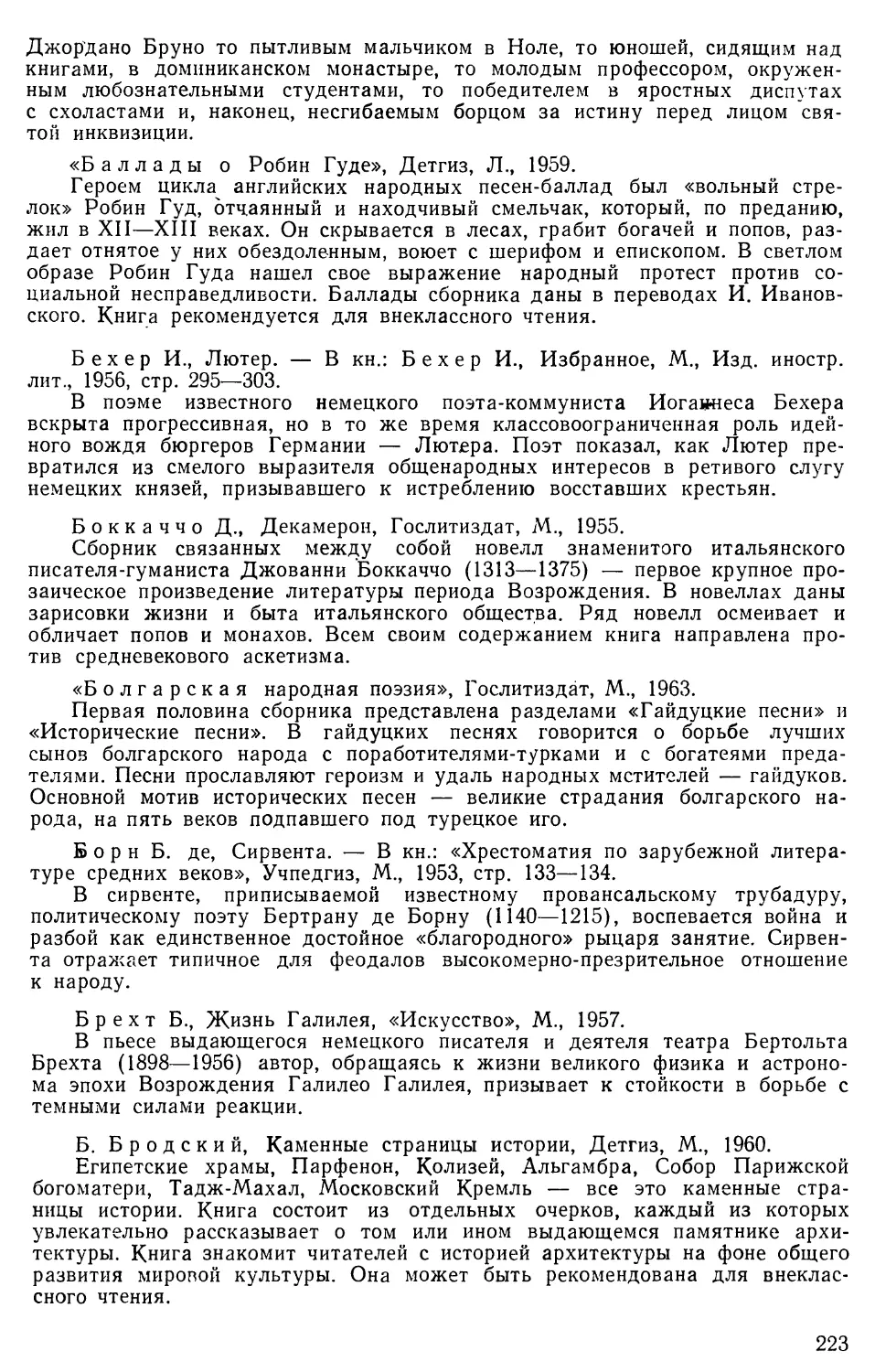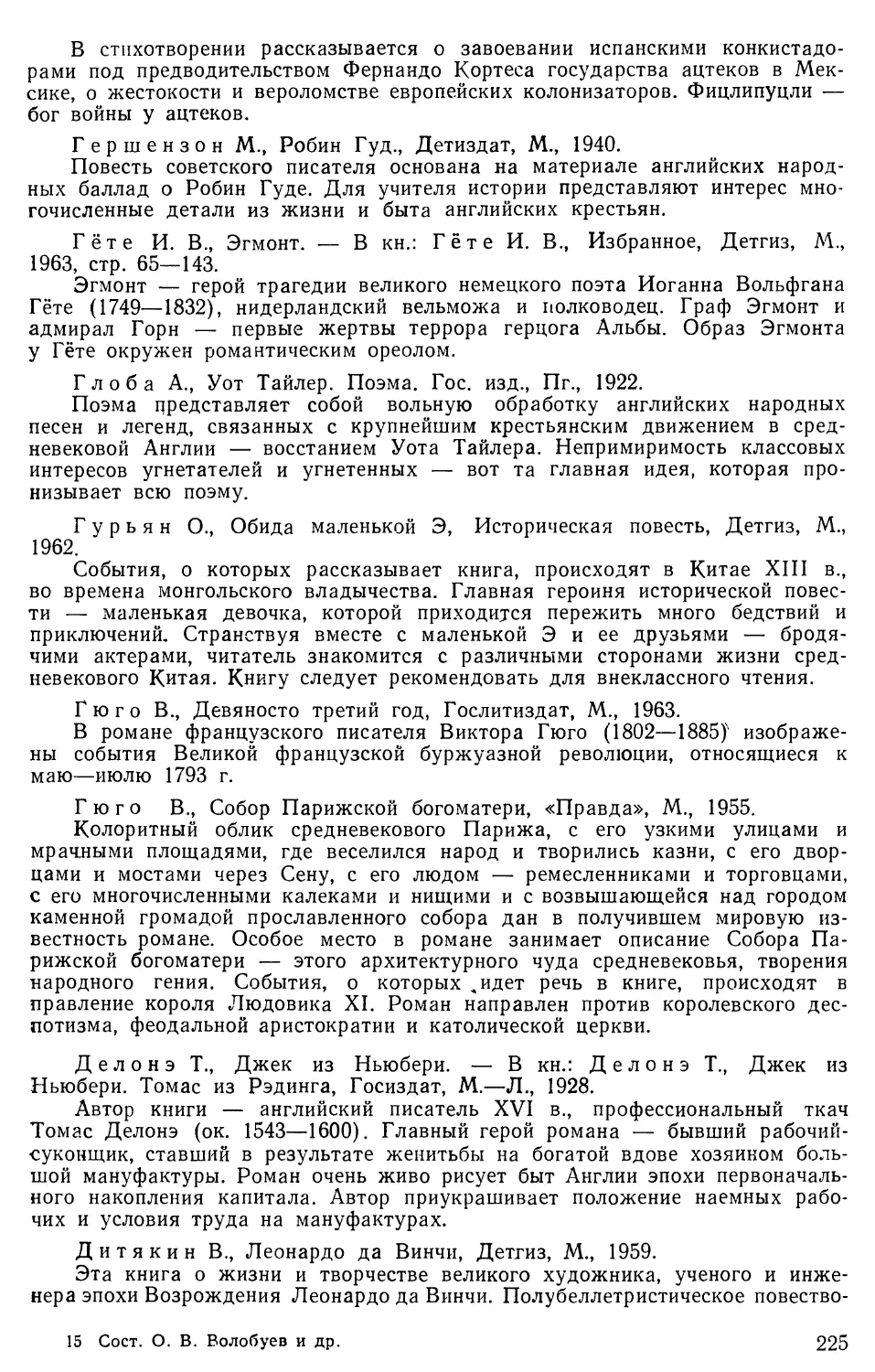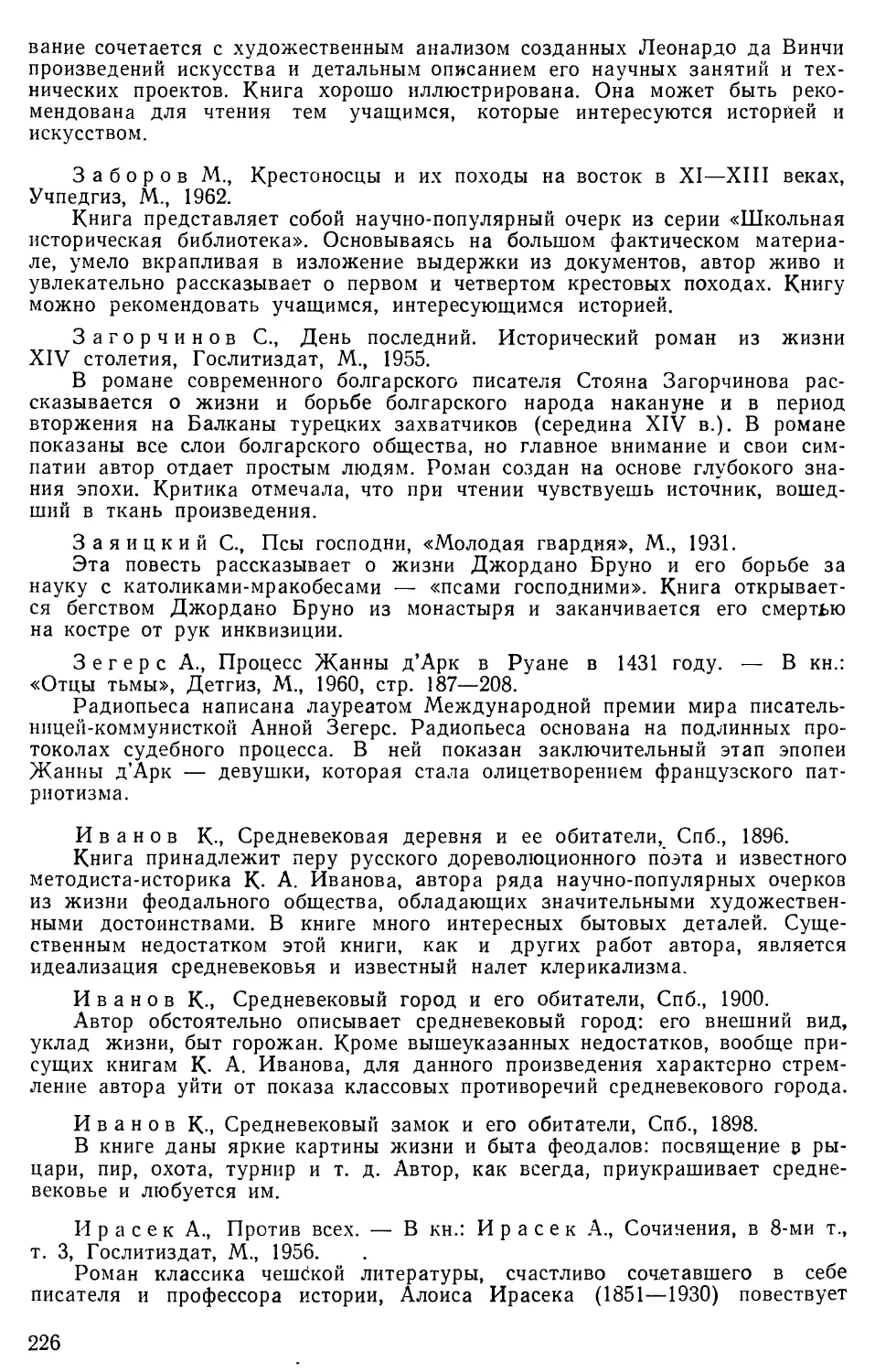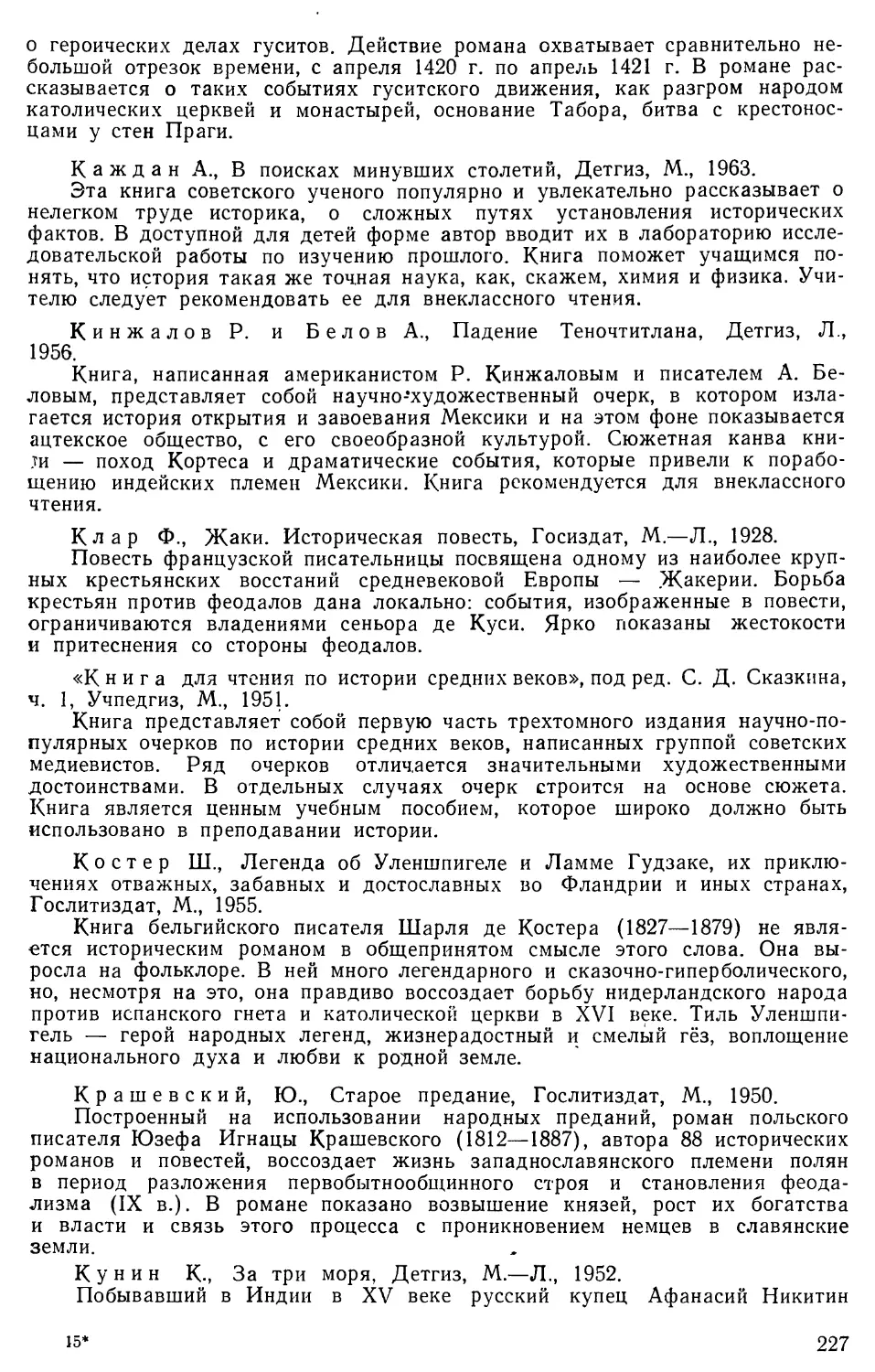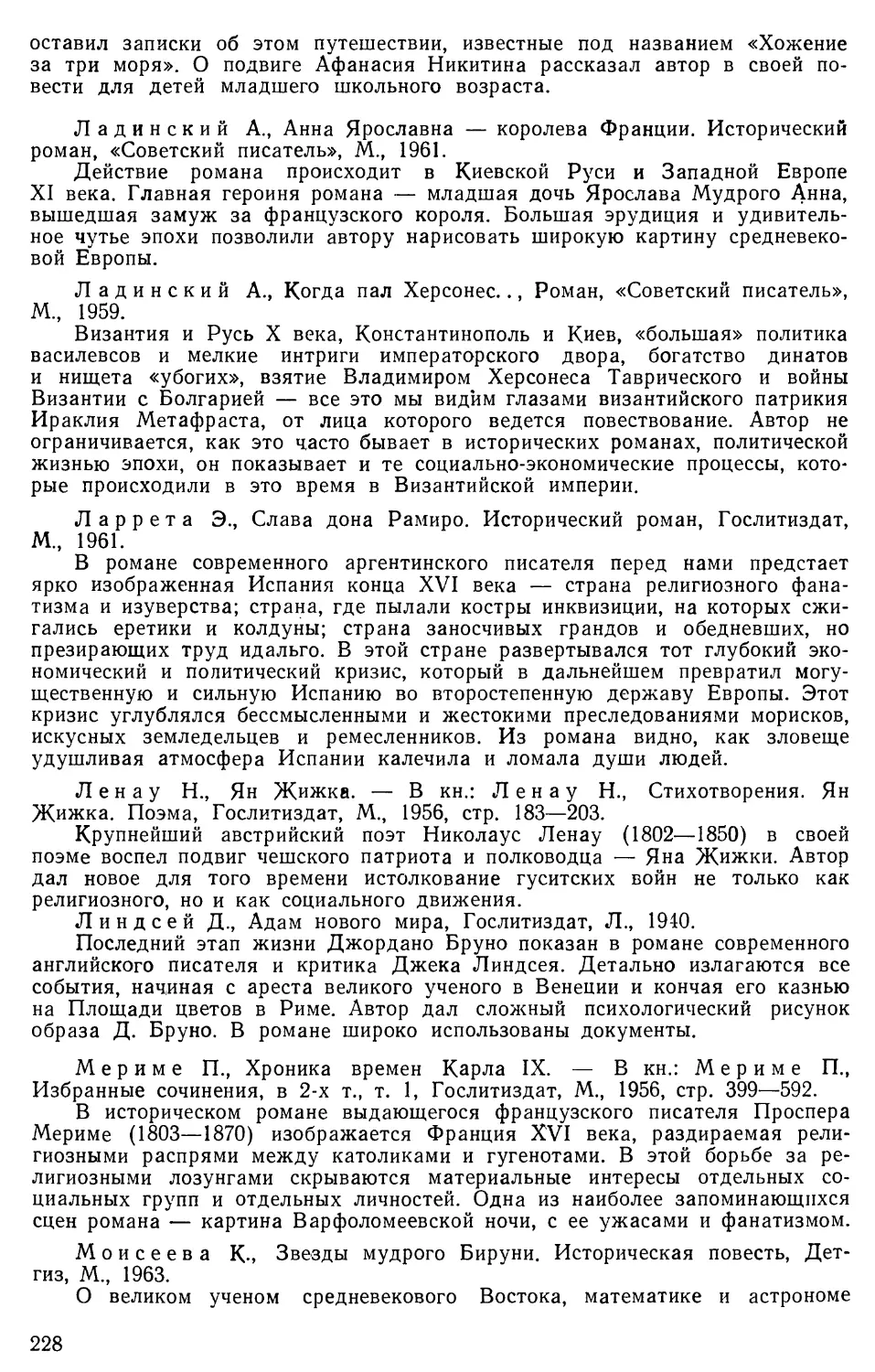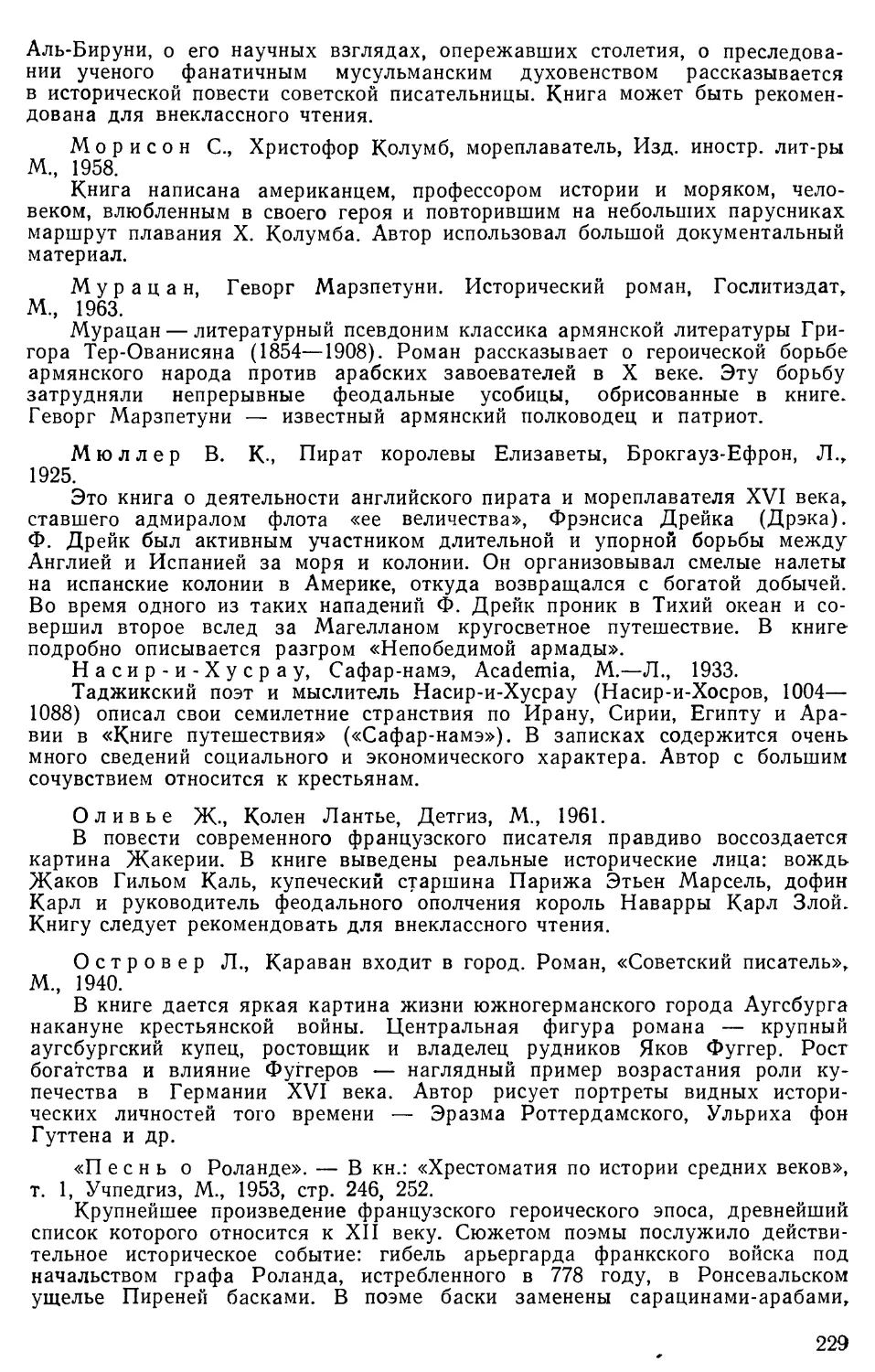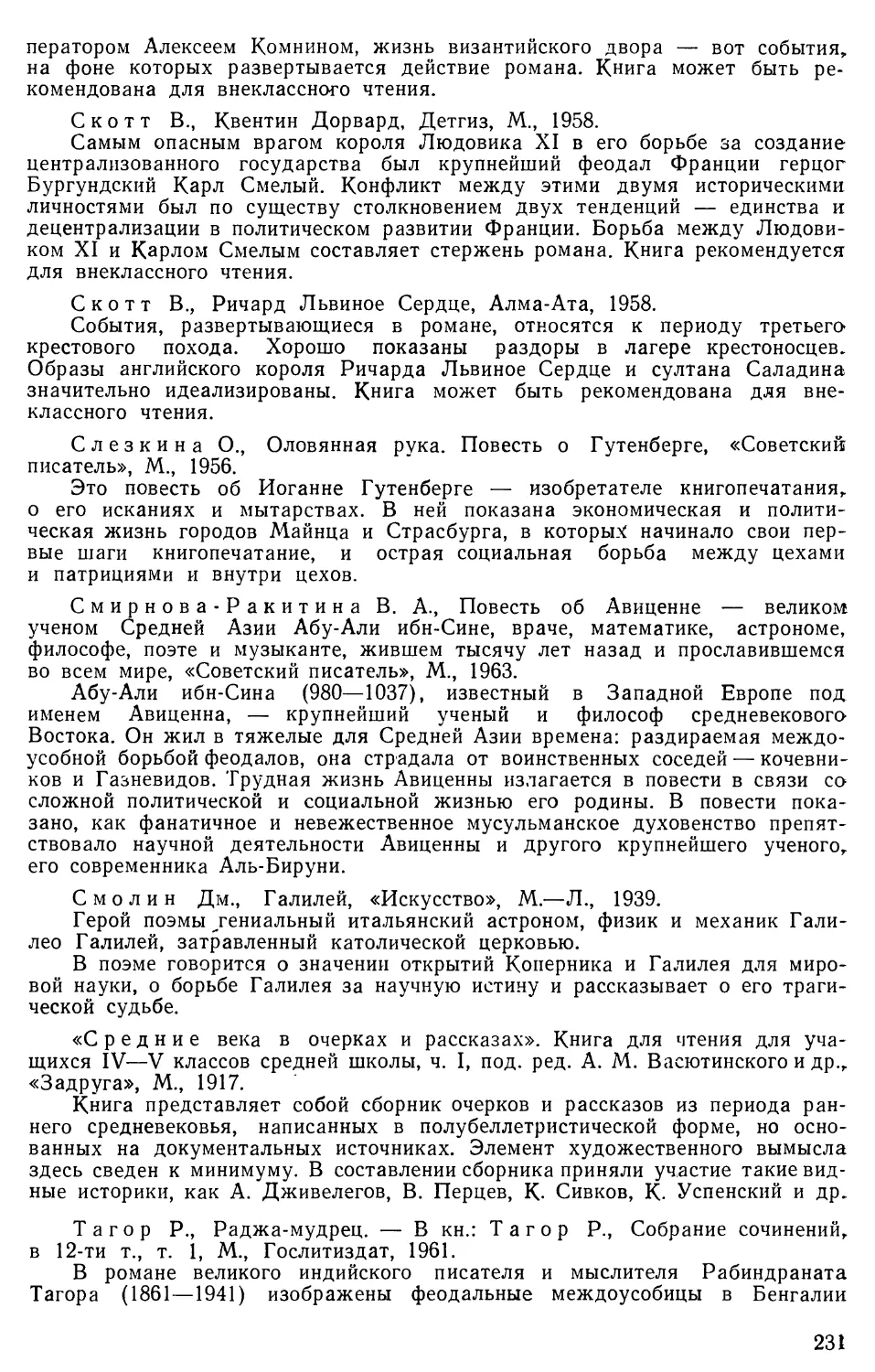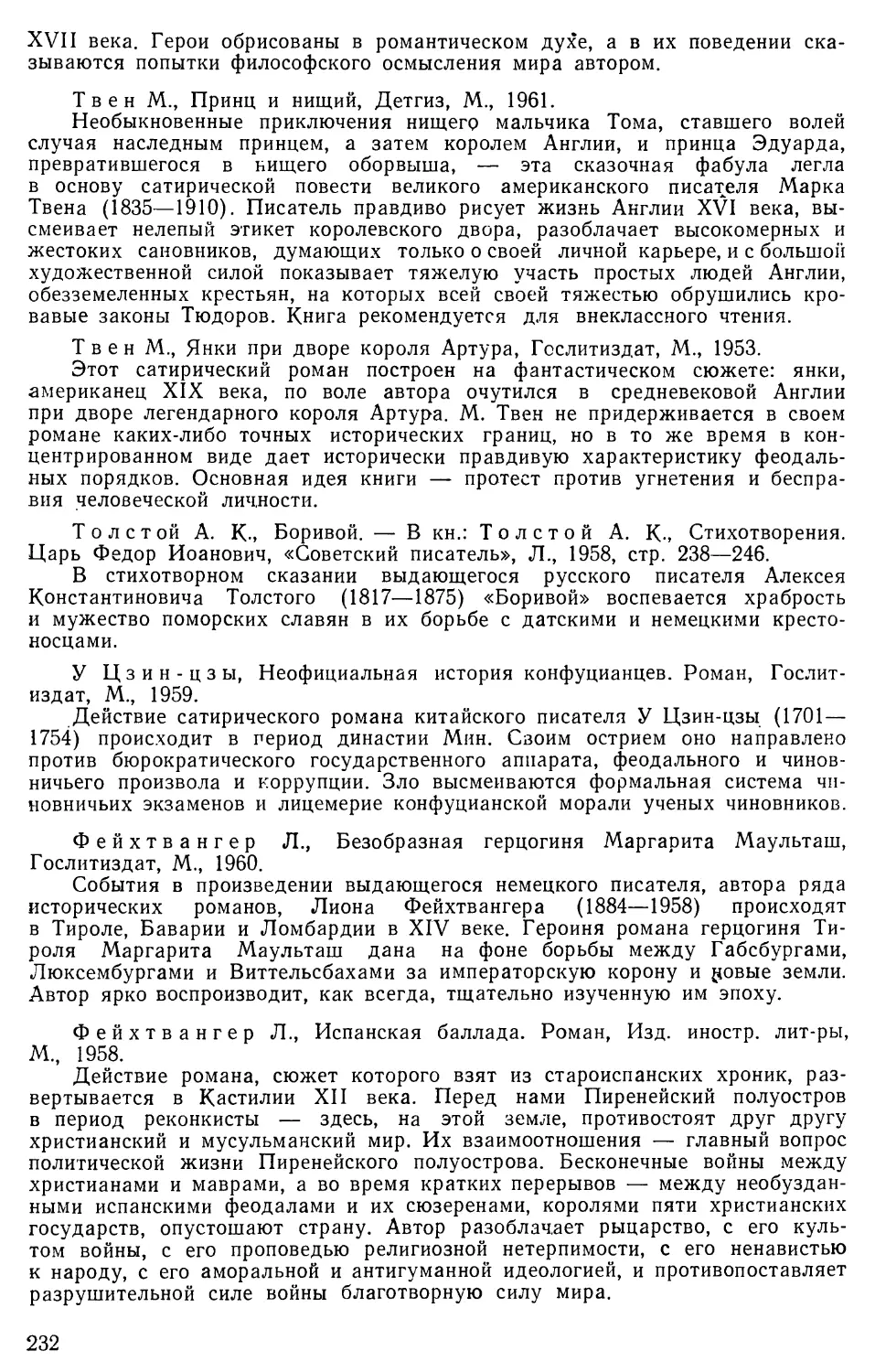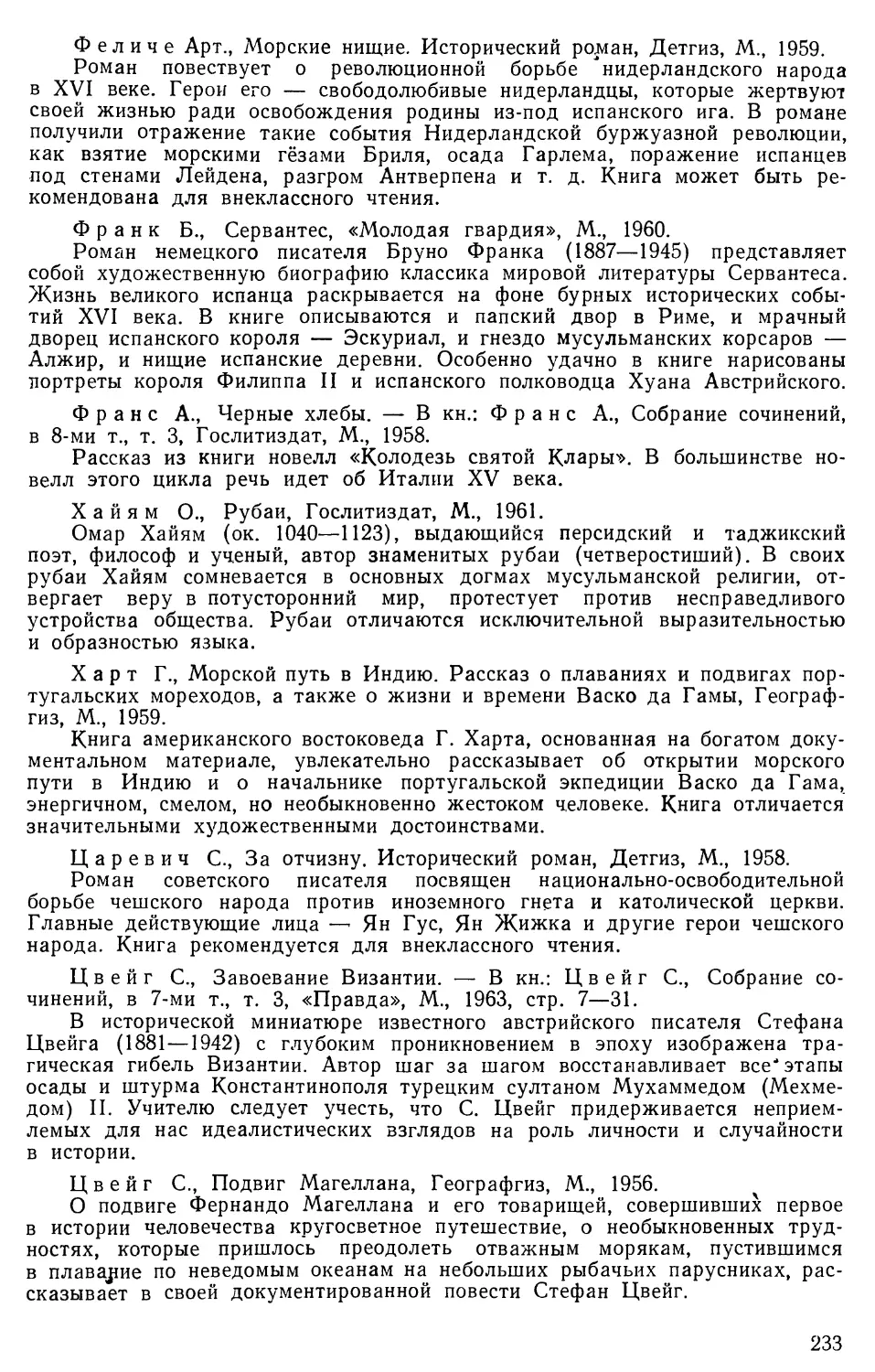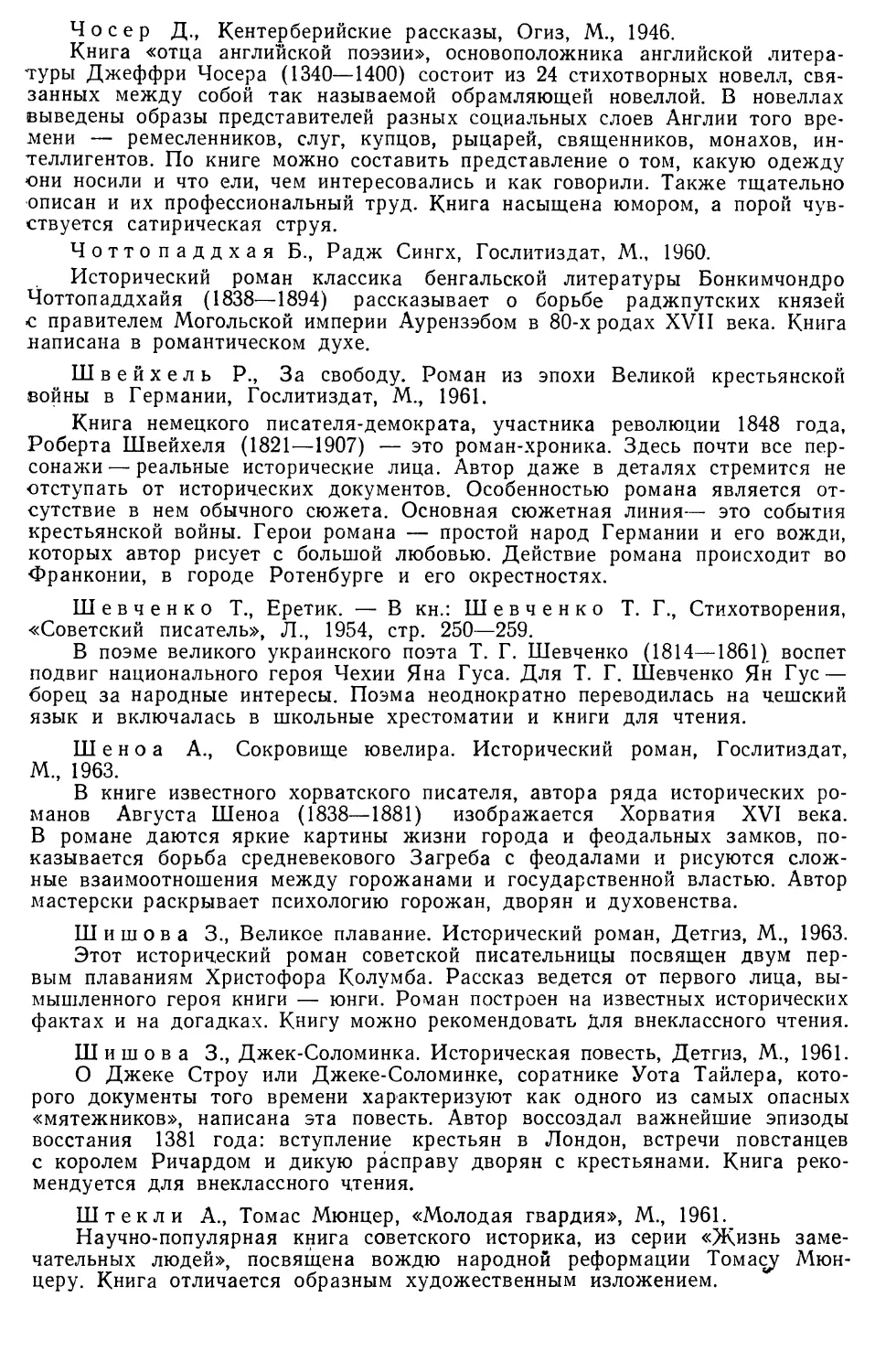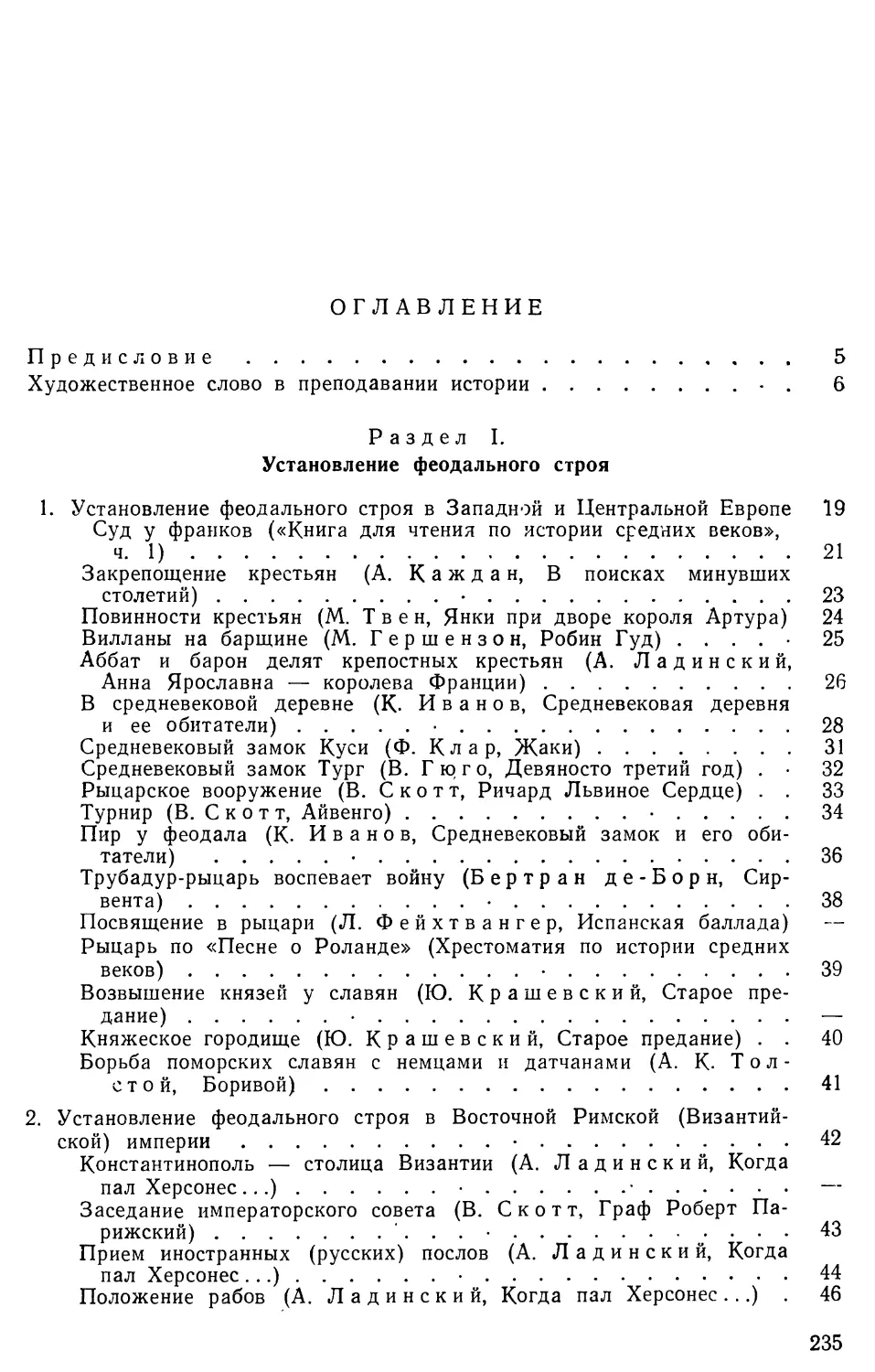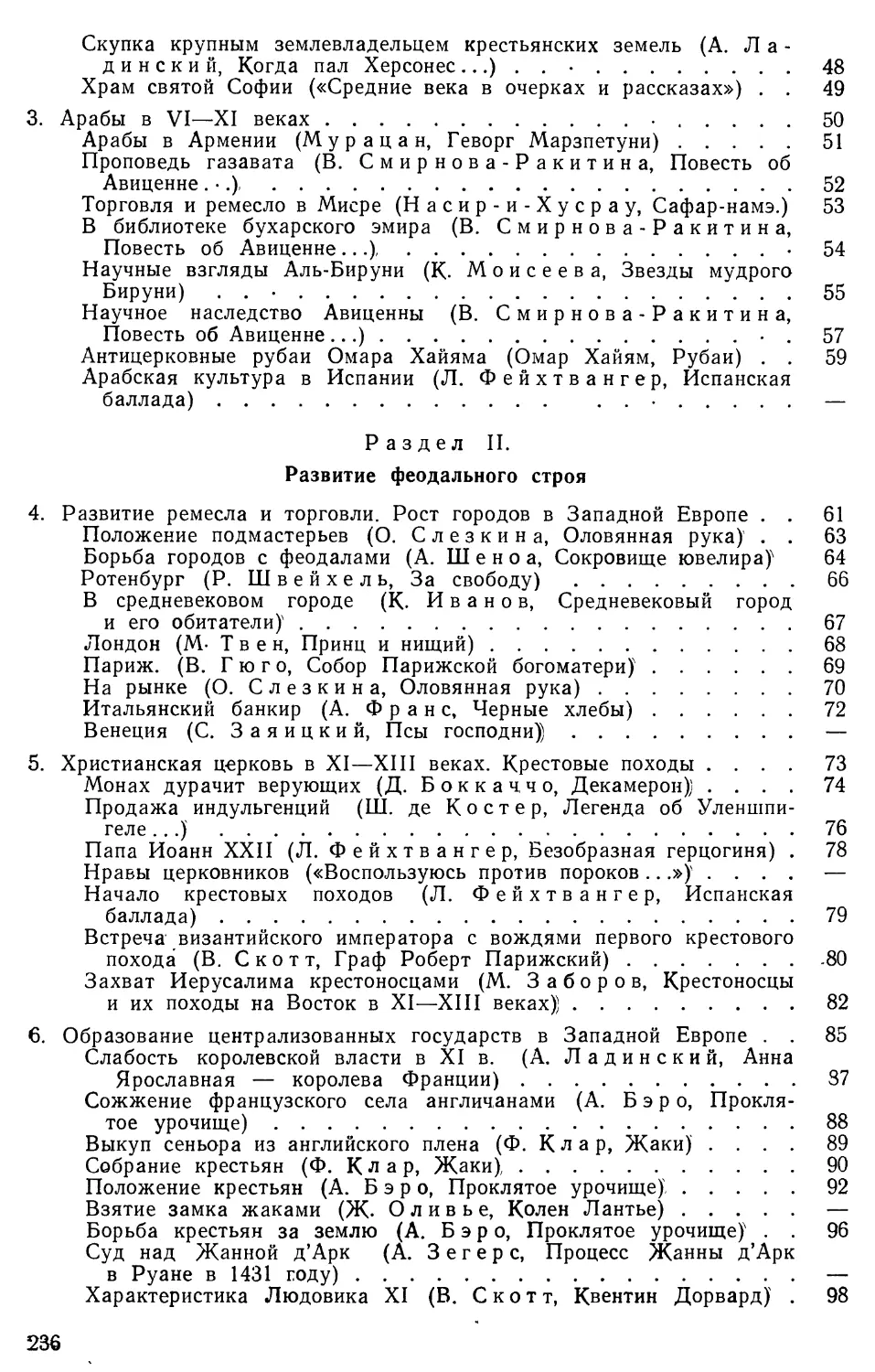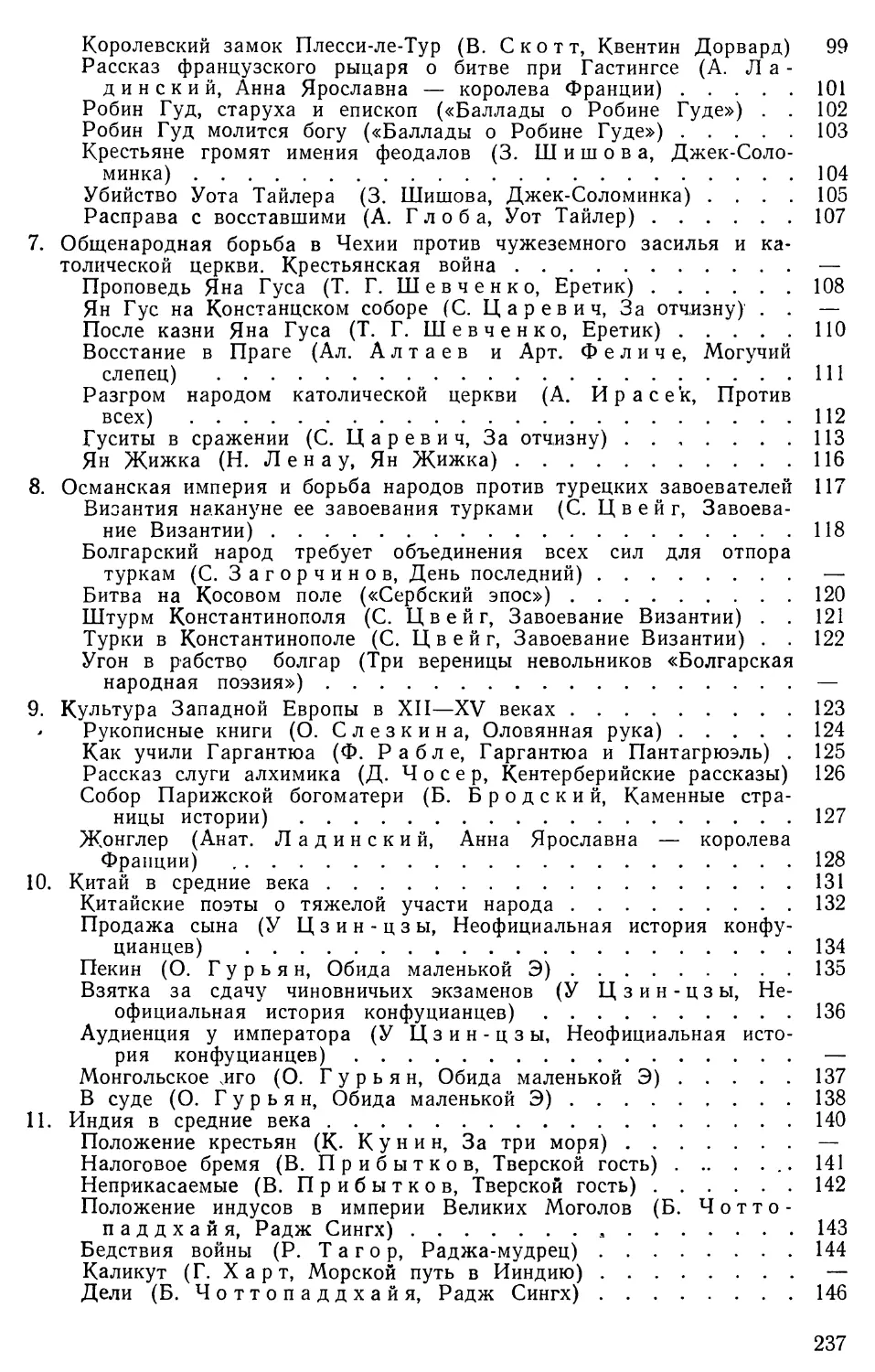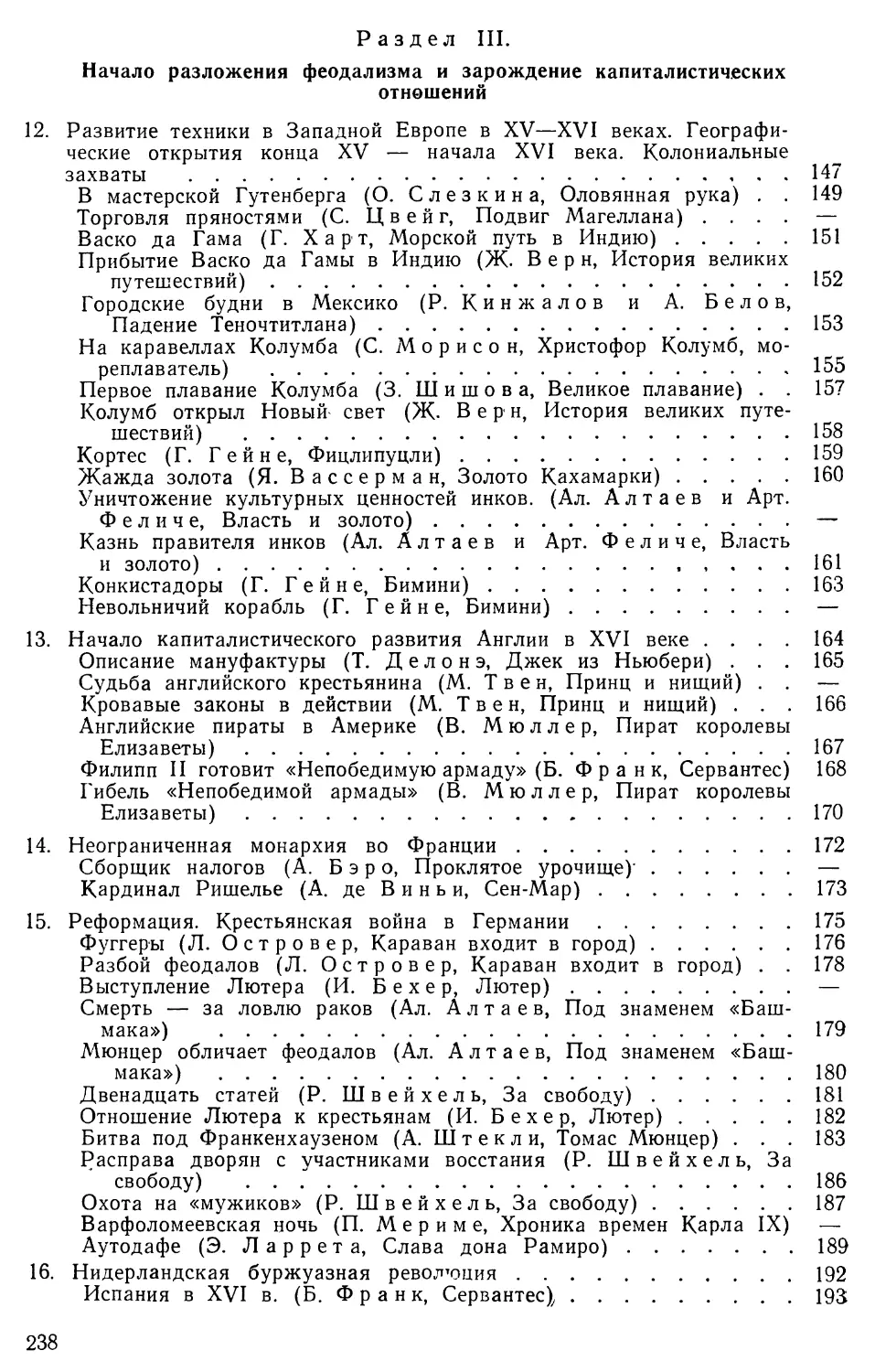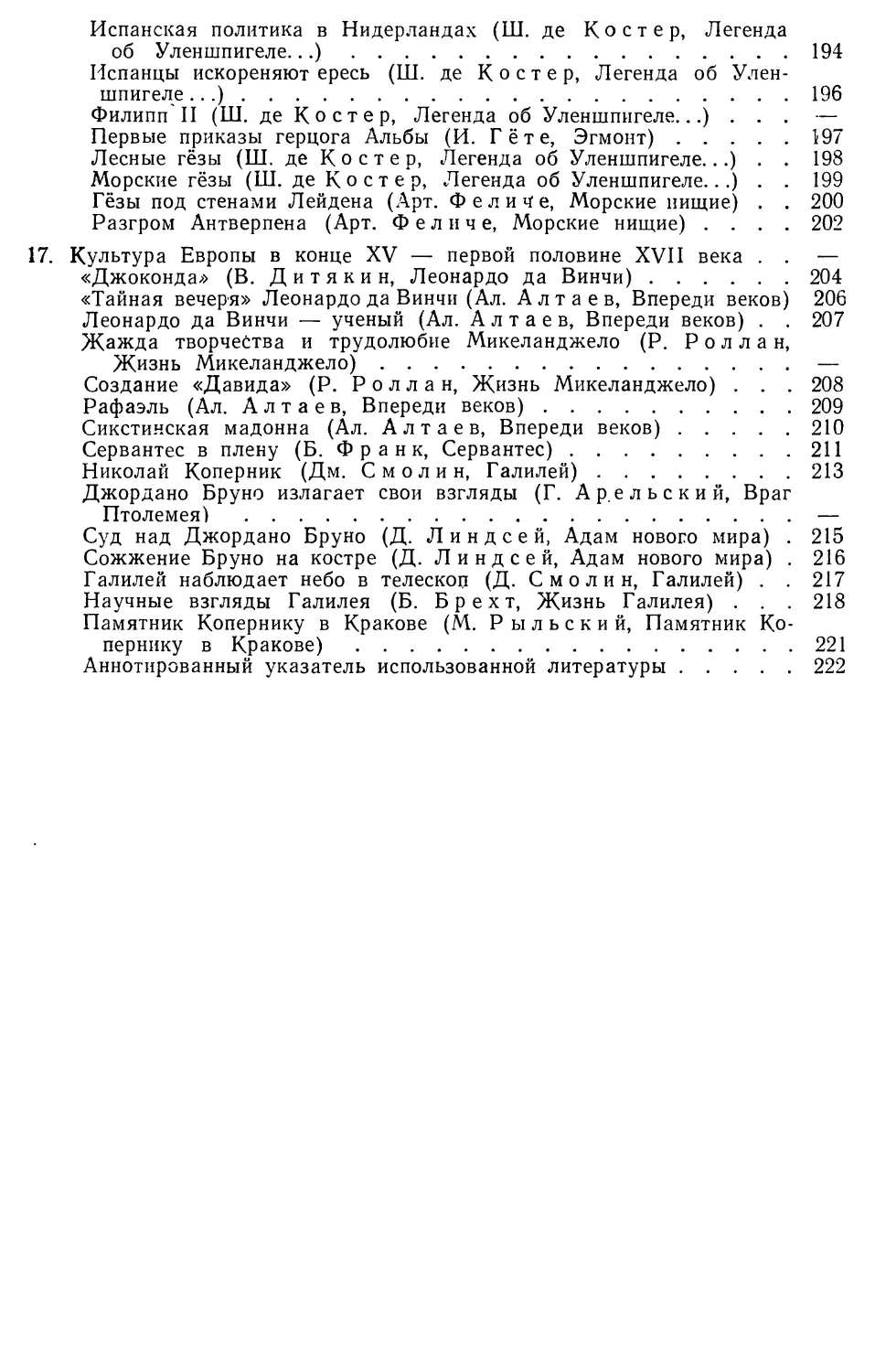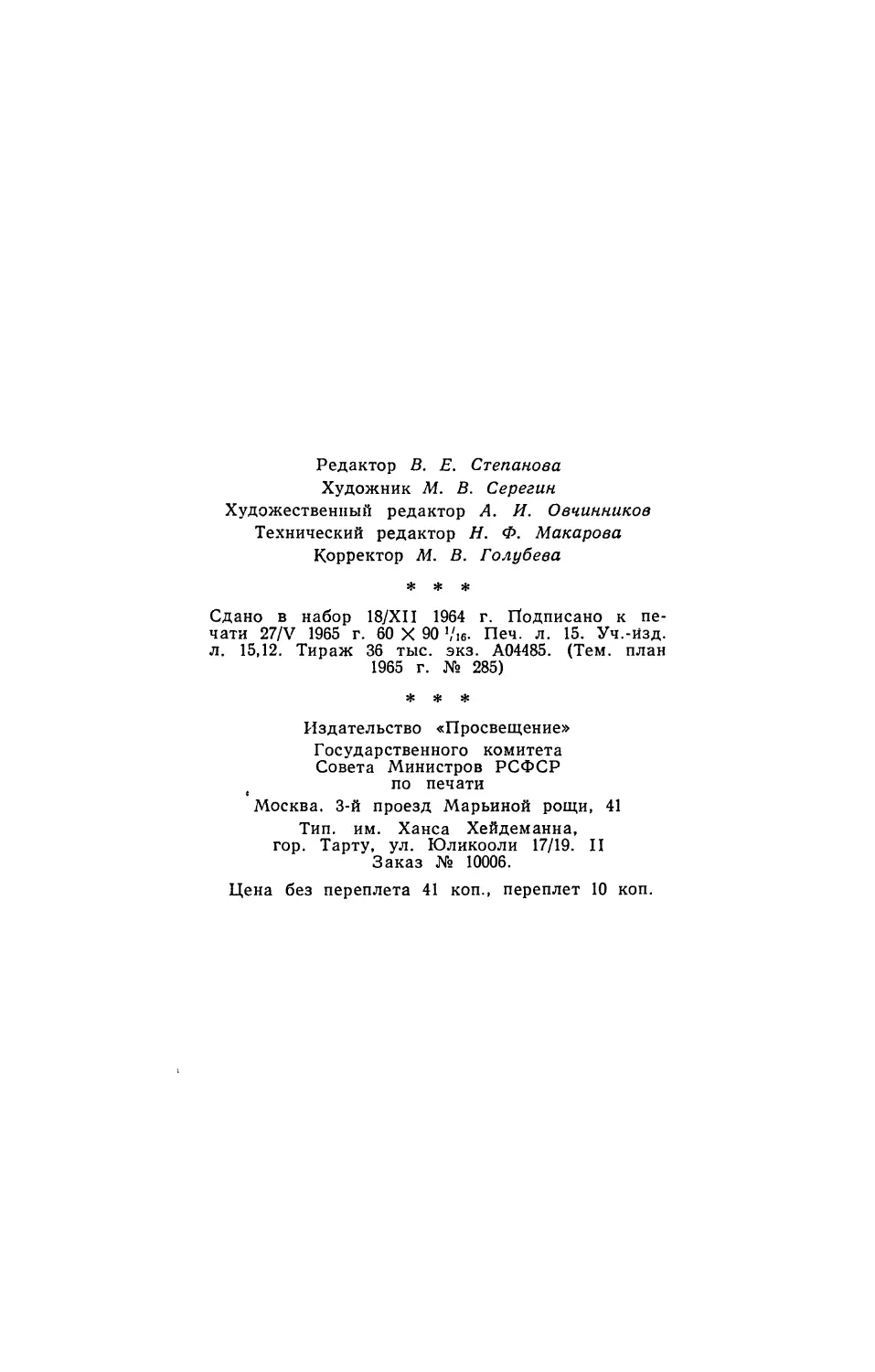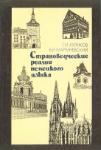Text
"VC
•Hi
^^^r^ ^^J
£ШШ
ШШш
■Г Hi
|
ИМ
laflifflfl
SfVUEmI
я?
в в е 77fa & и же л и
О.В.ВОЛОВУЕВ
а.секир.иншТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
-ПРОСВЕЩЕНИЕ
МОСКВА- 1965
Рецензенты: кандидат педагогических наук Н. И. Запорожец и кандидат
исторических наук И. Я. Лернер
предисловие
Трудно переоценить значение использования художественной
литературы в преподавании истории. Писатели могучей силой
своего дарования Еоссоздают яркую и красочную картину
прошлого. В исторических повестях и романах, по выражению
В. Г. Белинского, «история как наука сливается с искусством».
Предлагаемая хрестоматия составлена исходя из
необходимости самого широкого использования художественной
литературы в преподавании истории. Хрестоматия ставит своей целью
дать учителям подборку текстов из художественных
произведений, которые можно было бы применять на уроках по курсу
истории средних веков. Однако хрестоматийный материал
может быть использован и во внеклассной работе, особенно
в работе исторического кружка.
В основу группировки текстов положена учебная программа
по истории средних веков.
В хрестоматию включались тексты, насыщенные важным и
интересным материалом, образным и запоминающимся,
содержащим сведения, которые помогут учащимся глубже понять
изучаемую эпоху. Наряду с отрывками из художественных
произведений в хрестоматию в отдельных случаях включены также
отрывки из той научно-популярной литературы, которая
отличается значительными художественными достоинствами. Многие
тексты составители хрестоматии вынуждены были адаптировать,
чтобы сделать их доступными для учащихся.
Каждая тема в хрестоматии открывается введением, в
котором содержатся 'комментарии и некоторые методические
рекомендации по использованию текстов. Составители
старались давать методические рекомендации с таким расчетом,
чтобы не ограничивать творческие возможности преподавателя
истории.
В конце хрестоматии помещен алфавитный аннотированный
указатель использованной литературы.
Хрестоматии предпослана вступительная статья (автор
О. В. Волобуев), в которой в методологическом и методическом
плане разбираются вопросы использования художественной
литературы в обучении истории.
Составители
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
оммунистическая партия и Советское правительство всегда
уделяли много внимания преподаванию истории в школе.
Это и понятно, ибо преподавание истории не только
является составной частью общего образования, но и призвано
решать задачи коммунистического воспитания.
Еще в младших классах школьники приступают к изучению
истории — первой общественной науки, с которой они
знакомятся. С нее и начинается их познание социальной жизни.
Изучение истории расширяет духовный горизонт молодого
человека, помогает ему определить свои общественные идеалы, свое
место в той борьбе, которую ведет человечество за лучшее
будущее.
Образы революционеров от якобинцев до коммунаров, от
декабристов до большевиков-подпольщиков, образы героев
Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской и
Великой Отечественной войн, примеры героического труда и
борьбы советских людей обладают колоссальной
притягательной силой для нашей молодежи.
История имеет самое непосредственное отношение к
практике коммунистического строительства. Знание истории
является одним из основных факторов, формирующих
коммунистическое сознание человека.
Поэтому от того, как преподается история, насколько
учитель истории смог овладеть умами и душами детей, зависят не
только их знания, но и дело воспитания из них активных
строителей коммунизма. Естественно, что разработка вопросов
методики преподавания истории выдвигается жизнью как очень
серьезная и ответственная задача.
Историю нужно преподносить учащимся как живую, яркую
и полнокровную картину прошлого, а не обедненно и
схематично. Если история предстает перед глазами учащихся
только лишь как сухой перечень хронологически
расположенных событий и фактов, то люди — творцы истории — остаются
6
как бы в тени, не видно их конкретного участия в общественной
жизни, а события (восстания, войны, реформы и т. д.), теряя
свою индивидуальную окраску, становятся похожими друг на
друга
Чтобы избежать схематизма, оживить историю, дать
почувствовать колорит каждой эпохи и индивидуальную
неповторимость каждого события, необходимо как можно шире
использовать многообразные средства художественной
изобразительности. О значении художественной- изобразительности в
преподавании истории писали многие видные советские и
дореволюционные историки (Н. Рожков, С. Сказкин, В. Вернадский
и др). Например, в лекциях по методике преподавания
истории, прочитанных на педагогических курсах, обращаясь к
учителям, Н. Рожков говорил: «Вы должны преподать материал
в художественной форме» 1.
Разрешение многих волнующих вопросов, как, скажем,
привитие интереса к истории и обеспечение прочности знаний
учащихся, тесно связано с художественной изобразительностью в
преподавании истории. Мысль, выраженная посредством образа,
наиболее доступна детскому пониманию. В этой связи нельзя не
оценить меткого замечания методиста В. Уланова о том, что
исторический интерес большей частью появляется после
интереса художественного2. Дети гораздо быстрее усвоят материал
урока в* образном, более доступном для них и более
эмоциональном изложении. Прискорбно, что мы порой забываем
в своей практической работе о роли эмоций в процессе
запоминания и познавательной деятельности, о психологических основах
обучения.
Значение художественной литературы в преподавании
истории не исчерпывается тем, что она дает конкретно-наглядное
изображение исторических фактов. Художественная литература
также является существенным элементом повышения общей
культуры и учителя, и учащихся.
Не каждый преподаватель умеет выразительно и образно
изложить исторический материал. Но это умение вырабатывается
так же, как и любое другое. Этому может научить
художественная литература. Она много даст тому преподавателю,
который будет вдумчиво и старательно учиться у нее форме
изложения.
Использование художественной литературы в преподавании
истории — это вопрос не только методический, но и методоло-
1 Н. Р о ж к о в, Методика преподавания истории и история XIX века,
Пг., 1918, стр. 44.
2 См.: В. Уланов, Опыт методики истории в начальной школе, М^
1918, стр. 67.
7
гический. История — как одна из общественных наук и
литература — как форма искусства каждая по-своему отражают
жизнь общества в его развитии. В соответствии с марксистско-
ленинской теорией отражения наука и искусство суть разные
пути познания реальной действительности. Наука познает мир
в форме понятий, категорий, законов; искусство — в форме
художественного образа.
История и литература сплошь и рядом рассказывают
разными языками об одном и том же: они говорят о людях,
которые жили, и об эпохе, в которую эти люди жили. Вопрос
сводится к тому, в какой степени художественная литература
является средством исторического познания.
Классики марксизма-ленинизма не раз отмечали значение
художественной литературы как средства познания
исторической действительности. С этой точки зрения К. Маркс
чрезвычайно высоко оценивал английских писателей-реалистов
середины XIX века (Диккенса, Теккерея, Бронте, Гаскелл). «..
.Блестящая плеяда современных английских романистов, — писал
К. Маркс, — которые в ярких и красноречивых книгах
раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все
профессиональные политики, публицисты и моралисты вмесяге
взятые, дала характеристику всех слоев буржуазии, начиная с.
«весьма благородного» рантье и капиталиста, который считает,
что заниматься каким-либо делом — вульгарно, и кончая
мелким торговцем и клерком в конторе адвоката» К
Одним из любимых писателей К. Маркса, по свидетельству
его дочери Элеоноры, был прославленный автор исторических
романов Вальтер Скотт. К. Маркс восхищался им и постоянно
его перечитывал2. Ф. Энгельс, говоря о шотландском клане,
отмечал, что «в романах Вальтера Скотта перед нами, как
живой, встает этот клан горной Шотландии» 3.
У К. Маркса и Ф. Энгельса в ряде работ, в частности в
«Капитале», встречаются ссылки на другого писателя — Бальзака.
Характеризуя познавательную ценность его реализма, Ф.
Энгельс писал, что Бальзак «... в своей «Человеческой комедии»
дает нам самую замечательную реалистическую историю
французского общества, описывая в виде хроники, почти год за годом
с 1816 по 1848 г., все усиливающийся напор поднимающейся
буржуазии на дворянское общество ...» и что он из
произведений Бальзака «... даже в смысле экономических деталей узнал
больше (например, о перераспределении движимого и
недвижимого имущества после революции), чем из книг всех спе-
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе», Гослитиздат, М., 1958, стр. 197.
2 Там же, стр. 283.
3 Там же, стр. 184.
8
циалистов — историков, экономистов, статистиков этого
периода, вместе взятых» 1.
В работах В. И. Ленина можно найти немало примеров
использования художественной литературы. Так, при
характеристике условий жизни русского крестьянина в пореформенный
период В. И. Ленин в труде «Развитие капитализма в России»
обращается к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина и
В. Вересаева. Интересно отметить, что М. Е. Салтыков-Щедрин
цитируется в работах В. И. Ленина 320 раз.
Среди историков-методистов принято делить
художественную литературу на две части: 1) литературу, авторами которой
были современники описываемой эпохи, и 2) литературу,
авторы которой писали о событиях прошлого.
Хотя произведения, авторы которых не жили в
изображаемую ими эпоху, создавались на основе исторических
источников и исследований, они так же, как и произведения
современников прошедших эпох, служат средством приобретения
знаний о прошлом для широкого круга читателей, в том числе
и для учащейся молодежи.
У многих людей представления о Нидерландах времен
буржуазной революции XVI века или об Отечественной войне
1812 года сложились не только по школьным учебникам, а и по
романам Шарля де Костера и Льва Толстого. А* об эпохе
Петра I им незабываемо рассказали бессмертные
произведения А. С. Пушкина и роман Алексея Толстого.
Художественная литература вводит нас в жизнь прошлых
поколений и заставляет понять ее. Особенно ценна
художественная литература в изображении быта и нравов описываемой
эпохи и в характеристике исторических личностей. Какие
неповторимо точные детали находит писатель, чтобы буквально
несколькими штрихами создать надолго запоминающееся
историческое представление! Магия факта сливается здесь с магией
слова! «Прошлое, — говоря словами историка В.
Вернадского,— может быть изображено не только пером ученого —
оно может быть представлено в живых, ярких образах мастером
художественного слова» 2.
Не каждое художественное произведение, в котором
говорится о прошлом, можно считать историческим. Известные
имена, даты и некоторые бытовые детали прошедших времен
могут быть только реквизитом. Но нужен не исторический
реквизит, а историзм в содержании художественного произведения.
Вряд ли кто подвергнет сомнению гениальное пушкинское
определение исторического романа: «В наше время под словом
1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, Л.,
1953, стр. 405—406.
2 В. Н. Вернадский, Методы преподавания истории в старших
классах, Л., 1939, стр. 90.
9
роман разумеем историческую эпоху, развитую в
вымышленном повествовании» К И если в одних
художественно-исторических произведениях почти не встречается вымышленных
действующих лиц и событий, как, например, в романе-хронике
Р. Швейхеля «За свободу», то в других, как, например, в
«Жакерии» Л. Мериме, почти все герои вымышлены. Но и в том, и в
другом произведении перед нами исторически достоверное
воспроизведение эпохи — то, что делает эти произведения
историческими.
Писатель имеет право на художественный вымысел,, однако
и историк вправе предъявить свои требования к художественно-
историческим произведениям. Очень удачно, на наш взгляд,
сказал о соотношении вымысла и исторической правды в
художественной литературе советский историк В. Т. Пашуто: «Автор
истинно художественного произведения вправе, разумеется,
писать о том, чего нет в источниках, но, претендуя на историзм,
он не может игнорировать то немногое, что сохранилось от
древности» 2.
Само собой разумеется, что художественная литература не
в одинаковой степени отражает различные периоды истории.
Да и литературные произведения отличаются друг от друга и
по богатству сообщаемых ими исторических сведений, и по
своим художественным достоинствам. Поэтому художественно-
исторический материал, которым будет располагать учитель,
неравномерно распределится по темам и урокам.
Вопросы использования художественной литературы в
преподавании истории разрабатывались некоторыми советскими
методистами. В частности, работы по данной теме имеют
В. А. Классен и Г. О. Цвикальская3. Проявляют интерес к
этим вопросам и методисты стран народной демократии 4.
Работа преподавателя истории с художественной
литературой в учебных целях распадается на два этапа: 1)
подготовительный, или подборка фрагментов из литературных
произведений и 2) непосредственное использование подобранных
текстов на уроках или во внеклассной работе. При отборе
текстов для использования в преподавании истории нужно
руководствоваться следующими тремя критериями: исторической,
педагогической и эстетической их ценностью.
1 А. С. П у ш к и н, Полное собрание сочинений, в 10-ти т., т. 7, изд-во
АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 102.
2 В. Т. Пашуто, Средневековая Русь в советской художественной
литературе, «История СССР», 1963, № 1, стр. 104.
* В. А. Классен, Использование художественной литературы на
уроках истории в 5—7 классах, Учпедгиз, М., 1954; Г. О. Ц в i к а л ь с к а,
Використання художным л1тератури на уроках icTOpii CPCP в 8-9 классах»
«Радянська школа», Кшв, 1958.
4 См., например, Г. Д. В и г е л ь, Преподавание истории в школах
ГДР, Учпедгиз, М., 1963.
10
Как надо понимать историческую достоверность
применительно к художественному произведению? Ведь писатель, в
отличие от историка (не говоря уже о том, что он домысливает),
оперирует фактами, не всегда считаясь с историческими
деталями. Особенно часто встречаются хронологические смещения.
Так, например, в романе Альфреда де Виньи «Сен-Мар» отец
Жозеф, ближайший сподвижник кардиналп Ришелье, умерший
в 1638 году, принимает участие в событиях 1639—1642 годов.
В романе же Вальтера Скотта «Граф Роберт Парижский»
обстановка и многие подробности дворцового заговора 1118 года
в Византийской империи приписаны вымышленному заговору
1096 года, а царевна Анна Комнен — участница заговора, по
воле автора, из девочки, которой она была в 1096 г.,
превращена в зрелую женщину. Но исторический роман не научное
исследование, и никто по нему не будет изучать хронологическую
последовательность событий. Писатель подчиняет исторические
факты своим художественным планам. Но если фактические
неточности, которые допускает автор, не извращают
исторического смысла изображаемого, то в целом применительно к
художественному произведению мы можем говорить о его
исторической достоверности.
При определении историко-познавательной ценности
художественного произведения необходимо помнить о неизбежном
субъективизме художественной литературы. В ней часто встречаются
односторонние и ошибочные оценки исторических лиц и
событий. Обычно это связано с той или иной идейной позицией
писателя, которая приводит к идеализации или модернизации
прошлого. В таком случае вопрос сводится к тому, как идейная
позиция писателя отразилась на исторической правде
произведения. Если идейная позиция писателя не помешала ему в общем
правдиво отобразить эпоху, то по его произведениям можно
знакомиться с картинами прошлого. Исторически достоверными
являются романы В. Скотта и О. Бальзака, хотя по своим
политическим убеждениям писатели были сторонниками монархии.
Исторически достоверно изобразил католическую Испанию
XVI—XVII веков ортодоксальный католик Э. Ларрета.
Исторически достоверны и романы склонных к модернизации
прошлого Л. Фейхтвангера и Г. Манна. В этом сказывается
волшебное свойство реализма, который, по выражению Ф. Энгельса,
«проявляется даже независимо от взглядов автора» {.
Развивая свою мысль на примере творчества О. Бальзака,
Ф. Энгельс писал: «Я считаю одной из величайших побед
реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то,
1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, Л.,
1953, стр. 405.
11
что он принужден был итти против своих собственных
классовых симпатий и политических предрассудков...» {
Педагогическая ценность текста определяется его
воспитательным значением и тем, насколько характер фрагмента
соответствует принципу доступности, возможностям восприятия
учащихся, их возрасту и уровню подготовки.
Каждому преподавателю истории было бы полезно составить
картотеку фрагментов из художественных произведений в
соответствии со школьными историческими курсами. Так как не
всегда нужное произведение имеется у преподавателя или в
школьной библиотеке, отобранные тексты следует выписать на
карточки. Как правило, отобранный текст нуждается в
адаптации. Необходимо убрать из него все лишнее, затемняющее его
учебное содержание, сделать его легко воспринимаемым
учащимися. На карточке следует указать не только название книги,
но также год и место ее издания и страницы, откуда был
выписан текст. Еще проще, если школа располагает магнитофоном,
воспользоваться возможностями звукозаписи. Магнитофонная
лента может стать своеобразной говорящей хранительницей
текстов. Для облегчения в дальнейшем поисков нужных текстов
на каждую магнитофонную ленту должна быть заведена
карточка. В карточке указывается порядок расположения
отрывков, их название, к каким темам они относятся и откуда взяты.
Через несколько лет в распоряжении учителя будет обширный
и ценный материал, который он с успехом сможет применять
в своей работе.
Подборка фрагментов, безусловно, дело нелегкое. Поэтому
на помощь учителю должны прийти хрестоматии с отрывками
из художественной литературы. Такие хрестоматии когда-то
имелись, но несмотря на то что они устарели и поэтому не
могли быть использованы учителем, подобных изданий не было
вплоть до последнего времени. И только наконец сейчас они
начинают создаваться 2.
Методические пути и приемы использования
художественной литературы в преподавании истории разнообразны.
Художественная литература может применяться как на уроках, так
и во внеклассной работе. Рассмотрение внеклассной работы не
входит в наши цели. Этому вопросу посвящена специальная
литература3.
1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, Л.,
1953, стр. 406.
2 А. И. Назарец, Т. Я. Папенкова, История СССР в
художественно-исторических образах, Учпедгиз, М., 1963; В. П. М и р н и и,
М. М. Д р i б н и й, Л1тературна хрестомат1я з истори СРСР, Кшв, 1960.
3 А. Ф. Родин, Внеклассное чтение по истории, изд. АПН РСФСР, М.,
1959; «Хрестоматия по внеклассной работе. Школьные исторические вечера»,
сост. М. М. Терехов, Учпедгиз, М., 1964; А. НГ Хмелев, Исторический
кружок в школе, Учпедгиз, М, 1964.
12
Использовать художественную литературу в преподавании
истории можно по-разному: 1) вводя органически ее материал
(сюжетные линии, сцены, образы, выражения) в изложение
учителя в переработанном виде (пересказ); 2) зачитывая вслух
в связи с изучаемым вопросом отрывки из книг
(цитирование); 3) предлагая учащимся самостоятельно работать над
текстом.
В школьной практике, пожалуй, более распространен
второй путь: чаще всего учитель (иногда он предлагает это сделать
учащимся) зачитывает на уроке отрывки из художественной
литературы. Однако первый путь — включение в рассказ учителя
переработанного им материала художественной литературы —
обладает, на наш взгляд, большими педагогическими
преимуществами. Чтением в классе нельзя увлекаться. Не следует
читать из урока в урок, и чтение не должно быть затяжным.
Здесь необходимо чувство меры. Только в том случае, если как
говорится, отрывок «просится» в чтение, целесообразно
прибегать к этому приему. Но обязательно, чтобы отрывок был
небольшим по объему. При длительном и систематическом чтении
учитель как бы отодвигается на второй пл'ан и невольно
воспринимается учащимися как чтец, как передатчик, а не как
источник знания. Пересказ открывает более широкие возможности
для использования художественной литературы. Учитель не так
скован ее текстом, который писатели создавали отнюдь не для
школьных целей. Обогащенный образами, примерами,
выражениями, взятыми из художественной литературы, рассказ
учителя становится захватывающим, и дети легче запоминают его.
Об уроке, построенном йа использовании художественной
литературы, писали В. Вернадский и другие методисты К В.
Вернадский даже выделил его в отдельный самостоятельный тип урока.
Образцом такого урока могут быть знакомые всем учителям
уроки по истории древней Греции, в основе которых лежат
поэмы «Илиада» и «Одиссея». В нашей хрестоматии
рекомендуется провести урок, построенный на использовании
художественной литературы, по теме «Жизнь и быт феодалов».
Примерно также могут быть построены уроки по темам «Жизнь
и быт крепостных крестьян», «Борьба городов с феодалами.
Жизнь и быт горожан», «Восстание английских крестьян под
предводительством Уота Тайлера», «Причины и начало
крестьянской войны в Германии» и т. д. Но урок, построенный
преимущественно на использовании художественной литературы,
встречается не так уж часто. Обычно не весь урок, а только какая-то
его часть строится на фрагментах из художественной
литературы.
1 В. Н. Вернадский, Методы преподавания истории в старших
классах, Л., 1939.
13
Так как в нескольких художественных произведениях могут
быть освещены одни и те же исторические события, то особое
значение для учителя приобретает умение составить свой
рассказ на основе литературного монтажа К Так, например, в
нашей хрестоматии по уроку «Жизнь и быт феодалов» приводится
ряд отрывков из различных книг разных авторов. А ведь
учитель может иметь еще и другие материалы, отобранные им
лично. Описание Варфоломеевской ночи учитель найдет и в
«Хронике времен Карла IX» Проспера Мериме, и во второй
части дилогии Генриха Манна «Зрелые годы короля
Генриха IV», и в «Королеве Марго» Александра Дюма-отца
(который, кстати, чересчур вольно обращался с историей). Героиня
французского народа Жанна д'Арк привлекала внимание и
Фридриха Шиллера, и Анатоля Франса, и Марка Твена, и
Бернарда Шоу, и Анны Зегерс. Поэтому в рассказах о
Варфоломеевской ночи и героическом подвиге Жанны д'Арк может
потребоваться литературный монтаж.
Не, менее часто литературный монтаж бывает необходим
и при работе с одной книгой, когда приходится иметь дело
с чересчур растянутыми описаниями, в которых много лишнего
с точки зрения преподавателя истории, готовящего отрывок к
использованию на уроке.
Порой учитель истории пересказывает какой-нибудь сюжет,
взятый из художественного произведения. Так, учащиеся
хорошо воспримут пересказ фабулы, приведенной в хрестоматии
новеллы Боккаччо, в которой разоблачаются плутни
церковников.
Особенно незаменимой окажется художественная литература
при составлении характеристик исторических личностей и
обобщенных образов представителей различных классов и
социальных групп: средневекового крестьянина, ремесленника,
купца, рыцаря. Мастерски вылепить все эти образы на фоне
быта соответствующей эпохи трудно без помощи литературы.
Литература поможет учителю запечатлеть в памяти учащихся
таких исторических деятелей, как, например, Жанну д'Арк
и Уота Тайлера, Яна Жижку и Яна Гуса, Николая Коперника
и Джордано Бруно. Исторический портрет в известной степени
сродни литературному, потому что и в том, и в другом случае
создается образ человека.
Педагогическая практика выработала ряд приемов
использования отрывков из художественно-исторической литературы
на уроках истории. Очень часто 'отрывок зачитывается как
иллюстрация к какому-нибудь положению, которое разъяснил
учитель. Так, например, кровавые законы против бродяг и нищих
1 А. И. Назарец и Т. Я. Папенкова в указанном выше
пособии называют литературным монтажом один из приемов зачитывания
текстов. Нами это выражение употребляется в ином смысле.
14
в Англии XVI века проиллюстрируются отрывками из книги
«Принц и нищий» Марка Твена, а тяжелое положение крестьян
в средневековом Китае — стихами поэтов эпохи Тан.
Чтением наиболее ярких фрагментов из
художественно-исторической литературы можно иногда заменить изложение
учителем какого-либо исторического события или какого-то
отдельного вопроса. Так, рассказ учителя о расправе феодалов над
крестьянами после поражения крестьянской войны в Германии
вполне заменит отрывок из романа Р. Швейхеля «За свободу».
Учитель может не рассказывать о первой и второй встречах
крестьян под предводительством Уота Тайлера с английским
королем. Достаточно будет прочесть учащимся (сочетая с показом
настенной учебной картины) те места из книги 3. Шишовой
«Джек-Соломинка», в которых описываются эти встречи.
Иногда при чтении отрывка можно, стремясь усилить
эмоциональное воздействие текста, прибегать к приему
драматизации, т. е. выразительному чтению текста в лицах. Для этой цели,
кроме отрывков из драматических произведений (в нашей
хрестоматии, например, приводятся отрывки из пьес Б. Брехта и
Дм. Смолина о Галилее), подходят и диалогизированные тексты
(например, отрывок о собрании крестьян из книги Ф. Клар
«Жаки»).
Перед цитированием отрывков полезно предложить
учащимся проблемно-познавательную задачу. Так, при
цитировании отрывка о крестьянских повинностях из романа М. Твена
«Янки при дворе Короля Артура» можно попросить учащихся
определить, какие из перечисленных в отрывке повинностей
относятся к барщинным, а какие к оброчным, о каких
привилегиях феодалов говорится в отрывке или же при цитировании
отрывков о положении крестьян накануне Жакерии из книг
«Проклятое урочище» А. Бэро и «Жаки» Ф. Клар перед учащимися
можно поставить следующую проблемно-познавательную
задачу: определить, каковы были причины Жакерии.
Точно так же рекомендуется учителю подготовить вопросы,
которые он мог бы задать учащимся после цитирования отрывка
(такие вопросы в нашей хрестоматии приводятся в качестве
примера; исходя из своих задач и своего плана урока, учитель
может их составить без особого труда сам). Наиболее
подходящими для этих целей будут тексты, анализ которых дает
дидактический эффект (например, отрывок об убийстве Уота
Тайлера из книги 3. Шишовой «Джек-Соломинка», в котором
показаны царистские иллюзии крестьян и близко к тексту документа
изложены их требования).
Время от времени художественно-исторический материал
может открывать собой или подытоживать рассказ учителя.
Например, приступая к изучению темы «Установление феодального
*троя в Восточной Римской империи», учитель может использо-
15
вать описание столицы империи Константинополя в книге
А. Ладинского «Когда пал Херсонес ...». Стихотворение
Максима Рыльского «Памятник Копернику в Кракове»,
воспевающее научный.подвиг великих ученых XVI века, будет
запоминающейся эмоциональной концовкой урока на тему «Борьба
между наукой и церковью».
Материал художественной литературы применяется и в
сочетании с другими средствами обучения. Неоднократно во
введениях к тематическим подборкам в хрестоматии рекомендуется
использовать одновременно отрывки из
художественно-исторической литературы, настенные картины и иллюстрации учебника.
Художественный текст помогает раскрыть содержание
иллюстративного материала, а графический образ дополняет образ
литературно-художественный.- Внешняя наглядность
органически соединяется с внутренней наглядностью, и созданные в
результате этого двойного воздействия исторические
представления отличаются яркостью и прочностью.
Интересен также прием сочетания документа с отрывком из
художественной литературы. Этим документу придается
эмоциональная окраска, а отрывок приобретает историческую
убедительность. Порой отрывок из художественного произведения
настолько бывает близок к тексту документа, что может собой
заменить последний (например, отрывок «12 статей» из романа
Р. Швейхеля «За свободу» или изложение требований
восставших крестьян в отрывке из книги 3. Шишозой
«Джек-Соломинка»).
В ряде случаев отрывок из художественной литературы
удачно иллюстрирует те или иные высказывания классиков
марксизма-ленинизма. Так, слова Ф. Энгельса: «...золоте —
вот чего первым делом требовал белый, как только он ступал
на вновь открытый берег» 1 — образно иллюстрируются
следующими строками из поэмы Генриха Гейне «Бимини»:
И когда в вигвам индейца
Заходил теперь испанец,
Он там спрашивал сначала
Золота, потом — воды.
Отрывки из художественно-исторической литературы найдут
себе применение и на повторительно-обобщающих уроках. Для
того чтобы преподнести учащимся уже ранее знакомый им
материал в новом виде, для того чтобы оживить и разнообразить
урок, можно вводить в него отрывки из художественной
литературы Отрывки должны подбираться с таким расчетом, чтобы они
способствовали закреплению, углублению и расширению знаний
учащихся.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1, т: XVI, ч. 1,
стр. 442.
16
Вопрос о том, как и когда учителю применить
художественную литературу, нельзя решать также безотносительно к ее
жанру. Сам жанр художественного произведения
наталкивает на определенное использование его материала. Сатира,
например, как никакой другой жанр художественной
литературы, будет нужна там, где речь пойдет о реакционном и
консервативном. Специфические приемы сатиры резко и рельефно
выявят и подчеркнут реакционное содержание тех или иных
исторических явлений и событий и политической деятельности
тех или иных исторических личностей. Героико-эпический или
сатирический, задушевно-лирический или драматический
характер фрагмента из художественной литературы создает тот
эмоциональный фон, который влияет на восприятие учащимися
исторической личности или события, на отношение к ним.
Эмоциональное воздействие художественно-исторического
текста зависит и от чтеца. Чем выразительнее чтение, тем более
сильное впечатление оно производит на учащихся. Поэтому
некоторые тексты в хорошем исполнении (особенно это важно
для учителя, не обладающего мастерством чтеца)
целесообразно записать на магнитофонную пленку, которую
впоследствии можно будет использовать на уроках и внеклассных
занятиях.
Учитель истории должен не только привить учащимся
любовь к художественно-исторической книге, но и научить их
пользоваться историческими сведениями, почерпнутыми из
художественной литературы. Желательно, чтобы учащиеся прочли
те исторические повести и романы, в которых получила
отражение данная тема. Список минимума рекомендуемых книг
имеется в учебнике по истории средних веков. Чтение исторических
повестей и романов учитель должен взять под свой контроль.
В ряде случаев при чтении учащимися художественной
литературы надо рекомендовать им, скажем, отобрать те места, в
которых рассказывается о тяжелом положении народных масс,
описывается жизнь.и быт представителей различных
социальных слоев; обратить внимание на проявление классовой борьбы;
составить на основании прочитанного характеристику той или
иной исторической личности; выразить свое отношение к
изображаемым событиям и т„ д. Если большинство учащихся прочли
книгу, то учитель в ходе урока может просто сослаться на ее
содержание. Отдельным учащимся стоит давать задания —
подготовить к уроку красочный рассказ, основываясь на материале
той или иной книги (рассказ о рыцарском турнире но роману
В. Скотта «Айвенго», рассказ о пражском восстании 1419 г.
по книге Ал. Алтаева и Арт. Феличе «Могучий слепец» и т. д.).
Изредка можно практиковать творческие сочинения,
построенные в полубеллетристической форме. Самостоятельная работа
2 Сост. О. В. Волобуев и др.
17
учащихся как в классе, так и дома над текстом
художественно-исторических произведений — составная часть всестороннего
использования тех богатых возможностей, которые
предоставляет учителю истории художественная литература.
Использование художественно-исторического материала
должно получить свое отражение и в опросе учащихся. Без
опроса нельзя проверить, насколько художественная
литература обогатила знания учащихся по истории, как учащиеся
практически в состоянии пользоваться литературным
материалом. Надо поощрять тех учащихся, которые стараются
изложить свой ответ в художесгвенно-выразительной форме. Также
следует поощрять и ссылки учащихся на прочитанную ими
художественно-историческую книгу. Только так учитель
выработает у учащихся привычку привлекать материал
художественной литературы к изучению истории и обратит их внимание не
только на содержание, но и на форму ответа, на то, как они
излагают исторические события. Комментируя ответы учащихся,
нужно всегда особо отмечать умение ученика применять
материал художественной литературы и
художественно-выразительно строить свой рассказ.
Конечно, трудно предусмотреть все те приемы работы с
художественно-исторической литературой, которые встречаются
в практике учителей. Как, где и какой именно художественно-
исторический материал использует учитель — это вопрос сугубо
творческий. Поэтому все конкретные рекомендации, которые
имеются в методических пособиях, должны восприниматься как
совет, но отнюдь не как обязательное наставление.
Применение художественной литературы в преподавании
истории не должно быть единичным, от случая к случаю,
явлением, а должно стать системой в работе учителя. Но нельзя не
указать и на опасность чрезмерного увлечения этой стороной
преподавания. Надо учить учащихся видеть за конкретными
историческими картинами проявление закономерностей
исторического процесса. Блестящим примером органического слияния
научности и образности являются труды на^их великих
учителей — Маркса, Энгельса, Ленина.
УСТАНОВЛЕНИЕ
ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ
УСТАНОВЛЕНИЕ
ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ
В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЕВРОПЕ
1Г~ема «Установление феодального строя в Западной и
Центральной Европе» является ключевой темой
школьного курса истории средних веков, так как в ней
освещается генезис феодализма и дается общая
характеристика феодальной формации, раскрываются основные
черты феодального способа производства, рисуется
обобщенная картина жизни и быта двух классов средневековья —
крестьян и феодалов. Следовательно, если в результате
изучения данной темы у учащихся сложатся яркие исторические
представления по основным вопросам, разбираемым в ней,
то этим будет заложен фундамент курса.
Подборка фрагментов из художественно-исторической
литературы к теме открывается отрыв-ком «Суд у франков» из
беллетризированного научно-популярного очерка Л.
Чиколини в «Книге для чтения по истории средних веков», под
редакцией С. Д. Сказкина. Отрывок важен не только тем, что
в нем рисуется яркая картина судопроизводства, но и тем,
что здесь раскрывается начало социального расслоения у
франков. Очерк Л. Чиколини интересен для учащихся, так
как он построен на фабульной основе. Учитель может свя-
2*
10
зать отрывок с приведенным в школьном учебнике
документальным материалом из сборника законов франков.
В следующем отрывке «Закрепощение крестьян» из
научно-популярной книги А. Каждана «В поисках минувших
столетий» рассказывается, как на основе исторических
источников восстанавливается процесс ограбления и закабаления
крестьянства в период раннего средневековья. Отрывок
ценен тем, что в нем автор в доступной форме знакомит
учащихся с приемами исторического исследования.
Рассказ учителя о повинностях феодально-зависимых
крестьян может стать более образным и эмоционально
окрашенным, если он использует насыщенный обличительным
пафосом отрывок «Повинности крестьян» из романа Марка
Твена «Янки при дворе короля Артура». Следует только
помнить, что характеристика крестьянских повинностей дана
писателем в очень обобщенной форме, без хронологической
конкретизации.
Небольшой по объему отрывок «Вилланы на барщине» из
повести М. Гершензона «Робин Гуд» может быть зачитан на
уроке. У учащихся определенно запечатлеется в памяти
песня косарей-вилланов, приведенная в отрывке. Хотя
зарисовка барщинной работы относится к феодальной Англии, она
вполне может быть использована при суммарной
характеристике повинностей европейских крестьян.
Урок на тему «Жизнь к быт крепостных крестьян» в
значительной мере можно построить на использовании
отрывков «Аббат и барон делят крепостных крестьян» из романа
A. Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции» и
«В средневековой деревне» из книги К. Иванова
«Средневековая деревня и ее обитатели». Бесправие крепостных
крестьян, произвол феодалов, жадность и отвратительное
лицемерие католической церкви правдиво и ярко изображены в
сюжетном отрывке «Аббат и барон делят* крепостных».
Описание средневековой деревни у К. Иванова богато деталями
сельского быта того времени, который учащиеся обычно
модернизируют.
Облик типичного средневекового замка воссоздается с
помощью фрагментов из книги Ф. Клар «Жаки» и романа
B. Гюго «Девяносто третий год», которые взаимно
дополняют друг друга.
Хорошей иллюстрацией к рассказу учителя о рыцарском
вооружении будет отрывок из романа В. Скотта «Ричард
Львиное Сердце». Классическое описание турнира
содержится в романе того же автора «Айвенго». Много
интересных подробностей о быте и нравах феодалов приводится в
отрывке «Пир у феодала» из книги К. Иванова
«Средневековый замок и его обитатели». Часть сирвенты трубадура
20
Бертрана де Борна рекомендуется зачитать и
проанализировать в классе. Следует обратить внимание учащихся на то„
что автор с исключительной откровенностью проповедует
войну и грабеж и с нескрываемым презрением и ненавистью
говорит о народе. Полезно сопоставить эту сирвенту с другой
снрвентой Бертрана де Борна, которая цитируется в
школьном учебнике Е. Агибаловой и Г. Донского (стр. 35).
В связи с содержательным историко-художественным
материалом по теме «Жизнь и быт феодалов» учитель
располагает возможностью построить урок на основе литературного
монтажа, сочетая его с показом и анализом иллюстраций
учебника (рис. 11, 15, 16, 17).
Вопрос о взаимоотношениях сеньоров и вассалов
отражен в сцене посвящения в рыцари арагонского короля из
романа Л. Фейхтвангера «Испанская баллада» и в отрывках
из средневекового эпоса «Песнь о Роланде».
Процесс возвышения князей у славян в общем правильно
схвачен в романе Ю. Крашевского «Старое предание». Героин
ческая борьба поморских славян с германскими феодалами
звучно воспета в стихотворном сказании А. К. Толстого «Бо-
ривой», отрывок из которого желательно прочесть учащимся.
СУД У ФРАНКОВ
Стоял ясный солнечный день. На вершине небольшой горы„
поросшей редким лесом и кустарником, франки окрестных
селений собрались на судебное собрание...
Этот живописный холм с давних времен служил местом
судебных собраний. По-франкски судебное собрание называлось
mallus (маллус), а эта гора носила название Мальберг, что
значит «гора совета». Правда, теперь, в VI в., собрания чаще
происходили в деревне, в особом закрытом помещении, которое
тоже называлось по-старому мальбергом. Но сегодня вспомнили
старый обычай, так как было много жалобщиков и много
желающих участвовать в судебном собрании. Среди дел были
очень важные: в походе кто-то убил королевского дружинника.
Когда все собрались, рахинбурги (так назывались судьи)
заняли места на возвышенности, а в середине сел главный судья —
тунгин. Это был осанистый седой старик, много лет подряд
выбиравшийся тунгином. Он знал лучше всех старинные судебные
обычаи. Рассказывали, что он помнил то время, когда не было
Салической правды и судили на основании устных преданий
старины. Тунгин и все рахинбурги были опоясаны мечами, а
позади каждого стоял слуга, держа в руках копье и щит
господина. Одежды судей указывали на их знатность и богатство.
Судьями выбирали лишь людей почетных и состоятельных, или,
как их называли, «лучших». У тунгина, например, была мель-
2Е
ница, на ней работали рабы; у него было много крупного
рогатого скота и многочисленные стада свиней.
Свиньи — самые распространенные и ценимые животные у
франков. У рахинбурга, сидящего по правую руку тунгина, их
не меньше 50, а охотничьи собаки его — лучшие в деревне, и
франки, страстные охотники, всегда с завистью наблюдают, как
борзые рахинбурга загоняют диких кабанов.
Другой рахинбург славится пчелами, и, кроме скота, у него
много домашней птицы — гу£ей, кур, домашних лебедей. И хотя
виноградники, пашни и сады у рахинбургов не очень велики, так
как главным богатством по-прежнему считается скот, все же
они по своим размерам значительно больше, чем у остальных
франков, которых называют «худшими».
Первым разбирается дело об убийстве королевского
дружинника. Брат убитого, высокий молодой франк с длинными
русыми усами, свисающими вниз по обычаю франков, обвиняет
воина, стоящего тут же. Оба они вооружены мечами и в руках
держат копье и щит. Да и все франки пришли на суд
вооруженными, — таков древний обычай. Хмурый воин, подозреваемый
в убийстве,, отрицает свою вину.
— Действительно, я враждовал с убитым, — говорит он, —
но видит бог, ^ не убивал его. И врагов у него было много, а
не я один.
Улики недостаточны. Свидетелей нет. Тогда встает тунгин и
обращается к обвиняемому:
— Напрасно уверяешь нас, что ты не убийца. По
Салическому закону, записанному при нашем великом короле Хлодвиге,
заподозренный в убийстве должен очиститься от обвинения.
Можешь ли ты представить 72 соприсяжника, которые
поручатся, что ты не убивал, и без ошибки произнесут священную
клятву?
— О тунгин, где же мне взять столько соприсяжников? Я не
знатен, род мой невелик.
— Тогда, согласно Салическому закону, ты подвергнешься
испытанию по божьему суду. Как хочешь ты, — обращается
тунгин к истцу, — чтобы испытали его? Каленым железом или
пусть опустит руку в котелок с кипящей водой и подержит ее
там несколько времени? Потом мы завяжем ему руку, а через
неделю узнаем, как рассудил бог, — прав он или ты. Если
заживет рука, — ты ложно обвинил его, если разболится, — то
он будет осужден по Салическому закону.
— Пусть достанет из котелка с кипящей водой это кольцо.
Если успеет вынуть его так, что рука заживет после этого через
7 дней, значит, божий суд говорит против меня, — отвечает
истец.
Бледный, но с виду спокойный, подходит обвиняемый к
котелку. Один из рахинбургов берет кольцо у истца и бросает его
22
в котелок. Вода в котелке кипит ключом. Обвиняемый
крестится, смотрит на свою руку и быстро опускает ее в котелок... Но
кольца сразу не найти. Рука вся покрылась белыми
волдырями, и всем ясно, что она не заживет скоро. Напряженное
молчание собрания прерывается возгласами: «Убийца!», «Обвинен!»,
«Бог рассудил!» Пока завязывают обожженйую руку, тунгин,
взяв текст Салического закона, читает: «... Кто лишит жизни
свободного франка или варвара, живущего по Салическому
закону, и будет в этом уличен, пусть платит 200 солидов».
— Но ведь ты убил не простого франка, а королевского
дружинника! А жизнь королевских дружинников оценивается в три
раза дороже жизни простого франка. Закон охраняет
королевских людей наравне с беззащитными детьми и женщинами,
которые продолжают род франков. В Салическом законе сказано:
«Если же кто лишит жизни человека, состоящего на
королевской службе, или же свободную женщину, присуждается
к уплате 600 солидов».
— Но ты не просто убил королевского дружинника. Ты убил
его во время военного похода и этим нанес ущерб франкскому
войску. А Салическая правда говорит: «Если кто лишит жизни
свободного человека в походе, и убитый не состоял на
королевской службе, убийца присуждается к уплате 600 солидов».
«А если убитый состоял на королевской службе, уличенный в
убийстве присуждается к уплате 1800 солидов».
— Итак, согласно Салическому закону, ты должен уплатить
1800 солидов. И суд предупреждает тебя, что если ты не
заплатишь, то будет взято все твое имущество, а если оно не покроет
виры, заплатишь виру своей жизнью.
Молча выходит осужденный из суда. Он приговорен к
самому высшему штрафу, который знает Салическая правда. Он
разорен. Ведь 1800 солидов — это очень большая сумма. За
один солид можно купить корову, за два солида — быка,
кобылица стоит всего три солида!
Сопровождаемый плачем жены, ■ детей, родственников, он
идет к своему дому и отдает все свое имущество: «Вот свиньи,
корова, рыболовная сеть, теленок, на берегу реки стоит моя
лодка. Все, что видите, берите, больше ничего нет!»
Л. Чиколини, Суд во времена
«Салической правды». — В кн.: «Книга для чтения по
истории средних веков», под. ред. С. Д. Сказки-
на, ч. 1, Учпедгиз, М., 1951, стр. 107—110.
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯН
Перелистаем мысленно сухие пергаментные страницы
средневековых грамот. Вот вдова продает феодалу клочок земли,
потому что бык пал и не знает она, как обработать поле, и нет
23
средств, чтобы прокормить двоих маленьких сыновей. Вот
старик крестьянин отдает феодалу свой надел за теплый угол,
одежду и пропитание до конца дней. Вот крестьянская семья
берет деньги в долг и клятвенно обещает возвратить их в день
св. Михаила (29 сентября), а если не вернет, что ж, тогда
ростовщику перейдет весь надел. Вот история братьев, которые
сообща владели садом, унаследованным от отца, но один из
братьев пошел в монахи и должен сделать вклад в монастырь.
Они приходят к судье, и судья выносит решение: пусть братья
разделятся; пусть младший брат проведет границу на участке
как ему вздумается, а после этого пусть старший брат выберет
себе любую часть.
Сколько этих грамот, толкующих о дарениях и продаже
земли, о займах и закабалении! Вот они, записанные на
клочках пергамента, заверенные свидетельскими показаниями или
же переписанными аккуратным почерком в картулярий —
специальную книгу, которую ведут в монастыре, регистрируя новые
приобретения земли и зависимых людей. В одном только Фрей-
зингенском монастыре уже к середине VIII века скопилось
около семисот таких грамот! И все они — однообразные,
скучные, сухие, написанные на испорченном латинском языке,
полные ошибок в грамматике и в арифметике, — все они
содержат повесть о том, как было ограблено и закабалено
крестьянство.
Если изучать эти грамоты, можно выяснить, в какое время,
в каких областях были закрепощены крестьяне; можно видеть,
как это закрепощение протекало, к каким ухищрениям
прибегали феодалы; можно узнать, какие права за крестьянами
сохранялись; можно установить, в каких областях уцелело
свободное и полусвободное крестьянство.
А. К а ж д а н, В поисках минувших
столетий, Детгиз, М, 1963, стр. 120—121.
ПОВИННОСТИ КРЕСТЬЯН
Они (крестьяне. — О. В. и С. С.) считались свободными, но
не могли уйти из поместья своего лорда или своего епископа без
позволения; они не имели права сами молоть свое зерно и печь
для себя хлеб,, они обязаны были отвозить все свое зерно на
мельницу лорда, всю свою муку в пекарню лорда и за все это
хорошенько платить. Они не могли продать ни клочка своей
земли, не уплатив лорду изрядного процента с вырученных
денег, а покупая чужую землю, они платили лорду за позволение
совершить покупку; они должны были даром убирать его хлеб и
являться по первому его зову, бросая свой собственный урожай
в добычу надвигающейся буре; они обязаны были разрешать
24
ему сажать фруктовые деревья на их полях и сдерживать свой
гнев, когда сборщики плодов по небрежности вытаптывали хлеб
вокруг деревьев; они должны были подавлять свое негодование,
когда лорд с гостями во время охоты скакал по их полям,
уничтожая все, достигнутое терпеливыми трудами; они не имели
права держать голубей, если же стаи голубей из голубятни
милорда слетались пожирать их урожай, они не смели, рассердясь,
убить ни одной птицы, так как за это полагалась тяжкая кара;
когда Же, наконец, им удавалось собрать жатву, сразу налетала
банда хищников, каждый за своей долей: сначала церковь
взимала жирную десятину, затем королевский сборщик —
двадцатую часть, затем люди милорда отрывали изрядный кусок от
того, что оставалось; и только тогда ограбленный свободный
человек мог отвезти свой урожай к себе в житницу, если
только его еще стоило везти; а потом — налоги, налоги, налоги, и
снова налоги, и налоги опять, налоги, которые должен платить
только он, свободный и независимый нищий, но ни господин
его — барон, ни епископ, ни расточительная знать, ни
всепожирающая церковь; если барону не спалось, свободный
человек после трудового дня должен был сидеть всю ночь напролет
у пруда и стегать по воде прутом, чтобы лягушки не квакали;
... и, наконец, если свободный человек, доведенный этими
муками до отчаяния, хотел прекратить свою невыносимую жизнь и
покончить с собой, ища прибежища и милосердия у смерти,
кроткая церковь обрекала его на вечные муки ада, кроткий
закон хоронил его в полночь на перекрестке дорог, вогнав ему
кол в спину, а его господин — барон или епископ — забирал
себе его имущество и выгонял его вдову с сиротами на улицу.
М. Твен, Янки при дворе короля Артура,
Гослитиздат, М., 1953, стр. 72—73.
ВИЛЛАНЫ НА БАРЩИНЕ
В день святого Петра ... зазвенели косы на полях вокруг
Сайлса. Высоко подымались рожь и ячмень; тяжелые колосья
и в ночь не остывали: золотые упругие ости шуршали теплом,
как горячие обломки солнечных лучей.
На заре косари выходили на барщину. Они шли к
господским полям мимо своих полосок. Жаворонки взлетали из-под
ног. В полдень звенели жаворонки в синем небе, а косари
запевали песню:
Коси, виллан, сплеча, сплеча, Господский хлеб мы снимем в срок,
Покуда нива горяча, Отбудем помочь и оброк,
Овес, пшеницу и ячмень, А с нашим хлебом подождем,
Пока придет Михайлов день. Пока поляжет под дождем ...
25
С господских полей урожай ручейками и реками тек в
закрома, а на болотистых и каменистых участках вилланов хлеб все
стоял; пернатые воры клевали зерно, и мыши растаскивали его
по своим подземельям.
М. Гершензон, Робин Гуд, Детиздат, М.,
1940, стр. 31—32.
АББАТ И БАРОН ДЕЛЯТ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН
... В тот день на аббатском дворе с самого раннего утра
началась суматоха: монахи и соседний барон приступили к
дележу наследия некоего рыцаря. Все совершалось на основании
его законного завещания, в силу которого имение покойного,
только что покинувшего земную юдоль и не оставившего после
себя наследников, переходило в равных частях к дому божьему
и барону Марселю де Жуанво, в благодарность рыцаря за его
защиту и покровительство...
... Дележ наследства начали без особых затруднений.
Сравнительно легко удалось договориться относительно земельных
владений умершего рыцаря, и сам настоятель, невзирая на свою
дородность, обошел с посохом в руке каждый югер \ совместно
с бароном и измерителем. Затем без больших споров поделили
крупный и мелкий скот и его приплод. Не вызвала разногласий
и дележка коней. Но когда дело дошло до сервов, задача
оказалась более трудной.
Обширный монастырский двор был полон народа и монахов.
Сюда согнали еще на рассвете сервов покойного рыцаря, чтобы
осмотреть каждого и определить его ценность и годность к
работе. Радульф, неизменно с посохом в руке, стоял на
крыльце ... откуда весьма удобно озирать весь двор. Сервов делили
по семействам, и таковых оказалось двадцать два, число весьма
удобное для подобного предприятия, однако не во всех семьях
насчитывалось одинаковое количество детей, и в этом и
заключалась трудность. Поминутно раздавались вопли, споры, плач
женщин и детей. В воздухе чувствовалось напряжение, которое
создается только в минуты несчастий, но монахи не видели
в происходящем ничего особенного и пересмеивались между
собой.
Было решено, что для соблюдения справедливости, без
которой ничего не должно совершаться на христианской земле, а
также для уравнения-в дележе пятилетний мальчик из одной
семьи, отошедшей к барону, будет передан аббатству. Барон
скрепя сердце согласился с таким постановлением, тут же
записанным на пергаменте. Второй трудный вопрос возник в свя-
1 Югер — мера поверхности, равная примерно 2500 н2.
26
зи с младенцем, еще лежавшим в колыбели. Он принадлежал
к семье, отходящей к аббатству; по числу делимых годовалых
детей его следовало отдать барону. Однако младенца нельзя
было отнять от груди матери, и аббат предлагал оставить его
на материнском попечении, пока дитя не подрастет. Но Жуанво
всегда ожидал какого-нибудь подвоха со стороны этой
жирной лисы и опасался, что потом не получит своего законного
добра.
Мать ребенка, о котором шел спор, принесла его завернутым
в жалкое тряпье... Казалось, она еще не совсем ясно
понимала, какая участь ожидает младенца, и простодушно смотрела
куда-то вдаль. Зато другая поселянка, пятилетний мальчик
которой был предназначен для передачи монастырю, крепко
обнимала своего сына и не хотела с ним расстаться. Однако
дюжие монахи быстро справились с нею. Рыжеусый барон,
здоровый пятидесятилетний человек с сизым лицом, тоже
привел с собой конюхов, готовых выполнить любое его при
казание...
— Лучше убейте меня, — кричала несчастная мать,
цепляясь за ноги монахов. — Неужели нет больше правды на
французской земле!
Черноглазый эконом, судя по его манерам человек
благородного происхождения, отечески и от доброты сердца
уговаривал беспокойную женщину, доставлявшую столько хлопот при
разделе наследства:
— Ну, чего ты вопишь, как свинья, которую собираются
резать? Твой сын не прогадает. Вы всего испытаете у барона, он
весьма скаредный человек, а твой шалун будет работать
на монастырь и, следовательно, для самого господа бога.
Барон заморит вас голодом, а монастырские погреба
полны всякого добра, и, кроме сред и пятниц, мы неизменно едим
мясо.
Но мать ничего не хотела слышать и голосила на все
аббатство.
Приор, толстый старик с бегающими глазами и, по
рассказам, великий стяжатель, крикнул с крыльца:
— Уймите, вы наконец эту валаамову ослицу!
Дюжий монах подошел к женщине и стал трясти ее за
плечи, приговаривая:
— Дура! Заткни свою глотку!
Рядом с несчастной стоял ее муж, унылый и сгорбленный
поселянин, до того убитый всем происходящим, что у него не
хватало духу сопротивляться насилию. Другие сервы тоже мало
чем отличались от него по своему виду, ветхой одежде и
косматым головам.
Сеньор был недоволен дележом. Спор разгорался. В
ожидании окончательного решения монастырский писец обмакнул за-
27
остренный тростник в чернильницу и равнодушно ковырял в
носу. Барон выговаривал аббату:
— Предположим, что через год ты отдашь мне двухлетнего
младенца. Что я буду с ним делать без матери?
Но Радульф с улыбочкой... успокаивал его:
— Ты и не заметишь, как он подрастет и будет прилежно
пасти твоих уток.
— Лучше отдай мне того, которому исполнилось пять лет.
— С удовольствием отдал бы тебе его, но надо во всем
поступать по совести. У тебя и так оказалось больше молодых
и сильных сервов, чем у меня. А я забочусь о божьем деле.
— А как же мы поступим со стариками и старухами? —
спросил барон, окончательно потеряв надежду переспорить этого
упрямого сребролюбца.
— Сколько их? — поморщился аббат.
— Девять человек.
— Ты спрашиваешь, как мы поступим со стариками и
старухами? — задумался на несколько мгновений Радульф.
— Вот именно.
— С ними мы тоже поступим по-хорошему.
— Бери их себе, — великодушно предложил барон. —
У тебя в монастыре всегда найдется для них какая-нибудь
подходящая работа. А я только буду зря их кормить.
— Что же, я готов. Беру вот этого, например, — показал
аббат перстом на маленького, но еще довольно бодрого
старичка с красным носом. — Мы сделаем его звонарем, он будет
созывать монахов на молитву. И этого беру. С бородавкой на
носу. А прочие пусть идут куда хотят.
Охваченные смутным ужасом, старухи и старики
заволновались, не представляя себе, какая их ожидает участь.
— Люди, — обратился к ним аббат елейным голосом, — мои
братья и сестры во Христе! Отныне вы свободны! Возьмите
посох и суму и пойдите на поклонение в какой-нибудь монастырь,
славящийся чудными святынями, прося в пути подаяния у
добрых жителей, и господь не оставит вас. Так поступали сами
апостолы.
А. Л а д и н с к и й, Анна Ярославна —
королева Франции. Исторический роман, «Советский
писатель», М., 1961, стр. 228—232.
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ДЕРЕВНЕ
На отлогости зеленеющей лесами горы стоит
величественный замок феодального владельца. Резко выделяются на темно-
зеленом фоне его зубчатые стены, его главная башня с
развевающимся по ветру флагом. На подъемном мосту беседуют
несколько оруженосцев; их металлические шлемы ярко блестят
28
под лучами утреннего солнца, обильно проливающимися с
голубого, безоблачного неба.
У самого подножия горы приютилась одна из деревень,
принадлежащих обитателю замка. Беспорядочной, тесной толпой
раскинулись хижины и хозяйственные постройки земледельцев
с гонтовыми либо соломенными кровлями. Большею частью эти
постройки невелики и сильно пострадали от времени и непогод.
У каждой семьи — жилище, сарай для складывания сена и
житница для зерна; часть жилища отведена для скотины. Все
это ограждено плетнем, но таким жалким и тщедушным, что,
при виде его, как-то невольно поражаешься тою резкою
противоположностью, которую представляет жилище господина и
жилища его людей. Кажется, достаточно пронестись
нескольким сильным порывам ветра, и все будет снесено и разбросано.
Владельцы деревень запрещали их обитателям окапывать свои
жилища рвами и окружать их частоколами, как будто для того,
чтобы еще более подчеркнуть этим их беспомощность и
беззащитность. Но запрещения эти ложились всею тяжестью только
на самых недостаточных: как только удавалось зажиточному
крестьянину получать некоторые льготы от своего владельца,
он уже становился в лучшие условия. Вот.почему среди
низеньких, запущенных хижин попадаются прочнее и лучше
построенные домики, с просторными дворами, крепкими оградами,
тяжелыми засовами...
... И на припеке солнышка, и в прохладной тени резвятся
беспечные ребята. Их веселый смех, щебетанье вечно
беззаботных птиц, кудахтанье кур, протяжное пенье изредка
перекликающихся петухов, вот и все, что нарушает утреннюю тишину
деревни. Там внизу, за цветущим косогором, бежит быстрая,
шумливая речка, но ее непрерывающийся говор не долетает сюда.
Заметно пахнет дымом, который поднимается над многими
кровлями, а кое-где выходит и прямо из низкой, почерневшей от него
двери.
Если мы проникнем в одно из жилищ, прежде всего нам
бросится в глаза высокий камин. На полу его стоит железный
треножник, на котором пылает огонь, а над огнем висит котел на
железной цепи, прикрепленной к большому железному же
крюку. Дым уносится в отверстие, находящееся наверху, но
немалая доля его попадает в самую горницу. Тут же рядом —
хлебная печь, около которой возится пожилая хозяйка. Стол,
скамьи, ларь с сосудами для приготовления сыра, большая
постель, на которой спят не только хозяева с детьми, но и
случайный ... гость, забредший под кров крестьянской хижины, —
вот все убранство, вся обстановка жилья. Кроме того, у стен
стоят корзины, кувшины, корыто; тут прислонилась к стене
лестница; там висят рыболовные сети, большие ножницы, такой
же нож, как будто отдыхая от своей работы; у двери приюти-
29
лась метла с буравами. В большинстве случаев пол земляной,
выложенный камнем, только кое-где уже деревянный.
Хлебная печь, которую мы только что упомянули, — предмет
достойный особенного внимания, не по внешнему виду, конечно,
потому что в этом отношении ничего особенного не представляет,
но по тому большому и притом исключительному значению,
которое она имела в жизни средневекового крестьянина. Дело
в том, что крестьянин не всегда мог иметь ее в своем жилище.
В числе различных прав землевладельца бывало и такое, в силу
которого он запрещал крестьянину печь хлеб у себя дома,
а требовал, чтобы хозяйки пекли хлеб в его пекарне, с уплатой
за это особой пошлины: эти пошлины достигали подчас больших
размеров. Точно так же существовало помещичье право,
заставлявшее крестьянина молоть свой хлеб на мельнице своего
господина. Оба упомянутые права имели во Франции самое
широкое распространение. В пору полного развития феодального
гнета крестьяне во многих местах обязаны были подковывать
своих лошадей на кузнице своего -господина, приобретать
солод из его складов, не продавать своего вина в течение
известного срока, когда продавалось исключительно вино их
господина.
Куда же девались хозяева этих жилищ? Едва зарделась
заря, как раздалась в чистом утреннем воздухе протяжная
песнь пастушеской свирели. Замычали коровы, захлопал бич, а
за животными ушло из деревни и все способное к работе
население ее...
... Чувствуется близость полудня. Вернулись с поля стада
землевладельца и его крестьян. За стадами возвращаются со
своих работ и деревенские хозяева: вот идут они в своих
запачканных рубахах, с шапками из шерстяной материи на головах,
в грубых толстых башмаках, с земледельческими орудиями в
руках и на плечах, загорелые, бородатые, облитые потом. .В
костюмах их преобладают темные цвета.
... Вместе с крестьянами, отбывавшими работу на
господина, вернулись и лица, которые надсматривали за ними.
Крестьяне копали рвы, клали гати, чинили дороги, делали
необходимые исправления в самом замке, наконец — обрабатывали
поля своего господина. Во время этих занятий работники
кормились на свой собственный счет. Кроме отправления известных
барщинных повинностей, крестьяне обязывались нести
различные подати. Так, они платили подушную подать, причем с
мужчины взималось в восемь раз больше, чем с женщины; на
рождество с каждого дома или, что то же самое, с каждого дыма
платилась так называемая подымная подать; кроме того,
бралась подать и с земли. Платили нередко деньгами, а чаще всего
натурой, т. е. домашними животными, в случае их
размножения, и произведениями, получаемыми с земли, иногда в размере
30
половины жатвы. Кроме определенных, сделавшихся обычными
повинностей, крестьяне несли и чрезвычайные в следующих
четырех случаях: они должны были складываться, чтобы выкупать
из плена своего господина, а это случалось нередко в те
воинственные времена; они же помогали господину своими
средствами, когда он отправлялся к св. местам; они несли на себе часть
расходов, вызывавшихся посвящением старшего сына господина
в рыцари и, наконец, выходом старшей его дочери замуж. Во
всех этих случаях размеры повинности определялись самим
феодальным землевладельцем, что, разумеется, давало полный
простор произволу. В довершение всего, крестьянин получал за
произведения своего труда весьма немного. Бывали такие
случаи, что помещик покупал эти произведения сам, назначая при
этом цену за них по своему усмотрению. Бывало и так, что
забирались произведения крестьянского труда не за наличную
плату, а в долг. Помещик пользовался правом производить те
или другие закупки раньше своих крестьян, предоставляя таким
образом им только остатки.
К. Иванов, Средневековая деревня и ее
обитатели, Спб., 1896, стр. 37-—42, 44—47.
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК КУСИ
Замок сеньоров де-Куси был выстроен на холме,
возвышающемся в живописной долине реки Айлеты, сеньором Энгерра-
ном III де-Куси в годы 1225—1230 и представлял собою одно
из замечательных сооружений эпохи... Самый замок поражал
своими размерами и тем искусством, с которым выстроены были
его укрепления. Он был окружен целой системой рвов, доступ
через которые был возможен только по узкому подъемному
мосту. На всех четырех углах толстых крепостных стен
возвышалось по башне в тридцать пять метров вышины. Но самым
замечательным сооружением замка являлась центральная
внутренняя башня, имевшая тридцать один метр в диаметре и
шестьдесят метров в вышину. Проникнуть в башню можно было
только по подъемному мосту. Изнутри вход в нее защищался
спускной решеткой-герсой и рядом тяжелых, окованных
железом дубовых дверей. Только тот, кто знал пароль, мог
безбоязненно проникнуть в башню. Внутри башни было три этажа и
каждый представлял собою огромный круглый зал. Зал
первого этажа с двенадцатью нишами в стенах служил арсеналом;
в зале второго этажа помещалась огромная печь, в которой во
время осады выпекался хлеб для защитников башни; в третьем
этаже был зал с выходами на окружавшую башню галерею
с бойницами. В башне мог поместиться гарнизон численностью
до 1500 человек. Над дверью башни было скульптурное
украшение, изображавшее, как сеньор Энгерран II повергает на
31
землю льва. Этот подвиг предок де-Куси совершил в
Палестине во время крестового похода.
Под всем замком находилось огромное подземелье с массой
потайных ходов; они служили для тайных сношений с внешним
миром во время осады; предание говорит, что существовал даже
подземный ход между замком Куси и Премонстрантским
монастырем. В погребах и подземельях замка можно было
сохранять запасы, достаточные для прокормления тысячи человек
в течение целого года. Самый замок был не менее замечателен,
чем его башни.
В одной из стен так называемой залы доблести находились
девять статуй из гранита, изображавших легендарных
богатырей; она была соединена с внешним миром узкой лестницей,
высеченной в скале; здесь обыкновенно пребывали хозяева замка.
На одной из стен имелась фреска с изображением охоты на
вепря, на другой стене был изображен отъезд Энгеррана II в
крестовый поход. На фронтонах двух огромных каминов,
отапливающих зал, был высечен герб де-Куси.
Ф. Клар, Жаки. Историческая повесть,
Госиздат, М—Л., 1928, стр. 63—65.
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК ТУРГ
Тург вставал перед путником пугающим видением. Первой
бросалась в глаза высокая круглая башня, стоявшая одиноко
на опушке леса, словно тать в ночи. Башня, возведенная на
самом краю обрывистой скалы, основательностью и строгостью
линий напоминала творения римской архитектуры... Впрочем,
не случайно ofia походила на римские башни, она была
башней романской; заложили ее в девятом веке, а достроили в
двенадцатом, после третьего крестового похода... Путник
подходил ближе, подымался по крутому откосу, замечал пролом и,
если у него хватало духу проникнуть внутрь, входил и, войдя,
убеждался, что башня полая. Изнутри она напоминала
гигантскую каменную трубу, поставленную горнистом прямо на землю.
Сверху донизу ни одного перекрытия, ни крыши, ни потолка,
ни пола, только остатки сводов и очагов, бойницы и амбразуры
для фальконетов, пробитые на различной высоте, гранитные
выступы и несколько поперечных балок, побелевших от помета
ночных птиц, обозначавших прежнее деление на этажи; могучие
стены пятнадцати футов 1 толщиной в нижней части и
двенадцати в верхней, кое-где провалы и дыры, бывшие двери, через
которые виднелись лестницы, высеченные в темной толще
стен...
1 Фут — мера длины, примерно 0,3 м.
32
По местному обычаю, на верхних этажах башни ихмелись
потайные двери, вроде тех, что встречаются в гробницах
иудейских царей: огромный камень поворачивается вокруг своей оси,
открывает проход, затем закрывает — и снова перед вашим
взором сплошная стена... Двери эти нельзя было обнаружить —
так плотно входили они в каменную кладку стен...
... Через этот пролом можно было попасть туда, где
раньше, надо полагать, помещался нижний этаж. Напротив
пролома прямо в сгене открывалась дверца в склеп, который был
высечен в скале и тянулся в фундаменте башни вплоть до зала
нижнего этажа...
... Вся крепость в сущности и состояла из одной башни; она
возвышалась на скале, у подножья скалы протекал ручей,
в январе — полноводный, как горный поток, и пересыхающий
в июне.
Сведенная ныне к одной только башне, крепость была в
средние века почти неприступна. Единственным уязвимым ее
местом являлся мост. Средневековые Говэны построили
крепость без моста. В нее попадали через висячие мостки, которые
ничего не стоило уничтожить одним ударом -топора.
... В средние века город брали улицу за улицей, улицу —
дом за домом, а дом — комнату за комнатой. В крепости
осаждали этаж за этажом. В этом отношений Тург был построен
весьма умело; взять его представлялось делом сложным, почти
непосильным. Из этажа в этаж подымались по спиральной
лестнице, что затрудняло продвижение, а дверные проемы,
расположенные наискось, были ниже человеческого роста, так что при
входе приходилось наклонять голову, а, как известно,
нагнувший голову подставляет ее под удар; за каждой дверью
осаждающего поджидал, осажденный.
Под круглой залой с колонной были расположены две такие
же залы, составлявшие второй и первый этажи, а наверху шли
друг над другом еще три такие же залы; эти шесть ярусов,
занимавшие весь корпус башни, увенчивались каменной крышей-
площадкой, куда попадали через сторожевую вышку.
В. Гюго, Девяносто третий год,
Гослитиздат, М., 1963, стр. 241—248.
РЫЦАРСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Кольчуга с длинными рукавами, стальные перчатки и
стальные латы считались, по-видимому, еще недостаточно надежным
прикрытием, ибо на шее всадника висел еще треугольный щит,
а стальной пнлем с капюшоном был снабжен воротником из
стальных колец, прикрывавшим плечи и горло воина и
заполнявшим отверстия между латами и головным убором. Его икры
3 Сост. О. В. Волобуев и др
33
и колени, как и все тело, были защищены кольчугой, а ноги
обуты в стальные башмаки, сделанные из таких же стальных
пластинок, как и перчатки. Кроме длинного, широкого, прямого
и обоюдоострого меча с рукояткой в форме креста, на другом
боку всадника висел еще большой кинжал. К седлу рыцаря
была прикреплена длинная пика со стальным наконечником,
одним своим концом упиравшаяся в стремя. Во время езды
это оружие отклонялось назад, и прикрепленный к нему
маленький флажок то развевался от слабого ветра, то недвижно
повисал в минуты затишья. Все это громоздкое снаряжение было
прикрыто весьма* поношенным плащом, который защищал
броню от палящих лучей солнца. Без этой защиты они
раскалили бы металл и сделали бы его нестерпимым для всадника.
В нескольких местах на плаще был вышит герб владельца,
который, впрочем, было трудно разобрать. Можно было только
предполагать, что на гербе был изображен лежащий леопард
с девизом: «Я сплю, не буди меня». Такой же точно рисунок
виднелся и на щите рыцаря, хотя многочисленные удары почти
совсем стерли краски. На плоской верхушке его тяжелого
цилиндрического шлема не было перьев ...
... Снаряжение лошади было столь же массивно и
громоздко, как снаряжение всадника. Конь нес на себе тяжелое,
обложенное сталью седло, дополняемое спереди подобием лат,
а сзади — стальной покрышкой, защищавшей круп. У луки
седла висел стальной топор, называвшийся булавой; к узде была
прикреплена стальная цепочка; голову лошади защищала
стальная пластинка с отверстиями для глаз и ноздрей, снабженная
на самом верху острой шишкой, которая выдавалась подобно
рогу легендарного единорога.
В. Скотт, Ричард Львиное Сердце, Алма-
Ата, 1958, стр. 21—22.
ТУРНИР
Несмотря на то что общие турниры были гораздо опаснее
одиночных состязаний, они всегда пользовались большим
успехом среди рыцарей. Многие рыцари, которые не отваживались
на единоборство с прославленными бойцами из числа
зачинщиков, охотно выступали в общем турнире, где могли выбрать
себе равного по силам противника. Так и на этот раз: в каждую
партию записалось по пятидесяти рыцарей, и маршалы, к
великой досаде опоздавших, объявили,4 что больше никого не могут
принять ...
. .. Герольды призвали к молчанию на время чтения правил
турнира. Правила эти были введены для того, чтобы, по
возможности, уменьшить опасность состязания, во время которого
34
рыцари должны были сражаться отточенными мечами и
заостренными копьями.
Бойцам воспрещалось колоть мечами, а позволено было
только рубить. Им предоставлялось право пустить в ход палицу
или секиру, но отнюдь не кинжал. Упавший с коня мог
продолжать бой только с пешим противником. Всадникам же
воспрещалось нападать на пешего. Если бы рыцарю удалось загнать
противника на противоположный конец ристаЛища, где он сам
или его оружие коснулось бы внешней ограды, противник был
бы обязан признать себя побежденным и предоставить
свою лошадь и доспехи в распоряжение победителя. Если
выбитый из седла не в состоянии был подняться сам, его
оруженосец или паж имел право войти на арену и помочь своему
хозяину выбраться из свалки, но в таком случае рыцарь считался
побежденным и проигрывал своего коня и оружие. Бой должен
был прекратиться, как только принц Джон бросит на арену
свой жезл или трость. Это была мера предосторожности на
случай, если состязание окажется слишком кровопролитным и
долгим. Каждый рыцарь, нарушивший правила турнира или
как-нибудь иначе погрешивший против законов рыцарства,
подвергался лишению доспехов; вслед за тем ему на руку надевали щит,
перевернутый нижним концом вверх, насажали верхом на ограду
на общее посмеяние.
Возвестив громким голосом все эти правила, герольды стали
на свои места. Рыцари двинулись длинными вереницами с
обоих концов арены и выстроились друг против друга двойными
рядами. Предводитель каждой партии занимал место в центре
переднего ряда.
Красивое и вместе устрашающее зрелище представляли эти
рыцари верхом на рьяных конях, в богатых доспехах, готовые
устремиться в ужасный бой. Они, словно железные изваяния,
возвышались на своих боевых седлах и с таким же
нетерпением ожидали сигнала к битве, как и их резвые кони, которые
звонким ржаньем и топотом выражали свое желание двинуться
вперед.
Рыцари подняли свои длинные копья, и их острые
наконечники сверкали на солнце, а значки реяли над плюмажами
шлемов. Так они стояли, пока маршалы проверяли ряды обеих
партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число
бойцов. Счет оказался вполне верен. Тогда маршалы удалились
с ристалища, и Уильям де Вивиль громовым голосом
воскликнул:
— Пусть едут! ♦
Трубы зазвучали. Копья разом склонились на упоры, шпоры
вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным
галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены
с такой силой, что гул был слышен за целую милю.
3*
35
Вслед за тем на поддержку своим двинулись вперед.и
вторые ряды.
Об исходе схватки сразу ничего нельзя было сказать, так
как поднялось густое облако пыли. Только через минуту
взволнованные зрители получили возможность увидеть, что
происходит на поле битвы. Оказалось, что добрая половина рыцарей
обеих партий выбита из седла. Одни упали от ловкогоо удара
копьем; другие были смяты непомерной силой и тяжестью
противника; иные лежали на арене, не имея сил подняться; иные
успели вскочить на ноги и вступить в рукопашный бой с теми
из врагов, которых постигла та же участь; третьи, получившие
тяжелые раны, шарфами зажимали льющуюся кровь и
пытались выбраться из толпы ...
... Ряды сражавшихся стали редеть: одни признали себя
побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи
лежали на земле раненые ...
. .. Так кончалась достопамятная ратная потеха при Ашби-
Де-ля-Зуш — один из самых блестящих турниров того времени.
Правда, только четыре рыцаря встретили смерть на ристалище,
а один из них просто задохнулся от жары в своем панцире,
однако более тридцати получили тяжкие раны и увечья, от
которых четверо или пятеро вскоре также умерли, а многие на всю
жизнь остались калеками. А потому в старинных летописях
этот турнир именуется «благородным и веселым ратным
игрищем при Ашби».
В. Скотт, Айвенго, Детгиз, М., 1960,
стр. 133—140.
ПИР У ФЕОДАЛА
Загремели рога, призывают к парадному обеду. Каким
шумом наполнилась пустынная до того времени главная зала
замка! Как оживилось сразу ее подавляющее однообразие!
Мы — как будто совершенно в другом помещении, как будто
и не были здесь раньше. Вот, они входят, разодетые гости и
гостьи. Одежды кавалеров и дам различаются между собою
немного: сходство поразительное! Только дамский костюм нн-
, спадает до самого пола, располагаясь красивыми складками,
а мужской — значительно короче; только дамские рукава
необычайно широки, и нижние концы их очень длинны, а
мужские — плотно охватывают руку и доходят до кисти.
Разноцветный шелк, мех,* галуны и драгоценные каменья — у тех
и других. Особенно богаты пояса. У дам концы поясов
ниспадают почти донизу и обильно украшены топазами, агатами и
др. камнями. Волосы дам тщательно причесаны и заплетены
в тяжелые косы (кое у кого с примесью фальшивых волос),
36
перевитые цветными лентами и золотыми нитями. (В то время
не только носили шиньоны, но умели красить волосы; были
известны и румяна.) Волосы у мужчин ниспадают до плеч, у
некоторых из них бороды достигают довольно больших размеров.
Но короткая борода вообще преобладает; встречаются даже
и совсем бритые подбородки. У многих из присутствующих,
особенно у дам, головы украшены золотыми обручами, на
которых сияют драгоценные камни. Блеск золота, серебра, игра
драгоценных камней, приятное сочетание цветных материй,
среди которых преобладают синий и красный цвета различных
оттенков, необычайно оживляют картину, развертывающуюся
перед нашими глазами. Все блестящее общество направляется
к громадному столу, покрытому узорною белою скатертью.
Бросая беглый взгляд на сервировку стола, мы с некоторым
изумлением замечаем отсутствие предмета, по нашим понятиям,
безусловно необходимого, а именно — вилок. Последние стали
входить в употребление только с самого конца XIII века.
Каждый прибор состоит из ножа, ложки и серебряного, кое-где и
золотого кубка. Есть кубки на двух персон... Для каждого
присутствующего, у его прибора, заблаговременно положены
на столе белые хлебы. Кроме того, на столе расставлены
большие металлические кувшины с вином, чаши с крышками и без
крышек, солонки, соусники ... Наше общество шумно расселось,
по степеням знатности, на скамьях, окружающих стол...
Только что расселись за столом гости нашего барона, в залу
вошли прислужники; в их руках — кувшины с водой, на шеях
накинуты полотенца. Умывание рук перед обедом, при
отсутствии вилок, имеет, конечно, особенное значение. Что касается
самих кушаньев, необходимо заметить, что в то время ни супа,
ни бульона не существовало, начинали прямо с мяса. Так,
например, сегодня на первое блюдо разносится жареный олень; он
разрезан на куски и сильно приправлен горячим перцовым
соусом. Второе блюдо так же сытно, как и первое, это —
жаренный кабан под тем же соусом. За ним внесены жареные павлины
и лебеди. В то время, как одни прислужники и оруженосцы
разносят кушанья, другие обходят стол с кувшинами и наливают
в кубки вино. Потом отведываются зайцы и кролики,
всевозможные птицы, пироги с мясной начинкой и рыба. Вот принесены
яблоки, гранаты, финики ... Любопытны некоторые наставления
для гостей, написанные одним из средневековых писателей,
например: гости должны быть скромны и довольны тем, что им
предложено; они не должны есть двумя руками; не следует ни
пить, ни говорить с набитым ртом; не обращайся к соседу
с просьбой об одолжении кубка, если видишь, что сам он еще
не допил его, и т. п.
К. Иванов, Средневековый замок и его
обитатели, Спб., 1898, стр. 36—42.
37
ТРУБАДУР-РЫЦАРЬ ВОСПЕВАЕТ ВОЙНУ
Люблю я видеть, как народ, Не любо есть мне, пить и спать.
Отрядом воинским гоним, Люблю я крикам «На врага!»
Бежит, спасая скарб и скот, И ржанию коней внимать
А войско следует за ним. Пред схваткой боевою;
И, радуясь душою, &Л&^Г*
Смотрю, как замок осажден, а^^л на1«
Как приступом берется он, И бьются меж собою,
И средь поломанных древков
Иль вижу над рекою Мне любо видеть мертвецов.
Ряды построенных полков, Бароны! жить войною
Укрытые за тын и ров ... Завидней, чем своих домов
Жизнь в мире мне не дорога: Закладом, сел и городов.
Бертран де Б о р н, Сирвента. — В кн.:
«Хрестоматия по зарубежной литературе
средних веков», Учпедгиз, М., 1953, стр. 133—134.
ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
Наступал знаменательный день, день «удара мечом», день,
в который дону Педро предстояло принять удар мечом,
посвящающий в рыцари.
Утром молодой принц подвергся церемонии очистительного
омовения. Два священнослужителя облачили его. Одеяние было
алое, как кровь, которую рыцарь обязан проливать, защищая
церковь и установленный богом порядок; башмаки были
коричневые, как земля, в которую всем предстоит сойти; пояс был
белый, как чистая совесть, хранить которую он давал обет. •
Звонили во все колокола, когда принц шествовал по
усыпанным розами улицам в церковь Сантяго. Там его ждал дон Аль-
фонсо, окруженный кастильскими и арагонскими грандами
и знатными дамами. Оруженосцы надели на голову
взволнованному дону Педро шлем, облекли его в кольчугу, вручили
треугольный щит — теперь у него были доспехи для
самозащиты. Они опоясали его мечом — теперь у него были доспехи
для нападения. Две благородные девицы надели ему золотые
шпоры — теперь он мог выехать на бой за правду и
добродетель.
И вот дон Педро опустился на колени, и архиепископ дон
Мартин зычным голосом прочел молитву...
... Теперь дон Педро с глубоким благочестием произнес
рыцарский обет: «Обещаю никогда не обнажать меча против
невиноватого и всегда защищать им право и святой порядок,
установленные богом». И он склонил голову в ожидании удара,
которым надлежит и смирить и возвысить посвящаемого и на
веки веков закрепить его рыцарский обет.
38
И удар последовал. Обнаженным клинком дон Альфонсо
ударил его плашмя по спине, не очень сильно, но все же
достаточно крепко, чтобы почувствовать сквозь кольчугу боль.
Л. Фейхтвангер, Испанская баллада,
Изд. иностр. лит-ры, М., 1958, стр. 84—86.
РЫЦАРЬ ПО «ПЕСНЕ О РОЛАНДЕ»
(Роланд обращается к своему товарищу Оливьеру)
Обязан каждый рыцарь за сеньора
Терпеть и зной, и холод, и лншенья,
Жалеть не должен кровь свою и тело.
Друг Оливьер, рази копьем булатным,
Рубить врагов я буду Дюрандалем 1,
Его мне дал великий император.
И если здесь меня постигнет смерть, —
Кому мой меч достанется, тот скажет:
«Владел им верный, доблестный вассал!»
Их вид суров, стройны бароны наши,
Их головы покрыты сединами,
И бороды у всех белее снега,
Дубленой кожи брони их блестят,
У каждого французский иль испанский
Булатный меч; различные узоры
Щиты баронов наших украшают ...
И жаждут битвы франкские вассалы,
Вскочили все на резвых скакунов,
Гремит: «Монжой!» Сам Карл ведет дружины,
Жоффрей д'Анжу несет их орифламу2...
«Хрестоматия по истории средних веков»
т. 1, Учпедгиз, М., 1953, стр. 246, 252.
ВОЗВЫШЕНИЕ КНЯЗЕЙ У СЛАВЯН
Виш сдвинул седые брови и молча показал рукой вправо.
— Есть тут князь, как же... в городище живет, над озером,
до него за день, а то и скорей легко можно добраться. Князь!
Князь! — повторил он с горечью. — Этот князь уже домогается
прав на всю нашу землю, по всем дебрям охотится и вместе со
своими ратниками творит что вздумается... Лютый человек, к
нему в лапы попасть — все равно что в пасть голодному
волку... Ну, да и на волков люди находят управу.
Немец промолчал.
— Ваш ведь это князь, не чужой, — наконец сказал он, —
народу нужен глава и вождь, а то — что он станет делать, если
нападет враг?
1 Дюрандаль — меч Роланда.
2 Орифлама — знамя французских королей.
39
— Да хранят нас от этого боги! — воскликнул старец. —
Мы знаем одно: покуда мир, до тех пор у нас и воля. Придет
война — и за нею следом неволя. А кому от войны корысть?
Не нам, а князю нашему и его холопам. У нас враг сожжет
хаты, угонит скот, а они невольников и добычу захватят себе.
Дети наши погибнут, а кто падет на войне, тому и курган не
насыплют, а слетятся вороны и расклюют его тело...
Ю. Крашевский, Старое предание,
Гослитиздат, М., 1950, стр. 37.
КНЯЖЕСКОЕ ГОРОДИЩЕ
— Вот княжеское городище! — воскликнул Смерд,
оборачиваясь к немцу и с гордостью показывая на башню. Мы
вовремя приедем, там еще не лягут спать.
У спутников его заблестели глаза. Самбор взглянул на
городище и приуныл, лошади припустились резвей, и ему пришлось
догонять их бегом. Немец зорко посматривал исподлобья.
По мере того как они приближались, городище вставало
перед ними все более отчетливо. Башня из серого камня,
казалось, росла у них на глазах; уже можно было различить ярко
раскрашенный терем, избы, пристройки и службы, частью
закрытые валом. К башне примыкали большие деревянные дома
с крышей из дранки, сквозь которую местами пробивался дым.
Во дворе толпились люди и стояло множество лошадей. На
берегу поили скотину. По валу расхаживали часовые в железных
шлемах, вооруженные копьями ...
... Перейдя плотину и мост, они вошли на широкий двор;
в конце его стояла башня, в которой не было двери внизу:
проникали в нее только по приставной лестнице. Вплотную к башне
примыкали княжеские палаты и хоромы, а перед ними тянулась
длинная галерея на деревянных столбах. Терем был ярко
расписан алой, белой и желтой красками, на передней стене его,
как раз посередине, возвышалось на толстых столбах, покрытых
искусной резьбой, просторное крыльцо. С широких лавок,
которые стояли вдоль стен на крыльце, можно было видеть весь
двор, все службы, ворота, озеро и вал.
Когда Смерд со своими людьми въехал во двор, по которому
взад и вперед сновала челядь, на крыльцо вышел человек
среднего роста, коренастый, с длинными черными волосами,
падавшими из-под меховой шапки с белым пером. У него было
красное лицо, опушенное жидкой бородкой, и дикий, пронзительный
взгляд. Казалось, он отсюда следил за всем, что делалось в
городище. Самый убор, а еще больше лицо изобличали в нем
господина. Одежда его была того же покроя, что и у всех, с
широкими рукавами и открытым воротом, перехваченная наборным
40
поясом с серебряными и медными бляхами; обут он был в
поршни, завязанные красной шерстяной тесьмой. Только одежда его
была из тонкой ткани с великолепной каймой, за поясом торчал
меч в драгоценных ножнах, а на цепочке висел такой же нож.
Там же, стр. 64—65.
БОРЬБА ПОМОРСКИХ СЛАВЯН
С НЕМЦАМИ И ДАТЧАНАМИ
... И внезапно, где играют
Всплески белые прибоя,
Из-за мыса выбегают
Волнорезы Боривоя.
Расписными парусами
Море синее покрыто,
Развилось по ветру знамя
Из божницы Световита,
Плещут весла, блещут брони,
Топоры звенят стальные,
И как бешенные кони
Ржут волынки боевые.
И, начальным правя дубом,
Сам в чешуйчатой рубахе,
Боривой кивает чубом:
«Добрый день, отцы монахи!
Я вернулся из Арконы 1,
Где поля от крови рдеют,
Но немецкие знамена
Под стенами уж*не веют!
В клочья ту порвавши лопать,
Заплатили долг мы немцам
И пришли теперь отхлопать
Вас по* бритым по гуменцам! 2
И под всеми парусами
Он ударил им навстречу:
Сшиблись вдруг ладьи с
ладьями —
И пошла меж ними сеча.
То взлетая над волнами,
То спускался в пучины,
Бок о бок сцепясь баграми,
С криком режутся дружины;
Брызжут искры, кроЕЬ струится,
Треск и вопль в бою сомкнутом,
До заката битва длится —
Не сдаются Свен со Кнутом 3.
Но напрасны их усилья:
От ударов тяжкой стали
Позолоченные крылья
С шлема Свена уж упали;
Пронзена в жестоком споре
Кнута крепкая кольчуга*
И бросается он в море
С опрокинутого струга;
А епископ Эрик, в схватке
Над собой погибель чуя,
Перепрыгнул без оглядки
Из своей ладьи в чужую...
... И гребцы во страхе тоже,
Силу рук своих удвоя,
Голосят: «Спаси нас, боже,
Защити от Боривоя!»
«— Утекай, клобучье племя!4 —
Боривой кричит в догоню: —
Вам вздохнуть не давши время.
Скоро сам я буду в Дони!5
К вам, средь моря, иль средь суши,
Проложу себе дорогу,
И заране ваши души
Обрекаю Чернобогу!...»
... И ладей, в своем просторе,
Опрокинутых немало
Почервоневшее море
Вверх полозьями качало ...
... И от Бодричей до Ретры,
От Осны до Дубовика,
Всюду весть разносят ветры
О победе той великой.
А. К. Толстой, Боривой. — В кн.:
А. К. Толсто й, Стихотворения. Царь Федор
Иоаннович, «Советский писатель», Л., 1958,
.стр. 241—245.
1 Лркона — славянский город на о. Рюген.
2 Гуменце — бритое темя, отличительный знак католического
духовенства.
3 Свен и Кнут — датские короли.
4 Клобучье племя — монахи. Клобук
5 Дони — Дания.
высокая шапка монаха.
41
2.
УСТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ
В ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ (ВИЗАНТИЙСКОЙ)
ИМПЕРИИ
Одной из особенностей Византии было то, что рабство
в ней получило меньшее распространение, чем в Западной
Римской империи. Так как рабский труд был
непроизводителен, то рабов часто наделяли земельным участком, и они
вели относительно самостоятельное хозяйство. Другой
особенностью Византии было наличие большого количества
городов. «Кипящими в торговле» назвал их один из
современников.
Самым крупным центром ремесла, торговли и культуры,
«золотым мостом» между Западом и Востоком, по
выражению К. Маркса, была столица империи — Константинополь,
облик которого обрисован в романе А. Ладинского «Когда
пал Херсонес ...».
В фрагментах из романов В. Скотта «Граф Роберт
Парижский» и А. Ладинского «Когда пал Херсонес...»
изображен сложный церемониал византийского императорского
двора, который был рассчитан на то, чтобы внушить
окружающим чувство почтения и страха перед византийским
императором. Материал отрывков полезно сочетать с
показом настенной картины «Прием иностранных послов
византийским императором» Т. Лившиц и О. Павлова.
Очень важными для понимания социально-экономических
процессов, происходивших в Византии в период
средневековья, являются сюжетные отрывки «Положение рабов»
и «Скупка крупным землевладельцем крестьянских земель»
из названного романа А. Ладинского. Здесь следует
обратить внимание на те места, где говорится о
непроизводительности рабского труда и о той выгоде, которую получал
землевладелец от наделения рабов землей.
Составить учителю рассказ о храме святой Софии,
внешний и внутренний вид которого дан в иллюстрациях
учебника (рис. 24, 25, 26), поможет принадлежащее византино-
веду К. Н. Успенскому описание храма из книги для чтения
«Средние века в очерках и рассказах».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ — СТОЛИЦА ВИЗАНТИИ
Однако солнце медленно склоняется к западу, и вечерняя
тишина нисходит на город Константина, на его форумы и сады.
В окне, разделенном тонкой колонкой, в голубоватой дымке
42
городских испарений виден из моего жилища купол св. Софии,
черепичные крыши, кресты церквей, колонны портиков, зелень
деревьев. Если сейчас пройти к Золотому Рогу, то увидишь
там италийские и критские корабли, доставившие нам мрамор
и пшеницу. На набережных, заваленных большими глиняными
сосудами с соленой рыбой из Херсонеса, козьими мехами с
вином, амфорами с оливковым маслом и кошницами с
виноградом, еще бродят гуляки. Иногда тишину нарушает шум
случайной драки или песня пьяного корабельщика,
направляющегося в квартал Зевгмы, над воротами которого еще сохранилась
от языческих времен мраморная статуя Афродиты...
Меса — главная улица города— начинается от Ипподрома
и идет к форумам Константина и Феодосия, а возле площади
Быка и форума Аркадия разделяется на два пуги. Один идет
к Студиону и Золотым воротам, другой — к церкви Апостолов.
Когда в городе наступает ночь, на этой улице, около бань Зев-
скипа, торговцы шелковыми материями зажигают в «Доме
света» светильники, и огонь горит там до полуночи...
Что еще сказать о нашем великом городе? Дворцы и
хижины строились в Константинополе по соседству. Дома богатых
людей прячут свою хозяйственную жизнь во внутренние дворах,
выставляя на улицу только глухие каменные.стены или скудные
окошки, из которых безопасно обозревать народные волнения.
Форумы, триумфальные арки, базилики, термы, квадриги,
увенчанные ангелами колонны, библиотеки, статуи — все сокровища
древнего мира, собранные за прочной оградой крепостных стен,
делают наш город похожим на Рим.
А. Л а д и н с к и й, Когда пал Херсонес. ..,
«Советский писатель», М., 1959, стр. 9—10.
ЗАСЕДАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО СОВЕТА
На другой день, ранним утром, собрался императорский
совет, в котором звучные титулы главных сановников, подобно
легкой вуали, прикрывали фактическую слабость греческой
империи. Начальников было много, и ранг их соблюдался до
мелочей строго, но воинов сравнительно с ними было очень
мало.
Должности, которые раньше занимали префекты, преторы
и квесторы \ предоставлялись теперь лицам, которые
выслуживались из дворцовых чиновников, несших домашние обязанности
при особе императора. Такой источник власти при дворе
деспотов являлся обычно наиболее действительным.
1 Префекты, преторы и квесторы — должностные лица в Византийской
империи.
43
Сановники длинной вереницей входили в большую залу Вла-
хернского дворца. В каждой комнате, через которую они
проходили, те из них, звание которых не разрешало доступа в
дальнейшие покои, постепенно отставали от остальных. Таким
образом, в последние покои, пройдя предварительно десять других
покоев, прошли только пятеро. Здесь очутились они, наконец,
перед императором, в священнейшем убежище его величества,
убранном со всем блеском того времени.
Император Алексей восседал на великолепном троне,
блиставшем золотом и драгоценностями. По обеим сторонам, как
бы охраняя его, вероятно, в подражание пышности Соломона,
красовались фигуры двух лежавших золотых львов. Не будем
останавливаться на остальных достопримечательностях.
Отметим только дерево, ствол которого, видимо, тоже золотой,
возвышался за троном, осеняя его своими ветвями, словно
балдахином. На ветвях сидели всякие птицы диковинной работы,
покрытые эмалью, а сквозь листву сверкали плоды, сделанные из
драгоценных камней. Лишь пять высших сановников государства
имели доступ в это священное убежище, где император держал
совет. То были: Великий Слуга, которого можно приравнять по
рангу к современному премьер-министру, логофет, или канцлер,
протоспафарий, или главнокомандующий военными силами, ако-
лит, или спутник — предводитель варягов, и патриарх.
Двери этого тайного покоя и соседняя передняя охранялись
шестью изувеченными нубийскими рабами. Их безобразные
изможденные лица составляли омерзительный контраст с их
белоснежными одеяниями и блестящим вооружением. Они были
немы, так как их лишали языка, по примеру восточных
деспотов, для того, чтобы они не разглашали дея'ний тирана, волю
которого они без колебаний выполняли. К ним относились
скорее с ужасом, чем с состраданием, ибо, по общему мнению,
такие рабы испытывали злорадное наслаждение, вымещая на
других то непоправимое зло, которое сделало и.х непохожими на
других людей.
В. Скотт, Граф Роберт Парижский, ч. 1,
Гослитиздат, М., 1940, стр. 118—119.
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ (РУССКИХ) ПОСЛОВ
Мы подвели руссов к двери в тронную залу и еще раз
напомнили им о троекратном земном поклонении, без которого не
могло состояться торжество приема. Адмиссионалий,
придворный чин, на обязанности которого лежало вводить послов, не
скрывая своего удовольствия, что принимает участие в таком
важном событии, отворил дверь и ввел руссов в зал. Но от
зрелища, которое должно было несколько мгновений спустя пред-
44
ставиться их глазам* скифов еще отделяла пурпуровая завеса.
Она медленно стала раздвигаться, и тогда они увидели
василевсов, сидящих на низких золотых тронах. Заиграли
органы. Такой музыки никогда не слышали грубые
варварские уши.
Перед троном стояло позолоченное дерево, на ветвях
которого сидели птицы, сделанные из чистого золота и серебра, —
павлины, соловьи, голуби и орлы. Незримый механизм был
приведен в .действие. Птицы запели механическими голосами:
трещал заводной соловей, кричали павлины, ворковали голуби,
клекотали орлы. Около трона ожили два золотых льва.
Спрятанные в их телах пружины и мехи работали без заминки.
Животные раскрывали страшные пасти, рычали, высовывали языки,
били себя хвостами. Послы стояли растерянные, позабыв о всех
наставлениях. Однако я видел, что все это не устрашает их,
а только кажется любопытным.
— Падайте! Падайте ниц! — шептал я.
Но они стояли, а в это время механизмы уже подняли на
некоторую высоту подвешенные на цепях троны.
Я знал, что за стеной люди с огромным напряжением
вращают скрипучее колесо, приводящее в движение механизмы.
Это напоминало представление в театре. Я наблюдал за
руссами, так как мне хотелось знать, какое впечатление производит
на них это зрелище. Руссы молча стояли.
Потом я расспрашивал их. Они говорили, что больше всего
им понравилась музыка.
— А троны и рычащие львы? — спросил я.
Они сказали:
— Разве мы дети?
Новый возглас препозита * и новое возвышение тронов.
После третьего возгласа послы с удивлением увидели, что васи-
левсы уже вознеслись, как на небеса, под самые своды зала,
витали там в клубах фимиамного дыма. Стратеги, доместики, пат-
рикии, евнухи смотрели на пораженных необыкновенным
зрелищем варваров. В глубине залы блистали оружием протекторы
и драконарии. Органы ревели во всю силу гидравлических мехов.
Фимиам туманил зрение.
Наконец музыка умолкла. Послы все так же молча
озирались по сторонам.
Никаких земных метаний! Мы с магистром Леонтием
растерянно смотрели друг на друга. Церемониал был нарушен.
Леонтий мне шепнул:
— А Ольга? Разве она не кивнула едва головой на
приветствие августы^ Невежи!
1 Препозит — должностное лицо в византийской администрации.
45
Препозит, обернув руку полой хламиды, произнес
традиционное приветствие:
— Благочестивые василевсы Василий и Константин
выражают радость по поводу благополучного прибытия послов их
любимого брата во Христе Владимира в сей город...
А. Лад и иски й, Когда пал Херсонес...,
«Советский писатель», М., 1959, стр. 142—143.
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ
Магистр Леонтий, богатый человек, посещал время от
времени имение, чтобы проверять надзирающих над рабами и
виноградниками ...
Незадолго до этого магистр получил известие от
управителя имением, что рабы и кабальные работники, приставленные
возделывать нивы и пасти хозяйский скот, выражают
недовольство своей участью и даже осмеливаются на угрозы. Поэтому
он и отправился в свои владения, захватив с собою около
дюжины слуг, вооруженных мечами, и твердо решив наказать
виновных.
По прибытии мы были встречены управителем, весьма
льстивым .человеком, который прислуживал нам за трапезой...
По окончании трапезы Леонтий вышел под арку, которой
была увенчана дверь дома, и велел привести во двор
непокорных.
Их было четверо — старик и трое молодых, и вид этих людей
мог бы вызвать жалость у самого жестокосердного человека.
Они обращали на себя внимание необыкновенной худобой тела
и грязью рук, были босы, в жалких непрепоясанных вретищах,
и к их ногам прилип коровий навоз. Рабы упали на колени,
и старик поклонился хозяину, касаясь лбом земли, а молодые
мрачно посмотрели на нас и потом опустили глаза. Управитель
стоял рядом, держа подобострастно в руке опушенный заячьим
мехом колпак.
— Что я слышу? — грозно начал магистр. — Вы
оказываете неповиновение и небрежно выполняете работу? Мне
донесли, что вы даже стали способны на угрозы и готовы к
возмущению? Но известно ли вам, что я могу присудить вас к
тысяче палочных ударов? И даже если вы умрете во время
наказания, я не отвечаю за ваши жалкие души, и все это
предусмотрено мудрым законом ...
Вдруг старик поднял руки к небесам и воскликнул, шамкая
беззубым ртом:
— Господин! Не знаю, что хуже — жизнь ли, какую мы
влачим, или смерть под палками. Мы работаем от зари до зари,
а пищу получаем в самом ограниченном количестве, и терпим
46
нещадные побои, и зимой нам не дают ни обуви, ни плаща,
чтобы прикрыть тело от холода, и когда мы обращаемся
с просьбой отпустить нас в церковь в праздничный день, нам
говорят, что мы не выполнили назначенный урок, и заставляют
работать даже в день воскресения Христа...
Леонтий нахмурил брови и посмотрел на управителя. У того
забегали глазки.
— Так я поступаю исключительно потому, что радею о твоей
пользе, превосходительный. Не слушай этих ленивцев и
разбойников. Посмотри на их упитанные щеки, и ты поймешь, что они
живут в твоем доме, как в раю.
Я отлично знал Леонтия, его жадность и скопидомство, и не
удивился, что он якобы поверил словам управителя и приказал
наказать ослушников. В глубине двора стояли кучкой
приехавшие с ним слуги и конюхи, и старший конюх, по имени Фома,
ждал, скрестив руки, когда его позовут, чтобы привести в
исполнение приказ магистра. Леонтий поманил его пальцем,
и немедленно дюжие слуги потащили несчастных на расправу.
Я никогда не был любителем подобных сцен и поспешил
с Димитрием Ангелом и Львом Диаконом на виноградник, рас-
положенный за горой, но слышал, как магистр сказал Льву,
точно оправдывая свое распоряжение:
— Не знаю, как поступить. Полагаю, что более
соответствует христианскому учению и выгоднее также отпустить рабов
на свободу, наделить землей и обязать трудиться на ней и
отдавать господину половину снопов и приплода. Так поступают
теперь многие и освобождают себя от неприятных забот.
Закончив свою речь, он погрозил пальцем управителю.
— А если я замечу, что ты уворовываешь то, что дается
работающим в имении, я и тебя накажу плетьми. Ты должен
питать раба, ибо только тогда он будет в состоянии выполнить
возложенную на него работу, а я не хочу нести ущерба в своем
хозяйстве ...
Я знал, что управитель был тоже человеком рабского
состояния, но возвысился над другими лишь благодаря
низкопоклонству и наушничеству.
Когда мы спускались по тропинке к винограднику, чтобы
отдохнуть там после принятия пищи и в тени лоз побеседовать
о возвышенных вещах, мы услыхали крики и стоны
подвергнутых наказанию. Я сказал:
— Разве у нас с ними не один бог, не одно крещение?
Лев Диакон, привыкший взирать на все с холодным
равнодушием историка, пожал плечами.
— Мысли раба надо направлять жезлом.
Там же, стр. 15—17.
47
СКУПКА КРУПНЫМ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ
КРЕСТЬЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Отдохнув среди лоз, все отправились в другой конец
владения, в селение, где Леонтий покупал у разорившегося
крестьянина небольшой участок земли, думая поселить на нем
одного из своих рабов. Я тоже последовал за ними, чтобы не
оставаться одному на винограднике.
Когда мы пришли на указанное место, там нас уже
дожидались владелец участка, свидетели, выбранные из обитателей
этой деревни, и явившийся для заключения купчей сделки
местный табулярий, сгорбившийся под бременем лет старичок
с жалкой бороденкой. Собравшиеся низко поклонились
магистру и ждали, что он им скажет. За продающим землю стояла
-жена с ребенком на руках. Другой мальчик прижимался к
матери и теребил ее юбку, с любопытством глядя на красиво
одетых людей. Никто из них не имел обуви, и глаза у женщины
йыли заплаканы.
— Приступи! — коротко сказал Леонтий табулярию.
Прежде всего предстояло измерить участок. Один из
поселян взял веревку, зажал конец ее между пальцами правой
ноги, а другой конец поднял на высоту вытянутой руки.
— Нет, — сказал магистр, — надо использовать для этой
цели тростник. Потому что веревка изгибается во время
измерения и покажет больше земли, чем есть на самом деле, а я не
буду платить лишнее.
Тогда поселянин принес длинную жердь, и табулярий,
отложив на ней двадцать семь раз руку, отрубил палку в этом
месте. Так получилась мера для определения площади участка.
Теперь оставалось только обойти с жердью вокруг поля ...
... Началось измерение участка. Видно было, что крестьянин
не очень-то доверяет табулярию и следит за каждым его
движением. Но участок был небольшой, и площадь его скоро была
вычислена. Пахотная земля, как известно, измеряется на модии
жита, потребные для обсеменения.
Табулярий подсчитывал вслух, глядя куда-то в небеса, точно
там он находил все нужные ему данные:
— Итак, сосчитав число сажен и отбросив одно измерение
из каждых десяти на ручей, протекающий в этом владении, и
на каменистую почву, неудобную для обработки ...
— Земля здесь медомлечная, чернозем, — пытался
отстаивать свои интересы продающий.
— Есть и супесчаная. Смотри, какой камень, щебень, —
возражал Леонтий.
— Продолжаем, — опять возвел очи горе табулярий,
подсчитывая на пальцах. — Тридцать шесть ... Остаток разделим на
четыре или отбросим число сажен и разделим полученное на два.
48
Получится ширина и длина. Перемножив ширину на длину
и разделив сумму на два, мы получим число модиев. Их будет
восемнацать.
— Как же так? — почесал затылок поселянин.
— А так. Скольким мерам равняется сторона твоего
участка? Шести. Помножим ширину на длину. Тридцать шесть
сажен.
— Тридцать шесть ... — повторил поселянин.
— Это будет площадь. Теперь разделим ее на два. Вот
и получается восемнадцать модиев.
Я и сам не очень-то схватывал эти вычисления, а крестьянин
только растерянно переводил взгляд с одного на другого. Но
Леонтий был доволен. Он брал с париков, обрабатывающих его
землю, четвертую, а то и третью часть урожая и, вероятно,
успел подсчитать в уме будущий доход с участка.
Там ж е, стр. 17—19.
ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ
С внешней стороны этот храм не производит поражающего
впечатления, особенно теперь, когда он кругом застроен и сам
заслонен четырьмя большими вооружениями с юга и с севера,
т. наз. контрфорсами, для подкрепления здания. Эти выступы
делают храм как бы приземистее, и даже самый купол кажется
от них тяжеловатее и сдавленнее. Необходимо войти внутрь
храма, чтобы постичь его великолепие и своеобразие.
По просторному двору, окруженному портиками, с
мраморным фонтаном посередине — нужно было подходить к главному
входу, двойной паперти — с девятью тяжелыми бронзовыми
вратами. Дальше так называемый центральный корабль храма,
более чем 35 метров длины и почти такой же ширины. На
высоте почти 30 метров он завершается грандиозным, как
небесный свод, куполом, имеющим в диаметре 14 метров слишком.
Купол опирается на четыре большие арки, в свою очередь
укрепленные на четырех колоссальных столбах. Две из арок —
восточная и западная превращены в полукупола, причем
восточный разделен на три ниши. Средняя заключает под собой
алтарь, а боковые выходят в наружные «корабли» храма,
устроенные в два этажа. Таков план храма — он очень прост.
И только побывавший в нем, видевший своими глазами и
легкость, и простор, и воздушность здания, видевший всю
симфонию круглых сводов, дугообразных арок, переливающихся одна
в другую и вливающихся вместе в один необъятный и
всеобъемлющий купол, может понять, почему сз. Софию считают одним
из чудес света. Помимо линий поразительны в ней и краски.
Гигантские колонны северной и южной сторон были сделаны
4 Сост. О. В. Волобусв н др.
49
из порфира и зеленого мрамора и увенчивались золотым
кружевом капителей. На полу, на нижних частях стен —
разноцветный мрамор, яшма, зернистый гипс, циполин, серпентин.
Все это похоже на роскошный восточный ковер по яркости и
изяществу рисунка или же, как писал один современник
постройки, на большой сад, усаженный пурпурными цветами по
зеленому газону. А выше — по стенам и на сводах куполов
и ниш шли огромные мозаичные композиции то на золотом, то
на синем фоне.
Но главное и самое необычайное в св. Софии, несомненно,
ее центральный купол, величественный полушар, прорезанными
40 окнами и залитый светом. Глаз не различает в светлой
высоте, как укреплен купол: кажется, что он парит в воздухе.
К. Успенский, В Константинополе при
Юстиниане. — В кн.: «Средние века в очерках
и рассказах». Книга для чтения для учащихся
IV—V классов средней школы, ч. 1, М., 1917,
стр. 123—125.
3.
АРАБЫ В VI—XI ВЕКАХ
В результате арабских завоеваний образовался халифат —
крупнейшая держава раннего средневековья. Ислам стал
одной из наиболее распространенных религий. На
территории арабского государства развивались ремесла и торговля,
расцвела высокая культура, вклад в которую внесли все
народы халифата.
История арабских завоеваний иллюстрируется в
хрестоматии на примере борьбы армянского народа с арабами по
роману Мурацана «Геворг Марзпетуни». Из отрывка «Арабы
з Армении» хорошо видно, как феодальные усобицы
ослабляли страны и облегчали арабам их завоевания.
Фанатизм мусульманского духовенства, проповедь
«священной войны» против неверных можно показать, опираясь
на выдержку из книги В. Смирновой-Ракитиной «Повесть
об Авиценне ...».
О состоянии ремесла и торговли в арабских странах
рассказывается в путевых заметках Насир-и-Хусрау (отрывок
«Торговля и ремесло в Мисре»). Если учитель решит
прочесть отобранные им места в классе, то ему следует
подчеркнуть, что эти сведения взяты у автора-современника
изучаемой эпохи.
Отрывок «В библиотеке бухарского эмира» из книги
В. Смирновой-Ракитиной «Повесть об Авиценне...» дает
50
представление о богатых собраниях рукописных книг в
прославленных библиотеках Арабского халифата.
Создать образы великих ученых Средней Азии аль-
Бируни и ибн-Сины учителю, помогут отрывки «Научные
взгляды аль-Бируни» из повести К. Моисеевой «Звезды
мудрого Бируни» и «Научное наследство Авиценны» из
названной выше книги В. Смирновой-Ракитиной.
Прочитанные в классе рубай Омара Хайяма наглядно
покажут учащимся, что уже в те времена наиболее
передовые люди восставали против религиозного мировоззрения
и поднимались до высот атеизма.
Выразительную, хотя и несколько идеализированную,
характеристику арабской культуры в Испании дает
приведенный нами отрывок из романа «Испанская баллада» Л.
Фейхтвангера.
АРАБЫ В АРМЕНИИ
Разорив беззащитные города и села, арабы устремились на
замки и крепости. Кое-где, правда, осажденные геройски
защищались и уничтожали их отряды, но во многих местах арабы
изменой и силой овладевали замками и беспощадно вырезали
жителей.
— Что ж делал в это время государь?
— Что он мог сделать? Часть князей соединилась в врагом
или сдалась ему, другая была занята братоубийственной
войной с родственниками и соседями. Они сами разоряли страну не
хуже арабов. Некоторые из наиболее сильных князей
отсиживались в замках и не выходили на поле битвы. Царя не
оставили лишь твой отец с гардманским войском, князья Сисакян
с сюнийскими отрядами и князь Марзпетуни с царскими
полками. Но их силы по сравнению с полчищами арабов были
ничтожны. Ты спрашиваешь, что делал царь? Что он мог
сделать в этих условиях? Передав часть своего войска союзным
князьям, он с небольшим отрядом, как раненый лев, метался
по всей стране. Воевать лицом к лицу с врагом ему было не под
силу; внезапным нападением он вносил смятение в ряды
противника, разбивал небольшие отряды и оказывал помощь
осажденным крепостям. Он действовал один, надеясь, что не сегодня-
завтра князья образумятся и вместе с ним пойдут на врага,
чтобы изгнать его из пределов родины. Самый ужасный удар
нанес государю его двоюродный брат, спарапет Ашот Деспот,
который с подначальными ему войскахмн сдался Юсуфу и вместе
с ним вступил в Двин как верноподанный тирана. Наш
католикос \ вместо того чтобы призвать князей к единению и спло-
1 Католикос — глава армянской церкви.
4*
51
тить их вокруг царского престола, оставил страну в смятении,
народ — в отчаянии, войска — в нерешительности и, думая
только о собственной безопасности, уехал в Грузию, к царю
Атырнерсеху...
... Целых два года Армения оставалась полем кровавых
битв. За все это время крестьяне не могли пахать, сеять и жать.
Да и как им было работать, когда поля и ущелья, горы и леса
кишели арабскими разбойниками. А в тех местах, где не было
арабов, армянские войска истребляли друг друга, армянские
князья враждовали между собой. Хлебопашцы разбежались,
сады и поля остались без ухода, а последние запасы у народа
были уничтожены войсками варваров. Нужда, как чума, из
хижин бедняков проникла в палаты богачей. Всюду царил
голод — худшее из всех несчастий. О, счастлив тот, кто не видел
этого бедствия. Люди, уничтожив все в городах и селах,
разбрелись по полям, ущельям и горам, чтобы утолить голод травой
и овощами. Многие умирали от ядовитых растений, но, несмотря
на это, вся зелень полей и гор была съедена. После этого
принялись за нечистых Животных: ослов, лошадей, кошек, собак
и даже червей ...
М у р а ц а н, Геворг Марзпетуни.
Исторический роман, Гослитиздат, М., 1963, стр. 62—64.
ПРОПОВЕДЬ ГАЗАВАТА (ВОЙНЫ ПРОТИВ НЕВЕРНЫХ)
Проходя базарными кварталами, Хусейн ! попал в толпу,
запрудившую улицу и жадно слушавшую какого-то исступленно
проповедовавшего старика. Продвигаться в толпе было трудно,
и Хусейн невольно прислушался, к его словам. Он назойливо
повторял то, что ежедневно говорилось во всех мечетях всего
мусульманского мира.
— Только истинно правоверный достигнет райского
блаженства! — кричал проповедник. — Только верные корану и
суннам могут считаться истинными мусульманами! .. Ни одно дело
не начинайте, не вспомнив аллаха и пророка его Мухаммеда! ..
Сражайтесь с неверными, ибо такая война угодна аллаху!
Несите слово его во все страны, ко всем народам! . . Да не останется
на земле неверных собак!
«Фанатик! — подумал Хусейн, морщась. — Оголтелый
фанатик! Сколько их, однако, развелось за последнее время в
городе! ..»
Пробираясь далее вдоль узких улиц, ученый не раз
сталкивался то с толпой, окружавшей проповедовавшего муллу, то
1 Хусейн — Авиценна.
52
встречал орущего диким голосом дервиша. В Бухаре Хусейну
никогда не попадались эти бродяги в таком количестве и в таком
виде. Дико вытаращенные глаза, нечеловеческий вой, бряцание
цепей и жестянок, которыми было увешано худое, изможденное
тело, создавали страшное впечатление. Народ с ужасом глядел
на то, как в припадке не то религиозного исступления, не то
полного помешательства дервиш истязал себя, хлеща плетьми и
восклицая при этом:
— Велик аллах!.. Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед
пророк его!
В подставленную им чашку отовсюду сыпались монеты,
летели лепешки.
— Боритесь с неверными! Берите оружие, вступайте под
знамя газавата!.. — выкрикивал дервиш...
... Ислам, три столетия назад принесенный арабами в
завоеванные ими страны, оказался религией суровой и
всепроникающей. Пять раз в день миллионы мусульман от Инда до
Гибралтара бросали все свои дела и становились на молитву. В
тысячах мечетей возносились хвалы аллаху и пророку его
Мухаммеду. Ни один грош не переходил из кармана в карман без того,
чтобы не отделить части в пользу церкви.
В. Смирнова-Ракитина, Повесть об
Авиценне, великом ученом Средней Азии Абу-
Али ибн-Сине, враче, математике, астрономе,
философе, поэте и музыканте, жившем тысячу лет
назад и прославившемся во всем мире,
«Советский писатель», М., 1963, стр. 235—237.
ТОРГОВЛЯ И РЕМЕСЛО В МИСРЕ (КАИРЕ)
С северной стороны мечети лежит базар, называемый Сук-
ал-Канадиль. Подобных базаров нет ни в одной стране: там
можно найти все диковины, какие только бывают в мире. Я видел
там изделия из черепахи, как, например: ларчики, гребенки,
ручки для ножей и тому подобное, видел также чрезвычайно
красивый хрусталь, который обрабатывают искусные мастера;
его привозят из Магриба, но говорят, что поблизости, в море
Кулзум, нашли хрусталь лучше и прекраснее Магрибинского.
Видел я также слоновую кость, привезенную с Занзибара; там
было много кусков, весивших больше двухсот мен. Была там
также бычья шкура, привезенная из Абиссинии, напоминавшая
шкуру леопарда; из нее делают обувь...
... В Мисре производят много меда, а также и сахара...
... В Мисре вырабатывают самые различные сорта фаянсаг
столь изящного и прочного, что, когда снаружи к нему
прикоснуться рукой, ее еидно насквозь. Делают из него бокалы, чаши,
блюда и тому подобные вещи; затем их раскрашивают цветами
53
бу-каламуна, так что с какой стороны ни посмотреть, каждый
раз цвет будет другой.
Там выделывают также стекло, чистое и ясное, похожее на
хризолит; продают его на вес...
... Торговцы на базарах в Мисре, когда продают что-нибудь,
говорят правду, а если кто-нибудь солжет покупателю, его
сажают на верблюда, дают ему в руку колокольчик и водят по
городу, при этом он должен звонить в колокольчик и кричать:
— Я сказал неправду и теперь несу наказание, ибо всякий,
кто солжет, достоин наказания!
Наси,р-и-Хусрау, Сафар-намэ, Acade-
mia, M.—Л., 1933, стр. 122—125.
В БИБЛИОТЕКЕ БУХАРСКОГО ЭМИРА
С любопытством озираясь вокруг, Хусейн следовал за
коротконогой жирной фигуркой библиотекаря,- катившейся вперед
с неожиданным для нее проворством. От времени до времени
Абульхасан оборачивал к юноше свое желтое лицо евнуха, чтобы
убедиться, следует ли тот за ним, и дать ему краткие пояснения.
Из его слов Хусейн понял, что в каждой из комнат находятся
книги по какой-либо одной отрасли знаний.
В самих книгах библиотекарь разбирался, по-видимому,
весьма смутно, зато он великолепно знал, сколько их сложено в
каждом сундуке, из каких материалов сделаны их переплеты и
какая цена заплачена за особенно дорогие экземпляры. Вытащив
из-под халата связку позвякивающих ключей, он. отомкнул два-
три ящика и с гордостью показал лежащие поверх книг и
пергаментных свитков аккуратно составленные описи, которые
должны были свидетельствовать о том, что хранитель
библиотеки усердно занимается своим делом и не даром получает
жалованье.
Хусейн ожидал увидеть в библиотеке склоненных над
пюпитрами седобородых ученых. Но вместо них он заметил лишь
нескольких молодых людей, тихо сидевших за книгами поближе
к окнам. Юноше показалось даже, что они стараются как можно
меньше выдавать свое присутствие и жмутся к сундукам и
стенам.
Уловив удивленный взгляд Хусейна, Абульхасан, без тени
смущения на лице, сказал ему:
— Эти люди — наши служащие. Они стирают пыль с книг и
следят за тем, чтобы в них не заводились черви и жучки. Ты
.не поверишь, сколько здесь работы! Приходится промывать
особым составом переплеты, чтобы они всегда выглядели новыми
и нарядными. Поэтому не удивляйся, если в других комнатах
ты также встретишь людей. . .
54
... В одной из них он бережно отомкнул черную
лакированную, шкатулку китайской работы с перламутровыми
чешуйчатыми драконами на крышке и извлек из нее толстый фолиант в
великолепном переплете из тисненой кордовской кожи с эмале:
выми медальонами по углам. Протягивая его Хусейну, Абуль-
хасан похвалился:
— Эта книга обошлась отцу нашего всемилостивейшего
повелителя в двадцать арабских скакунов!
Любуясь художественной работой переплета, Хусейн
раскрыл книгу, переписанную искусным мастером каллиграфии, но
тут же закрыл ее. Это были комментарии к суннам какого-то
безвестного писаки, выдвинувшегося при дворе багдадского
халифа в прошлом веке. Переписанную обыкновенными
писцами, в дешевом переплете, ее можно было купить в любой из
книжных лавок Бухары за несколько дирхемов.
— А вот я покажу тебе еще более драгоценную книгу, —
продолжал библиотекарь. — За нее недавно отдали целый
караван верблюдов с Поклажей и погонщиками. Обычно она
хранится вон в том розовом ларце, но ее сейчас чистят и полируют
в другой комнате, — с этими словами Абульхасан, смешно
переваливаясь, выкатился из двери...
. .. Абульхасан ввалился в комнату. За ним следовали два
служителя, тащившие огромный фолиант со свисавшей с
корешка толстой серебряной цепью, которой книгу приковывали
к ларцу...
... Хусейн невольно залюбовался книгой. Ее переплет из
массивного серебра искусной ювелирной работы украшали
вправленные в него бериллы, изумруды, бирюза, застежки были
из червонного золота. Лощенный до благородного оттенка
слоновой кости пергамент покрывали безукоризненно ровные
строки арабской вязи, написанные замечательным каллиграфом,
по-видимому, трудившимся над своим делом не один год.
Золотые кружочки, разделявшие фразы, составляли на страницах
затейливый орнамент. Тончайшие персидские миниатюры,
выполненные лазурью, киноварью и золотом, прерывали текст.
В. С м и р н о в а -Р а к и т и н а, Повесть об
Авиценне.., «Советский писатель», М., 1963,
стр. 132—136.
НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АЛЬ-БИРУНИ
Во дворец на меджлис собрались все ученые, все богословы,
все знатные люди Гурганджа К Ибн-Сина радостно
приветствовал аль-Бируни, с которым долго не виделся и судьба которого
1 Гургандж — город на южном берегу Каспийского моря.
55
его всегда волновала. Он немало потрудился, чтобы вернуть
Абу-Райхаиа ко двору правителя. Ибн-Сина помнил о том, что
прежний правитель изгнал аль-Бируни из Хорезма и заставил
его искать покровительства на чужбине. Как хорошо, что
ученый вернулся в свой родной Хорезм]
Мусульманские богословы, враждебно воспринимающие
смелые мысли ибн-Сины и аль-Бируни, с нетерпением ждали. Они
не знали, о чем будет спор, но, предвидя разногласия, заранее
п-одзадоривали друг друга.
Открывая меджлис, вазир сказал, что, заботясь о
процветании Хорезма, великий шах Мамун собрал при своем дворе
ученых, которые могли бы стать украшением двора самого халифа.
Но, покровительствуя наукам, хорезмщах в то же время
отвечает за людей науки перед самим аллахом. Вот почему собран
меджлис, где надлежит разобраться в спорах, вносящих смуту
в умы людей. И тут же, обращаясь к аль-Бируни, вазир спросил:
— Верно ли говорят, будто ты утверждаешь, что все тела
стремятся к Земле и удерживаются они на поверхности Земли,
не улетают лишь потому, что существует сила притяжения тел
к Земле? До. нас дошло, будто ты, уважаемый ученый,
признаешь существование взаимного притяжения тел как их
неотъемлемое свойство. Не думаешь ли ты, что виной тому воля
аллаха, который в силах изменить все на Земле, на воде и в
небе?
Аль-Бируни видел шумное оживление среди старых
богословов. ..
... — Следовательно, ты разделяешь мнение индуса Брама-
гупты о притяжении предметов к центру Земли? — спросил кто-
то из ученых.
— Полностью разделяю! — признался аль-Бируни. — Есть
люди, которые думают, что это суждение в какой-то мере
умаляет значение астрономии. Но я считаю, что всякое явление
астрономического порядка может быть с таким же успехом
объяснено в связи с этой теорией.
Почтенный муфтий 1 с длинной белой бородой и золоченым
лосохом в руках молча покинул меджлис. Среди богословов
нарастал шум. Ропот возмущения заглушал речь ученого. Аль-
Бируни умолк, но, взглянув на дабира, понял, что можно
продолжать, и уже громче сказал:
— Ив давние времена и в наши дни многие астрономы
пытались узнать, вращается ли Земля или стоит неподвижно. Они
1 Муфтий — ученый-богослов у мусульман, толкователь корана.
56
пытались опровергнуть этот факт, но им не удалось. Мы также
написали об этом книгу. В ней мы, по нашему мнению,
превзошли наших предшественников если не словами, то по
существу. ..
— Это уж слишком! — воскликнул старый тучный улем К
Он вскочил и, не скрывая своей ярости, стал звать
богословов, предлагая покинуть меджлис, но, увидев на лице хорезм-
шаха неподдельный интерес, умолк.
— Мы поплатимся за такое богохульство! — шепнул
старику молодой богослов, недавно вернувшийся из Мекки.
— Поплатятся еретики, — ответил с важностью старик, —
а мы, правоверные, станем свидетелями неизбежного — этих
безбожников призовут к ответу. Я бы их бросил в яму! — Лицо
старого улема выражало крайнее возмущение.
«Нет, он не оставит этого еретика при дворе Мамуна. Завтра
же он скажет хорезмшаху: либо он, почтенный и уважаемый
улем, либо этот безвестный бродяга. И откуда это он взялся?
Воистину сын сатаны! Что он говорит? Для него не существует
корана. И как может это допустить хорезмшах Мамун? Но,
может быть, и шах заражен ересью? Тогда надо писать
донесение в Багдад, самому халифу».
' К. М о и с е е в а, Звезды мудрого Бируни.
Историческая повесть, Детгиз, М., 1963, стр.
31—34.
НАУЧНОЕ НАСЛЕДСТВО АВИЦЕННЫ
— Как разносторонни знания нашего учителя! — говорил
Абдул-Вахид Алишеру, разглядывая каллиграфически
переписанный том. — Я только что собирал листки его трактата
«О сердечных болезнях», а сейчас у меня в руках «Книга о пти^
цах». Ты вынул из ящика «Книгу по географии, о государствах
и частях света», а дальше у тебя лежат, я вижу, страницы
статьи «Об углах». Ты погляди только на эти полки, которые
мы уже почти заполнили! Сколько труда вложено в каждую
книгу и сколько надо было познать, чтобы осуществить этот
труд!
Алишер подошел к полке и принялся разглядывать стоящие
рядами книги.
— Вот его «Универсальная астрономия», о которой он
говорил нам на занятиях, вот два тома «Книги о благодеянии и зле»,.
1 Улем — мусульманский ученый-богослов.
57
а подле нее «Введение в музыкальное искусство», — показывал
Алишеру Абдул-Вахид.
— А вот статьи, которые с радостью бы сожгли многие
лжеученые.
Он опустился на ковер и разложил прямо перед собой
мятые листы рукописи, только что вытащенные из мешков,
принесенных Рахматом.
— Одна из статей опровергает бред- звездочетов и
астрологов, а во второй учитель осмеивает веру в талисманы,
амулеты, заговоры, колдовство. Он пишет, — Абдул-Вахид
тревожно огляделся кругом, но, убедившись, что никого чужого нет,
продолжал: — «Пророчества, столь распространенные в среде
мусульманских святых и духовенства, вызываются не чем иным,
как душевными заболеваниями, и не имеют в себе ничего
божественного. ..» Не удивительно, что, высказывая такие мысли,
нашему учителю приходится писать предисловия, как в
послании «О душе»: «Я их тайны открыл, чтобы поучить моих
наиболее близких учеников... Но я запрещаю моим друзьям и моим
ученикам, которые признали бы мое учение, сообщать мои
мысли людям незрелым, а также хранить рукопись в
ненадежном месте» ... Рахмат, — окликнул слугу Абдул-Вахид, —
смотри-ка, я кладу все это вот сюда! В случае чего, убирай в
первую очередь.
Книг было очень много. Уже заняты были все полки, а
оставался еще один большой неопорожненный мешок. Абдул-
Вахид развязал его и извлек на свет пухлые томики в желтых и
красных сафьяновых переплетах.
— Это что? — спросил, наклоняясь над ними, Алишер.
— «Канон врачебной науки», самая большая работа
учителя, — ответил Абдул-Вахид и принялся перелистывать
страницы. — Вот первая книга — здесь сначала анатомия, далее
физиология человеческого тела, признаки болезней, правила
питания больного, предупреждение болезней и общие правила
лечения. Вторая книга посвящена учению о простых
лекарственных веществах и их действии. Учитель много раз говорил
ученикам о своих взглядах на лекарства: «Для каждой болезни
надо искать соответствующие лекарства, — привел он на
память слова учителя, — они должны исправить недостатки,
восстановить равновесие соотношений в организме...» Вот видишь,
здесь, в третьей книге, учитель описывает отдельные болезни и
их лечение. Эта часть охватывает разные области медицины.
В четвертой — хирургия и общее учение о повальных
болезнях и лихорадке. А это пятая книга, — Абдул-Вахид показал
начатую рукопись. — Она будет самой трудной. В ней учитель
собирается изложить свои наблюдения над действиями сложных
58
лекарственных веществ и противоядий. Если б ты только знал,
сколько пришлось учителю произвести всяческих опытов, чтобы
начать ее писать...
В. С м и р н о в а - Р а к и т и н а, Повесть об
Авиценне.., «Советский писатель», М., 1963,
стр. 429—431.
АНТИЦЕРКОВНЫЕ РУБАИ ОМАРА ХАЙЯМА
Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе,
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий,
И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.
Бушуют в келиях, мечетях и церквах,
Надежда в ран войти и перед адом страх.
Лишь у того в душе, кто понял тайну мира.
Сок этих сорных трав весь высох и зачах.
Омар X а и я м, Рубан, Гослитиздат, М., 1961.
стр. 76—77.
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА В ИСПАНИИ
Новые властители принесли с собой высокую культуру и
превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и
населенную страну в Европе. По планам, разработанным
опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством,
создавались большие великолепные города, каких эта часть света
не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского
халифа, была признанной, столицей западного мира.
Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское
хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых
урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую,
высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими
драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели —
искусной деревянной резьбой, их скорняки — выделкой всякого
рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством
изготовляли все нужное для мирного обихода и для военных
целей...
.. . Их корабли под управлением испытанных математиков и
астрономов ходили быстро и уверенно, и испанские мусульмане
могли вести широкую торговлю и насыщать свои рынки
товарами исламской мировой державы.
Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета
под небом Испании. В убранстве домов, отделанных на особый,
величественный лад, роскошь сочеталась с изяществом. Искусно
59
построенная система образования с широкой сетью школ давала
каждому возможность получить знания. В городе Кордове было
три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой
университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху
расцвета эллинской Александрии. Философы расширили пределы
корана, перевели и истолковали творения знаменитых греческих
мудрецов, по своему переосмыслив их. Пестрое, яркое искусство
сказочников открыло доселе неведомые просторы фантазии.
Талантливые писатели довели до совершенства богатый и
звучный арабский язык, и теперь на нем можно было передать
тончайшие оттенки чувства.
Л. Фейхтвангер, Испанская баллада,
Изд. иностр. лит-ры, М., 1958, стр. 9—10.
#
4.
РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛИ.
РОСТ ГОРОДОВ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
дна из основополагающих тем курса истории
средних веков — тема «Развитие ремесла и торговли. Рост
городов в Западной Европе». Вопросы, разбираемые
в ней, являются определяющими для понимания тех
процессов, которые имели место в Европе XI—XV
веков. Нельзя подвести учащихся при изучении
последующего материала к правильным заключениям о причинах
усиления эксплуатации крестьян, крестьянских движений и
образования централизованных государств без прочных
знаний по данной теме.
В отрывке «Положение подмастерьев» из повести О. Слез-
киной «Оловянная рука» конкретизируется представление о
средневековых цехах: в нем показано, как трудно было
подмастерью выбиться в мастера, как сложны были условия для
получения звания мастера и какой острой была борьба
между мастерами и подмастерьями.
Значительным художественно-историческим материалом
учитель будет располагать по уроку «Борьба городов с
феодалами. Жизнь и быт горожан». Среди хрестоматийных
материалов он найдет и рассказ о борьбе городов с феодалами
(из книги «Сокровище ювелира» А. Шеноа), и характеристику
средневекового города как военной крепости (отрывок «Ро-
тенбург» из романа «За свободу» Р. Швейхеля), и
обобщенный облик средневекового города по книге К. Иванова «Сред-
О
61
невековый город и его обитатели». Кроме того, в хрестоматии
приводятся описания столиц двух крупнейших государств
Западной Европы, Англии и Франции: Лондона по книге Марка
Твена «Принц и нищий» н Парижа по роману Виктора Гюго
«Собор Парижской богоматери». В каждом из отрывков
средневековый город изображен в различном плане,
преимущественно с выдвижением какой-то одной стороны. Хотя
упорная и кровазая борьба городов с сеньорами
показывается на примере Загреба — главного города Хорватии,
история которой в средней школе не изучается, однако,
учитывая, что развитие Загреба дает типичную картину этой
борьбы, и принимая во внимание художественные достоинства
отрывка, составители хрестоматии сочли возможным
рекомендовать его учителю.
Некоторые дополнительные факты по истории борьбы
городов с феодалами содержатся также в вышеназванном
отрывке «Ротенбург». Своеобразие средневекового города, его
отличие от современных городов, некоторые детали быта
содержатся в отрывках «В средневековом городе» и
«Лондон». Обычно у учащихся складывается представление о
средневековом городе как о чем-то статичном, что
исторически неверно. Надо, чтобы учащиеся воспринимали город
в динамике, в развитии. Поэтому целесообразно, сочетая
рассказ об истории Парижа, изложенный в романе В. Гюго
«Собор Парижской богоматери», с работой по «Атласу
истории средних веков» для восьмилетней школы, где помещен
план Парижа, нарисовать картину роста и расширения
средневекового города. Художественно-исторический материал в
сочетании с наглядностью (учебник, илл. IV и рис. 33 и 35)
обеспечит создание у учащихся прочных и конкретных
представлений о жизни средневекового города.
Картина средневекового рынка дается в отрывке «На
рынке» из книги «Оловянная рука» О. Слезкиной. Через
приключения незадачливой модницы раскрываются бытовые
подробности городской жизни.
Окрашенный франсовской иронией, рельефный образ
типичного итальянского банкира-ростовщика из рассказа
«Черные хлебы» Анатоля Франса может послужить прекрасной
иллюстрацией к объяснению учителя. Следует только
помнить, что каждая фраза несет здесь большую смысловую
нагрузку и отрывок при чтении нуждается в некоторых
пояснениях.
Рассказ учителя о торговых городах Италии поможет
оживить описание Венеции из книги «Псы господни» С. Зая-
ицкого (план Венеции приведен в том же «Атласе истории
средних веков»). К сожалению, приведенные автором цифры
не приурочены к определенным годам.
62
ПОЛОЖЕНИЕ ПОДМАСТЕРЬЕВ
В приемной комнате цехового старшины толпилось много
народу. Здесь были подмастерья, желающие держать экзамен на
звание мастера, ученики с просьбами о сокращении срока
ученичества, мастера, недовольные каким-либо " постановлением
цеха.
Они сидели на широких деревянных лавках в узкой и
длинной, похожей на монастырскую трапезную, комнате, болтали
о своих делах, делились новостями и слухами, спорили и
шумели, пока не отворялась дверь из комнаты старшины. Тогда все
взоры с любопытством устремлялись на выходящего. Иные
подбегали к нему и расспрашивали.
Вот уже часа два, как двери не открывались. Ожидание
становилось томительным.
Больше всех возмущался Ганс Бартель. Он давно сидел у
дверей, но каждый раз кто-то другой проскальзывал к
старшине у самого его носа, то под видом родни, то с запиской от
городского совета. Ганс Бартель всегда искал справедливости и
выражал свое нетерпение громкими возгласами.
— Кто эти два бюргера, что прошли к старшине? Народ
ждет, а они, верно, сидят там и разговаривают! ..
— Молчи! — зыкнул на него угрюмый ученик, десять лет
добивавшийся возможности стать подмастерьем. — Это
Антоний Гейльман с каким-то человеком не из нашего города.
У Гейльмана денег — вот! Хозяин бумажной мастерской.
— А что «вот»? «Вот»! — закипел Ганс. — Я тоже был бы
богатым, если бы у меня были деньги, и знатным, если бы
родился от именитого отца!
Ему ответили смехом. Кто-то спросил, почему же Ганс не
нажил себе денег.
Ганс остался спокоен под градом насмешек.
— Я никогда не искал богатства, — гордо заявил он, —
я искал справедливости!
Смех усилился.
— Ищи ее!
Ганс Бартель продолжал:
— Здесь, я вижу, собрались мастера, но я не боюсь их.
Я всегда говорю правду, потому и перебираюсь от хозяина к
хозяину, из города в город.
— А этот пряник у тебя тоже за правду? — спросил кто-то,
указывая на шрам от виска до подбородка на лице* Бартеля.
— Это мой заработок за голубой понедельник К
Он обнажил плечо и показал на рубец от удара кинжалом.
— А это я получил в тот день, когда мы, подмастерья города
1 Голубой понедельник — дополнительный выходной день, за который
боролись подмастерья
63
Везеля, не захотели подчиниться новым порядкам и со свистом
и гиком побежали в другой город.
— Говорят, и у нас была такая история, — сказал
подмастерье в сильно выношенном берете, — не помню, в каком году.
Вот так же поднялись подмастерья, все, как один, против своих
мастеров и отправились в другой город. Бой вышел будто из-за
того, что мастера захотели присвоить право заведовать наймом
работников, а подмастерьев оттеснить в сторону. Отец говорил,
что к потасовке примкнули многие города.
Он замолк, заметив на себе строгий взгляд мастера.
— Ты еще мало каши ел! — обратился Ганс Бартель к
молоденькому ученику. — Я хоть не стар, но повидал за свою
жизнь вот сколько! Нигде справедливости нет! Нигде! Ни в
одном городе! В Лихтенау я проработал у мастера года три,
показал образец работы — шедевр, как говорят французы! Работал
сверх срока, сверх всяких норм, приготовил колечко на
загляденье! Хотел в мастера пойти, деньги скопил: взнос в пользу
цеха, на то, на сё, всякое угощенье.
Он вдруг задумался и умолк, не желая распространяться
дальше.
— Ну и что? — дернул его за рукав ученик, только что
вступивший в работу и желающий как хможно скорее достигнуть
звания мастера.
Ганс только махнул рукой.
— Мой отец — музыкант, флейтист, да я к тому ж
незаконный. Мне доступ в мастера закрыт. Я здесь совсем по другому
делу.
О. Слезкина, Оловянная рука. Повесть
о Гутенберге, «Советский писатель», М., 1956,
стр. "85—87.
БОРЬБА ГОРОДОВ С ФЕОДАЛАМИ
Многочисленное дворянство и духовная знать косо
смотрели на буйное развитие городов, предугадывая в их крепких
общинах основу тех свободных войск, перед которыми в
позднейшие века пришлось склониться гордым башням магнатов.
Больше всего, конечно, ненавидели они Загреб \ душу всех этих
общин. Старые гричане2, люди-кремень, не желали опускать
перед господами взор и смотрели им прямо в глаза...
Самыми же лютыми недругами города были ближайшие
соседи: епископ и капитул 3. То была такая злая сила, что
словами о ней и не расскажешь. Доходило до того, что граждане и
епископ громогласно желали друг другу доброго утра из пушек!
1 Загреб — главный город Хорватии.
2 Гричане — жители Загреба.
3 Капитул — коллегия духовных лиц при епископе.
64
Бывало и так, что загребский епископ приказывал подстеречь
городского судью и нотариуса в купальнях на реке и бить их
смертным боем. Прославленный, вообще говоря, епископ...
Бериславич устраивал засады и грабил загребских торговцев
так, что сам король писал, что своими поступками он подобен
скорей разбойнику, чем епископу. А преподобный капитул не
раз предавал анафеме весь город и клялся, что в течение трех
веков не посвятит в священники ни одного загребского жителя,
а частенько получалось и так, что во время королевской ярмарки
капитул среди бела дня отнимал у городских кметов по целому
стаду волов. Поэтому голая полоска земли между городской и
капитульской стеной нередко орошалась кровью, а немецким
аркебузерам и испанским драгунам было не так легко разнять
бесновавшихся соседей. Короче говоря, жили по-соседски и
дрались по-соседски!
А на епископа и капитул смотрели и прочие великаши К и
их люди. Медведградские кастеляны, с давних пор
прославленные как безбожные злодеи и враги Загреба, нападали на
городских кметов ... точно волки на ягнят. Господа Хенинговцы,
владетели Суседграда, случалось, догола раздевали загребских
купцов, направлявшихся на ярмарку в Птуй. Зриновичи
заваливали золотые и серебряные прииски на Загребской горе и жгли
амбары в Буковаце. Хозяева Буковины, Алапачи, как истые
разбойники подстерегли однажды у св. Клары городских
старейшин, приплывших на лодке половить рыбу, облили их горячей
смолой, смертельно ранили судью и отняли, вопреки всякой
справедливости, у горожан улов и лодку...
Потому-то тяжб было очень много. Да что проку! Небо
высоко, король далеко; в ту пору сабля да кистень заменяли суд и
закон!
Вот почему гричанам издавна приходилось пускать в ход
кулаки и, так сказать, клин клином выбивать! Несмотря на
простодушие, загребчане в личных делах не зевали и всячески
старались оградить себя от зла. В первую%голову они заботливо
укрепляли город, затем ловко пользовались междоусобицами
знати, поддерживая противников своих врагов, и, наконец,
всеми правдами и неправдами старались овладеть важнейшими
пунктами, лежащими вокруг Загреба, благодаря которым их
крепость могла стать еще крепче. ч
Толстые каменные стены, высокие башни, большие чугунные
пушки, глубокие рвы, окружавшие Загреб, являлись защитой
не столько от турецких набегов, сколько от великашей. Под
прикрытием этой твердыни городской люд время от времени
пускал кровь непрошеным гостям.
А. Ш е н о а, Сокровище ювелира.
Исторический роман, Гослитиздат, М., 1963, стр. 52—54.
1 Великаши — хорватские феодалы. -
5 Сост. О. В. Волобуев и др. 65
РОТЕНБУРГ
На смену суровому дню пришло мягкое, пасмурное утро.
Как вуаль чело красавицы, окутывал туман стены и башни
вольного имперского города Ротенбурга, царившего над долиной
Таубера. Казалось, природа и искусство соединились, чтобы
сделать его неприступным. Исполинские стены с тремя
десятками башен, омываемые с юга и запада водами Таубера,
опоясывали город и соединяли его с фамильным замком давно
вымершего рода графов Ротенбургских. Эта каменная громада,
увенчанная циклопической башней.., высилась на круто
обрывавшейся со всех сторон скале — одном из отрогов горной цепи,
уходившей далеко в глубь цветущей долины Таубера, на запад,
туда, где виднелись бесчисленные ветряные мельницы,
сторожевые башни и готическая часовня Кобольцельской божьей
матери. С севера и с юга, со стороны плоскогорья, подступы к
городу были защищены широким и глубоким рвом, а также
двойным рядом массивных ворот, сообщавшихся посредством
подъемных мостов. На некотором расстоянии за внешними
городскими стенами тянулся второй пояс укреплений: старые
городские стены с воротами и башнями над ними. Здесь-то и
билось сердце Ротенбурга. Здесь вокруг городской ратуши с
двумя фасадами, стройные башни которой господствовали над
всем городом, теснились, устремляя ввысь свои островерхие
крыши, солидные каменные дома ротенбургских патрициев.
Пояс внешних укреплений был обнесен так называемым
крестьянским рвом, который начинался на востоке, у самых
берегов Таубера, и охиатывал ротенбургские владения на двадцать
миль в окружности. За рвом, образуя живую преграду, буйно
разросся терновник, а у выездов на дорогу высились крепкие
башни, снабженные добрыми пушками...
... Искусные в военном деле ротенбургские горожане и
крестьяне, отбиваясь от нападения хищного местного
дворянства, разрушили не один замок, учинив короткую расправу над
рыцарями, которые проводили жизнь в седле и почитали разбой
на большой дороге единственно достойным их высокого звания
занятием! Мрачная тюремная башня в юго-восточном углу
городской стены приняла под свой негостеприимный кров немало
золотошпорников. Среди воронья, кружившего над этой башней,
быть может, еще уцелели вороны-патриархи, которые с
высоких вязов у Гальгентора — ворот Висельников,
переименованных в Вюрцбургские, — оглашали воздух своим зловещим
карканьем еще в 1441 году, когда под топором палача скатились с
плеч головы рыцарей с большой дороги — Вильгельма фон
Эльма и его дворянской шайки. Их разбойничье гнездо, замок
Ингольштадт близ Гйбельштадта, ротенбуржцы взяли
приступом и разрушили до основания..,
66
... Ротенбуржцы, на чьих границах обосновались маркграф
Бранденбургский — Казимир Ансбах-Байрейтский, графы фон
Гогенлоэ и епископ Вюрцбургский, всегда держали свои стены,
укрепления и пушки в полной готовности и выставляли
дозорных на башнях у ворот. Питейный глашатай, в чьи обязанности
входило днем объявлять во всеуслышание о назначенных к
продаже винах, по ночам объезжал городские ворота и
возвращался с донесениями к начальнику бюргерского ополчения,
разделенного на шесть отрядов по числу кварталов. Даже в мирное
время люди жили под вечным страхом.
Р. Ш в е й х е л ь, За свободу. Роман из
эпохи Великой крестьянской войны в Германии,
Гослитиздат, М., 1961, стр. 32—33.
В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ
Совершая прогулку по средневековому грроду, вы тщетно
искали бы на домах того, что нам кажется столь необходимым,
к чему мы так привыкли, — номеров. Взамен номеров на
каждом доме помещается над входом щит, а* на нем намалевано
какое-нибудь изображение. Вот — красный медведь, здесь —
волк, там — лебедь, полумесяц, золотая звезда, золотой меч
и т. п. По этим-то изображениям и различали тогда дома.
В наше время много значит также фамилия домовладельца; в
ту пору фамилий еще не было, а дом и его владелец носили
одно и то же прозвище. Отсюда образовались со временем и
настоящие фамилии...
... Город наш еще совсем не освещается. Только в редких
случаях вывешиваются у домов фонари или просто
вставляются смоляные факелы в особенные, сделанные для этой цели
железные ручки... В обыкновенное же время обыватели
выходят ночью на улицу с фонарями в руках...
... Но что это? Поперек улицы перекинута тяжелая цепь.
Она заперта с двух сторон на замки. Такие цепи
перегораживают и другие улицы, а делается это для того, чтобы
воспрепятствовать конным толпам, на случай какого-либо возмущения.
Нам эти цепи помешать не могут. Двигаясь по неровным и
большей частью немощеным улицам, не отличающимся притом
правильностью наших улиц, мы подходим к площади.
Так вот это здание, которое издали обращало на себя наше
внимание. Гордо поднимается к ночным небесам стройная
башня городской ратуши. На верхушке ее — сторож, но он не
видит нас. С этой башни в критические минуты городской
жизни раздаются звуки набатного колокола: они оповещают о
пожаре, созывают вооруженных граждан и мирным тоном
напоминают о времени тушения огней в домах обывателей. Тут же
5*
67
недалеко от ратуши (места заседания городского совета или
рата) поднимается облитая лунным сиянием, довольно грубо
высеченная из камня фигура мужчины; в ее руке —
обнаженный меч. Это — Роландова колонна. Полагают, что такие
статуи были символами уголовного судопроизводства, обозначали
право судей города подвергать преступников смертной казни.
Взгляните мимоходом на эту клетку и на этот столб. В первую
сажают пьяниц, у второго производят сечение розгами...
. .. Площадь обстроена со всех сторон. Против ратуши
возвышается собор во имя пресвятой девы Марии... Наискось
собора стоят торговые ряды, выстроенные из камня. Днем здесь —
толкотня.и оживленные речи. Городские весы, теперь
спокойные, непрерывно действуют днем.
Мы проходим через площадь, освещенную луною; с нами
движутся и наши тени.
Мы покинули городскую площадь и снова пошли бродить по
извилистым улицам города. Главных улиц четыре: они в форме
креста расходятся от площади по направлению к четырем
сторонам горизонта. Эти четыре улицы ведут к четырем городским
воротам, каждая из них пересекается другими,
второстепенными улицами. Городские обыватели, занимающиеся одним и тем
же делом, селятся в одной и той же улице. Самые улицы
прозываются большею частью от имени того ремесла, которым
занимаются их обитатели; так, например, кузнечная улица и т. п.
Духовенство живет вокруг церквей. Встречаются улицы,
населенные семьями одного и того же рода. Иностранцы также
селятся отдельно.
К. Иванов, Средневековый город и его
обитатели, Спб., 1900, стр. 10—19.
\У ЛОНДОН
Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим
городом по тем временам. В нем насчитывалось сто тысяч
жителей, иные полагают — вдвое больше. Улицы были узкие,
кривые и грязные... Дома были деревянные; второй этаж
выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над
вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы
у них были из крепких, положенных крест-накрест балок;
промежутки между балками заполнялись прочным материалом и
сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены
красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца,
и это придавало домам очень живописный вид. Окна были
маленькие, с мелкими ромбами стекол, и открывались наружу на
петлях, как двери.
М. Твен, Принц и нищий, Детгиз, М., 1961,
стр. б.
68
ПАРИЖ
Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ,
имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова
был его первой границей, а Сена — первым рвом. В течение
нескольких веков Париж существовал как остров с двумя
мостами — одним на севере, другим на юге, и с двумя
мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и
крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом.
Позже, начиная со времен первой королевской династии,
Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя
возможности развернуться на нем, перекинулся через реку.
Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе
стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле... Мало-помалу
поток домов, непрестанно выталкиваемый лз сердца города,
перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп-
Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон
заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных.
В течение целого столетия дома жмутся друг к другу,
скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой
уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они
нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они,
подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из
них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше
соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются;
площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают
через ограду Филиппа-Августа и весело, вольно, вкривь и вкось,
как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине.
Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.
Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям,
что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом
берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет
непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы.
Это воронки, куда ведут все географические, политические,
моральные и умственные стоки страны, куда направлены все
естественные склонности целого народа; это, так сказать,
кладези цивилизации и в то же время .каналы, куда, капля за
каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются
торговля, промышленность, образование, население, — все, что
плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу
нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды
Филиппа-Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это
препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта
ограда как бы все больше и больше подается назад в старый
город, — до того разросся за нею новый. Таким образом, уже
в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть
69
три концентрических круга стен, зародышем которых во
времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле.
Могучий город разорвал один за другим четыре пояса
стен, — так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При
Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы
полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград,
подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения,
подобно островам старого Парижа, затопленным приливом
нового города.
В. Гюго, Собор Парижской богоматери,
«Правда», М., 1955, стр. 122—124.
НА РЫНКЕ
На рыночной площади, в рядах, где продавалось мясо, рыба
и зелень, было большое оживление. Городские хозяйки в
сопровождении своих служанок ходили от прилавка к прилавку,
высматривая кусок пожирнее, а рыбу покрупнее. Знатные дамы
щеголяли длинными шлейфами, рукавами до самой земли и
высоченными головными уборами, придававшими их поклонам
необычайную важность. Каждая выхвалялась перед другой своей
знатностью, богатством, а более всего какой-нибудь новой
модной нелепостью.
Огромное количество попрошаек наполняло рынок. Нищие
выставляли напоказ значки, полученные ими от городского
совета на право испрашивать подаяние. Убогие и калеки, не
нуждаясь ни в каком разрешении, клянчили на разные голоса:
«Пода-а-айте христа ради!»
Тут же толкались оборванные школяры. Сердобольные
горожанки охотно подавали им куски хлеба, за что те пели
священные гимны. Школа помещалась здесь же, на площади. Звонкие
детские голоса выкрикивали за своими учителями псалмы по-ла-
тыни. Ветер нес их дальше, смешивал с ревом ослов и
перебранкой продавцов с покупателями.
Протискиваясь сквозь толпу, глашатай выкрикивал
заманчивым голосом названия вин, предлагая отведать из его кружки
рейнского или мозельского. Банщики пронзительно зазывали
людей в баню. Старьевщики выхваляли свое добро.
Все это людское месиво гудело, шумело, кричало. Продавец
амулетов старался привлечь внимание . своей ярко-красной
одеждой и оранжевым колпаком. Возле него теснилась толпа
любопытных женщин. Каждой хотелось подойти поближе,
рассмотреть талисманы, обладающие чудодейственной силой. На
лотке шарлатана лежали разного рода зубы, хвосты, перья и
ладанки. Он сильно жестикулировал и, тараща глаза, старался
образно объяснить значение каждой вещи.
70
— Куда ты, Христина? — крикнула пожилая женщина в
непомерно широкой юбке со шлейфом и в остроконечном головном
уборе, соперничающим с башенками над городскими часами.
— Подождите минутку, тетя Тереза, я только взгляну, нет
ли талисмана, придающего бледность лицу, — быстро
ответила молодая девушка, ее спутница.
Продавец потрясал ниткой с нанизанными на ней,
торчавшими во все стороны кораллами и кричал:
— Морские зубы! Красные морские зубы!
— Христина! Христина! — тетя Тереза хотела догнать
племянницу, и вдруг кто-то наступил ей на шлейф. — Ах! —
вскрикнула тетя Тереза и взмахнула руками.
Широкий рукав смел с лотка проходившего мимо торговца
несколько петушков из разноцветной бумаги. Продавец бросился
на спасение своих игрушек. Взметнувшийся шлейф тети Терезы
поднял облако пыли.
Торговка сладостями пронзительно взвизгнула. Пыль
садилась на ее липкий товар. Прозрачные птички и лошадки сразу
сделались тусклыми. Мальчишки, окружавшие лоток с
леденцами, подняли визг и гомон. Тетя Тереза хотела было уйти, но
конец шлейфа оказался придавленным грубой обувкой
шляпочника, примерявшего покупателю войлочный колпак.
Рассерженная женщине дергалась, как стреноженная
лошадь. В толпе раздался непочтительный смех. Кто-то громко
стал поносить женские моды. Тетя Тереза с силой рванула
шлейф, продавец шляп покачнулся и упал на лоток торговца
посудой. Горшки, плошки, кувшины закачались и повалились,
отбивая края друг другу. Разъяренный горшечник что есть силы
двинул кулаком по чьему-то животу, владелец которого
свистнул в ухо горшечнику.
Началась свалка. Визг, крик, топот, стоны, ругань...
Рыночная симфония оборвалась внезапно с приходом стражи.
Тетя Тереза оказалась в центре внимания.
— Она виновата! — кричали возбужденные голоса.
— Довольно с нас этих модниц!
— Оштрафовать ее!
— Вымерить хвост!
Стража поволокла ее к городской ратуше, где была
выставлена предельная мерка длины дозволенного «хвоста».
Мальчишки с гиканьем бежали впереди, радуясь бесплатному
развлечению. Возмущенная толпа мелких торговцев требовала суда. За
одно прихватили еще какого-то неразумного модника, чьи рукава
с бубенчиками и разного цвета обувь вызывали общий гнев.
71
Бубенчики звенели при каждом движении щеголя, а длинные
загнутые кверху носки башмаков корчились и качались, как
хвосты змей, Еызывая отвращение простого люда.
О. Слезкина, Оловянная рука. Повесть
о Гутенберге, «Советский писатель», М., 1956.
стр. 159—161.
ИТАЛЬЯНСКИЙ БАНКИР
Когда звонили к третьему часу, он сидел у себя за
конторкой, и когда звонили к девятому часу, он все еще сидел там
и целый день заносил цифры на таблички. Он ссужал деньгами
императора и папу. И не ссужал дьявола только потому, что
боялся войти в невыгодную сделку с тем, кого зовут лукавым
и кто не скупится на хитрости. Никола Нерли был смел н
недоверчив. Он стяжал большие богатства и обездолил много
людей. Вот почему его почитали в городе Флоренции. Он жил
во дворце, куда божий свет проникал лишь через узкие окна;
этого требовала осторожность, ибо жилище богатого должно
быть подобно крепости, и те, у кого много имущества,
поступают мудро, защищая силой то, что приобрели хитростью.
А. Франс, Черные хлебы. — В кн.:
А. Франс, Собрание сочинений, в 8-ми т., т. 3,
Гослитиздат, М., 1958, стр. 397.
^ ВЕНЕЦИЯ
Венеция выросла из рыбацких поселений. Соль и рыба —
вот были первые товары, которыми некогда (еще в V и VI вв.)
начали торговать венецианцы. Постепенно город стал богатеть
благодаря своему положению на большой дороге с запада на
восток. Через Венецию шла торговля и с Далмацией, и с Ист-
рией, и с Турцией, и даже с Индией. Крестовые походы также
немало способствовали обогащению Венеции, так как
венецианцы предоставили крестоносцам свой водный транспорт.
К XIV веку флот Венеции достиг наивысшего могущества,
и Венеция безраздельно царила на всем Средиземном море.
У венецианской республики было 3345 тррговых судов, 36 000
матросов и 16 000 судорабочих — цифры огромные для того
времени. И недаром глава Венеции, дож, ежегодно в день
вознесения выезжал в море на роскошном золоченом корабле «Бу-
центавре» и при торжественной церемонии кидал в воду
перстень. То был знак дружбы Венеции с морем.
В Венеции выделывалось чудесное стекло и всякие
стеклянные изделия. Иностранцев поражало то, что в Венеции даже
самые бедные лачуги имели стеклянные окна. В те времена.
72
обычно стекло заменялось либо бычьим пузырем, либо
навощенной кисеей. Венецианские стеклянные чаши и вазы
славились на весь мир. С Востока же возили в Венецию пряности,
драгоценные камни, ткани.
Венеция гордилась своим богатством и роскошью.
С. 3 а я и ц к и й, Псы господни, «Молодая
гвардия», М, 1931, стр. 138—139.
5.
ХРИСТИАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ В XI—XIII ВЕКАХ.
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
Христианская ,церковь в средние века являлась опорой
феодального строя и освящала его своим авторитетом.
Различными средствами, не брезгуя ничем — ни прямым
насилием, ни обманом, церковники выкачивали деньги и
вымогали имущество у верующих. Алчность, порочность и плутни
духовенства и римских пап всегда вызывали протест и
осуждение у народа и высмеивались им.
Изучение данной темы предоставляет большие
возможности для атеистического воспитания учащихся.
В адаптированной новелле из «Декамерона» Джованни
Боккаччо раскрываются мошеннические проделки монахов.
Сюжет новеллы рассказывается учителем, а выдержку из
проповеди монаха целесообразно зачитать. Речь
невежественного монаха, насыщенная бессмыслицами, разоблачает
мнимую ученость и святость служителей церкви.
Существенным источником доходов католической церкви
была продажа индульгенций, которая носила особенно
бесстыдный характер. Продавцы индульгенций расхваливали
свой товар как ярмарочные зазывалы. Продажа
индульгенций талантливо изображена в хрестоматийном отрывке из
романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле...».
Рекомендуется использовать это описание, опираясь на
иллюстрацию учебника (рис. 36).
Типичный образ папы-стяжателя, папы-скряги вылеплен
в книге Лиона Фейхтвангера «Безобразная герцогиня».
Беспримерная жадность и продажность католического
духовенства и папского двора обличаются в анонимном
стихотворном сочинении XII века, отрывок из которого дан под
заглавием «Нравы церковников». Материалы из истории
крестовых походов — «Начало крестовых походов» из ро-
73
мана «Испанская баллада» Л. Фейхтвангера. «Встреча
византийского императора с вождями первого крестового похода»
из книги «Граф Роберт Парижский» В. Скотта и «Захват
Иерусалима крестоносцами» из научно-популярного очерка
«Крестоносцы и их походы на Восток в XI—XIII веках»
М. Заборова — из-за их значительного объема лучше всего
использовать учителю при подготовке к уроку. В
приведенных фрагментах отражены разбойничьи устремления,
религиозный фанатизм и кровавые злодеяния крестоносцев
(первый и третий отрывки) и сложные, полные противоречий
взаимоотношения между крестоносцами и Византией
(второй). Учителю следует обратить внимание на активное
участие церковников в преступлениях крестоносцев.
МОНАХ ДУРАЧИТ ВЕРУЮЩИХ
В приведенной новелле Д. Боккаччо рассказывается, как двое молодых
людей решили подшутить над шарлатаном-монахом, который, обманывая
верующих, выдавал перо попугая за перо ангел-а Гавриила. Они похитили
у него перо, которое он хранил в ларце, а в ларец насыпали уголья.
Когда весь народ собрался, брат Чиполла, не заметивший,
чтобы какая-либо из его вещей была тронута, начал проповедь
и многое сказал, подходящее к его цели; когда пришло ему
время показать перо ангела, он наперед с большою
торжественностью произнес молитву, велел зажечь два факела и, сняв
сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул
из нее ларчик. Сказав наперед несколько слов в похвалу и
прославление ангела Гавриила и своей святыни, он открыл ларец.
Когда он увидел, что он полон угольев, не возымел
подозрения, что то проделал с ним Гуччьо Балена (слуга мгааха.—
Сост.), ибо знал, что ему того не измыслить, и не проклял
его, что плохо смотрел за тем, чтобы кто иной того не
сделал, а втихомолку выбранил самого себя, что поручил хранение
своих вещей тому, кого знал за нерадивого, непослушного,
незаботливого и непамятливого. Тем не менее, не изменившись в
лице, подняв горе глаза и руки, сказал так, что все его
услышали: «Господи, да похвалено будет вовеки твое могущество!»
Затем, затворив ларец и обратившись к народу, сказал:
«Господа и дамы, надо вам сказать, что, когда я был еше
очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит
солнце, и мне особым приказом поручено было искать, пока
не обрету привилегий Поросяти, которые, хотя штемпелевать
их ничего не стоило, гораздо пригоднее другим, чем нам.
Потому, пустившись в путь, отправившись из Венеции и пройдя по
Борго деи Гречи, а далее проехав верхом по королевству дель
Гарбо и через Бальдакку, я прибыл в Парионе, откуда, не без
74
большой жажды, достиг по некоторому времени Сардинии. Но
к чему рассказывать вам о всех странах, мною посещенных?
Перебравшись через пролив св. Георгия, я приехал в Обманную
и Продувную, страны очень населенные, с великими народами;
оттуда прибыл я в землю Облыжную, где нашел многих из
нашей братии и из других орденов, которые все, бога ради, бегали
от невзгоды, мало заботясь о чужих затруднениях, лишь бы
видели, что им последует польза, и не платили в тех странах иной
монетой, как нечеканной... Я нашел почтенного отца Не-кори-
меня-пожалуй, достойнейшего патриарха Иерусалима, который
в уважение к одежде высокомощного мессера св. Антония,
которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все святые мощи,
какие у него были; и было их так много, что если б я захотел
все их перечислить вам, я не дошел бы до конца и через
несколько миль. Тем не менее, дабы не оставить вас без утешения,
скажу вам о некоторых. Во-первых, он показал мне святой
перст, такой свежий и целый, как только можно
себе'представить; локон Серафима, явившегося св. Франциску; ноготь
херувима и ребро бога-отца, вставленное в рамку; одежды святой
католической веры; несколько лучей звезды, явившейся волхвам
на Востоке; пузырек с потом св. Михаила, когда он бился с
диавалом; челюсть смерти св. Лазаря и другие. А так как я не
постоял за тем, чтобы подарить ему склоны Монте Морелло
в итальянском переводе и несколько глав Капреция, которые
он давно разыскивал, он сделал меня причастным своим святым
мощам и подарил мне один из зубцов, а в скляночке несколько
от звона колоколов Соломонова храма и перо ангела, о котором
я уже говорил вам, и один из деревянных башмаков св. Герарда
да Вилламанья, который я недавно пожертвовал во Флоренции
Герарду ди Бонзи, питающему к нему величайшее
благоговение. Дал он мне и от угольев, на которых изжарен был
блаженный мученик св. Лаврентий. Все эти предметы я
благоговейно принес сюда с собой, и они все при мне. Правда, мой
начальник никогда не дозволил мне показывать их, пока не
удостоверено, они ли это или нет;' но теперь некоторые чудеса, ими
совершенные, и письма, полученные от патриарха, это
удостоверили, — он дал мне дозволение показывать их; но я, боясь
доверить их другому, всегда ношу их с собой. Правда, я ношу
перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось,
а уголья, на которых изжарен был св. Лаврентий, в другом, но
они так похожи друг на друга, что часто я один принимаю за
другой, что и приключилось со мною теперь, ибо я полагал,
что принес с собою ларчик, где было перо, а я принес тот, где
угли. И я думаю, то было не по ошибке; напротив, я почти
уверен, что на то была воля бо*жия и что сам господь вложил в
мои руки ларец с угольями, ибо вспоминаю.теперь, что
праздник св. Лаврентия будет через два дня. Поэтому, господу, изво-
75
лившу, чтобы я, показав вам угли, на которых был изжарен
святой, возжег в ваших душах благочестие, которое вы должны
питать к нему, он и велел мне взять не перо, как я того хотел,
а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего
тела. Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и
набожно подойдите посмотреть на них. Но наперед знайте, что
кого коснутся эти уголья в знамение креста, тот может весь
этот год прожить в уверенности, что огонь не коснется его тела
так, чтобы он того не почувствовал».
Сказав это, с пением похвалы св. Лаврентию, он открыл
ларец и показал угли. После того как глупая толпа некоторое
время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки
стали подходить к брату Чиполла, принося лучшее подаяние,
чем обыкновенно, и каждый просил его коснуться его теми
углями. Потому брат Чиполла, взяв угли в руки, стал делать на
их белых камзолах и на куртках и на покрывалах женщин такие
большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая,
что если угли и умалялись от начертания крестов, снова
вырастали в ларце, как то он не раз испытал. Таким образом, не
без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей Чер-
тальдо...
Д. Боккаччо, Декамерон, Гослитиздат,
М., 1955, стр. 388—390.
ПРОДАЖА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ
Два монаха ордена премонстрантов прибыли в это время
в Дамме продавать индульгенции. Поверх их монашеских
одеяний были надеты кружевные рубахи.
В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в
дождливую в притворе, где была прибита табличка с расценкой
грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за па-
тар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов,
за дукат, — на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно,
смотря по цене, также полное загробное блаженство пли
половину его и разрешение самых страшных преступлений...
Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки
пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу
можно было прочесть следующую надпись:
Коль не хочешь, чтоб тысячу лет Грехов отпущенье,
Тебе в чистилище томиться, Милость божию и прощенье
А после в аду, на вечном огне, По сходной цене продаем.
Гореть, жариться и вариться — Помни о спасенье своем!
Купи индульгенцию! —
И покупатели стекались за десять миль отовсюду.
Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была
цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко,
нимало не смущавшее его.
76
— Нечестивец! — говорил он, вперяя взор в кого-либо из
своих слушателей. — Нечестивец! Взгляни — вот ты в адском
огне! Жестокое жжет тебя пламя. Тебя варят в котле
кипящего масла, в котором изготовляются пироги для Астарота.
Ты — колбаса на сковороде Люцифера, ты — огузок в
кастрюле Гильгерота, великого дьявола, и на мелкие кусочки для
того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не
подумавшего об отпущении грехов, взгляни на эту кастрюлю
рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его
проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа —
сера, деготь и смола! И все несчастные грешники будут вечно
пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым
мучениям. Вот где льются неподдельные слезы, вот где
подлинно скрежет зубовный! Господи помилуй, господи помилуй! Да,
вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения!
Один лишь грош, уплаченный за тебя, — и уже легче твоей
правой руке; еще полушка — обе твои руки освободились из
пламени. А остальное тело? Флорин всего — и низверглось на
тебя благостной росою отпущение грехов. О сладостная
прохлада! И так — десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по
взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не лепешка,
кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник, то разве мало
в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих
душ: твоих родных, твоей любимой жены...
При этих словах монах толкнул в бок своего товарища,
стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза
и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям...
... — Покупайте индульгенции, братья; есть на всякие цены:
за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем
и мелкие деньги. Покупайте. Покупайте. Здесь святая торго-вля:
здесь есть товары для всякого — для бедного и богатого. Но в
долг, братья, к великому горю, мы давать но можем, ибо
покупать прощение и не платить за него наличными — преступление
в глазах создателя.
Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом.
Флорины, крузаты, патары, дукатоны, денье и су сыпались в него
градом.
Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за
него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи
выдали ему кусок пергамента.
Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции
осталось в Дамме всего несколько закоренелых скряг. Тогда
оба перебрались в Гейст.
Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле и
Ламме Гудзаке, их приключениях отважных,
забавных и достославных во Фландрии и иных
странах, Гослитиздат, М., 1955, стр. 123—125.
77
ПАПА ИОАНН XXII
Иоанн XXII, этот древний старец в обличий карлика, сидел
в своем дворце в Авиньоне и копил деньги. Копил монеты,
слитки, серебро, золото, векселя, закладные. Ох, и следил же он,
не спуская глаз, чтобы каждый аккуратно вносил десятину
и сборы. Едва какой-нибудь епископ опоздает, как папа сейчас
же грозит ему отлучением. Бедный епископ Генрих Триентский!
Что дала ему ревностная борьба в защиту законного папы! Он
не смог уплатить те шестьсот сорок дукатов, которые с него
требовал Авиньон, и папа метнул в него молнию отлучения!
А как искусно папа умел распределять высшие церковные
должности! Каждый новый епископ обязан был внести в курию
все свои доходы за целый год. Если же какой-нибудь епископ
умирал, то папа не сажал на его место нового прелата, нет, он
назначал кого-нибудь из уже имевших епископство, так что со
-смертью каждого епископа освобождался ряд папских ленов.
Поэтому среди высших иерархов происходило постоянное
перемещение: они приходили и уходили, точно на постоялом дворе.
А святой престол собирал жирные аннаты. «Оборот! Оборот!
Оборот!» — твердил папа и его кассиры. Да, папа Иоанн знал
в этом толк. Не мудрено, ведь он был родом из Кагора, города
банкиров и биржевиков. Большая часть западноевропейского
золота текла в его кассы. Папа был влюблен в деньги; он не
в силах был заставить себя опять пустить их в дело... Он сидел
в своем Авиньоне, этот древний старец, точно гном над
сокровищами, разглаживая векселя и закладные, перебирал золото,
и оно струилось между его высохшими гномьими пальцами.
Л. Фейхтвангер, Безобразная герцогиня
Маргарита Маульташ, Гослитиздат, М., 1960,
стр. 46—47.
НРАВЫ ЦЕРКОВНИКОВ
Возглавлять вселенную
Призван Рим, но скверны
Полон он, и скверною
Все полно безмерной.
Ибо заразительно
Веянье порока,
И от почвы гнилостной
Быть не может прока.
Рим и всех, и каждого
Грабит безобразно;
Пресвятая курия
Это — рынок грязный!
Там права сенаторов
Продают открыто;
Там всего добьешься ты
При мошне набитой.
Есть у римлян правило,
Всем оно известно:
Бедного просителя
Просьба неуместна.
Лишь истцу дающему
В свой черед дается.
Как тобой посеяно,
Так вот и пожнется..
78
Ну, так знай заране: Писарь и привратники
Ты ни с чем воротишься, В этом с папой схожи;
Если пусты длани. Свора кардинальская
Кто пред ним с даянием Не честнее тоже.
Появился малым, Если мзду обильную
Взором удостоен он Ты им не предложишь,
Будет очень вялым. То и дела правого
К папе ты направился? Выиграть не сможешь.
«Воспользуюсь против пороков...» — В кн.:
«Хрестоматия по зарубежной литературе средних
веков», Учпедгиз, М., 1953, стр. 39.
НАЧАЛО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
Уже при первом крестовом походе христианское войско
прежде всего напало на неверных у себя на родине — на евреев.
Вожаки движения не хотели этого; у них была одна цель:
освободить святую землю из-под ярма неверных. Но многие
примкнули к крестоносцам не только из религиозных
побуждений. К пламенной вере примешивалась жажда приключений и
стяжательство. Рыцари, стремление которых к подвигам
сдерживалось на родине законом, рассчитывали завоевать добычу
и ратную славу в мусульманских землях. Виланы брали крест,
чтобы избавиться от гнета личной зависимости и податей.
«Много всякого сброду примкнуло к крестовому воинству не для того,
чтобы искупить грехи, а чтобы содеять новые», — повествует
богобоязненный летописец того времени Альберт Аквентис.
Некий Гильом ле Карпантье, проживавший в окрестностях
Труа, известный спорщик и забияка, собрал толпу
воинственных богомольцев и повел их к Рейну. К ним присоединялись все
новые люди — франки и германцы, скоро их собралось до ста
тысяч. В прирейнских странах эту темную дружину прозвали
«братья-паломники».
«Поднялся беспутный, необузданный, злодейский люд, —
повествует еврей-летописец того времени, — франки и
германцы, и пошли в святой град, дабы изгнать оттуда сынов Измаила.
Каждый из безбожников нашил себе на одежду крест, и
собирались они большими толпами, мужчины,, женщины и дети.
И один из них, Вильгельм Плотник — да будет проклято имя
злодея! — подстрекал народ и говорил: «Вот мы двинулись в
путь, дабы покарать сынов Измаила. Но разве здесь, среди нас,
не живут те самые иудеи, отцы которых распяли господа
нашего? Покараем сначала их. Если они и дальше будут
упорствовать и не признавать за мессию Иисуса, вытравим с
корнем семя иудово». И они послушались его и говорили один
другому: «Поступим так, как он говорит»...
...В Регенсбурге братья-паломники убили семьсот
девяносто четыре еврея, имена которых занесены в книги мучеников.
79
Сто восемь согласилось принять крещение. Братья-паломники
загнали их в Дунай, спустили на воду большой крест, окунали
евреев под него и смеялись, и кричали: «Теперь вы христиане, и
берегитесь, не впадайте опять в вашу иудейскую ересь». Они
сожгли синагогу и из пергамента еврейских свитков
священного писания вырезали стельки для башмаков.
Л. Фейхтвангер, Испанская баллада,
Изд. иностр. лит-ры, М., 1958, стр. 124—126.
ВСТРЕЧА ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА
С ВОЖДЯМИ ПЕРВОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА
Вожди крестоносцев соглашались, прежде чем переправиться
через Босфор в Палестину, которую они дали об'ет освободить,
лично присягнуть греческому императору, исконному
властителю этих земель, как своему сюзерену.
Император Алексей был счастлив тем, что крестоносцы сами
пришли к этому решению, к которому он надеялся склонить их
скорее выгодами, чем убеждениями, хотя многое можно было
привести в пользу того, что провинции, отвоеванные обратно
у турок или сарацин, должны быть возвращены греческой
империи, от которой они были отторгнуты только благодаря насилию.
Алексей мало надеялся, что ему удастся справиться с
огромной армией, з рядах которой царили вечные раздоры, и с ее
высокомерными, независимыми друг от друга военачальниками.
Однако он не пропустил^случая воспользоваться согласием Гот-
фрида Бульонского и его соратников на то, чтобы все
отправляющиеся воевать в Палестину присягнули на верность
греческому императору, как исконному властителю всех земель,
которые будут завоеваны в этом походе. Он решил придать этой
церемонии публичный характер и обставить ее с таким блеском
и императорской пышностью, чтобы она не скоро могла бы
изгладиться из памяти.
Одна из многочисленных террас на берегу Пропонтиды 1 была
выбрана местом для этой пышной церемонии. Здесь на
возвышении был поставлен высокий, величественный трон,
предназначенный для императора. Других сидений около него не было.
Греки хотели этим обеспечить выполнение обряда, коему они,
по своей суетности, придавали особо важное значение, а
именно, чтобы в присутствии императора никто не смел сидеть.
Вокруг трона в строгом порядке, но стоя, разместились главные
сановники императорского двора...
...Пусть читатель представит себе этот трон, с его
восточной пышностью и величием, окруженный чужеземными и
римскими войсками и находившимися на некотором расстоянии от-
1 Пропонтида — Мраморное море.
80
рядами легкой конницы, беспрестанно менявшей места, чтобы
казаться многочисленнее и не дать возможности точно
подсчитать ее количество. Сквозь поднятую ими пыль можно было
разглядеть значки и знамена, среди которых сразу бросался в
глаза знаменитый «лабарум»1, символ победы императорских
войск, несколько утративший, впрочем, за последнее время
священное значение. Грубые воины Запада, глядя на греческую
армию, уверяли, что знамен, которые были выставлены перед
войсками, хватило бы по меньшей мере для вдесятеро большего
количества солдат.
Справа, на морском берегу был выстроен большой отряд
конницы, принадлежащей крестоносцам. Желание следовать
примеру принцев, герцогов и графов и принести присягу на
верность императору так было сильно, что число собравшихся для
этой цели рыцарей и дворян оказалось весьма велико. Всякий
крестоносец, владевший замком и выставивший шесть
копейщиков, счел бы себя оскорбленным, если бы его не пригласили
вместе с Готфридом Бульонским или Гуго Великим — графом
Вермандуа, признать греческого императора своим сюзереном
и получить от него право владеть землями, которые он за-
воюет. А между тем, по странной непоследовательности, горя
желанием принести такую присягу, они в то же время искали
какого-нибудь способа показать, что они смотрят на эту
присягу, как на унижение, а на всю эту церемонию — как на пустую
забаву.
Порядок церемонии был установлен следующий:
крестоносцы, или, как греки их называли, графы (титул графа был
наиболее распространенным среди крестоносцев) должны были
выезжать поодиночке с левой стороны и, проезжая мимо
императора, произнести в самых кратких словах условленную
присягу. ..
... Таким образом две большие армии — греческая и
европейская — стояли на некотором расстоянии друг от друга на
берегу Босфора, различные по языку, оружию и по внешнему
облику. Небольшие конные отряды, которые от времени до
времени отделялись от этих армий, казались вспышками
молний, передававшимися от одной громовой тучи к другой,
как будто тучи эти хотели сообщить друг другу избыток
накопившейся в них энергии. После короткой остановки на берегу
Босфора франки, принявшие присягу, в беспорядке направлялись
к пристани у набережной, где множество галер и мелких судов
стояли наготове под парусами и веслами, чтобы переправить
через пролив воинственных паломников и доставить их в Азию,
в которую они так страстно стремились и откуда лишь
немногим из них суждено было вернуться. Нарядный вид кораблей,
Лабарум — византийское военное знамя.
6 Сост. О. В. Волобуев и др.
81
готовых принять их, обильное снабжение продовольствием,
небольшая ширина пролива, который им предстояло пересечь,
дело, которое они взяли на себя по обету и жаждали скорее
выполнить, — все вызвало в воинах радостное настроение.
Их песни и музыка сливались с плеском весел отъезжающих
лодок...
... Среди этой массы графов, сеньоров и рыцарей, под
пестрыми знаменами которых крестоносцы явились к стенам
Константинополя, было много и людей незначительных, которых не
было смысла задабривать и склонять к присяге. И хотя они
открыто не противились ей, однако позволяли себе насмешки,
колкие замечания и такие нарушения приличий, которые ,явно
выказывали их обиду и презрение. Этой присягой, думали они,
им приходится признать себя вассалами государя-еретика,
ограниченного, хвастливого, враждебного им и дружественного лишь
с тем из них, с кем это было выгодно. Для этих людей он был
раболепным союзником, зато для остальных, при первом
удобном случае, он становился коварным и злобным врагом.
Вельможи франкского происхождения особенно отличались как
своим высокомерным пренебрежением ко всем остальным
участникам крестового похода, так и презрением к могуществу и
авторитету греческой империи. Среди рыцарей-франков
существовала даже поговорка, что, если обрушится небо, одни лишь
французские крестоносцы будут в состоянии поддержать его
своими копьями. Так же дерзко и вызывающе вели они себя при
своих случайных столкновениях с их невольными хозяевами,
причем греки, несмотря на свою хитрость, часто оказывались в
проигрыше. Поэтому Алексей решил во что бы то ни стало
избавиться от этих буйных, несговорчивых союзников, переправив
их как можно скорее через Босфор.
В. Скотт, Граф Роберт Парижский, ч. 1,
Гослитиздат, М., 1940, стр. 146—150.
ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА КРЕСТОНОСЦАМИ
Взобравшись знойным июньским утром на большую гору
(впоследствии ей дали название «Гора радости»), сеньоры,
рыцари, крестьяне увидели, наконец, город на скалах —
Иерусалим. В то время он являлся арабским: владел им Египет,
.войска которого за год до этого отняли Иерусалим у сельджуков.
Взорам крестоносцев открылось множество мечетей с
полукруглыми куполами, больших и маленьких белых домов, причудливо
извивавшихся улиц и улочек...
... Охваченные религиозным возбуждением, крестоносцы
пробовали вначале взять город приступом. Однако эти попытки не
увенчались успехом. Нападавшие испытывали сильный недоста-
82
ток в метательных орудиях, а также в лестницах, без которых
нельзя было одолеть иерусалимские стены. Строить их на месте
было не из чего и нечем: срочно нужны были бревна, доски,
веревки и прочий строительный материал.
На помощь рыцарям пришли предприимчивые купцы,
учуявшие поживу. В порт Яффу, служивший для Иерусалима
гаванью, причалили несколько галер — две из Генуи и четыре
английских: они привезли веревки, гвозди, топоры — все, что
необходимо было для того, чтобы воздвигнуть осадные
сооружения. С галерами прибыли и искусные осадных дел мастера. Они
помогли крестоносцам построить стенобитные машины — тараны
из толстых бревен, окованных с одного конца железом, а также
высокие, на колесах, деревянные башни, которые можно было
вместе с укрывавшимися в них воинами придвигать вплотную
к городским стенам. За несколько дней было сколочено много
лестниц. Лес для сооружения всех этих машин и
приспособлений был найден неподалеку, в области Самарии, откуда его
доставляли прямо в лагерь осаждавших.
Несколько раз бросались крестоносцы на стены Иерусалима.
Но арабские стрелки и мусульмане — жители города,
оказывавшие им содействие, отгоняли прочь франков. В их деревянные
башни летели снаряды с греческим огнем. Крестоносцы
набрасывали на свои сооружения сырые звериные шкуры и кожи, чтобы
предотвратить воспламенение этих деревянных механизмов.
Вот когда пригодились охотничьи трофеи сеньоров!
Осада была нелегкой. Воинов мучила жажда. От
недостатка воды околевали вьючные животные.
Но даже в этих условиях не прекратились распри феодалов,
торопившихся поделить шкуру еще не убитого медведя. Только
когда стало известно, что к Иерусалиму должны вот-вот подойти
подкрепления из Египта, раздоры в крестоносном войске
заглохли. В первых числах июля началась подготовка к
решающему штурму. Под непрекращавшимся градом камней и снарядов
с греческим огнем к северной стороне иерусалимских стен и еще
к двум другим местам подтягивали передвижные башни,
устанавливали лестницы.
Чтобы поднять боевой дух крестоносцев и воодушевить их
перед боем, церковнослужители устраивали торжественные
молебствия и крестные ходы вокруг Иерусалима. Был даже
объявлен трехдневный пост. Процессии крестоносцев (они шли
босиком, распевая религиозные гимны, священники несли
большие деревянные кресты, размахивали кадилами) направились
к особо важным с религиозной точки зрения местам —
Сионской и Масличной горам. Здесь к воинам обратились с
последними проповедями и наставлениями наиболее влиятельные из
церковников. Держал речь и Петр Отшельник, снова пустивший
в ход свое красноречие фанатика.
6*
83
Наконец, с восходом солнца 15 июля отряды крестоносцев
устремились на штурм Иерусалима. Главный удар они нанесли
там, где египетские воины менее всего ожидали нападения.
В одном месте рыцарям удалось вскарабкаться на стену и,
завязав рукопашную, потеснить арабов. В другом, когда башня,
прикрытая шкурами, была придвинута к стене, «сарацины, —
как рассказывает французский летописец, священник Фульшер
из Шартра, — стали действовать против них и поливали
кипящим маслом и жиром и жгли пылающими факелами
упомянутую башню и рыцарей, которые в ней находились. И, таким
образом, для многих сражавшихся с той и другой стороны
наступала смерть быстрая и преждевременная». Бой длился
несколько часов. В конце концов все же перевес склонился на сторону
крестоносцев. С торжествующими возгласами они заполнили
улицы города. После пятинедельной осады Иерусалим пал.
Почувствовав себя победителями, «освободители гроба
господня» ринулись на беззащитных жителей.
Насилия и разбои, которые крестоносцы творили в
Иерусалиме, намного превзошли по своему размаху все, что было
совершено ими где-либо ранее...
... Многие мусульмане надеялись найти спасение от ярости
победителей хотя бы в мечетях или возле них. Напрасно! Воины
креста были уверены, что как раз в двух главных мечетях —
Омаровой и Аль-Акса (обе были воздвигнуты еще во времена
халифата Омейядов) — спрятаны большие ценности. Первыми
сюда кинулись Годфруа Бульонский и Танкред, а за ними
последовали другие рыцари. С обнаженными мечами бросились они
в здание мечети Аль-Акса. Под ее высоким куполом стояли и
сидели на корточках, тесно прижавшись друг к другу,
седобородые старики, женщины с грудными младенцами, калеки,
ребятишки — несколько сот человек. Близ стен мечети тоже искали
убежища тысячи мусульман разного пола и возраста. Рыцари
не пощадили никого: они убивали даже детей, разбивая их
головы о камни. Трудно сказать, сколько ни в чем не повинных
людей пострадало от неистовства воинов христовых. Западные
хронисты утверждают, что в районе мечети Аль-Акса было
убито 10 тысяч человек, а арабские летописцы — от 70 до 100
тысяч. И это не считая тех, «трупы которых валялись по улицам и
площадям и которые были умерщвлены в разных местах
города; говорят, — вскользь добавляет французский хронист, —
число таких было тоже немалое».
В зверских убийствах мирного населения участвовали не
только воины, но и церковники. «Служители божий» сочли
возможным пренебречь тем лицемерным правилом, по которому
христианская религия возбраняла им проливать кровь.
Восточный летописец Михаил Сириец, христианин по убеждениям,
с ужасом рассказывает в своей хронике, как сам патриарх иеру-
-84
салимский, нанося удары направо и налево, шествовал с мечом
вдоль одной из улиц: он убивал на своем пути всех «неверных».
Так патриарх дошел до церкви святого гроба, держа на
рукояти своего меча руки, обагренные кровью. Войдя же в церковь и
омыв руки, этот пастырь принялся отправлять торжественное
богослужение, во время которого заявил, что никогда еще он не
приносил столь приятной жертвы господу богу...
... Особенно жадны были крестоносцы к драгоценностям.
В поисках золота «освободители гроба господня» обшаривали
все уголки жилищ. Мало того, Фульшер рассказывает, что
рыцари даже «вспарывали животы умерших, чтобы извлечь из них
золотые монеты, которые те проглотили при жизни. Ради этого
они (рыцари) через несколько дней сложили трупы в большую
кучу и сожгли в пепел, чтобы легче было находить упомянутое
золото».
Дав волю своей жадности и жестокости, рыцари и прочие
крестоносцы в то же время усердно молились и каялись в
грехах. Одни били лбами о плиты церкви святого гроба, другие
совершали крестные ходы вокруг святых мест, третьи вымаливали
себе прощение, жертвуя часть награбленного добра беднякам.
Отбив должное число поклонов, рыцари снова принимались
грабить и насильничать: они настолько увлеклись разбоем, что в
конце концов, по признанию церковного историка Гийома Тир-
ского, им самим стало «противно видеть содеянное».
Таков был кровавый финал первого крестового похода. **
М. Заборов, Крестоносцы и их походы на
Восток в XI—XIII веках, Учпедгиз, М., 1962,.
стр. 75—80.
6.
ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
В школьном курсе истории процесс образования
централизованных государств раскрывается на примере двух
крупных стран Западной Европы — Франции и Англии. Говоря
о причинах образования централизованных государств, не
следует упускать из виду того фактора, что в основе
централизации лежали не только экономические, но и политические
причины, важнейшей из которых была необходимость
консолидации сил феодалов перед лицом упорно защищавшегося
от их посягательств и в свою очередь временами
переходившего от обороны в наступление крестьянства. Крестьянские
85
восстания, несмотря на их поражения, были могучим
фактором исторического прогресса. Естественно поэтому, что
основной упор в подборке материала по данной теме делается
на те произведения, в которых освещается положение
крестьян и их борьба против феодалов.
Представление о слабости королевской власти во Франции
в XI веке и о взаимоотношениях между первыми Капетинга-
ми и крупными феодалами конкретизируется отрывком из
книги «Анна Ярославна — королева Франции» А. Ладин-
ского.
Бедственное положение французских крестьян,
разоряемых своими и чужими феодалами во время Столетней войны,
и начало Жакерии иллюстрируются отрывками «Сожжение
французского села англичанами», «Выкуп сеньора из
английского плена», «Собрание крестьян» и «Положение крестьян»
из книг «Проклятое урочище» А. Бэро и «Жаки» Ф. Клара.
Описание одного из эпизодов восстания содержится в
отрывке «Взятие замка Жаками» из повести «Колен Лантье»
Ж. Оливье. Здесь .правдиво изображен предводитель
восставших крестьян Гильом (Гийом) Каль. Все эти материалы
помогут учителю составить живой и образный рассказ о
Жакерии.
Борьбу крестьян против феодалов нельзя сводить только
к вооруженным восстаниям. Она принимала самые
разнообразные формы и велась непрерывно. О никогда не
прекращавшейся борьбе крестьян за землю повествует выдержка из
вышеназванной книги А. Бэро.
Полный героизма образ Жанны д'Арк должен помочь
воспитанию у учащихся чувства патриотизма. Приведенный
в хрестоматии фрагмент «Суд над Жанной д'Арк» из
радиопьесы Анны Зегерс «Процесс Жанны д'Арк в Руане в
1431 году» построен на противопоставлении стойкого
патриотизма юной девушки мрачной и давящей силе иноземных
захватчиков и католической церкви.
Блестящую характеристику Людовика XI дал Вальтер
Скотт в романе «Квентин Дорвард». Удачным дополнением к
образу французского короля будет описание его резиденции
Плесси-ле-Тур, углубляющее в то же время представление о
средневековом замке. На основании этого материала и
иллюстрации учебника (рис. 42) учитель сможет нарисовать
образ Людовика XI.
Подборка художественно-исторических текстов,
посвященная образованию централизованного государства в Англии,
открывается отрывком «Рассказ французского рыцаря о
битве при Гастингсе» из. романа «Анна Ярославна — королева
Франции» А. Ладинского. В отрывке близко к источникам
излагается знаменитая битва при Гастингсе, в результате
86
которой Англия была завоевана нормандским герцогом
Вильгельмом.
Из цикла баллад о любимом герое английского народа
Робине Гуде приводятся баллады «Робин Гуд, старуха и
епископ» и «Робин Гуд молится богу». В них воспеваются
эпизоды, характеризующие Робина Гуда как друга и
покровителя бедняков и врага попов. Одна из баллад по выбору
учителя может быть зачитана на уроке.
Восстание Уота Тайлера представлено фрагментами из
повести 3. Шишовой «Джек-Соломинка» и поэмы А. Глобы
«Уот Тайлер». Очень часто буржуазные историки и писатели
изображают восставших крестьян как грабителей и воров.
Этот классовый поклеп опровергается историческими
документами. Правдивую картину разгрома феодального имения
воссоздает 3. Шишова в отрывке «Крестьяне громят имения
феодалов». Описание второй встречи восставших крестьян
с королем и вероломного убийства Уота Тайлера в повести
3. Шишовой основано на подлинных документах. Здесь, как
и в ряде других случаев, было бы уместно в заключение
рассказа поставить перед учащимися ряд вопросов, например:
какие требования предъявили крестьяне во время второй
встречи с королем? Как феодалы использовали наивную веру
крестьян в доброго и справедливого короля?
Трагедия английских крестьян, ставших жертвами
коварства и жестокости феодалов, ярко передана в поэме А. Глобы
«Уот Тайлер».
СЛАБОСТЬ КОРОЛЕВСКОР1 ВЛАСТИ В XI В.
Только что вернувшись из очередного набега на графские
селения, недалеко от Блуа, протягивая озябшие руки к огню,
король говорил жене:
— Сегодня мне сопутствовала удача! Благодаря богу, мы
спалили не одно селение, а граф спал как медведь в своей
берлоге. Но жаль, что жатва была уже увезена с полей.
Анна радовалась королевским успехам, которые все считали
победой, так как граф не осмелился выйти в поле и, значит,
признал себя побежденным...
Почесывая бок, король жаловался:
— Каждый день новые неприятности. Никто не хочет думать
о бедной Франции, и всякий считает, что прежде всего ему надо
приумножить свои владения. Вот опять граф Рауль угнал у
верденского епископа восемнадцать коров и не желает их
возвращать. Я вынужден был исполнить просьбу епископа и послал
сказать Раулю, что недопустимо обижать церковных пастырей,
даже требовал, чтобы он немедленно вернул животных. Граф
ответил посланцу, что не боится ни короля, ни громов церкви.
87
Этот наглец знает, что у меня не хватит сил наказать всех
нарушителей божеских и человеческих законов, а ведь от этого
королевское имя терпит ущерб. Но не могу же я объявить
Раулю войну из-за восемнадцати коров, хотя бы и принадлежащих
епископу. И так во всем. Мои графы больше^ походят на
разбойников, чем на подданных христианского короля.
А. Ладинский, Анна Ярославна —
королева Франции. Исторический роман, «Советский
писатель», М., 1961, стр. 212—214.
СОЖЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СЕЛА АНГЛИЧАНАМИ
В одну лунную январскую ночь деревня проснулась от
глухого" топота. Казалось, по улице шло огромное стадо быков.
Крестьяне бросились к окошкам, но, к изумлению своему,
ничего не увидели. Они не сразу поняли, что шум шел не с улицы,
а издалека, от Септема, что на вьеннской дороге. Обратившись
в ту сторону, они увидели зарево и огромные снопы искр,
взлетавшие под облака. Но, кроме того, по равнине двигались
во мраке какие-то огоньки. Крестьяне с ужасом ждали, что
будет.
Скот метался, ревел и мычал в хлевах и стойлах. Он был
охвачен беспокойством, как и люди. Вскоре странный шум
вплотную надвинулся на Саболас, и вместе с ним надвинулись
блуждающие огоньки. Теперь уже было ясно, что идут не быки,
а люди. Был слышен шум толпы и дикие непонятные песни.
Надвигающаяся туча людей уже покрыла холм, господствующий
над полями Большой десятины. Этот холм находился и самой
околицы, и по нему проходила септемская дорога. Сначала
крестьяне разглядели передовых. У этих людей были в руках
факелы, и лица их были покрыты копотью и пылью. Не менее ужасны
были и те, что шли позади. Все это были воины в кожаных или
плетеных шлемах. На начальниках светились стальные
нормандские мурмолки, круглые как железные черепа. Они закрывали
лбы до самых бровей, и из-под них глядели белокурые и
розовые лица. В руках у всех были копья, на поясах висели топоры.
Высокие сапоги с отворотами, спускавшимися на икры, были
покрыты дорожной пылью. Многие шли босиком. То были
англичане.
Они приступили к делу без всяких предупреждений. Войдя
в деревню, солдаты с факелами сейчас же бросились к скирдам,
а другие принялись вышибать топорами ворота сеновалов. Через
несколько минут деревня уже пылала, и лесное эхо стонало
жалобным криком перепуганных людей и животных. Из
крестьян не погиб никто, но весь скот сгорел.
А между тем англичане спокойно шли между пылающими
избами. Они держали путь на Бургундию, и задерживаться им
88
было некогда. Видя, как полуголые крестьяне с плачем бегут
к церкви, они только посмеивались. Замок был заперт, мост
поднят. За отрядом тянулись повозки, сгибавшиеся под тканями,
фруктами и винами Франции. Между упряжками шли
вооруженные слуги.
Когда последняя английская повозка скрылась за дорожным
поворотом, от Саболаса осталось только дымящееся пожарище.
А. Б э р о, Проклятое урочище, «Московский
рабочий», М.—Л., 1927, стр. 26—27.
ВЫКУП СЕНЬОРА ИЗ АНГЛИЙСКОГО ПЛЕНА
На следующий день, когда они завтракали черным хлебом,
в кузницу вошел страшно возбужденный Ягненок.
— Что случилось? — спросил Тяжелый Молот.
— Беда нагрянула на нас! — ответил Ягненок. — Мессир
де-Буажоли обходит наши дома и забирает все, что только
можно продать, чтобы набрать выкуп англичанам.
— Увы! Он отнимет мое поле и продаст мою козу,
единственное, что у меня есть!
— Но разве мыслимы такие поборы?
— К несчастью, все позволено тому, кто имеет власть. Он
заявляет, что я сирота и потому нахожусь под опекой моего
господина. Не везет мне! ..
— Да, самые тяжелые времена настают для нас! — сказал
Тяжелый Молот.
Слова Ягненка подтвердились. Мессир де-Буажоли
действительно обходил крестьян, описывая их имущество и угрожая
сжечь дом и повесить того, кто что-нибудь скроет. Чтобы
выжать с крестьян как можно больше, он прибегал ко всяким
хитростям и уловкам: так, он подкарауливал крестьян,
возвращавшихся из леса, и, под предлогом того, что они в лесу охотились,
налагал на них штрафы, хотя бы они возвращались без дичи;
он усилил барщину и требовал, чтобы они теперь работали
вдвое, потому что де в отсутствие господина они работали не
столько, сколько им полагалось. Словом, Буажоли старался
всеми правдами и неправдами собрать как можно больше
штрафов и цалогов...
... Когда, наконец, стараниями Буажоли было вытянуто у
крестьян все, что только возможно: запасы зерна, холст, шерсть,
орудия, скот; когда в хижинах и амбарах все было обыскано,
перевернуто, выворочено, тогда был назначен аукцион для
продажи всего награбленного. Ягненок с огорчением увидел, как
была продана его черная коза; Жоржэ, только что
оправившийся от болезни, со слезами на глазах видел, как продавались
резные работы из дерева, над которыми он с такой любовью
89
трудился; видел, как Гильометта горько плакала при этом. Он
хотел спрятать изображение св. Цецилии, подаренное ему
братом Луа, но мессир Буажоли со смехом вырзал его у него из
рук.
Во всех окрестных деревнях тоже слышались стоны и вопли;
отовсюду должна была быть доставлена подать натурой или
деньгами, чтобы полностью набралась сумма для отправки в
Лондон. Целые ночи не спали от горя ограбленные крестьяне.
Ф. Клар, Жаки, Госиздат, М.—Л., 1928,
стр. 83—86.
СОБРАНИЕ КРЕСТЬЯН
При свете дымящихся факелов несколько человек
пробирались в старую каменоломню вблизи Тру-о-Лу.
Она находилась в ложбинке, поросшей можжевельником, и
найти в нее ход постороннему было почти невозможно. Так
хорошо он был замаскирован кустами. Звезд не было видно, но
майская весенняя ночь была светлая. Можно было ясно
различить силуэты людей, спешащих к каменоломне. Впрочем, место
это было пустынно даже и днем, а ночью собравшимся в
каменоломне людям нечего было опасаться, что их кто-нибудь
заметит.
Тут собрались все те, которым приходилось работать на
господ, терпеть от их неправедного суда и тяжелых поборов. Тут
были ремесленники, трудящиеся для удобства и прихоти
господина Энгеррана де-Куси, крестьяне, собиравшие для него
урожай, пасечники, которые не смели взять себе немного меда из
обираемых ими ульев, мельники, за столом которых не хватало
хлеба, пастухи, которые пасли его скот на крестьянских полях,
ткачи, которые ткали, изготовляли для него богатые материи,
а сами не имели холста даже на саван. Все они страдали от
его произвола: самый ничтожный проступок, мнимое
оскорбление, на основании «божественной» и неограниченной власти
феодала, каралось самым жестоким, бесчеловечным образом...
... Тяжелый Молот начал колеблющимся, глухим голосом,
но мало-помалу его голос окреп и звенел отчетливо и звонко,
как сталь.
— Братья, — говорил он, — мы не попы, привыкшие
болтать языком. Мы привыкли работать плугом и молотом. И
именно поэтому наши господа презирают нас вместо того, чтобы
уважать.
— Ну, где уж тут говорить об уважении! — крикнул
крестьянин из Сен-Поль-о-Буа. — Недаром дали они нам кличку
Жака Простака, которого можно прижимать без конца.
— И вот, — продолжал Тяжелый Молот, — в то самое
время, как мы надрываемся от работы, мерзнем на морозе, жарим-
90
ся на солнце, они охотятся за оленями или проводят время в
кутежах. Не нашей ли кровью скреплены камни их крепостей?
Не тела ли наших братьев болтаются на виселицах? Помнишь,
Паскаль, как твой дед погиб под ногами Бертрана де-Куси, в
то время как он по приказанию господина долбил скалу, и
кончину его благородный сеньор объяснил такими гневными
словами: «Этот мужик чуть не поранил моей борзой!» Я
вспоминаю также, как моя мать была застигнута в лесу при сборе
хвороста. Отец мой в то время умирал от чумы. Ее высекли, и
так сильно, что она едва притащилась домой и не в состоянии
была позаботиться об умирающем муже. А ты, Ягненок? Скажи,
каким образом ты стал сиротою?
— Увы! Моего отца нашли мертвым в подземелье, где он
умер голодной смертью, отбывая наказание за то, что волк
похитил двух овец из его стада...
— Они смотрят на нас, как на свой скот, — проворчал
старый крестьянин из Пон-Сен-Мара.
— Недаром называют они нас живой монетой!
— Они видят в нас только рабочую силу, находящуюся в
полной их собственности!
— Мы обрабатываем землю, а между тем у нас нет прав
собственности на нее!
— Правда, теперь они больше не могут нас продавать, но
все-таки шесть дней в неделю мы должны работать на них!
— А теперь они, сверх того, нас ограбили до последней
нитки, взяли последнюю крошку из закромов! — воскликнул
земледелец из Кенсу.
— И в то же время они устраивают празднества за
празднеством в честь английского гостя, который приехал за
выкупом, а сир Гарольд, будучи навеселе, протащил за собой до
самого замка старика, Пьера за то, что он не расслышал по
своей глухоте топота копыт его лошади!
— Той самой, которая вчера поела мой овес на корню!
— Его собаки переломили хребет моей овце.
— А у меня отняли мою козу, — сказал Ягненок.
— Мы должны были отдать им все запасы хлеба в нашей
деревне! — сказал земледелец из Лэйли.
— Вооруженные люди обыскали наш дом, разломали лари
для хлеба, бочки для мяса и обвинили нас в том, что мы скрыли
от них свиной окорок!
— Они не лучше хищных зверей!..
... В первый раз Жаки почувствовали себя такими же
людьми, как и их противники, в первый раз в сердцах Жаков вместо
обычных стенаний об их тяжелой жизни поднялся гнев.
Уже занялась заря, когда собравшиеся рассеялись по
окрестностям.
Там же, стр. 112—123.
91
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН
Сеньоры отбирали за выкуп все, что было, но на свободу не
отпускали. Делать было нечего. Уплатив выкуп, крестьяне
снова делались рабами, а непокорных господа вешали на
деревьях.
Мужик дрожал от холода в земляном шалаше, и все, что он
собирал с поля, уходило через руки сеньора, сенешала и
сборщика десятины к купцам. Взрослые люди не помнили, что такое
вино и белый хлеб. С каждым днем становилось все ^суже и
хуже. После жатвы все снопы уходили в замок, к епископу, в
аббатство, а крестьянам оставались только те жалкие колосья,
которые им удавалось выкрасть из своего же урожая. Люди
становились хуже волков. В Кот-Сент-Андре кто-то украл и
съел трупы, висевшие на виселице. И все-таки банды наваррцев
приходили грабить крестьян. Находя только пустые хижины да
изголодавшихся людей, они со злости пускали красного петуха.
Мужики перестали чинить крыши. Ласточки, пролетавшие
над деревнями, видели сверху внутренность домов. Почти все
ночевали в церкви.
В это-то время в Саболасе появились бродяги и нищие,
выгнанные голодом из Бовези. Они рассказывали, что в Амьен-
ской и Вермандуазской округе все крестьяне взбунтовались и
стали резать дворян. Замки пылали. Бунтовщики называли себя
«Жаками». В их руках было уже двести замков...
... Рассказав все эти вещи, бродяги уходили. А если им что-
нибудь подавали, то они пели суровую и мрачную песню,
принесенную из бунтующего края:
Мы люди — мы не хуже их,
У нас тела — не хуже их,
У нас сердца — не хуже их,
Страдаем мы — не меньше их,
Мы защитим себя от них!..
Крестьяне слушали эти рассказы и песни и боязливо
оглядывались по сторонам. Но когда бродяги уходили своей дорогой,
и баронские сторожа не осмеливались стрелять им вслед из
арбалетов, Ален Шампартель молча поднимал глаза и поглядывал
на замок...
... Деревня молча ходила на барщину и ела желуди. Но в
глазах крестьян горел мрачный огонь.
А. Б э р о, Проклятое урочище, «Московский
рабочий», М.—Л., 1927, стр. 33—34.
ВЗЯТИЕ ЗАМКА ЖАКАМИ
Внезапно весенний ветер наполнился отдаленным гулом.
Хозяин замка снова выглянул в окно. Плохо вымощенная
дорога по-прежнему была пуста, но до ушей Робера доносился глу-
92
хой рев голосов. Земля гудела, попираемая тяжелой поступью
тысяч ног.
Вдруг толпа крестьян прорвала зеленый заслон на опушке.
Она наступала фронтом шириной не менее трехсот футов, и ее
движение казалось хорошо слаженным. Это была разъяренная,
ослепленная ненавистью, ощетинившаяся пиками и вилами,
человеческая лавина. В центре, высоко подняв топор лесоруба, шел
человек лет сорока. Время от времени он оборачивался, чтобы
проверить, все ли следуют за ним. Справа от него держался
какой-то подросток, вооруженный луком, слева Робер де Кра-
муази узнал двух братьев-мельников Рауля и Пьера.
До замка долетел истошный вопль, вырвавшийся из самой
гущи толпы:
— Смерть злодею! Смерть Крамуази! ..
... На крепостной стене над воротами крестьяне заметили
Робера де Крамуази. Появление его было встречено яростными
криками. Вожак тревожно взглянул на свой разношерстный
отряд. «Требуются годы, чтобы воспитать опытного,
выдержанного воина, а эти рвутся вперед, как несмышленые жеребята», —
подумал Гийом Каль.
— Пусть подойдут носильщики хвороста! — зычным голосом
крикнул он.
От толпы отделилось несколько лесорубов. Каждый из них
нес по две вязанки хвороста.
— А теперь — таранщики, беритесь за бревно!
Двадцать человек вышли вперед. Они. раскачивали
огромный дубовый ствол с закругленным концом. Их крепкие
мускулы напряглись от усилий; пеньковая веревка, охватывавшая
бревно, впивалась им в ладони. Лесорубы, размахивая, как
щитами, вязанками хвороста, прикрывали таран.
Колен хотел пойти за ними, но Гийом удержал его за рукав.
— Останься здесь, парижанин! Мне сейчас понадобятся твои
ноги и твоя смекалка.
Навстречу смельчакам с крепостных ворот полетела туча
стрел, но они отскакивали от тугих вязанок хвороста. Меткость
стрелков оказалась бессильной перед этой немудреной военной
хитростью крестьян. Сверху, со стен замка, на наступающих
посыпался град камней, но ловко направляемый таран уже
крушил запертые ворота.
Один из лесорубов, в которого попал камень, рухнул на
колени с переломанным позвоночником. Он громко вскрикнул и
испустил дух. Ворота цод тяжелыми ударами скрипели на
железных петлях. Еще одно усилие, и они были взломаны. Бросив
хворост, лесорубы выхватили топоры, засунутые под веревку
тарана, и устремились в пролом.
— Вперед, братья Жаки! Вперед! Пусть люди из Клермона
и Нуантеля отрежут наемникам отступление и помешают
93
им бежать через потайной ход в северной стене. Эй,
парижанин!
Колен не услышал Гийома. Увлекаемый страстным порывом,
он бежал к замку в первых рядах вилланов и сжимал в правой
руке лук, переданный ему одним из нападавших.
— Смерть Крамуази! — крикнул мальчик.
Собственный голос показался ему странным. В бурном
потоке, обрушившемся на стены замка, Колен был одной из волн,
взметенных могучим прибоем.
Во дворе замка Робер де Крамуази и его оруженосец,
окруженные двадцатью лучниками и слугами, пытались
сопротивляться лесорубам. Лезвия шпаг скрещивались с лезвиями
топоров. Кровь уже клеймила темными пятнами каменные плиты.
Царило страшное смятение. По двору вдруг метнулась черная
сутана, прорываясь сквозь ряды крестьян.
— Сжальтесь, друзья мои, сжальтесь! Дайте мне
выбраться из этого ада.
С искаженным от стараха лицом Бод л'Экиль, протянув в
мольбе руки, бежал с поля брани. Крестьяне беззлобно
потолкали его, а потом пропустили. Один из стрелков сеньора,
примостившись на каменной лестнице, которая вела в основание
башни, натянул лук, но Колен опередил его. Раненный в
бедро стражник кубарем скатился вниз.
— Ты подстрелил его, как жаворонка, парижанин!
Гийом Каль мимоходом потрепал мальчика по плечу и
бросился в самую гущу сражения. Там внезапна появилась
гигантская фигура Пьера. Мельник держал слово, данное брату: он
трудился за двоих. Стражники валились один за другим. Гийом
Каль убил Пьера де Круа, оруженосца, и Робер, сеньор
Крамуази, остался один. Его меч был обагрен кровью, пот струился
по лицу, но, несмотря на полученные жестокие ранения, он не
отступал ни на шаг.
Пьер надвигался на него, размахивая железным брусом.
— Ты умрешь сейчас, Крамуази! Умрешь от руки виллана!
А твои кишки сгниют на солнце.
Сеньор в бешенстве замахнулся на него мечом, но Пьер
проворно отскочил в сторону. Лезвие меча со скрежетом резануло
по земле, во все стороны брызнули искры.
— Ты умрешь, Крамуази!
Мельник с силой опустил брус. Хрустнули кости.
Неукротимый Робер последним усилием пытался поднести руку к ране,
но смерть уже сковала его тело и кровь остановилась в жилах.
Разинув рот, умирающий жадно глотнул воздух. Его грудь два
или три раза судорожно приподнялась и опустилась.
— Крамуази мертв! Слишком черная была у него душа,
чтобы пожелать ему прощения на том свете, — произнес Гийом
Каль.
94
— Ну, теперь мне и лихая смерть не страшна, — промолвил
Пьер. — Сегодня я сделал доброе дело.
Последнее сопротивление защитников замка было сломлено.
Только труп де Крамуази валялся на холодных плитах. Толпа
Жаков устремилась в главную башню. Узкая лестница- вскоре
оказалась забитой людьми. Первые из вилланов, ворвавшись в
верхний зал, обнаружили здесь долговые книги. На
пергаментных листах выстроились столбцы цифр: налоги, подати,
арендная плата — подробнейший перечень всевозможных
повинностей и кабальных обязательств. Эти записи вопили о
безысходной крестьянской нищете, накапливавшейся месяцами и годами,
наследуемой из поколения в поколение.
Раздался единодушный крик:
— Сжечь их! Сжечь немедленно и развеять пепел по ветру!
Над толпой мелькнул зажженный соломенный факел. Его
передавали из рук в руки. Пьер вручил факел Гийому Калю,
говоря, что эта честь по праву принадлежит вожаку. Огненный
язык извивался, подобно раздраженной змее. Он жадно лизнул
ссохшиеся листы пергамента, которые корчились и
свертывались, как стружки. Пламя проникло в толщу фолианта,
послышалось шипение плавящейся металлической оправы. Внезапно
поднялся с веселым потрескиванием сверкающий огненный
столб.
Колен протиснулся в первый ряд и, словно зачарованный,
смотрел, как горят архивы Крамуази. Огонь перебросился на
деревянную обшивку стен. Аромат древесной смолы смешался
с запахом горелого пергамента.
— Послушай, как гудит костер, — обратился мальчик к
Пьеру. — Скоро загорится весь замок.
Мельник утвердительно кивнул ему.
— Замок запылает, как стог сена. Пусть огонь сожрет все
до основания.
И, как бы выполняя его пожелание, вдоль стены лопнул
деревянный плинтус, разбросав множество искр.
— Идем, пусть свершится правосудие! — приказал Гийом
Каль. — Скоро в этой башне станет жарче, чем в. печи.
Гулкое эхо от сотен шаркающих ног прокатилось под
высокими сводами. Вместе с Пьером и Гийомом Калем Колен вышел
в числе последних из зала башни. Жара становилась
нестерпимой. Багровые языки пламени уже лизали поперечные балки
потолка.
Жаки выгоняли из хлева коров и овец. Слышались
радостные возгласы:
— Матье, взгляни, вот наша корова! Узнаешь белую
звездочку на лбу?
Ж. Оливье, Колен Лантье, Детгиз, М.,
1961, стр. 103—109.
95
БОРЬБА КРЕСТЬЯН ЗА ЗЕМЛЮ
Малоземелье породило голод. Монахи ни за что не хотели
отводить крестьянам под распашку новые участки. И вот
началась глухая борьба. Крестьяне принялись исподтишка
запахивать монастырские земли.
Борозду за бороздой проводили они по целине рядом со
старыми запашками. Монахи с грамотами в руках заставляли их
засаживать деревьями отвоеванные у леса полосы. Но соха
работает прочнее пергамента: скот вытаптывал и съедал молодые
древесные поросли, а мужики снова пропахивали эти места
плугом. Кончилось тем, что все старые и новые межи перепутались,
и сам отец казначей совсем потерял голову.
Так, сами того не зная, саболасцы делали свое крестьянское
дело, молча объединялись в глухой и неустанной борьбе за
землю, за новые участки. Нераспаханная земля, расстилавшаяся
под их ногами, казалась им далекой и недостижимой, как небо,
и недостижимость эта только укрепляла их упрямую волю.
Говорить было нельзя, и они молчали. Но по вечерам, когда
закатные лучи освещали только сторожевую башню аббатства,
возвышавшуюся над темной равниной, крестьяне с оглядкой
нагибались, подымали горсти земли и жадно вдыхали ее запах.
А по ночам они делали еще и не то. Долго ли выдернуть
межевую веху! .. Тяга к земле была сильнее всего, сильнее страха
перед богом, сильнее верности обычаям и преданиям. Крестьяне
не отказывались платить, — они платили все десятины, платили
большую десятину, платили малую, по весне платили десятину
с ягнят, летом платили десятину с покоса, осенью платили
десятину с винограда. Да, они платили, — но вставали до зари и
в сером предутреннем свете потихоньку проводили лишние
борозды по монастырской земле.
— Из пашни целины не сделаешь, — говорили старики.
А. Б*э р о, Проклятое урочище, «Московский
рабочий», М—Л., 1927, стр. 48—49.
СУД НАД ЖАННОЙ Д'АРК
Английская стража. Дорогу герцогу Бедфордскому!
В народе. Это герцог Бедфордский! Посмотрите, какой
жеребец в яблоках! Жирный, и лоснится, как его хозяин. А это
вице-инквизитор Франции. Посмотрите, какая у него шляпа!
Смотрите — парижские докторы! Смотрите — папские послы!
Вот это торжество! Сто иностранных наблюдателей! В суде
участвуют пятьдесят заседателей.
— А девушку обязательно проведут? А может быть, она уже
там, внутри?
— Нет, ее обязательно проведут.
96
Голос мальчика (звонко, сверху). Она идет, она идет!
Волнение.
— Назад, назад, назад! Аа-ах!
Пауза. Потом снова волнение, на этот раз сдержанное.
Выделяются два голоса.
— Какая маленькая, тоненькая!
— До чего ей, наверное, тяжело волочить цепи!
— Как ниточка!
— От этой ниточки англичане убежали.
— За эту ниточку герцог Бедфордский заплатил двенадцать
тысяч фунтов герцогу Люксембургскому, который взял эту
девочку в плен.
— Зачем же?
— Чтобы его англичане больше не убегали.
— Говорят, что она слышала голоса и видела явления. Это
правда?
— Это должны дознать ученые господа там, наверху. Для
чего же они тут?
— Такая девочка не устоит против стольких ученых господ.
Зачем она пустилась в это дело? Почему не осталась дома?
— Потому что англичане пришли во Францию. Потому что
англичане заняли Францию до Луары. Потому что они хотели
проглотить всю страну. Потому что они свергли короля. Потому,
что этот король один был слишком ленив, чтобы защищаться.
— Ну и что же? Почему же она должна для этого
выкидывать такие безумства? Зачем ей в мужской одежде бегать перед
солдатами?
— Она говорит, что должна все это делать ради своей
страны.
— Страны? Почему — страны?
— Ей голоса велели так поступать во имя ее родины.
— Страна! Разве стране не все равно, кто сидит на коне
в яблоках, который топчет ее землю, поднимая пыль, — герцог
Бедфордский или герцог Орлеанский? Разве стране не все
равно, в чью глотку попадает ее хлеб и ее вино, ее дичь и ее овощи,
все поборы и десятины, — в глотку господина де Бове или
господина- Глостера?
— Во всяком случае, с французами тебе легче объясняться.
Ведь эти английские господа даже не понимают твоей брани...
...Председатель. Введите обвиняемую.
Епископ. Представшая перед нами женщина, Жанна,
в народе именуемая Дева, была схвачена на территории нашей
епархии. Наш христианнейший государь, король Англии и
Франции, передал ее нам как сильно подозреваемую в ереси.
Вследствие того, что слух о ее веропротивных действиях
распространился не только в нашей епархии, но и во всей Франции,
7 Сост. О. В. Волобуев и др.
97
даже во всем христианском мире, мы привлекли ее к суду,
чтобы она держала перед нами ответ...
... Щ а т и о н. Если ты сегодня не подчинишься церкви,
душа твоя обречена пылать в вечном огне, а тело твое —
сгореть в земном пламени.
Жанна. Вы хотите меня этим запугать и расслабить?
Лафонтен. Почему не покоряешься? Объясни причину.
Жанна. Больше я вам ничего не скажу.
Епископ. Так как ты, Жанна, недоступна нашим
увещеваниям и снова отвергаешь правду, мы Еынуждены подвергнуть
тебя пытке... Покажите обвиняемой орудия пытки.
Несколько судей. Отвечай, Жанна, смирись. Уступи,
девушка, ты ведь никому не поможешь.
Епископ. Покажите ей орудия. Здесь, Жанна, стоят
служители: они готовы силой привести тебя к признанию правды,
чтобы ты таким образом могла спасти свою душу.
Жанна (впервые плача). Если вы этими штуками
переломаете мне руки и ноги на куски и выгоните мою душу из моего
несчастного тела, я все равно ничего другого вам не скажу.
А если бы даже я сказала что-нибудь другое, все равно я потом
скажу, что вы это выдавили из меня силой.
А. Зегерс, Процесс Жанны д'Арк в Руане
в 1431 году. — В кн.: «Отцы тьмы», Детгиз, М.,
1960, стр. 188—190, 201,
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДОВИКА XI
Расчетливый и хитрый, он ставил выше всего свои личные
интересы и умел ради них жертвовать не только своей
гордостью, но и своими страстями. Он тщательно скрывал свои
истинные мысли, намерения и чувства даже от своих
приближенных и нередко говаривал: «Кто не умеет притворяться —
тот не умеет и царствовать; что касается меня, то узнай я, что
моя шапка проведала мои мысли, я в ту же минуту бросил бы
ее в огонь». Никто — ни до него, ни после — не умел лучше
подмечать слабости своих ближних и пользоваться ими для
своих выгод, в то же время ловко скрывая от всех собственные
недостатки и слабости.
Людовик был по природе мстителен и жесток до такой
степени, что бесчисленные казни, совершавшиеся по его
приказанию, доставляли ему истинное удовольствие. Он не знал ни
милосердия, ни пощады в тех случаях, когда мог действовать
безнаказанно; но вместе с тем никакая жажда мести не могла
толкнуть его на безрассудный, необдуманный поступок. Он
бросался на свою жертву только тогда, когда она была в полной
его власти и не могла от него ускользнуть; и действовал всегда
так осторожно, ловко и скрытно, что смысл его тайных проис-
98
ков становился понятен окружающим лишь после того, как он
добивался своей цели.
Прирожденная скупость Людовика не мешала ему, однако,
быть щедрым до расточительности, когда дело шло о том, чтобы
подкупить какого-нибудь фаворита или министра враждебного
ему государя и этим предотвратить грозившее ему нападение
или разрушить подготовляемый против него союз. Он любил
всякие развлечения и разгул, но даже самые сильные его
страсти — охота и женщины — не могли отвлечь его от
строгого исполнения взятых им на себя обязанностей — от
управления государством. Он был тонким знатоком человеческой
природы, потому что никогда не чуждался частной жизни
людей, к какому бы слою общества они ни принадлежали. И хотя
он был высокомерен и заносчив, однако не признавал
произвольного деления общества на высших и низших, чем вызывал
глубокое возмущение знати, и не колеблясь доверял самые
высокие посты людям, которых выбирал из самых низших слоев
общества, правда, людей он умел выбирать и редко ошибался.
В. Скотт, Квентин Дорвард, Детгиз, М.,
1958, стр. 7—9.
КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК ПЛЕССИ-ЛЕ-ТУР
Продолжая разговаривать, Дорвард и его новый знакомый
приблизились к замку Плесси-ле-Тур, который теперь весь
открылся их" взорам. Даже в ту полную опасностей эпоху, когда
все знатные люди принуждены были жить под защитой
надежных укреплений, охрана замка отличалась особенной
строгостью.
От опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись из чащи,
остановились, чтоб поглядеть на замок, и до самых его стен
расстилалась покатая к лесу, совершенно открытая площадь,
на которой не было ни кустика, ни деревца — ничего, кроме
единственного и наполовину засохшего векового, громадного
дуба. Эта площадь, согласно правилам обороны всех времен,-
была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог
спрятаться или приблизиться к замку не замеченным с высоты
его укрепленных стен.
Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными
башнями по всей ее длине и по углам. Вторая стена была
немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй, так что
с внутренних стен можно было оборонять наружные, если бы
неприятель завладел ими. Француз пояснил своему юному
спутнику, что вокруг первой стены идет ров в двадцать футов
глубиной (они не могли его видеть, потому что стояли в лож4-
бине, ниже основания стен), наполнявшийся при помощи
шлюзов водой из Шера, или, вернее, из его прито^з. Точно такие
7*
99
же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних
стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного
ряда рвов были обнесены частоколом из толстых железных
прутьев, расщепленных ца концах в острые зубья, которые
торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно
неприступными: попытка перелезть через них была бы равносильна
самоубийству. В центре этого тройного кольца стен стоял самый
замок, представлявший собой тесную группу зданий,
построенных в различные эпохи и окружавших древнейшую из этих
построек — старинную мрачную башню, возвышавшуюся над
замком, точно черный великан. Узенькие бойницы, пробитые
там и сям вместо окон в толстых стенах башни для ее защиты,
вызывали то же неприятное ^чувство, какое мы испытываем,
глядя на слепца. Остальные постройки также мало походили
на благоустроенное, удобное жилье: все их окна выходили на
глухой внутренний двор, так что по своему внешнему виду
замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец.
Царствовавший в то время король еще усиливал это
сходство тем, что все вновь возводимые здания приказывал строить
так, чтобы их нельзя было отличить от старых, не желая
обнаруживать сделанные им новые укрепления (как все
подозрительные люди, он тщательно скрывал свою подозрительность).
Для этой цели на постройки употребляли кирпич и камень
самых темных оттенков, а в цемент примешивали сажу, так
что, несмотря на новейшие пристройки, дворец носил отпечаток
глубокой древности.
В эту неприступную твердыню вел единственный вход — по
крайней мере, так показалось Дорварду, когда он
разглядывал фасад замка, — то были ворота, пробитые в первой
наружной стене, с обязательными в то время двумя высокими
башнями по бокам, с опускавшейся решеткой и подъемным мостом:
решетка была спущена, а мост поднят. Такие же точно ворота
с башнями были видны и в двух внутренних стенах. Но все трое
ворот не приходились друг против друга, потому что были
расположены не по прямой линии: таким образом, их нельзя было
пройти все насквозь, и, вступив в первые ворота, приходилось
идти между двумя стенами ярдов тридцать в сторону, чтобы
попасть во вторые. И вздумай забраться сюда неприятель — он
очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него
с обеих стен. Та же участь ждала бы его, если бы ему удалось
прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того чтобы
проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было
миновать два опасных узких прохода,'обстреливаемых с двух сторон,
и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно
оберегаемыми воротами.
Там же, стр. 27—29.
100
РАССКАЗ ФРАНЦУЗСКОГО РЫЦАРЯ
О БИТВЕ ПРИ ГАСТИНГСЕ
— Наутро началась битва. Даже епископ байеский, брат
Вильгельма, был в панцире под облачением. Это он взял жезл
и построил конницу в боевом порядке...
... — Конное войско разделили на три отряда. Впереди
и по бокам шли лучники. Вильгельм ехал на белом испанском
жеребце...
... — Сблизившись с врагом на расстояние полета стрелы,
лучники выпустили свои оперенные жала, а арбалетчики стали
метать железные шипы. Мы тоже подошли вплотную к холмам
с намереньем ворваться в неприятельский лагерь. Но англы
храбро сопротивлялись и рубили наши длинные копья
топорами. Нам пришлось отступить в беспорядке. Что же придумал
Вильгельм? Он велел лучникам стрелять отвесно, чтобы стрелы
не втыкались без всякой пользы в частокол. Теперь они начали
удачно поражать^ королевских воинов. Одна из них пронзила
глаз самому Гарольду! А он вырвал ее из глазницы и остался
в строю...
... — Мы снова пошли в бой, но еще раз вынуждены были
отступить с большим уроном. Дело в том, что там находились
овраги, скрытые кустами, и многие рыцари падали в них вместе
с конями, ломая с£6е руки и ноги. Даже распространился слух
о смерти Вильгельма. Этого оказалось достаточно, чтобы
нормандцы обратились в бегство. К счастью, герцог тотчас появился
среди беглецов и кричал: «Смотрите, я жив!» И поражал
робких копьем. Тогда мы снова вернулись в битву...
... — Видя, что нет никакой возможности взять
неприятельское укрепление в лоб, Вильгельм решил прибегнуть к
хитрости. Тысяча рыцарей ринулась на частокол, а потом обратилась
в притворное бегство. Повесив тяжкие секиры на шею, англы
преследовали наших, но из засады выскочили другие всадники.
Началось избиение врагов. Им трудно было действовать на
бегу топорами, которые необходимо поднимать для удара
обеими руками. Таким образом и удалось сделать пролом в
частоколе. В английский лагерь ворвались конные и пешие
нормандцы. Я тоже был в их числе и видел, как под ударами
мечей погибли оба брата короля, Гирд и Леофин. В это же
мгновение упало английское знамя и накрыло их широким красным
полотнищем. Вместо него на холме водрузили папскую хоругвь.
Нужно сказать правду, эти мужланы сражались очень храбро,
но нас было больше и в наших рядах насчитывалось много
опытных воинов в крепких кольчугах. Больше всего повредила
англам рана короля. Гарольд истекал кровью и в беспамятстве
упал с коня на землю...
... — Когда король Гарольд упал, враги дрогнули, и мы
стали избивать их без всякой пощады. Я находился близко от
101
того места, где лежал английский король. Он еще дышал. Но
какой-то незнакомый нормандский рыцарь пронзил его копьем,
а другой ударом меча отсек ему голову. Третий в дикой ярости
стал рубить тело на части и потом разбрасывать ногами
кровавые куски. Четвертому уже ничего не оставалось, кроме одной
ноги, и он разрубил ее пополам...
...— Наступала ночь. На холме, где еще недавно
развевалось королевское знамя, Вильгельм велел водрузить свое...
с тремя геральдическими львами Нормандии... Победители
снимали с убитых кольчуги и одежду, собирали брошенное оружие.
Все это по праву принадлежало победителю. Затем тела павших,
и нормандцев и врагов, оттащили в сторону, чтобы они не
мешали живым мерзким видом, и на поле битвы устроили
пиршество.
А. Ладинский, Анна Ярославна — королева
Франции. Исторический роман, «Советский
писатель», М., 1961, стр. 370—375.
РОБИН ГУД, СТАРУХА И ЕПИСКОП
Весенним утром Робин Гуд
Шел по лесу, — и вдруг
Епископ встретился ему
С большим отрядом слуг.
— Беда! — подумал Робин Гуд.
Конец пришел стрелку!
Меня повесит этот поп
На первом же суку. —
Пустился Робин наутек
И видит ветхий дом.
Сидит старуха у окна
С большим веретеном.
— Откуда взялся ты, стрелок,
И как тебя зовут?
— Мое жилье — Шервудский лес,
А имя — Робин Гуд.
Епископ гонится за мной:
Мы старые враги.
Помочь не можешь — так прощай,
А можешь — помоги.
Старуха Робину в ответ:
— Коль ты и вправду — ты,
Так примешь помощь, Робин Гуд,
От нашей нищеты.
Кто мне принес в тяжелый год
И плащ, и башмаки,
Того я как-нибудь спасу
От вражеской руки.
— Тогда снимай свое тряпье,
Клади веретено,
Бери зеленый мой наряд
И стрелы заодно. —
Переоделся Робин Гуд
И вышел защпорог,
И, миновав кольцо врагов,
Исчез лесной стрелок.
Епископ к домику вдовы
Подъехал на коне.
— Эй, живо Робина схватить
Й привести ко мне! —
Епископ едет впереди
С улыбкой на лице,
А следом пленника везут
На белом жеребце.
Но вдруг из заросли лесной
Выходит Робин Гуд,
А следом вольные стрелки
Плечом к плечу идут.
— Кто ты? — епископ застонал. —
Кого с собой я вез?
— Милорд, я старая вдова,
А ты — паршивый пес! —
Хотел епископ ускакать,
Собрав остаток сил,
Но Робин Гуд шагнул вперед
И путь загородил.
Он взял за шиворот попа,
Стащил его с седла
И крепко к дубу привязал
На два тугих узла.
Потом нащупал кошелек
И срезал с ремешка,
И вытряс груду золотых
На плащ,из кошелька.
102
— Теперь отпустим мы попа, —
Сказал Малютка Джон, —
Но пусть он мессу пропоет,
Такой у нас закон. —
Тут загнусавил мессу поп,
Запел в лесной глуши.
О здравии лесных стрелков
Молился от души.
И, несмотря на важный сан
И свой высокий пост,
Уехал задом наперед,
Держась за конский хвост.
«Баллады о Робине Гуде», Детгиз, Л., 1959,
стр. 76—81.
РОБИН ГУД МОЛИТСЯ БОГУ
Еще послушайте рассказ..
Однажды, говорят,
Переоделся Робин Гуд
В монашеский наряд.
Надел он черный капюшон,
Повесил крест на грудь,
А сверху четки нацепил
И вышел в дальний путь.
И мили Робин не прошел,
Как вдруг в лесу глухом
Он двух монахов повстречал,
Гарцующих верхом.
— Подайте брату во Христе! —
Захныкал Робин Гуд. —
Тому, кто нищим подает,
На небе воздадут.
Я ничего не ел с утра,
Уж больно сбор плохой, —
Ни кружки кислого вина,
Ни корочкой сухой.
— Не жаль для ближнего монет,
Монахи говорят, —
Но нас ограбил Робин Гуд,
Мы сами нищи, брат.
— На шее крест у Вас, попы,
А ложь на языке.
Придется, видно, вам помочь
Порыться в кошельке! —
Попы свернули на тропу,
Чтоб ускакать по ней,
Но Робин Гуд одним прыжком
Перехватил коней.
Он сбил монахов на траву
И надавал пинков.
— Ах, отпусти нас, добрый брат,
Не мучай бедняков.
— Выходит, все мы бедняки,
Бедняк на бедняке?.
Ну что ж, помолимся втроем
О толстом кошельке. —
И на коленях два попа
Взывали к небесам:
— Пошли нам, боже, золотых,
А сколько, — знаешь сам. —
Ломали руки два попа
И охали, молясь,
А Робин песни распевал,
Над оханьем смеясь.
Потом он крикнул двум попам:
— Ну, братья-бедняки,
Посмотрим, что послал господь,
Проверим кошельки. —
И тут господни чудеса
Свершились наяву:
Пятьсот блестящих золотых
Упало на траву.
— Ого! — воскликнул Робин Гуд.
Вот это барыши!
Видать, что вы, мои отцы,
Молились от души.
Берите сотню золотых,
Вам нынче повезло! —
И встали на ноги попы,
Вздыхая тяжело.
Поднялись на ноги попы
И думали — уйдут.
— Еще не кончен разговор, —
Сказал им Робин Гуд, —
И на моем святом кресте
Я клятву с вас возьму
Не лгать до гробовой доски
Нигде и никому.
А встретив нищего в пути,
Тотчас сойти с коня
И бросить пригоршню монет —
За вас и за меня. —
Монахам он привел коней
И сесть на них помог,
А сам отправился бродить
В чащобах у дорог.
Там же, стр. 50—55.
гоз
КРЕСТЬЯНЕ ГРОМЯТ ИМЕНИЯ ФЕОДАЛОВ
... С высокого сторожевого вяза даже днем можно разгля-_
деть зарева над Стэдфордским и Когесхольским аббатствами.
Еще дальше, как свеча, пылал Крессинг.
Мужики разгромили это великолепное поместье, не пожалев
ни прекрасных сукон, ни парчи, ни кружев, ни других
драгоценностей и украшений магистра госпитальеров.
Они бросали в огонь тонкой резьбы шкатулки, сделанные
чужеземными мастерами из слоновой кости. Вслед за ними
летели меха, плащи, кружева, шитые золотом платья.
И ничего из эгих вещей они не брали себе, точно это было
имущество зачумленного и они боялись распространить заразу.
Натолкнувшись на бочки с кларетом и мальвазией, мужики,
конечно, не отказались испробовать господского вина, но не
этого они искали в подвалах.
Наверх были выброшены сундуки со свитками пергаментов.
Каждая буква этих документов утверждала беззаконие, каждая
огромная печать закрепляла насилие и рабство.
Джек вспомнил, как горел custumal — писцовая книга
магистра, в которой были записаны оброки и повинности его
держателей вилланов.
А как ей не хотелось гореть! Пергамент, словно человек,
корчился в огне; расплавленный воск печатей злобно шипел;
свитки, как живые, приподнимались над костром, вставали
дыбом, и мужики с криком заталкивали их палками обратно.
Это все было правильно. Так оно и должно было случиться.
Господа отлично умели разговаривать на французском
языке, на нем же составляли письма и документы, а в церквах
слушали латинские проповеди, в которых мужики не разбирали
ни слова. Они мало интересовались мужицкими поговорками
и пословицами. А между тем некоторые из них господам не
мешало бы знать!
«Не сгибай чрезмерно кочерги, потому что, разогнувшись,
она тебя же хлопнет по лбу», «Не руби сук, на котором сидишь»,
«Не бросай грязи в колодец, который дает тебе воду», «Не
разводи под собою огня» — и много еще других пословиц
следовало бы знать господам.
А они в течение сотен лет бросали грязь в колодцы, откуда
сами черпали воду, без устали рубили сук, на котором сидели,
а что касается кочерги, то они ее перегнули до отказа, и,
разогнувшись, она ударила по ним же и притом с такой силой, что
они не скоро придут в себя.
3. Ш и ш о в а, Джек-Соломинка.
Историческая повесть, Детгиз, М., 1961, стр. 235—236.
104
УБИЙСТВО УОТА ТАЙЛЕРА
Народ уже изнемогал от зноя, когда показались передовые
королевского отряда. Ричард и сопровождавшая его свита
остановились у госпиталя св. Варфоломея, напротив Смисфилда...
... Как только господа расположились в порядке у
госпиталя св. Варфоломея, из их рядов выехал всадник. Это был мэр
города Лондона Уилльям Уолворс. Он прибыл сообщить
повстанцам, чтобы они выслали своего представителя для
переговоров с королем...
... Когда вождь повстанцев подъехал к королю, у него
хватило ума сойти с лошади и почтительно преклонить перед своим
государем колено. Но тотчас же он грубо и непочтительно
схватил руку Ричарда, потряс ее изо всех сил и сказал:
— Будь спокоен, брат, и весел! Через какие-нибудь две
недели общины будут благодарить тебя еще больше, чем теперь,
и мы будем хорошими товарищами!
И потомок нормандских и анжуйских завоевателей должен
был это терпеть на глазах всей своей свиты...
— Что привело тебя сюда, брат, и почему вы не
расходитесь, как эссексцы, по домам? — спросил король. — Разве вы
придаете мало значения королевской грамоте, согласно которой
будут выполнены все ваши требования?
— Это еще не все требования мужиков, — отвечал Тай-
лер. — Вот сейчас я прочту твоему величеству все, что надо.
Мы не покинем Лондона до тех пор, пока новые пункты не
будут внесены в королевский патент. Лорды королевства горько
раскаются, — добавил он, оглядывая стоявших в молчании
рыцарей, — если все не будет сделано так, как надо!
И он принялся читать новые пункты. Ричард мог бы
поклясться, что мужик вызубрил их наизусть, потому что ни один
клерк не мог бы разбирать написанное с такой быстротой.
— «Все находящиеся в пользовании сеньоров леса, пруды,
озера и реки должны стать общим достоянием, чтобы как
богатый, так и бедный мог пС всему королевству свободно ловить
рыбу, охотиться за зверями и гонять зайцев на всех полях»...
... «Права сеньоров должны быть упразднены и
установлено равенство всех, кроме короля».
«Находящееся у монахов, настоятелей приходов, викариев
и других церковников имущество должно быть отнято у них,
за исключением того, что необходимо для их содержания, и
разделено между прихожанами».
Король только глазами мог переговариваться со своими
людьми. Все слушали в сумрачном молчании.
— «В Англии должен быть лишь один епископ и один
прелат, и все земли и держания епископов и прелатов должны быть
отняты у них и разделены между общинами».
-105
«В Англии не должно быть вилланов и вилланства, но все
должны быть свободны и равны», — закончил Тайлер. — Но
это твое величество уже вчера утвердило своими грамотами.
Король оглянулся.
— Будет так, — ответил он предводителю повстанцев. —
Сегодня же следует заготовить грамоты с печатями. Оставьте,
как эссексцы, своих представителей и мирно разойдитесь по
домам. Лондон еще не видел такого огромного скопления
пришлых людей, и наши жители уже начинают ощущать недостаток
в съестном.
Тайлер устал. Он не привык так долго разговаривать.
Улыбаясь, он посмотрел на Ричарда. Этот малый будет хорошим
королем, он понимает свой народ с одного слова...
... Ричард несколько раз оглядывался на свою свиту, но
ничего не говорил.
Мальчишка-оруженосец подал мужику воды, а затем пива.
Тайлер грубо и непочтительно выполоскал рот и сплюнул
невдалеке от короля. Затем он отпил пива и стал карабкаться на
своего конька.
Ричард оглянулся еще раз. Нужно было торопиться. Тогда
из рядов свиты вышел сэр Стивн Крэг. Он попросил у его
величества разрешения посмотреть на человека, который называет
себя предзодителем мужиков. Голос его якобы показался сэру
Стивну Крэгу знакомым.
Остановившись перед дэртфордцем, рыцарь сказал громко,
что память не обманула его, он узнает этого человека: это
величайший вор и грабитель во всем Кенте.
Кровь бросилась в лицо Уоту Тайлеру. Рыцаря сэра Стивна
Крэга он видел впервые. Вытащив кинжал, он ринулся за своим
обидчиком, но тот уже скрылся в рядах свиты. Дело было
сделано: мужицкий вождь обнажил в присутствии своего государя
оружие. За это он заслуживает смертной кары!
Мэр Уолворс схватил Тайлера за руку.
Трое рыцарей обошли толпу и стали позади Тайлера...
... Тайлер переложил кинжал в левую руку, размахнулся
и ударил Уолворса в живот. Железо зазвенело о железо.
Соломинка был прав: мэр под одеждой носил кольчугу.
Уилльям Уолворс остался невредим. Выхватив из ножен меч,
он нанес Уоту два страшных удара — в голову и в шею. Как
видно, он повредил главную жилу, петому что кровь сразу
залила раненому лицо и грудь. Однако Тайлер нашел еще
в себе силы дать шпоры коню. Он крикнул пастушку, чтобы тот
поскорее скакал к кентцам, и почти тотчас же упал
бездыханный на землю — трое стоявших позади рыцарей прикончили его
своими мечами.
Там ж е, стр. 282—286.
106
РАСПРАВА С ВОССТАВШИМИ
Усеян город был, как щебнем, Тут были вольны положенья:
Дней десять трупами. Земля Венчались без больших хлопот,
Свой хлеб глотать не успевала. Иные пятки головою
Поля пахали под кладбища И пятками иные шеи,
И тухлым мясом засевали А руки часто забирались
Их вместо ржи и ячменя. К кишкам в распоротый живот.
И день и ночь скрепя, телеги От вони не было спасенья
Из всех ворот, со всех дворов Ни за порогом, ни в домах,
Поспешно падаль вывозили И воздух густ был, точно тина —
За город, где просторней было, Дышали просто тухлым мясом.
Чем на общественных кладбищах, Банкет неслыханной Заразы,
И там ссыпали в общий ров. Забывший стыд и честь и страх!
В реку без счета побросали Играла Вечность в дни и ночи,
Протухших трупов — и, как суп, Был вновь восход, был вновь закат,
Дымились воды Темзы. Прочим И, как пурпурные знамена,
Копали ямы ярдов1 в двадцать На пиках головы мерцали
И в них, как сало для просола, И в солнце солнцами пылали:
Рядами клали труп на труп. Кровь как рубин и кровь-гагат2.
А. Глоба, Уот Тайлер, Пг., 1922.
• стр. 69—70.
ОБЩЕНАРОДНАЯ БОРЬБА В ЧЕХИИ
ПРОТИВ ЧУЖЕЗЕМНОГО ЗАСИЛЬЯ
И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
Гуситсксе движение было самым значительным
антифеодальным выступлением народных масс Западной и
Центральной Европы во втором периоде средневековья. Оно было
глубже и продолжительнее, нежели восстание Уота Тайлера
и Жакерия. Учитель будет располагать по этой теме
богатым художественно-историческим материалом, который
нужно только умело использовать.
Мужественный образ национального героя Чехии Яна
Гуса должен навсегда запечатлеться в памяти учащихся.
Используя все средства — документ, художественную
литературу, картину художника В. Малышева «Ян Гус на Кон-
станцском соборе», а если будет возможность и кино-
1 flpd — мера длины, приблизительно равная 91 см.
2 Гагат — разновидность ископаемых углей густо-черного цвета с
блестящим изломом, используемая как поделочный камень.
107.
фильм, — учитель нарисует портрет несгибаемого патриота.
Урок оживит чтение отрывков «Проповедь Яна Гуса» и
«После казни Яна Гуса» из поэмы Т. Г. Шевченко «Еретик».
Стойкость и смелость Яна Гуса на Констанцском соборе
показаны в отрывке из книги «За отчизну» С. Царевича.
Восстание в Праге, послужившее началом гуситских
войн, показано в отрывке из книги «Могучий слепец» Ал. Ал-
таева и Арт. Феличе. Веками накопившаяся ненависть
народа к католическому духовенству вылилась в массовый
разгром церквей и монастырей, один из эпизодов которого
приведен в отрывке из романа А. Ирасека «Против всех».
Ценные сведения о военном искусстве гуситов даются на
примере битвы при Судомерже, которая описана в
вышеназванной книге С. Царевича (отрывок «Гуситы в
сражении»).
Рассказывая о великом чешском полководце Яне Жижке,
учитель зачитывает отдельные строфы или весь фрагмент
из поэмы Н. Ленау «Ян Жижка».
ПРОПОВЕДЬ ЯНА ГУСА
Прозрейте, люди, день настал!
Восстаньте, чехи, против судей!
Проснитесь, чехи! Вы же люди,
А не потеха чернецам!
Злодеи, палачи в тиарах
Всё обратили в прах и дым,
Как там,' в Московии, татары,
И догматы свои слепым,
Нам навязали!.. Кровь, пожары,
Все зло на свете, войны, свары,
Мученья адские, а Рим
Распутством одержим.
Вот все их догматы и слава!
Чего славней!.. А нынче — вот
Установление конклава:
Кто, буллы не купив, умрет,
Тот — прямо в ад! А если плату
Ты внес двойную — режь хоть брата,
Всех, кроме пап и чернецов, —
И в рай ступай в конце концов! —
И вор у вора без пощады
Ворует... Тут же, в церкви! Гады!
Насытились ли вы вполне
Людскою кровью?..
Т. Г. Шевченко, Еретик. — В кн.:
Т Г. Шевченко, Стихотворения, «Советский
писатель», Л., 1954, стр. 254.
ЯН ГУС НА КОНСТАНЦСКОМ СОБОРЕ
На председательском кресле посреди собора сидел кардинал
Иоанн де Бронье. В кардинальском пурпурном плаще поверх
расшитого золотом облачения, в красной широкополой шляпе
со свисающими по бокам кистями и в лиловых чулках,
кардинал как бы дополнял собой всю мрачную картину собора.
Напротив него на хорах был поставлен трон императора.
Сигизмунд, в роскошной, подбитой горностаем мантии и в
императорской короне, сидел на троне, стараясь подчеркнуть
все величие императорского сана. Его хитрое, жестокое лицо,
108
прикрытое огромной бородой, с любопытством и плохо скрытым
беспокойством было обращено в сторону стоявшего на амвоне
Яна Гуса. Пфальцграф Людовик держал перед королем на
подушке державу, Фридрих Гогенцоллерн — скипетр, герцог
баварский — венгерскую корону, венгерский магнат Стефан —
имперский меч. На скамьях вокруг сидели кардиналы,
архиепископы, епископы, доктора богословия, аббаты, а там, сзади,
толпились в тягостном ожидании земляки Яна Гуса — чехи.
Но, видимо, кардиналы и император не были спокойны за
сегодняшнее заседание. Епископ "Конкордии поднялся и
громогласно прочел декрет, запрещающий под страхом тяжкого
наказания кому бы то ни было прерывать заседание. Далее стали
выступать один за другим епископы, папский аудитор, за ним —
светский представитель собора Генрих Пиро, все они скучно,
монотонно сходились в своих речах к требованию осудить Гуса
как нераскаявшегося, опасного еретика. Потом последовало
длиннейшее, утомительное чтение всего обвинительного
материала против Гуса.
Один только раз Ян Гус прервал епископа, читавшего
обвинительный акт, сказав:
— Я прибыл на собор с охранной грамотой его милости
короля римского, — и выразительно посмотрел на Сигизмунда.
Тот под взглядом мистра1 потупился и густо покраснел.
Но кардиналы бросились на выручку императору. Поднялся
невообразимый шум.
— Молчи теперь! Потом тебе дадут говорить! — кричал
кардинал д'Альи.
— Замолчи! Мы достаточно тебя наслушались! —
надтреснутым, старческим голосом завопил кардинал Цабарелла. —
Заткните ему рот, слышите? — повернулся он к охране,
указывая длинным желтым пальцем на мистра.
В соборе творилось нечто ни с чем не сравнимое по своей
дикости и гнусности. Напрасно мистр просил чтобы ему дали
говорить. Духовные пастыри орали как одержимые.
Когда восстановилось некоторое спокойствие, епископ Кон-
кордии объявил два приговора: первый — о книгах магистра
Яна Гуса, подлежащих сожжению, и второй — о самом Яне
Гусе, приговоренном как неисправимый еретик к лишению
церковного сана.
Ян Гус был и есть настоящий и очевидный еретик. Он
осуждается и проклинается!
На предложение отречься Гус, замученный до последней
степени, воскликнул:
— Эти епископы уговаривают меня отречься! Нет, я не могу
изменить своей совести! Никогда!
Мистр — магистр.
109
Приступили к расстрижению. Епископы шепотом начали
спорить, чем должны быть срезаны волосы — ножницами или
бритвой. Ян Гус поглядел на препирающихся епископов,
болезненно улыбнулся и с грустной иронией сказал императору:
— Государь! Помири их: они не знают как лучше
довершить надругание надо мной!
Наконец епископы торопливо и неумело состригли
ножницами волосы у мистра. Церемония была закончена формулой,
провозглашенной епископом миланским:
— Церковь не знает тебя ^более, она передает твое тело
светской власти, а твою душу — дьяволу!
Епископ приказал надеть на голову Гуса бумажный колпак
с рисунками, изображающими чертей, и с надписью «Ересиарх».
Епископ миланский выступил вперед и провозгласил:
— Святой Констанцский собор вручает суду и гражданской
власти расстригу Яна Гуса, исключенного из церковной
иерархии!
В соборе стало необычайно тихо. Сигизмунд, избегая
глядеть на стоявшего перед ним хотя и в бумажном колпаке, но
полного величия и спокойствия Яна Гуса, напыщенно обратился
к пфальцграфу Людовику:
— Любезный герцог! Ты, держащий меч власти для
наказания злых, возьми этого человека, Яна Гуса, и именем моим
соверши над ним казнь, подобающую еретикам!
Пфальцграф выслушал повеление императора, низко
склонив голову, затем передал подушку с державой одному из
придворных, снял с себя парадную мантию и спустился с хоров в
зал собора. Перед ним все расступились, и герцог дал знак
солдатам, чтобы они вели Яна Гуса за ним, а сам тяжелыми
шагами двинулся к выходу из собора.
С. Царевич, За отчизну. Исторический
роман, Детгиз, М., 1958, стр. 151—153.
ПОСЛЕ КАЗНИ ЯНА ГУСА
Разлетелись Знай пируют да порою
Монахи, бароны, «Те deum» l затянут.
Точно с пира кровавого С корнем вырвали... Постойте! —
Черные вороны. Вон над головою
Разгулялись по хоромам, Старый Жижка из Табора
Даже не вспомянут! Взмахнул булавою.
Т. Г. Шевченко, Еретик. — В кн.:
Т. Г. Шевченко, Стихотворения, «Советский
писатель», Л., 1954f стр. 259.
1 Те deum — тебя, бога, хвалим (латинск.)\
ПО
ВОССТАНИЕ В ПРАГЕ
Процессия подвигалась вперед извилистыми улицами, мимо
домов с высокими, крутыми кровлями, галереями,
балкончиками, мимо старых родовых жилищ с гербами пражских
вельмож, с цеховыми или гильдейскими знаками богатых купцов и
просто домохозяев. Наконец показались островерхая башня
радницы и золотой крест ее часовни.
Двери радницы были наглухо закрыты. Но широко
распахнутые окна, будто нарочно, подчеркивали присутствие в здании
ратманов.
— Они запираются от нас, точно от разбойников! —
выкрикнул Андрей запальчиво.
Жижка нахмурил густую бровь и рывком поправил на
глазу повязку. Не так бы хотелось начать доброе дело.
Ян Желивский высоко поднял чашу.
Микулаш из Гуси передал хоругвь бывшему к нему ближе
других Яну Красе, отбежал в сторону и протянул руку к окнам
радницы.
— Паны советники!.. — раздался его высокий, резкий
выкрик. — Неужели вы не хотите, подобно нам, здесь стоящим,
чтобы на чешской земле воцарилась, наконец, справедливость?
Откройте нам свободный вход, и мы объясним, зачем пришли.
Распахнутые окна дразнили своим молчанием.
— Хорошо, — продолжал Микулаш, — мы объясним и
отсюда. Да будет стыдно тому, кто принимает нас за грабителей.
Раскройте, если не двери, то уши и сердца, как раскрыли окна.
Вспомните о тех, кто томится в этот светлый день по вашему
приказу в темницах и подземельях. В чем их вина? .. Лишь в
любви к правде и свободе. Неужели вы не видите, что вместе
с нами само солнце посылает вам свои горячие лучи,
благословляя вас на доброе решение? .. Освободите немедля
заключенных! ..
Окна молчали.
Тогда не выдержал и Жижка.
— Паны советники! .. — загремел его бас. — Паны
советники! Побойтесь совести! .. Вы, представители городской
власти, должны прислушиваться к голосу народа!..
Из залитого солнцем окна выглянула лысая голова бурк-
мистра Яна Подвинского. Бритое бабье лицо его криво
усмехнулось. Шепелявый язык насмешливо выговорил в наступившей
разом тишине:
— Народ глуп, если думает, что его голос много значит.
К тому же и мы не вольны в своих действиях, ибо являемся
исполнителями высшей воли.
— Но не слепыми исполнителями, пан буркмистр, не
слепыми! .. — бросил горячо Жижка.
Ill
Заплывшие жиром глазки Подвинского поднялись к небу, и
пухлая рука-истово перекрестилась:
— Да благословит господь его святейшество папу, который
пресек еретикам возможность разносить духовную заразу.
Заточение, костер, плаха — вот орудия, достойные сей мерзости! ..
Пальцы Жижки впились в рукоять меча.
— Паны советники! — еще громче закричал он, не слушая
буркмистра.
— Кровь праведных падет на ваши головы!..
Тогда из-за спины Подвинского показались остальные
ратманы.
— Что они делают? — вдруг ахнул Андрей Полян.
В ту же минуту град камней полетел из окна в Яна Желив-
ского и его чашу.
Краса бросился вперед и заслонил собою монаха. Камень
попал ему в голову. Рядом дрогнула хоругвь, закачалась и
начала падать. Пытль подхватил ее на лету. Андрей ринулся к
дверям радницы и стал высаживать их плечом. За ним
последовали другие. Началась свалка.
— Они посмели ... коснуться ... нашей святыни! .. —
шептал Краса, лежа на земле. — Они метили в священную чашу
подобоев!..
—Ян!.. Дружище!.. Ян!.. — старался приподнять его
Пытль. — Держись за шею, я донесу тебя до дома...
— Они кощунственно подняли ... руку! .. Бог покарает ...
их! . — Из раненой головы Красы снова потекла кровь.
— Молчи, молчи, — успокаивал его Пытль. — Бог уже
покарал. Вон валяются останки тех, кто назывался буркмистром,
советниками, судьями и их прислужниками. Пока ты тут лежал
и обливался кровью, мы выломали двери и выбросили бешеных
собак на расправу людям.
Ал. А л т а е в и Арт. Ф е л и ч е, Могучий
слепец. Исторический роман, «Молодая гвардия»,
М., 1959, стр. 171—173.
РАЗГРОМ НАРОДОМ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
Храм был переполнен: табориты и местные жители,
мужчины в "крестьянских рубашках и городской одежде, женщины в
строгих покрывалах, мелькали, суетились, сновали, то исчезая
в полутьме сумрачных сводов, то ясно вырисовываясь на фоне
ярких лучей, падающих через цветные стекла притвора...
... Все рушилось вокруг. Люди рубили топорами скамьи,
исповедальни и молитвенные скамеечки; подтащив скамьи к
стенам, копьями царапали изображения ангелов и святых на
стенной росписи. Какой-то бородатый мужик выкалывал глаза
апостолам в боковом алтаре, а другой, отошедший на минуту
112
перевести дух, кричал ему, указывая на расписанную красками
статую, чтобы он разбил голову божьей матери — мол, если
она и впрямь святая, то сумеет постоять за себя...
На полу, перёд главным алтарем, росла груда церковной
утвари. Женщины в исступленном усердии стаскивали сюда
небольшие образа, статуэтки, облачения из ризницы, требники,
большие и малые церковные книги. Они рвали и ломали их,
сваливая обрывки и обломки в кучу; из ризницы выбежал
лохматый, загорелый крестьянин в барашковой шапке и
заплатанном кафтане — видимо, какой-то бедняк. Он остановился перед
грудой изломанных, изорванных вещей; в одной руке его
блестело распятие, украшенное дорогими самоцветами, в другой —
золотая чаша.
Распятие он, не задумываясь, бросил в общую кучу, а чашу,
которая, по учению таборитов, была греховно роскошной,
швырнул наземь и растоптал.
А. И р а с е к, Против всех. — В кн.:
А. И р а с е к, Сочинения, в 8-ми т., т. 3,
Гослитиздат, М., 1959, стр. 69.
ГУСИТЫ В СРАЖЕНИИ
25 марта неподалеку от деревни Судомерж Ян Жижка,
ехавший далеко впереди отряда, остановился у большого высохшего
труда. Не слезая с коня, Жижка внимательно оглядел всю
местность вокруг. Утро уже наступало. Берега пруда Шкареды были
уже покрыты молодой весенней травой, и эта яркая зелень еще
больше оттеняла темно-коричневую поверхность сухого дна.
У края озера возвышалась плотина.
Ян Жижка вместе с Брженком Швиговским осмотрели пруд
и шагом въехали на плотину.
— Здесь мы поставим наше возовое укрепление — тогда
железные паны смогут атаковать нас только через пруд. Вот тут
мы их и встретим. — И, выпрямившись в седле, Жижка
отрывисто приказал. — Встречай возы, ставь крепость и размещай
людей!
Брженек дал шпоры коню и помчался навстречу
приближающемуся по берегу отряду. Как только телеги одна за другой
въезжали на плотину, лошадей отпрягали, а телегу ставили
боком к фронту, причем каждая телега скреплялась с соседней
специально для этого устроенными цепями. Бока телег
заставлялись крепкими щитами с бойницами для арбалетов и луков, а
в некоторых — для маленьких пушек, тарасниц. Другие щиты
спускались до земли для защиты сидящих за телегами воинов.
Впереди каждой телеги торчало по нескольку крепко
приделанных копий против атакующей конницы. Все женщины и дети
были сосредоточены внутри укрепления; там же стояли и отпря-
8 Сост. О. В. Волобуев и др
113
женные лошади. Некоторые женщины также вооружались
луками и арбалетами, а подростки-мальчишки разместились на
телегах, держа в руках самодельные пращи с запасом камней.
Без лишних слов, без малейшей торопливости, спокойно и
сосредоточенно воины, начальники, старики, женщины и дети
быстро стали готовиться к сражению. Ян Жижка сам обходил
каждую телегу, осматривал каждого воина и по-хозяйски
ворчал на малейшую небрежность.
Проходя мимо телеги, у которой расположилась семья
Дубов, воевода услыхал за своей спиной внезапный грохот
доспехов, сопровождаемый крепким проклятьем. Ян Жижка с
любопытством оглянулся и увидел, что Ян Рогач 'поднимается с
земли, стараясь освободить свои длинные зубчатые шпоры,
запутавшиеся в каких-то тряпках.
— И кто это здесь разбрасывает? Запутался вот шпорами
и полетел на землю «из-за проклятого бабьего тряпья! — Рогач,
свирепо ругаясь, дергал ногами, но никак не мог освободить
свои шпоры от длинного женского покрывала.
Подбежала Текла:
— Позвольте, я его сниму. Прошу прощенья, это мое
покрывало. Я расчесывала голову и случайно его здесь положила. —
И старушка поспешно освободила ноги пана Рогача от
злополучного покрывала.
Ян Жижка раскатисто хохотал над неловкостью Рогача и
уже собрался идти дальше, как заметил, что на него в упор
глядит девушка, как будто желая что-то сказать, но не решаясь.
— Ты, дочка, хочешь сказать мне что-нибудь? — просто и
благодушно обратился воевода к девушке. — Чего робеешь?
Говори.
Девушка стала от смущения пунцовой и не могла вымолвить
ни слова.
— Да говори же! — нетерпеливо повторил Жижка.
— Пусть пан простит мою глупость... Я увидела, как пан
Ян Рогач запутался в тетином покрывале, и мне пришло в
голову, что, если набросать перед плотиной по дну озера в камыше
все наши женские покрывала, рыцари в них запутаются не.хуже
пана Яна Рогача и попадают в грязь, а наши в это время будут
их рубить и бить топорами.
Улыбка постепенно сходила с лица Яна Жижки, и при
последних словах девушки оно было уже совершенно серьезным.
— Клянусь честью, выдумка хороша! Молодец, дочка! А ну,
брат Енек, собери у всех наших женщин покрывала и прикажи
разбросать их перед крепостью среди камыша. Собрать все,
сколько есть!
Ян Рогач с недовольным видом,, но без секунды
промедления принялся выполнять приказание воеводы. Скоро все дно
пруда перед плотиной было покрыто сотнями покрывал.
114
Ян Жижка наблюдал за выполнением своего необычного
приказания и, вспомнив об авторе идеи, обернулся. Девушка
*се еще стояла рядом и тоже глядела, как разбрасывают
покрывала.
— Как тебя звать, дочка?
— Божена.
— Спасибо тебе, Божена, за добрую мысль. Ты здесь с
родней?
— Я сирота. Меня взяла к себе еще в Праге семья Дубов.
— Какой Дуб? Войтех, что ли? Оружейник пражский?
— Да, пан Ян.
— Вот оно что! Так это, значит, ты украла сердце моего
Ратибора? Знаю я всю вашу историю... Да ты не смущайся, не
красней. Вот приедем в Табор, так я сам с Войтехом поговорю.
Думаю, что в моей просьбе он нечггкажет. Так что...
— Пан воевода! Железные паны показались с двух сторон!
Перед Яном Жижкой стоял запыхавшийся дозорный.
— К оружию! — пронесся клич воеводы.
Укрепленный лагерь мгновенно затих. Каждый занял свое
место и приготовился к встрече врага.
Скоро на горизонте показалась длинная, поблескивающая
металлом полоса, извивающаяся, как гигантская змея. Ратибор
со своей сотней стоял неподалеку от Брженка Швиговского.
Тот стоял, вытянувшись во весь рост, и неподвижно глядел,
прикрыв от солнца глаза ладонью, на приближающуюся
рыцарскую конницу.
— Тысячи три, наверно, будет! — сквозь зубы процедил
Брженек.
На противоположном берегу пруда уже совершенно ясно
обозначилась железная стена всадников, и скоро точно такая же
стена появилась позади первой.
Ратибор видел, как железная колонна рыцарей спустилась
с берега на сухое дно пруда и, устремив копья вперед, начала
прибавлять ходу, а затем, перейдя в галоп, поскакала прямо на
возовое укрепление. Но, едва проскакав сотню шагов,
громадные кони, отягченные закованными в железо всадниками, стали
проваливаться в вязкий сырой ил. Лошади падали на колени,
всадники летели через их головы, задние ряды налетали на
упавших лошадей и, в свою очередь, падали. Видя
невозможность атаковать плотину в конном строю, рыцари бросили коней
и кинулись в атаку с обнаженными мечами в руках, издавая
грозный воинский клич.
Увязая в липком, вонючем месиве, рыцари все же упорно
сплошной толпой бежали к плотине. Наконец первые сотни
спешенных рыцарей и несколько конных добрались до
разбросанных покрывал. Хотя нервы Ратибора были напряжены до
предела, но он не мог удержаться от смеха, когда увидел, как на
8*
115
всем бегу рыцари стали путаться в лежащих покрывалах,
спотыкаться и падать в грязь, беспомощно пытаясь вновь встать на
ноги. Доспехи рыцарей с головы до ног были покрыты грязно-
коричневым илом. В этот момент разом грянули гауфницы,
тарасницы и гаковницы, а лучники и арбалетчики выпустили на
атакующих сотни стрел. Мальчишки, не отставая от своих отцов
и братьев, с громкими криками поражали врага градом
камней.
Но все новые и новые волны закованных всадников
вливались в узкое пространство озера и пытались достигнуть
плотины. Озеро в этот момент напоминало исполинский
муравейник. Над головами сидевших за щитами Ратибора и Брженка
Швиговского раздался знакомый громовой голос:
— Вперед, детки, за чашу! За мной!
И через щит перемахнула дюжая фигура Яна Жижки; в руке
воеводы была его знаменитая палица. И сразу же все четыре
сотни воинов с цепами, копьями, топорами и мечами в руках
бросились через возы вниз с плотины в гущу рыцарей.
Ратибор бежал впереди вместе с Брженком Швиговским.
Перед ними в руках знаменосца полыхала по ветру братская
хоругвь с чашей. Мчавшийся рядом с Яном Жижкой огромный
Прокоп запел боевой гимн таборитов, тут же подхваченный
сотнями голосов.
Рыцари, не ожидавшие столь стремительного удара, были
ошеломлены и растерялись. Рослые, здоровые крестьяне
молотили своими страшными цепами по рыцарским шлемам и
доспехам, с одного удара превращая и* в лепешку. Тяжелые
топоры лесорубов и мастеровых с лязгом прорубали латы и
кольчуги.
С. Ц а р е в и ч, За отчизну. Исторический
роман, Детгиз, М., 1958, стр. 276—281.
ЯН ЖИЖКА
Ослепленный полководец,
На возу бесстрашно стоя.
Голосом, подобным грому,
Направляет ярость боя.
С ним один дружинник слева
И один дружинник справа.
Вместо глаз они герою
Служат верно, нелукаво.
И следит он, им внимая, •
Как с врагом дружина бьется.
Все в лучах души высокой
Видит разум полководца.
До того, как был стрелою
Отнят свет его очей,
Сам в лицо глядел он зорко
Милой родине своей.
И леса, поля отчизны,
Горы, долы, бухты, реки
Как святыню сохранил он
В ясной памяти навеки...
... И, внимая шуму битвы,
Смерти слышит он полет,
Голос каждого оружья
В буре звуков узнает.
116
Дивной музыки для Жижки Ибо войско Снгнзмунда
Полон лязг мечей о. брони, Гнется, гнется под ударом
Пенье стрел и ржанье коней, Смерть наемникам тирана.
Грохот сечи и погони. Смерть саксонцам и мадьярам!
Н. Лен а у, Ян Жижка. — В кн.: Н.
Лена у, Стихотворения. Ян Жижка. Поэма,
Гослитиздат, М., 1956, стр. 194—195.
8.
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И БОРЬБА НАРОДОВ ПРОТИВ
ТУРЕЦКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
В XV веке ослабленное феодальными усобицами и
враждующие друг с другом Сербия, Болгария и Византия стали
жертвой завоевателей-турок. Героизм народов этих стран
разбивался о своекорыстие и частые интриги феодалов.
Турецкие завоевания сопровождались массовым истреблением
людей, угоном в рабство, разорением целых стран,
уничтожением колоссальных материальных ценностей.
Характеризуя Византию накануне ее завоевания турками,
учитель может зачитать небольшой, но яркий отрывок из
исторической миниатюры С. Цвейга «Завоевание Византии»,
которым открывается подборка текстов по данной теме.
В отрывке «Болгарский народ требует объединения всех
сил для отпора туркам» из романа С. Загорчинова «День
последний» показано, как феодальные распри облегчали
туркам осуществление их агрессивных планов, и исторически
правдиво выведен народ как носитель идеи единства всех
сил для предотвращения национальной катастрофы.
Трагические события того времени преломились в
сербском народном эпосе. Из цикла >песен о Косовом поле
отобран фрагмент из песни «Царь Лазарь и царица Милица».
В ней содержатся элементы гиперболизации, характерные
для фольклора.
Используя вышеназванную миниатюру С. Цвейга
(отрывки «Штурм Константинополя» и «Турки в
Константинополе») и приведенную в учебнике картосхему (рис. 50),
учитель нарисует красочную картину последних дней Византии.
Страдания народа, угон людей в турецкое рабство
запечатлены в полной поэзии народной болгарской песне «Три
вереницы невольников».
117
ВИЗАНТИЯ НАКАНУНЕ ЕЕ ЗАВОЕВАНИЯ ТУРКАМИ
Византия, она же Восточноримская империя, некогда
владела миром и простиралась от Персии до Альп и снова до
азиатских пустынь, и ее можно было измерить только долгими
месяцами пути, а теперь ее спокойно проходят из конца в конец
пешком за три^часа. От прежнего Византийского государства
осталось, увы, только голова без туловища, столица без страны,
Константинополь, град Константина, в древности — Византии,
и даже в этом Византии, императору, басилевсу, принадлежит
только часть, нынешний Стамбул, а Галата уже находится в
руках генуэзцев, и вся земля вне городской стены захвачена
турками; владения последнего императора теперь величиной с
ладонь, это всего-навсего гигантская стена, церкви и дворцы да
скопление домов — словом то, что называют Византием. Город,
однажды уже разграбленный дотла крестоносцами, наполовину
вымерший от чумы, измотанный необходимостью вечно
обороняться от нашествий номадов, раздираемый национальными и
религиозными распрями, город этот теперь не в состоянии
обрести ни солдат, ни мужества, чтобы защищаться
собственными силами от врага, который давно уже обхватил его со всех
сторон своими щупальцами...
С. Цвейг, Завоевание Византии. — В кн.:
С. Ц в е й гу Собрание сочинений, в 7-ми т., т. 3,
«Правда», М., 1963, стр. 8—9/
БОЛГАРСКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВСЕХ СИЛ ДЛЯ ОТПОРА ТУРКАМ
Вся дорога из Царевца, от того места, где остановился царь
с боярами, до самого леса, наполнилась людьми, лежащими
ничком или стоявшими на коленях, склонив обнаженные головы.
Они напоминали тучу саранчи, напавшей на зрелую ниву: их
также ничто не могло ни остановить, ни поднять с земли.
Казалось, это поняли не только всадники, но и кони, у чьих ног
лежала вся эта толпа... Даже кони начали испуганно фыркать и
рыть передними копытами землю. Иоанн-Александр !,
побагровев, обменялся несколькими словами с гостем и двумя-тремя
боярами, ехавшими позади, потом вдруг направил своего
огромного жеребца прямо к живой преграде. Подъехав, он
поднял руку, требуя тищины, так как толпа волновалась: ропот,
отрывистые слова, выкрики, восклицания наполняли воздух; при
этом каждый лез вперед и толкался, стараясь получше все
увидеть и услышать.
— Люди, чего вам надо? Чего ради явились вы на Боярский
холм и не даете проехать царю и его любезному высокому гос-
1 Иоанн-Александр — болгарский царь.
118
тю ... послу императора Иоанна Кантакузена !? — твердо,
отчетливо произнес царь Иоанн-Александр, наклоняясь то
вправо, то влево, в зависимости от движения коня, все время
перебиравшего ногами.
Обращение царя словно развязало языки лежащих, доведя
волнение толпы до крайнего предела. В передних рядах
послышались возгласы:
— Да здравствует царь!
— Да здравствует Иоанн^-Александр многие лета!
— Да здравствуют дети его!
— Да здравствует царевич Шишман!
— Да здравствует Кантакузен!
— Да здравствуют христиане! Да поможет им бог!
— Хорошо, хобошо! — примирительно промолвил царь, когда
крики утихли; при этом выражение его лица все более
смягчалось. — Говорите теперь, в чем дело? Чего вам нужно?
Только тут из среды лежащих поднялись первые трое...
Поднялись и встали, не подымая головы и не глядя в глаза царю.
За ними начали подниматься и остальные.
— Выслушай, царь! — раздался сильный, взволнованный
голос «из первых рядов. — Мы пришли к тебе не прав себе
просить и милостей твоих добиваться. Нас тысячи, царь,
безвестных и безвластных, а ты один над нами от бога поставлен. По
всей поднебесной только бог над тобой владыка, и око твое все
видит с высоты. О царь! Пришло время, нам, тысячам, сказать
тебе: погляди на юг, направь туда свое зоркое око, преклони
ухо в ту сторону, чтоб увидеть и услышать то, что видим и
слышим мы... Не гневайся, о царь! Моими устами говорят тысячи.
Мы ближе к земле, чем ты, лучше слышим и видим, что на ней
делается. Слушай! Силен сын Агари2, но одинок; христиане
слабы, но многочисленны. Оттого слабы, о царь, что нет между
ними согласия! Покажи пример, Иоанн-Александр, подай руку
дружбы. Ежели Кантакузен против сына Агари, подкрепи
десницу его, чтоб оставить Великий брод в христианских руках,
отогнать антихриста от господней земли, поразить и расточить »
силы агарянские. Аминь! ..
... Тогда Иоанн-Александр второй раз жестом потребовал
молчания.
— Спасибо, спасибо, добрые люди. Дай бог, чтобы ваши
пожелания исполнились! — снова громко заговорил он, произнося
каждое слово четко, раздельно, словно просеивая его сквозь
мелкое сито. — Мы дали наше царское слово любезному гостю
нашему Киру Мануилу, — тут он опять повернулся к гостю,
слегка наклонив голову, — чтотоможем всем, чем только рас-
1 Иоанн Кантакузен — византийский император.
2 Сыны Агари — так называли в средние века христиане мусульман.
119
полагаем, пресветлому и премудрому соседу нашему
императору Иоанну Кантакузену, как помогали и прежде в подобных
случаях.
— Нет, царь! — еще громче и взволнованней прозвучал
прежний голос, с какой-то дерзостью и властностью подымаясь
на спор с царем. — Не как прежде и в подобных случаях! Помоги
Кантакузену — как самому себе, своим собственным детям,
внукам и правнукам! Не скупись, пока еще есть время. Отвори
широко двери своей сокровищницы, царь, и да не оскудевает
рука твоя. Ибо горе тебе, если сын Агари одолеет.
С. Загорчинов, День последний.
Исторический роман из жизни XIV столетия,
Гослитиздат, М., 1955, стр. 439—441.
БИТВА НА КОСОВОМ ПОЛЕ
Ворона два черных прилетали,
Прилегали от Косова поля
И на царском тереме уселись,
А на белу башню они пали —
Черный ворон говорил другому:
«Это ль терем Лазаря владыки?
Что же в нем души живой не видно?»
В терему никто это не слышал,
Только лишь царица услыхала,
Из своей светлицы выходила
Воронам двум черным говорила:
«Ради бога, птицы, расскажите,
Вы откуда утром прилетели?
Не летите ль от Косова поля?
Не видали ль там два сильных
войска?
Между ними не было ли битвы?
Чье же войско в битве победило?»
Отвечают вороны Милице:
«Слава богу, царица Милица,
Мы сегодня от Косова поля.
Там сошлися сильные два войска,
Рать на рать ударила, сразились.
У обеих их цари погибли.
Кое-что осталося от турок,
А от сербов если и осталось —
Раненые, мертвые остались».
Не успели речь окончить птицы,
Подъезжает тут слуга Милутин:
В левой держит правую он руку,
А на нем семнадцать ран зияют;
Даже конь облит юнацкой кровью...
... Как вернулись к Милутину силы,
Начала расспрашивать Милица:
«Что случилось на Косовом поле?
Где погиб супруг мой, царь наш
Лазарь?
Где погиб н Юг-Богдан, отец мой?
Где погибли Юговичей девять?
Где погиб наш воевода Милош?
Где погиб, скажи мне, Вук Бранкович?
Где погиб и Банович Страхиня?»
Отвечает ей слуга Милутин:
«Все они на Косове остались.
Где погиб наш славный князь-царь
Лазарь,
Много копий там разбито в щепки,
Там разбито сербских и турецких,
И турецких, — только сербских
больше.
Там ломали копья свои сербы,
Защищали государя-князя,
Старый Юг убит в начале битвы,
В первой схватке Юговичей восемь —
Восемь братьев — все убиты вместе.
Брат не выдал брата дорогого,
Храбрый Бошко был убит последним:
Он носился с знаменем по полю,
Разгонял один он силу турок,
Будто сокол голубей гоняет.
Где стояло крови по колени^
Там убит был Банович Страхиня;
Был убит наш воевода Милош
У ситницы, у воды студеной,
Где не мало перебил он турок:
Погубил султана он Мурата
И еще. двенадцать тысяч турок.
Бог простит грехи его, а вместе
И его родителей: оставил
О себе он память, долго будут
В песнях петь о Милоше, доколе
Будут сербы и Косово поле.
Что ж сказать о Вуке? Будь он
проклят
120
И с отцом, и с матерью своею! Изменил на Косове он сербам
Будь он проклят с родом всем И увел с собой двенадцать тысяч
вовеки! Конной силы, госпожа Милица».
«Царь Лазарь и царица Милица». — В кн.:
«Сербский эпос», Academia, M.—Л., 1933,
стр. 290—292.
ШТУРМ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
В час пополуночи султан отдает сигнал к атаке. Развернут
гигантский штандарт, и сотни тысяч людей с криками «аллах,
аллах-иль-аллах» бросаются с оружием, лестницами, веревками
и крюками на стены, и в то же время выбивают дробь все
барабаны, пронзительные звуки труб, цимбал и флейт сливаются
с криками людей и громом пушек, образуя сплошной
оглушительный ураган звуков. Султан безжалостно бросает на стены
неопытные отряды башибузуков, в его планах осады их
полунагие тела должны играть роль упоров и предназначены для
того, чтобы утомить и ослабить врага. Только после этого он
введет в дело свои основные силы, которые и должны нанести
решающий удар. Подгоняемые кнутами, бегут башибузуки в
темноте вперед, неся сотни лестниц, карабкаются на зубцы, их
сбрасывают вниз, они опять кидаются в атаку, все вновь
и вновь, ибо пути назад им нет: позади этого предназначенного
быть только жертвой и не имеющего ценности человеческого
материала уже стоят основные силы, которые беспрерывно
гонят его в атаку, на почти верную смерть. Еще защитники
берут верх, их кольчуги неуязвимы для бесчисленных камней
и стрел неприятеля. Но главная угрожающая им опасность —
и тут Мухаммед не ошибся в своих расчетах — это утомление.
Осажденные вынуждены беспрерывно сражаться против всё
новых наступающих, легковооруженных частей, то и дело
перебегать с одного угрожаемого места на другое, и скоро
оказывается, что в этой навязанной им защите большая часть их сил
уже израсходована. И когда затем — после двухчасовых боев
начинает светать — второй штурмовой отряд, анатолийцы, идут
в атаку, борьба становится уже опасной. Ибо анатолийцы —
дисциплинированные-воины, они хорошо обучены и тоже
защищены кольчугами, кроме того, они многочисленные и полны
сил, тогда как защитникам города приходится оборонять от
вторжения нападающих то одно место, то другое. Однако
атакующих еще повсюду отбрасывают назад, и султан вынужден
ввести в бой свои последние резервы — янычар, кадровые войска,
избранную гвардию оттоманской армии. Собственной особой
становится он во главе двенадцати тысяч молодых, отборных
солдат, лучших, каких знала в те времена Европа; и, издав
121
один согласный крик, они бросаются на измотанного
противника.
С. Ц в е й г, Завоевание Византии. — В кн.:
С. Ц в е й г, Собрание сочинений, в 7-ми т., т. 3,
«Правда», М., 1963, стр. 26—27.
ТУРКИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед,
свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в
руки свох солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри
и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы
преисподней, мчатся турки тысячами по улицам, стараясь опередить друг
друга. Первыми атакуются церкви, там сверкают золотые
сосуды, искрятся самоцветы, а когда солдаты врываются в какой-
нибудь дом, они сейчас же вывешивают на нем свои знамена,
чтобы идущие следом знали: здесь добыча уже конфискована;
и добыча эта состоит не только из драгоценных камней, тканей,
денег и движимого имущества; женщины — это тоже товар,
годный для сералей, а мужчины и дети — для невольничьих
рынков. Целыми толпами выгоняют победители кнутами тех
несчастных, которые искали убежища в церквах, стариков
приканчивают, ибо это бесполезные едоки и балласт, не имеющий
спроса, а молодых связывают вместе, как скот, и утаскивают
прочь, причем наряду с грабежом свирепствует бессмысленное
разрушение. Все, что крестоносцы, грабившие, быть может, не
менее жестоко, оставили, — часть драгоценных реликвий
и произведений искусства, — неистовствующие победители
теперь разбивают, разрывают на клочья, распарывают;
они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают
молотками великолепные статуи, книги, в которых заключены
мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии
и которые должны были сохраняться на веки веков, сжигаются
и небрежно выбрасываются.
Там же, стр. 29.
УГОН В РАБСТВО БОЛГАР
Пастух беседовал с лесом: Морозы не застудили,
«Лес ты мой, лес ты зеленый! Но тут вчера проходили
Вчера ты, лес, был зеленый, Невольников вереницы.*.
А нынче ты, лес, весь высох. Как в первой-то веренице
Пожары ль тебя спалили? Все молодые девчата.
Морозы ли остудили?» Только девчата заплачут —
И лес пастуху ответил: Лес наклоняет верхушки,
«Пастух, молодой пастух мой! Широкий путь подметает.
Пожары меня не палили, Девчата плачут и стонут:
122
«Боже мой, господи боже!
Где наши холсты льняные?
Ткали мы их — не доткали,
Белили — не добелили.
Кто наши холсты доткет нам?
Кто их доткет и добелит?
Кто их узорами вышьет?
Кто обошьет бахромою?»
Как во второй веренице
Все молодые молодки.
Только молодки заплачут —
В лесу опадают листья.
Молодки плачут и стонут:
«Боже мой, господи боже!
Где ж наши малые детки? ..
Встанут, а матери нету.
Заплачут они да спросят:
«Где мама? Доит корову?»
Доила б мама корову,
Телята бы не мычали.
«Где мама? По воду ходит?»
Ходила б по воду мама,.
Тогда бы ведра бренчали».
Как в третьей-то веренице
Все молодые юнаки.
Только юнаки заплачут —
Ветки в лесу засыхают.
Юнаки плачут и стонут:
«Боже мой, господи боже!
Где ж они, буйволы наши?
Впряжены — нераспряжены.
Кто же теперь распряжет их?
Где наши черные пашни?
Пахали — не допахали.
Кто же теперь их допашет?
Где ж она, наша пшеница?
Сеяли — не успели.
Кто же пшеницу досеет?»
«Три вереницы невольников». — В кн.:
«Болгарская народная поэзия». Избранные
произведения, Гослитиздат, М., 1953, стр. 87—88.
КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ В XII—XV ВЕКАХ
В средневековой Европе церковь стремилась установить
свою монополию на образование, науку, искусство.
Схоластика и такие лженауки, как алхимия и астрология, могли
появиться только в душной атмосфере религиозного
догматизма и невежества. Но, несмотря на духовную диктатуру
церкви, народ создавал свое искусство, свою литературу,
антифеодальную и антиклерикальную. Думы и чаяния
народные нашли свое выражение в представлениях жонглеров,
в фаблио и швенках, в фарсах и мистериях.
Как редки и дороги были книги в средние века, как
много времени и труда требовала их переписка, показывает
отрывок «Рукописные книги» из повести «Оловянная рука»
О. Слезкиной. Работу с отрывком полезно сопроводить
показом иллюстрации учебника (рис. 52).
Злую сатиру на схоластическое средневековое обучение
дал Франсуа Рабле в своем известном произведении «Гар-
гантюа и Пантагрюэль» (отрывок «Как учили Гаргантюа»).
Один из стихотворных рассказов Джеффри Чосера, часть
которого приведена в хрестоматии, показывает бесплодность
и бессмысленность алхимии.
123
Представление о готике дает взятое из книги Б.
Бродского «Каменные страницы истории» описание Собора
Парижской богоматери — одного из самых знаменитых
памятников готической архитектуры.
В отрывке «Жонглер» из романа А. Ладинского «Анна
Ярославна — королева Франции» раскрывается
обличительная антицерковная и антифеодальная направленность
искусства жонглеров. Занимательный и остросатирический
рассказ жонглера не сможет не возбудить интереса учащихся.
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ
Конрад остановился у небольшой двери, обитой железом,
вынул ключ, отпер ее и провел гостей в узкую длинную ком-
.нату, заставленнную по стенам шкафами с книгами.
— Прежде чем сесть за стол, — сказал он, — я хотел бы
показать вам свою библиотеку.
Итальянец окинул взглядом тончайшую роспись сводчатого
потолка, бюсты греческих мудрецов из каррарского мрамора,
расставленные на верхних полках шкафов, изящную решетку
стрельчатых окон с мелкими стеклами, мягкий ковер,
глушащий звук шагов, и остался доволен. Он подошел к одному из
шкафов и с сдержанным нетерпением спросил:
— Вы разрешите взглянуть?
— Прошу, — ответил Конрад и открыл дверцу...
— Если вас интересуют больше светские книги, обратитесь
♦сюда, — указал Конрад на другой шкаф.
— Виргилий, Гораций, Овидий, Плиний, Аристотель! Все
учителя древности! — Итальянец не мог удержаться от
восклицания. — Да ведь это настоящая сокровищница! Я вижу, что
ваши интересы далеко выходят за пределы схоластических
учений отцов церкви.
— Я привез из Болоньи лучшее, что мог там найти, —
скромно ответил Конрад.
Итальянец достал из кармана лупу и жадно стал
рассматривать через увеличительное стекло мелкие буквы на
пожелтевшем пергаменте одной из рукописей.
— Греческие стихи! Подлинник! Где вы могли достать
такую редкую вещь? Я ее знаю только по комментариям!
Губы Конрада торжествующе шевельнулись. У висков
собрались лукавые морщинки. Он был доволен впечатлением,
произведенным на итальянца. Никколо Пуччини, библиофил
и знаток древней литературы, стоял ошеломленный его
коллекцией книг.
— Я купил этот манускрипт у настоятеля одного из
монастырей, — ответил Конрад. — Монахи принялись уже соскаб-
124
ливать с пергамента древние гекзаметры, чтобы освободить
место для церковных псалмов.
— Да, я вижу следы лощила и мокрой губки.
— Мне стоило большого труда убедить настоятеля продать
эту книгу. Когда он смекнул, какое сокровище у него в руках,
он запросил "довольно большую цену.
— Но ведь это находка! — вскричал итальянец, не
выпуская рукописи. — Такого экземпляра нет даже в библиотеке
Козимо Медичи.
— Сколько ты заплатил за нее? — спросил Хенне. Он
начинал понимать, куда ушло достояние старого Гумери.
— Я отдал за нее поместье под Мемлингом.
— За одну книгу! — воскликнул Хенне.
— Там не было ничего, кроме виноградников. Ну, а я
предпочитаю пить вино, разбавленное водой, — шутливо ответил
Конрад.
Поместье за одну книгу! — прошептал Хенне.
— Книга стоит того, — убежденно сказал итальянец. —
Если бы вы захотели ее продать...
— Я не захочу этого, — перебил Конрад. — Но если вам
угодно, я назову имя одного человека... он поведет вас в
книгохранилище' Кармелитского монастыря. Вы увидите там
редчайшие экземпляры. Купить их нельзя, но можно переписать...
у меня имеется разрешение.
— Сколько времени потребует переписка?
— Несколько месяцев, а может быть, лет. Это зависит от
книги. Если вас интересуют книги светского содержания, мои
писцы к вашим услугам.
— У вас много писцов?
— Не так много, как мне бы хотелось, — уклончиво
ответил Конрад.
Итальянец снова перелистал пожелтевшую рукопись, точно
ему было жаль с ней расстаться. Потом благоговейно передал
ее Конраду.
О. Слезкина, Оловянная рука. Повесть
о Гутенберге, «Советский писатель», М., 1956,
стр. 21—23.
КАК УЧИЛИ ГАРГАНТЮА
— Сегодня, — продолжал добряк Грангузье, — мы все
убедились, насколько умен и сообразителен мой сын Гаргантюа.
Думается мне, что, если его как следует обучить наукам, из
малого будет толк. Поэтому я хочу пригласить к нему в учителя
какого-нибудь ученого человека.
Скоро такой ученый человек отыскался. Это был
знаменитый мэтр Тубал Олоферн. Тубал Олоферн заставил Гаргантюа
125
вызубрить азбуку так хорошо, что Гаргантюа мог прочитать ее
наизусть, без запинки, с начала до конца и от конца к началу.
На это дело Гаргантюа потратил пять лет и три месяца. Вот это
было ученье!
Потом таким же манером Гаргантюа вызубрил латинскую
грамматику, молитвенник и церковный календарь, и на это
у него ушло тринадцать лет шесть месяцев и две недели.
Заметьте, что в те времена книг печатать еще не умели.
Книги переписывали от руки. Чтобы переписать одну книгу,
нужно было трудиться с полгода, а то и целый год. Гаргантюа,
научившись грамоте, переписал для себя все учебники. Вот это
было ученье!
Гаргантюа носил на поясе огромный письменный прибор.
Пенал его больше смахивал на церковную колонну: так он был
велик и тяжел. Чернильница висела на толстых железных цепях
и была похожа на огромную бочку.
После того как Гаргантюа вызубрил еще множество других
мудреных книг, Грангузье, наконец, заметил, что с ученьем дело
ладится плохо. Чем больше Гаргантюа учится, тем он больше
глупеет.
Ф. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, Дет-
гиз, Л., I960, стр. 18—20.
РАССКАЗ СЛУГИ АЛХИМИКА
Мы тигель калим день и ночь,
реторту,
А там, глядишь, опять наш сплав
ни к черту.
И вот опять до света кальцинируй,
Подцвечивай, цеди и дестиллируй
Сквозь глину, мел, а то и сквозь
белок,
Сквозь соль, буру, поташ, золу,
песок,
Сквозь реальгар \ вощеную холстину,
И с волосами смешанную глину,
Сквозь разный уголь, воск, сухой
навоз;
Подмешивай селитру, купорос,
Сурьму и сурик, серу и мышьяк.
Иль винный камень, бурый железняк,
Иль сплавы всякие, коагулаты,
Которые металлами богаты.
Как будто дело и к концу подходит,
Смесь зашипит, забулькает,
забродит —
Тогда мешай, болтай и цементируй2,
И серебром составы цитринируй3,
А выплавишь, испробуешь, — и вот
В итоге новый припиши расход...
... И кто ввязался в наше ремесло,
Тому конец. С собою унесло
Оно богатств и жизней очень много.
В нем к разоренью верная дорога.
И кто безумство хочет проявить,
Пускай начнет он золото варить.
Д. Ч о с е р, Кентерберийские
ОГИЗ, М., 1946, стр. 439—440.
рассказы,
1 Реальгар — сернистый мышьяк.
2 Цементировать — в данном случае — прибавлять вяжущие вещества.
3 Цитринировать — путем добавления серебра придавать сплаву
золотисто-лимонный оттенок.
126
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
... В центре острова Ситэ на площади, застроенной
старинными домами и угрюмым, словно изборожденным
морщинами Парижским госпиталем, высится знаменитый Собор
Парижской богоматери. Это огромное здание должно было
вместить в себя всех жителей города — десять тысяч человек, но,
пока его выстроили, прошло почти полтораста лет и население
Парижа выросло во много раз.
Широкая лестница в одиннадцать ступеней ведет к
порталам, образуя три главных входа в собор. Форма их
своеобразна, они имеют вид арки, но не обычной круглой, а
остроконечной, отдаленно похожей на стрелу. Такие арки
называются стрельчатыми, они характерны для архитектуры XII—
XV веков — готической.
По сторонам порталов на пьедесталах стоят высеченные из
сероватого камня высокие, худые фигуры святых. На их лицах
выражение какой-то меланхолической, тихой грусти: они
погружены в свои благочестивые размышления, и ничто мирское их
не интересует.
Над порталами, как сказочный вышитый кушак,
перепоясавший здание, вытянулась длинная полоса из двадцати восьми
ниш со стоящими в них статуями. Это короли, объявленные
церковью святыми. Короли дарят церкви земли и крепости,
а церковь прославляет королей в своих проповедях и молитвах
и учит, что «власть короля от бога». Еще выше, над фигурами
королей, находятся окна. Огромное центральное окно имеет
круглую форму. Оно носит поэтическое название «роза».
Причудливые переплеты и впрямь создают впечатление лепестков
цветка, а цветные стекла превращают розу в подобие
гигантского бриллианта, играющего всеми цветами радуги.
Все выше и выше поднимается взгляд зрителя. Вот он
останавливается на ажурной галерее, на тонких, стройных
колоннах, в которых твердый камень превратился в тонкие нити, из
которых сплетено кружево. С галереи смотрят вниз на площадь
странные, неуклюжие фигуры с крыльями летучих мышей,
змеиными головами и лебедиными шеями. Это фантастические
чудовища — химеры, воплощение человеческих грехов.
Галерея соединяет две взлетающие на умопомрачительную
высоту плосковерхие башни, одновременно и массивные и
воздушные. Это колокольни собора и в то же время дозорные
башни Парижа. Вся окрестность на много миль вокруг отсюда
видна, как на ладони.
Сдернув с головы береты, Жан и Гильом поднимаются по
ступеням. Скрипят в кованых петлях двери, и... сразу
захватывает дух.
В огромном зале все подчинено бурному взлету вверх, к
небу.
127
Здесь царство вертикальных линий и стрельчатых арок.
Столбы, узкие окна, какие-то каменные жгуты — все тянется
ввысь. Камень как будто потерял свою обычную твердость
и тяжесть, стал гибким и пластичным. Стен вообще нет, их
заменяет каркас из тонких, соединенных арками каменных
столбов, в которые вставлены огромные стрельчатые окна, если
только можно назвать окнами многоцветные картины с
десятками фигур. Это витражи — живопись не красками, а цветными
стеклами, вставленными в изящные свинцовые переплеты.
Через витражи струится свет, озаряющий обширное
пространство собора с бесчисленными статуями.
Б. Бродский, Каменные страницы
истории. Рассказы об удивительных городах и
знаменитых постройках, Детгиз, М., 1960,
стр. 88—89.
ЖОНГЛЕР
... Бертран поднялся из-за стола и обратился к
собравшимся с привычным своим представлением:
— Я — жонглер Бертран, умею играть на виеле...
Разговоры немедленно прекратились, наступила тишина.
Видя, что присутствующие готовы его слушать, Бертран
начал так:
— Почтенные жители! С вашего позволения я расскажу
для начала историю жонглера, попавшего в рай...
Некоторые из поселян, сидевших за грубо сколоченными
столами или у перевернутых вверх дном бочек, одобрительно
переглядывались и подталкивали друг друга локтями,
предвкушая предстоящее удовольствие, даже те, кто уже имел случай
послушать эту трогательную историю.
— Жил-был некогда в городе, который называется Сане, —
начал звонким голосом Бертран, — жонглер, вроде как я,
самый хороший человек на земле, не любивший спорить из-за
денег. Бедняга ходил из селения в селение, с ярмарки на
ярмарку, из одного замка в другой, пел, плясал, играл на виеле
согнутым в виде лука смычком, хорошо умел подбрасывать и
ловить яблоки, бойко сочинял стихи, искусно бил в бубен,
с большой ловкостью показывал карточные фокусы, мог
рассказывать всякие веселые небылицы и не думал о завтрашнем дне,
а жил как птицы небесные и все заработанные тяжелым
жонглерским трудом денарии 1 тут же пропивал с друзьями или
проигрывал в кости. Поэтому у него ни гроша не было за
душой. Случалось даже, что он не имел чем заплатить за выпи-
1 Денарий — серебряная монета в некоторых странах Европы в
средние века.
128
тое вино, и тогда ему приходилось закладывать свою скрипку.
А бывало и так, что наш приятель ходил под дождем в одной
рваной рубахе и босой. Но несмотря на все невзгоды,
жонглер — не знаю, как звали этого человека, — всегда чувствовал
себя жизнерадостным и свободным, как ветер. Он пел, плясал
и молил бога лишь о том, чтобы каждый день превратился в
воскресенье, так как известно, что в праздник люди идут в
харчевню и готовы заплатить жонглеру за полученное
удовольствие. Однако все кончается на этом свете, и однажды жонглер
умер где-то под забором, и когда он подох, то за все свои
прегрешения и беспутную жизнь очутился в аду. Как вам уже
говорил, вероятно, кюре, в геенне пылает вечный огонь, и если кто
мне не верит, то может спросить об этом у него...
... — Как это ни странно, хотя и подтверждается многими
достоверными свидетельствами, но на адском огне
поджариваются главным образом не жонглеры и даже не разбойники,
а папы и епископы, короли и графы. В одной компании со
всякими ворами и клятвопреступниками. Кстати, в тот день
дьяволу требовалось отлучиться из преисподней: он только что
получил известие, что в Риме окочурился еще один папа, а в
Германии дышит на ладан сам император, и оставалось лишь
приволочь эти ценные души в пекло. Также и какой-то король
собирался отдать душу...
Все ожидали, что жонглер скажет «богу», но он после
некоторой паузы закончил фразу:
— ... сатане.
Опять в трактире загремел здоровый деревенский смех..
— Итак, Вельзевул очень спешил. А тут ему случайно
попался на глаза жонглер, только что явившийся на место своего
нового назначения. Сатана крикнул: «Эй ты, болван! Будешь
вместо меня поддерживать огонь под котлами. До тех пор, пока
я не вернусь. Да не жалей смолы и прочих горючих средств».
При этих словах враг рода человеческого подскочил, ловко
стал перебирать в воздухе копытцами, издал неприличный звук
и с шипением исчез...
Вновь взрыв хохота. Эти простодушные люди, с трепетом
проходившие мимо кладбища, где в полночь мертвецы
вылезают из могил, и пугавшиеся крика филина в ночной роще,
теперь забыли все страхи, сидя в харчевне за кувшином пива.
— Но как только дьявол отлучился по своим делам,
апостол Петр был тут как тут. Он отлично знал повадки жонглера
и прибыл в преисподнюю, чтобы сыграть с ним в зерно. «На что
же мне играть, святой отец!» — с грустью ответил грешник,
выворачивая пустые карманы. Ясно, что бедняга перед смертью
пропил все деньги и явился в ад без единого гроша. Но
хитрый апостол сказал: «Ничего! Ты будешь играть на души
грешников, которые тебе доверил сатана».
9 Сост. О. В. Вслобуев и др.
129
— «А ты?» — «Я буду ставить червонцы». — «Вот
здорово!» — обрадовался жонглер. «Если тебе повезет, — заметил
апостол, — ты будешь богачом, а если я выиграю, то заберу
в рай души моих пап и епископов». — «Ладно!» — согласился
жонглер. У бродяги уже руки чесались поскорее попробовать
свое счастье. «Но вот беда, — завопил он, едва не плача от
горя, — у меня ведь костей нет!» У него их черти отобрали,
так как сами с большим удовольствием резались в эту игру.
«Не беспокойся, — ответил наместник Христа, — кости у меня
найдутся. В раю зеленая скука, мухи дохнут, и мы иногда
поигрываем по маленькой с апостолами Павлом и Фомой». Одним
словом, у Петра за пазухой оказалось все необходимое для
забавы: кожаный стаканчик и три костяшки.
— Хороши апостолы, — покрутил головой какой-то
доверчивый поселянин. Перед ним стоял кувшин с пивом, и,
по-видимому, эти минуты в харчевне были для бедняги самыми
счастливыми за продолжительное время.
— Они все такие, — поддержал его другой крестьянин,
почесывая поясницу...
Бертран продолжал:
— Сели играть. Первым выбросил костяшки жонглер.
Двойка, тройка, шестерка. У апостола: двойка и две тройки.
Выиграл наш беспутный приятель. Бросили еще раз. У
грешника — тройка, четверка и пятерка, а у Петра — три тройки...
Слушатели с затаенным дыханием следили за воображаемой
игрой, всей душой желая выиграша грешнику. Некоторые даже
шепотом повторяли число костяшек.
— Апостолу нужно было втянуть жонглера в игру, а кости
он принес фальшивые. Вскоре у него посыпались шестерки!
— И там обманывают бедных людей! — вздохнул
сидевший за пивным кувшином.
— Да! При умении кубики всегда ложились шестерками
и пятерками. Бросит жонглер — в лучшем случае у него тройки
и четверки, кинет апостол — шестерки! Таким образом Петр
и действовал без зазрения совести. «Да ведь ты мошенничаешь,
святой отец!» — не выдержал жонглер. «Как ты смеешь'говорить
такое наместнику Христа!» — вознегодовал ключарь рая.
«А почему у тебя все время шестерки?» — «Потому что я
бросаю с молитвой, а ты сквернословишь и поминаешь дьявола».
Ну, долго ли, коротко ли они играли, но в конце концов апостол
выиграл все нужные ему души.
— Даже трудно поверить, что так может вести себя апостол
Христов! — огорчался поселянин, сидевший за кувшином с
пивом.
Жонглер повысил голос:
— Но возвращается сатана. И что же он видит? Петр сидит
у него в аду как дома и выигрывает последнего епископа...
130
— Какого? — спросил один из слушателей.
— Этого... как его... — замялся рассказчик.
— Наверное, епископа реймского Ги, что недавно помер.
— Или турского... Тоже скончался на днях...
— Кажется того самого, — подхватил Бертран. — Одним
словом, в котле почти уже никого не осталось. Конечно, сатана
рассердился и выгнал апостола вместе с жонглером. Так наш
прощелыга и очутился в раю вместе с праведниками и
ангелочками. ..
Все остались очень довольны рассказом. Кто нес жонглеру
кружку пива, кто совал в руку медную монету. Ведь люди
понимали, что это тоже труд — ходить без устали по дорогам
в дождь и холод и забавлять бедных сервов веселыми
историями.
А. Ладинский, Анна Ярославна —
королева Франции. Исторический роман,
«Советский писатель», М., 1961, стр. 244—248.
10.
КИТАЙ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
При изучении темы «Китай в средние века» ввиду
сложности материала по его социально-экономической и особенно
политической истории учащиеся сталкиваются с известными
трудностями. Поэтому составители хрестоматии старались
по возможности дать учителю разнообразный
художественно-исторический материал, который поможет
конкретизировать и углубить представления учащихся о средневековом
Китае. Использованные в хрестоматии художественные
произведения, принадлежащие китайским поэтам и
писателям, не только имеют иллюстративное значение, но и
являются образцами средневековой китайской литературы.
Слова поэта Ду Фу: «Мне бедствия народа сердце
ранят» — могут послужить эпиграфом к подборке «Китайские
поэты о тяжелой участи народа». В стихах Ду Фу, Бо
Цзюй-и, Юань Чженя говорится о непосильном бремени
налогов, о жестокости и бессердечности чиновников, о
бедствиях войны и голода. Одно из стихотворений Ду Фу и
стихотворение Бо Цзюй-и построены на контрасте между
картинами праздной жизни вельмож, которые наслаждаются
изысканными яствами, и картинами массовой гибели людей
от голода.
9*
131
В отрывке «Продажа сына» из романа У Цзин-цзы
«Неофициальная история конфуцианцев» говорится о том, как
отец вынужден был продать своего сына — так часто в
средневековом Китае поступали бедняки, пытаясь спасти детей
от голодной смерти.
Своеобразие китайских городов раскрывается в отрывке
«Пекин» из книги «Обида маленькой Э» О. Гурьяна.
Китайские чиновники, для того чтобы занять ту или иную
государственную должность, должны были сдать
специальные экзамены. Состоятельные люди нередко подкупали
экзаменаторов, обеспечивая своим сыновьям доходные
местечки. Об этом рассказывает отрывок «Взятка за сдачу
чиновничьих экзаменов» из упомянутого романа У Цзин-цзы
«Неофициальная история конфуцианцев».
Китай был типичной восточной деспотией. Власть
императора была неограниченной, а его личность считалась
священной. Пышность и торжественность императорских
приемов хорошо обрисована в отрывке «Аудиенция у
императора» из того же романа У Цзин-цзы.
В сюжетных отрывках «Монгольское иго» и «В суде» из
повести «Обида маленькой Э» О. Гурьяна показаны
невыносимо тяжелое положение китайского народа под властью
монгольских завоевателей и произвол монгольских
чиновников.
КИТАЙСКИЕ ПОЭТЫ О ТЯЖЕЛОЙ УЧАСТИ НАРОДА
Здесь государь И если
Проводит дни с гостями, Государь наш милостивый,
Я слышу — Тот дивный шелк
Музыка звучит опять. Сановникам даря,
Те, кто в халатах Хотел, чтоб власти
С длинными кистями \ Были справедливы,
Купаться могут здесь То не бросал ли он
И пировать. Подарки зря?
Но шелк, сияющий Да, здесь чиновников
В дворцовом зале, — Полно повсюду.
Плод женского А патриотам —
Бессонного труда. Не открыть сердца.
Потом мужчин К тому ж, я слышал,
Кнутами избивали — Золотые блюда
И подати Увезены
Доставили сюда. Из алого дворца.
1 В халатах с длинными кистями — такие халаты носили высшие
чиновники.
132
И три небесных феи И супом
В тронном зале, Из верблюжьего копыта
Окутав плечи
Нежной кисеей,
Под звуки флейт,
Исполненных печали,
С гостями веселятся
День-деньской.
Здесь потчуют
Сановных стариков,
Вина и мяса
Слышен запах сытый,
А на дороге —
Кости мертвецов.
Ду Ф У, Стихи в пятьсот слов о том, что
у меня было на душе, когда я направлялся нз
столицы в Фынсянь. — В кн.: «Китайская
литература». Хрестоматия, т. 1, Древность.
Средневековье. Новое время, Учпедгиз, М., 1959, стр. 288.
Бесчисленные пальмы
В Сычуани
Высоко подняли
Свои вершины,
Но им, кору сдирая
Тело ранят, —
Не будет скоро их
И половины. -
Они напрасно
Листья расстилали
Зеленые
И летом и зимою,
Но, раненые,
Выдержат едва ли
И скоро
Попрощаются с листвою.
Мне бедствия народа
Сердце ранят,
Чиновники забыли
Слово «жалость».
Вы, жители долин
Янцзы и Ханя,
Скажите, что у вас
Еще осталось?
Вы, как и пальмы,
Выдержать не в силах,
И я о вас
Вздыхаю не впервые.
Те, кто мертвы,
Покоятся в могилах,
Но чем, спрошу,
Прокормятся живые?
Посвистывает иволга
Печально,
Вокруг нее
Зеленый луг раскинут.
И я в печали
Думаю о пальмах,
Что в сорных травах
Пропадут и сгинут.
Ду Ф у, Засохшие пальмы. — В кн.:
«Китайская литература». Хрестоматия, т. 1,
Древность. Средневековье. Новое время, Учпедгиз, М.,
1959, стр. 292.
Как осанка —
Величием путь запружен.
Под седлами кони —
Их блеск озаряет пыль.
«Скажите на милость,
Откуда такие люди?»
И мне отвечают:
«Они состоят при дворе.
Со шнуром пурпурным —
Это вельможи Дафу,
С лиловой лентой —
Наверное, генерал.
Веселые, скачут
Они на военный праздник.
Их борзые кони
Несутся, как облака.
В кувшинах и чашах
Там девять тонких напитков.
И с моря и с суши
Там восемь отборных яств.
Разложены фрукты —
Дунтинские апельсины.
Нарезана рыба —
С «Небесного озера» Линь.
133
Они наедятся — Нынешним летом
Сердца их будут спокойны. В Цзяннани случилась засуха.
Они охмелеют — В селах Цюйчжоу
Сильней распалится дух...» Люди едят людей.
Бо Ц з ю й - и, В тонких одеждах на сытых
конях. — В кн.: «Китайская литература».
Хрестоматия, т. 1, Древность. Средневековье. Новое
время, Учпедгиз, М., 1959, стр. 325.
Поле — камни да рытвины. Путь Нет мотыг и плугов, опустели дворы —
тяжел.
Но-но-о, мой усталый вол! Все плуги переплавлены на топоры.
Стучат пересохшие комья земли Теща рис обдирает, а жена на плечах
О копыта твои. Относит его в казну.
Нам в казенных амбарах отсчитали Если этого риса будет мало казне:
зерно, — Дом продать — вот и все, что
Точно жемчугом было оно. останется мне.
Для посева и то не хватает его, Мы желаем правительственным
А войне — шестьдесят годов! войскам
В государстве повсюду отряды солдат, Поскорей разгромить врага,
Каждый месяц телеги скрипят.
И увозят они провиант на войну, А крестьянин помрет — сын налоги
А войне — шестьдесят годов! внесет,
Все в походах правительственные А корову съедят — молодняк
войска, подрастет.
Поднебесье они прибирают к рукам Только б сытыми были государя
И тем временем наших волов едят, войска...
А рога оставляют нам. Но-о, мой вол! Цел пока...
Юань Ч ж е н ь, Песня крестьянина. — В кн.:
«Китайская литература». Хрестоматия, т. 1,
Древность. Средневековье. Новое время, Учпедгиз, М.,
1959, стр. 379.
ПРОДАЖА СЫНА
— У меня было шесть сыновей. Один умер... Сейчас со
мной живет шестой сын, а остальные четверо... — Господин
Ни остановился не в состоянии продолжать.
— Что же случилось с остальными? — переспросил Бао
Вэнь-цин. '
— Уважаемый брат, вы свой человек и, я думаю, не станете
смеяться надо мной, — произнес наконец, сильно волнуясь,
старый Ни. — В доме нечего было есть, и я продал своих четырех
сыновей в чужие края.
— Какое горе! — воскликнул Бао Вэнь-цин, и на глазах
у него невольно навернулись слезы.
— Но что говорить о тех четырех! — продолжал старый
Ни, горько плача. — Ведь и меньшого придется продать.
— Неужели вы с супругой решитесь на такой шаг?
134
— А что же делать? Дома — хоть шаром покати; чем
умирать ему дома с голоду, лучше отдам его людям, у которых он
будет сыт.
У Ц з и н - ц з ы, Неофициальная история
конфуцианцев, Гослитиздат, М., 1959, стр. 297.
ПЕКИН
Этот город Ханбалык, столица китайской империи, был так
велик и прекрасен, что равного ему не было во всем мире.
С четырех сторон он был окружен высокой земляной стеной,
и с каждой стороны стены было в ней по трое ворот, а всего
двенадцать. Над каждыми воротами стояло на стене по дворцу
с многоэтажными изогнутыми крышами, и на углах стен тоже
стояли угловые дворцы. В каждом из них жило по тысяче
солдат, чтобы охранять этот знаменитый город.
Те путники, которые подъезжали к нему с запада, видели
издали выше стен и дворцов огромный плоский золотой зонт,
венчавший белую башню монастыря Мудрости. Эта башня была
похожа на огромную бутыль, и ее горлышко сверху донизу
обвивала жемчужная нить. Вся _она была покрыта золотыми
изображениями, и второй такой не было на свете.
Те, кто подъезжал к Ханбалыку с востока, видели высоко
над стеной восьмиугольную башню, где персидские и
византийские звездочеты следили за движением созвездий по бронзовым
инструментам, украшенным изображениями драконов.
По самой середине города за беломраморной стеной стоял
дворец императора. Было там множество зданий, и все крыши
крыты золотой черепицей. Над дворцом был насыпан
искусственный холм, который был виден со -всех концов города. Этот
холм был весь зеленый и от множества деревьев, и от того, что
земля была окрашена в зеленый цвет. Венчал этот холм
зеленый дворец, крытый зеленой черепицей.
Неподалеку от дворца были в этом городе две прекрасные
башни. На колокольной башне каждый вечер колокол ударял
трижды, и тогда все огни в городе гасли. В барабанной башне
огромный барабан всю ночь отбивал часы, и в тишине этот
бой разносился подобно небесному грому.
И еще множество было там дворцов, и башен, и монастырей,
и их крыши — красные, голубые, зеленые и желтые —
сверкали над деревьями бесчисленных садов, будто стаи жар-
птиц качались на зеленых ветвях.
Но были в этом городе переулки и тупики такие узкие, что
двое прохожих не могли в них разойтись. Тот, кто попроще,
жался к стенке, чтобы дать пройти тому, кто поважней. А тот,
кому уступали дорогу, поспешно проходил, обеими руками
подбирая полы своего халата.
В этих переулках теснились десятки тысяч домиков, таких
маленьких, что, как вода из переполненной чашки, выплески-
135
вались их жители на улицу. На улице люди торговали, ели
и брились. На улицу выливали нечистоты и выставляли горшки
с цветами, которым не хватало места в доме. Среди цветов и
нечистот ползали дети, брели слепые и прокаженные, и били
в маленькие гонги, звенели колокольчиками, тарахтели
трещотками продавцы сластей и торговцы углем.
О. Г у р ь я н, Обида маленькой Э.
Историческая повесть, Детгиз, М., 1962, стр. 5—6.
ВЗЯТКА ЗА СДАЧУ ЧИНОВНИЧЬИХ ЭКЗАМЕНОВ
— Некто по фамилии Цзинь Дун-яй несколько лет служит
в ведомственных ямынях и сколотил себе приличное состояние.
Сейчас он мечтает о том, чтобы сын его получил ученую
степень, а сын этот, Цзинь Юэ, в грамоте ни в зуб ногой. Так вот,
поскольку срок экзаменов наступил, он хочет найти
подставное лицо, но главный экзаменатор, который сейчас прибыл
в Шаосин, принял строгие меры. Поэтому надо придумать
какой-нибудь новый план. Вот я и пришел посоветоваться.
— Сколько серебра он думает выложить? — спросил Третий
Пань.
— Получить в уезде Шаосин звание сюцая стоит ровно
тысячу лянов. Но он сейчас мелко плавает, с него достаточно
взять и половину. Вот только сразу трудно отыскать
подставное лицо. Как провести его на экзамен? Сколько он за это
возьмет? Какие расходы будут по ямыню, и как мы разделим
оставшиеся деньги?
— Всего-навсего пятьсот лянов, да ты хочешь еще
получить из них какую-то часть? Об этом не может быть и речи!
Требуй с него деньги дополнительно, а об этих и не мечтай.
— Пусть будет по-вашему. Но все-таки каков ваш план?
— Это тебя не касается. О подставном лице я сам
позабочусь, расходы по ямыню тоже беру на себя. Скажи только
этому Цзиню, чтобы он отвесил свои пятьсот лянов, положил
их в ломбард и помимо всего прочего выдал мне тридцать
лянов на дорожные расходы. Я гарантирую, что его сын будет
сюцаем. Ерли он не получит звания, то я не трону из этих
пятисот лянов ни гроша. Ну как, пойдет?
У Ц з и н - ц з ы, Неофициальная история
конфуцианцев, Госолитиздат, М., 1959, стр. 235.
АУДИЕНЦИЯ У ИМПЕРАТОРА
В шестой день десятой луны ко времени пятой стражи у
ворот императорского дворца выстроилась императорская
гвардия со всеми регалиями и когорта герольдов. За воротами
136
дворца собрались все чиновники. Затем показалось сто десять
факелов — прибыл первый министр. Императорские ворота
широко распахнулись, и чиновники через боковые двери вошли во
дворец. Миновав ворота, все вошли в тронный зал, где
слышалась чарующая музыка. Послышался голос распорядителя
церемонии, предложившего всем выстроиться по рангу. Трижды
ударили в барабан, и в зал в строгом порядке вошли
императорские прислужники. Они расставили золотые курильницы
и зажгли благовония. Затем показались девушки с веерами.
Они помогли сыну неба опуститься на трон, прокричали ему
здравицу и отвесили поклоны.
Чжуан Шао-гуан в шапке придворного и парадной одежде
приблизился за сановником к #рону императора и,
склонившись в поклоне, тоже провозгласил здравицу в его честь. Без
погонщиков прошли мимо трона двадцать четыре слона,
нагруженные драгоценными вазами. Музыка умолкла, и краткая
аудиенция закончилась.
Там же, стр. 405.
МОНГОЛЬСКОЕ ИГО
— Ну вот, скажу о себе, — начала тетушка Мей. — Жили
мы с мужем хоть и не в богатстве, но в полном Достатке. Здесь
неподалеку есть бамбуковая роща, и принадлежала она всему
городу. Кому была нужда, тот и пользовался ею.'Мы с мужем
плели из бамбука корзинки. Ай-я, как он был искусен в своем
ремесле! Посмотрела бы ты на эти корзинки '— ив виде вазы,
и круглые,, и осьмиугольные, и какие хочешь. Он расщепитг-
бамбук на тонкие пластинки и сплетает их'любым узором.
Повернешь корзинку к свету, и на гладком плетении выступают
и цветы, и горы, и рощицы. Такого второго искусника не найти
было во всей стране. Научился он этому от своей матери,
которая была родом с юга. Но я думаю, что в самой Линьани
никому так не сплести. А до чего плотные были! Положи ты
в такую корзинку горячие пышки, прикрой плетеной крышкой
и на всю ночь выставь под проливной дождь. А наутро сними
крышку, и пышечки совсем сухие и еще теплые и только еще
пышней стали. За таким мастером, думала я, нет меня
счастливей. Но монголы отобрали эту рощу и теперь берут за бамбук
дорогую цену, а с ремесленников взимают такой налог, что
работать пришлось бы себе в убыток. Конечно, никто не
хочет покупать изделия из бамбука, потому что они безмерно
вздорожали, так что и не встретишь их теперь на рынке.
А те, кто работал, остались без работы, и молодые ребята
не хотят учиться ремеслу, которое их не прокормит. Ты не
устала?
137
— Нет, нет, тетушка, я слушаю. Я только закрыла глаза.
— Мой муж и говорит, что это несправедливо и такого
никогда не было. Наши предки пользовались этой рощей, и,
значит, и нам можно. Прямо среди бела дня, не крадучись, не
укрываясь, пошел он туда и срезал несколько стволов. Но стражники
поймали его и стали бить, и от этих побоев он месяц чахнул
и зачах и умер. Было у меня два серебряных браслета и к ним
весь прибор — сережки, и кольцо, и булавка для волос. Я
понесла их в город продавать, чтобы на эти деньги похоронить
мужа, а меня тут же, на рынке, схватили и огвели к чиновнику
в обменную кассу. Он меня обругал и говорит:
«Что же ты не знаешь, глупая женщина, что по повелению
императора запрещено китайцам иметь золото и серебро и
продавать его, а обязана ты их сдать и получить за них ту
цену, какая назначена по указу». Я ему отвечаю:
«Я ваших указов не знаю, потому что я неграмотна. И
золота у меня нет, а серебро мне досталось от свекрови, и не
стала бы я его продавать, если бы не мое несчастье. А за вашу
цену я продавать не согласна». Сказала и повернулась уйти. Но
меня задержали, и чиновник объяснил, что моего согласия не
спрашивают. По указу обязана я сдать золото и серебро, а не
сдам, так отвечу за это.
Я ему говорю:
«Что вы пристали ко мне, как муха, в летний день? Нет
у меня золота!» Но он не стал слушать, а забрал у меня и
браслеты, и шпильку, и кольцо, и сережки, выдал мне бумажные
деньги и отпустил. А такие хорошие вещи были — на кольце
бирюза. Наверное, все потом на свою монголку нацепил.
Почему им можно, а нам нельзя? Я тебя спрашиваю, где тут
справедливость? Но ты не печалься! Уж поверь мне, старухе, все
это у тебя будет и еще лучше! Да, а потом вышел указ, что
и медь надо сдавать. Пришли ко мне и медный котел — не
успела я спрятать! — забрали, и медные деньги, какие еще были,
и даже медные петли и замки от сундука. А тех денег, которые
они заплатили, едва хватило, чтобы купить железный котел.
И теперь кипяток невкусный — пахнет железом.
О. Г у р ь я н, Обида маленькой Э.
Историческая повесть, Детгиз, М., 1962, стр. 52—53.
В СУДЕ
У судьи лицо было широкое, сердитое и невыспавшееся. Он
сидел за столом на высоком помосте. На ширме за его спиной
был изображен однорогий цилинь — древний зверь,
отличающий добро от зла, карающий дурных людей, символ
справедливости.
138
Судья плохо понимал китайский язык, особенно грубое
наречие простых людей — крестьян, лодочников, носильщиков, и
поэтому рядом с ним за низким столиком сидел писец-переводчик.
Речь богатых и знатных людей редко приходилось переводить.
Они обычно владели монгольским языком, да и звон золота
говорит за себя и всем понятен.
Около судейского стола стояли три чиновника. Они держали
в руках три страшных деревянных орудия: кангу — колодку,
которую надевают на шею преступника, так что он не может
лечь и принужден спать сидя, ручные колодки, которые мешают
поднести пищу ко рту, и кандалы. Два пристава держали
бамбуковые трости и кожаные ремни, которыми вразумляют
ответчика и свидетелей, если бы вдруг взбрело им на ум сказать
неугодное суду. Впрочем, этими палками нередко били самих
приставов и писцов, но они гордились этими шрамами,
доказательством отчаянного поведения.
Приставы ввели деревенского парня. Он был высок и крепко
сложен, но едва влачил свое изломанное пыткой тело. С него
сняли кангу, и он упал на колени перед помостом. Судья
приподнялся и в упор посмотрел ему в лицо.
С древних времен китайские судьи решают дела по пяти
выражениям чувств обвиняемого. Во-первых, вникают в его речь;
во-вторых, следят за сменой движений лица; в-третьих,
прислушиваются к дыханию, которое способно выдать скрытое
волнение; в-четвертых, обращают внимание на его уши, как
воспринимает он слова свидетелей и судьи. И, наконец,
смотрят ему в глаза, так как глаза человека не могут скрыть
правды.
— Ты Ван Второй, и ты украл лошадь из стада своего
хозяина? — спросил судья.
Лицо парня ничего не выразило, глаза были тусклы,
дыхание едва слышно. Он собрался с силами и отчетливо
проговорил:
— Да.
Судья зевнул, откинулся-на спинку кресла, сказал:
— Надеть на него кангу, отвести в камеру смертников, — и,
обращаясь к писцу, добавил: — Я не выспался и хочу немного
отдохнуть.
Писцы и приставы закричали:
— Тише, не шуметь. Его милость отдыхает.
Судья склонил голову на сложенные на столе рукл.
Послышался легкий храп. Писцы и служители замерли.
Любопытные в дальнем конце залы не смели ни дохнуть, ни
шевельнуться.
Там же, стр. 101—102.
139
11.
ИНДИЯ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Средневековая Индия характеризовалась феодальной
раздробленностью. В ослабленную внутренними раздорами
Индию вторглись завоеватели-мусульмане, которые
основали в Индии свои государства — сначала Делийский
султанат, а позже империю Великих Моголов. Борьба между
мусульманами и индусами наложила отпечаток на всю
индийскую историю.
В произведениях художественной литературы,
использованных по данной теме, описывается Индия времен
Делийского султаната и империи Великих Моголов.
Отрывки «Положение крестьян» из книги К. Кунина «За
три моря» и «Налоговое бремя» из повести В. Прибыткова
«Тверской гость» будут неплохой иллюстрацией к рассказу
учителя о нищете индийских крестьян, о налоговой системе,
установленной в Делийском султанате, и о кастовом строе,
который разобщал индийский народ. В отрывках все эта
показано через восприятие русского купца —
путешественника Афанасия Никитина.
Индийское общество периода империи Великих Моголов
рисуется в отрывках «Положение индусов в империи Великих
Моголов» из романа Б. Чоттопаддхайя «Радж Сингх» и
«Бедствия войны» из романа Рабиндраната Тагора «Раджа-
мудрец». В отрывке «Бедствия войны» говорится о грабежах
и бесчинствах солдат во время одной из бесчисленных
феодальных усобиц.
Яркая картина жизни и быта индийских городов —
столицы Индии Дели и крупнейшего торгового центра Кали-
кута — дается в книге Г. Харта «Морской путь в Индию»
и в упомянутом романе Б. Чоттопаддхайя. По этим
описаниям можно составить представление о масштабе торговли,
ассортименте товаров и международных связях индийских
купцов.
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН
Ахмед снарядил не виданный еще русскими караван. Он вез
своему повелителю рис, ибо Джунайр издавна платил подать
рисом. Сто пятьдесят повозок было в этом караване, в каждую
запряжено по дюжине быков. Быки и повозки были
собственностью бринжарасов — кочевого племени водителей караванов.
140
Со своими быками бринжарасы пересекли весь Индостан из
конца в конец. Султаны доверяли им свои сокровища и
поручали перевозить дань и боевые припасы. У бринжарасов нигде
не было домов. Всю жизнь проводили они на больших дорогах
Индии, странствуя в повозках вместе с женами и детьми,
идолами и жрецами, кузнецами и брадобреями.
Караван тронулся. Так же как и по дороге в Джунайр,
Афанасий Никитин с Юшей нередко ночевали в больших деревнях.
Если деревня оказывалась мусульманской, в ней можно
было достать баранину, кур или голубей. В индуистской
деревне приходилось довольствоваться рисом, лепешками, овощами
и молоком, ибо индуисты считали грехом убивать для еды скот
и птицу.
Бринжарась*..на ночь располагались в поле. Они окружали
свой стан повозками и внутри такой самодельной крепости
разбивали драные палатки.
Во время этого путешествия Никитин увидел нищету
индийских крестьян. Ему приходилось останавливаться на ночлег
в жалких хижинах из лозы, обмазанных навозом, с высокими
остроконечными крышами из листьев и ветвей. Он пробовал еду
индийского бедняка — сухую просяную лепешку или горсточку
прогорклого риса. Видел Афанасий деревенских детей,
кривоногих, голодных, с огромными животами, видел, как работают
изможденные мужчины и женщины на рисовых полях — весь
день по колено в теплой воде, под прямыми лучами
беспощадного индийского солнца.
Афанасий Никитин записал в свою тетрадь: «А земля людна,
сельские люди голы вельми \ а бояре сильны добре и пышны
вельми».
К- К У н и н, За три моря. Путешествие
Афанасия Никитина. Историческая повесть, Детгиз,
М.—Л., 1952, стр. 90-91.
НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ
— Вся земля принадлежит султану, — объяснял
попутчик. — Страна поделена на восемь тарафов, а каждый тараф —
на несколько иктов. Икты даются в пожизненное владение икта-
дарам — военачальникам тарафдара.
— Налоги-то кто собирает? Иктадар?
— Нет. Он дает на откуп богатым .людям. Даже купцам.
Те — другим, помельче. А кто помельче — совсем мелким.
— Зачем же так?
— Удобно. Никто не возится со сбором, кроме мелкого
люда, а богатые получают свое все равно, будет урожай или
нет.
1 Вельми — очень.
141
Подумав, Никитин неуверенно сказал:
— Произволу больно много может выйти. Ведь ясно, если я
плачу тебе динар, то мне-хочется и себе что-то оставить. Стало
быть, я на тех, кто ниже, жать буду... А мужику на кого жать?
На землю? А коли недород?
— Великим везиром тебе, Юсуф, никогда не быть! Кто же
печалится о благе земледельца? Да на какие же средства
содержались бы армия, двор, чем жила бы торговля?! Аллах
каждому уготовил свой путь. Крестьянин должен трудиться и
платить налоги. Вот и все.
— Так, так... А подати одинаковые, что у мусульман,
что у индусов?
— Одинаковые. Только индусы еще особый налог платят.
— За что?
— За то, что они индусы.
— А они виноваты в этом нешто?
— Странный вопрос! — оскорбленно отозвался Ахмат. —
Законы ислама освятили этот налог.
В. Л. Прибытков, Тверской гость,
«Молодая гвардия», М., 1956, стр. 235.
НЕПРИКАСАЕМЫЕ
Как-то, подъезжая к жилью, услышали шум, крики, увидели
толпу народу. Люди кучились возле колодца, размахивали
руками, лица у них были гневные, глаза враждебные. Неподалеку
от толпы лежал ничком черный, изможденный парень с
разбитой камнем головой, шевелился в луже крови, еще дышал.
— Поехали, поехали! — заторопил Хусейн.
— Убивают же! — возразил Афанасий, но* оглянувшись,
увидел, что лица попутчиков-мусульман бесстрастны, а
погонщики на побитого даже не смотрят.
— Надо уйти, ходжа! — скривив рот, сказал Хасан.
Только Музаффар, ни слова не говоря, пошел прямо к
раненому.
Афанасий зашагал за ним. Сидевшая над парнем тощая
собака оскалилась, заворчала. Люди угрожающе шумели.
— Умирает, — сказал Музаффар. — За что его?
Афанасий с жалостью глядел на окровавленное тело. К ним
робко приблизился Хасан.
— Ходжа, уйдем. Это неприкасаемый. Он посмел напиться
из деревенского колодца.
— Кто?
— Неприкасаемый. Из касты бханги, мусорщиков. Он
осквернил колодец. Этим людям нельзя пить из колодцев.
— Что ты врешь?
— Это правда. В Индии такие обычаи.
142
— Из чего же им пить?
— Из чего хотят, ходжа ... умоляю тебя, уйдем. Народ
возмущен. Может быть плохо.
— Не боюсь я... Как можно за глоток воды убивать?!
— Да, да... Но он лишил воды всю деревню, теперь у них
нечего пить. Пойдем. Хазиначи Мухаммед не простит мне, если
что-нибудь случится.
Раненый уже не дышал. Его тощая собака скулила, боясь
подойти к хозяину, пока рядом стоят чужие.
Афанасий и Музаффар переглянулись, пошли прочь.
Хусейн волновался:
— Какое вам дело до кафиров? Это дикари, звери, шайтан
бы их взял! Пусть хоть все друг друга камнями перебьют,
только польза будет от этого. Не надо в их распри соваться.
Не знаете страны, спросите у меня. А так только опасности всех
подвергаете.
— Кто такие неприкасаемые? — хмуро спросил Афанасий.
Лицо Хусейна, в багровых пятнах, злое* еще дергалось.
— Каста, — отрезал он. — Тут все кафиры делятся на
касты. Неприкасаемые у них — последние люди, хуже собак.
С ними нельзя ни есть, ни пить. Живут они отдельно. В деревни
хода им нет. Только в полдень и ночью пройти могут, чтоб даже
их тень людей и домов не касалась... А этот из колодца
напился! .. Понятно?
Там же, стр. 199—200.
ПОЛОЖЕНИЕ ИНДУСОВ В ИМПЕРИИ
ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
... В период мусульманского владычества в Индии
существовал налог, с которым было еще труднее примириться,
потому что им облагались только индусы, а мусульмане не
должны были платить его. Налог этот назывался «джизия». В свое
время мудрый политик Акбар отменил его, понимал вред,
который он может причинить. Вводя этот налог, Аурангзеб,
который ненавидел индусов, решил еще более усилить их страдания.
Приказ о том, что снова вводится «джизия», был выпущен
падишахом еще раньше, теперь его стали проводить в жизнь
со всей жестокостью. Индусы были запуганы, подавлены и
угнетены. Тысячи индусов молили Аурангзеба о жалости, но
падишах был беспощаден. В пятницу, когда он отправился в
мечеть молиться, его окружили несметные толпы рыдающих
индусов. Повелитель мира, как второй Хираниякашипу \
приказал пустить на толпу слонов. И слоны, топча людей, остановили
толпу.
1 Хираниякашипу — в древнеиндийской мифологии — жестокий царь
демонов:
143
Находившаяся под властью Аурангзеба, Индия заплатила
«джизию». От Брамапутры до берегов Инда мусульмане стали
разбивать изображения индуистских богов, ломать и рушить
вознесшиеся к небесам древние храмы и на их месте
воздвигать мечети. В Бенаресе был разрушен храм Шивы, в Матхуре—
храм Кришны. В Бенгалии были стерты с лица земли все
старинные памятники архитектуры.
Б. Ч от т о п а д д х а й я, Радж Сингх.
Гослитиздатом., 1960, стр. 147—148.
БЕДСТВИЯ ВОЙНЫ
Там, где проходило войско, эта стая прожорливой саранчи,
царил голод. Для конницы и слонов снимали недозревший
урожай. Крестьянские амбары опустели. Наступило время грабежа
и бесчинств. Люди бежали из деревень. А те, что оставались,
были похожи на вспугнутых оленей, они никому не верили,
никого не жалели, даже улыбаться ггерестали. Под деревом у
дороги сидят несколько молодцов с палками. С самого утра
поджидают они прохожего.
Как хвост за кометой, разбойники неотступно следовали за
войском, подбирая, что оставляли солдаты. Иногда между
солдатами и разбойниками завязывалась драка. Так над мертвым
телом грызутся собаки с шакалами. Жестокость, зверство стали
для солдат развлечением. Им ничего не стоило проткнуть
шпагой мирного путника или отсечь ему голову вместе .с тюрбаном.
А страх, который они внушали крестьянам, лишь раззадоривал
этих головорезов. Разграбив селение, солдаты начинали
веселиться, издеваясь над людьми. Двух почтенных брахманов
привязали спиной к спине друг к другу, связали их ... и
насыпали им на нос нюхательного табаку. Какого-то мужчину
положили на двух лошадей и хлестнули их плетью. Лошади
понесли, человек упал между ними, сломал руки и ноги. Каждый
день вояки придумывали все новые забавы. Подожгут деревню
и говорят, что это, мол, фейерверк в честь падишаха.
Р. Тагор, Раджа-мудрец. — В кн.: Р. Т а -
гор, Собрание сочинений, в 12-ти т., т. 1,
Гослитиздат, М., 1961, стр. 252—253.
КАЛИКУТ
Сам город не производил большого впечатления на человека,
видевшего его впервые. На протяжении около мили дома тесно
лепились друг к другу, затем, миль на шесть вдоль берега, дома
становились реже. Стены были «высотой с конного», — как
выразился один итальянский 'путешественник в эпоху Гамы, —
«а дома по большей части покрыты пальмовыми листьями».
144
Почти все дома были одноэтажные: дело в том, что стоит «лишь
копнуть землю на четыре-пять пядей, чтобы обнаружить воду»,
так что заложить прочный фундамент, необходимый для
возведения крупных зданий, было невозможно. Часть домов более
богатых горожан была из кирпича-сырца, некоторые были
каменные, но все были построены хорошо, что свидетельствовало
о благосостоянии жителей.
Улицы Каликуты, узкие и нередко извилистые, меняли свое
направление в зависимости от протоков и каналов.
... Внизу, у самого моря, набитые ящиками, тюками и
мешками, стояли большие склады, специально приспособленные для
того, чтобы в них не проникала сырость. Здесь было все:
китайский шелк, тонкая хлопчатобумажная ткань местного
производства, знаменитая по всему Востоку и в Европе, гвоздика,
мускатные орехи, их сушеная шелуха, камфора из Индии, корица
с Цейлона, перец с Малабарского побережья, с Зондских
островов и Борнео, лекарственные растения, слоновая кость из
внутренних областей Индии и Африки, связки кассии, мешки
кардамона, кучи копры, веревки из кокосового волокна, груды
сандалового, красного и желтого дерева. Эти товары продавались
здесь же или грузились на суда, отправлявшиеся на запад, на
север и на юг, к арабам, неграм, египтянам, персам и франкам.
Базары находились в центре города; лавки от палящего
солнца были защищены навесами. На базарах и на узких
улицах с рассвета до темноты, когда было чуть-чуть попрохладнее,
толпились люди. Индусы, наиры \ арабы, персы, сирийцы,
турки, высокие стройные сомалийские негры в белых одеждах, с
жирными волосамл, заплетенными в тонкие косички, китайцы,
люди из Аннама и Кохинхины, малайцы из Малакки и дальних
областей Индии, хаджи из Мекки в развевающихся одеждах и
в зеленых тюрбанах; дикари-горцы, высокомерные брамины с
тройными шнурками, местные христиане и евреи с побережья,
негры, рабы и свободные, иной раз какой-нибудь смуглый
итальянец — все они встречались на базарах, на улицах Кали-**
кута. Хотя в городе слышны были разговоры на двух десятках
языков, на сотне диалектов, все же в нем всегда царил мир и
порядок.
Лотки и корзины торговцев ломились от товаров. Каликут
был богат, а жители его расточительны. На фруктовом рынке
грудами лежали горные сливы и красные бринды, желтые ка-
рамболы величиной с куриное яйцо, зеленые и большие, как
орехи, карандели, огурцы, громоздились битком набитые мешки
с рисом, орехами, корзины с семенами кардамона, в которые
были подмешаны стручки бетеля, соблазнительная сердцевина
пальмы, идущая для прохладительных салатов, корица в палоч-
1 Наиры — г.оенная каста на Малабарском берегу.
10 Сост. О. В. Волобуев и др.
145
ках и в порошке и темно-красные мангостаны, наиболее сладкие
из всех плодов. На лотках высились пирамиды лимонов,
апельсинов и манго, кучи бананов всех размеров и цветов.
Г. X а р т, Морской путь в Индию.
Рассказ о плаваниях и подвигах португальских
мореходов, а также о жизни и времени дона Васко
да Гамы, Географгиз, М., 1959, стр. 192—194.
ДЕЛИ
В лунном свете многолюдный великий город Дели на берегу
Джамуны, струящей свои голубые воды среди белых песчаных
пляжей, сверкает, как россыпь драгоценностей — тысячи
мраморных башен, куполов и минаретов, вздымаясь в небо,
отражают сияние луны. Величественная колонна Кутб-Минара 1
кажется издалека высоким столбом дыма, а четыре минарета
Джамма Масджид2 тянутся к луне, пронзая темно-синее
ночное небо. По обочинам дорог тянутся базары и лавки,
украшенные сотнями фонариков. Воздух напоен ароматом розового
масла, запахом цветов из цветочных лавок, из домов доносится
музыка, смех, звон украшений, и все это вместе взятое создает
странное очарование, которое можно сравнить с прохладной
тенью райского сада среди адского зноя. Обилие цветов, волны
ароматов, бренчание браслетов танцовщицы, голос певицы,
бегущий вверх и вниз по всем ступеням гаммы, четкий ритм
танца, отбиваемый рукой стройной красавицы, рекой льющееся
вино, непрестанная перестрелка огненных взглядов, груды
плова и кхичури 3, жестокие, лживые, нежные и хитрые улыбки; на
дорогах не смолкает топот конских копыт, грубые окрики
носильщиков паланкина, звон колокольчиков слонов,
дребезжание двуколок и визг колес крестьянских повозок.
Посреди города — великолепный торговый квартал Чандни-
Чок. По его улицам разъезжают на конях раджпутские и
монгольские стражники. В лавках квартала выставлено все, что
есть ценного на свете. В одном месте среди толпы под звуки
саренги танцует и поет танцовщица, в другом показывает
фокусы бродячий фокусник, а вокруг стоят и глазеют сотни людей.
Самая густая толпа вокруг «предсказателей судьбы». Вряд ли
астрологи пользовались когда-нибудь таким почетом, как во
времена могольских падишахов. И индусы, и мусульмане
относились к ним с равным уважением.
Б. Ч о т т о п а д д х а н я, Радж Сингх,
Гослитиздат, М., 1960, стр. 33—35.
Кутб-Минар — минарет близ Дели.
Джамма Масджид — мечеть в Дели.
Кхичури — индийское блюдо.
РАЗДЕЛ III
jTHAHAAO РАЗЛОЖЕНИЯ^
ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРОЖДЕНИЕ
^КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ*^
Iku отношений ^т
12.
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
В XV—XVI ВЕКАХ.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
КОНЦА XV — НАЧАЛА XVI ВЕКА.
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
той важной темой открывается изучение третьего
периода истории средних веков.
Первоначальная техника книгопечатания дана в
отрывке «В мастерской Гутенберга» из повести О. Слез-
киной «Оловянная рука».
Географические открытия конца XV — начала XVI века
положили начало колониальным захватам и колониальным
грабежам новых земель. В раскрытии причин
географических открытий неоценимую услугу учителю может оказать
фрагмент о торговле пряностями из книги Стефана
Цвейга «Подвиг Магеллана». Как ценились в Европе
восточные пряности, каким трудным и сложным делом была их
доставка европейскому потребителю, какие прибыли
приносила торговля пряностями купцам, как турецкие завоевания,
закупорив традиционные торговые пути, толкали европейцев
на поиски новых " торговых дорог, как за отвагой первых
мореплавателей скрывались алчные устремления купцов и
монархов, — обо всем этом с редкой художественной
выразительностью рассказывает Цвейг.
ю*
147
Личность одного из выдающихся мореплавателей Васко
да Гама — человека стальной воли, несгибаемой
целеустремленности и в. то же время хладнокровной жестокости —
обрисована в отрывке из книги Г. Харта «Морской путь в
Индию». А описание прибытия Васко да Гамы в Индию
содержится в отрывке из научно-популярной книги Жюля Верна
«История великих путешествий».
Своеобразная цивилизация коренного населения Америки
с интересными для учащихся подробностями показана в книге
Р. Кинжалова и А. Белова «Падение Тоночтитлана»
(отрывок «Городские будни в Мексико»).
Представление о технике кораблевождения, о положении
моряков во время плавания можно получить по отрывку «На
каравеллах Колумба» из книги С. Морисона «Христофор
Колумб, мореплаватель» (изображение каравеллы имеется в
учебнике, рис. 69).
О трудностях первого путешествия Колумба, о мужестве
великого морехода и открытии им Америки рассказывается
в отрывках «Первое плавание Колумба» из произведения
3. Шишовой «Великое плавание» и «Колумб открыл Новый
Свет» из названной книги Ж. Верна. Использование этих
отрывков сочетается с работой над иллюстрациями учебника
(рис. 71).
Великий немецкий поэт Генрих Гейне в поэме «Фицли-
пуцли», отрывок из которой приводится в хрестоматии,
развенчивает псевдогеронческий образ конкистадора Кортеса:
«Не герой сн был, не рыцарь». Учащимся следует
подчеркнуть мысль Гейне о том, что нельзя поднимать бандитов
Кортеса и Писарро на уровень Колумба. Первые четыре
четверостишия отрывка рекомендуется еключить в рассказ
учителя.
Картины разрушения государства и культуры инков
отражены в отрывках «Жажда золота» из повести «Золото Ка-
хамарки» Я. Вассермана, «Уничтожение культурных
ценностей инков» и «Казнь правителя инков» из книги Ал. Алтаева
и Арт. Феличе «Власть и золото». Ключ к пониманию этих
текстов лежит в словах одного из современников об
испанцах конкистадорах: «Они шли с крестом в руке и с
ненасытной жаждой золота в сердце».
Как бандитов и воров заклеймил Генрих Гейне
завоевателей-испанцев в поэме «Бимини» (отрывок
«Конкистадоры»), отдельные строчки из которой могут быть зачитаны
на уроке.
Ужасы работорговли и расчетливый цинизм европейских
купцов изображены в стихотворении Гейне «Невольничий
корабль».
148
В МАСТЕРСКОЙ ГУТЕНБЕРГА
Мастер ... взял на себя наиболее сложную часть — работу
наборщика." Поставив возле окна я\цик со шрифтом чуть
наклонно, чтобы было легко охватить глазом сразу все литеры,
он брал из него букву за буквой и вставлял их в верстатку.
Это была трудная работа. Путем долгого опыта и ошибок,
испорченных оттисков, Гутенберг додумался, наконец, до
шпаций, помогающих строчкам сохранять- необходимый размер и
не кривиться при отпечатывании.
Работа пошла быстрее. Мастер ловко захватывал своими
длинными пальцами часть набранных в верстатку строк и
переносил их в наборные формы.
Разбирающийся немного в буквах Генрих Кефер
обкладывал формы брусками, чтобы получались поля у страниц, и
передавал их Гансу.
Труд батырщика, работающего у пресса, был тоже не
легким. Его взял „на себя Ганс Бартель. Зажав в руке кожаную
подушечку с ручкой, мацу, он мазал краской набор и
закреплял его на выдвижном столе, талере. Получить хороший оттиск
было не просто. Мягкая бумага часто западала, края листов
пачкались. При печатании должна была соблюдаться полная
точность. Гансу приходилось подрезать бумагу и внимательно
следить, чтобы белые листы, пронизанные двумя-тремя графей-
ками и прижатые рашкетом, ровно, без складок клеились бы
к набору. Удостоверившись в чистоте работы, Ганс пододвигал
талер под пресс, и тискальщик, Бертольд Руппель, нажимал
рычаг. Когда оттиск был сделан, Ганс снимал с графеек
отпечатанный с одной стороны лист и, повесив его на веревочку для
просушки, принимался снова намазывать набор краской.
Генрих Кефер следил за высыхающими листами и собирал их в
пачки для отпечатания оборотной страницы.
О. Слезкина, Оловянная рука, Повесть
о Гутенберге, «Советский писатель», М., 1956,
стр. 170—171.
ТОРГОВЛЯ ПРЯНОСТЯМИ
Ни один товар н.е пользовался таким спросом, как пряности:
казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством
околдовал души европейцев...
. .. Наглядное представление о бешено раздутых ценах на
пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в начале
второго тысячелетия нашей эры тот самый перец, что теперь
стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплют
небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и
расценивался едва ли не на вес серебра. Ценность его была так ста-
149
бильна, что многие города и государства расплачивались им,
как благородным металлом; на перец можно было приобретать
земельные участки, перцем выплачивать приданое, за перец
покупать права гражданства. Многие государства и города
исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца, а если в средние
века хотели сказать, что кто-то неимоверно богат, его в
насмешку обзывали «мешком перца». Имбирь, корицу, хинную корку и
камфору взвешивали на ювелирных и аптекарских весах,
наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не
сдуло драгоценную пылинку. Как ни абсурдна на наш
современный взгляд подобная расценка пряностей, она становится
понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и
сопряженном с нею риске. Бесконечно велико было в те времена
расстояние между Востоком.и Западом, и какие только опасности
и препятствия ни приходилось преодолевать кораблям,
караванам и обозам, какая «Одиссея» выпадала на долю каждому
зернышку, каждому лепестку, прежде чем они с зеленого куста
Малайского архипелага попадали на свой последний причал —
прилавок европейского торговца.
... Несмотря на весь риск и опасности, торговля
пряностями слывет в средние века .самой выгодной, ибо наименьший
объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью.
... Не удивительно, что при большом предложении не
имевших никакой ценности жизней и бешеном спросе на
высокоценные пряности расчет купцов всегда оказывался верным.
Венецианские палаццо, дворцы Фуггеров и Вельзеров едва ли
не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей...
... Давно уже косятся генуэзцы, французы, испанцы на
оборотистую Венецию, сумевшую золотой Гольштрем отвести к
Канале Гранде, и еще более злобно взирают на Египет и Сирию,
где ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы: ни
одному христианскому судну не разрешается плавание в
Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его.
Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через
турецких и арабских купцов и посредников...
Отвага, которая устремляла Колумба на запад, Бартоломео
Диаса и Васко да Гаму — на юг, Кабота — на север, в сторону
Лабрадора, рождалась прежде всего из сознательного волевого
стремления наконец-то, наконец открыть для западного мира
вольный, беспошлинный, беспрепятственный путь в Индию
и тем самым сломить позорное владычество ислама. В истории
важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом
всегда служит духовное, нравственное побуждение; но толкают
на претворение этих открытий в жизнь чаще всего мотивы
материального порядка. Разумеется, уже одной своей
дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были
воодушевить королей и их советников. Но никогда эти проекты не были
150
бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления,
никогда монархи и спекулянты не снарядили бы флот для
отважных конкистадоров, если бы эти экспедиции в неведомые
страны не сулили тысячекратного возмещения затраченных средств.
За героями этого века открытий в качестве движущей силы
стояли купцы, и этот первый героический порыв завоевать мир был
вызван весьма земными побуждениями.
С. Цвейг, Подвиг Магеллана, Географгиз,
М., 1956, стр. 20.
ВАСКО ДА ГАМА
Когда команда «Сан-Габриэла» приступила к своим
обычным работам, матросы впервые могли видеть вблизи своего
командующего. Вверху, на кормовой палубе, они увидели
человека в бархатном берете. Он был среднего роста, в полном
расцвете сил — ему было тридцать с лишним лет, — коренастый,
с кирпично-красным лицой и шеей: бури, горячее солнце и
морская соль сделали свое дело. Черные усы и большая широкая
борода скорее подчеркивали, чем скрывали черты его лица, его
сильную квадратную челюсть, пухлый и чувственный, но строгий,
даже суровый рот. Быстрые, внимательные и проницательные
глаза окружала тонкая сетка морщин — многолетний
отпечаток солнца, ветров и ослепительно сияющего моря. Порой в его
быстро прикрываемых веками глазах и сжатых губах
проглядывала скрытая жестокость, видимо прирожденная черта его
характера. Он не был человеком, которого можно было любить,
да он и не искал расположения к себе. Но бывалые моряки,
плававшие под командой таких людей, как он, по морям,
прилегающим к Африке, видели в нем человека стальной воли,
несгибаемой целеустремленности. Они чувствовали в его голосе, в
его четких решительных приказах, во всей его внешности и
движениях опытного мореплавателя, строгого начальника и
человека, которому нельзя противоречить, с которым нельзя вести
себя вызывающе. Им было известно, что он пользуется полным
доверием короля и что — как бы ни обернулось дело — волю
своего государя он будет исполнять буквально. К тому же они
слышали о нем как о человеке смелом, готовом без колебаний
вести своих подчиненных в любое место, какое он им укажет.
Тем, кому посчастливилось вернуться с Гамой в Лиссабон и кто
снова отправлялся в его новый поход в Индию, суждено было не
раз видеть, как в быстрых действиях проявляются все свойства
характера, написанные на лице адмирала, — решительность, ум,
упорство, страшный, безрассудный гнев и хладнокровная
жестокость, граничащая с садизмом. Королю Мануэлу он мог
принести победу и сказочные богатства и положить к его ногам
моря и земли Индии; но он мог причинить также ненужные
151
страдания, ужасные мучения и почти непостижимую,
дьявольски жестокую смерть бесчисленному множеству несчастных
людей, чей грех был лишь в том, что они не принадлежали к вере,
исповедуемой Гамой, чье преступление состояло лишь в том,
что они случайно встретились ему на пути в тот час, когда он
неумолимо стремился к своей цели.
Г. X а р т, Морской путь в Индию. Рассказ
о плаваниях португальских мореходов, а также
о жизни и времени дона Васко да Гамы, Гео-
графгиз, М., 1959, стр. 157—258.
ПРИБЫТИЕ ВАСКО ДА ГАМЫ В ИНДИЮ
24 апреля португальская флотилия покинула гавань Малин-
ди и, взяв курс на северо-восток, направилась к берегам
Индии. Переход через Индийский океан, с попутным муссоном,
продолжался двадцать три дня. Португальцев преследовал
такой нестерпимый зной, что питьевая вода быстро испортилась
и люди стали болеть. Участились смертные случаи.
19 мая корабли приблизились к берегу и на следующий день
флотилия Васко да Гамы бросила якорь у Каликута,
богатейшего города Малабарского побережья.
Измученные тропической жарой и болезнями, люди
приободрились. Все были охвачены радостью. Наконец-то они прибыли
в эту дивную, вожделенную страну! Наконец-то, после стольких
трудов, опасностей и лишений, они достигли Индии! ..
... Так как верховный правитель Каликута «самудри'Н
раджа», или, как говорили португальцы, «саморин», находился в
прибрежном городе Поннани, в двадцати восьми милях от
столицы, то Гама направил к нему двух человек вместе с Монсайди,
с сообщением, что посол португальского короля прибыл в Ка-
ликут и хотел бы вручить саморину королевское послание. Са-
:\Горин тотчас же вызвал лоцмана, поручив ему отвести
португальские корабли в более удобную бухту — Пандарани,
севернее Каликута, и ответил, что на другой день самолично
прибудет в свой дворец.
Как только корабли были отведены в Пандарани, к Васко да
Гаме явился нарочный саморина с приглашением посетить
дворец. Нарочного сопровождали двести гвардейцев, которые во
время его переговоров с Васко да Гамой оставались на берегу.
Васко да Гама под предлогом позднего времени отложил визит
во дворец на завтра.
Утром 28 мая 1498 года он отправился к саморину с
тринадцатью португальцами в тяжелых доспехах, приказав Нико-
лау Коэлью, капитану «Берриу», ждать его у берега с людьми
на лодках, в боевой готовности. На время своего отсутствия,
а также в случае несчастья, которое помешало бы ему в услов-
152
ный срок вернуться на корабль, Васко да Гама поручил
командовать флотилией своему брату Паулу да Гаме, который
должен был, даже не пытаясь выручить из беды
капитана-командира, без промедления плыть обратно в Португалию и дать
королю отчет о блестящих результатах экспедиции.
На берегу португальцев встретила огромная толпа
любопытных. На всем пути ко дворцу саморина гостей сопровождала
пышная свита из военных, придворных, чиновников, слуг, а
также музыкантов, ни на минуту не прекращавших своей
оглушительной игры. Васко да Гаму несли в паланкине шесть
регулярно сменявшихся африканцев.
Когда процессия вступила в Каликут, Васко да Гама
пожелал остановиться у первой встретившейся ему пагоды.
По-видимому, он продолжал еще верить распространенной в Европе
легенде о том, будто жители Индии являются христианами.
Приняв пагоду за христианский храм, а статую одной из
индийских богинь за изображение богородицы, Гама и его спутники
упали перед ней на колени и стали молиться в языческом
храме. Впрочем, если капитан-командир даже и догадывался
6 своей ошибке, то не подавал вида из дипломатических
соображений. Когда один из его спутников, Жуан да Са, шепнул ему,
стоя на коленях: «Если это дьяволы, то я поклоняюсь
истинному богу!» — Васко да Гама улыбнулся. А улыбался он не
так уж часто!
Улицы города были запружены народом. Солдаты
бамбуковыми палками расчищали путь процессии, с большим трудом
добравшейся до дворца. Только вечером португальцев,
одуревших от зноя и шума, изнемогающих под бременем своих
доспехов, ввели в покои саморина, который принял их в зале,
пышно убранном тканями и коврами и наполненном, пряными
ароматами благовоний. Сам властитель Каликута, в одной
только набедренной повязке, возлежал на зеленом бархате, жуя
бетель. Руки его были украшены массивными золотыми
браслетами и кольцами с огромными алмазами, шея была обвита
жемчужным ожерельем и золотой цепью, на ушах висели
грузные серьги.
Ж. В е р н, История великих путешествий,
в 3-х т., т. 1, Открытие земли, Детгиз, Л., 1958,
стр. 202—204.
ГОРОДСКИЕ БУДНИ В МЕКСИКО
Вот на кухне несколько женщин с помощью ручных
жерновов мелют кукурузу. Из муки пекут пироги. То и дело
раздаются ритмические похлопывания женских рук, изготовляющих
плоские лепешки — любимое блюдо мексиканцев. Пекли их на
угольях.
153
Тут же жарили бобы какао. Потом их растирали в порошок
и приготовляли шоколадный напиток. Приправляли его
ванилью или перцем и пили без сахара. Правда, богатые ацтеки
подслащали шоколад медом или соком агавы.
В другой комнате девушка прядет тонкую нить, а ее
крошечная сестренка пытается подражать ей.
А в помещении напротив родители наказывают маленького
.лгунишку. Губы, говорившие неправду, прокалывают шипами.
Пусть это будет ему хорошим уроком на будущее. Лживость
V ацтеков считалась ужасным пороком.
Большое внимание ацтеки уделяли правилам вежливости,
хорошим манерам. Один известный исследователь ацтекской
культуры записал следующие наставления мексиканских отцов
своим сыновьям:
«Почитай всякого, кто старше тебя, и никого не презирай.
Не будь глух к бедным и несчастным, а утешь их. Почитай
всех людей, но особенно родителей, к которым ты обязан
проявлять послушание, уважение и услужливость. Не насмехайся,
сын мой, над стариками и калеками... Не ходи туда, где тебя
не желают, и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
Старайся во всех словах и поступках проявлять
благовоспитанность. Ешь за столом без жадности; не показывай, если тебе
что-либо не по вкусу... Если станешь богатым, не становись
высокомерным. Кормись собственной работой, тогда пища будет
казаться тебе вкуснее... Никогда не говори неправды. Ни о ком
не говори плохо. Не будь поставщиком новостей. Не затевай
вражды... Не будь расточительным. Не кради и не предавайся
(азартной) игре, в противном случае ты навлечешь позор на
твоих родителей...»
Мы привели лишь небольшой отрывок, но и он говорит о
высоких моральных устоях ацтеков.
А вот наставления предназначенные для дочери:
«Прилежно пряди и тки, шей и вяжи. Не предавайся
слишком долго сну. Женское жеманство влечет за собой праздность
и другие пороки. Во время работы не предавайся дурным
мыслям. Если тебя позовут родители, не дожидайся повторения,
а сразу же иди выслушать их желания. Не отвечай наперекор.
Не показывай, если ты. что-либо делаешь неохотно... Никого
не обманывай... Не слишком кичись своим имуществом...
Заботься о семье. Не уходи из дому по всякому пустяку и не
показывайся часто на улице и рыночной площади... Если ты
приходишь в дом родственников, сразу же старайся быть
полезной, — берись за прялку...»
Если девочка или девушка нарушала ацтекские обычаи и
нормы поведения, ее наказывали очень строго. Так, например,
на ноги маленьких девочек, отлучавшихся из дому, иногда даже
надевали цепи...
154
В соседнем доме весело справляют чей-то день рождения.
Все торжество происходит на просторном дворе. Под
аккомпанемент пронзительных звуков тростниковых флейт и мерные
удары барабана разряженные гости пируют и оживленно
беседуют.
В другом здании, если бы испанцы туда заглянули, они
увидели бы менее веселое зрелище: худых, изможденных
постом подростков, чьи ноги и лица истыканы колючками агавы.
В глазах детей невыразимая тоска. Они тянут какую-то
заунывную мелодию. Этим странным хором управляет жрец, тело
которого покрыто рубцами.
Расспросив, что все это значит, испанцы узнали бы, что
здесь находится религиозная школа. Питомцы ее
воспитываются в большой строгости, приучаются к лишениям и
выносливости. Посты и самоистязания стали здесь системой. Их цель —
научить детей безропотно переносить боль и физические
страдания.
Значительно веселее выглядели мальчики, которые в
соседнем дворе обучались владеть оружием. Вооруженные щитами
и дубинками, они с воинственными возгласами нападали друг
на друга и отражали нападение. Побежденные отделывались
легкими ушибами, так как учебные дубинки, в отличие от
настоящего оружия, не были обсажены шипами из обсидиана.
Тут же тренировались в стрельбе из лука и в метании дротика.
«А вот это ацтекский баскетбол», — сказали бы мы,
заглянув в длинный и узкий двор. И посочувствовали бы игрокам,
на долю которых выпала нелегкая задача: так бросить мяч,
чтобы он попал в кольцо. Но бросить не руками, а ... локтями,
бедрами, животом или ногами... При этом надо иметь в виду,
что кольцо, прикрепленное к стенке, находилось не в
горизонтальном, а в вертикальном положении и на значительной вы
соте от земли.
Какой феноменальной ловкостью надо было обладать, чтобы
«забить гол» (мы пользуемся современной спортивной
терминологией)! Эта задача усложнялась еще тем, что мяч был
сплошной каучуковый и весил в несколько раз больше наших
баскетбольных мячей.
Р. Кинжалов и А. Белов, Падение
Теночтитлана, Детгиз, Л., 1956, стр. 105—108.
НА КАРАВЕЛЛАХ КОЛУМБА
6 сентября 1492 года флотилия подняла якоря, отрываясь от
последнего клочка земли Старого Света. Ей оставалось лишь
проплыть мимо скалистого острова Ферро, или Йерро.
Благодаря ясной погоде горы Ферро и пик острова Тенерифе в две-
155
надцать тысяч футов высотой не скрывались из виду до
девятого сентября, но к вечеру этого дня на восточном горизонте
исчез всякий признак земли: три корабля оказались в неведомом
океане. Колумб лично дал курс: «На запад, не отклоняясь ни
на север, ни на юг!»
Прежде чем подробно рассказать о путешествии, позвольте
остановиться на том, как корабли Колумба управлялись и как
проходил на море день. Кораблевождение по звездам в ту пору
находилось еще в начальной стадии, но грубое определение
широты можно было сделать по высоте Полярной звезды над
горизонтом и по ее положению относительно Сторожей — двух
звезд Малой Медведицы...
... Главный компас, которым пользовался Колумб, был
установлен на кормовой надстройке, с тем чтобы вахтенный
офицер мог следить по нему за курсом. Рулевой, правивший
кораблем при помощи тяжелого румпеля, непосредственно
соединенного с рулем, находился на главной палубе и мало что
видел ...
... Время на кораблях той эпохи измерялось посредством
получасовой склянки, которая висела на бимсе таким образом,
что песок свободно вытекал из нее. Когда песок высыпался
весь, юнга переворачивал склянку, а вахтенный офицер делал
отметку на грифельной доске. Восемь склянок составляли
„ вахту; ударами в колокол, сохранившимися жи на многих
современных судах, давали знать, сколько прошло склянок. Верность
времени, показываемого склянками, в ясную погоду можно
было ежедневно проверять в полдень, в момент, когда солнце
стоит в зените...
... У Колумба не было ни ручного лага, ни другого
прибора для измерения скорости движения кораблей. Офицеры,
стоя на вахте, оценизали ее лишь на глазах и систематически
записывали...
. .. Всякий комфорт и удобства на кораблях отсутствовали
почти полностью. Пищу готовили на палубе в деревянном ящике,
внутри которого был насыпан песок, а от ветра он сверху
закрывался кожухом. Диета была однообразная: солонина,
морские сухари, горох. Пили вино, пока оно не иссякло, и воду из
бочек, нередко испорченную. Только у капитан-генерала и у
капитанов кораблей были каюты с койками, остальные спали, где
могли, не раздеваясь.
Моряки в тот век были людьми весьма религиозными. На
каждом корабле юнга должен был встречать утреннюю зарю
песней, начинавшейся так:
Благословен будь свет дневной,
Благословен будь крест святой.
После этого он читал «Отче наш» и «Аве Мария» и просил
благословения команде корабля. Юнга перевертывал склянку каж-
П56
дые полчаса тоже с песней. Так, например, когда било пять
склянок, он пел:
Пять минуло, шесть пришло,
Бог захочет, семь придет,
Ход быстрей, усердней счет.
С. Э. М о р и с о н, Христофор Колумб,
мореплаватель, Изд. иностр. лит-ры, М., 1958,
стр. 48—51.
ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ КОЛУМБА
На баке, где помещались матросы, было грязно и душно.
Там же стояло восемь лошадей господ офицеров, которые
стоили больших денег и могли бы расшибиться в трюме. Нам
впоследствии пришлось лишиться этих животных, так как
лошади оказались менее выносливыми, чем люди, и не перенесли
тягот путешествия.
Грязь и вонь не были результатом лености или нерадивости
команды, так как помещение убиралось трижды на день...
Корабль все время давал небольшую течь, и матросы
ходили по щиколотку в воде. Тела несчастных были искусаны
насекомыми, руки покрыты ссадинами, и соленая вода разъедала
их раны. Больше двух третей команды лежало, не поднимаясь,
в цинге и лихорадке...
... Отчаяние команды не поддавалось описанию, когда
наконец утром 8 октября адмирал приказал секретарю
экспедиции, нотариусу синьору Родриго де Эсковеда, собрать команду
на палубе и обратился к ней с речью. Я, думая, что господин
опять станет говорить об Индии и Китае, не ожидал ничего
доброго от этой речи, так как люди наши валились с ног от голода
и усталости и им было не до Индии.
Но адмирал нашел наконец дорогу к сердцам матросов.
И я радовался, глядя, как смягчаются лица добрых людей и в
глазах зажигается надежда.
— Матросы, — сказал он, протягивая им кусок
заплесневелого сухаря и кружку зеленой мутной воды, — вот такую же
порцию получает и ваш адмирал. Вы ропщете на недостаток
пищи, на болезни и усталость, но, если бы злой враг в течение
нескольких месяцев осаждал вас в уединенной крепости, разве
тогда вы находились бы в. лучших условиях и разве
испытываемые вами трудности заставили бы вас забыть честь и впустить
в крепость врага? Разве вы не помните случаев из времен
недавней войны, когда осажденные испанцы вскрывали себе
жилы и утоляли жажду собственной кровью? ..
Сейчас вы находитесь в значительно лучших условиях, чем
ваши братья, потому что запасов воды нам хватит еще на три
157
недели, а я, ваш адмирал, даю вам клятву, что раньше, чем
через десять дней, мы доплывем до берегов Азии, где несомненно
заканчивается несущее нас вперед течение...
Нет, испанцы, пока я могу вас поддерживать хотя бы одной
кружкой воды в сутки, я не изменю курса... Да здравствует
Кастилия и Леон! Да здравствует Арагония! Да здравствует
честный, трудолюбивый и храбрый испанский народ!
— Да здравствует Кастилия и Леон! — крикнули матросы,
бросая вверх шапки.
— Что ж, разве пастухи из Сьерры не уходят частенько на
пастбище, когда их козы еще не доены, а дома у них нет ни
кусочка хлеба, и разве не поддерживают они свою жизнь
двумя-тремя глотками теплой воды из мехов? — сказал один
из матросов, уроженец старой Кастилии.
— Экая беда — потерпеть голод здесь в течение нескольких
дней, когда на родине мы голодаем всю жизнь, отозвались
выходцы из Наварры и Галисии.
— Хорошо, что у нас по крайней мере есть вода, —
говорили матросы, возвращаясь на бак. — Десять дней мы еще
продержимся.
— Да, в такую жару мы без воды передохли бы, как
мухи, — сказал Яньес Крот.
Господа чиновники и офицеры остались менее довольны
речью адмирала, но так сильна его вера и так неукротима его
воля, что и им, в свою очередь, пришлось покориться.
3. Ш и ш о в а, Великое плавание.
Исторический роман, Детгиз, М, 1963, стр. 99—102.
КОЛУМБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ СВЕТ
Наступившая ночь покрыла море мраком. «Пинта», самый
быстроходный корабль из всей флотилии, держалась впереди
адмирала. Христофор Колумб ни на минуту не покидал
капитанского мостика. Он до боли в глазах всматривался в
горизонт. В ночном тумане ему чудились вдали какие-то огни: они
то мерцали, то потухали, то вспыхивали вновь. Затем огни
исчезли, и Колумба опять охватила тревога.
Так корабль продолжал плыть до двух часов утра. Никто не
смыкал глаз.
Вдруг с «Пинты» раздался голос матроса Родриго де
Триана:
— Земля! Земля!
И почти одновременно выстрелила бомбарда.
Через несколько минут очертания берега стали
вырисовываться в предутренней мгле. Паруса на каравеллах тотчас же
были убраны, и корабли легли в дрейф в ожидании утра.
158
Можно себе представить, что должен был почувствовать
в эту минуту Колумб! Наконец-то, после долгих лет мытарства
он сумел доказать свою правоту и раскрыть великую тайну
океана!
Колумб впервые увидел берег Нового света утром 12
октября 1492 года. Вместе с первыми лучами солнца, в двух
милях от кораблей открылся низменный остров, относящийся к
Багамскому архипелагу. Колумб тотчас же присвоил этому
острову христианское название Сан-Сальвадор («Святой
спаситель»). Так как Багамский архипелаг тянется на 1200
километров от полуострова Флориды до. Гаити и в нем насчитывается
около трех тысяч больших и малых островов, можно только
предполагать, к какому именно острову пристала флотилия
Колумба. Сами же туземцы называли его Гуанахани.
Вскоре на берегу появилось несколько голых людей,
пристально рассматривавших корабли. Христофор Колумб сел
в шлюпку вместе с обоими капитанами, королевским
инспектором Родриго Санчесом де Сеговия, нотариусом флотилии Род-
риго де Эсковеда и другими должностными лицами. Адмирал
сошел на берег в алой одежде поверх лат, с развернутым
королевским знаменем. Оба капитана несли знамена с зеленым
крестом, вокруг которого переплетались буквы «F» и «I» —
инициалы Фердинанда и Изабеллы. Именем короля Леона
и королевы Кастилии адмирал торжественно вступил во
владение островом Сан-Сальвадор.
Ж. В е р н, История великих путешествий,
в 3-х т., т. 1, Открытие земли, Детгиз, Л., 1958,
стр. 129—130.
КОРТЕС
Хоть носил он гордо лавры Нагло вставил это имя
И хоть золотом блистали Вслед за именем Колумба,
На его ботфортах шпоры, И на школьной парте школьник
Не герой он был, не рыцарь. Зазубрил обоих вместе.
Был он атаманом банды, Так пролез в родню к Колумбу
Наглым кулаком своим Негодяй Фернандо Кортес,
Сам вписал в анналы славы Стал вторым он в пантеоне,
Имя мерзостное: Кортес. Коим славен Новый свет.
Такова судьба героев:
Человеческая память
Сочетает наше имя
С именами подлецов.
Г. Гейне, Фицлипуцли. — В кн.: Г. Гейне,
Избранные произведения, в 2-х т., т. 1,
Гослитиздат, М., 1956, стр. 318—319.
159
ЖАЖДА ЗОЛОТА
Желая вознаградить себя за эту потерю, я принялся
обыскивать вместе с солдатами городские дома, причем мы грабили
все, что имело хоть какую-нибудь ценность.
Мы хватали туземцев и срывали с них одежды и
драгоценности. В одиночку либо партиями наши люди рассыпались по
окрестностям, обирали попадавшиеся на пути жилища и затем
предавали их огню. Люди врывались в храмы, избивали либо
разгоняли жрецов и забирали с собой, сколько кто мог унести,
цветные ткани и ценные сосуды. Но всего этого им было мало:
захваченная добыча только ещё сильней разжигала их аппетиты.
Меня тоже ничто не могло удовлетворить: я жаждал еще
большего.
Однажды вечером, в то время как один из наших отрядов
возвращался в город из разбойничьего набега, оказавшегося на
этот раз особенно удачным, пленный инка вышел из
внутренних покоев своего дома в колоннаду и наблюдал, как солдаты
складывали с себя добычу, как к ним подходили другие, брали
в руки золотые и серебряные предметы, показывали их друг
другу, ощупывали, прямо-таки ласкали их, и при этом весь
их вид выдавал волновавшие их чувства — восторженное
упоение, ненасытную жадность и мелочную завистливую
тревогу.
Я стоял на площади, и инка мало-помалу всецело завладел
моим вниманием. Мне казалось, что он напрасно силится
осмыслить сцену, которая разыгрывалась у него перед глазами.
В то время как он напряженно вдумывался в это зрелище, к
нему подошел Фелипильо и с униженно льстивым видом сказал
ему" вполголоса несколько слов...
— Они хотят золота. Они визжат из-за золота, они
поднимают крик из-за золота, за золото они готовы растерзать
друг друга. Спроси их о цене своей свободы — и ты можешь
купить ее за золото. Ничего нет на свете, чего бы они не отдали
тебе за золото, — своих жен, своих детей, свою душу и даже
душу своих друзей.
Я. Вассерман, Золото Кахамарки, Гео-
графгиз, М, 1956, стр. 17—18.
УНИЧТОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИНКОВ
С того дня, как индейцы принесли последнее золото,
началась работа ювелиров. Против «Дома Змеи» испанцы
выстроили огромную кузницу; день и ночь горел в ней огонь, день
и ночь стучали молоты, и десятки спин не разгибались над
сверкающим потоком драгоценного металла...
160
... Атагуальпа видел нежные изгибы ручек жертвенных
сосудов с змеиными головками, блюда с листьями тропических
растений, золотые изображения предков из храма в Куско, и ему
сделалось неожиданно страшно при мысли о том, что
бледнолицые завоеватели в один свой приход разрушат вековое
наследие целого народа.
И верно, в сердцах индейцев был тот же ужас и та же боль.
Они бережно поднимали золотые вещи, удерживали их на
мгновение в руках, точно впервые угадывая в них всю ценность
величайшего ювелирного искусства, а потом злобно бросали на
наковальню под тяжесть молота, и молот расплющивал их...
Атагуальпа не сводил глаз с груды золота. Он не слышал,
как в кузницу вошли Франциско Пизарро и д'Альмагро с
переводчиком. Он вздрогнул от резкого окрика:
— Эй, рабы! .. Краснокожая сволочь! .. Пусть слитки будут
ровной величины, чтобы легче было делить! .. Филиппило, скажи
им, — они не понимают меня. Вес должен быть в две арробы ].
Филиппило перевел слова Пизарро.
Атагуальпа отвернулся. Он презирал в эту минуту бледно-
лицого вождя, уничтожившего столько прекрасного лишь для
того, чтобы перетащить за море куски ничтожного металла.
Опустив глаза, он рассматривал пучок индейской ржи, на
которую чуть не наступил Пизарро. Это красивое, легкое, как
паутина, украшение своего трона он сам заказывал, когда
вступал во владение Квито после смерти отца. Золотые колосья
качались когда-то над его головой, издавая нежный протяжный
звон. Мастер, работавший над этим пучком ржи, уже умер, и в
Перу не осталось его преемника. Атагуальпе было бесконечно
жаль красивой игрушки.
Д'Альмагро заметил валявшуюся на полу безделушку
и поднял ее. Золотой стебель, изящный и хрупкий, поднимался
над серебряными листьями индейского злака; на нем трепетали
каждою чешуйкой роскошные золотые колосья, задевали за
листья и звенели.
Ал. Алтаев и Арт. Фелич'е, Власть и
золото, «Молодая гвардия», М., 1929, стр. 127—
128.
КАЗНЬ ПРАВИТЕЛЯ ИНКОВ
На площади было шумно. Там наскоро сбивали помост для
казни. Испанцы торопились покончить с Атагуальпой. Едва
стемнело, за ним явилась стража.
Инка пошел за вооруженными людьми, громко гремя
кандалами и волоча за собой тяжелую цепь.
1 Арроба — мера веса, равная 10 кг (исп.)\
11 Сост. О. В. Волобуев и др.
161
На пороге он остановился. Перед ним была площадь с
морем голов. При свете факелов отчетливо выделялось свежевы-
струганное дерево позорного столба с грудой дров и хвороста
вокруг. А вверху темнело бездонное небо с яркими золотыми
звездами. Светлого пятна уже не было среди них.
Инка долго вглядывался в звездную высь.
Кто-то из стражи грубо подтолкнул его к месту казни.
Атагуальпа очнулся и впервые со всей ясностью понял, что
его ожидает. Ледяной холод сжал его сердце тисками и
заставил задрожать. Он искал глазами Пизарро, но вокруг его были
хмурые лица испанцев, — они избегали смотреть в глаза инке.
Ненавистный Атагуальпе голос Валаверды прозвучал над
самым его ухом:
— Ты на пороге своего смертного часа, сын мой... В
последний раз говорю тебе: прими крещение, и участь твоя будет
смягчена.
В остановившихся глазах Атагуальпы мелькнул луч
надежды.
— Правда? ..
Переводчик подтвердил слова монаха.
Слабая улыбка искривила губы инки.
— Хорошо... я сделаю все, что скажет белый человек...
Падре Винценте наскоро окрестил Атагуальпу. Лицо его
сияло гордостью, — он сумел победить упорнейшего из
идолопоклонников.
Инка стоял в простой белой одежде без единого украшения,
жалкий и беспомощный. Испанцам не верилось, что когда-то
этот бронзовый человек сверкал как языческое божество,
усыпанное золотом и изумрудами...
— Ступай смело, сын мой, — сказал монах после конца
христианского обряда.
Инка двинулся в сторону «Дома Змеи». Ему преградила
дорогу стража. Он с недоумением посмотрел на суровые лица
солдат.
— Ведь, я сделал все, что мне приказал жрец белолицых, —
сказал он тихо.-
Перед ним выросла фигура д'Альмагро: f
— И участь твоя будет смягчена, как сказано, бывший
вождь краснокожих, — раздался его холодный голос, — тебя
задушат, прежде чем сжечь.
Из горла инки вырвался Хриплый стон, белые снова
обманули его.
В глазах Атагуальпы мелькнул прежний огонь бешенства,
но он опустил голову и, не глядя ни на кого, быстрыми шагами
направился к месту казни...
.. .Дым и пламя окутали костер сплошной завесой...
Там же, стр. 149—151.
162
конкистадоры
Как под огненною бурей,
Кровь людей огнем бурлила,
Клокотала дикой жаждой
Золота и наслаждений.
Стало золото девизом,
Ибо этот желтый сводник -
Золото само дарует
Все земные наслажденья.
И когда в вигвам индейца
Заходил теперь испанец,
Он там спрашивал сначала
Золота, потом — воды.
Стала Мексика и Перу
Оргий золотых притоном.
Пьяны золотом, валялись
В нем Кортес и Пизарро;
Лопес Вакка в храме Кито 1
Стибрил солнце золотое
Весом в тридцать восемь фунтов
И добычу в ту же ночь
Проиграл кому-то в кости, —
Вот откуда поговорка:
«Лопес, проигравший солнце
Перед солнечным восходом».
Да, великие то были
Игроки, бандиты, воры.
Г. Гейне, Бимини. — В кн.: Г. Г е й н е,
Избранные произведения, т. 1, Гослитиздат, М.,
1956, стр. 438—439.
НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ
Сам суперкарго2 мингер ван Кук
Сидит погруженный в заботы.
Он калькулирует груз корабля
И проверяет расчеты.
«И гумми хорош, и перец хорош, —
Всех бочек больше трех сотен.
И золото есть, и кость хороша,
И черный товар добротен.
Шестьсот чернокожих задаром я
1 взял
На берегу Сенегала.
У них сухожилья — как толстый
канат,
А мышцы — тверже металла.
В уплату пошло дрянное вино,
Стеклярус да сверток сатина.
Тут виды — процентов на восемьсот,
Хотя б умерла половина.
Да, если триста штук доживет
До гавани Рио-Жанейро,
По сотне дукатов за каждого мне
Заплатит Гонзалес Перейро».
Так предается мингер ван Кук
Мечтам, но в эту минуту
Заходит к нему корабельный хирург
Герр ван дер Смиссен в каюту.
Он сух, как палка; малиновый нос,
И три бородавки под глазом.
«Ну, эскулап3 мой! — кричит ван
Кук,
Не скучно ли моим черномазым?»
Доктор, отвесив поклон говорит:
«Не скрою печальных известий.
Прошедшей ночью весьма возросла
Смертность среди этих бестий.'
На круг умирало их по двое в день,
А нынче семеро пали —
Четыре женщины, трое мужчин.
Убыток проставлен в журнале.
Я трупы, конечно, осмотру подверг,
Ведь с этими шельмами горе:
Прикинется мертвым, да так и
лежит, —
С расчетом, что вышвырнут в море.
1 Кито — столица Эквадора.
2 Суперкарго — помощник капитана по коммерческой части на торговом
судне (англ.);,
3 Эскулап — бог врачевания у древних греков; в переносном смысле —
врач.
163
Я цепи со всех покойников снял На них налетели, как мухи на мед,
И утром, поближе к восходу, Акулы — целая масса;
Велел, как мною заведено, Я каждый день их снабжаю пайком
Дохлятину выкинуть в воду. Из негритянского мяса.
С тех пор, как бухту покинули мы,
Они плывут подле борта —
Для этих каналий вонючий труп
Вкуснее всякого торта.
Там ж е, стр. 404—405.
13.
НАЧАЛО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АНГЛИИ В XVI ВЕКЕ
Процесс первоначального накопления в наиболее четко
выраженном виде прослеживается на примере Англии. Не
случайно широко известная двадцать четвертая глава
первого тома «Капитала» К. Маркса основывается главным
образом на материалах английской истории.
«Утренняя заря капиталистического производства»
принесла английскому народу много бедствий и горя.
В описании мануфактуры у английского писателя XVI
века Томаса Делонэ явно идеализируются положение наемных
рабочих и взаимоотношения между ними и капиталистом.
Под густо наложенной автором розовой краской учитель
разглядит подлинную картину развития капиталистической
мануфактуры. Даже в этом идиллическом описании
пробивается правда: «... девушки никогда не прерывали своей
работы, целый день они пряли», «бедно одетые дети» и т. д.
Учителю следует учесть, что в учебнике имеется по
материалу о мануфактуре цветная иллюстрация (рис. IX) и
документ (стр. 194).
Трагическая судьба английских крестьян, лишенных
земли и жилища, и кровавое законодательство Тюдоров
иллюстрируются отрывками «Судьба английского
крестьянина» и «Кровавые законы в действии» из книги Марка
Твена «Принц и нищий».
Отрывки «Английские пираты в Америке» и «Гибель
«Непобедимой армады» из книги В. Мюллера «Пират королевы
Елизаветы», и «Филипп II готовит «Непобедимую армаду» из
романа Б. Франка «Сервантес» передают эпизоды борьбы
между Испанией и Англией за владычество на морях. Все
они используются как материал при подготовке к уроку.
164
ОПИСАНИЕ МАНУФАКТУРЫ
В большой и широкой мастерской стояло двести станков,
и двести человек работало за этими станками. Рядом с
каждым из этих рабочих сидел хорошенький мальчик и весело
управлял челноками. Совсем близко отсюда в другой зале
двести веселых кумушек изо всей своей силы чесали шерсть и,
работая, все время пели. В соседней комнате работали двести
молодых девушек в красных юбках с белыми платками на голове;
их рукава были белы, как снег, падаюший зимой на западные
горы, а у кисти каждый рукав грациозно стягивался лентой.
Эти хорошенькие девушки никогда не прерывали своей работы,
целый день они пряли. Во время работы они пели своими
нежными голосами подобно соловьям. Наконец, они подошли к
другой мастерской, где находились бедно одетые дети. Каждый
из них сортировал шерсть, отделяя грубую от тонкой, их было
числом сто пятьдесят человек. Это были дети бедняков, за
работу им платили по пени каждый вечер, не считая того, что их
кормили в продолжение всего дня, и это было для них
огромною помощью. В другой комнате они увидели еще пятьдесят
человек, красивых мужчин, все это были гладильщики; их
ловкость и умение можно было тут же наблюдать; совсем рядом
с ними находились восемьдесят тачечников, которые также
усердно работали. У Джека была еще красильня, которая
давала работу около сорока человекам, и суконовальня, где было
занято двадцать человек. Чтобы прокормить всех служащих в
его предприятии, ему нужно было каждую неделю десять
хороших, жирных быков, не считая хорошего масла, сыра, рыбы
и всякой другой провизии. У него был отдельный мясник на
весь год, также и пивовар для эля и пива, и пекарь, чтобы печь
хлеб, необходимый в таком большом предприятии. Пять
поваров в его обширной кухне были заняты весь год
приготовлением этого мяса, шесть поварят им помогали и мыли посуду,
горшки и кастрюли, еще несколько бедных детей приходило
каждый день вертеть вертел.
Увидев все это, старый крестьянин был весьма поражен,
как этого и можно было ожидать: значит, это был великий
суконщик, слава о котором останется навеки.
Т. Д е л о н э, Джек из Ньюбери. Томас из
Рэдинга, Госиздат, М.—Л., 1928, стр. 62—63.
СУДЬБА АНГЛИЙСКОГО КРЕСТЬЯНИНА
— Я йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве,
была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего,
и занимаюсь я не тем ... Жена и ребята померли; может, они
в раю, а, может, и в аду, но только, слава богу, не в Англии!
165
Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы
заработать на хлеб;' один больной умер, доктора не знали
отчего, — и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои
ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон!
Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный
английский закон, освободивший мою мать от английского ада!
Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить
из дома в дом, прося милостыню, таская за собой голодных
ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и
нас ловили и били в трех городах... Выпьем еще раз за
милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей
Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле,
не зная обиды и горя. А ребятишки... ну ясно, пока меня, по
закону, гоняли плетьми из города в город, они померли с
голоду. Выпьем, братцы, — один только глоток, один глоток за
бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла!
Я опять стал жить подаяниями; протягивал руку за черствой
коркой, а получил колоду и потерял одно ухо — смотрите,
видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню — и
вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском
законе; но все же я продолжал просить, и наконец меня продали
в рабство — вот на моей щеке под этой грязью клеймо; если
смыть эту грязь, вы увидите красное Р, выжженное
раскаленным железом! Раб! Понятно ли вам это слово? Английский раб!
Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если
меня поймают — будь проклята страна, создавшая такие
законы! — я буду повешен.
М. Твен, Принц и нищий, Детгиз, М., 1961,
стр. 114—115.
КРОВАВЫЕ ЗАКОНЫ В ДЕЙСТВИИ
У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот
маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал;...
Развязали узел, и, когда в нем оказался жирный,
откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и
задрожал ...
Судья зловеще медлил, потом обратился к женщине с
вопросом:
— Во сколько ты оцениваешь свою собственность?
— В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость! Это
самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни.
Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому
и сказал:
— Очисти помещение и запри двери!
Приказ был исполнен.
166
В суде остались только два служителя закона, обвиняемый,
обвинительница и Майлс Гендон. Майлс был бледен,
неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и
покатились по лицу. Судья опять обратился к женщине и сказал
ласково:
— Это бедный, невежественный мальчик, может быть,
голодный, потому что теперь такие трудные времена для
бедняков; посмотри на него: у него лицо не злое, но с голоду мало ли
что делают... Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу
имущества стоимостью выше тринадцати с половиной пенсов
виновный, по закону, должен быть повешен?
Там же, стр. 148—150.
Среди арестантов был старый законник, человек с суровым
лицом и непреклонной волей. Три года тому назад он написал
памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в
несправедливости; за это его приковали к позорному столбу, отрубили ему
уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него
штраф в три тысячи фунтов стерлингов и приговорили к
тюремному заключению. Недавно он повторил свой поступок, и теперь
ему должны отрубить остаток ушей, взыскать у него пять тысяч
фунтов стерлингов, выжечь ему клеймо на обеих щеках и до
конца жизни держать в тюрьме.
Там же, стр. 174—175.
АНГЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ В АМЕРИКЕ
Блуждая по лесу и подстерегая добычу, Дрэк по их совету
влез на высокое дерево и с его верхушки увидел оба океана,
растилавшиеся на бесконечное пространство, насколько глаз
хватал, по обе стороны узкой полоски земли, на которой он
находился. Он глядел жадными глазами на Великий океан, на
котором не бывал еще ни один английский корабль, и, как
раньше один португальский путешественник, дал себе клятву,
.что настанет день, когда и он проведет по этому
беспредельному водному простору свою борозду.
Караван шел по дороге без особых предосторожностей.
Притаившемуся среди гущи тропического леса Дрэку и его
восемнадцати матросам, которых он взял с собой, не стоило
большого труда овладеть богатствами. Охрана бежала при первых
же выстрелах. Серебра было столько, что захватить его они не
могли и должны были закопать, взяв с собой только золото
и драгоценные камни. Оставалось донести эти сокровища
через горы до берега и успеть удрать, пока не начались погоня
и розыски. Перед отправлением он еще раз навестил город и
сжег склад, где, против ожидания, не нашел золота, а только
167
разных товаров на большую сумму. Через полчаса прибыла
сотня испанских стрелков, присланная поймать Дрэка, но им
оставалось только смотреть с берега на новенькие испанские
фрегаты, которые тоже были похищены Дрэком и которые
теперь увозили его на далекую родину. В августе 1573 года он
высадился в Плимуте, и никто из непосвященных не узнал про
судьбу и про размеры привезенных сокровищ.
В. К- Мюллер, Пират королевы
Елизаветы, Брокгауз-Ефрон, Л., 1925, стр. 14—15.
ФИЛИПП II ГОТОВИТ «НЕПОБЕДИМУЮ АРМАДУ»
Теперь, на закате освоих переобремененных дней, он собрал
воедино силы и сокровища вверенных ему народов, чтобы
устремить их против Англии.
Самовластней, чем где-либо, бесчинствовал там еретический
дух. И он посягал на большее! Разве не бог ниспослал
Кастилии господство над морями? Англия его оспаривала. Ее
капитаны уже облагали данью испанские берега, они показывались
в Африке и Западной Индии, их дерзкие набеги тщились
пошатнуть богохранимое единство католической всемирной
монархии. .. Война с Англией! Филипп — королвг Англии! Если этот
остров станет скамеечкой под его ногами, тогда в подобающем
величии встретит он свой последний час и преподнесет господу
в облаках спасенный, чистый католический мир на ладонях
своих.
Долгие годы колебался король. Ныне время приспело, не
может он дольше ждать. Министры и генералы предостерегают
его. Надо сперва одолеть Нидерланды. Всегда возможны буря
или иное несчастье, тогда понадобится приют голландской
гавани. Но король их не слушает. Дело его — дело божье, как
может господь допустить поражение или бурю! Он торопит.
Всегда столь вежливый и сдержанный, он теряет
самообладание, он бранит и оскорбляет своих слуг. В их осторожности ему
чудится нерадивость, малая приверженность богу.
Колеблется и предостерегает его также и адмирал, маркиз
Базанский. Король наносит ему столь глубокое оскорбление,
что старый солдат не выдерживает. Он заболевает горячкой.
Он умирает. У армады нет вождя.
Но к чему сведущий вождь, если их поведет сам бог.
Благочестие и благородное имя — вот все, что нужно. И
главнокомандующим флота назначается дон Алонсо Перес де Гусман,
герцог Медина—Сидониа.
Герцог пугается. Это изящный гранд, обладающий неоспори-
мейшей чистотой крови и несметным богатством, один из двоих
владельцев Манчи. Но он отнюдь не мореплаватель. В длин-
168
ном жалобном послании умоляет он своего короля освободить
его от великой чести. Он мало понимает в военном деле и
совершенно ничего не понимает в мореходстве, к тому же
подвержен морской болезни. Все тщетно. Во главе армады
оказывается «золотой адмирал вместо железного».
На атлантических верфях лихорадочно строят. Множество
кораблей — громадных тяжелых кораблей, вместительных и
роскошных, хотя непрактичность их очевидна. Всем известны
плоские, изворотливые челны англичан. Но применяться к этим
еретическим пиратам было бы слишком большой честью для
них. Могучие разукрашенные галеры с экипажем, тяжело
вооруженным, как для рыцарской сухопутной битвы, — вот
достойная гвардия бога.
Но она дорого стоит. Дорого стоят щегольские корабли и
литые пушки. Десять тысяч матросов, двадцать тысяч солдат
хотят есть, и особенно хорош аппетит у бесчисленных
добровольных вояк из знати, примкнувших к богоугодному
предприятию, уже давно оживляющих блеском и хвастовством
приморские города и пока что занятых сообразно званию дуэлями
и охотой на женщин.
Кассы пусты. Расслабленный подагрой властитель в Эску-
риале трудиться день и ночь над их пополнением: издает указы,
ведет корреспонденцию. Он повышает пошлины на ввоз и вывоз
до двадцати и двадцати пяти процентов — за этим дело не
станет, — облагает пошлинным сбором товары, идущие из Индии,
из одной провинции в другую. У купцов, возвращающихся из
колоний, он попросту конфискует их деньги, давая им взамен
долговые расписки, гарантируемые его пустой казной. Он
продает с торгов чиновнические должности и учреждает ради
этого новые... Король Филипп распродает семьдесят тысяч
постов. Он хватает деньги где попало и закладывает уже
заложенное; банкиры Франции, Германии и Ломбардии смотрят
с опасением на королевские векселя. Предусмотрительно спешат
они нажиться хотя бы на пересылочной оплате: переводный
вексель из Мадрида — через Геную — во Фландрию обходится
Филиппу в тридцать процентов. Денег! Денег! Но их постоянно
не хватает. Этот король, управляющий золотом и серебром всего
мира, неоднократно вынужден прерывать свою ночную работу
над документами из-за того, что нет денег на покупку новых
свечей.
Его страна — Испания, властительница мира — голодает.
Гигантским наростом тяготеет над семью миллионами
работающих людей миллион знатных и духовных тунеядцев. Податной
чиновник беспощадно отбирает жизненную суть. Подавай сюда
пищу! Подавай сюда пшеницу, ячмень и маис, масло, вино,
сухари и сыр! Тебе заплатят, когда божье дело восторжествует,
вот расписка. Андалузии предписано дать двенадцать тысяч
К69
центнеров сухарей, городу Севилье — шесть тысяч бочонков
вина, такому-то городку — четыре тысячи кувшинов масла,
такой-то деревне — восемь фанег зерна.
Королевские провиантские комиссары объезжают на своих
мулах изнемогающую страну, они выжимают из выжатых
последние соки. Глухое отчаяние и ненависть сопровождают их
появление. Они взламывают сараи, амбары и погреба. Они
отбирают у крестьянина посевное зерно. Так хочет бог.
Б. Франк, Сервантес, «Молодая гвардия»,.
М., 1960, стр. 197—200.
ГИБЕЛЬ «НЕПОБЕДИМОЙ АРМАДЫ»
В этот день, воскресенье, 28-го июля, в каюте адмиральского-
корабля происходил военный совет, на который собрались
главные вожди: Говард, Дрэк, Гокинс, Фробишер и Сеймур.
Совещание было немногословным, решение было принято, и
адмиралы разошлись по своим кораблям.
В тот же день вскоре произошел маленький эпизод, который
доставил удовольствие испанцам. Герцог Медина Сидониа
стоял на палубе своего адмиральского корабля с группой
офицеров и наблюдал за неприятельским флотом, как вдруг от него
отделилась маленькая пинаса, быстро приблизилась, обошла
вокруг испанского галеона, сделала даже выстрел из небольшой,
пушки на носу и стала удаляться. Ядро, пущенное вдогонку,,
пробило парус, не причинив никакого вреда. Вскоре она
затерялась за силуэтом больших судов. Это был лай моськи на слона,,
забавная дерзкая шалость, которой не могли не отдать
должного испанцы, недурные судьи в вопросах храбрости. Но
маленький храбрец, конечно, приходил не даром.
Наступила ночь. Начался прилив. Стоявшие на вахте
испанцы видели, как в темноте со стороны неприятеля
задвигались какие-то пятна, которые приближались с приливом: потом
на них что-то засветилось, показались языки пламени, и вскоре
перед испанским флотом выросло целое море огня, осветившее
зловещим заревом всю окрестность. Это были восемь
брандеров, пущенных англичанами. И вот здесь испанский герцог и era
главный советник Диего Флорес совершили непоправимую
ошибку, решившую судьбу Армады. Вместо того чтобы
спокойно приказать поймать и отбуксировать в сторону плавучие
костры, он, растерявшись, подал сигнал всем кораблям
перерезать канаты и отодвинуться к востоку.
На рассвете оказалось, что положение испанского флота
сильно ухудшилось. Около адмиральского корабля оказалось
всего до сорока судов, правда, лучших — остальные легли
в дрейф, — оторвались далеко на восток и оказались под
угрозой опасных мелей, которыми изобилует в этих местах берег.
170
Английский флот использовал выгоду своего положения
блестяще. Окружив основное ядро испанской эскадры и отрезав
ей возможность идти дальше к Дюнкирхену на соединение с
отрядом Фарнезе, Дрэк повел быструю атаку на испанские
галеоны. Теперь дело шло не о взятии какого-нибудь ценного
груза, — в эти часы решалась судьба Англии, будущее ее, как
морской державы. Как и прежде, англичане не допускали
абордажной схватки и действовали артиллерийским огнем.
Ответный огонь испанских орудий не достигал цели: испанские
корабли были очень высоки, поэтому орудия одного борта били
высоко в воздух, и ядра перелетали через цель; с другого борта,
накрененного ветром, ядра шлепались в воду. Между тем, на
низких английских кораблях орудия били исправно и часто
поражали испанские корабли в наиболее жизненных частях, ниже
ватерлинии. В своем донесении Филиппу герцог Сидония писал,
что корабли «Иоанн» и «Мария» совсем было сблизились с
неприятелем, но не могли с ним сцепиться: он бил в нас своими
орудиями, наши солдаты защищались аркебузами и
мушкетами. ..
... Среди дня испанский огонь стал слабеть; порох и
снаряды истощились: грозила гибель всем до последнего человека
и последнего корабля. Испанцы признавались потом, что это
■случилось бы, продлись атака еще хоть два часа. Но и у
англичан не хватило снарядов, и сражение само собой прекратилось.
Испанцы стали хоронить свои трупы, а англичане готовиться
к следующему дню и наспех залечивать раны на людях и
кораблях. ..
... Дувший с утра резкий норд-вест среди дня сменился
южным ветром. Усталые, надорванные люди ухватились за него,
как за спасение: этот ветер спасал испанский флот от
фландрских мелей за спиной; может быть, он поможет спастись и от
преследования «осатанелых».
Армада на этот раз, уже не прежняя «непобедимая», а
побежденная, рванулась на север. Англичане не мешали ей в
этом.., 13 августа Армада была предоставлена собственной
участи.
Это возвращение в родную Испанию кружным путем — одна
из страшных страниц истории, ужасом и паникой оно
напоминает разве отступление от Москвы «великой армии» 1812 года.
Путь предстоял длинный вокруг Шотландии, Оркнейских
и Шотландских островов и Ирландии. До Оркнейских островов
•флотилия держалась вместе. Но здесь туманы и бури
разбросали ее, и каждый стал думать о своем спасении. На многих
кораблях не хватило провианта: ежедневный рацион был сведен
до полуфунта сухарей, пинты воды и пинты вина. На иных не
было и воды, потому что она вытекла из бочек, пробитых при
стрельбе.
171
Большая часть кораблей разбилась о скалы западной
Ирландии. Берега были усеяны их обломками и выброшенными
человеческими телами...
... Из тридцати слишком тысяч людей, которые с такой
гордостью и энтузиазмом каких-нибудь три месяца назад отплыли
из Лиссабона, домой вернулось не больше девяти-десяти тысяч,
и среди них был будущий славный писатель — краса и гордость
испанской драмы — Лопе де Вега; из ста тридцати больших
кораблей спаслось только пятьдесят пять.
В. К. Мюллер, Пират королевы
Елизаветы, Брокгауз-Ефрон, Л., 1925, стр. 102—109.
14.
НЕОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ
ВО ФРАНЦИИ
Франция XVI—XVII веков была классической страной
абсолютизма. Борьба королей с отдельными крупными
феодалами не должна затемнять от нас того, что
абсолютная монархия была не чем иным, как диктатурой дворянства,
но диктатурой дворянства в условиях разложения
феодального строя и зарождения капиталистических отношений.
В XVI—XVII веках королевское правительство очень
часто отдавало сбор налогов на откуп. Откупщики
беспощадно выколачивали налоги, прибегая к помощи солдат.
Яркую сцену сбора налогов, которую рекомендуется
зачитать учащимся, рисует в книге «Проклятое урочище»
писатель А. Бэро (отрывок «Сборщик налогов»).
В отрывке из романа Альфреда де Виньи «Сен-Мар»
дается образ кардинала Ришелье. Отрывок и портрет Ри-
шилье, помещенный в учебнике (рис. 79), помогут учителю
воссоздать фигуру этого выдающегося политика и ловкого
дипломата.
СБОРЩИК НАЛОГОВ
Этот человек приехал в деревню из Жонса в коляске,
запряженной четырьмя лошадьми и окруженной конными солдатами.
Он сразу потребовал такую сумму, которой саболасцы не могли
бы собрать даже в том случае, если бы отдали все, что у них
было. И они сказали ему это устами Пьера Шамбора,
державшего свою круглую шляпу в руках, но не выказывавшего
никакого страха.
172
— Господин интендант, — сказал он, — мы, крестьяне,
кормим все королевство, мы работаем не щадя ни души, ни тела.
И от всей этой работы нам остается только пот да горе. Это ли
вы хотите отнять у нас, господин интендант?
— Вот это называется хорошо сказано, — ответил
откупщик, не выходя из коляски. — У тебя, мошенник, так ловко
подвешен язык, что как-то невольно хочется подвесить вместе с ним
и все остальное.
— Или мы мухи и черви, что нас можно давить под
ногами? — тем же тоном заговорил крестьянин. — Не работай
народ, чем бы жили прекрасные мессиры?
Сборщик только засмеялся и ничего не ответил. Но на
другой день в деревню прибыл эскадрон легкой кавалерии,
который вытоптал зеленый овес и сжег два стога соломы. Совершив
этот подвиг, солдаты отъехали на пол-лье от Саболаса, и через
несколько минут оттуда крупной рысью прикатила все Та же
коляска. В ней по-вчерашнему сидел сборщик.
— Ну что? — сказал он самым добродушным тоном. — Не
нашли ли вы под конскими копытами кой-каких деньжонок?
Вместо ответа Пьер Шамбор молча вручил ему полотняный
кошель. В нем находилась тройная подать. В тот день сборщик
увез из Саболоса все сбережения за пять лет.
А. Б э р о, Проклятое урочище, «Московский
рабочий», М.—Л., 1927, стр. 77.
КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ
Несмотря на то, что в зале много народу, в ней можно
услышать, как пролетит муха. Тишина нарушается только скрипом
перьев да тонким голосом человека, который что-то диктует
и при этом часто кашляет. Голос этот исходит из огромного
кресла с высокими ручками, стоящего у камина, который
топится, несмотря на жаркое время года и теплый климат страны.
В кресле — старик с открытым лбом, редкими седыми
волосами, с большими кроткими глазами; маленькая седая бородка
клином придает бледному, худощавому лицу ту утонченность,
которой отличаются все портреты времен Людовика XIII. Рот
этого человека, почти лишенный губ, служит несомненным
признаком злости. Этот маленький рот обрамлен седенькими
усиками и «королевской» бородкой в виде запятой, весьма модной
в то время. На голове старика красная шапочка, одет он в
широкий шлафрок и шелковые красные чулки.
Это не кто иной, как сам Арман Дюплесси, кардинал де
Ришелье.
Рядом с ним, за небольшим столом, сидят четверо юношей
в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. Это — пажи и при-
173
ближенные, или «слуги», что значило на языке того времени —
люди, близкие его семье, друзья дома.
В те времена младшие сыновья лучших дворянских фамилий
шли на почетную службу к вельможам и отдавали себя
целиком в их распоряжение; по малейшему знаку своего
патрона они должны были драться на дуэли с первым
встречным.
Пажи, о которых идет речь, составляли по указаниям
кардинала, письма, вручали их на просмотр самому министру,
затем черновики переходили к секретарям и переписывались
набело.
Старый герцог тоже писал что-то, держа бумагу на
коленях. ..
... — Возьмите перо, Жозеф, и напишите то, что я вам
продиктую. Это будет письмо новому духовнику короля. Я имею
в виду отца Сирмонда, надеюсь, на этот раз выбор будет
удачнее. ..
Жозеф присел к большому столу, готовый писать. Кардинал
стал диктовать ему свои заповеди, которые через небольшой
промежуток времени осмелился препроводить королю; король
принял их, одобрил и выучил наизусть, как подлинные заповеди
церкви.
Они дошли до нас, как страшный памятник той власти,
какую может захватить человек силою времени, интригами и
смелостью.
I. Государь должен иметь первого министра, а этому
первому министру надлежит обладать тремя свойствами: 1) быть
преданным государю всей душой, 2) быть искусным и верным,
3) быть духовного звания.
II. Государь должен любить своего первого министра.
III. Первый министр должен быть бессменен.
IV. Государь должен быть вполне откровенен с первым
министром.
V. Предоставить ему свободный доступ к своей особе.
VI. Дать ему верховную власть над народом.
VII. Наделить его высшими почестями и большим
богатством.
VIII. Государь не имеет сокровища более ценного, чем его
первый министр.
IX. Государь не должен верить ничему, что ему будут
говорить против его первого министра.
X. Государь должен передавать первому министру все, что
говорят против него, даже в том случае, если бы государя
просили сохранить это в тайне.
XI. Государь должен ставить выше всего благо государства
и отдавать предпочтение своему первому министру перед всеми
родственниками.
174
Таковы были заповеди бога Франции. Все же они были
менее удивительны, чем та потрясающая наивность, с какой он
завещал их потомству, как будто и оно должно было уверовать
в них.
А. де В и н ь и, Сен-Map, Жургазобъедине-
ние, М., 1936, стр. 88—95.
15.
РЕФОРМАЦИЯ.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ
•
Реформация и крестьянская война в Германии выросли
на почве тех социально-экономических сдвигов, которые
происходили в Европе и, в частности, в Германии в течение
XV—XVI веков. По существу это была борьба против
феодализма под религиозными знаменами. Маркс и Энгельс
рассматривали реформацию и крестьянскую войну в Германии
как первый акт буржуазной революции в Европе.
К началу XVI века большую силу приобрели богатые
южно-немецкие купеческие дома — Фуггеров, Вельзеров и др.
Они вели широко разветвленную международную
торговлю, ссужали деньгами папу и императора, захватывали
серебряные и медные рудники, вкладывали свои капиталы в
вест-индские и ост-индские компании. На деньги Фуггеров
Карл V подкупил курфюрстов, избравших его императором.
Вся эта деятельность Фуггеров и других представителей
зарождающейся буржуазии получила отражение в
приведенной выдержке из романа Л. Островера «Караван входит в
город» (отрывок «Фуггеры»).
В отрывке «Разбой феодалов» из того же романа Л. Ост-
ровера дается живая картина грабежей и вымогательств
«благородных» разбойников, типичная для средневековой
Европы. Отрывок по желанию учителя может быть
использован или в данной теме, или в теме «Развитие ремесла
и торговли. Рост городов в Западной Европе».
Начало поэмы И. Бехера «Лютер» — замечательная
иллюстрация к оценке значения выступления Лютера,
данной Ф. Энгельсом в его работе «Крестьянская война в
Германии».
Большое впечатление на учащихся может произвести
сцена дикой расправы графа с крестьянином, вся вина
которого заключалась в том, что его малолетний сын поймал
десяток раков. Ловить же раков разрешалось только для
господского употребления — это было одним из исключитель-
175
ных прав феодалов (отрывок «Смерть за ловлю раков» из
книги Ал. Алтаева «Под знаменем «Башмака»).
Мужество Томаса Мюнцера, названного Ф. Энгельсом
«самой величественной фигурой крестьянской войны», и
радикализм его требований раскрываются в отрывке «Мюнцер
обличает феодалов» из того же произведения Ал. Алтаева.
Обличительная речь Томаса Мюнцера в романе
основывается на тексте его письма, извлечение из которого имеется
в учебнике (стр. 219).
Работу по изучению «12 статей» учитель может построить
на основе фрагмента из романа Р. Швейхеля «За свободу».
Очень близок к содержанию памфлета Л. Лютера
«Против разбойных и грабительских шаек крестьян» его монолог
в поэме И. Бехера «Лютер» (отрывок «Отношение Лютера
к крестьянам»).
Рассказ учителя о битве под Франкенхаузеном может
быть построен на основе описания этой битвы, взятой из
книги А. Штекли «Томас Мюнцер», и картины «Мюнцер у
Франкенхаузена» (учебник, илл. X).
Кровавая расправа озверевших дворян во главе с
палачом — полководцем Трухзесом над крестьянами описана в
двух отрывках из романа Р. Швейхеля «За свободу»
(отрывки «Расправа дворян с участниками восстания» и «Охота
на «мужиков»).
Опираясь на королей и феодалов, которые цепко
держались за католицизм, надеясь, что старая и опытная в обмане
народа и в расправе с еретиками церковь поможет удержать
в повиновении трудящиеся массы, католическое духовенство
перешло в контрнаступление. Тысячи людей стали жертвами
католической реакции. Дикая и кровавая оргия
Варфоломеевской ночи талантливо передана в романе П. Мериме
«Хроника времен Карла IX».
Классическое описание аутодафе содержится в романе
Э. Ларрета «Слава дона Рамиро». Автор детально
воспроизводит жуткоторжественный ритуал казни еретиков.
Последовательно перед глазами читателя проходят этапы этого
страшного акта. Особенно трагично воспринимается
аутодафе на фоне фанатизма верующих, который всегда умело
разжигала католическая церковь. Описание аутодафе —
благодатный материал для атеистической работы.
ФУГГЕРЫ
Фуггер достал из-под стола железный ларец, раскрыл его:
засверкали жемчужины, точно сгустки лунного сияния,
зеленеющие смарагды, фиалковые гиацинты, алмазы, холодные как
льдинки...
176
Фуггер погрузил руку в ларец, зажал в кулак горсть
драгоценностей и подошел к пылающему камину.
Рука Конрада Майера взметнулась, рот раскрылся.
Патриций сел в кресло перед камином, разжал пальцы и
долго любовался игрой камней. Потом он бережно опустил
в ларец драгоценности и запер его...
... Гримаса, похожая на улыбку, исказила лицо Фуггера:
— По долговым все платили?
Внезапный вопрос не застал врасплох Конрада Майера.
— Все, кроме его светлости архиепископа Майнцского. Его
светлость просит подождать полгода. Его святейшество
передало его светлости часть доходов от индульгенций.
— Напиши этой светлости: деньги или настоящее
обеспечение. Таможня, вайда, налоги, переправы. Стар я стал, Конрад!
Слышишь! — Он вскочил: — Ну нет! Не стар Фуггер!
Майер придвинулся к камину.
— Патриций! Что-то стряслось над славным Аугсбургом.
Купцы и ремесленники потянулись к нам за деньгами, словно
на кладбище в духов день. Все они толкуют про еврейский
караван.
— Не дам денег.
Конрад Майер решил уйти. Он не узнавал сегодня патриция.
Возле дверей его остановил окрик Фуггера:
— Все гонцы прибыли?
— Не все, патриций. По дороге из Милана, возле «Орлиной
Выси», погиб Короткий Генрих.
— Епископ уже грабит!
— Немного было в сумке, патриций.
— И пфеннинга не хочу терять!
Майер поспешил обрадовать хозяина. Он вернулся к столу.
— Пишут, в швацких копях напали на новую серебряную
жилу.
— В моих? — шепотом спросил Фуггер.
— В заложенных у нас князем Иоанном.
Еще тише зазвучал голос Фуггера:
— Купи всю землю. На тысячу моргенов вокруг жилы.
Снизь добычу. Обесцень копи — и выкупи! — закончил он
крикливо.
— Выкуплю, патриций.
Фуггер задумчиво встал перед распятием:
— Надо выручить бюргеров. Пусть бог благословит их
дела. Но ниже 110% не выписывай. Иди, Конрад, и пришли ко
мне кардинальского гонца.
Л. Острове р, Караван входит в город,
«Советский писатель», М., 1940, стр. 212—214.
12 Сост. О. В. Волобуев и др.
177
РАЗБОЙ ФЕОДАЛОВ
Мысли епископа — о юности, о счастливой юности, которая
началась ударом кинжала. У проезжей дороги, охраняя
переправу через холодный Одер, стоял его родовой замок. На башне
похаживал дозорный, он высматривал путников и давал знать
о них условными сигналами: звук охотничьего рога — дворянин,
боевая труба — рыцари с вооруженной челядью, трещотка —
пеший, барабанная дробь — купцы с товарами или крестьяне
с кладью. Отец, гордившийся своей рыжей бородой и рыжими
предками, выезжал встречать путников. Рыцарей немедля
препровождали к переправе, — они платили за проводы новостями;
крестьян обыскивали, хотя уже многие годы не находилось
смельчака, который утаил бы горошину от князя: все честно
клали к ногам княжеского жеребца десятую часть клади;
купцов, монахов и евреев гнали в замок для потехи и грабежа.
Потеха начиналась в первый же вечер: пленников
усаживали за общий стол, рыжий хозяин пространно
разглагольствовал о спасителе и его божественных деяниях, а семья
благочестивого князя потчевала «дорогих гостей». Новички боялись
прикоснуться к деревянной миске, они с ужасом в глазах
наблюдали, как залпом выпивали бывалые купцы добрых пять
фунтов топленого сала, заедая горячее пойло мороженой репой.
Новички не знали, что под арапником князя им придется
выпить двойную порцию, не знали, что жадный князь так
проверяет содержимое желудков своих гостей: пытался же Меер из
Франкфурта провезти в желудке пять жемчужин, а монах
Клаус из Вормса — сорок семь зерен перца!
Князь не держал своих пленников дольше одного дня.
По-христиански он делил их добро на две части и
представлял владельцу право выбора.
Там же, стр. 41—42.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЮТЕРА
I.
Монах шагнул на паперть и прибил То самое, что дома говорили.
Лист тезисов к церковному порталу. С соборной колокольни лился звон,
Был день торговый. Гуще люд ходил. И улицы захлебывались в гаме,
Подняв глаза, толпа листок читала. Монах стоял, как будто пригвожден,
О торге отпущеньями,' грехе Стоял как будто в землю врос
Лжеверия, налогов непосильи ногами.
Открыто было сказано в листке
И. Р. Б е х е р, Лютер. — В кн.: И. Б е -
хер, Избранные сочинения, Изд. иностр. лит-ры,
М., 1961, стр. 247.
178
СМЕРТЬ — ЗА ЛОВЛЮ РАКОВ
В замковом дворе, за конюшнями, шумела толпа.
Собиралась вся челядь, в ворота вводили кого-то. И сразу двор
наполнился стонами и воплями.
— Вот еще, — сказал Филипп, — привели. Вчера в
«Золотом улье» у реки поймали мальчишку, а мальчишка, оказалось,
словил с десяток раков. Граф велел схватить отца мальчишки
и запороть его до смерти на площади в Гейльбронне, чтобы все
в округе помнили, как вилланы едят раков. А судьи ему
отказали. Видишь ли, за десяток раков даже продажные судьи не
хотели убивать человека. Верно, теперь сюда привели его на
расправу. Эх, кабы всем нам уйти в Ясное ополчение к Рор-
баху!
Это Филипп сказал совсем шепотом. Вальтер второй раз уже
слышал о Ясном ополчении Рорбаха. Но сейчас он не думал
над словами Филиппа — он бежал вместе с графской челядью
к колодцу, из которого брали воду для скотины.
На мощенном камнем дворе собралась толпа. Из замка
вышел граф и неторопливой, величавой поступью подошел к
колодцу. Толпа челяди расступилась. Вальтер остолбенел...
Перед ним на камнях двора, со скрученными назад руками, на
коленях, был Клаус Мюллер, с его загорелым лицом, на
котором ясным светом сияли честные, детски простодушные глаза.
Граф подошел к нему вплотную и засмеялся.
— А ну, покажите, где этот лакомка, что не может сесть
за стол без ракового соуса! — сказал он. — Иди сюда,
ближе!
И он потянул Клауса за бороду.
Вальтер бросился вперед.
— Ваша милость, ч— закричал он, — да ведь это Клаус,
честный Клаус, что спас меня от смерти и дал мне приют, когда
меня все гнали! Простите его, и я спою песню о вашем
великодушии.
Но граф расхохотался:
— Ты споешь мне песню о моих подвигах на войне —
менестрели не слагают песен о рыцарях и вилланах, да я и не
нуждаюсь в таких песнях... Эй ты, лакомка! Об тебя не захотели
пачкать свои руки гейльброннские палачи, на тебя не хотел
тратить время городской судья, так я тебя поручу моим
людишкам.
Лицо у Клауса было белее его рубахи, губы тряслись, а из
груди вырывались полуслова, полустоны.
Граф хлопнул в ладоши:
— Эй вы, псари, кто там есть! В колодец его! Там он
половит славных раков. Назло городским судьям. Оци узнают,
какова воля графа фон-Вейлера.
12*
ГГ9
Здоровенный детина-егерь подтащил упиравшегося Клауса
к краю колодца; за ним подъехал доезжачий, и они столкнули
Клауса в черную яму. Слышны были стон да бульканье воды.
В момент падения глаза Клауса и Вальтера встретились, и этот
взгляд для Вальтера был хуже упрека.
Он закрыл лицо руками и бросился бежать в конюшню. Там,
зарывшись в солому, Вальтер пролежал до ночи и ему все
слышались бульканье воды и стоны.
Ал. А л т а е в, Под знаменем «Башмака»,
Детгиз, М—Л., 1962, стр. 135—136.
МЮНЦЕР ОБЛИЧАЕТ ФЕОДАЛОВ
Наконец герцоги Фридрих и Иоанн Саксонские прибыли
лично в Альтштедт. Из замка прискакал гонец с приказом,
чтобы Мюнцер произнес проповедь в присутствии герцогов.
— И ты будешь говорить в замке? спросила с тревогой
Оттилия, когда гонец ушел.
Мюнцер спокойно кивнул головой и уселся за стол, чтобы
набросать содержание проповеди. Поздно ночью прочел он ее
жене. Каждое слово этой блестящей, огненной речи было резко,
как удар молота. Его обвиняли в подстрекательстве к мятежу,
а он, вместо того чтобы оправдываться, сам нападал: обвинял
своих судей и грозил им близким народным восстанием.
Он кончил. Оттилия молчала.
— Приготовься, дорогая. Завтра я иду к угнетателям
народа открыто возвестить им правду и, может быть, не вернусь
оттуда.
— Я не боюсь, я горжусь тобой!
Больше они ничего не сказали друг другу, но после этих
слов Мюнцер почувствовал себя необыкновенно сильным. Он
смотрел на жену и с восторгом думал, как она мужественна и
терпелива.
На следующий день Мюнцер направился к герцогскому
замку в своем обычном старом, заштопанном платье. Когда он
вошел под высокие своды замкового зала и очутился лицом к
лицу с герцогами Саксонскими, окруженными пышной свитой
и гостями, он ничуть не растерялся и, непринужденно
поклонившись собранию, спокойно стал перед герцогскими креслами.
Герцог Иоанн сделал нетерпеливый жест рукой и,
презрительно сощурившись, приготовился слушать. Мюнцер начал
свою обличительную речь.
— Земля полна тщеславными лицемерами, — гремел его
голос, — и нет ни одного смелого человека, который решился
бы высказать истину. Господа — главные лихоимцы, воры и
грабители; они присваивают себе все создания, всякую тварь —
180
рыбу в воде, птицу в воздухе, растения на земле; все должно
принадлежать им. Бедным они говорят о божьих заповедях.
«Бог повелел, — говорят они, — не воровать!» Но они считают,
что к ним самим эта заповедь не относится, поэтому они дерут
шкуру с бедного — поселянина, работника и всех, кто живет
под их властью.
Герцог Иоанн переглянулся с герцогом Фридрихом;
последний нахмурился.
Среди свиты пробежал ропот негодования:
— Он, кажется, с ума сошел! Говорить такие вещи прямо
в глаза государям!
Но Мюнцер продолжал, не обращая никакого внимания на
этот ропот:
— И если кто воспротивится, того отправляют на
виселицу. .. Господа сами виноваты в том, что крестьяне становятся
их врагами: они и не думают устранить причину мятежей...
Какого же добра ждать? Да, я прямо говорю вам: теперь я
становлюсь в ряды бунтовщиков! А сейчас прощайте!
Он неловко поклонился, круто повернулся и ушел, прежде
чем кто-нибудь успел опомниться.
— Какая дерзость! — пронеслось в толпе. — Он за это
поплатится! /
А герцоги сидели растерянные, не зная, на что решиться.
' Т а м ж е, стр. 83—84.
ДВЕНАДЦАТЬ СТАТЕЙ
Прибывшие в Бретгейм крестьяне застали всю общину в
сборе и были встречены радостными криками. Оба отряда
расположились лагерем на лугу перед деревней. Появились хлеб,
вино, и люди в боевом радостном настроении стали угощать
друг друга. Большого Лингарта и Леонгарда Метцера избрали
начальниками Бретгеймского ополчения. Когда все
подкрепились, Симон Нейфер приказал собраться в круг, вышел на
середину и объявил, что сейчас Пауль Икельзамер из Оренбаха
прочитает «Двенадцать статей». Это были «истинные и
справедливые статьи всего крестьянского сословия и всех подневольных
людей, обиженных своими духовными и светскими господами».
Когда молодой писец выступил вперед с книжечкой в
руках, вся бурлящая, шумная толпа замерла в напряженном
ожидании. Многие слышали о «Двенадцати статьях», некоторые их
даже читали сами, но все затаили дыхание. Крестьянский
манифест, начинавшийся жалобами на извечные несправедливости,
содержал требование права охоты, рыбной ловли, рубки леса и
запрещения потравы крестьянских полей. Далее шли
требования отмены барщины, непосильных налогов, несправедливого
суда. В третьей части было изложено учение о евангельской сво-
181
боде, об уничтожении крепостничества, посмертного побора и
малой десятины. В заключение предлагалось всему
крестьянству не признавать никаких повинностей, противоречащих
священному писанию.
Когда читавший умолк, опять заговорил Симон:
— Никто, дорогие братья, не имеет права обвинять нас в
том, что мы бесстыдно предъявляем чрезмерные требования.
Мы требуем только справедливости, только отмены гнета,
который мы вынуждены были терпеть до сих пор, ибо нам было
даже некому жаловаться, кроме солнца, которое и сейчас
безмолвно сияет над нами. Ведь сам доктор Мартин Лютер,
которому послали эти статьи верхнешвабские крестьяне, увещевал
господ поступать с ними по справедливости и согласился быть
судьей между нами в третейском разбирательстве. Но к чему
это привело? Единственно к тому, что господа пошли на
переговоры со своими подданными, чтобы выиграть время и,
собравшись с силами, напасть на них. Если кто знает другое средство
избавить нас от позорного рабства, пусть скажет. Я знаю
только одно средство: сломить силу силой!
— Другого нет, нет! — загудели сотни голосов.
— Итак, дорогие братья, — продолжал Симон Нейфер, —
мы объявляем во всеуслышание наши жалобы на тяжкие
притеснения и наши требования. Мы все, как один, весь простой
люд — от Рейна до Богемского леса и по всей Тирольской
земле. Это цепь, которая связывает нас всех воедино. И наше
знамя, наш Башмак — «Двенадцать статей». Так поклянемся
же сплотиться под этим знаменем и не сложить оружия до тех
пор, пока не уничтожим все несправедливости и притеснения и
не установим евангельской свободы!
И, подняв к небу указательный палец правой руки, как для
присяги, он произнес:
— Клянусь всемогущим богом!
И все, как один, подняв руки, повторили его клятву, звеня
оружием, и далеко прокатился клич: «Башмак! Башмак!»
Р. Ш в е й х е л ь, За свободу, Гослитиздат,
М., 1961, стр. 225—226.
ОТНОШЕНИЕ ЛЮТЕРА К КРЕСТЬЯНАМ
Тогда он в крик: «Светлейшие,
пощады!
Сиятельные, не моя вина,
Что, бедняков и слабых сбивши
в стадо,
Их против вас бунтует сатана.
Какой-то Мюнцер в проповедь
разгрома
Вплетает наше имя без стыда.
Прошу припомнить: ни к чему
такому
Я никогда не звал вас, господа.
В его тысячелетнем вольном штате
Ни старины, ни нравов не щадят.
Там грех не в грех и все равны и
братья —
182
Огнем их проучите за разврат. Я всем вам обещаю отпущенье,
Их надо бить и жечь без сожаленья, И бог вас вспомнит в царствии
Дерите смело кожу с них живьем своем».
И. Р. Бехер, Лютер. — В кн.: И. Бехер,
Избранные сочинения, Изд. иностр. лит-ры, М.,
1961, стр. 252.
БИТВА ПОД ФРАНКЕНХАУЗЕНОМ
В воскресенье утром далеко в поле были замечены отряды
конницы, двигавшиеся со стороны Мюльхаузена. Ландграф!
В лагере чуть было ке началось смятение. Мюнцер мгновенно
нашелся. Одумайтесь, это идут на помощь наши братья мюль-
хаузенцы! Ему удалось восстановить порядок. Надолго ли?
Лазутчики доносили, что к Франкенхаузену движется войско
ландграфа гессенского и герцога брауншвейгского. Их силы
велики: три тысячи пеших и восемьсот всадников.
Он вскочил на лошадь и бросился туда, где положение было
особенно опасным. Альштедцы были его самыми надежными
помощниками. Мюнцер переместил отряды, женщинам и детям
велел уходить в лес, выкатил пушки на новые позиции. Он
носился по лагерю из конца в конец и внушал крестьянам
мужество. Скоро и из Нордхаузена прибудут к ним подкрепления.
Князьям несдобровать, запляшут они под иную дудку. Близок
час, когда восставшие, как обещали, пожалуют в гости к
надменному мансфельдскому владыке. Страшны они будут в своем
гневе — даже стены и те расступятся. Хельдрунген будет
повержен! И они не оставят от него камня на камне.
Томас добился своего: когда всем стало совершенно ясно,
что приближаются не союзники, а враги, паники не возникло.
Крестьяне, сжимая в руках оружие, сосредоточенные и
настороженные, молча ждали врага.
Филипп \ горячий, как молодой конь, спешил. Ему не
терпелось вкусить победы. Отборнейшие рейтары бросились в атаку.
Рядом с Томасом стояла маленькая пушка. Он приказал
сделать первый выстрел: «Сбейте-ка, ребята, с ландграфа спесь!»
Стычка была короткой, но ожесточенной. Рейтары
повернули обратно. Лошади без седоков трусили по склону холма. Со
стен вдогонку отступающим летели насмешки. Проучили на-
славу Филиппа!
Он злился. Командиры просили дать войскам отдых. Какая
у ландскнехта на уме война, коль пуст желудок! Филипп
одумался и приказал разбивать лагерь. Ему сообщили, что герцог
Георг обещает завтра быть здесь. Он не особенно обрадовался,
но благоразумие взяло верх над самонадеянностью. Лучше раз-
1 Филипп — ландграф гессенский, один из палачей крестьянского
восстания.
183
делить с Георгом лавры победы, чем одному заработать
колодку на шею или погребальный венок.
Первая же стычка показала Мюнцеру, что отряды
восставших расположены неудачно. Большинство их находилось в
низине у города. Неприятель, обладающий сильной конницей и ^
дальнобойными пушками, легко мог воспользоваться
преимуществами, которые ему давала местность. Томас решил переменить
позиции. Рядом с северной частью Франкенхаузена возвышался
большой холм. Сразу за ним начинались густые леса. Выбор
был сделан правильно. Работы по устройству нового лагеря
быстро продвигались вперед. Строили «вагенбург» —
укрепление из составленных вместе возов. Еще со времен гуситов
сотни залихватских рыцарских атак разбились о дубовые доски
вагенбургов. Тяжеловооруженные всадники, как снопы,
валились на землю, когда мужики молотили их по шлемам
палицами и цепами.
Весь день и часть ночи строился лагерь. Тяжелая это была
ночь! Подкрепления, которых он так ждал, не приходили. О
намерениях эрфуртцев до сих пор не было ничего известно. Норд-
хаузен тоже молчал.
А в это время герцог Георг, не жалея ни лошадей, ни
пехотинцев, спешил на соединение с ландграфом.
В тревоге Томас встретил утро. Из-за чернеющего леса
поднималось кровавое солнце. Наступил понедельник, 15 мая.
Успешно отбитый натиск конницы укрепил веру восставших
в собственные силы. Но решимость сражаться была недолгой.
Из стана врагов донеслись ликующие крики: туда с
многочисленным войском прибыл Георг Саксонский.
Положение с каждым часом становилось все напряженнее.
Князья готовились наступать. На холмы были втянуты пушки.
Часть неприятельских отрядов, обойдя Франкенхаузен, заняла
высоты, лежавшие к северу от города. Крестьяне оказались
почти полностью окруженными.
И тут опять раздались встревоженные голоса: разве могут
мужики победить такую уйму ландскнехтов и рыцарей? Нельзя
доводить до сражения! Разве они собрались здесь непременно
ради того, чтобы проливать кровь? Они ведь ищут христианской
справедливости!
В лагере не было единства. Давние соратники Мюнцера
страстно убеждали товарищей не поддаваться малодушию. Но
не на всех действовали их речи — на холмах стояли тяжелые
пушки.
Неужели кровавые уроки, преподанные вашим братьям,
пройдут бесследно? Неужели они не взывают к чувству мести?
Мюнцер вспоминал казни на юге, фульдский ров, резню,
учиненную Альбрехтом. И после всего этого еще верить князьям
с их волчьими повадками?
184
Но голоса не желающих сражаться становились все громче.
Почему князья должны бить из пушек по крестьянам, если они
не сделали им ничего плохого? Зачем друг на друга нагонять
страх? Нужно написать князьям, что они не собираются на них
нападать, — пусть те тоже не обнажают мечей.
Томас видел, что значительная часть крестьян по-прежнему
надеется на переговоры. Он знал, как велико его влияние на
людей. Он может снова, призывая к борьбе, воодушевить даже
колеблющихся. Но долго ли в них продержится боевой дух,
если они затаят мысль о том, что все можно решить миром?
Каждый должен понять, что бой неизбежен.
Надо было покончить с верой в князей, которой питались
надежды на возможность добиться справедливости, не
прибегая к оружию. Мюнцер предупреждал, что князья явились сюда
с войсками не для увещеваний. Сколько ни распинаться перед
ними в миролюбии, все напрасно. Тираны пришли сюда, чтобы
задушить восстание. Они могут ответить крестьянам только
одним: требованием немедленной и безусловной сдачи. Но не все
думали так, как Мюнцер. Если они верят в успех, пусть пишут!
Но пусть зорче глядят, чтобы не угодить в капкан!
Один скорняк вызвался отвезти письмо в неприятельский
лагерь. Оно гласило: «Мы исповедуем Иисуса Христа. Мы здесь
не для того, чтобы причинить кому-либо зло, а чтобы добиться
божьей справедливости. Мы здесь и не для кровопролития. Если
вы хотите так же поступать, то мы вам ничего не сделаем. Этого
должен каждый держаться».
Забравшись на возы, крестьяне с нетерпением ждали, когда
вернется посланец. ^Доставленный им ответ возмутил всех.
Князья не говорили, что пришли к Франкенхаузену, чтобы
никому не чинить зла. Нет, они не скрывали своей цели — они
явились, чтобы сурово покарать богохульников и смутьянов.
Однако, считая, что многие крестьяне обмануты
злоумышленниками, они, движимые христианской любовью, обещают им
пощаду. Но только в том случае, если будут приняты их условия:
крестьяне немедленно должны сложить оружие, выдать живьем
лжепророка Томаса Мюнцера и всех его сподручных и целиком
полржиться на милость князей.
Вот чего они хотят! Князья ставят такие условия, точно они,
выиграв сражение, уже забили мужичьи шеи в колодки и
только выбирают, кого бросить на плаху, а кого снова гнать на
барщину! ..
... Огромная толпа, тесно сгрудившись вокруг Мюнцера,
стояла посреди лагеря. Внезапно со стороны холмов, где
находились пушки ландграфа, загремели выстрелы. Сперва никто
ничего не понял. Князья обещали ждать ответа три часа, а
прошли ведь только считаные минуты! Проклятые изменники!
Увидя густую толпу, они тут же приказали открыть огонь из
185
всех пушек. Ядра, врезаясь в гущу лФдей, производили
страшные опустошения. Вагенбург был разнесен в щепки. Началось
смятение. Мюнцер еще пытался восстановить порядок, хотел
остановить бегущих. Но это было уже не в его силах. В лагерь
ворвалась неприятельская конница. Лес был близко, но его не
достичь: враги перерезали дорогу. В страшной давке масса
бегущих ринулась вниз, к городу. Ворота были завалены
бревнами. И отступающие, и преследователи торопились
перебраться через стены. В овраге дрались особенно ожесточенно.
Смельчаки уложили несколько всадников и, отбиваясь, отходили к
Франкенхаузену. Мюнцер, раненный в голову, едва держался на
ногах. Ему помогли пролезть сквозь пролом в стене. В городе
уже шла резня. Ландскнехты, разобрав завалы, распахнули
ворота. Узенькие улииы были запружены обезумевшими людьми.
Всадники рубили направо и налево. Лязга оружия почти не было
слышно — все тонуло в море криков. Везде — во дворах, на
площади, в домах и церквах — шла беспощадная бойня.
Пьяные от крови наемники развлекались, как могли:
прятавшихся в домах они вытаскивали на улицу под ноги лошадям
или просто выбрасывали из окон. На мостовой рейтары
добивали их пиками.
А. Ш т е к л и, Томас Мюнцер, «Молодая
гвардия», М., 1961, стр. 271—278.
РАСПРАВА ДВОРЯН С УЧАСТНИКАМИ ВОССТАНИЯ
«Любезный брат Вильгельм!
Виктория! Мужицкому бунту конец! Сегодня, в семь часов
поутру, Трухзес со всеми своими князьями, графами, рыцарями,
с тремя с половиной тысячами рейтаров, с отборными частями
пехоты и с большой помпой вошел в Вюрцбург. Вступление
происходило через Беговые ворота, остальные были заперты. Тотчас
было приказано собраться всем вюрцбургским гражданам на
центральной рыночной площади, иногородним — на бывшем
еврейском кладбище, крестьянам — на ристалище. Всем — без
оружия. Трухзес прежде всего подъехал к вюрцбуржцам и
обратился к ним с весьма немилостивой речью, а рядом с ним стояли
четыре палача с секирами наголо. Тут же отсекли головы
пятерым. Начали с Якоба Келя. Из Ингольштадта он доскакал было
до Эйвельштадта, но добрые сограждане выдали его вюрцбург-
скому магистру, чтобы тот похлопотал за них перед Трухзесом.
Раба божьего вытащили из страшной Эккардовой башни, где
его держали в кандалах, и укоротили на голову. Потом
приволокли девятнадцать иногородних и тоже сняли им головы.
Потом Трухзес отправился на ристалище к крестьянам и там
казнил тридцать шесть вожаков и знаменосцев, а остальным дали
по белому посошку в руки и выгнали из города. Жаль, что Бер-
метер, первейший коновод у этого сброда, вовремя *дал тягу.
186
Хоть убей, не понимаю, почему пять тысяч горожан и крестьян,
запершись в городе, терпеливо ждали Трухзеса, как бараны
мясника, когда еще третьего дня весь правый берег Майна был
свободен и они могли бежать. Но поговаривают, что магистрат,
который вел переговоры с Трухзесом, взял дуралеев на пушку,
уверив, что дарованная городу пощада распространяется и на
них. Выходит, стало быть, что их бараньи головы пошли в
приплату за то, что Трухзес был милостив и не повыдернул вюрц-
буржцам чубы. Милый Вильм, пишу тебе все это не зря. Теперь
ты сам смекаешь, что с Трухзесом шутки плохи. Он даже за
вином не становится добрым. Когда он вернулся из Гейдингсфель-
да, мы закатили ему и князьям в замке большой пир, и все так
зверски перепились, что никто не мог добраться до постели, а
спали, где кто свалился, большей частью под столом. Но
Трухзес даже ни разу не улыбнулся...
Ганс фон Грумбах.»
Р. Швейхель, За свободу, Гослитиздат,
М., 1961, стр. 498—499.
ОХОТА НА «МУЖИКОВ»
Проезжая через крестьянские поля и виноградники,
благородные господа ради рыцарской потехи подстреливали крестьян,
как каких-нибудь воробьев или зайцев. Граф фон Гельфенштейн,
смеясь, рассказывал жене, до чего забавно было смотреть, как
эти людишки подпрыгивали в воздухе и, перекувырнувшись,
шлепались на землю. Дитрих фон Вейлер чуть не свалился с коня
от хохоту, когда мужичонка, которого он поднял выстрелом из
ржи, чуть не улепетнул от него в виноградники. И гордая
графиня тоже смеялась над рассказом об убийстве беззащитных,
ни в чем не повинных людей.
Там же, стр. 302.
ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
Покинув свою роту, капитан Жорж поспешил к себе домой,
надеясь найти там брата; но тот уже вышел из дому, сказав
слугам, что уходит на всю ночь. Из этого Жорж без труда
заключил, что брат находится у графини, и кинулся туда
разыскивать его. Но избиение уже началось; беспорядок, толпы убийц,
цепи, протянутые через улицы, останавливали его на каждом
шагу. Ему пришлось идти мимо Лувра, где фанатизм
разыгрался с наибольшей яростью. В этом квартале жило большое
количество протестантов, и теперь он был запружен горожанами из
католиков и гвардейскими солдатами с огнем и мечом в руках.
По энергичному выражению одного из тогдашних писателей,
187
«кровь лилась там со всех сторон, стекая к реке», нельзя было
перейти через улицу, не рискуя, что в любую минуту вас может
изувечить какой-нибудь труп, выброшенный из окна.
Из адской предусмотрительности большая часть лодок,
стоявших обычно около Лувра, отведена была на другой берег,
вследствие чего многим из преследуемых, метавшимся по
набережной Сены в надежде сесть в лодку и этим спастись от
вражеских ударов, оставался выбор между водой и алебардами
гнавшихся за ними солдат. Тем временем по слухам, видели,
как Карл IX, вооружившись длинной аркебузой, из дворцового
окна подстреливал, как дичь, несчастных прохожих.
Капитан продолжал свой путь, шагая через трупы, весь
забрызганный кровью, на каждом шагу подвергаясь опасности, что
какой-нибудь убийца по ошибке уложит и его. Он заметил, что
у всех солдат и горожан были белые повязки на рукавах и
белые кресты на шляпах. Он легко мог бы одеть эти
отличительные знаки; но ужас, внушаемый ему убийцами,
распространялся даже на условные отметки, по которым они узнавали друг
Ьруга...
... Он свернул на улицу Сен-Жос, которая была безлюдна и
не освещена; очевидно, среди живущих там не было ни одного
протестанта. Тем не менее на ней отчетливо был слышен шум
из соседних улиц. Вдруг белые стены осветились красным
огнем факелов. Жорж услышал пронзительные крики и увидел
какую-то женщину, нагую,, с распущенными волосами и с
ребенком на руках. Она бежала со сверхъестественной быстротой. За
ней гнались двое мужчин, подбадривая один другого гиканьем,
как будто охотились за диким зверем. Женщина хотела
броситься в ближайший переулок, как вдруг один из преследователей
выстрелил в нее из аркебузы, которою был вооружен. Заряд
попал ей в спину, и она упала навзничь. Почти сразу же она
поднялась, сделала шаг к Жоржу и снова упала на колени; затем,
последним усилием, подняла своего ребенка и протянула его
капитану, словно поручая младенца его великодушию. После
этого, не произнеся ни слова, она умерла.
— Еще одна ... еретичка сдохла! — крикнул человек,
выстреливший из аркебузы. — Я не успокоюсь, пока не прикончу
десяток их...
— Мерзавец! — воскликнул капитан и в упор выстрелил в
него из пистолета...
... С рассветом избиение не только не прекратилось, но как
будто еще усилилось и приняло организованные формы. Не было
католика, который из страха быть заподозренным в
принадлежности к ереси, не прикрепил бы к своей шляпе белого креста,
не вооружился бы или не побежал доносить на гугенотов, еще
оставшихся в живых. Тем временем к королю, запершемуся у
себя во дворце, никого не допускали, кроме вожаков убийц.
188
Чернь, привлеченная надеждой на грабеж, присоединилась к
гражданской гвардии и солдатам, а проповедники в церквах
убеждали верующих еще усилить свою жестокость.
— Раздавим сразу, — говорили они, — все головы гидры
и навсегда положим конец гражданским войнам.
И чтобы доказать этому народу, жадному до крови и чудес,
что небеса одобряют его неистовство и желают поощрять его
явным знамением, они кричали: .
— Идите на кладбище Избиенных Младенцев, взгляните на
куст боярышника, что зацвел второй раз, словно поливка
еретической кровью придала ему молодость и силу.
Огромные процессии вооруженных убийц с большой
торжественностью отправлялись на поклонение святому терновнику
и возвращались с кладбища воодушевленные новым рвением,
чтобы отыскать и предать смерти людей, столь явно
осужденных небесами. У всех на устах было изречение Екатерины; его
повторяли, избивая детей и женщин: «Быть с ними жестоким —
человечно, а быть милосердным — жестоко».
П. Мерим е, Хроника времен Карла IX. —
В кн.: П. Мерим е, Избранные сочинения, в
2-х т., т. 1, Гослитиздат, М., 1956, стр. 551—555.
АУТОДАФЕ
На западной стороне, залитой в этот момент утренним
солнцем, возвышался огромный траурный эшафот, который в скором
времени должны были занять, согласно обычаю, святая
инквизиция, городские власти, городской совет, дворянство, высшее
чиновничество и духовенство. Для преступников был
приготовлен другой эшафот, поуже, но такой же высоты, занимавший
южную сторону площади...
... Процессия приближалась. Алебарды сверкали на улице
Шапочников...
... Во главе процессии шли «защитники веры», гордясь
яркими перьями на шляпах и медными цепями, пожалованными
им Святым Судилищем... За ними следовали двенадцать
священников церкви Сан Висенте с хоругвью; потом, по двое в ряд,
верхом на конях темной масти, испанские гранды и именитые
кастильские дворяне, все одетые в черное, но осыпанные
драгоценностями. У некоторых на плащах были вышиты эмблемы
святой инквизиции... Народ смотрел на них сосредоточенно и
безмолвно. Слышался лишь стук подков о мостовую. Точно
двигалась процессия черных погребальных конных статуй.
Появление первых «раскаявшихся» снова вызвало шум в
толпе. Более двадцати этих несчастных, без шапок, без поясов,
без капюшонов, шли подавленные стыдом, держа в руках
незажженные свечи желтого воска. Это были отрекшиеся от своих
189
заблуждений, и им предстояло получить прощение пред
алтарем. Почти все плакали, бросались к ногам шедших с ними
монахов или с глубокими вздохами целовали им руки и края ряс.
У одних в знак определенных им сотен ударов, висели на шее
узловатые веревки, и народ, считая вслух узлы, затягивал
хором унылые и насмешливые песни, чтобы увеличить их позор.
Другие выделялись издали желтым полотном санбенито, и
сведущая в деле толпа определяла их преступления и кары при
одном взгляде на раскраску этих позорных одеяний с
изображением то четверти, то половины, то обеих перекладин креста
святого Андрея.
Далее следовали служители трибунала, которые несли на
длинных зеленых жердях покачивающиеся над процессией шесть
человеческих фигур, сделанных из соломы и редкой шерстяной
ткани, — шесть бесстрастных манекенов с большими глазами
из древесной смолы и с накрашенными суриком ртами, шесть
мрачных чучел с чересчур легкими ногами, беспрерывно
плясавшими в воздухе, напоминая судорожные подергивания
повешенных.
Заметив изумленный жест Рамиро, оружейник сказал:
— Это изображения умерших и бежавших, которых будут
судить вместо них с беспристрастным правосудием.
Вдоль улицы находившиеся у окон и на балконах люди
стали проявлять сильное волнение: мужчины высовывались как
можно дальше, женщины то и дело крестились, возводя глаза
к небу. Немного спустя изо всех уст вырвалось одно и то же
восклицание:
— Вторично отпавшие! Еретики!
Оружейнику пришлось наклониться к самому уху Рамиро,
чтобы сказать:
— Это те, кто будет казнен.
Крики усиливались, становились оглушительными: и вскоре
на всем пространстве Сокодовера чернь ревела в дикой ярости,
стремясь упиться этим позором и ужасом.
Рамиро выпрямился на табурете.
Два служителя Святого Судилища и четыре солдата
охраняли каждого из преступников, а монах-доминиканец не
переставая отчитывал его, держа перед его глазами святое
изображение креста. На преступниках, кроме санбенито, были надеты
трагические и вместе с тем шутовские колпаки — желтые «ко-
росы», разрисованные страшными изображениями огненных
языков и бесов. Ужас, мужество, упорство, раскаяние и даже
веселость отражались на лицах этих отверженных. То была
процессия шабаша, какой-то адский караван, и даже утренний свет
становился мрачным, Озаряя эти мертвенно-бледные лица,
перепачканные холодным потом и пылью подземелий, женские во-
190
лосы, страшные глаза, словно сохранявшие еще выражение
ужаса и мольбы, застывшие в них во время пытки...
... Айша подвигалась медленно, устремив глаза к небу...
Бледность ее лица внушала ужас, зубы были обнажены, и лицо
застыло в непроницаемой улыбке, какая бывает у покойников.
Рамиро с минуту смотрел на нее, потом должен был
прислониться к стене и снова сжал в руке распятие, чтобы
запечатлеть, чтобы врезать в свое тело образ спасителя. Вся остальная
часть процессии промелькнула перед ним как во сне:
бесчисленные монахи всевозможных орденов; служители Святого
Судилища верхом на конях и с выложенными серебром палицами
черного дерева; священники на мулах в траурных попонах;
ковчег, с приговорами на лошаке, волочившим по земле золотую
бахрому лиловой попоны; алое знамя веры; белые воротники и
сверкающие драгоценностями черные одежды...
... Более получаса потребовалось на то, чтобы все
участники процессии заняли свои места; большой эшафот покрылся
именитой толпой. Инквизиторы поместились в центре, духовное
сословие расположилось на северной стороне, городской совет
и дворянство — на южной.
Преступники, сопровождаемые служителями и монахами,
заняли маленький эшафот...
... Приговоренные к смерти расположились на самых
верхних ступенях...
... Несчастные, которым суждено было через два-три часа
превратиться в груду обуглившихся тел, поднимались в клетку
и выслушивали свои приговоры, одни равнодушно, другие
обезумев от страха, и зажженные зеленые восковые свечи
дрожали в их руках...
... Шел уже пятый час пополудни, когда секретарь Святого
Судилища передал еретиков коррехидору и его помощникам.
Преступников посадили на чахлых кляч, и трагическая
процессия направилась по* Оружейной улице к месту сожжения...
... Беспорядочно столпившаяся группа монахов, палачей,
альгвасилов в одну минуту заполнила широкую площадку
костра, окружив осужденных. Рамиро без волнения смотрел,
как вешали раскаявшихся...
Солнце, почти скрывшееся за длинной серой тучей,
заливало золотистым сиянием равнину, холмы, белые домики
соседнего предместья Антекуруэла...
... Фигура Айши вдруг появилась на краю костра. Желтое
позорное одеяние с красными рисунками, казалось, впитывало
пламя заката и придавало ей пышный и грозный вид. Она
напоминала женщину какого-нибудь страшного культа
самоуничтожения и экстаза, готовую ввергнуть в пламя свое священное тело.
Монах-доминиканец непрерывно увещевал ее и, то прося, то
угрожая, подносил к ее глазам образ распятого Спасителя.
191
Наконец псе услышали резкий голос монаха, прокричавшего,
точно в безумии:
— В последний раз: скажите, что отрекаетесь от Вашей
дьявольской веры!
Айша отрицательно покачала головой. Альгвасилы,
чиновники и монахи — все одновременно стали указывать ей на кучу
дров, приготовленную для казни. Она по-прежнему качала
головой. Тогда доминиканец схватил ее за плечи и толкнул к
палачу. . .
... Дрова, раздуваемые огромными мехами, затрещали.
Дым по временам вспыхивал, образуя желтые колеблющиеся
языки, уносившиеся в пространство. Айша не шевелилась.
Вспыхнули ее длинные волосы. Оставленная на ней юбка вдруг
загорелась. Страшная судорога пробежала по всему ее телу.
Потом огромный столб дыма и искр сразу окутал ее всю и
быстро и грозно взвился в вечерний сумрак. Огонь забушевал.
И вдруг первый порыв вечернего ветра отогнал назад густое
дымное облако, и показалась голова Айши, свисавшая с
деревянного столба, словно страшный, кошмарный плод...
... Трупы других осужденных уже пылали кучей на
огромной груде раскаленных углей, а народ толпился кругом, с
озаренными огнем лицами, показывая друг другу высовывавшиеся
из огня человеческие руки и ноги, поднимавшиеся по временам,
как будто в них еще сохранились остатки жизни и страдания.
Порой раздавалось характерное шипение, сопровождаемое
продолжительным треском, словно от упавшего на угли куска жира,
и Рамиро слышал над головой своей дикие возгласы и
страшные взрывы смеха, от которых путались его мысли...
... На западе, на краю неба, дымного и темного, медленно
угасла узкая полоска зари, похожая на последний отблеск
погасающей печи.
Э. Л а р р е т а, Слава дона Рамиро.
Исторический роман, Гослитиздат, М., 1961, стр. 242—252.
16.
НИДЕРЛАНДСКАЯ
БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Первой победоносной буржуазной революцией в Европе
была революция в Нидерландах. Ее своеобразие
заключалось в том, что борьба против феодальных порядков
переплеталась в ней с национально-освободительной войной.
Решающей силой революции был народ; только благодаря
192
героизму народных масс была одержана победа над
Испанией и образована Голландская республика.
Краткую характеристику Испании XVI века, данную в
учебнике, учитель может расширить за счет выразительного,
построенного на контрастах отрывка из романа Б. Франка
«Сервантес».
В отрывках «Испанская политика в Нидерландах» и
«Испанцы искореняют ересь» из романа Шарля де Костера
\ «Легенда об Уленшпигеле...» учитель найдет и сцену
оглашения кровавого указа императора Карла V о еретиках, и
картины, рисующие последствия этого указа.
Жуткий образ короля-фанатика Филиппа II обрисован в
приведенной выдержке из того же романа Шарля де
Костера. Если учитель захочет, то он сможет подобрать тексты
для характеристики Филиппа II и из других произведений
художественной литературы («Слава дона Рамиро» Э. Лар-
рета и «Сервантес» Б. Франка).
В отрывке «Первые приказы герцога Альбы» из трагедии
И. Гёте «Эгмонт» передана та атмосфера гнетущей
напряженности, в которой жили Нидерланды после прибытия
герцога Альбы..
Фрагменты «Лесные гёзы» и «Морские гёзы» из уже
названного романа «Легенда об Уленшпигеле» рассказывают
о терроре Альбы, о разоренной и залитой кровью
Нидерландской земле и о той героической борьбе, которую вели
патриоты-гёзы против испанских карателей на суше и на
море.
Эпизоды, повествующие о провале попыток испанцев
захватить Лейден и о разгроме ими Антверпена, даются по
книге Арт. Феличе «Морские нищие». Рассказ учителя об осаде
Лейдена может быть построен на основе приведенного в
хрестоматии отрывка «Гёзы под стенами Лейдена» и учебной
картины (учебник, илл. XI).
ИСПАНИЯ В XVI в.
Великое само давалось з руки — как во сне, как в игре.
Полуостров объединился в одно королевство, после почти
тысячелетнего раскола один человек стал властителем
между морями и Пиренейским валом. Но более того: королю
Филиппу достались португальские колонии.
Так создалась необозримая мировая держава. Новые
обширнейшие, богатейшие владения присоединились к Западной
Индии, Мексике и Перу. Бразилия становится испанской. Вокруг
всей Африки развевается красно-желтое знамя Филиппа; ему
принадлежат: аравийский Маскат, персидский Ормуз, восточно-
13 Сост. О. В. Волобуев и др.
193
азиатские Гоа, Калькутта, Малакка, Ява, Макао. Лиссабон
становится его второй столицей — громадный христианский город,
по населенности уступающий лишь одному Парижу,
значительнейший торговый центр всего мира. Он владеет теперь не
одними лишь странами золота и серебра, к нему стекаются
драгоценные подати: бразильский лес, мадейрский сахар, персидские
ковры, китайский шелк, индийские пряности. С испугом смотрят
Елизавета в Вестминстере, Медичи в Лувре, венецианский дож
на это сосредоточение богатства и власти в руках одного
человека. Потому что оно казалось непобедимым и нерушимым.
Кто бы осмелился подняться против Великой Испании,
защищенной горами и волнами и своим железным войском,
против ее великого короля, распоряжавшегося сокровищами всей
земли! Как же случилось, что он, этот властитель мира, тем не
менее был вынужден постоянно клянчить деньги у своих
подданных, закладывать рудники и урожаи; что не было ни одного
банкирского дома в Лондоне и Милане, в Антверпене, Аугсбур-
ге и Генуе, где в книгах не значилось бы его имя; что за
двадцать лет он дважды объявлял государственное банкротство и
тащил за собой в пропасть всю финансовую систему Европы;
что он, сверхточный, мелочный счетчик, вверг свой народ в
беспримерную бедность, обескровил его, уничтожил, превратил в
нищий народ? Как можно было этого достигнуть? Какому духу
надо было служить?
Именно духу, а отнюдь не жизни! Духу, который чуждается
земного блага и земного счастья — чуждается всего земного.
Который презирает плуг и молот, цепляясь лишь за крест и за
меч, чье фанатически-восторженное честолюбие знает лишь
одну цель: единство и чистоту веры у всех народов,
всемирную победу священной буквы.
Б. Франк, Сервантес, «Молодая гвардия»*
М., 1960, стр. 157—158.
ИСПАНСКАЯ ПОЛИТИКА В НИДЕРЛАНДАХ
Вдруг затрубила труба, прогремели литавры городского
глашатая. Клаас и Сооткин, поочередно передавая Уленшпигеля
друг другу на руки, бросились вслед за толпой народа.
Перед городской ратушей они увидели конных глашатаев,,
которые трубили в трубы и били в барабаны, профоса с
судейским жезлом, верхом на коне, и общинного прокурора, который
обеими руками держал императорский указ, готовясь прочитать
его толпе.
И тут услышал Клаас, что отныне всем вообще и каждому
в отдельности воспрещается печатать, читать, хранить и
распространять все писания, книги и учения Мартина Лютера,
194
Джона Виклефа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампа-
дия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска
Ламберта, Иоанна Померана, Оттона Брунсельзиуса, Иоанна Пупе-
риса, Юстуса Иоанеса и Горциана, книги Нового Завета,
напечатанные у Адриана де Бергеса, Христофа да Ремонда и
Иоанна Целя, поелику таковые исполнены Лютеровых и иных
ересей и осуждены и прокляты богословским факультетом Лу-
венского университета.
«Равным образом воспрещается неподобающе рисовать, или
изображать, или заказывать рисунки с неподобающими
изображениями господа бога, пресвятой девы Марии или святых
угодников, равно как разбивать, разрывать или стирать
изображения или изваяния, служащие к прославлению, поминанию,
чествованию господа бога, пресвятой девы Марии или святых
угодников, признанных церковью».
«Кроме того, да не дерзнет никто, — продолжал указ, —
какого бы он ни был звания и состояния, рассуждать или
спорить о священном писании, даже в сомнительных вопросах в
таковом, если только он не какой-нибудь известный и
признанный богослов, получивший утверждение от какого-либо
знаменитого университета».
Среди прочих наказаний, установленных его святейшим
величеством, определялось, что лица, оставленные под
подозрением, лишаются навсегда права заниматься честным
промыслом. Упорствующие в заблуждении или вновь впавшие в него-
подвергаются сожжению на медленном или быстром огне, на
соломенном костре или у столба — по усмотрению судьи.
Прочие подвергаются казни мечом, если они дворяне или
почтенные граждане; крестьяне — повешению, женщины —
погребению заживо. Как предостерегающий пример головы
казненных будут выставлены на столбе. Имущество всех этих
казненных преступников переходит в собственность императора, если
таковое находится в областях, доступных конфискации.
Его святейшее величество предоставляет доносчикам
половину всего принадлежащего осужденным, если все достояние
последних не превышает ценностью ста фландрских червонцев.
Все доставшееся на долю императора он передает на цели
благотворения и благочестия, как он сделал это с римскими
сборами.
И Клаас, удрученный, ушел с площади вместе с Сооткин и
Уленшпигелем.
Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле..,
Гослитиздат, М., 1955, стр. 39—40.
13*
195
ИСПАНЦЫ ИСКОРЕНЯЮТ ЕРЕСЬ
Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император
отрубил шесть тысяч голов или сжег шесть тысяч тел, чтобы
искоренить в Нидерландах злую лютерову ересь. Его
святейшему величеству это показалось еще недостаточным.
И куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде,
исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах; он
видел, как девушек бросали в мешках в реку, голых мужчин,
распятых на колесе,'избивали железными палками, женщин
бросали в ямы, засыпали их землей, и палачи плясали сверху...
Но если кто отрекался от своих убеждений, духовники
получали по двенадцати су за каждого раскаявшегося.
В Лувене он видел, как палачи сожгли сразу тридцать
лютеран, — костер был зажжен посредством пушечного пороха.
В Лимбурге он видел, как целая семья — мужчины и женщины,
дочери и зятья — с пением псалмов взошли на эшафот. Только
один старик закричал, когда пламя охватило его.
С болью и ужасом брел Уленшпигель по этой несчастной
земле.
Там же, стр. 78.
ФИЛИПП II
Мрачно и неустанно целые дни, а то и ночи строчил король
Филипп бумаги и исписывал пергаменты. Им вверял он думы
своего жестокого сердца. Так как он никого не любил в этой
жизни и знал, что и его никто не любит, он хотел сам нести
бремя своей необъятной власти. Но это был немощный Атлант,
раздавленный непосильным бременем. Мрачен и раздражителен
был он, и непосильная работа истощала его слабое тело.
Невыносимо было для него всякое радостное лицо, и более всего, за
ее веселье, ненавидел он Фландрию: ненавидел он купцов
Фландрии за их богатство и роскошь, ненавидел дворянство
Фландрии за его свободный дух, за его независимость,
ненавидел он всю Фландрию за ее мужественную жизненность. Он
знал, — ибо ему сказали об этом, — что задолго до того, как
кардинал де Куза около 1380 года, указав на пороки церкви,
проповедовал необходимость преобразования, негодование
против папы и римской церкви проявилось в Фландрии в самых
различных сектах и кипело во всех головах, как вода в
закрытом котле.
Упрямый, как мул, он был убежден, что воля его должна
тяготеть над всем миром, подобно воле божьей. Он хотел, чтобы
Фландрия, отвыкшая от подчинения, склонилась под старым
ярмом, не добившись никаких реформ. Он хотел видеть свою
святейшую мать, римско-католическую церковь, нераздельной и
196
вселенской, без ограничений и преобразований. Никаких
разумных оснований для этого у него не было, кроме того, что он так
хотел. И он упорствовал в этом, как глупая баба, и под гнетом
своих нелепых мыслей метался ночью на постели, точно на
терновом ложе.
— Да будет так, святой Филипп! Да будет так, господи
боже! Хоть бы мне пришлось обратить все Нидерланды в одну
общую могилу и сбросить в нее всех жителей страны, они
возвратятся к тебе, святой покровитель, к тебе, пресвятая дева,
к вам, святители небесные.
И он старался поступать по слову своему и стал более
ревностным католиком, чем папа римский, чем вселенские соборы.
И Уленшпигель, и Ламме, и весь .народ фландрский с ужасом
представляли себе, как там, в мрачной твердыне Эскориала,
сидит этот коронованный паук с длинными лапами и разверстой
пастью и плетет паутину, чтобы запутать их и высосать кровь
их сердца.
Несмотря на то что папская инквизиция за время правления
Карла загубила сотни тысяч христиан на костре, на плахе и на
виселице, что достояние казненных мучеников перелилось в
казну императора и короля, точно дождь в сточную канаву, —
всего этого казалось мало королю Филиппу. Он навязал стране
новых епископов и ввел здесь испанскую инквизицию.
И городские глашатаи при звуке труб и литавр читали
указы, грозившие смертью на костре всем еретикам, мужчинам,
женщинам и девушкам, если они не отрекутся от своих
заблуждений, и виселицей, если они отрекутся. Женщинам и девушкам
грозило погребение заживо, и палачи топтали бы их тела.
И пламя мятежа вспыхнуло по всей стране.
Там же,, стр. 220—221.
ПЕРВЫЕ ПРИКАЗЫ ГЕРЦОГА АЛЬБЫ
Иеттер. Эй! Пет! Сосед. На одно слово!
Плотник. Идите-ка своей дорогой и не кричите!
Иеттер. Только одно слово! Ничего нового?
Плотни к. Ничего, кроме того, что нам запрещено
делиться новостями.
Иеттер. Как так?
Плотник. Подойдите поближе к дому!
Берегитесь! Герцог Альба, как приехал, так издал приказ:
ежели двое или трое сойдутся на улице и вступят в разговор,
они тут же без всякого следствия будут объявлены
государственными изменниками.
Иеттер. Вот беда-то!
Плотник. Обсуждать дела государства запрещено под
страхом вечного заточения.
197
Иеттер. Вот тебе и свобода!
Плотник. А если кто посмеет ругать правительство —
смертная казнь.
Иеттер. Пропали наши головы!
Плотник. А отцы, матери, дети, родные, знакомые,
слуги — всем вменено в обязанность доносить, что делается дома,
назначенному на сей предмет особому суду. За это им обещана
награда.
Иеттер. Пойдем-ка домой!
Плотник. А послушным обещано, что они не потерпят
ущерба; ни животу их, ни чести, ни имуществу не грозит
опасность.
Иеттер. Подумаешь! Покорно благодарим! Недаром у меня
сердце заныло, как только герцог в город въехал. И с той
минуты точно все небо черным крепом затянулось, да так низко,
что сгибаться надо, не то заденешь.
И. В. Гёте, Эгмонт. —В кн.: И. В. Гёте,
Избранное, Детгиз, М., 1963, стр. 108.
ЛЕСНЫЕ ГЁЗЫ
Уленшпигель на собрании «диких гёзов» в Маренгауте
говорил так:
— По совету господ инквизиторов король Филипп объявил,
что каждый житель Нидерландов, обвиненный в оскорблении
его величества, или в ереси, или в том, что не Оказал
должного противодействия ереси, осуждается без различия пола и
возраста, за исключением лишь особо поименованных лиц, и
присуждается к наказаниям, соответствующим чудовищным
преступлениям, без всякой надежды на помилование. Наследство
получает король. Смерть косит обильную жатву в этой богатой
и обширной стране, что лежит между Северным морем,
графством Эмден, рекою Эме, Вестфалией, Юлих-Клеве и Льежем,
епископством Кельнским и Трирским, Лотарингией и Францией;
смерть косит свою жатву на земле протяжением в триста сорок
миль, в двухстах укрепленных городах и множестве местечек,
поселков, имеющих права города, деревень, хуторов. А
наследник — король.
Едва хватает для этого одиннадцати тысяч палачей, которых
Альба называет солдатами. А родина стала кладбищем,
покинутая промышленниками, ремесленниками, художниками,
купцами, чтобы обогащать чужбину, которая дает им возможность
молиться богу их свободной совести. Смерть и разгром косят
свою жатву. А наследник — король.
Страна имела привилегии, купленные за большие деньги у
обедневших государей: они отняты. Она надеялась, что ей да-
198
дут возможность мирно радоваться богатым плодам своей
работы. Не тут-то было: каменщик строит добычу для пожара,
ремесленник работает для вора. Наследник — король.
Кровь и слезы! Смерть повсюду — на кострах, на деревьях,
ставших виселицами вдоль большой дороги, в могилах, куда
бросают живыми бедных девушек, в тюремных колодцах, где
топят толпами заключенных, на грудах горящих дров, где на
медленном огне тлеют жертвы, в пылающих соломенных
хижинах, в дыму и пламени которых гибнут несчастные. Их
наследник — король.
Так пожелал папа римский.
Города переполнены сыщиками, жаждущими своей доли в
имуществе жертв. Кто богаче, тот и более виновен.
Наследник — король.
Но в стране есть мужественные люди, которые не дадут
перебить себя как баранов. Среди бежавших есть вооруженные,
пока скрывающиеся в лесах. Их предают монахи на смерть и
ограбление, но храбрецы ночью и днем, шайками, точно дикие
звери, нападают на монастыри и украденные у бедноты деньги
отбирают назад, отбирают подсвечники золотые и серебряные,
ларцы для мощей, дарохранительницы, дискосы и драгоценные
сосуды. Не так ли, добрые люди? Там пьют они старое винцо,
выдержанное монахами для себя. И сосуды, переплавленные
или заложенные, идут на дело священной войны. Да
здравствуют гёзы!
Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле..,
Гослитиздат, М., 1955, стр. 266—267.
МОРСКИЕ ГЁЗЫ
Проходят двадцать два корабля с богатым грузом; на судах
гёзов бьют барабаны, свистят флейты, де Люме кричит: «Во
имя принца в погоню!» Эвонт Питерсен Ворт, вице-адмирал,
кричит: «Во имя принца Оранского и господина адмирала в
погоню!» И на всех кораблях, на «Иоганне», «Лебеде», «Анне-
Марии», «Гёзе», «Компромиссе», «Эгмонте», «Горне»,
«Вильгельме Молчаливом» кричат капитаны: «Во имя принца
Оранского и господина адмирала!»
— В погоню, да. здравствуют гёзы! — кричат солдаты и
моряки.
Корвет Трелона «Бриль», на котором находится Ламме и
Уленшпигель, вместе с «Иоганной», «Лебедем» и «Гёзом»
захватили четыре корабля. Гёзы бросают в воду все, что носит имя
испанца, берут в плен^ уроженцев Голландии, очищают
корабли, точно яичную скорлупу, от всякого груза и бросают их на
произвол волн без мачт и парусов. Затем они пускаются в
погоню за остальными восемнадцатью судами. Порывистый ветер
199
дует со стороны Антверпена, борта быстролетных кораблей
склоняются к воде под тяжестью парусов, надутых, как щеки
монаха, когда дует из кухни; преследуемые корабли несутся
к Мидделбургу; гёзы под огнем укреплений гонят их.
Завязывается кровопролитный бой; гёзы с топорами в руках бросаются
на палубы вражеских кораблей; вот все они покрыты
отрубленными руками и ногами, которые после боя приходится
корзинами выбрасывать в воду. Береговые укрепления осыпают
гёзов снарядами; не обращая на это внимание, они под крики:
«Да здравствуют гёзы!» забирают порох, пушки, свинец и пули
с кораблей; опустошив, сжигают их и уносятся во Флиссинген,
оставив вражеские суда тлеть и догорать в гавани.
Из Флиссингена гёзы направляют отряды в Зеландию и
Голландию разрушать плотины, а другие отряды помогают на
верфи строить новые суда, особенно шхуны в сто сорок тонн,
способные поднять до двадцати чугунных орудий.
Там же, сгр. 453—454.
ГЁЗЫ ПОД СТЕНАМИ ЛЕЙДЕНА
Морские волны медленно надвигались на сушу в сторону
осажденного Лейдена. Когда-то голландцы положили немало
сил, чтобы возвести одну за другой огромные плотины и отво*
евать у моря узкое побережье. Теперь эти плотины безжалостно
разрушались гёзами.
Лейден держался несколько месяцев. За стенами его давно
свирепствовал голод. И повальные болезни унесли уже не одну
жертву.
Гёзы упорно продвигались вперед. Они подошли на своих
судах по залитой наводнением земле до главной плотины Ланд-
Шейдин, в пяти милях от города. Плотина длинной темной
грядой выступала над водной поверхностью. Суда остановились в
отдалении.
Ночью с 10 на 11 сентября гёзы прокрались к испанской
страже, охранявшей плотину, и напали на нее врасплох.
Испанцы в страхе побросали свои посты, оставляя Ланд-Шейдин
в руках патриотов. Утром они попробовали было вернуть
потерянное, но гёзы дали им такой отпор, что испанцы бежали.
Иоганн вместе с другими командирами судов приказал
пробивать плотину. По высокой земляной насыпи, скрепленной
железом и просмоленным деревом, рассыпались люди с едва
зажившими ранами, в изодранных куртках, в шапках, на
которых пестрел вышитый полумесяц с надписью: «Лучше султану,
чем папе!»
... В Лейдене умирали целые семьи.
— Испанцы что ни день шлют нам предложения сдаться, —
твердили малодушные, — они обещают полное прощение...
200
...— Прощение? — кричали им злобно в ответ. — Кто
предлагает прощение? Те, что пришли в нашу страну, как
грабители? Те, что залили нашей кровью всю землю? Те, что хотятг
с корнем вырвать нашу свободу, отнять самую жизнь? Кто кого*
будет прощать: они нас или мы их? .. Мы уже ответили раз на^
их медовые речи: «Сладок флейты напев, когда птицелов манит
пташку!» ... Мы не дадим обмануть себя! ..
— Пожалейте детей!.. Пожалейте детей! .. — рыдала
какая-то женщина, прижимая к себе грудного ребенка ..
Бургомистр ван дер Верф махнул шляпой, требуя внимания.
— Чего вы хотите? — заговорил он, и люди не узнали его*
голоса. — Почему вы ропщете на то, что мы не нарушаем своих
клятв и не сдаем город? Неужели вы не понимаете, что это-
было бы более горькой участью, чем то, что мы терпим
сейчас? .. Я знаю, мы все умрем с голоду, если нас скоро не
освободят. Но голодная смерть почетнее позорной смерти, которая-
нам предстоит в случае сдачи.
— Не сдавать город дьяволамГ — подхватила толпа. —
Помощь идет к нам, она уже близка!..
— Да здравствуют защитники Лейдена — «морские
нищие!». ..
— Да здравствует свободная Голландия!
— Пожалейте детей!.. — стонала в бреду женщина. —
Пожалейте детей! ..
Ночью ее унесли со ступеней церкви — она умерла, держа*
мертвого ребенка у иссохшей груди...
... В ночь на 2 октября над стенами Лейдена пронесся
первый порыв шторма. Ветер с северо-запада повернул в течение
нескольких часов на целых восемь румбов 1 и еще сильнее задул-
с юго-запада. Волны Северного моря высокими валами
поднялись на берег Голландии и хлынули на сушу. Вода неудержимо-
полилась через разрушенные плотины в глубь страны.
В полной темноте гёзы подняли паруса и двинулись по
направлению к Лейдену. Несколько неприятельских сторожевых^
судов окликнули их. Им ответил огонь из пушек Буазо. Пламя:*
залпа осветило черную пустыню сплошной воды. Кое-где
выглянули купы затопленных садов, трубы ферм, ветряные мельницы.
Ненадолго темноту огласили крики короткой схватки. Гёзы
проплыли дальше. И все снова погрузилось в сплошной мрак.
Испанские разведчики донесли в Зотервудскую крепость-
Вальдесу:
— «Нищие» топят наши суда, а свои продвигают через мели*
на плечах. Сам дьявол гонит перед ними воду! ..
Утром даже самые стойкие из зотервудского' гарнизона не
выдержали и побежали по дороге в Гаагу..
Румб — одно из делений компаса»
20F-
— Мы не колдуны, чтобы воевать с морем! — кричали они
♦освоим офицерам.
Плотина, по которой шла дорога, начала погружаться в
<зоду. Сотни бегущих стали тонуть в поднимавшейся с каждой
^минутой воде. Гёзы подплывали к быстро разваливающейся
^плотине, стаскивали врагов гарпунами в море, потом бросались
за ними следом и убивали кинжалами в воде... До Гааги
добрались ничтожные остатки зотервудских солдат.
Арт. Ф е л и ч е, Морские нищие.
Исторический роман, Детгиз, М., 1959, стр. 296—301.
РАЗГРОМ АНТВЕРПЕНА
Керке .— среди испанских солдат, грабящих Антверпен.
— Святой Иаков! .. Испания! .. Кровь! .. Огонь!.. —
прорезают дымный воздух крики.
Антверпен горит. Ратуша, церкви, частные дома, целые
кварталы объяты пламенем. Высокий шпиль главного собора,
пощаженный огнем, отбрасывает гигантскую тень на Шельду. По
чней плывут изуродованные трупы людей и лошадей. На
мозаичной мраморной мостовой перед биржей стоят лужи крови после
вчерашней битвы. Здесь жители Антверпена с местным
гарнизонном пробовали удержать поток разъяренных солдат.
Антверпен горит. Осыпаются, рушатся его богато
разукрашенные дворцы гильдий со стройными резными вышками и
легкими аркадами. Тысячи людей, мертвых и раненых, навалены
-грудами на местах недавних побоищ. Запах горелого мяса,
дерева, материй, костей, масла, красок разносится по
почерневшим от сажи и запекшейся крови улицам.
— Святой Иаков!.. Испания! .. Кровь! .. Огонь! .. — кри-
'чит вместе с солдатами Керке.
Там же, стр. 311—312.
17.
КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ
В КОНЦЕ XV — ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XVII ЗЕКА
Период'Возрождения характеризуется могучим подъемом
искусства, литературы, науки. Колыбелью Возрождения
была Италия, страна, где раньше всего зародилась
буржуазия и буржуазная интеллигенция.
302
Одним из наиболее ярких и многогранных дарований
этой эпохи титанов был Леонардо да Винчи — художник,
ученый, инженер. В приведенном отрывке из книги
«Леонардо да Винчи» В. Дитякина в доступной для детей форме
рассказывается о самом прославленном портрете XVI в.
«Джоконде». О знаменитой фреске монастыря Санта-Мариа
делла Грацие, о научной деятельности и инженерных
работах Леонардо да Винчи говорится в отрывках «Тайная
вечеря» и «Леонардо да Винчи — ученый» из книги Ал. Алтае-
ва «Впереди веков».
Большое воспитательное значение будет иметь рассказ
о ненасытной жажде творчества и необычайном трудолюбии
Микеланджело, основанный на двух хрестоматийных
отрывках из книги Р. Роллана «Жизнь Микеланджело».
Рафаэль был самым светлым и радостным художником
итальянского Возрождения. Обаятельный образ Рафаэля
запечатлен в книге Ал. Алтаева «Впереди веков». Любимой
темой художника было изображение материнского счастья,
красоты и величия женщины-матери. Венцом его творчества
считается «Сикстинская мадонна». Описание этой картины
дается по вышеназванной книге Ал. Алтаева.
Рассказывая о всемирно известных произведениях
искусства итальянского Возрождения, учитель должен широко
использовать разнообразный иллюстративный материал.
Включая в хрестоматию отрывок «Сервантес в плену» из
книги Б. Франка «Сервантес», составители ориентировались
в данном случае на программу по истории для школ рабочей
и сельской молодежи, которая, в отличие от программы для
общеобразовательных дневных школ, предусматривает
характеристику Шекспира и Сервантеса.
О научном подвиге Н. Коперника говорится в поэме
Дм. Смолина «Галилей». Приведенную в хрестоматии
выдержку из поэмы рекомендуется зачитать в классе.
В сцене диспута (отрывок «Джордано Бруно излагает
свои взгляды» из романа Г. Арельского «Враг Птолемея»)
противопоставлено научное представление о мироздании
Николая Коперника и Джордано Бруно средневековому,
теологическому. В отрывках «Суд над Джордано Бруно»
и «Сожжение Джордано Бруно» из романа Д. Линдсея
«Адам нового мира» встает ученый-борец, несокрушимую
волю которого не смогли сломить, ни пытки, ни
льстивые уговоры. Рассказ о сожжении Джордано Бруно
учитель ведет, используя цветную иллюстрацию (учебник,
илл. XII).
Первым человеком, который увидел небо в телескоп, был
Галилей. О значении этого события в истории науки
повествует диалог между Галилеем и его дочерью (отрывок «Гали-
203
лей наблюдает небо в телескоп» из поэмы Дм. Смолина
«Галилей»).
В образной и доступной форме научные взгляды Галилея
излагаются в отрывке из пьесы Б. Брехта «Жизнь Галилея».
Заключительным аккордом к теме прозвучит
стихотворение М. Рыльского «Памятник Копернику в Кракове».
«ДЖОКОНДА»
Джоконда — прежде всего замечательная женщина. Она
смотрит на мир с глубоким интересом открытыми ко всему
прекрасному глазами, смотрит без страха, спокойно и уверенно.
Это не тот человек, которого в течение многих столетий
воспитывали в отвращении к миру, в «страхе божием». Изображая
нового человека, Леонардо наносил еще один сильный удар по
средневековому миру с его господством суеверий, страхов и
угнетения.
Что наиболее интересно в лице Джоконды? Видна большая
работа мысли, интерес ко всему окружающему. Едва заметная
улыбка, играющая на лице, говорит о том, что это знание мира
делает человека сильным, позволяет ему смотреть на мир
спокойно и уверенно.
Лицо Монны Лизы поражает какой-то особенной прелестью.
Джоконда не может быть названа красавицей в обычном
смысле этого слова. Черты ее лица — большой открытый лоб,
улыбающиеся карие глаза, прямой нос, маленький рот, легкий
румянец на щеках, чистая тонкая кожа и нежный овал лица —
производят впечатление удивительной простоты. В улыбке
Джоконды, такой мягкой и задушевной, так оживляющей лицо,
видно богатое внутреннее содержание человека.
Лицо Джоконды обрамлено расчесанными на прямой пробор
темными волосами, свободно падающими на плечи. Руки, очень
красивые, с длинными тонкими пальцами, спокойно лежат на
подлокотнике кресла. Чтобы усилить впечатление от лица,
Леонардо облек Джоконду в простое, лишенное каких бы то ни
было украшений, скромное темное платье. Впечатление
простоты и естественности усиливается мастерской разработкой
складок платья и легкого шарфа.
Много новых приемов пришлось разработать Леонардо для
достижения наибольшей правдивости и выразительности
изображения. Леонардо коренным образом изменил
традиционную композицию портрета. Если раньше художники, рисуя
портрет, ограничивались изображением только головы и
верхней части тела, то Леонардо дает значительно большую
обрисовку фигуры, почти до колен. Вместо надуманной, условной
позы Джоконда изображена в легком повороте, простом и
естественном.
204
Вся картина — фигура Монны Лизы и развертывающийся
на заднем фоне пейзаж окутаны мягкой светотенью. Этот
нерезкий, плавный переход от света к тени был великим
достижением живописного мастерства Леонардо в его стремлении
приблизить изображаемое к действительности. Недаром он писал:
«Обрати внимание на улицах, под вечер, на лица мужчин
и женщин, (или) в дурную погоду, какая прелесть и нежность
видна на них».
Пейзаж картины производит впечатление необычайной
глубины пространства благодаря постепенной смене цветов от
коричневого на переднем плане через полутона к неясным
голубым далям. Пейзаж этот, кажущийся некоторым
фантастическим, на самом деле естествен и представляет собою
результат многолетних изучений художником воздушной
перспективы.
Портрет Джоконды поражал современников. Биограф
Леонардо, Вазари, рассказывая о «Джоконде», пишет, что эта
картина «всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство
может подражать природе, дает возможность постичь это
наилегчайшим образом, ибо в ней воспроизведены все мельчайшие
подробности, какие только может передать тонкость живописи.
Поэтому глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно
видны у живого человека, а вокруг них переданы все те
красноватые отсветы и волоски, которые поддаются изображению
лишь при величайшей тонкости мастерства. Ресницы... не
могли бы быть изображены с большей естественностью...
В углублении шеи, при внимательном взгляде, можно видеть
биение пульса. И поистине можно сказать, что это произведение
было написано так, что повергает в смятение и страх любого
самонадеянного художника, кто бы он ки был».
Так была решена задача — дать живое лицо человека, дать
образ неувядаемой прелести, полностью отражающей собою
красоту мира...
«Джоконда» была закончена, по всей вероятности, весной
1506 года. Это произведение Леонардо да Винчи по
справедливости вошло в историю мирового искусства как одно из лучших
достижений, потрясая и до сих пор зачарованного зрителя
великой силой правдивого изображения жизни. Глубокое единство
содержания и формы, идеи и мастерского воплощения ее,
сделало эту картину прекрасным образцом решения самых
сложных и трудных проблем искусства. Человечество давно забыло,
а многие и вовсе не знали синьора дель Джокондо и его жену
Монну Лизу, но оно с признательностью сохранило, овеяв его
вечной славой, имя создателя этого великого произведения —
Леонардо да Винчи.
В. Дитякин, Леонардо да Винчи, Дет-
гиз, М., 1959, стр. 172—174.
205
«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Моро замер, не отрывая глаз от того, что увидел. Перед
ним были стол и стена, стена, хотя и написанная кистью
художника, но казавшаяся прямым продолжением трапезной. За
столом — Христос и двенадцать апостолов. Последняя, по
евангельской легенде, трапеза Христа со своими учениками.
Леонардо выбрал кульминационный момент тайной
вечери, когда Христос говорит ученикам: «Один из вас предаст
меня».
Перед художником стояла задача изобразить при этих
страшных словах душевные движения всех присутствующих
двенадцати апостолов, людей, совершенно различных, и не
впасть в однообразие, не повторить себя...
... Герцог не мог оторвать глаз от фрески, но он был,
разумеется, не в силах оценить, как оценил бы художник, все
ее значение, оценить передачу евангельского сюжета в
сложнейших жизненных психологических подробностях, как не мог
оценить и совершенство ее композиции.
И все же, не будучи знатоком, герцог был потрясен.
— Как это "замечательно! — вырвалось у Моро. — Теперь
понятно, почему ты так долго работал над фрескою, и нечего
было монаху ворчать и жаловаться на тебя.
Он говорил о настоятеле монастыря. Леонардо
усмехнулся:
— А сейчас он недоволен, что я кончил, ваша светлость.
— Это почему? Что-нибудь вышло не по его указке?
Он верно, думал, что ты напишешь Христа в виде
бесплотного духа с предвидением крестных мук на челе, а ты дал
образ любви и милосердия. И это для приора слишком
просто.
— У меня долго оставалось чистое поле стены на месте лика
Христа, — сказал Леонардо, — но не это вызывало гнев у era
преподобия. Разве вашей светлости ничего не бросилось
в глаза? Я говорю об апостолах.
Пристально вглядевшись в лица учеников Христа, герцог
вдруг засмеялся:
— Иуда! Явное сходство с приором! Ловко же ты отомстил
ему за то, что он не давал тебе покоя, мешая работать! Ну и
пусть себе остается за этим столом навеки. Кстати, он также
жадно сжимает свой кошель и скупится развязывать его для
детей своей обители, и монахи частенько стонут от его
скаредности.
Ал. А л т а е в, Впереди веков. Повести^
Дётгиз, М., 1959, стр. 126—127.
206
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ — УЧЕНЫЙ
Леонардо почти не дотронулся до принесенного ему обеда*
и весь день провел в лаборатории, тщательно препарируя^
ястреба.
Он усердно занимался анатомией, что делали тогда
немногие из художников. В шкафу у него — несколько пачек
анатомических рисунков и скелет обезьяны, дело его рук. Как можно*
правильно изображать человека, не зная, какие у него кости,-
мускулы, при помощи чего он двигается?..
... Леонардо коснулся карандашом правды жизни, и в не&;
была своя красота. И эти наблюдения труда человеческого
натолкнули Леонардо на изучение свойства рычага — простейшей^
универсальной машины, а потом и на его усовершенствования.
Здесь, в Милане, он продолжал ряд начатых' во Флоренции;*
и не оцененных Лоренцо Медичи работ: чертежи мельниц,
сукновальных машин и приборов, которые пускались бы в
действие силою воды.
Знакомясь с трудом ремесленников прославленного в Европе*
флорентийского цеха изделий из шерсти, он сделал проект
механической самопрялки.
Еще во Флоренции Леонардо разработал и проект системы:,
каналов, которые бы соединили Флоренцию с Пизой, облегчив;
перевалку грузов на морские суда и снабжение Флоренции
сырьем.
Теперь он работал над проектом каналов в окрестностях
Милана. ..
Мечты уносили его далеко: надо использовать силы воды,.,
ветра, солнца. Он производил без конца опыты над растениями,,
изучая влияние на их развитие воды, солнца и почвы...
Целый угол лаборатории был завален образцами почвы^
и горных пород. Найденные в них окаменелости натолкнули его
на важное геологическое открытие: здесь, на месте Италии,
очевидно, было когда-то море — об этом свидетельствуют
окаменелые раковины, обитатели морской пучины...
Там же, стр. 101—102л
^
ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА И ТРУДОЛЮБИЕ
МИКЕЛАНДЖЕЛО
Жажда деятельности превращалась в своего рода маниюг
он взваливал на себя одну работу за другой, принимал больше
заказов, чем мог выполнить. Ему уже мало было глыбы
мрамора, ему требовались утесы. Задумав работу, он мог годы
проводить в каменоломнях, отбирая мрамор и строя дороги для
перевозки; он хотел быть,всем зараз — инженером, чернорабочим,.
207?
^каменотесом; хотел делать все сам — воздвигать дворцы,
.церкви — один собственноручно. Он трудился, как каторжный.
Боясь потерять лишнюю минуту, он недоедал, недосыпал. Снова
«и снова в его письмах повторяется все та же жалоба:
«Я едва успеваю проглотить кусок... Не хватае! времени
даже поесть... Вот уже двенадцать лет, как я изнуряю свое тело
непосильной работой, нуждаюсь в самом необходимом...
Я живу в нужде и в лишениях... Я борюсь с нуждой. ..»
С нуждой воображаемой... Ибо Микеланджело был
человеком состоятельным, а к концу жизни даже богатым, очень
богатым. Но что давало ему богатство? Жил он бедняком,
прикопанным к своей работе, как кляча к мельничному жернову.
Никто не мог понять, зачем он гак себя истязает. Никто не
поднимал, что он не властен был не истязать себя, что это стало
для него потребностью...
... Микеланджело всю жизнь был безжалостен к себе.
Питался он куском хлеба, запивая его глотком вина. Спал очень
мало. В Болонье, где он работал над бронзовой статуей
Юлия II, у него была всего одна кровать — для себя и трех
своих помощников.
Р. Ролла н. Жизнь Микелмнджело.— В кн.:
Р. Р о л л а н, Собрание сочинений, в 14-ти т.,
т. 2, Гослитиздат, М., 1954, стр. 83—84.
СОЗДАНИЕ «ДАВИДА»
Весной 1501 года Микелалджело вернулся во Флоренцию. Лет
за сорок до того попечительство собора передало скульптору
Агостино ди Дуччо глыбу мрамора невиданных размеров с тем,
^чтобы он изваял из нее статую пророка. Работа была
прекращена в самом начале, и никто после Дуччо не желал за нее
-браться. Взялся Микеланджело. Из этой мраморной глыбы он
Фысек своего исполинского «Давида».
Рассказывают, что когда гонфалоньер 1 Пьетро Содерини,
заказавший Микеланджело статую, пришел на нее посмотреть
и, желая показать себя знатоком, сделал несколько замечаний,
в частности, нашел, что у Давида толстоват нос, Микеланджело
поднялся на мостки, набрал горсть мраморной пыли, и, делая
вид, что работает резцом, стал понемногу сыпать пыль, но,
конечно, и не подумал притронуться к статуе и оставил нос таким,
каким он был. Затем, повернувшись к гонфалоньеру, сказал:
— А теперь как?
— Теперь мне ваш Давид нравится куда больше, — ответил
тонфалоньер. — Вы вдохнули в него жизнь.
1 Гонфалоньер — глава Флорентийской республики.
208
Тогда Микеланджело усмехнулся и молча спустился с
лесов. ..
Двадцать пятого января 1504 года коллегия из художников,
в которую вошли Филипино Липпи, Боттичелли, Перуджино и
Леонардо да Винчи, собралась, чтобы определить наиболее
подходящее место для статуи. По просьбе Микеланджело решено
было установить «Давида» перед дворцом синьории.
Перемещение мраморной громады поручили соборным архитекторам.
Вечером 14 мая, выломав часть стены над дверями дощатого
сарая, где стояла статуя, гиганта извлекли наружу... Ее
пришлось усиленно охранять. Подвешенная на канатах в
предохранение от толчков, статуя, слегка покачиваясь, медленно
подвигалась вперед. Потребовалось целых четыре дня, чтобы
передвинуть ее от собора к палаццо Веккио. В полдень 18 мая
она была наконец водворена на место...
Там же, стр. 102—104.
РАФАЭЛЬ
... Не одни ученики боготворили Рафаэля: стоило только
ему появиться на людной улице, около него вырастала толпа.
Мальчишки, завидев его издали, в восторге горланили, не щадя
голосовых связок:
-*- Вот идет наш славный маэстро, который в одну минуту
может нарисовать целую картину! Вот идет веселый маэстро
Санти! Сколько знает он песен!
Это правда: Рафаэль всегда казался веселым и любил петь.
Он перенимал от мальчишек их простые, задорные песенки.
В свободное время любил он бродить по улицам, где
часто наблюдал интересные для него картины обыденной жизни.
Как-то раз, выходя из Ватикана, художник заметил на
лестнице одного из домов молодую крестьянку с ребенком на
руках. Прекрасна была эта мать, любующаяся своим первенцем!
Рафаэль, остановившись в стороне, чтобы женщина его не
видела, долго смотрел на картину материнской любви. Наконец,
крестьянка заметила его, улыбнулась и, гордая своим
сокровищем, еще нежнее прижала его к груди.
Рафаэль схватил уголь и оглянулся, ища подходящего
материала, чтобы набросать прекрасную группу. Но кругом ничего
не попадалось. Только в стороне он увидел пустую бочку,
опрокинутую вверх дном. Недолго думая, художник подбежал
к ней и стал быстро набрасывать на днище уличную сценку. Он
боялся, как бы женщина не ушла прежде, чем он успеет
кончить. Из этого наброска родилась впоследствии «Мадонна
делла Седиа» («Мадонна в кресле») — «круглая» картина.
Картина олицетворяет радость матери, гордящейся своим
14 Сост. О. В. Волобуев и др.
209
ребенком. Широкий полосатый платок прикрывает голову
мадонны, другой, узорчатый, лежит на плечах. Ребенок прильнул
к ней и бессознательно с удивительной естественностью шевелит
пальчиками ножки.
Ал. А л т а е в, Впереди веков. Повести,
Детгиз, М., 1959, стр. 280—281.
СИКСТИНСКАЯ МАДОННА
Его «Мадонна»... И написал он ее не для папы, не для
богатого банкира, а для скромного монастыря святого Сикста,
в глуши маленького городка Пьяченцы. Да, это был портрет
его любимой женщины, и потому-то в ней воплотились все
женщины Италии, которыми он когда-либо восхищался. Жизнь
дала ему мудрость познания. Он и красотой восхищался теперь
иначе — не бездумно, как прежде, чувствуя себя сильным,
молодым, счастливым, всеми любимым. Он узнал горечь
разочарования, боль чужого страдания, и женщина, которая была
всегда главной темой его картин, тоже перестала быть
безоблачно счастливой, спокойно созерцающей свое счастье,
какими были до тех пор его мадонны. Эта мадонна постигла весь
страх, всю боль предчувствия грядущих страданий.
Он подходил к своей новой, безмерно глубокой трактовке
мадонны постепенно, изображая ее уже не прежней
беспечальной женщиной, сидящей в кресле или на лугу и мечтательно
любующейся своим ребенком. Он возвеличивал ее, изображая
восседающей на троне в облаках, парящей в окружении
благоговейно взирающих на нее ангелов. Такими изобразил он
замечательную «Мадонну Фолиньо» (от местности Фолиньо) и
мадонну с фигурой юного Товия К К этому же циклу
изображения святости и величия женщины, поднимающейся на
небесную высоту, чуждую земных радостей и утех, относится и
«Святая Цецилия», покровительница музыки. Но иные задачи
поставил себе Рафаэль, выполняя образ мадонны для монастыря
святого Сикста в Пьяченце...
... Между раздвинутыми занавесями — просвет неба. Все
оно состоит из херувимов, трепещущих крыльями и тающих в
эфире. И между ними спускается с облаков на землю
божественная мать, покорная решению принести свое дитя в жертву
для спасения мира. На ее юное прекрасное лицо легла тень
страдания, затаившаяся в углах дрожащих губ, страдания,
которое она должна преодолеть ради великой идеи. Ее образ
человечен и трагичен. Она величественна и проста. Мадонна идет
к людям босоногая, как простая крестьянка. Все в ней дышит
необыкновенной гармонией линий и красок.
Там же, стр. 311—312.
1 Товий — один из персонажей библейских преданий.
210
СЕРВАНТЕС В ПЛЕНУ
Площадь была окружена вооруженными стражниками
короля Гассана. Его схватили. Ему связали руки за спиной. Ему
накинули петлю на шею, как приговоренному к виселице. Он
был втащен внутрь и тотчас же приведен к Гассану Венеци-
ано.
В глубине громадного внутреннего двора, где было три
фонтана, под средними колоннами узкой его части королю было
приготовлено ложе из желтых и зеленых кожаных подушек.
Подле него, по бокам, стояли Дали-Мами, на этот раз без
трости, и придворный чиновник, звание которого Сервантес
определил по необычайной его одежде: это был ага двух лун.
Позади таился в тени арки тот, кто его предал, — Вонючий.
Король Гассан был одет с изысканной простотой: белый
бурнус из обыкновенной ткани, желтые туфли, феска,
обмотанная белым тюрбаном без всяких пряжек. Он подчеркнуто не
желал умалять впечатление, производимое его особой. Своими
сверкающими, налитыми кровью глазами он спокойно
разглядывал стоявшего перед ним слабого на вид человека. Потом,
высоко вскинув брови, он перевел взгляд на Дали-Мами, пожал
плечами, словно хотел сказать: только-то и всего? — и начал
допрос.
Тотчас же обнаружилось, что доминиканец преувеличил: он
сообщил королю, что фрегат мог вместить двести рабов и что
именно столько готовилось к бегству.
— Значит, ты, наглый ты вор, — сказал Гассан, —
собирался украть у нас чудовищную сумму в сорок тысяч дукатов?!
Сознаешься?
— Негодяй, предавший меня, — сказал Сервантес, —
раздул число, чтобы повысить себе награду. Фрегат мог вместить
шестьдесят пленников.
— Значит, ты признаешь себя виновным?
Сервантес нагнул голову. Веревка соскользнула с его шеи,
петля упала к ногам. Подскочил слуга, чтобы снова надеть ее
на Сервантеса, но Гассан прогнал его кивком.
— Ты назовешь нам имена всех этих шестидесяти. Говори!
Ага двух лун выступил вперед с записной дощечкой в
руках.
— Потом ты назовешь человека или людей, на чьи средства
все это устраивалось. Предприятие стоило немалых денег.
Вид у Мигеля был дружелюбный, почти смиренный. Но
чувствовалось, что стена этого молчания неприступна.
Король кивнул. Из подковообразной двери в левой
продольной* стене вышли двое зеленых, справа же — двое одетых в
лиловое и в черных тюрбанах, с длинными, странной формы
инструментами в руках.
2П
— Полюбуйся! — сказал Гассан. — Когда цепы зададут
тебе двадцать вопросов, ты нам ответишь.
Это и в самом деле оказались цепы, верхняя, подвижная
часть которых была густо усажена острыми иглами. Стоило
взглянуть на них, чтобы тело затрепетало от предчувствия
глубоких укусов.
Сервантеса схватили сзади. С привычной быстротой сорвали
с него одежду и бросили нагого на каменные плиты, лицом
вниз. Подручные уже придавили ему коленями ноги и шею.
Он закрыл глаза. Он не испытывал ни страха, ни ужаса,
скорее удивление. Он не думал, что это может случиться. Но
раз уже случилось, он попытался призвать заступничество
святых. С испугом почувствовал он, что его мысль не способна
обратиться к ним.
«Разве я больше не христианин? — подумал он, содрогаясь.
— И почему я тогда здесь лежу?» Он вздохнул глубоко, так
глубоко, насколько позволила грудь, стиснутая коленями
палачей, и ждал первого укуса пытки.
Ничего не последовало. Он почувствовал себя
освобожденным от тяжести. Он раскрыл глаза и приподнялся на локте.
— Ты слишком хилый, — услышал он голос короля. — Тебя
пытать — все равно, что казнить. Встань!
Сервантес встал.
Жмурясь от света, стоял он совершенно нагой в пяти шагах
от ложа из подушек.
— Слушай, ты! Я пощажу твою жизнь, если ты назовешь
виновных. Будь уверен, что каждый из них сто раз предал бы
тебя. Ну, кто же они?
— Четыре знатных испанца, все четверо давно на свободе
и давно на родине.
— Имена!
И Сервантес с величайшей беглостью назвал несколько
фантастических имен, великолепно звучащих и неправдоподобных.
Только и слышно было, что — «омец», «антос», «иго».
И тут произошло невероятное. Изверга Гассана Венециано
одолел смех. Он всячески старался скрыть его: волосатой рукой
заслонял он свой кривой длинный рот, кровавые глаза сузились
от удовольствия, а из горла вырывались звуки, более
похожие на ржавый скрип, чем на человеческий смех. Все, в том
числе и Дали-Мами, с удивлением наблюдали необычайное
явление.
— Я его покупаю у вас, вашего рыцаря! — сказал он
наконец. — Мало вы мне рассказали о нем. Четыреста дукатов,
идет? — Дали-Мами наклонил свое жирное лицо...
... Сервантес был прикован у самого входа в большой двор
под второй подковообразной аркой. Подушки и покрывала
обеспечивали ему удобства, его ложе, хоть и было на свежем воз-
212
духе, старательно защищалось от солнца и дождя. Длинная
тонкая цепь давала ему возможность прохаживаться по двору.
Эта цепь была изготовлена специально для Мигеля. Она была
серебряная.
Гассан держал при себе однорукого раба, как держат
благородного неукротимого зверя. «Мой знаменитый леопард», —
говорил он посетителям, подводя их к нише, где сидел и писал
Сервантес, потому что король разрешал ему заниматься всем,
чем он хочет; ему с готовностью доставлялись все нужные
принадлежности. Кроме того, его ежедневно спускали с цепи,
позволяя ему вдоволь полоскаться в одном из бассейнов. А через
каждые две недели приходил брадобрей и подстригал
«леопарду» бороду.*
Б. Франк, Сервантес, «Молодая гвардия»,
М., 1960, стр. 128—131.
НИКОЛАЙ КОПЕРНИК
Жил на земле человек, Николаем Коперником звали.
Высчитал он. Доказал, что Земля наша вертится, Анна.
Жизнь свою отдал за то, чтобы людям глаза приоткрылись.
... Старый Коперник лежал. Умирал математик Коперник.
Вдруг растворяется дверь, и за ней весь в пыли незнакомец.
Бледный, дрожащей рукой он снимает дорожную сумку,
Сверток из сумки достал и вручил умиравшему книгу.
Тихо мертвевшей рукой свою книгу Коперник погладил.
Радость во взгляде зажглась, и счастливый Коперник заплакал.
Слезы текли по щекам и искрились в глубоких морщинах.
Взгляд засверкал и погас, и ресницы навеки сомкнулись.
Ясно, спокойно лицо. На губах чуть заметна улыбка.
Книга в руках мертвеца. Знак победы над смертью — бессмертья.
Дм. Смолин, Галилей, «Искусство», М.—
Л., 1939, стр. 13—14.
ДЖОРДАНО БРУНО ИЗЛАГАЕТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ
На кафедру взошел маленький седенький старичок, доктор
Нундиус. Он выпил воды, откашлялся и долго вытирал рот
платком.
— Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Я доктор
теологии, математики, физики и астрономии — Нундиус,
продолжаю начатый диспут и, защищая все положения Аристотеля,
утверждаю: наша земля неподвижна, она — центр вселенной.
Вокруг нее вращаются солнце, луна, планеты и звезды.
Окружающий нашу землю огромный шар создан всевышним из
девяти хрустальных сфер. Последняя из этих сфер носит название
сферы неподвижных звезд; она, вместе с остальными
звездами, совершает движение с востока на запад. Все остальные
213
сферы движутся в направлении Солнца, Луны и семи небесных
планет. Последователи Коперника в своем еретическом
заблуждении стараются поколебать эту гармоническую систему. Они
задают нам такой коварный вопрос: где же помещается та сила
и какова, наконец, ее сущность, которая приводит в движение
все эти сферы? Но разве дано нашему уму понять
божественный промысел? .. Однако и этот еретический вопрос я могу
опровергнуть фактами, которых они постоянно требуют. Конечно,
все эти сферы движутся, мы и не думаем это отрицать. Ясно
также и то, что это движение вызывается какой-то силой. Один
святой монах дошел до конца земли, где небо сходилось с
землей. По воле всевышнего он увидел первую хрустальную сферу.
За ней помещались огромные двигатели, созданные для
вращения сфер. Я не буду больше опровергать еретическое
заблуждение Коперника, ибо приведенный факт достаточно
говорит за себя. Я продолжаю. За пределами всех сфер находится
царство вечно сияющего небесного эфира, где обитают души
праведников. Сияющий свет через хрустальные сферы проникает
к нам на землю. В том царстве незыблемо покоится престол
апостола Петра и его преемников-пап.
Он кончил и сошел с кафедры.
Профессора и духовенство стали ему аплодировать, но
студенты молчали.
Вслед за Нундиусом должен был выступить Джордано. Он
был в черном бархатном камзоле с белоснежным жабо и в
шелковых чулках. Лицо его было бледно. Глаза сверкали огнем
вдохновения. Когда он взошел на кафедру, в окна брызнули
солнечные лучи и озарили его каштановые кудри.
Зал дрогнул от рукоплесканий.
Аристотель и Птолемей были давнишние враги Бруно. Как
на турнире, он собрался теперь сразиться с ними и победить.
В его руках было могучее оружие — истина. Этим оружием он
выбьет их из седла рутины и косности.
Он начал говорить:
— ... Я утверждаю, что вселенная бесконечна. Жизнь не
может ограничиваться конечным миром — это противоречило
бы самому представлению о ней. Она творит все новые и новые
миры. Поэтому и наша земля не может являться центром
вселенной. Не солнце движется вокруг земли, а земля с луной и
все планеты — вокруг солнца. Нет никаких хрустальных сфер.
Не льется оттуда свет на землю. Свет и жизнь дает нам солнце.
Мерцающие сине-голубйе звезды такие же солнца, как наше.
Все движется, развивается и совершенствуется по одному
общему закону...
Его мелодичный голос звучал спокойно и уверенно.
Приводимые им доказательства были прости и убедительны. С
напряженным вниманием слушала его аудитория.
214
Он сбросил с седла Аристотеля и Птолемея. Турнир окончен.
Он победитель. Настало время открыть свое забрало.
И он его открыл.
Разорвалась вековая завеса, скрывавшая истинный мир.
Вдребезги разлетелись хрустальные сферы. Новый мир,
простой и единый, поразил всех своим величием. И не было конца
этому миру... Вокруг звезд — солнца неслись планеты,
притягиваясь одна к другой.
Бруно, наконец, кончил.
Несколько минут продолжалось безмолвие. Потом, точно
прогрохотавший гром, грянули аплодисменты, каких еще
никогда на слыхали аудитории Оксфорда.
Студенты неистовствовали в своем восторге. Профессора
возмущались. Духовенство негодовало.
Г. А р е л ь с к и й, Враг Птолемея, Л., 1930,
стр. 132—134.
СУД НАД ДЖОРДАНО БРУНО
Двадцатого января 1600 года состоялось новое заседание
под председательством папы. Было доложено, что Бруно
упорствует в своем решении ни от чего не отрекаться, что он
отрицает распространение им ереси, заявляя, будто слуги
инквизиции не способны его понять. Послание его к папе было
предъявлено и распечатано, но вслух его не читали. Суд сразу
постановил «принять дальнейшие меры и передать монаха Джордано
Бруно светской власти для выполнения приговора».
Восьмого февраля узник предстал перед кардиналами и
коадъюторами, собравшимися в монастыре Минервы. Здесь в
присутствии римского губернатора, представлявшего светскую
власть, его официально лишили монашеского чина, отлучили от
церкви и изгнали из общины христовой. Был прочитан приговор,
в котором отмечался его греховный образ жизни, занятия и
взгляды, а наряду с этим — усердие и братская любовь
инквизиторов, их усилие вернуть преступника на путь истинный.
Епископ Сидонский совершил обряд расстрижения, и в
общем перечне расходов было указано, что он получил двадцать-
семь скуди за «лишение монашеского чина Джордано Бруно,
еретика». Обращение к римскому губернатору было составлено
в обычной форме:
«Примите еретика в свое ведение, чтобы по своему
усмотрению подвергнуть его заслуженной каре. Умоляем вас, однако,
умерить суровость вашего приговора в отношении его тела, так,
чтобы ему не грозила смерть от пролития крови. Так
постановили мы, кардиналы, инквизитор и генерал, чьи подписи
следуют ниже».
215
Эти фразы имели целью снять ответственность с церкви и
в то же время внушить губернатору, что переданный ему
еретик должен быть сожжен.
Выслушав приговор, Бруно обвел глазами своих судей и
сказал голосом, звенящим и грозным:
— Я думаю, вы произнесли этот приговор с большим
страхом, чем я его выслушиваю.
Затем солдаты губернатора увели его в городскою тюрьму,
Нонскую башню у берега Тибра, почти напротив замка Сент-
Анжело.
Д. Л и н д с е й, Адам нового мира,
Гослитиздат, Л., 1940, стр. 365—366.
СОЖЖЕНИЕ БРУНО НА КОСТРЕ
Он обернулся и начал речь к народу, так как они уже
пришли на площадь. Но «утешители» столпились вокруг него. Один
из них достал кляп. Двое других держали Бруно, пока ему
затыкали кляпом рот и крепко завязывали повязку за ушами.
Потом процессия двинулась через площадь. Бруно ощущал под
ногами туф, которым было вымощено Кампо ди Фиори. Здесь
было легче идти, чем по улицам. Он вертел головой, но повязка
не ослабла. Ему не дадут говорить с народом!
Из подозрительных кварталов, расположенных вокруг
Кампо, уже сбегались сюда, привлеченные зрелищем, бандиты, воры,
нищие... Эшафот был воздвигнут перед домом на углу Кампо
и улицы Биколо Балестрари, где кто-то из городских заправил
прошлого века поставил каменную колонну с высеченными на
ней латинскими стихами. Бруно подтолкнули к тому месту, где
сложен был костер. Под его ногами заскользили сучья. Остро
пахло смолой. Его втащили на костер и связали ему руки за
спиной. Потом обмотали его подмышками цепью и прикрепили
ее к столбу. Он не захотел наклониться и поцеловать одно из
распятий, которые «утешители» протягивали ему, и тогда один
из них сильно ударил его по лицу деревянной дощечкой, а
другой сзади силой наклонил ему голову, чтобы люди думали, что
он смирился и принял утешение. Первый «утешитель» громко
прокричал, что еретик наконец-то приложился ко кресту.
Бруно нетерпеливо тряхнул головой. Довольные, что
хитрость их удалась, оба «утешителя» опять нагнули ему голову
и ткнули в лицо дощечку, выкрикивая:
— Он приложился ко кресту спасителя, который умер за
него!
Бруно почувствовал, что по его губам и подбородку течет
кровь. Солдаты образовали круг и алебардами сдерживали
напор толпы. На крышах домов заблистало солнце...
216
... Да, только от народа может исходить стремление к
братству и справедливости, только народ имеет силу осуществить
это. Узурпаторы, торжествующие звери, собственники и
паразиты никогда не выпустят из рук захваченного, если их не
заставят это сделать. А пока их не заставят, до тех пор не
разомкнётся круг бессмысленных жестокостей и лжи.
Он смотрел на все вокруг, полный любви к миру. Быть
может, народ поднимется и спасет его? Нет, еще не сегодня. Они
еще не поняли всего до конца. Нет, не он увидит свободу, не эти
пришибленные мужчины и женщины. Но придет день, когда
народ разрушит эшафоты и рассеет кровожадных властителей
мира...
Запели молитву. Кто-то бросил факел в груду стружек. Все
полили смолой. Смола брызнула на босые ноги Бруно. Пламя
заметалось, заплясало. Один из «утешителей», которому дым
ударил в лицо, попятился назад и упал. Облитое смолой
дерево шипело, трещало, разнузданные фурии огня, бормоча,
плясали вокруг человека, прикованного к столбу. Ропот не то
жалости, не то жестокого удовольствия раздался из теснившейся
перед костром толпы. Дым, переменив направление, черной
пеленой застилал перед Бруно мир и все безумные глаза вокруг.
Пламя лизало облитые смолой ноги. Но, весь объятый
страстным, напряженным чувством счастья, Бруно едва ли замечал
это.
Там ж с, стр. 372—373.
ГАЛИЛЕЙ НАБЛЮДАЕТ НЕБО В ТЕЛЕСКОП
Поздний вечер. Галилей, со зрительной трубой, в страшном
волненье ведет наблюдения и делает неоднократные записи.
Виргиния (войдя). Что ты там видишь, отец?
Галилей. Много больше, чем думал увидеть.
Виргиния. Чем так взволнован, отец?
Галилей. Своим счастьем, любимая, счастьем. Первый из
всех на земле твой отец чудеса наблюдает.
Виргиния. Можно и мне посмотреть?
Галилей. Ты вторая из смертных увидишь. То, что
увидишь сейчас, никому на земле неизвестно.
Вот, посмотри без трубы. Вот Луна, все считают, что это
зеркало или хрусталь. А в трубу — это шар и огромный.
Виргиния (смотря в трубу). Это огромнейший шар. Что
на нем за круги и за пятна?
Галилей. Наша Луна, как Земля. На ней горы, моря и
долины. Вон, посмотри без трубы. Вот Плеяды. Семь звезд.
Видишь, семь их. Слабому глазу их семь, а в трубу?
Виргиния (смотря в трубу). Сколько там!
217
Галилей. Сосчитай их.
Виргиния. Их нелегко сосчитать. Их там больше, чем
семь.
Галилей. Их там сорок. Сорок их там насчитал. Знали
семь. Тридцать три мы открыли. Вон, посмотри без трубы. Вот,
сосчитай. Восемь звезд Ориона.
Виргиния (смотря в трубу). Сколько их! Сколько, отец!
Галилей. Насчитал я там восемь десятков. Вон,
посмотри без трубы. Серебристая бледная дымка. Видишь, по небу
идет. Там, в тумане, искрится дорога. Это зовут Млечный путь,
это млеко богини пролито. А посмотри-ка в трубу.
Виргиния (смотря в трубу). Там все небо усыпали
звезды.
Галилей. Сколько их, милая там?
Виргиния. Там все звезды.
Галилей. Все звезды. Все звезды. Словно им нету числа.
Там сверкающих солнц мириады. Там мириады планет.
Мириады миров во Вселенной. Прав был Коперник. Он прав. Прав и
Кеплер, неистовый Бруно. Кто же посмеет теперь отрицать то,
что каждый увидит? Каждый увидит теперь, убедится своими
глазами. Слава счастливой судьбе, даровавшей мне счастье
быть первым!
Дм. Смолин, Галилей, «Искусство», М.—
Л., 1939, стр. 35—37.
НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ГАЛИЛЕЯ
Галилео Галилей, учитель математики в Падуе, хочет
доказать правильность нового учения Коперника о строении
вселенной.
Небогатая рабочая комната Галилея в Падуе. Утро.
Мальчик Андреа, сын экономки, принес Галилею стакан молока и
булочку.
Галилей (умывается; обнажен до пояса, фыркает,
весел). Поставь молоко на стол, но не захлопни там ни одной
книги...
Андреа. Мать говорит, что нужно заплатить молочнику,
а то он скоро будет делать круг у нашего дома, господин
Галилей.
Галилей (смеясь). Нужно говорить: «описывать
окружность», Андреа.
Андреа. Как вам угодно. Если мы не заплатим, он и
опишет окружность вокруг нас, господин Галилей.
Галилей. А вот судебный исполнитель господин Камбио-
не идет прямо к нам и при этом избирает ... какое он избирает
расстояние между двумя точками?
Андреа (ухмыляясь). Кратчайшее.
218
Галилей. Хорошо! У меня есть кое-что для тебя. Погляди
там, за звездными таблицами.
Анд pea (вытаскивает из-за таблиц большую деревянную
модель солнечной системы Птолемея). Что это такое?
Галилей. Это астролябия — штука, которая изображает,
как планеты и звезды движутся вокруг Земли. Так думали в
древности.
А н д р е а. Как же?
Г а л и л ей. Давай исследуем это. Прежде всего опиши,
что видишь.
Андреа. Посередине находится маленький камень...
Галилей. Это Земля.
Андреа. А вокруг него, одна над другой, скорлупы.
Галилей. Сколько их?
Андреа. Восемь.
Галилей. Это кристаллические сферы.
Андреа. На этих скорлупах приделаны шары.
Галилей. Это планеты и звезды.
Андреа. Тут полоски, а на них написаны слова.
Галилей. Какие слова?
Андреа. Название звезд.
Галилей. Например?
Андреа. Самый нижний шар, это Луна, тут так и
написано. А над ним Солнце.
Галилей. А теперь двигай Солнце.
Андреа (вращая круглые оболочки). Красиво получается.
Только вот... Мы так закупорены.
Галилей (вытираясь). Да, и я это также ощутил, когда
впервые узидел эту штуку. Некоторые чувствуют это... Стены,
и оболочки, и неподвижность. Две тысячи лет кряду люди
верили, что и Солнце и все небесные тела вращаются вокруг
нас — вокруг нашей Земли. Папа, кардиналы, князья, ученые,
капитаны, куппы, торговки рыбой и школьники верили, что
неподвижно сидят в этом кристаллическом шаре. Но теперь мы
выбираемся из него, Андреа. Потому что старые, времена
миновали и наступило новое время. Уже сто лет как человечество
словно ждет чего-то. Города стали тесны и головы тоже.
Суеверия и чума. Но теперь говорят: раз это так есть, значит, оно
таким не останется... Потому что все движется, друг мой. Мне
хочется думать, что началось все с кораблей. С незапамятных
времен корабли все ползли вдоль побережий, но вот внезапно
они покинули берега и вышли в открытые моря. На нашем
старом континенте возник слух: где-то есть новые континенты.
И с тех пор как наши корабли достигают их, на всех материках
смеясь говорят о том, что великий грозный океан — только
маленький водоем. Возникло большое страстное стремление —
добраться до причин всех вещей. Почему, если выпустить ка-
219
мень из рук, он падает, а если подбросить, он подымается
вверх? Каждый день приносит что-нибудь новое. Даже
столетние старцы требуют, чтобы юноши кричали им в уши о новых
открытиях. Многое уже открыто, но куда больше осталось
такого, что еще можно открыть. Так что и для нас — для новых
поколений — найдется дело. Еще юношей в Сьене я видел, как
двое строителей заменили древний тысячелетний способ
передвижения гранитных глыб; после пятиминутного спора они
договорились применять новое и более целесообразное
приспособление канатов. Там я понял тогда, что старые времена
прошли, что наступает новое время. И человечество скоро
познакомится со своим жильем, с" той планетой, на которой оно
обитает. Всего, что написано в старых книгах, уже недостаточно
для него. Именно там, где тысячу лет гнездилась вера, именно
там гнездится теперь сомнение. Все говорят: да, так написано
в книгах, но дайте нам самим теперь поглядеть... С самыми
священными истинами теперь обращаются запросто и
сомневаются в том, что прежде никогда не вызывало сомнений. И от
этого возник такой сквозняк, что он задирает даже
золототканые полы княжеских и /прелатских одежд, и становятся видны
их ноги, то жирные, то тощие, но такие же ноги, как и у нас...
А небеса, оказывается, пусты. Поэтому раздается веселый
хохот. Но воды Земли двигают валы ткацких и прядильных
станов, на верфях в канатных и парусных мастерских сотни рук
движутся в едином ритме, отлаженном в новом порядке. Я
предвижу, что еще на нашем веку об астрономии будут
разговаривать на рынках. Даже сыновья рыбных торговок будут ходить
в школы. И этим жадным до всего нового людям придется по
душе то, что новая астрономия заставляет теперь двигаться
также и землю. Прежде всего считалось, что небесные тела
укреплены на кристаллических сводах, чтобы не упасть, а теперь
мы набрались смелости и позволяем им свободно держаться в
пространстве, ничто их не удерживает, и все они в великом
движении так же, как и наши корабли в безудержном
великом движении. И Земля весело катится вокруг Солнца, и
рыбные торговки, купцы, князья и кардиналы, и даже папа катятся
вместе с ней. За одну ночь вселенная утратила свой центр, а
наутро их — этих центров — оказалось бесчисленное
множество: так что теперь любая точка может считаться центром
вселенной, любая и никакая, ведь внезапно оказалось, что в мире
очень много места. Наши корабли заплывают далеко, далеко,
наши планеты и звезды движутся в огромном пространстве,
даже в шахматах теперь ладьи могут двигаться через все
клетки...
А н д р е а. А сегодня ночью я думал и понял, что если бы
Земля действительно вертелась, то я всю ночь висел бы головой
вниз. И это факт.
220
Галилей (берет с каминной полки яблоко). Так вот это
Земля.
А н д р е а. Не берите вы всегда такие примеры, господин
Галилей. Так вам всегда удастся.
Галилей (кладет яблоко на место). Хорошо...
... А н д р е а. Ну, а что если яблоко — Земля? Это же
ничего не значит.
Галилей (смеясь). Да ведь ты не хочешь этого знать.
А н д р е а. Возьмите его опять. Как же это получается, что
я ночью не вишу вниз головой.
Галилей. А вот так: вот это Земля, а вот стоишь ты
(отламывает от полена щепку и втыкает ее в яблоко), и вот
Земля вертится.
Анд ре а. Я вишу вниз головой.
Галилей. Почему же, посмотри внимательней, где
голова?
А н д р е а (показывает на яблоко). Здесь внизу.
Галилей, Что? (Вновь поворачивает яблоко.) Разве она
не на том же самом месте, разве ноги твои по-прежнему не ниже
головы? Разве, когда я поворачиваю, ты стоишь так?
(Вынимает щепку и переворачивает ее.)
Анд pea. Нет. А почему я не замечаю этого движения?
Галилей. Потому что ты сам в нем участвуешь. И ты, и
воздух над тобой, и все, что есть на шаре.
Анд ре а. А почему же мы видим так, что словно Солнце
ходит?
Галилей (поворачивая яблоко с щепкой). Под собой ты
видишь Землю, она не изменяется, она всегда внизу, и для тебя
она не движется.
Б. Брехт, Жизнь Галилея, «Искусство»,
М., 1957, стр. 5—13.
ПАМЯТНИК КОПЕРНИКУ В КРАКОВЕ
У стен старинных университета
Мы видим этот памятник простой,
Воздвигнутый ученому-поэту
Провидцу правды вечно молодой.
Им краковцы горды необычайно,
И разве можно не гордиться им, —
Ведь у завистливого неба тайну
Он вырвал разумом своим земным.
Детей приводят к университету,
Чтоб дочка знала и чтобы сын узнал:
— Смотрите все: простой канонник
этот
Престол господний смело колебал!
Для всех народов над планетой всею
Теперь иным созвездиям сиять,
И вместе с нами жить и побеждать
Копернику, да Винчи, Галилею!
М. Рыльский, Памятник Копернику в
Кракове. — В кн.: М. Рыльский, Избранное,
Гослитиздат, М., 1954, стр. 106.
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Алтаев Ал., Впереди веков. Повести, Детгиз, М., 1959.
Автором книги является писательница Маргарита Васильевна Ямщикова
(1872—1959), выступавшая под литературным псевдонимом — Ал. Алтаев,
перу которой принадлежит ряд исторических повестей и романов.
В трех повестях, объединенных общей идеей и общим названием
«Впереди веков», выведены образы титанов итальянского Возрождения: Леонардо
да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэля Санти. Их жизнь и
творчество показаны на ярком фоне бурной истории Италии конца XV—XVI веков.
В книге имеются удачные зарисовки быта Италии эпохи Возрождения и
нравов папского двора. Все повести основаны на документальном материале.
Книга рекомендуется для внеклассного чтения.
Алтаев Ал., Под знаменем «Башмака», Детгиз, М.—Л., 1952.
В романе изображены события крестьянской войны в Германии. Многие
страницы книги посвящены деятельности тайной крестьянской организации
«Башмак». Центральная фигура романа — вождь плебейско-крестьянского
лагеря, герой немецкого народа Томас Мюнцер. В числе других действующих
лиц выведены один из руководителей союза «Башмак» Фриц Иосс,
соратник Т. Мюнцера Генрих Пфейффер, командир Черного отряда Флориан
Гейер. В романе обрисованы такие известные эпизоды крестьянской войны,
как взятие повстанцами замка Гельфенштейн и битва под Франкенгаузе-
ном. Книга рекомендуется для внеклассного чтения.
Алтаев Ал. и Ф е л и ч е Арт., Власть и золото, «Молодая гвардия»,
М., 1929.
Эта книга написана М. В. Ямщиковой (Ал. Алтаев) совместно с ее
дочерью Людмилой Андреевной Ямщиковой-Дмитриевой, выбравшей своим
литературным псевдонимом имя героя известного романа Л. Войнич
«Овод» — Артура Феличе.
О завоевании конкистадорами, возглавляемыми Франсиско Писарро,
государства инков в Перу, о разрушении ими самобытной инкской
цивилизации, о вероломном убийстве испанцами верховного правителя инков Ата-
гуальпы рассказывает эта повесть. В названии повести метко выражены те
мотивы, которые гнали обедневших испанских идальго в новые,
неизведанные страны.
Алтаев Ал. и Феличе Арт., Могучий слепец. Исторический
роман, «Молодая гвардия», М., 1959.
Могучий слепец — великий чешский патриот и полководец Ян Жижка.
Он показан и во время восстания в Праге в 1419 году, и как организатор
гуситского войска, и в битвах с крестоносцами. Роман написан почти без
отступлений 6т подлинных исторических фактов. Книга рекомендуется для
внеклассного чтения.
Арельский Г., Враг, Птолемея, Л., 1930.
Биографический роман о герое и мученике науки Джордано Бруно.
В романе последовательно развертываются все этапы его жизни. Мы видим
222
Джордано Бруно то пытливым мальчиком в Ноле, то юношей, сидящим над
книгами, в доминиканском монастыре, то молодым профессором,
окруженным любознательными студентами, то победителем в яростных диспутах
с схоластами и, наконец, несгибаемым борцом за истину перед лицом
святой инквизиции.
«Баллады о Робин Гуде», Детгиз, Л., 1959.
Героем цикла английских народных песен-баллад был «вольный
стрелок» Робин Гуд, отчаянный и находчивый смельчак, который, по преданию,
жил в XII—XIII веках. Он скрывается в лесах, грабит богачей и попов,
раздает отнятое у них обездоленным, воюет с шерифом и епископом. В светлом
образе Робин Гуда нашел свое выражение народный протест против
социальной несправедливости. Баллады сборника даны в переводах И.
Ивановского. Книга рекомендуется для внеклассного чтения.
Бехер И., Лютер. — В кн.: Бехер И., Избранное, М., Изд. иностр.
лит., 1956, стр. 295—303.
В поэме известного немецкого поэта-коммуниста Иоганнеса Бехера
вскрыта прогрессивная, но в то же время классовоограниченная роль
идейного вождя бюргеров Германии — Лютера. Поэт показал, как Лютер
превратился из смелого выразителя общенародных интересов в ретивого слугу
немецких князей, призывавшего к истреблению восставших крестьян.
Боккаччо Д., Декамерон, Гослитиздат, М., 1955.
Сборник связанных между собой новелл знаменитого итальянского
писателя-гуманиста Джованни Боккаччо (1313—1375) — первое крупное
прозаическое произведение литературы периода Возрождения. В новеллах даны
зарисовки жизни и быта итальянского общества. Ряд новелл осмеивает и
обличает попов и монахов. Всем своим содержанием книга направлена
против средневекового аскетизма.
«Болгарская народная поэзия», Гослитиздат, М., 1963.
Первая половина сборника представлена разделами «Гайдуцкие песни» и
«Исторические песни». В гайдуцких песнях говорится о борьбе лучших
сынов болгарского народа с поработителями-турками и с богатеями
предателями. Песни прославляют героизм и удаль народных мстителей — гайдуков.
Основной мотив исторических песен — великие страдания болгарского
народа, на пять веков подпавшего под турецкое иго.
Б о р н Б. де, Сирвента. — В кн.: «Хрестоматия по зарубежной
литературе средних веков», Учпедгиз, М., 1953, стр. 133—134.
В сирвенте, приписываемой известному провансальскому трубадуру,
политическому поэту Бертрану де Борну (1140—1215), воспевается война и
разбой как единственное достойное «благородного» рыцаря занятие.
Сирвента отражает типичное для феодалов высокомерно-презрительное отношение
к народу.
Брехт Б., Жизнь Галилея, «Искусство», М., 1957.
В пьесе выдающегося немецкого писателя и деятеля театра Бертольта
Брехта (1898—1956) автор, обращаясь к жизни великого физика и
астронома эпохи Возрождения Галилео Галилея, призывает к стойкости в борьбе с
темными силами реакции.
Б. Бродский, Каменные страницы истории, Детгиз, М., 1960.
Египетские храмы, Парфенон, Колизей, Альгамбра, Собор Парижской
богоматери, Тадж-Махал, Московский Кремль — все это каменные
страницы истории. Книга состоит из отдельных очерков, каждый из которых
увлекательно рассказывает о том или ином выдающемся памятнике
архитектуры. Книга знакомит читателей с историей архитектуры на фоне общего
развития миропой культуры. Она может быть рекомендована для
внеклассного чтения.
223
Б э р о А., Проклятое урочище, «Московский рабочий», М., 1927.
Книга французского писателя Анри Бэро представляет собой
необычное в художественной литературе произведение. В романе последовательно
излагается история южнофранцузской деревни Саболас со времен короля
Филиппа IV Красивого до победы Великой французской буржуазной
революции. Коллективный герой романа — крестьяне деревни Саболас, из
поколения в поколение ведущие борьбу со своими сеньорами за право владеть
землей. История деревни дается в связи с важнейшими событиями
французского средневековья — Столетней войной, Жакерией, религиозными
распрями XVI века.
Вассерман Я., Золото Кахамарки, Географгиз, М., 1956.
В произведении немецкого писателя Якоба Вассермана (1873—1934)
описывается гибель государства инков, ставшего жертвой конкистадоров. Автор
ярко передал золотую лихорадку, охватившую испанских колонизаторов в
Америке. В этом плане представляет интерес изложенная в книге история
злочастного выкупа, которая так трагически окончилась для правителя инков
Атагуальпы. Кахамарка — город на севере Перу, где испанцы содержали
в плену и казнили Атагуальпу.
Верн Ж-, История великих путешествий, в 3-х т., т. 1. Открытие
земли, Детгиз, Л., 1958.
В трехтомном труде всемирно известного автора научно-фантастических
романов Жюля Верна (1828—1905) излагается история географических
открытий с древнейших времен до середины XIX века. Первый том посвящен
путешественникам древности, средневековья и эпохи великих географических
открытий. Книга написана на основе огромного документального материала
(записки и дневники путешественников, отчеты экспедиций, архивные
публикации и т. д.). Здесь, как и всегда, Жюль Верн выступает в роли
талантливого популяризатора науки.
В и н ь и де А., Сен-Map, Жургазобъедииение, М., 1936.
Сюжетом романа известного французского поэта и прозаика Альфреда
де Виньи (1797—1863) является заговор 1641 г., возглавленный любимцем
короля Людовика XIII Генрихом д'Эффиа, маркизом Сен-Map, против
всесильного кардинала Ришелье. Сен-Map выражает интересы французских
аристократов, которые пытаются отстоять свои прежние привилегии, а Ришелье
олицетворяет собой идею абсолютизма. Автор явно идеализирует личность
Сен-Мара и феодальную знать. Роман построен на документальном
материале.
«Воспользуясь против пороков...» — В кн.: «Хрестоматия по
зарубежной литературе средних веков», Учпедгиз, М., 1953, стр. 38—39.
В стихотворении анонимного автора, поэта-ваганта XII века,
изобличается продажность и алчность папской курии.
Гейне Г. Бимини. — В кн.: Гейне Г., Избранные произведения, в
2-х т., т. 1, Гослитиздат, М., 1956, стр. 436—458.
Поэма великого немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856) основана
на реальном историческом факте. В ней рассказывается об одном из
спутников Колумба — испанском мореплавателе Хуане Понсе де Леоне, который
в поисках легендарного острова Бимини, где якобы бьет источник вечной
юности, открыл полуостров Флориду. Автор развенчивает конкистадоров и
показывает их истинную сущность стяжателей и разбойников.
Гейне Г., Невольничий корабль. — В кн.: Гейне Г. Избранные
произведения, в 2-х т., т. 1, Гослитиздат, М., 1956, стр. 404—408.
В стихотворении разоблачается и осуждается бесчеловечность
работорговцев.
Гейне Г., Фицлипуцли: — В кн.: Гейне Г., Избранные произведения,
в 2-х т., т. 1, Гослитиздат, 1956, стр. 316—334.
224
В стихотворении рассказывается о завоевании испанскими
конкистадорами под предводительством Фернандо Кортеса государства ацтеков в
Мексике, о жестокости и вероломстве европейских колонизаторов. Фицлипуцли —
бог войны у ацтеков.
Гершензон М., Робин Гуд., Детиздат, М., 1940.
Повесть советского писателя основана на материале английских
народных баллад о Робин Гуде. Для учителя истории представляют интерес
многочисленные детали из жизни и быта английских крестьян.
Гёте И. В., Эгмонт. — В кн.: Гёте И. В., Избранное, Детгиз, М.,
1963, стр. 65—143.
Эгмонт — герой трагедии великого немецкого поэта Иоганна Вольфгана
Гёте (1749—1832), нидерландский вельможа и полководец. Граф Эгмонт и
адмирал Горн — первые жертвы террора герцога Альбы. Образ Эгмонта
у Гёте окружен романтическим ореолом.
Г л об а А., Уот Тайлер. Поэма. Гос. изд., Пг., 1922.
Поэма цредставляет собой вольную обработку английских народных
песен и легенд, связанных с крупнейшим крестьянским движением в
средневековой Англии — восстанием Уота Тайлера. Непримиримость классовых
интересов угнетателей и угнетенных — вот та главная идея, которая
пронизывает всю поэму.
Г у р ь я н О., Обида маленькой Э, Историческая повесть, Детгиз, М.,
1962.
События, о которых рассказывает книга, происходят в Китае XIII в.,
во времена монгольского владычества. Главная героиня исторической
повести — маленькая девочка, которой приходится пережить много бедствий и
приключений. Странствуя вместе с маленькой Э и ее друзьями —
бродячими актерами, читатель знакомится с различными сторонами жизни
средневекового Китая. Книгу следует рекомендовать для внеклассного чтения.
Гюго В., Девяносто третий год, Гослитиздат, М., 1963.
В романе французского писателя Виктора Гюго (1802—1885)N
изображены события Великой французской буржуазной революции, относящиеся к
маю—июлю 1793 г.
Гюго В., Собор Парижской богоматери, «Правда», М., 1955.
Колоритный облик средневекового Парижа, с его узкими улицами и
мрачными площадями, где веселился народ и творились казни, с его
дворцами и мостами через Сену, с его людом — ремесленниками и торговцами,
с его многочисленными калеками и нищими и с возвышающейся над городом
каменной громадой прославленного собора дан в получившем мировую
известность романе. Особое место в романе занимает описание Собора
Парижской богоматери — этого архитектурного чуда средневековья, творения
народного гения. События, о которых чидет речь в книге, происходят в
правление короля Людовика XI. Роман направлен против королевского
деспотизма, феодальной аристократии и католической церкви.
Делонэ Т., Джек из Ньюбери. — В кн.: Делонэ Т., Джек из
Ньюбери. Томас из Рэдинга, Госиздат, М.—Л., 1928.
Автор книги — английский писатель XVI в., профессиональный ткач
Томас Делонэ (ок. 1543—1600). Главный герой романа — бывший рабочий-
суконщик, ставший в результате женитьбы на богатой вдове хозяином
большой мануфактуры. Роман очень живо рисует быт Англии эпохи
первоначального накопления капитала. Автор приукрашивает положение наемных
рабочих и условия труда на мануфактурах.
Дитякин В., Леонардо да Винчи, Детгиз, М., 1959.
Эта книга о жизни и творчестве великого художника, ученого и
инженера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Полубеллетристическое повество-
15 Сост. О. В. Волобуев и др.
225
вание сочетается с художественным анализом созданных Леонардо да Винчи
произведений искусства и детальным описанием его научных занятий и
технических проектов. Книга хорошо иллюстрирована. Она может быть
рекомендована для чтения тем учащимся, которые интересуются историей и
искусством.
Заборов М., Крестоносцы и их походы на восток в XI—XIII веках,
Учпедгиз, М., 1962.
Книга представляет собой научно-популярный очерк из серии «Школьная
историческая библиотека». Основываясь на большом фактическом
материале, умело вкрапливая в изложение выдержки из документов, автор живо и
увлекательно рассказывает о первом и четвертом крестовых походах. Книгу
можно рекомендовать учащимся, интересующимся историей.
Загорчинов С, День последний. Исторический роман из жизни
XIV столетия, Гослитиздат, М., 1955.
В романе современного болгарского писателя Стояна Загорчинова
рассказывается о жизни и борьбе болгарского народа накануне и в период
вторжения на Балканы турецких захватчиков (середина XIV в.). В романе
показаны все слои болгарского общества, но главное внимание и свои
симпатии автор отдает простым людям. Роман создан на основе глубокого
знания эпохи. Критика отмечала, что при чтении чувствуешь источник,
вошедший в ткань произведения.
Заяицкий С, Псы господни, «Молодая гвардия», М., 1931.
Эта повесть рассказывает о жизни Джордано Бруно и его борьбе за
науку с католиками-мракобесами — «псами господними». Книга
открывается бегством Джордано Бруно из монастыря и заканчивается его смертью
на костре от рук инквизиции.
Зегерс А., Процесс Жанны д'Арк в Руане в 1431 году. — В кн.:
«Отцы тьмы», Детгиз, М., I960, стр. 187—208.
Радиопьеса написана лауреатом Международной премии мира
писательницей-коммунисткой Анной Зегерс. Радиопьеса основана на подлинных
протоколах судебного процесса. В ней показан заключительный этап эпопеи
Жанны д'Арк — девушки, которая стала олицетворением французского
патриотизма.
Иванов К., Средневековая деревня и ее обитатели, Спб., 1896.
Книга принадлежит перу русского дореволюционного поэта и известного
методиста-историка К- А. Иванова, автора ряда научно-популярных очерков
из жизни феодального общества, обладающих значительными
художественными достоинствами. В книге много интересных бытовых деталей.
Существенным недостатком этой книги, как и других работ автора, является
идеализация средневековья и известный налет клерикализма.
Иванов К., Средневековый город и его обитатели, Спб., 1900.
Автор обстоятельно описывает средневековый город: его внешний вид,
уклад жизни, быт горожан. Кроме вышеуказанных недостатков, вообще
присущих книгам К. А. Иванова, для данного произведения характерно
стремление автора уйти от показа классовых противоречий средневекового города.
Иванов К-, Средневековый замок и его обитатели, Спб., 1898.
В книге даны яркие картины жизни и быта феодалов: посвящение в
рыцари, пир, охота, турнир и т. д. Автор, как всегда, приукрашивает
средневековье и любуется им.
И р а с е к А., Против всех. — В кн.: И р а с е к А., Сочинения, в 8-ми т.,
т. 3, Гослитиздат, М., 1956.
Роман классика чешской литературы, счастливо сочетавшего в себе
писателя и профессора истории, Алоиса Ирасека (1851—1930) повествует
226
о героических делах гуситов. Действие романа охватывает сравнительно
небольшой отрезок времени, с апреля 1420 г. по апрель 1421 г. В романе
рассказывается о таких событиях гуситского движения, как разгром народом
католических церквей и монастырей, основание Табора, битва с
крестоносцами у стен Праги.
Каждая А., В поисках минувших столетий, Детгиз, М., 1963.
Эта книга советского ученого популярно и увлекательно рассказывает о
нелегком труде историка, о сложных путях установления исторических
фактов. В доступной для детей форме автор вводит их в лабораторию
исследовательской работы по изучению прошлого. Книга поможет учащимся
понять, что история такая же точная наука, как, скажем, химия и физика.
Учителю следует рекомендовать ее для внеклассного чтения.
Кинжалов Р. и Белов А., Падение Теночтитлана, Детгиз, Л.,
1956.
Книга, написанная американистом Р. Кинжаловым и писателем А.
Беловым, представляет собой научно-художественный очерк, в котором
излагается история открытия и завоевания Мексики и на этом фоне показывается
ацтекское общество, с его своеобразной культурой. Сюжетная канва кни-
ти — поход Кортеса и драматические события, которые привели к
порабощению индейских племен Мексики. Книга рекомендуется для внеклассного
чтения.
Клар Ф., Жаки. Историческая повесть, Госиздат, М.—Л., 1928.
Повесть французской писательницы посвящена одному из наиболее
крупных крестьянских восстаний средневековой Европы — Жакерии. Борьба
крестьян против феодалов дана локально: события, изображенные в повести,
ограничиваются владениями сеньора де Куси. Ярко показаны жестокости
и притеснения со стороны феодалов.
«Книга для чтения по истории средних веков», под ред. С. Д. Сказкина,
ч. 1, Учпедгиз, М., 1951.
Книга представляет собой первую часть трехтомного издания
научно-популярных очерков по истории средних веков, написанных группой советских
медиевистов. Ряд очерков отличается значительными художественными
достоинствами. В отдельных случаях очерк строится на основе сюжета.
Книга является ценным учебным пособием, которое широко должно быть
использовано в преподавании истории.
Костер Ш., Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их
приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах,
Гослитиздат, М., 1955.
Книга бельгийского писателя Шарля де Костера (1827—1879) не
является историческим романом в общепринятом смысле этого слова. Она
выросла на фольклоре. В ней много легендарного и сказочно-гиперболического,
но, несмотря на это, она правдиво воссоздает борьбу нидерландского народа
против испанского гнета и католической церкви в XVI веке. Тиль
Уленшпигель — герой народных легенд, жизнерадостный и смелый гёз, воплощение
национального духа и любви к родной земле.
Крашевский, Ю., Старое предание, Гослитиздат, М., 1950.
Построенный на использовании народных преданий, роман польского
писателя Юзефа Игнацы Крашевского (1812—1887), автора 88 исторических
романов и повестей, воссоздает жизнь западнославянского племени полян
в период разложения первобытнообщинного строя и становления
феодализма (IX в.). В романе показано возвышение князей, рост их богатства
и власти и связь этого процесса с проникновением немцев в славянские
земли.
Кунин К., За три моря, Детгиз, М.—Л., 1952.
Побывавший в Индии в XV веке русский купец Афанасий Никитин
15*
227
оставил записки об этом путешествии, известные под названием «Хожение
за три моря». О подвиге Афанасия Никитина рассказал автор в своей
повести для детей младшего школьного возраста.
Ладинский А., Анна Ярославна — королева Франции. Исторический
роман, «Советский писатель», М., 1961.
Действие романа происходит в Киевской Руси и Западной Европе
XI века. Главная героиня романа — младшая дочь Ярослава Мудрого Анна,
вышедшая замуж за французского короля. Большая эрудиция и
удивительное чутье эпохи позволили автору нарисовать широкую картину
средневековой Европы.
Ладинский А., Когда пал Херсонес.., Роман, «Советский писатель»,
М., 1959.
Византия и Русь X века, Константинополь и Киев, «большая» политика
василевсов и мелкие интриги императорского двора, богатство динатов
и нищета «убогих», взятие Владимиром Херсонеса Таврического и войны
Византии с Болгарией — все это мы видим глазами византийского патрикия
Ираклия Метафраста, от лица которого ведется повествование. Автор не
ограничивается, как это часто бывает в исторических романах, политической
жизнью эпохи, он показывает и те социально-экономические процессы,
которые происходили в это время в Византийской империи.
Л а р р е т а Э., Слава дона Рамиро. Исторический роман, Гослитиздат,
М., 1961.
В романе современного аргентинского писателя перед нами предстает
ярко изображенная Испания конца XVI века — страна религиозного
фанатизма и изуверства; страна, где пылали костры инквизиции, на которых
сжигались еретики и колдуны; страна заносчивых грандов и обедневших, но
презирающих труд идальго. В этой стране развертывался тот глубокий
экономический и политический кризис, который в дальнейшем превратил
могущественную и сильную Испанию во второстепенную державу Европы. Этот
кризис углублялся бессмысленными и жестокими преследованиями морисков,
искусных земледельцев и ремесленников. Из романа видно, как зловеще
удушливая атмосфера Испании калечила и ломала души людей.
Лен а у Н., Ян Жижка. — В кн.: Лен а у Н., Стихотворения. Ян
Жижка. Поэма, Гослитиздат, М., 1956, стр. 183—203.
Крупнейший австрийский поэт Николаус Ленау (1802—1850) в своей
поэме воспел подвиг чешского патриота и полководца — Яна Жижки. Автор
дал новое для того времени истолкование гуситских войн не только как
религиозного, но и как социального движения.
Линд сей Д., Адам нового мира, Гослитиздат, Л., 19-10.
Последний этап жизни Джордано Бруно показан в романе современного
английского писателя и критика Джека Линдсея. Детально излагаются все
события, начиная с ареста великого ученого в Венеции и кончая его казнью
на Площади цветов в Риме. Автор дал сложный психологический рисунок
образа Д. Бруно. В романе широко использованы документы.
Мериме П., Хроника времен Карла IX. — В кн.: Мериме П.,
Избранные сочинения, в 2-х т., т. 1, Гослитиздат, М., 1956, стр. 399—592.
В историческом романе выдающегося французского писателя Проспера
Мериме (1803—1870) изображается Франция XVI века, раздираемая
религиозными распрями между католиками и гугенотами. В этой борьбе за
религиозными лозунгами скрываются материальные интересы отдельных
социальных групп и отдельных личностей. Одна из наиболее запоминающихся
сцен романа — картина Варфоломеевской ночи, с ее ужасами и фанатизмом.
Моисеева К-, Звезды мудрого Бируни. Историческая повесть, Дет-
гиз, М., 1963.
О великом ученом средневекового Востока, математике и астрономе
228
Аль-Бируни, о его научных взглядах, опережавших столетия, о
преследовании ученого фанатичным мусульманским духовенством рассказывается
в исторической повести советской писательницы. Книга может быть
рекомендована для внеклассного чтения.
М о р и с о н С, Христофор Колумб, мореплаватель, Изд. иностр. лит-ры
М., 1958.
Книга написана американцем, профессором истории и моряком,
человеком, влюбленным в своего героя и повторившим на небольших парусниках
маршрут плавания X. Колумба. Автор использовал большой документальный
материал.
М у р а ц а н, Геворг Марзпетуни. Исторический роман, Гослитиздат,
М, 1963.
Мурацан — литературный псевдоним классика армянской литературы Гри-
гора Тер-Ованисяна (1854—1908). Роман рассказывает о героической борьбе
армянского народа против арабских завоевателей в X веке. Эту борьбу
затрудняли непрерывные феодальные усобицы, обрисованные в книге.
Геворг Марзпетуни — известный армянский полководец и патриот.
Мюллер В. К-, Пират королевы Елизаветы, Брокгауз-Ефрон, Л.г
1925.
Это книга о деятельности английского пирата и мореплавателя XVI века,
ставшего адмиралом флота «ее величества», Фрэнсиса Дрейка (Дрэка).
Ф. Дрейк был активным участником длительной и упорной борьбы между
Англией и Испанией за моря и колонии. Он организовывал смелые налеты
на испанские колонии в Америке, откуда возвращался с богатой добычей.
Во время одного из таких нападений Ф. Дрейк проник в Тихий океан и
совершил второе вслед за Магелланом кругосветное путешествие. В книге
подробно описывается разгром «Непобедимой армады».
Насир-и-Хусрау, Сафар-намэ, Academia, M.—Л., 1933.
Таджикский поэт и мыслитель Насир-и-Хусрау (Насир-и-Хосров, 1004—
1088) описал свои семилетние странствия по Ирану, Сирии, Египту и
Аравии в «Книге путешествия» («Сафар-намэ»). В записках содержится очень
много сведений социального и экономического характера. Автор с большим
сочувствием относится к крестьянам.
Оливье Ж., Колен Лантье, Детгиз, М., 1961.
В повести современного французского писателя правдиво воссоздается
картина Жакерии. В книге выведены реальные исторические лица: вождь
Жаков Гильом Каль, купеческий старшина Парижа Этьен Марсель, дофин
Карл и руководитель феодального ополчения король Наварры Карл Злой.
Книгу следует рекомендовать для внеклассного чтения.
Островер Л., Караван входит в город. Роман, «Советский писатель»,
М, 1940.
В книге дается яркая картина жизни южногерманского города Аугсбурга
накануне крестьянской войны. Центральная фигура романа — крупный
аугсбургский купец, ростовщик и владелец рудников Яков Фуггер. Рост
богатства и влияние Фуггеров — наглядный пример возрастания роли
купечества в Германии XVI века. Автор рисует портреты видных
исторических личностей того времени — Эразма Роттердамского, Ульриха фон
Гуттена и др.
«Песнь о Роланде». — В кн.: «Хрестоматия по истории средних веков»,
т. 1, Учпедгиз, М., 1953, стр. 246, 252.
Крупнейшее произведение французского героического эпоса, древнейший
список которого относится к XII веку. Сюжетом поэмы послужило
действительное историческое событие: гибель арьергарда франкского войска под
начальством графа Роланда, истребленного в 778 году, в Ронсевальском
ущелье Пиренеи басками. В поэме баски заменены сарацинами-арабами.
229
а франкские феодалы обрисованы как французские рыцари XI—XII веков.
Роланд же выведен как образ идеального рыцаря-вассала.
Прибытков В., Тверской гость, «Молодая гвардия», М., 1956.
Тверской гость — русский купец Афанасий Никитин, совершивший
путешествие в Индию в 1466—1472 годы. Повесть создана на основе
дневниковых записей самого Никитина. В ней описываются богатый приключениями
путь русского купца в Индию, быт и нравы индийского общества и
возвращение на родину Афанасия Никитина.
Рабле Ф., Гаргантюа и Пантагрюэль, Детгиз, Л., 1960.
В сатирическом романе знаменитого французского писателя и ученого-
гуманиста Франсуа Рабле (1494—1553) зло высмеиваются феодальные
войны и средневековый суд, католическая церковь и религиозные распри,
схоластическая наука и схоластическая система воспитания и
провозглашается освобождение человеческой личности от средневековых пут. Роман
написан в фантастической форме, и в нем в переработанном виде широко
использовано народное творчество. Книга может быть рекомендована для
внеклассного чтения.
Роллан Р., Жизнь Микеланджело. — В кн.: Р о л л а н Р.,
Собрание сочинений, в 14-ти т., т. 2, Гослитиздат, М., 1954, стр. 77—216.
Великий французский писатель Ромен Роллан (1866—1944) в своей книге
воссоздал могучий образ одного из титанов Возрождения. «Жизнь
Микеланджело» — это не роман и не повесть. Это документальный очерк, но очерк,
который благодаря таланту писателя по силе художественного воздействия
ничуть не уступает первоклассному роману. В оценке Микеланджело автор
не свободен от субъективизма.
Рыльский Мм Памятник Копернику в Кракове. — В кн.: Р ы л ь ■
с кий М., Избранное, Гослитиздат, М., 1954, стр. 106.
Великий научный подвиг Коперника воспет в стихотворении
выдающегося украинского советского поэта, лауреата Ленинской премии.
«Сербский эпос», «Academia», M.—Л., 1933.
Сборник юнацких песен включает в себя циклы докосовский, косовский,
о Марке Кралевиче, О Бранковичах, Якшичах и Черноевичах, о гайдуках
и об ускоках. В основе всех этих циклов лежат те или иные исторические
факты, опоэтизированные народом. В песнях много фантастики и гиперболы,
но тем не менее это по своей сути эпос исторический. Большинство песен
воспевает героизм сербского народа в борьбе с турками. Наиболее интересен
цикл — поэтическая история битвы на Косовом поле.
Скотт В., Айвенго, Детгиз, М., 1960.
Автором этой книги является выдающийся английский писатель Вальтер
Скотт (1771—1832), создавший 29 исторических романов, охватывающих
период от крестовых походов до установления конституционной монархии
в Англии в XVIII веке. Романы Вальтера Скотта в целом правдиво
воссоздают исторические события и быт изображаемой эпохи. В его
произведениях наблюдается известная романтическая идеализация героев-рыцарей.
События, которые описываются в этом романе, происходят в Англии
XII века — в стране, где наряду с острыми классовыми противоречиями
существовали еще сильные противоречия между завоевателями-норманнами
и англосаксами. Хорошо показана борьба королевской власти с произволом
крупных феодалов. Один из ведущих героев романа — предводитель
«вольных стрелков» легендарный Локсли — Робин Гуд. Книга может быть
рекомендована для внеклассного чтения.
Скотт В., Граф Роберт Парижский, ч. 1, 2, Гослитиздат, М., 1940.
Крестоносцы и Византия во время первого крестового похода, их
сложные взаимоотношения, переговоры вождей крестоносцев с византийским им-
230
ператором Алексеем Комнином, жизнь византийского двора — вот события^
на фоне которых развертывается действие романа. Книга может быть
рекомендована для внеклассного чтения.
Скотт В., Квентин Дорвард, Детгиз, М., 1958.
Самым опасным врагом короля Людовика XI в его борьбе за создание
централизованного государства был крупнейший феодал Франции герцог
Бургундский Карл Смелый. Конфликт между этими двумя историческими
личностями был по существу столкновением двух тенденций — единства и
децентрализации в политическом развитии Франции. Борьба между
Людовиком XI и Карлом Смелым составляет стержень романа. Книга рекомендуется
для внеклассного чтения.
Скотт В., Ричард Львиное Сердце, Алма-Ата, 1958.
События, развертывающиеся в романе, относятся к периоду третьего
крестового похода. Хорошо показаны раздоры в лагере крестоносцев.
Образы английского короля Ричарда Львиное Сердце и султана Саладина
значительно идеализированы. Книга может быть рекомендована для
внеклассного чтения.
Слезкина О., Оловянная рука. Повесть о Гутенберге, «Советский
писатель», М., 1956.
Это повесть об Иоганне Гутенберге — изобретателе книгопечатания,,
о его исканиях и мытарствах. В ней показана экономическая и
политическая жизнь городов Майнца и Страсбурга, в которые начинало свои
первые шаги книгопечатание, и острая социальная борьба между цехами
и патрициями и внутри цехов.
Смирнова-Ракитина В. А., Повесть об Авиценне — великом
ученом Средней Азии Абу-Али ибн-Сине, враче, математике, астрономе,
философе, поэте и музыканте, жившем тысячу лет назад и прославившемся
во всем мире, «Советский писатель», М., 1963.
Абу-Али ибн-Сина (980—1037), известный в Западной Европе под
именем Авиценна, — крупнейший ученый и философ средневекового
Востока. Он жил в тяжелые для Средней Азии времена: раздираемая
междоусобной борьбой феодалов, она страдала от воинственных соседей —
кочевников и Газневидов. Трудная жизнь Авиценны излагается в повести в связи со
сложной политической и социальной жизнью его родины. В повести
показано, как фанатичное и невежественное мусульманское духовенство
препятствовало научной деятельности Авиценны и другого крупнейшего ученого,
его современника Аль-Бируни.
Смолин Дм., Галилей, «Искусство», М.—Л., 1939.
Герой поэмы ^гениальный итальянский астроном, физик и механик Гали-
лео Галилей, затравленный католической церковью.
В поэме говорится о значении открытий Коперника и Галилея для
мировой науки, о борьбе Галилея за научную истину и рассказывает о его
трагической судьбе.
«Средние века в очерках и рассказах». Книга для чтения для
учащихся IV—V классов средней школы, ч. I, под. ред. А. М. Васютинского и др.,
«Задруга», М., 1917.
Книга представляет собой сборник очерков и рассказов из периода
раннего средневековья, написанных в полубеллетристической форме, но
основанных на документальных источниках. Элемент художественного вымысла
здесь сведен к минимуму. В составлении сборника приняли участие такие
видные историки, как А. Дживелегов, В. Перцев, К. Сивков, К. Успенский и др.
Тагор Р., Раджа-мудрец. — В кн.: Тагор Р., Собрание сочинений,,
в 12-ти т., т. 1, М., Гослитиздат, 1961.
В романе великого индийского писателя и мыслителя Рабиндраната
Тагора (1861—1941) изображены феодальные междоусобицы в Бенгалии
231
XVII века. Герои обрисованы в романтическом духе, а в их поведении
сказываются попытки философского осмысления мира автором.
Твен М., Принц и нищий, Детгиз, М., 1961.
Необыкновенные приключения нищего мальчика Тома, ставшего волей
случая наследным принцем, а затем королем Англии, и принца Эдуарда,
превратившегося в нищего оборвыша, — эта сказочная фабула легла
в основу сатирической повести великого американского писателя Марка
Твена (1835—1910). Писатель правдиво рисует жизнь Англии XVI века,
высмеивает нелепый этикет королевского двора, разоблачает высокомерных и
жестоких сановников, думающих только о своей личной карьере, и с большой
художественной силой показывает тяжелую участь простых людей Англии,
обезземеленных крестьян, на которых всей своей тяжестью обрушились
кровавые законы Тюдоров. Книга рекомендуется для внеклассного чтения.
Твен М., Янки при дворе короля Артура, Гослитиздат, М., 1953.
Этот сатирический роман построен на фантастическом сюжете: янки,
американец XIX века, по воле автора очутился в средневековой Англии
при дворе легендарного короля Артура. М. Твен не придерживается в своем
романе каких-либо точных исторических границ, но в то же время в
концентрированном виде дает исторически правдивую характеристику
феодальных порядков. Основная идея книги — протест против угнетения и
бесправия человеческой личности.
Толстой А. К-, Боривой. — В кн.: Толстой А. К-, Стихотворения.
Царь Федор Иоанович, «Советский писатель», Л., 1958, стр. 238—246.
В стихотворном сказании выдающегося русского писателя Алексея
Константиновича Толстого (1817—1875) «Боривой» воспевается храбрость
и мужество поморских славян в их борьбе с датскими и немецкими
крестоносцами.
У Цзин-цзы, Неофициальная история конфуцианцев. Роман,
Гослитиздат, М., 1959.
Действие сатирического романа китайского писателя У Цзин-цзы (1701 —
1754) происходит в период династии Мин. Сзоим острием оно направлено
против бюрократического государственного аппарата, феодального и
чиновничьего произвола и коррупции. Зло высмеиваются формальная система
чиновничьих экзаменов и лицемерие конфуцианской морали ученых чиновников.
Фейхтвангер Л., Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ,
Гослитиздат, М., I960.
События в произведении выдающегося немецкого писателя, автора ряда
исторических романов, Лиона Фейхтвангера (1884—1958) происходят
в Тироле, Баварии и Ломбардии в XIV веке. Героиня романа герцогиня
Тироля Маргарита Маульташ дана на фоне борьбы между Габсбургами,
Люксембургами и Виттельсбахами за императорскую корону и новые земли.
Автор ярко воспроизводит, как всегда, тщательно изученную им эпоху.
Фейхтвангер Л., Испанская баллада. Роман, Изд. иностр. лит-ры,
М., 1958.
Действие романа, сюжет которого взят из староиспанских хроник,
развертывается в Кастилии XII века. Перед нами Пиренейский полуостров
в период реконкисты — здесь, на этой земле, противостоят друг другу
христианский и мусульманский мир. Их взаимоотношения — главный вопрос
политической жизни Пиренейского полуострова. Бесконечные войны между
христианами и маврами, а во время кратких перерывов — между
необузданными испанскими феодалами и их сюзеренами, королями пяти христианских
государств, опустошают страну. Автор разоблачает рыцарство, с его
культом войны, с его проповедью религиозной нетерпимости, с его ненавистью
к народу, с его аморальной и антигуманной идеологией, и противопоставляет
разрушительной силе войны благотворную силу мира.
232
Феличе Арт., Морские нищие. Исторический родоан, Детгиз, М., 1959.
Роман повествует о революционной борьбе "нидерландского народа
в XVI веке. Герои его — свободолюбивые нидерландцы, которые жертвуют
своей жизнью ради освобождения родины из-под испанского ига. В романе
получили отражение такие события Нидерландской буржуазной революции,
как взятие морскими гёзами Бриля, осада Гарлема, поражение испанцев
под стенами Лейдена, разгром Антверпена и т. д. Книга может быть
рекомендована для внеклассного чтения.
Франк Б., Сервантес, «Молодая гвардия», М., 1960.
Роман немецкого писателя Бруно Франка (1887—1945) представляет
собой художественную биографию классика мировой литературы Сервантеса.
Жизнь великого испанца раскрывается на фоне бурных исторических
событий XVI века. В книге описываются и папский двор в Риме, и мрачный
дворец испанского короля — Эскуриал, и гнездо мусульманских корсаров —
Алжир, и нищие испанские деревни. Особенно удачно в книге нарисованы
портреты короля Филиппа II и испанского полководца Хуана Австрийского.
Франс А., Черные хлебы. — В кн.: Франс А., Собрание сочинений,
в 8-ми т., т. 3, Гослитиздат, М., 1958.
Рассказ из книги новелл «Колодезь святой Клары». В большинстве
новелл этого цикла речь идет об Италии XV века.
Хайям О., Рубай, Гослитиздат, М., 1961.
Омар Хайям (ок. 1040—1123), выдающийся персидский и таджикский
поэт, философ и ученый, автор знаменитых рубай (четверостиший). В своих
рубай Хайям сомневается в основных догмах мусульманской религии,
отвергает веру в потусторонний мир, протестует против несправедливого
устройства общества. Рубай отличаются исключительной выразительностью
и образностью языка.
X а р т Г., Морской путь в Индию. Рассказ о плаваниях и подвигах
португальских мореходов, а также о жизни и времени Васко да Гамы, Географ-
гиз, М., 1959.
Книга американского востоковеда Г. Харта, основанная на богатом
документальном материале, увлекательно рассказывает об открытии морского
пути в Индию и о начальнике португальской экпедиции Васко да Гама,
энергичном, смелом, но необыкновенно жестоком человеке. Книга отличается
значительными художественными достоинствами.
Царевич С, За отчизну. Исторический роман, Детгиз, М., 1958.
Роман советского писателя посвящен национально-освободительной
борьбе чешского народа против иноземного гнета и католической церкви.
Главные действующие лица — Ян Гус, Ян Жижка и другие герои чешского
народа. Книга рекомендуется для внеклассного чтения.
Цвейг С, Завоевание Византии. — В кн.: Цвейг С, Собрание
сочинений, в 7-ми т., т. 3, «Правда», М., 1963, стр. 7—31.
В исторической миниатюре известного австрийского писателя Стефана
Цвейга (1881—1942) с глубоким проникновением в эпоху изображена
трагическая гибель Византии. Автор шаг за шагом восстанавливает все"* этапы
осады и штурма Константинополя турецким султаном Мухаммедом (Мехме-
дом) II. Учителю следует учесть, что С. Цвейг придерживается
неприемлемых для нас идеалистических взглядов на роль личности и случайности
в истории.
Цвейг С, Подвиг Магеллана, Географгиз, М., 1956.
О подвиге Фернандо Магеллана и его товарищей, совершивших первое
в истории человечества кругосветное путешествие, о необыкновенных
трудностях, которые пришлось преодолеть отважным морякам, пустившимся
в плавание по неведомым океанам на небольших рыбачьих парусниках,
рассказывает в своей документированной повести Стефан Цвейг.
233
Чосер Д., Кентерберийские рассказы, Огиз, М., 1946.
Книга «отца английской поэзии», основоположника английской
литературы Джеффри Чосера (1340—1400) состоит из 24 стихотворных новелл,
связанных между собой так называемой обрамляющей новеллой. В новеллах
выведены образы представителей разных социальных слоев Англии того
времени — ремесленников, слуг, купцов, рыцарей, священников, монахов,
интеллигентов. По книге можно составить представление о том, какую одежду
они носили и что ели, чем интересовались и как говорили. Также тщательно
описан и их профессиональный труд. Книга насыщена юмором, а порой
чувствуется сатирическая струя.
Чоттопаддхая Б., Радж Сингх, Гослитиздат, М., 1960.
Исторический роман классика бенгальской литературы Бонкимчондро
Чоттопаддхайя (1838—1894) рассказывает о борьбе раджпутских князей
с правителем Могольской империи Аурензэбом в 80-х родах XVII века. Книга
написана в романтическом духе.
Швейхель Р., За свободу. Роман из эпохи Великой крестьянской
войны в Германии, Гослитиздат, М., 1961.
Книга немецкого писателя-демократа, участника революции 1848 года,
Роберта Швейхеля (1821—1907) — это роман-хроника. Здесь почти все
персонажи— реальные исторические лица. Автор даже в деталях стремится не
отступать от исторических документов. Особенностью романа является
отсутствие в нем обычного сюжета. Основная сюжетная линия— это события
крестьянской войны. Герои романа — простой народ Германии и его вожди,
которых автор рисует с большой любовью. Действие романа происходит во
Франконии, в городе Ротенбурге и его окрестностях.
Шевченко Т., Еретик. — В кн.: Шевченко Т. Г., Стихотворения,
«Советский писатель», Л., 1954, стр. 250—259.
В поэме великого украинского поэта Т. Г. Шевченко (1814—1861), воспет
подвиг национального героя Чехии Яна Гуса. Для Т. Г. Шевченко Ян Гус —
борец за народные интересы. Поэма неоднократно переводилась на чешский
язык и включалась в школьные хрестоматии и книги для чтения.
Ш е н о а А., Сокровище ювелира. Исторический роман, Гослитиздат,
М., 1963.
В книге известного хорватского писателя, автора ряда исторических
романов Августа Шеноа (1838—1881) изображается Хорватия XVI века.
В романе даются яркие картины жизни города и феодальных замков,
показывается борьба средневекового Загреба с феодалами и рисуются
сложные взаимоотношения между горожанами и государственной властью. Автор
мастерски раскрывает психологию горожан, дворян и духовенства.
Ш и шов а 3., Великое плавание. Исторический роман, Детгиз, М., 1963.
Этот исторический роман советской писательницы посвящен двум
первым плаваниям Христофора Колумба. Рассказ ведется от первого лица,
вымышленного героя книги — юнги. Роман построен на известных исторических
фактах и на догадках. Книгу можно рекомендовать Для внеклассного чтения.
Шишова 3., Джек-Соломинка. Историческая повесть, Детгиз, М., 1961.
О Джеке Строу или Джеке-Соломинке, соратнике Уота Тайлера,
которого документы того времени характеризуют как одного из самых опасных
«мятежников», написана эта повесть. Автор воссоздал важнейшие эпизоды
восстания 1381 года: вступление крестьян в Лондон, встречи повстанцев
с королем Ричардом и дикую расправу дворян с крестьянами. Книга
рекомендуется для внеклассного чтения.
Ш текли А., Томас Мюнцер, «Молодая гвардия», М., 1961.
Научно-популярная книга советского историка, из серии «Жизнь
замечательных людей», посвящена вождю народной реформации Томасу Мюн-
церу. Книга отличается образным художественным изложением.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 5
Художественное слово в преподавании истории • . 6
Раздел I.
Установление феодального строя
1. Установление феодального строя в Западной и Центральной Европе 19
Суд у франков («Книга для чтения по истории средних веков»,
ч. 1) 21
Закрепощение крестьян (А. К а ж д а н, В поисках минувших
столетий) • 23
Повинности крестьян (М. Твен, Янки при дворе короля Артура) 24
Вилланы на барщине (М. Гершензон, Робин Гуд) . . . . • 25
Аббат и барон делят крепостных крестьян (А. Л а д и н с к и й,
Анна Ярославна — королева Франции) 26
В средневековой деревне (К- Иванов, Средневековая деревня
и ее обитатели) • 28
Средневековый замок Куси (Ф. Клар, Жаки) 31
Средневековый замок Тург (В. Гюго, Девяносто третий год) . • 32
Рыцарское вооружение (В. Скотт, Ричард Львиное Сердце) . . 33
Турнир (В. Скотт, Айвенго) • 34
Пир у феодала (К. Иванов, Средневековый замок и его
обитатели) • 36
Трубадур-рыцарь воспевает войну (Бертран де-Борн, Сир-
вента) • 38
Посвящение в рыцари (Л. Фейхтвангер, Испанская баллада)
Рыцарь по «Песне о Роланде» (Хрестоматия по истории средних
веков) • 39
Возвышение князей у славян (Ю. Крашевский, Старое
предание) • —
Княжеское городище (Ю. Крашевский, Старое предание) . . 40
Борьба поморских славян с немцами и датчанами (А. К.
Толстой, Боривой) 41
2. Установление феодального строя в Восточной Римской
(Византийской) империи • 42
Константинополь — столица Византии (А. Ладинский, Когда
пал Херсонес...) • - —
Заседание императорского совета (В. Скотт, Граф Роберт
Парижский) . . • 43
Прием иностранных (русских) послов (А. Ладинский, Когда
пал Херсонес...) • 44
Положение рабов (А. Ладинский, Когда пал Херсонес ...) . 46
235
Скупка крупным землевладельцем крестьянских земель (А. Л а -
д и н с к и й, Когда пал Херсонес ...)..♦ 48
Храм святой Софии («Средние века в очерках и рассказах») . . 49
3. Арабы в VI—XI веках • 50
Арабы в Армении (М у р а ц а н, Геворг Марзпетуни) 51
Проповедь газавата (В. Смирнова-Ракитина, Повесть об
Авиценне . •.), 52
Торговля и ремесло в Мисре (Насир-и-Хусрау, Сафар-намэ.) 53
В библиотеке бухарского эмира (В. Смирнова-Ракитина,
Повесть об Авиценне...) • 54
Научные взгляды Аль-Бируни (К- Моисеева, Звезды мудрого
Бируни) 55
Научное наследство Авиценны (В. Смирнова-Ракитина,
Повесть об Авиценне ...) • . 57
Антицерковные рубай Омара Хайяма (Омар Хайям, Рубай) . . 59
Арабская культура в Испании (Л. Фейхтвангер, Испанская
баллада) —
Раздел II.
Развитие феодального строя
4. Развитие ремесла и торговли. Рост городов в Западной Европе . . 61
Положение подмастерьев (О. С л е з к и н а, Оловянная рука) . . 63
Борьба городов с феодалами (А. Ш е н о а, Сокровище ювелира} 64
Ротенбург (Р. Ш в е й х е л ь, За свободу) 66
В средневековом городе (К. Иванов, Средневековый город
и его обитатели)' 67
Лондон (М- Твен, Принц и нищий) 68
Париж. (В. Г ю г о, Собор Парижской богоматери)' 69
На рынке (О. С л е з к и н а, Оловянная рука) 70
Итальянский банкир (А. Франс, Черные хлебы) 72
Венеция (С. 3 а я и ц к и й, Псы господни)) —
5. Христианская церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы .... 73
Монах дурачит верующих (Д. Боккаччо, Декамерон)] .... 74
Продажа индульгенций (ILL де Костер, Легенда об
Уленшпигеле ...) 76
Папа Иоанн XXII (Л. Фейхтвангер, Безобразная герцогиня) . 78
Нравы церковников («Воспользуюсь против пороков ...»).... —
Начало крестовых походов (Л. Фейхтвангер, Испанская
баллада) 79
Встреча византийского императора с вождями первого крестового
похода (В. Скотт, Граф Роберт Парижский) 80
Захват Иерусалима крестоносцами (М. Заборов, Крестоносцы
и их походы на Восток в XI—XIII веках)) 82
6. Образование централизованных государств в Западной Европе . . 85
Слабость королевской власти в XI в. (А. Л а д и н с к и й, Анна
Ярославная — королева Франции) 37
Сожжение французского села англичанами (А. Бэр о,
Проклятое урочище) 88
Выкуп сеньора из английского плена (Ф. Клар, Жаки) .... 89
Собрание крестьян (Ф. Клар, Жаки), 90
Положение крестьян (А. Бэр о, Проклятое урочище)4, 92
Взятие замка Жаками (Ж. Оливье, Колен Лантье) —
Борьба крестьян за землю (А. Бэр о, Проклятое урочище)" . . 96
Суд над Жанной д'Арк (А. Зегерс, Процесс Жанны д'Арк
в Руане в 1431 году) —
Характеристика Людовика XI (В. С к о т т, Квентин Дорвард) . 98
236
Королевский замок Плесси-ле-Тур (В. Скотт, Квентин Дорвард) 99
Рассказ французского рыцаря о битве при Гастингсе (А. Л а -
динский, Анна Ярославна — королева Франции) 101
Робин Гуд, старуха и епископ («Баллады о Робине Гуде») . . 102
Робин Гуд молится богу («Баллады о Робине Гуде») 103
Крестьяне громят имения феодалов (3. Ш и ш о в а,
Джек-Соломинка) 104
Убийство Уота Тайлера (3. Шишова, Джек-Соломинка) .... 105
Расправа с восставшими (А. Глоба, Уот Тайлер) 107
7. Общенародная борьба в Чехии против чужеземного засилья и
католической церкви. Крестьянская война —
Проповедь Яна Гуса (Т. Г. Шевченко, Еретик) 108
Ян Гус на Констанцском соборе (С. Царевич, За отчизну) . . —
После казни Яна Гуса (Т. Г. Шевченко, Еретик) ПО
Восстание в Праге (Ал. Алтаев и Арт. Ф е л и ч е, Могучий
слепец) 111
Разгром народом католической церкви (А. Ир а сек, Против
всех) 112
Гуситы в сражении (С. Царевич, За отчизну) 113
Ян Жижка (Н. Лен а у, Ян Жижка) 116
8. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей 117
Византия накануне ее завоевания турками (С. Цвейг,
Завоевание Византии) 118
Болгарский народ требует объединения всех сил для отпора
туркам (С. 3 а г о р ч и н о в, День последний) —
Битва на Косовом поле («Сербский эпос») 120
Штурм Константинополя (С. Цвейг, Завоевание Византии) . . 121
Турки в Константинополе (С. Цвейг, Завоевание Византии) . . 122
Угон в рабство болгар (Три вереницы невольников «Болгарская
народная поэзия») —
9. Культура Западной Европы в XII—XV веках 123
Рукописные книги (О. С л е з к и н а, Оловянная рука) 124
Как учили Гаргантюа (Ф. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль) . 125
Рассказ слуги алхимика (Д. Ч о с е р, Кентерберийские рассказы) 126
Собор Парижской богоматери (Б. Бродский, Каменные
страницы истории) 127
Жонглер (Анат. Ладинский, Анна Ярославна — королева
Франции) 128
10. Китай в средние века 131
Китайские поэты о тяжелой участи народа 132
Продажа сына (У Ц з и н - ц з ы, Неофициальная история
конфуцианцев) 134
Пекин (О. Гурьян, Обида маленькой Э) 135
Взятка за сдачу чиновничьих экзаменов (У Ц з и н - ц з ы,
Неофициальная история конфуцианцев) 136
Аудиенция у императора (У Ц з и н - ц з ы, Неофициальная
история конфуцианцев) —
Монгольское чиго (О. Гурьян, Обида маленькой Э) 137
В суде (О. Гурьян, Обида маленькой Э) 138
11. Индия в средние века 140
Положение крестьян (К. К у н и н, За три моря) —
Налоговое бремя (В. Прибытков, Тверской гость) 141
Неприкасаемые (В. Прибытков, Тверской гость) 142
Положение индусов в империи Великих Моголов (Б. Чотто-
паддхайя, Радж Сингх) л 143
Бедствия войны (Р. Тагор, Раджа-мудрец) 144
Каликут (Г. X а р т, Морской путь в Ииндию) —
Дели (Б. Чоттопаддхайя, Радж Сингх) 146
237
Раздел III.
Начало разложения феодализма и зарождение капиталистических
отношений
12. Развитие техники в Западной Европе в XV—XVI веках.
Географические открытия конца XV — начала XVI века. Колониальные
захваты 147
В мастерской Гутенберга (О. Слезкина, Оловянная рука) . . 149
Торговля пряностями (С. Цвейг, Подвиг Магеллана) .... —
Васко да Гама (Г. Харт, Морской путь в Индию) 151
Прибытие Васко да Гамы в Индию (Ж. В е р н, История великих
путешествий) 152
Городские будни в Мексико (Р. Кинжалов и А. Белов,
Падение Теночтитлана) 153
На каравеллах Колумба (С. М о р и с о н, Христофор Колумб,
мореплаватель) 155
Первое плавание Колумба (3. Ш и ш о в а, Великое плавание) . . 157
Колумб открыл Новый свет (Ж. В е р н, История великих
путешествий) 158
Кортес (Г. Гейне, Фицлипуцли) 159
Жажда золота (Я. В а с с е р м а н, Золото Кахамарки) 160
Уничтожение культурных ценностей инков. (Ал. А л т а е в и Арт.
Ф е л и ч е, Власть и золото) —
Казнь правителя инков (Ал. А л т а е в и Арт. Ф е л и ч е, Власть
и золото) 161
Конкистадоры (Г. Гейне, Бимини) 163
Невольничий корабль (Г. Гейне, Бимини) —
13. Начало капиталистического развития Англии в XVI веке .... 164
Описание мануфактуры (Т. Делонэ, Джек из Ньюбери) . . . 165
Судьба английского крестьянина (М. Твен, Принц и нищий) . . —
Кровавые законы в действии (М. Твен, Принц и нищий) . . . 166
Английские пираты в Америке (В. Мюллер, Пират королевы
Елизаветы) 167
Филипп II готовит «Непобедимую армаду» (Б. Франк, Сервантес) 168
Гибель «Непобедимой армады» (В. Мюллер, Пират королевы
Елизаветы) 170
14. Неограниченная монархия во Франции 172
Сборщик налогов (А. Бэр о, Проклятое урочище)- —
Кардинал Ришелье (А. де В и н ь и, Сен-Map) 173
15. Реформация. Крестьянская война в Германии 175
Фуггеры (Л. Острове р, Караван входит в город) 176
Разбой феодалов (Л. Острове р, Караван входит в город) . . 178
Выступление Лютера (И. Б е х е р, Лютер) —
Смерть — за ловлю раков (Ал. Ал та ев, Под знаменем
«Башмака») 179
Мюнцер обличает феодалов (Ал. А л т а е в, Под знаменем
«Башмака») 180
Двенадцать статей (Р. Швейхель, За свободу) 181
Отношение Лютера к крестьянам (И. Бехер, Лютер) 182
Битва под Франкенхаузеном (А. Штекли, Томас Мюнцер) ... 183
Расправа дворян с участниками восстания (Р. Швейхель, За
свободу) . . Г 186
Охота на «мужиков» (Р. Швейхель, За свободу) 187
Варфоломеевская ночь (П. М е р и м е, Хроника времен Карла IX) —
Аутодафе (Э. Ларрета, Слава дона Рамиро) 189
16. Нидерландская буржуазная революция 192
Испания в XVI в. (Б. Ф р а н к, Сервантес), 193
238
Испанская политика в Нидерландах (Ш. де Костер, Легенда
об Уленшпигеле...) 194
Испанцы искореняют ересь (Ш. де Костер, Легенда об
Уленшпигеле ...) 196
Филипп II (Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле...) ... —
Первые приказы герцога Альбы (И. Гёте, Эгмонт) 197
Лесные гёзы (Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле...) . . 198
Морские гёзы (Ш. де Костер, Легенда об Уленшпигеле...) . . 199
Гёзы под стенами Лейдена (Арт. Ф е л и ч е, Морские нищие) . . 200
Разгром Антверпена (Арт. Ф е л и ч е, Морские нищие) .... 202
17. Культура Европы в конце XV — первой половине XVII века . . —
«Джоконда» (В. Д и т я к и н, Леонардо да Винчи) 204
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи (Ал. Алтаев, Впереди веков) 206
Леонардо да Винчи — ученый (Ал. Алтаев, Впереди веков) . . 207
Жажда творчества и трудолюбие Микеланджело (Р. Р о л л а н,
Жизнь Микеланджело) —
Создание «Давида» (Р. Р о л л а н, Жизнь Микеланджело) . . . 208
Рафаэль (Ал. Алтаев, Впереди веков) 209
Сикстинская мадонна (Ал. Алтаев, Впереди веков) 210
Сервантес в плену (Б. Франк, Сервантес) 211
Николай Коперник (Дм. Смолин, Галилей) 213
Джордано Бруно излагает свои взгляды (Г. Ар.ельский, Враг
Птолемея) —
Суд над Джордано Бруно (Д. Л и н д с е й, Адам нового мира) . 215
Сожжение Бруно на костре (Д. Линд сей, Адам нового мира) . 216
Галилей наблюдает небо в телескоп (Д. Смолин, Галилей) . . 217
Научные взгляды Галилея (Б. Брехт, Жизнь Галилея) . . . 218
Памятник Копернику в Кракове (М. Р ы л ь с к и й, Памятник
Копернику в Кракове) 221
Аннотированный указатель использованной литературы 222
Редактор В. Е. Степанова
Художник М. В. Серегин
Художественный редактор Л. И. Овчинников
Технический редактор Н. Ф. Макарова
Корректор М. В. Голубева
* * *
Сдано в набор 18/ХП 1964 г. Подписано к
печати 27/V 1965 г. 60 X 90 Vie. Печ. л. 15. Уч.-изд.
л. 15,12. Тираж 36 тыс. экз. А04485. (Тем. план
1965 г. № 285)
* * *
Издательство «Просвещение»
Государственного комитета
Совета Министров РСФСР
по печати
Москва. 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Тип. им. Ханса Хейдеманна,
гор. Тарту, ул. Юликооли 17/19. II
Заказ № 10006.
Цена без переплета 41 коп., переплет 10 коп.
C^r
X
Гх 1
ГЧН
сип