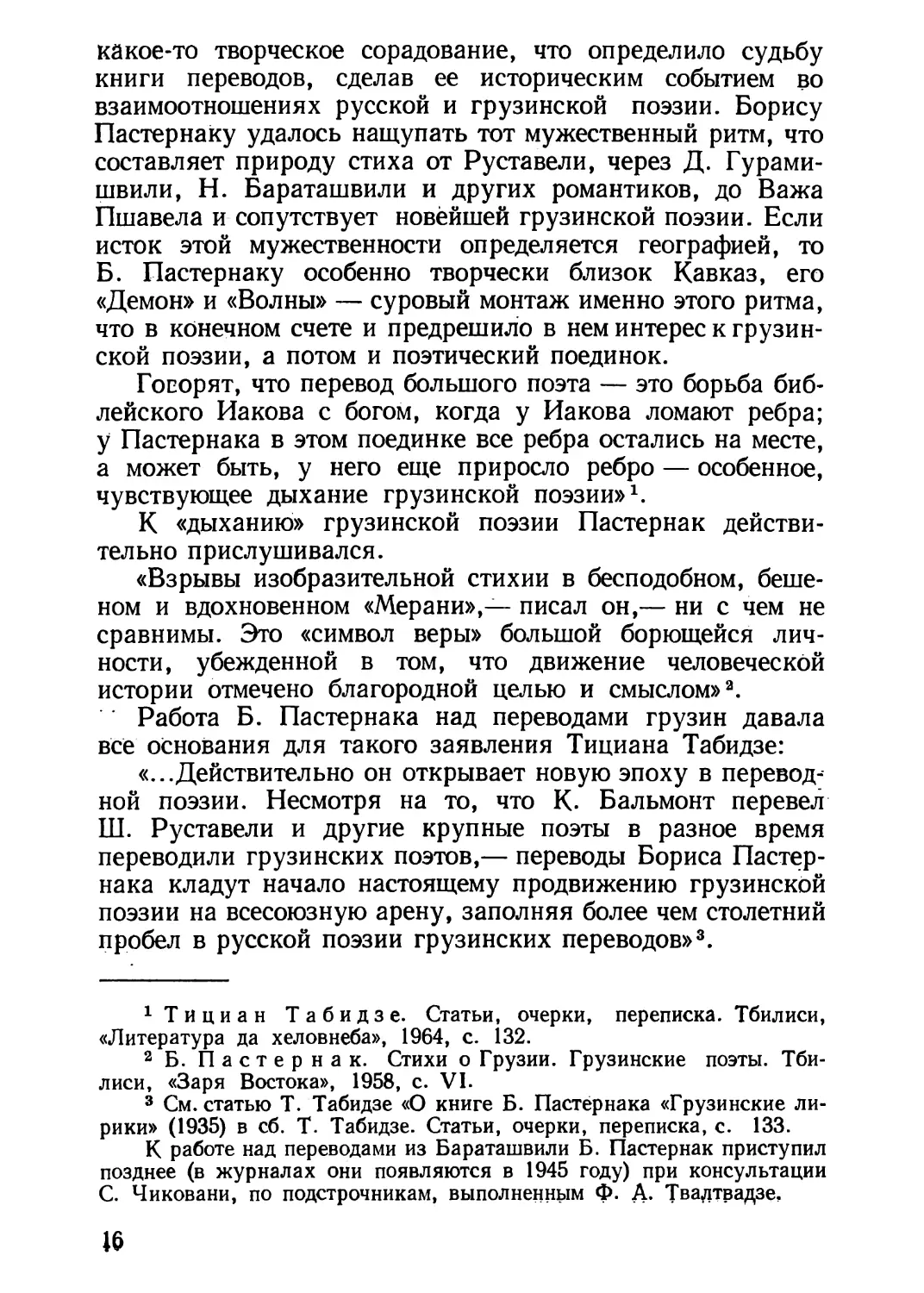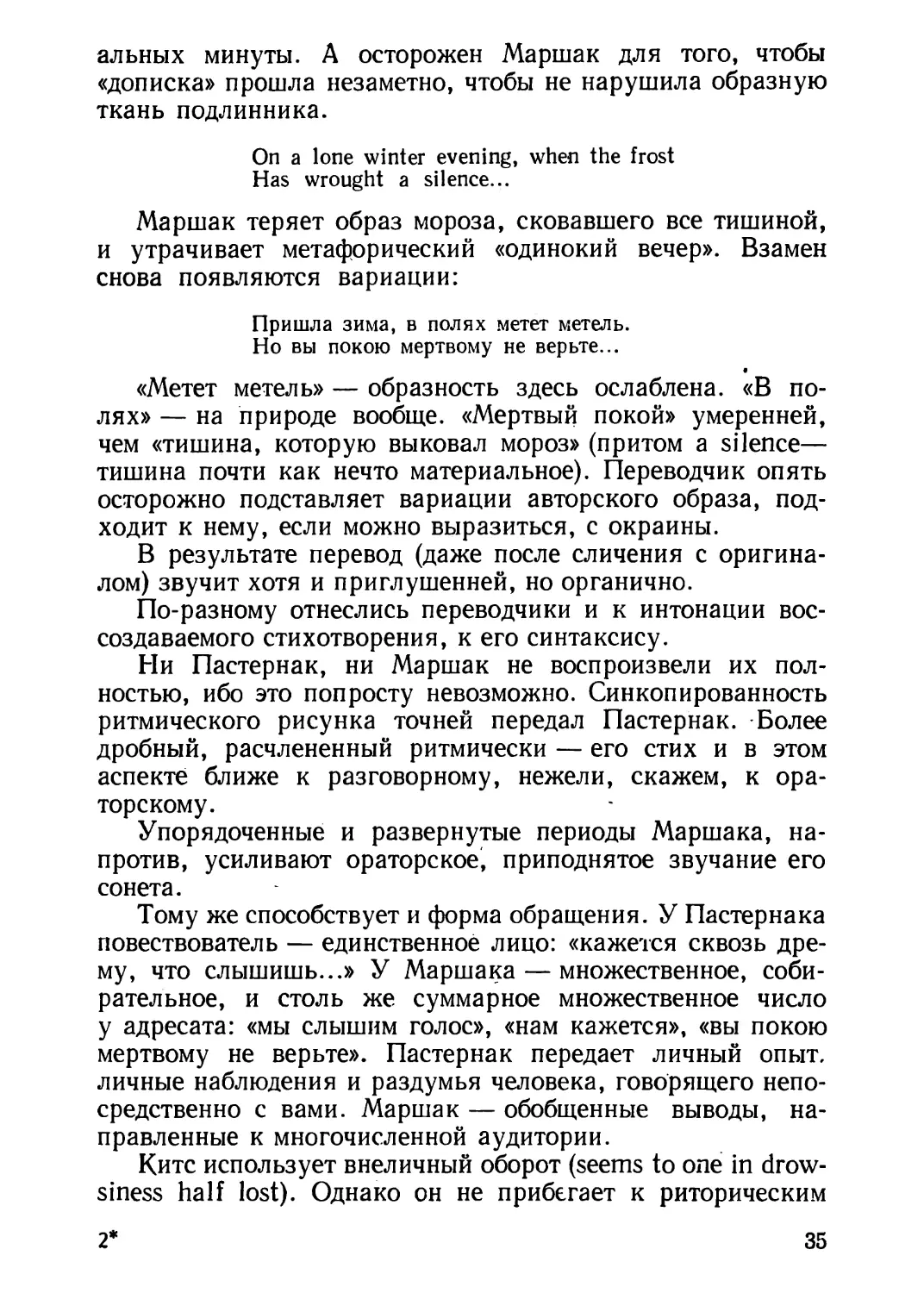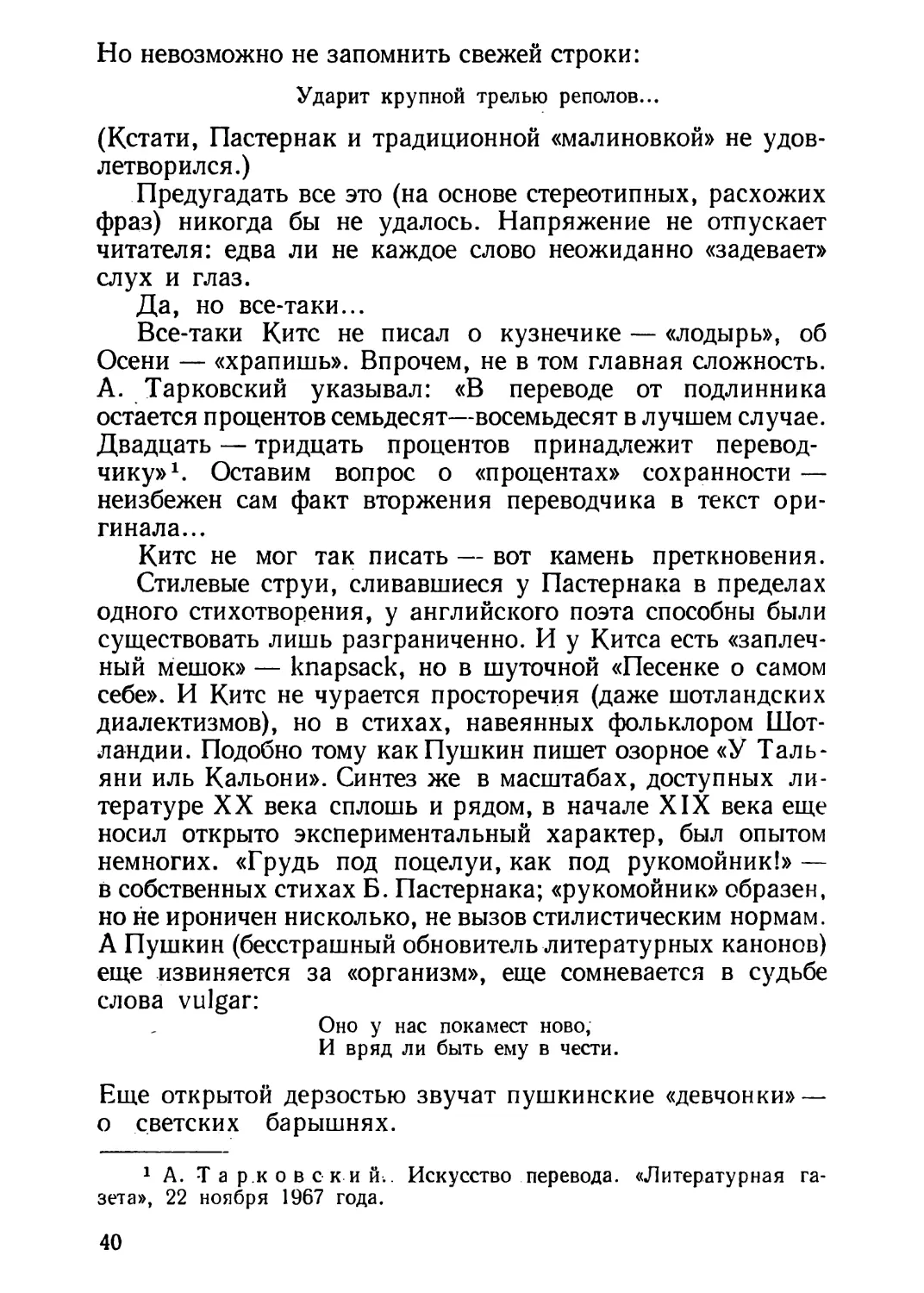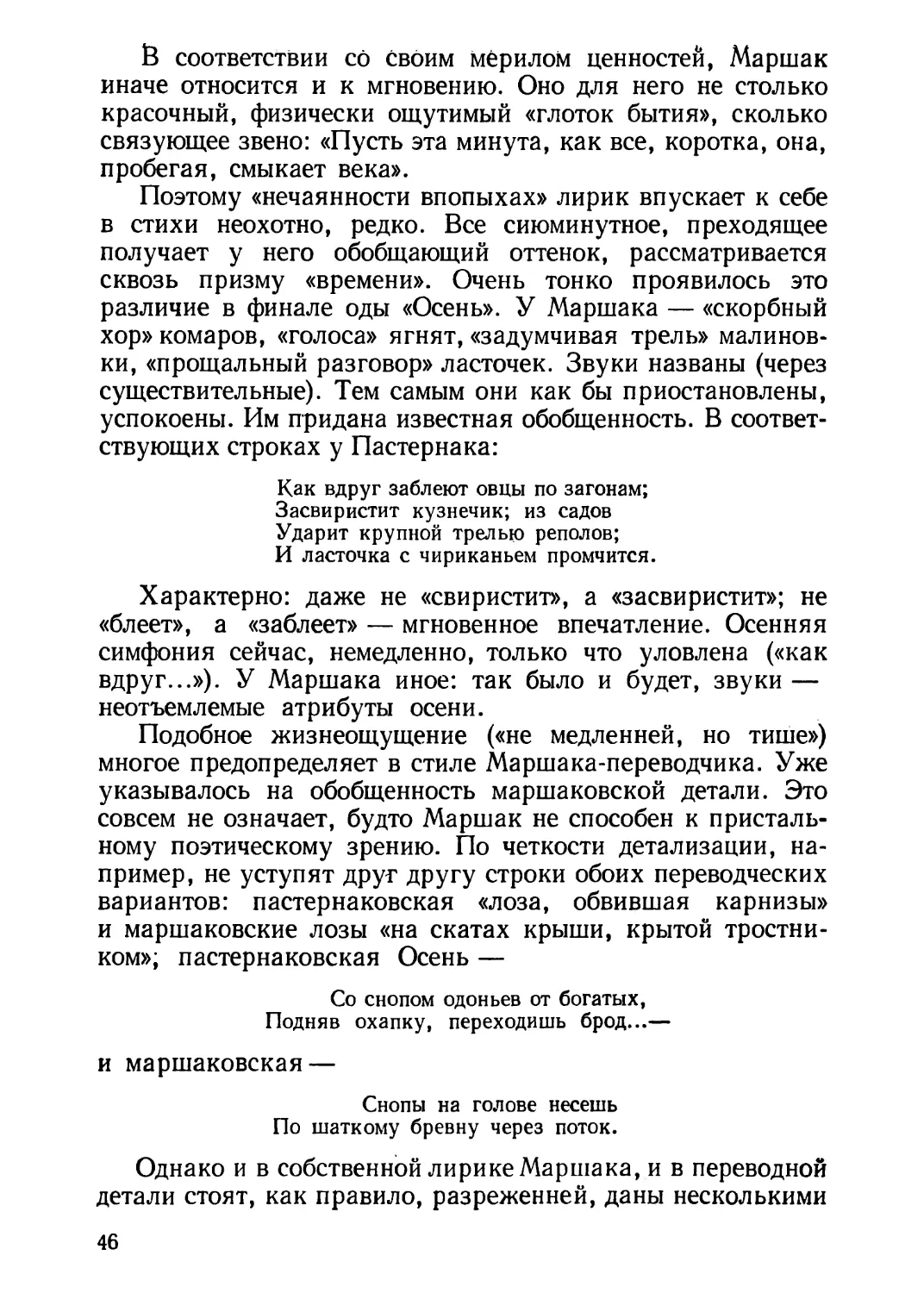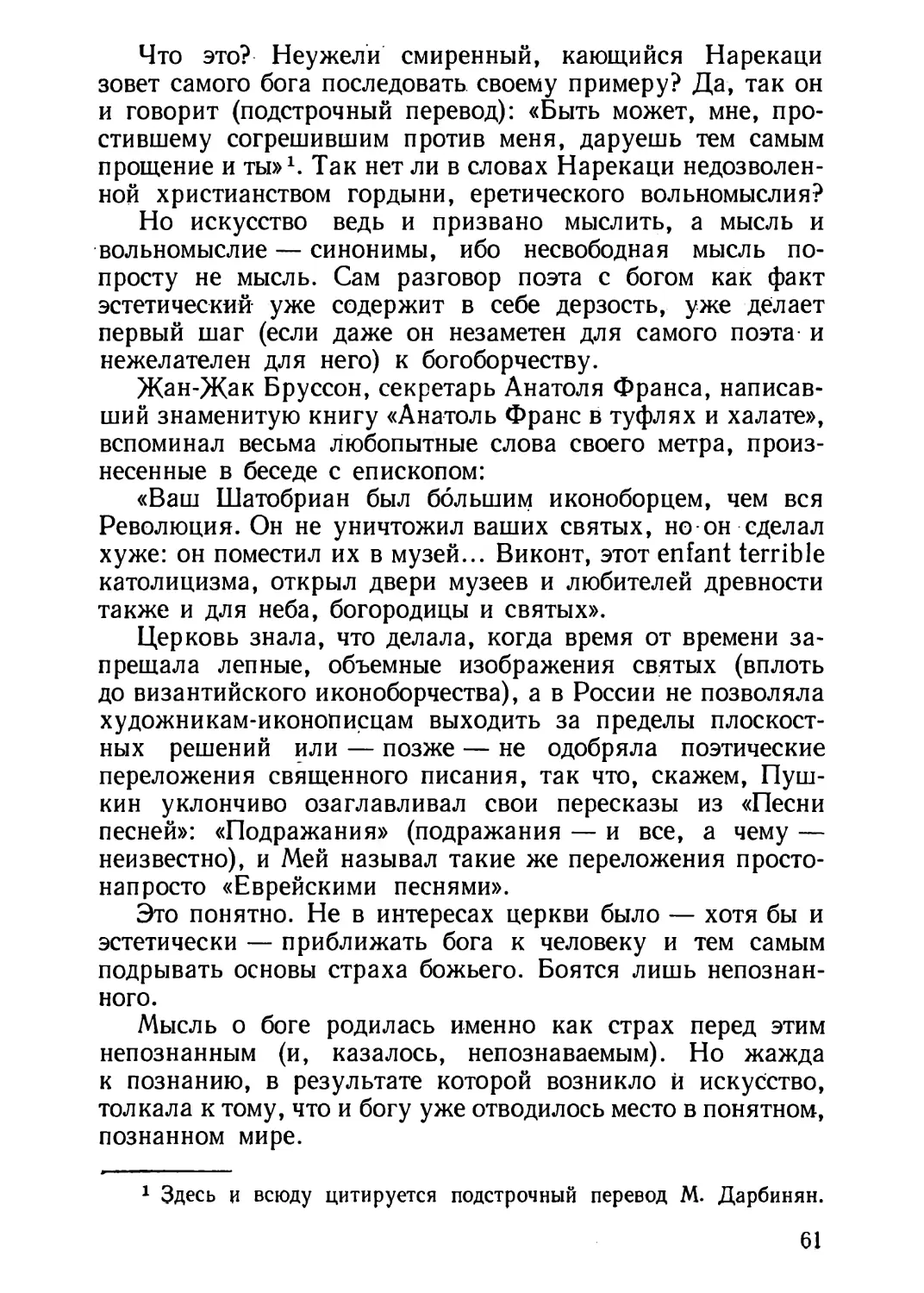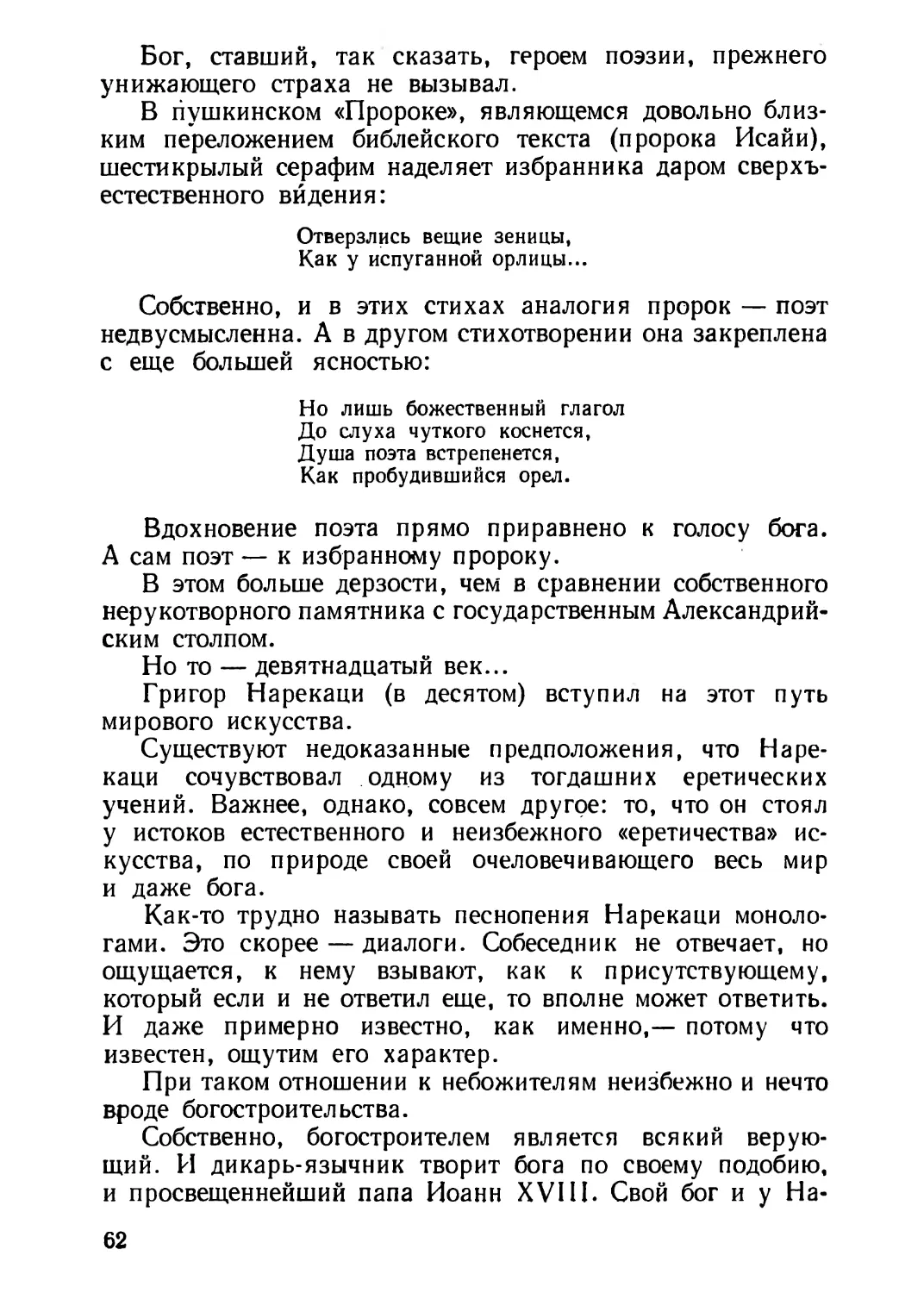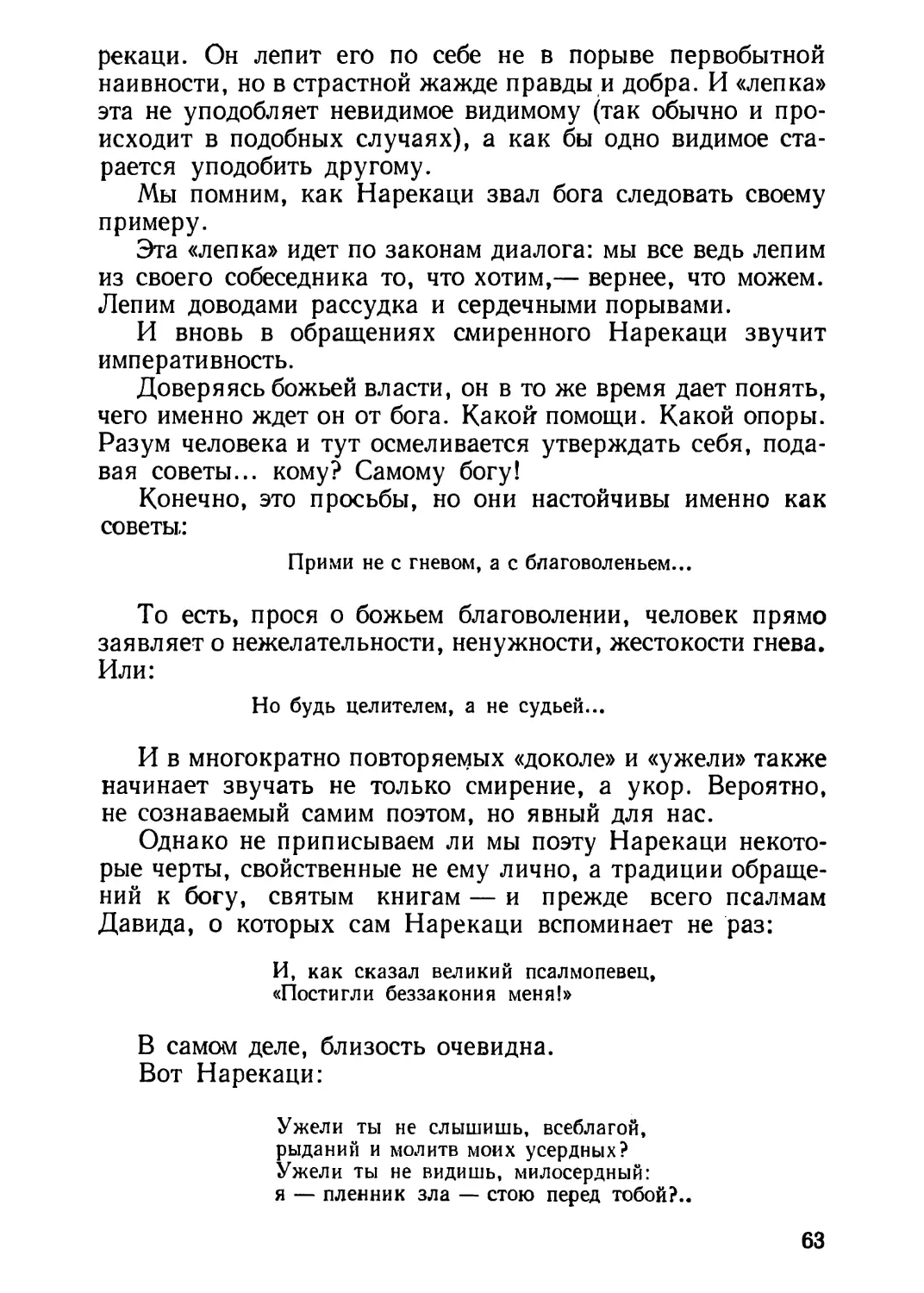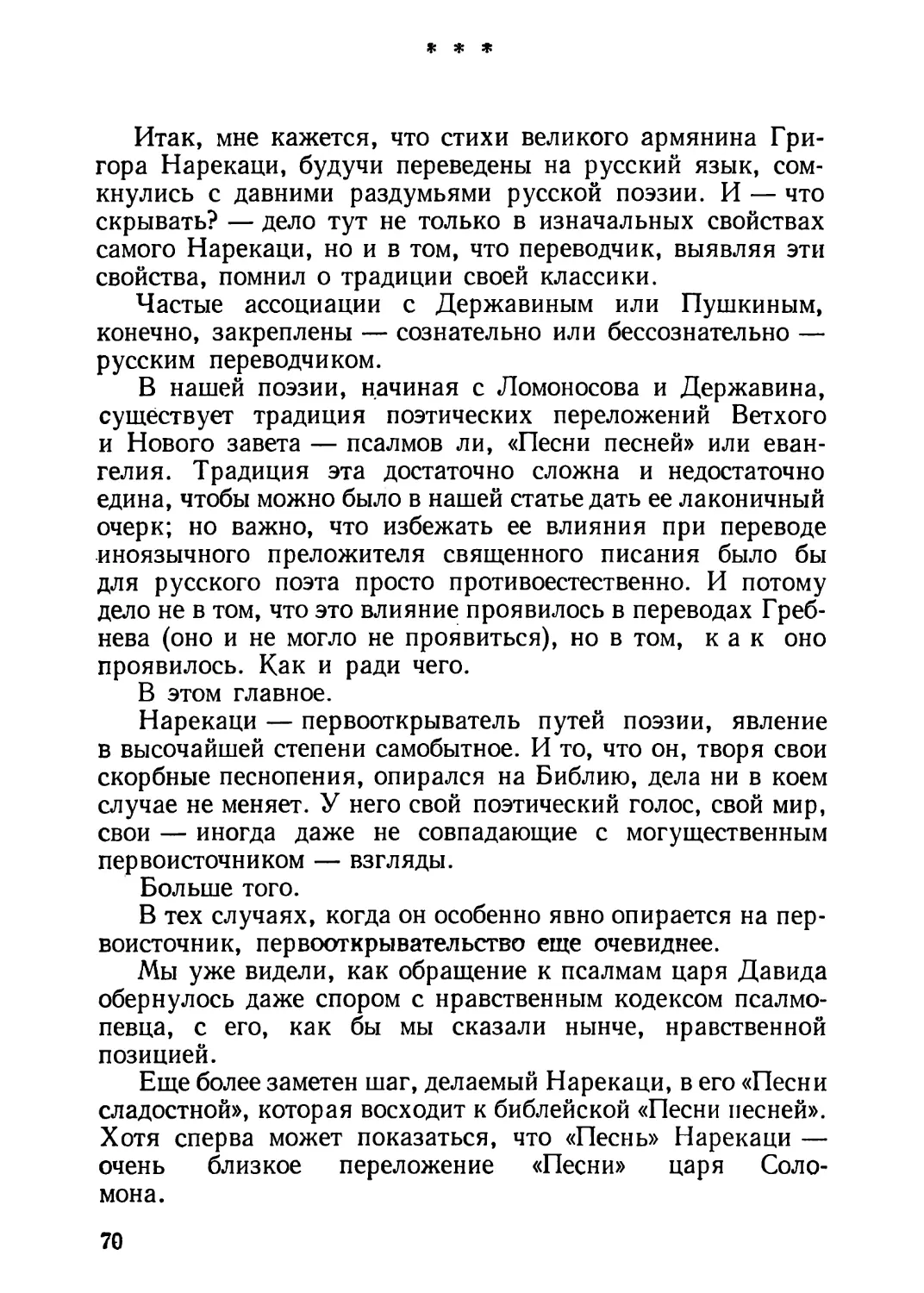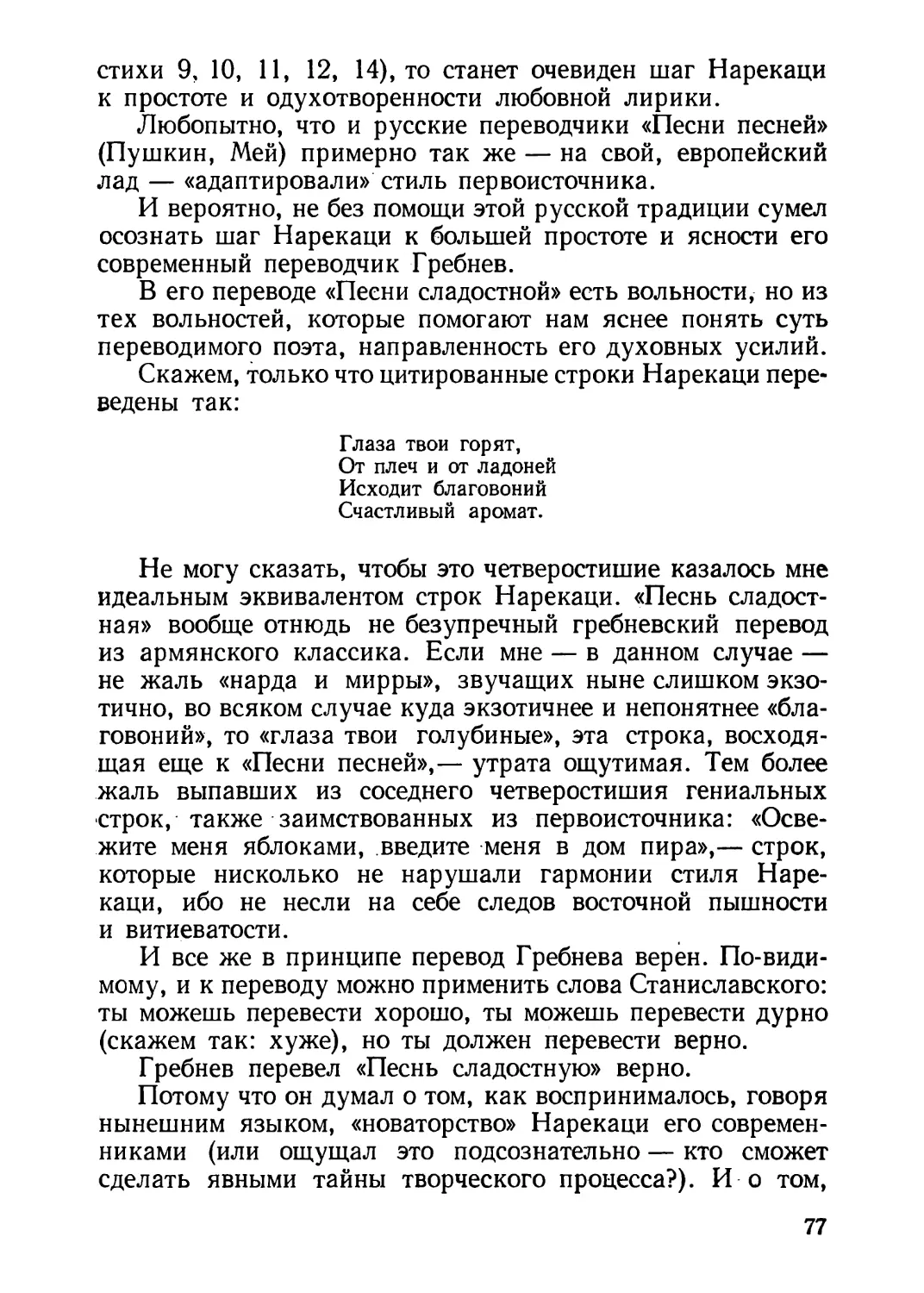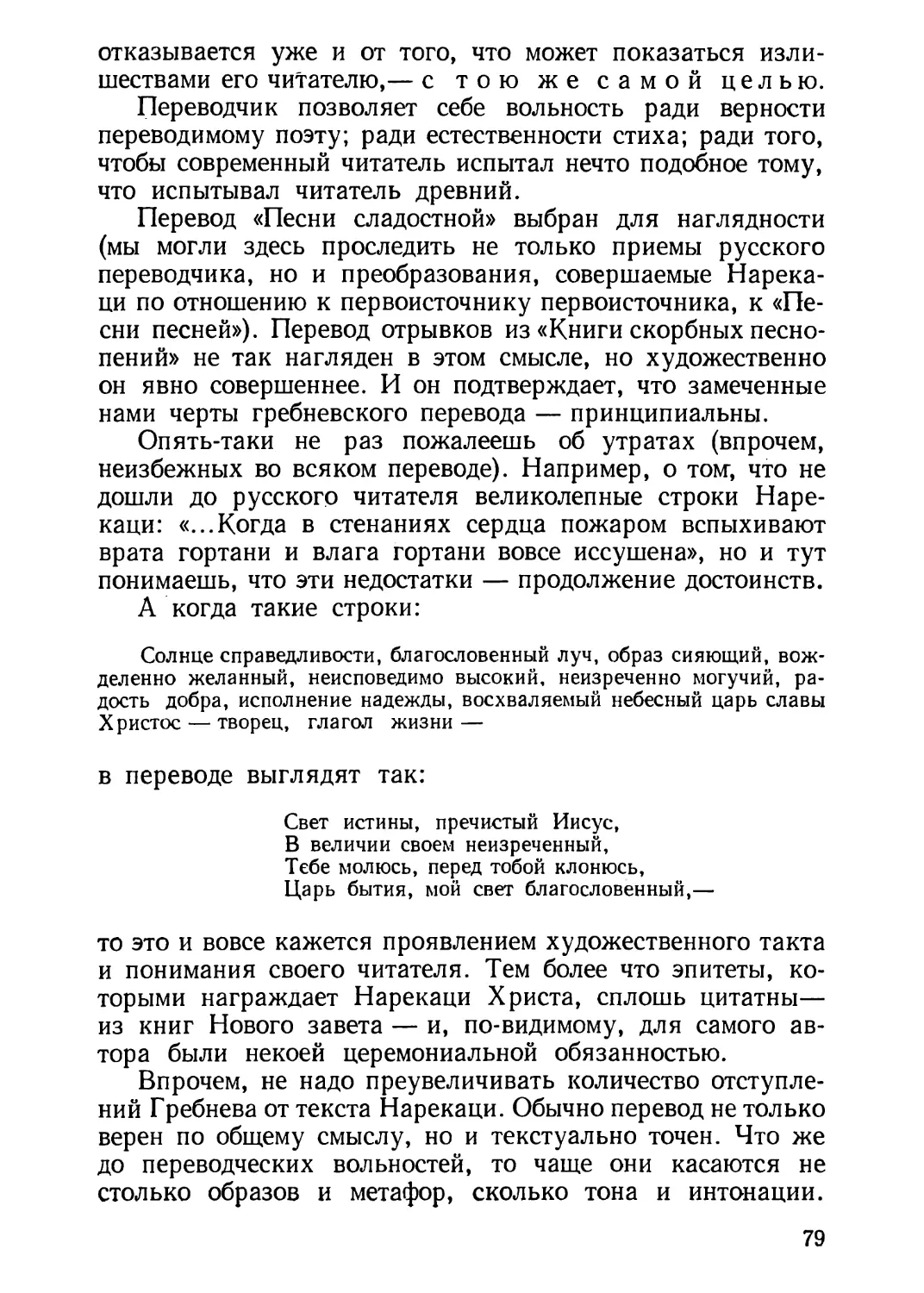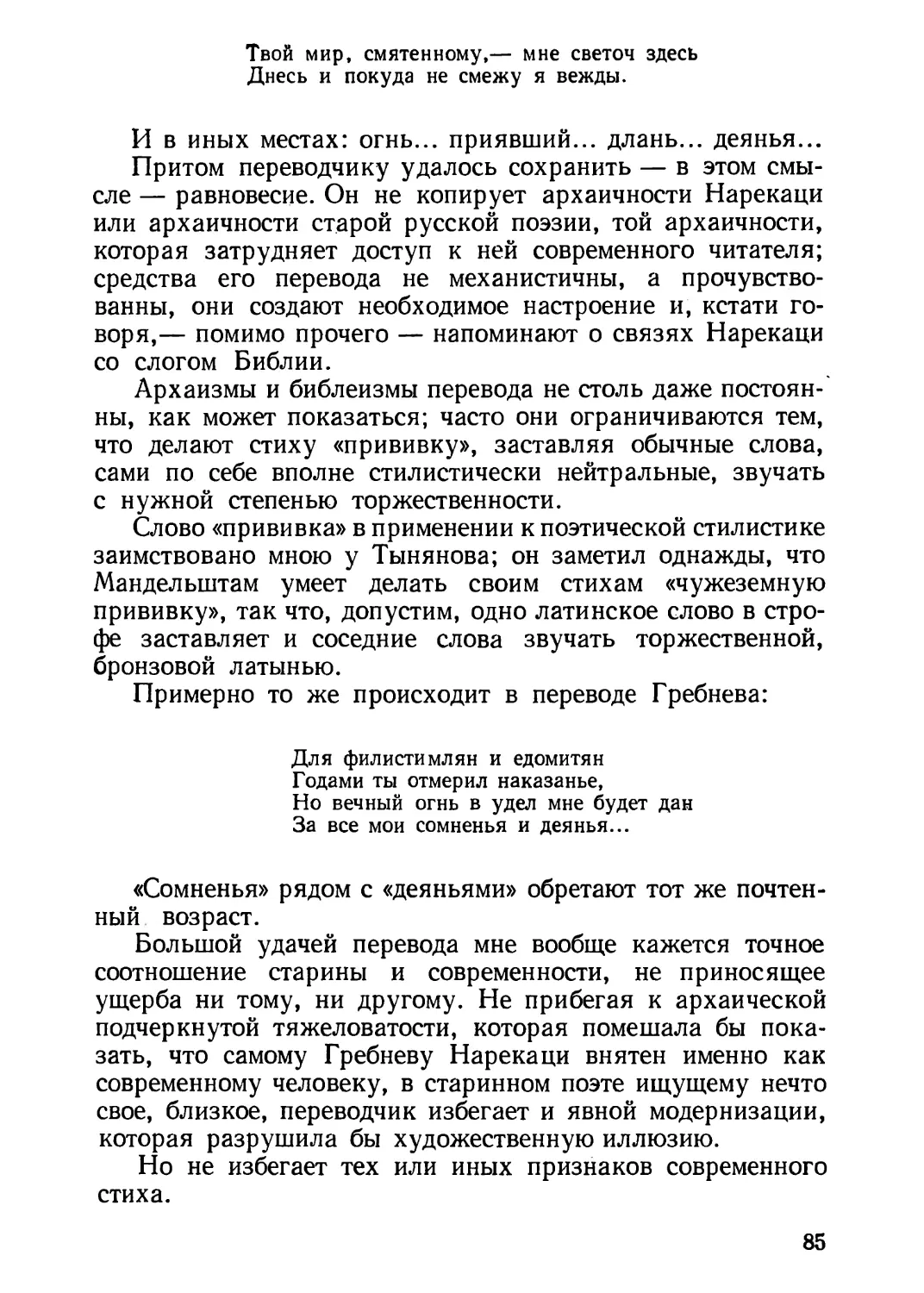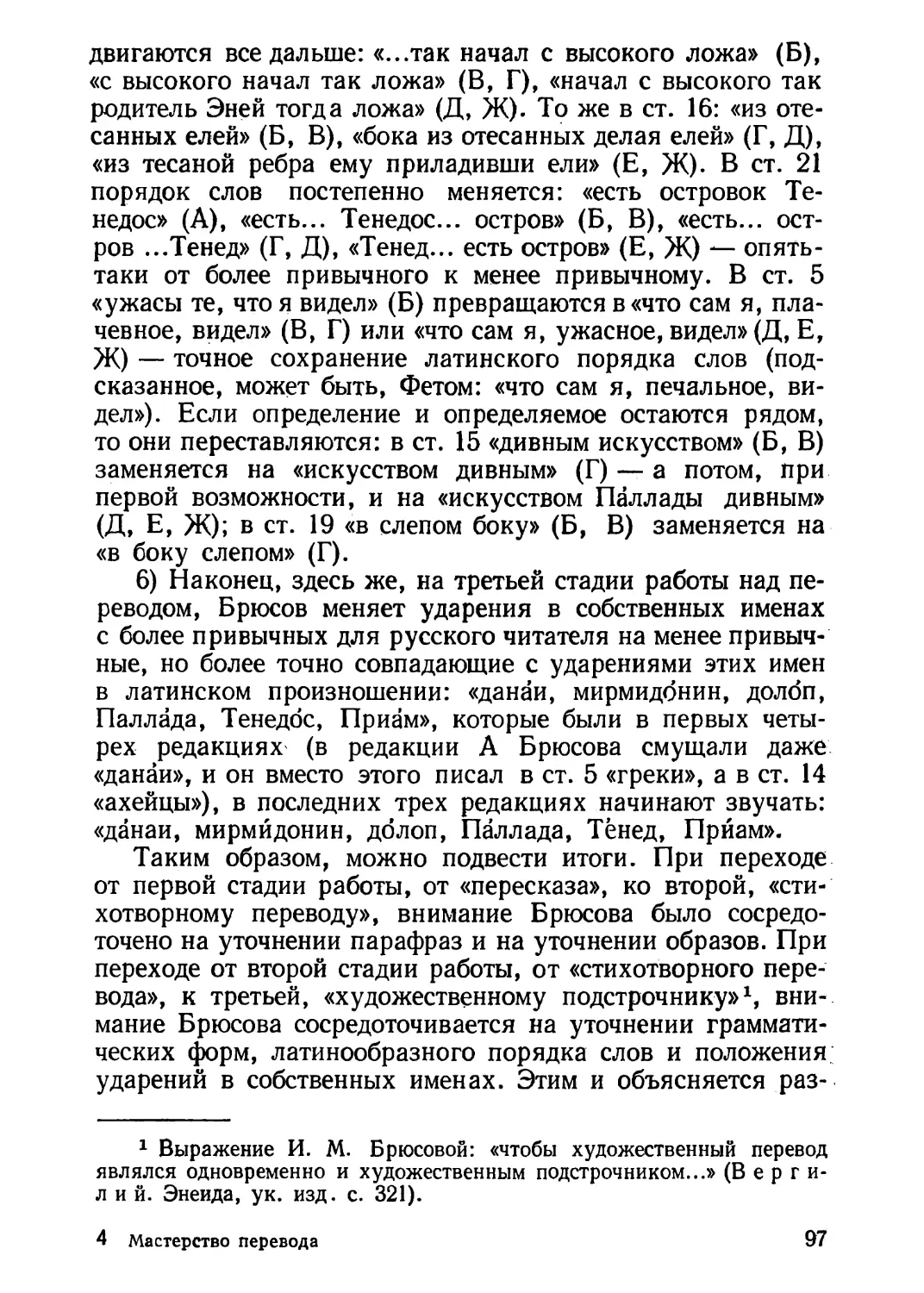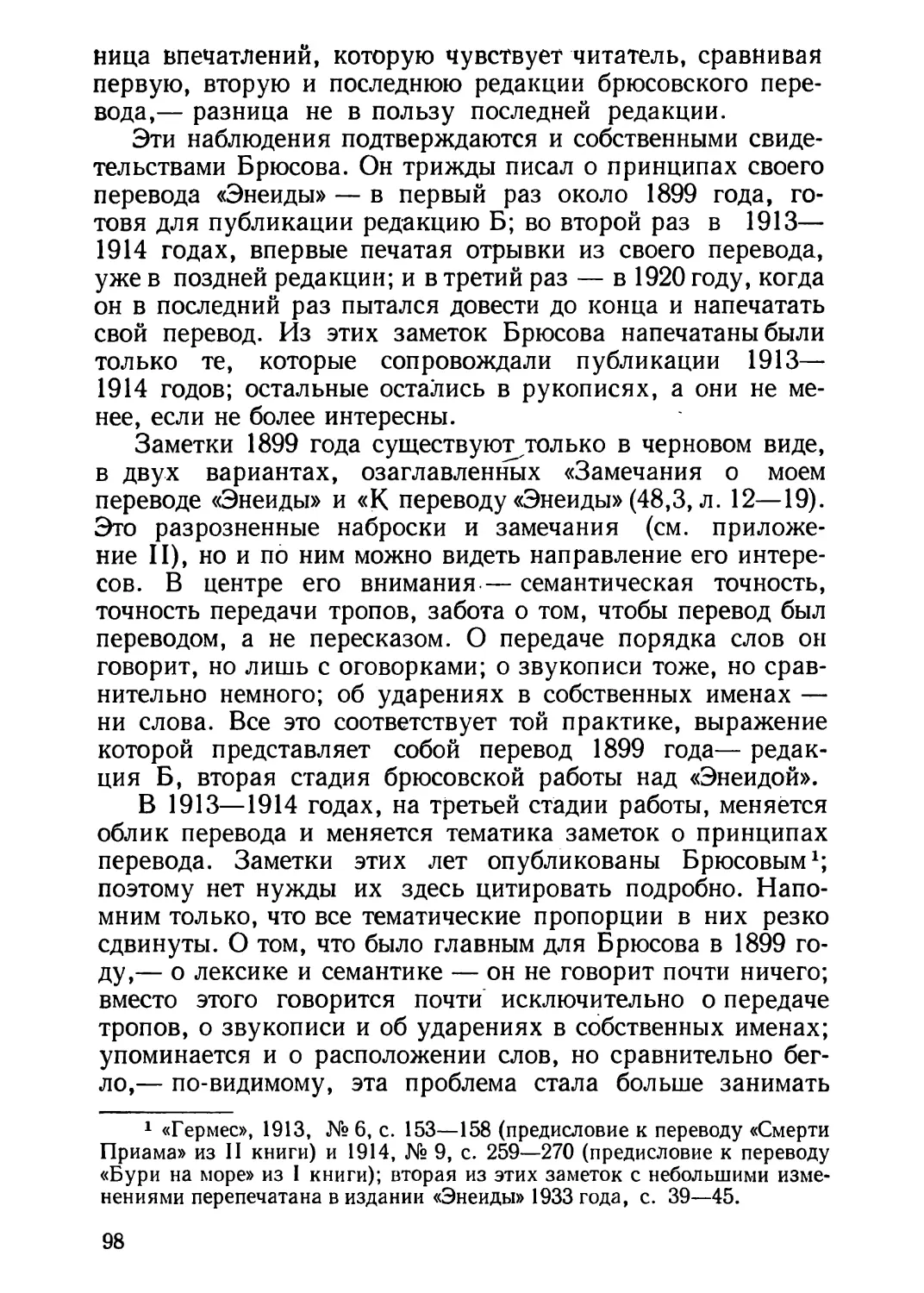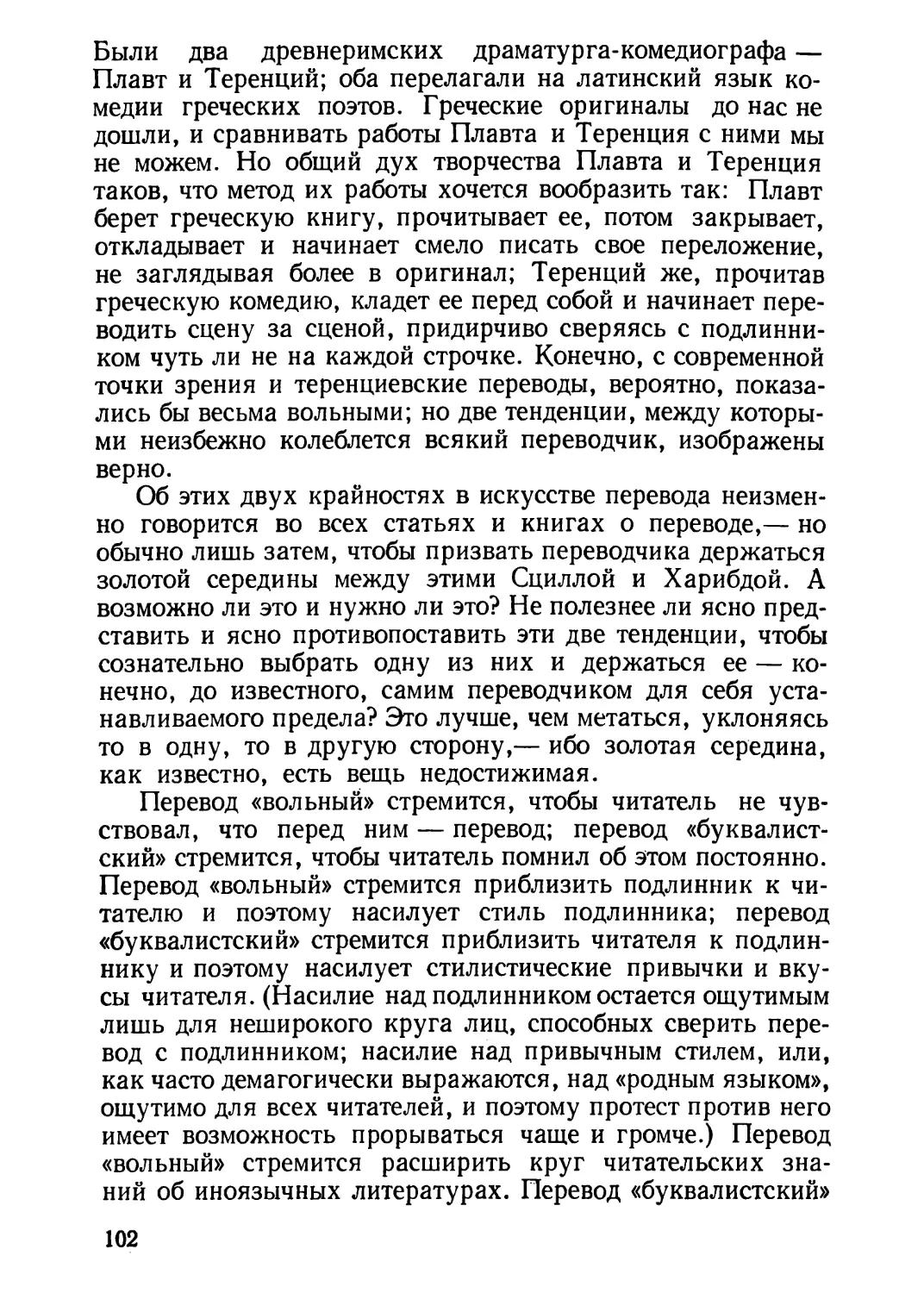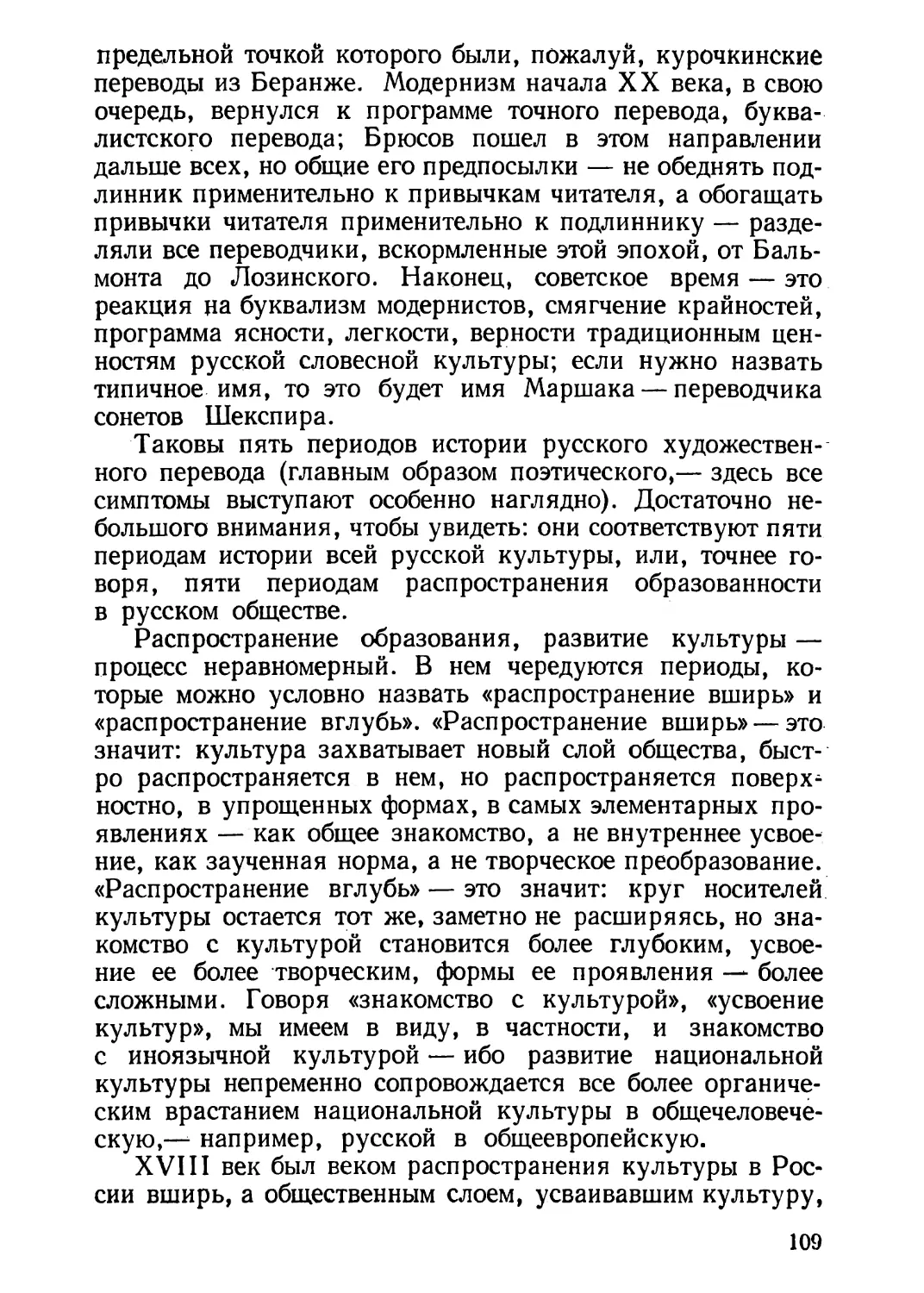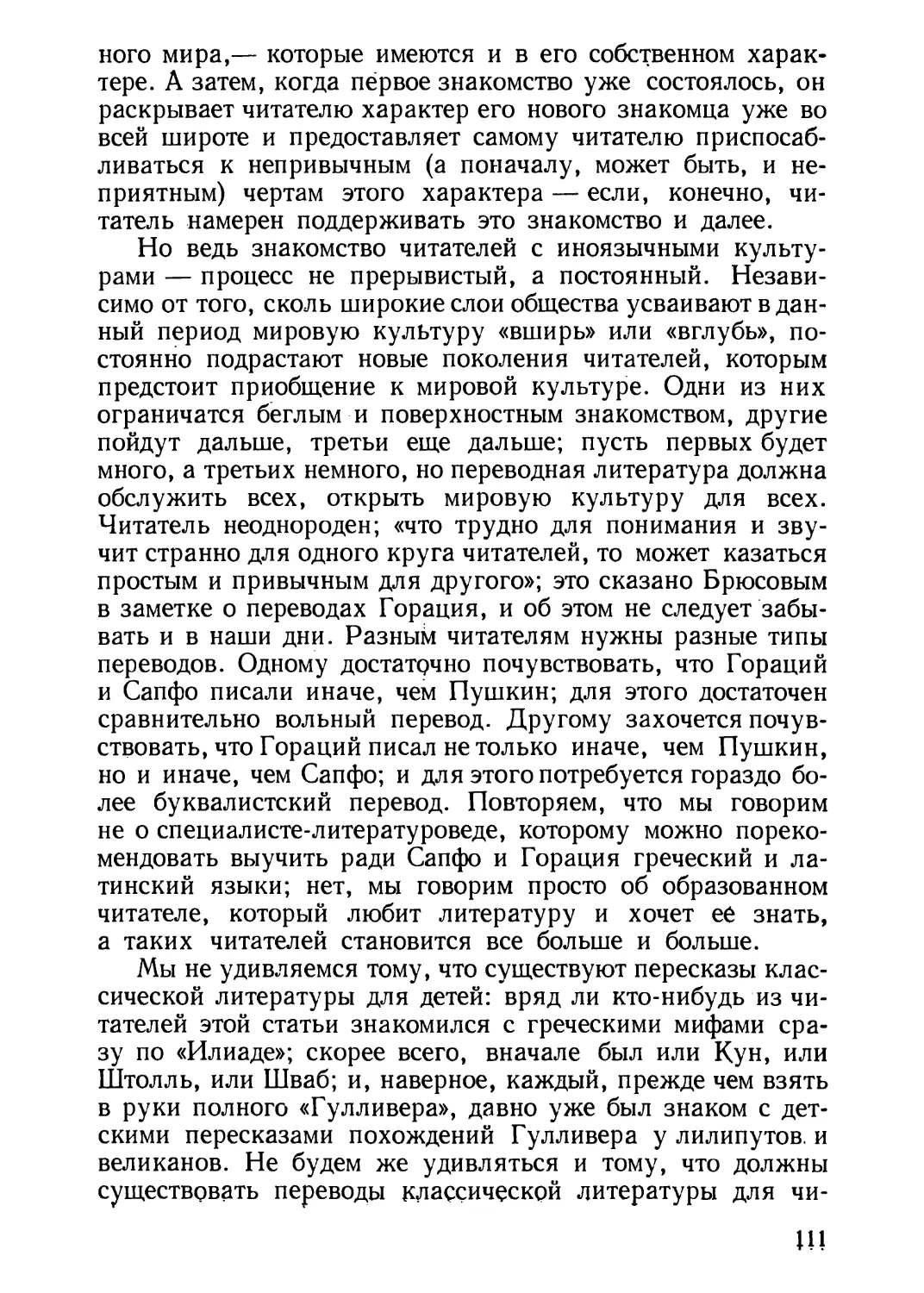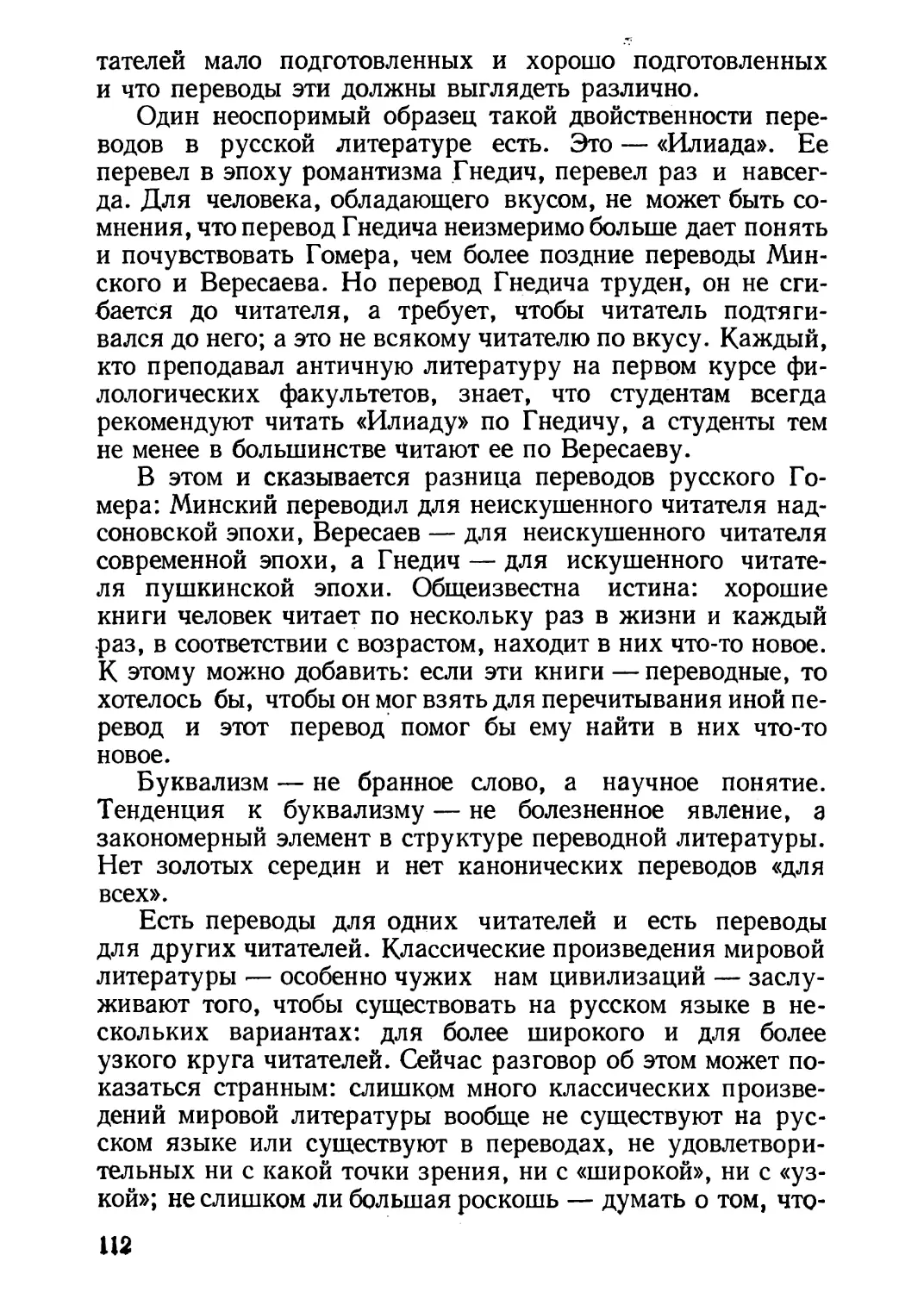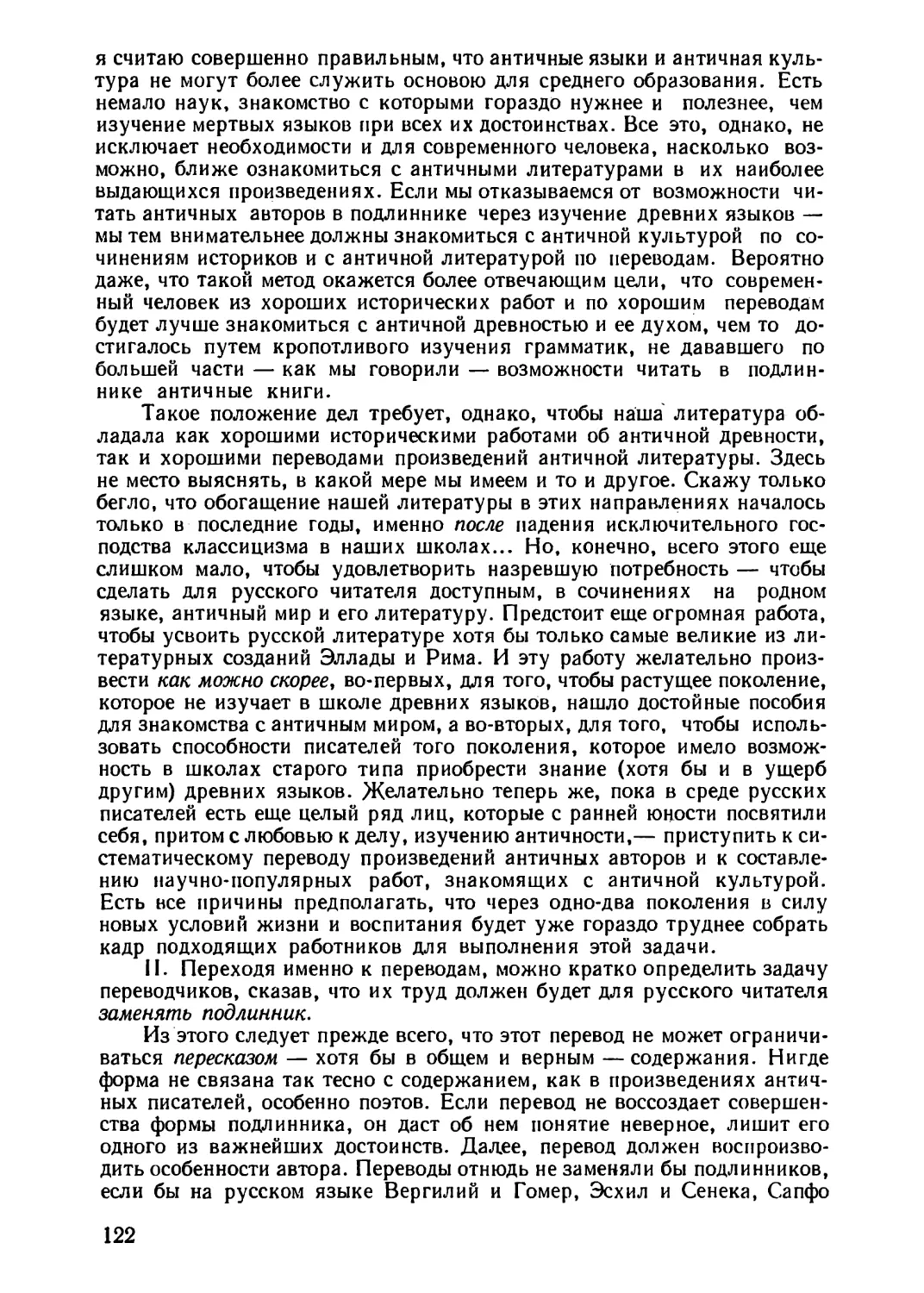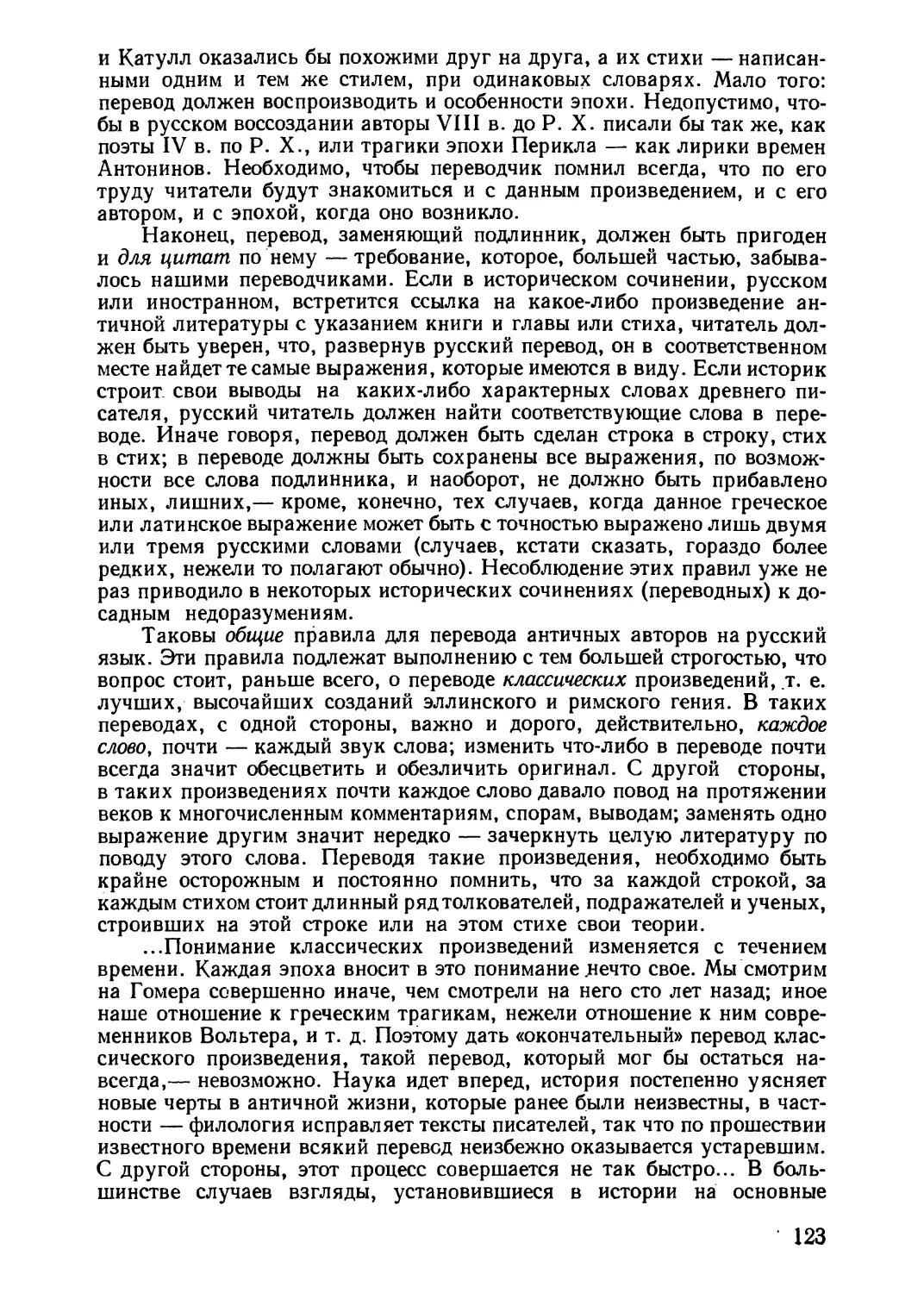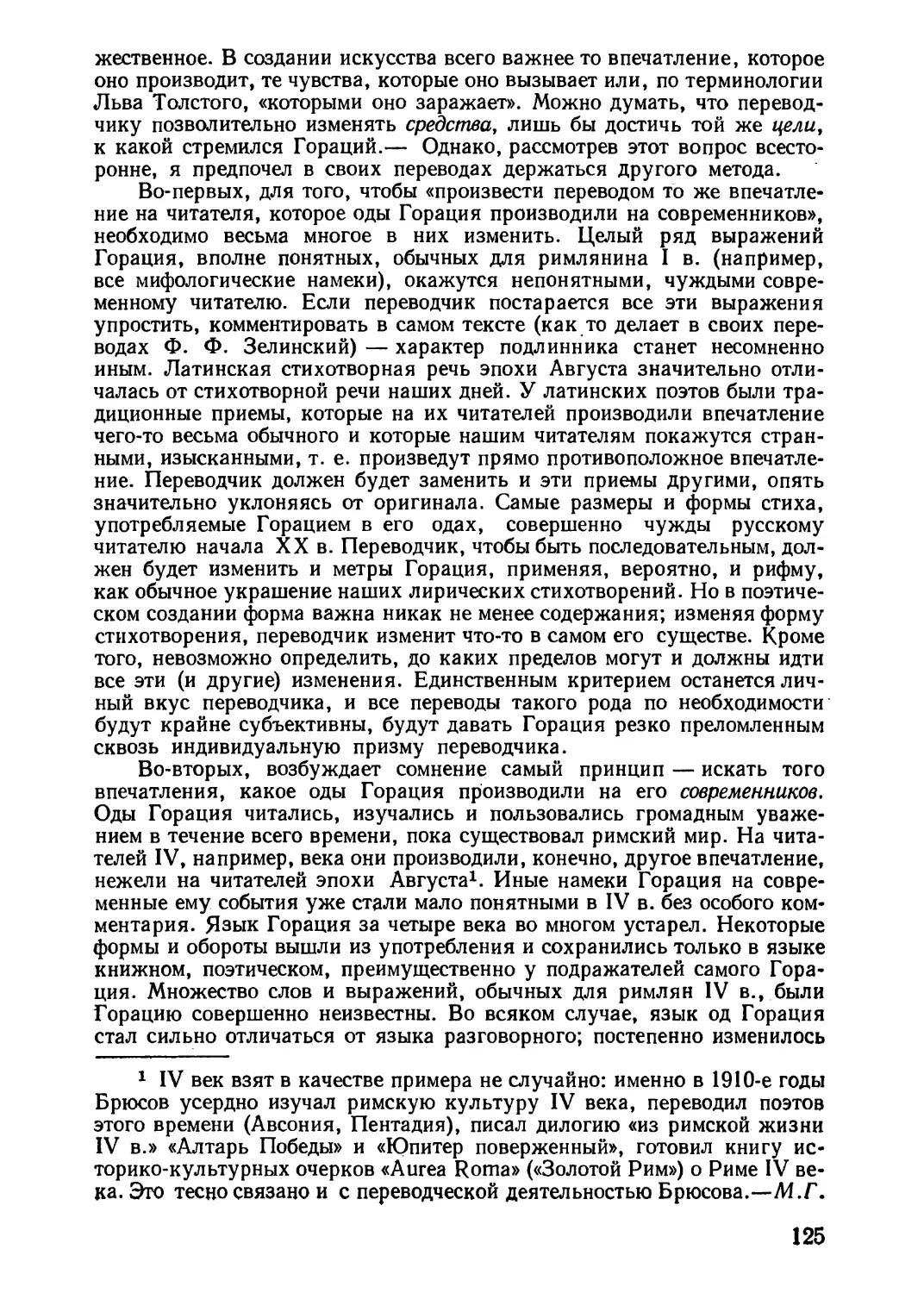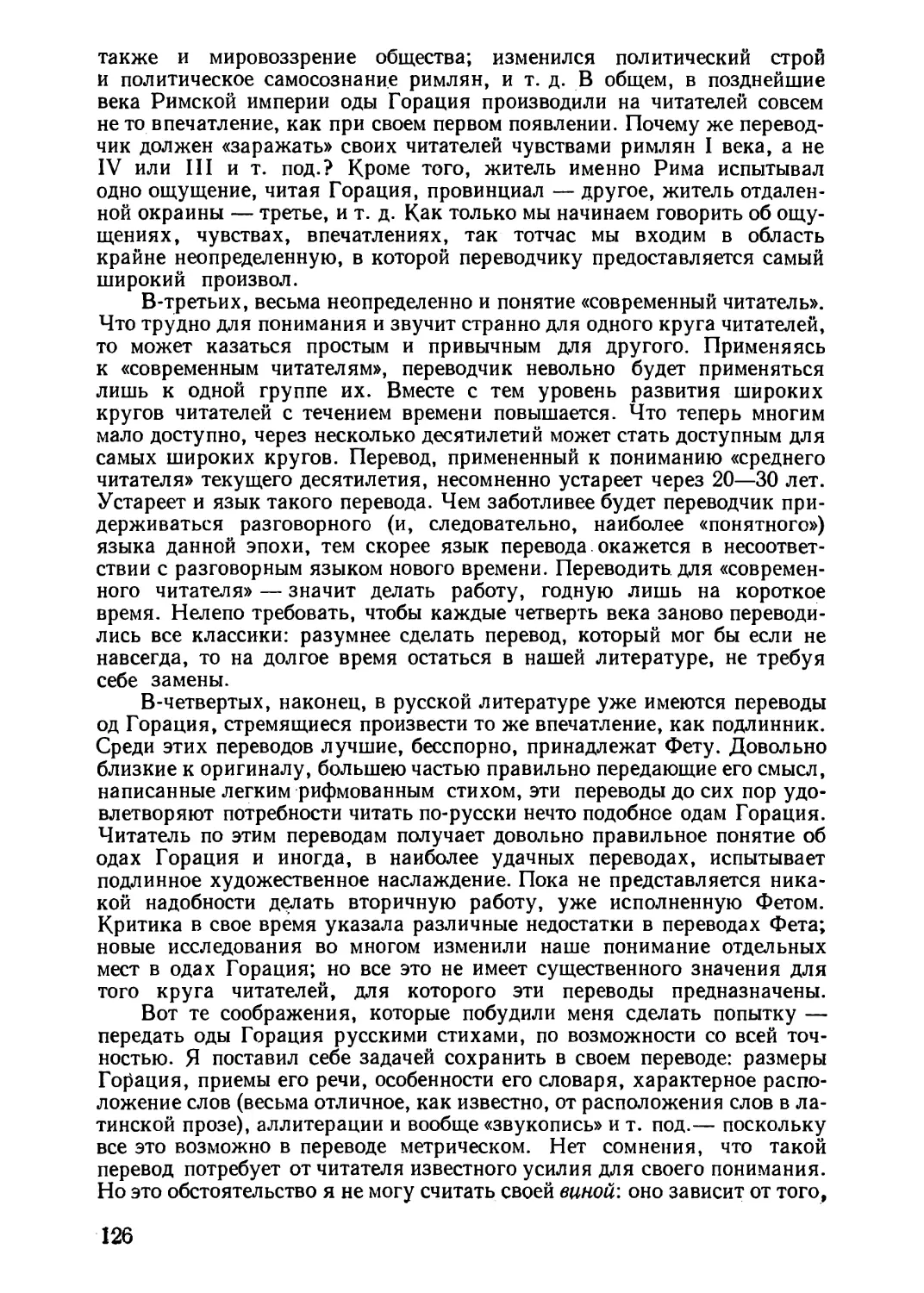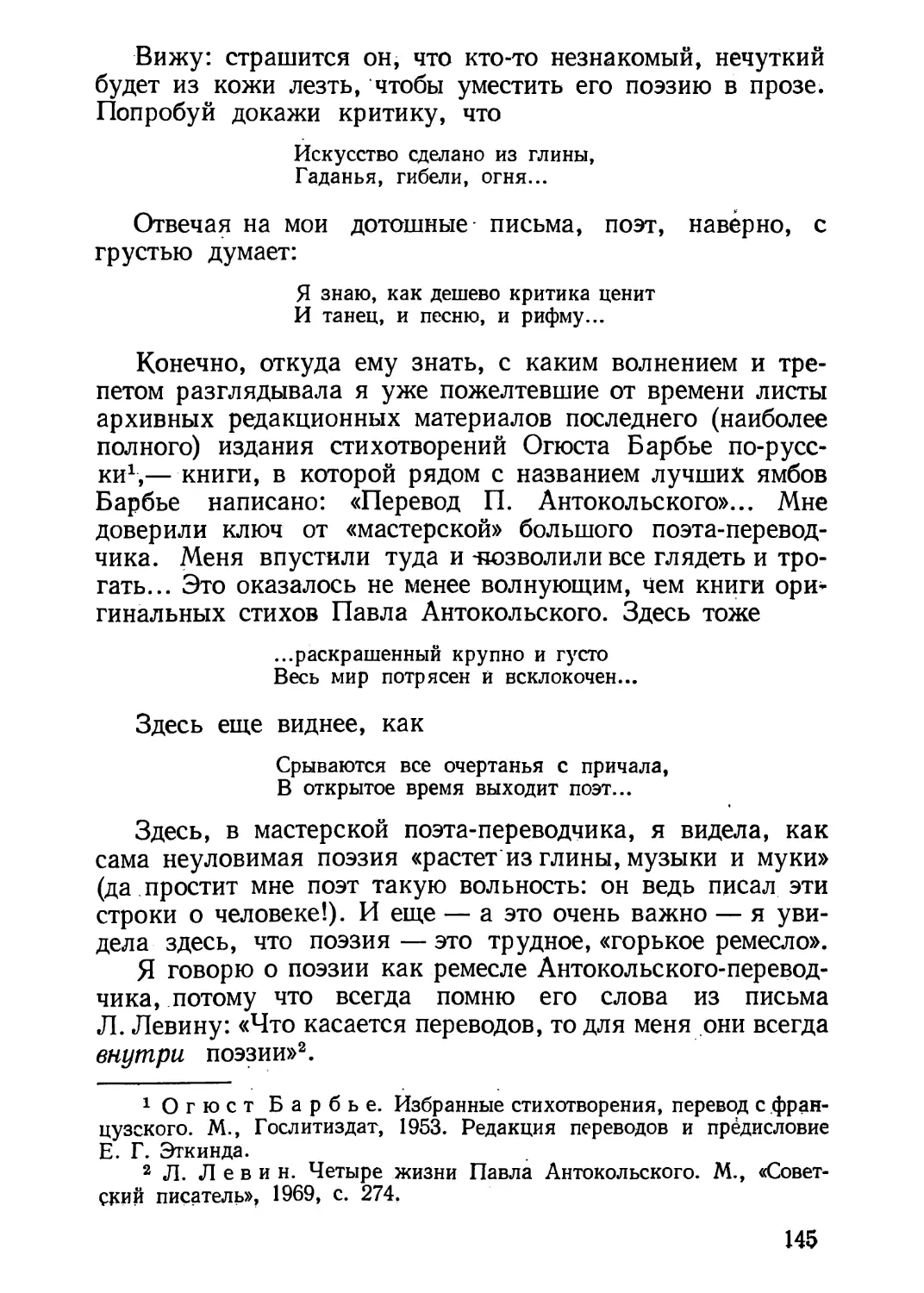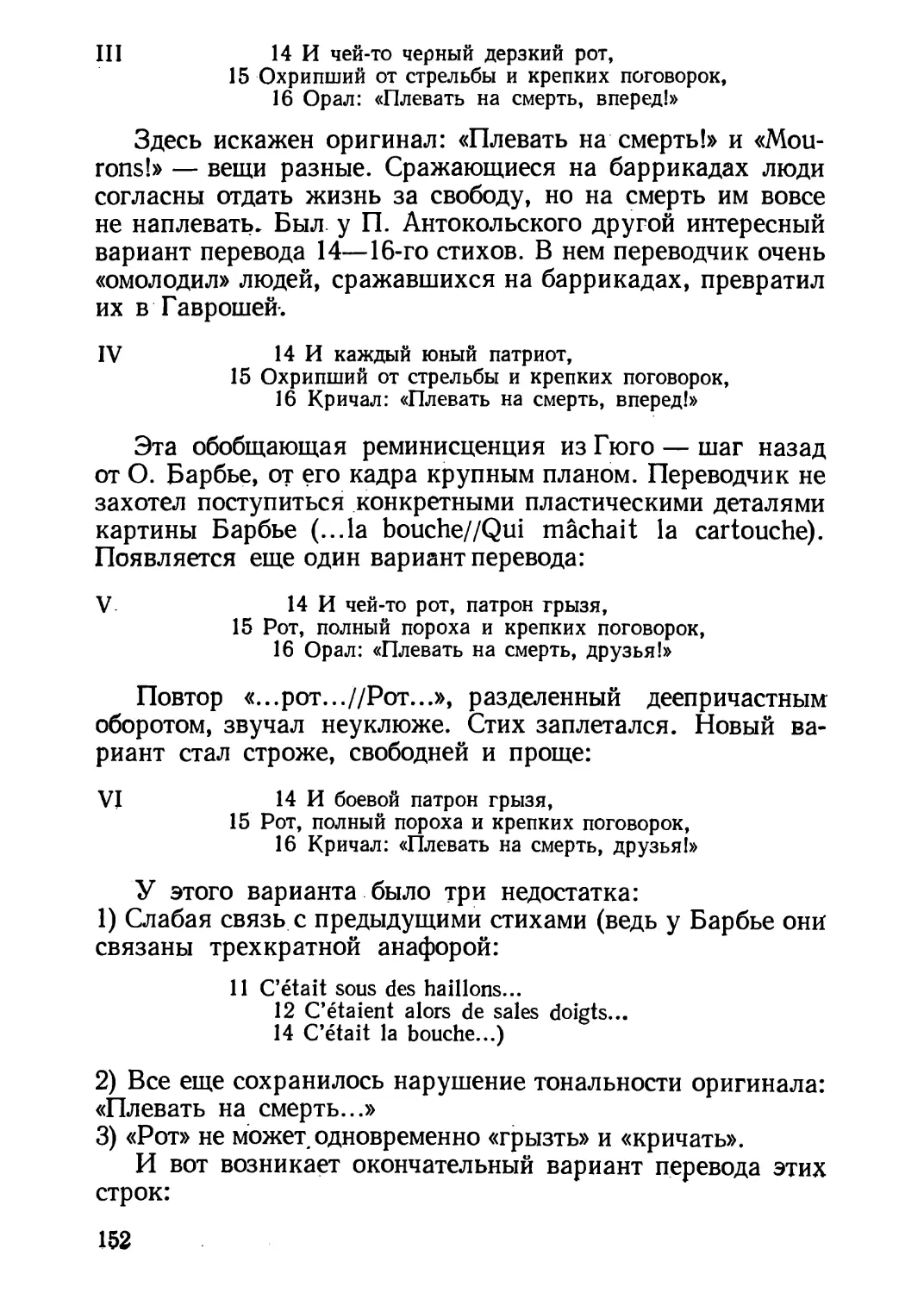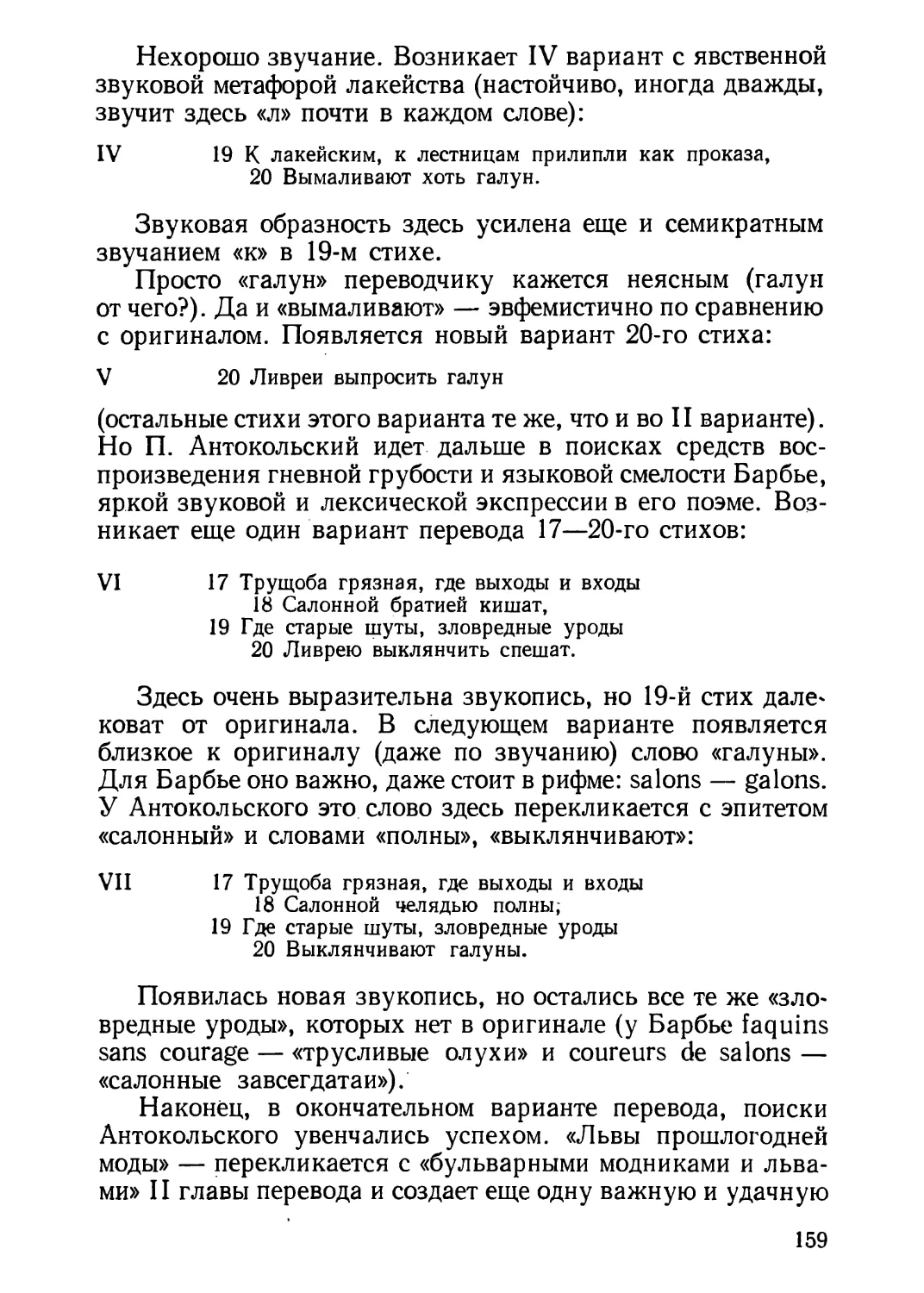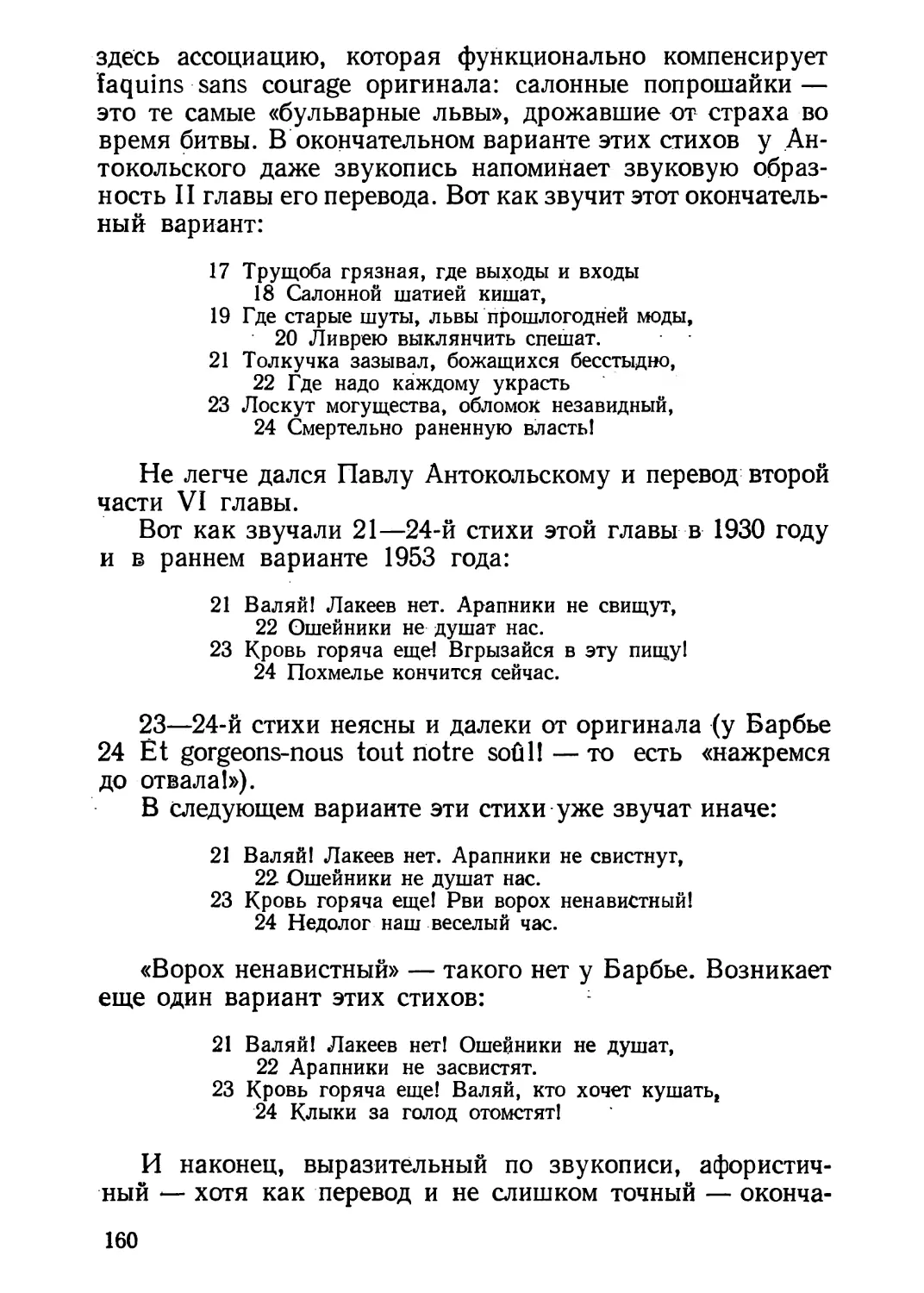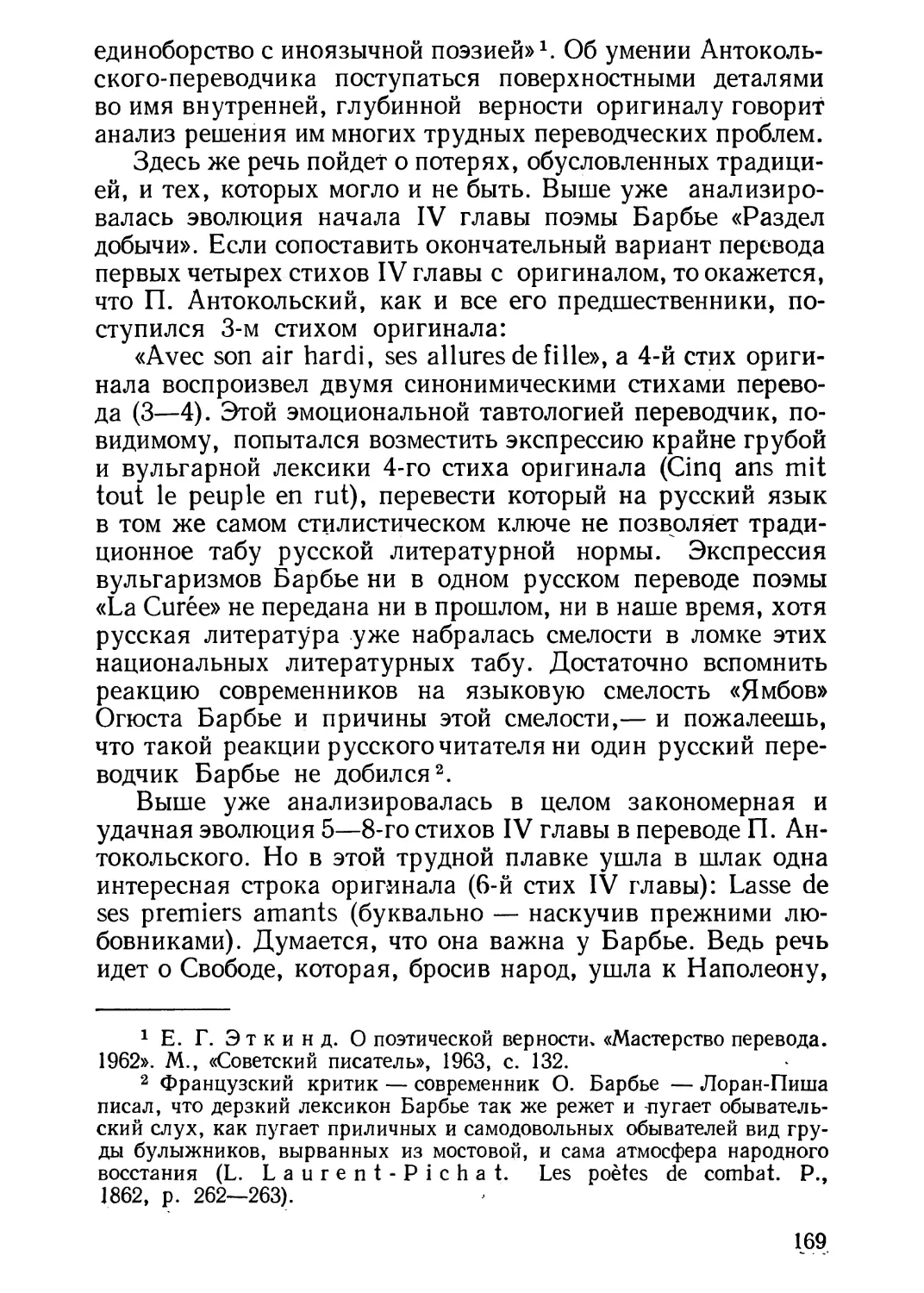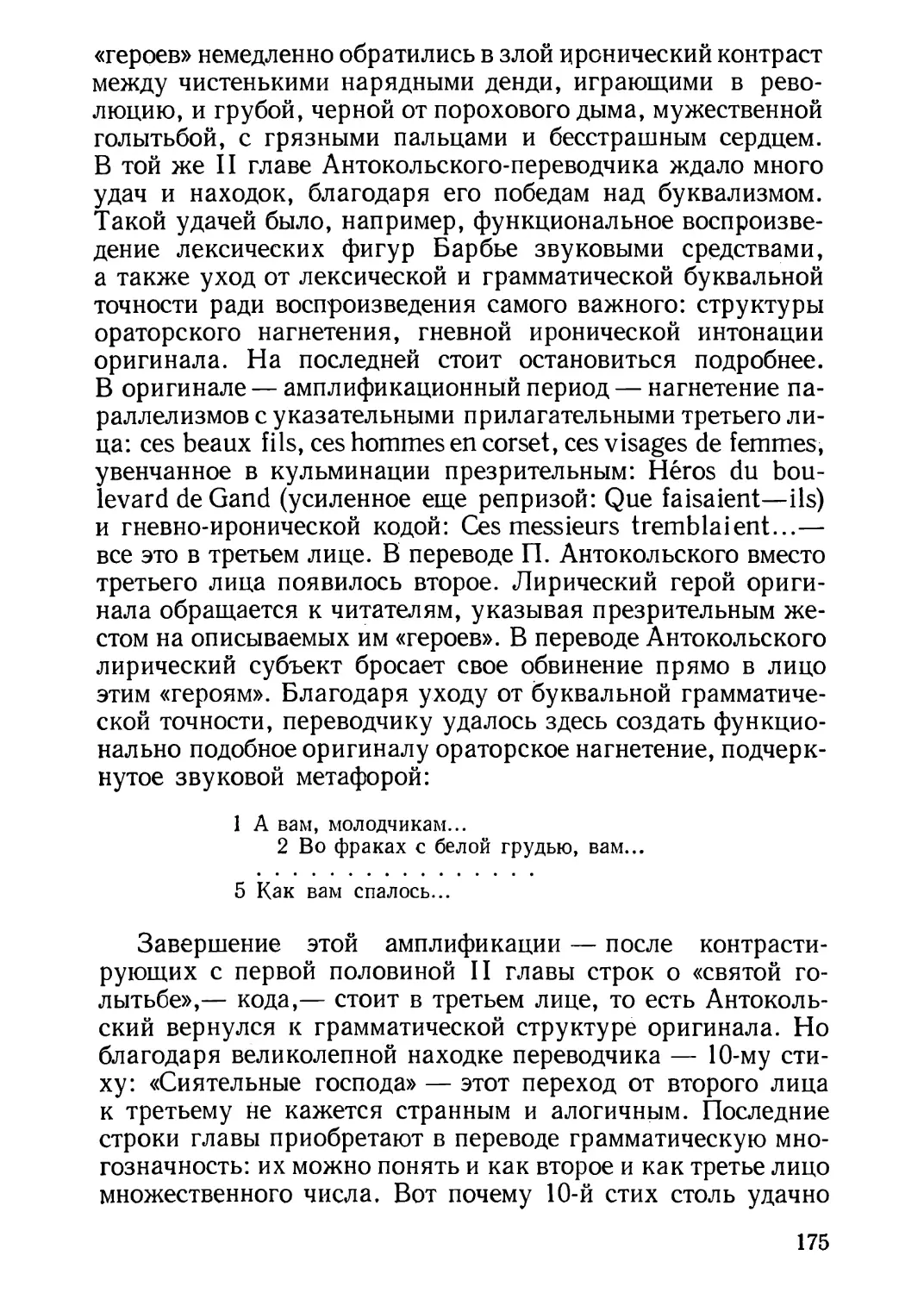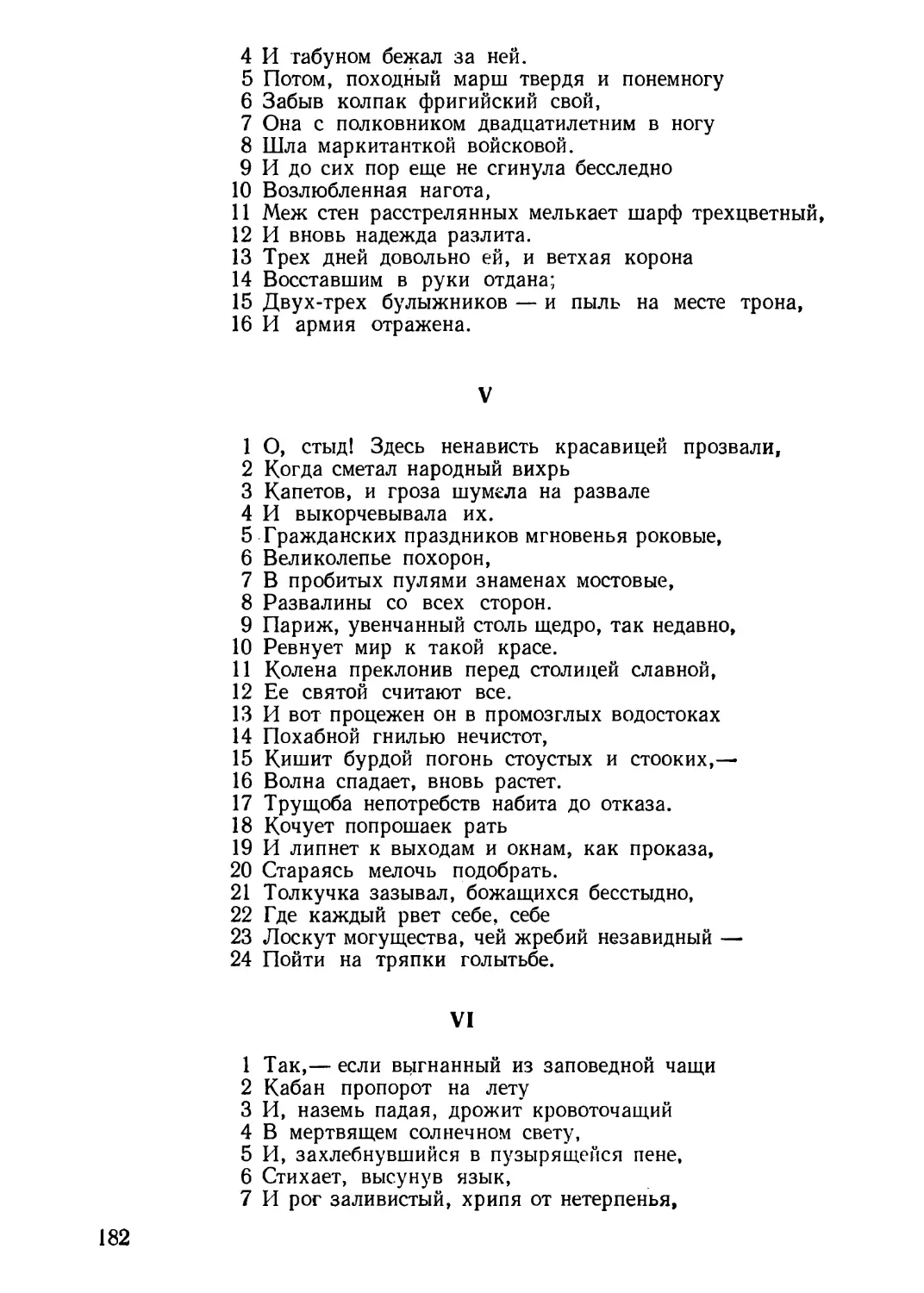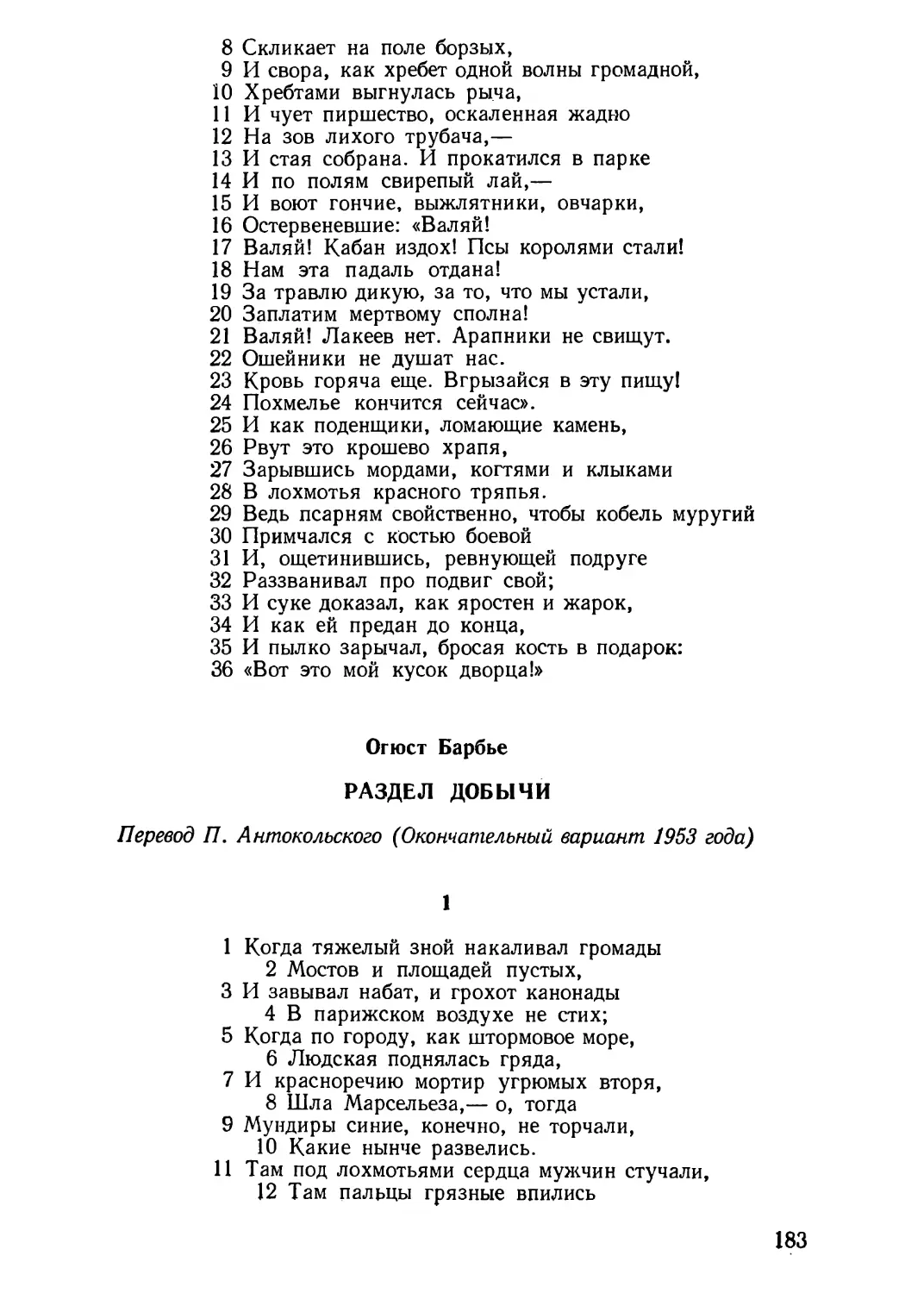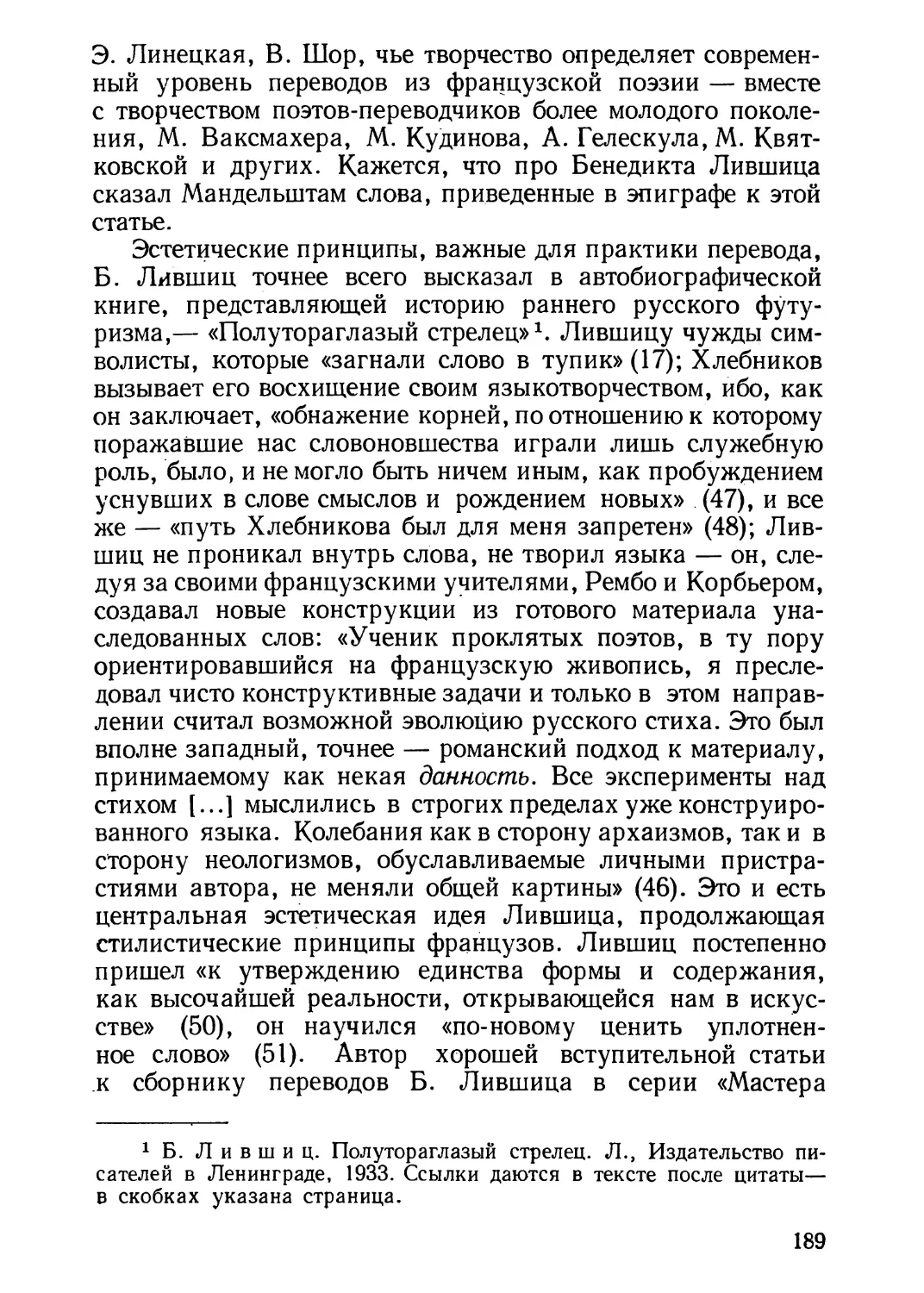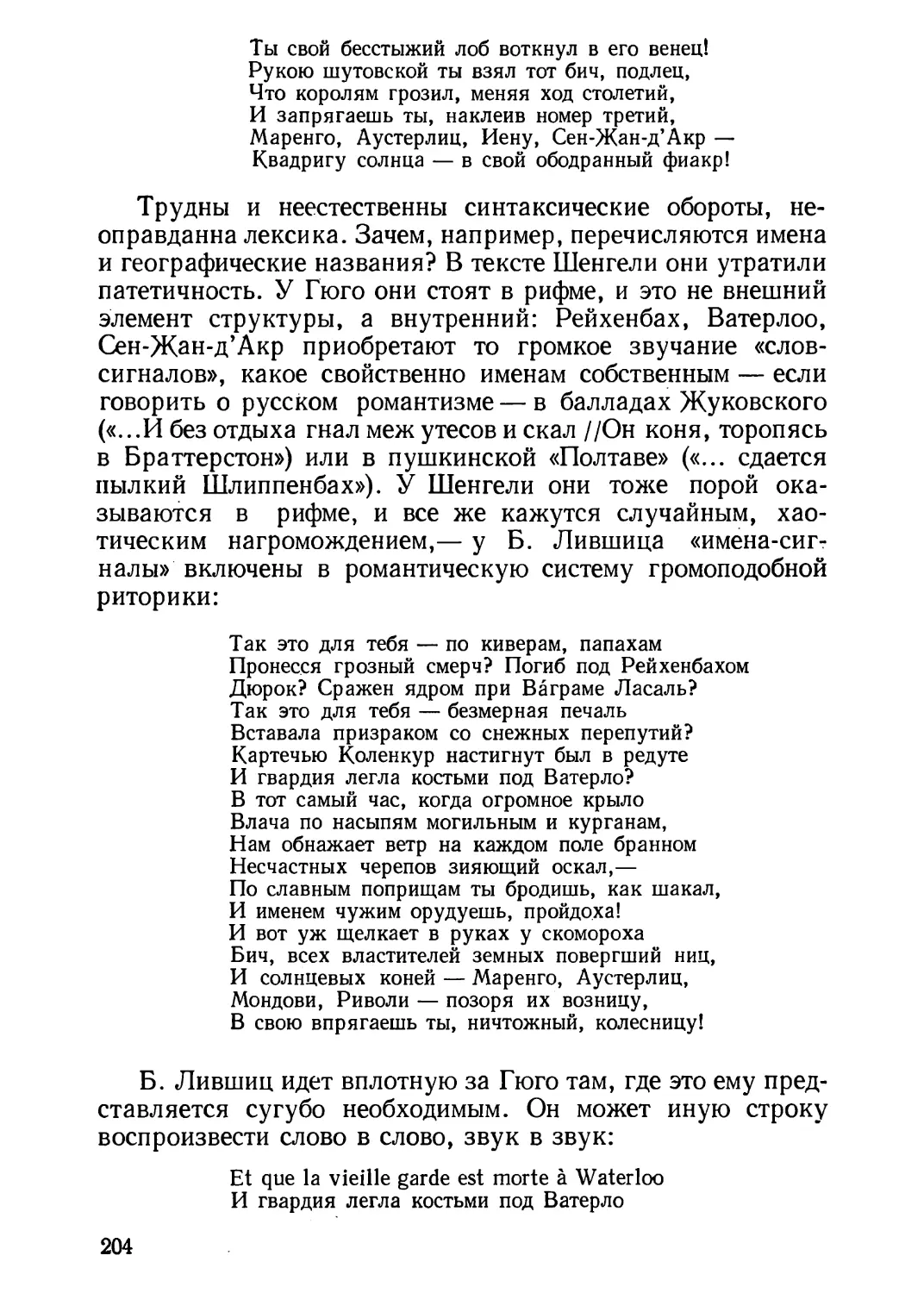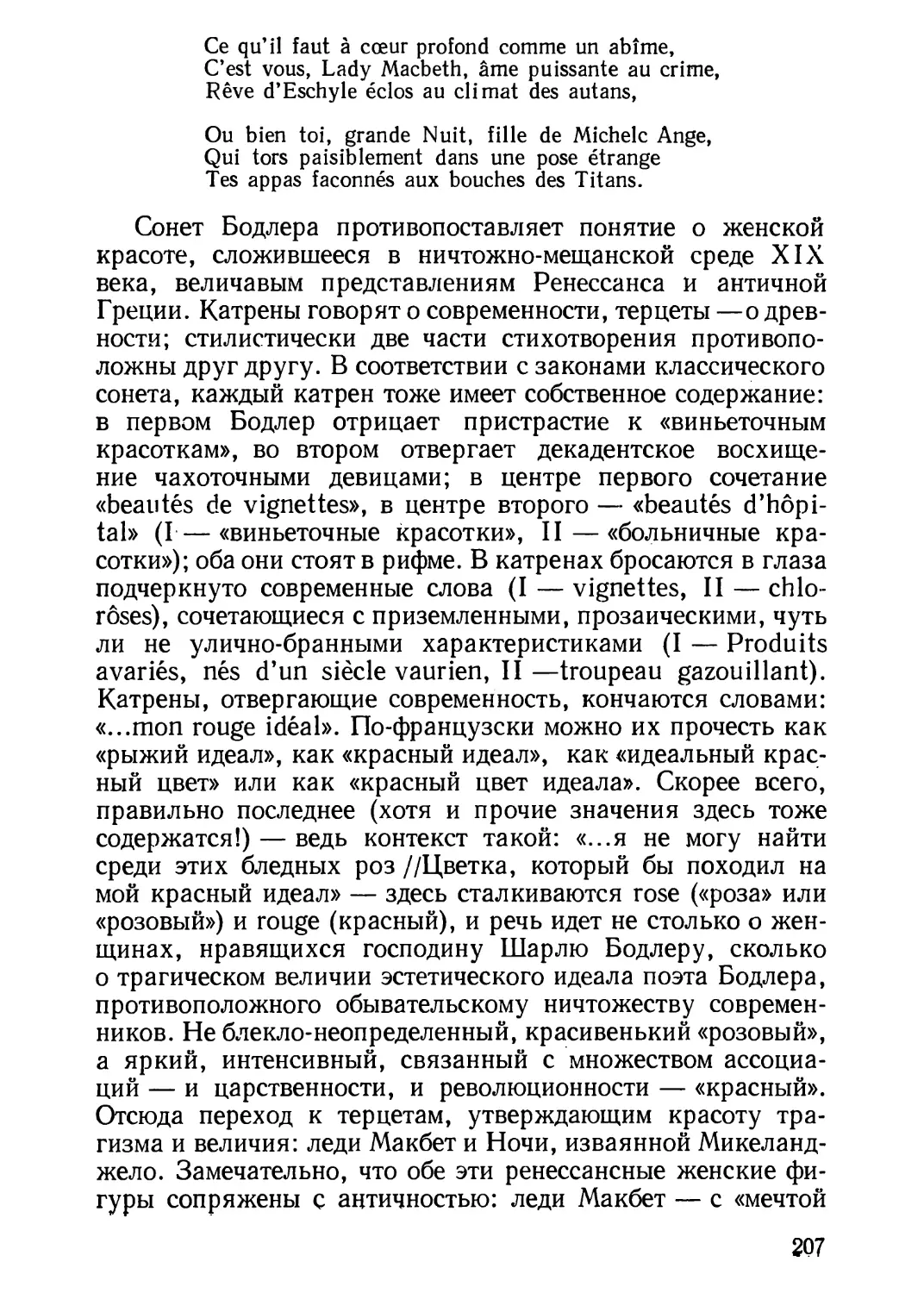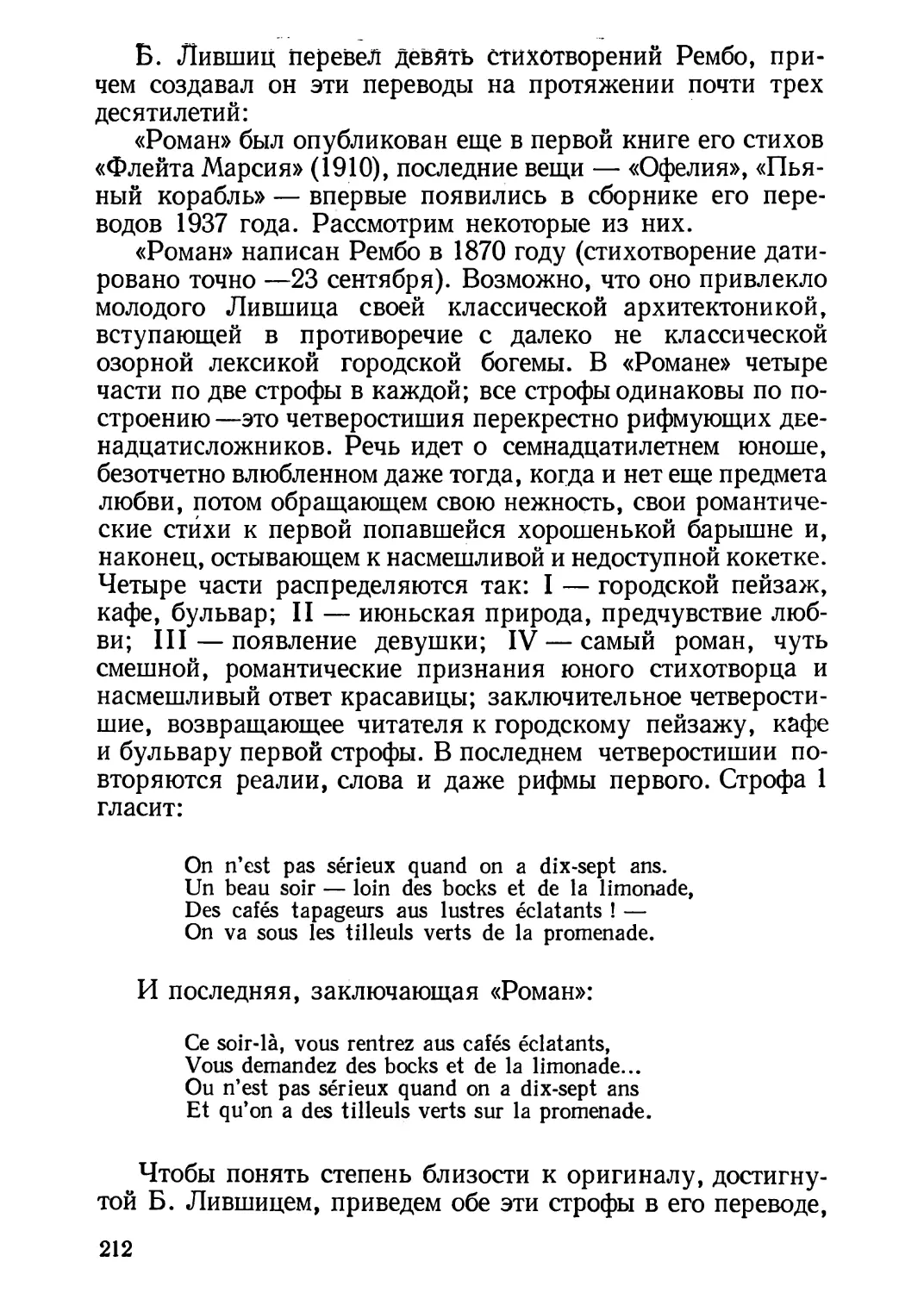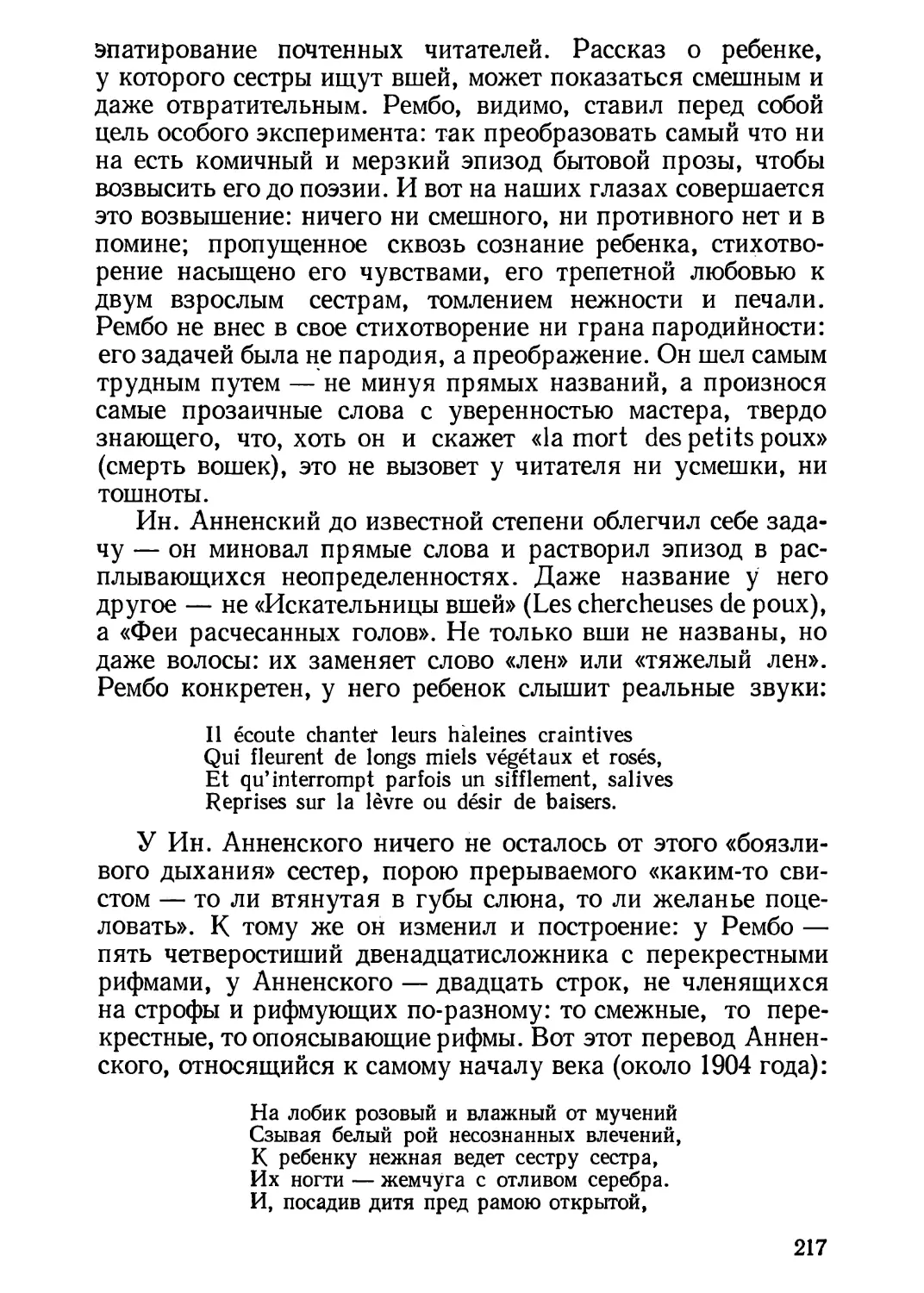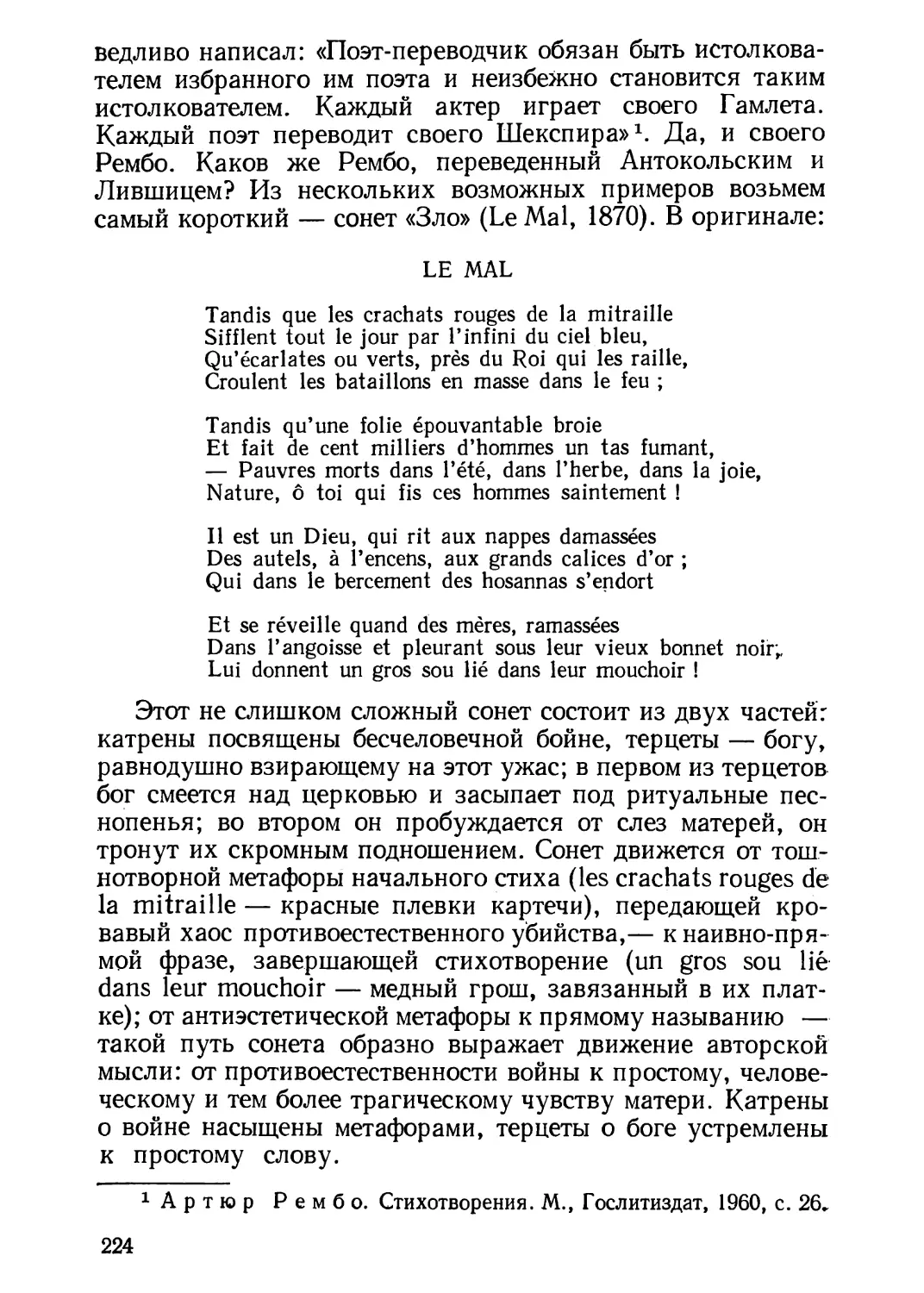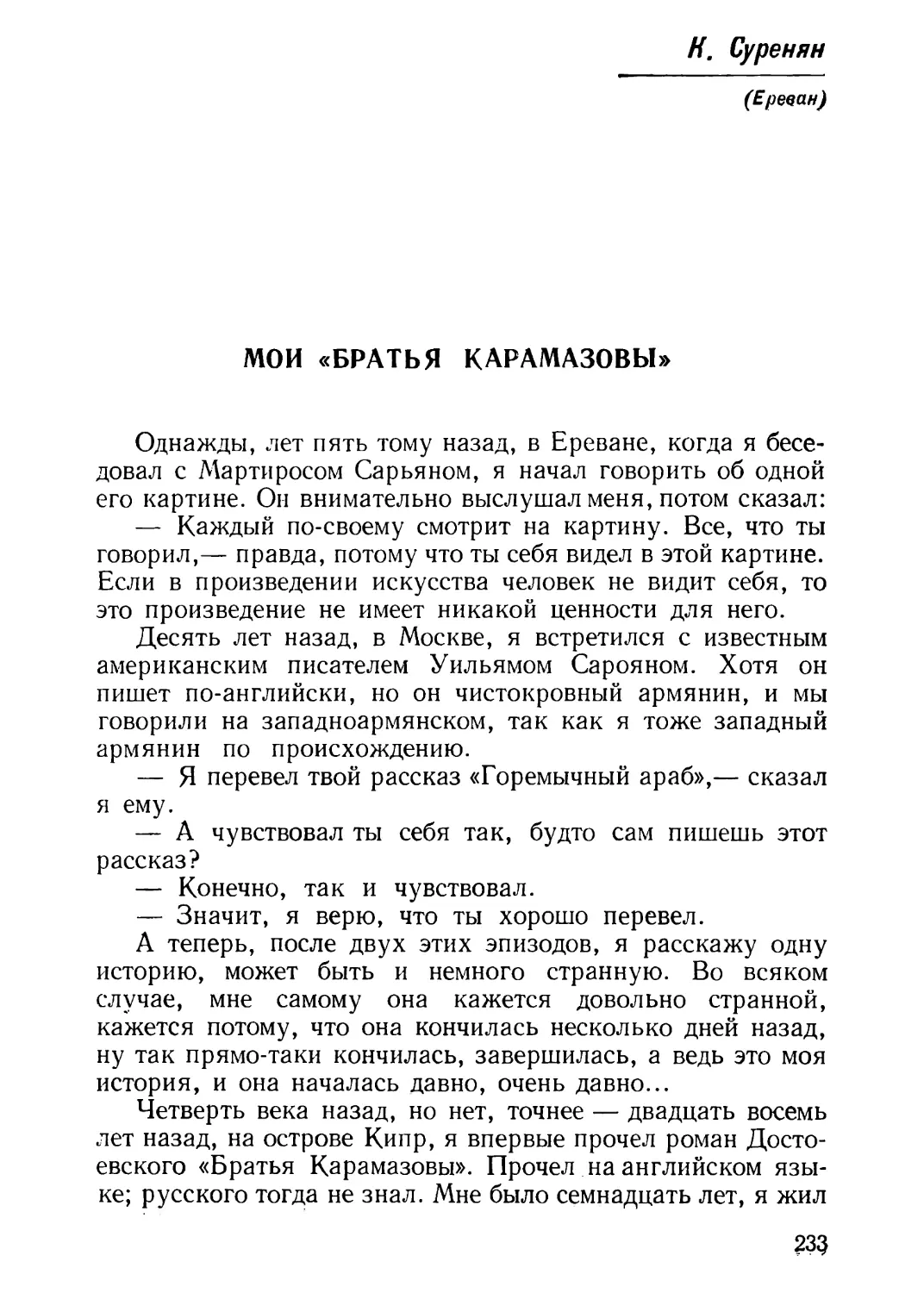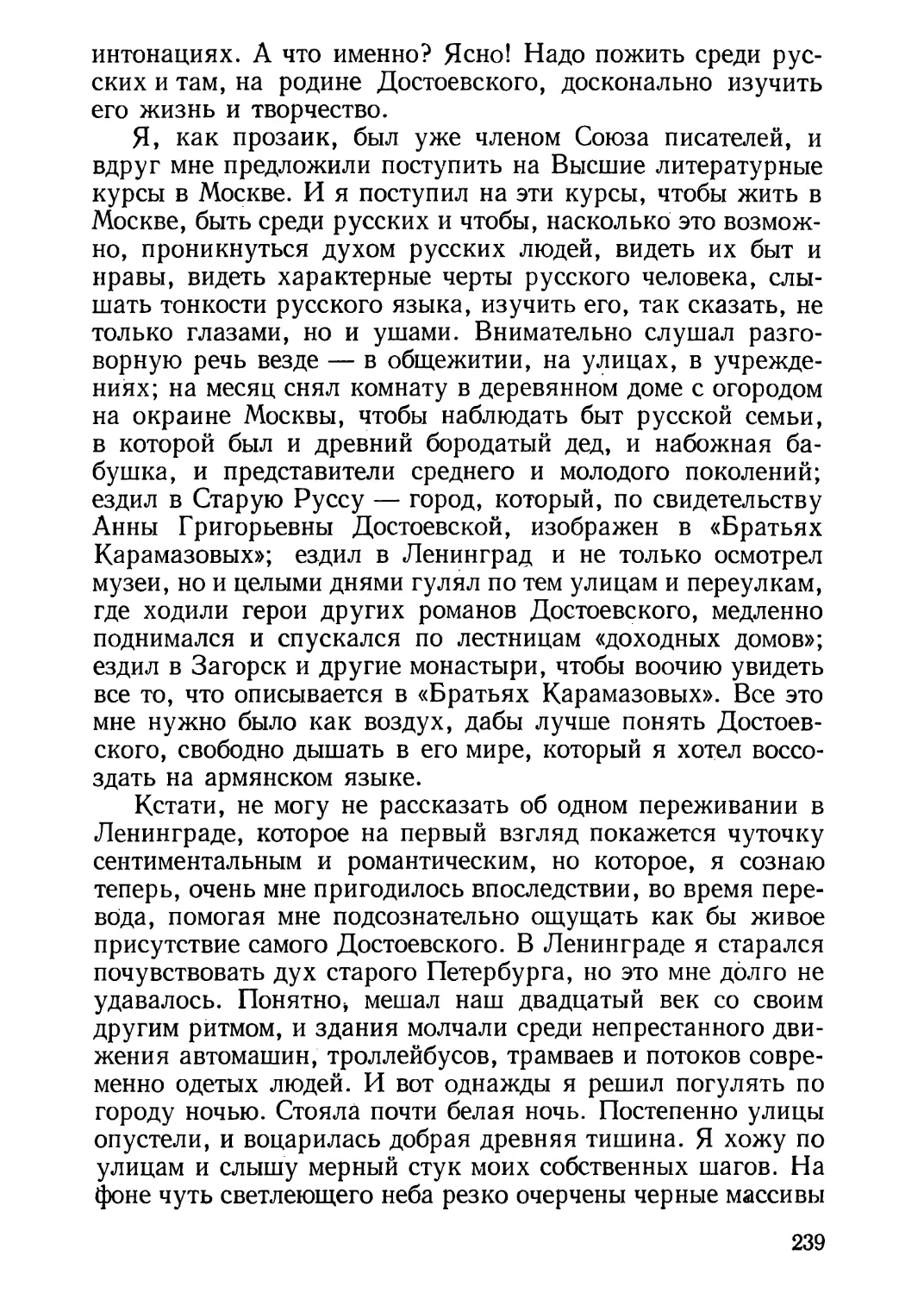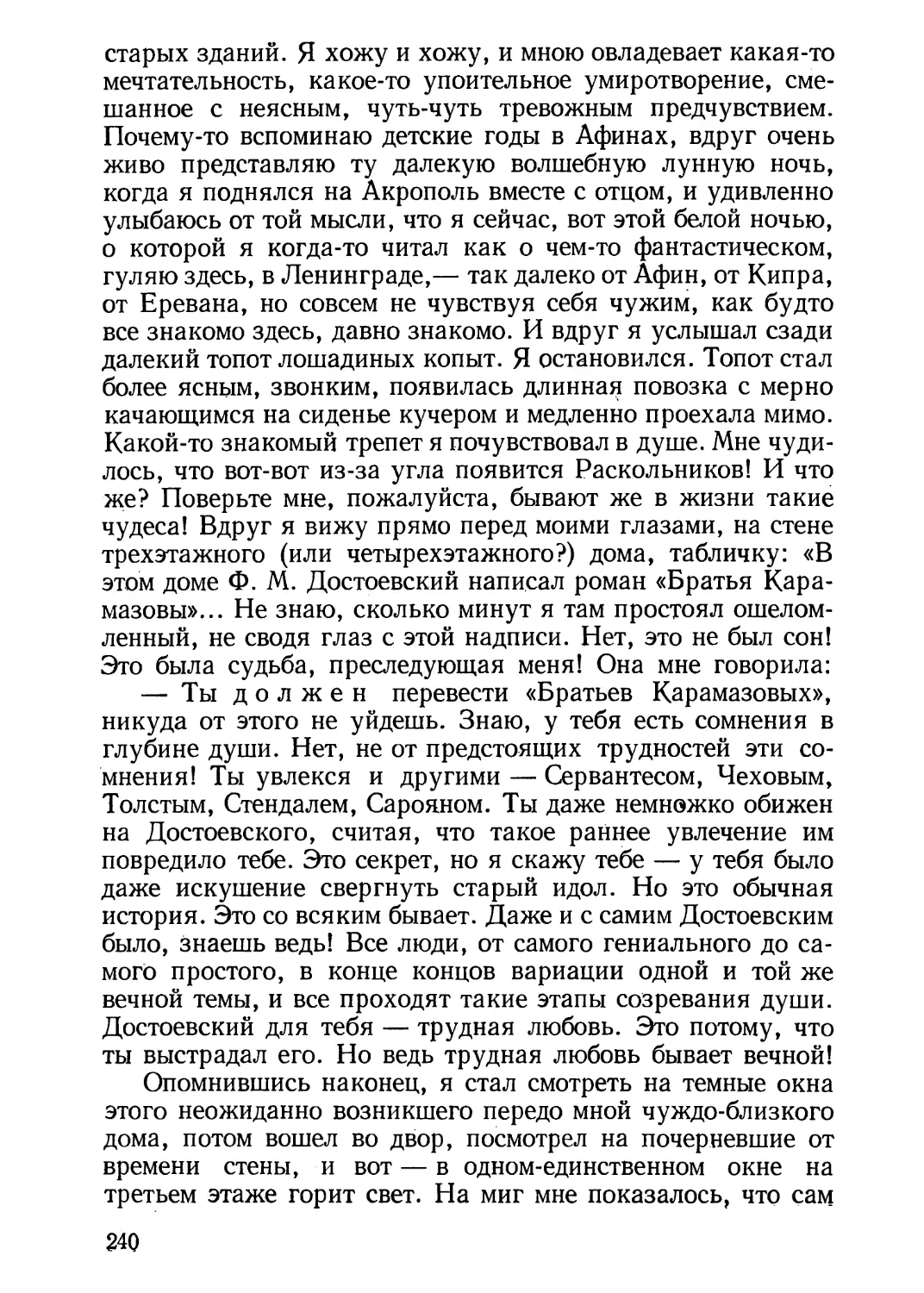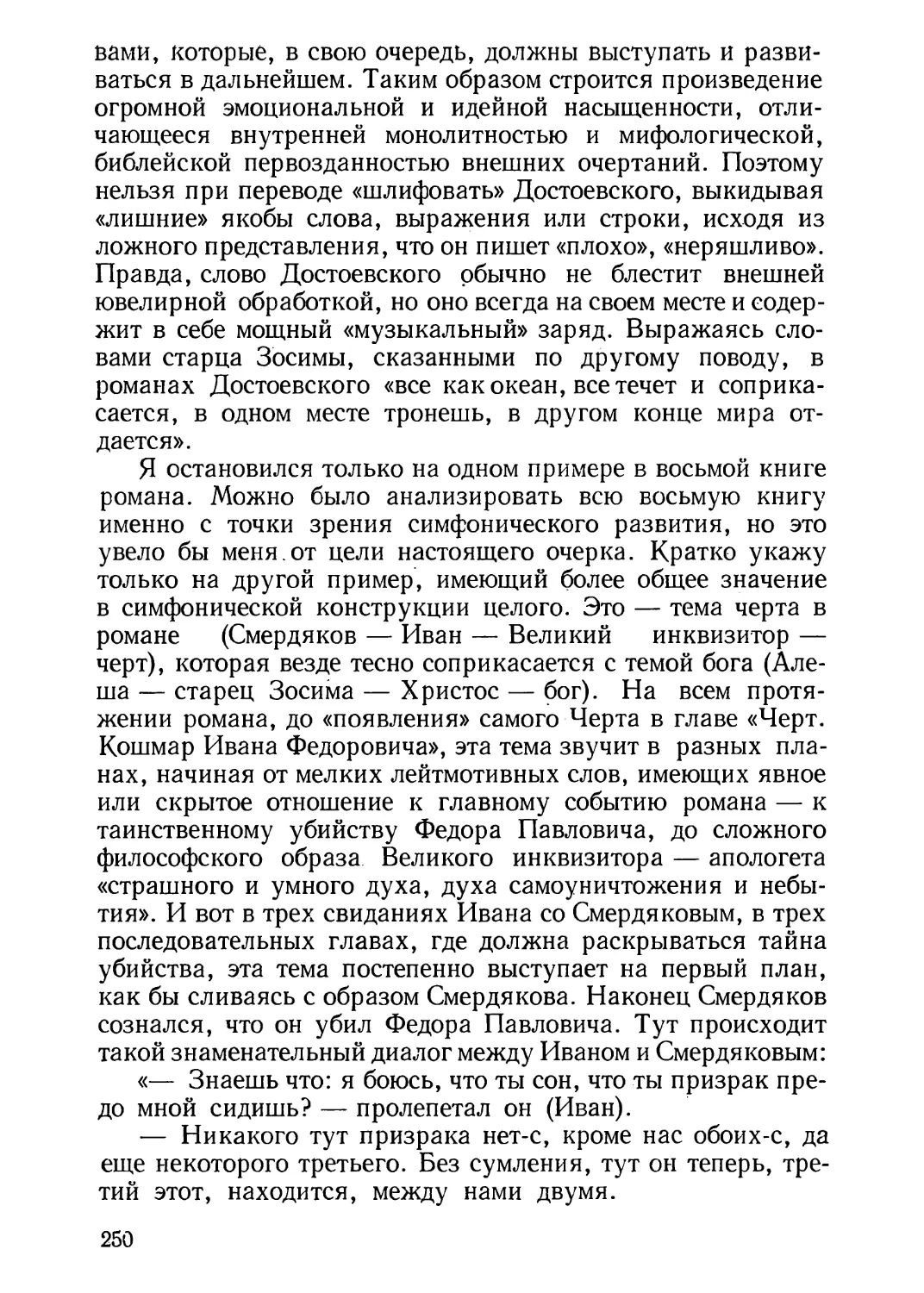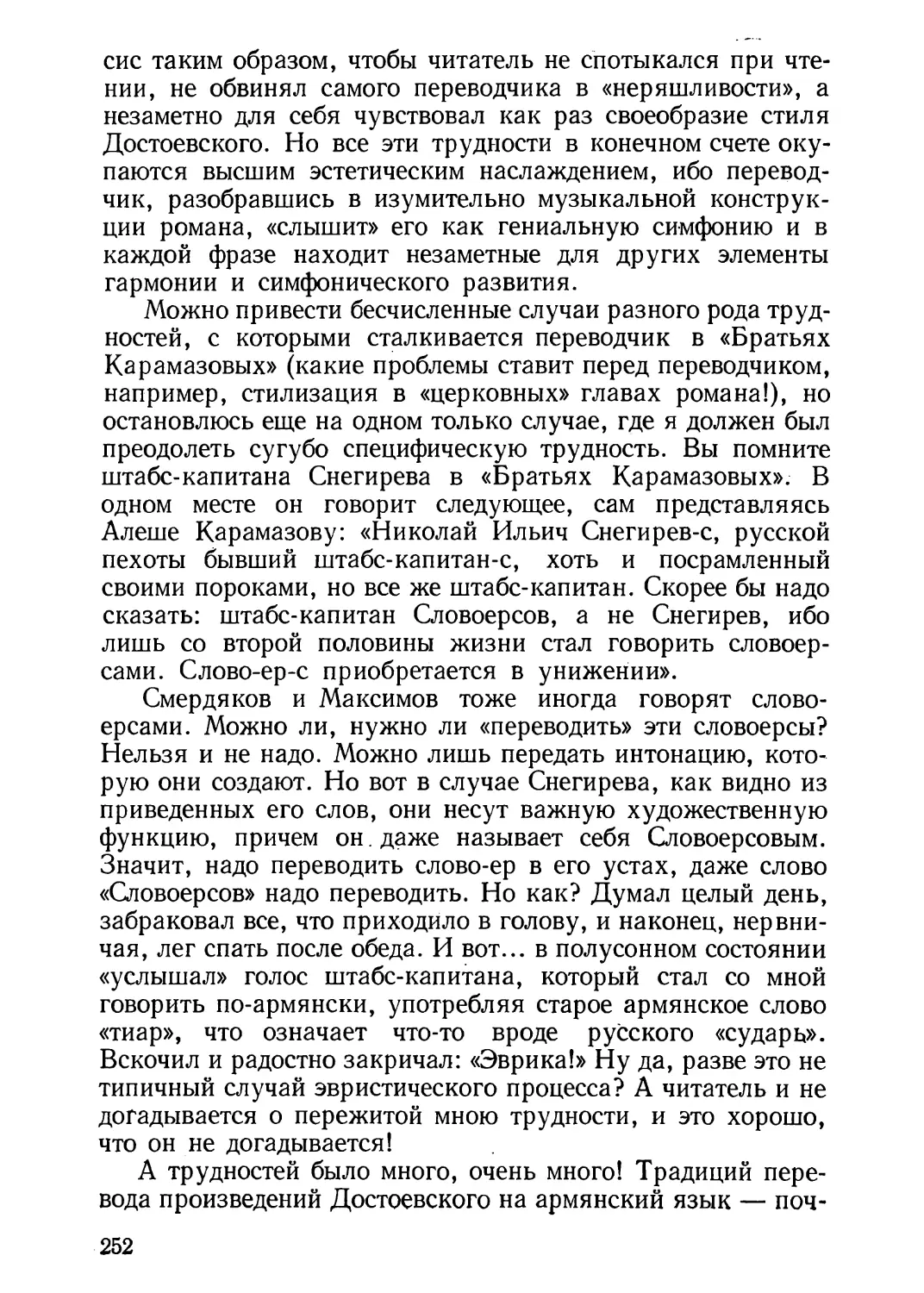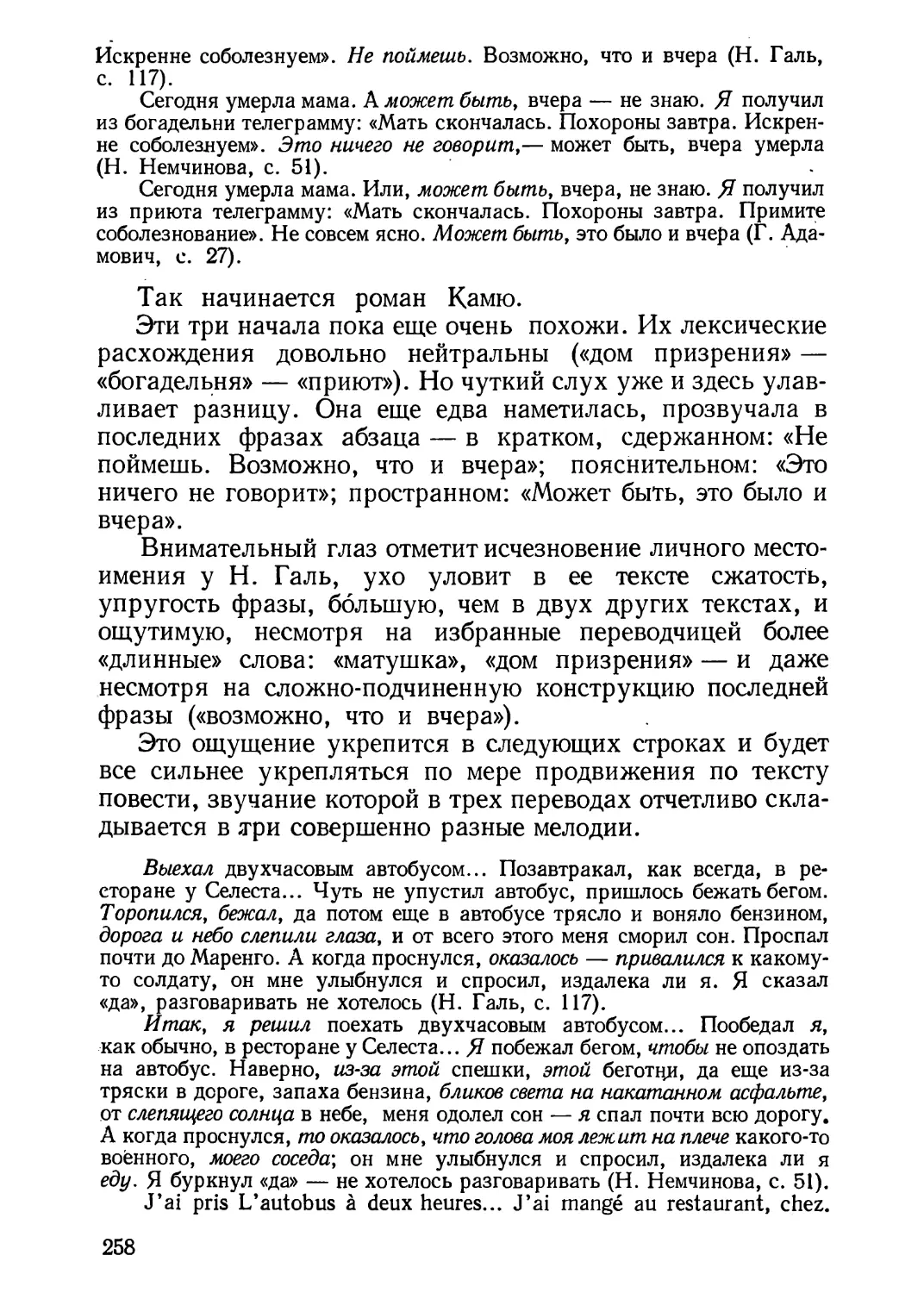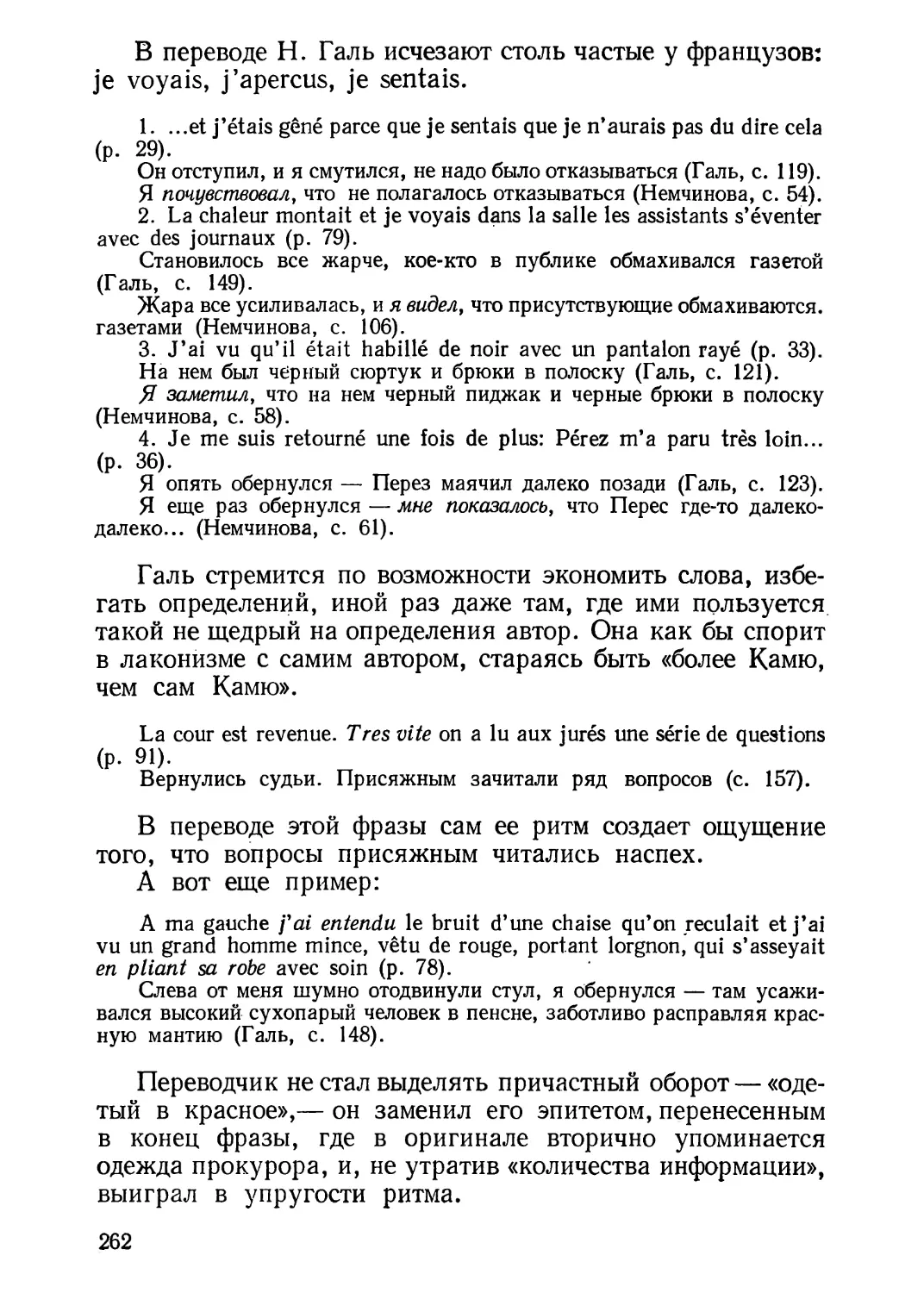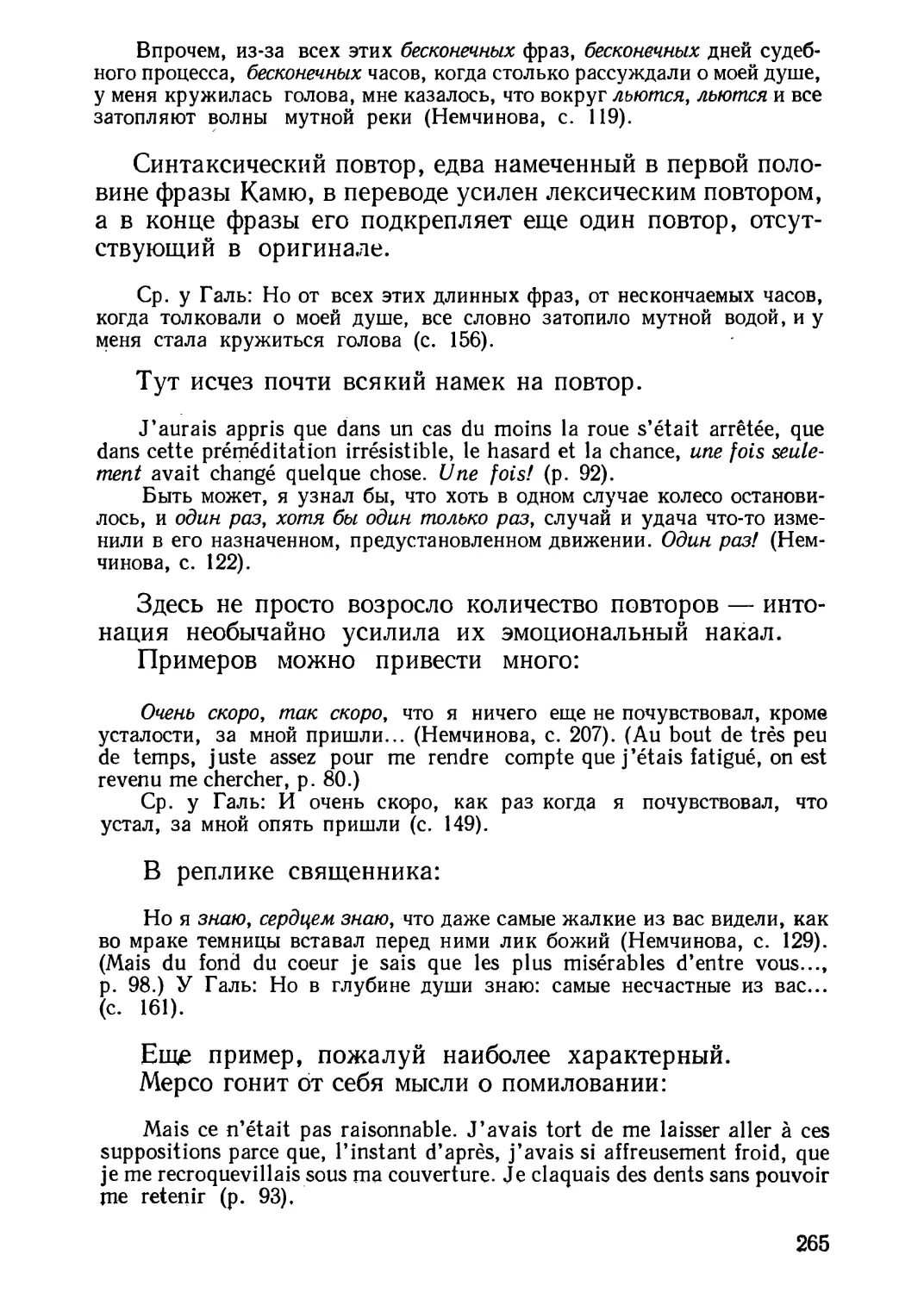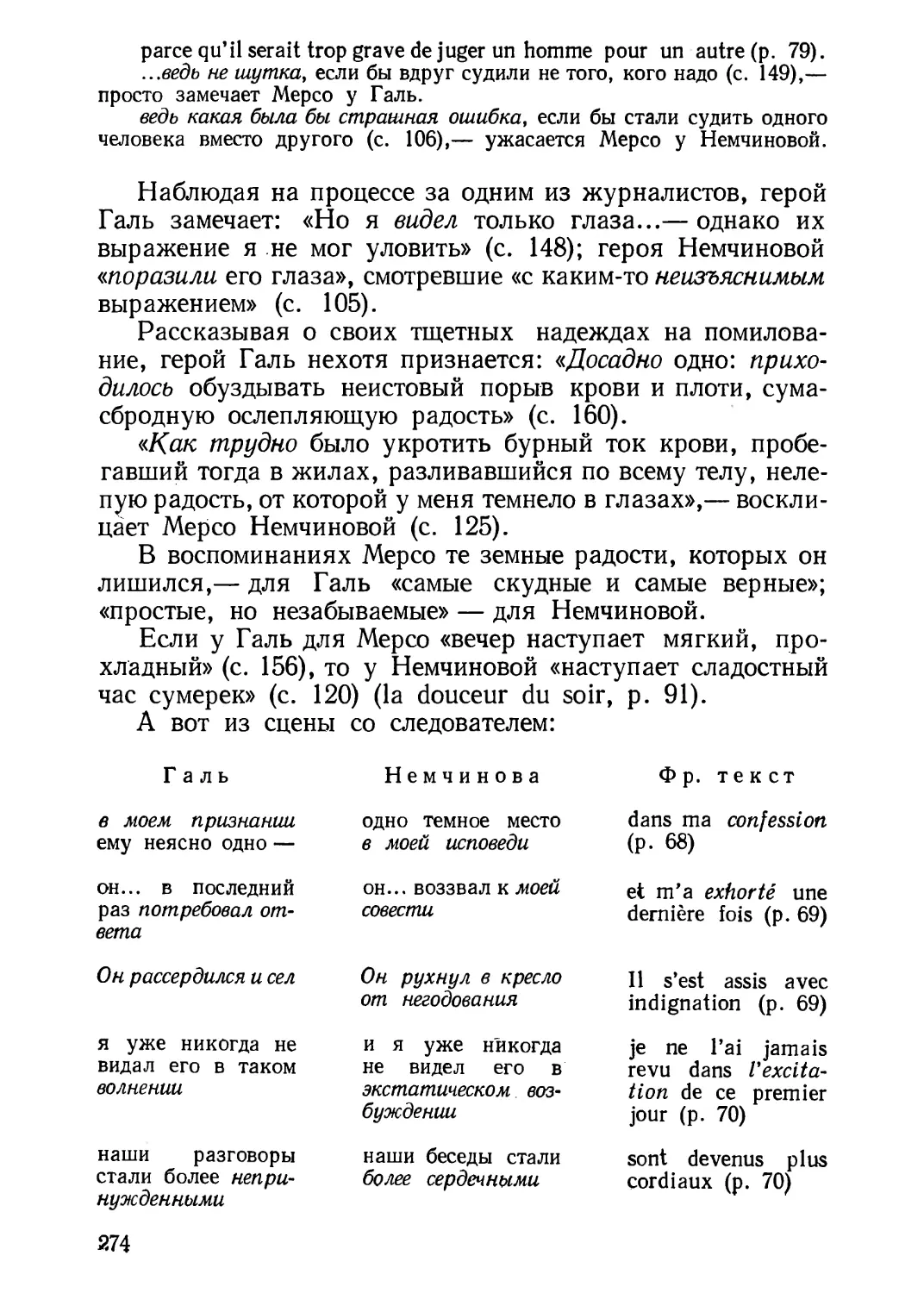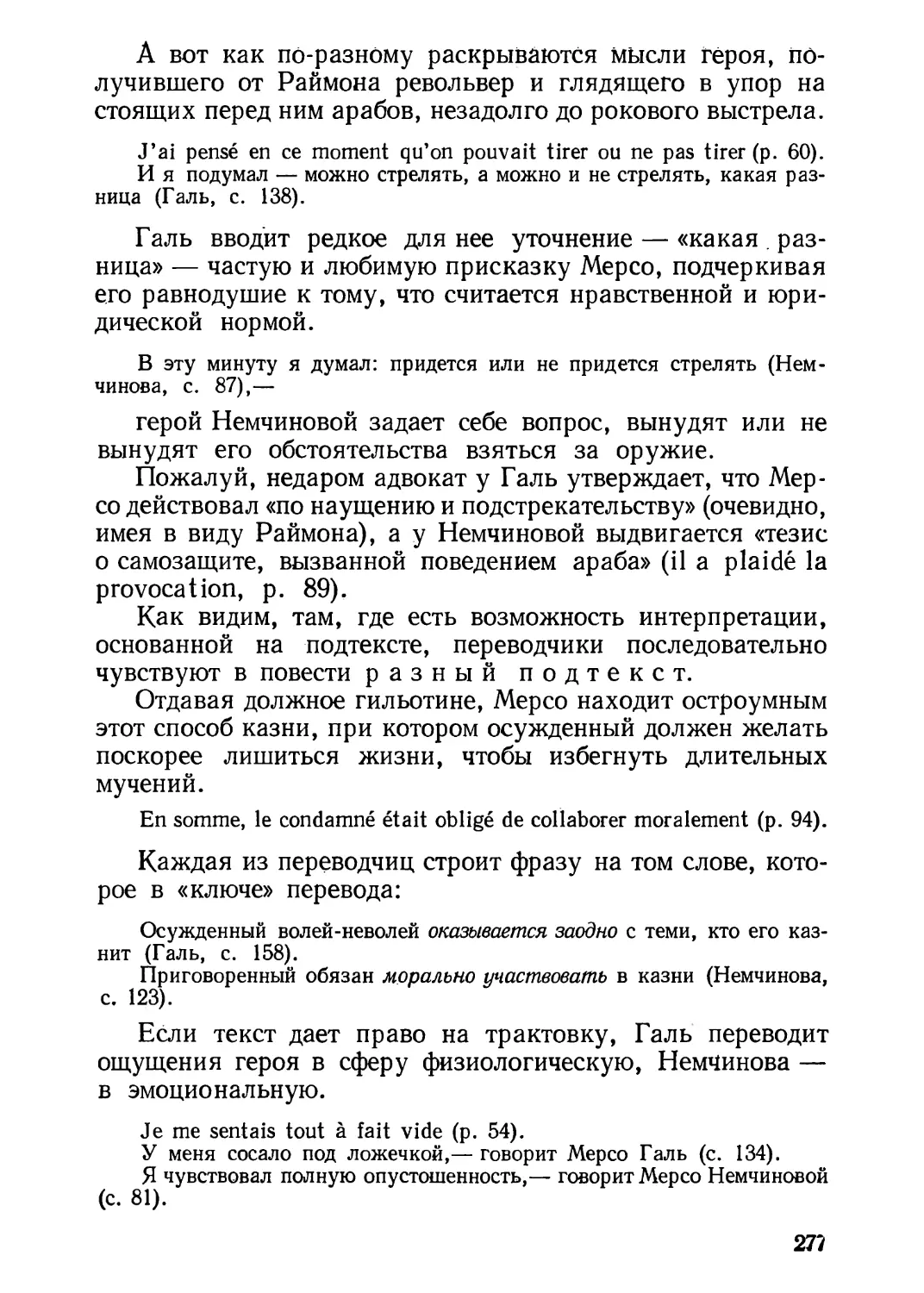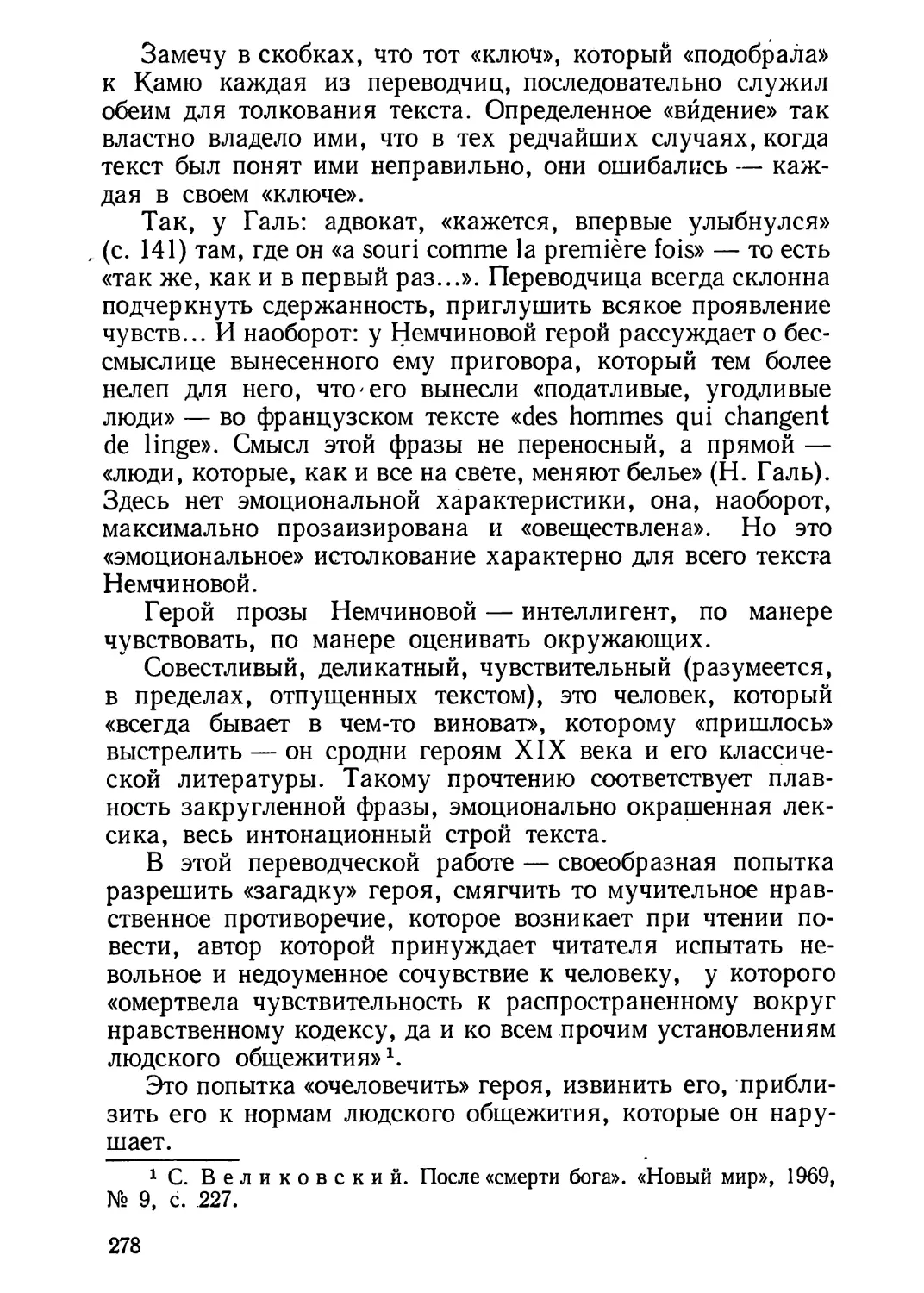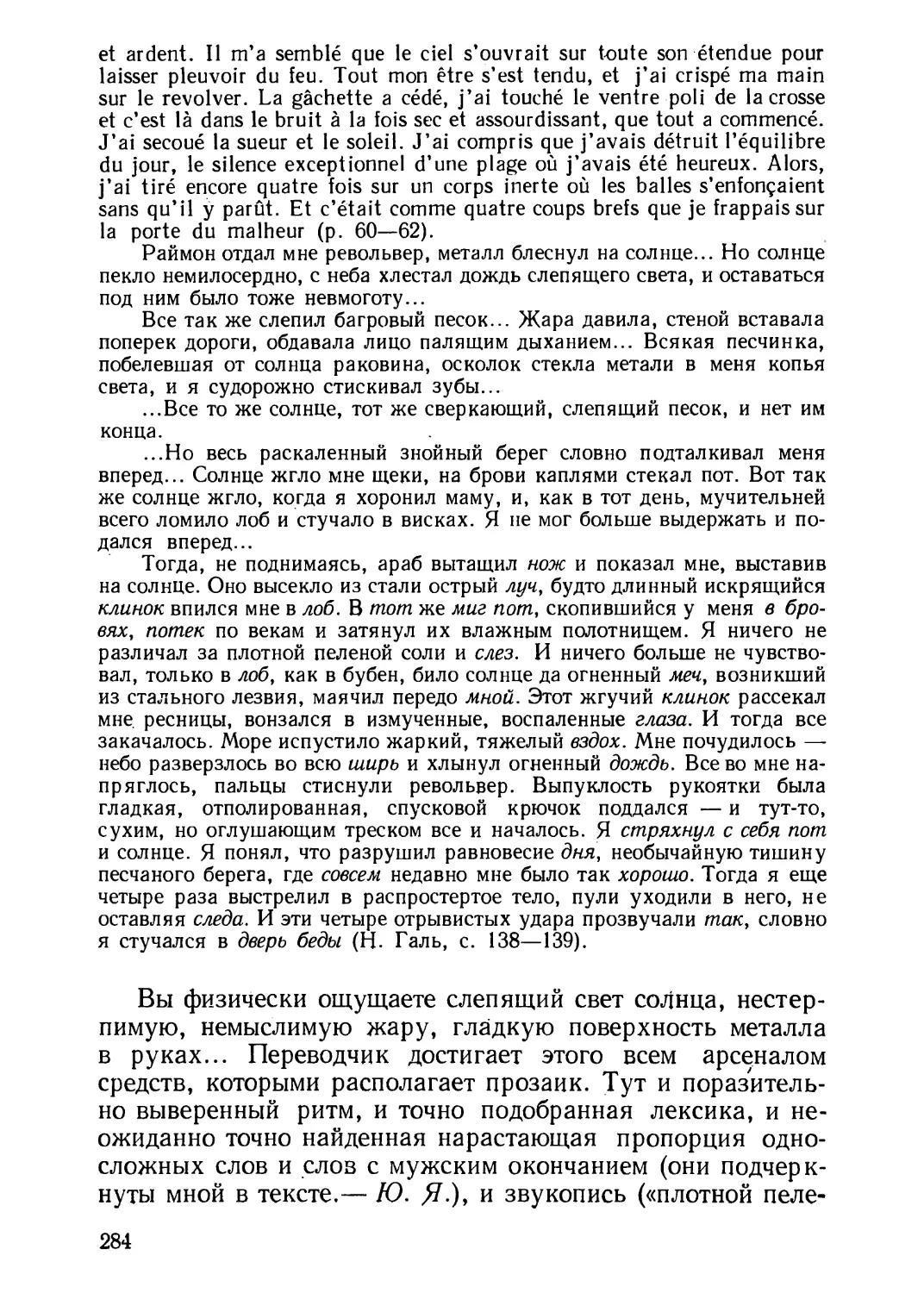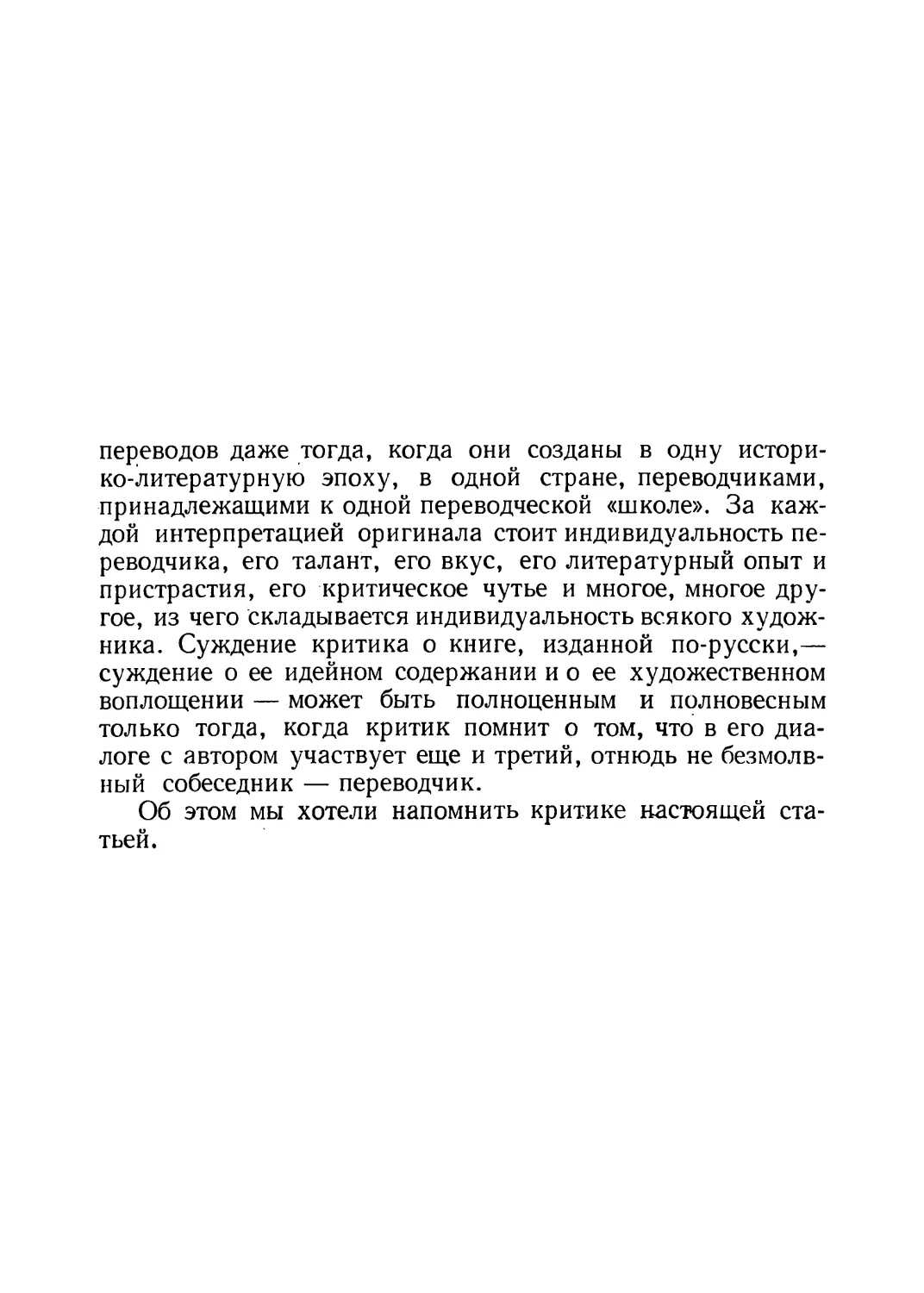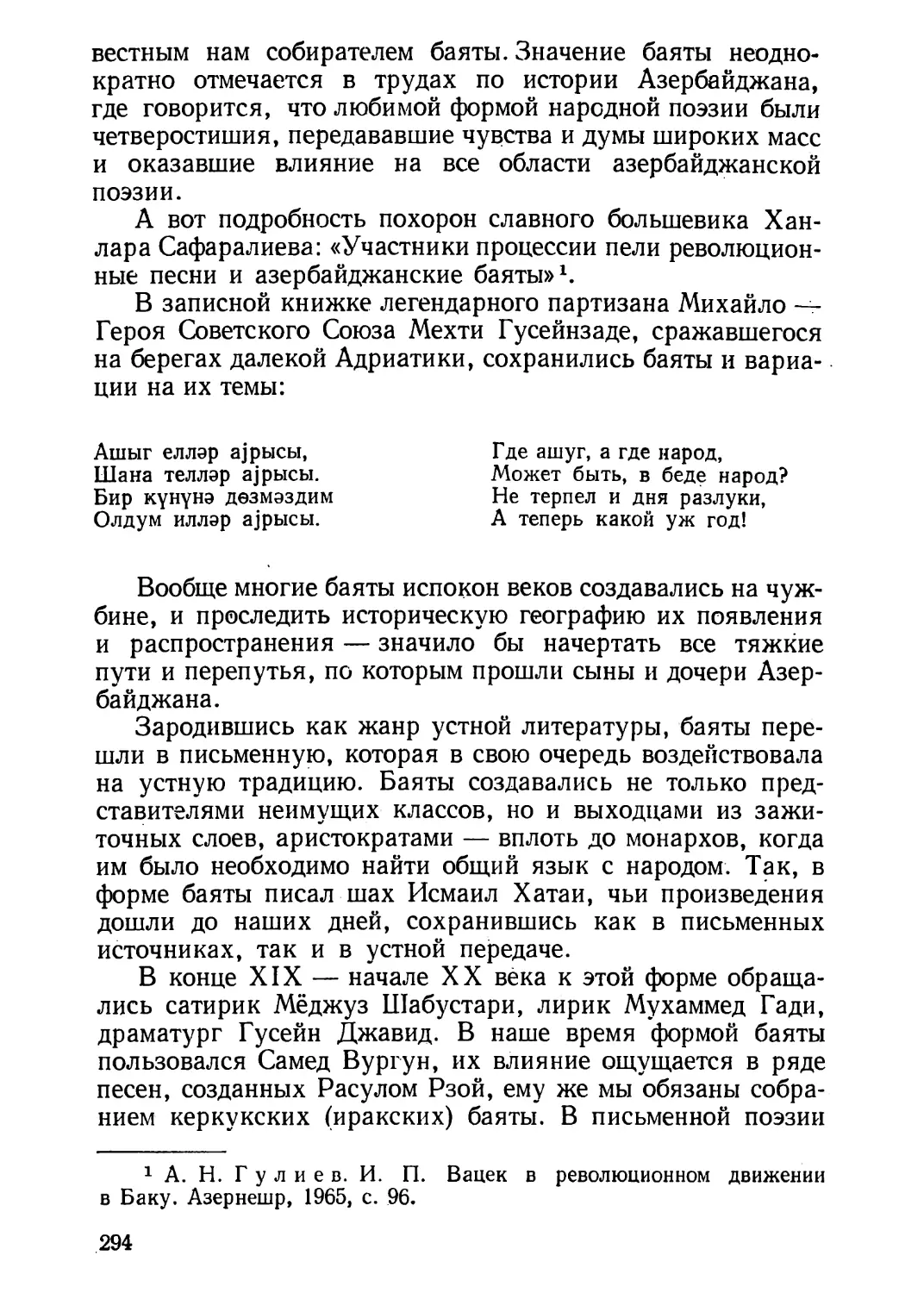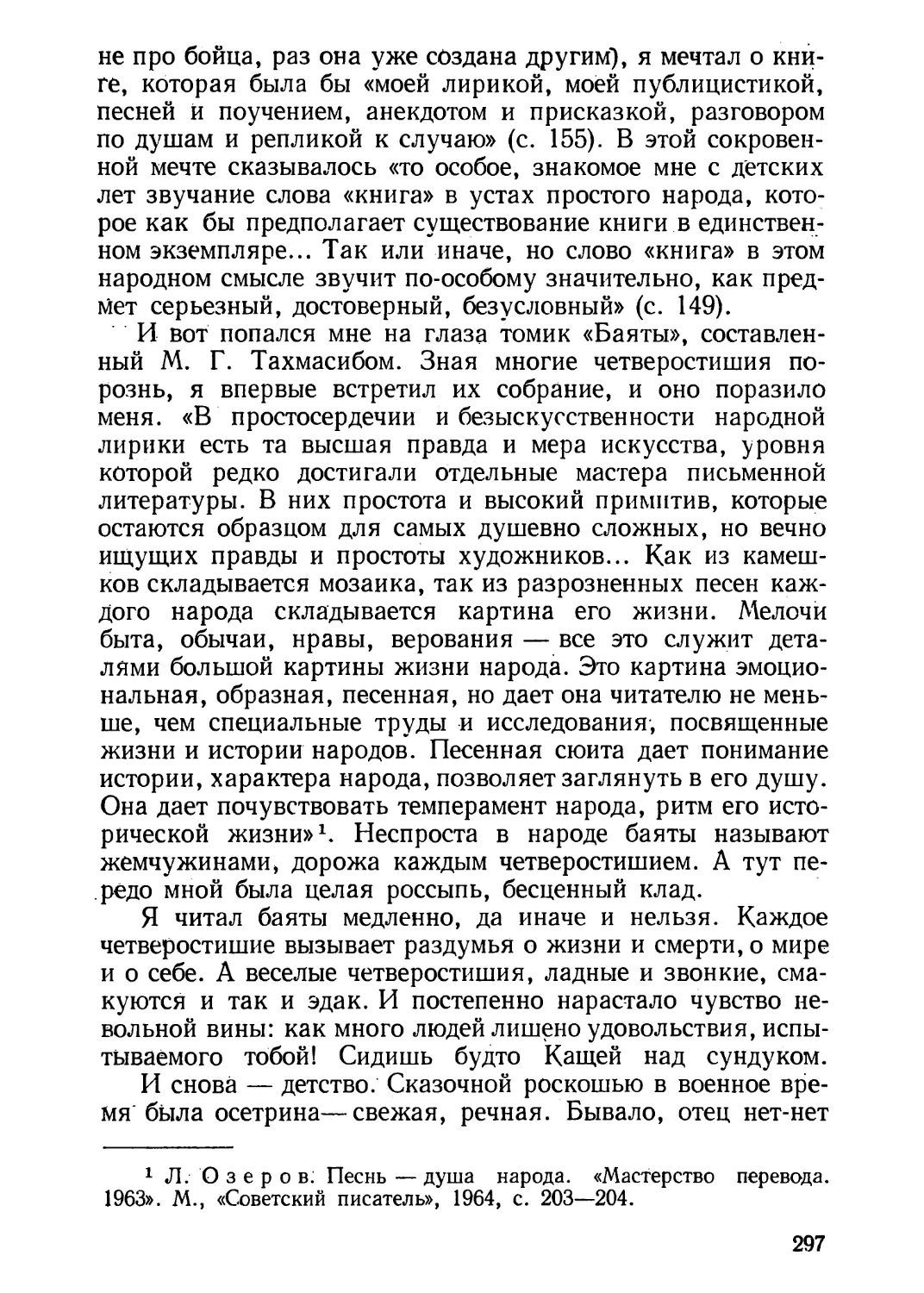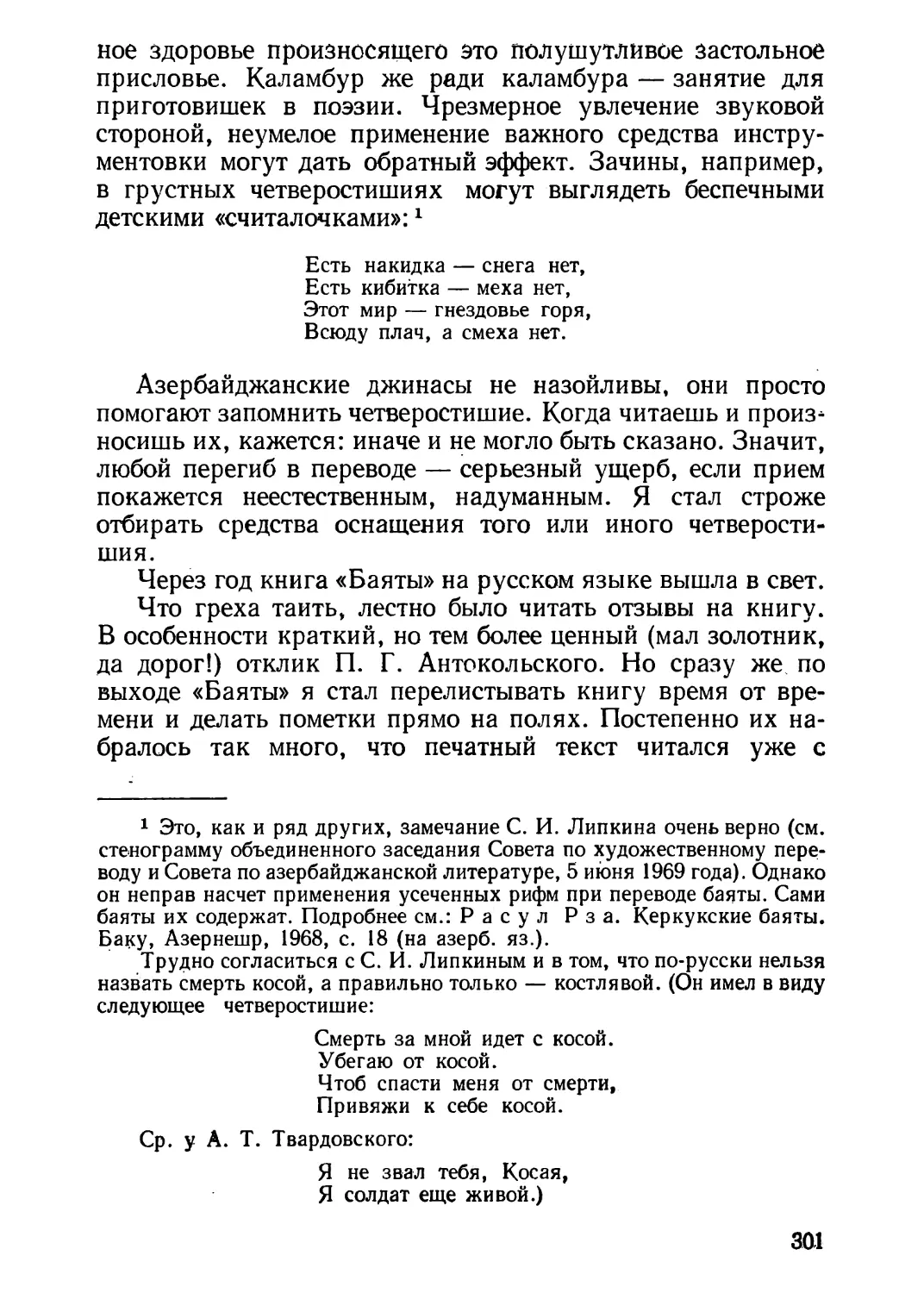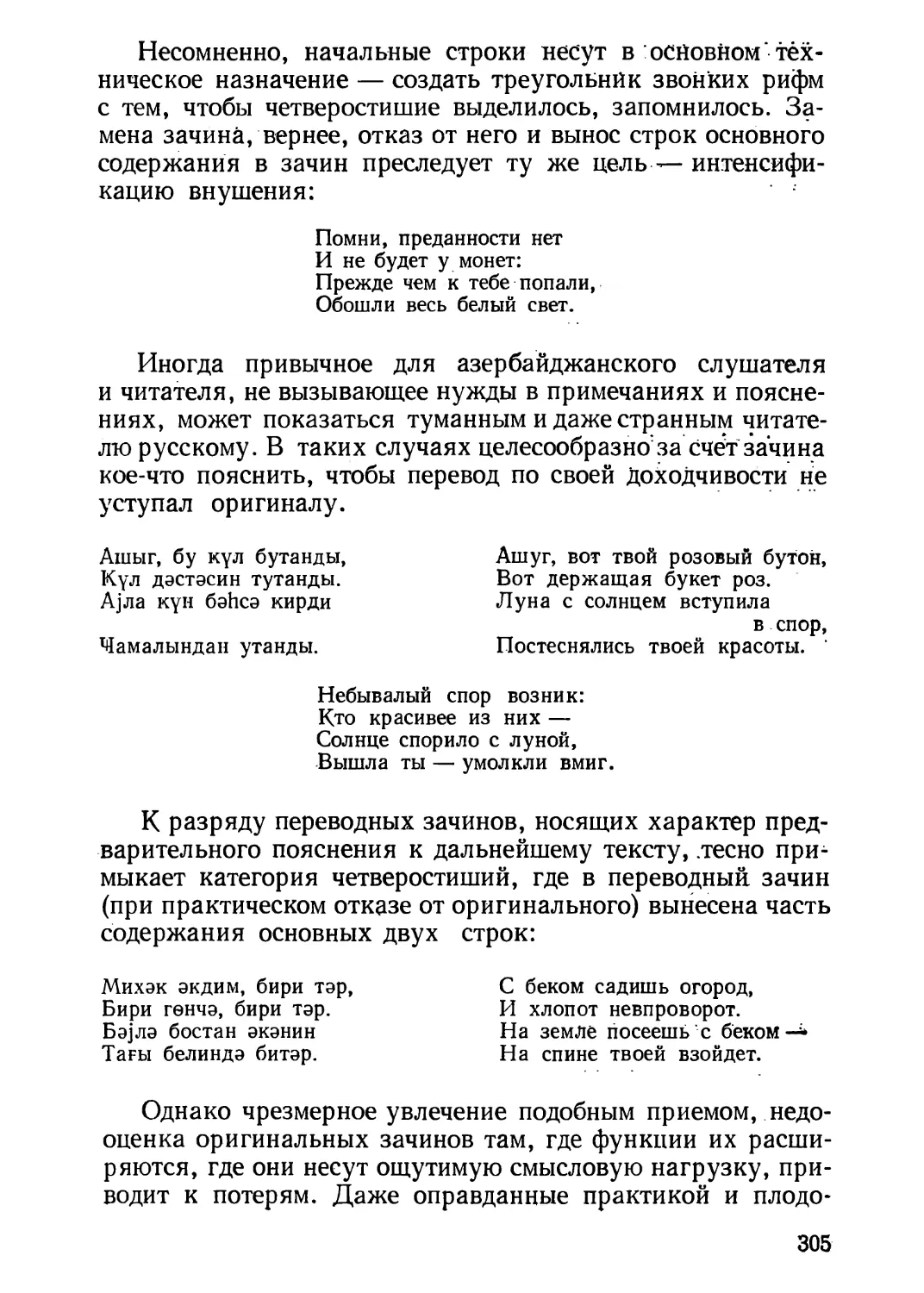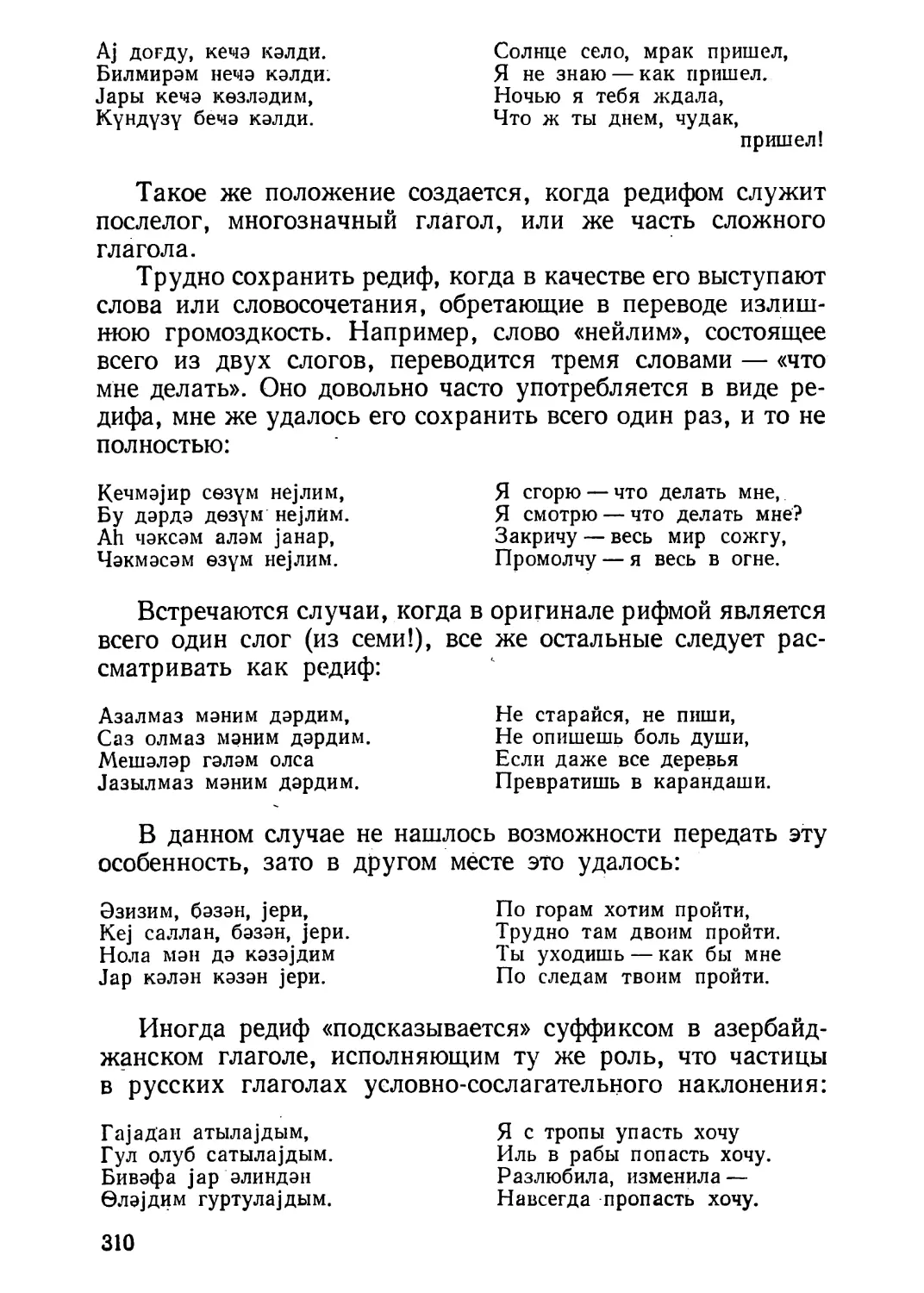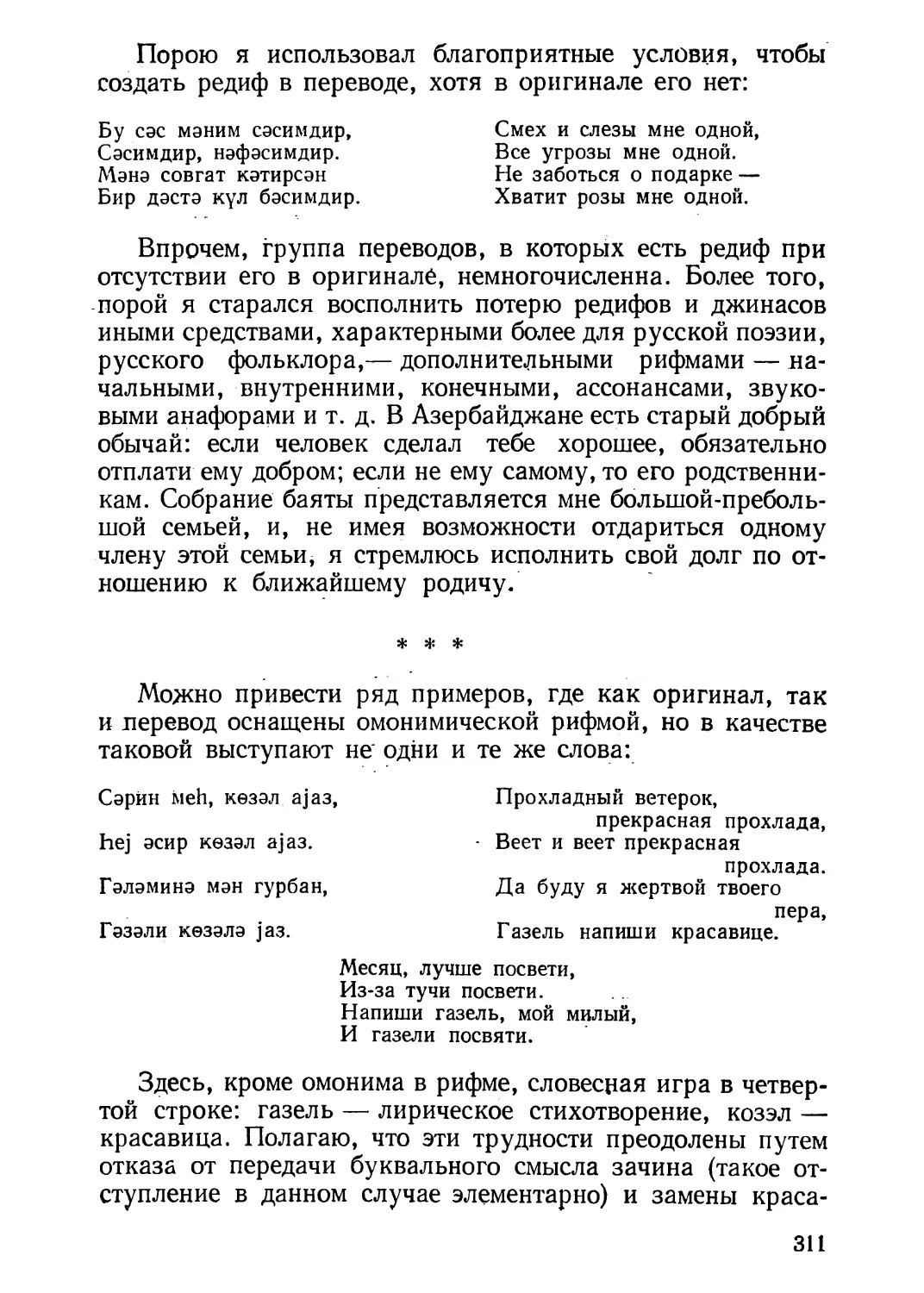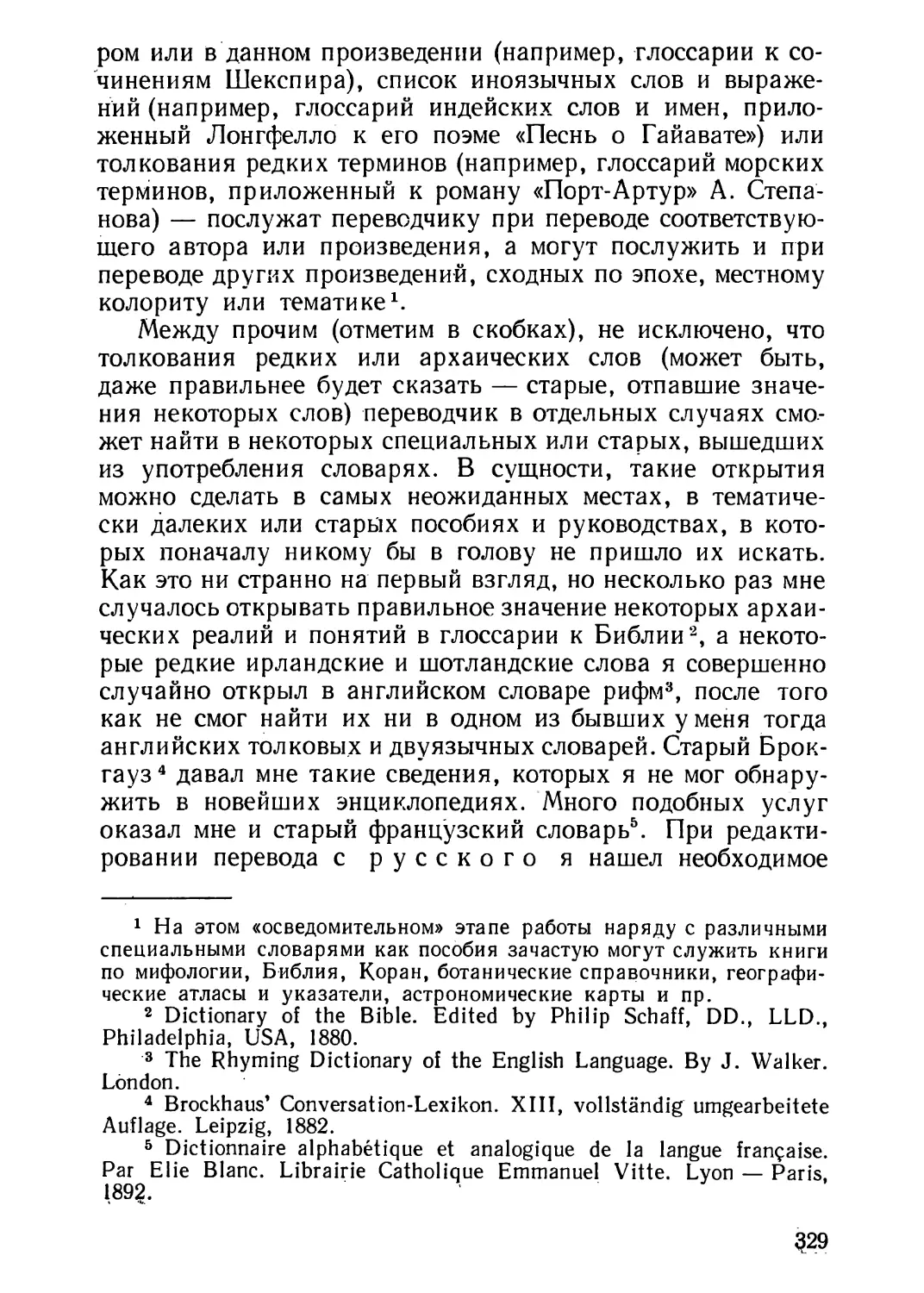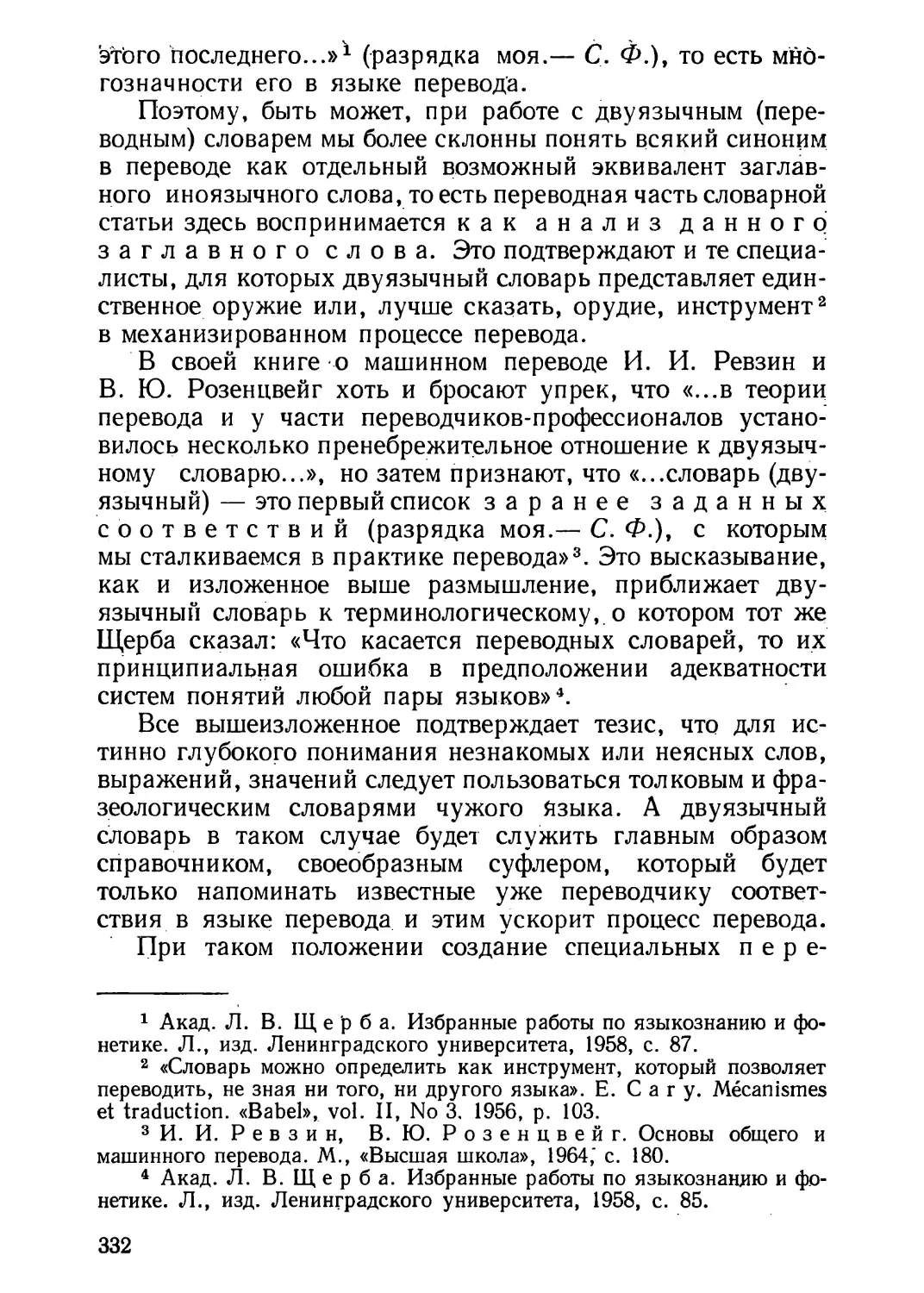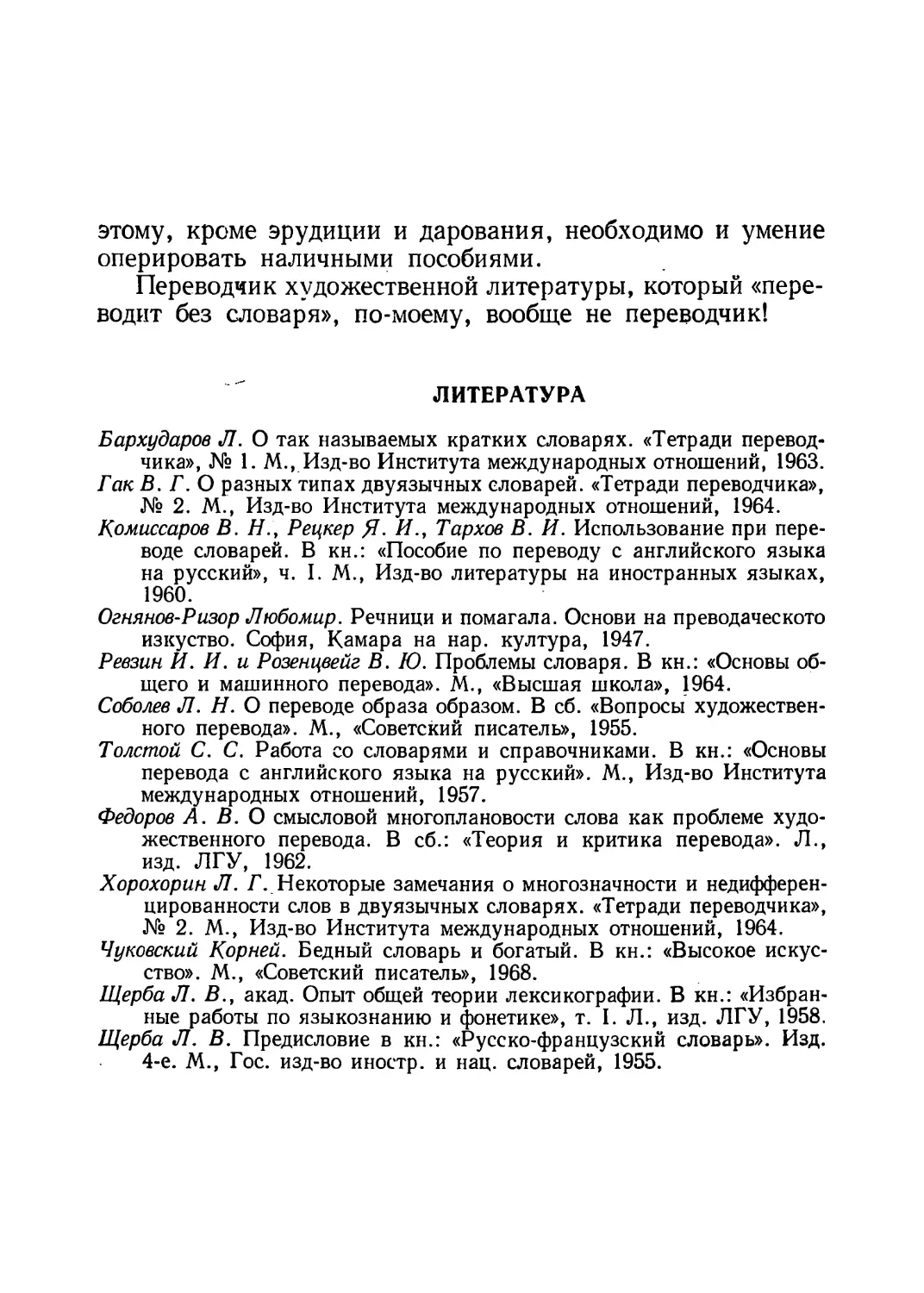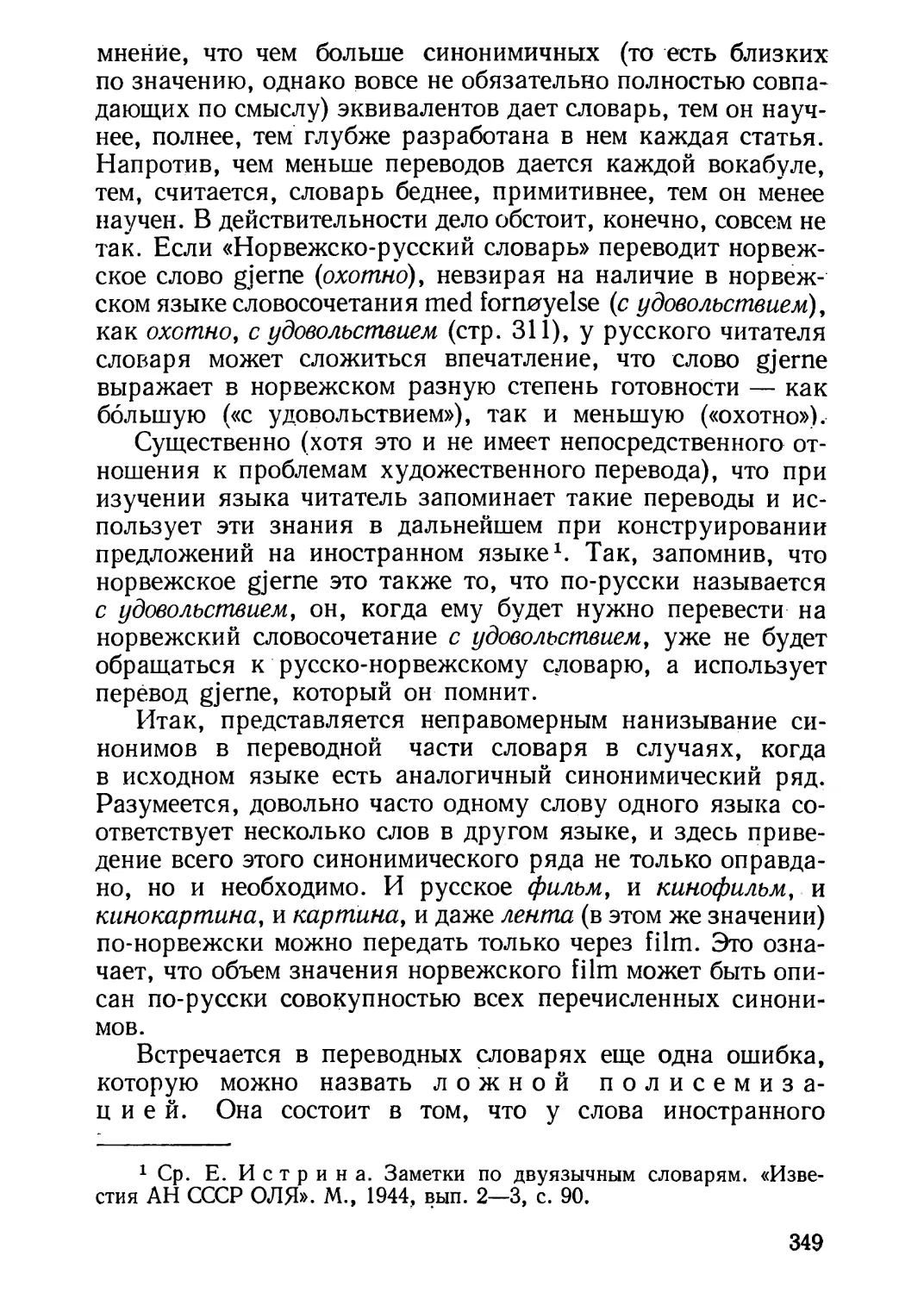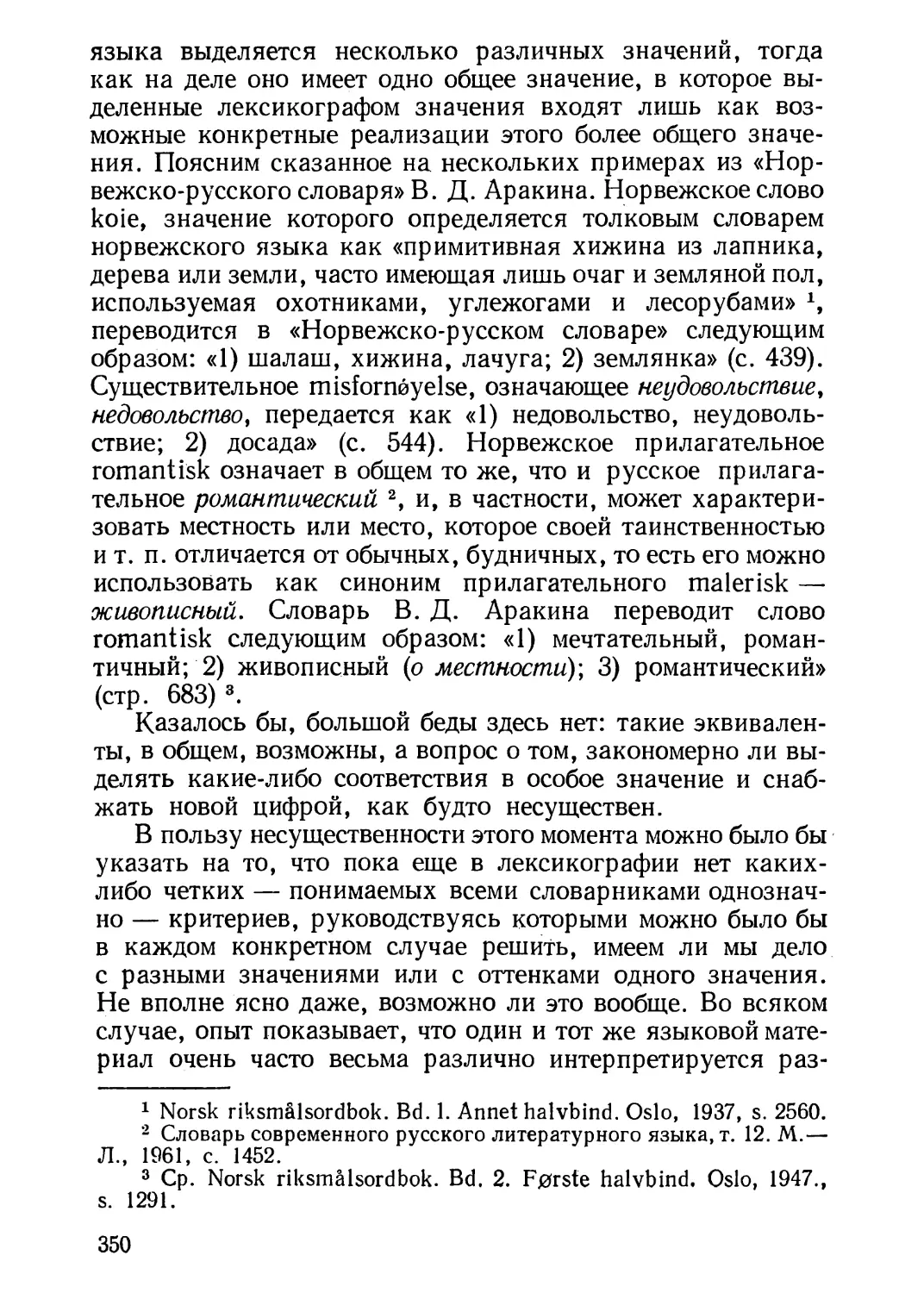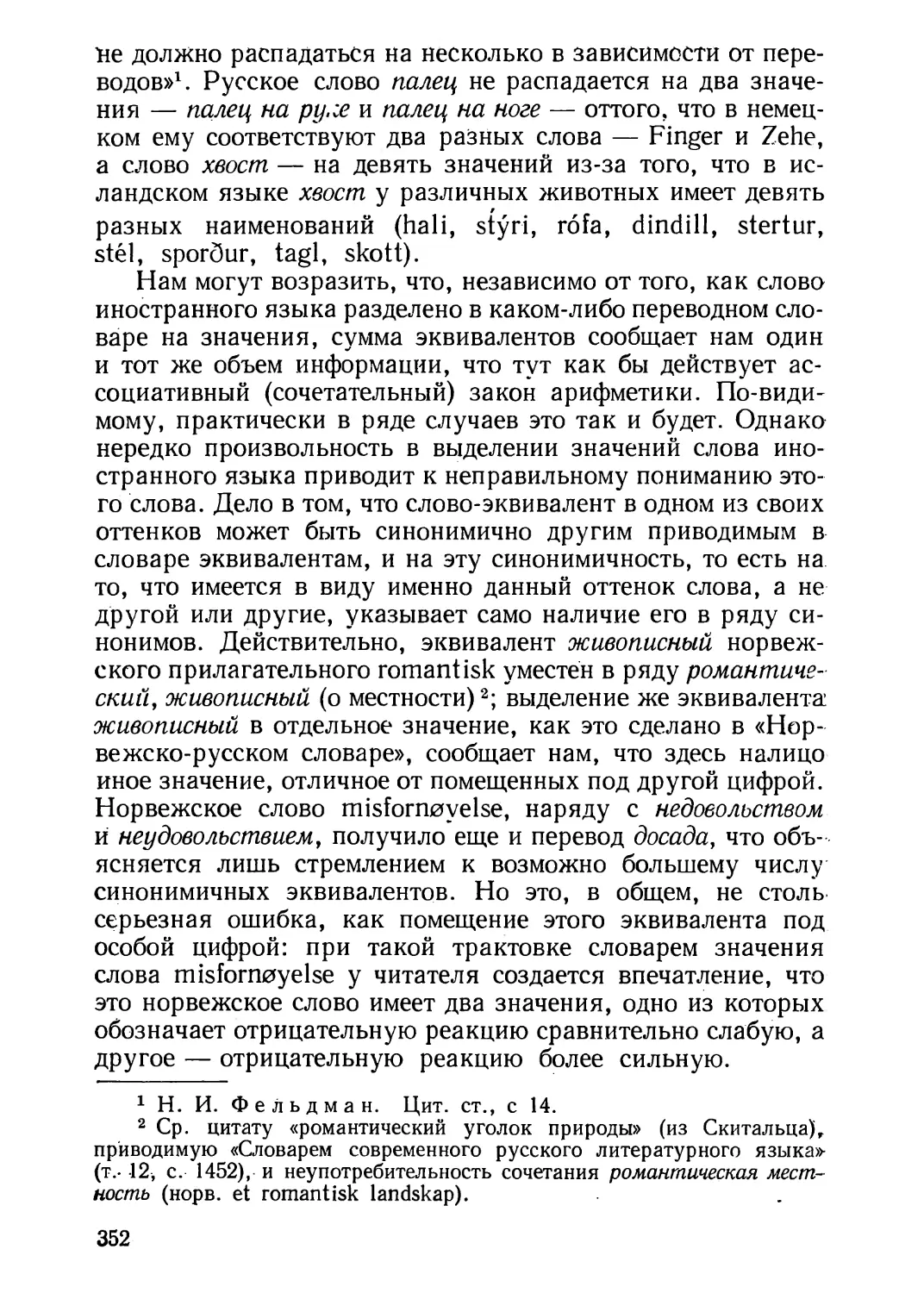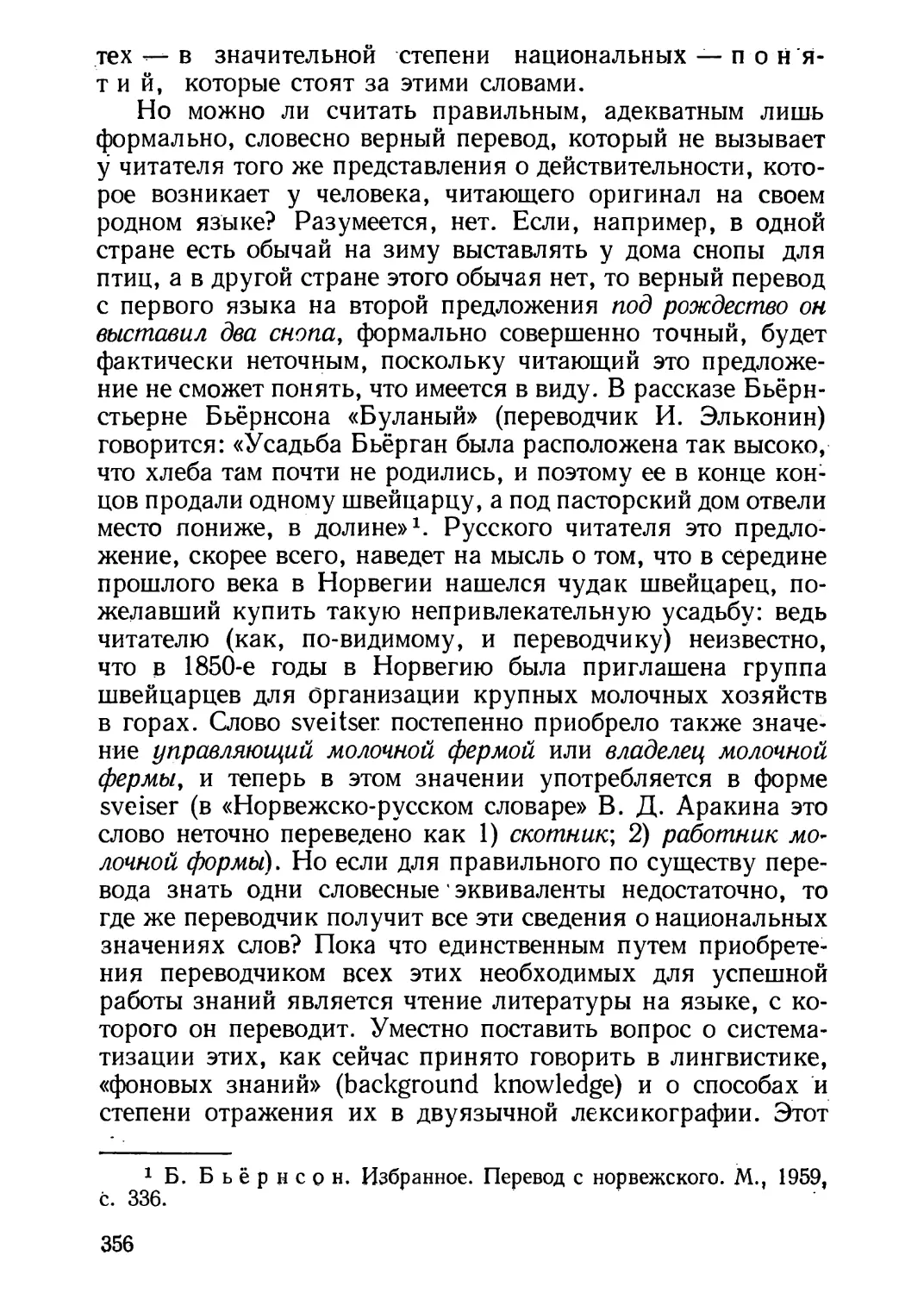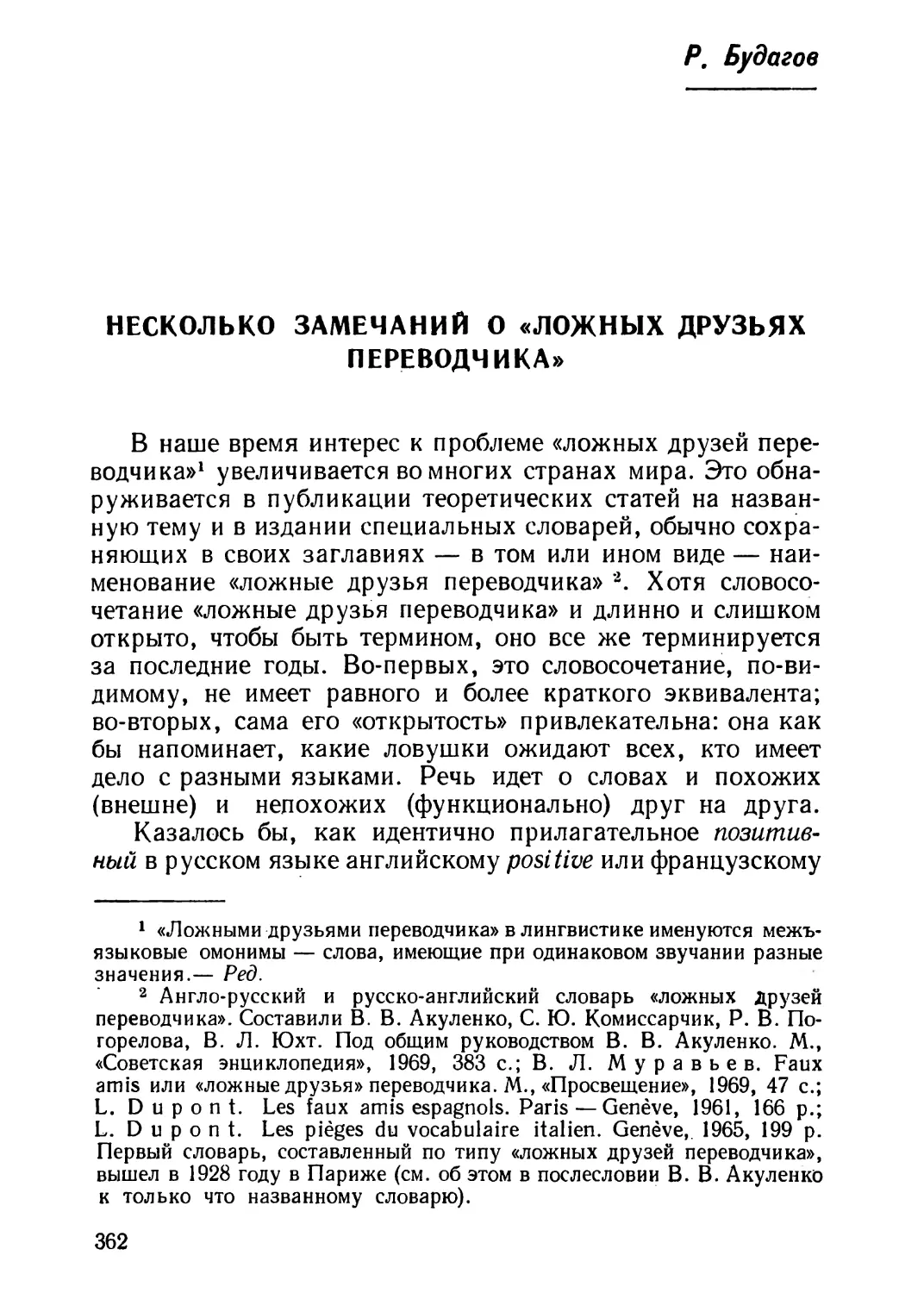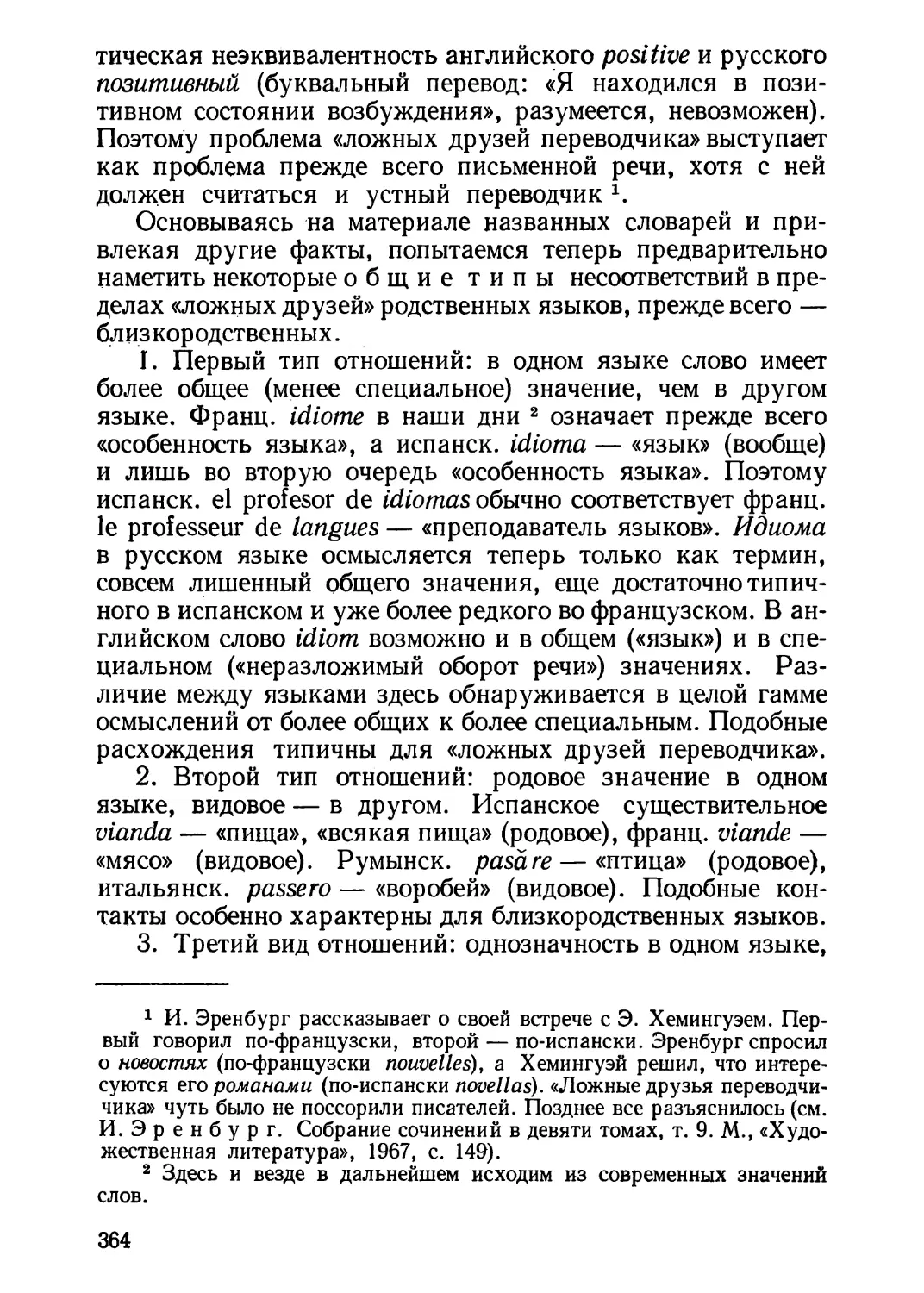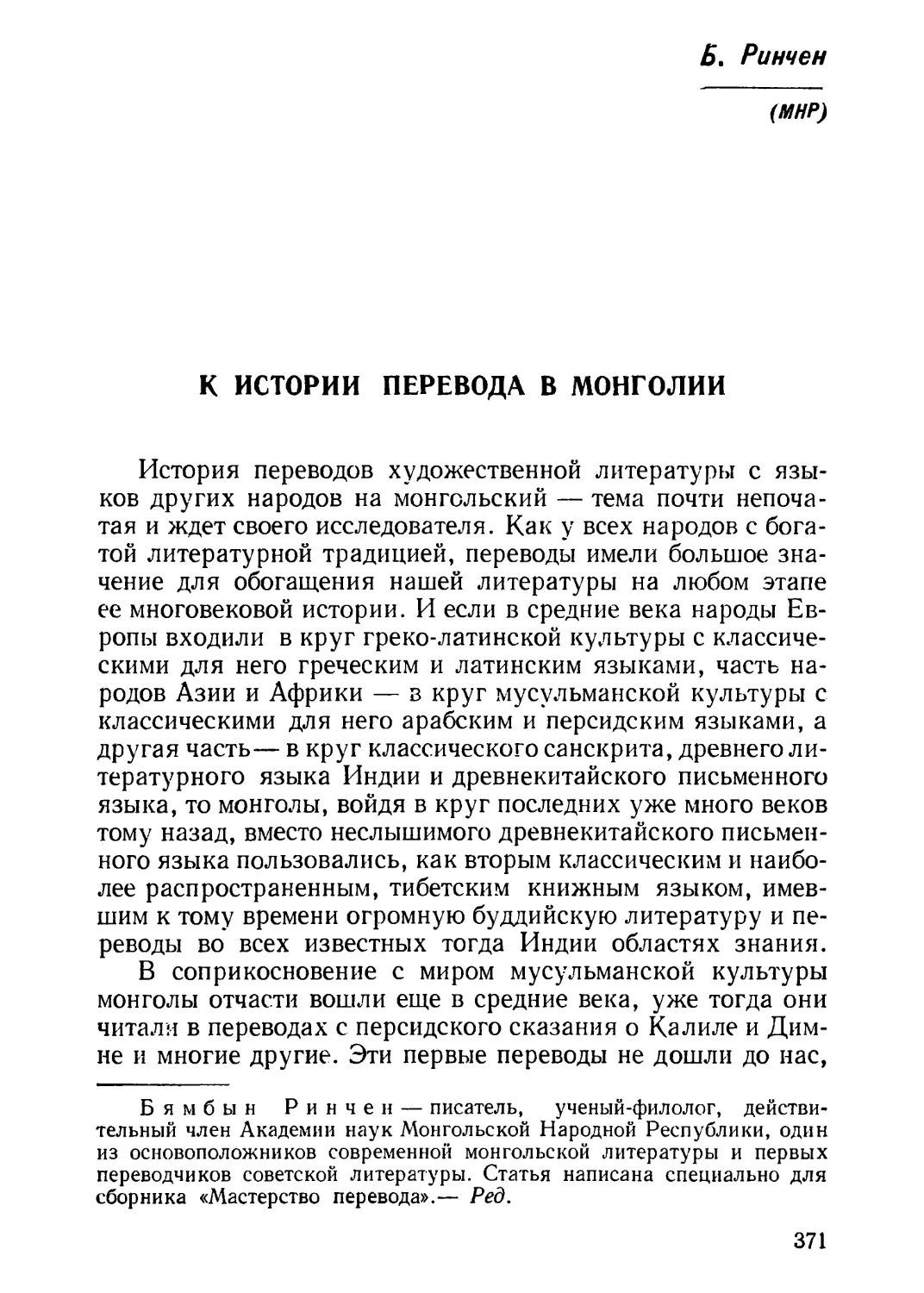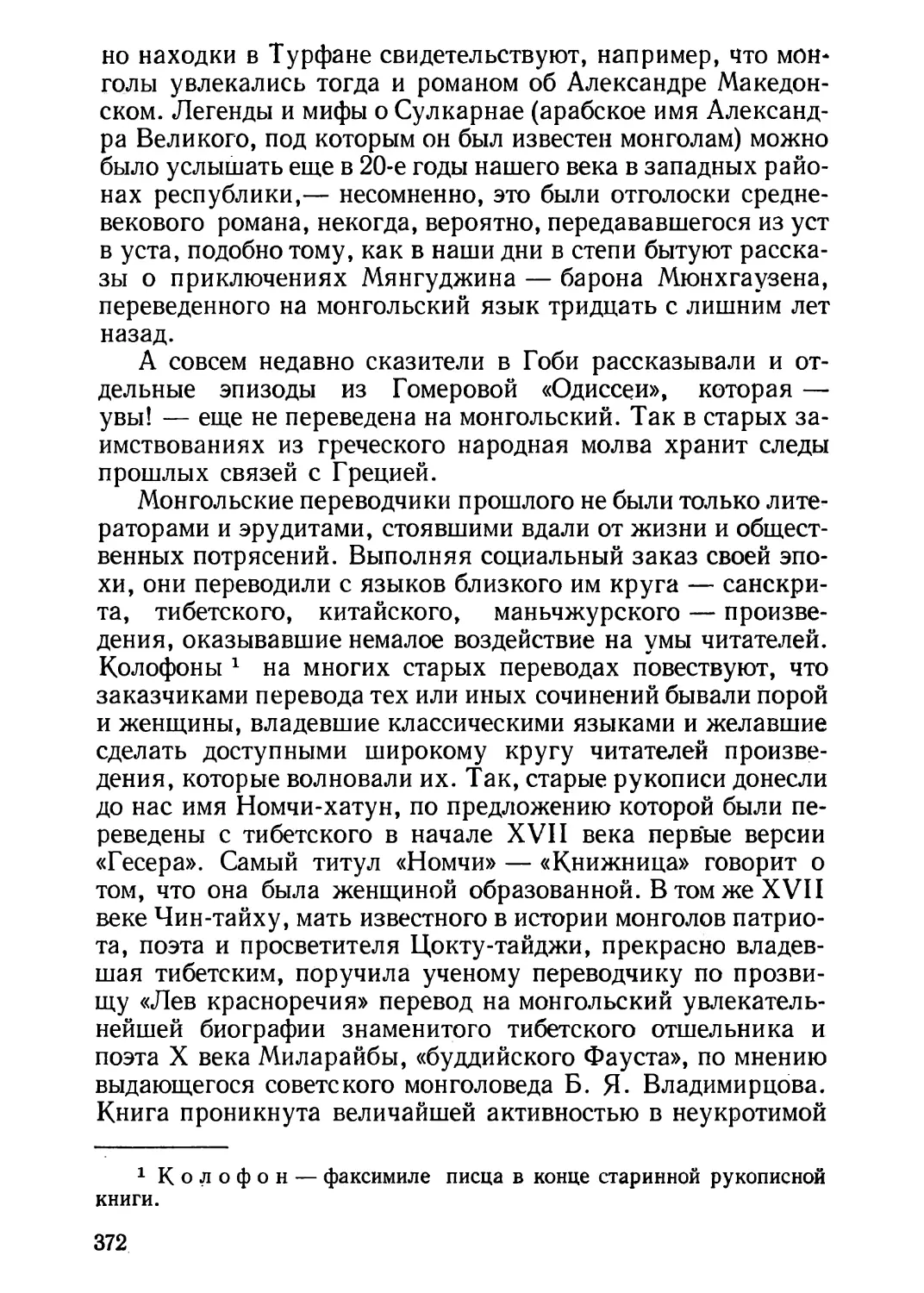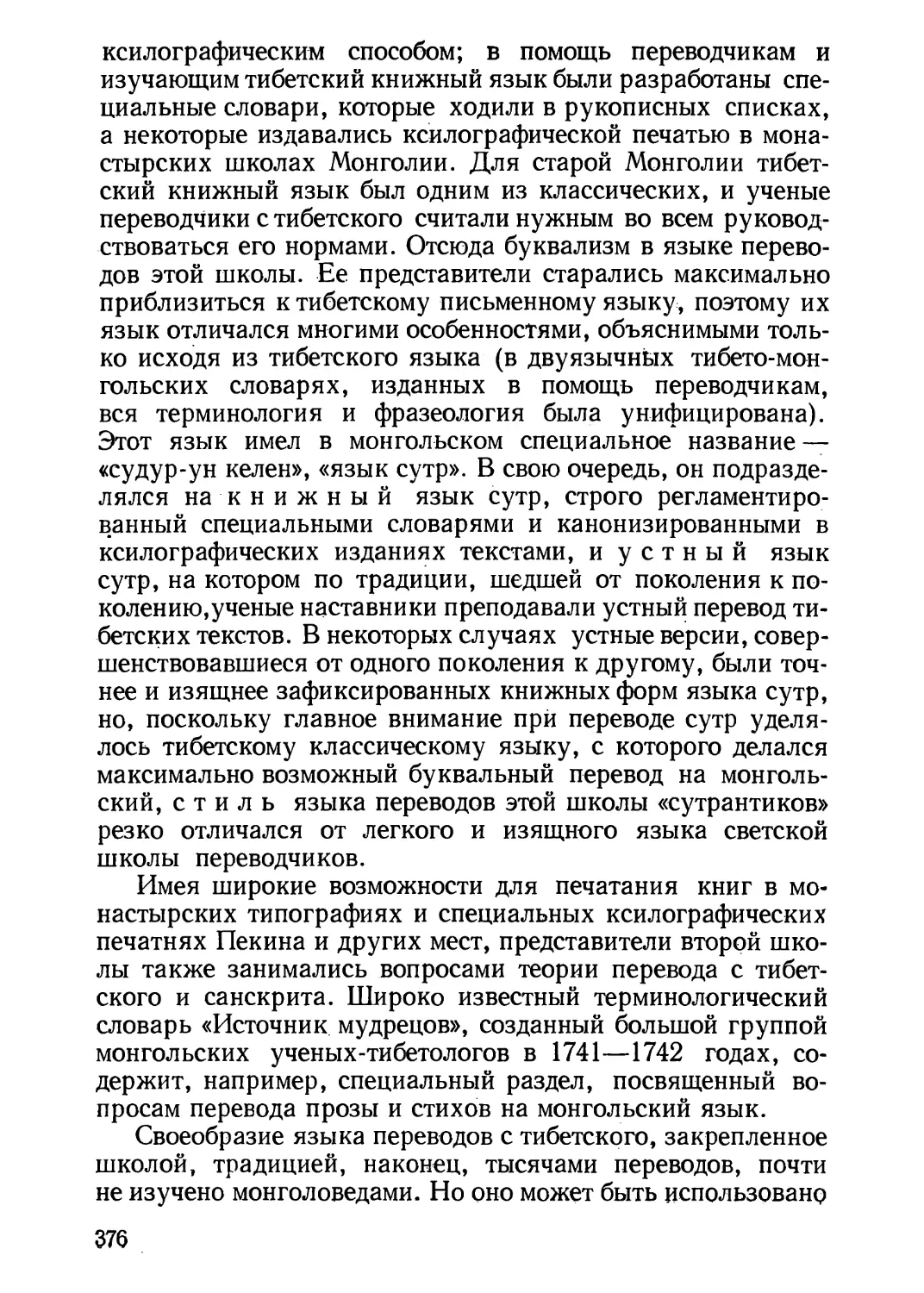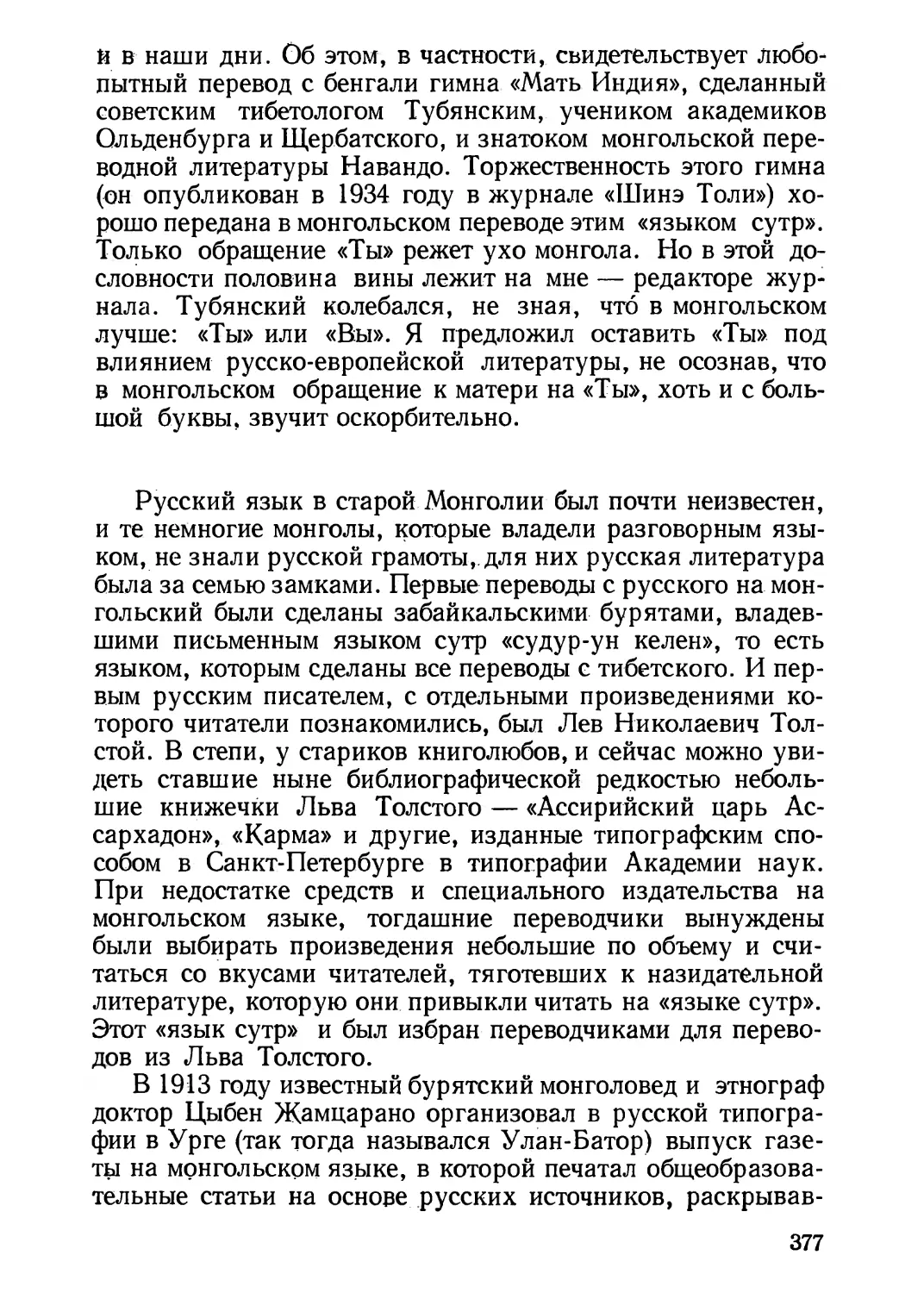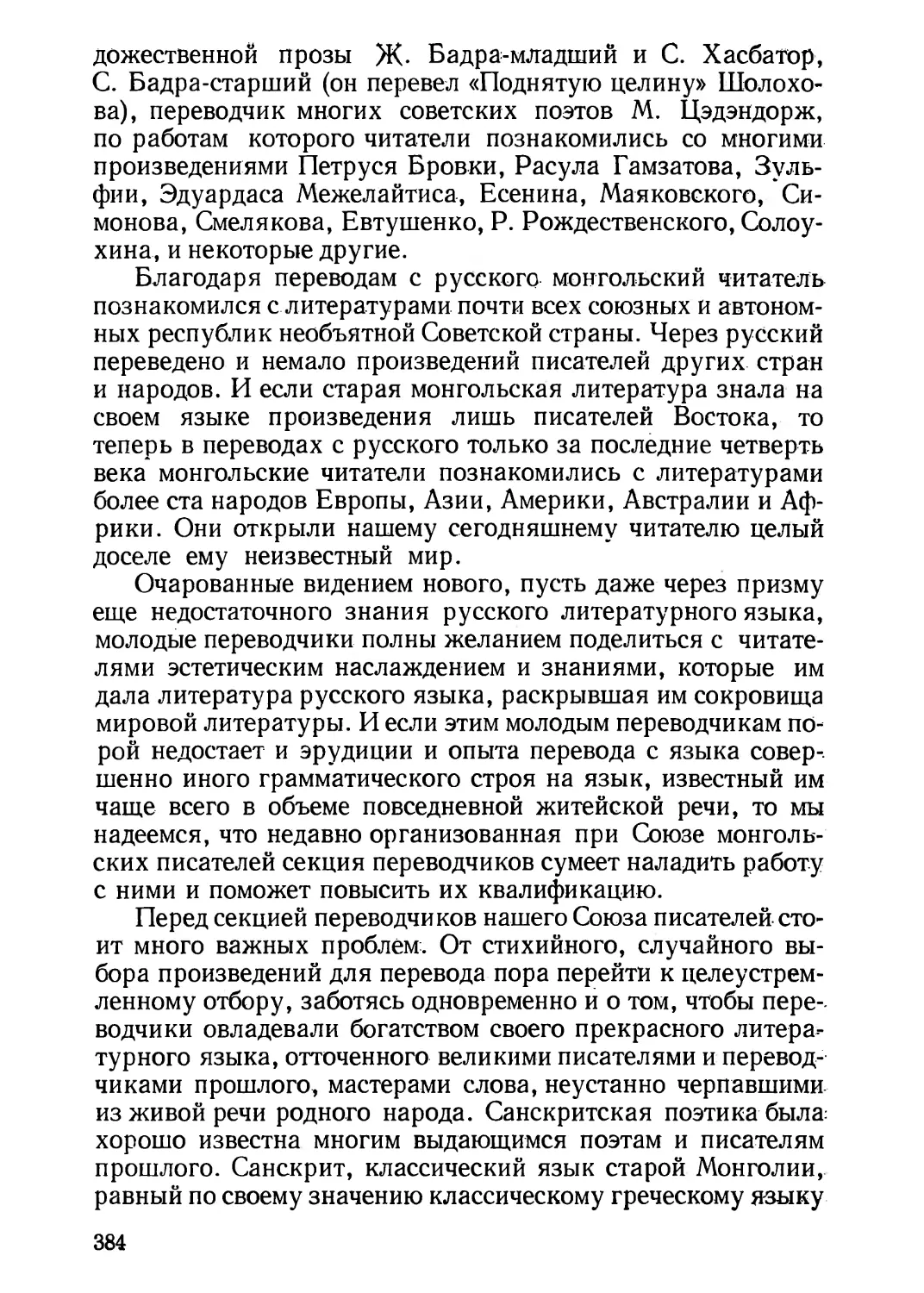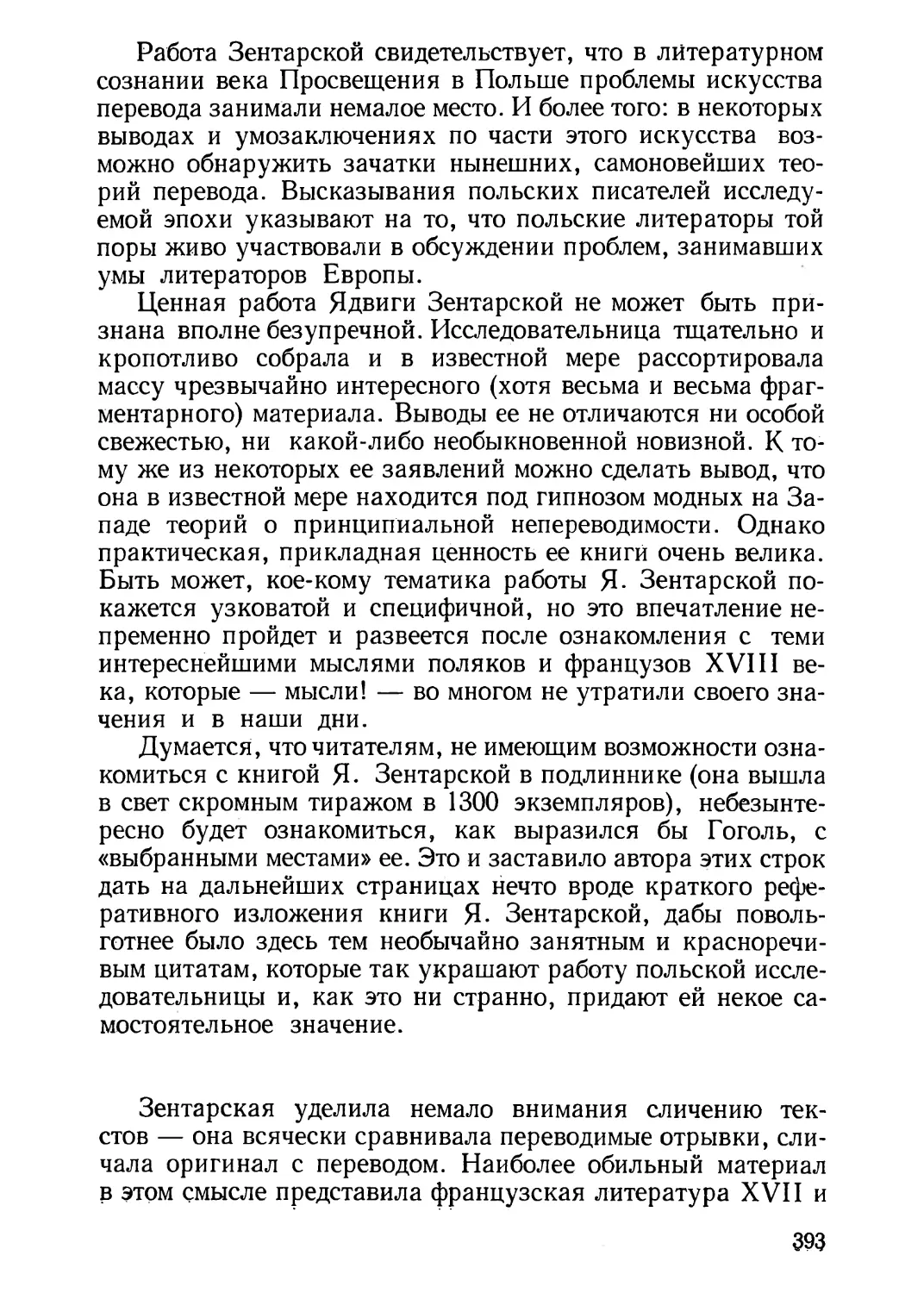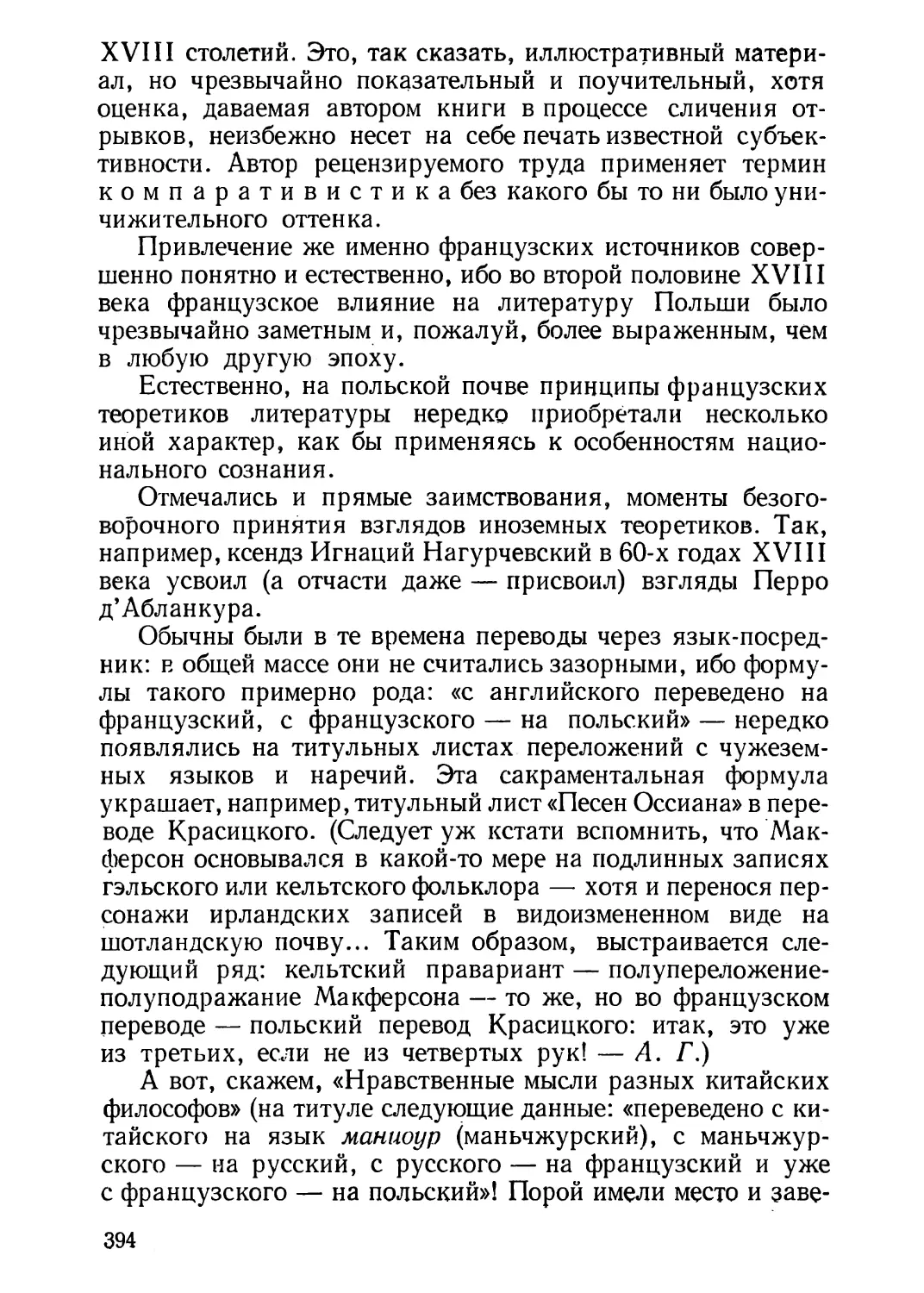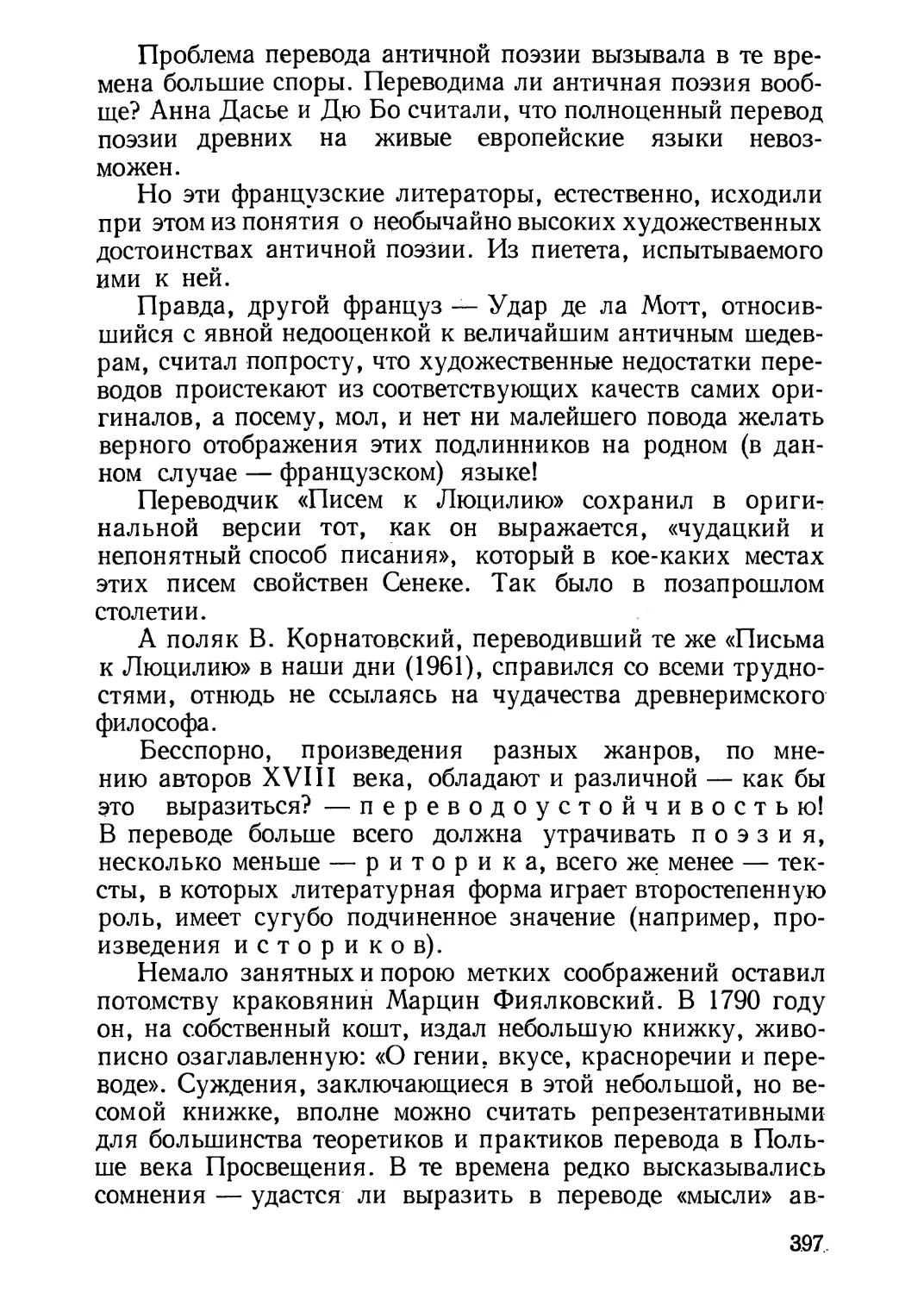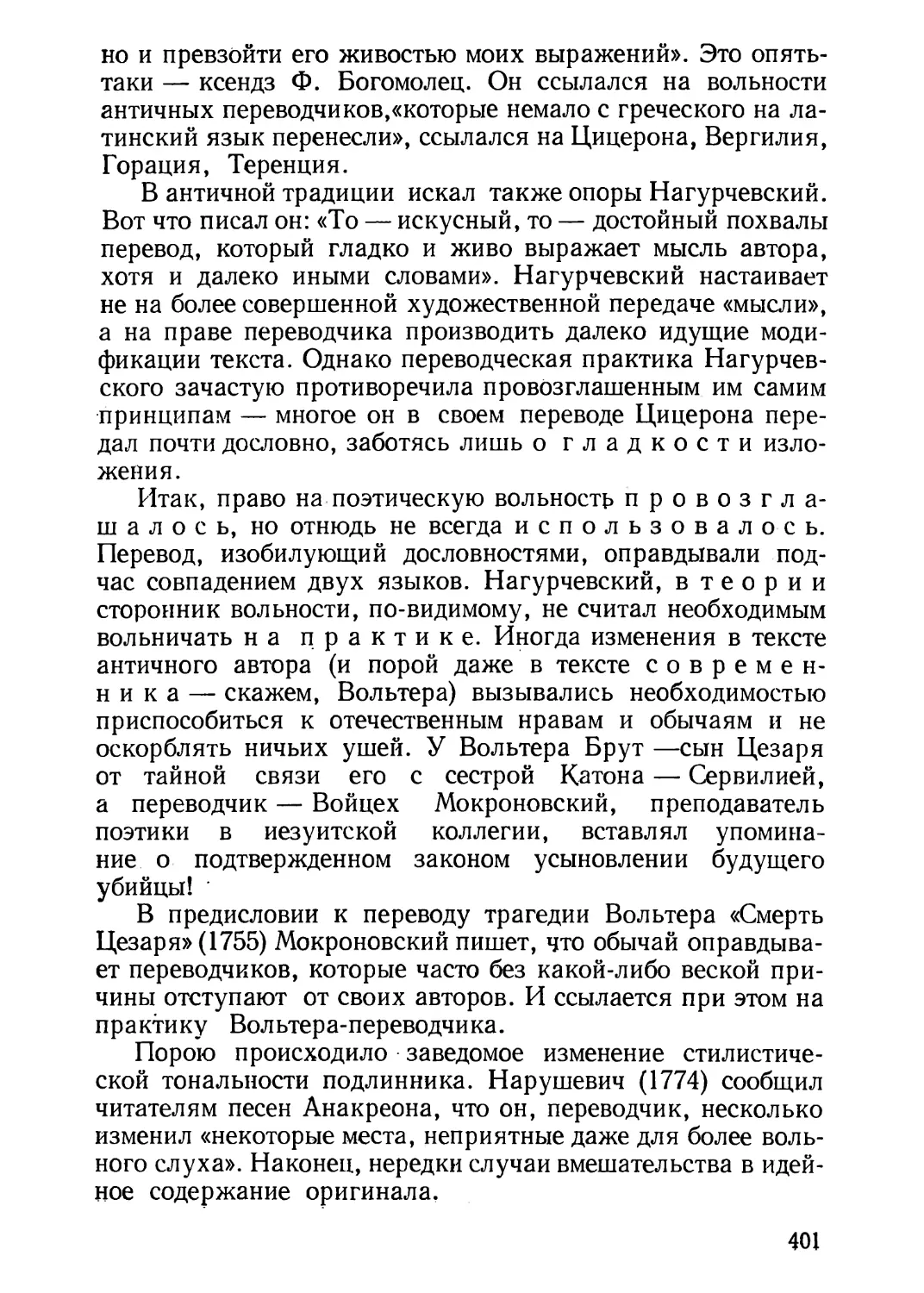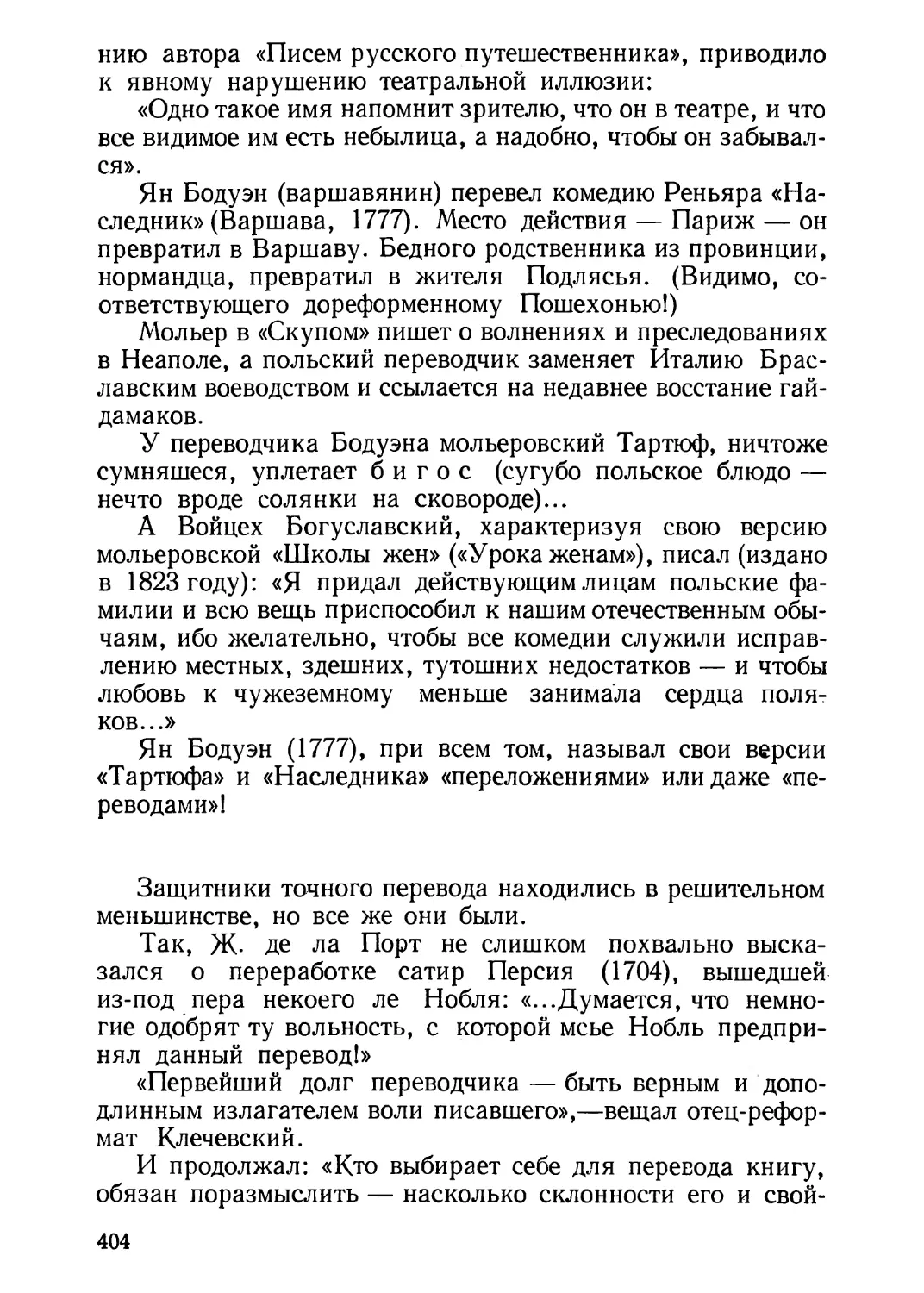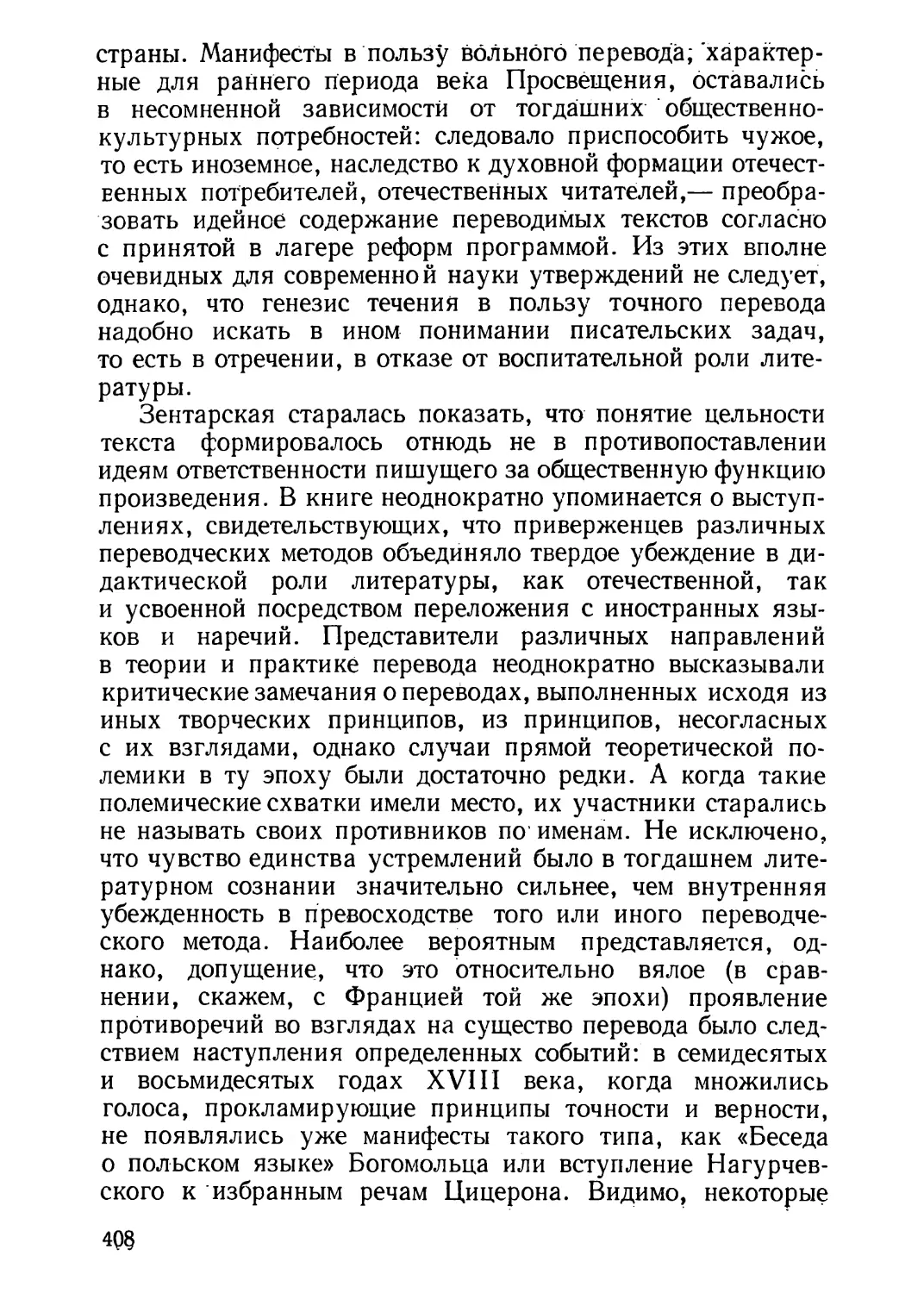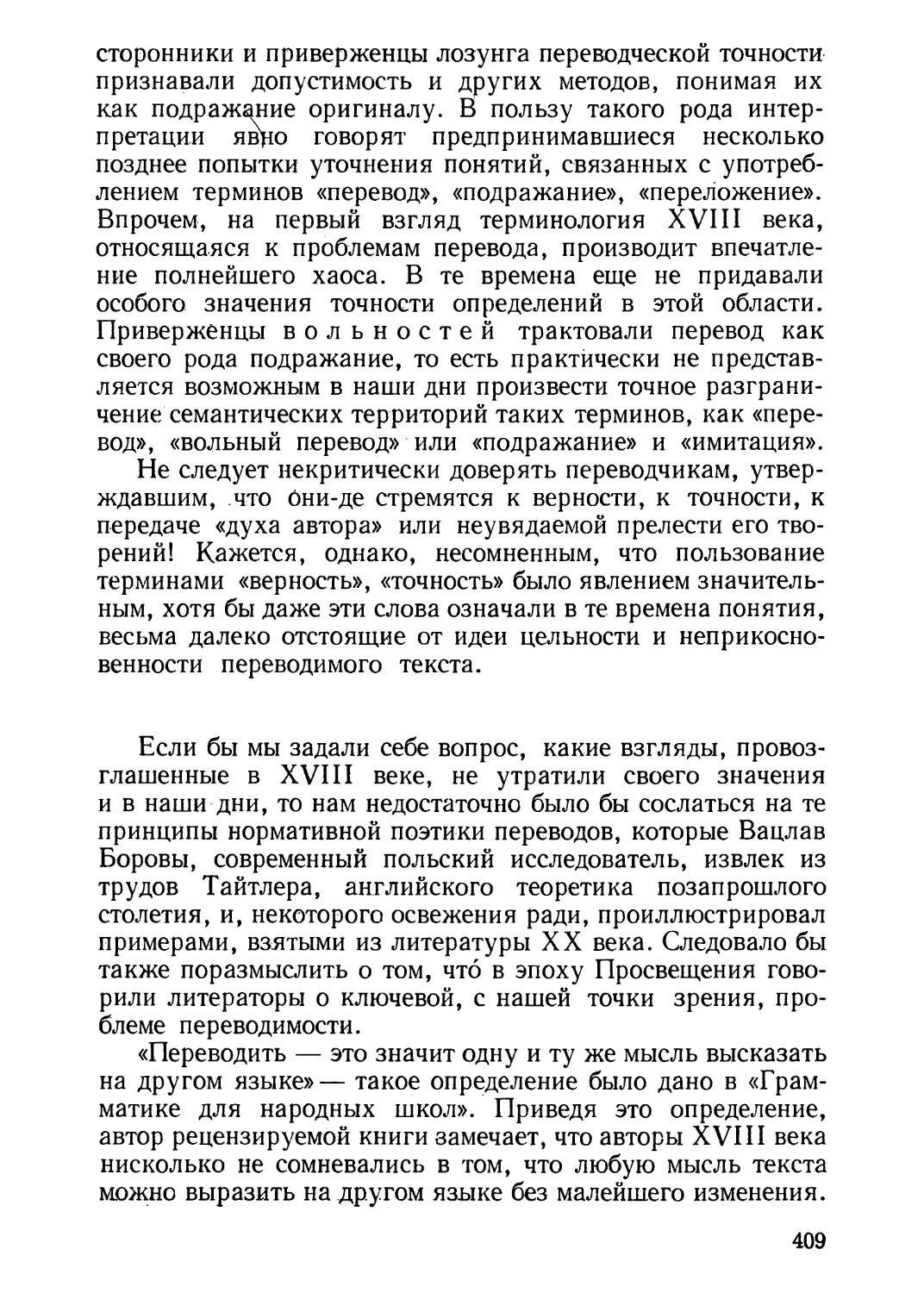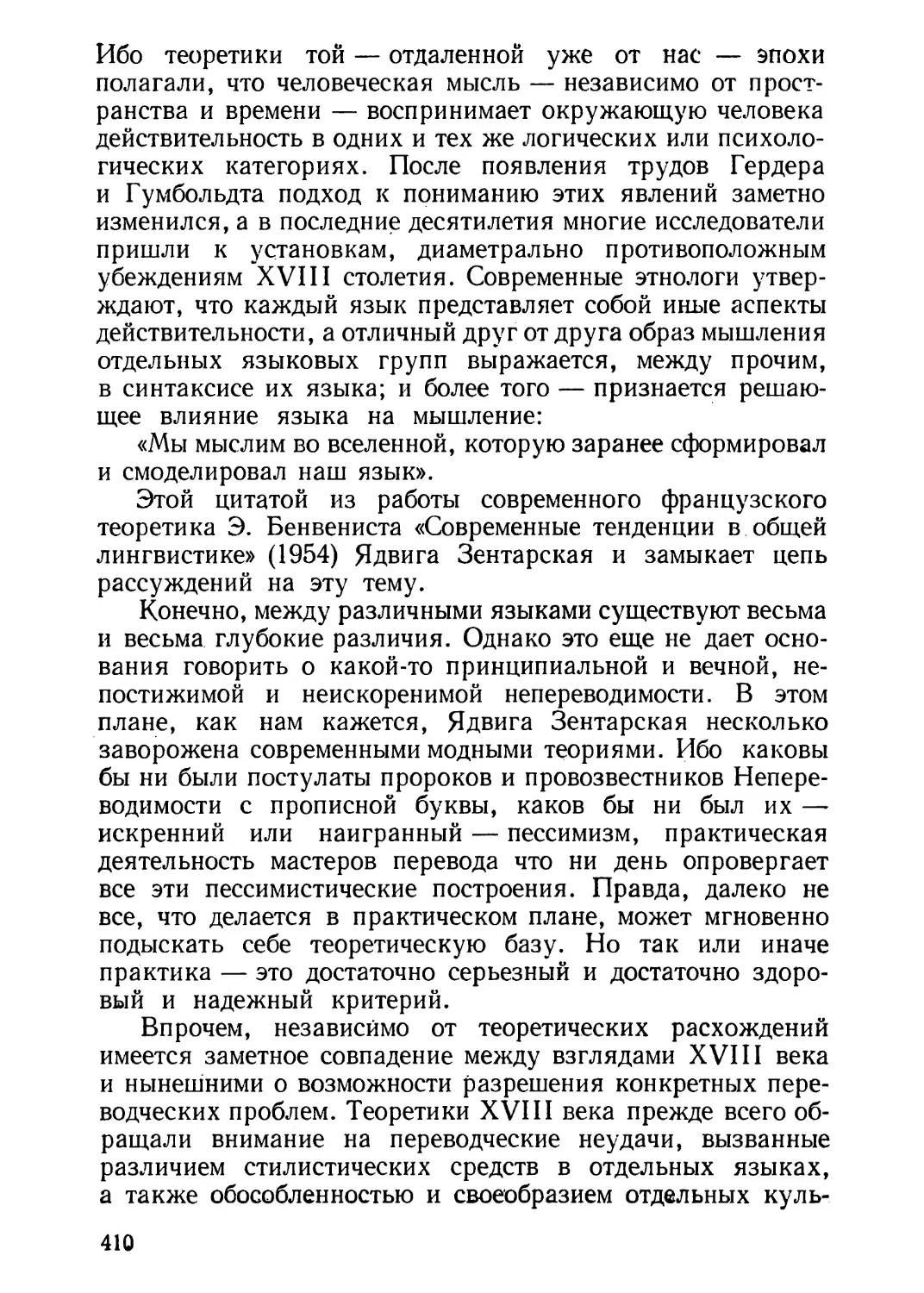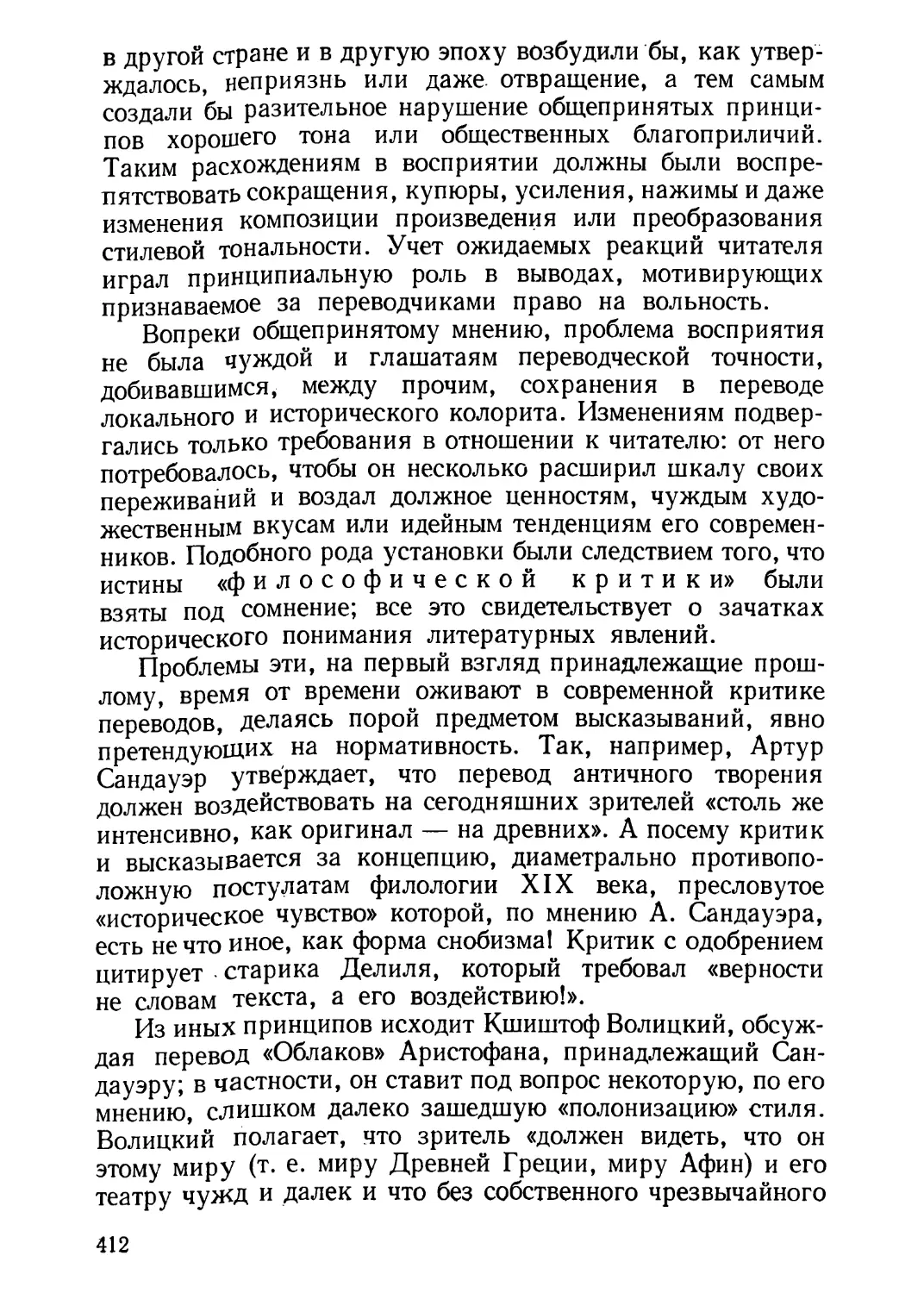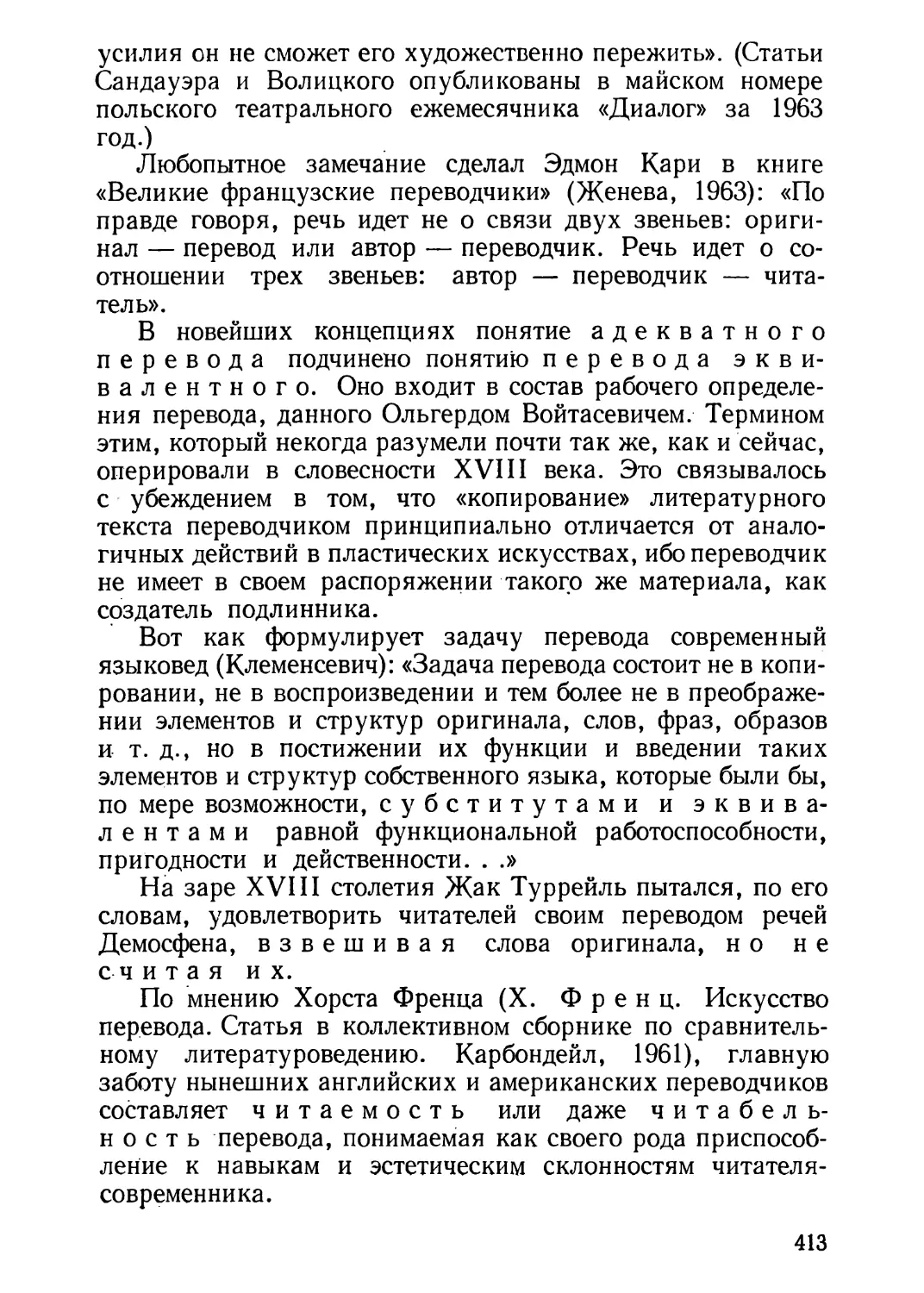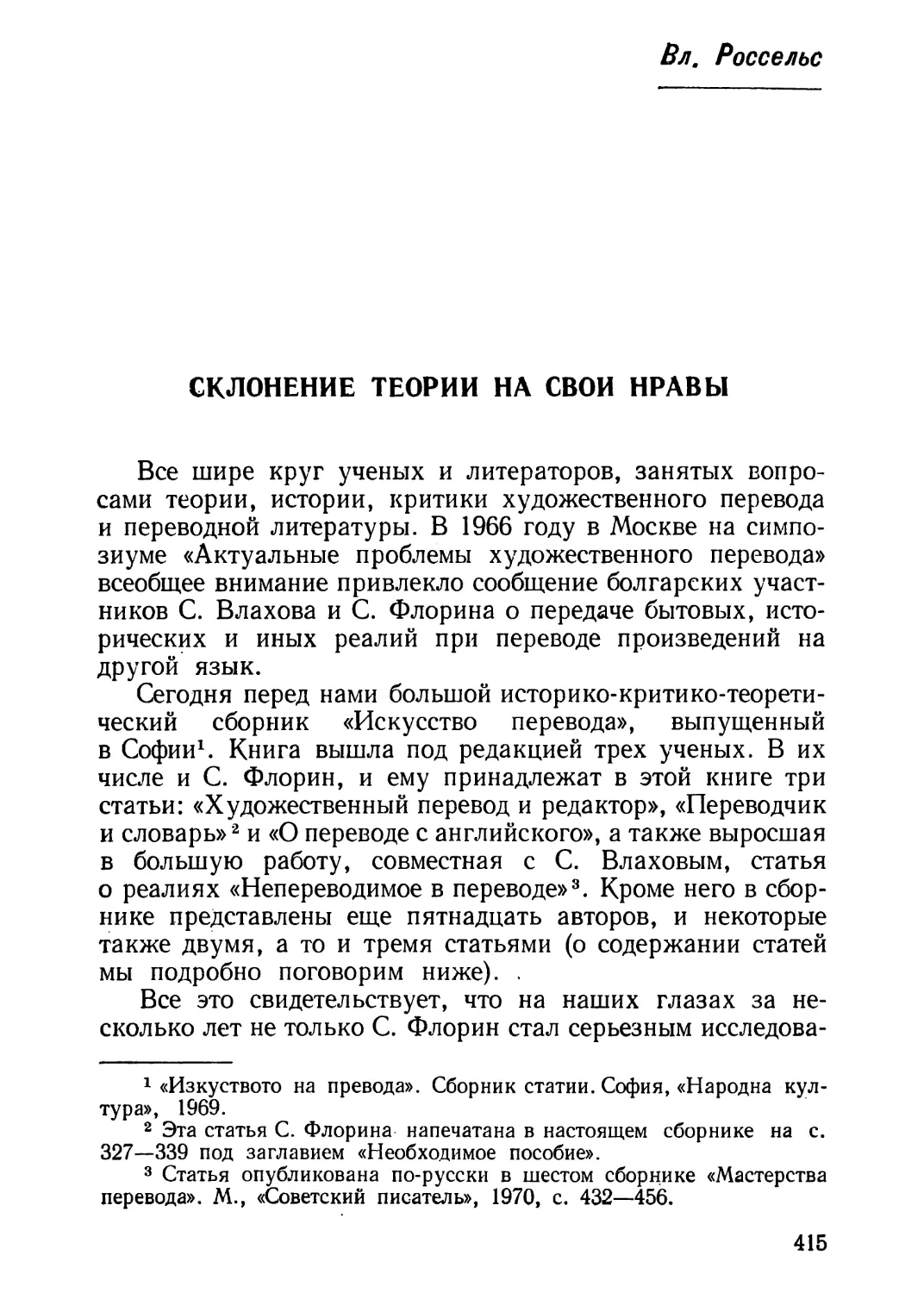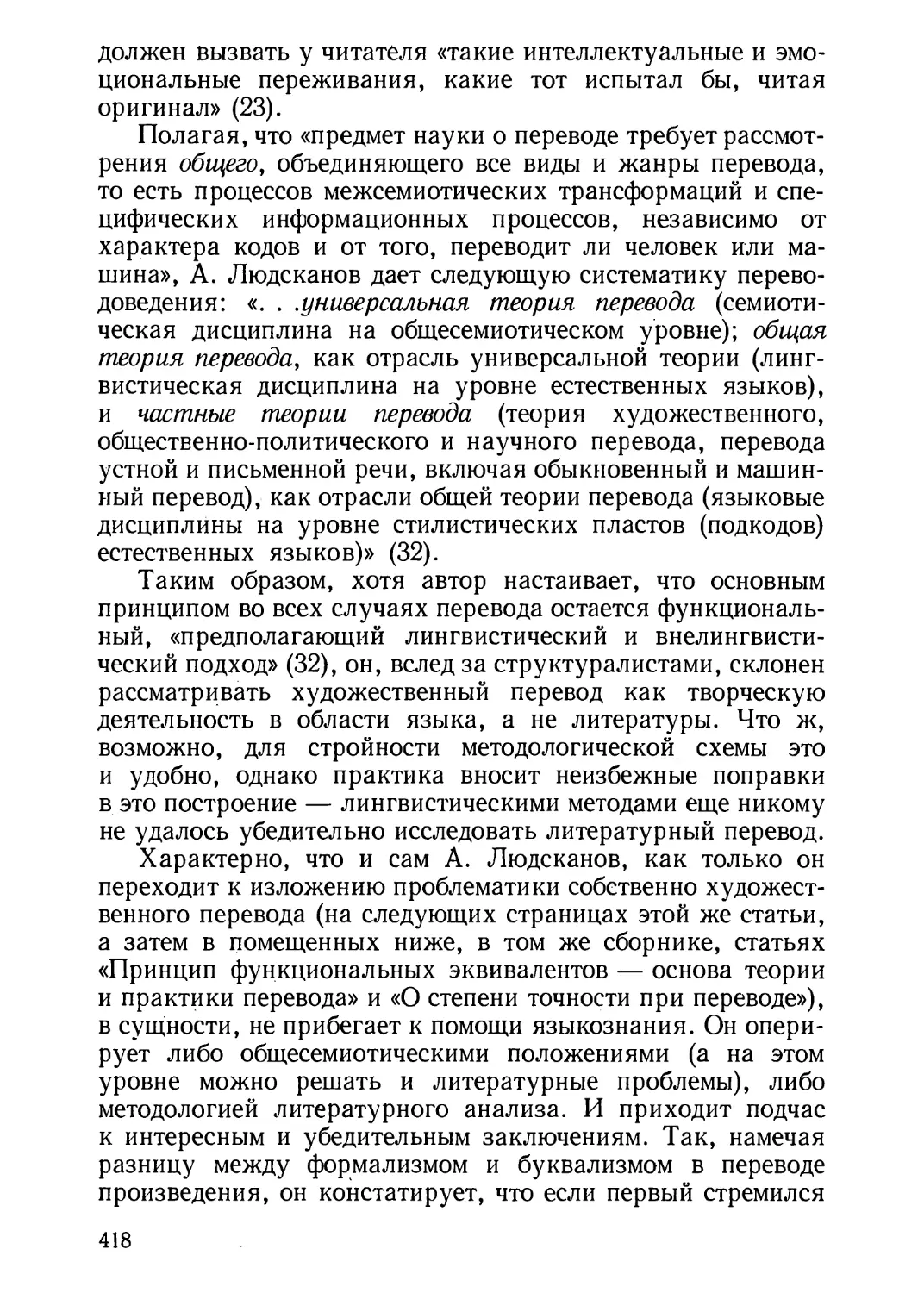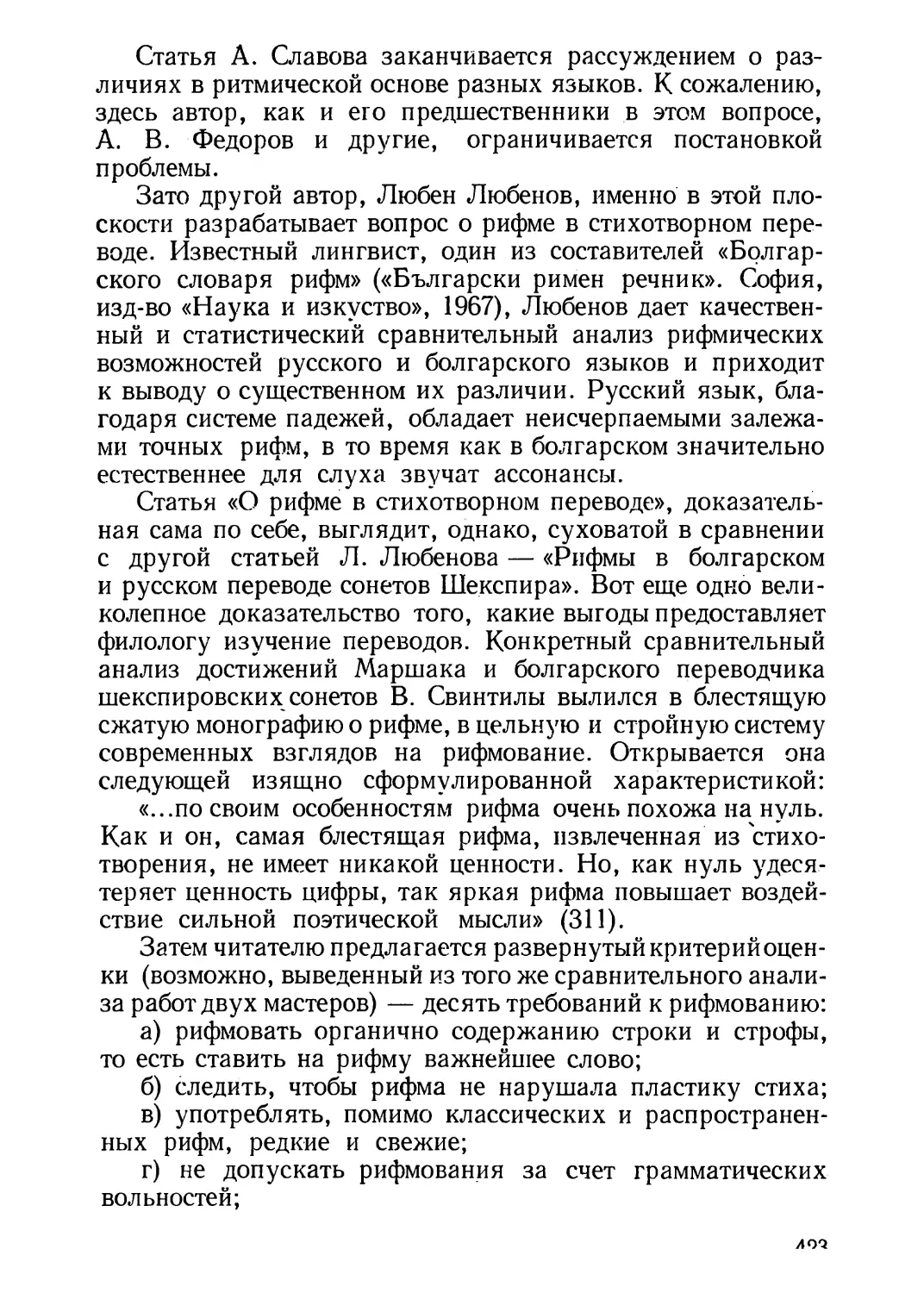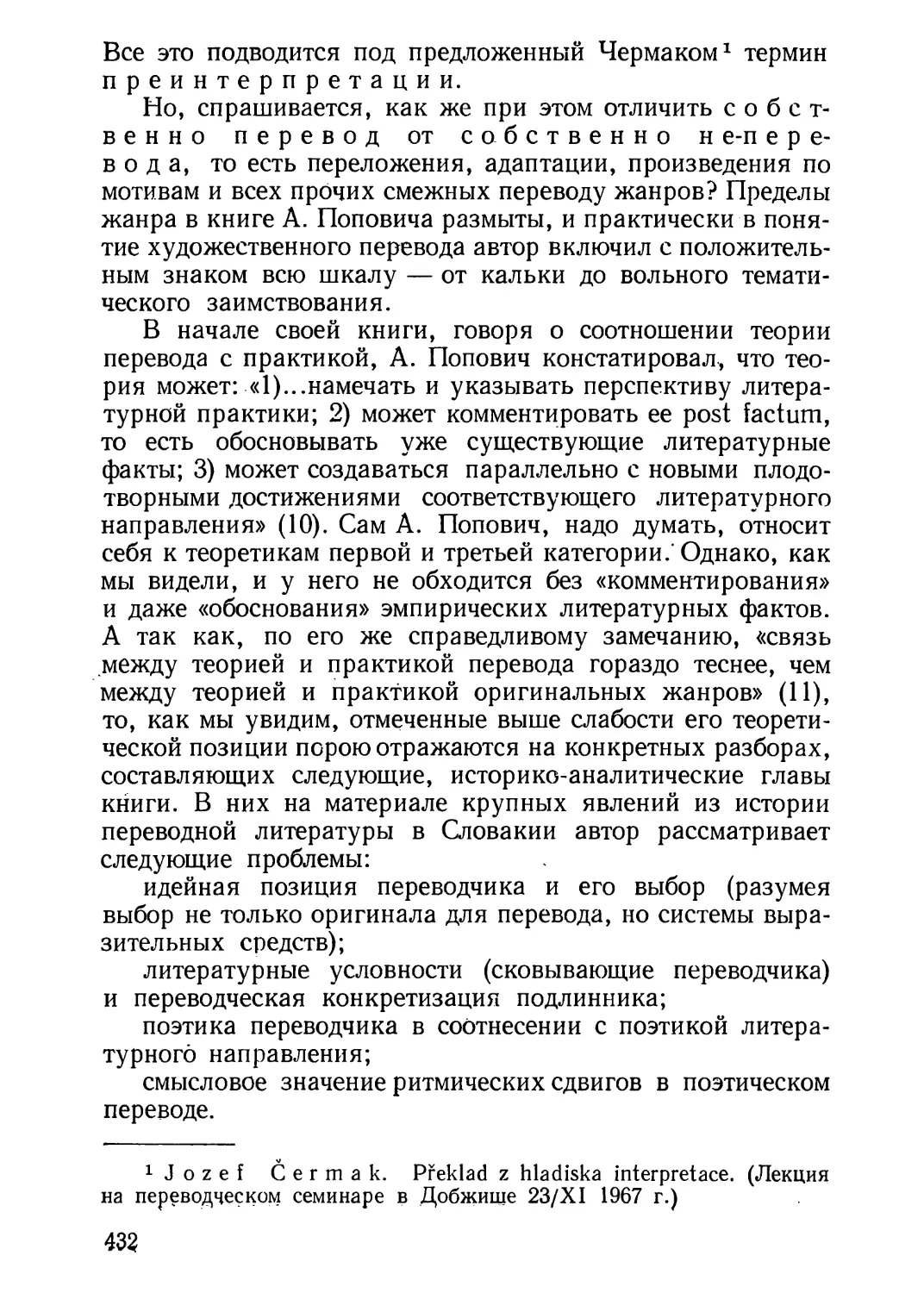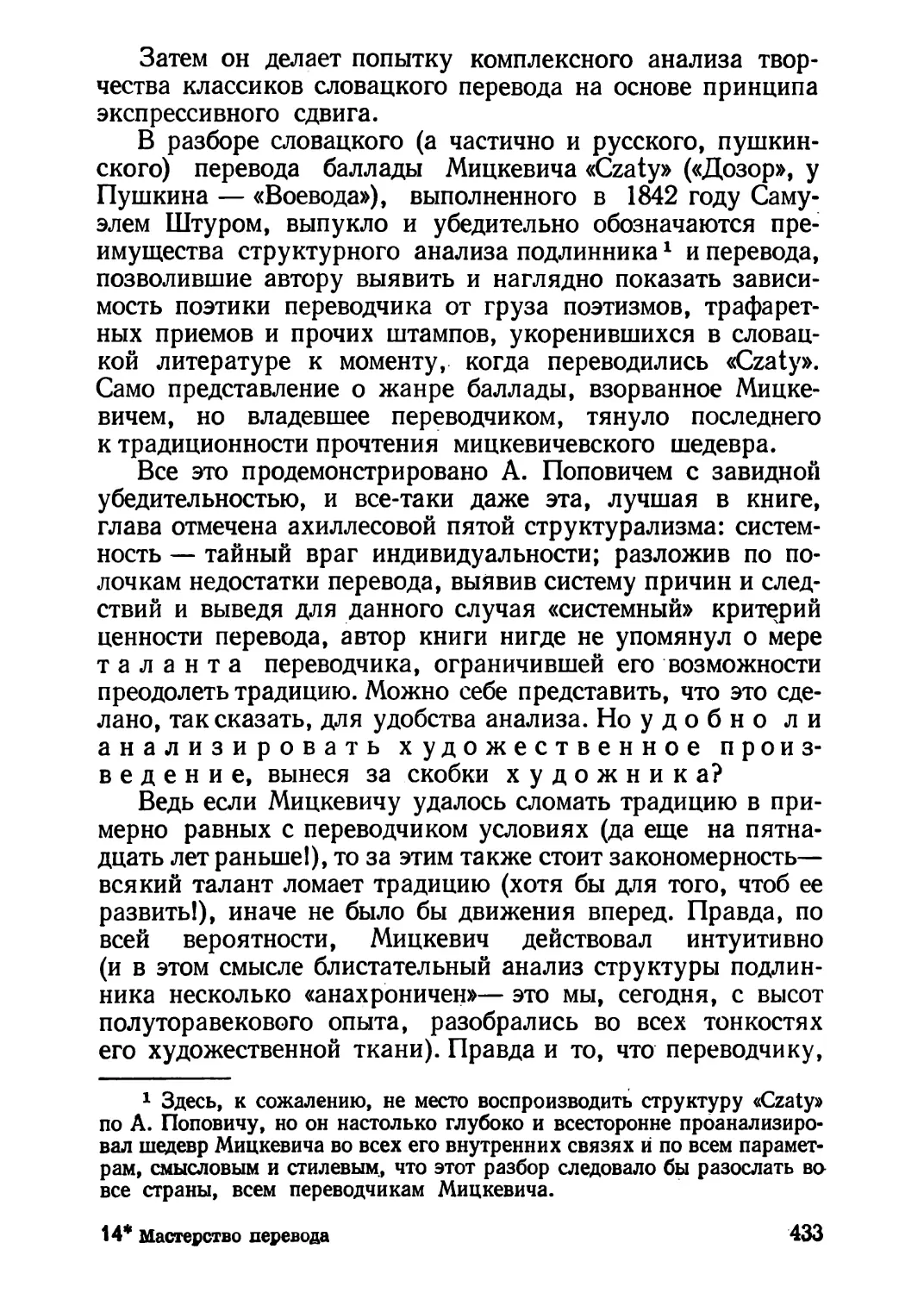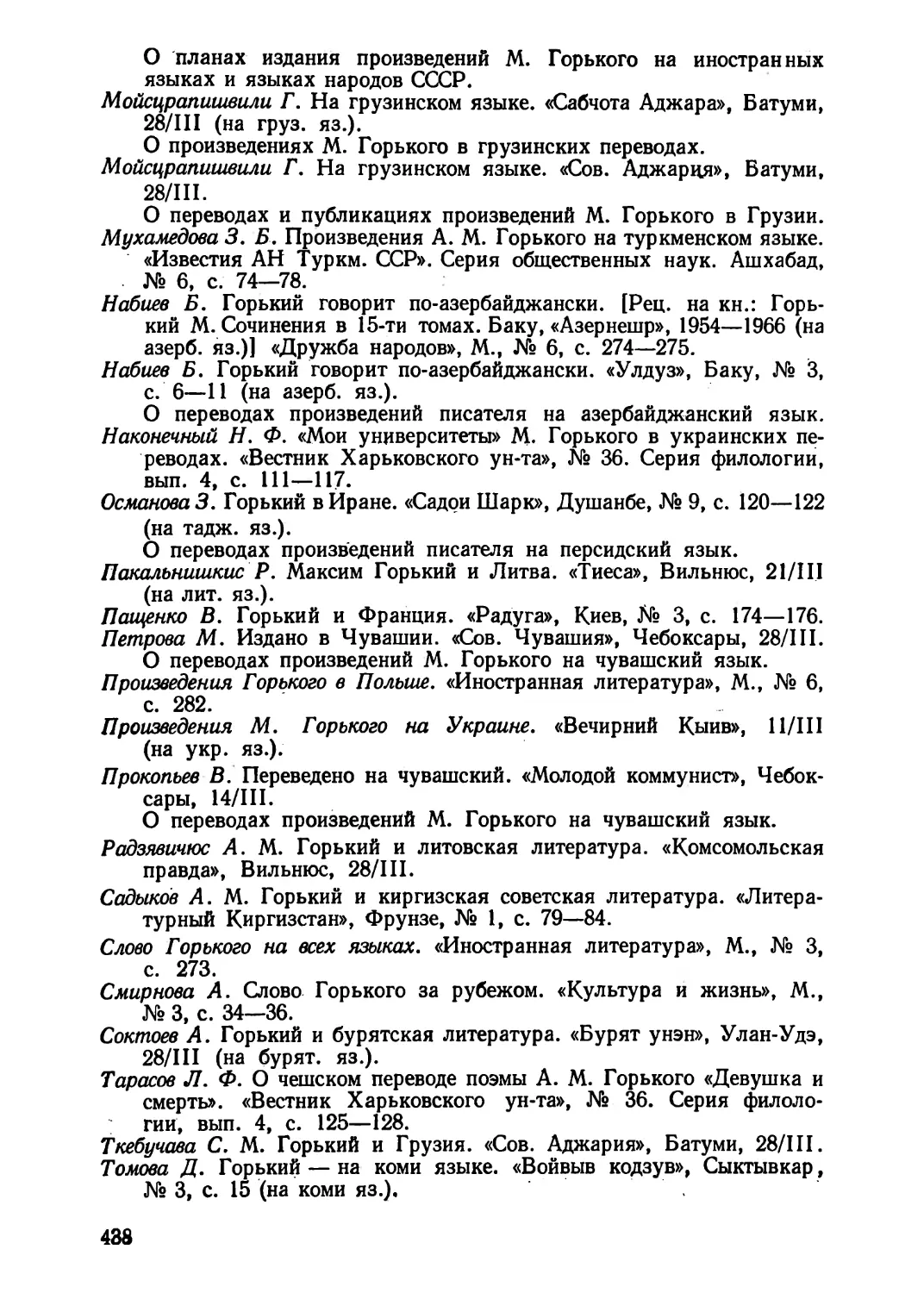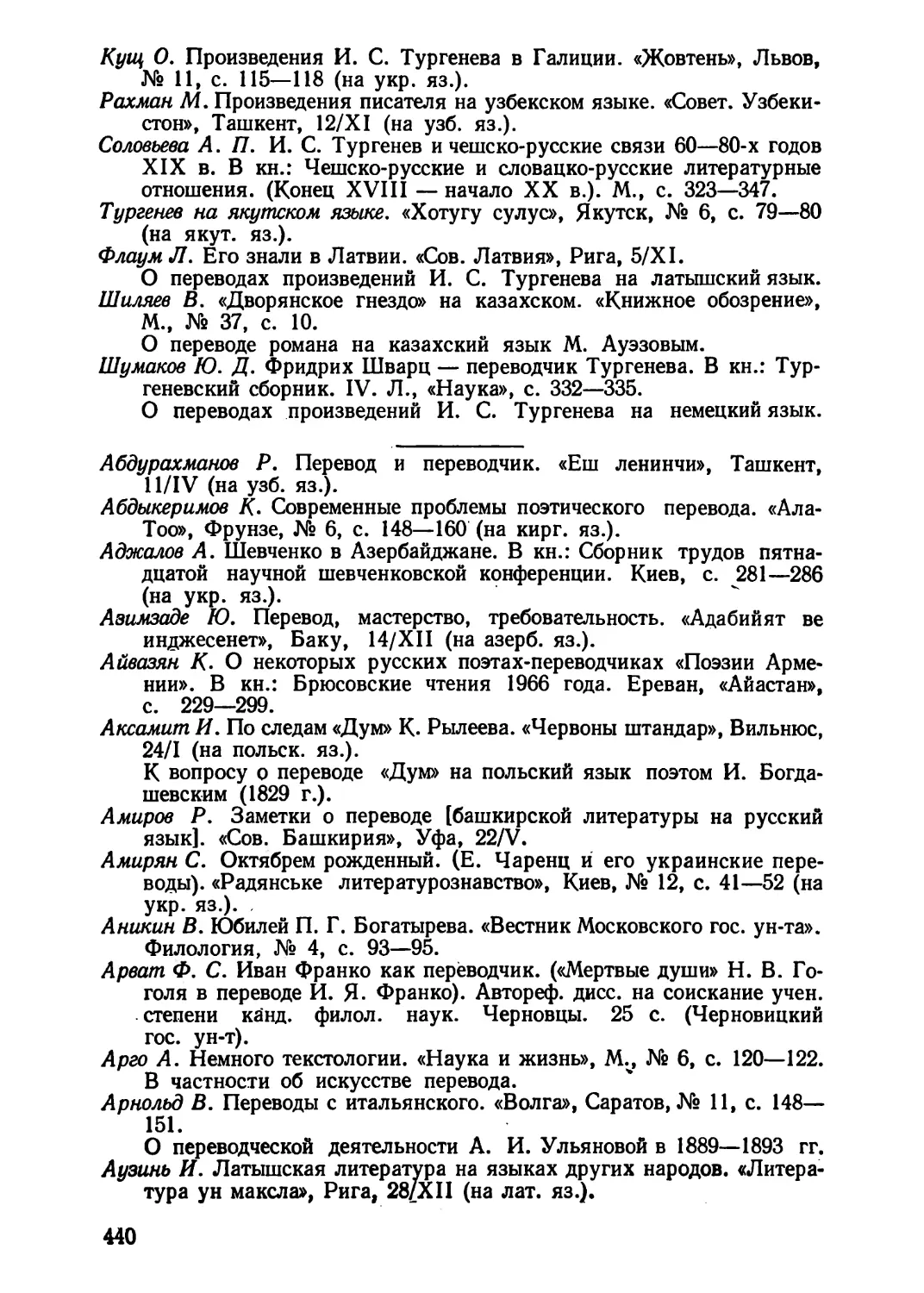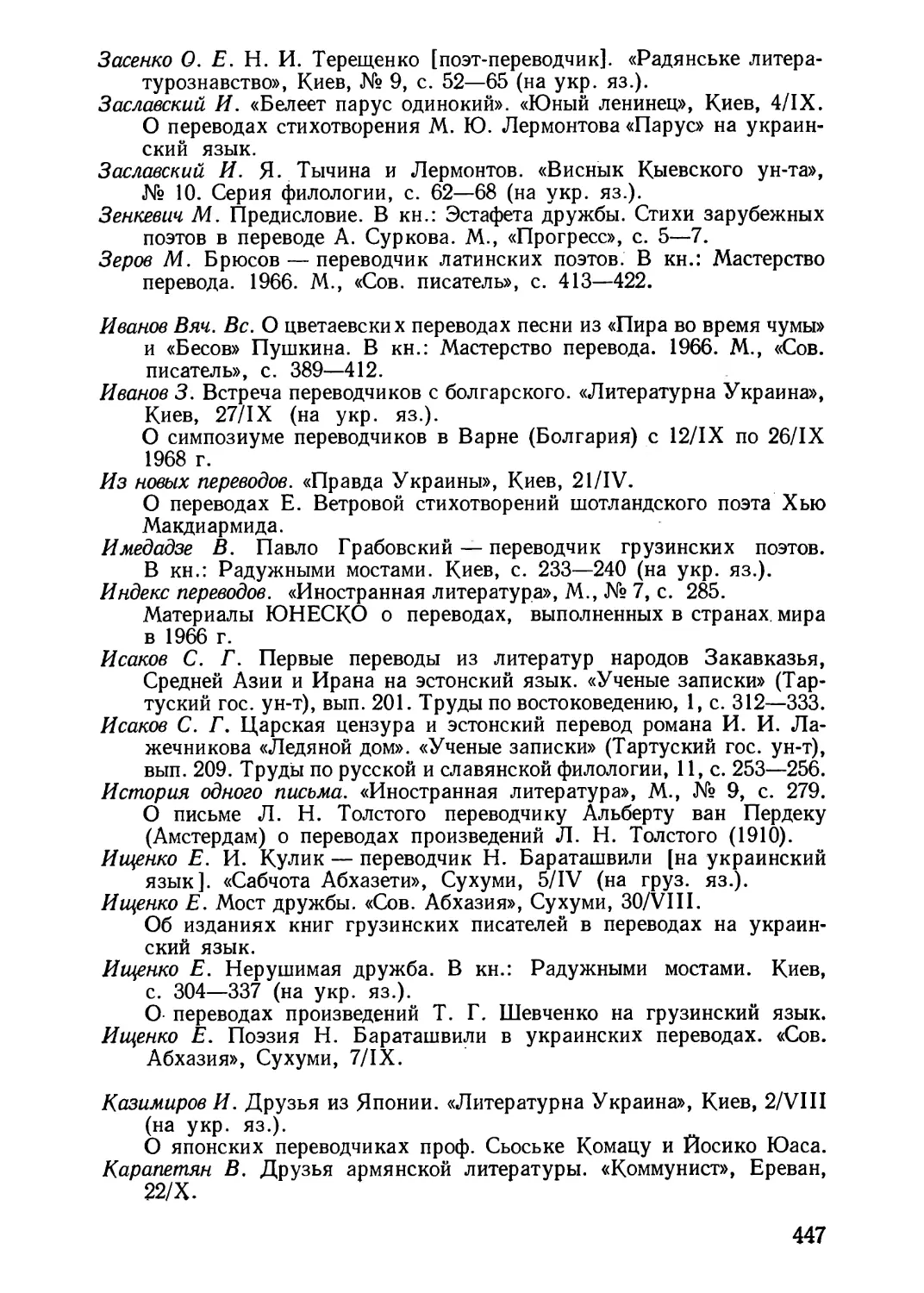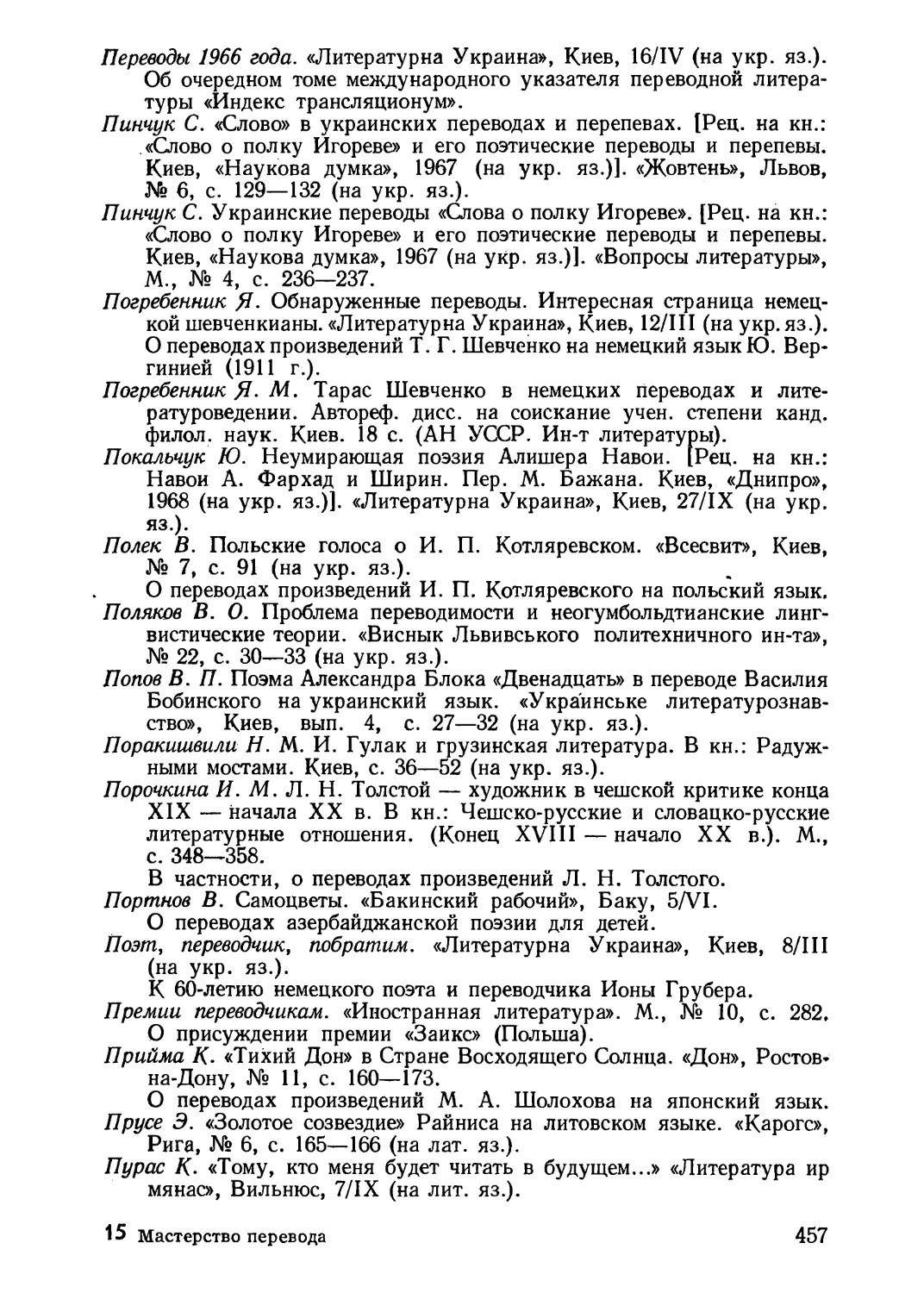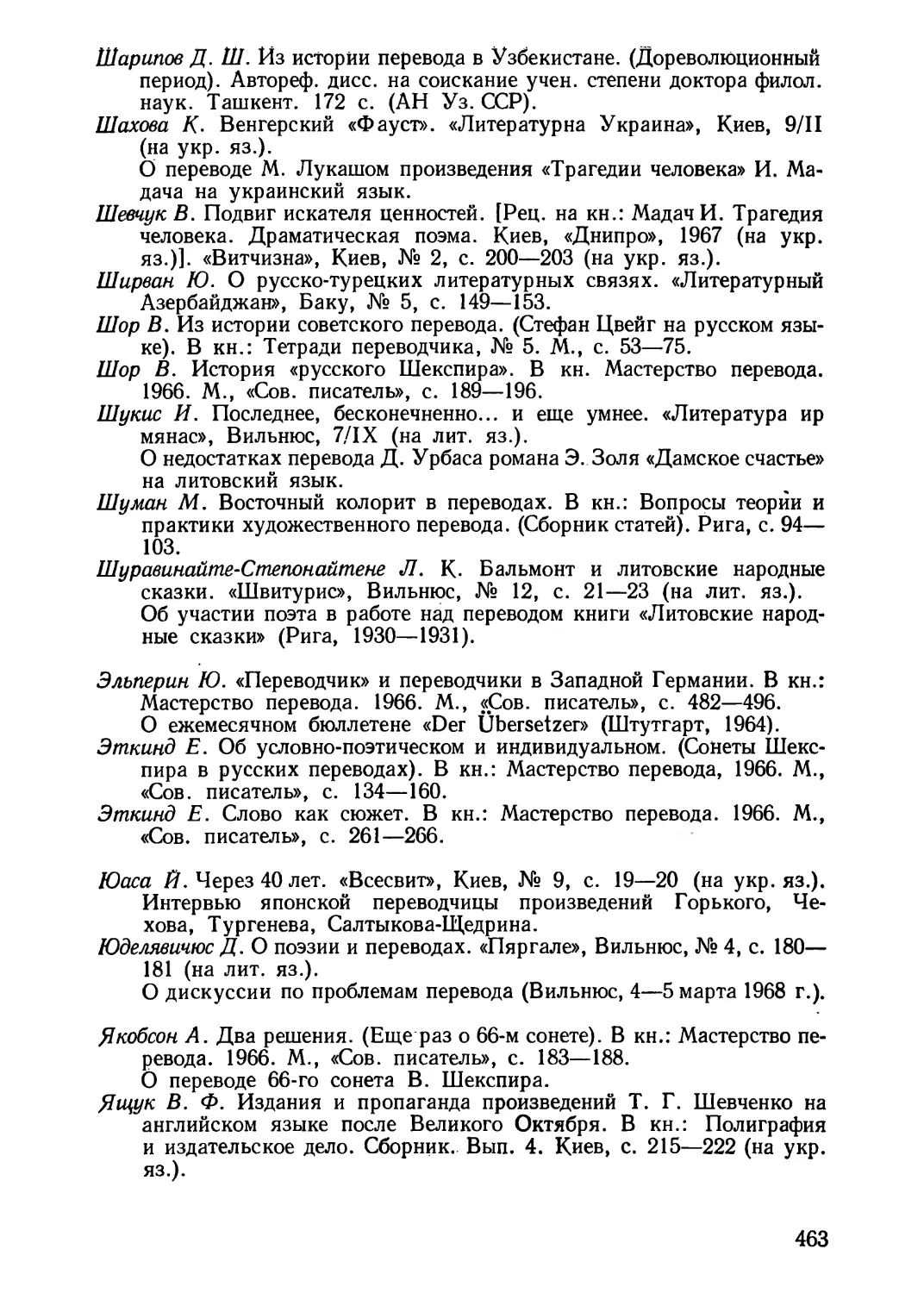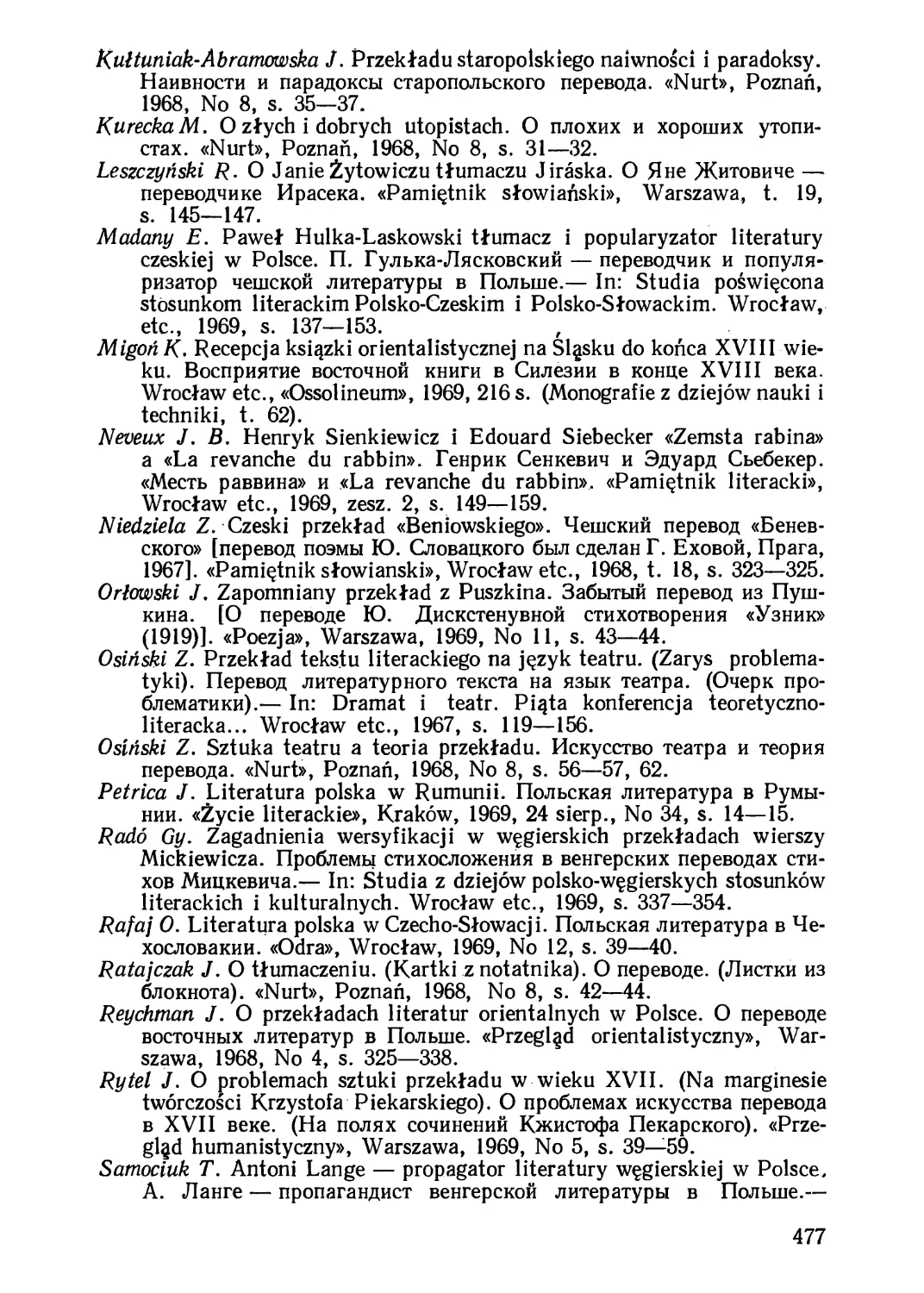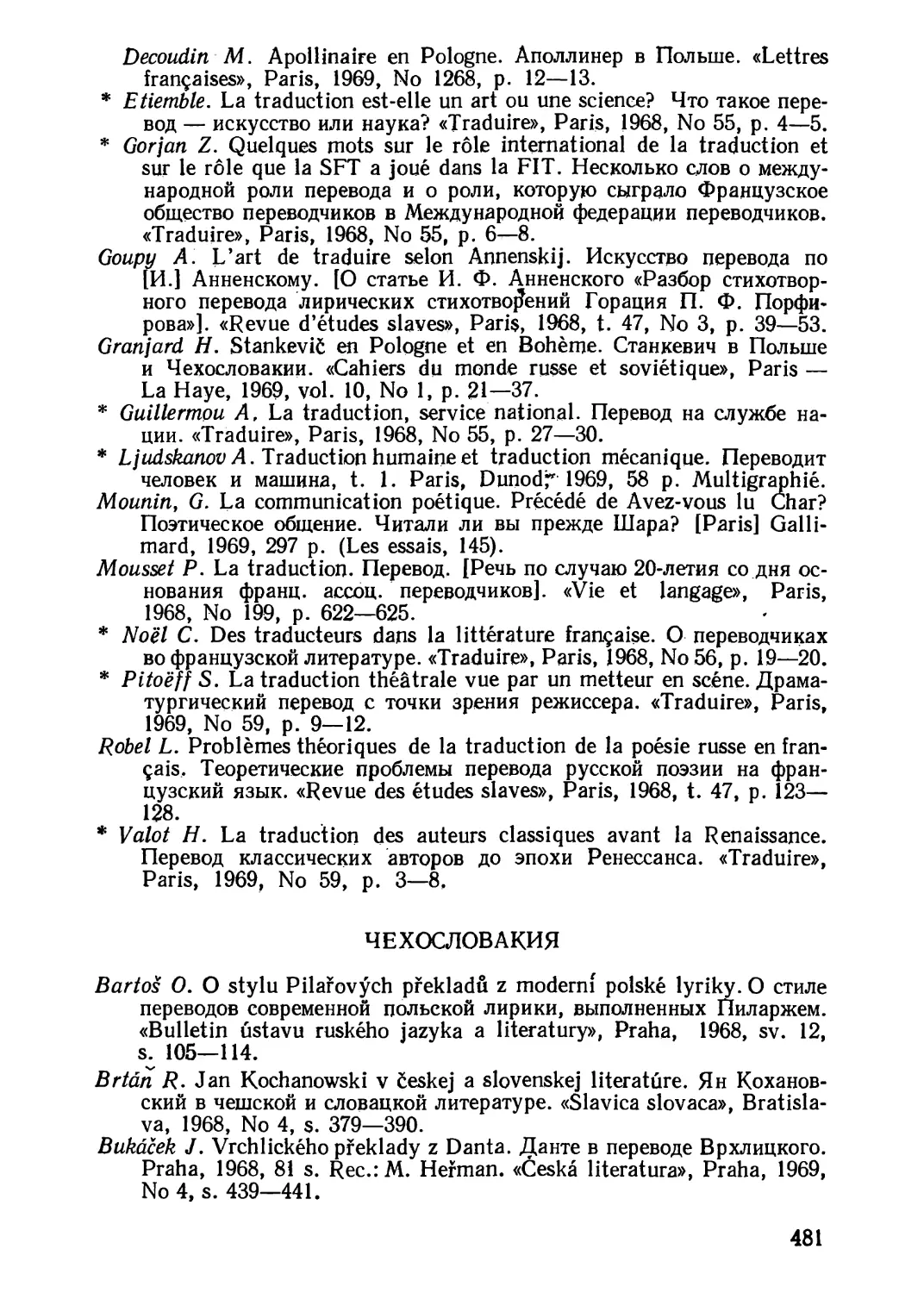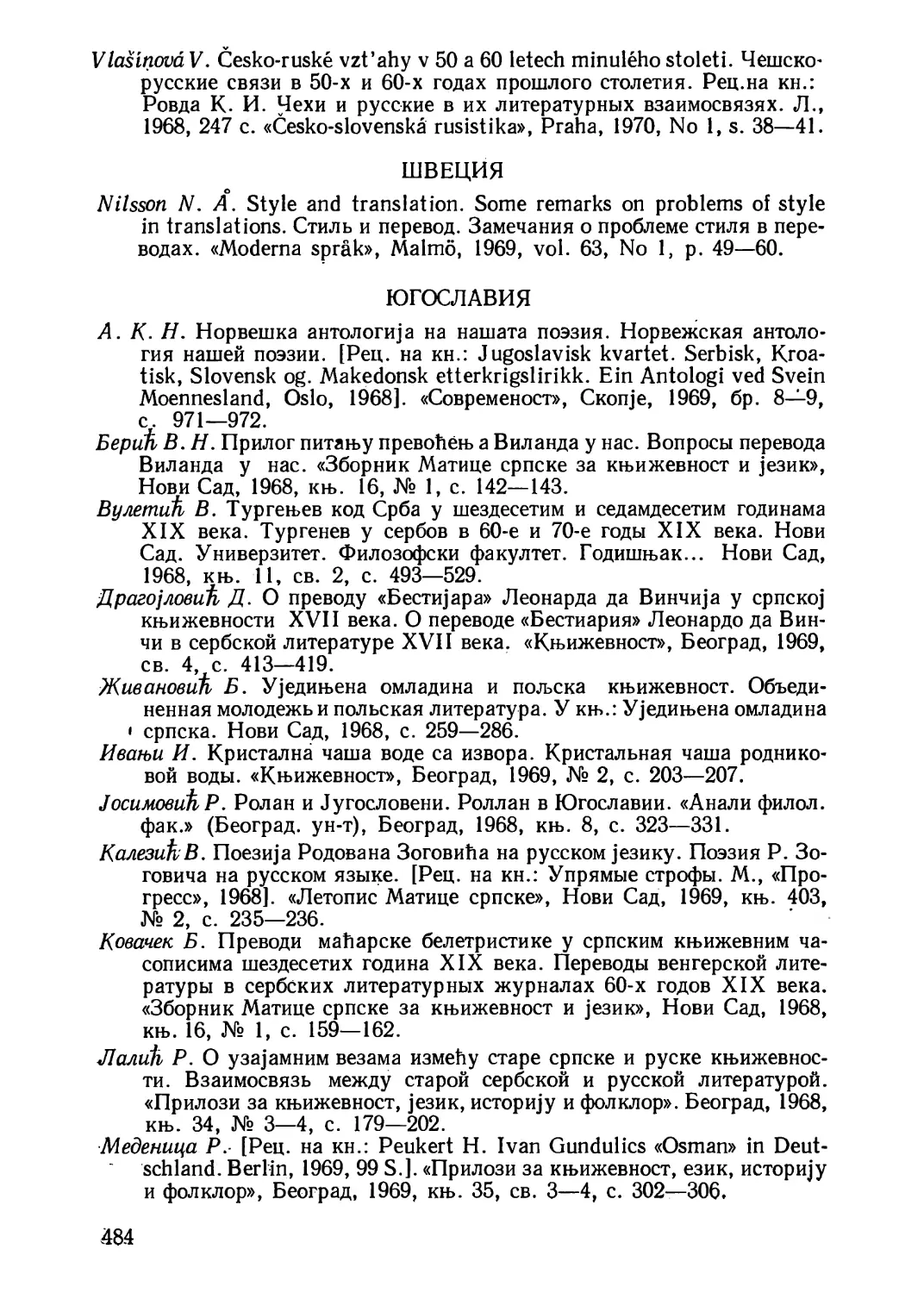Text
МАСТЕРСТВО
ПЕРЕВОДА
СБОРНИК ВОСЬМОЙ
1971
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА
8
М32
Восьмой сборник статей «Мастерство перевода» знакомит с рядом проблем теории и практики художественного перевода.
В 1970 году в Москве состоялось Третье Всесоюзное совещание переводчиков. Вниманию читателей предлагается сделанный на этом совещании доклад Л. С. Соболева «Перевод-залог дружбы литератур». В нем отмечается размах переводческой деятельности в нашей стране и ее значение в укреплении дружбы пародов, в процессе взаимовлияния братских литератур. В ряде статей анализируется состояние переводов с азербайджанского и грузинского языков на русский.
В сборнике представлены творческие портреты мастеров поэтического перевода П. Антокольского и Б. Лившица.
К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского публи куется статья известного армянского переводчика К. Суреняпа Он делится своим опытом перевода романа «Братья Карамазовы».
В книге немало материалов, посвященных проблемам перевода зарубежных литератур. Со статьей «К истории перевода в Монголии» выступает известный монгольский ученый н переводчик Б. Ринчен.
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Аг. Гатов, 3. Кульманова, В. Левик, М. Лорие, Л. Озеров, Вл. Россельс (ответственный секретарь), Б. Турганов, О. Холм-ская, Ю. Гавру к, Г. Г ачечиладзе, Г. Кочур, А. Куртна, Л. Мкртчян, Е. Эткинд.
7-2-2
296—71
ТЕОРИЯ
И КРИТИКА
А. Ьеставашвили
ПЕГАС И МЕРАНИ
Есть произведения настолько содержательные и многосторонние, что и полсотни переводов не могут исчерпать их глубину и мастерство.
И. Кашкин,
Размах переводческой деятельности в СССР так велик, что теория и критика перевода едва за нею поспевают. Но все-таки достижения теории явны и несомненны. Библиографический указатель в конце работ, посвященных переводу, растет на глазах и вселяет уверенность, что споры на тему: перевод — искусство или ремесло — остались далеко позади. Перевод обзавелся не только собственной теорией, но даже школами и направлениями, активно спорящими между собой и горячо отстаивающими свои принципы. Одним словом, в теории все обстоит более или менее благополучно. Куда хуже с историей художественного перевода. Голоса о необходимости создания таковой то и дело раздаются, есть даже отдельные попытки (и очень удачные) систематизировать во времени и в самом ходе литературного процесса достижения переводческого искусства (см., например, статьи: Ю. Левина «Русские переводы Шекспира», В. Марковой «О переводе японской лирики» \ книгу Л. Мкртчяна «Армянская поэзия и русские поэты 19—20 вв.». Ереван, изд-во «Айастан», 1968).
Глубокие, содержательные, по-настоящему научные, эти. работы доказывают, сколь необходимо пристальное и последовательное внимание к истории перевода, как важно
1 Сб. «Мастерство перевода». М., «Советский писатель», 1966.,
5
проследить на том или ином этапе развития литературы влияние переводных произведений на оригинальные и наоборот — влияние общелитературной атмосферы на выбор для перевода того или другого иноязычного творения. Совсем недавно очень важной темы коснулся в своей статье В. Огнев, говоря о влиянии переводимой литературы на творчество переводчика: «Мы еще не начали изучения такого небеспричинного вопроса, , как влияние грузинской поэзии на последние стихи Заболоцкого» г.
Совершенно верно — не начали, не начинали ни этого, ни многого другого. И сейчас, мне кажется, наступило время оглянуться на полувековой путь великого содружества литератур народов СССР (и многовековой — дореволюционный) и подвести итоги, оценивая, сопоставляя, делая выводы.
После такого вступления боязно приступать к самому предмету настоящей статьи. Разумеется, она никак не может претендовать на заполнение обширных белых пятен на карте истории художественного перевода, обширных даже на такой небольшой ее части (небольшой только территориально, но очень значительной по удельному весу вклада), как взаимоотношения поэтических переводов с грузинского и русской оригинальной поэзии. Какой простор открывает тема эта перед исследователем, какие великолепные образцы поэтического совпадения перевода и «источника», как одинаково поучительны победы и поражения (в определенный момент казавшиеся победами)!
Не будем, однако, увлекаться заманчивой, но еще очень далекой перспективой и сузим свою задачу до минимума: рассмотрим историю перевода всего лишь одного (правда, гениального) стихотворения и убедимся, на какие серьезные размышления наводит самый беглый обзор и пока еще приблизительная расстановка вех.
Поводом для написания «Мерани», как следует из письма Н. Бараташвили к Гр. Орбелиани от 2 мая 1842 года, послужило событие, глубоко взволновавшее поэта,— пленение Шамилем Ильи Орбелиани1 2 3. Н. Бараташвили по
1 «Литературная газета», 22 октября 1969 года.
2 Илья Зурабович Орбелиани (1814—1853) — млад-
ший брат Григола Орбелиани, школьный друг Н. Бараташвили, активный участник Дагестанской кампании, находился в плену у Шамиля с 20/1II по 28/XI 1842 года.
6
дробно излагает в этом письме обстоятельства, известные ему из официальных источников и со слов очевидцев. Стихотворению предшествует фраза, написанная по-русски: «Вот что поэт думает за Илико». И затем следует полный текст «Мерапи». Далее Бараташвили пишет: «Не знаю, как понравятся тебе эти стихи. Здесь же много слез, искренних и притворных, было пролито при их чтении, разумеется от того, что все это говорит Илья в плену, а не я. Сказать тебе по правде, весть о пленении его очень меня опечалила, так что три дня я был словно в трансе от тысячи разных страшных мыслей и желаний, и если бы кто спросил меня, я и сам не знал, чего хотел. Наконец, на третий день я написал это стихотворение, и оно как будто принесло мне облегчение. Теперь я прикладываю все старания, чтобы как-нибудь переслать его Илико. Знаю: в душе он посмеется, и не может быть, чтоб тем самым немного не утешился...»1 Казалось бы, это письмо — достовернейший авторский комментарий. И тем не менее это не совсем так. Содержание стихотворения не может быть сведено к монологу отважного воина, томящегося в плену.
К «Мерани» поэта привело все развитие его могучего, не лишенного противоречивых сложностей дарования. В новейшем талантливом исследовании Г. Асатиани «Мерани» рассматривается как разрешение этих противоречий, как ответ на вопросы, терзавшие Н. Бараташвили.
Видя в некоторых стихотворениях Н. Бараташвили (например: «Сумерки на Мтацминде», «Могила царя Ираклия») элементы «примирения с действительностью... попытку найти согласие в самой закономерности мира», Г. Асатиани отмечает в «Мерани» торжество действенного, активного мировоззрения. Если в ранних произведениях Н. Бараташвили нетрудно заметить противопоставление веры рассудку, то здесь они объединены, подчинены порыву, борьбе со слепым провидением.
«В «Мерани» деятельность интеллекта приобретает новое качество,— пишет Г. Асатиани.— Это уже не «изверившийся ум», но всемогущий разум, вдохновленный на героический подвиг, на сознательное самопожертвование, окрыленный живой верой, очищенный от пассивного скепти
1 Н и к о л оз Бараташвили. Стихотворения. Поэма. Письма. Тбилиси, «Мерани», 1968, с. 122.
7
цизма... Действенное, активное, оптимистическое мировоззрение «Мерани» определяется не надеждой на достижение идеала, конечной цели. Его движущей силой является сознание того, что человек создан, всем своим существом призван к достижению этой цели, к самоотверженной борьбе во имя достижения этой цели. Это оптимизм трагический» х.
Высокий трагизм «Мерани» нигде не оборачивается безысходностью. Напротив — мысль о грядущих поколениях, забота об их судьбе раскрывает перед автором и его читателями широкие горизонты.
При всем богатстве духовного и философского смысла этого стихотворения значение «Мерани» в грузинской (и не только грузинской) поэзии определяется не одним этим. Н. Бараташвили сумел изыскать единственно нужные и всецело оправданные формальные средства для воплощения своего замысла.
Главная особенность «Мерани» — стремительный ритм, одновременно трагический и торжествующий.
Чередование 14-сложной строки (1—4—7—9-я строфы) и 20-сложной (2—3—5—6—8-я строфы) как бы имитирует прерывистое дыхание. Частое использование в начале фразы восклицательных частиц: «пусть», «да», «да не буду» и т. д. — создает напряжение, нарастающее к центральной строфе и завершающееся повторением в финале стихотворения начальной строфы, читающейся на этот раз совсем по-другому.
Бросается в глаза обилие эпитетов, восходящих к фольклору: враг — заклятый, поле — чистое, ворон — черный, коршуны — крикливые. Неприхотливая простота, народность у Бараташвили сочетаются с утонченной изысканностью, выражающейся в строгом лексическом отборе, сложном синтаксическом построении, использовании несколько архаизированных слов и оборотов. Поэт не жалеет определений для того, чтобы обрисовать бег Мерани: его устремление и «прекрасное», и «самозабвенное», и «безумное».
Бараташвили демонстрирует необычайную выразительность и насыщенность глагола и глагольных форм (глагол
1 Г. А с а т и а и и. Одиссея духа. «Дружба народов», 1968, № 9, с. 233—243.
8
в грузинском языке выполняет большее число функций, нежели в русском).
Очень трудно анализировать оригинальное стихотворение, отсылая читателя к подстрочнику.
Как бы внимательно ни вглядывались мы в подстрочный перевод «Мерани», нужно огромное воображение, чтобы сквозь неуклюжую оболочку разглядеть, увидеть, почувствовать стройную и возвышенную душу стихотворения. И все же мы считаем целесообразным привести здесь подстрочник, хотя при анализе переводов намереваемся сравнивать их не с подстрочником, а с художественными особенностями проглядывающего сквозь него оригинала.
МЕРАНИ
Подстрочный перевод
Мчится, летит, без пути, без дороги мой Мерани, Вслед мне каркает зловещий черный ворон.
Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мысли мои, мрачно
(черно) волнующиеся!
Рассеки ветер, прорви воды, пронесись над скалами и кручами, Несись вперед, мчись и сократи мне, нетерпеливому, дни странствия! Не укрывайся, мой летящий, ни от зноя, ни от непогоды (ненастья), Не щади (не жалей) за усталость твоего самоотверженного всадника!
Пусть отчизну свою я покину, лишу себя равных (сверстников) и друзей, Пусть не увижу более родных и мою любимую, сладкоречивую — Где ночь настигнет меня, пусть там и рассветет; пусть будет там моя земля родная, Лишь звездам, спутникам моим, поведаю я тайну моего сердца!
Стон сердца, остаток любви,— отдать волнению моря
И твоему прекрасному, самозабвенному, безумному стремлению
(порыву)!
Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела.
И ветру отдай мои мысли (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!
Пусть я не буду похоронен в отчизне моей, среди могил моих предков; Пусть не оплачет меня возлюбленная сердца, пусть не падут на меня слезы скорбящей!
Черный ворон выроет мне могилу среди лугов, в пустынном (чистом) поле, И вихрь остатки костей моих с ревом и стенаньем засыплет землею.
Взамен слез любимой на мертвеца беспризорного падут небесные росы, Взамен плача родных будут причитать коршуны крикливые!
Несись вперед, лети, Мерани мой, перенеси меня за пределы (за грань) судьбы,
9
Если до сих пор не покорился ей (судьбе) — и впредь не покорится ей твой всадник!
Пусть, отвергнутый ею (судьбою), умру одиноким (бездомным). Не устрашит меня, врага заклятого ее, (разящая) сталь!
Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мои мысли (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!
Ведь не бесплодно же пройдет (не будет тщетно) это стремление души обреченного!
И путь непроходимый, протоптанный тобою, Мерани мой, все же останется, И после меня собрату моему облегчится трудность пути, И скакун бесстрашно пронесет его перед черной судьбою!
Мчится, летит, без пути, без дороги мой Мерани, Вслед мне каркает зловещий черный ворон. Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мысли мои (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!
Художественные достоинства «Мерани» в сочетании с философской глубиной обусловили то редкое единодушие, с которым русские и грузинские литературоведы, критики и поэты признали стихотворение вершиной творчества Николоза Бараташвили.
«Если бы Николоз Бараташвили написал только одно стихотворение «Мерани», он все равно заслужил бы право покоиться на Святой горе, обители национальных гениев Грузии. Подобно снежной вершине возвышается этот шедевр романтической поэзии. Далеко виден его грозный и гордый свет». Это высказывание, последнее по времени в ряду аналогичных, принадлежит В. Огневу1 и возвращает нашу память к 1917 году, когда вышла в свет небольшая книжка Ш. Беридзе, посвященная творчеству Бараташвили, под названием «Поэт порыва». Беридзе писал:
«Если бы Ник[олоз] Мел [итонович] Бар[аташви]ли не написал ни одной строчки, кроме этого создания («Мерани».—А. Б.), то все же обессмертил бы свое поэтич[еское] имя. Это произв[едение] — украшение грузинской литературы всего 19-го века, это — жемчужина в поэтической короне виртуоза грузинской речи и мысли»1 2.
Литераторы разных поколений и направлений — Герон-
1 В. О г н е в. «Литературная Грузия», 1968, № 10.
2Ш. Беридзе. Поэт порыва. «Труды общества любителей грузинского искусства и литературы». М., 1917, вып. 3, с. 34.
10
тий Кикодзе, Акакий Гацерелия, Павлэ Ингороква и другие — единодушно признают «Мерани» кульминацией в небольшом (37 стихотворений и 1 поэма), но лирически необычайно насыщенном творческом наследии Бараташвили.
Придерживаясь того же взгляда, Ш. Беридзе большое внимание уделяет анализу различных переводов «Мерани» на русский язык;
«...Ни одного из грузинских поэтов так усердно не переводили на русский и немецкий языки, как кн[язя] Бар[а-ташвики»1. Самыми ранними переводчиками «Мерани» на русский язык были супруги Тхоржевские, в 1889 году издавшие в Тифлисе сборник «Грузинские поэты в образцах».
В этом сборнике был и перевод «Мерани», включенный под названием «Конь (Пегас)». Перевод был осуществлен И. Ф. и А. А. Тхоржевскими (общий псевдоним Иван-да-Марья).
Здесь же отметим, что перевод «Мерани», выполненный Тхоржевскими, был опубликован в газете «Новое обозрение» в 1884 году.
«Конь (Пегас)» Бараташвили — Тхоржевских сегодня занимает достойное место в ценнейшем двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода», изданном в 1968 году.
Безумных сил твоих не пропадет затрата, И не заглохнет путь, протоптанный тобой: Им облегчу я путь грядущий для собрата, Им облегчу борьбу грядущему с судьбой.
Летит мой конь вперед, дорог не разбирая, А черный ворон вслед зловещий крик свой шлет, Лети, мой конь, лети, усталости не зная, И по ветру развей печальной думы гнет!
Почти полвека этот перевод оставался непревзойденным, хотя попытки перевести «Мерани» были весьма многочисленны.
В 1905 году в Тифлисе в издательстве «Кавказоведение» выходит «Баратовский томик»—«Критико-биографический очерк поэта кн. Н. М. Бараташвили и избранные стихотворения с портретом автора» (серия «Жизнь замечательных людей Грузии»). В «Баратовский томик» наряду с выше
1Ш. Беридзе. Поэт порыва, с. 47.
11
упомянутым переводом Тхоржевских включен перевод Т. Бекхановой.
Верю страстно: бесследно она не умрет,
Путь желанный твой топот упрямый пробьет, И тому, кто за мной, тяжкий крест облегчит, Он отважно коня пред судьбою промчит.
Вряд ли стоит останавливаться на недостатках этого перевода, они слишком заметны: «тяжкий крест», «коня пред судьбою промчит» и т. д.
Упоминает Беридзе еще два перевода: «Пегас» Г. Аби-сели, напечатанный в 1916 году в газете «Закавказская речь» № 263, и «Пегас» Н. Реулло, включенный вместе с шестью его переводами в томик «Грузинские поэты», изданный в 1914 году. Вот как выглядит в этих переводах «главная» строфа стихотворения:
Не тщетно же пройдут души моей стремленья.
И путь протоптанный останется тогда:
Идущему вослед доставит облегченье,
И пред конем его — судьба падет тогда.
(Реулло)
Томления души ведь не погибнут даром, И этот путь, мой конь, проложенный тобой, Поможет биться вновь на поединке яром
Собрату моему с губительной судьбой.
(Абисели)
Выгодно отличается от них перевод Валериана Гаприн-дашвили, напечатанный в газете «Закавказская речь» в 1915 году. Позднее этот перевод был включен в сборник: «Ник. Бараташвили. Стихотворения. Переводы и редакция Валериана Гаприндашвили», Тифлис, 1922.
Валериан Гаприндашвили, известный грузинский поэт, свободно владел и русским языком. Об этом свидетельствуют его многочисленные переводы из грузинской поэзии на русский язык (от Бараташвили до Галактиона Табидзе). В названном сборнике Гаприндашвили выступает не только в качестве переводчика и редактора, но и как автор вступительной статьи, блестящей, остроумной, хотя порой спорной и парадоксальной.
«Бараташвили — Гамлет грузинской поэзии»,— провозглашает Гаприндашвили.
«...Его можно назвать первым декадентом нашей поэзии».
12
Эти и подобные декларации станут понятными, если вспомнить, что приблизительно в это же время Гапринда-швили редактировал журнал «Мечтающие газели» — орган «Голубых рогов».
Однако увлечение символизмом не мешает автору предисловия разглядеть в Бараташвили «величайшего лирика».
«Мерани — есть недосягаемый идеал и непреходящая тема грузинской поэзии».
«Сам Бараташвили есть символ и синоним поэзии. Поэты сделают его самого источником своего вдохновения».
Гаприндашвили улавливает влияние «Мерани» в творчестве поэтов-современников, Галактиона Табидзе и других.
Заслуга Гаприндашвили несомненна: твердой рукой он ставит заглавие стихотворения — не абстрактный конь, не заезженный Пегас, а самобытный и в то же время общепонятный Мерани.
Правда, в тексте перевода Мерани ни разу не упоминается, везде конь, скакун.
Летит мой конь вперед неудержимо, смело, За мною ворон злой — его я узнаю.
Лети, скакун, лети, не ведая предела, И думу черную отдай ветрам мою!
Или другая строфа:
И пусть не буду я оплакан девой милой.
И пусть земле родной мой прах не предадут.
Могилу выроет мне ворон чернокрылый И с воем ураган засыплет мой приют х.
Перевод Гаприндашвили знаменует переход от переводческой деятельности, носившей несколько случайный, вернее, неорганизованный характер, целиком зависящий от степени таланта и активности взявшегося за это дело энтузиаста, к работе систематической, последовательной, включающей не одного, а целую группу опытных литераторов.
Но прервем здесь переводную одиссею «Мерани» и сделаем маленькое отступление.
Итак, в 1922 году существовал добротный перевод Гаприндашвили, и это не помешало его другу и соратнику
1 Б. Пастернак в письме Симону Чиковани от 9/IX 1945 года сообщал, что, приступая к переводу стихов Н. Бараташвили, просмотрел все предыдущие и изо всех выделил В. Гаприндашвили. См. статью С. Чиковани «Священные узы братства». «Литературная Грузия», 1968, № 9, с. 93—100.
13
Тициану Табидзе, по словам Н. Заболоцкого — «человеку с непогрешимым вкусом и истинно поэтической душой», написать в 1931 году, что он не встречал «ни одного перевода «Мерани» Н. Бараташвили, в котором полностью сохранился бы блеск оригинала» (см. «Статьи и письма Тициана Табидзе». Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1964, с. 146).
В преддверии Первого съезда писателей по инициативе Горького создаются бригады русских писателей, которые занимаются изучением братских литератур и организацией переводов их лучших произведений на русский язык.
17 ноября 1933 года в Грузию приехала бригада в составе П. Павленко, О. Форш, Н. Тихонова, Б. Пастернака, В. Гольцева и др.
Поездка эта положила начало небывало плодотворному творческому содружеству, обогатившему обе литературы — грузинскую и русскую. Члены бригады проделали колоссальную работу, и результаты незамедлительно сказались.
10 декабря того же года Тициан Табидзе писал Юрию Тынянову:
«С приездом делегации русских писателей наладилось большое дело... Ваше предложение устроить в «Библиотеке поэта» грузинских романтиков у нас считается самым важным событием».
Как видно из письма, русские поэты интересовались не только современной грузинской литературой, но смотрели глубже, хотели овладеть культурой прошлого, донести и ее до русского читателя.
Недавно А. Межиров, отвечая на анкету «Литературной газеты»1, еще раз напомнил о том, как важно обращение к прошлому другого народа:
«Цвет небесный, синий цвет» Н. Бараташвили сделался в России одним из любимейших стихотворений. Таким образом, духовная культура Грузии стала понятней и ближе русскому читателю.
А в мире, пусть на йоту, но поукрепилось единство, поубавилось отчуждения. Тут и смысл глубокий, и значение великое»1 2.
Почти о том же самом — о глубоком смысле и великом значении — говорил Тициан Табидзе в своей речи на Пер
1 См. «Литературную газету» от 20 августа 1969 года.
2 Там же.
14
вом Всесоюзном съезде писателей, подводя итог работы бригады:
«Тут говорили о великолепных переводах Пастернака и Тихонова современных грузинских поэтов. Нужно добавить, что благодаря этим поэтам и работе бригады стало возможным издание на русском языке монументальной антологии грузинской поэзии, начиная с V века и до наших дней, в том числе шедевров народной поэзии, издание в серии «Библиотека поэта» грузинских романтиков... в переводе лучших мастеров русской поэзии».
Грузинские романтики (Ал. Чавчавадзе, Вахтанг и Григол Орбелиани, Николоз Бараташвили) вышли под редакцией Н. Тихонова и Ю. Тынянова. «Мерани» перевел М. Лозинский1. Перевод этот часто называют лучшим. Безусловно, он ближе к оригиналу, чем все остальные, предыдущие и последующие переводы1 2.
Переводы Пастернака из грузинской поэзии увидели свет в 1935 году («Грузинские лирики». М., «Советский писатель», 1935. Худ. оформление Ладо Гудиашвили). В октябре того же года Тициан Табидзе спешит отозваться на выход книги:
«Трудно указать пример более напряженной работы, переходящей в поэтический подвиг, чем переводы Бориса Пастернака из грузинских поэтов.
Тут пошло в дело не только величайшее мастерство непогрешимого мастера Пастернака, но и большая любовь,
1 Мчит, несет меня без пути-следа мой Мерани.
Вслед доносится злое карканье, окрик враний.
Мчись, Мерани мой, несдержим твой скач и упрям.
Размечи мою думу черную всем ветрам.
Это первая и последняя строфы в переводе М. Лозинского.
Перевод центральной строфы:
Нет, не исчезнет душевный трепет того, кто ведал, что обречен, И в диких высях твой след, Мерани, пребудет вечно для всех времен: Твоей дорогой мой брат грядущий проскачет, смелый, быстрей меня, И, поравнявшись с судьбиной черной, смеясь, обгонит ее коня.
2 В докладе 1935 года «Искусство стихотворного перевода» М. Лозинский разграничил два вида перевода — перестраивающий... и воссоздающий, «воспроизводящий со всей возможной точностью и содержание, и форму подлинника... только перевод второго типа и может называться переводом. Его эстетическое и познавательное значение несравнимо с тем, какое может иметь перевод перестраивающий» (см. «Мастера стихотворного перевода», т. 2. Л., «Советский писатель», 1968, с. 425). Перевод «Мерани» сделан им в полном соответствии с этой теоретической установкой.
15
какое-то творческое сорадование, что определило судьбу книги переводов, сделав ее историческим событием во взаимоотношениях русской и грузинской поэзии. Борису Пастернаку удалось нащупать тот мужественный ритм, что составляет природу стиха от Руставели, через Д. Гурами-швили, Н. Бараташвили и других романтиков, до Важа Пшавела и сопутствует новейшей грузинской поэзии. Если исток этой мужественности определяется географией, то Б. Пастернаку особенно творчески близок Кавказ, его «Демон» и «Волны» — суровый монтаж именно этого ритма, что в конечном счете и предрешило в нем интерес к грузинской поэзии, а потом и поэтический поединок.
Говорят, что перевод большого поэта — это борьба библейского Иакова с богом, когда у Иакова ломают ребра; у Пастернака в этом поединке все ребра остались на месте, а может быть, у него еще приросло ребро — особенное, чувствующее дыхание грузинской поэзии»1.
К «дыханию» грузинской поэзии Пастернак действительно прислушивался.
«Взрывы изобразительной стихии в бесподобном, бешеном и вдохновенном «Мерани»,— писал он,— ни с чем не сравнимы. Это «символ веры» большой борющейся личности, убежденной в том, что движение человеческой истории отмечено благородной целью и смыслом»1 2.
Работа Б. Пастернака над переводами грузин давала все основания для такого заявления Тициана Табидзе:
«...Действительно он открывает новую эпоху в переводной поэзии. Несмотря на то, что К. Бальмонт перевел Ш. Руставели и другие крупные поэты в разное время переводили грузинских поэтов,— переводы Бориса Пастернака кладут начало настоящему продвижению грузинской поэзии на всесоюзную арену, заполняя более чем столетний пробел в русской поэзии грузинских переводов»3.
1 Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1964, с. 132.
2 Б. Пастернак. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Тбилиси, «Заря Востока», 1958, с. VI.
3 См. статью Т. Табидзе «О книге Б. Пастернака «Грузинские лирики» (1935) в сб. Т. Табидзе. Статьи, очерки, переписка, с. 133.
К работе над переводами из Бараташвили Б. Пастернак приступил позднее (в журналах они появляются в 1945 году) при консультации С. Чиковани, по подстрочникам, выполненным Ф. А. Твадтвадзе,
Точнее не скажешь. Мощным потоком вливается грузинская поэзия в литературу обновляющегося мира.
«Волшебный конь великого поэта донес своего всадника с его чудесным песенным грузом до нашего времени, когда братство народов нашей страны приветствует Николоза Бараташвили как легендарного песенного рыцаря, чьи стихи приобрели магическую свою силу над необъятными просторами социалистической родины»,— сказал Николай Тихонов в своей речи на юбилее Бараташвили.
Русские переводы «Мерани», созданные в разные годы, собраны в книге, выпущенной издательством «Мерани» к юбилею поэта (Тбилиси, 1968).
Составители сборника пишут в предисловии:
«Отличаясь оригинальным, своеобразным поэтическим звучанием, переводы эти, вместе с тем, сродни друг другу верностью самому духу переводимого произведения... Это скорей не состязание поэтов-переводчиков, а свидетельство вечной жизни высокой гуманистической поэзии прошлого и праздник наследников ее традиций — советских поэтов».
Истинный праздник, подтвердим мы, на котором встретились такие мастера русского поэтического слова, как Н. Тихонов, В. Державин, Б. Брик, П. Антокольский, С. Шервинский, К. Липскеров, Ю. Верховский, Вс. Рождественский, М. Лозинский, С. Спасский, Б. Пастернак.
Возникает вопрос: так ли нужен был конкурс на лучший перевод после того, как под каждым стихотворением Бараташвили (а тем более под «Мерани») стоит столь длинный и блистательный список имен поэтов-переводчиков?
Разве не вошли в обиход русской поэзии и не врезались в память каждого любителя поэзии эти строки:
Пусть оторвусь я от семейных уз,
Мне все равно, где ночь в пути нагрянет, Ночная даль моим ночлегом станет. Я к звездам неба в подданство впишусь х.
Сейчас трудно себе представить, что переводы Пастернака приходилось в свое время защищать от ретивых
I В более поздних изданиях Б. Пастернак возвращается к тексту «Мерани» и делает ряд существенных поправок, изменений. В сб. «Гру-
17
критиков — сторонников «точности»1. С трибуны Первого всесоюзного совещания переводчиков, которое состоялось в январе 1936 года, Валериан Гаприндашвили выступил в защиту переводов Б. Пастернака:
«Пастернак пишет не копию, а портрет оригинала. Вы смотрите на двойника и удивляетесь своим чертам. Конечно, вас изменил наряд чужого языка, музыка чужого стиха, но вы благодарны волшебнику, который ввел вас в ином уборе в многолюдный и торжественный мир русской поэзии» (см. об этом подробнее в публикации Г. Бебутова. «Литературная Грузия», 1968, № 8).
Крупный теоретик и практик художественного перевода И. А. Кашкин писал: «Самый лучший перевод...— это исторически ограниченное истолкование подлинника и документ своей эпохи даже в большей степени, чем подлинник»* 1 2. Категоричность настораживает: неужто в самом деле «в большей степени, чем подлинник»? Не преувеличение ли в пылу полемики?
Проверим:
Твои светозарные очи, красавица, Я помню, слезами сияли, Я помню, уста твои, грустью сомкнутые, Печальную тайну скрывали...
Горючие слезы те суетны не были.
Даль неба в очах отражалась...
И мне на лице твоем грустно-торжественном Печаль неземною казалась.
зинские поэты» (Тбилиси, «Заря Востока», 1947) 1-я строфа выглядела так:
Летит Мерани, конь мечты моей.
Нам каркает вдогонку ворон черный.
Вперед, мой конь, рвись мыслию упорной, Вперед, и дней, и жизни не жалей!
В сборнике «Стихи о Грузии. Грузинские поэты» (Тбилиси, «Заря Востока», 1958) та же строфа приобретает окончательный вид: Стрелой несется конь мечты моей, Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу Дыханьем ветра встречного обвей!
1 Сам Б. Пастернак предвидел возможные упреки в чрезмерной вольности переводов из Бараташвили. См. письмо к С. Чиковани от 9/IX 1945 г. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 181—182.
2 И. Кашкин. Для читателя-современника. М., «Советский писатель», 1968, с. 549.
18
О! Понял теперь я причину загадочной, Безмолвной и кроткой печали.
Да! Слезы те были слезами предсмертными, Сиротство мое предвещали!
С тех пор — весь дрожу я, во взорах задумчивых Завидя алмазные слезы:
Роятся, встают в моем сердце измученном Разбитого счастия грезы.
Так перевел Бараташвили один из первых его переводчиков В. Л. Величко1. В «Баратовском томике» (1905) мы встречаем еще два его перевода: «Молитву» и «К чонгури», сделанные в том же романсно-сентиментальном ключе. Нет нужды перечислять «разбитого счастия грезы», «задумчивые взоры» и т. д. Бесспорно, что «светозарные очи» куда больше дитя своего времени, нежели оригинал, потому что оригинал продолжает волновать нас и сегодня, а перевод кажется безнадежно устаревшим. Правда, от перевода Величко до наших дней прошла без малого сотня лет, а от последних переводов — каких-нибудь два-три десятка. Эпоха ли двадцать — тридцать лет? Во-первых, смотря каких лет, дело не только в количестве. И во-вторых, если не эпоха, то этап, и в данном случае весьма значительный.
И в ознаменование 150-летия со дня рождения Николоза Бараташвили Союз писателей СССР, издательства «Художественная литература» (Москва) и «Мерани» (Тбилиси) объявили конкурс на лучший перевод «Мерани». В конкурсе приняло участие около двухсот поэтов.
«К сожалению, даже лучшие из переводов не преодолели сложностей задачи,— сообщалось в бюллетене, изданном специально к вечеру поэзии, на котором были оглашены результаты конкурса.— Среди переводов не оказалось ни одного стихотворения, которое могло бы стать в дальнейшем хрестоматийным воплощением «Мерани» на русском языке».
Ни первая, ни вторая премии присуждены не были. Поощрительных премий удостоились следующие переводы:
1 Сб. «Восточные мотивы». СПб., Изд-во А. Суворина, 1890. О нем К. И. Чуковский писал: «К числу таких реакционных переводчиков принадлежал, например, стихотворец Василий Величко, ура-патриот, шовинист. Было похоже, что он специально заботился, чтобы в его переводах с грузинского не было ни единой грузинской черты». «Высокое искусство». М., «Искусство», 1964, с. 121.
19
под девизом «Сакартвело» — Б. Ахмадулиной, «Черный хрусталь» — В. Липко, «Встречный» — В. Лугового, «Кавказский пленник» — Ю. Ряшенцева, «Поэзия» — Е. Винокурова.
Двухтысячным тиражом издательство «Мерани» выпустило бюллетень с текстами пяти названных переводов.
Прибавим к ним перевод Евг. Евтушенко", опубликованный в те же дни в газете «Заря Востока» (от 11/IX 1968 г., № 213) и прочтенный на вечере поэзии, посвященном Бараташвили в Тбилиси.
Евг. Евтушенко широко воспользовался (чтобы не сказать, злоупотребил) тем правом переводчика, которое И. Кашкин определил как «право прочесть подлинник глазами нашего современника».
О, летящий мой, в самый знойный зной не ищи себе, где прохладненько...
...Все в полет, в порыв, как в крутой обрыв сумасшествия, столь прекрасного...
Пусть в родной земле не покоиться мне
вместе с дедами, вместе с прадедами...
Или четырежды повторенное:
Мой Мерани, лети, ветр, свисти-свисти.
Нет конца ни бегу, ни посвисту.
Ты меня разбей, а печаль развей, словно черную гриву по ветру.
Всякому, знакомому с творчеством Евтушенко, ясно, что выделенные обороты, строки, слова — в целом для него очень характерны. К сожалению, менее характерны они для Николоза Бараташвили.
С первого взгляда кажется, что стихотворение в переводе Евтушенко разрослось до невероятных размеров. Но, перечитав, с удивлением обнаруживаешь, что в нем столько же строф, сколько в оригинале,— девять. Впечатление такое создается оттого, что Евтушенко гиперболизирует каждый образ Бараташвили.
Пространство у него разрастается до размеров космических в первой же строке (кстати, очень звучной и емкой):
Без дорог и троп звездный твой галоп, мой Мерани, Ворон каркать стал, но от нас отстал за горами...
20
Вместо «сладкоречивой возлюбленной» у Евтушенко «ручей речей самых сладостных» (здесь и в других местах заметна аллитерационная изощренность, что выдает руку, опытную в стихотворстве).
Переводу Евтушенко присуща уверенная, победная интонация:
Взвив коня на дыбы, меч разящий судьбы Принимаю с веселой отвагою!
Свойственна ему даже некоторая лихость — особенно в рефрене:
Мой Мерани, лети, ветр, свисти-свисти...
И т. д.
Перевод транспонирует оригинал в другую тональность, ликующую, мажорную. Поэт не в силах скрыть радости, предвкушая победу.
Т а к не мог написать Бараташвили в 1842 году, не мог, потому что только спустя столетие можно с уверенностью говорить:
Но спокоен будь — не бесплоден путь обреченного, но отважного, Путь, что ты пробил, не напрасен был...—
это уже современный поэт обращается непосредственно к своему собрату, творившему в девятнадцатом веке. Перевод Евтушенко — это диалог современности с историей. Отсюда в нем и современные словечки («прохладненько» и т. п.) и кое-какие архаизмы (сирые кости, ветр, младость, слезы праведные).
И все-таки он живет, этот перевод (а может, вольное подражание, или переложение, или вариация?), живет, измененный до неузнаваемости, этот «Мерани-68». Живет, потому что написан с подлинной страстью, с волнением. И узнать его все-таки можно — по отчаянной непримиримости, по гордой отваге, по тяжелой и одновременно звонкой строфе. Резко отличаясь от «источника» по формальным признакам, он близок ему «сорадованием, сопереживанием», и этого не отнять.
А вот еще один «Мерани», совсем не похожий на предыдущего:
21
Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!
Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой над пропастью. Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую, Мерани мой, Мы полет затевали, гнушаясь расчетом и робостью.
Так перевела Бараташвили Белла Ахмадулина. Это не призыв к дерзанию, не порыв, а скорее лирико-философские раздумья, характерные для оригинального творчества поэтессы. Слишком сильна здесь переводческая индивидуальность, скажете вы? Но «Какое же творчество возможно после утраты индивидуальности? — спрашивал П. Антокольский на Втором съезде писателей.— Зачастую говорят, что переводчик должен всецело подчинить свою личность личности переводимого автора. Это невозможно, и тем более невозможно, чем талантливее переводчик. Долг переводчика проникнуться мироощущением, манерой, стилистическим характером автора и по мере сил передать это мироощущение, манеру и стиль средствами родного языка, оставаясь самим собой»1.
Требование строгое, почти непомерное. В творчестве современных молодых поэтов-переводчиков оно выполняется, как правило, во второй своей части: чем талантливее переводчик, тем чаще он остается самим собой.
Переводя «Мерани», Б. Ахмадулина не сумела (а может, и не стремилась) уйти от себя, так же как не ушла от себя и в переводах С. Чиковани, Г. Табидзе, А. Каландадзе, О. Чиладзе1 2. В том, что перечисленные поэты открывались какой-то новой своей стороной русскому читателю, стороной особенно проникновенной, большая заслуга Беллы Ахмадулиной. И надо сказать, что сильная и самобытная индивидуальность поэтессы не помешала, а, напротив, помогла новому читателю узнать и полюбить поэтов Грузии. Ахмадулина умеет сделать так, чтобы Отар Чиладзе не был похожим по-русски на Симона Чиковани, чтобы не сливались друг с другом стихи, объединенные тем не менее глубоким сходством с нею самой.
Неожиданная перестановка субъекта и объекта, какая-то
1П. Антокольский, М. Ауэзов, М. Рыльский. Художественные переводы литератур народов СССР. В кн.: «Вопросы художественного перевода». М., «Советский писатель», 1955, с. 24.
2 Переводы Б. Ахмадулиной грузинских поэтов см. в «Библиотеке грузинской советской поэзии». Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1967.
22
пронзительность и обнаженность слова присутствуют в ее переводе так же, как и в оригинальных стихотворениях.
Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость страстная — Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.
Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия, Не жалей, не щади твоего безрассудного всадника!
Контуры стиха в переводе чуть размыты, лишены четкости, определенности:
Все, что в сердце осталось, влеку я во мглу голубую... ...Но и в небе чужбины звезда моей родины светится...
Или возьмем шестую строфу:
...Не сойдутся родные — простить мне грехи и провинности...
Этого нет у Бараташвили — ощущения вины. Это вольность, глубоко связанная с одним из главных мотивов творчества Б. Ахмадулиной — горького недовольства собой, высокой, беспощадной требовательности к себе, к своему духовному миру.
Герой «Мерани» в этом переводе так же незащищен и уязвим, как лирический герой собственных поэм и стихотворений Ахмадулиной, так же высоки его идеалы и стремления. Но трагический героизм Бараташвили оборачивается у Ахмадулиной грустью («муки», «страдания», «Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую»).
Совокупность поэтических особенностей «Мерани», породивших обширную литературу в грузинской критике, создает особые, подчас непреодолимые трудности для перевода стихотворения на другой язык. Стилистический орнамент не должен заслонять в глазах переводчика философскую глубину и богатство содержания. Мы привыкли повторять, что неизбежные потери следует восполнять средствами, заключенными в возможностях языка, на который переводишь. Но чем и как восполнишь потерю самого главного — идейно-художественного единства и своеобразия подлинника? При современном высоком уровне переводческого мастерства все чаще и чаще встречаемся мы с грамотными, правильными переводами, лишенными живого дыхания, поэтического огня. Перечисляя шедевры переводческого искусства, мы не замечаем, как ссылаемся в основном на работы, выполненные в 30—40-е годы и очень редко — в последнее десятилетие.
23
Наряду с мертворожденными поделками процветают многочисленные попытки подменить собой автора, вместо особенностей его поэтики «показать себя». Создается впечатление, что поэт-переводчик не хочет утруждать себя и старается облегчить свою задачу за счет «опрощения» оригинала. Если перевести это абстрактное рассуждение на конкретную почву и вернуться к материалам конкурса, то следует отметить, что заметным исключением из потока однообразных, пугающе похожих друг на друга и не похожих на Бараташвили переводов является «Мерани» Юрия Ряшенцева. Вслед за автором переводчик чередует 14-слож-ный стих с 18—20-сложным. Интересна попытка внутренней рифмовки в строке в духе перевода М. Лозинского.
Мой безвестный брат, легче во сто крат повторит твой бег, бег опасный...
Ворон чернокрыл, мне могилу рыл, не полям мой тлен, так оврагу...
И т. д.
Но — недостатки суть продолжение достоинств. Формальный изыск привел к многословию, прихотливый ритм потребовал включения «лишних слов», мешающих драматической компактности и цельности всего стихотворения. Обращение Ю. Ряшенцева к грузинской поэзии принесло немало удач, например его переводы из Ираклия Абашидзе. На интересные размышления наводит и подборка его переводов из Николоза Бараташвили \ Здесь пять стихотворений (включая «Мерани»), выполненных в явно полемическом тоне. Какими бы разноречивыми ни были мнения об этих переводах — несомненно одно: Ю. Ряшенцев умеет вдумчиво и серьезно вчитаться в подстрочник (увы! не в подлинник) и отвергает легкий путь к сердцу русского читателя — путь «отсебятины».
Намеренной приземленностью обращает на себя внимание перевод Евг. Винокурова. Нарочитая «разговорность», небрежность разбивают трагическую мелодию, лейтмотив стихотворения.
Прочь, за пределы судьбы, мой Мерани, в опор! Я не сробею, уж коль не сробел до сих nopl
1 «Юность», 1968, № 9.
24
Или еще:
Следом за мной пролетит на коне мой собрат.
И перед ним уж не будет, я знаю, преград.
В последние годы много переводит с грузинского Владимир Луговой, поэтому неудивительно, что имя его оказалось в числе отмеченных участников конкурса. Есть у Лугового переводы, несущие печать свежего дарования (см. переводы последних стихотворений Георгия Леонидзе), но, к сожалению, есть у него и скороспелые опусы. В переводе «Мерани», при всем поэтическом умении, версификационной непринужденности, нет главного — той гармонии оболочки слова с его внутренним наполнением, которая делает «Мерани» явлением исключительным и неповторимым.
Вызывает возражение первая же строфа:
Цели не ведая, не разбирая дорог, мой Мерани, Мчи меня вечно! Да будет твой путь бесконечен и прям! Ворон мне каркает вслед на распутьях светающей рани. Сумрак тревожных раздумий я вручаю ветрам.
Веление «мчать, не ведая цели», несомненно, расходится с философским замыслом Бараташвили. Цель, как известно, была ведома. Цельности восприятия мешают и «распутья светающей рани», отсутствующие в оригинале и ничего не прибавляющие переводу, кроме туманной вычурности.
Перевод Вл. Липко едва ли не первая встреча его с грузинской поэзией. И сразу встреча с гигантом. Переводчик не растерялся, весьма достойно выдержал могучий натиск скакуна Мерани. Но кое-где встречаются огрехи, и досадно, что они особенно заметны в «главной» строфе:
И знай: не жалок, не бесцелен порыв мятежный твой и мой. Исчезну я, но не исчезнет наш путь, протоптанный тобой. Настанет час, другой скиталец проскачет здесь, где мчимся мы. Проскачет радостный, отважный и одолеет силы тьмы.
И наконец, еще один перевод, появившийся в «Литературной газете» (25 марта 1970 года, № 13) спустя два года после конкурса, принадлежащий перу Ярослава Смелякова. Маститый поэт — в данном случае для нас «молодой» переводчик, ибо в его активе переводов с грузинского едва ли не один «Мерани» Бараташвили. Поэтому мы будем такими же беспристрастными и строгими к переводу Я. Смелякова,
25
какими надлежит быть по отношению к молодым. Разделяя мнение автора заметки, предваряющей публикацию этого перевода (Мих. Луконин: «...Я понимаю, почему вдруг Ярослав Смеляков, как бы «ни с того ни с сего», тоже обратился к «Мерани» и перевел сейчас это стихотворение с грузинского на русский, вернее, из грузинской поэзии в русскую»), присмотримся к тексту внимательнее:
Попирая судьбу, на земле не нашел ничего я — Лишь презренье одно к начертаньям пошлейшим ее.
Трудно понять содержание этих двух строк, зато легко уловить склонность переводчика к чрезмерности определений: солнце у него знойное, туча плещущая, всадник вихретворный, шум дикий (в другой строфе он же — злодейский), сталь упоительная и т. д. Сочетание экзотичности с обыденностью (вместо поединка, скажем, жестокая ссора, собрат — удачливый и спорый и т. д.) особенно проявляется в 7-й строфе:
Я умру одиноко, бог весть на каком перевале.
Не страшит меня блеск упоительной вражеской стали.
Назойливое повторение случайных слов обедняет перевод, создает ощущение не полета, а беспомощного топтания на месте:
Мчись, Мерани, вперед, не пугаясь безмолвья и шума... ...Мчи, Мерани, меня, не шарахаясь дикого шума...
Неудачно начало второй строфы:
Разорви этот воздух, разбей(?) эту воду, развей эти горные кручи...
Изобилует перевод Я. Смелякова и просчетами другого рода:
«Вихрю скачки сродни вихретворного всадника думы» — вместо скромной просьбы отдать ветру мрачные думы (у Бараташвили). Или: «Весь остаток любви, все последнее счастье и горе я отдам на скаку возмущенно ревущему морю». К сожалению, список этот можно продолжить. Но самое печальное превращение произошло с той строфой «Мерани», которая несет основную философскую нагрузку стихотворения. Вот как она выглядит в переводе:
Но она не закончилась, эта жестокая ссора, Этот путь смельчаков я своим оставляю друзьям.
26
Я уверен, что вскоре веселый, удачливый, спорый Мой собрат пролетит по впечатанным в небо следам.
Пожалуй, трудно найти более показательный пример того, как неверно найденный интонационно-стилистический ключ приводит к искажению содержания, заложенного в оригинале.
Настала пора подвести итоги.
Если бы две с лишним сотни переводных «Мерани» скакали в хронологической последовательности по одной и той же тропе, может быть, они протоптали бы ее наконец настолько, что очередному переводчику удалось бы создать исчерпывающий образец, то самое «хрестоматийное воплощение», которое надеялось получить жюри конкурса. На деле все обстоит не так. Каждый сам выбирает себе путь и старается пойти нехоженой тропой, и никакого хрестоматийного воплощения быть не может.
Почти сотню лет насчитывает история перевода «Мерани». Сто лет питает его могучая стихия вдохновение самых разных поэтов, и это прекрасно.
Перевод синхронен не только переводимому произведению, он синхронен жизни, действительности. Новое время — новые песни. Переводчики-современники достают с полок тома классиков и обдувают с них пыль. Они разговаривают с ними, как живые с живыми, не манерничая и не сюсюкая. Они делятся с прошлым своими мыслями и надеждами. Это «панибратство», пришедшее на смену когда-то бытовавшему почтительному трепету перед классикой, как перед музейным экспонатом, как всякая реакция, пока что чрезмерно заострено. Также преувеличена вольность после набившего оскомину буквализма. Но, насладившись свободой, глядишь, кто-нибудь и задумается над пресловутой эквилинеарностью, эквиритмичностью, над верностью времени, манере и стилю. Задумается и вернется если не к переводу, то к оригиналу, продолжающему жить, как продолжает жить сегодня «Мерани» Николоза Бараташвили.
М. Новикова
(Симферополь)
КИТС — МАРШАК — ПАСТЕРНАК
(Заметки об индивидуальном переводческом стиле)
Чем стройней, чем глубже становится цельный переводческий метод, тем нагляднее делается многообразие переводческих индивидуальностей, а следовательно — стилей. Мы не спутаем не только, предположим, Блейка и Бернса в единой передаче С. Маршака, но и единого Шекспира, по-разному прочитанного М. Лозинским и Б. Пастернаком. Индивидуальные переводческие стили есть, они ощущаются нами.
Но, к сожалению, чаще ощущаются, нежели анализируются.
Существовала даже некая тенденция изучать художественный перевод «безлично». Иногда как-то «забывалось», что основной вопрос: в какой степени донесен подлинник? — зависит еще и от взглядов самого переводчика, его наибольшего интереса к определенным сторонам оригинала, его переводческих традиций. Достижения переводчиков казались коллективными, всеобщими, а «личными» — только недостатки.
Сейчас об индивидуальных переводческих стилях говорят, размышляют, спорят. Однако неразработанность вопроса дает себя знать. До сих пор трудно ответить: в чем же все-таки (практически!) они выражаются? Как (конкретно!) окрашивают переводимый текст?
Попробуем обратиться к поэзии. И вот почему.
Перевод поэтический предъявляет те же методологиче
28
ские требования, что и прозаический. Но он предоставляет переводчику больше прав, требует активней вмешиваться в текст. А следовательно — наглядней обнаруживает творческие принципы и вкусы переводящего. Именно в поэтическом переводе часто возникает оптимальная ситуация: полноправное существование нескольких переводных вариантов единого оригинала. При этом «вовсе не обязательно, чтобы один какой-нибудь перевод был лучше остальных; некоторые переводы имеют равные права на существование, на любовь читателей»1. Вне индивидуального стиля переводчика (включая сюда свое понимание подлинника) объяснить эти равные права нельзя.
Стихотворения английского поэта-романтика Джона Китса (сонет «Кузнечик и сверчок», ода «Осень») получили у нас широкую читательскую известность в двух переводах: С. Маршака и Б. Пастернака. Оба переводчика — признанные мастера, так что однозначная оценка («лучше» — «хуже», «удачней» — «неудачней») лишается здесь всякого смысла. Интерес переносится на сопоставление двух стилей. И еще одно интересно: сравнить поэтическое лицо Маршака и Пастернака в переводных и в оригинальных стихах. Проследить, какие стилевые черты подлинника совпали с личным стилем переводчика, какие— привнесены «от себя».
Итак, чем и почему отличаются переводческие варианты?
* * *
У сонета «Кузнечик и сверчок» — оригинальная история создания, во многом проясняющая его философский смысл. Китс написал сонет экспромтом, в поэтическом состязании с Ли Хантом. Поверхностный либерал и обаятельный эпикуреец (впоследствии он станет «образумившимся» консерватором), Ли Хант принял предложенную тему как забаву и сочинил очаровательную литературную безделушку. Его кузнечик — «согретых трав зеленый непоседа». Сверчок — «любитель сумерек», «друг камина с тишиной», «домохозяин добрый», оживляющий вечера «затейной беседой». А смысл жизни кузнечика и сверчка в том, чтобы круглый год «петь гимн природы — радость без конца».
1 В. Дмитриев. Переводы «Интернационала» на русский язык. «Тетради переводчика», № 4. М., «Международные отношения», 1967,
29
Китс провозглашает не вечную «радость», а неумирающую «поэзию земли».
The poetry of earth is never dead: When all the birds are faint with the hot sun, And hide in cooling trees, a voice will run From hedge to hedge about the neW-mown mead; That is the Grasshopper’s — he takes the lead In summer luxury,— he has never done With his delights; for when tired out with fun He rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never;
On a lone winter evening, when the frost Has wrought a silence, from the stove there shrills The Cricket’s song, in warmth increasing ever, And seems to one, in drowsiness half lost, The Grasshopper’s among some grassy hills.
«Поэзия земли» не благодушна. Жизнерадостность двух крошечных певцов несет в себе скрытый мотив сопротивления. Недаром запевают они тогда, когда все живое кажется подавленным, умолкшим: когда птицы разомлели от жаркого солнца, когда царит морозное безмолвие. Песня китсовских кузнечика и сверчка — это гимн не благополучной устроенности, а дерзкому, непокорному жизнелюбию.
Китс узнаваем в обоих переводах. И Маршака и Пастернака привлек философский оптимизм сонета, его земная, человеческая направленность, которую они бережно донесли до русского читателя. Сохранено китсовское изобилие материальных образов — зрительных, звуковых. Воссоздана строгая сонетная форма. Единый Китс есть.
Единый,— но не один и тот же.
Маршаковский «Кузнечик и сверчок» торжественней, сдержанней. Вам дается урок мудрости, урок жизневедения. В самом звучании этой речи так и слышится: «прекрасное должно быть величаво».
Вовеки не замрет, не прекратится Поэзия земли. Когда в листве, От зноя ослабев, умолкнут птицы, Мы слышим голос в скошенной траве Кузнечика. Спешит он насладиться Своим участьем в летнем торжестве, То зазвенит, то снова притаится И помолчит минуту или две.
Поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель^
30
Но вы покою мертвому не верьте.
Трещит сверчок, забившись где-то в щель. И в ласковом тепле нагретых печек, Нам кажется, звенит в траве кузнечик.
Пастернаковский вариант значительно более обиходный, непринужденный. С вами ведут доверительный разговор, делятся личными мыслями.
В свой час своя поэзия в природе: Когда в зените день и жар томит Притихших птиц, чей голосок звенит Вдоль изгородей скошенных угодий? Кузнечик — вот виновник тех мелодий, Певун и лодырь, потерявший стыд, Пока и сам, по горло пеньем сыт, Не свалится последним в хороводе.
В свой час во всем поэзия своя:
Зимой, морозной ночью молчаливой Пронзительны за печкой переливы Сверчка во славу теплого жилья. И, словно летом, кажется сквозь дрему, Что слышишь треск кузнечика знакомый.
Можно поштучно подсчитать отклонения от оригинала. Итог любопытен, но малоэффективен. Оказывается, Маршак и Пастернак практически равны по количеству «пропусков» текста. И тот и другой опускают мелкие детали, лежащие на образной периферии сонета. Не этими пропусками объясняется различие стиля1.
Тогда посмотрим, как лексически воссоздают переводчики те образы, которые у обоих совпадают с подлинником (или близки к нему). «When all the birds are faint with the hot sun...» «Разомлевшие птицы» Китса получают разную интерпретацию у Пастернака и у Маршака.
1 Примечательно, что Маршак и Пастернак в своих «пропусках» очень часто совпадают не только количественно, а и текстуально, то есть сокращают те же самые детали оригинала. Вот список таких совпадений: «the birds... hide», «the cooling trees» (у Маршака дано просто «в листве»; Пастернак вообще утрачивает эту подробность), «the Grasshopper... has never done with his delights», «beneath some pleasant weed», «on a lone... evening» (Пастернак оставляет лишь «ночью»; Маршак теряет образ совсем), «the frost has wrought a silence», «the Cricket’s song, in warmth increasing ever», «in drowsiness half lost» (Пастернак сохраняет «сквозь дрему» без «забытья»; Маршак опускает все); «among some grassy hills» (Маршак сберег только «в траве»; у Пастернака деталь отсутствует полностью). Таким образом, переводчики не противостоят друг другу по характеру «пропусков».
31
Когда в листве, От зноя ослабев, умолкнут птицы...
(С. Маршак)
Маршаковские слова для нас уже отступают стилистически в разряд «высоких», книжных. Иначе у Пастернака: «притихшие птицы». Этот синоним чаще встречается в повседневности.
Подобные параллели проходят систематически. О кузнечике:
...Не takes the lead
In summer luxury...
...Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве...
(С. Маршак)
...пока, по горло пеньем сыт, Не свалится последним в хороводе...
(Б. Пастернак)
Маршаковское «летнее торжество» становится у Пастернака «хороводом». Ниже, в зимнем пейзаже (when the frost has wrought a silence), «тишина» снова переводится по-разному. Более общераспространенным словом у Пастернака:
Зимой, морозной ночью* молчаливой...
Возвышенным поэтизмом у Маршака:
Пришла зима, в полях метет метель, Но вы покою мертвому не верьте...
На весь сонет у Маршака одно разговорное выражение: «забившись в щель». Пастернак вводит просторечие щедро: «лодырь», «по горло сыт», «свалится последним», «жилье» и т. д.
Высокая лексика находится у переводчиков в обратной пропорции. Она широко употребляется Маршаком: «вовеки», «замрет», «зной», «умолкнут», «участье в торжестве», «притаится», «мертвый покой»... Подкрепляют эту стилевую атмосферу Маршака синтаксические конструкции типа «спешит насладиться», «не знает смерти».
Прорисовывается первая закономерность. Маршак отдает предпочтение стилистически слегка приподнятому словарю, с высоким процентом книжно-поэтических слов.
32
Пастернак тяготеет к речи подчеркнуто разговорной, пересыпанной словами из разных (иногда противоположных) стилевых слоев.
Обнаруживается еще одна последовательность.
Голос кузнечика бежит «from hedge to hedge about the new-mown mead» — излюбленный Китсом пейзаж Средней Англии, с ее лугами, перегороженными на участки живой изгородью. Пастернак переводит: «вдоль изгородей скошенных угодий», Маршак — «в скошенной траве». Образ сохранен там и тут, но в пастернаковском варианте — подробно, детально; в маршаковском — обобщенно, контурно. «There shrills the Cricket’s song» — «трещит сверчок», Маршак верно воспроизвел звуковой образ. Но Пастернак ловит звучание обостренно: «пронзительны за печкой переливы сверчка».
Вторая переводческая закономерность: при общей тяге к сохранению образного изобилия Китса Маршак чаще сглаживает, обобщает китсовские отчетливые «моментальные снимки»; охотней идет на то, чтобы воссоздать образ в целом, поступившись его детализацией. Пастернак же способен полностью опустить второстепенные (по его мнению) места, но старается сберечь детальность изображения.
В каком соотношении находятся эти переводческие особенности со стилем самого Китса?
Сонет написан очень прозрачным, точным и общеупотребительным языком. Существительные передают материальные предметы (birds, sun, trees, hedge, mead, grasshopper, weed, stove, cricket, hills) либо эмоции и ощущения (luxury, delight, fun, ease, frost, silence, warmth, drowsiness etc.). Столь же двутипны глаголы: конкретных действий (hide, run, shrills) либо душевных состояний и восприятий. Эпитеты, как правило, чувственные или уточняющие: «жаркое солнце» (the hot sun), «освежающие деревья» (cooling trees), «свежескошенный луг» (the new-mown mead), «летнее ликование» (summer luxury), «зимний вечер» (winter evening), «травянистые холмы» (grassy hills). Метафорические эпитеты попадаются реже: «pleasant weed», «lone evening».
Подчеркнутым контрастом к предметному, вещественному миру сонета выступают две величавые сентенции первого катрена и первого терцета:
The poetry of earth is never dead...
The poetry of earth is ceasing never...
2 Мастерство перевода
33
Пастернак уменьшил лексику, связанную с эмоциями. Именно потому его перевод выглядит менее приподнятым, более разговорно-обиходным.
Маршак сохранил по-русски лексическую двуплановость сонета (материальные и эмоциональные образы). Однако маршаковская двуплановость является сокращенным, смягченным вариантом китсовской. Скажем, у Китса кузнечик «takes the lead in summer luxury», «has never done with his delights», отдыхает «tired out with fun». От всего этого Маршак оставляет:
...Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве.
Притом — мы помним — переводчик насытил текст более отвлеченной, книжной лексикой. То есть Маршак стилистически как бы выровнял сонет: смягчил материальность предметных образов — упростил образы эмоциональные.
Подтверждают разный подход к оригиналу и «дописки» обоих переводчиков.
Очень любопытный факт: «допиской» нередко кажутся пастернаковские выражения, имеющие соответствие в подлиннике. Это — следствие стилевой разнородности. Нелегко воспринять переводное «по горло пеньем сыт» как эквивалент оригинального «устав от забав» — «tired out with fun»: слишком сильна у Пастернака просторечная окраска. Не просто соотнести китсовское «привольно отдыхает» — «rests at ease» — с пастернаковским «свалится последним в хороводе». Переключение в иной стилевой регистр создает ощущение «выдуманности» приведенной строки — по сравнению с английским сонетом.
У Маршака в подобных случаях — другой любимый переводческий ход. Кузнечик —
When tired out with fun,
He rests at ease beneath some pleasant weed.
To зазвенит, то снова притаится И помолчит минуту или две.
Тождества, конечно, нет. Но маршаковские строки лишь варьируют, «додумывают» уже существующий у Китса образ. Введена «дописка» очень осторожно. «Притаится» дублирует (а поэтому ослабляет) следующий глагол «помолчит». «Минуту или две» никоим образом не значит 1—2 ре
34
альных минуты. А осторожен Маршак для того, чтобы «дописка» прошла незаметно, чтобы не нарушила образную ткань подлинника.
On a lone winter evening, when the frost Has wrought a silence...
Маршак теряет образ мороза, сковавшего все тишиной, и утрачивает метафорический «одинокий вечер». Взамен снова появляются вариации:
Пришла зима, в полях метет метель.
Но вы покою мертвому не верьте...
«Метет метель» — образность здесь ослаблена. «В полях» — на природе вообще. «Мертвый покой» умеренней, чем «тишина, которую выковал мороз» (притом a silence— тишина почти как нечто материальное). Переводчик опять осторожно подставляет вариации авторского образа, подходит к нему, если можно выразиться, с окраины.
В результате перевод (даже после сличения с оригиналом) звучит хотя и приглушенней, но органично.
По-разному отнеслись переводчики и к интонации воссоздаваемого стихотворения, к его синтаксису.
Ни Пастернак, ни Маршак не воспроизвели их полностью, ибо это попросту невозможно. Синкопированность ритмического рисунка точней передал Пастернак. Более дробный, расчлененный ритмически — его стих и в этом аспекте ближе к разговорному, нежели, скажем, к ораторскому.
Упорядоченные и развернутые периоды Маршака, напротив, усиливают ораторское, приподнятое звучание его сонета.
Тому же способствует и форма обращения. У Пастернака повествователь — единственное лицо: «кажется сквозь дрему, что слышишь...» У Маршака — множественное, собирательное, и столь же суммарное множественное число у адресата: «мы слышим голос», «нам кажется», «вы покою мертвому не верьте». Пастернак передает личный опыт, личные наблюдения и раздумья человека, говорящего непосредственно с вами. Маршак — обобщенные выводы, направленные к многочисленной аудитории.
Китс использует внеличный оборот (seems to one in drowsiness half lost). Однако он не прибегает к риторическим
2’
35
«мы» и «вы». Иначе говоря, автор не столь близкий собеседник, как Пастернак, но и не столь величаво-отодвинутый от слушателя оратор, как Маршак.
В заключение именно теперь, после анализа, становится очевидной глубочайшая логичность, с которой подошли оба переводчика к передаче философского резюме сонета — о бессмертной поэзии земли.
Маршак стилистически ориентировал весь перевод на высокое звучание этих сентенций. Они — его стилевой камертон:
Вовеки не замрет, не прекратится
Поэзия земли...
Поэзия земли не знает смерти...
Пастернак, наоборот, сами философские формулы трактует в более заземленном, конкретном плане. И в таком виде они очень естественно вписываются в опредмеченную интимную атмосферу пастернаковского сонета:
В свой час своя поэзия в природе...
В свой час во всем поэзия своя...
Сопоставление убеждает, что перед нами два перевода «хороших и разных». Разницу определяют словарный диапазон и предпочтительный тип лексики, способы воспроизведения образности, характер переводческих «дописок», тонкости синтаксиса. Порознь они воспринимаются как еле уловимые стилевые оттенки, легчайшая подцветка оригинала; но в сумме — интенсивно окрашивают переводной текст.
Вопрос, чем отличается индивидуальный стиль двух переводчиков, в какой-то мере прояснился. Незатронутым остался пока второй: почему их стили различны? Попытаемся разобраться в нем на материале оды «Осень».
* * *
Начнем с мастерства детали. Ибо, по справедливому суждению Е. Добина, «у истинного художника деталь — не украшение, не инкрустация... Деталь радует... отчетливой печатью индивидуальности писателя...»1.
1 Е. Д о б и н. Герой. Сюжет. Деталь. М.—Л., «Советский писатель», 1962, с. 375,
36
В собственных стихах Пастернака деталь обычно дана крупным планом, нарочито замедленно — чтобы лучше рассмотреть. «Дорогой в четыре оконных квадратика расстелет заря свой худой половик». Или —
Лосиха ест лесной подсед, Хрустя, обгладывает молодь. Задевши за ее хребет, Болтается на ветке желудь.
Или соловьи, которые «заводят глаза с содроганьем».
Приблизительности поэт не любит. Ему мало написать в своих стихах: сидит женщина. Надо схватить ее особенную позу, жест: «ты с ногами сидишь на тахте, под себя их поджав по-турецки», «замечтавшись, ты нижешь на шнур горсть на платье скатившихся бусин». Поэт не просто отметит: поет птица. У него птица щебечет «под сурдинку», да вдобавок «с пробелом в несколько секунд». И не лесные травы вообще, а
Иван-да-Марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник...
В другом стихотворении:
...меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав...
Так всматривается Пастернак-переводчик и в китсовский осенний пейзаж.
Китс, к моменту создания оды уже смертельно больной, злобно разруганный консервативной критикой, запечатлел в «Осени» не одиночество, не тоскливое предчувствие конца. Лейтмотив оды — чувство приобщенности к жизни, прославление «поры зрелого плодородия». Осень предстает труженицей-крестьянкой, неутомимо украшающей и возделывающей землю. Буквально ошеломляет изобилие точных деталей, буйство красок, звуков — солнечный движущийся мир оды.
Английские стихи дают Пастернаку полное раздолье для детализации. Причем переводчик еще усиливает зримость, «единственность», конкретность деталей Китса. Яблони он помещает не просто у дома (cottage-trees), но «у входа к дому». Они не только согнулись от яблок (как в подлиннике), но и «оперлись на колья» — им прибавлен характерный «жест». У Китса вообще «стерня» (stubble^
37
plains) — у Пастернака «жнивей полукружье». У Китса вообще «среди житницы» (amid the store) — у Пастернака «в воротах риг». Даже когда английский поэт достигает верха конкретности: Осень отдыхает от трудов «на полу амбара» (on a granary floor),—у переводчика найдется множество уточнений:
Забравшись на задворки экономий... Ты, сидя, отдыхаешь на соломе...
И даже если Китс запечатлел свою Осень by a ciderpress — за работой у пресса для сидра (неслыханный реализм и «проза» для литературы того времени),— Пастернак и тут конкретизирует: «тисков подвертываешь гнет».
Зренье в упор, жажда зафиксировать каждый ландшафт, звук, движение как можно четче, индивидуальней — черта дарования Пастернака-лирика. То же проступает в стиле Пастернака-переводчика.
Своим было у Пастернака и отношение к слову. Поэт часто сводил воедино на первый взгляд несочетаемое. Слово обретало особый «пастернаковский» колорит именно по контрасту. Энергия просторечия поддерживала высокое звучание откровений и пророчеств. Лирические пейзажи окрашивались так: ночь идет «без проволочек», дорога змеится «по всем законам перспективы», а под снегом окружающие предметы «отлились в безупречные формы без неровностей и углов». Пастернак отнюдь не иронизирует, когда пишет «лес заволосател» или «лес лопоухий». Для поэта здесь нет ничего уничижительного.
О кузнечике: «лодырь, потерявший стыд»—это не описка китсовского переводчика. В оде «Осень» Пастернаку не кажутся диссонансом все эти «вспучить» тыкву, «напыжить» орехи, «на сквозняке», «во сколько штук гроздей» и как кульминация — о задремавшей Осени:
На полосе храпишь, подобно жнице...
(У Китса просто «крепко спишь».) В поэтическом представлении Пастернака подобные слова сосуществуют на равных правах с возвышенными. Перед нами не осечка, а стилевой принцип.
Как совместим он со стилем подлинника?
Однозначно на этот вопрос не ответить. Ведь дерзость, -энергия пастернаковского словаря и дает стихам полнокров-
38
ность. В переводах Пастернака начисто отсутствует тот слишком дистиллированный язык, который даже в грамотных переводах выдает их «иностранное происхождение». Не случайно недоумевал К. Чуковский, почему в иных переводных романах героини непременно «красивые», будто не бывает «миловидных», «хорошеньких», «пригожих» и т. д. Перевод, сберегающий лишь плоские контуры, лишь понятия, выражаемые оригиналом, но уничтожающий его живую плоть, убивает и эмоциональную заразительность произведения.
Если переводческие работы Пастернака заразительны, если они стали частью нашей отечественной литературы, то в немалой степени благодаря языковой смелости.
Существенно и другое. Н. Любимов приводит фразу, оброненную Пастернаком: «Я в своих переводах читателя с горки на саночках прокатил»,— полностью с нею соглашаясь1. Сам Пастернак понимал свою переводческую задачу как необходимость дать «нечто легкое, свежее и безусловное»1 2. Однако легкость—не значит облегченность. Скользить по пастернаковским строкам, «читать глазами» (как читал в рассеянности юный Онегин) — нельзя. Не получится.
Лексика Пастернака-переводчика непредсказуема: никогда не угадаешь, какой оборот, какой эпитет он сейчас употребит. Стихи не мчатся по накатанным рельсам банальных фразеологизмов. Поэтому читательское внимание все время напряжено.
Китс пишет: Hedge-crickets sing. Глагол нейтрален; первый приходящий на ум эквивалент: кузнечики «звенят», «трещат»... Этих-то самых легкодумных, находящихся под рукой, а потому стертых выражений избегает Пастернак. «Засвиристит кузнечик»,— ставит он, не допуская налета приблизительности. Второй пример: можно усомниться в адекватности энергичного русского эпитета («крупная трель») мягкому подлиннику:
...with treble soft
The red-breast whistles...
1 В предисловии к книге переводов Б. Пастернака «Звездное небо». М., «Прогресс», 1966, с. 6.
2 Письмо Симону Чиковани. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 182.
39
Но невозможно не запомнить свежей строки:
Ударит крупной трелью реполов...
(Кстати, Пастернак и традиционной «малиновкой» не удовлетворился.)
Предугадать все это (на основе стереотипных, расхожих фраз) никогда бы не удалось. Напряжение не отпускает читателя: едва ли не каждое слово неожиданно «задевает» слух и глаз.
Да, но все-таки...
Все-таки Китс не писал о кузнечике — «лодырь», об Осени — «храпишь». Впрочем, не в том главная сложность. А. Тарковский указывал: «В переводе от подлинника остается процентов семьдесят—восемьдесят в лучшем случае. Двадцать — тридцать процентов принадлежит переводчику»1. Оставим вопрос о «процентах» сохранности — неизбежен сам факт вторжения переводчика в текст оригинала...
Китс не мог так писать — вот камень преткновения.
Стилевые струи, сливавшиеся у Пастернака в пределах одного стихотворения, у английского поэта способны были существовать лишь разграниченно. И у Китса есть «заплечный мешок» — knapsack, но в шуточной «Песенке о самом себе». И Китс не чурается просторечия (даже шотландских диалектизмов), но в стихах, навеянных фольклором Шотландии. Подобно тому как Пушкин пишет озорное «У Таль-яни иль Кальони». Синтез же в масштабах, доступных литературе XX века сплошь и рядом, в начале XIX века еще носил открыто экспериментальный характер, был опытом немногих. «Грудь под поцелуи, как под рукомойник!» — в собственных стихах Б. Пастернака; «рукомойник» образен, но не ироничен нисколько, не вызов стилистическим нормам. А Пушкин (бесстрашный обновитель литературных канонов) еще извиняется за «организм», еще сомневается в судьбе слова vulgar:
Оно у нас покамест ново, И вряд ли быть ему в чести.
Еще открытой дерзостью звучат пушкинские «девчонки» — о светских барышнях.
1 А. Т а р.к о в с к и й.. Искусство перевода. «Литературная газета», 22 ноября 1967 года.
40
Пастернак не нарушил образности воссоздаваемого поэта. Он не исказил и китсовское мироощущение. Образное мышление автора Пастернак не подменил своим собственным. Но в то время как слабые переводчики сковывают стилевой размах подлинника, Пастернак иной раз стилистически гораздо своевольней, чем переводимый поэт.
Тут сила пастернаковского слова, никогда не предназначавшегося для хрестоматийного употребления, всегда личного и живого.
Тут и парадокс, когда Китс для читателя, не владеющего английским, становится современней и моложе (по языку) Пушкина. Китс переводный говорит «карниз», «мыза», «экономии», «сквозняк», «охапка», «загоны», «с чириканьем». У него улей — «клейкие ячейки». А у Пушкина «пчела за данью полевой летит из кельи восковой». Ячейки — и келья. Что самое разительное: «келья»-то как раз буквально и есть в оригинале у Китса (clammy cells). Они с Пушкиным — исторические ровесники.
Культурные традиции, требования эпохи, господствовавшие вкусы, нормы литературных школ, течений — поистине через многослойный фильтр проходило поэтическое слово. Критерий допустимого менялся. Слова выбивались из жаргонных закоулков в большую жизнь и ветшали, теряя былое величие. Слова-иностранцы становились коренными жителями; другие ссылались на окраины языка... -
Единственное действительно безоговорочно свое, чем наделил Пастернак воспроизводимых авторов,— это о т-ношение к слову. У поэтов сохранен разный темперамент, густота образности, духовная атмосфера. Но все они — жители одной й той же языковой эпохи.
Когда из листьев редко где какой, Дрожа, желтеет в веток голизне, А птичий свист везде сменил покой...
Ты — добыча блужданий, Как над глушью болот Долгой ночью, в тумане, Птичьей стаи полет...
Я пойду стезей тернистой ли, случится, Иль дорога будет мшиста и мягка...
И встав, глазами мир окину, Где силам неба все равно, Ты женщина или мужчина, Но тело все просветлено...
41
Шекспир... Шелли... Верлен... Гёте... Все настолько современны в передаче Пастернака, что словно бы слышишь за плечом их дыханье. И как раз потому — все на одинаковом историческом расстоянии (верней, приближении) от нас.
Собственно, речь уже идет о важнейшем моменте — роли мироощущения (не только словоощущения) переводчика. Пластичность, первозданность впечатлений; неприятие всякой приблизительности, всяких «вообще»; чувство лирического прошлого как навечно длящегося настоящего — запечатлелись так или иначе в этих переводах.
Закономерно самое обращение Пастернака-переводчика к философскому пейзажу Китса. Пастернак — тоже философ пейзажа.
Первое, что сквозит в пастернаковском восприятии мира,— это ощущение чуда. Чуда не мистического, уводящего нас в некие внеземные сферы, но, наоборот,— земного, посюстороннего, очеловеченного. «Природа — не храм, а мастерская»? Нет, отвечает поэт, природа потому и храм, что она есть великая мастерская:
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда...
Слышим ли мы: «звезда» тоже подключена к творческому ТРУДУ? А рядом:
Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою.
Все видимое скрывает — и открывает — внутреннюю причастность к важнейшим законам бытия, все символично, все носит «отблеск вечности». Постоянная настройка на подобный подтекст, на второй смысл ощущается и в личной переписке Пастернака. Так он чувствовал повсюду, не только за писательским столом. Вот приезд в Тбилиси: «...ночьюза частою сеткой быстропадающего снега... быстро прошла незнакомая фигура, и все дошло до предела, и от восхищения не стало сил!»1 Даже — или особенно — в боль
1 Письмо к Г. Н. Леонидзе. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 190.
42
нице, во время тяжелого приступа, запомнилось художнику это таинственное величие бытия:
«Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!»1
Вселенная для Пастернака всегда одушевленна. Она вся—громадный процесс, действие. Оттого на равных правах с человеком в его лирике действует и чувствует (не просто присутствует) природа. Морозным дымчатым утром «меня деревья плохо видят на отдаленном берегу». Деревья — меня; не наоборот, как обычно.
Пастернак переносил на русскую почву китсовскую ожившую Осень. Но разве его, пастернаковские, времена года менее «действующие лица»? Хотя бы зима. «На улице, шагах в пяти, стоит, стыдясь, зима у входа и не решается войти». «На жизнь мою с холма сквозь желтый ужас листьев уставилась зима». «Наземь падает навзничь зима». «Она шептала мне: «Спеши!» — губами, белыми от стужи...»
Осень Китса — вся в действии. И Пастернак не жалеет глаголов для описания ее трудов:
Ты вместе с солнцем огибаешь мызу, Иль со снопом одоньев от богатых, Подняв охапку, переходишь брод; Или тисков подвертываешь гнет И смотришь, как из яблок сидр сочится.
Серия глаголов перечисляет хозяйственные заботы Осени: ей надо «одеть» лозу, «опереть на колья» яблоню, «напыжить» орехи, «растить» последние цветы и т. д. Свыше тридцати глаголов в пастернаковской оде (включая деепричастия). От ветра до птиц все в действии, переменах, движении.
Если мы теперь оглянемся на все сказанное выше о стиле Пастернака-поэта, то станут ясней истоки стиля Пастернака-переводчика. Сиюминутный — и проецируемый на
1 Письмо к Н. А. Табидзе. «Вопросы литературы», 1966, № I, с. 194.
43
вечность; пронзительно-красочный — и таинственно одухотворенный; овеянный теплом домашнего быта — и благоговением перед вселенским размахом жизни; напряженный в неотступных раздумьях — и полный душевной раскованности — таким предстает внутренний мир поэта. Внимательно присмотревшись, находишь тот же ракурс в подходе переводчика. Как бы дождем умытая свежесть деталей, придирчивая точность словаря — что это, как не сиюминутность сопереживания с автором? А небоязнь прозаизма рядом с высоким речением, разговорной интонации («твои ничуть не хуже») с патетикой («Пора плодоношенья и дождей!»)?.. Разве не выступает здесь традиционно-пастернаковское сопряжение макро- и микрокосма, когда
за тын перейти Нельзя, не топча мирозданье.
Теснейшее сближение «тына» и «мирозданья» — не является ли художественной почвой, родственной китсовской в этих стихотворениях? Ведь Китс тоже из домашнего, близкого, из «прозы» (пригревшийся в очаге сверчок; крестьянский обиход: веялка, серп, выжималка для яблочного сидра) свободно перешагивает к «мирозданью» — размышлениям о бессмертии труда и поэзии на земле.
Словесное и эмоциональное напряжение, пастернаковское пристрастие к глаголу-действию — они делают прошлое подлинника настоящим, даже китсовской гармонии придают больше волнения.
Вот почему со столь близкого, «личного» расстояния прочел русский поэт английского. И вот почему не мог пастернаковский Китс совпасть с Китсом маршаковским.
л * * *
Входя в поэтический мир Маршака, мы сразу замечаем иную систему временных координат. Взамен двух излюбленных Пастернаком точек отсчета — острого, перенасыщенного мгновения и таинственно соприсутствующей вечности — у Маршака господствует понятие времени. Для первого поэта художник — «вечности заложник у времени в плену»; для второго «время» с «вечностью» соотносится иначе.
44
Не знает вечность ни родства, ни племени.
Чужда ей боль рождений и смертей.
А у меньшой сестры ее — у времени — Бесчисленное множество детей.
Вечность — безликая и равнодушная, поглощающая людей «в неисчислимых, несознанных веках небытия». Время же, наоборот, очеловечено, ибо «вместе с нами что-то создает». Только оно плодотворно, только оно способно родить подвиг или стихи, а вечность, «старая, бездетная», лишь «усыновит племянников своих».
Время у Маршака неспешно, сосредоточенно:
..неторопливо еду, Но зато я слышу каждый шаг...
Он славит «терпение» путника, который открывает новые пространства, не завидуя проносящемуся мимо поезду. И, словно отвечая на чью-нибудь возможную реплику, поэт говорит о себе со спокойным достоинством: «Жизнь идет не медленней, но тише...»
Впрочем, Маршак не абсолютизирует время как таковое. Сквозь его лирику неотступно проходит противопоставление рабочего и пустого времени. Отсюда, с одной стороны, мотив «ленивого» времени — вне труда; упущенного («долгое время — не время, если оно миновало»); «лукавого» — оно «играет в минутки», чтобы потом предъявить растратчику счет. С другой стороны, поэт не перестает напоминать о емкости времени, возвеличенного трудом. Как наглядный синтез времени и человеческих дел возникает столь частый и важный в лирике Маршака образ — часы:
Сердца часов друг с другом бьются в лад. Дела людей заключены в их сетке...
Вернемся к оде. Если живая прелесть китсовской Осени-крестьянки, умение английского поэта найти возвышенное в повседневности больше всего, по-видимому, увлекли Пастернака, то можно предположить, что Маршаку особенно дорога была трудовая наполненность осеннего времени у Китса:
Ты с поздним солнцем шепчешься тайком, Как наши лозы сделать тяжелей...
Как переполнить сладостью плоды...
Распарить тыкву в ширину гряды, Заставить вновь и вновь цвести сады...
45
Ё соответствии со своим мерилом ценностей, Маршак иначе относится и к мгновению. Оно для него не столько красочный, физически ощутимый «глоток бытия», сколько связующее звено: «Пусть эта минута, как все, коротка, она, пробегая, смыкает века».
Поэтому «нечаянности впопыхах» лирик впускает к себе в стихи неохотно, редко. Все сиюминутное, преходящее получает у него обобщающий оттенок, рассматривается сквозь призму «времени». Очень тонко проявилось это различие в финале оды «Осень». У Маршака — «скорбный хор» комаров, «голоса» ягнят, «задумчивая трель» малиновки, «прощальный разговор» ласточек. Звуки названы (через существительные). Тем самым они как бы приостановлены, успокоены. Им придана известная обобщенность. В соответствующих строках у Пастернака:
Как вдруг заблеют овцы по загонам;
Засвиристит кузнечик; из садов Ударит крупной трелью реполов; И ласточка с чириканьем промчится.
Характерно: даже не «свиристит», а «засвиристит»; не «блеет», а «заблеет» — мгновенное впечатление. Осенняя симфония сейчас, немедленно, только что уловлена («как вдруг...»). У Маршака иное: так было и будет, звуки — неотъемлемые атрибуты осени.
Подобное жизнеощущение («не медленней, но тише») многое предопределяет в стиле Маршака-переводчика. Уже указывалось на обобщенность маршаковской детали. Это совсем не означает, будто Маршак не способен к пристальному поэтическому зрению. По четкости детализации, например, не уступят друг другу строки обоих переводческих вариантов: пастернаковская «лоза, обвившая карнизы» и маршаковские лозы «на скатах крыши, крытой тростником»; пастернаковская Осень —
Со снопом одоньев от богатых, Подняв охапку, переходишь брод...—
и маршаковская —
Снопы на голове несешь По шаткому бревну через поток.
Однако и в собственной лирике Маршака, и в переводной детали стоят, как правило, разреженней, даны несколькими
46
штрихами. Ибо они у него окружены своей особой эмоциональной атмосферой, воплощаются своими, «маршаковскими» образными средствами.
Эмоциональная стихия поэта — сдержанность чувств, скромность в их выражении и всегдашняя прозрачность, просветленность душевных состояний, от горьких до счастливых. Не ликование, а ясная тихая радость. Не отчаянье, а малословная скорбь или задумчивая грусть. Свое понимание душевной красоты художник выразил в стихотворении «Колышутся тихо цветы на могиле», где «качанье негну-щихся лилий» вызывает в памяти образ близкого человека:
Порою печальна, подчас безутешна, Была ты чужда суеты И двигалась стройно, неслышно, неспешно, Как строгие эти цветы.
Здесь, собственно, отлилось в афористическую форму все кредо Маршака-поэта: «чуждость суеты», «стройность», «неспешность», «строгость». Кредо это проступает и в маршаковских эпитетах. «Голос прозрачный» кукушки, «четкий и чистый» перебор соловья, «спокойный, мерный звон» часов, «простой и скромный» лист — читаем от стихотворения к стихотворению и проникаемся постепенно их негромкой поэтичностью. Не на том ли — грустном и легком — дыхании завершает Маршак переводимую оду?
...Малиновки задумчивая трель И ласточек прощальный разговор.
Не един ли тут скромный, ненавязчивый лиризм, определяющий выбор эпитетов? Такой лиризм оказался особенно ценным, близким при передаче стихов Китса, того Китса, который «даже самые горькие, самые тяжелые чувства... умел облечь непогрешимым по гармонии стихом», добившись «истинно эллинской» душевной ясности1.
Маршак в высшей степени доверял простому слову, простой детали, первородной, вроде бы не слишком «образной»,— потому что знал им подлинную цену. Его образность вызывает не ошеломленный восторг, а глубочайшее наслаждение узнавания. Говорит ли Маршак о
1 В. Рогов. Джон Китс, его жизнь и поэзия. В кн.: «Poetical Works of John Keats». M., «Прогресс», 1966, c. 21.
47
...красной розе, влажной и тяжелой,—
каждое слово и сам цветок давно нам известны. Но слышите: как тонка звуковая инструментовка строки, какую впечатляющую свежесть обрели знакомые «простые» слова? Или картина ранней весны:
Еще не раскрылся березовый лист И дует сырой ветерок.
Чего проще, а между тем «сырой ветерок» чуть ли не ощутим кожей. Маршак обладал высокой способностью — «высвечивать» внутреннюю поэзию простых предметов и слов. Разумеется, такая способность пришла не стихийно. Маршак не раз вспоминает умение русской классики добывать «новые поэтические ценности из житейской прозы». Стоит проследить, какие качества этой реалистической поэзии чаще всего акцентирует Маршак, чтобы понятны стали его собственные художественные принципы. «Простая и вразумительная, емкая и содержательная...» «Стихи эти — спокойные, сосредоточенные...» «Лермонтовское простое, ничем не приукрашенное... описание битвы...» И наконец, как вывод изо всех наблюдений и раздумий: «Подлинная, проникнутая жизнью поэзия не ищет дешевых эффектов... Ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения этой задачи, для работы»1.
«Бесконечными возможностями, заложенными в самом простом», умеет пользоваться и Маршак-переводчик. Вот только два примера, два «мазка», добавленных Маршаком к полотну Китса. Осень несет ржаные снопы через поток «по шаткому бревну» или выжимает яблок «терпкий сок». У Китса стоит: «across a brook» и «the last cozings». Оба слова в маршаковском варианте емки, материальны, оба очень «китсовские». А ведь они, по сути, крайне простые обиходные определения. Выразительными их делает обдуманная точность выбора и переводческое доверие к ним, как бы укрупняющее эти слова.
С подлинной «сосредоточенностью», абсолютной естест
1 С. Маршак. Зачем пишут стихами? В кн.: Сочинения в 4-х томах, т. IV. М., «Художественная литература», 1960, с. 229.
48
венностью интонации начинает Маршак поэтическую речь в оде «Осень»:
Пора туманов, зрелости полей,
Ты с поздним солнцем шепчешься тайком...
И дальше:
Твой склад — в амбаре, в житнице, в дупле. Бродя на воле, можно увидать Тебя сидящей в риге на земле...
Все ясно, внятно, законченно. Каждая фраза легко «объемлется» при чтении. Каждое предложение отчетливо выговаривает то, что нужно сказать. Как здесь не вспомнить, скажем, маршаковское восхищение прозрачной фразой у Чехова. Или — еще ближе к нашей теме: «...в поэтическом переводе, как и во всякой другой литературной работе, никто не может ставить перед собой задачу сделать изложение как можно более трудным и сложным. Напротив, всякий пишущий стремится к наибольшей ясности, доходчивости... Важно только, чтобы эта легкость достигалась за счет силы человека, поднимающего груз, а не за счет уменьшения веса самого груза»1.
Тут необходима оговорка. «Ясность» для Маршака не ограничивается тщательным избеганием невнятиц. Маршаку, к примеру, мало свойствен перебой в движении стиха, эллипс, неточность «скомканного» синтаксиса, хотя это уже вполне законные средства. Показательно, как видоизменил переводчик строки Вордсворта (из цикла «Люси»), передающие потрясение от смерти девушки:
But she is in her grave, and, oh, The difference to me!
Это «О!», поставленное очень «неудобно» — на конце строки, под рифму, и этот сбой ритма, и «нелогичная» финальная строка звучат вскриком прорвавшегося отчаяния. Маршак переводит:
Но Люси нет, и оттого Так изменился свет.
«Оттого» вносит логическую мотивировку. Вопль обращается во вздох. Отчаяние сменяется затаенной скорбью
1 Письмо к В. С. Рудину. «Вопросы литературы», 1966, № 9, с. 111.
49
(сквозь перевод проступает собственное, маршаковское: «Колышутся тихо цветы на могиле...»).
И в китсовском сонете, адресованном «гордячке-Славе», Маршак обходит негодующую инверсию: «А very Gipsy is she...», смягчая фразу правильным синтаксическим построением: «Она — цыганка...».
Ветвящийся, «раскидистый», нервный синтаксис Пастернака-поэта, не столько развертывающий фразу за фразой в логической последовательности, сколько «смыкающий» их ассоциативно и эмоционально, проявился, конечно, и в пастернаковских переводах. Китсовский стих в интерпретации Пастернака стал более беспокойным, более дробным, более «вязким» от обилия деепричастий, причастий, обособлений. У Маршака фактура стиха не столь плотна; строки воздушней, разреженней. Прислушаемся:
Забравшись на задворки экономий, На сквозняке, раскинув воротник, Ты, сидя, отдыхаешь на соломе...
(Б. Пастернак)
Бродя на воле, можно увидать Тебя сидящей в риге на земле, И веялка твою взвевает прядь...
(С. Маршак)
В одном из своих стихотворений Маршак говорит о людях, которые Вселенную
сердцем отразили И в музыку преобразили шум.
Первородный «шум» волнующейся > человеческой речи входит в лирику и переводы Маршака только отстоявшись, уже преобразившись в «музыку». Сквозным мотивом статей и высказываний Маршака звучит требование: слышать «музыкальный строй», музыкальную цельность стихов. Для эстетических принципов самого переводчика это всегда означает: слышать лад, гармонию («стройно согласованные звуки», по выражению шекспировского сонета, переведенного Маршаком).
Анализируя стиховую фактуру маршаковских переводов, нельзя не заметить еще одного. Поэт воссоздавал преж
50
де и больше всего классику. Если произвольно выбрать отрывки из этих переводов и прочесть, не зная авторов, то все-таки читатель почти наверняка, интуитивно, отнесет стихи именно к классическим, причем созданным не позднее первой половины XIX века. Трудно сразу определить причину такого впечатления: разные писатели отнюдь не звучат на один голос в передаче Маршака. Возможная отгадка заключена в том, что на маршаковское лирическое слово никакого влияния не оказала символистская литература конца XIX — начала XX века. Зыбкость основного значения, призрачность, «иероглифичность» слова у символистов (больше намекавшего, чем говорившего, и чаще призванного скрывать, утаивать истинный смысл, нежели его обнаруживать), прямой лексический алогизм в усложненных символистских образах — Маршаку как художнику все это совершенно чуждо. То же и в его переводах: слово может быть многозначно, однако без малейшего оттенка «тайнописи».
Важно и другое. Противник стилизации («Не в передаче стилистических архаизмов я видел свою задачу...»1), Маршак был мастером переводческой стильности. Он умел вызвать нужные лексические ассоциации у русского читателя. В оде «Осень»:
Бродя на воле, можно увидать...—
а за коротким «бродя на воле» в нашей памяти мгновенно выстраиваются «но есть покой и воля» и «брожу ли я вдоль улиц шумных».
Где песни вешних дней? Ах, где они? —
а интонация этого вопроса уводит нас к элегиям Жуковского, к романсам молодого Пушкина. Китс не покрывается преднамеренно «патиной», не становится у Маршака ни Жуковским, ни Пушкиным, но достаточно одного слова, одной строки, чтобы на нас дохнуло иной исторической эпохой.
Пришла пора еще раз оглянуться на сказанное о Маршаке. Что его поэтическое мировидение отличается от пастернаковского — очевидно для всех, и давно. Что его переводческий стиль именно потому не мог не отличаться
1 Письмо к В. С. Рудину. «Вопросы литературы», 1966, № 9, с. 112.
51
тоже — понятно многим, но далеко не всеми открыто признается («Ведь переводят, не собственные стихи пишут...»). А что, к примеру, переводы из Китса, созданные обоими мастерами, хороши не вопреки, а благодаря тому, что разные,— это покамест приходится доказывать.
Лирический мир Маршака подчиняется своим мерам времени, знает свою гармонию, свою цену слову. Просветленный, немногословный, мудрый, скромный — он пленяет нас именно неповторимостью. Как тоже (но не так же) неповторимый мир Пастернака. Кому-нибудь читательски ближе один из них, кому-нибудь другой. Однако два переводчика, словно два луча прожектора, с разных сторон осветили поэта. Естественно, какие-то черты Китса в каждом случае выдвинулись или, наоборот, ушли в тень. Естественно, освещение могло быть мягче или резче. Но это различный ракурс, различное освещение единого поэтического лица.
* * *
Вероятны возражения. Разве не существенно: что высветить и что оставить в тени? И потом: если признать законность индивидуальных стилей у переводчиков, где тогда гарантии «подлинности» самих стихотворений, где барьер для отсебятины?
Думается, что барьер двоякий.
. Первый (самый важный) — наличие у советских переводчиков единого метода, о чем шла речь в начале статьи. Все разнообразие, все изобилие индивидуальных переводческих стилей (реально существующее в нашей практике) воспиталось и утвердилось на этой цельности метода.
Любой серьезный советский переводчик, каков бы ни был его индивидуальный стиль, обязан владеть историческим документальным аппаратом. Любой должен знать новейший уровень текстологии. Любой сознательно стремится к верному воспроизведению оригинальной метрики. И — повторим еще раз — каждый мастер-переводчик памятует, что его работы предназначены не для «верхних десяти тысяч» (говоря ленинскими словами), а для многих и многих советских читателей.
Высокие требования, благородные принципы советского художественного перевода и есть первейшая гарантия
52
«подлинности» при воссоздании иноязычного произведения. Пренебрегая этими требованиями, переводчик нарушает не только законы стиля (оригинала), но и законы метода — прежде всего. Ведь, в конце концов, переводческий подход был индивидуальным испокон веку. Русские поэтические переводы дореволюционного времени отличаются от советских вовсе не тем, что первые унифицированы, а вторые «личностны». Главное — индивидуальность советских переводческих стилей покоится на совершенно ином основании. Те крайности «индивидуального подхода» (зачастую прямо искажавшего подлинник), к которым прибегал, скажем, Жуковский, просто невозможны в арсенале мастеров советского перевода, владеющих другим методом.
Теперь — о слове «мастера», употребленном не случайно.
Право на индивидуальный стиль есть исключительное право мастера. Точней сказать, не столько право, сколько обязанность мастерства. Плохой переводчик плох не из-за собственного стиля, а из-за бесстильности: стилевой чересполосицы или аморфности. И наоборот, цену творческой индивидуальности лучше всех знает тот, кто сам ею наделен. В этом (присущем таланту) уважении к иному поэтическому мировидению заключается, на наш взгляд, вторая важная гарантия переводческой «подлинности».
Кстати, при явном несходстве стилей именно Маршак считал пастернаковские работы «переводами настоящего поэта», радовался их «неожиданным удачам и находкам»1.
Перевод «со стиля на стиль» — это худо, ибо подразумевает утрату стиля подлинника. Зато со временем станет, вероятно, неоспоримым, что стиховой перевод — всегда синтез, слияние поэтики автора и переводчика. Разумеется, их «доли» не равны. Однако не замечать переводческой «доли» вообще, будто ее и не существует,— вряд ли перспективно для изучения закономерностей художественного перевода. Плодотворней проникнуться мыслью о том, что среди прекрасных (именно прекрасных) переводческих работ «нет канонических. Ни один перевод не передает подлинника полностью: каждый переводчик выбирает в оригинале только главное, подчиняет ему второстепенное,
1 Письмо к К. Чуковскому. «Вопросы литературы», 1966, № 9, с. 130.
53
опускает или заменяет третьестепенное»1. При недостаточно прочном идейном, художественном, методологическом фундаменте такие переводческие полномочия выглядят пугающе. Советским же мастерам перевода они-то и обеспечивают равную читательскую любовь.
Индивидуальные переводческие стили нельзя отрицать — они существуют. Не стоит пытаться их сглаживать — множество личных достижений каждодневно пополняют, уточняют, совершенствуют весь громадный опыт советского художественного перевода. Стили наших мастеров-переводчиков можно и нужно изучать.
1 Н. Автономова, М. Гаспаров. Сонеты Шекспира — переводы Маршака. «Вопросы литературы», 1969, № 2, с. 111.
Ст. Рассадин
•J
ПЛЮС ДЕСЯТЬ ВЕКОВ
Даже самые бесспорные истины стоит время от времени проверять практикой. Не затем, чтобы пересматривать, а затем, чтобы они не переставали ощущаться истинами, чтобы не приедались, как банальности.
Сотни раз сказано: художественный перевод в идеале должен стать органичным явлением «восприемной» литературы.
Прекрасная истина. И много раз подтвержденная практикой. Но мне кажется, что в теории мы порою повторяем ее автоматически, не всегда представляя себе многообразие условий, на которых литература согласится принять в себя иноязычное создание.
Среди этих условий, разумеется, учет и возможностей языка, на который совершается перевод (будем говорить только о русском и только о поэтическом переводе), и эстетики русской поэзии, ее образного строя, мелодики, ритмики; среди них же — потребность отыскать родственную опору для пришельца, установить его место в новом для него ряду, в ряду исконно русских стихотворений, установить по ассоциации, а может быть, и по диссоциации.
И т. д. и т. п.
Среди этих условий — и необходимость найти сопряжение эпохи перевода с эпохой оригинала — если, конечно, они не совпадают.
Маршак писал:
Я перевел Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом, Заговорит на языке другом, В Другие дни, в другом краю планеты —
55
и слова эти, «в другие дни», не звучат лишь как формальное сообщение о почти четырехвековом расстоянии между Шекспиром и его русским переводчиком. Ибо если переводчик, переводя, чувствует себя истинным поэтом и является им, то он просто не может не ощущать себя сыном своей эпохи, не может невольно не выражать того, чем дышат его современники.
Но ведь существует и еще одна простая истина: наша современность растет из нашего прошлого. И стало быть, тому, что сонеты Шекспира усилиями переводчика сделались явлением русской:поэзии, предшествовал длительный путь всей этой поэзии, ее приобретения и раздумья. То есть русский Шекспир стал не только современником своего переводчика, но и — в какой-то мере — продолжением великих русских поэтов XIX века. Да, продолжением, хотя он и умер задолго до них.
Стать явлением русской литературы — для переводного произведения это значит: оказаться в неразрывной ее цепи, нравственной и эстетической, духовной и формальной.
Иначе оно, это произведение, просто не сможет полноправно и естественно войти в сознание русского читателя, сформированное родной литературой.
Теоретики перевода проделали огромную работу по классификации выразительных возможностей русского языка сравнительно с иными. Но еще мало изучена психология творчества и, что, вероятно, еще важнее, психология восприятия, общие ее законы и национальные особенности.
Между тем переводчику необходимо знать и понимать психологический склад и современников переводимого им поэта, и собственных читателей.
Перевести на русский язык значительного зарубежного поэта, скажем Гейне или Байрона,— это значит: произвести на душу русского читателя то — хотя бы приблизительно то — воздействие, которое производят Байрон и Гейне на читателя английского или немецкого. Лучше даже сказать: воздействие, которое они производили на современного им английского или немецкого читателя. Ибо главный критерий удачи перевода — это если из души нашего современника исторгнуты те же звуки, что некогда— при самом рождении оригинала — исторгались из душ современников и соотечественников все тех же Гейне или Байрона.
56
Конечно, можно прибегнуть к десяткам оговорок: бывают поэты, понимание которых приходит после их смерти; да и вообще время, протекшее с момента создания того или иного произведения, нередко делает его понятнее и ближе для нас (как, быть может, происходит в наши дни с наследием Пушкина),— но все это не опровергает вышесказанного. Ибо, как я уже сказал, поэт-переводчик — если только он настоящий поэт и настоящий переводчик — неизбежно внесет в перевод давних стихов и свой личный сегодняшний опыт, и исторический опыт родной поэзии. Но все же то новое, что некогда внес с собою в поэзию и духовную жизнь современников переводимый им поэт, должно и в переводе ощущаться как новизна.
Быть может, самое важное здесь — вызвать ту искру, которая некогда возникла от соприкосновения души поэта с душой его современников. Это и есть продолжение жизни старых стихов, жизни уже «в другие дни, в другом краю планеты».
Я не собираюсь открывать новые истины, я лишь напоминаю о содержании старых. Напоминаю потому, что, приступая к разбору одной из новых переводческих работ, хочу делать этот разбор в свете вышесказанного. Хочу попытаться понять причины, благодаря которым старинный поэт •оказывается в близком, родном для нас литературном ряду и рождает живой отклик в современном русском читателе.
Старинный поэт — это гений армянской поэзии Григор Нарекаци (951—1003), автор «Книги скорбных песнопений».
Его переводчик — Наум Гребнев.
Что же касается современного русского читателя, то придется предложить в этом качестве себя. И начать разговор не с разбора принципов и приемов переводчика (об этом позже), а непосредственно обратиться к результату его работы: к целостному впечатлению от русского Нарекаци.
Обычно говорят:
«Эта книга — событие большого культурного значения...»
Подобными формулами мы нередко легко удовлетворяемся, ибо они из-за своей внушительной безличности дают нам легкую возможность как бы примкнуть к общему, проверенному, надежному мнению. Таким образом, фраза, рожденная, чтобы подводить итог, забегает вперед — и лишается смысла.
57
Общекультурное значение складывается из множества личных, индивидуальных, субъективных значений книги для каждого из нас.
Я надеюсь, что «Книга скорбных песнопений» станет в конце концов для русского читателя действительно событием большого культурного значения. Это — как и полный перевод книги — впереди.
Сейчас же мне хочется рассказать именно о том, какое личное значение имела для меня встреча с Нарекаци. Рассказать, нисколько не избегая субъективности, не страшась ассоциаций, даже рискованных.
Это заметки человека, который, мягко говоря, не является знатоком истории армянской поэзии и тем не менее надеется (быть может, бессознательно выдавая свою ущербность за преимущество), что взгляд на Нарекаци из другой, инонациональной культуры тоже может для кого-то оказаться любопытным.
Обнадеживает обстоятельство, что и армянский исследователь Левон Мкртчян в послесловии к Гребневскому переводу (Григор Нарекаци. Стихи. Книга скорбных песнопений (отрывки). Изд-во «Айастан», 1969) аналогией для творчества древнего армянского поэта избрал книги Достоевского.
А главное, повод для сопоставлений с русской поэзией дает сам перевод Гребнева.
* * *
Десять веков отделяют нас от эпохи Нарекаци. Десять веков, в течение которых успела зародиться и взрасти вся русская культура.
Те создания старинной или старой литературы, которым было суждено выжить в веках (или — ожить, как оживают раскопанные города), продираются к нам нелегко и небезболезненно, нередко оставляя клочья живой плоти на колючих заграждениях былых предрассудков, цензур и всяческих гонений на мысль. Зато в этом пути через века мучительно проверяется жизнестойкость идей и мыслей, мудрость и насущность книг. Зато идеи эти обрастают позднейшими ассоциациями, вставая в неожиданный ряд (допустим, Нарекаци — Достоевский), переосмысляются и домысливаются.
58
Четвертое измерение — время — порою многое добавляет к трехмерной жизни произведения только в своей эпохе.
Григор Нарекаци, в десятом веке начавший страстный, сложный, мятежный разговор с богом, был предвосхищением некоторых важных черт мировой поэзии — в частности, русской.
Слово «мятежный», возможно, покажется излишним в статье о поэте, который так искренне смиренен в обращениях к господу; однако повременим с выводами...
В конце XVIII века Гавриил Державин написал знаменитую оду «Бог». В ней он пытался постичь и объяснить парадоксальность существования силы, стоящей над человеком и вне его, дать очертания неощутимого и размеры необъятного:
Себя собою составляя, Собою из себя сияя, Ты свет, откуда свет истек...
И еще:
О ты, пространством бесконечный, Живый в движении вещества... Дух всюду сущий и единый, Кому нет места и причины, Кого никто постичь не мог...
Не близко ли звучат строки Нарекаци:
Непостижимый взору и уму, Ты, без кого ни слова нет, ни дела, Определяющий предел всему И только сам не знающий предела...
Сходство, понятно, объясняется в первую очередь единством источника — священного писания. Однако и у древнего армянского и у старого русского поэтов есть еще нечто, объединяющее их: извечное человеческое усилие познать, приблизить к себе, сделать человечески понятным того, кого сами же они готовы — согласно обычаю — признать непостижимым и непознаваемым.
«Непостижимый взору и уму»,— говорит Нарекаци.
«Кого никто постичь не мог»,— говорит Державин.
И оба пытаются — невольно, неосознанно — постичь.
Сама эта грандиозная образность («ты свет, откуда свет истек» или «определяющий предел всему и только сам не
59
знающий предела») — результат естественного человеческого стремления сравнивать непонятное с понятным. Полную свободу, необусловленность (или обусловленность лишь собою самим, что одно и то же) жизни духа поэты сравнивают с собственным бытием, в котором обусловлен множеством зависимостей каждый шаг. Свобода божественной воли познается через собственную несвободу.
А тот, кто — хотя бы и путем противопоставления — введен в привычную, земную систему координат, уже одним этим очеловечен и овеществлен.
Бесплотному духу примеряют человечье платье. «Платье плоти» (Цветаева).
Начав с самоуничижительной строчки «а я перед тобой — ничто», Державин идет к опровержению ее:
Ничто! — Но ты во мне сияешь Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь, Как солнце в малой капле вод...—
вплоть до достойного: «Ты есть,— и я уж не ничто!» В этой земной диалектике, в этой реалистической рассудительности — попытка самопознания и ощущения своего бытия через бытие бога. Даже — попытка самоутверждения.
Нарекаци избирает совсем иное: самоосуждение.
У него нет и быть не может милого державинского язычества, проистекающего от жадной любви к чувственным проявлениям жизни, его наивного кощунства, когда уже не только человек утверждает себя через бога, но и бог — через человека: «Я есмь; — конечно., есть и ты». Нарекаци весь в стремлении к покаянию и искуплению, и бог для него — единственная духовная опора:
Я человек, чья совесть нечиста, И лишь в тебе надежда очищенья. Я проклят, и твоя лишь доброта В меня вселяет веру во спасенье. ...И нет в тебе ни малой доли тьмы, Как вне тебя нет ни добра, ни света. Ты — надо всем, тебе подвластны мы. Тебе, Господь, да будет слава спета.
И вдруг:
И мне, отягощенному виной, Я верую, даруешь, ты прощенье, Как я простил былые прегрешенья Всем сущим людям, грешным предо мной.
60
Что это? Неужели смиренный, кающийся Нарекаци зовет самого бога последовать своему примеру? Да, так он и говорит (подстрочный перевод): «Быть может, мне, простившему согрешившим против меня, даруешь тем самым прощение и ты»1. Так нет ли в словах Нарекаци недозволенной христианством гордыни, еретического вольномыслия?
Но искусство ведь и призвано мыслить, а мысль и вольномыслие — синонимы, ибо несвободная мысль попросту не мысль. Сам разговор поэта с богом как факт эстетический уже содержит в себе дерзость, уже делает первый шаг (если даже он незаметен для самого поэта и нежелателен для него) к богоборчеству.
Жан-Жак Бруссон, секретарь Анатоля Франса, написавший знаменитую книгу «Анатоль Франс в туфлях и халате», вспоминал весьма любопытные слова своего метра, произнесенные в беседе с епископом:
«Ваш Шатобриан был большим иконоборцем, чем вся Революция. Он не уничтожил ваших святых, но он сделал хуже: он поместил их в музей... Виконт, этот enfant terrible католицизма, открыл двери музеев и любителей древности также и для неба, богородицы и святых».
Церковь знала, что делала, когда время от времени запрещала лепные, объемные изображения святых (вплоть до византийского иконоборчества), а в России не позволяла художникам-иконописцам выходить за пределы плоскостных решений или — позже — не одобряла поэтические переложения священного писания, так что, скажем, Пушкин уклончиво озаглавливал свои пересказы из «Песни песней»: «Подражания» (подражания — и все, а чему — неизвестно), и Мей называл такие же переложения просто-напросто «Еврейскими песнями».
Это понятно. Не в интересах церкви было — хотя бы и эстетически — приближать бога к человеку и тем самым подрывать основы страха божьего. Боятся лишь непознанного.
Мысль о боге родилась именно как страх перед этим непознанным (и, казалось, непознаваемым). Но жажда к познанию, в результате которой возникло й искусство, толкала к тому, что и богу уже отводилось место в понятном, познанном мире.
1 Здесь и всюду цитируется подстрочный перевод М. Дарбинян.
61
Бог, ставший, так сказать, героем поэзии, прежнего унижающего страха не вызывал.
В пушкинском «Пророке», являющемся довольно близким переложением библейского текста (пророка Исайи), шестикрылый серафим наделяет избранника даром сверхъестественного видения:
Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы...
Собственно, и в этих стихах аналогия пророк — поэт недвусмысленна. А в другом стихотворении она закреплена с еще большей ясностью:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел.
Вдохновение поэта прямо приравнено к голосу бога. А сам поэт — к избранному пророку.
В этом больше дерзости, чем в сравнении собственного нерукотворного памятника с государственным Александрийским столпом.
Но то — девятнадцатый век...
Григор Нарекаци (в десятом) вступил на этот путь мирового искусства.
Существуют недоказанные предположения, что Нарекаци сочувствовал одному из тогдашних еретических учений. Важнее, однако, совсем другое: то, что он стоял у истоков естественного и неизбежного «еретичества» искусства, по природе своей очеловечивающего весь мир и даже бога.
Как-то трудно называть песнопения Нарекаци монологами. Это скорее — диалоги. Собеседник не отвечает, но ощущается, к нему взывают, как к присутствующему, который если и не ответил еще, то вполне может ответить. И даже примерно известно, как именно,— потому что известен, ощутим его характер.
При таком отношении к небожителям неизбежно и нечто вроде богостроительства.
Собственно, богостроителем является всякий верующий. И дикарь-язычник творит бога по своему подобию, и просвещеннейший папа Иоанн XVIII. Свой бог и у На-
62
рекаци. Он лепит его по себе не в порыве первобытной наивности, но в страстной жажде правды и добра. И «лепка» эта не уподобляет невидимое видимому (так обычно и происходит в подобных случаях), а как бы одно видимое старается уподобить другому.
Мы помним, как Нарекаци звал бога следовать своему примеру.
Эта «лепка» идет по законам диалога: мы все ведь лепим из своего собеседника то, что хотим,— вернее, что можем. Лепим доводами рассудка и сердечными порывами.
И вновь в обращениях смиренного Нарекаци звучит императивность.
Доверяясь божьей власти, он в то же время дает понять, чего именно ждет он от бога. Какой помощи. Какой опоры. Разум человека и тут осмеливается утверждать себя, подавая советы... кому? Самому богу!
Конечно, это просьбы, но они настойчивы именно как советы,:
Прими не с гневом, а с благоволеньем...
То есть, прося о божьем благоволении, человек прямо заявляет о нежелательности, ненужности, жестокости гнева. Или:
Но будь целителем, а не судьей...
И в многократно повторяемых «доколе» и «ужели» также начинает звучать не только смирение, а укор. Вероятно, не сознаваемый самим поэтом, но явный для нас.
Однако не приписываем ли мы поэту Нарекаци некоторые черты, свойственные не ему лично, а традиции обращений к богу, святым книгам — и прежде всего псалмам Давида, о которых сам Нарекаци вспоминает не раз:
И, как сказал великий псалмопевец, «Постигли беззакония меня!»
В самом деле, близость очевидна.
Вот Нарекаци:
Ужели ты не слышишь, всеблагой, рыданий и молитв моих усердных?
Ужели ты не видишь, милосердный:
я — пленник зла — стою перед тобой?..
63
Вот Псалтырь:
Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?
Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь?
А та просьба-совет: «Но будь целителем, а не судьей» — имеет и вовсе прямую аналогию:
Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня...
Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей.
Больше того! Даже те строки, о которых мы говорили чуть ли не как о дерзких,— «я верую, даруешь ты прощенье, как я простил былые прегрешенья...» — тоже имеют первоисточником священное писание: стих евангелия от Матфея:
Й прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
Как же быть?
Но дело в том, что очень отлична от интонации псалмов и евангелия интонация Нарекаци. Как раз та интонация живого, диалогического разговора, которая и выражает невольное очеловечивание небесного собеседника.
Я уж не говорю о страстности Нарекаци, о его лирическом надрыве, благодаря которому само смирение выглядит мятежным....
Впрочем, сравнение «Книги скорбных песнопений» с евангелием и Псалтырью интересно даже не этим. Жалуясь на «беззаконие», Давид больше говорит о своих врагах, так сказать, внешних. Нарекаци же говорит о себе самом, себя осуждает, в своей душе видит противоборство зла и добра:
И сонмы сил недобрых и благих —
Любовь и гнев, проклятья и молитвы — Блистают острием мечей своих И дух мой превращают в поле битвы!
Когда читаешь страдальческий рассказ об этом противоборстве, хочется сказать вполне современное слово: самоанализ.
Да, Григор Нарекаци достигает той остроту самоанализа, которая недаром заставила Л. Мкртчяна вспомнить Федора Достоевского.
64
Аналогия эта в интересной статье Мкртчяна развернута слишком широко, чтобы заниматься ею и на этот раз. Любопытно, однако, заметить вот что: различие предпосылок, религиозных и нравственных, при такой близости результата.
Достоевский — современник кризиса религиозного сознания. Мир, прежде казавшийся таким прочным и надежным, зашатался. Многоголосье Достоевского, умение с одинаковой степенью искренности выражать и проповедовать противоборствующие идеи — порождение этого кризиса. Сомнение уже не приходит откуда-то извне, оно стало частью собственного сознания Достоевского. В нем рождается, и м должно быть опровергнуто.
Это — Достоевский. А что же Нарекаци, человек если и не зари христианства, то его полудня? Ведь это пора веры стройной и несомненной; к тому же речь — об Армении, для которой христианство было неотъемлемо от национального самоутверждения, ибо за то и за другое равно подвергались армяне жесточайшим гонениям со стороны соседей-мусульман.
Но, быть может, именно страстное и беспрекословное доверие к богу как к нравственному идеалу и заставляло Нарекаци быть таким непримиримым к злу вовне и внутри себя. Ясное видение идеала всегда предполагает острое ощущение несовершенства — мира ли, себя ли самого.
Солнце еще высоко в полуденном небе. Тени еще коротки. Но оттого они и гуще. Чернее.
Я улыбаюсь, будто свету рад,
А про себя кляну свой жребий всуе, Лицо мое спокойно, только взгляд Горит, смятенье духа доказуя. Со сладкою и горькою едой — Перед собою я держу два блюда. Держу перед собою два сосуда: Один с отравой, с миррою другой.
...На небесах два облака застыло — Одно несет нам огнь, другое — град. Тому, что будет, и тому, что было, Две укоризны с уст моих летят. Две жалобы летят незаглушимых — В одной мольба, в другой укора знак. И в сердце слабый свет надежды мнимой И горькой скорби безнадежный мрак.
Зг Мастерство перевода
65
Переход от своего внутреннего состояния к угрозам, нависшим над человеком, естествен, даже незаметен, потому что для Нарекаци душа его — модель мира. Не потому, что мир сумел всю свою мерзость влить в душу поэта,— совсем нет, но сам Нарекаци готов обвинить себя в том, в чем он повинен и неповинен.
Несовершенства мира он воспринимает как свою вину перед ним.
Парил я на крылах души моей, Над сонмом живших в мире сем от века. Но, многогрешного, меня грешней Покуда я не видел человека.
Все это взвесив на весах ума, Я обратил к себе, как порицанье, Нетленный стих Давидова псалма: «Со мною кто сравнится в злодеянье?»
Вновь как будто — смиренная ссылка на псалом Давида (такие ссылки у Нарекаци порою даются с удивительной скрупулезностью; например: «Как сказано в семьдесят второй притче Псалтыри»). Но на самом деле ссылка эта лукава и неточна. Даже не только неточна — противоположна по смыслу тому, что говорил царь Давид.
В Псалтыри сказано: «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?»
А у Нарекаци: «Со мною кто сравнится в злодеянье?» (В оригинале: «Кто сравнится со мной в злодеяниях и беззакониях?»)
Разница колоссальная. Потому что она говорит о колоссальном сдвиге в человеческом сознании, о немыслимой прежде сложности, отличающей душу Нарекаци.
Давид сознавал свою безвинность перед богом:
Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим...
Нарекаци же отнимает у себя надежду на успокоение, будоража свой мозг картинами порока и неверия. Больше того: безжалостно приписывая все это себе самому.
Порою песнопения его звучат не только трагически, но безнадежно. Мир резко дисгармоничен. Такова же и модель его, душа поэта. И кажется, выхода — нет:
66
Скорблю, что дух и разум не едины, Что на добро надежды нет в сердцах. Скорблю, что создан человек из глины, Замешенной на низменных страстях. ...Мы, смертные, пленяемся ничтожным, И не умеем мы глядеть вперед, И в поединке истинного с ложным Неистинное чаще верх берет.
Больно ощущая дисгармонию, Нарекаци готов завидовать тем, в чьей душе нет такой жестокой бури. Заблудший раб, вступивший перед самой смертью на путь веры, праведней его, праведней поэта, «в ком дремлет соучастник — дух лукавый». В этой зависти, как и всюду, Нарекаци детски искренен. Но, к счастью, опыт его души мудрее умозаключений.
«Блаженны нищие духом». Нарекаци не нищ, а мятежен духом. Он мечтает о блаженстве, он молит бога даровать ему душевный покой, но:
Мой тайный враг — исток моих сомнений, А сколь их много,— знаешь только Ты!
Почему-то ему необходимо пройти через сомнения. Почему-то нужно, хотя это и мучительно, осознать свою двойственность. Почему-то надо воздвигать себе самому преграды на пути к блаженству.
Почему?
Конечно, сам Нарекаци ответить на это не мог. Отвечает история мирового искусства.
Дух сомнения почти всегда был величав в европейской литературе. От Каина и Демона до булгаковского Воланда — мрачны и величественны гении ада. Не потому, что авторы их были апологетами зла и сомнения. Но, быть может, потому, что в борьбе со злом и сомнением и суждено человеку ощутить свои духовные силы, поверить в себя и в добро.
Двойственность Нарекаци — это его сложность, необходимое условие достижения гармонии истинной. Не первоначальной, не легко доставшейся, а выстраданной и высшей. Опять — аналогия. Гамлет.
Куда гармоничнее или, вернее, упорядоченнее мира принца Датского, обуреваемого сомнениями, мир Лаэрта, твердо усвоившего кодекс рыцарских добродетелей. Не медля рвется Лаэрт мстить за отца (не то что нерешительный
3*
67
Гамлет), ясны и категоричны его понятия о чести и бесчестии,— ясны и категоричны хотя бы потому, что выверены традицией.
А Гамлет, сперва по-лаэртовски полный жажды кровного мщения и не заглядывающий дальше, вдруг застывает перед отверзшейся пучиной зла, вдруг открывает несовершенства не только Дании, но мира и вселенной...
Кто же из них лучше выполняет свой человеческий долг?
И вот выясняется, что нравственный кодекс Лаэрта определенен, но — зыбок. Потому что достался легко, был внушен, а не выстрадан. И Лаэрт запутывается в сетях Клавдия, становится участником бесчестного заговора против Гамлета, и его сидовской добродетели хватает лишь на то, чтобы, будучи разоблаченным, признать свою вину: «Я гибну сам за подлость и не встану».
А символ двойственности, Гамлет умирает как рыцарь.
Нарекаци, мне кажется, и в этом смысле был предтечей гуманистов Европы. Разумеется, прямой преемственности тут быть не могло, но важно, что истинный гуманизм «в другие дни, в другом краю планеты» идет тем же, близким путем. Нравственные его основы едины.
Двойственность Нарекаци — это его сложность, сказали мы. Следует добавить и еще нечто, быть может, на первый взгляд и вовсе парадоксальное: эта двойственность — цельность поэта, точнее — условие для выстраданной и потому высшей цельности.
Так же, как и полифония Достоевского — тоже проявление неиссякающей жажды цельности. И жажды гармонии.
Возрождение души, на которое надеялся, порою уже не надеясь, Нарекаци,— это искупление, это награда за муки и скорбь:
Пусть кровь из ран твоих кровоточащих Во имя душ, попавших в рай и ад, Моей души давно иссохший сад Преобразует в сад плодоносящий.
В последний день земного бытия
И в первый день святого воскресенья Пусть возродится вновь душа моя, Которую убили прегрешенья.
Быть может, все эти разговоры о непременной труднодостижимое™ истинной гармонии обострены двадцатым 68
веком. Веком после Достоевского и Ницше, после жесточайших нравственных кризисов, после того, как слово «сомнение» не раз уже становилось символом целого поколения или целой эпохи.
В иные времена на этот счет могли возникать иллюзии.
Например, легкость и гармоничность пушкинского внутреннего мира и пушкинского стиха многим казалась тогда несоединимой со сложностью и мудростью. Даже друг Пушкина, трезвый и трагический аналитик Баратынский, разбирая посмертный его архив, не скрыл изумления, в письме жене: оказывается, последние вещи Пушкина поражают «чем бы ты думала? — силою и глубиною».
А вот что пишет о Пушкине современный поэт Н. Коржавин: «Легко, легко... Та пушкинская легкость, в которой тяжесть преодолена».
Конечно, наш современник прав, так оно и было. Но правота его — завоевание двадцатого века. Это стихи именно современника, знающего, как трудно — в нашем-то веке! — достигать гармонии...
Несомненно, мучительная гармоничность Нарекаци становится нам понятнее именно теперь. Но она — была. Была и в десятом веке. Цена гармонии, цена возрождения души открылась великому поэту древней Армении.
Так что современность поэзии Нарекаци — не пустое слово, а реальность.
Вообще-то, к сожалению, это стало дежурным комплиментом. «Имярек — наш современник» — так называются неисчислимые книги и статьи. И далеко не всегда авторы их' реально вдумываются в смысл этого штампа.
То, что кто-то из старых писателей вдруг оказывается для нас в особенности понятным и современным, еще не означает критерия качества. Это значит совсем другое: что мысли и чувства его в чем-то совпали с нашим нынешним умонастроением. Точно так же то обстоятельство, что один из старинных гениев пока что оседает на наших полках почетным грузом, не унижает великого предка. Возможно, что черед придет завтра. Или послезавтра.
И все же именно в эпохи «совпадений» обнажаются сокровенные достоинства великих книг. Ибо книга живет не. тогда, когда ее комментирует дотошный историк, а когда она попадает в руки читателя, которому нужно не мешкая получить ответы на свое, родное, выношенное.
69
* * *
Итак, мне кажется, что стихи великого армянина Григора Нарекаци, будучи переведены на русский язык, сомкнулись с давними раздумьями русской поэзии. И — что скрывать? — дело тут не только в изначальных свойствах самого Нарекаци, но и в том, что переводчик, выявляя эти свойства, помнил о традиции своей классики.
Частые ассоциации с Державиным или Пушкиным, конечно, закреплены — сознательно или бессознательно — русским переводчиком.
В нашей поэзии, начиная с Ломоносова и Державина, существует традиция поэтических переложений Ветхого и Нового завета — псалмов ли, «Песни песней» или евангелия. Традиция эта достаточно сложна и недостаточно едина, чтобы можно было в нашей статье дать ее лаконичный очерк; но важно, что избежать ее влияния при переводе иноязычного преложителя священного писания было бы для русского поэта просто противоестественно. И потому дело не в том, что это влияние проявилось в переводах Гребнева (оно и не могло не проявиться), но в том, как оно проявилось. Как и ради чего.
В этом главное.
Нарекаци — первооткрыватель путей поэзии, явление в высочайшей степени самобытное. И то, что он, творя свои скорбные песнопения, опирался на Библию, дела ни в коем случае не меняет. У него свой поэтический голос, свой мир, свои — иногда даже не совпадающие с могущественным первоисточником — взгляды.
Больше того.
В тех случаях, когда он особенно явно опирается на первоисточник, первооткрывательство еще очевиднее.
Мы уже видели, как обращение к псалмам царя Давида обернулось даже спором с нравственным кодексом псалмопевца, с его, как бы мы сказали нынче, нравственной позицией.
Еще более заметен шаг, делаемый Нарекаци, в его «Песни сладостной», которая восходит к библейской «Песни песней». Хотя сперва может показаться, что «Песнь» Нарекаци — очень близкое переложение «Песни» царя Соломона.
70
В самом деле. Вот отрывок из «Песни песней»:
Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы...
Голос возлюбленного моего! вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.
Друг мой похож на серну или на молодого оленя...
Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
...Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана!..
Вот Нарекаци (подстрочный перевод):
Черна я, но красива дщерь Евы, Иерусалима. Вот она, невеста моя желанная, любовью связанная с женихом.
Друг мой серне подобен или молодому оленю. Вот голос друга моего, полный горячей любви: — Приди, моя любимая, приди, возлюбленная невеста из лесов Ливана...
Вот, наконец, перевод Гребнева:
Красива, хоть черна, Я — дочь Ерусалима. Желанна и любима Для друга я одна!
Мой друг — в горах олень, Чье тело так упруго.
Далекий голос друга Я слышу в этот день!
— Любимая моя, Ты мне одна желанна, Ты из лесов Ливана Приди в мои края...
Казалось бы, речь должна идти не о пересоздании первоначального текста, а просто о двух идентичных переводах. Сперва Нарекаци точно и бережно перевел (всего-навсего перевел) «Песнь песней», а теперь Гребнев перевел на русский язык перевод Нарекаци.
Оказывается, ничего подобного. И гребневский перевод не лишен совершенно очевидной тенденции. А уж что касается «перевода» Нарекаци, то это в полном смысле пересоздание, перевоплощение, переосмысление — настоль
71
ко явное, что слово «перевод» здесь нельзя употребить иначе как условно.
В пересказ ветхозаветных любовных песен вдруг входит образ ‘ Христа-младенца, весьма неожиданный здесь, даже хронологически никак не совместимый с царем Соломоном:
Прелестен был восхваляемый младенец непостижимый, вневременный(1). Вот он, гора надзорная, цветок полей, лилея долин.
( Подстрочник)
И чувственность «Песни песней» уступает место чистой духовности — вплоть до того, что недвусмысленно эротическая символика решительно переосмысливается.
Такая символика — не случайность в «Песни песней», это ее постоянный «подтекст»:
...Стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее: и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков...
Примерно так же — после чувственных, физически ощутимых сравнений женского тела с холмами, плодами, лилиями — звучат и эти строки:
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени х, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама.
И вот эти-то чувственные образы приобретают у Нарекаци совершенно иное значение:
Сонмы пророков поют на том холме. Вот она, гора л ил ей, аромат ее — розы и корицы.
(Подстрочник)
То есть «холм» лишается какого бы то ни было эротического смысла, а «лилея», лилия перестает быть символом
1 Строки эти вошли в наше сознание в пушкинском переложении: Пока дохнет веселый день И двигнется ночная тень.
72
женской красоты («лилией долин» названа Суламифь, да и дальше этому слову Дан такой метафорический смысл: «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями»). У Нарекаци «лилея долин» — это Хри-стос-мл аденец.
Думаю, впрочем, что у читающего эти строки давно уже зародились сомнения. И, прямо скажем, небезосновательные.
— Как же так? — могут возразить мне.— Почему же это переосмысление рассматривается как достижение Григора Нарекаци, в то время как он всего-навсего выполнял в «Песни сладостной», так сказать, социальный заказ церкви? Ведь церковники согласились канонизировать «Песнь песней» лишь с тем условием, что ее чувственная, «светская» символика будет переосмыслена как символика религиозная. Например, в иудаизме земные отношения Соломона и Суламифи, их любовное воссоединение вопреки всем препятствиям истолковываются как любовь бога к своему народу. А в христианстве, догматам которого и следовал Нарекаци, «Песнь песней» рассматривается как рассказ о любви Христа к церкви, своей невесте, или к душе человека. Так что духовное перетолкование чувственности совершено церковью, а не поэтом.
И возразивший мне будет прав — но только в той области, которая касается первотолчка, стимула, исходного замысла Нарекаци.
Действительно, как христианин Нарекаци подчинялся взгляду своей церкви. Но как художник — как великий художник! — он не мог остаться на уровне послушного следования принятой трактовке.
Ведь церковь перетолковывала «Песнь песней» механически. Яркая чувственность любовных песнопений иссушалась догматически-беспрекословными их толкованиями.
Вспоминается бабелевский «Закат» — эпизод, имеющий явно пародийный характер; эпизод, где Арье-Лейб объясняет мальчику сокровенный смысл «Песни песней» (правда, речь идет о толковании иудаистском, но догматизм —всюду догматизм):
«Песня песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?.. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ.
7а
Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору...»
Славящий любовь библейский царь превращен в законоучителя: «Песня песней» учит нас...»
Художник Нарекаци не мог так прямолинейно и назидательно приспосабливать к христианской трактовке образность «Песни песней». Он преобразовывал стиль первоисточника: даже то, что прямо заимствовано им из «Песни песней», изменялось. Исчезала без следа эстетическая несовместимость земного текста и религиозного подтекста, возникал единый стиль. И не только единый, но — новый.
Тут мы, кажется, подбираемся к главному.
Григор Нарекаци — поэт, находившийся на перекрестке Востока и Запада. Две реки, восточная и западная, слились в его поэзии. И больше того: именно он в армянской поэзии сделал решительный шаг к гуманизму.
Что касается его гуманистических предвидений, то я уже говорил о них в первой половине статьи, проводя аналогии с Державиным, Пушкиным, Достоевским, Шекспиром.
Теперь пришло время сказать о предвидении эстетическом. Мне кажется, «Песнь сладостная» дает эту возможность.
...У Саши Черного есть пародийное стихотворение о Соломоне и Хираме, которому царь заказывает статую Сула-мифи — с условием, что изображение должно быть сделано не с натуры, а заочно, по описанию. Описанием служит «Песнь песней».
Кончается эта забавная история тем, что Хирам, слишком буквально понявший Соломоновы метафоры («шея твоя, как столп Давидов... как половинки гранатового яблока ланиты твои... два сосца твои, как два козленка...»), изваял нечто чудовищное.
Метя в свою современность, Саша Черный заканчивает стихи обещанием, что Соломон не будет забыт, ибо «молодые человеки возродят твой стиль в России».
Однако нам сейчас интереснее не тогдашняя злободневность сатиры, а столкнувшееся в ней — пока что в юмористическом плане — различие двух стилей.
Ведь в самом деле, «возрождение» в русской поэзии «стиля» царя Соломона выглядело бы неестественным. Великая поэзия «Песни песней» не может иметь — во вся
74
ком случае, хоть сколько-нибудь достойных — преемников в России, да и вообще в Европе — разве что в плане экзотической стилизации.
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;
...Шея твоя, как столп из слоновой кости; глаза твои—озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску...
«Песнь песней» и по происхождению и по манере — типично восточная поэзия с ее, говоря словами Пушкина, «роскошным красноречием», со страстной чувственностью, тяготеющей к описательности.
В восточном фольклоре, допустим в сказках «Тысячи и одной ночи», любовные признания описательны: влюбленный красноречиво сравнивает прелести красавицы с цветами, плодами, животными,— все прелести: от ланит до, как выражаются литературоведы, «телесного низа».
В русском же — и вообще европейском — фольклоре нет такой чувственности. Эпитеты чаще всего постоянные: алый рот, соболиные брови. Признание влюбленного — любовная песнь не просто перед соитием, но перед началом общего счастья — «жить, поживать и добра наживать».
Невозможно представить, чтобы Ромео и Джульетта объяснялись между собой с эротической откровенностью героев поэзии старого Востока — и это ведь не чинный Расин, а нескрываемо чувственный (но в европейском понимании) Шекспир. А наш Пушкин позволяет себе эротические двусмысленности (или даже — недвусмысленности) никак не в сказке о мертвой царевне,— с этой целью он пишет во всех отношениях нецензурную сказку про царя Никиту.
Конечно, европейская (и в частности — русская) поэзия отнюдь не чурается откровенного изображения страсти. Достаточно вспомнить пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем». Но как характерно, что это стихотворение даже начинается так: «не дорожу». Женолюбивый, страстный Пушкин не дорожит «восторгом чувственным, безумством, исступленьем», «порывом пылких ласк и язвою лобзаний»; ему милее не та женщина, что дарит наибольшие наслаждения, но та, которую он любит.
75
В интимном любовном объятии ему важнее не получать наслаждение, а пробуждать любовь, заражать ею любимую.
Это торжество духовности — в самой страсти.
Мне кажется, и в этом отношении Нарекаци предвосхищал европейскую традицию. Дух у него не бесплотен, а плоть духовна.
«Нарекаци думал о боге, но говорил о людях, о противоречиях жизни, писал о богоматери,— получалось о женщине и ее земной красоте («Грудь светозарна, словно красных роз полна...»)»,— пишет Л. Мкртчян.
Действительно, с богоматерью Нарекаци говорил, как бы он говорил и с земной женщиной. Он даже апеллировал к женственной мягкости характера богоматери, невольно противопоставляя эту мягкость «лютости божественного гнева».
Но и другой крайности нет у Нарекаци. Он не пошел по цути аскетического, «только духовного» истолкования чувственности; в его «Песни сладостной» земная любовь осталась земной и стала возвышенной — так, что от слов любви можно естественно перейти к словам веры.
При таком гармоническом слиянии, при создании столь единого и сложного стиля, разумеется, чувственная описа-тельность «Песни песней» не могла существенно не преобразиться в вольном пересказе Нарекаци.
Чрезвычайно характерно прежде всего то, что выбрал Нарекаци для своего пересказа. В него не вошли наиболее «предметные» строки «Песни песней» («зубы твои, как стадо выстриженных овец» и т. п.). Метафоры, чрезмерно витиеватые на новый, создаваемый самим Нарекаци вкус, были убраны; так, «переводя» уже цитированное мною место из «Песни песней» («черная, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы»), Нарекаци отказался и от шатров, и от завес. Осталась лирическая простота — без пышности, без красноречия, ставшего в новом контексте излишним.
. Начальные, любовные строки «Песни сладостной» — это как бы лирическая выжимка из «Песни песней».
Глаза твои голубиные, на руке лента красная, ожерелье — златое. Вот она, гора бальзаминовая, аромат нарда и мирры,—
так говорит Нарекаци (подстрочник), и если сравнить эти строки с многословием и красноречивостью тех строк из
76
стихи 9, 10, 11, 12, 14), то станет очевиден шаг Нарекаци к простоте и одухотворенности любовной лирики.
Любопытно, что и русские переводчики «Песни песней» (Пушкин, Мей) примерно так же — на свой, европейский лад — «адаптировали» стиль первоисточника.
И вероятно, не без помощи этой русской традиции сумел осознать шаг Нарекаци к большей простоте и ясности его современный переводчик Гребнев.
В его переводе «Песни сладостной» есть вольности, но из тех вольностей, которые помогают нам яснее понять суть переводимого поэта, направленность его духовных усилий.
Скажем, только что цитированные строки Нарекаци переведены так:
Глаза твои горят, От плеч и от ладоней Исходит благовоний Счастливый аромат.
Не могу сказать, чтобы это четверостишие казалось мне идеальным эквивалентом строк Нарекаци. «Песнь сладостная» вообще отнюдь не безупречный гребневский перевод из армянского классика. Если мне — в данном случае — не жаль «нарда и мирры», звучащих ныне слишком экзотично, во всяком случае куда экзотичнее и непонятнее «благовоний», то «глаза твои голубиные», эта строка, восходящая еще к «Песни песней»,— утрата ощутимая. Тем более жаль выпавших из соседнего четверостишия гениальных строк, также заимствованных из первоисточника: «Освежите меня яблоками, введите меня в дом пира»,— строк, которые нисколько не нарушали гармонии стиля Нарекаци, ибо не несли на себе следов восточной пышности и витиеватости.
И все же в принципе перевод Гребнева верен. По-видимому, и к переводу можно применить слова Станиславского: ты можешь перевести хорошо, ты можешь перевести дурно (скажем так: хуже), но ты должен перевести верно.
Гребнев перевел «Песнь сладостную» верно.
Потому что он думал о том, как воспринималось, говоря нынешним языком, «новаторство» Нарекаци его современниками (или ощущал это подсознательно — кто сможет сделать явными тайны творческого процесса?). И о том,
77
чтобы воспроизвести модель этих отношений с учетом читателя современного и русского.
Как я уже говорил в самом начале статьи, задача художественного перевода — это (помимо прочего) вызвать в душе нашего современника звуки, схожие с теми, что некогда вызывал старый поэт в душах своих современников. Новизна того, что он сказал давным-давно, и нами тоже должна ощущаться как новизна, иначе мы увидим застывший слепок былой жизни, но не ощутим ее дыхания.
Добился ли этого Гребнев в своем переводе из Нарекаци?
Думаю, да.
Итак, Нарекаци находился на перекрестке Востока и Запада. Поэтому естественно, что для его современников то, что связывает Нарекаци с традицией восточной поэзии, было привычным, естественным и непреложным. Внимание фиксировалось не на том, где эта связь существовала, но на том, где она рвалась.
Совсем иное дело — нынешний русский читатель. То, что для современников Нарекаци было нормой и даже меньше нормы, ибо он освобождался от привычной восточной витиеватости, нам может показаться, так сказать, превышением нормы и закрыть для нас смысл свершенного Нарекаци, смысл его преобразования духовной и эстетической традиции.
И вот Гребнев, как мы видели, освобождает свой перевод от «нарда и мирры», заменяя их не столь экзотичными на наш слух «благовониями»; и вот цитированные строки Нарекаци («Сонмы пророков поют на том холме. Вот она, гора лилеи. Аромат ее — розы и корицы») он переводит так:
Ты видишь: сонм святой На той горе толпится. Ты слышишь, дух корицы С горы исходит той,—
то есть опять-таки стремится соотнести звучание перевода с возможностями и традициями нашего, русского восприятия.
Нарекаци, создавая свой гармонический стиль, отказывался от восточных излишеств, чтобы очевиднее была одухотворенность его поэзии; русский переводчик Нарекаци
78
отказывается уже и от того, что может показаться излишествами его читателю,— с тою же самой целью.
Переводчик позволяет себе вольность ради верности переводимому поэту; ради естественности стиха; ради того, чтобы современный читатель испытал нечто подобное тому, что испытывал читатель древний.
Перевод «Песни сладостной» выбран для наглядности (мы могли здесь проследить не только приемы русского переводчика, но и преобразования, совершаемые Нарекаци по отношению к первоисточнику первоисточника, к «Песни песней»). Перевод отрывков из «Книги скорбных песнопений» не так нагляден в этом смысле, но художественно он явно совершеннее. И он подтверждает, что замеченные нами черты Гребневского перевода — принципиальны.
Опять-таки не раз пожалеешь об утратах (впрочем, неизбежных во всяком переводе). Например, о том, что не дошли до русского читателя великолепные строки Нарекаци: «...Когда в стенаниях сердца пожаром вспыхивают врата гортани и влага гортани вовсе иссушена», но и тут понимаешь, что эти недостатки — продолжение достоинств.
А когда такие строки:
Солнце справедливости, благословенный луч, образ сияющий, вожделенно желанный, неисповедимо высокий, неизреченно могучий, радость добра, исполнение надежды, восхваляемый небесный царь славы Христос — творец, глагол жизни — в переводе выглядят так:
Свет истины, пречистый Иисус, В величии своем неизреченный, Тебе молюсь, перед тобой клонюсь, Царь бытия, мой свет благословенный,—
то это и вовсе кажется проявлением художественного такта и понимания своего читателя. Тем более что эпитеты, которыми награждает Нарекаци Христа, сплошь цитатны— из книг Нового завета — и, по-видимому, для самого автора были некоей церемониальной обязанностью.
Впрочем, не надо преувеличивать количество отступлений Гребнева от текста Нарекаци. Обычно перевод не только верен по общему смыслу, но и текстуально точен. Что же до переводческих вольностей, то чаще они касаются не столько образов и метафор, сколько тона и интонации.
79
Вот самое начало «Книги скорбных песнопений» в подстрочном переводе:
Глас скорбных стенаний сердца моего Я возношу к тебе, зрящему сокровенное, И, возложив на пламя отчаяния, пожирающего мою душу, Плоды нечистых желаний, возмущающих мысли мои, Кадильницей воли своей посылаю тебе.
. Воззри, обоняй их, о милосердный, с большей любовью, Чем густой дым всесожжения, посвященного тебе на литургии. Прими это краткое изложение моих речений С благоволением, но не с гневом.
И пусть могуществом всесожжения Тучного тука (грехов моих) Вознесется немедля к тебе Из глубин тайну хранящей кельи моих помышлений Добровольный дар жертвы моего разума.
Вот перевод Гребнева:
Я обращаю сбивчивую речь К тебе, господь, не в суетности праздной, А чтоб в огне отчаяния сжечь Овладевающие мной соблазны.
Пусть дым кадильницы души моей, Сколь я ни грешен, духом сколь ни беден, Тебе угодней будет и милей, Чем воскуренья праздничных обеден. Мой стон истошный, ставший песнопеньем, Прими не с гневом, а с благоволеньем. Из дальних келий, тайных уголков Достал я слово, как со дна колодца, Пусть дым сожжения моих грехов К тебе, всемилосердный, вознесется!
В глаза бросается и общая точность перевода, ив то же время — большая простота, меньшая архаичность интонации.
Недостаток это или достоинство?
Я думаю, что достоинство — или, во всяком случае, никак не недостаток. И потому, что это опять-таки не то чтобы облегчает путь читателя (не в том назначение поэзии), но приближает слова Нарекаци к нему и к родной для него поэтической традиции. И потому, что, на мой взгляд, превосходный образ, объединяющий все эти строки,— образ жертвоприношения, сожжения грехов и соблазнов,— освободившись от принятой в эпоху Нарекаци несколько усложненной формы выражения, обнажил для нас свой
80
гуманистический смысл, столь близкий и понятный литературе русской,— в частности и в особенности нашему Достоевскому, чья поразительная близость к внутреннему состоянию Нарекаци вспоминается так неотвязно.
Впрочем, решать вопрос о правоте или неправоте Гребнева в этом отношении нельзя, не разобрав одной из важнейших причин того, что в переводе по сравнению с подстрочником изменилась интонация и упростились синтаксические конструкции.
Даже если не знать, что оригинал «Книги скорбных песнопений» написан свободным стихом, трудно не заметить этого по подстрочнику. Слишком уж явно связан синтаксис и образный строй стихов Нарекаци со свободным строем свободного стиха. Синтаксис же Гребневского перевода столь же явно упорядочен строгостью традиционного русского рифмованного ямба.
Итак, прав ли был переводчик, пойдя на такую — немалую — вольность?
Л. Мкртчян, вообще высоко оценив достоинства перевода Гребнева и отметив среди них даже такое важное, как «верно переданное общее настроение», тем не менее отвечает: не прав. «Все-таки,— говорит он,— «Книгу скорбных песнопений» правильнее было бы передать на русском языке верлибром». j
Я бы сказал иначе: желательно, чтобы был сделан и иной перевод Нарекаци, может быть и перевод свободным стихом. Он выполнил бы роль преимущественно историческую, в то время как перевод, подобный Гребневскому, выполнял бы роль эстетическую (по-моему, первоочередную), был бы чтением. Примерно так же соотносятся, скажем, рифмованный, хореический перевод Заболоцкого «Слова о полку Игореве», адресованный читателю, и дословный перевод академика Орлова, перевод, так сказать, научный.
Брюсов писал:
«Пушкин, Тютчев, Фет брались за переводы, конечно, не из желания «послужить меньшой братии», не из снисхождения к людям недостаточно образованным, которые не изучили или недостаточно изучили немецкий, английский или латинский язык. Поэтов при переводе стихов увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание — «чужое вмиг почувствовать своим»,— желание завладеть этим чу
81
жим сокровищем. Прекрасные стихи — как бы вызов поэтам других народов: показать, что и их язык способен вместить тот же творческий замысел...»1
Заметим: речь о творческом замысле, а не о способе его воплощения. Оно ведь может идти путями очень разными, даже внешне противоположными.
Верлибр не чужд нашей современной поэзии. Даже распространен в ней. О классической русской поэзии этого не скажешь.
Правда, нередко призывают осваивать верлибр, ориентируясь главным образом на образцы русского старинного стиха, на ритмы «Слова о полку Игореве» или народных плачей. Однако основан этот благородный призыв на недоразумении. Старый русский свободный стих отошел вместе с отмершими интонациями, с устаревшим синтаксисом. Возрождать его особенности в формах современного языка, куда более динамичного и лаконичного,— все равно что выращивать мамонта путем скрещивания современных животных.
Уже русской поэзии девятнадцатого века свободный стих — как цельная система стихосложения, как образ поэтического мышления — был несвойствен, так что отдельные и нечастые удачи нашей классики, связанные со .свободным стихом, были исключениями и отступлениями, определялись строго индивидуальными причинами.
«Образ поэтического мышления» — это сказано о ритме не для красного словца. Надеюсь, тут нет преувеличения.
Нынешний русский верлибр несет в себе совершенно иное духовное наполнение, чем старинный свободный стих наших плачей или армянских песнопений Нарекаци.
А говоря о переводе Нарекаци на русский язык верлибром, конечно, приходится иметь в виду верлибр современный, ибо если мы всерьез возьмемся перевести армянские скорбные песнопения ритмами старинных русских плачей, нам придется вместе с этими ритмами возродить и ушедшую лексику, и синтаксис,— так что поэт будет переведен с одного древнего языка на другой, тоже требующий перевода (как переводят на современный русский язык то же «Слово о полку Игореве»).
1 В. Брюсов. Фиалки в тигеле. Цит. по кн.: «Русские писатели о переводе». Л., «Советский писатель», 1960, с. 535.
82
Итак, о современном свободном стихе — сравнительно со стихом Нарекаци.
Свободный стих «Книги скорбных песнопений» был тесно связан с непосредственным предназначением книги. По словам автора «Истории древнеармянской литературы» М. Абегяна, этот стих соответствовал «содержанию и скандированию этих песен, когда молящиеся с каждой первой стопой стиха медленно склоняли свою голову, а затем с каждой второй стопой — поднимали».
Этот стих, несомненно, был определен близостью к ритмизированной прозе Библии,— так же как и лексика Нарекаци, и образы его, и интонации зависели от библейских.
Наш нынешний верлибр имеет другие истоки и другую историю.
Уже Уитмен, без влияния которого, прямого или косвенного, на мой взгляд, не обошелся ни один более поздний сторонник верлибра, обратился к своему стиху в разрушительно-революционном порыве, желая сломать старую нравственность и старую манеру, раскрепостить человеческий дух и заодно — строй поэзии. Он тоже щедро черпал образы и интонации из Библии, но библеизмы и нужны-то ему были затем, чтобы придать величественный размах его языческой чувственности, богохульному вызову, который он бросал небу.
Открытия русского стиха двадцатого века тоже носили революционный характер: и уитменианский замах Маяковского, и напряженная ломкость цветаевской интонации, расшатавшие традиционную силлаботонику и подготовившие сегодняшнее пришествие верлибра.
Конечно, в этом пришествии есть своя закономерность. Может быть, дело в тяге к опрощению стиха, к сближению его с разговорной прозой. Может быть, не случайно и то, что верлибр расцвел именно в машинный век, когда ритм искусства (некогда, в пору возникновения поэзии, рождавшейся в процессе освоения человеком природы) не так непосредственно ассоциируется с живым, теплым, мускульным ритмом.
Так или иначе, хотя современный верлибр и не стал пока что истинно русской системой стихосложения и до сих пор главным образом связан с влиянием на нас поэзии Запада, иммунитет русского языка против него в значительной степени ослаблен.
83
Но как бы то ни было, это — по природе — совсем другой верлибр, чем у Нарекаци. Не только по внешнему виду, а, повторяю, по духовному наполнению.
Боюсь, что сделать Нарекаци последователем реформаторов Уитмена и Аполлинера было бы ошибочно. Не из-за отрицательного отношения к их реформам, давно, кстати, положившим основу новым и довольно жестким традициям, но просто потому, что тут нужна опора на традицию совсем иную.
«Часто необдуманная верность оказывается предательством»,— сказал (тоже по поводу перевода) Брюсов.
Попав в сферу влияния чужеродной (хотя внешне и близкой) стиховой традиции, Нарекаци мог бы утратить — для нас, во всяком случае,— иные из своих важных качеств; произошла бы дезориентация. И вероятно, он не попал бы в тот поэтический ряд, который и помогает нам — ассоциативно — понять и осмыслить в нем то, что сегодня представляется близким, своим, современным.
Так что «правильность» Гребневского перевода в ритмическом отношении кажется мне несомненной далеко не только из-за обилия прецедентов — скажем, современных переводов «Слова о полку Игореве» и т. п. На мой взгляд, главное то, что Гребнев нашел в русской стиховой традиции точную опору для этих древнеармянских стихов; это, в частности, и помогло его переводу стать превосходными русскими стихами.
Не случайно по ходу нашего разговора о Нарекаци возникли аналогии именно с Державиным, с Пушкиным. Дело, надо полагать, не только в содержании, но и в форме, которая, впрочем, как известно, от содержания неотделима.
Размер перевода Гребнева — пятистопный ямб, гибкий, восприимчивый к оттенкам настроения и смысла, но традиционно тяготеющий к тому, чтобы сохранить под любым пером несуетную, но и не преувеличенную торжественность. Впрочем, если говорить об интонации перевода в целом (которая зависит не только от размера, но и от синтаксиса, да и от лексики), то тут наиболее близкий стилистический ориентир — это, мне кажется, поздний Пушкин, потянувшийся к архаике, к тому же Державину и к дидактической поэзии восемнадцатого века: «И бросил труп живой в гортань геенны гладной». Или: «Дхнул жизнь в него...»
Архаична и лексика Гребневского перевода:
84
Твой мир, смятенному,— мне светоч здесь Днесь и покуда не смежу я вежды.
И в иных местах: огнь... приявший... длань... деянья...
Притом переводчику удалось сохранить — в этом смысле — равновесие. Он не копирует архаичности Нарекаци или архаичности старой русской поэзии, той архаичности, которая затрудняет доступ к ней современного читателя; средства его перевода не механистичны, а прочувствованны, они создают необходимое настроение и, кстати говоря,— помимо прочего — напоминают о связях Нарекаци со слогом Библии.
Архаизмы и библеизмы перевода не столь даже постоянны, как может показаться; часто они ограничиваются тем, что делают стиху «прививку», заставляя обычные слова, сами по себе вполне стилистически нейтральные, звучать с нужной степенью торжественности.
Слово «прививка» в применении к поэтической стилистике заимствовано мною у Тынянова; он заметил однажды, что Мандельштам умеет делать своим стихам «чужеземную прививку», так что, допустим, одно латинское слово в строфе заставляет и соседние слова звучать торжественной, бронзовой латынью.
Примерно то же происходит в переводе Гребнева:
Для филистимлян и едомитян Годами ты отмерил наказанье, Но вечный огнь в удел мне будет дан За все мои сомненья и деянья...
«Сомненья» рядом с «деяньями» обретают тот же почтенный возраст.
Большой удачей перевода мне вообще кажется точное соотношение старины и современности, не приносящее ущерба ни тому, ни другому. Не прибегая к архаической подчеркнутой тяжеловатости, которая помешала бы показать, что самому Гребневу Нарекаци внятен именно как современному человеку, в старинном поэте ищущему нечто свое, близкое, переводчик избегает и явной модернизации, которая разрушила бы художественную иллюзию.
Но не избегает тех или иных признаков современного стиха.
85
...Маршак рассказывал однажды, как случайно попал на занятия литературного кружка, где, по выражению Маяковского, профессор обучал молотобойцев анапестам. На этот раз темой занятия была аллитерация. Кружковцы охотно подбирали наиболее броские примеры. В дело прекрасно шел Асеев («Белые бивни бьют в ют, в шумную пену бушприт врыт»), Бальмонт («Чуждый чарам черный челн») и т. п. Вспомнили, конечно, и пушкинское «шипенье пенистых бокалов», хотя на этом, кажется, демонстрация звукового мастерства Пушкина оборвалась: в этом отношении с Асеевым он состязаться, понятно, не мог.
Современная техника русского стиха, как правило, более броска и шумна, чем прежде. Не все, но многие поэты отказались от строгой экономии выразительных средств классической поэзии девятнадцатого века.
Не стоит рассматривать подобные вещи с однолинейной неодобрительностью, но уж во всяком случае опасность тут есть. Опасность самоцельности, хвастливой демонстративности, опасность, нередко реализующаяся.
В переводе Гребнева попадаются аллитерации в полном смысле слова современные:
Мой стон истошный, ставший песнопеньем, Прими не с гневом, а с благоволеньем.
Три «ст» — и подряд! Внешне это, конечно, ближе к асеевским бивням, чем к пушкинским, бокалам.
Но «шумность» эта не раздражает, потому что осмысленна. Вернее, прочувствованна, ибо эти аллитерации вовсе не похожи на те, которые тщательно, «мастеровито» подбираются поэтами.
Тот же Маршак говорил, что в настоящих стихах аллитерации образуют музыкальную тему, которая сопровождает тему смысловую. Таким образом, аллитерации оказываются музыкальными подтверждениями истинности, неподдельности чувства.
Трудное, немелодическое «ст», троекратно повторенное в цитированной строчке, словно бы фиксирующее, как страдальчески перехватывает дыхание у поэта, в самом деле передает истошность стона Нарекаци. А следующая легкая строка (особенно легкая рядом с первой, где нет ни одного звонкого звука, где одни шипящие да свистящие), кажется, и в самом деле доказывает нам прав
86
ду сказанного: истошный стон преображается в песнопенье, обретая поэтическую законченность, звонкость и гармоничность.
В другом случае та же самая аллитерация «ст» звучит иначе, хотя количество звуковых повторов даже увеличено:
Услышь, о боже, вопль души моей, Последний стон мой, ставший песнопеньем, Стон, слившийся со стонами людей, Тебя молящих о моем спасенье.
Те же самые слова («стон... ставший песнопеньем») звучат здесь по-иному, в более пониженной интонации, без прежней открытой страстности. Фонетика четверостишия смягчена многократными «л», ей сообщена певучесть, которой не было в той, «истошной» строке.
Различие фонетики того двустишия и этого четверостишия как бы выдвинуло на первый план разные слова. В тот раз — тяжелое, надрывное слово «истошный». На этот раз — слово «стон». Различие значений и эмоциональных содержаний этих слов так же велико, как и различие звучаний этих малых отрывков.
«Современные» аллитерации Гребневского перевода не просто мастерски организованы, но, что важнее всего, организованы по естественным законам мысли и чувства. Поэтическая техника двадцатого столетия встретилась с классической, традиционной соразмерностью...
Повторяю, не исключены, конечно, и иные попытки перевода Нарекаци. Больше того, чрезвычайно полезным дополнением к переводу, сделанному по избранному Гребневым принципу, было бы, скажем, издание тщательнейшего подстрочного перевода «Книги скорбных песнопений». И все же удача Гребнева — или начало удачи, потому что полный перевод, как уже было сказано, впереди,— кажется мне несомненной. Именно такой — не архаизированный, учитывающий психические и поэтические традиции русского читателя — перевод и способен дать нам не музейного, а живого Григора Нарекаци в его не окончившихся со смертью й вообще нескончаемых отношениях с дальнейшим развитием поэзии и духовной жизни.
Так сказать, Григора Нарекаци плюс десять протекших веков.
М. Гаспаров
БРЮСОВ И БУКВАЛИЗМ
(По неизданным материалам к переводу «Энеиды»)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
Труды М. Л. Гаспарова по античной филологии и стиховедению создали ему имя талантливого и серьезного ученого, в равной степени владеющего и искусством анализа и наукой широких выводов. Язык, стиль, стих, его воплощение и перевоплощение живо интересуют ученого.
Новая работа М. Л. Гаспарова вводит нас в лабораторию одного из видных поэтов и переводчиков нашего века. Основанная на большом фактическом материале, статья эта раздвигает рамки темы и ставит вопрос о переводческом буквализме вообще, имеющем в нашем цехе своих противников и своих защитников. Автор статьи говорит о Брюсове: «Буквализм был для него не «издержкой производства», а сознательно поставленным перед собой заданием». Это сказано весьма определенно! Далее: «...вопрос о буквализме в переводческом искусстве требует пересмотра с каждым новым шагом русской культуры». Не менее существенное заявление! Это — позиция ученого. Это, как показывает практика и теория перевода, мнение не одного лишь М. Л. Гаспарова. И это не может не волновать всех, кому близко и дорого высокое искусство перевода.
Итак: буква или дух? Это в известной степени полярные точки переводческой работы. А между этими полюсами — неисчислимое множество тонов и полутонов, переходных оттенков, приближающих ту или иную попытку то к первому случаю — к букве, то ко второму случаю — к духу, то к копии, то к творчески воссозданному портрету.
Редкие люди — и то по недоразумению или недомыслию — возражали против эпитета «творческий» в отношении искусства перевода. Собственно, и предполагалось, что если это искусство, то оно несомненно — творчество. А вместе с тем что-то в искусстве перевода и от науки. И это очень важное «что-то». Дозировка того и другого — искусства и науки — бесполезна, рецепты нелепы, так как в каждом отдельном случае вступает в силу очарование таланта, индивидуальности и их детища—самобытности.
В одних случаях «творческий перевод» — это синоним глубокого проникновения в оригинал, в его суть и стиль, в других случаях тот же «творческий перевод» — это синоним вольности, своеволия, еще больше — свободы от оригинала. Замечено, что такая вольность, такое своеволие, такая свобода от оригинала заходят подчас настолько далеко, что остается один шаг до произвола и хаоса. И этот шаг некоторые переводчики практически делают, особенно при пользовании подстрочииком, состряпанным пр иблизительно и наскоро. Вот почему у некоторых переводчиков и теоретиков время от времени появляется естественное желание вернуться в лоно оригинала, стать ближе к нему, слиться с ним. Это желание возникает как реакция на переводческий произвол. На мой взгляд, это лучший вариант буквализма, если и не совсем приемлемый в принципе, то хотя бы легко объяснимый по своей природе.
А как же все-таки с нашим основным и незыблемым, как «железная дорога», словосочетанием— «творческий перевод»'? А где же он — художник-переводчик, отвергающий буквализм самой сутью
89
своей деятельности? Стоит ли говорить о том, что буквалистский перевод почти автоматически теряет право на определение — творческий. Буквалистский перевод — это по сути копия, более или менее удачная, но именно копия, то есть раболепный повтор, дубликат, лишь внешне соответствующий оригиналу размером и техническими средствами и рабски подвластный законам иной речевой и стилевой стихии.
Все эти мысли возникли не вчера и не завтра исчезнут...
Вот почему редколлегия сборников «Мастерство перевода» решила печатать эту статью — в дискуссионном порядке. Для современного состояния практики и теории художественного перевода крайне важно выяснить точки зрения, как бы они ни были разны и разнохарактерны. Это, как всегда, необходимо для установления истины и для наших насущных практических шагов в ближайшем и далеком будущем.
Вот почему автор этих строк взял на себя право от имени и по поручению редколлегии сборников «Мастерство перевода» пригласить всех желающих принять участие в дискуссии по статье «Брюсов и буквализм».
Лев ОЗЕРОВ
У брюсовского перевода «Энеиды» Вергилия — дурная слава. Когда бывает необходимо предать анафеме переводческий буквализм и когда для этого оказываются недостаточными имена мелких переводчиков 1930-х годов,— тогда извлекаются примеры буквализма из «Энеиды» в переводе Брюсова, и действенность их бывает безотказна. Где ни раскрыть этот перевод, на любой странице можно горстями черпать фразы, которые звучат или как загадка, или как насмешка. «Конь роковой на крутые скачком когда Пёргамы прибыл и, отягченный, принес доспешного воина в брюхе,— та, хоровод представляя, эвающих вкруг обводила фригиек в оргии... » (кн. VI, ст. 515—518); «Нет, никто безнаказанно выйти не мог бы встретить его при оружьи, пошел ли бы пеш на врага, он, пенными ль шпорами он ло
90
патки коня уязвлял бы...» (VI, 879—881). А чего стоит хотя бы самая первая фраза брюсовской «Энеиды»: «Тот я, который когда-то на нежной ладил свирели песнь и, покинув леса, побудил соседние нивы, да селянину они подчиняются, жадному даже (труд, земледелам любезный),— а ныне ужасную Марта брань и героя пою, с побережий Тройи кто первый прибыл в Италию, роком изгнан, и Ла-вйнийских граней к берегу, много по суше бросаем и по морю оный, силой всевышних под гневом злопамятным лютой Юноны, много притом испытав и в боях, прежде чем основал он город, и в Лаций богов перенес, род откуда латинов, и Альба-Лонги отцы, и твердыни возвышенной Ромы» (I, 1а—7)1.
Но, кажется, до сих пор никто не задавался вопросом: как это случилось, что большой поэт, опытный переводчик, автор классических переводов из Верхарна, из французских символистов, из армянских поэтов, вдруг именно здесь, в переводе своего любимого Вергилия, над которым он трудился многие годы, потерпел такую решительную неудачу?
Вопрос этот был бы еще недоуменней, если бы критики Брюсова знали, что окончательной редакции перевода «Энеиды» предшествовала более ранняя редакция (по крайней мере, части поэмы); свободная от всякого буквализма, она не звучала ни загадочно, ни издевательски, в ней все слова были понятны и расставлены в естественном порядке, и, будь она опубликована в свое время, она могла бы стать тем переводом «для всех и надолго», какого так не хватает русскому читателю «Энеиды». Но Брюсов сам забраковал этот перевод и предпринял новый. Буквализм был для него не «издержкой производства», а сознательно поставленным перед собой заданием.
Брюсов гордился такой своей решительностью. В одной из заметок о своем переводе (ОР ВГБЛ, ф. 386, 48.3, «Объяснения переводчика» 1 2) он с достоинством говорит о том, что первые пробы перевода «Энеиды» были сделаны им еще в гим
1 Цит. по изд.: Вергилий. Энеида. Перевод В. Брюсова и С. Соловьева под ред. Н. Ф. Дератани. М.— Л., 1933.
2 Основная часть архива В. Я- Брюсова хранится в Отделе рукописей Всесоюзной государственной библиотеки имени Ленина, фонд 386, в дальнейшем ссылки на них делаются только по номеру картона, номеру единицы хранения и, если листы нумерованы, по номеру листа.
91
назии под руководством известного филолога В. Г. Аппель-рота \ в 1899 году он перевел полностью II и IV книги поэмы, в 1913 году, когда М. В. Сабашников предложил ему издать «Энеиду» в серии «Памятники мировой литературы»1 2, у него уже были вполне готовы три книги, частично — две и в отрывках — четыре, но тем не менее, пересмотрев этот перевод и выслушав советы специалистов (А. И. Малеина, Ф. Ф. Зелинского, В. И. Иванова, В. В. Вересаева), он уничтожил сделанное и начал перевод сначала. Рассказ этот, по-видимому, не свободен от преувеличений: судя по архиву Брюсова, ко времени сабашниковского предложения у него были готовы не три, а только одна книга; но то, что он пишет об отказе от сделанного и о возобновлении работы с самого начала и на новых принципах,— истинная правда.
Именно сопоставление ряда последовательных переработок перевода «Энеиды» позволяет проследить, так сказать, «путь Брюсова к буквализму». Особенно благодарным материалом здесь является вторая книга поэмы — рассказ Энея о гибели Трои. Начало этой книги существует по крайней мере в семи редакциях, из которых первая и последняя разделены двадцатью годами. Сравнение этих редакций крайне поучительно. Мы приводим их в Приложении I все подряд, отмечая курсивом измененные Брюсовым места.
Сравнивая эти семь редакций одного отрывка «Энеиды», можно легко различить среди них три группы, соответствующие трем стадиям работы Брюсова над переводом. Первая стадия — редакция А, ученический набросок 1895 года, работа того типа, который сам Брюсов потом заклеймит словами «не перевод, а пересказ»3. Вторая стадия — редакция Б, беловик 1899 года, уже не пересказ, а настоящий перевод, точный, но без буквалистических крайностей. Редакции В и Г представляют собой переход от второй к третьей стадии. Наконец, третья стадия в чистом виде —
1 О переводе из «Энеиды» для Аппельрота Брюсов упоминает в гимназическом дневнике 1892 года (В. Брюсов. Из моей жизни. М., 1927, с. 118).
2 В действительности предложение Сабашникова относится к 1911 году (ОР ВГБЛ, М-10844, ед. 77, письмо Брюсова к М. В. Сабашникову от 2 июня 1911 года; ср. А. И. М а л е и н. В. Я- Брюсов и античный мир. «Известия ЛГУ», т. 2, 1930, с. 185).
3 «Получился прозаический пересказ содержания поэмы, хотя почему-то и изложенный гекзаметрами» (о прежних переводах«Энеиды»),— см. Вергилий. Энеида, ук. изд., с. 40,
92
это редакции Д, Е, Ж, в которых новые буквалистские установки Брюсова находят самое полное выражение.
Рассмотрим ближе те изменения, которым подвергался брюсовский перевод от стадии к стадии. Изменения эти можно для удобства сгруппировать так: 1) уточнение парафраз; 2) уточнение образов (тропов); 3) уточнение семантики слов; 4) уточнение грамматической формы слов; 5) уточнение порядка слов; 6) уточнение ударения.
1) Уточнение парафраз — это и есть то, что Брюсов имел в виду, говоря о разнице между «пересказом» и «стихотворным переводом»: в «переводе» можно указать точное соответствие каждому слову (или группе слов) в подлиннике и в переводе, в «парафразе» это невозможно. Парафраза — законный и неизбежный прием в стихотворном переводе, особенно в рифмованном, где требования рифмы налагают на переводчика ограничения в выборе слов (исследовать точными методами «возмущающее» влияние рифмы на точность перевода — благодарная задача для будущих литературоведов). В нерифмованном гекзаметре переводчик может достичь более близкого соответствия между словесной тканью подлинника и перевода; к этому и стремился Брюсов1.
Почти все случаи «уточнения парафраз» приходятся на рубеж между первой и второй стадиями работы, между редакциями А и Б. Самый яркий пример — ст. 17: «С виду ж готовятся плыть и слух распускают об этом» (Брюсов сам чувствовал, что такой перевод слишком далек: в автографе записной тетради эта строка взята им в скобки); переделано: «Будто бы в дар богам пред отъездом — так слухи твердили» (этот вариант переделывался и дальше, но уже не в плане уточнения парафразы, а в плане уточнения семантики слов). Другие примеры: ст. 24: «и берег пустынный их прячет» — «в краю опустелом и скрылись... греки» (восстановлено подлежащее подлинника); ст. 21: «с дарданского берега
1 Читатель, желающий увидеть разницу между «переводом» и «парафразой» на особенно наглядном примере, может сравнить перевод начала «Энеиды», сделанный в гимназические годы А. А. Блоком (А. А. Блок. Полное собрание стихотворений в 2-х томах, т. 2. Л., 1946, с. 362), с любым другим переводом — Шершеневича, Фета, Квашнина-Самарина, не говоря уже о переводе Брюсова, цитированном в начале этой статьи. Перевод Блока будет самым легким и удобочитаемым, но именно потому, что это не перевод, а «пересказ».
93
видный — «в виду берегов» (снято лишнее слово); ст. 12: «хоть душа и страшится припомнить печали» — «как, отвращаясь от скорби, душа вспоминать ни страшится» (восстановлена двухчленность подлинника: meminisse hor-ret luctusque refugit). Менее значительные уточнения см. в ст. 13 (опущено «тяжкой», заменено «воинским счастьем»).
Случай обратного изменения — от перевода к парафразе— во всем нашем материале есть лишь один: в ст. 14 «После стольких промчавшихся лет» заменено во второй стадии на «Близ начала десятой зимы» (чему нет никакого соответствия в подлиннике); но в третьей стадии (редакции Г, Д) парафраза опять заменяется более точным переводом.
2) Уточнение образов (тропов) встречается в нашем отрывке дважды. В ст. 22 у Вергилия — синекдоха: «часть вместо целого», «киль» вместо «корабль» (образ, традиционный в латинской поэзии, но традиционный, главным образом, именно благодаря Вергилию). На первой стадии перевода Брюсов эту синекдоху не передает: «кораблей неверная гавань», на второй — передает точно: «ненадежная гавань для килей» (потом, в редакциях Г, Д, синекдоха опять исчезает, но в окончательном варианте появляется вновь). Еще более интересный случай работы над переводом — в ст. 20: здесь у Вергилия опять синекдоха — «вооруженный воин» вместо «вооруженные воины». В редакции А Брюсов пишет: «наполняя... чрево коня... оружием войска» — синекдоха не передана, но вместо нее поставлен другой образ, метонимия, «ассоциация по смежности»: «оружие» вместо «вооруженный воин». В редакции Б (и В) Брюсов передает синекдоху точно: «Воином в броне наполнив...» Но он еще колеблется, и в редакциях Г, Д появляется иной вариант: «Вооруженным народом...» — тоже синекдоха, но другого вида, «целое вместо части», «народ» вместо «воины». Однако даже это кажется Брюсову чрезмерной вольностью, и в окончательном варианте синекдоха опять передана точно: «Воином вооруженным...» Таким образом, работа над уточнением образов, как и работа над уточнением парафраз, совершается Брюсовым преимущественно на рубеже между первой и второй стадиями перевода1.
3) Уточнение семантики слов — предмет заботы Брюсова
1 Нечего и говорить, что у предшественников Брюсова ни та, ни другая синекдоха не передана совсем.
94
на всех стадиях работы над переводом. Вот примеры. Ст. 3, renovare — «припомнить» (А), потом «воскресить» (Б) или «оживить» (В), потом «обновить» — наиболее словарно точно. Ст. 6, pars magna fui — сперва «важным участником» (А), потом «немало участвовал» (В, Г) или «участвовал много» (Д, Е, Ж). Talia fando — «о том повествуя» (Б, Е) или «о таком повествуя» (А, Д, Ж); вариант «при подобном рассказе» (В, Г) забраковывается. Ст. 9, praecipitat — сперва «сходит» (А, Б), потом «мчится» (В—Ж). Ст. 11 — сперва «дарданцев», потом, как в подлиннике,— «Трои». Ст. 13, fracti — сперва точно: «сломлены» (А), потом вольнее: «истомившись» (Б, В), «изнемогши» (Г), потом опять точнее: «разбиты» (Д, Е, Ж); можно заметить, что ранний вариант был лучше — греки были «сломлены», но вряд ли «разбиты» в Троянской войне. Ст. 15, instar montis — «вроде горы» (А), потом конкретнее, чем в подлиннике,— «вышиною с гору» (Б, В), потом опять возвращение к подлиннику — «в виде горы» или «видом с гору» (Г—Ж). Ст. 17, votum — на первой стадии перевода, как мы видели, это слово было вовсе обойдено парафразой, на второй оно переведено «в дар богам» (Б, В), на третьей точнее — «обет», «по обету» (Г—Ж). Там же, еа fama vagatur — на второй стадии переведено описательно: «так слухи твердили» (Б, В), на третьей — точно: «молва эта ходит» (Г, Д), «расходится слух тот» (Е, Ж). Ст. 18, delecta corpora — сперва «из луч^ ших» (А), «знаменитых» (Б, В), потом Брюсов находит слово, передающее самую этимологию подлинника: «отборных» (Г, Д), «избранных» (Е, Ж); заметим, что синекдоху, выраженную словом corpora, Брюсов так и не решился передать. Ст. 22, manebant — на первой стадии перевода это слово потерялось в парафразе «В годы могущества Трои...» (А), на втором был найден точный перевод: «оставались царства Приама» (Б, В), на третьем — иной, столь же точный, но более стилистически уместный: «пребывало Приама царство» (Е, Ж); вариант «стояло» (Г, Д) забраковывается как недостаточно точйый. Заметим один случай, где Брюсов так до самого конца и не перешел от приблизительного перевода к более точному: в ст. 15 divina... arte от первой до последней редакции остается «дивным искусством» (хотя уже Квашнин-Самарин точно перевел это как «искусством божественным», а Фет, чуть вольнее,— «небесным искусством»). Здесь, конечно, сыграло свою роль созвучие divina —
95
«дивный», столь соблазнительное для каждого переводчика с латыни.
4) Уточнение грамматической формы слов — это значит: там, где можно перевести, например, наречие наречием или прилагательным, на выбор,— Брюсов предпочитает переводить наречием, как в подлиннике. Переработка в этом направлении приходится в основном на рубеж между второй и третьей стадиями перевода. В ст. 8 у Вергилия стоит предложный оборот: temperet a lacrimis; на первой и второй стадиях перевода Брюсов передает это беспредложным оборотом «сможет слезы сдержать» (А, В, Г), «слезы, сумеет сдержать» (Б), на третьей стадии — предложным оборотом «от слез устоит» (Д, Е, Ж). В ст. 12 личная глагольная форма luctusquerefugit сперва передана у Брюсова неличной формой, деепричастием «отвращаясь от скорби» (Б), потом — личной формой «и бежит от печали» (В, Д, Е, Ж); попутно уточнена и передача этимологии слова ге-fugit. В ст. 11 наречие breviter на первой стадии переведено наречием же «вкратце» (А), на второй — прилагательным «краткий (рассказ)» (Б), на третьей — Брюсов опять возвращается к наречию: «бегло» (В), «вкратце» (Г, Д, Ж)- В ст. 24 глагол condunt стоит в настоящем времени; Брюсов колеблется между прошедшим временем — «скрылись» (Б), «укрылись» (Г, Д) — и настоящим — «кроются» (В), «скрываются» (Е, Ж) — и останавливается все-таки на настоящем. Наконец, в том же стихе Брюсов сталкивается с еще более характерной особенностью латинского языка — с его склонностью опускать подлежащее там, где оно явствует из контекста: hue se provecti deserto in litore condunt. В пяти вариантах из семи Брюсов дополняет свой перевод подлежащим — существительным: «Греки, отъехав туда...», «Греки, приплывши туда...», но, наконец, решается и в последних двух вариантах заменяет его местоимением: «Те, удалившись туда, на пустынном скрываются бреге».
5) Уточнение порядка слов выражается в том, что Брюсов от варианта к варианту стремится расположить слова в порядке, менее привычном для русского языка,— разорвать или переставить слова, синтаксически тесно связанные. Переработка в этом направлении и здесь приходится на рубеж между второй и третьей стадиями перевода. В ст. 2 определение и определяемое от варианта к варианту раз-
96
двигаются все дальше: «...так начал с высокого ложа» (Б), «с высокого начал так ложа» (В, Г), «начал с высокого так родитель Эней тогда ложа» (Д, Ж). То же в ст. 16: «из отесанных елей» (Б, В), «бока из отесанных делая елей» (Г, Д), «из тесаной ребра ему приладивши ели» (Е, Ж). В ст. 21 порядок слов постепенно меняется: «есть островок Те-недос» (А), «есть... Тенедос... остров» (Б, В), «есть... остров ...Тенед» (Г, Д), «Тенед... есть остров» (Е, Ж) — опять-таки от более привычного к менее привычному. В ст. 5 «ужасы те, что я видел» (Б) превращаются в «что сам я, плачевное, видел» (В, Г) или «что сам я, ужасное, видел» (Д, Е, Ж) — точное сохранение латинского порядка слов (подсказанное, может быть, Фетом: «что сам я, печальное, видел»). Если определение и определяемое остаются рядом, то они переставляются: в ст. 15 «дивным искусством» (Б, В) заменяется на «искусством дивным» (Г) — а потом, при первой возможности, и на «искусством Паллады дивным» (Д, Е, Ж); в ст. 19 «в слепом боку» (Б, В) заменяется на «в боку слепом» (Г).
6) Наконец, здесь же, на третьей стадии работы над переводом, Брюсов меняет ударения в собственных именах с более привычных для русского читателя на менее привычные, но более точно совпадающие с ударениями этих имен в латинском произношении: «данаи, мирмидбнин, долбп, Паллада, Тенедос, Приам», которые были в первых четырех редакциях (в редакции А Брюсова смущали даже «данаи», и он вместо этого писал в ст. 5 «греки», а в ст. 14 «ахейцы»), в последних трех редакциях начинают звучать: «данаи, мирмйдонин, дблоп, Паллада, Тенед, Приам».
Таким образом, можно подвести итоги. При переходе от первой стадии работы, от «пересказа», ко второй, «стихотворному переводу», внимание Брюсова было сосредоточено на уточнении парафраз и на уточнении образов. При переходе от второй стадии работы, от «стихотворного перевода», к третьей, «художественному подстрочнику»1, внимание Брюсова сосредоточивается на уточнении грамматических форм, латинообразного порядка слов и положения ударений в собственных именах. Этим и объясняется раз- 1 * * 4
1 Выражение И. М. Брюсовой: «чтобы художественный перевод
являлся одновременно и художественным подстрочником...» (Верги-
лий. Энеида, ук. изд. с. 321).
4 Мастерство перевода
97
ница впечатлений, которую чувствует читатель, сравнивая первую, вторую и последнюю редакции брюсовского перевода,— разница не в пользу последней редакции.
Эти наблюдения подтверждаются и собственными свидетельствами Брюсова. Он трижды писал о принципах своего перевода «Энеиды» — в первый раз около 1899 года, готовя для публикации редакцию Б; во второй раз в 1913— 1914 годах, впервые печатая отрывки из своего перевода, уже в поздней редакции; и в третий раз — в 1920 году, когда он в последний раз пытался довести до конца и напечатать свой перевод. Из этих заметок Брюсова напечатаны были только те, которые сопровождали публикации 1913— 1914 годов; остальные остались в рукописях, а они не менее, если не более интересны.
Заметки 1899 года существу ют/голько в черновом виде, в двух вариантах, озаглавленных «Замечания о моем переводе «Энеиды» и «К переводу «Энеиды» (48,3, л. 12—19). Это разрозненные наброски и замечания (см. приложение II), но и по ним можно видеть направление его интересов. В центре его внимания — семантическая точность, точность передачи тропов, забота о том, чтобы перевод был переводом, а не пересказом. О передаче порядка слов он говорит, но лишь с оговорками; о звукописи тоже, но сравнительно немного; об ударениях в собственных именах — ни слова. Все это соответствует той практике, выражение которой представляет собой перевод 1899 года— редакция Б, вторая стадия брюсовской работы над «Энеидой».
В 1913—1914 годах, на третьей стадии работы, меняется облик перевода и меняется тематика заметок о принципах перевода. Заметки этих лет опубликованы Брюсовым1; поэтому нет нужды их здесь цитировать подробно. Напомним только, что все тематические пропорции в них резко сдвинуты. О том, что было главным для Брюсова в 1899 году,— о лексике и семантике — он не говорит почти ничего; вместо этого говорится почти исключительно о передаче тропов, о звукописи и об ударениях в собственных именах; упоминается и о расположении слов, но сравнительно бегло,— по-видимому, эта проблема стала больше занимать
1 «Гермес», 1913, № 6, с. 153—158 (предисловие к переводу «Смерти Приама» из II книги) и 1914, № 9, с. 259—270 (предисловие к переводу «Бури на море» из I книги); вторая из этих заметок с небольшими изменениями перепечатана в издании «Энеиды» 1933 года, с. 39—45.
98
Брюсова уже позднее, в следующих переработках, ближе к 1916 году — году, когда работа над первыми шестью книгами перевода была полностью завершена. Они должны были выйти отдельным томом в издательстве Сабашниковых, но из-за военных трудностей издание не состоялось. Тогда, уже после революции, Брюсов обращается с предложением издать «Энеиду» в Госиздат. Сохранился договор, подписанный В. Брюсовым и В. В. Воровским 23 января 1920 года (117.29, л.40); но и это издание не осуществилось.
Однако вступительную статью к нему Брюсов начал писать, и для понимания переводческих принципов Брюсова она представляет совершенно исключительный интерес. Ниже (см. приложение III) мы приводим начальную часть этой статьи с небольшими сокращениями по архивной рукописи (48.7, л. 1—8). В ней Брюсов останавливается главным образом на внешней, можно сказать — социальной, мотивировке того типа перевода, который он считает най-лучшим. О деталях переводческой техники и о главном — о том, какое впечатление на читателя должен производить выполненный таким образом перевод,— Брюсов здесь не считает нужным рассуждать. Но об этом он рассуждает в другой статье, написанной года на четыре раньше — около 1916 года — и также неопубликованной до сих пор. Это — «Несколько соображений о переводе од Горация русскими стихами» (48.15) — предисловие к циклу переводов из Горация, выполненных главным образом в 1914—1915 годах и оставшихся по большей части тоже ненапечатанными. Хотя материалом для рассуждений Брюсова здесь служит не Вергилий, а Гораций, но содержание статьи настолько важно для понимания проблемы «Брюсов и буквализм», что мы публикуем ее целиком (см. приложение IV).
Чтобы читатель представил себе, как принципы, сформулированные в ней Брюсовым, выглядели на практике, мы приводим ниже два образца из неопубликованных переводов Брюсова (рукописи — 16.11) (см. приложение V)1. Читатель может убедиться, что, будь они изданы, они мог
1 Всего Брюсов перевел 13 од Горация полностью (I, 1, 5, 8, 11, 13, 14, 22, 25, 30, 37; II, 14, 20; III, 30) и еще четыре стихотворения в отрывках (оды I, 21; II, 6, 7; эпод 16; юбилейный гимн). Опубликованы были только оды I, 9 («Гермес», 1911, № 20, с. 509) и знаменитый «Памятник» III, 30 — в двух вариантах («Гермес», 1913, № 8, с. 221 — 222 и в книге: В. Брюсов. Опыты... М., «Геликон», 1918, с. 65).
4*
99
ли бы служить для гонителей буквализма еще более выгодным объектом насмешек, чем перевод «Энеиды».
Сравним заметки 1899 года о принципах перевода «Энеиды» со статьями 1916 и 1920 годов. Современный переводчик или теоретик перевода мог бы подписаться почти под каждым суждением в ранних брюсовских заметках и должен был бы спорить почти с каждым суждением в поздних брюсовских статьях. И это не новость. В двухтомнике «Избранных сочинений» В. Брюсова (М., 1955) почти рядом перепечатаны две статьи Брюсова о принципах перевода, написанные по совсем другим поводам, но тоже разделенные тем же переломом во взглядах Брюсова: «Фиалки в ти-геле» (1905) и «Овидий по-русски» (1913). Разница та же: в первой статье — призыв жертвовать точностью в мелочах ради точности в главном («Часто необдуманная верность оказывается предательством» — эти слова, нередко цитируемые в борьбе против буквализма, взяты из «Фиалок в тигеле»); во второй — призыв бережно сохранять стилистические фигуры, расположение слов, созвучия и т. д., иными словами — та же программа, которую мы видели в новопубликуемых статьях Брюсова.
Попробуем теперь, исходя из этого буквалистского манифеста позднего Брюсова, сформулировать в современных понятиях, что же такое буквализм в художественном переводе. Теория перевода в наши дни уже является относительно разработанной наукой1; к сожалению, вопросы художественного перевода, как наименее поддающегося формализации, разработаны в ней пока слабее всего. Поэтому нижеследующие рассуждения будут, к сожалению, еще очень далеки от научной строгости.
В теории перевода есть понятие: «длина контекста». Это — такой объем текста оригинала, которому можно указать однозначный (или близкий к однозначности) объем текста в переводе. В зависимости от длины контекста, переводы разделяются на «пословные», «посинтагменные», «пофразные» и т. д.* 2.
?• Лучшее пособие на русском языке: И. И. Ревзин, В. Ю. Р о-зенцвейг. Основы общего и машинного перевода. М., «Высшая школа», 1964 (с большой библиографией); см. особенно гл. IV о «буквальном», «упрощающем» и «адекватном» переводе.
2 См. И. И. Ревзин и В. Ю- Розенцвейг. Ук. соч., с. 119.
100
В художественном переводе тоже можно говорить о «длине контекста». Это — такой объем текста оригинала, которому можно указать притязающий на художественную эквивалентность объем текста в переводе. Здесь тоже «длина контекста» может быть очень различной; словом, синтагмой, фразой, стихом, строфой, абзацем и даже целым произведением. Чем меньше длина контекста, тем «буквалистичнее» (не будем говорить «буквальнее» — в теории перевода этот термин уточняется несколько иначе) перевод.
Соответственно, перед нами оказывается целая градация «степеней буквализма». На одном ее полюсе — перевод, стремящийся передать подлинник слово в слово (и порой даже отмечающий, скобками и курсивом, все слова, отсутствующие в подлиннике и добавленные по необходимости). Таковы, например, переводы священного писания на все языки (пусть сами переводчики и относились к переводимому тексту не как к «художественному», а как к «священному» — значение этих переводов в истории художественной литературы столь велико, что ссылка на них вполне позволительна). На другом ее полюсе — перевод, стремящийся передать подлинник в масштабах целого произведения, скажем — целого лирического стихотворения: передать его «впечатление», то есть, прежде всего, эмоциональное и идейное содержание подлинника, независимо от передачи его образов, а тем более — стилистических фигур и отдельных слов; возможно вообразить такой «перевод», в котором ни одно слово подлинника не передано точно, а общее эмоциональное «впечатление» сохранено. Правда, «переводы» такого рода чаще называют «подражаниями», «Nachdichtun-gen» и т. п.; таковы многочисленные «переводы» XVIII века, где заглавие гласит, например, «Из Горация», но по тексту невозможно даже установить, какое, собственно, стихотворение Горация хотел переложить переводчик; и не так уж далеко от этого полюса находится, например, знаменитое восьмистишие «Горные вершины...», в котором из восьми строк три принадлежат Гёте, а пять —только Лермонтову и которое тем не менее считается не «подражанием», а переводом, и обычно даже отличным переводом.
В одной старой французской книге по истории римской литературы есть хороший образ, помогающий представить себе разницу между этими двумя тенденциями перевода.
101
Были два древнеримских драматурга-комедиографа — Плавт и Теренций; оба перелагали на латинский язык комедии греческих поэтов. Греческие оригиналы до нас не дошли, и сравнивать работы Плавта и Теренция с ними мы не можем. Но общий дух творчества Плавта и Теренция таков, что метод их работы хочется вообразить так: Плавт берет греческую книгу, прочитывает ее, потом закрывает, откладывает и начинает смело писать свое переложение, не заглядывая более в оригинал; Теренций же, прочитав греческую комедию, кладет ее перед собой и начинает переводить сцену за сценой, придирчиво сверяясь с подлинником чуть ли не на каждой строчке. Конечно, с современной точки зрения и теренциевские переводы, вероятно, показались бы весьма вольными; но две тенденции, между которыми неизбежно колеблется всякий переводчик, изображены верно.
Об этих двух крайностях в искусстве перевода неизменно говорится во всех статьях и книгах о переводе,— но обычно лишь затем, чтобы призвать переводчика держаться золотой середины между этими Сциллой и Харибдой. А возможно ли это и нужно ли это? Не полезнее ли ясно представить и ясно противопоставить эти две тенденции, чтобы сознательно выбрать одну из них и держаться ее — конечно, до известного, самим переводчиком для себя устанавливаемого предела? Это лучше, чем метаться, уклоняясь то в одну, то в другую сторону,— ибо золотая середина, как известно, есть вещь недостижимая.
Перевод «вольный» стремится, чтобы читатель не чувствовал, что перед ним — перевод; перевод «буквалистский» стремится, чтобы читатель помнил об этом постоянно. Перевод «вольный» стремится приблизить подлинник к читателю и поэтому насилует стиль подлинника; перевод «буквалистский» стремится приблизить читателя к подлиннику и поэтому насилует стилистические привычки и вкусы читателя. (Насилие над подлинником остается ощутимым лишь для неширокого круга лиц, способных сверить перевод с подлинником; насилие над привычным стилем, или, как часто демагогически выражаются, над «родным языком», ощутимо для всех читателей, и поэтому протест против него имеет возможность прорываться чаще и громче.) Перевод «вольный» стремится расширить круг читательских знаний об иноязычных литературах. Перевод «буквалистский»
102
стремится расширить круг писательских умений за счет художественных приемов, разработанных в иноязычных литературах. Перевод «вольный» — это перевод для литературных потребителей, перевод «буквалистский» — это перевод для литературных производителей. (Но не надо забывать, что непереходимой грани между этими двумя категориями нет и что таких читателей, которым интересно не только то, что пишут писатели, но и то, как пишут писатели,— таких читателей не так уж мало и, будем надеяться, станет еще больше.)
Переводческая программа молодого Брюсова — это программа «золотой середины»; программа позднего Брюсова — это программа «буквализма» именно в том смысле, в каком мы его обрисовали: это борьба за сокращение «длины контекста» в переводе, за то, чтобы в переводе можно было указать не только каждую фразу или каждый стих, соответствующий подлиннику, но и каждое слово и каждую грамматическую форму, соответствующую подлиннику. Именно в этом направлении перерабатывалась от варианта к варианту брюсовская «Энеида», как мы пытались показать в начале этой статьи. Оттого она и звучала с каждым вариантом все более странно, чуждо и вызывающе. И если Брюсов добивался этого так упорно и сознательно, то только потому, что он хотел, чтобы его «Энеида» звучала и странно и чуждо для русского читателя.
Почему Брюсов этого хотел?
Для ответа на этот^вопрос было бы необходимо далеко углубиться в характеристику взглядов Брюсова на историю культуры1. Мы сможем остановиться на этом лишь кратко, почти конспективно. Исходить при этом мы будем не только из общеизвестных стихов, романов, статей и очерков Брюсова, но и из его многочисленных неопубликованных материалов по истории культуры — главным образом античной,— подробный анализ которых мы надеемся произвести в другом месте.
Все события, все явления человеческой культуры имеют в себе нечто общее и нечто индивидуальное: общее,
1 Наиболее содержательно рассмотрена эта тема в статье: П. Н. Берков. Проблемы истории мировой культуры в литературно-художественном и научном творчестве Валерия Брюсова. «Брюсовские чтения 1962 г.». Ереван, 1963.
103
потому что все они творятся человеком, индивидуальное, потому что они различны по времени и месту, по эпохе и цивилизации. Так вот, для раннего Брюсова на первом плане стояла общность всех явлений культуры во все века — или, по крайней мере, всех великих явлений культуры. Его стихи о «любимцах веков» из ранних сборников — это пантеон сильных личностей, в котором Ассар-гадон, Баязет и Наполеон стоят рядом, подавая друг другу руки через головы веков. Он пишет: «На мировой сцене, называемой жизнью, как и на театральных подмостках, подвизается очень ограниченное число типов; много фигур — но мало характеров; различие между действующими лицами разных трагедий и комедий больше в платье и в способе говорить — а общие свойства души повторяются в неизменных комбинациях, отличаясь только большей или меньшей яркостью» (3.6, л. 54 об., 1896 г., неизданные наброски работы о Котошихине).
Отсюда понятно отношение молодого Брюсова к проблеме перевода. Перевести произведение (великое произведение) — это значит воспроизвести те «общие свойства души» его творца и героев, которые одинаковы для всех веков, ибо возвышаются над всеми веками; а различия «в платье и в способе говорить» — это вещи второстепенные. Поэтому Брюсов в «Фиалках в тигеле» так легко разрешает переводчику отступать от частностей во имя сохранения главного; поэтому в ранних переводах «Энеиды» он настаивает на точности смысла (на семантической точности каждого выбираемого слова) и не настаивает на точности звука, синтаксиса и прочих «способов говорить».
Эта вера в высшее единство человеческой (или, может быть, вернее сказать: сверхчеловеческой?) культуры поколебалась в Брюсове в годы первой русской революции. Ему пришлось почти физически ощутить, что он и его современники и сподвижники по литературе стоят на рубеже двух культур — одной гибнущей, другой нарождающейся и покамест темной и чужой. Это было то ощущение исторического катаклизма, которое продиктовало ему «Грядущих гуннов» — стихи о гибели культуры и о диком обновлении мира. С тех пор это ощущение не покидало Брюсова. Вместо стихов о героях, братьях в вечности, он пишет теперь стихи о цивилизациях, сменяющихся во времени; стихотворный обзор смены мировых цивилизаций от Атлантиды
104
до наших дней становится обязательной принадлежностью каждой новой книги Брюсова, и с каждым разом он все калейдоскопичнее.
Так наступает новая полоса во взглядах Брюсова на историю мировой культуры: теперь для него общечеловеческое в явлениях культуры — ничто (или почти ничто), а индивидуальное, своеобразное — всё. Цивилизации сменяют друг друга, но не наследуют друг другу: сталкиваясь на стыке эпох, они так же неспособны понять и оценить друг друга, как современная Брюсову европейская культура и культура «грядущих гуннов». Преемственности нет, прогресса нет, смена культур не означает приближения человечества по ступеням к какой-то высшей цели своего существования, будь то истинное постижение бога или царство социальной справедливости. Каждая из культур идет по своему пути, все они самозамкнуты и самоценны; у каждой «из них было свое назначение: явить новый лик истины, доступной уму человека» (слова «Духа последней колдуньи» в пьесе Брюсова «Земля»).
Это не научное, а эстетическое отношение к предмету: Брюсов любуется разноцветным многообразием мировых культур, для него это как бы разные грани вечного предмета его поклонения, человеческого духа. Брюсов шел здесь в ногу со временем: отказ от теории прогресса и переход к теории самозамкнутых цивилизаций — симптом, общий для всей буржуазной культуры начала XX века; пройдет несколько лет, и Освальд Шпенглер превратит эту теорию из эстетской игры ума в научную доктрину.
Из такого понимания мировой истории следовал вывод: так как все цивилизации равноправны и самоценны, то каждая из них интересна не тем, что в ней общего с другими, а тем, что в ней отличного от других. И теперь Брюсов, рисуя иную эпоху, всеми силами подчеркивает ее чуждость и отдаленность от нашей. Мы могли заметить, как настойчиво Брюсов напоминал в заметке о переводах Горация, что «поэзия Горация принадлежит эпохе совершенно отличной от нашей; современному читателю чужды те идеи, понятия, образы, в сфере которых живет поэзия Горация» и т. д.
Когда Брюсов в 1910-х годах пишет свои «римские романы» «Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный», он насыщает и перенасыщает их подробностями, призванными
105
создать впечатление экзотичности и недоступности изображаемой жизни. Пользуется для этого он простейшими средствами: обилием археологических реалий, почерпнутых из французского «Словаря древностей» Канья, и скоплением лексических латинизмов. «Ее волосы, частью завитые каламистром, были потом собраны на затылке в пышный тутул... потом на золотых криналях были укреплены на висках особые цинцинны»; «Нам были предоставлены места в первом мениане, поблизости от подия, тотчас за сенаторскими, и притом в кунее, приходившемся как раз против первой меты»,— вот язык, которым написан «Алтарь Победы». Конечно, когда Брюсов называет светильник «луцерной», бассейн «писциной», а кинжал «пугионом», он знает, что ни один читатель от этого не представит себе яснее называемых предметов, но знает, что зато каждый почувствует в них нечто отдаленное и экзотическое, а это ему и нужно.
Именно то же происходит в переводах Брюсова 1910-х годов из латинских авторов. Причина брюсовского буквализма в них — та же забота об «эффекте отдаленности», которая заставляла его нанизывать латинизмы в римских романах. Каждая необычная перестановка слов должна напоминать читателю, что перед ним — произведение не его, а чужрй языковой и духовной культуры; каждое необычное имя должно указывать, что это не прижившиеся в нашей культуре «Юпитер» из пересказа мифов и «Цицерон» из учебника древней истории, а иной, настоящий «Юпитер» и настоящий «Кькерон» в их чужом, но подлинном обличии.
Когда Брюсов переводил французских символистов, ему не нужно было передавать силлабический стих, сохранять французский синтаксис и называть Париж «Пари» — потому что его целью было приблизить к русскому читателю эту современную ему культуру. Когда Брюсов брался за латинских классиков, цель его была противоположной: он хотел восстановить ощущение дистанции между читателем и несовременной ему культурой, а для этого — разрушить иллюзию гимназической освоенности предмета.
В высшей степени характерно одно из требований Брюсова, выдвинутых в статье о принципах перевода «Энеиды»: «перевод... должен быть пригоден и для цитат по нему». Каждый переводчик знает по своему опыту, что нередко
106
приходится встречать, скажем, в переводимом английском романе цитату из Шекспира; первым побуждением бывает взять с полки русского Шекспира и привести эту цитату в уже существующем переводе; но вдруг оказывается, что это невозможно: в этом переводе отсутствует как раз то слово или тот оттенок.мысли Шекспира, ради которого приводит эту цитату английский романист; и приходится переводить строки Шекспира заново, специально для цитаты в романе. Это понятно: принципы перевода маленькой цитаты и целого большого произведения всегда различны, различны по «длине контекста»; делая перевод целого произведения, можно пожертвовать данным оттенком мысли в данной строке, потому что этот оттенок будет подсказан читателю всем контекстом всего произведения; но, делая перевод короткой цитаты, мы этим оттенком жертвовать не имеем права, потому что подсказывающего контекста здесь нет. Так вот, брюсовская программа перевода — это требование переводить целые поэмы с той же точностью, с какой переводят маленькие цитаты из них: и «Энеида» Вергилия, и собрание од Горация для Брюсова не что иное, как исполинские цитаты — цитаты из иной культуры, из иного духовного мира.
Поэтому, между прочим, не совсем оправдан упрек, который делает Брюсову Ф. А. Петровский, автор самой разумной критики брюсовского перевода «Энеиды» и самый лучший покамест ее переводчик — к сожалению, лишь в сравнительно небольшом отрывке1. Ф. А. Петровский упрекает Брюсова за то, что он «не делал различия в своем переводе между идиомами латинского языка и идиомами Вергилия». Но ведь для Брюсова его перевод «Энеиды» был, так сказать, полномочным представителем в русской культуре не только Вергилия, но и всей латиноязычной культуры в целом; строение языка соответствует картине мира в сознании народа, и, стремясь передать для русского человека латинскую картину мира, Брюсов — пусть не осознавая этого так ясно, как осознаем это мы,— переносит в русский язык черты латинского языка. Легко смеяться над тем, что Брюсов, говоря о небе, пишет в своем переводе
1 Ф. А. Петровский. Русские переводы «Энеиды» и задачи нового ее перевода. В кн.: «Вопросы античной литературы и классической филологии». М., «Наука», 1966, с. 293—306. '
107
не привычное «небосвод» или «небосклон», а «полюс» и «ось» (лат. polus, axis). Но если подумать о том, что наши «небосвод» и «небосклон» негласно внушают читателю образ небесного полушария над, плоской землей, а латинские поэтические «полюс» и «ось» — образ небесной сферы вокруг шарообразной земли,— тогда, пожалуй, желание Брюсова передать эти непривычные латинские метонимии окажется вполне оправданным: под «полюсом» и «осью» мировой сферы читатель почувствует себя совсем иначе, чем под чашей «небосвода».
Можно спросить: а нужно ли это, нужно ли «пересаживать» читателя из привычного мира своей культуры в непривычный мир чужой культуры, из-под небесного полушария в небесную сферу? И это вернет нас к первоначальному вопросу: какой перевод нужнее, более буквалистский или более вольный, тот ли, который пригибает оригинал к читателю, или тот, который подтягивает читателя до оригинала?
Мы ответим: нужен и тот перевод и другой перевод. Не «золотая середина» между ними, а именно оба типа перевода одновременно и на равных правах.
Если оглянуться на историю русского художественного перевода, мы увидим, что в ней периоды преобладания более точного перевода и более вольного перевода сменялись поочередно. XVIII век был эпохой вольного перевода, приспосабливающего подлинник к привычкам русского читателя — ив метрике, и в стилистике, и даже в содержании: грань между переводом и подражанием-переработкой была почти незаметна. Романтизм был эпохой точного перевода, приучающего читателя к новым, дотоле непривычным образам и формам; когда Жуковский стал переводить немецкие баллады амфибрахиями (ранее почти, не употреблявшимися в русском стихе), это было таким же смелым новшеством, как когда в XX веке поэты стали переводить Уитмена и Хикмета свободным стихом1. Реализм XIX века опять стал эпохой вольного, приспособительного перевода,
1 «Изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведывать, сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется опять, без увечья, без распятья на ложе Прокрустовом»; «не насильствуя природы нашей, сохранить в переселении запах, отзыв чужбины»,— эта переводческая программа, столь близкая буквализму Брюсова, была сформулирована еще в 1830 году П. А. Вяземским в предисловии к переводу «Адольфа» Б. Констана.
108
предельной точкой которого были, пожалуй, курочкинские переводы из Беранже. Модернизм начала XX века, в свою очередь, вернулся к программе точного перевода, буквалистского перевода; Брюсов пошел в этом направлении дальше всех, но общие его предпосылки — не обеднять подлинник применительно к привычкам читателя, а обогащать привычки читателя применительно к подлиннику — разделяли все переводчики, вскормленные этой эпохой, от Бальмонта до Лозинского. Наконец, советское время — это реакция на буквализм модернистов, смягчение крайностей, программа ясности, легкости, верности традиционным ценностям русской словесной культуры; если нужно назвать типичное имя, то это будет имя Маршака — переводчика сонетов Шекспира.
Таковы пять периодов истории русского художественного перевода (главным образом поэтического,— здесь все симптомы выступают особенно наглядно). Достаточно небольшого внимания, чтобы увидеть: они соответствуют пяти периодам истории всей русской культуры, или, точнее говоря, пяти периодам распространения образованности в русском обществе.
Распространение образования, развитие культуры — процесс неравномерный. В нем чередуются периоды, которые можно условно назвать «распространение вширь» и «распространение вглубь». «Распространение вширь» — это значит: культура захватывает новый слой общества, быстро распространяется в нем, но распространяется поверх^ ностно, в упрощенных формах, в самых элементарных проявлениях — как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не творческое преобразование. «Распространение вглубь» — это значит: круг носителей культуры остается тот же, заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, формы ее проявления — более сложными. Говоря «знакомство с культурой», «усвоение культур», мы имеем в виду, в частности, и знакомство с иноязычной культурой — ибо развитие национальной культуры непременно сопровождается все более органическим врастанием национальной культуры в общечеловеческую,— например, русской в общеевропейскую.
XVIII век был веком распространения культуры в России вширь, а общественным слоем, усваивавшим культуру,
109
было дворянство — еще невежественное в начале века, уже сравнявшееся с дворянством европейским в конце века. Начало XIX века было периодом распространения культуры вглубь — поверхностное ознакомление русского дворянства с европейской цивилизацией завершилось, наступило внутреннее усвоение и творческое претворение, давшее миру Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина XIX века — опять период распространения культуры вширь, но уже в новом общественном слое — в разночинстве, в буржуазии; и опять формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню потребителя. Начало XX века — новый общественный слой уже насыщен элементарной культурой, начинается насыщение более глубинное, за периодом набирания сил период внешнего их проявления — русский модернизм. Наконец, социалистическая революция приобщила к культуре огромную толщу рабочих и крестьянских масс — и вновь начинается распространение культуры вширь, аналогичное тому, какое было — в неизмеримо меньших масштабах — в XVIII и во второй половине XIX века. Не вдаваясь в неуместные подробности, скажем: можно надеяться, что каждый современный читатель чувствует, что «дух» нашей эпохи ближе к «духу» эпохи Чернышевского, чем эпохи Блока, и что каждый литературовед понимает, что по строгости эстетических норм литературное сознание нашей эпохи ближе к эпохе классицизма, чем к эпохе Пушкина и Лермонтова. Но оставим эти широкие обобщения, извинимся за крайнее упрощение и огрубление всех черт в той схематической картине, которую нам пришлось обрисовать, и вернемся к нашему предмету — к типологии художественного перевода.
Перефразируя удачный образ С. С. Аверинцева в его «Похвале филологии», мы можем сказать: цивилизация с цивилизацией знакомится так же, как человек с человеком: для того чтобы знакомство состоялось, они должны увидеть друг в друге что-то общее; для того чтобы знакомство продолжалось (а не наскучило с первых же дней), они должны увидеть друг в друге что-то необщее. Вот такой формой знакомства цивилизации с цивилизацией и является художественный перевод. На первых порах знакомства он отбирает для читателя те черты характера его нового знакомца — английского, латинского или китайского духов
110
ного мира,— которые имеются и в его собственном характере. А затем, когда первое знакомство уже состоялось, он раскрывает читателю характер его нового знакомца уже во всей широте и предоставляет самому читателю приспосабливаться к непривычным (а поначалу, может быть, и неприятным) чертам этого характера — если, конечно, читатель намерен поддерживать это знакомство и далее.
Но ведь знакомство читателей с иноязычными культурами — процесс не прерывистый, а постоянный. Независимо от того, сколь широкие слои общества усваивают в данный период мировую культуру «вширь» или «вглубь», постоянно подрастают новые поколения читателей, которым предстоит приобщение к мировой культуре. Одни из них ограничатся беглым и поверхностным знакомством, другие пойдут дальше, третьи еще дальше; пусть первых будет много, а третьих немного, но переводная литература должна обслужить всех, открыть мировую культуру для всех. Читатель неоднороден; «что трудно для понимания и звучит странно для одного круга читателей, то может казаться простым и привычным для другого»; это сказано Брюсовым в заметке о переводах Горация, и об этом не следует забывать и в наши дни. Разным читателям нужны разные типы переводов. Одному достаточно почувствовать, что Гораций и Сапфо писали иначе, чем Пушкин; для этого достаточен сравнительно вольный перевод. Другому захочется почувствовать, что Гораций писал не только иначе, чем Пушкин, но и иначе, чем Сапфо; и для этого потребуется гораздо более буквалистский перевод. Повторяем, что мы говорим не о специалисте-литературоведе, которому можно порекомендовать выучить ради Сапфо и Горация греческий и латинский языки; нет, мы говорим просто об образованном читателе, который любит литературу и хочет ее знать, а таких читателей становится все больше и больше.
Мы не удивляемся тому, что существуют пересказы классической литературы для детей: вряд ли кто-нибудь из читателей этой статьи знакомился с греческими мифами сразу по «Илиаде»; скорее всего, вначале был или Кун, или Штолль, или Шваб; и, наверное, каждый, прежде чем взять в руки полного «Гулливера», давно уже был знаком с детскими пересказами похождений Гулливера у лилипутов, и великанов. Не будем же удивляться и тому, что должны существовать переводы классической литературы для чи-
Ш
тателей мало подготовленных и хорошо подготовленных и что переводы эти должны выглядеть различно.
Один неоспоримый образец такой двойственности переводов в русской литературе есть. Это — «Илиада». Ее перевел в эпоху романтизма Гнедич, перевел раз и навсегда. Для человека, обладающего вкусом, не может быть сомнения, что перевод Гнедича неизмеримо больше дает понять и почувствовать Гомера, чем более поздние переводы Минского и Вересаева. Но перевод Гнедича труден, он не сгибается до читателя, а требует, чтобы читатель подтягивался до него; а это не всякому читателю по вкусу. Каждый, кто преподавал античную литературу на первом курсе филологических факультетов, знает, что студентам всегда рекомендуют читать «Илиаду» по Гнедичу, а студенты тем не менее в большинстве читают ее по Вересаеву.
В этом и сказывается разница переводов русского Гомера: Минский переводил для неискушенного читателя над-соновской эпохи, Вересаев — для неискушенного читателя современной эпохи, а Гнедич — для искушенного читателя пушкинской эпохи. Общеизвестна истина: хорошие книги человек читает по нескольку раз в жизни и каждый •раз, в соответствии с возрастом, находит в них что-то новое. К этому можно добавить: если эти книги —переводные, то хотелось бы, чтобы он мог взять для перечитывания иной перевод и этот перевод помог бы ему найти в них что-то новое.
Буквализм — не бранное слово, а научное понятие. Тенденция к буквализму — не болезненное явление, а закономерный элемент в структуре переводной литературы. Нет золотых середин и нет канонических переводов «для всех».
Есть переводы для одних читателей и есть переводы для других читателей. Классические произведения мировой литературы •— особенно чужих нам цивилизаций — заслуживают того, чтобы существовать на русском языке в нескольких вариантах: для более широкого и для более узкого круга читателей. Сейчас разговор об этом может показаться странным: слишком много классических произведений мировой литературы вообще не существуют на русском языке или существуют в переводах, не удовлетворительных ни с какой точки зрения, ни с «широкой», ни с «узкой»; не слишком ли большая роскошь — думать о том, что-112
бы каждое из таких произведений имелось сразу в нескольких хороших переводах?
Однако время идет, культурный уровень читающей публики повышается; переводы XVIII века не удовлетворяли современников Курочкина, а переводы Курочкина не удовлетворяют наших современников; будут ли удовлетворять современные переводы «для массового читателя» читателей следующих поколений? Брюсов в этом сомневался, и едва ли он не был прав. А это значит, что вопрос о буквализме в переводческом искусстве требует пересмотра с каждым новым шагом русской культуры. «Что теперь многим мало доступно, через несколько десятилетий может стать доступным для самых широких кругов» — этой цитатой из заметки Брюсова о переводах из Горация уместнее всего закончить настоящую статью.
ПРИЛОЖЕНИЯ
I
Семь редакций начала II книги «Энеиды»
Оригинал:
Conticuere omnes intentique ora tenebanf.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto: Infandum, regina, iubes renovare dolorem: Troianas ut opes et lamentabile regnum
5 eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui. Quis talia fando Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.
10 Sed si tantus amor casus cognoscere nostros et breviter Troiae supremum audire laborem, quamquam animus meminisse horret luctusque refugit, incipiam.
Fracti bello fatisque repulsi ductores Danaum, tot iam labentibus annis, 15 instar montis equum divina Palladis arte aedificant sectaque intexunt abiete costas: votum pro reditu simulant, ea fama vagatur. Hue delecta virum sortiti corpora furtim includunt caeco lateri penitusque cavernas 20 ingentis uterumque armato milite complent.
Est in conspectu Tenedos, notissima fama insula, dives opum, Priami dum re gna manebant, nunc tantum sinus et statio male fida carinis: hue se provecti deserto in litore condunt.
113
А) Первая редакция брюсовского перевода этого отрывка находится в записной тетради лета 1895 года (2.21, л. 8). Это черновая запись со многими исправлениями; мы приводим из нее лишь окончательный текст, а в трех случаях, где Брюсов не сделал окончательного выбора между возможными вариантами, приводим эти варианты в скобках. Перевод начинается с 3-го стиха.
Несказанную скорбь,, царица, велишь ты припомнить, Как разрушили греки слез достойное царство
5 И троянскую мощь — все то ужасное, в чем я
Сам был важным участником. Кто, о таком повествуя, Мирмидонян, долоп или воин злого Улисса, Сможет слезы сдержать; а влажная ночь с небосклона Сходит уже, и зовут ко сну заходящие звезды.
10 Впрочем, если так страстно о Трое услышать ты хочешь, Хочешь вкратце узнать о последних бедах дарданцев, Я начну, хоть душа и страшится припомнить печали.
Сломлены тяжкой войной и [отвержены] [отвергнуты] воинским счастьем, После стольких промчавшихся лет — полководцы ахейцев
15 Строят громаду коня искусством дивным Паллады
Вроде горы, и тешут из елей гигантские ребра,
(С виду ж готовятся плыть и слух распускают об этом).
Несколько войнов [сюда] [меж тем] из лучших по жребию выбрав, Тайно скрывают в слепой глубине, наполняя до верха
20 Чрево коня и громадные недра оружием войска.
Есть островок Тенедос, с дарданского берега видный,
В годы могущества Трои богатый и славный по землям, Ныне же только залив [и кормам] [кораблей] неверная гавань. Греки едут сюда, и берег пустынный их прячет.
Б) Вторая редакция настолько отличается от вышеприведенной, что, по-видимому, была сделана совершенно заново, без обращения к старой записной тетради. Ее почти всю пришлось бы набирать курсивом; поэтому мы не выделяем в ней заново переведенные места. Это — та самая редакция, которая была сделана под Ревелем летом 1899 года и готовилась Брюсовым для печати. Она сохранилась в беловом автографе в маленькой клеенчатой тетради (16.9) с титульным листом: «Энеида Вергилия. Книга II и III (рассказ Энея). Перевел с латинского гекзаметрами Валерий Брюсов. Предисловие о прежних переводах Энеиды на русский язык. Москва, 1900». Переведена здесь только II книга; это и есть та законченная редакция, еще свободная от всякого буквализма, о которой мы упоминали вначале. Брюсов предполагал продолжать работу над «Энеидой»: в 1902 году в каталоге «Скорпиона» было анонсировано издание «Энеиды» в переводе Брюсова. Но предположения эти не осуществились.
Смолкнули все и взор на него устремленным держали.
Тут отец Эней так начал с высокого ложа:
Несказанную скорбь воскресить велишь ты, царица!
Как троянскую мощь и слез достойное царство
5 Ниспровергли данаи, ужасы те, что я видел
114
И в которых участвовал... Кто, о том повествуя, Будь то долоп, мирмидонин иль лютого воин Улисса, Слезы сумеет сдержать! — а влажная ночь с небосклона Сходит уже, и ко сну зовут заходящие звезды.
10, Но, если хочешь так жадно узнать о наших несчастьях, Краткий услышать рассказ о последних бедствиях Трои, Как, отвращаясь от скорби, душа вспоминать ни страшится, Я начну.
Истомившись в борьбе и отвержены Роком, Близ начала десятой зимы полководцы данаев
15 Дивным искусством Паллады строят коня, вышиною
В гору, делая ребра ему из отесанных елей, Будто бы в дар богам пред отъездом — так слухи твердили. Но мужей знаменитых, по жребию избранных, тайно Тут, в слепом боку, они запирают, до края
20 Воином в броне наполнив громадные недра и чрево.
Есть в виду берегов Тенедос, известный повсюду Остров богатый — пока оставались царства Приама, Ныне же только залив, ненадежная гавань для килей. Здесь-то, в краю опустелом, и скрылись, отъехавши, греки.
В 13-м стихе зачеркнут вариант: «...отвержены счастьем»; в 19-м стихе слово «слепом» сопровождено вопросительным знаком. Перевод снабжен примечаниями, главным образом содержащими сопоставления с прежними русскими переводами: В. А. Жуковского (1822), А. А. Фета (1888), Н. Квашнина-Самарина (1893); перевода И. Шершеневича (1868), по-видимому, у Брюсова не было под руками. Приводим эти примечания; цифры означают номера стихов.
2. Sic ortus. У Фета «так промолвил» — смешно, когда речь занимает полторы тысячи стихов. У Кв.-Сам. «так завел», слишком народное русское выражение для такого изысканного и искусного произведения, как «Энеида». У Ж-: «так начинает».— 3. Renovare. Ж-: «обновить», Ф.: «обновлять», Кв.-Сам.: «обновить». Слово «воскресить» неудобно, ибо понятие воскресения внесено христианством. Я после dolorem ставлю точку вслед за Наескеггпапп’ом и О. Ribbeck’oM, тогда как другие ставят запятую, а точку после fui. Все русские переводчики следовали этому второму чтению.— 5. Eruerint. Смело у Кв.-Сам.: «стерли данаи».— 7. Duri Ulixi. Условно: «лютый Улисс». У Ф. пропущен эпитет. У Кв. Сам. «злобного», это выражает скорее мимопроходящее качество, чем постоянное.— 11. Audire labores. И по-латыни не совсем обычное сочетание, поэтому по-русски нет надобности изменять «услышать рассказ про труд». Труд в смысле «тяготы, горе», как в Слове о полку Игореве: «черпахуть ми синее вино с трудом и болезнию смешано» и у Пушкина: «сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море».— 12. Luctuque ге-fugit. У Ф.: «отступайся с плачем». След., luctu понято как abl. modi. Но при refugere abl. обычно для означения того, из чего уходишь, refu-gere oppido capto, Caes.
В) Поверх белового автографа редакции Б Брюсов, вернувшись к «Энеиде», по-видимому, уже в начале 1910-х годов, стал наносить новую правку:
115
Смолкнули все и взор напряженно к нему устремили. Тут отец Эней с высокого начал так ложа:
Несказанную скорбь оживить велишь ты, царица!
Как троянскую мощь и слез достойное царство 5 Ниспровергли Данаи, что сам я плачевное видел, В чем немало участвовал сам. При подобном рассказе Кто, мирмидонин, долоп, иль лютого воин Улисса, Сможет слезы сдержать! — а влажная ночь с небосклона Мчится уже, и ко сну зовут заходящие звезды.
10 Но, если жадно так хочешь узнать о наших несчастьях, Бегло услышать в рассказе беды последние Трои, Хоть ужасается дух вспоминать и бежит от печали, Все же начну.
Новая редакция нащупывалась с трудом; ей предшествовали зачеркнутые варианты: ст. 3. «обновить», ст. 5 «бедствия те, что я видел», ст. 6 «при рассказе об этом», ст. 10 «хочешь так страстно» (незачеркнутый вариант), ст. 11 «труды последние», ст. 12 «Пусть ужасается... отвращаясь печали». По-видимому, после этого Брюсов почувствовал, что у него получается не правка старой редакции, а новая редакция, и перешел из клеенчатой тетради на отдельные листы. После ст. 13 редакция В содержит лишь два исправления: при ст. 20 приписано «Полнят...» (но первоначальный вариант не зачеркнут); ст. 24 изменен: «Греки, отъехав туда, на оставленном кроются бреге».
Г) Начатую переработку редакции Б Брюсов стал продолжать на отдельном листе (16.2, л. 1). В первых строках он переписывает редакцию В; единственный новый вариант — в ст. 3: «Несказанную скорбь обновить велишь ты, царица!» Далее новые варианты начинаются только со ст. 11:
10 Но, если жадно так хочешь узнать о наших несчастьях, И услышать про беды, вкратце, последние Трои, Хоть ужасается дух вспоминать и, скорбя, отступает, Я начну.
В борьбе изнемогши, отринуты Роком, После стольких минующих битв, полководцы да наев 15 В виде горы, коня, искусством дивным Паллады Воздвигают, бока из обтесанных делая елей, Будто б обет за возврат выполняя. Молва эта ходит. Тут отборных мужей, по жребию избранных, тайно Заключают в боку слепом, и доверха полнят
20 Вооруженным народом огромные недра и чрево.
Есть в виду берегов молвою прославленный остров Тёнед, богатый, пока стояло Прйама царство, Ныне ж так только залив, судов ненадежная пристань. Греки, приплывши туда, на бреге пустынном укрылись.
Зачеркнутые варианты: ст. 13 «отвергнуты»', ст. 21: «Есть в виду берегов Тенёд...»\ ст. 23: «ненадежная пристань для килей».
По-видимому, когда работа над редакцией Г продвинулась уже достаточно далеко, Брюсов вернулся и к тем начальным строкам, которые он сперва переписал без изменений из редакции В. Набросок их пере
116
работки имеется на листке, приложенном к редакции Г (16.2, л. 1а; условно обозначим его как вариант Г-а). Здесь мы находим варианты:
3 Несказанное вспомнить, царица, ты требуешь горе...
5 ...Ниспровергли данаи, ужасы те, что я видел,
Коих был важною частью! Кто бы, о том повествуя, Мирмидонин, долоп иль жестокого воин Улисса, Слезы сможет сдержать!..
Но дальнейшей разработки эти варианты не получили. В машинопись был отдан автограф Г, и по машинописи была сделана новая правка; она представляет собою
Д) новую, пятую редакцию отрывка (16.2, л. 66):
Смолкнули все и глаза устремили, вниманием полны. Начал с высокого так родитель Эней тогда ложа:
Невыразимую скорбь обновить велишь ты,, царица!
То, как троянскую мощь и слез достойное царство
5 Данаи ниспровергли, что сам я ужасное видел,
В чем сам участвовал много. Кто, о таком повествуя, , Будь иль мирмидонин он, иль долоп, иль злого Улисса
Воин, от слез устоит! — А влажная ночь с небосклона Мчится уже, и ко сну зовут заходящие звезды.
10 Но, если так ты стремишься наши узнать приключенья. Вкратце услышать рассказ о бедах Трои последних,— Хоть ужасается дух вспоминать и бежит от печали, Все же начну.
Разбиты в борьбе и отвергнуты Роком,
Данаев рати вожди, по стольких лет минованью, 15 Видом с гору, коня, искусством Паллады дивным Воздвигают, бока из обтесанных делая елей...
Дальше правки нет. По-видимому, повторилось то же, что мы видели на переходе от редакции В к редакции Г: убедившись, что правка старой редакции перерастает в создание новой редакции, Брюсов стал продолжать работу на новом листе. Результаты этой работы дали
Е) шестую редакцию отрывка (16.2, л. 44, машинописный текст; автографический оригинал, по-видимому, не сохранился). Первое двустишие здесь переведено опять по-новому:
Смолкнули все, с напряженьем держа неподвижные лица. Начал Эней-отец так тогда с высокого ложа...
В следующих строках изменения немногочисленны: ст. 4 «Как троянскую мощь»; ст. 6 «Кто, о том повествуя»; ст. 7 «Будь мирмидонин он»; ст. 10—11 «Но, если столько желанья наши узнать приключенья, краткий услышать рассказ...» Во второй половине отрывка изменения идут гуще, складываясь в редакцию Е:
Разбиты в борьбе и отвергнуты Роком,
Данаев воеводы, по стольких лет минованью, 15 Видом с гору коня, искусством Паллады дивным
117
Строят, из тесаной ребра ему приладивши ели, Будто богам за возврат по обету: расходится слух тот. Но избранных мужей по жребию несколько, тайно Тут в слепом боку запирают и полнят до края
20 Воином вооруженным огромные недра и чрево.
Тёнед, в виду берегов есть остров, известнейший громко, Сильно богатый, пока пребывало Приама царство, Ныне — только залив, ненадежная гавань для килей.
Те, удалившись туда, на пустынном скрываются бреге.
Мы замечаем, что некоторые из этих переделок представляют собой по существу возвращение к прежним вариантам — из редакции В (ст. 19, 23, 24), из редакции Б (ст. 11), из редакции Г (ст. 4). Очевидно, и сам Брюсов почувствовал, что круг возможного разнообразия вариантов для него уже исчерпался и настала пора выбирать из накопленных вариантов лучшие. Это он и сделал в последней, седьмой редакции.
Ж) Седьмая редакция — это рукописная правка по машинописи предыдущей редакции. Почти все вносимые изменения — это возврат от редакции Е к редакции Д; контаминация этих двух редакций и стала последней стадией работы Брюсова над отрывком. Новый вариант появляется лишь в ст. 18—19.
Смолкнули все и глаза устремили, вниманием полны. Начал с высокого так родитель Эней тогда ложа:
Невыразимую скорбь обновить велишь ты, царица!
То, как троянскую мощь и слез достойное царство
5 Данаи ниспровергли, что сам я ужасное видел,
В чем сам участвовал много. Кто, о таком повествуя, Будь иль мирмидонин он, иль дблоп, иль злого Улисса Воин, от слез устоит! — А влажная ночь с небосклона Мчится уже, и ко сну зовут заходящие звезды.
10 Но, если так ты стремишься наши узнать приключенья, Вкратце услышать рассказ о бедах Трои последних, Хоть ужасается дух вспоминать и бежит от печали, Все же начну.
Разбиты в борьбе и отвергнуты Роком, Данаев рати вожди по стольких лет минованью 15 В виде горы, коня, искусством Паллады дивным Строят, из тесаной ребра ему приладивши ели, Будто богам за возврат по обету: расходится слух тот. Сами ж избранных мужей по жребию несколько, тайно, Тут замыкают в боку потаенном и полнят до края
20 Воином вооруженным огромные недра и чрево.
Тёнед в виду берегов есть остров, известнейший громко, Сильно богатый, пока пребывало Прйама царство, Ныне — только залив, ненадежная гавань для килей.
Те, удалившись туда, на пустынном скрываются бреге.
С этого текста и было сделано посмертное издание «Энеиды» 1933 года с отступлением только в ст. 11 по редакции Д («Краткий...»).
118
11
Заметки В. Я- Брюсова к первой редакции перевода «Энеиды» (1899) приводятся в некотором сокращении и систематизации.
«Существующие переводы неудовлетворительны тем, что они только пересказывают. Достоинство «Энеиды» никак не в содержании, не в сюжете. «Энеида» совсем перестанет быть художественным произведением, если мы только перескажем гекзаметром ее содержание...
Переводчики боялись смелых тропов и фигур Вергилия. Конечно, они необычны на русском языке, но зачастую они столько же необычны по-латыни. Вергилий писал языком изысканным, почти в каждом стихе у него либо хиазм, либо зевгма, либо гендиадис или что-нибудь подобное, каждая метафора у него distingue, recherche,— а сколько у него синекдох, смелых метонимий... Весь характер поэмы исчезнет, если ее пересказать языком простым, бесхитростным; исчезнет дух века Августа, в котором уж веяли первые дыхания латинского декаданса...
Прежде всего переводчик должен хорошо знать лекси[ко]г рафию латинского языка, чтобы уметь отличить, во-первых, точное значение слова у Вергилия (это само собой понятно), во-вторых, и главное,— насколько редко данное выражение, чтобы по возможности передать его и по-русски необычным или обычным оборотом...
Еще надо знать, какое слово старинное, какое иноязычное (греческое), и все это более или менее передать на русском языке. В этом отношении, конечно, неудобно пользоваться словами, взятыми из новых языков, это придало бы языку резкую пестроту, какой нет у Вергилия. Но можно широко пользоваться славянским языком и теми греческими словами, которые взяты в славянских переводах святого писания: чрево etc. ...
Вергилий хвастается знанием множества выражений для понятий моря, многообразием своего словаря, умением пользоваться тонкими различиями синонимов. Тут есть pelagus, fluctus, undae, pontum, sa-lum... У меня — море, воды, волны, пучина...
Некоторые слова, которых нет в русском языке, пришлось перевести условно. Должно помнить, что за этими словами не русские, а латинские понятия. Мужи — viri, доблесть — virtus; слова непереводимые — spolia, numen, fas. Иногда я допускал не условный перевод, а замену: iuvenes, socii в обращениях — «друзья», в рассказе — «сотоварищи»...
Выражение caecum latus (ст. 19) я передал «слепой бок» — думаю, что и по-латыни это было столь же странно, как по-русски...1
Постоянный эпитет по возможности надо выражать таким словом, чтобы оно и по-русски повторялось везде. То же о целых повторных выражениях: magna comitante caterva.
Некоторые оттенки латинских слов пропадают, но не надо, гоняясь за ними, пересказывать одно латинское слово несколькими русскими. Это дает водянистость. Лучше сжатость. Русское слово часто, не имея того оттенка, как латинское, имеет другой, иногда очень уместный в данном случае...
Громадное значение имеет у Вергилия расположение слов. Это по большей части неестественное, запутанное расположение. Эпитет отделен
1 Любопытно, что именно эта дорогая сердцу Брюсова метафора, как мы видели, утрачена в окончательной редакции.—Л4. Г.
119
от слова определяемого, дополнение далеко отстоит от глагола, предлог ставят между определением и существительным и т. д. До известной степени и русский перевод должен уловить то же движение. Можно несколько ослабить этот беспорядок, ибо по-латыни он в поэзии обычнее. Некоторая неправильность словорасположения произведет на русского читателя такое же впечатление, как на римлянина произведет полный хаос слов...
В латинском языке сочетание предложений соподчиняющее, по-русски — сочиняющее. Переводя с латинского, можно, чтобы придать некоторый характер античности, усилить соподчинение, но все же в целом ряде случаев нужно будет придаточные предложения обращать в главные. По-латыни было обычно, надо быть и по-русски шире...
По-латыни многие слова имеют два метрических ударения. По-русски это возможно лишь в редких случаях — во-первых, в начале стиха, во-вторых, после дактилического слова:
...объяты
Ужасом: помогло предприятию первому счастье
...ни ограды, ни сами Стражники противостать не могут...
По-латыни есть двухсложные слова, сплошь состоящие из кратких слогов; по-русски тоже возможно ставить слова без ударений:
Panduntur portae; iuvat ire et Dorica castra...
Растворены ворота; жадно хочется лагерь дорийский Оглядеть...
Я считаю вполне возможной цезуру после дактиля...1
Fit sonitus spiimante salo (ст. 209): для означения шума моря три слова начинаются звуком s. Я постарался сохранить звукоподражание, употребляя звуки ш и у. «Шум пошел от вспененной пучины...»
Sibila lambebant linguis... ora (ст. 211). Для означения свиста и движения жал Вергилий ставит подряд три звука 1. Я сохранил этот звук, хотя для этого переменил эпитет «свистящими жалами» в «длинными». Некоторое звукоподражание есть у меня и во второй половине стиха: «Лижут длинными жалами свист издающие пасти...»
Нельзя все перевести ровно: иные места окажутся слабее подлинника. Чтобы читатель был вознагражден, необходимо, чтобы другие места, напротив, были сильнее, если это допускает язык, чтобы иное было сказано более по-Вергилиевски, чем в латинском подлиннике...»
III
Начало вступительной статьи к неосуществившемуся изданию «Энеиды» (1920).
1 В латинском гексаметре была почти обязательная мужская цезура в середине стиха. В русском гексаметре XIX века, разработанном на переводах не с латинского, а с греческого, привычка передавать такую цезуру не выработалась. Брюсов следовал здесь русской, а не латинской традиции. Интересно, что белее поздние переводчики — С. В. Шервин-ский, Ф. А. Петровский — соблюдают в своих переводах с латинского эту мужскую цезуру совершенно точно: за сто лет метрическое чувство стало тоньше.—М. Г.
120
О ПЕРЕВОДЕ «ЭНЕИДЫ» ВЕРГИЛИЯ
I. Давно выяснено, что громадное большинство читателей знакомится с произведениями иностранных литератур в переводах на русский язык. Особенно относится это к произведениям литератур античных. Даже в те годы, когда в наших школах господствовала классическая система, весьма немногие из лиц, получивших не только среднее, но даже высшее образование, были в состоянии читать древнегреческих и латинских авторов в подлиннике. Такие лица считались единицами на тысячи. Пишущий эти строки может сослаться на личный опыт: в Московском университете я, один год, состоял студентом классического отделения Историко-филологического факультета (но кончил курс по историческому отделению); из шести моих сотоварищей по классическому отделению четверо признавались мне, что не могут читать греческие и латинские тексты без помощи «подстрочников» или же должны тратить много труда на справки в словарях и грамматиках. В гимназии, в 8-м выпускном классе, никто из моих 25 сотоварищей не мог свободно читать латинских поэтов. Если так обстояло дело больше 20 лет тому назад, среди учеников классической гимназии и среди студентов-классиков,— тем более трудно встретить людей, свободно читающих по-латыни, в наше время, а в следующем поколении их будет и еще гораздо меньше, с устранением античных языков из курса современной трудовой школы. Нет сомнения, что через 10—15 лет греческая и латинская книга станет столь же недоступной русскому читателю, как теперь непонятна ему книга персидская или китайская.
Между тем, невозможно отрицать огромное значение классических литератур... Замечательные произведения эллинских и римских классиков обладают качествами, которых нет (по крайней мере, нет в той же силе) у писателей новой Европы: предельным совершенством стиля, идеальной обработкой языка, вообще — безукоризненным мастерством формы. Даже исключительные гении нового мира, как Данте, Гёте, Пушкин, уступают в этом отношении Вергилию, Горацию и др. Только у античных поэтов — и едва ли не прежде всех у Вергилия — можно найти ту последнюю отделку внешности, где не только каждое слово, но и каждый звук в слове, каждая буква поставлены сознательно и способствуют общему впечатлению...
...Говоря так, я вовсе не хочу превозносить античность, ставя ее выше современности, или утверждать, что литературы древней Эллады и древнего Рима могут дать больше, нежели новые. Нет сомнения, что для современного человека ближе и важнее литературы современные. Целый ряд вопросов первостепенного значения, волнующих современные умы, был вовсе неизвестен древним. Условия их быта были настолько отличны от наших, что драмы, например, .Ибсена дают современному читателю больше применимого к жизни, чем трагедии Софокла, хотя последние и совершеннее как создания искусства. Тем более большему можно научиться из работ новых историков, нежели из сочинений Тацита и Фукидида, при всей гениальности античных писателей. Даже самому совершенству формы современный читатель скорее научится по стихам Гёте, Виктора Гюго, Пушкина, а не по гекзаметрам Вергилия и Лукана, ввиду глубокого различия между языками античными и новыми. Лично
121
я считаю совершенно правильным, что античные языки и античная культура не могут более служить основою для среднего образования. Есть немало наук, знакомство с которыми гораздо нужнее и полезнее, чем изучение мертвых языков при всех их достоинствах. Все это, однако, не исключает необходимости и для современного человека, насколько возможно, ближе ознакомиться с античными литературами в их наиболее выдающихся произведениях. Если мы отказываемся от возможности читать античных авторов в подлиннике через изучение древних языков — мы тем внимательнее должны знакомиться с античной культурой по сочинениям историков и с античной литературой по переводам. Вероятно даже, что такой метод окажется более отвечающим цели, что современный человек из хороших исторических работ и по хорошим переводам будет лучше знакомиться с античной древностью и ее духом, чем то достигалось путем кропотливого изучения грамматик, не дававшего по большей части — как мы говорили — возможности читать в подлиннике античные книги.
Такое положение дел требует, однако, чтобы наша литература обладала как хорошими историческими работами об античной древности, так и хорошими переводами произведений античной литературы. Здесь не место выяснять, в какой мере мы имеем и то и другое. Скажу только бегло, что обогащение нашей литературы в этих направлениях началось только в последние годы, именно после падения исключительного господства классицизма в наших школах... Но, конечно, всего этого еще слишком мало, чтобы удовлетворить назревшую потребность — чтобы сделать для русского читателя доступным, в сочинениях на родном языке, античный мир и его литературу. Предстоит еще огромная работа, чтобы усвоить русской литературе хотя бы только самые великие из литературных созданий Эллады и Рима. И эту работу желательно произвести как можно скорее, во-первых, для того, чтобы растущее поколение, которое не изучает в школе древних языков, нашло достойные пособия для знакомства с античным миром, а во-вторых, для того, чтобы использовать способности писателей того поколения, которое имело возможность в школах старого типа приобрести знание (хотя бы и в ущерб другим) древних языков. Желательно теперь же, пока в среде русских писателей есть еще целый ряд лиц, которые с ранней юности посвятили себя, притом с любовью к делу, изучению античности,— приступить к систематическому переводу произведений античных авторов и к составлению научно-популярных работ, знакомящих с античной культурой. Есть все причины предполагать, что через одно-два поколения в силу новых условий жизни и воспитания будет уже гораздо труднее собрать кадр подходящих работников для выполнения этой задачи.
11. Переходя именно к переводам, можно кратко определить задачу переводчиков, сказав, что их труд должен будет для русского читателя заменять подлинник.
Из этого следует прежде всего, что этот перевод не может ограничиваться пересказом — хотя бы в общем и верным —содержания. Нигде форма не связана так тесно с содержанием, как в произведениях античных писателей, особенно поэтов. Если перевод не воссоздает совершенства формы подлинника, он даст об нем понятие неверное, лишит его одного из важнейших достоинств. Дал.ее, перевод должен воспроизводить особенности автора. Переводы отнюдь не заменяли бы подлинников, если бы на русском языке Вергилий и Гомер, Эсхил и Сенека, Сапфо
122
и Катулл оказались бы похожими друг на друга, а их стихи — написанными одним и тем же стилем, при одинаковых словарях. Мало того: перевод должен воспроизводить и особенности эпохи. Недопустимо, чтобы в русском воссоздании авторы VIII в. до Р. X. писали бы так же, как поэты IV в. по Р. X., или трагики эпохи Перикла — как лирики времен Антонинов. Необходимо, чтобы переводчик помнил всегда, что по его труду читатели будут знакомиться и с данным произведением, и с его автором, и с эпохой, когда оно возникло.
Наконец, перевод, заменяющий подлинник, должен быть пригоден и для цитат по нему —требование, которое, большей частью, забывалось нашими переводчиками. Если в историческом сочинении, русском или иностранном, встретится ссылка на какое-либо произведение античной литературы с указанием книги и главы или стиха, читатель должен быть уверен, что, развернув русский перевод, он в соответственном месте найдет те самые выражения, которые имеются в виду. Если историк строит свои выводы на каких-либо характерных словах древнего писателя, русский читатель должен найти соответствующие слова в переводе. Иначе говоря, перевод должен быть сделан строка в строку, стих в стих; в переводе должны быть сохранены все выражения, по возможности все слова подлинника, и наоборот, не должно быть прибавлено иных, лишних,— кроме, конечно, тех случаев, когда данное греческое или латинское выражение может быть с точностью выражено лишь двумя или тремя русскими словами (случаев, кстати сказать, гораздо более редких, нежели то полагают обычно). Несоблюдение этих правил уже не раз приводило в некоторых исторических сочинениях (переводных) к досадным недоразумениям.
Таковы общие правила для перевода античных авторов на русский язык. Эти правила подлежат выполнению с тем большей строгостью, что вопрос стоит, раньше всего, о переводе классических произведений, ,т. е. лучших, высочайших созданий эллинского и римского гения. В таких переводах, с одной стороны, важно и дорого, действительно, каждое слово, почти — каждый звук слова; изменить что-либо в переводе почти всегда значит обесцветить и обезличить оригинал. С другой стороны, в таких произведениях почти каждое слово давало повод на протяжении веков к многочисленным комментариям, спорам, выводам; заменять одно выражение другим значит нередко — зачеркнуть целую литературу по поводу этого слова. Переводя такие произведения, необходимо быть крайне осторожным и постоянно помнить, что за каждой строкой, за каждым стихом стоит длинный ряд толкователей, подражателей и ученых, строивших на этой строке или на этом стихе свои теории.
...Понимание классических произведений изменяется с течением времени. Каждая эпоха вносит в это понимание нечто свое. Мы смотрим на Гомера совершенно иначе, чем смотрели на него сто лет назад; иное наше отношение к греческим трагикам, нежели отношение к ним современников Вольтера, и т. д. Поэтому дать «окончательный» перевод классического произведения, такой перевод, который мог бы остаться навсегда,— невозможно. Наука идет вперед, история постепенно уясняет новые черты в античной жизни, которые ранее были неизвестны, в частности — филология исправляет тексты писателей, так что по прошествии известного времени всякий перевод неизбежно оказывается устаревшим. С другой стороны, этот процесс совершается не так быстро... В большинстве случаев взгляды, установившиеся в истории на основные
123
явления античной жизни и культуры, подвергаются лишь частичным изменениям, мало влияющим на понимание литературных, тем более — поэтических произведений. Поэтому есть полная возможность дать перевод такого произведения, если и не «окончательный», назначенный служить «всегда», то все же такой, который мог бы удовлетворить несколько поколений читателей. Именно к такому идеалу и должен стремиться переводчик.
Достойным образом перевести крупное классическое произведение — труд очень большой, требующий затраты большого количества энергии и времени, большею частью, многих лет. Было бы непроизводительной тратой труда, если бы вскоре после появления одного перевода выяснялась бы надобность в новом переводе того же произведения. Избежать этого возможно лишь в том случае, если переводчик отнесется к своей задаче со всей возможной серьезностью — предпримет свое дело, взвесив, во-первых, с беспристрастностью свои силы и выяснив, во-вторых, все условия работы. Прежде чем переводить, переводчик обязан (предполагая, что он считает себя обладающим достаточными знаниями и достаточным дарованием) уяснить себе, каков должен быть тот язык (словарный материал), который наиболее будет соответствовать языку данного автора и данной эпохи; каким способом можно наилучшим образом передать стиль автора; что есть у автора общего с другими писателями его времени и его народа и что принадлежит ему лично и как выразить это различие в переводе; каково миросозерцание автора, отразившееся в его произведении, иногда бессознательно, в намеке, и как дать русскому читателю почувствовать то же самое в переводе,— и еще длинный ряд подобных вопросов. Не говорю уже опять о том, что переводчик обязан внимательно обдумать, какой текст положит он в основу своего перевода.
В заключение... надо сказать, что все эти требования обращены, конечно, к переводчику, подготовленному к своей задаче. Мы предполагаем, что переводчик хорошо знает тот язык, с которого берется переводить, достаточно изучил ту эпоху, в которую возникло данное произведение (как и ту, которая в этом произведении изображена), во всех подробностях знаком с самим произведением и со всеми важнейшими его комментаторами, а также имеет в руках все нужные для своего труда пособия. Кроме того, мы предполагаем, что переводчик в совершенстве владеет русским языком и, если он переводит стихотворное произведение, русским стихом,— вообще, обладает дарованием писателя или поэта, без чего, разумеется, никакие знания и никакое старание не помогут создать достойный перевод...
IV
НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ОД ГОРАЦИД РУССКИМИ СТИХАМИ (1916)
Переводчик Горация может поставить себе одну из двух задач: или передать все особенности подлинника насколько возможно точнее, или постараться произвести на читателей то же впечатление, какое оды Горация производили на его современников. С первого взгляда последняя задача кажется предпочтительнее. Оды Горация — произведение худо
124
жественное. В создании искусства всего важнее то впечатление, которое оно производит, те чувства, которые оно вызывает или, по терминологии Льва Толстого, «которыми оно заражает». Можно думать, что переводчику позволительно изменять средства, лишь бы достичь той же цели, к какой стремился Гораций.— Однако, рассмотрев этот вопрос всесторонне, я предпочел в своих переводах держаться другого метода.
Во-первых, для того, чтобы «произвести переводом то же впечатление на читателя, которое оды Горация производили на современников», необходимо весьма многое в них изменить. Целый ряд выражений Горация, вполне понятных, обычных для римлянина I в. (например, все мифологические намеки), окажутся непонятными, чуждыми современному читателю. Если переводчик постарается все эти выражения упростить, комментировать в самом тексте (как то делает в своих переводах Ф. Ф. Зелинский) — характер подлинника станет несомненно иным. Латинская стихотворная речь эпохи Августа значительно отличалась от стихотворной речи наших дней. У латинских поэтов были традиционные приемы, которые на их читателей производили впечатление чего-то весьма обычного и которые нашим читателям покажутся странными, изысканными, т. е. произведут прямо противоположное впечатление. Переводчик должен будет заменить и эти приемы другими, опять значительно уклоняясь от оригинала. Самые размеры и формы стиха, употребляемые Горацием в его одах, совершенно чужды русскому читателю начала XX в. Переводчик, чтобы быть последовательным, должен будет изменить и метры Горация, применяя, вероятно, и рифму, как обычное украшение наших лирических стихотворений. Но в поэтическом создании форма важна никак не менее содержания; изменяя форму стихотворения, переводчик изменит что-то в самом его существе. Кроме того, невозможно определить, до каких пределов могут и должны идти все эти (и другие) изменения. Единственным критерием останется личный вкус переводчика, и все переводы такого рода по необходимости будут крайне субъективны, будут давать Горация резко преломленным сквозь индивидуальную призму переводчика.
Во-вторых, возбуждает сомнение самый принцип — искать того впечатления, какое оды Горация производили на его современников. Оды Горация читались, изучались и пользовались громадным уважением в течение всего времени, пока существовал римский мир. На читателей IV, например, века они производили, конечно, другое впечатление, нежели на читателей эпохи Августа1 * * IV. Иные намеки Горация на современные ему события уже стали мало понятными в IV в. без особого комментария. Язык Горация за четыре века во многом устарел. Некоторые формы и обороты вышли из употребления и сохранились только в языке книжном, поэтическом, преимущественно у подражателей самого Горация. Множество слов и выражений, обычных для римлян IV в., были Горацию совершенно неизвестны. Во всяком случае, язык од Горация стал сильно отличаться от языка разговорного; постепенно изменилось
1 IV век взят в качестве примера не случайно: именно в 1910-е годы
Брюсов усердно изучал римскую культуру IV века, переводил поэтов
этого времени (Авсония, Пентадия), писал дилогию «из римской жизни
IV в.» «Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный», готовил книгу историко-культурных очерков «Аигеа Roma» («Золотой Рим») о Риме IV века. Это тесно связано и с переводческой деятельностью Брюсова.—-М.Г.
125
также и мировоззрение общества; изменился политический строй и политическое самосознание римлян, и т. д. В общем, в позднейшие века Римской империи оды Горация производили на читателей совсем не то впечатление, как при своем первом появлении. Почему же переводчик должен «заражать» своих читателей чувствами римлян I века, а не IV или III и т. под.? Кроме того, житель именно Рима испытывал одно ощущение, читая Горация, провинциал — другое, житель отдаленной окраины — третье, и т. д. Как только мы начинаем говорить об ощущениях, чувствах, впечатлениях, так тотчас мы входим в область крайне неопределенную, в которой переводчику предоставляется самый широкий произвол.
В-третьих, весьма неопределенно и понятие «современный читатель». Что трудно для понимания и звучит странно для одного круга читателей, то может казаться простым и привычным для другого. Применяясь к «современным читателям», переводчик невольно будет применяться лишь к одной группе их. Вместе с тем уровень развития широких кругов читателей с течением времени повышается. Что теперь многим мало доступно, через несколько десятилетий может стать доступным для самых широких кругов. Перевод, примененный к пониманию «среднего читателя» текущего десятилетия, несомненно устареет через 20—30 лет. Устареет и язык такого перевода. Чем заботливее будет переводчик придерживаться разговорного (и, следовательно, наиболее «понятного») языка данной эпохи, тем скорее язык перевода. окажется в несоответствии с разговорным языком нового времени. Переводить для «современного читателя» — значит делать работу, годную лишь на короткое время. Нелепо требовать, чтобы каждые четверть века заново переводились все классики: разумнее сделать перевод, который мог бы если не навсегда, то на долгое время остаться в нашей литературе, не требуя себе замены.
В-четвертых, наконец, в русской литературе уже имеются переводы од Горация, стремящиеся произвести то же впечатление, как подлинник. Среди этих переводов лучшие, бесспорно, принадлежат Фету. Довольно близкие к оригиналу, большею частью правильно передающие его смысл, написанные легким рифмованным стихом, эти переводы до сих пор удовлетворяют потребности читать по-русски нечто подобное одам Горация. Читатель по этим переводам получает довольно правильное понятие об одах Горация и иногда, в наиболее удачных переводах, испытывает подлинное художественное наслаждение. Пока не представляется никакой надобности делать вторичную работу, уже исполненную Фетом. Критика в свое время указала различные недостатки в переводах Фета; новые исследования во многом изменили наше понимание отдельных мест в одах Горация; но все это не имеет существенного значения для того круга читателей, для которого эти переводы предназначены.
Вот те соображения, которые побудили меня сделать попытку — передать оды Горация русскими стихами, по возможности со всей точностью. Я поставил себе задачей сохранить в своем переводе: размеры Горация, приемы его речи, особенности его словаря, характерное расположение слов (весьма отличное, как известно, от расположения слов в латинской прозе), аллитерации и вообще «звукопись» и т. под.— поскольку все это возможно в переводе метрическом. Нет сомнения, что такой перевод потребует от читателя известного усилия для своего понимания. Но это обстоятельство я не могу считать своей виной: оно зависит от того,
126
что поэзия Горация принадлежит эпохе совершенно отличной от нашей. Современному читателю чужды те идеи, понятия, образы, в сфере которых живет поэзия Горация. Современному русскому читателю чужды те приемы изобразительности, те способы выражать свою мысль, та игра словами и оттенками, которые были обычны в римской поэзии. Русскому читателю чужды, наконец, горациановские метры; многие из них могут быть воссозданы в русском стихе лишь приблизительно, и все они нуждаются, при произнесении, в особой скандовке, почти излишней при чтении наших обычных стихов. Иначе говоря, переводы, которые я предлагаю вниманию читателей, необходимо прежде чтения — изучать.
Представим себе, что современный русский читатель, человек со «средним» (не в смысле гимназического) образованием, вдруг получил бы, некиим чудом, дар понимать латинскую речь. Обратившись к одам Горация, он понял бы в них, вследствие этого чуда, все отдельные слова и общий смысл фраз; но весьма многое еще осталось бы ему непонятным и чуждым. Для того, чтобы оценить художественную красоту од, такому читателю пришлось бы о многом справиться, над многим подумать, во многом отказаться от усвоенных издавна вкусов. Совершить такое чудо и есть задача моих переводов. Мне хочется представить русскому читателю как бы латинский текст од Горация, причем, однако, все слова текста были бы читателю понятны. Иначе говоря, мне хочется дать возможность лицам, не знающим латинского языка, читать Горация по-латыни. Насколько мне удалось разрешить такую задачу, я, конечно, предоставляю судить просвещенной критике. Но достичь такой цели — значит дать перевод, который мог бы остаться в нашей литературе так долго, пока язык, на котором он написан, не стал бы окончательно непонятен читателям, т. е. на долгие века.
V
Ода II, 14: «К Постуму»:
Увы, о Постум, Постум, поспешные Стремятся годы, и благочестием Морщин и старости грозящей
Не отдалишь, как и верной смерти.
Нет! хоть по триста (каждый, что минет, дней) Быков Плутону немилосердному, Друг, приноси, кем необъятный С Тити ем Гёрион трижды связан
Волной печальной,— что, без сомнения, Мы все, кто живы даром земли своей, Переплывем — равно, цари ли, Бедные ль просто колоны будем.
Вотще бежим мы Марта кровавого И струй разбитых Гадрия хриплого, Вотще, что осенью опасен
Нашим телам, мы боимся Австра,—
127
Должны мы — черный, медленно зыблемый Кокит блудящий, Данаев низкий род, Кто к долгой принужден работе, Сйсифа, с>ола сына — видеть,
Покинуть землю, дом и любящую Жену должны мы; много расти дерев: Пойдет лишь кипарис проклятый За человеком недолгим — следом
Наследник вскроет кёкубы славные, Запоров сотней тщетно хранимые, И гордым соком запятнает
Пол, и обедов жрецов достойным.
Ода II, 20: «Лебедь»:
Не на непрочных, не на простых помчусь Крылах, двуликий, в выспреннем воздухе, Поэт, и в землях не замедлю
Дольше, но, зависти недоступный,
Покину грады. Тот я, от бедных кто Рожден был предков, тот я, зовешь кого, Мой милый Мекенат, избегну
Смерти, волной не задержан Стига.
Вот, вот, ложится кожа на голенях Все жестче, птицей делаюсь белою, И легкие взрастают сверху
На раменах и на пальцах перья.
Я, чем Дедалов Йкар, известнее, Брега увижу гулкого Ббспора, Гетулов сирты и пределы, Где Гиперббреи, певчей птицей.
Меня и Колхи и, кто скрывает страх Пред строем Марсов, Дак, и предельные Гелоны будут знать, изучит
Мудрый Ибер и из Роны пьющий.
К чему на мнимом плач погребении, Скорбей постыл ость, как и все жалобы, Оставь стенанья, и гробнице
Почестей не воздавай бесплодных.
Л. Соболев
ПЕРЕВОД —ЗАЛОГ ДРУЖБЫ ЛИТЕРАТУР
23—26 июня 1970 года в Москве состоялось Третье Всесоюзное совещание переводчиков, созванное Правлением Союза писателей СССР и его Советом по художественному переводу.
Рождение этого переводческого, форума было долгим и нелегким. Подобно тому как книга пишется год или несколько лет, чтобы быть прочитанной в течение нескольких дней, наше совещание, рассчитанное на четыре дня, готовилось довольно длительное время. Республиканские секции и советы, представили, письменные справки, отражающие развитие искусства перевода в республиках', эти справки, интересные своим богатым конкретным материалом, были размножены и розданы участникам совещания. По существу, они выполнили роль содокладов.
Накануне совещания развернулась дискуссия по наиболее актуальным вопросам перевода на страницах местной и центральной печати. Программа совещания неоднократно обсуждалась и уточнялась на пленумах Совета по художественному переводу. Учитывая, что в 1966 году прошел симпозиум, специально посвященный проблемам теории перевода, мы решили уделить главное внимание обсуждению наших практических задач.
Совещание открылось в Центральном Доме литераторов вступительным словом Н. Тихонова, одного из патриархов советского - поэти-
5 Мастерство перевода
129
ческого перевода. Доклад Л, Соболева был посвящен теме «Перевод — залог дружбы литератур»; в этом выступлении раскрыта роль художественного перевода в укреплении взаимосвязей братских культур наших народов. Э. Ананиашвили, заместитель председателя Совета по художественному переводу, в своем докладе, названном «От Второго совещания переводчиков к Третьему», изложил итоги и отличительные черты нового этапа переводческой деятельности в нашей стране. Г. Гачечиладзе выступил с докладом на тему «Научные принципы теории художественного перевода и вопросы подготовки молодых переводчиков». Анализ теоретических работ содержался в докладе Л. Мкртчяна («Художественный перевод и литературная критика»).
В оживленных прениях по докладам приняло участие 46 человек. Обсуждались назревшие проблемы переводческой деятельности на всех языках народов СССР, вносились деловые предложения, практические советы и т. д. Наиболее полную картину этого переводческого форума воссоздаст книга, в которую войдут материалы совещания.
Предварительно мы предлагаем вниманию читателей доклад Л. Соболева.
Виль ГАНИЕВ, ответственный секретарь Совета по художественному переводу Правления Союза писателей СССР
Уважаемые товарищи!
Позвольте мне в качестве эпиграфа к нашему совещанию напомнить известные слова Гёте, сказанные почти полтораста лет тому назад: «Что бы ни говорили о недостатках переводческой работы, труд переводчика был и остается одним из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную».
Мне думается, эти слова отлично выражают как наше уважение к сложной этой отрасли литературы, так и общее
130
наше желание справиться с недостатками, неизбежно сопутствующими труду переводчика. Именно в этом цель совещания.
Благородное и трудное дело художественного перевода имеет особое значение для нашей советской литературы, самой сущностью которой является ее многоязычность в едином идейном русле движения в коммунизм при едином методе социалистического реализма. Если же, кроме того, на советской литературе, как части общепролетарского общенародного дела, лежит еще самоважнейшая забота об активном общении с зарубежными литературами, в первую очередь — социалистических стран, то огромный размах этой работы станет понятен.
Немного статистических данных. В начале этого Года в рядах Союза писателей СССР состояло 6942 литератора 83 национальностей. Пишут они и печатаются на 74 языках: на русском — 3329, а на языках народов СССР и зарубежных стран — 3613, то есть более половины всего нашего содружества. Взаимосвязь и взаимопроникновение братских наших литератур не могли бы стать возможными, не будь в Союзе писателей мощного отряда «службы связи» — переводчиков. Глубокого уважения и всенародной благодарности заслуживают писатели, которые самоотверженно отдают свои творческие силы делу культурных связей наших народов, дальнейшему сближению братских литератур.
В годы становления советской литературы уровень развития отдельных литератур наших народов был не одинаков. Рядом с древними, завоевавшими широкую известность литературами России, Украины, Закавказья, Прибалтики, прошедшими уже путь критического реализма, в советскую семью вошли литературы Средней Азии, которые имели прочные древние поэтические традиции, но в новых исторических условиях делали еще первые шаги в освоении крупных форм прозы. Появились и младописьменные литературы, которые включались в бурный процесс общего развития по мере возникновения письменности и выступления талантливых писателей: примечательно, что ныне одни лишь молодые литературы советского Севера издают свои книги на двадцати одном языке...
История советского перевода еще не написана, но, несомненно, исследователи найдут в ней немало ярких собы-
5*
131
тий и самоотверженных деятелей поистине^ братского сближения.
Предшественниками их задолго до революции были передовые писатели народов Российской империи, которые искали связи с демократическими слоями русской интеллигенции, старались знакомить своих читателей с литературой и культурой русской.
Так, еще в конце прошлого века великий казахский поэт Абай перевел «Горные вершины» и «Письмо Татьяны», которые стали народными песнями казахской степи, не знавшей- грамоты. Азербайджанский писатель Аббас Сиххат в те же годы подарил своему народу пушкинские строки, так близкие горскому сердцу:
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...
Блестящая плеяда поэтов—Александр Чавчавадзе, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа Пшавела и их соратники — были первыми переводчиками русских поэтов на грузинский язык. Татарский поэт-демократ Габдулла Тукай называл своими учителями Пушкина, Жуковского, Лермонтова и оставил народу свои переводы их стихов, и именно благодаря ему тюркоязычные народы Востока узнали русских поэтов.
В свою очередь, и русские поэты проявляли живейший интерес к культуре народов Закавказья, Прибалтики, Средней Азии. Один из крупнейших поэтов России Валерий Брюсов еще в начале века (в 1916 году), издал ценнейшую антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», редактировал «Сборник латышской литературы». И не кто иной, как Алексей Максимович Горький, за-ботник и мудрец, еще в 90-х годах пытался организовать сборники литератур народов России, и в издательстве «Парус» некоторые были изданы.
Величайшим вкладом Горького в интернациональную связь и дружбу литератур было создание издательства «Всемирная литература», которое в условиях гражданской войны, разрухи, саботажа приступило в 1918 году к выполнению плана поистине грандиозного — к выпуску на русском языке лучших сокровищ Европы, Азии, Америки, Африки. Через несколько лет, в 1924 году, А. М, Горь-132
кий добился создания специального издательства для книг на языках народов Советского Союза.
Так начинался этот великий культурный поход. С половины 20-х годов старшее поколение писателей Киргизии, Азербайджана, Грузии, Туркмении, Казахстана вступило на этот благородный путь. Так появились имена первых переводчиков — Кербабаева, Ауэзова, Самеда Вургуна, Янки Купалы, Тициана Табидзе — писателей, которыми гордится вся советская литература.
Помните стихотворение Маяковского — «Казань»?
Входит татарин:
«Я на татарском вам прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит, в карманах порыскав:
«Я-
мариец.
Твой —
левый, i
дай /
тебе >
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш ваш — наш марш. Я-чуваш, послушай, уважь.
Марш вашинский так по-чувашски...»
Имена этих трех переводчиков: татарин Адель Кутуй, мариец Александр Ток и чуваш Педер Хузангай. Из них марийский поэт посвятил большую часть своей творческой жизни переводу произведений Маяковского на свой родной язык.
133
Начало 30-х годов ознаменовалось выходом к широкому всесоюзному читателю таких представителей братских литератур, как Самед Вургун, Сакен Сейфуллин, Галим-джан Ибрагимов, Максим Рыльский, Егише Чаренц. Стало более тесным и плодотворным общение писателей братских республик и России. Сегодня мы с благодарностью называем тех русских писателей, которые заложили традиции крепкой дружбы, явились зачинателями великого дела художественного перевода с языков народов Советского Союза: Тихонов, Пастернак, Луговской, Павленко, Заболоцкий, Либединский, Антокольский, Бородин, Всеволод Рождественский, Тарковский, Рыленков, Прокофьев, Ушаков, Шервинский, Скосырев, Звягинцева, Державин, Пеньковский,— к счастью нашему, всех имен не назовешь.
На протяжении жизни одного лишь поколения в общественной и литературной сфере наших республик произошли изменения грандиозные. Мухтар Ауэзов так сказал об этом: «По всему тому, что видел, пережил, наблюдал, я пришел в середину XX столетия из далекого — даже не европейского, а азиатского средневековья». И нужно было сделать достоянием всесоюзного читателя все то новое, что появилось в братских литературах. А с другой стороны, развитие наших национальных литератур требовало освоения ими опыта литератур более зрелых, всей мировой сокровищницы.
Именно об этом говорил на (Первом съезде советских пи-сателей А. М. Горький, когда бн призывал нас «переводить друг друга» и говорил, что «разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов». Теперь, оглядываясь на пройденный путь, мы с гордостью можем сказать, что заветы Горького претворены в жизнь. О размахе и масштабах переводческой деятельности в нашей стране свидетельствуют такие цифры: за 50 лет существования советской власти издано 67 тысяч книг писателей 70 национальностей СССР (кроме русских), общим тиражом 1,2 миллиарда экземпляров. Было бы поучительно раздобыть для сравнения цифры, скажем, 1916 года.
Я вспоминаю, как сразу же после Первого съезда писателей писатели-ленинградцы встретились с делегатами из Казахстана — Ауэзовым, Сейфуллиным, Мукановым, Джан-сугуровым, Майлиным. Это было первое знакомство. У нас
134
возникла общая мысль о посылке бригады ленинградских писателей в Казахстан, чтобы увидеть степной и горный край и его людей. Это осуществилось весной 1935 года и в моей биографии явилось поворотным пунктом. Многолетняя дружба связала меня со многими казахскими писателями, с литературой казахского народа и обусловила как составление первой антологии казахской литературы, издание сочинений Абая Кунанбаева, так и совместную работу с Мухтаром над трагедией «Абай» и перевод его превосходного романа. Подобные же дружеские связи привели к появлению на русском языке многих книг других национальных литератур.
Так складывались и укреплялись широкие и разветвленные творческие связи не только русских писателей с писателями союзных республик, но и внутренние их взаимосвязи. Пример — тесные контакты литератур украинской и башкирской. Первая — литература зрелая, прошедшая многовековой путь развития, башкирская же — молодая, фактически сложившаяся после Великого Октября. И если лет сорок тому назад не было, да и не могло быть прочных литературных связей между Украиной и Башкирией, то сегодня мы имеем книги, переведенные с украинского на башкирский и с башкирского на украинский. Один из крупнейших украинских поэтов Павло Тычина с любовью переводил стихи с башкирского. Основоположники белорусской советской литературы Якуб Колас и Янка Купала в 30-е годы были зачинателями и вдохновителями переводов классической и современной им украинской литературы. В Казахстане еще в 1926 году появился «Скупой рыцарь» в переводе Абдильды Тажибаева; большими мастерами художественного перевода и русских классиков и Шекспира стали Мухтар Ауэзов и Габит Мусрепов. В Молдавии Андрей Лупан подарил народу «Гамлета», Георгий Менюк — «Слово о полку Игореве», а на Украине Микола Бажан — «Витязя в тигровой шкуре». Виднейшие писатели союзных республик как бы несут в жизнь своих народов осуществленный завет Горького, считая прямым своим долгом брать на себя нелегкий труд переводчиков.
Поразителен и перечень языков, с которых переводятся литературные произведения. Так, в Эстонии с 1940 по 1968 год были переведены произведения с 30 языков народов Советского Союза и 38 иностранных языков. Армянские
135
переводчики внесли в культурный фонд своего народа за последние десять лет переводы более чем сорока советских и зарубежных литератур.
Таким образом, великая задача, поставленная перед литераторами историей, решается энергично и успешно. Еще на Втором съезде писателей СССР с трибуны прозвучал содоклад П. Антокольского, М. Ауэзова и М. Рыльского о художественных переводах литератур народов Советского Союза. Огромная работа в области перевода требовала анализа и обобщения — и коллективный доклад во многом выполнил эту задачу. Но жизнь идет вперед. Сегодня перед искусством перевода стоят еще более ответственные задачи. Нельзя не сознавать, что мы, писатели-переводчики, работаем в новых условиях, перед нами стоят новые проблемы, решение которых не дано нам в готовом виде.
Сама наша действительность предъявляет исключительно высокие требования к миссии переводчика. Его труд должен стоять на прочном фундаменте не приблизительного, а точного, досконального знания предмета. Мы не можем подсовывать читателю некий суррогат подлинника, в котором либо неполно, либо искаженно будут изображены черты национального облика героев, национальные традиции, бытовые и прочие детали.
Судя по обзорам переводческой деятельности в союзных республиках, розданным участникам совещания, нам придется обсудить, кроме вопросов теоретических, исследовательских, и другие немаловажные вопросы.
В области теории, вероятно, возникнет вновь старый вопрос о буквализме и о праве переводчика вмешиваться в ткань произведения. Позвольте, в связи с этим, восстановить в вашей памяти остроумный анализ, сделанный в коллективном докладе о переводах на Втором съезде.
«Пушкин называл переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения...». Но нам хочется развить пушкинский образ. Нам представляется такая картина.
«По старинке в карету переводчика впряжены три коня. Это прежде всего коренник, представляющий собой меру дарования переводчика. С двух сторон коренника, как водится, пристяжные. Слева — весьма норовистый, каприз? ный конек, несущий всякую околесицу отсебятины, рвущийся на вольный простор вольного перевода и переложе
136
ния. Справа — унылая, подслеповатая кляча буквализма, плетущаяся от слова к слову, от сих и до сих, в меру заданного ей и с трудом осваиваемого овса (смех, аплодисменты)... Отсебятина и буквализм. Буквализм и отсебятина. Вот два наиболее распространенных и наиболее вредных уклона в переводческой практике. Который из них вреднее? Само собой разумеется, тот, с которым не ведется в данный момент борьбы». (Смех). Думаю, что сказано очень верно.
Что касается левой пристяжной, позвольте потревожить одно почтенное имя и огласить игру поэтического ума в переводе античных стихов Сафо.
Сперва перевод В. Вересаева:
— Что колечком своим так гордишься ты, дурочка?
Перевод другого поэта:
— Что ж перстеньком ты своим похваляешься?
Или еще: простая строка о яблоке, висящем на ветке:
...Забыли сорвать его люди?
Нет, не забыли, а достать его не сумели,—
выглядит так:
...Не видали, Знать, на верхушке его? Аль видали, да взять — не достали?
Вересаев:
Эй, потолок поднимайте —
О, Гименей. Выше, плотники, выше!
О, Гименей.
Входит жених, подобный Арею, Выше самых высоких мужей.
Перевод другого поэта:
Стройте кровельку выше, Свадьбе слава!
Стройте, плотники, выше — Свадьбе слава!
Входит жених словно бог — воевода...
Прелестный случай переселения греческой поэтессы к Ярославу Мудрому. Но переводчик, по его словам, имеет
137
целью «создать музыкальный эквивалент подлинника. Таковым может быть только переложение. Но, жертвуя дословной близостью подстрочной передачи, перелагатель поэт должен возместить ее верностью истолкования».
Теоретически, возможно, все правильно. А на деле Вячеслав Иванов, известный поэт начала века, сотворил нечто чудовищное.
Вероятно, эти вопросы теории будут обсуждаться на нашем совещании. Мне хотелось бы обратиться к современному положению переводческого дела.
Не всюду еще у нас правильно решены вопросы издательской деятельности. Пожалуй, кроме Эстонии, где периодически издается «Библиотека Лооминг» и серия книг мировой литературы в Государственном издательстве, да Литвы, где у переводчиков нет претензий к издательству, в остальных республиках дело обстоит не так благополучно, о чем, вероятно, тут будет сказано с трибуны. Я приведу лишь некоторые факты.
Так, например, в Грузии русский журнал не попадает за пределы республики, и читать его могут лишь русские, проживающие в Грузии. Справедливы претензии Ленинграда, где лишь одно издательство выпускает переводную литературу. О том же говорят и молдаване, и казахи, и латыши. Поднимается вопрос о том, что эти издательства находятся в системе Комитетов печати, где планируются книги и отбираются кадры, и влияние Союзов писателей на издание переводов — ничтожное.
Другой вопрос по-прежнему занимает нас. Это — пополнение кадров переводчиков.
Примечательно, что на этот трудный путь стали виднейшие наши поэты и писатели всех республик. Но главной движущей силой, несомненно, является большой талантливый отряд переводчиков-профессионалов. Они отдают свои силы и свои писательские дарования высокой задаче— сделать достоянием многонационального советского читателя все сокровища мировой литературы. За последнее десятилетие рядом с именами мастеров русской переводной поэзии и прозы — таких, как Левик, Гинзбург, Любимов, Гнедич, Калашникова, Касаткина, Зенкевич, Райт-Ковалева, на ступени славы взошли переводчики английской, немецкой, французской, итальянской литературы на украинский, белорусский, грузинский, армянский, молдав
138
ский, латышский языки — Микола Лукаш, Юрий Гаврук, Иосиф Семяжон, Игорь Крецу, Гиви Гачечиладзе, Анна Бауга, Паруйр Микаэлян — называю лишь некоторые имена для примера.
Большим событием является выход двухтомника, изданного в большой серии «Библиотеки поэта» в 1968 году. В двухтомник включены лучшие образцы русского стихотворного перевода на протяжении двух столетий — от Ломоносова до Луговского. Обе книги снабжены научносправочными комментариями и являются ценным пособием для широкого круга литераторов, в особенности для молодых переводчиков.
В связи с этим необходимо отметить выход в свет интереснейшей и полезной книги переводов с французского — «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX— XX вв.». Очень хорошо, что в ней приводятся параллельные переводы некоторых стихотворений, что дает материал для рассуждения — не для соревнования переводчиков, а для пользы дела — о том или ином способе перевода.
На симпозиуме 1966 года приводились интересные примеры сравнения переводов — скажем, Вячеслава Иванова и Блока стихотворения Исаакяна «Моей матери». В. Иванов перевел стихотворение веселым ритмом:
В чужедальном я плену Жизнь бездомную кляну. Как с родимою простился, Сном спокойным не забылся.
Блок перевел это же стихотворение так:
От родимой страны удалился Я, изгнанник без крова и сна...
Каждые три-четыре года приносят нам новые имена и новое пополнение переводческих кадров. Здесь надо с благодарностью отметить Литературный институт им. Горького, Московский институт иностранных языков им. М. Тореза, где существуют специальные переводческие семинары.
Воспитанию профессиональных навыков, выявлению новых одаренных переводчиков способствуют в Москве так называемые переводческие «среды», которыми руководят Э. Ананиашвили и В. Левик, куда каждый переводчик может прийти со своими работами, прочесть их и выслушать
139
товарищескую критику. Эти «среды» посещаются главным образом молодыми переводчиками, еще не членами союза, но и некоторые «маститые» стали их верными друзьями. В целом молодежь взяла на себя главным образом переводы современной поэзии — работу, имеющую огромное политическое значение и вызывающую большой международный резонанс. Это хороший пример, и ему могли бы последовать и в других городах.
Переводчики активно участвуют в современном литературном процессе. Велика их роль в развитии и обогащении литератур народов СССР и всего социалистического лагеря, в сближении прогрессивных литераторов всего земного шара.
Событием, например, в белорусской поэзии явился выход в свет антологии вьетнамской поэзии, кстати сказать, изданной впервые в Советской стране и полностью переведенной на белорусский язык Иосифом Семяжоном.
Лучшие мастера переводческого искусства страны удостоены почетных званий и наград ряда республик нашей страны и социалистических стран.
Все это свидетельствует о высокой оценке труда наших переводчиков, их вклада в развитие литератур народов СССР.
В идейной борьбе за победу сил коммунизма, мир и демократию советским переводчикам всегда будет принадлежать почетное и ответственное место. Наш долг — совершенствовать свое мастерство, проявлять высокую идейную и художественную требовательность как к оригиналу, так и к переводу.
Позвольте пожелать успеха нашему совещанию, которое мне кажется чрезвычайно важным в дальнейшем развитии нашей советской литературы.
ПОРТРЕТЫ
Е. Зисельман
(Свердлове к)
В МАСТЕРСКОЙ ПАВЛА АНТОКОЛЬСКОГО
(Из истории русского Барбье)
Я раньше думал— книги делаются так: пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак — пожалуйста!
Вл. Маяковский, «Облако в штанах»
I. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
«Признаюсь Вам честно, что Барбье не принадлежит к моим любимым французам»1,— с чувством, близким к отчаянию, прочитала я ответ П. Г. Антокольского на мой робкий вопрос, как он относится к Огюсту Барбье, поэту, которого он переводил почти четверть века, переводил много и хорошо. А в следующем письме снова: «...еще раз повторяю: Барбье не был никогда героем моего романа»1 2...
Павлу Антокольскому принадлежит больше всего переводов из О. Барбье в советское время. Даже новый сборник своих переводов из французской поэзии3 он назвал «Медная лира» — так называется одно из стихотворений Огю
1 Из письма П. Антокольского от 5 апреля 1970 года.
2 Из письма П. Антокольского от 14 апреля 1970 года.
3 «Медная лира». М., «Художественная литература», 1970.
143
ста Барбье. Неужели это случайно? Нет сомнений, что П. Антокольскому близок яркий французский сатирик Огюст Барбье, близок высокой гражданственностью и лиризмом, бурным поэтическим темпераментом и трагическим мировосприятием, хлестким сарказмом и, наконец, сочным языком, сплавленным- из высокой риторики и грубого просторечья...
Итак, не влюбленность в Барбье-поэта была причиной стольких прекрасных его рождений заново, по-русски, в поэтической мастерской П. Антокольского. Так что же тогда? Ну конечно — Время, История — «славный соавтор» и «Главный герой» оригинальной поэзии П. Антокольского! Всему виной та самая любимица Павла Антокольского, «муза Истории, девушка с горящими глазами, с быстрым и легким шагом», которая «пересекает континенты и моря, огромные пространства от Москвы до Вашингтона, от Хельсинки до Дели»1 и ведет вперед каждого большого художника. Ведь лучшие произведения гражданской поэзии Огюста Барбье — тоже порождение Истории, порождение революционного времени, «трех славных дней» 1830 года. Недаром современники называли Огюста Барбье «Тиртеем июльских баррикад». И конечно же пламенная поэзия Огюста Барбье, первым из французских поэтов разглядевшего трагический кошмар и античеловечность капитализма (который в те «молодые года» еще «даже подпевал Марсельезу»),— эта поэзия не могла пройти мимо Антокольского-переводчика * 2.
Я убеждаюсь непрестанно, Что мир еще загадок полн...—
твержу я, перечитывая письма П. Г. Антокольского. Поэту, которому «вся беспредельность блаженства и муки знакома... в'первом изданье», не хочется, ох как не хочется
Стать добычей стиховедов, Им попасться на зубок...
-1 Из выступления П. Антокольского на IV конгрессе ФИТ. «Мастерство перевода. 1963». М., «Советский писатель», 1964, с. 446.
2 В предисловии к своим новым переводам из французских поэтов Антокольский говорит: «Я всегда был убежден, что в первую очередь следует переводить именно... поэтические документы истории... особенно, если они проникнуты высоким лиризмом» («Иностранная литература», 1970, № 1, с. 136).
144
Вижу: страшится он, что кто-то незнакомый, нечуткий будет из кожи лезть, чтобы уместить его поэзию в прозе. Попробуй докажи критику, что
Искусство сделано из глины, Гаданья, гибели, огня...
Отвечая на мои дотошные письма, поэт, наверно, с грустью думает:
Я знаю, как дешево критика ценит И танец, и песню, и рифму...
Конечно, откуда ему знать, с каким волнением и трепетом разглядывала я уже пожелтевшие от времени листы архивных редакционных материалов последнего (наиболее полного) издания стихотворений Огюста Барбье по-русски1,— книги, в которой рядом с названием лучших ямбов Барбье написано: «Перевод П. Антокольского»... Мне доверили ключ от «мастерской» большого поэта-переводчика. Меня впустили туда и -позволили все глядеть и трогать... Это оказалось не менее волнующим, чем книги оригинальных стихов Павла Антокольского. Здесь тоже
...раскрашенный крупно и густо Весь мир потрясен и всклокочен...
Здесь еще виднее, как
Срываются все очертанья с причала, В открытое время выходит поэт...
Здесь, в мастерской поэта-переводчика, я видела, как сама неуловимая поэзия «растет из глины, музыки и муки» (да простит мне поэт такую вольность: он ведь писал эти строки о человеке!). И еще — а это очень важно — я увидела здесь, что поэзия — это трудное, «горькое ремесло».
Я говорю о поэзии как ремесле Антокольского-переводчика, потому что всегда помню его слова из письма Л. Левину: «Что касается переводов, то для меня они всегда внутри поэзии»1 2.
1 Огюст Барбье. Избранные стихотворения, перевод с французского. М., Гослитиздат, 1953. Редакция переводов и предисловие Е. Г. Эткинда.
2 Л. Левин. Четыре жизни Павла Антокольского. М., «Советский писатель», 1969, с. 274.
145
Хочу попытаться, по возможности объективно, рассказать о том, что я видела в мастерской Антокольского — переводчика О. Барбье. Расскажу, как в ней рождалось по-русски лучшее, наиболее яркое произведение О. Барбье «La Curee»1.
II. НЕМНОГО ИСТОРИИ
Прозаический перевод поэмы Барбье «La Сигёе» в России появился в 1830 году* 2, тотчас же вслед за оригиналом. Первый поэтический, до сих пор никем не превзойденный, замечательный перевод этой поэмы в России был порождением времени (как и его гениальный оригинал). Принадлежит этот удивительный перевод перу В. Бенедиктова — банальнейшего поэта и превосходного переводчика. «Собачий пир» (так эта поэма Барбье называется в переводе В. Бенедиктова) родился в 1856 году, через год после смерти царя-«тормоза», в эпоху революционной ситуации в России. Бенедиктове кий перевод поэмы Барбье ходил в списках вместе с самыми революционными оригинальными стихами русских поэтов: Пушкина, Рылеева, Полежаева3. Однако переводы, даже самые блистательные, стареют — их необходимо обновлять; этого прежде всего требует эпоха. Наша Революция по-новому прочитала гражданскую поэзию XIX века, и многие стихи французских революционных поэтов прочитала именно глазами Павла Антокольского.
После Бенедиктова поэму Барбье переводили еще поэты-искровцы— Дм. Минаев (1863 ) и В. Буренин (1866), но их переводы были много слабее (а Минаев перевел только одну главу поэмы). Первым, кто обратился к этой поэме Огюста Барбье в Советской России, был Осип Мандельштам. Он не только перевел поэму (в его переводе она называется «Собачья склока»), но и рассказал о событиях, ее породивших, и проанализировал причины ошеломляющего впечат
* 1 Подробный анализ поэмы (оригинала) см. в книге: Е. Г. Э т-к и н д. Семинарий по французской стилистике, ч. II. Поэзия. М.—Л., «Просвещение», 1964, с. 34.
2 Это перевод Н. Второва, хранящийся в Рукописном отделе ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
3 См. Архив В. Семевского в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом) в Ленинграде.
146
ления, которое эта поэма произвела на современников Огюста Барбье: «Во-первых, он (О. Барбье.— Е. 3.) взял мужественный стих ямбов — как это раньше сделал Шенье, стих, стесненный размером, с энергичными ударениями, приспособленный для могучей ораторской речи, для выражения гражданской ненависти и страсти. Во-вторых, он не стеснялся приличиями литературного языка й умел сказать грубое, хлесткое и циничное слово, что было вполне в духе французского романтизма, боровшегося за свежий и обновленный поэтический словарь. В-третьих, Барбье оказался мастером больших поэтических сравнений, как бы предназначенных для ораторской трибуны. Силе поэтических образов Барбье учился у Данте, ревностным почитателем которого он был» \
Я привожу здесь слова Мандельштама об Огюсте Барбье, потому что они очень точно и кратко формулируют то, что важно воспроизвести при переводе произведений О. Барбье, то, чего нельзя утерять, чем нельзя поступиться переводчику.
О. Мандельштам перевел поэму Барбье ярко и по-своему верно. Но его перевод стоит особняком — он носит слишком явственный отпечаток собственной поэтической индивидуальности переводчика. При всей необычности, перевод О. Мандельштама потрясает цельностью и силой. Это — яркое произведение искусства, чего нельзя сказать о появившемся в 1927 году переводе С. Заяицкого и Л. Остроумова под названием «Добыча» 1 2. Внешне довольно точный, перевод Заяицкого и Остроумова производит впечатление гипсового слепка.
В 1930 году, через 100 лет после рождения поэмы Барбье во Франции, советский поэт Павел Антокольский вновь вернул русскому читателю живого, горячего О. Барбье3. Позднее П. Антокольский еще не раз возвращался к творчеству Огюста Барбье и, конечно, к его лучшей поэме «La Сигёе».
1 Журнал «Прожектор», 1923, № 13, с. 26.
2 В книге «Революционная поэзия на Западе». Изд-во «Прометей», 1927.
3 Первый вариант перевода Антокольского под названием «Добыча» напечатан в книге «Революционная поэзия Запада XIX века», под редакцией А. Гатова. М., «Огонек», 1930.
147
Заглянув сегодня в переводческую мастерскую П. Антокольского, я хочу на эволюции его перевода поэмы Барбье «La Сигёе» проследить, как оттачивалось мастерство поэта-переводчика, как исчезало в переводе случайное и наносное, как возникало, казалось бы, единственно возможное в данной целостной системе перевода и оригинала решение той или иной переводческой проблемы. При анализе этой эволюции ясно видны удачи и находки поэта-переводчика, основанные на глубоком прочтении оригинала и строго принципиальном следовании лучшим традициям русского и советского переводческого искусства. Видны и промахи, потери, неизбежные при переводе, а иногда и досадные.
В приложении к анализу здесь приведена поэма Барбье «La Сигёе» в оригинале, а также первый (1930) и последний (1953) вариант перевода. Так как перевод П. Антокольского эквилинеарен оригиналу, для удобства сравнения стихи оригинала и вариантов перевода пронумерованы в каждой главе.
III. СЛОВО, ОБРАЗ, АФОРИЗМ
Пожалуй, самое интересное в мастерской Антокольского — переводчика Барбье — это работа над словом и образом. Переводчик ищет не только смысловой и образной точности в воспроизведении оригинала,— он прежде всего стремится найти верный стилистический ключ, меньше всего заботясь о буквалистской точности. Вот ранние варианты его перевода 2-го стиха 1-й главы поэмы:
I 2 Мостов и набрежных пустых
II 2 Мостов и эстакад пустых
Эти варианты буквально ближе к подлиннику, чем окончательный вариант перевода (у Барбье: 2 Des ponts et de nos qua is бёзеНэ).
Но «набрежных» — слово, непривычное по звучанию, хотя, по правилам русского чередования (берег — брег, прибрежный), возможное. Из-за непривычности звучания это слово выделяется на общем фоне, хотя в оригинале не несет особой экспрессивной нагрузки. Поэтому буквализм здесь выступает предателем по отношению к оригиналу. «Эстакад» — терминологично, притягивает внимание своей чужеватостью, хотя и передает все то же малозначительное
148
в данном контексте и очень привычное понятие quais. В окончательном варианте перевода П. Антокольский пожертвовал буквальной точностью для сохранения стилистического равновесия: «площадей» — слово столь же малозначительное для данного контекста, сколь и привычнонейтральное для русского уха.
Проследим, как рождалась по-русски метафора Барбье «народ — море» (5—6-й стихи 1-й главы поэмы). В переводе 1930 года эти стихи звучали так:
5 Когда по городу, как буревое море,
6 Людская пенилась гряда...1
В раннем варианте 1953 года метафора «море — восставший народ» приблизилась к оригиналу (у Барбье метафорическое сравнение comme la тег qui monte и метафора le peuple souleve grondait...):
6 Людская поднялась гряда
Новая метафора, созданная Антокольским, воспроизводит частично лексику оригинала и очень возможна, характерна для стилистики Барбье, а потому — здесь правомерна.
В окончательном варианте перевода «буревое море» зазвучало как «штормовое море». Это, казалось бы, незначительное изменение очень удачно не только потому, что «морской» эпитет точнее определяет бурю на море (хотя в оригинале вообще нет эпитета к морю),— в переводе он очень верно воспроизводит la mer qui monte и в смысловом и в пластическом отношении и, кроме того, создает функционально подобный звуковой образ моря (а значит, и восставшего народа), характерный для романтической поэзии вообще и для поэзии О. Барбье в частности. (Сравните настойчивое метафорическое звучание m в строчке Барбье: comme la mer qui monte, которое в окончательном варианте перевода Антокольского мастерски воспроизводится функционально подобными средствами, ритмическими и звуковыми.)
1 В 1930 году графический образ поэмы Барбье в переводе П. Антокольского не соответствовал графическому образу оригинала: длинная и короткая строки ямба печатались на одном уровне.
149
Захватывающе интересно рождение по-русски удивительной картины, нарисованной Барбье в конце I главы поэмы. В 1930 году эти стихи звучали так:
12 Там столько грязных рук рвалось
13 Мушкеты разряжать. И был прицел их зорок:
14 И столько ртов, жуя свинец,
15 Ртов, черных от золы и крепких поговорок,
16 Кричало гражданам: «Конец!»
В раннем варианте 1953 года 12-й стих уже звучал иначе:
12 Там пальцы грязные рвались...
Это лучше не потому, что ближе к оригиналу. Как известно, буквальная близость — нечастый друг переводчика. Здесь сместился в сторону сближения с оригиналом план автора1. Автор (лирический субъект поэмы) смотрит на восстание не из окна (тогда бы видны были только руки, а не пальцы сражающихся). Он рядом с народом сражается на июльских баррикадах. Он видит вблизи эти «грязные пальцы» бойцов. И в окончательном варианте перевода Антокольского это не абстрактные пальцы, которые «рвались мушкеты разряжать». Они зримо и конкретно «впились в ружейные курки».
На эволюции этих стихов (12—13) ясно видно движение поэта от абстрактного «перевода» к конкретному видению и воспроизведению иноязычного оригинала на русском языке. Последние 3 стиха I главы поражают своей грубой зримостью и конкретностью (это на французском-то языке, привыкшем больше всего оперировать абстрактными, родовыми, обобщающими понятиями!). Такая выразительность достигается здесь у Барбье необычной для французского языка синекдохой:
14 C’6tait la bouche aux vils jurons...
Ведь французский поэтический язык скорее склонен все поставить во множественном числе (les cieux, les ar dears, les amours). И вдруг — у романтика прошлого века — картина, предвосхитившая сегодняшние приемы кинотехники:
1 О. Барбье не был непосредственным участником Июльской революции. Но в его романтической поэме автор (он же — лирический субъект) находится все время рядом со сражавшимся народом.
150
замедленный кадр крупным планом. Антокольский вначале, видимо, не заметил этой удивительной особенности оригинала, да, кажется, и вообще не совсем понял его. Даже в раннем варианте 1953 года у него в переводе этих строк — все еще «рты»:
14 И рты, жевавшие свинец,
15 Рты, полные золы и крепких поговорок,
16 Кричали гражданам: «Конец!» 1
В последующих вариантах переводчик по-новому прочитал текст оригинала и не только воспроизвел важную синекдоху Барбье, но и учел замечание редактора относительно заключительного стиха I главы. Вот последующие варианты перевода 14—16-го стихов этой главы:
I 14 И перед тем как онеметь,
15 Рот, полный пороха и крепких поговорок,
16 Кричал: «Свобода или смерть!»
Здесь стала лучше еще одна деталь: «Рот, полный пороха» (а не «золы», как в предыдущих вариантах. Ведь это бой, а не пожар, и у Барбье это сказано именно: «noire de poudre» — черный от пороха^ порохового дыма).
14-й стих этого варианта не удовлетворил переводчика: зачем же всем этим героическим людям обязательно предсказывать смерть?! Да и рифма: «онеметь — смерть» не характерна для Барбье (в этих стихах оригинала рифма глубокая: vils jurons — mourons — и очень выразительная — типичное для Барбье оксюморонное соединение грубого и возвышенного).
Следующий вариант этих строк уже выглядел так:
II 14 И чей-то дерзкий рот,
15 Рот, полный пороха и крепких поговорок,
16 Кричал согражданам: «Вперед!»
Это лучше, но 14-й стих получился слишком коротким, а концовка оригинала «Mourons!» пропала. Тогда появляется еще один вариант:
1 В редакционном архиве 1953 года на полях этого варианта перевода Антокольского есть пометка редактора (Е. Г. Эткинда): «Mourons!»— совсем другой смысл (не обреченность, а героическая самоотверженность!)».
151
Ill 14 И чей-то черный дерзкий рот,
15 Охрипший от стрельбы и крепких поговорок, 16 Орал: «Плевать на смерть, вперед!»
Здесь искажен оригинал: «Плевать на смерть!» и «Мои-rons!» — вещи разные. Сражающиеся на баррикадах люди согласны отдать жизнь за свободу, но на смерть им вовсе не наплевать. Был. у П. Антокольского другой интересный вариант перевода 14—16-го стихов. В нем переводчик очень «омолодил» людей, сражавшихся на баррикадах, превратил их в Гаврошеи.
IV 14 И каждый юный патриот,
15 Охрипший от стрельбы и крепких поговорок, 16 Кричал: «Плевать на смерть, вперед!»
Эта обобщающая реминисценция из Гюго — шаг назад от О. Барбье, от его кадра крупным планом. Переводчик не захотел поступиться конкретными пластическими деталями картины Барбье (...la bouche//Qui machait la cartouche). Появляется еще один вариант перевода:
V 14 И чей-то рот, патрон грызя,
15 Рот, полный пороха и крепких поговорок, 16 Орал: «Плевать на смерть, друзья!»
Повтор «...рот...//Рот...», разделенный деепричастным оборотом, звучал неуклюже. Стих заплетался. Новый вариант стал строже, свободней и проще:
VI 14 И боевой патрон грызя,
15 Рот, полный пороха и крепких поговорок,
16 Кричал: «Плевать на смерть, друзья!»
У этого варианта было три недостатка:
1) Слабая связь с предыдущими стихами (ведь у Барбье они связаны трехкратной анафорой:
11 C’etait sous des hailions...
12 C’etaient alors de sales doigts...
14 C’etait la bouche...)
2) Все еще сохранилось нарушение тональности оригинала: «Плевать на смерть...»
3) «Рот» не может одновременно «грызть» и «кричать».
И вот возникает окончательный вариант перевода этих строк:
152
VII 14 Когда патрон перегрызя,
% 15 Рот, полный пороха и крепких поговорок, 16 Кричал: «Стоять на смерть, друзья!»
Это так просто и так близко к оригиналу. Наконец-то в переводе понятно, что делал «рот» с «патроном» и что он кричал. А каких трудов и поисков стоила эта кажущаяся простота!
В муках родился по-русски в мастерской П. Антокольского и любимый образ О. Барбье — метафора-аллегория Свободы, в частности моральная характеристика Свободы (конец III главы). В 1930 году эта характеристика звучала так:
13 Она любовников из черни выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам, которых обнимает
16 Объятьем, вымытым в крови.
«Чернь» в русской поэтической традиции — совсем не то, что в тексте Барбье.
В раннем варианте 1953 года — все еще дурная проза, даже косноязычие в 15—16-м стихах, и опять «чернь» (!):
13 Она любовников из черни выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Гигантам, как сама,—и всем предпочитает
16 Объятья рук — еще в крови.
В поисках лучшего решения П. Антокольский создает еще один вариант этих строк:
13 Она берет себе возлюбленных в народе
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам. Всегда милы Свободе
16 Объятья жаркие в крови.
Исчезла «чернь». Но слово «возлюбленных» диссонирует со стилистическим ключом оригинала (та же ошибка, что у идеализировавших в своих переводах образ Свободы поэтов-искровцев), а 16-й стих двусмыслен.
Следующий вариант этих строк стилистически вернее:
13 Она любовников в народе выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам. Она предпочитает,
16 Когда объятья их в крови.
153
Неуклюже-прозаическое «предпочитает» не удовлетворило переводчика. Уйдя от буквы оригинала, в окончательном варианте этих строк П. Антокольский воссоздал по-русски волнующую метафору-аллегорию О. Барбье:
13 Она любовника в народе выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам и сладко замирает,
16 Когда объятья их в крови.
Нужно быть большим мастером поэтического слова, чтобы воссоздать в переводе иноязычные афоризмы. Блистательные по своей динамике и афористичности строки 3—8 IV главы перевода возникли не сразу. В 1930 году эти стихи звучали так:
3 Народ сходил с ума от девочки-Свободы
4 И табуном бежал за ней.
5 Потом, походный марш твердя и понемногу
6 Забыв колпак фригийский свой,
7 Она с полковником двадцати летним в ногу
8 Шла маркитанткой войсковой.
В 1953 году сохранившиеся неизменными 3—4-й стихи вызвали замечание редактора: «5 лет!» — пропущено, а ведь важно!» И у П. Антокольского возникает еще один вариант этих стихов:
3 Народ пять лет мечтал про девочку-Свободу 4 И табуном бежал за ней.
«Мечтал про девочку-Свободу» — управление какое-то по-детски неправильное. Окончательный вариант этих строк афористически точен (а это как раз в духе Барбье!), хотя и диссонирует со стилистическим ключом оригинала:
3 Народ сходил с ума от девочки-Свободы, 4 Пять лет он изнывал по ней.
Но этот диссонанс объясняется традиционно-литературными табу, к проблеме которых я еще вернусь.
Эволюция 5—6-го стихов перевода IV главы тоже шла в сторону воспроизведения динамики и афористичности этих строк оригинала. Вот ранний вариант 1953 года:
5 А дальше, выучив походный марш в дорогу,
6 Швырнув колпак фригийский свой...
154
Но у Барбье entonnant имеет зачинательный, а не окончательный характер — и это важно для логики развития образа. И П. Антокольский находит очень удачные, очень верно воспроизводящие образ, ритм, динамику и стилистику оригинала строки. Окончательный вариант:
5 Но скоро, затянув походный марш в дорогу,
6 Швырнув колпак фригийский свой...
7 — 8-й стихи в раннем варианте 1953 года звучат так:
7 Она с полковником двадцатилетним в ногу 8 Шла маркитанткой полковой.
Окончательный вариант вернулся к первоначальной форме 1930 года. «Полковой» или «войсковой» — здесь не столь важно. Что касается звания Наполеона в поэме Барбье (в переводе В. Буренина он — «капрал», у В. Бенедиктова и О. Мандельштама — «капитан»), оно как будто бы не имеет особого значения в поэме. Одно ясно: un capitaine de vingt ans у Барбье многозначнее, чем во всех русских переводах: ведь у слова capitaine, кроме всех прочих, есть еще значение «полководец». И в этом смысле «маркитанткой войсковой» у П. Антокольского помогает верному восприятию образа Свободы из поэмы Барбье: Свобода покинула народ, подлинных революционеров, чтобы уйти к армии, растоптала свои прежние революционные атрибуты ради вскружившего ей (как и всей Франции и Европе) голову полководца — будущего ее палача.
Не так просто было воспроизвести по-русски знаменитые pointes Барбье во второй части IV главы поэмы. Вот как это звучало в 1930 году:
9 И до сих пор еще не сгинула бесследно
10 Возлюбленная нагота.
11 Меж стен расстрелянных мелькает шарф трехцветный, 12 И вновь надежда разлита.
13 Трех дней довольно ей, и ветхая корона
14 Восставшим в руки отдана;
15 Двух-трех булыжников — и пыль на месте трона, 16 И армия отражена.
Даже ранний вариант 1953 года у П. Антокольского еще неизмеримо далек от грубой простоты и лаконизма этих строк у Барбье:
155
9 Ив наши дни еще не сгинула бесследно
10 Нагая чистая краса.
11 Между руин порой мелькает шарф трехцветный
12 И наши радует глаза.
В окончательном варианте этих стихов:
9 И, наконец, сейчас, за дымкой предрассветной
10 Достаточно ей промелькнуть
11 В проломе черных стен косынкою трехцветной,
12 Чтоб слезы с наших глаз смахнуть...—
появилось важное слово «достаточно», ставшее зачином тройственной нарастающей градации параллелизмов конца IV главы, градации, которая воспроизводит функционально нагнетение в оригинале четырех параллельных конструкций (несколько иной структуры): посредством этого нагнете^ ния Огюст Барбье восторженно-гиперболически изобразил силу и могущество народной любимицы — Свободы.
Сравните конец IV главы у Барбье:
9 C’est cette femme, enfin, qui, toujours belle et nue
12 Vient de secher nos yeux en pleurs,
13 De remettre en trois jours une haute couronne
14 Aux mains des Fran^ais souleves,
15 D’ecraser une armee et de broyer un trone
16 Avec quelques tas de paves—
и окончательный вариант перевода Антокольского:
10 Достаточно ей промелькнуть
12 Чтоб слезы с наших глаз смахнуть,
13 Трех дней достаточно — и ветхая корона
14 Восставшим в руки отдана,
15 Двух-трех булыжников — и пыль на месте трона,
16 И армия отражена.
Был у Антокольского еще один вариант 15-го стиха:
15 Два-три булыжника,— и пыль на месте трона.
Этот стих очень хорош, краток, афористичен, но П. Антокольский вернулся к прежней форме 1930 года, чтобы сохранить столь функционально важный параллелизм (хотя в 15-м стихе перевода он присутствует лишь эллиптически).
Мучительно-трудно рождался в мастерской П. Антокольского образ буржуазного Парижа (вторая часть V главы поэмы). Париж после революции 1830 года, Париж во вла
156
сти хищных и трусливых буржуа, Париж июльской монархии, где «деньги, грязь и кровь сливаются в один поток» \— образ этого Парижа становится навязчивым кошмаром для Огюста Барбье и не раз повторяется в его «Ямбах». Чтобы воспроизвести этот страшный образ Парижа, П. Антокольский много работал над второй частью V главы.
В 1930 году конец главы в его переводе звучал так:
13 И вот процежен он в промозглых водостоках
14 Похабной гнилью нечистот,
15 Кишит бурдой погонь стоустых и стооких,—
16 Волна спадает, вновь растет.
17 Трущоба непотребств набита до отказа.
18 Кочует попрошаек рать
19 И липнет к выходам и окнам, как проказа,
20 Стараясь мелочь подобрать.
21 Толкучка зазывал, божащихся бесстыдно,
22 Где каждый рвет себе, себе
23 Лоскут могущества, чей жребий незавидный
24 Пойти на тряпки голытьбе.
В раннем варианте 1953 года 13—15-й стихи перевода этой главы звучат немного иначе:
13 Вот он — процеженный в промозглых водостоках 14 Похабной гнилью нечистот,
15. Кишит бурдой страстей, стоустых и стооких...
15-й стих удачно воспроизводит гиперболическую метафорику Барбье; но 13—14-й стихи непонятны. В поисках ясности П. Антокольский создает еще один вариант 13—14-го стихов:
13 Вот он — Париж — сейчас в промозглых водостоках 14 Струится гнилью нечистот.
Это яснее. Но 13-й нескладный, спотыкающийся стих не удовлетворил переводчика. В окончательном варианте 13— 14-й стихи приобрели вместе с ясностью широкий шаг и яркую метафорическую звукопись в полном соответствии с логикой оригинала:
13 Сегодняшний Париж — в промозглых водостоках
14 Смешался с гнилью нечистот.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 11.
157
В поисках ясности, на пути приближения к оригиналу долго плавился в тигле переводческого мастерства Антокольского конец Vглавы поэмы. Особенно неприемлемы были в варианте 1930 года 20-й, 23-й и 24-й стихи этой главы. 20-й стих «Стараясь мелочь подобрать» очень далек от оригинала: Gueusant quelque bout de galons (буквально: выпрашивая хоть обрывок галуна), а 23—24-й стихи:
23 Лоскут могущества, чей жребий незавидный
24 Пойти на тряпки голытьбе!—
это не то, что у Барбье:
23 Un miserable coin de guenilles sanglantes
24 Du pouvoir qui vient d’expirer, (буквально — клочок от окровавленных лохмотьев только что умершей власти).
Окончательный вариант перевода 23—24-го стихов довольно верно воспроизводит смысл и стилистику этих строк оригинала:
23 Лоскут могущества, обломок незавидный, 24 Смертельно раненную власть!
Что касается 17—20-го стихов V главы, в редакционном архиве 1953 года хранится 7 вариантов этих стихов (не считая варианта 1930 года!). Приведу последовательно эти архивные варианты:
I 17 Трущоба непотребств набита до отказа,
18 И льстец, и старый шут, и вор —
19 Все липнут к выходам и окнам, как проказа, 20 Все собрались на задний двор.
20-й стих здесь все еще далек от мысли оригинала.
II 17 Трущоба грязная набита до отказа,
18 Бродяга, шут, салонный лгун
19 Прилипли к выходам, к передним, как проказа, 20 Выпрашивают хоть галун.
Это ближе к оригиналу. Но переводчику явно не нравится «к выходам». Появляется новый вариант этого стиха:
III 19 Прилипли ко дверям, к передним, как проказа...
158
Нехорошо звучание. Возникает IV вариант с явственной звуковой метафорой лакейства (настойчиво, иногда дважды, звучит здесь «л» почти в каждом слове):
IV 19 К лакейским, к лестницам прилипли как проказа, 20 Вымаливают хоть галун.
Звуковая образность здесь усилена еще и семикратным звучанием «к» в 19-м стихе.
Просто «галун» переводчику кажется неясным (галун от чего?). Да и «вымаливают» — эвфемистично по сравнению с оригиналом. Появляется новый вариант 20-го стиха:
V 20 Ливреи выпросить галун
(остальные стихи этого варианта те же, что и во II варианте). Но П. Антокольский идет дальше в поисках средств воспроизведения гневной грубости и языковой смелости Барбье, яркой звуковой и лексической экспрессии в его поэме. Возникает еще один вариант перевода 17—20-го стихов:
VI 17 Трущоба грязная, где выходы и входы
18 Салонной братией кишат,
19 Где старые шуты, зловредные уроды
20 Ливрею выклянчить спешат.
Здесь очень выразительна звукопись, но 19-й стих дале-коват от оригинала. В следующем варианте появляется близкое к оригиналу (даже по звучанию) слово «галуны». Для Барбье оно важно, даже стоит в рифме: salons — galons. У Антокольского это слово здесь перекликается с эпитетом «салонный» и словами «полны», «выклянчивают»:
VII 17 Трущоба грязная, где выходы и входы
18 Салонной челядью полны,
19 Где старые шуты, зловредные уроды
20 Выклянчивают галуны.
Появилась новая звукопись, но остались все те же «зловредные уроды», которых нет в оригинале (у Барбье faquins sans courage — «трусливые олухи» и coureurs de salons — «салонные завсегдатаи»).
Наконец, в окончательном варианте перевода, поиски Антокольского увенчались успехом. «Львы прошлогодней моды» — перекликается с «бульварными модниками и львами» II главы перевода и создает еще одну важную и удачную
159
здесь ассоциацию, которая функционально компенсирует faquins sans courage оригинала: салонные попрошайки — это те самые «бульварные львы», дрожавшие от страха во время битвы. В окончательном варианте этих стихов у Антокольского даже звукопись напоминает звуковую образность II главы его перевода. Вот как звучит этот окончательный вариант:
17 Трущоба грязная, где выходы и входы
18 Салонной шатией кишат,
19 Где старые шуты, львы прошлогодней моды,
20 Ливрею выклянчить спешат.
21 Толкучка зазывал, божащихся бесстыдно,
22 Где надо каждому украсть
23 Лоскут могущества, обломок незавидный, 24 Смертельно раненную власть!
Не легче дался Павлу Антокольскому и перевод второй части VI главы.
Вот как звучали 21—24-й стихи этой главы в 1930 году и в раннем варианте 1953 года:
21 Валяй! Лакеев нет. Арапники не свищут,
22 Ошейники не душат нас.
23 Кровь горяча еще! Вгрызайся в эту пищу!
24 Похмелье кончится сейчас.
23—24-й стихи неясны и далеки от оригинала (у Барбье 24 Et gorgeons-nous tout notre sofil! — то есть «нажремся до отвала!»).
В следующем варианте эти стихи уже звучат иначе:
21 Валяй! Лакеев нет. Арапники не свистнут,
22 Ошейники не душат нас.
23 Кровь горяча еще! Рви ворох ненавистный!
24 Недолог наш веселый час.
«Ворох ненавистный» — такого нет у Барбье. Возникает еще один вариант этих стихов:
21 Валяй! Лакеев нет! Ошейники не душат,
22 Арапники не засвистят.
23 Кровь горяча еще! Валяй, кто хочет кушать, 24 Клыки за голод отомстят!
И наконец, выразительный по звукописи, афористичный — хотя как перевод и не слишком точный — оконча
160
тельный вариант, стихи которого так отшлифованы, что кажется — иначе сказать нельзя:
21 Валяй! Псари ушли, ошейники не душат,
22 Арапники не просвистят.
23 Кровь горяча еще! Клыки нам честно служат,
24 Клыки за голод отомстят.
Конец VI главы поэмы в переводе 1930 года звучал так:
25 И как поденщики, ломающие камень,
26 Рвут это крошево храпя,
27 Зарывшись мордами, когтями и клыками
28 В лохмотья красного тряпья.
29 Ведь псарням свойственно, чтобы кобель муругий
30 Примчался с костью боевой
31 И, ощетинившись, ревнующей подруге
32 Раззванивал про подвиг свой;
33 И суке доказал, как яростен и жарок,
34 И как ей предан до конца,
35 И пылко зарычал, бросая кость в подарок:
36 «Вот это мой кусок дворца!»
В раннем варианте 1953 года эти стихи стали ближе к оригиналу (изменились лишь 28—36-й стихи):
28 И каждый жаден для себя.
29 Ведь псарне свойственно, чтобы кобель обратно
30 Примчался с костью боевой ' 31 И перед сукою, ревнующей и жадной, 32 Раззванивал про подвиг свой, 33 И суке доказал, как предан ей и жарок,
34 И страсть собачью утоля,
35 Залаял весело, бросая кость в подарок:
36 — Вот наша часть от короля!
Многое еще не удовлетворяло переводчика: 26, 28, 29, 36-й стихи (особенно последний с его двусмысленным предлогом «от»). Антокольский долго искал нужные слова в 26-м, 28-м стихах. Вот один из вариантов этих поисков:
26 Рвут это крошево храпя
28 Друг друга злобно торопя
Хороша здесь метафорическая звукопись! Но слово «крошево» явно не нравится переводчику. Следующий вариант звучит совершенно иначе:
26 Приканчивают кабана
28 Чтобы наесться допьяна
6 Мастерство перевода
161
«Приканчивают» — невыразительно. Новый вариант го* раздо ближе к оригиналу:
26 Кромсают тушу кабана, 28 Чтобы наесться допьяна
(У Барбье: 26 Fouillent ses flancs a plein museau).
Но есть еще очень сомнительная метафора: «наесться допьяна». И стихи эти изменяются снова, причем 29-й стих проходит через стадию: «Ведь псарня требует, чтобы кобель обратно...», чтобы прийти к свободному разговорному (окончательному) варианту: «Ведь есть у них закон...»
Вот как звучит окончательный вариант 25—36-го стихов — вариант, поражающий энергией и динамизмом, который настолько стремителен, что покрывает иногда неточные смысловые связи между элементами фразы (ср.: «Ведь есть у них закон, чтобы кобель... Залаял весело...»):
25 И как поденщики, кончающие к сроку,
26 Разделывают тушу вмиг,
27 Зарывшись мордами, когтями рвут глубоко,
28 И свалка между псов самих,—
29 Ведь есть у них закон, чтобы кобель обратно
30 Принес обкусанный мосол,
31 И перед сукою, ревнующей и жадной,
32 Надменным щеголем прошел,
33 И суке доказал, как предан ей и жарок,
34 И страсть собачью у тол я,
35 Залаял весело, бросая кость в подарок:
36 — Я вырвал ляжку короля!
IV. ВРЕМЯ, СИНТАКСИС, РИТМ, ИНТОНАЦИЯ
Время... Речь здесь пойдет совсем не о «главном герое» поэзии Антокольского, а о том самом прозаическом глагольном времени, которое, по мнению многих, никакого отношения к поэзии не имеет, а уж к поэтическому переводу и подавно. Между тем время глагола тесно связано с синтаксисом и вместе с ним определяет ритм и интонацию, столь важные компоненты поэтической речи. Время, синтаксис, ритм, интонация имеют особенно большое значение в стилистике ораторской поэзии Огюста Барбье. Поэтому очень интересно, как решал эту проблему Антокольский — переводчик Барбье. Вот эволюция конца II главы поэмы Барбье в мастерской П. Антокольского. 9-й и 10-й стихи II главы в ранних вариантах перевода противоречили по интонации
162
и временной структуре логике времени и интонации этих стихов в оригинале.
9 Стал чудом весь Париж (вариант 1930 года)
В подлиннике после слова «Париж» могло стоять здесь все, что угодно,— только не точка. У Барбье эта строка — начало периода, растянувшегося на все 4 последних стиха II главы поэмы. Механически копировать синтаксис оригинала — не выход из положения. И П. Антокольский нашел иное решение. Он передал эту взволнованную интонацию Барбье не синтаксически, а ритмически, вынося конец предложения за цезуру. Длинная, гневная фраза Барбье тоже спорит с метром стиха, она стремительна и полна контрастов. А замедленное прошедшее время глагола (Imparfait) дает всю картину, как в кинокадре замедленной съемки (замедление усиливается еще причастием настоящего времени (suant la peur). Это замедление создает взрывчатый контраст с нарастающим по силе и интенсивности движением фразы.
В окончательном варианте перевода II главы П. Антокольский добился временного подобия с оригиналом:
9 Был полон весь Париж чудес. Но в малодушье
10 Сиятельные господа,
11 От ужаса вспотев и затыкая уши, 12 За шторой прятались тогда!
Вырвавшееся за цезуру слово «чудес» немедленно вцепилось в горло своему смысловому окказиональному антониму (малодушье ведь никогда не бывает чудом). А ехидный перенос конца предложения на остальные три стиха главы, с нарастающей градацией синонимов трусости: «от ужаса вспотев», «затыкая уши», «за шторой прятались» (градация усилена еще звуковой метафорой: шипящие звуки в словах: «малодушье», «ужаса», «уши», «шторой») — в контрасте с торжественным, величественным, звучным и длинным ироническим эпитетом «сиятельные» (пятисложное слово в вось-мисложнике!) — все это вместе блистательно завершает II главу поэмы. Благодаря мастерски найденному сверхдлинному слову «сиятельные», которое хочется скандировать по-маяковски, по слогам,— гротескные физиономии женоподобных трусов, потеющих от ужаса за шторой, возникают крупным планом перед объективом нашего воображения. Так переводчик одним-единственным словом, иронически за
6s
163
медлив стих, вырывающийся из всех рамок, функционально подобно воспроизвел все контрасты оригинала, в том числе и замедленный характер французского глагольного времени Imparfait и причастия настоящего времени,— воспроизвел, даже усилив впечатление контрастной образности О. Барбье.
Не менее интересно решение проблемы времени при переводе начала V главы поэмы. Вот вариант 1930 года:
1 О стыд! Здесь ненависть красавицей прозвали,
2 Когда сметал народный вихрь
3 Капетов, и гроза шумела на развале
4 И выкорчевывала их.
Даже ранний вариант 1953 года не воспроизводит еще завершенного, мгновенного характера событий, изображенных в оригинале:
1 О стыд! Вот он Париж! От гнева хорошея,
2 Как был отважен он, боец,
3 Когда народный вихрь ломал тирану шею
4 И выкорчевывал дворец;
У Барбье «...le vent populaire //Deracina la royaute» (3— 4-й стихи оригинала). В следующем варианте глагол 3-го стиха «Когда Людовикам сворачивал он шею» тоже означает длительное незавершенное действие, замедляет стих и тем самым противоречит оригиналу. Кроме того, в этом варианте, за счет некоторой конкретизации, продиктованной русской языковой традицией, теряется очень важное: «народный вихрь», а ведь речь идет о восстании народа. Изменился субъект действия: не народ, а Париж сворачивал Людовикам шею. Но это неверно. Ведь Париж — это и восставший народ, и те, кто после революции бесстыдно обокрали победителя. Окончательный вариант 3-го стиха V главы в переводе П. Антокольского: «Когда народный вихрь свернул Капету шею» — функционально верно воспроизводит мгновенный и решительный акт народного восстания. И даже 4-й стих — метонимический синоним 3-го — не вызывает возражения, несмотря на, казалось бы, противоречащий оригиналу замедленный характер глагола «выкорчевывал»1. Может быть, это благодаря точному лексическому соответствию глагола
1 В переводе 0. Мандельштама тот же глагол в той же форме: «Ты выкорчевывал престол...»
164
оригинала и перевода (deraciner — выкорчевывать), а также большому сходству звукописи в этих стихах со стихами оригинала (и в переводе и в оригинале настойчиво раскатывается звук «р», воспринимаемый как звуковая метафора революции). Сравните в оригинале: Paris, colere, jour, populaire, deraciner, royaute, в переводе: «Париж», «хорошея», «народный вихрь», «свернул», «выкорчевывал», «дворец». У Антокольского эта звуковая образность всей V главы еще усилена шипящими звуками, как бы объединяющими два контрастных образа того же Парижа.
Одна из самых трудных переводческих проблем — воспроизведение ритма и интонации иноязычного оригинала. Об этом сам П. Антокольский писал: «...Ища наглядную формулу: что такое интонация в поэзии вообще и в поэтическом переводе в частности,— приходишь к выводу — интонация есть не что иное, как синтаксис, соподчиненный ритму в широком значении слова и метру, размеру в узком... У французов силлабика, у нас тоника... Передача интонации оригинала сразу же напарывается на неизбежное насилие над родным языком. Конем не объедешь, на самолете не перелетишь, это глухой барьер...»1
Но многочисленные удачи Антокольского-переводчика показывают, что этому мастеру по плечу любые трудности. Правда, порой П. Антокольский не обращает особого внимания на ритм и интонацию оригинала. Так, например, ораторский синтаксис Огюста Барбье он рассматривает не как особенность его поэтической индивидуальности, а как общенациональное качество всей французской поэзии (я сужу по письмам П. Антокольского, посвященным этому вопросу).
Конечно, ораторские традиции во французской поэзии сильны, но у каждого поэта они живут по-своему. Если, переводя Барбье, пренебречь его ораторской интонацией, поэт просто потеряет свое лицо. П. Антокольский умеет великолепно воссоздавать по-русски интонацию Барбье. Пример тому — его перевод II главы поэмы «Раздел добычи». Эволюция интонации одного только 5-го стиха II главы перевода свидетельствует о превосходном интонационном слухе Антокольского — поэта, актера, переводчика. В варианте 1930 г. этот стих представлял лишь язвительную констатацию трусости бульварных «героев»:
1 Из письма (автору статьи) от 21 апреля 1970 года.
165
5 Вам не спалось, когда...
В раннем варианте 1953 года он превратился в еще более язвительный вопрос:
5 Что снилось вам, когда...(?)
Это уже значительно ближе к интонации оригинала:
5 Que faisaient-ils, tandis... (?)
И наконец, презрительно-гневное:
5 Как вам спалось... (?)—
в сочетании со всеми остальными находками переводчика кажется единственно возможным решением проблемы. Верно воспроизведена Антокольским интонация Барбье в VI главе поэмы. В первой части этой главы само содержание подсказало поэту-переводчику превосходную по интонации синтаксическую форму, функционально подобную синтаксической структуре оригинала: 16 стихов перевода втиснуты в один синтаксический период в нарастающей градации с семикратным анафорическим и. Во второй части VI главы перевода интонация тоже очень близка к оригиналу, благодаря функционально верному воспроизведению анафорических параллелизмов Барбье (в оригинале 4 параллельных стиха с анафорическим Et, в переводе — 5 параллельных стихов с анафорой и). Лишь 22-й и 24-й стихи VI главы перевода выпадают из общей интонационной логики главы.
Что касается ораторской интонации оригинала в переводе HI, IV и особенно V главы, она, на мой взгляд, слабо воспроизведена П. Антокольским. Так, контрастные образы Парижа в V главе, столкнувшиеся в тесной клетке единого синтаксического целого (период в 24 стиха!), Антокольский воспроизвел, ослабив динамику столкновения: он разбил это целое на 4 синтаксические части. У Парижа Барбье — два лица, но он соединяет в себе все контрасты, эта противоречивая целостность его отразилась в образном синтаксисе. В переводе Антокольского сила столкновения этих контрастов ослаблена, хотя кое в чем синтаксические потери возмещены (восклицательное заключительное предложение, ассоциация с II главой, лексические находки, звукопись). Особенно противоречат логике интонации оригинала точки в 16-м и 20-м стихах. Понижение голоса здесь алогично не
166
только по отношению к оригиналу, но и по отношению к самому переводу, очень целостному в этой главе. Ораторский ритм стихов Огюста Барбье, его широкое дыхание близки и привычны П. Антокольскому — поэту и актеру. Лишь иногда Антокольский-переводчик читает и воспроизводит образный ритм оригинала иначе, чем этого требует авторская логика поэтических образов.
Есть в мастерской П. Антокольского очень интересный вариант перевода 5—8-го стихов III главы:
5 Свобода — женщина с высокой грудью,— грубо
6 Сколоченное существо,
7 Повадка сорванца, и ей слоняться любо 8 Среди народа своего.
7—8-й стихи этого варианта возникли как реминисценция с 3-м стихом IV главы той же поэмы: 3 Avec son air hardi, ses allures de fille...
Эта находка П. Антокольского могла бы восполнить нигде не воспроизведенную характеристику Свободы из IV главы поэмы, что было бы интересно в полемике с идеализировавшими образ Свободы переводчиками-искровцами. (Сравните у Минаева:
Лишь выходцу из черни отдавала Она порыв своей восторженной любви,—
что никак не вяжется с характеристикой Свободы в IV главе: ses allures de fille, то есть «повадки уличной девки».)
Увы! Находка Антокольского-переводчика сохранилась лишь в архиве из-за совершенно неудачных строк этого варианта перевода: «...грубо//Сколоченное существо». Как бы грубы ни были прелести и повадки этой женщины из народа, она у Барбье (и на картине Делакруа, написанной под впечатлением его поэмы) женственна и по-женски привлекательна. У Барбье по этой женщине народ сходил с ума! Угловатое, мужеподобное, «...грубо//Сколоченное существо» — это не из Барбье, это не то. Не случайно замечание редактора на полях всех вариантов (1953 года) перевода III главы: «Хорошо бы ритмически приблизить к оригиналу (без enjam-bemet!)». Романтик Барбье не боялся спора синтаксиса со стихом там, где этого требовал его пылкий темперамент оратора-обличителя. Но в III главе поэмы он, рисуя аллегорический образ красавицы Свободы, смягчает, округляет свой взволнованный, напористый стих. В этой главе его
167
стих становится гармоничнее и своей симметрией напоминает классицистический. Даже восьмисложные стихи здесь большей частью симметричны (и образность напоминает классицистическую: аллегория, свежая, отнюдь не условнопоэтическая, как в системе классицизма, но аллегория). Синтаксическая структура III главы, ее интонация и ритм становятся метафорой этой волнующей грубой женственности, которой так пластически зримо окрашен образ Свободы у Огюста Барбье. Окончательный вариант 5—6-го стихов III главы в переводе П. Антокольского, к сожалению, сохранил ритмическую угловатость, перенос, в данном случае противоречащий оригиналу, хотя и возможный в поэтике Барбье:
5 Свобода — женщина с высокой грудью, грубо
6 Сердца влекущая к себе...
Между тем ритмический рисунок в III главе поэмы Барбье очень важен, так как он представляет один из элементов контраста между II и III главами. Внутри же III главы ритмическая симметрия спорит с взволнованной интонацией — в тесной синтаксической рамке. Этот контраст тоже служит средством характеристики образа Свободы, как и все другие средства, используемые Барбье. П. Антокольский не обратил внимания на синтаксическую структуру III главы: 16 ямбических стихов, сжатых в одном предложении. Переводчик разбил это целое на 7 предложений, никакими другими средствами не воспроизведя в переводе динамический напор, заложенный в синтаксической структуре оригинала. Частично воспроизведенная Антокольским ритмическая структура III главы, без контраста с синтаксической структурой, им функционально не воспроизведенной, перестала выполнять свое назначение. Это тем более досадно, что многие переводческие шедевры Антокольского (такие, как «Бедлам» О.Барбье или «Пьяный корабль» А. Рембо) говорят о том, что в арсенале этого мастера есть немало средств воспроизведения именно ритмико-интонационной структуры оригинала, вплоть до ломки установившихся традиций.
V. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТАБУ И «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА»
«Искусство поэтического перевода — в большой степени искусство нести потери и допускать преобразования. Не решаясь на потери и преобразования, нельзя вступать в
168
единоборство с иноязычной поэзией»1. Об умении Антокольского-переводчика поступаться поверхностными деталями во имя внутренней, глубинной верности оригиналу говорит анализ решения им многих трудных переводческих проблем.
Здесь же речь пойдет о потерях, обусловленных традицией, и тех, которых могло и не быть. Выше уже анализировалась эволюция начала IV главы поэмы Барбье «Раздел добычи». Если сопоставить окончательный вариант перевода первых четырех стихов IV главы с оригиналом, то окажется, что П. Антокольский, как и все его предшественники, поступился 3-м стихом оригинала:
«Avec son air hardi, ses allures de fille», а 4-й стих оригинала воспроизвел двумя синонимическими стихами перевода (3—4). Этой эмоциональной тавтологией переводчик, по-видимому, попытался возместить экспрессию крайне грубой и вульгарной лексики 4-го стиха оригинала (Cinq ans mit tout le peuple en rut), перевести который на русский язык в том же самом стилистическом ключе не позволяет традиционное табу русской литературной нормы. Экспрессия вульгаризмов Барбье ни в одном русском переводе поэмы «La Сигёе» не передана ни в прошлом, ни в наше время, хотя русская литература уже набралась смелости в ломке этих национальных литературных табу. Достаточно вспомнить реакцию современников на языковую смелость «Ямбов» Огюста Барбье и причины этой смелости,— и пожалеешь, что такой реакции русского читателя ни один русский переводчик Барбье не добился1 2.
Выше уже анализировалась в целом закономерная и удачная эволюция 5—8-го стихов IV главы в переводе П. Антокольского. Но в этой трудной плавке ушла в шлак одна интересная строка оригинала (6-й стих IV главы): Lasse de ses premiers amants (буквально — наскучив прежними любовниками). Думается, что она важна у Барбье. Ведь речь идет о Свободе, которая, бросив народ, ушла к Наполеону,
1 Е. Г. Эткинд. О поэтической верности. «Мастерство перевода. 1962». М., «Советский писатель», 1963, с. 132.
2 Французский критик — современник О. Барбье — Лоран-Пиша писал, что дерзкий лексикон Барбье так же режет и -пугает обывательский слух, как пугает приличных и самодовольных обывателей вид груды булыжников, вырванных из мостовой, и сама атмосфера народного восстания (L. Laurent-Pichat. Les poetes de combat. P., 1862, p. 262—263).
169
культ которого Барбье неустанно разоблачал в своей поэзии1. Эта строка оригинала воспроизведена в переводах некоторых предшественников П. Антокольского: у В. Буренина, например: «Но ей наскучило быть грубых ласк приманкой...» В переводе О. Мандельштама воспроизведен не только знаменитый образ оригинала, но и вскрыта эволюция буржуазного лозунга «Свобода» в эпоху от Великой французской революции до «трех славных дней» 1830 года:
А после, охладев к девическим романам, Фригийский растоптав колпак, С двадцатилетиим вдруг бежала капитаном, Под звуки труб, в военный мрак.
К «издержкам производства» следует отнести некоторые потери Антокольского в III главе перевода поэмы. Вот эволюция 1—2-го стихов III главы
1930 г. 1 В предместьи Сен-Жермен Свобода не блистала,
2 У ней не княжеская масть
В редакционном архиве 1953 года находим несколько вариантов этих строк:
I 1 В предместьи Сен-Жермен Свобода не блистала,
2 У ней не герцогская масть.
Лексическая замена здесь не очень существенна (у Барбье «Свобода — не графиня»). Существенно же в этих стихах оригинала то, что написано в редакторском замечании на полях: «C’est que la Liberte......Хорошо бы сохранить
такое начало!» Усилительный оборот c’est que у Барбье служит эмоциональным связующим звеном между II и III главами поэмы. Он объясняет иронически, почему чистенькие аристократы не сражались рядом со Свободой на баррикадах («Ведь Свобода — не графиня...»). П. Антокольский в следующих вариантах попытался воспроизвести эту важную деталь оригинала:
II 1 Ведь на балах у вас Свобода не блистала,
2 У ней не княжеская масть...
Ill 1 Ведь в залах Сен-Жермен Свобода не блистала...
Но в окончательном варианте перевода эти стихи так и остались не связанными с предыдущей главой поэмы:
1 См. Е. Г. Э т к и н д. Предисловие к книге: Огюст Барбье. Избранные стихотворения. М., ГИХЛ, 1953, с. 9—10,
170
1 В гостиных Сен-}Кермен Свобода не блистала, 2 У ней не княжеская масть
Потеря усилительного c’est que повлекла за собой исчезновение двукратной анафоры в контрастирующих между собой 1-м и 5-м стихах III главы:
1 C’est que la Liberte n’est pas une comtesse
5 C’est une forte femme aux puissantes mamelles
Правда, эту потерю Антокольский компенсировал параллельными отрицательными конструкциями первых четырех стихов (отрицания в какой-то мере соответствуют обоим значениям оборота c’est que), а также контрастными анафорическими параллелизмами 3-го, 4-го и 7-го, 9-го стихов (каждая пара этих стихов, кроме того, построена у Антокольского в виде хиазма):
3 Ей падать в обморок от, криков не пристало,
4 Ей незачем румяна класть.
7 Ей широко шагать среди народа любо 9 Ей любо-дорого народное наречье
(Эти анафорические строки в переводе Антокольского возникли не сразу. Ранний вариант 1953 года 4-го стиха этой главы был: «Ей не к лицу румяна класть», то есть в нем, по сравнению с вариантом 1930 года, появилась еще одна анафора, еще одна параллельная конструкция, составляющая хиазм с 3-м стихом,— что отнюдь не противоречит контрастной образности оригинала. Окончательный же вариант 4-го стиха, сохранив анафорический параллелизм и хиазм, приблизился по смыслу и выразительности к оригиналу.) Что касается 9-го стиха III главы, в раннем варианте 1953 года он звучал так:
9 Ей дорого нужды неровное наречье
(в 1930 году «певучее наречье» еще меньше соответствовало «aux cris du peuple» оригинала: крики редко бывают музыкальными). В окончательном варианте 9-го стиха переводчик вообще отказался от определения и «крики народа» (оригинал) передал более общим понятием — «народное наречье». Окончательный вариант этого стиха у Антокольского дальше от оригинала, чем, например, у Буренина:
Ей люб народа крик и вопль кровавой схватки...
171
«Вопль кровавой схватки» — важная деталь характеристики Свободы у Барбье (III глава, 9-й стих оригинала) — тоже снята в переводе П. Антокольского. У Барбье:
9 Se plait aux cris du peuple, aux sanglantes melees...
А ведь она играет значительную роль в противопоставлении бульварных «героев», дрожавших от страха во время битвы, и — бесстрашной Свободы, сражавшейся вместе с народом, потому что она любит его крики и кровавые битвы.
Выше уже говорилось о ритмико-интонационных потерях в III главе перевода П. Антокольского. Думается, эти потери вытекают из недостаточного внимания переводчика к «технике» создания ритмико-интонационной структуры III главы оригинала. Взыскательный мастер перевода, П. Антокольский умеет, как это показал весь предшествующий разбор, блистательно воспроизводить функционально подобными средствами русского языка любые, казалось бы непереводимые, компоненты системы оригинала. Поэтому анализ III главы «Раздела добычи» в его переводе меня удивил. Здесь не воспроизведены многие ритмически важные параллелизмы оригинала: 1) du blanc et du carmin; 2) a la voix rauque, aux durs appas; 3) du brun sur la peau, du feu dans les prunelles; 4) a 1’odeur de la poudre, aux loin-taines volees; 5) aux cris du peuple, aux sanglantes melees; 6) 4 параллельные конструкции с анафорой «Qui...». Причем конструкции с «Qui...» играют здесь роль рамки, на фоне которой последний стих, вырвавшийся из этой рамки (Avec des bras rouges de sang), звучит особенно выразительно.
Все многочисленные грамматические фигуры Барбье в переводе Антокольского переданы лишь четырьмя параллельными стихами с анафорой «Ей...» и хиазмом, двумя параллелизмами с анафорическим и, тоже с хиазмом:
И бедра отдает свои...
И сладко замирает...—
и фольклорной тавтологией «любо-дорого».
Есть у П. Антокольского в переводе этой поэмы Барбье заведомо неточные строки. О том, что этой неточности могло и не быть, свидетельствует история их рождения. Это 7—8-й стихи V главы перевода.
172
Вариант 1930 года:
7 В пробитых пулями знаменах мостовые,
8 Развалины со всех сторон —
вызвал в 1953 году замечание редактора: «Другой смысл». Действительно, у Барбье: разбитые стены и мостовые — troues comme de vieux drapeaux (буквально — продырявленные, как старые знамена).
Следующие два варианта этих стихов гораздо ближе к оригиналу:
I 7 Разбитые пальбой, чернеют мостовые,
8 Как строй изодранных знамен
II вариант — то же самое, но в прошедшем времени. Окончательный вариант этих стихов в книге 1953 года почему-то снова отошел от смысла оригинала:
7 Зияли бреши стен, чернели мостовые
8 В лохмотьях боевых знамен.
Для меня осталось загадкой, почему сравнение мостовых и стен с продырявленными знаменами (оригинала) все-таки превратилось в переводе Антокольского в реальные лохмотья знамен1.
К «издержкам производства» следует отнести и малозначительную неточность 4-го стиха VI главы поэмы. Представляет интерес история ее возникновения. В 1930 году этот стих перевода звучал так:
В мертвящем солнечном свету.
У Барбье — метафора: Et sous le soleil qui le mord (буквально: «под язвящим его солнцем» или «кусающим его солнцем») и рифма: mort — mord. Созвучие французского глагола со смертью — случайное. Конечно, поэтическая рифма сближает рифмующие слова, но созданные в языке окказиональные ассоциации слов по звучанию нельзя механически переносить в другой язык, где звучание этих слов иное. Переводчик отказался от решения этой проблемы и довольствовался в окончательном варианте приблизительным:
4 В слепящем солнечном свету.
1 Сравните у Бенедиктова: Париж, где камень стен пальбою продырявлен, //Как рубище знамен...
173
VI. БУКВАЛИЗМ—«ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ НАШЕГО БРАТА.
ВРАГ НОМЕР ОДИН»1
...Свобода есть главное условие в поэтической работе, тем более — в переводческой, которая по природе своей уже кое-чем связана по рукам. Ну что же, связаны руки, дайте хоть дышать свободно!
П. Антокольский (из письма от 21 апреля 1970 года)
Свобода. Свобода дыхания. Свобода выбора средств выражения в богатом арсенале русского языка — это первейшее условие и основная причина творческих успехов Антокольского-переводчика. В этом убеждаешься, заглянув в его творческую мастерскую.
___Д1оф-эволюция 9—10-го стихов I главы поэмы Барбье, в 1930 году они еще носят печать буквализма:
9 Мундиры синие, конечно, не торчали, 10 Как это нынче повелось
Десятым стихом затуманивается предыдущий, и без того не очень ясный. Это произошло потому, что, отступив от буквы оригинала в 9-м стихе, Антокольский, вопреки логике перевода, не смог оторваться от буквального текста в 10-м стихе. Поэтому абсолютно ясные строки Барбье (дословно: «конечно, тогда не видели, как нынче, столько мундиров сразу») стали непонятными в переводе. В окончательном варианте перевода П. Антокольский в обоих стихах (9—10) ушел от буквальности, и эти строки перевода выиграли в ясности, разговорной сочности и — что отнюдь не парадоксально — во внутренней стилистической близости к оригиналу. Подобная же эволюция произошла со 2-м стихом II главы перевода. Буквально точное в 1930 году: 2 «Во фраках элегантных,— вам»— сменилось в 1953 году более далеким от буквы оригинала, но более зримым, пластически-ярким и функционально верно воспроизводящим оригинал: 2 «Во фраках, с белой грудью, вам» (у Барбье: 2 Au beau linge, au frac elegant...).
Трехцветный бант, черный фрак, белая грудь трусливых
Из письма П. Антокольского от 5 апреля 1970 года автору статьи.
174
«героев» немедленно обратились в злой иронический контраст между чистенькими нарядными денди, играющими в революцию, и грубой, черной от порохового дыма, мужественной голытьбой, с грязными пальцами и бесстрашным сердцем. В той же II главе Антокольского-переводчика ждало много удач и находок, благодаря его победам над буквализмом. Такой удачей было, например, функциональное воспроизведение лексических фигур Барбье звуковыми средствами, а также уход от лексической и грамматической буквальной точности ради воспроизведения самого важного: структуры ораторского нагнетения, гневной иронической интонации оригинала. На последней стоит остановиться подробнее. В оригинале — амплификационный период — нагнетение параллелизмов с указательными прилагательными третьего лица: ces beaux fils, ceshommesen corset, ces visages de femmes, увенчанное в кульминации презрительным: Heros du boulevard de Gand (усиленное еще репризой: Que faisaient—ils) и гневно-иронической кодой: Ces messieurs tremblaient...— все это в третьем лице. В переводе П. Антокольского вместо третьего лица появилось второе. Лирический герой оригинала обращается к читателям, указывая презрительным жестом на описываемых им «героев». В переводе Антокольского лирический субъект бросает свое обвинение прямо в лицо этим «героям». Благодаря уходу от буквальной грамматической точности, переводчику удалось здесь создать функционально подобное оригиналу ораторское нагнетение, подчеркнутое звуковой метафорой:
1 А вам, молодчикам...
2 Во фраках с белой грудью, вам...
5 Как вам спалось...
Завершение этой амплификации — после контрастирующих с первой половиной II главы строк о «святой голытьбе»,— кода,— стоит в третьем лице, то есть Антокольский вернулся к грамматической структуре оригинала. Но благодаря великолепной находке переводчика — 10-му стиху: «Сиятельные господа» — этот переход от второго лица к третьему не кажется странным и алогичным. Последние строки главы приобретают в переводе грамматическую многозначность: их можно понять и как второе и как третье лицо множественного числа. Вот почему 10-й стих столь удачно
175
завершает (вместе с последними стихами II главы) это нагнетение, функционально подобное нагнетению оригинала. В логику этого нагнетения попадает в окончательном варианте перевода и 7-й стих II главы, где буквально переданный союз и предыдущих вариантов, равнодушно-перечислительный и окончательный, не подходит для объединения этих логически и эмоционально синонимичных в русском языке — «рвань великая» и «голытьба святая» — характеристик восставшего народа. В бессоюзном анафорическом сочинении окончательного варианта 7-го стиха: «Шла рвань великая, шла голытьба святая» — эти слова воссоздают эмоциональный накал соответствующих строк оригинала несколько иными средствами — в оригинале тройной оксюморон:
7 La grande populace et la sainte canaille
8 Se ruaient a I’immortalite?—
а в переводе Антокольского двойной оксюморон с анафорическим параллелизмом в одном только 7-м стихе.
Удачей обернулся также уход Антокольского от буквальной точности в эволюции 11-го стиха III главы перевода.
В 1930 году И—12-й стихи III главы звучали так:
11 И запах пороха, и за глухой картечью
12 Колокола издалека
Ранний вариант 1953 года:
11 И запах пороха, и где-то за картечью
12 Ночной набат издалека
(По правде говоря, мне жаль ушедшего слова «глухой»: пропала удачная звуковая метафора!) Окончательный вариант 1953 года:
11 Пороховой дымок и где-то за картечью
12 Ночной набат издалека
«Пороховой дымок» — это удачно найденный переводчиком конкретный и выразительный русский эквивалент более абстрактного французского 1’odeur de la poudre (в полном соответствии с законами обоих языков и коэффициентом перевода: с учетом господства родовых понятий во французском языке и видовых — в русском).
176
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я заглянула в «мастерскую» большого поэта-переводчика, увидела следы его творческих мук и радостей, попыталась проанализировать причины неудач.
Павел Антокольский владеет тем, чему нельзя научить: он умеет «вырвать из хаоса нужное слово». Нельзя не восхищаться, например, афористической хлесткостью и лаконизмом остроумных pointes, которыми заполнены IV и V главы поэмы О. Барбье «Раздел добычи» в его переводе. Трудно поверить, что это не оригинал. И какое верное воспроизведение стиля иноязычного поэта! Между тем читателю кажется, что иначе все это сказать невозможно. Это удивительное ощущение единственности и неповторимости перевода П. Антокольского ставит этот перевод в один ряд с лучшими произведениями русской и советской поэзии1.
Надеюсь, мне удалось показать, что эта единственность и неповторимость вскормлена не только талантом, но и кропотливым трудом поэта-переводчика, «черным хлебом мастерства». Анализ находок и промахов переводчика, анализ остроумных решений труднейших переводческих проблем, примеры умения пожертвовать буквой оригинала для воссоздания его как целого — это может научить многому, и особенно — вниманию ц самым различным компонентам системы переводимого оригинала: будь то образ, афоризм, слово, грамматическая фигура, звук или синтаксис.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Auguste Barbier LA CUREE
I
1 Oh! lorsqu’un lourd solei! chauffait les gran des dalles
2 Des ponts et de nos quais deserts,
3 Que les cloches hurlaient, que la grele des balles
1 Уже после написания этих строк я получила письмо, в котором Антокольский-переводчик изложил свое «исповедание веры», свой «главный и руководящий принцип»: «перевести так, чтобы перевод сделался явлением русской поэзии. В этом моя задача и она,— писал Павел Григорьевич,— в сущности совпадает с тем, к чему я вообще стремлюсь как поэт в продолжение всех пятидесяти лет моей поэтической жизни» (письмо от 14 апреля 1970 года).
177
4 Sifflait et pleuvait par les airs;
5 Que dans Paris entier, comme la mer qui monte,
6 Le peuple souleve grondait,
7 Et qu’au lugubre accent des vieux canons de fonte
8 La Marseillaise repondait,
9 Certes, on ne voyait pas, comme au jour ou nous sommes,
10 Tant d’uniformes a la fois;
11 C’etait sous des haillons que battaient les coeurs d’hommes,
12 C’etaient alors de sales doigts
13 Qui chargeaient les mousquets et renvoyaient la foudre;
14 C’etait la bouche aux vils jurons
15 Qui machait la cartouche, et qui, noire de poudre,
16 Criait aux citoyens: Mourons!
II
1 Quant a tous ces beaux fils aux tricolores flammes,
2 Au beau linge, au frac ё^апС
3 Ces hommes en corset, ces visages de femmes,
4 Heros du boulevard de Gand,
5 Que faisaient-ils, tandis qu’a travers la mitraille,
6 Et sous le sabre deteste,
7 La grande populace et la sainte canaille
8 Se ruaient a I’immortalite?
9 Tandis que tout Paris se jonchait de merveilles,
10 Ces messieurs tremblaient dans leur peau,
11 Pales, suant la peur, et la main aux oreilles,
12 Accroupis derriere un rideau.
Ill
1 C’est que la Liberte n’est pas une comtesse
2 Du noble faubourg Saint-Germain,
3 Une femme qu’un cri fait tomber en faiblesse.
4 Qui met du blanc et du carmin:
5 C’est une forte femme aux puissantes mamelles,
6 A la voix rauque, aux durs appas,
7 Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,
8 Agile et marchant a grands pas,
9 Se plait aux cris du peuple, aux sanglantes melees,
10 Aux longs roulements des tambours,
11 A 1’odeur de la poudre, aux lointaines volees
12 Des cloches et des canons sour ds;
13 Qui ne prend ses amours que dans la populace,
14 Qui ne prete son large flanc
15 Qu’a des gens forts comme elle, et qui veut qu’on 1’embrasse
16 Avec des bras rouges de sang.
178
IV
1 C’est la vierge fougueuse, enfant de la Bastille,
2 Qui jadis, lorsqu’elle apparut
3 Avec son air hardi, ses allures de fille,
4 Cinq ans mit tout le peuple en rut;
5 Qui, plus tard, entonnant une marche guerriere,
6 Lasse de ses premiers amants,
7 Jeta la son bonnet, et devint vivandiere
8 D’un capitaine de vingt ans:
9 C’est cette femme, enfin, qui, toujours belle et nue,
10 Avec I’echarpe aux trois couleurs,
11 Dans nos murs mitrailles tout a coup reparue,
12 Vient de secher nos yeux en pleurs,
13 De remettre en trois jours une haute couronne
14 Aux mains des Fran^ais souleves,
15 D’ecraser une armee et de broyer un trone
16 Avec quelques tas de paves.
V
1 Mais, 6 honte! Paris, si beau dans sa colere,
2 Paris, si plein de majestё
3 Dans ce jour de tempete ой le vent populaire
4 Deracina la royaute,
5 Paris, si magnifique avec ses funerailles,
6 Ses debris d’hommes, ses tombeaux,
7 Ses chemins depaves et ses pans de murailles
8 Troues comme de vieux drapeaux;
9 Paris, cette cite de lauriers toute ceinte,
10 Dont le monde entier est jaloux,
11 Que les peuples emus appellent tous la sainte,
12 Et qu’ils ne nomment qu’a genoux,
13 Paris n’est maintenant qu’une sentine impure,
14 Un egout sordide et boueux,
15 Ou mille noirs courants de limon et d’ohurdure
16 Viennent trainer leurs flots honteux;
17 Un taudis regorgeant de faquins sans courage,
18 D’effrontes coureurs de salons,
19 Qui vont de porte en porte, et dotage en etage,
20 Gueusant quelque bout de galons;
21 Une halle cynique aux clameurs insolentes,
22 Ou chacun cherche a dechirer
23 Un miserable coin de guenilles sanglantes
24 Du pouvoir qui vient d’expirer.
VI
1 Ainsi, quand desertant sa bauge solitaire,
2 Le sanglier, frappe de mcrt,
3 Est la, tout palpitant, etendu sur la terre,
179
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
4 Et sous le soleil qui le mord;
Lorsque, blanchi de bave et la langue tiree,
6 Ne bougeant plus en ses liens,
11 meurt, et que la trompe a sonne la curee
8 A toute la meute des chiens,
Toute la meute, alors, comme une vague immense,
10 Bondit; alors chaque matin
Hurle en signe de joie, et prepare d’avance
12 Ses larges crocs pour le festin;
Et puis vient la cohue, et les abois feroces
14 Roulent de vallons en vallons;
Chiens courants et limiers, et dogues, et molosses,
16 Tout s’elance, et tout crie: Allons!
Quand le sanglier tombe et roule sur Гагёпе,
18 Allons, allons! les chiens sont rois!
Le cadavre est a nous; payons—nous notre peine,
20 Nos coups de dents et nos abois.
Allons! nous n’avons plus de valet qui nous fouaille
22 Et qui se pende a notre cou
Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaille, 24 Et gorgeons—nous tout notre sod!
Et tous, comme ouvriers que Гоп met a la tache,
26 Fouillent ses flancs a plein museau,
Et de 1’ongle et des dents travaillent sans relache,
28 Car chacun en vent un morceau;
Car il faut au chenil que chacun d’eux revienne
30 Avec un os demi—ronge,
Et que, trouvant au seuil son orgueilleuse chienne,
32 Jalouse et le poil allonge,
11 lui montre sa gueule encore rouge, et qui grogne,
34 Son os dans les dents arrete,
Et lui crie, en jetant son quartier de charogne:
36 «Voici ma part de royaute!»
Огюст Барбье
ДОБЫЧА
Перевод П. Антокольского (Первый вариант 1930 года)
I
1 Когда тяжелый зной накаливал громады
2 Мостов и площадей пустых,
3 И завывал набат, и посвист канонады
4 В парижском воздухе не стих;
5 Когда по городу, как буревое море,
6 Людская пенилась гряда;
7 И красноречию мортир угрюмых вторя,
180
8 Шла Марсельеза,— о, тогда
9 Мундиры синие, конечно, не торчали,
10 Как это нынче повелось.
11 Там под лохмотьями сердца мужчин стучали,
12 Там столько грязных рук рвалось
13 Мушкеты разряжать. И был прицел их зорок,
14 И столько ртов, жуя свинец,
15 Ртов, черных от золы и крепких поговорок,
16 Кричало гражданам: «Конец!»
II
1 А вам, молодчики, с большим трехцветным бантом,
2 Во фраках элегантных,— вам,
3 Затянутым в корсет, женоподобным франтам,
4 Бульварным шатунам и львам,—
5 Вам не спалось, когда, под саблями не тая,
6 Наперерез ночной пальбе
7 Шла рвань великая и голытьба святая
8 Добыть бессмертие себе.
9 Стал чудом весь Париж. А ваше малодушье
10 Чем отличилось, господа?
11 Вы все на корточках, вспотев, заткнувши уши,
12 За шторой прятались тогда!
Ill
1 В предместьи Сен-Жермен Свобода не блистала, 2 У ней не княжеская масть.
3 Ей падать в обморок от криков не пристало
4 И не к лицу румяна класть.
5 Свобода — женщина с высокой грудью,— грубо
6 Влекущая к себе краса.
7 Ей широко шагать среди народа любо,
8 Смотреть в горящие глаза.
9 Ей дорого нужды певучее наречье,
10 Дробь барабанов ей сладка,
11 И запах пороха, и за глухой картечью
12 Колокола издалека.
13 Она любовников из черни выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам, которых обнимает
16 Объятьем, вымытым в крови.
IV
1 Дитя Бастилии, она была в те годы
2 Еще невинней и смелей.
3 Народ сходил с ума от девочки-Свободы
181
4 И табуном бежал за ней.
5 Потом, походный марш твердя и понемногу
6 Забыв колпак фригийский свой,
7 Она с полковником двадцатилетним в ногу
8 Шла маркитанткой войсковой.
9 И до сих пор еще не сгинула бесследно
10 Возлюбленная нагота,
11 Меж стен расстрелянных мелькает шарф трехцветный
12 И вновь надежда разлита.
13 Трех дней довольно ей, и ветхая корона
14 Восставшим в руки отдана;
15 Двух-трех булыжников — и пыль на месте трона,
16 И армия отражена.
V
1 О, стыд! Здесь ненависть красавицей прозвали, 2 Когда сметал народный вихрь
3 Капетов, и гроза шумела на развале
4 И выкорчевывала их.
5 Гражданских праздников мгновенья роковые,
6 Великолепье похорон,
7 В пробитых пулями знаменах мостовые,
8 Развалины со всех сторон.
9 Париж, увенчанный столь щедро, так недавно,
10 Ревнует мир к такой красе.
И Колена преклонив перед столицей славной, 12 Ее святой считают все.
13 И вот процежен он в промозглых водостоках
14 Похабной гнилью нечистот,
15 Кишит бурдой погонь стоустых и стооких,—
16 Волна спадает, вновь растет.
17 Трущоба непотребств набита до отказа.
18 Кочует попрошаек рать
19 И липнет к выходам и окнам, как проказа,
20 Стараясь мелочь подобрать.
21 Толкучка зазывал, божащихся бесстыдно,
22 Где каждый рвет себе, себе
23 Лоскут могущества, чей жребий незавидный —
24 Пойти на тряпки голытьбе.
VI
1 Так,— если выгнанный из заповедной чащи
2 Кабан пропорот на лету
3 И, наземь падая, дрожит кровоточащий
4 В мертвящем солнечном свету,
5 И, захлебнувшийся в пузырящейся пене,
6 Стихает, высунув язык,
7 И рог заливистый, хрипя от нетерпенья,
182
8 Скликает на поле борзых,
9 И свора, как хребет одной волны громадной,
10 Хребтами выгнулась рыча,
11 И чует пиршество, оскаленная жадно
12 На зов лихого трубача,—
13 И стая собрана. И прокатился в парке
14 И по полям свирепый лай,—
15 И воют гончие, выжлятники, овчарки,
16 Остервеневшие: «Валяй!
17 Валяй! Кабан издох! Псы королями стали!
18 Нам эта падаль отдана!
19 За травлю дикую, за то, что мы устали,
20 Заплатим мертвому сполна!
21 Валяй! Лакеев нет. Арапники не свищут.
22 Ошейники не душат нас.
23 Кровь горяча еще. Вгрызайся в эту пищу!
24 Похмелье кончится сейчас».
25 И как поденщики, ломающие камень,
26 Рвут это крошево храпя,
27 Зарывшись мордами, когтями и клыками
28 В лохмотья красного тряпья.
29 Ведь псарням свойственно, чтобы кобель муругий
30 Примчался с костью боевой
31 И, ощетинившись, ревнующей подруге
32 Раззванивал про подвиг свой;
33 И суке доказал, как яростен и жарок,
34 И как ей предан до конца,
35 И пылко зарычал, бросая кость в подарок:
36 «Вот это мой кусок дворца!»
Огюст Барбье
РАЗДЕЛ ДОБЫЧИ
Перевод П. Антокольского (Окончательный вариант 1953 года)
1
1 Когда тяжелый зной накаливал громады
2 Мостов и площадей пустых,
3 И завывал набат, и грохот канонады
4 В парижском воздухе не стих;
5 Когда по городу, как штормовое море,
6 Людская поднялась гряда,
7 И красноречию мортир угрюмых вторя,
8 Шла Марсельеза,— о, тогда
9 Мундиры синие, конечно, не торчали,
10 Какие нынче развелись.
11 Там под лохмотьями сердца мужчин стучали, 12 Там пальцы грязные впились
183
13 В ружейные курки. Прицел был дальнозорок,
14 Когда, патрон перегрызи,
15 Рот, полный пороха и крепких поговорок,
16 Кричал: «Стоять на смерть, друзья!»
2
1 А вам, молодчикам с большим трехцветным бантом,
2 Во фраках, с белой грудью, вам,
3 Затянутым в корсет женоподобным франтам,
4 Бульварным модникам и львам,—
5 Как вам спалось, когда, под саблями не тая,
6 Наперерез ночной стрельбе,
7 Шла рвань великая, шла голытьба святая
8 Добыть бессмертие себе?
9 Был полон весь Париж чудес. Но в малодушьи
10 Сиятельные господа,
11 От ужаса вспотев и затыкая уши,
12 За шторой прятались тогда!
3
1 В гостиных Сен-Жермен Свобода не блистала. '
2 У ней не княжеская масть.
3 Ей падать в обморок от криков не пристало,
4 Ей незачем румяна класть.
5 Свобода — женщина с высокой грудью, грубо
6 Сердца влекущая к себе.
7 Ей широко шагать среди народа любо,
8 Служить на совесть голытьбе.
9 Ей любо-дорого народное наречье.
10 Дробь барабана ей сладка,
11 Пороховой дымок и где-то за картечью
12 Ночной набат издалека.
13 Она любовника в народе выбирает
14 И бедра отдает свои
15 Таким же силачам и сладко замирает,
16 Когда объятья их в крови.
4
1 Дитя Бастилии, она была в те годы
2 Еще невинней и страстней.
3 Народ сходил с ума от девочки-Свободы,
4 Пять лет он изнывал по ней.
5 Но скоро, затянув походный марш в дорогу,
6 Швырнув колпак фригийский свой,
7 Она с полковником двадцатилетним в ногу
8 Шла маркитанткой войсковой.
181
9 И, наконец, сейчас, за дымкой предрассветной
10 Достаточно ей промелькнуть
И В проломе черных стен косынкою трехцветной,
12 Чтоб слезы с наших глаз смахнуть;
13 Трех дней достаточно — и ветхая корона
14 Восставшим в руки отдана,
15 Двух-трех булыжников — и пыль на месте трона,
16 И армия отражена.
5
1 О стыд! Вот он, Париж! От гнева хорошея,
2 Как был отважен он, боец,
3 Когда народный вихрь свернул Капету шею
4 И выкорчевывал дворец;
5 Как был он сумрачен в мгновенья роковые,
6 Во дни гражданских похорон:
7 Зияли бреши стен, чернели мостовые
8 В лохмотьях боевых знамен...
9 Париж, увенчанный так щедро, так недавно,
10 Вольнолюбивых стран кумир,—
11 Колени преклонив перед святыней славной,
12 Его недаром любит мир.
13 Сегодняшний Париж — в промозглых водостоках
14 Смешался с гнилью нечистот,
15 Кипит бурдой страстей, стоустых и стооких,—
16 Волна спадает, вновь растет.
17 Трущоба грязная, где выходы и входы
18 Салонной шатией кишат,
19 Где старые шуты, львы прошлогодней моды,
20 Ливрею выклянчить спешат.
21 Толкучка зазывал, божащихся бесстыдно,
22 Где надо каждому украсть
23 Лоскут могущества, обломок незавидный,
24 Смертельно раненную власть!
6
1 Так, если выгнанный из заповедной чащи,
2 Кабан пропорот на лету
3 И, наземь падая, дрожит кровоточащий
4 В слепящем солнечном свету;
5 И захлебнувшийся в пузырящейся пене,
6 Стихает, высунув язык,
7 И рог заливистый, хрипя от нетерпенья,
8 Скликает на поле борзых;
9 И свора, как хребет одной волны громадной,
10 Хребтами выгнулась рыча
11 И чует пиршество, оскаленная жадно
12 На приглашенье трубача;
185
13 И стая собрана,— и прокатился в парке
14 И по полям свирепый лай,
15 И воют гончие, борзые и овчарки,
16 Остервеневшие: «валяй!»
17 Валяй! Кабан издох,— псы королями стали!
18 Псам эта падаль отдана!
19 За гонку дикую, за то, что мы устали,
20 Заплатим мертвому сполна!
21 Валяй! Псари ушли, ошейники не душат,
22 Арапники не просвистят.
23 Кровь горяча еще! Клыки нам честно служат,
24 Клыки за голод отомстят,—
25 И как поденщики, кончающие к сроку,
26 Разделывают тушу вмиг,
27 Зарывшись мордами, когтями рвут глубоко,
28 И свалка между псов самих,—
29 Ведь есть у них закон, чтобы кобель обратно
30 Принес обкусанный мосол,
31 И перед сукою, ревнующей и жадной,
32 Надменным щеголем прошел,
33 И суке доказал, как предан ей и жарок,
34 И, страсть собачью утоля,
35 Залаял весело, бросая кость в подарок:
36 — Я вырвал ляжку короля!
Е. Этнинд
МАСТЕР ПОЭТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ1
(Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица)
И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее произнесет.
Осип Мандельштам
1
Бенедикт Лившиц (1886—1939) был самой природой создан для перевода французской лирики. Ему как поэту-переводчику в высшей степени свойственно французское — унаследованное французами еще от классицизма — пристрастие к синтаксической завершенности стиха и строфы, к отчетливой пластике, к звучной и полной, классически точной рифме, к смысловой насыщенности весомого, строго очерченного, семантически отграниченного слова. Футурист, соратник Бурлюков и Хлебникова, В. Каменского и А. Крученых по группе «Гилея», Лившиц был во многом чужд эстетике своих «единоверцев». Вошедшие в 1914 году в сборник «Волчье солнце» стихи, если и кажутся порой загадочными до непроницаемости, отнюдь не фу-туристичны — они, пожалуй, ближе всего к акмеизму, к «Камню» с его классической строгостью формы, много
1 Настоящая статья продолжает опубликованную в предыдущем сборнике «Мастерство перевода» работу под названием «Четыре мастера», где рассматривались книги из серии «Мастера поэтического перевода», выпускаемой издательством «Прогресс». Сборник переводов Б. К. Лившица под заглавием «У ночного окна» (составление, предисловие и примечания В. Козового) вышел в этой серии в 1970 году.
187
значительностью тщательно взвешенного слова, смысловой сжатостью и откровенной привязанностью к литературной традиции,— последняя не опровергнута, не разрушена издевательской пародией или просторечной вульгарностью, как у Бурлюков и молодого Маяковского, а утверждена, развита, углублена, как у автора «Камня» и «Tristia», где созданы поэтические сгустки историко-культурных эпох.
Как редко торжествует память За кругозором наших дней! Как трудно нам переупрямить Упорствующий быт камней!
Камень—любимый предмет Лившица, как бы полученный им в дар от его современника-акмеиста, который, впрочем, в начале 20-х годов ушел от «камня» «внутрь вещей»,—Лившиц же сохранит к камню преданную любовь («...мой возлюбленный гранит»,— скажет он в одном из стихотворений сборника «Патмос» в 1926 году). Бенедикт Лившиц, близкий к акмеизму, словно реализовал то, чего тот не мог сделать: он развил возможности сходной поэтической системы, сообщив ей гибкость и восприимчивость, обнаружив таившуюся в ее глубинах плодотворную изменчивость, способность передавать чужое, как свое.
Б. Лившиц стал одним из мастеров, которым наша литература обязана высоким расцветом переводческого искусства, однако роль его еще не оценена по достоинству. Появились исследования и критические статьи о значении и своеобразии переводческого творчества С. Маршака, который приобщил нашу поэзию к песням Бернса и лирике Шекспира, к английской детской поэзии и философской поэзии Блейка; М. Лозинского и Т. Щепкиной-Куперник, блестяще воссоздавших стихотворную драматургию испанцев, французов и англичан; Б. Пастернака, переводчика немецких, английских, венгерских, грузинских поэтов; Н. Заболоцкого, автора переводов из классических и современных поэтов Грузии, приблизивших к русскому читателю Руставели, Важа Пшавела и Орбелиани... О Бенедикте Лившице ничего еще не написано; между тем его роль как переводчика французской лирической поэзии переоценить трудно: он истинный наследник первооткрывателей этой поэзии — Батюшкова, Баратынского, Полежаева, Дурова, А. К. Толстого, Бенедиктова; он предшественник таких мастеров нашего времени, как П. Антокольский, В. Левик, А, Эфрон,
188
Э. Линецкая, В. Шор, чье творчество определяет современный уровень переводов из французской поэзии — вместе с творчеством поэтов-переводчиков более молодого поколения, М. Ваксмахера, М. Кудинова, А. Гелескула, М. Квят-ковской и других. Кажется, что про Бенедикта Лившица сказал Мандельштам слова, приведенные в эпиграфе к этой статье.
Эстетические принципы, важные для практики перевода, Б. Лившиц точнее всего высказал в автобиографической книге, представляющей историю раннего русского футуризма,— «Полутораглазый стрелец»1. Лившицу чужды символисты, которые «загнали слово в тупик» (17); Хлебников вызывает его восхищение своим языкотворчеством, ибо, как он заключает, «обнажение корней, по отношению к которому поражавшие нас словоновшества играли лишь служебную роль, было, и не могло быть ничем иным, как пробуждением уснувших в слове смыслов и рождением новых» (47), и все же — «путь Хлебникова был для меня запретен» (48); Лившиц не проникал внутрь слова, не творил языка — он, следуя за своими французскими учителями, Рембо и Корбьером, создавал новые конструкции из готового материала унаследованных слов: «Ученик проклятых поэтов, в ту пору ориентировавшийся на французскую живопись, я преследовал чисто конструктивные задачи и только в этом направлении считал возможной эволюцию русского стиха. Это был вполне западный, точнее — романский подход к материалу, принимаемому как некая данность. Все эксперименты над стихом [...] мыслились в строгих пределах уже конструированного языка. Колебания как в сторону архаизмов, так и в сторону неологизмов, обуславливаемые личными пристрастиями автора, не меняли общей картины» (46). Это и есть центральная эстетическая идея Лившица, продолжающая стилистические принципы французов. Лившиц постепенно пришел «к утверждению единства формы и содержания, как высочайшей реальности, открывающейся нам в искусстве» (50), он научился «по-новому ценить уплотненное слово» (51). Автор хорошей вступительной статьи к сборнику переводов Б. Лившица в серии «Мастера
1 Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., Издательство писателей в Ленинграде, 1933. Ссылки даются в тексте после цитаты— в скобках указана страница.
189
поэтического перевода» Вадим Козовой справедливо пишет: «Всегда стремившийся к предельному осмыслению своего искусства, Лившиц пытался определить, взаимосвязь образа и значения, мелодики слова и смысловой наполненности стиха. Эти чисто конструктивные задачи уводили его от футуризма, с которым, впрочем, он не был глубоко связан, и в решении их для него был особенно важен опыт французских поэтов»1.
Итак, для Лившица единственная реальность—материал искусства. В этом смысле и следует понимать принцип Лившица-переводчика: не передать дух иноязычных стихотворений, а перевоплотить их в другом словесном материале, полностью сохранив его, этого материала, структуру, которая и является носителем поэтического содержания. Нужно не по-романтически или по-символистски «вчувствоваться» в переводимую вещь, чтобы затем пересоздать ее эмоциональную или, шире, духовную сущность, а передать новыми языковыми средствами композицию — во всех смыслах этого термина. Уже В. Саянов отмечал в предисловии к сборнику переводов Б. Лившица: «Влияние французов особенно отразилось у Лившица на том, что легче всего поддается перенесению на чужеземную почву, на композиции стиха... Лившиц тонко чувствует строение стиха у самых разнообразных поэтов и умело передает его в своих переводах. Это очень трудная задача, так как особенности стихотворного подлинника чаще всего заключены не в лексике, а в синтаксическом строении»1 2.
Здесь и под «синтаксическим строением» следует понимать не языково-грамматический строй текста, а все ту же композицию. Последний термин требует разъяснения. Что же входит в это понятие?
Структура произведения как художественного целого: соотношение начала и конца, организующее его как единство; образные элементы и внутренние переклички между ними;
все виды ритма, лежащего в основе стихотворения: метрический, синтаксический, строфический, фонетический (звуковые повторы внутри стихов и между ними);
1 В. Козовой. Бенедикт Лившиц и его перевод. В кн,-«У ночного окна». Стихи зарубежных поэтов в переводе Бенедикта Лившица. М., «Прогресс», 1970, с. 8.
2 Виссарион Саянов. Предисловие. В кн.: Бенедикт Лившиц. От романтиков до сюрреалистов. Л., «Время», 1934, с. 9—10.
190
соотношение точек зрения внутри вещи (лирический субъект и адресат стихотворения, автор и персонаж);
движение планов в произведении (от общего к крупному и обратно);
соотношение стилистических пластов (высокое и низкое, поэтическое и разговорное, поэтическое и прозаическое);
соотношение условно-поэтической традиции и индивидуально-авторского начала.
В. М. Жирмунский писал: «Над ритмом, как явлением фонетическим, и над синтаксисом стоит высший закон, который управляет и тем и другим. Это закон художественного упорядочения словесного материала, его композиционного построения, которому одинаково подчиняется и фонетика, и синтаксис. Композиционные формы лирического стихотворения определяются конкретными применениями этого закона»1.
Не только в каждом литературном направлении, но, по сути дела, у каждого автора и даже в каждом стихотворении своя композиционная структура, подчиненная более общим закономерностям. Б. Лившиц неизменно стремится эти закономерности понять и, поняв, пересоздать по-русски своеобразие поэтической композиции каждого французского стихотворения. Разумеется, всякий поэт-переводчик, думающий больше о том, как перевыразить оригинал, чем о том, чтобы выразить себя, к этому стремится, но для Б. Лившица такова первая главнейшая задача, которую он перед собой ставит. Лившиц может почитаться образцом поэта-переводчика такого «объективного» типа,— его творческая энергия направлена именно на объект воссоздания, а не на самовыражение.
В переводческом творчестве Бенедикта Лившица реализовались те свойства его поэтического мировоззрения, которые в его оригинальной поэзии так и не достигли органического единства. Именно эти свойства помогли ему понять содержательную суть разных поэтических структур и проникнуть как в особый мир французской поэзии, так и в специфические миры каждого из переведенных им французских поэтов; помогли стать лучшим из наших перевод
1 В. М. Жирмунский. Композиция лирических стихотворений. Пб., «Опояз», 1921, с. 95.
191
чиков не только таких французских поэтов XX века, как Г. Аполлинер и Макс Жакоб, но и таких, как Рембо, Малларме, П. Валери, Т. Корбьер: средствами символизма их одолеть было бы невозможно — французские символисты были, пожалуй, ближе к русским акмеистам и в особенности будетлянам, чем к русским символистам.
Количественно Б. Лившиц перевел не очень много. Его книга «Французские лирики XIX и XX веков», выпущенная Гослитиздатом в 1937 году, содержит 100 стихотворений 42 авторов (в первом издании, 1934 года, озаглавленном «От романтиков до сюрреалистов», было представлено 40 авторов и 85 их стихотворений). Сто лирических стихотворений — это явно мало; каждый из французских авторов представлен лишь некоторыми образцами: Гюго — одиннадцатью, Рембо — девятью, Аполлинер — семью, Верлен — шестью, Т. Готье, Кокто, Сальмон, Элюар — двумя, Жакоб, Карко, Леконт де Лиль — одним. И все же тонкая книжка Б. Лившица — эпоха в истории французско-русских поэтических отношений, открытие таких сторон французской поэзии, каких в России, несмотря на многие блестящие переводы Пушкина, Баратынского, Батюшкова, Бенедиктова, И. Анненского, В. Брюсова,— не знали.
2
Спиритуалистический романтизм Альфонса Ламартина поэту Б. Лившицу чужд. В его сборнике Ламартин представлен всего одной элегией «Одиночество» (1820), но это, может быть, первое стихотворение Ламартина, с такой полнотой и достоверностью переданное на русском языке. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить перевод Лившица с известным и для своего времени весьма близким к оригиналу переводом Ф. Тютчева. Элегия Ламартина рисует вечерний пейзаж, созерцаемый с вершины горы: прекрасны долина, река, заходящее солнце и поднимающаяся луна, но мир пуст и уныл — из мира ушло единственное существо, одухотворявшее его; поэт подобен листу, сорванному вечерним ветром и уносимому в небытие. В стихотворении 13 строф-четверостиший двенадцатисложника с перекрестными рифмами. Композиционно они организованы так: стро-
192
фа 1 — вступление (часто поэт поднимается на гору и Созерцает открывающуюся ему картину), строфа 13 — заключение (поэт подобен сорванному листу); три строфы от начала (2—4) — описание пейзажа, три строфы от конца (10—12) — мечты о смерти; наконец, центральные пять строф (5—9) разрабатывают тему солнца, озаряющего опустевший, мертвый мир. Как видим, композиция отличается классической точностью и почти геометрической симметрией; ее формула— АВСВ1А1 (1+34-5+3+1). Каждая строфа синтаксически закончена: это, как правило, одна фраза, распадающаяся на две половины; только начиная с середины, когда усиливается эмоциональная напряженность, появляется дробление фразы на большее число сегментов,— дробление, не влекущее за собой распад строфы как ритмико-синтаксического единства. Существенная особенность ламартиновской элегии — постепенная дематериализация фактов внешнего мира: первые четыре строфы (или, по нашему членению, части АВ) конкретны, полны объемными предметами с точными признаками — как в строфе 2:
Ici gronde le fleuve aux vagues 6cumantes, Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur; La le lac immobile etend ses eaux dormantes Ou l’6toile du soir se leve dans 1’azur.
(Здесь поток гремит пенящимися волнами, он змеится и углубляется в далекую мглу; там недвижное озеро простирает свои дремлющие воды, где вечерняя звезда восходит в лазури.)
Точны глаголы, относящиеся к реке: gronde (гремит), serpente (змеится), s’enfonce (углубляется), замечательно смысловой полнотой и конкретностью сочетание un lointain obscur (далекая мгла). В переводе Тютчева (между 1820 и 1822) эта строфа гласит:
Здесь пенится река, долины красота, И тщетно в мрачну даль за ней стремится око, Там дремлющая зыбь лазурного пруда
Светлеет в тишине глубокой.
Отмеченных выше материально-конкретных признаков здесь нет, и даже «далекая мгла» уступила место общеэлегическому «в мрачну даль». Интересно сочетание «светлеет в тишине», в котором совмещено зрительное и слуховое ощу-
7 Мастерство перевода
193
щение,— Ламартину такие сопряжения несвойственны, зато они весьма характерны для раннего русского романтизма, связанного с германской традицией (ср. у Жуковского в элегии «Вечер»: «Где слит с прохладою растений фимиам»). Беспредметны и «долины красота», и «мрачна даль», и даже, казалось бы, определенные в своей вещественности превосходные эпитеты «дремлющая зыбь лазурного пруда» — у Ламартина 1’azur скорее относится к небу, приобретает двусмысленность: звезда поднимается не то в небесах, не то в тихих водах, верх и низ сливаются в единстве. С самого начала Тютчев сообщает ламартиновскому пейзажу меньшую определенность и делает это вполне систематически:
у Ламартина: а ГотЬге du vieux chene (в тени старого Дуба),
у Тютчева: в тени древес густой;
у Ламартина: Au sommet de ces monts couronnes de bois sombres, // Le crepuscule encore jette un dernier rayon;
(На вершину этих гор, увенчанных темными лесами,// Заря еще бросает последний луч).
у Тютчева: По темной зелени дерев // Зари последний луч еще приметно бродит...
Б. Лившиц держится ближе к Ламартину — к конкретности его пейзажа, сочетающейся с напевностью двенадцатисложного стиха. Вот первая строфа:
Souvent sur la montagne, a Г ombre du vieux chene, Au coucher du soleil, tristement je m’assieds;
Je promene au hasard mes regards sur la plaine, Dont le tableau changeant se deroule a mes pieds.
Ф. Тютчев:
Как часто, бросив взор с утесистой вершины, Сажусь задумчивый в тени древес густой, И развиваются передо мной Разнообразные вечерние картины!
Б. Лившиц:
Когда на склоне дня, в тени усевшись дуба И грусти полн, гляжу с высокого холма На дол, у ног моих простершийся, мне любо Следить, как все внизу преображает тьма.
194
Строфа 2 приводилась выше в оригинале и переводе Тютчева. У Б. Лифшица она звучит так:
Здесь плещется река волною возмущенной И мчится вдаль, стремясь неведомо куда;
Там стынет озеро, в чьей глади вечно сонной Мерцает только что взошедшая звезда.
Удивительна полнота, с которой Б. Лившицу удается передать смысловые компоненты ламартиновских строф. Вернемся к строфе 1 и рассмотрим ее с этой точки зрения. В подлиннике эти смысловые компоненты такие:
I. Сажусь на горе
1. часто (souvent)
2. в тени а) дуба а1) старого 3. на закате солнца 4. грустно (tristement) II. Смотрю в дол
1. блуждая взором (au hasard)
2. на картину, которая меняется, а) развертываясь у моих ног.
В переводе Б. Лифшица эта сумма смыслов передана: опущены только I 1. (часто), I 2. а1) (старого), то есть из И компонентов передано 9,— опущены же те, которые особого значения сами по себе не имеют; в тексте перевода они, впрочем, содержатся, хоть и не выделены особо: дуб, дающий тень на вершине холма, скорее всего старый; «мне любо... следить» — этот оборот значит, что герой не раз и не два поднимался на холм. Можно считать, что так или иначе воспроизведены все 11 смысловых компонентов строфы — и ни один не добавлен к ним извне.
В переводе Тютчева не хватает четырех компонентов: 11 а и б (старый дуб), I 3 (на закате солнца), II (смотрю в дол) и II 2а (развертываясь у моих ног). Это в известной мере компенсировано: гора — утесистой вершиной, старый дуб — древесами, закат солнца — эпитетом «вечерние (картины)», смотрю в дол — сочетанием «бросив взор». Все же смысловых единиц у Тютчева меньше, да и общий тон изменен вследствие изменения ритмики строфы — укорочен последний стих, представляющий собой четырехстопник. Нелепо осуждать за это Тютчева — у него другие задачи; по сути
7
195
дела он и не переводит, а на основании французской элегии создает иную, русскую. Б. Лившиц стремится к воспроизведению всей полноты смысла и всех особенностей композиционной структуры: он передает именно французскую элегию в своеобразии ее геометрического построения, сочетающегося с особым, монотонно-элегическим напевом \ Не менее характерна и строфа 3 — продолжим сравнение:
Au sommet de ces monts couronnes de bois sombres, Le crepuscule encore jette un dernier rayon ;
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit deja les bords de 1’horizon.
Тютчев:
По темной зелени дерев
Зари последний луч еще приметно бродит, Луна медлительно с полуночи восходит На колеснице облаков.
Здесь особенно внятна интонационная перестройка, вызванная введением разностопности; как сказано, она мотивирована традициями именно русской элегии (ср. пушкинское: «Шуми, шуми, послушное ветрило...»). Но и смысловые компоненты теряются: в оригинале их больше. Перечислим их. В строфе две картины, каждая занимает по два стиха:
I. Гаснет вечерняя заря, II. Восходит луна. Первая содержит следующие компоненты:
I. Заря бросает последний луч
1. еще
2. на вершины гор
3. увенчанных лесами а) темными.
И вторая:
II. Восходит (луна)
1. владычица теней
2. на облачной колеснице и
3. уже
4. серебрит (буквально: окаймляет белым)
5. края горизонта.
Снова, как и в первой строфе, 11 смысловых компонентов. Некоторые кажутся незначительными: например I 1 (еще)
1 В уже цитированной статье Вадим Козовой замечает: «Интуиция переводчика схватывает прежде всего и легче всего формальнокомпозиционную сторону стиха» (с. 12).
196
и II 3 (уже). Однако эти детали важны и в смысловом, и в архитектоническом отношениях; наречия encore и deja стоят у Ламартина на ответственных местах, симметрично — перед цезурой, во втором и четвертом стихах, рифмующих между собой:
Le crepuscule encore / jette un dernier rayon... Monte, et blanchit deja/\es bords de Phorizon.
Тютчев из 11 смысловых единиц передал I, I 3, I 3-а, II, II 2, то есть всего пять; остальные он либо опустил, либо заменил, а кое-что добавил (зелень, приметно бродит, медлительно, с полуночи). У Б. Лившица:
Пока за гребень гор, где мрачный бор теснится, Еще цепляется зари последний луч, Владычицы теней восходит колесница, Уже осеребрив края далеких туч.
Поразительно: из 11 единиц передано 11! Дажеш^и уже воспроизводят соответствующие наречия оригинала; и поставлены они так же симметрично, как у Ламартина, только не в середине рифмующих четных строк, а в начале их:
Еще цепляется зари последний луч...
Уже осеребрив края далеких туч.
Разумеется, и Лившиц кое-что заменяет, кое-что, едва заметное, добавляет: цепляется... (луч) (вместо: заря бросает луч), теснится (бор) (вместо: венчает), края далеких туч (вместо: края горизонта); но эти замены и добавления вызваны несходством языков и лишь способствуют полной передаче всех смыслов подлинника и его архитектоники. Например, оборот края далеких туч компенсирует утрату эпитета при слове колесница (у Тютчева — «На колеснице облаков» для «char vaporeux»).
По мере развития элегии Тютчев уходит все дальше от Ламартина. Начав с дематериализации, он возносится в разреженную сферу нравственно-религиозной философии, уже вовсе покидая ламартиновскую архитектонику, отбрасывая ее геометричность. Смерть, воспеваемую Ламартинбм в четких, почти афористических строках как переход в другой мир, Тютчев осмысляет по-своему, в духе своей космической образности:
197
Как светло сонмы звезд пылают надо мною, Живые мысли божества!
Какая ночь сгустилась над землею, И как земля, в виду небес, мертва!..
Эта великолепная, чисто тютчевская строфа не имеет у Ламартина никакого соответствия. Предпоследняя строфа в оригинале совсем другая — она гласит:
Que ne puis-je, porte sur le char de 1’Aurore, Vague objet de mes voeux, m’elancer jusqu’a toi! Sur la terre d’exil pourquoi reste-je encore?
Il n’est rien de commun entre la terre et moi.
Сохраняются симметричность, мелодика, афористическая четкость формулировок. И, что не менее существенно, сохраняется единство темы; у Б. Лившица предпоследняя строфа:
Зачем же не могу, подхвачен колесницей
Авроры, мой кумир, вновь встретиться с тобой! Зачем в изгнании мне суждено томиться?
Что общего еще между землей и мной?
И заключительное четверостишие у Ламартина, объединяющее всю элегию — пейзаж и героя, природу и внутренний мир, материю и дух, темы жизни и смерти:
Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, Le vent du soir s’eleve et Farrache aux vallons ; Et moi, je suis semblable a la feuille fletrie : Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !
Тютчев далеко уходит оттона, строя, архитектоники Ламартина; в его заключении прорывается открытое отчаяние, выраженное в повторах «И мне, и мне», «Умчите... умчите», в движении меняющихся ритмов от шестистопника к пяти-и четырехстопнику с возвратом к шестистопному стиху, в нагнетении синонимов (гроза, вихрь, бурные...), в обрыве фразы, кончающейся многоточием:
Встают гроза и вихрь, и лист крутят пустынный!
И мне, и мне, как мертвому листу, Пора из жизненной долины,—
Умчите ж, бурные, умчите сироту!;.
198
Стих Б. Лившица по-прежнему сдержан, симметричен, строг, рационален:
Когда увядший лист слетает на поляну, Его подъемлет ветр и гонит под уклон;
Я тоже желтый лист, и я давно уж вяну: Неси ж меня отсель, о бурный аквилон!
Композиционное подобие здесь полное: первое предложение охватывает стихи 1 и 2, затем по одному предложению приходится на стихи 3 и 4. Совпадают и начальные слова фраз, и заключительные, да и вообще почти все слова:
Quand la feuille des bois tombe dans la prairie...
Когда увядший лист слетает на поляну...
Поразительно, что даже рифмующие слова совпадают: prairie — vallons — fletrie — aquilons поляну — под уклон — вяну — аквилон
Впрочем, на протяжении всей элегии у Б. Лившица рифмуют многие из тех же слов, что в оригинале. С этого начинается перевод:
Souvent sur la montagne, a Pombre du vieux chene...
Когда на склоне дня, в тени усевшись дуба...
Этим он и завершается.
Да не поймет нас читатель так, будто мы призываем поэтов-переводчиков повторять рифмующие слова и даже их звучание, как это порой — и даже часто — делает Б. Лившиц. Мы устанавливаем не общие нормы, а своеобразие переводческого искусства Бенедикта Лившица, искусства, которому, как можно установить на основании анализа «Одиночества», свойственны следующие черты:
— воспроизведение максимального числа смысловых компонентов вещи, по возможности даже всех;
— воспроизведение структуры стихотворения во всем своеобразии его композиционно-ритмических особенностей (термин «ритм» здесь взят в самом общем его смысле);
— воспроизведение жанровых особенностей стихотворения; переводчик не меняет их применительно к традициям русских национальных форм, но сохраняет жанровые черты поэзии-иностранной, французской;
— воссоздание мелодического строя оригинала, без нарушения законов естественности русской поэ
199
тической речи, без насилия над нею. Последний пункт важен: если бы он был нарушен, все предшествующие утратили бы для Б. Лившица смысл. Ведь и, скажем, Г. Шенгели стремился к предельной смысловой и архитектонической близости к подлиннику, однако насилие над русской речью нередко обесценивало это его стремление, компрометируя само понятие точности, резко снижая художественный уровень перевода. Здесь уместно отметить, что практика Г. Шенгели характерна для той поры, к которой относится расцвет его творчества,— для 30-х годов, когда издательские принципы, например «Academia», вели поэтов-переводчиков к буквалистскому калькированию подлинника. Б. Лившиц усвоил все положительное, что было в этих принципах, и сумел преодолеть их порок; с одной стороны, он, как сказано, стремится к воспроизведению всех воспроизводимых смысловых компонентов стихотворения; с другой — не допускает никаких нарушений естественности русской поэтической речи, не сомневаясь в том, что перевод лишь тогда удачен, когда он становится художественным фактом русской литературы. Б. Лившиц видит в переводе произведение русской поэзии, но в то же время и вещь, содержащую достаточно полную информацию о литературе иноязычной. В этом смысле Б. Лившиц оказался впереди своего времени,— обогащенные опытом протекших с тех пор десятилетий, мы и сегодня видим в нем нашего современника.
Сопоставление с творчеством Г. Шенгели особенно интересно именно потому, что исходные позиции обоих поэтов кажутся близкими. И Б. Лившиц и Г. Шенгели переводили гражданскую лирику Гюго. Оба очень точны, но точны по-разному; Г. Шенгели калькирует, Лившиц преображает, и, хотя оба сохраняют максимальное число смысловых единиц оригинала, итог различен. Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение Гюго «Наполеон III» (1852) из сборника «Возмездие». В подлиннике оно начинается так:
Done с’est fait. Dut rugir de honte le canon, ' Те voila, nain immonde, accroupi sur ce nom ! Cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure 1 Toi qui n’as jamais pris la fortune qu’a 1’heure, Те voila presqu’assis sur ce hautain sommet I Sur le chapeau d’Essling tu plantes ton plumet ; Tu mets, petit Poucet, ces bottes de sept lieues ;
200
Tu prends Napoleon dans les regions bleues ; Tu fais travailler 1’oncle, et, perroquet ravi, Grimper a ton perchoir 1’aigle de Mondovi 1..
Гюго произносит бешеную инвективу по адресу ничтожного карлика, вознесшегося благодаря славе подлинного Наполеона. Каждая фраза, соответствующая одной строке александрийского стиха или двум строкам, по-новому поворачивает тему узурпации: фантастические образы-метафоры громоздятся друг на друга: пушка краснеет от стыда, когда мерзкий пигмей вскарабкивается на славное имя великого императора; слава Наполеона I — это логово, в которое забился новоявленный монарх; это высокий пик, на котором он уселся, свесив ноги; он воткнул свой султан в шляпу Эсслинга; он, этот мальчик с пальчик, напялил семимильные сапоги; он попугай, заставляющий наполеоновского орла опуститься рядом с ним на насест. Все эти диковинные метафоры синонимичны; ни действие, ни мысль тут не движутся, не развиваются — лишь нарастает негодование, сопрягающее высокое с низким. Высокое — то, что сЬязано с Наполеоном I,— воплощается в образах различных родов: горный пик, семимильные сапоги, победа под Эсслингом, орел; низкое соответствует ничтожному племяннику и метафорически воплощается в образах пигмея, хищного зверя, мальчика с пальчик, попугая. Эти образы сопоставлены по контрасту: карлик — колосс, мальчик с пальчик — великан, логово — гора, попугай — орел. Александрийский стих с его делением на равные полустишия и с его парной рифмой более любой другой стиховой формы приспособлен для выявления контрастов — передать эту структуру в переводе не слишком сложно. Вот как это делает Г. Шенгели:
Свершилось!.. От стыда и пушка б тут зарделась, Что именем таким такая мразь оделась!
Что в этой славе ты нору обрел, пигмей! Ты, спавший с девкою — с фортуною твоей, На этот горный пик сумел вползти по склонам! Ты шляпу Эсслинга снабдил своим помпоном; Ты семимильные похитил сапоги;
Вцепился ты в орла, чертившего круги,— В Наполеона, и, в восторге замирая, С ним гордо делишься насестом попугая!
Смысловая точность полная: тут есть и краснеющая от стыда пушка, и нора, и горный пик, и шляпа Эсслинга, и се
201
мимильные сапоги, и орел, и попугай. Однако цена, уплаченная за эту точность, непомерно велика — Шенгели не отступает перед натяжками, настолько очевидными, что нет даже надобности их выявлять. Все же обратим внимание на некоторые из них: синтаксические обороты в первых двух стихах («От стыда и пушка б тут зарделась, что.,.») и в третьем стихе — странно звучащее приложение («Ты, спавший с девкою — с фортуною своей»); лишние слова, мешающие единству образа: ...по склонам, ...чертившего круги, ...в восторге замирая-, разве недостаточно было бы сказать так: «Вцепился ты в орла и делишься с ним насестом»? Это было бы несколько неуклюже, но — достаточно. Точность ведет Шенгели к уродливым излишествам; они уродливы, потому что никак и ничем не мотивированы,— а в поэзии все случайное, лишенное внутреннего оправдания, всегда безобразно, антихудожественно. Добавки нужны для сохранения размера, для рифмы,— именно такие добавки и представляют собой уродливое извращение стиховой формы.
У Б. Лившица:
Свершилось! От стыда должна бы зареветь, Приветствуя тебя салютом, пушек медь! Привыкнув ко всему подкрадываться сзади, Ты уцепился, карл, теперь за имя дяди! Самовлюбленный шут,' устроив балаган, Ты в шляпу Эсслинга втыкаешь свой султан, Наполеонов сон тревожа в тьме могильной. Ты пробуешь сапог напялить семимильный И, жалкий попугай, расправивши крыла, На свой насест зовешь Ар Кольского орла!
Сохранены не все смысловые компоненты, которые есть у Гюго,— но ведь здесь они все и не необходимы. Внутренний закон монолога Гюго — нагромождение синонимических противопоставлений; не слишком существенно, сколько их будет — шесть или восемь. Лившиц ищет способ передать композиционный строй текста, не поступившись даже и в малой степени поэтической естественностью русской речи. В продолжении «Наполеона III» возникают повороты иного рода — синтаксические, риторические, которые не отменяют, а еще усиливают нагнетение контрастных синонимических рядов; Б. Лившиц, воспроизведя структуру риторических повторов и градаций, виртуозно передает нарастание гражданской ярости поэта-оратора:
202
Терсит уж родственник Ахилла Пеллиада!
Так вот к чему вела вся эта Илиада!
Так это для тебя, вставал на брата брат
И русские войска гнал пред собой Мюрат?
Так это для тебя, сквозь дым и огнь орудий, Навстречу смерти шли, не дрогнув, эти люди И, кровью напоив ненасытимый прах, Слагали головы в эпических боях?
Так это для тебя, уже теряя силы, Весь материк дрожал от поступи Аттилы И Лондон трепетал и сожжена Москва? — Все, все для твоего, о карлик, торжества...
В переводе ламартиновской элегии Лившиц держался ближе к оригиналу. Здесь он кое-что опускает. Есть у Гюго в этом монологе автобиографический элемент: «Так это для тебя мой отец и мои доблестные дяди пролили свою кровь...»— C’est pour toi que mon pere et mes oncles vaillants//On re-pandu leur sang... У Лившица этого нет. Зато есть динамика патетического монолога, воссозданная вместе с конструкцией стиха и синтаксиса Гюго; ср. в оригинале параллелизмы и повторы:
С'est pour toi qu'on a fait toute cette Iliade !
C'est pour toi qu'on livra ces combats inoui’s !
C'est pour toi que Murat, aus russes eblouis, Terrible, apparaissait, cravachant leur armee ! C'est pour toi, qu'a travers la flamme et la fumee Les grenadiers pensits s’avan^aient a pas lents !..
Г. Шенгели тоже сохранил внешнюю структуру риторического монолога, и динамика у него тоже есть. Однако важно не только само по себе стремительное движение речи, но и то, что именно движется — какие речевые массы.У Шенгели движутся безобразные слепки слов, брошенных друг к другу произволом переводчика,— они обладали бы по крайней мере достоинством неожиданности, оригинальности, если б ими правил (любой!) закон, но закона нет, есть лишь желание уподобиться оригиналу:
...Так это для тебя Ласаль погиб с Дюроком, Ваграм и Рейхенбах отяготив бедой, И Коленкур сражен в редуте под Москвой, И гвардию вконец под Ватерло скосило!
Так это для тебя ветрами убелило Нагромождения несметные костей В глуши любых лесов, среди любых полей!.. Нахал! Склепался ты, раб и слуга порока, Отродье случая, с великим сыном рока!
203
Ты свой бесстыжий лоб воткнул в его венец! Рукою шутовской ты взял тот бич, подлец, Что королям грозил, меняя ход столетий, И запрягаешь ты, наклеив номер третий, Маренго, Аустерлиц, Иену, Сен-Жан-д’Акр — Квадригу солнца — в свой ободранный фиакр!
Трудны и неестественны синтаксические обороты, неоправданна лексика. Зачем, например, перечисляются имена и географические названия? В тексте Шенгели они утратили патетичность. У Гюго они стоят в рифме, и это не внешний элемент структуры, а внутренний: Рейхенбах, Ватерлоо, Сен-Жан-д’Акр приобретают то громкое звучание «слов-сигналов», какое свойственно именам собственным — если говорить о русском романтизме — в балладах Жуковского («...И без отдыха гнал меж утесов и скал //Он коня, торопясь в Браттерстон») или в пушкинской «Полтаве» («... сдается пылкий Шлиппенбах»). У Шенгели они тоже порой оказываются в рифме, и все же кажутся случайным, хаотическим нагромождением,— у Б. Лившица «имена-сигналы» включены в романтическую систему громоподобной риторики:
Так это для тебя — по киверам, папахам Пронесся грозный смерч? Погиб под Рейхенбахом Дюрок? Сражен ядром при Ваграме Ласаль?
Так это для тебя — безмерная печаль Вставала призраком со снежных перепутий? Картечью Коленкур настигнут был в редуте И гвардия легла костьми под Ватерло?
В тот самый час, когда огромное крыло Влача по насыпям могильным и курганам, Нам обнажает ветр на каждом поле бранном Несчастных черепов зияющий оскал,— По славным поприщам ты бродишь, как шакал, И именем чужим орудуешь, пройдоха!
И вот уж щелкает в руках у скомороха Бич, всех властителей земных повергший ниц, И солнцевых коней — Маренго, Аустерлиц, Мондови, Риволи — позоря их возницу, В свою впрягаешь ты, ничтожный, колесницу!
Б. Лившиц идет вплотную за Гюго там, где это ему представляется сугубо необходимым. Он может иную строку воспроизвести слово в слово, звук в звук:
Et que la vieille garde est morte a Waterloo И гвардия легла костьми под Ватерло
204
Или:
Nous entendons claquer dans tes mains fanfaronnes Ce fouet prodigieux qui conduisait les rois.
И вот уж щелкает в руках у скомороха Бич, всех властителей земных повергший ниц.
Но в других случаях он отходит в сторону, при помощи вольного варианта достигая интонационной свободы и тем большей смысловой верности. Так, Шенгели слово в слово передал стих Гюго «Tu fourres, impudent, ton front dans ses couronnes» сочетанием: «Ты свой бесстыжий лоб воткнул в его венец», где словам front impudent в точности соответствует «бесстыжий лоб», fourres — «воткнешь», couronnes — «венец», а вместе получается уродливая нелепость. Лившиц пропустил эту строку, отчасти заменив ее неопровержимыми русскими стихами: «По славным поприщам ты бродишь, как шакал,//И именем чужим орудуешь, пройдоха!..»
По сравнению с элегией Ламартина метод перевода у Б. Лившица изменился,— это изменение продиктовано другим характером оригинала. Система Гюго: риторическое нагнетение синонимических контрастов, движение интонации при смысловой неподвижности, особое выделение эмоционально напряженных слов-сигналов: все это позволяет без ущерба для целого пропускать или заменять отдельные звенья, заменять одно имя собственное другим (L’aigle de Mondovi, «орел Мондови», у Лившица заменен Аркольским орлом, зато Сен-Жан-д’Акр — утраченным выше Мондови), перестраивать метафоры, сохраняя общую структуру текста («Нам обнажает ветр на каждом поле бранном //Несчетных черепов зияющий оскал» вместо «Le vent fait aujourd’hui, sous ses apres haleines, //Blanchir tant d’ossements, helas! dans tant de plaines!» — ср. у Шенгели вполне точно, но неестественно: «Так это для тебя ветрами убелило (?!)//Нагромождения несметные костей//В глуши любых (?) лесов, среди любых (?) полей»).
Вадим Козовой так оценивает переводы Лившица из Гюго: «Гюго — вития и созерцатель — развертывает громадные и мощные периоды, в которых и самые абстрактные речения обретают плотскую весомость. Это-то и оказалось под силу Лившицу с его собственным ораторским даром, с его пониманием напряженной фактуры и «непрерывности словесной массы». Под этим бурным напором, кажется,
205
французская силлабика врывается в русский стих и увлекает его...»1
Эта характеристика проницательна и справедлива. В связи с нею заметим, что Б. Лившиц меняет метод перевода в зависимости от подлинника. Однако главный принцип незыблем: композиционный строй текста воспроизводится с наивозможной точностью и полнотой.
По сравнению с Тютчевым Б. Лившиц стремится передать не субъективно понятый дух оригинала, а характерные черты его композиционного строя, особенности его материальной формы, в своей совокупности неизбежно рождающие этот самый дух, как высокоорганизованная материя рождает мысль. По сравнению с Г. Шенгели Б. Лившиц стремится передать не все черты поэтической формы, не арифметическую сумму этих черт, а их систему,— то есть не случайное сочетание элементов, а их функциональное взаимодействие в органическом единстве стихотворения. Гибкость метода при верности общему художественному принципу — вот что отличает Б. Лившица от Шенгели и отчасти роднит его с В. Брюсовым и М. Лозинским. Эта гибкость вызвана стремлением непременно создать произведение художественное, живое и в то же время сходное с оригиналом, а не мертво-схематическое произведение другого стиля и жанра.
3
Искусство Б. Лившица обнаруживает себя с особой полнотой в переводах из поэзии новейшей, начиная с ее родоначальника, Шарля Бодлера.
Б. Лившицу принадлежит перевод прославленного сонета «Идеал» (около 1845). Этот сонет—один из шедевров Бодлера. На нем следует остановиться.
L’IDEAL
Се ne seront jamais ces beautes de vignettes, Produits avaries, nes d’un siecle vaurien, Ces pieds a brodequins, ces doigts a castagnettes, Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien.
Je laisse a Gavarni, poete des chloroses, Son troupeau gazouillant de beautes d’hopital, Car je ne puis trouver parmi ces pales roses Une fleur qui ressemble a mon rouge ideal. ~
1 В. Козовой. Цит. ст., с. 14.
206
Ce qu’il faut a coeur profond comme un abime, C’est vous, Lady Macbeth, ame puissante au crime, Reve d’Eschyle eclos au climat des autans,
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michele Ange, Qui tors paisiblement dans une pose etrange Tes appas faconnes aux bouches des Titans.
Сонет Бодлера противопоставляет понятие о женской красоте, сложившееся в ничтожно-мещанской среде XIX века, величавым представлениям Ренессанса и античной Греции. Катрены говорят о современности, терцеты —о древности; стилистически две части стихотворения противоположны друг другу. В соответствии с законами классического сонета, каждый катрен тоже имеет собственное содержание: в первом Бодлер отрицает пристрастие к «виньеточным красоткам», во втором отвергает декадентское восхищение чахоточными девицами; в центре первого сочетание «beautes de vignettes», в центре второго — «beautes d’hopi-tal» (Г—«виньеточные красотки», II — «больничные красотки»); оба они стоят в рифме. В катренах бросаются в глаза подчеркнуто современные слова (I — vignettes, II — chlo-roses), сочетающиеся с приземленными, прозаическими, чуть ли не улично-бранными характеристиками (I — Produits avaries, nes d’un siecle vaurien, II—troupeau gazouillant). Катрены, отвергающие современность, кончаются словами: «...mon rouge ideal». По-французски можно их прочесть как «рыжий идеал», как «красный идеал», как «идеальный красный цвет» или как «красный цвет идеала». Скорее всего, правильно последнее (хотя и прочие значения здесь тоже содержатся!) — ведь контекст такой: «...я не могу найти среди этих бледных роз //Цветка, который бы походил на мой красный идеал» — здесь сталкиваются rose («роза» или «розовый») и rouge (красный), и речь идет не столько о женщинах, нравящихся господину Шарлю Бодлеру, сколько о трагическом величии эстетического идеала поэта Бодлера, противоположного обывательскому ничтожеству современников. Не блекло-неопределенный, красивенький «розовый», а яркий, интенсивный, связанный с множеством ассоциаций — и царственности, и революционности — «красный». Отсюда переход к терцетам, утверждающим красоту трагизма и величия: леди Макбет и Ночи, изваянной Микеланджело. Замечательно, что обе эти ренессансные женские фигуры сопряжены с античностью: леди Макбет — с «мечтой
207
Эсхила», Ночь — с эллинским прообразом. Переводы этого сонета свидетельствуют о возможности различных его прочтений. Например, его можно прочитать, как сравнение разных женщин,— для этого нужно «mon rouge ideal» понять, как «мой рыжий идеал» (как сказано выше, Бодлер дает повод и для такого истолкования). Но Б. Лившиц читает его иначе — он понимает сонет Бодлера в общеэстетическом смысле:
Нет, ни красотками с зализанных картинок — Столетья пошлого разлитый всюду яд! — Ни ножкой, втиснутой в шнурованный ботинок, Ни ручкой с веером меня не соблазнят.
Пускай восторженно поет свои хлорозы, Больничной красотой пленяясь, Гаварни. Противны мне его чахоточные розы, Мой красный идеал никак им не сродни!
Нет, сердцу моему, повисшему над бездной, Лишь, леди Макбет, вы близки душой железной. Вы, воплощенная Эсхилова мечта,
Да ты, о Ночь, пленить еще способна взор мой, Дочь Микеланджело, обязанная формой Титанам, лишь тобой насытившим уста!
Последний терцет неудачен и составной рифмой, и нарушением образной логики («Ночь... обязанная формой Титанам»?).
Однако в целом Б. Лившиц нашел решение для сонета Бодлера; он столкнул противоположные стили обеих половин («Противны мне его чахоточные розы» — «Нет, сердцу моему, повисшему над бездной»), дал замечательную по верности и простоте формулу, относящуюся к леди Макбет: «Вы, воплощенная Эсхилова мечта», прочитал стихотворение Бодлера как эстетическую декларацию, утверждающую высокий трагизм в противоположность пошлой бытовой прозе. Особенно хорош первый терцет — центральное место сонета:
Для сердца моего, повисшего над бездной,
Лишь, леди Макбет, вы близки душой железной, Вы, воплощенная Эсхилова мечта...
208
Поэтическая образность Бодлера передана с редкой проникновенностью; образ «сердца..., повисшего над бездной» соединяет в себе отвлеченную характеристику внутренней жизни с вещественностью материализованной метафоры, преодолевающей условность фразеологического оборота: это и есть центральный элемент Бодлеровой поэтики. Рядом с «железной душой» леди Макбет это «сердце» трагического поэта производит особенно сильное впечатление. Сонетом «Идеал» такие образы не подсказаны — они содержатся в поэтическом мире Бодлера, и надо было глубоко проникнуть в самую сущность этого мира, чтобы дать их здесь. Б. Лившиц, однако, не воспроизвел структуру бодлеровского «Идеала»; передавая поэтическую композицию, он лишь в первом терцете нашел достаточно верные слова и образы — в катренах все приблизительно, не до конца достоверно. Синтаксически неестественным кажется вводное предложение: «Столетья пошлого разлитый всюду яд», насильно втиснутое внутрь другого; невнятно сочетание «Пускай восторженно поет свои хлорозы... Гаварни» — ведь Баварии рисовальщик, и другой переводчик сонета, В. Левик, более прав, когда вслед за Бодлером именует его — «поэт хлорозных дев», который «рисует... красоток золотушных». Но первый терцет в переводе Лившица свидетельствует о том, на какие взлеты способен этот мастер.
Б. Лившиц особенно силен там, где требуется слово точное, пластичное, способствующее созданию отчетливо видимого образа,— такое слово он достает во что бы то ни стало, извлекает его из пластов архаических, литературных, бытовых или даже просторечных, а то и сам создает его по существующим моделям. Б. Лившиц раздвигает пределы русской речи, используемой для переводной поэзии, за счет редкостных исконно русских слов, которых переводчики обычно чураются, а также новообразований, примыкающих к таким архаизмам. Он может написать: «...ясени... Сгибают черных стоп узластые персты\ Лебяжьешеие глядят в ручье цветы...» — и воскликнуть: «О прозябание! О дух! О персть! О сила!» (В. Гюго, «Альбрехту Дюреру»). Или образовать сложные слова типа «пламекрылатые» (Эредиа, «Видение эмали»), «громотатец» (Гюго, «Искупление»).
Русского Леконта де Лиля создавали прекрасные поэты; большие удачи выпали на долю И. Бунина, В. Брюсова, Ин. Анненского, М. Лозинского — и все же среди них
209
выделяется Б. Лившиц, который перевел только «Ягуара», но — как перевел! Русская переводная поэзия не много знает таких поразительных живописных картин, как те, что созданы в этом переводе. Вот несколько строф из этого стихотворения:
За дальней завесью уступов, в алой пене Всю местность выкупав, отпламенел закат. В пампасах сумрачных, где протянулись тени, Проходит трепета вечернего разряд.
С болот, ощеренных высокою осокой,
С песков, из темных рощ, из щелей голых скал, Ползет, стремится вверх средь тишины глубокой Глухими вздохами насыщенный хорал.
Над тинистой рекой воспрянув из туманов, Холодная луна сквозь лиственный шатер На спины черные всплывающих кайманов Накладывает свой серебряный узор...
Здесь достоинства Б. Лившица проявились в полную силу: его слово полновесно, предельно зримо, вещественно, живописно; его метафора неожиданна и в то же время естественна; его ритм упруг, строг, многообразен и динамичен; его образная логика непогрешима. Стихотворение о ягуаре кончается строфами о том, как хищник вскочил на спину огромного быка:
По топям, по пескам, по скалам и по дюнам, Необоримых чащ пересекая тьму, Стремглав проносятся, облиты светом лунным, Бык с хищным всадником, прикованным к нему.
И миг за мигом вдаль все глубже отступая, Отходит горизонт за новую черту, И там, где ночь и смерть, еще идет глухая Борьба кровавых тел, сращенных налету.
Достоинства Б. Лившица становятся особенно очевидными при сопоставлении с переводами других поэтов. Последние две строфы в переводе И. Поступальского (1960) звучат так:
По зыбкому песку, по оползням, по дюнам, по топям, по камням, сквозь дикий бурелом они проносятся, облиты светом лунным,— зверь гибкий — на быке с разорванным плечом.
Они скрываются за далью омраченной, широкий горизонт отодвигает их;
210
и вот уж вдалеке их бой ожесточенный в губительной ночи таинственно затих.
Может быть, внешне И. Поступальский кажется точнее — вот заключительные строфы у Леконта де Лиля:
Il plongent au plus noir de Г immobile espace Et 1’horizon recule et s’elargit toujours ;
Et, d*instants en instants leur rumeur qui s’efface Dans la nuit et la mort enfonce ses bruits sourds.
И. Поступальский в самом деле точен, но эта точность опасная, иногда для переводного произведения — гибельная. Сочетание «за далью омраченной» по сути необязательное; второй стих «широкий горизонт отодвигает их», увы, бессодержателен — кого «отодвигает» горизонт? Ягуара и быка? Да и можно ли себе представить, чтобы горизонт вообще кого-нибудь «отодвигал»? Леконт де Лиль так не писал и так написать не мог: ему в высшей степени свойственна логическая структура образности; у него сказано: «Горизонт отступает и все более расширяется»,— а вслед за ним Б. Лившиц, отклоняясь от слов подлинника и вплотную подходя к его образной сущности, пишет:
И миг за мигом вдаль все глубже отступая, Отходит горизонт за новую черту...
Главное, однако, что Лившиц понял: пожертвовать в этой последней строфе можно чем угодно, кроме сочетания «dans la nuit et la mort» — в этой паре отвлеченных существительных весь Леконт де Лиль; и Лившиц с великолепной полнотой смысла и динамизмом строит конец стихотворения:
И там, где ночь и смерть, еще идет глухая Борьба кровавых тел, сращенных налету.
4
Может быть, высшее достижение Б. Лившица — поэзия Артюра Рембо, которая в зародыше таила в себе все французское словесное искусство XX века. Рембо в переводе Бенедикта Лившица — проблема особая, очень сложная, заслуживающая подробного исследования. Здесь же будут изложены лишь некоторые беглые соображения по этому поводу.
211
Б. Лившиц перевел девять стихотворений Рембо, причем создавал он эти переводы на протяжении почти трех десятилетий:
«Роман» был опубликован еще в первой книге его стихов «Флейта Марсия» (1910), последние вещи — «Офелия», «Пьяный корабль» — впервые появились в сборнике его переводов 1937 года. Рассмотрим некоторые из них.
«Роман» написан Рембо в 1870 году (стихотворение датировано точно —23 сентября). Возможно, что оно привлекло молодого Лившица своей классической архитектоникой, вступающей в противоречие с далеко не классической озорной лексикой городской богемы. В «Романе» четыре части по две строфы в каждой; все строфы одинаковы по построению —это четверостишия перекрестно рифмующих две-надцатисложников. Речь идет о семнадцатилетнем юноше, безотчетно влюбленном даже тогда, когда и нет еще предмета любви, потом обращающем свою нежность, свои романтические стйхи к первой попавшейся хорошенькой барышне и, наконец, остывающем к насмешливой и недоступной кокетке. Четыре части распределяются так: I — городской пейзаж, кафе, бульвар; II — июньская природа, предчувствие любви; III — появление девушки; IV — самый роман, чуть смешной, романтические признания юного стихотворца и насмешливый ответ красавицы; заключительное четверостишие, возвращающее читателя к городскому пейзажу, кафе и бульвару первой строфы. В последнем четверостишии повторяются реалии, слова и даже рифмы первого. Строфа 1 гласит:
On n’est pas serieux quand on a dix-sept ans. Un beau soir — loin des bocks et de la limonade, Des cafes tapageurs aus lustres eclatants ! — On va sous les tilleuls verts de la promenade.
И последняя, заключающая «Роман»:
Се soir-la, vous rentrez aus cafes ёсШаЩз, Vous demandez des bocks et de la limonade... Ou n’est pas вёпеих quand on a dix-sept ans Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.
Чтобы понять степень близости к оригиналу, достигнутой Б. Лившицем, приведем обе эти строфы в его переводе,
212
который, скажем сразу, сохраняет все без исключения значимые — первостепенные и второстепенные — элементы текста:
Нет рассудительных людей в семнадцать лет! —
Июнь. Вечерний час. В стаканах лимонады...
Шумливые кафе. Кричаще-яркий свет. Вы направляетесь под липы эспланады
В тот вечер... вас опять влекут толпа и свет...
Вы входите в кафе, спросивши лимонаду..
Нет рассудительных людей в семнадцать лет Среди шлифующих усердно эспланаду!
Нарастание юношеской влюбленности изображено Лившицем — вслед за Рембо — с редкой психологической точностью и тонкостью. Особенность романтического лиризма Рембо в том, что он пробивается сквозь пошлость городской прозы, и не только пробивается сквозь нее, но даже из нее вырастает. Поэтому вторая часть состоит из двух стилистических противоположных строф:
Voila qu’on aper^oit un tout petit chiffon
D’azur sombre encadre d’une petite branche, Pique d’une mauvaise etoile qui se fond Avec de doux frissons, petite et toute blanche.
Nuit de juin ! Dix-sept ans !.. On se laisse griser.
La seve est du champagne et vous monte a la tete.
On divague ; on se sent au levres un baiser Qui palpite, la, comme une petite bete.
В переводе Лившица:
Вот замечаете сквозь ветку над собой Обрывок голубой тряпицы, с неумело Приколотой к нему мизерною звездой, Дрожащей, маленькой и совершенно белой.
Июнь! Семнадцать лет! Сильнее крепких вин Пьянит такая ночь... Как будто бы спросонок, Вы смотрите вокруг, шатаетесь один, А поцелуй у губ трепещет как мышонок.
Отметим две особенности лившицевских переводов, получивших наглядное воплощение в «Романе»:
— воспроизведение композиционно-синтаксической структуры подлинника, даже когда она не совсем привычна для русского уха;
— появление в тексте варваризмов, говорящих читателю о чужестранности места действия и персонажей.
213
В связи с первой заметим: Рембо настойчиво, сквозь все четные части, проводит неопределенно-личную конструкцию с on, которая сообщает стихотворению как бы иронически-надсубъективный характер. Нагнетение этой нечастой конструкции становится центральным стилистическим приемом вещи; так она начинается и так кончается: On n’est pas se-rieux quand on a dix-sept ans — ив других местах: on se laisse griser..., On divague; on se sent au levres un baiser...
Б. Лившиц передает эту архитектонику стихотворения, или, точнее, функцию этого оборота столь же настойчиво повторенной конструкцией с местоимением вы*. «Вь/ направляетесь под липы... Вам хочется дремать... Вы смотрите вокруг... оглядывает вас... Вы влюблены в нее... Друзья ушли от вас... вас опять влекут толпа и свет...» Эта верность структуре оказывается верным восприятием поэтического содержания.
И второе: там, где у Рембо свои, исконно французские слова, Б. Лившиц иногда пользуется в переводе варваризмами, вносящими в текст известную чуждость. В «Романе» это: лимонад, эспланада, мизерная (звезда), каватины, сонеты и снова лимонад и эспланада. Этот прием характерен для многих переводов Лившица. Таковы слова камарилья (Гюго), эспланада, дуэнья, мантилья, ваниль (Мюссе), ата-нор, эмаль (Эредиа), хлорозы (Бодлер), эпиталамы (Верлен), дортуары (Лафорг), пике (Туле) и многие другие.
Среди приведенных иноязычных слов есть и такие, которые воспринимаются как броские варваризмы (эспланада, эпиталамы, атанор), есть и другие, давно прижившиеся в русском языке (сонеты, эмаль, лимонад), но даже и последние звучат как бы с иностранным акцентом — они привносят в текст оттенок чуждости или, может быть, экзотичности, как, например, в стихотворении Поля Валери «Дружеская роща»:
Мы шли, боясь нарушить тишину, Обручники, в ночи зеленых прерий И разделяли этот плод феерий, Безумцам дружественную луну.
Старое слово «обручники» сопрягается с двумя иностранными — так усиливается выразительность обоих,-трудносовместимых стилей. То же видим в стихотворении Лорана Тайяда:
214
В замызганном бистро, где пьют за литром литр, В перчатках шелковых обручница царит, Тоскующий бильярд избрав себе подножьем...
В такой системе даже «бильярд», даже «литр» звучат варваризмами — это вызвано их несовместимостью с архаизмом «обручница». А как выделяется иноязычное слово рядом с бытовым оборотом — в переводе из Рембо («Найди-ка в жилах темных руд...»):
Шутник, подай-ка нам скорей, Презрев кухарок пересуды, Рагу из паточных лилей, Разъевших альфенид посуды!
Особенно это любопытно в «Песенке» Поля-Жана Туле:
Помнишь, после бездорожья Краткий отдых в кабачке? В белом ты была пике — Хороша, как матерь божья.
В нарочитости тике — матерь божья» есть у Лившица система; кажущаяся на первый взгляд чрезмерным изыском, она, как всякая система, оправдана внутренней закономерностью, принципиальностью автора.
Можно сказать: иностранное звучание не приближает перевод к подлиннику, а удаляет от него — ведь у французского поэта все слова французские, а в русском стихотворении варваризмы звучат известной вычурностью. Это и так и не так. Мысль Б. Лившица в данном случае сводится к тому, что надо непременно дать почувствовать русскому читателю: стихотворение Рембо принадлежит другой литературе, французской; оно первоначально создано на другом языке, французском; оно поэтому непременно должно быть отодвинуто от читателя на некоторое расстояние —- пусть он ощутит эту чуждость, которая, однако, не должна ослаблять непосредственности художественного воздействия стихов. Когда И. Северянин нагромождал иностранные по происхождению и звучанию слова, он жеманничал, создавал атмосферу мещанского салона, где играют в аристократов:
Под стрекотанье ярких мандолин Цвета мечты, моя фата-моргана, Балькис, Мадлэн, Морэлла, Вандэлин Проплыли вдаль, как бархат струн органа.
(«Полусонет», 1909)
215
Б. Лившиц тоже пользуется стилистической выразительностью иноязычных слов, но они в его системе играют роль как бы «отстранителей», «отчужителей» переводного текста от русского читателя — при этом они сохраняют поэтическую весомость.
Вернемся к Рембо. Мы его поставили лицом к лицу с Б. Лившицем, и, как это всегда бывает, когда сопоставляешь оригинал с отличным переводом, у читателя должно сложиться ощущение, что по-другому и быть не может. Можно ли «Роман» перевести иначе — не хуже, не лучше, а даже просто иначе? Конечно, можно, но читателю Б. Лившица хочется думать, что это немыслимо. Кроме цитированных выше строф, приведем еще обе строфы части III, в которых лиризм и мальчишеский юмор воспроизведены, казалось бы, единственно возможными русскими стихами:
La coeur fou robinsonne a travers les romans, Lorsque, dans la clarte pale d’un reverbere, Passe une demoiselle aux petits airs charmants Sous Г ombre du faux—col effrayant de son pere.
Et comme elle vous trouve immensement naif, Tout en faisant trotter ses petites bottines, Elle se tourne alerte et d’un mouvement vif Sur vos levres, alors, meurent les cavatines.
Перевод звучит так:
В сороковой роман мечта уносит вас...
Вдруг — в свете фонаря,— прервав виденья ваши, Проходит девушка, закутанная в газ, Под тенью страшного воротника папаши,
И, находя, что так растерянно, как вы, Смешно бежать за ней без видимой причины, Оглядывает вас... И замерли, увы, На трепетных губах все ваши каватины.
Переводы Б. Лившица внушают чувство несомненности, даже — необходимости. Аналитику нужно отделаться от этого чувства; в противном случае не понять, что сделал Лившиц для открытия русского Рембо. Разрушить чувство несомненности можно, лишь привлекая к сопоставлению другой перевод, причем обязательно хороший. У Б. Лившица были предшественники. Обратимся к стихотворению «Искательницы вшей», которое до Б. Лившица перевели не кто-нибудь, а Ин. Анненский, В. Брюсов и И. Эренбург.
«Искательницы вшей» — произведение, рассчитанное нд 216
эпатирование почтенных читателей. Рассказ о ребенке, у которого сестры ищут вшей, может показаться смешным и даже отвратительным. Рембо, видимо, ставил перед собой цель особого эксперимента: так преобразовать самый что ни на есть комичный и мерзкий эпизод бытовой прозы, чтобы возвысить его до поэзии. И вот на наших глазах совершается это возвышение: ничего ни смешного, ни противного нет и в помине; пропущенное сквозь сознание ребенка, стихотворение насыщено его чувствами, его трепетной любовью к двум взрослым сестрам, томлением нежности и печали. Рембо не внес в свое стихотворение ни грана пародийности: его задачей была не пародия, а преображение. Он шел самым трудным путем — не минуя прямых названий, а произнося самые прозаичные слова с уверенностью мастера, твердо знающего, что, хоть он и скажет «1а mort des petits роих» (смерть вошек), это не вызовет у читателя ни усмешки, ни тошноты.
Ин. Анненский до известной степени облегчил себе задачу — он миновал прямые слова и растворил эпизод в расплывающихся неопределенностях. Даже название у него другое — не «Искательницы вшей» (Les chercheuses de poux), а «Феи расчесанных голов». Не только вши не названы, но даже волосы: их заменяет слово «лен» или «тяжелый лен». Рембо конкретен, у него ребенок слышит реальные звуки:
П ecoute chanter lews haleines craintives Qui fleurent de longs miels vegetaux et roses, Et qu’interrompt parfois un sifflement, salives Reprises sur la levre ou desir de baisers.
У Ин. Анненского ничего не осталось от этого «боязливого дыхания» сестер, порою прерываемого «каким-то свистом — то ли втянутая в губы слюна, то ли желанье поцеловать». К тому же он изменил и построение: у Рембо — пять четверостиший двенадцатисложника с перекрестными рифмами, у Анненского — двадцать строк, не членящихся на строфы и рифмующих по-разному: то смежные, то перекрестные, то опоясывающие рифмы. Вот этот перевод Анненского, относящийся к самому началу века (около 1904 года):
На лобик розовый и влажный от мучений Сзывая белый рой несознанных влечений, К ребенку нежная ведет сестру сестра, Их ногти — жемчуга с отливом серебра. И, посадив дитя пред рамою открытой,
217
Где в синем воздухе купаются цветы, Они в тяжелый лен, прохладою омытый, Впускают грозные и нежные персты. Над ним, мелодией дыханья слух балуя, Незримо розовый их губы точат мед: Когда же вздох порой себе его возьмет, Он на губах журчит желаньем поцелуя. Но черным веером ресниц их усыплен, И ароматами, и властью пальцев нежных, Послушно отдает ребенок сестрам лен, И жемчуга щитов уносят прах мятежных. Тогда истомы в нем подъемлется вино, Как мех гармонии, когда она вздыхает... И в ритме ласки их волшебной заодно Все время жажда слез, рождаясь, умирает.
Ин. Анненский только в самом конце, в заключительном четверостишии, подошел к Рембо. До этого он очень удален от него: если не считать нескольких блистательных строк (например, все второе четверостишие, особенно его последнюю строку: «Впускают грозные и нежные персты»), Анненский пользуется мерцающими, намеренно смутными словами, вступающими в символистски загадочные соединения, вроде: «Незримо розовый их губы точат мед». Вместо стиха Рембо, поражающего бесстрашной определенностью: «Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux». (Под их царственными ногтями — смерть вошек) — у Анненского читаем: «И жемчуга щитов уносят прах мятежных». Подобно тому как Тютчев передавал субъективно понятый им «дух» ламартиновской элегии, игнорируя ее художественную композицию, так и Анненский, как ему кажется, воспроизводит «дух» стихотворения Рембо, перестраивая его форму, его словесный и образный состав. Вадим Козовой справедливо замечает, что перевод Анненского, «полный кристальных намеков и недосказанностей,— прямая противоположность переводу Лившица»1. Впрочем, такой же противоположностью ему оказался и перевод Эренбурга.
Перевод молодого И. Эренбурга исполнен десятилетием позже — он опубликован в его книге «Поэты Франции. 1870—1913», изданной в Париже в 1914 году, а теперь перепечатан в сборнике переводов Эренбурга «Тень деревьев» (М., «Прогресс», 1969). Этот перевод вообще не озаглавлен — И. Эренбург почему-то оставил французское название; видимо, он не решился написать по-русски слово «вошь» — да и в тексте ни разу не произнес его:
1 В. Козовой. Цит. ст., с. 8.
218
LES CHERCHEUSES DE POUX
Когда ребенок, полный красной муки, Оплакивает сказок белый дым, Две старшие сестры, закинув руки, К кровати маленькой идут за ним.
Ведут к окну, раскрытому широко, Где листья моет вечер голубой, И с нежностью, особенно жестокой, Скользят в кудрях, обрызганных росой. Он слушает, как сестры дышат ровно, В дыхании их сокрыт цветочный мед. И иногда одна из них любовно Его тем ароматом обдает.
И в тишине трепещут их ресницы, Исходит свист из их прилежных уст. Когда ж их взор добычей насладится, Под острыми ногтями слышен хруст.
Он чувствует вино сладчайшей лени, Под ласками сестер не плачет он, Овеян негой медленных движений И словно погружаясь в тихий сон.
Перевод И. Эренбурга, как замечено выше, противоположен переводу Ин. Анненского. Если тот создал стихотворение в эстетско-символистском стиле, даже и не претендующем на большую близость оригиналу, то Эренбург хочет быть точным; при этом он все огрубляет и, по сути, неуклюже калькирует французские обороты, лишая их смысла — не только поэтического, но даже логического. Стихотворение Рембо начинается строками:
Quand le front de Г enfant, plein de rouges tourmentes, Implore 1’essaim blanc des reves indistincts...
(«Когда лоб ребенка, покрытый красными расчесами, призывает белый рой туманных видений...», причем слово plein буквально значит «полный», а слово tourmentes... омоним другого, означающего «мучения».)
И Эренбург, не вчитавшись в текст и воспроизводя слово за слово, переводит:
Когда ребенок, полный красной муки (??), Оплакивает (?) сказок белый дым (?)...
У Рембо сказано о сестрах: «Promenent leurs doigts fins, terribles et charmeurs» («Ведут свои пальцы — тонкие, страшные и обольстительные»),— Эренбург же пишет:
219
И с нежностью, особенно жестокой (?), Скользят в кудрях...
Все дальнейшее возникло рядом с оригиналом, п о поводу оригинала, но — грубо, уродливо, часто бессмысленно: «В дыханьи их сокрыт цветочный мед. //И иногда одна из них любовно // Его тем ароматом обдает», «Исходит свист из их прилежных уст. // Когда ж их взор добычей насладится (?), //Под острыми ногтями слышен хруст» и т. д.
Итак, перед нами выбор: либо совсем другое стихотворение, как у Анненского, либо нагромождение натуралистических подробностей, перемежающихся с претенциозными и часто непонятными словосочетаниями — вроде «красной муки» или «белого дыма сказок»1.
В. Брюсов создал свой перевод раньше Эренбурга; он был к тому времени зрелым поэтом и даже маститым знатоком новой французской литературы, признанным ее исследователем. Артюра Рембо он считал «первым футуристом» и говорил о его поэзии, что она — «дерзкий вызов всему современному укладу жизни, «мещанству» общества и «бесстрастности» художников... в ней много мальчишеского задора... но есть неподражаемая непосредственность, тонкая наблюдательность, изумительное мастерство слова»1 2. У Брюсова стихотворение Рембо озаглавлено:
ИЩУЩИЕ В ВОЛОСАХ
Дитя, когда ты поли мучений бледно-красных, И вкруг витает рой бесформенных теней,— К тебе склоняется чета сестер прекрасных, И руки тянутся с мерцанием ногтей.
1 Может быть, к переводу И. Эренбурга, исполненному совсем еще неумелым двадцатилетним поэтом, не нужно относиться слишком серьезно. Наши претензии относятся не к автору, а к издательству «Прогресс», которое зачем-то в 1969 году перепечатало и этот, и многие другие переводы, которых сам И. Эренбург при жизни и не вспоминал, считая детскими упражнениями. Что может быть опаснее и вреднее для памяти крупного писателя, чем печатание после его смерти им самим отвергнутых, незрелых или неудачных, ученических вещей, извлеченных из заслуженного забытья? Поскольку они оказались фактом современной литературной жизни, приходится их волей-неволей разбирать всерьез,— жестоко и даже обидно для памяти И. Эренбурга, ставшего впоследствии очень интересным переводчиком французской и латиноамериканской поэзии.
2 Валерий Брюсов. Полное собрание сочинений и переводов, т. XXI. Французская лирика XIX века. СПБ., «Сирин», 1913, с. 262.
220
Они ведут тебя к окну, где голубые Теченья воздуха купают купы роз. И пальцы тонкие, прелестные и злые, Скользят с поспешностью в кудрях твоих волос.
Ты слышишь, как поет их робкое дыханье, Лаская запахом и меда и весны;
В него врывается порою свист: желанье Лобзания иль звук проглоченной слюны?
Ты слышишь, как стучат их черные ресницы, Благоуханные; по звуку узнаешь, Когда в неясной мгле всей этой небылицы Под ногтем царственным вдруг громко хрустнет вошь.
И вот встает в тебе вино беспечной лени, Как стон гармоники; тебе легко дремать Под лаской двух сестер; а в сердце, в быстрой смене, То гаснет, то горит желание рыдать.
Тенденция Брюсова иная, чем Анненского: он стремится не перепеть, а перевести. Он сохранил строфику, образную систему, все элементы композиции, даже такие, как броские переносы в строфах 3 и 4 («желанье/Лобзания...», «ресницы/ Благоуханные...»). Однако главное, преображение прозаического быта в поэзию, ему не удалось,— слишком много в его стихотворении натяжек, невнятностей, немотивированных нарушений языковых и стиховых норм. Прежде всего, неудачен переход ко второму лицу — оно вносит в стихотворение ненужную риторическую условность. Неудачен, невнятен первый стих: «Дитя, когда ты полн мучений бледно-красных...»; ведь слово «дитя» среднего рода, почему же — «полн»? Да и что значит «полн мучений», да еще к тому же «бледно-красных»? Неприятен лишний эпитет «прекрасных», вынесенный в рифму. Немотивированно соединение почти научно-метеорологического термина «теченья воздуха» с прилагательным «голубые», лишний и назойливый звуковой повтор «купают купы», определение пальцев — «тонкие, прелестные и злые». Банальный стих «Лаская запахом и меда и весны» сменяется грубо-прозаическими строками: «В него (в дыханье?) врывается порою свист: желанье // Лобзания иль звук проглоченной слюны». Неестественно сказано о том, как «стучат (?) их черные ресницы, //Благоуханные...», а стилю всего стихотворения противоречит неудачно придуманная строка: «Когда в неясной
221
мгле всей этой небылицы...» Почему, собственно, «небылицы»? Слово это возникло только для рифмы с «ресницами».
Может быть, эти стихи и вообще нельзя перевести?
Перевод Б. Лившица свидетельствует о том, что можно. Приводим его.
ИСКАТЕЛЬНИЦЫ ВШЕЙ
Когда на детский лоб, расчесанный до крови, Нисходит облаком прозрачный рой теней, Ребенок видит въявь склоненных наготове Двух ласковых сестер с руками нежных фей.
Вот, усадив его вблизи оконной рамы, Где в синем воздухе купаются цветы, Они бестрепетно в его колтун упрямый Вонзают дивные и страшные персты.
Он слышит, как поет тягуче и невнятно Дыханья робкого невыразимый мед, Как с легким присвистом вбирается обратно — Слюна иль поцелуй? — в полуоткрытый рот...
Пьянея, слышит он в безмолвии стоустом Биенье их ресниц и тонких пальцев дрожь, Едва испустит дух с чуть уловимым хрустом Под ногтем царственным раздавленная вошь...
В нем пробуждается вино чудесной лени, Как вздох гармоники, как бреда благодать, И в сердце, млеющем от сладких вожделений, То гаснет, то горит желанье зарыдать.
Как всегда у Б. Лившица, близость к подлиннику — поразительная, почти неправдоподобная. Каждый смысловой компонент находит себе русское соответствие — даже тогда, когда найти его представлялось безнадежным, когда невозможен даже прозаический подстрочник. Такова, например, строфа 3, где обретены единственные по точности слова о том, «как с легким присвистом вбирается обратно — //Слюна иль поцелуй? — в полуоткрытый рот», соответствующие французским: «Et qu’interrompt parfois un sif-flement, salives //Reprises sur la levre ou desir de baisers». Б. Лившиц, как и Рембо, бесстрашен — он произносит
222
прямые слова, не пугаясь их прозаической тяжести: лоб, расчесанный до крови', колтун; слюна; раздавленная вошь. Каждое вступает во взаимодействие с окружающим контекстом, не только не создавая кричащего диссонанса, но даже образуя с ним художественное единство и становясь элементом поэтической целостности, подчиненной общему закону. Так, у Рембо в одной строфе — строгим, гармоническим ритмом, слитной интонацией, разговорностью, преобразованной мелодическим напевом, вместе с непривычными, изысканнопоэтическими неологизмами — образуется напряженное единство:
Il entend leurs cils noirs battant sous les silences Parfumes ; et leurs doigts electriques et doux Font crepiter parmi ses grises indolences
Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.
Необыкновенны эти странные словосочетания: «Он слышит, как их черные ресницы бьются в благоуханной тишине» (причем «тишина» — во множественном числе!) или «их насыщенные электричеством и нежные пальцы» (а точнее — просто «электрические пальцы»). Б. Лившиц не пропускает трудности, не обходит — и все же преодолевает их не в лоб; он совсем другими словами передает эмоционально-образное содержание этих строк:
Пьянея, слышит он в безмолвии стоустом Биенье их ресниц и тонких пальцев дрожь...
«В безмолвии стоустом» — подобие оборота «les silences parfumes» (во множественном числе), а «тонких пальцев дрожь» — сочетания «leurs doigts electriques et doux». Даже здесь, где пропущены некоторые образные элементы (par-fumes, electriques), Б. Лившиц безупречно точен: им воссоздан поэтический строй Рембо, структура его мысли и образа.
Таков Рембо Бенедикта Лившица на фоне знаменитых предшественников — И. Анненского, И. Эренбурга и В. Брюсова. Посмотрим теперь, как выглядит его Рембо на фоне творчества современного мастера, тоже признанного знатока и переводчика французской поэзии, Павла Антокольского, который перевел ряд центральных произведений Рембо — «Пьяный корабль», «Бал повешенных», «Спящий в ложбине», «Головокружение» — ив статье о Рембо спра
223
ведливо написал: «Поэт-переводчик обязан быть истолкователем избранного им поэта и неизбежно становится таким истолкователем. Каждый актер играет своего Гамлета. Каждый поэт переводит своего Шекспира»1. Да, и своего Рембо. Каков же Рембо, переведенный Антокольским и Лившицем? Из нескольких возможных примеров возьмем самый короткий — сонет «Зло» (Le Mai, 1870). В оригинале:
LE MAL
Tandis que les crachats rouges de la mitraille Sifflent tout le jour par I’infini du ciel bleu, Qu’ecarlates ou verts, pres du Roi qui les raille, Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu’une folie epouvantable broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant, — Pauvres morts dans I’etd, dans I’herbe, dans la joie, Nature, 6 toi qui fis ces hommes saintement !
Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassees Des autels, a I’encens, aux grands calices d’or ; Qui dans le bercement des hosannas s’endort
Et se rdveille quand des meres, ramassees
Dans 1’angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir,, Lui donnent un gros sou Иё dans leur mouchoir !
Этот не слишком сложный сонет состоит из двух частей: катрены посвящены бесчеловечной бойне, терцеты — богу, равнодушно взирающему на этот ужас; в первом из терцетов бог смеется над церковью и засыпает под ритуальные песнопенья; во втором он пробуждается от слез матерей, он тронут их скромным подношением. Сонет движется от тошнотворной метафоры начального стиха (les crachats rouges de la mitraille — красные плевки картечи), передающей кровавый хаос противоестественного убийства,— к наивно-прямой фразе, завершающей стихотворение (un gros sou lie dans leur mouchoir — медный грош, завязанный в их платке); от антиэстетической метафоры к прямому называнию — такой путь сонета образно выражает движение авторской мысли: от противоестественности войны к простому, человеческому и тем более трагическому чувству матери. Катрены о войне насыщены метафорами, терцеты о боге устремлены к простому слову.
1 Артюр Рембо. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1960, с. 26.
224
Перевод П. Антокольского:
Меж тем, как рыжая харкотина орудий Вновь низвергается с бездонной вышины, И роты и полки в зелено-красной груде Пред наглым королем вповалку сожжены,
И сумасшествие, увеча и ломая, Толчет без устали сто тысяч душ людских,— О бедные, для них нет ни зари, ни мая, О, как заботливо выращивали их,—
Есть бог, хохочущий над службой исполинской Хоругвей, алтарей, кадильниц и кропил, Его и хор осанн давно уж усыпил.
И вот разбужен бог тревогой материнской. Она издалека пришла к нему в тоске И медный грош кладет, завязанный в платке.
В этом переводе клокочет темперамент, свойственный Антокольскому в оригинальном и переводном творчестве; некоторые элементы сонета ярко образны, художественно убедительны. Присмотримся, однако, к просчетам переводчика:
— Нарушена композиционная структура, имеющая содержательное значение. У Рембо катрены связаны анафорой: Tandis que les crachats... Tandis qu'une folie... В переводе анафора утрачена. Впрочем, это упущение малозначительно;
— Нарушена логика Рембо, которую мы выразили выше формулой: от метафоры к простому слову. Заключительный терцет содержит двусмысленное местоимение «она», которое заставляет нас понимать фразу странно: «И вот разбужен бог тревогой материнской. Она издалека пришла к нему в тоске...» Она — то есть материнская тревога; значит, и последний стих относится к этой аллегории: «И медный грош кладет...» К богу приходит не мать, а Тревога,— персонифицированная Тревога «грош кладет, завязанный в платке». Это уж гораздо серьезнее: вместо движения от метафоры к простому слову, которое означает путь от фальшивой батальной романтики к жизненной правде, перед нами путь от метафоры к аллегории. И это не просто ошибка, а, как сказано, нарушение образной структуры стихотво-
8 Мастерство перевода
225
рения, или, может быть, замена одной структуры другой. Заметим, кстати, что подобное развенчание ложной романтики встречается у Рембо не раз. Например, сонет «Спящий в долине» (Le dormeur du val) начинается с метафорической картины природы, окружающей «спящего» солдата:
C’est un trou de verdure ou chante une riviere Accrochant follement aux herbes des hailions D’argent, ou le soleil, de la montagne fiere, Luit; c’est un petit val qui mousse de rayons.
(Это яма зелени, где поет река, прихотливо вешая на травы серебряные лохмотья, где солнце сияет с гордой горы; Это маленькая долина, в которой пенятся лучи...)
А кончается это нагромождение метафор, растянутое на 13V4 стихов, неожиданным антиметафорическим поворотом:
...Il a deux trous rouges au cote droit (у него две красных дыры в правом боку).
Этими прямыми словами высказана правда жизни, противостоящая романтически-метафорическому обману; противопоставление подчеркнуто еще тем, что сонет начинается и кончается тем же словом trou (дыра): C’est un trou de verdure... Il a deux trous rouges...
Как раз П. Антокольский хорошо передал это образное движение. Его «Спящий в ложбине» начинается строфой:
Беспечно плещется речушка, и цепляет Прибрежную траву, и рваным серебром Трепещет, а над ней полдневный зной пылает, И блеском пенится ложбина за бугром.
А кончается так:
Две красные дыры меж ребер на груди.
Это несравненно лучше и достовернее, чем предшествующий Антокольскому перевод (1930) одного из талантливых переводчиков Рембо Д. Бродского, у которого первая строфа гласила:
Вот в зелени уют, где, музыкой чаруя Бравурной, по весне — в лохмотьях серебра Ручей проносится, и в пенистые струи Бьет солнца горного спектральная игра.
226
А конец был такой:
Он холоден, ноздря не чует аромата: В разрушенном боку гроздь розовых червей х.
Значит, там, в сонете «Спящий...», Антокольский понял структуру и воссоздал ее. В стихотворении «Зло» он сделал нечто подобное тому, что до него допустил Д. Бродский в «Спящем». Но вернемся к «Злу».
— Нарушена строгая образная логика Рембо внутри каждой из строф — введением случайных сочетаний или просто неудачными, неточными словами и непонятными переходами. Почему «и роты и полки»? Ведь полк — это несколько рот. Можно сказать «и пехота, и артиллерия», потому что это качественно разные понятия, но нельзя — «и полки, и дивизии». Что значит «роты и полки в зеленокрасной груде... сожжены»? Если «сожжены», то уже цвет мундиров едва ли различим. Неудачен, случаен эпитет «пред наглым королем» — в контексте сонета «король» отнюдь не нагл. Не подсказано подлинником до неправильности резко индивидуальное сочетание «вповалку сожжены», как не подсказано и чисто «антокольское» начало второго катрена: «И сумасшествие, увеча и ломая,// Толчет без устали сто тысяч душ людских...» Кажется, что тут речь идет именно о «душах» — что война сводит людей с ума, нравственно их «увечит и ломает». У Рембо другое: «Меж тем как ужасающее безумие перемалывает сотни тысяч людей и превращает их в дымящуюся груду...» — проще, точнее и даже страшнее. Далее: глагол «хохочущий», отнесенный к богу, грубо неверен: у Рембо он насмехается, может быть, глумится, но уж никак не хохочет (...un Dieu, qui rit aux nappes damassees). Наконец, почему «тревога материнская» пришла к богу «издалека»? Все это — перестройки такого масштаба, что они лишают сонет Рембо его художественного своеобразия и превращают перевод в другое стихотворение, которое здесь оценивать не место, потому что у нас идет речь о переводе Рембо, а не о подражаниях ему. У Б. Лившица —именно перевод:
1 «Революционная поэзия Запада XIX века». М., изд-во «Огонек», 1930, с. 26.
8* 227
Меж тем как красная харкотина картечи Со свистом бороздит лазурный небосвод И, слову короля послушны, по-овечьи Бросаются полки в огонь, за взводом взвод;
Меж тем как жернова чудовищные бойни Спешат перемолоть тела людей в навоз (Природа, можно ли взирать еще спокойней, Чем ты, на мертвецов, гниющих между роз?) —
Есть бог, глумящийся над блеском напрестольных Пелен и ладаном кадильниц. Он уснул, Осанн торжественных внимая смутный гул,
Но вспрянет вновь, когда одна из богомольных Скорбящих матерей, припав к нему в тоске, Достанет медный грош, завязанный в платке.
Перед нами снова та же, характерная для Б. Лившица, точность в воссоздании художественной структуры; та же свойственная ему близость в передаче важнейших смысловых компонентов текста; та же обязательность интонации и эмоционально-логического развития. В решающих местах он точен предельно, как, например, в начале:
Tandix que les crachats rouges de la mitraille Sifflent tout le jour par I’infini du ciel bleu...
П. Антокольский выбрал слово I’infini (бесконечность) и на нем построил второй стих, добавив ненужное, нарушающее стройность мысли и весьма значимое наречие «вновь»: «Вновь низвергается с бездонной вышины». Б. Лившиц передал эти два стиха с точностью абсолютной, отбросив, однако, именно I’infini, как слово не обязательное по сравнению с другим:
Меж тем как красная харкотина картечи Со свистом бороздит лазурный небосвод...
Главное в этих начальных строках — противопоставление уродства войны и вечной красоты природы: «красная харкотина» и «лазурный небосвод». Цветовые эпитеты необходимы; утратив второй (bleu), Антокольский ослабил смысл первого. Утратив слово ciel, Антокольский лишил
228
первое, «харкотина», антитезы,— «вышина», даже «бездонная вышина» этой функции исполнить не может. УБ. Лив-, шица эпитет «красная» противостоит эпитету «лазурный», а «харкотина» — возвышенно-поэтическому «небосвод». Это и есть структура поэтической мысли. Это и есть поэтическая композиция.
И так — на протяжении всего сонета. В начальных строках второго катрена Антокольский выбирает слово folie (безумие) и создает целую аллегорическую картину: «...сумасшествие, увеча и ломая,// Толчет без устали сто тысяч душ людских». Б. Лившиц опускает именно folie, да еще числительное — «сотни тысяч»; оба они второстепенны; образным центром для него оказывается глагол «broie» (перемалывает) и сочетание un tas fumant (дымящаяся груда); кроме того, он еще учитывает звуковую связь между fumant (дымящаяся) и fumier (навоз) — и тогда возникает метафорический образ, как нельзя более близкий к образу Рембо:
Меж тем как жернова чудовищные бойни Спешат перемолоть тела людей в навоз...
Именно «тела», а не «души». К тому же эпитет «чудовищные» полновесно передает эпитет Рембо — une folie epou-vantable. Отметим в заключение нашего сравнительного разбора, что Б. Лившиц передает, а П. Антокольский изменяет (если не сказать нарушает) внутреннюю логику сюжета. У Антокольского первый терцет кончается словами, относящимися к богу: «Его и хор осанн давно уж усыпил» («усыпил» — плохое слово, но сейчас важнее другое); далее, после точки, следует: «И вот разбужен бог...» Почему «и вот»? У Б. Лившица бог «...уснул, // Осанн торжественных внимая смутный гул», а далее, после запятой, неукоснительно логично фраза продолжается:
Но вспрянет вновь, когда...
* * *
Мы рассмотрели несколько переводов Б. Лившица в сравнении с рядом других крупных поэтов и мастеров переводческого искусства: Тютчева, Брюсова, Антокольского, Шенгели, Ин. Анненского, Эренбурга.
229
Б. Лившиц неизменно оказывается сильнее именно как переводчик: он находит решение там,где оно представляется невозможным; он сохраняет максимальную близость к оригиналу там, где кажется, что надо отойти на далекое расстояние; он сохраняет структуру произведения в целом и каждого элемента в отдельности там, где все говорит о необходимости коренной перестройки. Пример Б. Лившица важен для его творческих наследников; он говорит о плодотворности метода, который основан на глубоком понимании оригинала и совершенном его прочтении, на осознании смыслового веса каждого из элементов поэтической формы и умении воссоздать иерархию этих элементов в системе композиционного единства произведения.
КОНЦЕПЦИЯ
ПЕРЕВОДЧИКА
Н. Сурен ян
(Ереван)
МОИ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Однажды, лет пять тому назад, в Ереване, когда я беседовал с Мартиросом Сарьяном, я начал говорить об одной его картине. Он внимательно выслушал меня, потом сказал:
— Каждый по-своему смотрит на картину. Все, что ты говорил,— правда, потому что ты себя видел в этой картине. Если в произведении искусства человек не видит себя, то это произведение не имеет никакой ценности для него.
Десять лет назад, в Москве, я встретился с известным американским писателем Уильямом Сарояном. Хотя он пишет по-английски, но он чистокровный армянин, и мы говорили на западноармянском, так как я тоже западный армянин по происхождению.
— Я перевел твой рассказ «Горемычный араб»,— сказал я ему.
— А чувствовал ты себя так, будто сам пишешь этот рассказ?
— Конечно, так и чувствовал.
— Значит, я верю, что ты хорошо перевел.
А теперь, после двух этих эпизодов, я расскажу одну историю, может быть и немного странную. Во всяком случае, мне самому она кажется довольно странной, кажется потому, что она кончилась несколько дней назад, ну так прямо-таки кончилась, завершилась, а ведь это моя история, и она началась давно, очень давно...
Четверть века назад, но нет, точнее — двадцать восемь лет назад, на острове Кипр, я впервые прочел роман Достоевского «Братья Карамазовы». Прочел на английском языке; русского тогда не знал. Мне было семнадцать лет, я жил
233
и учился в армянском колледже-интернате, куда посылали на учебу способных мальчиков и девочек из разных колоний беженцев-армян, после первой мировой войны обосновавшихся в странах восточного Средиземноморья; я сам был из Афин, где родился и прожил свои детские годы. Только в колледже приобщился я к захватывающему миру настоящих книг; не довольствуясь только армянскими книгами, я поспешил научиться и английскому, и французскому.
Первое мое знакомство с Достоевским состоялось на армянском языке: в библиотеке колледжа был томик, изданный в 1934 году в Ереване, включающий перевод четырех малых произведений Достоевского — «Бедные люди», «Белые ночи», «Скверный анекдот», «Игрок». Особенно «Бедные люди» потрясли меня; не менее потрясла и сама биография писателя, о которой я узнал из предисловия к этому же томику. Но никаких других его книг не было на армянском, по крайней мере у нас, в колледже. Копаясь в библиотеке, я нашел два больших романа на французском языке: «Преступление и наказание» и «Идиот». Помню, с каким чувством я вынес их из библиотеки: казалось, я нашел клад. К моему счастью, был и очерк Ст. Цвейга о Достоевском, тоже на французском языке.
Но «Братьев Карамазовых» я никак не мог найти. А меня почему-то очень привлекало даже заглавие этого романа. Вдохновенные высказывания Ст. Цвейга о Карамазовых еще больше возбуждали мое любопытство. Что делать? Однажды я стал жаловаться нашему учителю армянской словесности: почему романы Достоевского не переведены на наш родной язык? И он, кстати тогда уже известный заграничный армянский поэт Ваге Вагян, ныне здравствующий и учительствующий в Бейруте, выслушал меня сочувственно и на следующий день сделал мне огромный сюрприз: принес из своей личной библиотеки «Братьев Карамазовых» на английском языке. Я схватил этот толстый том в черном переплете и побежал в цветущую рощу акаций, укрывался там весь день, забыв и об уроках, и об обеде, и только сумерки заставили меня опомниться...
Есть книги, которые играют решающую роль в жизни человека. Вот такой книгой для меня стал великий роман Достоевского, одно из величайших творений мировой литературы. За несколько дней жизнь совершенно изменилась для меня: бездонные глубины бытия и человеческой души
234
стали раскрываться перед моим внутренним взором. Я то взлетал на светлейшие вершины радости, которой Митя Карамазов пел свой гимн из темницы, то падал в черные бездны страдания, внимая колоссальному бунту Ивана Карама-
зова. Что это было для юной души — счастье или пытка? Трудно сказать!
Эйнштейн говорил Ромену Роллану, что ни один роман так не взволновал его, как «Братья Карамазовы», и что он этот роман читал со «светлым и ликующим» чувством. С другой стороны, есть распространенное мнение, что Достоевский — мрачный, жестокий писатель. Одни читатели обожествляют его, другие говорят, что его боятся. Для одних — он святой, для других — демонический гений. И не только в этом парадокс: в начале нашего века были критики, которые почти отвергали его искусство, а потом крупнейшие писатели мира так или иначе сознались, что Достоевский повлиял на них, а Томас Манн даже построил одну из центральных глав своего романа «Доктор Фаустус» по образцу диалога Ивана Карамазова с чертом. Молодой Хемингуэй, читая романы Достоевского, удивлялся, как это можно так плохо писать, но так сильно потрясать читателя. А литературоведы доказывают, что Достоевский «плохо» не писал, а создал соответствующий своим художественным задачам стиль.
Не только творчество Достоевского, но и его личность всегда была объектом особого интереса; история его жизни, полной страданий, вызывает симпатию и смятение, почтение и странное чувство виновности. Писать — это для Достоевского было не только делом литературным, но и, главным образом, велением совести гениального страдальца; поэтому его романы иногда кажутся не просто литературными произведениями, а непосредственными записями глубоких переживаний и раздумий, продиктованными его страждущей совестью. Сострадание побуждало его раскрывать хирургическим скальпелем глубокие складки человеческой души, не для того, чтобы осудить человека, а чтобы найти смысл его существования, прославить солнце из глубин бездны. Его искусство целиком служило властным велениям совести, поэтому оно не было ни плохим, ни хорошим, а великим искусством. И это великое искусство возбуждает совесть читателя, то есть потрясает его. А встревоженная совесть, как известно, или откровенно идет навстречу тому, кто говорит правду, или же боится его.
235
Одним словом, Достоевский берет человека за больное место. Представьте: семнадцатилетний армянский юноша, который родился на чужбине от родителей-беженцев и который с детства пропитан сознанием трагической судьбы своего народа, в годы второй мировой войны живет в интернате на острове Кипр, совершенно оторванный от своих родителей, живущих в оккупированной гитлеровскими войсками Греции. И он читает «Братьев Карамазовых» в переломном возрасте, в таких условиях!
Представьте еще такую картину: двое воспитанников интерната, и оба из Греции, только что прослушали пластинку Пятой симфонии Чайковского, и лунной ночью сидят на скале, под ароматными средиземноморскими соснами, перед ними амфитеатром спускаются к морю лесистые склоны гор, вокруг первозданная тишина, а где-то далеко-далеко миллионы людей страдают и умирают в ужасах войны,— и эти юноши философствуют о жизни, о мире, о звездных пространствах над головой. Один из них страстно рассказывает другому о бунте Ивана Карамазова против этого негармонично созданного богом мира; рассказывает о том, как Алеша тихой ночью, когда «тайна земная соприкасалась со звездною», повергся на землю, обнимал и «целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков»; рассказывает — и потом вдруг восклицает в порыве воодушевления:
— Вот клянусь тебе, я переведу этот роман!
И действительно, я уже серьезно думал переводить. Даже искал французский, греческий или турецкий перевод романа, чтобы сравнить с английским и видеть, как другие делают перевод. Не нашел. И наконец начал переводить прямо с английского. Но едва перевел одну страницу, как тут же, к счастью своему, я догадался, что это пока не мое дело: мне семнадцать лет, у меня нет ни жизненного, ни литературного опыта, я не знаю русского языка — языка подлинника; одним словом, я не имею права взяться за такое дело.
Через год после того, как кончилась война, а я окончил колледж и вернулся в Грецию к родителям, началась массовая репатриация армян. Мне был двадцать один год. Отказавшись от предложения учиться в Брюссельском университете на средства армянского благотворительного фонда, я вместе с родителями приехал в Советскую Армению.
236
Хотя в Афинах я достал и «Братьев Карамазовых», й другие романы Достоевского на английском и на французском языках, но мне нужно было знать русский язык. Я уже на Кипре начал немного изучать его. Но как его можно было по-настоящему изучить на острове Кипр? Забавно, но и трогательно вспоминать теперь, как я в Ереване, вскоре после репатриации, достал «Преступление и наказание» на русском языке и беспомощно смотрел на страницы книги, ничего не понимая! Через некоторое время я серьезно взялся за изучение русского языка, сперва по самоучителю Нины Потаповой, через французский язык, а потом совсем самостоятельно, отложив в сторону самоучитель и изобретя собственный метод, который я считаю самым экономным, особенно если знаешь несколько других языков.
Вы спросите, наверно, что это за метод? Он очень прост. Усвоив самые основные грамматические правила, я прямо взял рассказ Чехова (выбор был случайным) и стал «читать» его с помощью словаря, распутывая каждую фразу, каждое предложение. Таким образом я выяснял для себя одновременно и значение слов в их грамматическом и семантическом контексте, и синтаксические особенности русского языка, и своеобразные сочетания слов, составляющих идиоматические выражения. Такое комплексное усвоение, по-моему, очень способствует твердому запоминанию; больше того, язык как бы входит в плоть и кровь изучающего, так как дело тут облегчается приятным сознанием, что читаешь «настоящий» текст, а не учебный, который всегда тяготит взрослого человека. Древнеармянский язык, по синтаксису близкий к русскому, помогал мне легче схватывать построение русских предложений, а благодаря знанию греческого, французского и английского я иногда догадывался о значении слов, не прибегая к помощи словаря (я уже не говорю о том, что просто языковое чутье подсказывало мне значение слов производных и сложных, составные части которых были уже мне знакомы). Изучив таким образом за две недели весь рассказ Чехова, я начал «прорабатывать» роман Тургенева «Дворянское гнездо».
И наконец настал момент, когда я уже мог читать на русском и понимать без словаря. Но это еще был первый этап. Настоящее удовлетворение пришло тогда, когда я вдруг почувствовал, что получаю эстетическое наслаждение от языка художественных текстов, чувствую аромат слога,
237
различаю стиль каждого автора. Передо мной раскрылся поистине богатейший мир русской литературы в своих грандиозных очертаниях и нежнейших оттенках. И только тогда я начал по-настоящему видеть необъятные просторы русского романа.
В 1956 году мне представилась возможность читать все романы и повести Достоевского на русском: издавался десятитомник его художественных произведений. С каждым томом я все больше и больше привыкал к своеобразному языку и стилю Достоевского в подлиннике. И вот наконец девятый том: «Братья Карамазовы»!
Прошло уже четырнадцать лет после первого чтения на английском, многое изменилось в моей жизни, и больше того — я годами не брал в руки этот роман, хотя его герои всегда сопутствовали моей внутренней жизни, вызывая во мне то горестное, то «светлое и ликующее» чувство. Откровенно говоря, я даже забыл о моей наивной юношеской клятве; многоликая жизнь с разных сторон «лепит» человека, и одно частное стремление никогда не может быть всеохватывающим. А вот теперь, через четырнадцать лет, я снова читаю этот роман, читаю на русском и — все, все понимаю! Ну и, значит, можно уже переводить? Да нет же, я еще не готов! Кроме языка, нужно еще разбираться во многих других вопросах, иногда весьма трудных, а то и загадочных. Как ни странно, временами кажется, что я читаю несколько другого автора, это не совсем тот Достоевский, которого я знаю и полюбил по переводам. Языковая фактура как будто иная, слышатся и какие-то другие, не знакомые пока интонации. Сравниваю с английским переводом: оказывается, в своем великолепном переводе Констанс Гарнет все-таки немного «отшлифовала» Достоевского, то и дело опуская «лишние» слова или выражения. Сравниваю французский перевод «Подростка» с подлинником — тут совсем уж безобразие, что-то вроде адаптации.
Нет, я так не могу. Я должен воссоздать «Братьев Карамазовых» на армянском, никак не жертвуя законами армянского языка, но и сохраняя все оттенки стиля и своеобразного синтаксиса Достоевского, все его интонации. Заранее чувствую: веками накопленные богатства армянского языка в полной мере дадут мне возможность решить эту неимоверно трудную задачу. Но пока что необходимо что-то другое сделать, дабы по-настоящему разбираться в этих оттенках и
238
интонациях. А что именно? Ясно! Надо пожить среди русских и там, на родине Достоевского, досконально изучить его жизнь и творчество.
Я, как прозаик, был уже членом Союза писателей, и вдруг мне предложили поступить на Высшие литературные курсы в Москве. И я поступил на эти курсы, чтобы жить в Москве, быть среди русских и чтобы, насколько это возможно, проникнуться духом русских людей, видеть их быт и нравы, видеть характерные черты русского человека, слышать тонкости русского языка, изучить его, так сказать, не только глазами, но и ушами. Внимательно слушал разговорную речь везде — в общежитии, на улицах, в учреждениях; на месяц снял комнату в деревянном доме с огородом на окраине Москвы, чтобы наблюдать быт русской семьи, в которой был и древний бородатый дед, и набожная бабушка, и представители среднего и молодого поколений; ездил в Старую Руссу — город, который, по свидетельству Анны Григорьевны Достоевской, изображен в «Братьях Карамазовых»; ездил в Ленинград и не только осмотрел музеи, но и целыми днями гулял по тем улицам и переулкам, где ходили герои других романов Достоевского, медленно поднимался и спускался по лестницам «доходных домов»; ездил в Загорск и другие монастыри, чтобы воочию увидеть все то, что описывается в «Братьях Карамазовых». Все это мне нужно было как воздух, дабы лучше понять Достоевского, свободно дышать в его мире, который я хотел воссоздать на армянском языке.
Кстати, не могу не рассказать об одном переживании в Ленинграде, которое на первый взгляд покажется чуточку сентиментальным и романтическим, но которое, я сознаю теперь, очень мне пригодилось впоследствии, во время перевода, помогая мне подсознательно ощущать как бы живое присутствие самого Достоевского. В Ленинграде я старался почувствовать дух старого Петербурга, но это мне долго не удавалось. Понятно^ мешал наш двадцатый век со своим другим ритмом, и здания молчали среди непрестанного движения автомашин, троллейбусов, трамваев и потоков современно одетых людей. И вот однажды я решил погулять по городу ночью. Стояла почти белая ночь. Постепенно улицы опустели, и воцарилась добрая древняя тишина. Я хожу по улицам и слышу мерный стук моих собственных шагов. На фоне чуть светлеющего неба резко очерчены черные массивы
239
старых зданий. Я хожу и хожу, и мною овладевает какая-то мечтательность, какое-то упоительное умиротворение, смешанное с неясным, чуть-чуть тревожным предчувствием. Почему-то вспоминаю детские годы в Афинах, вдруг очень живо представляю ту далекую волшебную лунную ночь, когда я поднялся на Акрополь вместе с отцом, и удивленно улыбаюсь от той мысли, что я сейчас, вот этой белой ночью, о которой я когда-то читал как о чем-то фантастическом, гуляю здесь, в Ленинграде,— так далеко от Афин, от Кипра, от Еревана, но совсем не чувствуя себя чужим, как будто все знакомо здесь, давно знакомо. И вдруг я услышал сзади далекий топот лошадиных копыт. Я остановился. Топот стал более ясным, звонким, появилась длинная повозка с мерно качающимся на сиденье кучером и медленно проехала мимо. Какой-то знакомый трепет я почувствовал в душе. Мне чудилось, что вот-вот из-за угла появится Раскольников! И что же? Поверьте мне, пожалуйста, бывают же в жизни такие чудеса! Вдруг я вижу прямо перед моими глазами, на стене трехэтажного (или четырехэтажного?) дома, табличку: «В этом доме Ф. М. Достоевский написал роман «Братья Карамазовы»... Не знаю, сколько минут я там простоял ошеломленный, не сводя глаз с этой надписи. Нет, это не был сон! Это была судьба, преследующая меня! Она мне говорила:
— Ты должен перевести «Братьев Карамазовых», никуда от этого не уйдешь. Знаю, у тебя есть сомнения в глубине души. Нет, не от предстоящих трудностей эти сомнения! Ты увлекся и другими — Сервантесом, Чеховым, Толстым, Стендалем, Сарояном. Ты даже немножко обижен на Достоевского, считая, что такое раннее увлечение им повредило тебе. Это секрет, но я скажу тебе — у тебя было даже искушение свергнуть старый идол. Но это обычная история. Это со всяким бывает. Даже и с самим Достоевским было, знаешь ведь! Все люди, от самого гениального до самого простого, в конце концов вариации одной и той же вечной темы, и все проходят такие этапы созревания души. Достоевский для тебя — трудная любовь. Это потому, что ты выстрадал его. Но ведь трудная любовь бывает вечной!
Опомнившись наконец, я стал смотреть на темные окна этого неожиданно возникшего передо мной чуждо-близкого дома, потом вошел во двор, посмотрел на почерневшие от времени стены, и вот — в одном-единственном окне на третьем этаже горит свет. На миг мне показалось, что сам
240
Достоевский в этот глубокий ночной час работает там над «Братьями Карамазовыми», как раз пишет те строки, где прославляет солнце из глубин бездны...
Итак, прошли еще годы, прошло двадцать три года после того дня, когда я поклялся своему другу, что переведу этот роман. И час настал. Но, как и нередко бывает в жизни, он настал случайно, когда я, занятый срочными делами (а вереница срочных дел никогда не кончается!), меньше всего думал об этом. Вышел армянский перевод одного из романов Достоевского, я стал читать его с чувством как бы застигнутого врасплох человека, но с первых же страниц остался очень недоволен переводом и тут же, не задумываясь долго, сел и начал переводить «Карамазовых», отложив все другие дела.
Я начал с главы «Бунт». Всю эту главу, и предыдущую, «Братья знакомятся», и следующую, «Великий инквизитор», я перевел до странности легко, с невероятным воодушевлением, работая пятнадцать часов в день, не уставая и чувствуя огромное, почти физическое наслаждение. Но вдруг, когда я перешел к началу романа, все изменилось. Словно сразу все трудности дыбом стали передо мной. Предчувствую вопрос: чем объяснить такой странный оборот дела? Я сам впоследствии думал об этом, и мне кажется, никакой тут странности нет. Во-первых, сам факт, что я не задумываясь начал переводить роман именно с этих глав, говорит о том, что они занимали особое место в моем сознании; мысли и чувства, выраженные в них, как и в некоторых других главах, стали почти моими собственными, и я переводил их как бы «для собственного удовольствия»; это — психологический момент. Во-вторых, эти главы, благодаря их философскому содержанию и риторической приподнятости тона, составляют единую в стилистическом отношении «глыбу», и если верно схватить тон, чему способствовал вышеупомянутый психологический момент, то их относительно легче переводить, чем первые главы романа, в которых подробно рассказывается предыстория героев, к тому же в спокойном «протокольном», нарочито шероховатом стиле, характерном для описательных мест в романах Достоевского.
Достоевский не только трудно переводимый автор вообще, но у него, тем более в романе «Братья Карамазовы», есть такие стилистические особенности, которые требуют от добросовестного переводчика сделать невозможное воз
241
можным. я решил любой ценой остаться верным ему, не допускать никаких кощунственных вольностей, не жертвовать ни одним оттенком его текста, чтобы не ссориться ни с ним, ни с самим собою; но я хотел заставить его говорить по-армянски, причем только по-достоевски говорить. Несколько раз я пережил минуты отчаяния. Однажды я даже подумал: не отказаться ли? Целый день ходил в раздумье, на грани победы и поражения, чувствуя, что, если я откажусь, это будет непоправимым ударом для моего самолюбия, для всего моего характера. И вдруг, неожиданно, всплыло одно маленькое воспоминание из ученических лет на острове Кипр. У меня там была обязанность каждый вечер поливать цветы у директорского особняка, после чего я оставлял лейку в саду, под краном; и вот однажды утром я с удивлением заметил, что лейка переполнена водой: всю ночь из плохо закрытого мною крана капала вода, и капли переполнили лейку! Странно, но это маленькое воспоминание вдруг положило конец, моим колебаниям.
Честно скажу, я никакого представления не имел о теоретических вопросах перевода. Мне и в голову не приходило читать книги по теории. Ну разве писатель помнит о теории литературы, когда пишет рассказ или роман? Кстати, теперь я с удовольствием читаю хорошо написанные статьи или книги по теории перевода; кроме того, что они имеют самостоятельное научное и эстетическое значение, они еще напоминают мне и тот путь, который я сам прошел, открывая для себя переводческие законы, открытые другими переводчиками еще в древнейшие времена. А ведь в искусстве всегда так: даже если в совершенстве знаешь теорию, все равно сам по ходу творческой работы всё открываешь заново для себя и только таким путем осваиваешь законы художественного творчества. Это и есть собственный опыт, без которого никакая теория не поможет художнику.
Художественный перевод — это в основном эвристический процесс. Аналитическим методом переводчик пользуется только на подготовительном этапе, когда он изучает все данные, необходимые для верного понимания и воссоздания подлинника. Это входит в общий процесс перевода, независимо от того, когда переводчик изучает эти данные — задолго ли до того, как он начинает работу за письменным столом, или непосредственно во время работы. Когда я, например, жил в Москве и ездил по историческим местам,
242
изучая творчество Достоевского, слушая разговорную речь и всматриваясь в характер русского человека, попутно вспоминая и осмысливая героев романа (с учетом, конечно, разницы эпох), когда я в дальнейшем, во время уже непосредственной работы, обращался к разным словарям, пособиям или специалистам, чтобы выяснить точный смысл сугубо русских слов, выражений и реалий,— все это была подготовительная работа, которую можно назвать аналитической, научной стороной дела.
А потом, в самый момент творческого горения, переводчику больше всего помогает интуиция. Тут сосредотачиваются все данные, весь его опыт, и жизненный, и литературный, и даже не только его личный опыт, но и многовековой опыт его предков, переданный ему через его гены,— и живое чувство сплавляет все это вместе, и в одно чудесное мгновение, иногда после долгих мучений, рождается то, что он ищет. Но для того, чтобы сработала интуиция, необходимо одно важнейшее условие: переводчик должен в совершенстве знать родной язык, быть настоящим хозяином этой сокровищницы, иметь все ключи от всех тайников, найти свой путь в лабиринте. Словари тут мало помогают, ибо прямые словарные значения слов почти никогда не соответствуют тому комплексу ощущений, чувств и мыслей, который нужно воссоздать, переводя то или иное слово и выражение подлинника в данном контексте. Словари чаще всего ориентируют переводчика в трудных случаях, я бы сказал даже, что они, скорее всего, ставят отрицательные знаки в лабиринте, предостерегая от тупиков и указывая другое направление.
Чем больше талант переводчика и чем совершеннее его знание родного языка, тем глубже и плодотворнее интуиция. Именно поэтому истинный переводчик испытывает огромное творческое наслаждение от своего дела. Это и есть, по-моему, вдохновение переводчика.
Искусство в переводе начинается именно тогда, когда переводчик «видит себя» в произведении, которое он переводит, «чувствуя себя так, как будто сам пишет это произведение». Конечно, это отнюдь не то, что называется «вносить отсебятину». Я хочу, чтобы меня правильно поняли. «Видеть себя» и «вносить отсебятину» — совершенно противоположные понятия. «Вносить отсебятину» — это значит вмешиваться в чужие дела, это может делать лишь тот, кто, в сущности, равнодушен к автору, даже враг его. А «видеть себя» — это
243
Творческий акт, это слияние переводчика с автором, это акт любви, без которой не может быть настоящего творчества, настоящего искусства. И как ни парадоксально, именно тот переводчик больше всего проявляет свою творческую индивидуальность, который больше всего сливается с автором. Это потому, что переводчик, полностью сливаясь с автором, раскрывает его изнутри, из самых сокровенных глубин его души, а ведь раскрывает же именно он — переводчик! В этом отношении переводчик похож на музыканта-исполнителя, скажем на дирижера: настоящий дирижер заставляет слушателя забыть, что перед ним стоит исполнитель, переносит его целиком в мир автора, и только Yiotom слушатель с благодарностью видит, что это он, дирижер, со своим творческим толкованием и исполнением открыл для него волшебный мир, созданный композитором. По-моему, самый лучший перевод тот, который заставляет читателя забыть, что он читает перевод.
Я думаю, что непереводимого ничего нет, особенно в прозе (если не считать сугубо специфические термины и некоторые частные явления, вродел например, каламбуров). Все зависит от того, я бы сказал, внутреннего принципа, которым руководствуется талант переводчика. А что это за принцип? Хороший переводчик не просто переводит «с одного языка на другой язык», у него радиус действия гораздо шире: он переводит с одного языкового мышления в другое языковое мышление, с одного сложного комплекса в другой сложный комплекс, передавая не только точность смысла, но и интонацию, ритм, темп, тональность, то есть сугубо индивидуальную эмоциональную окраску художественного произведения. Он переводит стиль и дух произведения языковыми средствами, то есть в каждом данном случае выбирает из всех возможных средств то единственно верное средство,- которое дает осязательную конкретность тому, что он переводит (если автор в подлиннике выразил что-нибудь неконкретно, исходя из своей художественной задачи, а переводчик сумел в данном случае передать эту неконкретность, даже это я называю конкретностью в смысле точности перевода). Но для этого прежде всего надо верно понимать и чувствовать подлинник и в целому в частностях, начиная от замысла и композиции вплоть до самого мельчайшего штриха. Понимать и чувствовать, скажем, интонацию не только отдельного слова, предложения, реплики действующего
244
лица, но и каждой отдельной главы и части в романе, даже общую тональность произведения, которая отличает его от других произведений данного автора. То же самое можно сказать о ритме и о темпе.
Пожалуй, именно интонация и ритм (следовательно, и тональность и темп) в конечном счете важнейшие моменты во всем комплексе переводческого искусства. Даже точность смысла в художественном переводе весьма и весьма зависит от них, так как в художественном произведении смысл определяется не столько предметной, сколько поэтической, образной конкретностью, и как раз своеобразное интонационно-ритмическое расположение слов и выражений создает эту поэтическую конкретность, следовательно, и индивидуальный стиль автора. Изображая состояние или действие, художник слова стремится конкретизировать свое поэтическое чувство в точных образах, а это стремление заставляет его выбирать не просто предметно точные, но и интонационно-ритмически верные средства выражения, интуитивно и порою даже сознательно учитывая звуковую и цветовую окраску каждого слова, всю эмоционально-смысловую атмосферу его, даже количество слогов в нем (я имею в виду прозу). То же самое чувство, опять-таки выражаясь через интонацию и ритм, руководит им при построении фраз, предложений, абзацев и глав, и благодаря этому чувству создаются с первого взгляда неуловимые эмоциональные связи между словами — в фразе, между фразами — в предложении, между предложениями — в абзаце, между абзацами — в главе, между главами — в произведении. Переводчик, тоже художник слова, повторяет весь этот процесс, воссоздавая произведение на другом языке. Для этого, конечно, он должен прежде всего проникнуться тем же самым поэтическим чувством автора. Иначе, в лучшем случае, получится так называемый «научный, текстуальный» перевод, который, при всей добросовестности исполнения, останется мертвым телом, анатомически точь-в-точь похожим на подлинник, но лишенным его живого дыхания; такой перевод не может вызвать в читателе эстетические переживания и тем самым передать ему главное — поэтическое чувство автора, а может лишь дать более или менее полную информацию о произведении.
Позвольте мне привести несколько примеров из собственного опыта.
245
Возьмем, например, главу «В темноте» из восьмой книги «Братьев Карамазовых», озаглавленной «Митя». Вся эта восьмая книга, занимающая сто страниц в романе, написана в быстром, «скачущем» темпе; это грандиозное скерцо в симфонии. В предыдущих книгах Достоевский медленно развивает основное действие романа, местами чуть ускоряя темп и снова затормаживая его, и, таким образом, постепенно создает предгрозовую тревожную атмосферу, заряженную предчувствием грядущей катастрофы. И вдруг, с восьмой книги, начинается вихревое движение основного действия, носителем которого является главный герой романа — Митя. До этого момента он почти не действует: мучительно ревнуя к отцу своему, развратному и бесчестному старику Федору Павловичу, который хочет силою денег приманить любимую сына, он, Митя, сидит в засаде у отцовского дома и сторожит, чтобы Грушенька не пришла к старику. У него много причин ненавидеть отца, и он даже грозил при свидетелях, что убьет его. Кроме того, Митя нуждается в трех тысячах рублей, чтобы спасти свою честь и любовь. И вот настал момент, когда он вынужден любой ценой достать эту роковую сумму; он оставил свой наблюдательный пост и метался то в одну, то в другую сторону, но все старания его оказались бесполезны. В полном отчаянии он вышел от Хохлаковой «на улицу, в темноту!» (подчеркнуто мною.— С.). Он шел как помешанный и вдруг, «в
темноте», он узнал, что Грушенька обманула его, исчезла куда-то. Где она? Для ревнивца ответ может быть только один: она у Федора Павловича. И он побежал к отцовскому дому. Тут-то и начинается эта самая глава — «В темноте».
Но прежде чем говорить об этой главе, надо сказать, что и после нее продолжается скерцо, все больше и больше ускоряется темп, и это выражается даже в заглавиях — «Внезапное решение», «Сам еду!» и т. д. (кстати, эстетика заглавий в этом романе — особая тема, которая тоже имеет важное значение для переводчика). Из «темноты» Митя появляется с окровавленными руками, в которых держит кучу денег, и лихорадочно продолжает «бежать», «лететь», «скакать» — едет в село Мокрое: узнал (увы, слишком поздно!), что Грушенька поехала туда, чтобы встретиться с человеком, который обольстил и бросил ее когда-то и вдруг снова появился на ее горизонте. Я не хочу пересказывать всю восьмую книгу, в конце которой Митю арестуют по
246
обвинению в отцеубийстве. Я сделал этот обзор лишь для того, чтобы говорить об интонации и ритме главы «В темноте», которые были бы непонятны без этого краткого анализа. Но пока — об одной маленькой, но важной детали. Вы понимаете, конечно, что я нарочно подчеркнул слова «бежать», «лететь», «скакать»: они-то и составляют акцентировку ритмического рисунка скерцо. Недаром Достоевский в самом начале второй главы восьмой книги привлекает внимание читателя к слову «скакать», беря его в кавычки. Этим как бы обозначается темп, как в музыке: что-то вроде, скажем, «Allegro con fuoco». Переводя это слово, надо было передать и эту его функцию, учитывая не только эмоционально-смысловую атмосферу, но и звуковую фактуру его. Для этого, на армянском, к соответствующему глаголу я прибавил наречие «каратроп», которое означает «галопом», взяв его же в кавычки, и в дальнейшем, в восьмой книге, каждый раз этим наречием передавал вышеупомянутую функцию слова «скакать». Я думаю, что в восприятии армянского читателя именно это наречие, со своей эмоционально-смысловой атмосферой и звуковой фактурой, незаметно создаст то впечатление, которое необходимо, чтобы он с самого начала схватил верный темп восьмой книги романа.
Итак — об интонации и ритме главы «В темноте». Еще в предыдущей главе, как я уже показал, Митя вышел «на улицу, в темноту!» (обратите внимание и на восклицательный знак, который в данном контексте не имеет другого смысла, кроме подчеркивания слова «темнота»). На протяжении двух страниц четыре раза появляется это слово, как приближающийся из глубин новый музыкальный мотив в приглушенном виолончельном звучании, и вдруг это слово становится заглавием следующей главы: полнозвучно объявляется новый мотив, определяя собою содержание и оркестровку предстоящего эпизода. Слово «темнота» кроме предметного значения получает еще и символическое, пока не совсем ясное. Митя, в пароксизме ревности, добежал до отцовского дома, влез на забор, спрыгнул в сад. «Всюду было мертвое молчание и как нарочно полное затишье, ни малейшего ветерка. «И только шепчет тишина»,— мелькнул почему-то этот стишок в голове его...» Итак, темнота и тишина.
Общий темп не меняется, это то же самое скерцо, но внешнее движение чуть замедлилось и полностью изменилась
247
оркестровка: словно на фоне «шепчущего» тремоло альтов виолончели под сурдинку развивают новую зловещую мелодию, тематически связанную с основной идеей романа. Митя подкрадывается к освещенному окну, наблюдает за движениями отца в комнате, мучительно старается выяснить — не там ли Грушенька. В тишине мы слышим его сердцебиение, его скачущие мысли, почти физически ощущаем эту напряженную тишину, которая в то же время кажется нереальной, как во сне. В темноте мы видим «красные» ягоды освещенной из окна калины, «красные» ширмочки в комнате, «красную» повязку на голове у Федора Павловича. Митя простукивает в раму тайный условный знак, выданный ему Смердяковым, обозначающий, что Грушенька прйшла. Старик бросается к окну, отпирает его, высовывается. Лицо его «ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты». Митя, отскочивший в тень, неподвижно смотрит на него; он убедился, что Грушеньки там нет, но у него в сердце вдруг закипела страшная злоба, и он «выхватил медный пестик из кармана...». Тут обрывается глава — сплошное многоточие. Большая пауза.
Это уже не только музыка, но и гениальная живопись: подчеркнутые кроваво-красные пятна в темноте, ярко освещенная косым светом лампы сладострастная фигура старика, притаившийся в тени Митя со своим искаженным злобой лицом и с медным пестиком в руке. Рембрандтовская картина!.. После большой паузы — таинственные слова: «Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда». Потрясенный читатель, уже думающий, что сын убил своего отца, вдруг начинает сомневаться — убил Митя или нет? Продолжается музыка в той же оркестровке и в ускоряющемся темпе. Митя бежит к забору, старый слуга Григорий преследует его и вдруг «на всю окрестность» кричит в темноте и тишине: «Отцеубивец!» Это звучит как трубный глас, зловещий, роковой. Снова меняется оркестровка: как бы включаются медные инструменты, мелодия у виолончелей напрягается, как разрывающийся парус. Митя ударяет старика своим пестиком, Григорий падает, руки Мити обагрены кровью старого слуги.
Теперь ясна композиционная функция этой главы: она служит развязкой первой предгрозовой половины романа и одновременно она новая завязка — клубок психологических и сюжетных тайн, которые должны раскрываться в
Дальнейшем (недаром она стоит в самой середине романа; известно, как Достоевский заботился о соразмерности частей в своих романах, об их гармонической конструкции). Выяснилось и символическое значение лейтмотивного слова «в темноте». Оно двоякое, это значение: философское — в темноте страстей рождается трагедия человеческих судеб, и сюжетное — в темноте событий и обстоятельств осталось неясным, убил Митя отца или нет. Автор, величайший психолог, глубоко проникший в эту темноту страстей, знает, что в дебрях человеческой души есть уголок, где таится свет истины — голос совести, но и знает, что человек может стать жертвой рокового сплетения обстоятельств; его поэтическое чувство — сострадательная и трезвая трагичность с лучом надежды и с легким оттенком иронии. Он изображает этот роковой момент в судьбе Мити с интонацией страждущего человеколюбия и в ритме, выражающем вихревое движение страстей.
Чувствовать и анализировать все это, а следовательно, проникнуться поэтическим чувством автора — вот важнейшее условие, необходимое, чтобы верно перевести эту главу. Именно это поэтическое чувство подсказывало мне выбор точных языковых и стилистических средств, начиная от армянского слова «хавар», которое своей эмоциональносмысловой атмосферой точнее других синонимов передает всю совокупность значений заглавия «В темноте», и до мельчайших оттенков словосочетаний в предложениях.
Кстати, не случайно я так последовательно обращался к музыке, анализируя интонацию и ритм данной главы. По-моему, аналогия с музыкой весьма правомерна при анализе романов Достоевского. В литературе о Достоевском говорилось о полифонии в его творчестве, говорилось и о том, что его романы скорее похожи на трагедии, чем на спокойно развернутые эпические произведения. Но не помню, говорилось ли о симфоничности его романов. Да, именно принцип симфонического развития играет важнейшую роль в построении, например, «Братьев Карамазовых». Незаметные на первый взгляд лейтмотивы исподволь настраивают читателя, создавая тревожную атмосферу предчувствий, а потом, на точно рассчитанном месте, выступают как полнозвучные темы, развиваются до своей кульминационной точки, накаляя чувства, подчеркивая идеи, двигая вперед сюжет, одновременно переплетаются с другими лейтмоти
249
вами, которые, в свою очередь, должны выступать и развиваться в дальнейшем. Таким образом строится произведение огромной эмоциональной и идейной насыщенности, отличающееся внутренней монолитностью и мифологической, библейской первозданностью внешних очертаний. Поэтому нельзя при переводе «шлифовать» Достоевского, выкидывая «лишние» якобы слова, выражения или строки, исходя из ложного представления, что он пишет «плохо», «неряшливо». Правда, слово Достоевского обычно не блестит внешней ювелирной обработкой, но оно всегда на своем месте и содержит в себе мощный «музыкальный» заряд. Выражаясь словами старца Зосимы, сказанными по другому поводу, в романах Достоевского «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается».
Я остановился только на одном примере в восьмой книге романа. Можно было анализировать всю восьмую книгу именно с точки зрения симфонического развития, но это увело бы меняют цели настоящего очерка. Кратко укажу только на другой пример, имеющий более общее значение в симфонической конструкции целого. Это — тема черта в романе (Смердяков — Иван — Великий инквизитор — черт), которая везде тесно соприкасается с темой бога (Алеша — старец Зосима — Христос — бог). На всем протяжении романа, до «появления» самого Черта в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», эта тема звучит в разных планах, начиная от мелких лейтмотивных слов, имеющих явное или скрытое отношение к главному событию романа — к таинственному убийству Федора Павловича, до сложного философского образа Великого инквизитора — апологета «страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия». И вот в трех свиданиях Ивана со Смердяковым, в трех последовательных главах, где должна раскрываться тайна убийства, эта тема постепенно выступает на первый план, как бы сливаясь с образом Смердякова. Наконец Смердяков сознался, что он убил Федора Павловича. Тут происходит такой знаменательный диалог между Иваном и Смердяковым:
«— Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? — пролепетал он (Иван).
— Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.
250
— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.
— Третий этот — бог-с, самое это провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.
— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван.— Ты или сумасшедший, или дразнишь меня как и в прошлый раз!»
Здесь, в одном из главнейших узловых моментов сюжета, уже действенно выступает тема черта в слове «призрак», опять же переплетаясь с темой бога. Эмоциональная и философская насыщенность отрывка — огромнейшая! Тут каждое слово вибрирует, гудит взрывающейся демонической энергией, накопленной на всем протяжении романа. Но особенную нагрузку несет слово «призрак», это тот самый лейтмотив, который в следующей же главе раскроется как образ черта в кошмаре Ивана Федоровича. В своем кошмаре Иван будет говорить с чертом точно такими же интонациями, такими же точно словами, которыми он говорит в этом отрывке со Смердяковым. И именно эта тематическая связь служила интонационным началом для перевода этого отрывка и для выбора армянского слова «урвакан» среди других его синонимов, как точно соответствующего в данном художественном контексте русскому слову «призрак».
Конечно, все это создает для переводчика Достоевского дополнительные трудности: он должен особенно тщательно изучить всю сложнейшую симфоническую конструкцию огромного романа, найти или, по крайней мере, интуитивно почувствовать все явные или скрытые связи, существующие между далекими друг от друга компонентами целого, будь то одно-единственное слово или отдельная глава; и он должен, переводя то или другое место, всегда иметь перед глазами гармонию целого, стараться любой ценой верно переводить все элементы в каждом предложении, ничего не убавляя, не «шлифуя», и при этом сохранить и своеобразие трудного, иногда как будто даже «деланного» синтаксиса Достоевского, ибо это своеобразие, по моему глубокому убеждению, художественно рассчитанный прием, создающий густую полифоническую гармонию в музыке романа, а не результат стилистической «неряшливости».
Причем — еще дополнительная трудность — переводчик должен на своем родном языке воспроизводить этот синтак
251
сис таким образом, чтобы читатель не спотыкался при чтении, не обвинял самого переводчика в «неряшливости», а незаметно для себя чувствовал как раз своеобразие стиля Достоевского. Но все эти трудности в конечном счете окупаются высшим эстетическим наслаждением, ибо переводчик, разобравшись в изумительно музыкальной конструкции романа, «слышит» его как гениальную симфонию и в каждой фразе находит незаметные для других элементы гармонии и симфонического развития.
Можно привести бесчисленные случаи разного рода трудностей, с которыми сталкивается переводчик в «Братьях Карамазовых» (какие проблемы ставит перед переводчиком, например, стилизация в «церковных» главах романа!), но остановлюсь еще на одном только случае, где я должен был преодолеть сугубо специфическую трудность. Вы помните штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых». В одном месте он говорит следующее, сам представляясь Алеше Карамазову: «Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоер-сами. Слово-ер-с приобретается в унижении».
Смердяков и Максимов тоже иногда говорят слово-ерсами. Можно ли, нужно ли «переводить» эти словоерсы? Нельзя и не надо. Можно лишь передать интонацию, которую они создают. Но вот в случае Снегирева, как видно из приведенных его слов, они несут важную художественную функцию, причем он . даже называет себя Словоерсовым. Значит, надо переводить слово-ер в его устах, даже слово «Словоерсов» надо переводить. Но как? Думал целый день, забраковал все, что приходило в голову, и наконец, нервничая, лег спать после обеда. И вот... в полусонном состоянии «услышал» голос штабс-капитана, который стал со мной говорить по-армянски, употребляя старое армянское слово «тиар», что означает что-то вроде русского «сударь». Вскочил и радостно закричал: «Эврика!» Ну да, разве это не типичный случай эвристического процесса? А читатель и не догадывается о пережитой мною трудности, и это хорошо, что он не догадывается!
А трудностей было много, очень много! Традиций перевода произведений Достоевского на армянский язык — поч
252
ти никаких! В этом отношении у нас Достоевскому «не повезло». Значит, опираться не на что, все нужно самому сделать — поднять целину. В таких условиях я обращался к Констанс Гарнет, то есть в особо трудных случаях смотрел, как она перевела на английский язык. Иногда это мне помогало найти собственный путь. А чаще всего мы «спорили» и расходились, и это естественно, так как армянское языковое мышление отличается от английского, и еще — армянский язык, благодаря более долгому развитию в веках, давал мне больше простора для стилизации и для передачи эмоциональных оттенков, которыми так богат русский язык. Бывало и так, что я находил ляпсусы у Гарнет.
Конечно, случайные ляпсусы никак не могут служить критерием для оценки качества перевода. Я уже сказал, что Гарнет великолепно перевела романы Достоевского, и это действительно самый лучший перевод «Братьев Карамазовых» на английский язык, заслуженно переиздававшийся многократно. Хорошо, если переводчик не допускает никаких ляпсусов. Но они могут быть везде, даже в отличнейших переводах, особенно если это большой роман. Я сам не могу ручаться, что нигде не допустил их, хотя в этом отношении был всегда настороже. Об одном ляпсусе Гарнет, на первый взгляд как будто и незаметном, хочется все-таки сказать. В главе «Великий инквизитор» есть такая фраза: «...все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле». На английский это переведено так: «...all the unsolved historical contradictions of human nature». Переводчица просто недосмотрела и перевела слово «неразрешимые» как «неразрешенные», вместо insoluble написала unsolved. Внимательный читатель будет в недоумении от этого слова unsolved, которое противоречит всей философии Великого инквизитора и самого Достоевского. Кстати, в переводе этой фразы есть и характерный пример ненужной «шлифовки»: опущены слова «на всей земле», а между тем слово «земля» — один из важнейших поэтикофилософских лейтмотивов не только в этом романе, но и во всем творчестве гениального русского писателя и мыслителя.
Да, чем больше я сталкивался с трудностями, чем сильнее были муки переводческого творчества, тем больше разгоралось у меня вдохновение. Мною руководило сознание, что у нас, у армян, слово «переводчик» окружено ореолом. Народ освятил имена древних переводчиков, которые еще в
253
пятом веке дали нам немеркнущие образцы высокого переводческого искусства и, написав и собственные оригинальные произведения, стали зачинателями нашей литературы. Недаром народ чтил их память ежегодно в день Праздника переводчиков. Я хотел быть достойным их традиций, переводя одно из величайших творений мировой литературы нового времени. Я хотел перевести его так, чтобы и это творение звучало на армянском языке, как собственность нашей родной литературы, тем более что по ходу работы я нашел в своеобразном гении Достоевского много общего с величайшим гением армянской литературы —с Григором Нарекаци.
Так шли дни и месяцы счастливой творческой работы, которая длилась три года — ровно столько, сколько Достоевскому потребовалось, чтобы написать этот свой шедевр. Я «чувствовал себя так, как будто сам пишу этот роман».
В марте этого года вышел первый том моего перевода в Ереване. Со «светлым и ликующим» чувством я отнес его к моему старому другу, которому я дал клятву в тот далекий день нашей юности. Кстати, он, Никогос Тахмизян, теперь видный музыковед в Ереване.
В июне вышел второй том. Вскоре после этого я приехал в Москву на Третье Всесоюзное совещание переводчиков, в составе делегации от Армении. Я привез с собой оба тома моих «Братьев Карамазовых», чтобы подарить их Дому-музею Достоевского в Москве.
Несколько дней назад я их подарил.
История моей трудной клятвы кончилась. И мне грустно немножко...
Четверть века назад, на древней и прекрасной земле острова Кипр, Достоевский вошел в мой «дом» и крепко там обосновался. Четверть века спустя я сам вошел в его дом в Москве, с чувством благодарности, почтения и любви. И я надеюсь, что он благосклонно примет меня.
Июль 1970 г.
Ю. Яхнина
ТРИ КАМЮ
Повесть Альбера Камю «L’etranger» вышла в 1942 году.
В 1966 году в Париже появился русский перевод этого произведения, выполненный Георгием Адамовичем1. Повесть была названа «Незнакомец».
В 1968 году журнал «Иностранная литература» напечатал повесть Камю в переводе Н. Галь. Она называлась «Посторонний».
Второй «Посторонний» напечатан в однотомнике Камю, выпущенном издательством «Прогресс» в 1969 году, в переводе Н. Немчиновой.
В этой статье мы хотим сделать попытку сравнить три русских текста повести Камю. Сравнить не для того, чтобы вывести школьные оценки работы переводчиков. К сожалению, нам слишком хорошо знакомы ни к чему не обязывающие формулы, венчающие, как правило, рецензии на произведения зарубежной литературы, изданные на русском языке: «хорошо» или даже «блестяще» переведенный (если это роман) или «переведенная» (если это повесть) такой-то или таким-то. Журнальная критика знает еще оценку «плохо» — и тогда под рубрикой «Горестные заметы» или «Гримасы перевода» читателю преподносится перечень ляпсусов, более или менее серьезных промахов, неудачных оборотов и т. д. и т. п.
Перед нами — работы двух известных советских переводчиц. Излишне говорить, что они выполнены на том уров-
1 А. Камю. Незнакомец. Paris. Editions Victor.
255
йе, когда поиски мелких огрехов представляют интерес лишь для фельетонного недоброжелательства и, кстати, мало продуктивны. Но и перевод Адамовича, как раз дающий повод для такого рода цитации, будет нас интересовать в совершенно ином плане.
Задача статьи — показать роль переводчика как интерпретатора иноязычного произведения, показать масштаб «расхождений» между разными переводами одного и того же текста,— расхождений, которые возможны даже тогда, когда переводы выполнены на высоком профессиональном уровне и не грешат отсебятиной и произволом; показать, наконец, что и читатели, так часто не знающие, кто перевел прочитанную ими книгу, и те из критиков, что знакомятся с произведением зарубежного автора только по переводу и в конце своей рецензии роняют переводчику небрежную хвалу или хулу, судят о книге на основе того прочтения, того толкования, которое предложил им, сочтя его единственно верным и возможным, первый читатель и толкователь данного произведения — переводчик.
* * *
«Книга, на первый взгляд столь бесхитростно-прозрачная, затягивает своими «за» и «против», вдруг оказывается чуть ли не головоломкой... Она прямо-таки пробуждает в каждом аналитика и изыскателя, жаждущего докопаться до самого корня и подобрать свой ключ (разрядка моя. —Ю. fl.) к ее загадке... В рассказчике «Постороннего» поочередно открывали злодея и великомученика, тупое животное и мудреца, ублюдка и робота, скрытого расиста и сына народа, недочеловека и сверхчеловека...» — пишет в своей интересной статье советский исследователь Камю С. Беликовский \ Но если в своей оценке повести так расходились литературоведы, писатели, критики и другие высококвалифицированные и менее квалифицированные читатели и толкователи Камю, то мудрено ли, что переводчики — наместники автора в языке иноязычной литературы — тоже могут расходиться в интерпретации текста — причем значение их решения, их приговора куда безуслов-
1 С. Беликовский. После «смерти бога». «Новый мир», 1969, № 9, с. 218.
256
ней: они ведь не просто цитируют автора для подтверждения своего тезиса — они реконструируют его произведение на другом языке, в том «своем ключе», который они с глубокой убежденностью считают непреложно истинным.
* * *
«Какая мука найти звук, мелодию рассказа,—звук, который определяет все последующее! Пока я не найду этот звук, я не могу писать»,— признавался Бунин1. Этот «звук, мелодия рассказа» и есть тот загадочный ритм прозы, точного определения которому до сих пор так и не дано и который, не поддаваясь определению, упорно звучит со страниц всех подлинно художественных прозаических произведений.
Каждый читающий по-французски повесть Камю отчетливо слышит ее мелодию. Строгая и печальная, она начинает звучать с первых строк романа, сразу вводя нас в атмосферу «непередаваемо-своеобразной интонации» (Адамович).
Между тем манера Камю на первый взгляд предельно проста. Никаких синтаксических вольностей, к которым так склонна современная французская проза. Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения — число которых, впрочем, сведено к минимуму,— занимают во фразе те самые места, которые им предписывает строгий канон классической грамматики. И, однако, французская критика долго билась в поисках определения стиля Камю. «Плоский», «нейтральный», «сырой», «невинный» — приводит далеко не полный перечень этих определений С. Беликовский.
Откуда же возникает в повести эта неповторимая интонация? Как передать ее на русском языке?
Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-etre hier, je ne sais pas. J’ai re^u un telegramme de 1’asile : «Mere decedee. Enterrement demain. Sentiments distingues». Cela ne veut rien dire. C’etait peut-etre hier (p. 27)2.
Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Матушка скончалась. Похороны завтра. 1 2
1 Цит. по кн.: А. Б а б о р е к о. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., «Художественная литература», 1967, с. 172.
2 Французский текст цитируется по изданию: Ал ьбер Камю. Посторонний.' Чума. На французском языке. М., «Прогресс», 1969. Курсив в цитатах всюду мой.— Ю. Я.
9 Мастерство перевода
257
Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, что и вчера (Н. Галь, с. 117).
Сегодня умерла мама. А может быть, вчера — не знаю. Я получил из богадельни телеграмму: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Это ничего не говорит,— может быть, вчера умерла (Н. Немчинова, с. 51).
Сегодня умерла мама. Или, может быть, вчера, не знаю. Я получил из приюта телеграмму: «Мать скончалась. Похороны завтра. Примите соболезнование». Не совсем ясно. Может быть, это было и вчера (Г. Адамович, с. 27).
Так начинается роман Камю.
Эти три начала пока еще очень похожи. Их лексические расхождения довольно нейтральны («дом призрения» — «богадельня» — «приют»). Но чуткий слух уже и здесь улавливает разницу. Она еще едва наметилась, прозвучала в последних фразах абзаца — в кратком, сдержанном: «Не поймешь. Возможно, что и вчера»; пояснительном: «Это ничего не говорит»; пространном: «Может быть, это было и вчера».
Внимательный глаз отметит исчезновение личного местоимения у Н. Галь, ухо уловит в ее тексте сжатость, упругость фразы, большую, чем в двух других текстах, и ощутимую, несмотря на избранные переводчицей более «длинные» слова: «матушка», «дом призрения» — и даже несмотря на сложно-подчиненную конструкцию последней фразы («возможно, что и вчера»).
Это ощущение укрепится в следующих строках и будет все сильнее укрепляться по мере продвижения по тексту повести, звучание которой в трех переводах отчетливо складывается в три совершенно разные мелодии.
Выехал двухчасовым автобусом... Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста... Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось — привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось (Н. Галь, с. 117).
Итак, я решил поехать двухчасовым автобусом... Пообедал я, как обычно, в ресторане у Селеста... Я побежал бегом, чтобы не опоздать на автобус. Наверно, из-за этой спешки, этой беготци, да еще из-за тряски в дороге, запаха бензина, бликов света на накатанном асфальте, от слепящего солнца в небе, меня одолел сон — я спал почти всю дорогу. А когда проснулся, то оказалось, что голова моя лежит на плече какого-то военного, моего соседа', он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я еду. Я буркнул «да» — не хотелось разговаривать (Н. Немчинова, с. 51).
J’ai pris L’autobus a deux heures... J’ai mange au restaurant, chez.
258
Celeste, comme d’habitude... J’ai couru pour ne pas manquer le depart . Cette hate, cette course, c’est a cause de tout cela sans doute, ajoute aux cahots, a 1’odeur de 1’essence, a la reverbation de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis reveille, j’etais tasse contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demande si je venais de loin. J’ai dit «oui» pour n’avoir plus a parler (p. 27).
He касаясь пока перевода Г. Адамовича, попробуем сопоставить только два приведенных текста. Незачем и говорить, что в обоих случаях речь идет о совершенно «верном» и адекватном переводе. Каждый переводчик прав — своей правотой.
Как бы мы ни решали для себя вопрос о том, насколько полно совпадают у Камю в каждый момент повествования «я» героя и «я» рассказчика, мы сразу обращаем внимание на последовательное отсутствие этого «я» в переводе Н. Галь. Почти все связи между фразами исчезли, вместо них возникает, по точному выражению Беликовского, «бессоюзный пробел». Союзы, особенно причинные, и дальше на протяжении всего текста будут заменяться то тире, то двоеточием, то каким-либо другим знаком. Сменяют друг друга в чисто временной последовательности глаголы. Динамичная фраза (в приведенном примере ее динамизм усиливает замена существительных в перечне: course, cahots, odeur — глаголами: торопился, бежал, воняло) при своей внешней сдержанности полна какой-то скрытой тревоги.
По-иному звучит проза Немчиновой. Полновесные, широкие по ритму фразы, синтаксически полные — в них, за редким исключением, есть подлежащее, а чаще и дополнение, и определение, выраженное причастием. Они до конца проясняют причинные связи — «итак», «наверное», они напевны и подробны (tasse contre un militaire — «голова моя лежит на плече моего соседа»).
Возьмем еще несколько примеров ритмического решения одних и тех же фраз в двух текстах на русском языке.
1. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев то и дело вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет (Н. Галь, с. 125).
Под фонарями блестел, как мокрый, асфальт мостовой; пробегавшие с равномерными промежутками трамваи бросали отсветы своих огней на чьи-нибудь блестящие волосы, улыбающиеся губы или серебряный браслет (Н. Немчинова, с. 65).
Les lampes faisaient luire le pave mouille et les tramways, a intervalles reguliers, mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants, un sourire oil un bracelet d’argent (p. 40).
9*
259
2. Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились (Н. Галь, с. 133).
Я пристроился на кровати, поджав под себя ноги, а Саламано — на стуле около стола. Он сидел напротив меня, положив руки на колени, забыв снять с головы свою потрепанную шляпу. Шамкая беззубым ртом, он выбрасывал из-под своих пожелтевших усов обрывки фраз (Н. Немчинова, с. 79).
J’etais accroupi sur mon lit et Salamano s’etait assis sur une chaise devant la table. Il me faisait face et il avait ses deux mains sur les genoux. Il avait garde son vieux feutre. Il machonnait des bouts de phrases sous sa moustache jaunie (p. 53).
3. Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе... Потом посидели молча, покурили (Н. Галь, с. 129).
Тогда он встал, выпив предварительно стакан вина. Отодвинул в сторону тарелки и остатки простывшей колбасы, которую мы не доели. Тщательно вытер тряпкой клеенку на столе... Потом мы некоторое время курили, но уже не разговаривали (Н. Немчинова, с. 71).
Il s’est alors leve apres avoir bu un verre de vin. Il a repousse les assi-ettes et le peu de boudin froid que nous avions laisse. Il a soigneusement essuye la toile ciree de la table... Puis nous sommes restes un moment a fumer sans rien dire (p. 45—46).
А вот как передана в текстах перевода речь персонажей.
1. Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любит, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал — одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы (Н. Галь, с. 132).
Я уже хотел было повесить трубку, потому что патрон не любит, когда нам звонят знакомые, но Раймон попросил подождать и сказал, что он, конечно, мог бы передать мне приглашение вечером, но ему хотелось кое-что сообщить — за ним весь день ходили по пятам несколько арабов, и среди них был брат бывшей его любовницы (Н. Немчинова, с. 76).
J’ai voulu raccrocher tout de suite parce que je sais que le patron n’aime pas qu’on nous telephone de la ville. Mais Raymond m’a demande d’attend-re et il m’a dit qu’il aurait pu me transmettre cette invitation le soir, mais qu’il voulait m’avertir d’autre chose. Il a ete suivi toute la journee par un groupe d’Arabes parmi lesquels se trouvait le frere de son ancienne mait-resse (p. 50).
2. Потом пожелал узнать (речь идет о следователе.— Ю. Я.), выбрал ли я себе адвоката. Я сказал — нет, а разве это так уж необходимо? (Н. Галь, с. 139).
Потом осведомился — пригласил ли я адвоката. Я ответил, что нет, не приглашал, и спросил, разве необходимо брать себе адвоката? (Н. Немчинова, с. 90).
Puis il a voulu savoir si j’avais choisi un avocat. J’ai reconnu que non et je 1’ai questionne pour savoir si c’etait absolument necessaire d’en avoir un (p. 65),
260
Для передачи французского «а intervalles reguliers» Н. Галь ограничивается кратким «то и дело», у Н. Немчиновой появляется причастный оборот «пробегавшие с равномерными промежутками»; в описании позы Саламано у Немчиновой появляются дополнительные глаголы и деепричастия («пристроился», «поджав», «сидел», «положив») — у Галь исчезает упомянутый во французском тексте «стул», на котором сидит Саламано. Тарелки в тексте Немчиновой отодвинуты «в сторону», клеенка вытерта «тряпкой». В диалоге мысль прояснена словами, которые выделены курсивом, «бессоюзному пробелу» соответствуют связующие союзы и другие слова-связки.
Разумеется, бесплодно было бы подходить к подобному анализу с чисто формальной стороны. И в тексте Галь мы найдем застывшую «в жиру» колбасу — уточнение, которого нет в подлиннике. Однако речь не об отдельных переводческих решениях, а о тенденции, проходящей через весь текст перевода. А в этом случае, несомненно, можно говорить о стремлении к уточнению, детализации, расширению фразы у Н. Немчиновой и к стягиванию, усилению сдержанности, «бессловесности» у Н. Галь.
Приведем несколько примеров из текста Н. Немчиновой (курсивом выделены слова, которых нет в оригинале).
1. ...руки выше локтя нисколько у него не загорели, были совсем бледные и покрыты черными волосами (с. 81).
2. Вот они расселись, но очень осторожно — ни один стул не скрипнул (с. 56).
3. Собака хорошей породы — спаньель, но вся в каких-то паршах (с. 67).
4. Может быть, она (собака Саламано.— Ю. Я.) попала под колеса и ее раздавило (с. 79).
5. Явился молодой секретарь суда и расположился со своей машинкой почти за моей спиной (с. 92).
6. Сначала говорил как-то нерешительно, мялся (с. 69).
Если во французском тексте «Son petit crane chauve», то Галь переводит это как — «лысину», Немчинова — как «маленькую лысую голову». А движение прокурора во время допроса свидетелей переводчики описывают так: «он тыкал карандашом в свои бумаги» (Галь, с. 151); «тыкал острием карандаша в надписи на ярлыках судебных папок» (Немчинова, с. ПО) — (по-французски piquait un crayon dans les titres de ses dossiers, p. 82).
261
В переводе Н. Галь исчезают столь частые у французов: je voyais, j’apercus, je sentais.
1. ...et j’etais gene parce que je sentais que je n’aurais pas du dire cela (p. 29).
Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться (Галь, с. 119).
Я почувствовал, что не полагалось отказываться (Немчинова, с. 54).
2. La chaleur montait et je voyais dans la salle les assistants s’eventer avec des journaux (p. 79).
Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой (Галь, с. 149).
Жара все усиливалась, и я видел, что присутствующие обмахиваются, газетами (Немчинова, с. 106).
3. J’ai vu qu’il etait habille de noir avec un pantalon raye (p. 33).
На нем был черный сюртук и брюки в полоску (Галь, с. 121).
Я заметил, что на нем черный пиджак и черные брюки в полоску (Немчинова, с. 58).
4. Je me suis retourne une fois de plus: Perez m’a paru tres loin... (p. 36).
Я опять обернулся — Перез маячил далеко позади (Галь, с. 123).
Я еще раз обернулся — мне показалось, что Перес где-то далекодалеко... (Немчинова, с. 61).
Галь стремится по возможности экономить слова, избегать определений, иной раз даже там, где ими пользуется такой не щедрый на определения автор. Она как бы спорит в лаконизме с самим автором, стараясь быть «более Камю, чем сам Камю».
La cour est revenue. Tres vite on a lu aux jures une serie de questions (p. 91).
Вернулись судьи. Присяжным зачитали ряд вопросов (с. 157).
В переводе этой фразы сам ее ритм создает ощущение того, что вопросы присяжным читались наспех.
А вот еще пример:
A ma gauche j'ai entendu le bruit d’une chaise qu’on reculait et j’ai vu un grand homme mince, vetu de rouge, portant lorgnon, qui s’asseyait en pliant sa robe avec soin (p. 78).
Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся — там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию (Галь, с. 148).
Переводчик не стал выделять причастный оборот — «одетый в красное»,— он заменил его эпитетом, перенесенным в конец фразы, где в оригинале вторично упоминается одежда прокурора, и, не утратив «количества информации», выиграл в упругости ритма.
262
11 connaissait Tun des journalistes qui Га vu a ce moment et quis’est dirige vers nous (p. 77).
Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам (Галь, с. 147).
Тут сообщение о том, что у адвоката есть связи среди журналистов, уложилось в один эпитет — «знакомого».
Оказалось, он знаком с одним из журналистов, и тот, увидев его, направился к нам (Немчинова, с. 104).
Впрочем, иногда правомерность такого отсечения «распространяющих» фразу слов представляется нам спорной.
Так, во фразе «Он водрузил на мою койку портфель, представился...», пожалуй, незаконно потеряно в описании (la serviette qu’il portait sous le bras), как потеряно la tete baissee в описании позы священника. «Некоторое время он сидел, облокотись на колени, и разглядывал свои руки» (с. 160).
Однако дело не только в тенденции одного переводчика усиливать лаконизм автора, а другого — уточнять текст. Дело тут не в количестве, а в качестве этих «поправок» к тексту. Интересно проследить характер тех «уточнений», которые так отличают фразу Немчиновой от фразы Галь. Даже поверхностный взгляд уловит, что это, как правило, слова, вносящие более «личную» окраску в текст, создающие * более «доверительную», более эмоциональную интонацию.
Мы уже говорили выше о стремлении Н. Галь всюду, где можно, избегать личных и притяжательных местоимений. Ее Мерсо как бы старается по возможности не напоминать о том, что речь все время идет именно о его особе, он говорит как бы не о себе, с максимальной «отчужденностью».
Захотелось курить,— пишет Галь (с. Н9). И тогда мне захотелось покурить,— пишет Немчинова (с. 55).
Ведь никогда не знаешь, что может случиться (Галь, с. 157). Никогда не знаешь, что может с тобой случиться (Немчинова, с. 121).
Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов (Галь, с. 159).
Раз что-то должно случиться со мной, я хотел быть наготове (Немчинова, с. 124).
Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко... (Галь, с. 148).
263
Мой адвокат подошёл ко мне, пожал мне руку й дал совет отвечать очень коротко на вопросы, которые мне будут задавать... (Немчинова, с. 105).
Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали... А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина (Галь, с. 120).
Она плакала долго, всхлипывала, вскрикивала, и мне казалось, что она никогда не кончит. Остальные как будто и не слышали ее... Та женщина все плакала. Меня это очень удивляло — какая-то незнакомая старуха (Немчинова, с. 56).
Весь ритмический строй фразы, вся ее структура у Галь как бы подчеркивает разрозненность перечисленных действий. Старуха со своим плачем — сама по себе, другие старики — сами по себе, и сам по себе — герой повести.
В тексте Немчиновой между участниками сцены протягиваются ощутимые нити отношений.
Или такой, еще более яркий пример. Герой встретил на лестнице соседа, Раймона.
Nous sommes montes et j’allais le quitter quand il m’a dit... (p. 43).
Мы поднялись no лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал... (Галь, с. 127).
Мы поднялись вместе с Раймоном, и я уже собирался проститься с ним, но он сказал... (Немчинова, с. 68).
Обе переводчицы здесь точно следуют французскому оригиналу, но если французский глагол monter в этой русской фразе требует дополнения, в тексте Галь появится «неодушевленная» лестница, а Немчинова объединит персонажей в общем действии; во второй половине фразы Немчинова вслед за автором подчеркнет то, что лишний раз введет героя в круг какого-то общения («проститься с ним»); Галь подчеркнет действие, направленное на отъединение от других («уйти к себе»).
В тексте Немчиновой органично вырастает эмоциональная роль синтаксического и лексического повтора. Он появляется там, где его нет у автора, он усиливается там, где в оригинале он есть.
В оригинале:
Mais a cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journees et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parle de mon ame, j’ai eu Г impression que tout devenait comme une eau incolore ou je trou-vais le vertige (p. 90).
264
Впрочем, из-за всех этих бесконечных фраз, бесконечных дней судебного процесса, бесконечных часов, когда столько рассуждали о моей душе, у меня кружилась голова, мне казалось, что вокруг льются, льются и все затопляют волны мутной реки (Немчинова, с. 119).
Синтаксический повтор, едва намеченный в первой половине фразы Камю, в переводе усилен лексическим повтором, а в конце фразы его подкрепляет еще один повтор, отсутствующий в оригинале.
Ср. у Галь: Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова (с. 156).
Тут исчез почти всякий намек на повтор.
J’aurais appris que dans un cas du moins la roue s’etait arretee, que dans cette premeditation irresistible, le hasard et la chance, une fois seule-ment avait change quelque chose. Une fois! (p. 92).
Быть может, я узнал бы, что хоть в одном случае колесо остановилось, и один раз, хотя бы один только раз, случай и удача что-то изменили в его назначенном, предустановленном движении. Один раз! (Немчинова, с. 122).
Здесь не просто возросло количество повторов — интонация необычайно усилила их эмоциональный накал.
Примеров можно привести много:
Очень скоро, так скоро, что я ничего еще не почувствовал, кроме усталости, за мной пришли... (Немчинова, с. 207). (Au bout de tres peu de temps, juste assez pour me rendre compte que j’etais fatigue, on est revenu me chercher, p. 80.)
Ср. у Галь: И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли (с. 149).
В реплике священника:
Но я знаю, сердцем знаю, что даже самые жалкие из вас видели, как во мраке темницы вставал перед ними лик божий (Немчинова, с. 129). (Mais du fond du coeur je sais que les plus miserables d’entre vous..., p. 98.) У Галь: Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас... (с. 161).
Еще пример, пожалуй наиболее характерный.
Мерсо гонит от себя мысли о помиловании:
Mais се n’etait pas raisonnable. J’avais tort de me laisser aller a ces suppositions parce que, 1’instant d’apres, j’avais si affreusement froid, que je me recroquevillais sous ma couverture. Je claquais des dents sans pouvoir me retenir (p. 93).
265
Галь:
Нет, это неблагоразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки (с. 158).
Переводчица умеряет это необычное для Мерсо сильное проявление чувств видом глагола, сделав его действие однократным.
Вариант Немчиновой:
Право, все это было сущее безрассудство: тотчас же меня охватывал холод, такой ужасный холод, что я весь съеживался, дрожал под одеялом и стучал зубами, не в силах от этого удержаться (с. 123).
Вот как по-разному ведут себя два Мерсо в одинаковых обстоятельствах, которые автор предложил переводчикам.
Впрочем, здесь мы уже незаметно переходим ко второму важнейшему элементу текста — его лексике.
Каждый переводчик-профессионал знает, что синонимичность слов, зафиксированная даже самым щедрым словарем, далеко не исчерпывает того богатства синонимических вариантов, которыми пользуется переводчик — если он не буквалист.
Лексические расхождения в интересующих нас текстах перевода начинаются с первых же строк. Иногда они элементарны и лишь едва уловимо окрашивают текст. Иногда неразрывно связаны с тем «ключом», в котором решен весь перевод.
«Приюту» у Адамовича будет соответствовать «дом призрения» у Галь и «богадельня» у Немчиновой; мы найдем в одном тексте «морг» (Немчинова), в другом «мертвецкую» (Галь), в третьем — «покойницкую» (Адамович); на похоронах фигурируют «дроги» (Адамович) и «катафалк» (Галь, Немчинова), «носильщики» (Галь), «факельщики» (Немчинова) и «служители» (Адамович); в тюрьме стоит: «жестяной таз» (Галь), «оцинкованный таз» (Немчинова) и «железный таз» (Адамович); «нары» (Галь) и «деревянный топчан» (Немчинова); «домишко» в тексте Галь соответствует «шалашу» Адамовича и «хижинке» у Немчиновой; прокурор назван «сухопарым» (Галь), «худым» (Немчинова), «худощавым» (Адамович).
Отчасти уже и эти примеры выходят за рамки синони
266
мичности в узкословарном понимании этого слова. Однако дело тут не просто в «словах».
Переводчики, вчитываясь, вслушиваясь, вживаясь в текст, видят за ним разные лица, разные цвета, разные движения, они по-разному ощущают запахи, их героев окружают разные предметы, им слышатся разные звуки, метафора вызывает у них разные ассоциации.
У сиделки, провожающей гроб матери Мерсо, голос для Галь «необыкновенный», «звучный и приятный»; для Немчиновой «удивительный», «мелодичный и теплый»; для Адамовича «странный», «певучий и дрожащий» (une voix singulie-re... melodieuse et tremblante, p. 36).
А вот как по-разному переводчики видят:
Pres de la biere, il у avait une infirmiere arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tete (p. 29).
Галь:
У гроба — чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком (с. 118).
Немчинова:
У гроба дежурила арабка в белом халате и с яркой шелковой повязкой на голове (с. 53).
Адамович:
У гроба сидела санитарка, видимо, арабского происхождения, в бе-лом переднике с рукавами и пестрой косынкой на голове (с. 30).
Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu’elle tricotait (p. 31).
Галь:
Но по движениям локтей я догадался — наверно, вяжет (с. 120).
Немчинова:
...но по движению ее плеч и руккоггмлвглся, что она вяжет (с. 56).
О журналисте:
avec un visage un peu grima^ant (p. 77).
Галь:
с... чересчур подвижным лицом (с. 147).
Немчинова:
..хотя лицо его подергивалось от нервного тика (с. 104).
267
В тюрьме на свидании:
un grand type blond au regard franc (p. 71).
Галь:
...рослому детине co светлыми волосами и простодушным взглядом (с. 144).
Немчинова:
...высокому белокурому парню с открытым взглядом (с. 98).
А вот какое различное у переводчиков «обоняние»:
Les deux gendarmes m’ont fait entrer dans une petite piece qui sentait F ombre (p. 76).
Галь:
...в затхлую каморку, там пахло темнотой (с. 147).
Адамович:
...в маленькую комнату, где пахло плесенью (с. 96).
Бывает и так, что для одного переводчика рождается слуховой, а для другого осязательный образ:
Le cri des vendeurs de journaux dans Fair deja detendu... (p. 86).
Галь:
Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков (с. 153).
Немчинова:
...крики мальчишек-газетчиков, оглашающие уже прохладный воздух (с. 114).
Адамович:
Выкрики газетчиков на уже затихавших улицах (с. 109).
Приведем и пример решения метафоры.
Dehors la lumiere a semble se gonfler contre la baie (p. 72).
Галь:
На улице яркий свет словно набухал и давил на окна (с. 144).
Немчинова:
Солнечный свет как будто вздувался парусом за стеклами широкого окна (с. ’98).
Адамович:
Свет за окнами казался еще ярче (с. 90).
268
Как видим, в тексте двух переводчиц возникают два разных метафорических образа. Адамович вообще уходит от метафоры. О недооценке Адамовичем метафоричности прозы Камю нам еще придется говорить ниже. Но уже приведенный нами перечень лексических разночтений в переводах Н. Галь, Н. Немчиновой и Г. Адамовича1, в который попали примеры наиболее нейтральные, совсем не так нейтрален, как это может показаться с первого взгляда.
«...Слово, которым пользуется писатель,— заметил как-то Н. Берковский,— попало на его страницы по избранию, после, долгих раздумий,— у этого слова были слова-соперники, и оно их вытеснило. Сколько-нибудь опытный глаз угадывает за литературным словом все остальные слова, перед которыми этому одному было оказано предпочтение. Отринутые слова какими-то своими бликами и тенями присутствуют в строке, окружая слово, прямо в нее вошедшее, насыщая это слово дополнительными значениями. Слово, за которым оказалась победа, отчасти сохраняет вокруг себя среду других слов-претендентов, не порывает с ними начисто»1 2.
Неслучайность выбора автором (в данном случае автором русского текста, то есть переводчиком) того или иного слова становится тем более наглядной, когда мы можем сопоставить разные авторские решения: слова, отринутые одним переводчиком, иногда оказываются «предпочтенными» на страницах другого перевода.
И снова речь идет не об искажении переводчиками текста. Речь идет о том прочтении текста, если угодно, о той «системе отклонений» от него, которая в той или иной степени неизбежна во всяком небуквалистском переводе, ибо художественный образ, лежащий в основе художественного произведения, по меткому выражению М. В. Нечкиной,
1 Он может быть продлен до бесконечности — в нем будет и кровать «медная» у Адамовича, «с медными столбиками» у Немчиновой и «с медными прутьями»—у Галь; и одежда Раймона—«синие штаны» для Галь и «василькового цвета брюки» для Немчиновой; «кирпичный цвет лица» у «сторожа» (Немчинова) и «красноватый загар» у «привратника» (Галь); доски гроба, «выкрашенные коричневой краской» (Галь), «окрашенные морилкой» (Немчинова), «крашенные под орех» (Адамович); в кабинете у следователя — «картотека» (Галь), «шкаф для дел» (Немчинова) и «стойка для бумаг» (Адамович).
2 Н. Я. Берковский. Защита жизни. «Театр», 1959, № 7, с. 56.
269
всегда «выражает гораздо больше, нежели формально в себе содержит»1.
Образ главного героя повести прочтен двумя переводчицами совершенно по-разному.
Мерсо Немчиновой — человек далеко не выключенный из сферы человеческого общения. Во всех своих проявлениях, во всех своих взаимоотношениях с людьми он совсем иной, чем «некоммуникабельный» Мерсо, встающий со страниц прозы Галь.
Вот Мерсо неохотно отвечает на назойливые вопросы адвоката о его чувствах к матери: «sans doute, j’aimais bien maman» (в этой фразе bien не усиливает, а ослабляет значение глагола aimer).
«Конечно, я любил маму»,— говорит Мерсо у Галь. «Я, конечно, очень любил маму»,— говорит герой Немчиновой.
Вспоминая совместное житье с матерью, свою комнату — «При маме тут было удобно»,— спокойно отмечает герой Галь (с. 124). «Когда тут жила мама, у нас было уютно»,— растроганно вспоминает герой Немчиновой (с. 63), (II (I’appartement.— Ю. etait commode, quand maman etait la, p. 38).
Герой Немчиновой гораздо целомудреннее по отношению к Мари:
в ту пору я ее хотел... но мы не успели, она очень быстро уволилась (Галь, с. 124).
...к которой в свое время меня очень тянуло ... Но она скоро уволилась из нашей конторы, и мы больше не встречались (Немчинова, с. 62).
И дальше: я очень ее захотел (Галь, с. 129),— меня очень тянуло к ней (Немчинова, с. 72).
А когда Мари в лоб спрашивает, любит ли он ее: «sans doute je ne 1’aimais pas» (p. 51); «Конечно, я ее не люблю»,— прямолинейно отвечает герой Галь (с. 132); «Вероятно, я не люблю ее»,— деликатно уклоняется от ответа герой Немчиновой (с. 77).
Герой Немчиновой способен вспоминать «личико» и «губку» Мари. Герой Галь уменьшительных суффиксов не знает.
Если Мерсо у Галь находит, что Раймон «был со мной очень мил» (с. 131),— Мерсо Немчиновой видит в поведе
1 М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы, издание второе. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 298.
270
нии Раймона нечто более глубокое: «Я находил, что он очень хорошо ко мне относится» (с. 175) (Je le trouvais tres gentil avec moi, p. 49).
Да и сам Раймон в отношениях со своей любовницей также проявляет себя по-разному в двух текстах. У Немчиновой «его огорчало», что он не может забыть свою «мерзавку»; он пишет ей письмо, в котором и «шпильки были, и нежность» (с. 70—71). У Галь ему «досадно», что он не охладел «к этой шлюхе», а в письме он «даст ей по морде и в то же время заставит раскаяться» (с. 128) (Се qui 1’ennuyait, c’est qu’il avait encore un sentiment pour son coit... Il voulait lui ecrire une lettre «avec des coups de pied et en meme temps des choses pour la faire regretter», p. 44—45).
«J’ai bien agi avec toi et tu me le rend mal» (p. 44),— вспоминает свое объяснение с женщиной Раймон. «Я с тобой по-хорошему, а ты так поступаешь» (Галь, с. 128). «Я о тебе забочусь, а ты плохо со мной поступаешь» (Немчинова, с. 70).
Любопытно, что здесь из противопоставления «bien — mal» на французском языке каждая из переводчиц взяла по одному слову; «по-хорошему» — нейтрально окрашенное, разговорное речение у Галь; у Немчиновой — жалобнотрогательное «плохо со мной поступаешь».
Хотя последние примеры формально характеризуют не Мерсо, а Раймона, не надо забывать, что в повести «Посторонний» все увидено глазами Мерсо и передано его устами, и тем самым все, даже речь других персонажей, служит косвенной характеристикой главного героя. Когда следователь спрашивает: «Почему, почему вы стреляли в убитого?» (Галь, с. 141) или «Почему, почему стреляли вы в распростертое на земле неподвижное тело?» (Немчинова, с. 93) — это два разных Мерсо донесли до нас этот разговор.
Если священник у гроба матери героя обращает к нему «quelques mots», у Немчиновой это «утешительные» слова. Если прокурор укоряет героя, что он уехал сразу после похорон матери — «sans me recueillir sur sa tombe» (p. 81) — «не побыл у могилы» (Галь, с. 150),у Немчиновой —«не проведя ни одной минуты в сосредоточенной печали у ее могилы» (с. 108).
Если герой Галь констатирует, что у священника «лицо было очень доброе»,— герой Немчиновой признается: «мне понравился его кроткий вид».
271
Характерно, как по-разному прочувствована переводчицами фраза, в которой Мерсо вступает в минутное общение с незнакомыми ему спортсменами, возвращающимися после матча. Возбужденные победой, они оповещают о ней с трамвайной подножки прохожих, в частности сидящего у дверей своего дома Мерсо.
«Et j’ai fait «oui» en secouant la tete» (p. 36). «Кивнув головой, я сказал «да»,— фотографирует фразу Адамович. «И я кивнул в ответ» (с. 125),— безмолвно откликается со своей неизменной сдержанностью герой Галь. «А я ответил: «Молодцы» — и закивал головой» (с. 165),— реагирует всегда готовый, когда это позволяет текст, отозваться на предложенное ему общение герой Немчиновой.
Рассказывая о жизни старика Саламано, соседа Мерсо, о его обращении с собакой, герой Галь передает мнение своего приятеля Селеста: «Негодяй»; «Вот несчастный»,— говорит Селест у Немчиновой (C’est malheureux, р. 42).
И деталь внешности старика, трогательная у Немчиновой: «Руки у него морщинистые, в цыпках» (с. 76), производит отталкивающее впечатление у Галь — «покрытые коростой» (с. 131) (ses mains cron tenses, p. 50).
«Досадно, что с его псом приключилась беда»,— сдержанно замечает Мерсо у Галь (с. 134); «Мне жаль его собаку» (с. 80),— сочувствует Мерсо у Немчиновой.
И в конце повести, подводя итоги и своей жизни и жизни вообще, Мерсо скажет: «Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене» (Галь, с. 162) (то есть всякой жизни цена — грош). «Собака старика Саламано дорога ему была не меньше жены» (Немчинова, с. 130—131) (valait autant que sa femme, p. 100).
Мерсо тяготит плач незнакомой женщины у гроба матери. «Я не решался ей это сказать» (Галь, с. 120); «Я не решался успокаивать ее» (Немчинова, с. 56).
Даже пересказывая отрывок из уголовной хроники, о человеке, инкогнито вернувшемся в свою семью: «Он решил их удивить»,— говорит Мерсо у Галь (с. 146); «Желая сделать им приятный сюрприз»,— говорит он у Немчиновой (с. 102) (pour les surprendre, р. 75).
Сравнивая характер повествования в двух переводах, можно было бы задуматься над тем, как разрешают обе переводчицы вопрос о «времени повествования» в повести Камю, то есть совпадают ли, на их взгляд, описываемые в 272
повести события с моментом изложения, или он отделен от них каким-то «сроком давности». Вопрос этот, по которому расходятся мнения французских критиков, немаловажен для характеристики героя, для объяснения того, что представляет собой его монолог — предсмертную исповедь, размышления в камере смертника наедине с собой или непосредственный комментарий Мерсо к событиям его жизни. Не вдаваясь подробно в эту очень интересную и спорную проблему, мы, однако, считаем, что не только в прозе Н. Немчиновой, где весь интонационный строй фраз исключает мысль о синхронности рассказа и действия, но и в тексте Н. Галь рассказ подводит некий итог совершившемуся. Пожалуй, в прозе Н. Галь формулировка фразы, начинающей последнюю главу повести, позволяет приурочить время повествования именно к данной главе. «Уже третий раз я отказался принять тюремного священника» (Н. Галь, с. 154). (Любопытно, что критик Б. Фитч, посвятивший «времени повествования» в «Постороннем» специальное исследование, обращает внимание именно на эту фразу французского текста.)
Таким образом, обе переводчицы поставили своего героя в одинаковые «временные» условия. Однако у Галь и по прошествии длительного времени герой как бы вновь непосредственно переживает события, рассказывая о них со свойственной ему прямотой и бесхитростностью, в той разговорной манере, которая переносит «прошлое» в «настоящее», но при этом говорит Мерсо сдержанно и несловоохотливо, с трудом пробиваясь сквозь свою привычную немоту и как бы ни к кому не адресуясь.
У Немчиновой дистанция времени более ощутима в характере описания — так говорят о том, что ты успел не только пережить, но и осмыслить и облечь в литературную форму и что выносишь на суд людской, зная, что тебя услышат и поймут.
Именно потому, что он как бы апеллирует к сочувствию слушателя (или читателя), герой Немчиновой гораздо менее сдержан в проявлении (и в описании) своих мыслей и чувств: страх, радость, удивление часто выражаются им с подчеркнутым «накалом», как бы «в превосходной степени».
Когда устанавливают его личность на суде, он думает, что это разумный порядок:
273
parce qu’il serait trop grave de juger un homme pour un autre (p. 79).
...ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо (с. 149),— просто замечает Мерсо у Галь.
ведь какая была бы страшная ошибка, если бы стали судить одного человека вместо другого (с. 106),— ужасается Мерсо у Немчиновой.
Наблюдая на процессе за одним из журналистов, герой Галь замечает: «Но я видел только глаза...— однако их выражение я не мог уловить» (с. 148); героя Немчиновой «поразили его глаза», смотревшие «с каким-то неизъяснимым выражением» (с. 105).
Рассказывая о своих тщетных надеждах на помилование, герой Галь нехотя признается: «Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость» (с. 160).
«Как трудно было укротить бурный ток крови, пробегавший тогда в жилах, разливавшийся по всему телу, нелепую радость, от которой у меня темнело в глазах»,— восклицает Мерсо Немчиновой (с. 125).
В воспоминаниях Мерсо те земные радости, которых он лишился,— для Галь «самые скудные и самые верные»; «простые, но незабываемые» — для Немчиновой.
Если у Галь для Мерсо «вечер наступает мягкий, прохладный» (с. 156), то у Немчиновой «наступает сладостный час сумерек» (с. 120) (la douceur du soir, р. 91).
А вот из сцены со следователем:
Галь Немчинова Фр. текст
в моем признании ему неясно одно — одно темное место в моей исповеди dans ma confession (р. 68)
он... в последний раз потребовал ответа он... воззвал к моей совести et m’a exhorte une derniere fois (p. 69)
Он рассердился и сел Он рухнул в кресло от негодования Il s’est assis avec indignation (p. 69)
я уже никогда не видал его в таком волнении и я уже никогда не видел его в экстатическом возбуждении je ne 1’ai jamais revu dans I'excita-tion de ce premier jour (p. 70)
наши разговоры стали более непринужденными наши беседы стали более сердечными sont devenus plus cordiaux (p. 70)
274
следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески
проводив меня до дверей своего кабинета, дружески похлопывал по плечу и говорил с таким сердечным видом
en me frappant sur 1’epaule et en me disant d’un air cor-
dial (p. 70)
В этой сцене даже безличный стук машинки, сопровождающий допрос (Галь: «а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще до-стукивала последние слова», с. 142), у Немчиновой обретает «живую душу»: «а тем временем секретарь, быстро стучавший на машинке, допечатывал последние фразы нашего диалога» (с. 95).
Приведем и еще параллели.
Герой думает во время речи прокурора:
. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, проявить добрую волю (Галь, с. 154).
Я не имел права проявлять сердечность и благожелательность (Немчинова, с. 116) (de me montrer affectueux, d’avoir de la bonne volon-te, p. 88.)
Защитник говорит «доверительно и дружелюбно» (Галь, с. 157).
с... уверенностью, с... сердечностью (Немчинова, с. 120) (plus de confiance et de cordialite, p. 91).
Председатель суда задает вопрос «даже как бы доброжелательно» (Галь, с. 149) и «как мне показалось, с оттенком сердечности» (Немчинова, с. 106) (avec une nuance de cordialite, p. 79).
«У меня внутри все закаменело»,— рассказывает о себе герой Галь (с. 157). «Но мое сердце так и не раскрылось»,— говорит он у Немчиновой (с. 120) (mais je sentais mon coeur ferme, p. 91).
Галь последовательно отказывается от «сердца» и «сердечности», даже там, где французский текст дает право к ним прибегнуть. В устах ее Мерсо эти слова немыслимы. Для Немчиновой слово «сердечность» естественно рождается даже там, где во французском тексте для него почти нет формального повода,— оно принадлежит к тому ряду слов, которыми постоянно пользуется ее Мерсо.
Герой Немчиновой—человек, отягощенный чувством вины, человек с «совестью».
Когда герою Камю приходится сообщить девушке, с которой он только что приятно провел время на пляже, что у него накануне умерла мать, и возникает минутная неловкость, Мерсо хочет что-то объяснить Мари, сказать, что он здесь ни при чем, но он оставляет свое намерение. «De toute
275
facjon on est toujours un peu fautif»,— думает он про себя — с такой бесконечно сложной для переводчика простотой.
«Как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват»,— пишет Галь (с. 124), то есть тебе всегда что-нибудь (виноват ты или нет) поставят в вину. «Так или иначе тебя всегда в чем-нибудь упрекнут»,— поддерживает этот вариант Адамович (с. 42).
Нет, утверждает Немчинова: «Человек всегда бывает в чем-то немножко виноват» (с. 63). Это иное ощущение. Оно подкрепляется сценой со священником:
Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu’dtait un pdche. On m’avait seulement appris que j’etais un coupable (p. 98).
Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен (Галь, с. 161).
Я сказал, что о грехах на суде речи не было. Мне только объявили, что я преступник (Немчинова, с. 128).
Эта фраза как бы оставляет возможность предположить, что совесть Мерсо не молчит — ее просто не затронули на суде.
Мерсо отказывается обратиться мыслями к богу:
Quant a moi, je ne voulais pas qu’on m’aidat et justement le temps me manquait pour m’interesser a ce qui ne m’interessait pas (p. 97).
Ну, а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня совершенно нет времени заниматься тем, что мне неинтересно,— категорически заявляет Мерсо у Галь (с. 160).
Но я вовсе не ищу ничьей помощи, да у меня и времени не достанет — я просто не успел бы заинтересоваться тем вопросом, который меня никогда не интересовал (Немчинова, с. 127).
Как полно значения это сослагательное наклонение, какая в нем огромная уступка священнику, какая деликатность и душевная мягкость.
Для немчиновского Мерсо доброта и благожелательство — естественные чувства. Недаром при первом разговоре с адвокатом он хочет внушить ему «симпатию» к себе: «Не для того, чтобы он лучше защищал меня на суде, но, если можно так сказать, из естественного человеческого чувства» (с. 92) (non pour etre mieux defendu, mais si je puis dire, naturellement, p. 66—67).
«и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так» (Галь, с. 140).
Вот как по-разному понимают переводчики простое и многозначное слово naturellement.
276
А вот как по-разному раскрываются мысли героя, получившего от Раймона револьвер и глядящего в упор на стоящих перед ним арабов, незадолго до рокового выстрела.
J’ai pense en се moment qu’on pouvait tirer ou ne pas tirer (p. 60).
И я подумал — можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница (Галь, с. 138).
Галь вводит редкое для нее уточнение — «какая . разница» — частую и любимую присказку Мерсо, подчеркивая его равнодушие к тому, что считается нравственной и юридической нормой.
В эту минуту я думал: придется или не придется стрелять (Немчинова, с. 87),—
герой Немчиновой задает себе вопрос, вынудят или не вынудят его обстоятельства взяться за оружие.
Пожалуй, недаром адвокат у Галь утверждает, что Мерсо действовал «по наущению и подстрекательству» (очевидно, имея в виду Раймона), а у Немчиновой выдвигается «тезис о самозащите, вызванной поведением араба» (il a plaide la provocation, р. 89).
Как видим, там, где есть возможность интерпретации, основанной на подтексте, переводчики последовательно чувствуют в повести разный подтекст.
Отдавая должное гильотине, Мерсо находит остроумным этот способ казни, при котором осужденный должен желать поскорее лишиться жизни, чтобы избегнуть длительных мучений.
En somme, le condamne etait oblige de collaborer moralement (p. 94).
Каждая из переводчиц строит фразу на том слове, которое в «ключе» перевода:
Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит (Галь, с. 158).
Приговоренный обязан морально участвовать в казни (Немчинова, с. 123).
Если текст дает право на трактовку, Галь переводит ощущения героя в сферу физиологическую, Немчинова — в эмоциональную.
Je me sentais tout a fait vide (р. 54).
У меня сосало под ложечкой,— говорит Мерсо Галь (с. 134).
Я чувствовал полную опустошенность,— говорит Мерсо Немчиновой (с. 81).
277
Замечу в скобках, что тот «ключ», который «подобрала» к Камю каждая из переводчиц, последовательно служил обеим для толкования текста. Определенное «вйдение» так властно владело ими, что в тех редчайших случаях, когда текст был понят ими неправильно, они ошибались — каждая в своем «ключе».
Так, у Галь: адвокат, «кажется, впервые улыбнулся» (с. 141) там, где он «а souri comme la premiere fois» — то есть «так же, как и в первый раз...». Переводчица всегда склонна подчеркнуть сдержанность, приглушить всякое проявление чувств... И наоборот: у Немчиновой герой рассуждает о бессмыслице вынесенного ему приговора, который тем более нелеп для него, что'его вынесли «податливые, угодливые люди» — во французском тексте «des hommes qui changent de linge». Смысл этой фразы не переносный, а прямой — «люди, которые, как и все на свете, меняют белье» (Н. Галь). Здесь нет эмоциональной характеристики, она, наоборот, максимально прозаизирована и «овеществлена». Но это «эмоциональное» истолкование характерно для всего текста Немчиновой.
Герой прозы Немчиновой — интеллигент, по манере чувствовать, по манере оценивать окружающих.
Совестливый, деликатный, чувствительный (разумеется, в пределах, отпущенных текстом), это человек, который «всегда бывает в чем-то виноват», которому «пришлось» выстрелить — он сродни героям XIX века и его классической литературы. Такому прочтению соответствует плавность закругленной фразы, эмоционально окрашенная лексика, весь интонационный строй текста.
В этой переводческой работе — своеобразная попытка разрешить «загадку» героя, смягчить то мучительное нравственное противоречие, которое возникает при чтении повести, автор которой принуждает читателя испытать невольное и недоуменное сочувствие к человеку, у которого «омертвела чувствительность к распространенному вокруг нравственному кодексу, да и ко всем прочим установлениям людского общежития»1.
Это попытка «очеловечить» героя, извинить его, приблизить его к нормам людского общежития, которые он нарушает.
1С. Беликовский. После «смерти бога». «Новый мир», 1969, № 9, с. 227.
278
Н. Галь такой попытки не делает. Она лицом к лицу встречает тревожную, необычную, очень XX века прозу Камю. Нехотя, преодолевая свою привычную замкнутость, «некоммуникабельность», говорит с нами ее герой. Он не прикрашивает своих чувств, не делает попытки что-нибудь объяснить и оправдать. Переводчица избирает для своей прозы «нулевой градус письма», как охарактеризовал прозу Камю французский критик Ролан Барт (иногда, пожалуй, решаясь даже снизить его температуру до минус единицы), тем безжалостней ставя читателя перед всем комплексом сложных нравственно-философских проблем повести и вызывая в нем тревожное ощущение, так точно сформулированное С. Беликовским: «Ходатайство о пересмотре дела об убийстве, поданное Камю в трибунал взыскательной совести... поддержать по крайней мере столь же трудно, как и скрепить вынесенный приговор»1.
Хотя в названии статьи речь идет о «трех Камю», до сих пор мы в основном ограничивались сопоставлением двух текстов. Это не случайно. В работах обеих советских переводчиц мы имеем дело с переводом-концепцией, с переводами мастеров, уверенно владеющих инструментом своего ремесла, знающих, чего они хотят, и последовательно добивающихся осуществления поставленной задачи.
Иное дело перевод Г. Адамовича.
Легче всего упрекнуть старого литератора в буквализме. Перевод Адамовича дает для этого достаточные основания. Не надо долго искать, чтобы составить подборку фраз, подобных следующим:
Поразило меня в их лицах то, что вместо глаз виднелось что-то тускло светящееся в окружении бесчисленных морщин (с. 33).
В. это мгновение я обратил внимание, что они со своими трясущимися головами и со сторожем посередине сидят прямо против меня (с. 33).
Однако беда перевода Г. Адамовича не только в буквализме. Буквалистические работы произрастают и на почве советского перевода. В переводе Адамовича прежде и больше всего поражает другое — отрыв от стихии родного языка, утрата связи с живой современной русской речью. Именно этот отрыв и ломает все замыслы переводчика, вносит хаос, эклектизм в его художественную систему, лишая пере
1 «Новый мир», 1969, № 9, с. 231.
279
вод цельности, единства, создавая спотыкающийся ритм и наивный словарный разнобой.
Надо отдать должное Адамовичу: в его переводе не так уж мало частных удач. Он, несомненно, уловил «современность» прозы Камю. И не только декларировал в предисловии, что в своей «неподражаемо своеобразной» прозе Камю отчасти использовал «повествовательные приемы новых американских романистов», но и пытался передать своеобразие повествовательной манеры Камю.
Интуитивно Адамович шел к поискам упрощенного синтаксиса, к бессоюзному построению фраз, к лапидарности, убирая — иногда довольно смело — «лишние» слова, переводя глаголы в настоящее время, избавляясь от «объяснительных» связок.
Возьмем наудачу несколько примеров такого «решения» текста.
Cela me permettrait de vivre a Paris, et aussi de voyager une partie d’annee (p. 50).
Жил бы я в Париже, а часть года проводил бы в разъездах (с. 60).
(Ср. Галь: Тогда я мог бы жить в Париже и при этом довольно' много разъезжать, с. 132).
Je n’ai pas bien compris ce qu’il entendait par la et je n’ai rien repondu (p. 67).
Я не совсем уловил смысл его слов и не ответил ничего (с. 82—83).
(У Галь: Я не очень понял, что он имеет в виду, и не ответил, с. 141).
(У Немчиновой: Мне непонятно было, какой смысл он вкладывал в свои слова, и я ничего не ответил, с. 93.)
Il a allume une cigarette et il m’a decouvert son idee (p. 45).
Он закурил и стал откровеннее (с. 52).
(У Галь: Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план.)
Au-dehors tout etait calme, nous avons entendu le glissement d’une auto qui passait (p. 46).
На улице была тишина, проехала только одна машина (с. 53).
(Даже у Галь: На улице стало совсем тихо; шурша шинами, прошла одинокая машина, с. 129.)
Перечень примеров можно было бы несколько увеличить. Однако не случайно мы цитируем удачи не абзацами, а отрывочными фразами. При чтении перевода Адамовича читатель то и дело спотыкается, перестраиваясь на разные ритмические и лексические лады. К сожалению, только в отдельных случаях переводчику удается подчинить текст своей воле, заставить его работать на свое заявленное в предисловии понимание стиля'Камю. Но чаще текст выхо
280
дит у него из повиновения и играет с ним злые шутки. Лаконично, «по-современному» построенная фраза подбрасывает вдруг старомоднейшую инверсию, в разговорную лексику с размаху вклинивается давно вышедшее из употребления слово, и текст разваливается на части, подчиняясь уже не единому внутреннему ритму, а тем зигзагам, по которым ведет его потерявшая уверенность рука маститого — и несомненно одаренного — литератора.
Вот несколько таких фраз, нелепо соседствующих с фразами, приведенными выше.
...и солнце быстро согнало с обращенного к небу лица моего последние брызги, стекавшие мне в рот (с. 68).
...и лень заставила меня от мысли моей отказаться (с. 82).
Опять привиделся мне красный пляж и на лбу я ощутил ожог солнца. Но не ответил я ничего (с. 83).
Старой своей фетровой шляпы он не снял (с. 63).
«В бытность студентом», «будучи еще крепок», «мой юный друг»,— говорят его герои. И тут же, плохо усваивая современную фразеологию: «теперь ты друг что надо».
«А сударыня не работала»,— жалуется на свою любовницу Рэмон (с. 50).
«А ты распиваешь кофеи с разными там подругами»,— укоряет он ее (там же).
Досадно ему было то, что «к соитию с ней он испытывал то же влечение, что и прежде» (с. 51).
«Околоток», «лечебные соли» (слабительное), «телефонировал», «воспретил» взрывают ткань иногда даже удачных фраз.
Особенно напыщенно-старомодным выглядит у Адамовича драматический конец VI главы 1-й части, завершающийся словами: «И было это будто четыре моих коротких удара в дверь несчастия».
Впрочем, об этом столь значительном эпизоде романа следует поговорить подробнее.
Адамович в предисловии пишет:
«Страница, предшествующая убийству, например, имеет крайне мало общего с большинством других глав. Простодушие уступает место сложной, несколько болезненной образности, объясняющейся, вероятно, растерянностью Мерсо. Надо было в переводе уловить единство одного с другим».
Сам он как переводчик этого единства не раскрыл. В подлиннике сдержанный, «безличный» рассказ героя пронизан яркой метафоричностью, всегда необычайно интенсив
281
ной, когда герой приходит в соприкосновение с природой, солнцем, морем, небом, когда он отдается непосредственному чувственному восприятию.
Надо сказать, что это тонко ощутила и блестяще передала в своем переводе Н. Галь, нигде не убоявшаяся смелой образности, так выразительно контрастирующей с общим сдержанным тоном ее перевода.
1. Если у Камю: la fleur du ciel au-dessus de ma tete (p. 73).
У Галь: ...Смотреть, как цветет небо над головой (с. 145).
Смотреть на лоскуток неба вверху (Адамович, с. 91).
2. Или о женской красоте: le brun du soleil lui faisait un visage de fleur (p. 46).
Смуглое от загара лицо было как цветок (Галь, с. 129).
Загар очень шел к ней (Адамович, с. 54).
3. Или о вечерних звуках в тюрьме: ой les bruits du soir montaient de tous les etages de la prison dans un cortege de silence (p. 76).
У Галь: co всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают (с. 146).
У Адамовича: ...вечерние шорохи поднимаются из всех этажей тюрьмы и рассеиваются в тишине (с. 95).
Или сцена похорон:
Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина... Солнце расплавило гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти (Галь, с. 123).
У Адамовича: Вокруг были все те же залитые солнцем поля. ...Асфальт потрескался от жары. Ноги вязли в нем и оставляли искрящийся на солнце след (с. 39).
И дальше Галь нагнетает ощущение жары и черноты:
Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже слепленный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк.
(Ср. фр. текст: Autour de moi, c’etait toujours la meme campagne lu-mineuse gorgde de soleil... Le soleil avait fait eclater le goudron. Les pieds у enfon^aient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voi-ture, le chapeau du cocher, en cuir bouilli, semblait avoir ete pdtri dans cette boue noire. J’dtais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la mono-tonie de ces couleurs, noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laque de la voiture, p. 35—36).
Передав «черноту» окружающих предметов повторением глагола «чернел», сопровождая его различными характеристиками (липко, тускло) и потом заменив его глаголом «бле
282
стел», Галь передала напряженность, интенсивность, навязчивость ощущений героя.
В варианте Адамовича этот отрывок сделан тяжеловесно и вяло:
Шляпа из дубленой кожи на голове возницы казалась куском той же черной грязи. Все чуть-чуть перепуталось в моей голове: синева и белизна неба, однообразие липкой черноты асфальта, тусклой черноты одежд, отполированной черноты дрог.
Нас уже не удивит в тексте Галь, что «красная, как кровь, земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней» (с. 123). Адамович: «обрывки белых корней, в ней (то есть в земле.— Ю. >7.) мелькавшие».
Галь порой даже усиливает метафорическое звучание текста. В тюрьме на свидании:
Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь (с. 144). По-французски просто se croisaient (р. 72). У Адамовича: шепот, крики, разговоры — все это перемешалось (с. 90).
Именно смелое отношение к метафоре, заложенной в тексте Камю во всем, что относится к чувственному миру, позволило ей так блестяще решить труднейший для переводчика и истолкователя финал VI главы 1-й части.
Я позволю себе процитировать этот отрывок, начиная от «подготавливающих» его фраз, и конец — почти целиком.
Mais la chaleur eitait telle qu’il m^tait penible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombait du ciel... C’6tait le meme eclatement rouge... Toute cette chaleur s’appuyait sur moi et s’opposait a mon avan-ce... A chaque ёрёе de lumiere jaillie du sable, d’un coquillage blanchi ou d’un dёbгis de verre, mes machoires se crispaient...
C^tait le meme soleil, la meme lumiere sur le meme sable qui se prolongeait ici...
Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derriere moi... La brulure du soleil gagnait mes joues et j’ai senti des gouttes de sueur s’amas-ser dans mes sourcils. C^tait le meme soleil que le jour ou j’avais enters maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. A cause de cette brulure que je ne pouvais plus supporter, j’ai fait un mouvement en avant...
Et cette fois, sans se soulever, L’Arabe а Нгё son couteau qu’il m’a ргёзеЩё dans le soleil. La lumiere a gicte sur 1’acier et c^tait comme une longue lame ёНпсе!аЩе qui m’atteignait au front. Au meme instant la sueur атаззёе dans mes sourcils а сои!ё d’un coup sur les paupieres et les a re-couvertes d’un voile tiede et dpais. Mes yeux etaient aveug^s derriere ce ri-deau de larmes et de sei. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive ёсШаЩ jailli du couteau toujours en face de moi. Cette ёрёе brulante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacilte. La тег а сИагпё un souffle ёра15
283
et ardent. Il m’a semble que le ciel s’ouvrait sur toute son ё!endue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon etre s’est tendu, et j’ai crispe ma main sur le revolver. La gachette a cede, j’ai touche le ventre poli de lacrosse et c’est la dans le bruit a la fois sec et assourdissant, que tout a commence. J’ai secoue la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais detruit 1’equilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage ой j’avais ete heureux. Alors, j’ai tire encore quatre fois sur un corps inerte ой les balles s’enfon^aient sans qu’il у parut. Et c’etait comme quatre coups brefs que je frappaissur la porte du malheur (p. 60—62).
Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце... Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невмоготу...
Все так же слепил багровый песок... Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием... Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копья света, и я судорожно стискивал зубы...
...Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца.
...Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед... Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках. Я не мог больше выдержать и подался вперед...
Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось — небо разверзлось во всю ширь и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Выпуклость рукоятки была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался — и тут-то, сухим, но оглушающим треском все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где совсем недавно мне было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды (Н. Галь, с. 138—139).
Вы физически ощущаете слепящий свет солнца, нестерпимую, немыслимую жару, гладкую поверхность металла в руках... Переводчик достигает этого всем арсеналом средств, которыми располагает прозаик. Тут и поразительно выверенный ритм, и точно подобранная лексика, и неожиданно точно найденная нарастающая пропорция односложных слов и слов с мужским окончанием (они подчеркнуты мной в тексте.— Ю. и звукопись («плотной пеле
284
ной соли и слез»; «в лоб, как в бубен, било.солнце»). В последних четырех ритмических группах финальной фразы как бы слышатся четыре роковых выстрела: словно я — стучался — в дверь — беды.
И вот «болезненная образность» в тексте Адамовича, временами напоминающем не лучшие образцы декадентской прозы начала века:
Но зной был таков, что тяжело было и стоять без движения под падавшим с неба световым ливнем...
Вокруг меня все было раскалено докрасна... Жар давил меня и мешал двигаться... При всякой насквозь пронзавшей меня искре, с песка ли, с побелевшей ли ракушки или с осколка стекла, челюсти мои судорожно сжимались...
...Было то же солнце, тот же свет на том же тянувшемся досюда песке...
...Не приподнимаясь, араб вытащил из кармана нож и показал его мне. На стали сверкнул отблеск солнца, и мне почудилось, что длинное, искрящееся лезвие ударило меня в лоб. В то же мгновение накопившийся в бровях пот ручьями потек мне на веки и застлал их теплым, плотным покровом. Слезы и соль ослепили меня. Я ничего не чувствовал, кроме звона и треска солнца о мой лоб, и мне казалось, что нож передо мной превратился в сверкающий меч. Он срезывал мне ресницы, проникал в наболевшие глаза. Тогда-то все и смешалось. Море дохнуло чем-то жгучим и тяжелым. Мне показалось, что небо разверзлось и что оттуда льется огонь. В крайнем напряжении я сжал в руке револьвер. Нащупав курок, я взялся за гладкую рукоятку, и так, в сухом и оглушительном грохоте, все и началось. Я стряхнул с себя и пот, и солнце. Я понял, что нарушил стройное течение дня, исключительную тишину пляжа, где был счастлив. Тогда я выстрелил еще четыре раза подряд в неподвижное тело, куда пули входили незаметно.
И было это будто четыре коротких моих удара в дверь несчастия (с. 73—76).
* * *
На русском языке существуют три разных повести Камю — один «Незнакомец» и два «Посторонних». (Мы не коснулись здесь вопроса о переводе названия повести, о степени совпадения «я» рассказчика и героя и целого ряда других интересных и важных для переводческого решения проблем — они увели бы нас в сторону от нашей темы.)
Вряд ли стоит подводить итоги сказанному выше. Они отчасти уже сформулированы в тексте статьи. Разве что повторить еще раз уже давно открытую, ставшую банальной и, однако, никак не отразившуюся в широкой критической практике истину: нет и не может быть двух одинаковых
285
переводов даже тогда, когда они созданы в одну историко-литературную эпоху, в одной стране, переводчиками, принадлежащими к одной переводческой «школе». За каждой интерпретацией оригинала стоит индивидуальность переводчика, его талант, его вкус, его литературный опыт и пристрастия, его критическое чутье и многое, многое другое, из чего складывается индивидуальность всякого художника. Суждение критика о книге, изданной по-русски,— суждение о ее идейном содержании и о ее художественном воплощении — может быть полноценным и полновесным только тогда, когда критик помнит о том, что в его диалоге с автором участвует еще и третий, отнюдь не безмолвный собеседник — переводчик.
Об этом мы хотели напомнить критике настоящей статьей.
из
ТВОРЧЕСКОГО
ОПЫТА
Вл, Кафа ров
(Банг)
КАПЛИ В МОРЕ
Пусть то, что я скажу, не так уж мудро, Но мудрость друга — выслушать меня.
Самед Вургун
Кура и Волга. Порою они воспринимаются как нечто отвлеченное, символическое. Я же вспоминаю, что рос на Куре, что мы с отцом доходили по Каспию до Астрахани, а оттуда поднимались высоко по Волге.
Почти полвека протрубил отец на Куре и на Каспии. Вряд ли кто лучше его знал место их встречи. Поначалу отец вводил морские суда в Куру, а под конец стал выводить речные пароходы в море.
Сыновья капитанов становятся капитанами. Так бывает нередко.
Сыновья писателей становятся писателями. Так тоже* бывает.
Я, сын капитана, по-своему продолжаю дело отца.
* * *
Занимаясь художественным переводом с азербайджанского на русский язык, я издал, в частности, два сборника баяты1. Расскажу о них.
1 «Баяты» (на русском языке). Предисловие В. Кафарова и П. Симонова. Перевод В. Кафарова. Ред. П. Симонов. Баку, Азернешр, 1960, тир. 7000. «Ларец жемчужин». Азербайджанские народные четверостишия — баяты, пословицы и поговорки. Перевод и предисловие В. Кафарова. Ред. А. Ахундова и Н. Кондырева. Москва, «Наука», 1968, тир. 100 000.
10 Мастерство перевода
289
Байты — издревле распространенная форма азербайджанской устной народной поэзии, монострофа, состоящая из четырех стихов семисложного размера хеджа. «Обаятельна и эта поэтическая форма ... две первые строки рифмованы, по общему правилу неожиданно и звонко, третья висит без рифмы, а четвертая подхватывает рифму первых двух» (П. Антокольский)\
В рифмообразовании баяты важную роль играют д ж и-н а с ы (омонимические рифмы):
Бу архлары атан мэн, Cyjy cyja гатан мэн. Келкэлик ]’ада галды, Куи алтында ]атан мэн.
Рыл арык глубокий я, Слил в один потоки я. Тень досталась лежебоке — Кто на солнцепеке? Я!1 2 —
а также р е д и ф ы (повторения одного или нескольких слов в конце строки после рифмы):
Aj догду, кечэ кэлди, Сорушма, нечэ кэлди. Лары кечэ козлэдим, Кундузу бечэ кэлди.
Солнце село, мрак пришел, Я не знаю — как пришел.
Ночью я тебя ждала, Что ж ты днем, чудак, пришел!
Баяты элегического, философского, героико-патриотического содержания, которое, как правило, выражается в двух последних строках, благодаря лаконизму приобретают афористичность, нередко их заключительная часть становилась пословицей, или же наоборот — ранее известная пословица вплеталась в канву баяты:
Эзизим кэтан jaxnibi, Ке]мэ]э кэтан jaxnibi. Гурбэт jep чэннэт олса Ленд дэ вэтэн jaxinbi.
Вот рубаха из холста, И приятна, и проста. Как в раю — в чужом краю, А свои милей места.
1 См. «Литературный Азербайджан», Баку, 1960, № 10, с. 135.
2 Не даю пока подстрочников, потому что: «Кажется, что бы могло, быть ближе прозаического перевода, в котором переводчик нисколько не связан, а между тем прозаический перевод есть самый отдаленный, самый неверный и неточный при всей своей близости, верности и точности» (В. Г. Белинский), «Русские писатели о переводе». JL, «Советский писатель», 1960, с. 199.
Подстрочники буду приводить там, где это необходимо для анализа художественных переводов.
290
В баяты закреплялась мудрость азербайджанского народа, его многовековой опыт, традиции.
ШаЬ отурар тахтында, Киле]лэнэр бахтындан. Хоруз кефинэ банлар, СэЬэр ачар вахтында. Эзизим, бахтын олсун, Гызылдан тахтын олсун. Не]лирсэн гызыл тахты, Бир гызыл бахтын олсун. Царь на трон уселся зря, Трон не радует царя. Пусть петух поет как хочет — Встанет вовремя заря. Дорогой, моя бы воля, Я сидел бы на престоле. Золотой престол не нужен — Золотой была бы доля.
Ариф олан сез гана, Соз анла]а, сез гана. Луз мин тулку jbiFbwca Не]лэ]эр бир аслана. Знатоку мои слова, Истолкуй мои слова: Даже тысяча лисиц Одного не свалят льва.
От собственно баяты принято отличать четверостишия обрядовые: свадебные, похоронные (причитания), девичьи (гадания), а также колыбельные, трудовые и сатирические.
Баяты создавались чаще всего ашугами, это образцы поэтико-музыкального фольклора, ибо они, как правило, не читаются, а поются на различные мотивы в сопровождении народных инструментов, преимущественно саза.
Баяты обычно существуют самостоятельно, но небольшие циклы, приобретая устойчивость, складываются в лирические песни, отдельные баяты вкрапливаются в дастаны и другие поэтические формы. А трудовые песни («Ьолавары»), при своем зарождении имевшие иную форму, со временем подчинились форме баяты.
Окончательному варианту баяты предшествовал период кристаллизации и шлифовки, и некоторые четверостишия и ныне бытуют в различных вариантах. Как и всякое большое явлейие искусства, баяты многослойны, значительные пласты составляют четверостишия как романтического, так и реалистического плана, многие миниатюры сочетают в себе свойства обоих стилей.
Мэн ашыг чимэн }ердэ, Дерд jaHbi чэмэн ]ердэ. Луз мин лачын девр е]лэр Бир сона чимэн ]ердэ.
Тут агачын гырдылар, Устэ дивар гурдулар.
Лени ]етэн гыз устэ Доггуз отлан гырдылар.
Что увидел я, ашуг, Здесь и речка, здесь и луг! Лебедь плещется одна — Сто орлов парят вокруг.
Подрубили тут весной, Придавили пень стеной.
Девять юношей убили Из-за девушки одной.
10*
291
Первые две строки баяты-зачастую исполняют служебную (рифмообразующую) роль, и смыслового единства -между ними и заключительной частью нет. (Существует убедительная версия о том, что в период зарождения баяты как жанра и первые строки всех четверостиший несли определенную смысловую нагрузку, однако в силу различных причин утратили ее.)
Табагда ]арым алма, Галыбдыр japbiM алма. Алырсан чаны мы ал, Элимдэн japbiM алма. Что за яблоко — огонь, Обжигает мне ладонь! Жизнь мою берешь — бери, А любимую не тронь.
Af думай гаша долар, Кэкликлэр даша долар. Лардан бир хэбэр билэн Ja аглар, ja шад олар. Куропатки гнезда вьют, Дождевую воду пьют. Если есть от милых весть, Люди плачут иль поют.
Иногда кажется, что выношенные народом истины противоречивы:
Эзизи]'эм, дилэн кэз, Барда кулэ дилэн кэз. Гурбэтдэ хан олунча Вэтэниндэ дилэн кэз. Розу отыщи скорей И поведай просьбу ей. В стороне чужой не царствуй, Лучше нищенствуй в своей.
9зизи]эм, долан кэз, Дэрдэ-гэмэ долан кэз. Намэрдэ 6ojyH э]’мэ, Кет гурбэтдэ долэн кэз. Из тоски одежду сшей Да укутайся плотней. Лучше жить в стране чужой, Если нет житья в своей.
Таков своеобразный диалог, сохранившийся в памяти народной. Поистине, мудрость заключается не в безотчетном отрицании одного и столь же безоговорочном утверждении другого. Бездну раздумий вызывают эти два четверостишия. Какое появилось раньше? В каких условиях и кем они впервые произнесены? Может, первое произнес человек, никогда не бывавший на чужбине? А может, оно вырвалось как стон по родному краю из груди изнемогшего скитальца? Может, второе произнесено человеком, не вкусившим «сладости» чужбины? А может, возникло в порыве отчаянья на родине? А может, в нем затаено самолюбие человека, который предпочел жизнь на чужбине лишениям на родине и теперь, хотя ему и невесело в чужих краях, упорствует, лишь бы не кланяться «своим», «родным» притеснителям?
Так или иначе, народные истины применимы в различ-
292
них Обстоятельствах. Это присуще и образцам интимной лирики. Вот идеал женской красоты, эстетические требования, предъявляемые к внешности женщины:
Ашыг кез ола кэрэк, Кабаб кез ола кэрэк.
Гащ тара, кирпик тара, Уз ат, кез ала кэрэк.
Мне красавица нужна — Быть должна какой она? Чернобровой, белолицей, Сероглазой быть должна.
Но вот четверостишие, которое как бы снимает катего-р ичность п редыдущего:
Мэн ашыг нэ гарасы, То]чунун нагарасы. Кенул севэн кезэлиэ Нэ агы, нэ гарасы.
Свадьбу справили давно, Свах прославили давно. Что белянка, что чернавка,— Если любишь, все равно.
А-это четверостишие, в свою очередь, поддерживается следующим:
Улдуз денуб aj олмаз, Лаз кетмэсэ jaj оЛмаз. Кенул севэн кезэлин
Как зиме весной не стать, Так звезде луной не стать. Та, что любишь, всех
Кезэлликдэ Taj олмаз.
Равной ей не отыскать.
красивей —
Общеизвестно, что в фольклоре отражаются социальные, общественные конфликты. Так, например, вопреки ортодоксальному исламу, благословляющему многоженство, фольклор проповедует единобрачие:
Ашыг бириннэн кэрэк Сэдэф дурриннэн кэрэк. Дун]ада кезэл чох дур, Илгар бириннэн кэрэк.
Суженому — к суженой, Золоту — с жемчужиной. На земле красавиц много, Будь с одной как муж с женой.
О распространенности баяты, значительности их удельного веса как в поэзии, так и в жизни народа говорят многочисленные факты.
Будто струи живой воды, и целительны и чисты, Оживляют весь Карабах чудотворные баяты,—
писал Видади — крупнейший поэт XVIII века.
Баяты высоко ценил А. Бакиханов (Гудси). Поэт, философ и просветитель, современник и друг Пушкина, Грибоедова, Бестужева-Марлинского, он является первым из
293
вестным нам собирателем баяты. Значение баяты неоднократно отмечается в трудах по истории Азербайджана, где говорится, что любимой формой народной поэзии были четверостишия, передававшие чувства и думы широких масс и оказавшие влияние на все области азербайджанской поэзии.
А вот подробность похорон славного большевика Хан-лара Сафаралиева: «Участники процессии пели революционные песни и азербайджанские баяты»1.
В записной книжке легендарного партизана Михайло — Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, сражавшегося на берегах далекой Адриатики, сохранились баяты и вариации на их темы:
Ашыг еллэр ajpbicbi, Шана теллэр ajpbicbi. Бир кунунэ дезмэздим Олдум иллэр ajpbicbi.
Где ашуг, а где народ, Может быть, в беде народ? Не терпел и дня разлуки, А теперь какой уж год!
Вообще многие баяты испокон веков создавались на чужбине, и проследить историческую географию их появления и распространения — значило бы начертать все тяжкие пути и перепутья, по которым прошли сыны и дочери Азербайджана.
Зародившись как жанр устной литературы, баяты перешли в письменную, которая в свою очередь воздействовала на устную традицию. Баяты создавались не только представителями неимущих классов, но и выходцами из зажиточных слоев, аристократами — вплоть до монархов, когда им было необходимо найти общий язык с народом. Так, в форме баяты писал шах Исмаил Хатаи, чьи произведения дошли до наших дней, сохранившись как в письменных источниках, так и в устной передаче.
В конце XIX — начале XX века к этой форме обращались сатирик Мёджуз Шабустари, лирик Мухаммед Гади, драматург Гусейн Джавид. В наше время формой баяты пользовался Самед Вургун, их влияние ощущается в ряде песен, созданных Расулом Рзой, ему же мы обязаны собранием керкукских (иракских) баяты. В письменной поэзии
1 А. Н. Г у л и е в. И. П. Вацек в революционном движении в Баку. Азернешр, 1965, с. 96.
294
укореняются также сатирические баяты, которые время от времени появляются на страницах журнала «Кирпи» («Еж»).
Язык баяты — язык братства. Баяты собирал и создавал, записывая армянским алфавитом, Хачатур Абовян; известны баяты учителя-армянина Сурена Таривердянца, призывающие народы к единству; наконец, стихи народного поэта Азербайджана Мамеда Рагима, посвященные газопроводу Баку — Тбилиси — Ереван, также созданы в форме баяты.
Два слова о сходствах и различиях. Баяты иногда называют азербайджанскими частушками. Действительно, между частушками и девичьими гаданиями, а также песенками на бытовые темы немало сходства, нередко сближается и ритмика.
Но баяты — основной жанр азербайджанской устной народной поэзии, а о месте частушек в русском фольклоре этого нельзя сказать. Частушкам, в отличие от баяты, не свойствен дидактизм. Но особенно резко возрастное различие: частушкам не более двухсот лет, а у баяты чуть ли не десятивековая история. Эти памятники старины вместе с тем очень современны,, особенно по языку. Переходя из уст в уста, от поколения к поколению, они постоянно обновлялись. И если ныне, скажем, «Слово о полку Игореве» стало литературно-историческим памятником, изобилующим темными местами и нуждающимся в переводе на современный русский язык, то древние баяты бытуют в народе до сих пор. Даже записанные и напечатанные, они не залеживаются на книжных полках.
* * *
Мое поколение бакинских литераторов выросло на произведениях В. Маяковского и С. Есенина. Вновь и вновь обращаясь к их стихам, посвященным Азербайджану и Кавказу, мы изучали по школьным хрестоматиям Самеда Вур-гуна, Сулеймана Рустама и Расула Рзу (образный мир Микаила Мушфика открылся нам позднее), зачитывались стихами К. Симонова, Н. Тихонова, П. Антокольского и Я. Смелякова. Нам дороги имена А. Фадеева, В. Лугов-ского, И. Сельвинского и А. Адалис. Все они содействовали сближению русской и азербайджанской культур, и не только своими переводами. Я считаю блестящими и в высшей степени поучительными переводы Константина Симо
295
нова из Самеда Вургуна. Но здесь я расскажу о влиянии, оказанном на меня выдающимся русским поэтом, не переведшим с азербайджанского ни строки.
«Эта история... имеет некоторый интерес, хотя бы как один из примеров многообразных связей и взаимовлияний в нашей советской литературе»1.
Вскоре после войны, может быть в первую послевоенную зиму, у нас в доме, на окраинной улочке Баку, появился «Василий Теркин». Поздними вечерами, устав от мальчишеских игр, я укладывался на. глинобитном полу рядом с керосинкой (электричества почему-то не было) и прочитывал очередную главу. Стараясь, чтобы страница освещалась как можно полнее, я подсовывал книгу почти вплотную к фитилям, и верхние края некоторых листов слегка обгорали. Книга эта поразила меня с самого начала, но чем — я не мог объяснить, пока не прочитал:
Вот — стихи, а все понятно, Все на русском языке.
Вот именно — все понятно, и нет «стиховости», и все взаправдашнее. И автор этой книги, необыкновенной по своей обыкновенности, был живой человек с высоким лбом и широкими полковничьими погонами на плечах гимнастерки, и писал он о живом человеке—реальность Василия у меня в ту пору не вызывала никаких сомнений, и писал этот живой человек о самом животрепещущем. И ни одного громкого слова. И запоминалось само по себе. Вскоре я знал наизусть «Василия Тёркина» от доски до доски, а чуть позже стал одним из подражателей-продолжателей (тогда-то я наивно полагал, что я один додумался до этого).
В студенческие годы мне выпал случай быть хоть в малом полезным автору «Василия Теркина». Когда А. Асланов принялся за перевод на азербайджанский язык книги про бойца, я консультировал его и делал подстрочники — устные и письменные.
С годами глубже постигалась замечательная книга, ценность ее в моем понимании возрастала, все более открывалась мне ее энциклопедичность.
С замиранием сердца мечтал я о своей книге (разумеется,
1 А. Т. Твардовский. Статьи и заметки о литературе.. М., «Советский писатель», 1963, с. ПО. Далее цитируется по этому тексту.
296
не про бойца, раз она уже создана другим), я мечтал о книге, которая была бы «моей лирикой, моей публицистикой, песней й поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю» (с. 155). В этой сокровенной мечте сказывалось «то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова «книга» в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре... Так или иначе, но слово «книга» в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, достоверный, безусловный» (с. 149).
И вот попался мне на глаза томик «Баяты», составленный М. Г. Тахмасибом. Зная многие четверостишия порознь, я впервые встретил их собрание, и оно поразило меня. «В простосердечии и безыскусственности народной лирики есть та высшая правда и мера искусства, уровня которой редко достигали отдельные мастера письменной литературы. В них простота и высокий примитив, которые остаются образцом для самых душевно сложных, но вечно ищущих правды и простоты художников... Как из камешков складывается мозаика, так из разрозненных песен каждого народа складывается картина его жизни. Мелочи быта, обычаи, нравы, верования — все это служит деталями большой картины жизни народа. Это картина эмоциональная, образная, песенная, но дает она читателю не меньше, чем специальные труды и исследования, посвященные жизни и истории народов. Песенная сюита дает понимание истории, характера народа, позволяет заглянуть в его душу. Она дает почувствовать темперамент народа, ритм его исторической жизни»1. Неспроста в народе баяты называют жемчужинамидорожа каждым четверостишием. А тут передо мной была целая россыпь, бесценный клад.
Я читал баяты медленно, да иначе и нельзя. Каждое четверостишие вызывает раздумья о жизни и смерти, о мире и о себе. А веселые четверостишия, ладные и звонкие, смакуются и так и эдак. И постепенно нарастало чувство невольной вины: как много людей лишено удовольствия, испытываемого тобой! Сидишь будто Кащей над сундуком.
И снова — детство. Сказочной роскошью в военное время была осетрина—свежая, речная. Бывало, отец нет-нет
1 Л. О з е р о в: Песнь — душа народа. «Мастерство перевода. 1963». М., «Советский писатель», 1964, с. 203—204.
297
и привезет рыбину с Куры. И тогда мы созывали к себе соседей, не допуская мысли, что такое можно есть одним. А если мама почему-либо не могла хлопотать у плиты, рыба разрезалась на увесистые куски, и я разносил их по соседям.
Давным-давно кончилась война, и много лет, как я похоронил родителей, и живу в другом доме, и соседи у меня другие, но обычай тот же, прежний. Самым хорошим обязательно надо поделиться.
Перевести баяты! Да возможно ли это?
И тут я убедился, насколько был прав М. Горький, который, отнюдь не преуменьшая заслуг и не умаляя трудов собирателей и издателей азербайджанского фольклора, писал: «Собрать произведения устного народного творчества и издать их на тюркском (азербайджанском.—В. Д’.) языке — это половина дела, и наиболее легкая.
Вторая половина труднее и важнее, ибо материал Ваш необходимо перевести на русский язык и напечатать по-русски»1.
Попытки представить баяты русскому читателю в первой «Антологии азербайджанской поэзии» (М., ГИХЛ,1939) вызывали чувство досады и опаски — если известным поэтам не удалось, куда тебе! И все-таки я отважился.
И все договоры и издательские планы показались такими малозначащими в сравнении с трудом и риском, который я добровольно брал на себя. Очертя голову я кинулся в многокаскадный водопад и переводил взахлеб, словно бы плыл, придерживаясь весьма приблизительных ориентиров. Мне придавала силы убежденность в том, что решение принято правильное, а поддержку я находил опять у А. Т. Твардовского. Он, высоко отзываясь о переводах С. Я. Маршака из Роберта Бернса, подчеркивал важность верного выбора оригинала, и еще: «Если самого не волнует, не радует, не удивляет порой хотя бы то, что пишешь,— никогда не взволнует, не порадует, не удивит другого: читателя, друга-знатока» (с. 134). А этот труд увлек меня. И я стремился опровергнуть ходячее мнение о переводной литературе как литературе второсортной. «Обозначение «перевод» в отношении поэзии чаще всего в той или иной мере отталкивает читателя: оно позволяет предполагать, что имеешь дело с
1 М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 30. М., Гослитиздат, 1955, с. 365,
298
некоей условной копией поэтического произведения, именно «переводом», за пределами которого находится недоступная тебе в данном случае подлинная прелесть оригинала. И есть при этом другое, поневоле невзыскательное чувство читателя — готовность прощать этой «копии» ее несовершенства в собственно поэтическом смысле: уж тут ничего не поделаешь,— перевод, был бы он только точным, и на том спасибо» (с. 84). Передо мной как образец стоял томик Роберта Бернса в маршаковских переводах — непринужденных, раскованных, народных по звучанию. Как бы далеко ни было географическое и историческое расстояние между прославленным шотландским бардом и азербайджанскими ашугами — безымянными авторами баяты, их роднило само существо поэзии — народность. И я задался целью передать это качество.
Фольклор — наиболее специфическое, своеобычное выражение поэтического таланта народа.
«Кажется непостижимым, каким образом даже наиболее сложные стихотворения, проникнутые словно тютчевским стремлением слить воедино противоречивейшие метафоры, пришлись по нраву народу, обычно полагающему краеугольным камнем эстетики предельную простоту средств выражения — не примитивность, конечно,— простоту трудную, поэтическую, но все-таки простоту! Каким образом эти головокружительные сравнения, эта склонность к соединению далеких понятий могли найти в сердце народа отклик столь живой?»1
«Метафоризация на Востоке — черта не только книжной, но и народной поэзии и разговорной речи.... Речь, пересыпанная афоризмами, воспринимается как образная благодаря соединению конкретного и общего. Афористичность образного мышления — одна из ценных и жизнеспособных черт поэзии Востока, в том числе и тюркских народов»1 2.
«Лаконизм народной песни исходит из доверия к понятливости слушателей. Они знают окружающую жизнь. Они думают о ней. И достаточно намека, чтобы в их сознании создалась картина»3.
1 А. Тарковский. Я выпил все, что в чаше принесли... «Литературная газета», 26 ноября 1960 года.
2 В. Ганиев. Образность, как элемент точности. «Мастерство перевода, 1963». М., «Советский писатель», 1964, с. 71, 82.
3 Л. Озеров. Песнь — душа народа. «Мастерство перевода. 1963». М., «Советский писатель», 1964, с. 205.
299
«Главное для переводчика — постараться взглянуть на поэзию этих народов так, чтобы за непривычными, экзотическими, на первый взгляд, образами открылась внутренняя сущность художественного мышления». «На восточную речь надо смотреть изнутри, а не со стороны...»1
Я намеренно выписал столько цитат именно в такой последовательности. В фольклоре различных народов гораздо больше сходства, чем принято думать. На мысль об обособленности и непереводимости наводит прежде всего форма, содержание же является убедительнейшим доказательством близости, общности судеб народов. Устное творчество каждого народа выявляет не только и не столько национальное, сколько общечеловеческое.
Кура и Волга — у каждой свое начало, свои притоки и каждая дорога не только одному народу. Обе реки окрашивались кровью друзей и врагов, отражали тревожные пожарища и мирные костры, слышали песни горя и счастья. Кура и Волга — разные реки, но обе они впадают в Каспий. И сливаются в моем сердце.
В идеале переведенное произведение должно восприниматься так, словно бы оно и родилось на том языке, на который переведено, чтобы читатель воспринимал его, как свое родное, и ничто не препятствовало этому драгоценному впечатлению. Однако поначалу решение чисто формальных задач иногда становилось чуть ли не самоцелью. Внушающе подействовало предупреждение А. Т. Твардовского:
Покуда молод, малый спрос:
Играй. Но бог избави, Чтоб до седых дожить волос, Служа пустой забаве.
Примечательно, что он же обратил особое внимание на такой перевод С. Маршака из Р. Бернса:
. У которых есть, что есть,— те подчас не могут есть, / А другие могут есть, да сидят без хлеба.
/ А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть.
* Значит, нам благодарить остается небо.
Здесь рифмы — близнецы азербайджанских джинасов, игра омонимов подчеркивает жизнелюбие, щедрость, духов
1 В. Ганиев. Цит. ст., с. 74—75, 70.
300
ное здоровье произносящего это полушутливое застольное присловье. Каламбур же ради каламбура — занятие для приготовишек в поэзии. Чрезмерное увлечение звуковой стороной, неумелое применение важного средства инструментовки могут дать обратный эффект. Зачины, например, в грустных четверостишиях могут выглядеть беспечными детскими «считалочками»:1
Есть накидка — снега нет,
Есть кибитка — меха нет, Этот мир — гнездовье горя, Всюду плач, а смеха нет.
Азербайджанские джинасы не назойливы, они просто помогают запомнить четверостишие. Когда читаешь и произ-носишь их, кажется: иначе и не могло быть сказано. Значит, любой перегиб в переводе — серьезный ущерб, если прием покажется неестественным, надуманным. Я стал строже отбирать средства оснащения того или иного четверостишия.
Через год книга «Баяты» на русском языке вышла в свет.
Что греха таить, лестно было читать отзывы на книгу. В особенности краткий, но тем более ценный (мал золотник, да дорог!) отклик П. Г. Антокольского. Но сразу же по выходе «Баяты» я стал перелистывать книгу время от времени и делать пометки прямо на полях. Постепенно их набралось так много, что печатный текст читался уже с
1 Это, как и ряд других, замечание С. И. Липкина очень верно (см. стенограмму объединенного заседания Совета по художественному переводу и Совета по азербайджанской литературе, 5 июня 1969 года). Однако он неправ насчет применения усеченных рифм при переводе баяты. Сами баяты их содержат. Подробнее см.: Р а с у л Р з а. Керкукские баяты. Баку, Азернешр, 1968, с. 18 (на азерб. яз.).
Трудно согласиться с С. И. Липкиным и в том, что по-русски нельзя назвать смерть косой, а правильно только — костлявой. (Он имел в виду следующее четверостишие:
Смерть за мной идет с косой.
Убегаю от косой.
Чтоб спасти меня от смерти, Привяжи к себе косой.
Ср. у А. Т. Твардовского:
Я не звал тебя, Косая,
Я солдат еще живой.)
301
трудом. И на втором этапе работы я помнил того, чей опыт и авторитет так много значили и значат для меня: «Без любви, без волнения и горения, без решимости вновь и вновь обращаться к начатой работе, без жажды совершенствования — нельзя, как и в оригинальном творчестве, ничего сделать путного и в поэтическом переводе» (с. 94).
«А сколько было написано строк, переправленных десятки раз только затем иногда, чтобы выбросить их в конце концов, испытывая при этом такую же радость, как при написании удачных строк»,— мог бы я воскликнуть вслед за А. Т. Твардовским (с. 151 —152), хотя он создавал произведение оригинальное, а я переводил.
В отрочестве мне довелось принять участие в капитальном ремонте парохода. Заменяли не только палубу и надстройки, но и корпус, и котел, по существу от прежнего судна осталось только название. Его-то и выводил я на носу, корме и спасательных кругах. На письменном столе происходит, нечто подобное тому, что претерпел отцовский пароход на стапелях судоремонтного завода. Сколько таких переделок? А сколько судов в Каспийском пароходстве?
Если уж пошли подсчеты, скажу: в бакинском издании 498 четверостиший, в московском — 625. Из первой книги во вторую по различным причинам не перенесено 49 баяты. Из оставшихся 447 только 29 включены без к^ких-либо изменений. Все остальные подверглись переработке. После выхода «Ларца» около 100 баяты, вошедших в него, переделаны и столько же набралось новых переводов (почти все пока не издано).
* * *
Я уже говорил, что зачины играют вспомогательную роль — подготавливают восприятие основного содержания, служат лучшему озвучанию всей строфы и порою между ними и дальнейшим текстом нет непосредственной смысловой связи.
Различные зачины оригиналов и передаются различно.
Полного соответствия, как правило, я искал в тех случаях, где зачин в оригинале органически слит с основным содержанием, создавая художественное и логическое единство:
302
Гар кими о]дун мани, ©лдурдун, со]*дун мани. На келкэдэ сахладын, На кунда го]‘дун мани.
Эзизим мани тапар, Лад кэлэр мани тапар. Ьардан бир бала кэлсэ, Ахтарыб мани тапар.
Кун чыхды, кундур, фэлэк, Аглатма, кулдур, фэлэк.
Ла мани japa ]‘етир, Ла да ки, елдур, фэлэк.
Ты сгубил, как всех, меня, Растопил, как снег, меня, Ни на солнце, ни в тени Продержал весь век меня.
Неродной ко мне придет, Как родной к родне, придет. Где бы горе ни бродило, Все равно ко мне придет.
Грудь мою согрей, судьба, Грусть мою развей, судьба, Иль к любимой приведи, Иль в пути убей, судьба!
К этой группе примыкает не менее многочисленная — вторая, которая отличается незначительным отклонением от оригинальных зачинов:
Дар башында чар гала, Думай кеча, гар гала. Бир арзум вар урэкдэ, Мэн елсам да, jap гала.
Ланан чираг ола]дым, Лолдан ираг ола]дым..
Ла рым cyj а кедэндэ, Сарин булаг ола]дым.
Над горой сгущалась мгла, Мрак ушел, осталась мгла. Ничего, что я умру, Только б милая жила.
Огоньком я стать хочу, Светляком я стать хочу. Как ты по воду пойдешь, Родником я стать хочу.
Полное соответствие зачина оригиналу наблюдается и в ряде случаев, где между ним и основной частью тесная взаимосвязь отсутствует:
Эзизим нэрдивана, Ajar roj нэрдивана. Зэр гэдрин зэркэр билэр, Нэ билэр Иэр дивана.
Это — лестница, по ней Поднимайся посмелей. Ценит золото знаток, А не всякий дуралей.
Однако в четверостишиях такого типа целесообразнее жертвовать буквальной точностью ради эквивалентной передачи звукового строя, при внешнем отходе от зачина подлинника стремиться к более важной цели — сохранить общие черты монострофы. Вот оригинал, оснащенный джи-насом:
Мэн ашигэм о дала, О будага, о дала. Бармы очагы сенэн Урэ5имдэн од ала?
Я влюблен в ту ветку, В ту ветвь, в ту ветку.
Есть ли кто, у кого погас очаг, Чтоб огонь из моего сердца взять?
303
Можно было бы пересказать и «точно», но хотелось, чтобы в русской передаче была ощутима звуковая инструментовка:
От печали я зачах,
Пламя в сердце, тьма в очах.
Одолжу огня тому, У кого остыл очаг.
Как говорилось выше, из общей массы оригинальных баяты выделяется значительная группа, носящая характер наставлений, поучений. В таких четверостишиях закреплена мудрость народа, его исторический и житейский, бытовой опыт. Принимая в расчет, что зачин в некоторой части подобных четверостиший весьма отдален от высказываемой сентенции, а также стремясь придать большую весомость и значительность тому или иному высказыванию, я поступал так:
Мой завет тебе один, Помни это до седин: Пред учтивым будь слуга, Пред спесивым — господин.
Если мы обратимся к оригиналу, то увидим, что переводный зачин так же далек от оригинального, как последний от непосредственного поучения:
Булбул долубдур бага, Бир ун салыбдыр дага. CajaHbiH гулу олсан, CajMajana ол ага.
Соловьи заполнили сад, Стали жить на горе. Если учтивому будешь рабом, Неучтивому будь господином.
Нередко зачин в переводе как бы исчезает... Это объясняется разницей синтаксических структур, их «несовместимостью», а также стремлением передать те или иные формально-поэтические признаки оригинала. Например:
Овчу, гэлбин на шэндир, Ову дагдан душ, ендир.
Стрелок, как весело твое
сердце,
Олмаз пулун вэфасы, Элдэн элэ душэндир.
Спустись с горы, спусти добычу.
Нет у денег верности.
Из рук в руки они переходят.
304
Несомненно, начальные строки несут в основном техническое назначение — создать треугольник звонких рифм с тем, чтобы четверостишие выделилось, запомнилось. Замена зачина, вернее, отказ от него и вынос строк основного содержания в зачин преследует ту же цель — интенсификацию внушения:
Помни, преданности нет
И не будет у монет: Прежде чем к тебе попали, Обошли весь белый свет.
Иногда привычное для азербайджанского слушателя и читателя, не вызывающее нужды в примечаниях и пояснениях, может показаться туманным и даже странным читателю русскому. В таких случаях целесообразно за счёт зачина кое-что пояснить, чтобы перевод по своей доходчивости не уступал оригиналу.
Ашыг, бу кул бутанды, Кул дэстэсин тутанды. А]’ла кун бэЬсэ кирди
Чамалындан утанды.
Ашуг, вот твой розовый бутон, Вот держащая букет роз. Луна с солнцем вступила
в спор, Постеснялись твоей красоты.
Небывалый спор возник: Кто красивее из них — Солнце спорило с луной, Вышла ты — умолкли вмиг.
К разряду переводных зачинов, носящих характер предварительного пояснения к дальнейшему тексту, тесно примыкает категория четверостиший, где в переводный зачин (при практическом отказе от оригинального) вынесена часть содержания основных двух строк:
Михэк экдим, бири тэр, Бири генчэ, бири тэр. Бэ]лэ бостан экэнин Тагы белиндэ битэр.
С беком садишь огород, И хлопот невпроворот. На земле посеешь с беком—-На спине твоей взойдет.
Однако чрезмерное увлечение подобным приемом, недооценка оригинальных зачинов там, где функции их расширяются, где они несут ощутимую смысловую нагрузку, приводит к потерям. Даже оправданные практикой и плодо
305
творные методы чреваты серьезными срывами при несоблюдении меры. Не вышло у меня четверостишие:
Бу дэрэдэн газ кедэ, Гаггылдаша тез кедэ. TaHpbija рэвадырмы, Дул кипиф гыз кеда.
По этой ложбине гуси прошли бы, С гоготом, быстро прошли бы. Угодно ли всевышнему, Чтоб девушка вышла
за вдовца? —
которое по-русски выглядит так:
Без любви нельзя, творец, Где Твои глаза, творец? Что ж молчишь, когда задумал Сватать девушку — вдовец?
Конечно, в оригинале зачин чисто служебный, и потеря его или замена не составляли бы ничего страшного или трудного. Но в переводе допущен иной просчет — он слишком осовременен и атеистически заострен. Ведется перебранка с самим богом. Не так обстоит дело в подлиннике, да и не могло оно так обстоять. Ведь это грустная песенка — девичья жалоба, в ней не прямой протест, а косвенный вопрос, ламентация, порожденная горестным недоумением! «Разве угодно богу, как же он позволяет, допускает, соглашается, чтобы за овдовевшего мужчину вышла девушка, не познавшая ни любви, ни взаимного счастья?» Крепки были адат и шариат, и девушке, воспитанной в страхе божьем, никак не могла быть свойственна «с небом гордая вражда». Перевод же гипертрофировал едва промелькнувший намек и довел его чуть ли не до богоборческого апофеоза. Мы знаем довольно прохладное отношение фольклора к религии, но конечно же это явление не того ряда.
Очень жаль, что зачины пропали в иных четверостишиях, которым они придают особое обаяние:
Бэнд олан езун билмэз, Данышар, сезун билмэз. Ьэр кэлэн су долдурар, Чешмэнин кезун билмэз.
Влюбленный себя не знает (не помнит).
Что говорит, и сам не знает. Каждый, кто приходит, воды наберет, (Никто) истока родника не знает.
Лишенное зачина и редифа, это баяты выглядит сиротливо:
306
Кто ни глянет на поток, Отопьет хотя б глоток.
И никто не хочет знать, Где ручей берет исток.
Конечно же я не сразу и не легко примирялся с такими потерями. Товарищам, не знающим азербайджанского языка, нравилось баяты:
Пытку вынести легко ль, Коль на раны сыплют соль. Бой не страшен храбрецам, Губит их обиды боль.
Мне же не давал покоя оригинал:
Кабабы кез елдурэр, Сурмэни кез елдурэр.
Икиди гылынч кэсмэз Тэ’нэли сез елдурэр.
Шашлык угли раскаленные убьют.
Сурьму глаз убьет (то есть красивому глазу сурьма ни к чему).
Храбреца не сечет сабля.
Обидное слово (упрек) убьет.
Если приглядеться к композиции стихотворения, можно заметить, что четкостью оно похоже на математическую формулу, и слова стоят строго друг под другом, словно цифры при вычислениях. А по смыслу здесь три афоризма, причем два, предваряющие третий, уступают ему в значительности. Надо бы и первые строки максимально приблизить к оригиналу.
Может, так:
Уголек боится тьмы, Не выносит бровь сурьмы. От обид умрет игид — Не от сабли иль тюрьмы.
Но при чем тут «тьма» и «тюрьма»? Да и «сурьма» не на месте, и стык: «сабли-иль».
Еще раз:
Если все сгорит дотла, Стынут пепел и зола. Храбреца не тронет сабля. Храбреца убьет хула.
Опять — начало не то. Еще:
Шашлыку грозит зола, Глаз в кольцо сурьма взяла.
307
Вроде ближе. Но в оригинале — редиф. Наконец:
Глаз сурьму со зла убьет, А шашлык зола убьет.
Храбреца не тронет сабля, Храбреца хула убьет.
Увы! Как сказал об одной переработке С. Я. Маршака А. Т. Твардовский украинской поговоркой: «стругав, стругав, та й перестругав». Перевод этого баяты я так и не напечатал...
Пусть не во всех баяты зачины столь насыщенны, как в примере, приведенном выше, но порою я пренебрегал ими безо всякого на то основания. Пересмотром отношения к зачину вызвано немало переделок, например:
Торун дэр]’ада галды, Ишим фэр]ада галды. ©лэрсэм елум Ьагдыр,
hej-иф, jap ]ада галды.
Сеть моя в море осталась, Только стонать мне осталось. Если умру, смерть справедлива (неизбежна), Жаль, любимая чужаку досталась.
Я стою на берегу, Я себя не берегу. Жизнь уходит — мне не жаль, Жаль — жена уйдет к врагу.
(«Баяты»)
Сеть лежит на берегу, Дотянуться не могу. Жизнь уходит — не жалею, Жаль: жена уйдет к врагу.
(«Ларец»)
Новый перевод:
Сеть моя на дне осталась, Мне пропасть в волне осталось. Не себя — любовь жалею, Чужаку — не мне досталась.
Среди похоронных баяты есть такое:
Даглара долу душэр, Гар jarapT долу душэр. Гэбрим ]*ол устэ газын, Анамын ]’олу душэр.
Зачин подготавливает:
В горах град пойдет, Снег пойдет, град пойдет,—
308
как бы поясняя заранее дополнительную причину, по которой высказывается просьба:
Ройте мне могилу у дороги — Может, мать здесь пройдет (Ей дорога сюда выпадет).
Надо полагать, это песня скитальца-гариба, просящего похоронить его близ дороги. Придорожная могила заметнее. Перевод, вошедший в «Ларец», несколько иначе трактует строфу, сужая место действия, растягивая две основных строки оригинала на четыре строки перевода, лишенного зачина:
Рой могилу, не забудь, У дороги где-нибудь. Станет мать ко мне ходить — Будет ей короче путь.
Я возвратился к оригиналу и перевел его заново:'
Град в горах опять пойдет, По камням стучать пойдет. Мне б могилу у дороги — Так скорее мать найдет.
* * *
Не углубляясь в историю возникновения и утверждения редифов в азербайджанской устной и письменной поэзии, как и в ряде иных литератур народов Востока, отмечу некоторые разновидности положения редифа в строке, во фразе.
Есть редифы, почти ничем не связанные с основной фразой:
Бага кирмэрэм сэнсиз, Я не встану без тебя,
Кулун дэрмэрэм сэнсиз. В сад не гляну без тебя.
Ранен я, лечить не буду Эту рану без тебя.
Ох дэ]’иб ганым тексэ, Ленэ силмэрэм сэнсиз.
Это четверостишие могло бы существовать и без редифа, грамматические и логические связи сохранились бы, но редиф конечно же проливает особый свет на ситуацию.
Однако более характерны редифы, тесно связанные со всем контекстом, без них нельзя представить его, ибо все логические и языковые связи нарушаются:
309
Aj догду, кечэ кэлди. Билмирэм нечэ кэлди. Лары кечэ кезлэдим, Кундузу бечэ кэлди.
Солнце село, мрак пришел, Я не знаю — как пришел. Ночью я тебя ждала, Что ж ты днем, чудак, пришел!
Такое же положение создается, когда редифом служит послелог, многозначный глагол, или же часть сложного глагола.
Трудно сохранить редиф, когда в качестве его выступают слова или словосочетания, обретающие в переводе излишнюю громоздкость. Например, слово «нейлим», состоящее всего из двух слогов, переводится тремя словами — «что мне делать». Оно довольно часто употребляется в виде ре-дифа, мне же удалось его сохранить всего один раз, и то не полностью:
Кечмэ]’ир сезум не]'лим, Бу дэрдэ дезум нерйм. Ah чэксэм алэм janap, Чэкмэсэм ©зум не}лим.
Я сгорю — что делать мне, Я смотрю — что делать мне? Закричу — весь мир сожгу, Промолчу — я весь в огне.
Встречаются случаи, когда в оригинале рифмой является всего один слог (из семи!), все же остальные следует рассматривать как редиф:
Азалмаз мэним дэрдим, Саз олмаз мэним дэрдим. Мешэлэр гэлэм олса Лазылмаз мэним дэрдим.
Не старайся, не пиши, Не опишешь боль души, Если даже все деревья Превратишь в карандаши.
В данном случае не нашлось возможности передать эту особенность, зато в другом месте это удалось:
Эзизим, бэзэн, jepn, По горам хотим пройти,
Kej саллан, бэзэн, jepn. Трудно там двоим пройти.
Нола мэн дэ кэзэ]дим Ты уходишь — как бы мне
Jap кэлэн кэзэн jepn. По следам твоим пройти.
Иногда редиф «подсказывается» суффиксом в азербайджанском глаголе, исполняющим ту же роль, что частицы в русских глаголах условно-сослагательного наклонения:
Taj а дан атыла^ым, Гул олуб сатыла]’дым. Бивэфа jap элиндэн ©лэ]дим гуртула]дым.
Я с тропы упасть хочу Иль в рабы попасть хочу. Разлюбила, изменила — Навсегда пропасть хочу.
310
Порою я использовал благоприятные условия, чтобы создать редиф в переводе, хотя в оригинале его нет:
Бу сэс маним сэсимдир, Сэсимдир, нэфэсимдир.
Мэнэ совгат кэтирсэн Бир дэстэ кул бэсимдир.
Смех и слезы мне одной, Все угрозы мне одной. Не заботься о подарке — Хватит розы мне одной.
Впрочем, группа переводов, в которых есть редиф при отсутствии его в оригинале, немногочисленна. Более того, порой я старался восполнить потерю редифов и джинасов иными средствами, характерными более для русской поэзии, русского фольклора,— дополнительными рифмами — начальными, внутренними, конечными, ассонансами, звуковыми анафорами и т. д. В Азербайджане есть старый добрый обычай: если человек сделал тебе хорошее, обязательно отплати ему добром; если не ему самому, то его родственникам. Собрание баяты представляется мне большой-преболь-шой семьей, и, не имея возможности отдариться одному члену этой семьи, я стремлюсь исполнить свой долг по отношению к ближайшему родичу.
* * *
Можно привести ряд примеров, где как оригинал, так и перевод оснащены омонимической рифмой, но в качестве таковой выступают не' одни и те же слова:
Сэрйн Meh, кезэл а]аз,
Прохладный ветерок,
hej эсир кезэл aja3.
прекрасная прохлада, - Веет и веет прекрасная
Гэлэминэ мэн гурбан, Гэзэли кезэлэ ]’аз.
прохлада.
Да буду я жертвой твоего
пера, Газель напиши красавице.
Месяц, лучше посвети, Из-за тучи посвети.
Напиши газель, мой милый, И газели посвяти.
Здесь, кроме омонима в рифме, словесная игра в четвертой строке: газель — лирическое стихотворение, козэл — красавица. Полагаю, что эти трудности преодолены путем отказа от передачи буквального смысла зачина (такое отступление в данном случае элементарно) и замены краса-
311
вицы — козэл на серну — газель. Для достижения эффекта при передаче джинаса часто пользуюсь составной рифмой, как «подсказывает» оригинал:
Мэн ашигэм Ьэр а]‘лар, hap Ьэфтэлэр, hap а]лар. Башым чэллад элиндэ Дилим сэни Ьара]лар.
Всем от солнца по лучу, Только я не получу. Выручай меня скорее — Я попался палачу!
Порою там, где джинасу сопутствует редиф, приходится отказываться от последнего ради максимальной точности омонима:
Бу ]’ердэ су да]’анды, Од кэлди суда }анды. Дэрдими cyja дедим, Алышды су да |анды.
Долетел огонь сюда — На реке горят суда.
Боль свою воде открою — Загорится и вода.
Иногда для передачи омонима приходилось нё только отказываться от буквального смысла зачина, но и несколько видоизменять основную часть:
Очагы jaxnibi гала, Одун го], ja-хшы гала. ’
Очаг хорошо разожги, Дрова положи, хорошо
Нэ олар бу дун]ада Пис елэ jaxnibi гала.
разожги.
Ах, если б в этом мире Плохой умирал, хороший оставался!
Рассудил неверно век: Умер добрый человек, А дурной живет себе
И смыкать не хочет век.
Переводов, в которых джинас не сохранен, довольно много, но при этом я прилагал усилия к тому, чтобы рифма была полная, глубокая, а рифмующие слова разнообразны:
Эз'изим Дезэ ганлы, Сурмэ чэк кезэ ганлы.
Ты поди лицо умой, (глагол) Подведи глаза сурьмой.
Горхурам гэриб елэм, ^римдэ кэзэ ганлы.
(существ.)
Я боюсь: умру в скитаньях — Уцелеет кровник мой.
(местоим.)
312
Другая же большая часть баяты, имеющих джинасы, переведена прежде всего при помощи редифа, ибо джинас фактически является высшей его формой.
Зулфуну барда дара, Одичалый сад пройти,
Душубду баг да дара. Сквозь кольцо осад пройти.
Вэфалы бир дост учун Друга верного искать —
Руму кэз, Багдад ара. Рум пройти, Багдад пройти.
Редиф приходится искать и тогда, когда перевод выдвигает джинасы там, где их нет в оригинале.
Даглар мэнэ гар кендэр, Эсиркэмэ гар кендэр.
Ja дэрдимэ чарэ тап, Ja дэрманы вар кендэр.
Дни весенние прошли, Вновь осенние пошли. Раздели со мною горе Иль спасение пошли.
В оригинале — простой редиф, в переводе же сложная комбинация: не совсем точный редиф зачина поддержан глубокой составной рифмой, а в четвертой строке она является предшественницей редифа, который оборачивается джина-сом, то есть наиточнейщей самостоятельной рифмой.
А вот пример того, как простой редиф оригинала заменяется омонимом (по крайней мере, фонетическим) в переводе’:
Бурда бир нашы аглар, Элиндэ кашы аглар.
Бир евдэ чаван елсэ, Дивары, дашы аглар.
Вечер смутен, ветер лют, По домам таится люд.
Молодой покойник в доме — Даже стены слезы льют.
«Джинасные» баяты передаются также сочетанием редифа в зачине с точной рифмой в четвертой строке и другими средствами:
Дат башын а]’аз алды, Гар кэлди, а]аз.алды. Са]дым, кунум ил кечди, Са]мадым, aj азалды.
Солнце встанет — снег в тени, Не растает снег в тени. Дни считать — они плетутся, Не считать — летят они.
Дополнительные рифмы «дни — ни — они», повтор «считать», созвучие в «плетутся» и «летят», добавочная согласная: «летят они — в тени» — все эти средства служат тому,
313
чтобы не только восполнить потери, но и придать четверостишию качества, свойственные поэзии того народа, на язык которого оно переводится.
Один из приемов, употребляемых с той же целью,— насыщенность рифм в зачине:
Враг юлит, не слушай слов, Пусть велит, не кушай плов. Если дружишь с цветоводом, То не будешь без цветов.
Апарды колок мани, Увлек обман меня,
Бир зулфу мэлэк мани. Ангеловолосая (увлекла) меня.
Топлара ]ыхылмаздым, Перед пушками не падал,
Лыхыбды фэлэк мани. Судьба свалила меня.
Я обман понять не смог, Я аркан поймать не смог. Что пальба! Стоял, не падал» А судьба свалила с ног.
Еще раз о зачинах, рифмах, буквализме и «вольности».
Даглары ен пи]'ада, Спустись с гор пешком,
Лолу кос тон пи]’ада. Срежь дорогу пешком.
Кедиром Ьагга чатам, Иду достичь справедливости,
О, атлы, мои шцада. Она — верхом, я — пешком.
Я сперва постарался передать эту жалобу, придав ей вид, как мне казалось, наиболее впечатляющий:
Враг верхом, а я пешком, Он с ковром, а я с мешком. Первым кто придет к судье? Мне ответили смешком.
Нет, я отнюдь не намеревался чинить произвол, просто я считал, что прямая — не всегда самый краткий путь между двумя точками. «Иногда нужно отдаляться от слов подлинника, нарочно для того, чтобы быть к нему ближе» (Н. В. Гоголь)1. «...Иногда отдаляясь от подлинника, он (переводчик.— В. К) этим самым верно выражает его: в этом и заключается тайна переводов» (В. Г. Белинский)1 2. «...Если хочешь приблизиться к подлиннику, отойди возможно дальше от него, от его словарной оболочки и переводи его
1 «Русские писатели о переводе», с. 187.
2 Там же, с. 203.
314
главную суть: его мысль, его стиль, его пафос (как выражался Белинский)» (К. И. Чуковский)1.
Начнем с конца: «О, атлы, мэн пиjада». Считая необходимым акцентировать внимание русского читателя именно на этой пословичной своеобычности, выношу последнюю строку оригинала в начало перевода. Среди формальных признаков ярко выражен редиф. Стараюсь дать компенсацию — рифму, близкую к джинасу-омониму. Однако сумма слагаемых, как ни странно,— не перевод, а вариация на тему, в лучшем случае вольный перевод. Слишком велик разрыв между подлинником и его воспроизведением. Появляется новый вариант:
Я скатился кувырком, Припустился прямиком. Наша правда на коне — Не угонишься пешком.
Нет, я вовсе не оправдываю и не защищаю буквализм, но перевод должен оставаться переводом.
Уточняя свою позицию, приведу примеры, где внешнее отступление от буквы, на мой взгляд, способствует лучшей передаче духа:
Елэдими Baj дэрдим, Baj дэрманым, Baj дэрдим.
Халг кул экди, кул дэрди,
Мэн кул экдим, Baj дэрдим.
Ой, горе мне, горе, Что не найти лекарства от горя.
Люди цветы посеяли и пожали цветы, Я посеял цветы, а сорвал горе.
Примечание: здесь «дэрдим», существительное с притяжательным окончанием,-— омоним глагола «рвать» в первом лице единственного числа, слово же «Baj» имеет ряд оттенков, чаще всего — междометие, соответствующее русскому «ох!» и «ой!», а также существительное «оханье», «стенанье», «плач».
Я отсек зачин и ввел в ситуацию, слегка повернув другой гранью и основную часть:
1 К. Чуковский. Высокое искусство. М., «Советский писатель», 1968, с. ПО.
315
Не могу понять никак — Всем селом сажали мак, У людей поля алеют, У меня густеет мрак.
С немалыми трудностями сопряжена и передача такого четверостишия:
Елэми багрыгара, Бир гуш вар багры тара. Лалэ кими кул олмаз, Онун да багры тара.
Ой, черная грудь, Есть птица, у нее черная грудь. Нет цветка, равного маку, Но и у него черная грудь.
Добавление к подстрочнику: выражение «багрыгара» имеет и переносное значение — с горестью в груди. Четверостишие, вроде бы построенное всего лишь на тавтологических повторах, в сущности очень тонко зарифмовано. Здесь почти неуловимое слияние зрительного образа и образа внутреннего, переход буквального текста в поэтический подтекст. Лепестки мака ближе к центру соцветия покрыты черными пятнами, крапинками. И-потом — мак-, особенно будучи сорванным, увядает быстрее, чем другие цветы. Мак в азербайджанском фольклоре — символ раннего, прекрасного расцвета и раннего, печального увядания.
Можно было бы и в переводе сохранить некую птицу, назвав ее хотя. бы. .черногрудкой, но я избрал иной путь: '
Всюду в мире черный цвет, Признак бед, несчастий след. И на маке те же знаки, Хоть цветка красивей нет.
Было в бакинской книжке и такое четверостишие:
Лебедь плещется в воде,
Что мерещится воде? Остается темный след И от белых лебедей.
Вот его оригинал и подстрочник:
Эзизим чимэн ]‘ердэ, Дерд ]'аны чэмэн ]ердэ. Су ахдыгча буланар,
Дурналар чимэн ]’ердэ.
Дорогой, там, где купаются, Там, где с четырех сторон луг, Вода по мере того, как течет,
мутится, Там, где журавли купаются.
316
Впоследствии мне показалось, что я перемудрил. С перепугу перевел заново:
Есть лужайка, есть вода, Здесь лужайка, здесь вода. Красота, как плещут утки, Воду мутят — вот беда!
А теперь, после выхода «Ларца», я склоняюсь к мысли, что прежний перевод был лучше. Концовка его более локальна и эффектна.
* * *
В баяты часто упоминаются различные собственные имена, здесь им предназначена роль преимущественно рифмообразующая (ср. в частушках, страданиях: «Музыкант молоденький, //Звать его. Володенькой». «А я тебя, Колечка, //Не люблю нисколечко»). . .
Но есть имена и прозвища народных героев, которые ушли в письменную литературу и снова возвратились в фольклор. Если скажут о людях, что они как Лейли и Медж-нун, значит, они влюблены до безумия и мучаются в разлуке; если их назовут Фархадом и Ширин, то под этим подразумевается, что влюбленный преодолевает невероятные трудности, чтобы завоевать ответное чувство. Таково, например, четверостишие:
Над горами тучи, мгла, Покрывает кручи мгла. Сокрушит скалу Фархад, Чтоб Ширин пройти смогла.
Здесь имена Ширин и Фархада — нарицательные,'
основная часть читается, как
Сокрушит скалу влюбленный, Чтоб любимая прошла.
Часто вместо смерти упоминается ее «уполномоченный»— ангел Азраил. В большинстве случаев я отказывался от. передачи этого иносказания, вместо ангела-могильщика фигурирует сама смерть, только один раз появляется Азраил, и то с объяснением в контексте:
Я из речки воду пил, Проглотил с водою ил.
317
Милосерднее живых Ангел смерти — Азраил х.
В зачинах баяты нередко наблюдается явление идентичное японской утамакур е,— название известной местности в начале стихотворения, не имеющее отношения к дальнейшему содержанию. Я подчеркнул — известной местности. На мой взгляд, не следует загружать читателя географическими названиями, не находящими расшифровки в художественном тексте.
С другой стороны, мне кажется, есть на Востоке города и местности, названия которых поэтичны сами по себе,— Багдад, Ширван, Стамбул, Карабах, Самарканд, Бухара, Хорезм, Шираз, Евфрат, Шемаха, Дербент и др. Отказ от географических названий, которые широко известны, не всегда оправдан.
Там, где от названия местности зависел смысл баяты, я старался сохранить его в переводе:
На пороге я сижу, На дороги я гляжу. Спросят: где красавиц много? Я скажу: езжай в Гянджу.
Таково убеждение безвестного автора. Я в своих стихах утверждаю,
что самые лучшие в мире красавицы живут
(с постоянной пропиской)
в Баку.
Однако я не позволил себе ни отказаться от включения в сборник этого четверостишия, ни тем более исказить его в угоду личному мнению. Перевод должен оставаться переводом.
1 С ангелами приходится поступать по-разному. Сии мифические существа в азербайджанском фольклоре приобрели вполне определенные очертания, приземлились и стали одним из синонимов красавицы так же, как джейраны и маралы (олени, вернее — лани). Слово «ангел» и ныне широко употребительно и не имеет оттенка сусальности. Поэтому в переводе следующего четверостишия ангелы уступают место оленю:
Солнце идет туда, где садится, Где ангелы спят.
Грудь моя стала мишенью, Куда пускает стрелы любимый (любимая).
На закат уходит день, Спать олень ложится в тень. Под стрелу моей любимой Грудь подставлю, как мишень.
318
* * *
Иные понятия и образы, в особенности национальные, исторические и другие реалии требуют особого разъяснения или же по значимости не равноценны в оригинале и переводе.
Реалии, обозначающие звание или общественное положение, передаются по-разному. Например, слово «ага» многозначно — хозяин, господин, глава, распорядитель и владелец (чего-нибудь)1. Оно трансплантируется, когда его значение понятно из контекста:
Сэн агасан, мэн некэр, Я в заботах, я — слуга,
Мэн ишлэрэм, сэн бекар. Ты в забавах, ты — ага.
А в другом случае ступени социальной лестницы определяются более конкретно:
Данышсан сезун го]маз, Лол кетсэн езун го]’маз. Касыб вар-]'охун верэр, Аганын кезу до]'маз.
Речь начнешь — вести не даст, Ты шагнешь — брести не даст. Не насытится помещик, Хоть крестьянин все отдаст.
Здесь бедняк заменен крестьянином, а хозяин — помещиком.
То же самое происходит и с шахом, иногда он так и остается, иногда же именуется царем. Это идет от традиции русских сказок и литературных произведений, тематически связанных с Кавказом и Востоком. Есть, например, выражение — царь персидский, индийский, но интересно: если шах и по-русски называется шахом, а его венценосная супруга — шахиней, то наследники престола — царевичи или царевны, принцы или принцессы (позднее), но отнюдь не шахевичи или шахевны. Такова традиция.
«Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»,— писал А. С. Пушкин1 2.
1 При ханских дворах существовала должность «эшик агасы», соответствующая министру двора. Эшик агасы был одновременно квартир-, гоф-, церемоний- и шталмейстером.
2 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 39—40.
319
Слово «сэбр» (сабир) арабского происхождения; оно означает терпение, а в народных приметах и поверьях — чих,, чиханье. Одни считают нечетный чих дурной приметой, другие — четный, и наоборот. У русских же существовало поверье: если человек во время божбы или рассказа о чем-либо странном, диковинном чихнет,— значит, говорит правду, не обманывает, не сочиняет. А вообще отношение к чиху плевое, даже по поводу обычая пожелать чихнувшему здоровья родилась ироническая пословица: «На каждый.чих не наздравствуешься». Благодаря такому стечению, вернее, столкновению обстоятельств я оказался в затруднительном положении, встретив четверостишие:
Сэбр елэ, сана сэбри, Мэрд кэрэк гана сэбри.
Ьэр бир сэбир тук^нэр, Тукэнмэз ана сэбри.
Терпи, считай чихи, Мужественный должен понимать терпение.
Если даже истощится любое терпение, Не истощится материнское терпение.
* Я почел за благо вообще избежать этого злополучного чиха:.....
Что отраду понимать, Горе надо понимать! Все терпеть и ждать устанут — ‘ Будет мать терпеть и ждать.
А вот чадра (накидка, покрывало) появилась в переводе там, где в оригинале ее нет:
Сэрчэлэр ала кэзэр, Далынча бала кэзэр. Чиркин узун кизлэдэр,
Кезэл будала кэзэр.
Воробьи серые ходят, За ними птенцы ходят.
Дурнушки ходят и закрывают лица.
Красавицы открыто ходят.
Выйдет курица чуть свет, Побегут цыплята вслед.
Под чадрой дурнушки ходят, Ты открой лицо, мой свет.
Специфика, национальный колорит сказываются, конечно, не только, в самобытных деталях, реалиях, они проявляются - и-в идиоматических выражениях. Знающий язык тоже не застрахован от ошибок в передаче их. Недосмотр и недогляд приводят к конфузам.
320
Ошибку, вкравшуюся в «Ларец», трудно заметить, так как внешне перевод основной части как будто точно передает ту же часть оригинала:
Эзизим, даг башыдыр, Дар устУ» Дар башыдыр. Галада бир Toj тутдум, Шабашы кез ]ашыдыр.
Дорогой, вершина горы, Верх горы, вершина горы.
Устроил в крепости свадьбу, Подарки — слезы.
Пел ручей, молчал утес, Ветер жалобу унес.
Свадьбу справил в каземате, Нет подарков, кроме слез.
Собственно говоря, «шабаш» перевести «подарком» не совсем верно. Шабаш — это деньги, которые дают в руки танцующим или кидают им под ноги другие приглашенные гости, дарят эти деньги и музыкантам. Но в основном они идут в «общий котел» устроителей свадьбы или молодоженов.
Но главное не в этом. Выражение «устроить свадьбу» в данном контексте всего лишь идиом, далеко отошедший от своего буквального смысла. Оно здесь равнозначно русскому «поднять бучу», я же упустил это из виду и перевел четверостишие как жалобу арестанта, между тем как это похвальба вольного удальца,—дескать, задал жару, задал перцу и т. п.
Баяты — это устная классика, тесно связанная с классикой письменной. Но все-таки это прежде всего устная поэзия, отсюда простота лексики, непринужденность оборотов, разговорность интонаций, обилие элементов просторечия.
К сожалению, мои обращения к формам русского разговорного языка и просторечия не всегда удачны:
Не убил пришельца взгляд, Не дошел до сердца яд. Отдаем чужому дяде Мы, садовнички, свой сад.
Думается, намек на русскую пословицу «отдай жену дяде...» здесь неуместен. Не оправдало себя и стремление включить русское выражение «режь правду-матку» в азербайджанский контекст:
11 Мастерство перевода
321
Правду режь — быстрей поможет, Пуще сабли рассечет.
Просторечием в переводах баяты пользоваться нужно и можно, но, как говорится, осторожно.
В языке баяты отчетливо проглядываются черты диалектов, в частности — южного (тавризского) и карабахского.
Думается, что эти различия не нуждаются в сохранении при передаче на русский язык. Русский читатель должен получить русские стихи, зная, что первоначально они были созданы на азербайджанском языке, а на каком диалекте — ему, наверно, безразлично. Это — объект исследования специалистов, но в их распоряжении непосредственно оригиналы.
Но баяты, разумеется, изобилуют и просто всевозможными отклонениями от общелитературного языка и правильного произношения.
В переводах эти особенности и отклонения я также не передаю. Верно ли это?
Мне представляется, что в наше время, когда повысился и неуклонно растет уровень общей культуры и образованности, когда усиливается тяга к общелитературному языку, когда письменность оказывает влияние на произношение, стирая грани между областными говорами, а также устной речью сельского и городского жителей, поэту, который занят передачей произведений иноязычного устного народного творчества, следует особо заботиться о чистоте звучания переводов.
Впрочем, все эти вопросы надо решать на практике.
* * *
Разбираюсь в своем хозяйстве, как моряк после дальнего похода. Откладываю то, что пригодится в дальнейшем. Отметаю то, что изжило себя. Что помогает мне ориентироваться? Два острия одного компаса: азербайджанский язык — язык моего отца — и русский язык — язык моей матери.
Вспоминается случай с другом детства.
— Доплывешь до того флажка? — спросил я его.
— Доплыву! — ответил он и прыгнул в море.
322
Доплыть-то он доплыл, да возвратиться к берегу был не в силах.
Ныне он — заслуженный мастер спорта, чем я очень горжусь, а тогда пришлось помогать подсобными средствами.
Подсобные средства есть и в переводческой практике.
Переводчику, что по меньшей мере «плавает» в языке подлинника, подается буксир — подстрочник. Это старый-престДрый канат, подлежащий списанию. Одно из его волокон 0от-вот перетрется, другое давно порвалось, а третье кое-кзк перевязано и держится еле-еле.
А ведь поэт, принявшийся за перевод, подобен лоцману. Место лоцмана — впереди, а не на буксире. Да и хорош лоцман, который не только не знает на память подробностей фарватера, но даже карту не способен прочитать, ибо абсолютно слеп.
Правда, на Каспии помнят поныне предание о слепом капитане. Он водил суда из Баку в Астрахань, входил в устье Волги, разминал в руках донный грунт, прилипавший к лоту, и нюхал его. Осязание и обоняние заменяли ему зрение. Но родился-то он зрячим, путь запомнил, будучи зрячим, а ослеп он после...
«...Для воспроизведения в переводе всех красот высокопоэтического подлинника переводчику нужно соединять чрезвычайно много самых разнообразных условий. Прежде всего он должен быть сам поэт... Вместе с тем переводчик классического произведения должен быть и ученый»1,— говорит Н. А. Добролюбов.
Переадресовав слова Пушкина, можно сказать, что поэт-переводчик —
И академик, и герой, И мореплаватель, и плотник.
Он не арендует готовый корабль, а сам строит его, нагружает и разгружает, и палубу драит, и картошку на камбузе чистит, и стоит у штурвала, прокладывая курс.
Переводчик — писатель со всеми правами и обязанностями. Только обязанностей у него вдвое больше, чем у ав-
1 Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. V. М., Гослитиздат, 1941, с. 453—454.
11* 323
тора оригинала, потому что ему держать ответ перед двумя народами.
Пусть вся моя работа — только капля в море. Баяты — тоже капли, но это драгоценные капли, и они должны влиться в мировой океан поэзии.
Может быть, русские переводы баяты привлекут внимание наших зарубежных друзей. У них будут свои трудности при переводе азербайджанских четверостиший, но будут и свои облегчения. Во французском языке, например, много омонимов. Это существенно облегчает задачу французского поэта, принявшегося за перевод баяты. Но переводить их он должен не с русского, а с азербайджанского языка*
ПЕРЕВОДЧИК
И СЛОВАРИ
С. Флорин
(Болгария)
НЕОБХОДИМОЕ ПОСОБИЕ
Вряд ли есть другой творческий труд, столь тесно связанный с использованием всяческих словарей, как перевод вообще, и тем более — перевод художественной литературы. Это не учебный, а творческий процесс, так как в данном случае речь идет не об ученике, студенте или о тех, кто лишь учится переводить,— речь идет об опытном переводчике, чей труд представляет вклад в его родную литературу, в общую культуру его народа.
Ученик, студент, дилетант, начинающий переводчик — все с терпением крота роются в словарях, чтобы собрать иноязычную мысль из нескольких знакомых и еще стольких же (или более!) незнакомых слов. Знакомые слова для них — опорные точки, маяки, которые бросают мерцающий свет на тесный, ограниченный круг, исторгнутый из мрака «таге incognitum».
Приняв a priori бесконечно повторяемую истину, что переводчик прежде всего должен в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и еще лучше — языком, на который переводит, следует принять также, что обычно, когда к словарю прибегает опытный мастер перевода, он понимает слова, которые ищет, но не может найти соответствие им в данный момент, либо нашел в уме эквивалент переводимого слова или выражения, но ищет более точное, более полноценное соответствие. Исключение составят лишь отдельные слова и выражения, которые выходят за пределы круга общеязыковых и общекультурных знаний. Такие слова и выражения заставляют прибегнуть к специальным словарям, указателям и глоссариям, о которых речь пойдет ниже.
327
Чтобы открыть содержание незначительного числа незнакомых слов или выражений, понять неизвестные ему значения знакомых слов и выражений или проверить свое понимание некоторых из них, а главным образом, чтобы дать толчок памяти, когда эквивалент данного слова или выражения, как говорится, вертится на кончике языка, переводчик прибегает к обыкновенному двуязычному словарю, а также к толковым и фразеологическим словарям языка, с которого переводит.
Чтобы найти полное соответствие, точный функциональный эквивалент переводимого слова или выражения, он, не довольствуясь собственными знаниями и умением, вынужден прибегнуть к толковому и фразеологическому словарям, к словарям синонимов, аналогов или к предметнопонятийному словарю, к сборникам пословиц, поговорок и другим подобным изданиям на своем родном языке.
Словарь, как установлено, оружие переводчика. На бой идут во всеоружии, поэтому и переводчик должен быть солидно вооружен словарями. А данное выше разделение их на три категории не случайно, поскольку, по мнению пишущего эти строки, словари обслуживают три последовательных этапа в работе переводчика:
1. Установление эквивалентов всех вкрапленных в текст оригинала неизвестных понятий из всевозможных специальных областей.
2. Полное понимание переводимого произведения со всеми тонкостями выразительных средств, использованных автором.
3. Воссоздание произведения на другом языке.
При этом набор разных двуязычных и одноязычных специальных (технических, музыкальных, торговых, философских, медицинских, химических и др.), терминологических, исторических, географических, литературных энциклопедических, жаргонных словарей, словарей сокращений, произношения и тому подобных, равно как и словарь иностранных слов в языке оригинала, представит средство для перевода специальных понятий — терминов, реалий, географических, исторических и других собственных имен, для установления орфоэпических и орфографических форм в языке перевода, а также .и для справок. А. различные глоссарии словари, составленные с точки зрения исторического или семантического значения слов, употребленных данным авто
328
ром или в данном произведении (например, глоссарии к сочинениям Шекспира), список иноязычных слов и выражений (например, глоссарий индейских слов и имен, приложенный Лонгфелло к его поэме «Песнь о Гайавате») или толкования редких терминов (например, глоссарий морских терминов, приложенный к роману «Порт-Артур» А. Степанова) — послужат переводчику при переводе соответствующего автора или произведения, а могут послужить и при переводе других произведений, сходных по эпохе, местному колориту или тематике1.
Между прочим (отметим в скобках), не исключено, что толкования редких или архаических слов (может быть, даже правильнее будет сказать — старые, отпавшие значения некоторых слов) переводчик в отдельных случаях сможет найти в некоторых специальных или старых, вышедших из употребления словарях. В сущности, такие открытия можно сделать в самых неожиданных местах, в тематически далеких или старых пособиях и руководствах, в которых поначалу никому бы в голову не пришло их искать. Как это ни странно на первый взгляд, но несколько раз мне случалось открывать правильное значение некоторых архаических реалий и понятий в глоссарии к Библии1 2, а некоторые редкие ирландские и шотландские слова я совершенно случайно открыл в английском словаре рифм3, после того как не смог найти их ни в одном из бывших у меня тогда английских толковых и двуязычных словарей. Старый Брокгауз4 давал мне такие сведения, которых я не мог обнаружить в новейших энциклопедиях. Много подобных услуг оказал мне и старый французский словарь5. При редактировании перевода с русского я нашел необходимое
1 На этом «осведомительном» этапе работы наряду с различными специальными словарями как пособия зачастую могут служить книги по мифологии, Библия, Коран, ботанические справочники, географические атласы и указатели, астрономические карты и пр.
2 Dictionary of the Bible. Edited by Philip Schaff, DD., LLD., Philadelphia, USA, 1880.
3 The Rhyming Dictionary of the English Language. By J. Walker. London.
4 Brockhaus* Conversation-Lexikon. XIII, vollstandig umgearbeitete Auflage. Leipzig, 1882.
5 Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran^aise. Par Elie Blanc. Librairie Catholique Emmanuel Vitte. Lyon — Paris, 1892.
329
истолкование реалий из еврейского быта в а н-глийском толковом словаре. Но вернемся к вопросу...
В общих чертах все сказанное до сих пор по поводу специальных словарей, глоссариев, справочников и т. п. относится, как мы видели, к специальным областям науки, искусства и производства, затронутых автором в произведении, к отдельным лексическим единицам, которые имеют строго определенные, в большинстве случаев однозначные функциональные эквиваленты.
Однако, чтобы понять мысль или образ, построенный автором, чтобы можно было сохранить смысловые оттенки его фразы, следует прибегнуть к другим пособиям, потому что, по мнению видного русского ученого, академика Л. В. Щербы, «слова одного языка в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, а находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях...»1 и «...громадное множество слов-понятий любого языка — несоизмеримо со словами-понятиями всякого другого языка. Безусловное исключение составляют только термины»1 2. Это — мнение языковеда, но на тех же позициях стоит переводчик и теоретик перевода Л. Н. Соболев, который заявляет: «Каждый язык отражает прошлое и настоящее народа, создавшего его. Каждый язык следует внутренним законам своего развития. Если бы дело обстояло иначе, никакой проблемы точности перевода — ни политической, ни художественной, ни лингвистической — не возникало бы. Труд переводчика уподобился бы труду машинистки, которая снимает копию с документа. Слову № 2155 русского языка соответствовало бы точно такое же слово № 2155 французского или другого языка...»3
Именно это, быть может, является фактической отправной точкой в творческом процессе перевода: не констатация двух разноязычных, но идентичных номенклатур, а поиски возможно более полного функционального эквивалента для каждого данного случая.
1 Акад. Л. В. Щерба. Предисловие в кн.: «Русско-французский словарь». М., Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955, с. 5.
2 Его же. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., изд. Ленинградского университета, 1958, с. 86.
3Л. Н. Соболев. О переводе образа образом. В кн.: «Вопросы художественного перевода». М., «Советский писатель», 1955, с. 259—260, 330
Эти поиски неизбежно ведут (или должны бы вести) переводчика к толковому словарю языка, с которого он переводит. Основательное знание этого языка позволит ему пользоваться таким словарем свободно и неограниченно; осведомленность его в отношении быта, истории и образа мыслей данного народа поможет ему понять содержание, вложенное в искомое слово в данном контексте. И логично, что все это наиболее полно содержится именно в толковании, данном слову или образу самим народом, который его создал, не прошедшем еще через фильтр лексикографа-переводчика, склонного прежде всего искать средние, нейтральные, обобщающие эквиваленты. Совершенно естественно при этом в толковых словарях, наряду с предоставлением известного выбора синонимов, применять в значительно большей степени именно принцип толкования для объяснения смысла отдельных заглавных слов, совокупность же синонимов и толкования заставляет переводчика воспринимать заглавное слово как синтез перечисленных значений.
Двуязычные словари, напротив, гораздо чаще дают как эквиваленты соответствующих слов исключительно синонимы. Это относится более всего к глаголам и именам прилагательным, сравнительно меньше — к отвлеченным именам существительным с переносным значением и реже всего — к тем именам существительным, какие представляют наименования конкретных предметов и по своей сущности приближаются к терминам и реалиям.
Следует отметить, однако, что весьма часто перечисление синонимов не означает, что данное заглавное слово — многозначно, как это справедливо отмечено Л. Г. Хорохориным; и наоборот — нередко несколько значений заглавного слова покрываются одним словом в языке перевода (особенно на двух близких языках). В первом случае скорее совокупность указанных синонимов должна была бы дать нам (как и в толковом словаре) полное смысловое содержание заглавного слова. Цитированный выше академик Щерба также подтверждает, что «... обычные переводные словари не дают настоящего знания иностранных слов, а лишь помогают догадываться о их смысле в контексте...». И далее добавляет еще одно чрезвычайно важное соображение, что «переводные словари, переводя иностранное слово тем или другим словом, совершенно не заботятся о многозначности
331
этого последнего...»1 (разрядка моя.— С. Ф.)> то есть многозначности его в языке перевода.
Поэтому, быть может, при работе с двуязычным (переводным) словарем мы более склонны понять всякий синоним в переводе как отдельный возможный эквивалент заглавного иноязычного слова, то есть переводная часть словарной статьи здесь воспринимается как анализ данного заглавного слова. Это подтверждают и те специалисты, для которых двуязычный словарь представляет единственное оружие или, лучше сказать, орудие, инструмент1 2 в механизированном процессе перевода.
В своей книге о машинном переводе И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг хоть и бросают упрек, что «...в теории перевода и у части переводчиков-профессионалов установилось несколько пренебрежительное отношение к двуязычному словарю...», но затем признают, что «...словарь (двуязычный) — это первый список заранее заданных соответствий (разрядка моя.— С. Ф.), с которым мы сталкиваемся в практике перевода»3. Это высказывание, как и изложенное выше размышление, приближает двуязычный словарь к терминологическому, о котором тот же Щерба сказал: «Что касается переводных словарей, то их принципиальная ошибка в предположении адекватности систем понятий любой пары языков»4.
Все вышеизложенное подтверждает тезис, что для истинно глубокого понимания незнакомых или неясных слов, выражений, значений следует пользоваться толковым и фразеологическим словарями чужого Языка. А двуязычный словарь в таком случае будет служить главным образом справочником, своеобразным суфлером, который будет только напоминать известные уже переводчику соответствия в языке перевода и этим ускорит процесс перевода.
При таком положении создание специальных п е р е-
1 Акад. Л. В. Щ е р б а. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., изд. Ленинградского университета, 1958, с. 87.
2 «Словарь можно определить как инструмент, который позволяет переводить, не зная ни того, ни другого языка». Е. Сагу. Mecanismes et traduction. «Babel», vol. II, No 3. 1956, p. 103.
3И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг. Основы общего и машинного перевода. М., «Высшая школа», 1964,* с. 180.
4 Акад. Л. В. Щ е р б а. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., изд. Ленинградского университета, 1958, с. 85.
332
водческих (то есть предназначенных для переводчиков) двуязычных словарей, о которых говорит В. Г. Гак, совершенно излишне, если, согласно уже упомянутым нормам, переводчик должен изначально достаточно хорошо владеть обоими языками. А В. Г. Гак заявляет, кроме того, что «словник его (переводческого словаря) может быть меньше, нежели словник общего словаря: он может обойтись без редких и специальных слов, для перевода которых приходится обращаться к специальным словарям и справочникам»1. Другие соображения В. Г. Гака, с одной стороны, приравнивают этот тип словарей к словарям общего типа, а с другой стороны — превращают их главным образом в своеобразные словари учебного типа.
С этим мы подходим к третьему, последнему этапу в процессе перевода — воссозданию произведения, то есть к тому моменту, когда существенно уже (подчеркиваю) искать не значение, не истолкование того или иного слова или выражения в языке оригинала, а полноценный, адекватный эквивалент в языке перевода.
И здесь, прежде чем приступить к принципиальному рассмотрению вопроса, уместно заявить, что и болгарские переводчики с иностранных языков располагают уже рядом, может быть, еще далеко не совершенных, но весьма полезных пособий для этого этапа работы, которые, кажется, недостаточно оценены.
Это заявление вызвано долголетними наблюдениями, которые убедили меня, что (по крайней мере, так было до недавнего времени) многие наши переводчики, особенно начинающие и посредственные, и еще, разумеется, такие, которые интересуются количеством работы более, нежели ее качеством, берутся переводить, вооруженные только одним двуязычным словарем. Они считают, что своим родным языком владеют в совершенстве, и «Болгарский толковый словарь», «Словарь современного болгарского литературного языка», «Болгарский этимологический словарь», «Словарь иностранных слов в болгарском языке», «Болгарский словарь синонимов» и даже «Орфографический словарь болгар
1 В. Г. Г а к. О разных типах двуязычных словарей. «Тетради переводчика», № 2. М., Изд-во Института международных отношений, 1964, с. 73. . .
333
ского литературного языка» — редкие гости на их письменном столе. А словарь Найдена Герова все еще остается недоступным и для тех, которые хотели бы и сумели бы им пользоватьсях.
Но вернемся опять к процессу перевода. Все незнакомое и неизвестное в оригинале открыто, проверено, понято — осталось выразить все это на языке перевода. Это перевы-ражение или воссоздание представляет стихийный (или, может быть, лучше сказать — спонтанный) творческий порыв в одних случаях и медленное, бесконечно терпеливое обдумывание, поиски, отбор и комбинирование — в других. Однако плоды этих двух процессов, как бы они ни были зрелы, все-таки нуждаются в проверке, в «шлифовке», в том, что называется по-английски «final touch» — последним прикосновением кисти, необходимым художнику, чтобы вдохнуть жизнь в готовое уже полотно.
Как при обдумывании и отборе, так и при окончательной проверке и шлифовке прежде всего необходим толковый словарь языка перевода: он поможет не только проверить и уточнить смысл (содержание, значение) некоторых употребленных переводчиком слов, но и покажет, уместно ли применить то или иное хорошо известное для него слово в данном контексте, действительно ли существует, правильно ли использовано им специфическое выражение, не ошибся ли он в управлении глагола. Нередки случаи, когда толкование проверяемого слова может направить переводчика к более точному, более адекватному синониму.
Словарь иностранных слов может и должен помочь переводчику заменить ненужные варваризмы хорошими коренными словами языка перевода — уменьшить до возможного минимума паразитический иноязычный элемент.
Фразеологический словарь (даже и двуязычный) поможет переводчику подобрать более удачные функциональные эквиваленты употребленных в оригинале идиом, пословиц, поговорок и т. п.
Словарь пословиц также может и должен сыграть свою роль в этом отношении.
Здесь снова необходимо небольшое отступление от темы
1 В СССР ценят и переиздают «Толковый словарь» Даля (даже с оригинальной его орфографией!), а у нас считается излишним расточительством переиздание геройской сокровищницы болгарского языка.
334
перевода с иностранных языков на болгарский. У нас есть много сборников народных пословиц и поговорок, как, например, широко известный сборник болгарских пословиц Петко Р. Славейкова, пословицы и поговорки, рассыпанные во многих томах «Народни умотворения», «Български по-словици и гатанки. (Отбор и харктеристика от проф. М. Ар-наудова)», «Българско народно творчество. Том XII. Посло-вици, поговорки, гатанки». С., 1963. Всеми ими, однако, как бы они ни были хороши и богаты по содержанию, трудно пользоваться переводчику, поскольку подобраны они в алфавитном порядке, по начальной букве первого слова. Известную помощь может оказать лишь не очень последовательный и не весьма богатый сборничек «5000 избрани български пословици и поговорки», составленный Мил ко Григоровым и Костадином Кацаровым, так как содержание его систематизировано (хотя достаточно примитивно и не всегда убедительно) в «20 основных смысловых главах с примерно 330 тематическими подзаголовками». Как другой образец этого рода можно указать «The Oxford Dictionary of English Proverbs» by W. G. Smith, где пословицы подобраны также по алфавиту, но не по первому, а по ключевому слову. Создание подобного словаря, более объемного и с более целесообразным расположением материала, было бы чрезвычайно полезно, и не только для переводчиков.
И все-таки наиболее важной на этом последнем этапе — на этапе воссоздания оригинала — бесспорно остается основная задача переводчика: подобрать общий лексический материал — наиболее подходящие, наиболее содержательные соответствия в языке перевода. Появившееся «крылатое выражение»: «синоним — слово, которое переводчик употребляет, когда не может найти правильный эквивалент»,— .разумеется, только остроумная шутка.
Обычно при подборе функционального эквивалента первый импульс большинства переводчиков — заглянуть в двуязычный словарь. Разумеется, он подскажет несколько более или менее подходящих синонимов при перечислении значений искомого слова, но ... далеко не всегда. Так, когда я перевожу с болгарского на русский, «Болгарско-русский словарь» С. Чукалова, так же как и С. Бернштейна, почти бессилен помочь мне в нахождении полноценного русского соответствия из-за своей бедности синонимами в переводной части. Тогда отсутствие русского словаря сино
335
нимов вынуждает меня рыться в толковом Словаре русского языка» Ожегова, «Словаре русского языка» АН СССР, «Толковом словаре» Даля и т. п.
Оброненные мною слова «отсутствие русского словаря синонимов» означают, что только словарь синонимов или аналогов в языке перевода дает переводчику возможность найти наиболее точное или наиболее верное для данного контекста слово — слово, благодаря которому выражение, фраза, или предложение зазвучит богато, полноценно, колоритно и хорошо передаст нужный оттенок значения.
Обратившись к переводам на болгарский, можно сказать, что именно в этом отношении мы богаче. Потому что, будь они бедные или богатые, полные или неполные, но у нас уже давно есть словари синонимов обоих общепринятых типов —толковый (Мариана Дабева, 1930) и обычный, в котором синонимы только перечисляются (Любен Нанов, 1936—1963), достаточно объемистый и выдержавший уже четыре издания, каждое из которых дополнялось. А в СССР, если не считать «Учебного словаря синонимов русского литературного языка» В. Д. Павлова-Шишкина и П. А. Стефановского, первый современный толковый словарь синонимов, причем чрезвычайно малый по объему, вышел лишь в 1958 году и был переиздан со значительными дополнениями в 1961 году (Клюева В. Н. Краткий словарь синонимов русского языка); большой и относительно полный словарь составляется сейчас (см. Евгеньева А. П. Проект словаря синонимов. АН СССР. Институт русского языка. Словарный сектор. М., «Советская энциклопедия», 1964) \ Словарей второго типа в СССР еще нет.
Итак, переводчик протягивает руку к словарю синонимов лишь после того, как двуязычный и толковый словари не подскажут искомого эквивалента. А почему бы не сократить путь и не перескочить первые две инстанции — не обратиться прямо к третьей? Восхищаясь лексикой двух русских переводчиков английской книги, патриарх современной теории художественного перевода Корней Чуковский
1 Недавно вышел «Словарь синонимов русского языка» 3. Е. Александровой (М., «Советская энциклопедия», 1968) — около 9000 синонимических групп.
336
воскликнул: «Этих выразительных слов не найти ни в одном из англо-русских словарей...»1 Но в словаре синонимов, вероятно, они найдутся, потому что его предназначение не в том, чтобы дать нам соответствие некоему отдельному иноязычному слову, а именно в том, чтобы развернуть во всей полноте гамму оттенков значения, которое может приобрести данное понятие.
Однако зачастую недостаточно поискать желанное слово только в гнезде первого пришедшего на ум синонима. Очень часто дело переводчика — дело терпения, и, как продолжает К. Чуковский, «...поэтому задача переводчика, если только он настоящий художник, состоит именно в этом — возможно чаще отыскивать такие соответствия иностранного и русского слова, какие не могут вместиться ни в одном словаре»1 2. Да, переводчик должен суметь построить мост от одного гнезда синонимов к другому, третьему, четвертому — конвейерно переходить от одних понятий к другим до тех пор, пока удаление (как это ни парадоксально звучит) позволит ему максимально приблизиться к желанной цели. Это подтверждает и А. В. Федоров, когда говорит в связи с практикой переводческой работы: «...общее решение задачи, которого можно и должно достигнуть,— поиски необходимых слов в языке перевода через последовательное расширение круга синонимических элементов, т. е. того основного пути, которым достигается разрешение многих других сложных переводческих задач»3.
Весьма пригоден для поисков синонима словарь второго типа (в данном случае словарь Л. Нанова), однако в отдельных случаях для того, чтобы проверить, насколько правильно использовано выбранное слово, переводчик должен прибегнуть и к словарю синонимов первого типа. Но этот словарь, которым мы располагаем в данный момент (упомянутый выше труд М. Дабевой), прекрасен как начинание, но по содержанию своему оказывается весьма бедным для практических нужд переводчика: он едва располагает 670 гнездами (второе издание русского словаря Клюевой имеет 622 гнезда), охватывающими лишь 1900 слов. Впрочем,
1 К. Чуковский. Высокое искусство. М., «Советский писатель», 1968, с. 98.
2 Там же.
3 А. В. Ф е д о р о в. О смысловой многоплановости слова, как проблеме художественного перевода. Л., изд. ЛГУ, 1962, с. 24.
337
и гораздо более объемные словари синонимов — такие, как Webster’s Dictionary of Synonyms (G. C. Merriam Co., Springfield, Mass., USA, 1942), часто недостаточны для подобной проверки, при которой нам приходится снова прибегнуть к соответствующему толковому словарю.
Но бывает, что и словарь синонимов не может удовлетворить переводчика при подборе синонимов, и тогда ему приходится искать предметно-понятийный словарь или словарь аналогов языка перевода, то есть словарь, в котором лексика подобрана по понятиям и отдельные гнезда превышают по охвату гнезда словаря синонимов. Один из старейших образцов этого типа словарей появился впервые в 1852 году и с тех пор и до сего дня много раз дополнялся и переиздавался. Это — Thesaurus of English Words and Phrases by Peter Roget. Как пример можно указать и С h. М a q u е t. Dictonnaire analogique. Repertoire moderne des mots par les idees, des idees par les mots. 1936 и S c h 1 e s-sing-Wehrle. Deutscher Wortschatz. Ein Hilfs und Nachschlagebuch der sinnverwandten Worter und Ausdriicke der Deutschen Sprache. 1927.
Из личного опыта могу сказать, что в переводе на английский гораздо чаще, более всех двуязычных и толковых словарей помогает мне упомянутый выше «Thesaurus» Роджета. С другой стороны, сама практика заставила меня, в связи с отсутствием такого словаря у нас, прибавить к словарю Нанова, хотя и в единичных случаях, большие понятийные или аналогические гнезда, в которые, по необходимости, входят и многие варваризмы из категорий терминов и реалий.
Разумеется, для мастера художественного перевода синонимический словарь и, конечно, словарь аналогов или словарь понятий чаще всего — лишь косвенные пособия, потому что при чтении ряда более или менее подходящих синонимов в его сознании интуитивно пробуждается единственное наиболее удовлетворительное решение, подобно тому как чередование нескольких созвучных слов приводит поэта к наиболее удачной рифме.
Однако каждая новая книга, каждый новый автор ставят переводчика перед новыми проблемами языковой природы, перед новыми терминами, реалиями, фразеологизмами, диалектными словами, просторечием, архаизмами и неологизмами, жаргоном. Для нахождения эквивалентов всему
338
этому, кроме эрудиции и дарования, необходимо и умение оперировать наличными пособиями.
Переводчик художественной литературы, который «переводит без словаря», по-моему, вообще не переводчик!
ЛИТЕРАТУРА
Бархударов Л. О так называемых кратких словарях. «Тетради переводчика», № 1. М., Изд-во Института международных отношений, 1963. Гак В. Г. О разных типах двуязычных словарей. «Тетради переводчика», № 2. М., Изд-во Института международных отношений, 1964.
Комиссаров В. Н., Рецкер Л. И., Тархов В. И. Использование при переводе словарей. В кн.: «Пособие по переводу с английского языка на русский», ч. I. М., Изд-во литературы на иностранных языках, 1960.
Огнянов-Ризор Любомир. Речници и помагала. Основи на преводаческото изкуство. София, Камара на нар. култура, 1947.
Ревзин И. И. и Розенцвейг В. Ю. Проблемы словаря. В кн.: «Основы общего и машинного перевода». М., «Высшая школа», 1964.
Соболев Л. Н. О переводе образа образом. В сб. «Вопросы художественного перевода». М., «Советский писатель», 1955.
Толстой С. С. Работа со словарями и справочниками. В кн.: «Основы перевода с английского языка на русский». М., Изд-во Института международных отношений, 1957.
Федоров А. В. О смысловой многоплановости слова как проблеме художественного перевода. В сб.: «Теория и критика перевода». Л., изд. ЛГУ, 1962.
Хорохорин Л. Г. Некоторые замечания о многозначности и недифферен-цированности слов в двуязычных словарях. «Тетради переводчика», № 2. М., Изд-во Института международных отношений, 1964.
Чуковский Корней. Бедный словарь и богатый. В кн.: «Высокое искусство». М., «Советский писатель», 1968.
Щерба Л. В., акад. Опыт общей теории лексикографии. В кн.: «Избранные работы по языкознанию и фонетике», т. I. Л., изд. ЛГУ, 1958.
Щерба Л. В. Предисловие в кн.: «Русско-французский словарь». Изд. 4-е. М., Гос. изд-во иностр, и нац. словарей, 1955.
В. Бернов (Ленинград)
О СЛОВАРНЫХ ПЕРЕВОДАХ
Каждый переводчик сотни раз сталкивался с положением, когда слово, нужное ему в данном случае, в словаре отсутствует, когда эквивалент, сообщаемый словарем, лишь приблизительно соответствует значению слова иностранного языка. Эти недостатки словарей представляются многим переводчикам настолько естественными и неизбежными, что даже получил распространение взгляд, будто словарь и в принципе не может быть источником удовлетворительных переводных эквивалентов.
Безусловно, ни один двуязычный словарь не в состоянии включить в себя все те эквиваленты, которые могут быть использованы в различных конкретных переводах. Если, например, для компенсации чего-либо не поддающегося точному переводу потребуется передать английское слово man через русское личность (субъект, тип), то ни один англорусский словарь не может предусмотреть этого случая. Любой художественный текст, в общем, уникален, и при переводе его на другой язык в принципе весьма вероятно возникновение для некоторых слов оригинала таких эквивалентов, какие еще никогда не возникали. Если представить себе гипотетический случай, что на основании расписывания всех лучших русских переводов с английского составлен словарь, где обозначены (с указанием на стилистические моменты и пр.) все зарегистрированные в этих переводах эквиваленты каждого слова английского подлинника, то и такой словарь — естественно, практически едва ли осуществимый — отражал бы лишь то, что уже
340
сделано, то, какие эквиваленты использовались в уже переведенных текстах, но не мог бы дать ответа на то, следует ли использовать при переводе новых текстов именно эти, и только эти эквиваленты. Теоретически следует ожидать — именно в силу уникального характера художественного текста,— что в новых переводах возникнут новые англорусские эквивалентные пары. Именно поэтому художественный перевод — искусство и всегда будет искусством. Словарь, каким бы полным он ни был, может предложить лишь конечное число решений, тогда как число задач, которые решены при переводах художественных текстов с одного языка на другой и которые предстоит решить в будущем,— практически бесконечно.
Таким образом, для переводчика художественной литературы двуязычный словарь всегда какой-то части эквивалентов предложить не сможет. Это, естественно, отмечается в литературе по теории перевода. Так, А. В. Федоров пишет, что «почти каждый перевод сколько-нибудь сложного оригинала (особенно из области общественно-политической или художественной литературы) дает целый ряд примеров того, как слово подлинника находит соответствие, взятое за пределами синонимики двуязычных, а иногда и одноязычных словарей и точное по смыслу контекста»1. Эта недостаточность двуязычных словарей определяется как самой их природой, так и спецификой художественного перевода.
Однако многие недостатки существующих переводных словарей отнюдь не являются следствием их природы и объясняются лишь сложившимися традициями переводной лексикографии и, в значительной степени, недостаточно вдумчивым отношением лексикографов к своим задачам. Очень многих неточностей и пропусков, характерных для современных двуязычных словарей, можно избежать, если пересмотреть некоторые лексикографические традиции. Цель этих заметок показать, что многие недостатки двуязычных словарей можно и должно преодолеть.
Процесс художественного перевода, как известно, распадается на два этапа. Прежде всего переводящий должен понять, точно уяснить себе переводимое, а затем — выбрать
1 А. В. Федоров. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк). ИзД. 3-е, перераб. и дополн. М., «Высшая школа», 1968, с. 171.
341
соответствующие средства выражения на языке перевода1. Если словарь не всегда может наилучшим образом удовлетворить потребности второго этапа переводческой работы, то первую часть — понимание иноязычного текста — он, в общем, должен обеспечить (разумеется, здесь — как и в дальнейшем — идет речь о большом двуязычном словаре).
Между тем часто в переводных словарях учитываются не все характеристики переводимого слова.
Информация, сообщаемая нам словом, складывается из нескольких составных частей, важнейшие из которых — лексическое значение слова, его стилистическая, оценочная1 2 и частотная характеристики. Например, информация, заключенная в русском слове денница, складывается из нескольких элементов: а) значение — «рассвет»; б) слово принадлежит поэтическому стилю и является даже для этого стиля устарелым; в) оценочной характеристики слово не имеет; г) слово весьма редкое. Предположим, что это слово встретилось — впервые — в русском поэтическом тексте иностранному переводчику. Словарь может сообщить ему значение этого слова двумя принципиально различными путями: а) эквивалентом, содержащим все те же элементы значения, что и слово денница, и тем самым сообщающим читателю, что слово денница поэтическое, устарелое, редкое; б) описанием части или всех элементов значения слова денница, например, приведя стилистически нейтральный эквивалент, в точном переводе означающий «рассвет», или описанием значения «рассвет» и пометами поэт., уст. и ред. Информация, сообщаемая читателю словаря этими двумя различными способами, в общем одинакова по объему; однако во втором случае переводчик лишь узнает сумму не
1 А. В. Федоров. Указ, соч., с. 17.
2 Мы выделяем особо оценочную характеристику слова, так как она, хотя и очень тесно связана со стилистической, все же не совпадает с ней. Например, слово крепыш включает в себя значение положительного отношения говорящего к этому человеку, этот элемент отсутствует, например, у слова верзила\ вряд ли можно сказать: вчера вечером какой-то крепыш пытался снять с меня на лестнице часы. Напротив, слово сборище включает в себя презрительное, пренебрежительное отношение говорящего к собранию, обозначаемому этим словом. Элемент оценки может быть выражен эксплицитно (то есть в явном виде — каким-либо формальным показателем, например суффиксом) либо имплицитно (то есть без использования каких-либо формальных показателей) содержаться в значении слова.
342
ких значений, которым он в родном языке должен найти соответствие, тогда как в первом случае он получает готовый эквивалент, который может использовать непосредственно в переводе1.
Сложность работы лексикографа состоит в том, что в огромном количестве случаев между словами двух языков, как известно, не существует точных эквивалентных отношений. Мы не можем передавать при помощи только одного русского эквивалента всю информацию, содержащуюся в немецком слове Lenz, поскольку у русского слова весна нет синонима, который был бы характерен лишь для поэтической речи,— да и вообще никакого иного (ср. немецкий синонимический ряд Fruhling— Friihjahr — Lenz)1 2.
То, что очень часто слову одного языка нельзя найти в другом языке адекват, привело в свое время академика Л. В. Щербу к идее о необходимости создания двуязычного толкового словаря, то есть словаря, в котором слова не переводились бы эквивалентами, а толковались на родном языке читателя3 4. Эта идея, высказанная свыше тридцати лет назад, до сих пор в полном объеме не реализована, и, вероятнее всего, потому, что для огромного количества слов толкование их значений на родном языке читателя не более информативно, чем перевод при помощи эквивалента: объяснение значения норвежского слова егше при помощи словосочетания часть одежды от плеча до запястья не сообщает русскому читателю дополнительной информации по сравнению со словом рукав*. Разумеется, в определенном числе случаев толкования, объяснения необходимы. Для некоторых пар языков в последнее время начинают изда
1 При этом первый способ значительно компактнее, экономнее; избавляя читателя от дополнительной работы, он, кроме того, позволяет сберечь много места в словаре. Так, в рукописи одного иностранно-русского словаря (составлявшегося его автором по толковому словарю этого языка) были такие русские «эквиваленты»: часть одежды от плеча до запястья (то есть рукав), время суток от начала темноты до полного ее наступления (то есть сумерки).
2 С другой стороны, прилагательное lenzlich (lenzisch) адекватно передается русским словом вешний.
3 Л. В. Щерба. Предисловие ко 2-му изданию «Русско-французского словаря». Цит. по кн.: «Русско-французский словарь». Изд. 7-е. М., 1959, с. 5.
4 Убедительной критике это положение Л. В. Щербы подвергнуто в работе: Н. И. Ф е л ь д м а н. О границах перевода в иноязычно-русских словарях. Лексикографический сборник, вып. 2. М., 1957, с. 81—90.
343
ваться словари, где значения слова одного языка подробно объясняются на родном языке читателя. В такие словари, однако, включаются только те слова, для которых нет абсолютно адекватных переводов. В качестве примера словарей этого типа можно назвать «Словарь немецких синонимов» Р. Б. Фаррела1. Анализ наиболее тщательно выполненных переводных словарей показывает, что они приближаются к типу, который некоторые исследователи называют «толково-переводным словарем»1 2.
Объяснение, толкование слова в переводном словаре — это, в общем, неизбежное зло, и использование их оправдано лишь в случаях, когда слово действительно не имеет эквивалента в другом языке: лексикографу всегда следует помнить, что читатель, обращаясь к словарю, как правило, заинтересован не только в том, чтобы понять, каково значение того или иного слова или словосочетания иностранного языка, но и в том, чтобы получить эквивалент, который можно было бы непосредственно использовать в тексте перевода. Ведь поиск точного обозначения для вполне ясного смысла, как хорошо известно каждому переводчику, зачастую длительный и сложный процесс. Эту работу — там, где это вообще выполнимо,— должен проделать лексикограф: нецелесообразно, чтобы такой поиск совершался каждым потребителем словаря заново. Если, например, норвежским словом vaskebrett, наряду с его основным значением стиральная доска, называют дорогу, напоминающую своей поверхностью стиральную доску, то неразумно сообщать читателям перевод «2) накатанная волнами дорога»3, предоставляя им, каждому в отдельности, вспоминать, что такая дорога по-русски именуется в разговорной речи гребенкой.
Лексикографы зачастую сознательно подбирают стилистически окрашенным словам исходного языка нейтральные эквиваленты, снабжая их — к сожалению, не всегда — стилистическими пометами. Между тем совершенно очевидно, что слово, например, разговорного стиля следует передавать эквивалентом, также разговорным. Перевести его сло
1 R. В. Farr el. A dictionary of German synonyms. Cambridge, 1968.
2 Г. fl. Турове p, M. fl. Цвиллинг. Перевод слова в словарной статье. Конференция по вопросам теории и методики преподавания перевода. Тезисы докладов. М., 1964, с. 51.
3 Норвежско-русский словарь. Сост. В. Д. Аракин. М., 1963, с. 983.
344
вом стилистически нейтральным, снабдив пометой разг., значит, в сущности, возложить всю работу по отысканию разговорного эквивалента на переводчика. Естественнее было бы исходить из обратного, то есть считать, что если условия контекста потребуют использовать в переводе не разговорный, а нейтральный эквивалент, то переводчик сможет сам найти его; эта ситуация, надо полагать, менее вероятна, чем требование стилистически адекватного перевода. Норвежское разговорное trekke i soldattroya, буквально означающее «надеть солдатскую куртку», то есть адекватно переводимое русским оборотом надеть погоны (пе-рен.), в некоторых контекстах, может быть, и целесообразно перевести поступить на военную службу, как это предлагает «Норвежско-русский словарь» (с. 782), но более вероятен стилистически точный перевод. Иногда стремление лексикографа к передаче разговорного слова или словосочетания нейтральными приводит и просто к искажению смысла. Так, в одном словаре норвежское словосочетание luta lei переведено как «разг. пассивно относящийся к службе»’, хотя это просторечное выражение означает которому все осточертело, до смерти (до чертиков) надоело.
Весьма часто в двуязычных словарях стилистически не нейтральное слово или словосочетание переводится как стилистически адекватным, так и нейтральным словом; первый эквивалент при этом стыдливо ставится обычно на второе место. Так, польский фразеологизм to inna para ka-loszy переведен в большом польско-русском словаре как «разг, это другое дело (другой коленкор)»1 2, тогда как адекватным является только перевод это другой коленкор, ср. to со innego — это другое дело. Ср. далее немецкий идиом mir ist alles Wurst и его перевод в словаре «мне все равно, мне (на все) наплевать»3. Подобных примеров можно привести немало.
В свое время, в начальный период переводной лексикографии, слову исходного языка обычно давался один эквивалент. Сейчас, пожалуй, беда двуязычных словарей как
1 Норвежско-русский военный словарь. Сост. С. С. Сергеев. М., 1963, с. 185.
2 D. Hessen, R. Styputa. Wielki stownik polsko-rosyjski. Warszawa — Moskwa, 1967, s. 282.
3 Немецко-русский словарь. Под ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой. М., 1958, с. 1228. Точнее был бы перевод один черт.
345
раз в обилии предлагаемых эквивалентов: словари перегружены синонимами, различия между которыми не оговорены. Для словаря, где слова родного языка переводятся на иностранный (например, для русско-немецкого словаря, изданного у нас), неправильность этого решения очевидна: если вы не знаете, как по-немецки осложнить, то вы тем более не почувствуете различий между словами verwickeln, komplizieren, kompliziert machen, erschweren, предлагаемыми вам словарем1. Однако и в «иностранно-родных» словарях, которые нас в данном случае интересуют в первую очередь, обилие эквивалентов отнюдь не является достоинством и, как мы постараемся показать, в большом числе случаев и принципиально не оправдано.
Общеизвестно, что полные синонимы — вещь в языке крайне редкая. Поэтому, если рассматривать синонимический ряд какого-либо языка, можно установить между входящими в него синонимами некоторые различия либо по значению, либо по стилистической окраске и т. д., либо по нескольким характеристикам сразу. Для нас особенно важно, что в каждой паре языков есть параллельные синонимические ряды. Поскольку между членами каждого такого ряда есть известные различия, то, естественно, следует передать специфику каждого из членов ряда именно тем словом другого языка, которое максимально соответствует ему по всем характеристикам, или, иначе говоря, установить соотносительность членов параллельных синонимических рядов в разных языках. Словарь, при помощи тщательно подобранных переводов, должен, в частности, подчеркивать различия между близкими по значению словами, отграничивать их друг от друга, а не скрывать, не затушевывать эти различия.
К сожалению, существующая практика приведения возможно большего числа эквивалентов способствует лишь затемнению различий между синонимами исходного языка словаря. Мы берем на себя смелость утверждать, что, давая длинный ряд переводных эквивалентов, составители словарей в очень многих случаях просто подбирают синонимы к основному эквиваленту, а не стараются, представив себе четко объем значения переводимого слова, максимально
1 Русско-немецкий словарь. Под ред. А. Б. Лоховица, А. А. Ле-пинга и Н. П. Страховой. М., 1965, с. 359.
346
адекватно покрыть его переводным словом или словами. Лексикографы нередко действуют по принципу: раз можно дать перевод храбрый, значит, надо добавить и переводы смелый, отважный, бесстрашный, мужественный. Если слово иностранного языка значит диван, стало быть, надо дополнить это списком: оттоманка, кушетка, софа, канапе, козетка и т.д.
Разумеется, синонимические ряды пары языков далеко не всегда симметричны, и часто отнюдь не просто установить соответствия между членами этих рядов. Для этого составитель словаря должен располагать значительной информацией, которой часто не дают и большие толковые словари каждого из данных двух языков; даже в своем родном языке нередко нельзя сразу, без исследования, уяснить себе различие между некоторыми синонимами. Ср., например, русский синонимический ряд безукоризненный, безупречный и норвежский upaklagelig, uangripelig, ulastelig, daddellos. Разумеется, проще всего и легче всего, не стараясь разобраться в тонких и сложных нюансах значений этих очень близких по смыслу русских и норвежских слов, дать каждому из них в русско-норвежском словаре все четыре перечисленных норвежских перевода, а может быть, еще по разным соображениям — прибавить к каждому из этих наборов и ideell — идеальный, fullkommen, perfekt — со-вершенный, fortreffelig— превосходный, monstreverdig, mon-stergyldig — образцовый и т. п.
Характерно, что при этом при разных вокабулах одйи и те же эквиваленты обычно располагаются в словаре по-разному, и это создает иллюзию, будто словарь фиксирует различия между словами-синонимами исходного языка. На деле порядок этот очень часто случаен. Ср., например, «Русско-немецкий словарь» (М., 1965): <<безукоризненн//ый— tadellos, untad(e)lig, einwandfrei, makellos; ~ая работа — einwandfreie [tadellosel Arbeit; ~ый человек — makelloser Mensch; ~ая красота — vollendete Schonheit» (c. 29); «безупречн//ый—tadellos, einwandfrei, makellos, vorwurfs-frei; untadelig, tadelfrei; ~ая репутация — makelloser Ruf; ~ая работа — einwandfreie Imakellosel Arbeit» (c. 29). Если все эти указания словаря принять всерьез,то придется считать, что, например, словосочетание безукоризненная работа — по-немецки tadellose Arbeit, и его не следует переводить makellose Arbeit, а безупречная работа, на
347
против, переводится как makellose Arbeit, но не как tadellose Arbeit. Однако наиболее распространенный перевод — он указан на первом месте — и для словосочетания безукоризненная работа, и для словосочетания безупречная работа — это einwandfreie Arbeit. Далее, если продолжить анализ этих словарных статей, нам придется принять, что безукоризненный перевести при помощи tadelfrei и vorwurfs-frei нельзя — эти прилагательные закреплены как переводы лишь за словом безупречный1.
В инструкции «О пользовании словарем» читателю сообщается, что «переводы, очень близкие по значению, разделяются запятыми. Переводы, более далекие и обозначающие разные смысловые оттенки, отделяются друг от друга точкой с запятой» (с. 5). В статье безукоризненный перевод untad(e)lig дан на втором месте после tadellos и отделен от него запятой, то есть является близким синонимом последнего, а в статье безупречный перевод untadelig дан после точки с запятой, что, согласно инструкции, означает «более далекий перевод».
Мы подробно остановились на этом примере из «Русско-немецкого словаря» потому, что такая нечеткость решений характерна и для словарей, за которыми стоит богатая лексикографическая традиция. С другой стороны, на этом примере хорошо видны трудности, с которыми приходится сталкиваться лексикографу. Нам могут возразить, что приведен весьма сложный пример: действительно, разграничить случаи, когда не совпадают значение и употребление слов безупречный и безукоризненный, очень не просто (не вполне ясно даже, есть ли между ними разница). Однако можно без труда показать, что и в более простых случаях лексикографы предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления — привести побольше эквивалентов.
Дело, однако, не только в том, что для ряда слов нанизывание эквивалентов — путь более простой и, так сказать, безопасный, чем отбор меньшего числа точных соответствий. По-видимому, в переводной лексикографии установилось
1 «Немецко-русский словарь» (М., 1958), как и следовало ожидать, при слове vorwurfsfrei дает переводы безупречный, безукоризненный. Точно такими же переводами (и в том же порядке) в этом словаре снабжены прилагательные einwandfrei, tadellos, untad(e)lig и отсутствующее в переводах «Русско-немецкого словаря» слово untadelhaft, а прилагательное makellos, помимо этих переводов, имеет еще эквивалент незапятнанный', прилагательное tadelfrei в словаре отсутствует.
348
мнение, что чем больше синонимичных (то есть близких по значению, однако вовсе не обязательно полностью совпадающих по смыслу) эквивалентов дает словарь, тем он научнее, полнее, тем глубже разработана в нем каждая статья. Напротив, чем меньше переводов дается каждой вокабуле, тем, считается, словарь беднее, примитивнее, тем он менее научен. В действительности дело обстоит, конечно, совсем не так. Если «Норвежско-русский словарь» переводит норвежское слово gjerne (охотно), невзирая на наличие в норвежском языке словосочетания med fornoyelse (с удовольствием), как охотно, с удовольствием (стр. 311), у русского читателя словаря может сложиться впечатление, что слово gjerne выражает в норвежском разную степень готовности — как большую («с удовольствием»), так и меньшую («охотно»).
Существенно (хотя это и не имеет непосредственного отношения к проблемам художественного перевода), что при изучении языка читатель запоминает такие переводы и использует эти знания в дальнейшем при конструировании предложений на иностранном языке1. Так, запомнив, что норвежское gjerne это также то, что по-русски называется с удовольствием, он, когда ему будет нужно перевести на норвежский словосочетание с удовольствием, уже не будет обращаться к русско-норвежскому словарю, а использует перевод gjerne, который он помнит.
Итак, представляется неправомерным нанизывание синонимов в переводной части словаря в случаях, когда в исходном языке есть аналогичный синонимический ряд. Разумеется, довольно часто одному слову одного языка соответствует несколько слов в другом языке, и здесь приведение всего этого синонимического ряда не только оправдано, но и необходимо. И русское фильм, и кинофильм, и кинокартина, и картина, и даже лента (в этом же значении) по-норвежски можно передать только через film. Это означает, что объем значения норвежского film может быть описан по-русски совокупностью всех перечисленных синонимов.
Встречается в переводных словарях еще одна ошибка, которую можно назвать ложной полисемиза-ц и е й. Она состоит в том, что у слова иностранного
1 Ср. Е. Истрина. Заметки по двуязычным словарям. «Известия АН СССР ОЛЯ». М., 1944, вып. 2—3, с. 90.
349
языка выделяется несколько различных значений, тогда как на деле оно имеет одно общее значение, в которое выделенные лексикографом значения входят лишь как возможные конкретные реализации этого более общего значения. Поясним сказанное на нескольких примерах из «Норвежско-русского словаря» В. Д. Аракина. Норвежское слово koie, значение которого определяется толковым словарем норвежского языка как «примитивная хижина из лапника, дерева или земли, часто имеющая лишь очаг и земляной пол, используемая охотниками, углежогами и лесорубами» \ переводится в «Норвежско-русском словаре» следующим образом: «1) шалаш, хижина, лачуга; 2) землянка» (с. 439). Существительное misfornoyelse, означающее неудовольствие, недовольство, передается как «1) недовольство, неудовольствие; 2) досада» (с. 544). Норвежское прилагательное romantisk означает в общем то же, что и русское прилагательное романтический 1 2, и, в частности, может характеризовать местность или место, которое своей таинственностью и т. п. отличается от обычных, будничных, то есть его можно использовать как синоним прилагательного malerisk — живописный. Словарь В. Д. Аракина переводит слово romantisk следующим образом: «1) мечтательный, романтичный; 2) живописный (о местности)', 3) романтический» (стр. 683) 3.
Казалось бы, большой беды здесь нет: такие эквиваленты, в общем, возможны, а вопрос о том, закономерно ли выделять какие-либо соответствия в особое значение и снабжать новой цифрой, как будто несуществен.
В пользу несущественности этого момента можно было бы указать на то, что пока еще в лексикографии нет каких-либо четких — понимаемых всеми словарниками однозначно — критериев, руководствуясь которыми можно было бы в каждом конкретном случае решить, имеем ли мы дело с разными значениями или с оттенками одного значения. Не вполне ясно даже, возможно ли это вообще. Во всяком случае, опыт показывает, что один и тот же языковой материал очень часто весьма различно интерпретируется раз-
1 Norsk riksm^lsordbok. Bd. 1. Annet halvbind. Oslo, 1937, s. 2560.
2 Словарь современного русского литературного языка, т. 12. М.— Л., 1961, с. 1452.
3 Ср. Norsk riksmalsordbok. Bd. 2. F#rste halvbind. Oslo, 1947., s. 1291.
350
йымй лексикографами. Так, в русском глаголе отдавать —-отдать словарь Ушакова выделяет 10 значений и 6 оттенков, Малый академический — 7 значений и 10 оттенков, Большой академический — 11 значений и 9 оттенков1. Тот же разнобой наблюдается и в двуязычных словарях. Ср. «Немецко-русский словарь» А. А. Лепинга и Н. П. Страховой: «Нilfe... помощь, поддержка; вспомоществование, пособие...» (с. 569); «Датско-русский словарь»: «hjaelp ...помощь; поддержка; вспомоществование, пособие; спасение; вспомогательное (подсобное) средство...»1 2; «Шведско-русский словарь»: «hjalp... 1) помощь, поддержка... 2) пособие, вспомоществование; 3) вспомогательное или подсобное средство...»3.
Таким образом, в выделении значений слова и их оттенков есть еще и, по-видимому, останется и в будущем немало субъективного. Но это не должно препятствовать выработке общих принципов решения этого вопроса в переводной лексикографии. Главным из таких принципов следует признать следующий: система эквивалентов должна отражать смысловую структуру слова в исходном языке, которая, естественно, не зависит от того, с каким языком проводится сравнение. В идеале система значений слова должна оказаться одинаковой во всех двуязычных словарях, в которых данный язык является исходным, и совпадать с разработкой системы значений слова в толковом словаре данного языка4. Если обратиться к вышеприведенным примерам, то сказанное означает, что структура значения норвежского слова koie не зависит от того, какими русскими эквивалентами мы покроем весь объем значений этого слова: «одно значение
1 А. А. Б у р я ч о к. К вопросу о размежевании значений слова и их оттенков в толковом словаре. «Труды Ин-та яз. и л-рыАН «Латв. ССР», 14. Проблема толкования слов в филологических словарях. Рига, 1963, с. 31: Ср. также: X. Касарес. Введение в современную лексикографию. М., 1958, с. 71. Н. И. Фельдман. Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях. «Лексикографический сборник», вып. 1. М., 1957, с. 20—22. Г. И. Белозерцев. Притяжательные местоимения в русской лексикографической традиции. «Лексикографический сборник», вып. 6. М., 1963, с. 103—104.‘
2 Датско-русский словарь. Сост. Н. И. Крымова, А. Я. Эмзина и Г. Ф. Мольтке. М., 1960, с. 278.
3 Шведско-русский словарь. Сост. Д. Э. Миланова. М., 1959, с. 390.
4 Н. И. Фельдман. Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях, с. 14.
351
не должно распадаться на несколько в зависимости от переводов»1. Русское слово палец не распадается на два значения — палец на руле и палец на ноге — оттого, что в немецком ему соответствуют два разных слова — Finger и Zehe, а слово хвост — на девять значений из-за того, что в исландском языке хвост у различных животных имеет девять разных наименований (hali, styri, rofa, dindill, stertur, stel, spordur, tagl, skott).
Нам могут возразить, что, независимо от того, как слово иностранного языка разделено в каком-либо переводном словаре на значения, сумма эквивалентов сообщает нам один и тот же объем информации, что тут как бы действует ассоциативный (сочетательный) закон арифметики. По-видимому, практически в ряде случаев это так и будет. Однако нередко произвольность в выделении значений слова иностранного языка приводит к неправильному пониманию этого слова. Дело в том, что слово-эквивалент в одном из своих оттенков может быть синонимично другим приводимым в словаре эквивалентам, и на эту синонимичность, то есть на то, что имеется в виду именно данный оттенок слова, а не другой или другие, указывает само наличие его в ряду синонимов. Действительно, эквивалент живописный норвежского прилагательного romantisk уместен в ряду романтический, живописный (о местности)1 2; выделение же эквивалента живописный в отдельное значение, как это сделано в «Норвежско-русском словаре», сообщает нам, что здесь налицо иное значение, отличное от помещенных под другой цифрой. Норвежское слово misforntfyelse, наряду с недовольством и неудовольствием, получило еще и перевод досада, что объясняется лишь стремлением к возможно большему числу синонимичных эквивалентов. Но это, в общем, не столь серьезная ошибка, как помещение этого эквивалента под особой цифрой: при такой трактовке словарем значения слова misfonwyelse у читателя создается впечатление, что это норвежское слово имеет два значения, одно из которых обозначает отрицательную реакцию сравнительно слабую, а другое — отрицательную реакцию более сильную.
1 Н. И. Фельдман. Цит. ст., с 14.
2 Ср. цитату «романтический уголок природы» (из Скитальца)г приводимую «Словарем современного русского литературного языка» (т.- 12, с. 1452), и неупотребительность сочетания романтическая местность (норв. et romantisk landskap).
352
Еще более ясно видны недостатки подобной искусственной полисемизации на следующем примере — трактовке «Норвежско-русским словарем» прилагательного unnfallende. Значение его — слабый, мягкий, податливый, то есть на которого можно легко оказать нажим, давление, которого легко запугать. Очевидно, что русские прилагательные слабый, мягкий, податливый, которыми мы описываем значение слова unnfallende, употреблены здесь как синонимы именно в этом частном значении и не имеют здесь всего того спектра значений, который свойствен каждому из этих слов вообще; например, слабый, как перевод слова unnfallende, не может обозначать недостаточно сильный, вялый. В «Норвежско-русском словаре» прилагательное unnfallende трактуется следующим образом: «1) слабый, вялый; 2) уступчивый, сговорчивый; 3) неустойчивый, непостоянный» (с. 939).
Нетрудно представить себе, как возникают подобного рода ошибки. Слову иностранного языка лексикограф дает эквиваленты тех слов, которыми в толковом словаре этого иностранного языка объясняется значение данного слова, то есть в данном случае переводы норвежских слов svak, foyelig, ettergivende1. Затем лексикограф, упуская из виду, что слабый означает здесь лишь не отличающийся твердым, волевым характером '1 2, приписывает этому русскому слову и иные его значения, а потом, следуя принципу отделения в словаре разных значений друг от друга, вводит их нумерацию и таким образом искажает реальную картину значения переводимого слова.
Другой пример из этого же словаря. Существительное id переведено как «уст. 1) деяние, деятельность; 2) стремление, желание» (с. 378), тогда как в действительности значение этого слова — деятельность, усилие, труд. Дело в том, что один из объясняющих синонимов в толковом словаре — streben, помимо значения деятельность, труд, активность, имеет также значение стремление, что и явилось причиной неправомерного выделения у слова id дополнительного, отсутствующего у него значения. В «Норвежско-английском
1 Norsk riksmalsordbok. Bd. 2. Annet halvbind. Oslo, 1957, s. 3305.
2 Словарь современного русского литературного языка, т. 13. М.— Л., Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1962, с. 1119.
12 Мастерство перевода
353
словаре» это слово переведено правильно: activity, effort l.
Примеры подобной искусственной многозначности в «Англо-русском словаре» В. К. Мюллера приводит Л. Г. Хорохорин1 2.
Наконец, рассматривая типичные ошибки двуязычных словарей в области перевода, следует остановиться еще на одной, которую условно можно назвать ложной и д и о-матизацией. Идиомом мы здесь вслед за И. А. Мельчуком будем, в частности, называть такое словосочетание, которое не переводится поэлементно, при помощи эквивалентов отдельных составляющих его слов3 4. Нередко бывает, что словосочетание можно перевести двумя способами — во-первых, регулярно, то есть поэлементно, а во-вторых, идиоматично, то есть не поэлементно. Например, английское словосочетание turn green может быть переведено на русский и как стать зеленым, и как позеленеть. В двуязычных словарях нередко в таких случаях первый, регулярный, способ перевода не отражается, что может породить у читателя представление, будто поэлементный перевод недопустим. Ср. пример из «Шведско-русского словаря»: «iro-nisera . . . иронизировать; ~ over ngt подтрунивать над чем-л.» (с. 454); в действительности словосочетание иронизировать над кем-либо, чем-либо в русском языке возможно. Русско-датский словарь также использует этот прием: беспечн//ый. . .sorgles, ubekymret, letsindig (легкомысленный); skedeslos (халатный); он ~ый человек — han tager sig tingene let; han lader fiolen serge (разг.)»*. Этот некорректный прием, в общем часто встречаемый в словарях, конечно, приносит мало вреда переводчикам художественной литературы: они переводят на свой родной язык и
1 Е. Haugen. Norwegian-English dictionary. Oslo — Madison, 1965, p. 192.
2 JI. Г. Хорохорин. Некоторые замечания о многозначности и недифференцированности слов в двуязычных словарях. «Тетради переводчика», № 2. М., 1964, с. 93—95.
3 И. А. М е л ь ч у к. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность». «Вопросы языкознания», 1960, № 4, с. 73—80. Для краткости изложена лишь сущность определения идиома И. А. Мельчуком.
4 Русско-датский словарь. Сост. Н. И. Крымова и А. Я. Эмзина. М., 1968, с. 33. Вопрос об адекватности приводимых переводов в этой связи несуществен.
354
прекрасно знают, какие словосочетания в нем возможны, а какие — нет. Однако лиц, изучающих иностранный язык, это может ввести в заблуждение: часто таким способом описываются действительно невозможные в языке словосочетания.
Если, например, иноязычно-русский словарь сообщает, что такое-то слово переводится на русский язык как можно, а то же слово с отрицанием как нельзя или невозможно1, то это делается для того, чтобы предупредить читателя о неупотребительности словосочетания не можно в русском языке. Ср. с этим вышеприведенный пример из «Шведско-русского словаря» — «ironisera — иронизировать; ~dver ngt — подтрунивать надчем-л.». Кстати, во избежание смешения этих принципиально разных случаев можно применить один простой прием, используемый в некоторых словарях: если словосочетание переводится двояко — поэлементно и иначе, первый перевод не приводится, а перед вторым ставится помета тж. (также), что указывает и на возможность регулярного (поэлементного) перевода.
Наш перечень характерных ошибок двуязычных словарей страдал бы серьезной неполнотой, если бы мы не упомянули в заключение одного из сложнейших и наименеё разработанных вопросов лексикографии, имеющего самое непосредственное отношение к проблемам художественного перевода,— вопроса о так называемом культурном контексте иностранного языка, о тех понятиях, которые у говорящих на каком-либо языке связываются с отдельным словом. Даже на очень простых примерах можно показать, что полноценный перевод возможен лишь в случае, когда переводчик полностью понимает смысл переводимого им текста, изучил «живую действительность, стоящую за текстом оригинала»1 2. В настоящее время словари — по крайней мере европейских языков — и не ставят перед собой цели быть таким справочником по культуре (в широком смысле) народа — носителя исходного языка или этнографической (опять-таки в широком смысле) энциклопедией. Считается, что словарь должен давать только знание слов, но не
1 Например, «Wielki slownik polsko-rosyjski», с. 442; «Украшсько-рос1йський словник», за ред. В. С. 1ль1‘на. К., 1964, с. 415.
2 Е. Э т к и н д. Поэзия и перевод. М.—JL, «Советский писатель», 1963, с. 165.
12* 355
тех — в значительной степени национальных — понятий, которые стоят за этими словами.
Но можно ли считать правильным, адекватным лишь формально, словесно верный перевод, который не вызывает у читателя того же представления о действительности, которое возникает у человека, читающего оригинал на своем родном языке? Разумеется, нет. Если, например, в одной стране есть обычай на зиму выставлять у дома снопы для птиц, а в другой стране этого обычая нет, то верный перевод с первого языка на второй предложения под рождество он выставил два снопа, формально совершенно точный, будет фактически неточным, поскольку читающий это предложение не сможет понять, что имеется в виду. В рассказе Бьёрн-стьерне Бьёрнсона «Буланый» (переводчик И. Эльконин) говорится: «Усадьба Бьёрган была расположена так высоко, что хлеба там почти не родились, и поэтому ее в конце концов продали одному швейцарцу, а под пасторский дом отвели место пониже, в долине»1. Русского читателя это предложение, скорее всего, наведет на мысль о том, что в середине прошлого века в Норвегии нашелся чудак швейцарец, пожелавший купить такую непривлекательную усадьбу: ведь читателю (как, по-видимому, и переводчику) неизвестно, что в 1850-е годы в Норвегию была приглашена группа швейцарцев для организации крупных молочных хозяйств в горах. Слово sveitser постепенно приобрело также значение управляющий молочной фермой или владелец молочной фермы, и теперь в этом значении употребляется в форме sveiser (в «Норвежско-русском словаре» В. Д. Аракина это слово неточно переведено как 1) скотник’, 2) работник молочной формы). Но если для правильного по существу перевода знать одни словесные' эквиваленты недостаточно, то где же переводчик получит все эти сведения о национальных значениях слов? Пока что единственным путем приобретения переводчиком всех этих необходимых для успешной работы знаний является чтение литературы на языке, с которого он переводит. Уместно поставить вопрос о систематизации этих, как сейчас принято говорить в лингвистике, «фоновых знаний» (background knowledge) и о способах и степени отражения их в двуязычной лексикографии. Этот
1 Б. Бьёрнсон. Избранное. Перевод с норвежского. М., 1959, с. 336.
356
очень важный вопрос теории словарного дела мы намерены подробно изложить в другой работе и поэтому ограничиваемся лишь тем, что в самой общей форме упоминаем о нем.
* * *
В статье рассмотрен ряд недостатков, присущих немалому числу двуязычных словарей. Ошибки эти, несомненно, затрудняют работу переводчиков. Однако было бы неверным пытаться установить прямую зависимость между качеством переводных словарей с данного языка и качеством переводов. По-видимому, в ряде случаев, в связи с низким качеством словарей или их отсутствием, от добросовестного переводчика потребуются дополнительные усилия и поиски, но, если он стремится выполнить свою работу наилучшим образом, он постарается уловить каждый тончайший нюанс мысли автора и точнейшим образом передать его, независимо от того, насколько помогает в этом словарь.
Строго говоря, в идеале качество переводов вообще не зависит от словаря, потому что переводчик должен настолько хорошо владеть языком, с которого он переводит, что двуязычный словарь ему вообще не нужен — он у него уже как бы весь в голове. При выборе того или иного эквивалента переводчик не ищет его в словаре, а, поняв мысль автора, сам находит средства наиболее адекватного ее выражения. При этом он может и не задумываться над тем, есть ли в имеющемся у него словаре эквивалент, который он в данном случае употребляет, или нет. Приводя примеры использования переводчиками не учтенных в словарях эквивалентов, А. В. Федоров поставил Н. Л. Дарузес в заслугу — вполне обоснованно — то, что, переводя фразу Мопассана «La diligence du Havre allait quitter Criquetot», она передала французский глагол quitter при помощи русского глагола отправляться (из Крикто отправлялся гаврский дилижанс), хотя в словаре этот эквивалент не зафиксирован1. Необходимо, однако, подчеркнуть, что, с одной стороны, при переводе этого предложения Н. Л. Дарузес наверняка не смотрела во французско-русском словаре, какие русские слова соответствуют французскому глаголу quitter, а с другой — что в словаре эквивалент отправляться был бы
1 А. В. Ф е д о р о в. Указ, соч., с. 171.
357
уместен. Когда А. и П. Ганзен перевели первую реплику в «Кукольном доме» как «Хорошенько припрячь елку, Элене» (Gem juletraeet godt, Helene), вообще не существовало ни норвежско-русских, ни датско-русских словарей; но и до сих пор ни в одном из таких словарей нет ни перевода припрятать для gemme (gjemme), ни хорошенько для godt.
Напротив, недостаточные знания языка, не компенсируемые частым обращением к словарю, естественно, являются причиной недопустимых ошибок у переводчиков, и словари тут, конечно, ни при чем. Ряд ярких примеров подобных переводческих промахов (на наш взгляд, не совсем точно называя их «словарными ошибками») приводит К. И. Чуковский1. Такие ошибки известны каждому переводчику и редактору переводов, и мы ограничимся лишь одним примером. М. Зощенко, переводивший роман «Яд» норвежского писателя Хьелланна, превратил толстого гимназиста Мортена, «терпеливо носившего кличку Ретрограда— трудно сказать почему»1 2, в Мортена Толстозадого и заставил Хьелланна, писателя тонкого и деликатного, добавить нелепую фразу: «И нам было бы неловко пояснять, почему его так прозвали»3, хотя слово bakstrever (с переводом «реакционер») есть даже в «Кратком норвежско-русском словаре» Д. Э. Милановой, изданном еще в 1947 году (правда, в нем нет, как, кстати, и в большом «Норвежско-русском словаре» В. Д. Аракина, выражения det er ikke godt a si (forklare) — («трудносказать»). Конечно, иногдатакиеошибки возможны и у опытных переводчиков, и опять-таки нельзя винить в этом словарь. В рукописи одного перевода, выполненного в общем очень хорошо, герой, играющий в карты, четыре раза подряд произносил: «Триумф! Триумф! Триумф! Триумф!» — и торжествующе выкладывал на стол «одну за другой четыре сильные трефы, не дожидаясь хода партнера»; в силу какой-то случайности переводчик, человек способный и добросовестный, прочитал норвежское слово trumf — «козырь» — как triumf.
Словарь может, далее, дать несколько переводных значений слова или словосочетания, каждое из которых будет
1 К. Чуковский. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. М., 1964, с. 9—17.
2 A. L. Kielland. Samlede Vaerker. Andet Bind. Kristiania og Kjobenhavn, 1913, s. 192.
3 А. Хьеллан н.. Избранные произведения. М., 1958, с. 220.
358
уместным и точным в определенном контексте, но перечислить все эти контексты он, разумеется, не может, и переводчик сам должен сообразить, в каком из значений слово или словосочетание употреблено в тексте и какой,, следовательно, перевод надо избрать. Нам довелось редактировать один перевод с норвежского, где герой по воле переводчика «взял кошку под руку и направился к двери», хотя эта необычная акция и не диктовалась словарем, сообщавшим, что ta under armen может означать как взять под руку, так и взять под мышку.
Когда же и переводчик не владеет языком безупречно, и словарь не дает ответа на его вопросы, точность перевода страдает. Из затруднительных положений переводчик выходит двумя способами: либо непонятное слово вообще опускается, либо переводится «по смыслу», то есть переводчик представляет себе, «что писатель хотел сказать». Так, рассказы Артура Омре были изданы в 1962 году — до выхода большого «Норвежско-русского словаря». В первом же предложении рассказа «Пес» (перевод Е. Суриц): «Пес, большой черный пес, тихо шел за мной следом»1— обнаруживается пропуск: не переведена часть «из леска» (kom ut fra et skausnar) — по-видимому, потому, что и слово skaus-паг (литературное: skogsnar) и snar в тогдашних словарях отсутствовали. Через предложение пес покачал головой, хотя норвежское skakke pa hodet, тоже отсутствующее в словарях до 1963 года, означает «наклонить голову набок, в сторону». (Возможно, правда, что переводчик переводил здесь не «по смыслу», а спутал глагол skakke с глаголом skake — трясти.')
Влияние на качество художественного перевода стилистических неточностей в словарях, смазывания различий в синонимическом ряду, о которых говорилось в статье, обнаружить и, главное, доказать труднее, чем влияние пропусков и неверных переводов. Причина этого в значительной степени состоит в том, что стилистический ключ произведения обычно определяется широким контекстом, и, именно сообразуясь со всей тональностью произведения, переводчик выбирает в каждом конкретном случае тот или иной стилистический синоним. С другой стороны, одно и то же произве
1 А. О м р е. Тепло в стужу. Рассказы. Перевод с норвежского. М., 1962, с. 45.
359
дение нередко может быть прочитано разными переводчиками в несколько различных стилистических ключах, подобно тому как различные музыканты по-разному интерпретируют одно и то же музыкальное произведение. Характерная для словарей размытость стилистических характеристик многих слов, в общем, лишь усугубляет возможности неадекватного понимания переводчиком авторского замысла. Если словарь будет, например, последовательно избегать просторечных и даже разговорных эквивалентов, как это часто делается, то весьма вероятно, что и у пользующегося им не слишком опытного переводчика все герои переводимого произведения будут говорить гладким, невыразительным языком.
Разумеется, рассмотренный перечень типичных ошибок в области перевода, встречаемых в двуязычных словарях, далеко не исчерпывающий. Множество неверных или не вполне верных переводов в словаре объясняется либо недостаточно высокой квалификацией лексикографа, либо его торопливостью и небрежностью, а очень часто и тем и другим. Однако обобщение их и трудно осуществимо, и мало поучительно. Можно, конечно, обратить внимание читателей на то, что в одном словаре вместо перевода колосник дан перевод прут (от решетки), а словосочетание, означающее просвещенная эпоха, переведено как эпоха Просвещения. или на то, что в другом словаре, например, слово, означающее гадливый, переведено как омерзительный, календарь как альманах и т. п. Такого типа ошибки в переводах объясняются, в общем, просто плохим знанием одного из двух языков словаря.
Для нас существенны не такие случайные ошибки, а сознательное, объясняемое ложными исходными установками искажение эквивалентных отношений между языками. Когда словарь передает характерное для разговорного языка переносное значение некоего слова, означающего грудной ребенок, не как младенец (совершенное) дитя, а как перен. беспомощный человек.— это, с нашей точки зрения, ошибка принципиальная. Точно так же принципиально недопустимо вместо лопоухий писать просторен, имеющий большие оттопыренные уши. вместо приставка писать префикс (как, конечно, и префикс вместо приставка), а вместо одного эквивалента стрельба давать также переводы пальба, канонада, обстрел, если все эти дополнительные слова имеют точные эквиваленты в переводимом языке.
360
Среди переводчиков широко распространено мнение, что переводный словарь не может дать точных, ярких и емких эквивалентов, какие можно было бы непосредственно, «без переработки» использовать в художественном переводе. Очень четко эту мысль выразил К. И. Чуковский:
«Никакому словарю (двуязычному.— В. Б.) не угнаться за всеми оттенками живой человеческой речи. Поэтому задача переводчика, если он только настоящий художник, заключается именно в том, чтобы возможно чаще отыскивать такие соответствия иностранного и русского слова, какие не могут вместиться ни в одном словаре»1. Несколько ниже К. И. Чуковский хвалит переводчиков за то, что они «пренебрегли лексиконами и дали свой синоним, наиболее выразительный и, я сказал бы, наиболее русский»1 2.
К. И. Чуковский бесспорно прав в том, что в настоящее время двуязычные словари весьма далеки от соответствия высоким требованиям, которые к ним может предъявлять переводчик. Но, думается, неправомерно пессимистическое утверждение, что «никакому словарю не угнаться за всеми оттенками живой человеческой речи». Принципиально неразрешимых задач здесь нет. Все зависит в конечном счете от лексикографической установки составителя словаря, его способностей, знаний и добросовестности.
1 К. Чуковский. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. М., 1964, с. 89.
2 Там же, с. 91.
Р, Будагов
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА»
В наше время интерес к проблеме «ложных друзей переводчика»1 увеличивается во многих странах мира. Это обнаруживается в публикации теоретических статей на названную тему и в издании специальных словарей, обычно сохраняющих в своих заглавиях — в том или ином виде — наименование «ложные друзья переводчика» 1 2. Хотя словосочетание «ложные друзья переводчика» и длинно и слишком открыто, чтобы быть термином, оно все же терминируется за последние годы. Во-первых, это словосочетание, по-ви-димому, не имеет равного и более краткого эквивалента; во-вторых, сама его «открытость» привлекательна: она как бы напоминает, какие ловушки ожидают всех, кто имеет дело с разными языками. Речь идет о словах и похожих (внешне) и непохожих (функционально) друг на друга.
Казалось бы, как идентично прилагательное позитивный в русском языке английскому positive или французскому
1 «Ложными друзьями переводчика» в лингвистике именуются межъязыковые омонимы — слова, имеющие при одинаковом звучании разные значения.— Ред.
2 Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика». Составили В. В. Акуленко, С. Ю. Комиссарчик, Р. В. Погорелова, В. Л. Юхт. Под общим руководством В. В. Акуленко. М., «Советская энциклопедия», 1969, 383 с.; В. Л. Муравьев. Faux amis или «ложные друзья» переводчика. М., «Просвещение», 1969, 47 с.; L. Dupont. Les faux amis espagnols. Paris — Geneve, 1961, 166 p.; L. Dupont. Les pieges du vocabulaire italien. Geneve,. 1965, 199 p. Первый словарь, составленный по типу «ложных друзей переводчика», вышел в 1928 году в Париже (см. об этом в послесловии В. В. Акуленко к только что названному словарю).
362
positif. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что в каждом из этих трех языков названное прилагательное имеет свой круг значений и употреблений, лишь частично совпадающих между собой, а чаще не совпадающих. Подобные несовпадения слов, близких по звучанию и написанию, но семантически или по употреблению несхожих в разных языках, и рассматриваются в словарях, построенных по типу «ложных друзей переводчика».
Из упомянутых словарей самым тщательным и самым большим является словарь под редакцией В. В. Акуленко. И не только потому, что этот словарь снабжен специальными статьями (введением и заключением), раскрывающими его назначение. Словарь удобен и тем, что является двойным: англо-русским и русско-английским. Читатель, познакомившись с введением и заключением, будет знать, что он сможет найти в основном корпусе столь своеобразного словаря. К сожалению, аналогичного «аппарата» нет в двух в общем полезных книгах француза Л. Дюпона.
«Ложные друзья переводчика» — проблема и практическая и теоретическая. Она может быть рассмотрена под разным углом зрения и на разном материале. Сам этот материал превращает проблему в многоаспектную. Одно дело, когда речь идет о несовпадениях между неродственными языками, другое — между языками родственными. В свою очередь, в близкородственных языках создается иная ситуация, чем в языках с родством более отдаленным-. «Ложные друзья» в пределах русского и английского лексиконов ведут себя несколько иначе, чем «ложные друзья» в пределах, например, французского и итальянского словаря (близкородственные языки). Во всем этом нетрудно убедиться, познакомившись со всеми названными книгами.
Существенно и другое разграничение — письменной и разговорной речи. Конечно, «ложные друзья» могут подвести и в разговорной речи (на то они и ложные), но гораздо чаще и гораздо опаснее они в речи письменной. В разговоре иногда и не замечают различий между, например, теми же позитивный в русском и positive в английском (тем более, что при устном переводе всегда можно «обойти» трудное или не совсем ясное слово). На письме не заметить подобных различий недопустимо. В предложениях «I have been in a positive state of excitement» (Б. Шоу) и «Я был по-настоящему взволнован» ясно обнаруживается семан
363
тическая неэквивалентность английского positive и русского позитивный (буквальный перевод: «Я находился в позитивном состоянии возбуждения», разумеется, невозможен). Поэтому проблема «ложных друзей переводчика» выступает как проблема прежде всего письменной речи, хотя с ней должен считаться и устный переводчик \
Основываясь на материале названных словарей и привлекая другие факты, попытаемся теперь предварительно наметить некоторые общие типы несоответствий в пределах «ложных друзей» родственных языков, прежде всего — близкородственных.
I. Первый тип отношений: в одном языке слово имеет более общее (менее специальное) значение, чем в другом языке. Франц, idiome в наши дни 1 2 означает прежде всего «особенность языка», а испанск. idioma — «язык» (вообще) и лишь во вторую очередь «особенность языка». Поэтому испанск. el profesor de idiomas обычно соответствует франц, le professeur de langues — «преподаватель языков». Идиома в русском языке осмысляется теперь только как термин, совсем лишенный общего значения, еще достаточно типичного в испанском и уже более редкого во французском. В английском слово idiom возможно и в общем («язык») и в специальном («неразложимый оборот речи») значениях. Различие между языками здесь обнаруживается в целой гамме осмыслений от более общих к более специальным. Подобные расхождения типичны для «ложных друзей переводчика».
2. Второй тип отношений: родовое значение в одном языке, видовое — в другом. Испанское существительное vianda — «пища», «всякая пища» (родовое), франц, viande — «мясо» (видовое). Румынск. pasare — «птица» (родовое), итальянск. passero — «воробей» (видовое). Подобные контакты особенно характерны для близкородственных языков.
3. Третий вид отношений: однозначность в одном языке,
1 И. Эренбург рассказывает о своей встрече с Э. Хемингуэем. Первый говорил по-французски, второй — по-испански. Эренбург спросил о новостях (по-французски nouvelles), а Хемингуэй решил, что интересуются его романами (по-испански novellas). «Ложные друзья переводчи-чика» чуть было не поссорили писателей. Позднее все разъяснилось (см. И. Эренбург. Собрание сочинений в девяти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 149).
2 Здесь и везде в дальнейшем исходим из современных значений слов.
364
многозначность — в другом. Прилагательное галантный в русском языке однозначно («изысканно вежливый», особенно по отношению к женщине). В английском gallant многозначно. Часто — «отважный, доблестный». Gallant soldier — «доблестный воин». Затем — «красивый, блестящий». A gallant show — «красивое зрелище». В значении «изысканно вежливый» английское gallant и русское галантный встречаются лишь иногда: Не was very gallant at the ball — «Он был весьма галантным на балу». Полисемия слова в одном языке взаимодействует с моносемией слова в другом языке. Заметим, что расхождения в пределах «полисемия — моносемия» или «моносемия — полисемия» часто встречаются в широко распространенных словах.
4. Четвертый тип отношений: межъязыковая стилистическая неэквивалентность слов и словосочетаний. Здесь, в свою очередь, могут быть разные группы и подгруппы.
Латинский глагол атаге — «любить» сохранился в ряде романских языков, но его стилистические функции различны. Во французском он встречается во всех стилях речи (aimer), тогда как в испанском — лишь в самом высоком.
Существительное гуманность кажется вполне интернациональным. Его «гуманное значение» представляется очевидным. Но в испанском humanidad имеет не только философское значение, но и чисто физическое. Это и «природа человека», и его «корпуленция».
Как только что было отмечено, анализируемый тип отношений дробится на группы. Французское at tendre — «ждать» кажется тождественным итальянскому attendere в том значении второго глагола, которое осмысляется тоже как «ждать». Но и здесь нет тождества. Дело в том, что итальянцы употребляют этот глагол в таком его значении лишь в ситуациях «счастливого, благоприятного или просто желательного ожидания». Аналогичный же французский глагол подобного оттенка не имеет. Поэтому по-итальянски нельзя сказать Faccusato attende la sentenza — «обвиняемый ожидает приговора», а по-французски глагол attendre в подобном предложении был бы вполне на месте. Как видим, стилистическая неэквивалентность оказывается самой различной.
5. Пятый тип отношений: живое, неархаичное значение в одном языке, архаичное (в большей или меньшей степени) — в другом языке. В русском языке наших дней фельетон — это статья на злободневную тему, высмеиваю-
365
тая те или иные отрицательные явления действительности. Значение же feuilleton во французском совсем иное: фрагмент из «романа с продолжением», который печатается в газете. В наше время фельетон в русском и feuilleton во французском семантически уже не соотносительны, а в прошлом веке они были ближе друг к другу. В 1879 году И. С. Тур-сенев писал П. В. Анненкову: «Вы, вероятно, уже прочитали первые фельетоны «Нана» Золя». Подобное понимание фельетона широко бытовало во второй половине прошлого века.
Противопоставление «архаичное значение — неархаичное значение» обычно распадается на ряд групп в зависимости от самой степени архаичности. Здесь возможны оттенки: «слегка архаичное» слово, «совсем архаичное» слово или словосочетание и т. д. Испанское существительное estrada означает «дорога». Во французском estrade — «дорога» уже архаично. Оно осмысляется теперь иначе — «подмостки». В русском эстрада в значении «подмостки» в свою очередь стало архаичным и в наши дни именует «особый жанр исполнительского искусства» (промежуточное звено — «представление, исполняемое на эстраде»). Контакты между старыми и новыми значениями слов в разных языках устанавливаются по-своему. Противопоставление «неархаичное значение — архаичное значение» обусловлено не только наличием старого, но и возникновением новых элементов в лексике каждого языка.
6. Шестой тип отношений: лексически свободное значение в одном языке — лексически несвободное значение в другом языке. Полисемантичное итальянское существительное riscossa в значении «помощь», казалось бы, должно совпадать с французским rescousse в том же осмыслении. Но первое функционирует в свободных сочетаниях, тогда как второе возможно лишь в выражении a la rescousse — «на помощь». В иных сочетаниях, с другими предлогами rescousse уже невозможно. Между тем итальянское riscossa подобных ограничений не знает.
Даже такое слово, как идея, получившее интернациональное распространение, все же не одинаково «ведет себя» в разных сочетаниях тех или иных языков. В английском idea в определенных сцеплениях получает значение «представления»: to give an idea of smth. — «дать представление о чем-либо», to form an idea of smth. — «составить представление о чем-либо». Еще сильнее аналогичная тенденция
366
обнаруживается в итальянском: una musica sull’ idea di — «музыка в жанре» (от идеи в собственном смысле мало что остается в подобных сочетаниях), ha una lontana idea dello zio— «он немного похож на своего дядю» и т. д. Частично совпадая между языками в свободном употреблении, слово идея неодинаково осмысляется в определенных сочетаниях, характерных для одних языков и нехарактерных для других.
7. Седьмой тип отношений: термин в одном языке, не-термин в другом языке. Бензин переводится на французский язык essence, то есть с помощью многозначного слова, основное значение которого «сущность», «существо», а затем уже «горючее» (ср. в русском эссенция — «эфирное масло»). Несовпадение между языками вызвано тем, что во французском benzine не осмысляется как «горючее» и переводится по-русски другим термином — бензол. В результате в значении «горючее» в одном языке оказывается термин (бензин), а в другом — не-термин (essence).
8. Восьмой тип отношений: слово в одном языке, словосочетание в другом языке. Французы не знают существительного автопортрет. Перевести, например «Пикассо. Автопортрет» следует так: Picasso par lui-meme, буквально — «Пикассо им самим» («подразумевается» — нарисованный, написанный, изображенный). В этом же языке слово рояль передается образным словосочетанием piano a queue, буквально «пианино с хвостом». Слово в одном языке вступает во взаимодействие со словосочетанием в другом языке.
Таковы восемь основных типов отношений в сфере «ложных друзей переводчика». Если учесть, что каждый из перечисленных типов может иметь свои разновидности и варианты, то общее число типов допустимо и увеличить. Вместе с тем за разнообразием частных вариантов желательно не упускать из виду и то, что объединяет отдельные примеры в пределах общего типа.
Причины возникновения «ложных друзей переводчика» обусловлены национальным своеобразием лексики каждого языка. Это большой и сложный вопрос, который, естественно, не может быть рассмотрен в рамках заметки. Задача состояла в другом: попытаться наметить общие типы расхождений в пределах самого материала «ложных друзей».
Все анализируемые здесь словари очень полезны. Они необходимы всякому, кто имеет дело с соответствующими языками. Особенно разнообразен и тщательно обработан
367
материал англо-русского и русско-англииского словаря. Вместе с тем всем лексиконам присущ и один общий недостаток. Словари построены так, что читателю самому приходится размышлять, какие значения и употребления слов в разных языках оказываются все же сходными, а какие — несходными или не совсем сходными. Для разумного облегчения дела в конце каждой словарной статьи, на основе приводимых примеров и иллюстраций, следовало бы вывести баланс и показать своеобразие каждого анализируемого слова, его значений и функций в одном языке в отличие от другого языка. Сделать это нелегко, но весьма желательно. На основе такого конкретного материала легче было бы установить общие типы (модели) соответствий и несоответствий между языками. Такой словарь действительно превратится в настольную книгу любого переводчика. И не только переводчика. Работа подобного рода дала бы интересный материал для более широкого сравнительно-сопоставительного исследования лексики.
Взаимное влияние языков в области лексики — факт общеизвестный. В какой, однако, степени подобное влияние ощущается в сфере «ложных друзей переводчика»? Если влияние не сталкивалось бы здесь с контртенденцией — самостоятельностью каждого языка, тогда перестала бы существовать, в частности, и сама проблема «ложных друзей переводчика». Но она существует. И она обусловлена самой самостоятельностью и известной неповторимостью каждого развитого языка, имеющего свою письменность и свои традиции. Поэтому-то сходные слова обычно употребляются в разных языках несходно или не совсем сходно (подобное «не совсем» особенно важно и особенно опасно для переводчика). Взаимные влияния и воздействия языков друг на друга и здесь, разумеется, наблюдаются, но контакты имеют свои пределы. Так очерчивается круг вопросов о «ложных друзьях переводчика».
Научное изучение этой проблемы только начинается. Между тем трудно переоценить ее значение и для общей теории перевода и для сравнительной лексикологии родственных и неродственных языков. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы «поймать» тех или иных переводчиков на отдельных промахах и ошибках. Речь идет о создании серии новых специальных словарей, которые помогут мастерам перевода в их большой и ответственной работе.
ВОПРОСЫ
ПЕРЕВОДА
ЗА РУБЕЖОМ
Б. Ринчен
(МНР)
К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА В МОНГОЛИИ
История переводов художественной литературы с языков других народов на монгольский — тема почти непочатая и ждет своего исследователя. Как у всех народов с богатой литературной традицией, переводы имели большое значение для обогащения нашей литературы на любом этапе ее многовековой истории. И если в средние века народы Европы входили в круг греко-латинской культуры с классическими для него греческим и латинским языками, часть народов Азии и Африки — в круг мусульманской культуры с классическими для него арабским и персидским языками, а другая часть— в круг классического санскрита, древнего литературного языка Индии и древнекитайского письменного языка, то монголы, войдя в круг последних уже много веков тому назад, вместо неслышимого древнекитайского письменного языка пользовались, как вторым классическим и наиболее распространенным, тибетским книжным языком, имевшим к тому времени огромную буддийскую литературу и переводы во всех известных тогда Индии областях знания.
В соприкосновение с миром мусульманской культуры монголы отчасти вошли еще в средние века, уже тогда они читали в переводах с персидского сказания о Калиле и Дим-не и многие другие. Эти первые переводы не дошли до нас,
Бямбын Ринчен — писатель, ученый-филолог, действительный член Академии наук Монгольской Народной Республики, один из основоположников современной монгольской литературы и первых переводчиков советской литературы. Статья написана специально для сборника «Мастерство перевода».— Ред.
371
но находки в Турфане свидетельствуют, например, что монголы увлекались тогда и романом об Александре Македонском. Легенды и мифы о Сулкарнае (арабское имя Александра Великого, под которым он был известен монголам) можно было услышать еще в 20-е годы нашего века в западных районах республики,— несомненно, это были отголоски средневекового романа, некогда, вероятно, передававшегося из уст в уста, подобно тому, как в наши дни в степи бытуют рассказы о приключениях Мянгуджина — барона Мюнхгаузена, переведенного на монгольский язык тридцать с лишним лет назад.
А совсем недавно сказители в Гоби рассказывали и отдельные эпизоды из Гомеровой «Одиссеи», которая — увы! — еще не переведена на монгольский. Так в старых заимствованиях из греческого народная молва хранит следы прошлых связей с Грецией.
Монгольские переводчики прошлого не были только литераторами и эрудитами, стоявшими вдали от жизни и общественных потрясений. Выполняя социальный заказ своей эпохи, они переводили с языков близкого им круга — санскрита, тибетского, китайского, маньчжурского — произведения, оказывавшие немалое воздействие на умы читателей. Колофоны 1 на многих старых переводах повествуют, что заказчиками перевода тех или иных сочинений бывали порой и женщины, владевшие классическими языками и желавшие сделать доступными широкому кругу читателей произведения, которые волновали их. Так, старые рукописи донесли до нас имя Номчи-хатун, по предложению которой были переведены с тибетского в начале XVII века первые версии «Гесера». Самый титул «Номчи» — «Книжница» говорит о том, что она была женщиной образованной. В том же XVII веке Чин-тайху, мать известного в истории монголов патриота, поэта и просветителя Цокту-тайджи, прекрасно владевшая тибетским, поручила ученому переводчику по прозвищу «Лев красноречия» перевод на монгольский увлекательнейшей биографии знаменитого тибетского отшельника и поэта X века Миларайбы, «буддийского Фауста», по мнению выдающегося советского монголоведа Б. Я- Владимирцова. Книга проникнута величайшей активностью в неукротимой
1 Колофон — факсимиле писца в конце старинной рукописной книги.
372
борьбе за право на жизнь, тогда как буддизм, к философской концепции которого Миларайба пришел много позднее, ставил целью освобождение от круговорота жизни, и выбор Чин-тайху — накануне надвигавшихся грозных событий XVII века, начала завоевательных походов маньчжуров,— именно этого произведения из океана тибетской литературы говорит не только о ее литературном вкусе и эрудиции, но и об определенной цели: на примере биографии большого поэта показать, как необходима величайшая целеустремленность и воля к преодолению, казалось бы, неслыханных трудностей на пути к достижению намеченной цели.
В начале нашего века ургинский литератор и великолепный стилист Балданцэрин, знаток маньчжурского, китайского и монгольского языков, перевел с китайского на монгольский исторический роман писателя Ши Най-аня «Шуй ху чжуань» («Речные заводи»), официально запрещенный специальным императорским эдиктом в марте 1799 года. Невзирая на строгий закон, грозивший карой за распространение этого эпического сказания о великом крестьянском восстании против династии Сунов, написанного около шестисот лет тому назад, прекрасный перевод Балданцэрина расходился в десятках рукописных списков накануне событий 1911 года, за которыми последовало изгнание из Урги маньчжурского императорского наместника Сандо и провозглашение назависимости Северной Монголии от Дайцинов, как называлась тогда Китайская империя.
Еще в первые годы Народной революции, 50-летие которой мы отмечаем в этом году, классически образованный монгол читал на родном языке «Шицзин» (по-монгольски «Шулэ-глэлт Ном») — «Книгу песен» древнего Китая, замечательный памятник не только китайской, но и мировой поэзии, романы «Троецарствие» Ло Гуань-чжуна, «Путешествие на Запад» У Чэн-эня (известен у нас в нескольких переводах и переложен также на калмыцкую письменность, созданную ученым Зая-Пандита, западным монголом — ойра-том), «Сон в Красном тереме» Цао Сюэ-циня, «Речные заводи», «детективный», как сказали бы сегодня, роман о мудром Ши-мерген-нойоне, чудесные новеллы Ляо Чжая, собрание «Цзинь гу цигуань» — «Удивительных историй древности и наших дней» — и сотни других романов и повестей.
Одной из особенностей старой монгольской литературы было строгое требование ясности и изящества стиля. Каждый
373
монгол, получавший классическое образование, учился ценить в литературном произведении высокое мастерство языка писателя и переводчика.
Эту особенность отмечали все европейские монголоведы, по-настоящему владевшие монгольским литературным языком. «Монгольскую литературу,— писал известный советский ученый-монголовед академик С. А. Козин,— характеризует склонность и способность трактовать в жанре изящной словесности самые «прозаические» темы: и политические, и научные, и чисто официальные в нашем понимании. Нет монгольской летописи, которая не стремилась бы, наряду с хронологическим изложением событий, включить в себя наибольшее число художественных элементов и приобрести общую художественно-литературную композицию. Нет императорского эдикта или грамоты, которым бы не была придана форма изящно обработанной пьесы. Обширный цикл официальных церемоний, вроде, например, церемонии «открытия печати», в своем словесном выражении перерастает в столь же обширный жанр .лирических од и похвал. Изложение истории письменности и отделов грамматики перемежается художественно отделанными стихотворными «лирическими» отступлениями. Сборники... законов и кодификаций... нередко отделаны как шедевры изящной словесности» х.
Этими же особенностями отличался и язык переводов художественной литературы, ибо по старой традиции за перевод мог браться только человек, знающий во всех тонкостях и литературный язык оригинала и монгольский литературный язык.
Светская художественная литература распространялась в рукописных списках, и посредственный переводчик в лучшем случае мог бы решиться только на устный пересказ понравившегося произведения в узком кругу знакомых ему слушателей, пополняя тем самым своеобразный и широко распространенный некогда в Монголии жанр «бэнсэний ули-гер» (от китайского «бэньцза» — «книжка») — пересказ ритмической прозой, перемежающейся стихами, китайских романов, исполняемый специальными певцами «бэнсэний улигерчи» под аккомпанемент смычкового инструмента
1 С. А. Козин. Джангариада. Героическая поэма калмыков. М.—Л., Гослитиздат, 1940, с. 26—27.
374
«хучир». Певцы, как правило, вносили в этот пересказ элементы монгольского героического эпоса.
Своеобразная система обучения монгольской письменности и классическим языкам старой Монголии по древней традиции делила обучавшихся на огромное большинство только читающих, которые никогда не брали в руки кисти, служившей орудием письма, и были поэтому свободны от обязательной службы в удельных канцеляриях, и на пишущих, учившихся искусству владения кистью, технике письма.
Страна делилась на аймаки и хошуны, и в каждом хошу-не были широко известны свои, местные стилисты и переводчики, к услугам которых обращались для пополнения своих библиотек книголюбы. Хорошие переводы славились далеко за пределами хошунов и аймаков, где они были выполнены, и очень часто переводы, сделанные в Южной Монголии, можно было видеть в библиотеках книголюбов Северной Монголии, и наоборот.
Большое внимание уделялось и вопросам перевода. Существовали две школы переводов, одна — светской художественной литературы с классического китайского и маньчжурского языков. Представители этой школы, мастера стиля, владевшие маньчжурским, грамматически очень близким к монгольскому и классическому китайскому языкам, обучали своих учеников, делая стилистический разбор текста своеобразным методом,— они читали монгольский литературный текст нараспев по-маньчжурски и, наоборот, маньчжурский текст по-монгольски. При таком обучении искусству ритмической прозы чтение одного и того же текста на другом языке помогало обучающемуся разобраться, где допущена неточность, вызвавшая нарушение ритма, и выяснить смысловые нюансы. Наставник всегда имел при этом синонимические словари, пользоваться которыми обучался будущий стилист и переводчик.
Другая школа — перевода тибетского книжного текста. Если представители первой школы максимум внимания уделяли изяществу литературного языка, на который делался перевод, в данном случае — монгольского языка, то представители второй, оцепеневшей, застывшей, ригидной школы главную свою задачу видели в том, чтобы ни одно слово канонического тибетского текста не было утеряно в переводе.
Большинство переводов философской, художественной, научной и буддийской литературы с тибетского издавалось
375
ксилографическим способом; в помощь переводчикам и изучающим тибетский книжный язык были разработаны специальные словари, которые ходили в рукописных списках, а некоторые издавались ксилографической печатью в монастырских школах Монголии. Для старой Монголии тибетский книжный язык был одним из классических, и ученые переводчики с тибетского считали нужным во всем руководствоваться его нормами. Отсюда буквализм в языке переводов этой школы. Ее представители старались максимально приблизиться к тибетскому письменному языку, поэтому их язык отличался многими особенностями, объяснимыми только исходя из тибетского языка (в двуязычных тибето-мон-гольских словарях, изданных в помощь переводчикам, вся терминология и фразеология была унифицирована). Этот язык имел в монгольском специальное название — «судур-ун келен», «язык сутр». В свою очередь, он подразделялся на к н и ж н ы й язык сутр, строго регламентированный специальными словарями и канонизированными в ксилографических изданиях текстами, и устный язык сутр, на котором по традиции, шедшей от поколения к поколению, ученые наставники преподавали устный перевод тибетских текстов. В некоторых случаях устные версии, совершенствовавшиеся от одного поколения к другому, были точнее и изящнее зафиксированных книжных форм языка сутр, но, поскольку главное внимание при переводе сутр уделялось тибетскому классическому языку, с которого делался максимально возможный буквальный перевод на монгольский, стиль языка переводов этой школы «сутрантиков» резко отличался от легкого и изящного языка светской школы переводчиков.
Имея широкие возможности для печатания книг в монастырских типографиях и специальных ксилографических печатнях Пекина и других мест, представители второй школы также занимались вопросами теории перевода с тибетского и санскрита. Широко известный терминологический словарь «Источник мудрецов», созданный большой группой монгольских ученых-тибетологов в 1741—1742 годах, содержит, например, специальный раздел, посвященный вопросам перевода прозы и стихов на монгольский язык.
Своеобразие языка переводов с тибетского, закрепленное школой, традицией, наконец, тысячами переводов, почти не изучено монголоведами. Но оно может быть использовано
376
и в наши дни. Об этом, в частности, свидетельствует любопытный перевод с бенгали гимна «Мать Индия», сделанный советским тибетологом Тубянским, учеником академиков Ольденбурга и Щербатского, и знатоком монгольской переводной литературы Навандо. Торжественность этого гимна (он опубликован в 1934 году в журнале «Шинэ Толи») хорошо передана в монгольском переводе этим «языком сутр». Только обращение «Ты» режет ухо монгола. Но в этой дословности половина вины лежит на мне — редакторе журнала. Тубянский колебался, не зная, что в монгольском лучше: «Ты» или «Вы». Я предложил оставить «Ты» под влиянием русско-европейской литературы, не осознав, что в монгольском обращение к матери на «Ты», хоть и с большой буквы, звучит оскорбительно.
Русский язык в старой Монголии был почти неизвестен, и те немногие монголы, которые владели разговорным языком, не знали русской грамоты, для них русская литература была за семью замками. Первые переводы с русского на монгольский были сделаны забайкальскими бурятами, владевшими письменным языком сутр «судур-ун келен», то есть языком, которым сделаны все переводы с тибетского. И первым русским писателем, с отдельными произведениями которого читатели познакомились, был Лев Николаевич Толстой. В степи, у стариков книголюбов, и сейчас можно увидеть ставшие ныне библиографической редкостью небольшие книжечки Льва Толстого — «Ассирийский царь Ас-сархадон», «Карма» и другие, изданные типографским способом в Санкт-Петербурге в типографии Академии наук. При недостатке средств и специального издательства на монгольском языке, тогдашние переводчики вынуждены были выбирать произведения небольшие по объему и считаться со вкусами читателей, тяготевших к назидательной литературе, которую они привыкли читать на «языке сутр». Этот «язык сутр» и был избран переводчиками для переводов из Льва Толстого.
В 1913 году известный бурятский монголовед и этнограф доктор Цыбен Жамцарано организовал в русской типографии в Урге (так тогда назывался Улан-Батор) выпуск газеты на монгольском языке, в которой печатал общеобразовательные статьи на основе русских источников, раскрывав
377
шие монгольскому читателю новый и еще неизвестный ему мир народов России и Европы. В журнале «Шинэ Толи», основанном Жамцарано, уже со второго номера начал печататься в переводе с русского исторический роман французского историка и писателя Leon Cahun «Синее знамя». Это был первый европейский роман, переведенный с русского и вызвавший у читателей живейший интерес к дотоле неизвестной литературе России и Европы. Ученый-переводчик имел под рукой русский адаптированный перевод Гранстрем; мастерски переведя его на монгольский, он выправил неточности и французского и русского текста в области жизни и быта монголов, которые бросались бы в глаза монгольскому читателю. В работе над переводом Жамцарано очень помогло общение с тогдашними монгольскими литераторами и филологами в У pre.
Язык светской монгольской литературы был почти неизвестен бурятам Забайкалья, в своем распоряжении они имели только переводную с тибетского на «языке сутр» литературу, издававшуюся бурятскими и монгольскими монастырями. Материалы Жамцарано показывают, как упорно он работал над преодолением бурятизмов и оборотов «языка сутр», овладевая под руководством ургинских стилистов лексикой и фразеологией монгольского литературного языка. В этом ему помогали Балданцэрин, синолог и маньчжурист, переводчик «Речных заводей»; Цэрэндорджи, известный политический деятель, переводчик, синолог и маньчжурист, впоследствии премьер-министр Монгольской Народной Республики (скончался в 1927 году); Хандадоржи, министр иностранных дел Монголии после ее отделения от юаньшикайев-ского Китая, прекрасный знаток маньчжурского языка и весьма начитанный человек, о котором в свое время с большой теплотой отзывался академик Б. Я. Владимирцов как с весьма просвещенном и прогрессивном деятеле Монголии; Дава — стилист и знаток переводной маньчжурской, китайской и тибетской литератур, в первые годы народной власти один из посланников МНР в Советском Союзе, и другие монгольские литераторы, переводчики и филологи — Хайсан, выдающийся синолог и автор прекрасного китайско-монгольского словаря, Данда, впоследствии член Монгольской академии литературы и переводчик с китайского на монгольский полного текста династической истории монголов «Юань ши», и другие знатоки языка.
378
Первая мировая война и события, вызванные ею, не позволили тогда издателю прогрессивного журнала «Шинэ Толи» закончить печатание в нем романа «Синее знамя». Итольков 1923 году Монгольская академия литературы1, основанная в 1921 году Жамцарано и наставником Сухэ-Ба-тора Джамьян-сайтом, издала полностью этот роман, имевший огромный успех среди читателей. Первое издание книги быстро разошлось, любопытно, что по старой традиции было сделано и немало рукописных списков этой полюбившейся читателям книги.
Единственная типография плоской и высокой печати в те годы была загружена печатанием ведомственных материалов, периодики и учебных пособий. Не было еще и переводчиков художественной литературы с русского и европейских языков. Пишущий эти строки пытался примерно с 1926 года
1 Кстати, поводом к основанию этого первого научного учреждения новой Монголии послужило письмо непременного секретаря Академии наук СССР выдающегося советского ориенталиста академика С. Ф. Ольденбурга доктору Жамцарано, в котором советский ученый посоветовал создать в Народной Монголии научное учреждение типа Академии наук СССР. Письмо это было переведено Жамцарано на монгольский и представлено премьер-министру Цэрэндорджи, который горячо поддержал предложение и посоветовал Жамцарано написать подробный доклад об организационной структуре и уставе нового учреждения, взяв за основу устав советской «акадими навуг», как Жамцарано, не найдя точного монгольского эквивалента, протранскрибировал название высшего научного учреждения СССР. В тогдашней У pre лишь человек пять знало русский литературный язык, но ни один из них не был синологом, поэтому никто не смог объяснить, как этот термин переводится на китайский. Ознакомившись с представленным докладом, Цэрэндорджи решил, что «акадими навуг» должно соответствовать «кэ сюэ юань» («академия наук» по-китайски), наличие же в стране только филологов — монголистов, маньчжуристов, тибетологов, японоведов и санскритологов — на первых порах достаточно лишь для научного учреждения типа «вэнь сюэ юань» — «академия литературы» по-китайски, чему соответствует монгольский термин «судур бичиг-ун курийеленг». Сейчас мы знаем, что китайский эквивалент соответствует русскому термину «академия литературы». Жамцарано же, не будучи синологом, не знал точного значения термина «судур бичиг-ун курийеленг» и перевел его на русский сперва как «Книжная палата», а позже как «Ученый комитет». Пример с этим термином говорит о трудностях, стоявших на пути первых переводчиков с русского на монгольский. Классически образованные монголы того времени знали восточные языки, имели в своем распоряжении прекрасные двуязычные словари, но европейские языки были им неизвестны. А переводчики с русского, не владея восточными языками, не могли найти монгольские эквиваленты нужных им терминов и названий в китайских, маньчжурских, тибетских и санскритских словарях,
379
переводить с русского Чехова, М. Горького, Джона Рида («Десять дней, которые потрясли мир»), Неверова («Ташкент — город хлебный»). Стилисты тогдашней Монгольской академии литературы, читая черновики моих переводов, помогали мне своими советами и замечаниями. И, следя за тем, как они воспринимали в моем переводе смысл текста, как вносили те или иные поправки, я чувствовал, что от понимания текста на языке оригинала до умения передать его на родном языке мне еще далеко. Некоторые вещи, например «Песню о Буревестнике» Максима Горького, мне приходилось переделывать десятки раз, и эта черновая работа очень и очень пригодилась мне, когда я начал впоследствии, в 1929 году, работать над редактированием первых переводов художественной литературы с русского.
Мой друг Дашидорджийн Нацакдорж работал в это время над переводом отдельных стихотворений Пушкина — «Анчара» и других. Работал он и над переводом с немецкого «Золотого жука» Эдгара По. Однако знания его в русском и немецком литературных языках были еще недостаточны, трудным казался ему и синтаксис этих языков. Поэтому часто на работе мы с ним сидели, я с подлинником, он со своим черновиком, и, слушая его перевод, я указывал все неточности, разъяснял смысл неправильно понятых им слов и выражений. Он переделывал каждое предложение, каждый стих, в котором были не понятые им места, и читал мне. Должен признаться, что тогда нам обоим не хватало знания монгольского и европейского стихосложения, поэтому в его переводах пушкинских стихов не переданы размер и рифма.
Постепенно организовался небольшой кружок энтузиастов перевода с русского — Ишидорджин, налаживавший издание учебников для школ Министерства народного образования; врач Гонгорджаб, учившийся в Ленинграде, сам немного поэт и почитатель пушкинской прозы, взявшийся за перевод «Капитанской дочки» Пушкина; Нацакдордж-стар-ший — поэт, переводчик Пушкина, Эдгара По и отдельных новелл Ги де Мопассана; Нацакдорж-младший, учившийся в Германии и взявшийся по моей просьбе за перевод «Матери» Горького по изданному в Москве немецкому переводу; преподаватель физики Будадари, который переводил отдельные рассказы Сетон-Томпсона; армейский политработник Дашинима, увлекавшийся русской литературой (он неплохо перевел «Железный поток» А, Серафимовича); наконец,
380
Э. Оюун, которая взялась за перевод «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо по сокращенному русскому изданию Детгиза. Как филологу-монголисту, мне пришлось быть не только редактором всех этих первых переводов с русского на монгольский, но и издателем, так как в 1936 году я был назначен секретарем только что созданного в Улан-Баторе Государственного издательства. Системы оплаты литературных переводов у нас еще не было, первым гонораром, который я, как издатель, выплатил Э. Оюун за перевод «Робинзона Крузо», были шестьдесят тугриков. Народный художник старой монгольской школы Шарав, работавший в типографии издательства, по моему заданию исполнил иллюстрации к переводу, сделал их самостоятельно, в духе старой монгольской живописи, и эта книжка была первым переводным изданием, иллюстрированным монгольским художником, давшим своеобразное понимание текста.
Много помогло нам московское издательство на иностранных языках, которое выпустило в свет на монгольском языке полный перевод «Декамерона» Боккаччо, частично изданный нами в Улан-Баторе. Перевод был мастерски сделан Жамцарано, мне даже пришлось выслушать протест лам из Улан-Баторского монастыря, жаловавшихся на то, что в переводе духовные звания католических аббатов, героев «Декамерона», сознательно переведены соответствующими монгольскими, чтобы бросить тень на буддийское духовенство в Монголии.
Московское издательство выпустило тогда в переводе Жамцарано с русского «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна. Он же перевел и «Новеллино» Мазуччо с русского издания «Academia». Переводы Жамцарано были классическими по изяществу языка, и первые наши переводчики учились на них мастерству владения стилем. На его переводах учились и тогдашние молодые писатели. Читая переводы Жамцарано, монгольский читатель чувствовал себя в стихии родного языка: ни одного предложения, в котором переводчик был бы скован синтаксисом чужого языка, рождающим при переводе не только тяжеловесные обороты, но и придающим тексту иной раз совсем другой смысл, другую интонацию, не предусмотренную переводчиком, ибо даже место слова в монгольской фразе играет синтаксическую роль и несет на себе смысловую нагрузку. В переводах этого ученого сказалось не только прекрасное знание русского
381
и монгольского литературных языков, но и обширная эрудиция, великолепное знание фольклора, алмазный язык которого обогащал монгольский литературный язык на всем протяжении его истории.
В Москве же в те годы были изданы «Приключения барона Мюнхгаузена» в переводе Джадамбы. Из-за стечения согласных имя Мюнхгаузена трудно произносимо для монголов, и Джадамба упростил его, транскрибировал по-монгольски как «Мингуджин», что в живом разговорном языке звучит «Мянгуджин», и это омонголенное имя стало в Монголии почти нарицательным. Читателю пришлись по вкусу фантастические приключения знаменитого враля, имевшие параллели в монгольском фольклоре. Не будучи стилистом и филологом, переводчик Мюнхгаузена пересказал приключения барона языком, близким к разговорной обыденной речи с некоторыми элементами канцелярского языка тех времен, чужеродность которых в тексте не чувствовал.
Тем же московским издательством были изданы в переводе Гомбобадмаджаба «Животные-герои» Сетон-Томпсона и «Дымка» Джеймса Уэлла в переводе Эрдени Батухана. Оба переводчика не были утонченными стилистами, и язык их переводов несет на себе значительный налет канцелярского языка, но читатель, увлеченный новизной сюжета и интересовавшийся переводами с русского, открывавшими ему доселе неведомый мир, прощал эти погрешности языка.
Работая в годы Отечественной войны советского народа в редакции газеты «Унэн», мне приходилось переводить почти все печатавшиеся тогда очерки и рассказы советских писателей —И. Эренбурга, А. Толстого, Н. Тихонова, Б. Полевого, М. Шолохова и других. На произведениях этих писателей, а они появлялись чуть ли не в каждом номере газеты, учились искусству писать очерки и рассказы почти все монгольские писатели, в том числе и автор этих строю Таким образом, переводы с русского произведений малого жанра имели для монгольских читателей и писателей огромное воспитательное значение, именно тогда в монгольской периодике и стал наиболее популярным жанр очерка и рассказа*
Тысячи молодых монголов, учившихся в военные и послевоенные годы в Советском Союзе и овладевшие в какой-то мере русским языком, стали пробовать свои силы в переводе.-Были среди них и молодые писатели. Но в связи с переводом монгольской письменности на кириллицу для многих из ново
382
го пополнения переводчиков огромные фонды классической монгольской литературы, на которой они могли бы учиться мастерству стиля и высокой требовательности к слову, сделались недоступными, хотя для читателей старшего поколения эта литература жива и служит источником такого же высокого эстетического наслаждения, как и произведения классиков русской и европейской литературы на русском для русских читателей. Нескольких лет учебы в СССР, когда молодые монголы овладевали разговорной речью и пониманием литературы в той или иной узкой специальности, естественно, часто оказывалось недостаточно для перевода художественных произведений. Не хватало эрудиции, не ахти как переводчики владели и своим родным литературным языком.
Так, просматривая перевод с русского стихотворений польского поэта В. Броневского, я обнаружил, что стихотворение «Мост Понятовского» переводчик передал как «мост на Понятове», не подозревая, что поэт писал о генерале Понятовском, герое времен наполеоновских войн. Другой переводчик, переводивший с французского «Собор Парижской богоматери» Гюго, пользовался больше русским, чем французским текстом, о чем свидетельствуют многие места его перевода и транскрипция собственных имен, буквально переписанная с русского. И само название романа «Notre-Dame de Paris» он перевел как «Собор парижской богини Тары», не имея ни малейшего представления ни о католицизме, ни об эпохе, которую описывал в своем романе Виктор Гюго, ни о том, что индийская богиня Тара в монгольском буддизме не имеет ничего общего с христианской девой Марией, матерью Христа, которого переводчик отождествил с Буддой, хотя христианская Библия была переведена на монгольский язык более ста лет тому назад и старшему поколению монгольских читателей была известна.
Редактируя в 1950 году перевод романа советского писателя В. Яна, я обнаружил, что незнакомство переводчиков с мусульманской мифологией и недостаточное знание русского языка приводили их к курьезам-, выписка которых заняла у меня объемистую тетрадь. Так, например, «ночные дивы, порхавшие над шатром», превратились в этом переводе в «ночных девок, порхавших над палаткой».
Среди стихийного пополнения отряда переводчиков с русского есть и неплохие литераторы, люди одаренные и достаточно эрудированные,— поэтЧ. Чимид, переводчики ху
383
дожественной прозы Ж- Бадра-младший и С. Хасбатор, С. Бадра-старший (он перевел «Поднятую целину» Шолохова), переводчик многих советских поэтов М. Цэдэндорж, по работам которого читатели познакомились со многими произведениями Петруся Бровки, Расула Гамзатова, Зульфии, Эдуардаса Межелайтиса, Есенина, Маяковского, Симонова, Смелякова, Евтушенко, Р. Рождественского, Солоухина, и некоторые другие.
Благодаря переводам с русского монгольский читатель познакомился с литературами почти всех союзных и автономных республик необъятной Советской страны. Через русский переведено и немало произведений писателей других стран и народов. И если старая монгольская литература знала на своем языке произведения лишь писателей Востока, то теперь в переводах с русского только за последние четверть века монгольские читатели познакомились с литературами более ста народов Европы, Азии, Америки, Австралии и Африки. Они открыли нашему сегодняшнему читателю целый доселе ему неизвестный мир.
Очарованные видением нового, пусть даже через призму еще недостаточного знания русского литературного языка, молодые переводчики полны желанием поделиться с читателями эстетическим наслаждением и знаниями, которые им дала литература русского языка, раскрывшая им сокровища мировой литературы. И если этим молодым переводчикам порой недостает и эрудиции и опыта перевода с языка совер-. шенно иного грамматического строя на язык, известный им чаще всего в объеме повседневной житейской речи, то мы надеемся, что недавно организованная при Союзе монгольских писателей секция переводчиков сумеет наладить работу с ними и поможет повысить их квалификацию.
Перед секцией переводчиков нашего Союза писателей стоит много важных проблем. От стихийного, случайного выбора произведений для перевода пора перейти к целеустремленному отбору, заботясь одновременно и о том, чтобы переводчики овладевали богатством своего прекрасного литературного языка, отточенного великими писателями и переводчиками прошлого, мастерами слова, неустанно черпавшими из живой речи родного народа. Санскритская поэтика была хорошо известна многим выдающимся поэтам и писателям прошлого. Санскрит, классический язык старой Монголии, равный по своему значению классическому греческому языку
384
для народов Европы, изучался еще в нашем веке представителями старшего поколения литераторов, и многие талантливые сказители нашего героического эпоса владели знанием основ санскритской поэтики — аламкара или чимэл-гэн, как переводился на монгольский язык этот индийский термин. Знание основ поэтики передавалось по традиции из уст в уста. Академик Б. Я- Владимирцов, вдумчивый исследователь монгольского фольклора, отметил в своем предисловии к переводу монголо-ойратского героического эпоса, что санскритское название поэтики «аламкара» — значгт «украшение», как и монгольский термин «чимэлгэн» у певцов — исполнителей монгольских былин х.
Сегодняшним переводчикам поэтических произведений с русского на монгольский, так же как и самим монгольским поэтам, настоятельно необходимо овладеть и классической монгольской теорией поэтики, которую изучали их предшественники, и европейской поэтикой, теорией классического европейского стихосложения. И если до сих пор почти все стихотворные переводы с русского были только пересказом содержания, то уже сейчас на повестке дня вопрос о повышении мастерства переводчика, о переводе не только содержания подлинника, но и метрики стиха. Чеканным хореем звучат монгольские былины,— значит, можно передать в переводе и хореический размер пушкинских стихов. Чередованием долгих и коротких гласных часто пользовались поэты прошлых веков,— значит, можно передать в монгольском переводе и метрический стих европейской поэзии. Еще в XIII веке, как об этом свидетельствует «Сокровенное сказание», один из древних памятников монгольской литературы, знала монгольская поэзия и конечные рифмы русского и европейского стихосложения.
Эти и многие другие проблемы стоят сегодня перед поэтами и переводчиками с русского, обогащающими своими переводами монгольскую литературу. И мы надеемся, что секция художественного перевода Союза писателей займется ими. Они уже стучатся в дверь. Одно то, что почти семьдесят процентов художественной литературы, выходящей ныне в Монголии, составляют переводы с русского, обязывает монгольских переводчиков ко многому.
1 См. Б. Владимирцов. Монголо-ойратский героический эпос. Петроград — Москва, МСМХХШ, с. 36.
13 Мастерство перевода
385
БИБЛИОГРАФИЯ
Dag-yig mkhas-pa’i ’byun-gnas, AAerged rarqu-yin oron. Тибетско-монгольский терминологический словарь «Источник мудрецов». Ксилографическое издание 1741—1742 гг. Переиздан Монгольской академией литературы, Улан-Батор, 1925. Резные доски издания, с которых печатался словарь, хранятся в Государственной публичной библиотеке в Улан-Баторе.
Два раздела словаря с переводом на русский язык изданы Институтом общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР в Улан-Удэ. Русские переводчики ошибочно приписали ксилографическое издание словаря бурятскому Агинскому дацану, где переписчиками были изготовлены листы рукописи, вырезанной на дереве в Улан-Баторе специально приглашенным из восточного Кентейского аймака гравером Дамдином. Переводчики тибетской части словаря, правильно переведя ее на русский, допустили ряд неточностей в передаче соответствующих монгольских эквивалентов. Специальный раздел этого словаря и посвящен вопросам перевода с тибетского на монгольский.
Ligeti L. Catalogue du Kanjur Mongol imprime. Budapest, 1942. Колофоны монгольских переводчиков «Ганджура», собранные в этом каталоге, дают много интересного для истории переводов с тибетского.
Heissig Walter. Die Pekinger Lamaistischen Blockdrucke in Mongolischen Sprache. Wiesbaden, 1954.
Rintchen B. Catalogue du Kanjur Mongol Imprime. New Delhi, 1964.
Rintchen B. Histoire de la traduction oirato-mongole. «Babel», vol. XV, 1969, No 1. Avignon, France, p. 15—16.
Ринчен Б. Ойратские переводы с китайского. Rocznik Orienta-listyczny, XXX, 1. Warszawa, 1966, s. 59—73.
Ринчен Б. Горькийн зохиолоос анх орчуулсан минь (Как я впервые переводил Горького). Улан-Батор, газ. «Утга зохиол урлаг», («Литература и искусство»), № 13, 13 марта 1968.
Ринчен Б. Шулэг орчууллах эрдэм (Искусство перевода стихов). «Утга зохиол урлаг», Улан-Батор, № 6, 4 февраля 1966.
Ринчен Б. Зохиол ч биш, орчуулга ч биш. Парисын «Дар эхийн» сум.узээд терсен сэгэгдэл. («Перевод» или «соавторство»? Мысли по прочтении «Собора парижской богини Тары»). Рецензия на монгольский перевод «Собора Парижской богоматери» В. Гюго. «Утга зохиол урлаг» Улан-Батор, № 8, 19 февраля 1965.
Ринчен Б. Орчуулгын чанарыг дээшлуулэх тухай (О повышении качества переводов на монгольский). Сб. «Монгол хэл бичгийг сай-жруулах бодолгын бичиг». Улан-Батор, 1932, с. 1—47.
Ринчен Б. Стабильные учебники, их переводчики и редакторы. Газ. «Унэн» (русск. изд.), № 222, 20 сентября 1952.
Ринчен Б. За грамотный и общедоступный язык научно-популярных брошюр. Рец. Газ. «Унэн» (русск. изд.), № 12, 15 января 1953.
Ринчен Б. За членораздельный монгольский язык переводных учебников. Газ. «Унэн» (русск. изд.), № 13, 16 января 1948.
Б а д р а Ж. Орчуулгын хэл найруулгыг сайжруулах асуудалд (К вопросу об улучшении языка переводов). «Утга зохиол урлаг», № 5, 30 января 1970.
А. Големба
СЛОВО СТАРЫХ МАСТЕРОВ1
Со страниц этой книги на нас взирают необычайно интересные, глубокомысленные и строгие лица польских и французских деятелей изящной словесности XVIII столетия. Здесь и Францишек Богомолец, профессор риторики, и Иг-наций Нагурчевский, ученый ксендз и переводчик речей Цицерона против Каталины (Варшава, 1763), здесь и Пьер Даниэль Гюэ, один из крупных теоретиков искусства перевода; капитальный труд его, посвященный проблемам, и доныне волнующим перелагателей и толмачей, увидел свет в Венеции в 1757 году. Здесь и знаменитый Адам Казимеж Чарторыйский, запечатленный в романтической (уже романтической!) меццо-тинто работы Капеллера; изысканнейший А. К. Чарторыйский в пудреном парике и с мальтийским (кажется, мальтийским) крестом, на фоне какого-то просвета в тучах; здесь и грузноватый Онуфрий Копчин-ский — и изящный, подтянутый Жак Делиль, чем-то неотразимо напоминающий Робеспьера (гравюра выполнена уже в самый канун великих и грозных событий!).
Все эти ученые мужи и проникновенные сочинители внесли немалый вклад в своеобразное и по-своему коварное искусство перевода: в практику этого искусства и в его теорию. Порою они ошибались, заблуждались,— но ведь художе
1 J a d w i g a Zi^tarska. Sztuka przekladu w pogl^dach lite-rackich Polskiego oswiecenia. Wyd. PAN, 1969 (Ядвига 3 ентар-c к а я. Взгляды литераторов эпохи польского Просвещения на искусство перевода).
13*
387
ственный перевод принадлежит к тем областям творческой деятельности, где именно на ошибках предшественников можно научиться очень и очень многому,— куда большему, пожалуй, чем на их достижениях!
Автор книги — Ядвига Зентарская. Книга ее, выпущенная издательством Польской Академии наук в 1969 году, представляет собой несколько расширенный вариант докторской диссертации. Материал, на котором построена эта работа, настолько по-своему свеж и занятен, что книга польской исследовательницы, бесспорно, может увлечь не только представителей академических кругов, но и рядовых практиков художественного перевода.
Зентарская изучает высказывания теоретиков и практиков перевода в основном второй половины XVIII века, века Просвещения в Польше. Она всячески подчеркивает, что пишет не историю перевода, а историю воззрений на сущность искусства перевода. Из высказываний и замечаний, привлеченных Зентарской, следует, что люди, которых от наших дней отделяет целых два столетия, относились к проблемам, занимающим нас и сегодня, с той же страстностью, что и мы (если не с большей!), с той же личной, сугубо личной заинтересованностью.
Нельзя сказать, что исследовательнице было легко осуществить взятую на себя миссию. Не желая писать голословно, она вынуждена была опираться на литературные материалы, отличающиеся своеобразием подхода к теме, подхода к разрешению проблемы; своеобразием, но отнюдь не полнотой!
Зентарская старалась ограничиться суждениями польских литераторов соответствующей эпохи, однако, поскольку генезис многих взглядов польских практиков и теоретиков перевода восходит преимущественно к французским источникам, ей приходится в целом ряде случаев переключать свое внимание и предаваться разбору французских работ, тематически близких к исследуемой проблеме, работ XVIII, а порою даже и XVII столетия.
Так или иначе, но многие из работ, попавших в поле зрения Ядвиги Зентарской, несмотря порою на известную фрагментарность и явную недосказанность мнений, представляют немалую ценность: с их помощью удается нащупать новый, как бы синтетический путь решения проблемы художественного перевода.
388
Ядвига Зентарская проявила солидное знание современной литературы, трактующей вопросы теории перевода; она ссылается на А. В. Федорова, Эдмона Кари и Жоржа Мунена, Иржи Левого и Владимира Россельса, М. П. Алексеева, Дж. П. Постгэйта и многих, многих других.
Однако современные работы привлекались ею в основном для сопоставления взглядов, которые высказаны в них, со взглядами теоретиков и практиков XVIII столетия, и еще точнее — второй половины этого столетия. Это, если можно так выразиться, ее хлеб, это ее материал.
Нужно было найти некую путеводную нить, дабы пробраться сквозь дебри всех этих цитат, изложений, параллелей и переложений своими словами. Необходимо было найти некую общую доминанту, выявить и отыскать некий общий фонд идей, связанных с проблемами искусства перевода. И Зентарская чувствует себя вполне непринужденно, разбирая и изучая теоретические напластования изучаемой ею эпохи. Она отнюдь не гонится за какими-то неповторимыми и ошарашивающими мнениями и соображениями. Напротив, ее скорее занимают трюизмы и общие места, трюизмы почтенной — двухсотлетней давности,— нечто, ставшее достоянием всех и каждого, расхожие мнения; ибо совпадение взглядов порою куда нагляднее и показательнее, чем расхождение их!
Идеи века Просвещения относительно искусства перевода демонстрируются по большей части на текстах из области поэзии, риторики, истории, а также из области философии и морали.
Зентарская не пыталась ограничить свои изыскания одними только текстами чисто литературного характера, то есть одной только изящной словесностью; она старалась ни в коей мере не сужать поля зрения, чтобы при этом не исказить взгляды практиков и теоретиков изучаемой эпохи.
Польские авторы XVIII века — это не окрыленные романтики. Они по большей части сугубые утилитаристы и прикладники. Рассуждения собственно теоретического характера ставятся в порядок дня из прямых практических соображений; обычно такие чисто теоретические проблемы всплывают в особо сложных и затруднительных случаях практической работы переводчика.
Люди века Просвещения настаивали на том, что перевод является искусством как таковым, обладающим своими тай-
389
нами и секретами. Первая глава книги посвящена обзору элементарных начал или принципов этого искусства. В общем, автор пытается дать своего рода свод мнений, установившихся в литературном мире тех времен. Предполагалось, что в основном переводчику необходимо солидное и глубокое знание языков (и среди них, естественно, своего родного языка), дабы обеспечить лингвистическую правильность перевода. Разбирается вопрос о том влиянии, которое оказывают синтаксическая и лингвистическая структура языков, с которых переводятся данные тексты, на язык данного перевода. Зентарская разбирает проблему дословного перевода, буквального перевода; рассматривает упреки и обвинения, бросаемые приверженцам подобной методики. Литераторы позапрошлого столетия справедливо полагали также, что переводчик непременно должен обладать познаниями, которые позволяли бы ему понимать и безошибочно передавать содержание данного произведения. Так, переводчик античного текста должен был обладать солидными познаниями филологического характера (тем паче, что речь идет об эпохе, в которую филология именно и оформилась как научная дисциплина),точным знанием материальных реалий, относящихся к древней культуре. Немало места уделено вопросам перевода «из вторых рук» —явления, широко распространенного в исследуемую эпоху.
Во второй главе рассматривается проблема переводи-мости, ключевая проблема как для XVIII века, так и для наших дней. Принципиальные неудачи, возможные в труде переводчика, Зентарская приписывает различиям в стилистических ресурсах, существующим между различными языками, а также различиям культур, отделенных друг от друга большими расстояниями как в пространственном, так и во временном смысле.
В третьей, четвертой и пятой главах книги представлены различные — зачастую противоречащие друг другу — мнения касательно прерогатив переводчика. Одни признают за ним право вторгаться в переводимый текст, другие считают необходимым проявлять определенное уважение к целостности и нерушимости иноязычного произведения. Как в Польше, так и в иных странах поэтика перевода была в исследуемую эпоху еще весьма далека от превращения в однородную и гомогенную систему. Друг другу противостояли приверженцы вольности и сторонники максимальной точ
390
ности перевода; Зентарская набрасывает эскиз эволюции обеих тенденций.
Два рода причин — причины идеологического и эстетического порядка — воздействовали на воззрения, связанные с проблемами и основными принципами художественного перевода. Пытаясь оправдать свое право на отступление от подлинника, польские авторы ссылались обычно на литературную традицию весьма древнюю (Цицерон, Гораций), а также и’современную или почти современную (в исследуемую эпоху, конечно!) — то есть на принципы французских переводчиков XVII и XVIII веков. Практика вольного перевода была в значительной степени обусловлена литературными идеями, доминировавшими в те времена. Согласно этим идеям, существовала принципиальная необходимость приспособления античной литературы ко вкусам нынешнего дня, а это обстоятельство уже, в свою очередь, связывалось с проблемами оригинальности и вкуса.
Крайней точкой мнений в пользу вольного перевода Зентарская считает польскую теорию литературной адаптации, согласно которой переводчик вправе вступать в соперничество с автором переводимого творения, дабы создать некое новое произведение, более приспособленное к нравам и характеру страны переводчика. Исходя из этой точки зрения, иноземные комедии приспособлялись к местным нравам, к польскому окружению и быту, что обычно весьма тепло встречалось тогдашней публикой.
Проблема верности перевода поэтических текстов в исследуемую эпоху привлекала особое внимание: она неоднократно дебатировалась в те. времена, причем в аспекте, представляющем более общий литературный интерес, ибо разбирался также и вопрос о самой природе поэзии. Большое место занимали и чисто технологические проблемы: обсуждалась возможность сохранения в переводе не только определенного поэтического стиля, но и самих форм версификации, свойственных данному поэтическому произведению, Многие в .те времена предпочитали переводить рифмованную поэзию прозой или белым стихом, хотя на польской почве в большинстве все же оказались сторонники перевода стихов рифмованными стихами.
В главе шестой Ядвига Зентарская рассматривает избранные аспекты обширной проблемы значения и места перевода в литературной жизни. В общем, поляки века Про
391
свещения считали перевод одним из элементов, создающих данную национальную литературу, то есть переводы с иностранных языков по праву входили в общий фонд литературы той нации, на язык которой перелагались подлинники,— следовательно, переводы становились неотъемлемым достоянием этой литературы, и, стало быть, труд переводчика расценивался столь же высоко, как и труд оригинального писателя. Это было связано в Польше второй половины XVIII века с назревшей и осознанной — сугубо настоятельной— необходимостью значительного ускорения культурного развития, наверстывания упущенного, как можно более широкого усвоения культурного наследства. Речь шла в те времена также и о роли перевода в процессе распространения литературной культуры, опять-таки в как можно более широких слоях общества. Перевод творения общепризнанной ценности считался важной заслугой перед родной страной, службой отечеству. Зентарская пишет, что переводы содействовали немалому обогащению польского языка в тех случаях, когда переводчики отлично владели лингвистической формой. Тогдашние литераторы стремились, чтобы переводы своей лингвистической и стилевой структурой по возможности не отличались от произведений, написанных непосредственно по-польски. Считалось, что переводы способны обогатить экспрессивную сферу родного языка.
Завершающие замечания касаются того, как переводчики века Просвещения оценивали деятельность своих непосредственных предшественников. В этом плане преобладали положительные оценки; хотя, с другой стороны, стечением времени старые переводы, естественно, утрачивали свою ценность, и приходилось создавать новые, добиваясь того, чтобы они были по возможности лучше старых.
Ядвига Зентарская подчеркивает близость взглядов французских и польских литераторов на искусство перевода. Впрочем, по ее словам, мнения поляков отличаются проявлением заметной дидактической тенденции, более выраженной, чем у французских авторов, которые придавали куда большее значение чисто эстетическим проблемам, и в первую очередь проблеме хорошего вкуса.
Несомненно, что поэтике перевода в век Просвещения был свойствен нормативный характер. Напротив, теория перевода как таковая несла на себе отпечаток всего спектра литературных и философских идей исследуемой эпохи. .
392
Работа Зентарской свидетельствует, что в литературном сознании века Просвещения в Польше проблемы искусства перевода занимали немалое место. И более того: в некоторых выводах и умозаключениях по части этого искусства возможно обнаружить зачатки нынешних, самоновейших теорий перевода. Высказывания польских писателей исследуемой эпохи указывают на то, что польские литераторы той поры живо участвовали в обсуждении проблем, занимавших умы литераторов Европы.
Ценная работа Ядвиги Зентарской не может быть признана вполне безупречной. Исследовательница тщательно и кропотливо собрала и в известной мере рассортировала массу чрезвычайно интересного (хотя весьма и весьма фрагментарного) материала. Выводы ее не отличаются ни особой свежестью, ни какой-либо необыкновенной новизной. К тому же из некоторых ее заявлений можно сделать вывод, что она в известной мере находится под гипнозом модных на Западе теорий о принципиальной непереводимости. Однако практическая, прикладная ценность ее книги очень велика. Быть может, кое-кому тематика работы Я- Зентарской покажется узковатой и специфичной, но это впечатление непременно пройдет и развеется после ознакомления с теми интереснейшими мыслями поляков и французов XVIII века, которые — мысли! — во многом не утратили своего значения и в наши дни.
Думается, что читателям, не имеющим возможности ознакомиться с книгой Я. Зентарской в подлиннике (она вышла в свет скромным тиражом в 1300 экземпляров), небезынтересно будет ознакомиться, как выразился бы Гоголь, с «выбранными местами» ее. Это и заставило автора этих строк дать на дальнейших страницах нечто вроде краткого реферативного изложения книги Я- Зентарской, дабы повольготнее было здесь тем необычайно занятным и красноречивым цитатам, которые так украшают работу польской исследовательницы и, как это ни странно, придают ей некое самостоятельное значение.
Зентарская уделила немало внимания сличению текстов — она всячески сравнивала переводимые отрывки, сличала оригинал с переводом. Наиболее обильный материал в этом смысле представила французская литература XVII и
393
XVIII столетий. Это, так сказать, иллюстративный материал, но чрезвычайно показательный и поучительный, хотя оценка, даваемая автором книги в процессе сличения отрывков, неизбежно несет на себе печать известной субъективности. Автор рецензируемого труда применяет термин компаративистика без какого бы то ни было уничижительного оттенка.
Привлечение же именно французских источников совершенно понятно и естественно, ибо во второй половине XVIII века французское влияние на литературу Польши было чрезвычайно заметным и, пожалуй, более выраженным, чем в любую другую эпоху.
Естественно, на польской почве принципы французских теоретиков литературы нередко приобретали несколько иной характер, как бы применяясь к особенностям национального сознания.
Отмечались и прямые заимствования, моменты безоговорочного принятия взглядов иноземных теоретиков. Так, например, ксендз Игнаций Нагурчевский в 60-х годах XVIII века усвоил (а отчасти даже — присвоил) взгляды Перро д’Абланкура.
Обычны были в те времена переводы через язык-посредник: в общей массе они не считались зазорными, ибо формулы такого примерно рода: «с английского переведено на французский, с французского — на польский» — нередко появлялись на титульных листах переложений с чужеземных языков и наречий. Эта сакраментальная формула украшает, например, титульный лист «Песен Оссиана» в переводе Красицкого. (Следует уж кстати вспомнить, что Макферсон основывался в какой-то мере на подлинных записях гэльского или кельтского фольклора — хотя и перенося персонажи ирландских записей в видоизмененном виде на шотландскую почву... Таким образом, выстраивается следующий ряд: кельтский правариант — полупереложение-пол у подражание Макферсона — то же, но во французском переводе — польский перевод Красицкого: итак, это уже из третьих, если не из четвертых рук! — А. Г.)
А вот, скажем, «Нравственные мысли разных китайских философов» (на титуле следующие данные: «переведено с китайского на язык маниоур (маньчжурский), с маньчжурского — на русский, с русского — на французский и уже с французского — на польский»! Порой имели место и заве-
394
домне литературные мистификации, так, например, повесть англичанина Ф. Д. Честерфильда «Индийский философ» была издана на польском языке без указания имени автора, причем титул был украшен следующей тирадой: «Рассказ одного престарелого брамина, переведенный с чрезвычайно древнего туземного языка провинции Тибет — на китайский, с китайского — на английский, с английского — на французский, с французского — на польский». Стало быть, фактически звеньев в этой цепи несколько меньше: между английским и польским — всего лишь один посредник!
Отношение к переводам при посредстве «медиума», то есть «языка-посредника», было в те времена в общем снисходительным, в особенности если текст не претендовал на особую художественность (замечания по части морали и пр.).
Впрочем, тогдашний польский читатель непременно должен был прийти к негативной оценке переводов «из вторых рук», ибо в отрицательных отзывах на такого рода переводы в те времена отнюдь не было недостатка. Адам Чарторый-ский самым решительным образом критиковал подобные пере-переводы. А на французской почве переводчик Лукиана — Ж. Н. Белен де Байу (в 1789 году) — с такой же решимостью и к тому же чрезвычайно пренебрежительно отзывался о переводах «якобы из греков», будучи вполне убежден в том, что авторы подобных переводов вообще не знали языка подлинника!
Теоретики перевода второй половины XVIII века считали, что перевод неизбежно обречен на известное несовершенство. Мнение это нередко выражалось ими в образной форме. Чаще всего определения брались из области живописи. Перевод в те времена обычно именовали «копией», а переводчика — «копиистом». Все вышесказанное относится не только к Польше. На Западе метафоры подобного рода также были весьма популярны в те времена.
Шарль Баттё (Париж, 1774) писал, что: «Живописец-копиист находится в положении гораздо более выгодном, чем переводчик, ибо в его распоряжении такие же технические средства (краски), как и у создателя оригинала».
Нечто подобное писал англичанин Тайтлер в своих «Эссе о принципах перевода» (1791): «...живописец применяет в точности те же самые краски, и нет у него иной заботы, кроме как со всей возможной тщательностью имитировать характерные свойства мазка и самую манеру, в которой на
395
писано данное полотно; что же касается задачи переводчика, то она чрезвычайно отлична от задачи живописца: переводчик использует отнюдь не те же самые краски, что автор подлинника, но от него требуется, чтобы он достиг в своем переложении такой же силы и такого же воздействия, как и автор оригинального творения».
Итак, вот основной вывод теоретиков XVIII века:
Главное и сугубо непреодолимое препятствие, делающее совершенно невозможным идеально верное воспроизведение оригинала в переводе,— это решительное отличие средств языковой выразительности, которыми пользуется автор, от средств языковой выразительности иного народа, иной лексической стихии, а именно той, из которой черпает переводчик.
Примерно то же, что и французы, писал в 1765 году польский «Монитор»:
«...в переводе, хотя бы даже и самом лучшем, каждый автор, особливо поэт, утрачивает столько же, сколько картина, писанная красками,— в гравюре на меди,— где сохраняется только общий абрис да идея художника, но исчезает самое привлекательное его достоинство, то есть — краска, которая, однако, наиболее сближала его с природою».
О переводе как о копии писали, пользуясь примерами, взятыми из изобразительного искусства, такие польские авторы исследуемой эпохи, как Филипп Нериуш Голаньский, Томаш Каэтан Венгерский, Игнаций Влодек.
Французские авторы порою выбирали еще более резкие и решительные сравнения. Мадам Дасье (1699) без долгих разговоров сравнивает свой перевод «Илиады» q мумией!
Особняком стоял в те дни вопрос о переводе с античных языков. Уже тогда переводы эти обычно являли собой пример вдумчивой и тщательной филологической работы (другое дело, каковы были принципы этой работы).
Единоборствуя с текстами классиков, переводчики обращались к существующим изданиям, стараясь выбрать наиболее достоверное из них; сличали свой текст с имеющимися переводами на другие языки. Нарушевич в предисловии к своему переводу Тацита писал: «Я прибегал к французам и итальянцам в тех случаях, когда мне приходилось объяснять наиболее туманные мысли».
396
Проблема перевода античной поэзии вызывала в те времена большие споры. Переводима ли античная поэзия вообще? Анна Дасье и Дю Бо считали, что полноценный перевод поэзии древних на живые европейские языки невозможен.
Но эти французские литераторы, естественно, исходили при этом из понятия о необычайно высоких художественных достоинствах античной поэзии. Из пиетета, испытываемого ими к ней.
Правда, другой француз — Удар де ла Мотт, относившийся с явной недооценкой к величайшим античным шедеврам, считал попросту, что художественные недостатки переводов проистекают из соответствующих качеств самих оригиналов, а посему, мол, и нет ни малейшего повода желать верного отображения этих подлинников на родном (в данном случае — французском) языке!
Переводчик «Писем к Люцилию» сохранил в оригинальной версии тот, как он выражается, «чудацкий и непонятный способ писания», который в кое-каких местах этих писем свойствен Сенеке. Так было в позапрошлом столетии.
А поляк В. Корнатовский, переводивший те же «Письма к Люцилию» в наши дни (1961), справился со всеми трудностями, отнюдь не ссылаясь на чудачества древнеримского философа.
Бесспорно, произведения разных жанров, по мнению авторов XVIII века, обладают и различной — как бы это выразиться? — переводоустойчивостью! В переводе больше всего должна утрачивать поэзия, несколько меньше — риторика, всего же менее — тексты, в которых литературная форма играет второстепенную роль, имеет сугубо подчиненное значение (например, произведения историков).
Немало занятных и порою метких соображений оставил потомству краковянин Марцин Фиялковский. В 1790 году он, на собственный кошт, издал небольшую книжку, живописно озаглавленную: «О гении, вкусе, красноречии и переводе». Суждения, заключающиеся в этой небольшой, но весомой книжке, вполне можно считать репрезентативными для большинства теоретиков и практиков перевода в Польше века Просвещения. В те времена редко высказывались сомнения — удастся ли выразить в переводе «мысли» ав
3.97
тора; сомнения касались обычно чисто стилистических признаков литературного произведения, а отнюдь не его смыслового содержания.
Красицкий восстал против распространенного мнения, что «в переводе никогда содержание и жявость оригинала сохраниться не могут». По его словам, вину за столь привычные недостатки переводов несет «рука копирующего» («Монитор», 1772, № 1)!
Несовершенная передача смысла оригинала трактовалась скорее как результат слабости переводчика, чем как явление, имеющее более глубокие причины и корни.
Пожалуй, единственным тёоретическим рассуждением по этому вопросу, в котором автор приходит к совершенно иным выводам, является статья Францишка Беньковского, помещенная в «Развлечениях приятных и полезных» (1771).
Беньковский утверждает: «Бывает, и нередко, что человек, одаренный живым и быстрым умом, человек, которому свойственно остроумие, человек, имеющий о каком-либо предмете достаточно ясную мысль, не может ее, однако, столь ясно выразить, как бы ему хотелось!.. Мы, например, весьма совершенно разумеем какой-нибудь отрывок из Горация или Овидия, сознаем и чувствуем, так сказать, красоту и глубины их мысли, и тем не менее долго вынуждены бываем трудиться, прежде чем нам удается должным образом сии помыслы изложить; а порой и после длительных размышлений не в силах этого добиться».
Одним словом, источники неудач переводчика коренятся, по мнению Беньковского, в самом механизме литературного творчества:
«Ибо как переводчик не всегда способен в достаточной мере сравниться с автором, которого он переводит, так и тот, который из своей головы что-либо пишет, не может, если так можно выразиться, сравниться с самим собой». (Все это было написано в 1771 году.)
Но рассуждения Беньковского, как уже было сказано, в польской словесности эпохи Просвещения явно стоят особняком. Коммуникативность языков, то есть возможность переложения «мысли» литературного произведения, была в тогдашнем сознании чем-то очевидным: все языки выражают один и тот же опыт человечества, проанализированный согласно категориям познания, идентичным для всех людей.
«Энциклопедия» Дидро требует от переводчика, чтобы он
398
передал мысль так, как будто она возникла на языке перевода. Нетрудно разглядеть в этом постулате ничем не поколебленную убежденность в полнейшей раздельности мысли и ее языкового выражения.
«Переводить — это значит высказать ту же самую мысль на другом языке»,— заявлял ксендз Копчинский. При перечеканке денег ценность сохраняется, меняется только штемпель или чекан. «Что в чеканке денег — штемпель, то в переводе — слова». Так писал тот же О. Копчинский в своей «Грамматике для народных школ» Ч
Переводчиков же интересовали не столько «логические» признаки мысли — «правдивость» и «ясность», сколько такие ее свойства, как живость, сила, смелость, обаяние и пр., которые в «Энциклопедии» Дидро названы «качествами вкуса».
А теперь перейдем к вопросу о костюмировке.
Особенного внимания заслуживает распространенный в эпоху Просвещения в Польше тип метафоры, который можно было бы назвать «костюмным». Языковая форма перевода именуется «польским платьем», «польским покроем». Нарушении переодевает Тацита «в отечественный наряд». Один из переводчиков Сенеки прилагает немалые усилия, чтобы у римлянина, переряженного на польский лад, «тога не выглядывала из-под кунтуша». На титульном листе перевода басен фигурирует Федр, «переодетый в польский наряд», «переряженный в польское платье». Гомер в польском переводе— это, дескать, «грек, переодетый на сарматский лад». Версии, калечащие польский язык, именуются «скроенными на чужой лад». Метафоры подобного рода впервые появились еще в старопольской словесности и к середине XVIII столетия уже в известной мере банализировались.
То же и у французов? оригинал и перевод — по Сорелю — это как бы разные наряды одного и того же субъекта. Разные наряды,— ибо в те времена господствовала полнейшая убежденность в том, что никакой перевод не в состоянии полностью передать языково-стилистические достоинства и оттенки оригинала...
1 Нечто подобное пишет, кстати, и современный французский теоретик перевода Мунен (не далее как в 1963 году!). По его мнению, переводить — это значит выразить емкость бочки в литрах ее же емкостью — в галлонах, причем, естественно, емкость сама по себе остается одной и той же; в обоих случаях мы имеем дело с одною и той же реальностью!
399
«Энеида» на французском языке — это уже больше не та же самая поэма, что «Энеида» по-латыни»,— писал аббат Дю Бо. Тот же Дю Бо не видел возможности разделения в поэзии «содержания» и «формы»...
«Иные скажут, может быть, что это, собственно, не переводы, но я скажу, что это весит более, чем перевод!» — твердил ксендз Игнаций Нагурчевский, представляясь читателям польской версии избранных речей Цицерона ретивым и ревностным сторонником переводческой свободы (1763). Еще в XVII столетии П. Д. Гюэ (1661) отделил перевод от подражания, упоминал он также и о других способах передачи литературного текста, например о п а-р а ф р а з е. «Энциклопедия» Дидро определяет парафразу как интерпретацию, передающую только смысл, а не слова. Это не слишком точное определение. В польской словесности XVIII века термин парафраза встречается редко. Подзаголовком парафразис полоника снабжена польская версия гимна «День гнева» («Dies irae, dies ilia!»), опубликованная в сборнике «Поэтические забавы некоторых кавалеров» (1758). Издал этот сборник ксендз Богомолец.
Игнаций Нагурчевский, не углубляясь в тонкости формулировок, защищал право переводчика на переводческую свободу. Interpres — у Нагурчевского «толмач боязливый», orator — «вольный говоритель».
Авторитет Цицерона должен был послужить защите вольного перевода. Охотно критиковались переводы «слово в слово». И столь же охотно превозносились переводы исправляющие, улучшающие и корригирующие! Вот высказывание ксендза Богомольца о переводческой практике Вольтера:
«Ибо этот переводчик трагедий и иных стихов английских поэтов их низкие мысли возвысил, напыщенно-надутые — снизил, ненужные — отсек, и тем доказал, что тех, которых переводил, он всецело превзошел полетом мысли своей и гладкостью красноречия своего!» Переводчик присваивал себе функции критика, исправляющего литературное произведение согласно собственным эстетическим идеалам или идейным принципам. «Где мне нужно, там я расширяю, а где вижу, что автор расширяет без надобности, там выражаю ту же самую мысль короче, всегда имея в виду, чтобы не столько сравниться с тем автором, которого я перевожу,
400
но и превзойти его живостью моих выражений». Это опять-таки — ксендз Ф. Богомолец. Он ссылался на вольности античных переводчиков,«которые немало с греческого на латинский язык перенесли», ссылался на Цицерона, Вергилия, Горация, Теренция.
В античной традиции искал также опоры Нагурчевский. Вот что писал он: «То — искусный, то — достойный похвалы перевод, который гладко и живо выражает мысль автора, хотя и далеко иными словами». Нагурчевский настаивает не на более совершенной художественной передаче «мысли», а на праве переводчика производить далеко идущие модификации текста. Однако переводческая практика Нагурчев-ского зачастую противоречила провозглашенным им самим принципам — многое он в своем переводе Цицерона передал почти дословно, заботясь лишь о гладкости изложения.
Итак, право на поэтическую вольность провозглашалось, но отнюдь не всегда использовалось. Перевод, изобилующий дословностями, оправдывали подчас совпадением двух языков. Нагурчевский, в т е о р и и сторонник вольности, по-видимому, не считал необходимым вольничать на практике. Иногда изменения в тексте античного автора (и порой даже в тексте современника — скажем, Вольтера) вызывались необходимостью приспособиться к отечественным нравам и обычаям и не оскорблять ничьих ушей. У Вольтера Брут —сын Цезаря от тайной связи его с сестрой Катона — Сервилией, а переводчик — Войцех Мокроновский, преподаватель поэтики в иезуитской коллегии, вставлял упоминание о подтвержденном законом усыновлении будущего убийцы!
В предисловии к переводу трагедии Вольтера «Смерть Цезаря» (1755) Мокроновский пишет, что обычай оправдывает переводчиков, которые часто без какой-либо веской причины отступают от своих авторов. И ссылается при этом на практику Вольтера-переводчика.
Порою происходило заведомое изменение стилистической тональности подлинника. Нарушевич (1774) сообщил читателям песен Анакреона, что он, переводчик, несколько изменил «некоторые места, неприятные даже для более вольного слуха». Наконец, нередки случаи вмешательства в идейное содержание оригинала.
401
Анонимный переводчик романа Филдинга «Джозеф Энд-рьюс» писал: «...я опустил множество мест, в которых автор, по английскому обыкновению, пускается в чрезмерно вольные и пространные рассуждения о нравственности...»
Ксендз Клюжинский перевел книгу Бертрана «Тевенон» (Варшава, 1779). В польской версии она вышла в свет без главы, посвященной веротерпимости, поскольку в этой главе заключалась критика «некоторых истин святой католической веры».
А переводчик произведения Мармонтеля «Велизарий» пишет в своем предисловии (1769): «Мы опустили в этом польском издании главу XV, где автор поддерживает и рекомендует максимы, не согласующиеся с христианской религией и противные правительствам многих стран, даже и христианских». Ибо оглашение подобных выводов «в нынешних общественных, здешней страны, обстоятельствах» принесло бы вред.
Марцин Фиялковский (1790) писал о том, что следует заботиться о передаче в переводе «родимых пятен оригинального гения», то есть индивидуальных свойств и особенностей мысли и слога писателя. «Черты оригинала должны перейти в копию». Однако он отнюдь не считал попытки усовершенствования оригинала каким-либо кощунством или святотатством. Вовсе не обязательно копировать «даже слабые места»!
А. Чарторыйский меланхолически констатирует, что «Илиада» и «Одиссея» Гомера в переводе Попа — это «Илиада» и «Одиссея» не Гомера, а самого Попа.
Читателя источников по истории и теории перевода в XVII и XVIII веках поражает назойливое возвращение все одной и той же мысли, выраженной в разных вариантах и при разных обстоятельствах: вопрос о методе перевода должен решаться прежде всего с учетом того — на какого воспринимающего индивидуума, на какого, проще говоря, читателя или зрителя рассчитан перевод?
Соответственное приспособление чужеземного творения должно было облегчить его восприятие в новой среде.
Английский исследователь 20-х годов текущего столетия Дж. П. Постгэйт определяет переводы этого типа термином адаптивные, то есть приспособительные
402
переводы. Можно признать, что принцип усвоения, или адаптации, преобладал также и в столь характерной для XVIII века теории вольного перевода; этому постулату, по сути дела, была подчинена и самая поэтика, преохотно дозволяющая производить всяческие идейные и художественные коррективы оригинального текста.
Итак, провозглашался лозунг подражания-усовершенствования, усовершенствованного подражания. На практике происходило приспособление произведения к литературным взглядам и нормам жизненного поведения, принятым в среде будущих читателей.
Нарушевич (1774) переделывал Анакреона, приспособляя его «к польскому образу мыслей». П. А. де Ла Плас (1788), переведший «Оруноко, или королевский раб» известной английской писательницы и прославленной авантюристки Афры Бен (1688), пишет: «Оруноко в Лондоне был одет на английский лад. Чтобы угодить Парижу, я облачу его во французское платье!» Францишек Ксаверий Дмоховский (1785), комментируя «ополяченный» им отрывок из поэмы Юнга «Страшный суд», отмечает, что он переводил точно — «и только в именах собственных допустил вольность, заменил их именами славных мужей польских...». Эта перемена-де «не нарушает сути дела» и должна приблизить произведение Юнга к польскому потребителю.
А вот знаменитая фривольная поэма Грессе «Вер-Вер» в переводе Т. Морского (1779). Место действия — женский монастырь — перенесено из Невера в Краков, а главный герой, так сказать, исполнитель заглавной роли,— во французском тексте попугай, родом из Индии,— в польской версии становится скворцом, которого раздобыл местный горец— гураль... Уж местный колорит так местный колорит!
Те же принципы приспособления применялись и к переводу театральных пьес (в особенности комедий и водевилей), в них заменялись собственные имена, ибо считалось, что привычные — польские — лучше воспринимаются аудиторией, заменялись реалии быта, география и т. д. и т. п.
Подобного рода взгляды, между прочим, разделяли и русские литераторы, например Н. М. Карамзин. Рецензируя перевод комедии Коллен д’Арлевилля, он упрекал переводчика в сохранении чужеземных фамилий, что, по мне
403
нию автора «Писем русского путешественника», приводило к явному нарушению театральной иллюзии:
«Одно такое имя напомнит зрителю, что он в театре, и что все видимое им есть небылица, а надобно, чтобы он забывался».
Ян Бодуэн (варшавянин) перевел комедию Реньяра «Наследник» (Варшава, 1777). Место действия — Париж — он превратил в Варшаву. Бедного родственника из провинции, нормандца, превратил в жителя Подлясья. (Видимо, соответствующего дореформенному Пошехонью!)
Мольер в «Скупом» пишет о волнениях и преследованиях в Неаполе, а польский переводчик заменяет Италию Браславским воеводством и ссылается на недавнее восстание гайдамаков.
У переводчика Бодуэна мольеровский Тартюф, ничтоже сумняшеся, уплетает би гос (сугубо польское блюдо — нечто вроде солянки на сковороде)...
А Войцех Богуславский, характеризуя свою версию мольеровской «Школы жен» («Урока женам»), писал (издано в 1823 году): «Я придал действующим лицам польские фамилии и всю вещь приспособил к нашим отечественным обычаям, ибо желательно, чтобы все комедии служили исправлению местных, здешних, тутошних недостатков — и чтобы любовь к чужеземному меньше занимала сердца поляков...»
Ян Бодуэн (1777), при всем том, называл свои версии «Тартюфа» и «Наследника» «переложениями» или даже «переводами»!
Защитники точного перевода находились в решительном меньшинстве, но все же они были.
Так, Ж. де ла Порт не слишком похвально высказался о переработке сатир Персия (1704), вышедшей из-под пера некоего ле Нобля: «...Думается, что немногие одобрят ту вольность, с которой мсье Нобль предпринял данный перевод!»
«Первейший долг переводчика — быть верным и доподлинным излагателем воли писавшего»,—вещал отец-реформат Клечевский.
И продолжал: «Кто выбирает себе для перевода книгу, обязан поразмыслить — насколько склонности его и свой
404
ственное ему искусство совпадают с духом автора. Трудно женщине описывать войну, ибо женщины склонны к миру, вот разве что амазонки! Трудно молодому человеку передать серьезность Тацита, совершенство Цицерона, ибо самый возраст его склоняет сего молодого человека к шалостям и шалопайству!» (1767).
«Следует ничего не прибавлять своего, ничего не устранять из того, что переводишь, во всяком случае там, где это не нарушает свойств языка»,— пишет И. Влодек (1780).
Пильховский писал в примечаниях к Сенеке (о бесчеловечном поступке Помпея): «История не следует таким предписаниям, чтобы то, что некогда было заслуживающим порицания — она не имела права описывать. Само преступление становится воспитателем добродетели, когда его История представляет в разумном свете: не как пример для подражания, а как предостережение».
«Илиада» и «Одиссея» в переводе Яцека Пшибыльского (конец XVIII века) были весьма близки к оригиналу. Один из корреспондентов переводчика так писал Пшибыль-скому:
«Читая Вашего Гомера, никто того не скажет, что сказано о каком-то французском переводе, что это-де роман, сочиненный мсье Гомером, героем которого является граф Ахиллес вместе с некоторыми другими принцами и графами... У вас все кажется древним...»
Исключительная насыщенность произведений Лукиана реалиями его эпохи вынуждала, согласно Белену де Байу, верно следовать и в этом смысле переводимому автору: «Сколь смешным казалось бы выставлять француза в греческом плаще или приписывать афинянину платье и манеры наших буржуа, одним словом, подменять нашими обычаями и нашими поговорками — обычаи и поговорки античной древности!» (1789).
Анонимный переводчик романа Ф. Мокомбля «История г-жи Эрневиль» (1782—1783) заметил в предисловии:
«Я отлично знаю, что верность в переводе произведений, писанных на другом языке, должна быть свойственна каждому переводчику».
Францишек Карпинский в своем вступлении к «Садам» Делиля пишет (1783): «Зачем же, простите, имея под рукой иноземное творение, все его признаки уничтожать, по которым видно, что оно — иноземное? Зачем оскорблять автора
405
книги, в чужом народе лишая его хвалы, которую переводы с приспособлением к нравам данной страны со временем всецело утрачивают?»
Примеры эти приводят к выводу, что вопросы поэтического перевода в польской литературе второй половины XVIII века невозможно разрешить окончательным образом в отрыве от подробного анализа писательской критики. Во всяком случае, еще два века тому назад во всеуслышание оглашались концепции, в которых переводческая верность занимала почетное место.
«Прежде чем национальный гений дойдет до той поры, что самому себе и другим сможет давать примеры, нужно, чтобы сперва он с других примеры брал, ибо ведь и сами эти чужеземцы не иначе до степени своей дошли». Так писал Красицкий в 1772 году. И он же справедливо замечал: «Переводчиками должны быть такие люди, которые сами по себе могут быть деятелями (то есть авторами), люди, которые видят большую, чем из своих творений,— из переводов иноземных — пользу и ценят больше, чем хвалу себе,— те услуги, которые они оказывают своему отечеству».
Люди эти, по понятиям века Просвещения, образуют своего рода литературную республику. Определение этому понятию дает «Литературная энциклопедия» Э. Кальвеля (1772): «Сочинители, литераторы — образуют своего рода республику. Их следует рассматривать как братьев. Одни и те же вкусы, одни и те же занятия, одни и те же взгляды — несомненно содействуют их объединению, тесно связывают их».
XVIII столетие нисколько не сомневалось в том, что, как удачно сформулировал В. К. Тредьяковский: «...переводчик от творца только что именем разнится!»
Адам Казимеж Чарторыйский — отнюдь не только светский литератор, но и крупнейший государственный и национальный деятель, проживший долгую и многотрудную жизнь,— помимо многих прочих тем размышлял и о проблеме перевода. И выразил свое отношение к этой проблеме, так сказать, к ее человеческому фактору (тут уже навертывается невольный каламбур!) в следующих словах: «Переводчики — суть факторы и менялы духовной торговли,
406
и, стало быть, их долгом является доставление наилучших товаров; они же должны следить за тем, чтобы страна не была наводнена товарами скверными».
На исходе века Просвещения становится весьма заметной тесная связь между дидактической ролью переводов иноземных творений и их участием в развитии изобразительных средств польского языка. Рискованной была бы поэтому попытка обнаружить преобладание одной из этих функций.
Из проанализированных Ядвигой Зентарской материалов проистекает, что в намерениях переводчиков задания эти воспринимались как равноценные, хотя в отдельных высказываниях выступали на первый план то те, то другие установки. На расположение и сочетание этих акцентов могла влиять, между прочим, и принадлежность переводимого текста к определенной ветви писательской деятельности — либо к определенному роду словесности. Высказывавшиеся в эпоху Просвещения суждения о мастерстве перевода можно рассматривать как проявление теоретических принципов, либо также — как собрание предписаний, необходимых для того, кто хочет хорошо переводить,— то есть как поэтику в узком смысле этого слова.
Зентарская пыталась доказать, что преобладанию и даже господству лозунгов переводческой вольности,— а такое преобладание в ранней фазе века Просвещения является несомненным,— противостояли с течением лет все более решительные голоса, более или менее ригористично требующие уважения к принципу цельности переводимого текста. Выделение этих двух разных отношений выдвигает дальнейшие проблемы, рассмотрение которых должно, частично по крайней мере, застраховать от упрощений, коих нелегко избежать, ибо весьма сложная проблематика рассматривается в рецензируемой книге на по необходимости ограниченном материале.
Зентарская старалась проследить, как именно складывались отношения между очерченными выше направлениями: существовали ли точки совпадения между ними, доходило ли до стычек, каким изменениям подвергались эти отношения на протяжении нескольких десятков лет, в связи со значительными переменами в литературной жизни
407
страны. Манифесты в пользу вольного перевода; характерные для раннего периода века Просвещения, оставались в несомненной зависимости от тогдашних общественно-культурных потребностей: следовало приспособить чужое, то есть иноземное, наследство к духовной формации отечественных потребителей, отечественных читателей,— преобразовать идейное содержание переводимых текстов согласно с принятой в лагере реформ программой. Из этих вполне очевидных для современной науки утверждений не следует, однако, что генезис течения в пользу точного перевода надобно искать в ином понимании писательских задач, то есть в отречении, в отказе от воспитательной роли литературы.
Зентарская старалась показать, что понятие цельности текста формировалось отнюдь не в противопоставлении идеям ответственности пишущего за общественную функцию произведения. В книге неоднократно упоминается о выступлениях, свидетельствующих, что приверженцев различных переводческих методов объединяло твердое убеждение в дидактической роли литературы, как отечественной, так и усвоенной посредством переложения с иностранных языков и наречий. Представители различных направлений в теории и практике перевода неоднократно высказывали критические замечания о переводах, выполненных исходя из иных творческих принципов, из принципов, несогласных с их взглядами, однако случаи прямой теоретической полемики в ту эпоху были достаточно редки. А когда такие полемические схватки имели место, их участники старались не называть своих противников по именам. Не исключено, что чувство единства устремлений было в тогдашнем литературном сознании значительно сильнее, чем внутренняя убежденность в превосходстве того или иного переводческого метода. Наиболее вероятным представляется, однако, допущение, что это относительно вялое (в сравнении, скажем, с Францией той же эпохи) проявление противоречий во взглядах на существо перевода было следствием наступления определенных событий: в семидесятых и восьмидесятых годах XVIII века, когда множились голоса, прокламирующие принципы точности и верности, не появлялись уже манифесты такого типа, как «Беседа о польском языке» Богомольца или вступление Нагурчев-ского к избранным речам Цицерона. Видимо, некоторые
4Q§
сторонники и приверженцы лозунга переводческой точности признавали допустимость и других методов, понимая их как подражание оригиналу. В пользу такого рода интерпретации явно говорят предпринимавшиеся несколько позднее попытки уточнения понятий, связанных с употреблением терминов «перевод», «подражание», «переложение». Впрочем, на первый взгляд терминология XVIII века, относящаяся к проблемам перевода, производит впечатление полнейшего хаоса. В те времена еще не придавали особого значения точности определений в этой области. Приверженцы вольностей трактовали перевод как своего рода подражание, то есть практически не представляется возможным в наши дни произвести точное разграничение семантических территорий таких терминов, как «перевод», «вольный перевод» или «подражание» и «имитация».
Не следует некритически доверять переводчикам, утверждавшим, что они-де стремятся к верности, к точности, к передаче «духа автора» или неувядаемой прелести его творений! Кажется, однако, несомненным, что пользование терминами «верность», «точность» было явлением значительным, хотя бы даже эти слова означали в те времена понятия, весьма далеко отстоящие от идеи цельности и неприкосновенности переводимого текста.
Если бы мы задали себе вопрос, какие взгляды, провозглашенные в XVIII веке, не утратили своего значения и в наши дни, то нам недостаточно было бы сослаться на те принципы нормативной поэтики переводов, которые Вацлав Боровы, современный польский исследователь, извлек из трудов Тайтлера, английского теоретика позапрошлого столетия, и, некоторого освежения ради, проиллюстрировал примерами, взятыми из литературы XX века. Следовало бы также поразмыслить о том, что в эпоху Просвещения говорили литераторы о ключевой, с нашей точки зрения, проблеме переводимое™.
«Переводить — это значит одну и ту же мысль высказать на другом языке»— такое определение было дано в «Грамматике для народных школ». Приведя это определение, автор рецензируемой книги замечает, что авторы XVIII века нисколько не сомневались в том, что любую мысль текста можно выразить на другом языке без малейшего изменения.
409
Ибо теоретики той — отдаленной уже от нас — эпохи полагали, что человеческая мысль — независимо от пространства и времени — воспринимает окружающую человека действительность в одних и тех же логических или психологических категориях. После появления трудов Гердера и Гумбольдта подход к пониманию этих явлений заметно изменился, а в последние десятилетия многие исследователи пришли к установкам, диаметрально противоположным убеждениям XVIII столетия. Современные этнологи утверждают, что каждый язык представляет собой иные аспекты действительности, а отличный друг от друга образ мышления отдельных языковых групп выражается, между прочим, в синтаксисе их языка; и более того — признается решающее влияние языка на мышление:
«Мы мыслим во вселенной, которую заранее сформировал и смоделировал наш язык».
Этой цитатой из работы современного французского теоретика Э. Бенвениста «Современные тенденции в общей лингвистике» (1954) Ядвига Зентарская и замыкает цепь рассуждений на эту тему.
Конечно, между различными языками существуют весьма и весьма глубокие различия. Однако это еще не дает основания говорить о какой-то принципиальной и вечной, непостижимой и неискоренимой непереводимости. В этом плане, как нам кажется, Ядвига Зентарская несколько заворожена современными модными теориями. Ибо каковы бы ни были постулаты пророков и провозвестников Непереводимости с прописной буквы, каков бы ни был их — искренний или наигранный — пессимизм, практическая деятельность мастеров перевода что ни день опровергает все эти пессимистические построения. Правда, далеко не все, что делается в практическом плане, может мгновенно подыскать себе теоретическую базу. Но так или иначе практика — это достаточно серьезный и достаточно здоровый и надежный критерий.
Впрочем, независимо от теоретических расхождений имеется заметное совпадение между взглядами XVIII века и нынешними о возможности разрешения конкретных переводческих проблем. Теоретики XVIII века прежде всего обращали внимание на переводческие неудачи, вызванные различием стилистических средств в отдельных языках, а также обособленностью и своеобразием отдельных куль
410
тур. Таким образом, речь шла тогда, скорее, не о полной, а о частичной непереводимости. Оба вышеуказанных источника частичной непереводимости авторы XVIII века представляли Ь^ычно примерно таким же образом, как и современные нам критики и теоретики перевода; во всяком случае, их понимание этих сложных проблем весьма близко нашему пониманию. Исключительно интересно представлены эти проблемы в труде Дю Бо, который считал, что идеальный, полный перевод должен функционировать в новой среде, как некогда функционировал (в своей среде) оригинал; поскольку же такое намерение невозможно реализовать, то следует признать неизбежное несовершенство переводного произведения. Подобный же взгляд, хотя и не аргументированный с равной проникновенностью, разделяли, по мнению Я. Зентарской, те из польских переводчиков эпохи Просвещения, которые обладали достаточно богатой литературной культурой.
Зентарская приводит весьма любопытное, хотя и выраженное в несколько тяжеловесной форме, высказывание современного польского исследователя Ольгерда Войта-севича. Вот как он попытался сформулировать самую .суть того, что мы называем переводом (преимущественно, конечно, речь идет о художественном переводе):
«Операция перевода текста а, сформированного на языке А, на язык В состоит в сформировании текста b на языке В таким образом, чтобы этот текст b вызвал бы у читателей некие ассоциации — такие же самые или очень близкие к тем, которые у читателей вызывал текст а» (О. Войта-с е в и ч. Введение в теорию перевода. Вроцлав, 1957). Против такой формулировки, по сути, нечего возразить. Но, естественно, вся совокупность проблемы здесь рассматривается Войтасевичем в сугубо психологическом аспекте.
Этот психологический аспект восприятия переведенного произведения, несомненно, принимали во внимание теоретики и создатели нормативной поэтики переводов в XVIII веке, нередко рекомендуя такие переводческие приемы, которые должны были приспособить текст к эстетическим вкусам и системе этических или политических взглядов, разделяемых читателями перевода. Речь тут шла, ясное дело, не столько об идентичности испытываемых впечатлений, сколько об их определенном соответствии. Фрагменты или даже отдельные слова, отнюдь не шокирующие земляков и сородичей автора,
411
в другой стране и в другую эпоху возбудили бы, как утверждалось, неприязнь или даже отвращение, а тем самым создали бы разительное нарушение общепринятых принципов хорошего тона или общественных благоприличий. Таким расхождениям в восприятии должны были воспрепятствовать сокращения, купюры, усиления, нажимы и даже изменения композиции произведения или преобразования стилевой тональности. Учет ожидаемых реакций читателя играл принципиальную роль в выводах, мотивирующих признаваемое за переводчиками право на вольность.
Вопреки общепринятому мнению, проблема восприятия не была чуждой и глашатаям переводческой точности, добивавшимся, между прочим, сохранения в переводе локального и исторического колорита. Изменениям подвергались только требования в отношении к читателю: от него потребовалось, чтобы он несколько расширил шкалу своих переживаний и воздал должное ценностям, чуждым художественным вкусам или идейным тенденциям его современников. Подобного рода установки были следствием того, что истины «философической критики» были взяты под сомнение; все это свидетельствует о зачатках исторического понимания литературных явлений.
Проблемы эти, на первый взгляд принадлежащие прошлому, время от времени оживают в современной критике переводов, делаясь порой предметом высказываний, явно претендующих на нормативность. Так, например, Артур Сандауэр утверждает, что перевод античного творения должен воздействовать на сегодняшних зрителей «столь же интенсивно, как оригинал — на древних». А посему критик и высказывается за концепцию, диаметрально противоположную постулатам филологии XIX века, пресловутое «историческое чувство» которой, по мнению А. Сандауэра, есть нечто иное, как форма снобизма! Критик с одобрением цитирует старика Делиля, который требовал «верности не словам текста, а его воздействию!».
Из иных принципов исходит Кшиштоф Волицкий, обсуждая перевод «Облаков» Аристофана, принадлежащий Сан-дауэру; в частности, он ставит под вопрос некоторую, по его мнению, слишком далеко зашедшую «полонизацию» стиля. Волицкий полагает, что зритель «должен видеть, что он этому миру (т. е. миру Древней Греции, миру Афин) и его театру чужд и далек и что без собственного чрезвычайного
412
усилия он не сможет его художественно пережить». (Статьи Сандауэра и Волицкого опубликованы в майском номере польского театрального ежемесячника «Диалог» за 1963 год.)
Любопытное замечание сделал Эдмон Кари в книге «Великие французские переводчики» (Женева, 1963): «По правде говоря, речь идет не о связи двух звеньев: оригинал — перевод или автор — переводчик. Речь идет о соотношении трех звеньев: автор — переводчик — читатель».
В новейших концепциях понятие адекватного перевода подчинено понятию перевода эквивалентного. Оно входит в состав рабочего определения перевода, данного Ольгердом Войтасевичем. Термином этим, который некогда разумели почти так же, как и сейчас, оперировали в словесности XVIII века. Это связывалось с убеждением в том, что «копирование» литературного текста переводчиком принципиально отличается от аналогичных действий в пластических искусствах, ибо переводчик не имеет в своем распоряжении такого же материала, как создатель подлинника.
Вот как формулирует задачу перевода современный языковед (Клеменсевич): «Задача перевода состоит не в копировании, не в воспроизведении и тем более не в преображении элементов и структур оригинала, слов, фраз, образов и т. д., но в постижении их функции и введении таких элементов и структур собственного языка, которые были бы, по мере возможности, субститутами и эквивалентами равной функциональной работоспособности, пригодности и действенности. . .»
На заре XVIII столетия Жак Туррейль пытался, по его словам, удовлетворить читателей своим переводом речей Демосфена, взвешивая слова оригинала, но не считая их.
По мнению Хорста Френца (X. Ф р е н ц. Искусство перевода. Статья в коллективном сборнике по сравнительному литературоведению. Карбондейл, 1961), главную заботу нынешних английских и американских переводчиков составляет читаемость или даже читабельность перевода, понимаемая как своего рода приспособление к навыкам и эстетическим склонностям читателя-современника.
413
* * *
Авторы XVIII века интуитивно ощущали, конечно, сколь велика роль субъективного элемента в деятельности переводчика, в особенности в области изящной словесности. Наличие этого субъективного элемента признается и в наши дни. Тем больше оснований зачислить мастеров художественного перевода в цех творцов, созидателей, подвижников.
В эпоху Просвещения умение переводить обозначалось термином «искусство». Нелегко, конечно, определить, где в труде переводчика кончается ремесло и где именно вступает в действие художественное, артистическое начало. Несомненно только, что без этого начала творческий перевод решительно невозможен.
Так или иначе двести лет тому назад выдающихся переводчиков «поэзии» и «красноречия» считали артистами своего дела, художниками, которые своими достижениями обязаны не только и не столько твердому знанию правил переводческой поэтики, сколько своим личным литературным способностям, талантам и дарованиям.
Литераторы наших дней, провозглашая высокое достоинство профессии переводчика, развивают, следовательно, мысли и идеи, высказанные еще два столетия тому назад.
Наши возражения отчасти можно объяснить некоторыми различиями в литературоведческой методике современных польских и советских ученых, отчасти же они вызваны тем, что автор книги не свободен от гипноза словосочетаний, модных в современном западном литературоведении. Однако в богатстве и умелом подборе материала, в упорном отстаивании принципиальной значимости трудов и дел писателей-переводчиков, в глубокой убежденности в своей правоте — во всем этом вырисовывается бесспорная ценность книги Я. Зентарской; книги, которая в конечном счете посвящена восхвалению трудного, коварного, но и высокого, беспредельно высокого искусства перевода.
Вл. Россельс
СКЛОНЕНИЕ ТЕОРИИ НА СВОИ НРАВЫ
Все шире круг ученых и литераторов, занятых вопросами теории, истории, критики художественного перевода и переводной литературы. В 1966 году в Москве на симпозиуме «Актуальные проблемы художественного перевода» всеобщее внимание привлекло сообщение болгарских участников С. Влахова и С. Флорина о передаче бытовых, исторических и иных реалий при переводе произведений на другой язык.
Сегодня перед нами большой историко-критико-теоретический сборник «Искусство перевода», выпущенный в Софии1. Книга вышла под редакцией трех ученых. В их числе и С. Флорин, и ему принадлежат в этой книге три статьи: «Художественный перевод и редактор», «Переводчик и словарь» 1 2 и «О переводе с английского», а также выросшая в большую работу, совместная с С. Влаховым, статья о реалиях «Непереводимое в переводе»3. Кроме него в сборнике представлены еще пятнадцать авторов, и некоторые также двумя, а то и тремя статьями (о содержании статей мы подробно поговорим ниже). .
Все это свидетельствует, что на наших глазах за несколько лет не только С. Флорин стал серьезным исследова
1 «Изкуството на превода». Сборник статии. София, «Народна кул-тура», 1969.
2 Эта статья С. Флорина напечатана в настоящем сборнике на с. 327—339 под заглавием «Необходимое пособие».
3 Статья опубликована по-русски в шестом сборнике «Мастерства перевода». М., «Советский писатель», 1970, с. 432—456.
415
телем художественного перевода и интересы его в этой отрасли знания ширятся с каждым годом, но что в Болгарии возник целый отряд ученых, интересующихся этой отраслью филологии.
Два года спустя после Московского симпозиума, на конференции ФИТ «Перевод как искусство» в Братиславе, с сообщением «О концепции «экспрессивного сдвига» (shift of expression) в переводе» выступил словацкий филолог Антон Попович, автор вышедшей в 1961 году монографии «Русская литература в Словакии в 1863—1875 годах»1. В монографии собственно вопросам перевода было посвящено не более тридцати страниц, в ней анализировалась в основном социально-культурная проблематика русско-словацких литературных связей периода словацкого Возрождения. Но именно изучение литературных связей натолкнуло А. Поповича на углубленное исследование эстетических закономерностей художественного перевода. Его. сообщение на Братиславской конференции было, в сущности, главой уже готовой к тому времени книги «Перевод и выражение», вышедшей в конце того же 1968 года и представляющей собой опыт цельной переводческой поэтики2. Историко-литературный материал в этой книге привлечен, лишь по мере необходимости, в эстетическом аспекте.
С. Флорин пришел к науке о художественном переводе от литературной практики — он много лет переводил и редактировал переводы на болгарский, а А. Попович — от историко-литературных изысканий, но обоих жизненная логика с неизбежностью привела к необходимости разобраться в структуре переводного произведения и процессе его создания. Оба случая чрезвычайно характерны для все усиливающейся тяги литераторов и филологов к вопросам перевода, значение которого в современном мире возрастает из года в год.
Итак, две книги — болгарская и словацкая. Что дают они своему читателю — переводчикам на болгарский и сло
1 A n ton Popovit. Ruska literatura na Slovensku v rokach 1863—1875. Bratislava, vyd. Slovenskej Academic Vied, 1961.
.. 2 A n. ton Popovic. Preklad a vyraz. Bratislava, vyd. Slovenskej Akademie Vied, 1968.
416
вацкий ^языки — и что дают развитию новой науки — теории художественного перевода?
Коллективный труд болгарских ученых и переводчиков — это сборник статей, а не стройная монография по искусству перевода. Однако в первых пятнадцати статьях сборника освещено большинство насущных проблем теории и практики, включая вопросы творческого процесса и редакционно-издательской подготовки переводной книги. Остальные девять работ составляют как бы обзор наиболее значительных для Болгарии фактов литературного обмена. Среди них — очерки переводческой деятельности крупнейших болгарских поэтов Пенчо Славейкова и Гео Милева, разборы болгарских переводов зарубежной классики и русских переводов болгарской поэзии.
Сборник открывается небольшой вводной статьей главного редактора, проф. Емила Георгиева, где говорится о значении перевода в развитии культуры, а затем сжато, почти конспективно изложены принципы современной теории перевода, преимущественно в методологии и терминах советских ученых, но на болгарском историко-культурном и историко-литературном материале. Так определены позиции, с которых болгарские исследователи ведут разработку переводческих проблем. Затем следует обзор «Переводческая мысль за рубежом и у нас», написанный А. Людскановым, чьи работы в области переводоведения появлялись уже и раньше. Отметив, что в Болгарии, «если оставить в стороне единичные исключения, нет обобщающих работ ни по переводу вообще, ни специально по художественному переводу»1, автор, опираясь на труды ученых разных стран, опубликованные в последнее время, разрабатывает стройную и методологически убедительную схему теории перевода, основанную на иерархии общих, специфических и частных проблем, решение которых зависит от увенчивающей эту пирамиду «концепции, от общего воззрения на проблему перевода в целом, на его сущность и цель» (21).
В качестве такой концепции автор выдвигает семиотическое воззрение на перевод, зерном которого является принцип адекватности, трактуемой автором как функциональность: перевод
1 «Изкуството на превода», с. 20. В дальнейшем цифра в скобках после цитаты обозначает страницу цитируемой книги.
14 Мастерство перевода
417
должен вызвать у читателя «такие интеллектуальные и эмоциональные переживания, какие тот испытал бы, читая оригинал» (23).
Полагая, что «предмет науки о переводе требует рассмотрения общего, объединяющего все виды и жанры перевода, то есть процессов межсемиотических трансформаций и специфических информационных процессов, независимо от характера кодов и от того, переводит ли человек или машина», А. Людсканов дает следующую систематику перево-доведения: «. . .универсальная теория перевода (семиотическая дисциплина на общесемиотическом уровне); общая теория перевода, как отрасль универсальной теории (лингвистическая дисциплина на уровне естественных языков), и частные теории перевода (теория художественного, общественно-политического и научного перевода, перевода устной и письменной речи, включая обыкновенный и машинный перевод), как отрасли общей теории перевода (языковые дисциплины на уровне стилистических пластов (подкодов) естественных языков)» (32).
Таким образом, хотя автор настаивает, что основным принципом во всех случаях перевода остается функциональный, «предполагающий лингвистический и внелингвисти-ческий подход» (32), он, вслед за структуралистами, склонен рассматривать художественный перевод как творческую деятельность в области языка, а не литературы. Что ж, возможно, для стройности методологической схемы это и удобно, однако практика вносит неизбежные поправки в это построение — лингвистическими методами еще никому не удалось убедительно исследовать литературный перевод.
Характерно, что и сам А. Людсканов, как только он переходит к изложению проблематики собственно художественного перевода (на следующих страницах этой же статьи, а затем в помещенных ниже, в том же сборнике, статьях «Принцип функциональных эквивалентов — основа теории и практики перевода» и «О степени точности при переводе»), в сущности, не прибегает к помощи языкознания. Он оперирует либо общесемиотическими положениями (а на этом уровне можно решать и литературные проблемы), либо методологией литературного анализа. И приходит подчас к интересным и убедительным заключениям. Так, намечая разницу между формализмом и буквализмом в переводе произведения, он констатирует, что если первый стремился
418
систематически «передавать форму ради нее самой», то второй вообще «не представляет собой метод, систему» (37). Ниже, в статье о функциональном принципе, сформулировав, что «перевод сводится не к передаче средства средством, а к передаче функции средств» (107), то есть к передаче, в широком смысле, всего объема интеллектуальной, эмоциональной и эстетической информации, заключенной в оригинале, А. Людсканов так характеризует возможности переводчика (и тем самым принцип переводимости): «... поскольку средствами данного языка можно выразить все, переводчик может подобрать такие средства, которые в совокупности воспроизведут функцию средства оригинала в системе целого. В этом и заключается «тайна» перевода» (108).
Вот именно — в системе целого! И среди примеров, которыми изобилует статья, наибольшее впечатление производит тот, где, в сущности, о языковом эквиваленте нет и речи. Переводя лермонтовский «Утес» на болгарский,ПенчоСлавейков воспроизвел ситуацию подлинника в перевернутом виде,— дело в том, что по-болгарски тучка мужского рода (облак), а утес — женского (скала). Вот как это выглядит:
Златен облак нощес пренощува на гърдите на скала голяма; подрани той рано отзарана, охолен си далеч отпътува.
Но оставил на скалата влага на гърдите й. Сирота горкичка умислено стой саменичка; сълзи рони — нищо не помага.
«Вопреки этой транспозиции,— справедливо замечает А. Людсканов,— основной мотив и художественная сила стихотворения сохранены» (113). Поистине, как сказано у А. С. Грина, «все перевернулось и в перевернутый оказалось на своем месте!»1. Впрочем, мы в русской литературе уже знаем такой случай и тоже — какое совпадение! — с Лермонтовым. Это ведь он подобным же образом перевел «Сосну» Гейне, хотя при этом, в отличие от П. Славейкова,
1 А. С. Грин. Фанданго. Собрание сочинений, т. 5. М., изд-во «Правда», 1965, с. 397.
14* 419
изменил и художественный мотив, оставив только силу оригинала. . .
В третьей своей статье Людсканов рассматривает распространенный в переводоведении миф о «степени точности» в зависимости от жанра переводимого текста и, опираясь на функциональный принцип, убедительно доказывает, что, в отличие от подлинника, преследующего различные цели (научную, публицистическую, художественную), у перевода цель одна — с возможной точностью передать подлинник — и для этого в распоряжении переводчика целая гамма приемов — от «абсолютного» соответствия (там, где перед ним термин, или иной случай тождества) через «прямую» и «косвенную» передачу, «замену», «компенсацию» до «транспозиции» (как в случае с лермонтовским «Утесом»).
В целом все три статьи А. Людсканова в сборнике характеризуют автора как вдумчивого систематика нашей новой науки.
В широком смысле, изложенное выше «воззрение на перевод» (говоря в терминах А. Людсканова) разделяют все остальные авторы болгарского сборника. И на этой базе каждый из них развивает свою частную тему. Круг тем — широкий, как уже сказано, почти исчерпывающий современную переводческую проблематику. Здесь и вопрос отбора произведений для перевода (А. Далчев), и общая проблема «автор и переводчик» (Вл. Мусаков), и, особо, передача индивидуального стиля автора (Л. Ацева), и отдельные творческие аспекты работы переводчика различных жанров — ритм прозы (А. Славов), фольклор (Е. Метева), реалии (уже помянутая статья С. Влахова и С. Флорина), наконец — редактура перевода (С. Флорин).
Подробно характеризовать каждую из этих работ в пределах данной рецензии, конечно, невозможно, да, вероятно, и не следует, поскольку большинство затронутых в них проблем у нас решались и решаются сходным образом на сходном материале. Остановлюсь лишь на том, что представляется новым, необычным или же спорным. С этой точки зрения из статей, затрагивающих творческие вопросы, пожалуй, наиболее интересна работа Атанаса Славова «Ритм прозы и художественный перевод», где обращает на себя внимание уже сама исходная позиция автора, утверждающего, что «без чувства ритма фразы и самые титанические усилия переводчика не помогут ему овладеть ни стилем
420
автора, ни настроением, более того, не дадут ему возможности передать в истинном смысле слова смысл переводимого произведения» (73), ибо, по мнению автора, «ритм, в сущности, и есть основа всякой речи, поэтической, художественно-прозаической или разговорной — основная форма, в которой проявляются человеческие мысли и эмоции в языке» (76).
Правда, столь категорические постулаты недостаточно подкреплены материалом статьи, тем более что в дальнейшем, давая определение предмету, автор путает ритм с...т е м п о м: «ритм,— пишет он,— есть осознанное ощущение соразмерности между количественной нагрузкой и временем, или, другими словами,— отношение, показывающее, какой художественный груз получен за определенный отрезок времени» (77).
Это не описка — далее на двух примерах из Свифта и Маяковского автор -анализирует именно различие в темпе повествования.
И все же ценность исследования А. Славова несомненна. Изучение ритма прозы (всякой прозы, а не только так называемой «ритмической») — запущенный участок теории литературы. В советском литературоведении после 20-х годов понятие ритмомелодики, в сущности, исчезло из обихода. А между тем ритмичность все более характеризует прозу XX века, тяготеющую и композиционно к музыкаль: ной, симфонической структуре. И не случайно, что именно для перевода эта проблема оказалась насущной. В этом смысле приведенный выше первый постулат А. Славова безусловно верен. А когда автор статьи анализирует ритмический ключ к повести Хемингуэя «Старик и море» (84—87), необходимость постигать и передавать ритм прозы в переводе становится совершенно очевидной.
И здесь хочется сделать два замечания:
Статья А. Славова, не первая и не единственная в переводческом сборнике (да и не только в э т о м переводческом сборнике!), вызвана к жизни специфическими потребностями развития художественного перевода, а рассматривает, в сущности, проблемы общей поэтики. Этим еще раз подтверждается известное положение, что при анализе перевода наиболее отчетливо выступает стилевая структура оригинала, поскольку обнажается процесс воссоздания ее в другой культурной, исторической и языковой среде. Более того,
421
возникая на скрещении культур, перевод, как ничто другое, дает возможность внимательному исследователю ощутить законы их взаимопроникновения в самую динамику развития стилей и литературных методов,— ведь и она отражена при передаче произведения от одного народа другому, при перенесении его из прошлого в настоящее. И порой не только из прошлого,— из будущего! — когда произведение родилось в культурной среде более развитого народа. Сами переводчики ощущают это как художники, это их творческая сфера.
Конечно, между ощущением (интуицией, переживанием, перевоплощением) и анализом дистанция немалая. И, однако, из всех литературных профессий (включая и профессию критика) именно переводческая наиболее аналитична. Ведь переводчику надлежит вновь воплотить не просто жизненный прообраз, а материал, уже организованный автором по законам искусства. Тем более благодарное поле представляет результат его творческой деятельности для анализа со стороны, поскольку самым благоприятным условием для всякого исследования является возможность сравнивать, а с чего же еще и начинать здесь ученому, как не со сравнения подлинника и перевода?
Но тут неизбежно возникает второе, противоположного характера, замечание, относящееся также не только к автору статьи о ритме прозы А. Славову, но и к авторам некоторых других статей из болгарского сборника: сравнивая по ходу разборов подлинники с неудачными (по мнению авторов статей) переводами, они не ограничиваются анализом неудач и часто противопоставляют им. . . собственные переводческие решения. При этом для читателя неизбежно и наглядно обнаруживается профессиональное различие между исследователем и художником, или, как любил выражаться Олексий Кундзич, между переводчиком и не-переводчиком, и соответственно снижается убедительность анализа... Так и происходит в статье А. Славова, когда он анализирует болгарские переводы из М. Шолохова и В. Пановой.
Впрочем, подобный прием — обычный грех дебютанта в области критики перевода, а надо сказать, что две трети участников болгарского сборника, в том числе и В. Славов, впервые выступают на этом поприще.
422
Статья А. Славова заканчивается рассуждением о различиях в ритмической основе разных языков. К сожалению, здесь автор, как и его предшественники в этом вопросе, А. В. Федоров и другие, ограничивается постановкой проблемы.
Зато другой автор, Любен Любенов, именно в этой плоскости разрабатывает вопрос о рифме в стихотворном переводе. Известный лингвист, один из составителей «Болгарского словаря рифм» («Български римен речник». София, изд-во «Наука и изкуство», 1967), Любенов дает качественный и статистический сравнительный анализ рифмических возможностей русского и болгарского языков и приходит к выводу о существенном их различии. Русский язык, благодаря системе падежей, обладает неисчерпаемыми залежами точных рифм, в то время как в болгарском значительно естественнее для слуха звучат ассонансы.
Статья «О рифме в стихотворном переводе», доказательная сама по себе, выглядит, однако, суховатой в сравнении с другой статьей Л. Любенова — «Рифмы в болгарском и русском переводе сонетов Шекспира». Вот еще одно великолепное доказательство того, какие выгоды предоставляет филологу изучение переводов. Конкретный сравнительный анализ достижений Маршака и болгарского переводчика шекспировских сонетов В. Свинтилы вылился в блестящую сжатую монографию о рифме, в цельную и стройную систему современных взглядов на рифмование. Открывается она следующей изящно сформулированной характеристикой:
«...по своим особенностям рифма очень похожа на нуль. Как и он, самая блестящая рифма, извлеченная из стихотворения, не имеет никакой ценности. Но, как нуль удесятеряет ценность цифры, так яркая рифма повышает воздействие сильной поэтической мысли» (311).
Затем читателю предлагается развернутый критерий оценки (возможно, выведенный из того же сравнительного анализа работ двух мастеров) — десять требований к рифмованию:
а) рифмовать органично содержанию строки и строфы, то есть ставить на рифму важнейшее слово;
б) следить, чтобы рифма не нарушала пластику стиха;
в) употреблять, помимо классических и распространенных рифм, редкие и свежие;
г) не допускать рифмования за счет грамматических вольностей;
4OQ
д) не превышать процент ассонансов, допущенный в оригинале;
е) не допускать многократной рифмовки на одно слово;
ж) не допускать шаблонных рифм, разве что в самых редких случаях, только когда они имеют тесные смысловые связи в стихе;
з) равномерно распределять рифмовку по типам гласных (на а, е, и, о, у);
и) по крайней мере в половине случаев рифмовать разные морфемы, дабы избегать обилия глагольных рифм;
и наконец,— специально для болгарского стиха,— й) разнообразить рифмы с артиклями1.
Сравнительный анализ, проведенный Л. Любеновым на основе этого критерия, показал мастерство как русского, так и болгарского интерпретаторов шекспировских сонетов, проявившееся прежде всего в неукоснительном соблюдении обоими пунктов а), б), г), и). Однако оба переводчика довольно часто рифмуют на одно слово, у обоих оказалось довольно много шаблонных рифм, к тому же повторяющихся.
Есть между переводчиками и серьезные различия. Так, у Свинтилы значительно больше ярких, свежих и оригинальных рифм.
Есть и любопытные различия в рифмовании, вызванные различием в языках. Так, на общее количество в 1078 рифм у Маршака 820 на 0(313), А(285), Е(222), a v Свинтилы 878 на А(400), Е(256), И(222).
Любопытно, что, по-видимому, есть национальные различия и в самом восприятии рифмы, в данном случае — различие между восприятием Л. Любенова и моим, автора этих строк. Сравнивая число ассонансов в русском и болгарском переводе, Любенов нашел, что у Свинтилы 1 неточная рифма на 14 сонетов, а у Маршака почти в каждом сонете по ассонансу, а в некоторых и по два-три! Прочитав это, я не поверил своим глазам. Для меня Маршак всегда служил образцом точной, классической рифмовки. Недоумение разрешилось на следующей же странице (318), где автор статьи приводит наиболее разительный, по его мнению, пример — 65-й сонет в переводе Маршака. Вот как он за
1 В болгарском языке существительные в определенных случаях оканчиваются артиклем ъ/п, та, то, те, и это ставит предел разнообразию рифмовки.
424
рифмован: море — споря, срок — цветок, алой — скалы, времен — колонн, какое — рукою, найти — спасти, милый — чернила. Все рифмы, выделенные курсивом, по мнению Л. Любенова, являются ассонансами. Мне же представляется, что по меньшей мере три из них (море — споря, времен — колонн, какое — рукою) — точные. В них не совпадает графика, но для русского восприятия это не было аргументом даже в пушкинские времена — уже С. Ше-вырев узаконил рифму не зрительную. Таким образом, есть основания предполагать, что и общий подсчет в данном случае неточен, а следовательно, неверен и вывод автора статьи, которому представляется «бесспорным», что «многочисленные ассонансы лишают русский перевод одной существенной черты — архитектурной строгости построения» (318). За исключением этой некорректности в анализе, статья Л. Любенова безукоризненна и составляет подлинное украшение сборника.
Чтобы покончить с обзором теоретических статей болгарской книги, следует упомянуть еще о двух лингвистических работах: «Перевод русских деепричастий на болгарский язык» Ив. Васевой и «Количественный анализ перевода» Светозара Иванчева. Впрочем, лишь первая из них имеет дело только с языковыми категориями и, соответственно, носит прикладной характер. Иванчев на материале чешско-болгарской сравнительной стилистики решает, в сущности, литературную проблему — сопоставляет стилевой характер обоих языков. Автор исходит из того, что «чешский и болгарский языки качественно не различаются (при сопоставлении качественное различие обнаруживается, когда в одном из двух языков выразительное средство есть, а в другом его нет и наоборот), а различаются именно количественно (другими словами, когда в обоих языках данное языковое средство налицо и различаются они частотой его употребления), и это приводит к различиям в стиле» (204).
И хотя разговор в статье ведется вроде бы на уровне лингвостилистики — автор сравнивает употребительность в обоих языках таких категорий, как местоимения, глаголы, глагольные времена,— польза от подобного исследования для переводческой практики несомненна, и остается только пожелать, чтобы такие же наблюдения, и притом гораздо более полные, а лучше всего — исчерпывающие, были про
425
ведены по крайней мере над всеми парами славянских языков, поскольку именно при переводе с родственного языка количественная разница приобретает серьезнейшее стилевое значение. Ведь если любую из грамматических форм вводить в родной язык в пропорциях языка чужого, стиль речи неизбежно приобретет оттенок чужеземности. Так подчас возникает в русском переводческом обиходе то чешская, то украинская, то белорусская «вариации» русской речи, в зависимости от того, с какого славянского языка переведен данный текст1.
На лингвостилистическом уровне написана и статья С. Флорина о переводе с английского на болгарский. Речь в ней идет о переводе отдельных слов и словосочетаний, о межъязыковых омонимах, терминах, аналоцизмах и анахронизмах, а в центре исследования два момента:
а) преодоление многозначности слова в оригинале, дабы определить его точное значение в контексте, и
б) борьба с шаблонной синонимикой в родном языке в поисках точного по оттенкам эквивалента.
Казалось бы, для специалиста оба эти процесса должны протекать гладко. Практика показывает, что это не так. И С. Флорин цепочкой остроумных примеров демонстрирует, что чем лучше знает переводчик оба языка, тем больше для него опасность полисемических и синонимических ошибок, проистекающих от недостаточного осмысления широкого контекста.
Примеры, приводимые Флориным, касаются, конечно, англо-болгарской пары языков, но большинство из них аналогично подобным же ситуациям при переводе с английского на русский.
Обе работы — С. Иванчева и С. Флорина — еще раз свидетельствуют, как важна в переводоведении область сопоставительной стилистики и сколько еще нам предстоит работы на этом едва затронутом наукой поприще.
t
Как уже сказано выше, девять работ в сборнике посвящены конкретным явлениям переводной литературы. Среди них две — Н. Стефановой о Гео Милеве и Ст. Станчева
1 Подробнее об этом см. мою статью «Подспорья и преграды». «Мастерство перевода. 1962». М., «Советский писатель», 1963, с. 153—157.
426
о Пенчо Славейкове — представляют скорее информационный интерес. Богатые фактами, они, однако, не содержат анализа переводческой индивидуальности двух крупных болгарских поэтов. Автора первой из этих статей занимает лишь, сколько новых имен и произведений узнали болгары благодаря переводам Милева и какое значение для его творчества имели эти переводы. Характеристике же их уделено всего несколько строк, где говорится о том, что переводы эти не буквальные, что они сохраняют дух подлинника и его наиболее специфические черты. Только о переводе «Гамлета» сказано несколько больше, но и то лишь о трактовке характера героя, а не об особенностях стиля перевода.
Вторая статья полна примеров, но и в ней трудно отличить особенности подхода Пенчо Славейкова к Гёте и Гейне, к Уланду и Лилиенкрону. Всюду переводчик, по словам автора статьи, «сохраняет своеобразие», соблюдает «строгое чувство меры» при отступлениях от подлинника и т. п.
В помещенном в том же сборнике обзоре переводов сербской и хорватской прозы на болгарский Боян Ничев пишет, что в исследуемой области «мы еще не можем говорить о перевоплощении переводчика в переводимого автора, не можем различить отдельные творческие индивидуальности» (287). В Болгарии работа над переводами югославской прозы только началась, и нам трудно судить, насколько Б. Ничев прав. Но его определение — увы! — приходит на память при чтении статей о Гео Милеве и Пенчо Славейкове, и тут уж этот недостаток определенно приходится отнести скорее на счет авторов статей.
Значительно больший интерес, в особенности для неболгарского читателя, представляют статьи о конкретных переводческих работах, например история болгарских переводов «Анны Карениной», изложенная Ив. Васевой. Анализ стиля Толстого с точки зрения переводческих задач по-особому вскрывает его эстетику. Внимание автора статьи привлекают, например, следующие качества толстовского стиля:
лейтмотивность в портретных характеристиках: «...Толстой умеет несколькими удачно подобранными словами нарисовать портрет героев, подчеркнуть их наиболее характерные, постоянные черты» (271);
характеристика героев «...через впечатление, которое они производят на других» (272);
427
метонимические ходы: «Часто Толстой анализирует переживания героев не прямо, а лишь давая о них понять через тот или иной жест, восклицание или намек» (275);
активизация читательского восприятия: «Толстой никогда не оставляет читателя безучастным. Он его различными способами активизирует, ведет, заставляет видеть заодно с собой, думать, реагировать и решать так, как это надо писателю» (277).
Эти и подобные им наблюдения, с одной стороны, полезны тем, кто изучает Толстого (в том числе и нам), а с другой — всем, кто станет переводить его на любой язык.
Таковы же и помещенные в сборнике рецензии Р. Макре-евой-Василевой на русские переводы стихов Христо Ботева и Елисаветы Багряны. Тонко чувствуя и анализируя стилевые особенности обоих болгарских поэтов и их русскую интерпретацию, рецензентка дает в руки и русским и болгарским читателям обширный материал для размышлений.
В заключение разговора о болгарском сборнике следует остановиться на двух статьях, посвященных издательской практике: первая — принципам отбора оригиналов и переводов и вторая — редактуре.
Автор первой из них, Атанас Далчев,. предлагает при отборе классиков мировой литературы для перевода исходить из требований «современности» произведения (то есть актуальности его для нынешних читателей) и учитывать уровень подготовленности читателя, а также интересы развития отечественной литературы. Спору нет, для болгарской литературной и общекультурной ситуации это закономерные соображения. При этом А. Далчев справедливо указывает на колоссальное значение, которое при издании классики приобретает качество перевода. «Невозможно забыть, сколько дурных последствий влечет за собой один несостоятельный перевод: он компрометирует переведенное произведение и может отвратить читателя от целой литературы» (95). Отсюда, во-первых, необходимо заботиться о кадрах: с одной стороны, готовить их, посылать молодых талантливых людей на длительное время в страны, с языка которых они собираются переводить, а с другой стороны — не забывать об интересах наличных мастеров перевода, печатать то «готовое и блестящее», что они сами приносят. Блестящий перевод Ариосто, даже «если нет другой пользы, обогащает наш язык и наши выразительные возможности»
428
(96). Необходимо издавать лучшие переводы и старых мастеров. Язык их стареет? Разумеется! Но он «сохраняет свой индивидуальный характер и, «старея», теряя одни качества, приобретает другие: обретает со временем некую патину, подобно картинам старых мастеров» (96).
Все эти положения, в общем не новые, не утратили, однако, к сожалению, своей актуальности и поныне. И не только для Болгарии, но и для нас. Поэтому я и решился их здесь привести.
Не меньше ассоциаций с нашей издательской действительностью вызывает острая и насыщенная мыслями и фактами статья С. Флорина «Художественный перевод и редактор». Напомнив горьковскую формулу ответственности редактора перед автором, перед родным языком и литературой и перед читателем, С. Флорин добавляет к ней еще два рода ответственности: перед обществом в целом и перед переводчиком. При этом редактор переводной книги, находясь на государственной службе, часто попадает в трудное положение: ему приходится «заниматься иногда1 книгами, которые ему не нравятся или превосходят его возможности, а иногда переводами, которые по справедливости надо браковать. Только в этом отношении очень часто мы все, хочешь не хочешь, идем на компромиссы с совестью и со своей ответственностью перед обществом» (1Т9). Приведя слова из содоклада П. Антокольского, М. Ауэзова и М. Рыльского на Втором съезде советских писателей о появлении «безобразных» переводных книг, автор добавляет, что «книга такого переводчика у нас, в большинстве случаев, появляется на свет не обезображенной, а надлежащим образом исправленной и приглаженной многострадальными редакторами, иначе груз ошибок и недомыслия обрушился бы в равной степени и на редакторский горб. А переводчик после этого идет с готовой книгой в другое издательство, получает новый перевод, и история повторяется. В результате редакторы потеют и бранятся, а имя переводчика утверждается за их счет» (119).
Но предположим, что перевод представлен доброкачественный. Тут-то и возникает «ответственность редактора перед переводчиком». И о ней в статье сказаны золотые слова:
«Основное различие в работе переводчика и редактора состоит в том, что первый имеет право на свою переводческую трактовку, на свой язык со всеми его особенностями
429
и характерными чертами, на свое разумение оригинала, а второй... не имеет права переправлять текст по своему вкусу и разумению, то есть он должен уметь редактировать с позиции переводчика, если она у переводчика достаточно убедительно обоснована. Если он не согласен с трактовкой переводчика, которую считает ошибочной, ему не следует вообще браться за редактуру» (138).
В статье С. Флорина содержится подробнейшая разработка обязанностей редактора художественного перевода. Правда, тут у автора, с моей точки зрения, много спорного. Скажем, редактируя хороший перевод, на мой взгляд, не стоит вмешиваться в переводческие решения таких компонентов стиля, как ритм, эвфония, свобода и многогранность синтаксиса, перевод реалий, фразеологизмов, и, тем более, определять «общий тон повествования». Впрочем, когда редактор — писатель, его взгляд на рукопись, взгляд коллеги, всегда полезен, в особенности если придерживаться указанных С. Флориным границ вмешательства в текст.
В целом же статья С. Флорина о редактуре перевода — отличное пособие для всех, кто берется за это сложное, неблагодарное, но совершенно необходимое дело.
Да и весь вышедший в Софии сборник «Искусство перевода»— добротная и многообразная книга, ценный вклад в мировое переводоведение.
В книге словацкого ученого Антона Поповича художественный перевод рассматривается с позиций структурализма. Его монография представляет собою попытку разработать «историческую поэтику художественного перевода». В основе ее лежит помянутая выше концепция «экспрессивного сдвига», в котором, впрочем, не трудно усмотреть модификацию того же «принципа функциональных эквивалентов»— «адекватности», то есть тот же, что и у А. Людска-нова, общепринятый постулат современной теории художественного перевода. Выраженное, в отличие от Людска-нова, в терминах не семиотики, а структурализма, «воззрение на перевод» Антона Поповича, в сущности, мало чем отличается от воззрения того же Людсканова, Иржи Левого, А. В. Федорова или автора этих строк. И если Людсканов утверждает, что цель переводчика быть функционально точным, то и Попович подчеркивает, что все «экспрессивные сдвиги» поверяются задачей быть точным в передаче подлин
430
ника, а «творчество переводчика заключается в искусстве быть верным оригиналу, как целому» (29) \ Достижение этой цели возможно, по А. Людсканову, с помощью перечисленных выше (см. с. 420) приемов, которые для Поповича и носят, собственно, характер «экспрессивных сдвигов». При этом он рассматривает их не столько в динамике, как действия для достижения цели, сколько в статике, как характер результата. Вот почему в число «экспрессивных сдвигов» попадают и такие, как «стилистическая нивелировка» и даже (в терминах А. Поповича) «типизация» — «перевод типическими выразительными элементами» (42), то есть попросту — штампами и, как антиномия к нему, «индивидуализация» — «перевод нетипичными выразительными элементами» (42), проще говоря — нормальный случай литературного перевода, предполагающий творческое начало в переводчике, которое позволяет ему создать и на своем языке уникум, то есть художественное произведение.
Подобные умозаключения, воспринимаемые здесь как издержки «дефинитивности» авторского стиля, оборачиваются, однако, в следующих разделах этой же главы (она называется «Перевод как интерпретация, или структура перевода») путаницей более серьезной. Так, рассматривая виды перевода с точки зрения его вклада в родную литературу и при этом следуя за польским филологом Э. Бальцер-заном 1 2, А. Попович «реабилитирует» термин стилистической кальки, а далее, в разделе «Мера интерпретации», считает, напротив, возможным рассматривать в границах этой «меры» случаи композиционных, идейных и даже тематических «сдвигов»,— как пример последнего приводится «опущение философских партий оригинала и замена их сюжетными, то есть фабульными, элементами» (47). В пределах допустимого «сдвига» оказываются по этой классификации изменения, касающиеся «отдельных элементов композиции — времени, пространства, персонажей, событий (фабулы). Некоторые элементы в тексте обходятся, а в иных местах тематические сдвиги реализуются как прямые изменения основных стилево-типовых особенностей подлинника» (47).
1 Здесь и далее в скобках — страницы указанной книги А. Поповича.
2 См.: Eduard Balzerzan. Sztuka tlumaczenia a styl.— In: Studia z teorii i historii poezji. Wroclaw etc., 1967.
431
Все это подводится под предложенный Чермаком1 термин преинтерпретации.
Но, спрашивается, как же при этом отличить собственно перевод от собственно н е-п е р е-в о д а, то есть переложения, адаптации, произведения по мотивам и всех прочих смежных переводу жанров? Пределы жанра в книге А. Поповича размыты, и практически в понятие художественного перевода автор включил с положительным знаком всю шкалу — от кальки до вольного тематического заимствования.
В начале своей книги, говоря о соотношении теории перевода с практикой, А. Попович констатировал, что теория может: «1)...намечать и указывать перспективу литературной практики; 2) может комментировать ее post factum, то есть обосновывать уже существующие литературные факты; 3) может создаваться параллельно с новыми плодотворными достижениями соответствующего литературного направления» (10). Сам А. Попович, надо думать, относит себя к теоретикам первой и третьей категории.’Однако, как мы видели, и у него не обходится без «комментирования» и даже «обоснования» эмпирических литературных фактов. А так как, по его же справедливому замечанию, «связь между теорией и практикой перевода гораздо теснее, чем между теорией и практикой оригинальных жанров» (11), то, как мы увидим, отмеченные выше слабости его теоретической позиции порою отражаются на конкретных разборах, составляющих следующие, историко-аналитические главы книги. В них на материале крупных явлений из истории переводной литературы в Словакии автор рассматривает следующие проблемы:
идейная позиция переводчика и его выбор (разумея выбор не только оригинала для перевода, но системы выразительных средств);
литературные условности (сковывающие переводчика) и переводческая конкретизация подлинника;
поэтика переводчика в соотнесении с поэтикой литературного направления;
смысловое значение ритмических сдвигов в поэтическом переводе.
1 J о z е f Cermak. Preklad z hladiska interpretace. (Лекция на переводческом семинаре в Добжище 23/XI 1967 г.)
432
Затем он делает попытку комплексного анализа творчества классиков словацкого перевода на основе принципа экспрессивного сдвига.
В разборе словацкого (а частично и русского, пушкинского) перевода баллады Мицкевича «Czaty» («Дозор», у Пушкина — «Воевода»), выполненного в 1842 году Самуэлем Штуром, выпукло и убедительно обозначаются преимущества структурного анализа подлинника1 и перевода, позволившие автору выявить и наглядно показать зависимость поэтики переводчика от груза поэтизмов, трафаретных приемов и прочих штампов, укоренившихся в словацкой литературе к моменту, когда переводились «Czaty». Само представление о жанре баллады, взорванное Мицкевичем, но владевшее переводчиком, тянуло последнего к традиционности прочтения мицкевичевского шедевра.
Все это продемонстрировано А. Поповичем с завидной убедительностью, и все-таки даже эта, лучшая в книге, глава отмечена ахиллесовой пятой структурализма: системность — тайный враг индивидуальности; разложив по полочкам недостатки перевода, выявив систему причин и следствий и выведя для данного случая «системный» критерий ценности перевода, автор книги нигде не упомянул о мере таланта переводчика, ограничившей его возможности преодолеть традицию. Можно себе представить, что это сделано, так сказать, для удобства анализа. Но удобно ли анализировать художественное произведение, вынеся за скобки художника?
Ведь если Мицкевичу удалось сломать традицию в примерно равных с переводчиком условиях (да еще на пятнадцать лет раньше!), то за этим также стоит закономерность— всякий талант ломает традицию (хотя бы для того, чтоб ее развить!), иначе не было бы движения вперед. Правда, по всей вероятности, Мицкевич действовал интуитивно (и в этом смысле блистательный анализ структуры подлинника несколько «анахроничен»— это мы, сегодня, с высот полуторавекового опыта, разобрались во всех тонкостях его художественной ткани). Правда и то, что переводчику,
1 Здесь, к сожалению, не место воспроизводить структуру «Czaty» по А. Поповичу, но он настолько глубоко и всесторонне проанализировал шедевр Мицкевича во всех его внутренних связях й по всем параметрам, смысловым и стилевым, что этот разбор следовало бы разослать во все страны, всем переводчикам Мицкевича.
14* Мастерство перевода
433
в отличие от автора, следовало проанализировать эту структуру,— в этом, как мы уже говорили, важнейшая сторона его профессии. Но это уже совсем другой вопрос...
Если, разбирая перевод мицкевичевской баллады, А. Попович вынес за скобки индивидуальность или даже попросту поэтический ценз1 переводчика, то в анализе классического словацкого перевода басен Крылова, исполненного Богусла-вом Носаком-Незабудовым, от исследователя удивительным образом ускользает подчас такой немаловажный фактор, как особенности жанра. То и дело относя на счет переводчика тематические, стилевые и прочие «сдвиги», он упускает из виду, что анализируется перевод басен, основной жанровой особенностью которых испокон веков была национальная ассимиляция, предполагающая эти самые «тематические сдвиги» в очень широких пределах. Ведь так работал и сам Крылов, имея источником Лафонтена, в свою очередь достаточно вольно перелагавшего басни Эзопа.
Художественное произведение требует комплексного подхода, и упущение того или иного важного фактора всегда чревато некоторым «перекосом» в выводах.
Тем не менее большинство разборов в книге солидны и поучительны, и стремление автора обосновать методологию системного анализа переводов следует приветствовать.
Множество интересных мыслей содержат разделы первой главы книги, посвященные вопросу о месте переводной литературы в историко-литературном процессе и о своеобразии развитая художественного перевода в Словакии.
Анализ перевода в синхроническом ряду предполагает, что нам известны обусловленность его оригиналом и другими переводами, отношение переводчика к изображенной в подлиннике действительности, положение данного переводного произведения в контексте отечественной литературы. Цель же этого анализа — постичь перемены, внесенные новым явлением в контекст эпохи. При этом, как справедливо отметил цитируемый А. Поповичем Микулаш Бакош, следует помнить, что «стилевой характер эпохи создают только произведения, активно участвующие в современном развитии. Они носители развивающейся эпохальной структуры
1 Характерно, что в теоретической части своего труда он сам предупреждает об опасности для историка перевода «принять ошибки третьеразрядных мастеров за тенденцию стиля» (38).
434
и занимают ведущее место в иерархии направлений развития» 1.
Рассматривая с позиций этой историко-литературной программы специфические проблемы словацкого перевода, А. Попович нарисовал любопытную и очень характерную картину, которая, несомненно, войдет составной частью в будущую всемирную историю переводческого искусства.
* * *
Лет двести тому назад, когда в конце XVIII столетия в Россию хлынул поток переводов зарубежной драматургии, у теоретиков,— а они были уже и тогда,— возникла характеристика вольного перевода как «склонения на свои нравы». Сюжет пьесы оставался неизменным, но герои из чужеземцев превращались в русских, изменялась обстановка, реалии,— словом, произведение приспосабливалось к традиционно-национальному восприятию. Такой этап в развитии переводной литературы был характерен не только для России. В той же Болгарии, как отмечает один из авторов болгарского сборника, на первых порах широко практиковалось «оболгаривание», при котором «чужое произведение приспосабливали к жизни у нас»1 2. Теперь нечто подобное происходит с теорией художественного перевода. Во многих странах исследователи поначалу только «склоняют ее на свои нравы». Разумеется, у этой аналогии, как и у всякой другой, есть границы. В данном случае речь идет всего лишь о разработке уже добытых теоретиками других стран положений и постулатов применительно к фактам отечественной практики. Уже в этом очевидная польза подобных работ отечественных переводчиков.
Но всякое исследование, если оно подлинное исследование, движет самое науку,— в процессе разработки вопроса возникают все новые аспекты изучения, из анализов проистекают новые выводы. В этом плане обе книги, о которых шла речь, представляют несомненный интерес не только для болгарских и словацких переводчиков и не только для историков литературы и перевода, но и для всех, кто интересуется этой проблематикой в любой стране.
1 М i k u 1 а § Bako§. Problemy vyvinovej periodizacie sloven-skej literatury. Trnava, 1944, s. 12.
2 «Изкуството на превода», с. 15.
14**
БИБЛИОГРАФИЯ
I. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
1968
К 100-летию со дня рождения М. Горького
Ашурбаев 3. Горький в Индии. Ташкент, Объединенное изд-во ЦК КП Узбекистана. 32 с. (Беседы о науке. № 1) (на узб. яз.).
Байрамов Ф. На родном языке. «Адабийят ве инджесенет», Баку, 30/1II SHa азерб. яз.).
) переводах произведений А. М. Горького на азербайджанский язык.
Байрамов Ф. На родном языке. «Литературный Азербайджан», Баку, № 3, с. 36—37.
О переводах произведений А. М. Горького на азербайджанский язык.
Бгажба X. Горький в Абхазии. «Сабчота Абхазети», Сухуми, 28/III (на груз. яз.).
Статья абхазского критика и переводчика о переводах произведений А. М. Горького на грузинский язык.
Бобер Э. Я- Афоризмы романа А. М. Горького «Фома Гордеев» в украинском переводе. В кн.: Научная межвузовская республиканская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. М. Горького. Тезисы докладов. Киев, с. 98—99.
Бояров А. Максим Горький и якутская литература. «Хотугу сулус», Якутск, № 2, с. 115—117 (на якут. яз,).
Бродская С. Книги Горького на языках мира. «Вечирний Кыив», 25/III (на укр. яз.); «Коммунист», Ереван, 6/III; «Коммунист Таджикистана», Душанбе, 23/1II; «Сов. Молдавия», Кишинев, 12/1II.
Бродская С. На всех континентах. «Сов. Белоруссия», Минск, 15/III. Книги Горького на языках мира.
Ванеев А. Горький и коми литература. «Красное знамя», Сыктывкар, 28/Ш.
Васин К. Слово М. Горького звучит по-марийски. «Марийская правда», Йошкар-Ола, 10/III.
Викстрем Т. Произведения А. М. Горького на финском языке. «Север», Петрозаводск, № 1, с. НО—114.
Габдиров И. Горький говорит по-казахски. «Простор», Алма-Ата, № 3, с. 47—50.
О переводах произведений А. М. Горького на казахский язык.
436
Гвенетадзе Г, Друг грузинской литературы. «Литературная Грузия», Тбилиси, № 3, с. 69—78.
О деятельности А. М. Горького по подготовке к изданию на русском языке произведений грузинских писателей.
Гвенетадзе Г. Максим Горький и Грузия. «Комунисти», Тбилиси, 27/1II (на груз. яз.).
Говорят переводчики. «Тувинская правда», Кызыл, 28/1II.
Выступления на страницах газеты переводчиков произведений А. М. Горького на тувинский язык: С. Сарыг-оол. Учебники жизни и мастерства; Ю. Кюнзегеш. Трудности и наслаждение; С. Парбю. Строгий экзаменатор; Б. Ондар. И мои университеты. Горбунов В. В. Горький и мордовская литература. «Сятко», Саранск, № 2, с. 28—36 (на мордов.-эрзя яз.).
Горький в Болгарии. «Литературная газета», М., 20 марта, № 12, с. 14. Горький в Монголии. «Литературная газета», М., 20 марта, № 12, с. 14. Горький на казахском языке. «Казак адебиети», Алма-Ата, 28/1II (на казах, яз.).
Горький на литовском языке. «Правда», М., 18/11.
Горький шагает по планете. «Комсомольская правда», М., 28/1II. Авт.;
С. Афонин, В. Волков, Т. Курода, В. Чернышев.
О переводе произведений Горького на языки народов мира.
Грегори П. Максим Горький и англичане. «Сов. Молдавия», Кишинев, 24/III.
Гудушаури П. Горький в грузинской литературе. «Заря Востока», Тбилиси, 28/VI.
Гусейнов А. Горький и Азербайджан. «Азербайджан муаллими», Баку, 27/III (на азерб. яз.).
Густене Т. Горький на литовском языке. «Библиотеку дарбас», Каунас, № 3, с. 2—4 (на лит. яз.).
«.Дело Артамоновых» на венгерском языке. «Литературная газета», М., 13 марта, № 11, с. 13.
Дмитренко Г. Н. Роман А. М. Горького «Мать» на украинском языке. «Вестник Харьковского ун-та», № 36. Серия филологии, вып. 4, с. 107—110.
Каримуллин А. На родном языке. «Социалистик Татарстан», Казань, 28/Ш (на татар, яз.).
О произведениях М. Горького в переводе на татарский язык. Мадасон Д. В переводе на бурятский. «Байкал», Улан-Удэ, № 2, с. 140— 141.
О переводах произведений А. М. Горького на бурятский язык. Мадасон Д. Произведения Горького на бурятском языке. «Байгал», Улан-Удэ, № 2, с. 37—40 (на бурят, яз.).
Маталов Ч. Настольные книги. «Туркменская искра», Ашхабад, 14/Ш.
О переводах произведений А. М. Горького на туркменский язык. Маталов Ч. Произведения М. Горького на туркменском языке. «Совет эдебияты», Ашхабад, № 1, с. 113—121 (на туркм. яз.).
Митропан П. М. Горький в Югославии. «Известия АН СССР». Серия литературы и языка. М., т. 27, вып. 2, с. 127—133.
Михайлов М. С. Горький в Турции. «Русская литература», Л., № 1, с. 207—212.
Михайлов Н. На всех языках. «Известия», М., 17/III (16/Ш вечерний выпуск).
л о*?
О планах издания произведений М. Горького на иностранных языках и языках народов СССР.
Мойсцрапишвили Г, На грузинском языке. «Сабчота Аджара», Батуми, 28/1II (на груз. яз.).
О произведениях М. Горького в грузинских переводах.
Мойсцрапишвили Г. На грузинском языке. «Сов. Аджария», Батуми, 28/1II.
О переводах и публикациях произведений М. Горького в Грузии. Мухамедова 3. Б. Произведения А. М. Горького на туркменском языке.
«Известия АН Туркм. ССР». Серия общественных наук. Ашхабад, № 6, с. 74—78.
Набиев Б. Горький говорит по-азербайджански. [Рец. на кн.: Горький М. Сочинения в 15-ти томах. Баку, «Азернешр», 1954—1966 (на азерб. яз.)] «Дружба народов», М., № 6, с. 274—275.
Набиев Б. Горький говорит по-азербайджански. «Улдуз», Баку, № 3, с. 6—11 (на азерб. яз.).
О переводах произведений писателя на азербайджанский язык. Наконечный Н. Ф. «Мои университеты» М. Горького в украинских переводах. «Вестник Харьковского ун-та», № 36. Серия филологии, вып. 4, с. 111—117.
Османова 3. Горький вЙране. «Садои Шарк», Душанбе, № 9, с. 120—122 (на тадж. яз.).
О переводах произведений писателя на персидский язык.
Пакальнишкис Р. Максим Горький и Литва. «Тиеса», Вильнюс, 21/II.I (на лит. яз.).
Пащенко В. Горький и Франция. «Радуга», Киев, № 3, с. 174—176. Петрова М. Издано в Чувашии. «Сов. Чувашия», Чебоксары, 28/Ш.
О переводах произведений М. Горького на чувашский язык.
Произведения Горького в Польше. «Иностранная литература», М., № 6, с. 282.
Произведения М. Горького на Украине. «Вечирний Кыив», 11/1II (на укр. яз.).
Прокопьев В. Переведено на чувашский. «Молодой коммунист», Чебоксары, 14/III.
О переводах произведений М. Горького на чувашский язык.
Радзявичюс А. М. Горький и литовская литература. «Комсомольская правда», Вильнюс, 28/Ш.
Садыков А. М. Горький и киргизская советская литература. «Литературный Киргизстан», Фрунзе, № 1, с. 79—84.
Слово Горького на всех языках. «Иностранная литература», М., № 3, с. 273.
Смирнова А. Слово Горького за рубежом. «Культура и жизнь», М., № 3, с. 34—36.
Соктоев А. Горький и бурятская литература. «Бурят унэн», Улан-Удэ, 28/1II (на бурят, яз.).
Тарасов Л. Ф. О чешском переводе поэмы А. М. Горького «Девушка и смерть». «Вестник Харьковского ун-та», № 36. Серия филологии, вып. 4, с. 125—128.
Ткебучава С. М. Горький и Грузия. «Сов. Аджария», Батуми, 28/Ш. Томова Д. Горький — на коми языке. «Войвыв кодзув», Сыктывкар , № 3, с. 15 (на коми яз.).
438
Трубецкой Б, Горький в молдавской прессе. «Сов. Молдавия», Кишинев, 11/11.
Ульрих Л. Горький и Узбекистан. Ташкент, Изд-во художественной литературы. 135 с.
Федоров А. В. Произведения М. Горького как объект художественного перевода. В кн.: Программа и тезисы научной конференции, посвященной столетию со дня рождения М. Горького. Л., ЛГУ, с. 138— 139.
Флаум Л. Горький в Латвии. «Сов. Латвия», Рига, 10/III.
Хадарцева А. Горький и осетинская литература. «Социалистическая Осетия», Орджоникидзе, 2/1II.
Хадаханэ М. Горький и тувинская литература. «Шын», Кызыл, 8/1II (на тувин. яз.).
Чокану А. М. Горький в Молдавии. «Тинеримя Молдовей», Кишинев, 28/11 (на молд. яз.).
Шарифов Г. Не просто труд, но и школа. «Литературный Азербайджан», Баку, № 3, с. 25—26.
О переводах произведений А. М. Горького на азербайджанский язык.
Шенгелая Д. Школа жизни. «Заря Востока», Тбилиси, 28/III.
О переводах произведений А. М. Горького на грузинский язык.
Ширван Ю. М. Горький и турецкая литература. «Азербайджан», Баку, № 3, с. 195—198 (на азерб. яз.).
Юсуфов Ш. Горький и дагестанская литература. «Дагестанская правда», Махачкала, 15/III.
К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Ауэзов М. О переводе романа «Дворянское гнездо». «Простор», Алма-Ата, № 11, с. 104—105.
Писатель о своем переводе романа И. С. Тургенева на казахский язык. С приложением списка произведений И. С. Тургенева, переведенных на казахский язык.
Бас И. Тургенев в Белоруссии. «Беларусь», Минск, № 11, с. 18 (на бел. яз.).
Голъдас М. Произведения И. С. Тургенева на литовском языке. «Сов. Литва», Вильнюс, 3/XI.
Его книги несут людям радость. «Иностранная литература», М., № 11, с. 271.
О переводах произведений И. С. Тургенева на языки народов мира. Жирков А. Тургенев на языке Токтогула. «Сов. Киргизия», Фрунзе, 26/IX.
Зилъберштейн И. Неизвестные рукописи Тургенева. 1. Переводы из Уитмена. «Литературная газета», М., 16 окт., № 42, с. 6.
Зорин М. Об одном рижском издании. «Литература ун максла», Рига, 19/Х (на лат. яз.).
Об издании Собрания сочинений И. С. Тургенева на латышском языке в Риге в 1928 г.
Исаков С. и Плаксо X. О восприятии Тургенева в Эстонии. «Кээль я кирьяндус», Таллин, № 12, с. 717—724 (на эст. яз.).
Жоридзе Э. Тургенев и Грузия. «Сабчота Абхазети», Сухуми, 13/XI (на груз. яз.).
439
Кущ О. Произведения И. С. Тургенева в Галиции. «Жовтень», Львов, № 11, с. 115—118 (на укр. яз.).
Рахман М. Произведения писателя на узбекском языке. «Совет. Узбекистан», Ташкент, 12/XI (на узб. яз.).
Соловьева А. П. И. С. Тургенев и чешско-русские связи 60—80-х годов XIX в. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 323—347.
Тургенев на якутском языке. «Хотугу сулус», Якутск, № 6, с. 79—80 (на якут. яз.).
Флаум Л. Его знали в Латвии. «Сов. Латвия», Рига, 5/XI.
О переводах произведений И. С. Тургенева на латышский язык.
Шиляев В. «Дворянское гнездо» на казахском. «Книжное обозрение», М., № 37, с. 10.
О переводе романа на казахский язык М. Ауэзовым.
Шумаков Ю. Д. Фридрих Шварц — переводчик Тургенева. В кн.: Тургеневский сборник. IV. Л., «Наука», с. 332—335.
О переводах произведений И. С. Тургенева на немецкий язык.
Абдурахманов Р. Перевод и переводчик. «Еш ленинчи», Ташкент, 11/IV (на узб. яз.).
Абдыкеримов К. Современные проблемы поэтического перевода. «Ала-Тоо», Фрунзе, № 6, с. 148—160 (на кирг. яз.).
Аджалов А. Шевченко в Азербайджане. В кн.: Сборник трудов пятнадцатой научной шевченковской конференции. Киев, с. 281—286 (на укр. яз.).
Азимзаде Ю. Перевод, мастерство, требовательность. «Адабийят ве инджесенет», Баку, 14/ХП (на азерб. яз.).
Айвазян К. О некоторых русских поэтах-переводчиках «Поэзии Армении». В кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, «Айастан», с. 229—299.
Аксамит И. По следам «Дум» К. Рылеева. «Червоны штандар», Вильнюс, 24/1 (на польск. яз.).
К вопросу о переводе «Дум» на польский язык поэтом И. Богда-шевским (1829 г.).
Амиров Р. Заметки о переводе [башкирской литературы на русский язык]. «Сов. Башкирия», Уфа, 22/V.
А мирян С. Октябрем рожденный. (Е. Чаренц и его украинские переводы). «Радянське литературознавство», Киев, № 12, с. 41—52 (на укр. яз.).
Аникин В. Юбилей П. Г. Богатырева. «Вестник Московского гос. ун-та». Филология, № 4, с. 93—95.
Арват Ф. С. Иван Франко как переводчик. («Мертвые души» Н. В. Гоголя в переводе И. Я. Франко). Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Черновцы. 25 с. (Черновицкий гос. ун-т).
Арго А. Немного текстологии. «Наука и жизнь», М., Ne 6, с. 120—122. В частности об искусстве перевода.
Арнольд В. Переводы с итальянского. «Волга», Саратов, № 11, с. 148— 151.
О переводческой деятельности А. И. Ульяновой в 1889—1893 гг.
Аузинь И. Латышская литература на языках других народов. «Литература ун максла», Рига, 28/ХП (на лат. яз.).
440
Аузинь И. Райнис на русском языке. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 59—80.
Афанасьев В. [Рец. на кн.: «Слово о полку Игореве». Л., «Сов. писатель», 1967. «Библиотека поэта». (Большая серия). 539 с.] «Новый мир», М., № 8, с. 286.
В частности о переводах «Слова о полку Игореве».
Ахвердян Л. Новые переводы. «Коммунист», Ереван, 21/IV.
Бабаев Г. «В битвах жизни». Ранние переводы стихов С. Вургуна. «Бакинский рабочий», .10/ХП.
В частности о переводах произведений С. Вургуна на русский язык Ю. Феоктистовым.
Бабореко А. И. А. Бунин о переводах. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 375—388.
Бабурян М. Г. Армянские переводы «Витязя в тигровой шкуре». Авто-реф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Ереван. 20 с. (Ереванский гос. ун-т).
Баглай И. Беспредельность Франко. «Всесвит», Киев, № 10, с. 61—62 (на укр. яз.).
Исследование и перевод И. Я. Франко элегии Овидия «Публий Овидий Назон в Томиде» и переработка сборника басен немецкого поэта Бонерия «Сокровищница».
Бажан М. Бессмертная поэма. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 59— 80 (на укр. яз.).
О переводах поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
Базиянц А. П. А. Д. Абамелек. «Историко-филологический журнал», Ереван, № 4, с. 233—242.
К биографии поэтессы-переводчицы, друга М. Ю. Лермонтова.
Баканидзе О. Мосты через столетия. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 85—90 (на укр. яз.).
О переводах произведений украинских писателей на грузинский язык.
Баканидзе О. Первый перевод поэмы Руставели на украинский язык. «Литературная Грузия», Тбилиси, № 2, с. 64—65.
О переводе, выполненном А. Навроцким. 1889—1892 гг.
Барабан Л. Голос правды и братства. (Обзор изданий украинской драматургии за рубежом). «Друг читача», Киев, 30/VII (на укр. яз.).
Бараташвили на французском. «В мире книг», М., № 9, с. 47.
О подготовке перевода стихов Бараташвили в парижском изд-ве «Лез Эдитер Франсе Реюни».
Бархударов С. Некоторые вопросы теории перевода. «Русский язык за рубежом», М., № 1, с. 99—102.
Батюк В. Еще раз о переводах Тагора [на украинский язык]. «Литера-турна Украина», Киев, 12/IV (на укр. яз.).
Бауга А. В одной упряжке. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 51—58.
Баччан X. На язык хинди. «Всесвит», Киев, № 2, с. 74—75 (на укр.яз.). Интервью с индийским поэтом и переводчиком Хариваншраем Бач-чаном о его переводах из русской поэзии.
Бейдер Ю. Бараташвили, прочитанный Иваном Куликом. «Литературна Украина», Киев, 9/1 (на укр. яз.).
О переводах И. Кулика из Н. Бараташвили.
441
Бекбаулов У. Шевченко в каракалпакской литературе. В кн.: Сборник трудов пятнадцатой научной шевченковской конференции. Киев, с. 294—298 (на укр. яз.).
Беляев Н. «Вслушайтесь в этот голос...» «Комсомолец Татарии», Казань, 4/VIII.
О переводах Р. Морана из татарских поэтов.
Бендзар Б. Франко переводит на немецкий язык. «Жовтень», Львов, № 8, с. 104—106 (на укр. яз.).
Березинский В. Прибыли и убытки переводов. [Рец. на кн.: Стельмах М. Кровь людская — не водица. Пер. с русского Е. Маннинг и О. Шартс. М., «Прогресс», 1968 (на англ. яз.)]. «Жовтень», Львов, № 12, с. 133—135 (на укр. яз.).
Бложе Г. Литовская поэзия на английском языке. «Литература ир мя-нас», Вильнюс, 16/XI (на лит. яз.).
О переводах Ф. Якштиса.
Болгарские книги за рубежом. «Иностранная литература», М., № 1, с. 275—276.
Бондаренко Н. К истории украинской «фаустианы». (Г. О. Коваленко как переводчик «Фауста» Гёте). «Архивы Украины», Киев, № 1, с. 69—71 (на укр. яз.)
Борисова М. От переводчика. «Литературная газета», М., 7 февр., № 6, с. 7.
Предисловие к подборке переводов из ненецкого поэта Василия Лед-кова.
Боцу П. П. Дружба, спаянная общностью идей. «Сов. Литва», Вильнюс, З/ХП.
О литературных контактах между молдавскими и литовскими писателями и взаимных переводах.
Бояноеич В. Перевод — творчество. «Радянське литературознавство», Киев, № 10, с. 37—46 (на укр. яз.).
О переводах П. Тычины.
Брандес М. Стиль и перевод. В кн.: Тетради переводчика, № 5. М., с. 75—92.
Бртань Р. Штуровцы и русская литература. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII —начало XX в.). М., с. 147—157.
О переводах произведений русской литературы на словацкий язык. Брухис М. Слово о переводах. Кишинев, «Картя молдовеняскэ». 160 с. (на молд. яз.).
Булавко В. Жемчужина Навои — на украинском языке. «Вечирний Кы-ив», 5/VIII (на укр. яз.).
О переводе М. Бажаном поэмы «Фархад и Ширин».
Булаховская Ю. Л. Из истории русско-польских и украинско-польских литературных связей 20—30-х годов XX века. «Вопросы русской литературы». Львов, вып. 2, с. 34—39.
Бунин И. А. Письмо к Д. Л. Тальникову. (От 27 июня 1915 года). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 365—374.
В переводе на армянский. «Литературна Украина», Киев, 16/VIII (на укр. яз.).
О переводе Г. Туманяном драматической поэмы И. Е. Хоменко «Правда не умирает».
442
В переводе с немецкого. «Литературная газета», М., 31 янв., № 5, с. 3. О переводе на русский язык сборника стихов «Праздник меда» Герберта Генке.
Вавринюк Д. М. Шекспир на Украине. «Виснык Львивського политех-нич. институту», № 22, с. 34—37 (на укр. яз.).
О переводах произведений Шекспира на Украине.
Ванаг В. «Мужик Жемайтии и Литвы» на немецком языке. «Пяргале», Вильнюс, № 6, с. 161—162 (на лит. яз.).
О переводе Г. Будензигом поэмы литовского поэта Д. Пошки.
Васоечик В. Ю. Шевченко в Венгрии. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Киев. 19 с. (АН УССР. Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко).
Васоечик В. Шевченко на венгерском языке. В кн.: Сборник трудов пятнадцатой научной шевченковской конференции. Киев,, с. 299—328 (на укр. яз.).
Велиханова Ф. А. Русские переводы поэзии Самеда Вургуна. Баку, Изд-во АН Азерб. ССР. 180 с.
Вервес Г. Встреча с Мицкевичем. Киев, «Радянськый пысьменнык». 162 с. (на укр. яз.).
Вильмонт И. Предисловие. В кн.: Зарубежная поэзия в русских переводах. От Ломоносова до наших дней. М., «Прогресс», с. 3—47. Винокурова А. Об одном издании Маяковского на немецком языке. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 477—481.
Вознесенский А. Небо Бориса Пастернака. [Рец. на кн.: Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов в пер. Б. Пастернака. М., «Прогресс», 1966]. «Иностранная литература», М., № 1, с. 199—203.
Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига. Изд-во Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки. 123 с..
Доклады конференции, состоявшейся в апреле 1966 г. в Риге. Все статьи сборника включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Воронько П. «Кобзарь» в Болгарии. Интервью. «Друг читача», Киев, 22/Х (на укр. яз.).
Впервые на украинском.«Литературна Украина», Киев,20/IX (на укр.яз.). О переводе трактата Г. Э. Лессинга «Лаокоон» на украинский язык. Вызго Т. Навои в переводе — мелодичный. «Звезда Востока», Ташкент, № 9, с. 199—204.
Вышеславский Л. Чистый ключ. (Поэзия великой дружбы). [Рец. на кн.: Ключ. Страницы белорусской лирики. Сборник переводов Я. Хе-лемского. Минск, «Беларусь», 1968]. «Правда», М., 4/VIII.
Гаврук Ю. Нужен ли новый перевод «Гамлета» на русский язык? В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 119—133.
Гамкрелидзе Т. Эпос братского народа. «Заря Востока», Тбилиси, 26/VI. Поэма К. Донелайтиса «Времена года» на грузинском языке в переводе Г. Абашидзе и Р. Маргиани.
Ганаланян О. Новые переводы из поэзии Туманяна. «Коммунист», Ереван, 21/VII.
О переводах А. Сагратяна.
Ганэ Т. Советская книга в Румынии. «Литературная газета», М., 20 марта, № 12, с. 14.
Гатов А. Сдержанный комментарий к красноречивому молчанию.
443
«Иностранная литература», М., № .7, с. 255—257.
О переводах произведений А. М. Горького в Китае.
Гафурова Г. Алишер Навои на русском языке. «Звезда Востока», Ташкент, № 4. с. 133—137.
Гачечиладзе Г. Действительность и слово. «Звезда Востока», Ташкент, № 5, с. 187—193.
К проблеме реалистического перевода.
Гинтере М. Сотрудничество переводчика и редактора. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 111—114.
Гиппиус Е. В. и Зверев Р. fl. К истории текста гимна «Интернационал» и его переводов. «Вопросы истории КПСС», М., № 3, с. 103—107.
Глинский И. Хлопоты с «открытиями». «Литературна Украина», Киев, 2/VIII (на укр. яз.).
О переводах произведений Ю. Словацкого.
Голенищев-Кутузов И. И. От редакции. В кн.: Данте Алигьери. Малые произведения. М., «Наука», с. 5—6.
Голенищев-Кутузов И. Н. Поэтика Данте. В кн.: Данте Алигьери. Малые произведения. М., «Наука», с. 448—473.
Голъбере М. С любовью к русской литературе. [Рец. на кн.: Бадалич И. Русские писатели в Югославии. Пер. с хорватского. М., «Прогресс», 1966]. «Вопросы литературы», М., № 8, с. 218—220.
Голышева А. И. Пушкин в Америке. (Библиографические заметки). «Ученые записки» (Псковский гос. пед. ин-т)', вып. 28, с. 25—35.
Горлач Л. «Жемчужины мировой лирики». «Литературна Украина», Киев, 20/VIII (на укр. яз.).
О серии поэтических сборников произведений классиков мировой литературы в переводах на украинский язык.
Гресько М. Н. и Андрианова Н. Н. Т. Г. Шевченко на языках итальянском, испанском, португальском и эсперанто. Библиографический указатель. Львов. 55 с. (на укр. яз.).
Гресько М., Заничковский М. и Кулик В. Т. Г. Шевченко в немецких переводах и критике. (1843—1917). Библиографический указатель. Львов. 68 с. (на укр. яз.). Рец. Петренко М. Мировое величие Шевченко. «Литературна Украина», Киев, 2/VIII (на укр. яз.).
Григорян К. Брюсовский метод и проблема перевода поэзии Ованеса Туманяна. В кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, «Айастан», с. 300—326.
Гримич В. Украинские крылья черногорской песни. «Литературна Украина», Киев, 26/IV (на укр. яз.).
О переводе О. Жолдаком стихов П. Негоша на украинский язык. Гринько Д. Созвездие дружбы. «Витчизна», Киев, № 9, с. 152—156 (на укр. яз.).
О сборниках художественных произведений братских литератур в украинских переводах из серии «Созвездие».
Гришин-Грищук Ив. Переводчица из Кента. «Друг читача», Киев, 27/11 (на укр. яз.).
О Марджори Уордроп — переводчице поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на английский язык.
Грузинские переводы. «Вечирний Кыив», 6/VIII (на укр. яз.).
444
О работе украинского издательства «Днипро» в области изданий переводов с грузинского.
Гурвич Л. Багрицкий — переводчик комсомольских песен. «Литературная Россия», М., № 34, с. 10.
Гурская Т. В. М. М. Коцюбинский в Болгарии. В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, Изд-во Киевского ун-та, с. 153—159 (на укр. яз.).
Даронян С. Басни Эзопа в переводе Р. Патканяна. «Коммунист», Ереван, 11/VI.
Даштенц X. Шекспир в Армении. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 60—68.
Дело перевода — государственное дело. (По материалам Пленума Союза писателей Каракалпакии). «Жас ленинши», Нукус, 2/VIII (на кара-калп. яз.).
Дементьев В. Поэзия перевода. [Рец. на кн.: Ключ'. Страницы белорусской лирики. Сборник переводов Я- Хелемского. Минск, «Беларусь», 1968]. «Литературная газета», М., 23 окт., № 43, с. 5.
Демурова Н. Льюис Кэрролл и история одного пикника. (Предисловие переводчика). «Знание — сила», М., № 6, с. 52—55.
О переводе сказки д-ра Доджсона (псевдоним Льюис Кэрролл) «Алиса в стране чудес».
Джанполадян М. Г. Передача национального своеобразия в переводах Ов. Туманяна из русского и сербского эпоса. «Вестник Ереванского ун-та». Общественные науки., № 1, с. 94—109.
Джидеева К. Художественный перевод как форма взаимосвязи и взаимо-обогащения национальных литератур. (На материале переводов из русской и киргизской поэзии). Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Фрунзе. 20 с. (АН Кирг. ССР. Отд-ние обществ, наук).
Дмитриев О. и Храмов Е. От переводчиков. «Дружба народов», М., № 8, с. 32.
Вступительная заметка к подборке переводов стихов туркменских поэтов.
Догнал Б. Чешские переводы пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 264—275.
Дорри Дж. Кто же был действительным переводчиком «Хаджи-бабы» на персидский язык? «Народы Азии и Африки», М., № 5, с.-138— 141.
По мнению автора, роман английского писателя Дж. Морьера «Похождения Хаджи-бабы» перевел Мирза Хабиб Исфагани.
Достоевский на арабском. «Иностранная литература», М., № 5, с. 280. Доценко Р. Переводческое дело и ежедневная пресса. «Литературна Украина», Киев, 6/VIII (на укр. яз.).
Драч И. Ирине Стешенко — 70. «Прапор», Харьков, № 7, с. 71 (на укр. яз.).
Драч И. Наш седой переводчик... (Григорию Кочуру — 60). «Литературна Украина», Киев, 19/XI (на укр. яз.).
Дробязко Е. Александру Дейчу — 75. «Литературна Украина», Киев, 14/V (на укр. яз.).
445
Дун А. Люди одного дома. «Комсомолец Таджикистана», Душанбе, 28/VII.
О книге А. Лахути «Избранные стихотворения» в переводе на украинский язык Т. Масенко (Харьков, 1934).
Дун А. Первый переводчик Якуба Коласа. «Комсомолец Таджикистана», Душанбе, 2/VI.
О первом переводчике произведений Якуба Коласа на русский язык Г. М. Рык-Богданико.
Дюришин Д. Перевод как выражение литературных связей. (Три словацких перевода «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова). В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 158— 176.
Еремин И. П. Переводная литература конца XVII века. В кн.: Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе. Л., с. 200—206.
Жакова И. К. Первые переводы Лермонтова на чешский язык. (40— 50-е годы XIX в.). В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 250—263.
Жгенти Б. Сердца в крепком союзе. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 408—411 (на укр. яз.).
О переводах произведений грузинских поэтов на украинский язык. Жеромский на Украине. «Литературна Украина», Киев, 13/XII (на укр. яз.).
Житник В. К. Произведения М. М. Коцюбинского в Чехословакии. (Несколько замечаний по поводу одного перевода). В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 146—153 (на укр. яз.).
Жомнир А. Английские переводы «Завещания» [Т. Г. Шевченко]. «Витчизна», Киев,№ 3, с. 159—166 (на укр. яз.).
Жомнир А. Из наблюдений над новыми английскими переводами из «Кобзаря». В кн.: Сборник трудов пятнадцатой научной шевченковской конференции. Киев, с. 329—363 (на укр. яз.).
Жомнир А. Шевченковский «Косарь» и его английский перевод. «Всесвит», Киев, № 3, с. ПО—113 (на укр. яз.).
Жомнир А. Шум Ренессанса. Сонеты Шекспира в переводе Д. Пала-марчука. «Днипро», Киев, № 6, с. 150—156 (на укр. яз.).
Зайденшнур Э. Е. Издания сочинений Л. Н. Толстого. В кн.: Яснополянский сборник. Статьи, материалы, публикации. Тула, Приокское книжное издательство, с. 100—114.
Из содерж.: На языках народов СССР, с. ПО—113.
Золите Т. Роль диалога в современном романе и перевод его на латышский язык. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 81—93.
Занд М. И. «Поправочный коэффициент + интуиция». «Народы Азии и Африки», М., № 5, с. 126—128.
К вопросу о художественных переводах с восточных языков. В связи со статьей С. П. Маркиша «Секрет адекватности?» («Народы Азии и Африки», 1968, № 5).
446
Засенко О. Е. Н. И. Терещенко [поэт-переводчик]. «Радянське литера-турознавство», Киев, №9, с. 52—65 (на укр. яз.).
Заславский И. «Белеет парус одинокий». «Юный ленинец», Киев, 4/IX. О переводах стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» на украинский язык.
Заславский И. Я. Тычина и Лермонтов. «Виснык Киевского ун-та», № 10. Серия филологии, с. 62—68 (на укр. яз.).
Зенкевич М. Предисловие. В кн.: Эстафета дружбы. Стихи зарубежных поэтов в переводе А. Суркова. М., «Прогресс», с. 5—7.
Зеров М. Брюсов — переводчик латинских поэтов. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 413—422.
Иванов Вяч. Вс. О цветаевских переводах песни из «Пира во время чумы» и «Бесов» Пушкина. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 389—412.
Иванов 3. Встреча переводчиков с болгарского. «Литературна Украина», Киев, 27/IX (на укр. яз.).
О симпозиуме переводчиков в Варне (Болгария) с 12/IX по 26/IX 1968 г.
Из новых переводов. «Правда Украины», Киев, 21/IV.
О переводах Е. Ветровой стихотворений шотландского поэта Хью Макди армида.
Имедадзе В. Павло Грабовский — переводчик грузинских поэтов. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 233—240 (на укр. яз.).
Индекс переводов. «Иностранная литература», М., № 7, с. 285.
Материалы ЮНЕСКО о переводах, выполненных в странах, мира в 1966 г.
Исаков С. Г. Первые переводы из литератур народов Закавказья, Средней Азии и Ирана на эстонский язык. «Ученые записки» (Тартуский гос. ун-т), вып. 201. Труды по востоковедению, 1, с. 312—333.
Исаков С. Г. Царская цензура и эстонский перевод романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом». «Ученые записки» (Тартуский гос. ун-т), вып. 209. Труды по русской и славянской филологии, 11, с. 253—256.
История одного письма. «Иностранная литература», М., № 9, с. 279. О письме Л. Н. Толстого переводчику Альберту ван Пер деку (Амстердам) о переводах произведений Л. Н. Толстого (1910).
Ищенко Е. И. Кулик — переводчик Н. Бараташвили [на украинский язык]. «Сабчота Абхазети», Сухуми, 5/IV (на груз. яз.).
Ищенко Е. Мост дружбы. «Сов. Абхазия», Сухуми, 30/VIII.
Об изданиях книг грузинских писателей в переводах на украинский язык.
Ищенко Е. Нерушимая дружба. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 304—337 (на укр. яз.).
О переводах произведений Т. Г. Шевченко на грузинский язык. Ищенко Е. Поэзия Н. Бараташвили в украинских переводах. «Сов.
Абхазия», Сухуми, 7/1X.
Казимиров И. Друзья из Японии. «Литературна Украина», Киев, 2/VIII (на укр. яз.).
О японских переводчиках проф. Сьоське Комацу и Йосико Юаса. Карапетян В. Друзья армянской литературы. «Коммунист», Ереван, 22/Х.
447
О переводчиках произведений армянской литературы на венгерский язык.
Карбовская В. На язык Расина и Гюго. О французских переводах поэзии Пушкина. «Литературная газета», М., 5 июня, № 13, с. 7. Карп П. Жизнь, а не словесность. [Рец. на кн.: Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов в переводе Бориса Пастернака. М., «Прогресс», 1966]. «Звезда», Л., № 2, с. 220—222.
Карп П. «Что пользы, если Моцарт будет жив?» «Звезда», Л., № 9, с. 219—221.
Полемика с Е. Эткиндом об искусстве перевода.
Карху Э. Продолжение знакомства. [Рец. на кн.: Сумманен Т. Иду по родной земле. Стихи. Пер., с финского Т. Стрешневой. М., «Сов. писатель», 1967]. «Ленинская правда», Петрозаводск, 24/IV.
Карый В. Медвежья услуга. «Вечирний Кыив», 4/1 (на укр. яз.).
О переводе О. С. Дьяченко книги М. Наумова «Степной рейд» на украинский язык.
Карымшаков С. Время, перевод, исследование. [Рец. на кн.: Джидеева К. Лирика А. С. Пушкина в киргизских переводах. Фрунзе, «Мек-теп», 1967]. «Кыргызстан маданияти», Фрунзе, 10/IV (на кирг. яз.).
Каспрук А. Илья Чавчавадзе и Украина. В кн.: Радужными мостами, Киев, с. 189—195 (на укр. яз.).
Катарский И. Противоречивое издание. (Любовь к писателю и мастерство перевода бок о бок с равнодушием и экспериментаторством). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 307—339. О переводах в собрании сочинений Диккенса (М. 1957—1963).
Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и исследования. Подготовили к печати М. Лорие и П. Топер. М., «Сов. писатель», 562 с. Из содержания: Ложный принцип и неприемлемые результаты (о буквализме в русских переводах Ч. Диккенса), с. 377—410; Традиция и эпигонство (об одном переводе байроновского «Дон-Жуана»), с. 411—434; Вопросы перевода, с. 435—472; В борьбе за реалистический перевод, с. 473—513; Текущие дела (заметки о стиле переводческой работы), с. 514—550.
Рец.: Анастасьев Н. Содержание — форма — содержание. «Новый мир», М., № 12, с. 245—248.
Квливидзе М. «Перевод — дитя любви». «Детская литература», М., № 9, с. 25-31.
Доклад на Зональном совещании детских писателей, критиков, редакторов детских изданий республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент, апрель 1968 г. .
Кикан В. Вознесенский на латышском. [Рец. на кн.: Вознесенский А. Световые годы. Избранные стихи. Переводчик и автор послесловия Я. Сирмбардис. Рига, «Лиесма», 1968 (на лат. яз.)]. «Карогс», Рига, № 7, с. 145—147 (на лат. яз.).
Кислик Н. Звучание чистое и вдохновенное. [Рец. на кн.: Ключ. Страницы белорусской лирики. Сборник переводов Я. Хелемского. Минск, «Беларусь», 1968]. «Литаратура и мастацтва», Минск, 2/VIII (на бел. яз.).
Клейн А. Загадка Карла Моора. «Сов. Латвия», Рига, 19/V.
Об исследовании А. Апиниса, посвященном рукописному переводу драмы Ф. Шиллера «Разбойники» на латышский язык.
Клиене Э. Стиль и интонация автора в переводе. В кн.: Вопросы теории
445
и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 104—110.
Климанский С. В. Белорусско-русские литературные связи во второй половине XIX века. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Минск. 19 с. (АН БССР. Ин-т лит-ры им. Купалы).
Клименко А. «Фархад и Ширин»: перевод Миколы Бажана. [Рец. на кн.: Навои А. Фархад и Ширин. Перевод М. Бажана, Киев, 1968 (на укр. яз.)]. «Радянське литер ату рознавство», Киев, № 9, с. 35—39 (на укр. яз.).
Книпович Е. Тщательно и с любовью. [Рец. на кн.: Oktober — Land. Rus-sische Lyrik der Rewolution. Berlin. Verlag Kultur und Fortschritt, 1967.] «Иностранная литература», M., № 10, с. 272—273.
Кобржицкая Т. Богданович на Украине. [Рец. на кн.: Богданович М. А. Лирика. Киев, «Днипро», 1967 (на укр. яз.)]. «Неман», Минск, № 4, с. 181—183.
Ковальджи К. Новая антология советской поэзии. [Рец. на кн.: Lirice. ' Bucure§ti, Editura pentru Literatura, Universala, 1967]. «Иностранная литература», M., № 11, с. 266—267.
Ковганюк С. Практика перевода. (Из опыта переводчика). Киев, «Днипро». 274 с. (на укр. яз.).
Рец.: Коптилов В. Опыт, знание, мастерство. «Литературна Украина», Киев, 3/IX (на укр. яз.); Чикирисов Ю. Переводчик делится опытом. «Друг читача», Киев, 16/VII (на укр. яз.).
Козин Н. И. Повесть о Варлааме и Иоасафе в переделке Л. Барановича. «Радянське литературознавство», Киев, № 9, с. 70—74 (на укр. яз.).
Козланюк Т. П. Передача некоторых особенностей стиля И. Франко в английском переводе его произведений Бориславского цикла. «Виснык Львивського политехничного ин-та», № 22, с. 47—50 (на укр. яз.).
Комиссаров В. Специфика переводческих исследований. В кн.: Тетради переводчика. № 5. М., с. 3—8.
Конкурс на лучший перевод [произведений М. Мушфика на русский язык]. «Литературная газета», М., 31/1.
Конференция переводчиков в Будапеште. «Литературна Украина», Киев, 20/ХП (на укр. яз.).
Копаничак Ю. Ф. М. Достоевский в словацкой критике до 1945 года. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 229—242.
О переводах произведений Ф. М. Достоевского.
Коптилов В. Животворной дружбе — крепнуть. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 417—421 (на укр. яз.).
О подготовке кадров квалифицированных переводчиков художественной литературы.
Коптилов В. Слово о Богдановиче. [Рец. на кн.: Богданович М. А. Лирика. Киев, «Днипро», 1967 (на укр. яз.)]. «Литературна Украина», Киев, 5/Ш (на укр. яз.).
Копыленко Л. Издано за рубежом. «Всесвит», Киев, № 4, с. 104—106 (на укр. яз.).
Обзор переводов произведений украинской литературы, изданных на иностранных языках.
Коротич В. Уроки истории и искусства. «Вечирний Кыив», 4/1II (на укр. яз.).
449
О выдвижении переводчика М. Лукаша на получение премии им. Т. Г. Шевченко.
Корунец И. С десяти языков мира. Переводческие итоги издательства «Днипро» в 1967 году. «Всесвит», Киев, № 6, с. 156—160 (на укр. яз.).
Коцар И. Лермонтов в Румынии. «Книжное обозрение», М., № 43, с. 4. Коцюба В. Гениальное произведение в переводах. [Рец. на кн.: «Слово о полку Игоревё» и его поэтические переводы и перепевы. Киев, «Наукова думка», 1967 (на укр. яз.)]. «Правда Украины», Киев, 18/VII.
Коцюбинская И. Десятки языков, миллионные тиражи. «Литературна Украина», Киев, 9/1 (на укр. яз.).
О переводах произведений М. М. Коцюбинского на языки мира. Кочур Г. Достижения и перспективы. «Всесвит», Киев, № 1, с. 92—97 (на укр. яз.).
История и проблемы художественного перевода на украинский язык. Обзор.
Кочур Г. Из переводов Павла Филипповича. «Литературна Украина», Киев, 12/1 (на укр. яз.).
О переводах из Верлена и Анны Ноай.
Кочур Г. Из французской классики. «Литературна Украина», Киев, 12/Ш (на укр. яз.).
Предисловие к переводам из Тристана Корбьера, Сюлли Прюдома и Шарля Бодлера.
Кочур Г. О новейшей французской поэзии. «Всесвит», Киев, №3, с. 93— 96 (на укр. яз.).
В частности, о переводах.
Кочур Г. Поэзия Поля Верлена. В кн.: Верлен П. Лирика. Киев, «Днипро», с. 5—24 (на укр. яз.).
О переводах произведений Поля Верлена на украинский язык.
Кочур Г. Шекспир на Украине. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 26—59.
Краснова Л. В. Поэма Александра Блока «Двенадцать» в переводе Владимира Сосюры. «Украинське литературознавство», Киев, вып. 4, с. 20—26 (на укр. яз.).
Крейтнер Н. [Рец. на кн.: Морозов М. Шекспир, Бернс, Шоу... М., «Искусство», 1967. 326 с.]. «Театр», М., № 10, с. 122.
Крыжановский С. Иван Кулик — переводчик Бараташвили. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 347—349 (на укр. яз.).
Кулешов Л. Под псевдонимом «Лесовик». «Книжное обозрение», М., № 52, с. 12.
О первых переводах Якуба Коласа на русский язык.
Ку лык В. П. Стефан Жеромский в Украинской ССР. Библиографический указатель. Львов. 87 с. (на укр. яз.).
Кундзич О. Переводческий блокнот. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 199—238.
Курляндчикас Ш. Произведения И. Тургенева на литовском языке. «Пяргале», Вильнюс, № 11, с. 175—176 (на лит. яз.).
Кухаренко В. А. Хемингуэй в переводе А. Вознесенского. «Научные доклады высшей школы». Филологические науки. М., № 6, с. 40—49. О переводах поэтических произведений писателя.
450
Лазарев В. А. Русская поэзия в чешской печати конца XIX — начала XX в. (Из истории чешско-русских литературных взаимосвязей). В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М.» с. 387—403.
Левак В. Нужны ли новые переводы Шекспира? В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 93—ПО.
Левик В. Переводы Марины Цветаевой. «Иностранная литература», М., № 5, с. 263—265,
О переводе стихов зарубежных поэтов в книге М. Цветаевой «Просто сердце». (М., «Прогресс», 1967.).
Левин Ю. Д. Н. В. Гербель и его антология «Поэзия славян». В кн.: Славянские литературные связи. Л., «Наука», с. 95—123.
Левин Ю. Д. «За человека страшно». «Русская речь», М., № 5, с. 93—97. Толкование выражения из трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого.
Левин Ю. Д. В. К. Кюхельбекер — переводчик Шекспира. В кн.: Шекспировский сборник. 1967. М., ВТО, с. 44—59.
Левин Ю. Русские переводы Шекспира. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 5—25.
Левин Ю. Д. Шекспир в русской литературе XIX века. (От романтизма к реализму). Автореф. дисс. на соискание учен, степени доктора филол. наук. Л. 38 с. (Ленингр. гос. пед. ин-т).
Левин Ю. Д. «Язык родных осин». «Русская речь», М., № 1, с. 36—39. О переводческой деятельности Н. X. Кетчера, одного из первых переводчиков произведений В. Шекспира на русский язык (1809— 1886).
Левинская С. И. М. М. Коцюбинский в Польше. [О польских переводах произведений украинского писателя]. В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 124—142 (на укр. яз.).
Левый И. Две главы из книги «Искусство перевода»: Творческое воспроизведение. Перевод как литература и языкотворчество. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 440—458; 458—469.
Леснякова С. Русская литература в «Словенских поглядах». (1890— 1918). В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 190—206.
Лиепинь Д. Переводы стихов и латышский язык. «Карогс», Рига, № 7, с. 141—144 (на лат. яз.).
Лировене С. и Лировас В. Литовская художественная литература на языках народов СССР. Библиография переводов. 1940—1965. Вильнюс, «Вага». 735 с. (на лит. яз.).
Лисняк Ю. «Омоложение» старого перевода. «Литературна Украина», Киев, 23/VIII (на укр. яз.).
О переводе П. Га ндзюр ой и В. Прокопчу ком повести Р. Киплинга «Маугли» на украинский язык.
Лозинский И. И. Франко на страницах польской прессы в СССР (1939— 1941). «Радянське литературознавство», Киев, № 10, с. 55—60 (на укр. яз.).
Лорие М. Переводчик и редактор. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 35—50.
Лоя Д. О латышском издании сочинений Пушкина. (1967—1968 гг.). «Карогс», Рига, № 7, с. 139—140 (на лат. яз.).
451
Лоя fl. Об «Илиаде» и «Одиссее» на латышском языке. «Карогс», Рига, № 7, с. 157 (на лат. яз.).
Луценко И. У чистых источников братства. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 217—232 (на укр. яз.).
О переводах произведений Ш. Руставели на украинский язык. Любимов Н. О переводах и переводчиках. «Сов. Татария», Казань, 9/VIII.
О переводах произведений татарской литературы на русский язык.
МайфетГр. «Солнечная роза». [О сборнике украинских сказок в немецком переводе]. «Всесвит», Киев, № 1, с. 152—153 (на укр. яз.).
Малевич О. М. Ян Неруда и Ф. М. Достоевский. (К постановке вопроса о воздействии творчества Достоевского на чешскую литературу XIX в.). В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 300—322. В частности, о переводах произведений Ф. М. Достоевского.
Мамедов А. Николоз Бараташвили в Азербайджане. «Улдуз», Баку, № 9, с. 62—63 (на азерб. яз.).
Маркевич О. Библиография французской шевченкианы. [Рец. на кн.: Гресько М. М. Т. Г. Шевченко на французском языке. Библиографический указатель. Львов, 1967]. «Литературна Украина», Киев, 8/Ш (на укр. яз.).
Маркиш С. Античность и современность. (Заметки переводчика). «Новый мир», М., № 4, с. 227—237.
Маркиш С. П. Секрет адекватности? «Народы Азии и Африки», М., № 5, с. 124—126.
К вопросу о переводах с восточных языков.
Маркова В. О переводе японской лирики. История и проблематика. (Очерк первый). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 267—282.
Марцинкевич В. Маяковский на страницах английской и американской прессы. «Радянське литературознавство», Киев, № 8, с. 30—39 (на укр. яз.).
Марцинкявичюс А. Греческая классика, возрождающаяся в Друскининкай. «Культурос барай», Вильнюс, № 10, с. 57—68 (на лит. яз.). О переводах античной литературы на литовский язык А. Дамбрау-скасом.
Масальский В. И. Анализ переводов произведений М. М. Коцюбинского на русский язык. «Виснык Кыевского ун-та», № 8. Серия филологии, с. 118—122 (на укр. яз.).
Масальский В. И. Анализ переводов художественных произведений М. М. Коцюбинского на русский язык. В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 97—120 (на укр. яз.).
Масальский В. И. Вопросы теории художественного перевода. В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 84—96 (на укр. яз.).
Мастера перевода. «Правда», М., 24/XII.
О присвоении почетного звания заслуженного деятеля культуры БССР ряду переводчиков с белорусского языка.
Мастера русского стихотворного перевода. Сборник. Вступит, статья, подгот. текста и примеч. Е. Г, Эткинда. Л.? «Сов. писатель», кн. 1—526 с,, кн. 2—467 с,
452
Мастерство перевода. 1966. (Сборник статей). М., «Сов. писатель». 536 с. Библиогр. с. 499—534.
Всё статьи сборника включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Матыцина С. Брехтовский «эффект очуждения» в ракурсе перевода. (В порядке постановки вопроса). Тетради переводчика, № 5, М., с. 103—111.
Маяковский в Польше. «Иностранная литература», М., № 11, с. 281—282. В частности, о переводах произведений Маяковского на польский язык.
Маяковский говорит по-итальянски. «Иностранная литература», М., № 4, с. 280.
Мельник Л. Среди народов мира. «Литературна Украина», Киев, 12/1II (на укр. яз.).
О переводах произведений Т. Г. Шевченко на языки народов мира. Мери Г. Опыт работы над переводом Шекспира. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 81—92.
О переводах произведений Шекспира на эстонский язык.
Микитенко О. Издательство «Мистецтво» иностранным читателям. «Всесвит», Киев, № 8, с. 155—160 (на укр. яз.).
Об издании произведений украинской литературы на иностранных языках.
Микушевич Вл. Проблема цитаты. («Доктор Фаустус» Томаса Манна по-немецки и по-русски). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 239—260.
Микшите Р. «Аникшчяйский бор». «Пяргале», Вильнюс, № 6, с. 162— 165 (на лит. яз.).
О переводе Г. Будензигом поэмы литовского поэта А. Баранаускаса на немецкий язык.
Михайлюк Ю. Украиника в ГДР. «Всесвит», Киев, № 10, с. 57—60 (на укр. яз.).
Михалков С. Второе рождение поэта. «Литературная газета», М., 18дер., № 51, с. 7.
О переводах С. Васильевым азербайджанского поэта Сабира на русский язык.
Михеева О. «Аврора стояла у плетня...» «Новый мир», М., № 4, с. 282— 285.
О недостатках перевода Н. Оттена пьесы Ф. Дюрренматта «Метеор» («Иностранная литература», 1967, № 2).
Мкртчян Л. М. Армянская патриотическая поэзия в русских переводах (1886—1907 гг.). «Вестник Ереванского ун-та». Общественные науки, № 3, с. 162—173.
Мкртчян Л. Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв. Вопросы перевода и литературных связей. Ереван, «Айастан». 465 с.
Мрктчян Л. Братиславская конференция. «Коммунист», Ереван, 10/VII. О международной конференции переводчиков художественной литературы на тему «Перевод как искусство».
Мкртчян Л. Издано в XVIII веке. «Коммунист», Ереван, 17/Ш.
О В. Ваганове — переводчике армянской литературы на русский язык.
Мкртчян Л. «Туманян писал, как по меди...» (К. Чуковский о переводах стихов О. Туманяна). «Коммунист», Ереван, 27/X.
453
Мкртчян Л. Чаренц на русском языке. «Коммунист», Ереван, 7/VIII. О новых русских переводах из Чаренца.
Мороз-Стрилець Т. «Мертвые души» в переводе Г. Косынки. «Литературна Украина», Киев, 20/IX (на укр. яз.).
Мустафин Р. Снова о переводах. «Дружба народов», М., № 1, с. 260— 267.
Мышанич О. Исследование немецкой шевченкианы. «Литературна Украина», Киев, 16/IV (на укр. яз.).
О немецких переводах произведений Т. Г. Шевченко.
Мюллер Г. Л- Перевод лирики Р. М. Рильке. «Иноземна филология», Киев, вып. 16, с. 141—147 (на укр. яз.).
На всех языках. «Иностранная литература», М., № 3, с. 273; №5, с. 271— 272; № 6, с. 272; № 7, с. 273; № 8, с. 270; № 9, с. 272; № 10, с. 274; № 12, с. 265.
На иностранных языках. «Литературна Украина», Киев, 2/VII (на укр. яз.).
На разных языках. «Книжное обозрение», М., № 37, с. 11.
О переводах произведений Н. Бараташвили.
На словацком языке. «Литературна Украина», Киев, 31/V (на укр. яз.). О переводе Юло Кокавецом романа В. Кашина «Тайники раскрываются ночью».
На страницах «Русского Туркестана». «Радянська Украина», Киев, 23/VII (на укр. яз.).
О неизвестных переводах произведений Коцюбинского и Франко на страницах газеты «Русский Туркестан». (Переводы О. Г. (О. Гейер), 1904).
На украинском языке. «Друг читача», Киев, 6/V (на укр. яз.).
О переводе А. Коваля и М. Цивиной трилогии Галины Серебряковой «Прометей», «Юность Маркса» и «Вершины жизни» на украинский язык.
Назаревский А. А. К истории русско-украинских литературных связей (статья вторая). Памятники русской литературы XIV—XVII ст. в украинских списках, переводах и переделках. Оригинальные произведения. «Вопросы русской литературы». Львов, вып. 2, с. 3—13.
Назаревский Н. (составитель). Библиография. 1964. 1. Советский Союз. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 499—518.
Невзглядова Е. В. В поисках верности стихотворного перевода. «Русская речь», М., № 3, с. 31—36.
Нечипорук О. Д. Тарас Шевченко и Роберт Бернс. «Виснык Кыевского ун-та», № 7. Серия филологии и журналистики, с. 56—61 (на укр. яз.).
В частности, о переводах И. Козлова, М. Михайлова, В. Курочкина. НиедреД. Переводчики. (Из воспоминаний). «Карогс», Рига, № 11, с. 148—149 (на лат. яз.).
Никольская Л. И. Об искусстве русского перевода сонетов Шекспира. «Ученые записки» (Новозыбковский гос. пед. ин-т), Смоленск, т. 7. Филологические науки, с. 168—195.
Новикова В. А. Издания произведений М. Горького в Бенгалии. «Вестник Ленинградского гос. ун-та», № 8. История, язык, литература, вып. 2, с. 137—139.
454
Новикова М. А. О некоторых принципах перевода шевченковской лирики. «Вопросы русской литературы», Львов, вып. 2, с. 46—53.
Новикова М. А. Проблемы творчества Н. Ушакова — поэта и переводчика. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Киев. 20 с. (Киевск. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького).
Новицкий О. Вдохновение переводчика. Евгению Дробязко — 70. «Литературна Украина», Киев, 6/IX (на укр. яз.).
Новицкий О. Георгий Наморадзе. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 401—404 (на укр. яз.).
Г. Наморадзе — переводчик произведений украинских писателей на грузинский, язык.
Новицкий О. Радужными мостами. «Заря Востока», Тбилиси, 5/XII. К выходу в свет одноименного сборника о литературных взаимосвязях Грузии и Украины.
Нонешвили И. Павло Тычина. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 364—367 (на укр. яз.).
О переводах произведений П. Тычины на грузинский язык.
Нызовый М. Десятки книг, миллионы экземпляров. «Литературна Украина», Киев, 19/VII (на укр. яз.).
О тираже переводов произведений В. Маяковского на украинский язык.
Нызовый М. На языке статистики. «Литературна Украина», Киев, 14/VI (на укр. яз.).
О тиражах переводов чешской литературы на украинский язык.
О новом переводе трагедий Софокла на немецкий язык. «Кээль я кирьян-дус», Таллин, № 5, с. 318—319 (на эст. яз.).
О переводе Р. Шоттлендера (1966 г.).
О русско-арабских культурных связях. «Иностранная литература», М., № 4, с. 281—282.
Сенковский (барон Брамбеус) — переводчик арабской классической литературы.
Оверченко К. Впервые на украинском. Поэтическая Латвия. «Литературна Украина», Киев, 23/VII (на укр. яз.).
Предисловие к подборке переводов латышской поэзии.
Огнев Вл. У карты советской поэзии. (Заметки о переводе). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 283—306.
Озеров Л. Заметки Пастернака о Шекспире. В кн.: Мастерство перевода.
1966. М., «Сов. писатель», с. 111—118.
Орловская Н. Переводы Шекспира в Грузии. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 69—80.
Орокчиев Т. «Евгений Онегин». «Ленинчил жаш», Фрунзе, 18/VI (на кирг. яз.).
О переводе Э. Турсуновым романа А. С. Пушкина на киргизский язык.
Оросинский И. Удавшийся перевод. «Хотугу сулус», Якутск, №2, с. 138— 140 (на якут. яз.).
О переводе А. Николаевым басен И. А. Крылова на якутский язык. От кого это зависит? «Падомью яунатне», Рига, 28/IV (на лат. яз.).
Беседы с И. Зиедонисом, В. Штейнбергом, К- Аугсткали, М. Чак-лайсом по вопросам переводческой работы.
Охрименко О. Г. М. М. Коцюбинский как переводчик с польского языка.
455
В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 142—146 (на укр. яз.).
Охрименко П. П. Первый перевод произведений М. М. Коцюбинского на белорусский язык. В кн.: Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, с. 120—124 (на укр. яз.).
Павловский Б., Щербатенко И. О переводах и переводчиках. «Вечирний Кыив», 30/1 (на укр. яз.).
Павлюк Н. Александр Навроцкий — переводчик Руставели. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 82—84 (на укр. яз.).
Павлюк Н. И. Поэтический отклик А. Навроцкого на смерть Тургенева. «Радянське литературознавство», Киев, № 11, с. 64—71 (на укр. яз.). В частности, имеются сведения о переводах А. Навроцкого на украинский язык стихотворений Я. Полонского, П. Вейнберга, С. Надсона и А. Плещеева.
Паевская А. В. и Данченко В. Т. Проспер Мериме. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1828—1967. М., «Книга». 255 с.
Палу С. [Рец. на кн.: Вознесенский А. Световые годы. Избранные стихи. Рига, «Лиесма», 1968 (на лат. яз.)]. «Литература ун максла», Рига, 8/VI (на лат. яз.).
Пальм А. Долгая дорога к цели. «Ашхабад», № 4, с. 83—87. О переводчике индийского эпоса «Махабхарата» Б. Л. Смирнове.
Паляница X. В. Иван Франко о Ги де Мопассане. «Виснык Львивського политехничного ин-та», № 22, с. 51—54 (на укр. яз.).
Панова Э. Юрай Маро' — переводчик русских писателей. .В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 177—189.
Паролек Р. К. Томан и Н. А. Некрасов. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 381—386.
Партамян Р. Робинзон в армянской литературе. «Литературная Армения», Ереван, № 2, с. 92—94.
Об издании романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» на армянском языке. Пастернак Б. Заметки о переводе. В кн. Мастерство перевода. 1966.
М., «Сов. писатель», с. 105—110.
Пастернак Б. Л. Речь на Первом Всесоюзном совещании переводчиков. [Янв. 1936 г. Публикация и предисловие «Это обмен опытом, это жизненное дыхание наших республик» — Г. Бебутова]. «Литературная Грузия», Тбилиси, № 8, с. 37—41.
Паула М. О некоторых условиях, необходимых для каждого переводчика. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода (Сборник статей). Рига, с. 115—122.
Пачовский Т. И. Иван Франко — переводчик польских поэтов второй половины XIX в. «Украинське литературознавство», Киев, вып. 5. Иван Франко, с. 113—120 (на укр. яз.).
Пепа В. Леся Украинка — переводчица «Мерани». «Сов. Абхазия», Сухуми, 27/IX; «Сов. Аджария», Батуми, 26/IX.
К истории перевода стихотворения Н. Бараташвили.
Пепа В. С любовью к певцу Грузии. «Литературна Украина», Киев, 24/IX (на укр. яз.).
О переводе Л. Украинкой стихотворения Н. Бараташвили «Мерани».
456
Переводы 1966 года. «Литературна Украина», Киев, 16/IV (на укр. яз.). Об очередном томе международного указателя переводной литературы «Индекс трансляционум».
Пинчук С. «Слово» в украинских переводах и перепевах. [Рец. на кн.: «Слово о полку Игореве» и его поэтические переводы и перепевы. Киев, «Наукова думка», 1967 (на укр. яз.)]. «Жовтень», Львов, № 6, с. 129—132 (на укр. яз.).
Пинчук С. Украинские переводы «Слова о полку Игореве». [Рец. на кн.: «Слово о полку Игореве» и его поэтические переводы и перепевы. Киев, «Наукова думка», 1967 (на укр. яз.)]. «Вопросы литературы», М., № 4, с. 236—237.
Погребенник И- Обнаруженные переводы. Интересная страница немецкой шевченкианы. «Литературна Украина», Киев, 12/Ш (на укр.яз.). О переводах произведений Т. Г. Шевченко на немецкий язык Ю. Вер-гинией (1911 г.).
Погребенник fl. М. Тарас Шевченко в немецких переводах и литературоведении. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Киев. 18 с. (АН УССР. Ин-т литературы).
Покальчук Ю. Неумирающая поэзия Алишера Навои. [Рец. на кн.: Навои А. Фархад и Ширин. Пер. М. Бажана. Киев, «Днипро», 1968 (на укр. яз.)]. «Литературна Украина», Киев, 27/IX (на укр. яз.).
Полек В. Польские голоса о И. П. Котляревском. «Всесвит», Киев, № 7, с. 91 (на укр. яз.).
О переводах произведений И. П. Котляревского на польский язык. Поляков В. О. Проблема переводимости и неогумбольдтианские лингвистические теории. «Виснык Львивського политехничного ин-та», № 22, с. 30—33 (на укр. яз.).
Попов В. П. Поэма Александра Блока «Двенадцать» в переводе Василия Бобинского на украинский язык. «Украинське литературознав-ство», Киев, вып. 4, с. 27—32 (на укр. яз.).
Поракишвили Н. М. И. Гулак и грузинская литература. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 36—52 (на укр. яз.).
Порочкина И. М. Л. Н. Толстой — художник в чешской критике конца XIX — начала XX в. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 348—358.
В частности, о переводах произведений Л. Н. Толстого.
Портнов В. Самоцветы. «Бакинский рабочий», Баку, 5/VI.
О переводах азербайджанской поэзии для детей.
Поэт, переводчик, побратим. «Литературна Украина», Киев, 8/1II (на укр. яз.).
К 60-летию немецкого поэта и переводчика Ионы Грубера.
Премии переводчикам. «Иностранная литература». М., № 10, с. 282. О присуждении премии «Заике» (Польша).
Прайма К. «Тихий Дон» в Стране Восходящего Солнца. «Дон», Ростов-на-Дону, № 11, с. 160—173.
О переводах произведений М. А. Шолохова на японский язык. Прусе Э. «Золотое созвездие» Райниса на литовском языке. «Карогс», Рига, № 6, с. 165—166 (на лат. яз.).
Пурас К. «Тому, кто меня будет читать в будущем...» «Литература ир мянас», Вильнюс, 7/IX (на лит. яз.).
15 Мастерство перевода
457
О сонетах В. Шекспира в переводе А. Хургинаса на литовский язык.
Пынзару С. На наш язык. «Молдова сочиалистэ», Кишинев, 9/11 (на молд. яз.).
Радужными мостами. Украинско-грузинские литературные связи. (Сборник статей. Сост. и примеч. А. Новицкого). Киев, «Днипро». 490 с. (на укр. яз.).
Все статьи сборника по проблемам художественного перевода включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Расули М. Горький в Узбекистане. «Общесгвенные науки в Узбекистане», Ташкент, № 2, с. 39—42.
Расули М. Маяковский и узбекская поэзия. «Звезда Востока», Ташкент, № 7, с. 186—191.
Расули М. Ценный труд по истории перевода. [Рец. на кн.: Шарипов Д. Ш. Из истории перевода в Узбекистане. Дореволюционный период. Ташкент, «Наука», 1965 (на узб. яз.)]. «Звезда Востока», Ташкент, № 1, с. 194—196.
Ратгауз Г. Три столетия русского перевода. [Рец. на кн.: Зарубежная поэзия в русских переводах. Сост. и ред. Е. Винокуров и Л. Гинзбург. М., «Прогресс», 1968]. «Московский комсомолец», 12/VII.
Рахмонов В. Узбекские переводы «Гулистана» Саади Ширази. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Самарканд. 22 с. (Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои).
Рев М. Салтыков-Щедрин в венгерской прессе и литературной критике (1859—1945). «Русская литература», Л., № 3, с. 215—221.
О переводах произведений писателя на венгерский язык.
Ревзин И. Семиотический комментарий к чешской книге о переводе.
В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 425—439. О книге И. Левого «Искусство перевода» (Прага, 1962).
Ремесс Р. Об одной переводческой книге с послесловием. [Рец. на кн.: Вознесенский А. Световые годы. Избранные стихи. Рига, «Лиесма», 1968 (на лат. яз.)]. «Падомью яунатне», Рига, 24/V (на лат. яз.).
Рецкер Я- Передача контаминированной речи в переводе и роль традиции. В кн.: Тетради переводчика, № 5. М., с. 92—103.
Россельс Вл. Сколько весит слово? В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 3—34.
Рыльский М., Стуруа Е., Новицкий О. «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Миколы Бажана. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 91—99 (на укр. яз.).
Савенков Ю., Скосырев В. Маяковский в стране Тагора. «Известия», М., 6/VII.
Савченко Б. Красками оригинала. [Рец. на кн.: Шиллер Ф. Лирика. Пер. М. Лукаш. Киев, «Днипро», 1967 (на укр. яз.)]. «Витчизна», Киев, № 11, с. 202—204 (на укр. яз.).
Садыков X. Н. Об основных принципах перевода казахской прозы на русский язык. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Алма-Ата. 27 с. (Казах, гос. пед. ин-т им. Абая).
Сайфуллаев А. Вторая жизнь книги. «Коммунист Таджикистана», Душанбе, 13/IX.
458
О новых переводах на таджикский язык произведений писателей Узбекистана.
Самма О. О насущных заботах переводчиков и издателей переводной литературы. «Сирп я ваеар», Таллин, 9/11 (на эст. яз.).
Сафразбекян И. И. Бунин, К. Бальмонт, В. Иванов, Ф. Сологуб — переводчики антологии «Поэзия Армении». В кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ред.-сост. К. Айвазян. Ереван, «Айастан», с. 210—228.
Сафуанов С. Дружба не знает расстояний. «Литературна Украина», Киев, 5/ХП (на укр. яз.).
Свадост Э. Поэт, переводчик, читатель. «Сов. Латвия», Рига, 11/IX. О качестве переводов произведений Я. Райниса.
Свет дружбы. «Литературна Украина», Киев, 20/IX (на укр. яз.). Упоминание о переводе стихотворения Н. Бараташвили «Молитва» П. Грабовским и о переводах его произведений И. Куликом.
Семежен И. И запах, и цвет, и прочность. «Литаратура и мастац-тва», Минск, 19/XI (на бел. яз.).
О переводе А. Кулешовым «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло на белорусский язык.
Семененко С. Черный хлеб мастерства. «Сов. Эстония», Таллин, 3/1II. О переводчике А. Куртна.
Сергеева И. С двунадесяти языков. О служителе «десятой музы», мастере перевода Миколе Лукаше. «Литературная газета», М., 29 мая, № 22, с. 7.
Слово Навои на Украине. «Правда Украины», Киев, 22/IX. «Фархад и Ширин» в переводе М. Бажана на украинский язык.
Слуцкий Б. Мастера зарубежной поэзии. «Комсомольская правда», М., 10/VIII.
О переводах западноевропейской и американской поэзии.
Слуцкий Б. О Владиславе Броневском. В кн.: Броневский В. Избранная лирика. Пер. с польского. М., «Молодая гвардия», •с. 3—8.
О переводе Броневским произведений Блока, Маяковского и Есенина на польский язык.
Советская книга в Болгарии. «Вечирний Кыив», 15/1 (на укр. яз.).
Содомора А. А. Переводы песен Алкея и Сапфо. В кн.: Хрестоматия античной литературы. Киев, «Радянська школа», с. 144—145; с. 149—150.
Содомора А. А. Художественное мастерство лесбийских лириков и проблемы поэтического перевода их песен. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук. Киев. 21 с. (Киевский гос. ун-т).
Стадников Г. В. К вопросу об одной «неточности» в рецензии Н. А. Добролюбова «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова». «Русская литература», Л., № 3, с. 192—194.
Степунин И. Г. Р. Державин у белорусов. «Беларусь», Минск, № 7, с. 30 (на бел. яз.).
Стрельцов П. С. К генезису первого украинского перевода «Батрахо-миомахии». «Иноземна филология», Львов, вып. 17, с. 99—103 (на укр. яз.).
О переводе К. Д. Думитрашко.
Стукалова Г. На страже слова. «Литературна Украина», Киев, 22/Х (на укр. яз.).
К 70-летию переводчицы М. Пылинской.
15
Суковский А. Наше интервью. «Литература ир мянас», Вильнюс,- 6/VII (на лит. яз.).
Беседа с переводчиком литовской литературы на латышский язык А. Суковским.
Сулейманов X. Впервые на русском. «Комсомолец Узбекистана», Ташкент, 25/IX.
О переводах из Алишера Навои.
СуровцевЮ. Сквозь призму перевода. [Рец. на кн.: Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума 26 февраля — 2 марта 1966 г. Ред. 3. Кульманова. Т. 1— 2. М., 1967]. «Дружба народов», М., № 12, с. 266—270.
Татосян Г. Несколько замечаний о новой русской книге Е. Чаренца. [«Избранное». Ереван, 1967]. «Литературная Армения», Ереван, № 3, с. 84—92.
Ташчян Л. Туманян на иностранных языках. «Коммунист», Ереван, 25/П.
Твардовский А. О поэзии Маршака. «Новый мир», М., № 2, с. 233—251. О Маршаке как о переводчике, произведений Бернса и Шекспира.
Теньковский С. С. Некоторые проблемы перевода поэзии А. С. Пушкина на английский язык. «Ученые записки» (Тамбовский гос. пед. ин-т), вып. 24, с. 59—77.
Тетради переводчика. Под редакцией Л. С. Бархударова. М., «Международные отношения». 126 с. На об. тит.л.: Ученые записки, №5. Все статьи по проблемам художественного перевода включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Топер В. Из архива редактора. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 337—362.
Трестие И. Два языка — общая дорога. «Молдова сочиалистэ», Кишинев, 3/Х (на молд. яз.).
Тумановский Р. Семь ключей к «Фаусту». «Книжное обозрение», М., № 23, с. 12.
О переводах «Фауста» Гёте на русский язык А. Н. Струговщиковым. Туркаев X. Шота Руставели на чеченском языке. «Орга» (альманах), Грозный, № 4, с. 59—64 (на чечен, яз.).
Турков А. Людям надо помогать любить друг друга. В кн.: Огромный мир. Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Алигер. М., «Прогресс», с. 5—16.
Тычина П. В песне, в славе, в помыслах живет. В кн. Радужными мостами. Киев, с. 53—58 (на укр. яз.).
О переводах из Шота Руставели на украинский язык.
Украинская книга на языках народов СССР. «Друг читача», Киев, 27/VI II (на укр. яз.).
Украинские произведения на армянском языке. «Вечирний Кыив», ^d^p/VII (на укр. яз.). .
переводе Г. Туманяном книги украинского поэта И. Хоменко С г ' «Правда не умирает» на армянский язык.
^Лря^рра О. Гимн пролетариев мира. «Вечирний Кыив», 22/VI (да укр. яз.).
О переводе «Интернационала» Эжена Потье.
460
Ульянова О. «Интернационал» в России. «Грозненский рабочий», 23/VI; «Сов. Каракалпакия», Нукус, 25/VI.
О переводах текста гимна.
УмарбековаЗ. О переводах Шевченко на узбекский язык. В кн.: Сборник трудов пятнадцатой научной шевченковской конференции. Киев, с. 287—293 (на укр. яз.).
Урнов М. Авторитет знатока. [Рец. на кн: Морозов М. Шекспир, Бернс, Шоу... М., «Искусство», 1967; Морозов М. Избранные статьи и переводы. М., «Художественная литература», 1954; Морозов М. Статьи о Шекспире. М., «Художественная литература», 1964]. «Октябрь», М., № 6, с. 213—217.
Усвяцова Р, Чингиз Айтматов во Франции. «Простор», Алма-Ата, № 12, с. 113—115.
О популярности переводов произведений киргизского писателя во Франции.
Ушаков Н. Состязание в поэзии. «Книжное обозрение», М., № 23, с. 11.
Федоришин Л. Когда переводит писатель... «Жовтень», Львов, № 7, с. 151—154 (на укр. яз.).
О переводе В. Гжицким на украинский язык романа К- Тетмайера «Легенда Татр».
Федоришин Л. Тяжело ломать каноны. [Рец. на кн.: Шиллер Ф. Лирика. Пер. М. Лукаш. Киев, «Днипро», 1967 (на укр. яз.)]. «Жовтень», Львов, № 10, с. 151—154 (на укр. яз.).
Федоров А. В. Жорж Мунен. Теоретические проблемы перевода. [Рец. на кн.: Monnin G. Les problemes theoriques de la traduction. Paris, ed. Gallimard, 1963]. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 470—476.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода. (Лингвистический очерк). Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Высшая школа». 396 с.
Фелдхун А. Еще раз об «Илиаде» и «Одиссее» на латышском языке. «Карогс», Рига, № 12, с. 141—142 (на лат. яз.).
Заметки редактора в связи со статьей Я. Лоя «Об «Илиаде» и «Одиссее» на латышском языке» («Карогс», 1968, № 7).
Финкель А. 66-й сонет в русских переводах. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 161—182.
Хавес Б. (составитель). Библиография. 1964. II. Зарубежные страны. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 519—534.
Хаврусь С. Чтим светлый талант. «Литературна Украина», Киев, 16/VIII (на укр. яз.).
О переводах произведений И. С. Нечуя-Левицкого.
Хатиашвили Л., Хуцишвили С. Шевченко в грузинских переводах. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 174—183 (на укр. яз.).
Хведелидзе Р. Корни дружбы. В кн.: Радужными мостами. Киев, «Днипро», с. 211—216 (на укр. яз.).
О переводах произведений грузинских писателей на украинский язык.
Хейно У .-Л. Десятая муза. «Пуналиппу», Петрозаводск, № 2, с. 106—110 (на фин. яз.).
О переводах автором русской художественной литературы на финский язык.
461
Хопта В. Поэты мира — на украинском языке. «Книжное обозрение», М., № 36, с. 12.
О серии «Жемчужины мировой лирики», выходящей в изд-ве «Днипро» (Киев) на украинском языке.
Храмов Е. Девушка-джигит и «ушкуйники». Переводчик о проблемах перевода. «Литературная газета», М., 25 дек., № 52, с. 4.
Художественное слово М. Коцюбинского и его переводы на славянские языки. Киев, Изд-во Киевского ун-та. 160 с. (на укр. яз.).
Все статьи сборника по проблемам художественного перевода включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Хуцишвили С. Неутомимый труженик. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 375—377 (на укр. яз.).
О переводческой деятельности М. П. Кинцурашвили (псевдоним — Я самани).
Цвиллинг М. О профессии переводчика. (В порядке постановки вопроса). В кн.: Тетради переводчика, № 5. М., с. 117—122.
Червеняк А. Ваянский и Достоевский. В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII — начало XX в.). М., с. 217—228.
О переводах произведений Достоевского на словацкий язык.
Чернопиский М. Г. В. Самийленко — переводчик Беранже. «Радянське литературознавство», Киев, № 7, с. 83—87 (на укр. яз.).
Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. (Конец XVIII —начало XX в.). М., «Наука». 475 с.
Все статьи сборника по проблемам художественного перевода включены в настоящую библиографию в алфавитном порядке фамилий авторов.
Чиковани С. Наш Микола Бажан. В кн.: Радужными мостами. Киев, с. 378—381 (на укр. яз.).
О М. Бажане — переводчике грузинской поэзии на украинский язык.
Чиковани С. Священные узы братства. Пер. и публикация Г. Маргвелашвили. «Литературная Грузия», Тбилиси, № 9, с. 93—100. О переводах Б. Пастернака из грузинской поэзии.
Чихладзе Н. Прекрасное не старит время. «Заря Востока», Тбилиси, 20 сент., № 38, с. 22.
Чуковский К- Высокое искусство. М., «Сов. писатель». 384 с.
Чуковский К. И. «Победителей не судят...». «Литературная Россия», М., 20 сент., № 38, с. 22.
О переводе Н. М. Демуровой сказок английского писателя Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Сквозь зеркало».
Шаинский Я- Новое издание «Одиссеи». «Литературна Украина», Киев, 26/IV (на укр. яз.).
О втором издании «Одиссеи» Гомера в переводе Б. Тэна.
Шалата М. Еще восемь неизвестных переводов Я. Головацкого. «Радянське литературознавство», Киев, № 9, с. 81—85 (на укр. яз.). Шалата М. Маркиан Шашкевич как переводчик. «Всесвит», Киев, № 7, с. 92—94 (на укр. яз.).
Шарипов Д. Ш. Из истории перевода в Узбекистане. (Дореволюционный период). Автореф. дисс. на соискание учен, степени доктора филол. наук. Ташкент. 172 с. (АН Уз. ССР).
Шахова К. Венгерский «Фауст». «Литературна Украина», Киев, 9/11 (на укр. яз.).
О переводе М. Лукашом произведения «Трагедии человека» И. Ма-дача на украинский язык.
Шевчук В. Подвиг искателя ценностей. [Рец. на кн.: МадачИ. Трагедия человека. Драматическая поэма. Киев, «Днипро», 1967 (на укр. яз.)]. «Витчизна», Киев, № 2, с. 200—203 (на укр. яз.).
Ширван Ю. О русско-турецких литературных связях. «Литературный Азербайджан», Баку, № 5, с. 149—153.
Шор В. Из истории советского перевода. (Стефан Цвейг на русском языке). В кн.: Тетради переводчика, № 5. М., с. 53—75.
Шор В. История «русского Шекспира». В кн. Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 189—196.
Шукис И. Последнее, бесконечненно... и еще умнее. «Литература ир мянас», Вильнюс, 7/1X (на лит. яз.).
О недостатках перевода Д. Урбаса романа Э. Золя «Дамское счастье» на литовский язык.
Шуман М. Восточный колорит в переводах. В кн.: Вопросы теории и практики художественного перевода. (Сборник статей). Рига, с. 94— 103.
Шуравинайте-Степонайтене Л. К. Бальмонт и литовские народные сказки. «Швитурис», Вильнюс, № 12, с. 21—23 (на лит. яз.). Об участии поэта в работе над переводом книги «Литовские народные сказки» (Рига, 1930—1931).
Элъперин Ю. «Переводчик» и переводчики в Западной Германии. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 482—496. О ежемесячном бюллетене «Der Ubersetzer» (Штутгарт, 1964).
Эткинд Е. Об условно-поэтическом и индивидуальном. (Сонеты Шекспира в русских переводах). В кн.: Мастерство перевода, 1966. М., «Сов. писатель», с. 134—160.
Эткинд Е. Слово как сюжет. В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 261—266.
Юаса Й. Через 40 лет. «Всесвит», Киев, № 9, с. 19—20 (на укр. яз.). Интервью японской переводчицы произведений Горького, Чехова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина.
Юделявичюс Д. О поэзии и переводах. «Пяргале», Вильнюс, № 4, с. 180— 181 (на лит. яз.).
О дискуссии по проблемам перевода (Вильнюс, 4—5 марта 1968 г.).
Якобсон А. Два решения. (Еще раз о 66-м сонете). В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», с. 183—188.
О переводе 66-го сонета В. Шекспира.
Ящук В. Ф. Издания и пропаганда произведений Т. Г. Шевченко на английском языке после Великого Октября. В кн.: Полиграфия и издательское дело. Сборник. Вып. 4. Киев, с. 215—222 (на укр. яз.).
463
11. ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 1968—1969
«BABEL»
Babler О. F. Sur le pont d’Avignon. На авиньонском мосту. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 1, p. 25—26.
Burkhard A. Grillparzer’s works in translation. Confessions of a translator. Произведения Грильпарцера в переводе. Признания переводчика. «Babel»,. Avignon, 1969, vol. 15, No 3, р. 160—163.
Ege F. Zur Ubersetzung von Gesangstexten. О переводе песенных текстов. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 95—97.
Elslander A. van. Jacques van Maerlant, un traducteur thiois du XHIe siecle. Жак ван Марлан, фландрский переводчик XIII столетия. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 3, p. 142—143.
Erik Lindegren (1910—1968). Эрик Линдегрен [Некролог]. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 69—72.
G ingold K. The financial status of translators and how it can be improved. Материальное положение переводчиков и как оно может быть улучшено. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 4, p. 217—221.
Haeseryn R. La chambre Beige des traducteurs, interpretes et philologues. Бельгийское общество переводчиков, толмачей и лингвистов. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 3, p. 167—170.
Haeseryn R. La FIT participe aux activites de 1’UNESCO. Всемирная федерация переводчиков принимает участие в деятельности ЮНЕСКО. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No. 1, p. 34—35.
Hamberg. L. The Finnish translators Association. Финская ассоциация переводчиков. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 124—125.
Hamberg L. Some practical considerations concerning dramatic translation. Несколько практических соображений о переводе драматических произведений. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 91—94, 100.
Holmes. J. S. Forms of verse translation and the translation of verse form. Формы стихотворного перевода и перевод стихотворной формы. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 4, p. 195—201.
464
Kakosy L. L’epopee de Gilgamesh. Эпос о Гильгамеше. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 4, p. 195—196, 200.
Rarcsay S. Le centenaire de la traduction hongroise officielle. Столетие перевода в Венгрии. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 3, p. 132— 136. ..
Levy J. DieUbersetzung von Theaterstiicken. Перевод драматических произведений. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 2, p. 77—85.
Lindgren A. Traduire des livres d’enfant — est-ce possible? Возможен ли перевод книг для детей? «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 98— 100.
Maillot J. Toponimie et traduction. Топонимика и перевод. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 1, p. 25—29; No 2, p. 86—91.
Malinverni P. La Societe fran^aise des traducteurs. Общество переводчиков Франции. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, № 4, p. 227—230.
Mello Moser F. de. Translation in Portugal. A preliminary general survey. Перевод в Португалии. Предварительный обзор. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 1, p. 14—16.
Mounin G. La traduction au theatre. Перевод в театре. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 1, p. 7—11.
Mund A. La traduction lyrique. Art, science et technique. Поэтический перевод. Искусство, наука и техника. «Babel», Avignon, 1968,'vol. 14, No 3, p. 144—151, 165.
Nordback-Linder H. L’Association des traducteurs litteraires de Suede, Ассоциация переводчиков художественной литературы в Швеции. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 2, p. 123—124.
Popovic A. Translation analysis and literary history: a Slovak approach to the problem. Анализ перевода и история литературы: словацкая точка зрения. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 2, p. 68—76.
Radd Gy. A great Ukrainian translator, Pavlo Hrabovski (1864—1902). Крупный украинский переводчик Павло Грабовский. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 1, p. 22—24.
Radd Gy. The upswing of translation theory in Hungary. Теория перевода в Венгрии на подъеме. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 3, p. 137— 140.
Rakos S. Comment est ne le Gilgamesh hongrois. Notes du traducteur. Как родился венгерский перевод Гильгамеша. Заметки переводчика. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 4, р. 197—200.
Rintchen В. Histoire de la traduction oirato-mongole. История ойротско-монгольского перевода. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 1, p. 15— 16.
Sauvageot А. [Рец. на кн.: L. Tarnoczy. Forditokalauz. Budapest, 1966, 529 old.]. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 1, p. 58—60.
Stratonovitch А. [Рец. на кн.: Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума [25 февраля — 2 марта 1966 г.), т. 1—2. Москва, 1967, 369 с.+ 359 с.]. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 1, p. 60—63.
Ure J., Rodger A. and Ellis J. Somn: Sleep — an exercise in the use of descriptive linguistic techniques in literary translation. I—IV.— Somn : Sleep — упражнение по применению описательной лингвистической техники в художественном переводе. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 1, p. 4—14; No 2, p. 73—82.
Vlasinova V. La traduction et la litterature nationale. Перевод и нацио
465
нальная литература. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 3, p. 156— 159.
Werrie P. L’Ecole des traducteurs de Tolede. Толедская школа переводчиков. «Babel», Avignon, 1969, vol. 15, No 4, p. 202—212.
Zohn H. The translation of satire. Kurt Tucholsky and Karl Kraus. Перевод сатиры. Курт Тухольский и Карл Краус. «Babel», Avignon, 1968, vol. 14, No 4, p. 201—206.
БЕЛЬГИЯ
Altbauer M. «О у хоругвенъ надъ шмами» (Canticum canticorum S. 10). A chapter in the history of translation technique. Глава из истории техники перевода. In: Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves. Annuaire t. 18 (1966—1967). Bruxelles, 1968, p. 1—8.
Backvis C. La fortune d’Erasme en Pologne. Судьба Эразма Роттердамского в Польше. In: Colloquium Erasmianum. Mons, 1968, p. 173— 202.
Penninckx W. Werkgelegenheid en opleiding voor vertalers. Подготовка переводчиков. «Le linguiste», Bruxelles, 1969, No 2—3, p. 1—4.
БОЛГАРИЯ
Ацева Л. Някои въпроси на индивидуалния стил и превода. Некоторые вопросы индивидуального стиля и перевода. «Пламък», София, 1968, кн. 24, с. 64—68.
Бумбалов Л. За вазовия превод на «Лудият» от Шандор Петьофи. «Сумасшедший» Шандора Петефи в переводе И. Вазова. «Литературна мисъл», София, 1968, № 5, с. 112—118.-
Велчев В. Изучвания върху рецепцията на Некрасов в България. Изучение восприятия Некрасова в Болгарии. [Рец. на ст.: Метева [Н. А.] Некрасов в български превод (Год. на Соф. ун-т. Филол. фак-т, т. 40, 1961); Некрасов и българската литература. (Год. на Соф. ун-т. Филол. фак-т, т. 61, 1967)]. «Език и литература», София, 1968, № 5, с. 72— 75.
Делчев Б. Как бяха издадени на френски език стиховете на Вапцаров [Poemes choisis. Paris. 1952]. Как были изданы стихотворения Вапцарова на французском языке. «Пламък», София, 1969, кн. 22, с. 13—16.
Динеков П. Между свои и чужди. Среди своих и чужих. Лит. ст. София, «Бълг. писател», 1969. 309 с. Из содерж.: Пенчо Славейков и Адам Мицкевич, с. 80—94; Дора Габе и польская литература, с. 102— 106; Судьба «Пана Тадеуша» в Болгарии, с. 107—120; Раковски писатель, с. 167—174.
Дончев Н. Ламартин у нас. Сто години от смъртта му. Ламартин в Болгарии. К столетию со дня его смерти. «Септември», София, 1969, № 6, с. 251—255.
Дончев Н. Ларошфуко на български. Ларошфуко на болгарском языке. [Рец. на кн.: Ларошфуко. Максимы. София, 1969]. «Литературна мисъл», София, 1969, № 3, с. 163—165,
466
Цончев Н. Роже Бернар — преводачът. Р. Бернар — переводчик. «Български език», София, 1968, № 4—5; с. 454—455.
Ескенази X. Георги Бакалов и руската народническа поезия. Г. Бакалов и русская народническая поэзия. «Език и литература», София, № 2, с. 51—57.
Милев А. Българските преводи на «Илиада». Болгарские переводы «Илиады». «Известия на Института за литература», София, 1969, кн. 20, с. 29—46.
Михайлов М. Пеньо Пенев в руски превод. П. Пенев в русском переводе. [Рец. на кн.: Пенев П. Стихотворения. Пер. с бол г., София, 1965]. «Трудове на Висш. педагогически ин-т «Братя Кирил и Методий», във В. Търново. София, 1968, № 4, с. 363—368.
Панова С. Молиер в България (до Освобождението). Мольер в Болгарии. «Известия на Института за изкуствознание» (БАН), София, 1969, т. 12, с. 95—105.
Сарафов Т. Едно културно събитие: Есхил на български. Одно культурное событие: Эсхил на болгарском языке. [Рец. на кн.: Есхил. Трагедии. Прев. А. Ничев. София, 1967]. «Пламък», София, 1968, кн. 12, с. 92—93.
Цонев И. Четвърт век взаимни връзки и отношения между българската и съветската литератури. Четверть века взаимосвязей и отношений между болгарской и советской литературой. «Български език и литература», София, 1969, № 5, с. 3—11.
Bujukliev /. La nouvelle redaction de traduction Slave du Psaulter etson rapport avec le fond grec. Новая редакция славянского перевода Псалтыри и ее связь с греческой основой. In: Congres international des etudes balkaniques et Sud-Est europeennes I Sofia. 1966. Actes... 26 aout — I sept. 1966. Sofia, 1969, p. 381—384. (Association intern, d’etudes du Sud-Est europ.).
Sarandev 1. Boyan Penev, Ivan Bounine, Jan Grzegojewski, Watson Kirconnel et Alfred Jensen — le dialogue. Боян Пенев, Иван Бунин, Ян Гжегоевский, Ватсон Киркондл и Альфред Енсен — обмен мнениями. «Obzor», Sofia, 1969, No 2, р. 93—99.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
* Burgess A. Graves and Omar. Грэйвз и Омар [Хайям]. «Encounter», London, 1968, 30 Jan., р. 77—80.
* Christie J. T. On enjoying Bentley’s Horace. Наслаждаясь Горацием в переводе Бентли. «Greece and Rome», London, 1968, vol. 15, Apr., p. 23—32.
* Culshaw W. Translating biblical poetry. Перевод библейской поэзии. «The Bible translator», London, 1968, vol. 19, No 1, p. 1—6.
* Ebel J. G. Translation and linguistics: a search for definitions. Перевод и языкознание: в поисках определений. «The incorporated linguist», London, 1968, vol. 7, No 3, p. 50—54.
Ebel J. G. In search of stature. Linguistic theory and translation in the sixteenth century. В поисках стройности. Лингвистическая теория и перевод в шестнадцатом веке. «The incorporated linguist», London, 1969, vol. 8, No 1, p. 7—11.
Esslin M, Pinter translated. On international non-communicat ion. Пин
467
тер в переводе. О межнациональной изолированности. «Encounter», London, 1968, No 3, р. 45—47.
* Finlay I. Е. Some thoughts on the translation of poetry. Мысли о переводе поэзии. «The incorporated linguist», London, 1969, vol. 8, No 4, p. 86—88.
Firth J. R. Linguistic analysis and translation. Лингвистический анализ и перевод.— In: Firth J. R. Selected papers, 1952—1959. London— Harlow, 1968, p. 74—83.
Firth J. R. Linguistics and translation. Языкознание и перевод. In: Firth J. R. Selected papers 1952—1959. London — Harlow, 1968, p. 84—95.
* Grimes J. E. Fidelity in translation. Верность при переводе. «The Bible translator», London, 1968, vol. 19, No 4, p. 164—165.
Haas W. The theory of translation. Теория перевода. In: The theory of meaning. London, 1968, p. 86—108.
* Hartman R. R. K. Linguistics and translation. Языкознание и перевод. «Aslib proceedings», London, 1969, May, p. 190—194.
Rirk R. Translation and indeterminacy. Перевод и неопределенность. [О концепции W. V. О. Quine’a, изложенной в кн.: Word and Object. N. Y. 1960]. «Mind», Oxford, 1969, vol. 78, No 311, p. 321—341.
Newmark P. Some notes on translation and translators. Заметки о переводе и переводчиках. «The incorporated linguist», London, 1969, vol. 8, No 4, p. 79—85.
* Nordback-Linder H. The translation scene in Sweden. Перевод в Швеции. «The incorporated linguist», London, 1968, vol. 7, No 2, p. 32—33. On translating Homer. О переводе Гомера. «Times literary supplement», London, 1968, 14 March, p. 211—213.
Savory Th. The art of translation (New and enl. ed). Искусство перевода. London, Cape, 1968, 191 p. Rec.: E. B. Bucher fur Ubersetzer. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 11, S. 3—4.
Stack V. E. Shakespeare in translation. Шекспир в переводе. «English», London, 1969, vol. 18, No 101, p. 53—56.
Torringa J. The Icelandic sagas and their English translators. Исландские саги и их английские переводчики. In: Essays and studies. London, Murray, 1969, vol. 22, p. 1—15.
* Wilster E. The translation scene in the Netherlands. Перевод в Нидерландах. «The incorporated linguist», London, 1968, vol. 7, No 2, p. 28—29.
ВЕНГРИЯ
Петер M. Стихотворение Лермонтова «Кинжал» и его два венгерских перевода. «Annales Univ, scientiarum budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae». Sectio philologica, 1968, t. 8, p. 51—65.
Рев M. Салтыков-Щедрин в Венгрии 1859—1945. «Annales Univ, scientiarum budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae». Sectio philologica, 1968, t. 8, p. 67—80.
* Статьи, помеченные знаком *, не просмотрены de visu.— Прим, сост.
468
Сувыженко Л. Аттила Йожеф в русском переводе. «Annales Univ, scient. rum budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae». Sectio philolo-gica, 1968, t. 8, p. 151—157.
Шер В. Шевченко в Венгрии. «Annales Univ, scientiarum budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae». Sectio philologica, 1968, t. 8, p. 139— 150.
Csongrady B. «Ajandek a nemzetnek» — Franyo Zoltan, a mufordito. Ф. Золтан — переводчик художественной литературы. «Palocfold», Balassagyarmat, 1968, No 3, 101—103. old.
Fodor Y. Egy Agy — vers francia forditasa 1913 — bol. Об одном французском переводе стихотворения Ади. «Irodalomtorteneti kozleme-nyek», Budapest, 1968, № 4, 468—470. old.
Galdi L. Petofi kisebb muforditasai. Переводы малых жанров Петефи. «Irodalomtorteneti kozlemenyek», Budapest, 1969, No 4, 407—421. old.
Galdi L. Radnoti — oroszul. Радноти по-русски. [Рец. на кн.: М. Радно-ти. Стихи. М., 1968]. «Nagyvilag», Budapest, 1969, No 2, 298— 299. old.
Galla E. Vilagjaro magyar irodalom. A magyar irodalom Kinaban. Венгерская литература в Китае. Budapest, Akad. kiado, 1968. 158 old.; 4 I. ill. (Korosi Csoma kiskvtar. 5). Bibliogr.: old. 132—156.
Gyergyai A. Jozsef Attila franciaul. Аттила Йожеф на французском языке. In: A. Gyergyai. A «Nyugat» arnyekaban. Budapest, 1968, 426—431. old.
Gyergyai A. Victor Hugo magyarul. В. Гюго на венгерском языке. In: A. Gyergyai. A «Nyugat» arnyekaban. Budapest, 1968, 415—425. old.
Hopp L. Mikes Kelemen a mufordito. Микеш Келемен — переводчик художественной литературы. «Irodalomtorteneti kozlemenyek», Budapest, 1969, No 6, 643—657. old.
Kerenyi G. A lengyel drama Magyarorszagon. Польская драма в Венгрии. In: Tanulmanyok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 591—605. old.
Kozocsa S. Grillparzer Magyarorszagon. Sziiletesenek 175. evfordulojara. Грильпарцер в Венгрии. К 175-летию со дня рождения. In: Orszagos Szechenyi konyvtar evkonyve. 1967. Budapest, 1969, 399—408. old.
Kopeczi B. Fenelon Telemachosanak elso magyarorszagi forditasi kiserlete. Опыт первого венгерского перевода «Телемаха» Фенелона. «Filolo-giai kozlemenyei», Budapest, 1969, t. 15, fasc. 1—4, 1—18. old.
Lator L. Radnoti Miklos nemetul. M. Радноти на немецком языке. «Nagyvilag», Budapest, 1969, No 7, 1085—1088. old.
Nehdny szo a XX szazadi lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok kutatdsdrol. Несколько слов об исследовании польско-венгерских литературных связей в XX веке. In: Tanulmanyok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 587—590. old.
Pdlyi A. Fredro — dramak Magyarorszagon. Драмы Фредро в Венгрии. In: Tanulmanyok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 407—420. old. . r
Rdba Gy. A szep hutlenek (Babits, Kosztolanyi, Toth Arpad versfordita-sai). Прекрасная неверная (стихотворные переводы Бабича> Ко-столаньи, Тота Арпада). Budapest, Akad. kiado, 1969, 465 old.
Rdba Gy. Traducendo Leopardi. Переводы Леопарди. In: Il Romanticismo. Atti del Sesto Congresso dell’ Associazione internazionale per gli studi
469
di lingua e letteratura italiana (Budapest e Venezia, 10—17 ottobre 1967). A cura di V. Branca e T. Kardos, Budapest, 1968, p. 229—232. Rado Gy Mickiewicz verseinek magyar fortfbasai verstani szempontbol.
Стихотворения Мицкевича в переводе на немецкий язык с точки зрения теории стихосложения. In: Tanulmanyok a lengyel-magyar iro-dalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 421—442. old.
Ronay Gy. Forditas kozben. В процессе перевода. Budapest, Magveto, 1968, 423 old. [Rec.: I. Jelenits. «Irodalomtorteneti kozlemenyek», Budapest, 1968, No 6, 718—719. old].
Samociuk T. Antoni Lange — a magyar irodalom nepszeriisitoje Lengyelors-zagban. А. Ланге — популяризатор венгерской литературы в Польше. In: Tanulmanyok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 549—564. old.
* Szabo E. A muforditas. Художественный перевод. Budapest, Gondolat, 1968, 344 old.
Vajthd L. Berczy Karoly rehabilitasa. Реабилитация К. Берци. [О первом венгерском переводе «Евгения Онегина»]. «Alfold», Debrecen, 1969, No 12, 51—56. old.
Vekerdi L. Az «Oreszteia» uj magyar forditasarol. О новом венгерском переводе «Орестеи».— In: Vekerdi L. Kalandozas a tudomanyok tortene-teben. Budapest, 1969, 363—372. old.
Zimierski J. A magyar irodalom Lengyelorszagban a masodik vilaghaboru-zutan. Венгерская литература в Польше после второй мировой войны. — In: Tanulmanyok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok korebol. Budapest, 1969, 607—616. old.
ГДР
Bockmann P. Schillers Dramenubersetzungen. Переводы драм Шиллера.— In: Studien zur Goethezeit. Festschrift fur Lieselotte Blumenthal. Hrsg. vone Holtzhauer e. a. Weimar, 1968, S. 30—52.
Dedecius K. Ubersetzung und Gesellschaft. Перевод и общество. «Neue deutsche Hefte», Berlin. 1969, No 3, S. 45—89.
Fuhmann F. Kleine Praxis des Ubersetzens unter ungiinstigen Umstanden. Заметки о переводе при неблагоприятных обстоятельствах. «Borsen-blatt fur den deutschen Buchhandel», Leipzig, 1969, No 47, S. 916.
Gronicka A. von. Fёdoг Iwanowitch Tiutschew und Goethe. Ф. И. Тютчев и Гёте.— In: Literatur und Geistesgeschichte. Festgabe fur Heinz Otto Burger. Hrsg. von R. Grimm und C. Wiedemann. Berlin, 1968, S. 422—432.
Grundfragen der Obersetzungswissenschaft. Основы науки о переводе. Hrsg. im Auftrage der Karl-Marx-Univ., Leipzig, von Albrecht Neu-bert. [Materialen einer wissenschaftlichen Konferenz des Dolmetsch er — Inst, der Karl-Marx Univ., Leipzig vom 26—29 Oktober 1965]. Leipzig, Verl. Enzyklopadie, 1968, VI, 189 S. (Beihefte zur Zeitschrift «Fremdsprachen» 2).
Hexelschneider E. A. N. RadiScev und Deutschland. A. H. Радищев и Германия.— In: A. N. RadiScev und Deutschland. Beitrage zur rus-sischen Literatur der ausgehenden 18. Jahrhunderts. Red. von E. Hexelschneider. Berlin, 1969, S. 7—28. „
Rode 0. Zufall und Gesetzmassigkeit in der Ubersetzung. Случайное и за
470
кономерное в переводе. Leipzig, Enzyklopadie, 1968, 128 S. (Beihefte zur Zeitschrift «Fremdsprachen» 1). Rec.: W. Koller. Eine linguisti-sche Theorie des Ubersetzens, «Moderne sprak», Malmo, 1969, vol. 63, No 3, S. 264—270.
Kopecky M. К nemecko-cesko-polske tvorba dramaticke a dialogicke v 16 stoleti. К истории немецко-чешско-польской драматургии шестнадцатого столетия.— In: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprachen, Literatur und Kultur. Berlin, 1969, S. 391—398. [О переводе на чешский и польский языки произведения Th. Naogerga-Kirchmeyera Tragedia alia nova..;, изданного в 1540 г.].
Pohling H. Karl Marx und die Ubersetzung. Карл Маркс и перевод. «Fremdsprachen», Leipzig, 1968, No 2, S. 81—86...
Piischel U. Gesichtspunkte fiir die Wahl der Herwegh-Ubersetzung bei der Inszenierung von «Konig Lear» in Dresden. Исходные позиции для выбора перевода Гервега при постановке «Короля «Лира» в Дрездене.— In: Shakespeare Jahrbuch. Bd. 105. Weimar, 1969, S. 70—88.
Siebenschein H. Der tschechische Germanist Otokar Fischer (1883—1938) als Mensch, Dichter, Ubersetzer, Kritiker und Dramaturg. Чешский германист О. Фишер (1883—1938) как человек, поэт, переводчик, критик и драматург.— In: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, 1969, S. 468—474.
ФРГ
Astley G. D. Der Schlegel-Tieck-Preis. Премия Шлегеля-Тика. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 2, S. 2—3.
Baum I. Ubersetzungen teurer als das Original. Переводы дороже, чем оригинал. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6.. No 10, S. 2—3. Braem H. Arbeit am Hartholz der Sprache. Literarische Ubersetzer verord-nen sich ein Seminar-Tagung in Esslingen. Работа над трудностями языка. Переводчики художественной литературы собираются на семинар в Эсслинген. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 12, S. 1—2.
Braem H. M. Eine klare Sprache. Откровенный разговор. (К созданию Союза немецких писателей в Кёльне). «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 7, S. 1—2.
Braem H. M. Ubersetzer und Fernsehen. Переводчик и телевидение. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 2, S. 4. „
Braem H. M. Verklarende Aufklarer. Die gutwilligen Ubersetzer des 18. Jahrhunderts. Преображающие просветители. Добровольные переводчики 18-го века. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 4, S. 1—2.
Broda I. Jun. Abenteuer der Ubersetzung: Nestroy auf amerikanisch. Курьезы перевода: Нестрой по-американски. [Рец. на кн.: J. Nestroy. Three comedies transl. by M. Knight and J. Fabry. New York, 1967]. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 5, S. 2—3.
Broda I .Jun. Dichter-Ubersetzer. Поэт-переводчик. [Рец. на кн. R. Mu-sil. Covjek bez svojstava. Ubers, von Z. Gorjan. Rijeka, 1967]. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5,..No 10, S. 1—2.
Brooks F. G. Wie wird man literarischen Ubersetzer?.Как становятся переводчиком художественной литературы. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 1, S. 3—4,
471
Caille P.-F. I. Ein Erfolg auf dem Wege der FIT. II. Empfehlungen — Paris, September, 1968. III. Kommentar zu einem Bericht. I. Успех на пути Международной федерации переводчиков. II. Рекомендации — Париж, сент. 1968. III. Комментарии к одному сообщению. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 11, S. 1—3.
DedeciusR. Westostlicher Diwan 1967. [I]—III. Западно-восточный диван 1967. [Встреча переводчиков Востока и Запада]. «Det Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5. No 1, S. 1—3; No 2, S. 1—2; No 3, S. 1—2.
Der FIT — Rat traf sich in der Schweiz. Совет Международной федерации переводчиков собрался в Швейцарии. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 8, S. 3—4.
Fried E. Zu meinen Shakespeare-0bersetzungen. По поводу моих переводов Шекспира. «Der Obersetzen>, Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 11, S. 3.
Gaertner H. Schweizer Literatur in der Tschechoslowakei. Швейцарская литература в Чехословакии. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 9, S. 1—2.
* Gickel B. Technique et stylistique de la traduction allemand-frangais (IV). Техника и стилистика немецко-французского перевода. «Idio-та», Munchen, 1968, Bd. 5, No 4, S. 162—166.
Gingold R. Der finanzielle Status der Obersetzer und die Moglichkeiten, ihn zu verbessern. Финансовое положение переводчика и возможности его улучшения. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 5, S. 1—3.
Gluski J. Ober die vergleichende Parqmiographie. По поводу сравнительного изучения пословиц. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 11, S. 1—2.
Gluski J. Ubersetzer aus 22 Sprachen. [M. Лукаш] — переводчик с 22 языков. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 8, S. 2.
Gunther A. Onruhiges Gestirn. Zum Tod unseres Ehrenmitglieds Hans Reisiger. Неспокойное светило. К кончине нашего почетного члена Г. Райзигера. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 6, S. 3.
Italiaander R. Das Colloquium von Antwerpen. Коллоквиум в Антверпене. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 7, S. 1—2.
Italiaander R. Es ging um die Forderung der ungarischen Literatur. Brief aus Ungarn. Речь шла о подъеме венгерской литературы. Письмо из Венгрии. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 4, S. 3—4.
Italiaander R. Hermann Quistorf gestorben. Смерть Г. Квисторфа. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 12, S. 3.
Rann H. Obersetzungsprobleiiie iri den deutschen ObersetzUngen von drei anglo-amerikanischen Kurzgeschichten: Aldous Huxleys «Green tunnels», Ernest Hemingways «The killers» und «А clean, well-lighted ' place». Проблема перевода в немецких переводах трех англо-американских новелл. Miinchen, Hueber, 1968, [8], 143 S. (Mainzer amer. Beitr. Bd. 10).
Rardos L. Fragen der literarischen Obersetzung. Вопросы художественного перевода. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 6, S. 1—2.
Rnufmann H. Die deutsche Ubersetzungswesen des 18 Jahrhunderts im Spiegel von Obersetzer-und Herausgebervorreden. Немецкий перевод 18-го столетия, как он отражен в предисловиях переводчиков и из
472
дателей. «Borsenblatt fur den deutschen Buchhandel», Frankfurt а M., 1967, No 91, S. 2676—2716.
Kostetzky E. G. Aus dem Alltag Sowjetischer Ubersetzer. Будни советских переводчиков. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 3, S. 2—3.
Kostetzky E. G. Das Gewicht des Wortes. Вес слова. [Информация о Всесоюзном симпозиуме переводчиков, проходившем с 25 февраля по 2 марта 1966 г. в Москве]. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 3, S. 3—4.
Kostetzky E. G. Heinrich Boll, ukrainisch. Генрих Бёлль в переводе на украинский язык. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 12, S. 1—2.
Kunzel F. P. Deutsche Biicher in der CSSR. Немецкие книги в Чехословацкой социалистической республике. «Der Ubersetzen>, Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 5, S. 1—2.„
Manger H. Schriftsteller-und Ubersetzerverbande in den Niederlanden. Союзы писателей и переводчиков в Нидерландах. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 8, S. 1—2.
Maor H. Bilanz von Bratislava. Итоги Братиславы. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 8, S. 1. [Информация о Международной конференции переводчиков в Братиславе 29—30 мая 1968 г.].
Meyer-Clason К. Uber das Uniibersetzbare I—III. О непереводимом. «Der Obersetzer», Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 2, S. 1—2; No 3, S. 1—2; No 4, S. 1—2.
Middleton C. Warum ein Gedicht ubersetzen? Зачем переводить стихотворение? «Akzente», Munchen, 1969, H. 6, S. 498—504.
Mockelmann J. Deutsch-schwedische Sprachbeziehungen. Untersuchungen der Vorlagen der schwedischen Bibelubersetzungen von 1536 und des Lehngutes aus dem Deutschen in diesen Ubersetzungen. Немецко-шведские языковые связи. Исследование оригиналов шведских переводов Библии 1536 года и германизмов в этих переводах. Goppingen, Kiimmerle, 1968. VI, 261 S. (Goppinger Arbeiten zur Germanistik. No 3).
Mounin G. Die Ubersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. Перевод. История, теория, применение. Munchen, Nymphenburger Verlag-shandlung. 1967, 214 S. [Rec.: M. Hoing. Ubersetzen — «selbstlose Kunst und miihsames Handwerk». «Der junge Buchhandel», Munchen, 1969, No 6, S. 67—68; Horst K. A. Bucher fur Ubersetzer. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 4, S. 2—3.
Senn F. «Ulysses» in der Ubersetzung. «Улисс» в переводе. «Sprache in technischen Zeitalter», Stuttgart, 1968, No 28, S. 346—375.
Skutil J. Zur Geschichte der cechischen Ubersetzungen von Gogols Werk. К истории чешских переводов произведений Гоголя. «Zeitschrift fur slavische Philologies, Heidelberg, 1969, Bd. 34, H. 2, S. 396—416. Tonndorf R. Auf Katzenjagd. В темноте за серой кошкой. «Der Uberset-zen>, Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 8, S. 3.
Ubersetzen in Ungarn. Переводы в Венгрии. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 6, S. 2—3.
Weidner F. Pladoyer fur die Zusammenarbeit von Ubersetzern. Слово в пользу совместной работы переводчиков. «Der Ubersetzer», Stuttgart, 1968, Jg. 5, No 9, S. 4.
Wolf 0. Zweimal «Die Persen>. Дважды «Персы». «Der Ubersetzer», Stutt
473
gart, 1969, Jg. 6, No 1, S. 2—3. [О двух переводах трагедии Эсхила «Персы»].
Wuthenow R.-R. Das fremde Kunstwerk. Aspekte der literarischen Ubersetzung. Чужеземное произведение. Аспекты литературного перевода. Gottingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969. 187 S. (Palaestra. Untersuchungen aus der deutschen und englischen Philologie und Literaturgeschichte. Bd. 252).
Zimmer D. E. Notizen von einer vielleicht wahnhaften Reise П]—II. Заметки об одном давно желанном путешествии. «Der Ubersetzer». Stuttgart, 1969, Jg. 6, No 9, S. 1—2; No 10, S. 1—2. [Переводчик «Дублинцев» Д. Джойса о своей поездке в Ирландию].
ИНДИЯ
* Chakraborthy A. R. Linguistic and philosophical sources of Indian translation theory. Лингвистические и философские источники индийской теории перевода. «Shakti», New Delhi, 1968, No 4, p. 22—34.
Closs A. The voices of the nations. A meditation on the art of translating: 1—2. Голоса наций. Размышления об искусстве перевода: 1—2. «Aryan path», Bombay, 1969, vol. 40, No 5, p. 213—216; No 6—7, p. 252—262.
Gay Th. The translator’s dilemma. Дилемма переводчика. «Indian P. E. N.», Bombay, 1968, vol. 34, No 10, p. 315—319.
ИСПАНИЯ
Franco F. S. La traduccion antropologico-cultural de los textos antiguos: «La Iliada». Перевод античных текстов с точки зрения антропологии и культуры: «Илиада». «Emerita», Madrid, 1968, t. 36, fasc. 1, p. 57— 75.
ИТАЛИЯ
Valentini R. C. Tra Settecento e Novecento: sul tradurre da opere lettera-rie. От XVII до XIX века: о переводе художественных произведений. «Vita е pensiero», Milano, 1968, No 10, р. 765—781.
Wos J. W. Sulla fortuna di Dante in Polonia. Судьба Данте в Польше. «Aevum», Milano, 1968, anno 42, fasc. 3—4, p. 306—315.
КАНАДА
Couture B. Le vocabulaire de feu. Словарь огня. [Французские термины и их переводы на английский язык]. «Meta», Montreal, 1968, No 4, р. 190—192.
Domaradzki Th. F. Cyprian Norwid dans les traductions et la critique de langue fran^aise. Ц. Норвид в переводах и критике на французском языке. «Slavic and East European studies», Montreal, 1967—1968, vol. 12, pt. 4, p. 153—187.
Dubuc R. Vie des neologismes. Жизнь неологизмов. «Meta», Montreal, 1968, vol. 13, No 4, p. 188—189,
474
Stratford P. French-Canadian literature in translation. Французская литература Канады в переводе. «Meta», Montreal, 1968, vol. 13, No 4, p. 180—187.
НОРВЕГИЯ
Ccrbes H. Les traductions en langues etrangeres du Barzaz — Breiz. Переводы на иностранные языки Барза — Брэя.— In: Lochlann. A review of Celtic studies, Oslo, 1969, vol. 4, S. 160—178.
Svortdal K- Stilskrivning og logikk. Стилистика и логика. 3. utg. Oslo, Universitetsforl., 1968, 110 S.
ПОЛЬША
Брыль Я- Наши творческие связи должны стать еще шире. «Польское обозрение», Варшава, 1969, № 41, с. 9—10.
Balcerzan Е. Bruno Jasienski a Wlodzimierz Majakowski. Бруно Ясен-ский и Владимир Маяковский. — In: О wzajemnych powi§zani-ach literackich polsko-rosyjskich. Wroclaw etc., 1969, s. 228—244.
Balcerzan E. «Piesfi о glodzie» i «Oblok w spodniach». «Песнь о голоде» и «Облако в штанах». «Zeszyty naukowe Uniw. im. Adama Mickiewi-cza wPoznaniu», Poznah, 1968, No 68, Historia zesz. 9, s. 413—445. [Маяковский в переводе Б. Ясенского].
Balcerzan Е. Poetyka przekladu artystycznego. Поэтика художественного перевода. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, с. 23—26.
Balcerzan E. Styl i poetyka tworczosci dwujezycznej Brunona J asienskiego. Z. zagadnien teorii przekladu. Стиль и поэтика двуязычного творчества Б. Ясенского. Из проблем теории перевода. Wroclaw etc., «Os-solineum», 1968, 335 s. (Instytut badan literackich PAN. Katedra teorii literatury Uniw. warszawskiego. Z dziejdw form artystycznych w literaturze pol. t. 11). Rec.: M. Janion. «Pami^tnik literacki», Wroclaw, etc., 1969, No 4, s. 341—346; A. Drawicz. Balcerzan wokol Jasienskiego. «Poezja», Warszawa, 1970, No 4, s. 88—90.
Balcerzan E. Tlumaczenie poetyckie wsrod kontekstow historyczno-litera-ckich. (Polski Majakowski). Поэтический перевод в историко-литературном контексте. (Польский Маяковский).— In: Prace z poetyki poswi§cone VI Mi^dzynarodowemu kongresowi slawistow. Wroclaw etc., 1968, s. 32—59.
Baluch J. Lewoboczek i «pabitele». Felieton filologiczny z dwoma podty-tulami. Филологический фельетон с двумя подзаголовками. [О переводах на польский язык прозы Б. Грабала]. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 40—42.
Baluch J. Przeklad jako zagadnienie poetyki. Перевод как проблема поэтики. «Sprawozdania z posiedzen Komisji naukowych PAN», Krakow, 1968, t. 11, No 2, s. 710—712.
Borysoui) W. Wspolczesna literatura polska w Zwi§zku Radzieckim. Современная польская литература в Советском Союзе. «Zycie literackie», Krakow, 1969, 14 wrzes. No 37, s. 4—5.
Burkot S. Z dziejow «Odysei» Cypriana Kamila Norwida. Из истории «Одиссеи» Ц. К. Норвида. «Ruch literacki», Krakow, 1969, No 3, s. 157—159.
475
Chodera J. Literatura niemiecka w Polsce w latach 1918—1939. Немецкая литература в Польше в 1918—1939 гг. Katowice, «Slask», 1969. 419 s.
Ciesielski Z. Alfred Jensen. Wsrod skandynawskich polonofilow. А. Йенсен. Среди скандинавских полонофилов. «Nurt», Poznan, 1969, No 4, s. 32—33.
Dqbek T. Tworczosc przekladowa Dory Gabe. Переводческая деятельность Доры Габе. Wroclaw etc., «Ossolineum», 1969, 176 s. Рец.: Бакър-джиева-Лекова С. Преводаческо майсторство на Дора Габе. «Литературна мисъл», София, 1969, № 6, с. 137—141.
Dqbek Т. Ziemia goraca,— antologia wspolszesnej poezji bulgarskiej. Горячая земля. Антология современной болгарской поэзии. Warszawa, 1968, 421 s. Rec.: Ziemia goraca. Antologia wspolczesnej poezji bulgarskiej. «Pami§tnik slowianski»5', Warszawa, 1969, t. 19, s. 149— 166; Lau J. Ziemia goraca, «Tworczosc», Warszawa, 1969, No 12, s. 111—113.
Dedecius К. О tlumaczeniu kilka uwag marginesowych. Несколько замечаний о переводе. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 29—30.
Drawicz A. Bagricki, Emin, Wozniesienski, Jewtuszenko — po polsku. Багрицкий, Эмин, Вознесенский, Евтушенко на польском языке. «Poezja», Warszawa, 1968, No 6, s. 50—54.
Drzewicka A. Przeklad poetycki jako przedmiot badan historycznolitera-ckich w Swietle wspolczesnych teorii tlumaczenia. Поэтический перевод как предмет историко-литературных исследований в свете современных теорий перевода. «Komisja historycznoliteracka. Rocz-nik», Wroclaw etc., 1969, No 7, s. 95—149.
Gierowski B. i Witkowska J. J^zyk przekladow rosyjskiej prozy literackiej. Язык переводов русской художественной прозы [на польский язык]. «J^zyk polski», Warszawa, 1967, No 2, s. 145—154.
Grosbart Z. Odtworzenie metrum i strofy oryginalu w tlumaczeniu. (Przek-lady ballad na j^zyk rosyjski). Передача метра и строфы в переводе. (Переводы баллад на русский язык). «Zeszyty naukowe Uniw. Eodz-kiego». Nauki humanistyczno-spoleczne, 1969, zesz. 64, s. 79—92.
Grosbart Z. Pierwsze rosyjskie tlumaczenie ballady «Trzech Budrysow», a przeklad Puszkina. Первый русский перевод баллады «Три Буд-рыса» и перевод Пушкина. «Zeszyty naukowe Uniw. -Lodzkiego». Nauki humanistyczno-spoleczne, 1968, zesz. 54. Filologia rosyjska, s. 67—74.
Honsza N. WkrQgu literatury niemieckiej. Szkice z literatury niemieckiej XX wieku. В кругу немецкой литературы. Очерки о немецкой литературе XX века. Katowice, «Sl$sk», 1968. 239 S. Из содержания: гл. III. Восприятие творчества Томаса Манна в Польше, с. 159— 166.
Kjnita J. О przekladalnosci dziela literackiego. Z problemow semiotyki sztuki. О переводимости литературного произведения. Из проблем семиотики искусства. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 20—22.
Korczak-Zawadzka Z. Nad Tuwimowskimi przekladami Gogola (Ze wspom-nien adiustatorki). Над тувимовскими переводами Гоголя. (Из воспоминаний редактора). «Problemy», Warszawa, 1968, No 12, s. 709— 714.
Ko sty rko к. О koniecznosci przekladu. О необходимости перевода. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 1—3.
476
Kultuniak-Abramowska J. Przekladu staropolskiego naiwnosci i paradoksy. Наивности и парадоксы старопольского перевода. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 35—37.
KureckaM. О zlych i dobrych utopistach. О плохих и хороших утопистах. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 31—32.
Leszczynski R. О Janie Zytowiczu tlumaczu Jiraska. О Яне Житовиче — переводчике Ирасека. «Pami^tnik slowianski», Warszawa, t. 19, s. 145—147.
Madany E. Pawel Hulka-Laskowski tlumacz i popularyzator literatury czeskiej w Polsce. П. Гулька-Лясковский — переводчик и популяризатор чешской литературы в Польше.— In: Studia poswi^cona stdsunkom literackim Polsko-Czeskim i Polsko-Slowackim. Wroclaw, etc., 1969, s. 137—153.
Migon R, Recepcja ksiqzki orientalistycznej na Slgsku do konca XVIII wie-ku. Восприятие восточной книги в Силезии в конце XVIII века. Wroclaw etc., «Ossolineum», 1969, 216 s. (Monografie z dziejow nauki i techniki, t. 62).
Neveux J. B. Henryk Sienkiewicz i Edouard Siebecker «Zemsta rabina» a «La revanche du rabbin». Генрик Сенкевич и Эдуард Сьебекер. «Месть раввина» и «La revanche du rabbin», «Pami^tnik literacki», Wroclaw etc., 1969, zesz. 2, s. 149—159.
Niedziela Z. Czeski przeklad «Beniowskiego». Чешский перевод «Веневского» [перевод поэмы Ю. Словацкого был сделан Г. Еховой, Прага, 1967]. «Pami^tnik slowianski», Wroclaw etc., 1968, t. 18, s. 323—325.
Orlowski J, Zapomniany przeklad z Puszkina. Забытый перевод из Пушкина. [О переводе Ю. Дискстенувной стихотворения «Узник» (1919)]. «Poezja», Warszawa, 1969, No 11, s. 43—44.
Osinski Z. Przeklad tekstu literackiego na j^zyk teatru. (Zarys problema-tyki). Перевод литературного текста на язык театра. (Очерк проблематики).— In: Dramat i teatr. Pi$ta konferencja teoretyczno-literacka... Wroclaw etc., 1967, s. 119—156.
Osinski Z. Sztuka teatru a teoria przekladu. Искусство театра и теория перевода. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 56—57, 62.
Petrica J. Literature polska w Rumunii. Польская литература в Румынии. «Zycie literackie», Krakow, 1969, 24 sierp., No 34, s. 14—15.
Radd Gy. Zagadnienia wersyfikacji w w^gierskich przekladach wierszy Mickiewicza. Проблемы стихосложения в венгерских переводах стихов Мицкевича.— In: Studia z dziejow polsko-w^gierskych stosunkow literackich i kulturalnych. Wroclaw etc., 1969, s. 337—354.
Rafaj 0. Literature polska w Czecho-Slowacji. Польская литература в Чехословакии. «Odra», Wroclaw, 1969, No 12, s. 39—40.
Ratajczak J. О tlumaczeniu. (Kartki z notatnika). О переводе. (Листки из блокнота). «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 42—44.
Reychman J. О przekladach literatur orientalnych w Polsce. О переводе восточных литератур в Польше. «Przegl§d orientalistyczny», Warszawa, 1968, No 4, s. 325—338.
Ry tel J. О problemach sztuki przekladu w wieku XVII. (Na marginesie tworczosci Krzystofa Piekarskiego). О проблемах искусства перевода в XVII веке. (На полях сочинений Кжистофа Пекарского). «Prze-gl§d hum an istyczny», Warszawa, 1969, No 5, s. 39—59.
Samociuk T. Antoni Lange — propagator literatury w^gierskiej w Polsce, А. Ланге — пропагандист венгерской литературы в Польше.—
477
in: Studia z dziejow polsko-w^gierskich stosunkow literackich i kultu-ralnych. Wroclaw etc., 1969, s. 434—447.
Sinko G. Witkacy na szerokim swiecie. Герои Виткевича вышли в широкий мир. «Dialog», Warszawa, 1969, No 12, s. 134—141. [О переводе произведений С. Виткевича за рубежом].
Sivert Т. «Konfederaci barscy» Mickiewicza w przekladzie i z «Dokyhczeni-em» T. A. Olizarowskiego. «Барские конфедераты» Мицкевича в переводе и с «Окончанием» Т. А. Олизаровского. «Przeglgd humanistycz-пу», Warszawa, 1969, No 4, s. 91—100.
Szastyiiska-Siemionowa A. Polskie przeklady Pindara. Польские переводы Пиндара.— In: Classica wratislaviensia. 3. Wroclaw, 1968, s. 3—14.
Szkup J. Recepcja prozy Ernesta Hemingwaya w Polsce Ludowej (1945— 1965). Восприятие прозы Э. Хемингуэя в Народной Польше (1945— 1965). «Acta philologica» (Uniw. Warszawski), 1968, No 1, s. 69—84.
Szmydtowa Z. Lament Sakrypanta u Ariosta i w spolszczeniu Piotra Kocha-nowskiego na tie renesansowych przetworzen motywu. Плач Сакри-панта у Ариосто и по-польски у Петра Кохановского на фоне ренессансных пересозданий мотива. — In: Z. Szmydtowa. Studia i port-rety. Warszawa, 1969, s. 35—53.
Szwecow-Szewczyk M. О poprawionym przekladzie dramatu Moliera «Mizantrop» (Tadeusz Boy-Zelenski; Gabriel Karski). Об исправленном переводе драмы Мольера «Мизантроп» (Тадеуш Бой-Желен-ский — Габриэль Карский). «Poradnik j^zykowy», Warszawa, 1969, , No 8, s. 428—440.
Slizifiski J. Ignat Hermann a Polska. И. Германн и Польша. «Przegl§d r humanistyczny», Warszawa, 1969, No 5, s. 167—171.
Slizinski J. Recepcja tworczosci Alojzego J iraSka w Polsce. Восприятие творчества А. Ирасека в Польше. «Sobotka», Wroclaw, 1969, No 1, s. 43—56.
Slizifiski J. Recepcja tworczosci Otokara Breziny w Polsce. Восприятие творчества О. Бржезины в Польше.— In: Studia poswiQcone stosun-kom literackim Polsko-Czeskim i Polsko-Slowackim. Wroclaw etc., 1969, s. 125—135.
Wanat A. Mistrze mistrzow tlumaczyli. Мастера переводили мастеров. [Польские литераторы XIX—XX вв. как переводчики]. «Nurt», Poznan, 1968, No 8, s. 33—35.
Wroclawski К- Poezja slowianska w przektadach Blaze Koneskiego. Славянская поэзия в переводах Б. Конеского. «Pami^tnik slowianski», Warszawa, 1969, t. 19, s. 189—196.
Zabierowski S. «Lord Jim» w Polsce (1904—1939). «Лорд Джим» [Д. Конрада] в Польше.— In: Prace historyczno-literackie. Zesz. 14, Krakow, 1968, s. 193—209.
Zabierowski S. Recepcja «Lorda Jima» w Polsce w latach 1939—1961. (Zarys problematyki). Восприятие «Лорда Джима» в Польше в 1939— 1961 гг. «Rocznik Komisji historycznoliterackiej», Wroclaw etc., 1968, No 6, s. 115—139.
Zi^tarska J. Sztuka przekladu w pogl^dach literackich polskiego OSwie-cenia. Искусство перевода в литературных воззрениях периода польского Просвещения. Wroclaw etc., «Ossolineum», 1969, 325 s. (In-stytut badah literackich. PAN. Studia z okresu Oswiecienia, t. 10 [Рец. см. в настоящем сборнике: А. Големба. Слово старых мастеров, с. 387—415].
478
Zig tar ska J. Z problemow teorii i historii Uumaczen. Проблемы теории и истории перевода. «Przeglad human istyczny», Warszawa, 1969, No 4, s. 150—157.
Zakiewicz Z. Literatura rosyjska lat 1895—1914 w krQgu Mtodej Polski. Walka о nowa koncepcjQ literatury rosyjskiej. Русская литература 1895—1914 гг. в кругу Молодой Польши. Борьба за новую концепцию русской литературы. «Slavia orientalis», Warszawa, 1968, No 4, s. 483—503.
РУМЫНИЯ
Baconsky R. In marginea poeziei lui Saint-John Perse.— Cu pri lejul traducerii semnate de Aurel Rau. О поэзии Сен-Жон Перса. Отклик на переводы Оурела Реу. «Steaua», Cluj, 1969, No 12, р. 170—172. Bdrbulescu S. Comentarii critice. Критические комментарии. Bucure§ti.
Ed. pentru lit., 1969. 375 р.Из содерж.: Данте и его произведения в Румынии, с. 247—267; Данте в новом .толковании А. Балаци, с. 268—273.
Chinezu I. «Tragedia omului» de E. Madach tn traducerea d-lui O. Goga. «Трагедия человека» Мадача в переводе О. Гоги.— In: I. Chinezu. Pagini de critica. Ed. mgr. §i pref, de I. Negoijescu. Bucure$ti, 1969, p. 26—30.
Lang R. Observatii asupra teoriei generale a traducerii. Замечания к общей теории перевода. «Studia Univ. Babe§-Bolyai». Cluj, 1969. Ser. philolog. fasc. 2, p. 153—157.
Lupan R. Traducere §i interpretare. Перевод и интерпретация. [Об антологии современной румынской поэзии, вышедшей в Лондоне в 1969 г.]. «Steua», Cluj, 1969, No 12, р. 164—169.
США
Aho А. V., Hopcroft Е. and Ullman J. D. A general theory of translation. Общая теория перевода. [Математические аспекты теории перевода]. «Mathematical systems theory», N. У., 1969, vol. 3, No 3, p. 193—221.
* Benjamin W. The task of the translator. Задача переводчика. «Delos», Austin, Texas, 1968, vol. 2, No 2, February, p. 76—99.
* Bierman B. On translation. Comment, dissent and assent. О переводе. Споря, соглашаясь и не соглашаясь. «АТА», N. Y., 1968, vol. 2, No 3, р. 1—5.
Byron Raizis М. [Рец. на кн.: 1) Kostes Palamas. The king’s flute, tr. by F. Will. Lincoln, Univ, of Nebraska press, 1967, XXXVIII, 206 p.; 2) Kostes Palamas. The twelve words of the gypsy, tr. by F. Will. Lincoln, Univ, of Nebraska press, 1964, XXI, 205 p.].— In: Yearbook of comparative and general literature. No 18, Bloomington, 1969, p. 86—89.
Chao Yuen Ren. Dimensions of fidelity in translation with special reference to Chinese. Пределы верности в переводе, в частности применительно к китайскому языку. «Harvard journal of Asiatic studies», Cambridge, Mass., 1969, vol. 29, p. 109—130.
Cermdk J. Die tschechische Kultur und Franz Kafka. Die Kafka — Re-zeption in Bohmen 1920—1948. Чешская культура и Ф. Кафка. Вос
479
приятие Ф. Кафки в Чехословакии в 1920—1948 гг. «Monatshefte», Madison, 1969, vol. 61, No 4. S. 361—375.
Lind L. R. [Рец. на кн.: Ovid’s Amores, tr. Guy Lee with Latin text. N. Y., Viking Press, 1968, 209 p.] — In: Yearbook of comparative and general literature. No 18, Bloomington, 1969, p. 84—86.
Link F. M. Aphra Behn. Афра Бен. N. Y., 1968; гл. 7: Афра Бен как переводчица, с. 116—129.
Lufkin J. М. What everybody should know about translation. Что должен знать каждый о переводе. «Special libraries», N. Y., 1969, No 2, p. 74—81.
Maeda C. On translating the «Haiku» form. О переводе «хокку». «Harvard journal of Asiatic studies», Cambridge, Mass., 1969, vol. 29, p: 131— 168.
Nida E. A. Science of translation. Наука перевода. «Language», Baltimore, 1969, vol. 45, No 3, p. 483—498.
* Schiffrin A. Translation and the publisher. Перевод и издатель. «Delos», Austin, Texas, 1968, vol. 2, No 1, Jan., p. 176—187.
Swanson R. А. [Рец. на кн.: Homer. The Odyssey: a new verse translation, tr. Albert Cook. N. Y., Norton, 1967. XII+340 p.].— In: Yearbook of comparative and general literature, Bloomington, 1969, No 18, p. 82—84.
* Wolff H. Translation and the editor. Перевод и редактор. «Delos», Austin, Texas, 1968, vol. 2, No 2. Febr., p. 161—166.
ФРАНЦИЯ
Asturias M. A. Coexistance poetique. Поэтическое сосуществование. [Об ограниченных возможностях перевода поэзии]. «Lettres fran^ai-ses», Paris, 1968, No 1259, p. 6—7.
* Boll A. Theatre lyrique et traduction. Поэтический театр и перевод. «Traduire», Paris, 1968, No 57, p. 3—7.
* Bonnerot L. Chateaubriand traducteur de Milton. Шатобриан — переводчик Мильтона. «Traduire», Paris, 1969, No 58, p. 21—26.
* Caille P.-F. La reunion du Comite d’experts sur les droits des traducteurs (UNESCO). Avant-propos. Заседание Комитета экспертов по правам переводчиков (ЮНЕСКО). Вступительное слово. «Traduire», Paris, 1969, No 58, р. 2—3.
* Caille P.-F. La reunion du Comite d’experts sur les droits des traducteurs (UNESCO): Les recommandations du Comite d’experts. Заседание Комитета экспертов по правам переводчиков (ЮНЕСКО). Рекомендации Комитета экспертов. «Traduire», Paris, 1969, No 58, р. 18—20.
* Caille P.-F. et Malinverni P. La reunion du Comite d’experts sur les droits des traducteurs (UNESCO): Le rapport de la FIT. Заседание Комитета экспертов по правам переводчиков (ЮНЕСКО): доклад Международной федерации переводчиков. «Traduire», Paris, 1969, No 58, р. 4—14.
* СаШё P.-F. et Malinverni P. La traduction en France. Перевод во Франции. «Traduire», Paris, 1968, No 56, p. 2—8.
* Chrestien M. Sur plusieurs conceptions du traducteur. О нескольких концепциях переводчика. «Traduire», Paris, 1968, No 57, p. 7—9.
* Darbelnet J. Responsabilite du traducteur. Ответственность переводчика. «Traduire», Paris, 1968, No 55, p. 9—11.
480
Decoudin M. Apollinaire en Pologne. Аполлинер в Польше. «Lettres fran^aises», Paris, 1969, No 1268, p. 12—13.
* Etiemble. La traduction est-elle un art ou une science? Что такое перевод — искусство или наука? «Traduire», Paris, 1968, No 55, р. 4—5.
* Gorjan Z. Quelques mots sur le role international de la traduction et sur le role que la SFT a joue dans la FIT. Несколько слов о международной роли перевода и о роли, которую сыграло Французское общество переводчиков в Международной федерации переводчиков. «Traduire», Paris, 1968, No 55, р. 6—8.
Goupy A. L’art de traduire selon Annenskij. Искусство перевода по [И.] Анненскому. [О статье И. Ф. Анненского «Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфи-рова»]. «Revue d’etudes slaves», Paris, 1968, t. 47, No 3, p. 39—53.
Granjard H. StankeviC en Pologne et en Boheme. Станкевич в Польше и Чехословакии. «Cahiers du monde russe et sovietique», Paris — La Haye, 1969, vol. 10, No 1, p. 21—37.
* Guillermou A, La traduction, service national. Перевод на службе нации. «Traduire», Paris, 1968, No 55, p. 27—30.
* Ljudskatiov A. Traduction humaineet traduction mecanique. Переводит человек и машина, t. 1. Paris, Dunod* 1969, 58 p. Multigraphie. Mounin, G. La communication poetique. Precede de Avez-vous lu Char? Поэтическое общение. Читали ли вы прежде Шара? [Paris] Galli-mard, 1969, 297 р. (Les essais, 145).
Mousset P. La traduction. Перевод. [Речь по случаю 20-летия со дня основания франц, ассоц. переводчиков]. «Vie et langage», Paris, 1968, No 199, p. 622—625.
* Noel C. Des traducteurs dans la litterature fran$aise. О переводчиках во французской литературе. «Traduire», Paris, 1968, No 56, p. 19—20.
* Pitoeff S. La traduction theatrale vue par un metteur en scene. Драматургический перевод с точки зрения режиссера. «Traduire», Paris, 1969, No 59, р. 9—12.
Robel L. Problemes theoriques de la traduction de la poesie russe en fran-^ais. Теоретические проблемы перевода русской поэзии на французский язык. «Revue des etudes slaves», Paris, 1968, t. 47, p. 123— 128.
* Valot H. La traduction des auteurs classiques avant la Renaissance. Перевод классических авторов до эпохи Ренессанса. «Traduire», Paris, 1969, No 59, р. 3—8,
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Bartos О. О stylu Pilarovych prekladu z modernf polske lyriky. О стиле переводов современной польской лирики, выполненных Пиларжем. «Bulletin ustavu ruskeho jazyka a literatury», Praha, 1968, sv. 12, s. 105—114.
Brtdn R. Jan Kochanowski v ceskej a slovenskej literature. Ян Коханов-ский в чешской и словацкой литературе. «Slavica slovaca», Bratislava, 1968, No 4, s. 379—390.
Bukacek J. Vrchlickeho preklady z Danta. Данте в переводе Врхлицкого. Praha, 1968, 81 s. Rec.:M. Herman. «Ceska literatura», Praha, 1969, No 4, s. 439—441.
481
Dohnal В. Preklad jako tvar. (K Ceskym prekladum poezie PuSkinoVy)* Перевод как вид. (К чешским переводам поэзии Пушкина). «Slavia», Praha, 1968, No 4, s. 603—626.
DurisinD. Otazky porovnacieho skumania literathr a analyza prekladatel-skej metody. Вопросы сравнительного исследования литератур и анализ переводческого метода.— In: Mezinarodni sjezd slavistu, 6, Praha, 1968. Ceskoslovenske prednaSky. Praha, 1968, s. 389—396.
Felix J. Prekladatel’ska tvorba ocami Jozefa Felixa. Переводческое творчество глазами Йозефа Феликса. [Интервью словацкого переводчика французской литературы]. «Literarni zivot», Bratislava, 1969, 17 jula, No 5, s. 2.
Holub M. Vyznam a hranice prekladu. Значение и границы перевода. «Orientace», Praha, 1969, No 2, s. 13—14.
Chtnel R. Umelecky preklad ako kulturny a jazykovy komunikat. (Prispe-vok k problematike prekladania z mad’arskej literatury do slovenfciny do roku 1918). Художественный перевод как культурная и языковая коммуникация. «Slovenska literatura», Bratislava, 1969, No 2, s. 149—170.
Капа J. Slovenske prispevky k literature о prekladani. Словацкий вклад в литературу о переводе. «Impuls», Praha, 1968, No 9, s. 718—720.
Kochol V. Metrum a rytmus v basnickom preklade. Метр и ритм в стихотворном переводе.— In: Rytmus a metrum. Bratislava, 1968, s. 5— 45.
Koska J. К otazke prijimania Ivana Vazova na Slovensku na prelome storo-Ci. К вопросу восприятия И. Вазова в Словакии на рубеже столетий. «Slavica slovaca», Bratislava, 1969, No 2, s. 152—167.
Kral 0. Basnicky preklad, kategorie rozpjatosti a cinska basen. Поэтический перевод, категория расстояния и китайская поэзия. «Orientace», Praha, 1968, No 4, s. 75—82
Krupa V. Some remarks on the translation process. Несколько замечаний о процессе перевода.— In: Asian and African studies. 4. 1968. Bratislava, 1969, p. 49—56.
Ksicovd D. FrantiSek Taborsky jako pfekladatel a propagatorruske lidove slovesnosti. Ф. Таборский как переводчик и пропагандист русской народной словесности. «Slavia», Praha, 1968, No 3, s. 424—448.
Literdrne vzt'ahy Slovdkov a juznych Slovanov. Sbornik prac z ved. konf. v Smoleniciach od 30.10 do 1.11, 1966. Литературные связи словаков и южных славян. (Prebal a v^zbu navrhol R. Majdlen). Bratislava, Vyd-vo Sloven, akad. vied, 1968, 376 s. (Slovenska akad. vied. Ostav svetovej lit. a jazykov. Матица српска. Бълг. акад, на науките. Ин-т за лит.). Из содержания: Я. Фридецкий. Перевод работ Штура о народных повестях и песнях на югославянские языки, с. 207—217; М. Одран. К вопросу о переводе болгарской литературы на словацкий язык, с. 330—335; Е. Велинова. Словацкая литература в Болгарии, с. 336—340; А. Врбацкий. Югословацкая литература в Словакии, с. 348—352.
Marusiakova V. Svojbytnost’ prekladatel’skej profesie. Своеобразие переводческой профессии. «Literarni zivot», Bratislava, 1969, No 5, s. 3.
Mat'ovcik A. Kollarova «Slavy dcera» v ruStine. «Дочь славы» Коллара на русском языке. «Slovenska literatura», Bratislava, 1969, No 6. s. 656—657.
482
Palkovid К. Vyuzitie naredi pri prekladani. Использование диалектов при переводе. «Kultura slova», Bratislava, 1969, No 6, s. 200—205.
Panovova E. Slovenske literarne polemiky a Chomiakov. Словацкие литературные споры и Хомяков. [Об отношении к творчеству А. С. Хомякова в связи с переводами его произведений словацкими поэтами XIX века]. «Ceskoslovenska rusistika», Praha, 1969, No 4, s. 162—167.
Pelikdn J. Z problematyki ttumaczen literatury polskiej na j\zyk czeski. «Balladyna» i «Lilia Weneda» w przekladach O. Mokrego i F. Halasa. Из проблематики переводов польской литературы на чешский язык. «Балладина» и «.Дилла Венеда» [Ю. Словацкого] в переводах О. Мокрого и Ф.уГаласа. «Sbornik praci Filosofickeho fakulty Brnenske university». Rada literarnSvSdna, 1968, No 15, s. 137—164.
Popovid A. Preklad a vyraz. Перевод и выражение. Bratislava, Vyd. Sloven, akad. vied, 1968, 249 s. (Sloven, akad. vied. Ustav Svetovej literatury a jazykov a Sloven, literarnovedna spolednost). Rec.: 1) Petrovic J. Od historic k teorii prekladu. «Slovenska literatura», Bratislava, 1969, No 2, s. 231—233; 2) Balcerzan E. «Pami^tnik lite-racki», Wroclaw etc., 1969, No 4, s. 346—354; 3) Stevcek J. Kniha о problemoch prekladu. «Slavica slovaca», Bratislava, 1969, No 2, s. 207—209; 4) Kraus C. Exatne badanie a ideologizmy. «Slovenske pohl’ady», Bratislava, 1969, No 10, s. 141—143; 5) Marcok V. Preklad ako hl’adanie vyrazu. «Slovenske pohl’ady», Bratislava, 1968, No 11, s. 150—151; 6) HviSc J. Preklad ako vyraz. v«Mlada tvorba», Bratislava, 1968, No 9, s. 56—58; 7) Stepankova. «Ceska literatura», Praha, 1969, No 4, s. 437—439. См. также в настоящем сборнике в статье Вл. Россельса «Склонение теории на свои нравы», с. 442.
Popovic A. Preklad — interpretacia. Перевод как интерпретация. «Slovenske pohl’ady», Bratislava, 1969, No 7, s. 7—63.
Popovic A. Rytmicke posuny v preklade. (Petofi a Hviezdoslav). Ритмические сдвиги в переводе. (Петефи и Гвездослав).— In: Rytmus a met-rum. Bratislava, 1968, s. 46—80.
Slizinski J. Martin Kukucin w Polsce. M. Кукучин в Польше. «Slavica slovaca», Bratislava, 1968, No 4, s. 412—414.
Sto padesat let cesko-ukrajinskych literam'ich styku. Сто пятьдесят лет чешско-украинских литературных связей. Praha, «Svet Sovetu», 1968, 478 s. Rec.: Koutenska Z. «Slavia», Praha, 1969, No 3, s. 512—513.
Tomicic Z. Slovadki pjesniaXIX i XX stoljeca u hrvatskim prijevodima. Словацкие песни XIX и XX столетий в сербо-хорватских переводах.— In: Literarne vzt’ahy Slovakov ajuznych Slovanov. Bratislava, 1968, s. 258—270.
Turcany V. Petrarcova Laura v slovenfcine alebo Vavirn jej prekladatel’om. Лаура Петрарки на словацком языке и ее переводчик Ваврин. «Slovenske pohl’ady», Bratislava, 1969, No 11, s. 124—135.
Valkova Z. Niekolko poznamok k problematike slovenskych rytmickych ekvivalentov v prekladoch V. Majakovskeho. Некоторые замечания к вопросу о словацких ритмических эквивалентах в переводах произведений В. Маяковского. «Slovenska literatura», Bratislava, 1969, No 5, s. 511—522.
Vldsek J. О vztahu prekladove techniky a poetiky 51аго8^ёпзкёЬо zal-tafe. О связи поэтики старославянского псалтыря с переводческой техникой. «Slavia», Praha, 1969, No 4, s. 607—615.
483
VlasinovdV. Cesko-ruske vzt’ahy v 50 a 60 letech minulehostoleti. Чешско-русские связи в 50-х и 60-х годах прошлого столетия. Рец.на кн.: Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. Л., 1968, 247 с. «Cesko-slovenska rusistika», Praha, 1970, No 1, s. 38—41.
ШВЕЦИЯ
Nilsson N, A. Style and translation. Some remarks on problems of style in translations. Стиль и перевод. Замечания о проблеме стиля в переводах. «Moderna sprak», Malmo, 1969, vol. 63, No 1, p. 49—60.
ЮГОСЛАВИЯ
А. К. H. Норвешка антологща на нашата поэзия. Норвежская антология нашей поэзии. [Рец. на кн.: Jugoslavisk kvartet. Serbisk, Kroa-tisk, Slovensk og. Makedonsk etterkrigslirikk. Ein Antologi ved Svein Moennesland, Oslo, 1968]. «Современост», Cnonje, 1969, 6p. 8—9, c. 971—972.
Берий В. H. Прилог питагьу превойеш а Виланда у нас. Вопросы перевода Виланда у нас. «Зборник Матице српске за кгьижевност и ]език», Нови Сад, 1968, кн>. 16, № 1, с. 142—143.
Вулетий В. Тургенев код Срба у шездесетим и седамдесетим годинама XIX века. Тургенев у сербов в 60-е и 70-е годы XIX века. Нови Сад. Универзитет. Филозофски факултет. Годиипьак... Нови Сад, 1968, кн>. 11, св. 2, с. 493—529.
Драго']ловий Д. О преводу «Вести]ара» Леонарда да Винчи]а у српско] кььижевности XVII века. О переводе «Бестиария» Леонардо да Винчи в сербской литературе XVII века. «Кшижевност», Београд, 1969, св. 4, с. 413—419.
Живановий Б. У]един>ена омладина и полоска кгьижевност. Объединенная молодежь и польская литература. У кш.: У]един>ена омладина » српска. Нови Сад, 1968, с. 259—286.
Ивагьи И. Кристална чаша воде са извора. Кристальная чаша родниковой воды. «Кшижевност», Београд, 1969, № 2, с. 203—207.
JocuMoeutiP. Ролан и Лугословени. Роллан в Югославии. «Анали филол. фак.» (Београд. ун-т), Београд, 1968, кн>. 8, с. 323—331.
КалезийВ. Поези]а Родована ЗоговиЪа на русском ]езику. Поэзия Р. Зо-говича на русском языке. [Рец. на кн.: Упрямые строфы. М., «Прогресс», 1968]. «Летопис Матице српске», Нови Сад, 1969, кн>. 403, № 2, с. 235—236.
Ковачек Б. Преводи майарске белетристике у српским кшижевним ча-сописима шездесетих година XIX века. Переводы венгерской литературы в сербских литературных журналах 60-х годов XIX века. «Зборник Матице српске за кшижевност и ]език», Нови Сад, 1968, кн>. 16, № 1, с. 159—162.
Далий Р. О уза]’амним везама измейу старе српске и руске кгьижевнос-ти. Взаимосвязь между старой сербской и русской литературой. «Прилози за кььижевност, ]език, истори]у и фолклор». Београд, 1968, КН). 34, № 3—4, с. 179—202.
Меденица Р. [Рец. на кн.: Peukert Н. Ivan Gundulics «Osman» in Deutschland. Berlin, 1969, 99 S.]. «Прилози за кшижевност, език, истори]у и фолклор», Београд, 1969, кн>. 35, св. 3—4, с. 302—306.
484
Mycutb С. Српскохрватски преводи приповетке Сеоско Витештво (Cava-leria Rusticana) от Тюванща Верге. Сербско-хорватские переводы рассказов Сельского Рыцарства (Cavaleria Rusticana) Джованни Верга. «Анали филол. фак. (Београд. ун-т), Београд, 1968, кн>. 8, с. 333—342.
Не]ман А. К. Песне од Блаже Конески на италщански. Песни Блаже Конеского по-итальянски. «Стремеж». Прилеп, 1969, бр. 1, с. 56—58, ПавиГь М. «Хелада» Воислава ИлиЬа. «Эллада» Воислава Илича.
«Кншжевност», Београд, 1969, № 2, с. 175—190; 1969, № 3, с. 283— 300.
С шалев Г. Интерпретаци]’а на Пушки новиот ]амб во македонскиот препев на «Евгений Онегин». Интерпретация пушкинского ямба в македонском переложении «Евгения Онегина».— В кн.: Реферата на македонските слависта за VI МеЬународен славистички конгрес во Прага, CKonje, 1968, с. 53—58.
Badalic J. Hrvatsko knjizevno stvaralaStvo u ruskoj knjizevnosti. Литературное творчество хорватов в русской литературе. «Mogucnosti», Split, 1968, No 9—10, s. 1155—1173.
Barbaric S. Ivan Cankar v MadzarScini. Иван Цанкар в Венгрии. «Slavisticna revija», Ljubljana, 1969, §t. 2, s. 241—247.
Bekic T. Tomas Man kod Srba i Hrvata. Томас Манн у сербов и хорватов.— В кн>.: Нови Сад. Универзитет. Филозофски факултет. Го-дишььак... Кн>. 11, св. 1, Нови Сад, 1968, с. 397—421.
Berkopec О. Delo Ivana Cankarja v deskih prevodih in v luci ceske publicis-tike v zacetku stoletja. Произведения И. Цанкара в чешских переводах и чешской публицистике начала столетия. «Slavisticna revija», Ljubljana, 1969, st. 2, s. 247—277.
Brncic V. Cankar pri Rusih. И. Цанкар на русском языке. «Slavisticna revija», Ljubljana, 1969, st. 2, s. 277—282.
Broda I. Jun. Bosanska problematika odrazava jednu univerzalnu tragiku. Боснийская проблематика отражает трагизм общей ситуации. «Zivot», Sarajevo, 1968, No 11—12, s. 68—72.
Cenda M. Slovenski razsvetljenci in Metastasio. Словенские толкователи [проповедей] Метастазио. «Jezik in slovstvo», Ljubljana, 1968, No 8, s. 237—240.
Cale F. Torquato Tasso e la letterature croata. Торквато Тассо и хорватская литература. «Studia romanica et anglica zagrabiensia», Zagreb, 1969, No 27—28, p. 169—194.
Curcija-Prodanovid N. О prevodenju dramskih dela. О переводе драматических произведений. «Savremenik», Beograd, 1969, No 12, s. 401 — 406.
Dragojlovic D. Srpsko-francuske knjizevne veze u srednjem veku. Сербско-французские литературные связи в средние века. «Savremenik», Beograd, 1969, No 3, s. 253—263.
Flaker A. «Zenit» i sovjetska knjizevnost. [Журнал] «Зенит» и советская литература. «Mogucnosti», Split, 1968, No 9—10, s. 1216—1228.
Janicijevic J. Uloga prevodne knjizevnosti u razvitku nacionalne knjizevnosti. Роль переводной литературы в развитии национальной литературы. «Savremenik», Beograd, 1969, No 12, s. 407—412.
Jauk-Pinhak M. О prijevodima klasicne sanskrtske literature kod nas. О переводах классической санскритской литературы у нас.— In:
485
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Rad. knj. 350. Zagreb, 1969, s. 620—625.
Katicic R. Indija u staroj hrvatskoj i srpskoj knjizevnosti. Индия в старой хорватской и сербской литературе. «Ко1о», Zagreb, 1968, No 8—9, s. 171—181.
Kovacevic К. Peter Preradovic in den Briefen von Stephan Milov und Ivan Truski. Петр Прерадович в переписке Стефана Милова и Ивана Тру-ски. [В письмах сведения о переводческой деятельности. П. Пре-радовича].— In: Скоп]’е. Универзитет. Филозофски факултет. Ис-торико-филолошки оддел. Годишен зборник. кн. 20, CKonje, 1968, с. 291—325.
Kvapil М. Zanat ili umjetnost izmedu dvije stolice. Ремесло или искусство, или искусство между двух стульев. «Savremenik», Beograd, 1969, No 12, s. 393—400.
Macan T. Ivo Vojnovic u slovackom prijevodu. И. Войнович в словенском переводе. «Dubrovnik», 1969, br. 2, s. 88—89.
* Marcovic В. О problemima prevodjenja. Проблемы перевода. «Bilten» (Saveza knjizevnih prevodilaca Jugoslavije), Beograd, 1968, maj — avgust, s. 1—2.
Matillon J. Les ballades de Petrica Kerempuh de Miroslav Krleza et leur adaptation en langue fran^aise. «Баллады Петрица Керемпуха M. Крлежи и их перевод на французский язык». «Bridge», Zagreb, 1969, No 13, s. 22—26.
Mika C. Peter Preradovic u talijanskim prijevodima XIX st. u Zadru. (Povodom 150 godisnjice rodenja). П. Прерадович в итальянских переводах XIX в. в Задаре. (К 150-летию со дня рождения). «Za-darska revija», 1968, br. 5, s. 424—426.
Milovic J. Dalji njemacke uzori Zmajevi. О немецких переводах Змая. «Zadarska revija», 1969, br. 1, s. 56—70.
Pericic S. Ruska knjizevnost u Dalmaciji do godine 1916. Русская литература в Далмации до 1916 года. «Mogucnosti», Split, 1968, No 9— 10, s. 1246—1255.
ShitaV. О albanskoj knjizevnosti u Jugoslaviji. Об албанской литературе в Югославии. «Mogucnosti», Split, 1969, No 4, s. 373—377.
Smolej V. Cankarjeva proza na Slovaskem. Проза И. Цанкара на словацком языке. «Slavistitna revija», Ljubljana, 1969, §t. 2, s. 291—307.
Stefan R. Cankar pri poljakih. И. Цанкар в Польше. «Slavisticna revija», Ljubljana, 1969, §t. 2, s. 307—313.
Todorova L. Sur les traces de Xavier Marmier au Montenegro. По следам Ксаверия Мармье в Черногории.— В: CKonje. Универзитет. Филозофски факултет. Историко-филолошки оддел. Годишен зборник. Кн. 20, CKonje, 1968, с. 327—337.
Zoric М. Kukuljevic i jedna talijanska knjizevna mistifikacija. Кукулевич и одна итальянская мистификация. «Прилози за кн>ижевност, je3HK, HCTopujy и фолклор», Београд, 1969, кнэ. 35, св. 1—2, с. 49—55.
ЯПОНИЯ
Matzumaru К. Zur Formfrage beim Ubersetzen von Lyrik. An Hand der deutchen Ubersetzungen Japanischer Kurzgedichte. Вопросы формы при стихотворном переводе. На примере немецких переводов японских стихотворных миниатюр. «Doitsu bungaku», Tokyo, 1968, No 41, p. 58—67.
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ И КРИТИКА
А. Беставашвили. Пегас и Мерани........................ 5
М. Новикова (Симферополь). Китс—Маршак—Пастернак. (Заметки об индивидуальном переводческом стиле).......... 28
Ст. Рассадин. Плюс десять веков.........................55
М. Гаспаров. Брюсов и буквализм. (По неизданным материалам к переводу «Энеиды»). Вступительная заметка Льва Озерова . . 88
Л. Соболев. Перевод—залог дружбы литератур. Вступительная
заметка Виля Ганиева......................................129
ПОРТРЕТЫ
Е. Зисельман (Свердловск). В мастерской Павла Антокольского (Из истории русского Барбье) .............................143
Е. Эткинд (Ленинград). Мастер поэтической композиции. (Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица) ..................187
КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
К. Суренян (Ереван). Мои «Братья Карамазовы»..............233
Ю. Яхнина. Три Камю.......................................255
ИЗ ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА
Вл. Кафаров (Баку). Капли в море .........................289
ПЕРЕВОДЧИК И СЛОВАРИ
С. Флорин (Болгария). Необходимое пособие. Перевод Н. Огневой ......................................................327
В. Берков (Ленинград). О словарных переводах.............340
Р. Будагов. Несколько замечаний о «ложных друзьях переводчика» 362
487
ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ЗА РУБЕЖОМ
Б. Ринчен (МНР). К истории перевода в Монголии...........371
А. Големба. Слово старых мастеров...................... 387
Вл. Россельс. Склонение теории на свои нравы.............415
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Советский Союз. (Сост. Н. Назаревский. Под редакцией К. Дуль-невой)...................................................436
II. Зарубежные страны. (Сост. Б. Хавес)..................464
МАСТЕРСТВО ПЕРЕВОДА
М., «Советский писатель», 1971, 488 стр.
План выпуска 1971 г. № 296
Редактор К. Н. Полонская. Художник Я. Г. Днепров Художественный редактор Н. С. Лаврентьев. Технический редактор Р. Я. Соколова. Корректоры: С. Б. Б л а у ш те йн, С. И. Малкина и В. В. Сорокина
Сдано в набор 4/1 1971 г. Подписано к печати 6/1X 1971 г. А11713. Бумага 84Х 108V32 №2, Печ. л. 15V4 (25,79). Уч.-изд. л. 27,13. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1908. Цена 1 р. 30 к.
Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва М-54, Валовая, 28.