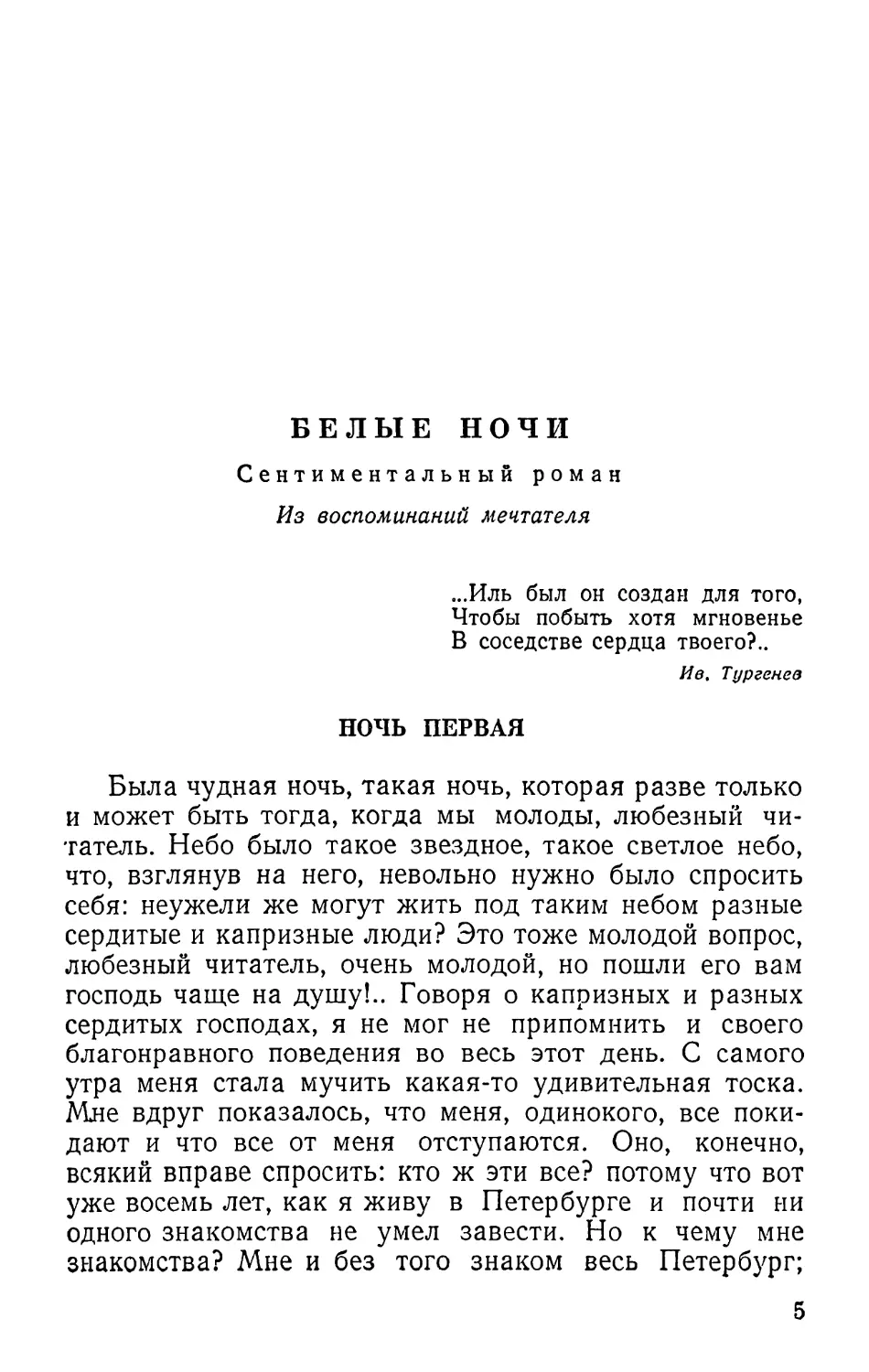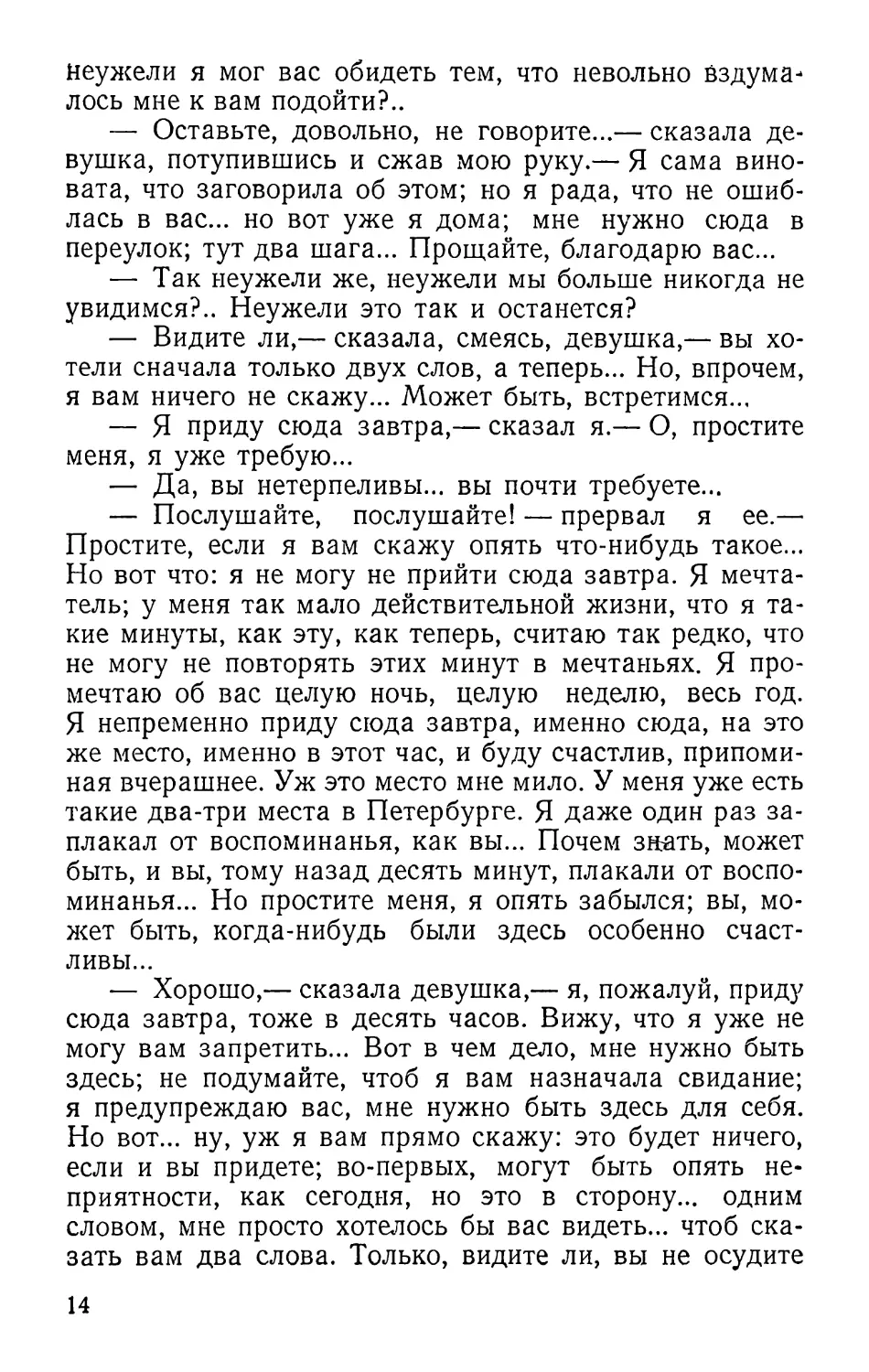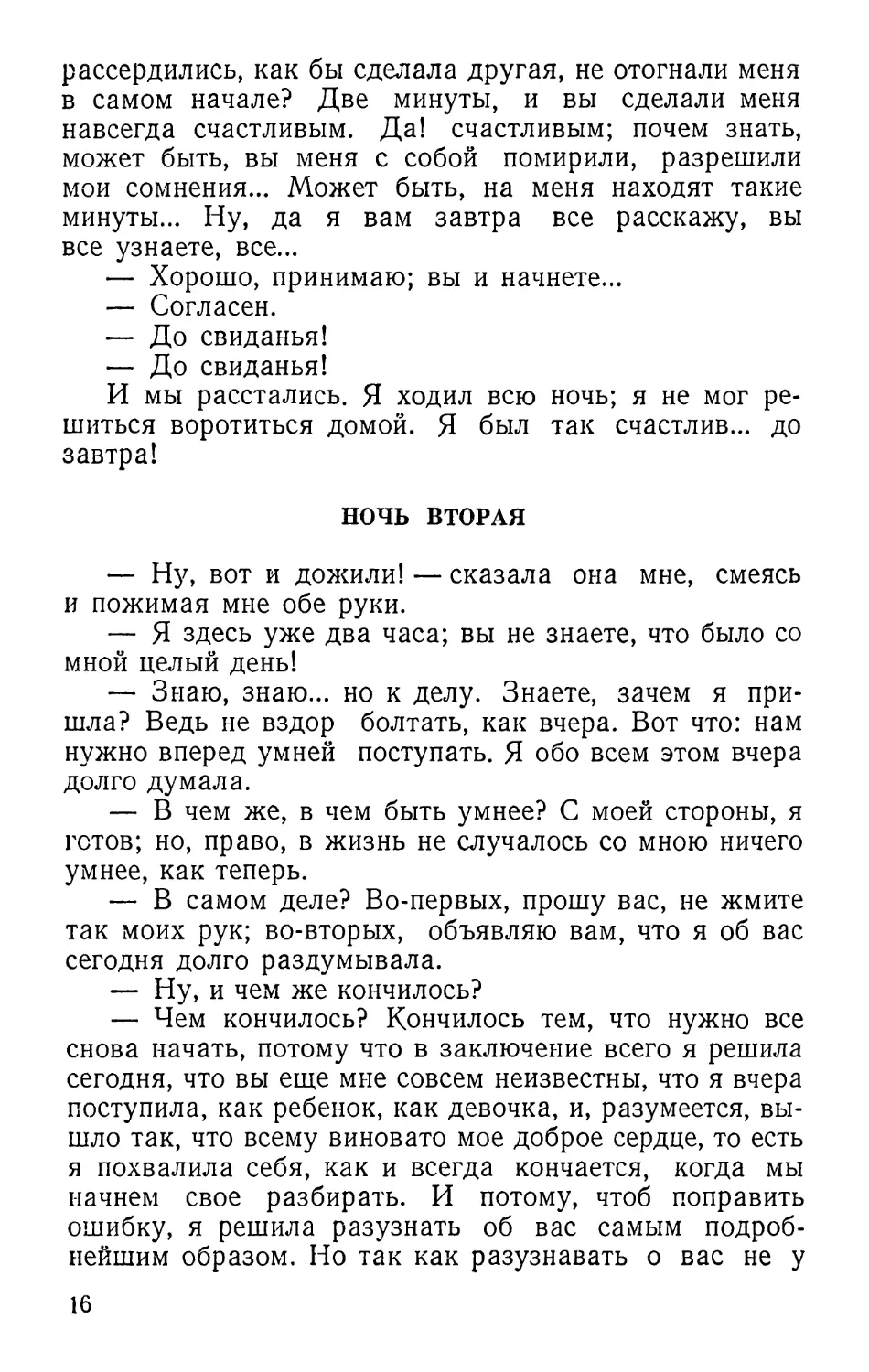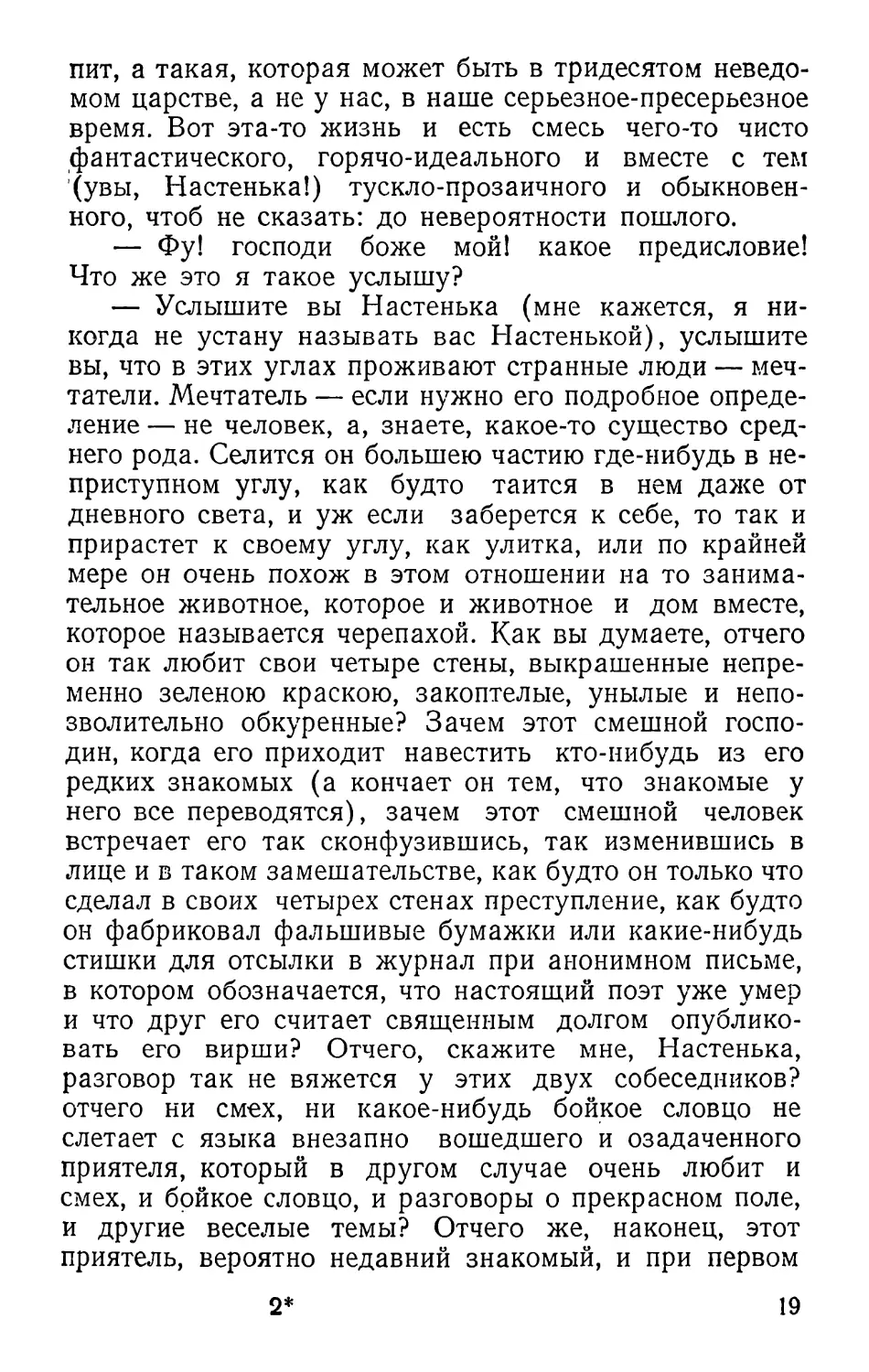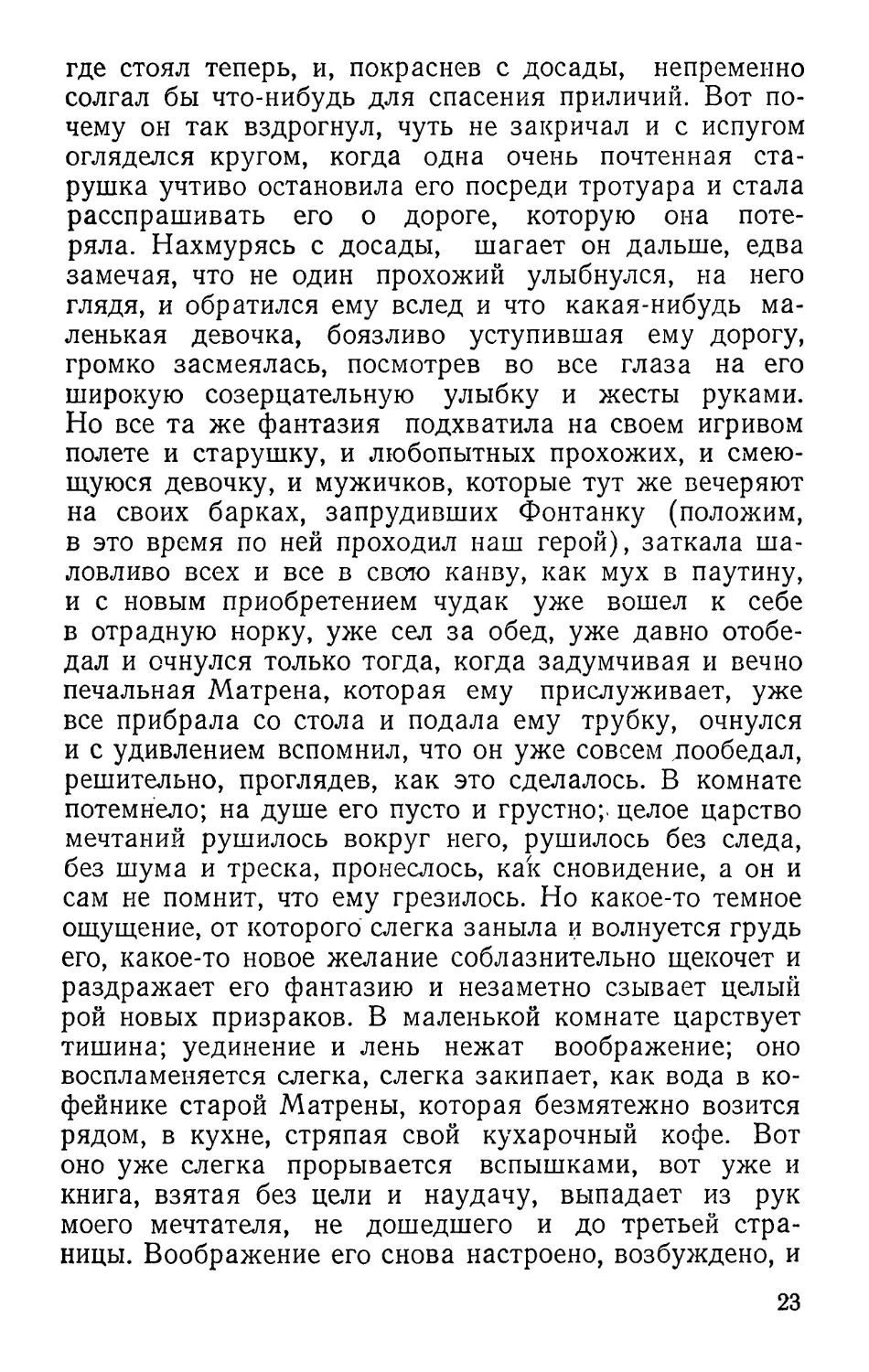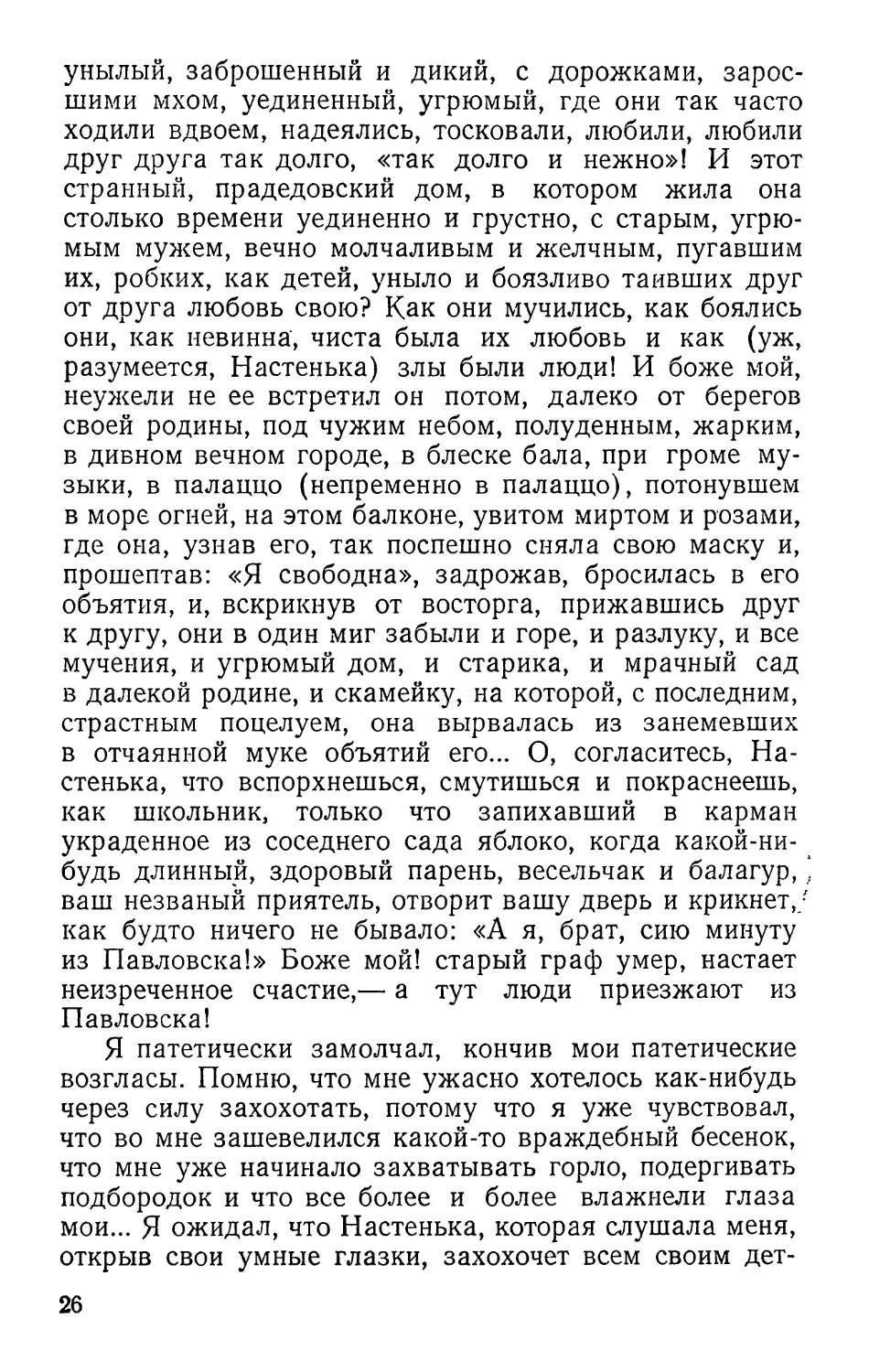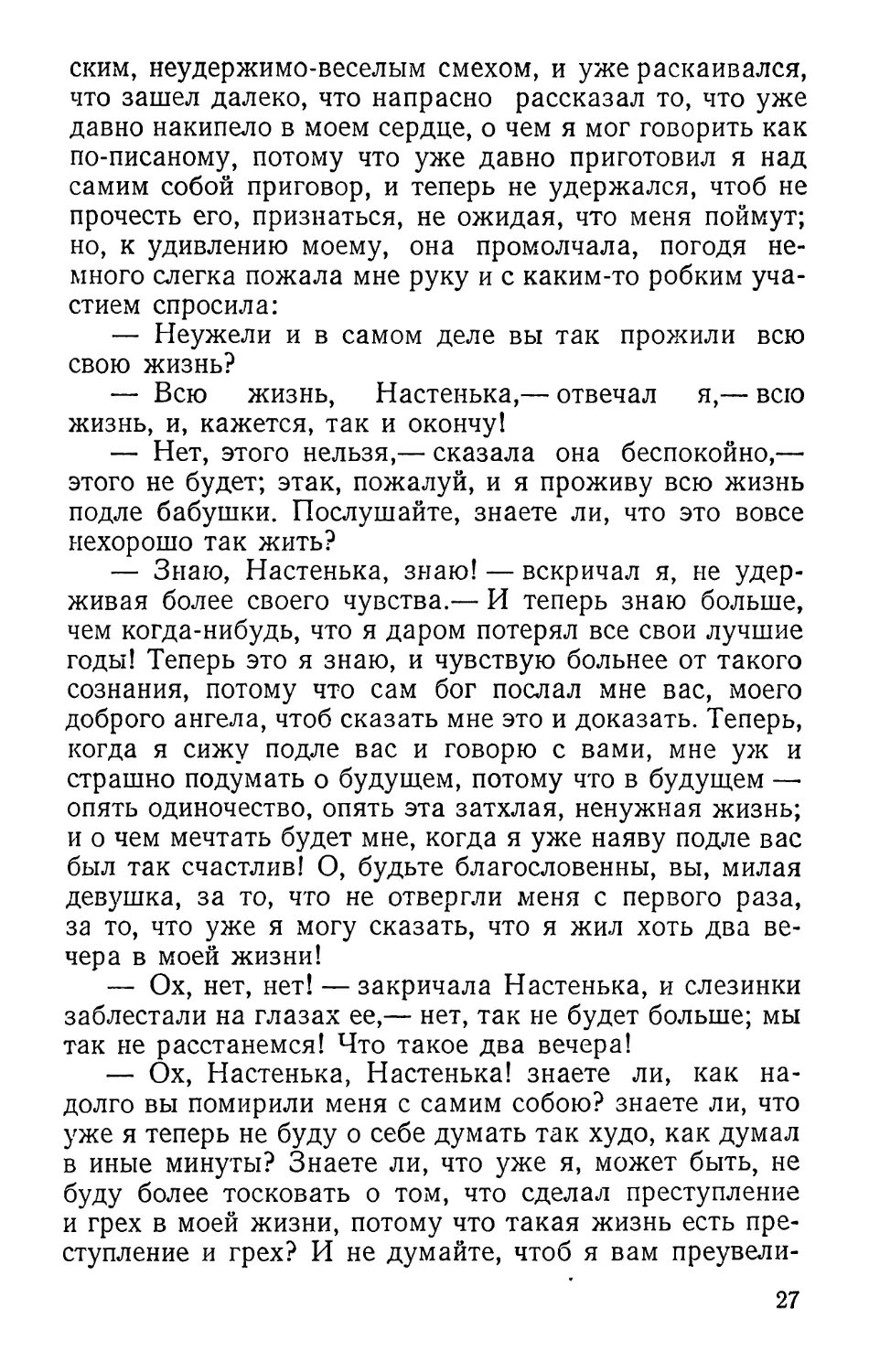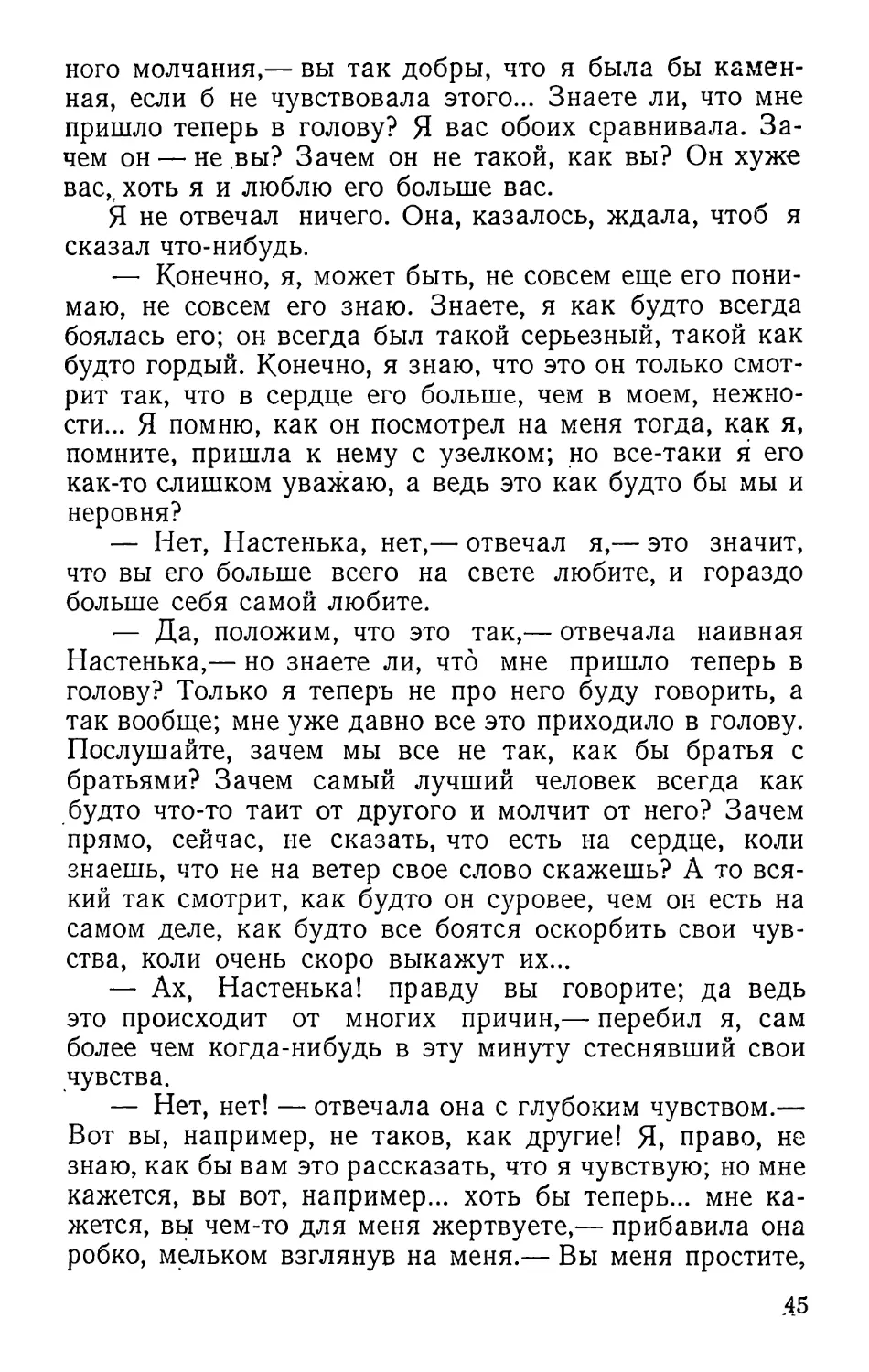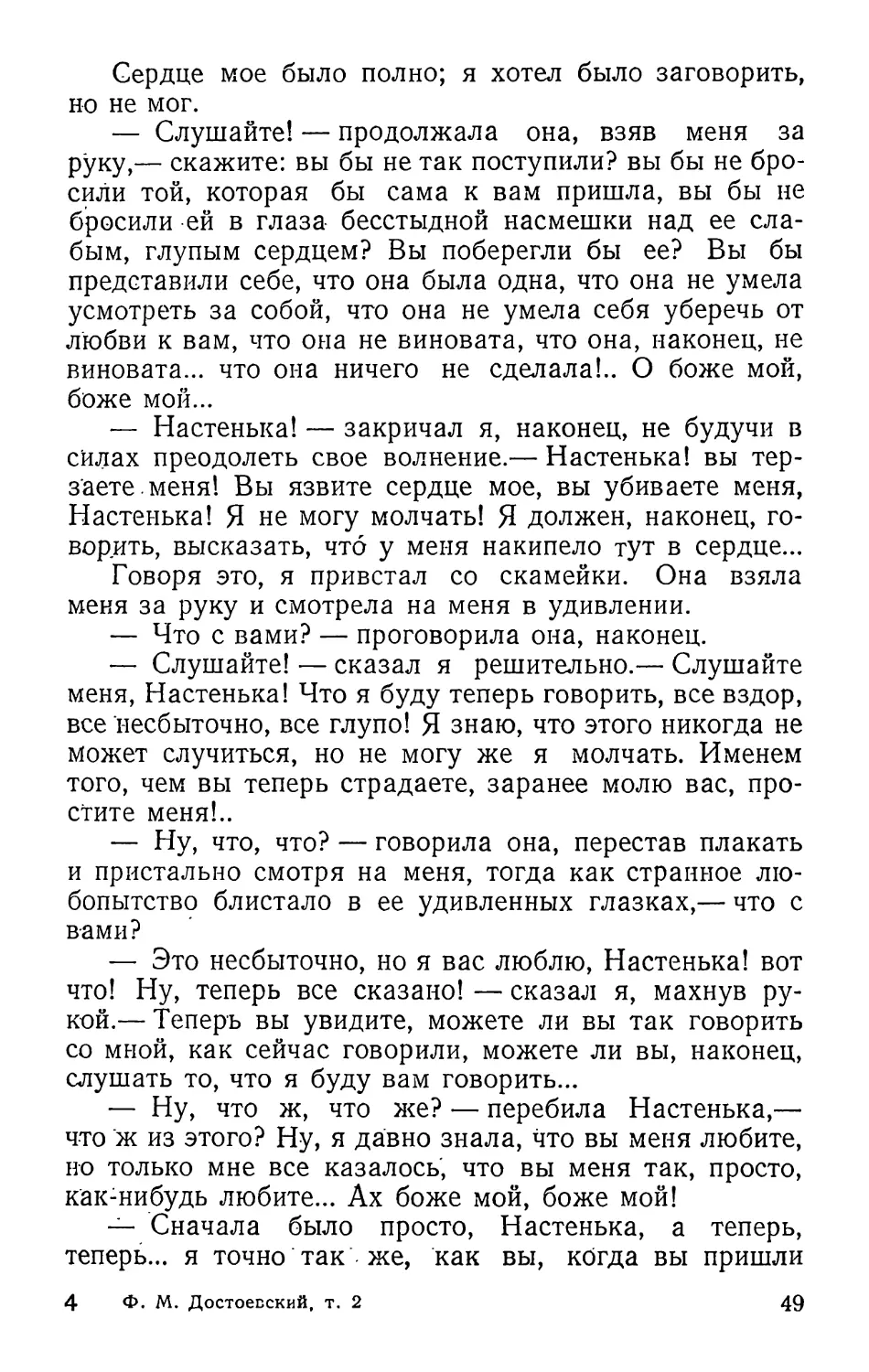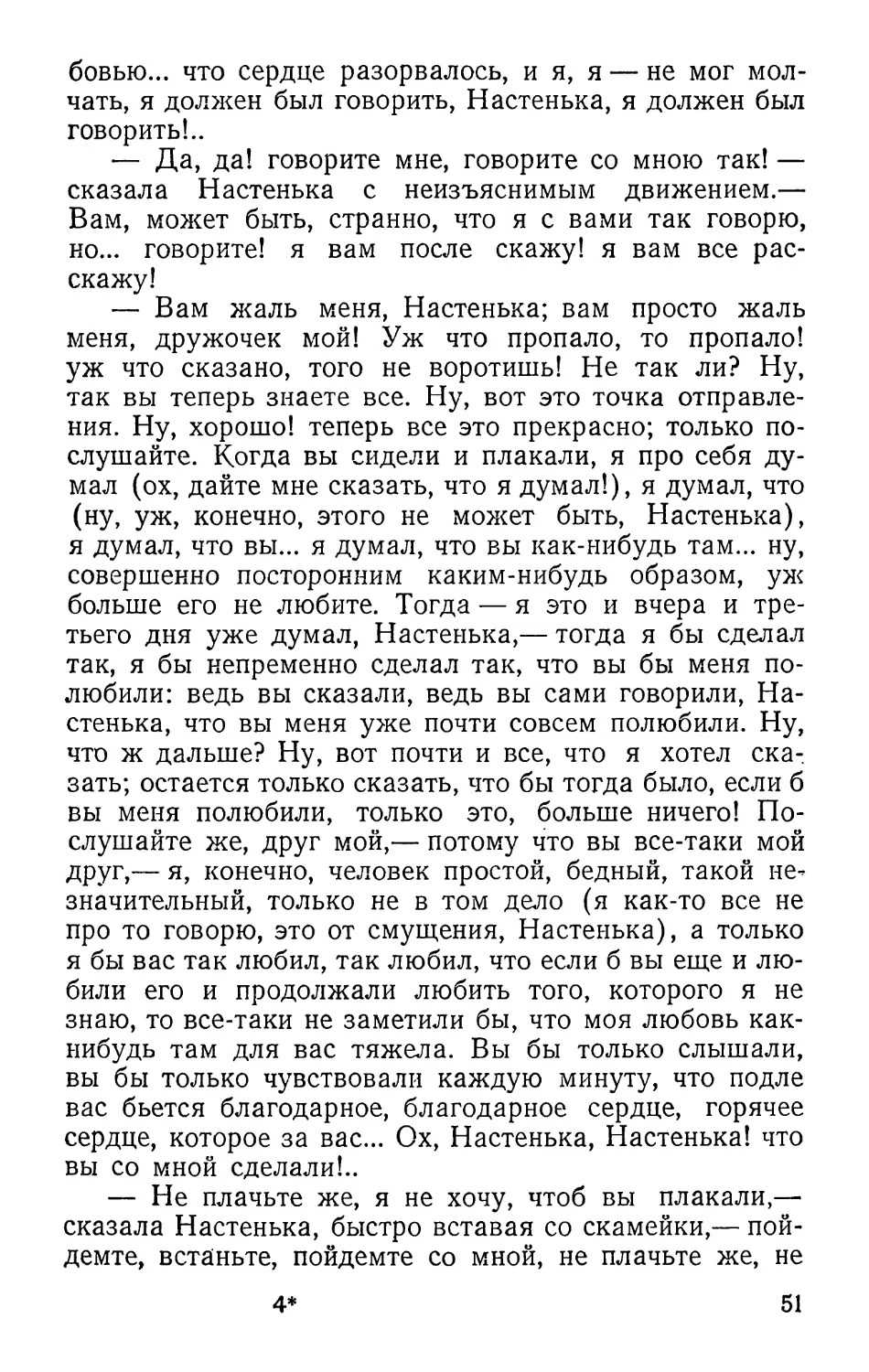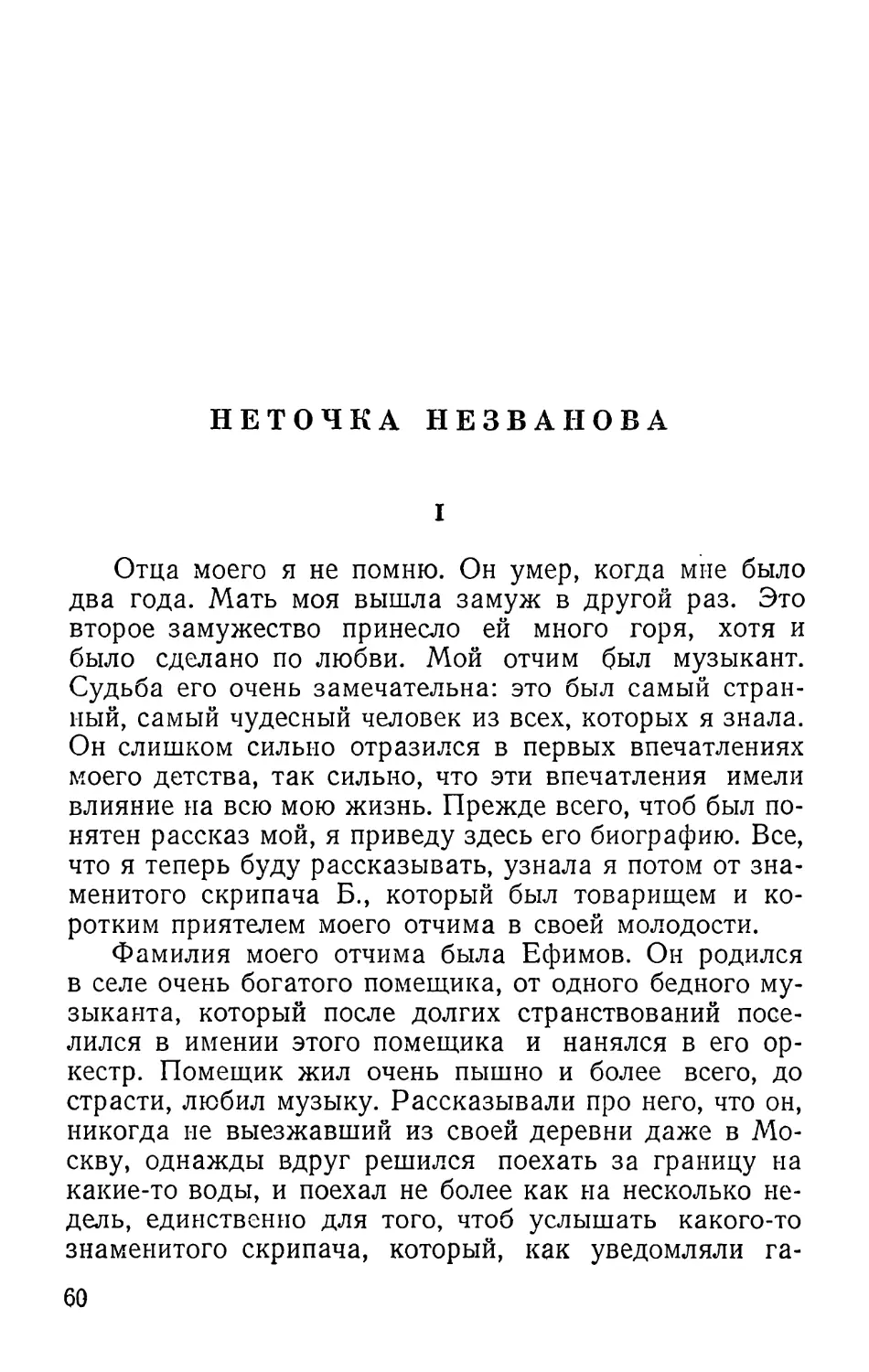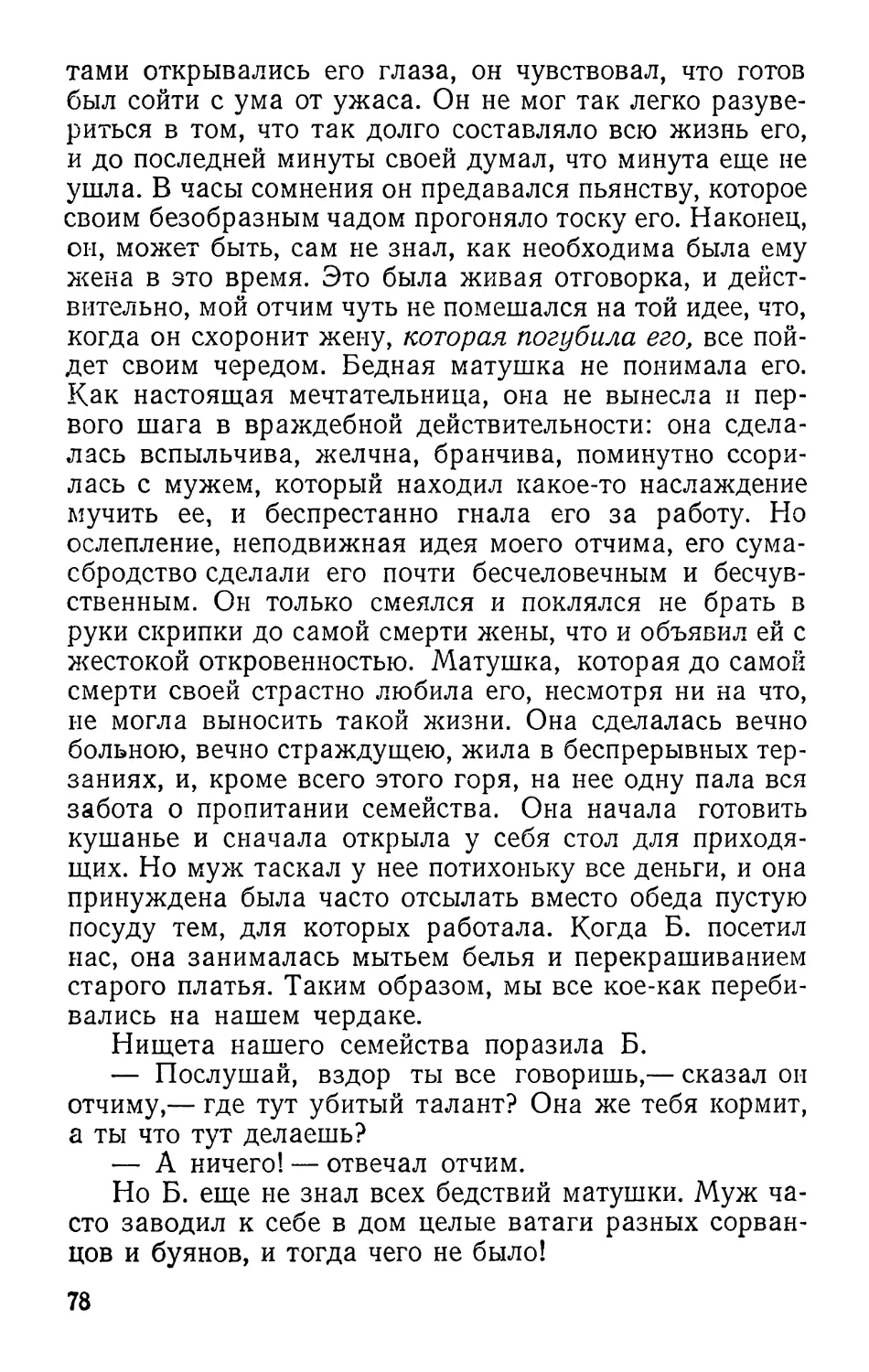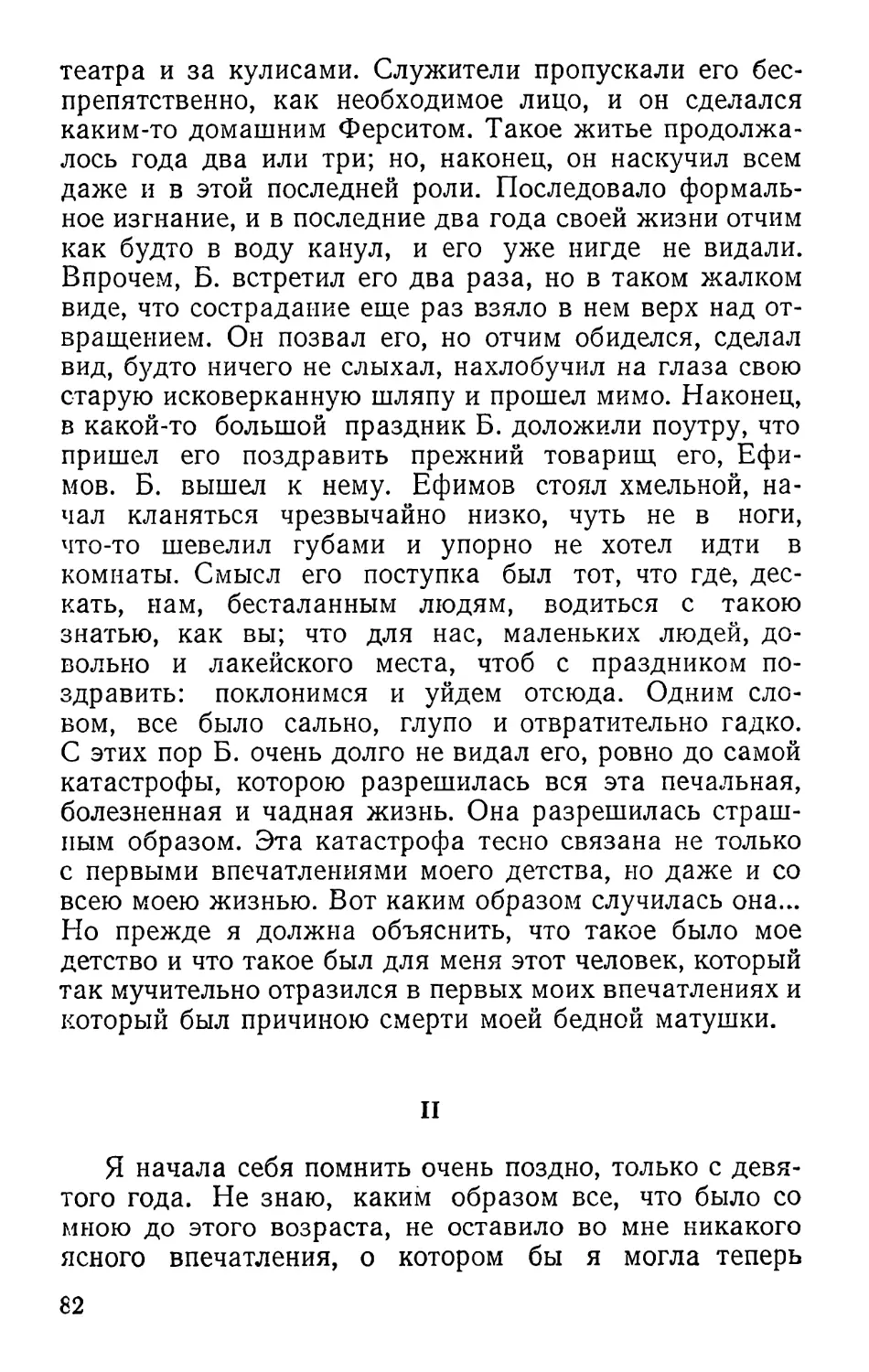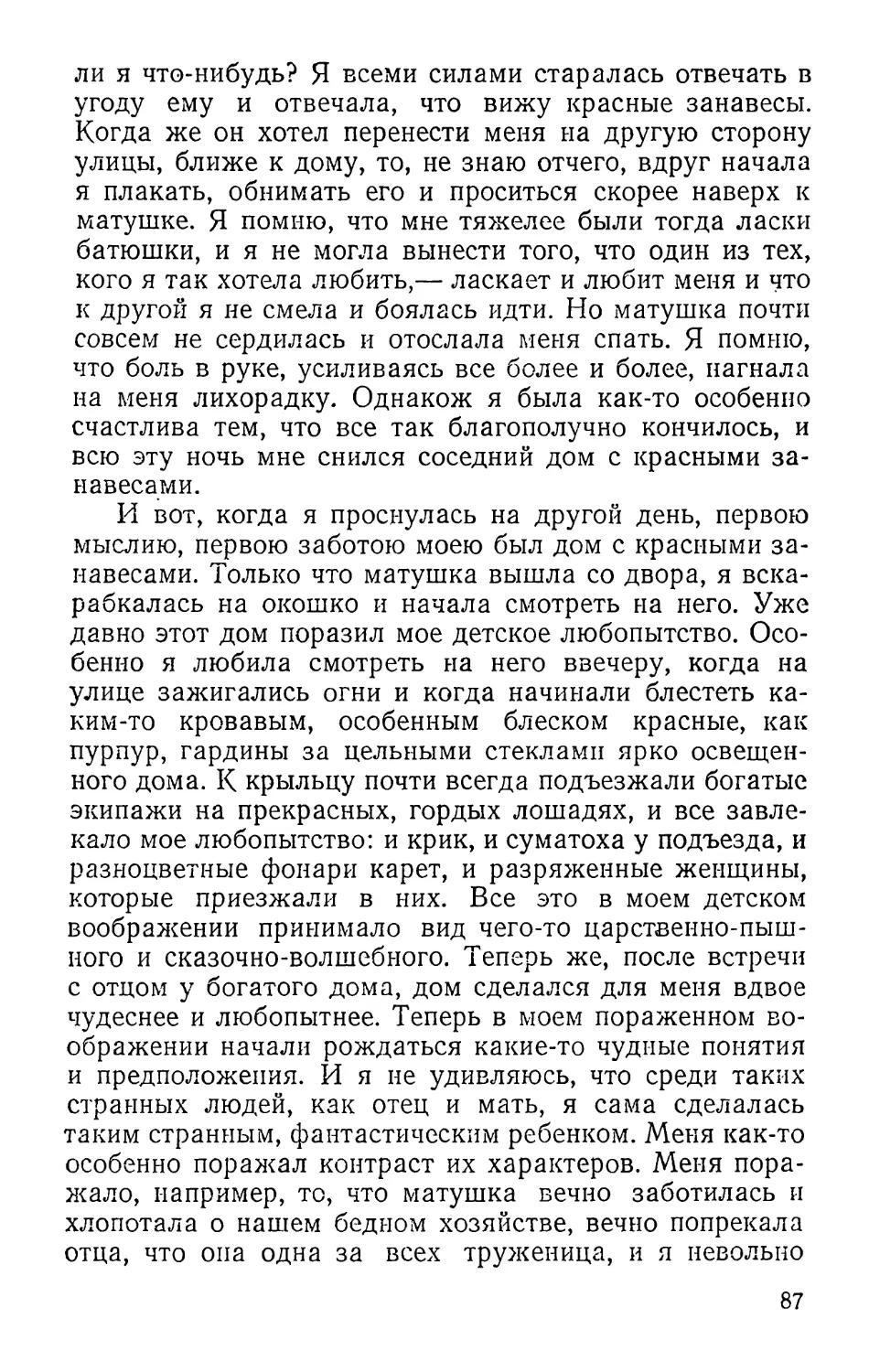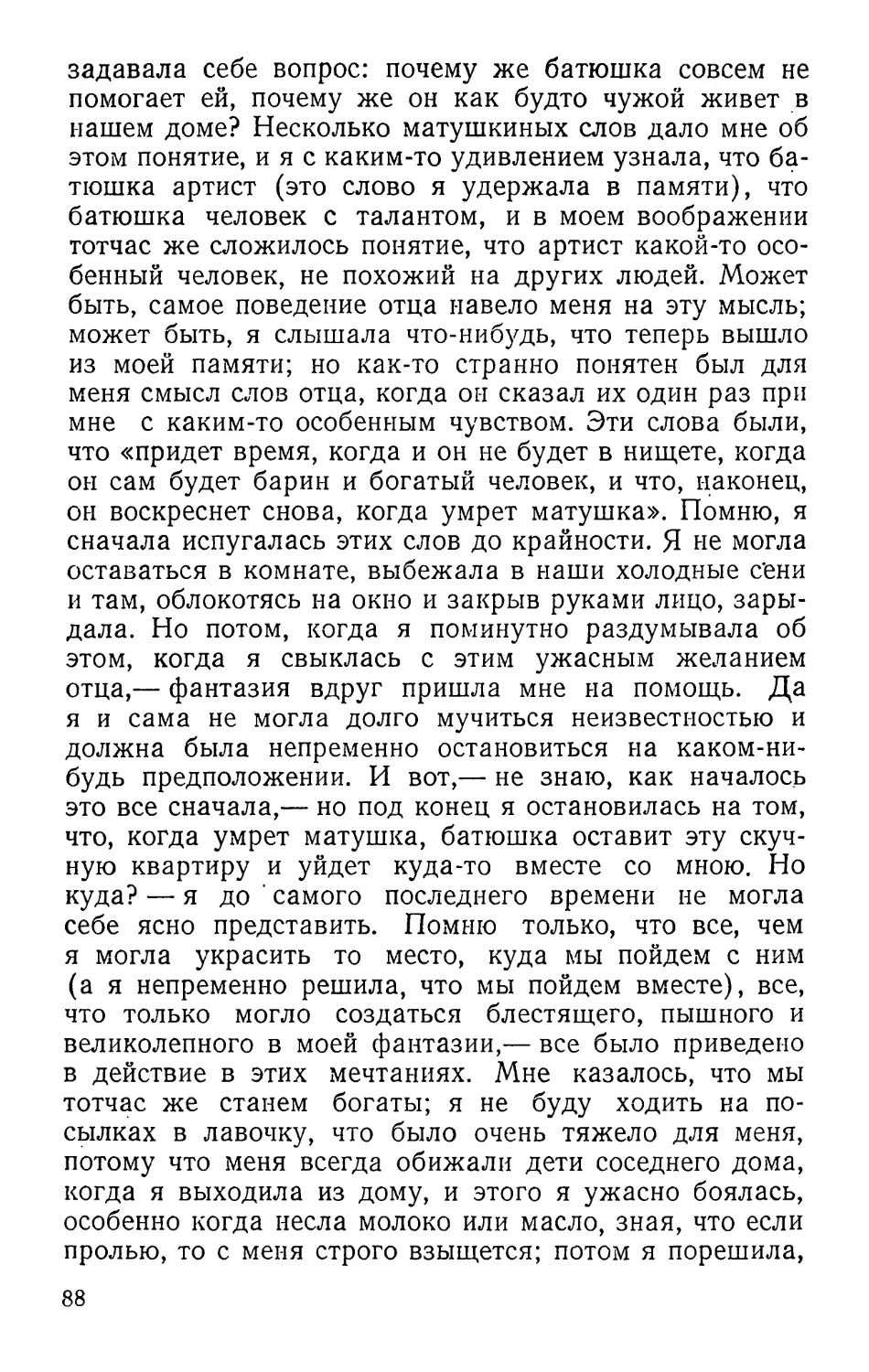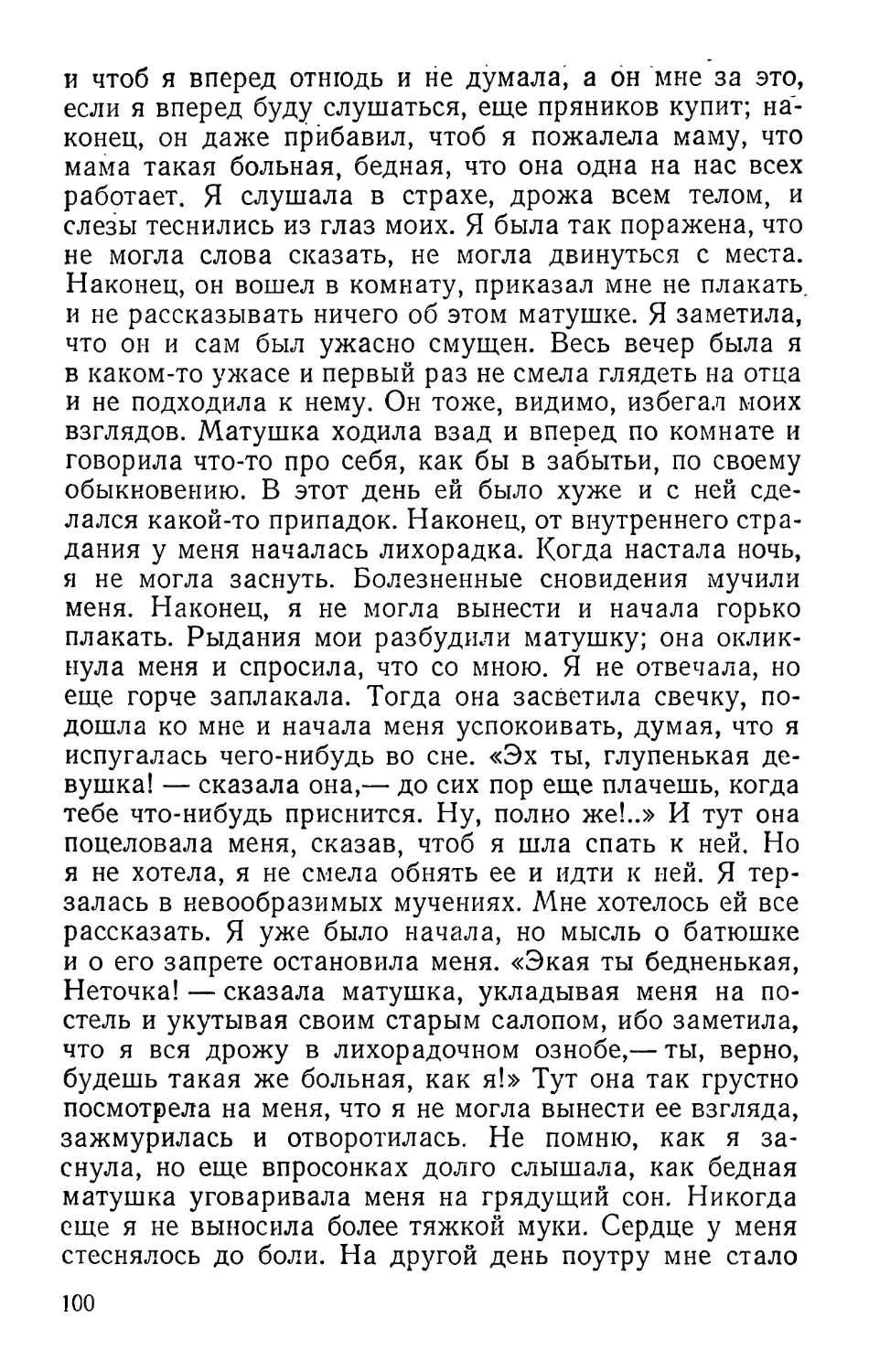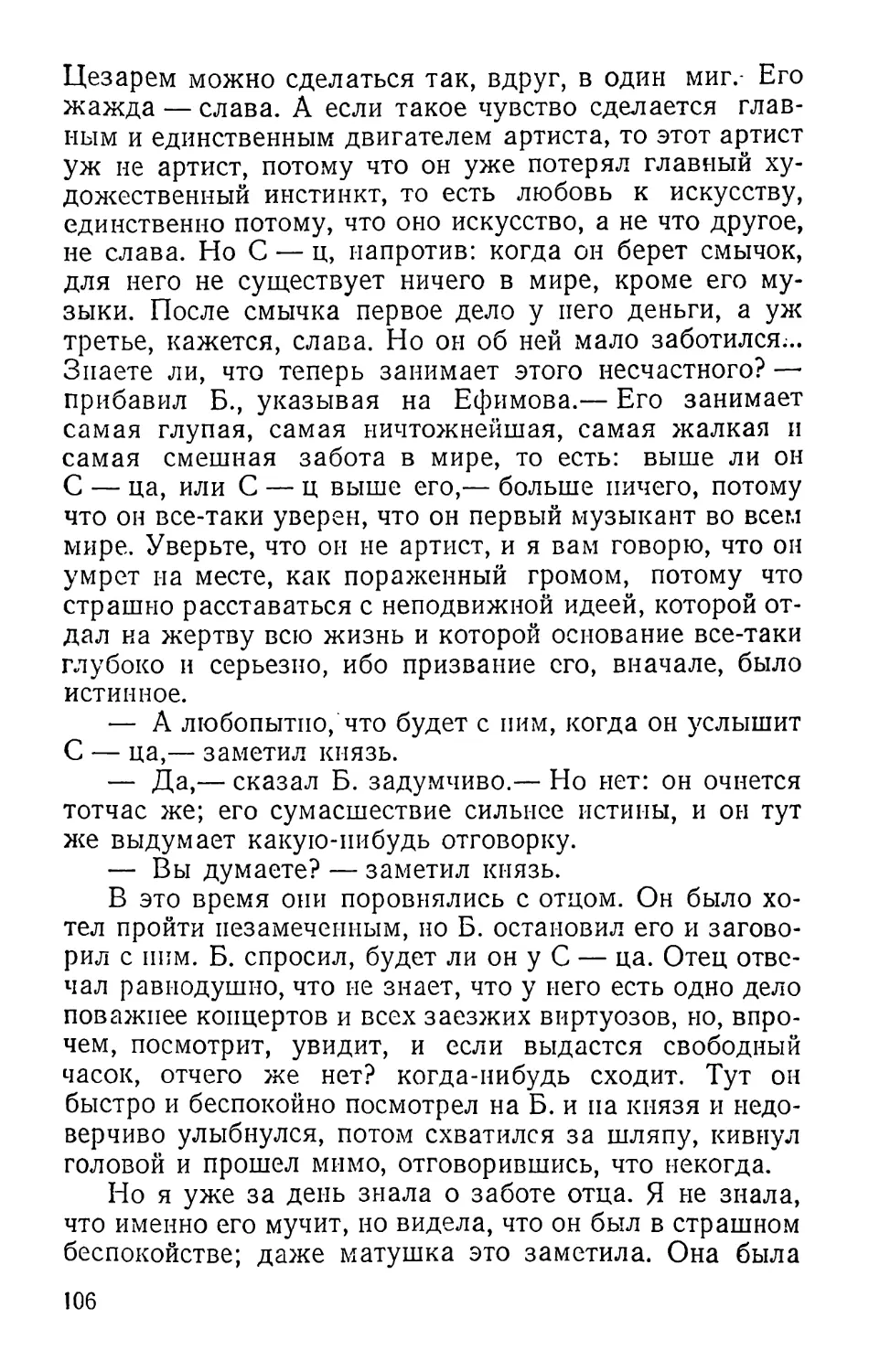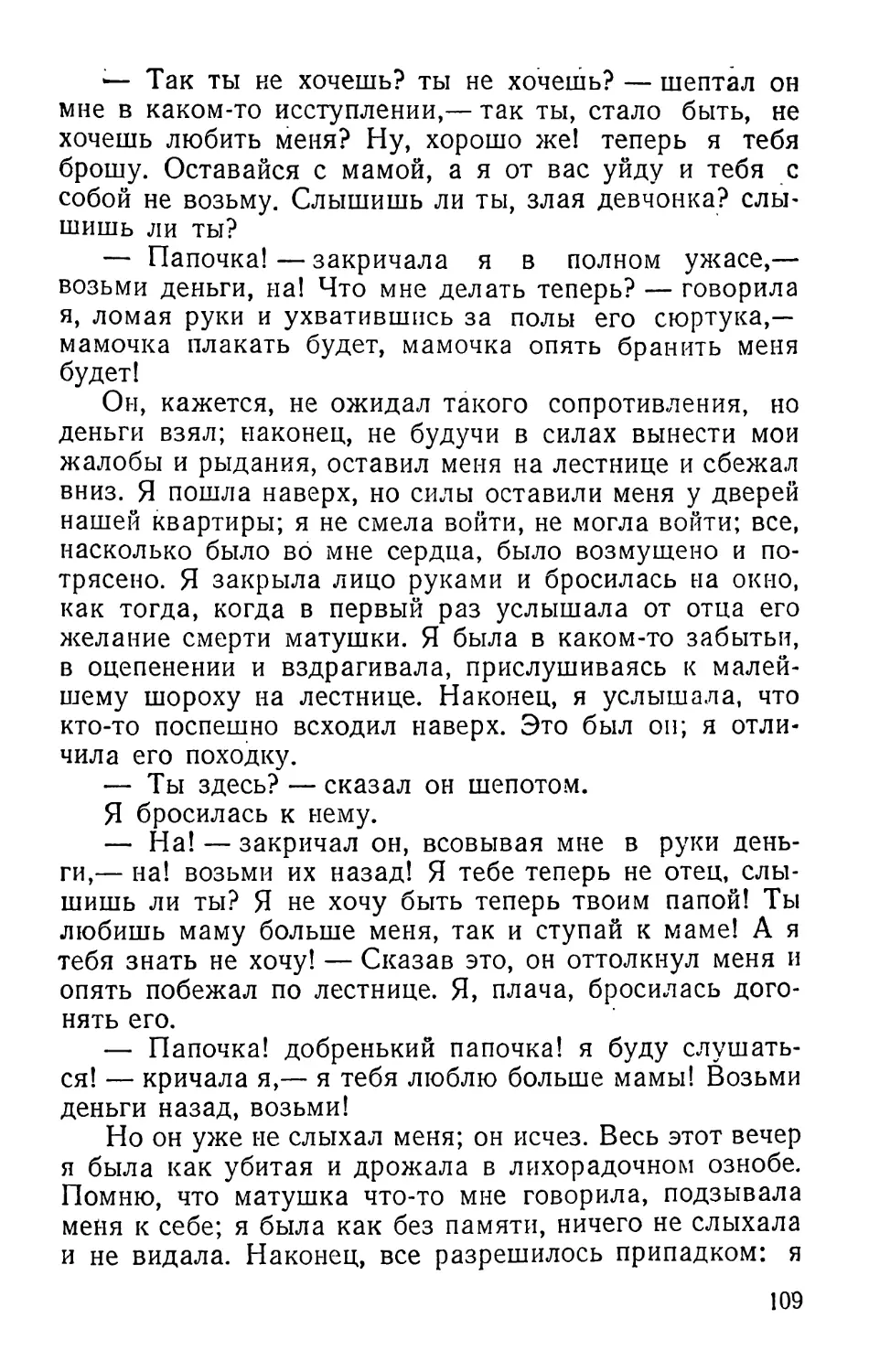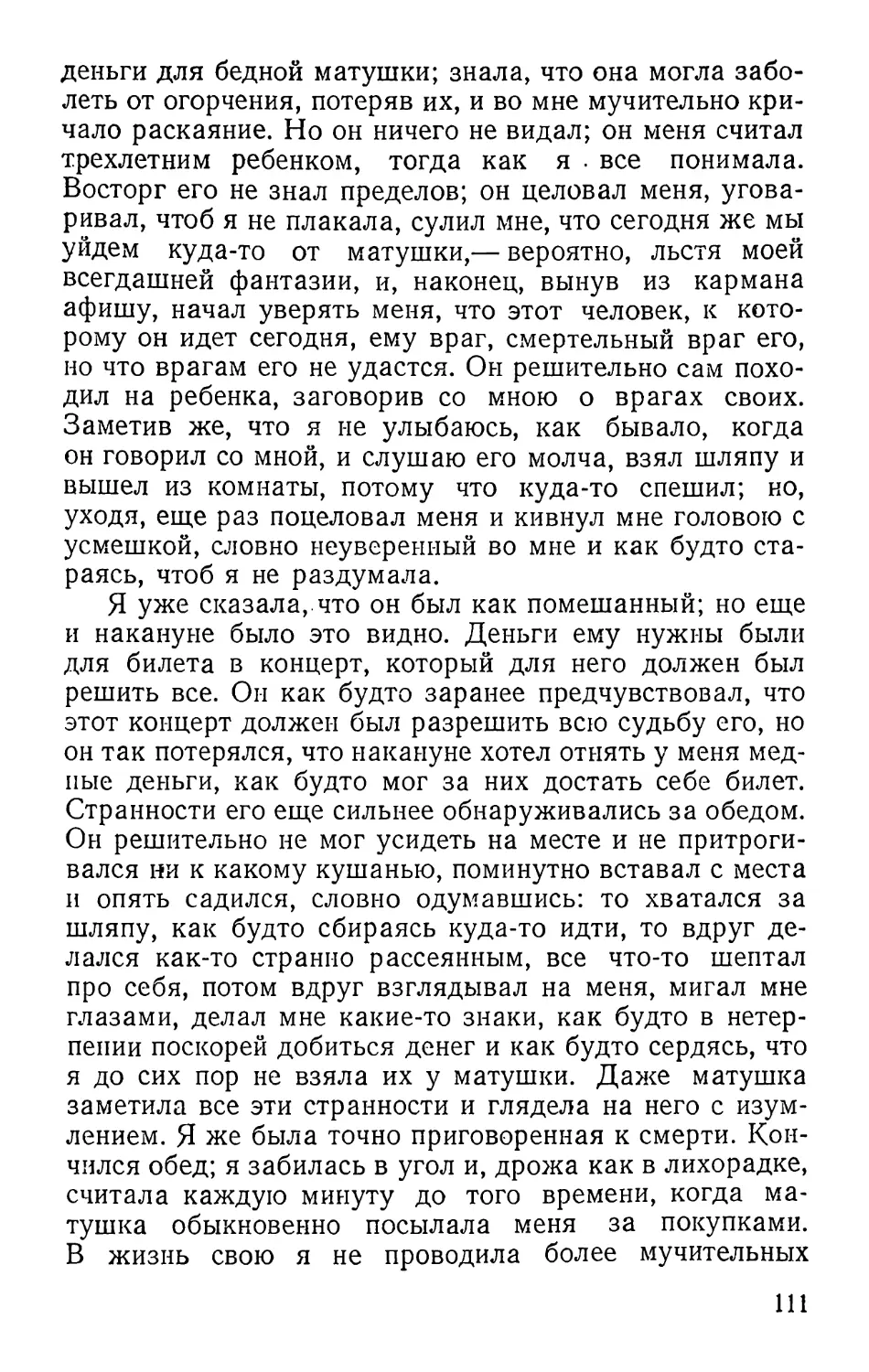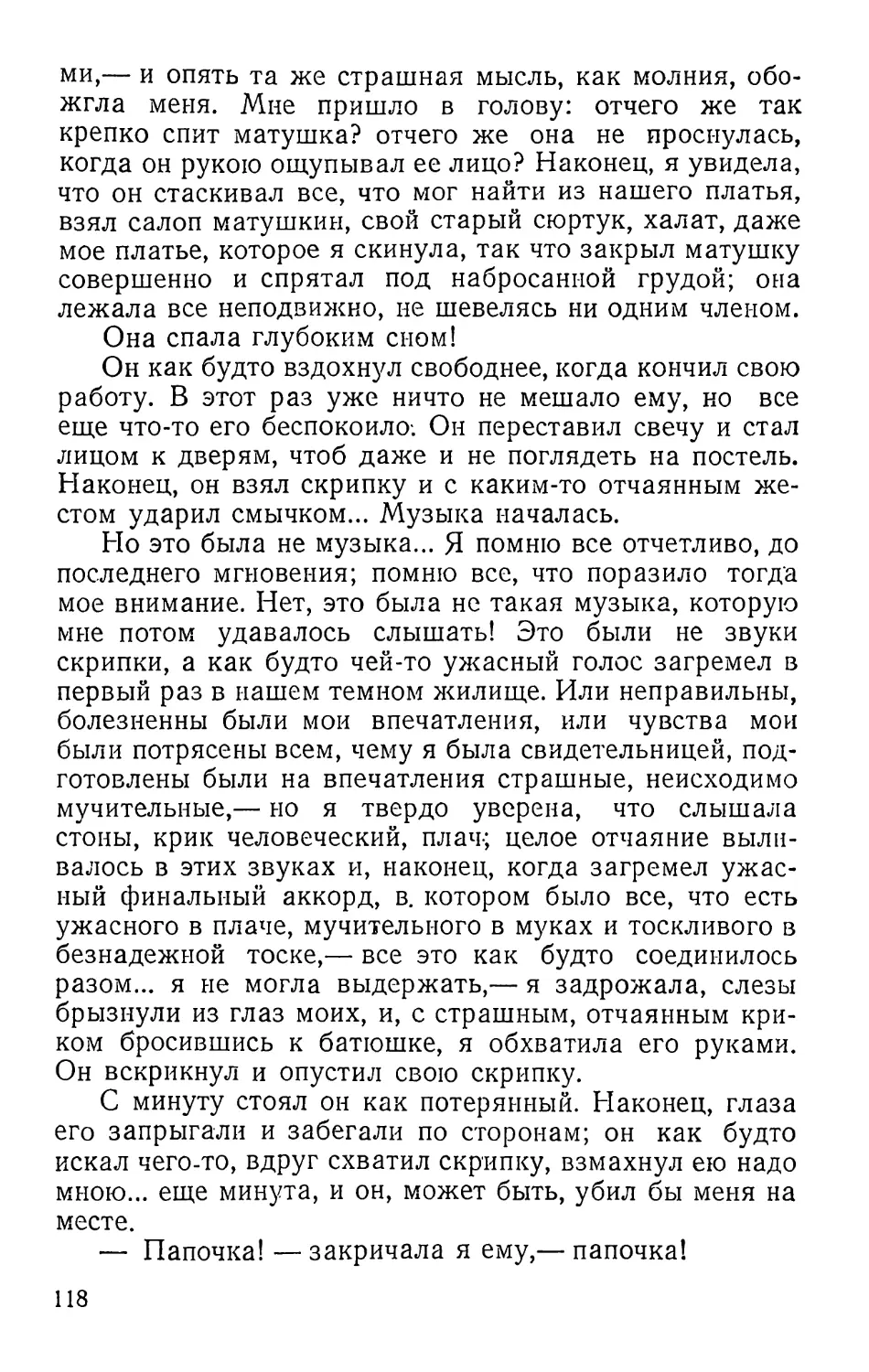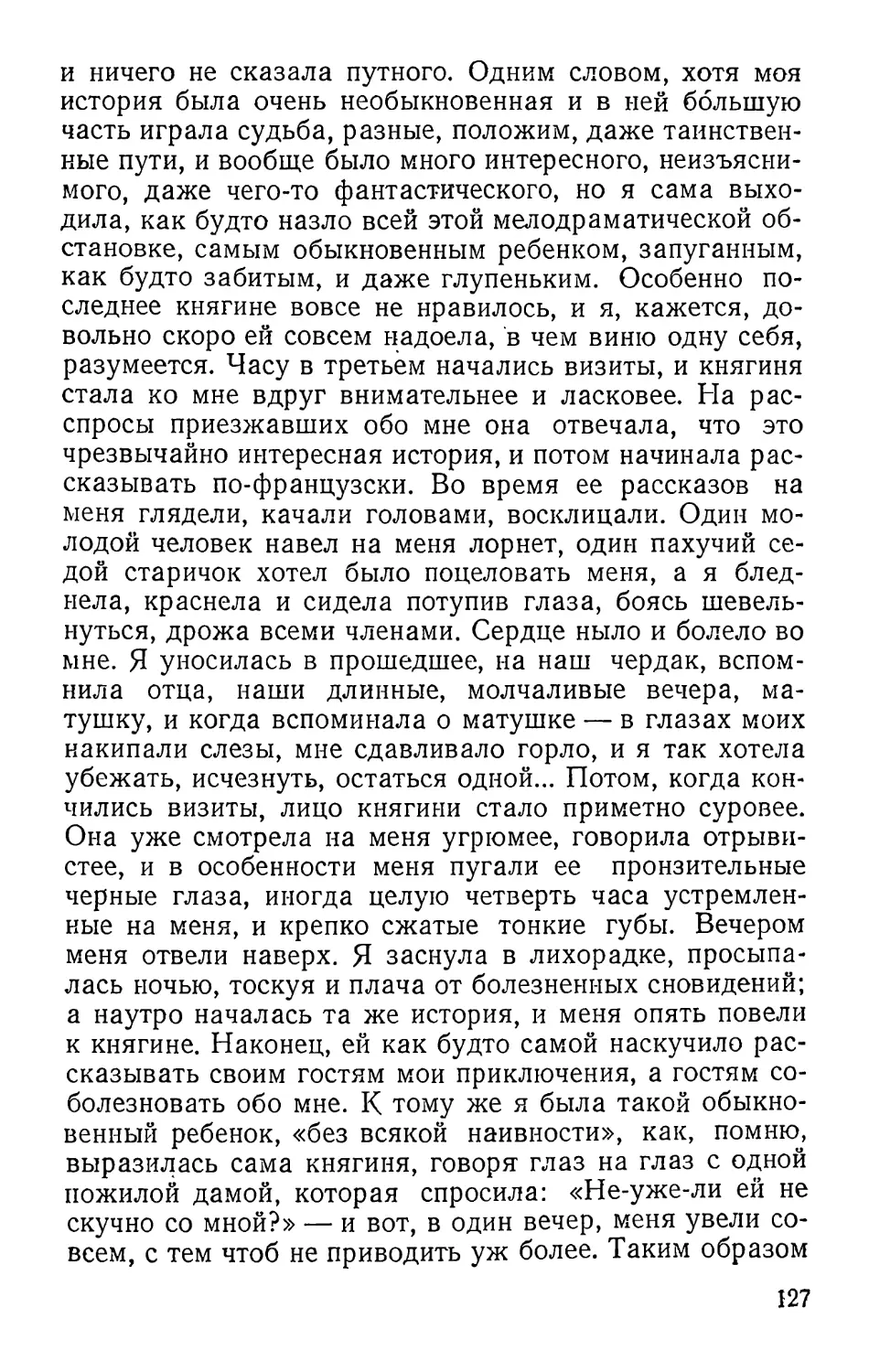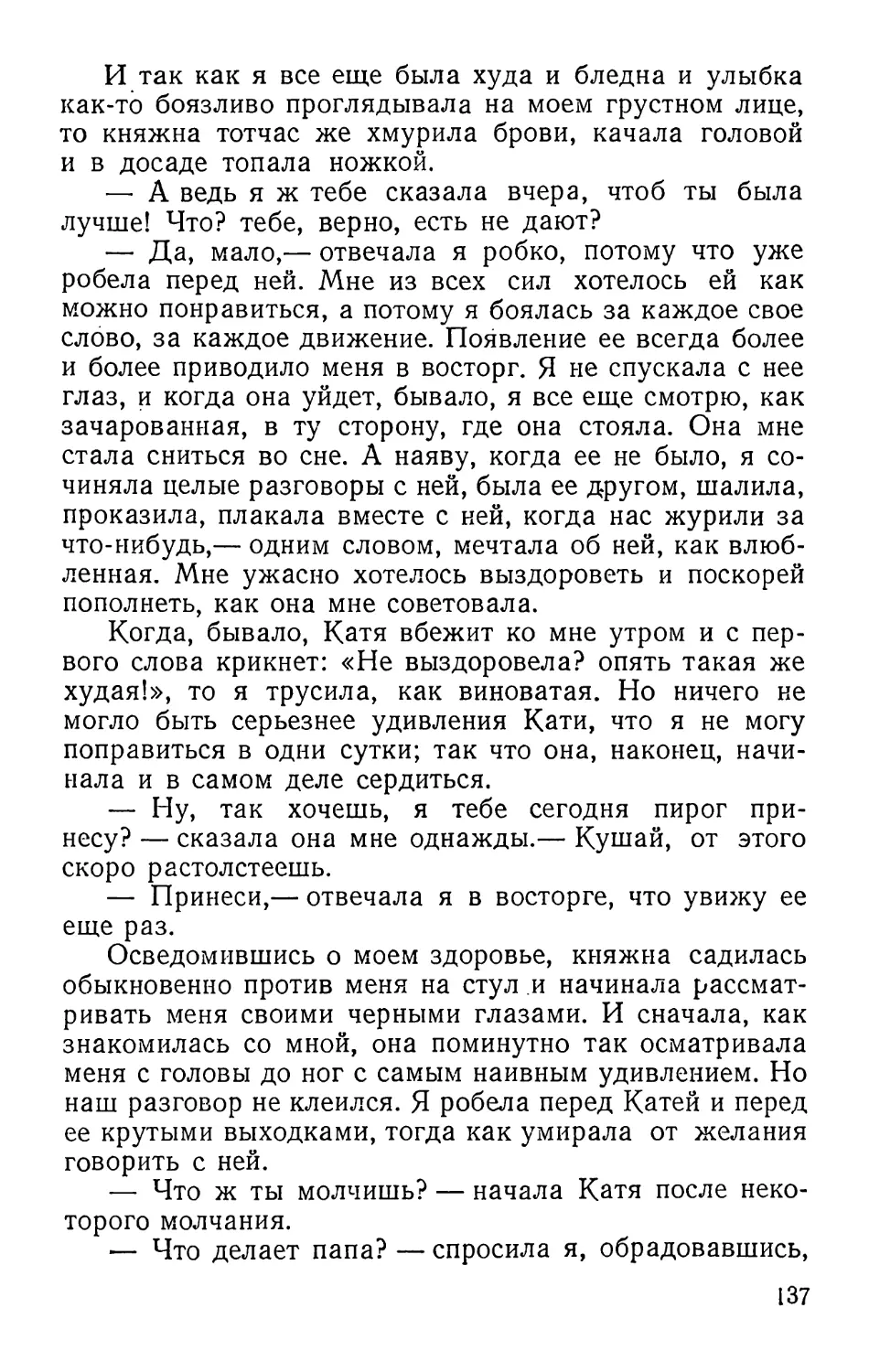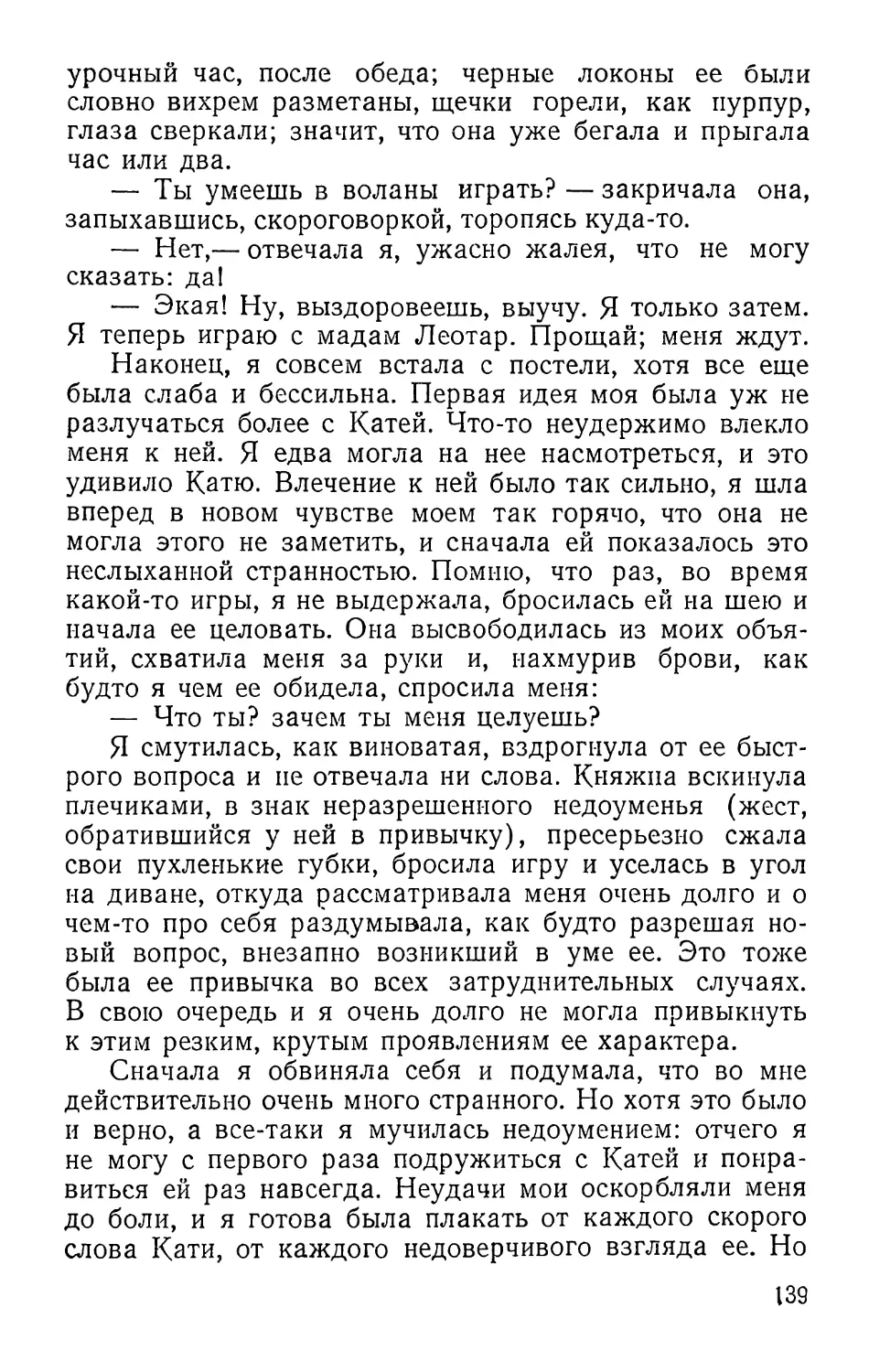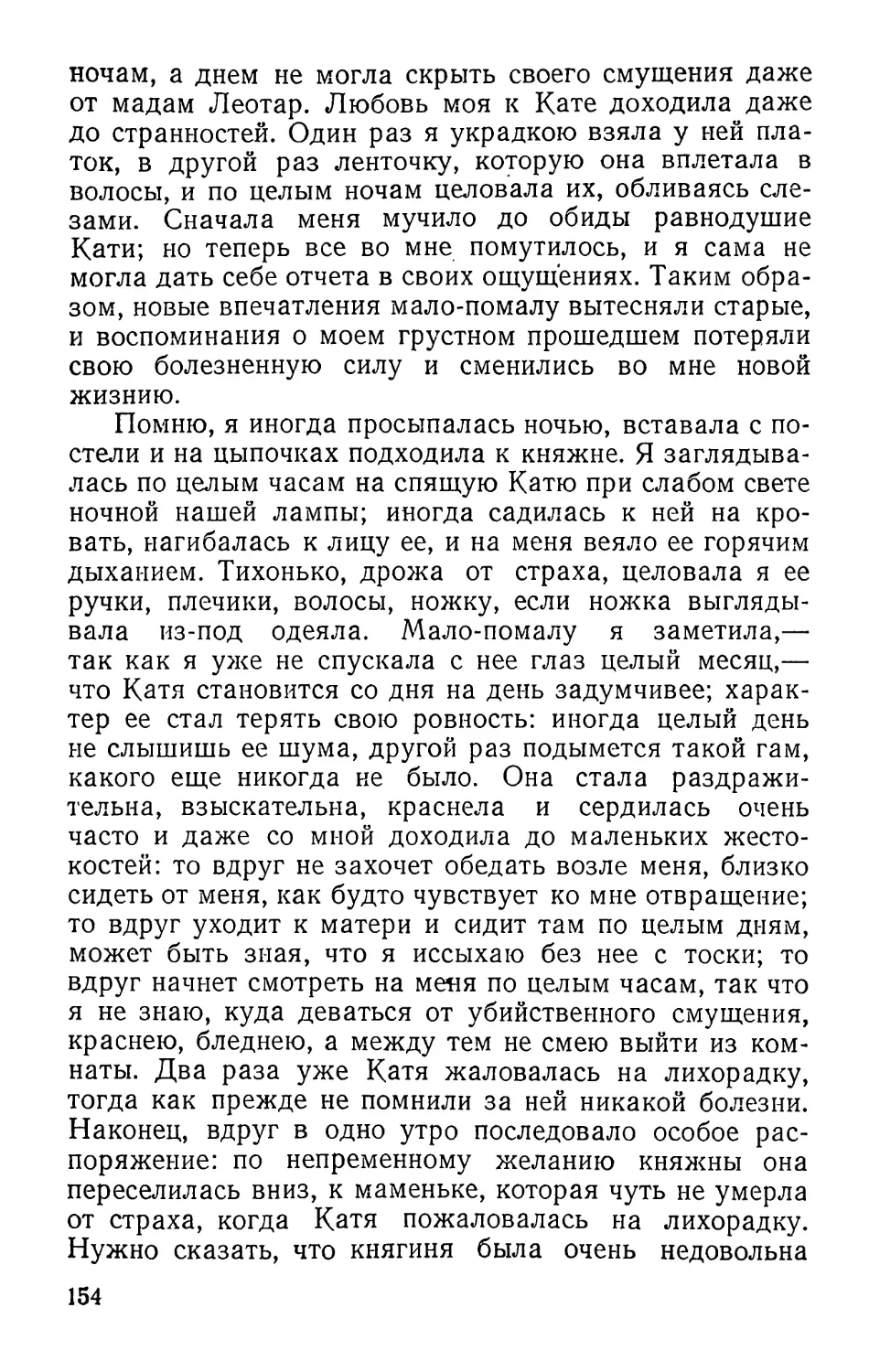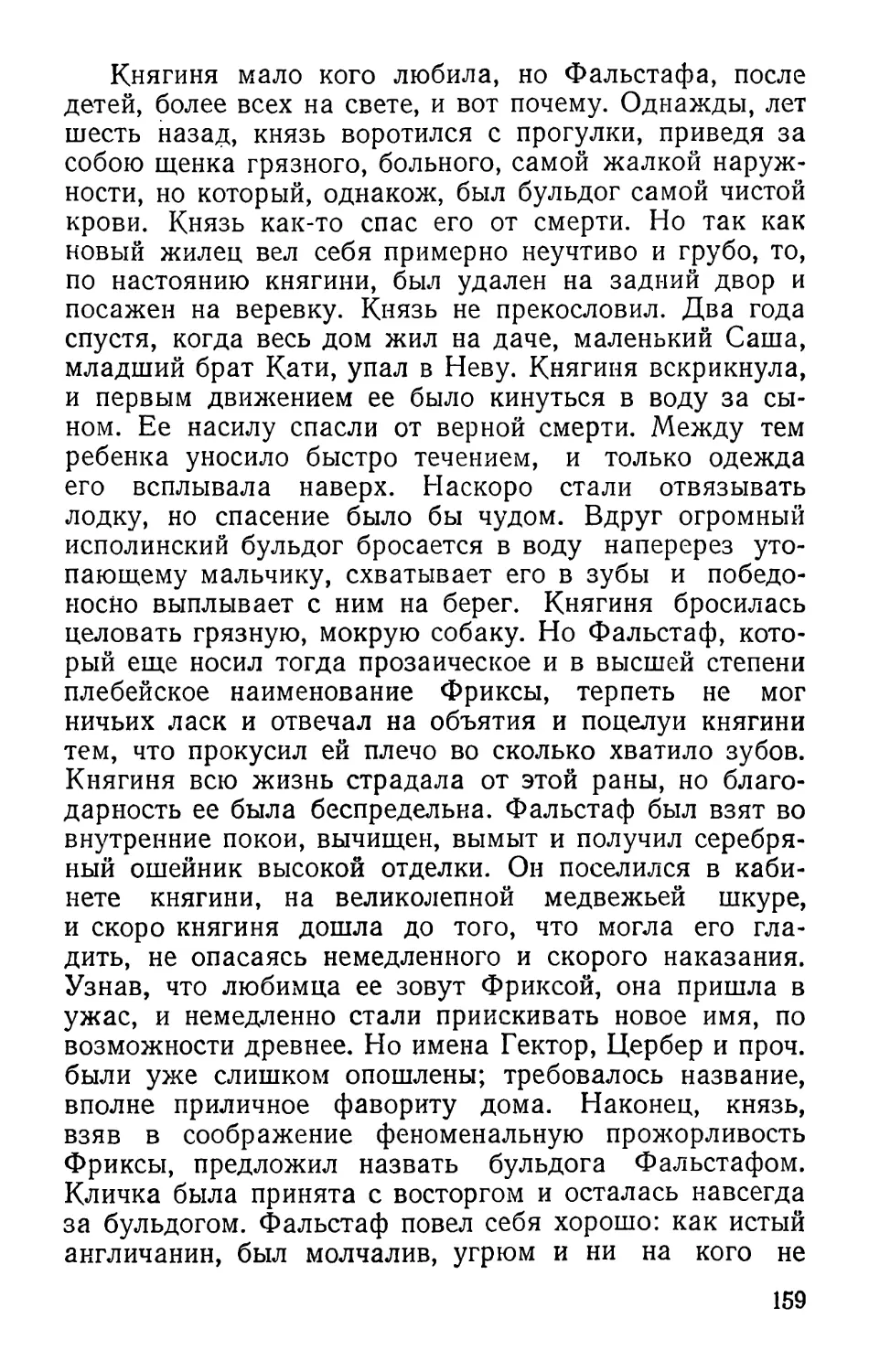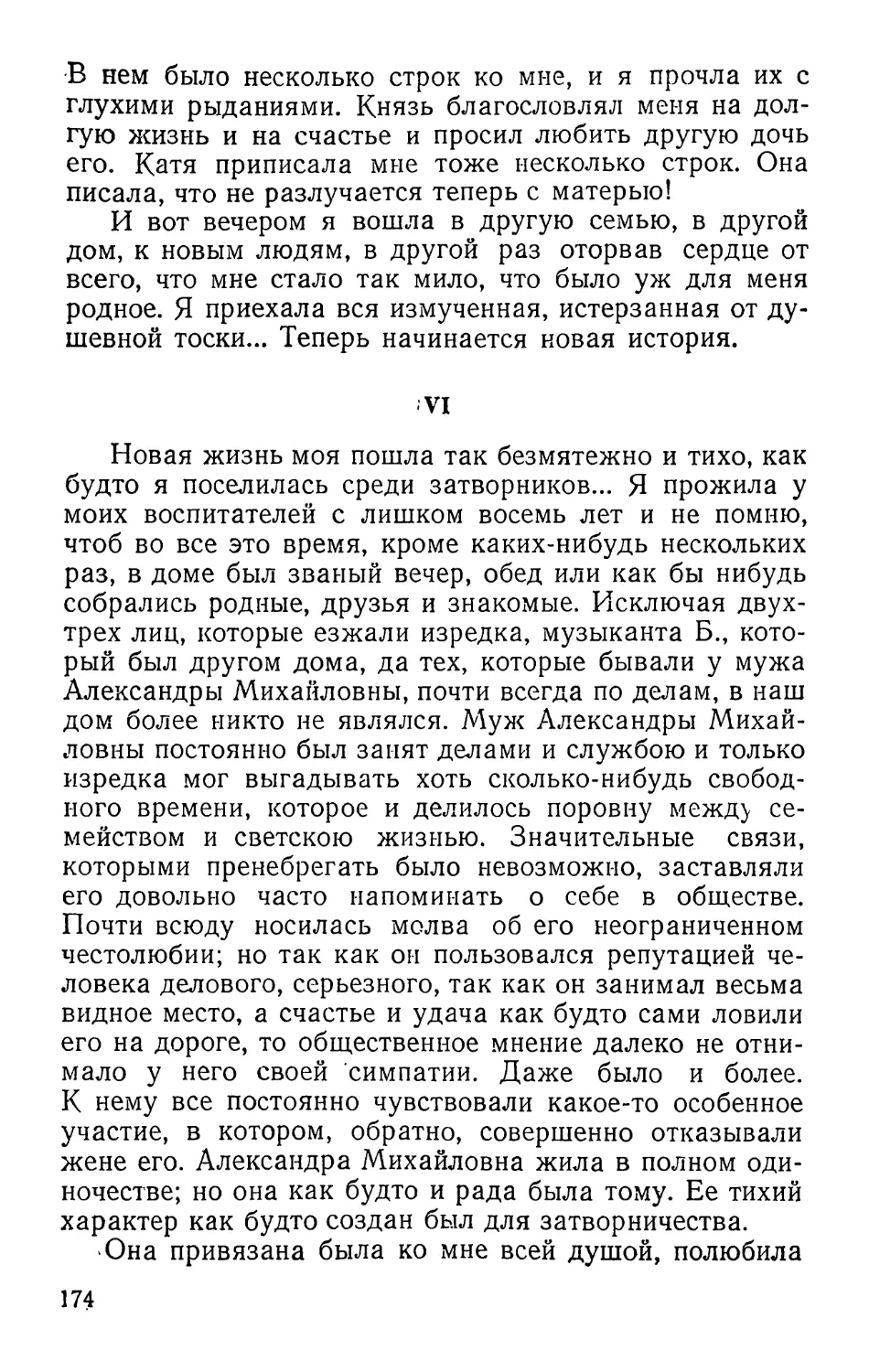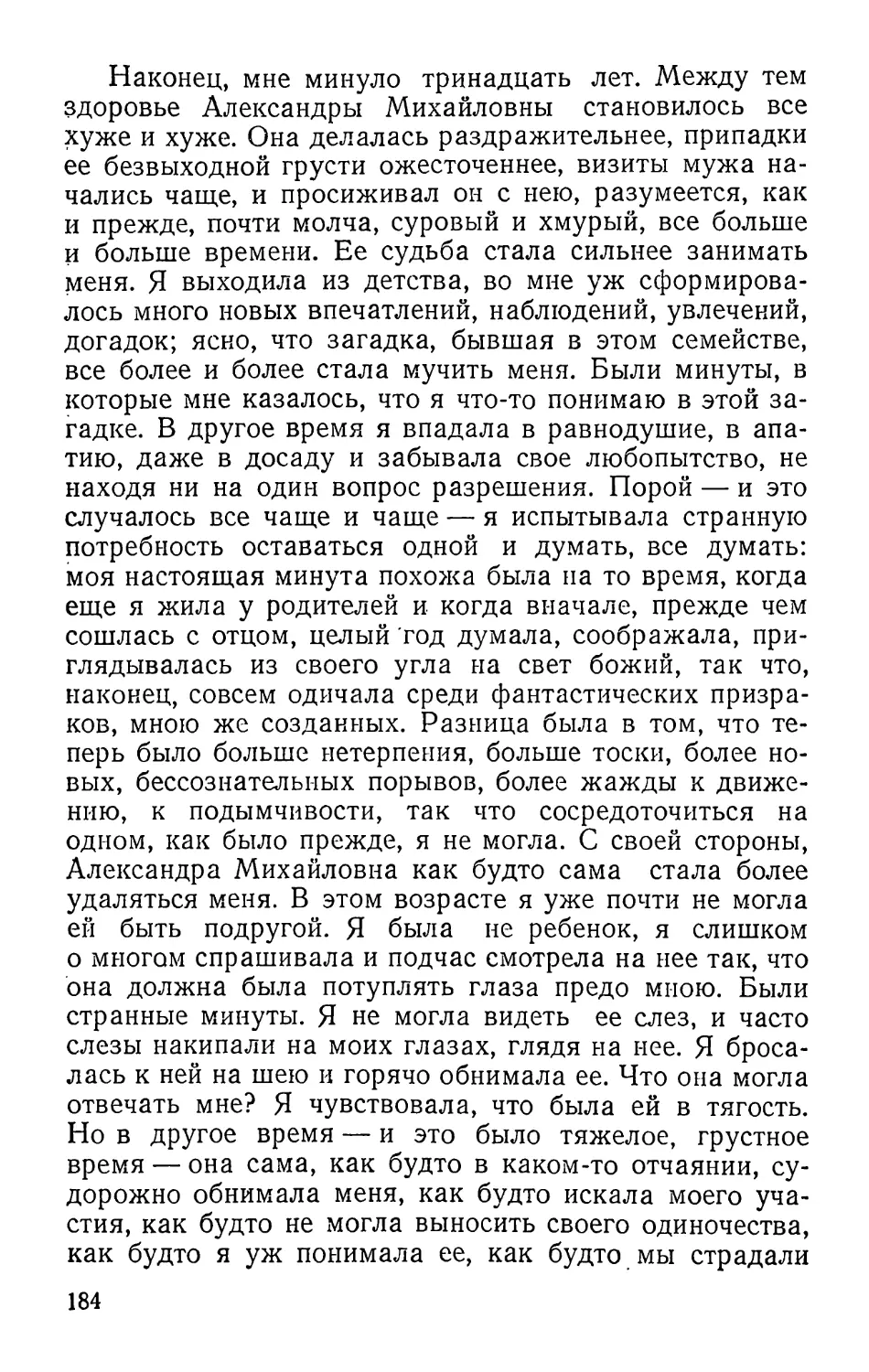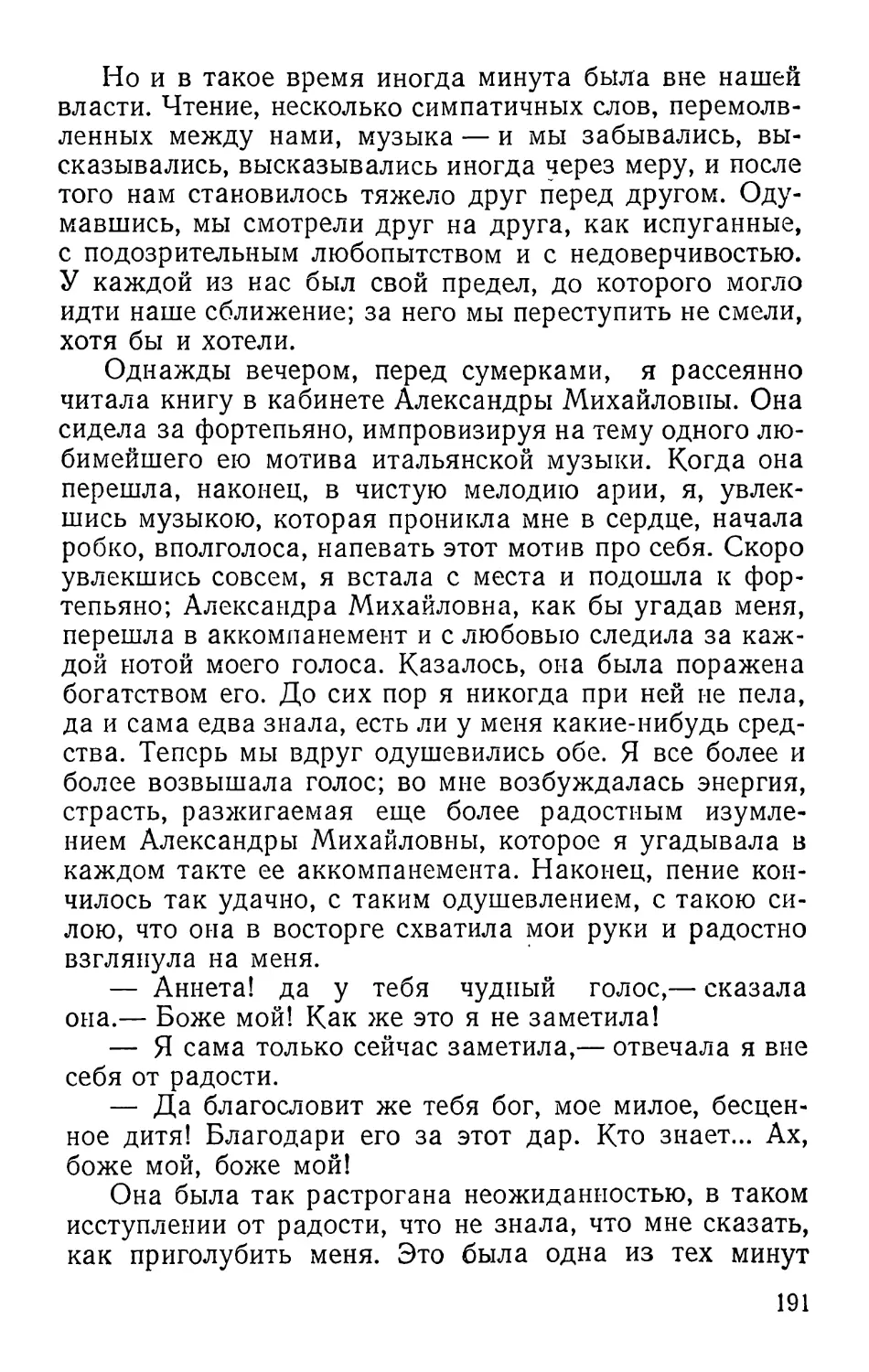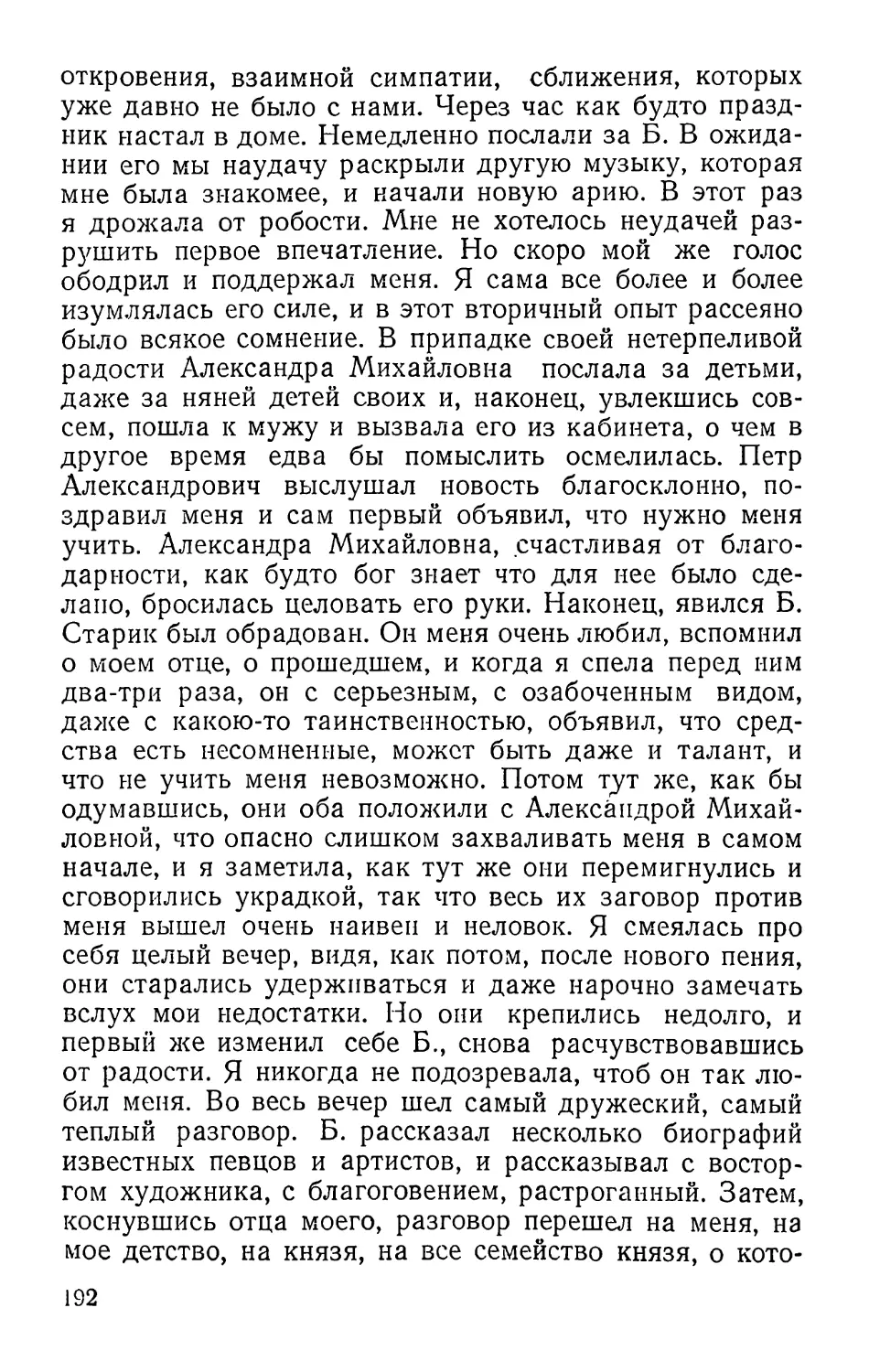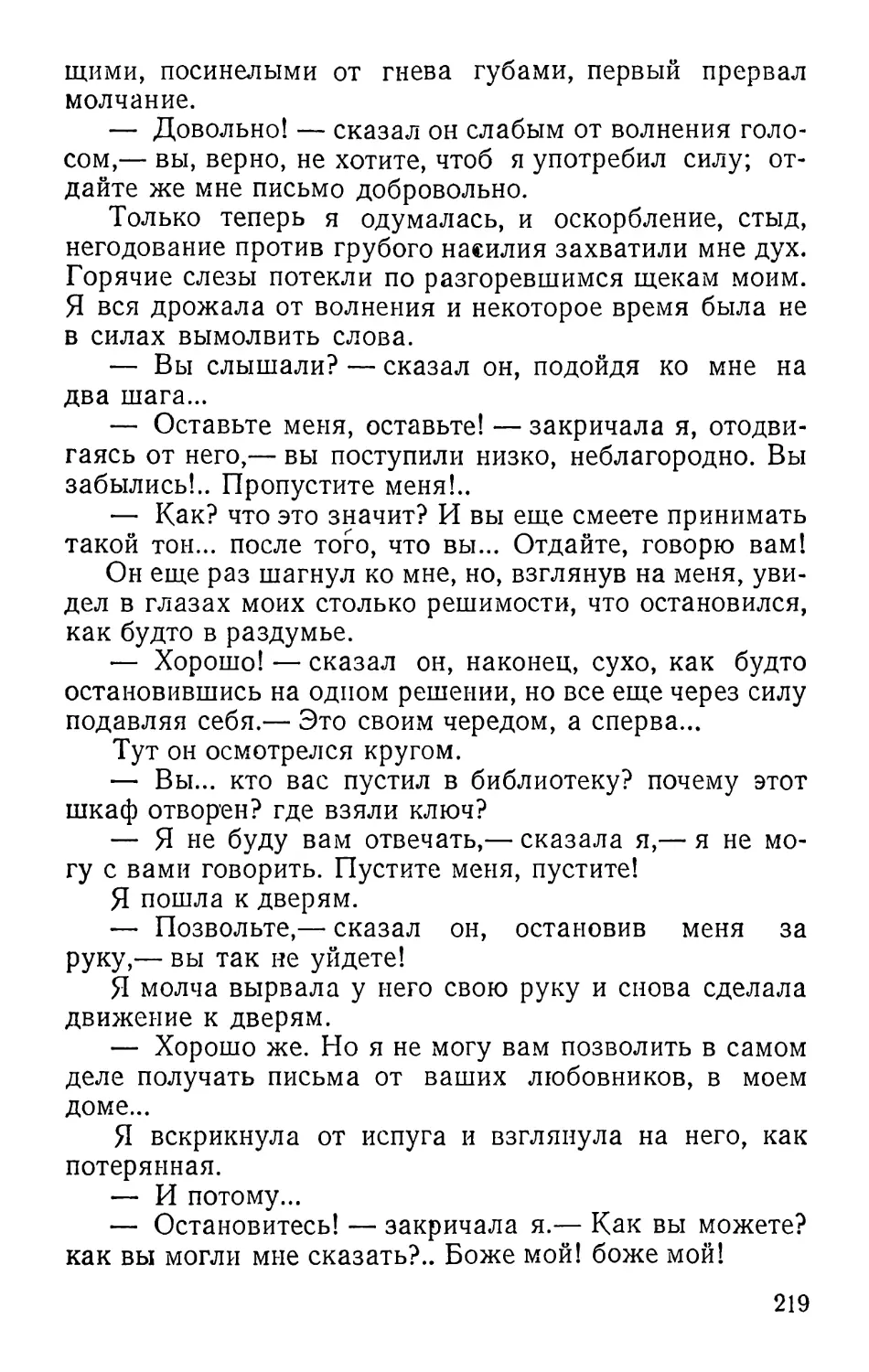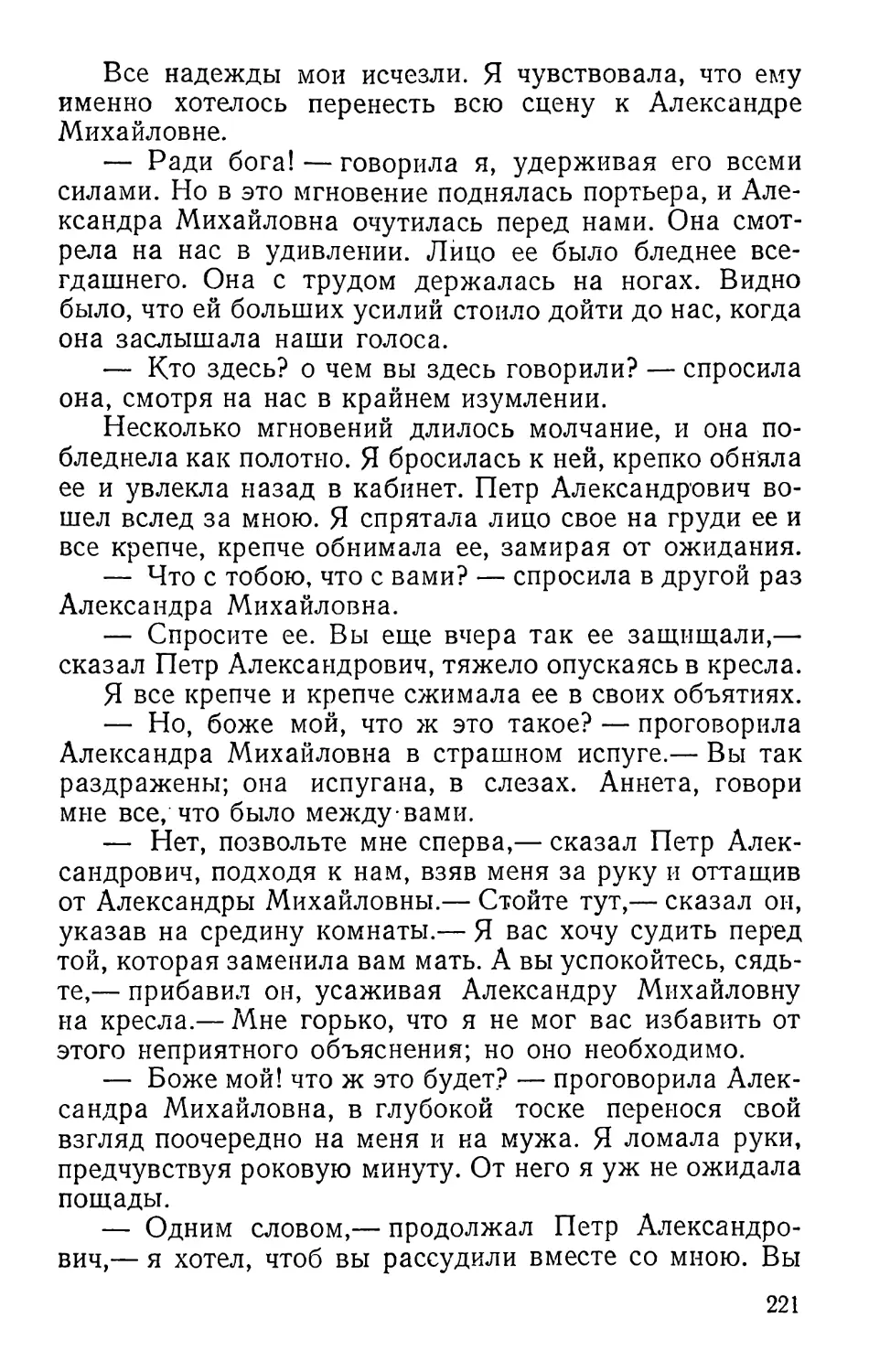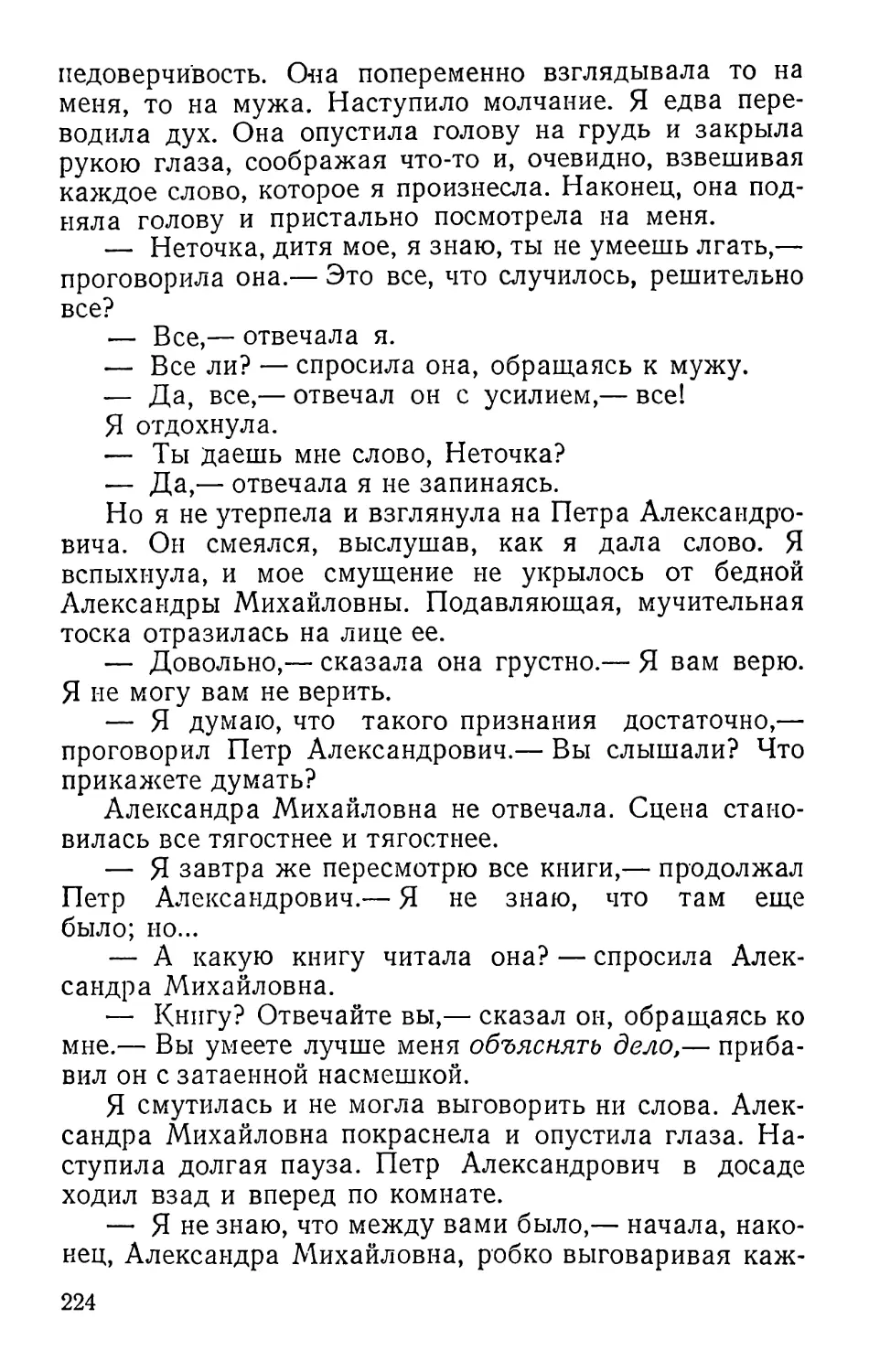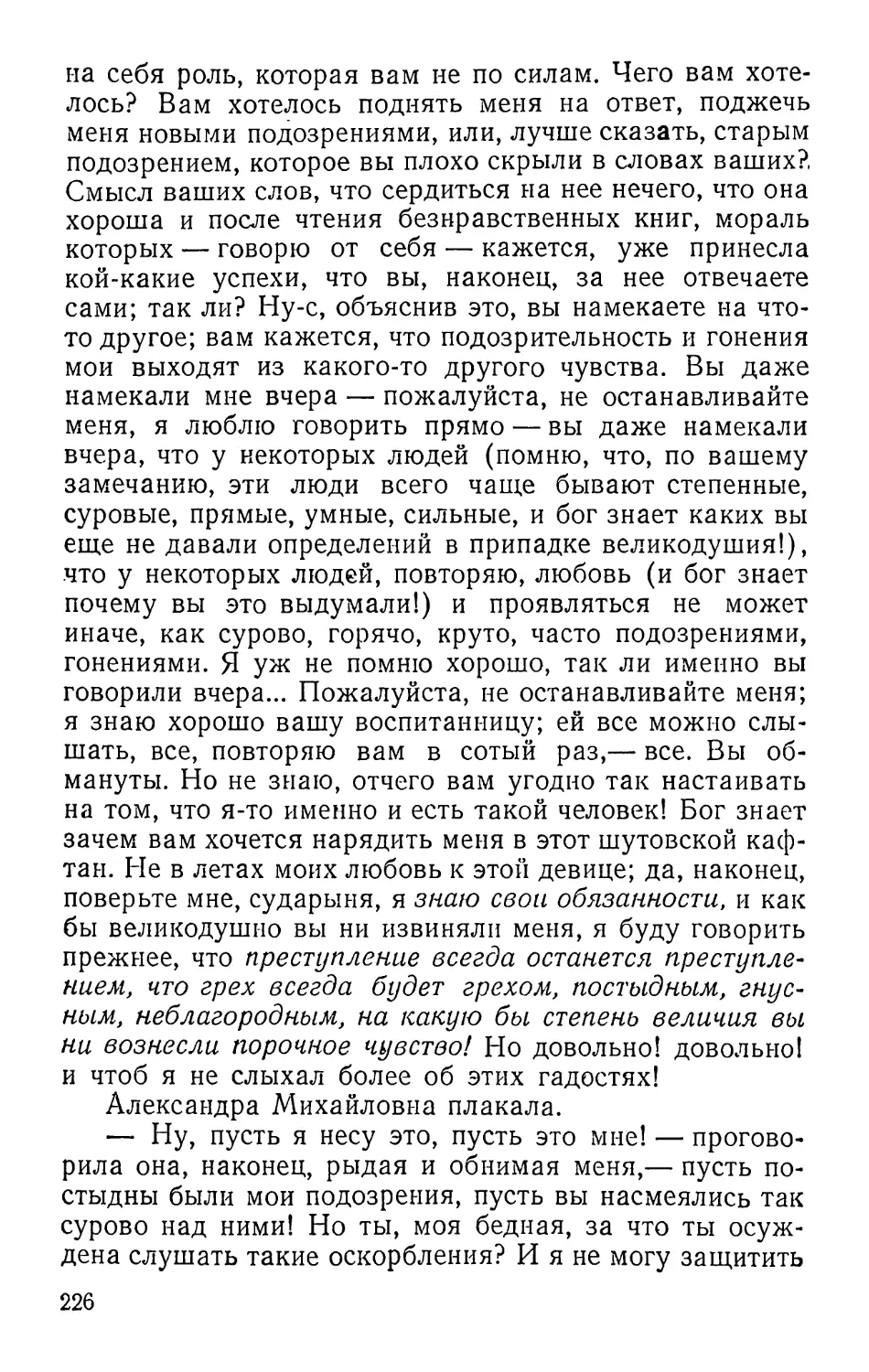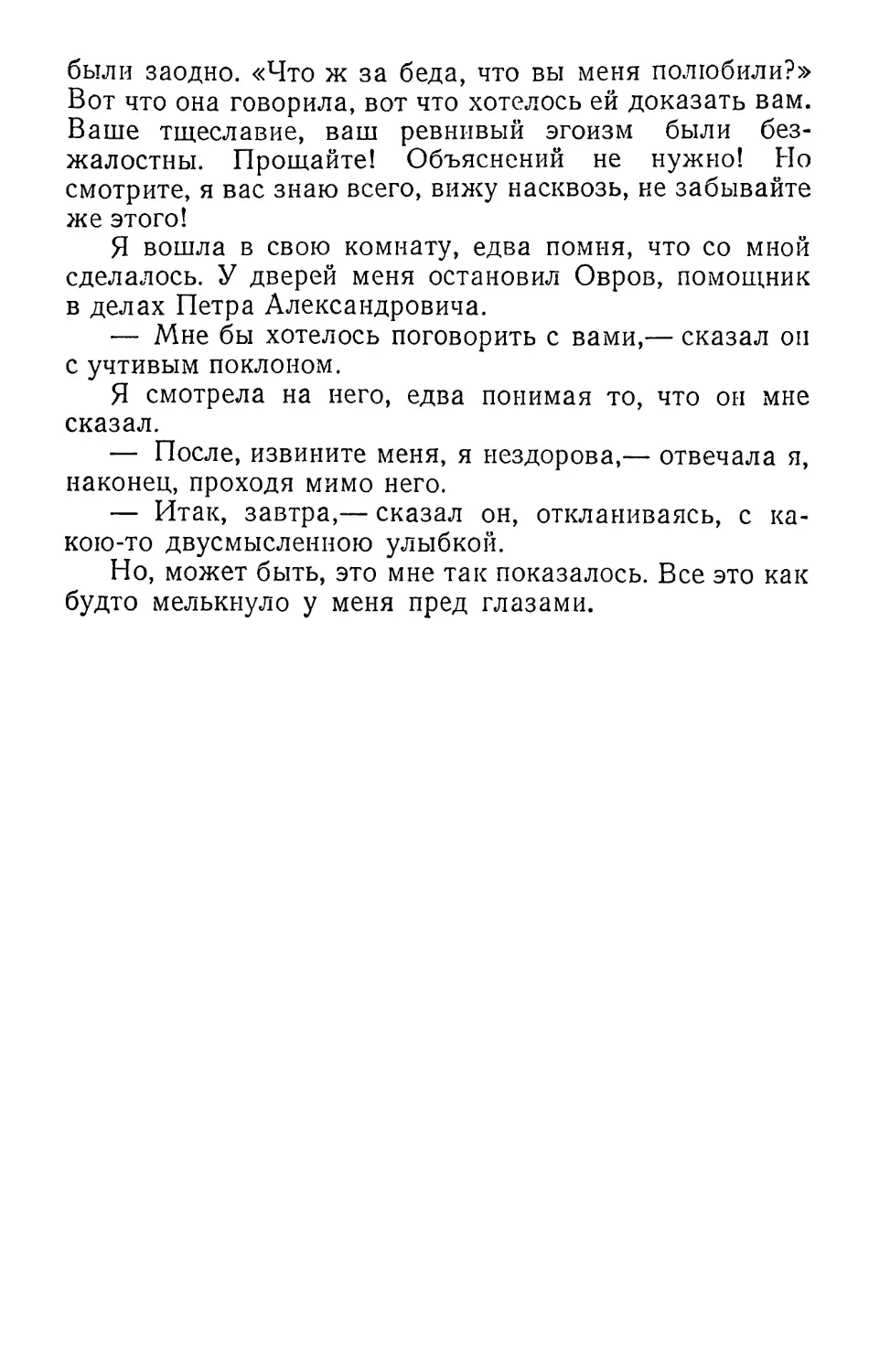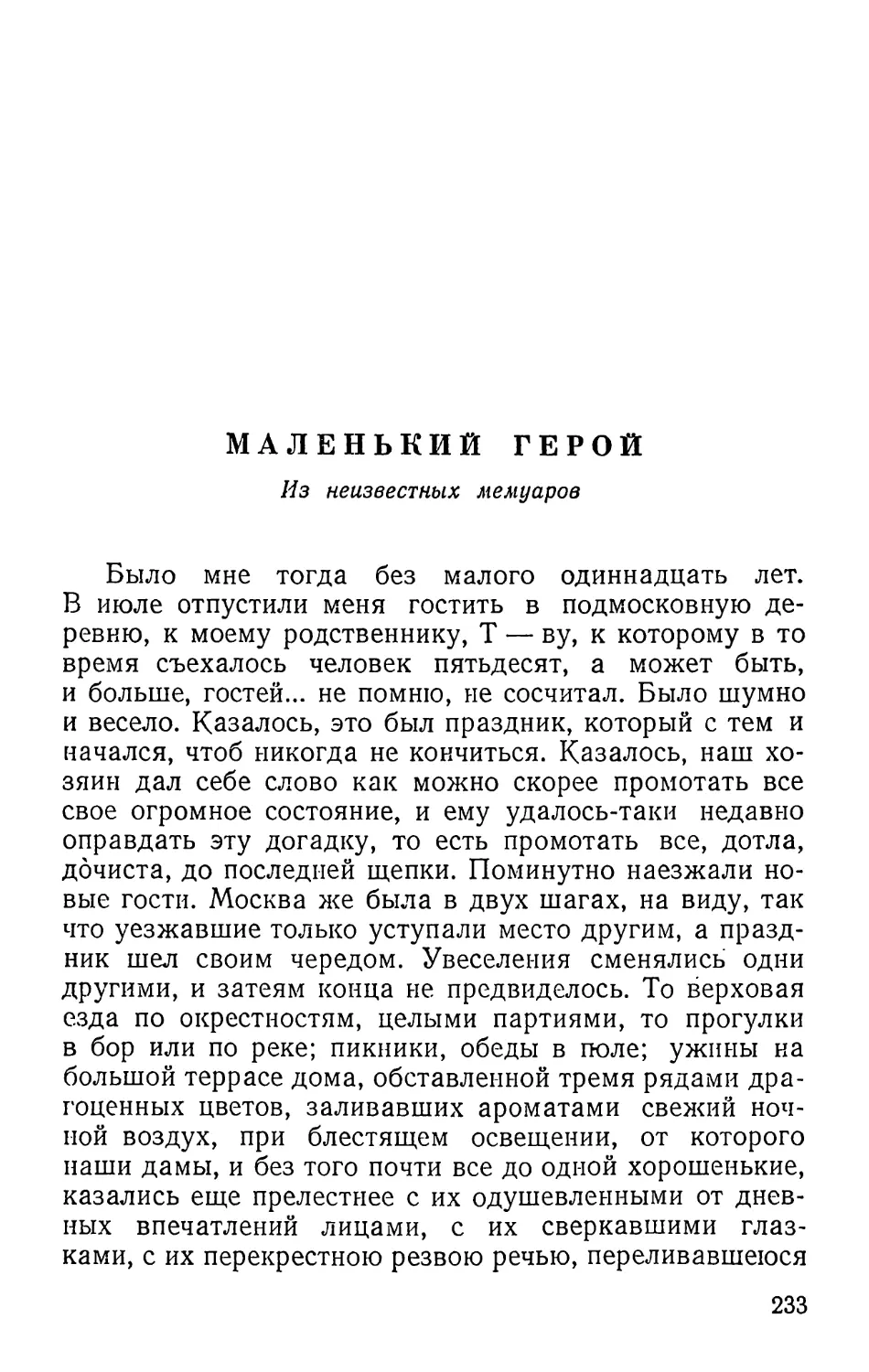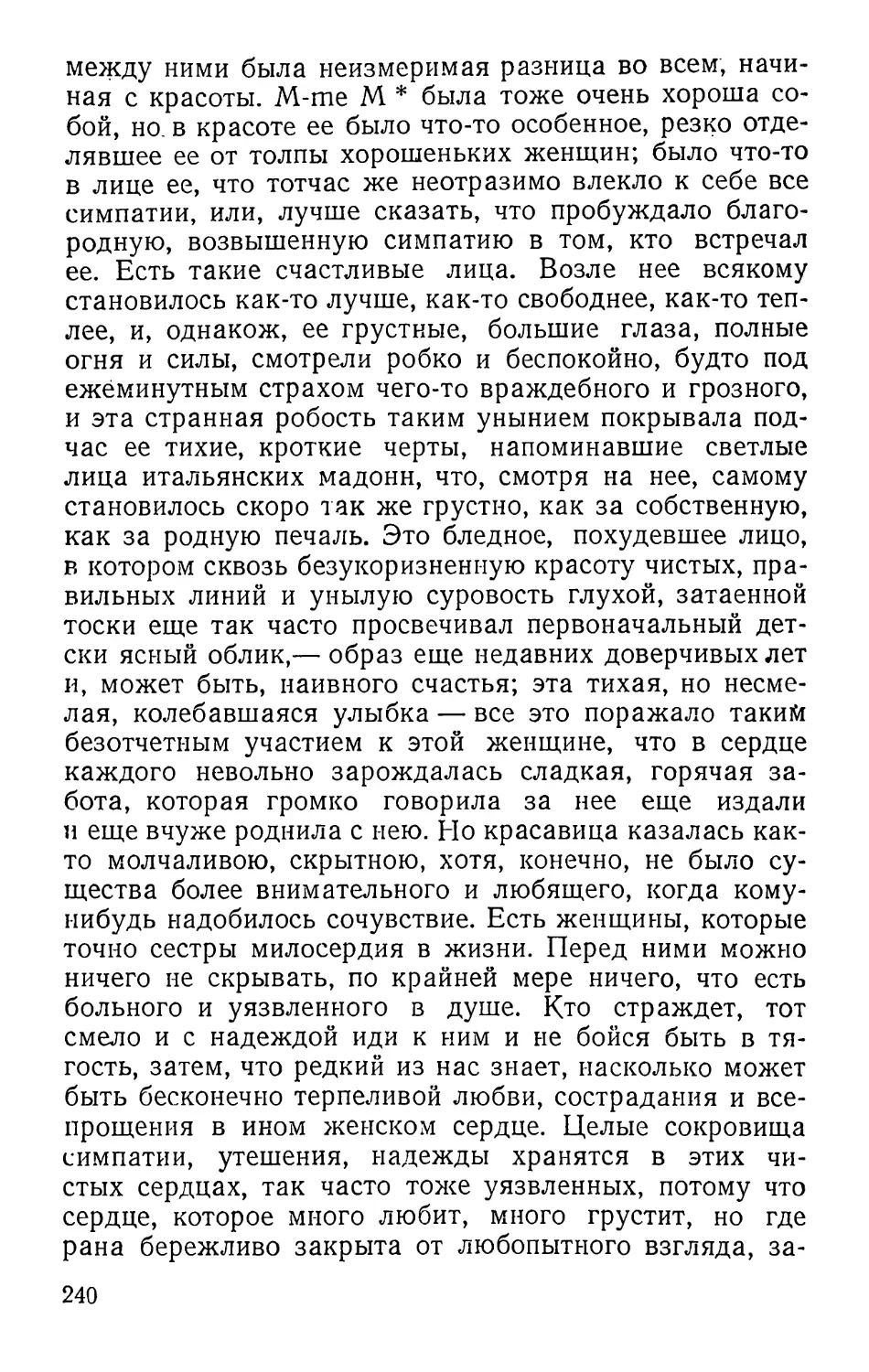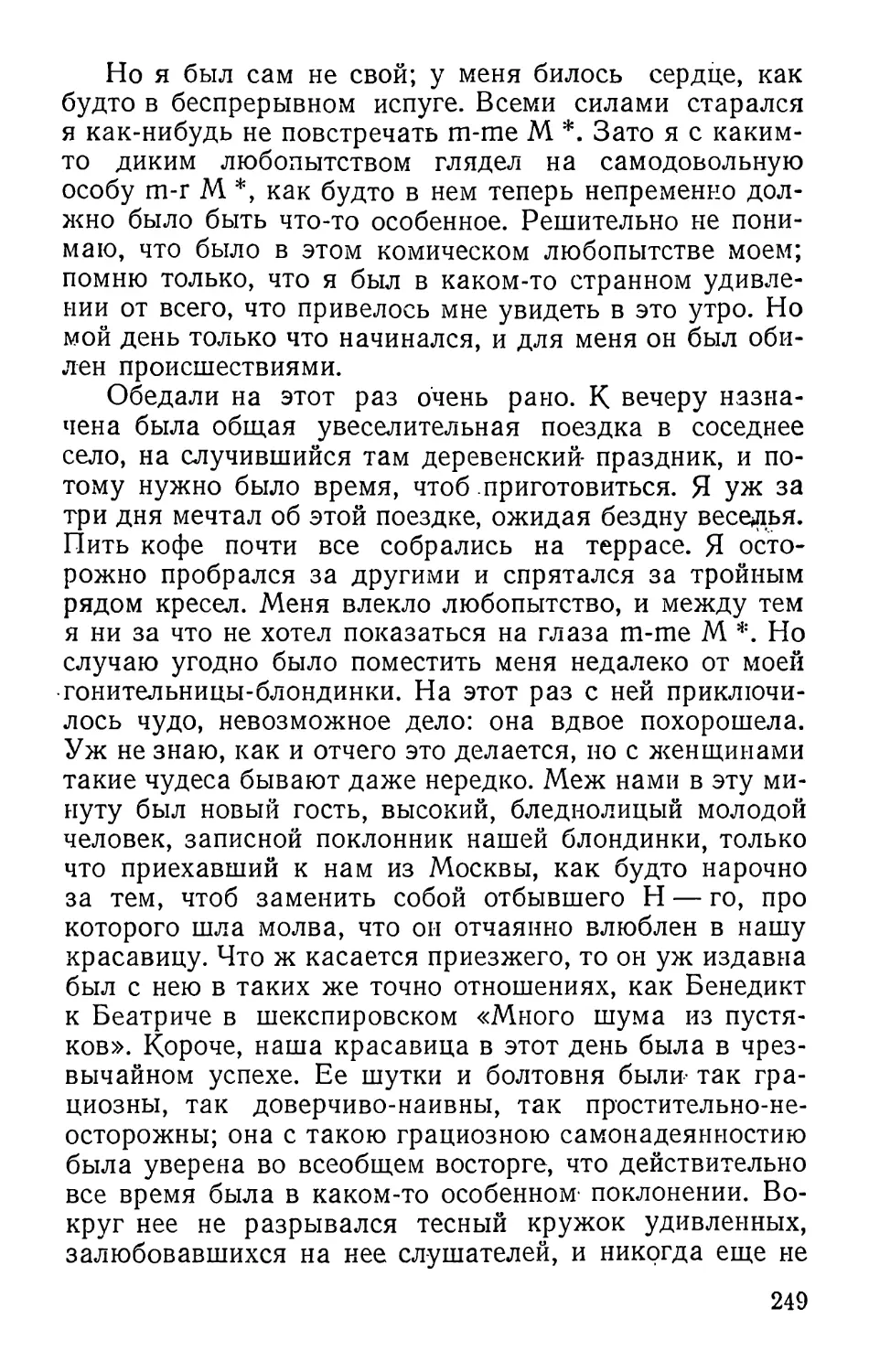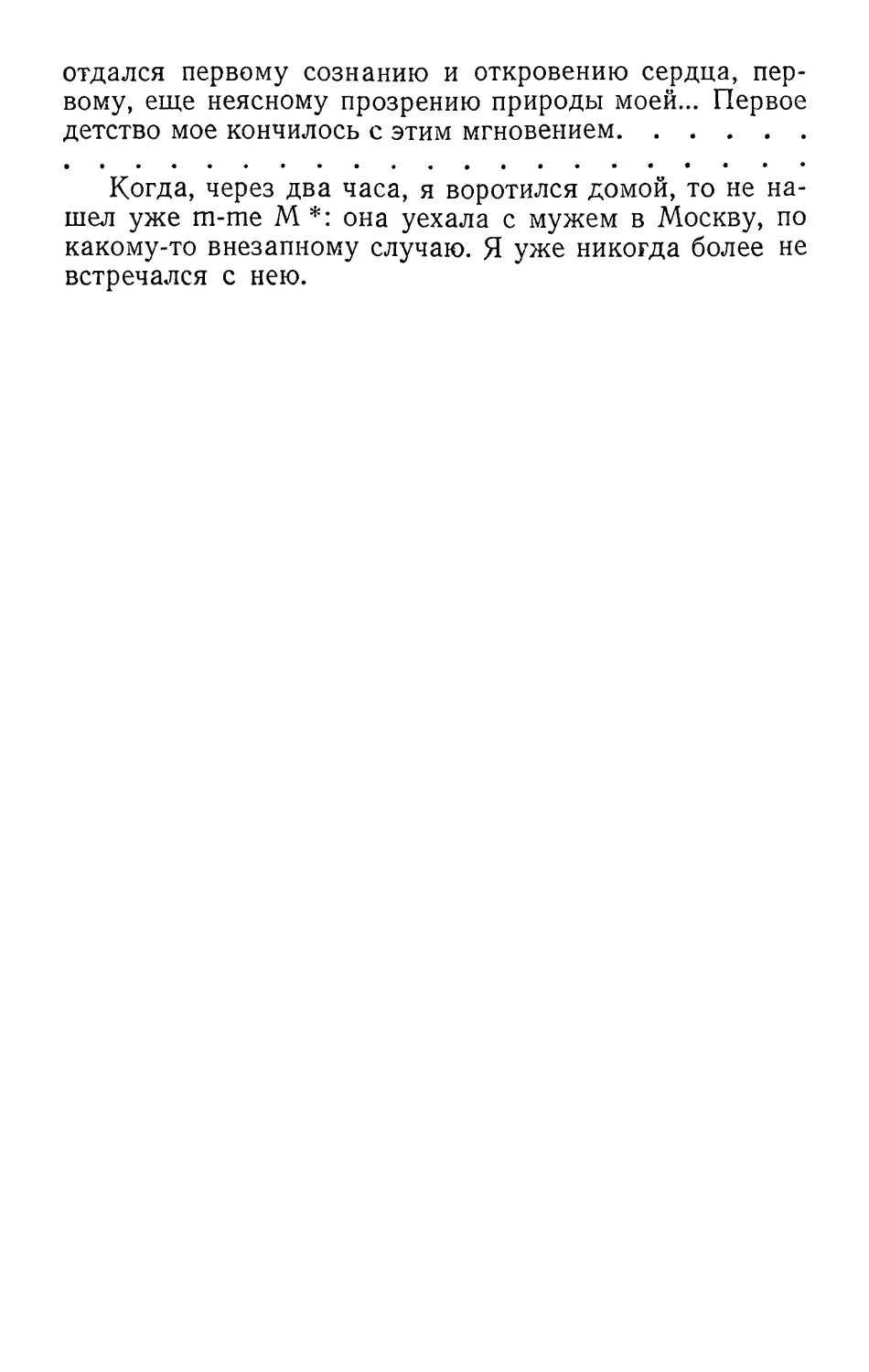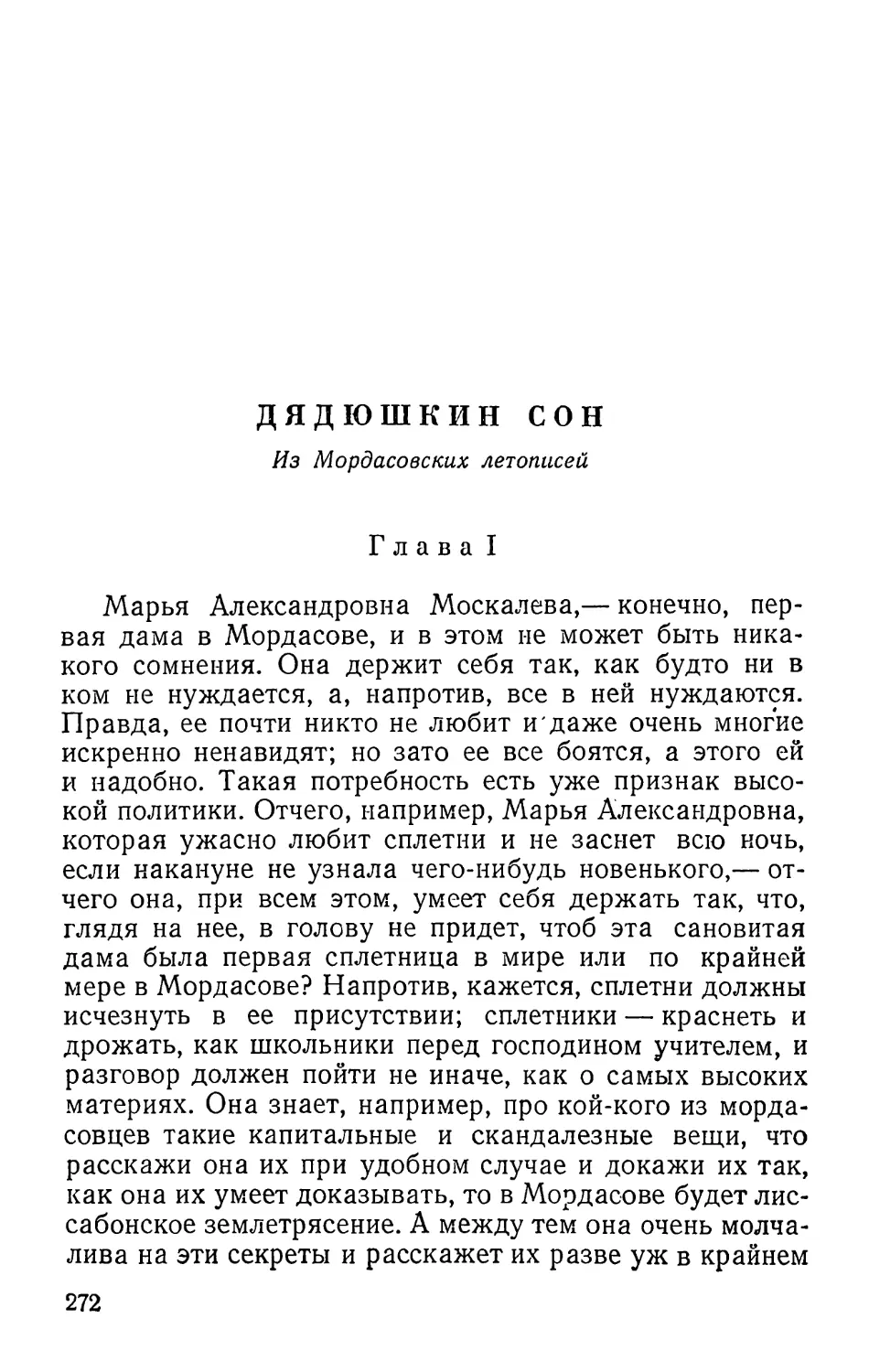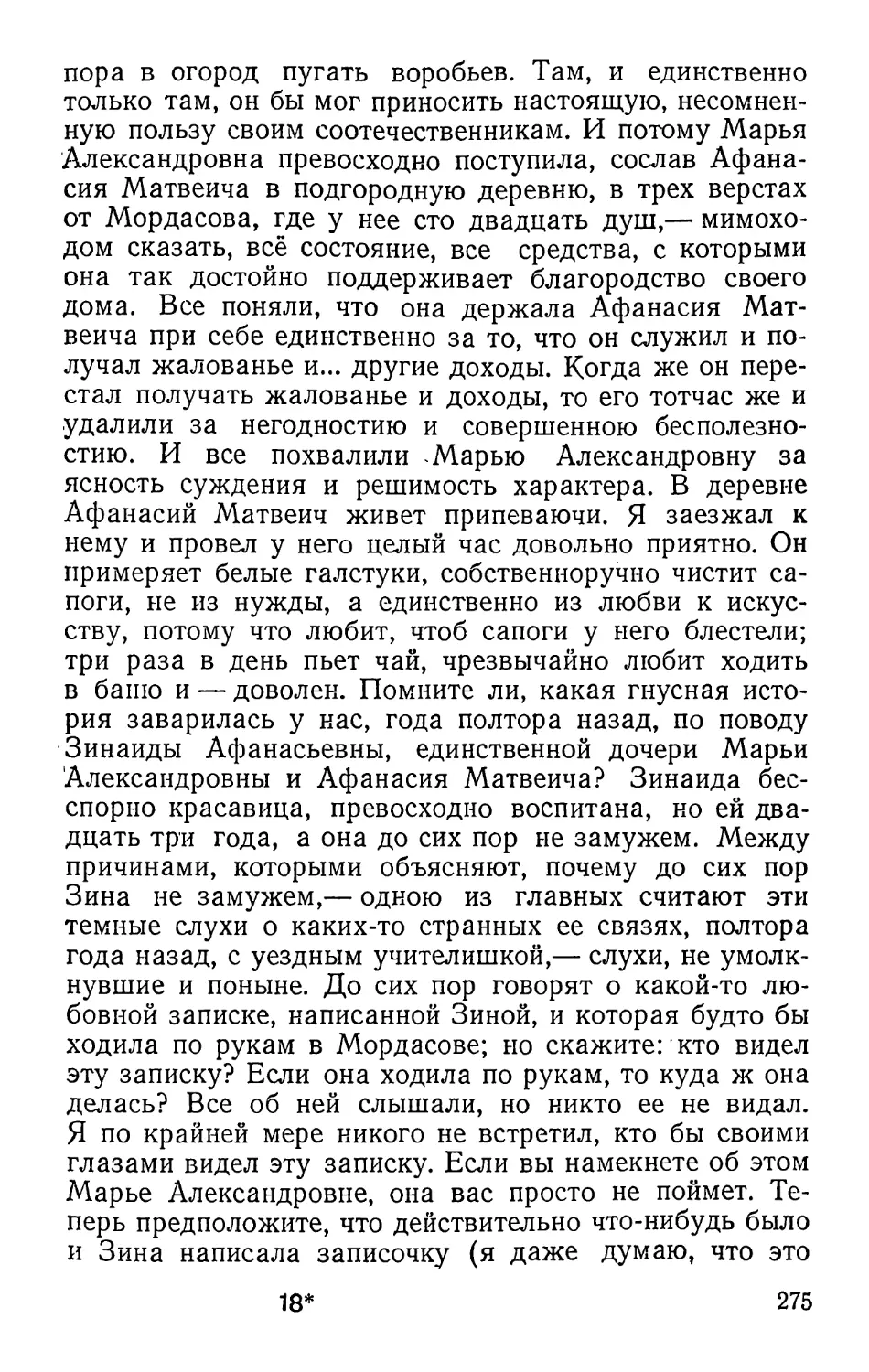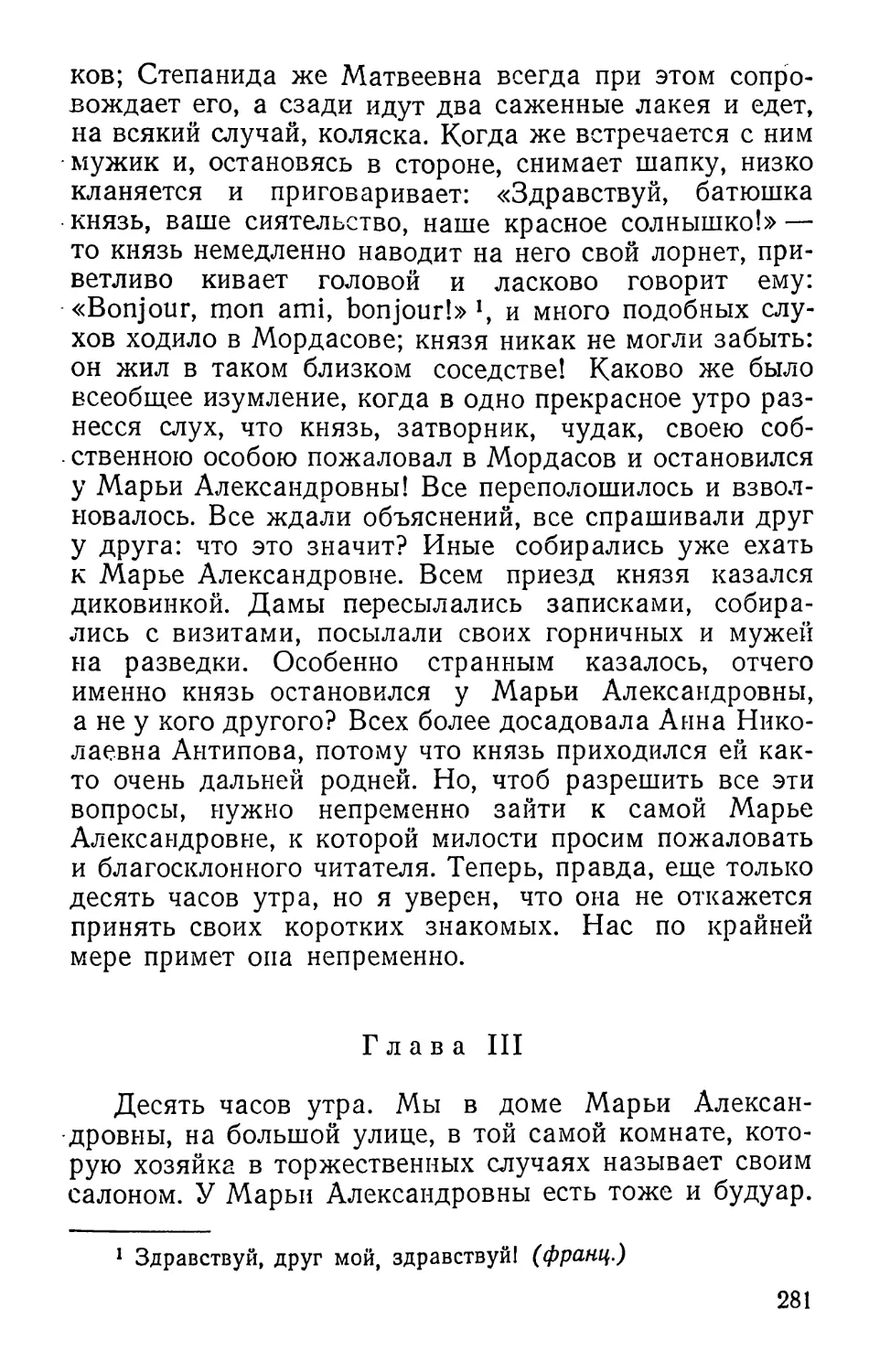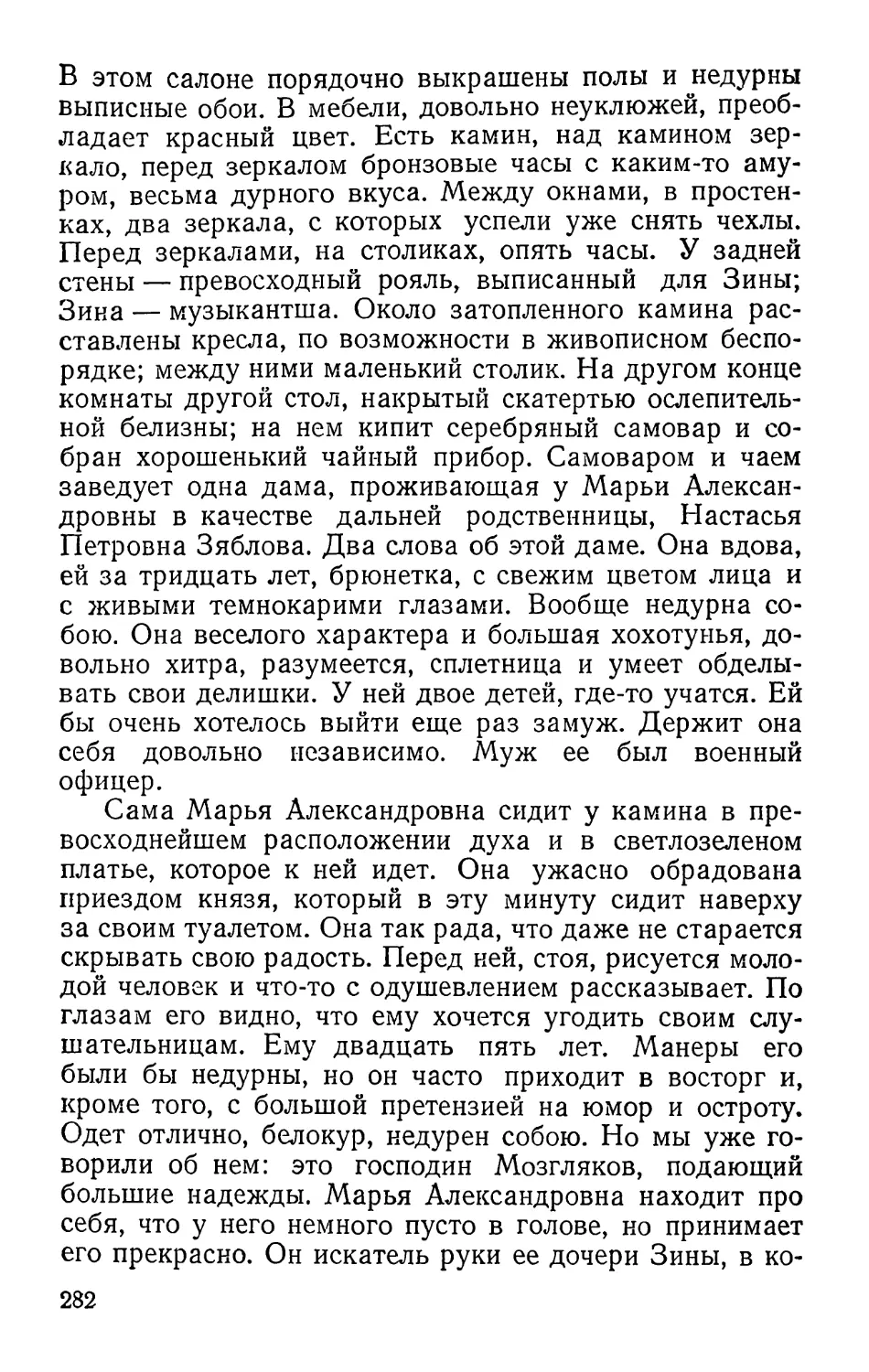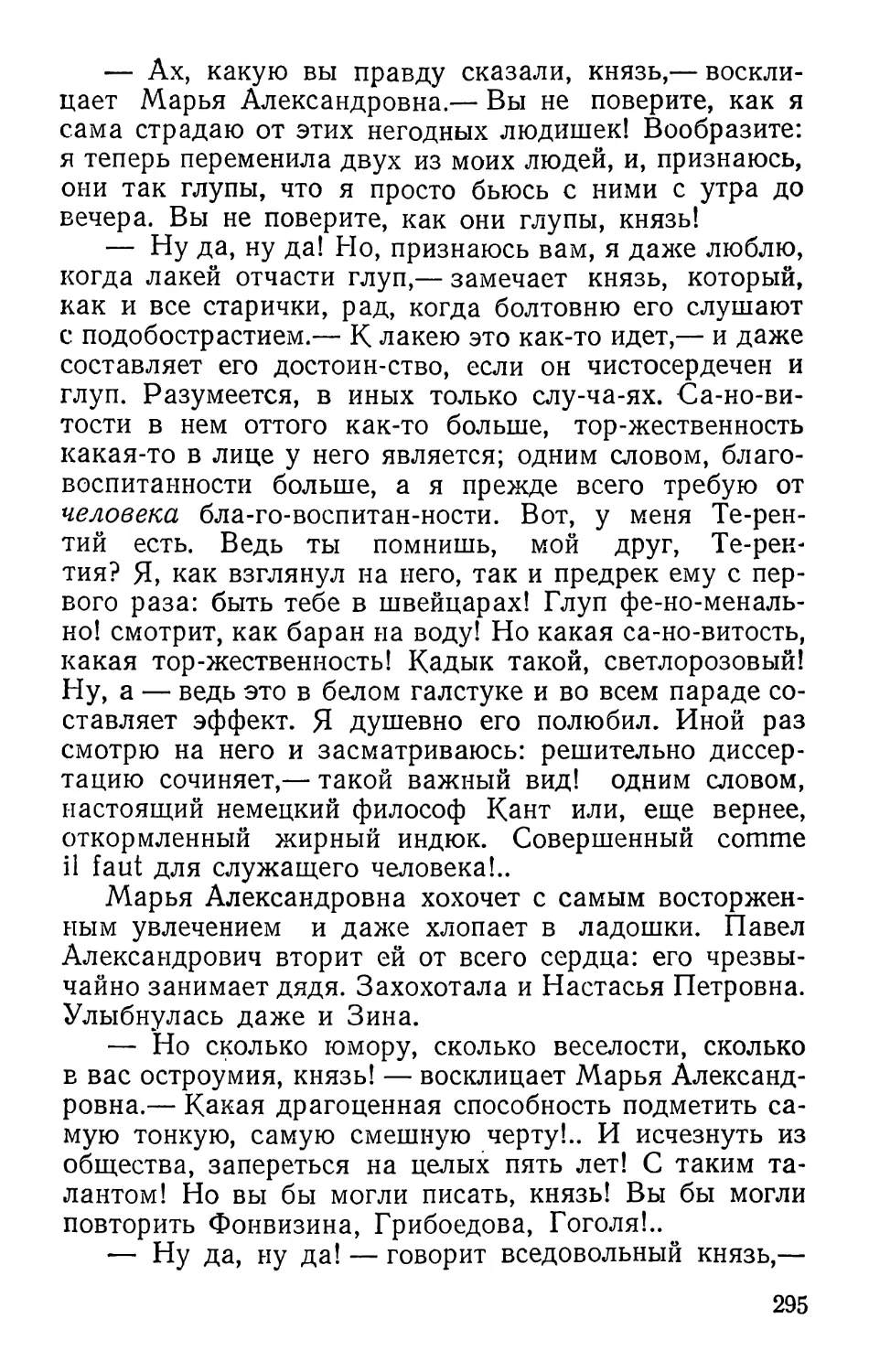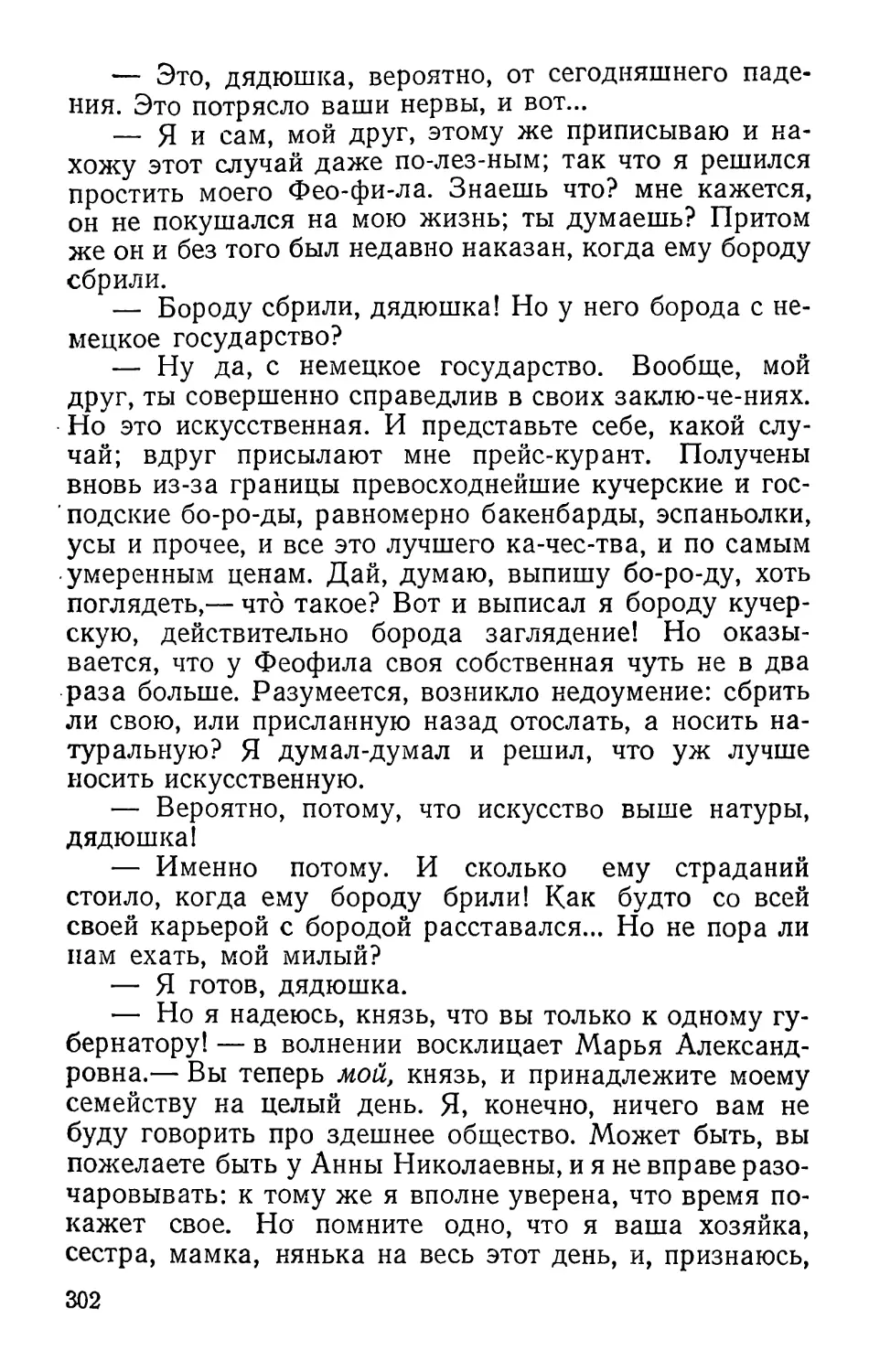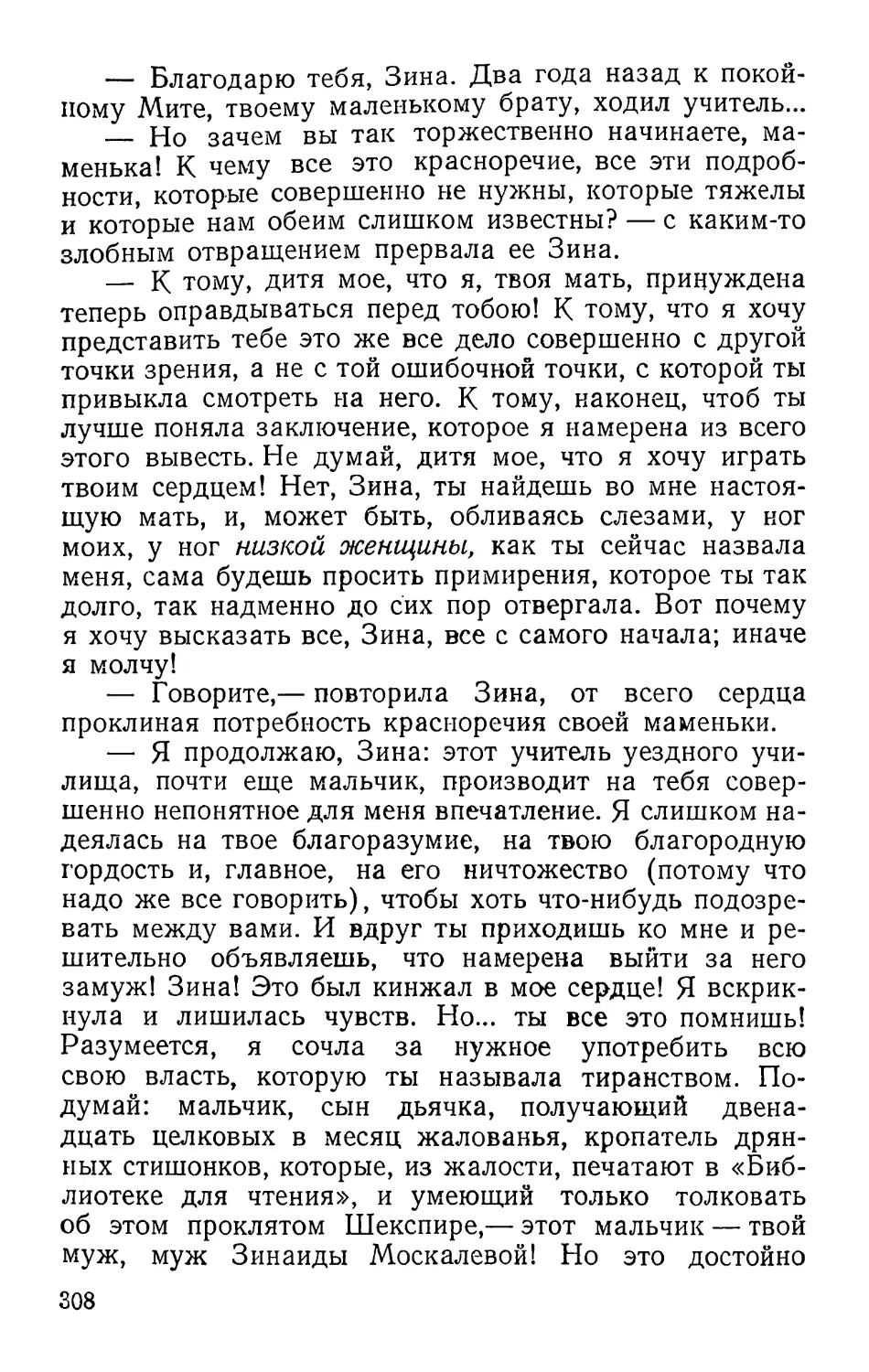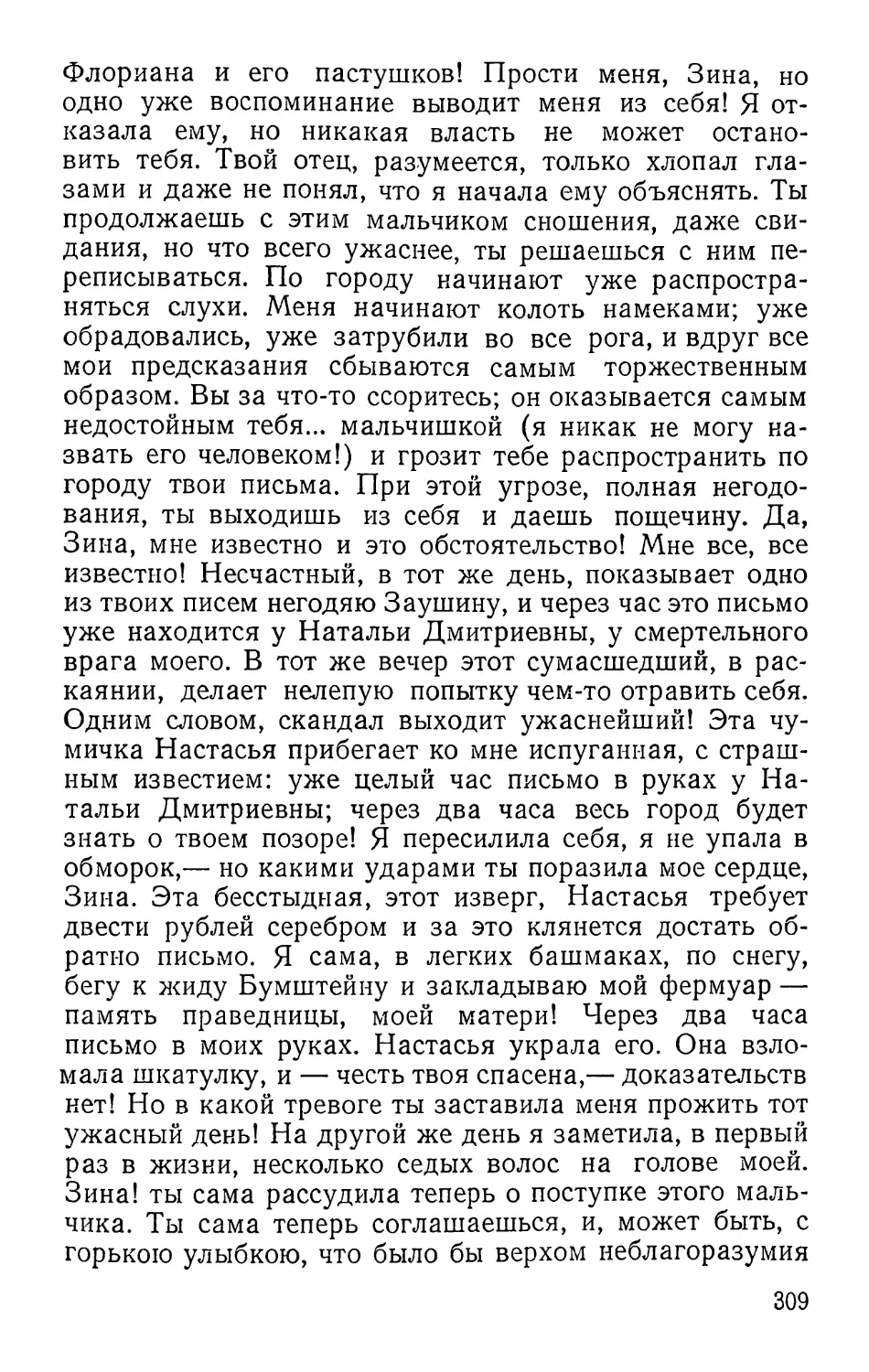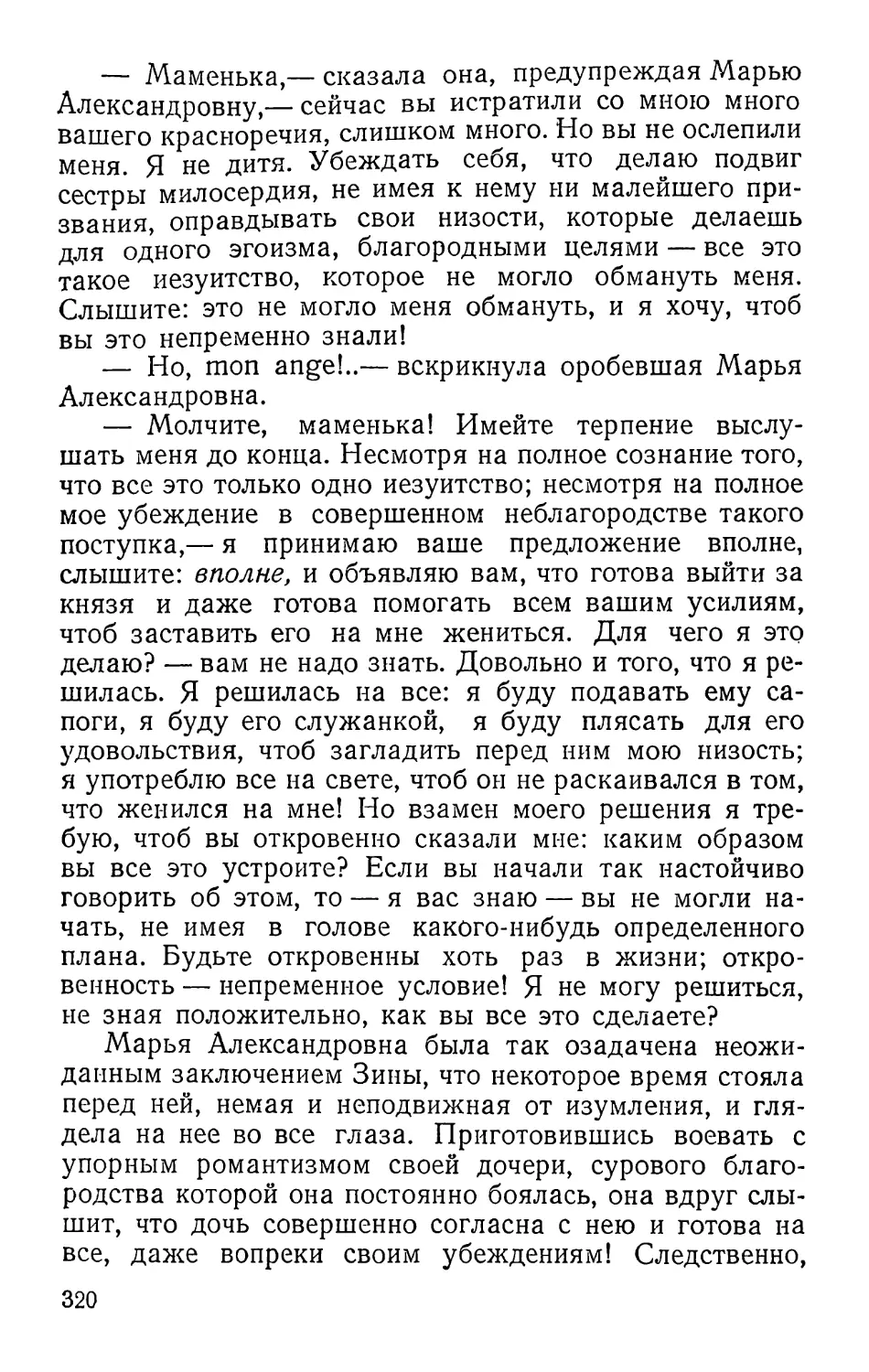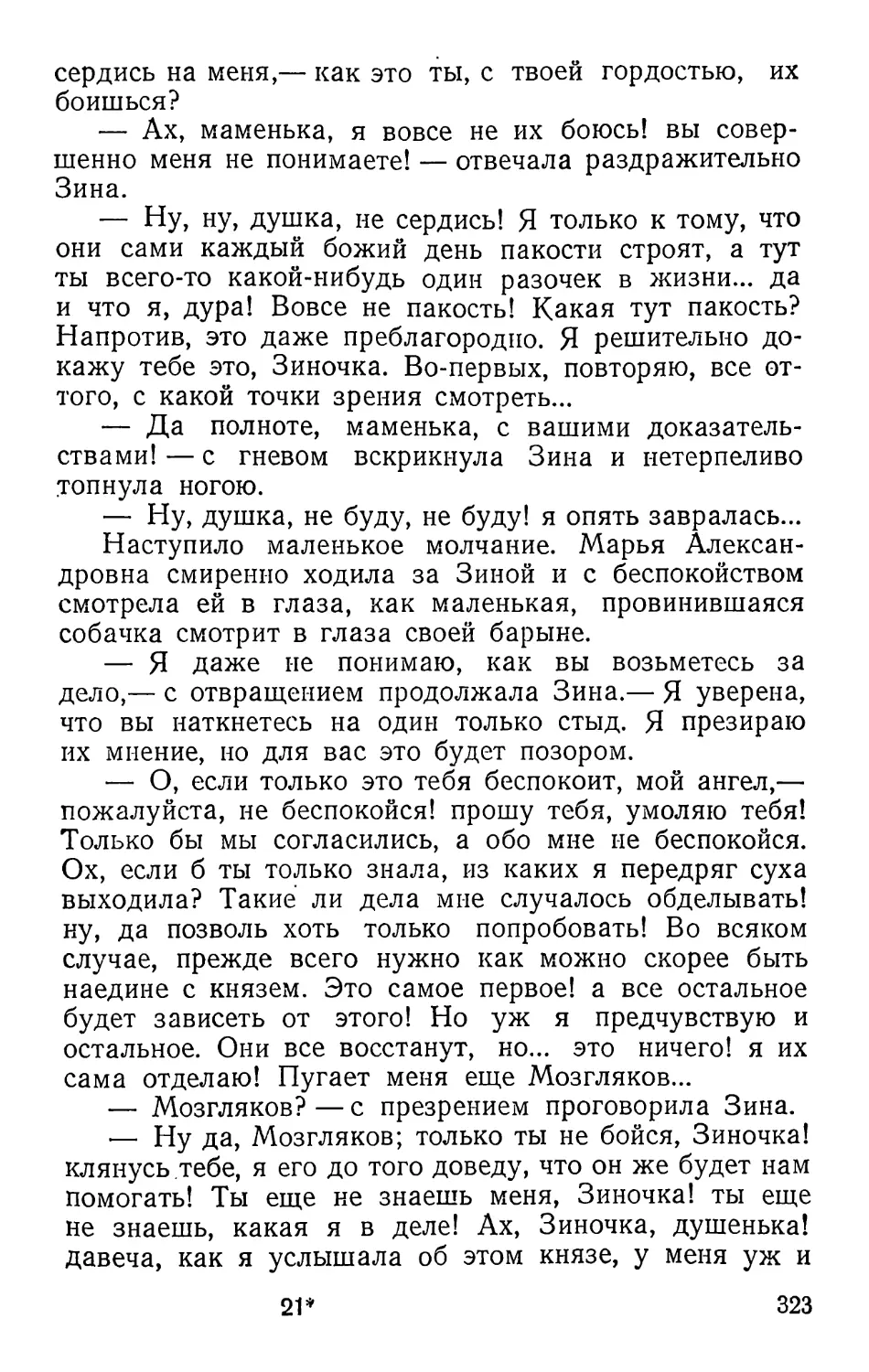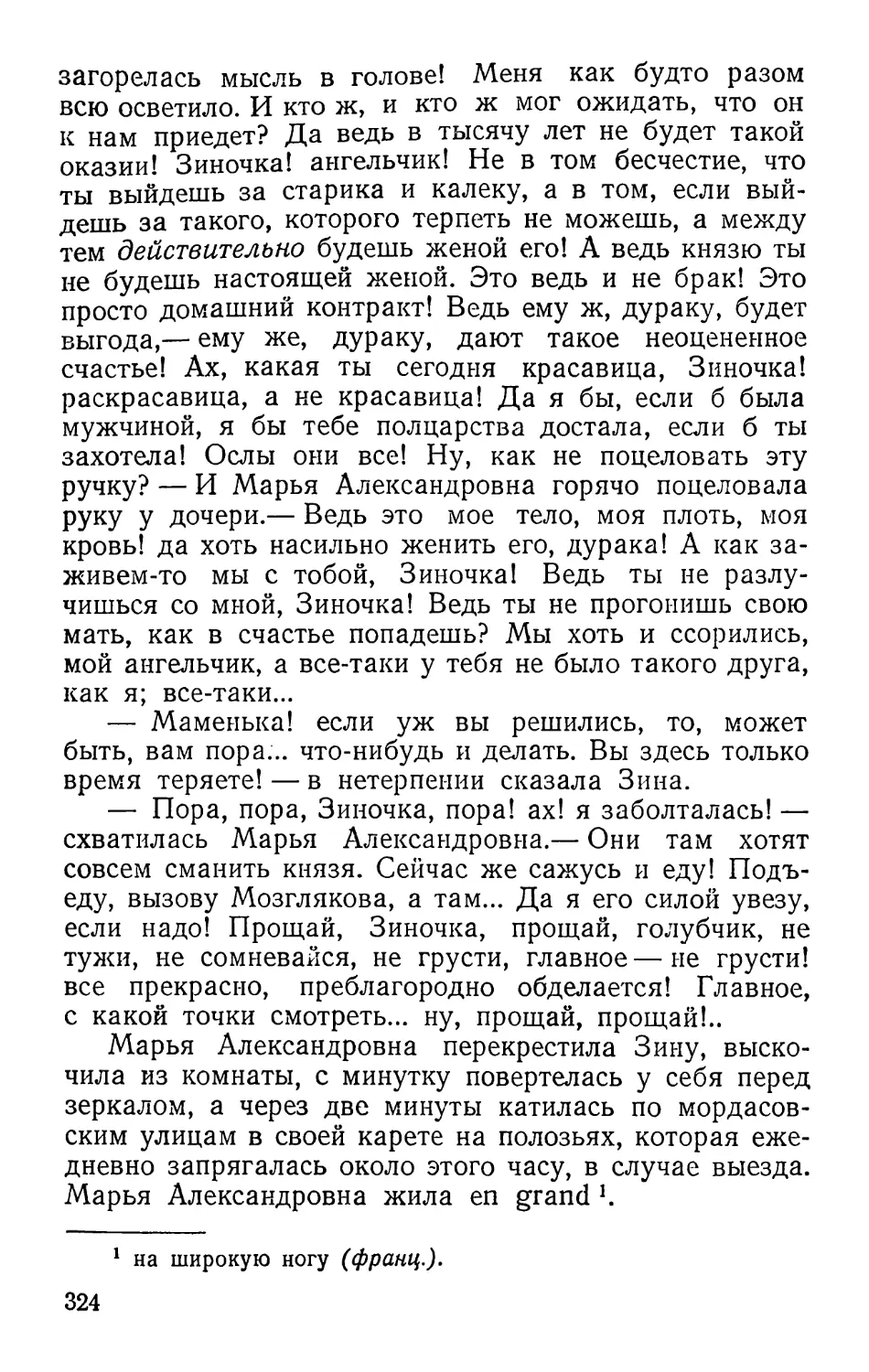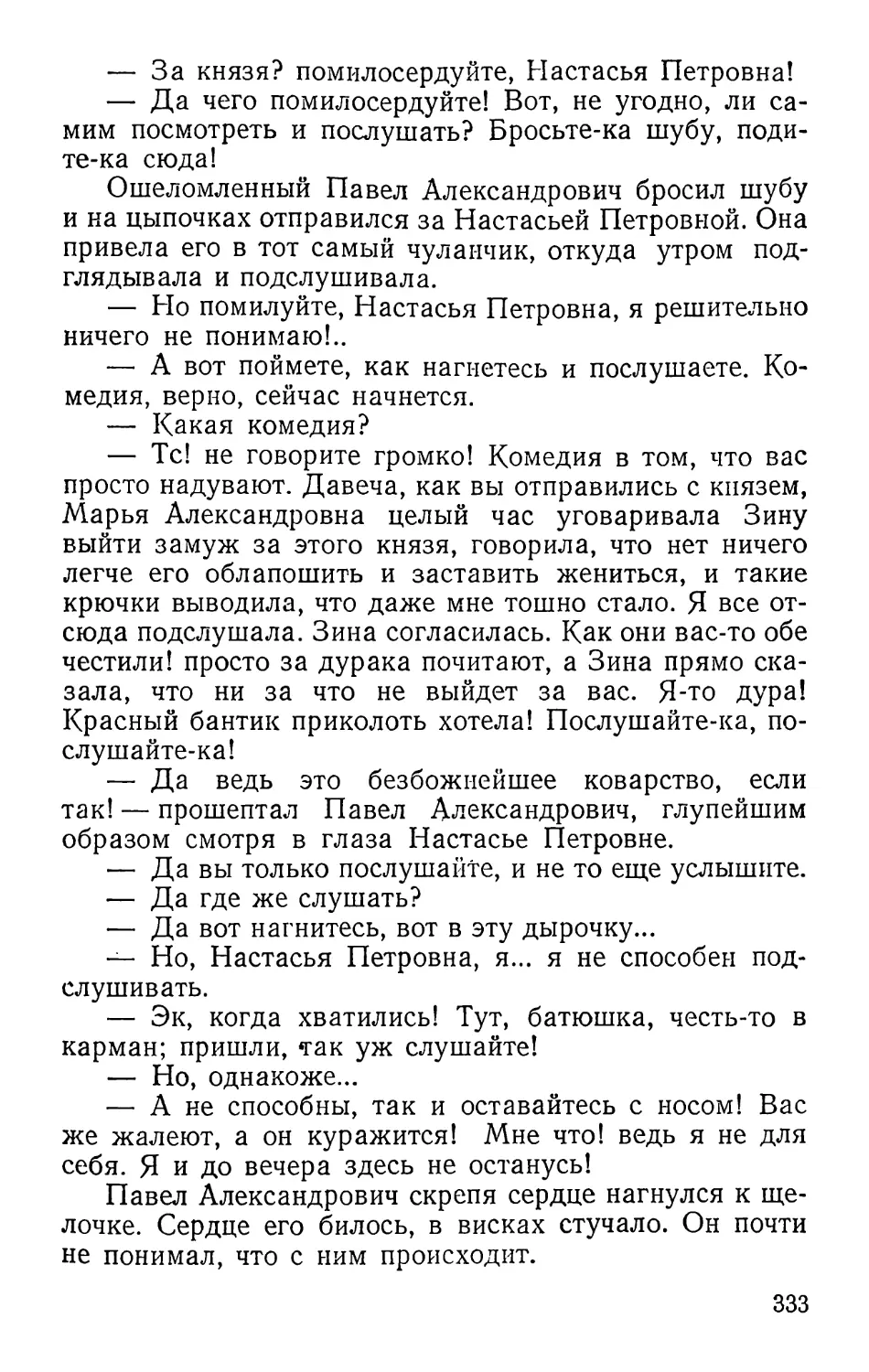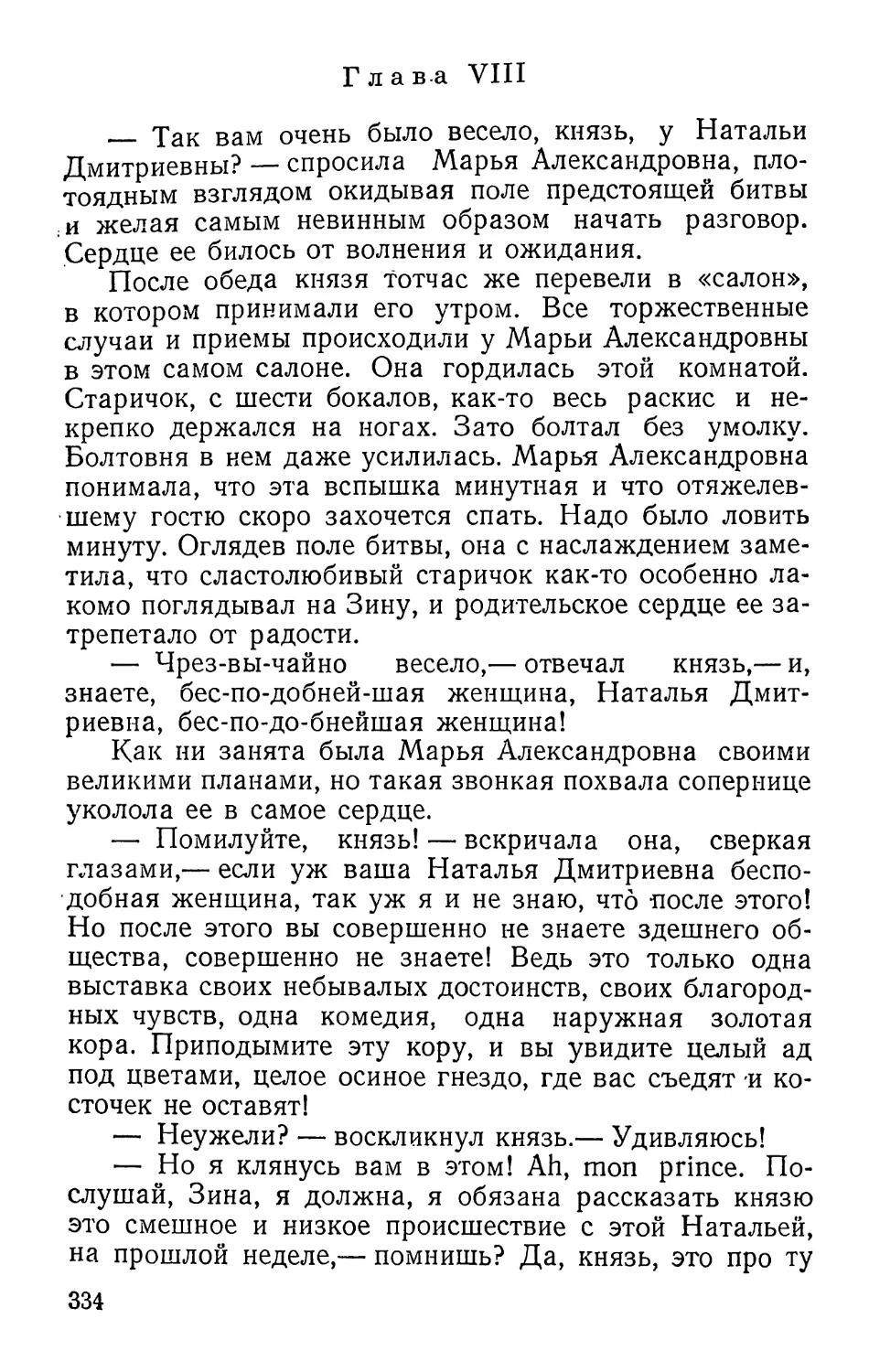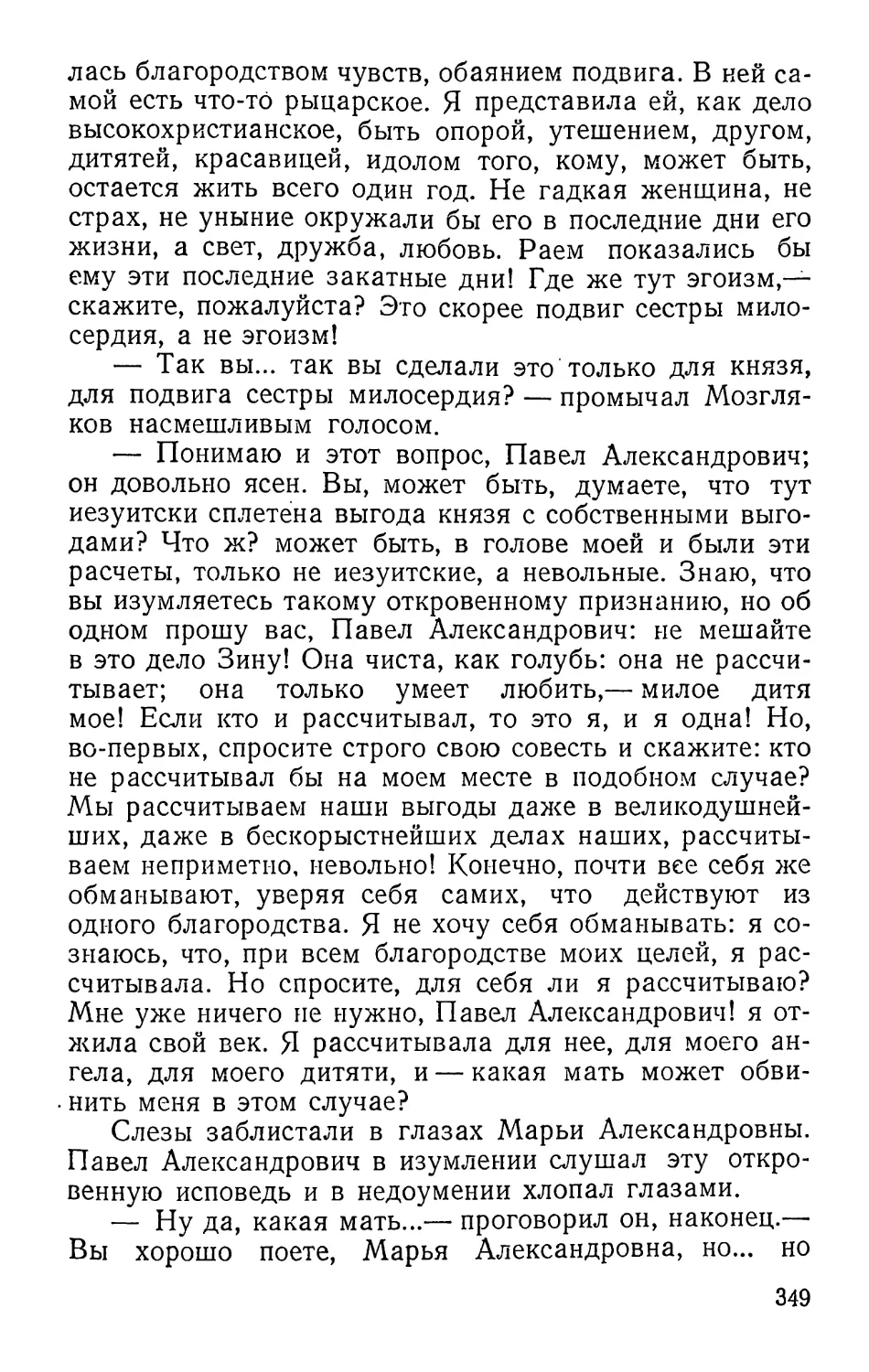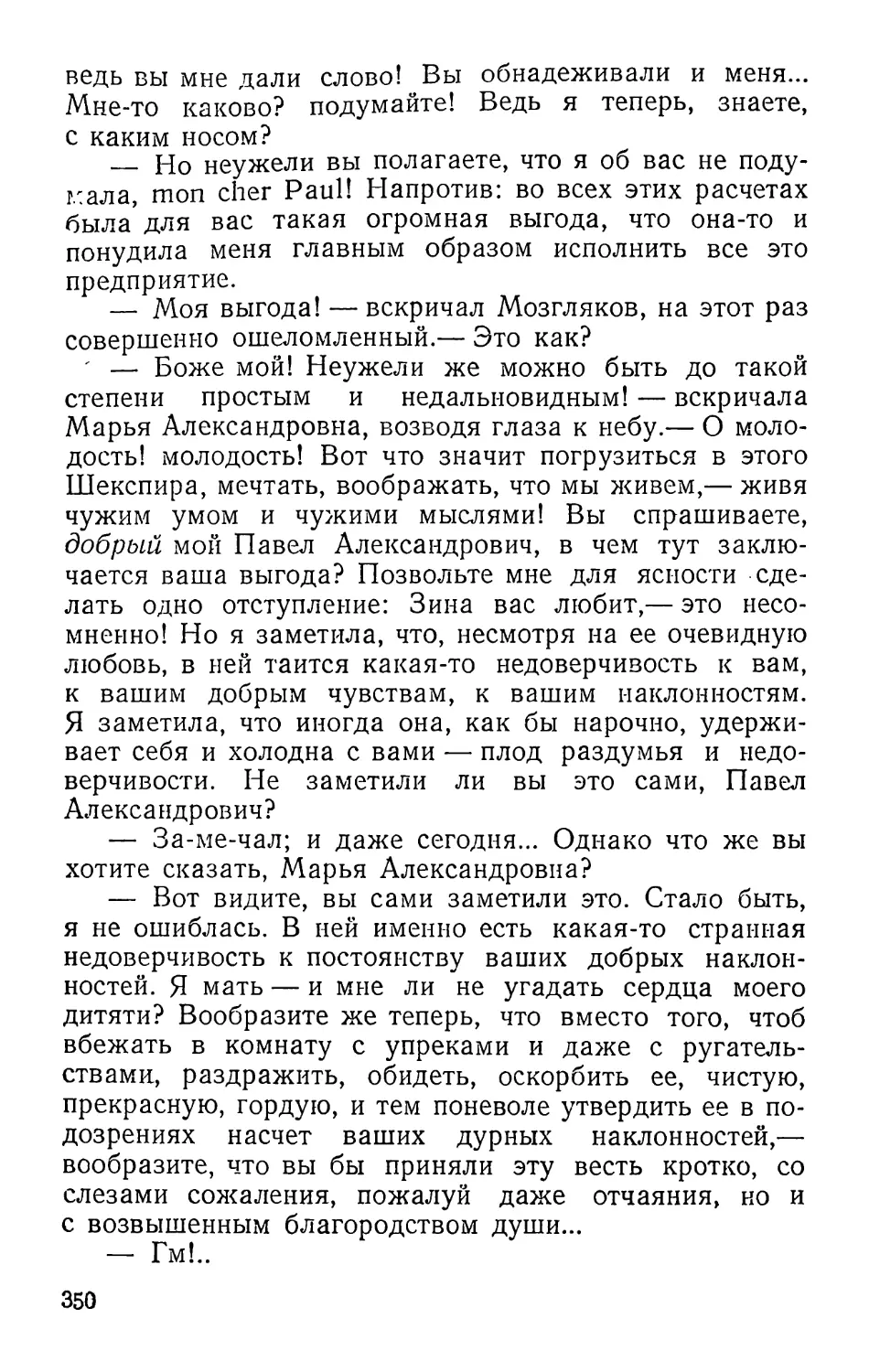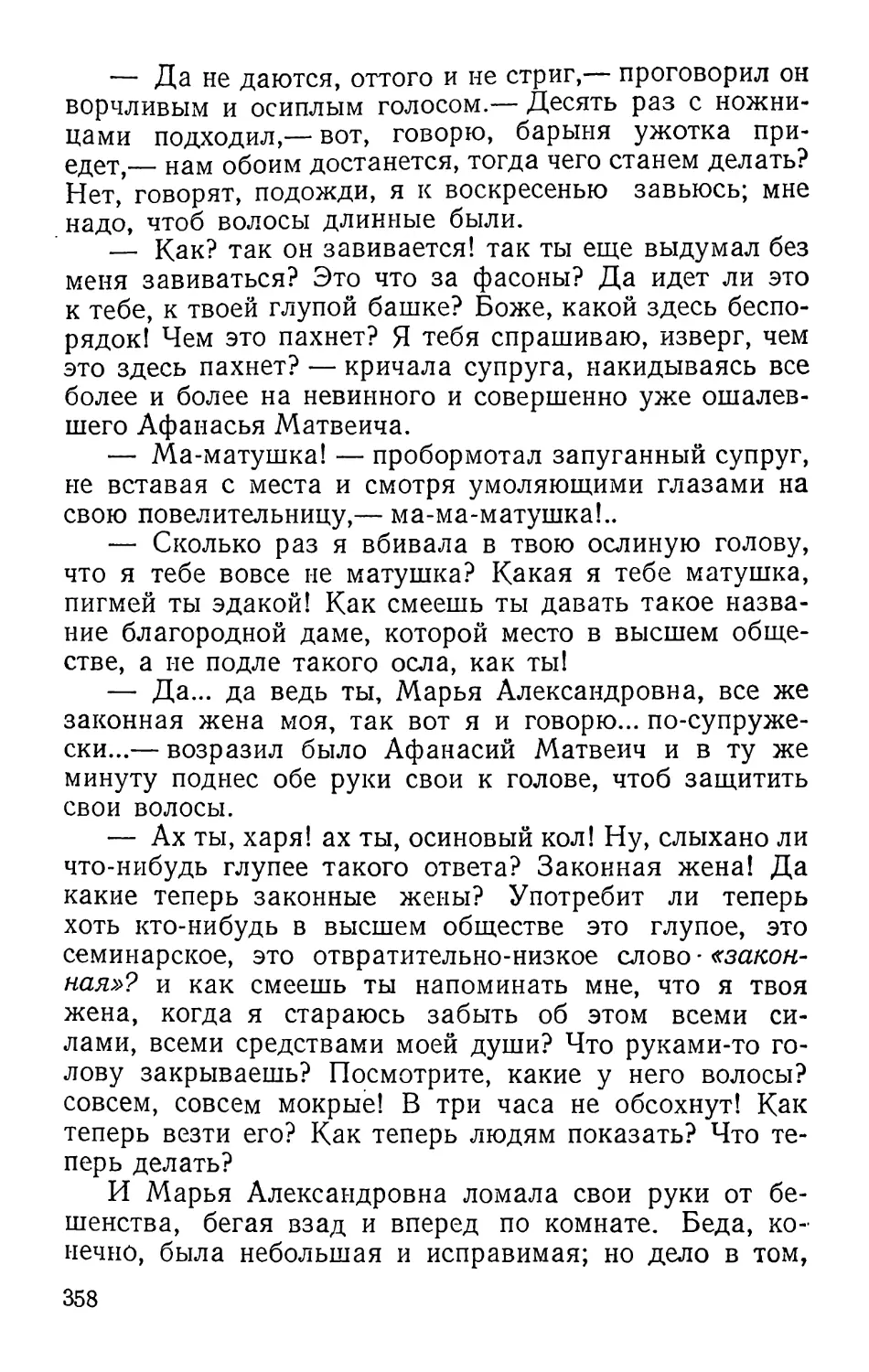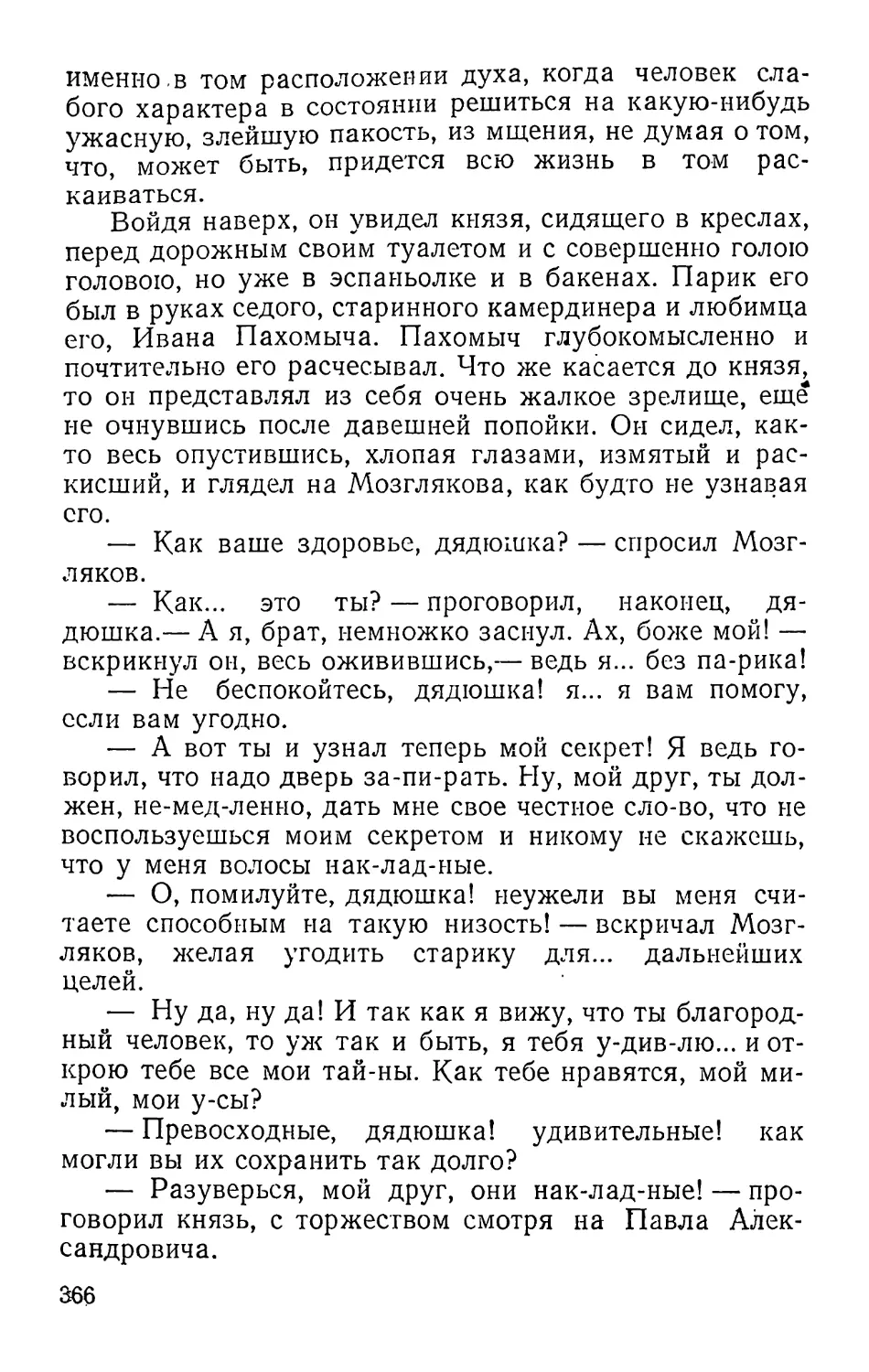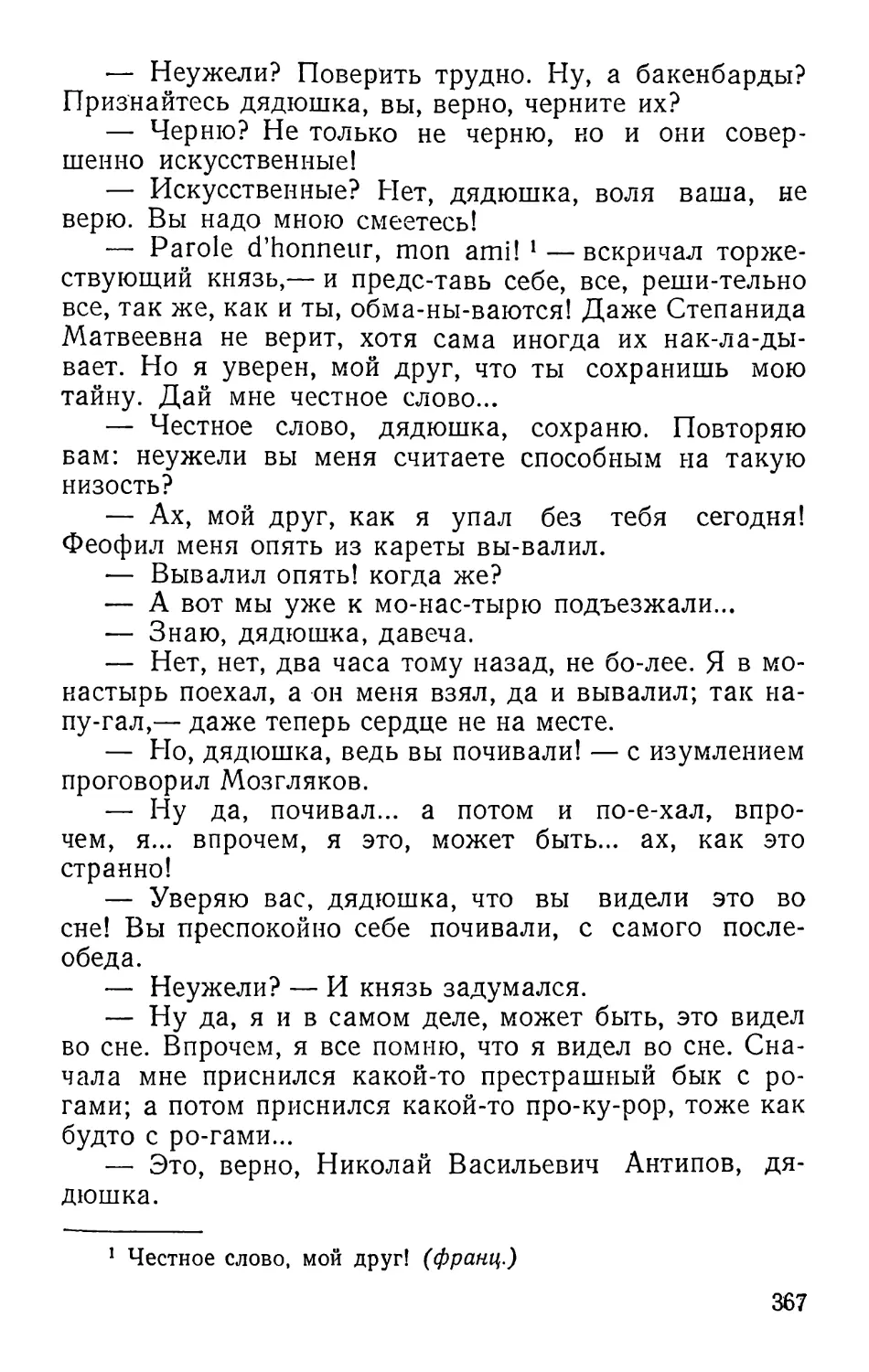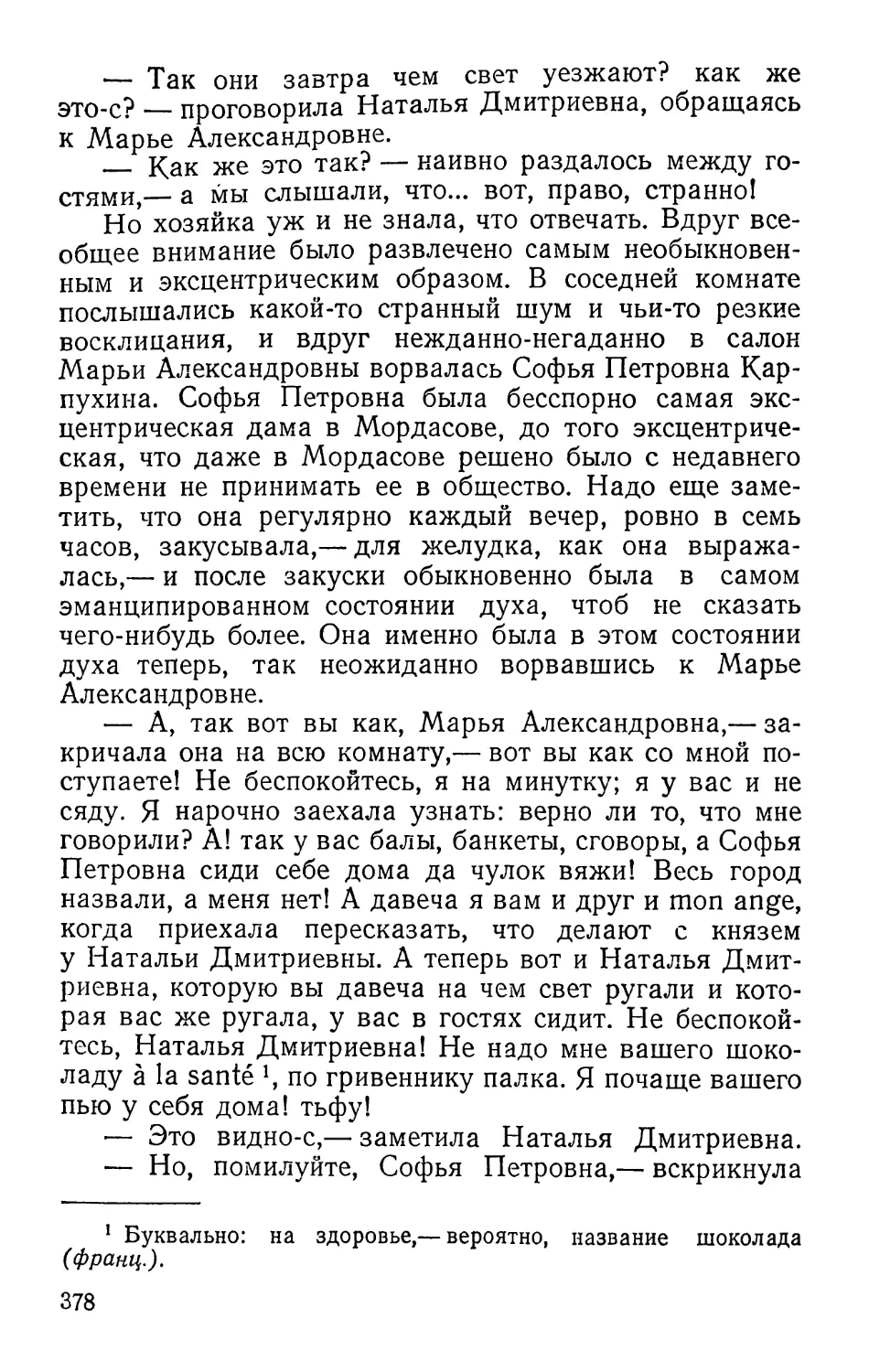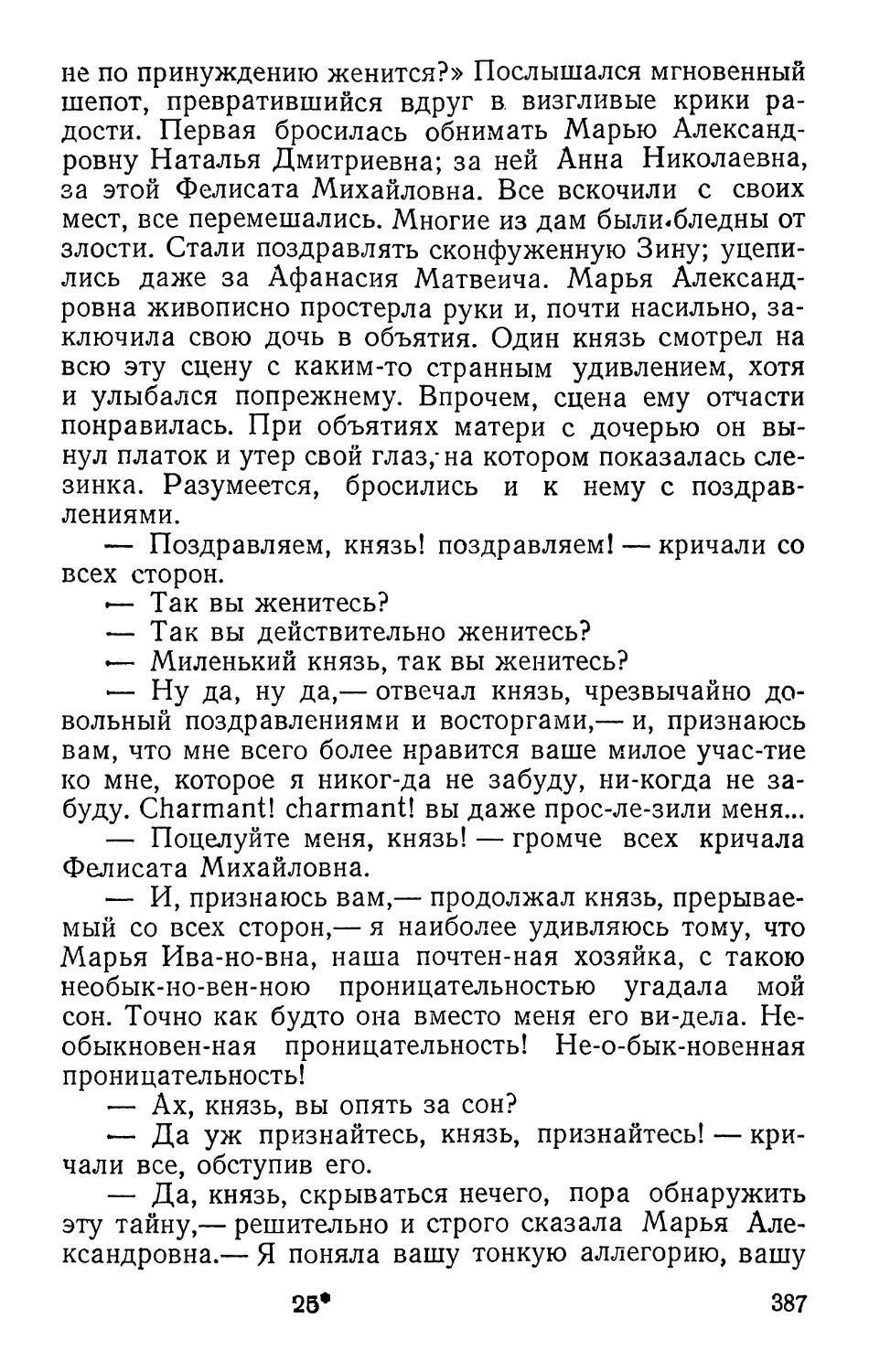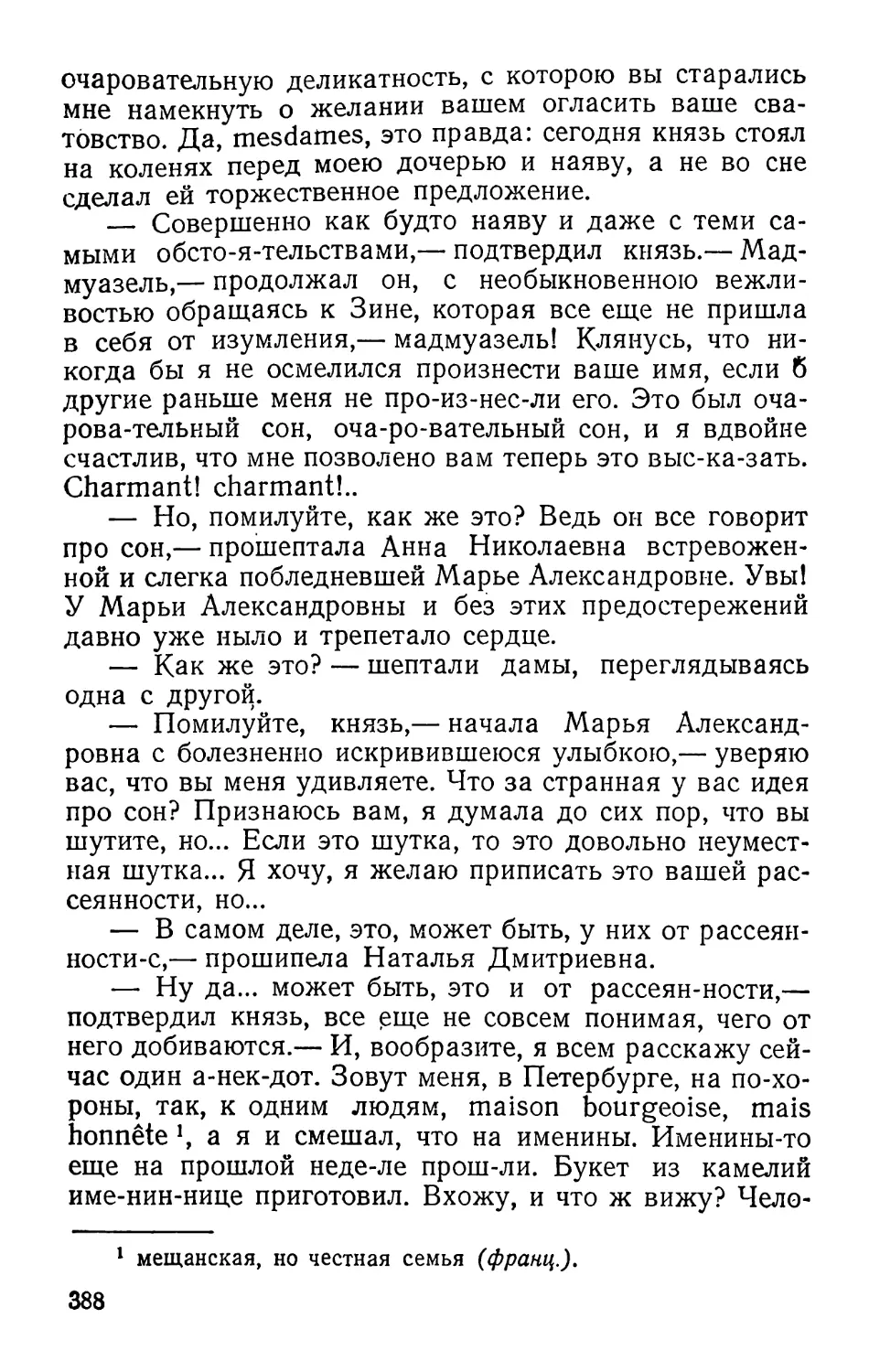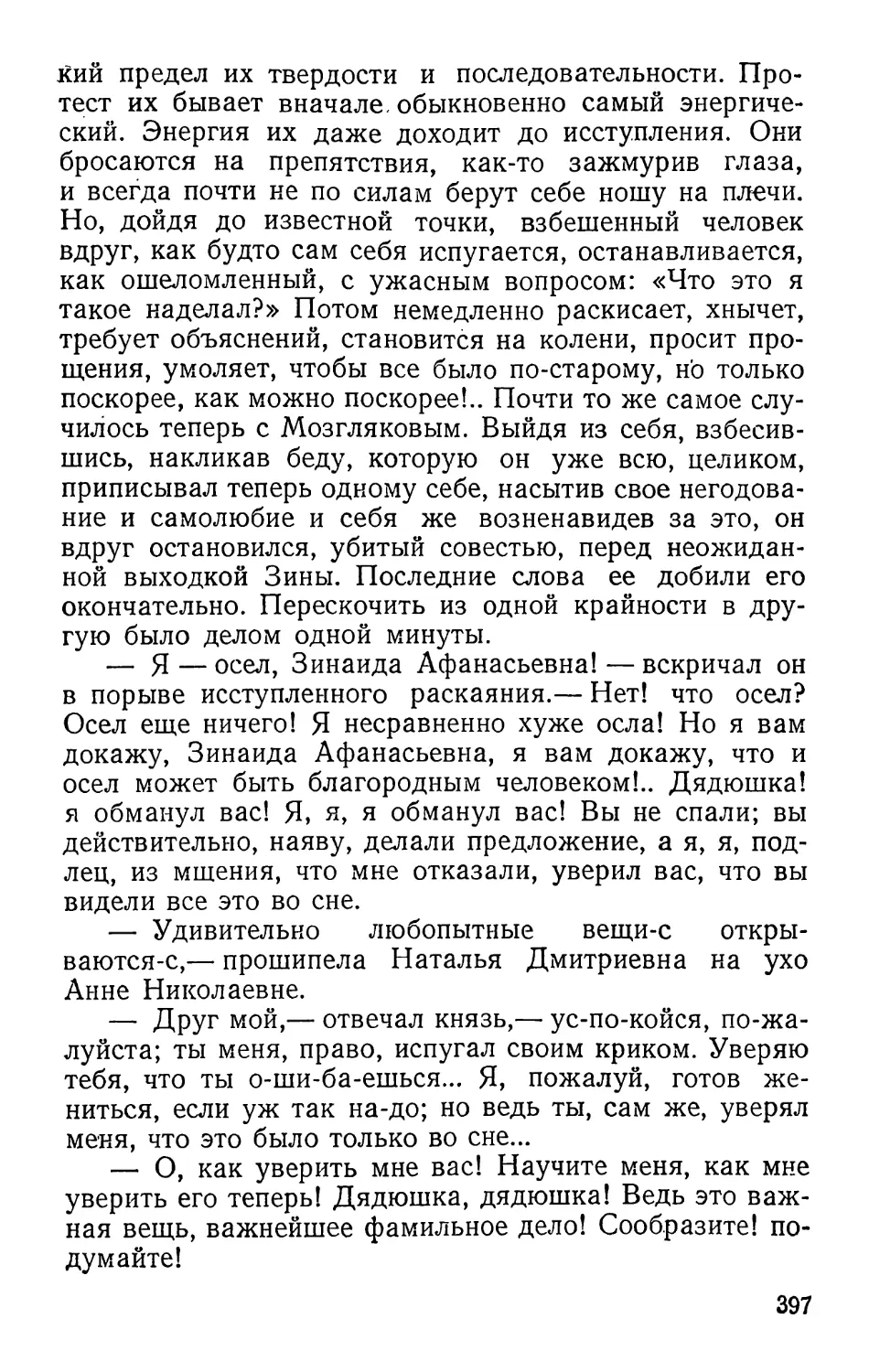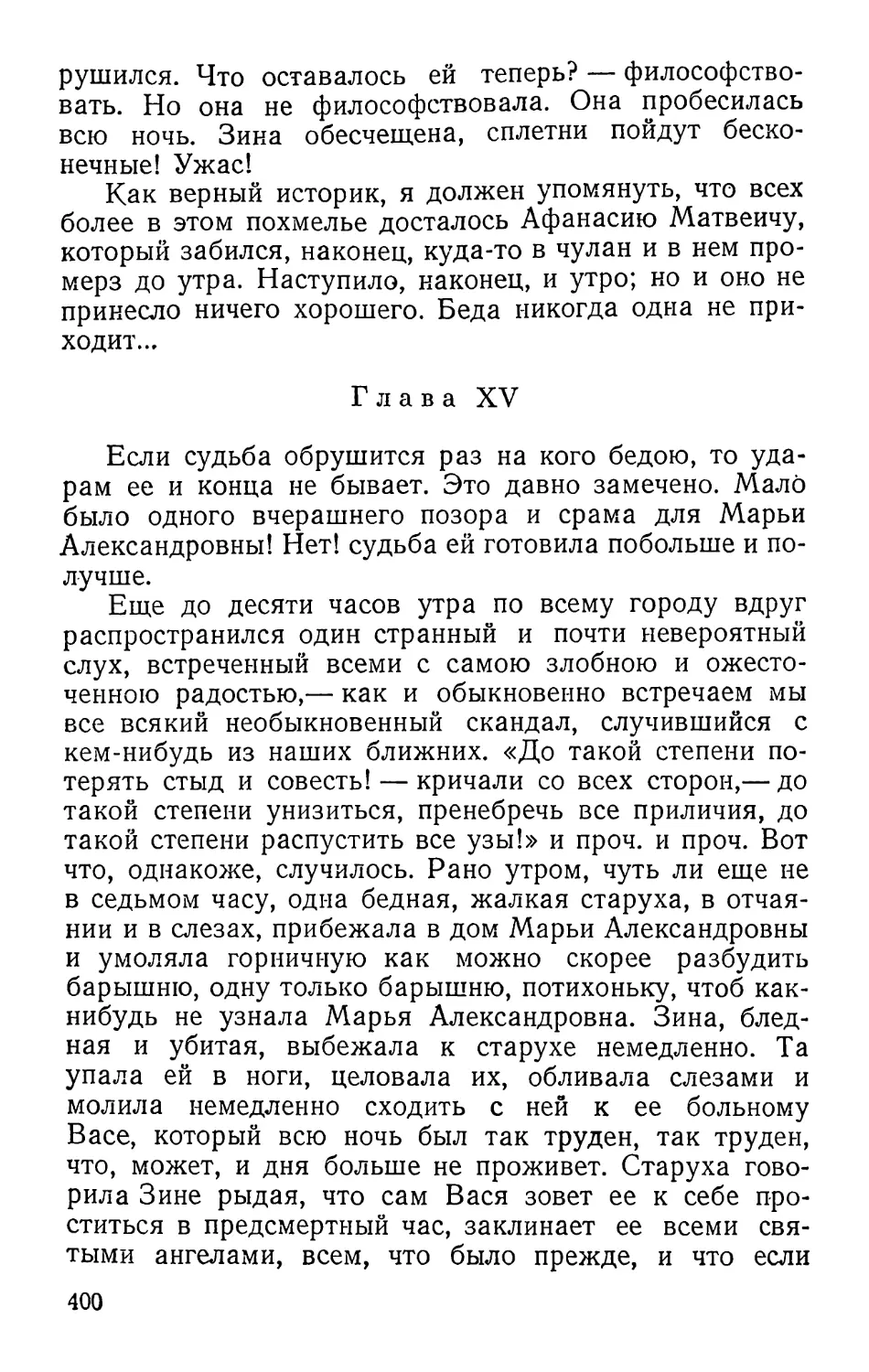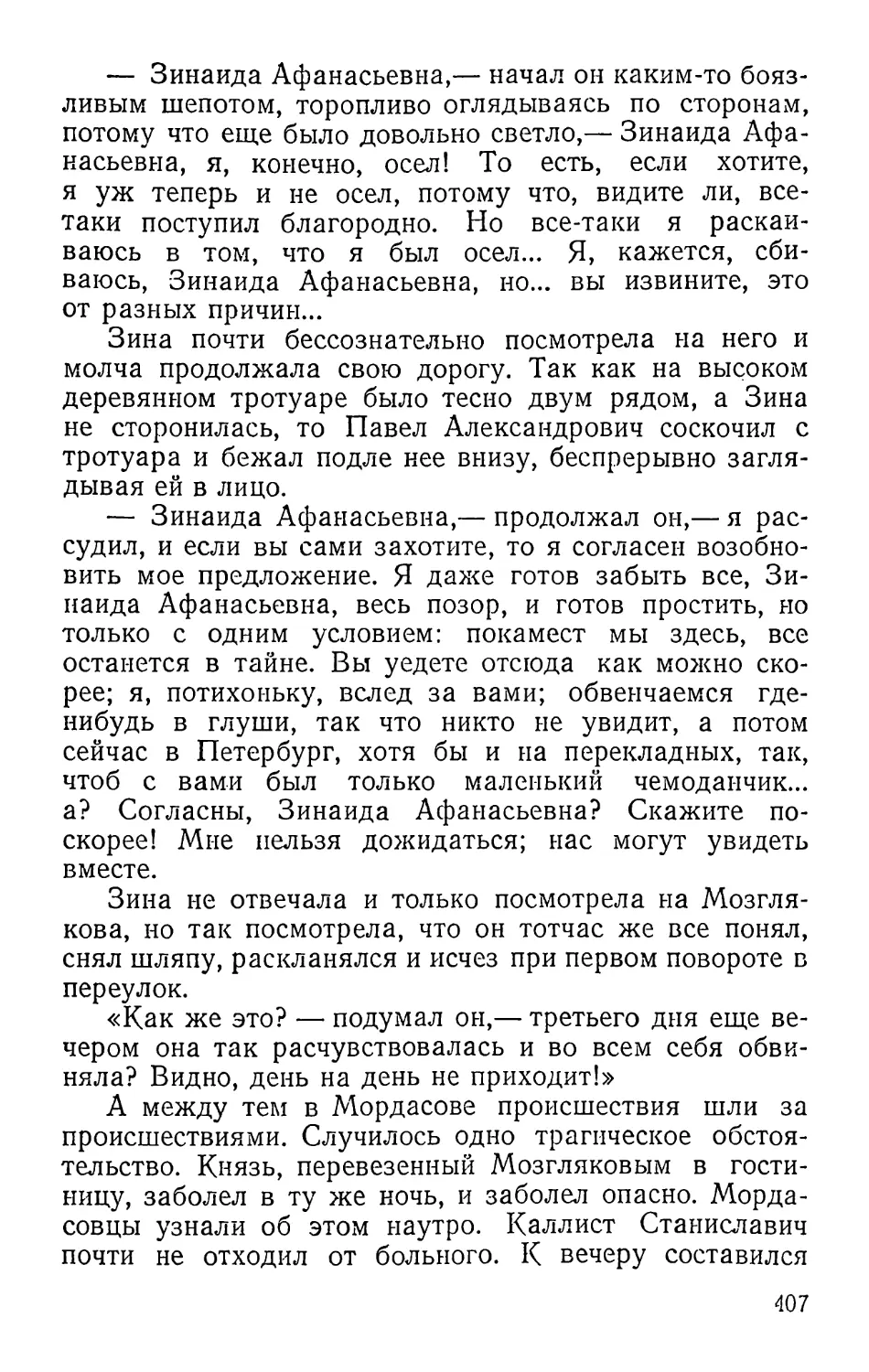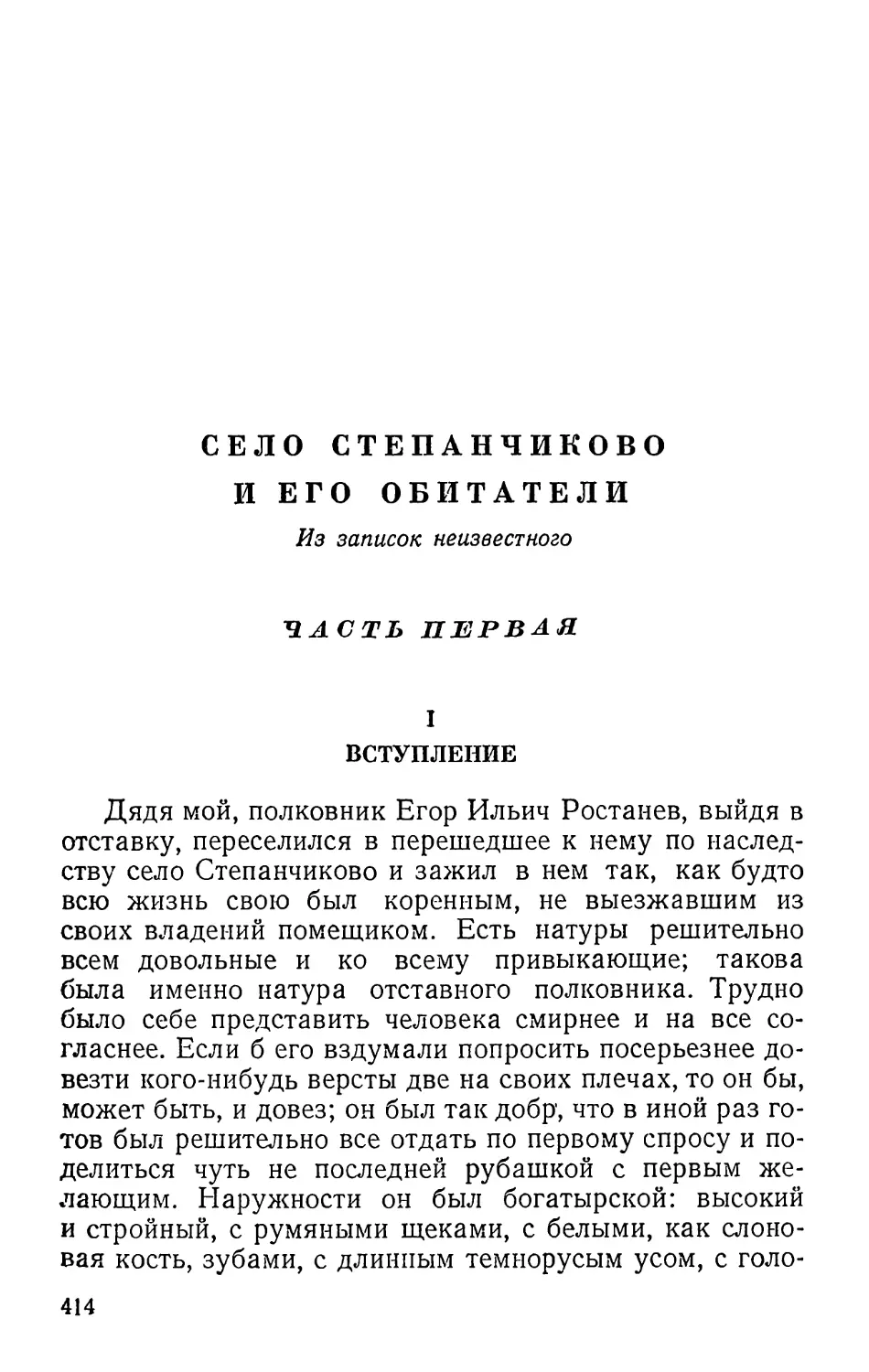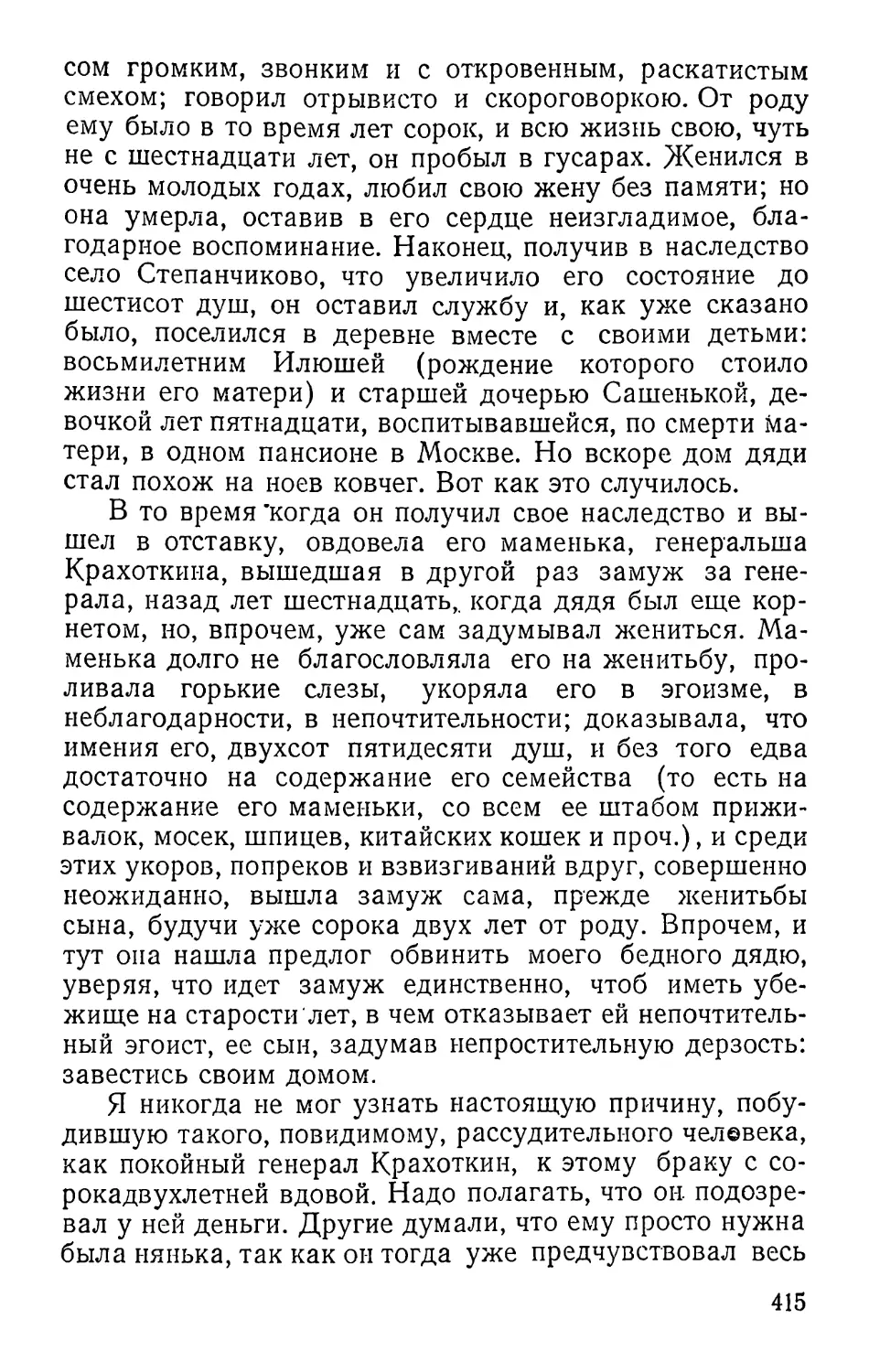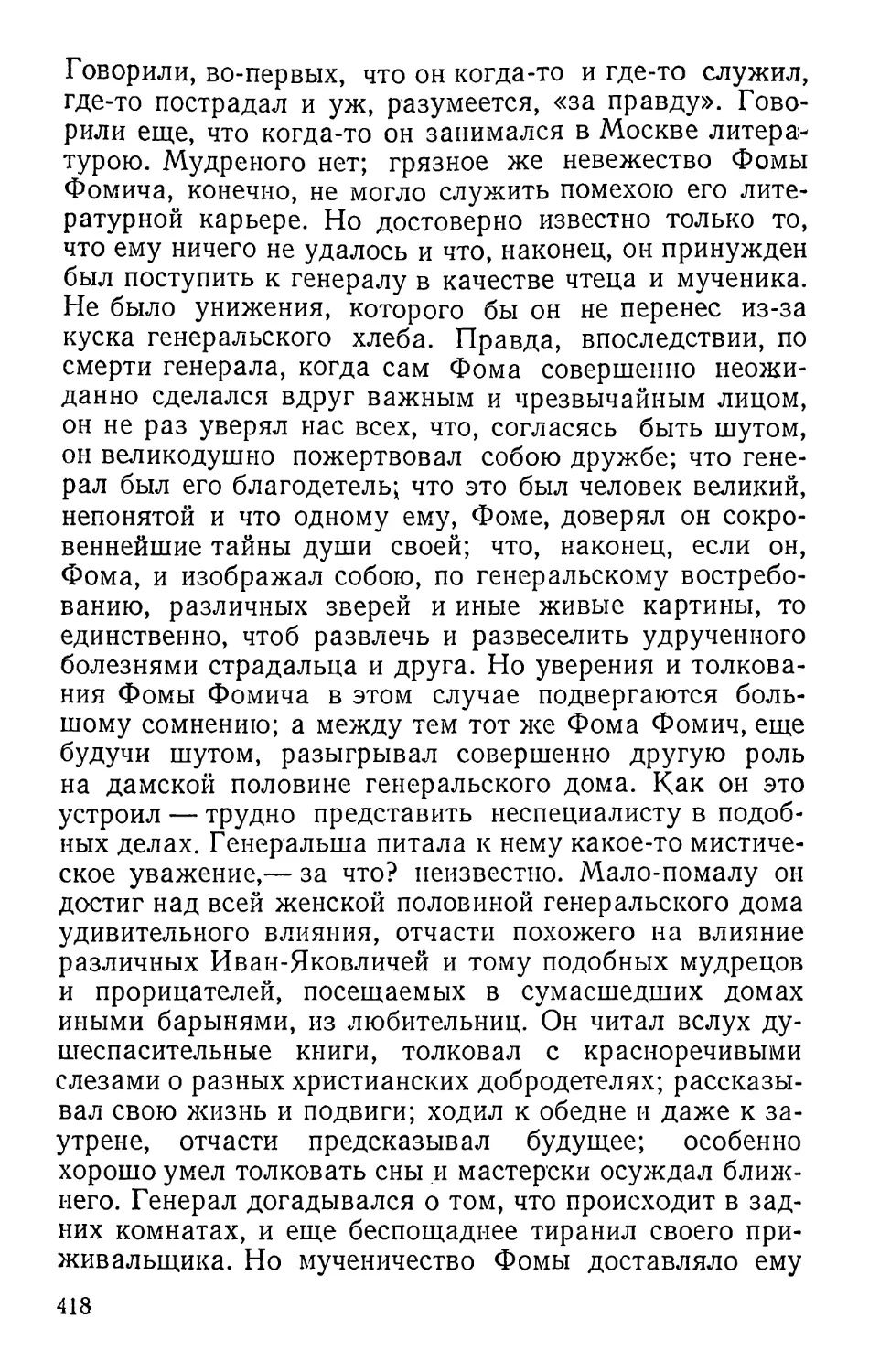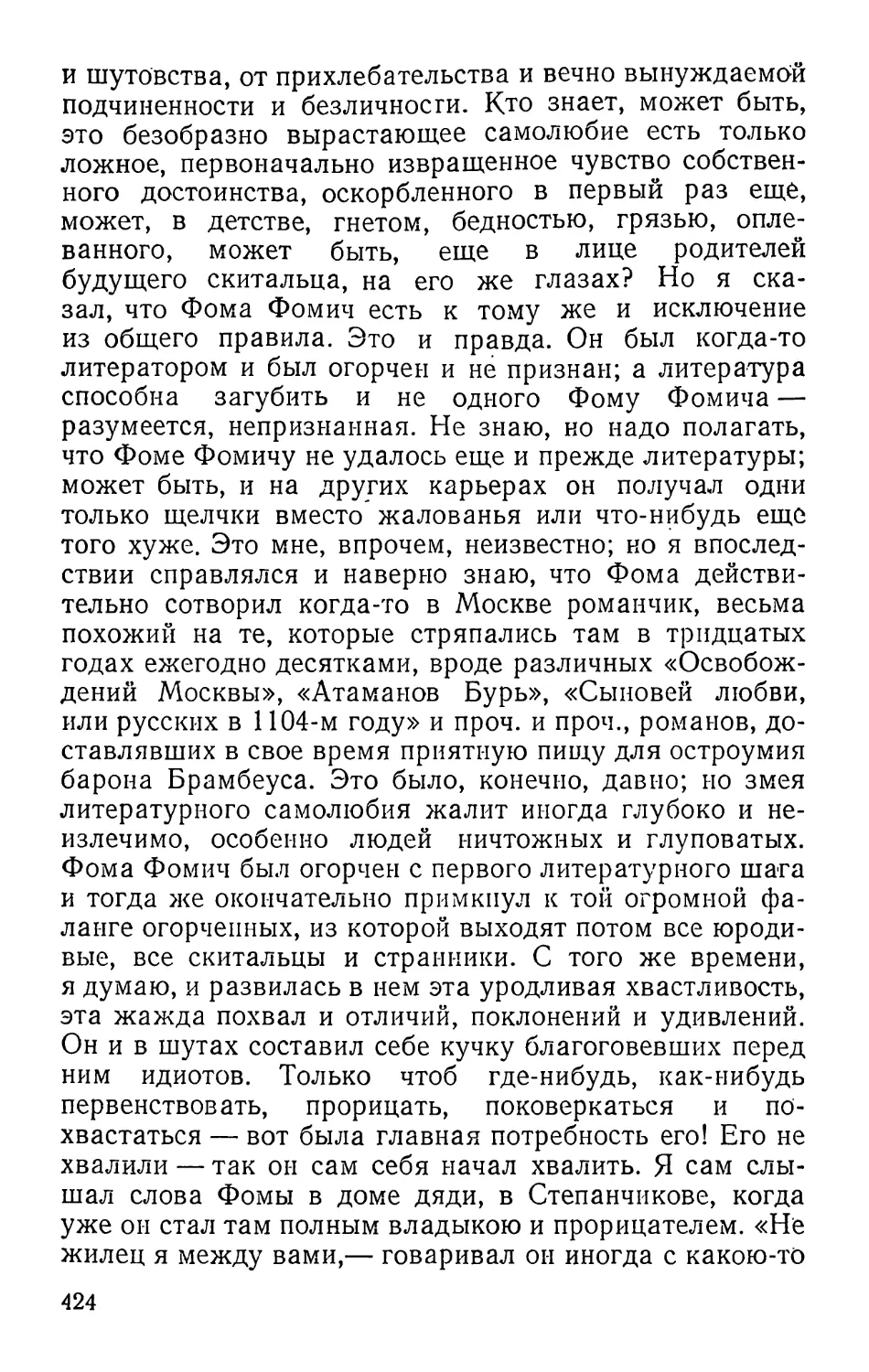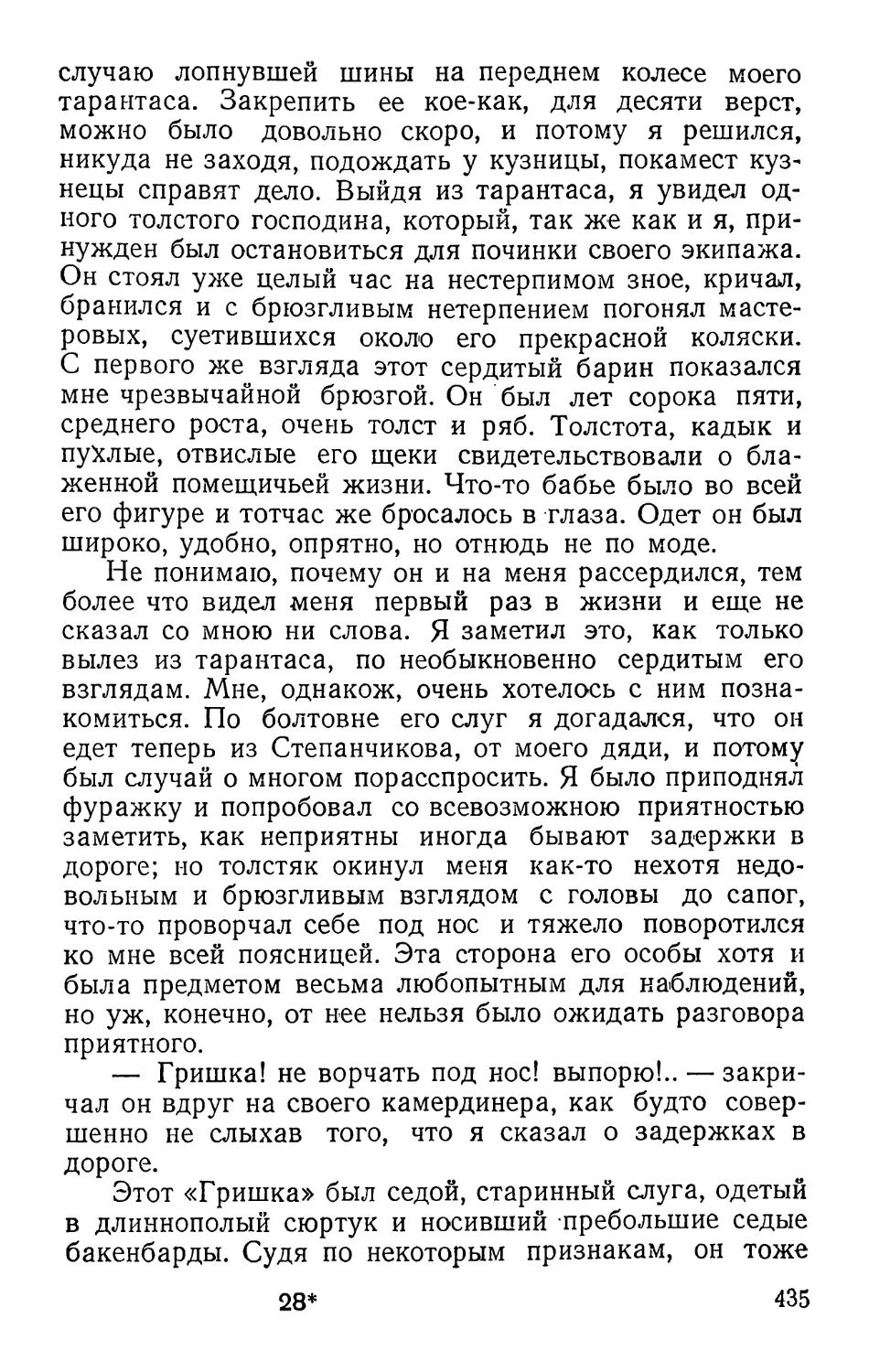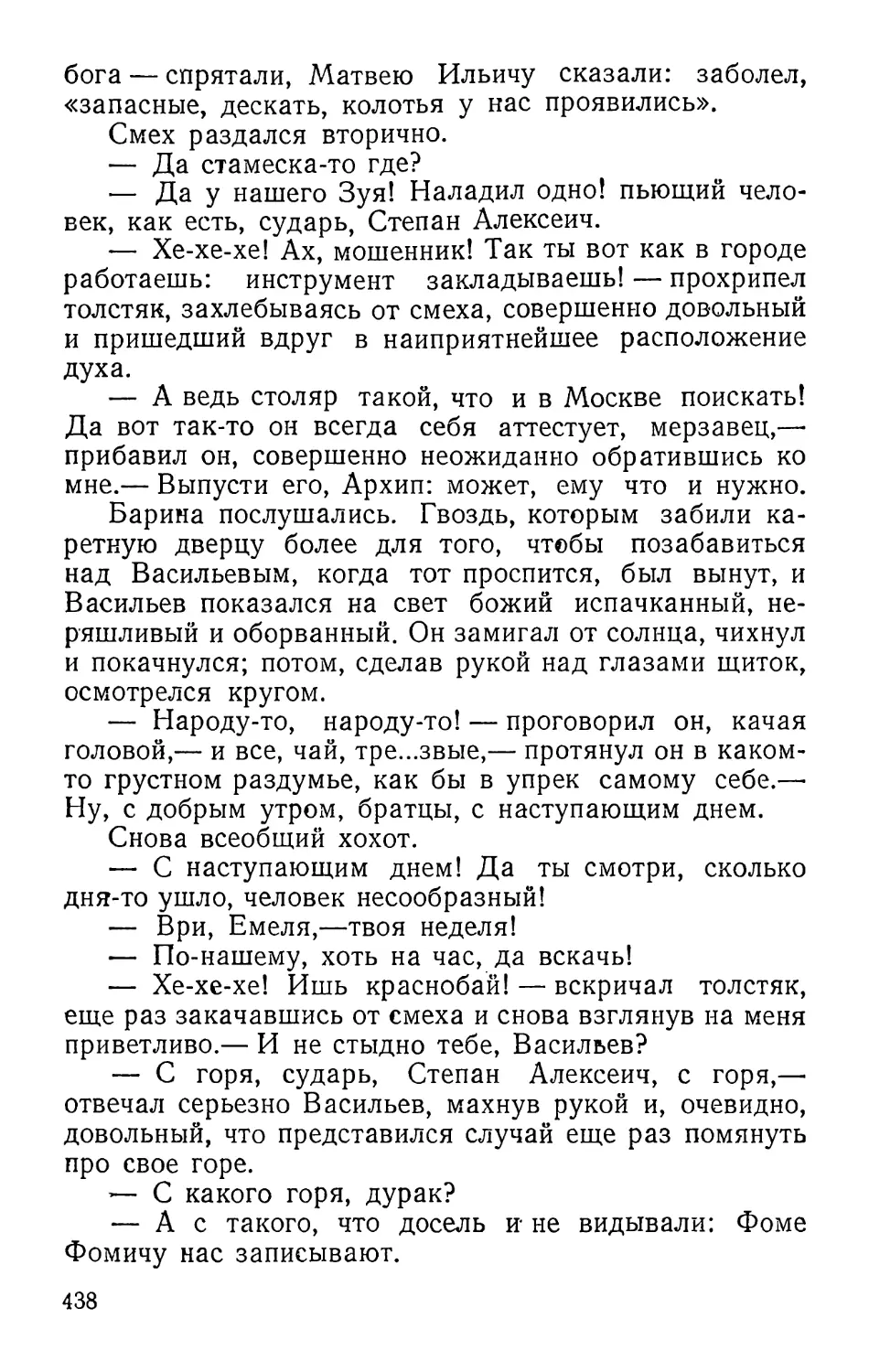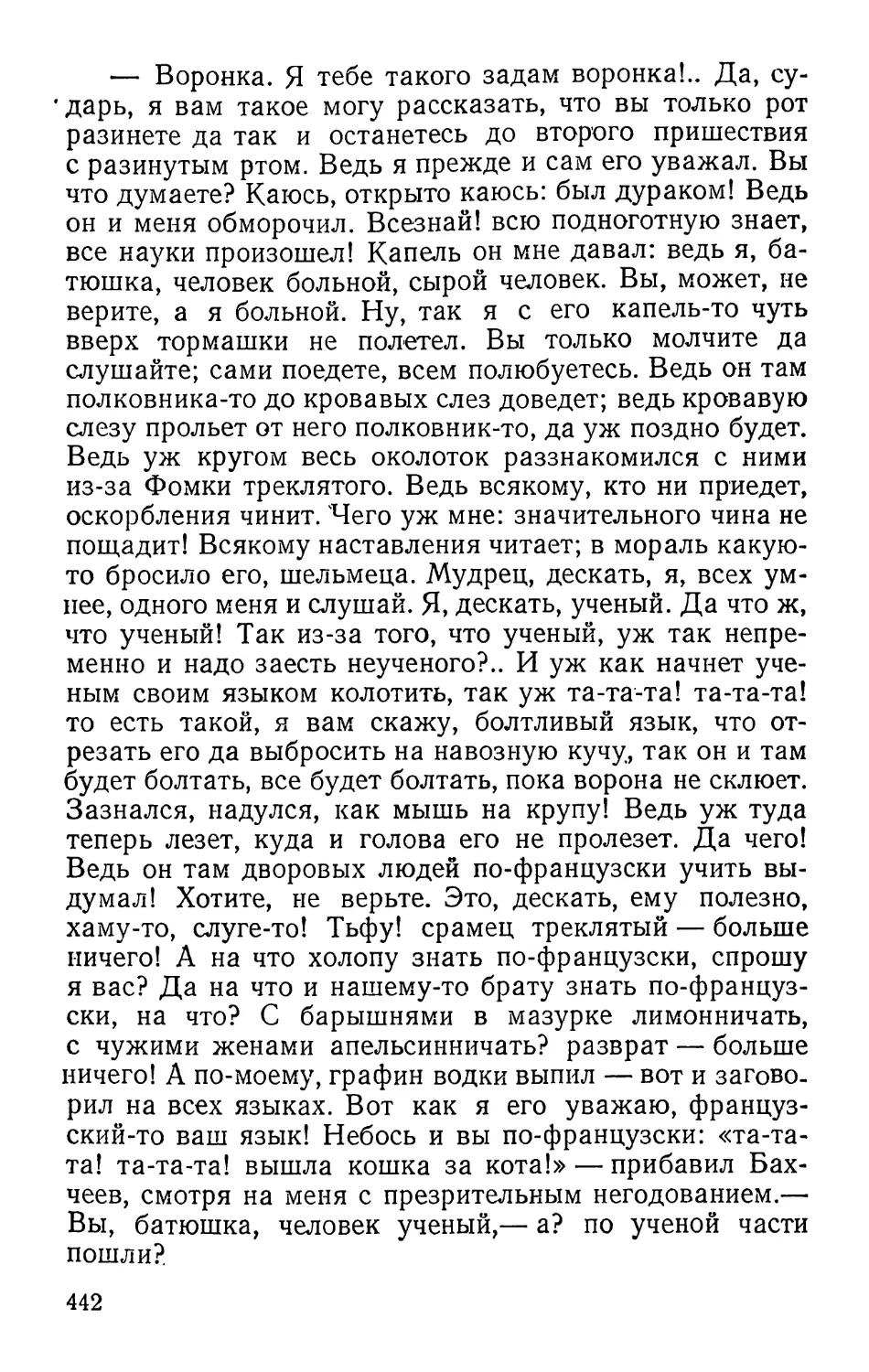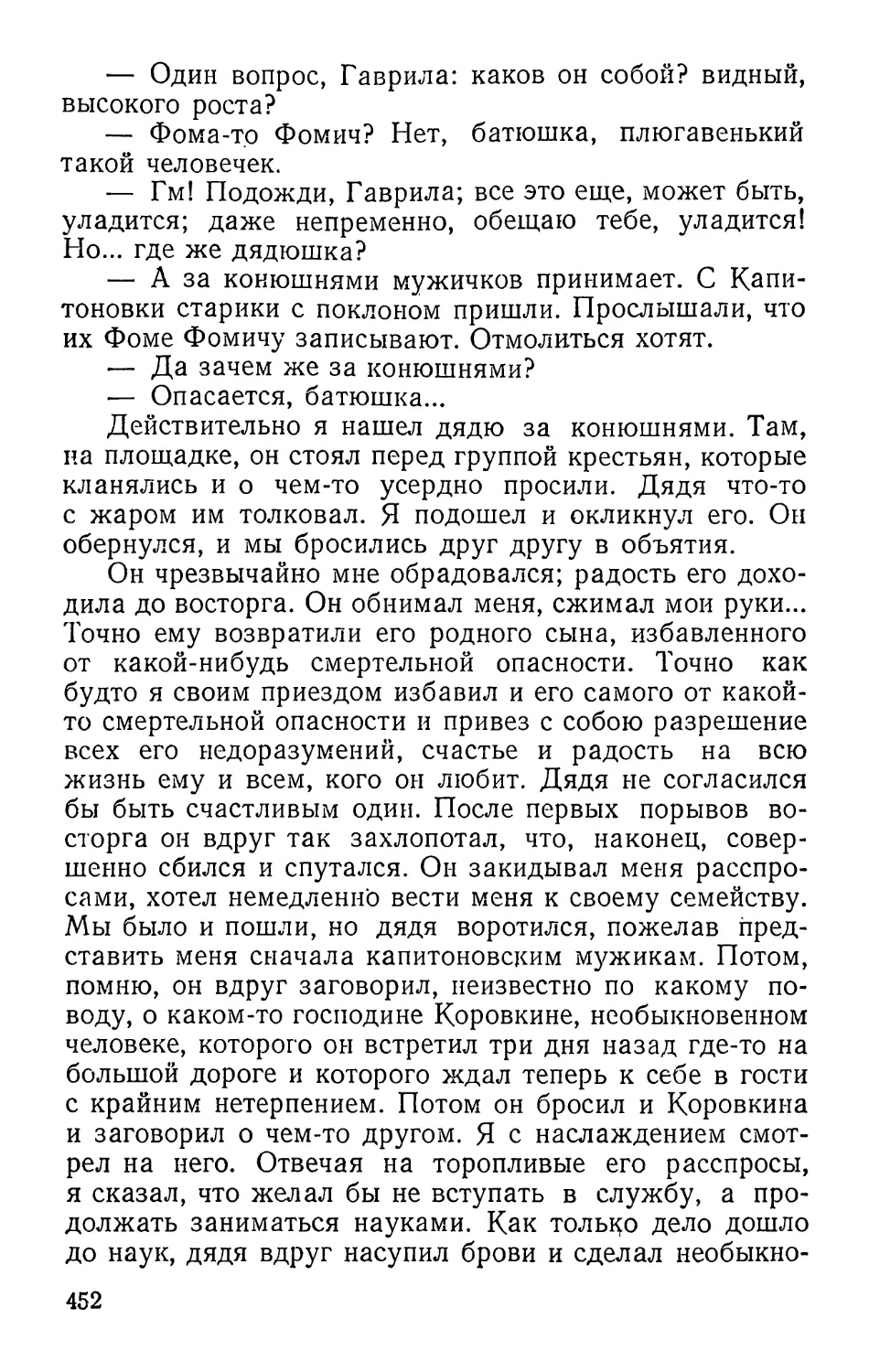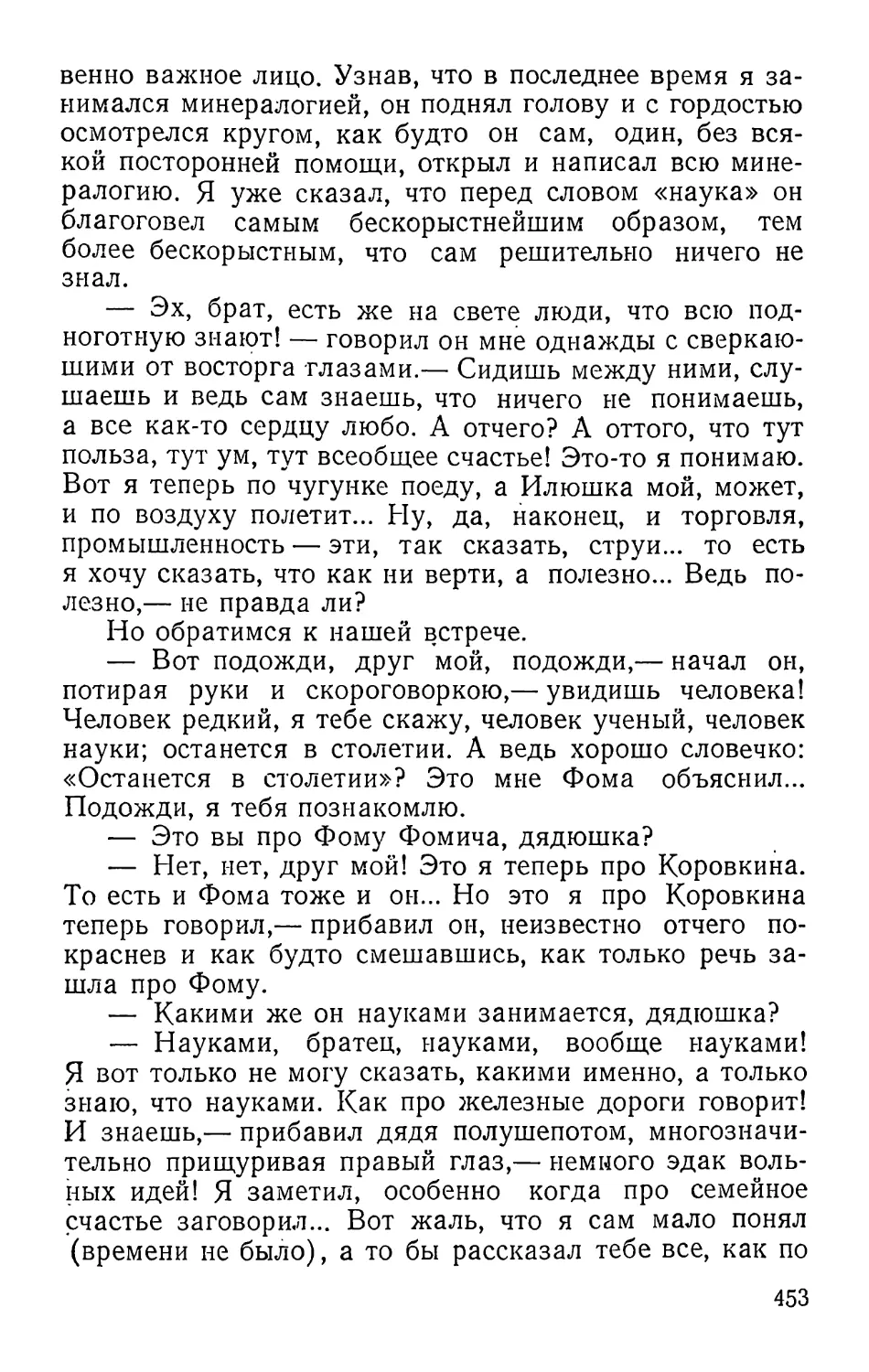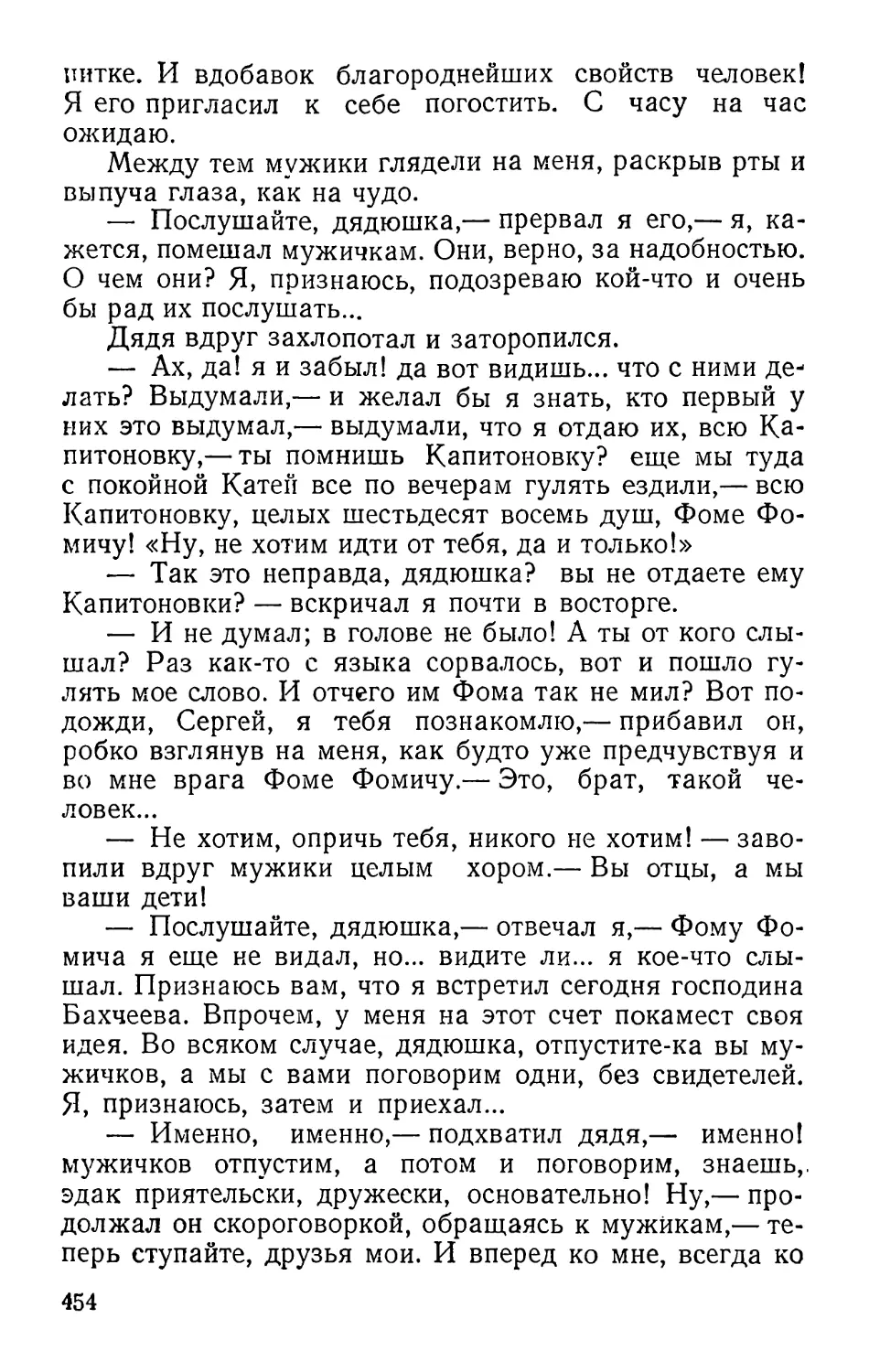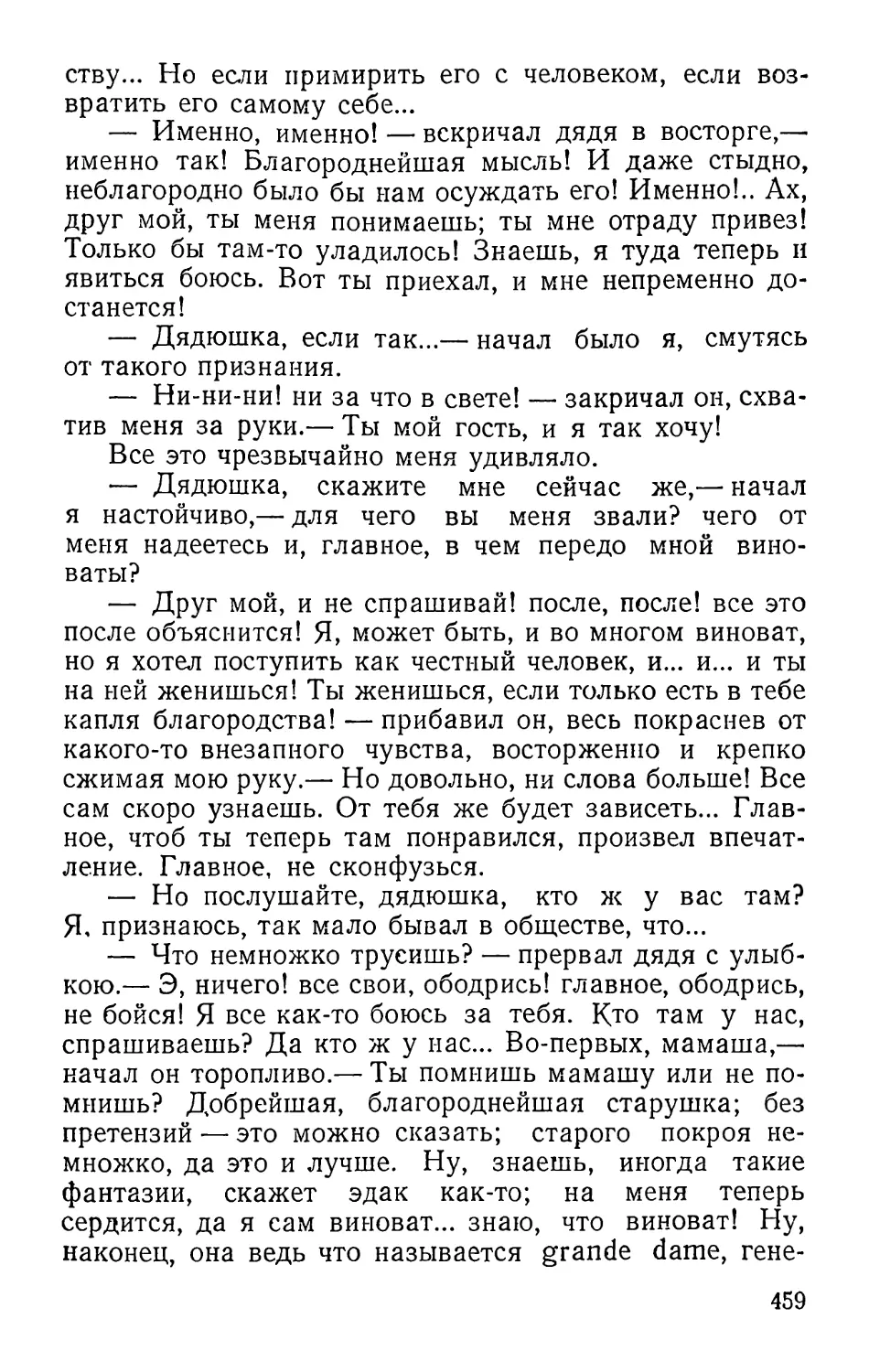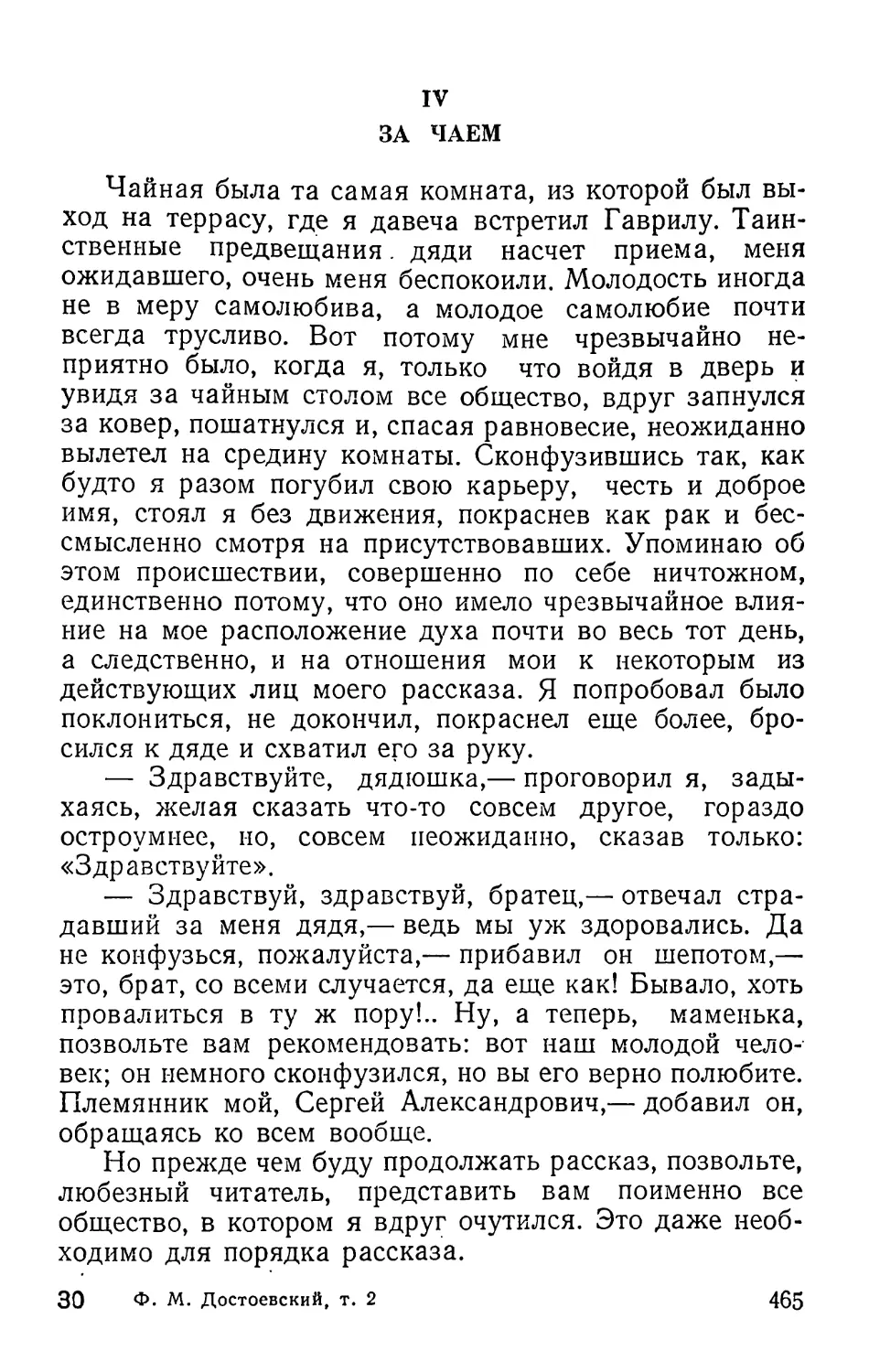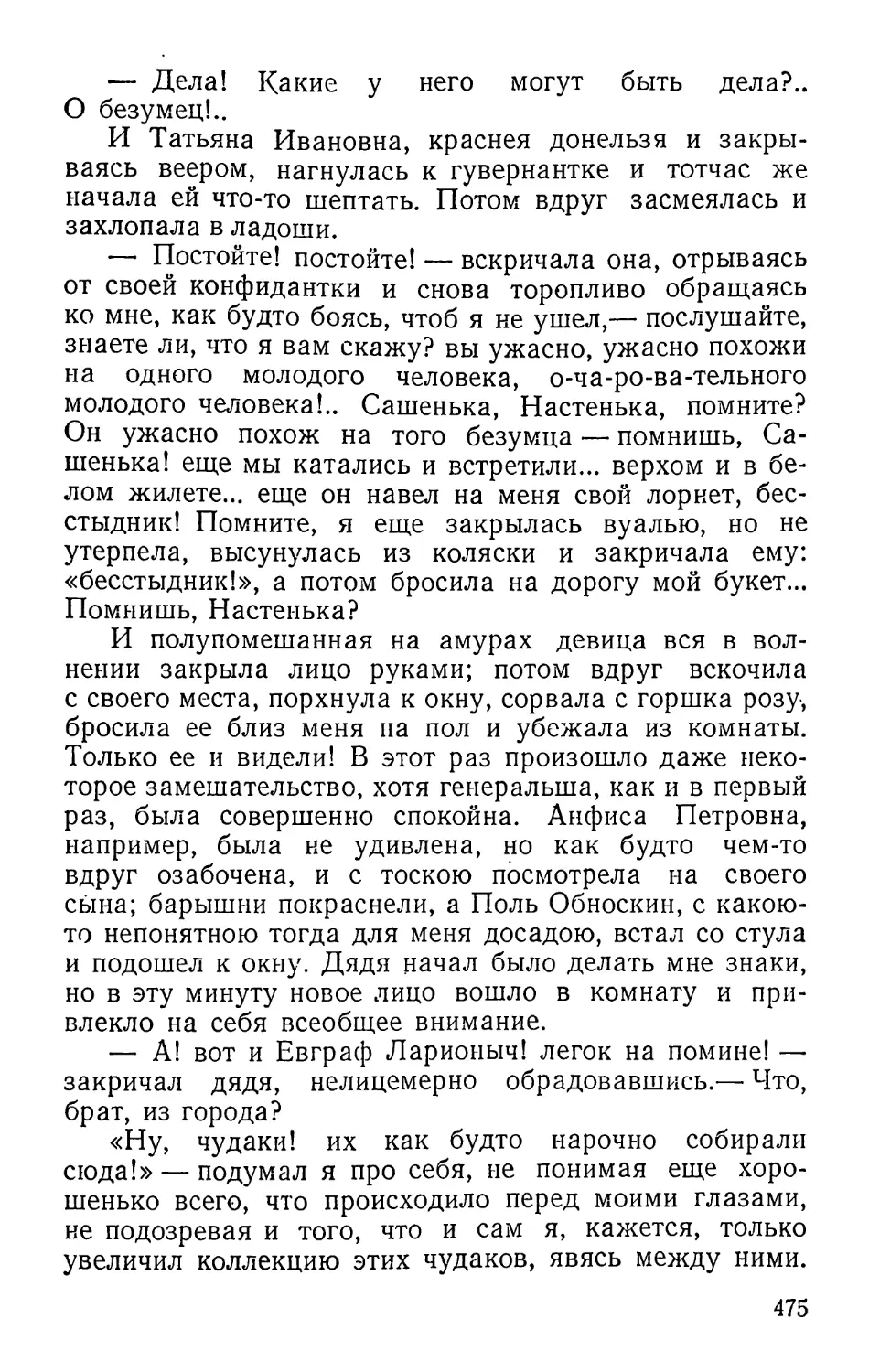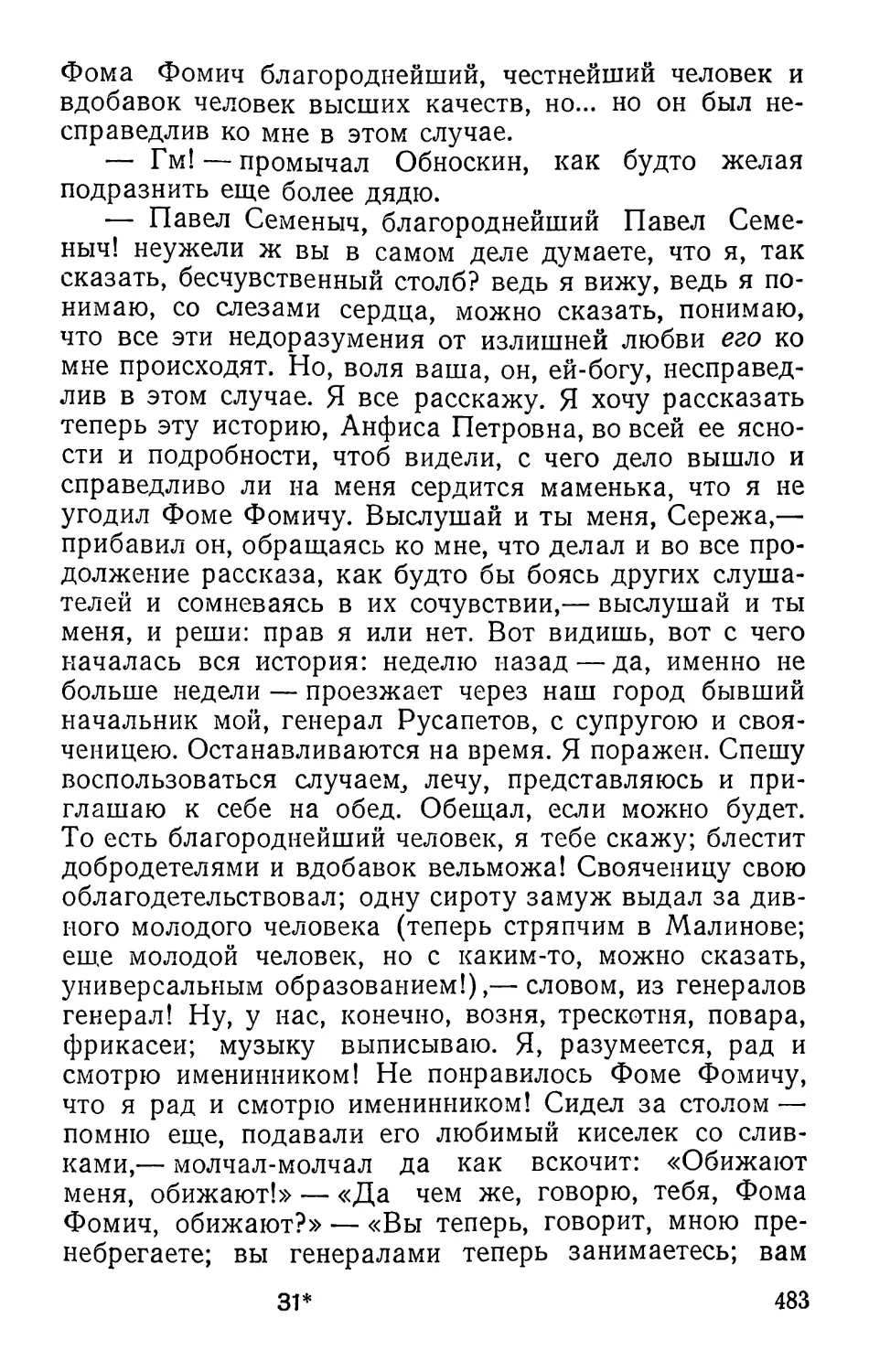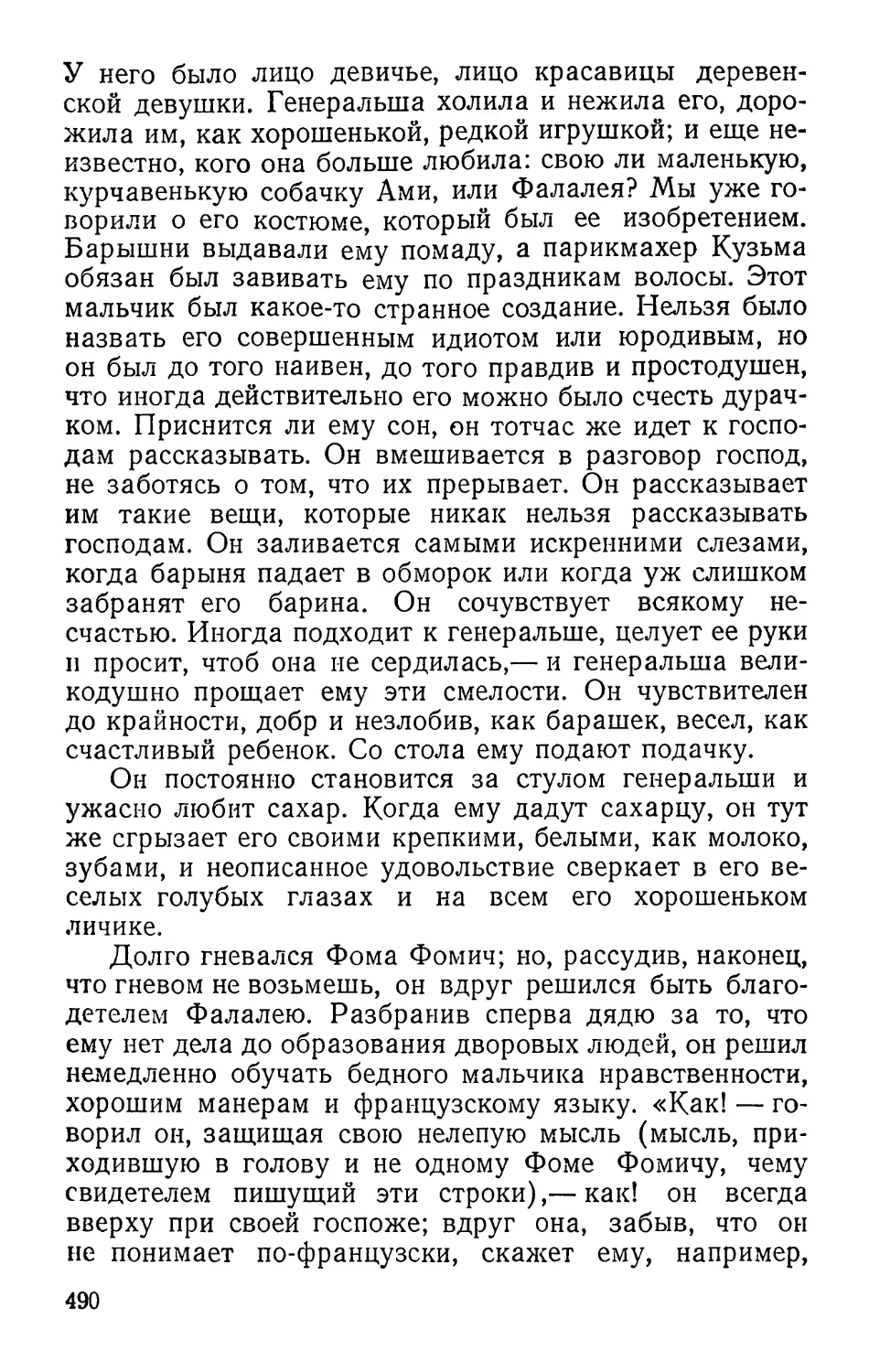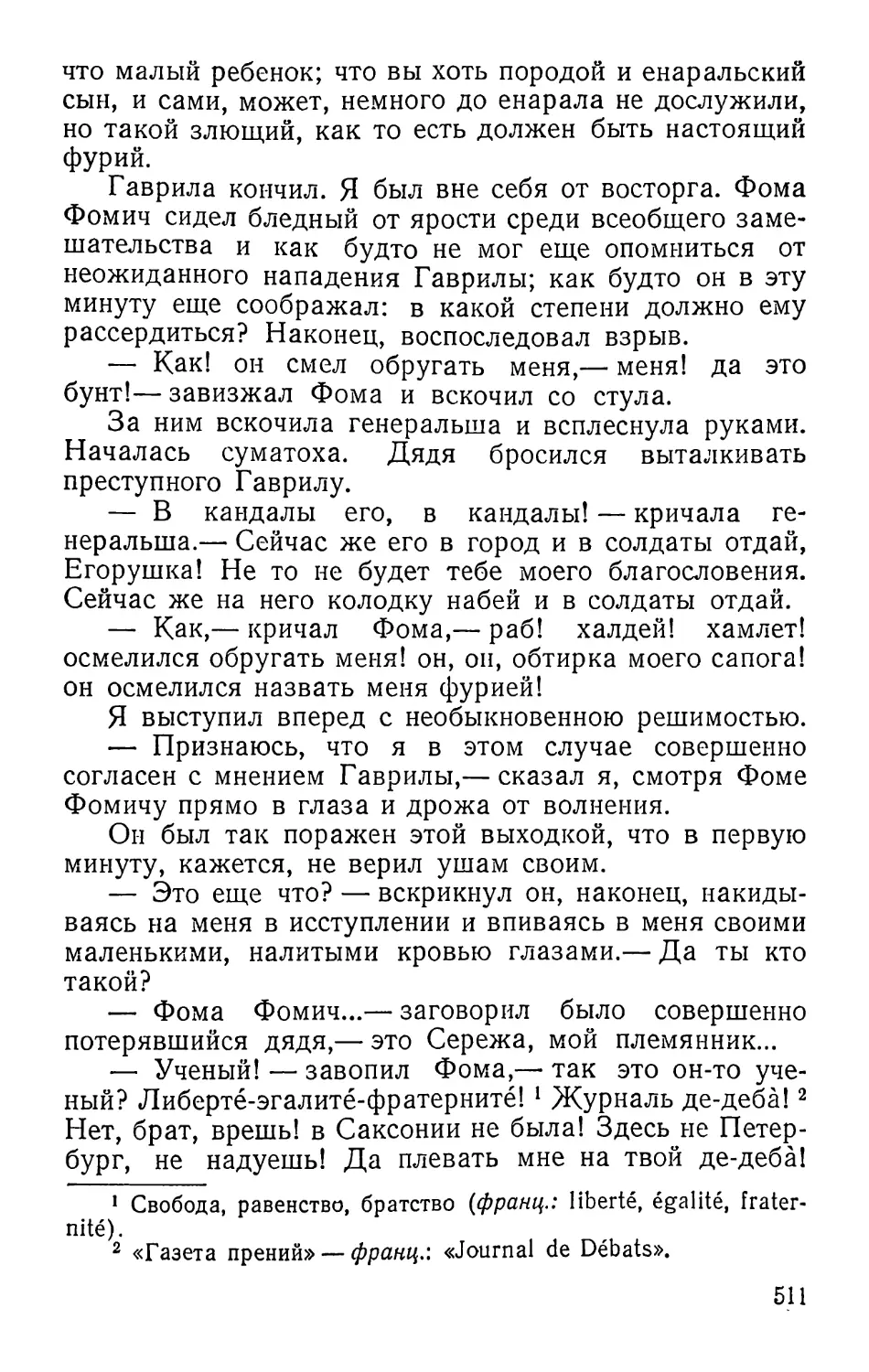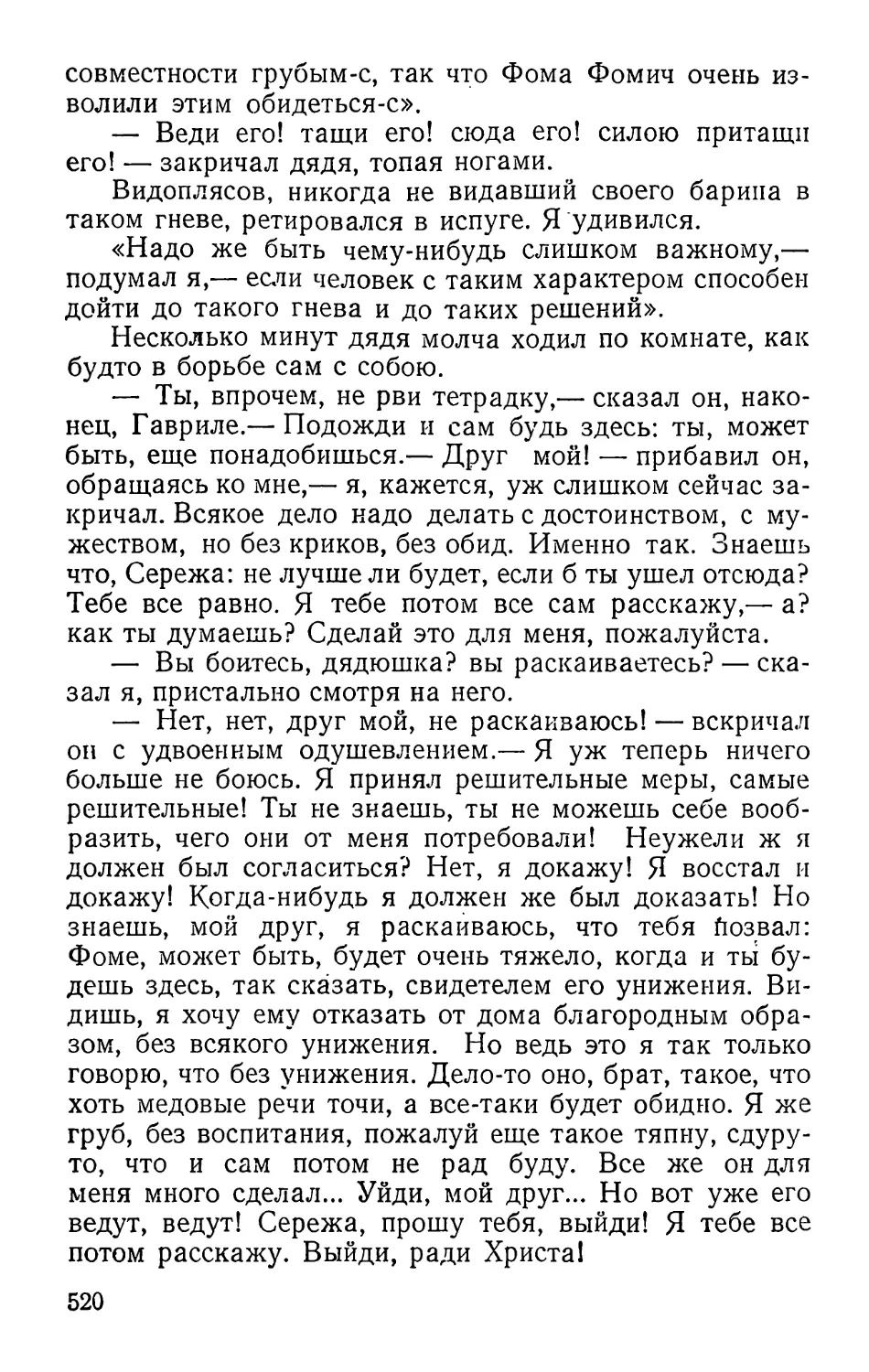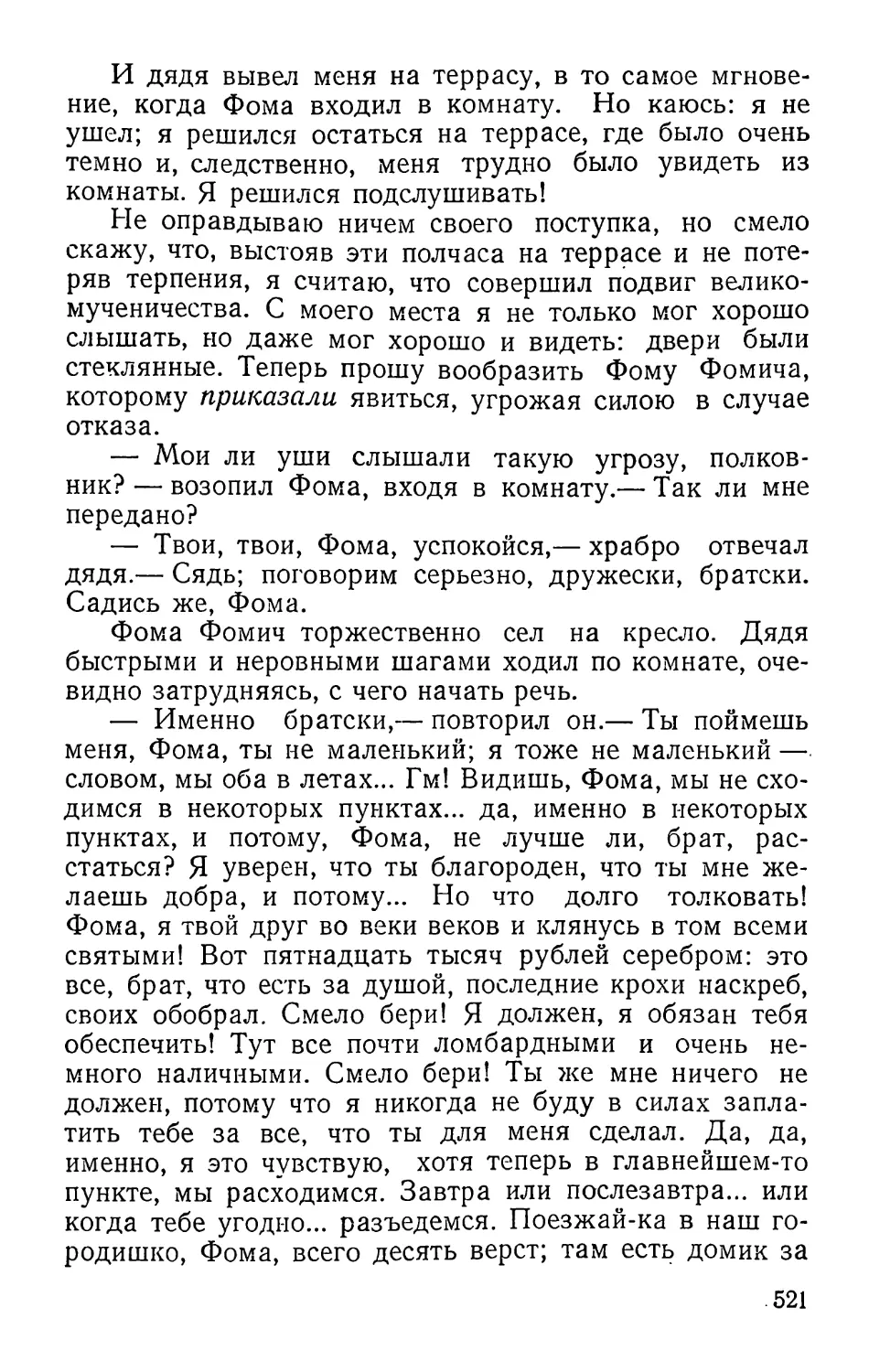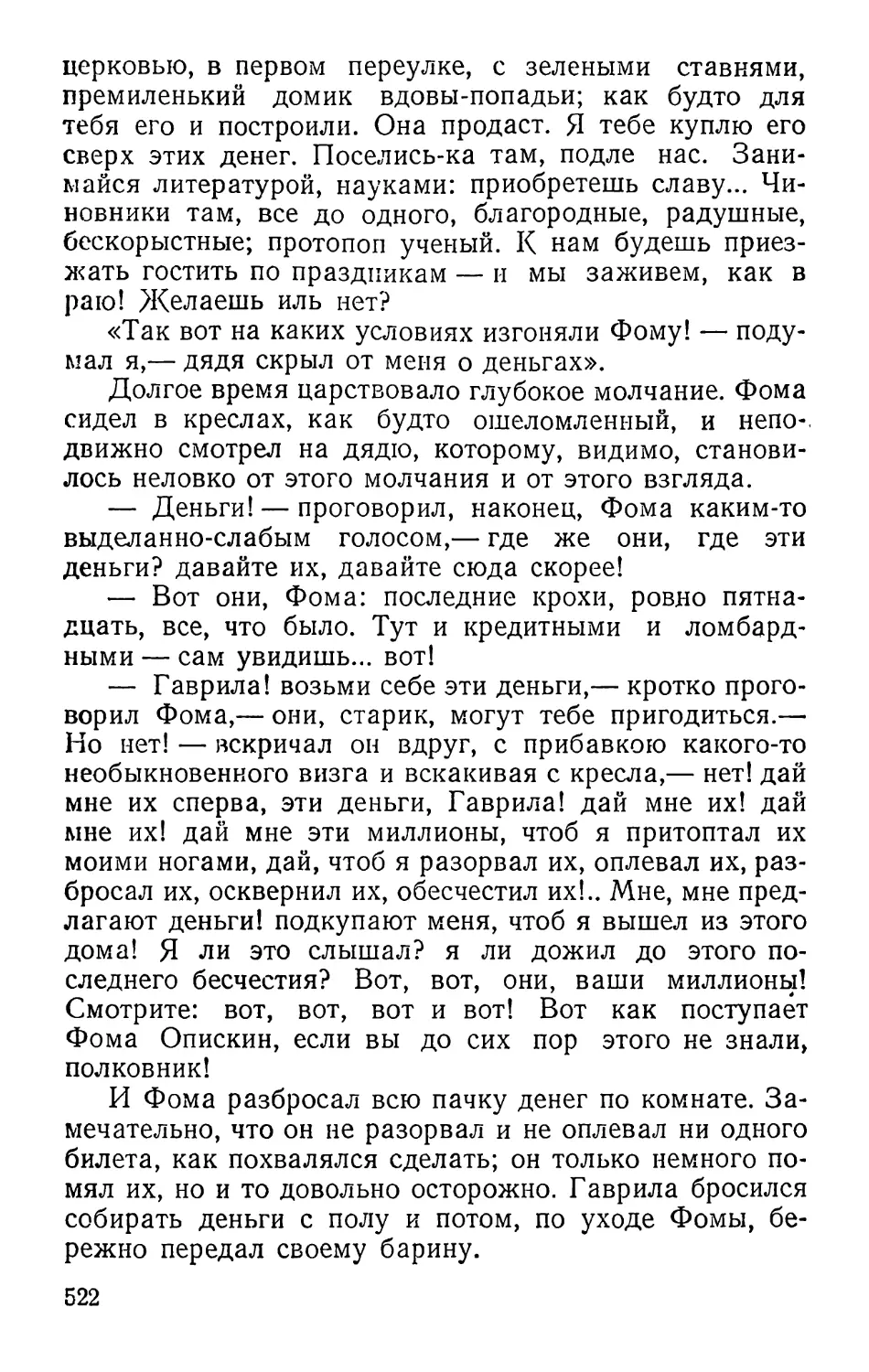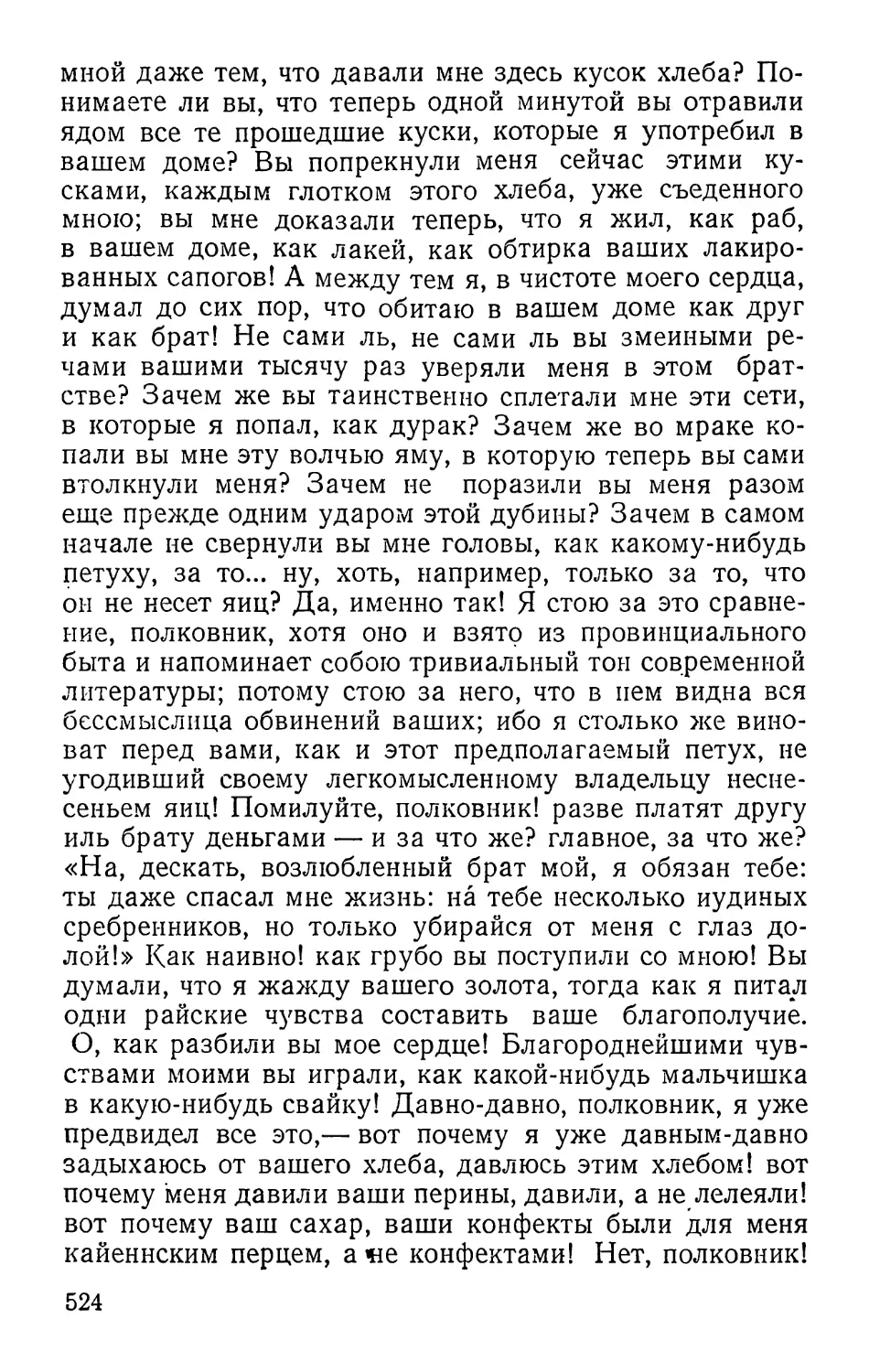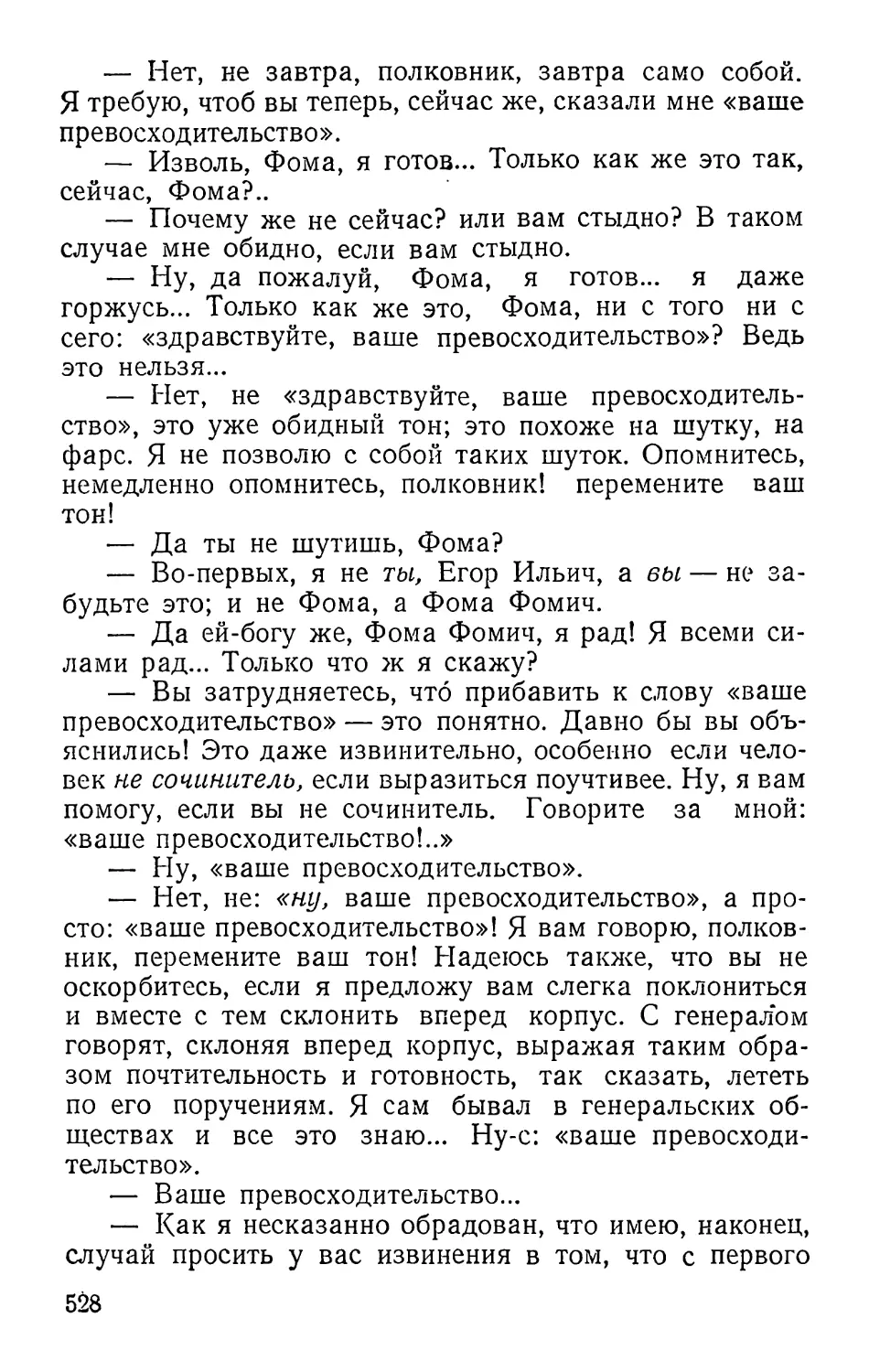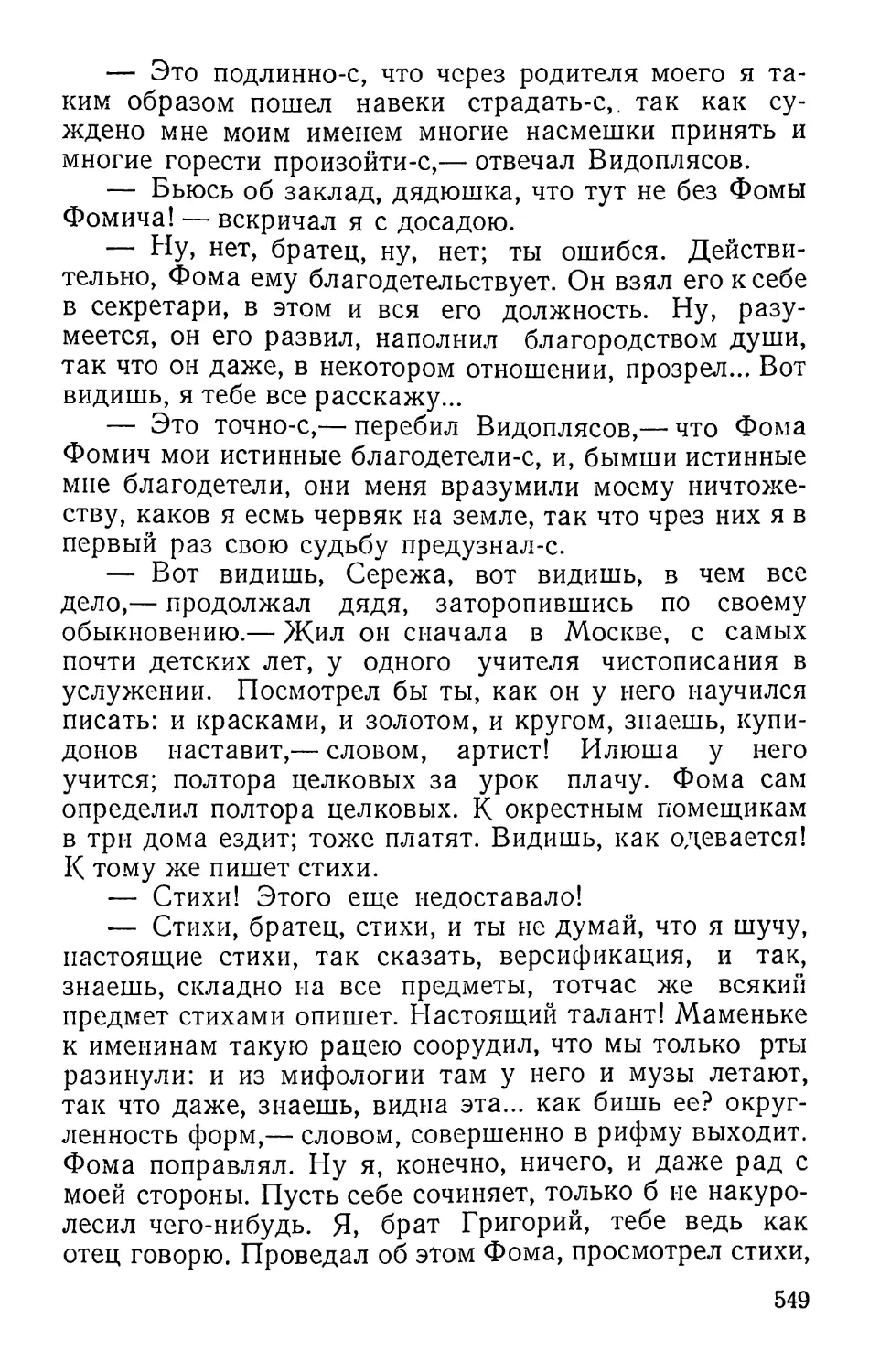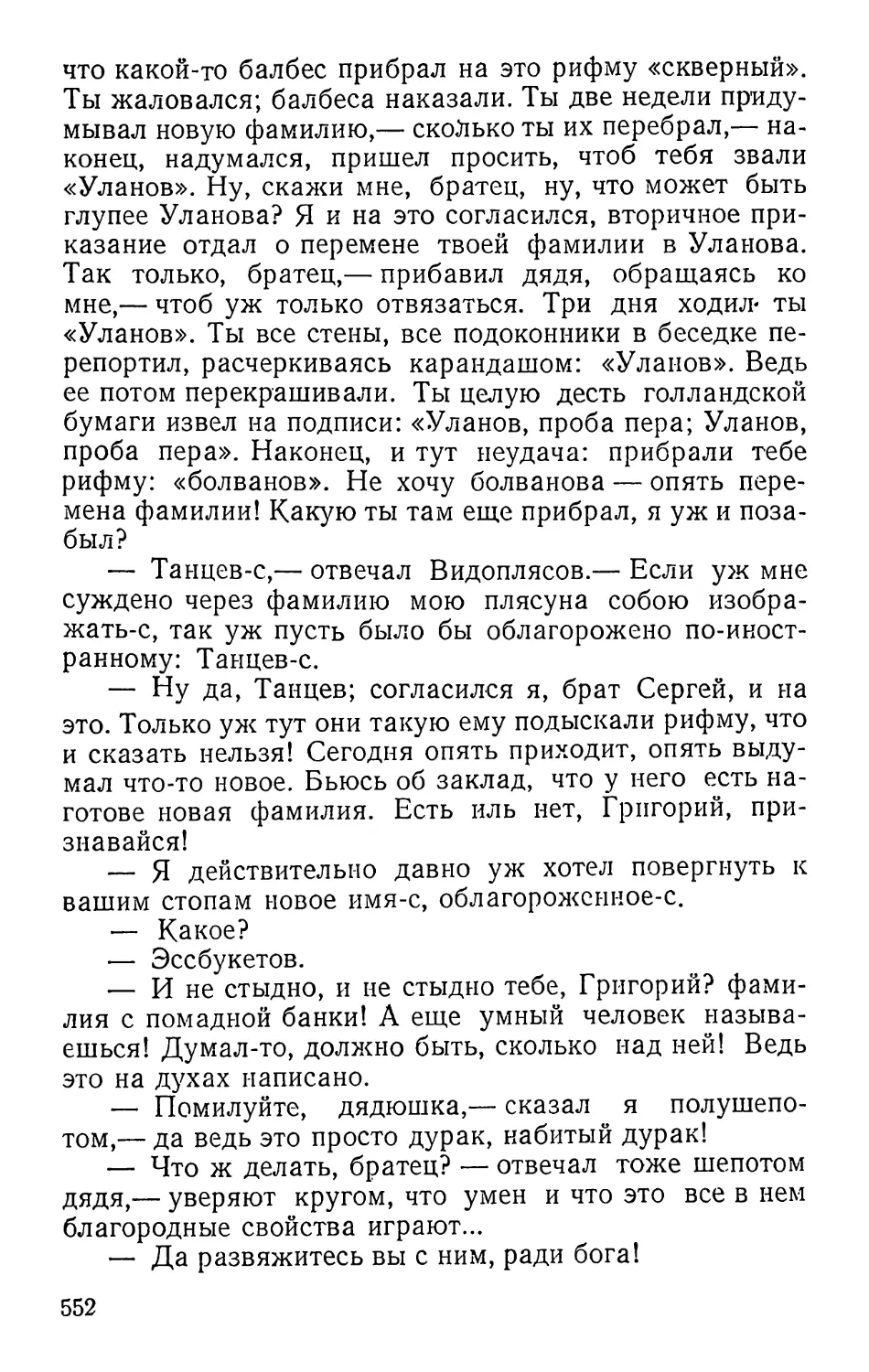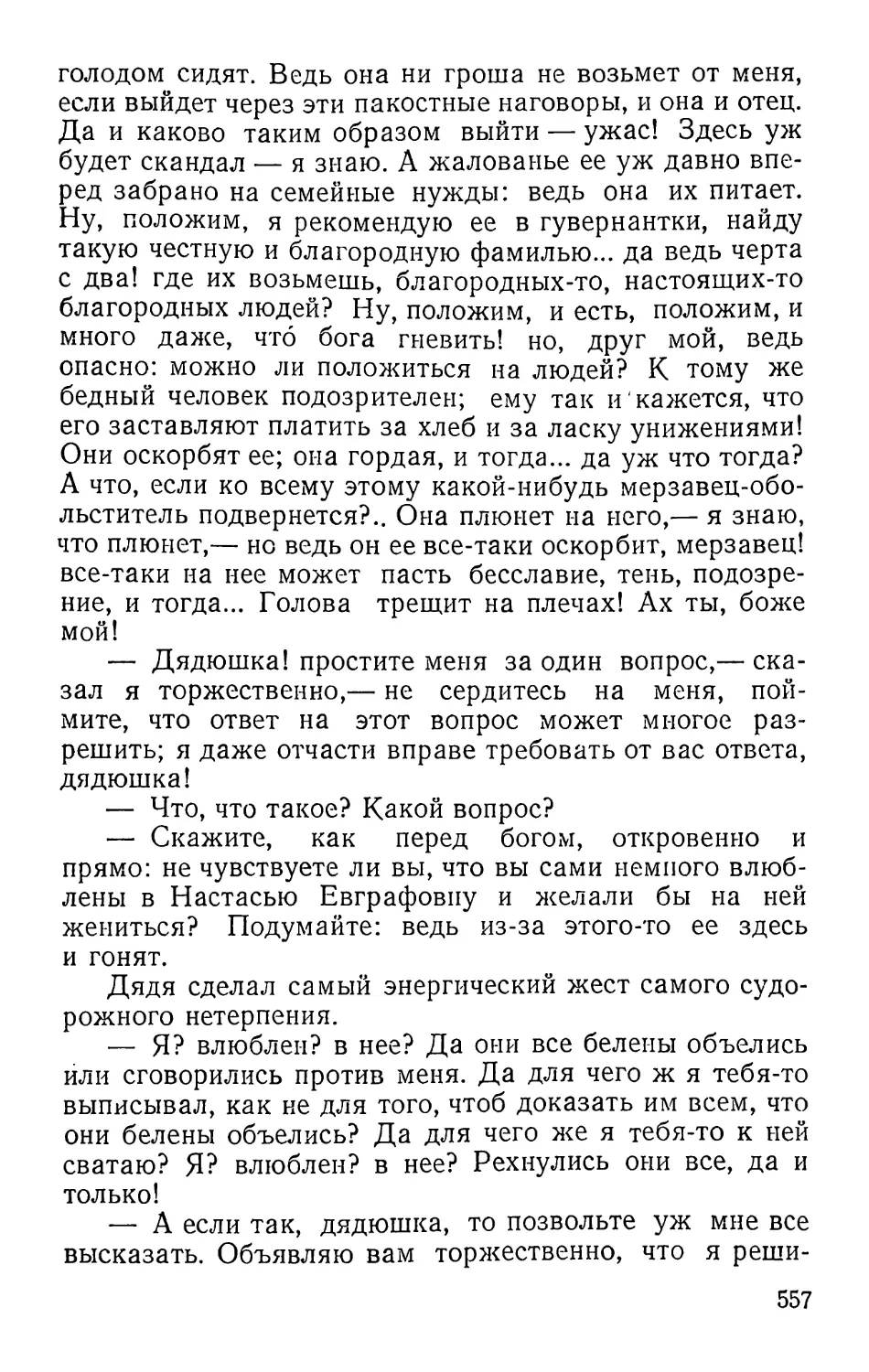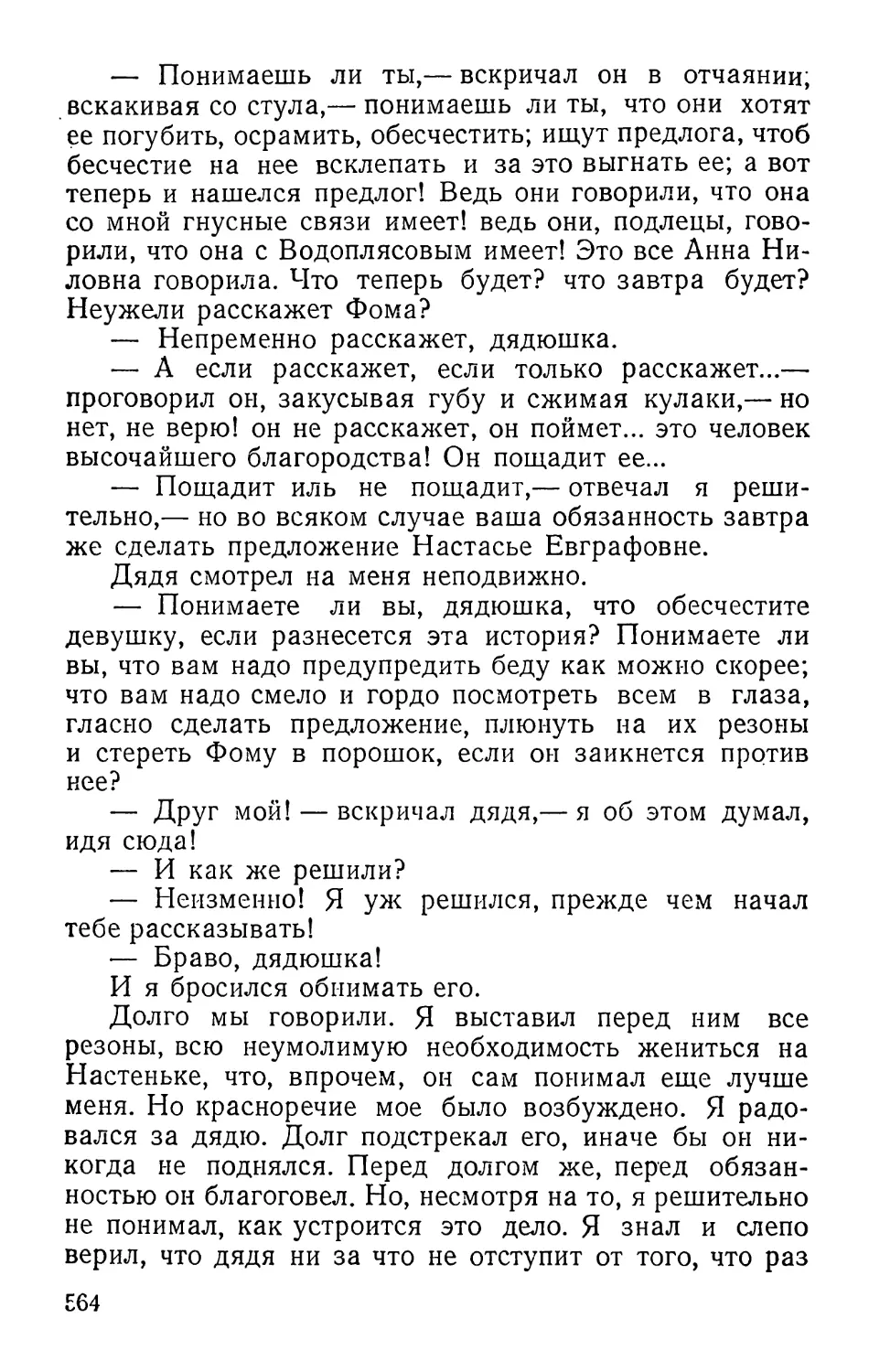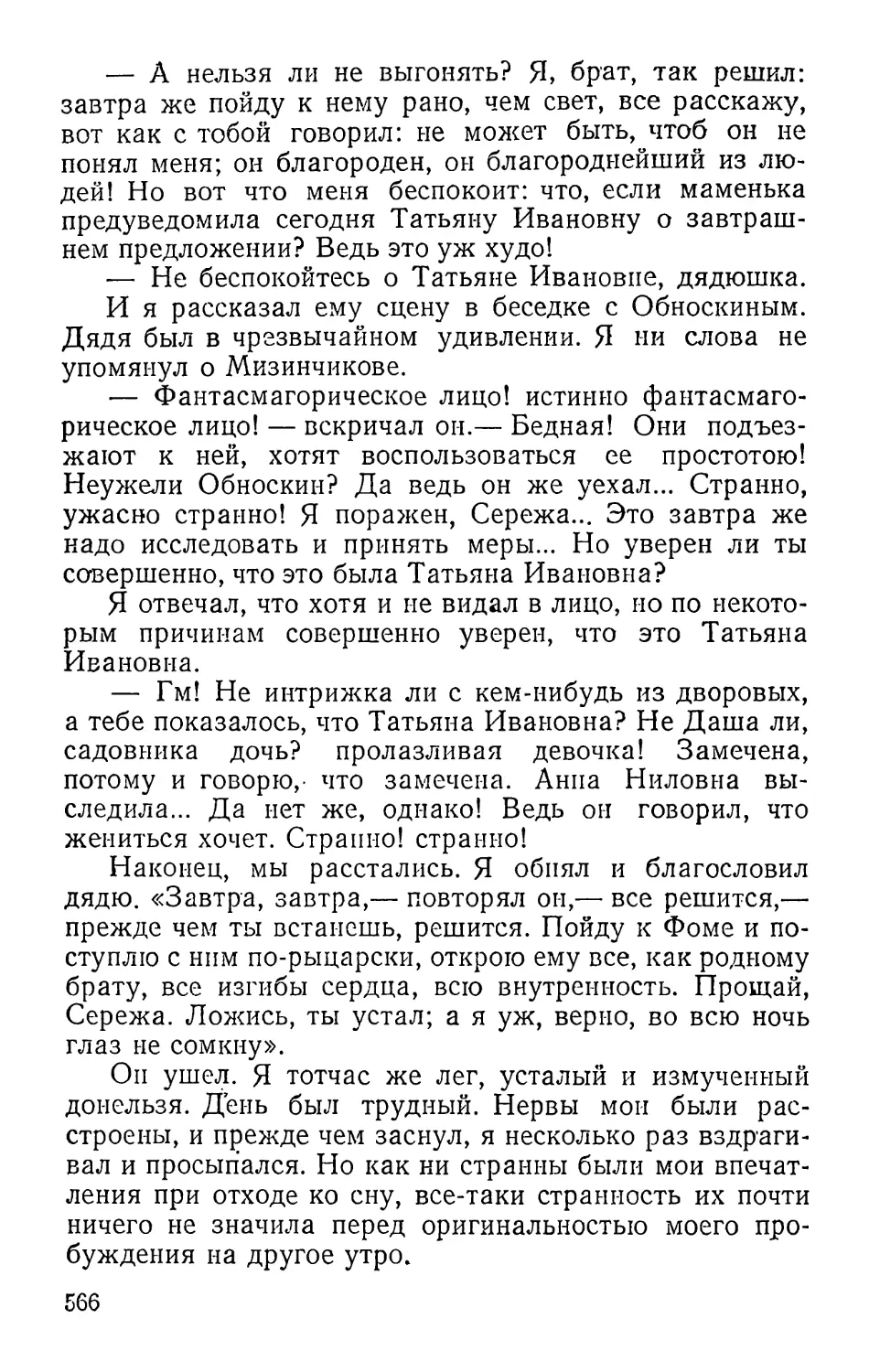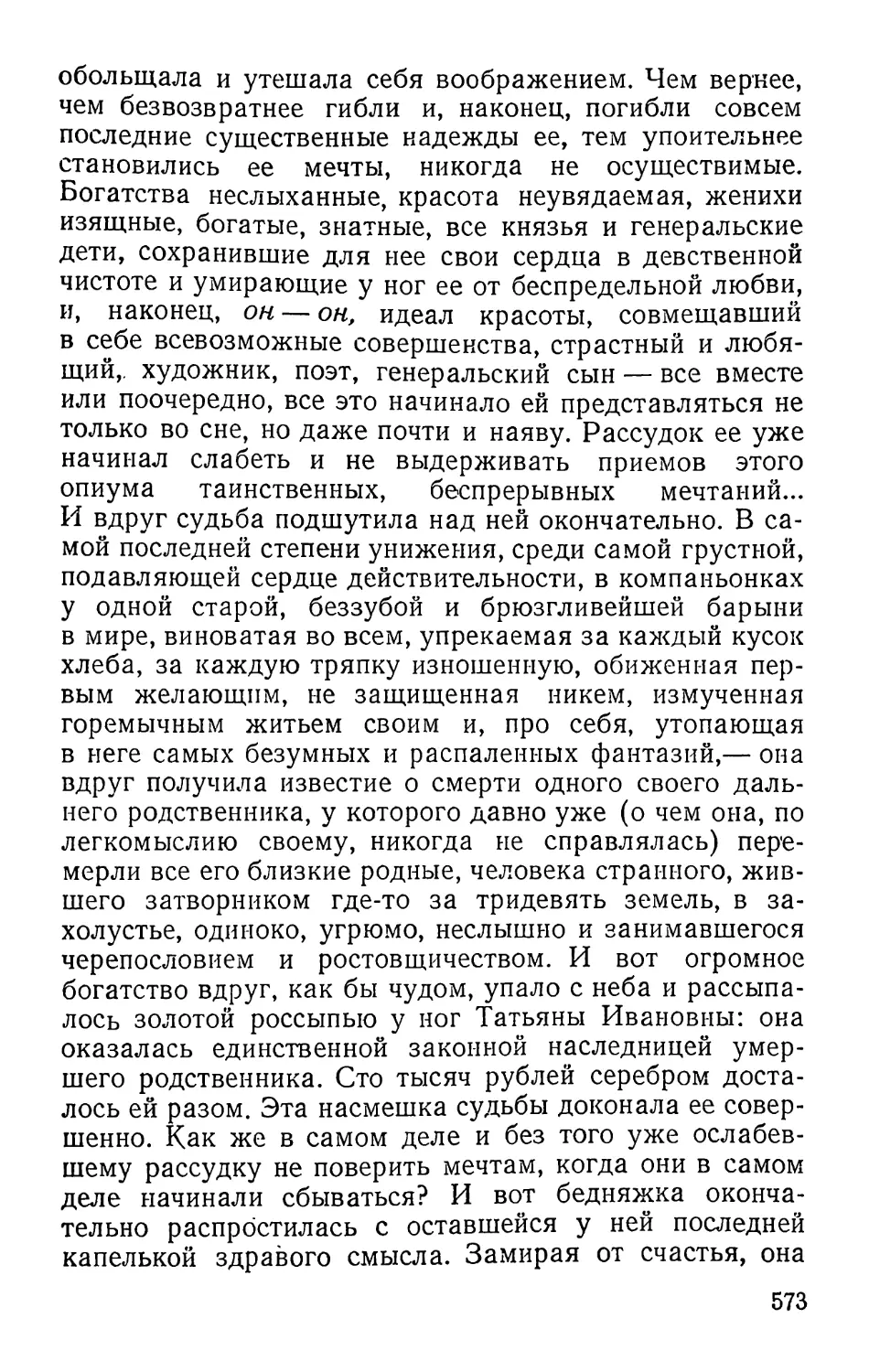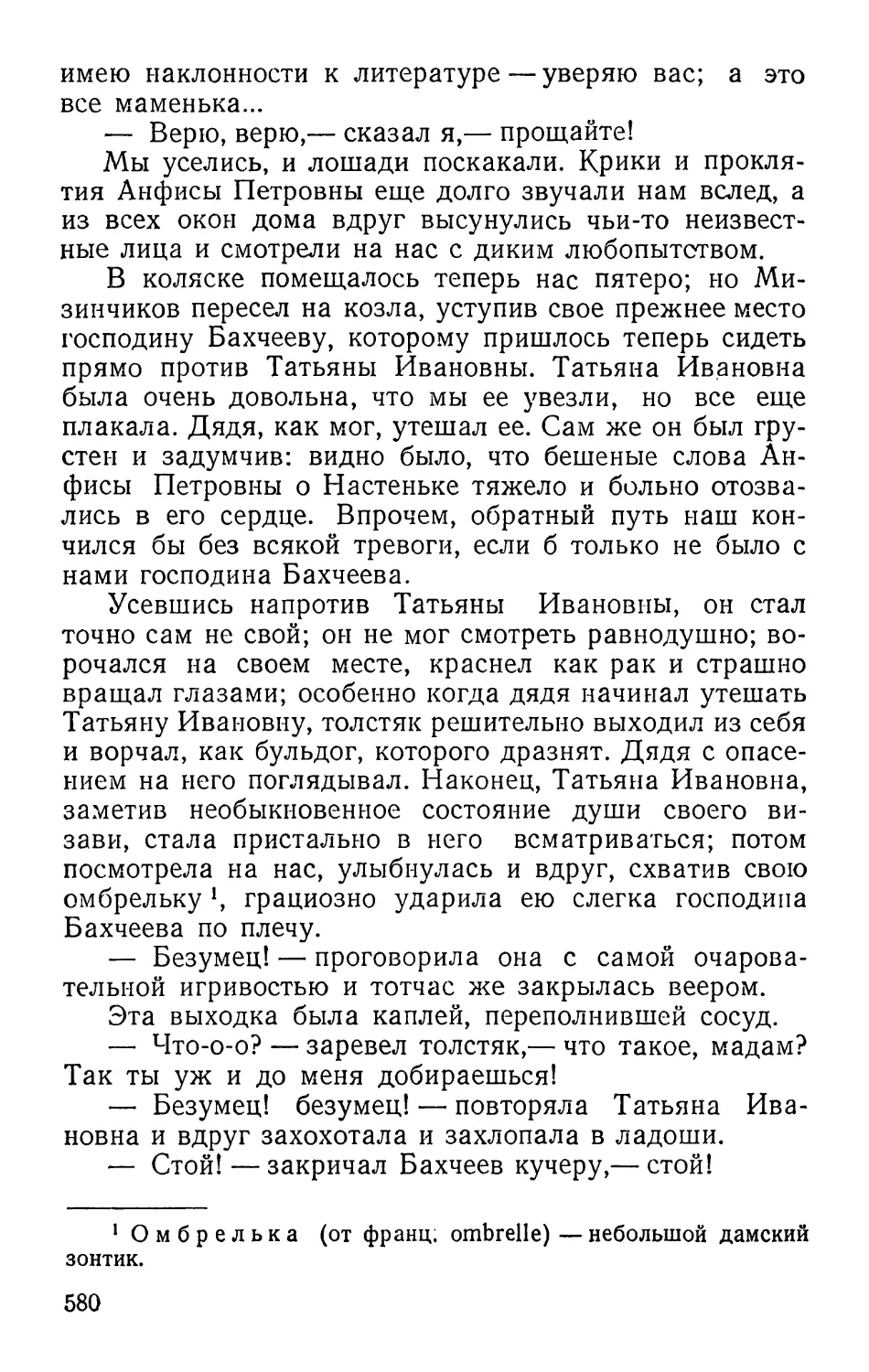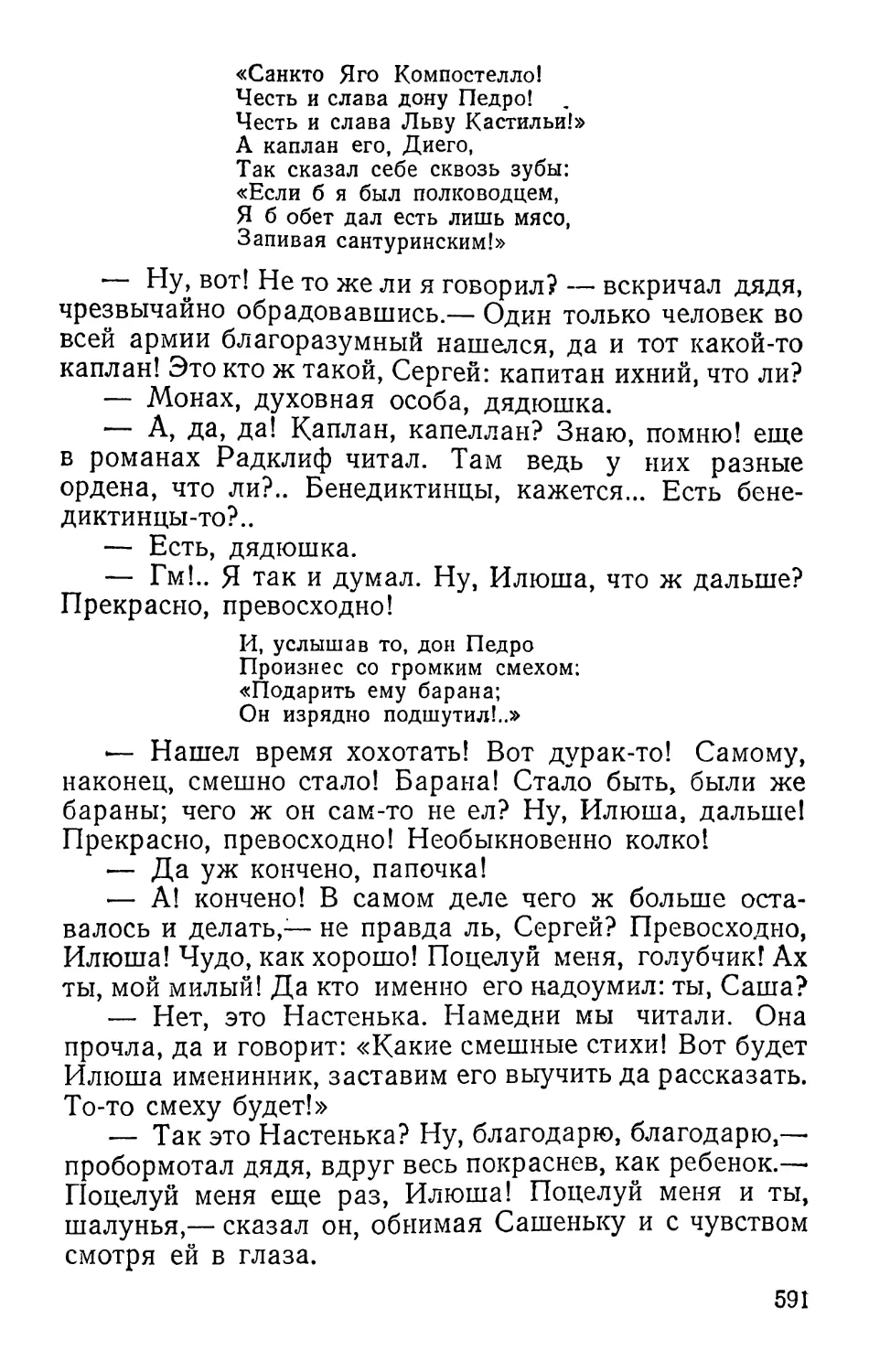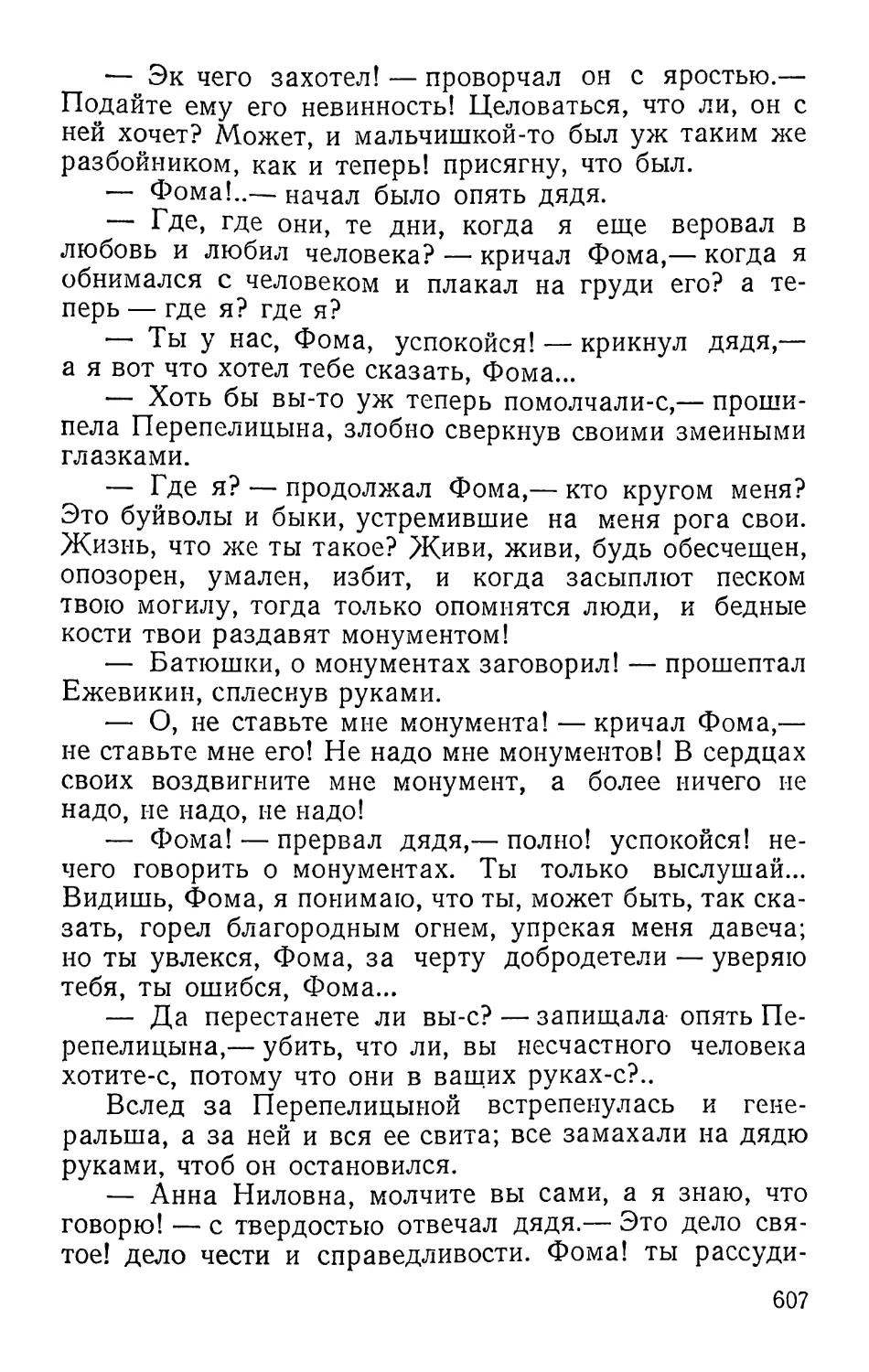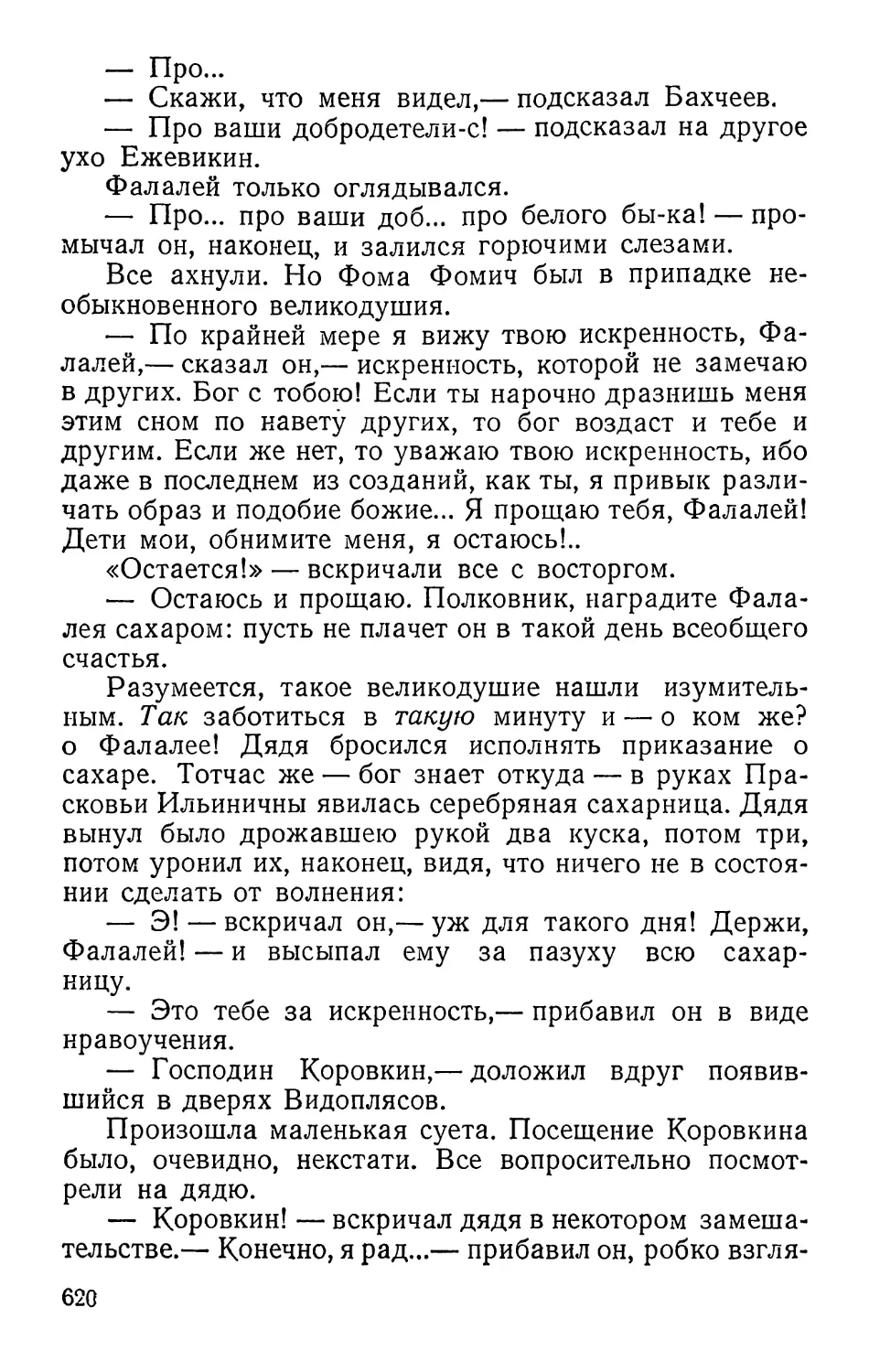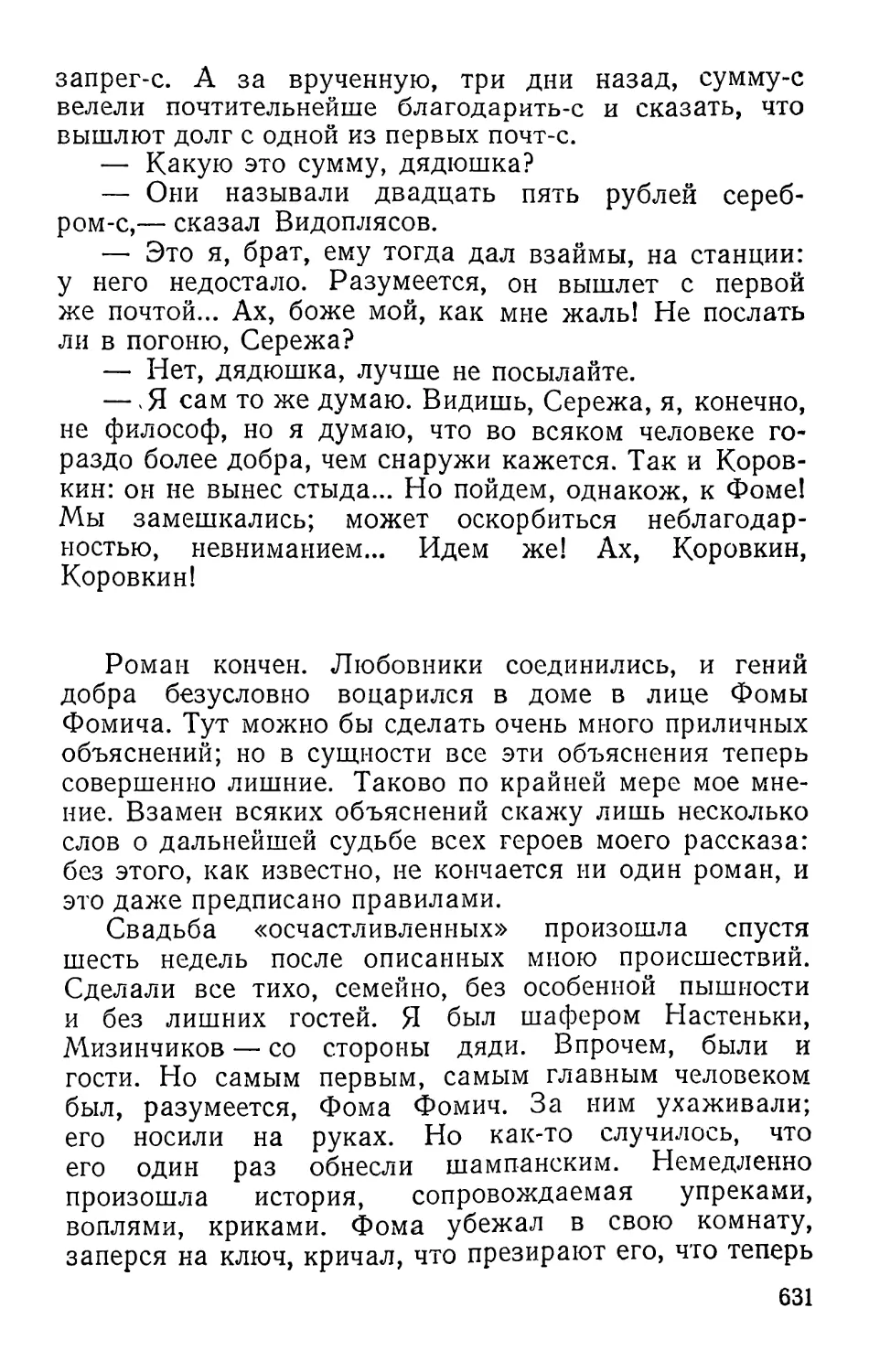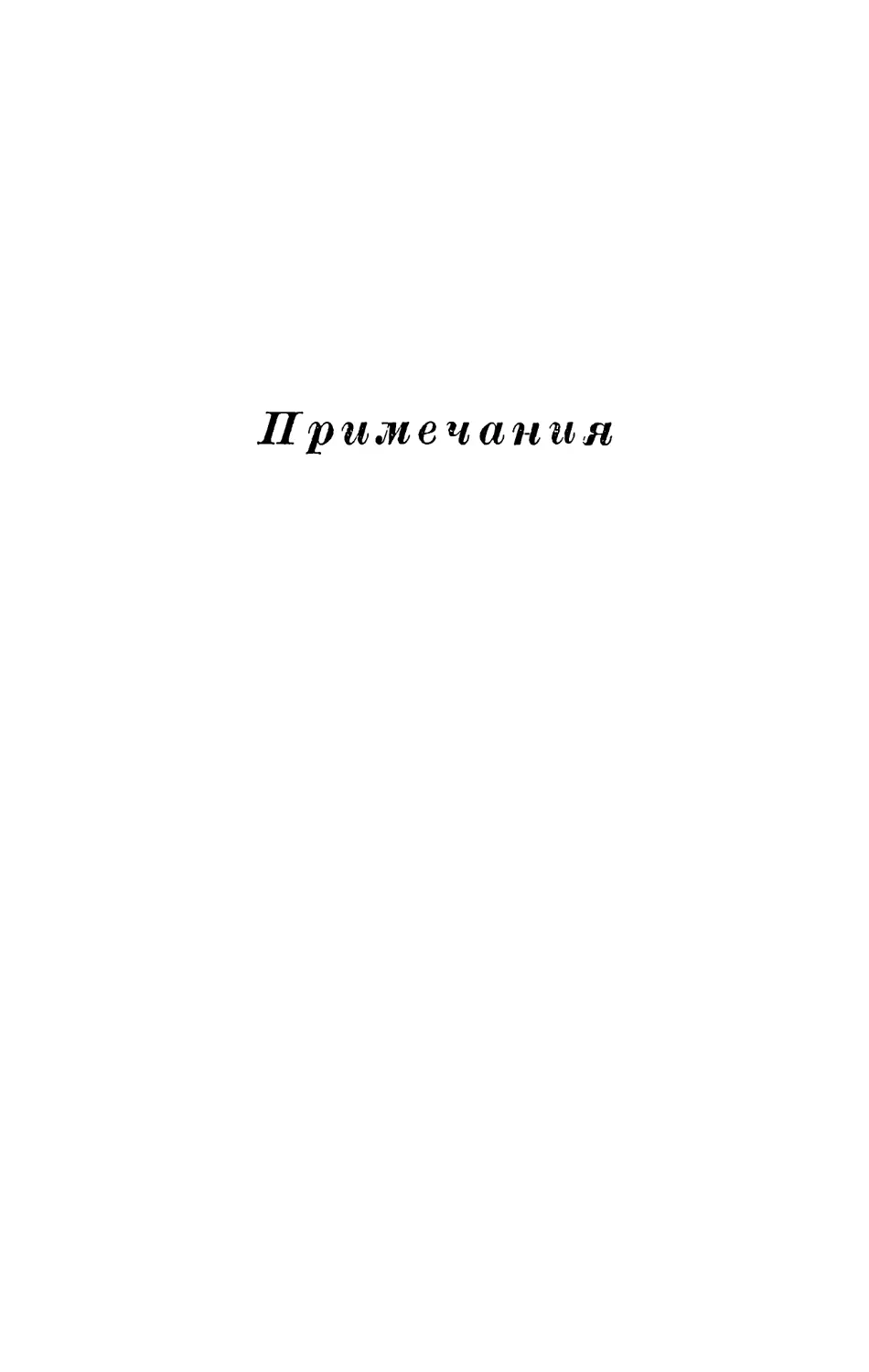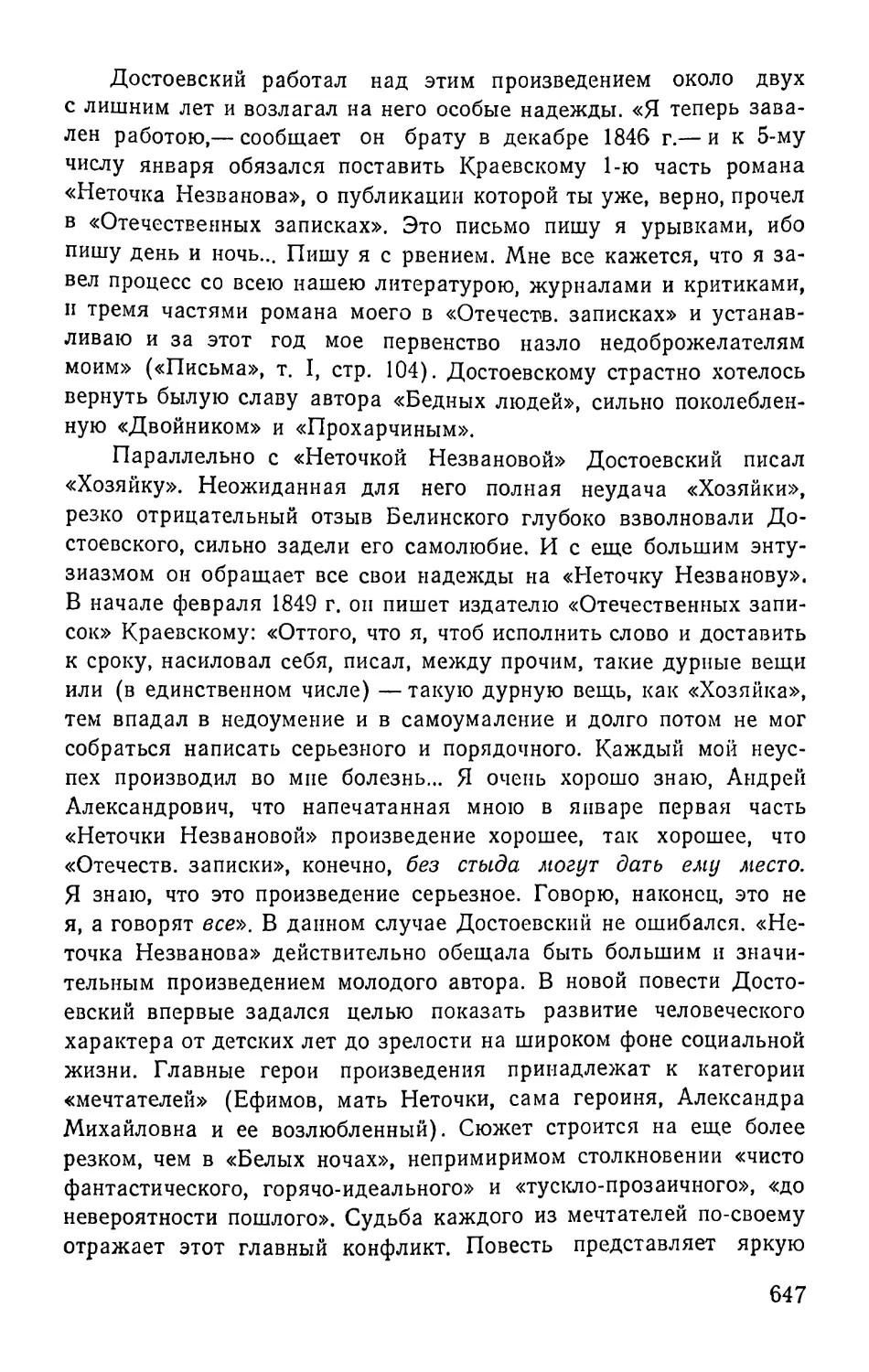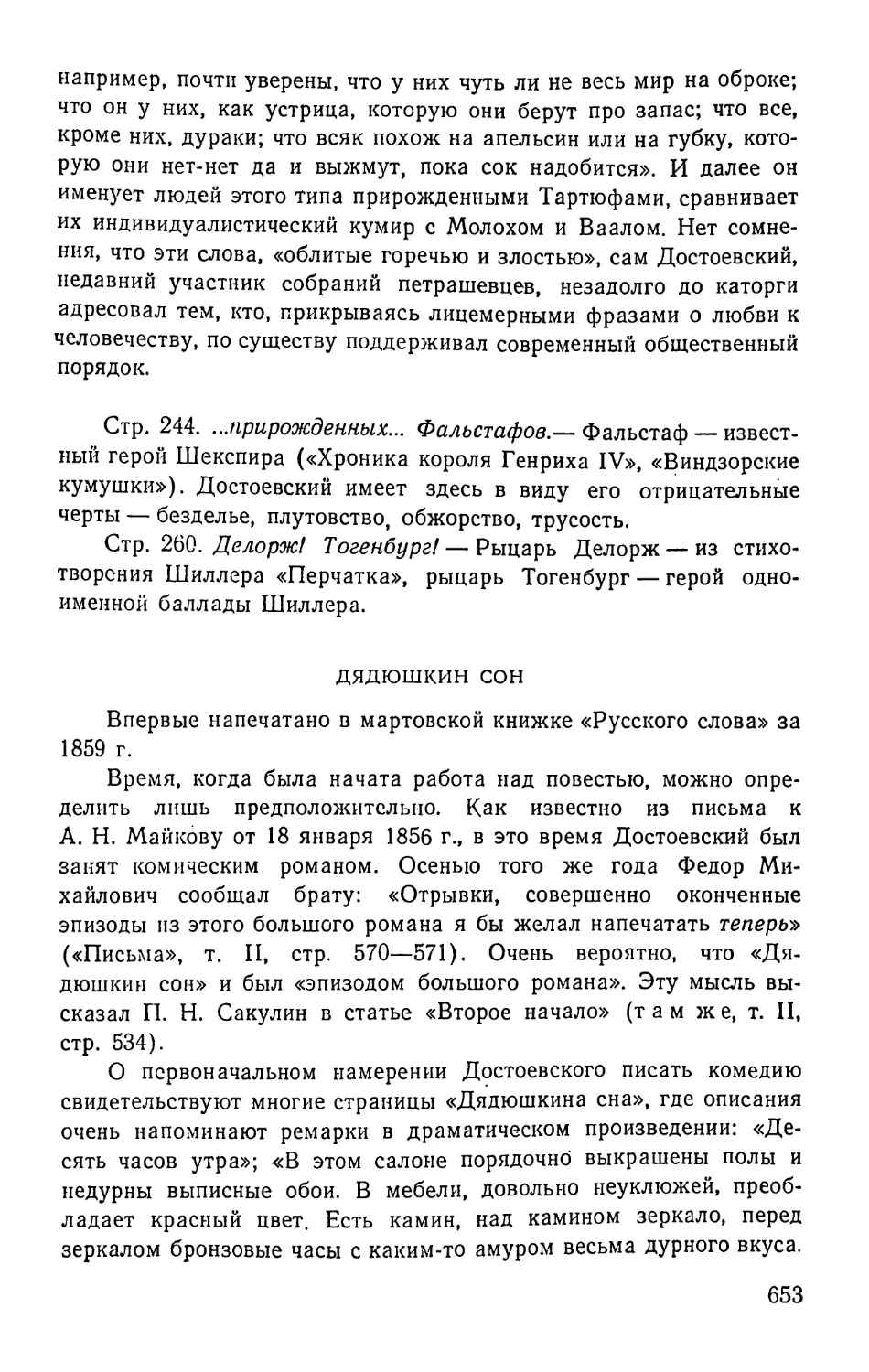Text
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Ф.МДОСТОЕВСКИИ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В десяти томах
Под общей редакцией
Л. П. ГРОССМАНА, А. С. ДОЛИНИНА, В. В. ЕРМИЛОВА,
В. я. КИРПОТИНА, В. С. НЕЧАЕВОЙ,
Б. С. РЮРИКОВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956
Ф.М.ДОСТОЕВСКИИ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том второй
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1848—1859
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1956
Подготовка текста и примечания
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
БЕЛЫЕ НОЧИ
Сентиментальный роман
Из воспоминаний мечтателя
...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..
Ив. Тургенев
НОЧЬ ПЕРВАЯ
Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только
и может быть тогда, когда мы молоды, любезный чи-
татель. Небо было такое звездное, такое светлое небо,
что, взглянув на него, невольно нужно было спросить
себя: неужели же могут жить под таким небом разные
сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос,
любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам
господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных
сердитых господах, я не мог не припомнить и своего
благонравного поведения во весь этот день. С самого
утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска.
Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все поки-
дают и что все от меня отступаются. Оно, конечно,
всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот
уже восемь лет, как я живу в Петербурге и почти ни
одного знакомства не умел завести. Но к чему мне
знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург;
5
вот почему мне и показалось, что меня все покидают,
когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу.
Мне страшно стало оставаться одному, и целых три
дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно
не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Нев-
ский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни
одного лица из тех, кого привык встречать в том же
месте в известный час, целый год. Они, конечно, не
знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю;
я почти изучил их физиономии — и любуюсь на них,
когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся.
Я почти свел дружбу с одним старичком, которого
встречаю каждый божий день, в известный час, на
Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все
шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него
длинная сучковатая трость с золотым набалдашником.
Даже он заметил меня и принимает во мне душевное
участие. Случись, что я не буду в известный час на том
же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет
хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг
с другом, особенно когда оба в хорошем расположении
'духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и
на третий день встретились, мы уже было и схватились
за шляпы, да благо опомнились во-время, опустили
руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже
и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забе-
гает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна
и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье?
и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят
этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в по-
чинку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и
т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие прия-
тели; один из них намерен лечиться это лето у архи-
тектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не
залечили как-нибудь, сохрани его господи!.. Но никогда
не забуду истории с одним прехорошеньким светлорозо-
вым домиком. Это был такой миленький каменный
домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво
смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце
радовалось, когда мне случалось проходить мимо.
Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как по-
6
смотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня
красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не по-
щадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель
пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась
желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах
был повидаться с изуродованным моим бедняком, кото-
рого раскрасили под цвет поднебесной империи.
Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я
знаком со всем Петербургом.
Я уже сказал, что меня целые три дня мучило бес-
покойство, покамест я догадался о причине его. И на
улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся
такой-то?) —да и дома я был сам не свой. Два вечера
добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего
так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением
осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок,
завешанный паутиной, которую с большим успехом раз-
водила Матрена, пересматривал всю свою мебель,
осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (по-
тому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как
вчера стоял, так я сам не свой) смотрел на окно, и все
понапрасну... нисколько не было легче! Я даже вздумал
было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий
выговор за паутину и вообще за неряшество; но она
только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь,
не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор
благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня
поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня
удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но
мне было не до высокого слога... потому что ведь все,
что только ни было в Петербурге, или переехало, или
переезжало на дачу; потому что каждый почтенный
господин солидной наружности, нанимавший извозчика,
на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца
семейства, который после обыденных должностных за-
нятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на
дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже
совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил
всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так,
мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу».
Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала
7
тоненькие, белые, ка'к сахар, пальчики, и высовывалась
головка хорошенькой девушки, подзывавшей разнос-
чика с горшками цветов,— мне тотчас же, тут же
представлялось, что эти цветы только так покупаются,
то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной
и цветами в душной городской квартире, а что вот
очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою
увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем
новом, особенном роде открытий, что уже мог безоши-
бочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче
живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов
или Петергофской дороги отличались изученным
изяществом приемов, щегольскими летними костюмами
и прекрасными экипажами, в которых они приехали
в город. Жители Парголова и там, где подальше, с пер-
вого взгляда «внушали» своим благоразумием и солид-
ностью; посетитель Крестовского острова отличался
невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встре-
тить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво
шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных
целыми горами всякой мебели, столов, стульев, дива-
нов турецких и нетурецких и прочим домашним скар-
бом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала,
на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая
барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело
нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие
по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль островов,—
воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих;
казалось, все поднялось и поехало, все переселялось
целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург
грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне
стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда
и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каж-
дым возом, уехать с каждым господином почтенной
наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, реши-
тельно никто не пригласил меня; словно забыли меня,
словно я для них был и в самом деле чужой!
Я ходил много и долго, так что уже совсем успел,
по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очу-
тился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за
шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не
8
слышал усталости, но чувствовал только всем составом
своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все
проезжие смотрели на меня так приветливо, что реши-
тельно чуть не кланялись; все были так рады чему-то,
все до одного курили сигары. И я был рад, как еще
никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился
в Италии — так сильно поразила природа меня, полу-
больного горожанина, чуть не задохнувшегося в город-
ских стенах.
Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей пе-
тербургской природе, когда она, с наступлением весны,
вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей
небом силы, опушится, разрядится, упестрится цве-
тами... Как-то невольно напоминает она мне ту де-
вушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите
иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадатель-
ною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но
которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается
неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный,
упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила за-
ставила блистать таким огнем эти грустные, задумчи-
вые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудев-
шие щеки? что облило страстью эти нежные черты
лица? отчего так вздымается эта грудь? что так вне-
запно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной
девушки, заставило его заблистать такой улыбкой,
оживиться таким сверкающим, искрометным смехом?
Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадывае-
тесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же
вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный
взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же по-
корность и робость в движениях и даже раскаяние,
даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за
минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так
безвозвратно завяла мгновенная красота, что так об-
манчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль
оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...
А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это
было.
Я пришел назад в город очень поздно, и уже про-
било десять часов, когда я стал подходить к квартире.
9
Дорога моя шла по набережной канала, на которой
в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу
в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что,
когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь
про себя, как и всякий счастливый человек, у которого
нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радо-
стную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг
со мной случилось самое неожиданное приключение.
В сторонке, прислонившись к перилам канала,
стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-
видимому, очень внимательно смотрела на мутную
воду канала. Она была одета в премиленькой желтой
шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это де-
вушка, и непременно брюнетка»,— подумал я. Она, ка-
жется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась,
когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забив-
шимся сердцем. «Странно! — подумал я,— верно, она
о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился
как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да!
я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и
еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось.
И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая
минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы
произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это
восклицание уже тысячу раз произносилось во всех
русских великосветских романах. Это одно и остано-
вило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка
очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и
скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же
пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила на-
бережную, перешла через улицу и пошла по тротуару.
Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепе-
тало, как у пойманной птички. Вдруг один случай при-
шел ко мне на помощь.
По той стороне тротуара, недалеко от моей незна-
комки, вдруг появился господин во фраке, солидных
лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел,
пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка
же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще
ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь
вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качав-
10
шийся господин ни за что не догнал бы ее, если б
судьба моя не надоумила его поискать искусственных
средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой госпо-
дин срывается с места и летит со всех ног, бежит,
догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колы-
хавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрик-
нула — и... я благословляю судьбу за превосходную
сучковатую палку, которая случилась на этот раз
в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне
тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело,
принял в соображение неотразимый резон, замолчал,
отстал и, только когда уже мы были очень далеко,
протестовал против меня в довольно энергических
терминах. Но до нас едва долетели слова его.
— Дайте мне руку,— сказал я моей незнакомке,—
и он не посмеет больше к нам приставать.
Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую
от волнения и испуга. О, незваный господин! как я
благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул
на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал;
на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего
испуга или прежнего горя,— не знаю. Но на губах уже
сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украд-
кой, слегка покраснела и потупилась.
— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня?
Если б я был тут, ничего бы не случилось...
— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже...
— А разве вы теперь меня знаете?
— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?
— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в во-
сторге, что моя девушка умница: это при красоте ни-
когда не мешает.— Да, вы с первого взгляда угадали,
с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я
в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту
назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то
испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал,
что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь
женщиной.
— Как? не-уже-ли?
— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что
никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая
маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин;
то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один...
Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не
знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Ска-
жите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...
— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы
требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что
женщинам нравится такая робость; а если вы хотите
знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не от-
гоню вас от себя до самого дома.
— Вы сделаете со мной,— начал я, задыхаясь от
восторга,— что я тотчас же перестану робеть и тогда —
прощай все мои средства!..
— Средства? какие средства, к чему? вот это уж
дурно.
— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но
как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было же-
лания...
— Понравиться, что ли?
— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посу-
дите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я
никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо
говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда
все будет открыто, наружу... Я не умею молчать, когда
сердце во мне говорит. Ну, да все равно... Поверите ли,
ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого зна-
комства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то
когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы
знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..
— Но как же, в кого же?..
— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится
во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не
знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-
трех женщин, но какие они женщины? это все такие хо-
зяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что не-
сколько раз думал заговорить, л*ак, запросто, с какой-
нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она
одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, стра-
стно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла
меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь жен-
щину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины
12
не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного чело-
века, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит
в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова
братские, с участием, не отогнать меня с первого шага,
поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить,
посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня,
сказать мне два слова, только два слова, потом
пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы
смеетесь... Впрочем, я для того и говорю...
— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе
враг, и если б вы попробовали, то вам и удалось, может
быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем
лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не
глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту ми-
нуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов,
которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я!
конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь су-
дила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете
живут!
— О, благодарю вас,— закричал я,— вы не знаете,
что вы для меня теперь сделали!
— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы
узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую
вы считали достойной... внимания и дружбы... одним
словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы реши-
лись подойти ко мне?
— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин
был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что
это обязанность...
Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь
вы хотели же подойти ко мне?
— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как
отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив;
я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не
бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть,
показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне
показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать
это... у меня стеснилось сердце... О боже мой! Ну, да
неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же
был грех почувствовать к вам братское сострадание?..
Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним словом,
13
неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздума-
лось мне к вам подойти?..
— Оставьте, довольно, не говорите...— сказала де-
вушка, потупившись и сжав мою руку.— Я сама вино-
вата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиб-
лась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда в
переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...
— Так неужели же, неужели мы больше никогда не
увидимся?.. Неужели это так и останется?
— Видите ли,— сказала, смеясь, девушка,— вы хо-
тели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем,
я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...
— Я приду сюда завтра,— сказал я.— О, простите
меня, я уже требую...
— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...
— Послушайте, послушайте! — прервал я ее.—
Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое...
Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечта-
тель; у меня так мало действительной жизни, что я та-
кие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что
не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я про-
мечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год.
Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это
же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоми-
ная вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть
такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз за-
плакал от воспоминанья, как вы... Почем знать, может
быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспо-
минанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, мо-
жет быть, когда-нибудь были здесь особенно счаст-
ливы...
— Хорошо,— сказала девушка,— я, пожалуй, приду
сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не
могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть
здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание;
я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя.
Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего,
если и вы придете; во-первых, могут быть опять не-
приятности, как сегодня, но это в сторону... одним
словом, мне просто хотелось бы вас видеть... чтоб ска-
зать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите
14
меня теперь? нё подумайте, что я так легко назначаю
свидания... Я бы и не назначила, если б... Но пусть это
будет моя тайна! Только вперед уговор...
' — Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее;
я на все согласен, на все готов,— вскричал я в востор-
ге,— я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен...
вы меня знаете...
— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас
завтра,— сказала, смеясь, девушка.— Я вас совер-
шенно знаю. Но смотрите приходите с условием; во-
первых (только будьте добры, исполните, что я по-
прошу,— видите ли, я говорю откровенно), не влю-
бляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу
я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя,
прошу вас!
— Клянусь вам,— закричал я, схватив ее ручку...
— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны
вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так
говорю. Если ?б вы знали... У меня тоже никого нет,
с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы со-
вета спросить. Конечно, не на улице же искать совет-
ников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже
мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не
измените?..
— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу
хотя сутки.
— Спите покрепче; доброй ночи — и помните, что
я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули
давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве,
даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так
хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль
довериться вам...
— Ради бога, но в чем? что?
— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем
лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Мо-
жет быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет...
Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся
лучше...
— О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но
что это? точно чудо со мной совершается... Где я, боже
мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не
15
рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня
в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня
навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать,
может быть, вы меня с собой помирили, разрешили
мои сомнения... Может быть, на меня находят такие
минуты... Ну, да я вам завтра все расскажу, вы
все узнаете, все...
— Хорошо, принимаю; вы и начнете...
— Согласен.
— До свиданья!
— До свиданья!
И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог ре-
шиться воротиться домой. Я был так счастлив... до
завтра!
НОЧЬ ВТОРАЯ
— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь
и пожимая мне обе руки.
— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со
мной целый день!
— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я при-
шла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам
нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера
долго думала.
— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я
готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего
умнее, как теперь.
— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите
так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас
сегодня долго раздумывала.
— Ну, и чем же кончилось?
— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все
снова начать, потому что в заключение всего я решила
сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера
поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вы-
шло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть
я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы
начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить
ошибку, я решила разузнать об вас самым подроб-
нейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у
16
кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю под-
ноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте
же, рассказывайте свою историю.
— Историю! — закричал я, испугавшись,— исто-
рию! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история?
у меня нет истории...
— Так как же вы жили, коль нет истории? — пере-
била она смеясь.
— Совершенно без всяких историй! так жил,
как у нас говорится, сам по себе, то есть один совер-
шенно,— один, один вполне,— понимаете, что такое
один?
— Да как один? То есть вы никого никогда не ви-
дали?
— О нет, видеть-то вижу,— а все-таки я один.
— Что же, вы разве не говорите ни с кем?
— В строгом смысле, ни с кем.
— Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте,
я догадываюсь: у вас верно, есть бабушка, как и у меня.
Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не
пускает, так что я почти разучилась совсем говорить.
А когда я нашалила тому назад года два, так она ви-
дит, что меня не удержишь, взяла призвала меня, да
и пришпилила булавкой мое платье к своему — и так
мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет,
хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку
вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже
два года пришпиленная...
— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня
нет такой бабушки.
— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..
— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?
— Ну, да, да!
— В строгом смысле слова?
— В самом строгом смысле слова!
— Извольте, я — тип.
— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захо-
хотав так, как будто ей целый год не удавалось
смеяться.— Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь
есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто
не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому
2 Ф. М. Достоевский, т. 2
17
что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы
только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?
— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной че-
ловек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее
детским смехом.— Это такой характер. Слушайте:
знаете вы, что такое мечтатель?
— Мечтатель! позвольте, да как не знать? я сама
мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего
в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так
раздумаешься — ну, просто за китайского принца вы-
хожу... А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать!
Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого
о чем думать,— прибавила девушка на этот раз до-
вольно серьезно.
— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за бог-
дыхана китайского, так, стало быть, совершенно пой-
мете меня. Ну, слушайте... Но позвольте: ведь я еще не
знаю, как вас зовут?
— Наконец-то! вот рано вспомнили!
— Ах, боже мой! да мне и на ум не пришло, мне
было и так хорошо...
— Меня зовут — Настенька.
— Настенька! и только?
— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы
этакой!
— Мало ли? Много, много, напротив, очень много,
Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу
вы для меня стали Настенькой!
— То-то же! ну!
— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут вы-
ходит смешная история.
Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную
позу и начал словно по-писаному:
— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в
Петербурге довольно странные уголки. В эти места как
будто не заглядывает то же солнце, которое светит для
всех петербургских людей, а заглядывает какое-то дру-
гое, новое, как будто нарочно заказанное для этих уг-
лов, и светит на все иным, особенным светом. В этих
углах, милая Настенька, выживается как будто совсем
другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас ки-
18
пит, а такая, которая может быть в тридесятом неведо-
мом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное
время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто
фантастического, горячо-идеального и вместе с тем
(увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновен-
ного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.
— Фу! господи боже мой! какое предисловие!
Что же это я такое услышу?
— Услышите вы Настенька (мне кажется, я ни-
когда не устану называть вас Настенькой), услышите
вы, что в этих углах проживают странные люди — меч-
татели. Мечтатель — если нужно его подробное опреде-
ление — не человек, а, знаете, какое-то существо сред-
него рода. Селится он большею частию где-нибудь в не-
приступном углу, как будто таится в нем даже от
дневного света, и уж если заберется к себе, то так и
прирастет к своему углу, как улитка, или по крайней
мере он очень похож в этом отношении на то занима-
тельное животное, которое и животное и дом вместе,
которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего
он так любит свои четыре стены, выкрашенные непре-
менно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непо-
зволительно обкуренные? Зачем этот смешной госпо-
дин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его
редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у
него все переводятся), зачем этот смешной человек
встречает его так сконфузившись, так изменившись в
лице и в таком замешательстве, как будто он только что
сделал в своих четырех стенах преступление, как будто
он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь
стишки для отсылки в журнал при анонимном письме,
в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер
и что друг его считает священным долгом опублико-
вать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька,
разговор так не вяжется у этих двух собеседников?
отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не
слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного
приятеля, который в другом случае очень любит и
смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле,
и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот
приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом
2*
19
визите,— потому что второго в таком случае уже не
будет, и приятель другой раз не придет,— отчего сам
приятель так конфузится, так костенеет, при всем
своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на
опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже
совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка
после исполинских, но тщетных усилий разгладить и
упестрить разговор, показать, и с своей стороны, знание
светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть
такою покорностию понравиться бедному, не туда/по-
павшему человеку, который ошибкою пришел к нему
в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за
шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонуж-
нейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как
высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина,
всячески старающегося показать свое раскаяние и по-
править потерянное? Отчего уходящий приятель хохо-
чет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово ни-
когда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак
в сущности и превосходнейший малый, и в то же время
никак не может отказать своему воображению в ма-
ленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом,
физиономию своего недавнего собеседника во все время
свидания с видом того несчастного котеночка, которого
измяли, застращали и всячески обидели дети, веро-
ломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который
забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там це-
лый час на досуге принужден ощетиниваться, отфырки-
ваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами
и долго еще после того враждебно взирать на природу
и жизнь и даже на подачку с господского обеда, при-
пасенную для него сострадательною ключницею?
— Послушайте,— перебила Настенька, которая все
время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ро-
тик,— послушайте: я совершенно не знаю, отчего все
это произошло и почему именно вы мне предлагаете
такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так
то, что все эти приключения случились непременно с
вами, от слова до слова.
— Без сомнения,— отвечал я с самою серьезной
миной.
20
— Ну, коли без сомнения, так продолжайте,—
ответила Настенька,— потому что мне очень хочется
знать, чем это кончится.
— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал, в
своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому
что герой всего дела — я, своей собственной скромной
особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и
потерялся на целый день от неожиданного визита прия-
теля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так
покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему
я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тя-
жестью собственного гостеприимства?
— Ну да, да! — отвечала Настенька,— в этом и
дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но
нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно?
А то вы говорите, точно книгу читаете.
— Настенька! —отвечал я важным и строгим голо-
сом, едва удерживаясь от смеха,— милая Настенька,
я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват,
иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая На-
стенька, теперь я похож на дух царя Соломона, кото-
рый был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с
которого, наконец, сняли все эти семь печатей. Теперь,
милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой
долгой разлуки,— потому что я вас давно уже знал,
Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это
знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено
теперь свидеться,— теперь в моей голове открылись
тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов,
не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня,
Настенька, а слушать и покорно и послушно; иначе —
я замолчу.
— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу
ни слова.
— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем
дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот
самый час, когда кончаются почти всякие дела, должно-
сти и обязательства, и все спешат по домам пообедать,
прилечь отдохнуть, и тут же, в дороге, изобретают и
другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего
остающегося свободного времени. В этот час и наш
21
герой,— потому что уж позвольте мне, Настенька, рас-
сказывать в третьем лице, затем, что в первом лице
все это ужасно стыдно рассказывать,— итак, в этот час
и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за
прочими. Но странное чувство удовольствия играет на
его бледном, как будто несколько измятом лице.
Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая
медленно гаснет на холодном петербургском небе.
Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но
созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или
занятый в то же время каким-нибудь другим, более
интересным предметом, так что разве только мельком,
почти невольно, может уделить время на все окружаю-
щее. Он доволен, потому что покончил до завтра с до-
садными для него делами, и рад, как школьник, кото-
рого выпустили с классной скамьи к любимым играм
и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы
тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо
подействовало на его слабые нервы и болезненно раз-
драженную фантазию. Вот он об чем-то задумался...
Вы думаете об обеде? о сегодняшнем вечере? На
что он так смотрит? На этого ли господина солидной
наружности, который так картинно поклонился даме,
прокатившейся мимо него на резвоногих конях в
блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до
всей этой мелочи! Он теперь уже богат своею особенною
жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный
луч потухающего солнца не напрасно так весело
сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца це-
лый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту до-
рогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла
поразить его. Теперь «богиня фантазии» (если вы чи-
тали Жуковского, милая Настенька) уже заткала при-
хотливою рукою свою золотую основу и пошла разви-
вать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни —
и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою
на седьмое хрустальное небо с превосходного гранит-
ного тротуара, по которому он идет восвояси. По-
пробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг:
где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он навер-
но бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того,
22
где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно
солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот по-
чему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом
огляделся кругом, когда одна очень почтенная ста-
рушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала
расспрашивать его о дороге, которую она поте-
ряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва
замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него
глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь ма-
ленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу,
громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его
широкую созерцательную улыбку и жесты руками.
Но все та же фантазия подхватила на своем игривом
полете и старушку, и любопытных прохожих, и смею-
щуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют
на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим,
в это время по ней проходил наш герой), заткала ша-
ловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину,
и с новым приобретением чудак уже вошел к себе
в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобе-
дал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно
печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже
все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся
и с удивлением вспомнил, что он уже совсем дообедал,
решительно, проглядев, как это сделалось. В комнате
потемнело; на душе его пусто и грустно;- целое царство
мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа,
без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и
сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное
ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь
его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и
раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый
рой новых призраков. В маленькой комнате царствует
тишина; уединение и лень нежат воображение; оно
воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в ко-
фейнике старой Матрены, которая безмятежно возится
рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот
оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и
книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук
моего мечтателя, не дошедшего и до третьей стра-
ницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и
23
вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь
блеснула перед ним в блестящей своей перспективе.
Новый сон — новое счастие! Новый прием утонченного,
сладострастного яда! О, что ему в нашей действитель-
ной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами,
Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его
взгляд мы все так недовольны нашею судьбою, так то-
мимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в са-
мом деле, как на первый взгляд все между нами
холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» — думает
мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите
на эти волшебные призраки, которые так очарова-
тельно, так прихотливо, так безбрежно и широко сла-
гаются перед ним в такой волшебной, одушевленной
картине, где на первом плане, первым лицом, уж, ко-
нечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою.
Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой
бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите,
может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать!
да обо всем... об роли поэта, сначала непризнанного,
а потом увенченного; о дружбе с Гофманом; Варфоло-
меевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взя-
тии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай,
Евфия Дене, собор прелатов и Гус перед ними, вос-
стание мертвецов в Роберте (помните музыку? Клад-
бищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при
Березине, чтение поэмы у графини В—й-Д—й, Дантон,
Клеопатра ei suoi amanti, домик в Коломне, свой уго-
лок, а подле милое создание, которое слушает вас в
зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы
теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, На-
стенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу,
в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он ду-
мает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая,
что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет груст-
ный час, когда он за один день этой жалкой жизни от-
даст все свои фантастические годы, и еще не за радость,
не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час
грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест
еще не настало оно, это грозное время — он ничего не
желает, потому что он выше желаний, потому что с ним
24
всё, потому что он пресыщен, потому что он сам худож-
ник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому
произволу. И ведь так легко, так натурально создается
этот сказочный, фантастический мир! Как будто и
впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную
минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не
мираж, не обман воображения, а что это и впрямь
действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите,
Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух?
отчего же каким-то волшебством, по какому-то
неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут
слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажен-
ные щеки и такой неотразимой отрадой напол-
няется все существование его? Отчего же целые бес-
сонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом
веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом
в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим со-
мнительным фантастическим светом, как у нас, в Петер-
бурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бро-
сается на постель и засыпает в замираниях от восторга
своего болезненно-потрясенного духа и с такою томи-
тельно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обма-
нешься и невольно вчуже поверишь, что страсть
настоящая, истинная волнует душу его, невольно по-
веришь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных
грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь
сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со
всеми томительными мучениями... Только взгляните на
него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая
Настенька, что действительно он никогда не знал той,
которую он так любил в своем исступленном мечтании?
Неужели он только и видел ее в одних обольстительных
призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Не-
ужели и впрямь не прошли они рука в руку столько
годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир
и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью
друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала
разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его,
не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не
слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных
ресниц ее? Неужели все это была мечта — и этот сад,
25
унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, зарос-
шими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто
ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили
друг друга так долго, «так долго и нежно»! И этот
странный, прадедовский дом, в котором жила она
столько времени уединенно и грустно, с старым, угрю-
мым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим
их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг
от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись
они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж,
разумеется, Настенька) злы были люди! И боже мой,
неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов
своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким,
в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе му-
зыки, в палаццо (непременно в палаццо), потонувшем
в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами,
где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и,
прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его
объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг
к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все
мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад
в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним,
страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших
в отчаянной муке объятий его... О, согласитесь, На-
стенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь,
как школьник, только что запихавший в карман
украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-ни-
будь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур,}
ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет,/
как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту
из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает
неизреченное счастие,— а тут люди приезжают из
Павловска!
Я патетически замолчал, кончив мои патетические
возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь
через силу захохотать, потому что я уже чувствовал,
что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок,
что мне уже начинало захватывать горло, подергивать
подбородок и что все более и более влажнели глаза
мои... Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня,
открыв свои умные глазки, захохочет всем своим дет-
26
ским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался,
что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже
давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как
по-писаному, потому что уже давно приготовил я над
самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не
прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут;
но, к удивлению моему, она промолчала, погодя не-
много слегка пожала мне руку и с каким-то робким уча-
стием спросила:
— Неужели и в самом деле вы так прожили всю
свою жизнь?
— Всю жизнь, Настенька,— отвечал я,— всю
жизнь, и, кажется, так и окончу!
— Нет, этого нельзя,— сказала она беспокойно,—
этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь
подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе
нехорошо так жить?
— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удер-
живая более своего чувства.— И теперь знаю больше,
чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие
годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого
сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего
доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь,
когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и
страшно подумать о будущем, потому что в будущем —
опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь;
и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас
был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая
девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза,
за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два ве-
чера в моей жизни!
— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки
заблестали на глазах ее,— нет, так не будет больше; мы
так не расстанемся! Что такое два вечера!
— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как на-
долго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что
уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал
в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не
буду более тосковать о том, что сделал преступление
и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть пре-
ступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувели-
27
чивал что-нибудь, ради бога не думайте -этого, На-
стенька, потому что на меня иногда находят минуты та-
кой тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает
казаться в эти минуты, что я никогда не способен на-
чать жить настоящею жизнию, потому что мне уже ка-
залось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в на-
стоящем, действительном; потому что, наконец, я про-
клинал сам себя; потому что после моих фантастических
ночей на меня уже находят минуты отрезвления, кото-
рые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя
гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа,
слышишь, видишь, как живут люди — живут наяву, ви-
дишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не
разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно
обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож
на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна
пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого
облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет
тоскою настоящее петербургское сердце, которое так
дорожит своим солнцем,— а уж в тоске какая фанта-
зия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в
вечном напряжении эта неистощимая фантазия, потому
что ведь мужаешь, выживаешь, из прежних своих идеа-
лов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет
другой жизни, так приходится строить ее из этих же
обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет
душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих
старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь
искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем при-
греть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова
все, что было прежде так мило, что трогало душу, что
кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так
роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего
я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять го-
довщину своих ощущений, годовщину того, что было
прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало,—
потому что эта годовщина справляется все по тем же
глупым, бесплотным мечтаниям,— и делать это, потому
что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем
их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что
я люблю теперь припомнить и посетить в известный
28
срок те места, где был счастлив когда-то по-своему,
люблю построить свое настоящее под лад уже безвоз-
вратно прошедшему, и часто брожу, как тень, без
нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским
закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припо-
минается, например, что вот здесь ровно год тому на-
зад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же
тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и
теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были гру-
стны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то
чувствуешь, что как будто и легче и покойнее было
жить, что не было этой черной думы, которая теперь
привязалась ко мне; что не было этих угрызений со-
вести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем,
ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где
же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как
быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же
ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое луч-
шее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе,
смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут
годы и за ними придет угрюмое одиночество, придет
с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние.
Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут
мечты твои и осыплются как желтые листья с деревьев...
О Настенька! ведь грустно будет оставаться одному,
одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть —
ничего, ровно ничего... потому что все, что потерял-то,
все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было
одно лишь мечтанье!
— Ну, не разжалобливайте меня больше! — прого-
ворила Настенька, утирая слезинку, которая выкати-
лась из глаз ее.— Теперь кончено! Теперь мы будем
вдвоем; теперь что ни случись со мной, уж мы никогда
не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало
училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но,
право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пере-
сказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня
пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала
хорошо, как вы рассказали, я не училась,— робко при-
бавила она, потому что все еще чувствовала какое-то
уважение к моей патетической речи и к моему высокому
29
слогу,— но я очень рада, что вы совершенно открылись
мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете
что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без
утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень
умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне
этот совет?
— Ах, Настенька,— отвечал я,— я хоть и никогда
не был советником, и тем более умным советником, но
теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то
это будет как-то очень умно, и каждый друг другу на-
дает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя
Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо;
я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за сло-
вом не полезу в карман.
— Нет, нет! — перебила Настенька, засмеявшись,—
мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сер-
дечный, братский, так как бы вы уже век свой любили
меня!
— Идет, Настенька, идет! — закричал я в вос-
торге,— и если б я уже двадцать лет вас любил, то
все-таки не любил бы сильнее теперешнего!
— Руку вашу! — сказала Настенька.
— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.
•— Итак, начнемте мою историю!
ИСТОРИЯ ПАСТЕНЬКП
— Половину истории вы уже знаете, то есть вы
знаете, что у меня есть старая бабушка...
— Если другая половина так же недолга, как и
эта...— перебил было я засмеявшись.
— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не
перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слу-
шайте же смирно.
Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще
очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли
и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде
богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших
днях. Она же меня выучила по-французски и потом на-
няла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет
(а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в
30
это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не
скажу; довольно того, что проступок был небольшой.
Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и
сказала, что так как она слепа, то за мной не усмот-
рит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему,
да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть,
если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом,
в первое время отойти никак нельзя было: и работай,
и читай, и учись — все подле бабушки. Я было попро-
бовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое
место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха.
Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула
в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо
и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то
спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте.
Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не
слышит про что, думала, думала, что ей делать, от-
стегнула булавку, да и пустилась бежать...
Тут Настенька остановилась и начала хохотать.
Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.
— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это
я смеюсь, оттого что смешно... Что же делать, когда
бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко
люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять
посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было
нельзя.
Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть
у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего
трй* окна, совсем деревянный и такой же старый, как
бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в
мезонин новый жилец...
— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я
мимоходом.
— Уж, конечно, был,— отвечала Настенька,— и ко-
торый умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва
языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, сле-
пой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить
на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жи-
лец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с
бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый
жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний,
31
заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и
пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька,
наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела:
«Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой,
а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» —
спрашивает бабушка.
Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, на-
ружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! нака-
занье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю,
чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой!
поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной на-
ружности: не то в старину!»
А бабушке все бы в старину! И моложе-то она была
в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки
в старину не так скоро кисли,— все в старину! Вот я
сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка
сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод
ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же
стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем
позабыла.
Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить
о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово
за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, На-
стенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас
же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и по-
забыла, что сижу пришпиленная; нет, чтоб тихонько
отшпилить, чтоб жилец не видал,— рванулась так, что
бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец
все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте
как вкопанная, да вдруг и заплакала,— так стыдно и
горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть!
Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще...
Жилец как увидел, что мне его стыдно стало, откла-
нялся и тотчас ушел!
С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот,
думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай
и отшпилю булавку. Только все был не он, не прихо-
дил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать
с Феклой, что у него книг много французских и что все
хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли
бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно?
3?
Бабушка согласилась с благодарностью, только все
спрашивала, нравственные книги или нет, потому что
если книги безнравственные, так тебе, говорит, На-
стенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.
— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?
— А! — говорит,— описано в них, как молодые
люди соблазняют благонравных девиц, как они, под
предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их
из дому родительского, как потом оставляют этих не-
счастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым
плачевным образом. Я,— говорит бабушка,— много та-
ких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно
описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты,—
говорит,— Настенька, смотри, их не прочти. Каких
это,— говорит,— он книг прислал?
— А все Вальтера Скотта романы, бабушка.
— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут
каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он
в них какой-нибудь любовной записочки?
— Нет,— говорю,— бабушка, нет записки.
— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в
переплет запихают, разбойники!..
— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.
— Ну, то-то же!
Вот мы и начали читать Вальтера Скотта и в какой-
нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и
еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец,
я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы
выйти за китайского принца.
Так было дело, когда один раз мне случилось по-
встречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка
за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела,
и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о ба-
бушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги
прочли?» Я отвечала: «Прочла». — «Что же, говорит,
вам больше понравилось?» Я и говорю: «Ивангое да
Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и
кончилось.
- Через неделю я ему опять попалась на лестнице.
В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо
было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время
3 Ф. М. Достоевский, т. 2
33
домой приходил. «Здравствуйте!» — говорит. Я ему:
«Здравствуйте!»
— А что,— говорит,— вам не скучно целый день си-
деть вместе с бабушкой?
Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, по-
краснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно
оттого, что уж другие про это дело расспрашивать
стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не
было.
— Послушайте,— говорит,— вы добрая девушка!
Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я
вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг
нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?
Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька,
да и та в Псков уехала.
— Послушайте,— говорит,— хотите со мною в
театр поехать?
— В театр? как же бабушка-то?
— Да вы,— говорит,— тихонько от бабушки...
— Нет,— говорю,— я бабушку обманывать не хочу.
Прощайте-с!
— Ну, прощайте,— говорит, а сам ничего не сказал.
Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго
говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает
ли куда-нибудь, есть ли знакомые — да вдруг и говорит:
«А сегодня я было ложу взял в оперу; «Севильского
цирюльника» дают; знакомые ехать хотели, да потом
отказались, у меня и остался билет на руках».
— «Севильского цирюльника»! — закричала ба-
бушка,— да это тот самый цирюльник, которого в ста-
рину давали?
— Да,— говорит,— это тот самый цирюльник,— да
и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела,
и у меня сердце от ожидания запрыгало!
— Да как же,— говорит бабушка,— как не знать!
Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!
— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жи-
лец.— У меня билет пропадает же даром.
— Да, пожалуй, поедем,—говорит бабушка,— от-
чего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре
никогда не была.
34
Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались,
снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-
таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она
старушка добрая: больше меня потешить хотела,
сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было
впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не
скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо
смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас
увидела, что он меня хотел испытать поутру, предло-
жив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая!
Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце
билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю
ночь бредила о «Севильском цирюльнике».
Я думала, что после этого он все будет заходить
чаще и чаще,— не тут-то было. Он почти совсем пере-
стал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только
с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять по-
том съездили. Только уж этим я была совсем недо-
вольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за
то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ни-
чего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то
я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не ра-
ботаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло
делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела
и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел,
и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы
встречались — все на той же лестнице, разумеется,—
он так молча поклонится, так серьезно, как будто и го-
ворить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я
все еще стою на половине лестницы, красная, как
вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться
в голову, когда я с ним повстречаюсь.
Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце,
жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он
выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему
опять уехать на год в Москву. Я как услышала, поблед-
нела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего
не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откла-
нялся нам и ушел.
Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тоско-
вала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а
3*
35
я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка
уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все,
что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком
в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему
жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда
же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня
глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне
воды подать, потому что я едва стояла на ногах.
Сердце так билось, что в голове больно было, и разум
мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо
тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама
села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья.
Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной
бледный и так грустно глядел на меня, что во мне
сердце надорвало.
— Послушайте,— начал он,— послушайте, На-
стенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня
покамест нет ничего, даже места порядочного; как же
мы будем жить, если б я и женился на вас?
Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в ис-
ступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что
убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпи-
ливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву,
потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь,
и гордость — все разом говорило во мне, и я чуть
не в судорогах упала на постель. Я так боялась от-
каза!
Он несколько минут сидел молча, потом встал, подо-
шел ко мне и взял меня за руку.
— Послушайте, моя добрая, моя милая Настень-
ка! — начал он тоже сквозь слезы,— послушайте. Кля-
нусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии
жениться, то непременно вы составите мое счастие;
уверяю, теперь только одни вы можете составить мое
счастие. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно
год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и
если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем
счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не
вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если
через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непре-
менно будет; разумеется,— в том случае, если вы не
36
предпочтете мне другого, потому что связывать вас
каким-нибудь словом я не могу и не смею.
Вот что он сказал мне и назавтра уехал. Положено
было сообща бабушке не говорить об этом ни слова.
Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя
история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь
целые три дня и, и...
— И что же? — закричал я в нетерпении услышать
конец.
— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька,
как будто собираясь с силами,— ни слуху, ни духу...
Тут она остановилась, помолчала немного, опустила
голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что
во мне сердце перевернулось от этих рыданий.
Я никак не ожидал подобной развязки.
— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым го-
лосом,— Настенька! ради бога, не плачьте! Почему вы
знаете? может быть, его еще нет...
— Здесь, здесь! — подхватила Настенька.— Он
здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот
вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали все,
что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда
гулять, именно на эту набережную. Было десять часов;
мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне
было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал,
что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не от-
кажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь
он приехал, я это знаю, и его нет, нет!
И она снова ударилась в слезы.
— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь
горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершен-
ном отчаянии.— Скажите, Настенька, нельзя ли будет
хоть мне сходить к нему?..
— Разве это возможно? — сказала она, вдруг под-
няв голову.
— .Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватив-
шись.— А вот что: напишите письмо.
— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она
решительно, но уже потупив голову и не смотря на
меня.
— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я,
37
ухватившись за свою идею.— Но, знаете, Настенька,
какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька,
это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дур-
ного совета. Все это можно устроить. Вы же начали пер-
вый шаг — отчего же теперь...
— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...
— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не
скрывая улыбки,— нет же, нет; вы, наконец, вправе, по-
тому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он
человек деликатный, что он поступил хорошо,— про-
должал я все более и более восторгаясь от логичности
собственных доводов и убеждений,— он как поступил?.
Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком
не женится, кроме вас, если только женится; вам же он
оставил полную свободу хоть сейчас от него от-
казаться... В таком случае вы можете сделать первый
шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимуще-
ство, хотя бы, например, если б захотели развязать его
от данного слова...
— Послушайте, вы как бы написали?
— Что?
— Да это письмо.
— Я бы вот как написал: «Милостивый государь...»
— Это так непременно нужно — милостивый го-
сударь?
— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...
— Ну, ну! дальше!
— «Милостивый государь!
Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких
извинений! Тут самый факт все оправдывает, пишите
просто:
«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я
целый год была счастлива надеждой; виновата ли я,
что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь,
когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили
свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не
ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что
не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!
Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не по-
досадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что
их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни
38
научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не
умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите
меня, что в мою душу хотя на один миг закралось со-
мнение. Вы неспособны даже и мысленно обидеть ту,
которая вас так любила и любит».
— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала
Настенька, и радость засияла в глазах ее.— О! вы раз-
решили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благо-
дарю, благодарю вас!
— За что? за то, что меня бог послал? — отвечал я,
глядя в восторге на ее радостное личико.
— Да, хоть за то.
— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных
людей хоть за то, что они живут вместе с нами.
Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то,
что целый век мой буду вас помнить!
— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что,
слушайте-ка: тогда было условие, что как только при-
едет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит
мне письмо в одном месте у одних моих знакомых,
добрых и простых людей, которые ничего об этом не
знают; или если нельзя будет написать ко мне письма,
затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в
тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять
часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде
его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма,
ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. От-
дайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям,
о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если
будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять
часов.
— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо
написать! Так разве послезавтра все это будет.
— Письмо...— отвечала Настенька, немного смешав-
шись,— письмо... но...
Но она не договорила. Она сначала отвернула от
меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я по-
чувствовал в моей руке письмо, повидимому уже давно
написанное, совсем приготовленное и запечатанное.
Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание
пронеслось в моей голове.
39
— R,o — Ro, s,i — si, n,a — na,— начал я.
— Rosina! —запели мы оба, я, чуть не обнимая ее
от восторга, она, покраснев, как только могла по-
краснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жем-
чужинки, дрожали на ее черных ресницах.
— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! —
сказала она скороговоркой.— Вот вам письмо, вот и
адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до
завтра!
Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и
мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял
на месте, провожая ее глазами.
«До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове,
когда она скрылась из глаз моих.
НОЧЬ ТРЕТЬЯ
Сегодня был день печальный, дождливый, без про-
света, точно будущая старость моя. Меня теснят такие
странные мысли, такие темные ощущения, такие еще
не ясные для меня вопросы толпятся в моей голове —
а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне
разрешить все это!
Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы про-
щались, облака стали заволакивать небо и подымался
туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не
отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее
этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет
ее счастия.
— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала
она, — я не приду.
Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя,
а между тем не пришла.
Вчера было наше третье свидание, паша третья
белая ночь...
Однако как радость и счастие делают человека
прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется,
хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь,
чтоб все было весело, все смеялось. И как заразительна
эта радость! Вчера в ее словах было столько неги,
40
столько доброты ко мне в сердце... Как она ухаживала
за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила
мое сердце! О, сколько кокетства от счастия! А я...
Я принимал все за чистую монету; я думал, что она...
Но, боже мой, как же мог я это думать? как же мог
я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое;
когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота,
ее любовь... да, любовь ко мне,— была не что иное, как
радость о скором свидании с другим, желание навязать
и мне свое счастие?.. Когда он не пришел, когда мы про-
ждали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела
и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не
так легки, игривы и веселы. И, странное дело,— она
удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно
желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что
сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так
оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла, на-
конец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной
любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувст-
вуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосре-
доточивается...
Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался
свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь
ощущать, не предчувствовал, что. все это не так кон-
чится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ
был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее
зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала
она всему хохотала, всякому слову моему смеялась.
Я начал было говорить и умолк.
— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она,—
так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?
— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.
— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня.
Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить,
приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой
милый!
Тут сна так сжала мою руку, что я чуть не закричал.
Она засмеялась.
— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту
очень серьезно.— Да вас бог мне послал! Ну, что бы со
мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой
41
вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я
выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем
как братья. Я буду вас любить почти так, как его...
Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение;
однакож что-то похожее на смех зашевелилось в душе
моей.
— Вы в припадке,— сказал я,— вы трусите; вы
думаете, что он не придет.
— Бог с вами! — отвечала она,— если б я была
меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего
неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на
мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после,
а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да!
я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувст-
вую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про
чувства!..
В это время послышались шаги, и в темноте по-
казался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы
оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее
руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы
обманулись: это был не он.
— Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? —
сказала она, подавая мне ее опять.— Ну, что же? мы
встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы лю-
бим друг друга.
— Как мы любим друг друга! — закричал я.
«О Настенька, Настенька! — подумал я,— как этим
словом ты много сказала! От этакой любви, Настенька,
в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на
душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь.
Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастли-
вый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рас-
сердиться!..»
Наконец, сердце мое переполнилось.
— Послушайте, Настенька! — закричал я,— знаете
ли, что со мной было весь день?
— Ну, что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж
вы до сих пор все молчали!
— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все
ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых
людей, потом... потом я пришел домой и лег спать.
42
— Только-то? — перебила она засмеявшись.
— Да, почти только-то,—отвечал я скрепя сердце,
потому что в глазах моих уже накипали глупые
слезы.— Я проснулся за час до нашего свидания, но как
будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел,
чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня
остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство
должно было остаться с этого времени во мне навечно,
как будто одна минута должна была продолжаться
целую вечность и словно вся жизнь остановилась для
меня... Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то
музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде
слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался
мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души
моей, и только теперь...
— Ах, боже мой, боже мой! — перебила Настень-
ка,— как же это все так? Я не понимаю ни слова.
— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать
вам это странное впечатление...— начал я жалобным
голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя
весьма отдаленная.
— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила
она, и в один миг она догадалась, плутовка!
Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говор-
лива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку,
смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое сму-
щенное слово мое отзывалось в ней таким звонким,
таким долгим смехом... Я начинал сердиться, она вдруг
пустилась кокетничать.
— Послушайте,— начала она,— а ведь мне не-
множко досадно, что вы не влюбились в меня. Раз-
берите-ка после этого человека! Но все-таки, господин
непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то,
что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю,
какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.
— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? —
сказал я, когда мерный звук колокола загудел с от-
даленной городской башни. Она вдруг остановилась,
перестала смеяться и начала считать.
— Да, одиннадцать,— сказал она, наконец, робким,
нерешительным голосом.
43
Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил
считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне
стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое пре-
грешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его
отсутствия, подводить разные доводы, доказательства.
Никого нельзя было легче обмануть, как ее, в эту мину-
ту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслуши-
вает хоть какое бы то ни было утешение, и рад-рад,
коли есть хоть тень оправдания.
— Да и смешное дело,— начал я, все более и более
горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих
доказательств,— да и не мог он прийти; вы и меня
обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени
счет потерял... Вы только подумайте: он едва мог по-
лучить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим,
он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как
завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам
знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну,
его не было дома, когда пришло письмо, и он, может
быть, его и до сих пор не читал? Ведь все может
случиться.
— Да, да! — отвечала Настенька,— я и не по-
думала; конечно, все может случиться,— продолжала
она самым сговорчивым голосом, но в котором, как
досадный диссонанс, слышалась какая-то другая от-
даленная мысль.— Вот что вы сделайте,— продолжала
она,— вы идите завтра, как можно раньше, и если по-
лучите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь
знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой
адрес.
Потом она вдруг стала так нежна, так робка со
мною... Она, казалось, слушала внимательно, что я ей
говорил; но когда я обратился к ней с каким-то во-
просом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня
головку. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она
плакала.
— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя!
Какое ребячество!.. Полноте!
Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но под-
бородок ее дрожал и грудь все еще колыхалась.
— Я думаю об вас,— сказала она мне после минут-
44
ного молчания,— вы так добры, что я была бы камен-
ная, если б не чувствовала этого... Знаете ли, что мне
пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. За-
чем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже
вас,; хоть я и люблю его больше вас.
Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я
сказал что-нибудь.
— Конечно, я, может быть, не совсем еще его пони-
маю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда
боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как
будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смот-
рит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежно-
сти... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я,
помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его
как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и
неровня?
— Нет, Настенька, нет,— отвечал я,— это значит,
что вы его больше всего на свете любите, и гораздо
больше себя самой любите.
— Да, положим, что это так,— отвечала наивная
Настенька,— но знаете ли, что мне пришло теперь в
голову? Только я теперь не про него буду говорить, а
так вообще; мне уже давно все это приходило в голову.
Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с
братьями? Зачем самый лучший человек всегда как
будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем
прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли
знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то вся-
кий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на
самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чув-
ства, коли очень скоро выкажут их...
— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь
это происходит от многих причин,— перебил я, сам
более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои
чувства.
— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством.—
Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не
знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне
кажется, вы вот, например... хоть бы теперь... мне ка-
жется, вы чем-то для меня жертвуете,— прибавила она
робко, мельком взглянув на меня.— Вы меня простите,
45
если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь
мало еще видела на свете и, право, не умею иногда
говорить,— прибавила она голосом, дрожащим от
какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем
улыбнуться,— но мне только хотелось сказать вам, что
я благодарна, что я тоже все это чувствую... О, дай
вам бог за это счастия! Вот то, что вы мне насказали
тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть,
я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздорав-
ливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как вы
себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай
вам бог счастия с нею! А ей я ничего не желаю, по-
тому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама
женщина, и вы должны мне верить, если я вам так
говорю...
Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не
мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько
минут.
— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала
она, наконец, подняв голову.— Поздно!..
— Он придет завтра,— сказал я самым уверитель-
ным и твердым голосом.
— Да,— прибавила она, развеселившись.— Я сама
теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до
свидания! до завтра! Если будет дождь, я, может быть,
не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду,
что бы со мной ни было; будьте здесь непременно; я
хочу вас видеть, я вам все расскажу.
И потом, когда мы прощались, она подала мне руку
и сказала, ясно взглянув на меня:
— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?
О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком
я теперь одиночестве!
Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в ком-
нате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время.
Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в
их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не
взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома.
Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не
бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была
хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь...
46
Но до завтра, до завтра! Завтра она мне все рас-
скажет.
Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и
должно было быть. Они уже вместе...
НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Боже, как все это кончилось! Чем все это кончилось!
Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще
издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз,
облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я
подошел к ней.
— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя
свое волнение.
Она быстро обернулась ко мне.
— Ну! — сказала она,— ну! поскорее!
Я смотрел на нее в недоумении.
— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? —
повторила она, схватившись рукой за перила.
— Нет, у меня нет письма,— сказал я, наконец,—
разве он еще не был?
Она страшно побледнела и долгое время смотрела
на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.
— Ну, бог с ним! — проговорила она, наконец, пре-
рывающимся голосом,— бог с ним, если он так остав-
ляет меня.
Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня,
но не могла. Еще несколько минут она пересиливала
свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на
балюстраду набережной, и залилась слезами.
— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня
сил не достало продолжать, на нее глядя, да и что бы я
стал говорить?
— Не утешайте меня,— говорила она плача,— не
говорите про него, не говорите, что он придет, что он
не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как
он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было
в моем письме, в этом несчастном письме?..
Тут рыдания пересекли ее голос; у меня сердце раз-
рывалось, на нее глядя.
47
— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она
снова.— И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал,
что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни од-
ной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить,
обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и
виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти
три дня! Боже мой, боже мой! Как вспомню, что я при-
шла к нему в первый раз сама, что я перед ним уни-
жалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю
любви... И после этого!.. Послушайте,— заговорила
она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засвер-
кали,— да это не так! Это не может быть так; это не-
натурально! Или вы, или я обманулись; может быть,
он письма не получал? Может быть, он до сих пор ни-
чего не знает? Как же можно, судите сами, скажи-
те мне, ради бога, объясните мне — я этого не могу
понять,— как можно так варварски-грубо поступить,
как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к
последнему человеку на свете бывают сострадатель-
нее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть,
кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она,
обратившись ко мне с вопросом.— Как, как вы ду-
маете?
— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от
вашего имени.
— Ну!
— Я спрошу его обо всем, расскажу ему все.
— Ну, ну!
— Вы напишите письмо. Не говорите нет, На-
стенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш
поступок, он все узнает, и если...
— Нет, мой друг, нет,— перебила она.— Довольно!
Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строч-
ки— довольно! Я его не знаю, я не люблю его
больше, я его по...за...буду...
Она не договорила.
— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, На-
стенька,— сказал я, усаживая ее на скамейку.
— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы,
это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что
я утоплюсь?..
48
Сердце мое было полно; я хотел было заговорить,
но не мог.
— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за
руку,— скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бро-
сили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не
бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее сла-
бым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы
представили себе, что она была одна, что она не умела
усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от
любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не
виновата... что она ничего не сделала!.. О боже мой,
боже мой...
— Настенька! — закричал я, наконец, не будучи в
силах преодолеть свое волнение.— Настенька! вы тер-
заете, меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня,
Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, го-
ворить, высказать, что у меня накипело тут в сердце...
Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла
меня за руку и смотрела на меня в удивлении.
— Что с вами? — проговорила она, наконец.
— Слушайте! — сказал я решительно.— Слушайте
меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, все вздор,
все несбыточно, все глупо! Я знаю, что этого никогда не
может случиться, но не могу же я молчать. Именем
того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, про-
стите меня!..
— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать
и пристально смотря на меня, тогда как странное лю-
бопытство блистало в ее удивленных глазках,— что с
вами?
— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот
что! Ну, теперь все сказано! — сказал я, махнув ру-
кой.— Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить
со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец,
слушать то, что я буду вам говорить...
— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька,—
что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите,
но только мне все казалось, что вы меня так, просто,
как-нибудь любите... Ах боже мой, боже мой!
— Сначала было просто, Настенька, а теперь,
теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли
4 Ф. М. Достоевский, т. 2 49
к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, На-
стенька, потому что он тогда никого не любил, а вы
любите.
— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем
не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не
зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже!
я говорю глупости! Но вы...
И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее
вспыхнули; она опустила глаза.
— Что же делать, Настенька, что ж мне делать! я
виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не вино-
ват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что
мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас
ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг
ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот
у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут,
пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут,
Настенька...
— Да сядьте же, сядьте,— сказал она, сажая меня
на скамейку,— ох, боже мой!
— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу
быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я все
скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы ни-
когда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою
тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту,
моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы
сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем ви-
новаты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня
от себя...
— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — гово-
рила Настенька, скрывая, как только могла, свое сму-
щение, бедненькая.
— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бе-
жать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала,
потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть,
когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну
оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас
отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я по-
чувствовал, я услышал, что в моем сердце столько
любви для вас. Настенька, столько любви!.. И мне
стало так горько, что я не могу помочь вам этой лю-
50
бовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог мол-
чать, я должен был говорить, Настенька, я должен был
говорить!..
— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! —
сказала Настенька с неизъяснимым движением.—
Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю,
но... говорите! я вам после скажу! я вам все рас-
скажу!
— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль
меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало!
уж что сказано, того не воротишь! Не так ли? Ну,
так вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправле-
ния. Ну, хорошо! теперь все это прекрасно; только по-
слушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя ду-
мал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что
(ну, уж, конечно, этого не может быть, Настенька),
я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну,
совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж
больше его не любите. Тогда — я это и вчера и тре-
тьего дня уже думал, Настенька,— тогда я бы сделал
так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня по-
любили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, На-
стенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну,
что ж дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел ска-
зать; остается только сказать, что бы тогда было, если б
вы меня полюбили, только это, больше ничего! По-
слушайте же, друг мой,— потому что вы все-таки мой
друг,— я, конечно, человек простой, бедный, такой не-
значительный, только не в том дело (я как-то все не
про то говорю, это от смущения, Настенька), а только
я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и лю-
били его и продолжали любить того, которого я не
знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-
нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали,
вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле
вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее
сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что
вы со мной сделали!..
— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали,—
сказала Настенька, быстро вставая со скамейки,— пой-
демте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не
4*
51
плачьте,— говорила она, утирая мои слезы своим плат-
ком,— ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу
что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль
он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас
обманывать)... но, послушайте, отвечайте мне. Если б
я, например, вас полюбила, то есть если б я только...
Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю,
что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей
любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюби-
лись!.. О боже! да как же я этого не предвидела, как я
не предвидела, как я была так глупа, но... ну, ну, я ре-
шилась, я все скажу...
— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от
вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас те-
перь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я
не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я,
конечно, виноват, Настенька, но прощайте!
— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?
— Чего ждать, как?
— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти,
это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем
знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я
его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся,
тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому-то
вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите,
а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю
сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же
ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слы-
шали,— потому люблю, что вы лучше его, потому, что
вы благороднее его, потому, потому, что он...
Волнение бедняжки было так сильно, что она не до-
кончила, положила свою голову мне на плечо, потом на
грудь, и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но
она не могла перестать; она все жала мне руку и гово-
рила между рыданьями: «Подождите, подождите; вот
я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте,
чтоб эти слезы — это так, от слабости, подождите, пока
пройдет...» Наконец, она перестала, отерла слезы, и мы
снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще
все просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец,
она собралась с духом и начала говорить...
52
— Вот что,— начала она слабым и дрожащим го-
лосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что
вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем,—
не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не ду-
майте, что я могу так легко и скоро позабыть и изме-
нить... Я целый год его любила и богом клянусь, что ни-
когда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он
презрел это; он насмеялся надо мною,— бог с ним! Но
он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю
его, потому что я могу любить только то, что велико-
душно, что понимает меня, что благородно; потому что
я сама такова, и он недостоин меня — ну, бог с ним!
Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в
своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, кончено!
Но почем знать, добрый друг мой,— продолжала она,
пожимая мне руку,— почем знать, может быть, и вся
любовь моя была обман чувств, воображения, может
быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я
была под надзором у бабушки? Может быть, я должна
любить другого, а не его, не такого человека, другого,
который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим
это,— перебила Настенька, задыхаясь от волнения,—
я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать,
что если, несмотря на то, что я люблю его (нет, любила
его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы
чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, на-
конец, вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы
захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите
меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без
надежды, если вы захотите любить меня всегда, как те-
перь меня любите, то клянусь, что благодарность... что
любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви...
Возьмете ли вы теперь мою руку?
— Настенька,— закричал я, задыхаясь от рыда-
ний,— Настенька!.. О Настенька!..
— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно
довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя,—
ну, теперь уже все сказано; не правда ли? так? Ну,
и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом
больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-
нибудь другом, ради бога!..
53
— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я
счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом,
поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...
И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плака-
ли, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то
ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пу-
скались переходить через улицу; потом останавливались
и опять переходили на набережную; мы были как дети...
— Я теперь живу один, Настенька,— заговаривал
я,— а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, бе-
ден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...
— Разумеется, нет, а у бабушки пенсион; так она
нас не стеснит. Нужно взять бабушку.
— Конечно, нужно взять бабушку... Только вот
Матрена...
— Ах, да и у нас тоже Фекла!
— Матрена добрая, только один недостаток: у ней
пет воображения, Настенька, совершенно никакого во-
ображения; но это ничего!..
— Все равно; они обе могут быть вместе; только вы
завтра к нам переезжайте.
— Как это? к вам! Хорошо, я готов...
— Да, вы наймите у нас. У нас, там, наверху, мезо-
нин; он пустой; жилица была, старушка, дворянка, она
съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека
пустить; я говорю: ‘«Зачем же молодого человека?»
А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не по-
думай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосва-
тать». Я и догадалась, что это для того...
— Ах, Настенька!..
И оба мы засмеялись.
— Ну, полноте же, полноте. А где вы живете? я и
забыла.
— Там у —ского моста, в доме Баранникова.
— Это такой большой дом?
— Да, такой большой дом.
— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете,
бросьте его и переезжайте к нам поскорее...
— Завтра же, Настенька, завтра же; я там не-
множко должен за квартиру, да это ничего... Я получу
скоро жалованье...
54
— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама
выучусь и буду давать уроки...
— Ну вот и прекрасно... а я скоро награждение
получу, Настенька...
— Так вот вы завтра и будете мой жилец...
— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника»,
потому что его теперь опять дадут скоро.
— Да, поедем,— сказала, смеясь, Настенька,— нет,
лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-ни-
будь другое...
— Ну, хорошо, что-нибудь другое; конечно, это бу-
дет лучше, а то я не подумал...
Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, ту-
мане, как будто сами не знали, что с нами делается.
То останавливались и долго разговаривали на одном
месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает
куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг
захочет домой, я не смею удерживать и захочу прово-
дить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг
через четверть часа находим себя на набережной у на-
шей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка на-
бежит на глаза; я оробею, похолодею... Но она тут же
жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать,
говорить...
— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень
поздно,— сказала, наконец, Настенька,— полно нам
так ребячиться!
— -Да, Настенька, только уж я теперь не засну;
я домой не пойду.
— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите
меня...
— Непременно!
— Но уж теперь мы непременно дойдем до квар-
тиры.
— Непременно, непременно...
— Честное слово?., потому что ведь нужно же ко-
гда-нибудь воротиться домой!
— Честное слово,— отвечал я смеясь...
— Ну, пойдемте!
'— Пойдемте.
•— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите!
55
Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, ка-
кая луна! Посмотрите: вот это желтое облако, теперь
застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло
мимо. Смотрите же, смотрите!..
Но Настенька не смотрела на облако, она стояла
молча как вкопанная; через минуту она стала как-то
робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала
в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня
еще сильнее.
В эту минуту мимо нас прошел молодой человек.
Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и
потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне
задрожало...
— Настенька,— сказал я вполголоса,— кто это, На-
стенька?
— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе,
еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на
ногах.
— Настенька! Настенька! это ты! — послышался
голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сде-
лал к нам несколько шагов...
Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вы-
рвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!..
Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва по-
дала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг
снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как
ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться,
обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо
поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бро-
силась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его
за собою.
Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец, оба они
исчезли из глаз моих.
УТРО
Мои ночи кончились утром. День был нехороший.
Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке
было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела
и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим
членам.
56
— Письмо к тебе, батюшка, по городской почте поч-
тарь принес,— проговорила надо мною Матрена.
— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со
стула.
— А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и
написано от кого.
Я сломал печать. Это от нее!
«О, простите, простите меня! — писала мне На-
стенька,— на коленях умоляю вас, простите меня! Я об-
манула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла
за вас сегодня; простите, простите меня!..
Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изме-
нилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и
теперь вас люблю, больше чем люблю. О боже! если б
я могла любить вас обоих разом! О, если б вы
были он!»
«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове.
Я вспомнил твои же слова, Настенька!
«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала!
Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но
вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду.
А вы меня любите!
Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. По-
тому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий
сон, который долго помнишь после пробуждения; по-
тому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так
братски открыли мне свое сердце и так великодушно
приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять,
вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас
будет возвышена во мне вечным, благодарным чув-
ством к вам, которое никогда не изгладится из души
моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не из-
меню ей, не изменю своему сердцу: оно слишком по-
стоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому,
которому принадлежало навеки.
Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оста-
вите, вы будете вечно другом, братом моим... И когда
вы увидите меня, вы подадите мне руку... да? вы пода-
дите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы меня
любите попрежнему?
О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я
57
вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна
любви вашей, потому что я заслужу ее... друг мой ми-
лый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воро-
тился влюбленный, он никогда не забывал обо мне...
Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я
хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не
правда ли?..
Простите нас, помните и любите вашу
Настеньку».
Я долго перечитывал это письмо; слезы просились
из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я
закрыл лицо.
— Касатик! а касатик! — начала Матрена.
— Что, старуха?
— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть
женись, гостей созывай, так в ту ж пору...
Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая,
молодая старуха, но не знаю отчего, вдруг она предста-
вилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на
лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг
представилось, что комната моя постарела так же, как
и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело;
паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда
я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший
напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь,
что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась,
что карнизы почернели и растрескались и стены из тем-
ножелтого яркого цвета стали пегие...
Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи,
опять спрятался под дождевое облако, и все опять по-
тускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною
мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива
моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь,
ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же
комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая
нисколько не поумнела за все эти годы.
Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я на-
гнал темное облако на твое ясное, безмятежное сча-
стие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое
сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его
58
тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял
хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела
в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к ал-
тарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо,
да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да
будешь ты благословенна за минуту блаженства и сча-
стия, которое ты дала другому, одинокому, благодар-
ному сердцу!
Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве
этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..
НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА
I
Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было
два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это
второе замужество принесло ей много горя, хотя и
было сделано по любви. Мой отчим был музыкант.
Судьба его очень замечательна: это был самый стран-
ный, самый чудесный человек из всех, которых я знала.
Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях
моего детства, так сильно, что эти впечатления имели
влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был по-
нятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Все,
что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от зна-
менитого скрипача Б., который был товарищем и ко-
ротким приятелем моего отчима в своей молодости.
Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился
в селе очень богатого помещика, от одного бедного му-
зыканта, который после долгих странствований посе-
лился в имении этого помещика и нанялся в его ор-
кестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до
страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он,
никогда не выезжавший из своей деревни даже в Мо-
скву, однажды вдруг решился поехать за границу на
какие-то воды, и поехал не более как на несколько не-
дель, единственно для того, чтоб услышать какого-то
знаменитого скрипача, который, как уведомляли га-
60
зеты, собирался дать на водах три концерта. У него
был порядочный оркестр музыкантов, на который он
тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой от-
чим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два
года, когда он познакомился с одним странным челове-
ком. В этом же уезде жил богатый граф, который ра-
зорился на содержание домашнего театра. Этот граф
отказал от должности капельмейстеру своего оркестра,
родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер
был действительно дурной человек. Когда его выгнали,
он совершенно унизился, стал ходить по деревенским
трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже
никто в целой губернии не хотел дать ему места.
С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь эта
была необъяснимая и странная, потому что никто не
замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в
своем поведении из подражания товарищу, и даже сам
помещик, который сначала запрещал ему водиться с
итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их
дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно.
Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Наря-
дили следствие, и вышло, что он умер от апоплексиче-
ского удара. Имущество его сохранялось у отчима, ко-
торый тотчас же и представил доказательства, что имел
полное право наследовать этим имуществом: покойник
оставил собственноручную записку, в которой делал
Ефимова своим наследником в случае своей смерти.
Наследство состояло из черного фрака, тщательно сбе-
регавшегося покойником, который все еще надеялся
достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной
с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только
спустя несколько времени к помещику явился первый
скрипач графского оркестра с письмом от графа.
В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова про-
дать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую
граф очень желал приобресть для своего оркестра. Он
предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже не-
сколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб по-
кончить торг лично, но что тот упорно отказывался.
Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что
он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит для
61
себя обидное подозрение воспользоваться при торге его
простотою и незнанием, а потому и просил вразу-
мить его.
Помещик немедленно послал за отчимом.
— Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? —
спросил он его,— она тебе не нужна. Тебе дают три
тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь нера-
зумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя
не станет обманывать.
Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но
если его пошлют, то на это будет воля господская:
графу он скрипку не продаст, а если у него захотят
взять ее насильно, то на это опять будет воля господ-
ская.
Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой
чувствительной струны в характере помещика. Дело в
том, что тот всегда с гордостию говорил, что знает, как
обращаться со своими музыкантами, потому что все они
до одного истинные артисты и что благодаря им его
оркестр не только лучше графского, но и не хуже сто-
личного.
— Хорошо! — отвечал помещик,— я уведомлю
графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что
ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать
или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю:
зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты
и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи.
(Кто знал, что это такой инструмент!)
Ефимов усмехнулся.
— Нет, сударь, я вам ее не продам,— отвечал он,—
конечно, ваша воля...
— Да разве я тебя притесняю, разве я тебя при-
нуждаю! — закричал помещик, выведенный из себя, тем
более что дело происходило при графском музыканте,
который мог заключить по этой сцене очень невыгодно
об участи всех музыкантов помещичьего оркестра.—
Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал
с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларне-
том, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты
сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благо-
родной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать
62
и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня
своим присутствием!
Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, по-
тому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за
что бы он не захотел поступить слишком строго с «ар-
тистом», как он называл своих музыкантов.
Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончи-
лось, как вдруг, через месяц, графский скрипач затеял
ужасное дело: под своею ответственностью он подал
на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим
виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыст-
ною целью: овладеть богатым наследством. Он доказы-
вал, что завещание было выманено насильно, и обе-
щался представить свидетелей своему обвинению. Ни
просьбы, ни увещания графа и помещика, вступивше-
гося за моего отчима, ничто не могло поколебать до-
носчика в его намерении. Ему представляли, что меди-
цинское следствие над телом покойного капельмейстера
было сделано правильно, что доносчик идет против оче-
видности, может быть, по личной злобе и по досаде, не
успев овладеть драгоценным инструментом, который
для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился,
что он прав, доказывал, что апоплексический удар про-
изошел не от пьянства, а от отравы, и требовал след-
ствия в другой раз. С первого взгляда доказательства
его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход.
Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Нача-
лось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно
пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант
был уличен в ложном доносе. Его приговорили к спра-
ведливому наказанию, но он до конца стоял на своем
и уверял, что он прав. Наконец, он сознался, что не
имеет никаких доказательств, что доказательства, им
представленные, выдуманы им самим, но что, выдумы-
вая все это, он действовал по предположению, по до-
гадке, потому что до сей поры, когда уже было произ-
ведено другое следствие, когда уже формально была
доказана невинность Ефимова, он все еще остается в
полном убеждении, что причиною смерти несчастного
капельмейстера был Ефимов,, хотя, может быть, он
уморил его не отравой, а другим каким-нибудь, обра-
63
зом. Но над ним не успели исполнить приговора: он
внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и
умер в тюремном лазарете.
В продолжение всего этого дела помещик вел себя
самым благородным образом. Он старался о моем от-
чиме так, как будто тот был его родной сын. Несколько
раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил
ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что
Ефимов любил курить, и когда отчим оправдался, за-
дал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на
дело Ефимова, как на дело, касающееся всего оркестра,
потому что хорошим поведением своих музыкантов он
дорожил если не более, то по крайней мере наравне с
их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по гу-
бернии разнесся слух, что в губернский город приехал
какой-то известный скрипач, француз, и намерен дать
мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же
начал стараться каким-нибудь образом залучить его к
себе в гости. Дело шло на лад; француз обещался при-
ехать. Уже все было готово к его приезду, позван был
почти целый уезд, но вдруг все приняло другой оборот.
В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неиз-
вестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Ор-
кестр был в чрезвычайном положении: недоставало
кларнета, как вдруг, дня три спустя после исчезнове-
ния Ефимова, помещик получает от француза письмо,
в котором тот надменно отказывался от приглашения,
прибавляя, конечно обиняками, что впредь будет чрез-
вычайно осторожен в сношениях с теми господами, ко-
торые держат собственный оркестр музыкантов, что
неэстетично видеть истинный талант под управлением
человека, который не знает ему цены, и что, наконец,
пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скри-
пача, которого он только встречал в России, служит
достаточным доказательством справедливости слов его.
Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изум-
лении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефи-
мов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился,
которому он так благодетельствовал, этот Ефимов
так беспощадно, бессовестно оклеветал его в гла-
зах европейского артиста, такого человека, мнением
64
которого он высоко дорожил! И, наконец, письмо было
необъяснимо в другом отношении: уведомляли, что
Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач,
но что не умели угадать его таланта и принуждали его
заниматься другим инструментом. Все это так пора-
зило помещика, что он немедленно собрался ехать в
город для свидания с французом, как вдруг получил
записку от графа, в которой тот приглашал его немед-
ленно к себе и уведомлял, что ему известно все дело,
что заезжий виртуоз теперь у него, вместе с Ефимовым,
что он, будучи изумлен, дерзостью и клеветой послед-
него, приказал задержать его и что, наконец, присут-
ствие помещика необходимо и потому еще, что обви-
нение Ефимова касается даже самого графа; дело это
очень важно, и нужно его разъяснить как можно
скорее.
Помещик, немедленно отправившись к графу, тот-
час же познакомился с французом и объяснил всю
историю моего отчима, прибавив, что он не подозревал
в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был
у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он
только в первый раз слышит, будто оставивший его му-
зыкант — скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов чело-
век вольный, пользовался полною свободою и всегда,
во всякое время, мог бы оставить его, если б действи-
тельно был притеснен. Француз был в удивлении. По-
звали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел
себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в
справедливости того, что успел наговорить французу.
Все это до крайности раздражило графа, который
прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник
и достоин самого постыдного наказания.
— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже до-
вольно с вами знаком и знаю вас хорошо,— отвечал
мой отчим,— по вашей милости я едва ушел от уго-
ловного наказания. Знаю, по чьему наущенью Алексей
Никифорыч, ваш бывший музыкант, донес на меня.
Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужас-
ное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но слу-
чившийся в зале чиновник, который заехал к графу по
делу, объявил, что он не может оставить всего этого без
5 Ф. М. Достоевский, т. 2
65
последствий, что обидная грубость Ефимова заключает
в себе злое, несправедливое обвинение, клевету, и он
покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же,
в графском доме. Француз изъявил полное негодование
и сказал, что не понимает такой черной неблагодар-
ности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что
лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие,
чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя
в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его
раньше, за своею крайнею бедностью, и с этими сло-
вами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его
заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что
завтра же отправят его в город.
Около полуночи отворилась дверь в комнату аре-
станта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и
держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не
мог заснуть, и мучительная забота заставила его в та-
кой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумле-
нием взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и
в глубоком волнении сел против него на стул.
— Егор,— сказал он ему,— за что ты так обидел
меня?
Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос,
и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска
звучала в словах его.
— А бог знает за что я так обидел вас, сударь! —
отвечал, наконец, мой отчим, махнув рукою,— знать,
бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это
наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам
дьявол привязался ко мне!
— Егор! — начал снова помещик,— воротись ко
мне; я все позабуду, все тебе прощу. Слушай: ты бу-
дешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в
пример другим жалованье...
— Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас!
Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас
дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая
тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться!
Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, су-
дарь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол
побратался со мною...
,66
— Кто? — спросил помещик.
— А вот, что издох, как собака, от которой свет от-
ступился, итальянец.
— Это он тебя, Егорушка, играть выучил?
— Да! Многому он меня научил на мою погибель.
Лучше б мне никогда его не видать.
— Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?
— Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам вы-
учился; он только показывал,— и легче, чтоб у меня
рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего
хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь?
все могу тебе дать»,— а я, сударь, ведь ни слова вам в
ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу. Нет,
уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз го-
ворю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб
меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с
концом!
— Егор! — сказал помещик после минутного молча-
ния,— я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить
у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя
я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне
что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога,
сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя
не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Его-
рушка, ради бога, то, что ты французу играл! Отведи
душу! Ты упрям, и я упрям; знать у меня тоже свой
норов, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты,
как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь
того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.
— Ну, быть так! — сказал Ефимов.— Дал я, сударь,
зарок никогда перед вами не играть, именно перед
вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам,
но только в первый и последний раз, и больше, сударь,
вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу
рублей мне посулили.
Тут он взял скрипку и начал играть свои вариации
на русские песни. Б. говорил, что эти вариации — его
первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он ни-
когда ничего не играл так хорошо и с таким вдохно-
вением. Помещик, который и без того не мог равно-
душно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра
б* 67
кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей,
подал их моему отчиму и сказал:
— Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и
сам все улажу с графом; но слушай: больше уж ты со
мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая,
и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет
обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой совет
тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись;
не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной
сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и
чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много
будет!) —пиши пропало, все к бесу пойдет, и, может,
сам где-нибудь, во рву, как твой итальянец, издохнешь.
Ну, теперь прощай!.. Постой, поцелуй меня!
Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел
на свободу.
ч Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал
тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои
триста рублей, побратавшись в то же время с самой чер-
ной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем,
что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вы-
нужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродя-
чего провинциального театра в качестве первой и, может
быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласо-
валось с его первоначальными намерениями, которые
состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург
учиться, достать себе хорошее место и вполне образо-
вать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не
сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером
странствующего театра и оставил его. Тогда он совер-
шенно упал духом и даже решился на отчаянную меру,
глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо
к известному нам помещику, изобразил ему свое поло-
жение и просил денег. Письмо было написано довольно
независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он
написал другое, в котором, в самых унизительных выра-
жениях, называя помещика своим благодетелем и вели-
чая его титулом настоящего ценителя искусств, просил
его опять о вспоможении. Наконец, ответ пришел. Поме-
щик прислал сто рублей и несколько строк, писанных
рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб
68
впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти
деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург,
но, по расплате долгов, денег оказалось так мало, что о
путешествии нельзя было и думать. Он снова остался
в провинции, опять поступил в какой-то провинциаль-
ный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя
таким образом с одного места на другое, с вечной идеей
попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, про-
был в провинции целые шесть лет. Наконец, какой-то
ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько
потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспоря-
дочною, нищенскою жизнию, и в одно утро он бросил
своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Пе-
тербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то
на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который
только что приехал из Германии и тоже замышлял со-
ставить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с
глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом
знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми на-
деждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще
был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты
и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стре-
мился к своей цели упрямо, систематически, с совершен-
ным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее,
что из него выйдет,— тогда как товарищу его было уже
тридцать лет, тогда .как уже он устал, утомился, поте-
рял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил
своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба
бродяжничать по провинциальным театрам и по оркест-
рам помещиков. Его поддерживала только одна вечная,
неподвижная идея — выбиться, наконец, из скверного
положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но
эта идея была темная, неясная; это был какой-то неот-
разимый внутренний призыв, который, наконец, с годами
потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова,
и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти
бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке
вечного желания и обдумывания этого путешествия и
почти уже сам не зная, что придется ему делать в сто-
лице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желч-
ный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя
69
этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не
иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдох-
новение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного,
методического Б.; он был ослеплен и приветствовал
моего отчима как будущего великого музыкального
гения. Иначе он не мог и представить себе будущую
судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и
разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта
порывчатость, горячка и нетерпение — не что иное, как
бессознательное отчаяние при воспоминании о пропав-
шем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может
быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что
много было ослепления, напрасной самоуверенности,
первоначального самоудовлетворения и беспрерывной
фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении.
«Но,— рассказывал Б.,— я не мог не удивляться
странной натуре моего товарища. Передо мной со-
вершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба су-
дорожно напряженной воли и внутреннего бессилия.
Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся
одними мечтами о будущей славе своей, что даже не
заметил, как потерял самое первоначальное в нашем
искусстве, как утратил даже самый первоначальный
механизм дела. А между тем в его беспорядочном
воображении поминутно создавались самые ко-
лоссальные планы для будущего. Мало того, что он
хотел быть первоклассным гением, одним из первых
скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя
таким гением,— он, сверх того, думал еще сделаться
композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего
более изумляло меня,— прибавлял Б.,— то, что в этом
человеке, при его полном бессилии, при самых ничтож-
ных познаниях в технике искусства, было такое глу-
бокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное по-
нимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и
понимал про себя, что не диво, если заблудился в собст-
венном сознании о самом себе и принял себя, вместо
глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца
самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на
своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки,
говорить мне такие глубокие истины, что я становился
70
в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это
все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учив-
шись, и я много обязан ему,— прибавлял Б.,— ему и его
советам в собственном усовершенствовании. Что же
касается до меня,— продолжал Б.,— то я был спокоен
насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искус-
ство, хотя знал при самОхМ начале моего пути, что боль-
шего мне не дано, что я буду, в собственном смысле,
чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не
зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от
природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хва-
лят мою отчетливость в игре, удивляются выработан-
ности механизма, то всем этим я обязан беспрерывному,
неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добро-
вольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчи-
вости, к раннему самоудовлетворению и к лени, как
естественному следствию этого самоудовлетворения».
Б. в свою очередь попробовал поделиться советами
со своим товарищем, которому так подчинился в самом
начале, но только напрасно сердил его. Между ними по-
следовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товари-
щем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия,
тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся
реже и реже и что за всем этим последовало какое-то
мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал остав-
лять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по
целым неделям. До совершенного падения было неда-
леко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего
предостерегал его помещик, то и случилось: он предался
неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него;
советы его не подействовали, да и, кроме того, он боялся
выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до
самого крайнего цинизма: он нисколько не совестился
жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на
то полное право. Между тем средства к жизни истоща-
лись; Б. кое-как перебивался уроками или нанимался
играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чи-
новников, которые, хотя понемногу, но что-нибудь пла-
тили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды
своего товарища: он обращался с ним сурово и по
целым неделям не удостоив ал его ни одним словом.
71
Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что
не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей
скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента;
тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он на-
рочно не дотронется никогда до своей скрипки, как
будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его
о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ,
чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефи-
мова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он
с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач
и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное
искусство, играя перед подлыми ремесленниками, кото-
рые ничего не поймут в его игре и таланте. Б. не ответил
на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом при-
глашении в отсутствие своего товарища, который ушел
играть, вообразил, что все это было только намеком на
то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб
он тоже попробовал заработывать деньги. Когда
Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за под-
лость его поступка и объявил, что не останется более с
ним ни минуты. Он действительно исчез куда-то на два
дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало,
и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.
Только прежняя свычка и дружба да еще сострада-
ние, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удер-
живали его от намерения кончить такое безобразное
житье и расстаться навсегда со своим товарищем. Нако-
нец, они расстались. Б. улыбнулось счастье: он приоб,-
рел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать
блестящий концерт. В это время он уже был превосход-
ный артист, и скоро его быстро возрастающая извест-
ность доставила ему место в оркестре оперного театра,
где он так скоро составил себе, вполне заслуженный
успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами
умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь
не может вспомнить об нем без особенного чувства..
Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких
впечатлений его молодости. Вместе они начали свое по-
прище, так горячо привязались друг к другу, и даже са-
мая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефи-
мова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал
72
его; он видел его насквозь и предузнавал, чем все это
кончится. При расставанье они обнялись и оба запла-
кали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, прогово-
рил, что он погибший, несчастнейший человек, что он
давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою
гибель.
— У меня нет таланта! — заключил он, побледнев
как мертвый.
Б. был сильно тронут.
— Послушай, Егор Петрович, — говорил он ему,—
что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя
своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества.
Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет
таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том
уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уже по одному тому,
как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я до-
кажу тебе и всею твоею жизнию. Ты же рассказывал
мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бес-
сознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учи-
тель, этот странный человек, о котором ты мне так
много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь
к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно
и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувст-
ствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается.
Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал,
чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком
рано. Он оставил тебя только с одними неясными
стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же
самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая до-
рога, более широкая, что тебе суждены другие цели,
но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей
возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои
шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты
учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы, ты по-
нимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой,
нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее
моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай бог
тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей,
как говорил тебе твой добрый помещик, а главное —
начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность,
нищета? Но бедность и нищета образуют художника.
73
Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен
теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет.
Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть
дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего
глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту
нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты
увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть не-
много достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с
презрением смотреть на то, что в тебе выработалось
тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными но-
чами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие
товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо
и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую
ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у
тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наруж-
ным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как
праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-
нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто
некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую нич-
тожность, и тогда беда — ты будешь один, а их много;
они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это
испытывать. Ободрись же теперь! Ты еще совсем не
так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной ра-
ботой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бед-
нйх ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим
нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хит-
ришь, слишком много думаешь, много даешь работы
своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда
придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе
мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не
надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть
жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет,
все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае,
потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше
авось — дело великое!
Ефимов слушал своего бывшего товарища с глу-
боким чувством. Но по мере того как он говорил, блед-
ность сходила со щек его; они оживились румянцем;
глаза его сверкали непривычным огнем смелости и на-
дежды. Скоро эта благородная смелость перешла в са-
моуверенность, потом в обычную дерзость и, наконец,
74
когда Б. оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал
его рассеянно и с нетерпением. Однакож он горячо сжал
ему руку, поблагодарил его и, скорый в своих переходах
от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней
надменности и дерзости, объявил самонадеянно, чтоб
друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как
устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать
себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазо-
вет себе и славу и деньги. Б. пожал плечами, но не про-
тиворечил своему бывшему товарищу, и они расстались,
хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил
данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, по-
том в третий, потом в четвертый, потом в десятый, нако-
нец Б. потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор
он потерял его совсем из виду.
Прошло несколько лет. Один раз Б., возвращаясь с
репетиции домой, наткнулся в одном переулке, у входа в
грязный трактир, на человека дурно одетого, хмельного,
который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень
изменился, пожелтел, отек в лице; видно было, что бес-
путная жизнь положила на него свое клеймо неизглади-
мым образом. Б. обрадовался чрезвычайно и, не успев
перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир,
куда тот потащил его. Там, в отдаленной, маленькой,
закопченной комнате, он разглядел поближе своего то-
варища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах;
растрепанная манишка его была вся залита вином.
Волосы на голове его начали седеть и вылезать.
— Что с тобою? Где ты теперь? — спрашивал Б.
Ефимов сконфузился, даже сробел сначала, отвечал
бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит
пред собою помешанного. Наконец, Ефимов признался,
что не может ничего говорить, если не дадут выпить
водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря
это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-
то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выделан-
ное, назойливое, так что все было очень жалко и возбу-
дило сострадание в добром Б., который увидел, что опа-
сение его сбылось вполне. Однакож он приказал подать
водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и
до того потерялся, что со слезами на глазах готов был
75
целовать руки своего благодетеля. За обедом Б. узнал
с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но
еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена
составила все его несчастие и горе и что женитьба
убила вполне весь талант его.
— Как так? — спросил Б.
— Я, брат, уже два года, как не беру в руки скрип-
ку,— отвечал Ефимов.— Баба, кухарка, необразован-
ная, грубая женщина. Чтоб ее!.. Только деремся,
больше ничего не делаем.
— Да зачем же ты женился, коли так?
— Есть было нечего. Я познакомился с ней; у ней
было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она
же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто
ее наталкивал! Деньги прожиты, пропиты, братец, и —
какой тут талант! Все пропало!
Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то
перед ним оправдаться.
— Все бросил, все бросил,— прибавил он. Тут он
ему объявил, что в последнее время почти достиг совер-
шенства на скрипке, что, пожалуй, хотя Б. и из первых
скрипачей в городе, а ему и в подметки не станет, если
он захочет того.
— Так за чем же дело стало? — сказал удивленный
Б.,— ты бы искал себе места?
— Не стоит! — сказал Ефимов, махнув рукою.—
Кто из вас там хоть что-нибудь понимает! Что вы
знаете? Шиш, ничего, вот что вы знаете! Плясовую
какую-нибудь в балетце каком прогудеть — ваше дело.
Скрипачей-то вы хороших и не видали и не слыхали.
Чего вас трогать; оставайтесь себе, как хотите!
Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на
стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал
звать к себе Б.; но тот отказался, взял его адрес и уве-
рил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который те-
перь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего
бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уко-
лоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу
Б. и подал ее, как низший высшему. Проходя мимо
первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б.
трактирщикам и публике как первую и единственную
76
скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрез-
вычайно грязен в эту минуту.
Б., однакож, отыскал его на другое утро, на чердаке,
где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной
комнате. Мне было тогда четыре года, и уже два года
тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была
несчастная женщина. Прежде она была гувернантка,
была прекрасно образована, хороша собой и, по бед-
ности, вышла замуж за старика чиновника, моего отца.
Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер
скоропостижно и скудное наследство было разделено
между его наследниками, матушка осталась одна со
мною, с ничтожною суммою денег, которая досталась на
ее долю. Идти в гувернантки опять, с малолетним ребен-
ком на руках, было трудно. В это время, каким-то слу-.
чайным образом, она встретилась с Ефимовым и дей-
ствительно влюбилась в него. Она была энтузиастка,
мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения,
поверила его заносчивым словам о блестящей будущ-
ности; воображению ее льстила славная участь быть
опорой, руководительницей гениального человека, и она
вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все
ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая
действительность. Ефимов, который действительно же-
нился, может быть, из-за того, что у матушки моей была
какая-нибудь тысяча рублей денег, как только они были
прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу,
немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгу-
била его талант, что ему нельзя было работать в душ-
ной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что
тут не пойдут на ум песни да музыка и что, наконец,
видно, ему на роду написано было такое несчастие. Ка-
жется, он и сам потом уверился в справедливости своих
жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Ка-
залось, этот несчастный, погибший талант сам искал
внешнего случая, на который бы можно было свалить
все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной
мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искус-
ства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезнен-
ным кошмаром, с этим ужасным убеждением и, нако-
нец, когда действительность одолевала его, когда мину-
77
тами открывались его глаза, он чувствовал, что готов
был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разуве-
риться в том, что так долго составляло всю жизнь его,
и до последней минуты своей думал, что минута еще не
ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое
своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец,
он, может быть, сам не знал, как необходима была ему
жена в это время. Это была живая отговорка, и дейст-
вительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что,
когда он схоронит жену, которая погубила его, все пой-
дет своим чередом. Бедная матушка не понимала его.
Как настоящая мечтательница, она не вынесла и пер-
вого шага в враждебной действительности: она сдела-
лась вспыльчива, желчна, бранчива, поминутно ссори-
лась с мужем, который находил какое-то наслаждение
мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но
ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сума-
сбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчув-
ственным. Он только смеялся и поклялся не брать в
руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с
жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой
смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что,
не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно
больною, вечно страждущею, жила в беспрерывных тер-
заниях, и, кроме всего этого горя, на нее одну пала вся
забота о пропитании семейства. Она начала готовить
кушанье и сначала открыла у себя стол для приходя-
щих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она
принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую
посуду тем, для которых работала. Когда Б. посетил
нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием
старого платья. Таким образом, мы все кое-как переби-
вались на нашем чердаке.
Нищета нашего семейства поразила Б.
— Послушай, вздор ты все говоришь,— сказал ои
отчиму,— где тут убитый талант? Она же тебя кормит,
а ты что тут делаешь?
— А ничего! — отвечал отчим.
Но Б. еще не знал всех бедствий матушки. Муж ча-
сто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорван-
цов и буянов, и тогда чего не было!
78
Б. долго убеждал своего прежнего товарища; нако-
нец, объявил ему, что если он не захочет исправиться, то
пи в чем ему не поможет; сказал без околичностей, что
денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил,
наконец, сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб
посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же
отчим пошел за скрипкой, Б. потихоньку стал давать
денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей
приходилось принимать подаяние! Тогда Б. отдал их
мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес
скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без
этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и
расходился.
— Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного,
по дружбе,— сказал он Б. и вытащил толстую, запылен-
ную тетрадь из-под комода.
— Все это я сам написал,— сказал он, указывая на
тетрадь.— Вот ты увидишь! Это, брат, не ваши балетцы!
Б. молча просмотрел несколько страниц; потом раз-
вернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима,
оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-
нибудь из того, что он сам принес.
Отчим немного обиделся, однакож, боясь потерять
повое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б.
увидел, что прежний товарищ его действительно много
занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хва-
лился, что уже с самой женитьбы не берет в руки ин-
струмента. Надобно было видеть радость моей бедной
матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им.
Искренно обрадовавшись, добрый Б. решился при-
строить отчима. Он уже тогда имел большие связи и не-
медленно стал просить и рекомендовать своего бедного
товарища, взяв с него предварительное слово, что он
будет вести себя хорошо. А покамест он одел его по-
лучше, на свой счет, и повел к некоторым известным ли-
цам, от которых зависело то место, которое он хотел до-
стать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только
на словах, но, кажется, с величайшею радостью принял
предложение своего старого друга. Б. рассказывал, что
ему становилось стыдно за всю лесть и за все унижен-
ное поклонение, которыми отчим старался его задобрить,
79
боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он
понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже
перестал пить. Наконец, ему приискали место в ор-
кестре театра. Он выдержал испытание хорошо, по-
тому что в один месяц прилежания и труда воротил все,
что потерял в полтора года бездействия, обещал и
впредь заниматься и быть исправным и точным в своих
новых обязанностях. Но положение нашего семейства
совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни ко-
пейки из жалованья, все проживал сам, пропивал и про-
едал с новыми приятелями, которых тотчас же завел
целый кружок. Он водился преимущественно с теат-
ральными служителями, хористами, фигурантами, од-
ним словом, с таким народом, между которым мог пер-
венствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он
успел им внушить к себе какое-то особенное уважение,
тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек,
что он с великим талантом, что его сгубила жена и что,
наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке.
Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором
пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми
авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толко-
вать какую-то новую теорию музыки, словом, надоел
всему оркестру, перессорился с товарищами, с капель-
мейстером, грубил начальству, приобрел репутацию
самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем
самого ничтожного человека и довел до того, что стал
для всех невыносимым.
И действительно, было чрезвычайно странно видеть,
что такой незначительный человек, такой дурной, беспо-
лезный исполнитель и нерадивый музыкант в то же
время с такими огромными претензиями, с такою хваст-
ливостью, чванством, с таким резким тоном.
Кончилось тем, что отчим поссорился с Б., выдумал
самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пус-
тил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из
оркестра после полугодовой беспорядочной службы за
нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое
поведение. Но он не покинул так скоро своего места.
Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что
порядочное платье все было снова продано и заложено.
80
Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады или
не рады были они такому гостю, разносил сплетни, бол-
тал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к
себе глядеть злодейку-жену его. Конечно, нашлись
слушатели, нашлись такие люди, которые находили
удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставлять
его болтать всякий вздор. К тому же он говорил
всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкою
желчью и разными циническими выходками, которые
нравились известного рода слушателям. Его принимали
за какого-то сумасбродного шута, которого иногда
приятно заставить болтать от безделья. Любили драз-
нить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезжем
скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел,
разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и
тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется,
только с этих пор началось его настоящее системати-
ческое помешательство — его неподвижная идея о том,
что он первейший скрипач, по крайней мере в Петер-
бурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным
интригам не понят и находится в неизвестности. Послед-
нее даже льстило ему, потому что есть такие характеры,
которые очень любят считать себя обиженными и угне-
тенными, жаловаться на это вслух или утешать себя
втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию.
Всех петербургских скрипачей он знал наперечет и, по
своим понятиям, ни в ком из них не находил себе сопер-
ника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного
сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь
известном, талантливом скрипаче, чтоб заставить его
говорить в свою очередь. Они любили его злость, его
едкие замечания, любили дельные и умные вещи, кото-
рые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперни-
ков. Часто не понимали его, ио зато были уверены, что
никто в свете не умеет- так ловко и в такой бойкой
карикатуре изобразить современные музыкальные зна-
менитости. Даже эти самые артисты, над которыми он
так насмехался, немного боялись его, потому что знали
его едкость, сознавались в дельности нападок его и в
справедливости его суждения в том случае, когда нужно
было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах
6 Ф. М. Достоевский, т. 2
81
театра и за кулисами. Служители пропускали его бес-
препятственно, как необходимое лицо, и он сделался
каким-то домашним Ферситом. Такое житье продолжа-
лось года два или три; но, наконец, он наскучил всем
даже и в этой последней роли. Последовало формаль-
ное изгнание, и в последние два года своей жизни отчим
как будто в воду канул, и его уже нигде не видали.
Впрочем, Б. встретил его два раза, но в таком жалком
виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над от-
вращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал
вид, будто ничего не слыхал, нахлобучил на глаза свою
старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец,
в какой-то большой праздник Б. доложили поутру, что
пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефи-
мов. Б. вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, на-
чал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги,
что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в
комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дес-
кать, нам, бесталанным людям, водиться с такою
знатью, как вы; что для нас, маленьких людей, до-
вольно и лакейского места, чтоб с праздником по-
здравить: поклонимся и уйдем отсюда. Одним сло-
вом, все было сально, глупо и отвратительно гадко.
С этих пор Б. очень долго не видал его, ровно до самой
катастрофы, которою разрешилась вся эта печальная,
болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страш-
ным образом. Эта катастрофа тесно связана не только
с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со
всею моею жизнью. Вот каким образом случилась она...
Но прежде я должна объяснить, что такое было мое
детство и что такое был для меня этот человек, который
так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и
который был причиною смерти моей бедной матушки.
II
Я начала себя помнить очень поздно, только с девя-
того года. Не знаю, каким образом все, что было со
мною до этого возраста, не оставило во мне никакого
ясного впечатления, о котором бы я могла теперь
82
вспомнить. Но с половины девятого года я помню все
отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто все, что
ни было потом, случилось не далее как вчера. Правда,
я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше:
всегда затепленную лампаду в темном углу, у ста-
ринного образа; потом, как меня однажды сшибла на
улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я
пролежала больная три месяца; еще, как во время этой
болезни, ночью проснулась я подле матушки, с которою
лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болезнен-
ных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу
мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под
одеяло, но не смея будить матушку, из чего и заключаю,
что ее я боялась больше всякого страха. Но с той ми-
нуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась
быстро, неожиданно, и много совершенно недетских
впечатлений стали для меня как-то страшно доступны.
Все прояснилось передо мной, все чрезвычайно скоро
становилось понятным. Время, с которого я начинаю
себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и груст-
ное впечатление; это впечатление повторялось потом
каждый день и росло с каждым днем; оно набросило
темный и странный колорит на все время житья моего у
родителей, а вместе с тем — и на все мое детство.
Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто
от глубокого сна (хотя тогда это, разумеется, не было
для меня так поразительно). Я очутилась в большой
комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены
были окрашены грязновато-серою краскою; в углу
стояла огромная русская печь; окна выходили на улицу,
или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома,
и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники
приходились так высоко от полу, что я помню, как мне
нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже
кое-как добираться до окна, на котором я любила си-
деть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры
было видно полгорода; мы жили под самой кровлей,
в шестиэтажном, огромнейшем доме. Вся наша мебель
состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего
в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев,
матушкиной постели, шкафика с чем-то в углу, комода,
6*
83
который всегда стоял, покачнувшись набок, и разодран-
ных бумажных ширм.
Помню, что были сумерки; все было в беспорядке и
разбросано: щетки, какие-то тряпки, наша деревянная
посуда, разбитая бутылка и не знаю что-то такое еще.
Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и
отчего-то плакала. Отчим сидел в углу, в своем все-
гдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с
усмешкой, что рассердило ее еще более, и тогда опять
полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закри-
чала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном ис-
пуге и крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его
собою. Бог знает отчего показалось мне, что матушка
на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хо-
телось просить за него прощения, вынесть за него какое
угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и пред-
полагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала
изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за
ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но
испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась.
Помню еще, что матушка начала что-то горько и го-
рячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и вперед
в этом рассказе называть его отцом, потому что уже го-
раздо после узнала, что он мне не родной). Вся эта
сцена продолжалась часа два, и я, дрожа от ожидания,
старалась всеми силами угадать, чем все это кончится.
Наконец, ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут
батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове,
посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к
груди его. Это была, может быть, первая ласка роди-
тельская; может быть, оттого-то и я начала все так от-
четливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что
заслужила милость отца за то, что за него заступилась,
и тут, кажется в первый раз, меня поразила идея, что
он много терпит и выносит горя от матушки. С тех пор
эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем
все более и более возмущала меня.
С этой минуты началась во мне какая-то безгранич-
ная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе
не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то
сострадательное, материнское чувство, если б такое оп-
84
ределение любви моей не было немного смешно для
дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до
того терпящим гонения, до того задавленным, до того
страдальцем, что для меня было страшным, неестествен-
ным делом не любить его без памяти, не утешать его, не
ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами.
Но до сих пор не понимаю, почему именно могло войти
мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой
несчастный человек в мире! Кто мне внушил это? Каким
образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его
личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав,
переделав все в моем воображении по-своему; но до сих
пор не могу представить себе, каким образом состави-
лось во мне такое впечатление. Может быть, матушка
была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу,
как к существу, которое, по моему мнению, страдает
вместе со мной, заодно.
Я уже рассказала первое пробуждение мое от мла-
денческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце
мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижи-
мою, утомляющею быстротой началось мое развитие.
Я уже не могла довольствоваться одними внешними
впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблю-
дать; но это наблюдение произошло так неестественно
рано, что воображение мое не могло не переделывать
всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особен-
ном мире. Все вокруг меня стало походить на ту вол-
шебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и
которую я не могла не принять в то время за чистую
истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо
узнала,— но не знаю, как это сделалось,— что живу в
странном семействе и что родители мои как-то вовсе не
похожи на тех людей, которых мне случалось встречать
в это время. «Отчего,— думала я,— отчего я вижу дру-
гих людей, как-то и с виду не похожих на моих родите-
лей? отчего я замечала смех на других лицах и отчего
меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не
смеются, никогда не радуются?» Какая сила, какая при-
чина заставила меня, девятилетнего ребенка, так при-
лежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово
тех людей, которых мне случалось встречать или на
85
нашей лестнице, или на улице, когда я по вечеру, при-
крыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой,
шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько
грошей сахару, чаю или хлеба. Я поняла, и уж не помню
как, что в нашем углу — какое-то вечное, нестерпимое
горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так,
и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему: я
обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца,
и опять говорю: не понимаю, как такое чудовищное по-
нятие могло составиться в моем воображении. И на-
сколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела
мою бедную мать. До сих пор воспоминание обо всем
этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой слу-
чай, который еще более, чем первый, способствовал
моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом
часу вечера, матушка послала меня в лавочку за дрож-
жами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала
на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была
о том, как рассердится матушка. Между тем я чувство-
вала ужасную боль в левой руке и не могла встать.
Кругом меня остановились прохожие; какая-то ста-
рушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик,
пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. На-
конец, меня поставили на ноги, я подобрала черепки
разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая
ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе перед
богатым домом, который был против нашего. Этот дом
принадлежал каким-то знатным людям и был велико-
лепно освещен; у крыльца съехалось множество карет,
и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила
батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую
чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к
матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за
меня. Но почему я была уверена, кто подсказал мне,
кто научил меня, что он меня любит более, чем ма-
тушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял
меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет
мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ни-
чего не могла видеть, потому что он схватил меня за
ушибленную руку и мне стало ужасно больно; но я не
закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу
86
ли я что-нибудь? Я всеми силами старалась отвечать в
угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы.
Когда же он хотел перенести меня на другую сторону
улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала
я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх к
матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки
батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех,
кого я так хотела любить,— ласкает и любит меня и что
к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти
совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню,
что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала
на меня лихорадку. Однакож я была как-то особенно
счастлива тем, что все так благополучно кончилось, и
всю эту ночь мне снился соседний дом с красными за-
навесами.
И вот, когда я проснулась на другой день, первою
мыслию, первою заботою моею был дом с красными за-
навесами. Только что матушка вышла со двора, я вска-
рабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже
давно этот дом поразил мое детское любопытство. Осо-
бенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на
улице зажигались огни и когда начинали блестеть ка-
ким-то кровавым, особенным блеском красные, как
пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещен-
ного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые
экипажи на прекрасных, гордых лошадях, и все завле-
кало мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и
разноцветные фонари карет, и разряженные женщины,
которые приезжали в них. Все это в моем детском
воображении принимало вид чего-то царственно-пыш-
ного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи
с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое
чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном во-
ображении начали рождаться какие-то чудные понятия
и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких
странных людей, как отец и мать, я сама сделалась
таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то
особенно поражал контраст их характеров. Меня пора-
жало, например, то, что матушка вечно заботилась и
хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала
отца, что опа одна за всех труженица, и я невольно
87
задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не
помогает ей, почему же он как будто чужой живет в
нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об
этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что ба-
тюшка артист (это слово я удержала в памяти), что
батюшка человек с талантом, и в моем воображении
тотчас же сложилось понятие, что артист какой-то осо-
бенный человек, не похожий на других людей. Может
быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль;
может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло
из моей памяти; но как-то странно понятен был для
меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при
мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были,
что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда
он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец,
он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я
сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла
оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени
и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зары-
дала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об
этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием
отца,— фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да
я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и
должна была непременно остановиться на каком-ни-
будь предположении. И вот,— не знаю, как началось
это все сначала,— но под конец я остановилась на том,
что, когда умрет матушка, батюшка оставит эту скуч-
ную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но
куда? — я до ’ самого последнего времени не могла
себе ясно представить. Помню только, что все, чем
я могла украсить то место, куда мы пойдем с ним
(а я непременно решила, что мы пойдем вместе), все,
что только могло создаться блестящего, пышного и
великолепного в моей фантазии,— все было приведено
в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы
тотчас же станем богаты; я не буду ходить на по-
сылках в лавочку, что было очень тяжело для меня,
потому что меня всегда обижали дети соседнего дома,
когда я выходила из дому, и этого я ужасно боялась,
особенно когда несла молоко или масло, зная, что если
пролью, то с меня строго взыщется; потом я порешила,
88
мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее
платье, что мы поселимся в блестящем доме, и вот
теперь — этот богатый дом с красными занавесами и
встреча возле него с батюшкою, который хотел мне что-
то показать в нем, пришли на помощь моему вообра-
жению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы
переселимся именно в этот дом и будем в нем жить
в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве.
С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопыт-
ством смотрела из окна на этот волшебный для меня
дом, припоминала съезд, припоминала гостей таких на-
рядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились
эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон; я всмат-
ривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон,
и все старалась угадать, что такое там делается,— и все
казалось мне, что там рай и всегдашний праздник.
Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в ко-
торых сама ходила, и когда однажды матушка закри-
чала на меня и приказала сойти с окна, на которое я
забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на
ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот
дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше
счастие, что она хочет помешать ему в этот раз... Це-
лый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на
матушку.
И как могла родиться во мне такая ожесточенность
к такому вечно страдавшему существу, как матушка?
Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и
без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице.
Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в
эпоху такого неестественного развития моей первой
жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жало-
сти,— и тревога, смущение и сомнение западали в мою
душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто,
с мучением и страданием, я чувствовала несправедли-
вость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг
друга, и не помню, чтоб я хоть раз приласкалась
к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания
язвят и потрясают мою душу. Раз, помню (конечно,
что я расскажу теперь, ничтожно, мелочно, грубо, но
именно такие воспоминания как-то особенно терзают
89
меня и мучительнее всего напечатлелись в моей
памяти),— раз в один вечер, когда отца не было дома,
матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю
и сахару. Но она все раздумывала и все не решалась
и вслух считала медные деньги,— жалкую сумму, ко-
торою могла располагать. Она считала, я думаю, с пол-
часа и все не могла окончить расчетов. К тому же в
иные минуты, вероятно от горя, она впадала в какое-то
бессмыслие. Как теперь помню, она все что-то приго-
варивала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя
слова ненарочно; губы и щеки ее были бледны, руки
всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда
рассуждала наедине.
— Нет, не нужно,— сказала она, поглядев на
меня,— я лучше спать лягу. А? хочешь ты спать,
Неточна?
Я молчала; тут она приподняла мою голову и по-
смотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее про-
яснело и озарилось такою материнскою улыбкой, что
все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же
она меня назвала Неточной, что значило, что в эту ми-
нуту она особенно любит меня. Это название она изо-
брела сама, любовно переделав мое имя, Анна, в умень-
шительное Неточна, и когда она называла меня так, то
значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тро-
нута; мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и запла-
кать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня по-
том по голове,— может быть, уже машинально и поза-
быв, что ласкает меня, и все приговаривала: «Дитя мое,
Аннета, Неточна!» Слезы рвались из глаз моих, но я
крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не
выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучи-
лась. Да, это не могло быть естественным ожесточением
во мне. Она не могла так возбудить меня против себя
единственно только строгостью своею со мною. Нет!
Меня испортила фантастическая, исключительная лю-
бовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам, в
углу, на своей коротенькой подстилке, под холодным
одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно.
Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда
я была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше
9Э
боялась проснуться ночью; стоило только прижаться к
ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее — и тотчас,
бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не
могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что
и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны,
и если полюбят кого, то любят исключительно. Так
было и со мною.
Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на
целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я
жила между ними попрежнему, все молча, все думая,
все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. При-
глядываясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные
отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную
вражду их, поняла все это горе и весь этот чад беспоря-
дочной жизни, которая угнездилась в нашем углу,—
конечно, поняла без причин и следствий, поняла на-
столько, насколько понять могла. Бывало, в длинные
зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по це-
лым часам жадно следила за ними, всматривалась в
лицо отца и все старалась догадаться, о чем он думает,
что так занимает его. Потом меня поражала и пугала
матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед
по комнате по целым часам, часто даже и ночью, во
время бессонницы, которою мучилась, ходила что-то
шепча про себя, как будто была одна в комнате, то раз-
водя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая
их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда
слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она
часто и сама, может быть, не понимала, потому что по
временам впадала в забытье. У ней была какая-то очень
трудная болезнь, которою она совершенно прене-
брегала.
Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее стано-
вилось мое одиночество и молчание, которого я не
смела прервать. Уже целый год жила я сознательною
жизнию, все думая, мечтая и мучась потихоньку неве-
домыми, неясными стремлениями, которые зарожда-
лись вмиг. Я дичала, как будто в лесу. Наконец, ба-
тюшка первый заметил меня, подозвал к себе и спро-
сил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню,
что я ему отвечала: помню, что он об чем-то задумался
91
и, наконец, сказал, поглядев на меня, что завтра же
принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетер-
пением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь,
неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на дру-
гой день, отец действительно начал учить меня. Поняв
с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро
и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было
самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда
он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и
целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга.
Мало-помалу отец полюбил меня; я уже осмеливалась
заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые
часы, не уставая, хотя я иногда не понимала ни слова из
того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боя-
лась, чтоб он не подумал, что мне с ним скучно, и
потому всеми силами старалась показать ему, что все
понимаю. Сидеть со мною по вечерам обратилось у него,
наконец, в привычку. Как только начинало смеркаться
и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему
с. азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и
после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего
не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить
ему этим большое удовольствие. Действительно, я зани-
мала его, и ему было весело смотреть на мой смех.
В это же время он однажды после урока начал мне
рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую
мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная,
горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась
в какой-то край, слушая его, и к концу рассказа была
в полном восторге. Не то чтоб так действовала на меня
сказка,— нет, но я все брала за истину, тут же давала
волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с
вымыслом действительность. Тотчас являлся в вообра-
жении моем и дом с красными занавесами; тут же, неиз-
вестно каким образом, являлся как действующее лицо
и- отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и
матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда,—
наконец, или, лучше сказать, прежде всего, я, с своими
чудными мечтами, с своей фантастической головой, пол-
ной дикими, невозможными призраками,— все это до
того перемешивалось в уме моем, что вскоре составило
92
самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла
всякий такт, всякое чувство настоящего, действитель-
ного и жила бог знает где. В это время я умирала от не-
терпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас
впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет
меня вместе с собою, когда мы оставим, наконец, наш
чердак. Я была уверена, с своей стороны, что все это
как-то скоро совершится, но как и в каком виде все это
будет — не знала и только мучила себя, ломая над этим
голову. Порой — и случалось это особенно по вечерам —
мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне
украдкой, вызовет меня в сени; я мимоходом, потихонь-
ку от матушки, захвачу свою азбуку и еще нашу кар-
тину, какую-то дрянную литографию, которая с неза-
памятных времен висела без рамки на стене и которую
я решила непременно взять с собою, и мы куда-нибудь
убежим потихоньку, так что уж никогда более не воро-
тимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не
было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно
весел,— а это случалось с ним, когда он чуть-чуть
выпьет вина,— подошла к нему и заговорила о чем-то
в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную
тему. Наконец, я добилась, что он засмеялся, и я,
крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испу-
гавшись, как будто приготовлялась говорить о чем-то
таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь
на каждом шагу, расспрашивать его: куда мы пойдем,
скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить и, на-
конец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?
— Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты
бредишь, глупая?
Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему
объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не
будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет
меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла
его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя
его, я была совершенно уверена, что действительно
отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере мне
это так казалось.
— Мать? Умерла? Когда умрет мать? — повторял
он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые
93
с проседью брови и немного изменившись в лице.—
Что ты это говоришь, бедная, глупая...
Тут он начал бранить меня и долго говорил мне, что
я глупый ребенок, что я ничего не понимаю... и не
помню, что еще, но только он был очень огорчен.
Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла,
как больно было ему, что я вслушалась в его слова,
сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила
их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был
тогда, как ни было сильно его собственное сумасброд-
ство, но все это, естественно, должно было поразить его.
Однакож, хоть я совсем не понимала, за что он сердит,
мне стало ужасно горько и грустно; я заплакала; мне
показалось, что все, нас ожидавшее, было так важно,
что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать
об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого
слова, однако почувствовала, хотя и темным образом,
что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и
сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я
плачу и мучусь, начал утешать меня, отер мне рукавом
слезы и велел мне не плакать. Однако мы оба проси-
дели несколько времени молча; он нахмурился и, каза-
лось, о чем-то раздумывал; потом снова начал мне го-
ворить; но как я ни напрягала внимание, все, что он
ни говорил, казалось мне чрезвычайно неясным. По не-
которым словам этого разговора, которые я до сих пор
упомнила, заключаю, что он объяснял мне, кто он
такой, какой он великий артист, как его никто не пони-
мает и что он человек с большим талантом. Помню
еще, что, спросив, поняла ли я, и, разумеется, получив
ответ удовлетворительный, он заставил меня повторить:
с талантом ли он? Я отвечала: «с талантом», на что он
слегка усмехнулся, потому что, может быть, к концу
ему самому стало смешно, что он заговорил о таком
серьезном для него предмете со мною. Разговор наш
прервал своим приходом Карл Федорыч, и я засмеялась
и развеселилась совсем, когда батюшка, указав на него,
сказал мне:
— А вот так у Карла Федорыча нет ни на копейку
таланта.
Этот Карл Федорыч был презанимательное лицо.
94
Я так мало видела людей в ту пору моей жизни, что
никак не могла позабыть его. Как теперь представляю
его себе: он был немец, по фамилии Мейер, родом из
Германии, и приехал в Россию с чрезвычайным жела-
нием поступить в петербургскую балетную труппу. Но
танцор он был очень плохой, так что его даже не могли
принять в фигуранты и употребляли в театре для выхо-
дов. Он играл разные безмолвные роли в свите Фортин-
браса или был один из тех рыцарей Вероны, которые
все разом, в числе двадцати человек, поднимают кверху
картонные кинжалы и кричат: «Умрем за короля!» Но
уж, верно, не. было ни одного актера на свете, так стра-
стно преданного своим ролям, как этот Карл Федорыч.
Самым же страшным несчастием и горем всей его
жизни было то, что он не попал в балет. Балетное
искусство он ставил выше всякого искусства на свете
и в своем роде был столько же привязан к нему, как
батюшка к скрипке. Они сошлись с батюшкой, когда
еще служили в театре, и с тех пор отставной фигурант
не оставлял его. Оба виделись очень часто, и оба опла-
кивали свой пагубный жребий и то, что они не узнаны
людьми. Немец был самый чувствительный, самый неж-
ный человек в мире и питал к моему отчиму самую
пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, ка-
жется, не имел к нему никакой особенной привязанно-
сти и только терпел его в числе знакомых, за неиме-
нием кого другого. Сверх того, батюшка никак не мог
понять в своей исключительности, что балетное искус-
ство — тоже искусство, чем обижал бедного немца до
слез. Зная его слабую струнку, он всегда задевал ее
и смеялся над несчастным Карлом Федорычем. когда
тот горячился и выходил из себя, доказывая против-
ное. Многое я слышала потом об этом Карле Федорыче
от Б., который называл его нюренбергским щелкуном.
Б. рассказал очень многое о дружбе его с отцом; между
прочим, они не раз сходились вместе и, выпив немного,
начинали вместе плакать о своей судьбе, о том, что они
не узнаны. Я помню эти сходки, помню тоже, что и я,
смотря на обоих чудаков, тоже, бывало, расхныкаюсь,
сама не зная о чем. Это случалось всегда, когда ма-
тушки не бывало дома: немец ужасно боялся ее и
95
всегда, бывало, постоит наперед в сенях, дождется, по-
камест кто-нибудь выйдет, а если узнает, что матушка
дома, тотчас же побежит вниз по лестнице. Он всегда
приносил с собой какие-то немецкие стихи, воспламе-
нялся, читая их вслух нам обоим, и потом декламировал
их, переводя ломаным языком по-русски для нашего
уразумения. Это очень веселило батюшку, а я, бывало,
хохотала до слез. Но раз они оба достали какое-то рус-
ское сочинение, которое чрезвычайно воспламенило их
обоих, так что потом они уже почти всегда, сходясь вме-
сте, читали его. Помню, что это была драма в стихах
какого-то знаменитого русского сочинителя. Я так хо-
рошо затвердила первые строки этой книги, что потом,
уже через несколько лет, когда она случайно попалась
мне в руки, узнала ее без труда. В этой драме толкова-
лось о несчастиях одного великого художника, какого-
то Дженаро или Джакобо, который на одной странице
кричал: «Я не признан!», а на другой: «Я признан!»,
или: «Я бесталантен!», и потом, через несколько строк:
«Я с талантом!» Все оканчивалось очень плачевно. Эта
драма была, конечно, чрезвычайно пошлое сочинение;
но вот чудо — она самым наивным и трагическим об-
разом действовала на обоих читателей, которые нахо-
дили в главном герое много сходства с собою. Помню,
что Карл Федорыч иногда до того воспламенялся, что
вскакивал с места, отбегал в противоположный угол
комнаты и просил батюшку и меня,- которую называл
«мадмуазель», неотступно, убедительно, со слезами на
глазах, тут же, на месте, рассудить его с судьбой и с
публикой. Тут он немедленно принимался танцевать и,
выделывая разные па, кричал нам, чтоб мы ему немед-
ленно сказали, что он такое — артист или нет, и что
можно ли сказать противное, то есть что он без таланта?
Батюшка тотчас же развеселялся, мигал мне испод-
тишка, как будто предупреждая, что вот он сейчас пре-
забавно посмеется над немцем. Мне становилось
ужасно смешно, но батюшка грозил рукою, и я крепи-
лась, задыхаясь от смеху. Я даже и теперь, при одном
воспоминании, не могу не смеяться. Как теперь вижу
этого бедного Карла Федорыча. Он был премаленького
роста, чрезвычайно тоненький,, уже седой, с горбатым
96
красным носом, запачканным табаком, и с преуродли-
выми кривыми ногами; но, несмотря на то, он как
будто хвалился устройством их и носил панталоны в
обтяжку. Когда он останавливался с последним прыж-
ком в позицию, простирая к нам руки и улыбаясь нам,
как улыбаются на сцене танцовщики по окончании па,
батюшка несколько мгновений хранил молчание, как
бы не решаясь произнести суждение, и нарочно остав-
лял непризнанного танцовщика в позиции, так что тот
колыхался из стороны в сторону на одной ноге, всеми
силами стараясь сохранить равновесие. Наконец, ба-
тюшка с пресерьезною миною взглядывал на меня, как
бы приглашая быть беспристрастною свидетельницей
суждения, а вместе с тем устремлялись на меня и роб-
кие, молящие взгляды танцовщика.
— Нет, Карл Федорыч, никак не потрафишь! — го-
ворил, наконец, батюшка, притворись, что ему самому
неприятно высказывать горькую истину. Тогда из груди
Карла Федорыча вырывалось настоящее стенание; но
вмиг он ободрялся, ускоренными жестами снова просил
внимания, уверял, что танцевал не по той системе, и
умолял нас рассудить еще раз. Потом он снова отбегал
в другой угол и иногда прыгал так усердно, что головой
касался потолка и больно ушибался, но, как спартанец,
геройски выдерживал боль, снова останавливался в
позитуре, снова с улыбкою простирал к нам дрожащие
руки и снова просил решения судьбы своей. Но батюшка
был неумолим и попрежнему угрюмо отвечал:
— Нет, Карл Федорыч, видно — судьба твоя: никак
не потрафишь!
Тут уж я более не выдерживала и покатывалась со
смеху, а за мною батюшка. Карл Федорыч замечал,
наконец, насмешку, краснел от негодования и со сле-
зами на глазах, с глубоким, хотя и комическим чув-
ством, но которое заставляло меня потом мучиться за
него, несчастного, говорил батюшке:
— Ты виролёмный друк!
Потом он схватывал шляпу и выбегал от нас, кля-
нясь всем на свете не приходить никогда. Но ссоры эти
были непродолжительны; через несколько дней он
снова являлся у нас, снова начиналось чтение знаме-
7 Ф. М. Достоевский, т. 2
97
нитой драмы, снова проливались слезы, и потом снова
наивный Карл Федорыч просил нас рассудить его с
людьми и с судьбою, только умоляя на этот раз уже
судить серьезно, как следует истинным друзьям, а не
смеяться над ним.
Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то
покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую се-
ребряную монету, которую мне сдали. Всходя на лест-
ницу, я повстречалась с отцом, который выходил со
двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать
своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поце-
ловать меня, заметил в моей руке серебряную монету...
Я позабыла сказать, что я так приучилась к выраже-
нию лица его, что тотчас же, с первого взгляда, узна-
вала почти всякое его желание. Когда он был грустен,
я разрывалась от тоски. Всего же чаще и сильнее ску-
чал он, когда у него совершенно не было денег и когда
он не мог поэтому выпить ни капли вина, к которому
сделал привычку. Но в эту минуту, когда я с ним по-
встречалась на лестнице, мне показалось, что в нем
происходит что-то особенное. Помутившиеся глаза его
блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда
он увидел в моих руках блеснувшую монету, то вдруг
покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб
взять у меня деньги, и тотчас же отдернул ее назад.
Очевидно, в нем происходила борьба. Наконец, он как
будто осилил себя, приказал мне идти наверх, сошел не-
сколько ступеней вниз, но вдруг остановился и тороп-
ливо кликнул меня.
Он был очень смущен.
— Послушай, Неточна,— сказал он,— дай мне эти
деньги, я тебе их назад принесу. А? ты ведь дашь их
папе? ты ведь добренькая, Неточна?
Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгно-
вение мысль о том, как рассердится матушка, ро-
бость и более всего инстинктивный стыд за себя и за
отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заме-
тил это и поспешно сказал:
— Ну, не нужно, не нужно!..
— Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла,
что у меня отняли соседские дети.
98
«— Ну, хорошо, хорошо; ведь я знал, что ты умная
девочка,— сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не
скрывая более своего восторга, когда почувствовал
деньги в руках.— Ты добрая девочка, ты ангельчик мой!
Вот дай тебе я ручку поцелую!
Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я
быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною,
и стыд все больше начинал меня мучить. Я побежала
наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простив-
шись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разго-
релись и сердце билось от какого-то томительного и
мне неведомого доселе ощущения. Однако я смело ска-
зала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их
сыскать. Я ожидала по крайней мере побой, но этого не
случилось. Матушка действительно была сначала вне
себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны.
Она закричала на меня, но тотчас же как будто одума-
лась и перестала бранить меня, заметив только, что я
неловкая, нерадивая девочка и что я, видно, мало
люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это за-
мечание огорчило меня более, нежели когда бы я вы-
несла побои. Но матушка уже знала меня. Она уже за-
метила мою чувствительность, доходившую часто до
болезненной раздражительности, и горькими упреками
в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить
быть осторожнее на будущее время.
В сумерки, когда должно было воротиться батюшке,
я, по обыкновению, дожидалась его в сенях. В этот раз
я была в большом смущении. Чувства мои были возму-
щены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Нако-
нец, отец воротился, и я очень обрадовалась его при-
ходу, как будто думала, что от этого мне станет легче.
Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же при-
нял таинственный, смущенный вид и, отведя меня в
угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кар-
мана купленный им пряник и начал шепотом наказы-
вать мне, чтоб я более никогда не смела брать денег и
таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень
нехорошо; теперь это сделалось потому, что деньги
очень понадобились папе, но он отдаст, и я могу сказать
потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно,
7*
99
и чтоб я вперед отнюдь и не думала, а он мне за это,
если я вперед буду слушаться, еще пряников купит; на-
конец, он даже прибавил, чтоб я пожалела маму, что
мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех
работает. Я слушала в страхе, дрожа всем телом, и
слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что
не могла слова сказать, не могла двинуться с места.
Наконец, он вошел в комнату, приказал мне не плакать
и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила,
что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я
в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца
и не подходила к нему. Он тоже, видимо, избегал моих
взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и
говорила что-то про себя, как бы в забытьи, по своему
обыкновению. В этот день ей было хуже и с ней сде-
лался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего стра-
дания у меня началась лихорадка. Когда настала ночь,
я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили
меня. Наконец, я не могла вынести и начала горько
плакать. Рыдания мои разбудили матушку; она оклик-
нула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но
еще горче заплакала. Тогда она засветила свечку, по-
дошла ко мне и начала меня успокоивать, думая, что я
испугалась чего-нибудь во сне. «Эх ты, глупенькая де-
вушка! — сказала она,— до сих пор еще плачешь, когда
тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же!..» И тут она
поцеловала меня, сказав, чтоб я шла спать к ней. Но
я не хотела, я не смела обнять ее и идти к ней. Я тер-
залась в невообразимых мучениях. Мне хотелось ей все
рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке
и о его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая,
Неточка! — сказала матушка, укладывая меня на по-
стель и укутывая своим старым салопом, ибо заметила,
что я вся дрожу в лихорадочном ознобе,— ты, верно,
будешь такая же больная, как я!» Тут она так грустно
посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда,
зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я за-
снула, но еще впросонках долго слышала, как бедная
матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда
еще я не выносила более тяжкой муки. Сердце у меня
стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало
100
легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчераш-
нем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень
приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и
сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же ка-
кая-то радость, какое-то почти детское довольство овла-
дело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла
со двора, и он уже более не удерживался. Он начал
меня целовать так, что я была в каком-то истерическом
восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец, он ска-
зал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что
я буду очень рада видеть, за то, что я такая умненькая
и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вы-
нул ключ, который у него висел на шее, на черном
снурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как
будто желая прочитать в глазах моих все удовольствие,
которое я, по его мнению, должна была ощущать, от-
ворил сундук и бережно вынул из него странной
формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у
него не видала. Он взял этот ящик с какою-то робостью
и весь изменился; смех исчез с лица его, которое вдруг
приняло какое-то торжественное выражение. Наконец,
он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из
него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не
видывала,— вещь, на взгляд очень странной формы.
Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал,
что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне
что-то много говорить тихим, торжественным голосом;
но я не понимала его и только удержала в памяти уже
известное мне выражение,— что он артист, что он с та-
лантом,— что потом он когда-нибудь будет играть на
скрипке и что, наконец, мы все будем богаты и до-
бьемся какого-то большого счастия. Слезы навернулись
на глазах его и потекли по щекам. Я была очень рас-
трогана. Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее по-
целовать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее
ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне
скрипку в руки; но я видела, как он весь дрожал от
страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла
скрипку в руки и дотронулась до струн, которые из-
дали слабый звук.
— Это музыка! — сказала я, поглядев на батюшку.
101
— Да, да, музыка! — повторил он, радостно поти-
рая руки,— ты умное дитя, ты доброе дитя! — Но, не-
смотря на похвалы и восторг его, я видела, что он
боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх,— я по-
скорей отдала ее. Скрипка с теми же предосторожно-
стями была уложена в ящик, ящик был заперт и по-
ложен в сундук; батюшка же, погладив меня снова по
голове, обещал мне всякий раз показывать скрипку,
когда я буду, как и теперь, умна, добра и послушна.
Таким образом, скрипка разогнала наше общее горе.
Только вечером батюшка, уходя со двора, шепнул мне,
чтоб я помнила, что он мне вчера говорил.
Таким образом я росла в нашем углу, и мало-по-
малу любовь моя,— нет, лучше я скажу страсть, потому
что не знаю такого сильного слова, которое бы могло
передать вполне мое неудержимое, мучительное для
меня самой чувство к отцу,— дошла даже до какой-то
болезненной раздражительности. У меня было только
одно наслаждение — думать и мечтать о нем; только
одна воля — делать все, что могло доставить ему хоть
малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожи-
далась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев
от холода, только для того, чтоб хоть одним мгнове-
нием раньше узнать о его прибытии и поскорее взгля-
нуть на него. Я была как безумная от радости, когда
он, бывало, хоть немножко приласкает меня. А между
тем часто мне было до боли мучительно, что я так
упорно холодна с бедной матушкой; были минуты,
когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее.
В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и
должна была выбирать между ними, должна была взять
чью-нибудь сторону, и взяла сторону этого полусума-
сшедшего человека, единственно оттого, что он был так
жалок, унижен в глазах моих и в самом начале так не-
постижимо поразил мою фантазию. Но, кто рассу-
дит? — может быть, я привязалась к нему именно от-
того, что он был очень странен, даже с виду, и не так
серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти су-
масшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиг-
лярство, какие-то детские замашки и что, наконец,
я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем
102
матушку. Он как-то был мне более ровня. Мало-помалу
я чувствовала, что даже верх на моей стороне, что я по-
немногу подчиняла его себе, что я уже была необхо-
дима ему. Я внутренно гордилась этим, ьнутренно тор-
жествовала и, понимая свою необходимость для него,
даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта
чудная привязанность моя походила несколько на ро-
ман... Но этому роману суждено было продолжаться
не долго: я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь
разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и
мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Вот
как это случилось.
Ш
В это время весь Петербург был взволнован чрезвы-
чайною новостью. Разнесся слух о проезде знамени-
того С — ца. Все, что было музыкального в Петербурге,
зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, мело-
маны и даже те, которые никогда не были меломанами
и с скромною гордостью уверяли, что ни одной ноты не
смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за
билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энту-
зиастов, имевших возможность дать двадцать пять руб-
лей за вход; но европейское имя С—ца, его увенчан-
ная лаврами старость, неувядаемая свежесть таланта,
слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки
смычок в угоду публике, уверение, что он уже в послед-
ний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет
играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечат-
ление было полное и глубокое.
Я уже говорила, что приезд каждого нового скри-
пача, каждой хоть сколько-нибудь прославленной зна-
менитости производил на моего отчима самое неприят-
ное действие. Он всегда из первых спешил услышать
приезжего артиста, чтоб поскорее узнать всю степень
его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, ко-
торые раздавались кругом его новоприбывшему, и толь-
ко тогда успокоивался, когда мог отыскать недостатки в
игре нового скрипача и с едкостью распространить свое
мнение всюду, где мог. Бедный, помешанный человек
103
считал во всем мире только один талант, только одного
артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва
о приезде С—ца, гения музыкального, произвела на
него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить,
что в последние десять лет Петербург не слыхал ни
одного знаменитого дарования, хотя бы даже и нерав-
носильного с С—цом; следственно, отец мой и не имел
понятия об игре первоклассных артистов в Европе.
Мне рассказывали, что при первых слухах о приезде
С—ца, отца моего тотчас же увидели снова за кулисами
театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволно-
ванный и с беспокойством осведомлялся о С — це и
предстоящем концерте. Его долго уже не видали за ку-
лисами, и появление его произвело даже эффект. Кто-то
захотел подразнить его и с вызывающим видом сказал:
«Теперь вы, батюшка, Егор Петрович, услышите не
балетную музыку, а такую, от которой вам уж, верно,
житья не будет на свете!» Говорят, что он побледнел,
услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически
улыбаясь: «Посмотрим; славны бубны за горами; ведь
С — ц только разве в Париже был, так это французы
про него накричали, а уж известно, что такое фран-
цузы!» и т. д. Кругом раздался хохот; бедняк обиделся,
но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит
ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра
не долго и что скоро все чудеса разрешатся.
Б. рассказывает, что в этот же вечер, перед сумер-
ками, он встретился с князем X — м, известным диле-
тантом, человеком глубоко понимавшим и любившим
искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем
артисте, как вдруг на повороте одной улицы Б. увидел
моего отца, который стоял перед окном магазина и при-
стально всматривался в афишку, на которой крупными
литерами объявлено было о концерте С — ца и которая
лежала на окне -магазина.
— Видите ли вы этого человека? — сказал Б., ука-
зывая на моего отца.
— Кто такой? — спросил князь.
— Вы о нем уже слышали. Это тот самый Ефимов,
о котором я с вами не раз говорил и которому вы даже
оказали когда-то покровительство.
104
— Ах, это любопытно! — сказал князь.— Вы о нем
много наговорили. Сказывают, он очень занимателен.
Я бы желал его слышать.
— Это не стоит,— отвечал Б.,— да и тяжело. Я не
знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его
жизнь — страшная, безобразная трагедия. Я его глу-
боко чувствую, и как ни грязен он, но во мне все-таки не
заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он
должен быть любопытен. Это правда, но он производит
слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сума-
сшедший; во-вторых, па этом сумасшедшем три пре-
ступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два
существования: своей жены и дочери. Я его знаю; он
умер бы на месте, если б уверился в своем преступле-
нии. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как
он почти уверен в нем, и восемь лет борется со своею
совестью, чтоб сознаться в том не почти, а вполне.
— Вы говорили, он беден? — сказал князь.
— Да; но бедность теперь для него почти счастие,
потому что она его отговорка. Он может теперь уверять
всех, что ему мешает только бедность и что, будь он
богат, у него было бы время, не было бы заботы и тот-
час увидели бы, какой он артист. Он женился в стран-
ной надежде, что тысяча рублей, которые были у его
жены, помогут ему стать на ноги. Он поступил как фан-
тазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни.
Знаете ли, что он говорит целые восемь лет без умолку?
Он утверждает, что виновница его бедствий — жена,
что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет рабо-
тать. А отнимите у него эту жену — и он будет самое
несчастное существо в мире. Вот уже несколько лет,
как он не брал в руки скрипки,— знаете ли почему?
Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок,
он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто,
нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в
стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это
неправда. Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-
то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком
в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil как будто
1 или Цезарь, или ничто (лат.).
105
Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг.- Его
жажда — слава. А если такое чувство сделается глав-
ным и единственным двигателем артиста, то этот артист
уж не артист, потому что он уже потерял главный ху-
дожественный инстинкт, то есть любовь к искусству,
единственно потому, что оно искусство, а не что другое,
не слава. Но С — ц, напротив: когда он берет смычок,
для него не существует ничего в мире, кроме его му-
зыки. После смычка первое дело у пего деньги, а уж
третье, кажется, слава. Но он об ней мало заботился;..
Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? —
прибавил Б., указывая на Ефимова.— Его занимает
самая глупая, самая ничтожнейшая, самая жалкая и
самая смешная забота в мире, то есть: выше ли он
С — ца, или С — ц выше его,— больше ничего, потому
что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем
мире. Уверьте, что он не артист, и я вам говорю, что он
умрет на месте, как пораженный громом, потому что
страшно расставаться с неподвижной идеей, которой от-
дал на жертву всю жизнь и которой основание все-таки
глубоко и серьезно, ибо призвание его, вначале, было
истинное.
— А любопытно, что будет с ним, когда он услышит
С — ца,— заметил князь.
— Да,— сказал Б. задумчиво.— Но нет: он очнется
тотчас же; его сумасшествие сильнее истины, и он тут
же выдумает какую-нибудь отговорку.
— Вы думаете? — заметил князь.
В это время они поровнялись с отцом. Он было хо-
тел пройти незамеченным, но Б. остановил его и загово-
рил с ним. Б. спросил, будет ли он у С — ца. Отец отве-
чал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело
поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впро-
чем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный
часок, отчего же нет? когда-нибудь сходит. Тут он
быстро и беспокойно посмотрел на Б. и па князя и недо-
верчиво улыбнулся, потом схватился за шляпу, кивнул
головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда.
Но я уже за день знала о заботе отца. Я не знала,
что именно его мучит, но видела, что он был в страшном
беспокойстве; даже матушка это заметила. Она была
106
в это время как-то очень больна и едва передвигала
ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из
дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей,
старых его товарищей, чему я очень изумилась, потому
что, кроме Карла Федорыча, посторонних людей у нас
почти никогда не видала, и с нами все раззнакомились
с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец,
прибежал, запыхавшись, Карл Федорыч и принес
афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядыва-
лась, и все это меня беспокоило так, как будто я одна
была виновата во всей этой тревоге и в беспокойстве,
которое читала на лице батюшки. Мне очень хотелось
понять то, о чем они говорят, и я в первый раз услы-
шала имя С — ца. Потом я поняла, что нужно по край-
ней мере пятнадцать рублей, чтоб увидеть этого С — ца.
Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и,
махнув рукою, сказал, что знает он эти чуда заморские,
таланты неслыханные, знает и С — ца, что это всё
жиды, за русскими деньгами лезут, потому что русские
спроста всякому вздору верят, а уж и подавно тому,
о чем француз прокричал. Я уже понимала, что зна-
чило слово: нет таланта. Гости стали смеяться и вскоре
ушли все, оставя батюшку совершенно не в духе. Я по-
няла, что он за что-то сердит на этого С — ца, и, чтоб
подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к
столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух про-
чла имя С — ца. Потом, засмеявшись и посмотрев на
батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала:
«Это, верно, такой же, как и Карл Федорыч: он, верно,
тоже никак не потрафит». Батюшка вздрогнул, как
будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, за-
кричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было
из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в
сени, поцеловал и с каким-то беспокойством, с каким-то
затаенным страхом начал мне говорить, что я умное,
что я доброе дитя, что я, верно, не захочу огорчить его,
что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего
именно, он не сказал. К тому же мне было тяжело его
слушать; я видела, что слова его и ласки были неис-
кренни, и все это как-то потрясло меня. Я мучительно
начала за него беспокоиться.
107
На другой день, за обедом — это было уже накануне
концерта — батюшка был совсем как убитый. Он
ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня
и на матушку. Наконец, я изумилась, когда он даже за-
говорил о чем-то с матушкой,— я изумилась, потому что
он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал
что-то особенно за мной ухаживать; поминутно, под
разными предлогами, вызывал меня в сени и, огляды-
ваясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, все
гладил он меня по голове, все целовал меня, все гово-
рил мне, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что,
верно, я люблю своего папу и что, верно, сделаю то,
о чем он меня попросит. Все это довело меня до невы-
носимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал
меня на лестницу, дело объяснилось. С тоскливым, из-
мученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам,
он спросил меня: знаю ли я, где лежат у матушки те
двадцать пять рублей, которые она вчера поутру при-
несла? Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но
в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка,
испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воро-
тился уже ввечеру, смущенный, грустный, озабоченный,
сел молчаливо на стул и начал с какою-то робостью на
меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и
я намеренно избегала его взглядов. Наконец, матушка,
которая весь день пролежала в постели, подозвала меня,
дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей
чаю и. сахару. Чай пили у нас очень редко: матушка до-
зволяла себе эту, по нашим средствам, прихоть только
тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке.
Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась
бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то,
что я предчувствовала, случилось: батюшка догнал
меня уже на улице и воротил назад на лестницу.
— Неточна! — начал он дрожащим голосом,— го-
лубчик мой! Послушай: дай-ка мне эти деньги, а я зав-
тра же...
— Папочка! папочка! — закричала я, бросаясь на
колени и умоляя его,— папочка! не могу! нельзя! Маме
нужно чай кушать... Нельзя у мамы брать, никак
нельзя! Я другой раз унесу...
108
Так ты не хочешь? ты не хочешь? — шептал он
мне в каком-то исступлении,— так ты, стало быть, не
хочешь любить меня? Ну, хорошо же! теперь я тебя
брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с
собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? слы-
шишь ли ты?
— Папочка!—закричала я в полном ужасе,—
возьми деньги, на! Что мне делать теперь? — говорила
я, ломая руки и ухватившись за полы его сюртука,—
мамочка плакать будет, мамочка опять бранить меня
будет!
Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но
деньги взял; наконец, не будучи в силах вынести мои
жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал
вниз. Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей
нашей квартиры; я не смела войти, не могла войти; все,
насколько было во мне сердца, было возмущено и по-
трясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно,
как тогда, когда в первый раз услышала от отца его
желание смерти матушки. Я была в каком-то забытьи,
в оцепенении и вздрагивала, прислушиваясь к малей-
шему шороху на лестнице. Наконец, я услышала, что
кто-то поспешно всходил наверх. Это был он; я отли-
чила его походку.
— Ты здесь? — сказал он шепотом.
Я бросилась к нему.
— На! — закричал он, всовывая мне в руки день-
ги,— на! возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слы-
шишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты
любишь маму больше меня, так и ступай к маме! А я
тебя знать не хочу! — Сказав это, он оттолкнул меня и
опять побежал по лестнице. Я, плача, бросилась дого-
нять его.
— Папочка! добренький папочка! я буду слушать-
ся! — кричала я,— я тебя люблю больше мамы! Возьми
деньги назад, возьми!
Но он уже не слыхал меня; он исчез. Весь этот вечер
я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе.
Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала
меня к себе; я была как без памяти, ничего не слыхала
и не видала. Наконец, все разрешилось припадком: я
109
начала плакать, кричать; матушка испугалась и не
знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и
я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая
и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая
ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки
уже не было дома. Она в это время всегда уходила за
своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, и
они оба о чем-то громко разговаривали. Я насилу до-
ждалась, пока ушел гость, и, когда мы остались одни,
бросилась к отцу и, рыдая, стала просить его, чтоб он
простил меня за вчерашнее.
— А будешь ли ты умным дитятей, как прежде? —
сурово спросил он меня.
— Буду, папочка, буду! — отвечала я.— Я скажу
тебе, где у мамы деньги лежат. Они у ней в этом ящике,
в шкатулке, вчера лежали.
— Лежали? Где? — закричал он, встрепенувшись, и
встал со стула.— Где они лежали?
— Они заперты, папаша! — говорила я.— Подожди:
вечером, когда мама пошлет менять, потому что медные
деньги, я видела, все вышли.
— Мне нужно пятнадцать рублей, Неточна! Слы-
шишь ли? Только пятнадцать рублей! Достань мне
сегодня; я тебе завтра же все принесу. А я тебе сейчас
пойду леденцов куплю, орехов куплю... куклу тоже тебе
куплю... и завтра тоже... и каждый день гостинцев буду
приносить, если будешь умная девочка!
— Не нужно, папа, не нужно! я не хочу гостинцев;
я не буду их есть; я тебе их назад отдам! — закричала
я, разрываясь от слез, потому что все сердце изныло у
меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту,
что ему не жалко меня и что он не любит меня, потому
что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гос-
тинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок,
понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня
навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла лю-
бить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он
же был в каком-то восторге от моих обещаний; он ви-
дел, что я готова была решиться на все для него, что я
все для него сделаю, и бог видит, как много было это
«все» для меня тогда. Я понимала, что значили ’ эти
по
деньги для бедной матушки; знала, что она могла забо-
леть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кри-
чало раскаяние. Но он ничего не видал; он меня считал
трехлетним ребенком, тогда как я . все понимала.
Восторг его не знал пределов; он целовал меня, угова-
ривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы
уйдем куда-то от матушки,— вероятно, льстя моей
всегдашней фантазии, и, наконец, вынув из кармана
афишу, начал уверять меня, что этот человек, к кото-
рому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его,
но что врагам его не удастся. Он решительно сам похо-
дил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих.
Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда
он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и
вышел из комнаты, потому что куда-то спешил; но,
уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с
усмешкой, словно неуверенный во мне и как будто ста-
раясь, чтоб я не раздумала.
Я уже сказала,.что он был как помешанный; но еще
и накануне было это видно. Деньги ему нужны были
для билета в концерт, который для него должен был
решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что
этот концерт должен был разрешить всю судьбу его, но
он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня мед-
ные деньги, как будто мог за них достать себе билет.
Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом.
Он решительно не мог усидеть на месте и не притроги-
вался ни к какому кушанью, поминутно вставал с места
и опять садился, словно одумавшись: то хватался за
шляпу, как будто сбираясь куда-то идти, то вдруг де-
лался как-то странно рассеянным, все что-то шептал
про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне
глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетер-
пении поскорей добиться денег и как будто сердясь, что
я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка
заметила все эти странности и глядела на него с изум-
лением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кон-
чился обед; я забилась в угол и, дрожа как в лихорадке,
считала каждую минуту до того времени, когда ма-
тушка обыкновенно посылала меня за покупками.
В жизнь свою я не проводила более мучительных
111
часов; они навеки останутся-в моем воспоминании. Чего
я не перечувствовала в эти мгновения! Есть минуты, в
которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в
целые годы. Я чувствовала, что делаю дурной поступок:
он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в пер-
вый раз малодушно натолкнул меня на зло и, испугав-
шись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно.
Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть
натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочув-
ствовавшую, осмыслившую много злого и доброго?
Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность,
которая заставила его решиться другой раз натолкнуть
меня на порок и пожертвовать, таким образом, моим
бедным, беззащитным детством, рискнуть еще раз поко-
лебать мою неустоявшую совесть. И теперь, забившись
в угол, я раздумывала про себя: зачем же он обещал
награду за то, что уже я решилась сделать своей соб-
ственной волей? Новые ощущения, новые стремления,
доселе неведомые, новые вопросы толпою восставали
во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг
начинала думать о матушке; я представляла себе го-
ресть ее при потере последнего трудового. Наконец, ма-
тушка положила работу, которую делала через силу, и
подозвала меня. Я задрожала и пошла к пей. Она вы-
нула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай,
Неточна; только, ради бога, чтоб тебя не обсчитали, как
намедни, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляю-
щим видом взглянула на отца, но он кивал головою,
ободрительно улыбался мне и потирал руки, от не-
терпения. Часы пробили шесть, а концерт назначен
был в семь часов. Он тоже многое вынес в этом ожи-
дании.
Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был
так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосто-
рожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала
ему деньги; на лестнице было темно, и я не могла ви-
деть лица его, но я чувствовала, что он весь дрожал,
принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не
двигаясь с места; наконец, очнулась, когда он стал по-
сылать меня наверх, вынести ему его шляпу. Он не хо-
тел и входить.
112
— Папа! разве... ты не пойдешь вместе со мною? —
спросила я прерывающимся голосом, думая о послед-
ней надежде моей — его заступничестве.
— Нет... ты уже поди одна... а? Подожди, подо-
жди!— закричал он, спохватившись,— подожди, вот я
тебе гостинцу сейчас принесу; а ты только сходи сперва
да принеси сюда мою шляпу.
Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце.
Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх.
Когда я вошла в комнату, на мне лица не было, и
если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли
деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не
могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного
отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и
закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрип-
нула, и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой.
— Где деньги? — закричала вдруг матушка, разом,
догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновен-
ное,— где деньги? говори! говори!—Тут она схватила
меня с постели и поставила среди комнаты.
Я молчала, опустя глаза в землю; я едва понимала,
что со мною делается и что со мной делают.
— Где деньги? — закричала она опять, бросая меня
и вдруг повернувшись, к батюшке, который хватался за
шляпу.— Где деньги? — повторила она.— А! она тебе
отдала их? Безбожник! губитель мой! злодей мой! Так
ты ее тоже губишь! Ребенка! ее, ее?! Нет же! ты так
не уйдешь!
И в один миг она бросилась к дверям, заперла их
изнутри и взяла ключ к себе.
— Говори! признавайся! — начала она мне голосом,
едва слышным от волнения,— признавайся во всем!
Говори же, говори! или... я не знаю, что я с тобой
сделаю!
Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая
меня. Она была в исступлении. В это мгновение я по-
клялась молчать и не сказать ни слова про батюшку, но
робко подняла на него в последний раз глаза... Один его
взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожи-
дала и о чем молила про себя,— и я была бы счастлива,
несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку...
8 Ф. М. Достоевский, т. 2 1J3
Но, боже мой! бесчувственным, угрожающим жестом он
приказывал мне молчать, будто я могла бояться чьей-
нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло,
захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на
пол... Со мной повторился вчерашний нервный при-
падок.
Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь на-
шей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека
в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением ози-
раясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова.
Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил,
что он от Б., который в эту минуту находился у князя.
В пакете лежал пригласительный билет к С — цу.
Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя
князя, своего господина, который посылал нарочного к
бедному музыканту Ефимову,— все это произвело на
миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в са-
мом начале рассказа о ее характере, что бедная жен-
щина все еще любила отца. И теперь, несмотря на це-
лые восемь лет беспрерывной тоски и страданий, ее
сердце все еще не изменилось: она все еще могла лю-
бить его! Бог знает, может быть, она вдруг увидела
теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-
нибудь надежды имела влияние. Почему знать,— мо-
жет быть, она тоже была несколько заражена непоко-
лебимою самоуверенностью своего сумасбродного
мужа! Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на
нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь
влияния, и на внимании князя она вмиг могла по-
строить для него тысячу планов. В один миг она готова
была опять обратиться к нему, она могла простить ему
за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее пре-
ступление — пожертвование ее единственным дитятей,
и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве
повой надежды низвесть это преступление до простого
проступка, до малодушия, вынужденного нищенством,
грязною жизнию, отчаянньш положением. В ней все
было увлечение, и в этот миг у ней уже было снова го-
тово прощение и сострадание без конца для своего по-
гибшего мужа.
Отец засуетился; его тоже поразила внимательность
114
князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шеп-
нул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась через
две минуты, принеся размененные деньги, и батюшка
тотчас же дал рубль серебром посланному, который
ушел с вежливым поклоном. Между тем.матушка, вы-
ходившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую
мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама по-
вязала ему на шею белый батистовый галстук, сохра-
нявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его
гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношен-
ным фраком, который был сшит еще при поступлении
его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял
шляпу, но, выходя, попросил стакан воды; он был бле-
ден и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже
я; может быть, неприязненное чувство снова прокралось
в сердце матушки и охладило ее первое увлечение.
Батюшка вышел; мы остались одни. Я забилась в
угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда
не видала ее в таком волнении: губы ее дрожали, блед-
ные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздра-
гивала всеми членами. Наконец, тоска ее начала изли-
ваться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях.
— Это я, это все я виновата, несчастная! — гово-
рила она сама с собою.— Что ж с нею будет? что ж с
нею будет, когда я умру? — продолжала она, остано-
вись посреди комнаты, словно пораженная молниею от
одной этой мысли.— Неточна! дитя мое! бедная ты моя!
несчастная! — сказала она, взяв меня за руки и судо-
рожно обнимая меня.— На кого ты останешься, когда
и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и гля-
деть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь
ли? запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка?
будешь ли помнить вперед?
— Буду, буду, маменька! — говорила я, складывая
руки и умоляя ее.
Она долго, крепко держала меня в объятиях, как
будто трепеща одной мысли, что разлучится со мною.
Сердце мое разрывалось.
— Мамочка! мама!—сказала я всхлипывая,— за
что ты... за что ты не любишь папу? — И рыдания не
дали мне досказать.
8:
115
Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в новой,
ужасной тоске, она стала ходить взад и вперед по ком-
нате.
— Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она
выросла! она знает, все знает! Боже мой! какое впечат-
ление, какой пример! — И она опять ломала руки в от-
чаянии.
Потом она подходила ко мне и с безумною любовью
целовала меня, целовала мои руки, обливала их сле-
зами, умоляла о прощении... Я никогда не видывала
таких страданий... Наконец, она как будто измучилась
и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она
встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтоб я
легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло,
но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюш-
ка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то
ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса
матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть,
заснула ли я. Чтоб успокоить ее, я зажмурила глаза и
притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько
подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан
вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажжен-
ную свечку на столе и дверь отпертою, как всегда дела-
лось на случай позднего прихода батюшки.
Я лежала как будто в забытьи, но сон не смыкал
глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просы-
палась и вздрагивала от каких-то ужасных видений.
Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось
кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже
поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь.
Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг
совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показа-
лось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле
возле самой двери и как будто о чем-то задумался.
В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная
свечка грустно освещала наше жилище.
Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался
с места; он сидел неподвижно, все в том же положении,
опустив голову и судорожно опершись руками о колени.
Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла.
Оцепенение мое продолжалось. Наконец, он вдруг
116
очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял
несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь
на что-нибудь; потом вдруг подошел к постели матушки,
прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к
сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сун-
дук, вынул черный футляр и поставил на стол; потом
снова огляделся кругом; взгляд его был мутный и бег-
лый, такой, какого я у него никогда еще не замечала.
Он было взялся за скрипку, но, тотчас же оставив
ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворен-
ный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и
вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за
скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к по-
стели матушки. Цепенея от страха, я ждала, что будет.
Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг
откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою.
Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил
к ней голову; но когда он приподнялся в последний раз,
то как будто улыбка мелькнула на его страшно поблед-
невшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спя-
щую, закрыл ей голову, ноги... и я начала дрожать от
неведомого страха: мне стало страшно за матушку, мне
стало страшно за ее глубокий сон, и с беспокойством
вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая
угловато обрисовала на одеяле члены ее тела... Как
молния, пробежала страшная мысль в уме моем.
Кончив все приготовления, он снова подошел к
шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя
к столу. Его узнать нельзя было — так он был бледен.
Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и
знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужас-
ного, страшного, чудесного... и вздрогнула от первых ее
звуков. Батюшка начал играть. Но звуки шли как-то
прерывисто; он поминутно останавливался, как будто
припоминал что-то; наконец, с растерзанным, мучитель-
ным видом положил свой смычок и как-то странно по-
глядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он
опять пошел к постели... Я не пропускала ни одного
движения его и, замирая от ужасного чувства, следила
за ним.
Вдруг он поспешно начал чего-то искать под рука-
117
ми,— и опять та же страшная мысль, как молния, обо-
жгла меня. Мне пришло в голову: отчего же так
крепко спит матушка? отчего же она не проснулась,
когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец, я увидела,
что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья,
взял салоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже
мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку
совершенно и спрятал под набросанной грудой; она
лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом.
Она спала глубоким сном!
Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою
работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все
еще что-то его беспокоило*. Он переставил свечу и стал
лицом к дверям, чтоб даже и не поглядеть на постель.
Наконец, он взял скрипку и с каким-то отчаянным же-
стом ударил смычком... Музыка началась.
Но это была не музыка... Я помню все отчетливо, до
последнего мгновения; помню все, что поразило тогда
мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую
мне потом удавалось слышать! Это были не звуки
скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в
первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны,
болезненны были мои впечатления, или чувства мои
были потрясены всем, чему я была свидетельницей, под-
готовлены были на впечатления страшные, неисходимо
мучительные,— но я твердо уверена, что слышала
стоны, крик человеческий, плач-; целое отчаяние выли-
валось в этих звуках и, наконец, когда загремел ужас-
ный финальный аккорд, в. котором было все, что есть
ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в
безнадежной тоске,— все это как будто соединилось
разом... я не могла выдержать,— я задрожала, слезы
брызнули из глаз моих, и, с страшным, отчаянным кри-
ком бросившись к батюшке, я обхватила его руками.
Он вскрикнул и опустил свою скрипку.
С минуту стоял он как потерянный. Наконец, глаза
его запрыгали и забегали по сторонам; он как будто
искал чего-то, вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо
мною... еще минута, и он, может быть, убил бы меня на
месте.
— Папочка! — закричала я ему,— папочка!
118
Он задрожал, как лист, когда услышал мой голос, и
отступил на два шага.
— Ах! так еще ты осталась! Так еще не все кончи-
лось! Так еще ты осталась со мной! — закричал он, под-
няв меня за плеча на воздух.
— Папочка! — закричала я снова,— не пугай меня,
ради бога! мне страшно! ай!
Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол
и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узна-
вая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто
что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила
какая-то ужасная мысль,— из помутившихся глаз его
брызнули слезы; он нагнулся ко мне и начал пристально
смотреть мне в лицо.
— Папочка! — говорила я ему, терзаясь от
страха,— не смотри так, папочка! Уйдем отсюда! Уйдем
скорее! уйдем, убежим!
— Да, убежим, убежим! пора! пойдем, Неточна!
скорее, скорее! — И он засуетился, как будто только те-
перь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он
кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и
положил в карман, потом увидел чепчик — и его тоже
поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в даль-
нюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно.
Я мигом надела свое платье и, тоже торопясь, на-
чала захватывать все, что мне казалось нужным для
дороги.
— Все ли, все ли? — спрашивал отец,— все ли го-
тово? скорей! скорей!
Я наскоро навязала узел, накинула на голову пла-
ток, и уже мы оба стали было выходить, когда мне
вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, ко-
торая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с
этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только то-
ропил меня поскорее идти. Картина висела очень вы-
соко; мы вдвоем принесли стул, потом приладили на
него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец,
после долгих трудов, сняли. Тогда все было готово к
нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было
уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он
долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще
119
не было сделано. Наконец, он как будто нашел, что ему
было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки
под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в ко-
моде. Наконец, он воротился ко мне и принес несколько
денег, отысканных в ящике.
— Вот, на, возьми это, береги,— прошептал он
мне,— не теряй же, помни, помни!
Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял
их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрог-
нула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я
как будто только теперь поняла, что такое деньги. Те-
перь мы опять были готовы, но он вдруг опять остано-
вил меня.
— Неточка! — сказал он мне, как будто размышляя
с усилием,— деточка моя, я позабыл... что такое?.. Что
это надо?.. Я не помню... Да, да! нашел, вспомнил!..
Поди сюда, Неточка!
Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал,
чтоб я стала на колени.
— Молись, дитя мое, помолись! тебе лучше будет!..
Да, право, будет лучше,— шептал он мне, указывая на
образ и как-то странно смотря на меня.— Помолись,
помолись! — говорил он каким-то просящим, умоляю-
щим голосом.
Я бросилась на колени, сложила руки и, полная
ужаса, отчаяния, которое уже совсем овладело мною,
упала на пол и пролежала несколько минут, как безды-
ханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства
в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась,
измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боя-
лась его; мне хотелось остаться. Наконец, то, что то-
мило и мучило меня, вырвалось из груди моей.
— Папа,— сказала я, обливаясь слезами,—
а мама?.. Что с мамой? где она? где моя мама?..
Я не могла продолжать и залилась слезами.
Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец, он
взял меня за руку, подвел к постели, разметал набро-
санную груду платья и открыл одеяло. Боже мой! Она
лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я,
как бесчувственная, бросилась на нее и обняла ее труп.
Отец поставил меня на колени.
120
— Поклонись ей, дитя! — сказал он,— простись с
нею...
Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною...
Он был ужасно бледен; губы его двигались и что-то
шептали.
— Это не я, Неточна, не я,— говорил он мне, ука-
зывая дрожащею рукою на труп.— Слышишь, не я; я
не виноват в этом. Помни, Неточна!
— Папа, пойдем,— прошептала я в страхе.— Пора!
— Да, теперь пора, давно пора! — сказал он, схва-
тив меня крепко за руку и торопясь выйти из ком-
наты.— Ну, теперь в путь! слава богу, слава богу, те-
перь все кончено!
Мы сошли с лестницы; полусонный дворник отворил
нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и ба-
тюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот
первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу
улицу и вышли на набережную канала. За ночь на кам-
нях мостовой выпал снег, и шел теперь мелкими хлопь-
ями. Было холодно; я дрогла до костей и бежала за ба-
тюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака.
Скрипка была у него подмышкой, и он поминутно оста-
навливался, чтоб придержать подмышкой футляр.
Мы шли с четверть часа; наконец, он повернул по
скату тротуара на самую канаву и сел на последней
тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не
было ни души. Боже! как теперь помню я то страшное
ощущение, которое вдруг овладело мною! Наконец, со-
вершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы
ушли из нашего бедного жилища... Но того ли я ожи-
дала, о том ли я мечтала, то ли создалось в моей дет-
ской фантазии, когда я загадывала о счастии того, ко-
торого я так не детски любила? Всего более мучила
меня в это мгновение матушка. «Зачем мы ее оста-
вили,— думала я,— одну? покинули ее тело, как не-
нужную вещь?» И помню, что это более всего меня тер-
зало и мучило.
— Папочка! — начала я, не в силах будучи выдер-
жать мучительной заботы своей,— папочка!
— Что такое? — сказал он сурово.
— Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем
121
мы бросили ее? — спросила я заплакав.— Папочка! во-
ротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь.
— Да, да! — закричал он вдруг, встрепенувшись и
приподымаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло
ему в голову, разрешавшее все сомнения его.— Да, Не-
точна, так нельзя; нужно пойти к маме; ей там холодно!
Поди к ней, Неточна, поди; там не темно, там есть
свечка; не бойся, позови к ней кого-нибудь и потом при-
ходи ко мне; поди одна, а я тебя здесь подожду...
Я ведь никуда не уйду.
Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тро-
туар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце...
Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой
стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая
меня в эту минуту! Я закричала сколько во мне было
силы и в страшном испуге бросилась догонять его.
Я задыхалась; он бежал все скорее и скорее... я его
уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа,
которую он потерял в бегстве; я подняла ее и пустилась
снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашива-
лись. Я чувствовала, как что-то безобразное соверша-
лось со мною: мне все казалось, что это сон, и порой во
мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда
мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои
подкашиваются, погоня настигает меня и я падаю без
чувств. Мучительное ощущение разрывало меня: мне
было жалко его, сердце мое ныло и болело, когда я
представляла, как он бежит, без шинели, без шляпы, от
меня, от своего любимого дитяти... Мне хотелось до-
гнать его только для того, чтоб еще раз крепко поцело-
вать, сказать ему, чтоб он меня не ‘боялся, уверить,
успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет
того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела, нако-
нец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до
нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впе-
реди себя... Тут силы меня оставили: я начала плакать,
кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя
прохожими, которые остановились посреди тротуара и
с изумлением смотрели на нас обоих.
— Папочка! папочка! — закричала я в последний
раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у во-
122
рот дома. Я почувствовала, как все лицо мое облилось
кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств.
Очнулась я на теплой, мягкой постели и увидела
возле себя приветливые, ласковые лица, которые с ра-
достию встретили мое пробуждение. Я разглядела ста-
рушку, с очками на носу, высокого господина, который
смотрел на меня с глубоким состраданием; потом пре-
красную молодую даму и, наконец, седого старика, ко-
торый держал меня за руку и смотрел на часы. Я про-
будилась для новой жизни. Один из тех, которых я
встретила во время бегства, был князь X — ий, и я упала
у ворот его дома. Когда, после долгих изысканий,
узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу
билет в концерт С — ца, пораженный странностью слу-
чая, решился принять меня в свой дом и воспитать со
своими детьми. Стали отыскивать, что сделалось с ба-
тюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне
города в припадке исступленного помешательства. Его
свезли в больницу, где он и умер через два дня.
Он умер, потому что такая смерть его была необхо-
димостью, естественным следствием всей его жизни. Он
должен был так умереть, когда все, поддерживавшее
его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак,
как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла
последняя надежда его, когда в одно мгновение разре-
шилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все,
чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь.
Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что
было ложь, стало ложью и для него самого. В последний
час свой он услышал чудного гения, который рассказал
ему его же самого и осудил его навсегда. С послед-
ним звуком, слетевшим с струн скрипки гениаль-
ного С — ца, перед ним разрешилась вся тайна искус-
ства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, разда-
вил его своею истинностью. Казалось, все, что только
в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его во
всю жизнь, все, что до сих пор только грезилось ему и
мучило его только в сновидениях, неощутительно, не-
уловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но от
чего он с ужасом бежал, заслонясь ложью всей своей
жизни, все, что предчувствовал он, но чего боялся
123
доселе,— все это вдруг, разом засияло перед ним, от-
крылось глазам его, которые упрямо не хотели признать
до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была
невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во
все, что было, что есть, и в то, что ожидает его; она
ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг
неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, что он
ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось,
всю жизнь секира висела над его головой, всю жизнь
он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях,
что она ударит в него, и, наконец, секира ударила! Удар
был смертелен. Он хотел бежать от суда над собою, но
бежать было некуда: последняя надежда исчезла, по-
следняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела
над ним столько лет, которая не давала ему жить, та,
со смертию которой, по своему ослепленному верова-
нию, он должен был вдруг, разом воскреснуть,—
умерла. Наконец, он был один, его не стесняло ничто:
он был, наконец, свободен! В последний раз, в судорож-
ном отчаянии, хотел он судить себя сам, осудить неумо-
лимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный
судья; но ослабевший смычок его мог только слабо
повторить последнюю музыкальную фразу гения...
В это мгновение безумие, сторожившее его уже десять
лет, неизбежно поразило его.
IV
Я выздоравливала медленно; но когда уже совсем
встала с постели, ум мой все еще был в каком-то оцепе-
нении, и долгое время я не могла понять, что именно
случилось со мною. Были мгновения, когда мне каза-
лось, что я вижу сон, и, помню, мне хотелось, чтобы все
случившееся и впрямь обратилось в сон! Засыпая на
ночь, я надеялась, что вдруг как-нибудь проснусь опять
в нашей бедной комнате и увижу отца и мать... Но, на-
конец, передо мной прояснело мое положение, и я мало-
помалу поняла, что осталась одна совершенно и живу
у чужих людей. Тогда в первый раз почувствовала я,
что я ойрота.
124
Я начала жадно присматриваться ко всему новому,
так внезапно меня окружившему. Сначала мне все ка-
залось странным и чудным, все меня смущало: и новые
лица, и новые обычаи, и комнаты старого княжеского
дома — как теперь вижу, большие, высокие, богатые, но
такие угрюмые, мрачные, что, помню, я серьезно боя-
лась пуститься через какую-нибудь длинную-длинную
залу, в которой, мне казалось, совсем, пропаду. Бо-
лезнь моя еще не прошла, и впечатления мои были
мрачные, тягостные, совершенно под лад этого торже-
ственно-угрюмого жилища. К тому же какая-то еще
неясная мне самой тоска все более и более нарастала в
моем маленьком сердце. С недоумением останавлива-
лась я перед какой-нибудь картиной, зеркалом, ками-
ном затейливой работы или статуей, которая как будто
нарочно спряталась в глубокую нишу, чтоб оттуда
лучше подсмотреть за мной и как-нибудь испугать
меня, останавливалась и потом вдруг забывала, зачем
я остановилась, чего хочу, о чем начала думать, и
только когда очнусь, бывало, страх и смятение напа-
дали на меня, и крепко билось мое сердце.
Из тех, кто изредка приходили навестить меня,
когда я еще лежала больная, кроме старичка доктора,
всего более поразило меня лицо одного мужчины, уже
довольно пожилого, такого серьезного, но такого доб-
рого, смотревшего на меня с таким глубоким сострада-
нием! Его лицо я полюбила более всех других. Мне
очень хотелось заговорить с ним, но я боялась: он был
с виду всегда очень уныл, говорил отрывисто, мало, и
никогда улыбка не являлась на губах его. Это был сам
князь X — ий, нашедший меня и призревший в своем
доме. Когда я стала выздоравливать, посещения его
становились реже и реже. Наконец, в последний раз,
он принес мне конфектов, какую-то детскую книжку с
картинками, поцеловал меня, перекрестил и просил,
чтоб я была веселее. Утешая меня, он прибавил, что
скоро у меня будет подруга, такая же девочка, как и я,
его дочь Катя, которая теперь в Москве. Потом, погово-
рив что-то с пожилой француженкой, нянькой детей
его, и с ухаживавшей за мной девушкой, он указал им
на меня, вышел, и с тех пор я ровно три недели не
125
видала его. Князь жил в своем доме чрезвычайно уеди-
ненно. Большую половину дома занимала княгиня; она
тоже не видалась с князем иногда по целым неделям.
Впоследствии я заметила, что даже все домашние мало
говорили об нем, как будто его и не было в доме. Все
его уважали, и даже, видно было, любили его, а между
тем смотрели на него, как на какого-то чудного и стран-
ного человека. Казалось, и он сам понимал, что он
очень странен, как-то не похож на других, и потому
старался как можно реже казаться всем на глаза...
В свое время мне придется очень много и гораздо по-
дробнее говорить о нем.
В одно утро меня одели в чистое, тонкое белье, на-
дели на меня черное шерстяное платье, с белыми пле-
резами, на которое я посмотрела с каким-то унылым
недоумением, причесали мне голову и повели с верхних
комнат вниз, в комнаты княгини. Я остановилась как
вкопанная, когда меня привели к ней: никогда я еще не
видала кругом себя такого богатства и великолепия. Но
это впечатление было мгновенное, и я побледнела, когда
услышала голос княгини, которая велела подвести меня
ближе. Я, и одеваясь, думала, что готовлюсь на ка-
кое-то мучение, хотя бог знает отчего вселилась в меня
подобная мысль. Вообще я вступила в новую жизнь с
какою-то странною недоверчивостью ко всему меня
окружавшему. Но княгиня была со мною очень привет-
лива и поцеловала меня. Я взглянула на нее посмелее.
Это была та самая прекрасная дама, которую я видела,
когда очнулась после своего беспамятства. Но я вся
дрожала, когда целовала ее руку, и никак не могла со-
браться с силами ответить что-нибудь на ее вопросы.
Она приказала мне сесть возле себя на низеньком та-
бурете. Кажется, это место уже предназначено было для
меня заранее. Видно было, что княгиня и не желала ни-
чего более, как привязаться ко мне всею душою, обла-
скать меня и вполне заменить мне мать. Но я никак не
могла понять, что попала в случай, и ничего не вы-
играла в ее мнении. Мне дали прекрасную книжку с
картинками и приказали рассматривать. Сама княгиня
писала к кому-то письмо, изредка оставляла перо и
опять со мной заговаривала; но я сбивалась, путалась
126
и ничего не сказала путного. Одним словом, хотя моя
история была очень необыкновенная и в ней большую
часть играла судьба, разные, положим, даже таинствен-
ные пути, и вообще было много интересного, неизъясни-
мого, даже чего-то фантастического, но я сама выхо-
дила, как будто назло всей этой мелодраматической об-
становке, самым обыкновенным ребенком, запуганным,
как будто забитым, и даже глупеньким. Особенно по-
следнее княгине вовсе не нравилось, и я, кажется, до-
вольно скоро ей совсем надоела, в чем виню одну себя,
разумеется. Часу в третьем начались визиты, и княгиня
стала ко мне вдруг внимательнее и ласковее. На рас-
спросы приезжавших обо мне она отвечала, что это
чрезвычайно интересная история, и потом начинала рас-
сказывать по-французски. Во время ее рассказов на
меня глядели, качали головами, восклицали. Один мо-
лодой человек навел на меня лорнет, один пахучий се-
дой старичок хотел было поцеловать меня, а я блед-
нела, краснела и сидела потупив глаза, боясь шевель-
нуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во
мне. Я уносилась в прошедшее, на наш чердак, вспом-
нила отца, наши длинные, молчаливые вечера, ма-
тушку, и когда вспоминала о матушке — в глазах моих
накипали слезы, мне сдавливало горло, и я так хотела
убежать, исчезнуть, остаться одной... Потом, когда кон-
чились визиты, лицо княгини стало приметно суровее.
Она уже смотрела на меня угрюмее, говорила отрыви-
стее, и в особенности меня пугали ее пронзительные
черные глаза, иногда целую четверть часа устремлен-
ные на меня, и крепко сжатые тонкие губы. Вечером
меня отвели наверх. Я заснула в лихорадке, просыпа-
лась ночью, тоскуя и плача от болезненных сновидений;
а наутро началась та же история, и меня опять повели
к княгине. Наконец, ей как будто самой наскучило рас-
сказывать своим гостям мои приключения, а гостям со-
болезновать обо мне. К тому же я была такой обыкно-
венный ребенок, «без всякой наивности», как, помнкэ,
выразилась сама княгиня, говоря глаз на глаз с одной
пожилой дамой, которая спросила: «Не-уже-ли ей не
скучно со мной?» — и вот, в один вечер, меня увели со-
всем, с тем чтоб не приводить уж более. Таким образом
127
кончилось мое фаворитство; впрочем, мне позволено
было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно.
Я же и не могла сидеть на одном месте от глубокой,
болезненной тоски своей и рада-рада была, когда уйду,
наконец, от всех вниз, в большие комнаты. Помню, что
мне очень хотелось разговориться с домашними; но я
так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться
одной. Моим любимым препровождением времени было
забиться куда-нибудь в угол, где неприметнее, стать за
какую-нибудь мебель и там тотчас же начать припоми-
нать и соображать обо всем, что случилось со мною. Но
чудное дело! я как будто забыла окончание того, что
со мною случилось у родителей, и всю эту ужасную
историю. Передо мной мелькали одни картины, выстав-
лялись факты. Я, правда, все помнила — и ночь, и
скрипку, и батюшку, помнила, как доставала ему день-
ги; но осмыслить, выяснить себе все эти происшествия
как-то не могла... Только тяжеле мне становилось на
сердце, и когда я доходила воспоминанием до той ми-
нуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз
вдруг пробегал по моим членам; я дрожала, слегка
вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать,
так ныла вся грудь моя, так колотилось сердце, что в
испуге выбегала я из угла. Впрочем, я неправду ска-
зала, говоря, что меня оставляли одну: за мной неусып-
но и усердно присматривали и с точностию исполняли
приказания князя, который велел дать мне полную сво-
боду, не стеснять ничем, но ни на минуту не терять
меня из виду. Я замечала, что по временам кто-нибудь
из домашних и из прислуги заглядывал в ту комнату,
в которой я находилась, и опять уходил, не сказав мне
ни слова. Меня очень удивляла и отчасти беспокоила
такая внимательность. Я не могла понять, для чего это
делается. Мне все казалось, что меня для чего-то бере-
гут и что-нибудь хотят потом со мной сделать. Помню,
я все старалась зайти куда-нибудь подальше, чтоб в
случае нужды знать, куда спрятаться. Раз я забрела на
парадную лестницу. Она была вся из мрамора, широ-
кая, устланная коврами, уставленная цветами и пре-
красными вазами. На каждой площадке безмолвно
сидели по два высоких человека, чрезвычайно пестро
128
одетых, в перчатках и в самых белых галстуках. Я по-
смотрела на них в недоумении и никак не могла взять
в толк, зачем они тут сидят, молчат и только смотрят
друг на друга, а ничего не делают.
Эти уединенные прогулки нравились мне более и бо-
лее. К тому же была другая причина, по которой я
убегала сверху. Наверху жила старая тетка князя,
почти безвыходно и безвыездно. Эта старушка резко
отразилась в моем воспоминании. Она была чуть ли не
важнейшим лицом в доме. В сношениях с нею все на-
блюдали какой-то торжественный этикет, и даже сама
княгиня, которая смотрела так гордо и самовластно,
ровно два раза в неделю, по положенным дням, должна
была всходить наверх и делать личный визит своей
тетке. Она обыкновенно приходила утром; начинался
сухой разговор, зачастую прерываемый торжественным
молчанием, в продолжение которого старушка или шеп-
тала молитвы, или перебирала четки. Визит кончался
не прежде, как того хотела сама тетушка, которая вста-
вала с места, целовала княгиню в губы и тем давала
знать, что свидание кончилось. Прежде княгиня должна
была каждый день посещать свою родственницу; но
впоследствии, по желанию старушки, последовало об-
легчение, и княгиня только обязана была в остальные
пять дней недели каждое утро присылать узнать о ее
здоровье. Вообще житье престарелой княжны было
почти келейное. Она была девушка и, когда ей минуло
тридцать пять лет, заключилась в монастырь, где и вы-
жила лет семнадцать, но не постриглась; потом оста-
вила монастырь и приехала в Москву, чтоб жить с се-
строю, вдовой графиней Л., здоровье которой станови-
лось с каждым годом хуже, и примириться со второй
сестрой, тоже княжной X — ю, с которой с лишком два-
дцать лет была в ссоре. Но старушки, говорят, ни од-
ного дня не провели в согласии, тысячу раз хотели
разъехаться и не могли этого сделать, потому что, нако-
нец, заметили, как каждая из них необходима двум
остальным для предохранения от скуки и от припадков
старости. Но, несмотря на непривлекательность их
житья-бытья и самую торжественную скуку, господ-
ствовавшую в их московском тереме, весь город
9 Ф. М. Достоевский, т. 2 129
поставлял долгом не прерывать своих визитов трем за-
творницам. На них смотрели как на хранительниц всех
аристократических заветов и преданий, как на живую
летопись коренного боярства. Графиня оставила после
себя много прекрасных воспоминаний и была превос-
ходная женщина. Заезжие из Петербурга делали к ним
свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того
принимали везде. Но графиня умерла, и сестры разъ-
ехались: старшая, княжна X — я, осталась в Москве,
наследовать свою часть после графини, умершей бездет-
ною, а младшая, монастырка, переселилась к племян-
нику, князю X — му, в Петербург. Зато двое детей
князя, княжна Катя и Александр, остались гостить в
Москве у бабушки, для развлечения и утешения ее в
одиночестве. Княгиня, страстно любившая своих детей,
не смела слова пикнуть, расставаясь на все время по-
ложенного траура. Я забыла сказать, что траур еще
продолжался во всем доме князя, когда я поселилась в
нем; но срок истекал в коротком времени.
Старушка княжна одевалась вся в черное, всегда в
платье из простой шерстяной материи, и носила накрах-
маленные, собранные в мелкие складки белые ворот-
нички, которые придавали ей вид богаделенки. Она не
покидала четок, торжественно выезжала к обедне, по-
стилась по всем дням, принимала визиты разных духов-
ных лиц и степенных людей, читала священные книги и
вообще вела жизнь самую монашескую. Тишина на-
верху была страшная; невозможно было скрипнуть
дверью: старушка была чутка, как пятнадцатилетняя
девушка, и тотчас же посылала исследовать причину
стука или даже простого скрипа. Все говорили шепо-
том, все ходили на цыпочках, и бедная француженка,
тоже старушка, принуждена была, наконец, отказаться
от любимой своей обуви — башмаков с каблуками. Каб-
луки были изгнаны. Две недели спустя после моего по-
явления старушка княжна прислала обо мне спросить:
кто я такая, что я, как попала в дом, и проч. Ее немед-
ленно и почтительно удовлетворили. Тогда прислан был
второй нарочный к француженке с запросом, отчего
княжна до сих пор не видала меня? Тотчас же подня-
лась суматоха: мне начали чесать голову, умывать лицо,
130
руки, которые без того были очень чисты, учили меня
подходить, кланяться, глядеть веселее и приветливее,
говорить,— одним словом, меня всю затормошили. По-
том отправилась посланница уже с нашей стороны с
предложением: не пожелают ли видеть сиротку? По-
следовал ответ отрицательный, но назначен был срок
на завтра после обедни. Я не спала всю ночь, и расска-
зывали потом, что я всю ночь бредила, подходила к
княжне и в чем-то просила у нее прощения. Наконец,
последовало мое представление. Я увидела маленькую,
худощавую старушку, сидевшую в огромных креслах.
Она закивала мне головою и надела очки, чтоб разгля-
деть меня ближе. Помню, что я ей совсем не понрави-
лась. Замечено было, что я совсем дикая, не умею ни
присесть, ни поцеловать руки. Начались расспросы, и я
едва отвечала; но когда дошло дело до отца и матушки,
я заплакала. Старушке было очень неприятно, что я
расчувствовалась; впрочем, она начала утешать меня
и велела возложить мои надежды на бога; потом спро-
сила, когда я была последний раз в церкви, и так как я
едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием
очень неглижировали, то княжна пришла в ужас. По-
слали за княгиней. Последовал совет, и положено было
отвезти меня в церковь в первое же воскресенье. До тех
пор княжна обещала молиться за меня, но приказала
меня вывести, потому что я, по ее словам, оставила в
ней очень тягостное впечатление. Ничего мудреного,
так и должно было быть. Но уж видно было, что я со-
всем не понравилась; в тот же день прислали сказать,
что я слишком резвлюсь и что меня слышно на весь
дом, тогда как я сидела весь день не шелохнувшись:
ясно, что старушке так показалось. Однако и назавтра
последовало то же замечание. Случись же, что я в это
время уронила чашку и разбила ее. Француженка и все
девушки пришли в отчаяние, и меня в ту же минуту пе-
реселили в самую отдаленную комнату, куда все по-
следовали за мной в припадке глубокого ужаса.
Но я уж не знаю, чем кончилось потом это дело. Вот
почему я рада была уходить вниз и бродить одна по
большим комнатам, зная, что уж там никого не обес-
покою.
9*
131
Помню, я раз сидела в одной зале внизу. Я закрыла
руками лицо, наклонила голову и так просидела не по-
мню сколько часов. Я все думала, думала; мой несо-
зревший ум не в силах был разрешить всей тоски моей,
и все тяжелее, тошней становилось у меня в душе.
Вдруг надо мной раздался чей-то тихий голос:
— Что с тобой, моя бедная?
Я подняла голову: это был князь; его лицо выра-
жало глубокое участие и сострадание; но я поглядела
на него с таким убитым, с таким несчастным видом, что
слеза набежала в больших голубых глазах его.
— Бедная сиротка! — проговорил он, погладив
меня по голове.
— Нет, нет, не сиротка! нет! — проговорила я,
и стон вырвался из груди моей, и все поднялось и взвол-
новалось во мне. Я встала с места, схватила его руку
и, целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим
голосом:
— Нет, нет, не сиротка! нет!
— Дитя мое, что с тобой, моя милая, бедная Не-
точка? что с тобой?
— Где моя мама? где моя мама? — закричала я,
громко рыдая, не в силах более скрывать тоску свою и
в бессилии упав перед ним на колени,— где моя мама?
голубчик мой, скажи, где моя мама?
— Прости меня, дитя мое!.. Ах, бедная моя, я на-
помнил ей... Что я наделал! Поди, пойдем со мной, Не-
точка, пойдем со мною.
Он схватил меня за руку и быстро повел за собою.
Он был потрясен до глубины души. Наконец, мы при-
шли в одну комнату, которой я еще не видала.
Это была образная. Были сумерки. Лампады ярко
сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоцен-
ных каменьях образов. Из-под блестящих окладов
тускло выглядывали лики святых. Все здесь так не по-
ходило на другие комнаты, так было таинственно и
угрюмо, что я была поражена, и какой-то испуг овла-
дел моим сердцем. К тому же я была так болезнен-
но настроена! Князь торопливо поставил меня на ко-
лени перед образом божией матери и сам стал возле
меня...
132
— Молись, дитя, помолись; будем оба молиться! —
сказал он тихим, порывистым голосом.
Но молиться я не могла; я была поражена, даже
испугана; я вспомнила слова отца в ту последнюю ночь,
у тела моей матери, и со мной сделался нервный при-
падок. Я слегла в постель больная, и в этот вторичный
период моей болезни едва не умерла; вот как был этот
случай.
В одно утро чье-то знакомое имя раздалось в ушах
моих. Я услышала имя С — ца. Кто-то из домашних
произнес его возле моей постели. Я вздрогнула; воспо-
минания нахлынули ко мне, и, припоминая, мечтая и
мучась, я пролежала уж не помню сколько часов в на-
стоящем бреду. Проснулась я уже очень поздно; кругом
меня было темно; ночник погас, и девушки, которая си-
дела в моей комнате, не было. Вдруг я услышала звуки
отдаленной музыки. Порой звуки затихали совершенно,
порой раздавались слышнее и слышнее, как будто при-
ближались. Не помню, какое чувство овладело мною,
какое намерение вдруг родилось в моей больной голове.
Я встала с постели и, не знаю, где сыскала я сил, на-
скоро оделась в мой траур и пошла ощупью из комнаты.
Ни в другой, ни в третьей комнате я не встретила ни
души. Наконец, я пробралась в коридор. Звуки станови-
лись все слышнее и слышнее. На средине коридора
была лестница вниз; этим путем я всегда сходила в
большие комнаты. Лестница была ярко освещена; внизу
ходили; я притаилась в углу, чтоб меня не видали,
и только что стало возможно, спустилась вниз во вто-
рой коридор. Музыка гремела из смежной залы; там
было шумно, говорливо, как будто собрались тысячи
людей. Одна из дверей в залу, прямо из коридора, была
завешена огромными двойными портьерами из пунцо-
вого бархата. Я подняла первую из них и стала между
обоими занавесами. Сердце мое билось так, что я едва
могла стоять на ногах. Но через несколько минут, оси-
лив свое волнение, я осмелилась, наконец, отвернуть
немного с края второй занавес... Боже мой! эта огром-
ная, мрачная зала, в которую я так боялась входить,
сверкала теперь тысячью огней. Как будто море света
хлынуло на меня, и глаза мои, привыкшие к темноте,
133
были в первое мгновение ослеплены до боли. Аромати-
ческий воздух, как горячий ветер, пахнул мне в лицо.
Бездна людей ходили взад и вперед; казалось, все с ра-
достными, веселыми лицами. Женщины были в таких
богатых, в таких светлых платьях; всюду я встречала
сверкающий от удовольствия взгляд. Я стояла как за-
чарованная. Мне казалось, что я все это видела когда-
то, где-то, во сне... Мне припомнились сумерки, я при-
помнила наш чердак, высокое окошко, улицу глубоко
внизу с сверкающими фонарями, окна противополож-
ного дома с красными гардинами, кареты, столпившиеся
у подъезда, топот и храп гордых коней, крики, шум,
тени в окнах и слабую, отдаленную музыку... Так вот,
вот где был этот рай! — пронеслось в моей голове,—
вот куда я хотела идти с бедным отцом... Стало быть,
это была не мечта!.. Да, я видела все так и прежде в
моих мечтах, в сновидениях! Разгоряченная болезнию
фантазия вспыхнула в моей голове, и слезы какого-то
необъяснимого восторга хлынули из глаз моих.
Я искала глазами отца: «Он должен быть здесь, он
здесь»,— думала я, и сердце мое билось от ожидания...
дух во мне занимался. Но музыка умолкла, раздался
гул, и по всей зале пронесся какой-то шепот. Я жадно
всматривалась в мелькавшие передо мной лица, стара-
лась узнать кого-то. Вдруг какое-то необыкновенное
волнение обнаружилось в зале. Я увидела на возвыше-
нии высокого худощавого старика. Его бледное -лицо
улыбалось, он угловато сгибался и кланялся на все сто-
роны; в руках его была скрипка. Наступило глубокое
молчание, как будто все эти люди затаили дух. Все лица
были устремлены на старика, все ожидало. Он взял
скрипку и дотронулся смычком до струн. Началась му-
зыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне
сердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я вслу-
шивалась в эти звуки; что-то знакомое раздавалось в
ушах моих, как будто и я где-то слышала это; какое-то
предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то
ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце.
Наконец, скрипка зазвенела сильнее; быстрее и прон-
зительнее раздавались звуки. Вот послышался как
будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как
134
будто чья-то мольба вотще раздалась во всей этой
толпе и заныла, замолкла в отчаянии. Все знакомее и
знакомее сказывалось что-то моему сердцу. Но сердце
отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтоб не засто-
нать от боли, я уцепилась за занавесы, чтоб не упасть...
Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожи-
дая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную,
мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь,
я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела уве-
риться, жадно смотрела в толпу,— нет, это были дру-
гие люди, другие лица... Мне показалось, что все, как
и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой
тоской; казалось, что они все хотели крикнуть этим
страшным стонам и воплям, чтоб они замолчали, не
терзали их душ, но вопли и стоны лились все тоскливее,
жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался послед-
ний, страшный, долгий крик, и все во мне потряслось...
Сомненья нет! это тот самый, тот крик! Я узнала его,
я уже слышала его, он так же, как и тогда, в ту ночь,
пронзил мне душу. «Отец! отец! — пронеслось, как мол-
ния, в голове моей,— он здесь, это он, он зовет меня, это
его скрипка!» Как будто стон вырвался из всей этой
толпы, и страшные рукоплескания потрясли залу. От-
чаянный, пронзительный плач вырвался из груди моей.
Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась
в залу.
— Папа, папа! это ты! где ты? — закричала я, почти
не помня себя.
Не знаю, как добежала я до высокого старика: мне
давали дорогу, расступались передо мной. Я бросилась
к нему с мучительным криком; я думала, что обнимаю
отца... Вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то
длинные, костлявые руки и подымают на воздух. Чьи-то
черные глаза устремились на меня и, казалось, хотели
сжечь меня своим огнем. Я смотрела на старика. «Нет!
это был не отец; это его убийца!» — мелькнуло в уме
моем. Какое-то исступление овладело мной, и вдруг мне
показалось, что надо мной раздался его хохот, что этот
хохот отдался в зале дружным, всеобщем криком; я ли-
шилась чувств.
135
V
Это был второй и последний период моей болезни.
Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо
мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и пер-
вым движением моим было протянуть к ней руки. С пер-
вого взгляда на нее каким-то счастьем, будто сладким
предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте
себе идеально прелестное *личико, поражающую, свер-
кающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг
останавливаешься, как пронзенный, в сладостном сму-
щении, вздрогнув от восторга, и которой благодарен
за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд,
за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя,
Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она
улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои за-
ныли от сладостного восторга.
Княжна позвала отца, который был в двух шагах
и говорил с доктором.
— Ну, слава богу! слава богу! — сказал князь, взяв
меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувст-
вом.— Рад, рад, очень рад,— продолжал он скороговор-
кой по всегдашней привычке.— А вот, Катя, моя де-
вочка, познакомьтесь,— вот тебе и подруга. Выздорав-
ливай скорее, Неточна. Злая этакая, как она меня
напугала!..
Выздоровление мое пошло очень скоро. Чрез не-
сколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подхо-
дила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, кото-
рый не сходил с ее губ. Ее появления ждала я, как сча-
стья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая
девочка приходила едва на несколько минут; посидеть
смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать,
шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной
потребностью. И потому она же с первого раза объ-
явила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что
потому она будет приходить очень редко, да и то затем,
что ей жалко меня,— так уж нечего делать, нельзя не
прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет
лучше. И каждое утро первым словом ее было:
— Ну, выздоровела?
136
И так как я все еще была худа и бледна и улыбка
как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице,
то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой
и в досаде топала ножкой.
— А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была
лучше! Что? тебе, верно, есть не дают?
— Да, мало,— отвечала я робко, потому что уже
робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как
можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое
слово, за каждое движение. Появление ее всегда более
и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее
глаз, и когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю, как
зачарованная, в ту сторону, где она стояла. Она мне
стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я со-
чиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила,
проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за
что-нибудь,— одним словом, мечтала об ней, как влюб-
ленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей
пополнеть, как она мне советовала.
Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с пер-
вого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же
худая!», то я трусила, как виноватая. Но ничего не
могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу
поправиться в одни сутки; так что она, наконец, начи-
нала и в самом деле сердиться.
— Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог при-
несу? — сказала она мне однажды.— Кушай, от этого
скоро растолстеешь.
— Принеси,— отвечала я в восторге, что увижу ее
еще раз.
Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась
обыкновенно против меня на стул и начинала рассмат-
ривать меня своими черными глазами. И сначала, как
знакомилась со мной, она поминутно так осматривала
меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но
наш разговор не клеился. Я робела перед Катей и перед
ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания
говорить с ней.
— Что ж ты молчишь? — начала Катя после неко-
торого молчания.
— Что делает папа? — спросила я, обрадовавшись,
137
что есть фраза, с которой можно начинать разговор
каждый раз.
— Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две
чашки чаю, а не одну. А ты сколько?
— Одну.
Опять молчание.
— Сегодня Фальстаф меня хотел укусить.
— Это собака?
— Да, собака. Ты разве не видала?
— Нет, видела.
— А почему же ты спросила?
И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять
посмотрела на меня с удивлением.
— Что? тебе весело, когда я с тобой говорю?
— Да, очень весело; приходи чаще.
— Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда
я буду к тебе приходить, да ты вставай скорее; уж я
тебе сегодня принесу пирог... Да что ты все молчишь?
— Так.
— Ты все думаешь, верно?
— Да, много думаю.
— А мне говорят, что я много говорю и мало думаю.
Разве говорить худо?
— Нет. Я рада, когда ты говоришь.
— Гм, спрошу у мадам Леотар, она все знает. А о
чем ты думаешь?
— Я о тебе думаю,— отвечала я помолчав.
— Это тебе весело?
- Да.
— Стало быть, ты меня любишь?
- Да.
— А я тебя еще не люблю. Ты такая худая! Вот я
тебе пирог принесу. Ну, прощай!
И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла
из комнаты.
Но после обеда действительно явился пирог. Она
вбежала, как исступленная, хохоча от радости, что при-
несла-таки мне кушанье, которое мне запрещали.
— Ешь больше, ешь хорошенько, это мой пирог,
я сама не ела. Ну, прощай! — И только я ее и видела.
Другой раз она вдруг влетела ко мне, тоже не в
138
урочный час, после обеда; черные локоны ее были
словно вихрем разметаны, щечки горели, как пурпур,
глаза сверкали; значит, что она уже бегала и прыгала
час или два.
— Ты умеешь в воланы играть? — закричала она,
запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то.
— Нет,— отвечала я, ужасно жалея, что не могу
сказать: да!
— Экая! Ну, выздоровеешь, выучу. Я только затем.
Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай; меня ждут.
Наконец, я совсем встала с постели, хотя все еще
была слаба и бессильна. Первая идея моя была уж не
разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло
меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это
удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла
вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не
могла этого не заметить, и сначала ей показалось это
неслыханной странностью. Помню, что раз, во время
какой-то игры, я не выдержала, бросилась ей на шею и
начала ее целовать. Она высвободилась из моих объя-
тий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как
будто я чем ее обидела, спросила меня:
— Что ты? зачем ты меня целуешь?
Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быст-
рого вопроса и не отвечала ни слова. Княжна вскинула
плечиками, в знак неразрешенного недоуменья (жест,
обратившийся у ней в привычку), пресерьезно сжала
свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол
на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о
чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая но-
вый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже
была ее привычка во всех затруднительных случаях.
В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть
к этим резким, крутым проявлениям ее характера.
Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне
действительно очень много странного. Но хотя это было
и верно, а все-таки я мучилась недоумением: отчего я
не могу с первого раза подружиться с Катей и понра-
виться ей раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня
до боли, и я готова была плакать от каждого скорого
слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но
139
горе мое усиливалось не по дням, а по часам, потому
что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через не-
сколько дней я заметила, что она совсем невзлюбила
меня и даже начинала чувствовать ко мне отвращение.
Все в этой девочке делалось скоро, резко,— иной бы
сказал — грубо, если б в этих быстрых, как молния, дви-
жениях характера прямого, наивно-откровенного, не
было истинной, благородной грации. Началось тем, что
она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом
даже презрение, кажется, сначала за то, что я реши-
тельно не умела играть ни в какую игру. Княжна
любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка;
я — совершенно напротив. Я была слаба еще от бо-
лезни, тиха, задумчива; игра не веселила меня; одним
словом, во мне решительно недоставало способностей
понравиться Кате. Кроме того, я не могла вынести,
когда мною чем-нибудь недовольны: тотчас же стано-
вилась грустна, упадала духом, так что уж и сил недо-
ставало загладить свою ошибку и переделать в свою
пользу невыгодное обо мне впечатление,— одним сло-
вом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла по-
нять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала
меня с удивлением, по своему обыкновению, после того
как, бывало, целый час бьется со мной, показывая, как
играют в воланы, и не добьется толку. А так как я
тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы
были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной
раза три и не добившись толку ни от меня, ни от раз-
мышлений своих, бросала меня, наконец, совершенно
и начинала играть одна, уж более не приглашая меня,
даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня
так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение.
Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжеле
прежнего, и я опять начала грустить, задумываться и
опять черные мысли облегли мое сердце.
Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила, на-
конец, эту перемену в наших сношениях. И так как
прежде всего я бросилась ей на глаза и мое вынужден-
ное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо
к княжне, журя ее за то, что она не умеет обходиться
со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечи-
140
ками и объявила, что ей со мною нечего делать, что я
не умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше
она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы,
и тогда им обоим будет гораздо веселее.
Но мадам Леотар не удовольствовалась таким отве-
том и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда
как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой
и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому
что Катя слишком резва, что она то-то сделала, это-то
сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не
заел,— одним словом, мадам Леотар побранила ее не
жалея; кончила же тем, что послала ее ко мне с при-
казанием помириться немедленно.
Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием,
как будто действительно поняла что-то новое и справед-
ливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла
по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на
меня, спросила с удивлением:
— Вы разве хотите играть?
— Нет,— отвечала я, испугавшись за себя и за
Катю, когда ее бранила мадам Леотар.
— Чего же вы хотите?
— Я посижу; мне тяжело бегать; а только вы не
сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю.
— Ну, так я буду играть одна,— тихо и с расстанов-
кой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что,
выходит, она не виновата.— Ну, прощайте, я на вас не
буду сердиться.
— Прощайте,— отвечала я, привстав и подавая ей
руку.
— Может быть, вы хотите поцеловаться? — спро-
сила она, немного подумав, вероятно припомнив нашу
недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более
приятного, чтоб поскорее и согласно кончить со мною.
— Как вы хотите,— отвечала я с робкой надеж-
дой.
Она подошла ко мне и пресерьезно, не улыбнувшись,
поцеловала меня. Таким образом, кончив все, что от нее
требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтоб
доставить полное удовольствие бедной девочке, к кото-
рой ее посылали, она побежала от меня довольная и
141
веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее
смех и крик, до тех пор, пока, утомленная, едва пере-
водя дух, бросилась она на диван отдыхать и соби-
раться с свежими силами. Во весь вечер посматривала
она на меня подозрительно: вероятно, я казалась ей
очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось
о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то
недоуменье, возникшее насчет меня; но в этот раз, я не
знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам
начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее
французскому языку. Все ученье состояло в повторении
грамматики и в чтении Лафонтена. Ее не учили слиш-
ком многому, потому что едва добились от нее согласия
просидеть в день за книгой два часа времени. На этот
уговор она, наконец, согласилась по просьбе отца, по
приказанью матери и исполняла его очень совестливо,
потому что сама дала слово. У ней были редкие способ-
ности; она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней
были маленькие странности: если она не понимала чего,
то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть
не могла идти за объяснениями,— она как-то стыди-
лась этого. Рассказывали, что она по целым дням
иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не
могла решить, сердилась, что не могла одолеть его
сама, без чужой помощи, и только в последних случаях,
уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам
Леотар с просьбою помочь ей разрешить вопрос, кото-
рый ей не давался. То же было в каждом ее поступке.
Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так
с первого взгляда. Но вместе с тем она была не по ле-
там наивна: иной раз ей случалось спросить какую-
нибудь совершенную глупость; другой раз в ее ответах
являлись самая дальновидная тонкость и хитрость.
Так как я тоже могла, наконец, чем-нибудь зани-
маться, то мадам Леотар, проэкзаменовав меня в моих
познаниях и найдя, что я читаю очень хорошо, пишу
очень худо, признала за немедленную и крайнюю необ-
ходимость учить меня по-французски.
Я не возражала, и мы в одно утро засели вместе с
Катей за учебный стол. Случись же, что в этот раз
Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до край-
142
ности рассеянна, так что мадам Леотар не узнавала ее.
Я же почти в один сеанс знала уже всю французскую
азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим
прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рас-
сердилась на Катю.
— Смотрите на нее,— сказала она, указывая на
меня,— больной ребенок, учится в первый раз и вдеся-
теро больше вас сделала. Вам это не стыдно?
— Она знает больше меня? — спросила в изумле-
нии Катя,— да она еще азбуку учит!
— Вы во сколько времени азбуку выучили?
— В три урока.
— А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас
понимает и мигом вас перегонит. Так ли?
Катя подумала немного и вдруг покраснела, как по-
лымя, уверясь, что замечание мадам Леотар справед-
ливо. Покраснеть, сгореть от стыда — было ее первым
движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от
гордости ли, когда ее уличали за шалости,— одним сло-
вом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы
выступили на глазах ее, но она смолчала и только так
посмотрела на меня, как будто желая сжечь меня
взглядом. Я тотчас догадалась, в чем дело. Бедняжка
была горда и самолюбива до крайности. Когда мы по-
шли от мадам Леотар, я было заговорила, чтоб рас-
сеять поскорей ее досаду и показать, что я вовсе не
виновата в словах француженки, но Катя промолчала,
как будто не слыхала меня.
Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за
книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуган-
ная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она
посмотрела на меня исподлобья, уселась, по обыкнове-
нию, на диване и полчаса не спускала с меня глаз. На-
конец, я не выдержала и взглянула на нее вопроси-
тельно.
— Вы умеете танцевать? — спросила Катя.
— Нет, не умею.
— А я умею.
Молчание.
— А на фортепиано играете?.
— Тоже нет.
143
— А я играю. Этому очень трудно выучиться.
Я смолчала.
— Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.
— Мадам Леотар на вас рассердилась,— отве-
чала я.
— А разве папа будет тоже сердиться?
— Не знаю,— отвечала я.
Опять молчание; княжна в нетерпении била по полу
своей маленькой ножкой.
— Так вы надо мной будете смеяться, оттого что
лучше меня понимаете? — спросила она, наконец, не
выдержав более своей досады.
— Ох, нет, нет! — закричала я и вскочила с места,
чтоб броситься к ней и обнять ее.
—' И вам не стыдно так думать и спрашивать об
этом, княжна? — раздался вдруг голос мадам Леотар,
которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала
наш разговор.— Стыдитесь! вы стали завидовать бед-
ному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танце-
вать и играть на фортепиано. Стыдно; я все расскажу
князю.
Щеки княжны загорелись, как зарево.
— Это дурное чувство. Вы ее обидели своими во-
просами. Родители ее были бедные люди и не могли
ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней
хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить
ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь!
Ведь она — сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы по-
хвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас
оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила,
исправьтесь.
Княжна думала ровно два дня! Два дня не было
слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я под-
слушала, что она даже во сне продолжает рассуждать
с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два
дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком
личике. Наконец, на третий день мы обе сошлись внизу,
в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, уви-
дев меня, остановилась и села недалеко, напротив.
Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми чле-
нами.
144
— Неточка, за что меня бранили за вас? — спро-
сила она, наконец.
— Это не за меня, Катенька,— отвечала я, спеша
оправдаться.
— А мадам Леотар говорит, что я вас обидела.
— Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели.
Княжна вскинула плечиками в знак недоуменья.
— Отчего ж вы все плачете? — спросила она после
некоторого молчания.
— Я не буду плакать, если вы хотите,— отвечала
я сквоа^ь слезы.
Она* опять пожала плечами.
— Вы и прежде все плакали?
Я не отвечала.
— Зачем вы у нас живете? — спросила вдруг
княжна помолчав.
Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто что-
то кольнуло мне в сердце.
— Оттого, что я сиротка,— ответила я, наконец,
собравшись с духом.
— У вас были папа и мама?
— Были.
— Что, они вас не любили?
— Нет... любили,— отвечала я через силу.
— Они были бедные?
- Да.
— Очень бедные?
- Да.
— Они вас ничему не учили?
— Читать учили.
— У вас были игрушки?
— Нет.
— Пирожное было?
— Нет.
— У вас было сколько комнат?
— Одна.
— Одна комната?
— Одна.
— А слуги были?
— Нет, не было слуг.
— А кто ж вам служил?
Ю Ф. М. Достоевский, т. 2
145
— Я сама покупать ходила.
Вопросы княжны все больше и больше растравляли
мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удив-
ление княжны — все это поражало, обижало мое
сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от
волнения и задыхалась от слез.
— Вы, стало быть, рады, что у нас живете?
Я молчала.
— У вас было платье хорошее?
— Нет.
— Дурное?
- Да.
— Я видела ваше платье, мне его показывали.
— Зачем же вы меня спрашиваете? — сказала я,
вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня
ощущения и подымаясь с места.— Зачем же вы меня
спрашиваете? — продолжала я, покраснев от негодова-
ния.— Зачем вы надо мной смеетесь?
Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом
преодолела свое волнение.
— Нет... я не смеюсь,— отвечала она.— Я только
хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были
бедны?
— Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму? —
сказала я, заплакав от душевной боли.— Зачем вы так
про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?
Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать.
В эту минуту вошел князь.
— Что с тобой, Неточна? — спросил он, взглянув
на меня и увидев мои слезы,— что с тобой? — продол-
жал он, взглянув на Катю, которая была красна, как
огонь,— о чем вы говорили? За что вы поссорились?
Неточна, за что вы поссорились?
Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и
со слезами целовала ее.
— Катя, не лги. Что здесь было?
Катя лгать не умела.
— Я сказала, что видела, какое у нее было дурное
платье, когда еще она жила с папой и мамой.
— Кто тебе показывал? Кто смел показать?
— Я сама видела,— отвечала Катя решительно.
146
— Ну, хорошо! Ты не скажешь на других, я тебя
знаю. Что ж дальше?
— А она заплакала и сказала: зачем я смеюсь над
папой и над мамой.
— Стало быть, ты смеялась над ними?
Хоть Катя и не смеялась, но, знать, в ней было та-
кое намерение, когда я с первого разу так поняла. Она
не отвечала ни слова: значит, тоже соглашалась в про-
ступке.
— Сейчас же подойди к ней и проси у нее проще-
ния,— сказал князь, указав на меня.
Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь
с места.
— Ну! — сказал князь.
— Я не хочу,— проговорила, наконец, Катя впол-
голоса и с самым решительным видом.
— Катя!
— Нет, не хочу, не хочу! — закричала она вдруг,
засверкав глазками и затопав ногами.— Не хочу, папа,
прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею
вместе жить... Я не виновата, что она целый день пла-
чет. Не хочу, не хочу!
— Пойдем со мной,— сказал князь, схватил ее за
руку и повел к себе в кабинет.— Неточка, ступай на-
верх.
Я хотела броситься к князю, хотела просить за
Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я
пошла наверх, похолодев от испуга как мертвая. Придя
в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками
голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением,
хотела броситься к ногам ее. Наконец, она воротилась,
не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в
угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся
решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и
от страха не могла двинуться с места.
Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами стара-
лась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз
хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась,
не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой.
К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала
было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою
10*
147
забаву и села одна в угол. Перед тем как ложиться
спать, она вдруг оборотилась было ко мне, даже сде-
лала ко мне два шага, и губки ее раскрылись сказать
мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и
легла в постель. За тем днем прошел еще день, и удив-
ленная мадам Леотар начала, наконец, допрашивать
Катю: что с ней сделалось? не больна ли она, что
вдруг затихла? Катя отвечала что-то, взялась было за
волан, но только что отворотилась мадам Леотар,—
•покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты,
чтоб я не видала ее. И, наконец, все разрешилось:
ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после
обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко
мне.
— Папа приказал, чтоб я у вас прощения про-
сила,— проговорила она,— вы меня простите?
Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь
от волнения, сказала:
— Да! да!
— Папа приказал поцеловаться с вами,— вы меня
поцелуете?
В ответ я начала целовать ее руки, обливая их сле-
зами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то не-
обыкновенное движение. Губки ее слегка потрогива-
лись, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но
она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг
проглянула на губах ее.
— Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и про-
сила прощения,— сказала она потихоньку, как бы раз-
мышляя сама с собою.— Я уже его три дня не видала;
он не велел и входить к себе без того,— прибавила она
помолчав.
И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла
вниз, как будто еще не уверилась: каков будет прием
отца.
Но через час наверху раздался крик, шум, смех,
лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, не-
сколько книг полетело на пол, обруч загудел и запры-
гал по всем комнатам,— одним словом, я узнала, что
Катя помирилась с отцом, и сердце мое задрожало от
радости.
148
Но ко мне она не подходила и видимо избегала
разговоров со мною. Взамен того я имела честь в выс-
шей степени возбудить ее любопытство. Садилась она
напротив меня, чтоб удобнее меня рассмотреть, все
чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались
наивнее; одним словом, избалованная, самовластная де-
вочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как
сокровище, не могла понять, каким образом я уже не-
сколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе
не хотела встречать меня. Но это было прекрасное,
доброе маленькое сердце, которое всегда умело
сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом.
Всего более влияния имел на нее отец, которого она
обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею
ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гор-
дость и твердость характера, но переносила на себе все
прихоти матери, доходившие даже до нравственной
тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое
воспитание, и воспитание Кати было странным контра-
стом беспутного баловства и неумолимой строгости.
Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины,
запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорб-
лялось в ребенке... Но впереди еще эта история... За-
мечу только, что ребенок уже умел определить свои
отношения к матери и отцу. С последним она была
как есть, вся наружу, без утайки, открыта. С матерью
совершенно напротив — замкнута, недоверчива и бес-
прекословно послушна. Но послушание ее было не по
искренности и убеждению, а по необходимой системе.
Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной
чести моей Кати скажу, что она поняла, наконец, свою
мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив
всю безграничность любви ее, доходившей иногда до
болезненного исступления,— и княжна великодушно
ввела в свой расчет последнее обстоятельство. Увы!
этот расчет мало помог потом ее горячей головке!
Но я почти не понимала, что со мной делается. Все
во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого
ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что стра-
дала, терзалась от этого нового чувства. Короче —
и пусть простят мне мое слово — я была влюблена в
149
мою Катю. Да, это была любовь, настоящая любовь,
любовь со слезами и радостями, любовь страстная. Что
влекло меня к ней? отчего родилась такая любовь?
Она началась с первого взгляда на нее, когда все чув-
ства мои были сладко поражены видом прелестного,
как ангел, ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один
из пороков ее не родился вместе с нею,— все были при-
виты и все находились в состоянии борьбы. Всюду
видно было прекрасное начало, принявшее на время
ложную форму; но все в ней, начиная с этой борьбы,
сияло отрадною надеждой, все предвещало прекрасное
будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна.
Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все
прохожие останавливались как пораженные, едва
только взглядывали на нее, и нередко крик изумления
раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась
на счастие, она должна была родиться для счастия,—
вот было первое впечатление при встрече с нею. Может
быть, во мне первый раз поражено было эстетическое
чувство, чувство изящного, первый раз сказалось оно,
пробужденное красотой, и — вот вся причина зарожде-
ния любви моей.
Главным пороком княжны, или, лучше сказать,
главным началом ее характера, которое неудержимо
старалось воплотиться в свою натуральную форму и,
естественно, находилось в состоянии уклоненном, в со-
стоянии борьбы,— была гордость. Эта гордость дохо-
дила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до
того, что, например, противоречие, каково бы оно ни
было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло.
Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь
иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство спра-
ведливости всегда брало верх в ее сердце. Если убеж-
далась она, что она несправедлива, то тотчас же
подчинялась приговору безропотно и неколебимо.
И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она
себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией
ко мне, помутившей на время стройность и гармонию
всего ее существа; так и должно было быть: она слиш-
ком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только
пример, опыт выводил ее на истинный путь. Резуль-
150
таты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но
покупались беспрерывными уклонениями и заблужде-
ниями.
Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения
надо мною и, наконец, решилась оставить меня в покое.
Она сделала так, как будто меня и не было в доме;
мне — ни слова лишнего, даже почти необходимого;
я устранена от^ игр и устранена не насильно, но так
ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки
шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за
понятливость и тихость характера, то я уже не имела
чести оскорблять ее самолюбия, которое было чрезвы-
чайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже
бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хлад-
нокровен и флегматик, но зол, как тигр, когда его раз-
дражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще
черта: он решительно никого не любил; но самым силь-
ным, натуральным врагом его была, бесспорно, ста-
рушка княжна... Но эта история еще впереди. Самолю-
бивая Катя всеми средствами старалась победить нелю-
безность Фальстафа; ей было неприятно, что есть хоть
одно животное в доме, единственное, которое не при-
знает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею,
не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фаль-
стафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и вла-
ствовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи?
Но непреклонный бульдог не сдавался.
Раз, после обеда, когда мы обе сидели внизу,
в большой зале, бульдог расположился среди комнаты
и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом Ч
В эту самую минуту княжне вздумалось завоевать его
в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цы-
почках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми
нежными именами, приветливо маня его рукой, начала
осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще
издали оскалил свои страшные зубы; княжна остано-
вилась. Все намерение ее состояло в том, чтоб, подойдя
к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не по-
зволял никому, кроме княгини, у которой был фавори-
1 отдыхом.
151
том, и заставить его идти за собой: подвиг трудный,
сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фаль-
стаф никак не затруднился бы отгрызть у ней руку
или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был
силен, как медведь, и я с беспокойством, со страхом
следила издали за проделками Кати. Но ее не легко
было переубедить с первого раза, и даже зубы Фаль-
стафа, которые он пренеучтиво показывал, были реши-
тельно недостаточным к тому средством. Убедясь, что
подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении
обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не дви-
нулся с места. Катя сделала второй круг, значительно
уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла
до того места, которое казалось Фальстафу заветной
чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула нож-
кой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван.
Минут через десять она выдумала новое обольще-
ние, тотчас же вышла и воротилась с запасом кренде-
лей, пирожков,— одним словом, переменила оружие. Но
Фальстаф был хладнокровен, потому вероятно, что был
слишком сыт. Он даже не взглянул на кусок кренделя,
который ему бросили; когда же княжна снова очути-
лась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей
границей, последовала оппозиция, в этот раз позначи-
тельнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы,
слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто
собирался рвануться с места. Княжна покраснела от
гнева, бросила пирожки и снова уселась на место.
Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка
била ковер, щечки краснели, как зарево, а в глазах
даже выступили слезы досады. Случись же, что она
взглянула на меня,— вся кровь бросилась ей в голову.
Она решительно вскочила с места и самою твердою по-
ступью пошла прямо к страшной собаке.
Может быть, в этот раз изумление подействовало на
Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту
и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную
Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась
было на минуту, но только на минуту, и решительно
ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была
воодушевлена, как я еще никогда ее не видала; глаза
152
ее блистали победой, торжеством. С нее можно было
рисовать чудную картинку. Она смело вынесла гроз-
ный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед
его страшною пастью; он привстал. Из мохнатой груди
его раздалось ужасное рыкание; еще минута, и он бы
растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою
маленькую ручку и три раза с торжеством погладила
его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости.
Это мгновение было самое ужасное; но вдруг он тяжело
поднялся с места, потянулся и, вероятно взяв в сооб-
ражение, что с детьми не стоило связываться, преспо-
койно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала
на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый
взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я
была бледна, как платок; она заметила и улыбнулась.
Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки.
Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть
не в обмороке.
Но влечение мое к ней уже не знало пределов.
С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха,
я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске,
тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но
страх приковывал меня, без движения, на месте.
Помню, я старалась убегать ее, чтоб она не видала
моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту
комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце
начинало стучать так, что голова кружилась. Мне ка-
жется, моя проказница это заметила и дня два была
сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и
к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, ко-
торый я весь прострадала втихомолку. Чувства мои
обладают какой-то необъяснимою растяжимостью,
если можно так выразиться; моя натура терпелива до
последней степени, так что взрыв, внезапное проявление
чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать,
что во все это время мы сказали с Катей не более пяти
слов; но я мало-помалу заметила, по некоторым неуло-
вимым признакам, что все это происходило в ней не от
забвения, не от равнодушия ко мне, а от какого-то на-
меренного уклонения, как будто она дала себе слово дер-
жать меня в известных пределах. Но я уже не спала по
153
ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже
от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже
до странностей. Один раз я украдкою взяла у ней пла-
ток, в другой раз ленточку, которую она вплетала в
волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь сле-
зами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие
Кати; но теперь все во мне помутилось, и я сама не
могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким обра-
зом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые,
и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли
свою болезненную силу и сменились во мне новой
жизнию.
Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с по-
стели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядыва-
лась по целым часам на спящую Катю при слабом свете
ночной нашей лампы; иногда садилась к ней на кро-
вать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим
дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее
ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выгляды-
вала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила,—
так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц,—
что Катя становится со дня на день задумчивее; харак-
тер ее стал терять свою ровность: иногда целый день
не слышишь ее шума, другой раз подымется такой гам,
какого еще никогда не было. Она стала раздражи-
тельна, взыскательна, краснела и сердилась очень
часто и даже со мной доходила до маленьких жесто-
костей: то вдруг не захочет обедать возле меня, близко
сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение;
то вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням,
может быть зная, что я иссыхаю без нее с тоски; то
вдруг начнет смотреть на меня по целым часам, так что
я не знаю, куда деваться от убийственного смущения,
краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из ком-
наты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку,
тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни.
Наконец, вдруг в одно утро последовало особое рас-
поряжение: по непременному желанию княжны она
переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла
от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку.
Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна
154
мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала,
приписывала мне и влиянию моего угрюмого харак-
тера, как она выражалась, на характер своей дочери.
Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до
времени, зная, что придется выдержать серьезный спор
с князем, который хотя и уступал ей во всем, но иногда
становился неуступчив и упрям до непоколебимости.
Она же понимала князя вполне.
Я была поражена переселением княжны и целую
неделю провела в самом болезненном напряжении духа.
Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами от-
вращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу,
и чувство справедливости и негодования начало вос-
ставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость
вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей
в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее
так независимо, так серьезно, так непохоже на преж-
нее, что это даже поразило ее. Конечно, такие пере-
мены происходили во мне только порывами и потом
сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я
становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде.
Наконец, в одно утро, к величайшему моему недоуме-
нию и радостному смущению, княжна воротилась на-
верх. Сначала она с безумным смехом бросилась на
шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам пе-
реезжает, потом кивнула и мне головой, выпросила
позволения ничему не учиться в это утро и все утро
прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее жи-
вее и радостнее. Но к вечеру она сделалась тиха, за-
думчива, и снова какая-то грусть отенила ее прелестное
личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на
нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия
казаться веселою. Но, вслед за уходом матери, остав-
шись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была по-
ражена. Княжна заметила мое внимание и вышла.
Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожи-
данный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каж-
дый день призывала к себе мадам Леотар для самых
мелких расспросов о Кате; велено было наблюдать за
каждым движением ее. Одна только я предчувствовала
истину, и сильно забилось мое сердце надеждою.
155
Словом, маленький роман разрешался и приходил к
концу. На третий день после возвращения Кати к нам
наверх я заметила, что она все утро глядит на меня
такими чудными глазками, такими долгими взглядами...
Несколько раз я встречала эти взгляды, и каждый раз
мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились
друг друга. Наконец, княжна засмеялась и пошла от
меня прочь. Ударило три часа, и нас стали одевать для
прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне.
— У вас башмак развязался,— сказала она мне,—
давайте я завяжу.
Я было нагнулась сама, покраснев, как вишня, от-
того, что наконец-то Катя заговорила со мной.
— Давай! — сказала она нетерпеливо и засмеяв-
шись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу,
поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась;
я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга.
Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня
с ног до головы.
— Вот и горло открыто,— сказала она, дотронув-
шись пальчиком до обнаженного тела на моей шее.—
Да уж давай я сама завяжу.
Я не противоречила. Она развязала мой шейный
платочек и повязала по-своему.
— А то можно кашель нажить,— сказала она, пре-
лукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими чер-
ными, влажными глазками.
Я была вне себя; я не знала, что со мной делается
и что сделалось с Катей. Но, слава богу, скоро кончи-
лась наша прогулка, а то я бы не выдержала и броси-
лась бы целовать ее на улице. Всходя на лестницу, мне
удалось, однакож, поцеловать ее украдкой в плечо.
Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Ве-
чером ее нарядили и повели вниз. У княгини были
гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная
суматоха.
С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была
вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что ска-
зать. Разумеется, все свалили на детские болезни, на
возраст Кати, но я подумала иное. Наутро Катя яви-
лась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая,
156
с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и
капризами, каких с ней никогда не бывало.
Во-первых, она все утро не слушалась мадам Лео-
тар. Потом вдруг ей захотелось идти к старушке
княжне. Против обыкновения, старушка, которая тер-
петь не могла свою племянницу, была с нею в постоян-
ной ссоре и не хотела видеть ее, на этот раз как-то раз-
решила принять ее. Сначала все пошло хорошо, и пер-
вый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала
просить прощения за все свои проступки, за резвость,
за крик, за то, что княжне она не давала покою.
Княжна торжественно и со слезами простила её. Но
шалунье вздумалось зайти далеко. Ей пришло на ум
рассказать такие шалости, которые были еще только в
одних замыслах и проектах. Катя прикинулась смирен-
ницей, постницей и вполне раскаивающейся; одним
словом, ханжа была в восторге, и много льстила ее
самолюбию предстоявшая победа над Катей — сокро-
вищем, идолом всего дома, которая умела заставить
даже свою мать исполнять свои прихоти.
И вот проказница призналась, во-первых, что у нее
было намерение приклеить к платью княжны визитную
карточку; потом засадить Фальстафа к ней под кро-
вать; потом сломать ее очки, унесть все ее книги и
принесть вместо них от мамы французских романов;
потом достать хлопушек и разбросать по полу; потом
спрятать ей в карман колоду карт и т. д.'и т. д. Одним
словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха вы-
ходила из себя, бледнела, краснела от злости; наконец,
Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки.
Старуха немедленно послала за княгиней. Началось
целое дело, и княгиня два часа со слезами на глазах
умоляла свою родственницу простить Катю и позво-
лить ее не наказывать, взяв в соображение, что она
больна. Княжна слушать не хотела сначала; она объ-
явила, что завтра же выедет из дому, и смягчилась
тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит
наказание до выздоровления дочери, а потом удовлет-
ворит справедливому негодованию престарелой
княжны. Однакож Катя выдержала строгий выговор.
Ее увели вниз, к княгине.
157
Но проказница вырвалась-таки после обеда. Проби-
раясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она
приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом дога-
далась, что она замышляет страшное мщение. Дело
было вот в чем.
Не было врага у старушки княжны непримиримее
Фальстафа. Он не ласкался ни к кому, не любил ни-
кого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности.
Он не любил никого, но, видимо, требовал от всех долж-
ного уважения. Все и питали его к нему, примешивая
к уважению надлежащий страх. Но вдруг, с приездом
старушки княжны, все переменилось: Фальстафа
страшно обидели,— именно: ему был формально за-
прещен вход наверх.
Сначала Фальстаф был вне себя от оскорбления и
целую неделю скреб лапами дверь, которою оканчива-
лась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату; но
скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же
воскресенье, когда старушка княжна выходила в цер-
ковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную.
Насилу спасли ее от лютого мщения оскорбленного пса,
ибо он выгнан был по приказанию княжны, которая
объявила, что не может видеть его. С тех пор вход на-
верх запрещен был Фальстафу самым строжайшим
образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли
в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответствен-
ность лежала на слугах. Но мстительное животное на-
шло-таки средство раза три ворваться наверх. Лишь
только он врывался на лестницу, как мигом бежал
через всю анфиладу комнат до самой опочивальни
старушки. Ничто не могло удержать его. По счастию,
дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф
ограничивался тем, что завывал перед нею ужасно, до
тех пор, пока не прибегали люди и не сгоняли его вниз.
Княжна же во все время визита неукротимого бульдога
кричала, как будто ее уж съели, и серьезно каждый раз
делалась больна от страха. Несколько раз она пред-
лагала свой ultimatum княгине и даже доходила до
того, что раз, забывшись, сказала, что или она, или
Фальстаф выйдут из дома; но княгиня не согласилась
на разлуку с Фальстафом.
158
Княгиня мало кого любила, но Фальстафа, после
детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет
шесть назад, князь воротился с прогулки, приведя за
собою щенка грязного, больного, самой жалкой наруж-
ности, но который, однакож, был бульдог самой чистой
крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как
новый жилец вел себя примерно неучтиво и грубо, то,
по настоянию княгини, был удален на задний двор и
посажен на веревку. Князь не прекословил. Два года
спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша,
младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула,
и первым движением ее было кинуться в воду за сы-
ном. Ее насилу спасли от верной смерти. Между тем
ребенка уносило быстро течением, и только одежда
его всплывала наверх. Наскоро стали отвязывать
лодку, но спасение было бы чудом. Вдруг огромный
исполинский бульдог бросается в воду наперерез уто-
пающему мальчику, схватывает его в зубы и победо-
носно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась
целовать грязную, мокрую собаку. Но Фальстаф, кото-
рый еще носил тогда прозаическое и в высшей степени
плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог
ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини
тем, что прокусил ей плечо во сколько хватило зубов.
Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благо-
дарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во
внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебря-
ный ошейник высокой отделки. Он поселился в каби-
нете княгини, на великолепной медвежьей шкуре,
и скоро княгиня дошла до того, что могла его гла-
дить, не опасаясь немедленного и скорого наказания.
Узнав, что любимца ее зовут Фриксой, она пришла в
ужас, и немедленно стали приискивать новое имя, по
возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и проч,
были уже слишком опошлены; требовалось название,
вполне приличное фавориту дома. Наконец, князь,
взяв в соображение феноменальную прожорливость
Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом.
Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда
за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо: как истый
англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не
159
бросался первый, только требовал, чтоб почтительно
обходили его место на медвежьей шкуре и вообще
оказывали должное уважение. Иногда на него находил-
как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в
эти минуты Фальстаф с горестию припоминал, что враг
его, непримиримый его враг, посягнувший на его права,
был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался
к лестнице, ведущей наверх, и, найдя, по обыкновению,
дверь всегда запертою, ложился где-нибудь непода-
леку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-
нибудь оплошает и оставит дверь наверх отпертою.
Иногда мстительное животное выжидало по три дня. Но
отданы были строгие приказания — наблюдать за.
дверью, и вот уже два месяца Фальстаф не являлся
наверх.
— Фальстаф! Фальстаф! — звала княжна, отворив
дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на
лестницу.
В это время Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют,
уже приготовился скакнуть за свой Рубикон. Но при-
зыв княжны показался ему так невозможным, что он
некоторое время решительно отказывался верить ушам
своим. Он был лукав, как кошка, и, чтоб не показать
вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, по-
дошел к окну, положил на подоконник свои могучие
лапы и начал рассматривать противоположное зда-
ние,— словом, вел себя, как совершенно посторонний
человек, который шел прогуливаться и остановился на
минуту полюбоваться прекрасной архитектурой сосед-
него здания. Между тем в сладостном ожидании билось
и нежилось его сердце. Каково же было его изумление,
радость, исступление радости, когда дверь отворили
перед ним всю настежь и, мало того, еще звали, при-
глашали, умоляли его вступить наверх и немедленно
удовлетворить свое справедливое мщение! Он, взвизг-
нув от радости, оскалил зубы и, страшный, победо-
носный, бросился наверх, как стрела.
Напор его был так силен, что встретившийся на его
дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и
перевернулся на месте. Фальстаф летел, как ядро, вы-
рвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от
160
ужаса, но Фальстаф уже домчался до заветной двери,
ударился в нее обеими лапами, однакож не отворил ее
и завыл, как погибший. В ответ ему раздался страш-
ный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон
бежали целые легионы врагов, целый дом переселился
наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф, с намордни-
ком, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по
всем четырем ногам, бесславно воротился с поля битвы,
влекомый вниз на аркане.
Послан был посол за княгиней.
В этот раз княгиня не расположена была прощать
и миловать; но кого наказывать? Она догадалась с пер-
вого раза, мигом; ее глаза упали на Катю... Так и есть:
Катя стоит бледная, дрожа от страха. Она только те-
перь догадалась, бедненькая, о последствиях своей ша-
лости. Подозрение могло упасть на слуг, на невинных,
и Катя уже готова была сказать всю правду.
— Ты виновата? — строго спросила княгиня.
Я видела смертельную бледность Кати и, ступив
вперед, твердым голосом произнесла:
— Я пустила Фальстафа... нечаянно,— прибавила я,
потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным
взглядом княгини.
— Мадам Леотар, накажите примерно! — сказала
княгиня и вышла из комнаты.
Я взглянула на Катю: она стояла как ошеломлен-
ная; руки ее повисли по бокам; побледневшее личико
глядело в землю.
Единственное наказание, употреблявшееся для де-
тей князя, было заключение в пустую комнату. Проси-
деть в пустой комнате часа два — ничего. Но когда
ребенка сажали насильно, против его воли, и объяв-
ляли, что он лишен свободы, то наказание было до-
вольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или
брата ее на два часа. Меня посадили на четыре/взяв
в соображение всю чудовищность моего преступления.
Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я ду-
мала о княжне. Я знала, что победила. Но вместо четы-
рех часов я просидела до четырех утра. Вот как это
случилось.
Ф. М. Достоевский, т. 2
161'
Через два часа после моего заключения мадам Лео-
тар узнала, что приехала ее дочь из Москвы, вдруг за-
болела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, по-
забыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно
предположила, что я уже выпущена. Катя была ото-
звана вниз и принуждена была просидеть у матери до
одиннадцати часов вечера. Воротясь, она чрезвычайно
изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела
ее, уложила, но княжна имела свои причины не спра-
шивать обо мне. Она легла, поджидая меня, зная на-
верно, что я арестована на четыре часа, и полагая, что
меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня
совершенно, тем более что я раздевалась всегда сама.
Таким образом, я осталась ночевать под арестом.
В четыре часа ночи услышала я, что стучат и ло-
мятся в мою комнату. Я спала, улегшись кое-как на
полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же
отличила голос Кати, который раздавался громче всех,
потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти,
потом ключницы. Наконец, отворили дверь, и мадам
Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося про-
стить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась
к ней на шею вся в слезах. Я продрогла от холода, и все
кости болели у меня от лежанья на голом полу.
Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу
спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже
спала или притворялась спящею. Поджидая меня с ве-
чера, она невзначай заснула и проспала до четырех
часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый
содом, разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню,
всех девушек и освободила меня.
Наутро все в доме узнали о моем приключении;
даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком
строго. Что же касается до князя, то в этот день я его
видела в первый раз в жизни рассерженным. Он вошел
наверх в десять часов утра в сильном волнении.
— Помилуйте,— начал он к мадам Леотар,— что вы
делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это
варварство, чистое варварство, скифство! Больной, сла-
бый ребенок, такая мечтательная, пугливая девочка,
фантазерка, и посадить ее в темную комнату на целую
162
ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее
истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам го-
ворю, сударыня! И как можно такое наказание? кто
изобрел, кто мог изобресть такое наказание?
Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в сму-
щении начала объяснять ему все дело, сказала, что она
забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что нака-
зание само в себе хорошее, если продолжается недолго,
и что даже Жан Жак Руссо говорит нечто подобное.
— Жан Жак Руссо, сударыня! Но Жан Жак не
мог говорить этого. Жан Жак не авторитет, Жан Жак
Руссо не смел говорить о воспитании, не имел права
на то. Жан Жак Руссо отказался от собственных де-
тей, сударыня! Жан Жак дурной человек, сударыня!
— Жан Жак Руссо! Жан Жак дурной человек!
Князь! князь! что вы говорите?
И мадам Леотар вся вспыхнула.
Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде
всего не любила обижаться; но затронуть кого-нибудь
из любимцев ее, потревожить классическую тень Кор-
неля, Расина, оскорбить Вольтера, назвать Жан Жака
Руссо дурным человеком, назвать его варваром — боже
мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; ста-
рушка дрожала от волнения.
— Вы забываетесь, князь! — проговорила она, на-
конец, вне себя от волнения.
Князь тотчас же спохватился и попросил прощения,
потом подошел ко мне, поцеловал меня с глубоким чув-
ством, перекрестил и вышел из комнаты.
— Pauvre prince! 1 — сказала мадам Леотар, рас-
чувствовавшись в свою очередь. Потом мы сели за
классный стол.
Но княжна училась очень рассеянно. Перед тем как
идти к обеду, она подошла ко мне, вся разгоревшись,
со смехом на губах остановилась против меня, схва-
тила меня за плечи и сказала торопливо, как будто чего-
то стыдясь:
— Что? насиделась вчера за меня? После обеда
пойдем играть в залу.
1 Бедный князь! (франц.)
11*
163
Кто-то прошел мимо нас, и княжна мигом отвер-
нулась от меня.
После обеда, в сумерки, мы обе сошли вниз в боль-
шую залу, схватившись за руки. Княжна была в глу-
боком волнении и тяжело переводила дух. Я была
радостна и счастлива, как никогда не бывала.
— Хочешь в мяч играть? — сказала она мне,— ста-
новись здесь!
Она поставила меня в одном углу залы, но сама,
вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, останови-
лась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покрас-
нела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками.
Я сделала движение к ней; она думала, что я могу
уйти.
— Не ходи, Неточка, побудь со мной,— сказала
она,— это сейчас пройдет.
Но мигом она вскочила с места и, вся раскраснев-
шись, вся в слезах, бросилась мне на шею. Щеки ее
были влажны, губки вспухли, как вишенки, локоны рас-
сыпались в беспорядке. Она целовала меня как безум-
ная, целовала мне лицо, глаза, губы, шею, руки; она
рыдала, как в истерике; я крепко прижалась к ней,
и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, как лю-
бовники, которые свиделись после долгой разлуки.
Сердце Кати билось так сильно, что я слышала каж-
дый удар.
Но в соседней комнате раздался голос. Звали Катю
к княгине.
— Ах, Неточка! Ну! до вечера, до ночи! Ступай те-
перь наверх, жди меня.
Она поцеловала меня последний раз тихо, неслышно,
крепко и бросилась от меня на зов Насти. Я прибежала
наверх, как воскресшая, бросилась на диван, спрятала
в подушки голову и зарыдала от восторга. Сердце ко-
лотилось, как будто грудь хотело пробить. Не помню,
как дожила я до ночи. Наконец, пробило одиннадцать,
и я легла спать. Княжна воротилась только в двена-
дцать часов; она издали улыбнулась мне, но не сказала
ни слова. Настя стала ее раздевать и как будто на-
рочно медлила.
— Скорее, скорее, Настя! — бормотала Катя.
164
— Что это вы, княжна, верно бежали по лестнице,
что у вас так сердце колотится?..— спросила Настя.
— Ах, боже мой, Настя! какая скучная! Скорее,
скорее! — И княжна в досаде ударила ножкой об пол.
— Ух, какое сердечко! — сказала Настя, поцеловав
ножку княжны, которую разувала.
Наконец, все было кончено, княжна легла, и Настя
вышла из комнаты. Вмиг Катя вскочила с постели и
бросилась ко мне. Я вскрикнула, встречая ее.
— Пойдем ко мне, ложись ко мне! — заговорила
она, подняв меня с постели. Мгновенье спустя я была
в ее постели, мы обнялись и жадно прижались друг к
другу. Княжна зацеловала меня в пух.
— А ведь я помню, как ты меня ночью целовала! —
сказала она, покраснев как мак.
Я рыдала.
— Неточка! — прошептала Катя сквозь слезы,—
ангел ты мой, я ведь тебя так давно, так давно уж
люблю! Знаешь, с которых пор?
— Когда?
— Как папа приказал у тебя прощения просить,
тогда как ты за своего папу заступилась, Неточка...
Си-ро-точка ты моя! — протянула она, снова осыпая
меня поцелуями. Она плакала и смеялась вместе.
— Ах, Катя!
— Ну, что? ну, что?
— Зачем мы так долго... так долго...— и я не до-
говорила. Мы обнялись и минуты три не говорили ни
слова.
— Послушай, ты что думала про меня? — спросила
княжна.
— Ах, как много думала, Катя! все думала, и день
и ночь думала.
— И ночью про меня говорила, я слышала.
— Неужели?
— Плакала сколько раз.
— Видишь! Что ж ты все была такая гордая?
— Я ведь была глупа, Неточка. Это на меня так
придет, и кончено. Я все зла была на тебя.
— За что?
— За то, что сама дурная была. Прежде за то, что
165
ты лучше меня; потом за то, что тебя папа больше
любит. А папа добрый человек, Неточна! да?
— Ах, да! — отвечала я со слезами, вспомнив про
князя.
— Хороший человек,— серьезно сказала Катя,— да
что мне с ним делать? он все такой... Ну, а потом стала
у тебя прощенья просить и чуть не заплакала, и за это
опять рассердилась.
— А я-то видела, а я-то видела, что ты плакать
хотела.
— Ну, молчи ты, дурочка, плакса такая сама! —
крикнула на меня Катя, зажав мне рот рукою.— Слу-
шай, мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг
ненавидеть захочется, и так ненавижу, так ненавижу!..
— За что же?
— Да уж я сердита на тебя была. Не знаю за что!
А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь,
и думаю: вот уж замучу я ее, скверную!
— Ах, Катя!
— Душка моя! — сказала Катя, целуя мне руку,—
ну, а потом я с тобой говорить не хотела, никак не хо-
тела. А помнишь, Фальстафку я гладила?
— Ах ты, бесстрашная!
— Как я тру...си...ла-то,— протянула княжна.— Ты
знаешь ли, почему я к нему пошла?
— Почему?
— Да ты смотрела. Когда увидела, что ты смот-
ришь... ах! будь что будет, да и пошла. Испугала я
тебя, а? Боялась ты за меня?
— Ужасть!
— Я видела. А уж я-то как рада была, что Фаль-
стафка ушел! Господи, как я трусила потом, как он
ушел, чу...до...вище этакое!
И княжна захохотала нервическим смехом; потом
вдруг приподняла свою горячую голову и начала при-
стально глядеть на меня. Слезинки, как жемчужинки,
дрожали на ее длинных ресницах.
— Ну, что в тебе есть, что я тебя так полюбила?
Ишь, бледненькая, волосы белокуренькие, сама глу-
пенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си...ро...точка
ты моя!!!
166
И Катя нагнулась опять без счету целовать меня.
Несколько капель ее слез упали на мои щеки. Она была
глубоко растрогана.
— Ведь как любила-то тебя, а все думаю — нет, да
нет! не скажу ей! И ведь как упрямилась! Чего я боя-
лась, чего я стыдилась тебя! Ведь смотри, как нам те-
перь хорошо!
— Катя! больно мне как! — сказала я, вся в исступ-
лении от радости.— Душу ломит!
— Да, Неточка! Слушай дальше... да, слушай, кто
тебя Неточной прозвал?
— Мама!
— Ты мне все про маму расскажешь?
— Все, все,— отвечала я с восторгом.
— А куда ты два платка мои дела, с кружевами?
а ленту зачем унесла? Ах ты бесстыдница! Я ведь это
знаю.
Я засмеялась и покраснела до слез.
— Нет, думаю, помучу ее, подождет. А иной раз ду-
маю: да я ее вовсе не люблю, я ее терпеть не могу.
А ты все такая кроткая, такая овечка ты моя! А ведь
как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа!
Ты умна, Неточка, ведь ты очень умна? а?
— Ну, что ты, Катя! —отвечала я, чуть не обидев-
шись.
— Нет, ты умна,— сказала Катя решительно и
серьезно,— это я знаю. Только раз я утром встала
и так тебя полюбила, что ужас! Ты мне во всю ночь сни-
лась. Думаю, я к маме буду проситься и там буду жить.
Не хочу я ее любить, не хочу! А на следующую ночь
засыпаю и думаю: кабы она пришла, как и в прошлую
ночь, а ты и пришла! Ах, как я притворялась, что
сплю... Ах, какие мы бесстыдницы, Неточка!
— Да за что ж ты меня все любить не хотела?
— Так... да что я говорю! ведь я тебя все любила!
все любила! Уж потом и терпеть не могла думаю, за-
целую я ее когда-нибудь или исщиплю всю до смерти.
Вот тебе, глупенькая ты этакая!
И княжна ущипнула меня.
— А помнишь, я тебе башмак подвязывала?
— Помню.
167
— Помню; хорошо тебе было? Смотрю я на тебя:
экая милочка, думаю: дай я ей башмак подвяжу, что
она будет думать! Да так мне самой хорошо стало.
И ведь, право, хотела поцеловаться с тобою... да и не
поцеловала. А потом так смешно стало, так смешно!
И всю дорогу, как гуляли вместе, так вот вдруг и хочу
захохотать. На тебя смотреть не могу, так смешно.
А ведь как я рада была, что ты за меня в темницу по-
шла.
Пустая комната называлась «темницей».
— А ты струсила?
— Ужас как струсила.
— Да не тому еще рада, что ты на себя сказала,
а рада тому была, что ты за меня посидишь! Думаю:
плачет она теперь, а я-то ее как люблю! Завтра буду
ее так целовать, так целовать! И ведь не жалко, ей-богу,
не жалко было тебя, хоть я и поплакала.
— А я-то вот и не плакала, нарочно рада была!
— Не плакала? ах ты злая! — закричала княжна,
всасываясь в меня своими губками.
— Катя, Катя! Боже мой, какая ты хорошенькая!
— Не правда ли? Ну теперь, что хочешь со мной,
то и делай! Тирань меня, щипли меня! Пожалуйста,
ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!
— Шалунья!
— Ну, еще что?
— Дурочка...
— А еще?
— А еще поцелуй меня.
И мы целовались, плакали, хохотали; у нас губы
распухли от поцелуев.
— Неточка! во-первых, ты всегда будешь ко мне
спать приходить. Ты целоваться любишь? И целоваться
будем. Потом я не хочу, чтоб ты была такая скучная.
Отчего тебе скучно было? Ты мне расскажешь? а?
— Все расскажу; но мне теперь не скучно, а ве-
село!
— Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня!
Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать,
Неточка?
— Нет.
168
— Ну, так давай говорить.
И часа два мы еще проболтали. Бог знает чего мы
не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все
свои планы для будущего и настоящее положение ве-
щей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех,
почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам
Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не стро-
гая. Далее мы тут же выдумали, что мы будем делать
завтра, послезавтра, и вообще рассчитали жизнь чуть
ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем
так жить: она мне будет один день приказывать, а я
все исполнять, а другой день наоборот — я приказы-
вать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе
будем поровну друг другу приказывать; а там кто-
нибудь нарочно не послушается, так мы сначала по-
ссоримся, так для виду, а потом как-нибудь поско-
рее помиримся. Одним словом, нас ожидало беско-
нечное счастие. Наконец, мы утомились болтать, у
меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной,
что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро
мы проснулись разом, поцеловались наскоро, потому
что к нам входили, и я успела добежать до своей
кровати.
Весь день мы не знали, что делать друг с другом от
радости. Мы все прятались и бегали от всех, более
всего опасаясь чужого глаза. Наконец, я начала ей
свою историю. Катя потрясена была до слез моим рас-
сказом.
— Злая, злая ты этакая! Для чего ты мне раньше
всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила!
И больно тебя мальчики били на улице?
— Больно. Я так боялась их!
— Ух, злые! Знаешь, Неточна, я сама видела, как
один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько
возьму Фальстафкину плетку, и уж если один встре-
тится такой, я его так прибью, так прибью!
Глазки ее сверкали от негодования.
Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись,
чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целовались
мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел
этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга,
169
задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось
недолго.
Мадам Леотар должна была доносить о каждом
движении княжны. Она наблюдала за нами целые три
дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рас-
сказать. Наконец, она пошла к княгине и объявила ей
все, что подметила,— что мы обе в каком-то исступле-
нии, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом,
поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные,
как безумные, без умолку болтаем, тогда как этого
прежде не было, что она не знает, чему приписать это
все, но ей кажется, что княжна в каком-нибудь болез-
ненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше
видеться пореже.
— Я давно это думала,— отвечала княгиня,— уж
я знала, что эта странная сиротка наделает нам хло-
пот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь
ее,— ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влия-
ние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?
— Без памяти.
Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала
ко мне свою дочь.
— Это ненатурально,— сказала она.— Прежде они
были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому
радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я
ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с
молоком всосала свое воспитание, свои привычки и,
может быть, правила. И не понимаю, что находит в
ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пан-
сион.
Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться,
но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас при-
слали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со
мной не увидится до следующего воскресенья, то есть
ровно неделю.
Я узнала про все поздно вечером и была поражена
ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не
перенесет нашей разлуки. Я приходила в исступление
от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко
мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употре-
бил все свои усилия, но все было тщетно, княгиня не
170
изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить
в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.
На третий день, утром, Настя принесла мне записку
от Кати. Катя писала карандашом, страшными кара-
кулями, следующее:
«Я тебя очень люблю. Сижу с шатал и все думаю,
как к тебе убежать. Но я убегу — я сказала, и потому
не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя
обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка.
Посылаю тебе конфект. Прощай».
Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала
я над запиской Кати. Мадам Леотар замучила меня
своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и
сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если
не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала
княгине. Я расспрашивала Настю: что с Катей? Она от-
вечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.
Наутро Настя шепнула мне:
— Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спусти-
тесь по лестнице, которая справа.
Все во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от
ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет.
Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо
поцеловала. Смех, слезы... Мигом Катя вырвалась из
моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его
плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них
на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от
восторга.
— Папа, какой ты хороший человек, папа!
— Шалуньи вы! что с вами сделалось? что за
дружба? что за любовь?
— Молчи, папа, ты наших дел не знаешь.
И мы снова бросились в объятия друг к другу.
Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в
три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность про-
крадывалась на его место. Я заплакала с горя.
Наконец, постучалась Настя. Знак, что схватились
Кати и спрашивают. Катя побледнела как смерть.
— Полно, дети. Мы каждый день будем сходиться.
Прощайте, и да благословит вас господь! — сказал
князь.
171
Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень
худо. Вечером из Москвы пришло известие, что малень-
кий Саша внезапно заболел и при последнем издыха-
нии. Княгиня положила отправиться завтра же. Это
случилось так скоро, что я ничего и не знала, до самого
прощания с княжной. На прощанье настоял сам князь,
и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая.
Я сбежала вниз, не помня себя, и бросилась к ней на
шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя
вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бро-
силась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в па-
мять. Наконец, она очнулась и обняла меня снова.
— Прощай, Неточка! — сказала она мне вдруг, за-
смеявшись с неизъяснимым движением в лице.— Ты
не смотри на меня; это так; я не больна, я приеду
через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.
— Довольно,— сказала княгиня спокойно,— едем!
Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно
сжала меня в объятиях.
— Жизнь моя! — успела она прошептать, обнимая
меня.— До свиданья!
Мы поцеловались в последний раз, и княжна ис-
чезла — надолго, очень надолго. Прошло восемь лет
до нашего свиданья!
Я нарочно рассказала так подробно этот эпизод
моего детства, первого появления Кати в моей жизни.
Но наши истории нераздельны. Ее роман — мой роман.
Как будто суждено мне было встретить ее; как будто
суждено ей было найти меня. Да и я не могла отказать
себе в удовольствии перенестись еще раз воспомина-
нием в мое детство... Теперь рассказ мой пойдет быст-
рее. Жизнь моя вдруг впала в какое-то затишье, и я
как будто очнулась вновь, когда мне уже минуло шест-
надцать лет...
Но — несколько слов о том, что сталось со мною
по отъезде княжеского семейства в Москву.
Мы остались с мадам Леотар.
Через две недели приехал нарочный и объявил, что
поездка в Петербург отлагается на неопределенное
время. Так как мадам Леотар, по семейным обстоятель-
172
ствам, не могла ехать в Москву, то должность ее в
доме князя кончилась; но она осталась в том же семей-
стве и перешла к старшей дочери княгини, Александре
Михайловне.
Я еще ничего не сказала про Александру Михай-
ловну, да и видела я ее всего один раз. Она была дочь
княгини еще от первого мужа. Происхождение и род-
ство княгини было какое-то темное; первый муж ее был
откупщик. Когда княгиня вышла замуж вторично, то
решительно не знала, что ей делать с старшею дочерью.
На блестящую партию она надеяться не могла. При-
даное же давали за нею умеренное; наконец, четыре
года назад сумели выдать ее за человека богатого и в
значительных чинах. Александра Михайловна посту-
пила в другое общество и увидела кругом себя другой
свет. Княгиня посещала ее в год по два раза; князь,
вотчим ее, посещал ее каждую неделю, вместе с Катей.
Но в последнее время княгиня не любила пускать
Катю к сестре, и князь возил ее потихоньку. Катя
обожала сестру. Но они составляли целый контраст
характеров. Александра Михайловна была женщина
лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно
какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердеч-
ная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьез-
ность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным
чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взгля-
нуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии.
Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда
я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и
не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди,—
словно монастырка. Детей у нее не было. Помню, она
приехала к мадам Леотар, подошла ко мне и с глубо-
ким чувством поцеловала меня. С ней был один худо-
щавый, довольно пожилой мужчина. Он прослезился,
на меня глядя. Это был скрипач Б. Александра Михай-
ловна обняла меня и спросила, хочу ли я жить у нее
и быть ее дочерью. Посмотрев ей в лицо, я узнала
сестру моей Кати и обняла ее с глухою болью в сердце,
от которой заныла вся грудь моя... как будто кто-то
еще раз произнес надо мною: «Сиротка!» Тогда Алек-
сандра Михайловна показала мне письмо от князя.
173
В нем было несколько строк ко мне, и я прочла их с
глухими рыданиями. Князь благословлял меня на дол-
гую жизнь и на счастье и просил любить другую дочь
его. Катя приписала мне тоже несколько строк. Она
писала, что не разлучается теперь с матерью!
И вот вечером я вошла в другую семью, в другой
дом, к новым людям, в другой раз оторвав сердце от
всего, что мне стало так мило, что было уж для меня
родное. Я приехала вся измученная, истерзанная от ду-
шевной тоски... Теперь начинается новая история.
VI
Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как
будто я поселилась среди затворников... Я прожила у
моих воспитателей с лишком восемь лет и не помню,
чтоб во все это время, кроме каких-нибудь нескольких
раз, в доме был званый вечер, обед или как бы нибудь
собрались родные, друзья и знакомые. Исключая двух-
трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., кото-
рый был другом дома, да тех, которые бывали у мужа
Александры Михайловны, почти всегда по делам, в наш
дом более никто не являлся. Муж Александры Михай-
ловны постоянно был занят делами и службою и только
изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свобод-
ного времени, которое и делилось поровну между се-
мейством и светскою жизнью. Значительные связи,
которыми пренебрегать было невозможно, заставляли
его довольно часто напоминать о себе в обществе.
Почти всюду носилась молва об его неограниченном
честолюбии; но так как он пользовался репутацией че-
ловека делового, серьезного, так как он занимал весьма
видное место, а счастье и удача как будто сами ловили
его на дороге, то общественное мнение далеко не отни-
мало у него своей симпатии. Даже было и более.
К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное
участие, в котором, обратно, совершенно отказывали
жене его. Александра Михайловна жила в полном оди-
ночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий
характер как будто создан был для затворничества.
Она привязана была ко мне всей душой, полюбила
174
меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими
слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем,
жадно бросилась в материнские объятия моей благоде-
тельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не пре-
рывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила
мне все на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я
скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба
ее вовсе не так красна, как о том можно было судить
с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною,
жизни, по видимой свободе, по безмятежно-ясной улыб-
ке, которая так часто светлела на лице ее, и потому
каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь
новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что
мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и
вместе с грустным сознанием все более и более росла и
крепла моя к ней привязанность.
Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спо-
койные черты лица ее, нельзя было предположить с пер-
вого раза, чтоб какая-нибудь тревога, могла смутить ее
праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она
могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда
брало в ее душе верх даже над самым отвращением,
а между тем она привязана была к немногим друзьям и
жила в полном уединении... Она была страстна и впе-
чатлительна по натуре своей, но в то же время как буд-
то сама боялась своих впечатлений, как будто каждую
минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться,
хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой
минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезап-
ное, тягостное воспоминание чего-то мучительно тер-
завшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто
что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его.
И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее,
яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска,
тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто
на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спо-
койного месяца в целые восемь лет. Муж, повидимому,
очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда
казалось, как будто что-то было недосказано между
ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней
мере я начала подозревать с первой минуты...
175
Муж Александры Михайловны с первого раза про-
извел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление
зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось.
С виду это был человек высокий, худой и как будто
с намерением скрывавший свой взгляд под большими
зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже
глаз на глаз с женой как будто не находил темы для
разговора. Он, видимо,- тяготился людьми. На меня он
не обращал никакого внимания, а между тем я, каждый
раз, когда, бывало, вечером все трое сойдемся в гости-
ной Александры Михайловны пить чай, была сама не
своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала
я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что
и она как будто обдумывает каждое свое движение,
бледнеет, если замечает, что муж становится особенно
суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто
услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-ни-
будь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть
с ним вместе, а между тем она, повидимому, жить не
могла без него ни минуты. Меня поражало ее необык-
новенное внимание к нему, к каждому его слову, к каж-
дому движению; как будто бы ей хотелось всеми си-
лами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала,
что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как
будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка
на его лице, полслова ласкового — и она была счаст-
лива; точно как будто это были первые минуты еще
робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухажи-
вала, как за трудным больным. Когда же он уходил к
себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны,
на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-
то тягостным для нее состраданием, она вся переменя-
лась. Движения, разговор ее тотчас же становились
веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго
оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она
тотчас же начинала припоминать каждое слово, им
сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко
обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слы-
шала и так ли именно выразился Петр Александро-
вич? — как будто ища какого-то другого смысла в том,
что он говорил, и только, может быть, целый час спустя,
176
совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он
совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится.
Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостна,
целовала меня, смеялась со мной или подходила к фор-
тепьяно и импровизировала на них часа два. Но не-
редко радость ее вдруг прерывалась: она начинала пла-
кать, и когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смуще-
нии, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как
будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так,
ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Слу-
чалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тре-
вожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посы-
лала узнать, что он делает, разузнавала от своей де-
вушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он
хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что гово-
рил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не
смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей
что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так
покорно, так робела за себя, как будто была его раба.
Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней,
какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделье.
Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась
счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он,
невзначай (что было очень редко), вздумает приласкать
малюток-детей, которых было двое. Лицо ее преобра-
жалось, сияло счастием, и в эти минуты ей случалось
даже слишком увлечься своею радостью перед мужем.
Она, например, даже до того простирала смелость, что
вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, конечно с
робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал
новую музыку, которую она получила, или сказал свое
мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей
прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора,
который в тот день произвел на нее особенное впечат-
ление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания
ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются
баловнику-дитяти, которому не хотят отказать в иной
странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно
смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до
глубины души возмущали эта улыбка, это высокомер-
ное снисхождение, это неравенство между ними; я мол-
12 ф. М. Достоевский, т. 2
177
чала, удерживалась и только прилежно следшта за
ними с ребяческим любопытством, но с преждёвре-
менно суровой думой. В другой раз я замечала, что он
вдруг как будто невольно спохватится, как будто опо-
мнится; как будто он внезапно, через силу и против
воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбеж-
ном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица
его, и глаза его вдруг устремляются на оторопевшую
жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала,
которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я
бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с
лица Александры Михайловны. Музыка или чтение пре-
рывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. На-
ступала неприятная минута, тоскливая минута, которая
иногда долго длилась. Наконец, муж прерывал ее. Он
подымался с места, как будто через силу подавляя в
себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по
комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко
вздыхал и, в очевидном смущении, сказав несколько от-
рывистых слов, в которых как бы проглядывало жела-
ние утешить жену, выходил из комнаты, а Александра
Михайловна ударялась в слезы или впадала в страш-
ную, долгую грусть. Часто он благословлял и крестил
ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она прини-
мала его благословение со слезами благодарности и с
благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров
в нашем доме (в целые восемь лет — двух-трех, не бо-
лее), когда Александра Михайловна как будто вдруг
вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование
отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо все-
гдашнего самоуничижения и благоговения к мужу.
Иногда целый час приготовлялась гроза; муж стано-
вился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного.
Наконец, больное сердце бедной женщины как будто не
выносило. Она начинала прерывающимся от волнения
голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный,
полный каких-то намеков и горьких недомолвок; потом,
как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась
слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодова-
ния, укоров, жалоб, отчаяния,— словно она впадала в
болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с ка-
178
ким терпением выносил это муж, с каким участием
склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, нако-
нец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как
будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и
уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее,
и она, ломая руки, в отчаянии, с судорожными рыда-
ниями, у ног его вымаливала о прощении, которое тот-
час же получала. Но еще надолго продолжались муче-
ния ее совести, слезы и моления простить ее, и еще
робче, еще трепетнее становилась она перед ним на це-
лые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и
упреках; меня же и высылали в это время из комнаты,
и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от
меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с
самого начала вселилось в меня темное подозрение, что
какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные
взрывы уязвленного сердца — не простой нервный кри-
зис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром
это как будто двусмысленное сострадание его к бедной,
больной жене, что недаром всегдашняя робость и тре-
пет ее перед ним и эта смиренная, странная любовь,
которую она даже не смела проявить перед мужем, что
недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта
краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее
в присутствии мужа.
Но так как подобные сцены с мужем были очень
редки; так как жизнь наша была очень однообразна и
я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как,
наконец, я развивалась и росла очень быстро и много
уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессозна-
тельного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то
я и привыкла, наконец, к этой жизни, к этим обычаям
и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не
могла не задуматься подчас, глядя на Александру
Михайловну, но думы мои покамест не разрешались
ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и
потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим
любопытством. Она понимала меня и сколько раз го-
това была благодарить меня за мою к ней привязан-
ность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко
сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами
12*
179
своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она
очень довольна, очень счастлива, что к ней все так
добры, что все те, которых она знала до сих пор, так
любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александро-
вич вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии,
тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!..
И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством,
такою любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если
можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.
Черты лица ее никогда не изгладятся из моей па-
мяти. Они были правильны, а худоба и бледность, каза-
лось, еще более возвышали строгую прелесть ее кра-
соты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко
книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек;
но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее
нежного взгляда, больших детски-ясных голубых глаз,
робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица,
на котором отражалось подчас так много наивного, не-
смелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося
за каждое ощущение, за каждый порыв сердца — и за
мгновенную радость и за частую тихую грусть. Но в
иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде,
проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого,
как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голу-
бые, как небо, сияли такою любовью, смотрели так
сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чув-
ство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему,
что просило любви, молило о сострадании,— что вся
душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, ка-
залось, от нее же принимала и эту ясность, и это спо-
койствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз
засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов
пробыть целые часы в сладостном созерцании и что
свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа,
точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился
величавый купол небесный. Когда же — и это так часто
случалось — одушевление нагоняло краску на ее лицо
и грудь ее колыхалась от волнения,— тогда глаза ее
блестели, как молния, как будто метали искры, как буд-
то вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый
пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, пере-
180
селилась в них. В эти минуты она была как вдохновен-
ная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких
переходах от тихого, робкого настроения духа к про-
светленному, высокому одушевлению, к чистому, стро-
гому энтузиазму вместе с тем было столько наивного,
детски-скорого, столько младенческого верования, что
художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить
такую минуту светлого восторга и перенесть это вдохно-
венное лицо на полотно.
С первых дней моих в этом доме я увидела, что она
даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у
ней было только одно дитя и только год как она была
матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий
между мной и своими она делать не могла. С каким
жаром она принялась за мое воспитание! Она так за-
торопилась вначале, что мадам Леотар невольно улы-
балась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись
вдруг за все, так что и не поняли было друг друга.
Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень
многому, но так многому, что выходило с ее стороны
больше горячки, больше жара, более любовного нетер-
пения, чем истинной пользы для меня. Сначала она
была огорчена своим неуменьем; но, рассмеявшись, мы
принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, не-
смотря на первую неудачу, смело объявила себя против
системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая
воспитательница моя наотрез объявила себя против
всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью
найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать
голову сухими познаниями и что весь успех зависит от
уразумения моих инстинктов и от уменья возбудить во
мне добрую волю,— и она была права, потому что
вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала
совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы
учились, как две подруги, и иногда делалось так, что
как будто я учила Александру Михайловну, не замечая
хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я
из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его
понимаю, и незаметно Александра Михайловна выво-
дила меня на настоящий путь. .Но кончалось тем, что,
когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась,
181
изобличала уловку Александры Михайловны и, взвесив
все ее старания со мной, нередко целые часы, пожерт-
вованные таким образом для моей пользы, я бросалась
к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого
урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее
даже до недоумения. Она с любопытством начинала
расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать
его от меня, и каждый раз после моих рассказов стано-
вилась со мной нежнее и серьезнее,— серьезнее, потому
что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вместе
с состраданием, как будто какое-то уважение. После
моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие
разговоры, которыми она мне же объясняла мое про-
шлое, так что я действительно как будто вновь пережи-
вала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар
часто находила эти разговоры слишком серьезными и,
видя мои невольные слезы, считала их совсем не у
места. Я же думала совершенно напротив, потому что
после этих уроков мне становилось так легко и сладко,
как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного.
Сверх того я была слишком благодарна Александре
Михайловне за то, что с каждым днем она все более
и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и
невдомек было, что таким образом мало-помалу урав-
нивалось и приходило в стройную гармонию все, что
прежде поднималось из души неправильно, преждевре-
менно бурно и до чего доходило мое детское сердце,
все изъязвленное, с мучительною болью, так что неспра-
ведливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не
понимая, откуда удары.
День начинался тем, что мы обе сходились в детской
у ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили
его, забавляли, учили его говорить. Наконец, мы остав-
ляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому,
но бог знает, какая это была наука. Тут было все, и
вместе с тем ничего определенного. Мы читали, расска-
зывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для
музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам
часто приходил Б., друг Александры Михайловны, при-
ходила мадам Леотар; нередко начинался разговор
самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую
182
мы в нашем кружке знали только понаслышке), о дей-
ствительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и
мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил,
воспламенялась вместе с другими, смеялась или была
растрогана, и тут-то узнала я в подробности все то, что
касалось до моего отца и до моего первого детства.
Между тем я росла; мне нанимали учителей, от кото-
рых, без Александры Михайловны, я бы ничему не на-
училась. С учителем географии я бы только ослепла,
отыскивая на карте города и реки. С Александрой Ми-
хайловной мы пускались в такие путешествия, перебы-
вали в таких странах, видели столько диковин, пере-
жили столько восторженных, столько фантастических
часов, и так сильно было обоюдное рвение, что книг,
прочитанных ею, наконец, решительно недостало: мы
принуждены были приняться за новые книги. Скоро я
могла сама показывать моему учителю географии, хотя
все-таки, нужно отдать ему справедливость, он до
конца сохранил передо мной превосходство в полном
и совершенно определительном познании градусов, под
которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен
и даже тех десятков жителей, которые в нем заключа-
лись. Учителю истории платились деньги тоже чрезвы-
чайно исправно; но по уходе его мы с Александрой Ми-
хайловной историю учили по-своему: брались за книги
и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше
сказать, читала Александра Михайловна, потому что
она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала
более восторга, как после этого чтения. Мы одушевля-
лись обе, как будто сами были героями. Конечно, между
строчками читалось больше, чем в строчках; Але-
ксандра же Михайловна, кроме того, прекрасно расска-
зывала, так, как будто при ней случилось все, о чем мы
читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так
воспламенялись и просиживали за полночь, я — ребе-
нок, она — уязвленное сердце, так тяжело переносив-
шее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле
меня. Припоминаю, что подчас я странно задумыва-
лась, на нее глядя, я угадывала, и прежде, чем я начала
жить, я уже угадала многое в жизни.
183
Наконец, мне минуло тринадцать лет. Между тем
здоровье Александры Михайловны становилось все
хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, припадки
ее безвыходной грусти ожесточеннее, визиты мужа на-
чались чаще, и просиживал он с нею, разумеется, как
и прежде, почти молча, суровый и хмурый, все больше
и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать
меня. Я выходила из детства, во мне уж сформирова-
лось много новых впечатлений, наблюдений, увлечений,
догадок; ясно, что загадка, бывшая в этом семействе,
все более и более стала мучить меня. Были минуты, в
которые мне казалось, что я что-то понимаю в этой за-
гадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апа-
тию, даже в досаду и забывала свое любопытство, не
находя ни на один вопрос разрешения. Порой — и это
случалось все чаще и чаще — я испытывала странную
потребность оставаться одной и думать, все думать:
моя настоящая минута похожа была на то время, когда
еще я жила у родителей и когда вначале, прежде чем
сошлась с отцом, целый год думала, соображала, при-
глядывалась из своего угла на свет божий, так что,
наконец, совсем одичала среди фантастических призра-
ков, мною же созданных. Разница была в том, что те-
перь было больше нетерпения, больше тоски, более но-
вых, бессознательных порывов, более жажды к движе-
нию, к подымчивости, так что сосредоточиться на
одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны,
Александра Михайловна как будто сама стала более
удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла
ей быть подругой. Я была не ребенок, я слишком
о многом спрашивала и подчас смотрела на нее так, что
она должна была потуплять глаза предо мною. Были
странные минуты. Я не могла видеть ее слез, и часто
слезы накипали на моих глазах, глядя на нее. Я броса-
лась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла
отвечать мне? Я чувствовала, что была ей в тягость.
Но в другое время — и это было тяжелое, грустное
время — она сама, как будто в каком-то отчаянии, су-
дорожно обнимала меня, как будто искала моего уча-
стия, как будто не могла выносить своего одиночества,
как будто я уж понимала ее, как будто мы страдали
184
с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тай-
на, это было очевидно, и я уж сама начала удаляться
от нее в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме
того, нас уж мало что соединяло, одна музыка. Но му-
зыку стали ей запрещать доктора. Книги? Но здесь
было всего труднее. Она решительно не знала, как чи-
тать со мною. Мы, конечно, остановились бы на первой
странице: каждое слово могло быть намеком, каждая
незначащая фраза — загадкой. От разговора вдвоем,
горячего, задушевного, мы обе бежали.
И вот в это время судьба внезапно и неожиданно
повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом.
Мое внимание, мои чувства, сердце, голова — все ра-
зом, с напряженною силою, доходившею даже до энту-
зиазма, обратилось вдруг к другой, совсем неожидан-
ной деятельности, и я сама, не заметив того, вся пере-
неслась в новый мир; мне некогда было обернуться,
осмотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чув-
ствовала это; но соблазн был сильнее страха, и я пошла
наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от
той действительности, которая так начинала тяготить
меня и в которой я так жадно и бесполезно искала вы-
хода. Вот что такое это было и вот как оно случилось.
Из столовой было три выхода: один в большие ком-
наты, другой в мою и в детские, а третий вел в библио-
теку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся
от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в
котором обыкновенно помещался помощник Петра
Александровича в делах, его переписчик, его сподруч-
ник, бывший в одно и то же время его секретарем и
фактором Ч Ключ от шкафов и библиотеки хранился
у него. Однажды, после обеда, когда его не было дома,
я нашла этот ключ на полу.- Меня взяло любопытство
и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку.
Это была довольно большая комната, очень светлая,
установленная кругом восемью большими шкафами,
полными книг. Книг было очень много, и из них боль-
шая часть досталась Петру Александровичу как-то по
наследству. Другая часть книг собрана была Александ-
1 посредником (лат.).
185
рой Михайловной, которая покупала их беспрестанно.
До сих пор мне давали читать с большою осмотритель-
ностью, так что я без труда догадалась, что мне многое
запрещают и что многое для меня тайна. Вот почему я
с неудержимым любопытством, в припадке страха и
радости и какого-то особенного, безотчетного чувства,
отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом
шкафе были романы. Я взяла один из них, затворила
шкаф и унесла к себе книгу с таким странным ощуще-
нием, с таким биением и замиранием сердца, как будто
я предчувствовала, что в моей жизни совершается боль-
шой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась
и раскрыла роман. Но читать я не могла; у меня была
другая забота: мне сначала нужно было уладить прочно
и окончательно свое обладание библиотекой так, чтоб
никто того не знал и чтоб возможность иметь всякую
книгу во всякое время осталась при мне. И потому я от-
ложила свое наслаждение до более удобной минуты,
книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила
его, и это был первый дурной поступок в моей жизни.
Я ждала последствий; они уладились чрезвычайно бла-
гоприятно: секретарь и помощник Петра Александро-
вича, проискав ключа целый вечер и часть ночи со све-
чою на полу, решился наутро призвать слесаря, кото-
рый из связки принесенных им ключей прибрал новый.
Тем дело и кончилось, о пропаже ключа никто более
ничего не слыхал; я же повела дело так осторожно и
хитро, что пошла в библиотеку только чрез неделю, со-
вершенно уверившись в полной безопасности насчет
всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда се-
кретаря не было дома; потом же стала заходить из
столовой, потому что письмоводитель Петра Алексан-
дровича имел' у себя только ключ в кармане, а в даль-
нейшие сношения с книгами никогда не вступал и по-
тому даже не входил в комнату, в которой они находи-
лись.
Я начала читать с жадностью, и скоро чтение
увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои,
все недавние стремления, все еще неясные порывы
моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно
восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные
186
моим слишком ранним развитием,— все это вдруг укло-
нилось в другой, неожиданно представший исход на-
долго, как будто вполне удовлетворившись новою пи-
щею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро
сердце и голова моя были так очарованы, скоро фанта-
зия моя развилась так широко, что я как будто за-
была весь мир, который доселе окружал меня. Каза-
лось, сама судьба остановила меня на пороге в новую
жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала
день и ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый
путь, взвела меня на высоту, показав мне будущее в
волшебной панораме, в заманчивой, блестящей пер-
спективе. Мне суждено было пережить всю эту будущ-
ность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах,
в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волне-
нии юного духа. Я начала чтение без разбора, с первой
попавшейся мне под руку книги, но судьба хранила
меня: то, что я узнала и выжила до сих пор, было так
благородно, так строго, что теперь меня не могла уже
соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница.
Меня хранил мой детский инстинкт, мой ранний воз-
раст и все мое прошедшее. Теперь же сознание как
будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь
мою. Действительно, почти каждая страница, прочитан-
ная мною, была мне уж как будто знакома, как будто
уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта
жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных
формах, в таких волшебных картинах, уже была мною
испытана. И как не завлечься было мне до забвения
настоящего, почти до отчуждения от действительности,
когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною,
воплощались законы той же судьбы, тот же дух при-
ключений, который царил над жизнию человека, но
истекая из какого-то главного закона жизни человече-
ской, который был условием спасения, охранения и сча-
стия. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и стара-
лась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами,
возбужденными во мне почти каким-то чувством само-
сохранения. Меня как будто предуведомляли вперед,
как будто предостерегал кто-нибудь. Как будто что-то
пророчески теснилось мне в душу, и с каждым днем все
187
более и более крепла надежда в душе моей, хотя вместе
с тем все сильнее и сильнее были мои порывы в эту
будущность, в эту жизнь, которая каждодневно пора-
жала меня в прочитанном мною со всей силой, свойст-
венной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но,
как я уже сказала, фантазия моя слишком владычест-
вовала над моим нетерпением, и я, по правде, была
смела лишь в мечтах, а на деле инстинктивно робела
перед будущим. И потому, будто предварительно согла-
сясь с собой, я бессознательно положила довольство-
ваться покуда миром фантазии, миром мечтательности,
в котором уже я одна была владычицей, в котором
были только одни обольщения, одни радости, и самое
несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пас-
сивную, роль переходную, роль необходимую для слад-
ких контрастов и для внезапного поворота судьбы к
счастливой развязке моих головных восторженных ро-
манов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настрое-
ние.
И такая жизнь, жизнь фантазий, жизнь резкого от-
чуждения от всего меня окружавшего, могла продол-
жаться целые три года!
Эта жизнь была моя тайпа, и после целых трех лет
я еще не знала, бояться ли мне ее внезапного оглаше-
ния, или нет. То, что я пережила в эти три года, было
слишком мне родное, близкое. Во всех этих фантазиях
слишком сильно отразилась я сама, до того, что, нако-
нец, могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей
бы он ни был, который бы неосторожно заглянул в мою
душу. К тому же мы все, весь дом наш, жили так уеди-
ненно, так вне общества, в такой монастырской тиши,
что невольно в каждом из нас должна была развиться
сосредоточенность в себе самом, какая-то потребность
самозаключения. То же и со мною случилось. В эти три
года кругом меня ничего не преобразилось, все оста-
лось попрежкему. Попрежнему царило между нами
унылое однообразие, которое,— как теперь думаю,
если б я не была увлечена своей тайной, скрытной дея-
тельностью,— истерзало бы мою душу и бросило бы
меня в неизвестный, мятежный исход из этого вялого,
тоскливого круга, и исход, может быть, гибельный. Ма-
188
дам Леотар постарела и почти совсем заключилась в
своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был
слишком однообразен, а муж Александры Михай-
ловны — такой же суровый, такой же недоступный, та-
кой же заключенный в себя, как и прежде. Между ним и
женой попрежнему была та же таинственность отноше-
ний, которая мне начала представляться все более и бо-
бее в грозном, суровом виде, я все более и более пуга-
лась за Александру Михайловну. Жизнь её, безотрад-
ная, бесцветная, видимо гасла в глазах моих. Здоровье
ее становилось почти с каждым днем хуже и хуже. Как
будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу;
она, видимо, была под гнетом чего-то неведомого, не-
определенного, в чем и сама она не могла дать отчета,
чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного,
но которое она приняла как неизбежный крест своей
осужденной жизни. Сердце ее ожесточалось, наконец,
в этой глухой муке; даже ум ее принял другое направ-
ление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно
наблюдение: мне казалось, что чем более я входила
в лета, тем более она как бы удалялась от меня, так
что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то
нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила
меня в иные минуты; как будто я ей мешала. Я ска-
зала, что стала нарочно удаляться ее, и, удалившись
раз, как будто заразилась таинственностью ее же ха-
рактера. Вот почему все, что я прожила в эти три года,
все, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в по-
знаниях, в надеждах и в страстных восторгах,— все это
упрямо осталось при мне. Раз затаившись друг от
друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, ка-
жется мне, я любила ее с каждым днем еще более
прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том, до
какой степени она была привязана ко мне, до какой
степени она обязалась в своем сердце расточать на
меня все сокровище любви, которое в нем заключалось,
и исполнить обет свой до конца — быть мне матерью.
Правда, собственное горе иногда надолго отвлекало ее
от меня, она как будто забывала обо мне, тем более
что и я старалась не напоминать ей о себе, так что мои
шестнадцать лет подошли, как будто никто того не за-
189
метил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда
кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала
обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала
меня из моей комнаты, из-за моих уроков и занятий,
закидывала меня вопросами, как будто испытывая, ра-
зузнавая меня, не разлучалась со мной по целым дням,
угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно
заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте,
о будущности, и с неистощимою любовью, с каким-то
благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже
очень отвыкла от меня и потому поступала иногда
слишком наивно, так что все это было мне слишком
понятно и заметно. Например, и это случилось, когда
уже мне был шестнадцатый год, она, перерыв мои
книги, расспросив о том, что я читаю, и найдя, что я не
вышла еще из детских сочинений для двенадцати-
летнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я дога-
далась, в чем дело, и следила за нею внимательно. Це-
лые две недели она как будто приготовляла меня,
испытывала меня, разузнавала степень моего развития
и степень моих потребностей. Наконец, она решилась
начать, и на столе нашем явился «Ивангое» Вальтера
Скотта, которого я уже давно прочитала, и по крайней
мере раза три. Сначала она с робким ожиданием сле-
дила за моими впечатлениями, как будто взвешивала
их, словно боялась за них; наконец, эта натянутость
между нами, которая была мне слишком приметна, ис-
чезла; мы воспламенились обе, и я так рада, так рада
была, что могла уже перед ней не скрываться! Когда
мы кончили роман, опа была от меня в восторге. Каж-
дое замечание мое во время нашего чтения было
верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее я
уже развилась слишком далеко. Пораженная этим, в
востроге от меня, она радостно принялась было опять
следить за моим воспитанием,— она уж более не хо-
тела разлучаться со мной; но это было не в ее воле.
Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему
сближению. Для этого достаточно было первого при-
падка болезни, припадка ее всегдашнего горя, а затем
опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может
быть, даже ожесточения.
190
Но и в такое время иногда минута была вне нашей
власти. Чтение, несколько симпатичных слов, перемолв-
ленных между нами, музыка — и мы забывались, вы-
сказывались, высказывались иногда через меру, и после
того нам становилось тяжело друг перед другом. Оду-
мавшись, мы смотрели друг на друга, как испуганные,
с подозрительным любопытством и с недоверчивостью.
У каждой из нас был свой предел, до которого могло
идти наше сближение; за него мы переступить не смели,
хотя бы и хотели.
Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно
читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она
сидела за фортепьяно, импровизируя на тему одного лю-
бимейшего ею мотива итальянской музыки. Когда она
перешла, наконец, в чистую мелодию арии, я, увлек-
шись музыкою, которая проникла мне в сердце, начала
робко, вполголоса, напевать этот мотив про себя. Скоро
увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фор-
тепьяно; Александра Михайловна, как бы угадав меня,
перешла в аккомпанемент и с любовью следила за каж-
дой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена
богатством его. До сих пор я никогда при ней не пела,
да и сама едва знала, есть ли у меня какие-нибудь сред-
ства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я все более и
более возвышала голос; во мне возбуждалась энергия,
страсть, разжигаемая еще более радостным изумле-
нием Александры Михайловны, которое я угадывала в
каждом такте ее аккомпанемента. Наконец, пение кон-
чилось так удачно, с таким одушевлением, с такою си-
лою, что она в восторге схватила мои руки и радостно
взглянула на меня.
— Аннета! да у тебя чудный голос,— сказала
она.— Боже мой! Как же это я не заметила!
— Я сама только сейчас заметила,— отвечала я вне
себя от радости.
— Да благословит же тебя бог, мое милое, бесцен-
ное дитя! Благодари его за этот дар. Кто знает... Ах,
боже мой, боже мой!
Она была так растрогана неожиданностью, в таком
исступлении от радости, что не знала, что мне сказать,
как приголубить меня. Это была одна из тех минут
191
откровения, взаимной симпатии, сближения, которых
уже давно не было с нами. Через час как будто празд-
ник настал в доме. Немедленно послали за Б. В ожида-
нии его мы наудачу раскрыли другую музыку, которая
мне была знакомее, и начали новую арию. В этот раз
я дрожала от робости. Мне не хотелось неудачей раз-
рушить первое впечатление. Но скоро мой же голос
ободрил и поддержал меня. Я сама все более и более
изумлялась его силе, и в этот вторичный опыт рассеяно
было всякое сомнение. В припадке своей нетерпеливой
радости Александра Михайловна послала за детьми,
даже за няней детей своих и, наконец, увлекшись сов-
сем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в
другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр
Александрович выслушал новость благосклонно, по-
здравил меня и сам первый объявил, что нужно меня
учить. Александра Михайловна, счастливая от благо-
дарности, как будто бог знает что для нее было сде-
лано, бросилась целовать его руки. Наконец, явился Б.
Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил
о моем отце, о прошедшем, и когда я спела перед ним
два-три раза, он с серьезным, с озабоченным видом,
даже с какою-то таинственностью, объявил, что сред-
ства есть несомненные, может быть даже и талант, и
что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы
одумавшись, они оба положили с Александрой Михай-
ловной, что опасно слишком захваливать меня в самом
начале, и я заметила, как тут же они перемигнулись и
сговорились украдкой, так что весь их заговор против
меня вышел очень наивен и неловок. Я смеялась про
себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения,
они старались удерживаться и даже нарочно замечать
вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и
первый же изменил себе Б., снова расчувствовавшись
от радости. Я никогда не подозревала, чтоб он так лю-
бил меня. Во весь вечер шел самый дружеский, самый
теплый разговор. Б. рассказал несколько биографий
известных певцов и артистов, и рассказывал с востор-
гом художника, с благоговением, растроганный. Затем,
коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на
мое детство, на князя, на все семейство князя, о кото-
192
ром я так мало слышала с самой разлуки. Но Але-
ксандра Михайловна и сама немного знала о нем.
Всего более знал Б., потому что не раз ездил в Москву.
Но здесь разговор принял какое-то таинственное, за-
гадочное для меня направление, и два-три обстоятель-
ства, в особенности касавшиеся князя, были для меня
непонятны. Александра Михайловна заговорила о Кате,
но Б. ничего не мог сказать о ней особенного и тоже
как будто с намерением желал умолчать о ней. Это
поразило меня. Я не только не позабыла Кати, не
только не замолкла во мне моя прежняя любовь к ней,
но даже напротив, я и не подумала ни разу, что в Кате
могла быть какая-нибудь перемена. От внимания моего
ускользнули доселе и разлука, и эти долгие годы, про-
житые розно, в которые мы не подали друг другу ника-
кой вести о себе, и разность воспитания, и разность
характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не
покидала меня: она как будто все еще жила со мною;
особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и
фантастических приключениях мы всегда шли вместе
с ней рука в руку. Вообразив себя героиней каждого
прочитанного мною романа, я тотчас же помещала
возле себя свою подругу-кияжиу и раздвоивала роман
на две части, из которых одна, конечно, была создана
мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых
авторов. Наконец, в нашем семейном совете положено
было пригласить мне учителя пения. Б. рекомендовал
известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам
приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мне-
ние Б., своего приятеля, но тут же объявил, что мне бу-
дет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе
с другими его ученицами, что тут помогут развитию
моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богат-
ство всех средств, которые будут у меня под руками.
Александра Михайловна согласилась; и с этих пор я
ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам, в
восемь часов, в сопровождении .служанки в консерва-
торию.
Теперь я расскажу одно странное приключение,
имевшее на меня слишком сильное влияние и резким
переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло
13 ф. М. Достоевский, т. 2
193
тогда шестнадцать лет, и вместе с тем в душе моей
вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то
нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой,
посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг
умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от
бессилия. Холодное равнодушие заменило место преж-
него неопытного душевного жара. Даже дарование мое,
принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, ли-
шилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала
им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Але-
ксандре Михайловне я чувствовала какое-то холодное
равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что
не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась
безотчетною грустью, внезапными слезами. Я искала
уединения. В эту странную минуту странный случай
потряс до основания всю мою душу и обратил это за-
тишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено...
Вот как это случилось.
VII
Я вошла в библиотеку (это будет навсегда памятная
для меня минута) и взяла роман Вальтера Скотта
«Сен-ропанские воды», единственный, который еще не
прочитала. Помню, что язвительная, беспредметная
тоска терзала меня как будто каким-то предчувствием.
Мне хотелось плакать. В комнате было ярко, светло от
последних косых лучей заходящего солнца, которые
густо лились в высокие окна, на сверкающий паркет
пола; было тихо; кругом, в соседних комнатах, тоже не
было ни души. Петра Александровича не было дома,
а Александра Михайловна была больна и лежала в по-
стели. Я действительно плакала и, раскрыв вторую
часть, беспредметно перелистывала ее, стараясь оты-
скать какой-нибудь смысл в отрывочных фразах, мель-
кавших у меня перед глазами. Я как будто гадала, как
гадают, раскрывая книгу наудачу. Бывают такие мину-
ты, когда все умственные и душевные силы, болезненно
напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем со-
знания, и в это мгновение что-то пророческое снится
потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием
194
будущего, предвкушающей его. И так хочется жить,
так просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь
самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как буд-
то вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неиз-
вестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только бы
с жизнию. Моя минута именно была такова.
Припоминаю, что я именно закрыла книгу, чтоб
потом раскрыть наудачу и, загадав о моем будущем,
прочесть выпавшую мне страницу. Но, раскрыв ее, я
увидела исписанный лист почтовой бумаги, сложенный
вчетверо и так приплюснутый, так слежавшийся, как
будто уже он несколько лет был заложен в книгу и за-
быт в ней. С крайним любопытством начала, я осматри-
вать свою находку. Это было письмо, без адреса, с под-
писью двух начальных букв С. О. Мое внимание
удвоилось; я развернула чуть не слипшуюся бумагу,
которая от долгого лежания между страницами оста-
вила на них во весь размер свой светлое место. Складки
письма были истерты, выношены: видно было, что
когда-то его часто перечитывали, берегли как драгоцен-
ность. Чернила посинели, выцвели,— уж слишком давно
как оно написано! Несколько слов бросилось мне слу-
чайно в глаза, и сердце мое забилось от ожидания.
Я в смущении вертела письмо в руках, как бы нарочно
отдаляя от себя минуту чтения. Случайно я поднесла
его к свету: да! капли слез засохли на этих строчках;
пятна оставались на бумаге; кое-где целые буквы были
смыты слезами. Чьи это слезы? Наконец, замирая от
ожидания, я прочла половину первой страницы, и крик
изумления вырвался из груди моей. Я заперла шкаф,
поставила книгу на место и, спрятав письмо под ко-
сынку, побежала к себе, заперлась и начала перечиты-
вать опять сначала. Но сердце мое так колотилось, что
слова и буквы мелькали и прыгали перед глазами
моими. Долгое время я ничего не понимала. В письме
было открытие, начало тайны; оно поразило меня, как
молния, потому что я узнала, к кому оно было писано.
Я знала, что я почти преступление сделаю, прочитав
это письмо; по минута была сильнее меня! Письмо было
к Александре Михайловне.
13*
195
Вот это письмо; я привожу его здесь. Смутно по-
няла я, что в нем было, и потом долго не оставляли
меня разгадка и тяжелая дума. С этой минуты как буд-
то переломилась моя жизнь. Сердце мое было потря-
сено и возмущено надолго, почти навсегда, потому что
много вызвало это письмо за собою. Я верно загадала
о будущем.
Это письмо было прощальное, последнее, страшное;
когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное
сжатие сердца, как будто я сама все потеряла, как буд-
то все навсегда отнялось от меня, даже мечты и на-
дежды, как будто ничего более не осталось при мне,
кроме ненужной более жизни. Кто же он, писавший это
письмо? Какова была потом ее жизнь? В письме было
так много намеков, так много данных, что нельзя было
ошибиться, так много и загадок, что нельзя было не по-
теряться в предположениях. Но я почти не ошиблась;
к тому же и слог письма, подсказывающий многое, под-
сказывал весь характер этой связи, от которой разби-
лись два сердца. Мысли, чувства писавшего были на-
ружу. Они были слишком особенны и, как я уже ска-
зала, слишком много подсказывали догадке. Но вот
это письмо; выписываю его от слова до слова:
«Ты не забудешь меня, ты сказала — я верю, и вот
отныне вся жизнь моя в этих словах твоих. Нам нужно
расстаться, пробил наш час! Я давно это знал, моя ти-
хая, моя грустная красавица, но только теперь понял.
Во все наше время, во все время, как ты любила меня,
у меня болело и ныло сердце за любовь нашу, и по-
веришь ли? теперь мне легче! Я давно знал, что этому
будет такой конец, и так было прежде нас суж-
дено! Это судьба! Выслушай меня, Александра: мы
были неровня; я всегда, всегда это чувствовал! Я был
недостоин тебя, и я, один я, должен был нести наказа-
ние за прожитое счастье мое! Скажи: что я был перед
тобою до той поры, как ты узнала меня? Боже! вот
уже два года прошло, и я до сих пор как будто без па-
мяти; я до сих пор не могу понять, что ты меня полю-
била! Я не понимаю, как дошло у нас до того, с чего
началось. Помнишь ли, что я был в сравнении с тобою?
196
Достоин ли я был тебя, чем я взял, чем я особенно был
отличен! До тебя я был груб и прост, вид мой был уныл
и угрюм. Жизни другой я не желал, не помышлял о ней,
не звал ее и призывать не хотел. Все во мне было как-
то придавлено, и я не знал ничего на свете важнее моей
обыденной, срочной работы. Одна забота была у
меня — завтрашний день; да и к той я был равнодушен.
Прежде, уж давно это было, мне снилось что-то такое,
и я мечтал, как глупец. Но с тех пор ушло много-много
времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже
и не чувствуя холода, который леденил мое сердце.
И оно заснуло. Я ведь знал и решил, что для меня ни-
когда не взойдет другого солнца, и верил тому,, и не
роптал ни на что, потому что знал, что так должно
было быть. Когда ты проходила мимо меня, ведь я не
понимал, что мне можно сметь поднять на тебя глаза.
Я был как раб перед тобою. Мое сердце не дрожало
возле тебя, не ныло, не вещало мне про тебя: оно было
покойно. Моя душа не узнавала твоей, хотя и светло
ей было возле своей прекрасной сестры. Я это знаю;
я глухо чувствовал это. Это я мог чувствовать, затем
что и на последнюю былинку проливается свет божией
денницы и пригревает и нежит ее так же, как и роскош-
ный цветок, возле которого смиренно прозябает она.
Когда же я узнал все,— помнишь, после того вечера,
после тех слов, которые потрясли до основания душу
мою,— я был ослеплен, поражен, все во мне помути-
лось, и знаешь ли? я так был поражен, так не по-
верил себе, что не понял тебя! Про это я тебе никогда
не говорил. Ты ничего не знала; не таков я был прежде,
каким ты застала меня. Если б я мог, если б я смел го-
ворить, я бы давно во всем признался тебе. Но я мол-
чал, а теперь все скажу, затем, чтоб ты знала, кого те-
перь оставляешь, с каким человеком расстаешься!
Знаешь ли, как я сначала понял тебя? Страсть, как
огонь, охватила меня, как яд пролилась в мою кровь;
она смутила все мои мысли и чувства, я был опьянен,
я был как в чаду и отвечал на чистую, сострадательную
любовь твою не как равный ровне, не как достойный
чистой любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не
узнал тебя,. Я отвечал тебе как той, которая в глазах
197
моих забылась до меня, а не как той, которая хотела
возвысить меня до себя. Знаешь ли, в чем я подозревал
тебя, что значило это: забылась до меня? Но нет, я не
оскорблю тебя своим признанием; одно скажу тебе: ты
горько во мне ошиблась! Никогда, никогда я не мог до
тебя возвыситься. Я мог только недоступно созерцать
тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя,
но тем я не загладил вины своей. Страсть моя, возвы-
шенная тобою, была не любовь,— любви я боялся; я не
смел тебя полюбить; в любви — взаимность, равенство,
а их я был недостоин... Я и не знаю, что было со мною!
О! как мне рассказать тебе это, как быть понятным!..
Я не церил сначала... О! помнишь ли, когда утихло пер-
вое волнение мое, когда прояснился мой взор, когда
осталось одно чистейшее, непорочное чувство,— тогда
первым движением моим было удивленье, смущенье,
страх, и помнишь, как я вдруг, рыдая, бросился к
ногам твоим? помнишь ли, как ты, смущенная, испуган-
ная, со слезами спрашивала: что со мною? Я молчал,
я не мог отвечать тебе; но душа моя разрывалась на
части; мое счастье давило меня, как невыносимое
бремя, и рыдания мои говорили во мне: «За что мне
это? чем я заслужил это? чем я заслужил блаженство?»
Сестра моя, сестра моя! О! сколько раз — ты не знала
того,— сколько раз, украдкой, я целовал твое платье,
украдкой, потому что я знал, что недостоин тебя,— и
дух во мне занимался тогда, и сердце мое билось мед-
ленно и крепко, словно хотело остановиться и замереть
навсегда. Когда я брал твою руку, я весь бледнел и
дрожал; ты смущала меня чистотою души твоей. О, я
не умею высказать тебе всего, что накопилось в душе
моей и что так хочет высказаться. Знаешь ли, что мне
тяжела, мучительна была подчас твоя сострадательная,
всегдашняя нежность со мною? Когда ты поцеловала
меня (это случилось один раз, и я никогда того не за-
буду),— туман стал в глазах моих, и весь дух мой из-
ныл во мгновение. Зачем я не умер в эту минуту у ног
твоих? Вот я пишу тебе ты в первый раз, хотя ты давно
мне так приказала. Поймешь ли ты, что я хочу сказать?
Я хочу тебе сказать все, и скажу это: да, ты много лю-
бишь меня, ты любила, как сестра любит брата; ты
198
любила меня как свое создание, потому что воскресила
мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и влила
мне в грудь сладкую надежду; я же не мог, не смел; я
никогда доселе не называл тебя сестрою моею, затем
что не мог быть братом твоим, затем что мы были не-
ровня, затем что ты во мне обманулась!
Но ты видишь, я все пишу о себе, даже теперь, в эту
минуту страшного бедствия, я только об одном себе
думаю, хотя и знаю, что ты мучишься за меня. О, не
мучься за меня, друг мой милый! Знаешь ли, как я уни-
жен теперь в собственных глазах своих! Все это откры-
лось, столько шуму пошло! Тебя за меня отвергнут, в
тебя бросят презреньем, насмешкой, потому что я так
низко стою в их глазах! О, как я виновен, что был не-
достоин тебя! Хотя бы я имел важность, личную оценку
в их мнении, внушал больше уважения на их глаза, они
бы простили тебе! Но я низок, я ничтожен, я смешон,
а ниже смешного ничего быть не может. Ведь кто кри-
чит? Ведь вот оттого, что эти уже стали кричать, я и
упал духом; я всегда был слаб. Знаешь ли, в каком я
теперь положении: я сам смеюсь над собой, и мне ка-
жется, они правду говорят, потому что я даже и себе
смешон и ненавистен. Я это чувствую; я ненавижу
даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагород-
ные ухватки свои; я их всегда ненавидел! О, прости мне
мое грубое отчаяние! Ты сама приучила меня говорить
тебе все. Я погубил тебя, я навлек на тебя злобу и
смех, потому что был тебя недостоин.
И вот эта-то мысль меня мучит; она стучит у меня
в голове беспрерывно и терзает и язвит мое сердце.
И все кажется мне, что ты любила не того человека,
которого думала во мне найти, что ты обманулась во
мне. Вот что мне больно, вот что теперь меня мучит, и
замучит до смерти или я с ума сойду!
Прощай же, прощай! Теперь, когда все открылось,
когда раздались их крики, их пересуды (я слышал их!),
когда я умалился, унизился в собственных глазах своих,
устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой вы-
бор, когда я проклял себя, теперь мне нужно бежать,
исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда,
никогда меня не увидишь! Так нужно, так суждено!
199
Мне слишком много было дано; судьба ошиблась; те-
перь она поправляет ошибку и все отнимает назад. Мы
сошлись, узнали друг друга — и вот расходимся до дру-
гого свидания! Где оно будет, когда оно будет? О, ска-
жи мне, родная моя, где мы встретимся, где найти мне
тебя, как узнать мне тебя, узнаешь ли ты меня тогда?
Вся душа моя полна тобою. О, за что же, за что это
нам? Зачем расстаемся мы? Научи — ведь я не пони-
маю, не пойму этого, никак не пойму — научи, как ра-
зорвать жизнь пополам, как вырвать сердце из груди
и быть без него? О, как я вспомню, что более никогда
тебя не увижу, никогда, никогда!..
Боже, какой они подняли крик! Как мне страшно те-
перь за тебя! Я только что встретил твоего мужа; мы
оба недостойны его, хотя оба безгрешны пред ним. Ему
все известно; он нас видит; он понимает все, и прежде
все ему было ясно как день. Он геройски стал за тебя;
он спасет тебя; он защитит тебя от этих пересудов и
криков; он любит и уважает тебя беспредельно; он твой
спаситель, тогда как я бегу!.. Я бросился к нему, я хо-
тел целовать его руку!.. Он сказал мне, чтоб я ехал не-
медленно. Решено! Говорят, что он поссорился из-за
тебя с ними со всеми; там все против тебя! Его упре-
кают в потворстве и слабости. Боже мой! что там еще
говорят о тебе? Они не знают, они не могут, не в силах
понять! Прости, прости им, бедная моя, как я им про-
щаю; а они взяли у меня больше, чем у тебя!
Я не помню себя, я не знаю, что пишу тебе. О чем
я говорил тебе вчера при прощанье? Я ведь все поза-
был. Я был вне себя, ты плакала... Прости мне эти
слезы! Я так слаб, так малодушен!
Мне еще что-то хотелось сказать тебе... Ох! еще бы
только раз облить твои руки слезами, как теперь я об-
ливаю слезами письмо мое! Еще бы раз быть у ног
твоих! Если б они только знали, как прекрасно было
твое чувство! Но они слепы; их сердца горды и над-
менны; они не видят и вовек не увидят того. Им нечем
увидеть! Они не поверят, что ты невинна, даже перед
их судом, хотя бы все на земле им в том поклялось. Им
ли это понять! Как же камень поднимут они на тебя?
чья первая рука поднимет его? О, они не смутятся, они
200
поднимут тысячи камней! Они осмелятся поднять их
затем, что знают, как это сделать. Они поднимут все
разом и скажут, что они сами безгрешны, и грех возь-
мут на себя! О, если б знали они, что делают! Если б
только можно было рассказать им все, без утайки, чтоб
видели, слышали, поняли и уверились! Но нет, они не
так злы... Я теперь в отчаянии, я, может быть, клевещу
на них! Я, может быть, пугаю тебя своим страхом! Не
бойся, не бойся их, родная моя! тебя поймут; наконец,
тебя уже понял один: надейся — это муж твой!
Прощай, прощай! Я не благодарю тебя! Прощай на-
всегда!
С. О.».
Смущение мое было так велико, что я долгое время
не могла понять, что со мной сделалось. Я была потря-
сена и испугана. Действительность поразила меня врас-
плох среди легкой жизни мечтаний, в которых я про-
вела уж три года. Я со страхом чувствовала, что в ру-
ках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает
все существование мое... как? я еще и сама не знала
того. Я чувствовала, что только с этой минуты для меня
начинается новая будущность. Теперь я невольно стала
слишком близкой участницей в жизни и в отношениях
тех людей, которые доселе заключали весь мир, меня
окружавший, и я боялась за себя. Чем войду я в их
жизнь, я, непрошенная, я, чужая им? Что принесу я им?
Чем разрешатся эти путы, которые так внезапно при-
ковали меня к чужой тайне? Почем знать? может быть,
новая роль моя будет мучительна и для меня и для них.
Я же не могла молчать, не принять этой роли и без-
выходно заключить то, что узнала, в сердце моем. Но
как и что будет со мною? что сделаю я? И что такое,
наконец, я узнала? Тысячи вопросов, еще смутных, еще
неясных, вставали предо мною и уже нестерпимо тес-
нили мне сердце. Я была как потерянная.
Потом, помню, приходили другие минуты, с новыми,
странными, доселе не испытанными мною впечатле-
ниями. Я чувствовала, как будто что-то разрешилось в
груди моей, что прежняя тоска вдруг разом отпала от
сердца и что-то новое начало наполнять его, что-то
201
такое, о чем я не знала еще,— горевать о нем или радо-
ваться ему. Настоящее мгновение мое похоже было на
то, когда человек покидает навсегда свой дом, жизнь
доселе покойную, безмятежную, для далекого неведо-
мого пути и в последний раз оглядывается кругом себя,
мысленно прощаясь с своим прошедшим, а между тем
горько сердцу от тоскливого предчувствия всего неиз-
вестного будущего, может быть сурового, враждебного,
которое ждет его на новой дороге. Наконец, судорож-
ные рыдания вырвались из груди моей и болезненным
припадком разрешили мое сердце. Мне нужно было ви-
деть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче. Я уж
не могла, не хотела теперь оставаться одна; я бро-
силась к Александре Михайловне и провела с ней весь
вечер. Мы были одни. Я просила ее не играть и отказа-
лась петь, несмотря на просьбы ее. Все мне стало вдруг
тяжело, и ни на чем я не могла остановиться. Кажется,
мы с ней плакали. Помню только, что я ее совсем пере-
пугала. Она уговаривала меня успокоиться, не трево-
житься. Она со страхом следила за мной, уверяя меня,
что я больна и что я не берегу себя. Наконец, я ушла
от нее, вся измученная, истерзанная; я была словно в
бреду и легла в постель в лихорадке.
Прошло несколько дней, пока я могла прийти в
себя и яснее осмыслить свое положение. В это время
мы обе, я и Александра Михайловна, жили в полном
уединении. Петра Александровича не было в Петер-
бурге. Он поехал за какими-то делами в Москву и про-
был там три недели. Несмотря на короткий срок раз-
луки, Александра Михайловна впала в ужасную тоску.
Порой она становилась покойнее, но затворялась одна,
так что и я была ей в тягость. К тому же я сама искала
уединения. Голова моя работала в каком-то болезнен-
ном напряжении; я была как в чаду. Порой на меня на-
ходили часы долгой, мучительно-безотвязной думы; мне
снилось тогда, что кто-то словно смеется надо мной по-
тихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что
смущает и отравляет каждую мысль мою. Я не могла
отвязаться от мучительных образов, являвшихся предо
мной поминутно и не дававших мне покоя. Мне пред-
ставлялось долгое, безвыходное страдание, мучениче-
202
ство, жертва, приносимая покорно, безропотно и на-
прасно. Мне казалось, что тот, кому принесена эта
жертва, презирает ее и смеется над ней. Мне казалось,
что я видела преступника, который прощает грехи пра-
веднику, и мое сердце разрывалось на части! В то же
время мне хотелось всеми силами отвязаться от моего
подозрения; я проклинала его, я ненавидела себя за то,
что все мои убеждения были не убеждения, а только
предчувствия, за то, что я не могла оправдать своих
впечатлений сама пред собою.
Потом перебирала я в уме эти фразы, эти последние
крики страшного прощания. Я представляла себе этого
человека — неровню\ я старалась угадать весь мучи-
тельный смысл этого слова: «неровня». Мучительно по-
ражало меня это отчаянное прощанье: «Я смешон, и
сам стыжусь за твой выбор». Что это было? Какие это
люди? О чем они тоскуют, о чем мучатся, что поте-
ряли они? Преодолев себя, я напряженно перечитывала
опять это письмо, в котором было столько терзающего
душу отчаяния, но смысл которого был так странен, так
неразрешим для меня. Но письмо выпадало из рук
моих, и мятежное волнение все более и более охваты-
вало мое сердце... Наконец, все это должно же было
чем-нибудь разрешиться, а я не видела выхода или боя-
лась его!
Я была почти совсем больна, когда в один день на
нашем дворе загремел экипаж Петра Александровича,
воротившегося из Москвы. Александра Михайловна с
радостным криком бросилась навстречу мужа, но я
остановилась на месте, как прикованная. Помню, что
я сама была поражена до испуга внезапным волнением
своим. Я не выдержала и бросилась к себе в комнату.
Я не понимала, чего я так вдруг испугалась, но боялась
за этот испуг. Через четверть часа меня позвали и пере-
дали мне письмо от князя. В гостиной я встретила ка-
кого-то незнакомого, который приехал с Петром Але-
ксандровичем из Москвы, и по некоторым словам, удер-
жанным мною, я узнала, что он располагается у нас на
долгое житье. Это был уполномоченный князя, приехав-
ший в Петербург хлопотать по каким-то важным делам
княжеского семейства, уже давно находившимся в
203
заведовании Петра Александровича. Он подал мне
письмо от князя и прибавил, что княжна тоже хотела
писать ко мне, до последней минуты уверяла, что пись-
мо будет непременно написано, но отпустила его с пу-
стыми руками и с просьбою передать мне, что писать
ей ко мне решительно нечего, что в письме ничего не
напишешь, что она испортила целых пять листов и по-
том изорвала всё в клочки, что, наконец, нужно вновь
подружиться, чтоб писать друг к другу. Затем она пору-
чила уверить меня в скором свидании с нею. Незнако-
мый господин отвечал на нетерпеливый вопрос мой, что
весть о скором свидании действительно справедлива и
что все семейство очень скоро собирается прибыть в
Петербург. При этом известии я не знала, как быть от
радости, поскорее ушла в свою комнату, заперлась в
ней и, обливаясь слезами, раскрыла письмо князя.
Князь обещал мне скорое свидание с ним и с Катей и с
глубоким чувством поздравлял меня с моим талантом;
наконец, он благословлял меня на мое будущее и обе-
щался устроить его. Я плакала, читая это письмо; но
к сладким слезам моим примешивалась такая невыно-
симая грусть, что, помню, я за себя пугалась; я сама
не знала, что со мной делается.
Прошло несколько дней. В комнате, которая была
рядом с моею, где прежде помещался письмоводитель
Петра Александровича, работал теперь каждое утро, и
часто по вечерам за полночь, новый приезжий. Часто
они запирались в кабинете Петра Александровича и ра-
ботали вместе. Однажды, после обеда, Александра
Михайловна попросила меня сходить в кабинет мужа и
спросить его, будет ли он с нами пить чай. Не найдя
никого в кабинете и полагая, что Петр Александрович
скоро войдет, я остановилась ждать. На стене висел его
портрет. Помню, что я вдруг вздрогнула, увидев этот
портрет, и с непонятным мне самой волнением начала
пристально его рассматривать. Он висел довольно вы-
соко; к тому же было довольно темно, и я, чтоб удоб-
нее рассматривать, придвинула стул и стала на него.
Мне хотелось что-то сыскать, как будто я надеялась
найти разрешение сомнений моих, и, помню, прежде
всего меня поразили глаза портрета. Меня поразило
204
тут же, что я почти никогда не видала глаз этого чело-
века: он всегда прятал их под очки.
Я еще в детстве не любила его взгляда по непонят-
ному, странному предубеждению, но как будто это
предубеждение теперь оправдалось. Воображение мое
было настроено. Мне вдруг показалось, что глаза порт-
рета с смущением отворачиваются от моего пронзитель-
но-испытующего взгляда, что они силятся избегнуть
его, что ложь и обман в этих глазах; мне показалось,
что я угадала, и не понимаю, какая тайная радость
откликнулась во мне на мою догадку. Легкий крик вы-
рвался из груди моей. В это время я услышала сзади
меня шорох. Я оглянулась: передо мной стоял Петр
Александрович и внимательно смотрел на меня. Мне
показалось, что он вдруг покраснел. Я вспыхнула и со-
скочила со стула.
— Что вы тут делаете? — спросил он строгим голо-
сом.— Зачем вы здесь?
Я не знала, что отвечать. Немного оправившись,
я передала ему кое-как приглашение Александры Ми-
хайловны. Не помню, что он отвечал мне, не помню,
как я вышла из кабинета; но, придя к Александре Ми-
хайловне, я совершенно забыла ответ, которого она
ожидала, и наугад сказала, что будет.
— Но что с тобой, Неточна? — спросила она.— Ты
вся раскраснелась; посмотри на себя. Что с тобою?
— Я не знаю... я скоро шла...— отвечала я.
— Тебе что же сказал Петр Александрович? — пе-
ребила она с смущением.
Я не отвечала. В это время послышались шаги
Петра Александровича, и я тотчас же вышла из ком-
наты. Я ждала целые два часа в большой тоске. Нако-
нец, пришли звать меня к Александре Михайловне.
Александра Михайловна была молчалива и озабочена.
Когда я вошла, она быстро и пытливо посмотрела на
меня, но тотчас же опустила глаза. Мне показалось, что
какое-то смущение отразилось на лице ее. Скоро я за-
метила, что она была в дурном расположении духа,
говорила мало, на меня не глядела совсем и, в ответ на
заботливые вопросы Б., жаловалась на головную боль.
205
Петр Александрович был разговорчивее всегдашнего,
но говорил только с Б.
Александра Михайловна рассеянно подошла к фор-
тепьяно.
— Спойте нам что-нибудь,— сказал Б., обращаясь
ко мне.
— Да, Аннета, спой твою новую арию,— подхватила
Александра Михайловна, как будто обрадовавшись
предлогу.
Я взглянула на нее; она смотрела на меня в беспо-
койном ожидании.
Но я не умела преодолеть себя. Вместо того, чтоб
подойти к фортепьяно и пропеть хоть как-нибудь, я сму-
тилась, запуталась, не знала, как отговориться; нако-
нец, досада одолела меня, и я отказалась наотрез.
— Отчего же ты не хочешь петь? — сказала Але-
ксандра Михайловна, значительно взглянув на меня и
в то же время мимолетом на мужа.
Эти два взгляда вывели меня из терпения. Я встала
из-за стола в крайнем замешательстве, но, уже не скры-
вая его и дрожа от какого-то нетерпеливого и досад-
ного ощущения, повторила с горячностью, что не хочу,
не могу, нездорова. Говоря это, я глядела всем в глаза,
но бог знает, как бы желала быть в своей комнате в ту
минуту и затаиться от всех.
Б. был удивлен, Александра Михайловна была в
приметной тоске и не говорила ни слова. Но Петр Але-
ксандрович вдруг встал со стула и сказал, что он забыл
одно дело, и, повидимому в досаде, что упустил нуж-
ное время, поспешно вышел из комнаты, предуведомив,
что, может быть, зайдет позже, а впрочем, на всякий
случай, пожал руку Б. в знак прощания.
— Что с вами, наконец, такое? — спросил Б.,— по
лицу вы в самом деле больны.
— Да, я нездорова, очень нездорова,— отвечала я
с нетерпением.
— Действительно, ты бледна, а давеча была такая
красная,— заметила Александра Михайловна и вдруг
остановилась.
— Полноте! — сказала я, прямо подходя к ней и
пристально посмотрев ей в глаза. Бедная не выдержала
206
моего взгляда, опустила глаза, как виноватая, и легкая
краска облила ее бледные щеки. Я взяла ее руку и по-
целовала. Александра Михайловна посмотрела на меня
с непритворною, наивною радостию.— Простите меня,
что я была такой злой, такой дурной ребенок сегодня,—•
сказала я ей с чувством,— но, право, я больна. Не сер-
дитесь же и отпустите меня...
— Мы все дети,— сказал она с робкой улыбкой,—
да и я ребенок, хуже, гораздо хуже тебя,— прибавила
она мне на ухо.— Прощай, будь здорова. Только, ради
бога, не сердись на меня.
— За что? — спросила я,— так поразило меня та-
кое наивное признание.
— За что? — повторила она в ужасном смущении,
даже как будто испугавшись за себя,— за что? Ну, ви-
дишь, какая я, Неточка. Что это я тебе сказала? Про-
щай! Ты умнее меня... А я хуже, чем ребенок.
— Ну, довольно,— отвечала я, вся растроганная, не
зная, что ей сказать. Поцеловав ее еще раз, я поспешно
вышла из комнаты.
Мне было ужасно досадно и грустно. К тому же я
злилась на себя, чувствуя, что я неосторожна и не умею
вести себя. Мне было чего-то стыдно до слез, и я засну-
ла в глубокой тоске. Когда же я проснулась наутро,
первою мыслью моею было, что весь вчерашний ве-
чер — чистый призрак, мираж, что мы только мистифи-
ровали друг друга, заторопились, дали вид целого при-
ключения пустякам и что все произошло от неопытно-
сти, от непривычки нашей принимать внешние впечат-
ления. Я чувствовала, что всему виновато это письмо,
что оно меня слишком беспокоит, что воображение мое
расстроено, и решила, что лучше я вперед не буду ни
о чем думать. Разрешив так необыкновенно легко всю
тоску свою, и в полном убеждении, что я так же легко
и исполню, что порешила, я стала спокойнее и отправи-
лась на урок пения, совсем развеселившись. Утренний
воздух окончательно освежил мою голову. Я очень лю-
била свои утренние путешествия к моему учителю. Так
весело было проходить город, который к девятому часу
уже совсем оживлялся и заботливо начинал обыденную
жизнь. Мы обыкновенно проходили по самым живучим,
207
по самым кропотливым улицам, и мне так нравилась
такая обстановка начала моей артистической жизни,
контраст между этой повседневной мелочью, малень-
кой, но живой заботой и искусством, которое ожидало
меня в двух шагах от этой жизни, в третьем этаже
огромного дома, набитого сверху донизу жильцами, ко-
торым, как мне казалось, ровно нет никакого дела ни
до какого искусства. Я между этими деловыми, серди-
тыми прохожими, с тетрадью нот подмышкой; старуха
Наталья, провожавшая меня и каждый раз задававшая
мне, себе неведомо, разрешить задачу: о чем она всего
более думает? — наконец, мой учитель, полуитальянец,
полуфранцуз, чудак, минутами настоящий энтузиаст,
гораздо чаще педант и всего больше скряга,— все это
развлекало меня, заставляло меня смеяться или заду-
мываться. К тому же я хоть и робко, но с страстной
надеждой любила свое искусство, строила воздушные
замки, выкраивала себе самое чудесное будущее и не-
редко, возвращаясь, была будто в огне от своих фанта-
зий. Одним словом, в эти часы я была почти счастлива.
Именно такая минута посетила меня и в этот раз,
когда я в десять часов воротилась с урока домой. Я за-
была про все и, помню, так радостно размечталась о
чем-то. Но вдруг, всходя на лестницу, я вздрогнула, как
будто меня обожгли. Надо мной раздался голос Петра
Александровича, который в эту минуту сходил с лестни-
цы. Неприятное чувство, овладевшее мной, было так
велико, воспоминание о вчерашнем так враждебно по-
разило меня, что я никак не могла скрыть своей тоски.
Я слегка поклонилась ему, но, вероятно, лицо мое было
так выразительно в эту минуту, что он остановился
передо мной в удивлении. Заметив движение его, я по-
краснела и быстро пошла наверх. Он пробормотал что-
то мне вслед и пошел своею дорогою.
Я готова была плакать с досады и не могла понять,
что это такое делалось. Все утро я была сама не своя
и не знала, на что решиться, чтоб кончить и разделать-
ся со всем поскорее. Тысячу раз я давала себе слово
быть благоразумнее, и тысячу раз страх за себя овла-
девал мною. Я чувствовала, что ненавидела мужа
Александры Михайловны, и в то же время была в от-
208
чаянии за себя. В этот раз, от беспрерывного волнения,
я сделалась серьезно нездоровой и уже никак не могла
совладать с собою. Мне стало досадно на всех; я все
утро просидела у себя и даже не пошла к Александре
Михайловне. Она пришла сама. Взглянув на меня, она
чуть не вскрикнула. Я была так бледна, что, посмотрев
в зеркало, сама себя испугалась. Александра Михай-
ловна сидела со мною целый час, ухаживая за мной,
как за ребенком.
Но мне стало так грустно от ее внимания, так тя-
жело от ее ласок, так мучительно было смотреть на нее,
что я попросила, наконец, оставить меня одну. Она
ушла в большом беспокойстве за меня. Наконец, тоска
моя разрешилась слезами и припадком. К вечеру мне
сделалось легче...
Легче, потому что я решилась идти к ней. Я реши-
лась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо,
которое она потеряла, и признаться ей во всем: при-
знаться во всех мучениях, перенесенных мною, во всех
сомнениях -своих, обнять ее со всей бесконечною лю-
бовью, которая пылала во мне к ней, к моей страда-
лице, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце
перед ней открыто, чтоб она взглянула на него и уви-
дела, сколько в нем самого пламенного, самого непоко-
лебимого чувства к ней. Боже мой! Я знала, я чувство-
вала, что я последняя,' перед которой она могла от-
крыть свое сердце, но тем вернее, казалось мне, было
спасение, тем могущественнее было бы слово мое...
Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее, и сердце
мое кипело негодованием при мысли, что она может
краснеть передо мною, перед моим судом... Бедная, бед-
ная моя, ты ли та грешница? вот что скажу я ей, запла-
кав у ног ее. Чувство справедливости возмутилось во
мне, я была в исступлении. Не знаю, что бы я сделала;
но уже потом только я опомнилась, когда неожиданный
случай спас меня и ее от погибели, остановив меня
почти на первом шагу. Ужас нашел на меня. Ее ли за-
мученному сердцу воскреснуть для надежды? Я бы
одним ударом убила ее!
Вот что случилось: я уже была за две комнаты до
ее кабинета, когда из боковых дверей вышел Петр
14 Ф. М. Достоевский, т. 2
209
Александрович и, не заметив меня, пошел передо мною.
Он тоже шел к ней. Я остановилась как вкопанная; он
был последний человек, которого я бы должна была
встретить в такую минуту. Я было хотела уйти, но лю-
бопытство внезапно приковало меня к месту.
Он на минуту остановился перед зеркалом, попра-
вил волосы, и, к величайшему изумлению, я вдруг услы-
шала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно
темное, далекое воспоминание детства моего воскресло
в моей памяти. Чтоб понятно было то странное ощуще-
ние, которое я почувствовала в эту минуту, я расскажу
это воспоминание. Еще в первый год моего в этом доме
пребывания меня глубоко поразил один случай, только
теперь озаривший мое сознание, потому что только те-
перь, только в эту минуту осмыслила я начало своей
необъяснимой антипатии к этому человеку! Я упоми-
нала уже, что еще в то время мне всегда было при нем
тяжело. Я уже говорила, какое тоскливое впечатление
производил на меня его нахмуренный, озабоченный вид,
выражение лица, нередко грустное и убитое; как тя-
жело было мне после тех часов, которые проводили мы
вместе за чайным столиком Александры Михайловны,
и, наконец, какая мучительная тоска надрывала сердце
мое, когда мне приходилось быть раза два или три чуть
не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о кото-
рых я уже упоминала вначале. Случилось, что тогда я
встретилась с ним так же, как и теперь, в этой же ком-
нате, в этот же час, когда он, так же как и я, шел к
Александре Михайловне. Я чувствовала чисто детскую
робость, встречаясь с ним одна, и потому притаилась в
углу как виноватая, моля судьбу, чтоб он меня не за-
метил. Точно так же, как теперь, он остановился перед
зеркалом, и я вздрогнула от какого-то неопределенного,
недетского чувства. Мне показалось, что он как будто
переделывает свое лицо. По крайней мере я видела
ясно улыбку на лице его перед тем, как он подходил
к зеркалу; я видела смех, чего прежде никогда от него
не видала, потому что (помню, это всего более пора-
зило меня) он никогда не смеялся перед Александрой
Михайловной. Вдруг, едва только он успел взглянуть
в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла,
210
как по приказу, и на место ее какое-то горькое чувство,
как будто невольно через силу пробивавшееся из
сердца, чувство, которого не в человеческих силах
было скрыть, несмотря ни на какое великодушное уси-
лие, искривило его губы, какая-то судорожная боль
нагнала морщины на лоб его и сдавила ему брови.
Взгляд мрачно спрятался под очки,— словом, он в один
миг, как будто по команде, стал совсем другим челове-
ком. Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от
боязни понять то, что я видела, и с тех пор тяжелое,
неприятное впечатление безвыходно заключилось в
сердце моем. Посмотревшись с минуту в зеркало, он
понурил голову, сгорбился, как обыкновенно являлся
перед Александрой Михайловной, и на цыпочках по-
шел в ее кабинет. Вот это-то воспоминание поразило
меня.
И тогда, как и теперь, он думал, что он один, и оста-
новился перед этим же зеркалом. Как и тогда, я с
враждебным неприятным чувством очутилась с ним
вместе. Но когда я услышала это пенье (пенье от него,
от которого так невозможно было ожидать чего-нибудь
подобного), которое поразило меня такой неожидан-
ностью; что я осталась на месте, как прикованная,
когда в ту же минуту сходство напомнило мне почти
такое же мгновение моего детства,— тогда, не могу пе-
редать, какое язвительное впечатление кольнуло мне
сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту
несчастную песню я разразилась таким смехом, что
бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зер-
кала и, бледный как смерть, как бесславно пойманный
с поличным, глядел на меня в исступлении от ужаса, от
удивления и бешенства. Его взгляд болезненно подей-
ствовал на меня. Я отвечала ему нервным, истериче-
ским смехом прямо в глаза, прошла, смеясь, мимо него
и вошла, не переставая хохотать, к Александре Михай-
ловне. Я знала, что он стоит за портьерами, что, может
быть, он колеблется, не зная, войти или нет, что бешен-
ство и трусость приковали его к месту,— и с каким-то
раздраженным, вызывающим нетерпением я ожидала,
на что он решится; я готова была побиться об заклад,
что он не войдет, и я выиграла. Он вошел только через
14*
211
полчаса. Александра Михайловна долгое время смот-
рела на меня в крайнем изумлении. Но тщетно допра-
шивала она,, что со мною. Я не могла отвечать, я зады-
халась. Наконец,^ она поняла, что я в нервном при-
падке, и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув,
я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я
одумалась, и только теперь пришло мне в голову, что
я бы убила ее, если б не встреча с ее мужем. Я смот-
рела на нее, как на воскресшую.
Вошел Петр Александрович.
Я взглянула на него мельком; он смотрел так, как
будто между нами ничего не случилось, то есть был
суров и угрюм по-всегдашнему. Но по бледному лицу и
слегка вздрагивавшим краям губ его я догадалась, что
он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с
Александрой Михайловной холодно и молча сел на
место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая.
Я ожидала взрыва, и на меня напал какой-то безотчет-
ный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась
оставить Александру Михайловну, которая изменилась
в лице, глядя на мужа. Опа тоже предчувствовала что-
то недоброе. Наконец, то, чего я ожидала с таким стра-
хом, случилось.
Среди глубокого молчания я подняла глаза и встре-
тила очки Петра Александровича, направленные прямо
па меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула,
чуть не вскрикнула и потупилась. Александра Михай-
ловна заметила мое движение.
— Что с вами? Отчего вы покраснели? — раздался
резкий и грубый голос Петра Александровича.
Я молчала; сердце мое колотилось так, что я не
могла вымолвить слова.
— Отчего она покраснела? Отчего она все крас-
неет? — спросил он, обращаясь к Александре Михай-
ловне, нагло указывая ей на меня.
Негодование захватывало мне дух. Я бросила умо-
ляющий взгляд на Александру Михайловну. Она по-
няла меня. Бледные щеки ее вспыхнули.
— Аннета,— сказала она мне твердым голосом, ко-
торого я никак не ожидала от нее,— поди к себе; я че-
рез минуту к тебе приду: мы проведем вечер вместе...
212
— Я вас спрашиваю, слышали ли меня, или нет? —
прервал Петр Александрович, еще более возвышая го-
лос и как будто не слыхав, что сказала жена.— Отчего
вы краснеете, когда встречаетесь со мной? Отвечайте!
— Оттого, что вы заставляете ее краснеть и меня
также,— отвечала Александра Михайловна прерываю-
щимся от волнения голосом.
Я с удивлением взглянула на Александру Михай-
ловну. Пылкость ее возражения с первого раза была
мне совсем непонятна.
— Я заставляю вас краснеть, я? — отвечал ей Петр
Александрович, казалось тоже вне себя от изумления
и сильно ударяя на слово я.— За меня вы краснели?
Да разве я могу вас заставить краснеть за меня? Вам,
а не мне краснеть, как вы думаете?
Эта фраза была так понятна для меня, сказана с
такой ожесточенной, язвительной насмешкой, что я
вскрикнула от ужаса и бросилась к Александре Михай-
ловне. Изумление, боль, укор и ужас изображались на
смертельно побледневшем лице ее. Я взглянула на
Петра Александровича, сложив с умоляющим видом
руки. Казалось, он сам спохватился; но бешенство, выр-
вавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однакож, за-
метив безмолвную мольбу мою, он смутился. Мой жест
говорил ясно, что я про многое знаю из того, что между
ними до сих пор было тайной, и что я хорошо поняла
слова его.
— Аннета, идите к себе,— повторила Александра
Михайловна слабым, но твердым голосом, встав со
стула,— мне очень нужно говорить с Петром Алексан-
дровичем...
Она была, повидимому, спокойна; но за это спокой-
ствие я боялась больше, чем за всякое волнение. Я как
будто не слыхала слов ее и оставалась на месте как
вкопанная. Все силы мои напрягла я, чтоб прочесть на
ее лице, что происходило в это мгновение в душе ее.
Мне показалось, что она не поняла ни моего жеста, ни
моего восклицания.
— Вот что вы наделали, сударыня! — проговорил
Петр Александрович, взяв меня за руки и указав на
жену.
213
Боже мой! Я никогда не видала такого отчаяния,
которое прочла теперь на этом убитом, помертвевшем
лице. Он взял меня за руку и вывел из комнаты.
Я взглянула на них в последний раз. Александра Ми-
хайловна стояла, облокотясь на камин и крепко сжав
обеими руками голову. Все положение ее тела изобра-
жало нестерпимую муку. Я схватила руку Петра Алек-
сандровича и горячо сжала ее.
— Ради бога! ради бога! — проговорила я преры-
вающимся голосом,— пощадите!
— Не бойтесь, не бойтесь! — сказал он, как-то
странно смотря на меня,— это ничего, это припадок.
Ступайте же, ступайте.
Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и за-
крыла руками лицо. Целые три часа пробыла я в таком
положении и в это мгновение прожила целый ад. Нако-
нец, я не выдержала и послала спросить, можно ли мне
прийти к Александре Михайловне. С ответом пришла
мадам Леотар. Петр Александрович прислал сказать,
что припадок прошел, опасности нет, но что Александре
Михайловне нужен покой. Я не ложилась спать до
трех часов утра и все думала, ходя взад и вперед
по комнате. Положение мое было загадочнее, чем
когда-нибудь, но я чувствовала себя как-то покой-
нее, может быть потому, что чувствовала себя всех
виновнее. Я легла спать, с нетерпением ожидая зав-
трашнего утра.
Но на другой день я, к горестному изумлению, за-
метила какую-то необъяснимую холодность в Алексан-
дре Михайловне. Сначала мне показалось, что этому
чистому, благородному сердцу тяжело быть со мною
после вчерашней сцены с мужем, которо?! я поневоле
была свидетельницей. Я знала, что это дитя способно
покраснеть передо мною и просить у меня же прощения
за то, что несчастная сцена, может быть, оскорбила
вчера мое сердце. Но вскоре я заметила в ней какую-то
другую заботу и досаду, проявлявшуюся чрезвычайно
неловко: то она ответит мне сухо и холодно; то слы-
шится в словах ее какой-то особенный смысл; то, нако-
нец, ока вдруг сделается со мной очень нежна, как
будто раскаиваясь в этой суровости, которой не могло
214
быть в ее сердце, и ласковые, тихие слова ее как будто
звучат каким-то укором. Наконец, я прямо спросила ее,
что с ней и нет ли у ней чего мне сказать? На быстрый
вопрос мой она немного смутилась, но тотчас же, под-
няв на меня свои большие тихие глаза и смотря на меня
с нежной улыбкой, сказала:
— Ничего, Неточка; только знаешь что: когда ты
меня так быстро спросила, я немного смутилась. Это
оттого, что ты спросила так скоро... уверяю тебя. Но
слушай,— отвечай мне правду, дитя мое: есть что-ни-
будь у тебя на сердце такое, от чего бы ты так же сму-
тилась, если б тебя о том спросили так же быстро и не-
ожиданно?
— Нет,— отвечала я, посмотрев на нее ясными гла-
зами.
— Ну, вот и хорошо! Если б ты знала, друг мой,
как я тебе благодарна за этот прекрасный ответ. Не то,
чтоб я тебя могла подозревать в чем-нибудь дурном,—
никогда! Я не прощу себе и мысли об этом. Но слушай:
взяла я тебя дитятей, а теперь тебе семнадцать лет. Ты
видела сама: я больная, я сама как ребенок, за мной
еще нужно ухаживать. Я не могла заменить тебе
вполне родную мать, несмотря на то, что любви к тебе
слишком достало бы на то в моем сердце. Если ж те-
перь меня так мучит забота, то, разумеется, не ты вино-
вата, а я. Прости ж мне и за вопрос и за то, что я, мо-
жет быть, невольно не исполнила всех моих обещаний,
которые дала тебе и батюшке, когда взяла тебя из его
дома. Меня это очень беспокоит и часто беспокоило,
друг мой.
Я обняла ее и заплакала.
— О, благодарю, благодарю вас за все! — сказала
я, обливая ее руки слезами.— Не говорите мне так, не
разрывайте моего сердца. Вы были мне больше чем
мать; да благословит вас бог за все, что вы сделали
оба, вы и князь, мне, бедной, оставленной! Бедная моя,
родная моя!
— Полно, Неточка, полно! Обними меня лучше;
так, крепче, крепче! Знаешь что? Бог знает отчего, мне
кажется, что ты в последний раз меня обнимаешь.
— Нет, нет,— говорила я, разрыдавшись, как ребе-
215
нок,— нет, этого не будет! Вы будете счастливы!.. Еще
впереди много дней. Верьте, мы будем счастливы.
— Спасибо тебе, спасибо, что ты так любишь меня.
Теперь около меня мало людей; меня все оставили!
— Кто же оставили? кто они?
— Прежде были и другие кругом меня; ты не
знаешь, Неточка. Они меня все оставили, все ушли,
точно призраки были. А я их так ждала, всю жизнь
ждала; бог с ними! Смотри, Неточка: видишь, какая
глубокая осень; скоро пойдет снег: с первым снегом я
и умру,— да; но я и не тужу. Прощайте!
Лицо ее было бледно и худо; на каждой щеке го-
рело зловещее кровавое пятно, губы ее дрожали и за-
пеклись от внутреннего жара.
Она подошла к фортепьяно и взяла несколько ак-
кордов; в это мгновение с треском лопнула струна и
заныла в длинном, дребезжащем звуке...
— Слышишь, Неточка, слышишь? — сказала она
вдруг каким-то вдохновенным голосом, указывая на
фортепьяно.— Эту струну слишком, слишком натянули:
она не вынесла и умерла. Слышишь, как жалобно уми-
рает звук!
Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отра-
зилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами.
— Ну, полно об этом, Неточка, друг мой; довольно;
приведи детей.
Я привела их. Она как будто отдохнула, на них
глядя, и через час отпустила их.
— Когда я умру, ты не оставишь их, Аннета? Да?—
сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтоб нас
кто-нибудь не подслушал.
— Полноте, вы убьете меня! — могла только я про-
говорить ей в ответ.
— Я ведь шутила,— сказала она, помолчав и улыб-
нувшись.— А ты и поверила? Я ведь иногда бог знает
что говорю. Я теперь, как дитя; мне нужно все прощать.
Тут она робко посмотрела на меня, как будто боясь
что-то выговорить. Я ожидала.
— Смотри не пугай его,— проговорила она, нако-
нец, потупив глаза, с легкой краской в лице и так тихо,
что я едва расслышала.
216
— Кого? — спросила я с удивлением.
— Мужа. Ты, пожалуй, расскажешь ему все поти-
хоньку.
— Зачем же, зачем? — повторяла я все более и бо-
лее в удивлении.
— Ну, может быть, и не расскажешь, как знать! —
отвечала она, стараясь как можно хитрее взглянуть на
меня, хотя все та же простодушная улыбка блестела на
губах ее и краска все более и более вступала ей в ли-
цо.— Полно об этом; я ведь все шучу.
Сеодце мое сжималось все больнее и больнее.
— Только послушай, ты их будешь любить, когда я
умру,— да? — прибавила она серьезно и опять как буд-
то с таинственным видом,— так, как бы родных детей
своих любила,— да? Припомни: я тебя всегда за род-
ную считала и от своих не рознила.
— Да, да,— отвечала я, не зная, что говорю, и зады-
хаясь от слез и смущения.
Горячий поцелуй зажегся на руке моей, прежде чем
я успела отнять ее. Изумление сковало мне язык.
«Что с ней? что она думает? что вчера у них было
такое?» — пронеслось в моей голове.
Через минуту она стала жаловаться на усталость.
— Я уже давно больна, только не хотела пугать вас
обоих,— сказала она.— Ведь вы меня оба любите,—•
да?.. До свидания, Неточка; оставь меня, а только вече-
ром приди ко мне непременно. Придешь?
Я дала слово; но рада была уйти. Я не могла более
вынести.
Бедная, бедная! Какое подозрение провожает тебя
в могилу? — восклицала я рыдая,— какое новое горе
язвит и точит твое сердце, и о котором ты едва смеешь
вымолвить слово? Боже мой! Это долгое страдание,
которое я уже знала теперь все наизусть, эта жизнь без
просвета, эта любовь робкая, ничего не требующая, и
даже теперь, теперь, почти на смертном одре своем,
когда сердце рвется пополам от боли, она, как преступ-
ная, боится малейшего ропота, жалобы,— и вообразив,
выдумав новое горе, она уже покорилась ему, помири-
лась с ним!..
Вечером, в сумерки, я, воспользовавшись отсут-
217
ствием Оврова (приезжего из Москвы), прошла в биб-
лиотеку, отперла шкаф и начала рыться в книгах, чтоб
выбрать какую-нибудь для чтения вслух Александре
Михайловне. Мне хотелось отвлечь ее от черных мыслей
и выбрать что-нибудь веселое, легкое... Я разбирала
долго и рассеянно. Сумерки сгущались; а вместе с ними
росла и тоска моя. В руках моих очутилась опять эта
книга, развернутая на той же странице, на которой и
теперь я увидала следы письма, с тех пор не сходившего
с груди моей,— тайны, с которой как будто переломи-
лось и вновь началось мое существование, и повеяло на
меня так много холодного, неизвестного, таинственного,
неприветливого, уже и теперь издали так сурово грозив-
шего мне... «Что с нами будет,— думала я,— угол, в ко-
тором мне было так тепло, так привольно, пустеет! Чи-
стый, светлый дух, охранявший юность мою, оставляет
меня. Что впереди?» Я стояла в каком-то забытьи над
своим прошедшим, так теперь милым сердцу, как будто
силясь прозреть вперед, в неизвестное, грозившее мне...
Я припоминаю эту минуту, как будто теперь вновь пере-
живаю ее: так сильно врезалась она в моей памяти.
Я держала в руках письмо и развернутую книгу;
лицо мое было омочено слезами. Вдруг я вздрогнула от
испуга: надо мной раздался знакомый мне голос. В то
же время я почувствовала, что письмо вырвали из рук
моих. Я вскрикнула и оглянулась: передо мной стоял
Петр Александрович. Он схватил меня за руку и крепко
удерживал на месте; правой рукой подносил он к свету
письмо и силился разобрать первые строки... Я закри-
чала; я скорей готова была умереть, чем оставить это
письмо в руках его. По торжествующей улыбке я ви-
дела, что ему удалось разобрать первые строки.
Я теряла голову...
Мгновение спустя я бросилась к нему, почти не
помня себя, и вырвала письмо из рук его. Все это случи-
лось так скоро, что я еще сама не понимала, каким об-
разом письмо очутилось у меня опять. Но, заметив, что
он снова хочет вырвать его из рук моих, я поспешно
спрятала письмо на груди и отступила на три шага.
Мы с полминуты смотрели друг на друга молча.
Я еще содрогалась от испуга; он — бледный, с дрожа-
218
щими, посинелыми от гнева губами, первый прервал
молчание.
— Довольно! — сказал он слабым от волнения голо-
сом,— вы, верно, не хотите, чтоб я употребил силу; от-
дайте же мне письмо добровольно.
Только теперь я одумалась, и оскорбление, стыд,
негодование против грубого насилия захватили мне дух.
Горячие слезы потекли по разгоревшимся щекам моим.
Я вся дрожала от волнения и некоторое время была не
в силах вымолвить слова.
— Вы слышали? — сказал он, подойдя ко мне на
два шага...
— Оставьте меня, оставьте! — закричала я, отодви-
гаясь от него,— вы поступили низко, неблагородно. Вы
забылись!.. Пропустите меня!..
— Как? что это значит? И вы еще смеете принимать
такой тон... после того, что вы... Отдайте, говорю вам!
Он еще раз шагнул ко мне, но, взглянув на меня, уви-
дел в глазах моих столько решимости, что остановился,
как будто в раздумье.
— Хорошо! — сказал он, наконец, сухо, как будто
остановившись на одном решении, но все еще через силу
подавляя себя.— Это своим чередом, а сперва...
Тут он осмотрелся кругом.
— Вы... кто вас пустил в библиотеку? почему этот
шкаф отворен? где взяли ключ?
— Я не буду вам отвечать,— сказала я,— я не мо-
гу с вами говорить. Пустите меня, пустите!
Я пошла к дверям.
— Позвольте,— сказал он, остановив меня за
руку,— вы так не уйдете!
Я молча вырвала у него свою руку и снова сделала
движение к дверям.
— Хорошо же. Но я не могу вам позволить в самом
деле получать письма от ваших любовников, в моем
доме...
Я вскрикнула от испуга и взглянула на него, как
потерянная.
— И потому...
— Остановитесь! — закричала я.— Как вы можете?
как вы могли мне сказать?.. Боже мой! боже мой!
219
— Что? что! вы еще угрожаете мне?
Но я смотрела на него бледная, убитая отчаянием.
Сцена между нами дошла до последней степени ожесто-
чения, которого я не могла понять. Я молила его взгля-
дом не продолжать далее. Я готова была простить за
оскорбление, с тем чтоб он остановился. Он смотрел на
меня пристально и, видимо, колебался.
— Не доводите меня до крайности,— прошептала я
в ужасе.
— Нет-с, это нужно кончить! — сказал он, наконец,
как будто одумавшись.— Признаюсь вам, я было коле-
бался от этого взгляда,— прибавил он с странной
улыбкой.— Но, к несчастию, дело само за себя говорит.
Я успел прочитать начало письма. Это письмо любовное.
Вы меня не разуверите! нет, выкиньте это из головы!
И если я усомнился на минуту, то это доказывает
только, что ко всем вашим прекрасным качествам я дол-
жен присоединить способность отлично лгать, а потому
повторяю...
По мере того как он говорил, его лицо все более и
более искажалось от злобы. Он бледнел; губы его кри-
вились и дрожали, так что он, наконец, с трудом про-
изнес последние слова. Становилось темно. Я стояла без
защиты, одна, перед человеком, который в состоянии
оскорблять женщину. Наконец, все видимости были про-
тив меня; я терзалась от стыда, терялась, не могла
понять злобы этого человека. Не отвечая ему, вне себя
от ужаса я бросилась вон из комнаты и очнулась уж
стоя при входе в кабинет Александры Михайловны.
В это мгновение послышались и его шаги; я уже хотела
войти в комнату, как вдруг остановилась, как бы пора-
женная громом.
«Что с нею будет? — мелькнуло в моей голове.—
Это письмо!.. Нет, лучше всё на свете, чем этот послед-
ний удар в ее сердце»,— и я бросилась назад. Но уж
было поздно: он стоял подле меня.
— Куда хотите пойдемте, только не здесь, не
здесь! — шепнула я, схватив его руку.— Пощадите ее!
Я приду опять в библиотеку или... куда хотите! Вы
убьете ее!
— Это вы убьете ее! — отвечал он, отстраняя меня.
220
Все надежды мои исчезли. Я чувствовала, что ему
именно хотелось перенесть всю сцену к Александре
Михайловне.
— Ради бога! — говорила я, удерживая его всеми
силами. Но в это мгновение поднялась портьера, и Але-
ксандра Михайловна очутилась перед нами. Она смот-
рела на нас в удивлении. Лицо ее было бледнее все-
гдашнего. Она с трудом держалась на ногах. Видно
было, что ей больших усилий стоило дойти до нас, когда
она заслышала наши голоса.
— Кто здесь? о чем вы здесь говорили? — спросила
она, смотря на нас в крайнем изумлении.
Несколько мгновений длилось молчание, и она по-
бледнела как полотно. Я бросилась к ней, крепко обняла
ее и увлекла назад в кабинет. Петр Александрович во-
шел вслед за мною. Я спрятала лицо свое на груди ее и
все крепче, крепче обнимала ее, замирая от ожидания.
— Что с тобою, что с вами? — спросила в другой раз
Александра Михайловна.
— Спросите ее. Вы еще вчера так ее защищали,—
сказал Петр Александрович, тяжело опускаясь в кресла.
Я все крепче и крепче сжимала ее в своих объятиях.
— Но, боже мой, что ж это такое? — проговорила
Александра Михайловна в страшном испуге.— Вы так
раздражены; она испугана, в слезах. Аннета, говори
мне все, что было между-вами.
— Нет, позвольте мне сперва,— сказал Петр Алек-
сандрович, подходя к нам, взяв меня за руку и оттащив
от Александры Михайловны.— Стойте тут,— сказал он,
указав на средину комнаты.— Я вас хочу судить перед
той, которая заменила вам мать. А вы успокойтесь, сядь-
те,— прибавил он, усаживая Александру Михайловну
на кресла.— Мне горько, что я не мог вас избавить от
этого неприятного объяснения; но оно необходимо.
— Боже мой! что ж это будет? — проговорила Алек-
сандра Михайловна, в глубокой тоске перенося свой
взгляд поочередно на меня и на мужа. Я ломала руки,
предчувствуя роковую минуту. От него я уж не ожидала
пощады.
— Одним словом,— продолжал Петр Александро-
вич,— я хотел, чтоб вы рассудили вместе со мною. Вы
221
всегда (и не понимаю отчего, это одна из ваших фанта-
зий), вы всегда — еще вчера, например,— думали, гово-
рили... но не знаю, как сказать; я краснею от предполо-
жений... Одним словом, вы защищали ее, вы нападали
на меня, вы уличали меня в неуместной строгости; вы
намекали еще на какое-то другое чувство, будто бы
вызывающее меня на эту неуместную строгость; вы... но
я не понимаю, отчего я не могу подавить своего смуще-
ния, эту краску в лице при мысли о ваших предположе-
ниях; отчего я не могу сказать о них гласно, открыто,
при ней... Одним словом, вы...
— О, вы этого не сделаете! нет, вы не скажете
этого! — вскрикнула Александра Михайловна, вся в вол-
нении, сгорев от стыда,— нет, вы пощадите ее. Это я,
я все выдумала! Во мне нет теперь никаких подозрений.
Простите меня за них, простите. Я больна, мне нужно
простить, но только не говорите ей, нет... Аннета,—
сказала она, подходя ко мне,— Аннета, уйди отсюда,
скорее, скорее! Он шутил; это я всему виновата; это
неуместная шутка...
— Одним словом, вы ревновали меня к ней,— ска-
зал Петр Александрович, без жалости бросив эти слова
в ответ ее тоскливому ожиданию. Она вскрикнула, по-
бледнела и оперлась на кресло, едва удерживаясь на
ногах.
— Бог вам простит! — проговорила она, наконец,
слабым голосом.— Прости меня за него, Неточка,
прости; я была всему виновата. Я была больна, я...
— Но это тиранство, бесстыдство, низость! — закри-
чала я в исступлении, поняв, наконец, все, поняв, зачем
ему хотелось осудить меня в глазах жены.— Это до-
стойно презрения; вы...
— Аннета! — закричала Александра Михайловна, в
ужасе схватив меня за руки.
— Комедия! комедия, и больше ничего! — прогово-
рил Петр Александрович, подступая к нам в неизобрази-
мом волнении.— Комедия, говорю я вам,— продолжал
он, пристально и с зловещей улыбкой смотря на жену,—
и обманутая во всей этой комедии одна — вы. Поверьте,
что мы,— произнес он, задыхаясь и указывая на
меня,— не боимся таких объяснений; поверьте, что мы
222
уж не так целомудренны, чтоб оскорбляться, краснеть
и затыкать уши, когда нам заговорят о подобных делах.
Извините, я выражаюсь просто, прямо, грубо может
быть, но — так должно. Уверены ли вы, сударыня, в по-
рядочном поведении этой... девицы?
— Боже! что с вами? Вы забылись! — проговорила
Александра Михайловна, остолбенев, помертвев от ис-
пуга.
— Пожалуйста, без громких слов! — презрительно
перебил Петр Александрович,— я не люблю этого.
Здесь дело простое, прямое, пошлое до последней пош-
лости. Я вас спрашиваю о ее поведении; знаете ли вы...
Но я не дала ему договорить и, схватив его за руки,
с силою оттащила в сторону. Еще минута — и все могло
быть потеряно.
— Не говорите о письме! — сказала я быстро, шепо-
том,— вы убьете ее на месте. Упрек мне будет упреком
ей в то же время. Она не может судить меня, потому что
я все знаю... понимаете, я все знаю!
Он пристально, с диким любопытством посмотрел на
меня — и смешался; кровь выступила ему на лицо.
— Я все знаю, все! — повторяла я.
Он еще колебался. На губах его шевелился вопрос.
Я предупредила:
— Вот что было,— сказала я вслух, наскоро обра-
щаясь к Александре Михайловне, которая глядела на
нас в робком, тоскливом изумлении.— Я виновата во
всем. Уж четыре года тому, как я вас обманывала.
Я унесла ключ от библиотеки и уж четыре года поти-
хоньку читаю книги. Петр Александрович застал меня
над такой книгой, которая... не могла, не должна была
быть в руках моих. Испугавшись за меня, он преувели-
чил опасность в глазах ваших!.. Но я не оправдываюсь
(поспешила я, з-аметив насмешливую улыбку на губах
его): я во всем виновата. Соблазн был сильнее меня, и,
согрешив раз, я уж стыдилась признаться в своем
проступке... Вот все, почти все, что было между нами...
— О-го, как бойко! — прошептал подле меня Петр
Александрович.
Александра Михайловна выслушала меня с глу-
боким вниманием; но в лице ее видимо отражалась
223
недоверчивость. Она попеременно взглядывала то на
меня, то на мужа. Наступило молчание. Я едва пере-
водила дух. Она опустила голову на грудь и закрыла
рукою глаза, соображая что-то и, очевидно, взвешивая
каждое слово, которое я произнесла. Наконец, она под-
няла голову и пристально посмотрела на меня.
— Неточка, дитя мое, я знаю, ты не умеешь лгать,—
проговорила она.— Это все, что случилось, решительно
все?
— Все,— отвечала я.
— Все ли? — спросила она, обращаясь к мужу.
— Да, все,— отвечал он с усилием,— все!
Я отдохнула.
— Ты даешь мне слово, Неточка?
— Да,— отвечала я не запинаясь.
Но я не утерпела и взглянула на Петра Александро-
вича. Он смеялся, выслушав, как я дала слово. Я
вспыхнула, и мое смущение не укрылось от бедной
Александры Михайловны. Подавляющая, мучительная
тоска отразилась на лице ее.
— Довольно,— сказала она грустно.— Я вам верю.
Я не могу вам не верить.
— Я думаю, что такого признания достаточно,—
проговорил Петр Александрович.— Вы слышали? Что
прикажете думать?
Александра Михайловна не отвечала. Сцена стано-
вилась все тягостнее и тягостнее.
— Я завтра же пересмотрю все книги,— продолжал
Петр Александрович.— Я не знаю, что там еще
было; но...
— А какую книгу читала она? — спросила Алек-
сандра Михайловна.
— Книгу? Отвечайте вы,— сказал ои, обращаясь ко
мне.— Вы умеете лучше меня объяснять дело,— приба-
вил он с затаенной насмешкой.
Я смутилась и не могла выговорить ни слова. Алек-
сандра Михайловна покраснела и опустила глаза. На-
ступила долгая пауза. Петр Александрович в досаде
ходил взад и вперед по комнате.
— Я не знаю, что между вами было,— начала, нако-
нец, Александра Михайловна, робко выговаривая каж-
224
дое слово,— но, если это только было,— продолжала
она, силясь дать особенный смысл словам своим, уже
смутившаяся от неподвижного взгляда своего мужа,
хотя ока и старалась не глядеть на него,— если только
это было, то я не знаю, из-за чего нам всем горевать и
так отчаиваться. ^Виноватее всех я, я одна, и это меня
очень мучит. Я пренебрегла ее воспитанием, я и должна
отвечать за все.. Она должна простить мне, и я ее осудить
не могу и не смею. Но, опять, из-за чего ж нам отчаи-
ваться? Опасность прошла. Взгляните на нее,— сказала
она, одушевляясь все более и более и бросая пытливый
взгляд на своего мужа,— взгляните на нее: неужели ее
неосторожный поступок оставил хоть какие-нибудь
последствия? Неужели я не знаю ее, дитяти моего, моей
дочери милой? Неужели я не знаю, что ее сердце чисто
и благородно, что в этой хорошенькой головке,— про-
должала она, лаская меня и привлекая к себе,— ум
ясен и светел, а совесть боится обмана... Полноте, мои
милые! Перестанем! Верно, другое что-нибудь затаилось
в нашей тоске; может быть, на нас только мимолетом
легла враждебная тень. Но мы разгоним ее любовью,
добрым согласием и рассеем недоумение наше. Может
быть, много недоговорено между нами, и я винюсь пер-
вая. Я первая таилась от вас, у меня у первой родились
бог знает какие подозрения, в которых виновата боль-
ная голова моя. Но... но, если уж мы отчасти и высказа-
лись, то вы должны оба простить меня, потому... по-
тому, наконец, что нет большого греха в том, что я
подозревала...
Сказав это, она робко и краснея взглянула на мужа
и с тоскою ожидала слов его. По мере того как он ее
слушал, насмешливая улыбка показывалась на его гу-
бах. Он перестал ходить и остановился прямо перед нею,
закинув назад руки. Он, казалось, рассматривал ее
смущение, наблюдал его, любовался им; чувствуя над
собой его пристальный взгляд, она смешалась. Он пе-
реждал мгновение, как будто ожидая чего-нибудь далее.
Смущение ее удвоилось. Наконец, он перервал тягост-
ную сцену тихим, долгим, язвительным смехом:
— Мне жаль вас, бедная женщина! — сказал он, на-
конец, горько и серьезно, перестав смеяться.— Вы взяли
16 ф. М. Достоевский, т. 2
225
на себя роль, которая вам не по силам. Чего вам хоте-
лось? Вам хотелось поднять меня на ответ, поджечь
меня новыми подозрениями, или, лучше сказать, старым
подозрением, которое вы плохо скрыли в словах ваших?
Смысл ваших слов, что сердиться на нее нечего, что она
хороша и после чтения безнравственных книг, мораль
которых — говорю от себя — кажется, уже принесла
кой-какие успехи, что вы, наконец, за нее отвечаете
сами; так ли? Ну-с, объяснив это, вы намекаете на что-
то другое; вам кажется, что подозрительность и гонения
мои выходят из какого-то другого чувства. Вы даже
намекали мне вчера — пожалуйста, не останавливайте
меня, я люблю говорить прямо — вы даже намекали
вчера, что у некоторых людей (помню, что, по вашему
замечанию, эти люди всего чаще бывают степенные,
суровые, прямые, умные, сильные, и бог знает каких вы
еще не давали определений в припадке великодушия!),
что у некоторых людей, повторяю, любовь (и бог знает
почему вы это выдумали!) и проявляться не может
иначе, как сурово, горячо, круто, часто подозрениями,
гонениями. Я уж не помню хорошо, так ли именно вы
говорили вчера... Пожалуйста, не останавливайте меня;
я знаю хорошо вашу воспитанницу; ей все можно слы-
шать, все, повторяю вам в сотый раз,— все. Вы об-
мануты. Но не знаю, отчего вам угодно так настаивать
на том, что я-то именно и есть такой человек! Бог знает
зачем вам хочется нарядить меня в этот шутовской каф-
тан. Не в летах моих любовь к этой девице; да, наконец,
поверьте мне, сударыня, я знаю свои обязанности, и как
бы великодушно вы ни извиняли меня, я буду говорить
прежнее, что преступление всегда останется преступле-
нием, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнус-
ным, неблагородным, на какую бы степень величия вы
ни вознесли порочное чувство! Но довольно! довольно!
и чтоб я не слыхал более об этих гадостях!
Александра Михайловна плакала.
— Ну, пусть я несу это, пусть это мне! — прогово-
рила она, наконец, рыдая и обнимая меня,— пусть по-
стыдны были мои подозрения, пусть вы насмеялись так
сурово над ними! Но ты, моя бедная, за что ты осуж-
дена слушать такие оскорбления? И я не могу защитить
226
тебя! Я безгласна! Боже мой! я не могу молчать, сударь!
Я не вынесу... Ваше поведение безумно!..
— Полноте, полноте! — шептала я, стараясь ути-
шить ее волнение, боясь, чтоб жестокие укоры не вывели
его из терпения. Я все еще трепетала от страха за нее.
— Но, слепая женщина! — закричал он,— но вы не
знаете, вы не видите...
Он остановился на минуту.
— Прочь от нее! — сказал он, обращаясь ко мне и
вырывая мою руку из рук Александры Михайловны.—
Я вам не позволю прикасаться к жене моей; вы мараете
ее; вы оскорбляете ее своим присутствием! Но... но что
же заставляет меня молчать, когда нужно, когда необ-
ходимо говорить? — закричал он, топнув ногою.— И я
скажу, я все скажу. Я не знаю, что вы там знаете, су-
дарыня, и чем вы хотели пригрозить мне, да и знать не
хочу. Слушайте! — продолжал он, обращаясь к Алек-
сандре Михайловне,— слушайте же.
— Молчите! — закричала я, бросаясь вперед,— мол-
чите, ни слова!
— Слушайте!..
— Молчите во имя...
— Во имя чего, сударыня? — перебил он, быстро и
пронзительно взглянув мне в глаза,— во имя чего?
Знайте же, я вырвал из рук ее письмо от любовника!
Вот что делается в нашем доме! вот что делается подле
вас! вот чего вы не видали, не заметили!
Я едва устояла на месте. Александра Михайловна
побледнела как смерть.
— Этого быть не может,— прошептала она едва
слышным голосом.
— Я видел это письмо, сударыня; оно было в руках
моих; я прочел первые строки и не ошибся: письмо было
от любовника. Она вырвала его у меня из рук. Оно те-
перь у нее,— это ясно, это так, в этом нет сомнения;
а если вы еще сомневаетесь, то взгляните на нее и по-
пробуйте потом надеяться хоть на тень сомнения.
— Неточка! — закричала Александра Михайловна,
бросаясь ко мне,— но нет, не говори, не говори! Я не
знаю, что это было, как это было... боже мой, боже мой!
И она зарыдала, закрыв лицо руками.
15*
227
— Но нет! этого быть не может! — закричала она
опять.— Вы ошиблись. Это... это я знаю, что значит! —
проговорила она, пристально смотря на мужа,— вы...
я... не могла, ты меня не обманешь, ты меня не можешь
обманывать! Расскажи мне все, все без утайки; он
ошибся? да, не правда ли, он ошибся? Он видел другое,
он ослеплен? да, не правда, ли? не правда ли? По-
слушай: отчего же мне не сказать всего, Аннета, дитя
мое, родное дитя мое?
— Отвечайте, отвечайте скорее! — послышался надо
мной голос Петра Александровича.— Отвечайте: видел
или нет я письмо в руках ваших?
— Да! — отвечала я, задыхаясь от волнения.
— Это письмо от вашего любовника?
— Да! — отвечала я.
— С которым вы и теперь имеете связь?
— Да, да, да! — говорила я, уже не помня себя, от-
вечая утвердительно на все вопросы, чтоб добиться
конца нашей муке.
— Вы слышали ее. Ну, что вы теперь скажете? По-
верьте, доброе, слишком доверчивое сердце,— прибавил
он, взяв руку жены,— поверьте мне и разуверьтесь во
всем, что породило больное воображение ваше. Вы ви-
дите теперь, кто такая эта... девица. Я хотел только по-
ставить невозможность рядом с подозрениями вашими.
Я давно все это заметил и рад, что, наконец, изобличил
ее пред вами. Мне было тяжело видеть ее подле вас,
в ваших объятиях, за одним столом вместе с нами, в до-
ме моем, наконец. Меня возмущала слепота ваша. Вот
почему, и только поэтому, я обращал на нее внимание,
следил за нею; это-то внимание бросилось вам в глаза,
и, взяв бог знает какое подозрение за исходную точку,
вы бог знает что заплели по этой канве. Но теперь по-
ложение разрешено, кончено всякое сомнение, и завтра
же, сударыня, завтра же вы не будете в доме моем! —
кончил он, обращаясь ко мне.
— Остановитесь! — сказала Александра Михай-
ловна, приподымаясь со стула.— Я не верю всей этой
сцене. Не смотрите на меня так страшно, не смейтесь
надо мной. Я вас же и призову на суд моего мнения.
Аннета, дитя мое, подойди ко мне, дай твою руку, так.
228
Мы все грешны! — сказала она дрожащим от слез голо-
сом и со смирением взглянула на мужа,— и кто из нас
может отвергнуть хоть чью-либо руку? Дай же мне свою
руку, Аннета, милое дитя мое; я не достойнее, не лучше
тебя; ты не можешь оскорблять меня своим присут-
ствием, потому что я тоже, тоже грешница.
— Сударыня! — закричал Петр Александрович в
изумлении,— сударыня! удержитесь! не забывайте!..
— Я ничего не забываю. Не прерывайте же меня и
дайте мне досказать. Вы видели в ее руках письмо; вы
даже читали его; вы говорите, и она... призналась, что
это письмо от того, кого она любит. Но разве это дока-
зывает, что она преступна? разве это позволяет вам так
обходиться с нею, так обижать ее в глазах жены вашей?
Да, сударь, в глазах жены вашей? Разве вы рассудили
это дело? Разве вы знаете, как это было?
— Но мне остается бежать, прощения просить у нее.
Этого ли вы хотели? — закричал Петр Александрович,—
я потерял терпение, вас слушая! Вы вспомните, о чем вы
говорите! Знаете ли вы, о чем вы говорите? Знаете ли
вы, что и кого вы защищаете? Но ведь я все насквозь
вижу...
— И самого первого дела не видите, потому что гнев
и гордость мешают вам видеть. Вы не видите того, что
я защищаю и о чем хочу говорить. Я не порок защищаю.
Но рассудили ли вы,— а вы ясно увидите, коли рассуди-
те,— рассудили ли вы, что, может быть, она как ребенок
невинна! Да, я не защищаю порока! Я спешу оговорить-
ся, если это вам будет очень приятно. Да; если б она
была супруга, мать и забыла свои обязанности, о, тогда
бы я согласилась с вами... Видите, я оговорилась. За-
метьте же это и не корите меня! Но если она получила
это письмо, не ведая зла? Если она увлеклась неопыт-
ным чувством и некому было удержать ее? если я пер-
вая виноватее всех, потому что не уследила за сердцем
ее? если это письмо первое? если вы оскорбили вашими
грубыми подозрениями ее девственное, благоуханное
чувство? если вы загрязнили ее воображение своими
циническими толками об этом письме? если вы не
видали этого целомудренного, девственного стыда, кото-
рый сияет на лице ее, чистый, как невинность, который
229
я вижу теперь, который я видела, когда она, потерянная,
измученная, не зная, что говорить, и разрываясь от
тоски, отвечала признанием на все ваши бесчеловечные
вопросы? Да, да! это бесчеловечно, это жестоко; я не
узнаю вас; я вам не прощу этого никогда, никогда!
— Да пощадите, пощадите меня! — закричала я,
сжимая ее в объятиях.— Пощадите, верьте, не отталки-
вайте меня...
Я упала перед ней на колени.
— Если, наконец,— продолжала она задыхающимся
голосом,— если б, наконец, не было меня подле нее, и
если б вы запугали ее словами своими, и если б бедная
сама уверилась, что она виновата, если б вы смутили ее
совесть, душу и разбили покой ее сердца... боже мой!
Вы хотели выгнать ее из дома! Но знаете ли, с кем это
делают? Вы знаете, что если ее выгоните, то выгоните
нас вместе, нас обеих,— и меня тоже. Вы слышали меня,
сударь?
Глаза ее сверкали; грудь волновалась; болезненное
напряжение ее дошло до последнего кризиса.
— Так довольно же я слушал, сударыня! — закри-
чал, наконец, Петр Александрович,— довольно этого!
Я знаю, что есть страсти платонические — и на мою па-
губу знаю это, сударыня, слышите? на мою пагубу. Но
не ужиться мне, сударыня, с озолоченным пороком! Я не
понимаю его. Прочь мишуру! И если вы чувствуете себя
виноватою, если знаете за собой что-нибудь (не мне на-
поминать вам, сударыня), если вам нравится, наконец,
мысль оставить мой дом... то мне остается только
сказать, напомнить вам, что напрасно вы позабыли
исполнить ваше намерение, когда была настоящая пора,
настоящее время, лет назад тому... если вы позабыли, то
я вам напомню...
Я взглянула на Александру Михайловну. Она судо-
рожно опиралась на меня, изнемогая от душевной
скорби, полузакрыв глаза в неистощимой муке. Еще
минута, и она готова была упасть.
— О, ради бога, хоть в этот раз пощадите ее! Не
выговаривайте последнего слова,— закричала я, бро-
саясь на колени перед Петром Александровичем и
забыв, что изменяла себе. Но было поздно. Слабый крик
230
раздался в ответ словам моим, и бедная упала без
чувств на пол.
— Кончено! вы убили ее! — сказала я.— Зовите лю-
дей, спасайте ее! Я вас жду у вас в кабинете. Мне нужно
с вами говорить; я вам все расскажу...
— Но что? но что?
— После!
Обморок и припадки продолжались два часа. Весь
дом был в страхе. Доктор сомнительно качал головою.
Через два часа я вошла в кабинет Петра Александро-
вича. Он только что воротился от жены и ходил взад и
вперед по комнате, кусая ногти в кровь, бледный, рас-
строенный. Я никогда не видала его в таком виде.
— Что же вам угодно сказать мне? — проговорил он
суровым, грубым голосом.— Вы что-то хотели сказать?
— Вот письмо, которое вы перехватили у меня. Вы
его узнаете?
- Да.
— Возьмите его.
Он взял письмо и поднес к свету. Я внимательно сле-
дила за ним. Через несколько минут он быстро обернул
па четвертую страницу и прочел подпись. Я видела, как
кровь бросилась ему в голову.
— Что это? — спросил он у меня, остолбенев от
изумления.
— Три года тому, как я нашла это письмо в одной
книге. Я догадалась, что оно было забыто, прочла его
и — узнала все. С тех пор оно оставалось при мне, пото-
му что мне некому было отдать его. Ей я отдать его не
могла. Вам? Но вы не могли не знать содержания этого
письма, а в нем вся эта грустная повесть... Для чего
ваше притворство — не знаю. Это покамест темно для
меня. Я еще не могу ясно вникнуть в вашу темную
душу. Вы хотели удержать над ней первенство и удер-
жали. Но для чего? для того, чтобы восторжествовать
над призраком, над расстроенным воображением боль-
ной, для-того, чтоб доказать ей, что она заблуждалась
и что вы безгрешнее ее! И вы достигли цели, потому что
это подозрение ее — неподвижная идея угасающего ума,
может быть последняя жалоба разбитого сердца на
несправедливость приговора людского, с которым вы
231
были заодно. «Что ж за беда, что вы меня полюбили?»
Вот что она говорила, вот что хотелось ей доказать вам.
Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были без-
жалостны. Прощайте! Объяснений не нужно! Но
смотрите, я вас знаю всего, вижу насквозь, не забывайте
же этого!
Я вошла в свою комнату, едва помня, что со мной
сделалось. У дверей меня остановил Овров, помощник
в делах Петра Александровича.
— Мне бы хотелось поговорить с вами,— сказал он
с учтивым поклоном.
Я смотрела на него, едва понимая то, что он мне
сказал.
— После, извините меня, я нездорова,— отвечала я,
наконец, проходя мимо него.
— Итак, завтра,— сказал он, откланиваясь, с ка-
кою-то двусмысленною улыбкой.
Но, может быть, это мне так показалось. Все это как
будто мелькнуло у меня пред глазами.
МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
Из неизвестных мемуаров
Было мне тогда без малого одиннадцать лет.
В июле отпустили меня гостить в подмосковную де-
ревню, к моему родственнику, Т — ву, к которому в то
время съехалось человек пятьдесят, а может быть,
и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно
и весело. Казалось, это был праздник, который с тем и
начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хо-
зяин дал себе слово как можно скорее промотать все
свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно
оправдать эту догадку, то есть промотать все, дотла,
дочиста, до последней щепки. Поминутно наезжали но-
вые гости. Москва же была в двух шагах, на виду, так
что уезжавшие только уступали место другим, а празд-
ник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни
другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая
езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки
в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на
большой террасе дома, обставленной тремя рядами дра-
гоценных цветов, заливавших ароматами свежий ноч-
ной воздух, при блестящем освещении, от которого
наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие,
казались еще прелестнее с их одушевленными от днев-
ных впечатлений лицами, с их сверкавшими глаз-
ками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся
233
звонким, как колокольчик, смехом; танцы, музыка,
пение; если хмурилось небо, сочинялись живые картины,
шарады, пословицы; устраивался домашний театр.
Явились краснобаи, рассказчики, бонмотисты.
Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане.
Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так
как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли
бы от тоски, как мухи. Но так как мне было одинна-
дцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлечен-
ный совсем другим, а если и заметил что, так не все.
После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна
блестящая сторона картины могла броситься в мои дет-
ские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум —
все это, доселе невиданное и неслыханное мною, так
поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся,
и маленькая голова моя закружилась.
Но я все говорю про свои одиннадцать лет, и, ко-
нечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из
этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали
справляться с моими годами. Но — странное дело!,—
какое-то непонятное мне самому ощущение уже овла-
дело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до
сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно
подчас горело и билось, будто испуганное, и часто не-
ожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне
как-то стыдно и даже обидно было за разные детские
мои привилегии. Другой раз как будто удивление одо-
левало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли
меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и
что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, каза-
лось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь
вдруг позабыл, но без чего, однакож, мне покуда нельзя
показаться и никак нельзя быть.
То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от
всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем,
что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро
среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-
то одиночество. Тут были и другие дети, но все —
или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да,
впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не
случилось со мною, если б я не был в исключительном
234
положении. На глаза всех этих прекрасных дам я все
еще был то же маленькое, неопределенное существо, ко-
торое они подчас любили ласкать и с которым им
можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно
одна из них, очаровательная блондинка, с пышными,
густейшими волосами, каких я никогда потом не видел
и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не
давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех,
раздававшийся кругом нас, который она поминутно
вызывала своими резкими, взбалмошными выходками
со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаж-
дение. В пансионах, между подругами, ее наверное
прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша,
и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза
с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была
на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, белень-
ких, как пушок, и нежных, как белые мышки или па-
сторские дочки. Ростом она была невысока и немного
полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очарова-
тельно нарисованными. Что-то как молния сверкающее
было в этом лице, да и вся она — как огонь, живая,
быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто
искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда
я не променяю таких голубых, искрометных глаз ни на
какие черные, будь они чернее самого черного андалуз-
ского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той
знаменитой брюнетки, которую воспел один известный
и прекрасный поэт и который еще в таких превосходнььх
стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать
себе кости, если позволят ему только кончиком пальца
прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к
тому, что моя красавица была самая веселая из всех
красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, рез-
вая, как ребенок, несмотря на то, что лет пять как была
уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как
свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть,
с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку,
на которой еще не обсохли холодные, крупные капли
росы.
Помню, что на второй день моего приезда был
устроен домашний театр. Зала была, как говорится,
235
набита битком; не было ни одного места свободного;
а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и при-
нужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая
игра все более и более тянула меня вперед, и я неза-
метно пробрался до самых первых рядов, где и стал,
наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых си-
дела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще
знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся
я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи,
полные, белые, как молочный кипень, хотя мне реши-
тельно все равно было смотреть: на чудесные женские
плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший
седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле
блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, кото-
рые, как случалось мне потом замечать, вечно ютятся
где-нибудь, как можно поближе к молоденьким и хоро-
шеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят
гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта
дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке
и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг
обернулась, и помню, что'огневые глаза ее так сверк-
нули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный
к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица
улыбнулась.
— Нравится вам, что играют? — спросила она, лу-
каво и насмешливо посмотрев мне в глаза.
— Да,— отвечал я, все еще смотря на нее в каком-
то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нра-
вилось.
— А зачем же вы стоите? Так устанете; разве вам
места нет?
— То-то и есть, что нет,— отвечал я, на этот раз бо-
лее занятый заботой, чем искрометными глазами кра-
савицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось,
наконец, доброе сердце, которому можно открыть свое
горе.— Я уж искал, да все стулья заняты,— прибавил
я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.
— Ступай сюда,— живо заговорила она, скорая на
все решения так же, как и на всякую сумасбродную
идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее го-
лове,— ступай сюда, ко мне и садись мне на колени.
236
— На колени?..— повторил я, озадаченный.
Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали
меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в при-
мер другим далеко заходила. К тому же я, и без того
всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то осо-
бенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно
сконфузился.
— Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть
ко мне на колени? — настаивала она, начиная смеяться
все сильнее и сильнее, так что, наконец, просто приня-
лась хохотать бог знает чему, может быть своей же вы-
думке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но
ей того-то и нужно было.
Я покраснел и в смущении осматривался кругом,
приискивая — куда бы уйти; но она уже предупредила
меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того,
чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем
неожиданно, к величайшему моему удивлению, пре-
больно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчи-
ках и начала ломать мои пальцы, ио так больно, что я
напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом де-
лал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужас-
нейшем удивлении,, недоумении, ужасе даже, узнав, что
есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с
мальчиками про такие пустяки да еще больно так щип-
лются, бог знает за что и при всех. Вероятно, мое не-
счастное лицо отражало все мои недоумения, потому
что шалунья хохотала мне в глаза, как безумная,
а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала
мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что
удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного
.мальчика и замистифировать его в прах. Положение
мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, по-
тому что все почти кругом нас оборотились к нам, одни
в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что кра-
савица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх
как хотелось кричать, потому что она ломала мои
пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я
не кричу; а я, как спартанец, решился выдерживать
боль, боясь наделать криком суматоху, после которой
уж не знаю, что бы сталось со мною. В припадке совер-
237
шейного отчаяния начал я, наконец, борьбу и принялся
из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но
тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец, я
не выдержал, вскрикнул,— того только и ждала! Мигом
она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бы-
вала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну
хточь-в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть от-
вернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь
по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного сла-
босильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, под-
толкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, попра-
виться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок
и, таким образом, оставить разгневанного господина
учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум,—
с предлинным и неожиданным носом.
Но, к моему счастью, общее внимание увлечено
было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина,
который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скри-
бовской комедии, главную роль. Все зааплодировали; я,
под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый ко-
нец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь за
колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная
красавица. Она все еще хохотала, закрыв платком свои
губки. И долго еще она оборачивалась назад, выгляды-
вая меня по всем углам,— вероятно, очень жалея, что
так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и при-
думывая, как бы еще что-нибудь напроказить.
Этим началось наше знакомство, и с этого вечера
она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследо-
вала меня без меры и совести, сделалась гонительни-
цей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной
заключался в том, что она сказалась влюбленною в
меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне,
прямому дикарю, все это до слез было тяжело и до-
садно, так что я уже несколько раз был в таком серьез-
ном и критическом положении, что готов был подраться
с моей коварной обожательницей. Мое наивное смуще-
ние, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее пре-
следовать меня до конца. Она не знала жалости, а я
не знал — куда от нее деваться. Смех, раздававшийся
кругом нас и который она умела-таки вызвать, только
238
поджигал ее на новые шалости. Но стали, наконец, на-
ходить ее шутки немного слишком далекими. Да и
вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже че-
ресчур позволяла себе с таким ребенком, как я.
Но уж такой был характер; была она, по всей
форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее
всего более ее же собственный муж, очень толстенький,
очень невысокий и очень красный человек, очень бога-
тый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертля-
вый, хлопотливый; он двух часов не мог прожить на
одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву,
иногда по два раза, и все, как сам уверял, по делам.
Веселее и добродушнее этой комической и между тем
всегда порядочной физиономии трудно было сыскать.
Он мало того, что любил жену до слабости, до жало-
сти,— он просто поклонялся ей, как идолу.
Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней
было множество. Во-первых, ее мало кто не любил,
а во-вторых, ветреница и сама была не слишком раз-
борчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее харак-
тера было гораздо более серьезного, чем сколько можно
предположить, судя по тому, что я теперь рассказал.
Но из всех подруг своих она всех больше любила и от-
личала одну молодую даму, свою дальнюю родствен-
ницу, которая теперь тоже была в нашем обществе.
Между ними была какая-то нежная, утонченная связь,
одна из тех связей, которые зарождаются иногда при
встрече двух характеров, часто совершенно противо-
положных друг другу, но из которых один и строже,
и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким
смирением, и с благородным чувством самооценки, лю-
бовно подчиняется ему, почувствовав все превосходство
его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем
его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благо-
родная утонченность в отношениях таких характеров:
любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, лю-
бовь и уважение — с другой, уважение, доходящее до
какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем
так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного жела-
ния с каждым шагом в жизни все ближе и ближе под-
ходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но
239
между ними была неизмеримая разница во всем, начи-
ная с красоты. М-me М * была тоже очень хороша со-
бой, но. в красоте ее было что-то особенное, резко отде-
лявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то
в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все
симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благо-
родную, возвышенную симпатию в том, кто встречал
ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому
становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теп-
лее, и, однакож, ее грустные, большие глаза, полные
огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под
ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного,
и эта странная робость таким унынием покрывала под-
час ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые
лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому
становилось скоро так же грустно, как за собственную,
как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо,
в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, пра-
вильных линий и унылую суровость глухой, затаенной
тоски еще так часто просвечивал первоначальный дет-
ски ясный облик,— образ еще недавних доверчивых лет
и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несме-
лая, колебавшаяся улыбка — все это поражало таким
безотчетным участием к этой женщине, что в сердце
каждого невольно зарождалась сладкая, горячая за-
бота, которая громко говорила за нее еще издали
и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-
то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было су-
щества более внимательного и любящего, когда кому-
нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые
точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно
ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть
больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот
смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тя-
гость, затем, что редкий из нас знает, насколько может
быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и все-
прощения в ином женском сердце. Целые сокровища
симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чи-
стых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что
сердце, которое много любит, много грустит, но где
рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, за-
240
тем, что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их
же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее:
кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впро-
чем, как будто и родятся на подвиг... М-ше М * была
высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка.
Все движения ее были как-то неровны, то медленны,
плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вме-
сте с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в
ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищен-
ное, но никого не просившее и не молившее о защите.
Я уже сказал, что непохвальные притязания ковар-
ной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня
до крови. Но этому была еще причина тайная, стран-
ная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как
кащей, и даже при одной мысли о ней, один на один с
опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном,
темном углу, куда не досягал инквизиторский, насмеш-
ливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной
мысли об этом предмете я чуть не задыхался от сму-
щения, стыда и боязни,— словом, я был влюблен, то
есть положим, что я сказал вздор: этого быть не могло;
но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только
одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только
за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно
не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знако-
миться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам,
когда ненастье запирало всех в комнаты и когда я,
одиноко притаясь где-нибудь в углу залы, беспредметно
глазел” по сторонам, решительно не находя никакого
другого занятия, потому что со мной, исключая моих
гонительниц, редко кто говорил, и было мне в такие
вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в
окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в ко-
тором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время
тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо
m-me М * (потому что это была она), бог знает почему,
уловлялись моим зачарованным вниманием, и уж не
изглаживалось это странное, неопределенное, но непо-
стижимо-сладкое впечатление мое. Часто по целым ча-
сам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я за-
учил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в
16 Ф. М. Достоевский, т. 2
241
каждую вибрацию густого серебристого, но несколько
заглушенного голоса, и — странное дело! из всех на-
блюдений своих вынес, вместе с робким и сладким
впечатлением, какое-то непостижимое любопытство.
Похоже было на то, как будто я допытывался какой-
нибудь тайны...
Всего мучительнее для меня были насмешки в при-
сутствии m-me М *. Эти насмешки и комические гоне-
ния, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда,
случалось, раздавался общий смех на мой счет, в кото-
ром даже m-me М * иногда невольно принимала уча-
стие, тогда я, в отчаянии, вне себя от горя, вырывался
от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал осталь-
ную часть дня, не смея показать своего лица в зале.
Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни
волнения; весь процесс переживался во мне бессозна-
тельно. С m-me М * я почти не сказал еще и двух слов,
да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды
вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я
от других на прогулке, ужасно устал и пробирался до-
мой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее,
увидел я m-me М *. Она сидела одна-одинехонька, как
будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив
голову на грудь и машинально перебирая в руках пла-
ток. Она была в такой задумчивости, что и не слыхала,
как я с ней поровнялся.
Заметив меня, опа быстро поднялась со скамьи, от-
вернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком.
Она плакала. Осушив глаза, она улыбнулась мне и
пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы
с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под
разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то
посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда
я отходил от нее, она тотчас же опять подносила пла-
ток к глазам своим и утирала непослушные слезы, ко-
торые никак не хотели покинуть ее, все вновь и вновь
накипали в сердце и все лились из ее бедных глаз.
Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она
так часто меня отсылает, да и сама она уже видела,
что я все заметил, но только не могла удержаться,
и это меня еще более за нее надрывало. Я злился на
242
себя в эту минуту почти до отчаяния, проклинал себя
за неловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как
ловче отстать от нее, не выказав, что заметил ее горе,
но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в
испуге, совсем растерявшись и решительно не находя
ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего
разговора.
Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с
жадным любопытством следил потихоньку за m-me М *
и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два
раза застала меня врасплох среди моих наблюдений,
и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее
единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не схо-
дила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Все
время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой,
злой и сварливой старухой, которой никто не любил за
шпионство и сплетни, но которой все боялись, а потому
и принуждены были всячески угождать ей, волей-
неволей...
Часов в десять приехал муж m-me М *. До сих пор
я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз
от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном
входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо
ее, и без того уж бледное, сделалось вдруг белее платка.
Это было так приметно, что и другие заметили: я рас-
слышал в стороне отрывочный разговор, из которого
кое-как догадался, что бедной m-me М * не совсем хо-
рошо. Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из
любви, а из самолюбия. Прежде всего это был евро-
пеец, человек современный, с образчиками новых идей
и тщеславящийся своими идеями. С виду это был чер-
новолосый, высокий и особенно -плотный господин,
с европейскими бакенбардами, с самодовольным, румя-
ным лицом, с белыми, как сахар, зубами и с безукориз-
ненной джентльменской осанкой. Называли его умным
человеком. Так в иных кружках называют одну особую
породу растолстевшего на чужой счет человечества,
которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего
не хочет делать и у которой, от вечной лености и ниче-
гонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же
поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие
16*
243
каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств»
которые «утомляют их гений», и что на них поэтому
«грустно смотреть». Это уж у них такая пышная фраза,
их mot d’ordre, их пароль и лозунг, фраза, которую
мои сытые толстяки расточают везде поминутно, что
уже давно начинает надоедать, как отъявленное
тартюфство и пустое слово. Впрочем, некоторые из
этих забавников, никак не могущих найти, что им
делать,— чего, впрочем, никогда и не искали они,—
именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо
сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то
очень глубокое, но что именно — об этом не сказал бы
ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости.
Эти господа тем и пробиваются на свете, что устрем-
ляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, са-
мое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так
как им нечего больше делать, как подмечать и затвер-
живать чужие ошибки и слабости, и так как в них доб-
рого чувства ровнешенько настолько, сколько дано его
в удел устрице, то им и нетрудно, при таких предохра-
нительных средствах, прожить с людьми довольно
осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они,
например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир
на оброке; что он у них, как устрица, которую они бе-
рут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк по-
хож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да
и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева
и что весь этот похвальный порядок вещей происходит
именно оттого, что они такие умные и характерные
люди. В своей безмерной гордости они не допускают в
себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских
плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов, кото-
рые до того заплутовались, что, наконец, и сами уве-
рились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить
им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они
честные люди, что, наконец, и сами уверились,
будто они действительно честные люди и что
их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного
внутреннего суда, для благородной самооценки их ни-
когда не хватит; для иных вещей они слишком толсты.
На первом плане у них всегда и во всем их собствен-
244
ная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное
я. Вся природа, весь мир для них не более, как одно
великолепное зеркало, которое и создано для того,
чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался
и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и
немудрено, что все на свете видит он в таком безобраз-
ном виде. На все у него припасена готовая фраза,
и — что, однакож, верх ловкости с их стороны — самая
модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде,
голословно распространяя по всем перекресткам ту
мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье,
чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других
усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла.
Особенно же запасаются они своими фразами на изъ-
явление своей глубочайшей симпатии к человечеству,
на определение, что такое самая правильная и оправ-
данная рассудком филантропия и, наконец, чтоб без-
остановочно карать романтизм, то есть зачастую все
прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже
всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они
истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и
отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и
бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил наве-'
селе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает,
как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-
нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за
это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит
с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть
не более не менее, как исполинский, донельзя раздутый
мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех
родов и сортов.
Но, впрочем, m-г М * имел и особенность, был чело-
век примечательный: это был остряк, говорун и рас-
сказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался
кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвесть
впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе;
весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя.
Но m-me М * все время была как больная; лицо ее было
такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-
вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние
слезы. Все это, как я сказал, поразило и удивило меня
245
чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного
любопытства, и всю ночь снился мне m-г М *, тогда как
до тех пор я редко видывал безобразные сны.
На другой день рано поутру позвали меня на репе-
тицию живых картин, в которых и. у меня была роль.
Живые картины, театр и потом бал — все в один вечер,
назначались не далее как дней через пять, по случаю
домашнего праздника — дня рождения младшей до-
чери нашего хозяина. На праздник этот, почти импро-
визированный, приглашены были из Москвы и из окре-
стных дач еще человек сто гостей, так что много было
и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции, или, лучше
сказать, смотр костюмов, назначены были не во-время,
поутру, потому что наш режиссер, известный худож-
ник Р *, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе
к нему согласившийся взять на себя сочинение и поста-
новку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил
теперь в город для закупок по бутафорской части и для
окончательных заготовлений к празднику, так что вре-
мени терять было некогда. Я участвовал в одной кар-
тине, вдвоем с m-me М *. Картина выражала сцену из
средневековой жизни и называлась: «Госпожа замка
и ее паж».
Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись
с m-me М * на репетиции. Мне так и казалось, что она
тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения,
догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове
моей. К тому же мне все казалось, что я как будто бы
виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее
горю, так что она поневоле должна будет коситься на
меня, как на неприятного свидетеля и непрошенного
участника ее тайны. Но, слава богу, дело обошлось без
больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется,
было вовсе не до меня и не до репетиции: она была
рассеянна, грустна и мрачно задумчива; видно было,
что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с
моею ролью, я побежал переодеться и через десять ми-
нут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из
других дверей вышла и m-me М *, и как раз нам на-
против появился самодовольный супруг ее, который
возвращался из сада, только что проводив туда целую
246
группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-
то досужему cavalier servant Г Встреча мужа и жены,
очевидно, была неожиданна. М-me М. *, неизвестно по-
чему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промельк-
нула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно
насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомыс-
ленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при
встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припо-
минаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.
— Вы в сад? — спросил он, заметив омбрельку и
книгу в руках жены.
— Нет, в рощу,— отвечала она, слегка покраснев.
— Одни?
— С ним...— проговорила m-me М *, указав на
меня.— Я гуляю поутру одна,— прибавила она каким-
то неровным, неопределенным голосом, точно таким,
когда лгут первый раз в жизни.
— Гм... А я только что проводил туда целую ком-
панию. Там все собираются у цветочной беседки прово-
жать Н — го. Он едет, вы знаете... у него какая-то беда
случилась там, в Одессе... Ваша кузина (он говорил о
блондинке) и смеется и чуть не плачет, все разом, не
разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за
что-то сердиты на Н — го и потому не пошли его про-
вожать. Конечно, вздор?
— Она смеется,— отвечала m-me М *, сходя со сту-
пенек террасы.
— Так это ваш каждодневный cavalier servant? —
прибавил m-r М *, скривив рот и наведя на меня свой
лорнет.
— Паж! — закричал я, рассердившись за лорнет и
насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом пере-
прыгнул три ступеньки террасы...
— Счастливый путь! — пробормотал m-r М * и по-
шел своею дорогой.
Конечно, я тотчас же подошел к m-me М *, как
только она указала на меня мужу, и глядел так, как
будто она меня уже целый час назад пригласила и
как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по
1 услужливому кавалеру (франц.).
247
утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так сму-
тилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме,
когда она решилась прибегнуть к своей маленькой
лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Те-
перь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный
удивлением, я, однакож, пренаивно начал помаленьку
заглядывать ей в лицо; но так же, как и час назад, на
репетиции, она не примечала ни подглядываний, ни не-
мых вопросов моих. Все та же мучительная забота, но
еще явственнее, еще глубже, чем тогда, отражалась в
ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то,
все более и более ускоряя шаг, и с беспокойством за-
глядывала в- каждую аллею, в каждую просеку рощи,
оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то.
Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была
целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших
того Н — го, который так внезапно покидал наше об-
щество.
Между дамами была и моя блондинка, про которую
говорил гп-г М *, рассказывая о слезах ее. Но, по сво-
ему обыкновению, она хохотала, как ребенок, и резко
скакала на прекрасном гнедом коне. Поровнявшись с
нами, Н — й снял шляпу, но не остановился и не ска-
зал с m-me М * ни слова. Скоро вся ватага исчезла из
глаз. Я взглянул на m-me М * и чуть не вскрикнул от
изумления: она стояла бледная, как платок, и крупные
слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды
встретились: m-me М * вдруг покраснела, на миг отвер-
нулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на
лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера,— это яснее
дня, но куда мне деваться?
Вдруг m-me М *, как будто догадавшись, развер-
нула книгу, которая была у нее в руках, и, закраснев-
шись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала,
как будто сейчас только спохватилась:
— Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста,
принеси мне первую.
Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было
прогнать меня по более прямой дороге.
Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая
часть преспокойно пролежала на столе это утро...
248
Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как
будто в беспрерывном испуге. Всеми силами старался
я как-нибудь не повстречать m-me М *. Зато я с каким-
то диким любопытством глядел на самодовольную
особу m-г М *, как будто в нем теперь непременно дол-
жно было быть что-то особенное. Решительно не пони-
маю, что было в этом комическом любопытстве моем;
помню только, что я был в каком-то странном удивле-
нии от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но
мой день только что начинался, и для меня он был оби-
лен происшествиями.
Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назна-
чена была общая увеселительная поездка в соседнее
село, на случившийся там деревенский- праздник, и по-
тому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за
три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья.
Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осто-
рожно пробрался за другими и спрятался за тройным
рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем
я ни за что не хотел показаться на глаза m-me М *. Но
случаю угодно было поместить меня недалеко от моей
гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключи-
лось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела.
Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами
такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту ми-
нуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой
человек, записной поклонник нашей блондинки, только
что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно
за тем, чтоб заменить собой отбывшего Н — го, про
которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу
красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна
был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт
к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустя-
ков». Короче, наша красавица в этот день была в чрез-
вычайном успехе. Ее шутки и болтовня были- так гра-
циозны, так доверчиво-наивны, так простительно-не-
осторожны; она с такою грациозною самонадеянностию
была уверена во всеобщем восторге, что действительно
все время была в каком-то особенном- поклонении. Во-
круг нее не разрывался тесный кружок удивленных,
залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не
249
была она так обольстительна. Всякое слово ее было в
соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось вкруго-
вую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала
даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько
вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно
были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в
самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не
до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так
не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее
встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.
Впрочем, этому успеху содействовало одно особен-
ное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней
мере судя по той роли, которую играл в то же время
муж m-me М *. Проказница решилась — и нужно при-
бавить: почти ко всеобщему удовольствию или по край-
ней мере к удовольствию всей молодежи — ожесточен-
но атаковать его вследствие многих причин, вероятно,
очень важных на ее глаза. Она завела с ним целую пе-
рестрелку острот, насмешек, сарказмов самых неотра-
зимых и скользких, самых коварных, замкнутых и глад-
ких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель,
но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться
для отпора и которые только истощают в бесплодных'
усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого
комического отчаяния.
Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка
была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за
обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю
«отчаянный», потому что m-г М * не скоро положил
оружие. Ему нужно было собрать все присутствие духа,
все остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не
быть разбитым в прах, наголову и не покрыться реши-
тельным бесславием. Дело шло при непрерывном и не-
удержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По
крайней мере сегодня непохоже было для него на
вчера. Приметно было, что m-me М * несколько раз по-
рывалась остановить своего неосторожного друга, ко-
торому в свою очередь непременно хотелось . нарядить
ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм,
и должно полагать, в костюм «Синей Бороды», судя по
всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось
250
в памяти, и, наконец, по той роли, «которую мне самому
привелось играть в этой сшибке.
Это случилось вдруг, самым смешным образом, сов-
сем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на
виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих
предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый
план, как заклятый враг и естественный соперник
m-г М *, как отчаянно, до последней степени влюблен-
ный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась,
дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что
не далее, как, например, сегодня в лесу она видела...
Но она не успела договорить, я прервал ее в самую
отчаянную для меня минуту. Эта минута была так без-
божно рассчитана, так изменнически подготовлена к са-
мому концу, к шутовской развязке, и так уморительно
смешно обстановлена, что целый взрыв ничем неудер-
жимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю
выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою
долю выпадала самая досадная роль, однакож был до
того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез,
тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез
два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей
тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодова-
ния голосом:
— И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... го-
ворить такую худую... неправду?!, вам, точно малень-
кой... при всех мужчинах... Что они скажут?., вы — та-
кая большая... замужняя!..
Но я не докончил,— раздался оглушительный апло-
дисмент. Моя выходка произвела настоящий furore.
Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как
будто выступил защищать m-r М *, все это произвело
такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспо-
минании, мне самому становится ужасно смешно...
Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев, как по-
рох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях
поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в
свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший на-
ружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что
за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои
двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех
251
наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор,
их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как
ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня
отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет
мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня
всего в прах. Но... что ж могло быть ужаснее еще этой
новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью,
спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался.
Они еще долго стучались и молили меня, но я был бес-
чувствен и глух, как одиннадцатилетний.
Ну, что ж теперь делать? все открыто, Bice обнару-
жилось, все, что я так ревниво сберегал и таил... На
меня падет вечный стыд и позор!.. По правде, я и сам
не умел назвать того, за что так страшился и что хотел
бы я скрыть; но ведь, однакож, я страшился чего-то, за
обнаружение этого чего-то я трепетал до сих пор, как
листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что
оно такое: годится оно или не годится, славно или по-
зорно, похвально или не похвально? Теперь же, в муче-
ниях и насильной тоске, узнал, что оно смешно и стыд-
но! Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой
приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был раз-
бит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился
и запутался во мне; я не мог ни противостать этому
приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был
отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно,
бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами.
Я был раздражен; во мне кипели негодование и нена-
висть, которой я доселе не знал никогда, потому что
только в первый раз в жизни испытал серьезное горе,
оскорбление, обиду; и все это было действительно так,
без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было
грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовав-
шееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый
благоуханный девственный стыд и осмеяно первое и,
может быть, очень серьезное эстетическое впечатление.
Конечно, насмешники мои многого не знали и не пред-
чувствовали в моих мучениях. Наполовину входило
сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я
и не успел и как-то пугался до сих пор разбирать.
В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей по-
252
стели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливали
меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое
видела и что именно могла увидать негодная блондинка
сегодня в роще между мною и m-me М *? И, наконец,
второй вопрос: как, какими глазами, каким средством
могу я взглянуть теперь в лицо m-me М * и не погибнуть
в ту же минуту на том же месте от стыда и отчаяния.
Необыкновенный шум на дворе вызвал, наконец,
меня из полубеспамятства, в котором я находился.
Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден
экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слу-
гами. Казалось, все уезжали; несколько всадников уже
сидели на конях; другие гости размещались по экипа-
жам... Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот
мало-помалу беспокойство начало проникать в мое
сердце; я пристально начал выглядывать на дворе
своего клепера; но клепера не было,— стало быть, обо
мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал
вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о не-
давнем позоре своем...
Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот
раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже:
все было разобрано, занято, и я принужден уступить
другим.
Пораженный новым горем, остановился я на
крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет,
кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и
самого маленького уголка, и на нарядных наездниц,
под которыми гарцевали нетерпеливые кони.
Один из всадников почему-то замешкался. Ждали
только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь
его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно
вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно
держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него
в почтительном отдалении.
В самом деле, случилось предосадное обстоятель-
ство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того,
что наехали новые гости и разобрали все места и всех
лошадей, заболели две верховые лошади, из которых
одна была мой клепер. Но не мне одному пришлось по-
страдать от этого обстоятельства: открылось, что для
253
нового нашего гостя, того бледнолицего молодого чело-
века, о котором я уже говорил, тоже нет верхового
коня. Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш при-
нужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать
своего бешеного, невыезжейного жеребца, прибавив,
для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и
что его давно уж положили продать за дикость харак-
тера, если, впрочем, найдется на него покупщик. Но
предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно,
да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только
бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показа-
лось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая
улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника,
похвалившегося своим искусством, он сам еще не са-
дился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и
поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное
сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца
и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред
всей публикой при таком коне, который нет-нет да и
убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на
лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их гла-
зах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на
дверь, из которой должен был появиться приезжий1
смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как
будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми: он вел
себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблю-
дают несколько десятков любопытных глаз и словно
гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-
точь, как иной неисправимый повеса гордится своими ви-
сельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака,
который бы решился посягнуть на его независимость.
Этот смельчак, наконец, показался. Совестясь, что
заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки,
он шел вперед не глядя, спустился по ступенькам
крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул
было руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня,
но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы
и предупредительным криком всей испуганной публики.
Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел
на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, хра-
пела от злости и дико поводила налившимися кровью
254
глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподы-
мая передние, словно собираясь рвануться на воздух и
унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту
он стоял совсем озадаченный; потом, слегка покраснев
от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их
кругом и поглядел на перепугавшихся дам.
— Конь очень хороший! — проговорил он как бы
про себя,— и, судя по всему, на нем, должно быть,
очень приятно ездить, но... но, знаете что? Ведь я-то не
поеду,— заключил он, обращаясь к нашему хозяину
с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так
шла к доброму и умному лицу его.
— И все-таки я вас считаю превосходным ездоком,
клянусь вам,— отвечал обрадованный владетель недо-
ступного коня, горячо и даже с благодарностью пожи-
мая руку своего гостя,— именно за то, что вы с первого
раза догадались, с каким зверем имеете дело,.— приба-
вил он с достоинством.— Поверите ли мне, я, двадцать
три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел
наслаждение лежать на земле по его милости, то есть
ровно столько раз, сколько садился на этого... дар-
моеда. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ;
видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит
теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя
выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пу-
гать! Напрасно только выводили,— заключил он, само-
довольно потирая руки.
Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни
малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того,
старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремон-
терскую славу, заплатив баснословную цену за негод-
ного дармоеда, который выезжал разве только на своей
красоте... Все-таки теперь был он в восторге, что его
Танкред не уронил своего достоинства, спешил еще
одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолко-
вые лавры.
— Как, вы не едете? — закричала блондинка, кото-
рой непременно нужно было, чтоб ее cavalier servant
на этот раз был при ней,— неужели вы трусите?
— Ей-богу же, так! — отвечал молодой человек.
— И вы говорите серьезно?
255
— Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сло-
мал себе шею?
— Так садитесь же скорее на мою лошадь: не бой-
тесь, она пресмирная. Мы не задержим; вмиг пересед-
лают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб
Танкред всегда был такой неучтивый.
Сказано — сделано! Шалунья выпрыгнула из седла
и договорила последнюю фразу, уже остановись перед
нами.
— Плохо ж вы знаете Танкреда, коли думаете, что
он позволит оседлать себя вашим негодным седлом!
Да и вас я не пущу сломать себе шею; это, право, было
бы жалко! — проговорил наш хозяин, аффектируя, в эту
минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней
привычке, и без того уже аффектированную и изучен-
ную резкость и даже грубость своей речи, что, по его
мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и осо-
бенно должно было нравиться дамам. Это была одна из
его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.
— Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать?
тебе же так хотелось ехать,— сказала храбрая наезд-
ница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Тан-
креда — собственно для того, чтоб не уходить ни с чем,
коли уж даром пришлось встать с коня и не оставить
меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на
глаза подвернулся.
— Ты, верно, не таков, как... ну, да что говорить,
известный герой и постыдишься струсить; особенно
когда на вас будут смотреть, прекрасный паж,— при-
бавила она, бегло взглянув на m-me М *, экипаж ко-
торой был всех ближе от крыльца.
Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце,
когда прекрасная амазонка подошла к нам в намере-
нии сесть на Танкреда... Но не могу рассказать, что
ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы.
Я как будто света невзвидел, когда поймал ее взгляд
на m-me М *. Вмиг в голове у меня загорелась идея...
да, впрочем, это был только миг, менее чём миг, как
вспышка пороха, или уж переполнилась мера и я вдруг
теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да
так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех
256
врагов моих и отмстить им за все и при всех, показав
теперь, каков я человек; или, наконец, каким-нибудь
дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней
истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в
закружившейся голове моей замелькали турниры, па-
ладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители;
послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и
плески толпы, и между всеми этими криками один роб-
кий крик одного испуганного сердца, который нежит
гордую душу слаще победы и славы,— уж не знаю, слу-
чился ли тогда весь этот вздор в голове моей, или, тол-
ковее, предчувствие этого, еще грядущего и неизбеж-
ного вздора, но только я услышал, что бьет мой час.
Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню,
как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился
подле Танкреда.
— А вы думаете, что я испугаюсь? — вскрикнул я
дерзко и гордо, невзвидев света от своей горячки, за-
дыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы
обожгли мне щеки.— А вот увидите! — И, схватившись
за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем
успели сделать малейшее движение, чтоб удержать
меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул
головой, одним могучим скачком вырвался из рук
остолбеневших конюхов и полетел, как вихрь, только
все ахнули да вскрикнули.
Уж бог знает как удалось мне занести другую ногу
на всем лету; не постигаю также, каким образом слу-
чилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня
за решетчатые- ворота, круто повернул направо и пу-
стился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только
в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти
голосов, и этот крик отдался в моем замирающем
сердце таким чувством довольства и гордости, что я ни-
когда не забуду этой сумасшедшей минуты моей дет-
ской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила
меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил.
Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем
этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.
Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось
менее чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут
17 Ф. М. Достоевский, т. 2
257
я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел: меня
учили. Но мой клепер походил скорее на овцу, чем на
верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда,
если б ему было только время сбросить меня; но, про-
скакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного
камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад.
Он повернулся на лету, но так круто, как говорится,
очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом
я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три, и
не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого по-
ворота не сплечил себе ног. Он бросился назад к воро-
там, яростно мотая головой, прядая из стороны в сто-
рону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги
как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая
меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр
и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгнове-
ние— и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько
всадников летело спасать меня. Двое из них перехва-
тили дорогу в поле; двое других подскакали так близко,
что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон
Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали
его за поводья. Через несколько секунд мы были у
крыльца.
Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего.
Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и
Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад,
неподвижно, как будто врывшись копытами в землю,
тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымя-
щихся ноздрей, весь дрожа, как лист, мелкой дрожью и
словно остолбенев от оскорбления и злости за ненака-
занную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались
крики смятения, удивления, испуга.
В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился
со взглядом m-me М *, встревоженной, побледневшей,
и — я не могу забыть этого мгновения — вмиг все лицо
мое облилось румянцем, зарделось, загорелось, как
огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущен-
ный и испуганный собственным своим ощущением, я
робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был заме-
чен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к
m-me М *, и, застигнутая всеобщим вниманием врас-
258
плох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-
то противовольного и наивного чувства и через силу,
хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску
смехом...
Все это, если взглянуть со стороны, конечно, было
очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и
нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха,
придав особый колорит всему приключению. Винов-
ница всей суматохи, та, которая до сих пор была непри-
миримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг
бросилась ко мнек обнимать и целовать меня. Она смо-
трела, не веря глазам своим, когда я осмелился при-
нять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила
мне, взглянув на m-me М *. Она чуть не умерла за меня
от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде;
теперь же, когда все было кончено и особенно когда она
поймала, вместе с другими, мой взгляд, брошенный на
m-me М *, мое смущение, мою внезапную краску, когда,
наконец, удалось ей придать этому мгновению, по ро-
мантическому настроению своей легкодумной головки,
какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль,—
теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг
от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала
меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, ра-
достная. Через минуту она подняла на всех толпив-
шихся около нас обоих самое наивное, самое строгое
личико, на котором дрожали и светились две малень-
кие, хрустальные слезинки, и серьезным, важным го-
лоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала,
указав на меня: «Mais c’est tres serieux, messieurs, ne
riez pas!» 1 — не замечая того, что все стоят перед нею,
как завороженные, залюбовавшись на ее светлый во-
сторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это
серьезное личико, эта простодушная наивность, эти не-
подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие
в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожи-
данным дивом, что все стояли перед нею как будто на-
электризированные ее взглядом, скорым, огневым сло-
1 Но это очень серьезно, господа, не смейтесь! (франц.)
17*
259
вом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз,
боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном
лице. Даже сам хозяин наш покраснел, как тюльпан,
и уверяют, будто бы слышали, как он потом призна-
вался, что, «к стыду своему», чуть ли не целую минуту
был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну, уж разу-
меется, что после всего этого я был рыцарь, герой.
— Делорж! Тогенбург! — раздавалось кругом.
Послышались рукоплескания.
— Ай да грядущее поколение! — прибавил хозяин.
— Но он поедет, он непременно поедет с нами! —
закричала красавица,— мы найдем и должны найти
ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени...
иль нет, нет! я ошиблась!..— поправилась она, захохо-
тав и будучи не в силах удержать своего смеха при
воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча,
она нежно гладила мою руку, всеми силами старалась
меня заласкать, чтоб я не обиделся.
— Непременно! непременно! — подхватили не-
сколько голосов,— он должен ехать, он завоевал себе
место. И мигом разрешилось дело. Та самая старая
дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас
же была засыпана просьбами всей молодежи остаться
дома и уступить мне свое место, на что и принуждена
была согласиться, к своей величайшей досаде, улы-
баясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса,
около которой витала она, мой бывший враг и недавний
друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне
и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада
была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и
нас всех перемочит.
И она точно напророчила дождь. Через час под-
нялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Приш-
лось переждать несколько часов сряду в деревенских
избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сы-
рое, последождевое время. У меня началась маленькая
лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться
и ехать, m-me М * подошла ко мне и удивилась, что я
в одной курточке и е открытой шеей. Я отвечал, что не
успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и,
зашпилив повыше сборчатый воротничок моей ру-
260
башки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек
и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горло. Она
так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее.
Но когда приехали домой, я отыскал ее в малень-
кой гостиной, вместе с блондинкой и с бледнолицым
молодым человеком, который стяжал сегодня славу
наездника тем. что побоялся сесть на Танкреда. Я по-
дошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после
всех моих приключений, мне было как будто чего-то
совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на
досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен
впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покрас-
нел до ушей.
— Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать
платок у себя,— сказал молодой человек засмеяв-
шись,— по глазам видно, что ему жаль расстаться с
вашим платком.
— Именно, именно так! — подхватила блондинка.—
Экой! ах!..— проговорила она с приметной досадой и
покачав головой, но остановилась во-время перед
серьезным взглядом m-me М *, которой не хотелось за-
водить далеко шутки.
Я поскорее отошел.
— Ну, какой же ты! — заговорила школьница, на-
гнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе
руки,— да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе
так хотелось иметь ее. Сказал, что где-нибудь положил,
и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать1
Экой смешной!
И тут она слегка ударила меня пальцем по подбо-
родку, засмеявшись тому, что я покраснел, как мак:
— Ведь я твой друг теперь, так ли? Кончена ли
наша вражда, а? да или нет?
Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.
— Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и
дрожишь? У тебя озноб?
— Да, я нездоров.
— Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатле-
ний! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь
ужина, и за ночь пройдет. Пойдем.
Она отвела меня наверх, и казалось, уходам за
261
мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она
сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама,
когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое
одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти
уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен
целым днем, поездкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею,
я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как
самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом
прихлынули к моему ослабевшему сердцу; я чуть не
плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою
впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была
немного тронута...
— Ты предобрый мальчик,— прошептала она,
смотря на меня тихими глазками,— пожалуйста же,
не сердись на меня, а? не будешь?
Словом, мы стали самыми нежными, самыми вер-
ными друзьями.
Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце
заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с
постели, совершенно здоровый и бодрый, как. будто и
не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой те-
перь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспо-
мнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое
счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера,
с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей;
ио еще было очень рано и все спали. Наскоро одев-
шись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался
туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и
куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что
удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев.
Было прекрасное утро.
Незаметно пробираясь все далее и далее, я вышел,
наконец, на другой край рощи, к Москве-реке. Она
текла шагов двести впереди, под горою. На противо-
положном берегу косили сено. Я засмотрелся, как це-
лые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно
обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как
огненные змейки, словно куда прятались; как срезан-
ная с корня трава, густыми жирными грудками отле-
тала в стороны и укладывалась в прямые, длинные бо-
розды. Уж не помню, сколько времени провел я в созер-
262
цании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах
от меня в двадцати, в просеке, которая пролегала от
большой дороги к господскому дому, храп и нетерпели-
вый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, за-
слышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и
остановился всадник, или уж долго мне слышался шум,
но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный ото-
рвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел
я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса,
говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бе-
режно раздвинул последние ветви последних кустов,
окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в
изумлении: в глазах моих мелькнуло белое знакомое
платье, и тихий женский голос отдался в моем сердце
как музыка. Это была m-me М *. Она стояла возле
всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и,
к моему удивлению, я узнал в нем Н — го, того моло-
дого человека, который уехал от нас еще вчера поутру
и о котором так хлопотал m-r М *. Но тогда говорили,
что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России,
а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так
рано и одного с m-me М *.
Она была одушевлена и взволнована, как никогда
еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Мо-
лодой человек держал ее за руку, которую целовал, на-
гибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Ка-
жется, они торопились. Наконец, он вынул из кармана
запечатанный пакет, отдал его m-me М *, обнял ее од-
ною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поце-
ловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил
коня и промчался мимо меня, как стрела. M-me М * не-
сколько секунд провожала его глазами, потом задум-
чиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько
шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо
раздвинула кусты и пошла через рощу.
Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный
всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как
от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный;
мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что
было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало
передо мною сквозь зелень ее белое платье. Маши-
263
нально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но
трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец, она вы-
шла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с пол-
минуты, вышел и я; но каково же было мое изумление,
когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запе-
чатанный пакет, который узнал с первого взгляда,—
тот самый, который десять минут назад был вручен
m-me М *.
Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой
надписи, на взгляд — небольшой, но тугой и тяжелый,
как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.
Что значит этот пакет? Без сомнения, им объясни-
лась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано
было то, чего не надеялся высказать Н — ой за корот-
костью торопливого свидания. Он даже не сходил с ло-
шади... Торопился ли он, или, может быть, боялся из-
менить себе в час прощания,— бог знает...
Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на
нее пакет на самое видное место и не спускал с него
глаз, полагая, что m-me М * заметит потерю, воро-
тится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не
выдержал, поднял опять свою находку, положил в
карман и пустился догонять m-me М *. Я настиг ее уже
в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой
и торопливой походкой, но задумавшись и потупив
глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать?
Это значило сказать, что я знаю все, видел все. Я из-
менил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть
на'нее? Как она будет смотреть на меня?.. Я все ожи-
дал, что она опомнится, хватится потерянного, воро-
тится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный,
бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет!
Мы уже подходили к дому; ее уже заметили...
В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень
рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся
поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все
готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я пере-
ждал минут десять, чтоб не видели меня с m-me М *, и,
обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо
после нее. Она.ходила взад и вперед по террасе, блед-
ная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по
264
всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в
себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вы-
читывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движе-
нии. Иногда сходила она со ступенек и проходила не-
сколько шагов между клумбами по направлению
к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно
искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы.
Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется,
думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около
дома,— да, это так, и она в этом уверена!
Кто-то, а затем и другие, заметили, что она бледна
и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досад-
ные сетования; она должна была отшучиваться,
смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она
на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая
с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как'
и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бед-
ную. Засунув руку в-карман и крепко держа в ней па-
кет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб
m-me М * меня заметила. Мне хотелось ободрить, успо-
коить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-ни-
будь мельком, украдкой. Но когда она случайно взгля-
нула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.
Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не
знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам
видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть,
не такова, как о ней предположить можно с первого
взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный,
может быть, он был последнею, слабой наградой за
жертву, которая была принесена ее спокойствию
и чести. Н — ой уезжал; он оставлял ее, может быть,
навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал
в руках,— кто знает, что оно заключало? Как судить и
кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения,
внезапное обнаружение тайны было бы- ужасом, гро-
мовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту
минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать,
знать, быть уверенной, ждать как казни; что через чет-
верть часа, через минуту могло быть обнаружено все;
пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи,
его могут вскрыть, а тогда... что тогда? Какая казнь
265
ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между
будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся,
льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она про-
чтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих ли-
цах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее
жизни... Да, я тогда не понимал всего этого так, как
теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и
предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, ко-
торую даже не совсем сознавал. Но что бы ни заключа-
лось в ее тайне,— теми скорбными минутами, которых
я был свидетелем и которых никогда не забуду, было
искуплено многое, если только нужно было что-нибудь
искупить.
Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все ра-
достно засуетились; со всех сторон раздался резвый
говор и смех. Через две минуты терраса опустела.
M-me М * отказалась от поездки, сознавшись, наконец,
что она нездорова. Но, слава богу, все отправились, все
торопились, и докучать сетованиями, расспросами и
советами было некогда. Немногие оставались дома.
Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что се-
годня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что
ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна..*,
со мною... Тут она взглянула на меня. Ничего не могло
быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту
мы были в дороге.
Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тро-
пинкам, по которым недавно возвращалась из рощи,
инстинктивно припоминая свой прежний путь, непо-
движно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли,
ища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я
иду вместе с нею.
Но когда мы дошли почти до того места, где я под-
нял письмо и где кончалась дорожка, m-me М * вдруг
остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом
сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя
до решетки сада, она остановилась опять, подумала с
минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и,
вся обессиленная, измученная, решившись на все, по-
корившись всему, она молча воротилась на первый путь,
в этот раз позабыв даже предупредить меня...
266
Я разрывался от тоски и не знал, что делать.
Мы пошли, или, лучше сказать, я привел ее к тому
месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их
разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссе-
ченная в огромном цельном камне, вокруг которого об-
вивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник.
(Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками,
гротами и тому подобными сюрпризами.) M-me М *
села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный
пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она
развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не
перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что
делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло
высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому
небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем.
Косари ушли уже далеко; их едва было видно с нашего
берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные бо-
розды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся
ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом
стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут
и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их
резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каж-
дый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным
ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна
и счастлива!..»
Я взглянул на бедную женщину, которая одна была
как мертвец среди всей этой радостной жизни: на рес-
ницах ее неподвижно остановились две крупные слезы,
вытравленные острою болью из сердца. В моей власти
было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее
сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как
сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я
подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное
чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как
огонь горело лицо мое.
Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство
было найдено; я воскрес.
— Хотите, я вам букет нарву! — сказал я таким
радостным голосом, что m-me М * вдруг подняла голову
и пристально посмотрела на меня.
— Принеси,— проговорила она, наконец, слабым
267
голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опу-
стив глаза в книгу.
— А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет
цветов! — закричал я, весело пускаясь в поход.
Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы
стыдно было внести в комнату; но как весело билось
мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и
полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что не-
далеко есть нива с дозревавшею рожью. Туда я сбегал
за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями
ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, неда-
леко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет
мой уже начинал пополняться. Далее, в поле, нашлись
синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными,
желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки.
Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в
рощу, чтоб промыслить несколько яркозеленых, лапча-
тых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно
набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи
которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах
обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок,
еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет
был готов. Я .перевязал его длинной, тонкой травой, ко-
торую свил в бечеву, и во внутрь осторожно вложил
письмо, прикрыв его цветами, но так, что его очень
можно было заметить, если хоть маленьким вниманием
подарят мой букет.
Я понес его к m-me М *.
Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком
на виду: я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе,
я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец, уже
почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко во
внутрь букета, что уже ничего не было приметно сна-
ружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хоте-
лось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она
взглянула на мои цветы так, как будто совсем поза-
была, что я пошел набирать их. Машинально, почти не
глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но
тотчас же положила его на скамью, как будто я затем
и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу,
точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи.
268
«Но только б мой букет был возле нее,— думал я,—
только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на
траву, положил под голову правую руку и закрыл
глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее
глаз и ждал...
Прошло минут десять; мне показалось, что она все
больше и больше бледнела... Вдруг благословенный
случай пришел мне на помощь.
Это была большая золотая пчела, которую принес
добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва
над моей головою и потом подлетела к m-me М *. Та
отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела,
будто нарочно, становилась все неотвязчивее. Наконец,
m-me М * схватила мой букет и махнула им перед со-
бою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал
прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое
время m-me М * смотрела, немая от изумления, то на
пакет, то на цветы, которые держала в руках,'и, каза-
лось не верила глазам своим... Вдруг она покрас-
нела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже пере-
хватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь
спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей
прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно
пташка, попавшая в лапки кудрявого, деревенского
мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я,
закрыв глаза: минуты две-три. Наконец, я осмелился
их открыть. M-me М * жадно читала письмо, и, по
разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся
взгляду, по светлому лицу, в котором каждая чер-
точка трепетала от радостного ощущения, я догадался,
что счастье было в этом письме и что развеяна,
как дым, вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство
присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притво-
ряться...
Никогда не забуду я этой минуты!
Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:
— Madame М*! Natalie! Natalie!
M-me М * не отвечала, но быстро поднялась со
скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною.
Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Рес-
ницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз.
269
Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце
задушало меня своими смятенными ударами. Горячее
дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко на-
гнулась к лицу моему, словно испытывая его. Нако-
нец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, ко-
торая лежала у меня на груди. И два раза она по-
целовала ее.
— Natalie! Natalie! где ты? — послышалось снова
уже очень близко от нас.
— Сейчас! — проговорила m-me М * своим густым,
серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от
слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее,—
сейчас!
Но в этот миг сердце, наконец, изменило мне и, ка-
залось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же
миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо
вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вче-
рашний газовый платочек ее,— как будто она хотела
закрыть меня от солнца. Мгновение спустя ее уже не
было. Я расслышал только шелест торопливо удаляв-
шихся шагов. Я был один.
Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня
себя от восторга; несколько минут я был как безум-
ный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел
я бессознательно и неподвижно перед собою, на окре-
стные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто
обтекавшую их, и далеко, как только мог следить глаз,
вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькав-
шими, как точки, по всей, залитой светом, дали,— на
синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на
краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье,
будто навеянное торжественною тишиною картины,
мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне
стало легче, и я вздохнул свободнее... Но вся душа моя
как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-
то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радо-
стно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка
трепетавшим от ожидания... И вдруг грудь моя заколе-
балась, заныла словно от чего-то пронзившего ее, и
слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл
руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно
270
отдался первому сознанию и откровению сердца, пер-
вому, еще неясному прозрению природы моей... Первое
детство мое кончилось с этим мгновением..........
Когда, через два часа, я воротился домой, то не на-
шел уже m-me М *: она уехала с мужем в Москву, по
какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не
встречался с нею.
дядюшкин сон
Из Мордасовских летописей
Глава I
Марья Александровна Москалева,— конечно, пер-
вая дама в Мордасове, и в этом не может быть ника-
кого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в
ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются.
Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие
искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей
и надобно. Такая потребность есть уже признак высо-
кой политики. Отчего, например, Марья Александровна,
которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь,
если накануне не узнала чего-нибудь новенького,— от-
чего она, при всем этом, умеет себя держать так, что,
глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая
дама была первая сплетница в мире или по крайней
мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны
исчезнуть в ее присутствии; сплетники — краснеть и
дрожать, как школьники перед господином учителем, и
разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких
материях. Она знает, например, про кой-кого из морда-
совцев такие капитальные и скандалезные вещи, что
расскажи она их при удобном случае и докажи их так,
как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лис-
сабонское землетрясение. А между тем она очень молча-
лива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем
272
случае, и то не иначе, как самым коротким приятельни-
цам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше
любит держать человека или даму в беспрерывном
страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это такти-
ка! — Марья Александровна всегда отличалась между
нами своим безукоризненным comme il faut1, с которого
все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет
соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить,
растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом
соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет
вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А из-
вестно, что такая черта есть уже принадлежность самого
высшего, общества. Вообще во всех таки'х фокусах она
перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные.
Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге
от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей
даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна
с гордостию их всем показывала. Один заезжий литера-
тор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней
на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект.
Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из
Кдрльсруэ исследовать особенный род червячка с рож-
ками, который водится в нашей губернии, и написавший
об этом червячке четыре тома in quarto 2, так был обво-
рожен приемом и любезностию Марьи Александровны,
что до сих пор ведет с ней почтительную и нравствен-
ную переписку из самого Карльсруэ. Марью Александ-
ровну сравнивали даже, в некотором отношении, с На-
полеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги,
более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая
вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь,
однакоже, сделать один невинный вопрос: отчего, ска-
жите, у Наполеона закружилась, наконец, голова,
когда он забрался уже слишком высоко? Защитники
старого дома приписывали это тому, что Наполеон не
только не был из королевского дома, но даже был и не
gentilhomme 3 хорошей породы; а потому, естественно,
испугался, наконец, своей собственной высоты и вспом-
1 умением себя держать (франц.).
2 в одну четверть листа (лат.).
3 дворянин (франц.).
18 Ф. М. Достоевский, т. 2 273
нил свое настоящее место. Несмотря на очевидное
остроумие этой догадки, напоминающее самые блестя-
щие времена древнего французского двора, я осмелюсь
прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александ-
ровны никогда и ни в каком случае не закружится
голова и она всегда останется первой дамой в Морда-
сове? Бывали, например, такие случаи, когда все гово-
рили: «Ну как-то теперь поступит Марья Александ-
ровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но
наступали эти затруднительные обстоятельства, прохо-
дили, и—ничего! Все оставалось благополучно, попреж-
нему, и даже почти лучше прежнего. Все, например,
помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился
своего места за неспособностию и слабоумием, возбу-
див гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья
Александровна падет духом, унизится, будет просить,
умолять, одним словом опустит свои крылышки. Ни-
чуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже
ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так,
что нисколько не лишилась своего влияния на обще-
ство, и дом ее все еще продолжает считаться первым
домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна
Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя й
друг по наружности, уже трубила победу. Но когда уви-
дели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то
догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем
думали прежде.
Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем не-
сколько слов и об Афанасие Матвеиче, супруге Марьи
Александровны. Во-первых, это весьма представитель-
ный человек по наружности и даже очень порядочных
правил; но в критических случаях он как-то теряется и
смотрит, как баран, который увидал новые ворота. Он
необыкновенно сановит, особенно на именинных обе-
дах, в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и
представительность — единственно до той минуты,
когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши за-
ткнуть. Он решительно не достоин принадлежать Марье
Александровне; это всеобщее мнение. Он и на~ месте
сидел единственно только через гениальность своей
супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно
274
пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно
только там, он бы мог приносить настоящую, несомнен-
ную пользу своим соотечественникам. И потому Марья
Александровна превосходно поступила, сослав Афана-
сия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах
от Мордасова, где у нее сто двадцать душ,— мимохо-
дом сказать, всё состояние, все средства, с которыми
она так достойно поддерживает благородство своего
дома. Все поняли, что она держала Афанасия Мат-
веича при себе единственно за то, что он служил и по-
лучал жалованье и... другие доходы. Когда же он пере-
стал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и
удалили за негодностию и совершенною бесполезно-
стию. И все похвалили Марью Александровну за
ясность суждения и решимость характера. В деревне
Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к
нему и провел у него целый час довольно приятно. Он
примеряет белые галстуки, собственноручно чистит са-
поги, не из нужды, а единственно из любви к искус-
ству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели;
три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить
в баню и — доволен. Помните ли, какая гнусная исто-
рия заварилась у нас, года полтора назад, по поводу
Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи
Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида бес-
спорно красавица, превосходно воспитана, но ей два-
дцать три года, а она до сих пор не замужем. Между
причинами, которыми объясняют, почему до сих пор
Зина не замужем,— одною из главных считают эти
темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора
года назад, с уездным учителишкой,— слухи, не умолк-
нувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то лю-
бовной записке, написанной Зиной, и которая будто бы
ходила по рукам в Мордасове; но скажите: кто видел
эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она
делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал.
Я по крайней мере никого не встретил, кто бы своими
глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом
Марье Александровне, она вас просто не поймет. Те-
перь предположите, что действительно что-нибудь было
и Зина написала записочку (я даже думаю, что это
18*
275
было непременно так): какова же ловкость со стороны
Марьи Александровны! каково замято, затушено не-
ловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека!
Марья Александровна и внимания не обращает теперь
на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть,
бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенною
честь своей единственной дочери. А что Зина не за-
мужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине
только разве быть за владетельным принцем. Видали
ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она
горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгля-
ков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков?
Правда — молод, недурен собою, франт, полтораста не-
заложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых,
в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то
новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ,
особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!
Все, что прочел теперь благосклонный читатель,
было написано мною месяцев пять тому назад, единст-
венно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько
пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось на-
писать что-нибудь вроде похвального слова это,й
великолепной даме и изобразить все это в форме игри-
вого письма к приятелю, по примеру писем, печатав-
шихся когда-то в старое, золотое, но, слава богу, невоз-
вратное время в «Северной пчеле» и в прочих повре-
менных изданиях. Но так как у меня нет никакого
приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная
литературная робость, то сочинение мое и осталось у
меня в столе, в виде литературной пробы пера и в
память мирного развлечения в часы досуга и удовольст-
вия. Прошло пять месяцев, и вдруг в Мордасове случи-
лось удивительное происшествие: рано утром в город
въехал князь К. и остановился в доме Марьи Алексан-
дровны. Последствия этого приезда были неисчислимы.
Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три
дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспо-
минания. Скажу более: князь произвел, в некотором
смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом
перевороте, конечно, составляет одну из многознамена-
тельнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то
276
страницу я и решился, наконец, после некоторых коле-
баний, обработать литературным образом и предста-
вить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя за-
ключает в себе полную и замечательную историю воз-
вышения, славы и торжественного падения Марьи
Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема до-
стойная и соблазнительная для писателя. Разумеется,
прежде всего нужно объяснить: что удивительного в
том, что в город въехал князь К. и остановился у
Марьи Александровны,— а для этого, конечно, нужно
сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и
сделаю. К тому же биография этого лица совершенно
необходима и для всего дальнейшего хода нашего рас-
сказа. Итак, приступаю.
Глава II
Начну с того, что князь К. был еще не бог знает ка-
кой старик, а между тем, смотря на него, невольно при-
ходила мысль, что он сию минуту развалится: до того
он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Морда-
сове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно
странные вещи, самого фантастического содержания.
Говорили даже, что старичок помешался. Всем каза-
лось особенно странным, что помещик четырех тысяч
душ, человек с известным родством, который бы мог
иметь, если б захотел, значительное влияние в губер-
нии, живет в своем великолепном имении уединенно,
совершенным затворником. Многие знавали князя на-
зад тому лет шесть или семь, во время его пребывания
в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог
уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот,
однакоже, все, что я мог узнать о нем достоверного.
Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было
очень давно, князь блестящим образом вступил в
жизнь, жуировал, волочился, несколько раз прожи-
вался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда
не отличался блестящими умственными способностями.
Разумеется, он расстроил все свое состояние и в ста-
рости увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то
посоветовал ему отправиться в его деревню, которую
277
уже начали продавать с публичного торга. Он отпра-
вился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть
месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понрави-
лась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него
оставалось, до последних поскребков, продолжая жуи-
ровать и заводя разные интимности с губернскими
барынями. Человек он был к тому же добрейший, разу-
меется, не без некоторых особенных княжеских зама-
шек, которые, впрочем, в Мордасове считались при-
надлежностию самого высшего общества, а потому
вместо досады производили даже эффект. Особенно
дамы были в постоянном восторге от своего милого
гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний.
Рассказывали, между прочим, что князь проводил боль-
ше половины дня за своим туалетом и, казалось, был
весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал,
когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик,
усы, бакенбарды и даже эспаньолку — все, до послед-
него волоска, накладное и великолепного черного цвета;
белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то
расправлял пружинками морщины на своем лице и что
эти пружины были каким-то особенным образом скры-
ты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет,
потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из
окошка, во время одного своего любовного похожде-
ния, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали,
что эта нога поддельная, а что настоящую сломали
ему, при каком-то другом похождении, в Париже, зато
приставили новую, какую-то особенную, пробочную.
Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было,
однакоже, то, что правый глаз его был стеклянный,
хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из
композиции. Целые дни он умывался разными патен-
тованными водами, душился и помадился. Помнят,
однакоже, что князь тогда уже начинал приметно дрях-
леть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что
карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже
не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно
неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрез-
вычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в
Париже и от которой он никаким образом не мог ожи-
278
дать наследства,— умерла, похоронив ровно за месяц
до своей смерти своего законного наследника. Князь,
совершенно неожиданно, сделался ее законным наслед-
ником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения,
ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались
ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался
для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего
гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по
подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел
на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, расска-
зывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как
можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобре-
тенное имение) и давал слово, что по возвращении у
него будут беспрерывные праздники, пикники, балы,
фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толко-
вали об этих обещанных праздниках, ожидая своего
милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании
же составлялись даже поездки в Духаново, где был
старинный барский дом и сад, с выстриженными из
акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по
которым ходили лодки с деревянными турками, играв-
шими на свирелях, с беседками, с павильонами, с мон-
плезирами и другими затеями.
Наконец, князь воротился, но, к всеобщему удивле-
нию и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов,
а поселился в своем Духанове совершенным затворни-
ком. Распространились странные слухи, и вообще с этой
эпохи история князя становится туманною и фантасти-
ческою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему
не совсем удалось, что некоторые из его родственников,
будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, вы-
хлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из бо-
язни, что он опять все промотает. Мало того: иные при-
бавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший
дом, но что какой-то из его родственников, один важ-
ный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно
всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и
поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда
имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повто-
ряю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас
в Мордасове? Все это, как рассказывали, ужасно
279
испугало князя, до того, что он совершенно изменился
•характером и обратился в затворника. Некоторые из
мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздра-
влениями, но — или не были приняты, или приняты чрез-
вычайно странным образом. Князь даже не узнавал
своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хо-
тел узнавать. Посетил его и губернатор.
Он воротился с известием, что, по его мнению, князь
действительно немного помешан, и всегда потом делал
кислую мину при воспоминании о своей поездке в Ду-
ханово. Дамы громко негодовали. Узнали, наконец,
одну капитальную вещь, именно: что князем овладела
какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает
какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга,
пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях
и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем,
как ребенок, и не смеет ступить шагу без ее позволения;
что она даже моет его своими руками; балует его, но-
сит и тешит, как ребенка; что, наконец, она-то и отда-
ляет от него всех посетителей и в особенности родствен-
ников, которые начали было понемногу заезжать в
Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуж.-
дали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко
всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна
управляет всем имением князя безгранично и само-
властно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу,
собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что
крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается
до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти
сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков;
что остальное время он проводит с Степанидой Матве-
евной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах,
изредка выезжая погулять верхом на смирной англий-
ской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно
сопровождает его в крытых дрожках, на всякий слу-
чай,— потому что князь ездит верхом более из кокет-
ства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда
и пешком, в пальто и в соломенной широкополой
шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стек-
лышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой
руке для собирания грибков, полевых цветов, василь-
280
ков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопро-
вождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет,
на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним
-мужик и, остановись в стороне, снимает шапку, низко
кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка
князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» —
то князь немедленно наводит на него свой лорнет, при-
ветливо кивает головой и ласково говорит ему:
«Bonjour, mon ami, bonjour!» \ и много подобных слу-
хов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть:
он жил в таком близком соседстве! Каково же было
всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро раз-
несся слух, что князь, затворник, чудак, своею соб-
ственною особою пожаловал в Мордасов и остановился
у Марьи Александровны! Все переполошилось и взвол-
новалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг
у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать
к Марье Александровне. Всем приезд князя казался
диковинкой. Дамы пересылались записками, собира-
лись с визитами, посылали своих горничных и мужей
на разведки. Особенно странным казалось, отчего
именно князь остановился у Марьи Александровны,
а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Нико-
лаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-
то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти
вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье
Александровне, к которой милости просим пожаловать
и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только
десять часов утра, но я уверен, что она не откажется
принять своих коротких знакомых. Нас по крайней
мере примет опа непременно.
Глава III
Десять часов утра. Мы в доме Марьи Алексан-
дровны, на большой улице, в той самой комнате, кото-
рую хозяйка в торжественных случаях называет своим
салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар.
1 Здравствуй, друг мой, здравствуй! (франц.)
281
В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны
выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преоб-
ладает красный цвет. Есть камин, над камином зер-
кало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то аму-
ром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простен-
ках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы.
Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней
стены — превосходный рояль, выписанный для Зины;
Зина — музыкантша. Около затопленного камина рас-
ставлены кресла, по возможности в живописном беспо-
рядке; между ними маленький столик. На другом конце
комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепитель-
ной белизны; на нем кипит серебряный самовар и со-
бран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем
заведует одна дама, проживающая у Марьи Алексан-
дровны в качестве дальней родственницы, Настасья
Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова,
ей за тридцать лет, брюнетка, с свежим цветом лица и
с живыми темнокарими глазами. Вообще недурна со-
бою. Она веселого характера и большая хохотунья, до-
вольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделы-
вать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей
бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она
себя довольно независимо. Муж ее был военный
офицер.
Сама Марья Александровна сидит у камина в пре-
восходнейшем расположении духа и в светлозеленом
платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована
приездом князя, который в эту минуту сидит наверху
за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается
скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется моло-
дой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По
глазам его видно, что ему хочется угодить своим слу-
шательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его
были бы недурны, но он часто приходит в восторг и,
кроме того, с большой претензией на юмор и остроту.
Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже го-
ворили об нем: это господин Мозгляков, подающий
большие надежды. Марья Александровна находит про
себя, что у него немного пусто в голове, но принимает
его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в ко-
282
торую, по его словам, влюблен до безумия. Он поми-
нутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ
улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним
видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит
в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь.
Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее
восторженное изумление, когда являются в обществе.
Она хороша до невозможности: росту высокого, брю-
нетка, с чудными, почти совершенно черными глазами,
стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и
руки — античные, ножка соблазнительная, поступь ко-
ролевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее
пухленькие алые губки, удивительно обрисованные,
между которыми светятся, как нанизанный жемчуг,
ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во
сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее
серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится
ее пристального взгляда; по крайней мере его как-то
коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Дви-
жения ее свысока небрежны. Она одета в простое бе-
лое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно
идет; впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо,
сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету — не из ма-
менькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее:
чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно мол-
чалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена.
Зато Марья Александровна готова говорить без умолку,
хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то осо-
бенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, де-
лает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.
— Я так рада, так рада, Павел Александрович,—
щебечет она,— что готова кричать об этом всем и каж-
дому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе,
который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя
неделями раньше обещанного; это уж само собой!
Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого ми-
лого князя. Знаете ли, как я люблю этого очарователь-
ного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы,
молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уве-
ряла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее
время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впро-
283
чем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки... Вы не по-
верите, Павел Александрович: я была его руководи-
тельницей, сестрой, матерью! Он слушался меня, как
ребенок! было что-то наивное, нежное и облагорожен-
ное в нашей связи; что-то даже как будто пастушеское...
Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит
теперь только об одном моем доме с благодарностию,
се pauvre prince! 1 Знаете ли, Павел Александрович, что
вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне!
Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет.
Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят,
эта чудовищная женщина околдовала, погубила его.
Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет,
надобно воспользоваться случаем и спасти его совер-
шенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам
все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу
встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание
на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и
составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно
люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде
обращаю внимание на мелочи... и... покамест он еще
сидит за своим туалетом...
— Да все то же, что уже рассказывал, Марья Алек-
сандровна!— с готовностию подхватывает Мозгляков, -
готовый рассказывать хоть в десятый раз,— это со-
ставляет для него наслаждение.— Ехал я всю ночь,
разумеется, всю ночь не спал,— можете себе предста-
вить, как я спешил! — прибавляет он, обращаясь к Зи-
не,— одним словом, бранился, кричал, требовал лоша-
дей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б на-
печатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе!
Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приез-
жаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу
и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу
с грудным ребенком: теперь, кажется, у пей пропало
молоко... Восход солнца очаровательный. Знаете, эта
морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на
что внимания; одним словом, спешу напропалую! Ло-
шадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского со-
1 этот бедный князь! (франц.)
284
ветника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что
четверть часа тому съехал со станции какой-то князь,
едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу,
точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета,
в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города,
на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, про-
изошло удивительное событие. Огромная дорожная ка-
рета лежит на боку; кучер и два лакея стоят перед нею
в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся
раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать
мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но
превозмогло человеколюбие, которое, как выражается
Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь.
Я, мой Семен,, ямщик — тоже русская душа, спешим на
подмогу, и таким образом вшестером, подымаем, на-
конец, экипаж, ставим его на ноги, которых у него,
правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще
мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на
водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю:
боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот
встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно,
почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас
же почти узнал... со второго взгляда. Признаюсь вам,
однакоже, что едва ли он и теперь понимает — кто я та-
ков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого,
а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Пе-
тербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то
его запомнил; он меня поразил,— ну, а ему-то где ж
меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обни-
мает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга -и
плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными
глазами! То да се,— уговорил его, наконец, пересесть
в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов,
ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспреко-
словно... Объявляет мне, что едет в Светозерскую
пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и ува-
жает; что Степанида Матвеевна,— а уж из нас, род-
ственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеев-
ну? — она меня прошлого года из Духанова помелом
прогнала,— что эта Степанида Матвеевна получила
письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то
285
при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто
именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец
и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-
нибудь племянника, служащего по питейной части...
Одним словом, она до того была оконфужена, что дней
на десять решилась распроститься с своим князем и
полетела в столицу, украсить ее своим присутствием.
Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, по-
мадился, фабрился, загадал было на картах (может
быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степа-
ниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Све-
тозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невиди-
мой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить;
но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал
в Игишеве, со станции съехал на заре и на самом по-
вороте к иеромонаху Мисаилу полетел с каретой чуть
не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему
другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне;
он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из
всех, которых он когда-нибудь знал,— и вот мы здесь,
а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с по-
мощию своего камердинера, которого не забыл взять с
собою и которого никогда и ни в каком случае не забу-
дет взять с собою, потому что согласится скорее уме-
реть, чем явиться к дамам без некоторых приготовле-,
ний, или, лучше сказать — исправлений... Вот и вся исто-
рия! Eine allerliebste Geschichte! 1
— Но какой он юморист, Зина! — вскрикивает
Марья Александровна выслушав,— как он это мило
рассказывает! Но послушайте, Поль,— один вопрос:
объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы
называете его дядей?
— Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и
чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть,
даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не
виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка
Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михай-
ловне больше и делать нечего, как пересчитывать по
пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему,
1 Премилая история! (нем.)
286
прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Про-
сто-запросто я называю его дядюшкой; он откликается.
Вот вам и все наше родство, на сегодняшний день по
крайней мере...
— Но я все-таки повторю, что только один бог мог
вас надоумить привезти его прямо ко мне! Я трепещу,
когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжкой,
если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне?
Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам,
съели! Бросились бы на него как на рудник, как на
россыпь,— пожалуй, обокрали б его! Вы не можете
представить себе, какие здесь жадные, низкие и ковар-
ные людишки, Павел Александрович!..
— Ах, боже мой, да к кому ж его и привезти, как
не к вам; — какие вы, Марья Александровна! — подхва-
тывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай.—
Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы ду-
маете?
— Однакож, что он так долго не выходит? Это даже
странно,— говорит Марья Александровна, в нетерпении
вставая с места.
— Дядюшка-то? Да я думаю, он еще пять часов
будет там одеваться! К тому же, так как у него совер-
шенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что при-
ехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек,
Марья Александровна!
— Ах, полноте, пожалуйста, что вы!
— Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая
правда! Ведь это полукомпозиция, а не человек! Вы его
видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел.
Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание
о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него
глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах,
и говорит на пружинах!
— Боже мой, какой вы, однакоже, ветреник, как я
вас послушаю! — восклицает Марья Александровна,
принимая строгий вид.— И как не стыдно вам, моло-
дому человеку, родственнику, говорить так про этого
почтенного старичка! Не говоря уже об его беспример-
ной доброте,— и голос ее принимает какое-то трога-
тельное выражение,— вспомните, что это остаток, так
287
сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, mon
ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там
ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете.
Но боже мой! Я и сама — ваших новых идей! Я пони-
маю, что основание вашего направления благородно и
честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже
что-то возвышенное; но все это не мешает мне видеть
и прямую, так сказать, практическую сторону дела.
Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я
мать, а вы еще молоды! Он старичок, и потому на наши
глаза смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили
даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю
и что надобно же что-нибудь сделать для века, и все,,
это оттого, что вы начитались там какого-нибудь ва-
шего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш
Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б
воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в
нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцар-
ское и величественное в современном нам обществе,
так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке
князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж
Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе вы-
строил,— и все-таки он только муж Натальи Дмитриев-
ны, и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна,
хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, все-таки
останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько*
не прибавит себе. Вы тоже отчасти представитель выс-
шего сословия, потому что от него происходите. Я тоже
себя считаю не чужою ему,— а дурное то дитя, кото-
рое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете
до всего этого лучше меня, mon cher Paul *, и забудете
вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы
даже и теперь не искренни, а так только, модничаете,
Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, mon cher
Paul, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может
быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людиш-
ками...
И Марья Александровна поспешно вышла из ком-
наты, вспомня о своих людишках.
1 мой милый Поль (франц.).
2881
— Марья Александровна, кажется, очень рады, что
князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне^
А ведь уверяла все, что родня ему. То-то разрывается,
должно быть, теперь от досады! — заметила Настасья
Петровна; но, заметив, что ей не отвечают, и взглянув
на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова
тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из ком-
наты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя,
остановилась у дверей и стала подслушивать.
Павел Александрович тотчас же обратился к Зине.
Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.
— Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на
меня? — проговорил он с робким и умоляющим
видом.
— На вас? За что же? — сказала Зина, слегка по-
краснев и подняв на него чудные глаза.
— За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна!
Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели...
Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою
участь....Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и те-
перь я не узнаю ничего решительного?
Зинаида действительно нахмурилась.
— Я ожидала, что вы заговорите об этом,— отве-
чала она, снова опустив глаза, голосом твердым и стро-
гим, по в котором слышалась досада.— И так как это
ожидание было для меня очень тяжело, то чем скорее
оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть
просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому
что мой ответ все тот же, как и прежде: подождите!
Повторяю вам,— я еще не решилась и не могу вам
дать обещание быть вашею женою. Этого не требуют
насильно, Павел Александрович. Но, чтоб успокоить
вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам оконча-
тельно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на бла-
гоприятное решение, я делаю это единственно потому,
что снисходительна к вашему нетерпению и беспокой-
ству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свобод-
ною в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что
я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что
я вас обнадеживала. Итак, знайте это.
— Итак, что же, что же это! — вскричал Мозгляков
19 Ф. М. Достоевский, т. 2
289
жалобным голосом.— Неужели это надежда! Могу ли
я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов,
Зинаида Афанасьевна?
— Припомните все, что я вам сказала, и извлекай-
те все, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего
не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю толь-
ко — ждите. Но повторяю вам, я оставляю за собой
полное право отказать вам, если мне вздумается. За-
мечу еще одно, Павел Александрович: если вы при-
ехали раньше положенного для ответа срока, чтоб дей^
ствовать окольными путями, надеясь на постороннюю
протекцию, например хоть на влияние маменьки, то вы
очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам,
слышите ли это? А теперь — довольно и, пожалуйста,
до известного времени не поминайте мне об этом ни
слова.
Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без
запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль по-
чувствовал, что остался с носом. В эту минуту вороти-
лась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же,
госпожа Зяблова.
— Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Пет-
ровна, скорее заварите нового чаю! — Марья Алексан-
дровна была даже в маленьком волнении.
— Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее
Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то
злится теперь! — возвестила Настасья Петровна, бро-
саясь к самовару.
— А мне какое дело! — сказала Марья Александ-
ровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой.— Точно
я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Нико-
лаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на
кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы
все считаете меня врагом этой бедной Анны Нико-
лаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас по-
шлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих,—
ну из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я рав-
нодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет
первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с
ее первенством. И, наконец, все это несправедливо.
Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На
290
нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она мо-
лода и любит наряды,— за это, что ли? Но, по-моему,
уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как На-
талья Дмитриевна, которая — такое любит, что и ска-
зать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по
гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она
не получила никакого образования, и ей, конечно, тя-
жело раскрыть, например, книгу или заняться чем-ни-
будь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из
окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же
уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только
белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах,—
соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно
полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки,—
но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, на-
против, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо
приколоть к волосам конфектную бумажку, она и при-
колет. Она сплетница,— но это здешняя привычка: кто
здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими
бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью.
Ах, боже мой! еще бы муж козырял в карты до пяти ча-
сов утра! К тому же здесь столько дурных примеров!
Наконец, это еще, может быть, и клевета. Словом, я
всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но боже мой! вот и
князь! Это он, он! Я узнаю его! Я узнаю его из тысячи!
Наконец-то я вас вижу, mon prince!1 — вскричала
Марья Александровна и бросилась навстречу вошед-
шему князю.
Глава IV
С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого
князя за старика и, только взглянув поближе и при-
стальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружи-
нах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостю-
мировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, ба-
кенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного
цвета, закрывают половину лица. Лицо набеленное и
нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти
1 князь (франц.).
19*
291
нет морщин. Куда они делись? — неизвестно. Одет он
совершенно по моде, точно вырвался из модной кар-
тинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное,
ей-богу не знаю, что именно, но только что-то чрезвы-
чайно модное и современное, созданное для утренних
визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее —
все это ослепительной свежести и изящного вкуса.
Ккязь немного прихрамывает, но прихрамывает так
ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его
стеклышко, в том самом глазу, который и без того стек-
лянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-
то особенно протягивает иные слова,— может быть, от
старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы
вставные, может быть, и для пущей важности. Некото-
рые слоги он произносит необыкновенно сладко, осо-
бенно напирая на букву э. Да у него как-то выходит
ддэ, но только еще немного послаще. Во всех манерах
его что-то небрежное, заученное в продолжение всей
франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось
что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то
сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-
то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой,
отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие
косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И по-
тому лучше сделаем, если заранее признаемся, что ста-
ричок если и не выжил еще из ума, то давно уже вы-
жил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и
даже совсем завирается. Нужно даже уменье, чтоб с
ним говорить. Но Марья Александровна надеется на се-
бя и при виде князя приходит в неизреченный восторг.
— Но вы ничего, ничего не переменились! — вос-
клицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его
в покойное кресло.— Садитесь, садитесь, князь! Шесть
лет, целых шесть лет не видались, и ни одного письма,
даже ни строчки во все это время! О, как вы виноваты
передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher
prince! Но — чаю, чаю! Ах, боже мой! Настасья Пет-
ровна, чаю!
— Благодарю, бла-го-дарю, вин-новат! — шепеля-
вит князь (мы забыли сказать, что он немного шепеля-
вит, но и это делает как будто по моде).— Ви-но-ват! и
292
представьте себе, еще прошлого года непре-менно хо-
тел сюда ехать,— прибавляет он, лорнируя комнату.—
Да напугали: тут, говорят, хо-ле-ра была...
— Нет, князь, у нас не было холеры,— говорит
Марья Александровна.
— Здесь был скотский падеж, дядюшка! — встав-
ляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александ-
ровна обмеривает его строгим взглядом.
.— Ну да, скотский па-деж или что-то в этом роде...
Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Нико-
лаевна? Все по своей проку-рорской части?
— Н-нет, князь,— говорит Марья Александровна,
немного заикаясь.— Мой муж не про-ку-рор...
— Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и прини-
мает вас за Анну Николаевну Антипову! — вскрикивает
догадливый Мозгляков, ио тотчас спохватывается, за-
мечая, что и без этих пояснений Марью Александровну
как будто всю покоробило.
— Ну да, да, Анну Николаевну, и-и... (я все забы-
ваю!). Ну да, Антиповну, именно Анти-повну,— под-
тверждает князь.
— Н-нет, князь, вы очень ошиблись,— говорит
Марья Александровна с горькой улыбкой.— Я вовсе не
Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что
вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш
бывший друг, Марья Александровна Москалева. Пом-
ните, князь, Марью Александровну?..
— Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я
именно по-ла-гал, что вы-то и есть (как ее) — ну да!
Анна Васильевна... C’est delicieux!1 Значит, я не туда
заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь
меня к этой Анне Матвеевне. C’est charmant!2 Впрочем,
это со мной часто случается... Я часто не туда заезжаю.
Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось.
Так вы не Настасья Ва-сильевна? Это инте-ресно...
— Марья. Александровна, князь, Марья Александ-
ровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего
лучшего, лучшего друга!
1 Это восхитительно! (франц.)
2 Это очаровательно! (франц.)
293
— Ну да, луч-шего друга... pardon, pardon!1 — ше-
пелявит князь, заглядываясь на Зину.
— А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь.
Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните,
в — м году?
— Это ваша дочь! Charmante, charmante! — бормо-
чет князь, с жадностью лорнируя Зину.— Mais quelle
beaute!2 — шепчет он, видимо пораженный.
— Чаю, князь,— говорит Марья Александровна,
привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед
ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засмат-
ривается на мальчика, у которого пухленькие и розо-
вые щечки.
— А-а-а, это ваш мальчик? — говорит он.— Какой
хо-ро-шень-кий мальчик!., и-и-и, верно, хо-ро-шо... ве-
дет себя?
— Но, князь,— поспешно перебивает Марья Алек-
сандровна,— я слышала об ужаснейшем происшествии!
Признаюсь, я была вне себя от испуга... Не ушиблись
ли вы? Смотрите! этим пренебрегать невозможно...
— Вывалил! вывалил! кучер вывалил! — воскли-
цает князь с необыкновенным одушевлением.— Я уже
думал, что наступает свето-представление, или что-ни-
будь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что
прости меня, угодник! — небо с овчинку показалось!
Не ожидал, не ожи-дал! совсем не о-жи-дал! И во всем
этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во
всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хоро-
шенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.
— Хорошо, хорошо, дядюшка! — отвечает Павел
Александрович,— все разыщу! Только послушайте, дя-
дюшка! Простите-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как
вы думаете?
— Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь
мою поку-шался! Он и еще Лаврентий, которого я дома
оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то но-
вых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним
словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и
встречаться с ним боюсь!
1 простите, простите! (франц.)
2 Но какая красота! (франц.)
294
— Ах, какую вы правду сказали, князь,— воскли-
цает Марья Александровна.— Вы не поверите, как я
сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите:
я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь,
они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до
вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!
— Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю,
когда лакей отчасти глуп,— замечает князь, который,
как и все старички, рад, когда болтовню его слушают
с подобострастием.— К лакею это как-то идет,— и даже
составляет его достоин-ство, если он чистосердечен и
глуп. Разумеется, в иных только слу-ча-ях. Са-но-ви-
тости в нем оттого как-то больше, тор-жественность
какая-то в лице у него является; одним словом, благо-
воспитанности больше, а я прежде всего требую от
человека бла-го-воспитан-ности. Вот, у меня Те-рен-
тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-
тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с пер-
вого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-меналь-
но! смотрит, как баран на воду! Но какая са-но-витость,
какая тор-жественность! Кадык такой, светлорозовый!
Ну, а — ведь это в белом галстуке и во всем параде со-
ставляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз
смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссер-
тацию сочиняет,— такой важный вид! одним словом,
настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее,
откормленный жирный индюк. Совершенный comme
il faut для служащего человека!..
Марья Александровна хохочет с самым восторжен-
ным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел
Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвы-
чайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна.
Улыбнулась даже и Зина.
— Но сколько юмору, сколько веселости, сколько
в вас остроумия, князь! — восклицает Марья Александ-
ровна.— Какая драгоценная способность подметить са-
мую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из
общества, запереться на целых пять лет! С таким та-
лантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли
повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..
— Ну да, ну да! — говорит вседовольный князь,—
295
я могу пов-то-рить... и, знаете, я был необыкновенно
остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-
виль написал... Там было несколько вос-хи-ти-тельных
куплетов! Впрочем, его никогда не играли...
— Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь,
Зина, вот теперь бы кстати! У нас же собираются со-
ставить театр,— для патриотического пожертвования,
князь, в пользу раненых... вот бы ваш водевиль!
— Конечно! Я даже опять готов написать... впро-
чем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было
два-три каламбура таких, что... (и князь поцеловал
свою ручку). И вообще, когда я был за гра-ни-цей,
я производил нас-то-ящий fti-го-ге Ч Лорда Байрона
помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно
танцевал краковяк на венском конгрессе.
— Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка,
что вы?
— Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это
был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не
лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припо-
минаю. И пре-ори-ги-нальный был этот по-ляк: выдал
себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то
кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал крако-
вяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот
случай стихи сочинил:
Наш по-ляк
Танцевал краковяк...
А там... а там, вот уж дальше и не припомню...
А как ногу сломал,
Танцевать перестал.
— Ну, уж, верно, так, дядюшка? — восклицает
Мозгляков, все более и более приходя в вдохновенье.
— Кажется, что так, друг мой,— отвечает дядюш-
ка,— или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть,
и не так, но только преудачные вышли стишки...
Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это
у меня от занятий.
1 Фур°р (франц.).
296
— Но скажите, князь, чем же вы все это время за-
нимались в вашем уединении? — интересуется Марья
Александровна.— Я так часто думала о вас, mon cher
prince, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением
узнать об этом подробнее...
— Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-
ня-тий. Когда — отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу,
воображаю разные вещи...
— У вас, должно быть, чрезвычайно сильное вооб-
ражение, дядюшка?
— Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда та-
кое воображу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь.
Когда я был в Кадуеве... A propos! 1 ведь ты, кажется,
кадуевским вице-губернатором был?
— Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! — восклицает
Павел Александрович.
— Представь себе, мой друг! а я тебя все принимал
за вице-губернатора, да и думаю: что ж это у него как
будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того,
знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-бык-
иовенно умный был человек и все стихи со-чи-нял на
разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового ко-
роля был похож...
— Нет, князь,— перебивает Марья Александ-
ровна,— клянусь, вы погубите себя такой жизнию! За-
твориться на пять лет в уединение, никого не видать,
ничего не слыхать! Но вы погибший человек, князь!
Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан, и вам
всякий скажет, что вы — погибший человек!
— Неужели? — восклицает князь.
— Уверяю вас; я говорю вам как друг, как сестра
ваша! Я говорю вам потому, что вы мне дороги, по-
тому что память о прошлом для меня священна! Какая
выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до
основания изменить вашу жизнь,— иначе вы заболеете,
вы истощите-себя, вы умрете...
— Ах, боже мой! Неужели так скоро умру! — вос-
клицает испуганный князь,— и, представьте себе, вы
угадали: меня чрезвычайно мучит геморой, особенно с
1 Кстати! (франц.)
297
некоторого времени... И когда у меня бывают припадки,
то вообще у-ди-ви-тельные при этом симптомы... (я вам
подробнейшим образом их опишу). Во-первых...
— Дядюшка, это вы в другой раз расскажете,—
подхватывает Павел Александрович,—а теперь... не
пора ли нам ехать?
— Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть,
и не так интересно слушать. Я теперь соображаю... Но
все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть
разные эпизоды... Напомни мне, мой друг, я тебе ужо
вечером расскажу один случай в под-роб-ности...
— Но послушайте, князь, вам бы попробовать ле-
читься за границей,— перебивает еще раз Марья Але-
ксандровна.
— За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду
за границу. Я помню, когда я был за границей в два-
дцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-
чуть не женился на одной виконтессе, француженке.
Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить
ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а дру-
гой. И какой странный случай: отлучился всего на два
часа, а другой и восторжествовал, один немецкий ба-
рон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем
доме сидел.
— Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо
серьезно подумать о своем здоровье. За границей та-
кие медики... и сверх того чего стоит уже одна перемена
жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время,
ваше Духаново.
— Неп-ре-менно! Я уже давно решился и, знаете,
намерен лечиться гид-ро-па-тией.
— Гидропатией?
— Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией.
Я был тогда на водах. Там была одна московская ба-
рыня, я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно
поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней
еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом
на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. По-
том еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворо-
вую девку, осердясь, убила и за то под судом была.
Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь,
298
ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да
лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю:
и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, вы-
пил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия полез-
ная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так
что, если б я, наконец, не забо-лел, то, уверяю вас, что
был бы совершенно здоров...
— Вот это совершенно справедливое заключенье,
дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?
— Боже мой! какие вы вопросы задаете! — строго
замечает скандализированная Марья Александровна.
— Учился, друг мой, но только очень давно. Я и фи-
лософии обучался в Германии, весь курс прошел, но
только тогда же все совершенно забыл. Но... признаюсь
вам... вы меня так испугали этими болезнями, что я...
весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь...
— Но куда ж вы, князь? — вскрикивает удивленная
Марья Александровна.
— Я сейчас, сейчас... Я только записать одну новую
мысль... au revoir...1
— Каков? — вскрикивает Павел Александрович и
заливается хохотом.
Марья Александровна теряет терпенье.
— Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы
смеетесь! — начинает она с горячностию.— Смеяться
над почтенным старичком, над родственником, поды-
мать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской
его добротою! Я краснела за вас, Павел Александро-
вич! Но скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего
не нашла в нем смешного.
— Что он не узнает людей, что он иногда загова-
ривается?
— Но это следствие ужасной жизни его, ужасного
пятилетнего заключения, под надзором этой адской
женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он
даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это
уже, так сказать, вопиет! Его решительно надо спасти!
Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в на-
дежде, что он, может быть, бросит эту... торговку!
1 до свидания (франц.),
299
— Знаете ли что? его надо женить, Марья Алек-
сандровна! — восклицает Павел Александрович.
— Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье
Мозгляков!
— Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я го-
ворю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это
тоже идея! C’est une idee comme une autre! 1 Чем может
это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив,
в таком положении, что подобная мера может только
спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-пер-
вых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за
выражение). Во-вторых, и главное, представьте себе,
что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую,
добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая
будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее
облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же
ему лучше, как не родное, как не искреннее и благо-
родное существо, которое беспрерывно будет подле
него вместо этой... бабы? Разумеется, она должна быть
хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще лю-
бит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на
Зинаиду Афанасьевну?
— Да где же вы найдете такую невесту? — спраши-
вает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.
— Вот так сказали: да хоть бы вы, если только
угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю?
Во-первых — вы хорошенькая, во-вторых — вдова,
в-третьих — благородная, в-четвертых — бедная (по-
тому что вы действительно небогатая), в-пятых — вы
очень благоразумная дама, следственно будете любить
его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в
толчки, повезете его за границу, будете кормить его ман-
ной кашкой и конфектами, все это ровно до той минуты,
когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно
через год, а может быть, и через два месяца с полови-
ною. Тогда вы — княгиня, вдова, богачка и, в награду
за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за
генерал-интенданта! C’est joli2, не правда ли?
1 Эта идея не хуже других! (франц.)
2 Это блестяще (франц.).
300
— Фу ты, боже мой! да я бы, мне кажется, влюби-
лась в него, голубчика, из одной благодарности, если б
он только сделал мне-предложение! — восклицает гос-
пожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засвер-
кали.— Только все это — вздор!
— Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка
меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если се-
годня же не будете его невестою! Да нет ничего легче
уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на
все говорит: «Ну да, ну да!» — сами слышали. Мы его
женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и
женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!..
Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья
Петровна!
Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт.
У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, по-
текли, однакоже, слюнки.
— Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем за-
марашка,— отвечает она.— Совсем опустилась, давно
не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье...
А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?
Все это время Марья Александровна сидела с ка-
кой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если
скажу, что она слушала странное предложение Павла
Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев...
Наконец, она опомнилась.
— Все это, положим, очень хорошо, но все это
вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати,—
резко прерывает она Мозглякова.
— Но почему же, добрейшая Марья Александровна,
почему же это вздор и некстати?
— По многим причинам, а главное, потому, что вы
у меня в доме, что князь — мой гость и что я никому
не позволю забыть уважение к моему дому. Я прини-
маю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Алек-
сандрович. Но, слава богу! вот и князь!
— Вот и я! — кричит князь, входя в комнату.—
Удивительно, cher ami, сколько у меня сегодня разных
идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому,
как будто их совсем не бывает. Так и сижу себе целый
день.
301
— Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего паде-
ния. Это потрясло ваши нервы, и вот...
— Я и сам, мой друг, этому же приписываю и на-
хожу этот случай даже по-лез-ным; так что я решился
простить моего Фео-фи-ла. Знаешь что? мне кажется,
он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом
же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду
сбрили.
— Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с не-
мецкое государство?
— Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой
друг, ты совершенно справедлив в своих заклю-че-ниях.
Но это искусственная. И представьте себе, какой слу-
чай; вдруг присылают мне прейс-курант. Получены
вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и гос-
подские бо-ро-ды, равномерно бакенбарды, эспаньолки,
усы и прочее, и все это лучшего ка-чес-тва, и по самым
умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бо-ро-ду, хоть
поглядеть,— что такое? Вот и выписал я бороду кучер-
скую, действительно борода заглядение! Но оказы-
вается, что у Феофила своя собственная чуть не в два
раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить
ли свою, или присланную назад отослать, а носить на-
туральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше
носить искусственную.
— Вероятно, потому, что искусство выше натуры,
дядюшка!
— Именно потому. И сколько ему страданий
стоило, когда ему бороду брили! Как будто со всей
своей карьерой с бородой расставался... Но не пора ли
нам ехать, мой милый?
— Я готов, дядюшка.
— Но я надеюсь, князь, что вы только к одному гу-
бернатору! — в волнении восклицает Марья Александ-
ровна.— Вы теперь мой, князь, и принадлежите моему
семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не
буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы
пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разо-
чаровывать: к тому же я вполне уверена, что время по-
кажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка,
сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь,
302
я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете
вполне этих людей, по крайней мере до времени!..
— Положитесь на меня, Марья Александровна. Все,
как я вам обещал, так будет,— говорит Мозгляков.
— Уж вы, ветреник! положись на вас! Я вас жду
к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что
на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был
вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас лю-
бит!
— Ваш муж? А у вас есть и муж? — спрашивает
князь.
— Ах, боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы
совершенно, совершенно забыли все прежнее! Мой муж,
Афанасий Матвеич, неужели вы его не помните? Он
теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде.
Помните, князь: Афанасий Матвеич?..
— Афанасий Матвеич! в деревне, представьте себе,
mais c’est delicieux! Так у вас есть и муж? Какой стран-
ный, однакоже, случай! Это точь-в-точь как есть один
водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и за-
был! только куда-то и жена тоже поехала, кажется, в
Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то
очень смешно.
— Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка,— под-
сказывает Мозгляков.
— Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно
в Тверь, charmant, charmant! так что оно и складно вы-
ходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то,
я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-
то и жена тоже поехала! Charmant, charmant! Впрочем,
я немного забыл, о чем начал говорить... да! итак, мы
едем, друг мой. Au revoir, madame, adieu, ma charmante
demoiselle \— прибавил князь, обращаясь к Зине и це-
луя кончики своих пальцев.
— Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратить-
ся скорее! — кричит вслед Марья Александровна.
1 До свидания, мадам, прощайте, моя очаровательная маде-
муазель (франц.).
303
Глава V
— Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на
кухне,— говорит она, проводив князя.— У меня есть
предчувствие, что этот изверг Никитка непременно ис-
портит обед! Я уверена, что он уже пьян...
Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозри-
тельно взглядывает на Марью Александровну и заме-
чает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо
того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой,
Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором
в свою комнату, оттуда в темную комнатку вроде-чу-
ланчика, где стоят сундуки, развешена кой-какая одеж-
да и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она
на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает
свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную сква-
жинку и подслушивает. Эта дверь — одна из трех дверей
той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее ма-
менька,— всегда наглухо заперта и заколочена.
Марья Александровна считает Настасью Петровну
плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщи-
ной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья
Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоя-
щую минуту госпожа Москалева так занята и взвол-
нована, что совершенно забыла о некоторых предосто-
рожностях. Она садится в кресла и значительно взгля-
дывает на Зину, Зина чувствует на себе этот взгляд,
и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее
сердце.
— Зина!
Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо
и подымает свои черные задумчивые глаза.
— Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвы-
чайно важном деле.
Зина оборачивается совершенно к своей маменьке,
складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее
досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть..
— Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе
сегодня этот Мозгляков?
— Вы уже давно знаете, как я о нем думаю,—
нехотя отвечает Зина.
304
— Да, mon enfant но, мне кажется, он становится
как-то уж слишком навязчивым с своими... исканиями.
— Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость
его извинительна.
— Странно! Ты прежде не извиняла его так... охотно.
Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю
об нем.
— Странно и то, что вы всегда защищали и непре-
менно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь
первая на него нападаете.
— Почти. Я не запираюсь, Зина: я желала тебя ви-
деть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою
беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в со-
стоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и ко-
торые отравляют мой сон по ночам, Я уверилась,
наконец, что одна только значительная перемена в
твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна
быть — замужество. Мы небогаты и не можем ехать,
например, за границу. Здешние ослы удивляются, что
тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют
об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здеш-
него советника или за Ивана Ивановича, нашего стряп-
чего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков,
конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он поря-
дочной фамилии, у него есть родство, у него есть пол-
тораста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да
взятками да бог знает какими приключениями; потому
я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я
никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уве-
рена, что сам всевышний предупреждал меня. И если
бы бог послал хоть теперь что-нибудь лучше — о! как
хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь
сегодня ничего не сказала ему наверно, Зина?
— К чему так кривляться, маменька, когда все дело
в двух словах? — раздражительно проговорила Зина.
— Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла
сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже
не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня
своим врагом, а не матерью.
1 дитя мое (франц.).
20 Ф. М. Достоевский, т. 2
305
— Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово
спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, ка-
жется, время понять!
— Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не
веришь, что я готова решительно на все, на все, чтоб
устроить судьбу твою!
Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.
— Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя,
чтоб устроить судьбу мою? — спросила она с странной
улыбкой.
— Я ни слова не говорила об этом, но к слову
скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то
это было бы счастьем твоим, а не безумием...
— А я нахожу, что это просто вздор! — запальчиво
воскликнула Зина.— Вздор! вздор! Я нахожу еще,
маменька, что у вас слишком много поэтических вдох-
новений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого
слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно
проекты. Невозможность и вздорность их вас не оста-
навливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь
сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгля-
ков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла
все мысли ваши на вашем лице. Я готова биться об'
заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко
мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные про-
екты насчет меня начинают мне до смерти надоедать,
начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне
об этом ни слова, слышите ли, маменька,— ни слова,
и я бы желала, чтоб вы это запомнили! —Она задыха-
лась от гнева.
— Ты дитя, Зина,— раздраженное, больное дитя! —
отвечала Марья Александровна растроганным, слезя-
щимся голосом.— Ты говоришь со мной непочтительно
и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того,
что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена,
ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего
христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно
слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом
союзе,— почему именно ты считаешь все это вздором?
По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давеш-
него, когда дркдзы.вал; что князю необходима же-
306
иитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж
он заврался.
— Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это
спрашиваете только так, из любопытства, или с наме-
рением?
— Я спрашиваю только: почему это кажется тебе
таким вздором?
— Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! —
восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения.— Вот
почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря
уже о всех других нелепостях, воспользоваться тем,
что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за
него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и
потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-
моему, это не только вздор, но сверх того так низко, так
низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями,
маменька!
С минуту продолжалось молчание.
— Зина! А помнишь ли, что было два года назад? —
спросила вдруг Марья Александровна.
Зина вздрогнула.
— Маменька! — сказала она строгим голосом,— вы
торжественно обещали мне никогда не напоминать об
этом!
— А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое,
чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это
обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала.
Зина! пришло время полного объяснения между нами.
Эти два года молчания были ужасны! Так не может
продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб
ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная
мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе
торжественное слово мое — слово несчастной матери,
обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким ви-
дом, ни при каких обстоятельствах, даже если б шло
о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить
об этом. Это будет в последний раз, но теперь — это не-
обходимо!
Марья Александровна рассчитывала на полный
эффект.
— Говорите,— сказала Зина, заметно бледнея.
20*
307
— Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покой-
ному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель...
_____ Но зачем вы так торжественно начинаете, ма-
менька! К чему все это красноречие, все эти подроб-
ности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы
и которые нам обеим слишком известны? — с каким-то
злобным отвращением прервала ее Зина.
— К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена
теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу
представить тебе это же все дело совершенно с другой
точки зрения, а не с той ошибочной точки, с которой ты
привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты
лучше поняла заключение, которое я намерена из всего
этого вывесть. Не думай, дитя мое, что я хочу играть
твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоя-
щую мать, и, может быть, обливаясь слезами, у ног
моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас назвала
меня, сама будешь просить примирения, которое ты так
долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему
я хочу высказать все, Зина, все с самого начала; иначе
я молчу!
— Говорите,— повторила Зина, от всего сердца
проклиная потребность красноречия своей маменьки.
— Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного учи-
лища, почти еще мальчик, производит на тебя совер-
шенно непонятное для меня впечатление. Я слишком на-
деялась на твое благоразумие, на твою благородную
гордость и, главное, на его ничтожество (потому что
надо же все говорить), чтобы хоть что-нибудь подозре-
вать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и ре-
шительно объявляешь, что намерена выйти за него
замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрик-
нула и лишилась чувств. Но... ты все это помнишь!
Разумеется, я сочла за нужное употребить всю
свою власть, которую ты называла тиранством. По-
думай: мальчик, сын дьячка, получающий двена-
дцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрян-
ных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Биб-
лиотеке для чтения», и умеющий только толковать
об этом проклятом Шекспире,— этот мальчик — твой
муж, муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно
308
Флориана и его пастушков! Прости меня, Зина, но
одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я от-
казала ему, но никакая власть не может остано-
вить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал гла-
зами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты
продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже сви-
дания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним пе-
реписываться. По городу начинают уже распростра-
няться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже
обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все
мои предсказания сбываются самым торжественным
образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым
недостойным тебя... мальчишкой (я никак не могу на-
звать его человеком!) и грозит тебе распространить по
городу твои письма. При этой угрозе, полная негодо-
вания, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да,
Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне все, все
известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно
из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо
уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного
врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в рас-
каянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя.
Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чу-
мичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страш-
ным известием: уже целый час письмо в руках у На-
тальи Дмитриевны; через два часа весь город будет
знать о твоем позоре! Я пересилила себя, я не упала в
обморок,— но какими ударами ты поразила мое сердце,
Зина. Эта бесстыдная, этот изверг, Настасья требует
двести рублей серебром и за это клянется достать об-
ратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу,
бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар —
память праведницы, моей матери! Через два часа
письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взло-
мала шкатулку, и — честь твоя спасена,— доказательств
нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот
ужасный день! На другой же день я заметила, в первый
раз в жизни, несколько седых волос на голове моей.
Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого маль-
чика. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с
горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия
309
доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься,
ты мучаешься, дитя мое; ты не можешь забыть его, или,
лучше сказать, не его,— он всегда был недостоин
тебя,— а призрак своего прошедшего счастья. Этот
несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в ча-
хотке, а ты,— ангел доброты! — ты не хочешь при
жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его
сердца, потому что он до сих пор еще мучится рев-
ностию, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя
настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услы-
шав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал,
выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя,
и, бог видит, какими горькими слезами обливала я
подушку мою!..
— Да оставьте все это, маменька! — прерывает
Зина в невыразимой тоске.—Очень понадобилась тут
ваша подушка, — прибавляет она с колкостию.—
Нельзя без декламаций да вывертов!
— Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня
враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года,
но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во
многом изменилась сама в это время! Я давно поняла
твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу
твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что
я смотрела на эту привязанность, как на романтизм,
навеянный этим проклятым Шекспиром, который, как
нарочно, сует свой нос везде, где его не спрашивают.
Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за
принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь,
теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и
ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может
быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь.
Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного
мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное сча-
стье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила и, мо-
жет быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже
были свои возвышенные идеалы. И потому кто может
обвинить меня теперь и прежде всего можешь ли ты об-
винить меня за то, что я нахожу союз с князем самым
спасительным, самым необходимым для тебя делом в
теперешнем твоем положении?
ЗЮ
Зина с удивлением слушала всю эту длинную декла-
мацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет
в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное
заключение совершенно изумило ее.
— Так неужели вы серьезно положили выдать меня
за этого князя? — вскричала она, с изумлением, чуть не
с испугом смотря на мать свою.— Стало быть, это уже
не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение?
Стало быть, я угадала? И... и... каким образом это за-
мужество спасет меня и необходимо в настоящем моем
положении? И... и... каким образом все это вяжется с
тем, что вы теперь наговорили,— со всей этой исто-
рией?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!
— А я удивляюсь, monange^KaK можно не пони-
мать всего этого! — восклицает Марья Александровна,
одушевляясь в свою очередь.— Во-первых, уж одно то,
что ты переходишь в другое общество, в другой мир!
Ты оставляешь навсегда этот отвратительный горо-
дишка, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет
у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где
все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты
можешь даже ехать этой же весной за границу, в Ита-
лию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где
Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная
речонка с неприличным названием...
— Но позвольте, маменька, вы говорите так, как
будто я уже замужем или по крайней мере князь сде-
лал мне предложение?
— Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я
говорю. Но — позволь мне продолжать. Я уже сказала
первое, теперь второе: я понимаю, дитя мое, с каким от-
вращением ты отдала бы руку этому Мозглякову...
— Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду
его женою! — отвечала с горячностию Зина, и глаза ее
засверкали.
— И если б ты знала, как я понимаю твое отвраще-
ние, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем бо-
жиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно
принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он
1 мой ангел (франц.).
311
потребует твоей любви; он для того и женится, я это
знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься.
Каково ж притворяться! Я сама двадцать пять лет это
испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно ска-
зать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты ви-
дела слезы мои!..
— Папенька в деревне, не трогайте его, по-
жалуйста,— отвечала Зина.
— Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина!
У меня все сердце замирало, когда я, из расчета, же-
лала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе
притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не
можешь его любить... любовью, да и он сам не способен
потребовать такой любви...
— Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы
ошиблись в самом начале, в самом первом, главном!
Знайте, что я не хочу собою жертвовать, неизвестно
для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, пи за кого,
и останусь в девках! Вы два года ели меня за то, что
я не выхожу замуж. Ну, что ж? придется с этим вам
примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!
— Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не
выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! По-
зволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас
же со мной согласишься. Князь проживет год, много
два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем
перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти
его,— княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой,
ты, может быть, с презрением смотришь на все эти
расчеты,— расчеты на смерть его! Но — я мать, а какая
мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец,
если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого маль-
чика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже
выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то
подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его вос-
креснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть
капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что
ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты
вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он
поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти
князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...
312
— Попросту выходит: выйти замуж за князя,
обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб
выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши
итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне...
Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак
не можете воздержаться от выставки благородных
чувств даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо
и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и по-
тому согласись на нее!» Это по крайней мере было бы
откровеннее.
— Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с
этой точки зрения,— с точки зрения обмана, коварства
и корыстолюбия. Ты считаешь мои расчеты за низость,
за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман,
какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало; ты так
прекрасна, что за тебя можно отдать королевство!
И вдруг ты — ты, красавица, жертвуешь старику свои
лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь
закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься
около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная
женщина, которая околдовала его и с жадностию со-
сет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество
стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты
сама не знаешь, что говоришь, Зина!
— Верно, стоят, коли надо выходить за калеку! Об-
ман — всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.
— Напротив, друг мой, напротив! на это можно
взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки
зрения, дитя мое! Ты сама однажды в каком-то исступ-
лении сказала мне, что хочешь быть сестрою милосер-
дия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила
(я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты
не веришь в любовь, то обрати свои чувства на дру-
гой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как
дитя, со всею верою и святостию — и бог благословит
тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его
гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала
к нему непонятную симпатию, род любви, как будто
что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его
дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его,— если уж
все говорить! — но согрей его сердце, и ты сделаешь
313
это для бога, для добродетели! Он смешон,— не смотри
на это. Он получеловек,— пожалей его; ты христианка!
Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд,
тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно
дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть
ангелы божии, исполняющие это и благословляющие
бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорб-
ленному сердцу, занятие, подвиг — и ты залечишь раны
свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне
не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворя-
юсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять,
как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце,
чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою
мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны.
Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой
глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит
какой-нибудь невидимый голос... Тебя, главное, сму-
щает, что все это будет за деньги, как будто это какая-
нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от
денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе
необходимое и все раздай бедным. Помоги хоть, напри-
мер, ему, этому несчастному, на смертном одре.
— Он не примет никакой помощи, — проговорила
Зина тихо, как бы про себя.
— Он не примет, но мать его примет,— отвечала тор-
жествующая Марья Александровна,— она примет ти-
хонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин по-
дарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю. Я знаю,
что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить
своего несчастного сына.
— Ему скоро не нужна будет помощь!
— Знаю и это, на что ты намекаешь,— подхватила
Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдох-
новение осенило ее,— знаю, про что ты говоришь. Го-
ворят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это гово-
рит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста
Станиславича; я интересовалась о нем, потому что у
меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславич отвечал
мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор
уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно
сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он
314
наверно говорил мне, что при других обстоятельствах,
особенно при изменении климата и впечатлений, боль-
ной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в
Испании,— и это я еще прежде слышала, даже чи-
тала,— что в Испании есть какой-то необыкновенный
остров, кажется Малага,— одним словом, похоже на
какое-то вино,— где не только грудные, но даже на-
стоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного
климата и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется,
только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но
только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Аль-
гамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих
мулах! — одно это произведет уже необыкновенное
впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что
он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого пу-
тешествия? Так обмани его, если тебе жаль! Обман про-
стителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь
его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что
выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Все на свете
можно сказать благородным образом. Твоя мать не
будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь
это для спасения жизни его, и потому — все позволи-
тельно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет
обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слу-
шаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для
счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь
за него,— все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла,
воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть
с состраданием! Может быть, судьба научила и изме-
нила его к лучшему, и, если только он будет достоин
тебя,— пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь.
Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив
его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак
твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда
он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь
решились на такое безумство? Всеобщее презрение,
нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это со-
пряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира,
вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близ-
кая, неминуемая смерть. Тогда как, воскресив его,— ты
воскресишь его для полезной жизни, для добродетели;
315
простив ему,— ты заставишь его обожать себя. Он тер-
зается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему
новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и прими-
ришь его с самим собою. Он может вступить в службу,
войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет,
то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках
твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти
минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою,
под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим
небом! О Зина! все это в руках твоих! Все выгоды на
твоей стороне — и все это через замужество с князем.
Марья Александровна кончила. Наступило до-
вольно долгое молчание. Зина была в невыразимом
волнении.
Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не
можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна
нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком
состоянии находится теперь сердце дочери, она пере-
брала все случаи, в которых оно могло находиться, и,
наконец, догадалась, что попала на истинный путь. Она
грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца
Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтиться
без выставки благородных чувств, которые, конечно, не
ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не
верит,— думала Марья Александровна,— только бы ее
заставить задуматься! только бы ловче намекнуть, о
чем мне прямо нельзя говорить!» Так она думала и до-
стигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слу-
шала. Щеки ее горели, грудь волновалась.
— Послушайте, маменька,— сказала она, наконец,
решительно, хотя внезапно наступившая бледность в
лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта реши-
мость.— Послушайте, маменька...
Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из
передней, и резкий, крикливый голос, спрашивавший
Марью Александровну, заставил Зину вдруг оста-
новиться. Марья Александровна вскочила с места.
— Ах, боже мой! — вскричала она,— черт несет
эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала
две недели назад! — прибавила она, чуть не в отчая-
нии.— Но... но невозможно теперь не принять ее! Невоз-
316
можно! Она, наверно, с вестями, иначе не посмела бы и
явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать... Ничем
теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благо-
дарна за ваш визит! — закричала она, бросаясь на-
встречу вошедшей гостье.— Как это вам вздумалось
вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой
о-ча-ро-ва-тельный сюрприз!
Зина убежала из комнаты.
Глава VI
Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только
нравственно походила на сороку. Физически она скорее
походила на воробья. Это была маленькая пятидесяти-
летияя дама, с остренькими глазками, в веснушках и
в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссох-
шем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких во-
робьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда
•шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла
пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная
сплетница. Она была помешана на том, что она пол-
ковница. С отставным полковником, своим мужем, она
очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того
выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку
же вечером и до помешательства ненавидела Анну Ни-
колаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе
из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Пас-
кудину, тому способствовавшую.
— Як вам только на минутку, mon ange,— защебе-
тала она.— Я ведь напрасно и села. Я заехала только
рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь
город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи —
vous comprenez! 1 — его ловят, ищут, тащат его нарас-
хват, шампанским поят,— вы не поверите! не поверите!
Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете
ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?
— У Натальи Дмитриевны! — вскричала /Марья
Александровна, привскакнув на месте.— Да ведь он к
1 вы понимаете! (франц.)
317
губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне
Николаевне, и то ненадолго!
_____ Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он
губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне
поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая
теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда
завтракать. Вот вам и князь!
— А что ж... Мозгляков? Ведь он обещался...
— Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш...
Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в кар-
тишки там не засадят, опять проиграется, как прошлый
год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят, как
липку. А какие она вещи распускает, Наташка-то! Вслух
кричит, что вы завлекаете князя, ну там... для извест-
ных целей,— vous comprenez? Сама ему толкует об
этом. Он, конечно, ничего не понимает, сидит, как мок-
рый кот, да на всякое слово: «ну да! иу да!» А сама-
то, сама-то! вывела свою Соньку — вообразите: пятна-
дцать лет, а все еще в коротеньком платье водит! все
это только до колен, как можете себе представить... По-
слали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком
платье, только еще выше колен,— я в лорнет смотрела...
На голову им надели какие-то красные шапочки с
перьями,— уж не знаю, что это изображает! — и под
фортепьяно заставила обеих пиголиц перед князем
плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он
так и растаял: «формы», говорит, «формы»! В лорнетку
на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! рас-
краснелись, ноги вывертывают, такой монплезир пошел,
что люли, да и только! тьфу! Это — танец! Я сама тан-
цевала с шалью при выпуске из благородного пансиона
мадам Жарни,— так я благородный эффект произвела!
Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские
дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сго-
рела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!..
— Но... разве вы сами были у Натальи Дмитриевны?
ведь вы...
— Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе.
Я это прямо всем говорю. Mais, ma chere мне захоте-
1 Но, моя милая (франц.).
318
лось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и при-
ехала. А то где ж бы я его увидала? Поехала бы я к
ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе:
всем шоколад подают, а мне нет, и все время со мной
хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка этакая!
Вот я ж ей теперь! Но прощайте, mon ange, я теперь
спешу, спешу... Мне надо непременно застать Акулину
Панфиловну и ей рассказать... Только вы теперь так и
проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет.
Знаете — памяти-то у него нет, так Анна Николаевна
непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтобы
вы не того... понимаете? насчет Зины...
— Quelle horreur! 1
— Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит.
Анна Николаевна непременно хочет оставить его
обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает,
mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая
там суетня: обед готовят, ножами стучат... за шампан-
ским послали. Спешите, спешите и перехватите его на
дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой
обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами
смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да
она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама
полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни
воспитывалась... тьфу! Mais adieu, mon ange!2 У меня
свои сани, а то бы я с вами вместе поехала...
Ходячая газета исчезла, Марья Александровна за-
трепетала от волнения, но совет полковницы был
чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было не-
чего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное
затруднение. Марья Александровна бросилась в ком-
нату Зины.
Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив
накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная.
В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во
взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно
скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на
губах ее.
1 Какой ужас! (франц.)
2 Но прощайте, мой ангел! (франц.)
319
— Маменька,— сказала она, предупреждая Марью
Александровну,— сейчас вы истратили со мною много
вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили
меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг
сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего при-
звания, оправдывать свои низости, которые делаешь
для одного эгоизма, благородными целями — все это
такое иезуитство, которое не могло обмануть меня.
Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб
вы это непременно знали!
— Но, mon ange!..— вскрикнула оробевшая Марья
Александровна.
— Молчите, маменька! Имейте терпение выслу-
шать меня до конца. Несмотря на полное сознание того,
что все это только одно иезуитство; несмотря на полное
мое убеждение в совершенном неблагородстве такого
поступка,— я принимаю ваше предложение вполне,
слышите: вполне, и объявляю вам, что готова выйти за
князя и даже готова помогать всем вашим усилиям,
чтоб заставить его на мне жениться. Для чего я это
делаю? — вам не надо знать. Довольно и того, что я ре-
шилась. Я решилась на все: я буду подавать ему са-
поги, я буду его служанкой, я буду плясать для его
удовольствия, чтоб загладить перед ним мою низость;
я употреблю все на свете, чтоб он не раскаивался в том,
что женился на мне! Но взамен моего решения я тре-
бую, чтоб вы откровенно сказали мне: каким образом
вы все это устроите? Если вы начали так настойчиво
говорить об этом, то — я вас знаю — вы не могли на-
чать, не имея в голове какого-нибудь определенного
плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откро-
венность — непременное условие! Я не могу решиться,
не зная положительно, как вы все это сделаете?
Марья Александровна была так озадачена неожи-
данным заключением Зины, что некоторое время стояла
перед ней, немая и неподвижная от изумления, и гля-
дела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с
упорным романтизмом своей дочери, сурового благо-
родства которой она постоянно боялась, она вдруг слы-
шит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на
все, даже вопреки своим убеждениям! Следственно,
320
дело принимало необыкновенную прочность,— и ра-
дость засверкала в глазах ее.
— Зиночка! — воскликнула она в увлечении.— Зи-
ночка! ты плоть и кровь моя!
Больше она ничего не могла выговорить и бросилась
обнимать свою дочь.
— Ах, боже мой! я не прошу ваших объятий,
маменька,— воскликнула Зина с нетерпеливым отвра-
щением,— мне не надо ваших восторгов! я требую от
вас ответа на мой вопрос и больше ничего.
— Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя,
а ты меня отталкиваешь... ведь я для твоего же счастья
стараюсь...
И непритворные слезы заблистали в глазах ее.
Марья Александровна действительно любила Зину, по-
своему, а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвы-
чайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую
ограниченность своего настоящего взгляда на вещи,
понимала, что мать ее любит, и — тяготилась этой
любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее нена-
видела...
— Ну, не сердитесь, маменька, я в таком вол-
нении,— сказала она, чтоб успокоить ее.
— Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! — за-
щебетала Марья Александровна, мигом оживляясь,—
ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь,
друг мой, ты требуешь откровенности... Изволь, я буду
откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только
бы ты-то мне верила! И, во-первых, скажу тебе, что
вполне определенного плана, то есть во всех подроб-
ностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть;
ты, как умная головка, поймешь — почему. Я даже
предвижу некоторые затруднения... Вот и сейчас эта
сорока натрещала мне всякой всячины... (Ах, боже мой!
спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но,
клянусь тебе, я достигну цели! — прибавила она в вос-
торге.— Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты да-
веча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она
основана на совершенном слабоумии князя,— а ведь
это такая канва, по которой вышивай что угодно.
Главное, чтоб не помешали! Да этим ли дурам пере-
21 ф. М. Достоевский, т. 2
321
хитрить меня,— вскричала она, стукнув рукой по столу
и сверкая глазами,— уж это мое дело! А для этого
всего нужнее как можно скорей начинать, даже
чтоб сегодня и кончить все главное, если только
возможно.
— Хорошо, маменька, только выслушайте еще
одну... откровенность: знаете ли, почему я так инте-
ресуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому
что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась
на эту низость; но если подробности вашего плана
будут уже слишком отвратительны, слишком грязны,
то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу.
Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и
бояться грязи, в которой она плавает, но что делать?
Это непременно так будет!..
— Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость,
mon ange? — робко возразила было Марья Алексан-
дровна.— Тут только один выгодный брак, а ведь это
все делают! Только надобно с этой точки взглянуть,
и все очень благородно покажется...
— Ах, маменька, ради бога не хитрите со мной!
Вы видите, я на все, на все согласна! ну чего ж вам
еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи
их именами. Может быть, это теперь единственное мое
утешение!
И горькая улыбка показалась на губах ее.
— Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть
несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать
друг друга. Только, если ты беспокоишься о подроб-
ностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь
все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не брызнет
ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать
перед всеми? Положись только на меня, и все пре-
восходно, преблагородно уладится, Главное — пребла-
городно! Скандалу не будет никакого, а если и будет
какой-нибудь маленький, необходименький скандаль-
чик,— так... как-нибудь! — так ведь мы уж будем
тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть
их кричат во все горло, наплевать на них! Сами же
будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них забо-
титься! Я даже удивляюсь тебе, Зиночка, но ты не
322
сердись на меня,— как это ты, с твоей гордостью, их
боишься?
— Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совер-
шенно меня не понимаете! — отвечала раздражительно
Зина.
— Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что
они сами каждый божий день пакости строят, а тут
ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни... да
и что я, дура! Вовсе не пакость! Какая тут пакость?
Напротив, это даже преблагородио. Я решительно до-
кажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все от-
того, с какой точки зрения смотреть...
— Да полноте, маменька, с вашими доказатель-
ствами! — с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо
топнула ногою.
— Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась...
Наступило маленькое молчание. Марья Алексан-
дровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством
смотрела ей в глаза, как маленькая, провинившаяся
собачка смотрит в глаза своей барыне.
— Я даже не понимаю, как вы возьметесь за
дело,— с отвращением продолжала Зина.— Я уверена,
что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю
их мнение, но для вас это будет позором.
— О, если только это тебя беспокоит, мой ангел,—
пожалуйста, не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя!
Только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся.
Ох, если б ты только знала, из каких я передряг суха
выходила? Такие ли дела мне случалось обделывать!
ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком
случае, прежде всего нужно как можно скорее быть
наедине с князем. Это самое первое! а все остальное
будет зависеть от этого! Но уж я предчувствую и
остальное. Они все восстанут, но... это ничего! я их
сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков...
— Мозгляков?—с презрением проговорила Зина.
— Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка!
клянусь тебе, я его до того доведу, что он же будет нам
помогать! Ты еще не знаешь меня, Зиночка! ты еще
не знаешь, какая я в деле! Ах, Зиночка, душенька!
давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и
21*
323
загорелась мысль в голове! Меня как будто разом
всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он
к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой
оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что
ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если вый-
дешь за такого, которого терпеть не можешь, а между
тем действительно будешь женой его! А ведь князю ты
не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это
просто домашний контракт! Ведь ему ж, дураку, будет
выгода,— ему же, дураку, дают такое неоцененное
счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка!
раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была
мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты
захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту
ручку? — И Марья Александровна горячо поцеловала
руку у дочери.— Ведь это мое тело, моя плоть, моя
кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как за-
живем-то мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлу-
чишься со мной, Зиночка! Ведь ты не прогонишь свою
мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились,
мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга,
как я; все-таки...
— Маменька! если уж вы решились, то, может
быть, вам пора... что-нибудь и делать. Вы здесь только
время теряете! — в нетерпении сказала Зина.
— Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! —
схватилась Марья Александровна.— Они там хотят
совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду! Подъ-
еду, вызову Мозглякова, а там... Да я его силой увезу,
если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не
тужи, не сомневайся, не грусти, главное—не грусти!
все прекрасно, преблагородно обделается! Главное,
с какой точки смотреть... ну, прощай, прощай!..
Марья Александровна перекрестила Зину, выско-
чила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед
зеркалом, а через две минуты катилась по мордасов-
ским улицам в своей карете на полозьях, которая еже-
дневно запрягалась около этого часу, в случае выезда.
Марья Александровна жила en grand
1 на широкую ногу (франц.).
324
«Нет, не вам перехитрить меня! —думала она, сидя
в своей карете.— Зина согласна, значит половина дела
сделано, и тут — оборваться! вздор! Ай да Зина! Со-
гласилась-таки, наконец! Значит, и на твою головку
действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила
ей заманчивую! Тронула! Но только ужас, как она хо-
роша сегодня! Да я бы с ее красотой пол-Европы пере-
вернула по-своему! Ну, да подождем... Шекспир-то
слетит, когда княгиней сделается да кой с чем позна-
комится. Что она знает? Мордасов да своего учителя!
Гм... Только какая же она будет княгиня! Люблю я
в ней эту гордость, смелость, недоступная какая!
взглянет — королева взглянула. Ну как, ну как не по-
нимать своей выгоды? Поняла ж, наконец! Поймет и
остальное... Я ведь все-таки буду при ней! Согласится
же, наконец, со мной во всех пунктах! А без меня не
обойдется! Я сама буду княгиня; меня в Петербурге
узнают. Прощай, городишка! Умрет этот князь, умрет
этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца
выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась?
Не слишком ли откровенничала; не слишком ли я рас-
чувствовалась? Пугает она меня, ох, пугает!»
И Марья Александровна погрузилась в свои раз-
мышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но
ведь говорится же, что охота пуще неволи.
Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед
по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом
она передумала. Часто и почти бессознательно повто-
ряла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это
отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на
ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала
отирать их,— останавливать. Но напрасно беспокои-
лась ее маменька и старалась проникнуть в мысли
своей дочери: Зина совершенно решилась и пригото-
вилась ко всем последствиям...
«Постой же!—думала Настасья Петровна, выби-
раясь из своего чуланчика по отъезде полковницы.—
А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого
князишки! И поверила же дура, что он на мне женится!
Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас
чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру.
325
Еще бы с тебя упустить не взять, франтиха ты эдакая!
Я взяла благородным образом; я взяла на сопряжен-
ные с делом расходы... Может, мне самой пришлось бы
взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала,
своими руками замок взломала? Для тебя же рабо-
тала, белоручка ты эдакая! Тебе бы только по канве вы-
шивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам
обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну
и всю ее кротость!»
Глава VII
Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она
замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за
богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех,
воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего
гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги
Марьи Александровны,— было не только смело, но
даже дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае
неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным
позором. Марья Александровна это знала, но не отчаи-
валась. «Из таких ли передряг я суха выходила!» — го-
ворила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж
бы она была героиня?
Бесспорно, что все это походило несколько на раз-
бой на большой дороге; но Марья Александровна и на
это не слишком-то обращала внимание. На этот счет
у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвен-
чают, так уж не развенчаются»,— мысль простая, но
соблазнявшая воображение такими необыкновенными
выгодами, что Марью Александровну, от одного уже
представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо
мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и
сидела в своей карете как на иголках. Как женщина
вдохновенная, одаренная несомненным творчеством,
она уже успела создать план своих действий. Но план
этот был составлен вчерне, вообще en grand !, и еще
как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла
1 Здесь: в общих чертах (франц.).
326
бездна подробностей и разных непредвидимых случаев.
Но Марья Александровна была уверена в себе: она
волновалась не страхом неудачи — нет! ей хотелось
только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение,
благородное нетерпение сжигало ее при мысли о за-
держках и остановках. Но, сказав о задержках, мы
попросим позволения несколько пояснить нашу мысль.
Главную беду предчувствовала и ожидала Марья
Александровна от благородных своих сограждан, мор-
дасовцев, и, преимущественно, от благородного об-
щества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их
непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо
знала, что в городе в настоящую минуту, может быть,
уже знают все из ее намерений, хотя об них еще никто
никому не рассказывал. Она знала, по неоднократному
печальному опыту, что не было случая, даже самого
секретного, в ее доме, который, случившись утром, не
был бы уже известен к вечеру последней торговке на
базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья
Александровна еще только предчувствовала беду, но
такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не об-
манывалась она и теперь. Вот что случилось на самом
деле и чего еще не знала она положительно. Около
полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя
в. Мордасов, по городу распространились странные
слухи. Где начались они — неизвестно, по разошлись
они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг
друга, что Марья Александровна уже просватала за
князя Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю
Зину; что Мозгляков в отставке и что все это уже ре-
шено и подписано. Что было причиною таких слухов?
Неужели все до такой степени знали Марью Александ-
ровну, что разом попали в самое сердце ее заветных
мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с
обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела
очень редко могут обделываться в один час, ни очевид-
ная неосновательность такого известия, потому что ни-
кто не мог добиться, откуда оно началось,— не могли
разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоре-
нялся с необыкновенным упорством. Всего удивитель-
нее, что он начал распространяться именно в то самое
327
время, когда Марья Александровна приступила к сво-
ему давешнему разговору с Зиной об этом же самом
предмете. Таково-то чутье провинциалов! Инстинкт про-
винциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного,
и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом
близком, интересном и многолетнем изучении друг
друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклян-
ным колпаком. Нет решительно никакой возможности
хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан.
Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про
себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, ка-
жется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот
почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто
встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов
чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль
лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался
всякому до того выгодным, до того блистательным, что
даже странная сторона этого дела никому не бросалась
в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину нена-
видели почти еще больше Марьи Александровны,— за
что? — неизвестно. Может быть, красота Зины была от-
части тому причиною. Может быть, и то, что Марья
Александровна все-таки была как-то своя всем морда-
совцам, своего поля ягода. Исчезни она из города, и —
кто знает? — об ней бы, может быть, пожалели. Оца
оживляла общество беспрерывными историями. Без нее
было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так^
как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове.
Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, мо-
жет быть, сама не замечая того, вела себя перед ними
невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая
Зина, про которую даже ходили скандалезные исто-
рии, эта надменная, эта гордячка Зина становится мил-
лионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два,
когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, мо-
жет быть, даже за генерала; чего доброго — пожалуй,
еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как
нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому
полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, ра-
зумеется, одна эта мысль уже была невыносима и ни-
когда никакая весть не возбудила бы такого негодова-
328
ния в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя.
Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон.
Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в
своем уме; что старика обманули, надули, облапошили,
пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от
кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и без-
нравственность; что, наконец, чем же другие хуже
Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя.
Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще
только предполагала, но для нее довольно было
и этого. Она твердо знала, что все, решительно все,
готовы будут употребить все, что возможно и что даже
невозможно, чтоб воспрепятствовать ее намерениям;
Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что
приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец,
хоть и удастся поймать и заманить князя обратно,
нельзя же будет держать его вечно на привязи. Нако-
нец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа,
весь торжественный, хор мордасовских дам не бу-
дет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что
невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, войдут
в окно: случай почти невозможный, но бывавший в
Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на
час, ни на каплю времени, а между тем дело было
еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и
мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об
этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте.
Скажем только теперь, что в эту минуту наша ге-
роиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдох-
новенная, решившись даже на настоящий бой, если б
только представилась надобность, чтоб овладеть кня-
зем обратно. Она еще не знала, как это сделается
и где она встретит его, но зато она знала наверно,
что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем
не исполнится хоть одна кота из теперешних ее за-
мыслов.
Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела
перехватить князя на улице и привезла к себе обедать.
Если спросят: каким образом, несмотря на все козни
врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить
Анну Николаевну с довольно большим носом? — то я
329
обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обид-
ным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать по-
беду над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой?
Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего
к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а
вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугав-
шегося скандалу, пересадила старичка в свою карету.
Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих
соперниц, что в решительных случаях не задумывалась
даже перед скандалом, принимая за аксиому, что
успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал
значительного сопротивления и, по своему обыкнове-
нию, очень скоро забыл обо всем и остался очень дово-
лен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно
весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, ко-
торые не доканчивал или с одного перескакивал на
другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он
выпил три бокала шампанского. За обедохМ он выпил
еще и закружился окончательно. Тут уж подливала
сама Марья Александровна. Обед был очень порядоч-
ный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла
общество самой очаровательной любезностью. Но
остальные присутствующие, как нарочно, были необык-
новенно скучны. Зина была как-то торжественно молча-
лива. Мозгляков был, видимо, не в своей тарелке и мало
ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с
ним довольно редко, то Марья Александровна была в
большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела
угрюмая и даже украдкой делала Мозглякову какие-то
странные знаки, которых тот совершенно не примечал.
Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил
бы на похороны.
А между тем Марья Александровна была в невыра-
зимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно
своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут
и еще затруднение: надо спешить, торопиться, а этот
«проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, кото-
рому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же
в самом деле начинать такое дело при нем! Марья
Александровна встала из-за стола в страшном беспо-
койстве. Каково же было ее изумление, радостный
330
испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков,
только что встали из-за стола, сам подошел к ней
и вдруг совсем неожиданно объявил, что ему,— разу-
меется, к его величайшему сожалению,— необходимо
сейчас же отправиться.
— Куда это? — спросила с необыкновенным собо-
лезнованием Марья Александровна.
— Вот видите, Марья Александровна,— начал
Мозгляков с беспокойством и даже несколько пу-
таясь,— со мной случилась престранная история. Я уж
и не знаю, как вам сказать... дайте мне, ради бога,
совет!
— Что, что такое?
— Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете,— тот
купец... встретился сегодня со мной. Старик решительно
сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот
уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не пока-
зал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно
четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как про-
снется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья
Александровна, конечно,— но подумайте! Ведь он моего
отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные
деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому слу-
чаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьев-
ной, у меня все-таки только полтораста душ. А ведь у
него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен.
Угодишь ему — сто тысяч по духовной оставит. Семь-
десят лет,— подумайте!
— Ах, боже мой! так что ж это вы! что же вы мед-
лите? — вскрикнула Марья Александровна, едва скры-
вая свою радость.— Поезжайте, поезжайте! этим нельзя
шутить. То-то я смотрю за обедом — вы такой скучный!
Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало
давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы
дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, мо-
лодежь!
— Да ведь вы же сами, Марья Александровна,— в
изумлении вскричал Мозгляков,— вы же сами нападали
на меня за это знакомство. Ведь вы же говорили, что
он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными
да поверенными?
331
— Ax, mon ami! Мало ли мы что говорим необду-
манного! Я тоже могу ошибиться, я — не святая.
Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком распо-
ложении духа... Наконец, вы тогда еще не сватались
к Зиночке... Конечно, это эгоизм с моей стороны, но
теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зре-
ния, и — какая мать может обвинить меня в этом слу-
чае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у
него посидите... да послушайте! Заговорите как-нибудь
обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю,
да этак половчее, получше! Ах, боже мой! И у меня
ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой дога-
даться вас надоумить!
— Воскресили вы меня, Марья Александровна! —
вскричал восхищенный Мозгляков.— Теперь, клянусь,
буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто
боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините
меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непре-
менно сюда...
— Благословляю вас, mon ami! Смотрите же, обо
мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый
старичок. Я давно уже переменила о нем мои мысли...
Я и всегда, впрочем, любила в нем все это старинное
русское, неподдельное... Au revoir, mon ami, au revoir!
«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам
бог помогает!» — подумала она, задыхаясь от радости.
Павел Александрович вышел в переднюю и надевал
уже шубу, как вдруг откуда ни возьмись Настасья Пет-
ровна. Она поджидала его.
— Куда вы? — сказала она, удерживая его за
Руку.
— К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный
отец мой; удостоился меня крестить... Богатый старик,
оставит что-нибудь, надо польстить!..
Павел Александрович был в превосходнейшем рас-
положении духа.
— К Бородуеву! ну так и проститесь с невестой,—
резко сказала Настасья Петровна.
— Как так «проститесь»?
— Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за
князя выдавать хотят. Сама слышала!
332
— За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!
— Да чего помилосердуйте! Вот, не угодно, ли са-
мим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, поди-
те-ка сюда!
Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу
и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она
привела его в тот самый чуланчик, откуда утром под-
глядывала и подслушивала.
— Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно
ничего не понимаю!..
— А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Ко-
медия, верно, сейчас начнется.
— Какая комедия?
— Тс! не говорите громко! Комедия в том, что вас
просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем,
Марья Александровна целый час уговаривала Зину
выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего
легче его облапошить и заставить жениться, и такие
крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все от-
сюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе
честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо ска-
зала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура!
Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, по-
слушайте-ка!
— Да ведь это безбожнейшее коварство, если
так! — прошептал Павел Александрович, глупейшим
образом смотря в глаза Настасье Петровне.
— Да вы только послушайте, и не то еще услышите.
— Да где же слушать?
— Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку...
— Но, Настасья Петровна, я... я не способен под-
слушивать.
— Эк, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в
карман; пришли, так уж слушайте!
— Но, однакоже...
— А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас
же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для
себя. Я и до вечера здесь не останусь!
Павел Александрович скрепя сердце нагнулся к ще-
лочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти
не понимал, что с ним происходит.
333
Глава VIII
- . Так вам очень было весело, князь, у Натальи
Дмитриевны? — спросила .Марья Александровна, пло-
тоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы
.и желая самым невинным образом начать разговор.
Сердце ее билось от волнения и ожидания.
После обеда князя тотчас же перевели в «салон»,
в котором принимали его утром. Все торжественные
случаи и приемы происходили у Марьи Александровны
в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой.
Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и не-
крепко держался на ногах. Зато болтал без умолку.
Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна
понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелев-
шему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить
минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заме-
тила, что сластолюбивый старичок как-то особенно ла-
комо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее за-
трепетало от радости.
— Чрез-вы-чайно весело,— отвечал князь,— и,
знаете, бес-по-добней-шая женщина, Наталья Дмит-
риевна, бес-по-до-бнейшая женщина!
Как ни занята была Марья Александровна своими
великими планами, но такая звонкая похвала сопернице
уколола ее в самое сердце.
— Помилуйте, князь! — вскричала она, сверкая
глазами,— если уж ваша Наталья Дмитриевна беспо-
добная женщина, так уж я и не знаю, что после этого!
Но после этого вы совершенно не знаете здешнего об-
щества, совершенно не знаете! Ведь это только одна
выставка своих небывалых достоинств, своих благород-
ных чувств, одна комедия, одна наружная золотая
кора. Приподымите эту кору, и вы увидите целый ад
под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и ко-
сточек не оставят!
— Неужели? — воскликнул князь.— Удивляюсь!
— Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. По-
слушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю
это смешное и низкое происшествие с этой Натальей,
на прошлой неделе,— помнишь? Да, князь, это про ту
334
самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою
вы так восхищаетесь. О милейший мой князь! Кля-
нусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это,
единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать
вам в живом образчике, так сказать, в оптическое
стекло, чтд здесь за люди! Две недели назад при-
езжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали
кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню,
сколько у меня осталось сахару в серебряной сахар-
нице: она была совершенно полна. Возвращаюсь,
смотрю: лежат на донышке только три кусочка. Кроме
Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось.
Какова! У ней свой каменный дом и денег бес-
счетно! Этот случай смешной, комический, но судите
после этого о благородстве здешнего общества!
— Не-у-же-ли! — воскликнул князь, искренно удив-
ляясь.— Какая, однакоже, неестественная жадность!
Неужели ж она все одна съела?
— Так вот какая она бесподобнейшая женщина,
князь! как вам нравится этот позорный случай? Да я бы,
кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы реши-
лась на такой отвратительный поступок!
— Ну да, да... Только, знаете, она все-таки такая
belle femme...1
— Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да
это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы ска-
зали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкуса...
— Ну да, кадушка... только, знаете, она так сло-
жена... Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она
тоже... сложена...
— Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей
всего четырнадцать лет!
— Ну да... только, знаете, такая ловкая, и у ней то-
же... такие формы... формируются. Ми-лень-кая такая!
и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже... формируется...
— Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто
берут.
— Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки
вымыла... А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая...
1 пышная женщина (франц.).
335
Говоря это, князь с какою-то возрастающею жад-
ностью рассматривал Зину в лорнет.
— Mais quelle charmante personnel 1 — бормотал он
вполголоса, тая от наслаждения.
_____ Зина, сыграй нам что-нибудь или нет, лучше
спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, вир-
туозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали,
князь,— продолжала Марья Александровна вполго-
лоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою,
плавною поступью, от которой чуть не покоробило бед-
ного старичка,— если б вы знали, какая она дочь! Как
она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства,
какое сердце!
— Ну да... чувства... и, знаете ли, я только одну
женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла
бы сравниться по кра-со-те,— перебил князь, глотая
слюнки.— Это покойная графиня Наинская, умерла
лет тридцать тому назад. Вос-хи-ти-тельная была жен-
щина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего по-
вара вышла...
— За своего повара, князь!
— Ну да, за своего повара... за француза, за
границей. Она ему за гра-ни-цей графский титул
доставила. Видный был собой человек и чрезвы-
чайно образованный, с маленькими такими у-си-
ка-ми.
— И... и... как же они жили, князь?
— Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро по-
том разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то
соус поссорились...
— Маменька, что мне играть? — спросила Зина.
— Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет,
князь! Вы любите музыку?
— О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-
зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.
— С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком
с Бетховеном! — кричит в восторге Марья Александ-
ровна.— Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бет-
ховеном?
1 Но какое очаровательное существо! (франц.)
336
— Ну да... мы были с ним на дру-жес-кой но-ге.
И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!
— Бетховен?
— Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не
Бет-хо-вен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень
много нем-цев... Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.
— Что же мне петь, маменька? — спросила Зина.
— Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь,
много рыцарского, где еще эта владетельница замка и
ее трубадур... Ах, князь! Как я люблю все это
рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая
жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры... Я буду
аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь,
поближе! Ах, эти замки, замки!
— Ну да... замки. Я тоже люблю зам-ки,— бормочет
князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим
глазом.— Но... боже мой! — восклицает он,— это ро-
манс!.. Но... я знаю этот ро-манс! Я давно уже слышал
этот романс... Это так мне на-по-ми-нает... Ах, боже мой!
Я не берусь описывать, что сделалось с князем,
когда запела Зина. Пела она старинный французский
романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела
его прекрасно. Ее чистый, звучный контральто проникал
до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точе-
ные дивные пальчики, которыми она переворачивала
ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волную-
щаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благо-
родная,— все это околдовало бедного старичка оконча-
тельно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он
захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подо-
гретое шампанским, музыкой и воскреснувшими вос-
поминаниями (а у кого нет любимых воспомина-
ний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось
оно... Он готов был опуститься на колени перед Зиной и
почти плакал, когда она кончила.
— О ma charmante enfant! 1 — вскричал он, целуя
ее пальчики.— Vous те ravissez!2 Я теперь, теперь
только вспомнил... Но... но., о ma charmante enfant...
1 мое очаровательное дитя! (франц.)
2 Вы меня восхищаете! (франц.)
22 Ф. М. Достоевский, т. 2
337
И князь даже не мог докончить.
Марья Александровна почувствовала, что насту-
пила ее минута.
_____ Зачем же вы губите себя, князь? — воскликнула
она торжественно.— Столько чувства, столько жизнен-
ной силы, столько богатств душевных, и зарыться на
всю жизнь в уединение! убежать от людей, от друзей!
Но это непростительно! Одумайтесь, князь! взгляните
на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из
сердца своего воспоминания прошедшего — воспоми-
нания золотой вашей молодости, золотых, беззаботных
дней, воскресите их, воскресите себя! Начните опять
жить в обществе меж людей! Поезжайте за границу, в
Италию, в Испанию — в Испанию, князь!.. Вам нужно
руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас,
вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их,
кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу
все и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу,
князь; я брошу мужа и пойду за вами... и даже, если б
я была еще моложе, если б я была так же хороша и
прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей,
подругой, женой вашей, если б вы того захотели!
— Ия уверен, что вы были une charmante personne
в свое вре-мя,— проговорил князь, сморкаясь в платок.
Глаза его были омочены слезами.
— Мы живем в наших детях, князь,—с высоким чув-
ством отвечала Марья Александровна.— У меня тоже
есть свой ангел-хранитель! И это она, моя дочь, подруга
моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже
семь предложений, не желая расставаться со мною.
— Стало быть, она с вами поедет, когда вы бу-дете
со-про-вож-дать меня за гра-ницу? В таком случае я не-
пременно поеду за границу,— вскричал князь одушев-
ляясь.—Неп-ре-менно поеду! И если б я мог льстить
себе на-деж-дою... Но она очаровательное, очарова-
тельное дитя! О ma charmante enfant!..— И князь снова
начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать
перед ней на колени.
— Но... но, князь, вы говорите: можете ли льстить
себя надеждою? — подхватила Марья Александровна,
почувствовав новый прилив красноречия.— Но вы
338
странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недо-
стойным внимания женщин? Не молодость составляет
красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок ари-
стократии! вы представитель самых утонченных, самых
рыцарских чувств и... манер! Разве Мария не полюбила
старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот
очаровательный маркиз двора Людовика»... я забыла ко-
торого,— уже в преклонных летах, уже старик, победил
сердце одной из первейших придворных красавиц!..
И кто сказал вам, что еы старик? Кто научил вас
этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким бо-
гатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жиз-
ненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-ни-
будь теперь, за границей, на водах, с молодою же-
ной, с такой же красавицей, как, например, моя
Зина,— я не об ней говорю, я говорю только так, для
сравнения,— и вы увидите, какой колоссальный будет
эффект! Вы — обломок аристократии, она — красавица
из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку;
она поет в блестящем обществе, вы, с своей стороны,
сыплете остроумием,— да все воды сбегутся смотреть на
вас! Вся Европа закричит, потому что все газеты, все
фельетоны па водах заговорят в один голос... Князь,
князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя наде-
ждою?
— Фельетоны... ну да, ну да!.. Это в газетах...— бор-
мочет князь, вполовину не понимая болтовню Марьи
Александровны и раскисая все более и более.— Но...
дн-тя мое, если вы не ус-тали,— повторите еще раз тот
романс, который вы сейчас пели!
— Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще
лучше... Помните, князь, L’hirondelle? 1 Вы, вероятно,
слышали?
— Да, помню... или, лучше сказать, я за-был.
Нет, нет, прежний ро-манс, тот самый, который она
сейчас пе-ла! Я не хочу L’hirondelle! Я хочу тот ро-
манс...— говорил князь, умоляя, как ребенок.
Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и
опустился перед ней на колена. Он плакал.
1 Ласточка (франц.).
22*
339
— О ma belle chatelaine! 1 — восклицал он своим
дребезжащим от старости и волнения голосом.— О та
charmante chatelaine!2 О милое дитя мое! вы мне так
много на-пом-нили... из того, что давно прошло...
Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом
было. Я тогда пел дуэты... с виконтессой... этот самый
романс.?, а теперь... Я не знаю, что уже те-перь...
Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебы-
ваясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов
почти совсем нельзя было разобрать. Видно было
только, что он в сильнейшей степени расчувствовался.
Марья Александровна немедленно подлила масла в
огонь.
— Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою
Зину! — вскричала она, почувствовав, что минута была
торжественная.
Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.
— Я до безумия влюблен в нее! — вскричал стари-
чок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленах
и весь дрожа от волнения.— Я ей жизнь готов отдать!
И если б я только мог на-де-яться... Но подымите меня,
я не-мно-го ос-лаб... Я... если б только мог надеяться
предложить ей мое сердце, то... я... она бы мне каждый
день пела ро-ман-сы, а я бы все смотрел на нее... все
смотрел... Ах, боже мой!
— Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы
хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего
ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут
ее из рук моих, из рук матери! — Марья Александровна
бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя
чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали... Ма-
менька немного пересаливала. Зина чувствовала это
всем существом своим и с невыразимым отвращением
смотрела на всю комедию. Однакож она молчала, а
это — все, что было надо Марье Александровне.
— Она девять раз отказывала, чтоб только не разлу-
чаться с своею матерью! — кричала она.— Но теперь —
мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заме-
1 моя прекрасная владычица! (франц.)
2 моя очаровательная владычица! (франц.)
340
тила, что она так смотрела на вас... Вы поразили ее
своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!..
О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..
— Я о-бо-жаю ее! — пробормотал князь, все еще
дрожа, как осиновый листик.
— Итак, ты оставляешь мать свою! — воскликнула
Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею
дочери.
Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча
протянула князю свою прекрасную руку и даже заста-
вила себя улыбнуться. Князь, с благоговением принял
эту ручку и. покрыл ее поцелуями.
— Я только теперь на-чи-наю жить,— бормотал он,
захлебываясь от восторга.
— Зина! — торжественно проговорила Марья Алек-
сандровна,— взгляни на этого человека! Это самый
честнейший, самый благороднейший человек из всех,
которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это
знает, князь; она знает, на горе моему сердцу... О! за-
чем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего
ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и, какая
мать осудит меня за мою горесть!
— Маменька, довольно! — прошептала Зина.
— Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага
блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который
осмелится обидеть мою Зину?
— Довольно, маменька, или я...
— Ну да, блеснет...— бормотал князь.— Я только
теперь начинаю жить... Я хочу, чтоб сейчас же, сию ми-
нуту была свадьба... я... Я хочу послать сейчас же в
Ду-ха-но-во. Там у меня брил-ли-анты. Я хочу поло-
жить их к ее ногам...
— Какой пыл! какой восторг! какое благородство
чувств! — воскликнула Марья Александровна.— И вы
могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света?
Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда
вспомню об этой адской...
— Что ж мне де-лать, я так бо-ялся! — бормотал
князь, хныча и расчувствовавшись.— Они меня в су-
мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли... Я и испугался.
— В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные
341
люди! О низкое коварство! Князь, я это слышала! Но
это сумасшествие со стороны этих людей! Но за что же,
за что?!
_____ А я и сам не знаю за что! — отвечал старичок, от
слабости садясь на кресло.— Я, знаете, на ба-ле был
и какой-то анекдот рас-сказал, а им не понра-ви-лось.
Ну и вышла история!
— Неужели только за это, князь?
— Нет. Я еще по-том в карты иг-рал, с князем Пет-
ром Демен-тьи-чем, и без шести ос-тал-ся. У меня было
два ко-ро-ля и три дамы... или, лучше сказать, три дамы
и два ко-ро-ля... Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были
и да-мы...
— И за это? за это! о адское бесчеловечие! вы пла-
чете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду
подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и по-
смотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже
знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их!
Они увидят, что вы еще способны... то есть они поймут,
что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица!
Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете
смотреть им прямо в лицо...
— Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо,— про-
бормотал князь, закрывая глаза.
«Однако он совсем раскис,— подумала Марья
Александровна.— Только слова терять!»
— Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непре-
менно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения,—
сказала она, матерински нагибаясь к нему.
— Ну да, я бы хотел иемно-го по-ле-жать,— ска-
зал он.
— Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения... По-
стойте, я сама провожу вас... Я уложу вас сама, если
надо.— Что вы так смотрите на этот портрет, князь?
Это портрет моей матери — этого ангела, а не жен-
щины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была
праведница! князь, праведница! иначе я не назы-
ваю ее!
— Пра-вед-ни-ца? c’est joli...1 У меня тоже была
1 это хорошо (франц.).
342
мать... princesse... и — вообразите — н;э-бык-новен-но
полная была жен-щина... Впрочем, я не то хотел ска-
зать... Я не-мно-го ослаб. Adieu, ma charmante enfant!..
Я с нас-лажде-нием... я сегодня... завтра... Ну, да
все рав-но! au revoir, аи revoir! — тут он хотел сде-
лать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на по-
роге.
— Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку,—
кричала Марья Александровна.
— Charmant! charmant! — бормотал он, уходя.—
Я теперь только на-чи-наю жить...
Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила
ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она
готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжа-
тыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она,
не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз
ее... В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбе-
жал в комнату.
Глава IX
Он слышал все, все!
Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от
волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумле-
нием.
— Так-то вы! — вскричал он задыхаясь.— На-
конец-то я узнал, кто вы такая!
— Кто я такая! — повторила Зина, смотря на него,
как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблистали
гневом.
— Как смели вы так говорить со мной! — вскричала
она, подступая к нему.
— Я слышал все! — повторил Мозгляков торжест-
венно, но как-то невольно отступил шаг назад.
— Вы слышали? вы подслушивали? — сказала
Зина, с презрением смотря на него.
— Да! я подслушивал! да, я решился на подлость,
но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как
и выразиться, чтоб сказать вам... какая вы теперь вы-
ходите! — отвечал он, все более и более робея перед
взглядом Зины.
343
— А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обви-
нить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Ка-
кое право вы имеете так дерзко говорить со мной?
_____ Я? Я какое имею право? И вы можете это спра-
шивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого
права!., да вы мне слово дали, вот что!
— Когда?
— Как когда?
— Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко
мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ни-
чего положительного.
— Однакоже вы не прогнали меня, вы не отказали
мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас!
значит, вы завлекали меня.
В лице раздраженной Зины показалось болезнен-
ное ощущение, как будто от острой, пронзительной
внутренней боли; но она перемогла свое чувство.
— Если я вас не прогоняла,— отвечала она ясно и
с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва замет-
ное дрожание,— то единственно из жалости. Вы сами
умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но
разглядеть вас поближе, и «тогда,— сказали вы,—
тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный,
может быть, вы мне не откажете». Это были ваши соб-
ственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не
можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне
теперь, что я .завлекала вас. Но вы сами видели мое
отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя
неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение
я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила.
Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали
меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали?
Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и не
хотят скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились
выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу
вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не ода-
рен умом, очень большим, то все-таки может быть че-
ловеком добрым, и потому можно выйти за него». Но
теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще
вдобавок злой дурак,— мне остается только пожелать
вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!
344
Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно
пошла из комнаты.
Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел
от ярости.
— А! так я дурак,— кричал он,— так я теперь уж
дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему
городу расскажу, как вы с маменькой облапошили
князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете
Мозглякова.
Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но,
подумав с минуту, только презрительно пожала пле-
чами и захлопнула за собою дверь.
В это мгновение на пороге показалась Марья Алек-
сандровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в
одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от
испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около
князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя
бы на самое малое время, была необходима! У Марьи
Александровны были свои расчеты. Она мигом сообра-
зила все обстоятельства, и план усмирения Мозгля-
кова был уже создан.
— Что с вами, mon ami? — сказала она, подходя
к нему и дружески протягивая ему свою руку.
— Как: топ ami! — вскричал он в бешенстве,—
после того, что вы натворили, да еще: топ ami. Мор-
ген-фри, милостивая государыня! И вы думаете, что
обманете меня еще раз?
— Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком
странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие
выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед
дамой.
— Перед дамой! Вы... вы все, что хотите, а не
дама! — вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно
хотелось ему выразить своим восклицанием, но, ве-
роятно, что-нибудь очень громовое.
Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.
— Сядьте! — грустно проговорила она, показывая
ему на кресла, в которых четверть часа тому покоился
князь.
— Но послушайте, наконец, Марья Александров-
на! — вскричал озадаченный Мозгляков.— Вы смотрите
345
на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто
я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой
тон!., ведь это, наконец, превышает меру человеческого
терпения... знаете ли вы это?
_____ Друг мой! — отвечала Марья Александровна,—
вы позволите мне все еще называть вас этим именем, по-
тому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой!
вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое серд-
це — и потому не удивительно, что вы говорите со мной
в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все, все мое
сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько
виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.
Голос Марьи Александровны был болезненно мяг-
кий.
В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгля-
ков сел подле нее в кресла.
— Вы подслушивали?.— продолжала она, укориз-
ненно глядя ему в лицо.
— Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать;
вот бы олух-то был! По крайней мере узнал все, что вы
против меня затеваете,— грубо отвечал Мозгляков,
ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.
— И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими пра-
вилами, могли решиться на такой поступок? О боже
мой!
Мозгляков даже вскочил со стула.
— Но, Марья Александровна! — вскричал он,— это,
наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то
решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте
других!
— Еще вопрос,— сказала она, не отвечая на его
вопросы,— кто вас надоумил подслушивать, кто рас-
сказал, кто тут шпионил? — вот что я хочу знать.
— Ну уж извините,— этого не скажу-с.
4— Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я
перед вами виновата. Но если вы разберете все, все
обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то
единственно тем, что вам же желала возможно больше
добра.
— Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что
больше не надуете! Не таков мальчик!
346
И он повернулся в креслах так, что они затрещали.
— Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее,
если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами
во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно
вам объяснить все, все, и вы узнали бы от меня все дело,
до малейшей подробности, не унижаясь подслушива-
нием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча,
то единственно потому, что все дело еще было в
проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами
вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою.
Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных
усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предло-
жение князя.
— Я сейчас имел удовольствие слышать самое пол-
ное доказательство этой любви до безумия,— ирони-
чески проговорил Мозгляков.
— Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен
говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, чело-
век хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.
— Ну, не до тону теперь, Марья Александровна!
А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины,
я поехал с князем, а вы меня ну честить! Вы чернили
меня,— вот что я вам говорю-с! Я это все знаю, все!
— И, верно, из того же грязного источника? — за-
метила Марья Александровна, презрительно улы-
баясь.— Да, Павел Александрович, я чернила вас, я
наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж
одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею,
может быть, даже клеветать на вас,— уж одно это до-
казывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее
согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б
она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить,
представлять вас в смешном, недостойном виде, при-
бегать к таким крайним средствам? Да вы еще не
знаете всего! Я должна была употребить власть матери,
чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных
усилий, достигла только наружного согласия. Если вы
теперь нас подслушивали, то должны же были заме-
тить, что она ни одним словом, ни одним жестом не
поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она
почти не сказала ни слова; пела, как автомат. Вся ее
347
душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела, нако-
нец, отсюда князя. Я уверена, что она плакала, остав-
шись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее
слезы...
Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в
комнату, он заметил Зину в слезах.
— Но вы, вы, за что вы-то были против меня,
Марья Александровна? — вскричал он.— За что вы
чернили меня, клеветали на меня, в чем сами при-
знаетесь теперь?
— А, это другое дело! Вот если б вы сначала бла-
горазумно спрашивали, то давно бы получили ответ.
Да, вы правы! Все это сделала я, и я одна. Зину не
мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-пер-
вых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и,
выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Нако-
нец, если он и умрет,— может быть, даже скоро, по-
тому что мы все более или менее смертны, тогда Зина —
молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может
быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за
кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но,
разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того,
кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за
князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить
свой проступок перед тем, кого прежде любила.
— Гм! — промычал Мозгляков, задумчиво смотря
на свои сапоги.
— Во-вторых,— и об этом я упомяну только
вкратце,— продолжала Марья Александровна,— по-
тому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы
читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои вы-
сокие чувства, а на деле вы хоть и очень добры, но еще
слишком молоды,— а я мать, Павел Александрович!
Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для са-
мого князя, потому что хочу спасти его этим браком.
Я любила и прежде этого благородного, этого добрей-
шего, этого рыцарски честного старика. Мы были
друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины.
Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила
Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею
всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлек-
348
лась благородством чувств, обаянием подвига. В ней са-
мой есть что-то рыцарское. Я представила ей, как дело
высокохристианское, быть опорой, утешением, другом,
дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть,
остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не
страх, не уныние окружали бы его в последние дни его
жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы
ему эти последние закатные дни! Где же тут эгоизм,—
скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры мило-
сердия, а не эгоизм!
— Так вы... так вы сделали это только для князя,
для подвига сестры милосердия? — промычал Мозгля-
ков насмешливым голосом.
— Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович;
он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут
иезуитски сплетена выгода князя с собственными выго-
дами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти
расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что
вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об
одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте
в это дело Зину! Она чиста, как голубь: она не рассчи-
тывает; она только умеет любить,— милое дитя
мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но,
во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто
не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае?
Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушней-
ших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчиты-
ваем неприметно, невольно! Конечно, почти все себя же
обманывают, уверяя себя самих, что действуют из
одного благородства. Я не хочу себя обманывать: я со-
знаюсь, что, при всем благородстве моих целей, я рас-
считывала. Но спросите, для себя ли я рассчитываю?
Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я от-
жила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ан-
гела, для моего дитяти, и — какая мать может обви-
нить меня в этом случае?
Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны.
Павел Александрович в изумлении слушал эту откро-
венную исповедь и в недоумении хлопал глазами.
— Ну да, какая мать...— проговорил он, наконец.—
Вы хорошо поете, Марья Александровна, но... но
349
ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня...
Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете,
с каким носом?
_____ Но неужели вы полагаете, что я об вас не поду-
мала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах
была" для вас такая огромная выгода, что она-то и
понудила меня главным образом исполнить все это
предприятие.
— Моя выгода! — вскричал Мозгляков, на этот раз
совершенно ошеломленный.— Это как?
' — Боже мой! Неужели же можно быть до такой
степени простым и недальновидным! — вскричала
Марья Александровна, возводя глаза к небу.— О моло-
дость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого
Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем,— живя
чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете,
добрый мой Павел Александрович, в чем тут заклю-
чается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сде-
лать одно отступление: Зина вас любит,— это несо-
мненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную
любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам,
к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям.
Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удержи-
вает себя и холодна с вами — плод раздумья и недо-
верчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел
Александрович?
— За-ме-чал; и даже сегодня... Однако что же вы
хотите сказать, Марья Александровна?
— Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть,
я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная
недоверчивость к постоянству ваших добрых наклон-
ностей. Я мать — и мне ли не угадать сердца моего
дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того, чтоб
вбежать в комнату с упреками и даже с ругатель-
ствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую,
прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в по-
дозрениях насчет ваших дурных наклонностей,—
вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со
слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и
с возвышенным благородством души...
— Гм!..
350
— Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович.
Я хочу изобразить вам всю картину, которая пора-
зит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли
к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни
моей, но фамильные причины разлучают нас. Я пони-
маю эти причины. Они для твоего же счастия, и я уже
не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю
тебя. Будь счастлива, если можешь!» И тут бы вы
устремили на нее взор, взор закалаемого агнца, если
можно так выразиться,— вообразите все это и поду-
майте, какой эффект произвели бы эти слова на ее
сердце!
— Да, Марья Александровна, положим, все это
так; я это все понимаю... но что же,— я-то бы сказал,
а все-таки ушел бы без ничего...
— Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня!
Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми
последствиями, чтобы благородно поразить вас.
Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез
несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь
где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при
упоительной музыке, среди великолепнейших женщин,
и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный,
задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну
(но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала.
Она танцует. Около вас льются упоительные звуки
Штрауса, сыплется остроумие высшего общества —
а вы один, бледный и убитый вашею страстию! Что
тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами
будет она глядеть на вас? «И я,— подумает она,— я со-
мневалась в этом человеке, который мне пожертво-
вал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!»
Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с не-
удержимою силою!
Марья Александровна остановилась перевести дух.
Мозгляков, повернулся в креслах с такою силою, что
они еще. раз затрещали. Марья Александровна про-
должала.
— Для здоровья князя Зина едет за границу, в Ита-
лию, в Испанию,—.в Испанию, где мирты, лимоны, где
голубое небо, где Гвадалквивир,— где страна любви,
351
где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так
сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней;
вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается
ваша любовь с неудержимою силой; люоовь, молодость,
Испания,— боже мой! Разумеется, ваша любовь непо-
рочная, святая; но вы, наконец, томитесь, смотря друг
на друга. Вы меня понимаете, mon ami! Конечно,
найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые бу-
дут утверждать, что вовсе не родственное чувство к
страждущему старику повлекло вас за границу. Я на-
рочно назвала вашу любовь непорочною, потому что
эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значе-
ние. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас
дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смо-
треть за вами обоими, но — что до этого! Можно ли на
этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он
умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж
выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний род-
ственник князю, что препятствий к браку не может
быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знат-
ную,— и в какое же время? — когда браком с ней
могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Чрез нее
вы становитесь свой в самом высшем кругу общества;
через нее вы получаете вдруг значительное место, вхо-
дите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы
богаты; князь устроит все в своем завещании; я берусь
за это. И, наконец, главное, она уже вполне уверена
в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг
становитесь для нее героем добродетели и самоотверже-
ния!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша
выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не
замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту
выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смот-
рит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя
выгода!» Павел Александрович, помилуйте!
— Марья Александровна! — вскричал Мозгляков
в необыкновенном волнении,— теперь я все понял!
я поступил грубо, низко и подло!
Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.
— И не расчетливо,— прибавила Марья Александ-
ровна,— главное: не расчетливо!
352
— Я осел, Марья Александровна! — вскричал он
почти в отчаянии.— Теперь все погибло, потому что я
до безумия люблю ее!
— Может быть, и не все погибло,— проговорила
госпожа Москалева тихо, как будто что-то обду-
мывая.
— О, если б это было возможно! Помогите! научите!
спасите!
И Мозгляков заплакал.
— Друг мой! — с состраданием сказала Марья
Александровна, подавая ему руку,— вы это сделали от
излишней горячки, от кипения страсти, стало быть от
любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили
себя! ведь должна же она понять все это...
— Я до безумия люблю ее и всем готов для нее
пожертвовать! — кричал Мозгляков.
— Послушайте, я оправдаю вас перед нею...
— Марья Александровна!
— Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете
ей все, все, как я вам сейчас говорила!
— О боже! как вы добры, Марья Александровна!..
Но... нельзя ли это сделать сейчас!
— Оборони бог! О, как вы неопытны, друг мой!
Она такая гордая! Она примет это за новую грубость,
за нахальность! Завтра же я устрою все, а теперь —
уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу... пожалуй,
приходите вечером; но я бы вам не советовала!
— Уйду, уйду! боже мой! вы меня воскрешаете!
но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро
умрет?
— Ах, боже мой, как вы наивны, mon cher Paul.
Напротив, нам надобно молить бога о его здоровье.
Надобно всем сердцем желать долгих дней этому
милому, этому доброму, этому рыцарски честному ста-
ричку! Я первая со слезами и день и ночь буду мо-
литься за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здо-
ровье князя ненадежно! К тому же придется теперь
посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох
боюсь, чтоб это окончательно не довершило его! Но —
будем молиться, cher Paul, а остальное — в руце божи-
ей!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надей-
23 М. Достоевский, т. 2 353
тесь, терпите, мужайтесь, главное — мужайтесь! Я ни-
когда не сомневалась в благородстве чувств ваших...
Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цы-
почках вышел из комнаты.
— Ну, проводила одного дурака! — сказала она
с торжеством.— Остались другие...
Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее
обыкновенного. Глаза ее сверкали.
— Маменька! — сказала она,— кончайте скорее,
или я не вынесу! Все это до того грязно и подло, что
я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раз-
дражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня
тошнит от всей этой грязи!
— Зина! что с тобою, мой ангел? Ты... ты подслу-
шивала! — вскричала Марья Александровна, при-
стально и с беспокойством вглядываясь в Зину.
— Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить
меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что
если вы еще будете меня так мучить и назначать мне
разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу
все и покончу все разом. Довольно уже того, что я ре-
шилась на главную низость! Но... я не знала себя!
Я задохнусь от этого смрада!..— И она вышла, хлопнув
дверями.
Марья Александровна пристально посмотрела ей
вслед и задумалась.
— Спешить, спешить! — вскричала она встрепенув-
шись.— В ней главная беда, главная опасность, и если
все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по
городу,— что уж, верно, и сделано,— то все пропало!
Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется.
Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя
в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана
и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, на-
конец, пригодиться! А там тот выспится — и отпра-
вимся! — она позвонила.
— Что ж лошади? — спросила она вошедшего че-
ловека.
— Давно готовы-с,— отвечал лакей.
Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья ’
Александровна уводила наверх князя.
354
Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб
сообщить ей, в главных чертах, свое решение и неко-
торые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она
лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась
слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими
белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка
вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение про-
ходил по всем ее членам. Марья Александровна начала
было говорить, но Зина не подняла даже и головы.
Постояв над ней некоторое время, Марья Александ-
ровна вышла в смущении и, чтоб вознаградить себя
с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть
мочи.
«Скверно то, что Зина подслушивала!—думала
она, сидя в карете.— Я уговорила Мозглякова почти
теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть,
оскорбилась... Гм! Но главное, главное успеть все
обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на
грех моего дурака нету дома!..»
И при одной этой мысли ею овладело бешенство,
не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Ма-
твеичу; она ворочалась на своем месте от нетерпения.
Лошади мчали ее во всю прыть.
Глава X
Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи
Александровны еще утром, в то время когда она го-
нялась за князем по городу, блеснула гениальная
мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем
месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была:
в свою очередь конфисковать князя и как можно скорее
увезти его в подгородную деревню, где безмятежно
процветал блаженный Афанасий Матвеич. Не скроем,
что на Марью Александровну все более и более нахо-
дило какое-то необъяснимое беспокойство. Это быв.ает
даже с настоящими героями, именно в то время, когда
они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывает
ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в
деревне,— рассуждала она,— так тут хоть весь город
23* 355
вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было
терять времени. Все могло случиться, все, решительно
все, хотя мы, конечно, не верим слухам, распростра-
ненным впоследствии про мою героиню ее злоумышлен-
никами, что она в эту минуту боялась даже полиции.
Одним словом, она видела, что надо как можно скорее
обвенчать Зину с князем. Средства же были под ру-
ками. Обвенчать мог на дому и деревенский священ-
ник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом
крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же
свадьбы, которые в два часа обделывались! Князю
представить эту поспешность, это отсутствие всяких
праздников, сговоров, девичников за необходимое
comme il faut; внушить ему, что это будет приличнее,
грандиознее. Наконец, можно было все выставить как
романическое приключение и затронуть таким образом
самую чувствительную струну в сердце князя. В край-
нем случае можно даже и напоить его или, еще лучше,
держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни
случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не
обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петер-
бурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут
было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди;
а во-вторых, Марья Александровна верила, что в выс-
шем обществе почти никогда не обходится без скан-
далу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне,
хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, дол-
жны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные,
что-нибудь вроде 1Монте-Кристо или «Memoires du
Diable» L Что, наконец, стоило только показаться
в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее,
то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены
и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоя-
нии будет выдержать той мордасовской головомойки,
которую способна задать им одна Марья Александ-
ровна, всем вместе или по одиночке. Вследствие всех
этих соображений Марья Александровна и летела
теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в ко-
тором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая
1 «Мемуары дьявола» (франц.).
356
надобность. Действительно: везти князя в деревню
значило везти его к Афанасию Матвеичу, с которым
князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если
же Афанасий Матвеич произнесет приглашение, тогда
дело принимало совсем другой вид. К тому же явле-
ние пожилого и сановитого отца семейства, в белом
галстуке и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего
нарочно из дальних стран по первому слуху о князе,
могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло
даже польстить самолюбию князя. От такого настой-
чивого и парадного приглашения трудно и отказаться,
думала Марья Александровна. Наконец, карета проле-
тела три версты, и кучер Сафрон осадил своих коней
у подъезда длинного, одноэтажного, деревянного строе-
ния, довольно ветхого и почерневшего от времени,
с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон
старыми липами. Это был деревенский дом и летняя
резиденция Марьи Александровны. В доме уже го-
рели огни.
— Где болван? — закричала Марья Александровна,
как ураган врываясь в комнаты.— Зачем тут это поло-
тенце? А! он утирался! Опять был в бане? и вечно-то
хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпе-
тый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены?
Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина,
как я тебе на прошлой неделе приказывала?
Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась
поздороваться с Афанасием Матвеичем гораздо мягче,
но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает
чай, она не могла удержаться от самого горького него-
дования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее сто-
роны и столько самого блаженного квиетизма со сто-
роны ни к чему не нужного и не способного к делу Афа-
насия Матвеича; такой контраст немедленно ужалил ее
в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать
учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за са-
моваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и вы-
пуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменив-
шую его своим появлением. Из передней выставилась
заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего
глазами на всю эту сцену.
357
— Да не даются, оттого и не стриг,— проговорил он
ворчливыхм и осиплым голосом.— Десять раз с ножни-
цами подходил,— вот, говорю, барыня ужотка при-
едет,— нам обоим достанется, тогда чего станем делать?
Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне
надо, чтоб волосы длинные были.
— Как? так он завивается! так ты еще выдумал без
меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это
к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспо-
рядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем
это здесь пахнет? — кричала супруга, накидываясь все
более и более на невинного и совершенно уже ошалев-
шего Афаиасья Матвеича.
— Ма-матушка! — пробормотал запуганный супруг,
не вставая с места и смотря умоляющими глазами на
свою повелительницу,— ма-ма-матушка!..
— Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову,
что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка,
пигмей ты эдакой! Как смеешь ты давать такое назва-
ние благородной даме, которой место в высшем обще-
стве, а не подле такого осла, как ты!
— Да... да ведь ты, Марья Александровна, все же
законная жена моя, так вот я и говорю... по-супруже-
ски...— возразил было Афанасий Матвеич и в ту же
минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить
свои волосы.
— Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли
что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да
какие теперь законные жены? Употребит ли теперь
хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это
семинарское, это отвратительно-низкое слово • «закон-
ная»? и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя
жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми си-
лами, всеми средствами моей души? Что руками-то го-
лову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы?
совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как
теперь везти его? Как теперь людям показать? Что те-
перь делать?
И Марья Александровна ломала свои руки от бе-
шенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, ко-
нечно, была небольшая и исправимая; но дело в том,
358
что Марья Александровна не могла совладать со все-
побеждающим и властолюбивым своим духом. Она на-
ходила потребность в беспрерывном излиянии своего
гнева на Афанасья Матвеича, потому что тирания есть
привычка, обращающаяся в потребность. Да и, нако-
нец, всем известно, к какому контрасту способны неко-
торые утонченные дамы известного общества, у себя за
кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот конт-
раст. Афанасий Матвеич с трепетом следил за эволю-
циями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.
— Гришка! — вскричала, наконец, она,— тотчас же
барину одеваться! фрак, брюки, белый галстук, жи-
лет,— живее! Да где его головная щетка, где щетка?
— Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу,
если в город ехать...
— Не простудишься!
— Да вот и волосы мокрые...
— А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери го-
ловную щетку, три его досуха; крепче! крепче! крепче!
вот так! вот так!
Под эту команду усердный и преданный Гришка что
есть силы начал оттирать волосы своего барина, для
большего удобства схватив его плечо и несколько при-
нагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть
не плакал.
— Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где по-
мада? Нагнись, нагнись, негодяй, нагнись, дармоед!
И Марья Александровна собственноручно принялась
помадить своего супруга, безжалостно теребя его гу-
стые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не
остриг. Афанасий Матвеич кряхтел, вздыхал, но не
вскрикнул и с покорностию выдержал всю операцию.
— Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! — про-
говорила Марья Александровна.— Да нагнись еще
больше, нагнись!
— Чем же я, матушка, высосал твои соки? — про-
мямлил супруг, нагибая как только мог более голову.
— Болван! аллегории не понимает! Теперь приче-
шись; а ты. одевай его, да живее!
Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски
наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Мат-
359
веича. Между тем он успел несколько отдохнуть и со-
браться с духом, и когда дело дошло до повязки белого
галстука, то даже осмелился изъявить какое-то собст-
венное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец,
надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и
начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым ува-
жением.
— Куда ж это ты везешь меня, Марья Александ-
ровна? — проговорил он охорашиваясь.
Марья Александровна не поверила было ушам
своим.
— Слышите! ах ты, чучело! Да как ты смеешь спра-
шивать меня, куда я везу тебя!
— Матушка, да ведь надо же знать...
— Молчать! Вот только назови еще раз меня ма-
тушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц
просидишь без чаю.
Испуганный супруг умолк.
— Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чу-
мичка ты эдакая,— продолжала она, с презрением
смотря на черный фрак Афанасия Матвеича.
Афанасий Матвеич, наконец, обиделся.
— Кресты, матушка, начальство дает, а я советник,
а не чумичка,— проговорил он в благородном негодо-
вании.
— Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился!
ах ты, мужик ты эдакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, не-
когда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да
потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай
ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты при-
брать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать.
Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов
тоже, да чтоб через час все было готово. Да сам надень
фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слы-
шишь?
Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и
удивлялся. Между тем Марья Александровна думала
про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга
некоторые наставления, необходимые в теперешнем его
положении. Но супруг предупредил ее.
— А я вот, Марья Александровна, сегодня сон пре?
360
оригинальный видел,— возвестил он совсем неожи-
данно, посреди обоюдного молчания.
— Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и бог
знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне
с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь
ли еще, • что такое оригинальный? Слушай, говорю
в последний раз, если ты у меня сегодня осме-
лишься только слово упомянуть про сон или про
что-нибудь другое, то я,— я уж и не знаю, что с тобой
сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К.
Помнишь князя К.?
— Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожа-
ловал?
— Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною лю-
безностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в
деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и
уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово
сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или
когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти!
Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обя-
занность, понимаешь?
— Ну, а если что-нибудь спросят?
— Все равно молчи.
— Но ведь нельзя же все молчать, Марья Алек-
сандровна.
— В таком случае отвечай односложно, что-нибудь
этакое, например: гм! или что-нибудь такое же, чтоб
показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде,
чем отвечаешь.
— Гм.
— Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты
услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посеще-
ния, прилетел к нему засвидетельствовать свое почте-
ние и просить к себе в деревню; понимаешь?
— Гм.
— Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отве-
чай.
— Хорошо, матушка, все будет по-твоему; только
зачем я приглашать-то буду князя?
— Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело:
зачем? да как ты смеешь об этом спрашивать?
361
•— Да я все к тому, ЛТарья Александровна: как же
приглашать-то его буду, коли ты мне велела мол-
чать?
_____ Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся,
слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи.
Понимаешь?
— Понимаю, мат... Марья Александровна.
— Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь
он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добро-
душной и веселой улыбкой, слышишь?
— Гм.
— Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и
просто отвечай: слышишь иль нет?
— Слышу, Марья Александровна, слышу, как не
услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты ве-
лела. Только я все про то же, матушка; как же это:
если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на
него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?
— Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе:
молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да
улыбайся.
— Да ведь он подумает, что я немой,— проворчал
Афанасий Матвеич.
— Велика важность! пусть думает; зато скроешь,
что ты дурак.
— Гм... Ну, а если другие об чем-нибудь спраши-
вать будут?
— Никто не спросит, никого не будет. А если, на
случай,— чего боже сохрани! — кто и приедет, да если
что тебя спросит, или что-нибудь скажет, то немедленно
отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое
саркастическая улыбка?
— Это остроумная, что ли, матушка?
— Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя,
дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая
улыбка, понимаешь,— насмешливая и презрительная.
— Гм.
«Ох, боюсь я за этого болвана! — шептала про себя
Марья Александровна.— Решительно он поклялся вы-
сосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем
не брать!»
362
Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя,
Марья Александровна беспрерывно выглядывала из
окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади ле-
тели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеич
молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои
уроки. Наконец, карета въехала в город и остановилась
у дома Марьи Александровны. Но .только что успела
наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг уви-
дела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с
верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала
Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы.
Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна,
а другая — Наталья Дмитриевна, с недавнего времени
ее искренний друг и последователь. У Марьи Алек-
сандровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть,
как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, за-
ключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные
восклицания:
— Марья Александровна! и вместе с Афанасием
Матвеичем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам,
на весь вечер! Какой сюрприз!
Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как
ласточки. Марья Александровна не верила глазам и
ушам своим.
«Провалились бы вы! — подумала она про себя.—-
Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но... не вам,
сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»
Глава XI
Мозгляков вышел от Марьи Александровны, пови-
димому, вполне утешенный. Она совершенно воспламе-
нила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду
в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и ро-
манических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечта-
лось торжественное объяснение с Зиной, потом благо-
родные слезы всепрощающего его сердца, бледность и
отчаяние на петербургском блистательном бале, Испа-
ния, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, со-
единяющий их руки перед смертным часом.. Потом
363
красавица жена, ему преданная и постоянно удивляю-
щаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимохо-
дом, под шумок — внимание какой-нибудь графини из
«высшего общества», в которое он непременно попадет
через брак свой с Зиной, вдовой князя К., вице-губер-
наторское место, денежки,— одним словом, все так
красноречиво расписанное * Марьей Александровной,
еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская,
привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но
вот — и не знаю, право, как это объяснить,— когда уже
он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг
пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае*
все это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с
предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль,
он заметил, что забрел куда-то. очень далеко, в какой-то
уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова.
Становилось темно. По улицам, обставленным малень-
кими, враставшими в землю домишками, ожесточенно
лаяли собаки, которые в провинциальных городах раз-
водятся в ужасающем количестве, именно в тех квар-
талах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал па-
дать, мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь
запоздавший мещанин или баба в тулупе и в. сапогах.
Все это, неизвестно почему, начало сердить Павла
Александровича,— признак очень дурной, потому что,
при хорошем обороте дел, все, напротив, кажется нам
в милом и радужном виде. Павел Александрович не-
вольно припоминал, что он до сих пор постоянно за-
давал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех
домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его
с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он
жених. И вдруг он явится теперь перед всеми — в от-
ставке! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех
в самом деле, не рассказывать же о петербургских
балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая,
тоскуя и сетуя, он набрел, наконец, на мысль, которая
уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда
ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья
Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припом-
нил, что Марья Александровна чрезвычайно хитрая
дама, что она, как ни достойна .всеобщего уваже-
364
ния, но все-таки сплетничает и лжет с утра до ве-
чера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к
тому свои особые причины и что, наконец, расписы-
вать— всякий мастер. Думал он и о Зине, припомнился
ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший за-
таенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати,
припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее ду-
рака. При этом воспоминании Павел Александрович
вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез
от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним
случилось неприятное происшествие: он оступился и
слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Пока-
мест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно пре-
следовавшая его своим лаем, налетела на него со всех
сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже
повисла на нем, ухватившись зубами за полу его
шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже
проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разо-
рванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел,
наконец, до угла улицы и тут только заметил, что за-
блудился. Известно, что человек, заблудившийся в
незнакомой части города, особенно ночью, никак не
может идти прямо по улице; его поминутно подталки-
вает какая-то неведомая сила непременно сворачивать
во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Сле-
дуя этой системе, Павел Александрович заблудился
окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие
идеи! —говорил он про себя, плюя от злости.— А чтобы
сам дьявол вас всех побрал, с вашими высокими
чувствами, да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что
Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец,
усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до
подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много
экипажей — он удивился. «Неужели же гости, не-
ужели званый вечер? — подумал он.— С какою же
целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и
узнав, что Марья Александровна была в деревне и при-
везла с собою Афанасия Матвеича, в белом галстуке,
и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз
к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова,
поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был
365
именно.в том расположении духа, когда человек сла-
бого характера в состоянии решиться на какую-нибудь
ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том,
что, может быть, придется всю жизнь в том рас-
каиваться.
Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах,
перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою
головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его
был в руках седого, старинного камердинера и любимца
его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и
почтительно его расчесывал. Что же касается до князя,
то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще
не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-
то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и рас-
кисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая
его.
— Как ваше здоровье, дядюшка? — спросил Мозг-
ляков.
— Как... это ты? — проговорил, наконец, дя-
дюшка.— А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой! —
вскрикнул он, весь оживившись,— ведь я... без па-рика!
— Не беспокойтесь, дядюшка! я... я вам помогу,
если вам угодно.
— А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь го-
ворил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты дол-
жен, не-мед-ленно, дать мне свое честное сло-во, что не
воспользуешься моим секретом и никому не скажешь,
что у меня волосы нак-лад-ные.
— О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня счи-
таете способным на такую низость! — вскричал Мозг-
ляков, желая угодить старику для... дальнейших
целей.
— Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благород-
ный человек, то уж так и быть, я тебя у-див-лю... и от-
крою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой ми-
лый, мои у-сы?
— Превосходные, дядюшка! удивительные! как
могли вы их сохранить так долго?
— Разуверься, мой друг, они нак-лад-ные! — про-
говорил князь, с торжеством смотря на Павла Алек-
сандровича.
366
— Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды?
Признайтесь дядюшка, вы, верно, черните их?
— Черню? Не только не черню, но и они совер-
шенно искусственные!
— Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не
верю. Вы надо мною смеетесь!
— Parole d’honneur, mon ami! 1 — вскричал торже-
ствующий князь,— и предс-тавь себе, все, реши-тельно
все, так же, как и ты, обма-ны-ваются! Даже Степанида
Матвеевна не верит, хотя сама иногда их нак-ла-ды-
вает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою
тайну. Дай мне честное слово...
— Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю
вам: неужели вы меня считаете способным на такую
низость?
— Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня!
Феофил меня опять из кареты вы-валил.
— Вывалил опять! когда же?
— А вот мы уже к мо-нас-тырю подъезжали...
— Знаю, дядюшка, давеча.
— Нет, нет, два часа тому назад, не бо-лее. Я в мо-
настырь поехал, а он меня взял, да и вывалил; так на-
пу-гал,— даже теперь сердце не на месте.
— Но, дядюшка, ведь вы почивали! — с изумлением
проговорил Мозгляков.
— Ну да, почивал... а потом и по-е-хал, впро-
чем, я... впрочем, я это, может быть... ах, как это
странно!
— Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во
сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого после-
обеда.
— Неужели? — И князь задумался.
— Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел
во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сна-
чала мне приснился какой-то престрашный бык с ро-
гами; а потом приснился какой-то про-ку-рор, тоже как
будто с ро-гами...
— Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дя-
дюшка.
1 Честное слово, мой друг! (франц.)
367
— Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона
Бона-парте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят,
что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль
будто я разительно похож на одного старинного папу?
Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?
— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона,
дядюшка.
— Ну да, это en-face. Я, впрочем, и сам то же ду-
маю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на
острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбит-
ной, весельчак такой, так что он чрез-вы-чайно меня
позабавил.
— Это вы про Наполеона, дядюшка? — проговорил
Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Ка-
кая-то странная мысль начинала мелькать у него в го-
лове, мысль, в которой он не мог еще себе самому дать
отчета.
— Ну да, про На-по-леона. Мы с ним все про фило-
софию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже
жаль, что с ним так строго поступили... анг-ли-чане.
Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей
стал бросаться. Бешеный был человек! Но все-таки
жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-
о-би-таемый остров...
— Почему же на необитаемый? — спросил Мозгля-
ков рассеянно.
— Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе, как
благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чеиия
для него устроить: театр, музыку, балет и все на казен-
ный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется, под при-
смотром, а то бы он сейчас у-лиз-нул. Пирожки какие-то
он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стря-
пать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы
у меня и рас-ка-ялся...
Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупро-
снувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему
хотелось навести разговор на женитьбу,— он еще сам
не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его
сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.
— Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Пред-
ставь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.
368
— Предложение, дядюшка? — вскричал Мозгля-
ков оживляясь.
— Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь?
Ну, хорошо. C’est une charmante personne... Но... при-
знаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно.
Я только теперь это ви-жу. Ах, боже мой!
— Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали
предложение?
— Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю на-
верно когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-
на-ко-же, стран-но!
Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея
блеснула в его голове.
— Но кому, когда вы сделали предложение, дя-
дюшка? — повторил он в нетерпении.
— Хозяйской дочери, mon ami... cette belle per-
sonne... 1 впрочем, я забыл, как ее зо-вут. Только, ви-
дишь. ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся.
Что же мне теперь делать?
— Да вы, конечно, погубите себя, если женитесь.
Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дя-
дюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сде-
лали предложение?
— Ну да... я уверен.
— А если все это вы видели во сне, так же, как и то,
что вы другой раз вывалились из кареты?
— Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и
это тоже видел во сне! Так что я теперь и не знаю, как
туда по-ка-заться. Как бы это, друг мой, узнать
на-вер-но, каким-нибудь по-сто-рон-ним образом: делал
я предложение иль нет? А то, представь, каково теперь
мое положение?
— Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать не-
чего.
— А что?
— Я наверно думаю, что вы видели это во сне.
— Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более что
мне часто снятся по-доб-ные сны.
— Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что
1 это очаровательное существо (франц.).
24 М. Достоевский, т. 2
369
вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и,
наконец...
__ Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.
______ Тем более, дядюшка, что как бы вы ни были разго-
рячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать
такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас
знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассуди-
тельный и...
— Ну да, ну да.
— Представьте только одно: если б узнали это ваши
родственники, которые и без того дурно расположены
к вам,— что бы тогда было?
— Ах, боже мой! — вскрикнул испуганный князь,—
а что бы тогда было?
— Помилуйте! да они закричали бы все в один го-
лос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сума-
сшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и,
пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.
Мозгляков знал, чем можно было напугать ста-
рика.
— Ах, боже мой! — вскричал князь, дрожа как
лист.— Неужели бы посадили?
— И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы
сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы
сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утвер-
ждаю, что вы все это видели во сне.
— Непременно во сне, неп-ре-менно во сне! — по-
вторял напуганный князь.— Ах, как ты умно рассудил
все это, мой ми-лый! Я душевно тебе благодарен, что
ты меня вра-зу-мил.
— А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня
встретился. Представьте себе: без меня вы бы действи-
тельно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти
туда женихом. Представьте, как это опасно!
— Ну да... да, опасно!
•— Вспомните только, что этой девице двадцать три
года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, бога-
тый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухва-
тятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле
жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут
рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете,
370
Неужели?
— И, наконец, вспомните, дядюшка: человек с ва-
шими достоинствами...
— Ну да, с моими достоинствами...
•— С вашим умом, с вашею любезностию...
«— Ну да, с моим умом, да!..
— И, наконец, вы — князь. Такую ли партию вы бы
могли себе сделать, если б действительно почему-ни-
будь нужно было жениться? Подумайте только, что
скажут ваши родственники?
— Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж
испытал от них столько коварства и злобы... Представь
себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в су-
мас-шедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли
это? Ну, что б я там стал делать... в су-мас-шедшем-то
доме?
— Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не
отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь
гости.
-— Гости? Ах, боже мой!
— Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.
— Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты
просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше
уеду.
— Завтра, дядюшка, завтра, утром в семь часов.
А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что
уезжаете.
— Непременно уеду... к отцу Мисаилу... Но, мой
друг, ну как они меня там сос-ва-тают?
— Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И, наконец,
что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали,
прямо говорите, что вы все это видели во сне... так, как
оно и действительно было.
— Ну да, неп-ре-менно во сне! только, знаешь, мой
друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тель-ный сон! Она
удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы...
— Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы...
— Как! так ты меня одного оставляешь! — вскри-
чал князь в испуге.
— Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь; сна-
чала я, а потом вы. Это будет лучше.
24*
371
— Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно запи-
сать одну мысль.
— Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а по-
том приходите, не мешкайте. Завтра же утром...
— А завтра утром к иеромонаху, непременно к
ие-ро-мо-наху! Charmant, charmant!^ А знаешь, мой
друг, она уди-ви-тельно хороша собой... такие формы...
и если б уж так мне надо было непременно жениться,
то я...
— Боже вас сохрани, дядюшка!
— Ну да, боже сохрани!.. Ну, прощай, мой милый,
я сейчас... только вот за-пи-шу. A propos, я давно хотел
тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?
— Читал, дядюшка, а что?
>— Ну да... Я вот теперь и за-был, что хотел
сказать...
— После вспомните, дядюшка! до свиданья!
— До свиданья, мой друг, до свиданья! Только
все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тель-
ный сон!..
Глава XII
— А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинична
тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть,— щебе-
тала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматри-
ваясь. Это была довольно хорошенькая, маленькая
дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень
хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и каза-
лось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе
с Зиной.
— И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата
Михайловна тоже хотели быть-с,— прибавила Наталья
Дмитриевна, колоссального размера дама, которой
формы так понравились князю и которая чрезвычайно
походила на гренадера. Она была в необыкновенно
маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на за-
тылке. Уже три недели, как она была самым искрен-
ним другом Анны Николаевны, за которую давно уже
увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла
проглотить одним глотком, вместе с косточками.
372
— Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге,
который я чувствую, видя вас обеих у меня и еще
вечером,— запела Марья Александровна, оправившись
от первого изумления,— но скажите, пожалуйста, ка-
кое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже
совсем отчаялась иметь эту честь?
— О боже мой, Марья Александровна, какие вы
право-с! — сладко проговорила Наталья Дмитриевна,
жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прё-
любопытный контраст с ее наружностию.
— Mais, ma charmante,—защебетала Анна Нико-
лавна,— ведь надобно же, непременно надобно когда-
нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще
сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станисла-
вину, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это
нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и
собрались сегодня вчетвером, да и думаем: поедем-ка
к Марье Александровне, да и решим всё разом! На-
талья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут.
Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не
говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange? —
прибавила она игриво, целуя Марью Александровну.—
Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый
день все более хорошеете! — Анна Николаевна броси-
лась с поцелуями к Зине.
— Да им и нечего делать больше-с, как хоро-
шеть-с,— сладко прибавила Наталья Дмитриевна, по-
тирая свои ручищи.
«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом
театре! изловчились, сороки!» — прошептала Марья
Александровна вне себя от бешенства.
— Тем более, мой ангел,— прибавила Анна Нико-
лавна,— что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы
знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр.
Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены
все эти старинные декорации, занавесь и даже ко-
стюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удив-
лена его приездом, что совершенно забыла ему сказать.
Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам помо-
жете, и князь велит отослать к нам весь этот старый
хлам. А то кому здесь прикажете сделать что-нибудь
373
похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим
завлечь в наш театр. Он непременно должен подпи-
саться*, ведь это для бедных. Может быть, даже и роль
возьмет,_он же такой милый, согласный. Тогда пойдет
чудо как хорошо.
_____ Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заста-
вить всякую ролю разыгрывать-с,— многозначительно
прибавила Наталья Дмитриевна.
Анна Николаевна не обманула Марью Александ-
ровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александ-
ровна едва успевала встречать их и издавать воскли-*
цания, требуемые в таких случаях приличием и комиль-
фотностию.
Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу
только, что каждая смотрела с необыкновенным ковар-
ством. У всех на лицах было написано ожидание и
какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали
с решительным намерением быть свидетельницами ка-
кого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рас-
сердились, если б пришлось разъехаться, не видав его.
Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но
Марья Александровна с твердостию приготовилась к
нападению. Посыпались вопросы - о князе, казалось,
самые естественные; но в каждом заключался какой-
нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились.
Одна группа завладела роялем. Зина на пригла-
шение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так
здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же
посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай
кой о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о
Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине.
Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, ви-
дела все, что происходило в каждом углу комнаты, слы-
шала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя
их было до десяти, и немедленно отвечала на все во-
просы, разумеется, не ходя за словохМ в карман. Она
трепетала за Зину и дивилась тому, что она не ухо-
дит, как всегда до сих пор поступала при подобных
собраниях. Заметили и Афанасия Матвеича. Над ним
всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александ-
ровну ее супругом. Теперь же от недалекого и от-
374
кровенного Афанасия Матвеича можно было кой-что
и выведать. Марья Александровна с беспокойством
приглядывалась к осадному положению, в котором ви-
дела своего супруга. К тому же он отвечал на все во-
просы: гм, с таким несчастным и неестественным видом,
что было отчего ей прийти в бешенство.
— Марья Александровна! Афанасий Матвеич с
нами совсем говорить не хочет,— вскричала одна сме-
лая, востроглазая дамочка, которая решительно никого
не боялась и никогда не конфузилась.— Прикажите
ему быть поучтивее с дамами.
— Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сде-
лалось,— отвечала Марья Александровна, прерывая
разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмит-
риевной и весело улыбаясь,— такой, право, неразго-
ворчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил.
Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне,
Athanase? Что вы его спрашивали?
— Но... но... матушка, ведь ты же сама...— пробор-
мотал было удивленный и потерянный Афанасий
Матвеич. В это время он стоял у затопленного камина,
заложив руки за жилет, в живописном положении, ко-
торое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы
дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка.
Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой
ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не
обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая
как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение,
он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий.
Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил
чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время
принужден был выйти из комнаты, возбудив недоуме-
ние во всех присутствовавших. Одним словом, все было
ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали
уж все и собрались с самыми дурными намерениями.
Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с
толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли
даже увести от нее князя, поссорив его с нею в этот же
вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было
всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь
отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала
375
у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер.
Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.
Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех,
немного потерявшись. Он не в силах был сладить с
своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.
— Ах, боже мой! Павел Александрович! — вскрик-
нуло несколько голосов.
— Ах, боже мой! да ведь это Павел Александро-
вич! как же вы сказали, Марья Александровна, что
они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скры-
лись у Бородуева-с, Павел Александрович,— пропи-
щала Наталья Дмитриевна.
— Скрылся? — повторил Мозгляков с какой-то
искривившейся улыбкой.— Странное выражение! Изви-
ните, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и
никого не желаю прятать,— прибавил он, многознаме-
нательно взглянув на Марью Александровну.
Марья Александровна затрепетала.
«Как, неужели и этот болван бунтуется! — поду-
мала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова.— Нет,
это уж будет хуже всего...»
— Правда ли, Павел Александрович, что вам вы-
шла отставка... по службе, разумеется? — выскочила
дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря
ему прямо в глаза.
— Отставка? какая отставка? Я просто переменяю
службу. Мне выходит место в Петербурге,— сухо от-
вечал Мозгляков.
— Ну, так поздравляю вас,— продолжала Фелисата
Михайловна,— а мы даже испугались, когда услы-
шали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове.
Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тот-
час слетишь.
— Разве одни учительские в уездном училище; тут
еще можно найти вакансию,— заметила Наталья Дмит-
риевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся
Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга ти-
хонько ногой.
— Неужели вы думаете, что Павел Александрович
согласится занять место какого-нибудь учителишки? —
включила Фелисата Михайловна.
376
Но Павел Александрович не нашел, что отвечать.
Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеичем,
который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не
принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс.
Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине
и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:
— Это все по вашей милости. Подождите, я еще
сегодня вечером покажу вам — дурак я иль нет?
— Зачем откладывать? Это и теперь видно,— громко
ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами сво-
его бывшего жениха.
Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись- ее
громкого голоса.
— Вы от Бородуева? — решилась, наконец, спро-
сить Марья Александровна.
— Нет-с, я от дядюшки.
>— От дядюшки? так вы, значит, были теперь у князя?
— Ах, боже мой! так, значит, князь уж проснулись;
а нам сказали, что они все еще почивают-с,— приба-
вила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на
Марью Александровну.
— Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна,—
отвечал Мозгляков,— он проснулся и, слава богу, те-
перь уже в своем уме. Давеча его подпоили, сначала
у вас, а потом уж, окончательно, здесь, так что он со-
всем было потерял голову, которая у него и без того
не крепка. Но теперь, слава богу, мы вместе погово-
рили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда
будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна,
и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра
же чем свет мы вместе отправляемся в пустынь, а по-
том я его непременно сам провожу до Духанова во из-
бежание вторичных падений, как, например, сегодня;
а там уж его примет, с рук на руки, Степанида Ма-
твеевна, которая к тому времени непременно воротится
из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой
раз путешествовать,— за это я отвечаю.
Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью
Александровну. Та сидела, как будто онемевшая от
изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня,
может быть, первый раз в жизни струсила..
377
<— Так они завтра чем свет уезжают? как же
это-с? — проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь
к Марье Александровне.
_____ Как же это так? — наивно раздалось между го-
стями,— а мы слышали, что... вот, право, странно!
Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг все-
общее внимание было развлечено самым необыкновен-
ным и эксцентрическим образом. В соседней комнате
послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие
восклицания, и вдруг нежданно-негаданно в салон
Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Кар-
пухина. Софья Петровна была бесспорно самая экс-
центрическая дама в Мордасове, до того эксцентриче-
ская, что даже в Мордасове решено было с недавнего
времени не принимать ее в общество. Надо еще заме-
тить, что она регулярно каждый вечер, ровно в семь
часов, закусывала,— для желудка, как она выража-
лась,— и после закуски обыкновенно была в самом
эманципированном состоянии духа, чтоб не сказать
чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии
духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье
Александровне.
— А, так вот вы как, Марья Александровна,— за-
кричала она на всю комнату,— вот вы как со мной по-
ступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не
сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне
говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья
Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город
назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг и mon ange,
когда приехала пересказать, что делают с князем
у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмит-
риевна, которую вы давеча на чем свет ругали и кото-
рая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокой-
тесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоко-
ладу a la sante \ по гривеннику палка. Я почаще вашего
пью у себя дома! тьфу!
— Это видно-с,— заметила Наталья Дмитриевна.
— Но, помилуйте, Софья Петровна,— вскрикнула
1 Буквально: на здоровье,— вероятно, название шоколада
(франц.).
378
Марья Александровна, покраснев от досады,— что с
вами? образумьтесь по крайней мере.
— Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна,
я все знаю, все, все узнала! — кричала Софья Петровна
своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми
гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожи-
данной сценой.— Все узнала! Ваша же Настасья при-
бежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого
князишку, напоили его допьяна, заставили сделать
предложение вашей дочери, которую уж никто не хо-
чет больше брать замуж, да и думаете, что и сами
теперь сделались важной птицей,— герцогиня в круже-
вах,— тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли
вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и
почище вас людей видывала. Я у графини Залихват-
ской обедала; за меня обер-комиссар Курочкин сва-
тался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!
— Видите ли, Софья Петровна,— отвечала Марья
Александровна, выходя из себя,— уверяю вас, что так
не врываются в благородный дом и притом в таком
виде, и если вы сейчас же не освободите меня от вашего
присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои
меры.
— Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим лю-
дишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Про-
щайте, выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья
Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне на-
плевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили
сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выпля-
сывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-
то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если
вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой
Матрешке во-время вашу корову загонять, чтоб она
не мычала у меня каждый день под окошками, так я
вашей Матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья
Александровна, счастливо оставаться, тьфу! — Софья
Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александ-
ровна была в крайнем замешательстве.
— Я думаю, они выпили-с,— сладко произнесла
Наталья Дмитриевна.
— Но только какая дерзость!
379
— Quelle abominable femme! 1
— Вот так уж насмешила!
— Ах, какие они неприличности говорили-с!
_____ Только что ж это она про сговор говорила? Какой
же сговор? — насмешливо спрашивала Фелисата Ми-
хайловна.
— Но это ужасно! — разразилась, наконец, Марья
Александровна.— Вот эти-то чудовища и сеют пригорш-
нями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фели-
сата Михайловна, что находятся такие дамы среди
нашего общества,— нет, удивительнее всего то, что в
этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддер-
живают, им верят, их...
— Князь! князь! — закричали вдруг все гости.
— Ах, боже мой! се cher prince!
— Ну, слава богу! мы теперь узнаем всю подногот-
ную,— прошептала своей соседке Фелисата Михай-
ловна.
Глава XIII
Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога,
которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его
куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же
растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгли-
вым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ла-
скали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фа-
мильярны. Он имел способность забавлять их своею
особою до невероятности. Фелисата Михайловна даже
утверждала утром (конечно, не серьезно), что она го-
това сесть к нему на колени, если это ему будет
приятно,— «потому что он милый-милый старичок, ми-
лый до бесконечности!» Марья Александровна впилась
в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть
на его лице и предугадать выход из своего критиче-
ского положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил
ужасно и что все дело ее сильно колеблется. Но ничего
нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же,
как и давеча, как и всегда.
1 Какая отвратительная женщина! (франц.)
380
— Ах, боже мой! вот и князь! а мы вас ждали-
ждали,— закричали некоторые из дам.
— С нетерпением, князь, с нетерпением! — про-
пищали другие.
— Мне это чрезвычайно лест-но,— шепелявил
князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел само-
вар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Алек-
сандровны остались только Анна Николаевна да На-
талья Дмитриевна. Афанасий Матвеич почтительно
улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим
видом глядел на Зину, которая, не обращая на него
ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле
него на кресла, близ камина.
— Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уез-
жаете? — пропищала Фелисата Михайловна.
— Ну да, mesdames, уезжаю. Я не-мед-ленно хочу
ехать за гра-ни-цу.
— За границу, князь, за границу! — вскричали все
хором,— да что это вам вздумалось?
— За гра-ни-цу,— подтвердил князь охораши-
ваясь,— и, знаете, я особенно хочу туда ехать для но-
вых идей.
— Как это для новых идей? Это об чем же? — го-
ворили дамы, переглядываясь одна с другой.
— Ну да, для новых идей,— повторил князь, с ви-
дом глубочайшего убеждения.— Все теперь едут для
новых и-дей. Вот и я хочу получить но-вы-е и-деи.
— Да уж не в масонскую* ли ложу вы хотите по-
ступить, любезнейший дядюшка? — включил Мозгля-
ков, очевидно, желая порисоваться перед дамами своим
остроумием и развязностью.
— Ну да, мой друг, ты не ошибся,— неожиданно от-
вечал дядюшка.— Я дейст-ви-тельно в старину к одной
масонской ложе за границей при-над-лежал и даже
имел в свою очередь очень много великодушных идей.
Я даже собирался тогда много сделать для сов-ре-мен-
ного прос-вещения и уж совсем было положил в
Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу
повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему,
сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-
век. Потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом
381
таким, в бакенах, идет по буль-вару с мамзелью. По-
глядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним
такая бойкая, востроглазая, такая за-ман-чивая...
_____ Ну, дядюшка! Да вы после этого всех крестьян
отпустите на волю, коли этот раз за границу по-
едете>_вскричал Мозгляков, хохоча во все горло.
— Ты совершенно уга-дал мои желания, мой ми-
лый,— отвечал князь без запинки.— Я именно хочу их
отпустить всех на во-лю.
— Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все
убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить? —
вскричала Фелисата Михайловна.
— Конечно, все разбегутся,— тревожно отозвалась
Анна Николаевна.
— Ах, боже мой! Неуже-ли они и в самом деле убе-
гут? — вскричал князь с удивлением.
— Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и
оставят-с,— подтвердила Наталья Дмитриевна.
— Ах, боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю.
Впрочем, ведь это я только так.
— Эдак-то лучше, дядюшка,— скрепил Мозгляков.
До сих пор Марья Александровна слушала молча и
наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней
позабыл и что это вовсе не натурально.
— Позвольте, князь,— начала она громко и с до-
стоинством,— вам отрекомендовать моего мужа, Афа-
насия Матвеича. Он нарочно приехал из деревни,
как только услышал, что вы остановились в моем
доме.
Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему
показалось, что его похвалили.
— Ах, я очень рад,— сказал князь,— А-фа-насий
Матвеич! Позвольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий
Мат-ве-ич. Ну да, это тот, который в деревне. Char-
mant, charmant, очень рад. Друг мой! — вскричал князь,
обращаясь к Мозглякову,— да ведь это тот самый, пом-
нишь, давеча еще в рифму выхо-дило. Как бишь это?
Муж в дверь, а жена... ну да, в какой-то город и жена
тоже по-е-хала...
— Ах, князь, да это верно: муж в дверь, а жена в
Тверь,— тот самый водевиль, который у нас прошлого
382
года актеры играли,— подхватила Фелисата Михай-
ловна.
— Ну да, именно в Тверь; я все за-бы-ваю. Char-
mant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвы-
чайно рад с вами позна-ко-миться,— говорил князь, не
вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся
Афанасию Матвеичу.— Ну, как ваше здоровье?
— Гм...
— Он здоров, князь, здоров,— торопливо ответила
Марья Александровна.
— Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы все в
де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий
и все смеется...
Афанасий Матвеич улыбался, кланялся и даже рас-
шаркивался. Но при последнем замечании князя не
утерпел и вдруг ни с того ни с сего самым глупейшим
образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы виз-
жали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими
глазами посмотрела на Марью Александровну, кото-
рая в свою очередь разрывалась от злости. Пора было
переменить разговор.
— Как вы почивали, князь? — спросила она медото-
чивым голосом, в то же время грозным взглядом да-
вая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно уби-
рался на свое место.
— Ах, я очень хорошо спал,— отозвался князь,—
и, знаете, видел один очарова-тельный сои, о-ча-ро-ва-
тельный сон!
— Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про
сны,— вскричала Фелисата Михайловна.
— Ия тоже-с, люблю-с очень-с! — прибавила На-
талья Дмитриевна.
— О-ча-ро-вательный сон,— повторял князь с слад-
кой улыбкой,— но зато этот сон вели-чайший секрет!
— Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да
это, должно быть, удивительный какой-нибудь сон? —
заметила Анна Николаевна.
— Ве-ли-чайший секрет,— повторял князь, с на-
слаждением подзадоривая любопытство дам.
— Так это, должно быть, ужасно интересно! — кри-
чали дамы..
383
— Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед
какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в
любви! — вскричала Фелисата Михайловна.— Ну, при-
знайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, при-
знайтесь!
— Признайтесь, князь, признайтесь! — подхватили
со всех сторон.
Князь торжественно и с упоением внимал всем этим
крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его
самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.
— Хотя я и сказал, что мой сон — величайший сек-
рет,— отвечал он, наконец,— но я принужден сознаться,
что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совер-
шенно его от-га-дали.
— Отгадала! — с восторгом вскричала Фелисата
Михайловна.— Ну, князь! Теперь, как хотите, а вы
должны нам открыть, кто такая ваша красавица?
Непременно откройте!
— Здешняя иль нет?
— Миленький князь, откройте!
— Душенька князь, откройте! хоть умрите, да от-
кройте! — кричали со всех сторон.
— Mesdames, mesdames!.. если вы уж хотите так
на-сто-я-тельно знать, то я только одно могу вам от-
крыть, что это — самая о-ча-ро-вательная и, можно ска-
зать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я
знаю,— промямлил совершенно растаявший князь.
— Самая очаровательная! и... здешняя! кто ж бы
это? — спрашивали дамы, значительно переглядываясь
и перемигиваясь одна с другой.
— Разумеется, те-с, которые здесь первые краса-
вицы считаются-с,— проговорила Наталья Дмитриевна,
потирая свои красные ручищи и посматривая своими
кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все по-
смотрели на Зину.
:— Так как же, князь, если вы видите такие сны, так
почему ж бы вам наяву не жениться? — спросила Фе-
лисата Михайловна, оглядывая всех значительным
взглядом.
— А как бы мы славно женили вас! — подхватила
другая дама,
384
:— Миленький князь, женитесь! — пропищала
третья.
— Женитесь, женитесь! — закричали со всех сто-
рон.— Почему ж не жениться?
— Ну да... почему ж не жениться? — поддакивал
князь, сбитый с толку всеми этими криками.
— Дядюшка! — вскричал Мозгляков.
—. Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно
хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии
более жениться, и, проведя очарова-тельный вечер у
нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь
к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо
за границу, чтобы удобнее следить за евро-пейским
прос-ве-щением.
Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмот-
рела на мать свою. Но Марья Александровна уже ре-
шилась. До сих пор она только выжидала, испытывала,
хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что
враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец, она
поняла все и одним разом, одним ударом решилась со-
крушить стоглавую гидру. С величием встала она с
кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гор-
дым взглядом измеряя пигмеев-врагов своих. Огонь
вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась по-
разить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц,
раздавить негодяя Мозглякова, как таракана, и одним
решительным, смелым ударом завоевать вновь все свое
потерянное влияние над идиотом-князем. Разумеется,
требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью
не в карман было ходить Марье Александровне!
— Mesdames,— начала она торжественно и с до-
стоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно
любила торжественность),— mesdames, я долго прислу-
шивалась к вашему разговору, к вашим веселым и
остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать
свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе
совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)...
Никогда бы я первая не решилась высказать важную
семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует
самое обыкновенное чувство приличия. В особенности
прошу извинения у моего милого гостя; но мне пока-
26 Ф. М. Достоевский, т. 2
385
залось, что он сам отдаленными намеками на то же
самое обстоятельство подает мне мысль, что ему не
только не будет неприятно формальное и торжествен-
ное объявление нашей семейной тайны, но что даже он
сам желает этого разглашения... Не правда ли, князь,
я не ошиблась?
— Ну да, вы не ошиблись... и я очень, очень рад...—
проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет
дело.
Марья Александровна, для большего эффекта, оста-
новилась перевести дух и оглядела все общество. Все
гостьи с алчным и беспокойным любопытством вслу-
шивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина по-
краснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеич в
ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай
высморкался.
— Да, mesdames, я с радостию готова поверить вам
мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увле-
ченный красотою и... достоинствами моей дочери, сде-
лал ей честь своим предложением. Князь! — заклю-
чила она дрожащим от слез и от волнения голосом,—
милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на
меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семей-
ная радость могла преждевременно вырвать из моего
сердца эту милую тайну, и... какая мать может обви-
нить меня в этом случае?
Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произве-
денный неожиданною выходкой Марьи Александровны.
Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные
гостьи, думавшие напугать Марью Александровну тем,
что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преж-
девременным обнаружением этой тайны, думавшие рас-
терзать ее покамест только одними намеками, были
ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бес-
страшная откровенность обозначала в себе силу.
«Стало быть, князь действительно, своею собственною
волею, женится на Зине? Стало быть, не завлекали его,
не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаен-
ным, не воровским образом его заставляют жениться?
Стало быть, Марья Александровна никого не боится?
Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь
386
не по принуждению женится?» Послышался мгновенный
шепот, превратившийся вдруг в. визгливые крики ра-
дости. Первая бросилась обнимать Марью Александ-
ровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна,
за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих
мест, все перемешались. Многие из дам были-бледны от
злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепи-
лись даже за Афанасия Матвеича. Марья Александ-
ровна живописно простерла руки и, почти насильно, за-
ключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на
всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя
и улыбался попрежнему. Впрочем, сцена ему отчасти
понравилась. При объятиях матери с дочерью он вы-
нул платок и утер свой глаз,-на котором показалась сле-
зинка. Разумеется, бросились и к нему с поздрав-
лениями.
— Поздравляем, князь! поздравляем! — кричали со
всех сторон.
•— Так вы женитесь?
— Так вы действительно женитесь?
«— Миленький князь, так вы женитесь?
•— Ну да, ну да,— отвечал князь, чрезвычайно до-
вольный поздравлениями и восторгами,— и, признаюсь
вам, что мне всего более нравится ваше милое учас-тие
ко мне, которое я никог-да не забуду, ни-когда не за-
буду. Charmant! charmant! вы даже прос-ле-зили меня...
— Поцелуйте меня, князь! — громче всех кричала
Фелисата Михайловна.
— И, признаюсь вам,— продолжал князь, прерывае-
мый со всех сторон,— я наиболее удивляюсь тому, что
Марья Ива-но-вна, наша почтен-ная хозяйка, с такою
необык-но-вен-ною проницательностью угадала мой
сон. Точно как будто она вместо меня его ви-дела. Не-
обыкновен-ная проницательность! Не-о-бык-новенная
проницательность!
— Ах, князь, вы опять за сон?
«— Да уж признайтесь, князь, признайтесь! — кри-
чали все, обступив его.
— Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить
эту тайну,— решительно и строго сказала Марья Але-
ксандровна.— Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу
2бф 387
очаровательную деликатность, с которою вы старались
мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сва-
товство. Да, mesdames, это правда: сегодня князь стоял
на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне
сделал ей торжественное предложение.
— Совершенно как будто наяву и даже с теми са-
мыми обсто-я-тельствами,— подтвердил князь.— Мад-
муазель,— продолжал он, с необыкновенною вежли-
востью обращаясь к Зине, которая все еще не пришла
в себя от изумления,— мадмуазель! Клянусь, что ни-
когда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б
другие раньше меня не про-из-нес-ли его. Это был оча-
рова-тельный сон, оча-ро-вательный сон, и я вдвойне
счастлив, что мне позволено вам теперь это выс-ка-зать.
Charmant! charmant!..
— Но, помилуйте, как же это? Ведь он все говорит
про сон,— прошептала Анна Николаевна встревожен-
ной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы!
У Марьи Александровны и без этих предостережений
давно уже ныло и трепетало сердце.
— Как же это? — шептали дамы, переглядываясь
одна с другой.
— Помилуйте, князь,— начала Марья Александ-
ровна с болезненно искривившеюся улыбкою,— уверяю
вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея
про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы
шутите, но... Если это шутка, то это довольно неумест-
ная шутка... Я хочу, я желаю приписать это вашей рас-
сеянности, но...
— В самом деле, это, может быть, у них от рассеян-
ности-с,— прошипела Наталья Дмитриевна.
— Ну да... может быть, это и от рассеян-ности,—
подтвердил князь, все еще не совсем понимая, чего от
него добиваются.— И, вообразите, я всем расскажу сей-
час один а-нек-дот. Зовут меня, в Петербурге, на по-хо-
роны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais
honnete !, а я и смешал, что на именины. Именины-то
еще на прошлой неде-ле прош-ли. Букет из камелий
име-нин-нице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Чело-
1 мещанская, но честная семья (франц.).
388
век почтенный, солидный — лежит на столе, так что я
уди-вился. Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом.
— Но, князь, дело не в анекдотах! — с досадою пе-
ребила Марья Александровна.— Конечно, моей дочери
нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь,
у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала
вас на это... Это меня, можно сказать, фрапировало...
Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я
отложила это все до вашего пробуждения. Но я — мать;
она — дочь моя... Вы сами говорили сейчас о каком-
то сне, и я думала, вы под видом аллегории хотите рас-
сказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что
вас, может быть, сбивают... я даже подозреваю, кто
именно... но... объяснитесь, князь, объяснитесь скорее,
удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным
домом...
— Ну да, так нельзя шутить с благородным до-
мом,— поддакнул князь бессознательно, но уже начи-
ная понемногу беспокоиться.
— Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу
вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же под-
твердите здесь, при всех, что вы делали давеча предло-
жение моей дочери.
— Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я все это
уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно
угадала мой сон.
— Не сон! не сон! — закричала в ярости Марья
Александровна.— Не сон, а это было наяву, князь,
наяву, слышите ли, наяву!
— Наяву! — вскричал князь, в удивлении поды-
маясь с кресел.— Ну, друг мой! как ты давеча напро-
рочил, так и вышло! — прибавил он, обращаясь к Моз-
глякову.— Но, уверяю вас, почтенная Марья Степа-
новна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен,
что я это видел только во сне!
— Господи помилуй! — вскрикнула Марья Але-
ксандровна.
— Не убивайтесь, Марья Александровна,— вступи-
лась Наталья Дмитриевна.— Князь, может быть, как-
нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.
— Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна,— с не-
389
годованием возразила Марья Александровна,— разве
такие вещи забываются? разве это можно забывать?
Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или
вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов
времен регентства, которых изображает Дюма? какого-
нибудь Ферлакура, Лозёна? Но, кроме того, что это
вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся!
Моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот
здесь она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем,
опустились на колени и сделали ей предложение. Не-
ужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь:
сплю я иль нет?
— Ну да... а, впрочем, может быть, нет...— отвечал
растерявшийся князь.— Я хочу сказать, что я теперь,
кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне,
а потому видел сон, что во сне...
— Фу ты, боже мой, что это такое: не во сне — во
сне, во сне — не во сне! да это черт знает что такое! Вы
бредите, князь, или нет?
— Ну да, черт знает... впрочем, я, кажется, уж со-
всем теперь сбился...— проговорил князь, вращая кру-
гом беспокойные взгляды.
— Но как же вы могли видеть во сне,— убивалась
Марья Александровна,— когда я вам же с такими под-
робностями рассказываю ваш собственный сон, тогда
как вы его еще никому из нас не рассказывали?
— Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рас-
сказывали-с,— проговорила Наталья Дмитриевна.
— Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказы-
вал,— подтвердил совершенно потерявшийся князь.
— Вот комедия-то! — шепнула Фелисата Михай-
ловна своей соседке.
— Ах ты боже мой! да тут всякое терпенье лоп-
нет! — кричала Марья Александровна, в исступлении
ломая руки.— Она вам пела романс, романс пела! Не-
ужели вы и это во сне видели?
— Ну да, и в самом деле как будто пела романс,—
пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то
воспоминание оживило лицо его.
— Друг мой! — вскричал он, обращаясь к Мозгля-
кову,— я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и
390
вправду был какой-то романс и в этом романсе были
все какие-то зам-ки, все замки, так что очень много
было замков, а потом был какой-то тру-бадур! Ну да, я
это все помню... так что я и заплакал... А теперь вот и за-
трудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне...
— Признаюсь вам, дядюшка,— отвечал Мозгляков
сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от
какой-то тревоги,— признаюсь вам, мне кажется, все
это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы
действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна
поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зи-
наида Афанасьевна вам спела романс. Меня тогда не
было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили
старину; может быть, вспомнили о той самой викон-
тессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о ко-
торой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а по-
том, когда легли спать, вам вследствие приятных впе-
чатлений и приснилось, что вы влюблены и делаете
предложение...
Марья Александровна была просто оглушена такою
дерзостью.
— Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было,—
закричал князь в восторге.— Именно вследствие прият-
ных впечатлений! Я действи-тельно помню, как мне
пели романс, а я за это во сне и захотел жениться.
И виконтесса тоже была... Ах, как ты умно это рас-
путал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен,
что все это видел во сне! Марья Васильевна! Уверяю
вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне. Иначе я не
стал бы играть вашими благородными чувствами...
— А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! — закри-
чала Марья Александровна вне себя от бешенства,
обращаясь к Мозглякову.— Это вы, сударь, вы, бес-
честный человек, вы все это наделали! вы взбаламутили
этого несчастного идиота за то, что вам самим отка-
зали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту
обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!
— Марья Александровна,— кричал Мозгляков,
в свою очередь покраснев как рак,— ваши слова до
такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши
слова... Ни одна светская дама не позволит себе... я по
391
крайней мере защищаю моего родственника. Согласи-
тесь сами, так завлекать...
_____ Ну да, так завлекать...— поддакивал князь, ста-
раясь спрятаться за Мозглякова.
_____ Афанасий Матвеич! — взвизгнула Марья Але-
ксандровна каким-то неестественным голосом.—Не-
ужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или
вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанно-
стей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а от-
вратительный деревянный столб? Что вы глазами-то
хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл
обиду своего семейства!...
— Жена! — с важностью начал Афанасий Матвеич,
гордясь тем, что и в нем настала нужда,— жена! Да уж
не видала ль ты и в самом деле все это во сне, а потом,
как проспалась, так и перепутала все, по-свойски...
Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить
свою остроумную догадку. До сих пор еще гостьи удер-
живались и коварно принимали на себя вид какой-то
чинной солидности. Но тут громкий залп самого не-
удержимого смеха огласил всю комнату. Марья Але-
ксандровна, забыв все приличия, бросилась было на
своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выца-
рапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья
Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть
капельку, да подлила еще яду.
— Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в
самом деле так было-с, а вы убиваетесь,— проговорила
она самым медоточивым голосом.
— Как было? что такое было? — кричала Марья
Александровна, не понимая еще хорошенько.
— Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и
бывает-с...
— Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли,
тянуть хотите?
— Может быть, вы и в самом деле видели это во
сне-с.
— Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить
прямо в глаза?
— Что ж, может быть, и в самом деле так было,—
отозвалась Фелисата Михайловна.
392
— Ну да, может быть, и в самом деле так было,—
пробормотал тоже князь.
— И он, и он туда же! Господи боже мой! — вскри-
чала Марья Александровна, всплеснув руками.
— Как вы убиваетесь, Марья Александровна!
Вспомните-с, что сны ниспосылаются богом-с. Уж коли
бог захочет-с, так уж никто как бог-с, и на всем его
святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.
— Ну да, сердиться нечего,— поддакивал князь.
— Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что
ли? — едва проговорила Марья Александровна, зады-
хаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих.
Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Под-
нялась суматоха.
— Это они из приличия-с в обморок упали-с,— шеп-
нула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.
Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения
публики и напряжения всей этой сцены, вдруг высту-
пило одно, безмолвное доселе, лицо — и вся сцена не-
медленно изменилась в своем характере...
Глава XIV
Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвы-
чайно романического характера. Не знаем, оттого ли,
как уверяла сама Марья Александровна, что слишком
начиталась «этого дурака» Шекспира с «своим учите-
лишкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою,
Зина еще не позволяла себе такой, необыкновенно рома-
нической, или, лучше сказать, героической, выходки,
как та, которую мы сейчас будем описывать.
Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожа-
щая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодова-
нии, она выступила вперед. Обводя всех долгим, вызы-
вающим взглядом, она посреди наставшего вдруг
безмолвия обратилась к матери, которая при первом
ее движении тотчас же очнулась от обморока и от-
крыла глаза.
— Маменька! — сказала Зина,— к чему обманы-
вать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того
393
загрязнено теперь, что, право, не стоит унизительного
труда прикрывать эту грязь!
— Зина! Зина! что с тобою? опомнись! — вскричала
испуганная Марья Александровна, вскочив с своих
кресел...
— Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька,
что я не вынесу всего этого позора,— продолжала
Зина.— Неужели же непременно надо еще более уни-
жаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька,
что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех.
Я, я своим согласием дала ход этой гадкой... интриге!
Вы — мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по
своим понятиям, устроить мое счастье. Вас еще можно
простить; но меня, меня — никогда!
— Зина, неужели ты хочешь рассказывать?..
О боже! я предчувствовала, что этот кинжал не минует
моего сердца!
— Да, маменька, все расскажу! Я опозорена, вы...
мы все опозорены!..
— Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не
помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут
смысла нет... Стыд не на нас... Я докажу сейчас, что
стыд не на нас...
— Нет, маменька,— вскричала Зина с злобным дро-
жанием в голосе,— я не хочу более молчать перед
этими людьми, мнением которых презираю и которые
приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них
обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня
грязью. Все они готовы сейчас же сделать в тридцать
раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть
нашими судьями?..
— Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что
же! Это нас обижают,— послышалось со всех сто-
рон.
— Да они и впрямь сами не понимают, что гово-
рят-с,— проговорила Наталья Дмитриевна.
Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна ска-
зала справедливо. Если Зина не считала этих дам до-
стойными судить сёбя, зачем же было и выходить к ним
с такою огласкою, с такими признаниями? Вообще Зи-
наида Афанасьевна чрезвычайно поторопились. Та-
394
ково было впоследствии мнение самых лучших голов в
Мордасове. Все бы могло быть исправлено! Все бы
могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна
сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностию
и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идио-
том-старикашкой, да и выгнать его вон! Но Зина, как
нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской
мудрости, обратилась к князю.
— Князь,— сказала она старику, который даже при-
встал из почтения со стула,— так поразила она его в
эту минуту.— Князь! простите меня, простите нас! мы
обманули, мы завлекли вас...
— Да замолчишь ли ты, несчастная! — в исступле-
нии вскричала Марья Александровна.
— Сударыня! сударыня! ma charmante enfant...—
бормотал пораженный князь.
Но гордый, порывистый и в высшей степени мечта-
тельный характер Зины увлекал ее в эту минуту из
среды всех приличий, требуемых действительностью.
Она забыла даже о своей матери, которую корчили су-
дороги от ее признаний.
— Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем,
что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем,
что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласи-
лась петь и кривляться перед вами. Вас — слабого, без-
защитного, облапошили, как выразился Павел Але-
ксандрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за
вашего княжества. Все это было ужасно низко, и я
каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась на
эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но
что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле!
Но объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас
что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служан-
кой, плясуньей, рабой... я поклялась и свято бы сдер-
жала клятву мою!..
Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту.
Все гостьи как будто оцепенели и слушали, выпуча
глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им вы-
ходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут
до слез, хотя и половины не понимал из того, что ска-
зала Зина.
395
— Но я женюсь на вас, ma belle enfant, если уж вы
так хо-ти-те,— бормотал он,— и это для меня будет
боль-шая честь! Только, уверяю вас, что это был дейст-
ви-тельно как будто бы сон... Ну, мало ли что я увижу
во сне? К чему же так бес-по-коиться? Я даже как
будто ничего и не понял, mon ami,— продолжал он,
обращаясь к Мозглякову,— объясни мне хоть ты,
пожа-луй-ста...
— А вы, Павел Александрович,— подхватила Зина,
тоже обращаясь к Мозглякову,— вы, на которого я одно
время решилась было смотреть, как на моего будущего
мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили,—
неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб рас-
терзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили
меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее
вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила
вас обещаниями и мои давешние доказательства были
ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила,
и если решилась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть
куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города и
избавиться от всего этого смрада... Но, клянусь вам,
выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой...
Вы жестоко отмстили мне, и, если это льстит вашей гор-
дости...
— Зинаида Афанасьевна! — вскричал Мозгляков.
— Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть...
— Зинаида Афанасьевна!!
— Если когда-нибудь,— продолжала Зина, давя в
себе слезы,— если когда-нибудь вы любили меня...
— Зинаида Афанасьевна!!!
— Зина, Зина! дочь моя! — вопила Марья Але-
ксандровна.
— Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и
больше ничего! — скрепил Мозгляков, и все пришло в
ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, не-
годования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без
мысли и без голосу...
Для слабых и пустых характеров, привыкших к по-
стоянной подчиненности и решающихся, наконец, взбе-
ситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и
последовательными, всегда существует черта,— близ-
396
кий предел их твердости и последовательности. Про-
тест их бывает вначале, обыкновенно самый энергиче-
ский. Энергия их даже доходит до исступления. Они
бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза,
и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи.
Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек
вдруг, как будто сам себя испугается, останавливается,
как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это я
такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет,
требует объяснений, становится на колени, просит про-
щения, умоляет, чтобы все было по-старому, но только
поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое слу-
чилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесив-
шись, накликав беду, которую он уже всю, целиком,
приписывал теперь одному себе, насытив свое негодова-
ние и самолюбие и себя же возненавидев за это, он
вдруг остановился, убитый совестью, перед неожидан-
ной выходкой Зины. Последние слова ее добили его
окончательно. Перескочить из одной крайности в дру-
гую было делом одной минуты.
— Я — осел, Зинаида Афанасьевна! — вскричал он
в порыве исступленного раскаяния.— Нет! что осел?
Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам
докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и
осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка!
я обманул вас! Я, я, я обманул вас! Вы не спали; вы
действительно, наяву, делали предложение, а я, я, под-
лец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы
видели все это во сне.
— Удивительно любопытные вещи-с откры-
ваются-с,— прошипела Наталья Дмитриевна на ухо
Анне Николаевне.
— Друг мой,— отвечал князь,— ус-по-койся, пожа-
луйста; ты меня, право, испугал своим криком. Уверяю
тебя, что ты о-ши-ба-ешься... Я, пожалуй, готов же-
ниться, если уж так на-до; но ведь ты, сам же, уверял
меня, что это было только во сне...
— О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне
уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важ-
ная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! по-
думайте!
397
-— Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постой, дай же
мне вспомнить все по поряд-ку. Сначала я видел кучера
Фе-о-фи-ла...
— Э! не до Феофила теперь, дядюшка!
-— Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом
был На-по-ле-он, а потом как будто мы чай пили и
какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...
— Но, дядюшка,— брякнул Мозгляков в затмении
ума своего,— ведь это сама Марья Александровна рас-
сказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь
я тут же был, я сахМ это слышал! Я спрятался и смотрел
на вас в дырочку...
— Как, Марья Александровна,— подхватила На-
талья Дмитриевна,— так вы уж и князю рассказы-
вали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к
вам сахар воровать езжу-с!
— Прочь от меня! — закричала Марья Александ-
ровна, доведенная до отчаяния.
— Нет не прочь, Марья Александровна, вы эдак не
смеете говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с?
Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности рас-
пускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказы-
вала-с... Так я у вас сахар краду-с?
— Но, mesdames,— закричал князь,— ведь это
было только во сне! Ну, мало ли что я вижу во
сне?..
— Кадушка проклятая,— пробормотала вполголоса
Марья Александровна.
— Как, я и кадушка-с! — взвизгнула Наталья
Дмитриевна.— А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы
меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере,
муж у меня-с, а у вас-то дурак-с...
— Ну да, я помню, была и ка-ду-шка,— пробормо-
тал бессознательно князь, припоминая давешний раз-
говор с Марьей Александровной.
— Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы
смеете, князь, дворянку бранить-с? Коли я кадушка,
так вы безногие-с...
— Кто, я безногий?
— Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы
какие-с!
398
— Да еще и одноглазый! — закричала Марья Але-
ксандровна.
— У вас корсет вместо ребер-с! — прибавила На-
талья Дмитриевна.
— Лицо на пружинах!
-— Волос своих нет-с!..
— И усишки-то, у дурака, накладные,— скрепила
Марья Александровна.
— Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна,
настоящий! — вскричал князь, ошеломленный такими
внезапными откровенностями.— Друг мой! Это ты меня
продал! Это ты рассказал, что волосы у меня нак-лад-
ные...
— Дядюшка!
— Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оста-
ваться! Уведи ты меня куда-нибудь... quelle societe! 1
Куда это ты завел меня, бо-же мой?
— Идиот! подлец! — кричала Марья Александ-
ровна.
— Боже ты мой! — говорил бедный князь,— я вот
только немного за-был, зачем я сюда приехал, но я сей-
час вспом-ню. Уведи ты меня, братец, куда-ни-будь, а то
меня растерзают! Притом же... мне не-мед-ленно надо
записать одну новую мысль...
— Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас
же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами...
— Ну да, в гос-ти-ницу. Adieu, ma charmante
enfant... вы одна... вы только одна... доб-родетельны. Вы
бла-го-род-ная девушка! Пойдем же, мой милый.
О боже мой!
Но не стану описывать окончания неприятной сцены,
бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами
и ругательствами. Марья Александровна осталась, на-
конец, одна, среди развалин и обломков своей преж-
ней славы. Увы! сила, слава, значение — все исчезло в
один этот вечер! Марья Александровна понимала, что
уже не подняться ей попрежнему. Долгий, многолет-
ний ее деспотизм над всем обществом окончательно
1 какое общество! (франц.)
399
рушился. Что оставалось ей теперь? — философство-
вать. Но она не философствовала. Она пробесилась
всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут беско-
нечные! Ужас!
Как верный историк, я должен упомянуть, что всех
более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу,
который забился, наконец, куда-то в чулан и в нем про-
мерз до утра. Наступило, наконец, и утро; но и оно не
принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не при-
ходит...
Глава XV
Если судьба обрушится раз на кого бедою, то уда-
рам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало
было одного вчерашнего позора и срама для Марьи
Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и по-
лучше.
Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг
распространился один странный и почти невероятный
слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесто-
ченною радостью,— как и обыкновенно встречаем мы
все всякий необыкновенный скандал, случившийся с
кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени по-
терять стыд и совесть! — кричали со всех сторон,— до
такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до
такой степени распустить все узы!» и проч, и проч. Вот
что, однакоже, случилось. Рано утром, чуть ли еще не
в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчая-
нии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны
и умоляла горничную как можно скорее разбудить
барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-
нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, блед-
ная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та
упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и
молила немедленно сходить с ней к ее больному
Васе, который всю ночь был так труден, так труден,
что, может, и дня больше не проживет. Старуха гово-
рила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе про-
ститься в предсмертный час, заклинает ее всеми свя-
тыми ангелами, всем, что было прежде, и что если
400
она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тот-
час же решилась идти, несмотря на то, что исполнение
такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлоб-
ленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном
ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она на-
кинула на себя салоп и тотчас же побежала с старухой
через весь город, в одну из самых бедных слободок
Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один вет-
хий, покривившийся и вросший в землю домишка, с ка-
кими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугро-
бами снегу со всех сторон.
В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой ком-
натке, в которой огромная печь занимала ровно поло-
вину всего пространства, на дощатой, некрашеной кро-
вати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой
человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было
бледное и изможденное, глаза блистали болезненным
огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он
трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был
хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его
красивого лица, на которое страшно и жалко было
взглянуть, как на лицо всякого чахоточного, или, вер-
нее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая
целый год, чуть ли не до последнего часу, ждала воскре-
сения своего Васеньки, увидала, наконец, что он не жи-
лец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая
горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не
нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала
это, что через несколько дней ее ненаглядного Васю
закроет мерзлая земля, там, под сугробами снегу, на
бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту ми-
нуту. Все лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало
теперь блаженством. Он видел, наконец, перед собою
ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву
и, во сне, в продолжение долгих, тяжелых ночей его бо-
лезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему,
как ангел божий, в предсмертный час. Она сжимала его
руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела
на него своими чудными глазами, и — и все прежнее, не-
возвратное, воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь
загорелась снова в его сердце, и, казалось, оставляя
26 Ф. М. Достоевский, т. 2
401
его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело
расставаться с нею.
_____ Зина,— говорил он,— Зиночка! Не плачь надо
мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я
скоро умру.. Я буду смотреть на тебя,— вот так, как
теперь смотрю,— буду чувствовать, что наши души
опять вместе, что ты простила меня, буду опять цело-
вать твои руки, как прежде, и умру, может быть, не
приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой,
с какой добротой ты на меня теперь смотришь. А пом-
нишь, как ты прежде смеялась? помнишь... Ах, Зина,
я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о
том, что было,— потому, Зиночка, потому, что хоть ты,
может быть, и простила меня, но я сам никогда себе
не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужас-
ные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати,
я лежал и думал, долго, много передумал, и давно уже
решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не
годился жить, Зиночка!
Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как
будто хотела этим остановить его.
— Что ты плачешь, мой ангел? — продолжал боль-
ной. — О том, что я умираю, об этом только? Но ведь
все прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты
умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь,
что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить
меня? И чего мне стоило переиесть эту мысль, что ты
знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то
сколько тут было, может быть и благородного...
не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все
мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу пре-
зирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю.
Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь все это
было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как
дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благород-
ство чувств...
— Полно,— говорила Зина,— полно!., все это не
так, напрасно... ты убиваешь себя!
— Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты
простила меня, и давно, может быть, простила; но ты
судила меня и поняла — кто я таков; вот это-то меня
402
мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле
была честная и великодушная: ты пошла к матери и
сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого,
и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не роз-
нилось с делом. А я, я! Когда дошло до дела... Знаешь
ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем
ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того по-
нять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы
с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только,
что ты выходишь за меня, за великого поэта (за буду-
щего то есть), не хотел понимать тех причин, которые
ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил
тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло, наконец, до
угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец
был в ту минуту. Я просто был дрянь-человек! О, как
ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я
умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего
бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя,
истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года,—
куда! — может быть, и возненавидел бы тебя, как по-
меху в жизни. А теперь лучше! Теперь по крайней
мере горькие слезы мои очистили во мне сердце.
Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как
прежде любила! Хоть в этот последний час... Я ведь
знаю, что я недостоин любви твоей, но... но... о ангел
ты мой!
Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько
раз его останавливала. Но он не слушал ее; его
мучило желание высказаться, и он продолжал гово-
рить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым
голосом.
— Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня,
так остался бы жить! — сказала Зина.— Ах, зачем, за-
чем мы сошлись вместе!
— Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я
умираю,— продолжал больной.— Во всем я один вино-
ват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! Рас-
сказывали ль тебе подробно мою глупую историю,
Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант,
подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось
к наказанию, он оказался самым малодушным чело-
26*
403
веком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он
достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним на-
чалась такая рвота с кровью и так долго продолжалась,
что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу,
и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну,
вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот
самый день... ну, знаешь, после записки-то... и решился
так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я
выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился?
побоялся скорой смерти? Может быть, и так, но все
мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось
без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня
была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду
лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь
убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама
придешь ко мне с повинною, упадешь передо мной на
колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих...
Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?
— Не поминай об этом! — сказала Зина,— не го-
вори этого! ты не такой... будем лучше вспоминать о
другом, о нашем хорошем, счастливом!
— Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора
года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой
теперь выложил! Ведь все то время, с тех пор, я был
один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не
думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что,
Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-
нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить
обо мне твое мнение. До последнего времени я не ве-
рил, что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я
ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня
было предположений! Мечтал я, например, сделаться
вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в
«Отечественных записках» такую поэму, какой и не бы-
вало еще на свете. Думал в ней излить все мои чув-
ства, всю мою душу, так, что где бы ты ни была, я все
бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе мо-
ими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что
ты задумаешься, наконец, и скажешь: «Нет! он не такой
дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо,
не правда ли?
404
•— Нет, нет, Вася, нет! — говорила Зина.
Она припала к нему на грудь и целовала его руки.
— А как я ревновал тебя все это время! Мне ка-
жется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе!
Я подсылал к тебе, караулил, шпионил... вот она все
ходила (и он кивнул на мать).— Ведь ты не любила
Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел мой?
Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю,
что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет,
настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня,
Зиночка!..
— Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!., ты мой
первый... всегдашний...
— Все умирает, Зиночка, все, даже и воспомина-
ния!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо
них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Поль-
зуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. По-
люби и другого, коль полюбится,— не мертвеца же лю-
бить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не
вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей
любви хорошее, Зиночка! О, золотые, невозвратные
дни... Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний,
закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот
час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел
теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни,
вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко
светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом
нас... А теперь! Посмотри, посмотри!
И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое
тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к
глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти
разрывали истерзанную грудь его.
И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина
утешала его, как могла, но ее душа страдала до смерти.
Она говорила, что не забудет его и что никогда никого
не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался,
целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только
жгли, только терзали его душу. Так прошел целый
день. Между тем испуганная Марья Александровна
раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться
домой и не губить себя окончательно в общем мнении.
405
Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от
ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь
в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее
«отстранить этот последний и главный кинжал от ее
сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела.
Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья
Александровна ушла, наконец, в отчаянии, потому что
Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую
ночь не отходила она от его постели. Но больному ста-
новилось все хуже и хуже. Настал и еще день, но уже
не было и надежды, что страдалец переживет его. Ста-
руха мать была как безумная, ходила, как будто ничего
не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не
хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не
мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вы-
рывались из его груди. До самой последней минуты он
все смотрел на Зину, все искал ее глазами, и когда
уже свет начал меркнуть в его глазах, он все еще блуж-
дающею, неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее
в своей. Между тем короткий зимний день проходил.
И когда, наконец, последний, прощальный луч солнца
позолотил замороженное, единственное оконце малень-
кой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим
лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя, на-
конец, перед собою труп своего ненаглядного Васи,
всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь
мертвецу.
— Это ты, змея подколодная, извела его! — закри-
чала она в отчаянии Зине.— Ты, разлучница прокля-
тая, ты, злодейка, его погубила!
Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над
мертвым, как обезумевшая. Наконец, наклонилась над
ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вы-
шла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась.
Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-
чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувство-
вала, что все ее прошедшее как бы оторвалось от
ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожаю-
щая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков
как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он
нарочно поджидал на этом месте.
406
— Зинаида Афанасьевна,— начал он каким-то бояз-
ливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам,
потому что еще было довольно светло,— Зинаида Афа-
насьевна, я, конечно, осел! То есть, если хотите,
я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-
таки поступил благородно. Но все-таки я раскаи-
ваюсь в том, что я был осел... Я, кажется, сби-
ваюсь, Зинаида Афанасьевна, но... вы извините, это
от разных причин...
Зина почти бессознательно посмотрела на него и
молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком
деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина
не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с
тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно загля-
дывая ей в лицо.
— Зинаида Афанасьевна,— продолжал он,— я рас-
судил, и если вы сами захотите, то я согласен возобно-
вить мое предложение. Я даже готов забыть все, Зи-
наида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но
только с одним условием: покамест мы здесь, все
останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно ско-
рее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-
нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом
сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так,
чтоб с вами был только маленький чемоданчик...
а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите по-
скорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть
вместе.
Зина не отвечала и только посмотрела на Мозгля-
кова, но так посмотрела, что он тотчас же все понял,
снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в
переулок.
«Как же это? — подумал он,— третьего дня еще ве-
чером она так расчувствовалась и во всем себя обви-
няла? Видно, день на день не приходит!»
А между тем в Мордасове происшествия шли за
происшествиями. Случилось одно трагическое обстоя-
тельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гости-
ницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Морда-
совцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславич
почти не отходил от больного. К вечеру составился
407
консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения
им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь,
князь совсем уже потерял память, бредил, просил
Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс,
говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то
пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасов-
ского гостеприимства у князя сделалось воспаление
в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге)
в голову. Не отвергали и некоторого нравственного по-
трясения. Заключили же тем, что князь давно уже был
предрасположен умереть, а потому непременно умрет.
В последнем они не ошиблись, потому что бедный ста-
ричок на третий же день к вечеру помер в гостинице.
Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого
серьезного оборота дела. Бросились толпами в гости-
ницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, су-
дили, рядили, кивали головами и кончили тем, что
резко осудили «убийц несчастного князя», подразуме-
вая под этим, конечно, Марью Александровну с до-
черью. Все почувствовали, что эта история, уже по
одной своей скандалезности, может получить неприят-
ную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны,—
и чего-чего не было переговорено и пересказано. Все
это время Мозгляков суетился, кидался во все стороны,
и, наконец, голова у него закружилась. В таком-то со-
стоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно
положение его было затруднительное. Сам он завез
князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не
знал, что и делать с покойником, как и где хоронить,
кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому
же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не
обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй,
еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обще-
стве!»— думал он с содроганием. От мордасовцев
нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-
то испугались, отхлынули от мертвого тела и оста-
вили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но
вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день,
рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом
посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заго-
ворил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на
408
него из всех щелей и окон, когда он проехал по Боль-
шой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович
немного как будто бы струсил и не знал, как быть с
приезжим гостем. Гость был довольно известный князь
Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти
молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах
и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то
необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицей-
мейстер, например, совсем потерялся; разумеется,
только нравственно; физически же он явился налицо,
хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали,
что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по
дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого,
полетел вслед за дядей в Мордасов, где, как громом,
поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи
об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже
немного потерялся, давая нужные объяснения; да и
все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми.
К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое
недовольное лицо, хотя, казалось бы, нельзя быть не-
довольну наследством. Он тотчас же взялся за
дело сам, лично; Мозгляков же немедленно и постыдно
стушевался перед настоящим, не самозванным племян-
ником и исчез — неизвестно куда. Решено было немед-
ленно перенееть тело покойника в монастырь, где и на-
значено было отпевание. Все распоряжения приезжего
отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и прили-
чием. Назавтра весь город собрался в монастырь при-
сутствовать при отпевании. Между дамами распростра-
нился нелепый слух, что Марья Александровна лично
явится в церковь и на коленях перед гробом будет громко
испрашивать себе прощения и что все это должно быть
так по закону. Разумеется, все это оказалось вздо-
ром, и Марья Александровна не явилась в церковь.
Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины
домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать
в деревню, считая более невозможным оставаться в
городе. Там тревожно прислушивалась она из своего
угла к городским слухам, посылала на разведки узна-
вать о приезжем лице и все время была в лихорадке.
Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем
409
в версте от окошек ее деревенского дома — и потому
Марья Александровна могла удобно рассмотреть длин-
ную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духа-
ново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах;
за ним тянулась длинная вереница экипажей, про-
вожавших покойника до поворота в город. И долго
еще чернели на белоснежном поле эти мрачные
дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но
Марья Александровна не могла смотреть долго и
отошла от окна.
Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и
Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мор-
дасове, что подгородная деревня Марьи Александровны
и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки
терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут
без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня
продается вместе с Афанасием Матвеичем... Прошел
год, другой, и об Марье Александровне почти совер-
шенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рас-
сказывали, впрочем, что она купила себе другую
деревню и переехала в другой губернский город, в кото-
ром, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина
еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич...
Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; все это очень
неверно.
Прошло три года, как я дописал последнюю строчку
первого отдела Мордасовской летописи, и кто бы мог
подумать, что мне еще раз придется развернуть мою
рукопись и прибавить еще одно известие к моему рас-
сказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича
Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отпра-
вился прямо в Петербург, где и получил благополучно
то служебное место, которое ему давно обещали.
Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в
вихрь светской жизни, на Васильевском острове и в
Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от
века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз
отказ и, не переварив его, по ветрености своего харак-
тера и от нечего делать, испросил себе место в одной
410
экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших
краев нашего безбрежного отечества для ревизии или
для какой-то другой цели, наверно не знаю. Экспедиция
благополучно проехала все леса и пустыни и, наконец,
после долгого странствия явилась в главном городе
«отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был
высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин,
израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым
крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно
и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе
на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю
именин генерал-губернаторши. Павел Александрович
был этим очень доволен. Нарядившись в свой петер-
бургский костюм, в котором намерен был произвести
эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тот-
час же немного осел при виде множества витых и
густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно
было откланяться генерал-губернаторше, о которой он
уже слышал, что она молода и очень хороша собою.
Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изум-
ления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном
платье и брильянтах, гордая и надменная. Она совер-
шенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд
небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился
на кого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к
сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым
чиновником, который как будто пугался самого себя,
очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел
Александрович немедленно принялся его расспраши-
вать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал,
что генерал-губернатор уже два года как женился,
когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что
взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома.
Что генеральша «ужасно хороши из себя-с, даже можно
сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвы-
чайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»;
что на настоящем бале всех генералов, своих и приез-
жих, девять, включая в то число и действительных
статских советников; что, наконец, «у генеральши есть
маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта
маменька-с приехала из самого высшего общества-с и
411
очень умны-с», но что и сама маменька беспрекословно
подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губерна-
тор не наглядится и не надышится на свою супругу.
Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но
в «отдаленном краю» об нем не имели никакого поня-
тия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по
комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну,
великолепно разряженную, размахивающую дорогим
веером и с одушевлением говорящую с одною из особ
4-го класса. Кругом нее теснилось несколько припадав-
ших к покровительству дам, и Марья Александровна,
невидимому, была необыкновенно любезна со всеми.
Мозгляков рискнул представиться. Марья Александ-
ровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же,
почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благо-
волила узнать Павла Александровича; спросила о его
петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за
границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто
его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-
то петербургского важного князя и осведомись о его
здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом
князе, она незаметно обратилась к одному подошед-
шему сановнику в душистых сединах и через минуту
совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Алек-
сандровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в
руках Мозгляков воротился в большую залу. Неиз-
вестно почему, считая себя уязвленным и даже оскор-
бленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный
вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица
его во весь вечер. Живописно прислонился он к ко-
лонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в про-
должение всего бала, несколько часов сряду, простоял
на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но, увы!
все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарован-
ный вид и проч, и проч.— все пропало даром. Зина
совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с
заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный,
потому что не мог же он остаться ужинать в качестве
влюбленного и страдающего, воротился он на квартиру,
совершенно измученный и как будто кем-то прибитый.
Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое.
412
На другое же утро представилась какая-то команди-
ровка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе.
Он даже освежился душой, выехав из города. На бес-
конечном, пустынном пространстве лежал снег ослепи-
тельною пеленою. На краю, на самом склоне неба,
чернелись леса.
Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копы-
тами. Колокольчик звенел. Павел Александрович за-
думался, потом замечтался, а потом и уснул себе пре-
спокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий
и здоровый, совершенно с другими мыслями.
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Из записок неизвестного
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
ВСТУПЛЕНИЕ
Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в
отставку, переселился в перешедшее к нему по наслед-
ству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто
всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из
своих владений помещиком. Есть натуры решительно
всем довольные и ко всему привыкающие; такова
была именно натура отставного полковника. Трудно
было себе представить человека смирнее и на все со-
гласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее до-
везти кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы,
может быть, и довез; он был так добр, что в иной раз го-
тов был решительно все отдать по первому спросу и по-
делиться чуть не последней рубашкой с первым же-
лающим. Наружности он был богатырской: высокий
и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоно-
вая кость, зубами, с длинным темнорусым усом, с ГОЛО-
414
сом громким, звонким и с откровенным, раскатистым
смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду
ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть
не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в
очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но
она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, бла-
годарное воспоминание. Наконец, получив в наследство
село Степанчиково, что увеличило его состояние до
шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано
было, поселился в деревне вместе с своими детьми:
восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило
жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, де-
вочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся, по смерти ма-
тери, в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди
стал похож на ноев ковчег. Вот как это случилось.
В то время ’когда он получил свое наследство и вы-
шел в отставку, овдовела его маменька, генеральша
Крахоткииа, вышедшая в другой раз замуж за гене-
рала, назад лет шестнадцать,, когда дядя был еще кор-
нетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Ма-
менька долго не благословляла его на женитьбу, про-
ливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в
неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что
имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва
достаточно на содержание его семейства (то есть на
содержанке его маменьки, со всем ее штабом прижи-
валок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди
этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно
неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы
сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и
тут опа нашла предлог обвинить моего бедного дядю,
уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убе-
жище на старости лет, в чем отказывает ей непочтитель-
ный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость:
завестись своим домом.
Я никогда не мог узнать настоящую причину, побу-
дившую такого, повидимому, рассудительного человека,
как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с со-
рокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он. подозре-
вал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна
была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь
415
этот рой болезней, который осадил его потом на старости
лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену
свою во все время своего с ней сожительства и язви-
тельно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это
был странный человек. Полуобразованный, очень неглу-.
пый, он решительно презирал всех и каждого, не имел
никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к ста-
рости, от болезней, бывших следствием не совсем пра-
вильной и праведной жизни, сделался зол, раздражите-
лен и безжалостен. Служил он удачно; однако принуж-
ден был по какому-то «неприятному случаю» очень
неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишив-
шись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно.
Почти без всяких средств, владея сотней разоренных
душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые
двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет,
кто содержит его; а между тем требовал жизненных
удобств, не ограничивал расходов, держал карету.
Скоро он лишился употребления ног и последние десять
лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда
было нужно, двумя саженными лакеями, которые ни-
когда ничего от него не слыхали, кроме самых разнооб-
разных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал
непочтительный сын, посылая матери последнее, закла-
дывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе
в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные
по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эго-
иста и неблагодарного сына осталось при нем неотъем-
лемо. Но дядя был такого характера, что, наконец, и
сам поверил, что он эгоист, а потому в наказание себе
и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал
денег. Генеральша благоговела перед своим мужем.
Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а
она по нем — генеральша.
В доме у ней была своя половина, где все время
полусуществования своего мужа она процветала в об-
ществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек.
В своем городке она была важным лицом. Сплетни,
приглашения в крестные и посаженые матери, копееч-
ный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство
вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней
416
являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде
было первое место,— словом, она извлекла из своего
генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это
не вмешивался; но зато при людях — он смеялся над
женою бессовестно, задавал, например, себе такие во-
просы: зачем он женился на «такой просвирне»?—и
никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его
оставили все знакомые; а между тем общество было ему
необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил,
чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был воль-
нодумец и атеист старого покроя, а потому любил по-
трактовать и о высоких материях.
Но слушатели городка N* не жаловали высоких
материй и становились все реже и реже. Пробовали
было завести домашний вист-преферанс; ио игра кон-
чалась обыкновенно для генерала такими припадками,
что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили
свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах,
раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали
послеобеденного часа, когда опять приходилось состав-
лять партию для виста-преферанса и принимать за каж-
дую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не
побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед
кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а
иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав
от себя своих партнеров, даже плакал с досады и зло-
сти, и не более как из-за какого-нибудь валета, кото-
рого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости
зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома
Фомич Опискин.
Признаюсь, я с некоторою торжественностью возве-
щаю об этом новом лице. Оно бесспорно одно из глав-
нейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право
на внимание читателя — объяснять не стану: такой во-
прос приличнее и возможнее разрешить самому чита-
телю.
Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину, как
приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда
он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем,
нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних об-
стоятельствах этого достопримечательного человека.
27 Ф. М. Достоевский, т. 2
417
Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил,
где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Гово-
рили еще, что когда-то он занимался в Москве литера-
турою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы
Фомича, конечно, не могло служить помехою его лите-
ратурной карьере. Но достоверно известно только то,
что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден
был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика.
Не было унижения, которого бы он не перенес из-за
куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по
смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожи-
данно сделался вдруг важным к чрезвычайным лицом,
он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом,
он великодушно пожертвовал собою дружбе; что гене-
рал был его благодетель; что это был человек великий,
непонятой и что одному ему, Фоме, доверял он сокро-
веннейшие тайны души своей; что, наконец, если он,
Фома, и изображал собою, по генеральскому востребо-
ванию, различных зверей и иные живые картины, то
единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного
болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкова-
ния Фомы Фомича в этом случае подвергаются боль-
шому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще
будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль
на дамской половине генеральского дома. Как он это
устроил — трудно представить неспециалисту в подоб-
ных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистиче-
ское уважение,— за что? неизвестно. Мало-помалу он
достиг над всей женской половиной генеральского дома
удивительного влияния, отчасти похожего на влияние
различных Иван-Яковличей и тому подобных мудрецов
и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах
иными барынями, из любительниц. Он читал вслух ду-
шеспасительные книги, толковал с красноречивыми
слезами о разных христианских добродетелях; рассказы-
вал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к за-
утрене, отчасти предсказывал будущее; особенно
хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближ-
него. Генерал догадывался о том, что происходит в зад-
них комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего при-
живальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему
418
еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее
домочадцев.
Наконец, все переменилось. Генерал умер. Смерть
его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец,
атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся,
подымал образа, призывал священников. Служили мо-
лебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет
умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы
Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме
Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем,
перед самой разлукой генеральской души с генераль-
ским телом, случилось вот какое происшествие. Дочь
генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья
Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая
постоянно в генеральском доме,— одна из любимейших
жертв генерала и необходимая ему во все время его
десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умев-
шая одна угодить ему своею простоватою и безответ-
ною кротостью,— подошла к его постели, проливая горь-
кие слезы, и хотела было поправить подушку под голо-
вою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за
волосы, и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости.
Минут через десять он умер. Дали знать полковнику,
хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его,
что скорее умрет, чем пустит его к себе па глаза в такую
минуту. Похороны были великолепные — разумеется,
па счет непочтительного сына, которого не хотели
пускать на глаза.
В разоренном селе Князевке, принадлежащем не-
скольким помещикам и в котором у генерала была своя
сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора,
испещренный хвалебными надписями уму, талантам,
благородству души, орденам и генеральству усоп-
шего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении
этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая
в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая
и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок
и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разу-
меется, «запивать его своими слезами», что скорее пой-
дет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами,
чем склонится на просьбу «непокорного» переехать
27*
419
к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда
не будет в доме его! Вообще слово нога, употребленное
в этом смысле, произносится с необыкновенным эффек-
том иными барынями. Генеральша мастерски, художе-
ственно произносила его... Словом, красноречия было
истрачено в невероятном количестве. Надо заметить,
что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку
укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник
заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно
по сороку верст из Степанчикова в город, и только через
две недели после похорон генерала получил позволение
явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома
Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две
недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловеч-
ным» его поведением, довел его до искренних слез,
почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается
все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влия-
ние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома до-
гадался, какой перед ним человек, и тотчас же почув-
ствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье
и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же
он свое.
— Каково же будет вам,— говорил Фома,— если
собственная ваша мать, так сказать, виновница дней
ваших возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими
и иссохшими от голода руками начнет в самом деле
испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-
первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при
ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг при-
дет, разумеется, ошибкой — ио ведь это может слу-
читься — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда
как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту
утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще
в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то,— по-
звольте это вам сказать откровенно, полковник,— всего
ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бес-
чувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что
даже неприлично, тогда как при одном предположении
подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем
волосы из головы своей и испустить ручьи... что
я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..
420
Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался.
Но таков был всегдашний исход его красноречия.
Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе
с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фоми-
ном и с девицей Перепелицыной, своей главной наперс-
ницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степан-
чиково. Она говорила, что только попробует жить
у сына, покамест только испытает его почтительность.
Можно представить себе положение полковника, пока-
мест испытывали его почтительность! Сначала, в каче-
стве недавней вдовы, генеральша считала своею обязан-
ностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние
при воспоминании о своем безвозвратном генерале; при-
чем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз достава-
лось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь по-
сещениях, подозвав к себе своего внука, маленького
Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою,
генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела
на них грустным, страдальческим взглядом, как на де-
тей, погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала
и, наконец, заливалась безмолвными таинственными
слезами по крайней мере на целый час. Горе полков-
нику, если он не умел понять этих слез! А он, бедный,
почти никогда не умел их понять и почти всегда, по
наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие
слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен.
Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, до-
шла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша
и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла
гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала
Крахоткина,— прошла и никогда не воротится. Бывало,
генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на ди-
ване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник
уничтожится и дрожит, как осиновый лист.
— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнув-
шись,— ты растерзал мои внутренности... mes entrailles,
mes entrailles! 1
— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутрен-
ности? — робко возражает полковник.
1 мои внутренности (франц.).
421
— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается!
Он грубит! Жестокий сын! умираю!..
Полковник, разумеется, уничтожен.
Но как-то так случалось, что генеральша всегда ожи-
вала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь,
взяв его за пуговицу:
— Ну, да ведь она, братец, grande dame !, гене-
ральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко
всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку!
Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват.
Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но,
уж конечно, я виноват...
Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое
и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке,
с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как
ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном
рассоле, считала своею обязанностью прочесть настав-
ление полковнику:
— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого,
что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с;
они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще
только полковники-с.
— Это, брат, девица Перепелицына,— замечает пол-
ковник своему слушателю,— превосходнейшая девица,
горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай,
что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама под-
полковничья дочь. Вот оно как!
Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же
самая генеральша, которая умела выкидывать такие
разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как
мышка, перед прежним своим приживальщиком. Фома
Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала
на него, слышала его ушами, смотрела его глазами.
Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гу-
сар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероят-
ной степени и проживавший одно время у дяди, прямо
и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеж-
дению, генеральша находилась в непозволительной
связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же
1 светская дама (франц.).
422
с негодованием отверг это предположение, как уж
слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое,
и это другое я никак не могу объяснить иначе, как пред-
варительно объяснив читателю характер Фомы Фомича
так, как я сам его понял впоследствии.
Представьте же себе человечка, самого ничтожного,
самого малодушного, выкидыша из общества, никому
ненужного, совершенно бесполезного, совершенно
гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не
одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть
сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздражен-
ное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич
есть олицетворение самолюбия самого безграничного,
но вместе с тем самолюбия особенного, именно: слу-
чающегося при самом полном ничтожестве, и, как обык-
новенно бывает в таком случае, самолюбия оскорблен-
ного, подавленного тяжкими прежними неудачами, за-
гноившегося давно-давно, и с тех пор выдавливающего
из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой
чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправ-
лено самою безобразною обидчивостью, самою сума-
сшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда
берется такое самолюбие? как зарождается оно, при
таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, ко-
торые, уже по социальному положению своему, обязаны
знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто
знает, может быть, есть и исключения, к которым и при-
надлежит мой герой. Он и действительно есть исключе-
ние из правила, что и объяснится впоследствии.
Однакож позвольте спросить: уверены ли вы, что те,
которые уже совершенно смирились и считают себе за
честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщи-
ками и прихлебателями,— уверены ли вы, что они уже
совершенно отказались от всякого самолюбия? А за-
висть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинствен-
ные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под
боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть,
в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев,
ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не про-
ходит от унижения, но даже еще более распаляется
именно от этого же самого унижения, от юродства
423
и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой
подчиненности и безличности. Кто знает, может быть,
это безобразно вырастающее самолюбие есть только
ложное, первоначально извращенное чувство собствен-
ного достоинства, оскорбленного в первый раз еще,
может, в детстве, гнетом, бедностью, грязью, опле-
ванного, может быть, еще в лице родителей
будущего скитальца, на его же глазах? Но я ска-
зал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение
из общего правила. Это и правда. Он был когда-то
литератором и был огорчен и не признан; а литература
способна загубить и не одного Фому Фомича —
разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать,
что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы;
может быть, и на других карьерах он получал одни
только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще
того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впослед-
ствии справлялся и наверно знаю, что Фома действи-
тельно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма
похожий на те, которые стряпались там в тридцатых
годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобож-
дений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви,
или русских в 1104-м году» и проч, и проч., романов, до-
ставлявших в свое время приятную пищу для остроумия
барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея
литературного самолюбия жалит иногда глубоко и не-
излечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых.
Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага
и тогда же окончательно примкнул к той огромной фа-
ланге огорченных, из которой выходят потом все юроди-
вые, все скитальцы и странники. С того же времени,
я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость,
эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений.
Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед
ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь
первенствовать, прорицать, поковеркаться и по-
хвастаться — вот была главная потребность его! Его не
хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слы-
шал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда
уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не
жилец я между вами,— говаривал он иногда с какою-то
424
таинственною важностью,— не жилец я здесь! По-
смотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда про-
щайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч
человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно.
Грянет, наконец, мое имя, и тогда — горе врагам моим!»
Но гений, покамест еще собирался прославиться, требо-
вал награды немедленной. Вообще приятно получать
плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он
серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит вели-
чайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет при-
зван и к совершению которого понуждает его какой-то
человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или
что-то вроде того. Именно: написать одно глубоко-
мысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от
которого произойдет всеобщее землетрясение и затре-
щит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то
он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь
и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о сча-
стии отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.
Теперь представьте же себе, что может сделаться из
Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже,
может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне
сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорчен-
ного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба,
из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее
ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче
нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в сла-
ву, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-
покровителышце и обольщенному, на все согласному
покровителю, в дом которого он попал, наконец, после
долгих странствований? О характере дяди я, конечно,
обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех
Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно
сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол.
Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа,
выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он
тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним
ломались — и он сам стал над другими ломаться. Он
был шутом, и тотчас же ощутил потребность завести
и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до
невозможности, требовал птичьего молока, тиранство-
425
вал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще
не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только
россказни, считали все это за чудо, за наваждение, кре-
стились и отплевывались.
Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечатель-
ного характера (повторяю это), конечно, непонятно
такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме;
непонятна эта метаморфоза из шута в великого чело-
века. Мало того, что дядя был добр до крайности —
это был человек утонченной деликатности, несмотря на
несколько грубую наружность, высочайшего благород-
ства, мужества испытанного. Я смело говорю
«мужества»: он не остановился бы перед обязанностью,
перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких
преград. Душою он был чист, как ребенок. Это был дей-
ствительно ребенок в сорок лет, экспансивный в выс-
шей степени, всегда веселый, предполагавший всех лю-
дей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках
и преувеличивавший добрые качества других до край-
ности, даже предполагавший их там, где их и быть не
могло. Это был один из тех благороднейших и целомуд-
ренных сердцем людей, которые даже стыдятся пред-
положить в другом человеке дурное, торопливо на-
ряжают своих ближних во все добродетели, радуются
чужому успеху, живут таким образом постоянно
в идеальном мире, а при неудачах прежде всех об-
виняют самих себя. Жертвовать собою интересам дру-
гих — их призвание. Иной бы назвал его и малодуш-
ным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был
слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от
недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить
жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку
вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был
единственно, когда дело шло о его собственных выгодах,
которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что
всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от
тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем,
он никогда не верил, чтоб у него были враги; они,
однакож, у него бывали, но он их как-то не замечал.
Шуму и крику в доме он боялся, как огня, и тотча-с же
всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-
426
то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой
деликатности, «чтоб уже так», говорил он скороговор-
кою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потвор-
стве и слабости — «чтоб уж так... чтоб уж все были
довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он
готов был подчиниться всякому благородному влиянию.
Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть
и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскиро-
вав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно
легко вверялся другим и в этом случае был далеко не
без ошибок. Когда же, после многих страданий он ре-
шался, наконец, увериться, что обманувший его человек
бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко
и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг во-
царившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую
из ума идиотку, неразлучно с другим идиотом — ее
идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала,
а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже
потребность вознаградить себя за все прошлое,—
идиотку, перед которой дядя считал своею обязан-
ностью благоговеть уже потому только, что она была
мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде,
что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист
в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-
старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да
я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере от-
части. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему
самим богом для спасения души его и для усмирения его
необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим
богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском
хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину
своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить
прощения...
— Я, братец, сам виноват,— говорит он, бывало,
кому-нибудь из своих собеседников,— во всем виноват!
Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого
одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!., опять
соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одол-
жает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрек-
нул его куском хлеба!., то есть я вовсе не попрекнул, .но,
видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто
427
с языка срывается... Ну, и, наконец, человек страдал,
делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорб-
ления, ухаживал за больным другом: все это требует
награды! ну, наконец, и наука... писатель! образован-
нейший человек! благороднейшее лицо — словом...
Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах
у капризного и жестокого барина, надрывал благород-
ное сердце дяди сожалением и негодованием. Все
странности Фомы, все неблагородные его выходки
дядя тотчас же приписал его прежним страда-
ниям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же
решил в нежной и благородной душе своей, что с стра-
дальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного чело-
века; что не только надо прощать ему, но сверх того
надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его,
примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он
воспламенился до крайности и уже совсем потерял спо-
собность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг
его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй,
лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениаль-
ность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что
перед словом «наука» или «литература» дядя благого-
вел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя
сам никогда и ничему не учился.
Это была одна из его капитальных и невиннейших
странностей.
— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя
на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы
Фомича.— Не знаю, что именно,— прибавлял он с гор-
дым и таинственным видом,— но уж, верно, брат, такая
бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого
ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувыркалегия, что...
Кажется, о производительных силах каких-то пишет,—
сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да,
грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него про-
славимся. Он, брат, мне это сам говорил...
Мне положительно известно, что дядя, по приказа-
нию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные,
темнорусые бакенбарды. Тому показалось, что с бакен-
бардами дядя похож на француза и что поэтому в нем
мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал
428
вмешиваться в управление имением и давать мудрые
советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне
скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин,
и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слы-
шал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот
разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде
объявил, что любит поговорить с умным русским му-
жичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с му-
жичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса
от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанно-
стях крестьянина к господину, коснувшись слегка элек-
тричества и разделения труда, в чем, разумеется, не по-
нимал ни строчки, растолковав своим слушателям, ка-
ким образом земля ходит около солнца, и, наконец,
совершенно умилившись душой от собственного красно-
речия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь
рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который
внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его
папенька, «такой хляблий, что папеньку любит госу-
дарь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырех-
летием слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому
Фомича с подобострастием.
— А што, батюшка, много ль ты царского-то жало-
ванья получал? — спросил его вдруг один седенький
старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы дру-
гих мужичков, с очевидным намерением подольститься;
но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным,
а он терпеть не мог фамильярности.
— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с
презрением поглядев на бедного мужичонка.— Что ты
мне мосысу-то свою выставил: плюнуть мне, что ли,
в нее?
Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с
«умным русским мужичком».
— Отец ты наш...— подхватил другой мужичок,—
ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полков-
ник, аль само ваше сиятельство,— как и величать-то
тебя не ведаем.
— Пехтерь! — повторил Фома Фомич, однакож
смягчился.— Жалованье жалованью розь, посконная
ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего
429
не получает,— значит, не за что: пользы царю не при-
носит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у мини-
стра служил, да и тех не брал, потому я из чести слу-
жил, свой был достаток. Я жалованье свое на государ-
ственное просвещение да на погорелых жителей
Казани пожертвовал.
— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, ба-
тюшка? — продолжал удивленный мужик.
Мужики вообще дивились на Фому Фомича.
— Ну да, и моя там есть доля,— отвечал Фома, как
бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил
такого человека таким разговором.
С дядей разговоры были другого рода.
— Прежде кто вы были? — говорит, например,
Фома, развалясь после сытного обеда в покойном
кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был
отмахивать от него свежей липовой веткой мух.— На
кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил
в вас искру того небесного огня, который горит теперь в
душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня,
или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру, иль нет?
Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал
такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас
же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый,
теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем
противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным,
и он уже теперь настаивал на ответе.
— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?
Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.
— Позвольте вам заметить, что я жду,— замечает
Фома обидчивым голосом.
— Mais repondez done !, Егорушка! — подхватывает
генеральша, пожимая плечами.
— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра, иль
нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв кон-
фетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед
ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.
— Ей-богу, не знаю, Фома,— отвечает, наконец,
дядя с отчаянием во взорах,— должно быть, что-нибудь
1 Да отвечай же (франц.).
430
есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай,
а то я совру что-нибудь...
— Хорошо! так, по-вашему, я так ничтожен, что
даже не стою ответа,— вы это хотели сказать? Ну,
пусть будет так; пусть я буду ничто.
— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это
хотел сказать?
— Нет, вы именно это хотели сказать.
— Да клянусь же, что нет!
— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему
обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре;
пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я
все перенесу...
— Mais, шоп fils...1 — вскрикивает испуганная гене-
ральша.
— Фома Фомич! маменька! — восклицает дядя в
отчаянии,— ей-богу же, я не виноват! так разве не-
чаянно с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня,
Фома: я ведь глуп — сам чувствую, что глуп; сам
слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, все знаю!
ты уж и не говори! — продолжает он, махая рукой.—
Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как
тебя узнал, все думал про себя, что человек... ну и все
там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что
грешен, как козел, эгоист первой руки и наделал зла
такую кучу, что диво, как еще земля держит!
— Да, вы-таки эгоист! — замечает удовлетворенный
Фома Фомич.
— Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет,
шабаш! исправлюсь и буду добрее!
— Дай-то бог! — заключает Фома Фомич, благо-
честиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к
послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал
после обеда.
В заключение этой главы позвольте мне сказать
собственно о моих личных отношениях к дяде и объяс-
нить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на
глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно
попал в круговорот самых важнейших происшествий
1 Но, сын мой (франц.).
431
из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном
селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заклю-
чить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.
В детстве моем, когда я осиротел и остался один на
свете, дядя заменил мне собою отца, воспитывал, меня
на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не
всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как
он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой.
Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень
скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы
вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной пре-
злой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни.
Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея
и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго
свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда
курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался
к нему со всем жаром юности: что-то благородное,
кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних
пределов поразило меня в его характере и влекло к
нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое
время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как
часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом
непродолжительном времени наделаю чрезвычайно
много чего-нибудь очень замечательного и даже вели-
кого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я
переписывался довольно редко, и то только когда нуж-
дался в деньгах, в которых он мне никогда не отказы-
вал. Между тем я уж слышал от одного дворового
человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Пе-
тербург, что у них, в Степанчикове, происходят удиви-
тельные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и
удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал
мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме
старался только заговаривать о науках, ожидая от меня
чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь
моими будущими успехами. Вдруг, после довольно
долгого молчания, я получил от него удивительное
письмо, совершенно не похожее на все его прежние
письма. Оно было наполнено такими странными наме-
ками, таким сбродом противоположностей, что я сна-
чала почти ничего и не понял. Видно было только, что
432
писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом
письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти
умоляя меня, предлагал мне как можно скорее же-
ниться на прежней его воспитаннице, дочери одного
беднейшего провинциального чиновника, по фамилии
Ежевикина, получившей прекрасное образование в
одном учебном заведении в Москве, на счет дяди, и
бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что
она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я
даже сделаю великодушный поступок, обращался к
благородству моего сердца и обещал дать за нею при-
даное. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинст-
венно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохра-
нить все это в величайшей тайне. Письмо это так пора-
зило меня, что, наконец, у меня голова закружилась.
Да и на какого молодого человека, который, как я,
только что соскочил со сковороды, не подействовало бы
такое предложение, хотя бы, например, романическою
своею стороною? К тому же я слышал, что эта моло-
денькая гувернантка —’прехорошенькая. Я, однакож,
не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде,
что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя
выслал мне, при том же письме, и денег на до-
рогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге
промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно
встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который,
возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по до-
роге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассуди-
тельный человек, закоренелый холостяк. С негодова-'
нием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же
сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих
пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома
Фомич и генеральша задумали и положили женить
дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти
совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биогра-
фией и чуть ли не с полмиллионом приданого; что
генеральша уже успела уверить эту девицу, что они
между собою родня, и вследствие того переманить к
себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется,
кончится тем, что непременно женится на полмиллионе
приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша
28 Ф. М. Достоевский, т. 2
433
и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную,
беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами
выживают ее из дома, вероятно боясь, чтоб полковник
в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и ус-
пел в нее влюбиться. Эти последние слова меня пора-
зили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен
ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел,
дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал ску-
по, нехотя и заметно уклонялся от подробных объясне-
ний. Я задумался; известие так странно противоречило
с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить
было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая
не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти
его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить
ненавистную свадьбу с перезрелой девой, и, наконец,—
так как, по моему окончательному решению, любовь
дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фо-
мича,— осчастливить несчастную, но, конечно, инте-
ресную девушку предложением руки моей и проч., проч.
Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что,
по молодости лет и от нечего делать, перескочил из
сомнений совершенно в другую крайность: я начал го-
реть желанием как можно скорее наделать разных
чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выка-
зываю необыкновенное великодушие, благородно жерт-
вуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное
создание,— словом, я помню, что во всю дорогу был
очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко;
кругом меня развертывался необъятный простор полей
с дозревавшим хлебом... А я так долго сидел закупо-
ренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь
настоящим образом взглянул на свет божий!
II
ГОСПОДИН БАХЧЕЕВ
Я уже приближался к цели моего путешествия.
Проезжая маленький городок Б., от которого остава-
лось только десять верст до Степанчикова, я принужден
был остановиться у кузницы близ самой заставы по
434
случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего
тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст,
можно было довольно скоро, и потому я решился,
никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест куз-
нецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел од-
ного толстого господина, который, так же как и я, при-
нужден был остановиться для починки своего экипажа.
Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал,
бранился и с брюзгливым нетерпением погонял масте-
ровых, суетившихся около его прекрасной коляски.
С первого же взгляда этот сердитый барин показался
мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти,
среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и
пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о бла-
женной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей
его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был
широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.
Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем
более что видел меня первый раз в жизни и еще не
сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только
вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его
взглядам. Мне, однакож, очень хотелось с ним позна-
комиться. По болтовне его слуг я догадался, что он
едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому
был случай о многом порасспросить. Я было приподнял
фуражку и попробовал со всевозможною приятностью
заметить, как неприятны иногда бывают задержки в
дороге; ио толстяк окинул меня как-то нехотя недо-
вольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог,
что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился
ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы хотя и
была предметом весьма любопытным для наблюдений,
но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора
приятного.
— Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. — закри-
чал он вдруг на своего камердинера, как будто совер-
шенно не слыхав того, что я сказал о задержках в
дороге.
Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый
в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые
бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже
28*
435
был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между
барином и слугой немедленно произошло объяснение.
— Выпорешь! ори еще больше! — проворчал
Гришка будто про себя, но так громко, что все это
слышали, и с негодованием отвернулся что-то прила-
дить в коляске.
— Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?., гру-
биянить вздумал! — закричал толстяк, весь побагро-
вев.
— Да чего вы взъедаться в самом деле изволите?
Слова сказать нельзя!
— Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит,
а мне и не взъедаться!
— Да за что я буду ворчать?
— За что ворчать... А то небось нет? Я знаю, за
что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал,—
вот что.
— А мне что! По мне хошь совсем не обедайте.
Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.
— Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?
— А не на них, так на экипаж ворчу.
— А на экипаж чего ворчать?
— А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в
целости будь.
— На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на
экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!
— Да что вы, сударь, в самом деле пристали?
Отстаньте, пожалуйста!
— А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со
мной не сказал,— а? Говоришь же в другие разы!
— Муха в рот лезла — оттого и молчал и сидел
сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать?
Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки
любите.
Толстяк раскрыл было рот, чтобы возразить, но,
очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный
своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным
при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к
рабочим и начал им что-то показывать.
Попытки мои познакомиться оставались тщетными,
особенно при моей неловкости; но мне помогло непред-
436
виденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая
и непричесанная физиономия внезапно выглянула из
окна закрытого каретного кузова, с незапамятных вре-
мен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но
тщетно ожидавшего починки. С появлением этой фи-
зиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех.
Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был
в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспав-
шись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на
свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его
инструментом. Все это чрезвычайно веселило присут-
ствовавших.
Есть такие натуры, которым в особенную радость и
веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы
пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший
на улице, перебранка двух баб и проч, и проч, на эту
тему производят иногда в иных людях самый добро-
душный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик
принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-
помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала
делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем про-
яснилась.
— Да это Васильев? — спросил он с участием.—
Да как он туда попал?
— Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев!—
закричали со всех сторон.
— Загулял, сударь,— прибавил один из работников,
человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски-
стротим выражением лица и с поползновением на стар-
шинство между своими,— загулял, сударь, от хозяина
третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался
к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь
стамеска, пустая ты голова? Последний струмент за-
кладывать хочет!
— Эх, Архипушка! деньги — голуби: прилетят и
опять улетят! Пусти, ради небесного‘Создателя,— молил
Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из
кузова голову.
— Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отве-
чал Архип.— Глаза-то еще с третьева дня успел пере-
менить; с улицы сегодня на заре притащили; моли
437
бога — спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел,
«запасные, дескать, колотья у нас проявились».
Смех раздался вторично.
— Да стамеска-то где?
— Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий чело-
век, как есть, сударь, Степан Алексеич.
— Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе
работаешь: инструмент закладываешь! — прохрипел
толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный
и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение
духа.
— А ведь столяр такой, что и в Москве поискать!
Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец,—
прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко
мне.— Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.
Барина послушались. Гвоздь, которым забили ка-
ретную дверцу более для того, чтобы позабавиться
над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и
Васильев показался на свет божий испачканный, не-
ряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул
и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток,
осмотрелся кругом.
— Народу-то, народу-то! — проговорил он, качая
головой,— и все, чай, тре...звые,— протянул он в каком-
то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе.—
Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.
Снова всеобщий хохот.
— С наступающим днем! Да ты смотри, сколько
дня-то ушло, человек несообразный!
— Ври, Емеля,—твоя неделя!
— По-нашему, хоть на час, да вскачь!
— Хе-хе-хе! Ишь краснобай! — вскричал толстяк,
еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня
приветливо.— И не стыдно тебе, Васильев?
— С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя,—
отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно,
довольный, что представился случай еще раз помянуть
про свое горе.
— С какого горя, дурак?
— Ас такого, что досель и* не видывали: Фоме
Фомичу нас записывают.
438
— Кого? когда? — закричал толстяк, весь встре-
пенувшись.
Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно не-
ожиданно коснулось и до меня.
— Да всех капитоновских. Наш барин, полковник —
дай бог ему здравия — всю нашу Капитоновку, свою
вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые
семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома!
вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты
небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в
Ладожском озере ходят — только и душ ревизских
тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому
родитель твой,— продолжал Васильев с каким-то злоб-
ным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во
всем, что касалось Фомы Фомича,— потому что роди-
тель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, не-
ведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал,
при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как
запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, стол-
бовой дворянин, и людей своих собственных иметь
будешь, лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»
Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, про-
изведенный на него полупьяным рассказом Васильева,
был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что
даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки
налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет
удар.
— Этого недоставало! — проговорил он задыха-
ясь,— ракалья, Фома, приживальщик, в помещики!
Тьфу! пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее!
Домой!
— Позвольте спросить вас,— сказал я, нереши-
тельно выступая вперед,— сейчас вы изволили упомя-
нуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только
не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... сло-
вом, я имею особенные причины интересоваться этим ли-
цом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой
степени можно верить словам этого доброго человека,
что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить
одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрез-
вычайно интересует, и я...
439
— А позвольте и вас спросить,— прервал толстый
господин,— с какой стороны изволите интересоваться
этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой
ракальей анафемской — вот как называть его надо, а
не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! один только
срам, а не лицо!
Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь
в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне при-
ходится дядей, а сам я — Сергей Александрович такой-
то.
— Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да
там вас ждут не дождутся! — вскричал толстяк, нели-
цемерно обрадовавшись,— ведь я теперь сам от них, из
Степанчикова; от обеда уехал, из-за пудина встал: с
Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за
Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня
извините. Я Степан Алексеич Бахчеев и вас вот эдаким
от полу помню... Ну, кто бы сказал?.. А позвольте вас...
И толстяк полез лобызать меня.
После первых минут некоторого волнения я немед-
ленно приступил к расспросам: случай был пре-
восходный.
— Но кто ж этот Фома? — спросил я,— как это он
завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора
шелепами? Признаюсь...
— Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь
Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома
велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все
до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб
был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной
неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот
на столечко не приврал! Просто, батюшка, штука капи-
тана Кука выходит!
— Я слышал это, но, признаюсь...
— Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно
человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня
расспросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка
Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная
дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума со-
всем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему
она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал
440
он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась,
хоть и превосходительством называется — за генерала
Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про
сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что
в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да
охи, да клохчет как курица,— надоела мне совсем — ну
ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот
и уважай ее ни за что, ни про что, за то только,
что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично:
тетушкой она вам приходится. Одна только
Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть
и малый ребенок — всего-то шестнадцатый год, да
умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смот-
реть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да
и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного
генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему,
для его генеральской потехи, различных зверей из себя
представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды
копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь пол-
ковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца
родного почитает, в рамку вставил его, подлеца,
в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику,—
тьфу!
— Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь
вам... позвольте вас спросить, что он красив, умен?
— Фома-то? писаный красавец! — отвечал Бахчеев
с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе.
(Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал
и на меня смотреть подозрительно.) — Писаный краса-
вец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на
всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите допод-
линно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы
остроумием, шельмец, обладал,— ну, я бы тогда со-
гласился, пожалуй, скрепя сердце для остроумия-то,
а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им
дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык
устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили
вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово
иль нет?
— Воронка еще перековать надо,— промолвил
мрачно Григорий.
441
— Воронка. Я тебе такого задам воронка!.. Да, су-
дарь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот
разинете да так и останетесь до второго пришествия
с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы
что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь
он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает,
все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, ба-
тюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не
верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть
вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да
слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там
полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую
слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет.
Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними
из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет,
оскорбления чинит. 'Чего уж мне: значительного чина не
пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-
то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех ум-
нее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж,
что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непре-
менно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет уче-
ным своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та!
то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что от-
резать его да выбросить на навозную кучу, так он и там
будет болтать, все будет болтать, пока ворона не склюет.
Зазнался, надулся, как мышь на крупу! Ведь уж туда
теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего!
Ведь он там дворовых людей по-французски учить вы-
думал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему полезно,
хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый — больше
ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу
я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-француз-
ски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать,
с чужими женами апельсинничать? разврат — больше
ничего! А по-моему, графин водки выпил — вот и загово-
рил на всех языках. Вот как я его уважаю, француз-
ский-™ ваш язык! Небось и вы по-французски: «та-та-
та! та-та-та! вышла кошка за кота!» — прибавил Бах-
чеев, смотря на меня с презрительным негодованием.—
Вы, батюшка, человек ученый,— а? по ученой части
пошли?
442
— Да... я отчасти интересуюсь...
— Чай тоже все науки произошли?
— Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более
интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петер-
бурге и теперь спешу к дядюшке...
— А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-
нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут,
я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой
дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да
я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них
похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй,
бог с вами, не верьте.
— Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще
не понимаю,— отвечал я, теряясь все более и более.
— То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы пры-
гуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной
ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, ба-
тюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! При-
ходилось с вашими петербургскими сталкиваться — не-
потребный народ! Всё фармазоны; неверие распростра-
няют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит
его — тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказы-
вать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в са-
мом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал.
Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только
он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безу-
мие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то
из-за Фомы Фомича...
— Да я б его, Видоплясова,— ввязался Григорий,
который до сих пор чинно и строго наблюдал раз-
говор,— да я б его, Видоплясова, из-под розог не вы-
пустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую
вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.
— Молчать! — крикнул барин,— держи язык за зу-
бами; не с тобой говорят!
— Видоплясов,— сказал я, совершенно сбившись
и уже не зная, что говорить,— Видоплясов... скажите,
какая странная фамилия?
— А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, уче-
ный, ученый!
Я потерял терпение.
443
— Извините,— сказал я,— но за что ж вы на меня-
то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот
уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем
идет дело...
— Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал
толстяк,— нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя
говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот
сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья
естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его
и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная по-
губила меня — откровенно скажу; а во всем этом
Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что
погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же мило-
сти жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест
эти дураки с починкой копаются. Хороший человек
здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня,
Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется!
Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет.
Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь
добро бы чин на нем был необыкновенный какой-
нибудь,— продолжал Бахчеев, снова обращаясь
к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог от-
вязаться,— ну, тогда хоть по чину простительно; а то
ведь и чннишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет.
За правду, говорит, где-то там пострадал в сорок не
в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки!
черт не брат! Чуть что не по нем — вскочит, завизжит:
«Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают,
уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей
сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убо-
гий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он
тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем
без меня сели за стол? значит, ни во что меня почи-
тают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал.
Он думал, что и'я перед ним собачонкой на задних лап-
ках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет,
брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-
то Ильичем я ведь в одном полку служил. Я-то в от-
ставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину
приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй,
себя сгубите, не потакайте Фоме! прольете слезу!» Нет,
444
говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-
то!), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну,
думаю, против благонравия не пойдешь! Уж коли благо-
нравию зачал учить — значит, последнее дело пришло.
Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял
историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев пере-
крестился) : Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник.
Я было думал и день у них провести, и пообедать там,
и игрушку столичную выписал: немец на пружинах
у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вы-
тирает — превосходная вещь! (теперь уж не подарю,
морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца
отбит; назад везу.) Егор-то Ильич и сам бы не прочь
в такой день погулять и попраздновать, да Фомка пре-
тит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На
меня, стало быть, внимания не обращают теперь!»
А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименит-
стве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именин-
ник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет,
говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю
я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на
цыпочках ходят да шепчутся, как быть? За именинника
его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или
нет? Не поздравь — обидеться может, а поздравь —
пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели
мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?
— Помилуйте, слушаю; с особенным даже удоволь-
ствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал...
и... признаюсь...
— То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое
удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удоволь-
ствие-то свое говоришь?
— Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом
же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов
записать ваши слова.
— То есть как это, батюшка, записать? — спросил
господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня
подозрительно.
— Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.
— Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хо-
чешь?
445
— То есть как это обольстить? — спросил я с удив-
лением.
— Да так. Вот ты теперь меня обольстишь; я тебе
все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и
опишешь меня где-нибудь в сочинении.
Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева,
что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел
на меня.
— То-то, не из таких! кто тебя знает! может,
я лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в
печать послать.
— Позвольте спросить,— прервал я, отчасти желая
переменить разговор,— скажите, правда ли, что дя-
дюшка хочет жениться?
— Так что же, что хочет? Это бы еще ничего.
Женись, коли уж так тебя покачнуло, не это скверно,
а другое скверно...— прибавил господин Бахчеев в за-
думчивости.— Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно
не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья
напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь,
которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе
скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек,
а по правде, так один только срам, да и спасению
души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибир-
ский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка,
я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно,
что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то
•Фомке боится сказать, да и старухе своей боится ска-
зать: та тоже завизжит на все село да брыкаться
начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огор-
чится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда
двух'часов не прожить в доме-то. Супруга-то собствен-
норучно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим
каким манером такого киселя задаст, что по уезду
места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь,
вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую...
Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую
главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил!
Я постарше тебя; перебивать старика не годится...
Я извинился.
— Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как чело-
446
веку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня
разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты чело-
век. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть
не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит
себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке
воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия
человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот
и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже
меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой тол-
стый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый?
Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли
тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это
так уж бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой
тонок; а против всеблагого провидения смертному
восставать невозможно». Благоразумно ведь — как вы
думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь
на готовом, а пользы отечеству не приносишь: надо
служить, а ты все дома сидишь да на гармонии
играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гар-
монии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отве-
чаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? в какой
мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, за-
тянусь, неравно чихну — все пуговицы и отлетят, да
еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог,
за пашквиль сочтут — что тогда?» Ну, скажите, ба-
тюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же,
покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие
пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам
скажу, да еще на французском диалекте поносить меня
вздумал: «Кошон» *, говорит. Ну, кошон-то и я понимаю,
что значит. «Ах ты физик проклятый, думаю; пола-
гаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не
утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе
и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома
Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовос-
питанный человек, а ты, брат, выходишь такая же
свинья, как и мы все»,— сказал, да и вышел из-за
стола, из-за самого пудина: пудин тогда обносили. «Ну
вас и с пудином-то,!..»
1 Свинья (франц, cochon).
447
— Извините меня,— сказал я, прослушав весь рас-
сказ господина Бахчеева,— я, конечно, готов с вами во
всем согласиться. Главное, я еще ничего положитель-
ного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня яви-
лись теперь свои идеи.
— Какие же это идеи, батюшка, у тебя появи-
лись? — недоверчиво спросил господин Бахчеев.
— Видите ли,— начал я, несколько путаясь,— оно,
может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов
сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба
ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти
странности прикрывают натуру особенную, даже даро-
витую — кто это знает? Может быть, это натура огор-
ченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая
всему человечеству. Я слышал, что он прежде был
чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскор-
било, сразило?.. Понимаете: человек благородный...
сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив
ко всему человечеству и... и, может быть, если при-
мирить его с человечеством... то есть с людьми, то,
может быть, из него выйдет натура особенная... может
быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же
что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по
которой ему все поклоняются?
Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался
ужасно. По молодости еще можно было простить. Но
господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смот-
рел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как
индейский петух.
— Это Фомка-то такой особенный человек? — спро-
сил он отрывисто.
— Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из
того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде
догадки...
— А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спро-
сить: обучались вы философии или нет?
— То есть в каком смысле? — спросил я с недоуме-
нием.
— Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо безо
всякого смыслу отвечайте: обучались вы философии
или нет?
448
— Признаюсь, я намерен изучать, но...
— Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев,
дав полную волю своему негодованию.— Я, батюшка,
еще прежде чем вы рот растворили, догадался, что вы
философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри!
За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь
вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека на-
шел! тьфу! прокисай все на свете! Я было думал, что вы
тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! —
закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправ-
ленного экипажа.— Домой!
Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как, наконец,
он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить
гнев на милость. Между тем он влез в коляску с по-
мощью Григория и Архипа, того самого, который читал
наставления Васильеву.
— Позвольте спросить вас,— сказал я, подойдя
к коляске,— вы уж более не приедете к дядюшке?
— К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это
сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу?
В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели
не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? Вот
подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой
воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне
господь этого Фомку в наказание послал. Характер
у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, ба-
тюшка, первой руки...
Мы, однакож, расстались по-дружески, он даже
пригласил меня к себе обедать.
— Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем.
У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар
в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую
кулебяку мисаиловну сочинит, что только пальчики
оближешь да в ножки поклонишься ему, подлецу.
Образованный человек! Я вот только давно не сек его,
балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили...
Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да
вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног
сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы,
может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка!
Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик
29 Ф. М. Достоевский, т. 2 449
готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной;
не то я такую чувствительную встречу ему сочиню,
что он...
Но последних слов уж не было слышно. Коляска,
принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла
в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него,
и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот
господин привирает,— подумал я,— он слишком сер-
дит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки
все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж
два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу...
Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко задумался.
Ill
ДЯДЯ
Признаюсь, я даже немного струсил. Романические
мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно стран-
ными, даже как будто и глупыми, как только я въехал
в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни.
Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих
лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором
мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и
который много раз потом снился мне во сне, в дортуа-
рах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выско-
чил из повозки и пошел прямо через сад к барскому
дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разуз-
нать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей.
Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил
на террасу, с которой стеклянною дверью прямо вхо-
дили во внутренние комнаты. Эта терраса была окру-
жена клумбами цветов и заставлена горшками доро-
гих растений. Здесь я встретил одного из туземцев,
старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой,
а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был
в очках и держал в руке тетрадку, которую читал
с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два
года назад в Петербурге, куда он приезжал вместе
с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня.
С радостными слезами бросился он целовать мои руки,
450
причем очки слетели с его носа на пол. Такая привя-
занность старика меня очень тронула. Но, взволнован-
ный недавним разговором с господином Бахчеевым,
я прежде всего обратил внимание на подозрительную
тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.
— Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить
по-французски? — спросил я старика.
— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца,—
печально отвечал Гаврила.
— Сам Фома учит?
•— Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.
•— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?
— По китрадке, батюшка.
— Это что в руках у тебя? А! французские слова
русскими буквами — ухитрился! Такому болвану, ду-
раку набитому, в руки даетесь — не стыдно ли, Гав-
рила?— вскричал я, в один миг забыв все велико-
душные мои предположения о Фоме Фомиче, за ко-
торые мне еще так недавно досталось от господина
Бахчеева.
— Где же, батюшка,— отвечал старик,— где же он
дурак, коли уж господами нашими так заправляет?
— Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила,— пробор-
мотал я, приостановленный этим замечанием.— Веди
же меня к дядюшке!
— Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться,
не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу,
горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить
изволит.
— Да чего же ты боишься?
— Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки
ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей
Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить!
Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послу-
шался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоем же обра-
зовании заботится, произношению тебя хочет учить».
Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич
к вечеру опять экзаментик сделать.
Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим
французским языком была какая-нибудь история, по-
думал я, которую старик не может мне объяснить.
29*
451
— Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный,
высокого роста?
— Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький
такой человечек.
— Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть,
уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится!
Но... где же дядюшка?
— А за конюшнями мужичков принимает. С Капи-
тоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что
их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.
— Да зачем же за конюшнями?
— Опасается, батюшка...
Действительно я нашел дядю за конюшнями. Там,
на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые
кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то
с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он
обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.
Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его дохо-
дила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки...
Точно ему возвратили его родного сына, избавленного
от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как
будто я своим приездом избавил и его самого от какой-
то смертельной опасности и привез с собою разрешение
всех его недоразумений, счастье и радость на всю
жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился
бы быть счастливым один. После первых порывов во-
сторга он вдруг так захлопотал, что, наконец, совер-
шенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспро-
сами, хотел немедленно вести меня к своему семейству.
Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав пред-
ставить меня сначала капитоновским мужикам. Потом,
помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому по-
воду, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном
человеке, которого он встретил три дня назад где-то на
большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости
с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина
и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смот-
рел на него. Отвечая на торопливые его расспросы,
я сказал, что желал бы не вступать в службу, а про-
должать заниматься науками. Как только дело дошло
до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкно-
452
венно важное лицо. Узнав, что в последнее время я за-
нимался минералогией, он поднял голову и с гордостью
осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без вся-
кой посторонней помощи, открыл и написал всю мине-
ралогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он
благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем
более бескорыстным, что сам решительно ничего не
знал.
— Эх, брат, есть же на свете люди, что всю под-
ноготную знают! — говорил он мне однажды с сверкаю-
щими от восторга глазами.— Сидишь между ними, слу-
шаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь,
а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут
польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю.
Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может,
и по воздуху полетит... Ну, да, наконец, и торговля,
промышленность — эти, так сказать, струи... то есть
я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь по-
лезно,— не правда ли?
Но обратимся к нашей встрече.
— Вот подожди, друг мой, подожди,— начал он,
потирая руки и скороговоркою,— увидишь человека!
Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек
науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко:
«Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил...
Подожди, я тебя познакомлю.
— Это вы про Фому Фомича, дядюшка?
— Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина.
То есть и Фома тоже и он... Но это я про Коровкина
теперь говорил,— прибавил он, неизвестно отчего по-
краснев и как будто смешавшись, как только речь за-
шла про Фому.
— Какими же он науками занимается, дядюшка?
— Науками, братец, науками, вообще науками!
Я вот только не могу сказать, какими именно, а только
знаю, что науками. Как про железные дороги говорит!
И знаешь,— прибавил дядя полушепотом, многозначи-
тельно прищуривая правый глаз,— немного эдак воль-
ных идей! Я заметил, особенно когда про семейное
счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял
(времени не было), а то бы рассказал тебе все, как по
453
нитке. И вдобавок благороднейших свойств человек!
Я его пригласил к себе погостить. С часу на час
ожидаю.
Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и
выпуча глаза, как на чудо.
— Послушайте, дядюшка,— прервал я его,— я, ка-
жется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью.
О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень
бы рад их послушать...
Дядя вдруг захлопотал и заторопился.
— Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними де-
лать? Выдумали,— и желал бы я знать, кто первый у
них это выдумал,— выдумали, что я отдаю их, всю Ка-
питоновку,— ты помнишь Капитоновку? еще мы туда
с покойной Катей все по вечерам гулять ездили,— всю
Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фо-
мичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»
— Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему
Капитоновки? — вскричал я почти в восторге.
— И не думал; в голове не было! А ты от кого слы-
шал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гу-
лять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот по-
дожди, Сергей, я тебя познакомлю,— прибавил он,
робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и
во мне врага Фоме Фомичу.— Это, брат, такой че-
ловек...
— Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! — заво-
пили вдруг мужики целым хором.— Вы отцы, а мы
ваши дети!
— Послушайте, дядюшка,— отвечал я,— Фому Фо-
мича я еще не видал, но... видите лк... я кое-что слы-
шал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина
Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя
идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы му-
жичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей.
Я, признаюсь, затем и приехал...
— Именно, именно,— подхватил дядя,— именно!
мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь,,
эдак приятельски, дружески, основательно! Ну,— про-
должал он скороговоркой, обращаясь к мужикам,— те-
перь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко
454
мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во вся-
кое время.
— Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не
давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! —
закричали еще раз мужики.
— Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!
— А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних,
слышь, совсем заучил.
— Так неужели он и вас по-французски учит? —
вскричал я почти в испуге.
— Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! —
отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун,
рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жи-
денькой клинообразной бородкой, которая так и ходила
вся, когда он говорил, точно она была живая сама по
себе.— Нет, сударь, покамест еще миловал бог.
— Да чему ж он вас учит?
— А учит он, ваша милость, так, что по-нашему вы-
ходит золотой ящик купи да медный грош положи.
— То есть как это медный грош?
— Сережа! ты в заблуждении; это клевета! — вскри-
чал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись.— Это
они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только
так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про все
поминать, горло драть,— продолжал дядя, с укоризною
обращаясь к мужику,— тебе ж, дураку, добра поже-
лали, а ты не понимаешь, да и кричишь!
— Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?
— Это он для произношения, Сережа, единственно
для произношения,— проговорил дядя каким-то проси-
тельным голосом.— Он это сам говорил, что для про-
изношения... Притом же тут случилась одна особенная
история — ты ее не знаешь, а потому и не можешь су-
дить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обви-
нять... Обвинять-то легко!
— Да вы-то чего! — закричал я, в запальчивости
снова обращаясь к мужикам.— Вы бы ему так все
прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич,
а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?
— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, ба-
тюшка? Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте
455
и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста? Да в
поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переме-
нять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.
— А вот анамедни на гумно пришел,— заговорил
другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в за-
платах, в самых худеньких лаптишках, и, повидимому,
один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и
всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отрав-
ленное слово. До сих пор он хоронился за спинами дру-
гих мужиков, слушал в мрачном безмолвии и все время
не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лука-
вой усмешки.— На гумно пришел. «Знаете ли вы, гово-
рит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука
эта не нашинская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак,
пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астро-
лом! Я все божии планиды узнал».
— Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? —•
вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмиги-
вая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»
— Да, сказал сколько-то много,— нехотя отвечал
мужик, не ожидавший такого вопроса.
— Ну, а сколько сказал, сколько именно?
— Да вашей милости лучше известно, а мы люди
темные.
— Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?
— Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-
то много сказал. На трех возах не вывезешь.
— То-то, помни, братец! А ты думал небось с
версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля — это, ви-
дишь, как шар круглый,— понимаешь?..— продолжал
дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.
Мужик горько улыбнулся.
— Да, как шар! Она так на воздухе и держится
сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте
стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она
штука какая! А открыл это все капитан Кук, мореход...
А черт его знает, кто и открыл,— прибавил он полуше-
потом, обращаясь ко мне.— Сам-то я, брат, ничего не
знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?
— Знаю, дядюшка,— отвечал я, с удивлением
смотря на всю эту сцену,— только вот что я думаю: ко-
456
нечно, необразованность есть то же неряшество; но,
с другой стороны... учить крестьян астрономии...
— Именно, именно, именно неряшество! — подхва-
тил дядя в восторге от моего выражения, которое пока-
залось ему чрезвычайно удачным.— Благородная
мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то
есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слы-
шите,— закричал он мужикам,— необразованность это
то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома
и хотел научить. Он вас добру хотел научить — это ни-
чего. Это, брат, уж все равно, тоже служба, всякого
чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо,
хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад...
будьте покойны, я вас не оставлю.
— Защити, отец родной!
— Вели свет видеть, батюшка!
И мужики повалились в ноги.
— Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не
мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите
ласку... ну и там все... Знаешь,— сказал он, вдруг обра-
щаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя
от радости,— любит мужичок доброе слово, да и пода-
рочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь,— а?
как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или
нет?
— Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благоде-
тельный человек, как я погляжу.
— Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им
давно хотел подарить,— прибавил он, как бы изви-
няясь.— А что тебе смешно, что я мужиков наукам
учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя
увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, му-
жик, узнал — сколько до солнца, да рот разинул. Ве-
село, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак
радуешься на него. Только знаешь, друг мой, не говори
там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся.
Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно
было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое
дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для
них больше и сделал...
— Ну вот, дядюшка, я и приехал! — начал я, пере-
457
меняя разговор и желая добраться поскорее до глав-
ного дела.— Признаюсь вам, письмо ваше меня так
удивило, что я...
— Друг мой, ни слова об этом! — перебил дядя,
как будто в испуге и даже понизив голос,— после,
после это все объяснится. Я, может быть, и виноват пе-
ред тобою и даже, может быть, очень виноват, но...
— Передо мной виноваты, дядюшка?
•— После, после, мой друг, после! все это объ-
яснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой!
А как же я тебя ждал! хотел излить, так сказать... ты
ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно за-
метить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же,
будь осторожнее, не оплошай!
— На меня? — спросил я, в удивлении смотря на
дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда
еще мне совсем незнакомых.— На меня?
— На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич
немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще
будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное
почтителен...
— Это перед Фойой-то Фомичом, дядюшка?
— Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю.
Действительно он, может быть, человек с недостат-
ками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Се-
режа, как это все меня беспокоит! И как бы это все
могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны
и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков?
Ведь не золотые ж и мы?
— Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он де-
лает...
— Эх, брат! все это только дрязги и больше ничего!
вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на
меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть,
я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...
— Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет
выработалась своя особая идея,— перебил я, торопясь
высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились.—
Во-первых, он был шутом: это его огорчило, сразило,
оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная,
болезненная, мстящая, так сказать, всему человече-
458
ству... Но если примирить его с человеком, если воз-
вратить его самому себе...
— Именно, именно! — вскричал дядя в восторге,—
именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно,
неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах,
друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез!
Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и
явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно до-
станется!
— Дядюшка, если так...— начал было я, смутясь
от такого признания.
— Ни-ни-ни! ни за что в свете! — закричал он, схва-
тив меня за руки.— Ты мой гость, и я так хочу!
Все это чрезвычайно меня удивляло.
— Дядюшка, скажите мне сейчас же,— начал
я настойчиво,— для чего вы меня звали? чего от
меня надеетесь и, главное, в чем передо мной вино-
ваты?
— Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это
после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват,
но я хотел поступить как честный человек, и... и... и ты
на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе
капля благородства! — прибавил он, весь покраснев от
какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко
сжимая мою руку.— Но довольно, ни слова больше! Все
сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Глав-
ное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечат-
ление. Главное, не сконфузься.
— Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там?
Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...
— Что немножко трусишь? — прервал дядя с улыб-
кою.— Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись,
не бойся! Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас,
спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша,—
начал он торопливо.— Ты помнишь мамашу или не по-
мнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без
претензий — это можно сказать; старого покроя не-
множко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие
фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь
сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну,
наконец, она ведь что называется grande dame, гене-
459
ральша... превосходнейший человек был ее муж: во-
первых, генерал, человек образованнейший, состояния
не оставил, но зато весь был изранен; словом — стяжал
уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта...
не знаю... в последнее время она как-то того... характер
такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да
бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-ни-
будь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Напер-
сница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья
Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая,
добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое —
ты, главное, на сердце смотри — пожилая девушка, но,
знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хо-
чет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну,
кто же еще из наших? про детей не говорю: сам уви-
дишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не
забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван
Иваныч Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, ка-
жется; да, именно троюродный! он недавно в отставку
вышел из гусаров, поручиком; человек еще моло-
дой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промо-
тался, что уж я и не знаю, где он успел так
промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было;
но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь го-
стит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам
приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный,
почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и
слово? все молчит. Фома в насмешку прозвал его «мол-
чаливый незнакомец» — ничего: не сердится. Фома до-
волен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем,
Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддаки-
вает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам
увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обно-
скин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума
человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот
только не умею выразиться; и вдобавок превосход-
ной нравственности; строгая мораль! Ну, и наконец,
гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, по-
жалуй, еще будет нам дальняя родственница — ты ее
не знаешь,— девица, немолодая — в этом можно при-
знаться, но... с приятностями девица; богата, братец,
460
так, что два Степанчикова купит; недавно полу-
чила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, по-
жалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь,
что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благо-
роден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое
надо быть осторожнее с человеком, испытавшим не-
счастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно,
есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет,
не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты
не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от бла-
городного сердца выходит, то есть если даже и солжет
что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее
благородство души — понимаешь?
Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.
— Послушайте, дядюшка,— сказал я,— я вас так
люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на
ком-нибудь здесь или нет?
— Да ты от кого слышал? — отвечал он, покраснев,
как ребенок.— Вот видишь, друг мой, я тебе все рас-
скажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти
сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька
обожает — и за дело, за дело: он много для нее сде-
лал,— все они хотят, чтоб я женился на этой самой
Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего
семейства. Конечно, мне же добра желают — я ведь это
понимаю; но я ни за что не женюсь — я уж дал себе
такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать:
ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда
так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и не-
пременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника,
я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я
даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фо-
мич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька
тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да
Коровкина... хотел излить, так сказать...
— Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?
— Поможет, друг мой, поможет,— это, брат, уж
такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как
на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про
семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя
тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди:
461
ну, положим, я виноват, действительно виноват — я по-
нимаю все это; я не бесчувственный. Ну, да все же
меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот
как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть
сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра име-
нинник. За Сашурку-то я боюсь — вот что!..
— Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и ми-
гом явлюсь, а там...
— В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране
велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин,
чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это
хорошо, прекрасно, прекрасно! а я покамест там всех
понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат,
надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да
ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют.
Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно,
знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за
мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то
мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не
кричи на меня там, как давеча здесь кричал,— а? разве
уж потом, если захочешь что заметить, так, наедине,
здесь и заметишь; а до тех шор как-нибудь скрепись,
подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они
сердятся...
— Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и
видел, мне кажется, что вы...
— Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! — пере-
бил он меня совсем неожиданно.— Что ж, брат, делать!
Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно
скорее приходи, пожалуйста!
Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня
приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Оде-
ваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того,
что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это
меня поразило. Одно только было для меня несколько
ясно: дядя все еще настойчиво хотел, чтоб я женился;
следовательно, все противоположные слухи, именно,
что дядя влюблен в ту же особу сам,— неуместны.
Помню, что я был в большой тревоге. Между про-
чим, мне пришло на мысль, что я приездом моим
и молчанием перед дядей почти произнес обещание,
462
дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно,— думал я,—
нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки
по рукам и по ногам. А я еще не видал и невесты!»
И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого
семейства? Почему именно все они должны смотреть на
мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за
странную роль играет сам дядя здесь, в своем собствен-
ном доме? Отчего происходит его таинственность? от-
чего все эти испуги и муки? Признаюсь, что все это
представилось мне вдруг чем-то совершенно бес-
смысленным; а романические и героические мечты мои
совсем вылетели из головы при первом столкновении
с действительностью. Теперь только, после разговора с
дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся
эксцентричность его предложения, и я понял, что подоб-
ное предложение, и в таких обстоятельствах, способен
был сделать один только дядя. Понял я также, что и
сам я, прискакав сюда сломя голову, по первому его
слову, в восторге от его предложения, очень походил
на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными
моими сомнениями, так что и не заметил сначала при-
служивавшего мне слугу.
— Аделаидина цвета изволите галстук надеть или
этот, с мелкими клетками? — спросил вдруг слуга,
обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, притор-
ною учтивостью.
Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже до-
стоин был любопытства. Это был еще молодой человек,
для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губерн-
ского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый
жилет, лакированные полусапожки и розовый галсту-
чек подобраны были, очевидно, не без цели. Все
это тотчас же должно было обратить внимание на
деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам
была выставлена напоказ непременно с тою же целью.
Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел боль-
шой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как
будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выра-
жала какую-то грусть и, однакож, деликатную грусть.
Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные,
смотрели необыкновенно тупо, и, однакож, все-таки
463
просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие
ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные,,
белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри
и напомажены. Ручки его были беленькие, чистень-
кие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы
оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми
ногтями. Все это показывало баловня, франта и бело-
ручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал буквы
р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до не-
вероятности. От него пахло духами. Роста он был
небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то осо-
бенно приседал, вероятно, находя в этом самую выс-
шую деликатность,— словом, он весь был пропитан
деликатностью, субтильностью и необыкновенным чув-
ством собственного достоинства. Последнее обстоя-
тельство, неизвестно почему, мне сгоряча не понра-
вилось.
— Так этот галстук аделаидина цвета? — спросил я,
строго посмотрев на молодого лакея.
— Аделаидина-с,— отвечал он с невозмутимою де-
ликатностью.
— А аграфенина цвета нет?
— Нет-с. Такого и быть не может-с.
— Это почему?
— Неприличное имя Аграфена-с.
— Как неприличное? почему?
— Известно-с: Аделаида по крайней мере иностран-
ное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут назы-
вать всякую последнюю бабу-с.
— Да ты с ума сошел или нет?
— Никак нет-с, я при своем уме-с. Все, конечно,
воля ваша обзывать меня всяческими словами; но
разговором моим многие генералы и даже некоторые
столичные графы оставались довольны-с.
— Да тебя как зовут?
— Видоплясов.
— А! так это ты Видоплясов?
— Точно так-с.
— Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.
«Однако здесь что-то похоже на бедлам»,— подумал
я про себя, сходя вниз.
464
IV
ЗА ЧАЕМ
Чайная была та самая комната, из которой был вы-
ход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таин-
ственные предвещания. дяди насчет приема, меня
ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда
не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти
всегда трусливо. Вот потому мне чрезвычайно не-
приятно было, когда я, только что войдя в дверь и
увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся
за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно
вылетел на средину комнаты. Сконфузившись так, как
будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе
имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бес-
смысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об
этом происшествии, совершенно по себе ничтожном,
единственно потому, что оно имело чрезвычайное влия-
ние на мое расположение духа почти во весь тот день,
а следственно, и на отношения мои к некоторым из
действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было
поклониться, не докончил, покраснел еще более, бро-
сился к дяде и схватил его за руку.
— Здравствуйте, дядюшка,— проговорил я, зады-
хаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо
остроумнее, ио, совсем неожиданно, сказав только:
«Здравствуйте».
— Здравствуй, здравствуй, братец,— отвечал стра-
давший за меня дядя,— ведь мы уж здоровались. Да
не конфузься, пожалуйста,— прибавил он шепотом,—
это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть
провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька,
позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой чело-
век; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите.
Племянник мой, Сергей Александрович,— добавил он,
обращаясь ко всем вообще.
Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте,
любезный читатель, представить вам поименно все
общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необ-
ходимо для порядка рассказа.
30 Ф. м. Достоевский, т. 2 465
Вся компания состояла из нескольких дам и только
двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, ко-
торого я так желал видеть и который — я уже тогда же
чувствовал это — был полновластным владыкою всего
дома, не было: он блистал своим отсутствием и как
будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны
и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого
взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и рас-
строен, однако я видел, что дядя, например, расстроен
чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял
все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непри-
нужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него
на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате,
был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти,
тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя,
восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне
чрезвычайно не понравился: все в нем сбивалось на
какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на
шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-
то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие тара-
каньи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, оче-
видно, предназначены были предъявлять человека
независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспре-
станно прищуривался, улыбался с какою-то выделан-
ною язвительностью, кобенился на своем стуле и поми-
нутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему по-
ворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и
как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек
молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный
братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрез-
вычайно молчалив. За чаем во все время он не
сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; ио я
вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую
видел в нем дядя; напротив, взгляд его светлокарих
глаз выражал решимость и какую-то определенность
характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и
довольно красив; одет очень прилично — на дядин
счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде
всех девицу Перепелицыну по ее необыкновенно
злому, бескровному лицу. Она сидела возле гене-
ральши,— о которой будет особая речь впоследствии,—
466
но не рядом, а несколько сзади, из почтительности;
поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей
покровительнице. Две-три пожилые приживалки, со-
вершенно без речей, сидели рядком у окна и почти-
тельно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-
генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая,
совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти,
одетая очень безвкусно и ярко, кажется нарумяненная
и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то
почерневшие и обломанные кусочки; это, однакож, не
мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть
ли не делать глазки. Она была увешана какими-то це-
почками и беспрерывно наводила на меня лорнетку,
как мсье Обноскин. Это была его маменька. Сми-
ренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала
чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой
разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не
смела. Все здесь, казалось, было под каким-то за-
претом. Возле нее сидела прехорошенькая, черно-
глазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня
пристально, с детским любопытством,— моя кузина
Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась
на вид одна престранная дама, одетая пышно и
чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко
по молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо
у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрез-
вычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появ-
лялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее
движении, при каждом волнении. Волновалась же она
беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в со-
стоянии была и минутки просидеть в покое. Она всмат-
ривалась в меня с каким-то жадным любопытством, бес-
престанно наклонялась пошептать что-то на ухо Са-
шеньке или другой соседке и тотчас же принималась
смеяться самым простодушным, самым детски-веселым
смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению
моему, как будто не обращали на себя ничьего внима-
ния, точно наперед все в этом условились. Я догадался,
что это была Татьяна Ивановна, та самая, в ко-
торой, по выражению дяди, было нечто фантасмагори-
ческое, которую навязывали ему в невесты и за
30*
467
которой почти все в доме ухаживали за ее богатство.
Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и
кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись мор-
щинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и
добр, что как-то особенно- приятно было встречаться с
ним. Об этой Татьяне, одной из настоящих «героинь»
моего рассказа, я скажу после подробнее: биография
ее примечательна. Минут пять после моего появления
в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой
кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого
теперь оба кармана были набиты бабками и в
руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная
девушка, немного бледная и как будто усталая, но
очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недо-
верчивым и даже робким взглядом, пристально посмот-
рела на меня и села возле Татьяны Ивановны.
Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я
догадался, что это была та самая гувернантка... Помню
тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня
быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схва-
тил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. За-
метил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально
посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой
навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень
смутился и, не зная что делать, вызвал было Сашеньку,
чтоб познакомить ее со мной, но та только привстала
и молча, с серьезною важностью, мне присела.
Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло.
В ту же минуту добрая тетушка Прасковья Иль-
инична не вытерпела, бросила разливать чай и кину-
лась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей
сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый
голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что
«видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с
(генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы
и не наливаете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильи-
нична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим
обязанностям.
Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом
кружке и перед которой все ходили по струнке, была
тощая и злая старуха, вся одетая в траур,— злая,
468
впрочем, больше от старости и от потери последних
(и прежде еще небогатых) умственных способностей;
прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее
еще глупее и надменнее. .Когда она злилась, весь дом
походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая
манера была молчаливая, когда старуха по целым
дням не разжимала губ своих и упорно молчала, тол-
кая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней
ни поставили. Другая манера была совершенно
противоположная: красноречивая. Начиналось обыкно-
венно тем, что бабушка,— она ведь была мне ба-
бушка,— погружалась в необыкновенное уныние,
ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, пред-
чувствовала впереди нищету и всевозможное горе,
вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала
по пальцам исчислять будущие бедствия и даже прихо-
дила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то
азарт. Разумеется, открывалось, что она все давно уже
заранее предвидела и только потому молчала, что при-
нуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б
только были к ней почтительны, если б только захо-
тели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; все
это немедленно поддакивалось стаей приживалок, де-
вицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скре-
плялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я пред-
ставлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по
первому способу, молчаливому, самому страшному. Все
смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ива-
новна, которой спускалось решительно все, была в пре-
восходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже
с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та,
сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя
свою чашку.
— Это тот вол-ти-жер? — проговорила она сквозь
зубы и нараспев, обращаясь к Перепелициной.
Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с
толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольти-
жером? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Пере-
пелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но
старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым
ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все перегляну-
469
лись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не
понравилось.
— Она, брат, иногда заговаривается,— шепнул мне
дядя, тоже отчасти потерявшийся,— но это ничего, она
это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце
смотри.
— Да, сердце! сердце! — раздался внезапно звон-
кий голос Татьяны Ивановны, которая все время не сво-
дила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно
усидеть на месте; вероятно, слово «сердце», сказанное
шепотом, долетело до ее слуха.
Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось
что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое,
только она вдруг замолчала, покраснела ужасно,
быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то
на ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинув-
шись на спинку кресла, захохотала, как будто в исте-
рике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к
удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели
так, как будто ничего не случилось особенного. Я, ко-
нечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец,
мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю
почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести
самый любезный разговор с дамами.
— Вы правду сказали, дядюшка,— начал я,— пре-
достерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я от-
кровенно признаюсь — к чему скрывать? — продолжал
я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обнос-
киной,— что до сих пор совсем почти не знал дамского
общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно
войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты
была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком,—
не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? — заключил я, те-
ряясь все более и более, краснея за свою заискивающую
откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина,
который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы
до ног.
— Именно, именно, именно! — вскричал вдруг
дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадо-
вавшись, что разговор кое-как завязался и я поправ-
люсь.— Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь,
470
что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы
в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже со-
врал — веришь или нет? Нет, ей-богу, Анфиса Пет-
ровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только
что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправ-
ляюсь к одной важной барыне с рекомендательным
письмом — то есть надменнейшая женщина была, но в
сущности, празо, предобрая, что б ни говорили.
Вхожу—принимают. Гостиная полна народу, преиму-
щественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова
она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть
ни курицы не было,— что отвечать? Сконфузился в
прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну,
почему бы не сказать: нет ничего; и благородно бы
вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал!
«Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти
семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы
круглым числом,— не правда ли? Чрез минуту, по ре-
комендательному же моему письму, оказалось, что я
гол, как сокол, и, вдобавок, соврал! Ну, что было
делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь
у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь:
триста душ от дядюшки Афанасья Матвеича да двести
душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины
Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо!
Только я с тех пор закаялся врать и не вру.
— Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает
что может случиться,— заметил Обноскин, насмешливо
улыбаясь.
— Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может
случиться,— простодушно поддакнул дядя.
Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на
спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то осо-
бенно гадко захихикала и девица Перепелицына, захо-
хотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже заби-
ла в ладоши,— словом, я видел ясно, что дядю в его же
доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая
глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувер-
нантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.
— А что? что случилось? — повторил он, с недо-
умением озирая всех нас.
471
Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел
поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все за-
смеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел
на всю публику и несколько раз, как будто в припадке
невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно, по
старой привычке, но во-время останавливался. Обно-
скин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как
будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заме-
тил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто
посматривал на меня, и даже с видимым любопыт-
ством, как будто желая в точности определить, что я за
человек.
— Я уверена,— защебетала вдруг мадам Обно-
скина,— я совершенно уверена, monsieur Serge,— ведь
так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были
небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень
много развелось теперь молодых людей, которые со-
вершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему,
это все вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это
смотреть, как на непростительное вольнодумство.
И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, моло-
дой человек, просто удивляет!..
— Совершенно не был в обществе,— отвечал я
с необыкновенным одушевлением.— Но это... я по край-
ней мере думаю, ничего-с... Я жил, то есть я вообще
нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду
злаком; а до сих пор я все сидел дома...
— Занимался науками,— заметил, приосанившись,
дядя.
— Ах, дядюшка, вы все с своими науками!.. Вообра-
зите,— продолжал я, с необыкновенною развязностью,
любезно осклабляясь и обращаясь снова к Обноски-
ной,— мой дорогой дядюшка до такой степени предан
наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то
-чудодейственного, практического философа, господина
Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после
стольких лет разлуки, было, что он ждет этого фено-
менального чудодея с каким-то судорожным, можно
сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...
И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех
в похвалу моему остроумию.
472
— Кто такой? про кого он? — резко проговорила
генеральша, обращаясь к Перепелициной.
— Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с;
по большим дорогам ездят, их собирают-с,— с насла-
ждением пропищала девица.
Дядя совсем растерялся.
— Ах, да! я и забыл! — вскричал он, бросив на
меня взгляд, в котором выражался укор,— жду Коров-
кина. Человек науки, человек останется в столетии...
Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой
и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая
слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее
волнение.
— Это она всегда, как рассердится, возьмет да и
бросит что-нибудь на пол,— шептал мне сконфуженный
дядя.— Но это только — когда рассердится... Ты, брат,
не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об
Коровкине-то заговорил?..
Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту
я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что
в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то
даже презрительное; румянец негодования ярко запы-
лал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и дога-
дался, что малодушным и гадким желанием моим сде-
лать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного
с себя, я не очень выиграл в расположении этой де-
вицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!
— Яс вами все о Петербурге,— залилась опять
Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное раз-
битой чашкой, утихло.— Я с таким, можно сказать,
нас-лаж-дением вспоминаю нашу жизнь в этой очаро-
вательной столице... Мы были очень близко знакомы
тогда с одним домом — помнишь, Поль? генерал Поло-
вицын... Ах, какое очаровательное, о-ча-ро-вательное
существо была генеральша! Ну, знаете, этот аристокра-
тизм, beau monde!..1 Скажите: вы, вероятно, встреча-
лись... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда:
я надеялась от вас многое, многое узнать о петербург-
ских друзьях наших...
1 высший свет (франц.).
473
— Мне очень жаль, что я не могу... извините...
Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и со-
вершенно не знаю генерала Половицына; даже не слы-
хивал,— отвечал я с нетерпением, внезапно сменив
мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздра-
женное состояние духа.
— Занимался минералогией! — с гордостью под-
хватил неисправимый дядя.— Это, брат, что камушки
там разные рассматривает, минералогия-то?
— Да, дядюшка, камни...
— Гм... Много есть наук, и все полезных! А я ведь,
брат, по правде, и не знал, что такое минералогия!
Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне.
В чем другом — еще так и сяк, а в науках глуп — от-
кровенно каюсь!
— Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь,
Обноскин.
— Папочка! — вскрикнула Саша, с укоризной
смотря на отца.
— Что, душка? Ах, боже мой, я ведь все прерываю
вас, Анфиса Петровна,— спохватился дядя, не поняв
восклицания Сашеньки.— Извините, ради Христа!
— О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькою
улыбочкой Анфиса Петровна.— Впрочем, я уже все
сказала вашему племяннику и заключу разве тем,
monsieur Serge,— так, кажется? — что вам решительно
надо исправиться. Я верю, что науки, искусства...
ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи
имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но
они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой
человек, формируют вас, и потому без них невозможно,
невозможно, молодой человек, не-воз-можно!
— Невозможно, невозможно! — раздался снова не-
сколько крикливый голос Татьяны Ивановны.— Послу-
шайте,— начала она как-то детски спеша и, разумеется,
вся покраснев,— послушайте, я хочу вас спросить...
— Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно
в нее вглядываясь.
— Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или
нет?
— Ей-богу, не знаю-с; как дела...
474
— Дела! Какие у него могут быть дела?..
О безумец!..
И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закры-
ваясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же
начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и
захлопала в ладоши.
— Постойте! постойте! — вскричала она, отрываясь
от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь
ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел,— послушайте,
знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи
на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного
молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните?
Он ужасно похож на того безумца — помнишь, Са-
шенька! еще мы катались и встретили... верхом и в бе-
лом жилете... еще он навел на меня свой лорнет, бес-
стыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не
утерпела, высунулась из коляски и закричала ему:
«бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет...
Помнишь, Настенька?
И полупомешанная на амурах девица вся в вол-
нении закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила
с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу,
бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты.
Только ее и видели! В этот раз произошло даже неко-
торое замешательство, хотя генеральша, как и в первый
раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна,
например, была не удивлена, но как будто чем-то
вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего
сына; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-
то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула
и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки,
но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и при-
влекло на себя всеобщее внимание.
— А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! —
закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись.— Что,
брат, из города?
«Ну, чудаки! их как будто нарочно собирали
сюда!» — подумал я про себя, не понимая еще хоро-
шенько всего, что происходило перед моими глазами,
не подозревая и того, что и сам я, кажется, только
увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.
475
V
ЕЖЕВИКИН
В комнату вошла, или, лучше сказать, как-то про-
теснилась (хотя двери были очень широкие), фигурка,
которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила
зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех
присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой,
с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лы-
синой и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой
на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень
изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица
висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Ды-
рявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его
жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетча-
тый платок, весь засморканный, которым он обтирал
пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка не-
много покраснела и быстро взглянула на меня. Мне
показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое
и вызывающее.
— Прямо из города, благодетель! прямо оттуда,
отец родной! все расскажу, только позвольте сначала
честь заявить,— проговорил вошедший старичок и на-
правился прямо к генеральше, но остановился на пол-
дороге и снова обратился к дяде.
— Вы уж изволите знать мою главную черту, бла-
годетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я, как
вхожу, так уж тотчас Же главную особу в доме ищу, к
ней первой и стопы направляю, чтоб, таким образом, с
первого шагу милости и протекцию приобрести. Подлец,
батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка
барыня, ваше превосходительство, платьице ваше по-
целовать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, гене-
ральскую замараю.
Генеральша подала ему руку, к удивлению моему,
довольно благосклонно.
— И вам, раскрасавица наша, поклон,— продолжал
он, обращаясь к девице Перепелицыной.— Что делать,
сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот со-
рок первом году было решено, что подлец, когда из
службы меня исключили, именно тогда, как Валентин
476
Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал: асес-
сора дали; его в асессоры, а меня в подлецы. А уж я
так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что
делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо
попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко
наше наливное,— продолжал он, обходя стол и проби-
раясь к Сашеньке,— позвольте ваше платьице поцело-
вать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими
деликатностями. Имениннику наше почтение; лук и
стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал;
ребятишки мои помогали; вот ужо и будем спускать.
А подрастете, в офицеры поступите, турке голову
срубите. Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетель-
ницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья
Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то
только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и
ножку бы вашу поцеловал,— вот как-с! Анфиса Пет-
ровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую.
Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на
коленках, со слезами бога молил, и за сыночка вашего
тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов:
особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Ми-
зинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь
все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь,
сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие
такие-с... Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе
кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот те-
перь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высо-
кородие, прямехонько из города. А это, вёрно, племян-
ничек ваш, что в ученом факультете воспитывался?
Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйте ручку.
Раздался смех. Понятно было, что старик играл
роль какого-то добровольного шута. Приход его разве-
селил общество. Многие и не поняли его сарказмов,
а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он,
к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и
хмурилась. Я было отдернул руку: того только,
кажется, и ждал старикашка.
— Да ведь я только пожать ее у вас просил, ба-
тюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы
уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест
477
еще только пожать. Вы, благодетель, верно меня за
барского шута принимаете? — проговорил он, смотря
на меня с насмешкою.
— Н...нет, помилуйте, я...
— То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-
нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой под-
лец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут.
Я — раб, моя жена — рабыня, к тому же, польсти,
польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь,
хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то по-
больше во все подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это
я вам, батюшка, по секрету говорю: может, и вам пона-
добится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.
— Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то
он рассмешит! — пропищала Анфиса Петровна.
— Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-
то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего
молоду в дураки бы записался, авось теперь был бы
умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и
вышел теперь старый дурак.
— Скажите, пожалуйста,— ввязался Обноскин (ко-
торому, верно, не нравилось замечание про таланты),
как-то особенно независимо развалясь в кресле и рас-
сматривая старика в свое стеклышко^ как какую-нибудь
козявку,— скажите, пожалуйста... все я забываю вашу
фамилыо... как бишь вас?..
— Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и
Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без
места сижу — так и живу себе, по законам природы.
А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холм-
ских! Точно как по пословице: «У богатого — телята,
а у бедного — ребята»...
— Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну,
послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы,
когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень
смешно.
— Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, ба-
тюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой при-
хлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан
я стал, батюшка.
Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места,
478
хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице
ее было что-то больное, страдающее, несмотря на
краску, заливавшую ее .щеки.
— Это, брат, знаешь кто? — шепнул мне дядя,—
ведь это ее отец!
Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежеви-
кин совершенно вылетела у меня из головы. Я герой-
ствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой
суженой, строил для нее великодушные планы и совер-
шенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не об-
ратил на это никакого внимания с самого начала.
— Как отец? — отвечал я тоже шепотом.— Да ведь,
я думал, она сирота?
— Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший,
преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только
так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, во-
семь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут.
Из службы за язычок исключили. Каждую неделю
сюда ездит. Гордый какой,— ни за что не возьмет. Да-
вал, много раз давал — не берет! Озлобленный человек!
— Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там у вас
нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу,
заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш
разговор.
— А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич
вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того
в бунтах недовес муки оказался. Это, барыня, тот са-
мый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар
раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то
Игнатьич и пишет про Тришина. «Уж если,— говорит
он,— часто поминаемый Тришин чести своей родной
племянницы не мог уберечь,— а та с офицером прош-
лого года сбежала,— так где же, говорит, было ему
уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и
поместил — ей-богу, не вру-с.
— Фи! Какие вы истории рассказываете! — закри-
чала Анфиса Петровна.
— Именно, именно, именно! Зарапортовался ты,
брат Евграф,— поддакнул дядя.— Эй, пропадешь за
язык! Человек ты прямой, благородный, благонрав-
ный — могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый!
479
И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь!
Люди они, кажется, добрые, простые...
— Отец и благодетель! да простого-то человека я и
боюсь! — вскричал старик с каким-то особенным оду-
шевлением.
Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежеви-
кину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хоте-
лось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего
мнения, показав открыто старику мое сочувствие.
А может быть, кто знает! может быть, мне хотелось
поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из
движения моего ровно ничего не вышло путного.
— Позвольте спросить вас,— сказал я, по обычаю
моему покраснев и заторопившись,— слыхали вы про
иезуитов?
— Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-
нибудь... да где нам! А что-с?
— Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем,
напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены,
что я вас понимаю и... умею ценить...
И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его
за руку.
— Непременно, батюшка, напомню, непременно
напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте,
и узелок завяжу, для памяти.
И он действительно завязал узелок, отыскав сухой
кончик на своем грязном, табачном платке.
— Евграф Ларионыч, берите чаю,— сказала Пра-
сковья Ильинична.
— Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть
принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана
Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой
развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли
собираются? Польсти, польсти! — проговорил он полу-
шепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и
прищуриваясь.— А что же благодетеля-то главного не
видать, Фомы Фомича-с? разве не прибудут к чаю?
Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко
взглянул на генеральшу.
— Уж я, право, не знаю,— отвечал он нереши-
тельно, с каким-то странным смущением.— Звали его,
480
да он... Не знаю, право, может быть, не в расположе-
нии духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впро-
чем, мне самому сходить?
— Заходил я к ним сейчас,— таинственно прогово-
рил Ежевикин.
— Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге.—
Ну, что ж?
— Наперед всего заходил-с, почтение свидетель-
ствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются,
а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой
могут быть сыты, да-с.
Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим
ужасом.
— Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б
рассказал,— проговорил, наконец, дядя, смотря на ста-
рика с тоской и упреком.
— Говорил-с, говорил-с.
— Ну?
— Долго не изволили мне отвечать-с. За математи-
ческой задачей какой-то сидели, определяли что-то;
видно, головоломная задача была. Пифагоровы штаны
при мне начертили,— сам видел. Три раза повторял;
уж на четвертый только подняли головку и как будто
впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там те-
перь ученый приехал, так уж где нам быть подле такого
светила». Так и изволили выразиться, что подле све-
тила.
И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на
меня.
— Ну, так я и ждал! — вскричал дядя, всплеснув
руками,— так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей,
говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?
— Признаюсь, дядюшка,— отвечал я, с достоинст-
вом пожимая плечами,— по-моему, это такой смешной
отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право,
удивляюсь вашему смущению...
— Ох, братец, не знаешь ты ничего! — вскрикнул
он, энергически махнув рукой.
— Да уж теперь нечего горевать-с,— ввязалась
вдруг девица Перепелицына,— коли все причины злые
от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с.
31 Ф. М. Достоевский, т. 2 481
Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы
маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.
— Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побой-
тесь бога! — проговорил дядя умоляющим голосом, как
будто напрашиваясь на объяснение.
— Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все
оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с,—
с достоинством отвечала девица Перепелицына.— От-
чего вам было, спервоначалу, воли их не уважить-с?
Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с.
Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.
Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в раз-
говор единственно с тою целию, чтоб объявить всем
нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама
подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.
— Оттого, что он оскорбляет мать свою,— грозно
проговорила, наконец, сама генеральша.
— Маменька, помилосердуйте! Где же я вас
оскорбляю?
— Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка,—про-
должала генеральша, все более и более одушевляясь.
— Маменька, маменька! где же я мрачный
эгоист?— вскричал дядя почти в отчаянии,— пять дней,
целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со
мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня,
пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат
и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не
хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услы-
шат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благородней-
ший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек
посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристра-
стно можешь судить...
— Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь,— вскрик-
нула Анфиса Петровна,— не убивайте маменьку!
— Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот
грудь моя — разите! — продолжал дядя, разгоряченный
до последней степени, что бывает иногда с людьми
слабохарактерными, когда их выведут из последнего
терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от
зажженной соломы,— я хочу сказать, Анфиса Пет-
ровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что
482
Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и
вдобавок человек высших качеств, но... но он был не-
справедлив ко мне в этом случае.
— Гм! — промычал Обноскин, как будто желая
подразнить еще более дядю.
— Павел Семеныч, благороднейший Павел Семе-
ныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так
сказать, бесчувственный столб? ведь я вижу, ведь я по-
нимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю,
что все эти недоразумения от излишней любви его ко
мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправед-
лив в этом случае. Я все расскажу. Я хочу рассказать
теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясно-
сти и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и
справедливо ли на меня сердится маменька, что я не
угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа,—
прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все про-
должение рассказа, как будто бы боясь других слуша-
телей и сомневаясь в их сочувствии,— выслушай и ты
меня, и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего
началась вся история: неделю назад — да, именно не
больше недели — проезжает через наш город бывший
начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и своя-
ченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу
воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и при-
глашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет.
То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит
добродетелями и вдобавок вельможа! Свояченицу свою
облагодетельствовал; одну сироту замуж выдал за див-
ного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове;
еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать,
универсальным образованием!),— словом, из генералов
генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара,
фрикасеи; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и
смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу,
что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом —
помню еще, подавали его любимый киселек со слив-
ками,— молчал-молчал да как вскочит: «Обижают
меня, обижают!» — «Да чем же, говорю, тебя, Фома
Фомич, обижают?» — «Вы теперь, говорит, мною пре-
небрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам
31*
483
теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я те-
перь все это вкратце тебе передаю, так сказать, одну
только сущность; но если бы ты знал, что он еще
говорил... словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь
делать? Я, разумеется, падаю духом; фрапировало меня
это, можно сказать; хожу, как мокрый петух. Наступает
торжественный день. Генерал присылает сказать, что не
может: извиняется,— значит, не будет. Я к Фоме: «Ну,
Фома, успокойся! не будет!» Что ж бы ты думал? Не
прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и
только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим
генералам; вам генералы дороже меня; вы узы друже-
ства, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я пони-
маю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не
тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви
ко мне, так сказать, из ревности делает — он это сам
говорит,— он ревнует меня к генералу, расположение
мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать,
чем я для него могу пожертвовать: «Нет, говорит, я сам
для вас все равно, что генерал, я сам для вас ваше
превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы
мне свое уважение докажете». — «Чем же я тебе до-
кажу мое уважение, Фома Фомич?» — «А называйте,
говорит, меня целый день: ваше превосходительство;
тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Мо-
жешь представить себе мое удивление! «Да послужит
это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались впе-
ред генералами, когда и другие люди, может, еще по-
чище ваших всех генералов!» Ну, тут уж и я не
вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, гово-
рю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться
на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя
в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну,
как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь
это, так сказать, посягновение на величие судеб! Да
ведь генерал служит украшением отечеству: генерал
воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же
я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не уни-
мается, да и только! «Что хочешь, говорю. Фома, все
для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды,
потому что в них мало патриотизма,— я сбрил, помор-
484
щился, а сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет
угодно, только откажись от генеральского сана!» —
«Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут:
ваше превосходительство! Это, говорит, для нравствен-
ности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» —
говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю гово-
рить не хочет со мной; на всех, кто ни приедет,
сердится. Про тебя услыхал, что ученый,— это я
виноват: погорячился, разболтал!—так сказал, что
нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь.
«Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот
беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну, поми-
луй, ну, посуди, ну, чем же я тут виноват? Ну, не-
ужели ж решиться сказать ему: «ваше превосходитель-
ство»? Ну, можно ли жить в таком положении? Ну, за
что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал?
Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь
и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил
астрономии... Ну за что, за что?
— А за то, что ты завистлив, Егорушка,— промям-
лила опять генеральша.
— Маменька! — вскричал дядя в совершенном от-
чаянии,— вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы
чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец,
столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!
— Я слышал, дядюшка,— перебил я, изумленный
до последней степени рассказом,— я слышал от Бах-
чеева — не знаю, впрочем, справедливо иль нет,— что
Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утвер-
ждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта
характеристическая черта так меня изумила, что я...
— Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рож-
денье! — скороговоркою перебил меня дядя.— Он не
так только выразился, а он прав: завтра его рожденье.
Правда, брат, прежде всего...
— Совсем не рожденье! — крикнула Сашенька.
— Как не рожденье? — крикнул дядя, оторопев.
— Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто не-
правду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме
Фомичу угодить. А рожденье его в марте было,— еще,
помните, мы перед этим на богомолье в монастырь
485
ездили, а он сидеть никому не дал спокойно в карете:
все кричал, что ему бок раздавила подушка, да щи-
пался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом,
когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился,
зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит,
люблю камелии, потому что у меня вкус высшего обще-
ства, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать».
И целый день киснул да куксился, с нами говорить не
хотел...
Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то
это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое
восстание — и кого же? девочки, которой даже и гово-
рить не позволялось громко в бабушкином присутствии.
Генеральша, немая от изумления и от бешенства, при-
встала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку
свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.
— Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! —
крикнула Перепелицына.
— Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? —
кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к ге-
неральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.
— Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша,
вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая
глазенками,— не хочу молчать! Мы все долго терпели
из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого
вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех
нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он
умница, великодушный, благородный, ученый, смесь
всех добродетелей, попурри какое-то, а Фома Фомич,
как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему
нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич
скушал все, что перед ним ни поставили, да и еще про-
сит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему
папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу,
никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, небла-
городный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка...
Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала
его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него
без ума!..
— Ах!..— вскрикнула генеральша и покатилась в
изнеможении на диван.
486
— Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел
мой! — кричала Анфиса Петровна,— возьмите мой
флакон! Воды, скорее воды!
— Воды, воды! — кричал дядя,— маменька, ма-
менька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успо-
коиться!..
— На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной
комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы эда-
кие! — прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости
Перепелицына.
— И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кри-
чала Сашенька в свою очередь, пришедшая в какое-то
самозабвение.— Я папочку защищаю, потому что он
сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш
Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да
папочку же и унижает, неблагодарный! Да я б его разо-
рвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его
вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...
— Саша, Саша!—кричал в отчаянии дядя.— Еще
одно слово — и я погиб, безвозвратно погиб!
— Папочка! — вскричала Саша, вдруг стремительно
бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его
своими ручками,— папочка! ну вам ли, доброму, пре-
красному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя
погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, небла-
годарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя
выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..
Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из
комнаты.
Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в
обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал
ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и
бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды.
Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою
и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична
трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал
уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная,
совершенно потерявшись от страха. Один только Мизин-
чиков оставался совершенно попрежнему. Он встал,
подошел к окну и принялся пристально смотреть в него,
решительно не обращая внимания на всю эту сцену.
487
Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпря-
милась и обмерила меня грозным взглядом.
— Вон! — крикнула она, притопнув на меня ногою.
Я должен признаться, что этого совершенно не
ожидал.
— Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб
и духу его не было! вон!
— Маменька! маменька, что вы! да ведь это Се-
режа,— бормотал дядя, дрожа всем телом от страха.—
Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.
— Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать;
вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня
предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича
выживать; его и выписали для этого. Мое сердце пред-
чувствует... Вон, негодяй!
— Дядюшка, если так,— сказал я, захлебываясь от
благородного негодования,— если так, то я... извините
меня...— И я схватился за шляпу.
— Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот те-
перь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, по-
милуй! — кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять
у меня шляпу,— ты мой гость, ты останешься, я хочу!
Ведь это она только так,— прибавил он шепотом,—
ведь это она только когда рассердится... Ты только те-
перь, первое время, спрячься куда-нибудь... побудь где-
нибудь — и ничего,, все пройдет. Она тебя простит,—
уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговари-
вается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина,
а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? — закричал он
дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в ком-
нату.
Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень,
мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взя-
тый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его
Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм,
в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту по-
зументом, с золотым галунным поясом, в черных пли-
совых шароварах и в козловых сапожках, с красными
отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши.
Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой ка-
тились из больших голубых глаз его.
438
— Это еще что? — вскричал дядя,— что случилось?
Да говори же, разбойник!
— Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед
идут,— отвечал скорбный Гаврила,— мне на экзамент,
а он...
— А он?
— Плясал-с,— отвечал Гаврила плачевным голосом.
— Плясал! — вскрикнул в ужасе дядя.
— Пля-сал! — проревел Фалалей всхлипывая.
— Комаринского?
— Ко-ма-ринского!
— А Фома Фомич застал?
— Зас-тал!
— Дорезали! — вскрикнул дядя,— пропала моя го-
лова! — и обеими руками схватил себя за голову.
— Фома Фомич! — возвестил Видоплясов, входя в
комнату.
Дверь отворилась, и Фома Фомич, сам своею соб-
ственною особою, предстал перед озадаченной публикой.
VI
ПРО БЕЛОГО БЫКА И ПРО КОМАРИНСКОГО МУЖИКА
Но, прежде чем я буду иметь честь лично предста-
вить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю со-
вершенно необходимым сказать несколько слов о Фа-
лалее и объяснить, что именно было ужасного в том,
что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его
в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый маль-
чик, сирота с колыбели и крестник покойной жены
моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого со-
вершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, пересе-
лясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел
любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно
понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фо-
мича, остался вверху, при господах: настояла в этом
сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце
своем обиду,— он все считал за обиду,— и отмщая за
нее ни в чем не виноватому дяде и при каждом удоб-
ном случае. Фалалей был удивительно хорош собой.
489
У него было лицо девичье, лицо красавицы деревен-
ской девушки. Генеральша холила и нежила его, доро-
жила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще не-
известно, кого она больше любила: свою ли маленькую,
курчавенькую собачку Ами, или Фалалея? Мы уже го-
ворили о его костюме, который был ее изобретением.
Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма
обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот
мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было
назвать его совершенным идиотом или юродивым, но
он был до того наивен, до того правдив и простодушен,
что иногда действительно его можно было счесть дурач-
ком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к госпо-
дам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ,
не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает
им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать
господам. Он заливается самыми искренними слезами,
когда барыня падает в обморок или когда уж слишком
забранят его барина. Он сочувствует всякому не-
счастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки
п просит, чтоб она не сердилась,— и генеральша вели-
кодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен
до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как
счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.
Он постоянно становится за стулом генеральши и
ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут
же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко,
зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его ве-
селых голубых глазах и на всем его хорошеньком
личике.
Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив, наконец,
что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благо-
детелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что
ему нет дела до образования дворовых людей, он решил
немедленно обучать бедного мальчика нравственности,
хорошим манерам и французскому языку. «Как! — го-
ворил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, при-
ходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему
свидетелем пишущий эти строки),— как! он всегда
вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он
не понимает по-французски, скажет ему, например,
490
донне муа мон мушуар 1 — он должен и тут найтись
и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя
было Фалалея выучить по-французски, но что повар
Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его
русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил
азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное
обучение, что не понимал решительно ничего. Мало
того: из этого даже вышла история. Дворовые стали
дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, за-
служенный камердинер дядюшки, открыто осмелился
отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло
до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание,
заставил учиться по-французски самого оппонента, Гав-
рилу. Вот с чего и взялась вся эта история о француз-
ском языке, так рассердившая господина Бахчеева.
Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог
образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на
запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои
сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в выс-
шей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей
упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это
прежде всех доставалось дяде.
— Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? —
кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав
время, когда все в сборе.— Знаете ли, полковник, до
чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня
он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за сто-
лом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда,
поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная
ты рожа!..
Фалалей подходит плача, утирая обеими руками
глаза.
— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори
при всех!
Фалалей не отвечает и заливается горькими сле-
зами.
— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, трес-
нув себя по своему набитому и неприличному брюху:
«Натрескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте,
1 дай мне платок (францл «Donnez-moi mon mouchoir»).
491
полковник, разве говорят такими фразами в образован-
ном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это или
нет? говори!
— Ска-зал!..— подтверждает Фалалей всхлипывая.
— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест
мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который
ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом фено-
менальном Мартыне!
Молчание.
— Я тебя спрашиваю,— пристает Фома,— кто
именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним
познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном,
пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек,— кто-
нибудь должен же быть. Отвечай!
— Дво-ро-вый че-ло-век,— отвечает, наконец, Фала-
лей, продолжая плакать.
— Чей? чьих господ?
Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разу-
меется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из
комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей на-
чинаются припадки, а дядя клянет час своего рожде-
ния, просит у всех прощения и всю остальную часть
дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.
Как нарочно случилось так, что на другой же день
после истории с Мартыновым мылом Фалалей, при-
неся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев за-
быть и Мартына и все вчерашнее горе, сообщил ему,
что видел сон про белого быка. Этого еще недоставало!
Фома Фомич пришел в неописанное негодование, не-
медленно призвал дядю и начал распекать его за
неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз
были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он
стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть
такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь,— го-
ворил Фома,— кроме того, что он по-настоящему не
должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими
снами, тем более с белым быком; кроме этого — согла-
ситесь сами, полковник,— что такое белый бык, как не
доказательство грубости, невежества, мужичества ва-
шего неотесанного Фал алея? Каковы мысли, таковы и
сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не
492
выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при
господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бес-
смысленную простонародную душу во что-нибудь воз-
вышенное, поэтическое. Разве ты не можешь,— про-
должал он, обращаясь к Фалалею,— разве ты не мо-
жешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное,
облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего обще-
ства, например, хоть господ, играющих в карты, или
дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей
обещал непременно увидать в следующую ночь господ
или дам, гуляющих в прекрасном саду.
Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом
бога и долго дум*ал, как бы сделать так, чтоб не ви-
деть проклятого белого быка. Но надежды человеческие
обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом
вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавист-
ного белого быка и не приснилось ни одной дамы,
гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия
были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что
не верит возможности подобного случая, возможности
подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно по-
дучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим
полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много
было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру за-
хворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая
надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью
ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего обще-
ства. Каково же было всеобщее негодование, когда це-
лую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей по-
стоянно видел белого быка, и одного только белого
быка! О высшем обществе нечего было и думать.
Но всего интереснее было то, что Фалалей никак
не мог догадаться солгать, просто — сказать, что видел
не белого быка, а хоть, например, карету, наполнен-
ную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать,
в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но
Фалалей был до того правдив, что решительно не умел
солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не
намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое
же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его
во лжи. Что было делать? Положение дяди станови-
493
лось невыносимым. Фалалей был решительно неиспра-
вим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключ-
ница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыс-
нула его с уголька водою. В этой полезной операции
участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но
даже и это не помогло. Ничто не помогало!
— Да пусто б его взяло, треклятого! — рассказы-
вал Фалалей,— каждую ночь снится! каждый раз с
вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не
снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый,
стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый та-
кой, у-у-у!
Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич
вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, ни-
кто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком
важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что
он приберегает белого быка про запас и обнаружит его
при первом удобном случае. Впоследствии оказалось,
что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка:
у него случились другие дела, другие заботы; другие
замыслы созревали в полезной и многодумной его го-
лове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фала-
лею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень пове-
селел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый
бык начал появляться реже и реже, хотя все еще на-
поминал иногда о своем фантастическом существова-
нии. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на
свете комаринского.
Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал;
это была его главная способность, даже нечто вроде
призвания; он плясал с энергией, с неистощимой весе-
лостью, но особенно любил он комаринского мужика.
Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомыслен-
ные и во всяком случае необъяснимые поступки этого
ветреного мужика — нет, ему нравилось плясать кома-
ринского единственно потому, что слушать комарин-
ского и не плясать под эту музыку было для него реши-
тельно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея,
кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже не-
сколько дворовых дам собирались в кружок где-нибудь
на самой задней площадке барской усадьбы, подальше
494
от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы, и под ко-
нец торжественно вступал в свои права и комаринский.
Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и
бубен, с которым отлично управлялся форейтор Ми-
тюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с .
Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до
истощения последних сил, поощряемый криками и сме-
хом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в
ладоши; он плясал, как будто увлекаемый посторон-
нею, непостижимою силою, с которой не мог совла-
дать, и упрямо силился догнать все более и более уча-
щаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каб-
луками. Это были минуты истинного его наслаждения;
и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о ко-
маринском не достиг, наконец, Фомы Фомича.
Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полков-
ником.
— Я хотел от вас только об одном узнать, полков-
ник,— начал Фома,— совершенно ли вы поклялись по-
губить этого несчастного идиота, или не совершенно?
В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не
совершенно, то я...
— Да что такое? что случилось? — вскричал испу-
ганный дядя.
— Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пля-
шет комаринского?
— Ну... ну что ж?
— Как ну что ж? — взвизгнул Фома.— И говорите
это вы — вы, их барин и даже в некотором смысле
отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о
том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня
изображает одного отвратительного мужика, покусив-
шегося на самый безнравственный поступок в пьяном
виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный хо-
лоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать,
притоптал их своими мужичьими сапожищами, привык-
шими попирать только пол кабака! Да понимаете ли,
что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим
ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня
своим ответом? Понимаете ли вы это, иль нет?
— Но, Фома... Да ведь это только песня, Фома...
495
— Как только песня! И вы не постыдились мне при-
знаться, что знаете эту песню — вы, член благородного
общества, отец благонравных и невинных детей и вдо-
бавок полко'вник! Только песня! Но я уверен, что эта
песня взята с истинного события! Только песня! Но
какой же порядочный человек может, не сгорев от
стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть
когда-нибудь эту песню? какой, какой?
— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашива-
ешь,— отвечал в простоте души сконфуженный дядя.
— Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! —
вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебы-
ваясь от злости. Он никак не ожидал такого оглуши-
тельного ответа.
Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полков-
ник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нрав-
ственности за неприличие и ненаходчивость своего
ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву:
поймать на месте преступления Фалалея, танцующего
комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он
чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в
сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда
издали видна была площадка, на которой происходили
танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник
птичку, с наслаждением представляя себе, какой тре-
звон задаст он в случае успеха всему дому и в особен-
ности полковнику. Наконец, неусыпные труды его увен-
чались успехом: он застал комаринского! Понятно после
этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел
плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов воз-
вестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хло-
потливую минуту представшего перед нами своею соб-
ственною особою.
VII
ФОМА ФОМИЧ
Я с напряженным любопытством рассматривал
этого господина. Гаврила справедливо назвал его плю-
гавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобры-
сый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими мор-
496
щинками по всему лицу. На подбородке его была
большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он
вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но
самая нахальная самоуверенность изображалась в его
лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению
моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного
покроя, но все-таки шлафроке и вдобавок в туфлях.
Воротничок его рубашки, не подвязанный галстуком,
был отложен a Fenfantэто придавало Фоме Фомичу
чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому
креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому
ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, все волне-
ние, бывшие за минуту назад. Все притихло так, что
можно было расслышать пролетевшую муху. Гене-
ральша присмирела, как агнец. Все подобострастие
этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило
теперь наружу. Она не нагляделась на свое нёщечко,
впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклаб-
ляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильи-
нична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно
захлопотал.
— Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица;
Фома Фомич после сна любит чай послаще.— Ведь
тебе послаще, Фома?
— Не до чаю мне вашего теперь! — проговорил
Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом
махнув рукой.— Вам бы все, что послаще!
Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской
важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали
меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого
забвения приличий дойдет, наконец, наглость этого за-
знавшегося господчика.
— Фома! — крикнул дядя,— рекомендую: племян-
ник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.
Фома Фомич обмерил его с ног до головы.
— Удивляюсь я, что вы всегда как-то системати-
чески любите перебивать меня, полковник,— прогово-
рил он после значительного молчания, не обратив на
меня ни малейшего внимания.— Вам о деле говорят,
1 по фасону детских рубашек (франц.).
32 Ф. М. Достоевский, т. 2
497
а вы — бог знает о чем... трактуете... Видели вы Фа-
лалея?
— Видел, Фома...
— А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли
видели. Можете полюбоваться на ваше произведение...
в нравственном смысле.— Поди сюда, идиот! поди
сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!
Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и гло-
тая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаж-
дением.
— С намерением назвал я его голландской рожей,
Павел Семеныч,— заметил он, развалясь в кресле и
слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину,—
да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои
выражения ни в каком случае. Правда должна быть
правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки
останется грязью. Что ж и трудиться смягчать? себя и
людей обманывать! Только в глупой светской башке
могла зародиться потребность таких бессмысленных
приличий. Скажите — беру вас судьей,— находите вы в
этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное,
возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?
Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то ве-
личавым равнодушием.
— В нем прекрасное? — отвечал Обноскин с какою-
то нахальною небрежностью.— Мне кажется, это просто
порядочный кусок ростбифа — и ничего больше...
— Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него,—
продолжал Фома, торжественно пропуская местоиме-
ние я.— Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле
пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом
сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фала-
лея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не
хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сосло-
вии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-
нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом
живом бифстексе? Нет, в самом деле заметьте, Павел
Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных
мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них
всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо
свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты,
498
статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться!
Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь?
Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?
— Прек-ра-сен! — отвечал Фалалей с заглушен-
ными рыданиями.
Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что на-
чинаю дрожать от злости.
— Вы слышали? — продолжал Фома, с торжеством
обращаясь к Обноскину.— То ли еще услышите! Я при-
шел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семе-
ныч, люди, которым желательно развратить и погубить
этого жалкого идиота. Может быть; я строго сужу,
ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он
плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому
здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте.
Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай
немедленно — слышишь?
— Пля-сал...— проговорил Фалалей, усиливая ры-
дания.
— Что же ты плясал? какой танец? говори же!
— Комаринского...
— Комаринского! А кто этот комаринский? Что та-
кое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из
этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой
комаринский?
— Му-жик...
— Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, за-
мечательный мужик! значит, это какой-нибудь знамени-
тый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы?
Ну, отвечай же!
Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заиг-
рывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фала-
лей молчит, хнычет и не понимает вопроса.
— Отвечай же! — настаивает Фома,— тебя спраши-
вают: какой это мужик? говори же!., господский ли, ка-
зенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много
есть мужиков...
— Э-ко-но-ми-ческий...
— А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? но-
вый исторический факт: комаринский мужик — эконо-
мический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический
32*
499
мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выпля-
сывают?
Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фа-
лалею, то и опасный.
— Ну... вы... однакож...— заметил было Обноскин,
взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то
особенно повертываться на диване. Но что было де-
лать? капризы Фомы Фомича считались законами.
— Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого
дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается?
Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас...— шепнул я
дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.
— Ты бы, однакож, Фома...— начал он,— вот я ре-
комендую тебе, Фома, мой племянник, молодой чело-
век, занимался минералогией...
— Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с
вашей минералогией, в которой вы, сколько мне из-
вестно, ничего не знаете, а может быть, и другие тоже.
Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо
того чтобы трудиться для блага своего семейства, на-
пился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побе-
жал по улице. В этом, как известно, и состоит содержа-
ние всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспо-
койтесь, он теперь знает, что ему отвечать. Ну, отвечай
же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот
положил. Я именно от самого тебя хочу слышать: что
он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бес-
смертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?
Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в не-
доумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как
карась, вытащенный из воды на песок.
— Стыдно ска-зать! — промычал он, наконец, в со-
вершенном отчаянии.
— А! стыдно сказать! — промычал Фома торже-
ствуя.— Вот этого-то ответа я и добивался, полковник!
Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравствен-
ность, которую вы посеяли, которая взошла и которую
вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай
теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не
скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня
же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет,
500
если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оста-
вайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я се-
годня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал.
Ступай!
— Ну уж вы, кажется, строго...— промямлил Об-
носкин.
— Именно, именно, именно! — крикнул было дядя,
но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него поко-
сился.
— Удивляюсь я, Павел Семеныч,— продолжал он,—
что ж делают после этого все эти современные литера-
торы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они
внимания на то, какие песни поет русский народ и под
какие песни пляшет русский народ? Что же делали до
сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны?
Удивляюсь. Народ пляшет комаринского, эту апофеозу
пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем
же не напишут они более благонравных песен для на-
родного употребления и не бросят свои незабудочки?
Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне му-
жика, но мужика облагороженного, так сказать,
селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сель-
ского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в
лаптях — я и на это согласен,— но преисполненного
добродетелями, которым — я это смело говорю — может
позавидовать даже какой-нибудь слишком прослав-
ленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь
меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого
мужика, пожалуй, обремененного семейством и седи-
ною, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но до-
вольного, не ропщущего, но благословляющего свою
бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам
богач в умилении души принесет ему, наконец, свое зо-
лото; пусть даже при этом случае произойдет соедине-
ние добродетели мужика с добродетелями его барина
и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь
разъединенные на ступенях общества, соединяются,
наконец, в добродетелях,— это высокая мысль! А то
что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с дру-
гой — выскочил из кабака и бежит по улице в растер-
занном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем
501
любоваться? где ум? где грация? где нравственность?
Недоумеваю!
— Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие
слова!—проговорил Ежевикин с восхищенным видом.
— А ведь черта лысого с меня и получит,— прошеп-
тал он мне потихоньку.— Польсти, польсти!
— Ну, да... это вы хорошо изобразили,— промол-
вил Обноскин.
— Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слу-
шавший с глубочайшим вниманием и глядевший на
меня с торжеством.
— Тема-то какая завязалась! — шепнул он, поти-
рая руки.— Многосторонний разговор, черт возьми!
Фома Фомич, вот мой племянник,— прибавил он от из-
бытка чувств.— Он тоже занимался литературой,—
рекомендую.
Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малей-
шего внимания на рекомендацию дяди.
— Ради бога, не рекомендуйте меня более! я
вас серьезно прошу,— шепнул я дяде с решительным
видом.
— Иван Иваныч! — начал вдруг Фома, обращаясь
к Мизинчикову и пристально смотря на него,— вот мы
теперь говорили: какого вы мнения?
— Я? вы меня спрашиваете? — с удивлением ото-
звался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только
что разбудили.
— Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу
мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь про-
блематических умников, которые умны потому только,
что их беспрестанно рекомендуют за умников, за ученых,
а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показывать их
в балагане или вроде того.
Камень был пущен прямо в мой огород. И, однакож,
не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший
на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о
литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уни-
чтожить, раздавить с первого шага петербургского
ученого, умника. Я по крайней мере не сомневался в
этом.
— Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с ва-
502
шим мнением согласен,— отвечал Мизинчиков вяло и
нехотя.
— Вы все со мной согласны! даже тошно стано-
вится,— заметил Фома.— Скажу вам откровенно, Па-
вел Семеныч,— продолжал он после некоторого молча-
ния, снова обращаясь к Обноскину,— если я и уважаю
за что бессмертного Карамзина, то это не за историю,
не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Рос-
сию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»:
это высокий эпос! это произведение чисто народное и
не умрет во веки веков! Высочайший эпос!
— Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол
Силин, благодетельный человек! Помню, читал; еще вы-
купил двух девок, а потом смотрел на него и плакал.
Возвышенная черта,— поддакнул дядя, сияя от удо-
вольствия.
Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не
ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся,
но промолчал.
— Впрочем, и теперь пишут занимательно,— осто-
рожно вмешалась Анфиса Петровна.— Вот, например,
«Брюссельские тайны».
— Не скажу-с,— заметил Фома, как бы с сожале-
нием.— Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Не-
забудочки»! А если хотите, из новейших мне более
всех нравится «Переписчик» — легкое перо!
— «Переписчик»! — вскрикнула Анфиса Пет-
ровна,— это тот, который пишет в журнал письма? Ах,
как это восхитительно! какая игра слов!
— Именно игра слов. Он, так сказать, играет пером.
Необыкновенная легкость пера!
— Да; но он педант,— небрежно заметил Обноскин.
— Педант, педант,— не спорю; но милый педант, но
грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не
выдержит основательной критики; но увлекаешься лег-
костью! Пустослов,— согласен; но милый пустослов, но
грациозный пустослов! Помните, например, он объяв-
ляет в литературной статье, что у него есть свои по-
местья?
— Поместья? — подхватил дядя, — это хорошо!
которой губернии?
503
Фома остановился, пристально посмотрел на дядю
и продолжал тем же тоном:
— Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне,
читателю, знать, что у него есть поместья? Есть — так
поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо
описано! Он блещет остроумием, он брызжет остро-
умием, он кипит! Это какой-то Нарзан остроумия! Да,
вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так
писал, если б согласился писать в журналах...
— Может, и лучше еще-с,— почтительно заметил
Ежевикин.
— Даже что-то мелодическое в слоге! — поддакнул
дядя.
Фома Фомич, наконец, не вытерпел.
— Полковник,— сказал он,— нельзя ли вас попро-
сить — конечно, с всевозможною деликатностью — не
мешать нам и позволить нам в покое докончить наш
разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не
можете! Не расстроивайте же нашей приятной литера-
турной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но...
оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет,
уверяю вас!
Это уже превышало верх всякой дерзости. Я не знал,
что подумать.
— Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодиче-
ское,— с тоскою произнес сконфуженный дядя.
— Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил
кстати; а вы?
— Да-с, мы-то с умом говорили-с,— подхватил Еже-
викин, увиваясь около Фомы Фомича.— Ума-то у нас
так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что
на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим
управимся,— вот как у нас!
— Ну, значит, опять соврал! — заключил дядя и
улыбнулся своей добродушной улыбкой.
— По крайней мере сознаетесь,— заметил Фома.
— Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что
ты, как друг, меня останавливаешь, как родной, как
брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом!
Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благо-
дарю и воспользуюсь!
504
Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по
слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько
преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам на
деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил
себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального
самовластия с одной стороны, и такого добровольного
рабства, такого легковерного добродушия — с другой.
Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью.
Это было видно. Я горел желанием как-нибудь связаться
с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему
поазартнее,— а там что бы ни было! Эта мысль одуше-
вила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно
обломал поля моей шляпы. Но случай не представ-
лялся: Фома решительно не хотел замечать меня.
— Правду, правду ты говоришь, Фома,— продол-
жал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть
чем-нибудь замять неприятность предыдущего разго-
вора.— Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо
знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь!
Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе,
Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь!
Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да и только.
Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и
посадили вместе с экзаминаторами, так, для почету,
лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже
струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной
науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к
доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже
сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще
превосходно отвечали; потом завтракали и за процвета-
ние пили шампанское. Отличное заведение!
Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху.
— Да я и сам потом смеялся,— крикнул дядя,
смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все
развеселились.— Нет, Фома, уж куда ни шло! рас-
потешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался...
Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...
— Позвольте вас спросить, полковник: долго вы
будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома.
— Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история;
просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай:
505
это хорошо, ей-богу хорошо. Я расскажу, как я
срезался.
— Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории,
когда они в этом роде,— проговорил Обноскин зевая.
— Нечего делать, приходится слушать,— решил
Фома.
— Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу
рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна.
Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли
мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удовольствия,
скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными
предложениями, что было с ним всегда, когда он начи-
нал что-нибудь рассказывать для удовольствия пуб-
лики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь
в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропат-
кина; потом еще.с штаб-ротмистром Зверковым бежала
и пьесы не доиграла: так занавес и опустили... То есть
бестия был этот Зверков, и попить и в картины
заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товари-
щами разделить минуту. Но как запьет настоящим
образом, так уж тут все забыл: где живет, в каком
государстве, как самого зовут? — словом, решительно
все; но в сущности превосходнейший малый... Ну-с,
сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с
прежним товарищем, Корноуховым... Я вам скажу, един-
ственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не вида-
лись. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь,
слышал недавно,— уже действительный статский; в
статскую службу перешел, до больших чинов до-
служился... Ну, разумеется, обрадовались. То да се.
А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая
слева, рожа, каких свет не производил... После узнал:
превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастли-
вила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову:
«Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело
выехала?» — «Которая это?» — «Да эта».— «Да это
моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем
положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не
эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто
эта?» — «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А се-
стра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, пре-
506
милушка; так разодета: брошки, перчаточки, брас-
летики,— словом сказать, сидит херувимчиком; после
вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина;
она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь
все это как следует: и богато живут; отцы не нараду-
ются!.. Ну-с, вот. «Да нет! — кричу, а сам не знаю, куда
провалиться,— не эта!» — «Вот в середине-то кото-
рая?» — «Да, в середине».— «Ну, брат, это жена моя»...
Между нами: объядение, а не дамочка! то есть так бы
и проглотил ее всю целиком от удовольствия... «Ну,
говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он
перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалей!»
Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно
быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись!
И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил
время. Так вот как иногда, брат Фома, можно
срезаться! Ха-ха-ха-ха!
Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил
он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое мол-
чание было ответом на его веселую историю. Фома
Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все;
только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку,
которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел.
Того-то и желалось Фоме.
— Кончили ль вы? — спросил он, наконец, с важ-
ностью обращаясь к сконфуженному рассказчику.
— Кончил, Фома.
— И рады?
— То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал
бедный дядя.
— Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что рас-
строили приятную литературную беседу друзей, прервав
их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?
— Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел раз-
веселить, а ты...
— Развеселить? — вскричал Фома, вдруг необык-
новенно разгорячась,— но вы способны навести уны-
ние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что
ваша история была почти безнравственна? я уже не
говорю: неприлична,— это само собой... Вы объявили
сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над
5С7
невинностью, над благородной дворянкой, оттого
только, что она не имела чести вам понравиться. И нас
же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать
вам, поддакивать грубому и неприличному поступку,
и все потому только, что вы хозяин этого дома! Воля
ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебате-
лей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписы-
вать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в
ущерб прямодушию и откровенному благородству
души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом,
ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем дру-
гом, а уж в этом я вас заверяю!..
— Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!
— Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас на-
сквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное
самолюбие; вы с претензиями на недосягаемую остроту
ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы...
— Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть
людей!..
— Да ведь грустно же видеть все это, полковник,
а видя,— невозможно молчать. Я беден, я проживаю у
вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я
льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-
нибудь молокосос мог принять меня за вашего при-
хлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже
нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно
принужден был дойти даже до грубости, именно потому,
что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слиш-
ком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть
за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие
унижать меня перед незнакомыми, тогда как я вам
равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может
быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у
вас, а не вы мне. Меня унижают; следственно, я сам
должен себя хвалить — это естественно! Я не могу не
говорить, я должен говорить, должен немедленно про-
тестовать и потому прямо и просто объявляю вам, что
вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что
человек в простом, дружеском разговоре невольно вы-
казал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж
вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои по-
508
знания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволе-
ния сказать? вы в изящном смыслите столько — из-
вините меня, полковник,— сколько смыслит, например,
хоть бык в говядине! Это резко, грубо — сознаюсь; по
крайней мере — прямодушно и справедливо. Этого не
услышите вы от ваших льстецов, полковник.
— Эх, Фома!..
— То-то «эх, Фома»! Видно, правда не пуховик.
Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь
позвольте и мне немного повеселить публику. Не все
же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели
вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно
его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съесть меня
хочет, так-таки живьем, целиком!
Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей
и действительно с прискорбием смотрел, как распекали
его барина.
— Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семе-
ныч.— Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте под-
винуться поближе, Гаврила Игнатьич! — Это, вот
видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в
наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей,
смягчаю здешние нравы, только не песнями, а француз-
ским диалектом.— Ну, француз, мусью шематон,—
терпеть не может, когда говорят ему: мусью шема-
тон,— знаешь урок?
— Вытвердил,— отвечал повесив голову Гаврила.
— А парле-ву-франсе?
— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе... 1
Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произно-
шении французской фразы была причиною, или пред-
угадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись,
но только все так и покатились со смеху, лишь только
Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша из-
волила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку
дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего
показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился
1 Говорите ли вы по-французски? — Да, сударь, немного го-
ворю (францл «Parlez-vous fran^ais? — Oui, monsieur, je le parle
un peu»).
509
экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес:
«Вот до какого сраму дожил на старости лет!» •
Фома Фомич встрепенулся.
— Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?
— Нет, Фома Фомич,— с достоинством отвечал
Гаврила,— не грубиянство слова мои, и не след мне,
холопу, перед тобой, природным господином, грубия-
нить. Но всяк человек образ божий на себе носит,
образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год
от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда
моего вместе с барином, Матвеем Никитичем — дай
бог им царство небесное — Пугач на одной осине пове-
сил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья
Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином
служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь,
Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму,
как теперь, отродясь над собой не видывал!
И с последним словом Гаврила развел руками и
склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.
— Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он,— не-
чего распространяться; полно!
— Ничего, ничего,— проговорил Фома, слегка по-
бледнев и улыбаясь с натуги.— Пусть поговорит; это
ведь все ваши плоды...
— Все расскажу,— продолжал Гаврила с необык-
новенным одушевлением,— ничего не потаю! Руки
свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич,
гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб,
а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед
тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и
всякую обязанность во страхе и трепете происходить
должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан
к тебе не допускать, для того — это настоящая долж-
ность моя выходит. Прислужить что понадобится — с
моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старо-
сти лет по-заморски лаять да перед людьми сраму
набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти:
«француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома
Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали
говорить в один голос, что вы как есть злющий человек
теперь стали, а что барин наш перед вами все одно,
510
что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский
сын, и сами, может, немного до енарала не дослужили,
но такой злющий, как то есть должен быть настоящий
фурий.
Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома
Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего заме-
шательства и как будто не мог еще опомниться от
неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту
минуту еще соображал: в какой степени должно ему
рассердиться? Наконец, воспоследовал взрыв.
— Как! он смел обругать меня,— меня! да это
бунт!— завизжал Фома и вскочил со стула.
За ним вскочила генеральша и всплеснула руками.
Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать
преступного Гаврилу.
— В кандалы его, в кандалы! — кричала ге-
неральша.— Сейчас же его в город и в солдаты отдай,
Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения.
Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай.
— Как,— кричал Фома,— раб! халдей! хамлет!
осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога!
он осмелился назвать меня фурией!
Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.
— Признаюсь, что я в этом случае совершенно
согласен с мнением Гаврилы,— сказал я, смотря Фоме
Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.
Он был так поражен этой выходкой, что в первую
минуту, кажется, не верил ушам своим.
— Это еще что? — вскрикнул он, наконец, накиды-
ваясь на меня в исступлении и впиваясь в меня своими
маленькими, налитыми кровью глазами.— Да ты кто
такой?
— Фома Фомич...— заговорил было совершенно
потерявшийся дядя,— это Сережа, мой племянник...
— Ученый! — завопил Фома,— так это он-то уче-
ный? Либертё-эгалитё-фратернитё! 1 Журналь де-деба!2
Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петер-
бург, не надуешь! Да плевать мне на твой де-деба!
1 Свобода, равенство, братство (франц.: liberte, egalite, frater-
nite).
2 «Газета прений» — франц.: «Journal de Debats».
511
У тебя де-деба, а по-нашему выходит: «Нет, брат,
слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь — я всемеро
столько забыл! вот какой ты ученый!
Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился
бы на меня с кулаками.
— Да он пьян,— проговорил я, с недоумением
озираясь кругом.
— Кто? Я? — прикрикнул Фома не своим голосом.
— Да, вы!
— Пьян?
— Пьян.
Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто
его начали резать, и бросился вон из комнаты.
Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рас-
судила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней по-
бежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и
огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина.
Он улыбался и потирал себе руки.
— Про иезуитика-то давеча обещались,— прогово-
рил он вкрадчивым голосом.
— Что? — спросил я, не понимая, в чем дело.
— Про иезуитика давеча рассказать обещались...
анекдотец-с...
Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя
шла кругом...
VIII
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и
крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь
делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну
темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настень-
кой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым
она утирала их.
— Я вас искала,— сказала она.
— А я вас,— отвечал я ей.— Скажите: я в сума-
сшедшем доме или нет?
— Вовсе не в сумасшедшем доме,— проговорила
она обидчиво, пристально взглянув на меня.
— Но если так, так что ж это делается? Ради самого
512
Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь
ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что
вас встретил: может .быть, вы меня в чем-нибудь и на-
ставите.
— Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.
— Да где они?
— А кто знает? Может быть, опять в огород побе-
жали,— проговорила она раздражительно.
— В какой огород?
— Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал,
что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в ого-
род, достал в шалаше заступ и начал гряды копать.
Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит,
чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел,
буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю,
а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все
плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ
у него отнимают; а он-то копает; всю репу только пере-
копал. Сделали раз поблажку — вот он, может быть,
и теперь повторяет. От него станется.
— И вы... и вы рассказываете это так хладно-
кровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании.
Она взглянула на меня сверкавшими глазами.
— Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! По-
слушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?
— Н...нет,— отвечала она, закрасневшись, и какое-
то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.
— Вы извините меня,— продолжал я,— я теперь
расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне на-
чать говорить об этом... особенно с вами... Но все равно!
По-моему, откровенность в таких делах лучше всего.
Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете наме-
рение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...
— О, какой вздор! Не говорите этого, пожа-
луйста! — сказала она, поспешно перебивая меня и вся
вспыхнув.
Я был озадачен.
— Как вздор? Но он ведь писал ко мне.
— Так он-таки вам писал? — спросила она с жи-
востью.— Ах, какой! Как же он обещался, что не будет
писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!
33 Ф. М. Достоевский, т. 2 513
— Простите меня,— пробормотал я, не зная, что го-
ворить,— может быть, я поступил неосторожно, грубо...
но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог
знает чем...
— Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне
и без того тяжело это слушать, а между тем судите:
я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-
нибудь... Ах, какая досада! так он-таки вам написал!
Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это
человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя
голову? Вот надо было!
Она не скрывала своей досады. Положение мое
было непривлекательно.
— Признаюсь, я не ожидал,— проговорил я в са-
мом полном смущении,— такой оборот... я, напротив,
думал...
— А, так вы думали? — произнесла она с легкой
иронией, слегка закусывая губу.— А знаете, вы мне по-
кажите это письмо, которое он вам писал?
— Хорошо-с.
— Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не
обижайтесь; и без того много горя! — сказала она про-
сящим голосом, а между тем насмешливая улыбка
слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.
— Ох, пожалуйста, не принимайте меня за
дурака! — вскричал я с горячностью.— Но, может быть,
вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-
нибудь на меня насказал? может быть, вы потому, что
я там теперь срезался? Но это ничего — уверяю вас.
Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед
вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю,
что говорю... А все это оттого, что мне эти проклятые
двадцать два года!
— О боже мой! Так что ж?
— Как так что ж? Да ведь кому двадцать два
года, у того это и на лбу написано, как у меня, напри-
мер, когда я давеча на средину комнаты выскочил или
как теперь перед вами... Распроклятый возраст!
— Ох, нет, нет! — отвечала Настенька, едва удер-
живаясь от смеха.— Я уверена, что вы и добрый, и ми-
лый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но... вы
514.
только очень самолюбивы. От этого еще можно испра-
виться.
— Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.
— Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились — и от-
чего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое
право вы имели выставлять на смех вашего доброго,
вашего великодушного дядю, который вам сделал
столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смеш-
ное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно!
Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне
очень противны в ту минуту, вот вам!
— Это правда! Я был болван! Даже больше: я сде-
лал подлость! Вы приметили ее — и я уже наказан!
Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте:
может быть, вы перемените, наконец, ваше мнение,—
прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством,—
вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете
больше, тогда... может быть...
— Ради бога, оставим этот разговор! — вскричала
Настенька с видимым нетерпением.
— Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас
видеть?
— Как где видеть?
— Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами ска-
зали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога,
назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, те-
перь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра
утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить по-
раньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь
помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.
— Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того
теперь говорим.
— Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья
Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь
должен же он, наконец, мне все рассказать, и тогда я,
может быть, скажу вам что-нибудь очень важное...
— Нет, нет! не надо, не надо! — вскричала
Настенька,— кончимте все разом теперь, так, чтоб по-
том и помину не было. А в ту беседку и не ходите на-
прасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуй-
ста, из головы весь этот вздор — я серьезно прошу' вас...
33*
515
— Так, значит, дядя поступил со мною, как сума-
сшедший! — вскричал я в припадке нестерпимой до-
сады.— Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но
слышите, что это за шум?
Мы были близко от дома. Из растворенных окон
раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.
— Боже мой! — сказала она побледнев,— опять!
Я так и предчувствовала!
— Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна,
еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего
права, но решаюсь предложить вам этот последний
вопрос для общего блага. Скажите — и это умрет во
мне — скажите откровенно: дядя влюблен в вас или
нет?
— Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы
раз навсегда! — вскричала она, вспыхнув от гнева.—
И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать
меня за вас,— прибавила она с горькою улыбкою.—
И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете,
о чем идет дело? Слышите эти крики?
— Но... это Фома Фомич...
— Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня
идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту
же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен
в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как за-
марать меня ничего не стоит, а они хотят женить его
на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал до-
мой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про
это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фо-
мича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом;
уж я предчувствую, что об этом.
— Так это все правда! Так, значит, он непременно
женится на этой Татьяне?
— На какой Татьяне?
— Ну, да на этой дуре.
— Вовсе не дура! Она добрая. Не имеете вы права
так говорить! У нее благородное сердце, благороднее,
чем у многих других. Она не виновата тем, что не-
счастная.
— Простите. Положим, вы в этом совершенно
правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же,
516
скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего
отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились
на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него
бы сердились и его бы худо принимали.
— А разве вы не видите, что делает для меня мой
отец! Он шутом перед ним вертится! Его принимают
именно потому, что он успел подольститься к Фоме
Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так
вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы
думаете: для кого это отец делает? Он для меня это
делает, для меня одной. Ему не надо; он для
себя никому не поклонится. Он, может, и очень
смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благо-
роднейший человек! Он думает, бог знает почему — и
вовсе не потому, что я здесь жалованье хорошее полу-
чаю — уверяю вас, он думает, что мне лучше оста-
ваться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его
разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал,
чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так
хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего до-
шло: они меня съесть хотят, и я знаю наверно, что они
там теперь кричат обо мне. Они растерзают его из-за
меня, они погубят его! А он мне все равно, что отец —
слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу
дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же,
завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отло-
жат хоть на время и свадьбу его с Татьяной Иванов-
ной... Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же
это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не
могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына.
Скажите, чтоб он не беспокоился обо мне, что я лучше
хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть
причиною его здешних мучений. Я бедная и должна
жить как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик!
Что там еще делается? Нет, во что бы ни стало сейчас
пойду туда! Я выскажу им всем все это прямо в глаза,
сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Про-
щайте!
Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне со-
знавая все смешное в той роли, которую мне пришлось
сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем все
517
это теперь разрешится. Мне было жаль бедную де-
вушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился
Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке.
— Пожалуйте к дяденьке! — проговорил он унылым
голосом.
Я очнулся.
— К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?
— В чайной. Там же, где чай изволили давеча ку-
шать.
— Кто с ним?
-— Одни. Дожидаются.
— Кого? меня?
— За Фомой Фомичом послали. Прошли наши
красные деньки! — прибавил он, глубоко вздыхая.
— За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где ба-
рыня?
— На своей половине. В омрак упали, а теперь ле-
жат в бесчувствии и плачут.
Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы.
На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действи-
тельно был один, в той же комнате, где произошло мое
побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими
шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бро-
сился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и
тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервиче-
ская дрожь пробегала временем по всему его телу.
IX
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
— Друг мой! все кончено, все решено! — проговорил
он каким-то трагическим полушепотом.
— Дядюшка,— сказал я,— я слышал какие-то
крики.
— Крики, братец, крики; всякие были крики! Ма-
менька в обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но
я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не
боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть ха-
рактер,— и покажу! И вот нарочно послал за тобой,
чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито,
518
Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею стро-
гостью. Справедливость неумолима!
— Но что же такое случилось, дядюшка?
— Я расстаюсь с Фомой,— произнес дядя решитель-
ным голосом.
— Дядюшка! — закричал я в восторге,— ничего
лучшего вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-
нибудь могу способствовать вашему решению, то... рас-
полагайте мною во веки веков.
— Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь
уж все решено. Жду Фому; я уж послал за ним. Или
он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра
Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и
поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион.
Прочь всю эту систему! Теперь все по-новому! На что
это у тебя французская тетрадка? — с яростию закри-
чал он, обращаясь к Гавриле.— Прочь ее! Сожги, рас-
топчи, разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе
не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не
смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин,
а не Фома Фомич!..
— Слава те господи! — пробормотал про себя Гав-
рила. Дело, очевидно, шло не на шутку.
— Друг мой! — продолжал дядя с глубоким чув-
ством,— они требуют от меня невозможного! Ты бу-
дешь судить меня; ты теперь станешь между ним и
мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не
знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, фор-
мально потребовали, все высказали! Но это противно
человеколюбию, благородству, чести... Я все расскажу
тебе, но сперва...
— Я уж все знаю, дядюшка! —вскричал я, переби-
вая его,— я угадываю... Я сейчас разговаривал с На-
стасьей Евграфовной.
— Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! —
торопливо прервал он меня, как будто испугавшись.—
Потом я все сам расскажу тебе, но покамест...
Что ж? — закричал он вошедшему Видоплясову,— где
же Фома Фомич?
Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич
«не желают прийти и находят требование явиться до не-ч
519
совместности грубым-с, так что Фома Фомич очень из-
волили этим обидеться-с».
— Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи
его! — закричал дядя, топая ногами.
Видоплясов, никогда не видавший своего барина в
таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.
«Надо же быть чему-нибудь слишком важному,—
подумал я,— если человек с таким характером способен
дойти до такого гнева и до таких решений».
Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как
будто в борьбе сам с собою.
— Ты, впрочем, не рви тетрадку,— сказал он, нако-
нец, Гавриле.— Подожди и сам будь здесь: ты, может
быть, еще понадобишься.— Друг мой! — прибавил он,
обращаясь ко мне,— я, кажется, уж слишком сейчас за-
кричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с му-
жеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь
что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда?
Тебе все равно. Я тебе потом все сам расскажу,— а?
как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.
— Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? — ска-
зал я, пристально смотря на него.
— Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! — вскричал
он с удвоенным одушевлением.— Я уж теперь ничего
больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые
решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вооб-
разить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я
должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и
докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но
знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя йозвал:
Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты бу-
дешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Ви-
дишь, я хочу ему отказать от дома благородным обра-
зом, без всякого унижения. Но ведь это я так только
говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что
хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же
груб, без воспитания, пожалуй еще такое тяпну, сдуру-
то, что и сам потом не рад буду. Все же он для
меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его
ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе все
потом расскажу. Выйди, ради Христа!
520
И дядя вывел меня на террасу, в то самое мгнове-
ние, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не
ушел; я решился остаться на террасе, где было очень
темно и, следственно, меня трудно было увидеть из
комнаты. Я решился подслушивать!
Не оправдываю ничем своего поступка, но смело
скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не поте-
ряв терпения, я считаю, что совершил подвиг велико-
мученичества. С моего места я не только мог хорошо
слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были
стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича,
которому приказали явиться, угрожая силою в случае
отказа.
— Мои ли уши слышали такую угрозу, полков-
ник?— возопил Фома, входя в комнату.— Так ли мне
передано?
— Твои, твои, Фома, успокойся,— храбро отвечал
дядя.— Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски.
Садись же, Фома.
Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя
быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, оче-
видно затрудняясь, с чего начать речь.
— Именно братски,— повторил он.— Ты поймешь
меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький —
словом, мы оба в летах... Гм! Видишь, Фома, мы не схо-
димся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых
пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, рас-
статься? Я уверен, что ты благороден, что ты мне же-
лаешь добра, и потому... Но что долго толковать!
Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми
святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это
все, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб,
своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя
обеспечить! Тут все почти ломбардными и очень не-
много наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не
должен, потому что я никогда не буду в силах запла-
тить тебе за все, что ты для меня сделал. Да, да,
именно, я это чувствую, хотя теперь в главнейшем-то
пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или
когда тебе угодно... разъедемся. Поезжай-ка в наш го-
родишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за
.521
церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями,
премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для
тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его
сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Зани-
майся литературой, науками: приобретешь славу... Чи-
новники там, все до одного, благородные, радушные,
бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приез-
жать гостить по праздникам — и мы заживем, как в
раю! Желаешь иль нет?
«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! — поду-
мал я,— дядя скрыл от меня о деньгах».
Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома
сидел в креслах, как будто ошеломленный, и непо-.
движно смотрел на дядю, которому, видимо, станови-
лось неловко от этого молчания и от этого взгляда.
— Деньги! — проговорил, наконец, Фома каким-то
выделанно-слабым голосом,— где же они, где эти
деньги? давайте их, давайте сюда скорее!
— Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятна-
дцать, все, что было. Тут и кредитными и ломбард-
ными — сам увидишь... вот!
— Гаврила! возьми себе эти деньги,— кротко прого-
ворил Фома,— они, старик, могут тебе пригодиться.—
Но нет! — вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то
необыкновенного визга и вскакивая с кресла,— нет! дай
мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай
мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их
моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, раз-
бросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне пред-
лагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого
дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого по-
следнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы!
Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает
Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали,
полковник!
И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. За-
мечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного
билета, как похвалялся сделать; он только немного по-
мял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился
собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бе-
режно передал своему барину.
522
Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столб-
няк. В свою очередь он стоял теперь перед ним непо-
движно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между
тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от
невыразимого волнения.
— Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал, на-
конец, дядя, очнувшись,— ты благороднейший из лю-
дей!
— Это я знаю,— отвечал Фома слабым голосом, но
с невыразимым достоинством.
— Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!
— Да, передо мной,— поддакнул Фома.
— Фома! не твоему благородству я удивляюсь,—
продолжал дядя в восторге,— но тому, как мог я быть
до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить
тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном
ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб
ты вышел из дома, а просто-запросто, я хотел, чтоб и у
тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня
выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях
готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь,
стану сейчас перед тобой на колени... если только хо-
чешь...
— Не надо мне ваших колен, полковник!..
— Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгоря-
чен, фрапирован, я был вне себя... Но назови же, скажи,
чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? На-
учи, изреки...
— Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что
завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого
дома.
И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе,
бросился его снова усаживать.
— Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! —кричал
дядя.— Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома!
Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и
все буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не про-
стишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!
— Вас простить? вы виноваты? — сказал Фома.—
Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною?
Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо
523
мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? По-
нимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили
ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в
вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими ку-
сками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного
мною; вы мне доказали теперь, что я жил, как раб,
в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакиро-
ванных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца,
думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг
и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеиными ре-
чами вашими тысячу раз уверяли меня в этом брат-
стве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети,
в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке ко-
пали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами
втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом
еще прежде одним ударом этой дубины? Зачем в самом
начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь
петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что
он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравне-
ние, полковник, хотя оно и взято из провинциального
быта и напоминает собою тривиальный тон современной
литературы; потому стою за него, что в нем видна вся
бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же вино-
ват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не
угодивший своему легкомысленному владельцу несне-
сеньем яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу
иль брату деньгами — и за что же? главное, за что же?
«На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе:
ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных
сребренников, но только убирайся от меня с глаз до-
лой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы
думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал
одни райские чувства составить ваше благополучие.
О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чув-
ствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка
в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже
предвидел все это,— вот почему я уже давным-давно
задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот
почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли!
вот почему ваш сахар, ваши конфекты были для меня
кайеннским перцем, а «е конфектами! Нет, полковник!
524
живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому
идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так
и будет, полковник!
— Нет, Фома, нет! так не будет, так не может
быть! — простонал совершенно уничтоженный дядя.
— Да, полковник, да! именно так будет, потому что
так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте
ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую
дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами — и я
гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта са-
мая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит
эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благород-
ством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, пол-
ковник. Про-щай-те, полковник!..
И Фома начал вновь подыматься с кресла.
— Прости, прости, Фома! забудь!..— повторял дядя
умоляющим голосом.
— «Прости»! Но к чему, вам мое прощение? Ну,
хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я
не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил.
Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-
нибудь с здравым смыслом и благородством души, если
я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме?
Ведь вы выгоняли меня!
— Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что
сообразно!
— Сообразно? Но равны ли мы теперь между со-
бою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раз-
давил вас своим благородством, а вы раздавили сами
себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены,
а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть
друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская
сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над
вами, как вы, может быть, думаете.
— Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома,
уверяю тебя...
— И это тот самый человек,— продолжал Фома, пе-
ременяя суровый тон на блаженный,— тот самый че-
ловек, для которого я столько раз не спал по ночам!
Столько раз, бывало, в бессонные ночи мои я вставал
с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он
525
спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома,
бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь
для благополучия этого человека». Вот как думал Фома
в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил
ему этот полковник! Но довольно, довольно!..
— Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою
дружбу — клянусь тебе!
— Заслужите? а где же гарантия? Как христианин,
я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и че-
ловек благородный, я поневоле буду вас презирать.
Я должен, я обязан во имя нравственности, потому
что — повторяю вам это — вы опозорили себя, а я сде-
лал благороднейший из поступков. Ну, кто из ваших
сделает подобный поступок? Кто из них откажется от
такого несметного числа денег, от которых отказался,
однакож, нищий, презираемый всеми Фома, из любви
к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной,
вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на
какой подвиг способны вы, когда не можете даже ска-
зать мне вы, как своему ровне, а говорите ты, как
слуге?
— Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе ты! —
возопил дядя.— Я не знал, что тебе неприятно... Боже
мой! но если б я только знал...
— Вы,— продолжал Фома,— вы, который не могли
или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустей-
шую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас про-
сил сказать мне, как генералу, «ваше превосходитель-
ство»...
— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, выс-
шее посягновение, Фома.
— Высшее посягновение! Затвердили какую-то
книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но
знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня от-
казом сказать мне «ваше превосходительство», обесче-
стили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня
капризным дураком, достойным желтого дома! Ну, не-
ужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б
захотел именоваться превосходительством, я, который
презираю все эти чины и земные величия, ничтожные
сами по себе, если они не освящаются добродетелью?
526
За миллион не возьму генеральского чина без доброде-
тели! А между тем вы считали меня за безумного! Для
вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и
допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного,
вы и ваши ученые! Единственно для того, чтоб просве-
тить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас
лучами новых идей, решился я требовать от вас гене-
ральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали
впредь генералов самыми высшими светилами на всем
земном шаре; хотел доказать вам, что чин — ничто без
великодушия и что нечего радоваться приезду вашего
генерала, когда, может быть, ‘и возле вас стоят люди,
озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чвани-
лись передо мною своим чином полковника, что вам
уже трудно было сказать мне: «Ваше превосходитель-
ство». Вот где причина! вот где искать ее, а не в посяг-
новении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы пол-
ковник, а я просто Фома...
— Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты
ученый, ты не просто Фома... я почитаю...
— Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если
почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет
генеральского сана? Отвечайте решительно и немед-
ленно: достоин иль нет? Я хочу посмотреть ваш ум,
ваше развитие.
— За честность, за бескорыстие, за ум, за высочай-
шее благородство души —достоин! — с гордостью про-
говорил дядя.
— А если достоин, так для чего же вы не скажете
мне «ваше превосходительство»?
— Фома, я, пожалуй, скажу...
— А я требую! А я теперь требую, полковник, на-
стаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-
то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет
первым шагом вашего подвига, потому что — не
забудьте это — вы должны сделать целый ряд подвигов,
чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить
самого себя, и тогда только я уверую в вашу искрен-
ность...
— Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходи-
тельство»!
527
— Нет, не завтра, полковник, завтра само собой.
Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше
превосходительство».
— Изволь, Фома, я готов... Только как же это так,
сейчас, Фома?..
— Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком
случае мне обидно, если вам стыдно.
— Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже
горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с
сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь
это нельзя...
— Нет, не «здравствуйте, ваше превосходитель-
ство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на
фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь,
немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш
тон!
— Да ты не шутишь, Фома?
— Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы — не за-
будьте это; и не Фома, а Фома Фомич.
— Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми си-
лами рад... Только что ж я скажу?
— Вы затрудняетесь, что прибавить к слову «ваше
превосходительство» — это понятно. Давно бы вы объ-
яснились! Это даже извинительно, особенно если чело-
век не сочинитель, если выразиться поучтивее. Ну, я вам
помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной:
«ваше превосходительство!..»
— Ну, «ваше превосходительство».
— Нет, не: «ну, ваше превосходительство», а про-
сто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полков-
ник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не
оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться
и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом
говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким обра-
зом почтительность и готовность, так сказать, лететь
по его поручениям. Я сам бывал в генеральских об-
ществах и все это знаю... Ну-с: «ваше превосходи-
тельство».
— Ваше превосходительство...
— Как я несказанно обрадован, что имею, наконец,
случай просить у вас извинения в том, что с первого
528
раза не узнал души вашего превосходительства. Смею
уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на
пользу общую... Ну, довольно с вас!
Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту га-
лиматью, фраза за фразой, слово за словом! Я стоял
и краснел, как виноватый. Злость душила меня.
— Ну, не чувствуете ли вы теперь,— проговорил
истязатель,— что у вас вдруг стало легче на сердце,
как будто в душу к вам слетел какой-то ангел?..
Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? отвечайте
мне!
— Да, Фома, действительно как-то легче сдела-
лось,— отвечал дядя.
— Как будто сердце ваше после того, как вы побе-
дили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?
— Да, Фома, действительно как будто по маслу
пошло.
— Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про
масло вам говорил... Ну, да все равно! Вот что значит,
полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы
самолюбивы, необъятно самолюбивы!
— Самолюбив, Фома, вижу,— со вздохом отвечал
дядя.
— Вы эгоист и даже мрачный эгоист...
— Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с
тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.
— Я вам говорю теперь, как отец, как нежная мать...
вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый
теленок две матки сосет.
— Правда и это, Фома!
— Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человече-
ское сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внима-
ние, что порядочный человек от вас за тридевять зе-
мель убежать готов!
Дядя еще раз глубоко вздохнул.
— Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к
другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о
вас. Живи и жить давай другим — вот мое правило!
Терпи, трудись, молись и надейся — вот истины, кото-
рые бы я желал внушить разом всему человечеству!
Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое
34 Ф. М. Достоевский, т. 2 529
сердце, буду плакать на груди вашей... если понадо-
бится... А то я да я, да милость моя! Да ведь надоест
же, наконец, ваша милость, с позволения сказать.
— Сладкогласный человек! — проговорил в благо-
говении Гаврила.
— Это правда, Фома; я все это чувствую,— поддак-
нул растроганный дядя.— Но не во всем же и я вино-
ват, Фома; так уж меня воспитали; с солдатами жил.
А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался
с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто
плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!.. Я и
подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем че-
ловек погибший.
— Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на
самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули
меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими сле-
зами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.
— Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел,
вспомнил старое хорошее время.
— Хорошее время не с неба падает, а мы его
делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич.
Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания,
доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве
одним дуракам, верхоплясам, ученым, которых не щажу
и не хочу щадить. Не люблю дураков! И что такое эти
ученые? «человек науки!» да наука-то выходит у него
надувательная штука, а не наука. Ну что он давеча го-
ворил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых!
Все могу опровергнуть; все положения их могу опровер-
гнуть! Я уж не говорю о благородстве души...
— Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?
— Давеча, например, я выказал ум, талант, колос-
сальную начитанность, знание сердца человеческого,
знание современных литератур; я показал и блестящим
образом развернул, как из какого-нибудь комаринского
может вдруг составиться высокая тема для разговора
у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь
из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь
уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю.
А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь
Меркаданте перед ним сидел, и только тем виноват, что
530
беден и находится в неизвестности... Нет, это им не
пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?
— Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его
жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!
— Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь совре-
менный осел, навьюченный книгами. Души в них нет,
полковник, сердца в них нет! А что и ученость без доб-
родетели?
— Нет, Фома, нет! Как о семейном счастии гово-
рил! так сердце и вникает само собою, Фома!
— Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но
довольно,— заключил Фома, подымаясь с кресла.—
Я не могу еще вас совершенно простить, полковник;
обида была кровавая; но я помолюсь и, может быть,
бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы погово-
рим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне
уйти. Я устал и ослаб...
— А, Фома! — захлопотал дядя,— ведь ты в са-
мом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкре-
питься, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.
— Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! — отвечал Фома
с презрительным хохотом.— Сперва напоят тебя ядом,
а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердеч-
ные раны хотят залечить какими-нибудь отварными
грибками или мочеными яблочками! Какой вы жалкий
материалист, полковник!
— Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца...
— Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы
немедленно идите к вашей родительнице: падите на
колени, рыдайте, плачьте, ио вымолите у нее проще-
ние,— это ваш долг, ваша обязанность!
— Ах, Фома, я все время об этом только и думал;
даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов
хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но
подумай, Фома, чего же от меня и требуют? Ведь это
несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь велико-
душен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай,
реши, и тогда... тогда... клянусь!..
— Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело,— отве-
чал Фома.— Вы знаете, что я во все это нимало не
вмешиваюсь; то есть вы, положим, и убеждены, что
31*
531
я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала
этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только
воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам же-
лает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте
обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет
солнце во гневе вашем! а я... а я буду всю ночь мо-
литься за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон,
Егор Ильич. Прощайте! Прощаю и тебя, старик,—
прибавил он, обращаясь к Гавриле.— Знаю, что ты не
своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я
обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и
благослови вас господь!
Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.
— Ты подслушивал? — вскричал дядя.
— Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли
сказать ему «ваше превосходительство»!..
— Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ни-
чего для высокого подвига; но какой благородный,
какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей —
ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими
деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был
увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подо-
зревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим против-
ником — это я теперь вижу... А помнишь, какое у пего
было благородное выражение в лице, когда он отка-
зался от денег?
— Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно,
а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю,
скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и
чего ожидаете? И если все кончено и я бесполезен вам,
то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня
же еду.
— Друг мой...— засуетился по обыкновению своему
дядя,— подожди только две минуты: я, брат, иду теперь
к маменьке... там надо кончить... важное, великое,
громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гав-
рила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний
флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и че-
модан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю про-
щение, решусь на одно дело,— я теперь уж знаю, как
сделать,— и тогда мигом к тебе, и тогда все, все, все до
532
последней черты тебе расскажу, всю душу выложу
пред тобою. И... и... и настанут же когда-нибудь и для
нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки,
Сергей!
Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было
делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.
х
мизинчиков
Флигель, в который привел меня Гаврила, назы-
вался «новым флигелем» только по старой памяти, но
выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это
был хорошенький деревянный домик, стоявший в не-
скольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех
сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся
своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого
домика были недурно меблированы и предназнача-
лись к приезду гостей. Войдя в отведенную мне ком-
нату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел
на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, ве-
ликолепно исписанный разными шрифтами, отделанный
гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы
и гирлянды разрисованы были разными красками. Все
вместе составляло премиленькую каллиграфскую ра-
боту. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что
это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в
котором я именовался «просвещенным благодетелем».
В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я
ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь по-
нять из написанного,— все труды мои остались тщет-
ными: это был самый напыщенный вздор, писанный
высоким лакейским слогом. Догадался я только, что
Видоплясов находится в каком-то бедственном положе-
нии, просит моего содействия, в чем-то очень на меня
надеется, «по причине моего просвещения» и, в заклю-
чение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и
подействовать на него «моею машиною», как буквально
изображено было в конце этого послания. Я еще читал
его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.
533
— Надеюсь, что вы позволите мне с вами позна-
комиться,— сказал он развязно, но чрезвычайно веж-
ливо и подавая мне руку.— Давеча я не мог вам ска-
зать двух слов, а между тем с первого взгляда почув-
ствовал желание узнать вас короче.
Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и
находился в самом отвратительном расположении духа.
Мы сели.
— Что это у вас? — сказал он, взглянув на лист,
который я держал еще в руке.— Уж не вопли ли Видо-
плясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и
вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист,
с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и,
вероятно, заранее приготовлялся. Вы не удивляйтесь:
здесь много странного и, право, есть над чем по-
смеяться.
— Только посмеяться?
— Ну, да неужели же плакать? Если хотите, я вам
расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы
посмеетесь.
— Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова,—
отвечал я с досадою.
Мне очевидно было, что и знакомство господина
Мизинчикова и любезный его разговор — все это пред-
принято им с какою-то целью и что господин Мизинчи-
ков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахму-
ренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбаю-
щийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно
было с первого взгляда, что этот человек отлично вла-
дел собой и, кажется, знал людей.
— Проклятый Фома! — сказал я, со злостью стук-
нув кулаком по столу.— Я уверен, что он источник вся-
кого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая
тварь!
— Вы, кажется, уж слишком на него рассерди-
лись,— заметил Мизинчиков.
— Слишком рассердился! — вскрикнул я, мгно-
венно разгорячившись.— Конечно, я давеча слишком
увлекся и таким образом дал право всякому осуждать
меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и сре-
зался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это
534
мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается
в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая
возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом,
если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду
отсюда — вот что!
— Вы курите? — спокойно спросил Мизинчиков.
— Да.
— Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там
не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен,—
продолжал он, закурив папироску,— что все это похоже
на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не по-
зволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем
месте я, может, втрое более бы разгорячился и вышел
из себя, чем вы.
— А почему же вы не вышли из себя, если действи-
тельно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоми-
наю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже
странно было, что вы не заступились за бедного дядю,
который готов благодетельствовать... всем и каждому!
— Ваша правда: он многим благодетельствовал; но
заступаться за него я считаю совершенно бесполезным:
во-первых, это и для него бесполезно и даже унизитель-
но как-то; а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я
вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода,
что я должен дорожить здешним гостеприимством.
— Но я нисколько не претендую на вашу откровен-
ность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось
спросить, так как вы здесь уже месяц живете...
— Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим
услугам,— торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая
стул.
— Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фо-
мич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые
уже были в его руках,— я видел это собственными
глазами.
— Как это? Неужели? — вскрикнул Мизинчиков.—
Расскажите, пожалуйста!
Я рассказал, умолчав о «вашем превосходитель-
стве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством;
он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до
пятнадцати тысяч.
535
— Ловко! — сказал он, выслушав рассказ.— Я даже
не ожидал от Фомы.
— Однакож отказался от денег! Чем это объяснить?
Неужели благородством души?
— Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять по-
том тридцать. Впрочем, знаете что? — прибавил он
подумав,— я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-ни-
будь расчет. Это человек непрактический; это тоже
в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч...
гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял
перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это,
я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая раз-
мазня, и все это при самом неограниченном само-
любии!
Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему
очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопыт-
ством вглядывался в него.
— Гм! Надо ожидать больших перемен,— прибавил
он задумываясь.— Теперь Егор Ильич готов молиться
Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится из умиления
души,— прибавил он сквозь зубы.
— Так вы думаете, что непременно состоится этот
гнусный, противоестественный брак с этой помешанной
дурой?
Мизинчиков пытливо взглянул на меня.
— Подлецы! — вскричал я запальчиво.
— Впрочем, у них идея довольно основательная:
они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать
для семейства.
— Мало он для них сделал! — вскричал я в негодо-
вании.— И вы, и вы можете говорить, что это основа-
тельная мысль — жениться на пошлой дуре!
— Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм!
Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочув-
ствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить
имение! Впрочем, у них и другие резоны: они боятся,
чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... пом-
ните, еще такая интересная девушка?
— А разве... разве это вероятно? — спросил я в вол-
нении.— Мне кажется, это клевета. Скажите, ради
бога, меня это крайне интересует...
536
— О, влюблен по уши! Только, разумеется, скры-
вает.
— Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она?
Она его любит?
— Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей
все выгоды за него выйти: она очень бедна.
— Но какие данные вы имеете для вашей догадки,
что они любят друг друга?
— Да ведь этого нельзя не заметить; притом же
они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали
даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы
только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю
под секретом.
— Возможно ли этому поверить? — вскричал я,—
и вы, и вы признаетесь, что этому верите?
— Разумеется, я не верю вполне, я там не был.
Впрочем, очень может и быть.
— Как может быть! Вспомните благородство, честь
дяди!
— Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб не-
пременно потом завершить законным браком. Так часто
увлекаются. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою
за совершенную достоверность этих известий, тем более
что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что
она была в связи с Видоплясовым.
— Ну,. вот видите! — вскричал я,— с Видоплясо-
вым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль
даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?
— Я ведь вам говорю, что я этому не совсем
верю,— спокойно отвечал Мизинчиков,— а впрочем,
могло и случиться. На свете все может случиться. Я же
там не был, и притом я считаю, что это не мое дело.
Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое
участие, то считаю себя обязанным прибавить, что
действительно мало вероятия насчет этой связи с Видо-
плясовым. Это все проделки Анны Ниловны, вот этой
Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи из
зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж
за Егора Ильича — ей-богу! — на том основании, что
она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась
и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж все расска-
537
зал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю
сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное
время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой
просьбой.
— С просьбой? Помилуйте, все, чем могу быть
полезен...
— Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинте-
ресовать, потому что, вижу, вы любите вашего дя-
дюшку и принимаете большое участие в его судьбе на-
счет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще
другую просьбу, предварительную.
— Какую же?
— А вот какую: может быть, вы и согласитесь ис-
полнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во
всяком случае прежде изложения я бы попросил вас
покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать
мне честное и благородное слово дворянина и порядоч-
ного человека, что все, услышанное вами от меня,
останется между нами в глубочайшей тайне и
что вы ни в каком случае, ни для какого лица не изме-
ните этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей,
которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить.
Согласны иль нет?
Предисловие было торжественное. Я дал согласие.
— Ну-с?..— сказал я.
— Дело в сущности очень простое,— начал Мизин-
чиков.— Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и
жениться на ней; словом, будет нечто похожее на
Гретна-Грин,— понимаете?
Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза
и некоторое время не мог выговорить слова.
— Признаюсь вам, ничего не понимаю,— прогово-
рил я, наконец,— и кроме того,— продолжал я,— ожи-
дая, что имею дело с человеком благоразумным, я,
с своей стороны, никак не ожидал...
— Ожидая не ожидали,— перебил Мизинчиков,—
в переводе это будет, что я и намерение мое глупы,—
не правда ли?
— Вовсе нет-с... но...
— О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выраже-
ниях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим
538
большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели.
Я, впрочем, согласен, что все это с первого взгляда
может показаться даже несколько странным. Но смею
уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но
даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете
так добры, выслушаете все обстоятельства...
— О, помилуйте! я с жадностью слушаю.
— Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли:
я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме
того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая,
живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом
виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок
душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произ-
вели в корнеты. Ну, сначала, разумеется, заложил, а по-
том прокутил и остальным образом. Жил глупо, зада-
вал тону, корчил Бурцова, играл, пил — словом, глупо,
даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу
совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне
совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями.
А так как я не достану ничего службой, сам же по себе
ни на что не способен и не имею почти никакого образо-
вания, то, разумеется, остается только два средства:
или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда
почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне
свои последние три целковых, когда я отправился из
Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тот-
час же у меня родилась мысль. Я немедленно решился
пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что все
это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю
это более для сестры... ну, конечно, и для себя...
— Но, позвольте, вы хотите сделать формальное
предложение Татьяне Ивановне?
— Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы
выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить
ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело:
только чтоб было что-нибудь романическое и эффект-
ное. Разумеется, все это немедленно завершится между
нами законным браком. Только бы выманить-то ее
отсюда!
— Да почему ж вы так уверены, что она непременно
с вами убежит?.
539
— О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен.
В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ива-
новна способна завести амурное дело решительно со
всяким встречным, словом, со всяким, кому только при-
дет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас
предварительно честное слово, чтоб вы тоже не восполь-
зовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне
бы даже грешно было не воспользоваться таким слу-
чаем, особенно при моих обстоятельствах.
— Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах!
извините,— прибавил я, спохватившись.— Так как вы
теперь имеете на нее виды, то...
— Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас.
Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам
ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще
не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании
к амурным делам я, право, не вижу особенного сума-
сшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка чест-
ная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной
бедности, с самого рождения жила под гнетом у благо-
детельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствитель-
ное; замуж ее никто не просил — ну, понимаете: мечты,
желания, надежды, пыл сердца, который надо было
всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц — все
это, разумеется, могло довести до расстройства чув-
ствительный характер. И вдруг сна получает богатство:
согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разу-
меется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все
надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про
франта в белом жилете: это факт, случившийся бук-
вально так, как она говорила. По этому факту можете
судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на
стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому
намекнете на шелковую лестницу, на испанские сере-
нады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать
с ней все, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же
добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест
приостановился до благоприятного времени. Но дня
через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне
я начну подпускать лясы, вздыхать; я не дурно играю
на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рас-
540
свету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем.
Вы понимаете, что тут — никакого риску: она совершен-
нолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж
если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит,
вошла^со мной в обязательства... Привезу я ее в благо-
родный, но бедный дом — здесь есть, в сорока вер-
стах,— где до свадьбы ее будут держать в руках и ни-
кого до нее не допустят; а между тем я времени терять
не буду: свадьбу уладим в три дня — это можно. Разу-
меется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно
не более пятисот серебром на всю интермедию, а в этом
я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная,
в чем дело. Теперь поняли?
— Понимаю,— сказал я, поняв, наконец, все в со-
вершенстве.— Но, скажите, в чем же я-то вам могу
быть полезен?
— Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не
просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно поч-
тенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь
и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь,
без вашей помощи я буду как без рук.
— Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня
для вашей доверенности, меня, которого вы еще не
знаете, потому что я всего несколько часов как при-
ехал?
— Вопрос ваш,— отвечал Мизинчиков с самою лю-
безною улыбкою,— вопрос ваш, признаюсь откровенно,
доставляет мне много удовольствия, потому что пред-
ставляет мне случай высказать мое особое к вам уваже-
ние.
— О, много чести!
— Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал.
Вы, положим, и пылки и... и... ну и молоды; но вот в
чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово,
что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдер-
жите. Вы не Обноскин — это первое. Во-вторых, вы че-
стны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разу-
меется, кроме того случая, если захотите вступить со
мною в дружелюбную сделку. В таком случае я, может
быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть
Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похи-
541
щении, но с условием, через месяц после свадьбы по-
лучить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем,
разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде
заемного письма, без процентов.
— Как? — вскричал я,— так вы ее уж и мне пред-
лагаете?
— Натурально, я могу уступить, если надумаетесь,
захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит
мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, нако-
нец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать.
А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоя-
тельства, невозможно. К тому же скоро успенский пост,
и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня
понимаете?
— Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу
тайну в полной неприкосновенности; но товарищем ва-
шим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом
объявить вам немедленно.
— Почему ж?
— Как почему ж? — вскричал я, давая, наконец,
волю накопившимся во мне чувствам.— Да неужели вы
не понимаете, что такой поступок даже неблагороден?
Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основы-
ваясь на слабоумии и на несчастной мании этой де-
вицы; но ведь уж это одно и должно было удержать
вас, как благородного человека! Сами же вы говорите,
что она достойна уважения, несмотря на то, что
смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб
вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее
настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы
непременно ее покинете... Это так неблагородно, что,
извините меня, я даже не понимаю, как вы решились
просить меня в ваши сотрудники!
— Фу ты, боже мой, какой романтизм! — вскричал
Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивле-
нием.— Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто,
кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что
это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей,
а на ее стороне... Рассудите только!
— Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то,
пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное
542
дело, женясь на Татьяне Ивановне,— отвечал я с сар-
кастическою улыбкою.
— А то как же? именно так, именно самое велико-
душное дело! — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в
свою очередь.— Рассудите только: во-первых, я жерт-
вую собой и соглашаюсь быть ее мужем,— ведь это же
стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря на то, что у
ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это,
я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе
слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою
жизнь, хотя бы и мог,— это опять чего-нибудь стоит!
Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою
жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно
отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший
дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к
ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга,
спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с
серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее,
женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-
нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и чест-
нейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спе-
кулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно изба-
вить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет
за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в
том, что никакое несчастье до нес не коснется. Во-пер-
вых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благо-
родное, но бедное семейство — это не то, о котором я
говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно
находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба
глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а
может, и триста ассигнациями: на это можно знаете
как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены,
все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она мо-
жет даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя
на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле
ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть,
а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я
свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит?
Натурально я с нею не буду жить вместе. Она в Москве,
а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, по-
тому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого,
543
что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь
к ее характеру: ну, способна ли она быть женой и жить
вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство?
Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей не-
обходима беспрерывная перемена; она способна на дру-
гой же день забыть, что вчера вышла замуж и сдела-
лась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вко-
нец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от
нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я
буду к ней приезжать раз в год или чаще, и не за день-
гами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ас-
сигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном
отношении я поступаю с ней в высшей степени благо-
родным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду
доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней
хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на
бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь
романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романиче-
ски и буду вести с ней потом любовную переписку. Да
она в восторге будет от такого романического, влюблен-
ного и веселого мужа! По-моему, это рационально; так
бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и
драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей
системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчай-
шим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше же-
лать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!
Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспа-
ривать господина Мизинчикова невозможно. Он фана-
тически уверен был в правоте и даже в величии своего
проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но
оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъ-
яснить его было необходимо.
— Вспомнили ли вы,— сказал я,— что она почти
уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему боль-
шую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы, и
сверх того у него же возьмете взаймы для совершения
этого подвига!
— А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскри-
чал Мизинчиков.— Не беспокойтесь, я предвидел ваше
возражение. Но, во-первых, и главное: дядя еще пред-
ложения не делал; следственно, я могу и не знать,
544
что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заме-
тить, что я еще три недели назад замыслил это пред-
приятие, когда еще ничего не знал о здешних намере-
ниях; а потому я совершенно прав перед ним в мораль-
ном отношении, и даже, если строго судить, не я у него,
а он у меня отбивает невесту, с которой — заметьте
это — я уж имел тайное ночное свидание в беседке. На-
конец, позвольте: не вы ли сами сейчас были в исступле-
нии, что дядюшку вашего заставляют жениться на
Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаетесь за этот
брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести!
Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее
одолжение: спасаю его — вы должны это понять! Он
с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же
любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна
Ивановна? да и она с ним будет несчастна, потому что,
как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить;
чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь
когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша,
никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить
такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж
слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благо-
деяние Егору Ильичу?
Признаюсь, это последнее рассуждение на меня
сильно подействовало.
— А что, если он завтра сделает предложение? —
сказал я,— ведь уж тогда будет несколько поздно: она
будет формальная невеста его.
— Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать,
чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего со-
действия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим
дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложе-
ния. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в
крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем от-
влечь всеобщее внимание, так что им будет не до
свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я го-
ворю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.
— Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме
меня, не открывали вашего предприятия?
Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую
кислую гримасу.
35 Ф. М. Достоевский, т. 2 545
— Признаюсь вам,— отвечал он,— этот вопрос для
меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука,
что я уже открыл мою мысль... словом, свалял ужас-
нейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обно-
скину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю,
как и случилось! Он все здесь вертелся; я еще его хо-
рошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, ра-
зумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда
же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к
Обноскину... Непростительно, непростительно!
— Ну, что ж Обноскин?
— С восторгом согласился, а на другой же день,
рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей
маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как
будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А ма-
менька его такая прощелыга, просто через все медные
трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей все
рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело нахо-
дится немного в натянутом положении... Оттого-то я и
тороплюсь.
— Чего ж именно вы от них опасаетесь?
— Многого, конечно, не сделают, а что напако-
стят— так это наверно. Потребуют денег за молчание
и за помощь: я того и жду... Только я много не могу
им дать, и не дам — я уж решился; больше трех тысяч
ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три ты-
сячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде
все сполна нужно отдать; потом старые долги; иу, се-
стре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из
ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обно-
скины, впрочем, уехали.
— Уехали? — спросил я с любопытством.
— Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра
увидите, опять явятся. Ну так как же, согласны?
— Признаюсь,— отвечал я, съеживаясь,— не знаю,
как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохраню
все в тайне; я не Обноскин; но... кажется, вам на меня
надеяться нечего.
— Я вижу,— сказал Мизинчиков, вставая со
стула,— что вам еще не надоели Фома Фомич и ба-
бушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благо-
546
родного дядю, но еще недостаточно вникли, как его
мучат. Вы же человек новый... Но терпение! Побудете
завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе
ваш дядюшка пропал — понимаете? Его непременно
заставят жениться. Не забудьте, что, может быть,
завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы
сегодня решиться!
— Право, я желаю вам всякого успеха, но помо-
гать... не знаю как-то...
— Знаем! Ну, подождем до завтра,— решил Ми-
зинчиков, улыбаясь насмешливо.— La nuit porte con-
seil L До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а
вы подумайте...
Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.
Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц
еще не всходил; ночь была темная, воздух теплый и
удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Не-
смотря на страшную усталость, я хотел было походить,
рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и де-
сяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то
всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезычайным
одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его.
Дядя был с Видоплясовым.
XI
КРАЙНЕЕ НЕДОУМЕНИЕ
— Дядюшка! — сказал я,— наконец-то я вас до-
ждался.
— Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только
кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта.
Много надо тебе рассказать.
— Как, еще с Видо плясовым! Да бросьте вы его,
дядюшка.
— Еще только каких-нибудь пять или десять минут,
Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.
— Да он, верно, с глупостями,— проговорил я с до*
садою.
1 Утро вечера мудреней (франц.).
35* 547
— Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет , же
человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты,
брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для
своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей
хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен
вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними,
Сергей!
И дядя махнул обеими руками с глубочайшей
тоски.
— Да что за важное такое дело, что и оставить
нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...
— Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравствен-
ности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра
пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...
И дядя опять махнул рукой.
— Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй,
и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего
ему? — сказал я, когда мы вошли в комнаты.
— Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя
собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе
это покажется?
— Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я
услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что
только у вас в доме могут совершаться такие чудеса,—
проговорил я, расставив руки от изумления.
— Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да
толку-то мало! — с досадою проговорил дядя.— Поди-
ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца
пристает ко мне..-.
— Неосновательная фамилия-с! — отозвался Видо-
плясов.
— Да почему ж неосновательная? — спросил я его
с удивлением.
— Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.
— Да почему же гнусность? Да и как ее переме-
нить? Кто переменяет фамилии?
— Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?
— Я согласен, что фамилья твоя отчасти стран-
ная,— продолжал я в совершенном недоумении,— но
ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была
такая ж фамилья?
548
— Это подлинно-с, что через родителя моего я та-
ким образом пошел навеки страдать-с». так как су-
ждено мне моим именем многие насмешки принять и
многие горести произойти-с,— отвечал Видоплясов.
— Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы
Фомича! — вскричал я с досадою.
— Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действи-
тельно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе
в секретари, в этом и вся его должность. Ну, разу-
меется, он его развил, наполнил благородством души,
так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот
видишь, я тебе все расскажу...
— Это точно-с,— перебил Видоплясов,— что Фома
Фомич мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные
мне благодетели, они меня вразумили моему ничтоже-
ству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в
первый раз свою судьбу предузнал-с.
— Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем все
дело,— продолжал дядя, заторопившись по своему
обыкновению.— Жил ои сначала в Москве, с самых
почти детских лет, у одного учителя чистописания в
услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился
писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купи-
донов наставит,— словом, артист! Илюша у него
учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам
определил полтора целковых. К окрестным помещикам
в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается!
К тому же пишет стихи.
— Стихи! Этого еще недоставало!
— Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу,
настоящие стихи, так сказать, версификация, и так,
знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий
предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке
к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты
разинули: и из мифологии там у него и музы летают,
так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? округ-
ленность форм,— словом, совершенно в рифму выходит.
Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего, и даже рад с
моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуро-
лесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь как
отец говорю. Проведал об этом Фома, просмотрел стихи,
549
поощрил и определил к себе чтецом и переписчи-
ком,— словом, образовал. Это он правду говорит, что
облагодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благо-
родный романтизм в голове появился и чувство незави-
симости,— мне все это Фома объяснял, да я уж,
правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без
Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!..
Да Фома против этого: говорит, что он ему нужен, по-
любил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину,
больше чести, что у меня между собственными людьми
стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и
что это en grand» Ну, en grand так en grand! Я, бра-
тец, уж стал его уважать — понимаешь?.. Только бог
знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того
перед всей дворней после стихов нос задрал, что
уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Гри-
горий, я тебе как отец говорю. Обещался он еще
прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая
девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, чест-
ная, работящая, веселая. Так вот нет же, теперь: не
хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе,
или рассудил сначала прославиться, а потом уж в дру-
гом месте искать руки...
— Более по совету Фомы Фомича-с,— заметил Ви-
доплясов,— так как они истинные мои доброжела-
тсли-с...
— Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! —
вскричал я невольно.
— Эх, братец, не в том дело! — поспешно прервал
меня дядя,— только видишь: ему теперь и проходу нет.
Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла:
дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вме-
сто шута почитают...
— Более через Матреиу-с,— заметил Видопля-
сов,— потому что Матрена истинная дура-с и, бымши
истинная дура-с, притом же невоздержная характе-
ром женщина, через нее я таким манером-с пошел
жизнию моею претерпевать-с.
— Эх, брат Григорий, говорил я тебе,— продолжал
1 на широкую ногу (франц.).
550
дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова,— сло-
жили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму
на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя
ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно
уж страдал от неблагозвучия...
— Необлагороженная фамилия-с,— ввернул Видо-
плясов.
— Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже
одобрил... то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое
соображение: что если, на случай, придется стихи пе-
чатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия,
пожалуй, и повредит,— не правда ли?
— Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?
— Печатать, братец. Это уж решено — на мой
счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепо-
стной человек такого-то, а в предисловии Фоме от ав-
тора благодарность за образование. Посвящено Фоме.
Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе,
если на заглавном-то листе будет написано: «Сочине-
ния Видоплясова»...
— «Вопли Видоплясова-с»,— поправил Видоплясов.
— Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия
Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так
и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие за-
дорные, насмешники; Брамбеус, например... Им ведь все
нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, по-
жалуй, отчешут бока, что только почесывайся,— не
правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую
хочешь поставь фамилию на стихах — псевдоним, что
ли, называется — уж не помню: какой-то ним. Да нет,
говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и
здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня,
сообразно таланту, и фамилия была облагороженная...
— Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.
— Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спо-
рить; пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразу-
мение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор,
что неделя, то фамилия, и все такие нежные выбирает:
Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала
ты просил, чтоб тебя называли «Верный» — «Григорий
Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому
551
что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный».
Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели приду-
мывал новую фамилию,— сколько ты их перебрал,— на-
конец, надумался, пришел просить, чтоб тебя звали
«Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну, что может быть
глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное при-
казание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова.
Так только, братец,— прибавил дядя, обращаясь ко
мне,— чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил- ты
«Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке пе-
репортил, расчеркиваясь карандашом: «Уланов». Ведь
ее потом перекрашивали. Ты целую десть голландской
бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов,
проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе
рифму: «болванов». Не хочу болванова — опять пере-
мена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и поза-
был?
— Танцев-с,— отвечал Видоплясов.— Если уж мне
суждено через фамилию мою плясуна собою изобра-
жать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иност-
ранному: Танцев-с.
— Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на
это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что
и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выду-
мал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть на-
готове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, при-
знавайся!
— Я действительно давно уж хотел повергнуть к
вашим стопам новое имя-с, облагорожснное-с.
— Какое?
— Эссбукетов.
— И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фами-
лия с помадной банки! А еще умный человек называ-
ешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь
это на духах написано.
— Помилуйте, дядюшка,— сказал я полушепо-
том,— да ведь это просто дурак, набитый дурак!
— Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом
дядя,— уверяют кругом, что умен и что это все в нем
благородные свойства играют...
— Да развяжитесь вы с ним, ради бога!
552
— Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда,
помилуй!— начал дядя каким-то просительным голо-
сом, как будто боялся даже и Видоплясова.— Ну, рас-
суди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься!
Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну,
хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра все раз-
беру, а теперь ступай с богом... Постой! что Фома Фо-
мич?
— Почивать ложились-с. Сказали, что если будет
кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве
сию ночь долго стоять намерены-с.
— Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа,
ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да
и дворня-то его потому и не любит, что он все о них
Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй,— завтра
и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там все так
уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-
то я опять с тобой! — проговорил он с чувством, пожи-
мая мне руку.— А ведь я думал, брат, что ты совсем
рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя по-
сылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то
каково? да и Фалалей, и ты — и все одно к одному! Ну,
слава богу, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой
досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты
один у меня, ты и Коровкин...
— Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дя-
дюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось?
Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!
— А у меня, цела, что ли? Она, брат, у меня уж пол-
года теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу!
теперь все уладилось. Во-первых, меня простили, совер-
шенно простили, с разными условиями, конечно; но уж
я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже
простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сер-
дечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я гор-
жусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдаш-
нее благословение божие. Тебя тоже простили, и даже,
знаешь как? Можешь делать все что тебе угодно, ходить
по всем комнатам и в саду, и даже при гостях,— словом,
все что угодно; но только под одним условием, что ты
ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и
553
при Фоме Фомиче,— это непременное условие, то есть
решительно ни полслова,— я уже обещался за тебя,—
а только будешь слушать, что старшие... то есть я хотел
сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты
молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле
еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...
Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это,
закипев негодованием при таких обидных условиях.
— Послушайте, дядюшка,— вскричал я, чуть не за-
дыхаясь,— скажите мне только одно и успокойте меня:
я в настоящем сумасшедшем доме или нет?
— Ну, вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж
и не можешь никак утерпеть,— отвечал опечаленный
дядя.— Вовсе не в сумасшедшем, а так только погоря-
чились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец,
как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмо-
чил,— человеку, так сказать, почтенных лет?
— Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.
— Ну уж это ты, брат, перескакиул! это уж вольно-
думство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодум-
ства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то
есть удивил ты меня, Сергей.
— Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но вино-
ват перед вами. Что же касается до вашего Фомы
Фомича...
— Ну, вот уж и вашего! Эх, брат Сергей, не суди
его строго: мизантропический человек — и больше
ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать.
Но зато благородный, то есть просто благороднейший
из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем,
просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает,
так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не слу-
чается?
— Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это
случается?
— Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало.
Сережа; простить не умеешь!..
— Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это.
Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?
— Эх, брат, о ней-то все дело шло. Вот что, Сережа,
и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра
554
непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, по-
тому что завтра действительно его рождение. Сашурка
добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем
всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему
стихи произнесет, так что ему как будто маслом
по сердцу-то,— словом, польстит. Ах, кабы и ты его,
Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может
быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо
было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду,
Сережа, ведь ты и сам его обидел... Наидостойнейщий
человек!
— Дядюшка! дядюшка! — вскричал я, теряя по-
следнее терпение,— я с вами о деле хочу говорить, а
вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы,
что делается с Настасьей Евграфовной?
— Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за
нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впро-
чем, и не давеча поднялась, опа давно поднялась. Я тебе
только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не
пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и
от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь предста-
вить себе мое положение... Ну, да слава богу! теперь все
это уладилось. Они, видишь ли,— уж признаюсь тебе во
всем,— думали, что я сам в нее влюблен и жениться
хочу, словом, стремлюсь к погибели, потому что дейст-
вительно это было бы стремлением к погибели: они это
мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и реши-
лись было ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех
Анна Ниловна. Фома, покамест, молчит. Но теперь я их
всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты
формальный жених Настеньки, что затем и приехал.
Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается,
хоть не совсем, так, еще только для пробы, ио все-
таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении,
когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере
маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна
все еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб
ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне
Ниловне?
— Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка!
Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет
555
отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец
нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж
это совсем решено, что она сама лично объявила мне
сегодня об этом и в заключение велела вам кла-
няться,— знаете ли вы это, иль нет?
Дядя, как был, так и остался передо мной с рази-
нутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон
вырвался из груди его.
Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь
мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее реши-
тельный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня
вызывать письмом; объяснил, что она надеется его
спасти своим отъездом от брака с Татьяной Иванов-
ной,— словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувели-
чил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел
поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных
мер,— и действительно поразил. Он вскрикнул и схва-
тил себя за голову.
— Где она, не знаешь ли? где она теперь? — прого-
ворил он, наконец, побледнев от испуга.— А я-то, дурак,
шел сюда совсем уж спокойный, думал, что все уж ула-
дилось,— прибавил он в отчаянии.
— Не знаю, где теперь, только давеча, как начались
эти крики, она пошла к вам: она хотела все это выразить
вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.
— Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах,
горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда?
куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отка-
зала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты
ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж
ты стоишь?
— Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно за-
давать такие вопросы?
— Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен
на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петер-
бурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят
отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племян-
ница,— не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней
будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмыслен-
ный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет,
чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами
556
голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня,
если выйдет через эти пакостные наговоры, и она и отец.
Да и каково таким образом выйти — ужас! Здесь уж
будет скандал — я знаю. А жалованье ее уж давно впе-
ред забрано на семейные нужды: ведь она их питает.
Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду
такую честную и благородную фамилию... да ведь черта
с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то
благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и
много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь
опасно: можно ли положиться на людей? К тому же
бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что
его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями!
Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда?
А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обо-
льститель подвернется?.. Она плюнет на него,— я знаю,
что плюнет,— но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец!
все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозре-
ние, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, боже
мой!
— Дядюшка! простите меня за один вопрос,— ска-
зал я торжественно,— не сердитесь на меня, пой-
мите, что ответ на этот вопрос может многое раз-
решить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа,
дядюшка!
— Что, что такое? Какой вопрос?
— Скажите, как перед богом, откровенно и
прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюб-
лены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней
жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь
и гонят.
Дядя сделал самый энергический жест самого судо-
рожного нетерпения.
— Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись
или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то
выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что
они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней
сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и
только!
— А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все
высказать. Объявляю вам торжественно, что я реши-
557
тельно ничего не нахожу дурного в этом предположении.
Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее
любите, и — и дай бог этого! дай вам бог любовь и
совет!
— Но, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя
почти с ужасом.— Удивляюсь, как ты можешь это гово-
рить хладнокровно... и... вообще ты, брат, все куда-то
торопишься,— я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бес-
смысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на
ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да
мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже
грешно! Я старик, а она — цветочек! Даже Фома это
мне объяснил именно в таких выражениях. У меня оте-
ческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супру-
жеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала
бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что
ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, при-
вязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, де-
точка она моя! Все равно как Сашу люблю, даже
больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по
закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее
из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покой-
ный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образо-
вание ей дал: и по-французски говорить, и на фор-
тепьяно, и книги, и все... Улыбочка какая у ней! заме-
тил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем
вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думал,
что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уве-
рятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти
пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами
в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы!
Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попе-
чении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь
бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами!
Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди
все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы,
так бы взял да и растолковал бы им все! Так бы и выло-
жил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже
мой!
— Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот и
отказала мне...
558
— Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчув-
ствовал, что она откажет тебе,— сказал он в задумчи-
вости,— но нет! — вскрикнул он,— я не верю! это невоз-
можно! Но ведь в таком случае все расстроится! Да ты,
верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил
еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился
отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было,
Сергей!
Я повторил еще раз все в совершенной подробности.
Когда дошло до того, что Настенька удалением своим
надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот
горько улыбнулся.
— Спасти!—сказал он,— спасти до завтрашнего
утра!
— Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь
на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.
— А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали
завтра? Завтра же делаю предложение; формально обе-
щался.
— И вы решились, дядюшка?
— Что ж делать, братец, что ж делать! Это разди-
рает мне сердце, но я решился. Завтра предложение;
свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно,
брат, и лучше по-домашиему-то. Ты, пожалуй, шафе-
ром. Я уж намекнул о тебе, так что они до времени ни-
как тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они гово-
рят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не
сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более
что в сущности, оно, пожалуй, и справедливо. Ведь дол-
жен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все
же тунеядцем сидеть!
— Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскри-
чал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжа-
лось.
— Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая,
а так, испытала, знаешь, несчастия... Что ж делать, бра-
тец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бы-
вают! А какая она добрая, если б ты знал, благород-
ная какая!
— Но, боже мой! он уж и мирится с* этою
мыслью! — сказал я в отчаянии.
559
— А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего
же блага стараются, да и, наконец, уж я предчувство-
вал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертишься: заста-
вят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за
этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно
скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился,
по крайней мере с плеч долой,— спокойнее как-то. Я
вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж,
видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то, что Настя
при нас остается. Я ведь и согласился с этим усло-
вием. А тут она сама бежать хочет! Да не будет же
этого! — вскрикнул дядя, топнув ногою.— Послушай,
Сергей,— прибавил он с решительным видом,— подо-
жди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе
ворочусь.
— Куда вы, дядюшка?
— Может быть, я ее увижу, Сергей; все объяснится,
поверь, что все объяснится, и... и... и женишься же ты
на ней — даю тебе честное слово!
Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад,
а не к дому. Я следил за ним из окна.
XII
КАТАСТРОФА
Я остался один. Положение мое было нестерпимое:
мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не на-
сильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и
его предложение не выходили у меня из головы. Во что
бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал
пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему все. Но
куда, однакож, пошел дядя? Он сам сказал, что идет
отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад.
Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове,
и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспом-
нил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с
минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения.
Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство
мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел
я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой
560
аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить.
Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться.
Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу
одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остано-
вился как вкопанный: мне послышались в беседке
голоса. Не могу выразить, какое странное чувство
досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя
и Настенька, и продолжал подходить, успокоивая на
всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом
и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно
звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов,
и тотчас же вслед за этим — пронзительный женский
крик. В то же мгновение женщина в белом платье выбе-
жала из беседки и промелькнула мимо меня, как
ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала ру-
ками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня за-
метили из беседки. Но каково же было мое изумление,
когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере
я узнал Обноскина,— Обноскина, который, по словам
Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Об-
носкин, увидав меня, чрезвычайно смутился: все нахаль-
ство его исчезло.
— Извините меня, но... я никак не ожидал с вами
встретиться,— проговорил он, улыбаясь и заикаясь.
— А я с вами,— отвечал я насмешливо,— тем более
что я слышал, вы уж уехали.
— Нет-с... это так... я проводил недалеко маменьку.
Но могу ли я обратиться к вам, как к благороднейшему
человеку в мире?
— С чем это?
— Есть случаи,— и вы сами согласитесь с этим,—
когда истинно благородный человек принужден обра-
титься ко всему благородству чувств другого, истинно
благородного человека... Надеюсь, вы понимаете
меня...
— Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.
— Вы видели даму, которая находилась вместе со
мной в беседке?
— Видел, но не узнал.
— А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею
женою.
36 Ф. М. Достоевский, т. 2
561
— Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам
полезен?
— Только одним: сохранив глубочайшую тайну о
том, что вы меня видели с этой дамой.
«Кто ж бы это?— подумал я,— уж не...»
— Право, не знаю-с,— отвечал я Обноскину.— На-
деюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...
— Нет, ради бога, пожалуйста,— умолял Обнос-
кин.— Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже
можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...
— Тс! кто-то идет!
— Где?
Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть при-
метно, промелькнула тень проходившего человека.
— Это... это, верно, Фома Фомич! — прошептал
Обноскин, трепеща всем телом.— Я узнаю его по
походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны!
Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю
вас...
Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очу-
тился дядя, как будто вырос из-под земли.
— Это ты? — окрикнул он меня.— Все пропало,
Сережа! все пропало!
Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.
— Что пропало, дядюшка?
— Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и, крепко схва-
тив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до
флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить.
Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не
обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось
дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно
спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь
очень ужасное,— думал я,— когда с таким человеком
делается обморок.»
— Дядюшка, что с вами? — спросил я его, на-
конец.
— Все пропало, Сережа! Фома застал меня в саду
вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцело-
вал ее.
— Поцеловали! в саду! — вскричал я, смотря в
изумлении на дядю.
562
— В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб не-
пременно ее увидать. Хотел ей высказать, урезонить ее,
насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожида-
лась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда
часто приходит, когда надо поговорить со мной.
— ‘Часто, дядюшка?
— Часто, братец! Последнее время почти каждую
ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и высле-
дили,— уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна
Ниловна все работала. Мы на время и прервали; дня
четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадо-
билось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как
же бы я ей сказал? Прихожу з надежде застать, а она
уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо
было кое-что сообщить...
— Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали,
что за вами следят?
— Да ведь критический случай, Сережа; многое
надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на
нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно
смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете.
А ночью сойдемся, да и наговоримся...
•— Ну, что ж, дядюшка?
•— Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце
у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее
уговаривать, чтоб за тебя вышла,— а она мне: «Верно,
вы меня не любите,— верно, вы ничего не видите»,
и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками,
заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю
и ни за кого не выйду. Я вас уже давно люблю, только
и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь
пойду».
— Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж
дальше, дальше, дядюшка?
— Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся?
Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?
— Подлец!
•— Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич
молча прошел мимо нас, да пальцем мне и погрозил,—
понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?
— Ну, да уж как не понять!
36*
563
— Понимаешь ли ты,— вскричал он в отчаянии,
вскакивая со стула,— понимаешь литы, что они хотят
ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб
бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее; а вот
теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она
со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, гово-
рили, что она с Водоплясовым имеет! Это все Анна Ни-
ловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет?
Неужели расскажет Фома?
— Непременно расскажет, дядюшка.
— А если расскажет, если только расскажет...—
проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки,— но
нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек
высочайшего благородства! Он пощадит ее...
— Пощадит иль не пощадит,— отвечал я реши-
тельно,— но во всяком случае ваша обязанность завтра
же сделать предложение Настасье Евграфовне.
Дядя смотрел на меня неподвижно.
— Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите
девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли
вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее;
что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза,
гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны
и стереть Фому в порошок, если он заикнется против
нее?
— Друг мой! — вскричал дядя,— я об этом думал,
идя сюда!
— И как же решили?
— Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал
тебе рассказывать!
— Браво, дядюшка!
И я бросился обнимать его.
Долго мы говорили. Я выставил перед ним все
резоны, всю неумолимую необходимость жениться на
Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше
меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радо-
вался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он ни-
когда не поднялся. Перед долгом же, перед обязан-
ностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно
не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо
верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз
Б64
признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось,
чтобы у него достало силы восстать против своих
домашних. И потому я старался как можно более под-
стрекнуть и направить его, и работал со всею юноше-
скою горячностью.
— Тем более, тем более,— говорил я,— что теперь
уже все решено, и последние сомнения ваши исчезли!
Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все
это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евгра-
фовна вас любит! Неужели же вы попустите,— кричал
я,— чтобы эта чистая любовь обратилась для нее в стыд
и позор?
— Никогда! Но, друг мой,.неужели ж я буду, нако-
нец, так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне
на шею.— И как это она полюбила меня и за что? за
что? Кажется, во мне нет ничего такого... Я старик
перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!..
Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли
я в нее: имел ты какую-нибудь идею?
— Я видел только, дядюшка, что вы ее любите
так, как больше любить нельзя: любите и между тем
сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня,
хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб
она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при
себе...
— А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?
— Э, дядюшка!..
И он снова обнял меня.
— Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо вос-
стать и пойти против всех, и не далее, как завтра.
— Да... да, завтра! — повторил он несколько за-
думчиво,— и, знаешь, примемся за дело с мужеством,
с истинным благородством души, с силой характера...
именно с силой характера!
— Не сробейте, дядюшка!
— Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать,
как приступить!
— Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день
все решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать,
тем хуже. А если Фома заговорит — немедленно его вы-
гнать из дому и стереть его в порошок.
565
— А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил:
завтра же пойду к нему рано, чем свет, все расскажу,
вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не
понял меня; он благороден, он благороднейший из лю-
дей! Но вот что меня беспокоит: что, если маменька
предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтраш-
нем предложении? Ведь это уж худо!
— Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.
И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным.
Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не
упомянул о Мизинчикове.
— Фантасмагорическое лицо! истинно фантасмаго-
рическое лицо! — вскричал он.— Бедная! Они подъез-
жают к ней, хотят воспользоваться ее простотою!
Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно,
ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это завтра же
надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты
совершенно, что это была Татьяна Ивановна?
Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, ио по некото-
рым причинам совершенно уверен, что это Татьяна
Ивановна.
— Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых,
а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли,
садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена,
потому и говорю,- что замечена. Анна Ниловна вы-
следила... Да нет же, однако! Ведь он говорил, что
жениться хочет. Странно! странно!
Наконец, мы расстались. Я обнял и благословил
дядю. «Завтра, завтра,— повторял он,— все решится,—
прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и по-
ступлю с ним по-рыцарски, открою ему все, как родному
брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай,
Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь
глаз не сомкну».
Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный
донельзя. День был трудный. Нервы мои были рас-
строены, и прежде чем заснул, я несколько раз вздраги-
вал и просыпался. Но как ни странны были мои впечат-
ления при отходе ко сну, все-таки странность их почти
ничего не значила перед оригинальностью моего про-
буждения на другое утро.
566
ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
I
ПОГОНЯ
Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что
на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрик-
нул и проснулся. Был уже день; в окна ярко загляды-
вало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на
моих ногах, сидел господин Бахчеев.
Сомневаться было невозможно: это был он. Вы-
свободив кое-как ноги, я приподнялся на постели
и смотрел на него с тупым недоумением едва проснув-
шегося человека.
— Он еще и смотрит! — вскричал толстяк.— Да ты
что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай!
полчаса бужу; продирай глаза-то!
— Да что случилось? Который час?
— Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша
и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню
едем!
— Какая Февронья?
— Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до
свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только
вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вста-
вайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались
праздника! — прибавил он с каким-то злорадным раз-
дражением в голосе.
— Да про кого и про что вы говорите? — сказал
я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться.—
Уж не Татьяна ль Ивановна?
— А как же? она и есть! Я говорил, предрекал — не
хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь
с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее
крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков?
с бороденкой-то?
— Неужели с Мизинчиковым?
— Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри
глаза-то, отрезвись хоть для великого божьего празд-
ника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли
567
теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноски-
ным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иваныч Мизинчи-
ков человек благонравный и теперь с нами же в погоню
сбирается.
— Что вы говорите? — вскричал я, даже привскак-
нув на постели,— неужели с Обноскиным?
— Тьфу ты, досадный человек! — отвечал толстяк,
вскакивая с места,— я к нему, как к образованному
человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомне-
вается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай,
напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком
стучать: и без того золотое время с тобой потерял!
И он вышел в чрезвычайном негодовании.
Пораженный известием, я вскочил с кровати, по-
спешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю
в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали
о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное
крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была
наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре иль шлафроке.
Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она
только что вскочила с постели и как будто поджидала
кого-то в сенях.
— Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна
уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она пре-
рывавшимся голосом, бледная и испуганная.
— Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим
в погоню.
— О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет,
если вы ее не воротите.
— Но где же дядюшка?
— Верно, там, у конюшен; там коляску заклады-
вают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите
ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня
же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду
сейчас, если можно будет. Все погибло теперь! все
потеряно!
Говоря это, она сама глядела на меня, как потерян-
ная, и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начина-
лась истерика.
— Успокойтесь! — умолял я ее,— ведь это все к луч-
шему — вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?
568
— Я... я не знаю... что со мною,— говорила она; за-
дыхаясь и бессознательно сжимая мои руки.—
Скажите ему...
В эту минуту за дверью направо раздался какой-
то шум.
Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив,
убежала вверх по лестнице.
Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева
и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску
Бахчеева впрягали свежих лошадей. Все было готово
к отъезду: ждали только меня.
— Вот и он! — закричал дядя при моем появле-
нии.— Слышал, брат? — прибавил он с каким-то стран-
ным выражением в лице.
Испуг, растерянность и вместе с тем как будто
надежда выражались в его взглядах, голосе и движе-
ниях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капи-
тальный переворот.
Тотчас же посвятили меня во все подробности. Гос-
подин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рас-
свете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней
обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его
деревни. На самом повороте с большой дороги в оби-
тель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть,
а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскииа. Татьяна
Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрик-
нула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы
умоляя его о защите,— так по крайней мере выходило
из его рассказа: «А тот-то, подлец, с бороденкой-то,—
прибавлял он,— ни жив ни мертв сидит, спрятался; да
только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая,
Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и при-
скакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова,
наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.
— Обноскин-то, Обноскин-то...— говорил дядя, при-
стально смотря на меня, как будто желая сказать мне
вместе с тем и что-то другое,— кто бы мог ожидать!
— От этого низкого человека всегда можно было
ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков
с самым энергическим негодованием и тотчас же от-
вернулся, избегая моего взгляда.
569
— Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем
стоять да сказки рассказывать? — прервал господин
Бахчеев, влезая в коляску.
— Едем, едем! — подхватил дядя.
— Все к лучшему, дядюшка,— шепнул я ему.—
Видите, как все это теперь отлично уладилось?
— Полно, брат, не греши... Ах, друг мой! они теперь
просто выгонят ее, в наказанье, что не удалось,— по-
нимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!
— Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? —
вскричал в другой раз господин Бахчеев.— Аль уж от-
ложить лошадок да закуску подать,— как вы думаете:
не выпить ли водочки?
Слова эти были произнесены с таким яростным сар-
казмом, что не было никакой возможности не удовлет-
ворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно
сели в коляску, и лошади поскакали.
Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно
посматривал на меня, но говорить со мной при всех не
хотел. Он часто задумывался; потом, как будто пробуж-
даясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом.
Мизинчиков был, повидимому, спокоен, курил сигару
и смотрел с достоинством несправедливо обиженного
человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал
себе под нос, глядел на всех и на все с решительным
негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на
сторону и никак не мог успокоиться.
— Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они по-
ехали в Мишино? — спросил вдруг дядя.— Это, брат,
двадцать верст отсюда,— прибавил он, обращаясь ко
мне,— маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно
приобретена от прежних владельцев одним бывшим
губернским чиновником. Сутяга, каких свет не произ-
водил! Так по крайней мере о нем говорят; может быть,
и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин
именно гуда ехал и что этот чиновник теперь ему помо-
гает.
— А то как же? — вскричал Бахчеев встрепенув-
шись.— Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его
в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то!
Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!
570
— Не беспокойтесь,— заметил Мизинчиков,— за-
станем.
— Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет.
Шкатулка-то в руках; был — да сплыл!
— Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, дого-
ним,— сказал дядя.— Они еще ничего не успели сде-
лать,— увидишь, что так.
— Не успели сделать! — злобно переговорил госпо-
дин Бахчеев.— Чего она не успеет наделать, даром что
тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — при-
бавил он тоненьким голоском, как будто кого-то пере-
дразнивая.— «Испытала несчастья». Вот она нам теперь
пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней
по большим дорогам, высуня язык, ни свет ни заря!
Помолиться человеку не дадут для божьего праздника.
Тьфу!
— Да ведь она, однакож, не малолетняя,— заметил
я,— под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если
сама не захочет. Как же мы будем?
— Разумеется,— отвечал дядя,— но она захочет —
уверяю тебя. Это она теперь только так... Только увидит
нас, тотчас воротится,— отвечаю. Нельзя же, брат,
оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так
сказать, долг...
— Под опекой не состоит! — вскрикнул Бахчеев,
немедленно на меня накидываясь.— Дура она,
батюшка, набитая дура,— а не то, что под опекой не
состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а на-
медни ошибкой зашел в ее комнату, смотрю, а она одна
перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да
ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул, да
и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писапому!
— К чему ж так обвинять? — заметил я с некото-
рою робостью.— Известно, что Татьяна Ивановна... не
в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней
такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин,
а не опа.
— Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы
с ним! — подхватил толстяк, весь побагровев от
злости.— Ведь поклялся же бесить человека! Со
вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой,
671
повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в.пол-
ном своем здоровье; сызмалетства на купидоне поме-
шана! Вот и довел ее теперь купидон до послед-
ней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать
нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денеж-
ками, динь-динь-динь, да посмеивается.
— Так неужели же вы в самом деле думаете, что он
тотчас и бросит ее?
— А то как же? Небось таскать с собой станет такое
сокровище? Да на что она ему? оберет ее, да и посадит
где-нибудь под куст, на дороге — и был таков, а она
и сиди себе под кустом да нюхай цветочки!
— Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это
будет! — вскричал дядя.— Впрочем, чего ж ты так сер-
дишься? Дивлюсь я на тебя Степан, тебе-то чего?
— Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже
берет. Ведь я, может, ее же любя, говорю... Эх, проки-
сай все на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем
я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?
Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал
его и задумался о той, которую мы теперь догоняли,—
о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собран-
ная мною впоследствии по самым вернейшим источни-
кам и которая необходима для пояснения ее приключе-
ний. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом,
негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом
бедная дева и, наконец, бедная перезрелая дева, Татьяна
Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную
до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков
и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От при-
роды характера веселого, восприимчивого в высшей сте-
пени и легкомысленного, она вначале кое-как еще пере-
носила свою горькую участь и даже могла подчас
и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но
с годами судьба взяла, наконец, свое. Мало-помалу
Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась
раздражительна, болезненно-восприимчива и впала
в самую неограниченную, беспредельную мечтатель-
ность, часто прерываемую истерическими слезами,
судорожными рыданиями. Чем менее благ земных
оставляла ей на долю действительность, тем более она
572
обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее,
чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем
последние существенные надежды ее, тем упоительнее
становились ее мечты, никогда не осуществимые.
Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи
изящные, богатые, знатные, все князья и генеральские
дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной
чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви,
и, наконец, он — он, идеал красоты, совмещавший
в себе всевозможные совершенства, страстный и любя-
щий,. художник, поэт, генеральский сын — все вместе
или поочередно, все это начинало ей представляться не
только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже
начинал слабеть и не выдерживать приемов этого
опиума таинственных, беспрерывных мечтаний...
И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В са-
мой последней степени унижения, среди самой грустной,
подавляющей сердце действительности, в компаньонках
у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни
в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок
хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная пер-
вым желающим, не защищенная никем, измученная
горемычным житьем своим и, про себя, утопающая
в неге самых безумных и распаленных фантазий,— она
вдруг получила известие о смерти одного своего даль-
него родственника, у которого давно уже (о чем она, по
легкомыслию своему, никогда не справлялась) пере-
мерли все его близкие родные, человека странного, жив-
шего затворником где-то за тридевять земель, в за-
холустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося
черепословием и ростовщичеством. И вот огромное
богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпа-
лось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она
оказалась единственной законной наследницей умер-
шего родственника. Сто тысяч рублей серебром доста-
лось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совер-
шенно. Как же в самом деле и без того уже ослабев-
шему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом
деле начинали сбываться? И вот бедняжка оконча-
тельно распростилась с оставшейся у ней последней
капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она
573
безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир не-
возможных фантазий и соблазнительных призраков.
Прочь все соображения, все сомнения, все преграды
действительности, все неизбежные и ясные, как
дважды-два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об
ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся
роскошь бесконечного блаженства любви, даже не
споря между собою, ужились в ее существе. Мечты
уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не
сбыться? отчего же и ему не явиться? Татьяна Ивановна
не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала —
женихи и кавалеры разных орденов и простые кава-
леры, военные и статские, армейские и кавалергарды,
вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие
только в Москве, с бородками и без бородок, с эспань-
олками и без эспаньолок, испанцы и не-испанцы (но
преимущественно испанцы), начали представляться ей
день и ночь в количестве ужасающем и возбуждавшем
в наблюдателях серьезные опасения; оставался только
шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью
вереницей толпились около нее все эти прекрасные при-
зраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же
самым фантастическим порядком: на кого она ни взгля-
нет — тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо — тот и
испанец; кто умер — непременно от любви к ней. Все
это, как нарочно, подтверждалось в ее глазах еще и
тем, что за ней в самом деле начали бегать такие,нап-
ример, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки дру-
гих, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать,
стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна
Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за
денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то
мановению все люди вдруг исправились и стали все до
одного веселые, милые, ласковые, добрые. Он не являлся
еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что
он явится, теперешняя жизнь и без того была так
недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений
и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ива-
новна кушала конфекты, срывала цветы удовольствия,
читала романы. Романы еще более распаляли ее во-
ображение и бросались обыкновенно на второй стра-
574
нице. Она не выносила далее чтенья, увлекаемая
в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным
намеком на любовь, иногда просто описанием мест-
ности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились
новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, об-
разчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки.
Три девушки в девичьей проводили целые дни за
шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, при-
меряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом.
Она даже как-то помолодела и похорошела после на-
следства. До сих пор не знаю, каким образом она прихо-
дилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я
всегда был уверен, что это родство — выдумка гене-
ральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во
что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин
Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну
Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после из-
вестия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воро-
тить ее, хоть насильно, была самая рациональная.
Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же
погибла бы, если б попалась к недобрым людям.
Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это
была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от
большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или
семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся на-
бок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то
грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни
садика, ни кустика не было кругом на четверть версты.
Только одна старая ракита свесилась и дремала над
зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое ново-
селье, вероятно, не могло произвесть отрадного впечат-
ления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла
из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами
в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-
помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор
еще не был огорожен забором, и только с одной стороны
начинался новый плетень, с которого еще не успели осы-
паться высохшие ореховые листья. У плетня стоял таран-
тас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на
голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.
Встретившийся нам в.дверях босоногий мальчик
575
ударился от нас бежать сломя голову. В первой же ком-
нате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без
спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Уви-
дев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее
стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жало-
сти. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам
руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за
приотворенной в другую комнату двери выглядывало
чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подгляды-
вал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не явля-
лись: казалось, их и в доме не было; все куда-то по-
прятались.
— Вот она, путешественница! еще и ручками закры-
вается! — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за
нами в комнату.
— Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это,
наконец, неприлично. Имеет право теперь говорить один
только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторон-
ние,— резко заметил Мизинчиков.
Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева
и как будто совсем не замечая Обноскина, бросивше-
гося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ива-
новне, все еще закрывавшейся ручками, и самым мяг-
ким голосом, с самым непритворным участием ска-
зал ей:
— Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем
вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях.
Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илю-
ша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Са-
шурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое
утро...
Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмот-
рела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами,
бросилась к нему на шею.
— Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! — го-
ворила она рыдая,— скорее, как можно скорее!
— Расскакалась, да и сбрендила! — прошипел Бах-
чеев, подталкивая меня рукою.
— Значит, все кончено,— сказал дядя, сухо обра-
щаясь к Обноскину и почти не глядя на него.— Татьяна
Ивановна, пожалуйте вашу руку. Едем!
576
За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и
приотворилась еще более.
— Однакож, если судить с другой точки зрения,—
заметил Обноскин, с беспокойством поглядывая на при-
отворенную дверь,— то посудите сами, Егор Ильич...
ваш поступок в моем доме... и, наконец, я вам кла-
няюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор
Ильич...
„— Ваш поступок в моем доме, сударь, был сквер-
ный поступок,— отвечал дядя, строго взглянув на Об-
носкина,— а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна
Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же
вам более? Ни слова — слышите, ни слова больше, про-
шу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших
объяснений, да и вам это будет выгоднее'.
Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил
самой неожиданной дряни.
— Не презирайте меня, Erqp Ильич,— начал он по-
лушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно огля-
дываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услы-
шали,— это все не я, а маменька. Я не из интереса это
сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно,
и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благо-
родною целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил
с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел
тоже способствовать движению современного просве-
щения и мечтал даже учредить стипендию в универси-
тете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству,
Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...
Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно.
Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так
сконфузился, что уж не знал, что и сказать.
— Ну, ну, полно, полно! — проговорил он, нако-
нец.— Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со
всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обе-
дать... а я рад, рад...
Но не так поступил господин Бахчеев.
— Стипендию учредить! — заревел он с яростью,—
таковский, чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со
всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в сти-
пендию какую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник!
37 ф- Достоевский, т. 2 577
Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, роди-
тельница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит
где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха
залезла...
— Степан, Степан!..— закричал дядя.
Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать;
но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась,
и сама Анфиса Петровна, раздраженная, со сверкав-
шими глазами, покрасневшая от злости, влетела в ком-
нату.
— Это что? — закричала она,— что это здесь проис-
ходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом
с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на
что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу,
Егор Ильич! А'ты, пентюх! — продолжала она вопить,
набрасываясь на сына,— ты уж и нюни распустил перед
ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме,
а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой чело-
век после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после
этого!
Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже
лорнетки — ничего этого не было теперь у Анфисы Пет-
ровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.
Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под
руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но
Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.
— Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала
она снова.— По какому праву вы уводите силой Татья-
ну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших
гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей
маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось
бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с,
здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что
против нее у вас замышляют, что ее губят, сама ввери-
лась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спа-
сти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от
вас ночью — вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли,
Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы вры-
ваться целой шайкой в благородный дворянский дом и
силою увозить благородную девицу, несмотря на ее
крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла
578
с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так
хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать:
это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их
тотчас же выпровожу!..
— Нет, нет! —закричала испуганная Татьяна Ива-
новна,— я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не
хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне
муж?
— Не хотите? — взвизгнула Анфиса Петровна, за-
дыхаясь от злости,— не хотите? Приехали, да и не хо-
тите? В таком случае как же вы смели обманывать нас?
В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали
с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоуме-
ние, в расходы? Мой сын, может быть, благородную
партию потерял из-за вас! Он, может быть, десятки ты-
сяч приданого потерял из-за вас! Нет-с! Вы заплатите,
вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем;
вы ночью бежали...
Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруп-
пировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо
на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же
подали коляску.
— Так делают одни только бесчестные люди, одни
подлецы! — кричала Анфиса Петровна с крыльца в со-
вершенном исступлении.— Я бумагу подам! вы запла-
тите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна!
вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под но-
сом у вас держит свою гувернантку на содержании!..
Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился
усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой сто-
роны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг
очутился подле меня Обноскин и схватил меня за
РУКУ-
— По крайней мере позвольте мне искать вашей
дружбы! —сказал он, крепко сжимая мою руку и с ка-
ким-то отчаянным выражением в лице.
— Как это дружбы? — сказал я, занося ногу на
подножку коляски.
— Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованней-
шего человека. Не судите меня... Меня собственно обо-
льстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более
37*
579
имею наклонности к литературе — уверяю вас; а это
все маменька...
— Верю, верю,— сказал я,— прощайте!
Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и прокля-
тия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а
из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвест-
ные лица и смотрели на нас с диким любопытством.
В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Ми-
зинчиков пересел на козла, уступив свое прежнее место
господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть
прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна
была очень довольна, что мы ее увезли, но все еще
плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был гру-
стен и задумчив: видно было, что бешеные слова Ан-
фисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозва-
лись в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кон-
чился бы без всякой тревоги, если б только не было с
нами господина Бахчеева.
Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал
точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; во-
рочался на своем месте, краснел как рак и страшно
вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать
Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя
и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасе-
нием на него поглядывал. Наконец, Татьяна Ивановна,
заметив необыкновенное состояние души своего ви-
зави, стала пристально в него всматриваться; потом
посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою
омбрельку \ грациозно ударила ею слегка господина
Бахчеева по плечу.
— Безумец! — проговорила она с самой очарова-
тельной игривостью и тотчас же закрылась веером.
Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.
— Что-о-о? — заревел толстяк,— что такое, мадам?
Так ты уж и до меня добираешься!
— Безумец! безумец! — повторяла Татьяна Ива-
новна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.
— Стой! — закричал Бахчеев кучеру,— стой!
^мбрелька (от франц; ombrelie)—небольшой дамский
зонтик.
580
Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно
начал вылезать из коляски.
— Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? —
вскричал изумленный дядя.
— Нет, уж довольно с меня! — отвечал толстяк,
дрожа от негодования,— прокисай все на свете! Уста-
рел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, ма-
тушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай,
мадам, коман-ву-порте-ву! 1
И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала
за ним шагом.
— Степан Алексеевич! — кричал дядя, выходя, на-
конец, из терпения,— не дурачься, полно, садись! ведь
домой пора!
— И — ну вас! — проговорил Степан Алексеевич,
задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей,
совсем разучился ходить.
— Пошел во весь опор! — закричал Мизинчиков
кучеру.
— Что ты, что ты, постой!..— вскричал было дядя,
но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: не-
медленно получились желаемые плоды.
— Стой! стой! — раздался позади нас отчаянный
вопль,— стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..
Толстяк, наконец, явился, усталый, полузадохшийся,
с каплями пота на лбу, развязав галстук и сняв картуз.
Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я усту-
пил ему свое место; по крайней мере он не сидел на-
против Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей
этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во
весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на
Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до са-
мого дома не промолвил ни единого слова и упорно
смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.
Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчи-
ково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же
явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспраши-
вать старика, ио, почти вслед за ним, вошел дядя и тот-
час же выслал его.
1 Как поживаете? (франц.: «Comment vous portez vous?»)
581
II
новости
— Я, брат, к тебе на минутку,— начал он тороп-
ливо,— спешил сообщить... Я уже все разузнал. Никто
из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши,
Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судо-
рогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено
собираться к Фоме и меня зовут. Не знаю только,
поздравлять или нет Фому с именинами-то,— важный
пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж?
Ужас, Сережа, я уж предчувствую...
— Напротив, дядюшка,— заспешил я в свою оче-
редь,— все превосходно устроивается. Ведь уж теперь
вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне,—
это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел
объяснить.
— Так, так, друг мой. Но все это не то; во всем
этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не
про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однакож,
с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин!
А впрочем, что ж я говорю «подлец»? я разве не то же
бы самое сделал, женясь на ней?.. Но, впрочем, я все
не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта него-
дяйка, Анфиса, про Настю?
— Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь,
что надо спешить?
— Непременно, и во что бы ни стало! — отвечал
дядя.— Торжественная минута наступила. Только мы,
брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после
всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня,— вот
что?
— Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала,
что любит...
— Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что
«ни за что не выйду за вас».
— Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому
же и обстоятельства сегодня не те.
— Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело дели-
катное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть
582
и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-
то счастия!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опо-
здал. Только так забежал, слово с тобой перебросить.
Ах, боже мой! — вскричал он, возвращаясь,— глав-
ное-™ я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал,
Фоме-то!
— Когда?
— Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал
с Видоплясовым. Я, братец, все изобразил, на двух
листах, все рассказал, правдиво и откровенно,— сло-
вом, что я должен, то есть непременно должен,— по-
нимаешь? — сделать предложение Настеньке. Я умолял
его не разглашать о свидании в саду и обращался ко
всему благородству его души, чтоб помочь мне у ма-
меньки. Я, брат, конечно, худо написал, ио я написал от
всего моего сердца и, так сказать, облил моими
слезами...
— И что ж? Никакого ответа?
— Покамест еще нет; только давеча, когда мы со-
бирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному,
в туфлях и в колпаке,— он спит в колпаке,— куда-
нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул.
Я заглянул ему в лицо, эдак снизу,— ничего!
— Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он
вам.
— Нет, нет, братец, не говори! — вскричал дядя,
махая руками,— я уверен. К тому же ведь это уж по-
следняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он
брюзглив, капризен — не спорю; но когда дело дойдет
до высшего благородства, тут-то он и засияет, как
перл... именно, как перл. Это ты все оттого, Сергей, что
ты еще не видал его в самом высшем благородстве...
Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вче-
рашнюю тайну, io... я уж и не знаю, что тогда будет,
Сергей! Чему же останется и верить на свете? Но нет,
он не может быть таким подлецом. Я подметки его
не стою! Не качай головой, братец; это правда — не
стою!
— Егор Ильич! маменька об вас беспокоются-с,—
раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицы-
ной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое
583
окно весь наш разговор.— Вас по всему дому ищут-с
и не могут найти-с.
— Боже мой, опоздал! Беда! — всполошился
дядя.— Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи
туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе
пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!
Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча
с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде:
я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую
грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит
свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю:
несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле
сомневался в успехе.
Однакож надо было спешить. Я считал себя обязан-
ным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как
ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел
Мизинчиков.
— Я за вами,— сказал он,— Егор Ильич вас про-
сит немедленно.
— Идем!
Я был уже совсем готов. Мы пошли.
— Что там нового? — спросил я дорогою.
— Все у Фомы, в сборе,— отвечал Мизинчиков,—
Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит,
сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разу-
меется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча
через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его
с именинами и что он только хотел испытать... Старуха
хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома
покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто
ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он
все утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча
без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел
для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но
он заперся и отвечал, что молится за род человеческий
или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу
видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии
узнать по лицу, то и находится теперь в полном во-
сторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок!
Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за
вами,
584
— А Татьяна Ивановна?
— Что Татьяна Ивановна?
— Она там же? с ними?
— Нет; она в своей комнате,— сухо отвечал Мизин-
чиков,.— Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится.
У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это?
гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!
— Кажется, гроза,— отвечал я, взглянув на чернев-
шую на краю неба тучу.
В это время мы всходили на террасу.
— А признайтесь, каков Обноскин-то,— а? — про-
должал я, не могши не утерпеть, чтоб не попытать на
этом пункте Мизинчикова.
— Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об
этом подлеце! — вскричал он, вдруг останавливаясь,
покраснев и топнув ногою.— Дурак! дурак! Погубить
такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послу-
шайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни,—
я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы
именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б
он сумел все это обделать как следует, я бы, может
быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как
терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их
в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня
не перехитрить! Теперь у меня по крайней мере есть
опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну
новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять
свое потому только, что какой-то посторонний- дурак
украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это
несправедливо! И, наконец, этой Татьяне непременно
надо выйти замуж — это ее назначение. И если ее до
сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так
это именно потому, что на ней еще можно было же-
ниться. Я вам сообщу мою новую мысль...
— Но, вероятно, после,— прервал я его,— потому
что мы вот и пришли.
— Хорошо, хорошо, после! — отвечал Мизинчиков,
искривив свой рот судорожной улыбкой.— А теперь...
Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу!
Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую
комедию... Так как уж дело пошло на комедии...
585
Ill
ИЛЮША ИМЕНИННИК
Фома занимал две большие и прекрасные комнаты;
они были даже и отделаны лучше, чем все другие ком-
наты в доме. Полный комфорт окружал великого чело-
века. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые
пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мяг-
кая щегольская мебель — все свидетельствовало о неж-
ной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки
с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых
столиках перед окнами. Посреди кабинета находился
большой стол, покрытый красным сукном, весь зало-
женный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая
чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видо-
плясов,— все это вместе должно было свидетельство-
вать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу
здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь
лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии,
когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали
оставшиеся после него рукописи; все они оказались
необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало
исторического романа, происходившего в Новгороде,
в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на
кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмы-
сленное рассуждение о значении и свойстве русского
мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец,
повесть: «Графиня Блонская», из великосветской
жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось.
А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить
ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов.
Но многие из них оставались даже неразрезанными.
Я же впоследствии, не один раз, заставал Фому за
Поль-де-Коком, которого он прятал при людях куда-
нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась
стеклянная дверь, которая вела во двор дома.
Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном
кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-
таки без галстука. Был он действительно молчалив и
задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и
пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал
586
мне легким поклоном, впрочем, довольно вежливым.
Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мною
благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бед-
ная, и не ожидала поутру, что ее нёщечко так покойно
примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и
потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром
с ней действительно происходили корчи и обмороки.
За стулом ее по обыкновению стояла девица Перепели-
цына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь
и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле
генеральши помещались две постоянно безмолвные
старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-
то забредшая утром монашенка и одна соседка-поме-
щица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни
поздравить матушку-генеральшу с праздником. Те-
тушка Прасковья Ильинична уничтожилась где-то
в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и
на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная
радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша
в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряш-
ками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька
тихонько ото всех выучили его каким-то стихам, чтоб
обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя
чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость
Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи —
все это привело его в настоящий восторг, и он торже-
ственно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее
разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и
Настенька, вошедшие почти вслед за нами, стояли
около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту ми-
нуту была счастлива, как дитя. Настенька, глядя на
нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту
назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успо-
коила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путеше-
ствия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый
Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха,
смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое при-
готовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь
и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчеева. Он сидел
поодаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал,
дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную
587
роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежеви-
кин; впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у гене-
ральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице
Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом,— сло-
вом, поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием
ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко
мне с поклонами, в знак величайшего уважения и пре-
данности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда
защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.
— Вот и он! — радостно вскричал дядя, увидев
меня.— Илюша, брат, стихи приготовил — вот неожи-
данность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и на-
рочно за тобой послал и стихи остановил до прихода...
Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж
признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил,
чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!
Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном
и голосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно.
Но в том-то и беда, что дядя неспособен был ничего
угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взгля-
нув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизин-
чиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...
— Не беспокойтесь обо мне, полковник,— отвечал
Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего
врагам своим.— Сюрприз я, конечно, хвалю: это изо-
бражает чувствительность и благонравие ваших детей.
Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я
не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился...
вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.
Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.
— Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен
в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа!
Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про
что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из
Ломоносова что-нибудь?
И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от
нетерпения и радости.
— Нет, папочка, не из Ломоносова,— сказала Са-
шенька, едва подавляя свой смех,— а так как вы были
военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил
стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.
588
— Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба,
ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.
И дядя приосанился в другой раз.
— Говори, Илюша! — скомандовала Сашенька.
Девять лет как Педро Гомец...—
начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без
запятых и без точек, как обыкновенно сказывают ма-
ленькие дети заученные стихи,—
Девять лет как Педро Гомец
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь,
И все войско дона Педро,
Девять тысяч кастильяпцев.
Все по данному обету
Ниже хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко.
— Как! что? Что это за молоко? — вскричал дядя,
смотря на меня в изумлении.
— Читай дальше, Илюша,— вскричала Сашенька.
Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педро
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек...
— Да это галиматья! —вскричал дядя с беспокой-
ством,— ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать
человек от всего войска осталось, когда прежде был,
даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, бра-
тец, такое?
Но тут Саша не выдержала и залилась самым от-
кровенным и детским смехом; и хоть смешного было
вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее,
тоже не засмеяться.
— Это, папочка, шуточные стихи,— вскричала она,
ужасно радуясь своей детской затее,— это уж нарочно
так сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было,
папочка.
589
— А! шуточные! — вскричал дядя с просиявшим
лицом,— комические то есть! То-то я смотрю... Именно,
именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно:
на молоке всю армию поморил, по обету какому-то!
Очень надо было давать такие обеты! Очень остро-
умно — не правда ль, Фома? Это, видите, маменька,
такие комические стихи, которые иногда пишут сочини-
тели,— не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно
смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?
Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гомец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!
— Экой фофан! чем утешается,— прервал опять
дядя,— что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут
добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей
не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь:
это сатира, или... как это там называется, аллегория,
что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностран-
ного полководца,— прибавил дядя, обращаясь ко мне,
значительно сдвинув брови и прищуриваясь,— а? как ты
думаешь? Но только, разумеется, невинная, благо-
родная сатира, никого не обижающая! Прекрасно!
прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, про-
должай! Ах вы, шалуньи, шалуньи! — прибавил он,
с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку,
которая краснела и улыбалась.
Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
590
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педро!
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каштан его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»
— Ну, вот! Не то же ли я говорил? — вскричал дядя,
чрезвычайно обрадовавшись.— Один только человек во
всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то
каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?
— Монах, духовная особа, дядюшка.
<— А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще
в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные
ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бене-
диктинцы-то?..
— Есть, дядюшка.
— Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше?
Прекрасно, превосходно!
И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»
•— Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому,
наконец, смешно стало! Барана! Стало быть, были же
бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше!
Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!
— Да уж кончено, папочка!
— А! кончено! В самом деле чего ж больше оста-
валось и делать,— не правда ль, Сергей? Превосходно,
Илюша! Чудо, как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах
ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?
— Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она
прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет
Илюша именинник, заставим его выучить да рассказать.
То-то смеху будет!»
— Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю,—
пробормотал дядя, вдруг весь покраснев, как ребенок.—
Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты,
шалунья,— сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством
смотря ей в глаза.
591
— Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именин-
ница,— прибавил он, как будто не зная, что и сказать
больше от удовольствия.
Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?
— Да, да! чьи стихи? — всполошился дядя.—
Должно быть, умный поэт написал,— не правда ль,
Фома?
— Гм!..— промычал Фома под нос.
Во все время чтения стихов едкая, насмешливая
улыбка не покидала губ его.
— Я, право, забыла,— отвечала Настенька, робко
взглядывая на Фому Фомича.
— Это господин Кузьма Прутков написал, папочка,
в «Современнике» напечатано,— выскочила Сашенька.
— Кузьма Прутков! не знаю,— проговорил дядя.—
Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с
достоинствами,— не правда ль, Сергей? И, сверх того,
благороднейших свойств человек — это ясно, как два
пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю!
А превосходный журнал «Современник»! Непременно
надо подписываться, коли все такие поэты участвуют...
Люблю поэтов! славные ребята! все в стихах изобра-
жают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге,
одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный...
право!.. Что ты сказал, Фома?
Фома Фомич, которого разбирало все более и бо-
лее, громко захихикал.
— Нет, я так... ничего-с...— проговорил он, как бы
с трудом удерживаясь от смеха.— Продолжайте, Егор
Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и
Степан Алексеич с удовольствием слушает про знаком-
ства ваши с петербургскими литераторами...
Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль в
задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и оже-
сточенно повернулся в кресле.
— Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! —
сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими,
налитыми кровью глазами.— Мне что твоя литература?
Дай только бог мне здоровья,— пробормотал он себе
под нос,— а там хоть бы всех... и с сочинителями-то...
волтерьянцы, только и есть!
592
Сочинители волтерьянцы-с? — проговорил Еже-
Викин, немедленно очутившись подле господина Бах-
чеева.— Совершенную правду изволили изложить, Сте-
пан Алексеич. Так и Валентин Игнатьич отзываться
намедни изволили. Меня самого волтерьянцем обо-
звали — ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще
мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скис-
нет,— все господин Вольтер виноват! Все у нас так-с.
— Ну, нет! — заметил дядя с важностью,— это
ведь заблуждение! Вольтер был только острый писа-
тель; смеялся над предубеждениями; а волтерьянцем
никогда не бывал! Это все про него враги распустили.
За что ж в самом деле все на него, бедняка?..
Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича.
Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно
сконфузился.
— Нет, я, видишь, Фома, все про журналы,— прого-
ворил он с смущением, желая как-нибудь попра-
виться.— Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда,
намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам ду-
маю, что надо! Гм... что ж, в самом деле просвещение
распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества,
если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей?
Гм!., да!., вот хоть «Современник»... Но знаешь, Сережа,
самые сильные науки, по-моему, это в том толстом
журнале, как бишь его? еще в желтой обертке...
— «Отечественные записки», папочка.
— Ну да, «Отечественные записки», и превосходное
название, Сергей,— не правда ли? так сказать, все оте-
чество сидит да записывает... Благороднейшая цель!
преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай
такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть
не выскочат... Намедни прихожу — лежит книга; взял
из любопытства, развернул, да три страницы разом и
отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем
толкование: что, например, значит метла, лопата, чу-
мичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть;
ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то
выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифоло-
гия, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то
такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!
38 Ф. М. Достоевский, т. 2
593
He знаю, что именно приготовлялся сделать Фома
после этой новой выходки дяди, но в эту минуту по-
явился Гаврила и, понурив голову, стал у порога.
Фома Фомич значительно взглянул на него.
— Готово, Гаврила? — спросил он слабым, но реши-
тельным голосом.
— Готово-с,— грустно отвечал Гаврила и вздох-
нул.
— И узелок мой положил на телегу?
— Положил-с.
— Ну, так и я готов! — сказал Фома и медленно
приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на
него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством
озиралась кругом.
— Позвольте мне теперь, полковник,— с достоин-
ством начал Фома,— просить вас оставить на время
интересную тему о литературных ухватах; вы можете
продолжать ее без меня. Я же, прощаясь с вами навеки,
хотел бы вам сказать несколько последних слов...
Испуг и изумление оковали всех слушателей.
— Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты сби-
раешься? — вскричал, наконец, дядя.
— Я сбираюсь покинуть ваш дом, полковник,— про-
говорил Фома самым спокойным голосом.— Я решился
идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги
простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой
узелок; он не велик: несколько любимых книг, две пере-
мены белья — и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за
что на свете не возьму теперь вашего золота, от кото-
рого я еще и вчера отказался!
— Но, ради бога, Фома? что ж это значит? — вскри-
чал дядя, побледнев как платок.
Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на
Фому Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепе-
лицына бросилась ее поддерживать. Приживалки ока-
менели на своих местах. Господин Бахчеев тяжело под-
нялся со стула.
— Ну, началась история! — прошептал подле меня
Мизинчиков.
В эту минуту послышались отдаленные раскаты
грома: начиналась гроза.
594
IV
ИЗГНАНИЕ
— Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это
значит?» — торжественно проговорил Фома, как бы на-
слаждаясь всеобщим смущением.— Удивляюсь вопросу!
Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом
вы в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза?
разъясните мне эту последнюю психологическую задачу
из ^человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по край-
ней мере обогащенный новым познанием об испорчен-
ности человеческого рода.
Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на
Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с вы-
катившимися глазами.
— Господи! какие страсти-с! — простонала девица
Перепелицына.
— Понимаете ли, полковник,— продолжал Фома,—
что вы должны отпустить меня теперь, просто и без
расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой
и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чи-
стоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не
поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.
— Фома! Фома!..— вскричал дядя, и холодный пот
показался на лбу его.
— И потому позвольте без объяснений сказать вам
только несколько прощальных и напутственных слов,
последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело
сделано и его не воротишь! Я надеюсь, что вы пони-
маете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на
коленях: если в сердце вашем осталась хотя искра
нравственности, обуздайте стремление страстей своих!
И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то
по возможности потушите пожар!
— Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! —
вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужа-
сом предчувствуя развязку.
— Умерьте страсти,— продолжал Фома тем же тор-
жественным тоном, как будто и не слыхав восклица-
ния дяди,— побеждайте себя. «Если хочешь победить
весь мир — победи себя!» Вот мое всегдашнее правило.
38* 595
Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант,
в своих поместьях, и какой же гнусный пример необуз-
данности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за
вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше
счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в
добродетели...
— Но это невозможно же, Фома! — снова прервал
его дядя,— ты не так понял и не то совсем говоришь...
— Итак, вспомните, что вы помещик,— продолжал
Фома, опять не слыхав восклицания дяди.— Не думайте,
чтоб отдых и сладострастие были предназначением
помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а за-
бота, и забота перед богом, царем и отечеством! Тру-
диться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как
последний из крестьян его!
— Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? — про-
ворчал Бахчеев,— ведь и я помещик...
— К вам теперь обращаюсь, домашние,— продол-
жал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появив-
шемуся у дверей,— любите господ ваших и исполняйте
волю их подобострастно и с кротостью. За это возлю-
бят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним
справедливы и сострадательны. Тот же человек — образ
божий, так сказать, малолетный, врученный вам, как
дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и за-
слуга ваша!
— Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? —
в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в
обморок от ужаса.
— Ну, довольно, кажется? — заключил Фома, не
обращая внимания даже и на генеральшу.— Теперь о
подробностях; положим, они мелки, но необходимы,
Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор
сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите ско-
рей. Таков совет мой...
— Но, Фома...
— Вы хотели,— я знаю это, рубить зыряновский
участок лесу; не рубите — другой совет мой. Сохраните
леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности
земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое;
удивительно, как поздно сеяли вы яровое!
596
— Но, Фома...
— Но, однакож, довольно! Всего не передашь, да и
не время! Я пришлю к вам наставление письменное,
в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с
вами, и да благословит вас господь! Благословляю и
тебя, дитя мое,— продолжал он, обращаясь к Илюше,—
и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих
страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь
комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну,
пойдем, Гаврила! Посади меня, старичок.
И Фома направился к дверям. Генеральша взвизг-
нула и бросилась за ним.
— Нет, Фома! я не пущу тебя так! — вскричал
дядя и, догнав его, схватил его за руку.
— Значит, вы хотите действовать насилием? — над-
менно спросил Фома.
— Да, Фома... и насилием! — отвечал дядя, дрожа
от волнения.— Ты слишком много сказал и должен
разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..
— Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно вос-
пламенясь, как будто именно ждал этой минуты для
взрыва,— ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно!
Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу но-
гами своими ваше письмо и исполняю тем священней-
ший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой
принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите!
видите!..
И клочки бумаги разлетелись по комнате...
— Повторяю, Фома, ты не понял! — кричал дядя,
бледнея все более и более,— я предлагаю руку, Фома,
я ищу своего счастья...
— Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете
меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней
ночью, в саду, под кустами!
Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в
кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная На-
стенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Са-
шенька, обхватив Илюшу, дрожала, как в лихорадке.
— Фома! — вскричал дядя в исступлении.— Если
ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый
подлейший поступок в мире!
39 Ф. М. Достоевский, т. 2
597
— Я распространю эту тайну,— визжал Фома,—
и сделаю наиблагороднейший из поступков! Я на то по-
слан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пако-
стях! Я готов взобраться на мужичью соломенную
крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке
всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да,
знайте все, что вчера, ночью, я застал его с этой деви-
цей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под ку-
стами!..
— Ах, какой срам-с! — пропищала девица Перепе-
лицына.
— Фома! не губи себя! — кричал дядя, сжимая ку-
лаки и сверкая глазами.
— ...А он,— визжал Фома,— он, испугавшись, что
я его увидел, осмелился завлекать меня лживым пись-
мом, меня, честного и прямодушного, в потворство сво-
ему преступлению — да, преступлению!., ибо из наине-
виннейшей доселе девицы вы сделали...
— Еще одно оскорбительное для нее слово, и — я
убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..
— Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей до-
селе девицы вы успели сделать развратнейшую из
девиц!
Едва только произнес Фома последнее слово, как
дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку,
и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведшую из
кабинета во двор дома. Удар был так силен, что при-
творенные двери растворились настежь, и Фома, слетев
кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на
дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по
ступеням крыльца.
— Гаврила, подбери его! — вскричал дядя, бледный
как мертвец,— посади его на телегу, и чтоб через две
минуты духу его не было в Степанчикове!
Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно,
не ожидал подобной развязки.
Не берусь описывать то, что было в первые минуты
после такого пассажа. Раздирающий душу вопль гене-
ральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы
Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих
пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок;
598
испуганная до обморока Настенька, около которой уви-
вался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя,
в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожи-
давшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач
Фалалея, оплакивавшего господ своих,— все это-состав-
ляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту
минуту разразилась сильная гроза; удары грома слы-
шались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в
окна.
— Вот-те и праздничек! — пробормотал господин
Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки.
— Дело худо! — шепнул я ему, тоже вне себя от
волнения,— но по крайней мере прогнали Фомича и
уж не воротят.
— Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам?
можете ли вы, наконец, меня выслушать? — спросил
дядя, остановись перед креслом старухи.
Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим ви-
дом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни
не видала в таком гневе.
— Маменька! — продолжал он,— чаша перепол-
нена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это
дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слы-
шали клевету, выслушайте же и оправдание. Ма-
менька, я люблю эту благороднейшую и возвышенней-
шую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она
осчастливит детей моих и будет для вас самой почти-
тельной дочерью, и потому теперь при вас, в присут-
ствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю
мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бес-
конечную честь, согласившись быть моею женою!
Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вско-
чила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела
на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит,
и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним
на колени.
— Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фо-
мича!— закричала она,— сейчас вороти! не то я к ве-
черу же помру без него!
Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную
и капризную, перед собой на коленях. Болезненное
39*
5£9
ощущение отразилось в лице его; наконец, опомнив-
шись, бросился он подымать ее и усаживать опять
в кресло.
— Вороти Фому Фомича, Егорушка! — продолжала
вопить-старуха,— вороти его, голубчика! Жить без него
не могу!
— Маменька! — горестно вскричал дядя,— или вы
ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил?
Я не могу воротить Фому — поймите это! не могу и не
вправе после его низкой и подлейшей клеветы на этого
ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, ма-
менька, что я обязан, что честь моя повелевает мне
теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу
руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили
союз наш.
Генеральша опять сорвалась с своего места и бро-
силась на колени перед Настенькой.
— Матушка моя! родная ты моя!—завизжала
она,— не выходи за него замуж! не выходи за него,
а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича!
Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! все тебе от-
дам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь.
Я еще не все, старуха, прожила, у меня еще остались
крохи после моего покойничка. Все твое, матушка, всем
тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не
клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воро-
тить!..
И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б
Перепелицына и все приживалки с визгами и стена-
ниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на
коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва
устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже за-
плакала от злости.
— Смертью уморите вы маменьку-с,— кричала она
дяде,— смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна,
не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с;
это и господь бог запрещает-с...
— Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал
дядя.— Я довольно терпел!..
— Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы
сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть
600
сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья
дочь-с! Ноги моей не будет-с в вашем доме, не будет-с...
сегодня же-с!..
Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с бла-
гоговением взял ее за руку.
— Настасья Евграфовна! вы слышали мое предло-
жение? — проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти
с отчаянием.
— Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше,— от-
вечала Настенька, в свою очередь совершенно упав ду-
хом.— Это все пустое,— продолжала она, сжимая его
руки и заливаясь слезами.— Это вы после вчерашнего
так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы
ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду помнить,
как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду мо-
литься за вас!..
Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно,
предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возра-
жать, настаивать... Он слушал, наклонясь к ней, все еще
держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы пока-
зались в глазах его.
— Я еще вчера сказала вам,— продолжала Настя,—
что не могу быть вашею женою. Вы видите: меня не
хотят у вас... а я все это давно, уж заранее предчувство-
вала; маменька ваша не даст нам благословления...
другие тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, по-
тому что вы великодушнейший человек, ио все-таки
будете несчастны из-за меня... с вашим добрым харак-
тером...
— Именно с добрым характером-с! именно добрень-
кие-с! так, Настенька, так! — поддакнул старик отец,
стоявший по другую сторону кресла,— именно, вот это-
то вот словечко и надо было упомянуть-с.
— Я не хочу через себя раздор поселять в вашем
доме,— продолжала Настенька.— А обо мне не беспо-
койтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не
обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж
простимся, Егор Ильич...
И бедная Настенька опять залилась слезами.
— Настасья Евграфовна! неужели это послед-
нее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее
601
с невыразимым отчаянием.— Скажите одно только
слово — и я жертвую вам всем!..
— Последнее, последнее, Егор Ильич-с,— подхватил
опять Ежевикин,— и она вам так хорошо это все объ-
яснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с.
Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидоб-
рейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много
чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор
Ильич. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич-с,
чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с
голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах, да в
страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с...
Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с...
и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротйте-с!
Напрасно, напрасно изволили его так изобидеть-с! он
ведь из добродетели, от излишнего жару-с так нагово-
рил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добро-
детели,— увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот
теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с...
потому что ведь придется же воротить-с...
— Вороти! вороти его!—закричала генеральша,—
он, голубчик мой, правду тебе говорит!..
— Да-с,— продолжал Ежевикин,— вот и родитель-
ница ваша убиваться изволят — понапрасну-с... Воро-
тите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...
— Подожди, Евграф Ларионыч! — вскричал дядя,—
умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только
слово...
Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил
голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обду-
мывая.
В эту минуту страшный удар грома разразился чуть
не над самым домом. Все здание потряслось. Гене-
ральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки
крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и гос-
подин Бахчеев.
— Батюшка, Илья-пророк! — прошептали пять или
шесть голосов все вместе, разом.
Вслед за громом пролился такой страшный ливень,
что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Сте-
панчиковым.
602
— А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то
будет-с? — пропищала девица Перепелицына.
— Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным
голосом генеральша и, как безумная, бросилась к
дверям. Ее удержали приживалки; они окружили
ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужас-
нейший!
— В одном сюртуке пошли-с; хоть бы шинельку-то
взяли с собой-с! — продолжала Перепелицына.— Зон-
тика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньей-то-с!..
— Непременно убьет! — подхватил Бахчеев,— да
еще и дождем потом смочит.
— Хоть бы вы-то молчали! — прошептал я ему.
— Да ведь он человек али нет? — гневно отве-
чал мне Бахчеев.— Ведь не собака. Небось сам-то не
выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для
плезиру.
Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подо-
шел к дяде, который как будто оцепенел в своем
кресле.
— Дядюшка,— сказал я, наклоняясь к его уху,— не-
ужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Пой-
мите, что это будет верх неприличия, по крайней мере
покамест здесь Настасья Евграфовна.
— Друг мой,— отвечал дядя, подняв голову и с ре-
шительным видом смотря мне в глаза,— я судил себя в
эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не бес-
покойся, обиды Насте не будет — я так устрою...
Он встал со стула и подошел к матери.
— Маменька! — сказал он,— успокойтесь: я ворочу
Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъ-
ехать. Но клянусь, он воротится только на единствен-
ном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей
оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей
и торжественно просить прощения у этой благородней-
шей девицы. Я достигну этого! я его заставлю!., иначе
он не перейдет через порог этого дома! клянусь вам
тоже, маменька, торжественно: если он согласится на
это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам
его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая
детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстра-
603
няюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю
Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо.
Я же еду в полк — ив бурях брани, на поле битвы, про-
веду отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!
В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь из-
мокший, весь в грязи, до невозможности, предстал пе-
ред смятенною публикой.
— Что с тобой? откуда? Где Фома? — вскричал
дядя, бросаясь к Гавриле.
За ним бросились все и с жадным любопытством
окружили старика, с которого грязная вода буквально
стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каж-
дое слово Гаврилы.
— У березника оставил, версты полторы отсю-
дова,— начал он плачевным голосом.— Лошадь мо-
лоньи испужалась и в канаву бросилась.
— Ну...— вскричал дядя.
— Телега перевалилась...
— Ну... а Фома?
— В канаву упали-с.
— Да ну же, досказывай, истязатель!
— Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг,
да верхом и прибыл сюда доложить-с.
— А Фома там остался?
— Встал и пошел себе дальше с палочкой,— заклю-
чил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.
Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.
— Полкана!—закричал дядя и бросился вон из
комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, не-
оседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт
возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом.
Дядя ускакал даже без фуражки.
Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов
слышались и советы. Толковали о немедленной теплой
ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном
чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра
в рот не брали-с и что они теперь натощак-с». Девица
Перепелицына нашла забытые им очки, в футляре, и на-
ходка произвела необыкновенный эффект: генеральша
бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская
их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу.
604
Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени
напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю;
они обнялись и плакали. Настенька держала за руку
Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим
учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная
чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в
стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на де-
виц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подо-
шел к нему.
— Нет, батюшка,— сказал он мне,— Фома-то Фо-
мич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще
тому не пришло: золоторогих быков еще под экипаж
ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из
дому выживет и сам останется!
Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил
свои убеждения.
Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» — и дамы с виз-
гом побросались к дверям. Не прошло еще десяти ми-
нут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так
скоро привезти Фому Фомича; но загадка объяснилась
потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу,
действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувство-
вав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и
ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчиково
и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже
на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо
телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмирев-
шего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в от-
верстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела
от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще
грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужасней-
шая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб пере-
менить белье; кричали о бузине и о других крепитель-
ных средствах, метались во все стороны без всякого
толку; говорили все зараз... Но Фома как будто не за-
мечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись
до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл
глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужас-
нейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь
пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтоб
немедленно поцеловать у него ручку...
605
V
ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ
— Куда это меня привели? — проговорил, наконец,
Фома голосом умирающего за правду человека.
— Проклятая размазня! — прошептал подле меня
Мизинчиков,— точно не видит, куда его привели. Вот
ломаться-то теперь будет!
— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал
дядя.— Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы
ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь... Да не хочешь
ли покрепиться — а? так, эдак... рюмочку маленькую
чего-нибудь, чтоб согреться...
— Малаги бы я выпил теперь,— простонал Фома,
снова закрывая глаза.
— Малаги? навряд ли у нас и есть! — сказал дядя,
с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.
— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильи-
нична,— целые четыре бутылки остались,— и тотчас
же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуе-
мая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи ва-
ренье. Зато господин Бахчеев был в самой последней
степени негодования.
— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух.—
И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто
теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?
Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то
тут жду?
— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом сло-
ве,— вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с
нами... то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как
давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...
— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома,
как будто был в жару и в бреду,— где золотые дни
мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и
прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где,
где это время? Воротите мне мою невинность, воро-
тите ее!..
И Фома, растопырив руки, обращался ко всем по-
очередно, как будто невинность его была у кого-нибудь
из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.
606
— Эк чего захотел! — проворчал он с яростью.—
Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с
ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же
разбойником, как и теперь! присягну, что был.
— Фома!..— начал было опять дядя.
— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в
любовь и любил человека? — кричал Фома,— когда я
обнимался с человеком и плакал на груди его? а те-
перь — где я? где я?
— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя,—
а я вот что хотел тебе сказать, Фома...
— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с,— проши-
пела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными
глазками.
— Где я? — продолжал Фома,— кто кругом меня?
Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои.
Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен,
опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком
твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные
кости твои раздавят монументом!
— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал
Ежевикин, сплеснув руками.
— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома,—
не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах
своих воздвигните мне монумент, а более ничего не
надо, не надо, не надо!
— Фома! — прервал дядя,— полно! успокойся! не-
чего говорить о монументах. Ты только выслушай...
Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так ска-
зать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча;
но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю
тебя, ты ошибся, Фома...
— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Пе-
репелицына,— убить, что ли, вы несчастного человека
хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..
Вслед за Перепелицыной встрепенулась и гене-
ральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю
руками, чтоб он остановился.
— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что
говорю! — с твердостью отвечал дядя.— Это дело свя-
тое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассуди-
607
телен, ты должен сей же час испросить прощение у бла-
городнейшей девицы, которую ты оскорбил.
— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? —
проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами,
как будто совершенно забыв все происшедшее и не по-
нимая, о чем идет дело.
— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей,
благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе,
Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...
— Кого же это я оскорбил? — вопил Фома,— какую
девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть
что-нибудь об этой девице!..
В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная,
подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.
— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извине-
ний! к чему это все? — говорила она умоляющим го-
лосом.— Бросьте это!..
— А! теперь я припоминаю! — вскричал Фома.—
Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне при-
поминать! — просил он, повидимому, в ужасном волне-
нии.— Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда,
как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния
поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули от-
сюда с крыльца? Правда ли? правда ли это?
Плач и вопли дамского пола были красноречивей-
шим ответом Фоме Фомичу.
— Так, так! —твердил он,— я припоминаю... я при-
поминаю теперь, что после молнии и падения моего я
бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой
долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни
слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.
Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в поло-
жение оратора и протянул свою руку.
— Полковник! — вскричал он,— теперь я очнулся
совсем; гром еще не убил во мне умственных способ-
ностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, про-
исшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от
падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело
до правого уха Фомы!
Последним словам своим Фома придал столько пе-
чальной иронии и сопровождал их такою жалобною
608
улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все
они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже
начинавшего понемногу уничтожаться перед таким со-
гласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков
плюнул и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и силь-
нее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.
— Теперь слушайте же все мою исповедь! — возо-
пил Фома, обводя всех гордым и решительным взгля-
дом,— а вместе с тем и решите судьбу несчастного
Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами,
наблюдал с замиранием моего сердца и видел все, все,
тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за
вами. Полковник! я, может быть, ошибался; но я знал
ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше
феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что
я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?
— Фома, Фома!., ты, впрочем, не очень распростра-
няйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря
на страдальческое выражение в лице Настеньки.
— Не столько невинность и доверчивость этой
особы, сколько ее неопытность смущала меня,— про-
должал Фома, как будто и не слыхав предостережения
дяди.— Я видел, что нежное чувство расцветает в ее
сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Пет-
рарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на
волосок от погибели». Я вздыхал, стонал и хотя за
эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать
всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться
за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление
страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать
для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в
бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблагород-
нейшей из девиц...
— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскри-
чал дядя.
— С замиранием моего сердца я следил за вами.
Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у
Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о со-
стоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен.
В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел
все в черном цвете, и это был не тот «черный цвет»,
609
о котором поется в известном романсе,— будьте уве-
рены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание
удалить ее из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то
п видели вы меня во все последнее время раздражитель-
ным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто
примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что
я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям
вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву,
требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за
тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на
Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне,
как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого
лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность
предупредить несчастие, что я поставлен, что я произ-
веден для этого,— и что же? вы не поняли наиблагород-
нейших побуждений души моей и платили мне во все
это время злобой, неблагодарностью, насмешками, уни-
жениями.
— Фома! если так... конечно, я чувствую...— вскри-
чал дядя в чрезвычайном волнении.
— Если вы действительно чувствуете, полковник, то
благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продол-
жаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что
я слишком убивался о судьбе и счастьи этого дитяти;
ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к
человечеству сделала меня в это время каким-то бесом
гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и
терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки
ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мни-
тельность и удостоверяли меня во всех подозрениях
моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня
своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал:
«Он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб
удобнее совершить преступление...»
— Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? —
с ужасом вскричал дядя.— Господи боже, а я-то ни-
чего и не подозревал!
— Само небо внушило мне эти подозрения,— про-
должал Фома.— И решите сами, что мог я подумать,
когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той
роковой скамейке в саду? что почувствовал я в эту ми-
610
нуту — о боже! — увидев, наконец, собственными сво-
ими глазами, что все подозрения мои оправдались
ВДРУГ> самым блистательным образом? Но мне еще
оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же
надежда — и что же? сегодня утром вы разрушаете ее
сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо
ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете
ие разглашать... «Но почему же,— подумал я,— почему
же он написал именно теперь, когда уже я застал его,
а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко
мне, счастливый и прекрасный — ибо любовь украшает
лицо,— почему не бросился он тогда в мои объятия, не
заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья
и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, кото-
рый бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного
совета? или я какой-нибудь отвратительный жук, кото-
рый бы только укусил вас, а не способствовал вашему
счастью? «Друг ли я его, или самое гнуснейшее из на-
секомых?» — вот вопрос, который я задал себе нынче
утром! «Для чего, наконец,— думал я,— для чего же
выписывал он из столицы своего племянника и сватал
его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас,
и легкомысленного племянника, а между тем втайне
продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, пол-
ковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная
любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только
вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей,
ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же нелов-
кость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли
клевете и тяжким подозрениям!
Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы,
видимо, одержало верх над всеми его возражениями,
и он уже сознавал себя полным преступником. Гене-
ральша и ее общество молча и с благоговением слу-
шали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством
смотрела на бедную Настеньку.
— Пораженный, раздраженный, убитый,— продол-
жал Фома,— я заперся сегодня на ключ и молился, да
внушит мне бог правые мысли! Наконец, положил я:
в последний раз и публично испытать вас. Я, может
быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком
611
предался моему негодованию; но за благороднейшие
побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Па-
дая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда
на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился
оземь и затем едва помню, что со мною дальше слу-
чилось!
Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом
трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было
к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только
что перед этим вырвала из рук воротившейся Пра-
сковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой
и малагу и генеральшу.
— Остановитесь! — вскричал он,— мне надо кон-
чить. Что случилось после моего падения — не знаю.
Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схва-
тить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше
обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам,
которых я не хочу теперь объяснять, я уверился, нако-
нец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна,
хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый,
униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за
честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был
пролить до капли всю кровь мою,— я решаюсь теперь
показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин.
Протяните мне вашу руку, полковник!
— С удовольствием, Фома! — вскричал дядя,—
и так как ты вполне объяснился теперь о чести благо-
роднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя,
Фома, вместе с моим раскаянием...
И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще,
что из этого выйдет.
— Дайте и вы мне вашу руку,— продолжал Фома,
слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около
него толпу и обращаясь к Настеньке.
Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела
на Фому.
— Подойдите, подойдите, милое мое дитя! это не-
обходимо для вашего счастья,— ласково прибавил
Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих
руках.
— Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков.
612
Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла
к Фоме и робко протянула ему свою ручку.
Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.
— Соединяю и благословляю вас,— произнес он
самым торжественным голосом,— и если благословение
убитого горем страдальца может послужить вам в
пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опи-
скин! Урра!
Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка
была так неожиданна, что на всех нашел какой-то
столбняк. Генеральша, как была, так и осталась с рази-
нутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепели-
цына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки
всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя
задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя
побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что
«это нельзя»...— но уже было поздно. Бахчеев первый —
надо отдать ему справедливость — подхватил ура Фомы
Фомича, за ним я, за мною во весь свой звонкий голосок
Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом
Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.
— Ура! — крикнул другой раз Фома,— урра! И на
колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею
из матерей! Просите ее благословения, и, если надо,
я сам преклоню перед нею колени вместе с вами...
Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испу-
ганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается,
упали на колени перед генеральшей; все столпились
около них; но старуха стояла как будто ошеломленная,
совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог
и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей
покровительницей. Это разом уничтожило все ее недо-
умения. Заливаясь слезами, она проговорила, наконец,
что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.
— Фома, Фома!..— проговорил он, но голос его
осекся, и он не мог продолжать.
— Шампанского! — заревел Степан Алексеевич.—
Урра!
— Нет-с, не шампанского-с,— подхватила Перепе-
лицына, которая уже успела опомниться и сообразить
все обстоятельства, а вместе с тем и последствия,—
613
а свечку богу зажечь-с, образу помолиться, да обра-
зом и благословиТь-с, как всеми набожными людьми
исполняется-с...
Тотчас же все бросились исполнять благоразумный
совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засве-
тить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез
приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил
стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем,
на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с поч-
тением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Пере-
пелицына мигом обделала дело: свеча зажглась.
Монашенка и приживалки начали креститься и класть
земные поклоны. Сняли образ спасителя и поднесли ге-
неральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и це-
ремония совершилась при набожных наставлениях
Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В нож-
ки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-
то у мамаши поцелуйте-с!» После жениха и не-
весты к образу почел себя обязанным приложиться и
господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-
генеральши ручку. Он был в восторге неописанном.
— Урра! — закричал он снова.— Вот теперь так уж
выпьем шампанского!
Впрочем, и все были в восторге. Генеральша
плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благо-
словленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и
приличным и священным,— а главное, она чувствовала,
что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется
с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере
с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя — то ста-
новился перед матерью на колени и целовал ее руки, то
бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и
Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих
объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать На-
стеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами.
Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней,—
к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и
плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вче-
рашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с
благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей ры-
дал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у
614
Всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще
не начинал говорить; никто не объяснялся; казалось,
все уже было сказано; раздавались только радостные
восклицания. Никто не понимал еще, как это все вдруг
так скоро устроилось. Знали только одно, что все это
сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непре-
ложный.
Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего
счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ива-
новна. Каким образом, каким чутьем могла она так
скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про
свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами
радости на глазах, в обольстительно изящном туалете
(наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с гром-
кими криками, бросилась обнимать Настеньку.
— Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не
знала,— вскричала она.— Боже! они любили друг
друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали!
Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю
правду: неужели ты в самом деле любишь этого
безумца?
Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.
— Боже, какой очаровательный роман! — и Татьяна
Ивановна захлопала от восторга в ладоши.— Слушай,
Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до
единого — неблагодарные, изверги и не стоят нашей
любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко
мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и
хватая его за руку,— неужели ты влюблен? неужели ты
способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть
тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза, или нет?
Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я
счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не бо-
гата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога!
Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет,
нет, нет, нет! — закричала она и замахала руками,
увидя, что Настя хочет отказываться.— Молчите и вы,
Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так
положила — тебе подарить, я давно хотела тебе пода-
рить и только дожидалась первой любви твоей... Я буду
смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не
615
возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет и нет!
Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту
минуту по крайней мере невозможно, даже жаль было
ей возражать. На это и не решились, а отложили до
другого времени. Она бросилась целовать генеральшу,
Перепелицыну — всех нас. Бахчеев почтительнейшим
образом протеснился к ней и попросили у ней ручку.
— Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты
меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого
сердечка!
— Безумец! я давно тебя знаю,— с восторженною
игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила
Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от
него, как зефир, задев его своим пышным платьем.
Толстяк почтительно посторонился.
— Достойнейшая девица! — проговорил он с уми-
лением.— А нос-то немцу ведь подклеили! — шепнул он
мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.
— Какой нос? какому немцу? — спросил я в удив-
лении.
— А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки
целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня
починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони,
я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная
вещь!
— Фома! — вскричал дядя, в исступленном во-
сторге,— ты виновник нашего счастья! Чем могу я воз-
дать тебе?
— Ничем, полковник,— отвечал Фома с постной ми-
ной.— Продолжайте не обращать на меня внимания и
будьте счастливы без Фомы.
Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих из-
лияний о нем как будто и забыли.
— Это все от восторга, Фома! — вскричал дядя.—
Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома:
я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей недо-
станет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я
молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь
тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо бу-
дет броситься за тебя в разверстую бездну, то повеле-
вай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.
616
И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозмож-
ность прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло
выразить его мысль. Он только глядел на Фому благо-
дарными, полными слез глазами.
— Вот они какие ангелы-с! — пропищала в свою
очередь в похвалу Фоме девица Перепелицына.
— Да, да! — подхватила Сашенька,— я и не знала,
что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была
к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич,
и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем лю-
бить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!
— Да, Фома! — подхватил Бахчеев,— прости и ты
меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич,
не только ученый, но и — просто герой! Весь дом мой
к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко
мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да
уж и с женихом и невестой,— да чего тут! всем домом
ко мне! то есть вот как пообедаем,— заранее не похва-
люсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас
не достану! Великое слово даю!
Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и На-
стенька и без дальних слов крепко обняла его и поце-
ловала.
— Фома Фомич! — сказала она,— вы наш благоде-
тель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем
вам заплатить за все это, а только знаю, что буду для
вас самой нежной, самой почтительной сестрой...
Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее.
Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.
— Дети мои, дети моего сердца! — сказал он.—
Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-
нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу,
что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это
сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но
у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание
есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с
моим посохом, и кто знает? может быть, через не-
счастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль —•
единственное оставшееся мне утешение!
— Но... куда же ты уйдешь, Фома? — в испуге
вскричал дядя.
40 Ф. М. Достоевский, т. 2
617
Все вздрогнули и устремились к Фоме.
— Но разве я могу оставаться в вашем доме после
давешнего вашего поступка, полковник? — спросил
Фома с необыкновенным достоинством.
Но ему не дали говорить: общие крики заглушили
слова его. Его усадили в кресло, его упрашивали, его
оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Ко-
нечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома»,
так же как и давеча не было, как не было и вчера, как
не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что
теперь его набожно остановят, уцепятся за него, осо-
бенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова
уверовали, когда все готовы были носить его на руках
и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, да-
вешнее малодушное его возвращение, когда он испу-
гался грозы, несколько щекотало его амбицию и под-
стрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а глав-
ное — предстоял такой соблазн поломаться; можно
было так хорошо поговорить, расписать, размазать, рас-
хвалить самого себя, что не было никакой возможности
противиться искушению. Он и не противился; он выры-
вался от не пускавших его; он требовал своего посоха,
молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его
на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обес-
чещен, избит; что он воротился для того, чтоб соста-
вить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оста-
ваться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя и сыт-
ные, но приправленные побоями»? Наконец, он перестал
вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноре-
чие его не прерывалось.
— Разве не обижали меня здесь? — кричал он,—
разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы
сами, полковник, подобно невежественным детям мещан
на городских улицах не показывали мне ежечасно шиши
и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, по-
тому что, если вы и не показывали мне их физически, то
все равно, это были нравственные кукиши; а нравствен-
ные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических.
Я уже и не говорю о побоях...
— Фома, Фома! — вскричал дядя,— не убивай меня
этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови
618
моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же ве-
ликодушен! забудь, прости и останься созерцать наше
счастье! Твои плоды, Фома!..
— ...Я хочу любить, любить человека,— кричал
Фома,— а мне не дают человека, запрещают любить,
отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека,
чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спря-
тался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его
всю жизнь Hj-ie могу найти, и не могу никого любить,
доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал
меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне чело-
века, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея!
Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фала-
лея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже
хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей.
Почему я не люблю человечества? Потому что все, что
ни есть на свете,— Фалалей или похоже на Фалалея!
Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на
Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было
выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея!
Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди
сюда!—закричал он, вдруг обратившись к Фалалею,
самым невиннейшим образом выглядывавшему на
цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича,—
поди сюда! Я докажу вам, полковник,— кричал Фома,
притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от
страха,— я докажу вам справедливость слов моих о
всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и
скажи правду: что видел ты во сне сегодняшнюю ночь?
Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фа-
лалей, говори!
Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил
кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь сво-
его спасения; но все только трепетали и с ужасом
ждали его ответа.
— Ну же, Фалалей, я жду!
Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул
свой рот и заревел, как теленок.
— Полковник! видите ли это упорство? Неужели
оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе,
Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?.
40*
619
— Про...
— Скажи, что меня видел,— подсказал Бахчеев.
— Про ваши добродетели-с! — подсказал на другое
ухо Ежевикин.
Фалалей только оглядывался.
— Про... про ваши доб... про белого бы-ка! — про-
мычал он, наконец, и залился горючими слезами.
Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке не-
обыкновенного великодушия.
— По крайней мере я вижу твою искренность, Фа-
лалей,— сказал он,— искренность, которой не замечаю
в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня
этим сном по навету других, то бог воздаст и тебе и
другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо
даже в последнем из созданий, как ты, я привык разли-
чать образ и подобие божие... Я прощаю тебя, Фалалей!
Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..
«Остается!» — вскричали все с восторгом.
— Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фала-
лея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего
счастья.
Разумеется, такое великодушие нашли изумитель-
ным. Так заботиться в такую минуту и — о ком же?
о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о
сахаре. Тотчас же — бог знает откуда — в руках Пра-
сковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя
вынул было дрожавшею рукой два куска, потом три,
потом уронил их, наконец, видя, что ничего не в состоя-
нии сделать от волнения:
— Э! — вскричал он,— уж для такого дня! Держи,
Фалалей! — и высыпал ему за пазуху всю сахар-
ницу.
— Это тебе за искренность,— прибавил он в виде
нравоучения.
— Господин Коровкин,— доложил вдруг появив-
шийся в дверях Видоплясов.
Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина
было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмот-
рели на дядю.
— Коровкин! — вскричал дядя в некотором замеша-
тельстве.— Конечно, я рад...— прибавил он, робко взгля-
620
дывая на Фому,— но уж, право, не знаю, просить ли его
теперь,— в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?
— Ничего, ничего! — благосклонно проговорил
Фома,— пригласите и Коровкина; пусть и он участвует
во всеобщем счастье.
Словом, Фома Фомич был в ангельском расположе-
нии духа.
Почтительнейше осмелюсь доложить-с,— заметил
Видоплясов,— что Коровкин изволят находиться не в
своем виде-с.
— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскри-
чал дядя.
— Точно так-с: не в трезво^м состоянии души-с...
Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть,
испугаться и сконфузиться до последней степени, по-
следовало и разрешение загадки. В дверях появился
сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал
пред изумленною публикой. Это был невысокий, но
плотный господин, лет сорока, с темными волосами и с
проседью, выстриженный под гребенку, с багровым
круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью гла-
зами, в высоком волосяном галстуке, застегнутом сзади
пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху
и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в pantalon
impossible 1 и при фуражке, засаленной до невероят-
ности, которую он держал на отлете. Этот господин был
совершенно пьян. Выйдя на средину комнаты, он
остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в
пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыб-
нулся.
— Извините, господа,— проговорил он,— я... того...
(тут он щелкнул по воротнику) получил!
Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного
достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмери-
вал взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел
на него с недоумением, сквозь которое проглядывало,
однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было
невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.
— Коровкин! — начал было он,— послушайте!
1 невозможные брюки (франц.) — брюки особого покроя.
621
— Атанде-с,— прервал Коровкин.— Рекомендуюсь:
дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем
же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? —
прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю,—
ничего? не робей!., представимся и прекрасному полу...
Прелестные дамы! — начал он, с трудом ворочая язык
и завязая на каждом слове,— вы видите несчастного,
который... ну, да уж и так далее... Остальное не до-
говаривается... Музыканты! польку!
— А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков,
спокойно подходя к Коровкину.
— Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?
— Нисколько. Знаете, с дороги полезно...
•— Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин.—
Ты думаешь, я пьян? — нимало... А впрочем, где у вас
спят?
— Пойдемте, я вас сейчас проведу.
— Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там
ночевал... А впрочем, веди... С хорошим человеком от-
чего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку
не надо подушки... А ты мне, брат, диванчик, диванчик
сочини... Да, слушай,— прибавил он останавливаясь,—
ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... пони-
маешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единст-
венно, чтоб муху задавить, одну, то есть рюмочку.
— Хорошо, хорошо! — отвечал Мизинчиков.
— Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься...
Adieu, mesdames и mesdemoiselles!.. Вы, так сказать,
пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а
только разбудите меня, как начнется... или даже за
пять минут до начала... а без меня не начинать! слы-
шите? не начинать!..
И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.
Все молчали. Недоумение еще продолжалось. На-
конец, Фома начал понемногу, молча и неслышно, хи-
хикать; смех его разрастался все более и более в хохот.
Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выра-
жение оскорбленного достоинства сохранялось в лице
ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон.
Дядя стоял, как ошеломленный, краснея до слез и не-
которое время не в состоянии вымолвить слова.
622
— Господи боже! — проговорил он, наконец,— кто
же это знал? Но ведь... ведь... это со всяким же может
случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший,
благороднейший и даже чрезвычайно начитанный чело-
век. Фома... вот ты увидишь!..
— Вижу-с, вижу-с,— отвечал Фома, задыхаясь от
смеха,— необыкновенно начитанный, именно на-
читанный!
— Про железные дороги как говорит-с! — заметил
вполголоса Ежевикин.
— Фома!..— вскричал было дядя, но всеобщий
хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался..
Видя это, рассмеялся и дядя.
— Ну, да что тут! — сказал он с увлечением.— Ты
великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил
мое счастье... ты же простишь и Коровкину.
Не смеялась одна только Настенька. Полными
любовью глазами смотрела она на жениха своего и как
будто хотела вымолвить:
«Какой ты, однакож, прекрасный, какой добрый,
какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»
VI
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Торжество Фомы было полное и непоколебимое.
Действительно без него ничего бы не устроилось, и
совершившийся факт подавлял все сомнения и возра-
жения. Благодарность осчастливленных была без-
гранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня
руками, когда я попробовал было слегка намекнуть,
каким процессом получилось согласие Фомы на их
свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома
Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» и даже при-
стыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный
Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б
мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочти-
тельно про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой,
как собачка, смотрел на него с благоговением и к
каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты
623
человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж
касается Ежевикина, то он был в самой последней сте-
пени восторга. Старикашка давным-давно видел, что
Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор
наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за
него свою дочку. Он тянул дело до последней невозмож-
ности и отказался уже тогда, когда невозможно было не
отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик,
несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича на-
сквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился
в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не
будет конца. Известно, что самые неприятнейшие,
самые капризнейшие люди хоть на время да укроща-
ются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич,
совершенно напротив, как-то еще больше глупел при
удачах и задирал нос все выше и выше. Перед самым
обедом, переменив белье и переодевшись, он уселся в
кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства,
стал читать ему новую проповедь.
— Полковник! — начал он,— вы вступаете в закон-
ный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...
И так далее и так далее; представьте себе десять
страниц формата «Journal des Debats», самой мелкой
печати, наполненных самым диким вздором, в котором
не было ровно ничего об обязанностях, а были только
самые бесстыдные похвалы уму, кротости, велико-
душию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы
Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но,
несмотря на то, никто не смел противоречить, и все с
благоговением дослушали всю дичь до конца; даже
Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, про-
сидел, не шелохнувшись, в самой полной почтитель-
ности. Удовлетворившись собственным красноречием,
Фома Фомич, наконец, развеселился и даже довольно
сильно подпил за обедом, провозглашая самые необык-
новенные тосты. Он принялся острить и подшучивать,
разумеется на счет молодых. Все хохотали и аплодиро-
вали. Но некоторые из шуток были до такой степени
сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфу-
зился. Наконец, Настенька вскочила из-за стола и убе-
жала. Это привело Фому Фомича в неописанный
624
восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но силь-
ных словах изобразил он достоинства Настеньки и про-
возгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за
минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь
обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как
будто стыдились друг друга и своего счастья,— и я за-
метил: с самого благословения еще они не сказали меж
собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг
на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез
неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу.
Там, сидя в кресле, за кофеем ораторствовал Фома,
сильно подкураженный. Около него были только Еже-
викин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился по-
слушать.
— Почему,— кричал Фома,— почему я готов сейчас
же идти на костер за мои убеждения? а почему из вас
никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?
— Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич,
на костер-то-с! — трунил Ежевикин.— Ну, что толку?
Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут — что оста-
нется?
— Что останется? Благородный пепел останется.
Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не
существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей
да Александров Македонских! А что сделали твои
Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый
Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да
ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты
завоюешь, и он завоюет... Зато он убил добродетельного
Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Маль-
чишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять
во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!
— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!
— Не пощажу дурака! —кричал Фома.
— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алек-
сеевич, тоже подвыпивший,— нечего их щадить, все они
прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться!
колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел
учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что
она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая
пакость. А тот, другой, давеча-то, в благородном
625
обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему,
отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сде-
лай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить!
все мошенники! Один только ты ученый, Фома!
Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь
безусловно и безо всякой критики.
Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединен-
ном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня,
Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая.
Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом; в
глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе
руки и крепко сжал их.
— Друг мой! — сказал он,— я до сих пор как будто
не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только
дивимся и прославляем всевышнего. Сейчас она пла-
кала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился,
как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это
мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?
— Если кто заслужил, дядюшка, то это вы,— сказал
я с увлечением.— Я еще не видал такого честного,
такого прекрасного, такого добрейшего человека,
как вы...
— Нет, Сережа, нет, это слишком,— отвечал он,
как бы с сожалением.— То-то и худо, что мы добры
(то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо;
а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы
только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни
сиял передо мною Фома, а поверишь ли? я, может быть,
до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам
уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверо-
вал, когда он отказался от такого подарка! К стыду
моему говорю! Сердце трепещет после давешнего вос-
поминания! Но я не владел собой... Когда он сказал
давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце
что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр...
— Что ж, дядюшка: может, это было даже естест-
венно.
Дядя замахал руками.
— Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто
все это от испорченности моей природы, оттого, что я
мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь
626
страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отве-
чать на это?) Не знаешь ты, Сережа,— продолжал он
с глубоким чувством,— сколько раз я бывал раздражи-
телен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не
к одному Фоме! Вот теперь это все вдруг пришло на
память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего
еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья.
Настя тоже сейчас говорила, хотя, право, не знаю,
какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не чело-
век! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога,
что надо теперь стараться быть добрее, делать все
добрые дела... И если б ты слышал, как она горячо,
как прекрасно все это говорила! Боже мой, что за
девушка!
Он остановился в волнении. Через минуту он про-
должал:
— Мы положили, брат, особенно лелеять Фому,
маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна!
какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред
всеми! Я и перед тобой виноват... Но если кто осмелится
теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж
нечего!., для Мизинчикова тоже надо что-нибудь
сделать.
— Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о
Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не
сострадать ей.
— Именно, именно! — подхватил с жаром дядя,—
нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь
ты уж наверно смеешься над ним,— прибавил он, с
робостью заглядывая мне в лицо,— и все мы давеча
смеялись над ним. А ведь это, может быть, непрости-
тельно... ведь это, может быть, превосходнейший, доб-
рейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не
веришь, а это, может быть, истинно так.
— Нет, дядюшка; почему же не верить?
И я с жаром начал говорить о том, что в самом
падшем создании могут еще сохраниться высочайшие
человеческие чувства; что неисследима глубина души
человеческой; что нельзя презирать падших, а, напро-
тив, должно отыскивать и восстановлять; что неверна
общепринятая мерка добра и нравственности и проч.
627
и проч.,— словом, я воспламенился и рассказал даже
о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:
Когда из мрака заблужденья...
Дядя пришел в необыкновенный восторг.
— Друг мой, друг мой! — сказал он, растроган-
ный,— ты совершенно понимаешь меня и еще лучше
меня рассказал все, что я сам хотел было выразить.
Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я
так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно
быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас
говорила... Но, посмотри, однакож, какое здесь славное
место,— прибавил он, оглядываясь вокруг себя,— какая
природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в об-
хват человеческий! Какой сок, какие листья! какое
солнце! как после грозы-то все вокруг повеселело, обмы-
лось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже
что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются
жизнью... Неужели ж нет,— а? как ты думаешь?
— Очень может быть, дядюшка. По-своему, разу-
меется...
— Ну да, разумеется, по-своему... Дивный, дивный
творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот
сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был
маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький,—
прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выраже-
нием любви и счастья.— Тебе только к пруду не позво-
ляли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером,
Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать...
Ты все бегал в саду перед этим и весь разрумянился;
волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках... Она
ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты
его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?
— Чуть-чуть, дядюшка.
— Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так
светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас
смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу,
в город, езжу,— прибавил он пониженным голосом, в
котором слышались дрожание и подавляемые слезы.—
Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы
оба вместе будем к ней ездить...
628
Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.
В эту минуту к нам подошел Видоплясов.
— Видоплясов! — вскричал дядя встрепенувшись,—
ты от Фомы Фомича?
— Нет-с, я более по своей надобности-с.
— А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина.
А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа,
велел там наблюдать, Коровкина-то.— В чем дело,
Видоплясов?
— Осмелюсь доложить,— сказал Видоплясов,— что
вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с
и обещать мне ваше высокое заступление от ежеднев-
ных обид-с.
— Неужели ты опять про фамилию? — вскричал
дядя в испуге.
— Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...
— Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой
делать? — сказал с сокрушением дядя.— Ну, какие тебе
могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в
желтом доме жизнь кончишь!
— Кажется, я умом моим-с...— начал было Видо-
плясов.
— Ну то-то, то-то,— перебил дядя,— я, братец, это
так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там
у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?
— Проходу нет-с.
— От кого?
— От всех-с и преимущественно через Матрену-с.
Через нее я моею жизнию страдать пошел-с.
Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызма-
летства еще меня видел, говорили, что я совсем на ино-
странца похож, преимущественно чертами лица-с. Что
же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с.
Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие
дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых
надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с...
Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи
нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!
— Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат?
Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и
внимание обращать^
629
— Неприлично будет сказать-с.
— Да что именно?
— Омерзительно выговорить-с.
— Да уж говори!
— Гришка-гол анец съел померанец-с.
— Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты
плюнь, да мимо и пройди.
— Плевал-с: еще больше кричат-с.
— Да послушайте, дядюшка,— сказал я,— ведь он
жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме.
Отправьте его хоть на время в Москву, к тому калли-
графу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа ка-
кого-то жил.
— Ну, брат, тот тоже кончил трагически!
— А что?
— Они-с,— отвечал Видоплясов,— имели несчастье
присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря
на весь их талант, были посажены в острог-с, где без-
возвратно погибли-с.
— Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь
успокойся, а я все это разберу и улажу,— сказал
дядя,— обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?
— Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с
тем и шел доложить-с.
— Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпус-
тил? — вскричал дядя.
— По добродушию сердца-с; жалостно было смот-
реть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так
тотчас же ударили себя по голове и закричали благим
матом-с...
— Благим матом!..
— Почтительнее будет выразиться: многоразличные
вопли испускали-с. Кричали: как они представятся
теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я не
достоин рода человеческого!» и все так жалостно гово-
рили-с, в отборных словах-с.
— Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сер-
гей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно
тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!
— Более через сердечную жалость-с. Просили не
говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и
630
запрег-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с
велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что
вышлют долг с одной из первых почт-с.
— Какую это сумму, дядюшка?
— Они называли двадцать пять рублей сереб-
ром-с,— сказал Видоплясов.
— Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции:
у него недостало. Разумеется, он вышлет с первой
же почтой... Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать
ли в погоню, Сережа?
— Нет, дядюшка, лучше не посылайте.
— Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно,
не философ, но я думаю, что во всяком человеке го-
раздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коров-
кин: он не вынес стыда... Но пойдем, однакож, к Фоме!
Мы замешкались; может оскорбиться неблагодар-
ностью, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин,
Коровкин!
Роман кончен. Любовники соединились, и гений
добра безусловно воцарился в доме в лице Фомы
Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных
объяснений; но в сущности все эти объяснения теперь
совершенно лишние. Таково по крайней мере мое мне-
ние. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько
слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа:
без этого, как известно, не кончается ни один роман, и
это даже предписано правилами.
Свадьба «осчастливленных» произошла спустя
шесть недель после описанных мною происшествий.
Сделали все тихо, семейно, без особенной пышности
и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки,
Мизинчиков — со стороны дяди. Впрочем, были и
гости. Но самым первым, самым главным человеком
был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали;
его носили на руках. Но как-то случилось, что
его один раз обнесли шампанским. Немедленно
произошла история, сопровождаемая упреками,
воплями, криками. Фома убежал в свою комнату,
заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь
631
уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он
ничто, не более как щепка, которую надо выбросить.
Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генераль-
шей по обыкновению сделались судороги... Свадебный
пир походил на похороны. И ровно семь лет такого со-
жительства с благодетелем, Фомой Фомичом, доста-
лись в удел моему бедному дяде и бедненькой На-
стеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в
прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился,
бранился, но благоговение к нему «осчастливленных»
не только не уменьшалось, но даже каждодневно воз-
растало пропорционально его капризам. Егор Ильич и
Настенька до того были счастливы друг с другом, что
даже боялись за свое счастье, считали, что это уж
слишком послал им господь; что не стоят они такой
милости, и предполагали, что, может быть впоследствии
им назначено искупить свое счастье крестом и страда-
ниями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом
смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего
он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе пред-
ставить, до каких необузданных фантазий доходила
иногда его пресыщенная праздная душа в изобретении
самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов.
Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась
бабушка.‘Осиротевший Фома был поражен отчаянием.
Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о
тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он
рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали.
Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок, а один
раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули от-
туда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из
посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фо-
мич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время
борьбы и, однакож, не проглотил. Но эту догадку вы-
слушали все с решительным негодованием и тут же
уличили догадчика в жестокосердии и неприличии.
Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть
улыбнулась, причем дядя взглянул на нее с некоторым
беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть
и куражился, хоть и капризничал в доме дяди попреж-
нему, но прежних деспотических и наглых распекан-
632
ций, какие он позволял себе с дядей, уже не было.
Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил,
но уже не бранился попрежпему,— не было таких сцен,
как «ваше превосходительство», и это, кажется, сде-
лала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому
кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела
видеть унижения мужа и настояла на своем желании.
Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я го-
ворю почти, потому что Настенька тоже лелеяла Фому
и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он
восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела
заставить других уважать все в своем муже, а потому
гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фо-
мичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки
забыло все прежние обиды: она все простила Фоме,
когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется,
серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со
«страдальца» и прежнего шута нельзя много спраши-
вать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бед-
ная Настенька сама была из униженных,, сама страдала
и помнила это. Чрез месяц Фома утих, сделался даже
ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожи-
данные припадки: он начал впадать в какой-то магне-
тический сон, устрашавший всех до последней степени.
Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже
смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет
.именно в том самом положении, в котором находился в
.последнее мгновение перед припадком; если, например,
он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах;
если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так
и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разу-
меется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не
чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит,
смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего,
ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось
иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не
умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цы-
почках, плачут. Наконец, Фома проснется, чувствуя
страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не
слыхал и не видал во все это время. Нужно же, чтоб до
такой степени ломался, рисовался человек, выдержи-
41 ф. М. Достоевский, т. 2 633
вал целые часы добровольной муки — и единственно
для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и
чувствую-то краше, чем вы!» Наконец, Фома Фомич
проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтитель-
ность» и переехал жить к господину Бахчееву. Степан
Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много
раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем,
что сам же просил у него прощенья, в этот раз при-
нялся за дело с необыкновенным жаром: он встретил
Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же поло-
жил формально рассориться с дядей и даже подать на
него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли,
о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что
дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану
Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев
велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил
там просьбу и подал, прося суд присудить ему фор-
мальным образом землю, с вознаграждениями проторей
и убытков, и таким образом казнить самоуправство и
хищничество. Между тем Фома, на другой же день,
соскучившись у господина Бахчесва, простил дядю,
приехавшего с повинною, и отправился обратно в Сте-
панчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося
из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через
три дня он явился в Степанчиково с повинною, со сле-
зами просил прощенья у дяди и уничтожил свою
просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фо-
мичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как
собачка, и попрежнему приговаривал к каждому слову:
«Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»
Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле гене-
ральши; над ним стоит драгоценный памятник из бе-
лого мрамора, весь испещренный плачевными цита-
тами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и
Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церков-
ную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут
говорить о нем без особого чувства; припоминают каж-
дое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сбере-
гаются, как драгоценность. Почувствовав себя совер-
шенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привяза-
лись друг к другу. Детей им бог не дал; они очень
634
горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно
уже вышла замуж за одного прекрасного молодого
человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя
и Настя живут одни и не надышатся друг на друга.
Забота их друг о друге дошла до какой-то болезнен-
ности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них пер-
вый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели.
Но дай бог им долго жить! Принимают они всех с пол-
ным радушием и готовы разделить со всяким несчаст-
ным все, что у них имеется. Настенька любит читать
жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновен-
ных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать все
нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не за-
бота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сде-
лал, потому что он во всем вполне согласен с женою.
С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им
во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство.
Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре
после дядюшкиной свадьбы, ио она наотрез ему отка-
зала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь;
но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны
есть одно замечательное свойство: совершенно уничто-
жаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исче-
зать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться
всевозможным их капризам, ходить за ними и служить
им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она
считает своею обязанностью не разлучаться с братом
и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин
еще жив и в последнее время все чаще и чаще стал по-
сещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчая-
ние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою
мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова.
Все зазывы дяди не действовали на него: он был не
столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюби-
вая мнительность его доходила иногда до болезни.
Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом
доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым,
убивала его; он даже отказывался иногда от Настень-
киной помощи и принимал только самое необходимое.
От дяди же он ничего решительно не хотел принять.
Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда,
41 * - 635
в саду, об отце, что он представляет из себя шута для
нее. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать На-
стеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из
внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся
злости. Потребность насмешки и язычка была у него в
крови. Он карикатурил, например, из себя самого под-
лого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время
ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем
унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откро-
веннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была
его манера. Всех детей его удалось разместить в луч-
ших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то
только, когда Настенька ясно доказала ему, что все это
сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее соб-
ственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ива-
новной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не
брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала
и не обижалась, умилостивили, обещая ей при первых
неожиданных семейных нуждах обратиться к ее по-
мощи. Так и сделали: для виду были произведены у
ней, в разное время, два довольно значительные займа.
Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя
все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной
Татьяны Ивановны была скоропостижная. Все семей-
ство собиралось на бал к одному из соседних помещи-
ков, и только что успела она нарядиться в свое бальное
платье, а на голову надеть очаровательный венок из
белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в
кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя
была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и
ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здра-
вомыслием своего завещания: кроме Настенькиных три-
дцати тысяч, все остальное, до трехсот тысяч ассигна-
циями, назначалось для воспитания бедных сироток-
девочек и для награждения их деньгами по выходе из
учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и
девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши,
осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне Ива-
новне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владе-
тель Мишина, той самой маленькой деревушки, в ко-
торой у нас происходила сцена, с Обноскиным и его ма-
636
менькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был
страшный сутяга и имел от первой жены шесть чело-
век детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он на-
чал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно
согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица:
У ней всего-то было триста рублей серебром, да и то
подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и
жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы
его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по
крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно
корит его подполковничьим своим происхождением.
Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бро-
сил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал
понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомен-
довал его одному богатому графу, помещику, у кото-
рого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах
от Степапчпкова, и который изредка наезжал в свои
поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв
во внимание рекомендацию, граф предложил ему место
управляющего в своих поместьях, прогнав своего преж-
него управителя немца, который, несмотря на прослав-
ленную немецкую честность, обчищал своего графа,
как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было:
крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству,
прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились,—
словом, новый управитель отличился и прогремел на
всю губернию хозяйственными своими способностями.
Каково же было изумление и горе графа, когда Мизин-
чиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие
просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался
от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его
сманили соседи-помещики, или даже в другую губер-
нию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца
по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова
явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно
в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то
промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто
душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось
еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам по-
мещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся:
где он вдруг достал денег? другие ж только покачивают
637
головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и
чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из
Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои
последние три целковых на сапоги, когда он отправ-
лялся в Степанчиково,— премилую девушку, уже не
первой молодости, кроткую, любящую, образованную,
но чрезвычайно запуганную. Она все время скиталась
где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благоде-
тельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяй-
ничает в его доме, считает его волю законом, а себя
вполне счастливою. Братец не балует ее и держит
несколько в черном теле; но она этого не замечает.
В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят,
господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы
предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине
Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в дру-
гом рассказе, подробнее.
Вот, кажется, и все лица... Да! забыл: Гаврила очень
постарел и совершенно разучился говорить по-фран-
цузски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер,
а бедный Видоплясов давным-давно в желтом доме и,
кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково
и непременно справлюсь о нем у дяди.
Примечания
В настоящий том входят произведения Достоевского конца
40-х годов и первые повести, созданные писателем после каторги.
Между рассказом «Маленький герой» (1849), написанным в Пет-
ропавловской крепости, и повестью «Дядюшкин сон» (1859), ко-
торая ознаменовала «второе начало» литературной деятельности
Достоевского, прошло десять лет вынужденного литературного
безмолвия. Но, по словам самого писателя, эти годы не были бес-
плодны: «внутренняя работа кипела» (Ф. М. Достоевский,
Письма под редакцией А. С. Долинина, т. I, 1928, стр. 166). Годы
каторги и царской солдатчины впервые сблизили Достоевского
с большой массой людей из народа и неизмеримо обогатили
его жизненный опыт и понимание человеческой психологии.
«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!
Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько
историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемыч-
ного быта. На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще
время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ
русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают
его» («Письма», т. I, стр. 139).
Вместе с тем именно в этот период начался глубокий перелом
в сознании Достоевского. «Что сделалось с моей душой, с моими
верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года — не скажу
тебе,— писал он брату.— Долго рассказывать. Но вечное сосредото-
чение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности,
принесло свои плоды» (там же, т. I, стр. 137). «Эта долгая, тяже-
лая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня»
(там же, стр. 141). Достоевский порвал с революционными идея-
ми своей юности. Однако новые убеждения писателя сложились не
641
сразу, тем более не сразу отразились они в его художественном
творчестве. Процесс этот шел постепенно и усиливался по мере
обострения классовой борьбы в стране в 60-е годы.
Сведения о литературных замыслах Достоевского находим в
его письмах из Семипалатинска. Из них видно, что первые повести,
написанные Достоевским после каторги, воплотили лишь не-
большую и не очень значительную часть его широких творческих
планов.
В письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. упоминается
о «большой повести», обдуманной еще в каторге, «главном произ-
ведении», которое сейчас, чтобы не испортить мысль, не писать
сгоряча, приходится отложить; говорится также о комическом ро-
мане, выросшем из ранее начатой комедии: «Я шутя начал коме-
дию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько коми-
ческих лиц, и так понравился мне мой герой, что я бросил форму
комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удо-
вольствия как можно дольше следить за приключениями моего
нового героя и самому хохотать над ним» (там ж е, т. I, стр. 166—
167). В письмах 1856 г. настойчиво повторяются сообщения о наме-
рении написать к сентябрю новый роман,— получше «Бедных лю-
дей» (там же, стр. 171). «А главное, сижу за романом, и это
мое наслаждение. Только этим я могу составить себе имя и обра-
тить на себя внимание» (там ж е, т. I, стр. 184). «Другим же я
ничем (литературным) не занимаюсь теперь, кроме этого романа,
ибо сильно лежит к нему сердце» (там же, т. I, стр. 222) и т. д.
Этот роман не был окончен, и очень вероятно, что его материалы
были использованы автором в других произведениях. Впоследствии,
как это видно из писем конца 1857 — начала 1858 годов, большое
место в творческих планах Достоевского занимал другой роман —
об основных проблемах современной общественной жизни. Но и
его пришлось оставить: «Роман же я отложил писать до возвраще-
ния в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно
счастливая, характер новый... этот характер, вероятно, теперь в Рос-
сии в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь,
судя по некоторому движению и идеям, которыми все полны...»
(там же, т. I, стр. 236).
Говорить о самом злободневном, описывать явления, которые
только возникают, изучать их в самой гуще современности — вот
к чему неизменно стремился Достоевский. «...Хочу написать хо-
рошо, а недостает кой-каких справок, которые нужно сделать са-
мому, лично в России. Наобум же писать не хочу. И потому оста-
642
вил мой большой роман...» (там же, т. I, стр. 241). В эти же
годы Достоевский обдумывает и «Записки из Мертвого дома» —
книгу впечатлений и размышлений в Омском остроге. Не раз воз-
вращается он к мысли о коренной переработке «Двойника».
31 мая 1858 г. Достоевский сообщает брату: «...Пишу две по-
вести, которые будут только что сносны (и то дай бог)» (т а м же,
т. I, стр. 236).
Две повести — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его
обитатели»—появились в печати почти одновременно, в 1859 г.
Обе они во многом еще связаны с гоголевским направлением,
в русле которого развивалось раннее творчество писателя. Вместе
с тем именно этими повестями открывается новый, «переходный»
период в творческом пути Достоевского, который длился примерно
до 1864 г. Так, в «Селе Степанчикове» есть и полемика с социаль-
ной теорией Белинского, и в этом смысле здесь продолжена и уси-
лена тенденция «Двойника».
Все произведения Достоевского, публикуемые в настоящем
томе, дважды переиздавались при жизни писателя — в издании
Н. А. Ооновского в 1860 г. и в издании Ф. Стелловского 1865—
1866 гг. Кроме того, каждое произведение вышло в издании Стел-
ловского отдельной брошюрой, отпечатанной с того же набора.
(Подробную характеристику этих изданий см. в примечаниях
к тому I, стр. 662—663). Рукописи повестей «Белые ночи», «Ма-
ленький герой», «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» не сохра-
нились. До нас дошел небольшой фрагмент черновой рукописи к
VII главе «Неточки Незвановой» (опубликован Н. Ф. Бельчиковым
в статье «Как писал романы Достоевский» — «Печать и револю-
ция», 1928, № 2, стр. 88—93).
Произведения, входящие в этот том, печатаются по полному
собранию сочинений Ф. М. Достоевского 1865—1866 гг. с исправ-
лением опечаток по предшествующим изданиям.
БЕЛЫЕ НОЧИ
Впервые опубликовано в декабрьской книжке «Отечественных
записок» за 1848 г. с посвящением поэту А. Н. Плещееву. При
подготовке издания 1860 г. Достоевский внес существенные по-
правки в текст по сравнению с журнальной редакцией. В част-
ности, была исключена следующая фраза: «Говорят, что бли-
зость наказания производит в преступнике настоящее раскаяние
и зарождает иногда в зачерствелом сердце угрызения совести.
643
Говорят, что это действие страха». Повидимому, после каторги
будущий автор «Записок из Мертвого дома» счел неуместным
беглое упоминание о «преступлении и наказании» в повести, вовсе
не связанной с этой темой. В это же время Достоевский сущест-
венно дополнил рассказ героя перечислением его любимых исто-
рических и литературных образов (со слов: «Вы спросите, может
быть, о чем он мечтает?» до слов «...мой маленький ангельчик».—
Стр. 24 наст. изд.). Из этого нового отрывка видно, как сильно вол-
нуют рассказчика «Белых ночей» героико-романтические темы, что
составляет резкий контраст с его полной пассивностью и слабостью
в реальной жизни. Повесть «Белые ночи», так же как и «Неточку
Незванову», Достоевский посвятил своей излюбленной теме мечта-
теля. Эта тема всю жизнь волновала Достоевского, и в 1876 г. он
даже собирался писать роман «Мечтатель».
Герой «Белых ночей» — бедный петербургский интеллигент, че-
ловек высокой духовной культуры. Он дорог писателю именно тем,
что в мире пошлых, обывательских интересов чувствует себя чу-
жим, неприспособленным. Сам мечтатель очень точно характери-
зует свою жизнь как «смесь чего-то чисто фантастического, горячо-
идеального и вместе с тем... тускло-прозаичного и обыкновенного,
чтоб не сказать: до невероятности пошлого». Мечтательство —
своеобразная форма протеста против пошлости, но протеста пас-
сивного, слабого. В фельетонах «Петербургская летопись» (1847)
Достоевский объяснял мечтательство социальными условиями; его
герой не в состоянии найти такую деятельность, которая соответ-
ствовала бы высокому человеческому идеалу: «...Много ли нас,
русских, имеют средства делать свое дело с любовью, как следует;
потому что всякое дело требует охоты, требует любви в деятеле,
требует всего человека. Многие ли, наконец, нашли свою деятель-
ность? А иная деятельность еще требует предварительных средств,
обеспеченья, а к иному делу человек и не склонен,— махнул рукой,
и, смотришь, дело повалилось из рук. Тогда в характерах, жадных
деятельности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу за-
рождается то, что называют мечтательностью, и человек делается,
наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего
рода — мечтателем» (Ф. М. Достоевский, Полное собрание
художественных произведений, 1930, т. XIII, стр. 29—30). Уходя в
замкнутый, фантастический мирок, мечтатель Достоевского обре-
кает себя на полное и трагическое одиночество. «...Действитель-
ность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце меч-
тателя, и он спешит забиться в свой заветный золотой уголок, кото-
644
рый на самом деле часто запылен, неопрятен, беспорядочен, грязен.
Мало-помалу проказник наш начинает чуждаться общих интересов,
и постепенно, неприметно, начинает в нем притупляться талант
действительной жизни. Ему, естественно, начинает казаться, что
наслаждения, доставляемые ему своевольной фантазией, полнее,
роскошнее, любовнее настоящей жизни» (т а м ж е, стр. 31). Таков
именно и герой повести «Белые ночи». «Я мечтатель, у меня так
мало действительной жизни»,— признается он. Характерно, что в
повести, которая представляет собой воспоминания самого героя,
только однажды, вскользь сказано, что он где-то служит. Служба,
отношения с сослуживцами, составляющие предмет постоянных и
мучительных размышлений Девушкина, Голядкина, Прохарчина,
вовсе не интересуют героя «Белых ночей». В его мечтах причудливо
сочетается дружба с Гофманом и геройская роль при взятии Ка-
зани, рыцарская любовь и сражение при Березине. Мечтатель —
поэт в душе: ему легко представить себе характер незнакомого че-
ловека по одной физиономии, он даже с домами «сводит знаком-
ство», различая их по «голосам». Разговорная речь героя роман-
тически стилизована. Недаром Настенька замечает, что он говорит,
«точно книгу читает». Да и сам герой ясно видит свою несостоя-
тельность, ущербность. Самыми дорогими были для него минуты
приобщения к действительности. В отличие от гоголевского мечта-
теля художника Пискарева («Невский проспект», 1835), для кото-
рого первое столкновение с жизнью оказалось гибельным, так как
действительность грубо обманула мечту, герой Достоевского увидел
в самой жизни то, что лучше, выше мечты. Но это открытие не при-
несло счастья отшельнику со «слабым сердцем». Его удел — само-
отречение и горькое одиночество. В облике мечтателя есть черты,
сближающие его с Девушкиным, хотя он находится на более высо-
кой ступени развития. Эти черты — нравственная чистота, мягкость
и полная самоотверженность в любви — свойственны самым доро-
гим героям Достоевского и, в частности, такому автобиографи-
ческому герою, как писатель Иван Петрович в романе «Униженные
и оскорбленные» (1861).
Стр. 5. Эпиграф взят из стихотворения И. С. Тургенева «Цве-
ток» (1843). Стихи приведены не совсем точно. У Тургенева:
Зцать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.
645
Стр. 7. ...цвет поднебесной империи.— Имеется в виду желтый
цвет. Национальным флагом Китая («Поднебесной империи») до
1912 г. было изображение дракона на желтом фоне.
Стр. 24. Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822)—вид-
нейший представитель немецкого романтизма. В его произведениях
(«Эликсир дьявола», «Крошка Цахес» и др.) жизнь всегда пред-
стает как единство фантастического и реального.
Варфоломеевская ночь.— 24 августа 1572 г. в ночь под празд-
ник св. Варфоломея в Париже произошло массовое избиение гуге-
нотов католиками. Это событие отражено в историческом романе
Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX».
Далее названы персонажи популярных в России романов зна-
менитого английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832) —
Диана Вернон («Роб-Рой»), Клара Мовбрай («Сен-Ронанские
воды»), Евфия Дене («Эдинбургская темница»).
...собор прелатов и Гус перед ними.— Ян Гус (1369—1415)—ве-
ликий чешский патриот, выступавший за создание независимой от
католичества национальной церкви, вдохновитель национально-
освободительного движения против немецких феодалов. В 1415 г.
в Констанце церковный собор приговорил Гуса к сожжению на
костре после отказа его отречься от «ереси».
...восстание мертвецов в Роберте.— «Роберт-Дьявол» — опера
французского композитора Мейербера (1791—1864).
Затем упоминаются произведения романтической поэзии:
«Мина» (из Гете) —стихотворение В. А. Жуковского (1783—1852),
и «Бренда» — баллада И. И. Козлова (1779—1840).
...чтение поэмы у графини В—й-Д—й.— Речь идет о салоне
Александры Кирилловны Воронцовой-Дашковой (1818—1856).
Дантон Жорж Жак (1759—1794)—видный деятель француз-
ской буржуазной революции конца XVIII века.
Клеопатра е i suoi amanti — тема, предложенная импровиза-
тору в повести Пушкина «Египетские ночи» (1835).
...домик в Коломне — из стихотворной повести Пушкина «До-
мик в Коломне» (1830).
Стр. 33. Ивангое.— роман Вальтера Скотта «Айвенго».
НЕТОЧНА НЕЗВАНОВА
Впервые напечатано в «Отечественных записках»; 1849 (ян-
варь— февраль, май), под названием «Неточна Незванова. Исто-
рия одной женщины».
646
Достоевский работал над этим произведением около двух
с лишним лет и возлагал на него особые надежды. «Я теперь зава-
лен работою,— сообщает он брату в декабре 1846 г.— и к 5-му
числу января обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа
«Неточка Незванова», о публикации которой ты уже, верно, прочел
в «Отечественных записках». Это письмо пишу я урывками, ибо
пишу день и ночь... Пишу я с рвением. Мне все кажется, что я за-
вел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками,
н тремя частями романа моего в «Отечеств, записках» и устанав-
ливаю и за этот год мое первенство назло недоброжелателям
моим» («Письма», т. I, стр. 104). Достоевскому страстно хотелось
вернуть былую славу автора «Бедных людей», сильно поколеблен-
ную «Двойником» и «Прохарчиным».
Параллельно с «Неточной Незвановой» Достоевский писал
«Хозяйку». Неожиданная для него полная неудача «Хозяйки»,
резко отрицательный отзыв Белинского глубоко взволновали До-
стоевского, сильно задели его самолюбие. И с еще большим энту-
зиазмом он обращает все свои надежды на «Неточку Незванову».
В начале февраля 1849 г. он пишет издателю «Отечественных запи-
сок» Краевскому: «Оттого, что я, чтоб исполнить слово и доставить
к сроку, насиловал себя, писал, между прочим, такие дурные вещи
или (в единственном числе) — такую дурную вещь, как «Хозяйка»,
тем впадал в недоумение и в самоумаление и долго потом не мог
собраться написать серьезного и порядочного. Каждый мой неус-
пех производил во мне болезнь... Я очень хорошо знаю, Андрей
Александрович, что напечатанная мною в январе первая часть
«Неточки Незвановой» произведение хорошее, так хорошее, что
«Отечеств, записки», конечно, без стыда могут дать ему место.
Я знаю, что это произведение серьезное. Говорю, наконец, это не
я, а говорят все». В данном случае Достоевский не ошибался. «Не-
точка Незванова» действительно обещала быть большим и значи-
тельным произведением молодого автора. В новой повести Досто-
евский впервые задался целью показать развитие человеческого
характера от детских лет до зрелости на широком фоне социальной
жизни. Главные герои произведения принадлежат к категории
«мечтателей» (Ефимов, мать Неточки, сама героиня, Александра
Михайловна и ее возлюбленный). Сюжет строится на еще более
резком, чем в «Белых ночах», непримиримого столкновении «чисто
фантастического, горячо-идеального» и «тускло-прозаичного», «до
невероятности пошлого». Судьба каждого из мечтателей по-своему
отражает этот главный конфликт. Повесть представляет яркую
647
картину социальных контрастов: подневольное положение талант-
ливого скрипача в крепостном оркестре, нищета городских бедня-
ков и рядом как символ чего-то «сказочно-волшебного» — «бога-
тый дом с красными занавесами». Но и там, где внешне, казалось
бы, все благополучно, царит неравенство, тирания сильного над
слабым. (Таковы отношения Александры Михайловны с мужем.)
Трагедия мечтательства воплощена прежде всего в образах
отчима Неточки, скрипача Ефимова, и ее матери — «энтузиастки,
мечтательницы». Оба они — люди незаурядные, страстно жажду-
щие иной жизни, красивой и высокочеловечной. Однако грезы лишь
на время услаждают душу. С болезненной остротой переживают
мечтатели все тяготы жизни и, наконец, гибнут, не выдержав не-
равной борьбы. Судьба бедного музыканта Ефимова во многом
типична для художника-разночинца. Достоевский показал, какие
огромные творческие силы могут таиться в человеке из народа.
Одну из главных причин духовного краха Ефимова он видел в со-
циальных условиях. Крайняя нищета, неравноправие с художни-
ками из дворян, отсутствие настоящей школы, а значит, и привычки
к постоянному, серьезному труду — все это при больном самолю-
бии человека, хорошо понимающего силу своего дарования, приво-
дит Ефимова к моральному падению и безумию.
В атмосфере постоянного и бесплодного мечтательства склады-
вается характер Неточки.
Писатель стремился показать, как постепенно под влиянием
«живой жизни» она преодолевает свою замкнутость, перестает
«затыкать уши мечтами», становится человеком сильного и актив-
ного характера. «Пробуждение» начинается в семье Александры
Михаиловны, когда Неточка впервые понимает несправедливость
человеческих отношений и решительно выступает против подлости,
олицетворением которой является здесь муж Александры Михай-
ловны — Петр Александрович, прообраз князя Валковского в «Уни-
женных и оскорбленных».
В журнальной редакции «Неточка Незванова» состояла из
трех частей: «Детство», «Новая жизнь» и «Тайна». Арест Достоев-
ского по делу петрашевцев оборвал его работу над этим произве-
дением, которое так и осталось незаконченным. При подготовке к
печати собрания сочинений 1860 г., имея в виду, что продолжения
«Неточки» не последует, Достоевский внес в журнальный текст су-
щественные изменения. Он превратил начало большого романа в
повесть о детстве и отрочестве Неточки Незвановой. Поэтому от-
пало деление на части, появилась общая нумерация глав. По
648
сравнению с журнальным текстом был исключен эпизод (после
слов: «...зная, что уж там никого не обеспокою» — см. стр. 131 наст,
изд.), в котором изображалось знакомство Неточки с мальчиком-
сиротой Ларей, принятым князем на воспитание. Судьба бедного
Лари во многом сходна с судьбой самой Неточки: «Отец его умер
от огорчения, а мать от отчаяния, что лишилась мужа. Оба они
умерли в одну неделю. Но по какой-то странной идее, по какому-то
несчастному убеждению, Ларя вообразил, что они умерли, кроме
огорчения, и оттого, что он не любил их; бедный сиротка замучил
себя с тех пор раскаянием, укорами и восстановил на себя свою
совесть. Всего ужаснее, что он хранил в тайне свое убеждение и что
некому было разубедить его в целый год его сиротства, так что
злая мысль пустила в нем глубокие корни и сделала бог знает что
из ребенка. Да, кроме того, нашлись и другие причины, которые
способствовали ее вкоренению. Со слезами на глазах доказывал
мне бедный Ларя, какой он был бесчувственный мальчик, и не слу-
шал моих разубеждений. Особенно поражало его, как видно было
из собственных его слов, зачем он не любил отца и мать при жизни
их и только после их смерти догадался, бедняжка, как они ему
были милы! Из всех рассказов его было видно, однакож, что бед-
няжка слишком, даже не по летам своим, был симпатичен и впечат-
лителен, что он самою горячею любовью любил своих родителей;
по неизлечимо было его убеждение! Он мне рассказывал, как его
родители были бедны, как, бывало, по целым вечерам толкуют о
какой-нибудь ничтожной копейке, и всё ахали, всё сетовали и рас-
считывали, как бы сколотить, нажить что-нибудь... Много фактов
привел Ларя, которые и мне и ему уже были понятны, несмотря на
то, что мы оба были вовсе не в таких летах, чтоб понимать, из
каких интересов бьются на свете многие люди» («Отечественные
записки», 1849, январь — февраль, стр. 316—317).
В рассказе Лари замечательно ярко обрисован характер небо-
гатого чиновника Федора Ферапонтовича, который приютил маль-
чика после смерти родителей. Федор Ферапонтович принадлежит
к тем «забитым людям», чью психологию проникновенно показал
Достоевский уже в первых своих произведениях. «Он был не злой;
но оттого ли, что его обижал, унижал кто-нибудь и был какой-ни-
будь тайный враг, который беспрерывно оскорблял его самолюбие,
или просто оттого, что Федор Ферапонтович был прекрасный чело-
век, но к беде своей уж очень близко принял к сердцу свое послед-
нее качество — только он, за неимением слушателей и почитателей,
чрезвычайно любил беспрестанно .толковать в своем доме, жене и
42 Ф« М. Достоевский, т. 2 649
даже малолетним детям, которых держал в почтительном страхе,
о том, какой он хороший, прекрасный человек, какие он заслуги
оказал обществу, каких нажил врагов и как мало пожал... уж
чего — не помню, но я говорю его слогом. Когда же он говорил
таким образом, то так, бывало, расчувствуется от самоосклабления
и обожания, что даже заплачет и непременно кончит какой-нибудь
самой эффектной выходкой: или распахнет халат, откроет грудь и,
подставляя ее невидимым врагам своим, говорит: «Разите!» или,
обращаясь к маленьким детям, спрашивает их грозно-укоряющим
голосом: что сделали они за все благодеяния, которые он им ока-
зал? вознаградили ли они его хорошим изучением и произношением
французского языка за все неусыпные ночи, за все труды, за всю
кровь, за все, за все?.. Одним словом, Федор Ферапонтович, зари-
совавшись совсем, начинал вымещать на всех домашних непости-
жимое равнодушие людей и общества к его семейственным и граж-
данским добродетелям и каждый вечер делал из своего дома ма-
ленький ад» (там же, стр. 319).
Далее о Федоре Ферапонтовиче было сказано: «...он не в по-
следний раз является на страницах моего рассказа. Впереди его
очередь» (там же, стр. 320).
Таким образом, решив не продолжать «Неточку Незванову»,
Достоевский исключил ту часть повествования, где вводились новые
лица в расчете на дальнейшее развитие сюжета. Из других сокра-
щений текста, сделанных Достоевским в 1860 г., наиболее инте-
ресно следующее. После слов «...облокотясь на камин и крепко
сжав обеими руками голову» (стр. 214 наст, изд.) вычеркнуты
строки: «В это мгновение что-то горячее обожгло мне руку. Я по-
смотрела на Петра Александровича и вздрогнула от изумления:
по обеим щекам его катились слезы. Все лицо его изображало глу-
бокое страдание». Так Достоевский последовательно лишал образ
Петра Александровича какого бы то ни было оттенка благородства.
Стр. 82. ...он сделался каким-то домашним Ферситом — то есть
человеком желчным, любящим действовать всем наперекор. Фер-
сит— персонаж поэмы Гомера «Илиада», который коварно совето-
вал грекам вернуться из-под Трои, не кончив войны.
Стр. 95. ...в свите Фортинбраса.— Фортинбрас — персонаж тра-
гедии В. Шекспира «Гамлет».
Стр. 96. ...драма в стихах какого-то знаменитого русского сочи-
нителя... о несчастиях одного великого художника — какого-то
Дженаро или Джакобо,— О художнике Джакобо Санназаре в
650'
1834 г. была написана драматическая фантазия Н. В. Кукольника
того же названия. «Знаменитость» Кукольника связана с появле-
нием в том же году его верноподданнической пьесы «Рука всевыш-
него отечество спасла».
Стр. 163. ...Жан Жак Руссо говорит нечто подобное.— Великий
французский писатель и философ Руссо (1712—1778) посвятил
проблемам педагогики книгу «Эмиль».
МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
Впервые опубликовано в августовской книжке «Отечественных
записок» за 1857 г. под псевдонимом М—ий.
18 июля 1849 г. Достоевский писал брату из крепости:
«Я времени даром не потерял: выдумал три повести и два романа;
один из них пишу теперь...» («Письма», т. I, стр. 124). Но из всех
задуманных произведений закончено было лишь одно — «Детская
сказка». Письмо, где Достоевский сообщает об окончании «Детской
сказки», проникнуто тем бодрым настроением, тем энтузиазмом
молодости, которым овеяно и само произведение: «Брат! Я не уныл
и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во
внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людь-
ми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не
уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал
это... Теперь о распоряжениях материальных... несколько листков
моей рукописи, чернового плана драмы и романа (и оконченная
повесть «Детская сказка») у меня отобраны и достанутся, по всей
вероятности, тебе» (т а м ж е, т. 1, стр. 129). «Детская сказка» дейст-
вительно осталась у М. М. Достоевского и появилась в печати через
восемь лет под заглавием «Маленький герой». Известие о напечата-
нии «Детской сказки» огорчило писателя: «Я давно думал ее переде-
лать и хорошо переделать,— признается он брату,— и, во-1-х, все
никуда не годное начало выбросить вон. Но что же делать? Напеча-
тано, так не воротишь» (там ж е, т. I, стр. 231). При подготовке
«Маленького героя» к изданию 1860 г. Достоевский внес ряд изме-
нений. Целиком было опущено предисловие — сентиментальное об-
ращение рассказчика к любимой девушке Машеньке, для которой
он приготовил свою повесть. Соответственно были исключены из
текста и все другие обращения к Машеньке во время рассказа.
«Маленький герой» представляет несомненный интерес для
понимания мировоззрения молодого Достоевского, его веры в чело-
века, несмотря на все сомнения и колебания.
42*
651
Образ ребенка занимает большое место в творчестве писателя
на протяжении всей его жизни. Дети в изображении Достоевского
чаще всего — маленькие страдальцы, вовсе лишенные детства.
Страдания невинных детей, по мысли писателя, всегда остаются
неопровержимым укором всем, кто считает зло нормальным состоя-
нием человеческого общества. Анализ детской психологии всякий
раз, вплоть до «Братьев Карамазовых», заставлял Достоевского
сомневаться в справедливости своего скептического взгляда на
природу человека. Образ ребенка в «Маленьком герое» — не сов-
сем обычен для Достоевского, это на редкость светлый и гармони-
ческий образ. Герой рассказа изображен в том счастливом возра-
сте, когда ему еще «новы все впечатленья бытия». Он умеет ценить
красоту природы и красоту человеческого лица, озаренного боль-
шой духовной жизнью (таково отношение героя к m-me М.). Он и
сам уже умеет любить, быть может еще не вполне сознавая свое
первое чувство. Но в любви его нет эгоизма, в ней.— только поэзия,
подлинное рыцарство и готовность к подвигу. Его любовь не тре-
бует награды, она сродни любви героев Шиллера — Делоржа и
Тогенбурга, хорошо известных русскому читателю по переводам
Жуковского. Романтизм Шиллера воплощал для Достоевского 40-х
годов героику человеческих чувств, идеал «высокого и прекрас-
ного».
«Я вызубрил Шиллера, говорил нм, бредил им»,— сообщал он
в письме к брату в 1840 г. («Письма», т. I, стр. 57). Через много
лет Достоевский в одной из черновых записей отметил необходи-
мость для историков русской литературы и общественной мысли
изучать влияние Шиллера, переведенного Жуковским: «Жуковский
и влияние с ним Шиллера—разве не сила?» (Центр. Гос. архив
литературы и искусства СССР. Фонд Ф. М. Достоевского, опись 1,
№ 16, стр. 277).
Созданный в камере Петропавловской крепости в тяжелое и
тревожное для Достоевского время, рассказ проникнут необычай-
ным оптимизмом. В уста маленького героя писатель вложил обли-
чение бездушного и лицемерного светского общества, которое счи-
тает чуть ли не призванием своим оскорблять все подлинно пре-
красное и «безостановочно карать романтизм», как это делает
м-г М. по отношению к своей несчастной жене. «Называли его ум-
ным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу
растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего
не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой от
вечной лености и ничегонеделания вместо сердца кусок жира... Они,
652
например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке;
что он у них, как устрица, которую они берут про запас; что все,
кроме них, дураки; что всяк похож на апельсин или на губку, кото-
рую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится». И далее он
именует людей этого типа прирожденными Тартюфами, сравнивает
их индивидуалистический кумир с Молохом и Ваалом. Нет сомне-
ния, что эти слова, «облитые горечью и злостью», сам Достоевский,
недавний участник собраний петрашевцев, незадолго до каторги
адресовал тем, кто, прикрываясь лицемерными фразами о любви к
человечеству, по существу поддерживал современный общественный
порядок.
Стр. 244. ...прирожденных... Фальстафов.— Фальстаф — извест-
ный герой Шекспира («Хроника короля Генриха IV», «Виндзорские
кумушки»), Достоевский имеет здесь в виду его отрицательные
черты — безделье, плутовство, обжорство, трусость.
Стр. 260. Делорж! Тогенбург!— Рыцарь Делорж — из стихо-
творения Шиллера «Перчатка», рыцарь Тогенбург — герой одно-
именной баллады Шиллера.
дядюшкин сон
Впервые напечатано в мартовской книжке «Русского слова» за
1859 г.
Время, когда была начата работа над повестью, можно опре-
делить лишь предположительно. Как известно из письма к
А. Н. Майкову от 18 января 1856 г., в это время Достоевский был
занят комическим романом. Осенью того же года Федор Ми-
хайлович сообщал брату: «Отрывки, совершенно оконченные
эпизоды из этого большого романа я бы желал напечатать теперь»
(«Письма», т. II, стр. 570—571). Очень вероятно, что «Дя-
дюшкин сон» и был «эпизодом большого романа». Эту мысль вы-
сказал П. Н. Сакулин в статье «Второе начало» (там же, т. II,
стр. 534).
О первоначальном намерении Достоевского писать комедию
свидетельствуют многие страницы «Дядюшкина сна», где описания
очень напоминают ремарки в драматическом произведении: «Де-
сять часов утра»; «В этом салоне порядочно выкрашены полы и
недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преоб-
ладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед
зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром весьма дурного вкуса.
653
Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже
снять чехлы»; «Сама Марья Александровна сидит у камина в пре-
восходнейшем расположении духа и в светлозеленом платье, кото-
рое к ней идет»; «Перед ней стоя рисуется молодой человек и что-
то с одушевлением рассказывает» и т. д.
В начале 1859 г. Достоевский отправил повесть в «Русское
слово» и с волнением ждал от брата сообщений о впечатлении,
которое она произведет в редакции: «Это для меня, друг мой, чрез-
вычайно важно... Любопытно знать, не выкинула ли чего цензура»
(«Письма», т. II, стр. 596—597).
«Дядюшкин сон» создан в традиции гоголевской школы. Глав-
ная тема повести — губительное влияние среды на характер чело-
века. Жизнь обитателей города Мордасова, и прежде всего главной
героини повести Марьи Александровны Москалевой,— пустая, без-
нравственная, пошлая,— всеми, однако, принимается за настоящую,
истинную жизнь. Какая-нибудь неожиданная выходка восприни-
мается окружающими как явление необыкновенное, своего рода
героизм. Таково пошлое сознание обывателя, в котором смеши-
ваются планы высокого и низкого, обыденная житейская суета, со-
стоящая из сплетен, интрижек и тому подобных «значительных»
дел, подменяет подлинно человеческие интересы. Здесь самое силь-
ное чувство — страсть к богатству и знатности. Поэтому князь К.—
дряхлая развалина, «полукомпозиция», «полупокойник» — законо-
мерно становится в этом обществе и центром внимания и предме-
том поклонения. Достоевский не раз возвращается к описанию
внешности князя (сцены одевания), все это нужно, чтобы подчерк-
нуть главную тему «Дядюшкина сна» — искусственность жизни
дворянского общества, его духовное убожество.
Противопоставляя мордасовскому обществу своих добродетель-
ных героев, Достоевский не разрешает конфликт моралистически.
Он слишком хорошо чувствует силу обстоятельств, чтобы на-
деяться легко побороть их резонерскими речами учителя и сенти-
ментальностью Зины.
Близость сюжета повести к комедийному жанру, острота коми-
ческих характеристик главных персонажей еще при жизни Досто-
евского вызвали мысль об инсценировке «Дядюшкина сна». Однако
сам Достоевский отнесся к этой мысли равнодушно, так как очень
невысоко оценивал свою повесть. В сентябре 1873 г. он писал по
этому поводу литератору М. П. Федорову: «Вот что скажу я Вам
окончательно: я не решаюсь и не могу приняться за поправки.
15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же,
654
перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в пер-
вый раз после каторги, единственно с целью опять начать литера-
турное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему
ссыльному)» («Письма», т. III, стр. 85).
Стр. 273. ...она перещеголяет самого Панетта.— Пинетти —
итальянский фокусник (первая половина XIX в.).
Защитника старого дома — сторонники свергнутой революцией
королевской династии Бурбонов во Франции.
Стр. 277. Повесть моя заключает в себе полную и замечатель-
ную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи
Александровны.— Эти строки перекликаются с ироническим загла-
вием романа Бальзака «История величия и падения Цезаря Би-
рото, владельца парфюмерной лавки...» (1837).
Стр. 288. ...и все это оттого, что вы начитались там какого-ни-
будь вашего Шекспира.— Еще в 1844 г. Достоевский в письме к
брату подчеркивал всю нелепость подобных нападок на Шекспира:
«В последнем письме Карелии ни с того ни с сего советовал мне не
увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь
все равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту,
озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир?» («Письма», т. I,
стр. 73—74).
Стр. 296. ...на венском конгрессе.— Конгресс европейских мо-
нархов и дипломатов в Вене (1814—1815) после падения Наполеона.
Стр. 308—309. ...это достойно Флориана и его пастушков.—
Флориан Жан Пьер (1755—1794)—французский писатель, автор
романов, комедий и пасторальных повестей.
Стр. 339. Лозен — вельможа при дворе Людовика XIV.
Стр. 356. «Memoires du Diable» — мелодраматический роман
с авантюрным сюжетом французского писателя Мельхиора Фреде-
рика Сулье (1800—1847).
Стр. 372. ...читал ты мемуары Казановы? — Казанова Джо-
ванни Джакомо (1725—1798)—итальянский авантюрист, автор
«Мемуаров», написанных на французском языке, в которых дана
широкая картина жизни аристократического придворного общества
в различных странах Западной Европы.
Стр. 390. ...одного из шематонов времен регентства. После
смерти Людовика XIV (1715) при малолетнем короле Людо-
вике XV страною в качестве регента правил Филипп герцог Орле-
анский. Время регентства отличалось крайней распущенностью
придворных нравов. Шематон — прощелыга, фат.
655
...какого-нибудь Ферлякура.— Ферлякур — нарицательное имя
от французского faire la cour — ухаживать.
Стр. 410. ...пустился в вихрь светской жизни, на Васильевском
острове и в Галерной гавани.— Сказано иронически: в старом Пе-
тербурге Васильевский остров и Галерная гавань были местом жи-
тельства мелких чиновников и мещан.
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Впервые опубликовано в «Отечественных записках» за 1859 г.
(ноябрь — декабрь). Сначала Достоевский предполагал напечатать
повесть в «Русском вестнике». «...Не помню, писал ли я тебе,—
спрашивал он брата в письме от 31 мая 1858 г.,— что я открыл
сношения с Катковым («Русский вестник») и послал ему письмо,
в котором предложил ему участвовать в его журнале, и обещал
повесть в этом году, если он мне пришлет сейчас 500 руб. сереб-
ром?» И далее: «Я сижу теперь за работой в «Русский вестник»
(большая повесть)» («Письма», т. I, стр. 236).
В конце 1858 г. Достоевский прервал работу над «Селом Сте-
панчиковым», чтобы закончить «Дядюшкин сон»: «...Не кончив к
сентябрю Каткову, опомнился и схватился за повесть в «Русское
слово» и теперь пишу ее на почтовых, почти совсем кончил. На
днях отсылаю. Каткову же примусь тотчас по отсылке в «Русское
слово» и в непродолжительном времени вышлю половину...» (т а м
ж е, т. I, стр. 241).
Работа над «Селом Степанчиковым» сильно затянулась и была
завершена лишь в середине 1859 г.: «Роман, который я отсылаю
Каткову, я считаю несравненно выше, чем «Дюдюшкин сон». Там
есть два серьезные характера и даже новые, небывалые нигде. Но
как-то еще кончу роман? Ужасно он мне надоел, даже измучил
меня (буквально). Он появится, надеюсь, в августе или в сентябре
в «Русском вестнике» (там ж е, т. I, стр. 243).
Однако, вопреки своим первоначальным намерениям, Достоев-
ский вынужден был передать повесть в «Отечественные записки»,
так как сначала «Русский вестник», а затем «Современник» от нее
отказались.
Особенно волновало Достоевского отношение к его повести
редактора «Современника» Некрасова, который когда-то был вос-
приемником романа «Бедные люди», опубликованного в «Петер-
бургском сборнике» и принесшего молодому автору необычайный
успех. «Ты пишешь, что не застал Некрасова дома,— обращается
656
он к брату, который вел переговоры.— Но вот что, друг мой: если
ты и 16-го его не застал, то не опоздать бы с рукописью? Уйдет
•время,— и они будут другое печатать в октябрьской книжке. На-
добно еще прочесть ее; а ты мне не пишешь, оставил ли у него
рукопись? И передал ли ему письмо? Обещаешь писать 17-го, если
увидишь Некрасова. Конечно, увидишь, и потому жду сегодня
твоего письма с крайним нетерпением. N3; В сношениях с Некра-
совым замечай все подробности и все его слова и, ради бога,
прошу, опиши все это поподробнее. Для меня ведь это очень инте-
ресно» (там же, т. I, стр. 252). Некрасов, который в самом на-
.чале, еще до знакомства с повестью, проявил горячее желание на-
печатать новое произведение Достоевского, вскоре предложил та-
кие гонорарные условия, которые по существу означали отказ.
Однако истинная причина такой решительной перемены намерений
Некрасова заключалась, очевидно, в том, что ему не понравилось
содержание повести. Хотя Достоевский впервые обратился к изо-
бражению русской деревни, он почти не затронул самой злобо-
дневной в те годы темы крепостничества (отношения Ростанева
с дворней — сплошная идиллия). «...Извините, что я долго медлил
ответом,— писал Некрасов.— Прочитав роман, я еще давал его чи-
тать одному из ближайших сотрудников «Современника» (т а м ж е,
т. I, стр. 547.) Поняв, что дело в содержании повести, М. М. До-
стоевский советовал брату: «Тебе непременно к новому году нужно
написать что-нибудь эффектное... Прежде всего надо о себе на-
помнить публике чем-нибудь страстным и грациозным, и скоро на-
помнить».
Все эти известия не только огорчили, но отчасти удивили До-
стоевского. Сам он, несмотря на некоторые художественные недо-
статки повести, считал ее в 1859 г. лучшим своим произведением.
«Начало и средина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил
я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я выска-
зался в нем весь; это будет вздор! Еще будет много, что высказать.
К тому же в романс мало сердечного (т. е. страстного элемента,
как, например, в Дворянском гнезде)— но в нем есть два огромных
типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, об-
деланных безукоризненно (по моему мнению),— характеров
вполне русских и плохо до сих пор указанных русской лите-
ратурой» (там же, т. I, стр. 246). И далее: «...Я уверен, что
в моем романе есть очень много гадкого и слабого. Но я
уверен — хоть зарежь меня! — что есть и прекрасные вещи.
Они из души вылились. Есть сцены высокого комизма, сцены,
657
под которыми сейчас же подписался бы Гоголь» (там же, т. I,
стр. 251).
Основное содержание повести «Село Степанчиково» в изобра-
жении двух характеров — Опискина и Ростанева. Добролюбов от-
мечал, что «люди, которых человеческое достоинство оскорблено,
являются нам у г. Достоевского в двух главных типах: кротком и
ожесточенном» (Н. А. Добролюбов, Сочинения в трех томах,
т. 3, М. 1952, стр. 476). К первому из них несомненно принадлежит
Ростанев, ко второму — Опискин. Ожесточенность Опискина во
многом объясняется его горькой судьбой бедняка, неудачника, при-
живальщика. Деспотизм Фомы, его издевательство над окружаю-
щими— болезненная реакция на то, что делали когда-то с ним.
Подпольный, злобный бунт до предела оскорбленной личности
Фомы Фомича не только в целом, но иногда даже в деталях сходен
с поведением Голядкина. «От г. Голядкина до Фомы Фомича в
«Селс'Степанчикове» он (Достоевский.—Л. Р.) изобразил па своем
веку много болезненных, ненормальных явлений»,— писал Добро-
любов (там же, стр. 464). Месть Опискина не носит характера
решительной идейной борьбы. Здесь издевательство ради издева-
тельства без всякой видимой надобности. Вдохновенный деспотизм,
увлекающий самого деспота,— вот деятельность Фомы Опискина.
Мизинчиков верно подметил, что Фома «в своем роде какой-то
поэт». Порой начинает казаться, что не прежние несчастья сделали
Фому таким, а что виновата в этом его подлая натура, что зло
заключено в ней самой. Здесь ясно чувствуется отход от социаль-
ных идей Белинского, который писал: «Зло скрывается не в чело-
веке, но в обществе». Н. К. Михайловский*в статье «Жестокий та-
лант» подчеркивал не ожесточенность Фомы как результат его
предшествующей жизни, а жестокость самой его натуры, принад-
лежность Опискина к «экземплярам волчьей породы».
Некоторые речи Фомы Фомича (и это заметили еще в редак-
ции «Отечественных записок») напоминают отдельные положения
реакционной книги Гоголя «Выбранные места из переписки с дру-
зьями». Как известно из письма М. М. Достоевского, издатель
журнала Краевский «сказал, что некоторые места великолепны,
Фома ему чрезвычайно нравится. Он напомнил ему Н. В. Гоголя
в грустную эпоху его жизни» (Л. П. Гроссман, Жизнь и труды
Достоевского, «Academia», 1935, стр. 96). Интересно, что в начале
70-х годов сам Достоевский в одной из черновых записей указал на
прямую связь позднего Гоголя с психологией «подполья», столь
характерной для Опискина. Претендуя на роль проповедника, учи-
658
теля жизни, Гоголь публично отрекался от «Ревизора» и «Мертвых
душ» и в «Завещании», которым открывались «Выбранные места из
переписки с друзьями», объявлял, что его последнее и лучшее про-
изведение «Прощальная повесть» будет опубликована после его
смерти. Однако повесть эта так и не была написана. Достоевский
видел в этом яркое свидетельство духовного краха Гоголя. «Это
то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном за-
вещании говорить о последней повести, которая выпелась из души
его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь,
может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет
про* последнюю повесть» L
В работе «Достоевский и Гоголь (к истории пародии)» Ю. Ты-
нянов показал, что проповедь Фомы перед уходом из дома Роста-
нева воспроизводит отдельные положения статьи «Русский поме-
щик», а рассуждения Опискина о литературе, о плясках русского
народа пародируют статью «Предметы для лирического поэта»
и отчасти статью «О театре». Заявление Фомы: «О, не ставьте мне
монумента!.. В сердцах своих воздвигните мне монумент...» — паро-
дирует известные слова автора «Выбранных мест»: «Завещаю не
ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком
пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был
действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воз-
двигнет он его в самом себе...» (Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч.,
Изд. АН СССР, 1952, т. VIII, стр. 219).
Так автор «Села Степанчикова», десять лет назад приговорен-
ный к каторге за чтение среди петрашевцев письма Белинского
к Гоголю, вновь осмеивал ложный пафос и крепостнические идеалы
последней книги Гоголя. Характерно, что, пародируя Гоголя-про-
поведника, Достоевский попрежнему опирался на сатирическую
традицию Гоголя-художника.
Хотя симпатии Достоевского принадлежат полковнику Роста-
неву, он отнюдь не является положительным героем повести. Во-
сторги, расточаемые по его адресу некоторыми лицами повести и
прежде всего рассказчиком, вряд ли можно отнести за счет До-
стоевского. Бесспорно только одно: полковник от природы добрый,
радушный человек. Непосредственность, детскость роднят его с
1 Из рукописных материалов, подготовленных к публикации
в томе «Литературного наследства», посвященном Ф. М. Достоев-
скому (ЦГАЛИ, Фонд Ф. М. Достоевского, опись I, № 11,
л. 68/об.).
659
любимыми героями писателя. Но Ростанев недалек умом и безво-
лен, он совсем не понимает людей, идеализируя всех. Чтобы пара-
лизовать самую твердую решительность полковника, достаточно
любой ничтожной хитрости Фомы. В конце концов, избавившись от
постороннего влияния, Ростанев оказался способным лишь на то,
чтобы стать старосветским помещиком, наподобие гоголевского
Афанасия Ивановича.
Некоторые речи Ростанева, где дано оправдание скверных лю-
дей и поступков, Достоевский использует для полемики с идеями
натуральной школы, впервые упоминая с этой целью известные
стихи Некрасова «Когда из мрака заблужденья». Конечно, от
«Села Степанчикова» до повести «Записки из подполья», в которой
то же стихотворение Некрасова звучит в резком полемическом
контексте, будет пройден большой путь. Но и здесь элементы идей-
ной эволюции Достоевского уже заметны. В отличие от Белинского
и его учеников Достоевский, анализируя характер человека, пере-
носил центр тяжести с общественных условий па личные качества
отдельного человека. Некоторые второстепенные характеры повести
получили дальнейшее развитие в творчестве Достоевского. Это
Ежевикин — прообраз Лебедева в «Идиоте» с тем же присловьем
«Польсти, польсти», и лакей Видоплясов — отдаленный предтеча
Смердякова («Братья Карамазовы»).
Работая над «Селом Степанчиковым», Достоевский, как пока-
зал Л. П. Гроссман в примечаниях к отдельному изданию повести
(М. 1935), часто использовал записи своей «Сибирской тетради».
В эту тетрадь Достоевский во время пребывания в Сибири заносил
характерные народные выражения, пословицы и поговорки. Многие
из них почти без изменений вошли в повесть.
Стр. 418. ...влияние различных Иван-Яковлевичей.—Иван Яков-
левич Корейша (1780—1861)—московский юродивый, снискавший
известность прорицателя.
Стр. 424. ...вроде различных «Освобождений Москвы», «Атама-
нов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104 году» и проч.... до-
ставлявших... приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса —
бездарные произведения с псевдоисторическим сюжетом. Под на-
званием «Освобождение Москвы» в начале XIX в. вышло несколько
произведений, в том числе «Князь Пожарский и нижегородский
гражданин Минин, или Освобождение Москвы в 1612 году»,
И. Глухарева, 1840. Второе из упомянутых произведений — «Атаман
Буря, или Вольница Заволжская. Русский роман из преданий стари-
660
ны» Д. Преснова, 1835. Третье название, очевидно, пародийно.
О романе «Атаман Буря» Белинский писал: «Эта книга принадле-
жит к известному числу произведений, которых первоначальная
идея зарождается на Толкучем рынке» (В. Г. Б е л и н с к и й, Поли,
собр. соч., Изд. АН СССР, 1953, т. I, стр. 319). О бароне Брамбеусе
см. прим, к т. I, стр. 667.
Стр. 427. Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого
одолжаешь.— Эти слова Ростанева, почти буквально повторяющие
мысль самого Достоевского («Я знаю, что вы с ним удвоите, утроите
учтивость; с человеком одолженным надо поступать осторожно» —
«Письма», т. I, стр. 157), свидетельствуют о некоторой духовной
близости героя автору.
Стр. 429. Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «ум-
ным русским мужичком».— Форма обращения Фомы к мужикам
пародирует те строки в «Выбранных местах из переписки с друзья-
ми», где Гоголь советовал помещику разговаривать с мужиками
подобным образом: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил
в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести
честному!» (Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VIII, стр. 323). По
поводу этих слов Гоголя Белинский с возмущением писал: «А вы-
ражение: «Ах ты, неумытое рыло!» Да у какого Ноздрева, у какого
Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое
открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того по-
тому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не счи-
тают за людей?» (Белинский, Собр. соч. в трех томах, 1948,
стр. 709).
Стр. 462. Поневоле Талейраном сделаешься.— Талейран
(1754—1838) —знаменитый французский дипломат.
Стр. 470. Вы читали «Тюфяка»? — Имеется в виду повесть
А. Ф. Писемского (1821—1881) «Тюфяк» (1850).
Стр. 478. ...детей-то у меня, просто семейство Холмских! —
«Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни,
семейной и одинокой, русских дворян» — роман Д. Н. Бегичева
(1786—1855).
Стр. 501. Пушкины, Лермонтовы, Бороздны.— Бороздна И. П.
(1803—1888) —мало известный, незначительный поэт. Упоминание
его имени рядом с Пушкиным и Лермонтовым ярко характеризует
«образованность» Опискина.
Стр. 503. «Переписчик» — журнальный псевдоним Н. В. Ку-
кольника.
661
Стр. 509. Орфей — герой древнегреческих мифов, великий му-
зыкант, смягчивший своим волшебным искусством богов подзем-
ного царства.
Стр. 530. ...сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте.—Ма-
киавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527)—итальянский полити-
ческий деятель и писатель, один из виднейших буржуазных идеоло-
гов. Меркаданте Саверио (1797—1870) —итальянский композитор.
Стр. 538. ...будет нечто похожее на Гретна-Грин.— В шотланд-
ской деревушке Гретна-Грин можно было заключить брак без со-
блюдения предварительных формальностей.
Стр. 539. ...корчил Бурцова...— Имеется в виду гусарский офи-
цер, кутила А. П. Бурцов, известный по стихам Д. Давыдова
(1784—1839):
Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!.. («Призвание на пунш»)
Стр. 586. ...заставал Фому за Поль-де-Коком.— Шарль
Поль-де-Кок (1794—1871)—французский писатель (см. наст, изд.,
т. I, стр. 668).
Стр. 589. Девять лет как Педро Гомец — стихотворение Козьмы
Пруткова «Осада Памбы (Романсеро с испанского)», опубликован-
ное в мартовском номере «Современника» за 1854 г. В первой по-
ловине стихотворения отдельные строки приведены Достоевским
неточно.
Стр. 591. ...еще в романах Радклиф читал.— Анна Радклиф
(1764—1823)—английская романистка. Мировой известностью
пользовался ее роман «Удольфские тайпы».
Бенедиктинцы — католический монашеский орден.
Стр. 593. Ухватка выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема,
мифология.— В июльском номере «Отечественных записок» за
1851 г. была напечатана статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-язы-
ческое значение избы славянина». Впоследствии (1861) Достоев-
ский иронически называл ее «статьей о метле, ухвате и лопате и
о значении их в древней русской мифологии» и спрашивал; «...Не
в таких ли статьях видят «Отечественные записки» обращение
к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности до-
вольно оригинальны» (Ф. М. Достоевский, Собр. соч., 1930,
т. XIII, стр. 63). «Помнишь — литературные суждения полковника
Ростанева о литературе, о журналах, об учености «Отеч. записок»
и проч.,— писал Достоевский брату.— Непременное условие: чтоб
ни одной строчки Краевский не выбрасывал из этого разговора.
662
Мнение п-ка Ростанева не может ни унизить, ни обидеть Краев-
ского» («Письма», т. I, стр. 268).
Стр. 617. ...несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это
сказал, кажется, Гоголь.— В «Выбранных местах из переписки
с друзьями» Гоголь писал: «...Несчастие умягчает человека; при-
рода его становится тогда более чуткой...» (Н. В. Гоголь, Поли,
собр. соч., т. VIII, стр. 236).
Стр. 619. ...куда спрятался этот человек? Как Диоген с фона-
рем ищу я его.— Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — греческий фило-
соф, учивший пренебрегать земными благами. По преданию, он
появился однажды днем на улицах Афин с зажженным фонарем
и на вопрос, что он ищет, отвечал: «Я ищу человека».
Стр. 628. ...прочел стихи: «Когда из мрака заблужденья» — на-
чальная строка стихотворения Н. А. Некрасова, опубликованного
в «Отечественных записках», 1846, т. III.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Биографический очерк о Ф. М. Достоевском
будет напечатан в десятом томе настоящего издания.
СОДЕРЖАНИЕ
Белые ночи. Сентиментальный роман. Из воспомина-
ний мечтателя......................... 5
Неточна Незванова.........................60
Маленький герой. Из неизвестных мемуаров . . . 233
Дядюшкин сон. Из Мордасовских летописей . . . 272
Село Степанчиково и его обитатели. Из записок не-
известного ..........................414
Примечания .............................641
Достоевский Федор Михайлович
Собрание сочинений, т. 2
Редактор Е. Цехер.
Оформление художника В. Телепнева. Худож. редактор К. Буров.
Техн, редактор Г. Архангельская. Корректор Л. Петрова.
Сдано в набор 1/III 1956 г. Подписано к печати 14/VI 1956 г.
А-08206. Бумага 84Х1081/з2—20,75 печ. л. 34,03 усл. печ. л. 32,61 уч,-
изд. л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 1273. Цена 12 р. 50 к.
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.