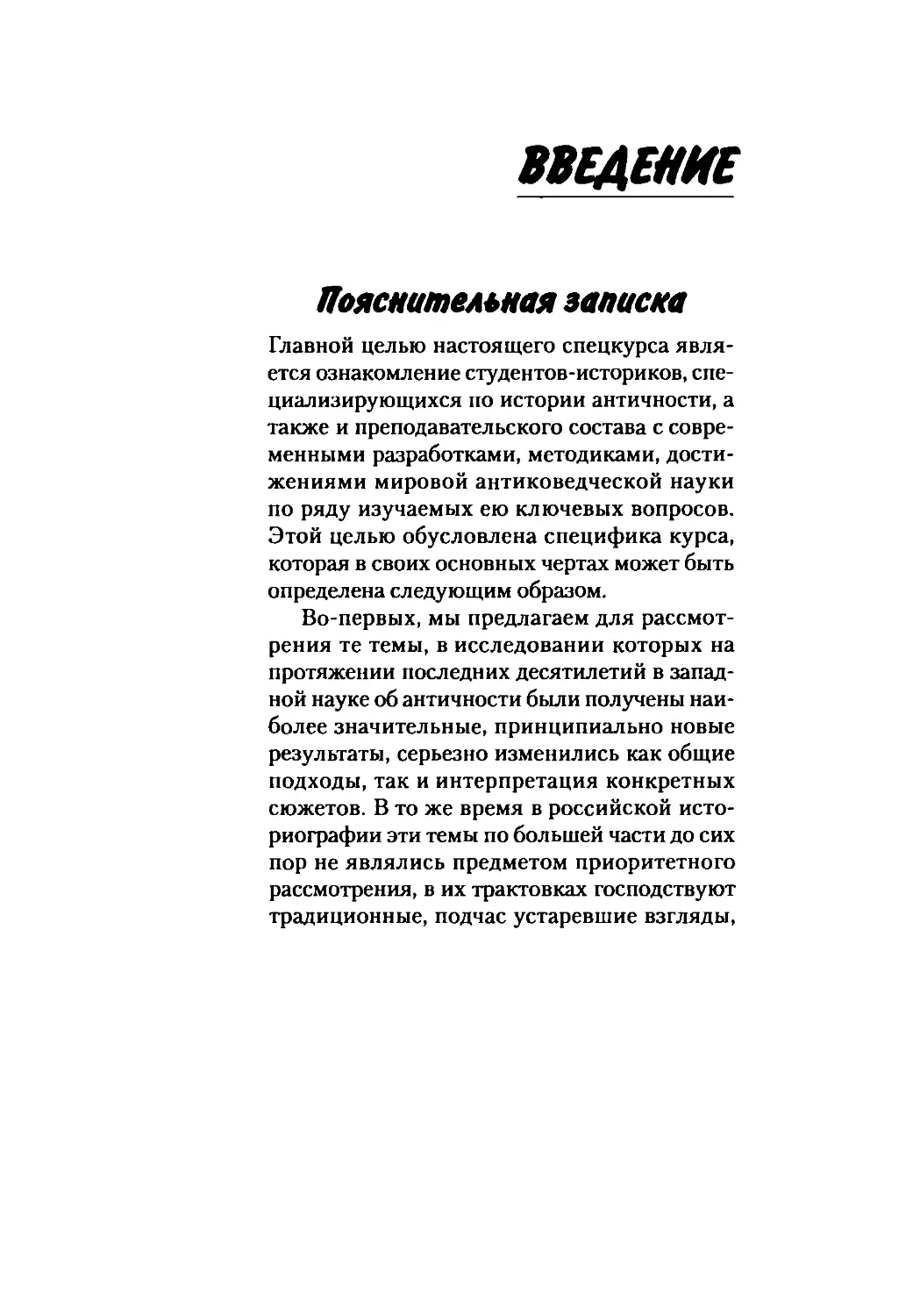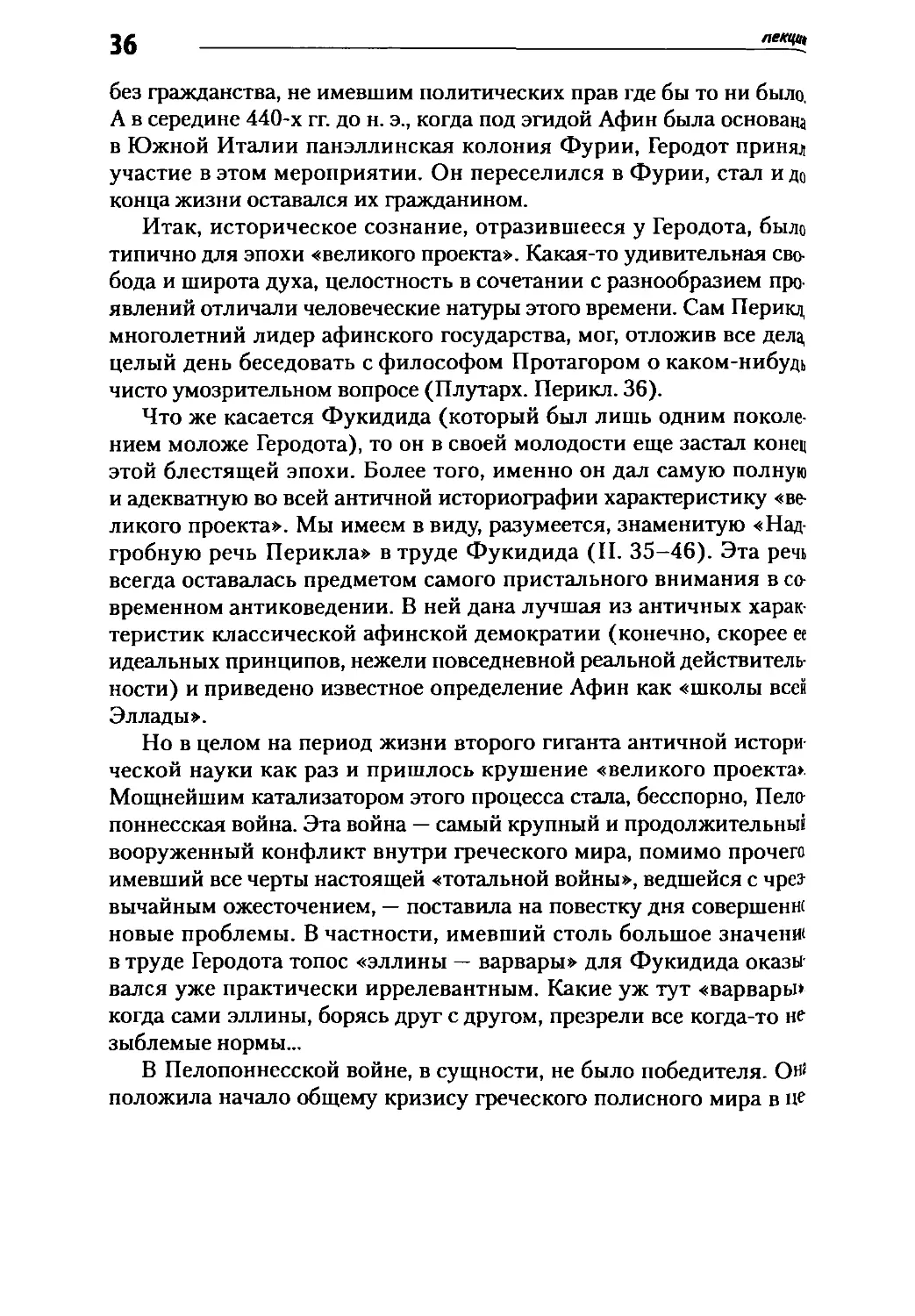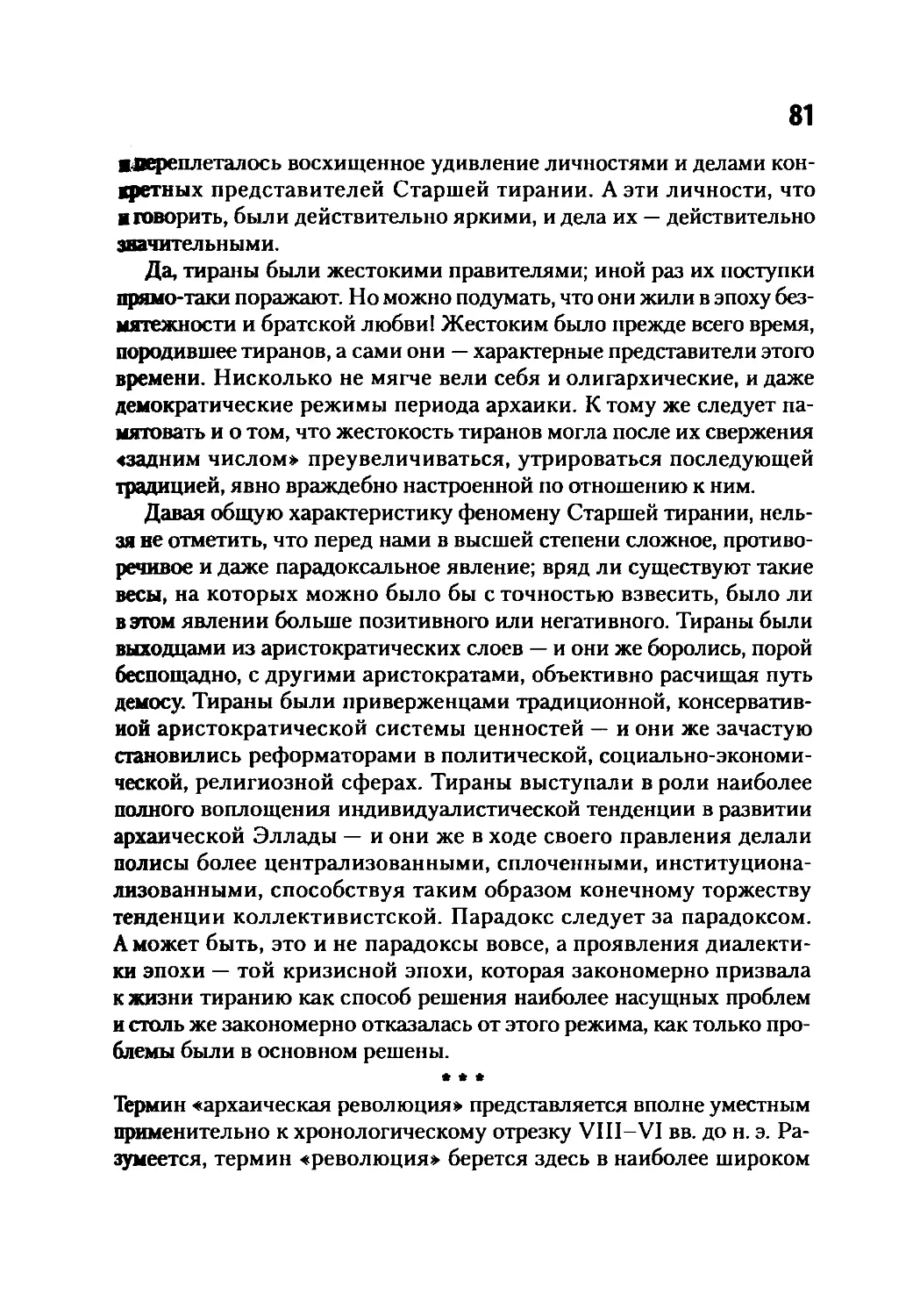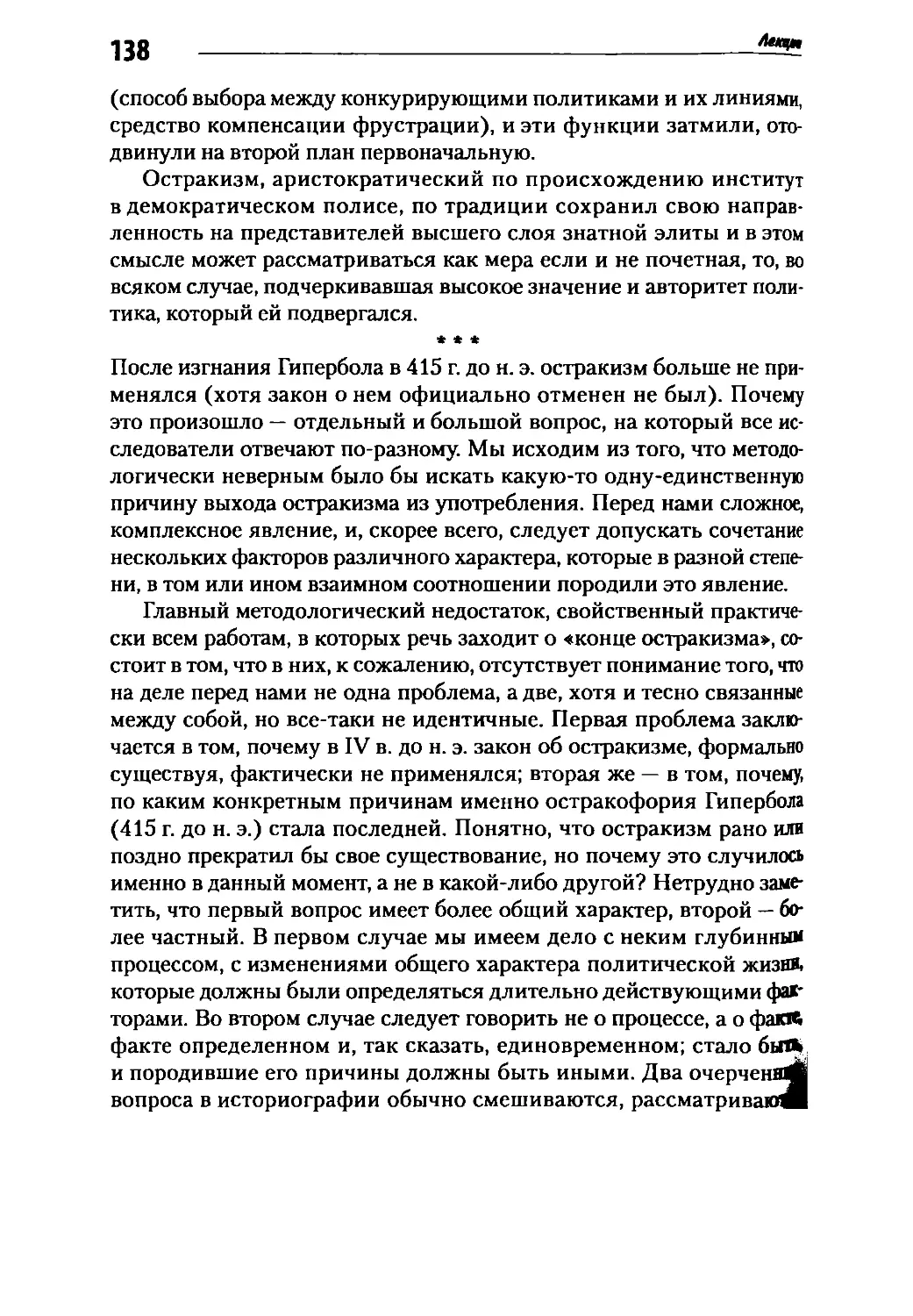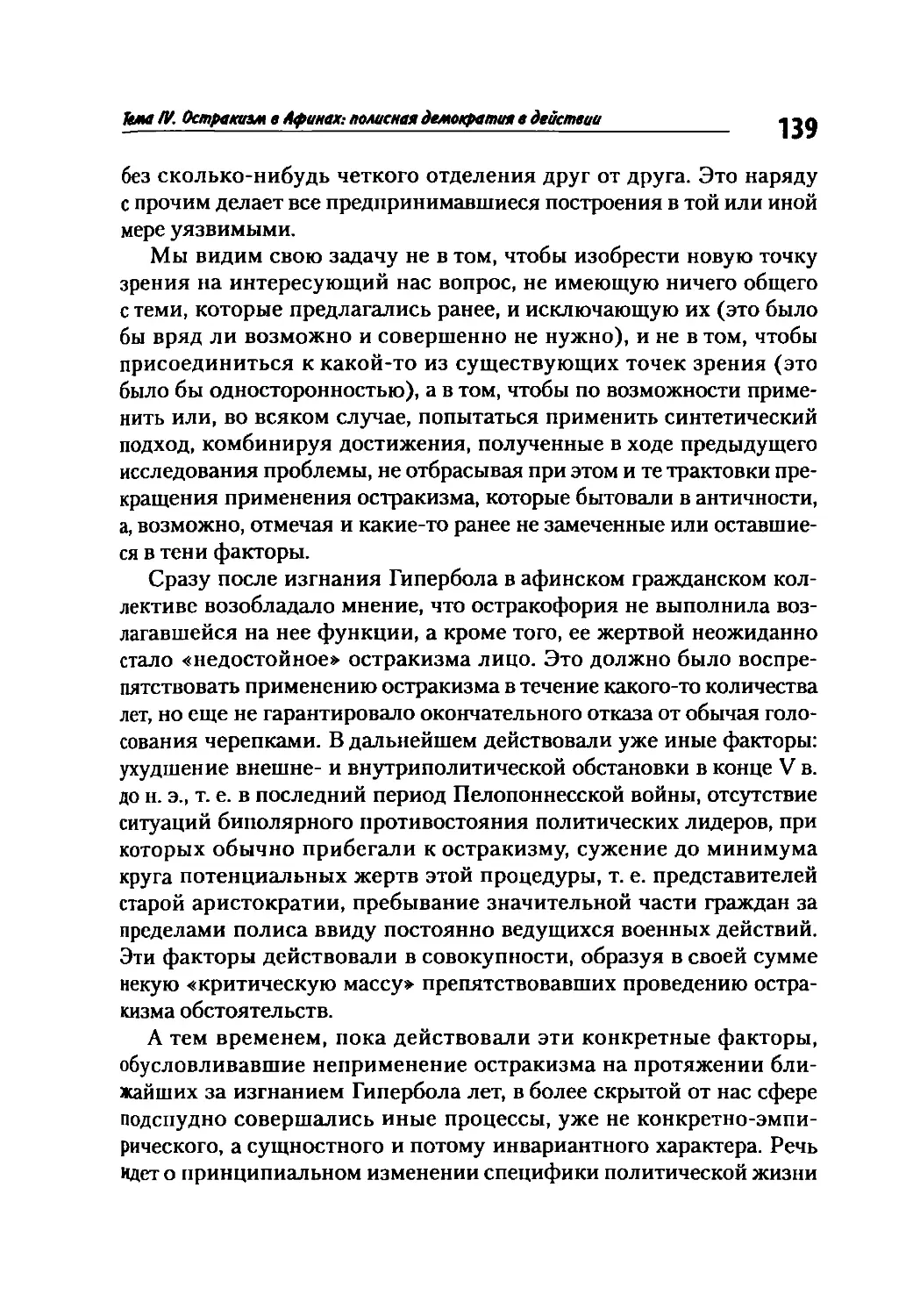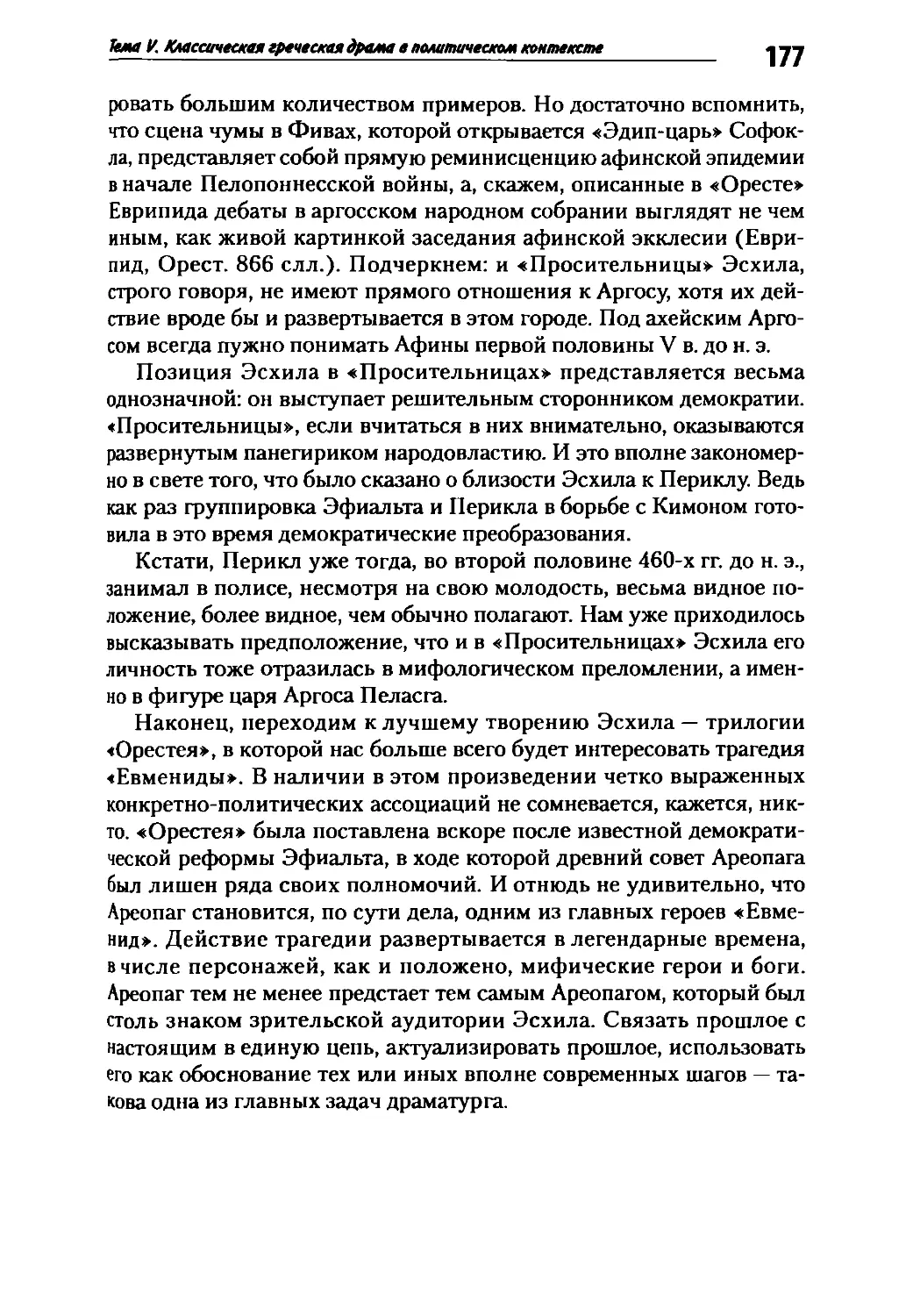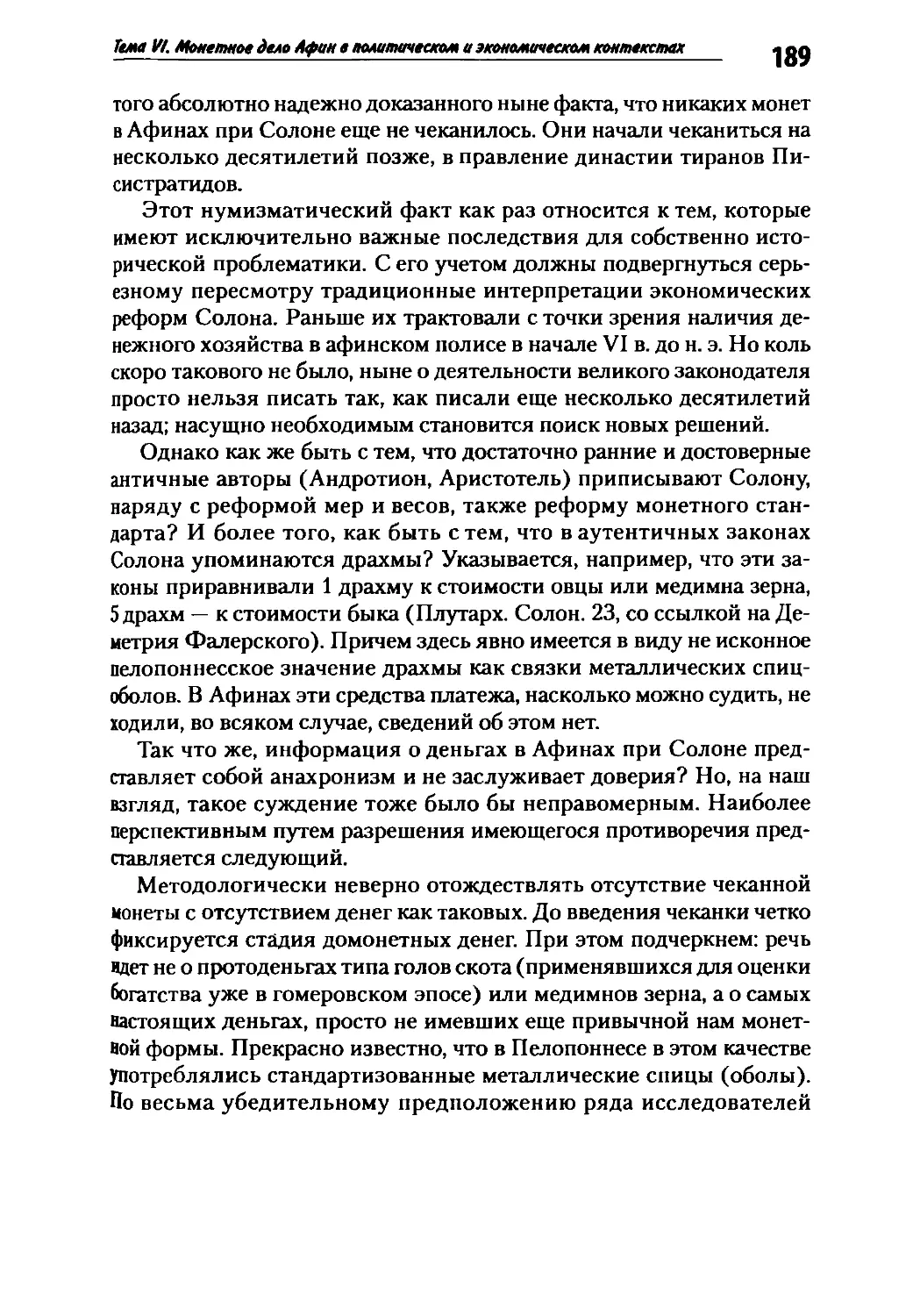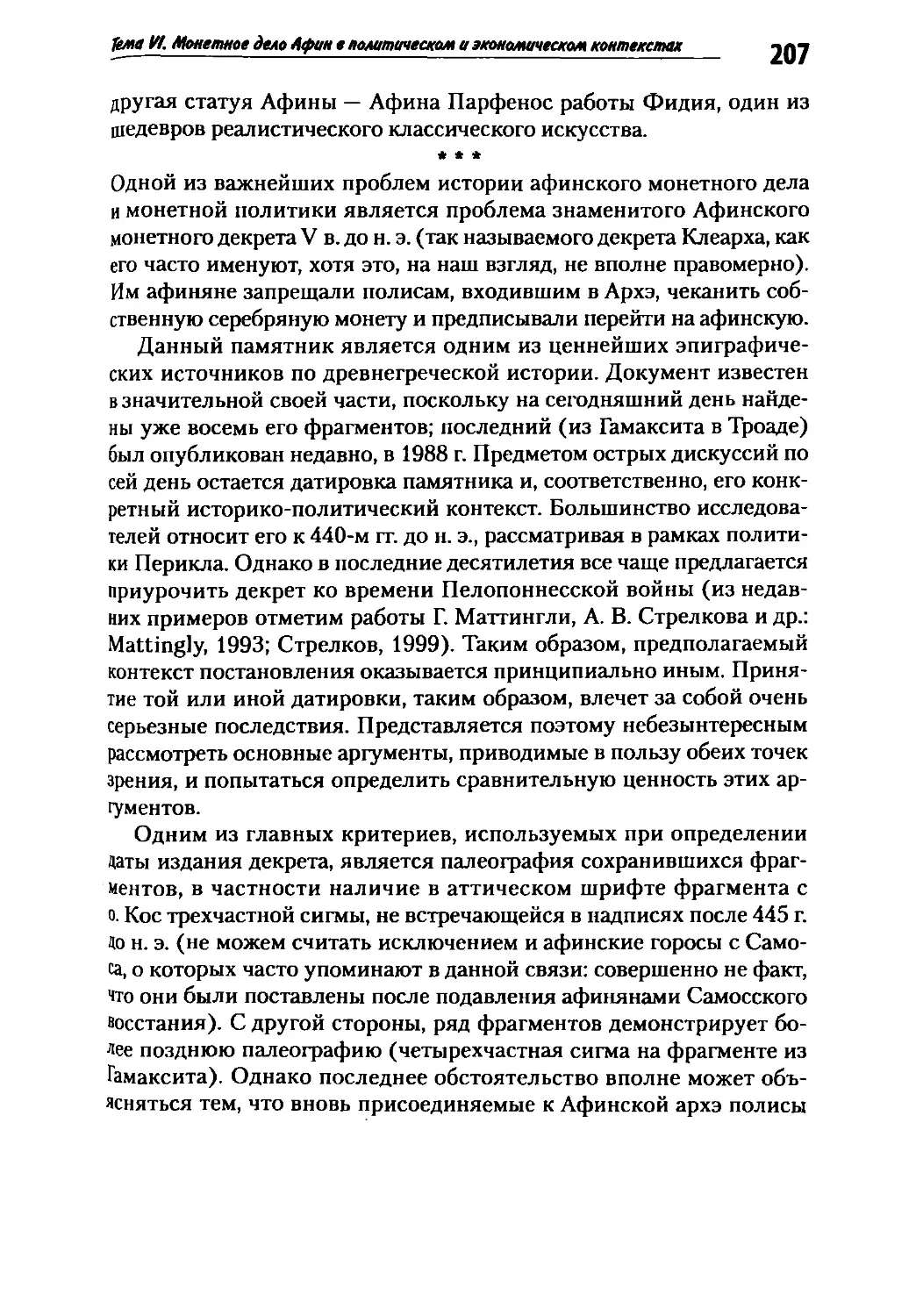Author: Суриков И.Е.
Tags: историческая наука историография всеобщая история вспомогательные исторические дисциплины (символика, эмблематика) древний и античный мир исторические науки история греции
ISBN: 978-5-98227-148-8
Year: 2007
Text
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСТОРИИ
И. Е. Суриков
Архаическая
И КЛАССИЧЕСКАЯ
Греция:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
УНИВЕРСИТЕТ
КНИЖНЫЙ дом
Москва
2007
УДК 930(07)+94(38)(07)
ББК 63.211я7+63.3(0)321.Зя7+63.3(0)321.4я7
С 90
Председатель редсовета серии
директор ИВИ РАН, академик РАН А. О. Чубарьян
Редсовет серии:
д.и.н., проф., проректор по научной работе ГУГН М. В. Бибиков;
к.и.н., в.н.с. ИВИ РАН, руководитель программы М. С. Бобкова;
академик РАН Г. М. Бонгард-Левин;
д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН, проф. координатор программы В. П. Буданова;
д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН, заместитель председателя редсовета И. Н. Данилевский;
д.и.н., проф. МПГУ А. А. Данилов;
д.и.н., проф., ректор РГГУ Е. И. Пивовар;
д.и.н., проф., зам. директора ИВИ РАН Л. П. Репина;
д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН, проф. Е. Ю. Сергеев;
д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН, проф. А. В. Шубин
Суриков И. Е.
С90 Архаическая и классическая Греция: проблемы истории
и источниковедения : учебное пособие / И. Е. Суриков. — М. :
КДУ, 2007. - 236 с.
ISBN 978-5-98227-148-8
В учебном пособии рассматривается ряд ключевых проблем ис¬
тории и источниковедения архаической и классической Греции. Осве¬
щаются наиболее передовые в современной мировой науке подходы к
изучению этого важного исторического периода, к различным катего¬
риям источников, как традиционных (исторические труды Геродота и
Фукидида), так и редко используемых в отечественной исторической
науке (памятники малой эпиграфики — остраконы, нумизматический
материал, произведения древнегреческих драматургов). Рассматри¬
вается ряд тесно связанных друг с другом аспектов бытия древнегре¬
ческой цивилизации в период ее наибольшего расцвета — от вопросов
экономики и политики до проблем культуры и менталитета.
Курс построен по проблемно-концептуальному признаку, основное
внимание уделено тем сюжетам, которые в российской науке не осве¬
щались, слабо освещались или являются дискуссионными. Темы курса
разрабатываются на стынс собственно истории и источниковедения.
Пособие предназначено для студентов исторических специально¬
стей, а также всех тех, кто интересуется историей Греции.
УДК 930(07)+94(38)(07)
ББК 63.211я7+63.3(0)321.3я7+63.3(0)321.4я7
© Суриков И. E., 2007
ISBN 978-5-98227-148-8 © Издательство «КДУ>, 2007
Оглавление
Введение 5
Пояснительная записка 5
Программа курса 8
Тематический план спецкурса 20
Лекции 21
Тема I. Рождение исторического знания в античном мире 21
Лекция 1. Геродот и Фукидид: типы исторического
сознания в классической Греции 21
Тема II. Архаическая эпоха древнегреческой истории:
проблемы и перспективы изучения 40
Лекция 2. Новые открытия в области исследования
«ранней Греции». Подходы к изучению
архаики в современной западной
и отечественной историографии 40
Лекция 3. Рождение «греческого чуда»: проблема
континуитета и разрыва преемственности,
проблема восточных влияний 53
Лекция 4. Ключевые исторические процессы
архаической эпохи и их интерпретация 70
Тема III. Древнегреческая религиозность и ее эволюция 83
Лекция 5. Основные черты древнегреческой
религиозности 83
4
Оглавление
Лекция 6. Ключевые категории и термины
древнегреческого религиозного сознания.
Эволюция древнегреческой религиозности 95
Лекция 7. Религиозность в классических Афинах 108
Тема IV. Остракизм в Афинах: полисная демократия
в действии 123
Лекция 8. Происхождение и функции
института остракизма 123
Лекция 9. Оценка института остракизма
в контексте полисной цивилизации.
Остраконы как исторический источник 141
Тема V. Классическая греческая драма в политическом
контексте 161
Лекция 10. Историко-политическая проблематика
классической греческой драмы 161
Лекция 11. Классическая греческая драма
как источник по политической
истории Афин 171
Тема VI. Монетное дело Афин в политическом
и экономическом контекстах 186
Лекция 12. Проблемы афинской монетной чеканки
и монетной политики архаической
и классической эпох 186
Список источников и литературы 210
1. Источники 210
2. Учебники, учебные пособия, хрестоматии,
справочная литература 211
3. Обязательная литература 212
4. Дополнительная литература 214
5. Интернет-ресурсы 232
Приложение 233
Примерная тематика курсовых работ и рефератов 233
Контрольные вопросы к зачету 234
ВВЕДЕНИЕ
Пояснительная записка
Главной целью настоящего спецкурса явля¬
ется ознакомление студентов-историков, спе¬
циализирующихся по истории античности, а
также и преподавательского состава с совре¬
менными разработками, методиками, дости¬
жениями мировой антиковедческой науки
по ряду изучаемых ею ключевых вопросов.
Этой целью обусловлена специфика курса,
которая в своих основных чертах может быть
определена следующим образом.
Во-первых, мы предлагаем для рассмот¬
рения те темы, в исследовании которых на
протяжении последних десятилетий в запад¬
ной науке об античности были получены наи¬
более значительные, принципиально новые
результаты, серьезно изменились как общие
подходы, так и интерпретация конкретных
сюжетов. В то же время в российской исто¬
риографии эти темы по большей части до сих
пор не являлись предметом приоритетного
рассмотрения, в их трактовках господствуют
традиционные, подчас устаревшие взгляды,
6
Введен^
что делает разрыв между мировым уровнем и уровнем российской
науки особенно болезненным. Обращение к данным темам оказьь
вается, таким образом, безусловно актуальным. При этом спецкурс
построен по проблемно-концептуальному принципу; автор не пьь
тался «сгладить» существующие в науке разногласия по тем или
иным дискуссионным вопросам, дать некую «усредненную» точку
зрения. Напротив, повсюду предпринималась попытка ввести чита¬
телей в существо полемики, продемонстрировать сильные и слабые
стороны различных выдвигавшихся концепций, а также предложить
собственное видение той или иной проблемы.
Во-вторых, при выборе проблематики, освещаемой в рамках
спецкурса, мы исходили из принципа тематического разнообразия.
Среди предлагаемых тем есть относящиеся к самым разным, но
тесно связанным друг с другом сферам общественного бытия антич¬
ной Греции: от экономики и политики до культуры и менталитета
(религиозность, историческое сознание). Это не случайно: автор на¬
деется, что широта охвата исторической действительности послужит
ее целостному, комплексному пониманию, при котором различные
аспекты берутся не изолированно, а в неразрывной связи друг с дру¬
гом. В учебных пособиях традиционного типа, как правило, отдельно
рассматриваются проблемы экономики, отдельно — социальной
структуры общества, отдельно — политической системы и полити¬
ческой жизни, отдельно (обычно в конце, по остаточному принци¬
пу) — вопросы культуры. В подобном аналитическом подходе, веро¬
ятно, есть свой эпистемологический резон. Разложив материал «по
полочкам», его легче излагать. Однако всегда необходимо помнить,
что эта систематизация проделывается современными авторами, так
сказать, «задним числом», в реальной же жизни греческой антично¬
сти экономика, политика, культура существовали в рамках единого
комплекса практик и представлений, в котором нельзя, как у нас это
зачастую делалось, схематично выделять первичные и вторичные,
«базисные» и «надстроечные» элементы. Поэтому аналитический
подход должен обязательно дополняться — на более высоком уров¬
не изучения — подходом синтетическим, в котором разрозненные
феномены займут свое место в сложном диалектическом единстве
цивилизации как системы.
В-третьих, в спецкурсе рассматриваются преимущественно такие
вопросы, которые позволяют построить изложение на стыке истории
пояснительная записка
7
как таковой и источниковедения (что обозначено и в заглавии посо¬
бия). Вряд ли нужно специально говорить о значении источника для
исторического исследования; думается, это значение прекрасно по¬
нимают все, кто занимается историей, даже студенты старших кур¬
сов. Без источника наша наука вообще не может существовать. Здесь,
пожалуй, следует лишь отметить, что мы обращаемся к анализу как
нарративных источников традиционного типа (таких как истори¬
ческие труды Геродота и Фукидида), так и неординарных категорий
источникового материала, к которым реже привлекается внимание
обучаемых в процессе изучения античности. Среди последних — гре¬
ческие монеты, и в первую очередь остраконы — уникальные вещест¬
венные и эпиграфические памятники, вся источниковедческая важ¬
ность которых только теперь начинает по достоинству оцениваться
в антиковедении. Более того, даже и традиционные источники в на¬
стоящем спецкурсе рассматриваются в нетрадиционных ракурсах.
Так, произведения классической греческой драмы анализируются
не столько как литературные памятники (таков обычный подход
к ним), сколько как свидетельства о политических событиях и про¬
цессах; труды историков, напротив, привлекаются не только для
освещения конкретных событий, но и для постижения на их данных
исторического сознания греков и происходивших в нем изменений.
Перечисленные особенности спецкурса определяют его принци¬
пиальную новизну в отечественной практике преподавания анти-
коведческих дисциплин. Спецкурс призван помочь студентам разо¬
браться в ряде по-настоящему сложных и дискуссионных проблем
древнегреческой истории.
Хронологические рамки спецкурса охватывают архаическую
и классическую эпохи истории Древней Греции, т. е. соответственно
VIII—VI и V-IV вв. до н. э. по традиционной периодизации, от кото¬
рой мы не видим причин отказываться. Именно на эти исторические
эпохи пришлись такие ключевые для античной цивилизации про¬
цессы, как появление, формирование, развитие греческого полиса,
его высший расцвет, наконец, его кризис. Все эти процессы, а также
сам феномен полиса в его различных аспектах занимают весьма важ¬
ное место в излагаемом материале. Можно сказать, что и политиче¬
скую, и социально-экономическую, и культурную проблематику мы
рассматриваем именно «под углом полиса» в различные периоды его
существования.
8
Введена*
Из вышесказанного ясно, что целевой аудиторией данного спец¬
курса являются в первую очередь студенты старших курсов исто¬
рических факультетов вузов, уже избравшие специализацию по
истории античности. Спецкурс может рассматриваться в контексте
системы специальных курсов и дисциплин, дополняющих и углуб¬
ляющих знания, полученные студентами в рамках базовой дисцип¬
лины «История Древнего мира».
Объем спецкурса рассчитан на 24 аудиторных часа. В качестве
формы отчетности по спецкурсу предусматривается зачет.
Жанр учебного пособия не позволил нам прибегнуть к системе
подстрочных сносок — указаний на предшествующую исследова¬
тельскую литературу. Чтобы облегчить восприятие читателем и
дальнейшее самостоятельное изучение затронутых вопросов, мы
по традиции использовали следующий прием: все авторы, чьи кон¬
цепции, идеи, точки зрения в той или иной связи упоминаются в
пособии, представлены своими работами в списках литературы к со¬
ответствующим темам (в конце пособия).
Программа курса
Тема I. Рождение исторического знания в античном мире
Лекция 1. Геродот и Фукидид: типы исторического сознания
в классической Греции
Роль нарративных источников в изучении античной истории. Место
историографии в древнегреческой нарративной традиции. Древняя
Греция — родина исторической науки. Приобретение историческим
сознанием рефлектированной, дискурсивной формы. «Рефлектив¬
ный традиционализм» и его преломление в сфере исторического
сознания. «Принцип актуализма» в исторической мысли: «прошлое
сквозь призму настоящего».
«Отцы истории» — Геродот и Фукидид. Исторические труды
Геродота и Фукидида как воплощение двух различных типов исто¬
рического сознания в Греции V в. до н. э. Жанрово-стилистические
и композиционные характеристики: «эпическая историография» Ге¬
родота и «трагическая историография» Фукидида. Структурирова¬
ние повествования двумя великими историками. Экскурсы Геродота
и пропуски фактов у Фукидида.
Програлша курса
9
Принципы отбора Геродотом и Фукидидом фактологического
материала, их отношение к данным предшествующей традиции.
«Диалогичная» и «монологичная» установки в раннем греческом ис-
ториописании: Геродот и Фукидид как главные, контрастные пред¬
ставители этих установок и их последователи. «Диалогичная» уста¬
новка и современные методики исторической науки. «Открытость»
текстовой структуры у Геродота и «закрытость» ее у Фукидида.
Отношение ко времени в трудах этих двух историков. Исторический
оптимизм Геродота и исторический пессимизм Фукидида.
Исторический контекст смены типов исторического сознания
в Греции V в. до н. э. Эпоха Геродота — время «великого проекта»:
победа в греко-персидских войнах, формирование этнического и
цивилизационного самосознания античных греков, складывание
бинарной оппозиции «эллины — варвары» как средства постижения
мира и конструирования истории. «Поколение победителей». Воз¬
вышение Афин и судьба Геродота.
Эпоха Фукидида — время крушения «великого проекта». Пело¬
поннесская война, поражение Афин, кризис афинской демократии.
Судьба Афин и перипетии биографии Фукидида. «Катастрофиче¬
ский кризис» исторического сознания в Афинах конца V в. до н. э.,
угроза утраты афинянами собственной идентичности. «Поколение
побежденных» и конструирование новых «исторических смыслов»
Фукидидом. Дальнейшая эволюция типов исторического сознания
в античной Греции.
Тема II. Архаическая эпоха древнегреческой истории:
проблемы и перспективы изучения
Лекция 2. Новые открытия в области исследования «ранней Греции».
Подходы к изучению архаики в современной западной
и отечественной историографии
Возрастание интереса к проблемам истории доклассической Греции
на современном этапе развития антиковедения. Эпохи архаики и
классики: специфика источниковой базы и применяемых для ее
изучения методик. Важнейшие концептуальные открытия послед¬
них десятилетий в области изучения «ранней Греции»: открытие
Э. Снодграссом демографического взрыва в Аттике и в других
областях греческого мира в VIII в. до н. э., открытие роли крупных
святилищ на хоре в формировании полиса (концепция «биполяр¬
10
Введенut
ного полиса» Ф. де Полиньяка), оценка масштабов восточного
влияния на развитие архаической греческой цивилизации (выделе-
ние «ориентализующего периода» ее истории). Появление обобща¬
ющих концептуальных монографических исследований об эпохе
архаики в западной историографии (Ч. Старр, М. Финли, Л. Джеф¬
фери, О. Меррей, Р. Осборн и др.). Появление новых взглядов на
сущность архаической эпохи, на ее место в истории античности. Ар¬
хаическая эпоха — тема острых дискуссий в исторической науке.
Характерные черты современной западной историографии «ран¬
ней Греции»: гиперкритицизм по отношению к нарративной тради¬
ции, отрицание ценности поздних письменных источников, преиму¬
щественное внимание к археологическим данным. Гиперкритицизм
и субъективизм. Необходимость комплексной корреляции различ¬
ных типов источников. Необходимость умеренно-критического
подхода. Факт и интерпретация, событие и процесс у античных
авторов.
Изучение проблематики, связанной с «ранней Грецией», в со¬
временной отечественной историографии. Общая оценка работ
самого последнего времени (X. Тумане, Т. В. Блаватская). Элементы
гиперкритицизма в работах Ю. В. Андреева, В. П. Яйленко, сильные
и слабые стороны их концепций. «Эволюционные» и «революцион¬
ные» процессы в эпоху архаики: диалектика исторического разви¬
тия. Традиционная концепция истории архаической Греции в рабо¬
тах Э. Д. Фролова.
Лекция 3. Рождение «греческого чуда»: проблема континуитета
и разрыва преемственности, проблема восточных влияний
«Греческое чудо»: pro и contra. Специфика греческой цивилизации
I тыс. до н. э. Темпы развития, новые исторические пути по сравне¬
нию с Древним Востоком и Грецией II тыс. до н. э. Проблема отно¬
шения античной греческой цивилизации к микенской цивилизации.
Элементы континуитета и дисконтинуитета, их соотношение в раз¬
личных сферах жизни.
Взгляды в современной отечественной и зарубежной историо¬
графии «ранней Греции» на проблему континуитета и дисконтину-
итета. Возвращение в западном антиковедении самых последних лет
к акцентированию моментов континуитета: от идеи «полного раз¬
рыва» к идее «трансформации». Представления о дисконтинуитете
и гиперкритицизм в исторической науке.
Программ* курса
и
Диалектика континуитета и дисконтинуитета в сфере религи¬
озно-мифологических и генеалогических воззрений и преданий:
преобладание элементов преемственности. Греческая религия во
II и I тыс. до н. э. Вопрос об аутентичности аристократических ро¬
дословных в Древней Греции: критика гиперкритических подходов.
Культ предков и генеалогическая традиция. Аристократический
слой общества в «темные века».
Элементы континуитета в этнодемографических процессах. Фу¬
кидид о переселениях племен в «темные века» и данные археологии.
«Островки» этноцивилизационной стабильности: Аркадия, Аттика.
Феномен Кипра и его значение для сохранения цивилизационных
традиций. Континуитет в культурной сфере: эволюция стилей вазо¬
писи.
Преобладание элементов дисконтинуитета в политическом раз¬
витии Греции от II к I тыс. до н. э. Цивилизация дворцовых царств и
полисная цивилизация: разрыв преемственности и трансформация.
Неполисные формы государственности в античной Греции: этнос.
Проблема восточных влияний на формирование древнегреческой
цивилизации в архаическую эпоху. Внедрение в историографию ка¬
тегорий «ориентализующей революции», «ориентализующего пери¬
ода». Заимствование элементов культуры и этноцивилизационная
самобытность греческого мира. Активная роль греков в контактах
с Востоком.
Оригинальность базовых элементов античной греческой иден¬
тичности (полис, гражданство). Творческий характер заимствова¬
ний: алфавитная письменность. Вопрос о времени, целях, этапах
принятия греками алфавита. Письменность «темных веков»: кипр¬
ское слоговое письмо.
Строительные приемы цивилизаций Востока и архитектура анти¬
чной Греции: влияние и самобытность. Открытие героона в Левкан-
ди и необходимость пересмотра вопроса о времени и этапах станов¬
ления архитектурного типа периптера. Научные знания на древнем
Ближнем Востоке и рождение теоретической науки в Греции. Эмпи¬
рический практицизм и возникновение «созерцательного» подхода.
Греческая цивилизация в контексте «контактной зоны» Восточ¬
ного Средиземноморья. Греки и «варвары»: контакты в архаичес¬
кую эпоху и рождение противостояния в связи с греко-персидски¬
ми войнами.
12
Введение
Лекция 4. Ключевые исторические процессы архаической эпохи и их
интерпретация
Великая греческая колонизация и ее освещение в историографии.
Факторы колонизационного движения: экономические, демогра¬
фические, политические. Недооценка политических (внутренних
и внешних) факторов колонизации. Феномен ойкиста.
Проблема демографического взрыва в раннеархаической Греции
и его причины. Переход от экстенсивного скотоводства к интенсив-
ному земледелию, перемены в пищевом рационе и их влияние на
демографическую ситуацию.
Проблема раннего греческого законодательства: «уступка» арис¬
тократии демосу или урегулирование отношений внутри аристокра¬
тической элиты? Примеры: мятеж Килона и законодательство Дра-
конта, законодательная деятельность Питтака. Законодательство
Солона в Афинах и его конкретно-исторический контекст. Солон
как представитель аристократического мироощущения. Законы
и завершение процесса складывания полиса.
Феномен Старшей тирании. Старшая и Младшая тирании: хро¬
нологический и стадиальный критерии разделения. Общий характер
тиранических режимов эпохи архаики, дискуссии об их социальной
природе. Аристократы и тираны. Тирания и полис. Отношение граж¬
данского коллектива к тиранам. Положение тирана в системе полис¬
ной государственности. Деятельность тиранов и укрепление полис¬
ного единства. Позитивные достижения представителей Старшей
тирании.
Общее значение «архаической революции» в истории античной
Греции. Эпоха великих открытий и острых конфликтов. Перспекти¬
вы изучения архаической эпохи в мировой историографии.
Тема III. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
Лекция 5. Основные черты древнегреческой религиозности
Роль религии в жизни древних греков: новые подходы в историо¬
графии. Религия и идентичность полиса. Главные характеристики
полисной религиозности. Связь религии с государственностью,
совпадение религиозных и государственных структур. Полис как ре¬
лигиозный феномен. Религиозная организация полиса. Жречество
в системе полисных магистратур.
Формирование полисного типа религиозности: сакральные пол-
номочия ахейских анактов и басилеев «гомеровского периода»
Программа курса
13
Эволюция религиозных структур в эпохи аристократической, тира¬
нической и демократической государственности.
Адогматизм древнегреческой религии. Влияние политической
раздробленности на религиозное сознание. Культ, ритуал в системе
религиозных представлений. Прагматизм и благочестие. Отношение
к загробной жизни. «Вещественно-материальная интуиция». Ант¬
ропоморфизм. Религия и этика. Влияние религии на ведение войн.
Роль оракулов и предзнаменований. Ритуалы, связанные с войной.
События религиозного календаря и военные планы.
Характеристика древнегреческой религиозности в работах
Ю. В. Андреева. Критика некоторых тезисов этих работ. Древнегре¬
ческий «гуманизм» и древневосточная тоталитарная религиозность.
Маргинальный характер мистических течений в греческой религии.
Материализм и спиритуализм в античной религии и в христианстве.
Была ли у древних греков теодицея? Древнегреческое «язычество»
и христианство: противостояние или преемственность?
Лекция 6. Ключевые категории и термины древнегреческого религи¬
озного сознания. Эволюция древнегреческой религиозности
Важность терминологического аспекта для определения специфики
античной греческой религии. Выражения, употреблявшиеся для
обозначения концепции религии как таковой. Конституирующие
элементы религии, их наличие и соотношение в Древней Греции.
Миф и обрядность. Коллизия религии и этики. Религия и рацио¬
нализм. Подразумевала ли древнегреческая религия веру? Было ли
понятие греха?
Древнегреческие термины для обозначения божества. Имманент¬
ные боги и материальный космос. Мир богов и мир людей. Функции
богов и антропоморфизм. Понятие dike: принцип мировой гармо¬
нии. Hybris и sophrosyne. «Зависть богов».
Основные этапы эволюции древнегреческой религиозности. Не¬
правомерность концепции прямолинейного и равномерного раз¬
вития. Исходная точка: религия гомеровского эпоса. Этическая
«бескачественность» богов Гомера. Корреляция эволюции в сферах
религиозного сознания и правосознания.
Сближение религиозных и этических норм в течение архаиче¬
ской эпохи. «Легализм» и «мистицизм». Роль Дельфийского ора¬
кула в истории древнегреческой религии. Актуализация верований
в «скверну». Чистота ритуальная и нравственная. Дельфы и раннее
14
Введение
греческое законодательство. Полисные законы и космическая гар¬
мония. Мистические течения религии (орфизм, пифагорейство)
и идея посмертного воздаяния.
Лекция 7. Религиозность в классических Афинах
Специфика религиозных традиций Афин. Духовная жизнь Афин
в архаическую эпоху и новые черты в ней в эпоху классики. Внутрен¬
ние и внешние факторы перемен. Солон как религиозный мыслитель
и деятель: «просвещенный традиционализм», представления о «бла-
гозаконии». Религиозные реформы Эпименида — Солона. Афины и
Дельфы. Религиозная политика Писистратидов. Греко-персидские
войны и их влияние на религиозный климат эпохи. Консервативные
тенденции в религиозной жизни в период ранней классики.
Религия и религиозность в «Периклов век». Религиозная по¬
литика Перикла. Религия и строительная программа Перикла. Во¬
прос о личных религиозных взглядах Перикла: человек и политик.
«Просвещенная религиозность». Первая волна судебных процессов
о «нечестии».
Кризис религиозного сознания в Афинах в период Пелопоннес¬
ской войны. Афинская эпидемия и религиозное сознание. Опала Пе¬
рикла: религиозный аспект. Деградация традиционных ценностей.
Деятельность софистов: антропоцентризм, релятивизм, субъекти¬
визм, критика традиции. Были ли софисты атеистами? Преломление
софистических теорий в массовом сознании. Новые формы мифоло¬
гического сознания. Вторая волна судебных процессов о «нечестии».
Процесс Сократа: религиозный аспект. Причины нарастания рели¬
гиозной нетерпимости. Типы религиозного ощущения: «благочести¬
вый», «нечестивец».
Неудовлетворенность традиционной религией и появление кон¬
цепции «человекобожества». Ранние прецеденты: случай Лисандра
Развитие процесса на рубеже эпох классики и эллинизма.
Тема IV. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
Лекция 8. Происхождение и функции института остракизма
Остракизм в Афинах. Определение института остракизма и его ос¬
новные черты. Остракизм как превентивное, «профилактическое»
изгнание. Остракизм и демократия. Ранние формы остракизма (про-
тоостракизм). Остракизм и аристократическое общество. Религиоз-
ные коннотации остракизма. Остракизм и ритуал изгнания «козла
Прогрйлша курса
15
отпущения». Вопрос идеологии феномена и вопрос его актуальной
функции. Остракизм в широком и в узком смысле слова.
Направленность остракизма против аристократических лидеров.
Остракизм и угроза тирании. Архаическая эпоха и истоки остра¬
кизма. Остракизм как проявление коллективистской тенденции
в общественной жизни полисов. Реформы Клисфена: передача ос¬
тракизма в ведение народного собрания. Конкретно-исторический
контекст закона Клисфена об остракизме. Остракизм как средство
контроля демоса над аристократией. Введение остракизма и его
первое применение. Первые остракофории и проблема «мидизма».
Остракизм как внесение «правил игры» в политическую борьбу.
Изменение функций остракизма в V в. до н. э. Остракизм в по¬
нимании аристократических лидеров: инструмент политической
борьбы. Деятельность Фемистокла и первые остракофории. Остра¬
кизм в понимании демоса: средство выбора между конкурирующими
политическими лидерами в ситуации биполярного противостояния.
Возможные варианты результатов остракофории. Остракизм как
«политический карнавал»: «переворачивание» обычных полити¬
ческих отношений. Смеховая сторона остракизма. Остракизм как
средство компенсации коллективной фрустрации внутри граждан¬
ской общины. Остракизм: аристократический по происхождению
институт в демократическом полисе.
Выход остракизма из употребления и причины этого процесса.
Комплексный характер проблемы: действие совокупности различ¬
ных факторов. Разочарование афинян в остракизме после изгна¬
ния Гипербола в 415 г. до н. э. Основные реалии конца V в. до н. э.
в связи с остракизмом: ухудшение внутри- и внешнеполитической
обстановки, отсутствие биполярного противостояния лидеров, демо¬
графическая ситуация. Изменение характера политической жизни
в IV в. до н. э. Остракизм в период поздней классики: неприменя-
ющаяся процедура. Остракизм и политические судебные процессы.
Лекция 9. Оценка института остракизма в контексте полисной
цивилизации. Остраконы как исторический источник
Оценки остракизма в античной нарративной традиции и их про¬
тиворечивость. Суждение об остракизме в IV речи Андокида: раз¬
вернутая критика института в субъективном, риторическом ключе,
искажение фактов. Андокид как выразитель позиций аристократи¬
ческой элиты. Оценка остракизма Аристотелем: объективный взгляд
16
еосиещ
на институт с точки зрения интересов полиса. Факторы функцио*
нирования остракизма. Остракизм и категория «справедливого»
Негативная оценка остракизма римскими авторами. Понимание
остракизма Плутархом: акцент на позитивные черты института. Ос
тракизм в оценке позднеантичных и византийских авторов.
Два возможных взгляда на остракизм: с точки зрения индивида
и с точки зрения общины. Остракизм как порождение полисного
типа государственности. Конструктивность остракизма в полисные
условиях. Остракизм и прямая демократия в греческих полисах.
Значение остраконов (острака) как источников. Этимология
слова «остракон». Глиняные черепки в жизни древних греков. Раз
личные способы употребления черепков. Использование остраконов
для нанесения надписей, в том числе в политических целях. Остра
коны и листья как «бюллетени» для голосования.
История открытия афинских остраконов — от единичных нахо
док к крупным комплексам. Агора и Керамик — главные места обна
ружения остраконов. Открытие многотысячного комплекса острако
нов на Керамике в 1960-х гг. Перспективы дальнейших находок.
Источниковедческая специфика остраконов. Проблемы, для ре
шения которых может привлекаться содержащаяся на остраконах
информация. Методы и направления исследования остраконов
статистический анализ, системно-структурный анализ, палеогра
фический анализ (изучение почерков). Исследование надписей ш
остраконах с содержательной стороны. Имена на остраконах. Ос
траконы и проблемы афинской просопографии и ономастики. До
полнительные приписки на остраконах и их источниковое значение
Инвективы и их разновидности. Шутки голосующих на остраконах
Идентификационные приписки. Карикатуры на остраконах. Необ
ходимость привлечения остраконов для изучения различных вопро
сов истории классических Афин.
Тема V. Классическая греческая драма в политическом контексте
Лекция 10. Историко-политическая проблематика классической
греческой драмы
Важность для современных событий источников для изучений
афинской истории V в. до н. э. Фрагментарность информации в и с
торических трудах Геродота и Фукидида. Актуальность обращения
к сведениям, содержащимся в памятниках драмы. Необходимое^
Программа курса
17
специальных методик при работе с данным видом источников. Дра¬
матические произведения в историческом контексте.
Роль театра в общественной жизни классических Афин. Драма¬
турги и историки: проблема взаимных влияний. Драма как памятник
исторического сознания. Сюжетная каноничность классической тра¬
гедии, не пользовавшейся вымышленными сюжетами. Сакральные
истоки этой каноничности.
«Исторические трагедии» начала V в. до н. э. Исторический
контекст появления этого жанра: греко-персидские войны, станов¬
ление исторического сознания древнегреческой цивилизации, по¬
пытка реформирования трагедии. Деятельность Фриниха. «Персы»
Эсхила и основные характеристики «исторической драмы». Коллек¬
тивный характер исторического сознания и дух раннеклассического
полиса.
«Мифологические трагедии» и восприятие мифа в классической
античности. Миф и история. Актуальность исторического созна¬
ния драмы: прошлое сквозь призму настоящего. Игра аллюзиями
и реминисценциями. Место действия в трагедиях и «принцип ак¬
туальности». «Божественный фактор» в трагедиях: боги как гарант
стабильности в меняющемся универсуме. История и политика.
Древняя аттическая комедия: использование вымышленных сю¬
жетов. Реальные действующие лица в памятниках комедии. «Прин¬
цип актуальности» в комедии и средства его реализации. Прием
«воскрешения мертвых». Драма и история: «разделение труда».
Лекция 11. Классическая греческая драма как источник
по политической истории Афин
Политическая проблематика в древней комедии: сюжеты и аллюзии.
Гротескный характер политической сатиры в памятниках комиче¬
ского жанра.
Политическая проблематика в классической трагедии V в. до н. э.
и ее имплицитный характер. Произведения трагедии как злободнев¬
ные отклики авторов на события современности. «Политическое
искусство греческой трагедии». Поиск конкретных политических
реминисценций в трагедиях: pro и contra. Обоснование оправдан¬
ности конкретно-политического подхода. Драматурги и политики.
Трагедия в контексте политической борьбы. Жанр трагедии: сочета¬
ние философской глубины и политической актуальности. Соотно¬
шение мифа и политики у различных драматургов.
Политический контекст творчества Фриниха («Взятие Милета»
«Финикиянки»). Фриних и Фемистокл. Дискуссии о политиче*
ской позиции Эсхила. Эсхил и Перикл: многолетние связи. «Пер.
сы» Эсхила и хорегия Перикла. Мифологические реминисценции
деятельности Перикла в произведениях Эсхила. «Семеро против
Фив» и «родовое проклятие» Перикла. Возможность конкретно-по
литической интерпретации «Прометея». «Просительницы» Эсхил«
и демократический дискурс в Афинах. «Принцип актуальности» j
«Просительницах» и в классической трагедии в целом. Демократу
ческие взгляды Эсхила в «Просительницах». «Евмениды» Эсхила
и реформа Ареопага: различные точки зрения. «Евмениды» и Пе
рикл. Прославление реформированного Ареопага в трагедии. Внещ
неполитическая проблематика в произведениях Эсхила.
Софокл: литературная деятельность и политическая карьера
Софокл как стратег, казначей, пробул. Дискуссии о политической
позиции Софокла. Был ли Софокл членом «кружка Перикла»? Со
фокл и Перикл: противоположность мировоззренческих установок
Верная перспектива исследования: Софокл и Кимон. Софокл -
консерватор и традиционалист. Политический контекст трагедии
«Эдип-царь». «Тема Перикла» в этом произведении. Имплицитная
критика Перикла. «Эдип-царь» и «скверна» Алкмеонидов. Возмож
ность конкретно-политической интерпретации других произведе
ний Софокла («Аякс», «Филоктет»). Политическая проблематика
у Еврипида («Гераклиды», «Просительницы», «Троянки», «Елена»
и др.). Итог: ценность аттической трагедии как источника по исто
рии политической борьбы в классических Афинах.
Тема VI. Монетное дело Афин в политическом
и экономическом контекстах
Лекция 12. Проблемы афинской монетной чеканки и монетной
политики архаической и классической эпох
Источниковый потенциал нумизматических памятников. Исторш
и методики античной нумизматики. Историки и нумизматы: необ
ходимость согласованной работы. Примеры тиражирования уста
ревших нумизматических тезисов в работах по истории античности
(опора на книгу Ч. Селтмана). Пересмотр хронологических выкладоь
Селтмана. Вывод об отсутствии монетной чеканки в Афинах во вре
мена Солона. Значение этого вывода для истории античных Афин.
Программа курса
19
Сообщения нарративных источников о деньгах в Афинах при
Солоне и интерпретация этих сообщений. Чеканная монета и деньги
в широком смысле слова. Употребление нечеканенных слитков се¬
ребра в качестве домонетных денег.
Причины и цели введения чеканной монеты в Афинах и в грече¬
ских полисах в целом. Экономические и политические факторы
чеканки. Возможность использования нечеканенных денег в эко¬
номике. Функции ранних монет: использовались ли они в нуждах
мелкой розничной торговли? Отсутствие малых фракций в элек-
тровой чеканке. Деньги как средство платежа. Введение монеты в
связи с необходимостью фиксированных и единообразных выплат
(в частности, воинам-наемникам). «Деньги внутреннего обраще¬
ния». Специфика электра как монетного материала: колебание
реальной ценности монет. Необходимость санкции эмитента. Элек-
тровые монеты как оптимальное средство для локального обмена.
Необходимость дифференцированного подхода к причинам и целям
чеканки в различных греческих государствах. Полисы, не чеканив¬
шие монету. Монета как один из главных атрибутов государственно¬
го суверенитета.
Древнейшие афинские монеты ( Wappenmünzen) и связанные
с ними проблемы. Изображения на этих монетах и их основные
типы. Номиналы монет. Интерпретации Wappenmünzen в историо¬
графии. Эмблематичность ранних афинских монет. Изображения
Wappenmünzen как знаки магистратов, ответственных за чеканку.
Параллели: афинские монеты «нового стиля». Проявление индиви¬
дуальной и родовой символики на монетах.
Вопрос о хронологии Wappenmünzen и ранних «сов». Различные
точки зрения в историографии, их динамика. Наиболее вероят¬
ная датировка Wappenmünzen: правление Гиппия. Исторический
контекст первой афинской чеканки: временное примирение Пи-
систратидов с афинскими аристократическими родами. Вопрос об
идентификации магистратов, ставивших знаки на Wappenmünzen.
Отсутствие специального института монетного магистрата в архаи¬
ческих Афинах. Гипотеза о тождестве ответственных за чеканку
магистратов с архонтами.
Переход от Wappenmünzen к «совам»: вопросы историко-хроно¬
логического контекста. Изменение политической системы в 510-
507 гг. до н. э. Недостаточная изученность афинского монетного
атериала классической эпохи. Консерватизм монетного дела в де*
ократических Афинах и его возможные причины. «Демократичен
сий консерватизм». Вопрос о статуе, изображавшейся на класси*
зских афинских монетах.
Афинский монетный декрет, проблемы его датировки, истори*
зского контекста, целей. Критерии датирования памятника и их
^бивалентность. Вопросы, связанные с золотой и медной чеканкой
лассических Афин. Проблема коллибов.
Тематический план спецкурса
№
емы
Тема
Часов по
учебно¬
му плану
Ауди¬
торных
часов
(лекции)
Само¬
стоя¬
тельная
работа
I
Рождение исторического знания
в античном мире
4
2
2
II
Архаическая эпоха древнегреческой
истории: проблемы и перспективы
изучения
12
6
6
III
Древнегреческая религиозность
и ее эволюция
12
6
6
IV
Остракизм в Афинах: полисная
демократия в действии
8
4
4
V
Классическая греческая драма в по¬
литическом контексте
8
4
4
VI
Монетное дело Афин в политиче¬
ском и экономическом контекстах
4
2
2
Всего
48
24
24
ЛЕЩИН
Тема!
Рождение исторического
знания в античном мире
Лекция 1. Геродот и Фукидид:
типы исторического сознания
в классической Греции
Источники, которые позволяют нам изучать
историю архаической и классической Гре¬
ции, как известно, весьма многообразны. Но,
думается, никто не будет спорить с тем, что
главное место среди них занимают данные
нарративной традиции. Другие категории
источников (археологические, эпиграфи¬
ческие, нумизматические и т. д.) могут быть
весьма значимы и информативны. Но пол¬
ноценному использованию и интерпретации
они подлежат только сквозь призму нарра¬
тивных памятников. Именно эти последние
дают основную канву событий и процессов,
имевших место в интересующую нас эпоху,
а уже в рамках этой канвы обретают смысл
22
••екццц
те сведения, которые дают нам вспомогательные исторические дис-
циплины. Без письменных произведений все прочие источники в
известной мере «немы», дают в лучшем случае лишь общий абрис
времени, к которому они относятся, к тому же допускают при изуче-
нии самые различные, порой диаметрально противоположные, трак*
товки. Подчеркнем еще раз принципиальный тезис: многомерность
нашему познанию исторической действительности придает прежде
всего нарративная традиция.
Ну а внутри этой традиции особенно ценны собственно исто-
рические произведения, созданные первыми античными «служи¬
телями Клио». Можно считать, что историография как жанр и как
наука родилась в Греции на рубеже эпох архаики и классики, что
должно еще более обострить (в свете тематики данного пособия)
наше внимание к этой сфере общественного сознания. И прежде все¬
го интересны для нас два первых представителя греческого истори-
описания, чьи труды сохранились полностью. Речь идет о Геродоте
и Фукидиде, на творчестве которых (в сопоставительном ракурсе)
необходимо остановиться достаточно подробно.
Геродоту в российском антиковедении в целом в известной степе¬
ни «повезло»: ему посвящены специальные и высококвалифициро¬
ванные монографические исследования (Лурье, 1947; Доватур, 1957;
Кузнецова, Миллер, 1984). Что же касается Фукидида, то тут дело
обстоит значительно хуже: на русском языке по сей день нет ни одной
монографии о нем (ни оригинальной, ни даже переводной), и это,
конечно, весьма прискорбно.
Сделаем ряд предварительных методологических замечаний
Древнегреческая цивилизация, не будучи первой в истории челове
чества, не являлась, естественно, и родиной исторического сознания
как такового. Однако несомненен тот факт, что именно в ее рамках
это сознание впервые приобрело рефлектированную, дискурсивную
форму, стало эксплицитным предметом теоретического осмысления
Собственно, сказанное относится не только к истории, но и, по сути
дела, ко всем ментальным феноменам. Процитируем Я. Ассмана
«Как известно, теоретический дискурс — по крайней мере в стра
нах Средиземноморья — обязан своим возникновением греческой
культуре» (Ассман, 1999. С. 27). Это суждение тем более показатель
но, что оно принадлежит не какому-нибудь антиковеду, которого
так сказать, положение обязывает быть «патриотом» своей эпохи
Тема /. Рождение исторического знания е античном мире
23
а крупнейшему современному египтологу, специалисту по истории
религии и культуры.
Греки уже обладали средствами рефлексии по поводу собствен¬
ного прошлого. И это то, что роднит их с нами. Однако очень часто
возникает соблазн, поддавшись этому (в конечном счете, лишь час¬
тичному) сходству, абсолютизировать его и при этом закрыть глаза
на существенные различия, которые тоже имеют место. В подобной
системе координат греки предстают как бы «недооформившимися»
европейцами Нового времени; оказывается, что в их мироощущении
присутствовали элементы историзма, но они просто находились еще
in statu nascendi: «в процессе зарождения».
В действительности, однако, ситуация значительно сложнее. Нам
представляется перспективным применить к эволюции историче¬
ского сознания разработанную в свое время С. С. Аверинцевым на
материале литературных памятников весьма удачную категорию
«рефлективного традиционализма» (Аверинцев, 1996. С. 101-114,
146-157). Этот последний, сложившийся в ходе греческой интел¬
лектуальной революции классической эпохи и просуществовавший
вплоть до XVIII в., противостоит как наивному, чуждому рефлексии
традиционализму предшествующего времени, так и антитрадицио-
налистской тенденции индустриальной эпохи. Суть «рефлективного
традиционализма» как раз в том, что, хотя традиция уже является
предметом теоретического дискурса, тем не менее культура осознает
себя по-прежнему как часть этой самой традиции и в ее рамках. До
разрыва с традицией, до окончания традиционалистской установки
еще далеко.
Распространение вышеописанной категории на процессы исто¬
рического сознания влечет за собой важные следствия и делает бо¬
лее ясными многие нюансы, которые отмечались, естественно, и ра¬
нее, но не находили однозначной и исчерпывающей интерпретации.
Так, исключительное значение имеет то обстоятельство, что для ан¬
тичных греков прошлое еще не осознавалось как некая «отдельная»
реальность, принципиально отделенная от настоящего. Прошлое
продолжало жить в настоящем, воспринималось сквозь призму на¬
стоящего; точнее, настоящее виделось как часть прошлого.
Возможно, античность здесь не уникальна. Приведем весьма схо¬
жие соображения М. С. Бобковой по поводу исторического сознания
средневековой Европы: «На протяжении почти всего Средневековья
24
ПСКЦЦц
история строилась на непрерывности, преемственности... Прошлое
продолжало присутствовать, жить в настоящем, и поэтому важно
было его выявить: история естественным образом освещала насто-
ящее... Для современных историков изучение истории строится на
обостренном осознании радикального разрыва между миром проць
лого и научной реконструкцией» (Бобкова, 2005. С. 133 слл.). Как
видим, налицо тот же контраст между установками «рефлективного
традиционализма» и современными дисциплинарными нормами,
порожденными антитрадиционалистской тенденцией.
Подобный подход, в рамках которого прошлое меняется вмес-
те с настоящим, постоянно конструируется, в современной исто¬
риографии иногда называют «презентизмом». Применительно к
античности, как нам представляется, может быть, несколько более
терминологически точным было бы говорить о «принципе актуа-
лизма».
Первые древнегреческие историки отнюдь не были антикварами,
интересующимися «прошлым ради прошлого». Достаточно проци¬
тировать программный методологический тезис Фукидида: «Если
кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность
будущих событий (могущих когда-либо повториться по свойству че¬
ловеческой природы в том же или сходном виде), то для меня будет
достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд со¬
здан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей»
(I. 22.4).
Неслучайно в исторических произведениях V в. до н. э. речь шла
прежде всего о событиях недавних, о прошлом, но о прошлом близ¬
ком или даже предельно близком. Геродот писал о греко-персидских
войнах, которые при его жизни еще продолжались, а те события, ко¬
торые он непосредственно освещал, хорошо помнили люди, с коими
он встречался и беседовал. Фукидид избрал предметом своего сочи
нения Пелопоннесскую войну, а ведь он сам принял участие в пер
вом этапе этого вооруженного конфликта в качестве полководца
Эту принципиальную черту — актуализм — нам необходимо будет
постоянно держать в памяти, рассматривая особенности творчества
историков классической Эллады.
Как известно, «отцом истории» называют Геродота, и эта тради-
ция не изобретена современной историографией, а восходит к самой
античности (например: Цицерон. О законах. I. 1. 5). Говоря строго
Тема /. Рождение исторического знания в античном мире
25
формально, такое определение не вполне верно. Геродот не был са¬
мым первым в мире историком; его нельзя назвать даже первым из
античных историков — в том смысле, что не его перу принадлежал
наиболее ранний из исторических трактатов, созданных в Древней
Греции. И тем не менее, если исходить из духа, а не из буквы факта,
в цицероновской характеристике, цитируемой из поколения в поко¬
ление во всех трудах о Геродоте, все-таки содержится значительная
доля истины. Историописание «догеродотовской» эпохи существо¬
вало, но не оно легло в основу последующей историографической
традиции. Труд Геродота настолько затмил творения его предшест¬
венников — логографов (Гекатея и др.), — что этих последних, на¬
сколько можно судить, довольно скоро вообще практически пере¬
стали читать и переписывать. Как следствие, все они безвозвратно
погибли, не считая незначительных фрагментов, и не оказали замет¬
ного влияния на дальнейшую эволюцию исторической науки. А труд
Геродота остался в веках.
Но если сказанное справедливо, Геродот должен разделить титул
«отца истории» со своим младшим современником — Фукидидом,
в творчестве которого античная историография, лишь недавно воз¬
никшая, достигла своего пика, наивысшего уровня, впоследствии
так ею и не превзойденного. Справедливо пишет Э. Д. Фролов в
книге «Факел Прометея»: «Фукидид являет собой... высшую стадию
в процессе становления античной исторической науки» (Фролов.
1991. С. 118).
Да что говорить только об античности: и по сей день все, кто рабо¬
тает в самых разных областях исторического знания, являются пря¬
мыми наследниками этих двух великих древнегреческих историков.
Их фундаментальные труды, как две колонны, гордо стоят у входа
в «храм Клио», начиная собой историю как научную дисциплину.
Тем более интересен и даже парадоксален тот факт, что, сравнивая
«Историю» Геродота и «Историю» Фукидида, нельзя не поразиться
тому, как не похожи друг на друга эти произведения, разделенные
лишь несколькими десятилетиями. Геродот внес последние штрихи
в свое повествование, создававшееся на протяжении длительного
хронологического отрезка, в 420-х гг. до н. э., т. е. на начальном этапе
Пелопоннесской войны. Именно в это время уже начал работу над
своим трудом Фукидид (как он сам сообщает: Фукидид. История.
1.1.1 ), а оборвалась эта работа (именно оборвалась, а не закончилась,
26
аекщ
поскольку «История» Фукидида осталась незавершенной) в само^
начале IV в. до н. э.
И тем не менее различия до такой степени велики, что их нельзя
отнести на счет расхождений стилистического порядка и даже на
счет своеобразия исследовательских методов двух ученых. Как мы
попытаемся показать, речь следует вести именно о двух разных
типах исторического сознания, один из которых пришел на смену
другому как раз в хронологических рамках V в. до н. э.
В первую очередь бросаются в глаза именно различия в стиле:
они настолько существенны, что влияют даже на жанровые характе¬
ристики двух интересующих нас литературных и научных памятни¬
ков. Сочинение Геродота часто — и совершенно справедливо — отно¬
сят к категории «эпической историографии», тем самым сближая его
с героическим эпосом, представленным на греческой почве прежде
всего поэмами Гомера. Что же касается труда Фукидида, то он дает
несравненно больше оснований для параллелей с драматическим
жанром, с классической трагедией, и такие параллели неоднократно
проводились.
«Истории» Геродота в высшей степени свойственно «эпическое
раздолье» (термин, традиционно употребляемый филологами в от
ношении «Илиады» и «Одиссеи»). Автор щедро делится с читате
лями самыми разнообразными сведениями, сплошь и рядом откло
няется от основного предмета своего интереса — греко-персидских
войн, чтобы дать обширные экскурсы на самые неожиданные темы:
то о переселениях эллинских племен много веков назад, то о ста
новлении царской власти в далекой Мидии, то о нравах скифов, то
о разливах Нила, то о каких-нибудь муравьях величиной с собаку
стерегущих индийское золото... «История» Фукидида — полная
противоположность: ее автор строго придерживается одного сю
жета — предпосылок, начала, хода Пелопоннесской войны. Нельзя
сказать, что в этом сочинении совсем нет экскурсов. Но они не
многочисленны, обычно кратки, а главное — всегда концептуально
и композиционно мотивированы. Если труд Геродота производи'
порой впечатление повествования бессистемного до хаотичности, тс
труд его младшего современника, напротив, весьма стройно и четко
структурирован.
Геродот раскован и информативен — Фукидид точен и аккуратен
Первый (если прибегнуть к аналогии, взятой на этот раз из облает!
Тема L Рождение исторического знания в античном мире
27
изобразительного искусства), подобно живописцу, наносит на по¬
лотно новые и новые мазки, создавая пеструю и красочную карти¬
ну; второй скорее напоминает скульптора: он работает, отсекая все
лишнее. А порой элиминируется даже и такой материал, который мы
никак не назвали бы лишним.
Здесь мы выходим на проблему пропусков и умолчаний у Фу¬
кидида, исключительно важную для понимания творчества этого
историка, но пока еще не получившую однозначного решения. Суть
проблемы заключается в том, что великий афинский историк, прак¬
тически никогда не прибегая к прямым искажениям фактов и в этом
отношении всегда оставаясь в рамках объективности, с другой сто¬
роны, вполне мог — и очень нередко — в силу различных причин
вообще не упомянуть в соответствующем контексте о том или ином,
даже весьма важном, событии, попросту проигнорировать такое со¬
бытие в том месте, где ему надлежало бы появиться.
Достаточно привести ради примера хотя бы несколько взятых
почти наугад исторических фактов большого значения, ставших
жертвами «фигуры умолчания» у Фукидида: реформа Эфиальта
462-461 г. до н. э., знаменовавшая собой важнейший этап форми¬
рования афинской демократии; перенос казны Делосского союза
на афинский Акрополь в 454 г. до н. э., после которого произошло
перерождение этой симмахии в гегемониальную державу; Каллиев
мир 449 г. до н. э., завершивший греко-персидские войны (а также
и другие договоры афинян с персами — 464 и 423 гг. до н. э.); попыт¬
ка созыва общегреческого конгресса в Афинах в 448 г. до н. э.; интен¬
сивная внешняя политика афинян в Центральном Средиземноморье
в 450-440-х гг. до н. э. (включая основание под афинской эгидой
панэллинской колонии Фурии), крупная морская экспедиция Пе¬
рикла в Черное море ок. 437 г. до н. э., остракизмы 444 и 415 гг.
до н. э., в ходе которых из полиса изгонялись крупные политические
деятели; резкое увеличение ставок фороса, взимаемого с союзных
полисов, в 425 г. до н. э. и т. д. Ни о чем из перечисленного у Фуки¬
дида нет ни слова, и, если бы не сообщения других, более поздних ан¬
тичных авторов (Аристотеля, Плутарха и др.), мы вообще не узнали
бы об этих событиях, что, безусловно, обеднило бы наше понимание
истории классической Греции. Вполне обоснованным будет сужде¬
ние о том, что молчание Фукидида никогда не должно становиться
для нас аргументом против историчности какого-либо факта.
28
пе«щ
Итак, если Геродот подчас говорит больше, чем необходимо, т0
Фукидид, наоборот, часто говорит меньше, чем следовало бы. Здесь
контраст тоже очевиден, и в связи со сказанным необходимо кос¬
нуться вопроса о принципах отбора двумя историками находивше¬
гося в их распоряжении фактологического материала, их подхода
к данным предшествующей традиции. К счастью, оба эксплицитно
продекларировали эти свои принципы, и они опять же оказываются
прямо противоположными. Вот позиция Геродота: «Мой долг пере¬
давать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан»
(VII. 152). А вот что пишет Фукидид, вне сомнения, в пику своему
великому предшественнику: «Я не считал согласным со своей зада¬
чею записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я
мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был
сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно,
исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого»
(I. 22. 2).
Иными словами, в первом случае историк считает своим долгом
преподнести читательской аудитории всю информацию, которая
есть в его распоряжении; соответственно, мы слышим в его труде
многоголосый хор самых различных мнений. Следует отметить,
что по вопросу об источниках Геродота за последнее время сложи¬
лась немалая и интересная своим полемическим характером исто¬
риография. Начало дискуссии положил Д. Фелинг, в намеренно
провокативной работе высказавший гиперкритическое отношение
к традициям, отразившимся в трудах «отца истории» (Fehling, 1989)
В спор с ним вступили другие антиковеды: У. Притчетт, Э. Ван-
дайвер, Р. Томас, Р. Бихлер (Pritchett, 1993; Vandiver, 1991; Thomas,
2000; Bichler, 2001). К сожалению, отечественную науку эти дебаты
не затронули.
Что касается Фукидида, то здесь перед нами противоположный
случай: историк прибегает к сознательному отбору, излагает только
те факты и суждения, которые представляются ему, лично ему досто
верными. Метод Фукидида обычно считается началом исторической
критики. Пожалуй, что это так (хотя, наверное, все-таки не лучший
способ критики — замалчивание тех взглядов, с которыми автор Hf
согласен). Но в то же время перед нами начало догматизма в истори
описании — догматизма, который Геродоту был еще чужд (вспомним
противопоставление Геродота и Фукидида по этому принципу в из
Тема /. Рождение исторического знания в античном мире
29
вестной работе Р. Коллингвуда «Идея истории»: Коллингвуд, 1980.
С. 30-31). Данные соответствующим образом «препарируются» и
подаются в таком свете, чтобы не вызвать у читателя и тени сом¬
нения в правильности проводимой историком концепции. На ряде
конкретных примеров это убедительно показал Э. Бадиан (Badian,
1993), который даже, как это ни парадоксально (но во многом убеди¬
тельно), сравнивает приемы, использовавшиеся Фукидидом, с при¬
емами, характерными для современной журналистики.
А между тем насколько ценнее был бы эпохальный труд Фуки¬
дида, если бы в нем, в дополнение к его прочим многочисленным
достоинствам, приводились и иные точки зрения на спорные воп¬
росы, если бы автор не пытался взять на себя роль высшего арбитра
в вопросе о том, «что есть истина»...
Можно сказать, что практически с самого момента «рождения
Клио», в V в. до н. э., наметились две противостоящие друг другу
принципиальные установки, которые можно охарактеризовать как
«диалогичную» и «монологичную». Они-то и проявились, соответ¬
ственно, у Геродота и Фукидида. В дальнейшем «геродотовская» и
«фукидидовская» — «диалогичная» и «монологичная» линии проти¬
воборствовали в античной историографии. В частности, «Афинская
полития» Аристотеля написана всецело в русле второй из них; не
случайно в ней, как и у Фукидида, столь редки ссылки на источ¬
ники.
Совсем иное дело — Плутарх. Правда, субъективно этот автор
относился к Геродоту отрицательно (и даже написал обличающий
его трактат «О злокозненности Геродота»), а Фукидида просто-
таки боготворил. Однако объективно Плутарх, напротив, следует
заветам Геродота, «передает все, что рассказывают», даже если он со
многим и не согласен. Херонейский биограф очень любит, разбирая
какой-нибудь вопрос, сталкивать друг с другом две (или более) про¬
тиворечащие друг другу трактовки, обнаруживаемые им в предше¬
ствующей традиции. При этом чаще всего сам он не делает однознач¬
ного выбора в пользу одной из версий, предоставляя такой выбор
читателю (ср. Плутарх. Солон. 19: «Над этим вопросом ты подумай
сам»). Плутарх принципиально не догматичен, его стиль проникнут
«диалогической» установкой. Здесь, между прочим, еще и влияние
метода Сократа, который — через труды Платона — оказал опреде¬
ляющее воздействие на весь склад плутархова мышления (эта черта
30
хорошо видна не только в биографиях, написанных Плутархом, но
и в трактатах, входящих в состав его «Моралий»: эти трактаты очень
часто принимают форму диалога).
Такая черта, как «диалогичная» установка, — не только одна из
самых импонирующих в творчестве некоторых античных историков,
но еще и одна из особенно коррелирующих с наиболее передовыми
ныне методиками исторической науки. Вспомним, например, выска-
зывания выдающегося медиевиста А. Я. Гуревича о необходимости
для историка «завязать диалог с культурой иного времени» (Гуре¬
вич, 1990. С. 9). Парадоксальным образом Геродот и Плутарх оказы¬
ваются близкими и современными нам по своим подходам.
Труд Геродота можно назвать открытой текстовой структурой,
а труд Фукидида — закрытой. И в этом отношении опять же напра¬
шивается сравнение, соответственно, с эпосом и драмой. Памятник
эпического жанра принципиально не замкнут, он имеет тенденцию
к постоянному разрастанию, причем как «вовне», так и «внутри
себя» — посредством вставок, делавшихся новыми и новыми поко¬
лениями аэдов. Известно, в частности, что гомеровские «Илиада»
и «Одиссея» обрели свою окончательную, каноническую форму
достаточно поздно, лишь в VI в. до н. э., когда усилиями Солона,
а затем Писистрата их текст был зафиксирован. Что же касается
драм, особенно трагедий, то их жанр характеризуется, как известно,
чрезвычайно стройной композицией, к которой нельзя ничего «ни
прибавить, ни убавить».
Различно и отношение ко времени в произведениях двух великих
историков. У Геродота оно тоже «эпично»: этот автор мыслит широ¬
кими временными категориями, живет в мире веков и десятилетий,
а не лет. Скрупулезно точные, тем более аргументировано точные да
тировки у него трудно найти. Фукидид и здесь являет собой полную
противоположность: рассказ о Пелопоннесской войне строго разбит
у него по годам, начало каждой очередной кампании четко фиксиру
ется во времени. Порой хронологическая точность достигает уровня
таких малых промежутков, как несколько дней. Вот лишь один из
возможных примеров, содержащийся в рассказе о захвате в плен
афинянами отряда спартиатов на острове Сфактерия: «Осада эти*
людей на острове продолжалась целых 72 дня, считая от морскогс
сражения до битвы на острове. Из них около 20 дней... лакедемонян
снабжали съестными припасами; остальное время они жили тем, чтс
Те/м /. Рождение исторического мания в античном мире
31
им доставлялось тайно». Клеон «в течение 20 дней... доставил в Афи¬
ны пленников, как и сулил» (Фукидид. История. IV. 39).
И еще один небезынтересный нюанс стоит отметить. В античной
традиции Гераклита называли «плачущим философом», а Демо¬
крита — «смеющимся философом». К историкам, насколько нам
известно, подобные эпитеты не прилагались. Однако если охаракте¬
ризовать при их помощи двух крупнейших представителей историо¬
графии V в. до н. э., то мы встретим нечто весьма и весьма близкое.
Геродот — в полном смысле слова «смеющийся историк». Все его
жизнеощущение проникнуто глубочайшим оптимизмом, который
прорывается почти на каждой странице его труда. Создается впечат¬
ление (и, кажется, не ложное), что этот галикарнасский грек работал
с улыбкой удовлетворения на устах. Поражает жизнерадостность
и доброжелательность, с которой он относится ко всему человече¬
ству. Он не склонен сводить старые счеты, с симпатией относится
не только к «своим», эллинам, но говорит немало добрых слов и по
адресу народов Востока — египтян, лидийцев и даже «исконных вра¬
гов», персов (кстати, за это много веков спустя Плутарх раздраженно
называл Геродота «филоварваром»).
Если Геродот — историк-оптимист, то Фукидид, напротив, — ис¬
торик-пессимист, «плачущий историк». Его мировоззрение порой
мрачно до безысходности. Некоторые фукидидовские пассажи (на¬
пример, II. 51-54; III. 82-84), написанные с огромной выразитель¬
ностью, при этом принадлежат, без преувеличения, к самым тяже¬
лым и даже страшным страницам всего античного историописания
наряду со знаменитыми тирадами Тацита. Не могут не вспомнить¬
ся в данной связи аристотелевские категории трагического — со¬
страдание и страх, вызывающие очищение (Аристотель. Поэтика.
1449Ь27).
Это кардинальное различие мироощущений двух величайших
историков Эллады уже в античности не ускользнуло от внимания
такого тонкого и проницательного знатока литературы, как Диони¬
сий Галикарнасский. Сравнивая Геродота и Фукидида, он, в числе
прочего, пишет: «Я упомяну еще об одной черте содержания... — это
отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех
случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при
неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна
некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность... Ведь
неудачи своих соотечественников он описывает во всех подроб¬
ностях, а когда следует сказать об успехах, он или вообще о них не
упоминает, или говорит как бы нехотя... Красота Геродота приносит
радость, а красота Фукидида вселяет ужас» (Письмо к Помпею.
774-777 R).
Говоря об оптимизме Геродота и пессимизме Фукидида, следует
отметить, что перед нами не просто индивидуальная позиция конк¬
ретных авторов, а выражение общего исторического сознания эпохи.
На это убедительно указывает тот факт, что в другой области афин¬
ского литературного творчества на том же хронологическом отрезке
имели место аналогичные перемены. Старший из трех великих атти¬
ческих трагедиографов — Эсхил, участник и певец греко-персидских
войн, отличался, как видно из его драм, могучим, непоколебимым
оптимизмом. А младшие представители того же жанра — Софокл
и особенно Еврипид, чей творческий расцвет пришелся на время
Пелопоннесской войны, гораздо более пессимистичны.
Как же получилось, что на протяжении V в. до н. э. древнегре¬
ческое (в частности, афинское) историческое сознание проделало
такой путь — от «эпического» к «трагическому» типу? Чтобы луч¬
ше понять это, необходимо обратиться к проблемам исторического
контекста. Следует отметить: мы отнюдь не считаем, что эволюция
ментальных феноменов всегда и всецело происходит под влиянием
внешних исторических обстоятельств. В действительности, конечно,
каждая отдельная форма духовной жизни изменяется прежде всего
по собственным внутренним законам, в соответствии с собственной
логикой развития, заключающейся в вырастании проблем внутри
традиции и последующем их разрешении имеющимися средствами
(этот тезис в максимально общей форме, хотя, может быть, чрезмер¬
но жестко и категорично сформулировал К. Р. Поппер: Поппер, 1993
С. 169-174). Все это так, но не будем забывать, что историческое
сознание — это такая специфическая сфера духовной жизни, пред
метом которой является именно та самая историческая реальность;
перемены в этой последней неизбежно влекут за собой модифика
цию инструментов ее постижения, т. е. субъектно-объектные связи
здесь налицо.
А главной исторической реальностью первой половины V в
до н. э., отразившейся в труде Геродота, были, бесспорно, закон
чившиеся победой эллинов греко-персидские войны. Совершенно
Тема /. Рождение исторического знания е античном мире
зз
не касаясь здесь этого конфликта с чисто военной точки зрения,
мы не можем обойти стороной его грандиозный цивилизационный
смысл. Ведь, в сущности, именно в ходе столкновения с Персидской
державой Ахеменидов, если так можно выразиться, «Греция стала
Грецией». Окончательно сложилось этническое и цивилизационное
самосознание античных греков. Произошло своеобразное «похище¬
ние Европы», впервые сформировалось представление об особом,
отдельном мире Запада, резко отличающемся от мира Востока и,
более того, во всем противостоящем ему. Это представление, как
известно, имело колоссальные, и по сей день дающие о себе знать,
последствия для дальнейшей европейской истории: обычные геогра¬
фические ориентации получили культурную и ценностную семан¬
тику.
Именно в таком ракурсе написана «История» Геродота, о чем ее
автор с самого начала эксплицитно дает знать читателям (1.1 слл.),
отмечая как свою главную задачу описание войн между эллинами
и варварами (под последними разумеются в первую очередь именно
восточные варвары). «Эллины» и «варвары» — в рамках этой бинар¬
ной оппозиции вращается вся греческая мысль, начиная с V в. до
н. э. Это достаточно известный факт, и для нужд нашего исследова¬
ния, пожалуй, лишь подчеркнем специально такой нюанс.
Сами понятия «эллин» и «варвар» возникли, разумеется, не
в классическую эпоху, а значительно раньше: если не во времена
Гомера, то во всяком случае у писателей архаического периода. По¬
явление концепта «варваров» во многом было обусловлено Вели¬
кой греческой колонизацией, в ходе которой эллины неоднократно
вступали в контакт с чужими народами. Характерно, впрочем, что
изначально термин «варвар» осмыслялся как принадлежащий к чис¬
то языковой сфере. «Варвар» — буквально «бормочущий, невнятно
говорящий», т. е. не владеющий «нормальной» греческой речью
(ср. обозначение древними славянами иноземцев как «немцев», т. е.
«немых»).
Но именно греко-персидские войны привели к тому, что эти два
концепта — «эллин» и «варвар» — оказались не просто отчленены
друг от друга (как бывает при всяком нормальном процессе фор¬
мирования этнического самосознания), а прочно встали в позицию
тотального противопоставления, на котором зиждилась истори¬
ческая идентичность цивилизации. Интересно, что незадолго до
34
описываемых событий, ближе к концу VI в. до н. э., в греческой фи*
лософии (конкретно — в раннем пифагореизме) была детально раз*
работана теория бинарных оппозиций («предел — беспредельное»,
«нечет — чет», «единство — множество», «правое — левое», «муж.
ское — женское», «прямое — кривое», «свет — тьма», «добро — зло»
и т. д.). Пары оппозиций выстроены в два ряда, четко соотносимых
друг с другом, и главное — не нейтральны, а имеют выраженный
оценочно-этический характер. И впоследствии хорошо в эту систему
мышления вписалась пара «эллины — варвары».
Ментальный дуализм, о котором идет речь, стал главным мето-
дологическим средством постижения мира и конструирования исто¬
рии, с помощью которого она предельно упорядочивалась: пестрый
хаос повседневной реальности, взятый в подобном ракурсе, легко и
быстро выстраивался в гармоничный космос как на природном, так
и на социальном уровне. Рождалось оптимистическое ощущение,
согласно которому миропорядок мог быть понят, освоен разумом.
Для предшествующей, архаической эпохи, напротив, скорее ха¬
рактерен пессимизм. Девизом для всего ее мировоззрения могут
служить знаменитые строки Феогнида:
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать (425 слл.).
А в V в. до н. э., в период высшего расцвета античного греческого
рационализма, «на волне побед» большее, чем раньше, распростра
нение получили представления об историческом прогрессе, разви
тии от низшего, первобытного состояния к высшему, культурному -
представления, в целом для античной цивилизации не слишком-тс
характерные.
Геродот, живший и писавший в этом упорядоченном космосе,
в котором все «встало на свои места», именно поэтому мог позволит*
себе известные вольности, внести в свой труд упоминавшуюся вынк
пестроту и разноголосицу. Ведь прочный стержень дуального миро
восприятия ничто в тот момент не могло поколебать. Победителя
могли позволить себе быть «открытыми» миру. Само четкое вычле
нение понятий «свой» и «чужой» (вплоть до рубежа VI-V вв. до н. з
греки не ощущали себя «чужими» по отношению к миру Востока
способствовало завязыванию диалога.
Тема /. Рождение исторического знания в античном мире
35
Еще одним важнейшим историческим событием периода, о ко¬
тором идет речь и на который пришлась деятельность Геродота,
стало, бесспорно, резкое возвышение Афин. Этот полис, до греко¬
персидских войн остававшийся, в общем-то, в числе ординарных,
в ходе конфликта с державой Ахеменидов решительно выдвинулся
на первое место, занял со временем положение лидера сопротивле¬
ния «варварскому» натиску, встал во главе крупнейшего в греческой
истории военно-политического союза и превратился в конце концов
в «культурную столицу» Эллады. Расцвела афинская демократия,
которая явилась в целом ряде отношений предельным воплощением
потенций, заложенных в самом феномене античного полиса. Зна¬
чительная часть V в. до н. э. прошла в Греции «под знаком Афин»:
это всем известный факт, вряд ли нуждающийся в аргументации.
Происходили события огромного исторического значения, события,
подобных которым еще не было; назревало предчувствие колоссаль¬
ного прорыва, грядущих невиданных высот. Эти события оказали
самое прямое влияние и на личную судьбу Геродота.
В историографии на протяжении десятилетий не прекращает¬
ся дискуссия по вопросу о том, был ли великий галикарнасский
историк сторонником или противником демократических Афин.
Выдвигалась и обосновывалась как та, так и другая точка зрения.
Касаясь этой проблемы, прежде всего необходимо отметить, что
вопрос «Геродот и Афины» должен быть отделен от вопроса «Ге¬
родот и Перикл». Обычно эти два сюжета жестко увязывают друг
с другом, что, на наш взгляд, не вполне правомерно. Действительно,
нет категорических оснований однозначно считать Геродота горячим
приверженцем Перикла, членом «культурного кружка», созданно¬
го этим афинским политическим деятелем. Перикл упоминается
в труде Геродота лишь один-единственный раз, причем в довольно
двусмысленном контексте (VI. 131).
С другой стороны, говорить о враждебности Геродота к Афинам
как таковым, афинскому полису, афинской демократии, на наш
взгляд, нет решительно никаких оснований. Историк неоднократно
бывал в «городе Паллады» и даже подолгу жил там. Более того, на¬
помним, что в результате активной внешней политики Афин Геродот
смог обрести «новую родину». Еще в молодости ему пришлось поки¬
нуть родной Галикарнас после того, как он принял участие в неудач¬
ном заговоре против тирана Лигдамида. После этого он стал лицом
36
лекщ
без гражданства, не имевшим политических прав где бы то ни было.
А в середине 440-х гг. до н. э., когда под эгидой Афин была основана
в Южной Италии панэллинская колония Фурии, Геродот принял
участие в этом мероприятии. Он переселился в Фурии, стал и до
конца жизни оставался их гражданином.
Итак, историческое сознание, отразившееся у Геродота, было
типично для эпохи «великого проекта». Какая-то удивительная сво
бода и широта духа, целостность в сочетании с разнообразием про
явлений отличали человеческие натуры этого времени. Сам Перикл,
многолетний лидер афинского государства, мог, отложив все дела,
целый день беседовать с философом Протагором о каком-нибудь
чисто умозрительном вопросе (Плутарх. Перикл. 36).
Что же касается Фукидида (который был лишь одним поколе
нием моложе Геродота), то он в своей молодости еще застал конец
этой блестящей эпохи. Более того, именно он дал самую полную
и адекватную во всей античной историографии характеристику «ве¬
ликого проекта». Мы имеем в виду, разумеется, знаменитую «Над¬
гробную речь Перикла» в труде Фукидида (И. 35-46). Эта речь
всегда оставалась предметом самого пристального внимания в со
временном антиковедении. В ней дана лучшая из античных харак
теристик классической афинской демократии (конечно, скорее ее
идеальных принципов, нежели повседневной реальной действитель
ности) и приведено известное определение Афин как «школы всей
Эллады».
Но в целом на период жизни второго гиганта античной истори
ческой науки как раз и пришлось крушение «великого проекта»
Мощнейшим катализатором этого процесса стала, бесспорно, Пела
поннесская война. Эта война — самый крупный и продолжительны!
вооруженный конфликт внутри греческого мира, помимо прочего
имевший все черты настоящей «тотальной войны», ведшейся с чрез
вычайным ожесточением, — поставила на повестку дня совершение
новые проблемы. В частности, имевший столь большое значение
в труде Геродота топос «эллины — варвары» для Фукидида оказы
вался уже практически иррелевантным. Какие уж тут «варвары»
когда сами эллины, борясь друг с другом, презрели все когда-то не
зыблемые нормы...
В Пелопоннесской войне, в сущности, не было победителя. Он*
положила начало общему кризису греческого полисного мира в ц?
Тема t. Рождение исторического знания е античном мире
37
лом, в том числе и в идейном плане. Но особенно тяжело она уда¬
рила по Афинам. «Город Паллады» пережил сокрушительное по¬
ражение, капитулировав перед спартанцами. Демократия дважды
(в 411 и 404 гг. до н. э.) свергалась в результате государственных
переворотов, а после своего восстановления уже не достигла преж¬
них высот. Это наше принципиальное убеждение, идущее вразрез
со все более популярным в современной западной науке мнением,
согласно которому IV в. до н. э. был чуть ли не временем наиболь¬
шего развития и совершенства афинской демократии. Кроме того,
рухнула Афинская архэ — мощнейший союз полисов, возглавляв¬
шийся Афинами, а с ним — и претензии этих последних на гегемо¬
нию в Элладе.
Война и лично для Фукидида стала временем тяжелых испыта¬
ний. В начале нее он оказался одной из жертв обрушившейся на Ат¬
тику эпидемии, но, к счастью, выжил. А затем, в 424 г. до н. э., в ходе
своего единственного полководческого опыта, будущий историк,
командуя в качестве стратега эскадрой афинских кораблей, неудач¬
но провел операцию у северного побережья Эгейского моря. За это
на родине он был приговорен к пожизненному изгнанию и много
лет провел в чужих краях. Если Геродот, как мы видели, в резуль¬
тате политики Афин обрел полис, то Фукидид потерял свой полис
(и здесь контраст!). Возвратиться с чужбины историк смог лишь по
окончании Пелопоннесской войны, скорее всего, в результате ам¬
нистии, проведенной в 403 г. до н. э. Впрочем, дело, повторим, даже
не в персональной судьбе Фукидида, а в кардинальной смене общего
духовного климата.
Стройный космос, возникший в ходе греко-персидских войн, за
считанные годы развалился, превратился в хаос. Мир стремитель¬
но утрачивал смысл. К сложившейся тогда ситуации удивительно
точно подходят сделанные на совсем другом материале наблюдения
Й. Рюзена о «катастрофическом» кризисе исторического сознания.
Процитируем слова этого немецкого исследователя. Кризис такого
рода «разрушает способность исторического сознания превращать
последовательность событий в осмысленное и значимое повество¬
вание. В этом случае под сомнение ставятся сами принципы обра¬
зования смысла, благодаря которым историческое повествование
приобретает последовательность. Они должны быть вынесены за
пределы культуры или даже быть признаны бесполезными. Поэтому
38
такому кризису трудно найти место в памяти тех, кто вынужден
страдать от него. Когда он возникает, язык исторического смысла
немеет. Кризис становится травмирующим. Требуется время (иногда
даже поколения), чтобы найти слова, которые могут выразить его»
(Рюзен, 2005. С. 42).
В Афинах, правда, осмысление новой реальности пришло до«
вольно быстро, прежде всего именно благодаря гению Фукидида,
его могучему интеллекту, которому оказалось под силу сразу вы¬
работать новый тип исторического сознания, ставший столь не-
обходимым. В условиях потери старых «смыслов» приходилось
форсированно искать и создавать новые, конструируя их буквально
на руинах и обломках. И тут уже никак нельзя было сохранить ге-
родотовскую открытость и широту тем и взглядов. Напротив, если
в эпоху «космоса» историк мог позволить себе быть несколько «ха¬
отичным», то в эпоху «хаоса» исторический труд должен был стать
максимально «космичным», строго упорядоченным (пусть даже до
концептуальной узости) и закрытым в структурном плане. Разум¬
ный миропорядок, утраченный на уровне реальной жизни, требова¬
лось восстановить хотя бы на уровне нарратива.
Геродот писал для «поколения победителей», осознавшего свою
силу; первой читательской аудиторией Фукидида было «поколе
ние побежденных», «потерянное» поколение послевоенных лет,
ощущавшее только собственную слабость, растерянность и потерю
всяческих ориентиров. Эти ориентиры и восстанавливает историк
соответствующим образом расставляя акценты и давая ответы на
ключевые вопросы (подчас в противоречии с реальными фактами)
Война была неизбежной, во всяком случае, не афиняне развязали ее
и поэтому в данном отношении им не в чем винить себя. Афины не
были обречены на поражение, они могли бы победить, если бы у ру
ля государства по-прежнему стояло «поколение отцов», представ
ленное в первую очередь Периклом: так пусть же его деятельности
служит потомкам уроком и идеалом. Таковы основные элементь
исторического мировоззрения Фукидида.
Геродот в четко структурированном ментальном космосе своего
времени мог совершать увлекательные «путешествия духа» без вся
кой опаски заблудиться. В погрузившемся в хаос мире Фукидид;
такая опасность была вполне реальной, и историк, никуда не откло
няясь, строго следует вехам своих базовых принципов, дабы поддер
Тема /. Рождение исторического знания в античном мире
39
жать поколебленную идентичность. Подчеркнем еще раз: когда мы
говорим «Геродот» и «Фукидид», это следует понимать в смысле
поколения Геродота и поколения Фукидида, столь близких друг
к другу, но в то же время разделенных непреодолимой чертой.
В дальнейшем, в IV в. до н. э. и в эллинистическую эпоху, в гре¬
ческой исторической мысли восторжествовала скорее не «фукиди-
довская», а «геродотовская» линия. Не Фукидид с его утрированным
рационализмом стал «путеводным маяком» для новых поколений
историков. Фукидида почитали, но его методу работы не следовали.
Крайне немногочисленные исключения (важнейшим из них следует
назвать Полибия с его «прагматической историей») способны лишь
подтвердить общее правило.
И все же, если мы скажем, что Эфор, Феопомп или Ктесий Книд¬
ский явились в полной мере прямыми «наследниками» Геродота, это
будет не совсем верно. Безвозвратно исчезло что-то неуловимое, что
прочно ассоциируется у нас именно с Геродотом. Ушел тот самый го¬
рячий, искренний, открытый миру оптимизм. На смену ему пришел
холодноватый, порой несколько искусственный пафос риториче¬
ской историографии; появились ностальгические нотки. Прошлое
по-прежнему осознавалось сквозь призму настоящего, в тесной
связи с ним, но характер этой связи значительно изменился: он уже
больше не отвечал «эпическим» критериям. Гармоничный космос
«Периклова века», заслоненный полосой хаоса, так и остался «по¬
терянным раем», недосягаемым образцом для подражания. «Мир»
Геродота прошел через суровое «чистилище» Фукидида.
Говоря о Геродоте и Фукидиде, мы сознательно не стали подроб¬
но освещать те аспекты их жизни и творчества, которые хрестома¬
тийно известны и которые можно почерпнуть из любого пособия
более традиционного типа. Нам хотелось детальнее рассказать о тех
вопросах, которые до сих пор не привлекали или почти не привле¬
кали к себе специального внимания. Надеемся, что рассмотренные
выше особенности исторического мировоззрения и мироощущения
этих авторов, их подход к действительности, их методы работы
прольют дополнительный свет на источниковедческую специфику
их произведений, позволят более многогранно оценить содержа¬
щиеся в этих трудах данные. Ведь данные эти, подчеркнем еще раз,
составляют основу наших знаний об архаической и классической
Греции.
Тема if
Архаическая эпоха
древнегреческой истории:
проблемы и перспективы изучения
Лекция 2. Новые открытия в области исследования
«ранней Греции». Подходы к изучению архаики
в современной западной и отечественной
историографии
История доклассической, так называемой «ранней Греции», охваты¬
вающая собой первую половину I тыс. до н. э., в течение последних
десятилетий привлекает к себе все более пристальное внимание ан-
тиковедов во всем мире. И это отнюдь не случайно.
Применительно к Элладе классической эпохи ныне уже не при¬
ходится рассчитывать на сколько-нибудь существенное пополнение
источниковой базы. Случаются, конечно, и исключения. Среди них
прежде всего следует назвать открытие в 1960-х гг. огромного ком¬
плекса остраконов на Керамике, материал которого только-только
начинает вводиться в научный оборот (публикации Ш. Бренне
и др.; подробнее см. в теме IV). Но это, подчеркнем, именно лишь
исключения, к тому же, по большому счету, маргинальные. Если бы
в нашем распоряжении не было обширного спектра нарративных
текстов о классических Афинах, сами по себе остраконы мало что
прибавляли бы к нашим знаниям о них. Иными словами, ученым
остается иметь дело в общем с одним и тем же корпусом хорошо
известных данных, и, соответственно, исследование чаще и чаще
вырождается в некие интеллектуальные игры, когда предлагаете)!
очередная, сто первая точка зрения на ту или иную проблему, ранее
сто раз изучавшуюся и дискутировавшуюся.
А вот с «ранней Грецией», т. е. с архаической эпохой и с предшест
вовавшими ей «темными веками» (или «гомеровским периодом»)
ситуация обстоит совсем иначе. Поскольку сведений об этом хрон#
логическом отрезке в принципе немного, несравненно меньше, че*
об эпохе классики, то вполне естественно, что их постоянно стан^
вится все больше и больше. По остроумному замечанию одного со
временного исследователя (Д. Тэнди), «темные века» не могут стаА
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
41
еще более «темными»; совершенно закономерно, что мрак над ними
должен понемногу рассеиваться (Tandy, 1997. Р. 2).
Пополнение наших знаний происходит прежде всего за счет ар¬
хеологических раскопок, но также в результате активного привле¬
чения сравнительно-исторического материала, применения новых,
современных подходов и методик, комплексных интерпретаций.
Иными словами, в данной области еще возможны (и по сей день де¬
лаются) открытия — настоящие, полноценные открытия как на чис¬
то фактологическом уровне (чего стоит только одно обнаружение
в Левканди на Эвбее остатков монументального — 45 х 10 метров
в плане — здания периптерально-апсидного типа, датируемого X в.
до н. э. и в корне изменившего устоявшиеся представления о на¬
правлениях и темпах формирования раннегреческой архитектуры,
или совсем недавняя находка древнейшей на сегодняшний день
греческой надписи рубежа IX-VIII вв. до н. э., причем не где-нибудь,
а в Лации), так и на уровне концептуальном — а это еще важнее.
Приведем пока лишь несколько примеров. Во-первых, откры¬
тие демографического взрыва в Аттике VIII в. до н. э., сделанное
Э. Снодграссом по итогам количественного анализа погребений
(Snodgrass, 1980). Правда, впоследствии отмечалось, что масшта¬
бы демографического взрыва, определенные Снодграссом, были,
пожалуй, чрезмерно завышены. Наиболее убедительно это проде¬
монстрировал И. Моррис (Morris, 1987). Однако нельзя отрицать
сам факт резкого роста населения — если не в 7 раз за 60 лет, как
считалось ранее, то во всяком случае примерно в 3 раза по самым
минималистским оценкам. А это ведь тоже очень много.
Во-вторых, концепция «биполярного полиса», предложенная
Ф. де Полиньяком (Polignac, 1984, 1995), который установил роль
крупных святилищ на границах хоры в складывании полисных
структур. Книга де Полиньяка «Рождение греческого полиса», по¬
явившись в 1984 г., сразу стала классической. И не случайно: в этой
работе было предложено и аргументированно обосновано качест¬
венно новое видение феномена греческого полиса, что сразу позво¬
лило вывести наше понимание архаической эпохи на более высокий
уровень. Сделаем лишь одну оговорку: де Полиньяк считает Афины
исключением из выведенной им нормы «биполярного полиса».
Однако, на наш взгляд, они таковым все же не являлись, во всяком
случае с того времени, как в состав афинского государства был
42
лец^
инкорпорирован Элевсин, и его святилище Деметры стало вы пол*
нять искомую роль второго, «маргинального» полюса.
В-третьих, оценка подлинного масштаба восточного влияния
на все стороны архаической греческой цивилизации, позволившая
говорить об особом «ориентализующем периоде» ее истории. Наибо*
лее детально этот сюжет разбирается в исследованиях О. Меррея,
В. Буркерта (Murray, 1993; Burkert, 1992). Этот список значитель¬
ных концептуальных открытий в сфере изучения «ранней Греции»
можно было бы еще долго продолжать.
Неудивительно, что на столь плодородной ниве нет недостатка
в работниках. По сути дела, это — передний край сегодняшней ан-
тиковедческой науки. Отметим характерное обстоятельство: вплоть
до 1960-х гг. мы практически не находим в историографии обобща¬
ющих концептуальных исследований по архаической Элладе. Наи¬
более значимое исключение — большая статья А. Хейса «Архаиче¬
ские времена Греции как историческая эпоха» (Heuss, 1969), впервые
вышедшая в 1946 г.
А затем ситуация радикально изменилась. Переломным момен¬
том мы, пожалуй, назвали бы 1962 г., когда была издана монография
Честера Старра «Происхождение греческой цивилизации» — первая
в серии книг этого антиковеда, посвященных эпохе архаики (Starr,
1962, 1977, 1986). Еще за несколько лет до того, в 1954 г., появилась
получившая широкую известность, ярко и увлекательно написанная
книга Мозеса Финли «Мир Одиссея» (Finley, 1954). Строго говоря
ее предметом являлся в основном «гомеровский период», но и на ар¬
хаическую Грецию эта работа тоже проливала новый и важный свет,
как и другая, более поздняя монография того же автора — «Ранняя
Греция».
Это были, так сказать, «первые ласточки». С тех пор и вплоть до
наших дней исследования аналогичной направленности (как прави
ло, монографического формата) идут буквально потоком, особенно
в англоязычной литературе. Назовем книги Л. Джеффери, Э. Бер
на, Дж. Бордмана, Э. Снодграсса, М. Гранта, Дж. Херуита, П. Jle
века, К.-В. Вельвая, О. Меррея, Р. Осборна, К. Томас и К. Конанта
М. Кыйва (Jeffery, 1978; Bum, 1978; Boardman, 1978; Snodgrass, 1980
Грант, 1998; Hurwit, 1985; Lévêque, 1990; Welwei, 1992; Murray, 1993
Osborne, 1996; Thomas, Conant, 1999; Köiv, 2003). Можно, пожа
луй, даже говорить о складывании особого историографической
Телta //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
43
жанра — общего очерка истории «ранней Греции», что само по себе
знаменательно.
Весьма заметен контраст с изучением греческого мира класси¬
ческой эпохи: в этой области подобного наплыва обобщающих ис¬
следований мы ни в малейшей мере не обнаруживаем. Отчасти это,
очевидно, связано с факторами объективного порядка: охватить гре¬
ческую классику во всем ее богатстве и разнообразии в одном труде,
будь он сколь угодно фундаментален, невероятно трудно, а доклас-
сический материал все-таки более компактен и обозрим.
Но есть, конечно, и другие, менее формальные обстоятельства,
способствующие постоянному нарастанию интереса к архаической
эпохе. Финли и Старр предложили во многом радикально новый
взгляд на сущность эпохи, на ее место в истории античности. Их ра¬
боты были смелым вызовом традиционным, общепринятым до того
воззрениям в этой сфере исследований. И, видимо, необходимость
в пересмотре старых точек зрения к тому времени стала уже в пол¬
ной мере насущной, коль скоро труды нового направления были
встречены с энтузиазмом практически всеми коллегами иницииро¬
вавших эти разработки ученых.
И с тех пор развитие наших знаний и представлений о «ранней
Греции» идет все более бурным темпом. Ориентир на «смену вех», на
отказ от стереотипов, революционную ломку устоявшихся догм про¬
должает действовать. Поэтому, кстати, для современной историогра¬
фии об эпохе архаики характерна ярко выраженная полемичность.
Каждый исследователь стремится не оставить «камня на камне» от
построений своих предшественников. В целом это творческое кипе¬
ние представляется нам скорее позитивным фактором. Безусловно,
есть и свои издержки, в пылу споров высказано немало крайних, не¬
приемлемых положений. Но это вполне нормально. Надеемся, время
расставит все на свои места, отбросит крайности и сохранит то, что
достойно сохранения, то, что прошло апробацию длительными дис¬
куссиями и оказалось бесспорным.
Как бы то ни было, в сложившихся условиях каждая новая моно¬
графия, посвященная ранней греческой истории, вызывает вполне
естественный интерес. Всякий раз, открывая только что вышедшую
книгу, хочется узнать: а какой новый угол зрения предложит ее
автор? Поскольку развитие в данной области антиковедения ны¬
не идет, повторим, наиболее бурно, есть резон ожидать очередных
44
Лекцт
«нестандартных ходов». Одна концепция стремительно сменяет
другую.
Уже поэтому, кстати, работы об архаической Греции обречены
на то, чтобы довольно быстро устаревать, становиться не столько
«классикой жанра», сколько «вчерашним днем». Так, исследования
Старра содержали интенсивную критику тогдашней «ортодоксии».
Но прошло несколько десятилетий — и они сами стали «новой орто¬
доксией» и, как следствие, предметом критики.
* * *
Одной из досадных издержек современного этапа изучения арха¬
ической греческой истории стало (преимущественно в западном
антиковедении) чрезмерное господство гиперкритицизма в оцен¬
ке источников. Жертвой гиперкритического подхода становится
в первую очередь нарративная традиция. Как известно, для «ранней
Греции» существует лишь очень малое количество современных
эпохе письменных источников. Причем они ограничены не только
в количественном отношении, но и в тематическом. В частности,
собственно исторические труды появляются только на самом зака¬
те архаической эпохи. Это произведения логографов, от которых
к тому же дошли лишь жалкие фрагменты. Приходится доволь
ствоваться литературными памятниками других жанров, особенно
поэзией: гомеровским и гесиодовским эпосом, лирикой VII-VI вв.
до н. э. Но ведь это — весьма специфические источники, из кото
рых информацию о многих сферах бытия в принципе невозможно
почерпнуть, поскольку она в них никогда и не содержалась.
А в то же время существует достаточно богатая нарративная
традиция о греческой архаике, но созданная в более позднее вре
мя — в классическую, эллинистическую, римскую эпохи. Среди
представителей этой традиции — крупные историки, ученые: Геро
дот и Фукидид, Аристотель и Плутарх, Диодор и Павсаний... Не
все они жили позже (порой намного позже) тех событий, которые
ими описываются. Потому-то адепты гиперкритической тенденции
откровенно недооценивают сообщения этих авторов об архаическом
периоде, а то и просто пренебрегают ими. Считается, что они не
могли сохранить достоверных данных о том, чего не видели своими
глазами.
Характерно, например, встреченное нами мнение одного запал
ного антиковеда (С. Тодда): он является учеником Финли и поэтом)
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
45
считает недостоверной всю афинскую историю вплоть до Пелопон¬
несской войны (Todd, 1991. Р. 47). Откровенная, но вряд ли конс¬
труктивная позиция! Никто не будет спорить с тем, что сведения
по эпохе архаики, содержащиеся даже у Геродота и Фукидида (не
говоря уже о Плутархе, Павсании и др.), подлежат критическому
анализу. Но критический анализ и отбрасывание «с порога» — от¬
нюдь не одно и то же.
Ведь очень часто гиперкритицизм порождает выборочный и про¬
извольный подход к сведениям источников. Исследователь берет
только те данные, которые укладываются в разделяемую им общую
схему, подкрепляют ее. А те, которые ей противоречат, отбрасыва¬
ются как не содержащие в себе зерно истины. Вряд ли такого рода
субъективизм полезен для науки.
Нередко можно встретить эксплицитное суждение о том, что
только археологические данные могут служить в полной мере досто¬
верным источником по истории «ранней Греции». И опять же: мы
ни в коей мере не хотим умалить значение археологии для изучения
этого исторического этапа античности. Это значение, без сомнения,
колоссально. Но почему нужно трактовать данные археологии изо¬
лированно? Гораздо более перспективной представляется комплекс¬
ная корреляция двух типов свидетельств: письменных источников
и вещественных памятников.
Попытки такой корреляции, как правило, не предпринимаются
(именно из-за пренебрежения к нарративной традиции), хотя порой
она просто-таки напрашивается и, по меньшей мере, не помешала
бы. Только один пример. И. Моррис в своей, без преувеличения,
этапной книге «Погребения и античное общество» (Morris, 1987)
очень убедительно показал на чисто археологическом материале,
что в середине VIII в. до н. э. в Афинах имели место какие-то чрез¬
вычайно серьезные изменения социально-политического плана.
Какие же? Это для исследователя так и осталось загадкой. Ему даже
и в голову не пришло сопоставить свои выводы с сообщением тра¬
диции, относящим как раз к этому времени (к 753-752 гг. до н. э.)
такую принципиальную реформу афинского государственного ус¬
тройства, как ликвидация пожизненной царской власти и переход
к десятилетнему архонтату, т. е., по сути дела, рождение полиса со
свойственной ему системой магистратур из примитивной протопо-
лисной монархии. Ответ на поставленный вопрос лежал буквально
46
на поверхности, а им из-за субъективного гиперкритического на
строя даже не попытались воспользоваться!
Подчеркнем: наш протест против гиперкритицизма отнюдь не
следует понимать в том смысле, что мы призываем вовсе отказаться
от критики нарративных источников. Есть две в равной мере до¬
садные крайности: гиперкритическая презумпция и безграничное,
буквалистское доверие к тексту источника. Если на первых стадии
развития антиковедения Нового времени торжествовала крайность,
названная последней, то со времен Нибура чаще «перегибают палку»
в противоположную сторону.
Гиперкритицизм, может быть, в свое время был понятен как ес¬
тественная реакция на некритическое следование источнику и даже
в чем-то полезен. Но теперь, как представляется, свою функцию он
выполнил и стал, скорее, тормозом развития научного знания об
античности. Вместо того чтобы с упорством, достойным лучшего
применения, держаться за него, как и по сей день делается на Западе,
от этого подхода давно пора бы отказаться. Исследования последнга
лет (Гиндин, Цымбурский, 1996; Молчанов, 2000; Немировский
2002) убедительно показывают, что даже применительно к крито
микенской эпохе нарративная традиция I тыс. до н. э. содержит
массу ценнейшей и аутентичной информации. Необходимо только
правильно согласовывать эту информацию с данными археологии -
и результаты оказываются впечатляющими. Тем более сказанное
должно относиться к эпохе архаики. Работы западных антиковедоа
зачастую исключительно богатые как фактологическим материалом
так и идеями, страдают именно от неверной методологической уста
новки.
В то же время и брать всю историческую информацию, скажем
того же Аристотеля, «как она есть», как полную и безусловную
истину неправомерно. Это означает одновременно и переоценку
и недооценку античных писателей. Переоценку — поскольку не
гласно постулируется, что автор IV в. до н. э. имел в своем распа
ряжении исчерпывающую и неоспоримо достоверную информа
цию о событиях пятисотлетней (и более) давности, но при этои
не ставится вопрос, откуда такая информация ему была доступна
Недооценку — поскольку великий Аристотель в рамках такого пол
хода воспринимается как некий туповатый хронист без всяки*
признаков оригинальных идей или фантазии, способный только н*
Тыш IL Архаическая эпоха древнегреческой истории
47
то, чтобы механически воспроизводить факты. Но ведь прекрасно
известно, насколько в действительности собственные взгляды ос¬
нователя перипатетической школы окрашивали его повествование
о событиях прошлого! К тому же он стоял в конце длительной ис¬
ториографической традиции классической эпохи, имел целый ряд
предшественников (применительно к афинским реалиям — прежде
всего аттидографов), чьими трудами постоянно пользовался. А каж¬
дый из этих предшественников тоже был не летописцем, а исследо¬
вателем, тоже имел круг собственных мнений, влиявших на изло¬
жение.
Необходимо пройти «между Сциллой и Харибдой». Наряду
с крайними позициями существует ведь и «золотая середина», путь
умеренной критики. Только этот путь позволяет прийти к плодо¬
творным результатам.
Сделаем несколько наметок к поискам этого среднего пути. Как
работать с данными античного автора, который отделен от описыва¬
емой им эпохи столетиями? Во-первых, прослеживается следующая
закономерность. Непосредственные эмпирические факты, которые
сообщаются даже такими довольно поздними писателями, как Дио¬
дор, Плутарх и др., как правило, заслуживают доверия. Их вряд ли
следует отвергать, конечно, за исключением тех случаев, когда эта
информация либо вступает в прямое противоречие с заведомо более
аутентичными источниками, либо она сама по себе внутренне про¬
тиворечива.
С другой стороны, необходимо проводить четкое разграничение
между фактами и их интерпретациями. Как раз эти интерпрета¬
ции у поздних авторов и являются тем, что далеко не всегда и не
во всем заслуживает доверия. Даже Аристотель, отделенный от
событий V в. до н. э. всего лишь столетием, при рассказе о них
(в частности, в «Афинской политии») подчас не вполне корректен
в их трактовке, дает порой упрощенную и одностороннюю карти¬
ну политической жизни, в определенной степени модернизирует
ситуацию и судит о более ранних эпохах с помощью категориаль¬
ного аппарата своего времени, во многом чуждого реалиям ранней
классики. В тем большей мере сказанное относится, например,
к аристотелевскому анализу реформ Солона и породившего их
кризиса. Факты изложены в основном верно, но их интерпретация
умозрительна, априорна.
48
Лекщ
Еще более сомнительными, откровенно риторическими, наив¬
но-морализаторскими бывают трактовки фактов у Плутарха. Мы,
таким образом, не обязаны слепо следовать всем рассуждениям,
встречающимся у того или иного автора, но сообщаемые им факты
мы, безусловно, всегда должны учитывать.
Во-вторых (это тесно связано с тем, что было отмечено чуть
выше), историческая память античности, очевидно, по какому-то
закону общечеловеческой психики, лучше, надежнее фиксировала
одни вещи и значительно хуже — другие. К первым относятся как
раз факты, события, личности; ко вторым — процессы, реалии, ин¬
ституты. Выражаясь, может быть, несколько упрощенно, позволим
себе заметить, что нарративный источник, как правило, в гораздо
большей степени дает нам достоверное знание о том, что произошло,
чем как это произошло. Тут уже начинаются детали, а детали — иде¬
альное поле для искажения.
* * *
Следует отметить, что и в отечественной историографии тематика,
связанная с «ранней Грецией», тоже не обделена вниманием. Она
освещалась на максимально общем уровне в работах Ю. В. Андре¬
ева, Э. Д. Фролова, В. П. Яйленко (Андреев, 1976; Андреев, 2002;
Фролов, 1988; Яйленко, 1990), а на уровне более конкретных реалий
и процессов — в работах К. К. Зельина, А. И. Доватура, А. И. Зайце¬
ва, И. А. Шишовой, Л. А. Пальцевой и др. (Зельин, 1964; Доватур,
1989; Зайцев, 1985; Шишова, 1991; Пальцева, 1999).
Из исследований самых последних лет следует назвать вышед¬
шую на русском языке книгу латвийского антиковеда X. Туманса
«Рождение Афины» (Тумане, 2002). Она по своей тематике шире,
чем обозначено в подзаголовке («афинский путь к демократии»),
в ней можно найти интересный общий обзор истории архаической
Греции — в политическом, социальном, культурном аспектах. К бес
спорным достоинствам книги можно отнести то, что автор, хорошо:
изучивший современную зарубежную литературу, активно исполь |
зует содержащиеся в ней новые идеи и часто предлагает свое соб-
ственное видение имевших место процессов. X. Тумане смело поле¬
мизирует с устаревшими, но еще тиражируемыми у нас взглядами,
убедительно показывает их слабые стороны. Порой, правда, стрем
ление во что бы то ни стало «сокрушить догмы» подводит этого
ученого, и он, презрев необходимую осторожность, выдвигает nft
Jem //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
49
меньшей мере спорные тезисы, которые невозможно доказать. Тем
не менее достоинств в этой работе, безусловно, значительно больше,
чем недостатков.
К сожалению, не можем сказать того же о недавней монографии
Т. В. Блаватской «Черты истории государственности Эллады (XII—
VII вв. до н. э.)». По времени — это последнее на сегодняшний день
отечественное исследование «ранней Греции» (издано в 2003 г.).
Однако не можем не отметить, что автор в явно недостаточной мере
учитывает новейшие успехи западного антиковедения в этой сфере,
очень часто опирается на устаревшие положения, давно опроверг¬
нутые.
Достаточно привести один характерный пример. Анализируя
реформы Солона, исследовательница по-прежнему стоит на точке
зрения, согласно которой в Афинах к солоновской эпохе уже чека¬
нилась монета. Так еще можно было считать во времена Ч. Селтмана
(на которого, собственно, и ссылается в данной связи Т. В. Блават-
ская: Seltman, 1924). Но с этих времен много воды утекло. К на¬
стоящему времени трудами поколений историков и нумизматов
(К. Крээя, Дж. Кролла и др.: Кгаау, 1976; Kroll, 1993) со всей надеж¬
ностью установлено, что первые афинские монеты ( Wappenmünzen)
были отчеканены уже в послесолоновское время, скорее всего, при
Писистрате (подробнее см. ниже, в теме VI). А коль скоро при Со-
лоне монет в афинском полисе еще не было, это ставит очень многие
аспекты социально-экономических реформ великого законодателя
в совершенно иную перспективу.
Но самое главное — в монографии Т. В. Блаватской развитие
греческого общества первой половины I тыс. до н. э. не показано
в единственно верной исторической перспективе, каковой является
процесс формирования полиса, полисных форм государственности
(см. Блаватская, 2003). В результате история архаической Греции
в целом ряде своих сторон превращается в какую-то загадку, череду
немотивированных событий... В силу всего сказанного мы не можем
рекомендовать названную книгу в качестве «последнего слова» рос¬
сийской историографии по интересующей нас здесь проблематике.
Говоря в целом о взглядах на эпоху архаики, характерных для
отечественного антиковедения, отметим, что у нас позиции гипер¬
критицизма никогда не были особенно сильны. Можно обнаружить
ряд элементов гиперкритического подхода в некоторых работах
50
Ю. В. Андреева (Андреев, 1990). Впрочем, не во всех: этот талант
ливый исследователь за время своей безвременно оборвавшейся, но
исключительно плодотворной научной деятельности неоднократно
изменял свою точку зрения по разным вопросам (что нам представ
ляется вполне естественным: ученый никогда не должен бояться из
каких-то ложных соображений отказаться от ранее разделяемых им
взглядов).
Следует назвать в данной связи также и В. П. Яйленко (см. Яй-
ленко, 1990). Этот антиковед, пожалуй, в наибольшей степени среди
всех российских коллег близок к идеям западной историографии
«школы Старра». В чем-то можно солидаризироваться с выска¬
занными им тезисами, согласно которым архаическая Греция была
довольно простым обществом, с отсутствием сильного и\^ществен-
ного расслоения, обществом, где бедность и богатство стояли, в об-
щем-то, близко друг к другу, не имея между собой четкой, непреодо¬
лимой грани. Отнюдь не присоединяясь к общим принципиальным
посылкам В. П. Яйленко (о полном отсутствии какого бы то ни было
континуитета между греческим обществом II и I тыс. до н. э. и т. п.),
можно считать, что по данному конкретному вопросу его взгляды
имеют право на существование и в известной мере подтверждаются
анализом современных эпохе источников, в частности лирической
поэзии. Действительно, насколько можно судить, не конфликт меж¬
ду богатыми и бедными был основным содержанием социально-па
литической жизни Эллады архаической эпохи — вопреки тому, что
у нас часто писалось. Такого рода конфликт стал по-настоящему
острым и злободневным лишь гораздо позже в силу конкретно-исто
рических обстоятельств.
Поэтому та довольно жесткая критика, которой были подверг
нуты работы В. П. Яйленко, кажется не во всем убедительной. При
ведем несколько цитат из книги Э. Д. Фролова «Рождение грече*
ского полиса»: «Надо обладать поистине безграничным недоверием
к античной традиции, чтобы, как это делается теперь некоторыми
историками, игнорировать эти свидетельства, подкрепленные мае
сою других данных, и отрицать накал социальной борьбы и рево¬
люционный характер всей ситуации века архаики. Такую именно
позицию занимает В. П. Яйленко... Такое мнение переходит черТУ
отделяющую парадокс от заблуждения. Вместе с тем критической
изложение взглядов Яйленко может послужить хорошей иллюстр*
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
51
цией тому, к каким крайностям может привести увлечение модными
сейчас среди части историков трактовками античности в прими-
тивизирующем духе. В самом деле, гиперкритицизм в отношении
к античной традиции и принципиальный отказ от интерпретации
исторического развития Греции в век архаики с позиций материа¬
листической диалектики доведены в очерке В. П. Яйленко до сте¬
пени пес plus ultra... Обращаясь к анализу социальной структуры
архаического общества, В. П. Яйленко и здесь делает все возможное,
чтобы затушевать существо исторической жизни — противостоя¬
ние демоса и знати... Вопреки исторической правде и, в частности,
преданию о неоднократно вспыхивавших смутах и возникавших ти¬
раниях, утверждается, что и в ионийских городах, и в Афинах преоб¬
ладал именно эволюционный путь становления полиса... Нетрудно,
однако, убедиться, каким способом автор добивается нужного ему
впечатления — односторонним подбором и тенденциозным перетол¬
кованием исторических фактов» (Фролов, 1988. С. 112 слл.).
Мы ни в коей мере не встаем в этом споре на сторону В. П. Яйлен¬
ко, но при этом глубоко убеждены, что недостатки его работ лежат
совсем в другом, нежели в том, за что его критикует Э. Д. Фролов.
Не в том, что он отрицает наличие революционной ситуации, ко¬
торая, согласно Э. Д. Фролову, длилась всю архаическую эпоху (да
ведь столь длительных революционных ситуаций и не бывает, иначе
социум просто переживет коллапс). И, конечно, не в том, что он
отказывается трактовать историю архаической Греции «с позиций
материалистической диалектики» (Фролов, 1988. С. 112) (как раз
в этом мы видим бесспорное достоинство).
На самом деле слабая сторона построений В. П. Яйленко заклю¬
чается прежде всего в том, что он, в сущности, на место одной схемы
предлагает другую. А любой схематизм способен только повредить
комплексному, многостороннему познанию исторического бытия.
Реальность заведомо сложнее умозрительной конструкции, в кото¬
рой неизбежно акцентируются одни аспекты неоднозначной диалек¬
тики развития, но за счет этого затушевываются другие. Взгляд ока¬
зывается односторонним, и действительная, полнокровная картина
прошедшей эпохи не восстанавливается.
Так, в корне неверным было бы считать, что вся архаическая эпо¬
ха представляла собой сплошную революцию — и только. Моменты
эволюции, бесспорно, наличествовали, и В. П. Яйленко вполне
52
справедливо констатирует их существование. Но считать, что име
ла место только эволюция, а для революционных процессов Mecrç
не оставалось, — тоже глубоко неверно, поскольку и такая позиция
представляет собой досадную крайность.
Следует говорить, подчеркнем еще раз, о сложной диалектике
многогранного развития, результат которого отнюдь не был пред
решен заранее. Это мы теперь хорошо знаем, что результатом про
цессов, проходивших в эпоху архаики, стало рождение греческого
полиса. Сами архаические греки знать об этом, естественно, не могли
и не строили свое бытие по некоему разработанному плану, ведуще-
му к конкретной, заранее поставленной цели. Мы слишком часто об
этом забываем.
Революционные и эволюционные процессы, стабильность и сму¬
та, консолидация и борьба — все это соседствовало, шло бок о бок,
сменяло друг друга. Кстати, о характере борьбы. Невозможно отри
цать, что архаическая эпоха была временем ожесточеннейших кон
фликтов. Полисы Эллады потрясали в это время кровопролитные
междоусобные распри, зачастую растягивавшиеся на десятилетш
и нередко увенчивавшиеся установлением тиранических режимов.
Но что это были за конфликты? По мнению Э. Д. Фролова, суп
всего — «противостояние демоса и знати» (Фролов, 1988). Не мо¬
жем согласиться с подобной постановкой вопроса. На протяжении
большей части архаической эпохи демос просто еще не вышел на по
литическую арену как самостоятельная сила. Да и каким образом он
мог стать таковой? Демос не имел ни опыта участия в политической
борьбе, ни «классовой сознательности», ни четко сформулирован
ных целей, ни собственных вождей. Всему этому у простонародья
просто неоткуда было взяться.
Поэтому борьба за власть и влияние шла между аристократиче
скими группировками. Демос же был по большей части пассивны*
свидетелем этой борьбы, а если и участвовал в ней, то лишь как ору
дие в руках той же знати.
Вышесказанное обусловливает наше отношение к той концепция
истории архаической Греции, которой придерживается Э. Д. Фр<г
лов (Фролов, 1988). В сущности, это — традиционная концепция
господствовавшая и в мировой науке на протяжении десятилетий
а с 1960-х гг. подвергшаяся пересмотру. Э. Д. Фролов — один из rtf
следних убежденных сторонников этих некогда общераспространен
Теме //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
53
ных взглядов. Такое постоянство, верность раз усвоенной позиции не
может не вызывать уважения, тем более что Э. Д. Фролов и в целом
внес исключительно большой вклад в отечественную историогра¬
фию. Его деятельность следует охарактеризовать как целый важный
этап изучения греческого мира в российской науке. Он — основа¬
тель и глава одной из сильнейших в стране антиковедческих школ.
Э. Д. Фролов в числе очень немногочисленных в наши дни истори¬
ков «большого стиля».
Однако его неоспоримый авторитет все же не должен препятство¬
вать поиску новых путей. И если потребуется, надо не бояться воз¬
ражать. Прокладывать собственную дорогу к решению той или иной
научной проблемы всегда значительно труднее, чем идти по прото¬
ренной тропе. Болезненным бывает осуждение со стороны старших,
уважаемых коллег. И все-таки истина рождается в споре.
Лекция 3. Рождение «греческого чуда»: проблема
континуитета и разрыва преемственности, проблема
восточных влияний
Специфика архаической эпохи древнегреческой истории заключа¬
ется прежде всего в том, что именно на этом хронологическом от¬
резке произошло рождение античной полисной цивилизации. Арха¬
ика — это время, когда на свет появилось «греческое чудо». Следует
сказать, что к самой этой последней категории однозначного отно¬
шения в науке нет. Широко известны слова А. Боннара: «Греческий
народ был совершенно таким же народом, как и всякий другой... Его
цивилизация распускалась и взращивалась на том же черноземе су¬
еверий и мерзостей, на котором выросли все народы мира, — в этом
нет никакого чуда...» (Боннар, 1994. Т. 1. С. 27). Греческая цивили¬
зация — просто закономерный итог длительного предшествующего
развития человечества.
Боннару решительно возражает Ю. В. Андреев, считающий, что
колоссальные успехи древних греков в деле цивилизационного
строительства были во многом обусловлены таким иррациональным
фактором, как субъективная одаренность греческого этноса, не имев¬
шая себе равных. Он пишет: «“Греческое чудо” было создано гением
греческого народа. Но гений — это всегда неожиданность, всегда от¬
клонение от нормы, всегда счастливый случай. Его невозможно вы¬
вести прямо и непосредственно из длинного ряда предшествующих
54
леку*
ему предков. Именно поэтому греческая цивилизация не может счи¬
таться простым итогом предшествующей ей многовековой истории
всего Древнего мира, как хотелось бы думать А. Боннару и всем, кто
разделяет его взгляды» (Андреев, 1998. С. 18).
Безусловно, там, где речь заходит о чуде, науке, казалось бы, ос¬
тается только молчать. Ведь чудо — это всегда нечто непостижимое:
как ни объяснять его средствами человеческого разума, все-таки
останется какой-то необъяснимый «осадок». Как бы то ни было,
прежде всего, очевидно, следует попытаться как можно более четко
сформулировать, что же именно дает повод говорить о «чуде», ка¬
кова была качественная специфика новой греческой цивилизации,
родившейся в архаическую эпоху.
Сразу бросаются в глаза две черты. Во-первых, беспрецедентно
быстрые темпы развития, которые характерны для периода архаи¬
ки. Как бы пробудившись от сна и застоя «темных веков», Эллада
пережила невиданный всплеск творческой активности. Начав едва
ли не с «нуля», к концу архаической эпохи она догнала и в ряде от¬
ношений даже обогнала в своем развитии страны Древнего Востока,
несмотря на их более древние цивилизационные традиции. Весь
облик общества стал совершенно иным: от социума традиционного,
почти не прогрессирующего, чуждого мобильности и довольно про¬
стого по своей структуре, к социуму в высшей степени подвижному,
сложному, динамичному.
Во-вторых, этот создававшийся социум был совершенно уника¬
лен, беспрецедентен, не похож ни на что в предшествующей челове¬
ческой истории. Греция с эпохи архаики пошла совершенно иными
путями, нежели соседние и знакомые ей древневосточные цивили¬
зации. И что не менее важно, эти пути греков теперь отнюдь не сов¬
падали с теми, которыми шли они же сами во II тыс. до н. э. Эллада
после довольно длительного перерыва как бы взяла «второй старт».
В связи со сказанным одной из главных и наиболее сложных про¬
блем, порождаемых архаической греческой историей, является про*
блема континуитета или дисконтинуитета. В каком соотношении
находилась античная греческая цивилизация, сформировавшаяся
в основных чертах в эпоху архаики и раскрывшая все свои потенций
в эпоху классики, к микенской (греческой же) цивилизации?
Строго говоря, однозначный, категоричный и непротиворечи
вый ответ на этот вопрос вряд ли вообще когда-нибудь будет да&
Теме //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
55
Дело в том, что сам вопрос слишком уж многомерен и, в сущности,
представляет собой серию вопросов о том, в каких сферах жизни
преобладали элементы преемственности от предшествующего исто¬
рического периода, а в каких более сказывались элементы разрыва
этой преемственности.
Поскольку любое исследование неизбежно обречено на опреде¬
ленный угол зрения, на индивидуальный аспект взгляда на рассмат¬
риваемую проблему, для каждого ученого (в зависимости от того,
к какому конкретному материалу в наибольшей степени привлечено
его внимание) выступают на первый план либо элементы контину¬
итета, либо элементы дисконтинуитета. И те и другие несомненно,
имели место, но чего было больше? А вот тут уже многое зависит от
субъективной оценки автора. Так, в отечественной историографии
последних десятилетий те стороны общественного бытия греков,
в которых сильнее видна преемственность, подчеркиваются в ра¬
ботах Т. В. Блаватской, А. А. Молчанова (Блаватская, 2003; Молча¬
нов, 2000); противоположные же стороны, свидетельствующие о
разрыве традиций, оттеняются в работах Ю. В. Андреева, В. П. Яй¬
ленко (Андреев, 2002; Яйленко, 1990). Программные установки
различных авторов порой кажутся полярно противоположными, до
непримиримости. Так, в первом же абзаце монографии В. П. Яйлен¬
ко «Архаическая Греция и Ближний Восток» декларируется: «Поч¬
ти все исследователи с полным основанием говорят об отсутствии
преемственности между микенской Грецией и последующей эпохой,
наступившей в начале I тысячелетия» (Яйленко, 1990. С. 3). Иными
словами, греки после крушения микенской цивилизации в пол¬
ном смысле слова начали с «нуля». А вот цитата из самого начала
упоминавшейся выше монографии Т. В. Блаватской: «Бесспорно
установленная преемственность развития эллинства на протяжении
двух тысячелетий теперь доставила реальную возможность точного
изучения ряда сторон деятельности народа в те далекие времена»
(Блаватская, 2003. С. 8).
В западном антиковедении со времен Старра и Финли (Starr,
1962; Finley, 1981) значительно более авторитетной является дис-
континуитетная позиция. Именно ее и воспринял В. П. Яйленко.
Однако ныне происходит то, что, как мы отмечали, вообще нередко
случается при изучении «ранней Греции»: то, что совсем недавно
казалось революционным открытием, становится вчерашним днем
56
Лекции
науки. Ознакомившись с одним из самых последних на сегодняшний
день монографических исследований по данной тематике — книгой
К. Томас и К. Конанта «От цитадели к городу-государству: транс¬
формация Греции, 1200-700 гг. до н. э.» (Thomas, Conant, 1999), мы
с удовольствием обнаружили, что ее авторы отвергают концепцию
«полного разрыва», смело и уверенно говорят о значительных эле-
ментах преемственности греческой истории от II к I тыс. до н.э.
Справедливо отказываясь от крайностей гиперкритицизма, они
с большим доверием (хотя, естественно, критически) относятся
к данным нарративной традиции о «темных веках». Предлагается
иная, гораздо более взвешенная перспектива развития греческого
общества: не «начало на пустом месте», а медленная и непростая
трансформация, переход от микенского к полисному типу цивили¬
зации.
Таково ныне положение в западной науке. То, что было новым
и модным во времена Старра, теперь в свою очередь устарело. По¬
лезный урок нашим ученым: не нужно с чрезмерно пылким энту¬
зиазмом повторять всякое «последнее слово», сказанное на Западе.
Иначе, не исключено, придется некоторое время спустя либо «сжи¬
гать то, чему поклонялся», либо с упорством, достойным лучшего
применения, держаться за уже опровергнутые тезисы.
Так что же, опять спешить перестраиваться в связи с новым пере¬
смотром позиций в западном антиковедении? Не думаем. Уроки для
того нам и даются, чтобы в будущем быть осторожнее, думать своим
умом, а не чужим. И, как афористично заметил однажды (конечно,
совсем по другому поводу) патриарх нашей классической филоло¬
гии С. И. Соболевский, «не всякое последнее слово бывает вернее
предпоследнего».
Бесспорно, каждый исследователь имеет право на собственную
точку зрения. Самое главное, чтобы она, во-первых, не приходила
в противоречие с фактами, а во-вторых, учитывала всю неоднород*
ность и многоплановость анализируемой исторической ситуации i
Подчеркнем еще раз: в данном случае речь идет о сложной динамике,
мы бы сказали даже, диалектике элементов континуитета и дискон-
тинуитета на переходе от микенской цивилизации к собственно эл*
линской (в «классическом» смысле).
Если, скажем, взять сферу религиозно-мифологических (и свя
занных с ними генеалогических) воззрений и преданий, то здесь
Тема И Архаическая эпоха древнегреческой истории
57
степень преемственности оказывается, по сути, определяющей. Во¬
преки известному утверждению Геродота о том, что «Гесиод и Го¬
мер... впервые установили для эллинов родословную богов, дали
имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятель¬
ности и описали их образы» (II. 53), уже данные табличек линейного
письма Б демонстрируют сложившийся в основных чертах пантеон
божеств. Встречаются в этих памятниках имена Зевса (Дия), Геры,
Посейдона, Афины, Артемиды, Гермеса, Гефеста, Эниалия (т. е. Аре-
са), Пеана (т. е. Аполлона) и даже, что особенно удивительно, Дио¬
ниса, который ранее считался довольно поздно заимствованным
греками богом.
Оставаясь пока в сфере мифологии, отметим в высшей степени
принципиальное наблюдение, сделанное М. Нильссоном (Nilsson,
1925): в I тыс. до н. э. наибольшая концентрация мифологических
сюжетов приходится именно на те регионы и центры, которые в ми¬
кенскую эпоху реально были самыми значительными. Особенно
обширный, разветвленный цикл героических мифов связан с Арго-
лидой и такими ее городами, как Микены и Тиринф. Это вряд ли
нуждается в комментариях. Весьма разработанным был фиванский
мифологический цикл, притом что Фивы во II тыс. до н. э. тоже про¬
цветали. А, скажем, Афины по своему значению были скорее в числе
второстепенных дворцовых царств. И, соответственно, доля чисто
афинских сюжетов в общегреческой мифологии довольно-таки не¬
велика (и количественно, и качественно).
Отрицание континуитета в данной сфере в особенной степени
идет рука об руку с гиперкритицизмом по отношению к нарратив¬
ным источникам. Дело в том, что эти последние отнюдь не демон¬
стрируют полного разрыва с микенской традицией. Напротив, гене¬
алогические предания, надежно хранившиеся на протяжении жизни
многих поколений в аристократических семьях, устанавливают це¬
почки связей с весьма древними историческими периодами.
Генеалогические источники, как нам представляется, в целом
являются весьма ценным для изучения материалом, и их анализ
способен обогащать наши знания о ранних этапах античности но¬
выми немаловажными нюансами. Как правило, роль этой категории
источников в историографии недооценивается, их привлекают да¬
леко не в той степени, в какой они заслуживают. А происходит это
потому, что нет единого мнения по вопросу о том, какова вообще
58
ЛещI
историческая ценность аристократических родословных, насколько
они аутентичны.
Перед нами действительно непростая проблема, и можно далее
сказать, что общий язык между сторонниками различных вариантов
ее решения пока не найден. Нам в данной сфере, как и в любой дру¬
гой, представляется наиболее продуктивным умеренно-критический
подход, признание в греческой генеалогической традиции наличия
под разного рода наслоениями аутентичного ядра, которое и под
лежит отысканию, исследованию и использованию в качестве ис
точника. Однако в настоящее время, как мы отмечали, чрезвычайно
сильны в науке позиции гиперкритиков, считающих все такого рода
генеалогии фиктивными, сфальсифицированными (и тогда понятно,
что ни для какого континуитета места уже не остается). Предста¬
вители данного направления зачастую даже не берут на себя труд
аргументировать свою точку зрения, а просто походя, как о чем-то
само собой разумеющемся и давно доказанном высказываются в том
смысле, что та или иная аристократическая родословная была из
мышлена тогда-то или тогда-то (существует широкий диапазон до¬
статочно произвольных датировок) и с такой-то или такой-то целью
(цель определяется опять же постольку, поскольку она согласуется
с общими концептуальными построениями автора).
За примерами далеко ходить не приходится, тем более что т
можно найти не только в зарубежном, но и в отечественном анти
коведении последнего времени. Так, Л. А. Пальцева, автор моногра¬
фии по истории Мегар, анализируя генеалогию древних мегарскш
царей, приходит к скептическому и неутешительному выводу: пе
ред нами искусственная конструкция, сфабрикованная в Мегарах
и отчасти в Афинах в течение архаической эпохи для подкрепле¬
ния тех или иных политических притязаний, соответственно, ее
историческая ценность «весьма незначительна» (Пальцева, 1999
С. 38). Так, царь Пандион, по мнению исследовательницы, в VIII в.
до н. э. был под влиянием определенных причин внешнего порядка
включен в царский список, а в VII — начале VI в. вновь исключен
из него. Разумеется, это лишь догадки Л. А. Пальцевой — догадки
призванные заменить собой информацию источника. Но ведь источ
ник, каким бы он ни был, уже в силу того факта, что он — источник
должен быть для нас предпочтительнее любых умозрительных по¬
строений.
Теме //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
59
Да и насколько методологически, контекстно оправданы подоб¬
ные гипотезы? Ведь в рамках этой интерпретации мегаряне и афи¬
няне периода ранней и средней архаики оказываются всего лишь
манипуляторами преданием, произвольно включающими в царские
списки и исключающими из них различных персонажей. Но как же
быть с гневом божественного предка, подобным образом безжалост¬
но вычеркнутого из прошлого? Стало быть, пресловутые «фальси¬
фикаторы истории» были еще и атеистами. Если же учесть, что за¬
ниматься подобными фабрикациями могли лишь жрецы (историков
в VIII—VII вв. до н. э. еще не было), то ситуация оказывается еще
более пикантной. А между тем, по категоричному и вполне спра¬
ведливому утверждению Ф. Фроста (Frost, 1996), на протяжении
большей части архаической эпохи вера в богов была всеобщей, что
практически исключало возможность религиозных манипуляций.
Одним словом, не следует столь уж критично относиться к ге¬
неалогической традиции, как правило, основанной на вполне аутен¬
тичном историческом ядре. Последнее относится не только к антич¬
ности; насколько можно судить, в любой традиционной культуре
родословное предание — едва ли не наиболее устойчивый и досто¬
верный элемент мифологии. Это установлено, в частности, на при¬
мере фольклора Полинезии: цепочки легендарных предков, сохра¬
нившиеся в памяти жителей удаленных друг от друга островов,
сходились в одной общей точке (в нашем антиковедении внима¬
ние к данному обстоятельству привлек А. А. Молчанов: Молчанов,
2000).
В Греции же, помимо прочих факторов, способствовало сохране¬
нию аутентичной генеалогической информации наличие развитого
культа предков. Аристократ, «изобретающий» себе родословную,
тем самым отрекался бы от своих настоящих предков и начинал
бы считаться (и считать себя) потомком каких-то совершенно по¬
сторонних ему людей — со всеми соответствующими ритуальными
импликациями подобного поступка (почитать чужие могилы, а соб¬
ственные родовые погребения оставить в небрежении и т. п.). Это
кажется весьма мало согласующимся со спецификой архаического
религиозного менталитета.
В. П. Яйленко пишет: «Знать архаической, так же как и позд¬
нейшей поры чаще всего была постоянно возникающей фикцией...
Славные афинские роды VI-V вв. были по большей части такой
60
же фикцией» (Яйленко, 1990. С. 108-109). Вполне закономерный
вывод из признания аристократических генеалогий сфальсифици¬
рованными. И при всем этом — досадная крайность, приходящая
в решительное противоречие не только с нарративной традицией,
но и с археологическими данными, столь чтимыми гиперкритиками.
К. Томас и К. Конант отмечают, что материал аттических погребений
уже с XI в. до н. э. демонстрирует возрастающую роль аристократи-1
ческого элемента (Thomas, Conant, 1999). Иными словами, древняя.
евпатридская знать — отнюдь не фикция, а надежно фиксируемая I
реальность.
Гиперкритицизм по отношению к традиции ведет к преувели¬
чению степени дисконтинуитета также и в сфере этнодемографиче-
ских процессов. Порой можно встретить даже утверждения, что на
переходе от микенской эпохи к «темным векам» чуть ли не во всей
Греции полностью сменилось население. Вывод тот же: новая циви¬
лизация началась практически с «нуля». И снова подчеркнем: это не
так, источники не дают оснований делать подобные категоричные
заключения. Степень преемственности в данной области была боль¬
ше, чем порой полагают.
Конечно, никто не будет спорить с тем, что крах микенской циви¬
лизации, каковы бы ни были его причины (мы не имеем возможно¬
сти рассмотреть здесь этот дискуссионный вопрос), сильно отбросил
Грецию назад. Количество жителей региона значительно сокра¬
тилось, уменьшилось число населенных пунктов, да и по размеру*
они стали меньше. Значительная часть греков перешла от оседлого
к более подвижному (хотя все-таки не полностью кочевому) образу;
жизни (а потом снова вернулась к оседлости). Собственно, в этом
вполне отдавал себе отчет уже Фукидид, который в начале своего
исторического труда, в так называемой «Археологии», следующим
образом характеризует положение Греции в «темные века»: I
«В древности (...) происходили передвижения племен, и каждое
племя покидало свою землю всякий раз под давлением более мно¬
гочисленных пришельцев. Действительно, существующей теперь
торговли тогда еще не было, да и всякого межплеменного общения
на море и на суше. И земли свои возделывали настолько лишь, чтобы
прокормиться. Они не имели лишних достатков и не делали древес-|
ных насаждений (ведь нельзя было предвидеть, не нападет ли враг»
и не отнимет ли все добро, тем более что поселения не были укрепле-!
Тел* //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
61
ны). Полагая, что они смогут добыть себе пропитание повсюду, люди
с легкостью покидали насиженные места. Поэтому-то у них не было
больших городов и значительного благосостояния. Чаще всего такие
передвижения населения происходили в наиболее плодородных
частях страны, именно в так называемой ныне Фессалии и Беотии,
а также в большей части Пелопоннеса (кроме Аркадии) и в осталь¬
ных плодородных областях. Ведь как раз там, где плодородие почвы
приводило к некоторому благосостоянию, начинались гражданские
раздоры, отчего эти поселения теряли способность обороняться
и вместе с тем привлекали к себе алчность чужеземцев. В Аттике же
при скудости ее почвы очень долго не было гражданских междоусо¬
биц, и в этой стране всегда жило одно и то же население. И вот одно
из важнейших проявлений того, что в других областях Эллады из-за
переселений число жителей возрастало неодинаково по сравнению
с Аттикой: самые могущественные изгнанники из всей Эллады сте¬
кались в Афины, где они чувствовали себя в безопасности. Получая
права гражданства, эти пришельцы настолько увеличили уже с древ¬
них времен население города, что афиняне впоследствии высылали
поселения даже в Ионию, поскольку сама Аттика была недостаточно
обширна, чтобы вместить такое множество народа» (Фукидид. Ис¬
тория. I. 2).
Это описание, если иметь в виду то время, когда оно было сде¬
лано, поразительно точно и научно. Великий историк акцентирует
даже регионы, в которых передвижение племен было особенно ак¬
тивным: Пелопоннес (кроме Аркадии), Фессалия, Беотия. И это его
суждение находится в полном соответствии с данными современной
науки! Но, говоря обо всех этих процессах, Фукидид отнюдь не
считает их полным разрывом цивилизационной преемственности,
началом истории с чистого листа. И не только Фукидид: ни у ка¬
кого другого представителя античной нарративной традиции мы
тоже не найдем теории дисконтинуитета. Единственное возможное
исключение — Гесиод. В его представлениях человеческая история
в принципе дискретна, но причина этого — религиозно-этические
взгляды данного поэта, а не какие-то находившиеся в его распоряже¬
нии конкретные факты.
Обратим внимание и на то, что в неспокойном мире «ранней
Греции» Фукидид выделяет «островки стабильности» — Аркадию
и особенно Аттику. И в этом аспекте тоже его сведения полностью
62
Лещц
подтверждаются независимыми данными. Еще одним заведомым
«пространством континуитета», не упомянутым здесь Фукидидом,
являлся отдаленный Кипр. На этом острове степень преемственно-
сти с микенской эпохой была настолько велика, что греки-киприоты
вплоть до классической эпохи даже продолжали пользоваться сло¬
говым письмом!
А коль скоро имелись хотя бы отдельные регионы, для которых
этнокультурный континуитет несомненен, то и в принципе нельзя
говорить о полном разрыве преемственности. Ведь греки даже в худ¬
шие времена «темных веков» поддерживали контакты друг с другом.
И соответственно традиции, сохраненные в одних местах, не могли
быть полностью забыты и в других.
Континуитет в культурной сфере отчетливо просматривается
в развитии изобразительного искусства, особенно вазописи, па¬
мятники которой лучше всего известны и изучены. Специалисты,;
изучавшие ранние стили греческой вазописи, подчеркивают, что!
следует говорить не о разрыве, а именно о медленной эволюции
и трансформации: от позднемикенских стилей через субмикенский
и далее к протогеометрическому, субпротогеометрическому и, на¬
конец, к геометрическому. Каждый из этих стилей рождался не на
пустом месте, а органически вытекал из предшествующего.
А где же все-таки проявлялись элементы дисконтинуитета? Ведь
в том, что и они имели место, сомневаться тоже не приходится: ан-|
тичная греческая цивилизация, как уже отмечалось выше, — не ко-|
пия и не продолжение микенской. |
В данной связи в первую очередь следует вести речь о политиче-!
ском развитии Эллады. Этот аспект особенно важен уже потому, чтог
политика являлась, по справедливому замечанию О. Меррея, стерж-;
нем, ключевым элементом всей греческой цивилизации (подобно
тому, как для каких-то других цивилизаций аналогичную стержне¬
вую роль играет религия или экономика и т. д.).
Классическая греческая цивилизация была цивилизацией полис
ной, и этим определяются практически все ее основополагающие
черты. С другой стороны, в микенском обществе, в мире дворцовы*
царств феномен полиса явно еще не существовал. Таким образом
именно формирование этого феномена стало главным содержанием
первой половины I тыс. до н. э. и привело к появлению кардинально
новых черт в политических структурах и политической жизни.
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
63
Вот в этой-то сфере мы и наблюдаем коренной разрыв преем¬
ственности. Конечно, в действительности и здесь имела место не
одномоментная «революция», а постепенная трансформация. Как
конкретно она происходила — об этом мы не будем здесь подроб¬
но говорить: более детально этот процесс описан в нашей книге
«Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя
классика». Подчеркнем только: перед нами именно процесс. Причем
такой процесс, этапы которого, особенно ранние, чрезвычайно скуд¬
но освещены в источниках. И поэтому нет никакой возможности
давать, скажем, хоть сколько-нибудь точные датировки, говорить,
например, о том, что та или иная община на таком-то хронологиче¬
ском отрезке была еще «обломком» дворцового царства, а на таком-
то — протополисом, а на таком-то — уже полисом. Главное не в этом:
общий вектор развития имел вполне однозначную направленность,
причем более или менее одинаковую в разных регионах Эллады, во
всяком случае, достаточно развитых.
Конечно, было бы преувеличением сказать, что вся Греция когда
бы то ни было стала полисным миром. Всегда оставались области,
где полисный тип государственности не получил значительного раз¬
вития и не стал абсолютно преобладающим. Такова большая часть
областей Средней Греции (Этолия, Акарнания, Фокида, Локрида,
Малида) и Северной Греции (Эпир и отчасти Фессалия), даже неко¬
торые области Пелопоннеса (в частности, неясен полисный статус
Элиды).
Для перечисленных регионов была более характерна иная форма
организации общества и государства — так называемый «этнос».
«Этнос» сравнительно с полисом всегда находился в лучшем случае
на периферии внимания исследователей, только в самые последние
годы к нему стали присматриваться несколько пристальнее, назы¬
вать «альтернативой полису». Это весьма перспективное поле для
изучения, но пока на этом поле сделано еще очень и очень мало.
Соответственно, основные характеристики «этноса» пока отнюдь не
представляются в ясном свете, да и мы не будем на них останавли¬
ваться.
Однако несомненно, что «этнос» точно так же, как и полис, был
весьма далек от дворцового царства микенской эпохи. Одним сло¬
вом, конечный продукт «архаической революции» в социально-
политической сфере ни в чем не напоминал исходное состояние
64
Лещт
греческого мира во II тыс. до н. э. Выросло совершенно другое об-
щество.
Итак, весьма значительный континуитет в этнокультурной, ре¬
лигиозной сферах и при этом рождение принципиально новых и
даже невиданных явлений в политической жизни — вот как в самой
общей форме может быть охарактеризовано соотношение преем¬
ственности и разрыва между микенской и античной греческой циви¬
лизациями.
* * *
В рамках ограниченного объема данного пособия мы можем лишь
кратко коснуться большинства основных проблем, связанных с ис¬
торией архаической Греции, и перспектив их разрешения. Будем
уделять особое внимание тем проблемам, которые в настоящее вре¬
мя наиболее оживленно дискутируются в антиковедении.
Нельзя не упомянуть о важной проблеме восточных влияний на
формирование греческой цивилизации. Чем дальше, тем больше эти
восточные влияния акцентируются в литературе. Начинают гово¬
рить об «ориентализирующей революции» (выражение В. Буркерта:
Burkert, 1992), об «ориентализирующем периоде» истории Элла¬
ды, который хронологически в основном совпадает с архаической
эпохой.
Теперь уже невозможно отрицать, что заимствования греков
в сфере ближневосточных культур были колоссальными. Алфавит;
и писчие материалы (кожа, папирус), многие навыки и достижения!
ремесленного производства (особенно в сложных отраслях реме¬
сел — монументальном строительстве, изготовлении статуй, обра¬
ботке металлов и т. п.), ряд религиозных культов и мифологических
сюжетов, монетное дело и многое другое — все это пришло в Грецию
из Египта и Малой Азии, Сирии и Финикии...
Однако ныне науке, как представляется, грозит другая край-
ность — чрезмерно преувеличить роль «импортированных» элемен
тов культуры, что может затушевать эллинскую самобытность, пред
ставить греков в роли «послушных учеников», умудренных опытом
восточных цивилизаций. Под эти установки подводится и идео !
логическая база. Утверждается, что ученые предшествующих эпох
(особенно немецкие антиковеды XIX — первой половины XX в.)
в силу своего антисемитизма сознательно или бессознательно при
нижали влияние ближневосточных народов (в значительной частя
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
65
действительно, семитских) на появление «греческого чуда». Испы¬
тывая, скажем, субъективную неприязнь к финикийцам, эти иссле¬
дователи отказывали им в значительной историко-культурной роли.
По этому поводу можем сказать только то, что внедрение идеологи¬
ческих клише в строгую науку никогда не приводит к позитивным
результатам.
Что же касается восточных влияний на архаическую Грецию,
то при оценке их реальной значимости следует, на наш взгляд, учи¬
тывать такие обстоятельства. Во-первых, эллины выступали в кон¬
тактах с Востоком не как пассивный объект воздействия, а как ак¬
тивно, сознательно воспринимающая сторона. И ведь, как правило,
не египтяне с финикийцами приезжали учить «отсталых» греков,
а, напротив, эти последние отправлялись в далекие путешествия,
«мудрости чуждой взыскуя». Финикийцы, бесспорно, не раз при¬
бывали в Грецию (конечно, с торговыми, а не с образовательными
целями), но вот об их постоянных факториях в Эгеиде, которые
могли бы стать источником культурных влияний, что-то не слышно.
Напротив, это греки уже в самом начале эпохи архаики основали
такие фактории на восточносредиземноморском побережье (Аль-
Мина и др.). Через эти фактории в эллинский мир хлынули потоком
восточные новшества. Но привозили эти новшества сами греческие
купцы, научившиеся многому на чужбине. Греки заимствовали куль¬
турные достижения у восточных соседей не потому, что те им что-то
навязывали, а потому, что сами греки ощущали необходимость таких
заимствований. А это говорит о высоком уровне цивилизационного
самосознания.
Во-вторых, несмотря на все заимствования, античная греческая
культура оставалась все же совершенно непохожей на восточные.
Это суждение верно и в целом, и в частностях. Ниоткуда не были
заимствованы концепция полиса, категория гражданина и граждан¬
ства. А ведь как раз это и создает специфику античности.
Приведем и несколько более конкретных примеров. Алфавитная
письменность была заимствована греками у финикийцев. Однако
они внесли в нее столь принципиальные новшества, которые, соб¬
ственно, только и сделали это письмо настоящим, полноценным
алфавитом в строгом смысле слова. Речь идет о введении букв для
обозначения гласных, которых у финикийцев и других семитов
не было.
66
ЛещI
Коль скоро речь зашла об алфавите, отметим, что в современной
науке нет единого мнения о целях его принятия греками. До недав¬
него времени всецело господствовала точка зрения, согласно кото¬
рой алфавитная письменность была воспринята греческими купца¬
ми для чисто коммерческих целей (ведение разного рода записей
и т. п.). Но не столь давно была высказана идея о том, что греческая
письменность преследовала принципиально иные задачи, а именно
запись гомеровского эпоса.
Это суждение похоже на парадокс. На первый взгляд кажется
невероятным, чтобы хоть какой-то народ в истории овладевал пись¬
менностью с такой совершенно «непрактичной», сугубо культурной
целью. Однако же есть ряд обстоятельств, которые со значительной
долей вероятности свидетельствуют в пользу именно этого варианта
решения проблемы. Один из главных аргументов — то самое введе¬
ние гласных. Для ведения коммерческой отчетности они, в общем-
то, не нужны. Финикийские купцы веками обходились без них и не
испытывали потребности в новом афавите. А вот для записи поэти
ческих произведений гласные действительно необходимы.
Кроме этого мы уже обращали внимание на тот факт, что многие
самые первые древнегреческие надписи, датируемые VIII в. до н. э,
представляют собой цитаты из эпоса, подражания ему или даже па
родии. А вот столь же ранних документов коммерческой отчетности
не найдено. Судя по всему, и здесь греки проявили свою уникаль
ность, то, чем они отличались от соседних народов, — сознательный
отказ от полностью приземленного практицизма, умение «воспарить
над повседневностью».
Мы предложили бы (безусловно, в порядке гипотезы) следу
ющую реконструкцию становления греческого алфавита. Вначале
греки просто заимствовали финикийскую письменность, возмож
но, действительно с коммерческими целями. Это произошло, судя
по всему, уже в IX в. до н. э., нельзя сказать точно, где именно, но
несомненно, что в какой-то части ареала деятельности эвбейце*
Эвбейские греки-мореходы в период ранней архаики стояли во главе
развития всего эллинского мира, были пионерами-первопроходца
ми. Они плавали по всему Восточному и Западному Средиземном^
рью — от Сирии до западных берегов Италии. Именно они стояли
у истоков Великой греческой колонизации. Города Эвбеи — рано nfrj
гибший Л ел ант (Левканди), а затем унаследовавшие его достижение
Tem !L Архаическая эпоха древнегреческой истории
67
Эретрия и Халкида — являлись в то время первейшими гречески¬
ми экономическими, политическими, культурными центрами, не
имевшими себе равных.
Но уже очень скоро греки поняли, что письменность может вы¬
полнять и иные функции, помимо чисто прагматических. Вот тут-то
и была поставлена задача записать эпос, и для этого на весьма ранней
стадии развития алфавита были введены гласные. Иными словами,
можно говорить о двух этапах единого процесса, и в его рамках обе
концепции целей введения алфавитного письма находят себе место.
Нужно учитывать еще, что не вполне точным является взгляд на
греческое общество «темных веков» как на общество абсолютно бес¬
письменное, исключительно устное. Именно так обычно и считают:
между гибелью микенских царств с их линейным письмом Б и по¬
явлением алфавита — несколько веков жизни совсем без письменно¬
сти. Но здесь не учитывается фактор Кипра. Выше уже отмечалось,
что тамошние греки не забыли секретов письменности, продолжали
пользоваться слоговым письмом. А ведь это принципиально: как бы
далек ни был Кипр от Балканской Греции, контакты с ним никогда
полностью не прерывались, о чем свидетельствуют и археологиче¬
ские данные. А это значит, что и прочие греки даже в «темные века»
по меньшей мере имели представление о том, что существует такая
вещь, как письменность. Тем легче им было вновь адаптироваться
к ней, когда для того возникли необходимые исторические условия.
Другой пример восточного заимствования и эллинской самобыт¬
ности. Можно вполне согласиться с тем, что архитектурно-стро¬
ительные приемы египтян оказали значительное влияние на ста¬
новление зодчества архаических греков. Методы обработки блоков
камня, складывания из них монументальных построек — все это вос¬
принималось с энтузиазмом. Но опять же: что получилось в резуль¬
тате? Совершенно иной тип архитектуры. Греческий храм ни в чем,
ни по каким характеристикам и параметрам не напоминает храм еги¬
петский. Он не подавляет окружающих гигантскими размерами. Он
соразмерен человеку, удивительно гармоничен, строг и каноничен по
форме — и это чисто античный феномен.
Представления о ранних этапах развития греческой архитек¬
туры теперь, судя по всему, нуждаются в очень серьезной ревизии.
Открытие в 1980-х гг. сразу ставшего знаменитым героона в Лев-
канди на Эвбее принесло такую важнейшую информацию, что она
68
ЛещI
перечеркнула многие из элементов устоявшихся воззрений. Ранее
всегда считалось, что сколько-нибудь монументальные культовые
постройки впервые возникают в Греции в VIII в. до н. э. Вначале они
были очень невелики по размерам, в течение следующих двух сто¬
летий их величина стала возрастать. Архитектурный тип храма про¬
ходит несколько последовательных стадий: храм в антах, простиль,
амфипростиль, наконец, периптер, ставший наиболее распростра¬
ненным, «классическим» вариантом. Потом возникают еще более
сложные, вторичные типы (псевдопериптер, диптер, псевдодиптер),
но они не получают значительного распространения.
А теперь выясняется, что уже в середине X в. до н. э. — так рано,
как никто из исследователей и предполагать не мог, — на Эвбее была
возведена постройка, по размерам приближающаяся к среднему
храму классической эпохи и, что самое главное, по типу представля¬
ющая собой почти сформировавшийся периптер. Здание было окру¬
жено рядом колонн, и пусть эти колонны были пока деревянными,
не очень толстыми и вряд ли отличались величественностью колонн
Парфенона. Создание ордерной системы во всей ее законченности
и монументальности было еще впереди, но основной принцип, как
видим, уже существовал. Назначение эвбейской постройки пока не¬
ясно и является предметом дискуссий. Но какие бы функции она ни
выполняла — святилища, «общинного дома», дворца правителя или
его своеобразной гробницы (а вернее всего, здание было полифунк-
циональным, являлось одновременно и первым, и вторым, и треть¬
им, и четвертым из перечисленного), — в плане истории искусства
перед нами несомненно прямой, хотя отдаленный и очень ранний
прообраз греческого храма.
Наконец, третий пример заимствования стал просто хрестома¬
тийным. В цивилизациях древнего Ближнего Востока за века их
существования накопилось немало эмпирически-научных сведе-
ний, особенно в таких дисциплинах, как математика и астрономия
Египтяне и вавилоняне умели решать довольно сложные уравнения
предсказывать затмения Солнца и т. п. Это прекрасно известные
факты. И греки научились всем подобным вещам у восточных со
седей. Известен, например, первый греческий ученый, предска*
завший затмение, — Фалес Милетский. Бесспорно, здесь сыграло
ключевую роль то, что он жил в Ионии, на границе с азиатски*1
миром и в постоянном общении с ним. А по некоторым сведения*1
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
69
(правда, неясно, насколько достоверным), он был даже потомком
финикийцев.
Однако древневосточные цивилизации, при всех своих достиже¬
ниях в этих областях, не создали и не могли создать теоретическую
науку. Не могли, поскольку были заинтересованы только в практи¬
ческом применении своих открытий. А греков как раз это практи¬
ческое применение интересовало в гораздо меньшей степени (гре¬
ческая наука тем и отличалась, что принципиально не стремилась
снисходить до «низменных» потребностей реальной жизни). Отсюда
и возникает теоретический (т. е. дословно — «созерцательный») под¬
ход — впервые в истории мировой культуры. Некоторые теоремы,
доказаные Фалесом, выглядят как нечто само собой разумеющееся,
например, теорема о том, что диаметр делит круг пополам. Ни ва¬
вилонянину, ни египтянину не пришло бы в голову это доказывать:
все и так ясно, к тому же подобное доказательство не имеет никакой
утилитарной ценности. Для Фалеса же именно это и было интерес¬
но! Так рождалась наука.
Одним словом, при действительно большом заимствовании из¬
вне считать древнегреческую цивилизацию хотя бы в чем-то вторич¬
ной, подражательной не только неверно — это суждение оказалось
бы противоположным действительности. Напротив, более ориги¬
нальной и самобытной цивилизации никогда не существовало.
Отметим еще одно обстоятельство, связанное с восточными вли¬
яниями. Как справедливо отмечают К. Томас и К. Конант, греки не
только «брали»: у них самих было что дать соседям (Thomas, Conant,
1999. P. 142). Следует вести речь о взаимных контактах, в ходе кото¬
рых вступали в культурный диалог и обогащались обе стороны.
Не можем приветствовать частую в исследовательской литера¬
туре тенденцию: встречая схожие реалии в Греции и на Ближнем
Востоке (будь то какой-нибудь технический навык, мифологема,
научная идея и пр.), рассматривают это как продукт заимствования
греками у восточных народов. А почему не могло быть наоборот, —
по крайней мере, в некоторых случаях? Не говорим уже о том, что
возможны и иные варианты: параллельное заимствование из обще¬
го источника, в конце концов, независимое зарождение концепта.
Например, в связи с пифагорейским учением о метемпсихозе сразу
приходят на ум воззрения, типичные для индийского брахманизма.
Но тут, думается, предположение о приходе идеи в Грецию из столь
70
удаленного региона поставит больше новых проблем, чем поможет
решить существующие.
Но в целом Восточное Средиземноморье на протяжении всей
первой половины I тыс. до н. э. было одной большой контактной
зоной. И активными участниками этих контактов были греки эпохи
архаики. Тогда они не замкнулись еще в неком величавом «самодов-
лении» и пренебрежении к чуждому, «варварскому» миру. Это слу¬
чилось позже, в классическую эпоху, и во многом под воздействием
греко-персидских войн. А до этого грандиозного конфликта эллины
ощущали себя частью более широкой цивилизационной «вселен¬
ной». Связи с «варварами» отнюдь не считались предосудительны¬
ми. Достаточно вспомнить, как активно греческие аристократы VI в.
до н. э. ездили в Сарды, к лидийскому царскому двору, вступали
в ксенические и матримониальные связи с фракийскими династами
ит. п.
Лекция 4. Ключевые исторические процессы
архаической эпохи и их интерпретация
В данной лекции будут вкратце обозначены наиболее перспективные
варианты рассмотрения и решения еще некоторых серьезных про¬
блем архаической греческой истории, связанных с ключевыми про¬
цессами, имевшими место в эту эпоху. Одним из явлений, особенно
характерных именно для хронологического отрезка VIII-VI вв. до
н. э., стала Великая греческая колонизация. В ходе этого достаточно
массированного миграционного движения сетью греческих городов
и поселений (апойкий) оказались покрыты значительная часть Сре¬
диземноморского побережья и практически все Причерноморье.
Великая греческая колонизация детально изучалась как в миро¬
вой, так и в отечественной историографии. Можно сказать, что это
одна из приоритетных тем современного антиковедения. Предметом
анализа становились как общие проблемы, связанные с феноменом
(причины колонизационного движения, взаимоотношения греков;
с местным населением на колонизованных территориях), так и более
конкретные вопросы (колонизационная политика отдельных поли¬
сов, хронология основания тех или иных колоний и т. п.).
Нам в данной связи кажется необходимым сделать лишь одна
но принципиальное замечание. Специалисты, исследующие ко-
лонизационное движение, практически всегда делают акцент Hi
Теме //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
71
его экономические факторы (стенохория и земельный голод как
следствие демографического взрыва, поиск сырьевых баз, желание
утвердиться на торговых путях и т. п.). Эти факторы рассматривают¬
ся в различном соотношении, то один, то другой из них выдвигают на
первый план. При этом далеко не всегда уделяют должное внимание
политическим факторам.
Между тем эти последние тоже играли далеко не второстепен¬
ную роль. Сплошь и рядом непосредственным поводом выведения
колонии являлись перипетии борьбы за власть в полисе, ее выводя¬
щем (метрополии). Группировка, не сумевшая добиться успеха «у
себя дома», уходила в апойкию, а ее лидер становился основателем
и руководителем нового поселения — ойкистом (ктистом). Таким
образом он достигал на новом месте того высокого положения, в
котором ему было отказано на родине. В роли ойкистов выступа¬
ли — практически без исключений — знатные аристократы, выходцы
из древних родов. После смерти ойкист, как правило, героизировал¬
ся, его могила, находившаяся обычно на агоре, становилась объектом
религиозного почитания. Каких бы то ни было других граждан, кро¬
ме ойкиста, хоронить на агоре решительно запрещалось.
Интересно, что порой ойкист получал подобающие почести даже
не после смерти, а еще при жизни. Так, Гагнон, основавший в середи¬
не V в. до н. э. афинскую колонию Амфиполь, после этого возвратил¬
ся в Афины, а амфиполиты почитали его как ойкиста. Впоследствии,
в период Пелопоннесской войны, они лишили Гагнона этого статуса
и объявили ойкистом спартанца Брасида, героизировав его. Гагнон
в это время был еще жив! Процитируем интересное замечание, сде¬
ланное по этому поводу Ф. Ф. Зелинским: «Представим себе пси¬
хологию этого человека, знавшего еще при жизни, что после смерти
он станет “героем-ктистом” этого города; или, что еще интереснее,
психологию амфиполитов, знавших, что через несколько лет они
будут обращаться с молитвами и жертвоприношениями к этому
самому человеку, которого они теперь видят в своей среде! Не ясно
ли, что он уж теперь должен был стать для них как бы полугероем?»
(Зелинский, 1996. С. 102-103). Впрочем, Гагнон, как видим, испытал
еще при жизни и подъем до героического статуса, и лишение этого
статуса.
Могла влиять на выведение колонии и внешнеполитическая
ситуация, точнее, разногласия внутри гражданского коллектива
72
ЛещI
полиса-метрополии по тем или иным вопросам внешней политики.
Мы попытались показать это в одной из недавних работ на примере
колонизационной деятельности Гераклеи Понтийской во второй по¬
ловине VI в. до н. э. (Суриков, 2006).
Безусловно, абсолютизировать политические факторы колониза¬
ции тоже нельзя; односторонний акцент на них был бы неоправдан¬
ным. Для того чтобы колонизационное мероприятие осуществилось,
была необходима либо совокупность не только политических, но
и социально-экономических предпосылок (группировка полити-
ков-аристократов могла, естественно, основать жизнеспособную
колонию только в том случае, если ее сопровождала достаточно зна¬
чительная в количественном отношении группа рядовых граждан,
заинтересованных в переселении), либо ситуация должна была быть
крайне острой, не оставлявшей для какой-то части населения реаль¬
ной возможности остаться на родине (например, если в ходе борьбы
одна группировка полностью побеждала и поголовно изгоняла дру¬
гую, что случалось, но не часто). Тем не менее совсем не обращать
внимания на политические факторы колонизации, на наш взгляд,
тоже неоправданно, хотя часто именно так и поступают.
В связи с колонизацией мы затронули проблему демографиче¬
ского взрыва, да и ранее уже упоминали о нем. О демографическом
взрыве VIII в. до н. э. теперь уже можно смело говорить не как о
гипотезе, а как о надежно зафиксированном факте. И тем не менее
факт этот — один из самых парадоксальных, труднообъяснимых
в архаическую эпоху. Как получилось, что население ряда греческих
областей за довольно короткий хронологический отрезок возросло
даже не на какие-то проценты, а буквально в разы?
Наиболее близкое к истине решение вопроса, как нам представ¬
ляется, было предложено Д. Тэнди. Он подчеркивает, что в VIII в.
до н. э. в связи с переходом от экстенсивного скотоводства к интен¬
сивному земледелию наступили серьезные перемены в пищевом
рационе греков: значительно снизился удельный вес потребляемых
мясных продуктов, увеличился удельный вес растительных (Tandy,
1997. Р. 19-58).
И действительно, еще в гомеровский период общество было
в значительно большей мере скотоводческим, нежели общество
классической Греции. Достаточно почитать поэмы Гомера, отража¬
ющие реалии «темных веков», чтобы убедиться: в рационе их героев
îtM* //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
73
мясо занимает, можно сказать, важнейшее место. Впоследствии по¬
ложение изменилось. А как справедливо отмечает Тэнди, раститель¬
ные белки гораздо лучше усваиваются человеческим организмом,
чем белки животного происхождения (что вполне закономерно:
homo sapiens по своей природе не хищник). Соответственно, диета,
основанная в первую очередь на злаковой и другой растительной
пище (с включением мяса как необходимого, но не самого важного
компонента), значительно более здорова, увеличивает продолжи¬
тельность жизни, укрепляет репродуктивную функцию. Когда этот
тип питания стал основным, быстрый рост населения не заставил
себя долго ждать.
Переходим к другим проблемам греческой истории эпохи арха¬
ики. Среди них — проблема раннего греческого законодательства.
Одной из ярких, колоритных черт интересующего нас хронологи¬
ческого отрезка явилась деятельность законодателей и издание их
усилиями первых в греческом мире сводов писаных законов. Это
случилось почти одновременно в целом ряде полисов, причем, что
интересно, не обязательно наиболее передовых в экономическом
и политическом отношениях. Достаточно упомянуть о том, что «ко¬
лыбелью» архаического законодательства, родиной самых ранних
сводов законов, судя по всему, был Крит, а полисы Крита в это время
представляли собой довольно глухую провинцию, можно сказать,
даже «заповедник» архаичных, устаревающих социально-экономи¬
ческих и политических форм.
Законы учреждали некие единые, обязательные для всех нормы
поведения в рамках гражданского коллектива. Распространена точ¬
ка зрения, согласно которой эти законы вводились «под натиском
демоса», являлись одной из важных уступок правящей аристокра¬
тии простонародью. Особенно часто эту мысль можно встретить
в отечественной историографии (Фролов, 1988; Шишова, 1991; За-
любовина, 1992 и др.).
Но этот тезис, как представляется, нуждается как минимум
в серьезных оговорках. Во-первых, как мы отмечали выше, демос
в VII-VI вв. до н. э., т. е. в период принятия законов, не играл еще
значительной политической роли и не смог бы продиктовать власт¬
ной элите столь значительное новшество. Во-вторых, представители
демоса в массе своей тогда еще, безусловно, были неграмотными.
А следовательно, они вряд ли могли получить какую-то непосред-
74
ственную пользу от появления письменных законодательных ко¬
дексов.
Законы вводились скорее для урегулирования отношений вну¬
три самого слоя аристократии, для предотвращения вспышек меж
доусобной борьбы (стасиса) между знатными вождями. Сказан¬
ное можно проиллюстрировать и конкретными примерами. В 621 г.
до н. э. в Афинах были приняты знаменитые законы Драконта. Ана¬
лизируя их конкретно-исторический контекст, практически все
исследователи единодушны в том, что эти законы надлежит рассмат¬
ривать в связи со вспышкой межаристократической смуты и разгула
кровной мести после подавления Алкмеонидами мятежа Килона,
имевшего место примерно за 15 лет до того. Представляется отнюдь
не случайным, что главное место в кодексе Драконта занимал цикл
законов об убийстве и наказаниях за это преступление. Есть даже
точка зрения, согласно которой Драконтом вообще были введены
только эти законы об убийстве, а остальные приписываемые ему
традицией узаконения оказались связаны с ним ошибочно.
Посредническая, реформаторская деятельность Питтака в Мити-
лене на Лесбосе на рубеже VII-VI вв. до н. э. и введенные им законы
тоже стали результатом длительной борьбы аристократических
группировок (хорошо описанной поэтом Алкеем), в ходе которой
то одна, то другая группа элиты приходила к власти, затем отстра¬
нялась от нее, неоднократно устанавливались и свергались тирани¬
ческие режимы и т. п. Это, подчеркнем, была именно борьба внутри
элиты и вряд ли при активном участии демоса.
О деятельности большинства других ранних законодателей зна¬
чительно меньше достоверных сведений. Но и эти сведения не про
тиворечат высказанным нами положениям. Демос как сила, стоящая
за законодательными реформами, все-таки не просматривается.
Есть даже парадоксальная точка зрения (высказанная немецким
антиковедом В. Эдером), согласно которой раннее законодатель
ство, вопреки распространенному мнению, следует оценивать прямо
противоположно, а именно как попытку аристократии укрепить
собственное положение. Эдер выделяет три главные цели законо¬
дательных сводов, о которых идет речь: во-первых, остановить не¬
предсказуемое развитие обычного права; во-вторых, обеспечить
обращение к определенному, строго зафиксированному комплексу
законов; в-третьих, создать правовую базу для существовавши*!
Тема //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
75
на тот момент порядков и тем самым увековечить их. Кодификация
архаической эпохи — не уступка, а реакция, считает исследователь.
Он, помимо прочего, отмечает, что ранние законодательства, на¬
сколько нам о них известно, как правило, не учитывают интересов
бедных слоев населения (Eder, 1986).
Исключением может показаться законодательство Солона в Афи¬
нах (594 г. до н. э.). Его исторический контекст, судя по всему, был
действительно сложнее, чем у остальных аналогичных актов. Кри¬
зис, охвативший афинский полис на рубеже VII-VI вв. до н. э., имел
комплексный характер и не ограничивался одной аристократиче¬
ской распрей. Но даже Солон, хотя он весьма существенно опередил
свое время, принял во внимание проблемы рядового демоса лишь
в минимально необходимом объеме. Солон — отнюдь не народный
заступник, не «основатель афинской демократии», каким его часто
делает позднейшая традиция; он — выразитель отчетливо аристо¬
кратического мироощущения, представитель аристократических
ценностей.
Сказанное ни в коей мере не отрицает того, что архаические
своды законов (вне зависимости от субъективных намерений их
творцов) объективно сыграли свою роль в улучшении положения
демоса. Но это произошло лишь со временем. Еще более важное
значение раннего греческого законодательства, приведшего на смену
расплывчатым положениям устного обычного права четкий набор
фиксированных и санкционированных полисом правовых норм,
заключается в том, что, по сути дела, только с момента введения
свода письменных законов в каком-либо полисе можно говорить,
что длительный процесс складывания его государственности за¬
вершился, и полис из протогосударства окончательно превратился
в государство.
* * *
Нельзя не коснуться такой проблемы истории архаической Гре¬
ции, как тирания, ставшая с VII в. до н. э. своего рода знамением
времени, верным спутником древнегреческой цивилизации. Она
распространилась практически на все области эллинского мира,
охватила не только Балканскую Грецию и регион Эгейского моря,
но и зоны колонизации. Уже давно было проведено вполне верное
в методологическом плане расчленение истории греческой тирании
на два периода. Тиранические режимы архаической эпохи, периода
76
складывания полиса, фигурируют в исследовательской литературе
под обобщенным названием Старшей тирании, а те, которые поя¬
вились в IV в. до н. э. и знаменовали кризис классической полисной
системы, называют Младшей тиранией. Между этими двумя перио¬
дами лежит своего рода «интерлюдия» — V в. до н. э., когда тирания
в Греции была большой редкостью.
Впрочем, такое деление, верное само по себе, в ряде конкретных
случаев все же нуждается в корректировке. Принципиально важно,
какой критерий мы будем считать основным при отнесении того или
иного режима к Младшей либо Старшей тирании — хронологиче¬
ский или стадиальный. Если первый, то, само собой, все тираны IV в.
до н. э. окажутся принадлежащими к кругу Младшей тирании, но не
будет ли такой подход чисто формальным? А если исходить из ста¬
диального критерия, то куда будет резоннее отнести, например, фес¬
салийских (Ясона, Александра Ферского) и фокидских (Ономарха,
Филомела) тиранов IV в. до н. э.? В указанное время и в Фессалии,
и в Фокиде (а эти области отставали по темпам политического раз
вития от передовых регионов Эллады) шли скорее процессы форми
рования классического полиса, а не его кризиса.
Нас здесь, конечно, в первую очередь интересует феномен Стар¬
шей тирании. Об этом феномене написано немало, и, значит, о
многих его важнейших чертах можно говорить с немалой долей
уверенности. Старшая тирания может быть вполне корректно оха
рактеризована как диктатура «сильных личностей». По своему про¬
исхождению тираны, как правило, принадлежали к слою аристокра
тии. Собственно, это выглядит вполне естественным: выходец ни из
какого другого слоя в архаической Греции заведомо не мог добиться
такой степени политического влияния, которая позволила бы ему
претендовать на единоличную власть. Политика, подчеркнем еще
раз, была в эту эпоху всецело уделом знати.
Вопрос о социальной природе Старшей тирании долгое время
считался дискуссионным. Высказывались точки зрения, согласно
которым ранние греческие тираны были либо защитниками рядово-
го демоса, по сути дела его вождями, либо выразителями интересов
«торгово-промышленного класса» (последний подход являет собой
несомненную модернизацию). Однако нам больше импонирует на
правление, которое, пожалуй, преобладает в новейшей историогр*
фии вопроса и видит в Старшей тирании в целом аристократически*
Testa //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
77
феномен (крупнейший представитель этого направления — Г. Берве:
Берве, 1997). Тираны были аристократами не только по происхожде¬
нию, но и по системе ценностей, по своей идеологии.
Необходимо, впрочем, сделать две оговорки к данному сужде¬
нию, дабы смягчить его категоричность. Во-первых, аристократи¬
ческая природа тирании отнюдь не означает, что демос не получал
от правления тиранов никаких преимуществ. Во-вторых, следует
обратить внимание на то, что среди архаических тиранов обнаружи¬
вается некоторое количество «ущемленных» аристократов (Кипсел
Коринфский, Орфагориды в Сикионе). Случалось, что тираны вы¬
двигались из маргинальных слоев элиты. Но все-таки именно элиты,
а не демоса.
Часто тиран приходил к власти при помощи контингента тело¬
хранителей, среди которых фиксируются как граждане полиса, так
и наемники из других городов. Впоследствии отряд телохранителей
должен был обеспечивать удержание тираном власти в своих руках.
Тем не менее было бы ошибкой и упрощением рассматривать Стар¬
шую тиранию как чисто военную диктатуру, считать, что тираны,
выражаясь фигурально, «держались на штыках», терроризируя со¬
граждан грубой силой. В сущности, такое развитие событий было
и невозможно в условиях полиса, который представлял собой не
только политическую, но и военную организацию (вооруженное
ополчение граждан). Против этого ополчения, если уж оно имело
твердое намерение отстранить тирана от власти, была бы, естествен¬
но, бессильна любая личная охрана.
Сообщается, что некоторые тираны предпринимали попытки
разоружить гражданский коллектив. Но такие акции никогда не
могли быть в полной мере эффективными. Во-первых, отсутствовал
должный аппарат контроля (типа полиции, бюрократии и т. п.), ко¬
торый позволял бы правителю убедиться в том, что все граждане, раз
сдав оружие, так и продолжают оставаться без него. Не мог же тиран
закрыть все оружейные мастерские! Во-вторых, разоружение граж¬
дан означало фактическую ликвидацию полисного ополчения, а это
делало государство в высшей степени уязвимым в случае внешних
конфликтов.
Можно уверенно утверждать: тираны оставались у власти, по¬
скольку (и до тех пор, пока) полис позволял им это делать. Само ус¬
тановление тирании происходило либо с прямой санкции народного
78
собрания, либо, по крайней мере, при его молчаливом согласии.
И впоследствии при тиранах, как правило, продолжали функцио¬
нировать органы полисного управления (народное собрание, совет,
магистратуры, система судебных учреждений). Проводились регу¬
лярные выборы должностных лиц; издавались законы и иные поста¬
новления от имени полиса как при обычном режиме. Тиран просто
как бы возвышался над всем этим, занимая, кстати сказать, не вполне
оформленное конституционное положение.
До сих пор неясно, занимали ли тираны какой-либо полисный
пост, носили ли какой-нибудь официальный титул (ведь само сло¬
во «тиран» таким титулом не было). В тех современных событиям
эпиграфических документах, в которых выступают тираны, их име¬
на фигурируют вообще без титулов. Некоторые надписи, например
закон из Галикарнаса, датируемый 460-ми гг. до н. э. (Meiggs-Lewis
32), дают основание полагать, что после установления тирании в по¬
лисе складывалась ситуация своеобразной диархии — двоевластия.
Очевидно, между тираном и народным собранием существовало ка¬
кое-то разграничение властных полномочий по отдельным сферам,
а наиболее важные решения, затрагивавшие интересы обеих сторон,
принимались совместно. Два центра власти фактически заключали
между собой договор.
Тирания, при всех своих специфических чертах, все же была по¬
лисным феноменом. Власть тирана и полисные структуры вовсе не
обязательно противоречили друг другу. Поэтому нельзя согласиться
с мнением исследователей, полагающих, что полис, в котором уста¬
новилась тирания, уже не может считаться полисом (Андреев, 1979;
Runcinam, 1991). Напротив, во многих случаях архаические тираны
предпринимали специальные акции, направленные на укрепление
полисного единства, целостности и стабильности, на усиление — как
внутреннее, так и внешнее — тех государств, в которых они правила
Они прекращали — хотя бы на время своего правления — многолет¬
нюю смуту, конечно, подчас прибегая для этого к весьма жестким
и даже жестоким мерам, но в конечном счете часто добиваясь одоб¬
рения со стороны массы сограждан.
Как отдельные полисы, так и Греция в целом скорее выигрывали,
чем проигрывали от деятельности тиранов. Перед нами объективным
факт, не зависевший от субъективных устремлений представителей
Старшей тирании. Устремления эти в большинстве случаев был*
Лиш //. Архаическая эпоха древнегреческой истории
79
характерными для «сильной личности» в условиях агонального
типа социума. Тираны заботились прежде всего о собственной славе
и почестях, об упрочении своей власти. С этим связана, в частности,
их репрессивная политика в отношении других аристократов свое¬
го полиса. За приходом тирана к власти зачастую следовали казни
представителей знати, их изгнание целыми семьями.
Это не означает, конечно, что тираны были какими-то антиари-
стократическими революционерами. Напротив, как отмечалось вы¬
ше, они являлись представителями вполне традиционной и консер¬
вативной аристократической идеологии. Да и среди полисной знати
архаической эпохи, насколько можно судить, не было или почти не
было принципиальных, «идейных» противников тирании как тако¬
вой. Вражда аристократов и тиранов была обусловлена в основном
личными причинами. Практически каждый аристократ (во всяком
случае, если говорить о самом верхнем, действительно правящем
слое) вполне готов был видеть в себе самом потенциального тира¬
на, но в то же время, естественно, отказывал в таком же моральном
праве всем своим собратьям по сословию. В живой реальности эпохи
каждый знатный лидер противился установлению тирании постоль¬
ку, поскольку он не мог допустить, чтобы тираном стал кто-то дру¬
гой. Архаическое общество аристократов было обществом «равных»,
своеобразных «пэров», которые старались не допустить существова¬
ния над ними «первого».
Тиран просто не мог не видеть почти во всех согражданах-арис-
тократах потенциальных конкурентов в борьбе за власть, потому-то
и расправлялся с ними. Подрыв тиранами политической и экономи¬
ческой мощи аристократии имел весьма большое значение для рядо¬
вого демоса: этот последний эмансипировался от всеобъемлющего
влияния своих традиционных вождей, возрастало его самосознание,
что готовило почву для установления, — естественно, впоследствии,
после ликвидации тиранических режимов, — более демократичных,
чем ранее, форм правления. Повторим еще раз: речь, разумеется,
идет об объективных результатах политики представителей Стар¬
шей тирании, а не об их субъективном «демократизме», вряд ли во¬
обще имевшем место.
Вполне закономерно, что и свергались тираны чаще всего объ¬
единенными усилиями противостоявших им аристократов, а не
в результате народных движений. Демос как раз был в основе своей
80
удовлетворен деятельностью тиранов: его больше устраивало, когда
над ним стоял один правитель, а не целый слой честолюбивых, со¬
перничающих друг с другом аристократических лидеров. Порой же
тирании ликвидировались в результате внешнего вмешательства.
Особенно преуспела в «истреблении тиранов» Спарта: ее усилиями
прекратили существование тиранические режимы в Афинах, Сики-
оне, на Наксосе. Справедливости ради следует сказать, что иногда,
наоборот, внешние силы служили фактором, упрочивавшим сущест¬
вование тираний. Наиболее характерный пример — тираны грече¬
ских полисов Малой Азии, удерживавшие власть еще в начале V в.
до н. э. за счет персидской поддержки.
Из вышесказанного видно, что архаическим греческим тиранам
ни в коем случае не следует давать всецело негативную оценку, как
слишком часто делается в историографии. Сплошь и рядом можно
встретить утверждение об отсутствии какого-либо позитивного
вклада Старшей тирании в развитие греческого полиса. В самое
последнее время на ту же точку зрения о чисто негативной роли
Старшей тирании встал такой авторитетный ученый, как Э. Д. Фро
лов (Фролов, 1997). Не скроем, что нам это представляется отходом
от иной, более взвешенной и не столь отрицательной оценки этого
явления, высказывавшейся в его прежних работах.
А между тем многие полисы позднеархаической эпохи именно
под властью тиранов достигли могущества и процветания (Ко
ринф при Кипселидах, Афины при Писистратидах, Сикион при
Орфагоридах, Сиракузы при Дейноменидах, Самос при Поликрате
и др.)* Неужели это развитие имело место исключительно вопреки
деятельности представителей Старшей тирании? Далее, думается
неслучайно, что именно наиболее передовые полисы (в том числе
практически все те, в которых впоследствии сложилась демократия)
прошли через стадию тирании, а большинство тех греческих госу
дарств, которые этого опыта не знали, как бы застыли в несколько
стагнирующей позиции.
Мы совершенно не уверены в том, что «общественно-политиче*
ская мысль и историческая наука древних греков с редким едино-
душием вынесли отрицательный вердикт об архаической тирании*
как пишет Э. Д. Фролов (Фролов, 1997. С. 28). На наш взгляд, скор#
можно говорить о двойственном отношении: с негативной в
лом оценкой режима единоличной власти как такового сочетало^
81
^Переплеталось восхищенное удивление личностями и делами кон¬
кретных представителей Старшей тирании. А эти личности, что
■ говорить, были действительно яркими, и дела их — действительно
значительными.
Да, тираны были жестокими правителями; иной раз их поступки
прямо-таки поражают. Но можно подумать, что они жили в эпоху без¬
мятежности и братской любви! Жестоким было прежде всего время,
породившее тиранов, а сами они — характерные представители этого
времени. Нисколько не мягче вели себя и олигархические, и даже
демократические режимы периода архаики. К тому же следует па¬
мятовать и о том, что жестокость тиранов могла после их свержения
«задним числом» преувеличиваться, утрироваться последующей
традицией, явно враждебно настроенной по отношению к ним.
Давая общую характеристику феномену Старшей тирании, нель¬
зя не отметить, что перед нами в высшей степени сложное, противо¬
речивое и даже парадоксальное явление; вряд ли существуют такие
весы, на которых можно было бы с точностью взвесить, было ли
в этом явлении больше позитивного или негативного. Тираны были
выходцами из аристократических слоев — и они же боролись, порой
беспощадно, с другими аристократами, объективно расчищая путь
демосу. Тираны были приверженцами традиционной, консерватив¬
ной аристократической системы ценностей — и они же зачастую
становились реформаторами в политической, социально-экономи¬
ческой, религиозной сферах. Тираны выступали в роли наиболее
полного воплощения индивидуалистической тенденции в развитии
архаической Эллады — и они же в ходе своего правления делали
полисы более централизованными, сплоченными, институциона-
лизованными, способствуя таким образом конечному торжеству
тенденции коллективистской. Парадокс следует за парадоксом.
А может быть, это и не парадоксы вовсе, а проявления диалекти¬
ки эпохи — той кризисной эпохи, которая закономерно призвала
к жизни тиранию как способ решения наиболее насущных проблем
и столь же закономерно отказалась от этого режима, как только про¬
блемы были в основном решены.
* * *
Термин «архаическая революция» представляется вполне уместным
применительно к хронологическому отрезку VIII-VI вв. до н. э. Ра¬
зумеется, термин «революция» берется здесь в наиболее широком
82
смысле — как качественный скачок, выход на новый уровень. Пе-
ремены во всех областях жизни были в это время в высшей степени
масштабными и радикальными. В результате этих перемен и появи¬
лось на свет то, что принято называть «греческим чудом».
Именно в эпоху архаики в греческом мире впервые возникло
большинство реалий, которые в дальнейшем являлись основопола¬
гающими, неотъемлемыми его чертами. Собственно, был сотворен
«образ Эллады». Несокрушимая на полях сражений гоплитская фа¬
ланга и ставшая «хозяйкой морей» триера, мир колоний в Средизем¬
номорье, чеканная монета, развитая ордерная система в архитектуре
и лирическая поэзия, философия и спорт — все эти яркие признаки
античной греческой цивилизации, принципиально отличающие ее
от всех остальных, являются порождениями архаического периода.
Никогда уже больше после этого не делалось столько плодо¬
творных открытий, не осваивалось такое количество новых форм
бытия и сознания. Это был воистину кипучий задор юного народа,
радующегося своей силе и свежести. Во всяком случае так может
показаться нам ныне, с дистанции в две с половиной тысячи лет. На
самом же деле, насколько можно судить, все было гораздо сложнее.
В VIII-VI вв. до н. э. Греция являлась ареной самых разнообразных
противоречий и конфликтов. Жить в ней было нелегко: ломался
старый, устоявшийся порядок жизни, а то, что придет ему на смену,
вырисовывалось пока еще в неясных формах. Такие переходные пе¬
риоды всегда очень мучительны для людей.
То, что нам представляется игрой молодых сил, подчас было
судорогами страдающего от тяжелой болезни организма. Впрочем,
эта болезнь была все-таки болезнью роста. Рождался, выходил из
зачаточного состояния греческий полис, закладывались основы по¬
лисной цивилизации.
Поэтому не случайно, что архаическая эпоха, все громадное зна¬
чение которой было в полной мере оценено учеными в последние
несколько десятилетий, снова и снова привлекает к себе самое обост¬
ренное внимание. Приближаясь к ее постижению, мы тем самым
приближаемся к верному пониманию всей греческой античности.
«Белых пятен», дискуссионных, пока еще не решенных вопросов
и проблем, связанных с архаикой, более чем достаточно. Но несом¬
ненно, что со временем они будут успешно разрешены. Помогут
этому и новые археологические открытия, и новое прочтение уже
Тиш ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
83
имеющихся источников, и дальнейшее оттачивание общей методо¬
логии с привлечением методик из смежных областей гуманитарного
знания, и плодотворные споры. Без преувеличения можно сказать,
что изучение архаической эпохи ныне является (и, очевидно, еще
долго останется) одним из самых перспективных направлений в ан-
тиковедении.
ТемаШ
Древнегреческая религиозность
и ее эволюция
Лекция 5. Основные черты древнегреческой религиозности
Религиозность древних греков, общая роль религии в их жизни
до недавнего времени по большей части недооценивались в науке.
Сравнивая полисный мир с монархиями Древнего Востока, где рели¬
гиозные воззрения и практики имели, по общепринятому мнению,
огромную, едва ли не абсолютную власть над человеком (хотя, отме¬
тим, некоторые нюансы убеждают в том, что и к Древнему Востоку
в данной связи следует подходить более дифференцированно), ан¬
тичную Грецию по контрасту были склонны признавать прямо-таки
«светским обществом». Но так ли это на самом деле? Позволим себе
усомниться в этом. Позитивистские и модернизаторские представ¬
ления, в известной мере искажавшие образ античной цивилизации,
рисовали ее едва ли не как некое царство свободы, гуманизма и про¬
гресса, как кальку полного рационально-эволюционными иллю¬
зиями европейского общества Нового времени. Это отодвигало на
задний план своеобразные, неповторимые черты античных культур,
то, что отличает, а не приближает их к нашей современности. А ведь
отличия-то как раз наиболее интересны и важны!
В действительности место религии в полисной цивилизации
было весьма значительным. Ныне это наконец начинают осознавать,
доказательство чему — цитаты из недавних исследований, которые
мы приведем. Ю. В. Андреев пишет: «...Религия продолжала сохра¬
нять свое фундаментальное значение в жизни греческого общества
в качестве своего рода духовного стержня, скреплявшего изнутри
его основную структурную ячейку — полис, и это значение она не
84
утратила до тех пор, пока не прекратил свое существование сам
полис» (Андреев, 1998. С. 309). А вот слова К. Сурвину-Инвуд;
«Религия стала центральной идеологией полиса, она давала струк¬
туру и значение всем элементам, составлявшим идентичность поли¬
са... Религия была самым центром греческого полиса» (Sourvinou-
Inwood, 1991. P. 304,322).
И действительно, наверное, все-таки не случайно, что самыми ве¬
личественными и монументальными зданиями в греческих городах
были не частные жилища и даже не общественные постройки граж¬
данского назначения, а храмы богов; что «главными», кульминаци¬
онными днями в календарях всех без исключения полисов являлись
дни религиозных празднеств, которые одновременно были празд¬
нествами государственными; что ни одна сколько-нибудь значимая
акция, будь то на уровне индивида или общины, не предпринима¬
лась без предварительной консультации с высшими силами через
посредство оракулов и знамений и без умилостивительного жер¬
твоприношения. Греки обладали весьма сильной религиозностью
(изучением этой религиозности плодотворно занимался М. Нильс¬
сон — один из крупнейших в XX в. специалистов по древнегреческой
религии: Nilsson, 1948,1955; Нильссон, 1998). Но характер греческой
религиозности был довольно специфичным и непривычным для нас
по своим основным характеристикам. К таковым характеристикам
мы отнесли бы следующие.
В первую очередь следует сказать о теснейшей связи полисной
религии с политикой, государственностью. Такая формулировка
кажется нам, пожалуй, даже недостаточной, слишком слабой. Вер¬
нее было бы сказать, что религиозные и государственные структуры
в принципе совпадали. В полисе было сакрализовано буквально все,
любая сфера общественной деятельности. Он являлся не только по¬
литическим, но и религиозным феноменом.
Поясним этот тезис. Как известно, полис есть городская граж¬
данская община, конституирующая себя в качестве политической
организации, т. е. государства. Но в той же самой мере полис есть
городская гражданская община, конституирующая себя в качестве
религиозной организации. Здесь напрашивается продолжение «...то
есть церкви», и если мы воздерживаемся здесь от употребления тер¬
мина «церковь», то только потому, что этот термин несет в себе ряд
устойчивых коннотаций вполне определенного характера, с трудом
Tern Hi Древнегреческая религиозность и ее эволюция
85
увязывающихся в современном сознании с античной языческой ре¬
лигией. Впрочем, в западной исследовательской литературе можно
встретить и определения именно такого рода: в условиях религии, не
имевшей ни элементов откровения, ни канона священных текстов,
ни духовенства, полис играл роль церкви (Sourvinou-Inwood, 1991.
Р. 302).
Во всяком случае, церкви как отдельной от государства структу¬
ры никогда не существовало ни в одном полисе. Жречество входило
в систему полисных магистратур. Даже пожизненные и наследствен¬
ные жрецы, известные для некоторых культов (например, дадухи
Элевсинских мистерий из рода Кериков), являлись, по сути дела, та¬
кими же магистратами, и ничто не препятствовало им параллельно
активно заниматься политической деятельностью.
В полисе было абсолютно невозможно такое характерное для
очень многих докапиталистических социумов (древневосточных,
средневековых) явление, как конфликт между духовной и светской
властями. Собственно, конфликтовать было некому и не с кем: ду¬
ховная и светская власть воплощалась в одних и тех же институтах
и лицах. Чтобы понять причины такой ситуации, необходимо, как
часто бывает, углубиться в дополисную эпоху. Как обстояли дела
в этом отношении в ахейских дворцовых царствах? Насколько мож¬
но судить, тогдашние правители (анакты) были одновременно и вер¬
ховными жрецами, т. е. сосредоточивали в своих руках руководство
как светской, так и религиозной сферами бытия. Пожалуй, культо¬
вые обязанности были даже едва ли не более важными: поддержи¬
вая общение с богами, царь тем самым обеспечивал благополучное
существование государства. Это одна из самых архаичных и устой¬
чивых идей, связанных с царской властью вообще. Высказывалось
авторитетное мнение, что еще в дворцовых царствах догреческого
Крита государственное устройство также было теократическим. Это
обстоятельство, если оно соответствует действительности, тоже не
могло не повлиять на характер складывавшихся ахейских властных
структур.
После крушения дворцовых царств в протополисах «темных
веков» эту модель власти анакта переняли (конечно, в уменьшен¬
ных масштабах) басилеи. Они были одновременно светскими и
религиозными лидерами общины, военачальниками и верховными
жрецами в одном лице. В тех полисах, где впоследствии сохранились
86
рудименты института басилеев, этот сакральный компонент их пре¬
жних полномочий виден вполне ясно. В Афинах архонт-басилей,
наиболее прямой «наследник» власти древних царей, являлся имен¬
но верховным жрецом. Те же функции имели, наряду с некоторыми
иными, также и спартанские цари.
Таким образом, в греческом мире «религиозная функция» с са¬
мого начала существования полисов не была автономной, четко
выделенной; она неразрывно переплеталась с прочими аспектами
общественной жизни. Ну а в дальнейшем, по мере формирования
полисной формы государственности, выделению этой «религиозной
функции» тем более ничто не способствовало. Аристократия, в на¬
чале архаической эпохи отстранившая от власти басилеев и взявшая
руководство полисами в свои руки, стала параллельно осуществлять
и контроль над основными культами, т. е. заняла доминирующее
положение в религиозной жизни. Тираны, приходя к власти, тоже
брали под свою опеку сакральные аспекты деятельности государства
наряду со всеми остальными. Они возводили храмы, учреждали
культы, вводили религиозные празднества, т. е. поступали воистину
как «первосвященники». Наконец, в тех полисах, в которых в итоге
утверждалась демократия и весь гражданский коллектив брал реаль¬
ную власть в свои руки, он же становился и верховным сувереном
в области религии, источником культовых полномочий жрецов.
Отсутствие отдельного сословия духовенства, противопостав¬
ленного «мирянам», влекло за собой еще одну в высшей степени
характерную черту древнегреческой религии — ее принципиальный
адогматизм. Даже наиболее авторитетные в религиозном отношении
тексты (эпические поэмы Гомера и Гесиода) никогда не считались
вместилищем абсолютной и неоспоримой истины. С Гомером впол¬
не можно было полемизировать и даже жестко критиковать его,
в то время как с догматическими текстами «религий откровения»
(с Библией, Кораном) полемизировать нельзя — их можно только
интерпретировать. Переоценить значение греческого религиозного
адогматизма для истории мировой культуры просто невозможно:
только в его условиях могли получить значительное развитие такие
формы познания и освоения мира, как философия и теоретическая
наука.
Свой вклад в формирование адогматического характера древ*
негреческой религиозности внесло и отсутствие политического
Тема UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
87
единства, полисная раздробленность. Каждый полис, если можно
так выразиться, сам себе прописывал религиозные нормы. Единство
пантеона было, бесспорно, важным фактором, скреплявшим целост¬
ность эллинской цивилизации. Но вот поклоняться представителям
этого пантеона в разных полисах могли весьма неодинаковыми
способами (равно как и мифы даже об одних и тех же богах и геро¬
ях могли быть совершенно непохожими и противоречащими друг
ДРУГУ)-
А ведь именно формы поклонения богам при отсутствии «Свя¬
щенного Писания» оказывались наиболее важным для религии де¬
лом. Преобладание культа, ритуала над этическими элементами уче¬
ния составляет одну из характернейших черт религиозности греков.
Бесспорно, эта религиозность, если смотреть на нее с христианской
точки зрения, оказывается уязвимой для упреков в формализме
и прагматизме. Принцип “do ut des” («я даю, чтобы ты дал»), приме¬
нявшийся во взаимоотношениях людей с богами, был свойствен гре¬
ческому миру, пожалуй, в той же мере, что и римскому. Греки — если
говорить о магистральной линии их олимпийской религии, а не
о маргинальных течениях, — в целом искали от контактов с небо¬
жителями не эмоциональной близости, а практической пользы. Су¬
ществовали даже способы «давления» на богов: в случае нужды их
содействие просто-таки вымогалось. Так, для начала сражения необ¬
ходимо было получить благоприятные знамения, прочитывавшиеся
жрецами по внутренностям приносимых в жертву животных. Что же
делали, если знамения оказывались неблагоприятными? Как прави¬
ло, не отступали от задуманного, а снова и снова приносили жертвы,
пока, наконец, не добивались требуемого результата.
Можно, конечно, сказать, что это не более чем манипуляция
святынями. Но будем ли мы правы? Процитируем одно место из Ге¬
родота, где рассказывается о начале битвы при Платеях, когда персы
уже пошли в атаку на греческие ряды: «Лакедемоняне стали тогда
приносить жертвы, однако счастливые жертвы не выпадали, и за
это время успело пасть много воинов и еще больше было ранено...
Спартанцы попали в тяжелое положение, а жертвы все выпадали не¬
благоприятные. Тогда Павсаний (спартанский регент, командующий
союзными греческими силами. — И. С.) обратил взоры на святилище
Геры у Платей и стал взывать к богине, умоляя ее не обмануть упо¬
ваний спартанцев... Сразу же после молитвы Павсания жертвы для
88
лакедемонян выпали благоприятные. Тогда и лакедемоняне наконец
также пошли на персов» (IX. 61-62). Еще более красочно тот же эпи¬
зод описывает Плутарх (Плутарх. Аристид. 17-18).
Перед нами, таким образом, какая-то странная смесь прагматизма
с наивным благочестием. Спартанцы предпочитали гибнуть, но не
отвечать на натиск врага, пока на то не будет дано благословение
свыше. Что же касается религиозных манипуляций в политических
и военных целях, то они получили сколько-нибудь широкое рас¬
пространение не раньше чем в конце V в. до н. э., в период Пелопон¬
несской войны. Но зато уж тогда, в период кризиса традиционных
ценностей, эти манипуляции расцвели пышным цветом. Достаточно
вспомнить ситуацию в Афинах 415 г. до н. э., перед началом Сици¬
лийской экспедиции, когда и сторонники, и противники этой акции
всячески заботились о том, чтобы доставить демосу как можно боль¬
ше божественных знамений в свою пользу.
Говоря об этом в известной мере действительно формально-праг¬
матическом или даже формально-рациональном характере грече¬
ской религиозности, надлежит всегда держать в памяти следующие
поясняющие обстоятельства. Во-первых, религия эллинов была, так
сказать, религией «мира сего», а не «мира иного». Вопросы, связан¬
ные с посмертным существованием, судя по всему, отнюдь не так
волновали греков, как, скажем, древних египтян или индийцев, не
говоря уже о христианах. Конечно, сказать, что греки совсем об этом
не задумывались, было бы грубым преувеличением. Достаточно
вспомнить элевсинские и дионисийские мистерии, учения орфиков,
пифагорейцев, Платона, где важнейшее место занимают категории
загробного суда, воздаяния, спасения. Но в целом все эти учения
были все-таки менее характерны для греческой цивилизации, неже¬
ли традиционные воззрения, в которых бытие душ в Аиде рисова¬
лось в неясных и довольно-таки мрачных тонах.
Для древнегреческого мировоззрения, как неоднократно и спра¬
ведливо подчеркивал его глубочайший знаток А. Ф. Лосев, была
характерна «вещественно-материальная интуиция», в связи с чем
и сам феномен человека воспринимался прежде всего в телесном,
а не духовном смысле. «Мы являемся свидетелями того замечатель-
ного явления, что термин “тело” как раз и употреблялся в антич¬
ности в значении “человек”» (Лосев, 1992-1994, кн. 2. С. 510; курсив
принадлежит А. Ф. Лосеву). Соответственно, то, что происходит
Тема ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
89
после распада тела, т. е. после физической смерти, по большей части
не становилось предметом насущного интереса. Больше волновали
вещи вполне житейские: здоровье, благосостояние, потомство, кото¬
рое не даст угаснуть роду, и т. п. Отсюда и пресловутый религиозный
прагматизм.
Во-вторых, во многом «материалистичными» были и образы бо¬
гов, особенно в народной религиозности, в рамках которой подчерк¬
нуто антропоморфные боги-олимпийцы отнюдь не воспринимались
как некие духовные сущности. Боги — так, как их описал Гомер
(а именно созданные его гением образы закрепились в последующей
мифологической традиции), — были чрезвычайно близки к людям,
во всем на них похожи. Соответственно, они отнюдь не воспринима¬
лись как идеальные в этическом смысле мироправители, чуждые ка-
ких-либо моральных недостатков, «грехов». Собственно, категории
греха олимпийская религия не знала. Да и вообще она не находилась
в столь же прямом соотношении с этикой, как более привычные нам
монотеистические «религии откровения». Она не давала прямой
санкции на те или иные бытовые, внеритуальные нормы поведения.
Отношения между религией и этикой были неоднозначными, порой
противоречивыми. Обо всем этом подробнее будет сказано несколь¬
ко ниже. Две названные сферы менталитета то сходились почти
вплотную, то вступали в коллизию друг с другом, что необходимо
иметь в виду, говоря о структурах полисного сознания. Этика не
была непосредственным порождением олимпийской религии. Отсю¬
да, опять же, и вышеупомянутый религиозный прагматизм.
Ни в чем так не очевидна важная роль религии в античной Гре¬
ции, как в ее влиянии на ведение войн. Война воспринималась как
мероприятие, тесно связанное с религией и уж во всяком случае
требующее божественной санкции. Заведомо наилучшим пово¬
дом к войне был такой, который имел бы религиозную подоплеку.
Именно таким поводом поспешили обзавестись, в частности, спар¬
танцы перед началом Пелопоннесской войны (Фукидид, История.
1.126-127). Прежде чем открыть военные действия, для нападающей
стороны было в высшей степени желательно заручиться поддержкой
какого-либо авторитетного оракула, чаще всего Дельфийского
(и опять же именно так поступили лакедемоняне, готовясь вступить
в крупномасштабный конфликт с афинянами: Фукидид. История.
1.118.3).
90
Лекции
Непосредственно перед началом сражения необходимо было
проконсультироваться с богами путем наблюдения знамений. Обыч¬
но такие консультации принимали форму гаруспиций (гаданий по
внутренностям животных), и для их успешного проведения при вой¬
ске всегда находился эксперт (mantis), выполнявший одновременно
функции жреца и прорицателя, а иногда и целый штат таковых;
неизбежно было и присутствие стада жертвенных животных. И еще
раз отметим, что особенно скрупулезно к соблюдению упомянутого
обычая относились спартанцы. Так, чтобы привлечь на свою сторону
знаменитого прорицателя Тисамена из Элиды, они пошли даже на
уникальный, беспрецедентный в своей истории шаг — сделали его
полноправным спартанским гражданином (Геродот. История. IX.
33-35).
Как мы видели из приведенного выше эпизода с поведением Пав-
сания при Платеях, неблагоприятные знамения заставляли отклады¬
вать битву, невзирая даже на гибель людей. После же сражения побе¬
дители воздвигали из захваченных на поле боя вражеского оружия
и доспехов трофей во славу богов, а затем обе враждующие стороны
старались получить друг у друга тела своих павших воинов для по¬
добающего погребения, причем для этого могли идти на существен¬
ные уступки (Плутарх. Никий. 6). Оставить тела непогребенными
(в сущности, даже независимо от того, произошло ли это по субъ¬
ективным или объективным причинам) считалось серьезнейшим
религиозным преступлением и могло повлечь за собой даже казнь
полководцев. Именно так, например, закончился судебный процесс
афинских стратегов, одержавших в 406 г. до н. э. победу над спартан¬
ским флотом при Аргинусских островах, но из-за начавшейся бури
не успевших подобрать трупы погибших моряков.
В военные планы могли вмешиваться, серьезно их корректируя,
события религиозного календаря. Широко известен случай, имев¬
ший место в 490 г. до н. э., когда перед Марафонской битвой спар¬
танцы, искренне сочувствуя афинянам, все же отказались прислать
им подкрепление до наступления полнолуния (Геродот. История.
VI. 106). Можно соглашаться или не соглашаться с обычно выска¬
зываемым по поводу этого события мнением, согласно которому
истинные причины отказа были политическими. Важнее другое:
отказ был воспринят как должное и не вызвал каких-либо сомнений,
возражений или упреков в медлительности. Следовательно, выдви¬
Тема UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
91
гавшаяся спартанцами религиозная мотивация их промедления рас¬
сматривалась афинянами как вполне убедительный аргумент, а не
как «манипуляция». Заметим, кстати, что после того как полнолуние
наступило, спартанский отряд совершил настоящий марш-бросок
к Марафону, двигаясь чрезвычайно быстро, и лишь чуть-чуть не ус¬
пел к окончанию сражения (Геродот, История. VI. 120).
* * *
Характеристику древнегреческой религиозности в нескольких сво¬
их недавних работах дал Ю. В. Андреев (см. Андреев, 1998). Однако
некоторые принципиальные тезисы этого исследователя представ¬
ляются весьма спорными и требуют возражений.
В частности, весьма схематичным и упрощающим реальное мно¬
гообразие исторических явлений выглядит тезис о противостояв¬
ших друг другу древнегреческой религии, характеризовавшейся
гуманизмом и духовной свободой личности, и религиях Древнего
Востока, «тоталитарных», подавлявших личность, подчинявших се¬
бе все формы человеческой деятельности. Подход к древневосточ¬
ным религиям должен быть гораздо более дифференцированным,
конкретно-историческим. Далеко не все они обладали чертами вет¬
хозаветного иудаизма, действительно нетерпимого к любому ина¬
комыслию. Скажем, в древней Месопотамии, по наблюдению круп¬
нейшего специалиста по истории этого региона Лео Оппенхейма,
«влияние религии на отдельных людей и на общество в целом не
имело существенного значения... Человек жил в чрезвычайно уме¬
ренном религиозном климате» (Оппенхейм, 1990. С. 139). А это вы¬
зывает ассоциации скорее с греческим религиозным менталитетом,
чем с постулируемой древневосточной «тоталитарной» религиоз¬
ностью. Да и могло ли бы общение между греческим и восточным
мирами в религиозной сфере стать столь интенсивным, каким оно
было, если бы различие между ними в этой области было абсолютно
непреодолимым?
Мистические течения в религии, по мнению Ю. В. Андреева,
в целом не были приняты греками, они являлись маргинальными
и нетипичными отклонениями от общепринятых норм религиозного
сознания. Это положение, на наш взгляд, слишком категорично. Да,
ряд учений и практик подобного толка (орфизм, пифагореизм, пла¬
тонизм) действительно оставался уделом интеллектуальной элиты
и не приобрел определяющего влияния на верования масс. Но как
92
же быть с Элевсинскими мистериями? Этот культовый феномен -
а его мистический характер трудно отрицать — уже с классической
эпохи приобрел фактически панэллинское значение. Во всяком слу
чае, маргинальным он ни в коей мере не был. Вряд ли стоит обеднять
религиозное сознание древних греков, подчеркивая в нем только
рациональные элементы и затушевывая иррациональные (тем более
странно, что сам же Ю. В. Андреев чуть позже приписывает древним
грекам неосознанное следование принципу “Credo quia absurdum",
что тоже является преувеличением). И те и другие уживались в эл
линской душе, как уживались в пантеоне Аполлон и Дионис. Ниже
у нас еще пойдет речь о течениях «легализма» и «мистицизма», отра
зивших в архаическую эпоху обе эти тенденции.
Ю. В. Андреев считает, что в отличие от стихийно-материали¬
стической религии греков «религии спиритуалистического толка
такие как христианство, иудаизм, буддизм», отбрасывают в сторон)
материальную, телесную сторону человеческой личности, считают
тело «темницей или могилой» души (Андреев, 1998. С. 128). Не возь
мемся судить в данной связи о буддизме, но что касается иудаизма
и христианства, тезис явно неверен. Как в Ветхом, так и в Новом
Завете весь материальный мир изначально освящен как творение
Божье. В полной мере это относится и к человеческому телу: ведь не
случайно же Библия говорит о воскресении мертвых в день Страш
ного суда в телесном облике! Не забудем о том, что именно эти
слова — о телесном воскресении мертвых — в I в. н. э. больше всего
шокировали афинян, слушавших проповедь апостола Павла в Арео¬
паге (Деяния апостолов. 17. 31-32). Вот ведь как обернулась первая
встреча греческой и христианской религий: в роли «материалистов»
оказались как раз христианине, а в роли «спиритуалистов» — греки.
И это далеко не случайно. Выражение «тело — темница души»,
как известно, отнюдь не из арсенала иудаизма или христианства
Оно употреблялось орфиками, а затем с энтузиазмом было под
хвачено Платоном. Кстати, симптоматично, что самая, наверно,
спиритуалистическая и принижающая телесные начала религиозна
философская система — грандиозное учение Платона об идеях -
была создана отнюдь не на Востоке, а на почве греческой религии
Вероятно, последняя содержала в себе определенные потенции дл5
развития и в этом (разумеется, далеко не единственном для нее^
направлении.
Ниш UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
93
Основатель неоплатонизма Плотин, доведший мысли Плато¬
на до их логического предела, как известно, попросту испытывал
отвращение к собственному телу (Порфирий. Жизнь Плотина. 1).
Это абсолютно противоположный христианскому взгляд на вещи.
Христианин не может стыдиться тела, поскольку оно создано Богом.
Наиболее выраженную форму тенденция к принижению материаль¬
ного начала обрела на исходе античности, у гностиков, считавших,
что материя создана злым демиургом, а гностицизм был решительно
осужден христианством.
Ю. В. Андреев утверждает, что греки «в отличие от иудеев и хри¬
стиан... не додумались до хотя бы примитивной теодицеи» (Андреев,
1998. С. 130). Фактически дело обстоит скорее противоположным
образом. Не упоминая уже о том, что любая сколько-нибудь разви¬
тая религия невозможна без попыток теодицеи, конкретно о греках
можно сказать, что проблема объяснения существующего в мире
зла и отношения богов к этому злу чрезвычайно волновала их, как
можно судить хотя бы по некоторым стихам Феогнида (например:
Феогнид. 373 слл.). Теодицея приобретала в греческой религиозной
мысли самые разнообразные формы. Она проявлялась то в идее кол¬
лективной ответственности, как она запечатлелась у ранних авторов
архаической эпохи, в том числе у Гесиода и Солона, то в представ¬
лении о загробном суде у орфиков и пифагорейцев, то в утверж¬
дении разумного миропорядка и неукоснительного соблюдения
закона воздаяния в трагедиях Эсхила, то в учении позднего Платона
(Законы. X. 896 слл.) о «благой» и «злой» душах мира, то в попытке
Эпикура доказать невмешательство богов-олимпийцев в дела чело¬
веческие...
Но даже не столько отдельные неточности в работе Ю. В. Андре¬
ева вызывают несогласие, сколько его общий подход. Исследователь
справедливо пишет: «В то время как одни авторы решительно проти¬
вопоставляют их (античную религию и христианство. — И. С.) друг
другу как две глубоко враждебных по духу и даже взаимоисключа¬
ющих формы религиозного сознания, другие готовы видеть в гре¬
ческой религии и особенно в религиозной философии греков своего
рода “предисловие” к христианству, настаивая на соединяющей их
исторической преемственности» (Андреев, 1998. С. 125). Из двух
названных позиций самому Ю. В. Андрееву, безусловно, ближе пер¬
вая. В этом он, по сути, близок к им же критикуемым христианским
94
Лекцп
авторам (таким как А. Мень), но только иначе расставляет знаки
«позитива» и «негатива», что видно уже по заглавию одной из его
работ — «Апология язычества», которое само по себе вызывает ряд
серьезных вопросов.
Во-первых, «язычество» — понятие чрезвычайно расплывчатое.
Оно включает в себя среди прочего самые грубые и варварские
культы и верования примитивных племен, которым вряд ли кто-
нибудь, в том числе и Ю. В. Андреев, взялся бы писать «апологию».
А если говорить не об абстрактном «язычестве», а о конкретной
древнегреческой религии, то нельзя не признать, что она по целому
ряду своих принципиальных характеристик куда ближе к тому же
христианству, нежели к религиозным воззрениям каких-нибудь ме¬
ланезийцев.
Во-вторых, нам не вполне понятно, почему для того чтобы поло¬
жительно отозваться об античной религии (которая такого положи¬
тельного отзыва, вне сомнения, заслуживает), нужно обязательно
порицать христианство. Оба этих феномена религиозной истории
человечества имеют колоссальное историко-культурное значение,
и вряд ли следует, сопоставляя их, прибегать к эмоциональным оце¬
ночным суждениям. В связи с этим нам представляется значительно
более плодотворной позиция другого выдающегося петербургского
антиковеда — Ф. Ф. Зелинского.
Зелинский — тонкий и глубокий знаток античной религии — был
(скажем без всякого преувеличения) страстно влюблен в нее. Чтобы
убедиться в этом, достаточно прочесть его очерк “Vince, Sol!” — вдох¬
новенный гимн греческим богам (Зелинский, 1995. Т. 2. С. 379-412).
При этом ученый был верующим христианином и искренне считал,
«что только религиозно настроенный человек может понять также
и античную религию» (Зелинский, 1995. Т. 2. С. 350). Находя боль¬
шое количество моментов принципиальной преемственности между
античными и христианскими религиозными идеями, множество
связывающих их «ниточек» — от понятия Богочеловека-Логоса до
представления о троичности божества, — он утверждал: «Христи¬
анство было античной религией... Но, называя его так, мы не уни¬
жаем христианства, а, наоборот, возвышаем античную религию»
(Зелинский, 1995. Т. 2. С. 352). Этим и близок нам подход Зелин
ского: стремлением, высоко оценивая одну религию, не отзываться
пренебрежительно о другой.
Тема UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
95
Все предыдущее было сказано отнюдь не с целью односторонне
оттенить моменты континуитета между античностью и христиан¬
ством и сделать вид, что между этими двумя мировоззрениями не
было важнейших различий. Напротив, нам хотелось бы избежать
любой односторонности. Нашим единственным намерением было
лишний раз настоятельно подчеркнуть необходимость объектив¬
ного, непредвзятого анализа исторических феноменов. Девиз, ко¬
торым следует руководствоваться историку, — “sine ira et studio”
(«без гнева и пристрастия») — ни в коей мере нельзя считать уста¬
ревшим.
Лекция 6. Ключевые категории и термины
древнегреческого религиозного сознания.
Эволюция древнегреческой религиозности
Говоря о религиозности и религии античных греков, представля¬
ется необходимым рассмотреть некоторые важные категории этой
религии. Это позволит лучше оттенить ее специфику, те черты,
которые отличают современные «мировые» религии от античных,
в частности от интересующей нас древнегреческой. А черт этих бо¬
лее чем достаточно, что с особенной яркостью проявляется именно
в терминологии. Соответствующие греческие термины, чтобы сде¬
лать изложение более общедоступным, мы будем транскрибировать
латиницей.
Начнем с того, что в древнегреческом языке попросту не сущест¬
вовало слова, которое можно было бы адекватно перевести как «ре¬
лигия». Было несколько терминов, смысл которых в той или иной
степени пересекался с нынешним значением этого слова: ta hiera
(употреблялся главным образом в связи с объектами культа, в том
числе храмами, святилищами, монументами, учреждениями, свя¬
щеннодействиями), ta theia (обозначал собственно действие сверхъ¬
естественных, божественных сил и его результаты; мог прилагаться
и к поведению людей по отношению к богам, например, к исполне¬
нию оракулов, к клятвам и т. п.), ta pros tus theus (относился к совер¬
шению жертвоприношений, отправлению культа предков и неко¬
торым другим ритуалам; позже получил этическую окраску и стал
в определенной степени означать практику справедливых, благих
деяний). Невозможность перевести на древнегреческий язык слово
«религия» проистекает, естественно, не из отсутствия денотируемого
96
феномена в системе греческой цивилизации, а лишь из принципи¬
альной специфики греческой концепции религии, из ее несовпаде¬
ния с привычной нам.
Действительно, многих элементов, неотъемлемо присущих, ска¬
жем, христианской религиозной жизни, мы не найдем в древнегре¬
ческой; и наоборот, ряд категорий, воспринимавшихся греками как
сакральные, позже перешли в разряд профанных. Насколько можно
судить, строгое разграничение сакрального и «светского» было вооб¬
ще немыслимо: государственные должностные лица наряду со жре¬
цами ведали государственными празднествами; сами жрецы, как мы
видели, в сущности тоже были полисными магистратами; веселая
пирушка одновременно являлась немаловажной частью жертвопри¬
ношения... Любая сколько-нибудь важная акция общественного или
частного характера получала религиозную окраску. Религия прони¬
зывала собой всю повседневную жизнь, не составляла отдельной,
обособленной от нее сферы. Из всего этого вытекал ее выраженно
коллективный характер, в ущерб проявлениям индивидуальности,
а также абсолютное преобладание в ней «посюсторонних» элемен¬
тов над «потусторонними».
В любой религии «современного» типа наличествуют несколько
важнейших, конституирующих компонентов. Среди них — ком¬
понент догматический, т. е. Священное Писание, некий сакраль¬
ный текст, воспринимаемый как истина в последней инстанции;
компонент культово-ритуальный, т. е. совокупность обязательной
для приверженцев данной религии обрядности (включим сюда же
церковную организацию как блюстительницу культа); компонент
этический, т. е. сумма бытовых (внеритуальных) норм поведения,
санкционированных данной религией.
В древнегреческой религии, по большому счету, можно отыскать
все эти компоненты. Однако, во-первых, они имели во многом иное
содержание. Выше уже отмечалось, что мифологическая традиция,
игравшая роль комплекса сакральных текстов, не была догмати¬
ческой. Далее, несмотря на несомненное наличие ритуала, культа,
у древних греков не было церкви как особой, не совпадающей с по¬
лисом корпорации. Жречество и даже профессиональное жречества
конечно же, было, но оно отнюдь не являлось сословием или кастой,
«духовенством», противопоставленным «мирянам» и облеченным
прерогативой совершать таинства. Наконец, категория этики так*
Лиш III. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
97
же имела иное наполнение, на чем нам еще придется подробнее
останавливаться.
Во-вторых, взаимное соотношение обозначенных констант тоже
было другим. В привычных нам «религиях откровения», будь то
христианство, ислам или даже зороастризм, первичным является
догматический элемент, текст, Писание, которое служит источником
и культа, и этических нормативов. Иначе было в Древней Греции:
культ, обрядность, ритуал были главной составной частью религии,
первичной по отношению к мифологии (мы говорим не о хроно¬
логической, а о таксономической первичности). «Вольнодумство»
в области религиозных идей, критика мифа считались вполне допус¬
тимыми, а вот за отклонение от общепринятой культовой практики
даже в демократических полисах карали весьма строго. Что же каса¬
ется этики, то изначально она у греков вовсе не санкционировалась
религией, но была внешней, автономной по отношению к ней. Отсю¬
да невозможная для нашего ума коллизия религии и этики, которая
постоянно искала разрешения и, может быть, в наибольшей степени
стала движущим рычагом развития религиозной мысли. Вся линия
развития религиозно-этических воззрений древних греков — от
Гомера до начала V в. до н. э. — может быть охарактеризована как
тенденция к сближению этих двух величин; сойдясь с наибольшей
полнотой у Эсхила, они, однако, так и не слились полностью и далее
продолжали вполне самостоятельное существование, по-прежнему
оставаясь источником коллизии, иногда даже расходясь вновь.
Еще одним важным рычагом эволюции религиозных идей стало
мощное воздействие рационализма, здравого смысла, которому, как
известно, «религии откровения» не подсудны вовсе. Скажем, для ве¬
рующего христианина религиозная жизнь заведомо является облас¬
тью иррационального и чужда какому бы то ни было критическому
анализу: где появляется такой анализ, там начинается сомнение и,
следовательно, кончается вера. Ну а для древнего грека все было как
раз наоборот. Пафос тертуллиановского credo quia absurdum остался
бы ему совершенно непонятен; религия и логика существовали в од¬
ной плоскости.
Возвращаясь к перечисленным выше греческим эквивалентам
слова «религия», укажем на одну общую их особенность: все эти
термины обозначают конкретные, объективные, материальные пред¬
меты и действия и не имеют в виду каких-либо религиозных мыслей
98
и чувств. Характерно, в частности, следующее парадоксальное об¬
стоятельство: насколько можно судить, у греков (во всяком случае,
доэллинистического времени) совсем не было понятия религиозной
веры. Слово “pistis”, обычно переводящееся на русский язык как
«вера», в религиозном обиходе передавало исключительно доверие
к клятвам или саму клятву. Собственно, вопрос: «Како веруеши?»
для жителей греческих полисов попросту не вставал. Как остроумно
замечает тонкий знаток античной культуры Бруно Снелль, нельзя
было бы задать эллину вопрос, верит ли он, скажем, в Афродиту. Он
не верил в нее — он наблюдал и ощущал ее действие повсюду, пре¬
жде всего на себе, ведь любовь не чужда никому (Snell, 1937. S. 263).
Античные боги, олицетворявшие силы природы, не были предметом
веры, а воспринимались как объективная реальность.
Уже позднее, в ходе эволюции и сближения религиозных и эти¬
ческих категорий, некоторые термины, изначально принадлежав¬
шие к религиозной сфере, постепенно приобрели и определенную
нравственную окраску. Помимо упоминавшегося выше ta pros tus
theuSy можно назвать в этой связи слово “theosebeia” (богопочита-
ние), которое наряду с обрядовой практикой стало означать также
уважение к моральным ценностям, истине и справедливости. В еще
большей степени сказанное относится к слову “eusebeia” (благоче¬
стие), оказавшемуся даже в одной семантически-ассоциативной
нише с dikaiosyne (справедливостью). Эти относительно поздние
новшества, впрочем, лишь подтверждают высказанный выше тезис
о первоначально раздельном существовании религиозных и этиче¬
ских категорий. Характерно и то, что в греческом мировоззрении не
имелось понятия греха в религиозно-этическом смысле. Были, с од¬
ной стороны, hamartia («преступление» или даже просто «ошибка»),
adikia (несправедливость, обида), blabe (вред), которые, характери¬
зуя разного рода дурные поступки, не несли религиозного оттенка,
а с другой — miasma, agos, mysos (скверна, нечистота). Эта последняя
категория грехом тоже никоим образом не является, скорее имея
сходство с заразной болезнью. Достаточно сказать, что роженица
считалась оскверненной в той же мере, что и убийца.
Перейдем теперь к столь серьезной проблеме, как древнегрече¬
ские термины для обозначения божества (theos, daimon; оба слова
были взаимозаменяемыми), имеющие весьма существенную специ¬
фику вплоть до несовпадения по сравнению с нашим словом «бог»
Ниш UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
99
и соответствующими ему в новых европейских языках. Различие
коренится прежде всего в том, что для древнего грека иначе, неже¬
ли для нас, проходила граница между богом и человеком, богом и
миром. В религиях преобладающего ныне типа божественная суб¬
станция безусловно трансцендентна по отношению к материаль¬
ному универсуму; она творит и затем контролирует его (или же
самодовлеет, как в деистических концепциях, но это в данном случае
для нас не принципиально). В греческой же религии боги, будучи
достаточно строго отграничены от людей, в то же время имманентны
вселенной, чувственно-материальному космосу, который, как неод¬
нократно и справедливо подчеркивал А. Ф. Лосев, для античного
сознания вообще является «последним абсолютом» (Лосев, 1989;
Лосев, 1992-1994). Боги мыслились не вне этого космоса, а внут¬
ри его, не его творцами, а, напротив, его порождениями. Отсюда,
кстати, и власть над богами трансцендентной судьбы. Мир богов
и мир людей — одновременно и два мира, и один. Боги осознаются
как нечто постоянно и повсюду присутствующее, близкое, может
быть, слишком близкое. По сути дела, они венчают собой иерархию
живых существ; для Гомера, например, над «чернью» возвышаются
герои-аристократы, а над этими последними, наверное, примерно
настолько же — боги.
Итак, коль скоро боги не причастны к сотворению мира, един¬
ственной их функцией является контроль. Все происходящее ре¬
гулярно и «правильно» (не в моральном, а в чисто техническом
смысле) свидетельствует о присутствии theos, в отличие от вещей
нерегулярных, находящихся в ведении слепого случая.
Будучи частью материального космоса, боги, естественно, и сами
вполне материальны. Даже для Ксенофана, наиболее последова¬
тельного противника традиционного антропоморфизма, божество
отнюдь не стало духом (ср. Ксенофан, фр. 21 B24DK). Материальны
и даже состоят из атомов, боги и века спустя, у Эпикура; а такие спи¬
ритуалисты, как стоики, ассоциируют божество с вполне материаль¬
ной субстанцией — огнем. Что же говорить о рядовых греках!
На начальных этапах становления греческой религии боги вопло¬
щали собой силы природы. Природа, естественно, не этична, потому
и в отношении к богам можно говорить о полной отстраненности
от этического. Однако за антропоморфизацией греческих богов,
достигшей высокой степени уже в гомеровском эпосе, не могла
100
не последовать их, если так можно выразиться, гуманизация. Иными
словами, на богов стали переноситься критерии человеческой мора¬
ли, к которым они изначально не имели никакого отношения.
Обратимся теперь к таким важнейшим терминам, как dike, hybris,
sophrosyne, занимавшим огромное место в древнегреческой картине
мира. В данной ситуации тоже нужно избежать соблазна трактовать
эти понятия в позднейшем, этическом смысле.
Dike обычно переводят на русский язык как «справедливость»
или еще иногда как «право», что, в общем-то, правомерно фиксирует
термин на грани религиозной и юридической сфер в точке их сопри¬
косновения. Однако не раз уже проводившийся анализ семантики
слова dike показывает, что в нем имплицитно заложена идея мировой
гармонии, порядка, равновесия, нарушение которого влечет за собой
неминуемое возмездие. Справедливость {dike) контролирует даже
физическую вселенную, а отнюдь не регулирует столкновения инди¬
видуальных воль, как римское ins. Довольно близкой к истине, пожа¬
луй, была бы также передача значения слова “dike” как «воздаяние».
Во всяком случае, «справедливость» — понятие, бесспорно, этически
окрашенное, a dike — нейтральное в этом отношении. Отнюдь не в
этическом смысле употребляли этот термин и ранние философы, за¬
являя, что dike правит миром. Dike — это принцип упорядоченности,
регулярности, баланса. Греки наблюдали эту регулярность в мире
физических явлений, и вполне естественным для них было перено¬
сить ее также на человеческий мир.
Греческие авторы воспринимали мир как единую, целостную сис¬
тему, находящуюся в состоянии некоего высшего равновесия, кото¬
рое поддерживается богами. Это-то равновесие и олицетворяет dike.
Каждый (будь то человек или бог) должен блюсти это равновесие,
строго осознавать свое место в системе целого и придерживаться его.
Знаменитое «Познай самого себя» в своем первичном, досократов-
ском, дельфийском смысле, по сути дела и есть требование «знать
свое место».
Попытка сломать высшее равновесие, нарушить субординацию
собственного положения в нем получила название hybris. В случае
такого нарушения действует своеобразный «закон маятника»: боги
как регуляторы баланса возвращают систему в прежнее положение*
вступает в силу nemesis — противодействие hybris, — и нарушитель
терпит наказание. Изначально все это тоже не имело прямого отно¬
Tema ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
101
шения к этике; поэтому не вполне точен, во всяком случае неполон,
распространенный перевод слова “hybris” как «гордыня», «дерзость»,
«заносчивость», поскольку дерзость и гордыня — категории, заве¬
домо этически окрашенные. Для грека же, как известно, не только
чрезмерные пороки, но и «чрезмерные» достоинства являлись симп¬
томом hybris. Если человек слишком хорош — значит, он вознесся
и возомнил себя равным бессмертным богам, следовательно, его не
минует кара. Эта мысль вообще очень глубоко укоренилась в созна¬
нии эллинов, о чем говорит, чтобы не ходить далеко за примерами,
хотя бы процедура остракизма, которой подвергались наиболее
выдающиеся люди полиса; когда «человек негодный», демагог Ги¬
пербол, «удостоился» остракизма, это произвело настоящую бурю
в общественном мнении.
Аналогичную ментальную парадигму отражала весьма распро¬
страненная вера в «зависть богов»: считалось, что люди, вызвавшие
своими чрезмерными успехами эту божественную зависть, рано или
поздно будут наказаны наряду с преступниками. Характерно, что
представление о «зависти богов» было присуще не только массам, но
и представителям интеллектуальной элиты еще в классическую эпо¬
ху. Так, у Геродота «зависть богов» — одна из наиболее частых моти¬
ваций событий. «Отец истории» даже Солону пытается приписать то
же мировоззрение (Геродот. История. I. 32), хотя в данном случае он
вряд ли прав. Подобные мысли можно встретить и в трагедиях Эс¬
хила. Так, в «Персах» Ксеркс, по мнению хора персидских старцев,
наказывается богами за сооружение моста через Геллеспонт — пред¬
приятие, превосходящее человеческие силы (Эсхил. Персы. 93 слл.);
Агамемнон в одноименной трагедии боится встать на расстеленные
встречающей его Клитемнестрой пурпурные ковры, дабы не вызвать
недовольства богов (Эсхил. Агамемнон. 921 слл.).
Таким образом, чтобы не впасть в hybris и не заслужить божест¬
венной кары, считалось необходимым соблюдать первое условие —
умеренность, не выделяться из общего ряда. Именно эту категорию
определял термин sophrosyne, употреблявшийся как антоним hybris.
Великие дельфийские максимы архаической эпохи — «Познай
самого себя», «Ничего слишком» — служили именно формирова¬
нию sophrosyne как общественной добродетели. К V в. до н. э. она
вошла в перечень важнейших традиционных этических ценностей;
в это время значение sophrosyne включало в себя здравый смысл,
102
следование разумной мере во всем, тщательное соблюдение божест¬
венных и человеческих границ, защищающее от опасных крайностей.
Все перечисленные категории, важные для греческого менталитета,
изначально, как мы видим, не относились к сфере этики.
* * *
Эволюция религиозного сознания античных греков, как она пред¬
стает перед нами на материале источников, отнюдь не является
простой, прямолинейной и однозначной. Так, у Гесиода обнару¬
живаются следы более древних верований, нежели даже гомеров¬
ские; убежденный противник традиционной олимпийской религии
Ксенофан следует не после ее ревностного апологета Пиндара, как
предполагала бы схема «поступательного прогресса», а перед ним,
и т. п. Дело, думается, в том, что, во-первых, не всегда принимается
в расчет разница в темпах идейного развития отдельных регионов
эллинского мира: скажем, полисы малоазийской Ионии, а затем
и Великой Греции по ряду причин значительно опередили в этом от¬
ношении собственно Балканскую Грецию, в которой, в свою очередь,
очень долго, вплоть до Периклова века, выделялись благочестием,
верностью традициям и подозрительным отношением к новшествам
в духовной сфере Афины (см. ниже). Во-вторых, вычленяя линии
эволюции религиозных идей, мы в любом случае найдем их несколь¬
ко, далеко не всегда совпадавших по направлению, и еще вопрос,
можно ли считать какую-то одну из этих линий магистральной.
За исходный пункт развития религиозного сознания неизбеж¬
но приходится принимать гомеровский эпос, на протяжении всей
античности остававшийся важнейшим источником религиозной
традиции. Разумеется, ни в коей мере нельзя считать, что с Гоме¬
ра начинается древнегреческая религия. Это очевидным образом
неверно, особенно в свете того, что стало известно о религиозных
представлениях греков II тыс. до н. э. после дешифровки линейного
письма Б. Однако о религии микенской эпохи все-таки слишком
мало известно, чтобы о ней можно было сколько-нибудь подробно
говорить здесь. Гомер же для древнего грека любой эпохи был пер¬
вой и последней книгой, учебником и энциклопедией жизни, в том
числе религиозной; гомеровские боги и в классический период были
отнюдь не мертвы.
Боги «Илиады» и «Одиссеи», по меткому определению россий¬
ского филолога-классика О. М. Фрейденберг (Фрейденберг, 1978.
TiMâ UL Древнегреческая религиозность и ее эволюция
103
1988, 1997), «бескачественны». Имеется в виду, конечно, бескаче-
ственность не в эстетическом плане (с эстетической точки зрения,
эти боги — воплощение совершенной красоты), а в плане этическом.
Боги Гомера не добры и не злы, моральные категории вообще непри¬
менимы к ним. Они этически бескачественны, как бескачественны
в этом отношении природные стихии, из которых они выросли. Их
вряд ли можно назвать блюстителями нравственного миропорядка,
справедливости. Гнев богов может быть вызван отнюдь не амораль¬
ным поступком и даже не религиозным нечестием в обобщенном
понимании, а чисто «личного плана» причинами — обидой или ос¬
корблением, нанесенными лично им или их любимцам в мире людей.
Если уж, например, Гера желает, гневаясь, истребить Трою, то для нее
не имеет никакого значения, что Троя — благочестивейший из горо¬
дов (Гомер. Илиада. IV. 25 слл.). Не более этичен в этой ситуации
и Зевс (Там же. 39 слл.). Боги лгут (как Гермес и Афродита в обра¬
щенных к ним гомеровских гимнах); в общем-то, они действительно
способны на многое из того, что даже в среде людей гомеровской
эпохи вряд ли считалось приличным. Боги бранятся (Илиада. IV.
5 слл.; XIV. 200 слл.), злобствуют (Илиада. 1.565; VIII. 370; 415), пре¬
любодействуют (Одиссея. VIII. 266 слл.), дерутся друг с другом (см.
сочное описание «битвы богов» в XX-XXI песнях «Илиады»)... Этот
перечень «пороков» богов можно было бы продолжать и продол¬
жать. Но вот парадокс при всем этом ничто не изменяется в худшую
сторону в их прекрасном и светлом облике. Эта бескачественность
богов, по мнению Фрейденберг, берет свое начало от изначальной
«докачественности» амбивалентного мифа той поры, когда на самых
ранних ступенях человеческого развития еще не сформировалось
представление о каузальности — причинной связи явлений — и не
появилась как следствие идея отвлеченного возмездия (каузализа-
ция вводится в миф позднее, в рамках общей тенденции к его систе¬
матизации и историзации). Именно поэтому гомеровские боги так
капризны и непостоянны.
Боги Гомера, так же как и люди Гомера, в сущности индиффе¬
рентны к преступлениям и несправедливостям, совершаемым по
отношению не к ним самим или их любимцам, а к кому-нибудь
другому. К началу классической эпохи ситуация не могла не изме¬
ниться, и это изменение коснулось и людей, и богов. В это время,
в частности в Афинах, ситуация в которых известна лучше всего,
104
уже установилась система права, позволявшая (и даже в какой-то
степени обязывавшая) граждан полиса активно и нетерпимо от¬
носиться даже к посторонним по отношению к ним проступкам.
К этому времени и в религии (по крайней мере, в религиозных пред¬
ставлениях образованных слоев) мало-помалу закрепилось пред¬
ставление о богах как о беспристрастных блюстителях справедли¬
вости, наказывающих зло вообще, а не по отношению к конкретному
объекту.
Можно, кстати, найти и другие примеры соответствий в рели¬
гиозной и правовой сферах, сходства между отношениями в мире
людей и мире богов. Так, считалось, что месть богов по отношению
к людям распространяется и на их потомков, на следующие поко¬
ления, и в этом аспекте она представляла собой полную параллель
чисто человеческого явления — кровной мести. В первом афинском
письменном законодательстве, у Драконта, мы уже находим разли¬
чие между умышленным и неумышленным убийством. Это говорит
о том, что ко второй половине VII в. до н. э. вполне сложилось по¬
нятие о каузальной связи явлений, еще во многом чуждое Гомеру.
Соответственно, появилась идея божественной кары, прослежива¬
ющаяся еще у Гесиода, который считал, что даже целые города могут
подвергнуться наказанию за преступления одного человека: «Цело¬
му городу часто в ответе бывать приходилось / За человека, который
грешит и творит беззаконье» (Труды и дни. 240-241). Возникно¬
вение представления о возмездии свыше знаменует первый шаг в
«этизации» религии, мифологии и одновременно в «религизации>
этики, в сближении этих двух сфер менталитета.
Этика гомеровской эпохи существовала еще автономно от ре¬
лигии и была чисто практической: социум в интересах своего нор¬
мального функционирования не мог не налагать на каждого из
своих членов определенных, порой весьма жестких поведенческих
нормативов. Клятва, родовое проклятие, кровная месть — таковы
основные элементы этой в чем-то даже биологической этики. Делай
«своему» добро, а «чужому» зло, насколько ты способен, — таков
ее главный принцип. Каких-либо «общечеловеческих», одинаково
применимых к любому индивиду этических мерок не было. Кстати,
эти архаичные представления, мирно соседствуя и переплетаясь
с позднейшими, сохранялись довольно долго, во всяком случае, по
классический период включительно.
Ним ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
105
Немаловажную роль в сближении этических и религиозных цен¬
ностей сыграли два течения в религиозной жизни греков архаи¬
ческой эпохи, определенные выдающимся исследователем древне¬
греческой религии М. Нильссоном как «легализм» и «мистицизм»
(Nilsson, 1948). Первое из этих течений, связанное преимущественно
с Дельфами, выросло в конечном счете из практики ритуальных
очищений, являвшихся неотъемлемым элементом культа Аполлона
Пифийского. Как известно, для гомеровского героя убийство — вещь
весьма мало обременительная. Единственное последствие преступ¬
ления для убийцы в эпосе — выкуп, который необходимо заплатить
родственникам убитого; никаких религиозных санкций убийство за
собой не влечет:
...Брат за убитого брата,
Даже за сына убитого пеню отец принимает;
Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством;
Пеню же взявший — и мстительный дух свой, и гордое сердце —
Все наконец укрощает (Гомер. Илиада. IX. 632 слл.).
Нововведение дельфийской религии Аполлона по сравнению
с этими гомеровскими представлениями заключалось в актуали¬
зации древних верований в «скверну», являющуюся результатом
кровопролития. Убийцы наряду с некоторыми другими категориями
преступников против религии считались оскверненными и подлежа¬
ли обязательному очищению. Это, помимо прочего, наносило серь¬
езный удар и по обычаю кровной мести. По понятиям последней,
убийца должен быть сам убит. Однако новое убийство неизбежно
влекло за собой новую скверну, и так до бесконечности. Идея культо¬
вого очищения позволяла вырваться из этого порочного круга.
Из требования ритуальной чистоты постепенно вырастало тре¬
бование чистоты нравственной. В частности, активизация законо¬
дательной деятельности в передовых греческих полисах, появле¬
ние в них первых сводов письменных законов, эта, по выражению
Э. Д. Фролова, «первоначальная законодательная реформа» (Фро¬
лов, 1988. С. 120) происходила явным образом не без поддержки
дельфийского жречества, во всяком случае, при его подчеркнуто бла¬
госклонном отношении. Раннее греческое законодательство — очень
сложный исторический феномен, сложившийся под воздействием
многочисленных факторов самого различного порядка — отнюдь
не только религиозных, но и социальных, и политических. Каждый
106
из древнейших сводов законов необходимо рассматривать в его
конкретном контексте; каждый из них решал вполне определенные
задачи. И тем не менее, конечно, не является простым совпадением
их появление в самых разных частях греческого мира на одном хро¬
нологическом отрезке.
Можно сказать, что наряду с конкретными задачами, в каждом
случае особыми, перед законодателями архаической эпохи стояла
в некотором роде сверхзадача, общая для них всех. Сверхзадачей
этой было посильное участие в поддержании космической гармонии
на уровне человеческого общества, фиксация некой мировой суб¬
ординации с твердо установленным местом для всякого человека,
которое ему надлежало знать («Познай самого себя!»). Не будем
забывать об определенном «глобализме», характерном для древне¬
греческого правосознания, особенно на его ранних этапах. В сущно¬
сти, любое правонарушение воспринималось во всей совокупности
его космических импликаций. Даже незначительное отклонение от
dike было чревато подрывом той самой мировой гармонии, наносило
ущерб нормальным отношениям между людьми и сверхъестест¬
венными силами, в общем, угрожало не только непосредственно по¬
страдавшим индивидам, но и всему обществу. В наиболее заострен¬
ной форме, даже с эсхатологическими нотками этот мотив звучит,
конечно, у Гесиода, но нет серьезных оснований полагать, что в этом
вопросе воззрения беотийского аэда сильно отличались от общерас¬
пространенных.
В законах были совершенно неразделимы политические и рели¬
гиозные элементы. Нередко их введению сопутствовало ритуальное
очищение данного полиса (именно так было в Афинах при Солоне
и Эпимениде). В сущности, и сами законы воспринимались в не¬
малой мере как катартическая акция. С их помощью государство
очищалось от беспорядков и смут (стасиса), «гражданской чумы»,
которая, подобно чуме физической, считалась наказанием за какую-
то «скверну» (miasma). Неслучайно для очищений и сочетавшихся
с ними реформ зачастую приглашались «неоскверненные» люди со
стороны (Терпандр, Фалет, Тиртей в Спарте, упоминавшийся Эпи-
менид в Афинах).
В связи с ролью дельфийского культа Аполлона в эволюции
мифологических представлений греков стоит процитировать со¬
вершенно справедливые слова Ф. Ф. Зелинского: «Нравственное
Тема ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
107
оздоровление греческой мифологии было делом той религии, кото¬
рая имела своим средоточием Дельфы, и той эпохи, которая совпала
с политическим возвышением Спарты среди пелопоннесских и во¬
обще греческих государств. Тогда были поставлены строгие нравст¬
венные требования и к богам, и к тем героям, в которых видели пер¬
вообразы доблести и добродетели. Гомеровский эпос, увлекшийся
чисто поэтической красотой, был отвергнут дельфийской религией»
(Зелинский, 1995. Т. 3. С. 162).
В этот же период начали приобретать этическую окраску по¬
нятия dike, hybris, sophrosyne. Первое из них, продолжая выражать
принцип космического равновесия, получило также ряд черт че¬
ловеческой справедливости; в связи с этим вырастала концепция
морального миропорядка, впоследствии нашедшая наиболее пол¬
ное воплощение у Эсхила. Hybris, ранее не сознававшийся как без¬
условно отрицательное качество (гомеровский герой считал его
делом не дурным, но лишь опасным и чреватым карой богов; более
того, исконная для греческого менталитета идея героизма заключа¬
лась именно в стремлении уподобиться богам и порой приобретала
весьма экстравагантные формы), приобретал отчетливый характер
этического порока, а, соответственно, sophrosyne — характер этиче¬
ской добродетели. Появилась необходимость дать этическую основу
и такой категории, как «зависть богов», и она начала сближаться
с nemesis, божественным возмездием.
Второе из вышеупомянутых течений — мистицизм (представ¬
ленный в позднеархаическую эпоху преимущественно орфиками
и пифагорейцами) — имеет для нас значение прежде всего потому,
что его приверженцы впервые связали идею божественной кары,
существовавшую, как мы видели, еще и до них, в частности у Ге¬
сиода, с учением о загробных мытарствах человеческой души и о
метемпсихозе. В соединении эти две концепции дали чрезвычайно
важное для дальнейшего духовного развития мировой цивилизации
представление о посмертном воздаянии. Впрочем, вряд ли можно го¬
ворить о широком распространении этого представления, долго еще
остававшегося уделом элитных слоев. На уровне массового сознания
с ней продолжало сосуществовать и даже решительно преобладать
старое представление о воздаянии (награде или наказании) потом¬
кам, роду совершившего то или иное деяние, т. е. о коллективной,
а не индивидуальной ответственности.
108
Лекция 7. Религиозность в классических Афинах
Не вполне типично для греческого мира происходило складывание
религиозных традиций Афин (впрочем, ведь и в большинстве дру¬
гих отношений этот полис был скорее исключением, чем нормой).
Мы привыкли смотреть на Афины как на наиболее передовой в
культурном отношении центр греческого мира, где рождались, нахо¬
дили понимание и применение все новые идеи. Однако так было не
всегда. Довольно долго этот полис несколько задерживался в духов¬
ном развитии.
«Афины V века [до н. э.] со своей строгостью нравов, своим бла¬
гочестием, своей неукоснительной верностью религиозным обычаям
отцов очень резко контрастировали не только с современной им
Ионией, но даже и с Ионией гомеровской эпохи», — справедливо
писал Ф. Ф. Зелинский (Зелинский, 1995. Т. 3. С. 167). Дух философ¬
ского умозрения, достигший к этому времени кульминации в ионий¬
ских и великогреческих полисах, в Афинах вплоть до эпохи Перикла
не имел сколько-нибудь близкой аналогии. Высказывалось, правда,
предположение, что Эсхил находился под косвенным влиянием пи¬
фагореизма, но даже вне зависимости от обоснованности этой гипо¬
тезы речь может идти в любом случае лишь о единичных явлениях.
Вполне симптоматичен тот факт, что вплоть до Сократа и некоторых
софистов второго поколения (Антифонт, Критий) ни один видный
древнегреческий философ не был уроженцем Афин.
Долгое время Афины мало чем выделялись в духовном плане
среди соседних полисов, но с начала классической эпохи в силу ряда
общеизвестных обстоятельств положение начало коренным образом
меняться. Обстоятельства эти были как внешнего, так и внутреннего
плана. Среди них следует назвать установление и поступательное
развитие демократического строя; ярко выраженную ориентацию
ряда афинских политических лидеров (Кимона и, в особенности,
Перикла) на активную культурную политику, выражавшуюся, по¬
мимо прочего, в создании кружков интеллектуалов; формирование
Афинского морского союза, повлекшее за собой, с одной стороны,
значительное укрепление связей Афин с ионийским регионом, а
с другой — резкое возрастание финансовых возможностей «города
Паллады», ставшего притягательным пунктом для деятелей культу¬
ры, в том числе даже и в чисто материальном плане; общий упадок
восточногреческих центров во главе с Милетом в результате персид
Лип М. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
109
ского владычества и греко-персидских войн и т. п. В Афины в нема¬
лом количестве двинулись представители интеллектуальной элиты,
в том числе философской мысли — как поздние натурфилософы,
так и ранние софисты; некоторые из них, как Анаксагор, оставались
здесь на долгие годы. Столь резкая перемена не могла не вызвать
определенных издержек. Зерна передовых учений падали на слабо
подготовленную почву; то, что вполне спокойно воспринималось на
родине приезжих «светил», в Афинах не могло не стать источником
противоречий и даже напряженности.
Впрочем, вряд ли следует представлять Афины первой полови¬
ны V в. до н. э. совсем уж отсталым в духовном отношении местом,
как это иногда делается. В архаическую эпоху они не выбивались
из общих темпов культурного развития Балканской Греции; другое
дело, что сами эти темпы были замедленными по сравнению с той
же Ионией или западными колониями, но это в равной степени
относится и к Коринфу, и к Мегарам, и к Аргосу... Материальная
культура процветала, а вот в отношении интеллектуальных поисков
колыбель греческой цивилизации, несомненно, шла за своими «вы¬
селками», а не наоборот.
На этом фоне афинянам даже было чем похвастаться. Действи¬
тельно, среди их соотечественников была одна из самых ярких лич¬
ностей во всей греческой истории и уж во всяком случае не имевшая
себе равных в архаической Элладе по разносторонности и одновре¬
менной гармоничности своих проявлений. Речь идет, конечно же,
о Солоне, творчество и деятельность которого не стали определя¬
ющими для последующей идейной эволюции Афин в той мере, в ка¬
кой могли бы, лишь по той причине, что он, судя по всему, сущест¬
венно опередил свое время. Приходится признать, что Солон во
многом не был понят современниками. Да и то сказать, просто-таки
удивительным кажется его блистательное появление после всех этих
довольно бледных и стандартных Килонов и Драконтов.
Солон интересует нас здесь как религиозный мыслитель и дея¬
тель. Его законодательные реформы в целом, бесспорно, лежали
в русле дельфийского «легализма», хотя и были более масштабны¬
ми, чем где бы то ни было. Вне зависимости от отношения Солона
к конкретному дельфийскому жречеству (а это отношение, судя по
всему, менялось с течением времени и по ходу внешнеполитических
событий), и как мыслитель, и как практический деятель он был
110
вполне «аполлоничен», проникнут духом гармонии, космического
миропорядка, претворяющегося на человеческом уровне в идею
«благозакония» (eunomia). Мировоззрение Солона можно, пожалуй,
охарактеризовать как просвещенный традиционализм, выразивший
ся, помимо прочего, в безоговорочном принятии древнего представ¬
ления о наследственной вине (хотя симпатичным ему это представ¬
ление быть никак не могло).
Отнюдь не случайно, что непосредственно перед проведением
собственно политических мероприятий афинский законодатель
при содействии прибывшего с Крита Эпименида осуществил ряд
религиозных реформ, имевших целью ликвидацию архаичных черт
в афинских религиозных (особенно погребальных) обрядах, при¬
способление их к нормам складывающейся полисной системы. Эти
реформы Эпименида — Солона вообще очень показательны как
пример сочетания преобразований в государственном устройстве с
нововведениями в области культа. Охарактеризуем их исторический
контекст. Перед афинским полисом на рубеже VII-VI вв. до н.э.
стояла нетложная задача очищения от так называемой «Килоновой
скверны». Собственно, именно с этой целью был приглашен в Атти¬
ку критский чудотворец. Совершив требуемые катартические ритуа¬
лы на территории всей области и соорудив в связи с этим ряд новых
святилищ, Эпименид кроме этого «подружился с Солоном, во мно¬
гом ему тайно помогал и проложил путь для его законодательства
Он упростил религиозные обряды... отменив грубые, варварские
обычаи... Он очистил и освятил город и тем самым сделал граждан
послушными голосу справедливости и более склонными к единоду¬
шию» (Плутарх. Солон. 12; ср. Диоген Лаэртский. I. 110). Понятно,
что Солон не мог не поддерживать такого рода реформы, поскольку
они вели к той же принципиальной цели, что и реформы политиче¬
ские. Впоследствии, уже после отъезда Эпименида, Солон и сам про¬
должал вносить изменения в культовую практику (Плутарх. Солон.
21). Выдающийся исследователь истории ранней греческой мысли
Г. Дильс считал, что функцией всех этих реформ было распростра¬
нение в массах некоторых начатков религиозного «просвещения»
(Aufklärung), проникшего уже в образованные слои общества, но
чуждого дотоле демосу.
В годы деятельности Солона, в частности, в результате первой
Священной войны, между Афинами и Дельфийским святилищем
lu* ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
ni
установились теплые, дружественные отношения. Один из наиболее
могущественных афинских аристократических родов — близкие
к Солону Алкмеониды — вообще чувствовал себя в Дельфах как
дома и пользовался там значительным влиянием. Алкмеониды под¬
держивали свои дельфийские связи и позже, в течение всего VI в.
до н. э., чего нельзя сказать об Афинах в целом. Намеченное Соло-
ном направление эволюции религиозной идеологии не было продол¬
жено его преемниками. В частности, в годы тирании Писистратидов
«легалистская» струя в религии уступила место мистической, что
проявилось прежде всего в увлечении тиранов орфическим учением.
Экзегеты орфического толка, в числе которых был известный Оно-
макрит, занимали почетное положение при их дворе. Уникальная
коллекция оракулярных вещаний, хранимая Писистратидами на
афинском Акрополе, скорее всего, тоже была создана по инициативе
орфиков. Соответственно, в отношениях Афин (во всяком случае,
афинских тиранов) с Дельфами наступило серьезное охлаждение,
может быть, следует говорить даже о враждебности, усугублявшейся
еще и тем обстоятельством, что при храме Аполлона нашли прибе¬
жище политические противники Писистрата и Гиппия — дважды
изгонявшиеся ими из Аттики Алкмеониды.
Последние в 510 г. до н. э. при прямой поддержке дельфийского
жречества даже инициировали спартанский поход на Афины, по¬
влекший за собой свержение там тирании. Установившаяся вскоре
после этого клисфеновская демократия на первых порах пользо¬
валась, насколько можно судить, определенными симпатиями со
стороны Дельфов (так, Пифия санкционировала своим авторитетом
проведенную Клисфеном реформу фил: Аристотель. Афинская по¬
литая. 21. 6), возможно, видевших в деятельности главы Алкмеони-
дов возвращение к традициям солоновского «легализма», но скорее
просто следовавших инерции давних связей с его родом. Однако уже
считанные годы спустя афино-дельфийские отношения вновь стали
чрезвычайно запутанными в результате как внутриполитической
борьбы группировок в афинском полисе, так и факторов внешнего
порядка («коллаборационистская» позиция оракула в греко-персид¬
ских войнах).
В 70-е — 60-е годы V в. до н. э. Дельфы пытались делать ставку
главным образом на лидера афинских лаконофилов Кимона. Ха¬
рактерна прославившая имя последнего акция — предпринятый
112
им, согласно дельфийскому прорицанию, перевоз «останков Тесея»
со Скироса в Афины (Плутарх. Тесей. 36; ср. Плутарх. Кимон. 8)
Подобную санкцию можно расценивать как проявление высшей
милости Дельфов. Весь эпизод находит себе полнейшую параллель
в предыдущем столетии, когда спартанцам, тогдашним неизменным
протеже дельфийского жречества, Пифия дала аналогичное указа¬
ние — доставить из Тегеи в Лакедемон «останки Ореста» (Геродот.
История. I. 67-68). Отношения Афин и Дельфов снова серьезно
испортились при Перикле, когда «срединный храм» начал, как и
при Писистрате, ощущать в «городе Паллады» сильного соперника
в борьбе за духовное влияние в Элладе.
Наконец, говоря о религиозном климате в раннеклассических
Афинах, невозможно не упомянуть о той роли, которую сыграла
в его складывании победа в греко-персидских войнах. Особенно
первая стадия этого полувекового конфликта, ознаменовавшаяся
разгромом варварских полчищ при Марафоне и Саламине, была для
греков, и в частности для афинян, временем большого религиозного
и одновременно патриотического энтузиазма. Впрочем, победа над
персами воспринималась даже не столько как победа отечествен¬
ных богов над чужеземными (между теми и другими для греков не
лежало резкой грани, и их образы подвергались постоянной конта¬
минации), сколько как торжество эллинской sophrosyne над hybris
восточных пришельцев. Именно эта мысль особенно часта у Эсхила
(в «Персах») и Геродота — главных певцов победы. Как бы то ни
было, исход войн привел к преобладанию на некоторое время кон
сервативных тенденций в религиозной жизни (кстати, как и в поли¬
тической). Однако идейную эволюцию можно было притормозить,
но не остановить; чуть позже кризисные явления в духовной сфере
всё равно начали давать о себе знать.
* * *
«Периклов век», середина V в. до н. э., — во всех отношениях особая
эпоха афинской и всей древнегреческой истории: высший взлет
в преддверии скорого падения. Так было в сфере политической,
экономической жизни; не стала исключением и жизнь религиозная
В частности, Перикл проводил вполне определенную религиозную
политику. Он стремился сделать родной город не только политиче-
ским гегемоном греческого мира, но и его важнейшим культурным,
религиозным центром; он видел в Афинах не только столицу мор*
Ъма ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
113
ской державы, но и «школу Эллады» (Фукидид. История. II. 41.1).
В сущности, бросался вызов Дельфам.
Характерно, что среди знаменитых перикловых построек мы
обнаруживаем почти исключительно храмы и другие культовые
сооружения. Афинский «олимпиец» практически пренебрегал граж¬
данской архитектурой, общественными зданиями утилитарного на¬
значения. Неудивительно, что обновленные Афины буквально сразу
же стали центром паломничества греков (ср. Аристофан. Облака.
300 слл.). Отметим одно немаловажное обстоятельство. Создается
впечатление, что все эти храмы возводились не только, да, пожалуй,
и не столько из религиозных чувств, сколько из патриотических, не
столько для прославления богов, сколько для прославления Афин.
М. Нильссон небезосновательно полагал, что многие предприятия
Перикла в религиозной сфере косвенно вели к секуляризации куль¬
та, к выдвижению в нем на первый план профанных элементов
(Nilsson, 1948. Р. 69). Рядом с подлинным сакральным «сердцем»
афинского полиса, храмом Афины Полиады, известным в науке как
Эрехтейон, поднялся демонстративно роскошный «внешний фасад»
Акрополя — Пропилеи и Парфенон со статуей Афины Парфенос, ко¬
торая блистала золотом и слоновой костью, но отнюдь не могла по¬
хвастаться древностью и воспринималась скорее как великолепное
произведение искусства, чем как по-настоящему чтимый священный
объект. В Великих Панафинеях элементы демонстрации афинского
могущества и процветания начали затмевать собственно религиоз¬
ный пиетет, что, помимо прочего, отразилось и на панафинейском
фризе того же Парфенона, авторы которого любовно и скрупулезно
изображают мельчайшие детали праздничной процессии, а богам
при этом уделяют не столь уж и большое место. Боги в перикловых
Афинах, кажется, вообще как-то стали отходить на второй план.
Обращалось внимание на то, что в знаменитой надгробной речи Пе¬
рикла (Фукидид. История. И. 35-46) ни разу не встречается слово
“theos”, «бог», да и во всем своем труде Фукидид нигде не вклады¬
вает ему в уста этого слова. Растущая мощь (dynamis) Афин — вот
реальный объект религиозного чувства афинского «олимпийца».
В глазах традиционно настроенных афинян (а таких, насколько
можно судить, было еще немало) все эти особенности перикловой
политики не могли не выглядеть как hybris, чреватый божественной
карой.
114
Вопрос о личных религиозных взглядах Перикла достаточно
сложен. Мы много знаем о Перикле-гражданине, Перикле-государ-
ственном деятеле и почти ничего о Перикле-человеке; со страниц
произведений античных авторов перед нами по большей части вста¬
ет нормативный образ. Вероятно, это неизбежно для политика та¬
кого масштаба, которому приходилось отодвигать все личные чув¬
ства на второй план по сравнению с делами полиса; важность же
почитания богов для внутренней и внешней стабильности государ¬
ства Перикл не мог не понимать. Характерен рассказ, приводимый
Плутархом: «Однажды Периклу принесли из деревни голову одно¬
рогого барана. Прорицатель Лампон, увидав, что рог, выросший на
средине лба, был крепок и тверд, сказал, что от двух могуществен¬
ных партий, существующих теперь в городе, Фукидидовой и Перик-
ловой, сила перейдет к одному, у кого будет это чудо. А Анаксагор,
разрубив череп, показал, что мозг не наполнял своего основания, но,
имея форму яйца, собрался из всего вместилища своего в то место,
где корень рога имел начало. Тогда все присутствующие удивлялись
Анаксагору, а немного спустя Лампону, когда Фукидид был низвер¬
гнут, а управление всеми общественными делами перешло в руки
Перикла» (Перикл. 6).
Ясно, что лично Периклу была ближе рационалистическая интер¬
претация уродства животного, предложенная Анаксагором (к при¬
метам он, насколько можно судить, относился в достаточной мере
скептически, ср.: Цицерон. О государстве. 1.16.25; Плутарх, Перикл.
35, 38), но как политик он не вправе был пренебречь и консульта¬
цией профессионального экзегета Лампона (ср. похожий случай
в: Плутарх. Перикл. 13, где Перикл в общественных интересах вос¬
пользовался верой граждан в вещие сны).
По мнению Ф. Шахермейра (Schachermeyr, 1968), с которым мы
в целом солидарны, Перикл был человеком глубоко религиозным,
но представителем новой, «просвещенной» религиозности, для ко¬
торой существование богов уже нуждается в доказательстве, которая
в большей степени склонна к внешнему блеску и пышности (что
наиболее ярко выразилось в величественности фидиевых построек).
Этот новый тип религиозности приходил в столкновение со старым,
традиционным, характерным для времен греко-персидских войн.
Плодом этого столкновения явилась волна судебных процессов
о «нечестии» в конце 430-х гг. до н. э. Жертвами судебных пресле¬
114У. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
115
дований стали интеллектуалы из «кружка Перикла» — Анаксагор,
Фидий, Аспасия. Перед нами первый признак надвигающегося кри¬
зиса в религиозной области, который пришелся уже на время Пело¬
поннесской войны.
Пожалуй, уже в первые военные годы произошел тяжелый пере¬
лом в массовом сознании, отразившийся, помимо прочего, в труде
Фукидида. Оборонительная тактика, принятая Периклом в боевых
действиях на суше, хотя и была запланирована афинским коман¬
дующим заранее, но оказалась неожиданной для большинства на¬
селения и, кроме того, вызвала ряд непредвиденных негативных
последствий. Эвакуация большого количества сельских жителей
в городские стены вызвала, кроме всегда трудного отрыва от тра¬
диционной среды обитания, родных очагов и святынь (Фукидид.
История. II. 16), еще и чрезмерное скопление людей на ограничен¬
ном пространстве (Там же. II. 17). Не замедлившая разразиться эпи¬
демия неведомой заразной болезни стала венцом неудач. Казалось,
сами боги отвернулись от некогда столь любимого ими города! Все
это просто не могло не подрывать традиционных ценностей, в том
числе и в религиозной сфере. Не придавая уже особого значения
сакральным табу, толпы бесприютных эвакуантов селились в святи¬
лищах, храмах и даже на заклятом Пеларгике (Фукидид. История.
II. 17.1), хоронили умерших без соблюдения погребальных обрядов,
а то и просто бросали их на улице (Там же. II. 52. 3-4). Зато активно
ходили по рукам и толковались десятки оракулов сомнительного
происхождения (Там же. II. 8.2; И. 54.2-4), и все они как один пред¬
вещали гибель граду Паллады. Неслучайно в этот период подвергся
опале со стороны демоса сам некогда всесильный Перикл, причем
ему припомнили и наследственную «оскверненность» Килоновой
кровью. Сам афинский «олимпиец», кажется, дрогнул духом и под¬
дался суевериям толпы (Плутарх. Перикл. 38).
Это был, однако, еще далеко не конец. Военное счастье впослед¬
ствии не раз улыбалось афинянам. Однако начало деструктивным
процессам в менталитете было положено, и это касается не только
Афин. Если судить по знаменитому пассажу Фукидида (III. 82-84),
создается впечатление, что греческие полисы в целом охватило ка¬
кое-то внезапное моральное одичание. И слова историка подтверж¬
даются Аристофаном, засвидетельствовавшим ту же деградацию
традиционных ценностей. Э. Леви, специально занимавшемуся
116
духовным климатом в Афинах эпохи Пелопоннесской войны, при
надлежит наблюдение, согласно которому в ранних пьесах комедио¬
графа («Ахарняне», «Облака») высмеивается в основном скептицизм
отдельных интеллектуалов (Еврипида, Сократа), то в дальнейшем
(«Фесмофориазусы», «Лягушки») его начинает все более заботить
уже практическое нечестие широких масс (Lévy, 1976).
Определенный вклад в эволюцию религиозного сознания в кри¬
зисном направлении внесла деятельность софистов, начавшаяся
несколько ранее Пелопоннесской войны, но в годы этого вооружен¬
ного конфликта достигшая апогея.
Софисты, как известно, не были представителями какого-то еди¬
ного философского направления. Собственно, все, о чем приходится
говорить, — несколько мощных, совершенно оригинальных умов,
не сходящихся ни в чем, кроме самых элементарных положений
своих учений (антропоцентризм, релятивизм, субъективизм) и внеш¬
них форм своей деятельности, а вокруг них — большое количество
эпигонов, самонадеянных посредственностей, а то и просто шарла¬
танов.
Следует подчеркнуть, что нередко встречающееся представление
о софистах (во всяком случае, о многих представителях этого движе¬
ния) как об атеистах является сильно преувеличенным. Интересно,
что они крайне редко становились жертвами судебных процессов
о нечестии (Протагор — едва ли не единственный пример). Причина
этого не только в том обстоятельстве, что, как считает А. Драхман
(Drachmann, 1922), софисты занимались изысканиями преимущест¬
венно в иных областях (риторика, лингвистика и т. п.) и в основном
старались воздерживаться от прямых антирелигиозных деклараций,
особенно неприятных рядовым афинянам. Несомненно, что эти фи¬
лософы вносили немало нового в традиционную концепцию боже¬
ства, разрабатывали проблематику происхождения религии. Однако
единственный мыслитель рассматриваемого периода, полностью
отрицавший существование богов, — Диагор Мелосский, — во-пер¬
вых, не принадлежал к софистам, а во-вторых, сведения об основных
принципах его критики религии и о его позитивных воззрениях
слишком темны и противоречивы, чтобы дать почву для сколько-
нибудь ответственных выводов.
Как бы то ни было, объективная роль деятельности софистов по
отношению к традиционным религиозным нормам была все-таки
кма ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
117
деструктивной. Их доведенный до крайности релятивизм наглядно
демонстрировал образованной публике относительность челове¬
ческих представлений о богах. Они перенесли фокус философского
исследования на человека как «меру всех вещей», положив начало
антропоцентризму, который, кстати, на политическом уровне вы¬
ливался в эпатирующие поступки Алкивиада, Ферамена, Крития
и других деятелей этой генерации. Софистические теории давали
повод считать, что боги существуют не в реальном бытии, а лишь
в сознании людей. Во всяком случае, так преломлялись идеи софи¬
стов в сознании афинян, не дававших себе труда осмыслить всю глу¬
бину их концепций. Все это усугублялось обстоятельствами внеш¬
него характера (затянувшейся войной, потрясшей город и область
эпидемией, назревавшим внутренним стасисом) и в совокупности
не могло не подрывать устоявшиеся ценности. При этом, несмо¬
тря на эту утрату традиций, вряд ли следует говорить о становле¬
нии рационалистического массового менталитета, скорее, наоборот.
С. Уитмен справедливо отмечает, что мифологическое сознание
отнюдь не утратило своих позиций; просто на смену религиозному
мифологическому комплексу, трактовавшему мир в его целостности,
пришли многочисленные малые мифы, имевшие лишь косвенное от¬
ношение к религии, — мифы о «войне до победного конца» и афин¬
ской гегемонии в Греции, о злокозненности и вреде для государства
«вольнодумцев»-философов, о разного рода панацеях от внутренних
и внешних сложностей, будь то «отеческая полития» или персидское
золото (Whitman, 1974. Р. 119-121).
На время Пелопоннесской войны (а также на первые годы сразу
после нее) пришлась новая волна судебных преследований за «не¬
честие». Следует назвать в данной связи процессы о повреждении
герм и о пародировании мистерий (415 г. до н. э.), процессы Диагора
Мелосского и Протагора, относящиеся примерно к тому же времени,
процесс стратегов-победителей при Аргинусских островах (406 г.
до н. э.). Наконец, на 399 г. до н. э. падают процесс Андокида и про¬
цесс Сократа.
Этот последний, бесспорно, является самым знаменитым из
процессов о «нечестии», к тому же лучше почти всех остальных
освещенным в источниках. Известна точная формула обвине¬
ния — непочитание полисных божеств и «введение» новых, а также
развращение юношества (Диоген Лаэртский. II. 40). Обвинение
118
в «нечестии» в данном случае было со стороны врагов Сократа лишь
поводом для расправы над философом, к тому же поводом далеко
не бесспорным. Действительно, Сократа достаточно сложно было
назвать «нечестивцем» или «безбожником», если сопоставлять его
с Диагором, Анаксагором или даже Протагором. Насколько мож¬
но судить, «босоногий мудрец», при всей оригинальности своих
религиозных воззрений (вера в «демоний» и пр.), никогда не вы¬
сказывал демонстративных сомнений в существовании богов и
неукоснительно соблюдал предписанные полисными обычаями
ритуалы. Суд над Сократом, да еще и свершившийся при прямом
участии Анита — героя войны с тридцатью тиранами, одного из
самых влиятельных лиц в государстве, — был всецело продуктом
крайне сложной для внутреннего порядка в афинском полисе эпохи
рубежа V-IV вв. до н. э., когда политическая враждебность, не имев¬
шая возможности проявиться открыто ввиду декретов об амнистии,
но, разумеется, не исчезнувшая, искала косвенных путей для своей
реализации. Отнюдь не последнюю роль в осуждении Сократа на
смерть сыграла его былая близость с Алкивиадом, Критием, Фера-
меном, деятельность которых рассматривалась лидерами победив¬
шей демократической группировки в крайне негативном свете; сыг¬
рало свою роль и нонконформистское поведение философа в ходе
процесса.
Многих исследователей не мог не удивлять тот факт, что именно
Афины, «школа Эллады», да еще и в самый блистательный, в том
числе в интеллектуальном плане, период своей истории, стали од¬
новременно и очагом такой религиозной нетерпимости, кажется,
совершенно подрывающей наше представление о древнегреческой
религии как в высшей степени толерантной, допускавшей любое
свободомыслие при условии соблюдения установленной обрядно¬
сти. Впрочем, вряд ли Афины были единственным полисом, где в это
тяжелое, переломное время проходили подобного рода судебные
процессы (известны и другие аналогичные случаи, например, на
острове Керкира в 420-х гг. до н. э.). Возможно, дело только в том,
что именно афинская действительность наиболее полно освещена
античными авторами.
Кризисные явления в общественном сознании афинян эпохи
Пелопоннесской войны сказывались, помимо прочего, в утрате
единства системы ценностей, руководящей при восприятии раз¬
JèM0 ///. Древнегреческая религиозность и ее эволюция
119
личных явлений действительности. Если не появились впервые, то
проявились в заостренной, порой противопоставленной друг другу
форме, различные типы мироощущения и поведения. Можно с не¬
которой долей условности выделить несколько таких типов, одним
из которых был тип «благочестивого» (eusebes), впоследствии, уже
в IV в. до н. э., окончательно выродившийся в тип «суеверного»
(ideisidaimon), как он запечатлен у Феофраста. Историческим приме¬
ром «благочестивого» в полной мере может служить Никий — один
из виднейших политических деятелей и полководцев постперик-
ловых Афин, который «в своем поведении всегда следовал добрым
обычаям» (Фукидид. История. VII. 86.5) и которого афиняне счита¬
ли «мужем, угодным богам» (Плутарх. Никий. 9. 8).
Никий — фигура известная. Если же мы поищем аналогичные
примеры, так сказать, на массовом уровне, то и в них недостатка
не будет. Представление о рядовом афинском пиетисте мы сможем
получить, например, из «сократических» трактатов Ксенофонта,
в которых для нас вообще интересен не только сам образ Сократа,
местами довольно далекий от исторической действительности, но
и проходящий перед нами ряд его собеседников — афинских граж¬
дан, ординарных людей, а не представителей интеллектуальной
элиты. Вот что говорит в ксенофонтовском «Пире» Гермоген, вне¬
брачный сын Гиппоника из рода Кериков: «И эллины, и варвары
признают, что боги всё знают — и настоящее, и будущее; это вполне
очевидно: по крайней мере, все города и все народы через оракулов
вопрошают богов, что делать и чего не делать. Затем, мы верим, что
они могут делать и добро и зло; это тоже ясно: по крайней мере, все
молят богов отвратить дурное и даровать хорошее» (Ксенофонт,
Пир. 4. 47). В этой характеристике богов подчеркиваются два их ка¬
чества: всеведение и всемогущество, причем последнее — в смысле
способности творить как добро, так и зло. Налицо, во-первых, рез¬
кий контраст с христианским пониманием божества как всеблагого,
творящего исключительно добро. Во-вторых, мы, судя по всему,
сталкиваемся даже с отходом от просвещенной концепции, пред¬
ставленной у Эсхила, по которой божественное управление миром
справедливо и благо. Это представление, характерное для истори¬
ческого оптимизма Эсхила, не могло со временем не подвергнуться
сомнению: понятно, что жизнь людей в суровые годы войны отнюдь
не представляла собой апофеоза добродетели. Кроме того, начало
120
осознаваться и требовать разрешения противоречие между идеями
всемогущества божества и его всеблагости, иными словами, вставала
проблема теодицеи.
Наряду с типом «благочестивого» появился и тип «нечестив¬
ца» (asebes). Практическое «нечестие» в период Пелопоннесской
войны распространилось в Афинах достаточно широко. Аристофан
неоднократно свидетельствует о росте именно этого бытового не¬
почтения к богам (Осы. 394; Фесиофорий. Женщины на празднике.
594 слл.; Лягушки. 366; Плутос. 594 слл.; 1184 сл.). Если верить
вышеуказанным местам, афинян уже мало что удерживало от того,
чтобы справить нужду у священного участка какого-нибудь бога
или героя, превратить религиозный праздник в обычную попойку
или украсть из храма посвященное божеству угощение. Известен
случай с дифирамбическим поэтом Кинесием, сообщение о котором
сохранилось в одном из фрагментов Лисия (Лисий, фр. 9 Albini).
В молодости Кинесий с друзьями создал сообщество, названное ими
kakodaimonistai («почитатели злого демона»), что явно пародирова¬
ло название одного из фиасов («почитатели доброго демона»). Чле¬
ны этого кружка занимались соответствующими вещами, например,
устраивали пирушки в «тяжелые» в религиозном отношении дни,
когда делать это возбранялось обычаем. Здесь налицо демонстратив¬
ный эпатаж общественного мнения пренебрежением к культовым
установлениям.
Об аргументации лиц, практиковавших такого рода «нечестие»,
можно узнать опять же из Ксенофонта. Одним из собеседников
Сократа в «Меморабилиях» он выводит некоего молодого человека
Аристодема, который «не приносит жертв богам и не прибегает к
гаданиям, а, напротив, даже смеется над теми, кто это делает» (Ксе¬
нофонт. Воспоминания о Сократе. 1.4.2). Оправдать свое поведение
он пытается следующими доводами: «Я не презираю божество, а,
напротив, считаю его слишком величественным, чтобы ему нужно
было еще почитание с моей стороны» (Там же. I. 4. 10); «Если бы
я пришел к убеждению, что боги хоть сколько-нибудь заботятся
о людях, я не стал бы относиться к ним с пренебрежением» (Там
же. I. 4. 11). Кроме того, Аристодем желает, чтобы боги дали ему
несомненные свидетельства своего попечения о нем (Там же. I
4.15).
1Ш Ш, Древнегреческая религиозность и ее эволюция
121
Нетрудно заметить, что в этой позиции, собственно, нет атеиз¬
ма. Строго говоря, атеистом (во всяком случае, в нашем современ¬
ном понимании слова) в условиях древнегреческого общества с
его не имевшей догм религией вообще довольно сложно было стать.
Аристодем отнюдь не отрицает существования богов: напротив, оно
вполне признается. Но боги, как они рисуются в представлении это¬
го «нечестивца», превращаются в некие самодовлеющие существа,
не нуждающиеся в почестях со стороны людей и не оказывающие
влияния на их жизнь. Впоследствии на аналогичной точке зрения
стоял Эпикур.
* * *
В годы Пелопоннесской войны в умах афинян шатались и руши¬
лись традиционные ценности, менялась религиозная картина мира,
появлялись новые типы религиозности. В последующую эпоху эти
тенденции нашли дальнейшее воплощение, на чем мы уже можем
остановиться лишь очень кратко.
Ближайшим результатом неудовлетворенности традиционной
религией, традиционными богами стало прогрессирующее проявле¬
ние довольно-таки неочевидной и даже необычной для греков, хотя
по-своему вполне логичной тенденции — обожествления правите¬
лей, «человекобожества». Как бы ни пытались истолковать провоз¬
глашение Александра Македонского богом в рамках исключительно
древневосточной, в частности египетской религиозной традиции, —
от чисто греческих коннотаций, послуживших фоном этому акту,
нам тоже никуда не уйти. В еще большей степени это относится
к последователям и подражателям Александра.
Характернейший с данной точки зрения текст — итифалличе-
ский гимн, сочиненный в Афинах на рубеже IV—III вв. до н. э. поэ¬
том Гермоклом для прославления «освободителя» города Деметрия
Полиоркета (ар. Duris FGrHist. 76. F13). Процитируем самый важ¬
ный отрывок из этого памятника:
Другие боги или где-то далеко,
Иль не имеют слуха,
Иль нет их вовсе, иль они не внемлют нам,
Тебя же зрим живого,
Не в дереве, не в камне, а воистину;
Тебя-то мы и молим.
122
Данный текст интересен прежде всего тем, что он дает мотива¬
цию для признания этого диадоха богом, причем мотивацию, самым
непосредственным образом связанную со встававшими в предшест¬
вовавшую эпоху религиозными проблемами. Действительно, если
«старые» боги не выполняют своих «функций», следует обзавестись
новыми. И кто может лучше сыграть роль такого нового божества,
чем герой-полководец, для которого, кажется, нет ничего невоз¬
можного? Священнодействия афинян по отношению к Деметрию,
обычно расцениваемые как низкопоклонство и признак мораль¬
ной деградации потомков Мильтиада и Перикла, в значительной
степени явились просто манифестацией перемен в религиозном
сознании. Между прочим, впервые явления подобного рода имели
место в греческом мире задолго до Александра, но зато сразу после
Пелопоннесской войны (мы имеем в виду почести, воздававшиеся
в ряде полисов Лисандру). Впрочем, мы не имеем возможности
сколько-нибудь подробно остановиться здесь на «культе личности»
у греков, тем более что этому вопросу посвящена изрядная литера¬
тура.
Безрадостной для традиционных верований была и более от¬
даленная перспектива. Концепция нравственного божества пос¬
тепенно, но неуклонно торжествовала, и древним олимпийским
богам, отнюдь не укладывавшимся в эту концепцию, оставалось
лишь медленно умереть, уступив место новым, менее человекопо¬
добным по своему обличью, но по духу своему более близким для
новых людей. Эти изменения в понимании и восприятии божест¬
венного произошли под влиянием вторжения в религиозную сферу
норм человеческой этики, первоначально не связанной с религией
и существовавшей автономно. Позволим себе высказать мысль, что
до этих перемен религиозная жизнь и религиозные представления
были ближе к категориям эстетики и коррелировались скорее ими.
Гомеровские боги эстетически совершенны, этические же мерки
к ним просто не прикладываются. Однако со временем к богам все
чаще начинают применять критерии, выработанные людьми для
себя. Человек становится «мерой всех вещей», что философски за¬
крепил Протагор. Вряд ли следует слишком прямолинейно считать
это рождением гуманизма. Еще В. Йегер справедливо замечал, что
антропоцентризм и гуманизм отнюдь не тождественны (Jaeger, 1943.
Р. 39).
км* /К Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
123
Тема IV
Остракизм в Афинах:
полисная демократия в действии
Лекция 8. Происхождение и функции института остракизма
В нынешней отечественной историографии болезненно ощущается
дефицит в обобщающих исследованиях по классической афинской
демократии. Дело дошло до того, что потребовалось переиздание
известной книги В. П. Бузескула «История афинской демократии»
(Бузескул, 2003). А книга эта, бесспорно, очень хорошая и полная
для своего времени, но все-таки уже почти столетней давности.
С тех пор исследование феномена в западном антиковедении ушло
далеко вперед, и жаль, что мы не поспеваем за общемировыми тем¬
пами. Не хочется верить, что переизданием монографии Бузескула
российская наука об античности расписалась в своей неспособности
создать общий труд по данной тематике, который освещал бы ее на
современном уровне.
Классическая демократия была хорошо сбалансированной сис¬
темой различных институтов. И мы здесь рассмотрим один из этих
институтов, который позволит наблюдать демократию в действии,
реализацию ее основных принципов. Речь идет об институте остра¬
кизма.
Представляется уместным прежде всего дать определение ин¬
тересующего нас явления. Остракизм (в своей «классической»
форме, как он функционировал в демократических государствах
V в. до н. э.) — внесудебное изгнание по политическим мотивам
наиболее влиятельных граждан из полиса на фиксированный срок
(в Афинах — 10 лет), без поражения в гражданских (в том числе
имущественных) правах и с последующим полным восстановлени¬
ем в политических правах, осуществлявшееся путем голосования
демоса в народном собрании при применении особой процедуры
(в Афинах — с использованием надписанных глиняных черепков,
остраконов, откуда появилось и само слово «остракизм»). Весьма
принципиальной чертой остракизма было то, что он предусматривал
изгнание не за какое-то совершённое индивидом деяние, а в пре¬
вентивных, «профилактических» целях, во избежание совершения
такого деяния в будущем (например, захвата влиятельным лицом
124
единоличной, тиранической власти). Именно поэтому остракизм
нельзя считать наказанием. Как известно, не может быть наказания
без преступления, nulla poena sine crimine.
Стало уже привычным ассоциировать процедуру остракизма
с демократией. Понимание остракизма как в высшей степени демо¬
кратического института, формы борьбы, порожденной именно и
конкретно демократическими полисами классической Греции, сле¬
дует признать весьма распространенным.
Приведем несколько примеров. Дж. Ларсен считал, что остракиз-
мы V в. до н. э. были проявлением конфликта между демократией
и сторонниками олигархии (это, на наш взгляд, чрезмерно упрощен¬
ный подход к истории афинской политической борьбы классической
эпохи, которая на самом деле отнюдь не развертывалась по дуальной
схеме «демократы — олигархи») (Larsen, 1948. Р. 16). А. Хейс назы¬
вал введение остракизма в числе первых шагов последовательной
демократической политики (Heuss, 1981. S. 27). Автор недавней
монографии о ранних греческих демократиях Э. Робинсон выска¬
зывает мысль, что остракизм — «в высшей степени демократическая
процедура», «одна из яснейших специфических черт демократии»
(Robinson, 1997. Р. 40-41, 62). «Сильным средством борьбы за де¬
мократию» называет остракизм Ю. Г. Виноградов (Vinogradov, 2001.
S. 379), К. Моссе — «характерной практикой греческой демократии»
(Mosse, 1992. Р. 358), К. Вебер — «демократической особенностью
Афин» (Weber, 1981. S. 154).
В действительности, однако, ситуация не так проста и не так
однозначна. Ныне уже можно утверждать с весьма большой долей
уверенности, что остракизм не был впервые изобретен Клисфеном
в Афинах в конце VI в. до н. э. Более ранние формы остракизма
(можно называть их «протоостракизмом») существовали и прежде
того, в архаическую эпоху греческой истории, во времена господства
аристократии.
В сущности, нет по-настоящему серьезных оснований обязатель¬
но связывать остракизм исключительно с демократической формой
правления, и только с ней. По сути дела, не существует какого-либо
непримиримого противоречия между практикой остракизма и арис¬
тократическим или олигархическим государственным устройством.
Вопрос заключается лишь в том, в ведении какого органа — народ¬
ного собрания (при демократии) или совета (при аристократия
кма /К Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
125
или олигархии) — эта процедура находилась. А в этом отношении
возможны самые различные варианты. Известно, например, что
даже в Афинах остракизм изначально был прерогативой не эюсле-
сии, а какого-то совета, скорее всего Совета четырехсот (Vaticanus
Graecus 1144, fol. 222rv). По большому счету, остракизм несовместим,
пожалуй, лишь с тиранией, да и тут не обойтись без оговорок. Если
тиран желал соблюсти хотя бы видимость законности и легитимно¬
сти своей власти в полисе (а именно такова была политика афинских
Писистратидов почти до самого конца правления династии), ничто
не мешало ему для устранения противников прибегнуть к подобного
рода правовой процедуре, тем более что нужный результат голосо¬
вания в совете, укомплектованном ставленниками правителя, был
заведомо обеспечен.
Неслучайно в недавно вышедшей работе Д. Мерхади «Ритуаль¬
ные истоки афинского остракизма» выдвинута нетривиальная гипо¬
теза: происхождение остракизма значительно лучше укладывается
в исторический контекст архаической эпохи с ее острой межарис-
тократической борьбой, нежели в рамки полностью демократиче¬
ского полиса. Остракизм, как считает Мерхади, вообще был со¬
звучен более аристократической, чем демократической культуре
(Mirhady, 1997).
Мы со своей стороны укажем на следующее обстоятельство, ка¬
жется, говорящее в пользу данной точки зрения. Афинская демокра¬
тия получила свою наиболее полную и законченную форму к началу
IV в. до н. э. И именно тогда остракизм фактически прекратил су¬
ществование! Предшествующее же столетие, V в. до н. э., в течение
которого функционировал этот институт, было, по сути дела, на всем
своем протяжении затянувшимся переходным периодом от арис¬
тократического полиса к демократическому, когда ведущую роль
в общественной жизни еще играли политические лидеры из знатных
родов. Они-то и становились жертвами остракизма. И по мере того,
как этих аристократических лидеров демократии становилось мень¬
ше, к остракизму всё реже прибегали, и он производил впечатление
отмирающей процедуры.
Рядом исследователей отмечались определенные религиоз¬
ные коннотации, изначально присущие остракизму. Особенно
настоятельно они подчеркиваются в статье Л. Холл (Hall, 1989),
скромно озаглавленной «Заметки по поводу закона об остракизме»,
126
но являющейся, по нашему глубокому убеждению, одной из на¬
иболее интересных и ценных работ, когда-либо посвящавшихся
рассматриваемому институту. Исследовательница, пожалуй, впер¬
вые в мировой историографии всерьез предложила посмотреть на
проблему происхождения остракизма под новым углом, весьма
убедительно продемонстрировав, что та форма этой процедуры,
которая применялась в Афинах в V в. до н. э. и которая лучше всего
известна нам, была продуктом длительного развития, протекав¬
шего в течение десятилетий или даже веков. В конечном счете, мы
имеем дело с рудиментарной, секуляризованной формой древнего
как мир магического ритуала — изгнания «козла отпущения» (греч.
pharmakos). Фармак по своему положению являлся sacrosanctus,
т. е. одновременно «проклятым» и «священным», «неприкасаемым»
и «неприкосновенным». Именно поэтому лица, подвергнутые остра¬
кизму, с одной стороны, удалялись с территории полиса и тем самым
отстранялись от соприкосновения со святынями и от общения с со¬
гражданами, а с другой стороны, на имущество такого изгнанника
запрещено было посягать, оно являлось неприкосновенным. Отнюдь
не случайно, что остракофория проводилась один раз в год — ни
чаще, ни реже, причем весной, в пору обновления природы; изгнан¬
ник как бы уносил с собой грехи, накопившиеся в гражданской об¬
щине в течение очередного календарного цикла.
Впрочем, во избежание чрезмерного увлечения идеей религиоз¬
ного происхождения остракизма необходимо сделать ограничитель¬
ное замечание. Следует четко отделять вопрос этиологии феномена
от вопроса его актуальной функции. Каковы бы ни были ритуальные
истоки интересующей нас процедуры, в V в. до н. э. в демократиче¬
ских Афинах она, бесспорно, воспринималась уже как вполне секу¬
ляризованный институт, а жертвы остракофорий вряд ли напрямую
ассоциировались с фармаками (разве что на уровне подсознания).
Теперь, после вышеизложенных предварительных наблюдений, мы
можем перейти непосредственно к вопросу о функциях остракизма.
При этом следует отличать друг от друга два аспекта проблемы:
с одной стороны, это остракизм в широком смысле слова, включая
аналогичные ему процедуры, т. е. достаточно распространенная
в Греции классической и даже архаической эпох практика изгнания
индивида в «профилактических» целях. С другой стороны, частный
случай Афин конца VI в. до н. э., когда Клисфеном в совершенно
127
определенной политической ситуации был издан закон, от которого
берет начало наиболее известная «демократическая» форма остра¬
кизма в народном собрании. Безусловно, рассматривать эти два ас¬
пекта тоже следует по отдельности: вначале попытаться определить
общие предпосылки, способствовавшие возникновению в полисном
мире «остракизмоподобных» институтов в принципе, а затем разо¬
браться с вопросом о конкретных причинах и целях принятия кон¬
кретного клисфеновского закона.
Думается, никто не усомнится в том, что остракизм, где бы и ког¬
да бы он ни вводился, был направлен своим острием прежде всего
против сильных, властных, могущественных аристократических
лидеров, против тех из них, кто становился настолько влиятельным,
начинал настолько выделяться в среде себе подобных, что воспри¬
нимался уже как опасность существующему политическому устрой¬
ству. Такая направленность является вообще одной из самых ярких
специфических черт остракизма, и в этом антиковеды, занимавшие¬
ся данной проблематикой, в подавляющем большинстве солидарны.
Подобная точка зрения на остракизм, по нашему мнению, вполне
верная, основывается на нарративной традиции, через которую идея
о предназначенности этого института для «обезвреживания» опасно
влиятельных политических деятелей проходит буквально красной
нитью, оказывается основополагающей для описания феномена.
Невозможно отрицать, что в очень многих случаях весьма важ¬
ную, зачастую решающую роль при введении и применении проце¬
дуры остракизма играл страх установления тирании. Судя по всему,
отнюдь не случаен тот факт, что практически все полисы, в которых
остракизм зафиксирован (нарративными или эпиграфическими
данными), на каком-то этапе своей истории прошли через стадию ти¬
рании. Это можно сказать об Афинах, Сиракузах, Мегарах, Милете,
Аргосе, Кирене.
И тем не менее связь остракизма с угрозой тирании — это лишь
часть истины. Не может не броситься в глаза, что многие из афин¬
ских остракофорий V в. до н. э. необъяснимы с данной точки зрения.
Такие политики, как, например, Аристид, Алкивиад Старший, Фу¬
кидид, сын Мелесия, вряд ли когда-либо в своей жизни имели хоть
малейшее намерение стать тиранами, да, скорее всего, и не вызывали
ни у кого даже подозрений в таком намерении. Тем не менее все они
стали жертвами остракизма. Создается впечатление, что у сограждан
128
вызывало зачастую полное неприятие и желание «осадить» само по
себе влиятельное положение того или иного политического лидера,
его превосходство, высокий авторитет, но безотносительно к опас¬
ности захвата этим лидером тиранической власти.
Прежде всего следует учитывать тот факт, что, хотя известные
из источников остракофории относятся к V в. до н. э., сама «идея
остракизма», насколько можно судить, появилась раньше — в архаи¬
ческую эпоху, характеризовавшуюся в целом господством арис¬
тократических, а не демократических режимов. К этой эпохе нам
и надлежит обратиться в попытке отыскать причины внедрения
в политическую практику и в общественное сознание представле¬
ний о пользе и даже спасительности устранения влиятельных поли¬
тиков.
Для политической жизни и — шире — для всего социокультур¬
ного бытия эллинского мира времени архаики было характерно
противостояние двух тенденций: коллективистской и индивидуа¬
листической. Первая была связана с формированием полиса, вто¬
рая — с «рождением личности», прежде всего аристократической
личности, и сопутствовавшим ему на древнегреческой почве ста¬
новлением агонального духа. Две тенденции, о которых идет речь,
были не только взаимодополняющими, но и антагонистическими,
находясь в диалектическом противоборстве. Такого рода «единство
и борьба противоположностей» во многом обусловили появление
самого «греческого чуда», складывание классической полисной ци¬
вилизации, полисной системы ценностей.
Подобного рода специфические условия и стали питательной
почвой для возникновения идеи остракизма как «профилактиче¬
ского» изгнания, а фактически — приспособления древнего ритуала
катартического характера к нуждам политической жизни. Остра¬
кизм (точнее, протоостракизм) возник в архаическую эпоху на стыке
индивидуалистической и коллективистской тенденций политиче¬
ской жизни, в их взаимном противоборстве. Данный институт был,
бесспорно, проявлением коллективистской тенденции. Отсюда его
заостренная направленность против конкретных личностей из слоя
аристократической элиты, а не против каких-либо политических
программ.
А затем, в конце VI в. до н. э., в ходе реформ Клисфена остракизм
был передан в ведение народного собрания, стал прерогативой демо¬
Гам tV. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
129
са, который таким образом крепко взял в свои руки древний арис¬
тократический институт (именно так демос поступал и со многими
другими аристократическими по происхождению институтами, упо¬
минавшимися выше, — с гоплитской фалангой, кодексами законов).
К этой новой стадии истории исследуемой процедуры, к классиче¬
скому остракизму, к причинам и целям его учреждения в Афинах
нам теперь и предстоит перейти.
Время, о котором идет речь, — первые годы после окончания
достаточно длительной тирании Писистратидов. Именно с точки
зрения прошедших, а не будущих событий, следует, по нашему мне¬
нию, смотреть на причины и цели введения классической формы ос¬
тракизма. По какому пути пойдут Афины — этого никто из живших
тогда людей предсказать, конечно, не мог. Даже сам Клисфен, осу¬
ществляя свои эпохальные реформы, вряд ли имел какую-то развер¬
нутую теоретическую программу демократических преобразований:
он действовал исходя из конкретных обстоятельств. Никто, повто¬
рим, не мог знать, что скоро Афины станут самой развитой, мощной
и знаменитой в греческом мире демократией и что институт остра¬
кизма будет играть значительную роль в политической системе этой
демократии, выполняя те или иные конкретные функции. Все знали
лишь одно: только что свергнуты тираны и при этом отнюдь не лик¬
видирована опасность восстановления тиранического правления.
В этом контексте и надлежит рассматривать закон об остракизме,
а не телеологически, не с точки зрения тех функций, которые этот
институт имел впоследствии. Два события — ликвидация тирании
и принятие закона об остракизме — близки друг к другу не только
хронологически, но имеют и прямую причинно-следственную связь.
Р. Томсен, который наиболее углубленно изучал введение Клис-
феном остракизма, предлагает несколько альтернативных вариантов
ответа на вопрос о целях этой меры (все эти варианты ранее выска¬
зывались другими исследователями): Клисфен либо желал таким
образом избавиться от своего соперника Исагора, либо хотел отгоро¬
дить самого себя от подозрений в стремлении к тирании, либо наме¬
ревался предотвратить возможность возникновения новых стасисов
в дальнейшем (Thomsen, 1972). Впрочем, перечисленные моменты
ни в коей мере не противоречат друг другу, скорее, их можно назвать
взаимодополняющими. С одной стороны, борьба с политическими
противниками (в данном случае с Исагором) могла побудить рефор¬
130
Лщт
матора прибегнуть к изданию соответствующего закона. С другой
стороны, и самому Клисфену было из-за чего опасаться неприязни
сограждан: его политическое прошлое отнюдь не было безупречным.
При тиранах он даже занимал пост архонта-эпонима (в 525/524 г.
до н. э.), да и в целом обвинения в намерении незаконно захватить
власть, которые он предъявлял своим конкурентам, могли быть
легко обращены против него самого. В подобной ситуации вынос
Клисфеном на одобрение экклесии законопроекта об остракизме
призван был продемонстрировать всем, что он отнюдь не вынаши¬
вает планов установления тирании, более того, дистанцируется от
таких планов и открыто противостоит им. Наконец, соображения
более общего характера также вполне могли сыграть свою роль во
введении клисфеновского остракизма. «Отец афинской демокра¬
тии», несомненно, был заинтересован в том, чтобы учреждаемое им
политическое устройство оказалось стабильным, чтобы существовал
некий надежный конституционный механизм, предотвращающий
раскол гражданского коллектива в результате борьбы за власть, сни¬
жающий возможность новых вспышек стасиса. Остракизм как мера
по своей природе «профилактическая» в высшей степени подходил
для данной цели.
Кроме того, перенося остракофории из ведения совета в ведение
экклесии, т. е. делая их прерогативой демоса, Клисфен привлекал к
активному участию в политической жизни широкие слои афинского
гражданства. И впоследствии остракизм всегда оставался одним из
наиболее популярных, с точки зрения посещаемости, политических
мероприятий. А постольку-поскольку остракизм был направлен
в первую очередь против потенциальных тиранов (во всяком случае,
изначально и теоретически, впоследствии его функции значительно
расширились и довольно далеко отошли от первичных задач, о чем
нам еще предстоит говорить), он задавал демосу достаточно четкую
антитираническую парадигму. Это принципиально. Дело в том, что
ранее афинский демос, в отличие от аристократов, не испытывал
однозначного отторжения от тирании. В течение всего времени
пребывания Писистратидов у власти они, насколько можно судить,
ни разу не столкнулись с каким-либо протестом со стороны низших
и даже средних слоев граждан.
Во всяком случае, хотел того Клисфен или не хотел, но начиная
с его реформ остракизм стал мощным средством контроля демоса
131
над аристократией. Ранее, в доклисфеновское время, с помощью
подобной меры контролировали друг друга сами аристократы, пре¬
пятствуя чрезмерному возвышению одних представителей полити¬
ческой элиты над другими; демос же по большей части был более или
менее пассивным наблюдателем этих процессов. Отныне же именно
на весь гражданский коллектив была возложена конституционная
защита существующего государственного устройства, борьба с опас¬
ностью возрождения тирании. Все это вело, безусловно, к измене¬
нию отношений между демосом и аристократией, хотя изменению,
конечно, не одномоментному, а постепенному. Изначально новая
роль явно была непривычной для рядовых граждан. В этом, судя по
всему, одна из причин того, что остракизм в экклесии не применялся
почти два десятилетия (до 487 г. до н. э., когда жертвой остракофо¬
рии стал Гиппарх, сын Харма): народ некоторое время просто не мог
освоиться с тем, что в его руках находится столь сильное оружие,
что теперь он властен над судьбой своих знатных лидеров. Потре¬
бовалось Марафонское сражение, выигранное только совокупными
усилиями всего полиса, чтобы на смену этой «кротости» демоса,
о которой говорит Аристотель (Аристотель. Афинская полития.
22. 4), пришла более решительная позиция, чтобы с аристократии
оказался снятым нимб неприкосновенности. Да и отношение наро¬
да к тираническому режиму изменилось в худшую сторону. Демос
воистину начинал чувствовать ответственность за политию, которая
отныне действительно лежала на нем.
Высказывалось, правда, мнение, что остракизм изначально во¬
обще не имел ничего общего с угрозой тирании, а введен был про¬
тив персофилов, лиц, подозреваемых в так называемом «мидизме».
Ошибочность этой точки зрения заключается в том, что она смеши¬
вает два разных аспекта — причины и цели введения клисфеновско-
го остракизма и причины и цели конкретных остракофорий 480-х гг.
до н. э. В этих последних обвинения в «мидизме» действительно
играли весьма важную роль, но это могло случиться, естественно,
только после начала греко-персидских войн. А в 500-х гг. до н. э.,
когда остракизм вводился, отношения между Афинами и Персией
еще не были враждебными. Приверженность персидскому образу
жизни, даже персидскому стилю в одежде была достаточно распро¬
страненной в аристократических кругах. Позже, конечно, подобная
приверженность стала чем-то крайне предосудительным и даже
132
инкриминируемым, но это было тогда, когда остракизмом уже нача¬
ли пользоваться не по его изначальному назначению, а в интересах
политической борьбы (stasiastikos, по выражению Аристотеля, По¬
литика. 1284Б22), когда остракизм, задумывавшийся как средство
предотвращения стасиса, стал одним из способов ведения стасиса.
Следует отметить в связи с целями остракизма еще один нюанс.
Введение остракизма в его «классической» форме означало в извест¬
ной степени внесение «правил игры» в политическую борьбу. Невоз¬
можно не согласиться с тем, что остракизм, в сущности, был весьма
мягкой и гуманной мерой. Он предусматривал лишь временное
изгнание, причем без конфискации имущества, без последующего
ущемления в политических правах и, что немаловажно, без каких-
либо преследований семьи и родственников изгнанного. На обще¬
греческом фоне (да и на фоне любого другого древнего общества),
где зачастую царили самые жестокие методы расправы с полити¬
ческими противниками, остракизм выглядит, как ни парадоксально,
даже каким-то светлым явлением. Это необходимо учитывать, давая
общую оценку исследуемому институту: он был мерой, не ожесто¬
чавшей, а, напротив, смягчавшей нравы в общественной жизни.
Итак, идея остракизма как «профилактического» изгнания влия¬
тельных индивидов зародилась уже в архаическую эпоху, на стыке
двух тенденций политической жизни времен формирования поли¬
са — индивидуалистической и коллективистской. Ранние формы
остракизма (протоостракизм) являлись средством взаимного кон¬
троля членов аристократической правящей элиты друг над другом
во избежание перерастания власти кого-либо из представителей
этой элиты в тиранию. После принятия в конце VI в. до н. э. зако¬
на Клисфена об остракизме данная процедура стала прерогативой
народного собрания, т. е. перешла из рук аристократии в руки всего
гражданского коллектива. Демос, переняв аристократический по
происхождению институт остракизма, становился отныне гарантом
против возрождения тирании, против острых вспышек стасиса, а
также осуществлял с помощью остракизма общий контроль над
деятельностью знатной элиты, что соответствовало его новой роли
в государстве.
Однако такого рода ситуация сохранялась далеко не всегда. Если
демос в целом в течение какого-то времени продолжал восприни¬
мать остракизм как меру, направленную против «чрезмерно» уси¬
k/Êt /К Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
133
лившихся политиков, контролирующую и держащую в необходи¬
мых рамках их положение в полисе, то сами члены властной элиты,
аристократические лидеры, конкурировавшие друг с другом за влия¬
ние в государстве, по справедливому наблюдению ряда антиковедов,
уже очень скоро стали пользоваться остракизмом как инструментом
политической борьбы. Судя по всему, именно это изменение функ¬
ций остракизма, отклонение его от первоначального предназначения
имеет в виду Аристотель, когда проницательно замечает: «Прибегая
к остракизму, они имели в виду не выгоду для соответствующего
государственного устройства, а преследовали при этом интересы по¬
литической борьбы» (Аристотель. Политика. 1284Ь20 слл.). Повто¬
рим и подчеркнем мысль, которая представляется принципиальной:
остракизм, задумывавшийся как средство предотвращения стасиса,
стал одним из способов ведения стасиса, во всяком случае, в глазах
политиков. Остракофория превратилась в поле, на котором развер¬
тывалась деятельность конкурирующих гетерий. Насколько можно
судить, начало этому положил Фемистокл, на продолжении 480-х гг.
до н. э. чрезвычайно активно прибегавший к остракизму именно для
дискредитации и удаления своих политических конкурентов; впро¬
чем, впоследствии аналогичный удар был нанесен и по нему самому.
Демос со временем тоже воспринял новое положение вещей.
Причем случилось это достаточно скоро, что можно проиллюстри¬
ровать несколькими примерами. Остракизм Фемистокла, имевший
место в конце 470-х гг. до н. э., уже явно нельзя расценивать как
меру борьбы против слишком могущественного лидера, имеющего
амбиции захватить единоличную власть. К указанному хронологи¬
ческому рубежу пик влияния Фемистокла был уже далеко в про¬
шлом. Если когда-либо от него и могла исходить угроза тирании,
то это было в 480-х гг., но ведь как раз тогда-то его и не подвергли
остракизму. Еще более показательна в данном отношении острако¬
фория 444 г. до н. э. На ней граждане должны были сделать выбор
между Периклом и Фукидидом, сыном Мелесия. Если исходить из
идеи о первоначальном назначении остракизма как «профилакти¬
ческого» средства против тирании, то изгнанным должен был быть,
безусловно, Перикл: ведь именно он, а не кто-либо другой мог в то
время считаться наиболее влиятельным политиком (и действи¬
тельно, после остракофории он едва ли не монополизировал власт¬
ные рычаги в полисе и был ближе, чем кто-либо до него в истории
134
демократических Афин, к статусу тирана), а Фукидид был фигурой
значительно меньшего масштаба. Тем не менее остракизму подвер¬
гся именно этот последний, хотя вряд ли кому-нибудь могло даже
в голову прийти, что он когда-либо пожелает или сможет захватить
тираническую власть.
Итак, в условиях эволюции демократического афинского полиса
V в. до н. э. функции остракизма изменились. Представители арис¬
тократической элиты стали рассматривать его как орудие в борьбе за
власть, как средство избавиться от наиболее серьезных конкурентов,
удаляя их из полиса. Соответственно и демос, гражданский коллек¬
тив, стал видеть в остракизме не только профилактику тирании (не
столь уж и велика была опасность тирании в Афинах V в. до н. э.,
во всяком случае, меньше, чем когда-либо в их истории) и даже не
только способ контроля над аристократами, а едва ли не в первую
очередь процедуру, с помощью которой можно было сделать выбор
между конкурирующими политическими лидерами и между поли¬
тическими линиями, которые они выражали.
Эта мысль уже высказывалась в историографии (Jacoby, 1954;
Rhodes, 1994 и др.), и нам лишь хотелось бы дополнить ее двумя
нюансами. Во-первых, речь идет прежде всего о выборе между лини¬
ями в области внешней политики. Этот фактор вообще был одним
из наиболее важных в борьбе группировок, протекавшей в Афинах.
Во-вторых, чаще всего на остракофории афиняне оказывались в си¬
туации выбора между двумя политическими лидерами. Это не было
как-то закреплено официально. Никаких формальных «кандидатов»
на остракизм заранее не выдвигалось, и надписи на остраконах по¬
казывают в целом достаточно значительный разброс голосов. Тем не
менее если отбросить некоторый (в количественном отношении не
столь уж большой) процент проголосовавших по случайным при¬
чинам, в целом типичная остракофория де-факто оказывается, как
правило, все-таки противостоянием двух лиц. И интенсификация
применения остракизма обычно происходила тогда, когда расклад
политических сил временно приобретал биполярный характер, а
кроме того, важную роль в политической жизни начинали играть
спорные вопросы межгосударственных отношений.
Подчеркнем, что остракизм, как правило, был для гражданского
коллектива последним, крайним средством выбора между двумя
лидерами и двумя политическими линиями. Потому-то к такому
135
фдетву обращались редко. Нет сомнений, что в целом разногла¬
сия между соперничающими группировками и видными полити¬
ками — по поводам важным и не слишком важным — возникали
часто, если не постоянно, но отнюдь не в каждом случае эти разно¬
гласия приводили к остракофории. «Суд черепков» вступал в свои
права тогда, когда демос уже не видел другого способа разрешить
назревшее противоречие, кроме временного удаления одного из
конкурентов.
На материале тех остракофорий, обстоятельства которых извест¬
ны более или менее детально, можно судить о том, что в принципе
остракизм мог приводить к следующим результатам: а) сталкива¬
лись два примерно равных по силе политика, в итоге один из них
изгонялся, а другой побеждал и получал возможность беспрепят¬
ственно проводить свою линию (случай Аристида и Фемистокла,
482 г. до н. э.); б) лидер, ранее пользовавшийся безусловным автори¬
тетом, подвергался остракизму, на смену ему приходил другой (или
другие), и тогда политическая линия государства менялась, порой
весьма существенно (случай Кимона, 461 г. до н. э.); в) прежнему ли¬
деру удавалось отстоять свое первенство, а в изгнание отправлялся
конкурент, рискнувший бросить ему вызов и попытаться занять его
место (остракофория 444 г. до н. э., когда Перикл не только сохранил
имевшееся у него влияние, но, более того, еще и упрочил собствен¬
ное положение); г) изгнанным оказывалось третье лицо, а оба основ¬
ных соперника и после остракофории оставались в полисе; в итоге
существовавшая напряженность не снималась. Впрочем, следует
сказать, что этот последний вариант развития событий имел место
лишь однажды — на последней остракофории. Он был явно нетипи¬
чен, а кроме того, прямо противоречил одной из основных функций
остракизма и тем самым подрывал этот институт.
Хотелось бы указать на еще одну функцию остракизма, которая,
может быть, не столь бросается в глаза, но тем не менее представляет¬
ся немаловажной и небезынтересной. В жизни многих обществ, осо¬
бенно традиционных, весьма значительное место занимал феномен
карнавала, представлявший собой периодическое (обычно ежегод¬
ное) временное снятие бинарных оппозиций во всех аспектах бытия,
«переворачивание» или, если можно так выразиться, «выворачива¬
ние наизнанку» всей системы повседневных отношений (об «идее
карнавала» см. наиболее подробно и ярко в книге М. М. Бахтина
136
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья
и Ренессанса»: Бахтин, 1990). Не является исключением и античная
Греция, в частности, классические Афины. « Карнавал ьность» в них
пронизывала собой многие сферы культуры. Карнавальным нача¬
лом, в частности, был всецело проникнут жанр древней аттической
комедии.
Кажется, есть основания отнести остракизм к институтам карна¬
вального характера. Поясним этот тезис. Остракизм, как мы знаем,
проводился раз в год — не чаще и не реже. Выше мы соотносили
эту периодичность с его возможным происхождением из ритуала
«козла отпущения», который как бы уносил из общины «грехи», на¬
копившиеся в ней за годичный период. По сути дела, данный ритуал
сам по себе может рассматриваться как одна из карнавальных форм
культуры. Далее остракизм выполнял ярко выраженную медиатив¬
ную роль при снятии бинарных оппозиций в политической жизни.
Собственно, в случае назревания таких оппозиций этот механизм
и запускался.
Для остракофории в Афинах V в. до н. э. было характерно «пе¬
реворачивание» обычных политических отношений, причем про¬
являлось это в различных аспектах. С одной стороны, демос в этот
день властно распоряжался судьбами своих политических лидеров
(ср. образы афинских политиков — Никия, Клеона и др. — как слуг
старика Демоса в карнавальном жанре комедии, во «Всадниках»
Аристофана). С другой стороны, применение остракизма часто при¬
водило к реальному «переворачиванию» всей политики, когда один
лидер сменял другого (подобно тому, как в карнавальных фольклор¬
ных действах новый царь приходит на смену старому).
У остракизма, как и подобает на карнавале, была своя смеховая
сторона. Мы сейчас имеем о ней достаточно смутное представле¬
ние, поскольку источники, как правило, не концентрируют свое
внимание на этом нюансе, однако о том, что она присутствовала,
недвусмысленно дают понять инвективные надписи на остраконах,
отличающиеся фольклорным, юмористическим, подчас обсцен-
ным характером. В ходе пропагандистских кампаний, которые ве¬
лись перед остракофориями, важное место занимали проходившие
в это время года празднества дионисийского цикла, на которых
будущие «кандидаты» на изгнание осыпались насмешками. Впо¬
следствии, насколько можно судить, эти насмешки так и перекоче-
137
из уст комических хоров на остраконы (черепки для голосо-
0ВИЯ).
Итак, остракизм можно рассматривать как некую форму поли-
лпеского карнавала? Признаться, мысль слишком нова и нетриви¬
альна, чтобы можно было сразу дать положительный ответ на этот
вопрос. Во всяком случае, идея представляется нам перспективной
и требующей дальнейшего осмысления и развития.
Характерно, что любому карнавалу свойственно акцентирова¬
ние внимания на личностных, а не на абстрактных категориях. Это
в полной мере относится и к афинскому остракизму. Справедливо
отмечалось, что на остракофориях по сути стиралась грань между
политическим противостоянием и личной враждой, и мотивы мно¬
гих голосующих граждан были скорее личными, нежели политиче¬
скими. Это опять же достаточно ясно из надписей на остраконах.
Во многом резонно (хотя, естественно, пользуясь оборотами,
свойственными его времени, которые мы вряд ли сочли бы научны¬
ми) замечает Плутарх, что остракизм был милосердным средством
утишить зависть, выражавшимся не в чем-то непоправимом, а «все¬
го лишь» в десятилетнем изгнании того, кто вызывал эту зависть
(Плутарх. Аристид. 7). Посредством остракофории афиняне как
бы «выпускали пар» своего недовольства в связи с той или иной
конкретной ситуацией. Говоря более терминологично, остракизм,
с социально-психологической точки зрения, был средством компен¬
сировать коллективную фрустрацию внутри гражданской общины.
Характерно, что Плутарх, давая «истинное» определение функции
остракизма, тут же отмечает, что для благопристойности эту проце¬
дуру называли «усмирением и обузданием гордыни и чрезмерного
могущества» (Там же). Херонейский биограф, таким образом, раз¬
личает и отделяет друг от друга «мнимое» и «реальное» назначение
института остракизма. Наверняка ему с хронологической дистанции
в полтысячелетия именно такой и представлялась ситуация. В дей¬
ствительности же речь, очевидно, следует вести не о «мнимой» и
«реальной», а о первоначальной и вторичной (модифицировавшей¬
ся) функциях. Как отмечалось выше, в первой стадии своего форми¬
рования остракизм был действительно направлен против «сильных
личностей», выразителей индивидуалистической тенденции. Судя
по всему, по традиции и в дальнейшем считалось, что это так, хо¬
тя остракизм в течение V в. до н. э. приобрел уже новые функции
138
(способ выбора между конкурирующими политиками и их линиями,
средство компенсации фрустрации), и эти функции затмили, ото¬
двинули на второй план первоначальную.
Остракизм, аристократический по происхождению институт
в демократическом полисе, по традиции сохранил свою направ¬
ленность на представителей высшего слоя знатной элиты и в этом
смысле может рассматриваться как мера если и не почетная, то, во
всяком случае, подчеркивавшая высокое значение и авторитет поли¬
тика, который ей подвергался.
* * *
После изгнания Гипербола в 415 г. до н. э. остракизм больше не при¬
менялся (хотя закон о нем официально отменен не был). Почему
это произошло — отдельный и большой вопрос, на который все ис¬
следователи отвечают по-разному. Мы исходим из того, что методо¬
логически неверным было бы искать какую-то одну-единственную
причину выхода остракизма из употребления. Перед нами сложное,
комплексное явление, и, скорее всего, следует допускать сочетание
нескольких факторов различного характера, которые в разной степе¬
ни, в том или ином взаимном соотношении породили это явление.
Главный методологический недостаток, свойственный практиче¬
ски всем работам, в которых речь заходит о «конце остракизма», со¬
стоит в том, что в них, к сожалению, отсутствует понимание того, что
на деле перед нами не одна проблема, а две, хотя и тесно связанные
между собой, но все-таки не идентичные. Первая проблема заклю¬
чается в том, почему в IV в. до н. э. закон об остракизме, формально
существуя, фактически не применялся; вторая же — в том, почему,
по каким конкретным причинам именно остракофория Гипербола
(415 г. до н. э.) стала последней. Понятно, что остракизм рано или
поздно прекратил бы свое существование, но почему это случилось
именно в данный момент, а не в какой-либо другой? Нетрудно заме¬
тить, что первый вопрос имеет более общий характер, второй — бо¬
лее частный. В первом случае мы имеем дело с неким глубинным
процессом, с изменениями общего характера политической жизня,
которые должны были определяться длительно действующими фак¬
торами. Во втором случае следует говорить не о процессе, а о факА
факте определенном и, так сказать, единовременном; стало бьП|
и породившие его причины должны быть иными. Два очерченнш
вопроса в историографии обычно смешиваются, рассматриваю®
Jèma IV. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
139
без сколько-нибудь четкого отделения друг от друга. Это наряду
с прочим делает все предпринимавшиеся построения в той или иной
мере уязвимыми.
Мы видим свою задачу не в том, чтобы изобрести новую точку
зрения на интересующий нас вопрос, не имеющую ничего общего
с теми, которые предлагались ранее, и исключающую их (это было
бы вряд ли возможно и совершенно не нужно), и не в том, чтобы
присоединиться к какой-то из существующих точек зрения (это
было бы односторонностью), а в том, чтобы по возможности приме¬
нить или, во всяком случае, попытаться применить синтетический
подход, комбинируя достижения, полученные в ходе предыдущего
исследования проблемы, не отбрасывая при этом и те трактовки пре¬
кращения применения остракизма, которые бытовали в античности,
а, возможно, отмечая и какие-то ранее не замеченные или оставшие¬
ся в тени факторы.
Сразу после изгнания Гипербола в афинском гражданском кол¬
лективе возобладало мнение, что остракофория не выполнила воз¬
лагавшейся на нее функции, а кроме того, ее жертвой неожиданно
стало «недостойное» остракизма лицо. Это должно было воспре¬
пятствовать применению остракизма в течение какого-то количества
лет, но еще не гарантировало окончательного отказа от обычая голо¬
сования черепками. В дальнейшем действовали уже иные факторы:
ухудшение внешне- и внутриполитической обстановки в конце V в.
до н. э., т. е. в последний период Пелопоннесской войны, отсутствие
ситуаций биполярного противостояния политических лидеров, при
которых обычно прибегали к остракизму, сужение до минимума
круга потенциальных жертв этой процедуры, т. е. представителей
старой аристократии, пребывание значительной части граждан за
пределами полиса ввиду постоянно ведущихся военных действий.
Эти факторы действовали в совокупности, образуя в своей сумме
некую «критическую массу» препятствовавших проведению остра¬
кизма обстоятельств.
А тем временем, пока действовали эти конкретные факторы,
обусловливавшие неприменение остракизма на протяжении бли¬
жайших за изгнанием Гипербола лет, в более скрытой от нас сфере
подспудно совершались иные процессы, уже не конкретно-эмпи¬
рического, а сущностного и потому инвариантного характера. Речь
идет о принципиальном изменении специфики политической жизни
140
между V и IV вв. до н. э. Иным становилось все: состав политической
элиты (как персональный, так и социальный), ее идеология, практи¬
ковавшиеся ею механизмы приобретения и использования власти,
отношение демоса к этой элите. Новые условия действительно не
предусматривали и даже, пожалуй, не допускали использования ос¬
тракизма; к ним куда больше подходили иные методы политической
борьбы.
Среди ведущих политиков IV в. до н. э. больше не было потен¬
циальных жертв остракизма, подходящих для этого института по
своим, так сказать, основным параметрам (все они были, в сущности,
«новыми политиками», по терминологии У. Р. Коннора (Connor,
1971), демагогами, стоящими несравненно ближе во всех отноше¬
ниях к Клеону и Гиперболу, нежели к Кимону или даже Периклу).
Кроме того, в IV в. до н. э. значительно реже, чем в предшествующем
столетии, складывалась ситуация биполярного противостояния
двух авторитетных политических лидеров (а именно такая ситуация,
как мы видели выше, обычно становилась основанием для проведе¬
ния остракизма).
Сказанное объясняет, почему возвращения к идее остракизма
не произошло после того, как были преодолены все кризисы конца
Пелопоннесской войны, политическая ситуация стабилизировалась
и демографическое положение пошло на поправку (а случилось это,
насколько можно судить, очень скоро — уже к самому началу IV в.
до н. э.). Ясен, таким образом, и ответ на вопрос, почему в последнее
столетие афинской демократии остракизму уже не было места.
Однако, как ни парадоксально, даже десятки лет спустя после
того, как прошла последняя остракофория, народное собрание все
равно год за годом возбуждало вопрос о голосовании черепками -
и все это лишь для того, чтобы тут же этот вопрос закрыть. Остра¬
кизм почти на век как будто пережил себя самого. Насколько можно
судить, этот институт еще долго после своего последнего реального
применения не стал в полном смысле слова мертвой буквой закона
Он оставался мощным оружием демоса, но оружием, если так можно
выразиться, находившимся все это время «в ножнах».
Остракизм уже самим своим наличием, вне зависимости от часто¬
ты применения (или полного отсутствия такового, как в IV в. до н. э.)
накладывал вполне определенный отпечаток на формы этой полити
ческой жизни, делая ее более спокойной и умеренной. Действитель
кма IV. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
141
но, по-настоящему мощное оружие совершенно не обязательно часто
применять; достаточно просто помнить о его существовании. Демос
ежегодно напоминал политической элите о наличии этого институ¬
та, демонстрировал его (если не в действии, то в потенции), и этого
вполне хватало для того, чтобы лидеры полиса делали соответству¬
ющие поправки в своей деятельности. Конечно, по мере удаления от
последней остракофории эта «потенциальная эффективность» ост¬
ракизма не могла не уменьшаться, но вряд ли она совершенно сошла
на нет вплоть до конца афинской демократии.
Что же касается актуальных методов политической борьбы, то,
как неоднократно отмечалось в исследовательской литературе, в пе¬
риод после Пелопоннесской войны они стали другими: не проводи¬
лись больше остракофории, зато, бесспорно, интенсифицировалось
применение политических судебных процессов в борьбе группи¬
ровок.
Лекция 9. Оценка института остракизма в контексте
полисной цивилизации.
Остраконы как исторический источник
Какая общая оценка может быть дана институту остракизма? Оцен¬
ки подобного рода, причем весьма далекие друг от друга, давались
уже в античной историографии и публицистике. Среди античных
авторов мы не найдем единства по данному сюжету. Обнаруживают¬
ся суждения как позитивного, так и негативного плана.
В частности, самый ранний из дошедших до нас развернутых пас¬
сажей об остракизме имеет отчетливо критический характер. Этот
пассаж содержится в IV речи оратора Андокида, который в своей
молодости застал еще остракизм в действии; соответственно, сви¬
детельство относится к началу IV в. до н. э. — к тому периоду, когда
прошло еще совсем немного времени с момента последней острако¬
фории, и многие афиняне должны были на собственном опыте знать,
о чем идет речь. Что же говорит об остракизме Андокид в своем по¬
литическом памфлете?
«Достоин порицания тот, — начинает оратор свою критику ост¬
ракизма, — кто установил такой закон, который ввел в практику дей¬
ствия, противные клятве народа и совета. Там вы клянетесь никого
не изгонять, не заключать в тюрьму, не казнить без суда; в настоящем
же случае без формального обвинения, без права на защиту, после
142
тайного голосования человек, подвергшийся остракизму, должен
лишиться своего отечества на такое долгое время! Далее в подобных
обстоятельствах большим преимуществом, чем другие, располагают
те, у кого много друзей среди членов тайных обществ и политиче¬
ских союзов. Ведь здесь не так, как в судебных палатах, где судопро¬
изводством занимаются те, кто избран по жребию: здесь в принятии
решения могут участвовать все афиняне. Кроме того, мне кажется,
что этот закон устанавливает наказание, которое для одних случаев
оказывается недостаточным, а для других — чрезмерным. В самом
деле, если иметь в виду преступления, совершаемые против частных
лиц, то я считаю, что это наказание слишком велико; а если говорить
о преступлениях, совершаемых против государства, то я убежден,
что оно ничтожно и ровно ничего не стоит, коль скоро можно нака¬
зывать денежным штрафом, заключением в тюрьму и даже смертной
казнью. С другой стороны, если кто-либо изгоняется за то, что он
плохой гражданин, то такой человек и в отсутствие свое не пере¬
станет быть плохим; напротив, в каком городе он ни поселится, он
и этому городу будет причинять зло, и против своего родного города
будет злоумышлять ничуть не меньше, а, быть может, даже и больше
и с большим основанием, чем до своего изгнания. Я уверен, что в этот
день более чем когда-либо ваших друзей охватывает печаль, а ваших
врагов — радость, ибо и те и другие понимают, что если вы по не¬
доразумению удалите в изгнание гражданина, во всех отношениях
превосходного, то в течение десяти лет город не получит от этого
человека никакой услуги. Следующее обстоятельство позволяет еще
легче убедиться в том, что закон этот плох: ведь мы — единственные
из эллинов, кто применяет этот закон, и ни одно другое государство
не желает последовать нашему примеру. А ведь лучшими установле¬
ниями признаются те, которые оказываются более всего подходящи¬
ми и для демократии, и для олигархии и которые имеют более всего
приверженцев» (Андокид. IV. 3-6).
На первый взгляд критика кажется поистине уничтожающей.
Однако не будем забывать о некоторых немаловажных нюансах
Во-первых, перед нами памятник риторического жанра, у которо¬
го, как известно, были свои законы. Если в риторике нужно было
воздать кому-то (или чему-то) хвалу (энкомий), то ораторы не
скупились на пышные, восторженные эпитеты. И соответственно»
если требовалось кого-то (или что-то) порицать (псогос), то он*
кма /У. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
143
не жалели максимально черных красок. Полутона не допускались.
Кстати, вся IV речь Андокида «Против Алкивиада», в сущности,
принадлежит именно к жанру псогоса, и в дальнейшем Алкивиад
изображается в ней каким-то зверем в человеческом облике.
Во-вторых, памятник, о котором идет речь, относится не просто
к риторическому жанру. Это — политический памфлет, тенденциоз¬
ный и субъективный до степени пес plus ultra. Ожидать в подобном
произведении взвешенных, осторожных суждений не приходится:
речь буквально пылает духом вражды.
В-третьих, если автором речи действительно является Андокид
(а это все-таки наиболее вероятно), то к ней должно относиться то,
что мы знаем об особенностях творческого стиля данного автора.
Среди таких особенностей — крайне вольное обращение с истори¬
ческими фактами и реалиями, вплоть до их прямого искажения.
Примеры этого подхода несложно обнаружить и в только что про¬
цитированном пассаже. Так, оратор называет остракизм наказанием,
каковым этот институт не являлся, как мы уже говорили выше.
Далее он явно преувеличивает роль гетерий на остракофориях. Ге¬
терии были небольшими политическими группировками, и даже
совокупное голосование нескольких таких объединений (в случае
какого-нибудь «сговора» между ними) не могло по-настоящему
существенно повлиять на исход остракофории. И уж явно ложным
представляется указание на то, что якобы ни один другой полис, кро¬
ме Афин, не применяет остракизм. Из трудов других авторов (Арис¬
тотеля, Диодора, схолиаста к Аристофану) известно об остракизме
или аналогичных процедурах в целом ряде греческих государств. Но
что до всего этого нашему памфлетисту, коль скоро нужно навязать
аудитории свою — отнюдь не бесспорную — точку зрения!
Нетрудно заметить, кроме того, что фактически Андокид (хотя
он и пытается завуалировать это рассуждениями об общем благе)
оценивает остракизм не с точки зрения интересов всего граждан¬
ского коллектива, а с позиций членов аристократической элиты,
которым эта мера грозила в первую очередь. Понятно, что поли¬
тическим лидерам — аристократам — была не слишком-то симпа¬
тична такая ситуация, при которой демос мог своим решением на
Длительный срок исключить любого из них из общественной жизни.
Их взгляды и отражает автор речи. Иными словами, не следует вос¬
принимать негативную оценку института остракизма Андокидом
144
как общепринятую в его дни или хотя бы влиятельную. Она скорее
парадоксальна и эпатажна. И если в какой-то исторический момент
подобная точка зрения могла найти некоторое понимание у более
широких слоев граждан, а не только у аристократов, то это могло
случиться, подчеркнем, именно тогда и только тогда, когда рас¬
сматриваемый памятник был создан. На психологическом уровне
в начале IV в. до н. э. еще существовало определенное «отчуждение»
от остракизма, вызванное неудачной остракофорией 415 г., ставшей
последней, и более объективный и взвешенный взгляд на институт
как таковой еще не выработался.
Такой взгляд начал вырабатываться уже в течение следующих
десятилетий. Ближе к концу IV в. до н. э. мы обнаруживаем ряд
оценочных суждений об остракизме в трудах Аристотеля, и эти суж¬
дения, естественно, стоят на гораздо более высоком уровне, нежели
эмоциональные восклицания Андокида. Прежде всего, они научны,
вызваны стремлением отыскать истину, а не целями политической
борьбы. Далее они спокойны: чувствуется, что остракизм уже де-
факто отошел в прошлое, перестал быть актуальной и злободневной
темой. К тому же Стагирит пытается отметить как негативные, так
и позитивные черты остракизма.
В «Афинской политии» отмечается, что, издавая закон об ост¬
ракизме, «Клисфен имел в виду интересы народа» (22.1). Соответ¬
ственно, остракизм стал активно применяться тогда, когда народ
«осмелел» после Марафонской битвы (Афинская полития. 22.3).
Но в наиболее общей форме оценка остракизма дается Аристотелем
в трактате «Политика». Философ обращает внимание на то, что
функционирование остракизма в полисных условиях вызвано объ¬
ективными и неизбежными факторами, а именно стремлением госу¬
дарств избавиться от граждан, чрезмерно «выделяющихся» из числа
остальных и тем самым нарушающих соразмерность целого. Эта
проблема оказывается актуальной для любых типов политических
систем (олигархий, демократий, тираний), и все они вынуждены
искать различные пути ее решения. Как пишет Стагирит, «вообще
вопрос этот стоит перед всеми видами государственного устройства,
в том числе и перед правильными. Правда, в тех видах государств
которые являются отклонениями, применение этого средства де
лается ради частных выгод, но оно в равной степени находит себе
место и при государственных устройствах, преследующих общее
Тема tV. Остракизм в Афинах: полисная демократия е действии
145
благо». Таким образом, и сам Аристотель оказывается стоящим на
тех же позициях, весьма распространенных в полисном мире с его
идеалом меры и гармонии. В результате, в целом без всякого востор¬
га относясь к остракизму, он тем не менее отмечает: «Там, где дело
идет о неоспоримом превосходстве, мысль об остракизме находит
некое справедливое оправдание... Итак, ясно, что при тех видах госу¬
дарственного устройства, которые представляют собой отклонения,
остракизм, как средство, выгодное для них, полезен и справедлив; но
ясно и то, что, пожалуй, с общей точки зрения остракизм не является
справедливым» (1284а4 слл.).
Видно, что автор «Политики» сталкивается с затруднениями,
пытаясь дать оценку остракизму, колеблется. Вводя категорию
«справедливого», он не без удивления обнаруживает, что остракизм
одновременно и соответствует этой категории, и противоречит ей.
Аристотель вынужден постоянно оговаривать, что остракизм нахо¬
дит себе оправдание преимущественно в «отклоняющихся» госу¬
дарственных устройствах. В идеальном же государстве этот инсти¬
тут не должен найти себе места, и в нем, если появится гражданин,
намного превосходящий остальных, не останется ничего другого,
как сделать его пожизненным царем. Однако любой разговор об иде¬
альном государстве мог в условиях того времени иметь лишь теоре¬
тический интерес; в реальности же приходилось жить, естественно,
именно в «отклоняющихся» политиях. По отношению к ним тезисы
Аристотеля сохраняют всю свою силу: остракизм оказывается необ¬
ходимым и неизбежным, пусть и далеко не совершенным средством.
Сочетание «справедливых» и «несправедливых» черт в остракизме
постоянно тревожит философа; в другом месте «Политики» он ука¬
зывает, что, чем прибегать к остракизму, «было бы лучше уже с само¬
го начала следить за тем, чтобы в государстве не появлялись люди,
столь возвышающиеся над прочими, нежели, допустив это, потом
прибегать к лечению» (1302Ы5 слл.). Итак, остракизм — в некото¬
ром роде «лекарство», хотя лекарство, конечно, горькое. Аристо¬
тель, таким образом, стремится высказать максимально взвешенное
и объективное суждение об остракизме, оттеняющее в нем как пози¬
тивные, так и негативные стороны. И все-таки, по большому счету,
остракизм остается для него загадкой. Для того чтобы разгадать эту
загадку, необходимо было выйти за пределы полисного менталитета,
посмотреть извне, чего Стагирит сделать не мог, да и не хотел.
146
Отрицательно оценивают остракизм римские авторы, упоминав¬
шие о нем в I в. до н. э. — I в. н. э.: Цицерон (Тускуланские беседы.
V. 105; О дружбе. 42) и Корнелий Непот (Фемистокл. 8; Аристид. 1;
Кимон. 3), Мусоний Руф (fr. 9 Hense). Они не видят в этом институ¬
те ничего, кроме бессмысленной зависти, ненависти и неблагодар¬
ности афинских граждан к своим выдающимся государственным
деятелям и полководцам. И действительно, ничего не могло быть
более чуждого римским воззрениям на государство, личность, поли¬
тического лидера, чем остракизм. Но ведь в Риме никогда и не было
такой полномасштабной демократии, как в Афинах.
Совсем иначе смотрит на остракизм Плутарх, который хотя
и жил уже в римскую эпоху, но рассуждал и писал всецело в рамках
греческой этико-политической мысли. Он считает остракизм не про¬
явлением зависти к выдающимся людям, а, напротив, «средством
утишить и уменьшить зависть» (Плутарх. Фемистокл. 22). В другом
месте херонейский биограф говорит о том, что остракизм, «по сути
дела, оказывался средством утишить ненависть, и средством доволь¬
но милосердным: чувство недоброжелательства находило себе выход
не в чем-нибудь непоправимом, но лишь в десятилетнем изгнании
того, кто это чувство вызвал» (Плутарх. Аристид. 7). Таким образом,
Плутарх делает упор на гуманный характер остракизма, имея в виду,
что в условиях внутриполитической борьбы в полисе влиятельный
гражданин мог подвергнуться и гораздо худшей участи, нежели
просто десятилетнее изгнание. В этом он, кстати, совершенно прав:
известно о действительно жестоких расправах афинян над собствен¬
ными политическими лидерами. Плутарх даже особенно настаивает
на «почетном» характере остракизма, который в определенных ситу¬
ациях мог выглядеть как «почесть». Таким образом, чем больше вре¬
мени проходило с эпохи реального функционирования остракизма,
тем больше позитивных сторон находили в нем античные авторы,
и тем больше затушевывались, отходили на задний план недостатки
института и его издержки.
Это высказанное нами положение подтверждается и на матери¬
але еще одного автора эпохи «второй софистики» — выдающегося
ритора Элия Аристида (II в. н. э.). Аристид стремится дать такую
оценку остракизма, в рамках которой этот институт не выглядел
бы чем-то исключительно негативным. Указывая на отрицательные
стороны остракизма, Аристид подчеркивает в то же время и вполне
Ниш /У. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
147
законный, легитимный характер этой меры. Так, он пишет: «Фемис-
токл и Кимон были изгнаны остракизмом. Но это случилось не по
причине ненависти или враждебности народа к ним, а просто был
у них закон на этот счет, по которому что-то подобное было положе¬
но (допускаю, что закон этот не слишком похвален). Таким образом,
их проступок не был неизвинительным, а имел как бы вид благо¬
пристойности по отношению к этим людям: ведь все происходило,
как я сказал, по закону. Закон же был таков: чрезмерно влиятельных
подвергали унижению, изгоняя на десять лет, но при этом не прибав¬
ляли каких-либо обвинений, изобличений или гнева... Так что же,
справедливо поступали афиняне, изгоняя Кимона и Фемистокла?
Я бы так не сказал, однако они и не совершали чего-то уж совершен¬
но постыдного: и у изгонявших было некоторое оправдание, и для
изгнанных случившееся с ними несчастье не влекло за собой позо¬
ра...» (XLVI. Р. 242-243 Jebb = II. Р. 316-317 Dindorf).
Обратим внимание на несколько обстоятельств. Во-первых,
Аристид настойчиво подчеркивает, что изгнание остракизмом про¬
водилось согласно закону, на законном основании, и уже в этом
заключается некоторое оправдание для самого мероприятия. Пусть
закон этот непохвален, пусть он даже несправедлив, но это — за¬
кон, и нельзя чрезмерно порицать тех, кто ему следует. Очевидно,
греческий ритор, живший в реалиях Римской империи, уже в оп-
[>еделенной мере проникся римским правовым сознанием {dura lex,
sed lex). А может быть, здесь и другой нюанс: остракизм — суровая,
но законная мера — противопоставляется Аристидом проявлениям
беззакония и произвола, которые должны были быть знакомы ему не
понаслышке. Во-вторых, цитировавшийся автор говорит о том, что
остракизм не был связан с каким-то гневом на его жертв, выражался
лишь в изгнании, а не в чем-то более тяжелом. Здесь звучат те же
нотки, что и у Плутарха. Остракизма Аристид не оправдывает, но,
в общем, и не осуждает.
Впоследствии, в византийской традиции, возобладало негатив¬
ное отношение к остракизму. Об этом институте уже мало что пом¬
нили, передавали его сущность с большими искажениями и при этом
подчеркивали несправедливость и бесчеловечность такой меры, как
изгнание выдающихся людей фактически за их заслуги и досто¬
инства, а не за пороки. Именно такими настроениями проникнуты,
например, рассуждения об остракизме, встречающиеся у Иоанна
148
Лещи
Цеца (XII в.), Феодора Метохита (XIII-XIV вв.) и др. Неслучайно
в это время все чаще начинают вспоминать известную историю об
Аристиде и не знакомом с ним крестьянине, желающем изгнать
этого политического деятеля исключительно за его «чрезмерную»
справедливость. История эта разукрашивается все новыми ритори¬
ческими подробностями и совершенно отрывается от реальности.
Строго говоря, оценочные суждения византийских авторов по по¬
воду остракизма гораздо больше говорят о них самих и их времени,
нежели об этом институте политической системы классической
афинской демократии. Понятно, например, что для Метохита тема
несправедливых страданий достойных людей оказывалась особенно
актуальной в свете его собственной бурной карьеры, сопровождав¬
шейся и взлетами, и падениями.
Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что возможны
два основных взгляда на остракизм: с точки зрения индивида и с точ¬
ки зрения гражданской общины, коллектива, государства. И вполне
естественно, что эти взгляды окажутся противостоящими друг другу.
Аристократическая личность в условиях демократии не могла оце¬
нить остракизм иначе как отрицательно, поскольку именно по ней
в первую очередь наносит удар рассматриваемая процедура. Про
явлением именно этой, индивидуалистической оценки остракизма
является, например, IV речь Андокида. С других позиций смотрит
на остракизм Аристотель: он исходит из интересов полиса в целом
и в результате приходит к выводу, что, каким бы несимпатичным
ни был этот институт как таковой, в нем есть несомненная необхо
димость и правомерность, поскольку он при всех своих недостатках
позволяет защищать целое от «несоразмерности» отдельных его час
тей, т. е., переводя на язык современных категорий, противостоять
индивидуалистическим тенденциям, направленным на подрыв по
лисного коллективизма. Плутарх в своем описании остракизма пы
тается совместить оба подхода к проблеме, указывая на то, что «суд
черепков» для массы граждан оказывался благотворным, смягчая их
зависть и ненависть к лидерам, а для этих последних — достаточно
мягким и не губительным. Впрочем, херонейский биограф и здесь
как почти везде, достаточно поверхностен.
Аристотель, пожалуй, глубже, чем кто-либо в античности, по
смотрел на остракизм. Он уловил и изложил, — конечно, на языке
своего времени — исключительно важные характеристики данной
кма tV. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
149
института. Возникновение остракизма было возможно только в по¬
лисных рамках, причем в определенных исторических условиях,
в обстановке борьбы индивидуалистической и коллективистской
тенденций. Эта тема всегда была актуальна для полиса; именно ее
имеет в виду Стагирит, когда говорит о соразмерности частей цело¬
го. Остракизм из двух названных тенденций воплощал, бесспорно,
коллективистскую. И в ее контексте он был, вне всякого сомнения,
правомерен, логичен и конструктивен.
И еще один момент следует отметить, когда мы говорим, что
остракизм — порождение полиса. Знаменательным представляется
мимоходом высказанное суждение такого выдающего мыслителя,
как Платон. Говоря о Кимоне, этот философ указывает, что афиняне
«подвергли его остракизму, чтобы десять лет не слышать его голо¬
са» (Горгий. 516d). На этот нюанс необходимо обратить внимание.
В условиях политической жизни полиса — с его прямым народоправ¬
ством и отсутствием средств массовой информации — громадную
роль играла непосредственная устная коммуникация: именно на ее
уровне осуществлялось общение лидеров, членов элиты с массой
демоса. Афины V в. до н. э. были — даже при широком распростране¬
нии грамотности — в первую очередь миром устного, а не письмен¬
ного слова. В подобной ситуации единственным по-настоящему эф¬
фективным способом обезвредить политического противника было
удаление его из полиса (через изгнание, в конце концов, через казнь).
Только таким образом можно было пресечь его контакты с граж¬
данским коллективом, но зато уж это средство оказывалось действу¬
ющим безошибочно: стоило политику оказаться за пределами поли¬
сной территории (пусть даже без какого-либо ущемления в правах,
без атимии, как при остракизме) — и он терял всякую возможность
оказывать влияние на политическую жизнь. Институт остракизма
и прямая полисная демократия оказываются неразрывно связаны.
* * *
Говоря об остракизме, просто невозможно не коснуться хотя бы
вкратце таких исключительных по своему значению вещественных
и эпиграфических памятников, какими являются остраконы (ост-
рака), т. е. черепки-«бюллетени», на которых афинскими гражда¬
нами наносились надписи в период проведения остракофории и от
которых, собственно, получил название сам институт остракизма.
Затронуть эту тему тем более важно и актуально, что данное пособие
150
в целом посвящено проблемам не только истории, но и источнико¬
ведения. А остраконы — своеобразный и весьма ценный тип источ¬
ников.
Для остракизма использовались самые обыкновенные черепки.
При этом по внешнему виду, размерам, происхождению материала
остраконы были весьма и весьма разнообразными — от больших
кусков грубой черепицы до фрагментов роскошных авторских крас¬
нофигурных ваз, от крохотных осколков, на которых с трудом уда¬
валось уместить имя «кандидата» (порой даже не полностью), до
цельных небольших сосудов.
Этимология слова “ostrakon” достаточно прозрачна. Это образо¬
вание родственно таким лексемам, как osteon (кость), ostreion (рако¬
вина, устрица), и изначально могло применяться не только к глиня¬
ным черепкам, но также, например, к панцирям морских животных
(черепах, крабов) и другим твердым предметам. Насколько можно
судить, именно твердость, так сказать, «костистость» служила опре¬
деляющим критерием для использования интересующего нас здесь
слова и производных от него по отношению к тому или иному объ¬
екту. Кстати, здесь греческое словоупотребление в известной мере
близко к соответствующему русскому (ср. череп, черепок, черепаха).
Впрочем, при всей широте значений слова “ostrakon” наиболее рас¬
пространенным из них, к тому же единственно важным для нас было
«фрагмент глиняного изделия».
Вряд ли нужно специально упоминать о том, что глина была од¬
ним из самых распространенных материалов в античном греческом
мире. Можно даже сказать, что ее постоянное использование оказало
некоторое воздействие на формирование менталитета древних гре¬
ков. Глина, как известно, — материал хрупкий, и любое изделие из
нее, если не сложилось каких-то особо благоприятных условий для
его сохранения, имеет свойство в довольно скором времени превра¬
щаться в груду черепков. С другой стороны, сами эти черепки прак¬
тически неуничтожимы (конечно, если не принимать специальных
мер к их уничтожению, например, не толочь их в ступе, чего, следует
полагать, никто никогда не делал). И по сей день самым массовым
по количеству находок материалом, встречающимся при раскопка*
любых греческих поселений, являются, безусловно, керамические
черепки. Нет оснований сомневаться, что абсолютно таким же обра
зом дело обстояло и тогда, когда жизнь в городах Эллады еще была
Нема /К Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
151
в полном расцвете, иными словами, черепки практически в любом
поддающемся представлению числе можно было обнаружить по¬
всеместно — в домах, на улицах, на свалках... А это должно было
становиться стимулом к их вторичному использованию.
Использоваться же черепки могли для самых разных целей,
в большинстве своем, конечно, несерьезных. Так, дети устраивали с
ними разного рода игры, о которых сохранились упоминания в ис¬
точниках. Одна из наиболее распространенных игр с черепками,
например, называлась «остракинда» и имела следующие правила.
Две команды мальчиков становились друг напротив друга, проведя
между собой черту. Один из детей, встав на этой черте, подбрасывал
кверху черепок, одна из сторон которого была предварительно выбе¬
лена, а другая намазана черной смолой; каждая сторона соответство¬
вала одной из играющих команд. В зависимости от того, какой сто¬
роной — белой или черной — черепок падал на землю, одна команда
бросалась бежать, а другая догоняла ее. Еще одна игра с черепками
называлась «эпостракизм» и была очень простой: соревнующиеся
бросали черепки в море, считая, сколько раз они отскочат от поверх¬
ности воды. Дети наших дней используют для такого рода игр плос¬
кие камешки. При игре, называвшейся «стрептинда», бросали одним
черепком в другой, лежащий на земле, стремясь ловким попаданием
перевернуть этот последний. При игре, называвшейся «фригинда»,
черепки располагали между пальцами левой руки и в ритм ударяли
этими черепками по правой. При игре под названием «эфетинда»
черепки бросали в какой-то круг (вероятно, начерченный на земле),
стараясь, чтобы они попали внутрь этого круга и остались там. Поль¬
зовались черепками и в еще менее благородных целях, например,
наносили ими удары во время драки. Судя по тому, что такой удар
мог вызвать серьезные повреждения и даже повлечь за собой ле¬
тальный исход, речь идет об очень крупных обломках черепицы или
массивных толстостенных сосудов, например пифосов. Похоже, на
черепках (опять-таки, надо думать, большого размера) могли даже
подбрасывать младенцев, от которых родители по какой-либо при¬
чине хотели избавиться (Аристофан. Лягушки. 1190).
Рано или поздно грекам просто не могла не прийти в голову
мысль об использовании черепков для разного рода надписей.
И случилось это скорее рано, чем поздно: в частности, в Афинах
самые ранние из надписанных черепков датируются VIII в. до н. э.
152
Действительно, такой писчий материал, как остраконы, несмотря
на некоторые присущие ему недостатки (как, например, известная
трудность процарапывания букв на обожженной глине, почти ни¬
когда не позволявшая придать надписи по-настоящему красивый
вид), должен был подкупать своей практической бесплатностью.
Это был в первую очередь материал для бедных, для тех, кому не по
карману было приобретать папирус. Известно, например, что стоик
Клеанф, прибыв в III в. до н. э. в Афины, чтобы учиться у Зенона,
сильно нуждался и потому «записывал уроки Зенона на черепках
и бычьих лопатках» (Диоген Лаэртский. VII. 174). Черепки вообще
нередко использовались в школьных занятиях письмом. Особенно
широко применялись остраконы в эллинистическом Египте, где их
использовали для ведения разного рода хозяйственной документа¬
ции, в том числе для налоговых расписок. Наносились на остраконы,
судя по всему, и надписи магического характера. Следует пола¬
гать, что и употребление черепков как своеобразных «бюллетеней»
для остракизма было обусловлено тем же обстоятельством — их
повсеместной доступностью и распространенностью. Безусловно,
этому требованию отвечали и некоторые другие предметы, напри¬
мер листья. Неслучайно, например, в Сиракузах при петализме
использовали именно листья. Однако при прочих равных условиях
остраконы имели ряд преимуществ перед листьями. Так, писать на
листьях, нужно полагать, было совсем уж неудобно, поскольку всег¬
да существовала опасность прорвать лист и тем самым испортить
«бюллетень». Соответственно, и читать написанное на них было,
наверное, не в пример сложнее. Наконец, листья — вообще слишком
уж непрочный и эфемерный материал. В таком полисе, как Афины,
с огромным гражданским коллективом, где количество подаваемых
на остракофории голосов исчислялось многими тысячами, результа¬
том проведения процедуры должно было бы становиться появление
огромной кучи сваленных друг на друга листьев, которые от этого
слеживались бы и совершенно теряли бы читаемость. А если вдруг
случится дождь? Глиняным же черепкам не грозили абсолютно ни¬
какие катаклизмы. Они и поныне, две с половиной тысячи лет спус¬
тя после их использования, вполне поддаются прочтению.
Первые остраконы были открыты археологами еще во второй по¬
ловине XIX в. Какое-то время эти находки оставались единичными,
потом материал начал становиться более массовым. В 1910 г. в рас*
клш /У. Остракизм в Афинах; полисная демократия в действии
153
поряжении ученых оказался первый комплекс остраконов, включав¬
ший около 40 черепков. В дальнейшем двумя главными районами
открытия этих памятников были Агора (раскопки Американской
школы классических исследований в Афинах) и Керамик (раскопки
Афинского отделения Германского археологического института). На
Агоре на сегодняшний день обнаружено более тысячи остраконов.
А на Керамике в 1960-х гг. была сделана сенсационная находка — ко¬
лоссальный комплекс из более чем 8,5 тысяч «бюллетеней» для
остракизма (к сожалению, большая часть этого комплекса пока не
дождалась публикации).
Общее число известных остраконов на сегодняшний день превы¬
шает 10 тысяч. Эта цифра, безусловно, огромна, особенно по сравне¬
нию с тем количеством, которое наличествовало еще 100 или даже
50 лет назад. Фактически об остраконах уже можно говорить как
о массовом материале, к которому применимы некоторые статисти¬
ческие закономерности. Однако, насколько можно судить, грядущие
находки обещают быть еще более грандиозными. Действительно, как
мы уже говорили, глиняные черепки практически неуничтожимы.
Не приходится сомневаться, что и по сей день на территории Афин
и их ближайших окрестностей мирно лежат под землей, ожидая
своего часа, десятки тысяч надписанных для остракизма фрагментов
керамики.
Остраконы — замечательные, уникальные памятники первоклас¬
сного источниковедческого значения, живые свидетели событий.
Их изучение и анализ в настоящее время становятся, без преувели¬
чения, одним из наиболее перспективных направлений в исследо¬
вании афинской истории. С надписей на остраконах перед нами во
всем своем неповторимом своеобразии встает мир классического
греческого полиса с его кипучей политической жизнью. Мы почти
физически ощущаем это кипение страстей, слышим голоса людей
далекой эпохи, принадлежащих к самым разным социальным сло¬
ям, совершенно не похожих друг на друга. И эта на первый взгляд
беспорядочная разноголосица сливается в стройный хор афинского
демоса. Мы, так сказать, наблюдаем демократию в действии. Подоб¬
ная полная жизни картина не отменяет, но порой существеннейшим
образом дополняет и корректирует данные нарративной традиции,
демонстрируя Афины не с официальной, а, если можно так выра¬
зиться, с внутренней, «интимной» стороны.
154
Лещп
Важность остраконов, помимо всего прочего, еще и в том, что их
можно привлекать в качестве источников для решения самых разно¬
образных проблем — от эволюции форм и типов аттической керами¬
ки до особенностей произношения афинян в V в. до н. э. Но наиболее
важна, конечно, та содержащаяся в этих памятниках информация,
которая имеет отношение к внутриполитической жизни афинского
полиса, и особенно к практике остракизма. Каким образом или в
каких направлениях можно исследовать остраконы? Существует
несколько таких направлений и методов. Можно, например, рас¬
сматривать остраконы как археологические находки, веществен¬
ные памятники, причем составляющие уже достаточно массовый
материал. В этом качестве при их изучении могут быть применены
количественные методы, в частности статистический анализ, что
уже в самом первом приближении дает плодотворные результаты.
Впрочем, создание и использование такого рода статистических
выкладок требует известной осторожности, учитывая, что, каким бы
большим ни казалось число известных остраконов, на деле это лишь
малая часть надписанных в Афинах V в. до н. э. черепков-«бюллете¬
ней», так что далеко не во всем их можно считать полностью репре¬
зентативными. Например, не столь давно Г. Маттингли предпринял
попытку распределить все дошедшие до нас остраконы по упомина¬
емым в письменных источниках остракофориям и, соответственно,
подсчитать, какое число остраконов относится к каждой из них
(Mattingly, 1991). Об этой попытке приходится сказать, в сущности,
примерно то же, что почти обо всем делаемом Маттингли: очень
интересно и в то же время крайне спорно и далеко не всегда доказа¬
тельно.
К остраконам приложимы и методы системно-структурного ана¬
лиза, позволяющие выявлять место и связи отдельных памятников
данной категории в рамках того или иного комплекса. Кстати, эти
глиняные черепки в подобных целях можно сопоставлять друг с дру¬
гом в самом буквальном смысле, чисто физически. Если выясняется,
что два или более остракона прямо соприкасаются своими сторона¬
ми, происходя, таким образом, из одного сосуда или более крупного
обломка (а такие случаи встречаются, и нередко), то можно считать
ясным, что они были использованы на одной остракофории, что даст
повод для более или менее далеко идущих выводов, в зависимое!*
от содержания надписей на этих остраконах и общего контекст»* j
Ним УК Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
155
Далее одним из важных методов работы с остраконами является
палеографический анализ надписей на них. Собственно говоря,
к этим надписям можно применять даже нечто вроде графологиче¬
ской экспертизы, что само по себе практически уникально в рамках
круга источников по истории классических Афин. Удается, в част¬
ности, опознать случаи, когда несколько остраконов надписаны
одним почерком (наиболее известный пример — остраконы против
Фемистокла с северного склона Акрополя), и это тоже, в принципе,
оставляет свободу для интерпретации, причем большую свободу,
чем обычно полагают. Чаще всего считается, что такие находки зна¬
менуют плоды деятельности политических группировок, фальсифи¬
цировавших результаты остракофорий, однако это объяснение не
подходит к ситуациям, когда одна рука надписала остраконы против
разных лиц. Бывают и противоположные случаи, когда на одном ост-
раконе обнаруживаются два разных почерка. Таков один из острако¬
нов против Аристида, на котором какой-то, очевидно, не слишком
хорошо владевший искусством письма афинянин тщетно пытался
вывести имя этого политика, но эти попытки заканчивались фаль¬
стартами; а ниже требуемое имя было написано четким, красивым
почерком хорошо грамотного человека. Уж не об этом ли черепке
идет речь в знаменитом анекдоте об Аристиде и крестьянине (Плу¬
тарх. Аристид. 7)? Во всяком случае, такое предположение выглядит
весьма соблазнительным (оно еще и позволяет считать, что мы две
с половиной тысячи лет спустя имеем возможность собственными
глазами видеть надпись, сделанную самим АристидомI), но это, ко¬
нечно, чистой воды гипотеза, которую вряд ли когда-нибудь удастся
доказать либо опровергнуть. Мы упомянули об этой гипотезе лишь
для того, чтобы продемонстрировать, какие интересные и неожидан¬
ные вопросы встают буквально на каждом шагу при работе с остра¬
конами.
Вероятно, наиболее перспективный путь анализа рассматрива¬
емых памятников — исследование надписей на них с содержатель¬
ной стороны. Здесь следует сказать о двух нюансах. Во-первых,
основной, обязательной (а по большей части, и единственной) ча¬
стью надписи на остраконе является имя того или иного афинского
гражданина, «кандидата» на изгнание. Мало ли этого? Отнюдь нет.
Остраконы — подлинный клад для историка-просопографиста.
Они донесли до нас имена почти 200 афинян. Среди этих имен как
156
Лекцвш
принадлежащие крупнейшим деятелям афинской истории, о жизни
которых подробно рассказывает нарративная традиция (от Арис¬
тида и Фемистокла до Никия и Алкивиада), так и совершенно не¬
известные ранее, а порой даже странновато звучащие (Бриотент,
Эретрией и т. п.). Не приходится сомневаться в одном — в принад¬
лежности подавляющего большинства людей, бывших «кандидата¬
ми» на изгнание остракизмом, к кругу политической элиты Афин:
ведь процедура, о которой идет речь, применялась, по согласным
утверждениям античных авторов, именно по отношению к влиятель¬
ным политикам, как правило, аристократического происхождения.
Конечно, из всякого правила бывают исключения; наверняка имели
место и такие случаи, когда тот или иной афинянин писал на черепке
имя, скажем, своего соседа — просто из личной вражды. И все же, на
наш взгляд, вполне ясно, что в массе своей лица, упоминаемые на
остраконах, отнюдь не относились к числу ординарных, ничем не
примечательных жителей Аттики.
Среди афинян, чьи имена читаются на остраконах, присутствуют
абсолютно все те, кто в нарративной традиции каким-либо образом
связывается с остракизмом (за исключением Клисфена и Мильтиа-
да, но их остракизмы недостоверны). Что же касается новых, ранее
неизвестных имен, то они обогащают арсенал аттической просопо-
графии. Немаловажно, что многие из этих неизвестных могут быть
идентифицированы ближе, отнесены к тому или иному конкретному
роду или даже семье. Такой идентификации помогает привлечение
данных аттической ономастики.
Есть имена (таких, пожалуй, даже большинство), встречающиеся
на одном-двух остраконах, но имеются и такие, количество «бюлле¬
теней» для которых очень велико. Имя Мегакла, сына Гиппократа,
фигурирует на 4,5 тысячах остраконов; более 2 тысяч на счету Фе¬
мистокла. Сюрпризом для исследователей стало то обстоятельство,
что порой весьма значительное число остраконов оказывается на¬
правленным против неизвестных из письменных источников лиц.
Например, некий Каллий, сын Кратия, упомянут на 700 с лишним
остраконах, а это означает, что он был влиятельной фигурой в поли¬
тической жизни своего времени, мы же о нем ничего не знаем. Это
лишний раз демонстрирует, насколько фрагментарны и изобилу-|
ют пробелами наши сведения об афинской истории классической
эпохи.
Нема /К Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
157
Для других, уже известных политических деятелей остраконы
выявляют ранее незнакомые нам патронимики и демотики. Так,
именно из надписей на черепках для остракизма стали известны
полные гражданские имена популярных демагогов конца V в. до н. э.
Клеофонта и Гипербола.
Перейдем ко второму нюансу исследуемых надписей. На целом
ряде остраконов, помимо имен «кандидатов», присутствуют также
разного рода приписки, посредством которых по-южному экспан¬
сивные и непосредственные афиняне выражали свои эмоции (по
большей части негативные) по адресу тех или иных сограждан. Судя
по всему, такие приписки — в отличие от практики наших дней — не
делали «бюллетень» недействительным. Они весьма разнообразны
как по содержанию, так и по размеру: от коротких и выразительных
надписей «пусть уходит», «пусть отправляется в изгнание» или
«получай!» до целой фразы из десятка слов. Так, один остракон,
направленный против Ксантиппа (этот памятник иногда именуют
«царицей остраконов»), содержит целую небольшую эпиграмму
(элегический дистих):
Более всех преступен из оскверненных пританов —
Сей черепок гласит — сын Аррифрона Ксантипп.
Впрочем, остальные дополнительные приписки на острако¬
нах, как правило, гораздо короче. В подавляющем большинстве
они имеют инвективный характер. Так, Калликсен, сын Аристони-
ма, на одном из черепков назван «предателем». Кстати, на другом
черепке с его именем указана родовая принадлежность этого афи¬
нянина — «из Алкмеонидов». К «предателям» причислен и другой
«кандидат» на остракизм — Менон. Леагра один из голосующих
требует изгнать «за то, что он совершил предательство». Некий
Архен назван «любящим чужеземцев», что тоже, очевидно, следует
трактовать как подозрение в измене. Габроних, политик из окру¬
жения Фемистокла, характеризуется как совершивший «мидизм»,
т. е. ставший сторонником персов. Аналогичный характер имеют
обвинения против упоминавшегося выше Каллия, сына Кратия,
который на нескольких остраконах фигурирует как «мидянин»,
т. е. фактически «перс». Впрочем, возможно, перед нами вообще не
обвинение, а попросту прозвище, которое носил Каллий. Он, види¬
мо, участвовал в посольстве в Персию (скорее всего, в том, которое
было отправлено по инициативе Клисфена в 507 г. до н. э. Геродот.
158
Лекцаа
История. V. 73), возможно, даже возглавлял это посольство. Об этом
недвусмысленно говорит надпись еще на одном его остраконе, где он
назван «ходившим к мидянам».
Некоего Агасия довольно грубо обозвали «ослом». Впрочем, есть
мнение, что это не банальное ругательство, а шутливая аллюзия на
остракинду — игру с черепками, в которой словом «осел» обозна¬
чался проигравший (Poll. IX. 112). Как бы то ни было, на остраконах
встречается и куда более непристойная брань. Чего стоит хотя бы
эпитет на одном остраконе против Фемистокла — katapygon, кото¬
рый не стоит даже и пытаться перевести на литературный русский
язык. А с другой стороны, еще одна надпись на остраконе с именем
того же политика требует изгнать его «почета ради». Еще одна шут¬
ка? Или вполне серьезное свидетельство о том, что остракизм был
действительно почетным изгнанием, «прерогативой» людей из¬
вестных, как указывают многие античные авторы? Между прочим,
Менон на нескольких остраконах назван «простым, неизысканным»,
а на одном даже «царем простых». Публикатор (Willemsen, 1965)
затрудняется определить цель появления этого эпитета. А не хотел
ли писавший упрекнуть Менона в том, что он слишком прост, не¬
знатен для остракизма? Как известно, именно такого рода мнения
в изобилии звучали в Афинах, когда этой мере подвергся Гипербол.
Укажем в этой связи еще на тот факт, что некий Боон назван на ост¬
раконе «живущим в деме Торик». Такие формулировки (не «из та¬
кого-то дема», а «живущий в таком-то деме») в документах обычно
сопровождают имена метэков, а не граждан. Боон, конечно, не был
метэком, иначе он не мог бы стать «кандидатом» на изгнание остра¬
кизмом. Приписка сделана, скорее всего, с целью унизить указанное
на остраконе лицо, подчеркнуть его «недостоинство». Афинянин по
имени Ксанфий на двух остраконах назван «кифаредом». Либо он на
самом деле был таковым (но это маловероятно: вряд ли кому-нибудь
пришло бы в голову применять остракизм к кифареду), либо это
опять же инвектива: Ксанфию приписано не слишком-то почетное
занятие.
Очень достается на остраконах Мегаклу, сыну Гиппократа. Этот
блестящий афинский аристократ обвиняется, например, в распут
стве: его называют «прелюбодеем». Сыплются на голову Мегаклз
и другие обвинения. Так, его обвиняют в корыстолюбии; кстати
схожее обвинение предъявляется и Менону — «взяточник из взя
Тема /У. Остракизм в Афинах: полисная демократия в действии
159
точников». На двух остраконах Мегакла именуют «оскверненным»,
а еще на одном — «килоновцем». Не может быть никаких сомнений,
по поводу чего эти реминисценции: Алкмеониду Мегаклу явно при¬
поминают старинное родовое проклятие, уже более века тяготевшее
над его предками, — так называемую «Килонову скверну». Автор
еще одной надписи на остраконе рекомендует изгнать Мегакла из-
за какого-то леса. Насколько можно судить, здесь в политическую
борьбу на остракофории вкрались чисто личные мотивы, вероятно,
какие-то пограничные споры между соседями.
Леагр, сын Главкона, политик из группировки Фемистокла, опре¬
деляется как «клеветник». Его же на другом остраконе назвали «чер¬
ным». Неизвестное лицо, от имени которого сохранилась только ко¬
нечная сигма, названо «бесчестным» или «лишенным гражданских
прав». Еще одного афинянина, чье имя не сохранилось, кто-то из его
сограждан намеревается «проглотить». Это, конечно, шутка. Афин¬
ские граждане вообще любили пошутить на остракофориях (и мы
это уже видели). Так, на нескольких остраконах фигурирует некто
Лимос. Слово “limos” по-гречески означает «голод», и в высшей сте¬
пени сомнительно, чтобы кто-нибудь из афинян носил такое имя.
Тут, очевидно, попросту проявление остроумия: писавший советует
изгнать из страны голод.
Очень интересны два остракона, направленных против Аристи¬
да. На одном из них этот политик, возможно, поименован братом
персидского полководца Датиса, который в 490 г. до н. э. возглавил
экспедицию в Аттику, завершившуюся Марафонским сражением,
а на другом его называют «прогнавшим молящих о защите». Еще
более важен остракон с надписью «Пусть Кимон, сын Мильтиада,
уходит, взяв Эльпинику». Он свидетельствует о том, что сплетни
о незаконном сожительстве Кимона с сестрой Эльпиникой действи¬
тельно ходили еще во время их жизни, а не являются более поздним
анекдотическим измышлением.
Некоторые приписки на остраконах не являются инвективами,
а служат для более точной идентификации «кандидата» на изгнание.
Например, автор одной из надписей предлагает изгнать «фесмофета
Евхарида, сына Евхара», называя, таким образом, должность упо¬
минаемого здесь гражданина. Менон на остраконе назван «испол¬
нявшим должность архонта». Наверное, также идентификационной,
а не инвективной цели служили приписки на остраконе Мегакла,
160
Лещп
сына Гиппократа, — «содержащий коней», «конник». В афинском
полисе начала V в. до н. э. было несколько граждан по имени Ме-
гакл, и все как один аристократы. Чтобы отличить упомянутого
здесь Мегакла от его тезок, и был упомянут предмет его особенной
гордости — упряжка лошадей, с которой он чуть позже победил на
Пифийских играх. Интересно, что, по предложению кого-то из голо¬
совавших, из Афин должны быть изгнаны Мегакл «и конь».
Есть и приписки, которые при нынешнем состоянии изученности
остраконов остаются пока совершенно загадочными, не поддающи¬
мися сколько-нибудь вероятной интерпретации. Так, на одном из
остраконов против Мегакла, сына Гиппократа, приписано: «ради
Ройка». Кто такой этот Ройк, и почему именно из-за него один из
граждан пожелал изгнать Мегакла — вряд ли когда-нибудь станет
ясным. Точно так же, скорее всего, мы никогда не узнаем, по какой
причине Клеиппид на остраконе назван «византийцем». Можно
только гадать, с какими обстоятельствами его биографии это свя¬
зано.
Помимо словесных приписок, на нескольких остраконах фигури¬
руют сделанные голосовавшими рисунки, в основном карикатурного
характера. В частности, на одном из черепков, направленных против
Мегакла, сына Гиппократа, присутствует изображение всадника -
вполне понятный сюжет, если учесть вышеупомянутую гиппотро-
фию, практиковавшуюся Мегаклом. На другом остраконе с его же
именем нарисована нижняя часть лежащего тела мертвого человека.
Еще на одном остраконе Мегакла — рисунок лисы; скорее всего, это
намек на его дем — Алопеку (alopex — лисица). А на совсем недавно
опубликованном «бюллетене» против того же лица — мастерски
нарисованная сова, точь-в-точь такая же, как на афинских монетах.
Ш. Бренне (Brenne, 2002. S. 145) справедливо замечает, что сова
являлась в Афинах чем-то вроде герба или государственной печати;
рисуя ее на остраконе, голосующий хотел таким образом придать
этому документу официальную силу. На остраконе против афиня¬
нина, чье имя не сохранилось, изображена мужская голова в про¬
филь, с длинными волосами, что является несомненным признаком
аристократической принадлежности изображенного. Каллийу сын
Кратия («Мидянин»), изображается на карикатуре, как и следов* I
ло ожидать, в персидском платье: в штанах, тиаре, с луком в
Один из черепков-«бюллетеней» Калликсена, сына АристонвН
Ниш У. Классическая греческая драма в политическом контексте
161
из рода Алкмеонидов, буквально покрыт изображениями. Помимо
портрета самого «кандидата» (голова бородатого мужчины в венке),
на нем имеется также рисунок ветви. Это почти несомненно гикете-
рия — ветвь, которую держали в руках молящие о защите и убежище:
Калликсену припоминают «Килонову скверну», родовое проклятие
Алкмеонидов, перебивших в 636 г. до н. э. мятежников, укрывавших¬
ся в святилище на Акрополе. Наконец, есть на черепке еще и изобра¬
жение рыбы. П. Бикнелл (Bicknell, 1974) идентифицирует эту рыбу
как триглу (mullus barbatus), которая считалась в античности самым
прожорливым из морских животных, не брезговавшим даже пада¬
лью. Калликсен (а может быть, и все Алкмеониды), таким образом,
обвиняется здесь во «всеядности», беспринципности.
По итогам вышесказанного есть все основания привлечь внима¬
ние читателей к столь замечательным информативным (хотя, бес¬
спорно, и непростым для интерпретации) памятникам, какими яв¬
ляются остраконы. Содержащиеся на них данные уже теперь нужно
начинать активно привлекать для изучения истории классических
Афин. Они удачно дополняют нарративную традицию, в чем-то кор¬
ректируют ее.
Тема У
Классическая греческая драма
а политическом контексте
Лекция 10. Историко-политическая проблематика
классической греческой драмы
Вопрос, который будет здесь рассмотрен, лежит на стыке собственно
истории и источниковедения. Для всех, кто занимается историей
Греции (и особенно Афин) в V в. до н. э., первостепенную значи¬
мость имеют источники, современные событиям, т. е. относящиеся
к тому же столетию. Уже к свидетельствам, дошедшим от IV в.
до н. э. и сохранившим информацию о периоде, предшествующем
Пелопоннесской войне, мы не можем относиться с той же степенью
доверия, поскольку их авторы, не будучи непосредственными сви¬
детелями описываемого, вынуждены были черпать информацию из
предшествующей письменной и устной традиции, при этом зачастую
162
Лекщп
пользуясь категориальным аппаратом собственной эпохи, во многом
чуждым реалиям ранней классики (как, например, дихотомия «де¬
мократы — олигархи»). Обостренный интерес к ранним, наиболее
аутентичным источникам оттеняется их несомненным дефицитом.
Собственно исторические произведения (речь идет в первую оче¬
редь о трудах Геродота и Фукидида) при всей их ценности имеют
в известной степени фрагментарный характер, они как бы «высве¬
чивают» из тьмы веков лишь отдельные эпизоды афинской истории.
Особенно это относится к событиям внутриполитической жизни,
которыми ни Геродот, ни Фукидид специально не занимались, по¬
скольку их интересовали в первую очередь вопросы внешнеполи¬
тической и военной истории. На этом фоне наиболее остро встает
проблема поиска дополнительных источников того же времени,
содержащих хотя бы косвенные данные, которые позволили бы вос¬
полнить имеющиеся пробелы.
И здесь к нашим услугам такой богатый корпус текстов, как па¬
мятники классической афинской драмы V в. до н. э. Этой группой
нарративных источников пользуются далеко не в должной мере.
Причина в том, что драматические произведения — источник совер¬
шенно особого рода. К их данным нельзя подходить столь же прямо¬
линейно, как к трудам историков или, скажем, к надписям. Простое
черпание исторических фактов из драмы практически невозможно
или, во всяком случае, дает весьма скудные результаты. Но это не оз¬
начает, что источники, о которых идет речь, малоценны. Отнюдь нет,
просто при работе с названными памятниками насущно необходимы
особые методики. И прежде всего надо рассматривать любое драма¬
тическое произведение в целостном историческом и политическом
контексте.
Классическая эпоха древнегреческой истории, и в частности ее
первая половина (V в. до н. э.), во многом прошла, если можно так
выразиться, «под знаком театра». Во всяком случае, это в полной
мере относится к Афинам, где, собственно, зародилось и сделало
свои первые шаги само театральное искусство. И неслучайно празд¬
ник Великих Дионисий, на котором происходили драматические
представления, как магнитом притягивал в афинский полис множе¬
ство гостей-зрителей из разных частей греческого мира. Для пони¬
мания отношения греков к афинскому театру в высшей степени по-
казателен рассказ Плутарха о том, как афинских воинов, попавших
Тиш К Классическая греческая драли/ в политическом контексте
163
в плен на Сицилии в 413 г. до н. э., спасло от гибели хорошее знание
ими произведений Еврипида (Никий. 29).
V век до н. э. — это время Эсхила и Софокла, Еврипида и Арис¬
тофана; вряд ли их имена нуждаются в каких-либо комментариях.
С другой стороны, та же историческая эпоха была временем, когда
создавались первые грандиозные и сразу же ставшие парадигматич-
ными (отнюдь не только для античной цивилизации) исторические
труды. Иными словами, первые великие драматурги и первые вели¬
кие представители исторической мысли действовали в одной и той
же социокультурной среде, буквально бок о бок друг с другом. То,
что их жизненные пути пересекались, само собой разумеется: иначе
и не могло быть в условиях face-to-face society (модный ныне, но,
к сожалению, неудобопереводимый термин), каким был античный
греческий полис. Достоверно известно, например, что Софокл и Ге¬
родот были дружны. Фукидид, несомненно, лично (и неоднократно)
видел в афинском театре Диониса постановки трагедий и Софокла,
и Еврипида. И трагедии в немалой мере повлияли на стиль изложе¬
ния у этого историка, на структуру его труда — образчика не только
научной, но и «трагической» историографии.
Развитие двух жанров осуществлялось в тесном взаимодействии
и взаимовлиянии. О влиянии театра на античную историографию
много писали, этот факт не подлежит сомнению. Нам же представ¬
ляется не менее интересным и перспективным противоположный
ракурс — влияние ранней греческой историографии на современ¬
ный ей театр, проблема «драмы как истории». Следует ли считать
драматические произведения V в. до н. э., помимо всего прочего,
еще и проявлением исторического сознания эллинов классической
эпохи?
Начнем с вещи достаточно очевидной. Аттическая трагедия, яв¬
лявшаяся в V в. до н. э. ведущим театральным жанром, вплоть до
конца этого столетия не пользовалась вымышленными сюжетами.
Это однозначно можно сказать обо всех дошедших до нас произ¬
ведениях трагедиографов, будь то Эсхил, Софокл или даже Еври¬
пид. Первым трагедиографом, который обратился в своем творче¬
стве к вымышленным сюжетам, принято (и, по-видимому, вполне
справедливо) считать Агафона, младшего современника Еврипида
(см. Аристотель. Поэтика. 1451Б20 слл.). Основные произведения
^Агафона были созданы в период Пелопоннесской войны.
164
Лекцаа
Ранее же функция трагедии виделась в другом — представлять
вниманию зрителей воспроизведение событий, реально происшед¬
ших (или, во всяком случае, тех, которые считались реально про¬
исшедшими). Собственно, иначе и быть не могло, пока трагедия
сохраняла память о своем сакральном происхождении. Являясь по
своим истокам синтетическим культовым действом в известной
мере даже «литургического» характера, она неизбежно зиждилась на
неком каноне. Сказанное относится прежде всего к сюжетной, «фак¬
тологической» стороне драм; понятно, что, скажем, в интерпретации
психологической мотивировки тех или иных поступков авторам
предоставлялась значительно большая свобода. В драмах Эсхила,
Софокла и Еврипида, написанных на один и тот же сюжет, Орест
убивает мать. В произведениях трех драматургов те чувства, которы¬
ми он руководствуется, то душевное состояние, которое порождает
в нем необходимость этого акта, — все это трактуется отнюдь не оди¬
наковым образом. Но сама фабула должна быть сохранена. Невоз¬
можно представить себе классическую трагедию, в которой Орест
сжалился бы над матерью и сохранил бы ей жизнь. Равным образом,
скажем, Эдип не мог по ходу действия умереть в родных Фивах,
а Ифигения — выйти замуж за Ахилла. А именно эта незыблемость
сюжетной стороны для нас и важна в данном случае.
Вплоть до конца V в. до н. э. все произведения трагического жан¬
ра (включая те, которые дошли до наших дней, и те, о которых лишь
сохранились какие-то сведения) могут быть по своим сюжетам раз¬
делены на две неравные группы. В одну из них, привлекающую наше
внимание прежде всего, входят те, которые можно назвать «исто¬
рическими драмами» в собственном, привычном для нас смысле.
Таковых очень незначительное меньшинство; можно сказать, они
практически единичны. В качестве цельного текста в нашем распо¬
ряжении есть только «Персы» Эсхила; по названиям и основным
сюжетным линиям известны еще несколько. Характерно, что все
трагедии данной категории хронологически относятся к одному
и тому же (и не слишком протяженному) периоду — к первой чет¬
верти V в. до н. э.
Судя по всему, это не случайное совпадение. С внешней, чисто
исторической точки зрения, обозначенный период — время пер-
вого, самого ожесточенного этапа греко-персидских войн и самых
славных побед эллинов. А эти войны, как известно, в колоссальной
Тема ft Классическая греческая драма в политическом контексте
165
степени повлияли на историческое сознание древнегреческой циви¬
лизации. Превратившись усилиями нескольких поколений в гран¬
диозный миф, они стали одним из ключевых, структурообразующих
элементов классической греческой картины мира — с ее живущими
и по сей день дихотомиями «Запад — Восток», «свобода — рабство»,
«эллинство — варварство». В это создание «образа иного» вносили
свой вклад трагедия и историография — Эсхил и Геродот.
А с точки зрения развития театрального искусства на начало V в.
до н. э., насколько можно судить, пришлась попытка реформиро¬
вания трагического жанра. Эту попытку, очевидно, следует связать
в первую очередь с поэтом Фринихом. К величайшему сожалению,
его произведения утрачены, и нам приходится довольствоваться
косвенными свидетельствами, которые, впрочем, сами по себе доста¬
точно информативны. В 492 г. до н. э. огромный резонанс произвела
в Афинах его драма «Взятие Милета», темой которой стало подавле¬
ние персами Ионийского восстания. По словам Геродота, «когда он
поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же
был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил
о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили,
чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы» (VI. 21;
ср. также: Страбон. География. XIV. 635).
Столь брутальное обращение афинян с автором художественного
произведения отчасти может быть объяснено конкретными перипе¬
тиями политической ситуации. Однако, на наш взгляд, могло сыг¬
рать свою роль и творческое новаторство Фриниха, его стремление
повернуть трагический жанр лицом от древних мифов к актуальным
историко-политическим темам. Это, видимо, показалось непривыч¬
ным и вызвало неприятие. Фриних, однако, продолжал эксперимен¬
тировать в том же духе. В 476 г. до н. э. он написал и поставил траге¬
дию «Финикиянки» (Плутарх. Фемистокл. 5), также посвященную
греко-персидским войнам. Эксперименты Фриниха в целом почти
не нашли подражателей. Значимым исключением являются, конеч¬
но, «Персы» Эсхила — трагедия о Саламинском сражении, в кото¬
ром, кстати, участвовал сам автор.
На примере этого последнего произведения, сохранившегося
полностью, можно в наиболее ясной форме осознать, что представ¬
ляла собой раннеклассическая «историческая драма». Характерная
черта не может не броситься в глаза всякому, кто читает эту пьесу.
166
Аекцп
Она повествует о конкретном историческом событии, в котором
приняли участие и персы, и греки. Но вот отражены в трагедии эти
две действующие стороны отнюдь не в равной степени. Главные
герои принадлежат к персидскому лагерю: это — царь Ксеркс, его
мать Атосса и покойный отец Дарий (появляющийся в качестве
призрака). В монологах действующих лиц звучат имена и многих
других персов — вельмож и военачальников. Создается впечатление,
что Эсхилу интересно нанизывать одно на другое эти экзотические
имена.
А что же греки? В трагедии не упоминается ни один эллинский
герой, прославившийся в Саламинской битве. Мы не находим в ней
ни слова ни о Фемистокле, ни об Аристиде, ни об Еврибиаде, ни
о Ксантиппе. Победившие греки выступают некой единой, едва ли
не безличной массой. Нередко считается, что эсхиловские трагедии
по своему подходу к изображению действительности во многом
исходят еще из эпического, гомеровского наследия. Собственно,
этой точки зрения придерживался уже сам Эсхил, утверждавший,
что он лишь подбирает крохи со стола Гомера. Однако гомеровские
поэмы переполнены именами греческих героев! А здесь, в трагедии,
мы встречаем какой-то совсем иной тип исторического сознания,
иной по сравнению и с эпосом, и, кстати, с историографией Геродота
и Фукидида, труды которых тоже изобилуют эллинскими именами
(хотя и не в такой степени, как эпос; героями исторических произве¬
дений становятся уже не только индивиды, но и полисы).
Историческое сознание Эсхила, как оно проявилось в «Пер¬
сах», — сознание не индивидуальное, а коллективное. Оно в наи¬
большей мере сродни духу раннеклассического полиса — тому духу,
который породил и «строгий стиль» в искусстве, игнорирующий ин¬
дивидуальные черты. Сразу припоминается эпизод, происшедший
вскоре после Марафонской битвы, о котором рассказывает Плутарх:
«Мильтиад домогался было масличного венка, но декелеец Софан,
встав со своего места в народном собрании, произнес хотя и не слиш¬
ком умные, но все же понравившиеся народу слова: “Когда ты, Миль¬
тиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей для себя
одного”» (Кимон. 8).
Такое отношение выработалось, повторим, после победы при
Марафоне, в период молодой клисфеновской демократии в Афинах,
когда, по словам Аристотеля, «народ стал уже чувствовать уверен¬
Тема У\ Классическая греческая драма а политическом контексте
167
ность в себе» (Афинская полития. 22.3). Именно в это время, как
нам уже известно, в афинской политической жизни активно при¬
менялась процедура остракизма, с помощью которой гражданский
коллектив удалял из полиса наиболее влиятельных, ярко-индиви¬
дуальных политиков. В период ранней классики коллективистская
тенденция общественного сознания существенно возобладала над
индивидуалистической. Любое выдающееся деяние воспринималось
как заслуга не личности, но общины. Вполне естественно, что дра¬
матическая поэзия, по самому своему существу являвшаяся (в от¬
личие, скажем, от лирики архаической эпохи) воплощением полиса,
причем полиса демократического, стала рупором именно такого типа
исторического сознания.
Как бы то ни было, трагедии, сюжет которых был взят из со¬
временной авторам и зрителям реальной действительности, так и
остались чрезвычайно большой редкостью. Подавляющее боль¬
шинство произведений этого жанра относятся к категории (к ней и
мы теперь переходим), которую можно определить как «мифологи¬
ческая драма».
Но вот здесь необходима чрезвычайно существенная оговорка.
Это для нас миф (да и то скорее по инерции, идущей от позитивизма
XIX в.) предстает как нечто внеположенное по отношению к исто¬
рической истине или даже противопоставленное ей. Отнюдь не так
было в античности, когда легендарно-мифологическая традиция
«воспринималась и трактовалась как историческая», по выражению
П. Видаль-Накэ (Видаль-Накэ, 2001. С. 228). Греки воспринимали
свои мифы не как вымысел, а как собственную «древнюю историю»,
или сит grano salis — «священную историю». Не то чтобы мифы
виделись некой догмой, которая не может быть оспорена. Скорее,
напротив, мы встречаем в истории греческой культуры многочис¬
ленные примеры критики ряда конкретных мифов. Однако критика
частностей не означала отхода от общей картины мира, в которой
миф занимал место одного из краеугольных камней. Характерный
пример: один из первых древнегреческих историков (если не самый
первый) — логограф Гекатей, известный своим рационализмом, на¬
зывавший многие мифы «смехотворными» (Hecat. FGrHist. 1. Fl),
при этом вполне признавал другие, не менее фантастические, и уж
совсем ни в коей мере не отрицал реальности богов и легендарных
168
Лежцт
Иными словами, имея дело с любым древнегреческим литератур¬
ным памятником, не следует абсолютизировать дихотомию «миф -
история». Это относится и к драме, и к историографии. Равным
образом для Эсхила и Геродота греко-персидские войны и Троян¬
ская война — явления одного порядка, просто одно ближе, а другое
дальше отстоит от их времени.
Мы выходим на важную проблему актуальности античного гре¬
ческого исторического сознания, проявившегося в драме. Казалось
бы, что может быть менее актуальным, чем те «дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой», о которых повествуется в тра¬
гедиях с мифологическими сюжетами? И тем не менее эти сюжеты
воспринимались и трактовались драматургами (следовательно, нуж¬
но полагать, и их аудиторией) только сквозь призму современности.
Игра парадигмами, прототипами, аллюзиями — одна из важных черт
драматического искусства. Процитируем в данной связи небольшой
пассаж из Плутарха: «Когда в театре прозвучали слова Эсхила об
Амфиарае:
Он справедливым быть желает, а не слыть.
С глубокой борозды ума снимает он
Советов добрых жатву, —
все взоры обратились к Аристиду, который, как никто другой, при¬
близился к этому образцу добродетели» (Аристид. 3).
Речь здесь идет о трагедии Эсхила «Семеро против Фив», кото¬
рая и в остальном была пронизана аллюзиями на современные поэту
реалии и персоналии. В нашем случае реминисценция вполне про¬
зрачна: описывая древнего героя Амфиарая, Эсхил (вне сомнения,
сознательно) придает ему эпитет «Справедливый» (dikaios) — тот
самый, который устойчиво связывался с именем афинского полити¬
ка Аристида. Зрители, как видим, вполне уловили намек.
Это лишь одна иллюстрация к тезису об актуальности истории
в памятниках трагического жанра. Действие в трагедиях может про¬
исходить где угодно — в зависимости от того, с каким местом связы¬
вался исходный миф. Это могут быть Микены, Фивы, Аргос, Троя.
Афины же оказываются полем действия довольно редко; это связано
с тем, что афинский цикл мифов был куда более бедным по сравне¬
нию с фиванским или микенским. Однако выявляется любопытна!
закономерность, которую мы назвали бы «принципом актуально’
Ниш V, Классическая греческая драма в политическом контексте
169
сти»: под Фивами или Микенами далекого прошлого всегда подра¬
зумеваются Афины и афинские реалии V в. до н. э.
Кстати, отметим редко привлекающее внимание исследователей
и, однако, весьма характерное обстоятельство. В условиях религи¬
озного менталитета (а в том, что древнегреческий менталитет был
религиозным, ныне вряд ли кто усомнится) любой сюжет, взятый из
прошлого, даже из далекого прошлого, неизбежно становился акту¬
альным и связанным с настоящим уже в силу наличия, так сказать,
«божественного фактора». В любом мифе действовали герои и боги.
И если герои воспринимались как персонажи уже не существующие
(во всяком случае, в «человеческом измерении»), то боги (высту¬
павшие, кстати сказать, в качестве даже не предмета веры, а некой
непосредственной эмпирической данности) являлись той самой
нитью, которая соединяла века и эпохи. Зевс, Афина, Аполлон были
во времена Тесея или Ореста. Но те же самые Зевс, Афина, Аполлон,
в представлениях греков классической эпохи, и в их собственные
времена никуда не исчезли и по-прежнему продолжали блюсти ми¬
ропорядок. Боги оказывались гарантом стабильности в меняющемся
универсуме. Собственно, именно их наличие и придавало единично¬
му и частному смысл общего.
В последние десятилетия аттическую трагедию модно изучать
в структурно-антропологическом и социально-психологическом
аспектах. Но нам представляется вполне оправданным и другой
ракурс ее анализа — исторический или, чуть точнее, историко-по¬
литический (ввиду неразрывности истории и политики в полисном
греческом мире). Обращение к «вечным» мифологическим сюжетам
гарантировало сочетание общего и единичного, вневременного и ак¬
туального. Конкретное действие «принципа актуальности» в класси¬
ческой трагедии будет рассмотрено ниже на ряде примеров.
Перейдем теперь к комедии — второму важнейшему драмати¬
ческому жанру эпохи классики. Так называемая древняя аттиче¬
ская комедия, представленная дошедшими полностью сочинениями
Аристофана, фрагментами Кратина, Евполида и ряда других авто¬
ров, кардинально отличается от трагедии прежде всего тем, что она
пользовалась практически исключительно вымышленными сюжета¬
ми, причем не просто вымышленными, а замысловатыми до фантас-
магоричности.
170
Лекции
Однако — и в этом еще один парадокс — вымышленный сюжет
постоянно сочетался в произведениях древней комедии с вполне
реальными действующими лицами. Комедиографы V в. до н. э. (в от¬
личие, скажем, от работавшего век спустя Менандра, у которого пер¬
сонажи уже являются продуктом художественной фантазии) актив¬
но выводят на сцену своих реальных современников — политиков,
философов, поэтов. Демагог Клеон и полководец Ламах, философ
Сократ и поэт Еврипид — все они появляются в пьесах Аристофана.
Кратин высмеивал самого Перикла. Естественно, здесь же присутст¬
вуют и вездесущие боги — этот элемент вечного в современности. Но
боги, конечно, могут быть выведены в комедии только в комическом
виде — иной подход противоречил бы природе жанра.
А как обстоят дела с историческими деятелями и событиями
в собственном, привычном нам смысле слова? И здесь мы тоже об¬
наруживаем в комедии специфические черты, отличающие ее от
трагического жанра. «Принцип актуальности» в ней тоже работает,
но принимает несколько иное обличье.
Так, одним из типичных сюжетных ходов комедиографов V в.
до н. э. является то, что можно назвать «воскрешением мертвых».
Души славных героев прошлого, законодателей, полководцев и го¬
сударственных деятелей в подобии некоего спиритического сеанса
вызываются драматургами из Аида. Это — тоже способ «столкнуть
лицом к лицу» прошлое с настоящим, но способ, естественно, специ¬
ально комический.
Солон, выдающийся реформатор афинского полиса, действовав¬
ший в начале VI в. до н. э., полтора века спустя появляется в комеди¬
ях Кратина («Хироны», «Законы») и Евполида («Демы»). Но если
Солона еще можно назвать для этих авторов деятелем, достаточно
отдаленным во времени, как бы теряющимся во мгле забвения, то
совсем другое дело, например, Перикл. А он тоже «воскрешается из
мертвых» в одной из комедий Евполида.
Итак, классическая драма — как трагедия, так и комедия, — не¬
сомненно, с полным основанием может быть отнесена к жанрам
исторического характера. Само по себе это вполне очевидно. Важнее
другое: как и в чем этот исторический характер проявлялся, какими
отличительными чертами обладал.
Таких черт, видимо, можно выделить несколько, но важнейшей,
определяющей из них будет актуальность исторического сознания
Тема V. Классическая греческая драма в политическом контексте
171
драмы. Прошлое воспринималось не иначе как в контексте насто¬
ящего. Становление — лишь подготовка бытия, таков, как известно,
один из краеугольных камней всего древнегреческого мировос¬
приятия. Бытие, бесспорно, не следует отождествлять с непосред¬
ственно данным hic et пипс. Однако на эмпирическом уровне они
непрерывно коррелировали (во многом посредством вневременного
«божественного фактора»).
Интересно, что среди древнегреческих историков V в. до н. э.
почти не было, так сказать, «древних историков», историков древ¬
ности. Задачу освещать далекое прошлое историки предоставили
мифографам и поэтам, а сами сконцентрировались на прошлом
близком и предельно близком. В определенной мере имело место
«разделение труда» между историком и поэтом (для V в. до н. э.
в первую очередь драматургом). При одинаковых исходных мето¬
дологических принципах, при том же типе исторического сознания
они говорили о разном. Трагедия в самом начале классической эпохи
предприняла попытку вторгнуться в домен историографии. Не раз
нечто подобное делала со своей стороны и историография. Помимо
всего прочего, уже из этого ясно, что мы имеем дело с близкими друг
другу реалиями.
Лекция 11. Классическая греческая драма как источник
по политической истории Афин
В данной лекции мы наиболее подробно остановимся на тех про¬
блемах, которые пока недостаточно освещены в историографии.
Именно поэтому основной акцент будет сделан на памятниках атти¬
ческой трагедии. Что касается древней аттической комедии, то здесь
ситуация более или менее ясна. Памятники этого жанра, в первую
очередь пьесы Аристофана, переполненные злободневными полити¬
ческими реминисценциями, являются очень важным источником по
афинской истории V в. до н. э. Ценность этого источника уже вполне
общепризнана, вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. Как сюже¬
ты аристофановских произведений, так и множество конкретных
аллюзий и намеков, рассыпанных по ним, чрезвычайно обогащают
наши знания о реалиях классических Афин.
Вполне ясно, например, что ряд комедий Аристофана («Ахар-
няне», «Мир», «Лисистрата») прекрасно отражают позицию аттиче¬
ского крестьянства в период Пелопоннесской войны; что комедия
172
«Осы» дает блестящую картину работы афинских судов присяжных;
что во «Всадниках» тонко нарисован обобщенный образ демаго¬
га, в «Облаках» — обобщенный образ софиста (ассоциация его с
конкретным именем Сократа не должна вводить в заблуждение),
в «Законодательницах» причудливо преломились черты утопиче¬
ских проектов начала IV в. до н. э. и т. д. С другой стороны, в этих
драмах мы очень часто встречаем и информацию о конкретных ли¬
цах, в том числе о видных политических деятелях. Один из самых
частых «гостей» здесь, безусловно, Клеон. Но и помимо него мир ре¬
альных персонажей Аристофана чрезвычайно богат: здесь и Перикл,
и Никий, и Алкивиад, и Писандр, и многие другие.
Впрочем, работая с памятниками комического жанра как с источ¬
ником, надлежит всегда помнить об одном важном обстоятельстве.
«Зеркалом» афинской жизни часто называют аристофановскую
комедию. Но если уж воспользоваться этой метафорой, то следует
учитывать, что зеркало это кривое. Оно отражает реальность в коми-
чески-гротескной форме. Об этом нередко забывают, когда исполь¬
зуют данные Аристофана, так сказать, в чистом виде, будто они про¬
исходят из беспристрастного и объективного исторического труда.
Бесспорно, эти данные должны подвергаться значительной критике,
трактоваться в свете других свидетельств и в связи с ними.
В несравненно меньшей степени оценено по достоинству зна¬
чение трагедии (особенно произведений Эсхила и Софокла) как
источника по афинской истории, в частности, по истории полити¬
ческой борьбы в классических Афинах. Да, по нашему глубокому
убеждению, вопрос можно и нужно поставить именно так: если
комедия Аристофана была политической комедией, то и трагедия
великих драматургов V в. до н. э. была в той же мере политической
трагедией. Другое дело, что это не столь очевидно и не бросается
в глаза. В памятниках трагического жанра, в отличие от комедии,
мы никогда не встретим Фемистокла или Аристида, Кимона или
Перикла, Никия или Алкивиада. Во всяком случае, не встретим
в их собственном обличье и под своими именами. Но зато можем
встретить в «замаскированных» формах, в мифологических образах.
В свете того, что было сказано выше об актуальности исторического
сознания классической драмы, это естественно. Трагедия говорила
о глубоком прошлом, но всегда имела в виду настоящее. Произве¬
дения трагедиографов воспринимались не только как памятники
Тема К Классическая греческая драма в политическом контексте
173
высокого искусства и уж, во всяком случае, не как антикварные шту¬
дии, а прежде всего как злободневные отклики авторов на события
современности.
Это может показаться парадоксальным. Ныне мало кто сомне¬
вается в роли трагедии как памятника общественно-политической
мысли. Об этом написано немало работ. Однако «политическое
искусство греческой трагедии» (так назвал свою книгу по данной
теме X. Мейер: Meier, 1988) трактуется, как правило, в максимально
общем плане. Существует еще некоторое предубеждение против ин¬
терпретации тех или иных драм в конкретно-политическом смысле.
На наш же взгляд, задача поиска конкретных политических ал¬
люзий в конкретных трагедиях отнюдь не является неразрешимой
и тем более некорректно поставленной. Все жанры литературы в
классической Греции, практически без исключения, были проник¬
нуты политической проблематикой. В полной мере это относится
и к трагедии. Хотя в ней, в отличие от комедии, эта проблематика
обычно не эксплицируется в открытых суждениях «от автора». Нет
никакого сомнения, что Эсхил, Софокл, Еврипид как афинские
граждане имели вполне определенную точку зрения на разверты¬
вавшиеся перед их глазами события афинской истории и что эта
позиция драматургов должна была так или иначе проявляться в их
произведениях.
Собственно, удивляться можно было бы, если бы дело обстояло
иначе. Эсхил примыкал к политической группировке Перикла, Со¬
фокл в молодости был близок к Кимону. О Софокле, кстати, гово¬
рить вообще не приходится: он являлся (и оставался на протяжении
нескольких десятилетий) видным политическим деятелем Афин,
о чем еще пойдет речь ниже. Политическую позицию он просто обя¬
зан был иметь.
Ряд источников ясно показывает, что сами афиняне восприни¬
мали трагедию в контексте политической борьбы: мифологические
образы драм вызывали у них злободневные ассоциации. Выше это
уже было проиллюстрировано примером с Амфиараем из трагедии
Эсхила «Семеро против Фив»: зрители опознали этот образ как
аллюзию на Аристида. Известно также, что состязания трагических
поэтов использовались ведущими политическими лидерами в собст¬
венных целях (один из ярких примеров: Плутарх. Кимон. 8 — о Ки-
моне и Софокле).
174
Нет никаких оснований, признавая за аттической трагедией
право на постановку и решение «вечных» вопросов человеческого
бытия, при этом отказывать ей в непосредственной политической
актуальности. В том-то и заключается уникальность этого жанра,
обеспечившая ему мировое признание, что он смог в грандиозном
синтезе слить воедино проблемы религии, философии, политики,
повседневной жизни, соединить высокое с преходящим и разрешить
возникающие коллизии на высочайшем художественном уровне.
Трагедия в представлении самих древних была школой граждан¬
ского воспитания. Она уделяла внимание всем без исключения про¬
блемам бытия и заслуживает не только религиозно-философской
интерпретации, которая часто встречается в историографии, но так¬
же и интерпретации конкретно-политической. Неслучайно один из
современных западных исследователей (М. Викерс, особенно интен¬
сивно занимающийся поиском конкретно-политических ассоциаций
в памятниках трагического жанра) называет трагедию своего рода
«экспериментальной политикой» (Vickers, 1987; Vickers, 1988).
Соотношение мифа и политики в трагедии в наибольшей степени
рассматривалось на материале драм Еврипида, в том числе и в оте¬
чественной историографии (Лурье, 1954; Радциг, 1962; Ярхо, 1970).
Это вполне объяснимо. Еврипид наиболее прост для изучения в дан¬
ном отношении, у него политические реминисценции, как правило,
лежат «на поверхности». И именно поэтому мы меньше будем гово¬
рить об этом драматурге; нас интересует прежде всего политический
контекст произведений более ранних авторов.
Еврипид уже в древности получил репутацию «философа на сце¬
не» по той причине, что у него философия, в том числе и политиче¬
ская, впервые стала эксплицитной: персонажи начали вступать в дис¬
куссии, высказывать разного рода сентенции, выражающие (или не
выражающие) взгляды автора, и т. п. Здесь Еврипид действительно
противостоит старшим трагедиографам, у которых как философ¬
ская, так и политическая проблематика звучит еще на имплицитном
уровне. Это создает дополнительные сложности для исследователя,
но они, в принципе, преодолимы при условии использования пра¬
вильных методик.
Обратимся к конкретному материалу, построив изложение в хро¬
нологической последовательности. Интересной представляется
фигура Фриниха — одного из первых аттических драматургов,
Те/м К Классическая греческая драма в политическом контексте
175
от произведений которого, к сожалению, дошли лишь фрагменты.
Трагедия Фриниха «Взятие Милета», поставленная в 492 г. до н. э.,
являет собой, как уже отмечалось выше, один из редких примеров
драмы на современный автору (не мифологический) сюжет. В до¬
полнение к факту осуждения драматурга за постановку этого произ¬
ведения (это уже само по себе представляет собой яркий признак по¬
литического восприятия пьесы аудиторией) отметим еще одно очень
важное обстоятельство: «Взятие Милета» датируется архонтатом
Фемистокла. Связь Фриниха с этим политиком выраженной анти-
персидской ориентации зафиксирована еще и 16 лет спустя, в 476 г.
до н. э., когда Фемистокл был хорегом при постановке фринихов-
ских «Финикиянок» (Плутарх. Фемистокл. 5). Связи драматурга
и хорега были, как правило, крепче, нежели простое совпадение: они
знаменовали личную и политическую близость.
Перейдем к значительно более крупной фигуре в истории афин¬
ского театрального искусства — к Эсхилу. По преобладающему в
отечественном антиковедении мнению, Эсхил был по политическим
взглядам, в целом, выразителем интересов традиционно настроенных
аристократических кругов, недовольных нарастающей демократиза¬
цией афинского полиса. В то же время в западной литературе имеет
значительный вес точка зрения, согласно которой Эсхил являлся
приверженцем умеренно-демократической группировки, концент¬
рировавшейся вокруг Алкмеонидов, в частности, в рассматриваемый
период — вокруг Перикла. Однозначно зафиксированные давние
личные связи Эсхила и Перикла, возможно, были унаследованы
ими от предков. В 472 г. до н. э. Перикл был хорегом при постановке
«Персов» Эсхила, и это, конечно, нельзя назвать случайностью.
Неоднократно отмечалось, что в ряде драм Эсхила присутству¬
ют аллюзии на личность Перикла, на историю рода Алкмеонидов,
в частности, в связи с «Килоновой скверной». Цель этих аллюзий
в общем можно определить как оказание поддержки молодому Пе¬
риклу в начале его политической деятельности, оправдание этого
политика от дискредитирующих его наветов, связанных с Алкмео-
нидами, от обвинений в родовом проклятии.
Приведем несколько конкретных примеров. В 467 г. до н. э. Эс¬
хил поставил тетралогию «Фиваида». Из нее сохранилась трагедия
«Семеро против Фив», которая, как мы уже видели, несомненно,
содержала политические реминисценции (Амфиарай как мифологи¬
176
Лёюцн
ческий «прототип» Аристида). Выдвигалась весьма импонирующая
нам гипотеза (Post, 1950), согласно которой образ Этеокла — главно¬
го героя драмы — должен был восприниматься как «мифологическая
проекция» Перикла. Этеокл, сын Эдипа, обременен родовым про¬
клятием, но это не мешает ему быть способным главой государства,
хорошим полководцем, эффективно выполнять свои функции.
Предпринимались также попытки конкретно-политической ин¬
терпретации эсхиловского «Прометея». Впрочем, здесь перед нами
вопрос более сложный, поскольку нет полной уверенности в принад¬
лежности «Прометея прикованного» именно Эсхилу, слишком уж
велико стилистическое отличие этой трагедии от остальных дошед¬
ших произведений интересующего нас автора.
Переходим к более бесспорным случаям. Трагедия «Проситель¬
ницы» ранее считалась одним из самых ранних произведений Эс¬
хила. Но после находки в 1950-х гг. папирусного отрывка, сообща¬
ющего о постановке этой драмы, устоявшееся мнение пришлось
изменить. Выяснилось, что «Просительницы» относятся к 460-м гг.
до н. э. и с наибольшей вероятностью может быть датирована 463 г.
Таким образом, перед нами, напротив, одна из поздних эсхиловских
трагедий. Она была написана и поставлена в период активизиро¬
вавшегося в Афинах демократического дискурса. И в ее тематике,
соответственно, весьма важное место занимают проблемы демокра¬
тии. Правда, самого слова «демократия» мы в тексте «Проситель¬
ниц» еще не встречаем. Однако эта трагедия — едва ли не первый
античный литературный памятник, в котором рядом друг с другом,
в едином и взаимосвязанном контексте стоят корни dem- и krat-. От¬
ветственность властей перед народом, моральный долг помощи сла¬
бым и обиженным — эти темы, очень актуально звучавшие в Афинах
460-х гг. до н. э., красной нитью проходят через всю драму.
В «Просительницах» речь, на первый взгляд, идет о событиях
совсем уж далеких времен (задолго до Троянской войны), к то¬
му же происходящих в Аргосе. Однако темы, поднимаемые в этом
произведении, были, как видим, насущными отнюдь не для Аргоса
ахейской эпохи, а для раннеклассических Афин. Вспомним о «прин¬
ципе актуальности»: независимо от того, где происходило действие
аттических трагедий (будь то Микены, Фивы или Аргос, как в «Про¬
сительницах»), их авторы всегда имели в виду афинские реалии со¬
временной им эпохи. Это положение можно было бы проиллюстрг
Urna ft Классическая греческая драма в политическом контексте
177
ровать большим количеством примеров. Но достаточно вспомнить,
что сцена чумы в Фивах, которой открывается «Эдип-царь» Софок¬
ла, представляет собой прямую реминисценцию афинской эпидемии
в начале Пелопоннесской войны, а, скажем, описанные в «Оресте»
Еврипида дебаты в аргосском народном собрании выглядят не чем
иным, как живой картинкой заседания афинской экклесии (Еври¬
пид, Орест. 866 слл.). Подчеркнем: и «Просительницы» Эсхила,
строго говоря, не имеют прямого отношения к Аргосу, хотя их дей¬
ствие вроде бы и развертывается в этом городе. Под ахейским Арго¬
сом всегда нужно понимать Афины первой половины V в. до н. э.
Позиция Эсхила в «Просительницах» представляется весьма
однозначной: он выступает решительным сторонником демократии.
«Просительницы», если вчитаться в них внимательно, оказываются
развернутым панегириком народовластию. И это вполне закономер¬
но в свете того, что было сказано о близости Эсхила к Периклу. Ведь
как раз группировка Эфиальта и Перикла в борьбе с Кимоном гото¬
вила в это время демократические преобразования.
Кстати, Перикл уже тогда, во второй половине 460-х гг. до н. э.,
занимал в полисе, несмотря на свою молодость, весьма видное по¬
ложение, более видное, чем обычно полагают. Нам уже приходилось
высказывать предположение, что и в «Просительницах» Эсхила его
личность тоже отразилась в мифологическом преломлении, а имен¬
но в фигуре царя Аргоса Пеласга.
Наконец, переходим к лучшему творению Эсхила — трилогии
«Орестея», в которой нас больше всего будет интересовать трагедия
«Евмениды». В наличии в этом произведении четко выраженных
конкретно-политических ассоциаций не сомневается, кажется, ник¬
то. «Орестея» была поставлена вскоре после известной демократи¬
ческой реформы Эфиальта, в ходе которой древний совет Ареопага
был лишен ряда своих полномочий. И отнюдь не удивительно, что
Ареопаг становится, по сути дела, одним из главных героев «Евме-
нид». Действие трагедии развертывается в легендарные времена,
в числе персонажей, как и положено, мифические герои и боги.
Ареопаг тем не менее предстает тем самым Ареопагом, который был
столь знаком зрительской аудитории Эсхила. Связать прошлое с
настоящим в единую цепь, актуализировать прошлое, использовать
его как обоснование тех или иных вполне современных шагов — та¬
кова одна из главных задач драматурга.
178
Ашт
Огромная литература, существующая по рассматриваемому воп¬
росу, исчерпывает, похоже, всю совокупность возможных точек
зрения: Эсхил предстает перед нами и как убежденный противник
реформы Ареопага, и как ее ревностный сторонник. Существует
компромиссная точка зрения: Эсхил принимал преобразование Аре¬
опага, но не во всем. Высказывалось и мнение, что точную позицию
драматурга в «Евменидах» определить ныне не представляется воз¬
можным, а порой осуждались и сами попытки искать в художествен¬
ном произведении непосредственную политическую тенденцию.
Нам, однако, представляется, что такие попытки вполне имеют
право на существование. Подчеркнем, что помимо субъективной
позиции Эсхила нас не в меньшей мере интересует объективная по¬
зиция его аудитории. Поставленная в 458 г. до н. э. «Орестея» заво¬
евала первый приз. А это верный симптом того, что в данном случае
две позиции совпали: драматург смог адекватно выразить общее
умонастроение афинского гражданства по поводу рассматриваемых
событий.
Справедливо отмечалось, что известный панегирик Ареопагу,
вложенный Эсхилом в уста Афины (Евмениды. 681-710), может
быть при желании истолкован и как одобрение, и как порицание
реформы Эфиальта. Все зависит от того, какой Ареопаг имеется
в виду — дореформенный или уже преобразованный. В пользу как
того, так и другого мнения приводились достаточно убедительные,
но в равной степени небесспорные аргументы. Последнее наводит на
мысль, что ответ нужно искать в несколько иной плоскости. Важнее,
может быть, не скрупулезный текстологический анализ «Евменид»
(такой анализ в любом случае даст амбивалентные результаты),
а более широкий и пристальный обзор контекста. Немаловажно,
в частности, то, что мы знаем о личности и политических симпатиях
Эсхила.
А по данному вопросу, как мы уже отмечали, говорить можно
с наибольшей степенью вероятности о близости драматурга к Пе¬
риклу, которая давала о себе знать в конце 470-х и на всем протя¬
жении 460-х гг. до н. э. И вряд ли будет верным предположение, что
к 458 г. до н. э. отношение Эсхила к Периклу изменилось, — в пользу
этого нет никаких данных.
Как проперикловская, «алкмеонидофильская» позиция
проявиться в «Евменидах»? Давно уже указывалось, что в
£
Тема V. Классическая греческая драма в политическом контексте
179
присутствует ряд реминисценций, связанных с историей «осквер¬
ненного» рода Алкмеонидов. Французский исследователь А. Плас-
сар (Plassart, 1940) очень убедительно продемонстрировал, что на¬
чало трагедии представляет собой экфразу восточного фронтона
дельфийского храма Аполлона (Евмениды. 1-33); последний был,
как известно, возведен Алкмеонидами. В этом изначально заданном
контексте афинские зрители должны были воспринимать и дальней¬
шее развитие сюжета драмы, в частности, ассоциируя «скверну» ма¬
тереубийцы Ореста со «скверной» Перикла, потомка Алкмеонидов.
В трагедии отмечается, что Орест уже получил ритуальное очище¬
ние в Дельфах и не является с тех пор формально «оскверненным»
(Евмениды. 443-445). Это также прямой намек на Алкмеонидов, по¬
лучивших в начале VI в. до н. э. аналогичное очищение. Оправдание
Ореста Ареопагом, таким образом, косвенно служило оправданию
Перикла в общественном мнении. Неслучаен и пассаж о большей
«ценности» отца по сравнению с матерью, о малой важности мате¬
ринского начала в человеке (Евмениды. 657-666). Это знаменитое
место, со времен Бахофена и Энгельса трактуемое как отражение
борьбы патриархального и матриархального начал, может получить
вполне конкретную политическую интерпретацию: Перикл был при¬
частен к «скверне» Алкмеонидов именно по матери!
Учитывая прямое отношение Перикла к реформе Ареопага, дан¬
ный памятник представляется достаточно весомым свидетельством
позитивного отношения к политической линии Эфиальта — Перик¬
ла. Эсхил принимает реформу и в то же время прославляет Ареопаг
в его новом качестве — как судебный орган. В этом нет никакого про¬
тиворечия, если признать, что реформа, снимая с Ареопага чисто по¬
литические функции, в то же время способствовала укреплению его
религиозного, морального, судебно-правового престижа: именно эти
стороны деятельности ареопагитов в панегирике Эсхила выдвинуты
на первый план. Становится понятной и высокая оценка «Орестеи»
афинянами, присудившими ей победу: чаяния Эсхила оказались со¬
звучными настроениям демоса, удовлетворенного восстановлением
традиционного облика древнего учреждения, подобного которому,
по словам драматурга, не существовало «нигде ни в скифах, ни в зем¬
ле Пелоповой» (Евмениды. 706).
В произведениях трагического жанра встречаются реминисцен¬
ции не только внутриполитического, но и внешнеполитического
180
характера, опять же облеченные в мифологические образы. Эта про¬
блематика также была весьма актуальной для классической афин¬
ской драмы. Установлено со всей возможной однозначностью, что в
«Евменидах» содержится живой отклик на заключение союза Афин
с Аргосом. Весьма возможно, что аллюзии на подготовку этого сою¬
за, заключенного в 461 г. до н. э., имеют место и в поставленных чуть
раньше «Просительницах». Еще одной внешнеполитической темой,
несомненно, поднимаемой в «Просительницах», была тема военной
помощи восставшему против персидского владычества Египту. Та¬
ким образом, и в области межгосударственных отношений Эсхил
выступал как союзник Перикла и демократической группировки.
Именно эта последняя стояла в Афинах у власти, когда афиняне от¬
правили экспедицию в Египет и сблизились с Аргосом. Естественно,
все эти проблемы в памятниках трагического жанра преломлялись
сквозь причудливую призму мифологического повествования, но
и в таком виде, бесспорно, были вполне понятны зрительской ауди¬
тории Эсхила.
Творчество младшего современника Эсхила — Софокла — тоже
может быть рассмотрено с точки зрения «принципа актуальности».
Этот поэт, кстати, помимо занятий «чистым искусством», играл
также и видную роль в общественно-политической жизни афин¬
ского полиса второй половины V в. до н. э. В частности, по автори¬
тетному свидетельству традиции (Aristoph. Byz. Hypoth. Sophocl.
Antig.), после громкого успеха его трагедии «Антигона», поставлен¬
ной в 442 г. до н. э., он был даже избран стратегом. Можно сколько
угодно иронизировать над афинянами, сделавшими драматурга
военачальником. Однако если отрешиться от столь поверхностно¬
го подхода и посмотреть глубже, данный факт окажется прекрас¬
ным символом глубинной связи театра и политики, шире — театра
и полиса. Это опять же вполне закономерно. Для полисного типа
общества характерна, как справедливо отметил О. Меррей, опре¬
деленная «тотальность», сконцентрированность всех сфер бытия
вокруг политического «стержня» (Murray, 1991). Можно сказать, что
и драма, и историография в конечном счете были политическими
жанрами.
Софокл был одним из 10 стратегов в период подавления Самос¬
ского восстания 440-439 гг. до н. э., вместе с Периклом. Зачастую
в этом видят лишь курьез: афиняне, дескать, поставили полководца
Тема У. Классическая греческая драма е политическом контексте
181
поэта, ничего не смыслившего в военном деле, только за то, что им
понравилась его трагедия «Антигона». Однако был ли афинский де¬
мос настолько безрассуден? Вряд ли. Операция против Самоса была
очень ответственной, и случайным людям ее, конечно, не поручили
бы. Главное, однако, заключается в том, что это была не единствен¬
ная стратегия Софокла. Источники (Плутарх. Никий. 15; Аноним.
Жизнеописание Софокла. 9) сообщают как минимум еще об одной,
имевшей место уже после смерти Перикла (428 г. до н. э.). Повторное
избрание стратегом быть случайностью уже никак не могло. Судя по
всему, сограждане признавали за Софоклом военные (а может быть,
дипломатические?) дарования. Характерно, что на этот раз его снова
направили в тот же регион, что и в первую известную нам его стра¬
тегию, вероятно, полагая, что он уже приобрел достаточный опыт
в ионийских делах.
Еще раньше, в 443 г. до н. э., Софокл возглавлял коллегию эл-
линотамиев, ведавшую казной Афинской архэ (IG. I2. 202). Эту
магистратуру также следует считать весьма важной; к тому же она,
как и должность стратега, замещалась не по жребию, а голосовани¬
ем. Повторим: трудно представить, что афиняне не раз избирали на
столь ответственные должности человека, в компетентности кото¬
рого они не были бы уверены. Наконец, в 413 г. до н. э. Софокл был
избран членом коллегии пробулов (Аристотель. Риторика. 1419а25).
Эта экстраординарная коллегия в составе 10 человек была создана
после поражения Сицилийской экспедиции афинян и на два года
стала фактически высшим органом власти в полисе. В состав колле¬
гии пробулов были включены, не приходится сомневаться, автори¬
тетнейшие из граждан, и то, что среди них оказался Софокл, вряд ли
может быть простой случайностью.
В связи с общественной деятельностью Софокла интересен воп¬
рос о его политической позиции. По распространенному мнению,
Софокл примыкал к кружку Перикла. Однако это мнение нуждается
в радикальном пересмотре. Следует подчеркнуть со всей возможной
категоричностью: этот драматург никогда не был близок к Перик¬
лу, напротив, находился с ним, скорее, в напряженных отношени¬
ях. В частности, в плане мировоззренческих установок Софокл и
Перикл были, по сути дела, антиподами, как убедительно показал
В. Эренберг (Ehrenberg, 1956). Чуть ниже будет сказано о том, что
самая знаменитая трагедия Софокла «Эдип-царь», написанная
182
Лещи
и поставленная в начале Пелопоннесской войны, содержала импли¬
цитную критику Перикла.
На чем же основана аберрация, сближающая Перикла и Софок¬
ла? Называя вещи своими именами — на одном-единственном фак¬
те: оба они одновременно были стратегами в 440-439 гг. до н. э. при
подавлении восстания на Самосе. Однако это обстоятельство ни
в коей мере не может служить доказательством дружбы между ними.
Неоднократно вместе с Периклом становился стратегом афинский
политик Гагнон (отец Ферамена), а между тем он, несомненно, был
противником Перикла и в конце жизни последнего даже ратовал за
судебный процесс над ним (Плутарх. Перикл. 32). Интересно, что
в 413 г. до н. э. Гагнон, как и Софокл, был избран членом коллегии
пробулов. Кстати, сам Перикл, насколько можно судить, тоже не
очень-то благоволил к Софоклу и однажды во время Самосской
кампании публично сделал ему строгое замечание (Плутарх. Пе¬
рикл. 8).
Итак, «Софокл и Перикл» — в корне неверная перспектива. А вот
«Софокл и Кимон» — верная. Хорошо известно, что в начале своей
творческой деятельности, пришедшейся на 460-е гг. до н. э., молодой
трагедиограф пользовался покровительством и поддержкой Кимо-
на, тогдашнего лидера Афин. Особенно показателен эпизод, имев¬
ший место в 468 г. до н. э. и донесенный до нас Плутархом: «Софокл,
тогда еще юноша, ставил свою первую пьесу, и архонт Апсефион,
заметив несогласия и споры между зрителями, не стал бросать жре¬
бий для избрания судей, но когда Кимон, войдя в театр со своими
сотоварищами-стратегами, совершил установленные возлияния
богу, остановил их и, приведя к присяге, заставил сесть и судить со¬
стязание — всех десятерых, так что каждый оказался представителем
одной из фил (...) Победил Софокл, а Эсхил, опечаленный и удру¬
ченный... с досады уехал в Сицилию» (Кимон. 8).
В этом интереснейшем рассказе несколько нюансов привлекают
особое внимание. Во-первых, сразу бросается в глаза, каким колос¬
сальным авторитетом пользовался Кимон в Афинах в рассматрива¬
емый здесь период: ради него сограждане даже сочли возможным
отступить от устоявшегося способа избрания судей для состязаний
драматургов. Во-вторых, создается впечатление, что в данном случае
(как и нередко в афинской истории) событие, относящееся, казалось
бы, всецело к сфере культуры (постановка трагедий на Велике*
кма V, Классическая греческая драма е политическом контексте
183
Дионисиях), послужило ходом в политической борьбе. Софокл, на¬
чинающий автор, благодаря Кимону победил не кого-нибудь, а про¬
славленного Эсхила, до того долгие годы безраздельно царившего
на театральной сцене. Для уяснения политических импликаций
этого факта необходимо напомнить, что Эсхил являлся сторонни¬
ком Перикла, поддерживал его линию в общественной жизни. Пути
трагедии и пути политики в демократических Афинах V в. до н. э.
шли бок о бок, как мы снова и снова убеждаемся. Здесь перед нами
очередной случай их прямого соприкосновения, кстати, свидетель¬
ствующий помимо прочего о том, что Перикл уже в 460-х гг. до н. э.
был серьезной политической фигурой, которую даже Кимону при¬
ходилось принимать в расчет, нанося «упреждающие удары» — пока
таким вот косвенным образом.
Насколько можно судить, и впоследствии Софокл не сменил
позиции и не перешел в «кружок Перикла», хоть это иногда и посту¬
лируется. Уже само участие этого драматурга в коллегии пробулов
вполне однозначно демонстрирует, к какому политическому лагерю
он примыкал. Деятельность пробулов была одним из факторов,
приведших к временной ликвидации афинской демократии и уста¬
новлению олигархии Четырехсот. В антидемократическом перево¬
роте Софокл принимал участие если не конкретными делами, то,
во всяком случае, поддержал его своим авторитетом. Судя по всему,
в политике, как и в сфере религиозно-философской мысли, он был
консерватором и традиционалистом.
Как отразилась политическая проблематика в произведениях
Софокла? Самой злободневной, особенно тесно связывавшей ми¬
фологическую историю и современность, была знаменитейшая из
его трагедий — «Эдип-царь», написанная, по наиболее вероятной
датировке, около 429 г. до н. э., в начале Пелопоннесской войны, как
раз в то самое время, когда Аттика страдала от чумы, а многолетний
лидер государства Перикл попал в опалу. Не будет преувеличением
сказать, что одной из ключевых в названной драме является «тема
Перикла». Даже пока не затрагивая вопрос о том, сочувствует ли
Софокл Периклу или же, напротив, осуждает его, необходимо от¬
ветить, что софокловский Эдип — это в известной мере именно Пе¬
рикл. В ином виде, кроме как в облике мифологического прототипа,
реальный политик и не мог быть выведен на трагическую сцену. Но,
Повторим еще раз, для зрителей и эта форма была вполне понятной.
184
Лекции
Творчеству Софокла, как и Эсхила, отнюдь не чуждо было обра¬
щение в драмах к политическим событиям. Вполне резонной поэто¬
му представляется попытка обнаружить в «Эдипе» отклик на обще¬
известные перипетии времени, в которое трагедия была поставлена.
Софокл пошел по тому же пути, что и Эсхил в «Евменидах»,
уже в первых строках драмы задавая контекст, вызывающий вполне
определенные ассоциации. Описание чумы в Фивах является оче¬
видной параллелью афинской эпидемии (Эдип-царь. 1-30); в этих
условиях Эдип в сознании зрителей должен был практически не¬
избежно ассоциироваться с Периклом. Это отождествление затем
подкрепляется обращением жреца к Эдипу: andron protos («первый
из людей»); ср. protos апег («первый человек, первый гражданин»)
(Эдип-царь. 33) — так античные авторы (например: Фукидид. Исто¬
рия. 1.139. 4) обычно характеризуют положение Перикла в Афинах.
Связь чумы с родовым проклятием Эдипа рождает аллюзию на
«скверну» Алкмеонидов даже у исследователей XX в. (Wilamowitz-
Moellendorff 11,1959, Bd. 1. S. 293; Vemant, Vidal-Naquet, 1981-1986,
vol. l.P. 117etal.).
В дальнейшем цепь ассоциаций продолжается. Эдип в изобра¬
жении Софокла предстает просвещенным правителем, рациона¬
листически подходящим к религиозным вопросам, в частности,
неоднократно высказывающим сомнение в истинности вещаний
Дельфийского оракула (Эдип-царь. 387 слл., 964 слл.). Кстати, само
введение дельфийской темы напоминает о роли и позиции Дельфов
в начале Пелопоннесской войны (оракул однозначно поддержал
Спарту). Во многих чертах интеллектуально одаренной, рассуди¬
тельной, красноречивой Иокасты видится Аспасия. Финал драмы -
крушение всех планов и надежд Эдипа, его вынужденное признание
правоты Дельфийского оракула (Эдип-царь. 1182) — вызывает в
памяти тяжелую предсмертную болезнь Перикла, кончину его де¬
тей, опалу, духовный кризис в конце жизни. На лексическом уровне
Софоклом по отношению к Эдипу очень часто употребляются слова,
связанные со «скверной», которые в начале Пелопоннесской войны
направлялись противниками Перикла по его адресу.
Ученый-филолог XIX в. Дж. Магаффи (Магаффи, 1882. С. 272)
даже отрицал датировку «Эдипа-царя» первыми годами ПелопоН'
несской войны, считая, что в таком случае это была бы проспарпш-
ская, антиафинская и антиперикловская драма. Действительно,
Тема К Классическая греческая драма в политическом контекстt
185
такая направленность выглядит довольно странно, если считать
Софокла членом «кружка Перикла». Но выше мы уже отмечали, что
Перикл и Софокл были представителями разных, а то и противо¬
положных мировоззрений. По политическим убеждениям Софокл,
скорее всего, являлся приверженцем «правления лучших», не ис¬
ключено, что и лаконофилом; об этом говорят и его близость к Ки¬
мону, и его участие в коллегии пробулов и установлении олигархии
Четырехсот. В религиозной же области для Софокла характерна
недвусмысленно продельфийская ориентация. Несмотря на прямую
враждебность к Афинам со стороны Дельфов, в обстановке распро¬
странившегося в среде афинян скептицизма и индифферентности по
отношению к прорицаниям и мантике вообще (Фукидид. История.
II. 17.1; V. 103.2; VIII. 1.1), драматург занял позицию полного при¬
ятия и почтения к оракулу Аполлона. В трех из четырех дошедших
до нас его трагедий периода Пелопоннесской войны («Эдип-царь»,
«Электра», «Эдип в Колоне») важнейшую роль играют именно
дельфийские прорицания. Ф. Ф. Зелинский относил к продельфий-
ским также дошедшие во фрагментах трагедии Софокла «Гермиона»
и «Креуса» (Zielinski, 1923). В этих условиях позиция поэта понево¬
ле становилась не только религиозной, но и политической. В свете
вышесказанного не кажется столь необычной направленность ана¬
лизируемых аллюзий в «Эдипе-царе». Направленность эта явно не
в пользу Перикла.
Вполне оправдан поиск политической проблематики — как об¬
щей, так и конкретной — и в других трагедиях Софокла. Это поле,
которое еще ждет своего исследователя. Так, в одной из ранних драм
Софокла — «Аякс» (ок. 447 г. до н. э.), возможно, отразились некото¬
рые перипетии последних лет жизни Кимона. В трагедии «Филок¬
тет» (409 г. до н. э.), как нам представляется, находим практически
несомненный отклик на судьбу Алкивиада, который незадолго до
того вновь перешел на сторону Афин.
Наконец, Еврипид тоже вполне может быть назван политическим
(в греческом смысле — историческим) драматургом (он и в целом
был автором особенно отзывчивым на интеллектуальные веяния
его эпохи). Целый ряд его трагедий, написанных в период войны со
Спартой («Гераклиды», «Просительницы», «Троянки», «Елена»),
могут быть полностью и правильно поняты только в политико-ис¬
торическом контексте. И в высшей степени интересно наблюдать
186
Аекцаа
за тем, как по мере тех или иных перемен в ходе военных действий
меняется и позиция автора: то ему свойственны жгучий патриотизм
и стремление сражаться «до победного конца», то он переходит
(после крупного поражения афинян на Сицилии) к мягкой, прими¬
ренческой линии. Чего стоит хотя бы один выбор проспартанской
версии мифа в «Елене»!
Итак, даже малая толика материала, приведенная нами в огра¬
ниченных рамках данного издания (круг примеров можно было бы
значительно расширить), демонстрирует ценность аттической траге¬
дии как источника по истории политической борьбы в классических
Афинах. Использование этих текстов (безусловно, со всеми необхо¬
димыми мерами предосторожности, во всеоружии филологической
подготовки и с максимально возможным учетом исторического кон¬
текста) могло бы положить начало интересному и перспективному
направлению в изучении античной Греции.
Тема VI
Монетное дело Афин в политическом
и экономическом контекстах
Лекция 12. Проблемы афинской монетной чеканки
и монетной политики архаической и классической эпох
Данная тема тоже лежит на стыке истории как таковой и источнико¬
ведения, а кроме того, является междисциплинарной. Казалось бы,
вряд ли стоит даже говорить о том, что монеты — ценнейший источ¬
ник по самым различным сторонам античной греческой истории: это
общепризнано. И тем не менее лишний раз напомнить «прописную
истину» не помешает. Дело в том, что, как нам представляется, исто¬
риками, особенно представителями отечественного антиковедения,
весь источниковый потенциал нумизматических памятников еще не
оценен в полной мере.
Вероятно, такое положение дел имеет и объективные причины.
Античная нумизматика — дисциплина специализированная, давно
и успешно развивающаяся, пользующаяся собственными методика¬
ми. Как и во всякой научной дисциплине, в ней периодически рож¬
даются новые идеи, порой по-настоящему революционные, влеку¬
Тема VI, Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
187
щие за собой радикальное изменение взгляда на те или иные общие,
достаточно важные проблемы. Какие-то из этих идей оказываются
верными, какие-то, напротив, после дискуссий в кругу специалис¬
тов опровергаются, не выдерживают проверку временем. Порой это
происходит не сразу, а лишь через несколько десятилетий, и спорная
гипотеза некоторое время циркулирует в литературе, даже находит
себе сторонников.
Историку, не имеющему специальной компетенции в данной
области знаний, обычно бывает чрезвычайно трудно разобраться
в этих дискуссиях нумизматов, определить, кто прав, отделить, так
сказать, зерна от плевел. Нелегко дать корректную оценку тому
или иному тезису, выдвигающемуся в нумизматических работах,
отвергнуть ложные мысли. И особенно нелегко проследить с макси¬
мальной детальностью все исторические импликации той или иной,
казалось бы, чисто нумизматической концепции.
Историки, как правило, не исследуют непосредственно сами
монеты. Они опираются на труды нумизматов и порой чрезмерно
доверяют прочитанному, не зная, например, что данная точка зрения
уже подвергнута справедливой критике. Зачастую историки лишь
с большим опозданием оказываются осведомлены о серьезных из¬
менениях общепринятых мнений в нумизматической литературе
и тиражируют устаревшие положения (впрочем, отметим справед¬
ливости ради, что точно так же верно и обратное суждение: часто
случается, что нумизматы в своих трактовках опираются на уста¬
ревшие тезисы историков). С подобной несогласованностью нужно,
конечно, бороться самым решительным образом; представители
смежных дисциплин должны работать «рука об руку», только так
они добьются наилучших результатов.
Приведем несколько примеров, призванных продемонстриро¬
вать отмеченный выше «диссонанс». В свое время одной из самых
*йвестных работ по афинской нумизматике была книга Ч. Селтмана
«Афины, их история и чеканка до персидского нашествия», вышед¬
шая в 1924 г. (Seltman, 1924). К сожалению, она и доныне остается
Последним по времени специальным монографическим исследова¬
нием раннего монетного дела Афин. К сожалению — не потому, что
*Иига сама по себе плоха (это не так, и для своей эпохи она была зна¬
чительным шагом вперед), а потому, что на сегодняшний день очень
Многие ее принципиальные положения следует признать вполне
188
Леиую
устаревшими. Они опровергались начиная с 1950-х — 1960-х гг. ря¬
дом выдающихся специалистов по нумизматике античности (глав¬
ную роль здесь сыграли К. Крээй, Дж. Кролл и др.: Кгаау, 1956,1962,
1976, 1989; Kroll, 1981, 1993). Но их критика концепций Селтмана
изложена в основном в статьях, публиковавшихся в нумизматиче¬
ской периодике, которую многие историки вообще читают редко.
В результате в ряде российских антиковедческих работ к мнению
Селтмана и по сей день апеллируют как к последнему слову в науке,
как к чему-то неопровержимо доказанному. Такие случаи известны
нам в историографии 1990-х и даже 2000-х гг. (в частности, в недав¬
ней монографии Т. В. Блаватской (Блаватская, 2003), общая оценка
которой была дана нами выше, в связи с архаической эпохой древне¬
греческой истории). Это в высшей степени прискорбно, более того,
просто недопустимо.
Самая слабая сторона построений Селтмана, вызвавшая впо¬
следствии наибольшее количество нареканий, — это его хронологи¬
ческие выкладки, датировки конкретных ранних афинских монет¬
ных выпусков. Впрочем, здесь не в чем винить лично этого автора.
Позиции, на которых он стоял, отражали представления, характер¬
ные для определенного этапа развития научных знаний о древне¬
греческом монетном деле. Этот этап на сегодняшний день можно
считать давно пройденным, он стал даже не вчерашним, а, пожалуй,
уже позавчерашним днем. Нумизматическая наука ушла с тех пор
далеко вперед. Некоторые отечественные историки-антиковеды об
этом даже и не догадываются.
Селтман, как и все его современники, считал, что монета в Афи¬
нах начала чеканиться уже во времена Солона, а этот великий зако¬
нодатель реформировал монетное дело (Селтман, 1924). Повторим
и подчеркнем: ему было вполне позволительно так считать. Анало¬
гичный взгляд мы встречаем даже в великолепной книге А. Н. Зог-
рафа «Античные монеты» (Зограф, 1951), которая и по сей день
остается эталонной, а на момент своего написания была по уровню
научного подхода значительно выше, чем любая западная нумизма¬
тическая работа тех лет.
Но уж совершенно непростительно, когда и ныне в том или ином
труде по афинской истории мы встречаем разного рода утверждения
о досолоновской и солоновской афинской чеканке. Это бывает уж
слишком часто. И авторы тем самым расписываются в незнании
Тема VI, Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
189
того абсолютно надежно доказанного ныне факта, что никаких монет
в Афинах при Солоне еще не чеканилось. Они начали чеканиться на
несколько десятилетий позже, в правление династии тиранов Пи-
систратидов.
Этот нумизматический факт как раз относится к тем, которые
имеют исключительно важные последствия для собственно исто¬
рической проблематики. С его учетом должны подвергнуться серь¬
езному пересмотру традиционные интерпретации экономических
реформ Солона. Раньше их трактовали с точки зрения наличия де¬
нежного хозяйства в афинском полисе в начале VI в. до н. э. Но коль
скоро такового не было, ныне о деятельности великого законодателя
просто нельзя писать так, как писали еще несколько десятилетий
назад; насущно необходимым становится поиск новых решений.
Однако как же быть с тем, что достаточно ранние и достоверные
античные авторы (Андротион, Аристотель) приписывают Солону,
наряду с реформой мер и весов, также реформу монетного стан¬
дарта? И более того, как быть с тем, что в аутентичных законах
Солона упоминаются драхмы? Указывается, например, что эти за¬
коны приравнивали 1 драхму к стоимости овцы или медимна зерна,
5 драхм — к стоимости быка (Плутарх. Солон. 23, со ссылкой на Де¬
метрия Фалерского). Причем здесь явно имеется в виду не исконное
пелопоннесское значение драхмы как связки металлических спиц-
оболов. В Афинах эти средства платежа, насколько можно судить, не
ходили, во всяком случае, сведений об этом нет.
Так что же, информация о деньгах в Афинах при Солоне пред¬
ставляет собой анахронизм и не заслуживает доверия? Но, на наш
взгляд, такое суждение тоже было бы неправомерным. Наиболее
перспективным путем разрешения имеющегося противоречия пред¬
ставляется следующий.
Методологически неверно отождествлять отсутствие чеканной
монеты с отсутствием денег как таковых. До введения чеканки четко
фиксируется стадия домонетных денег. При этом подчеркнем: речь
идет не о протоденьгах типа голов скота (применявшихся для оценки
богатства уже в гомеровском эпосе) или медимнов зерна, а о самых
настоящих деньгах, просто не имевших еще привычной нам монет¬
ной формы. Прекрасно известно, что в Пелопоннесе в этом качестве
употреблялись стандартизованные металлические спицы (оболы).
По весьма убедительному предположению ряда исследователей
190
Лекцдд
(Зограф, 1951; Kroll, 1998; Kroll, Waggoner, 1984; Furtwängler, 1986;
Ruschenbusch, 1994 et al.), ту же функцию могли выполнять нече-
каненные слиточки серебра. Особенно велика возможность такого
положения дел именно в Аттике, где, как известно, серебро добыва¬
лось в весьма значительном по греческим меркам количестве. Такие
слиточки имели фиксированный вес и отличались от «настоящих»
монет, в сущности, только отсутствием клейма государства. С ними
были полноценно возможны любые операции, которые позже были
возможны с монетами. Несомненно, именно эти домонетные деньги
имел в виду Солон в своих законах, упоминая драхмы и т. п.
В связи со сказанным, кстати, неизбежен вопрос о причинах и це¬
лях введения чеканной монеты в Афинах в частности и в греческих
полисах в целом. Традиционно делается упор на чисто экономи¬
ческий и даже коммерческий фактор, считается, что побуждающим
мотивом к началу чеканки послужило развитие мелкой розничной
торговли. Это неверно. Нам представляется верной та точка зрения,
согласно которой учреждение монетного дела было в значительно
большей степени экономической, нежели политической мерой. При¬
ведем ряд аргументов в поддержку своей позиции.
Прежде всего, собственно говоря, экономика как таковая, и толь¬
ко она вполне могла обходиться нечеканенными (но уже стандарти¬
зованными по весу) домонетными деньгами, о которых шла речь вы¬
ше. Подчеркнем, они представляли собой отнюдь не какой-нибудь
эрзац, а полноценные деньги, только без полисных эмблем.
Далее вопрос о функциях ранних монет вообще значительно
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Исторически пер¬
вые чеканки — это электровые чеканки Лидии и ионийских поли¬
сов. Но использованию монет этих выпусков в розничной торговле
должен был серьезно препятствовать факт отсутствия в них мелких
фракций.
Правда, на это иногда возражают, что мелкие фракции все-таки
существовали. В ранней электровой чеканке Ионии известны мо¬
неты весом до 1/96 статера, основной денежной единицы. Однако
здесь нужно отдавать себе отчет в том, что в рамках электровой
чеканки вообще были невозможны номиналы, стоимость которых
была бы действительно малой. Дело в том, что электр — весьма до¬
рогой металл. Он соотносился с серебром в среднем как 10:1. Ины¬
ми словами, даже самая мелкая электровая монета в 1/96 статера
Тема VL Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
191
соответствовала примерно 0,2 серебряной драхмы, или чуть больше
обола. А на серебряную драхму на рубеже VII-VI вв. до н. э. в Афи¬
нах, например, можно было купить, как мы видели, медимн (ок. 52
литров) зерна или овцу, на 5 драхм — быка. Какая уж тут «мелкая
розничная торговля»! Для этой последней даже в классическую эпо¬
ху, когда цены на товары многократно повысились, использовались
номиналы стоимостью ниже обола (гемиобол, тетартеморий, гемите-
тартеморий).
Выдающийся социолог и историк экономики М. Вебер совер¬
шенно справедливо отмечает, что по своей первоначальной функции
деньги были не средством обмена (торговли), а средством платежа.
«В этой стадии деньги не являются орудием обмена» (Вебер, 2001.
С. 223). На определенной стадии появляются отношения или ус¬
луги, не основывающиеся на обмене, но все же требующие наличия
платежных средств. В качестве примеров таких ситуаций Вебер при¬
водит со стороны населения необходимость выплат дани и подар¬
ков правителю, штрафов, выплаты в области семейных отношений
(выкуп за жену, приданое). К греческим реалиям все эти ситуации
имеют самое непосредственное отношение. Платежи должны были
вноситься, безусловно, установленными и общепринятыми платеж¬
ными средствами. Со стороны же властей возникала потребность
в средстве платежа для того, чтобы давать дары дружине, из чего
выросла практика жалованья, оплаты услуг наемных войск. В даль¬
нейшем важной функцией денег стало накопление казны.
Можно со значительной долей уверенности утверждать, что мо¬
нета появляется в Лидии, а затем в Греции именно в связи с необ¬
ходимостью фиксированных и единообразных выплат. В частности,
важную роль должна была играть именно плата воинам-наемникам.
Лидийские цари архаической эпохи активно привлекали на свою
i службу греческие наемные войска. А чеканка государственного сим¬
вола на монетах служила как бы заверением подтвержденного госу¬
дарством фиксированного веса и, соответственно, фиксированной
стоимости. В дальнейшем монета, естественно, использовалась для
торговли, и чем дальше, тем больше. Но это была ее вторичная, не
изначальная функция, что надо учитывать.
Вебер отмечает, что на данной стадии развития денег следует го¬
ворить о «деньгах внутреннего обращения» (Вебер, 2001. С. 223). На
этом остановимся подробнее, поскольку среди историков античной
192
Лекции
экономики есть наряду с концепцией «мелкой розничной торговли»
и другая концепция причин введения монеты. Если ранние моне¬
ты ввиду отсутствия малых номиналов не могли использоваться
для мелких внутренних торговых операций, стало быть, они ис¬
пользовались для крупной международной торговли — так можно
сформулировать эту точку зрения. Однако и она неверна. Приведем
в данной связи некоторые выкладки из книги «Греция в процессе
формирования» Р. Осборна — одним из тех историков-антиковедов,
которым хорошо знакома нумизматическая проблематика (Osborne,
1996).
Осборн поставил в сочетании друг с другом несколько важных
вопросов. Во-первых, почему практически сразу же с началом мо¬
нетной чеканки на лицевой стороне монет начинают появляться
типы, маркирующие полис? Во-вторых, почему для этой ранней
чеканки использовался электр? Ведь этот природный сплав серебра
и золота обладает очевидным недостатком: в нем очень сильно ко¬
леблется процентное соотношение двух металлов, что, естественно,
не может не влиять на реальную ценность. А точно установить это
соотношение для той или иной конкретной монеты было невозмож¬
но вплоть до эпохи эллинизма, до открытия закона Архимеда. Еще
один сопряженный вопрос — наличие неодинаковых весовых стан¬
дартов монеты в различных полисах. Это ведь тоже должно было
создавать дополнительные сложности для использования монет во
внешней торговле.
Указанные обстоятельства говорят о том, что целью введения
монетной чеканки не являлось облегчение обмена между полиса¬
ми. Монеты явно предназначались для местного, внутриполисного
использования. Характерно, что монета не получила полноценного
употребления в Персидской державе. Персия, как известно, чека¬
нила и золотые, и серебряные монеты (дарики и сикли), но в своем
собственно монетном качестве они ходили разве что в Малой Азии,
а за ее пределами, в других частях огромного царства, они рассмат¬
ривались лишь как слитки.
Что же касается греческого мира как такового, электровая моне¬
та из-за существенных колебаний содержания золота в ней, как ни
парадоксально, не могла считаться действительно «реальной моне¬
той», и, несмотря на свою высокую нарицательную стоимость, имела
некоторые черты кредитных денег. Ведь каждый отдельный потре¬
Тема VI. Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
193
битель монеты не мог проверить ее состав, просто не имел для этого
никаких способов. Иными словами, для удостоверения своей цен¬
ности такая монета нуждалась в санкции эмитента, выпускающей
власти. А в условиях полисной раздробленности это означало, что
циркуляция выпущенной данной властью монеты ограничивалась
тем регионом, в котором эта власть признавалась.
Таким образом, электр со свойственной ему нестабильностью
состава был идеальным средством не для межгосударственного,
а именно для локального обмена. Использование для чеканки этого
металла позволяло в значительной мере сохранить монеты для эко¬
номики данного государства, добиваться того, чтобы ценный металл
не ушел куда-нибудь «на сторону». Индивидам, которые получали
выплаты электровыми монетами, было потом легче реинвестировать
эти средства в местную полисную экономику.
Как Лидия, так и ионийские полисы производили монету для
использования внутри собственного политического пространства,
а не для контактов с иными. Безусловно, позже, с появлением сереб¬
ряной чеканки, ситуация изменилась: серебряные монеты могли уже
без существенных проблем «пересекать границы». Впрочем, разно¬
бой в весовых стандартах монет сохранялся еще очень долго.
По справедливому суждению Осборна, к чеканке различных
государств, к ее причинам и целям необходимо подходить диффе¬
ренцированно. В каких-то случаях (например, на богатой торговой
Эгине) монеты могли выпускаться действительно для удовлетворе¬
ния коммерческих интересов. А совсем иная ситуация имела место,
скажем, в Македонии. Там зачастую выпускались монеты огромных
номиналов, вплоть до редчайшей в греческом мире додекадрахмы.
Трудно представить, каким образом такие деньги могли употреб¬
ляться в торговле, особенно если учитывать слабое развитие торго¬
вых отношений в таком отсталом регионе, как Македония. Чеканка
там, скорее, была нужна для адекватной оценки македонскими царя¬
ми своих финансовых ресурсов.
Осборн подчеркивает, что введение чеканной монеты, в сущ¬
ности, не изменило сколько-нибудь серьезно греческую экономику,
которая вполне могла обходиться и без чеканки, поскольку стан¬
дартизованные весовые меры, несомненно, были в ходу уже и ранее.
Известно, что далеко не все полисы начали выпуск монет в архаиче¬
скую эпоху. Один из ярких примеров обратного — Мегары, в которых
194
Лекции
собственная монета появилась лишь в IV в. до н. э. А между тем
мегарский полис всегда являлся экономически высокоразвитым, со
значительным удельным весом ремесла и торговли в хозяйственной
жизни. Как же он обходился без своих денег? Использовал чужие?
Такой вариант возможен, но он объясняет ситуацию лишь отчасти.
В основном экономические нужды должны были обеспечиваться за
счет нечеканенного серебра.
Итак, политические мотивы при введении чеканки в греческих
полисах должны были играть как минимум не меньшую роль, чем
экономические. Выбивая на монете символ полиса, ее тем самым
делали одним из главных атрибутов государственного суверенитета,
каковым она с тех пор и оставалась.
* * *
Все эти тезисы — и о необходимости дифференцированного подхода
к ранней чеканке различных полисов, и о приоритете политических
мотиваций над экономическими — хорошо демонстрируются исто¬
рией монетного дела Афин и, в частности, наблюдениями над древ¬
нейшими афинскими монетами (т. н. Wappenmünzen).
Первые шаги монетного дела афинского полиса по сей день
являются для историков-антиковедов и нумизматов предметом
острых дискуссий. До перехода к чеканке ставших столь широко
известными «сов» (так условно называют в историографии моне¬
ты с изображениями головы богини Афины на аверсе и совы на
реверсе) в афинском полисе выпускались монеты, за которыми в
исследовательской литературе устойчиво закрепилось в известной
мере условное, но ставшее тем не менее общепринятым обозначение
Wappenmünzen (т. е. «гербовые монеты»; о правомерности такого
обозначения см. ниже). Был, правда, в развитии науки этап (конец
XIX в.), когда в историографии возобладала было точка зрения,
согласно которой эти монеты в действительности нужно соотносить
не с Аттикой, а с Эвбеей (на чем особенно настаивал такой авто¬
ритетный специалист, как Б. Хед: Head, 1887). Но на сегодняшний
день эти представления всецело отошли в прошлое; ныне, кажется,
все согласны с тем, что речь идет именно о древнейшей афинской
чеканке.
К категории Wappenmünzen относятся монеты, представляющие
собой, несомненно, единую серию (причем достаточно короткую)
Монеты этой серии имеют черты принципиального сходства как по
Тема VL Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
195
фактуре, так и по основному номиналу. Как правило, это дидрахма;
имеются ее фракции — драхма, обол, гемиобол, тетартеморий. На
последнем этапе появляются тетрадрахмы. При этом Wappenmün¬
zen сильно, можно сказать, абсолютно разнятся изображениями на
аверсах. С точки зрения этих последних выделяют 15 типов данных
монет (дидрахм), и прежде всего следует их перечислить. Перечис¬
ление мы даем исходя не из возможной хронологической после¬
довательности (эта последняя небесспорна и требует отдельного
рассмотрения), а группируя друг с другом схожие изображения:
1) амфора; 2) трискелес — три человеческие ноги, расходящиеся из
единого центра; 3) жук-скарабей; 4) астрагал (конская бабка); 5) го¬
лова быка в фас; 6) сова влево; 7) стоящий конь влево; 8) протома
коня влево; 9) протома коня вправо; 10) задняя часть коня вправо;
И) колесо с перекладинами-распорками; 12) обычное колесо с че¬
тырьмя спицами; 13) такое же колесо, но с подпорками на концах
каждой спицы; 14) голова Горгоны; 15) на лицевой стороне — тот же
тип, но на оборотной стороне в одной из четвертей, на которые разде¬
лен вдавленный квадрат, небольшой символ — голова льва (или пан¬
теры, как считают некоторые; во всяком случае, какого-то крупного
хищника из семейства кошачьих) в фас (на вышеперечисленных
14 типах никаких изображений во вдавленном квадрате на оборот¬
ной стороне нет). Вокруг части типов лицевой стороны — линей¬
ный ободок, который, возможно, символизирует щит. Тетрадрахмы
данной серии подразделяются на два типа; на аверсе у обоих голова
Горгоны, на реверсе в одном случае голова льва в фас во вдавленном
квадрате, в другом — голова быка в фас, тоже во вдавленном квад¬
рате. На серебре более мелких номиналов отмечают также и другие
изображения: глаз, лягушку, яблоко, лист; в каком соотношении
находятся они с типами основных номиналов — вопрос, пока не име¬
ющий однозначного ответа. Нет даже безоговорочной уверенности
в афинском происхождении всех без исключения этих мелких номи¬
налов, в принадлежности их к серии Wappenmünzen.
Наиболее углубленно в мировой историографии проблемами
^appenmünzen занимался Ч. Селтман (Seltman, 1924); именно он
с предельной детализацией разработал концепцию, трактующую
их как «гербовые монеты». По мнению исследователя, типы Wap-
Penmünzen в большинстве своем не что иное, как гербы знатнейших
I аРистократических родов Аттики.
196
Лекции
Гипотеза Селтмана была вначале встречена учеными с большим
энтузиазмом. Однако начиная с 1960-х гг. она стала подвергаться
строгой и в основном справедливой критике. Указывалось, что в ней
слишком много умозрительного, не находящего прямой опоры в ма¬
териале источников. Так, Селтман в значительной мере произвольно
соотнес то или иное изображение на монетах с тем или иным афин¬
ским знатным родом. Кроме того, сильные сомнения вызывают и сам
факт наличия у аристократии античного греческого полиса родовых
гербов в собственном смысле слова, и сама категория «родовой че¬
канки».
В настоящее время концепцию Селтмана в чистом виде, пожалуй,
уже почти никто не разделяет. Соответственно, неизбежной стано¬
вится задача альтернативных интерпретаций. Такие интерпретации,
конечно, появились; некоторые из них совершенно отрывают изоб¬
ражения на Wappenmünzen от круга символов, связанных с аристо¬
кратическими родами, что, на наш взгляд, тоже неправомерно. Так,
Р. Хоппер полагал, что интересующие нас монеты лучше рассматри¬
вать в религиозном и праздничном контекстах, что в них следует ви¬
деть, скорее всего, семантику Панафинейских игр (Hopper, 1968). Но
отнюдь не все из вышеперечисленных изображений могут быть без
натяжек трактованы подобным образом. Что общего с Панафинеями
у скарабея или трискелеса? Есть также мнение, что эти изображения
просто выражали идеалы аристократического общества, без соотне¬
сения с конкретными родами или индивидами. Но это звучит слиш¬
ком абстрактно и никак не помогает решить проблему. Особняком
стоит высказанная относительно недавно точка зрения М. Викерса,
согласно которой на Wappenmünzen представлены типы аттических
фил (Vickers, 1985). Впрочем, на экзотических построениях Викерса
нам еще придется специально остановиться несколько ниже.
В последнее время, насколько можно судить, многие исследова¬
тели начинают в осторожной форме возвращаться к некоторым
положениям гипотезы Селтмана (естественно, модифицируя их).
И это представляется закономерным и оправданным. Монеты, о ко¬
торых идет речь, несомненно, эмблематичны. Еще А. Н. Зографом
отмечалось, что все перечисленные изображения (как и многие дру¬
гие) встречаются также в чернофигурной вазописи VI в. до н. э., и не
где-нибудь, а на щитах воинов (Зограф, 1951). Причем по крайней
мере некоторые из этих типов в нарративных источниках ассоцииру*
Тема Vf. Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
197
ются, пусть косвенно, с конкретными аристократическими родами
(например, с Алкмеонидами). Итак, если перед нами все-таки эмб¬
лемы, то что это за эмблемы?
Нам представляется наиболее перспективным видеть в изоб¬
ражениях на Wappenmünzen знаки магистратов, ответственных за
чеканку (точка зрения, которую наиболее последовательно развил
Дж. Кролл: Kroll, 1981). Параллели этому в древнегреческом монет¬
ном деле можно найти в изобилии. Даже если оставаться в рамках
чисто афинского материала и не привлекать для сопоставления
монеты из других полисов, аналогии имеются. В качестве таковых
следует в первую очередь привести знаки магистратов на монетах
«нового стиля», выпускавшихся в эллинистических Афинах. Разли¬
чие заключается в том, что на этих монетах магистрат ставил свой
знак в виде символа-дифферента, дополнительного по отношению
к основному типу. Что же касается Wappenmünzen, то на них, в эту
очень раннюю эпоху античного монетного дела, общеполисная эмб¬
лематика Афин еще не получила отражения. В принципе она, скорее
всего, уже существовала в архаическую эпоху, увязываясь в основ¬
ном с символикой богини Афины, но отражалась в то время еще не
на монетах, а на других артефактах (например, на панафинейских
амфорах или на щитах). Соответственно, на ранних нумизматиче¬
ских памятниках в отсутствие общеполисной символики место ос¬
новного типа занимали именно знаки магистратов. Если можно так
выразиться, тип каждого нового выпуска одновременно играл роль
дифферента, позволяя отличать друг от друга монеты, чеканенные
в разные годы.
Анализ магистратских символов на эллинистическом афинском
серебре «нового стиля» демонстрирует, что должностные лица об¬
ладали достаточной свободой в выборе эмблемы. При этом выборе
они могли руководствоваться самыми различными соображениями,
единой системы не было. Знак магистрата мог действительно иметь
протогеральдический характер, но часто в нем находила воплоще¬
ние не эта, а иная информация: например, аллюзия на какие-нибудь
славные деяния предков данного гражданина или «обыгрывание»
его имени по принципу ребуса. В каких-то случаях конкретная
интерпретация того или иного символа просто затруднительна на
нынешнем уровне развития науки. В любом случае ясно, что, с од¬
ной стороны, перед нами индивидуальная эмблематика, но, с другой
198
Лекции
стороны, она имеет такой характер, что через нее в опосредованной
форме может проявляться в числе прочего и эмблематика родовая
(стараемся сформулировать важный тезис как можно более осто¬
рожно и взвешенно).
Следует полагать, что аналогичным образом дело обстояло
и в эпоху архаики. В связи с этим, помимо прочего, обращает на себя
внимание идея Дж. Кролла о том, что магистратами, отвечавшими
за чеканку Wappenmünzen, могли в разные годы быть тиран Гиппий
и его брат Гиппарх (Kroll, 1981). Их имена имеют «конную» семан¬
тику. Отсюда изображение коня или его частей на некоторых типах
этих монет.
Одним из сильнейших аргументов против трактовки изобра¬
жений на Wappenmünzen как эмблем знатных родов традиционно
является следующий. Если датировать эти монеты периодом тира¬
нии Писистрата, как чаще всего делают, действительно приходится
признать, что время их выпуска было, мягко говоря, не самым под¬
ходящим для проявления аристократических амбиций. Ведь при
Писистрате многие афинские аристократы (Алкмеониды, Филаиды
и др.) оказались в опале или даже в изгнании. Однако чтобы оце¬
нить, в какой степени этот аргумент является весомым, необходимо
подробнее остановиться на вопросе о датировке Wappenmünzen,
проследив основные точки зрения по данному вопросу и динами¬
ку их эволюции. Прежде всего надо оговорить неразрывную связь
двух проблем: хронологии Wappenmünzen и времени начала чеканки
«сов». От решения первой из них напрямую зависит решение вто¬
рой, и наоборот. Будем исходить из двух представляющихся доста¬
точно очевидными и как будто бы никем теперь не оспариваемых по¬
ложений: во-первых, Wappenmünzen — афинские монеты, во-вторых,
хронологически они непосредственно предшествовали «совам».
Автор первого специального монографического исследования
о монетном деле Афин Э. Бёле считал, что Wappenmünzen начали
выпускаться во второй половине 560-х гг. до н. э. (Beule, 1858). При
этом он связывал их с деятельностью Солона, но не с тем ее перио¬
дом, когда проводились знаменитые реформы, а со временем после
возвращения законодателя из десятилетнего путешествия. Это не¬
сколько озадачивает: из источников неизвестно, чтобы Солон осу¬
ществлял какие-либо политические или экономические меры в эту
последнюю пору своей жизни. Что же касается первых «сов», то они,
Тема VL Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
199
по мнению Бёле, были отчеканены после изгнания Писистратидов
в 510 г. до н. э. Этот тезис представляется весьма перспективным
и хорошо коррелирует с наиболее современными точками зрения
(см. ниже).
Однако уже вскоре подход к хронологии ранней афинской чекан¬
ки коренным образом изменился в сторону ее резкого «удревнения».
Переломной стала здесь позиция Б. Хеда (Head, 1887), решитель¬
но связавшего выпуск первых «сов» с Солоном (Хед, как мы уже
видели, вообще не считал Wappenmünzen афинскими монетами).
Настолько велик был авторитет выдающегося английского нумиз¬
мата, что после него все обсуждение рассматриваемого здесь вопроса
пошло совершенно иными путями. Со временем выявилась необхо¬
димость последовательной ревизии и «омоложения» его датировки,
поскольку она явно неверна (хотя и впоследствии можно было
встретить работы, авторы которых считали Солона инициатором
выпуска «сов», a Wappenmünzen, соответственно, относили к досо-
лоновскому времени, однако эта точка зрения все более становилась
анахронизмом).
В целом же в исследовательской литературе поступательно сме¬
няли друг друга несколько основных датировок: 1) Wappenmünzen
начали чеканиться при Солоне, первые «совы» — при Писистрате
(Seltman, 1924; Зограф, 1951); 2) Wappenmünzen — при Писистра¬
те, первые «совы» — при Гиппии (Кгаау, 1956; Kroll, 1981; Kroll,
Waggoner, 1984; Welwei, 1992; Reden, 1995; Rebuffat, 1996 et al.; эта
точка зрения представлена наибольшим количеством работ, однако
за время ее существования наблюдается определенный «дрейф»
Датировок Wappenmünzen — от самого начала правления Писистра-
та к более поздним его периодам); 3) Wappenmünzen — при Гиппии,
первые «совы» — после его свержения, около 510 г. до н. э. (Radnoti-
Alföldi, 1978; Dawson, 1999). Есть, разумеется, и промежуточные
точки зрения (Wallace, 1962; Sear, 1997): Wappenmünzen появились
около 545 г. до н. э., т. е. при Писистрате, а «совы» — около 510 г.
До н. э. Последняя дата очень близка к истине, но слишком уж боль¬
шой хронологический отрезок отводится для довольно короткой
серии Wappenmünzen.
Точка зрения, обозначенная выше под номером 3, выдвинута в са¬
мых новых работах по интересующей нас проблематике; она в наи¬
большей степени соответствует современному уровню развития
200
Лйкции
науки и нам также представляется (с некоторыми непринципиаль¬
ными оговорками) стоящей ближе всего к истине.
Приходится отметить и тот факт, что была предпринята попытка
еще сильнее «омолодить» как Wappenmünzen, так и ранние «совы».
Развивающий эту идею М. Викерс (Vickers, 1985) известен свои¬
ми многочисленными работами, направленными на радикальный
пересмотр без серьезных к тому оснований всей хронологии афин¬
ской чернофигурной и краснофигурной керамики. Эта его «новая
хронология» неоднократно и сурово критиковалась авторитетными
специалистами как проявление экстремизма в науке. Столь же по-
экстремистски, рубя сплеча серьезнейшие проблемы, к сожалению,
подошел Викерс и к нумизматической тематике. Он полагает, что
Wappenmünzen начали чеканиться в самом конце VI в. до н. э., в пе¬
риод демократических реформ Клисфена, а типы этих монет явля¬
ются символами 10 новых афинских фил, созданных реформатором
взамен четырех старых, ионийских. Что же касается «сов», то их
выпуск, согласно хронологическим выкладкам Викерса, начался
только после 480 г. до н. э.
Вполне естественно, что в аргументации Викерса сразу же был
замечен целый ряд настолько слабых мест, что они сводят на нет все
значение его построений. Так, отмечалось, что исследователь, ис¬
кусственно подгоняя число типов Wappenmünzen к числу клисфенов-
ских фил, совершенно неоправданно редуцировал эти типы с 15 до
10. Для этого он «закрыл глаза» на различия между тремя различны¬
ми изображениями колеса на монетах, сочтя, что перед нами — один
тип, а не три, как в действительности. Так же он поступил с изоб¬
ражениями протомы коня (влево и вправо), сведя эти два типа к
одному. Наконец, он совершенно исключил из серии Wappenmünzen
монеты с головой Горгоны, что уж совсем недопустимо. Одним сло¬
вом, материал нумизматических источников оказался безжалостно
принесен в жертву чисто априорным, умозрительным гипотезам.
Есть, наконец, и факт, который самим своим существованием пол¬
ностью разрушает все конструкции Викерса. В архиве Персеполя
найден отпечаток реверса афинской тетрадрахмы-«совы», исполь¬
зованной в качестве печати при скреплении глиняных табличек.
Памятник заведомо раньше 480 г. до н. э. (он относится к рубежу
VI-V вв. до н. э.) и демонстрирует, что «совы» к тому времени уже
чеканились и даже попадали в далекую персидскую столицу. Все
Тема V/. Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
201
говорит о том, что к теории Викерса следует относиться так, как она
того заслуживает, — как к очередной попытке дилетанта произвести
«научную сенсацию» — и не воспринимать ее слишком серьезно.
Итак, если исходить из того, что начало чеканки Wappenmünzen
падает на первые годы правления Гиппия или (чрезмерная точность
здесь неуместна) на самые последние годы тирании Писистрата, это
ставит рассматриваемые монеты во вполне приемлемый историче¬
ский контекст. Как известно, Писистрат в конце своей жизни начал,
а Гиппий продолжил в значительно более интенсивных формах дело
примирения с афинскими аристократическими родами (есть даже
мнение, что серия Wappenmünzen была выпущена как раз в ознаме¬
нование этого примирения). Представители Алкмеонидов, Филаи-
дов, Кериков занимали в это время даже высший пост эпонимного
архонта. Соответственно, они не имели существенных препятствий
для манифестации своей символики как индивидуальной, так и ро¬
довой.
В данной связи уместно коснуться вопроса о том, какие именно
магистраты ставили свои знаки на Wappenmünzen. Когда обычай
таких знаков после долгого перерыва возобновился в Афинах (в эл¬
линистическую эпоху, на монетах «нового стиля»), за чеканку монет,
насколько можно судить, отвечали какие-то специальные должност¬
ные лица. В науке их условно называют «монетными магистрата¬
ми», или «монетариями», хотя, строго говоря, мы не знаем, как они
назывались на самом деле, и вообще достоверная информация о
них чрезвычайно скудна. Предлагались различные точки зрения по
вопросу об идентификации этой магистратуры, но ни одна из них не
получила безоговорочного признания.
Размышляя о том, как в этом отношении могло обстоять дело
во второй половине VI в. до н. э., необходимо принимать в расчет
следующие соображения. Архаическая эпоха истории афинского по¬
лиса была временем, когда система полисных магистратур получила
еще весьма слабое развитие: ведь это очень ранняя ступень ее эво¬
люции. Лишь позже, в период классической демократии, появилось
много самых различных должностных лиц с чрезвычайно дробными
обязанностями, когда прерогативы каждого из них ограничивались
некой узкой, конкретной сферой государственного управления.
А ранее, т. е. на интересующем нас хронологическом отрезке, мы
наблюдаем принципиально иную картину: весьма малое количество
202
Лекции
магистратов, каждый из которых обладал широким кругом полно¬
мочий. По сути дела, с абсолютной уверенностью можно говорить
только о существовании постоянно действующей коллегии из 9 еже¬
годно сменявшихся архонтов во главе с архонтом-эпонимом. Можно
вспомнить в данной связи слова Фукидида об архаических Афинах:
«В те времена большая часть государственных дел была в ведении
девяти архонтов» (1.126.8). Кстати, и режим тирании Писистратидов
скорее препятствовал, чем способствовал созданию новых полисных
должностей. Можно сделать ответственный вывод: для Афин VI в.
до н. э. мы вряд ли имеем право предполагать наличие особой долж¬
ности монетного магистрата.
С другой стороны, такое значимое событие, каким стало введе¬
ние (впервые в афинской истории!) собственной чеканной монеты,
должно было рассматриваться властями как дело первостепенной
государственной важности, и контроль над процессом, скорее все¬
го, был поручен должностным лицам самого высокого ранга — та¬
ким, которые следовали непосредственно за верховным правителем.
С наибольшей степенью вероятности можно утверждать, что это
были именно архонты-эпонимы. Писистратиды в годы своей тира¬
нии, как известно, заботились о том, чтобы на этом посту стояли их
сторонники (Фукидид. История. VI. 54. 6).
Если наше предположение верно и 15 типов Wappenmünzen со¬
ответствуют 15 архонтам периода правления Гиппия, это открывает
немаловажные перспективы. Можно попытаться с новых позиций
ответить на вопросы о конкретной атрибуции изображений и об
историческом контексте перехода от Wappenmünzen к «совам». Но
решение этих проблем представляется скорее делом будущего.
* * *
Нам видятся две возможности конкретной датировки начала че¬
канки афинских «сов». Либо это 510 г. до н. э., время сразу после
изгнания Гиппия, либо 508-507 гг. до н. э., период реформ Клис-
фена. Во всяком случае ясно, что этой мерой полис маркировал
исключительно важный момент своей истории: радикальное изме¬
нение политической системы, переход суверенитета к гражданскому
коллективу полиса. Последнее нашло яркое выражение в том, что на
афинских монетах впервые начали чеканиться первые буквы назва¬
ния выпускающего их государства, которое, таким образом, заявля¬
ло о своей роли как официального эмитента.
Тема V/. Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
203
Выбор между двумя альтернативами перехода к «совам» (510 г.
или 508-507 гг. до н. э.) очень труден и, не исключено, в конечном
счете вообще не представляется возможным. В пользу как той, так
и другой датировки может быть выдвинут ряд весомых аргументов.
Строго говоря, хронологическая разница между двумя датировками
очень невелика, и в каком-то отношении ею можно пренебречь.
Афинские «совы» так называемого «старого стиля», чеканивши¬
еся на протяжении всей классической и начала эллинистической
эпох, представляют собой огромный и очень важный этап развития
монетного дела этого полиса. При этом приходится с большим со¬
жалением констатировать, что этот этап изучен в антиковедении
недостаточно. Пока не существует общего монографического ис¬
следования, в котором была бы полностью рассмотрена история
классических «сов». И это даже парадоксально. Мы имеем ценные
монографии по истории чеканки целого ряда других полисов, го¬
раздо менее крупных и значимых, чем афинский, а по афинскому
монетному делу такая монография до сих пор остается делом буду¬
щего. Освещены лишь отдельные периоды, как, например, в очень
хорошей книге Ч. Старра «Афинская чеканка в 480-449 гг. до н. э.»
(Starr, 1970).
Подобное неутешительное положение вещей, очевидно, в наи¬
большей степени обусловлено объективными причинами. Во-пер¬
вых, афинский монетный материал классической эпохи в сравнении
с остальными полисными чеканками настолько обилен и даже не¬
объятен, настолько распространен во всем греческом мире и за его
пределами, что для по-настоящему эффективной работы над ним
нужны, наверное, совместные усилия целых коллективов ученых.
Во-вторых, дополнительные трудности порождает подчеркнутый
консерватизм афинского монетного дела, о котором ниже еще пойдет
речь. Из-за того, что внешний облик афинских монет от десятилетия
к десятилетию почти не изменялся или изменялся весьма мало, воп¬
росы датировки того или иного выпуска становятся особенно слож¬
ными, требуют чрезвычайно пристального и скрупулезного анализа.
Мы можем остановиться здесь лишь на некоторых проблемах
монетного дела и монетной политики классических Афин. И прежде
всего — на его вышеупомянутом консерватизме. Лишь в самые пер¬
вые годы чеканки «сов» мы наблюдаем в афинском монетном деле
некоторые эксперименты, да и то довольно робкие. Очень быстро
204
Лекции
установились с полной определенностью и детализацией как основ¬
ные типы, так и дополнительные символы лицевой и оборотной
сторон всех номиналов, и в дальнейшем уже практически ничего не
менялось. На смену широкому разнообразию Wappenmünzen надолго
пришли полное единообразие и редкостная стандартизация.
Не менялся даже стиль. Это особенно бросается в глаза по кон¬
трасту с чеканками других полисов. Здесь, наверное, уместно будет
напомнить, что монеты в античном греческом мире всегда были не
только мерой стоимости и средством платежа, не только атрибутами
полисной независимости, но и первоклассными художественными
памятниками. Мастера, гравировавшие штемпели для монет, не
жалели сил, чтобы превзойти друг друга в этом искусстве, и многие
произведения их рук (например, лучшие монеты Сиракуз) — насто¬
ящие маленькие шедевры, поражающие филигранной тонкостью
и одухотворенностью работы.
А как же обстояло дело в Афинах? Ситуация здесь уникальна
и тем более парадоксальна, что в остальных областях искусства
этот город шел во главе развития всей Эллады. Быстрыми темпами
прогрессировали скульптура и живопись, изображения становились
всё более жизненными, реалистичными, динамичными. Но вот на
монетном деле это ни в малейшей степени не отражалось. Афинские
мастера штемпелей по-прежнему вырезали на них древний, в техни¬
ческом отношении давно устаревший, стилизованный облик чисто
архаической Афины. Голова богини повернута в профиль, а глаз на
ней смотрит в фас. Волосы передаются какими-то примитивными
линиями. Ухо расположено не там, где ему надлежит быть по зако¬
нам анатомии... Не лучше обстоит дело и с изображением совы на
реверсе: оно весьма мало похоже на реальную птицу. В надписи на
монете начальные буквы названия афинского полиса писались по
староаттической орфографии даже тогда, когда Афины уже офици¬
ально перешли на ионийский алфавит.
В художественном отношении классические афинские монеты не
идут ни в какое сравнение не только с монетами Сиракуз, но даже
и с монетами каких-нибудь маленьких и бедных полисов, безнадеж¬
но отстают от них. В чем же дело? Неужели в Афинах, на родине
Фидия, не было умелых резчиков штемпелей? Об этом даже и речи
быть не может. Несомненно, здесь имело место вполне сознательное
самоограничение. Вполне вероятно, что имело место даже офици¬
Тема VI. Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
205
альное ограничение со стороны властей, запрещающее любые сколь¬
ко-нибудь серьезные новшества.
По вопросу о причинах столь подчеркнутого консерватизма в мо¬
нетном деле (а степень этого консерватизма просто уникальна)
единого мнения нет. Согласно традиционной точке зрения, которую
наиболее четко изложил К. Крээй, он был порожден торговыми ин¬
тересами, желанием облегчить распространение «сов» за пределами
Афин и даже за пределами греческого ареала в целом (Кгаау, 1976).
Безусловно, никто не сомневается в том, что афинские монеты полу¬
чили весьма широкую циркуляцию во всей Эгеиде и в значительной
части Средиземноморья.
Однако против данной точки зрения были выдвинуты весомые
возражения (Starr, 1970; Trevett, 2001). Во-первых, весьма малове¬
роятно, что Афины, чеканя монету, имели в виду главным образом
обращение ее на иноземных рынках. В негреческом мире монету
вообще принимали только на вес, т. е., по сути, приравнивали ее
к слиткам. Нет, афиняне выпускали монету в первую очередь, конеч¬
но, для себя.
Во-вторых, непонятно, почему изменения в стиле монет повли¬
яли бы в худшую сторону на их привлекательность для иноземных
рынков. Ведь на их слитковой стоимости такие изменения не от¬
разились бы. Афинские монеты традиционно чеканились из очень
хорошего серебра; собственно, это и обеспечивало им большую по¬
пулярность, а не стиль и не тип.
В-третьих, даже консервативное сохранение типа и стиля не мог¬
ло служить стопроцентной гарантией. Ведь всегда были возможны
подделки, имитации. И такие имитации, подчас весьма неплохого
качества, действительно в некоторые периоды изготовлялись на
Ближнем Востоке в немалом количестве.
Наконец, приводится следующая, весьма доказательная па¬
раллель. Как известно, кизикины (электровые монеты Кизика) на
Протяжении весьма долгого времени являлись в определенном реги-
°не самой важной и распространенной «международной» монетой.
И этому ни в малейшей степени не мешало то обстоятельство, что
^пы кизикина постоянно менялись.
Треветт считает, что основная причина рассматриваемых черт
Монетного дела Афин лежит не в экономической, а в политиче¬
ской сфере. Он определяет ее выражениями «демократический
206
Лекции
консерватизм» и «демократическая инерция». И действительно, для
государственной идеологии демократических Афин была в целом
характерна не радикальная, а, скорее, консервативная тенденция. Ра¬
дикалами и революционерами в эпоху афинской демократии были
как раз ее противники — олигархи, члены антиправительственных
гетерий. Это они призывали к переменам. А сторонники существу¬
ющего демократического режима являлись уже в силу этого фактора
«охранителями» и консерваторами.
Консервативная ориентация считалась признаком конституци¬
онной стабильности. Отнюдь не случайно, что именно с торжеством
демократии в конце VI в. до н. э. в афинском монетном деле большое
разнообразие монетных типов сменяется стандартизованным едино¬
образием. Помимо всего прочего, серьезные перемены в монетном
деле ассоциировались с автократическим режимом тирании, кото¬
рый был предметом всеобщего отторжения.
Консерватизм афинской демократии представляется нам на¬
дежно установленным фактом. Для его иллюстрации можно было
бы привести немало примеров как из политической, так и из куль¬
турной сферы бытия Афин, но это увело бы нас слишком далеко
в сторону от основной темы изложения. Любых новшеств стара¬
лись по возможности избегать. В полной мере это относится и к
монетному делу: афиняне классической эпохи из поколения в по¬
коление стремились сохранять в нем все так, «как было при отцах
и дедах».
Вышеизложенная концепция кажется весьма импонирующей
и в значительной степени объясняющей консерватизм афинского
монетного дела. Кроме того, в одном из аспектов (а именно сти¬
листическом) ее дополняют соображения М. Радноти-Альфёльди
(Radnoti-Alföldi, 1978). Она отмечает вероятность того, что афин¬
ские резчики штемпелей запечатлевали на аверсах одну и ту же
культовую статую. А это была весьма древняя статуя, отличавшаяся
весьма архаичным стилем, что не могло не отражаться и в ее «реп¬
родукциях» на монетах. Пожалуй, можно даже с большой долей
уверенности сказать, о какой конкретно статуе идет речь. Это знаме¬
нитый «палладий» — статуя Афины Полиады, хранившаяся в храме,
с конца V в. до н. э. известном как Эрехтейон. Архаическую статую
и изображать следовало архаическим образом, не «модернизируя»
ее. А впоследствии, на монетах «нового стиля», изображалась уже
Тема VI. Монетное дело Афин е политическом и экономическом контекстах
207
другая статуя Афины — Афина Парфенос работы Фидия, один из
шедевров реалистического классического искусства.
* * *
Одной из важнейших проблем истории афинского монетного дела
и монетной политики является проблема знаменитого Афинского
монетного декрета V в. до н. э. (так называемого декрета Клеарха, как
его часто именуют, хотя это, на наш взгляд, не вполне правомерно).
Им афиняне запрещали полисам, входившим в Архэ, чеканить соб¬
ственную серебряную монету и предписывали перейти на афинскую.
Данный памятник является одним из ценнейших эпиграфиче¬
ских источников по древнегреческой истории. Документ известен
в значительной своей части, поскольку на сегодняшний день найде¬
ны уже восемь его фрагментов; последний (из Гамаксита в Троаде)
был опубликован недавно, в 1988 г. Предметом острых дискуссий по
сей день остается датировка памятника и, соответственно, его конк¬
ретный историко-политический контекст. Большинство исследова¬
телей относит его к 440-м гг. до н. э., рассматривая в рамках полити¬
ки Перикла. Однако в последние десятилетия все чаще предлагается
приурочить декрет ко времени Пелопоннесской войны (из недав¬
них примеров отметим работы Г. Маттингли, А. В. Стрелкова и др.:
Mattingly, 1993; Стрелков, 1999). Таким образом, предполагаемый
контекст постановления оказывается принципиально иным. Приня¬
тие той или иной датировки, таким образом, влечет за собой очень
серьезные последствия. Представляется поэтому небезынтересным
рассмотреть основные аргументы, приводимые в пользу обеих точек
зрения, и попытаться определить сравнительную ценность этих ар¬
гументов.
Одним из главных критериев, используемых при определении
даты издания декрета, является палеография сохранившихся фраг¬
ментов, в частности наличие в аттическом шрифте фрагмента с
о. Кос трехчастной сигмы, не встречающейся в надписях после 445 г.
До н. э. (не можем считать исключением и афинские горосы с Само¬
са, о которых часто упоминают в данной связи: совершенно не факт,
нто они были поставлены после подавления афинянами Самосского
восстания). С другой стороны, ряд фрагментов демонстрирует бо¬
лее позднюю палеографию (четырехчастная сигма на фрагменте из
Гамаксита). Однако последнее обстоятельство вполне может объ¬
ясняться тем, что вновь присоединяемые к Афинской архэ полисы
208
Леющц
обязывались установить свою копию Монетного декрета. Позже
440-х гг. до н. э. вошли в Архэ Гамаксит, Ольвия, Симе, из которых
происходят фрагменты документа.
Собственно нумизматические данные, привлекаемые для дати¬
рования памятника, также мало чем помогают: сторонники ранней
датировки фиксируют в 440-х гг. до н. э. последствия осуществления
декрета (перерыв в чеканке ряда полисов — членов Архэ, возраста¬
ние объема афинской чеканки и т. п.), в то время как приверженцы
поздней датировки ничего подобного не обнаруживают. Среди при¬
чин этого — недостаток сведений о чеканке большинства полисов
в V в. до н. э. и крайняя сложность или невозможность датирования
соответствующего монетного материала с точностью до 15-20 лет,
что неизбежно приводит к субъективности оценок. Не следует сбра¬
сывать со счетов и возможность того, что привилегированные члены
Архэ, не платившие форос, под действие декрета не подпадали или
подпадали неполностью, а также тот факт, что неподчинение или
неполное подчинение властей союзных полисов распоряжениям
афинян были в 440-е гг. до н. э. достаточно распространенными.
Не являются однозначными аргументами в пользу поздней дати¬
ровки ни реминисценция Монетного декрета в «Птицах» Аристофа¬
на, ни отсутствие в постановлении упоминания о Карийском округе.
Важное значение могла бы иметь постановка декрета в наиболее
подходящий исторический контекст. Считать таким контекстом Ар-
хидамову войну и «империализм Клеона» (Mattingly, 1993) вряд ли
возможно, как убедительно показывает А. В. Стрелков (Стрелков,
1999). Но и его собственная датировка (между 421 и 414 гг. до н. э.)
вызывает серьезные сомнения; так, остаются без ответа вопросы
о возможном инициаторе рассматриваемой акции и о ее согласо¬
вании с общей линией афинской политики этих лет (можно гово¬
рить об «империализме Клеона», но вряд ли — об «империализме
Никия»). Начало 440-х гг. до н. э., время пятилетнего перемирия в
Малой Пелопоннесской войне, на наш взгляд, было бы менее проти¬
воречивым вариантом. Кстати, если признать его верным, то свиде¬
тельством применения декрета окажется храм Гефеста и Афины на
Агоре, построенный, возможно, на доходы от перечеканки монеты
союзников.
Недавно была выдвинута оригинальная гипотеза (Schönhammer,
1993), согласно которой документ, традиционно называемый Mo-
Тема Vi. Монетное дело Афин в политическом и экономическом контекстах
209
нетным декретом, на деле представляет собой декрет о стандартах.
Термин nomisma употребляется в этом памятнике не в значении «мо¬
нета», а в значении «стандарт монеты». Иными словами, союзникам
предписывалось не отказаться полностью от собственной чеканки,
а перевести ее на афинский стандарт. Если это действительно так, то
бесполезно искать в 440-х гг. до н. э. или когда бы то ни было в V в.
до н. э. перерыв в чеканке тех или иных союзных полисов, вызван¬
ный применением декрета.
Но однозначного отношения к этой гипотезе нет. Слишком ра¬
дикально она подрывает сложившуюся на сегодняшний день в на¬
уке систему взглядов. Предположение нуждается во всестороннем
осмыслении. Пока приходится воздерживаться от оценки данной
точки зрения, лишь констатировав само ее наличие.
Вопрос о целях Афинского монетного декрета тоже не относит¬
ся к числу окончательно решенных в науке. Цели могли быть как
экономическими, так и политическими, либо теми и другими в ком¬
бинации. Нам представляется, что политические мотивации были
все-таки доминирующими. С помощью декрета афиняне, возмож¬
но, хотели продемонстрировать союзникам свою силу и безуслов¬
ное господство в симмахии (точка зрения К. Хауджиго: Howgego,
1995).
В афинском монетном деле классической эпохи остается еще
немало интересных и непростых проблем. К таковым принадлежит,
в частности, круг вопросов, относящихся к тем афинским моне¬
там, которые чеканились не из серебра (этот круг вопросов в отече¬
ственной историографии разрабатывал А. В. Стрелков: Стрелков,
2002; Стрелков, 2004; Стрелков, 2004). Упомянем в данной связи
экстраординарный золотой выпуск в конце V в. до н. э., на исходе
Пелопоннесской войны.
Нельзя не сказать вкратце и об основной проблематике, связан¬
ной с афинскими бронзовыми (медными) монетами. Здесь тоже
Немало «белых пятен», и прежде всего вопрос о таинственных кол-
либах — мелких медных монетках, возможно, употреблявшихся уже
в V в. до н. э. Не все с этим согласны, но мы убеждены, что они прос¬
то не могли не употребляться в условиях развитой экономики этого
Периода. Иначе остается непонятным, как производились расчеты за
Наиболее дешевые товары и услуги, для которых был слишком велик
Даже самый мелкий серебряный номинал. Что из себя представляли
210
Лекции
коллибы и можно ли назвать их «правильными» монетами? В этом
пока еще много загадочного. Регулярная же чеканка афинской меди
началась с середины IV в. до н. э., хотя этому опять же предшест¬
вовал экстраординарный выпуск в конце Пелопоннесской войны,
в особых исторических условиях.
Эллинистическая эпоха — это уже совсем новая страница монет¬
ного дела Афин, когда выпускались великолепные монеты «нового
стиля». Но этот период выходит за хронологические рамки нашего
пособия.
Список источников и литературы
1. Источники
Андокид. Речи. СПб.: Алетейя, 1996.
Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Ладомир, 1993.
Аристотель. Афинская полития // Античная демократия в сви¬
детельствах современников. М.: Ладомир, 1996. С. 27-86.
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль,
1984. С. 375-644.
Аристотель. Поэтика // Там же. С. 645-680.
Аристотель. Риторика // Античные риторики. М.: Изд-во МГУ,
1978. С. 13-164.
Аристофан. Комедии: В 2 т. М.: Искусство, 1983.
Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
(любое издание).
Гекатей Милетский. Свидетельства. Фрагменты // Фрагменты
ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука, 1989. С. 135-138.
Геродот. История. М.: Ладомир, 1993.
Гесиод. Теогония. Труды и дни // Эллинские поэты VIII—III вв.
до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М.: Ладомир, 1999. С. 29-68.
Гигин. Мифы. СПб.: Алетейя, 1997.
Гомер. Илиада. Л.: Наука, 1990.
Гомер. Илиада. Одиссея. М.: Художественная литература, 1967.
Гомеровские гимны // Античные гимны. М.: Изд-во МГУ, 1988.
С. 55-140.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М.: Мысль, 1979.
Список источников и литературы
Дионисий Галикарнасский. Письмо к Помпею // Античные рито¬
рики. М.: Из-во МГУ, 1978. С. 222-235.
Еврипид. Трагедии: В 2 т. М.: Ладомир, 1998-1999.
Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. М.:
Изд-во МГУ, 1992.
Ксенофан. Свидетельства. Фрагменты // Фрагменты ранних гре¬
ческих философов. Ч. 1. М.: Наука, 1989. С. 156-176.
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993.
Ксенофонт. Греческая история. СПб.: Алетейя, 1993.
Лисий. Речи. М.: Ладомир, 1994.
Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. М.: Ладомир, 1994.
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М.: Наука, 1980.
Платон. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1990-1994.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М.: Наука, 1994.
Плутарх. О злокозненности Геродота // Лурье С. Я. Геродот. М.;
Л.: Наука, 1947.
Полибий. Всеобщая история: В 3 т. СПб.: Наука, 1994-1995.
Полиэн. Стратегемы. СПб.: Евразия, 2002.
Порфирий. Жизнь Плотина // Диоген Лаэртский. О жизни,
учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979.
С. 462-476.
Солон. [Стихотворения] // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э.
Эпос, элегия, ямбы, мелика. М.: Ладомир, 1999. С. 245-253.
Софокл. Драмы. М.: Наука, 1990.
Страбон. География. М.: Ладомир, 1994.
Феогнид. Элегии // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. Эпос,
элегия, ямбы, мелика. М.: Ладомир, 1999. С. 254-273.
Феофраст. Характеры. М.: Ладомир, 1993.
Фукидид. История. М.: Ладомир, 1993.
Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. М.: Ладомир, 1994.
Эсхил. Трагедии. М.: Наука, 1989.
Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the
End of the Fifth Century В. C. Revised ed. Oxf.: Clarendon Press, 1989.
2. Учебники, учебные пособия, хрестоматии,
справочная литература
Античная демократия в свидетельствах современников / Издание
Подготовили Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. М.: Ладомир, 1996.
212
Лекции
Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н. А. Федоров,
В. И. Мирошенкова. Ч. 1-2. М.: Высшая школа, 1989.
Антология источников по истории, культуре и религии Древней
Греции / Под ред. В. И. Кузищина. СПб.: Алетейя, 2000.
Бикерман Э. Хронология древнего мира. М.: Наука, 1975.
ВейсманА.Д. Греческо-русский словарь. М.: ГЛК, 1991.
Историография античной истории / Под ред. В. И. Кузищина. М.:
Высшая школа, 1980.
История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Неро-
новой, И. С. Свенцицкой. Кн. 1-3. М.: Наука, 1989.
История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая
школа, 1996.
Карпюк С. Г. Лекции по истории Древней Греции. М.: Ладомир,
1997.
Кругликова И. Т. Античная археология. М.: Высшая школа,
1984.
Межгосударственные отношения и дипломатия в античности:
Учебно-методический комплекс. Ч. 1-2. Казань: Мастер Лайн,
2000-2002.
Мифологический словарь / Гл. ред. E. М. Мелетинский. М.: Со¬
ветская энциклопедия, 1990.
Радциг С. И. Введение в классическую филологию. М.: Высшая
школа, 1965.
Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М.: Высшая
школа, 1982.
Словарь античности / Пер. с нем.; отв. ред. В. И. Кузищин. М.:
Эллис Лак, 1994.
Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб.: Алетейя, 2000.
Суриков И. Е. Античная цивилизация: Греция. М.: МФТИ, 1997.
3. Обязательная литература
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной
традиции. М.: Наука, 1996.
Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л.:
Наука, 1976.
Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов
к портрету греческой цивилизации. СПб.: Алетейя, 1998.
БервеГ. Тираны Греции. Ростов н/Д.: Феникс, 1997.
Список источников и литературы
213
Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-2. Ростов н/Д.: Феникс,
1994.
Бузескул В. 77. История афинской демократии. СПб.: Гуманитар¬
ная академия, 2003.
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: Про¬
гресс, 1988.
Видалъ-Накэ П. Черный охотник: Формы мышления и формы
общества в греческом мире. М.: Ладомир, 2001.
Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв.
до н. э. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
Залюбовина Г. Т. Архаическая Греция: особенности мировоззре¬
ния и идеологии. М.: Прометей, 1992.
Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб.: Марс, 1995.
ЗографА. Н. Античные монеты. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951.
Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 1-2. СПб.: Але-
тейя, 1997.
Маринович Л. П. Античная и современная демократия. М.: ИВИ
РАН, 2001.
Нильссон М. 77. Греческая народная религия. СПб.: Алетейя, 1998.
Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии позднеархаи¬
ческой и раннеклассической эпох. М.: ИВИ РАН, 2000.
Суриков И. Е. Камень и глина: к сравнительной характеристике
некоторых ментальных парадигм древнегреческой и римской циви¬
лизаций // Сравнительное изучение цивилизаций мира. М.: ИВИ
РАН, 2000. С. 273-288.
Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во вто¬
рой половине V в. до н. э. М.: ИВИ РАН, 2002.
Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства.
М.: Языки славянской культуры, 2004.
Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: ар¬
ника и ранняя классика. М.: Наука, 2005.
Суриков И. Е. Древняя Греция: история и культура. М.: ACT,
2005.
Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. М.: Языки славянских куль-
*Ур, 2006.
Тумане X. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Го-
**ера до Перикла (VIII-V вв. до н. э.). СПб.: Гуманитарная академия,
2002.
214
лекции
Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной
мысли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
Murray О. Cities of Reason // The Greek City: From Homer to
Alexander. Oxf.: Clarendon Press, 1991. P. 1-25.
Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia.
Oxf.: Clarendon Press, 1981.
4. Дополнительная литература
К теме I
Артог Ф. Первые историки Греции: историчность и история //
ВДИ. 1999. №1. С. 177-187.
Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации.
М.: ACT, 1999.
Бобкова М. С. «Мы сами — время»: прошлое и настоящее в исто¬
рическом сознании эпохи Средневековья // «Цепь времен»: пробле¬
мы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 133-150.
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего
большинства. М.: Искусство, 1990.
Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1957.
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. М.: Наука, 1980.
Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография:
Геродот. Тит Ливий. М.: Наука, 1984.
Лурье С. Я. Геродот. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947.
Немировский А. И. Рождение Клио: У истоков исторической мыс¬
ли. Воронеж: Изд-во Воронежского ГУ, 1986.
Поппер К. Р. Нищета историцизма. М.: Путь, 1993.
Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: про¬
блемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38-62.
Суриков И. Е. Лунный лик Клио: элементы иррационального
в концепциях первых европейских историков // Проблемы истори¬
ческого познания. М.: ИВИ РАН, 2002. С. 223-235.
Суриков И. Е. Первосвященник Клио (О Геродоте и его труде) //
Геродот. История. М.: Олма-Пресс, 2004. С. 5-20.
Суриков И. Е. «Солон» Плутарха: некоторые источниковедческие
проблемы // ВДИ. 2005. № 3. С. 151-161.
Badian Е. From Plataea to Potidaea: Studies in the History and
Historiography of the Pentecontaetia. Baltimore: Hopkins, 1993.
Список источников и литературы
215
Bichler R. Herodots Welt: Der Aufbau der Historie am Bild der frem¬
den Länder und Völker, ihrer Zivilisation und ihrer Geschichte. 2 Aufl.
B.: de Gruyter, 2001.
Connor W. R. Thucydides. Princeton: Univ. Press, 1984.
Comford F. M. Thucydides Mythistoricus. Philadelphia: Univ. Press,
1971.
Fehling D. Herodotus and his “Sources”: Citation, Invention and
Narrative Art. Leeds: Univ. Press, 1989.
Gomme A. W., Andrewes A., Dover K.J. A Historical Commentary on
Thucydides. Vol. 1-5. Oxf.: Clarendon Press, 1950-1981.
Grundy G. B. Thucydides and the History of his Age. Vol. 1-2. Oxf.:
Blackwell, 1948.
HartJ. Herodotus and Greek History. L.: Methuen, 1982.
HartogF. Le miroir d’Hérodote: Essai sur la représentation de Pautre.
P.: Gallimard, 1980.
Homblower S. A Commentary on Thucydides. Vol. 1-2. Oxf.: Cla¬
rendon Press, 1992-1996.
The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Pelo¬
ponnesian War / Ed. by R. B. Strassler. N.-Y.: Routledge, 1996.
MyresJ. L. Herodotus Father of History. Oxf.: Univ. Press, 1953.
Pritchett W. K. The Liar School of Herodotus. Amsterdam: Hackert,
1993.
Shimron B. Politics and Belief in Herodotus. Stuttgart: Steiner,
1989.
Thomas R. Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art
of Persuasion. Cambridge: Univ. Press, 2000.
Vandiver E. Heroes in Herodotus: The Interaction of Myth and His¬
tory. Frankfurt a/M., 1991.
Will W. Thukydides und Perikles: Der Historiker und sein Held.
Bonn: Habelt, 2003.
К теме II
Андреев Ю. В. Античный полис и восточные города-государ-
^ва // Античный полис. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 8-27.
Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории. Л.: Лениздат,
1990.
Андреев Ю. В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху
бронзы и раннего железа. СПб.: Буланин, 2002.
Блаватпская Т. В. Черты истории государственности Эллады
(XII—VII вв. до н. э.). СПб.: Алетейя, 2003.
Гиндин Л. А., Цьшбурский В. Л. Гомер и история Восточного Сре¬
диземноморья. М.: Восточная литература, 1996.
Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху. М.: Терра,
1998.
Доватур А. И. Феогнид и его время. Л.: Наука, 1989.
Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма. Томск: Водолей, 1996.
Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в.
до н. э. М.: Наука, 1964.
Макаров И. А. Идеологические аспекты ранней греческой тира¬
нии // ВДИ. 1997. № 2. С. 25-42.
Маринович Л. П. Возникновение и эволюция доктрины превос¬
ходства греков над варварами // Античная цивилизация и варвары.
М.: Наука, 2006. С. 5-29.
Молчанов А. А. Социальные структуры и общественные отноше¬
ния в Греции II тысячелетия до н. э. М.: ИВИ РАН, 2000.
Молчанов А. А., Нерознак В. 77., Шарыпкин С. Я. Памятники древ¬
нейшей греческой письменности (введение в микенологию). М.:
Наука, 1988.
Немировский А. А. «Троянская дискуссия» в историографиче¬
ской перспективе: возможен ли определенный результат? // Studia
historica. Вып. 2. М., 2002. С. 14-43.
Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегар-
ские колонии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.
Суриков И. Е. «Полиархия» или все-таки полис? // Studia histori¬
ca. Вып. 4. М., 2004. С. 150-163.
Суриков И. Е. Черноморское эхо катастрофы в Сардах (Персид¬
ское завоевание державы Мермнадов и колонизационная политика
Гераклеи Понтийской) // Античная цивилизация и варвары. М.:
Наука, 2006. С. 47-72.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
Фролов Э. Д. Фукидид и тирания: у истоков научного представле¬
ния о древнегреческой тирании // Власть, человек, общество в анти¬
чном мире. М.: ИВИ РАН, 1997. С. 19-28.
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество. Лич¬
ность. Власть. СПб.: Гуманитарная академия, 2001.
Список источников и литературы
217
Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства
в античной Греции. Л.: Наука, 1991.
Яйленко В. Я. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.: Наука,
1990.
Andrewes A. The Greek Tyrants. N.-Y.: Harper & Row, 1963.
BérardJ. La colonization grecque de l’Italie méridionale et de la Sicile
dans Pantiquité: Lîhistoire et la légende. P.: Boccard, 1957.
BoardmanJ. Pre-Classical: From Crete to Archaic Greece. Harmond-
sworth: Penguin, 1978.
Boardman J. The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade.
4 ed. L.: Penguin, 1999.
Burkert W. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on
Greek Culture in the Early Archaic Age. Cambridge (Mass.): Harvard
Univ. Press, 1992.
Bum A. R. The Lyric Age of Greece. L.: Arnold, 1978.
Coldstream J. N. Geometric Greece. L.: Methuen, 1979.
Dunbabin T. J. The Western Greeks. Oxf.: Clarendon Press, 1948.
Eder W. The Political Significance of the Codification of Law in
Archaic Societies // Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives
on the Conflict of the Orders. Berkeley: California Univ. Press, 1986.
P. 262-300.
Finley M. I. The World of Odysseus. N.-Y.: Viking Press, 1954.
Finley M. I. Early Greece: The Bronze and Archaic Ages. 2 ed. L.:
-hatto & Windus, 1981.
Frost F. J. Faith, Authority and History in Early Athens // Religion
rnd Power in the Ancient Greek World. Uppsala: Univ., 1996. P. 83-89.
Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide law. New Haven:
fele Univ. Press, 1981.
Georges P. Barbarian Asia and the Greek Experiment. Baltimore:
Hopkins, 1994.
Graham A.J. Colony and Mother City in Ancient Greece. Manches¬
ter: Univ. Press, 1964.
Heuss A. Die archaische Zeit Griechenlands als geschichtliche Epo-
che // Zur griechischen Staatskunde. Darmstadt: Wege der Forschung,
*969. s. 36-96.
Hölkeskamp K.-J. Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im
^chaischen Griechenland. Stuttgart: Steiner, 1999.
218
Лекции
Hurwit J. M. The Art and Culture of Early Greece, 1100-480 В. C.
Ithaca: Cornell Univ. Press, 1985.
Jeffery L. H. Archaic Greece: The City-State. P. 700-500 B. C. L.:
Methuen, 1978.
Köiv M. Ancient Tradition and Early Greek History Tallinn: Univ.,
2003.
Kraay C. M. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley: California
Univ. Press, 1976.
Krollf. H. The Greek Coins (The Athenian Agora. Vol. 26). Princeton:
American School, 1993.
Lévêque P. La naissance de la Grèce: Des rois aux cités. P.: Gallimard,
1990.
Libero L. de. Die archaische Tyrannis. Stuttgart: Steiner, 1996.
Miller Th. Die griechische Kolonisation im Spiegel literarischer Zeug¬
nisse. Tübingen: Univ., 1997.
Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-
State. Cambridge: Univ. Press, 1987.
Mossé С. La tyrannie dans la Grèce antique. P.: Maspero, 1969.
Murray О. Early Greece. 2 ed. L.: Fontana Press, 1993.
Nilsson M. P. A History of Greek Religion. Oxf.: Clarendon Press,
1925.
Osborne R. Greece in the Making, 1200-479 В. C. L.; N.-Y.: Rout-
ledge, 1996.
Polignac F. de. La naissance de la cité grecque: Cultes, espace et société
Ville — Vile siècles avant J.-C. P.: Gallimard, 1984.
Polignac F. de. Cults, Territory and the Origins of the Greek City-
State. Chicago: Univ. Press, 1995.
Popham M., Touloupa E.t Sackett L. H. The Hero of Lefkandi // An¬
tiquity. 1982. Vol. 56. No. 218. P. 169-174.
Runciman W. G. Doomed to Extinction: The Polis as an Evolutio¬
nary Dead-end // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxf.:
Clarendon Press, 1991. P. 347-367.
Seltman C. T. Athens, its History and Coinage before the Persian
Invasion. Cambridge: Univ. Press, 1924.
Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of Experiment. L.: Dent &
Sons, 1980.
Stahl M. Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen. Stuttgart:
Steiner, 1987.
Список источников о литературы
219
Stanley P. V. The Economic Reforms of Solon. St. Katharinen: Univ.
Press, 1999.
Starr Ch. G. The Origins of Greek Civilization, 1100-650 B. C. L.:
Jonathan Cape, 1962.
Starr C. G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800-
500 В. C. N.-Y.: Oxford Univ. Press, 1977.
Starr Ch. G. Individual and Community: The Rise of the Polis, 800-
500 В. С. N.-Y., Oxf.: Oxford Univ. Press, 1986.
Tandy D. W. Warriors into Traders: The Power of the Market in Early
Greece. Berkeley: California Univ. Press, 1997.
Thomas C. G., Conant C. Citadel to City-state: The Transformation of
Greece, 1200-700 В. C. Bloomington: Univ. Press, 1999.
Todd S. C. Response to Sally Humphreys // Symposion 1990: Vor¬
träge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln:
Böhlau, 1991. S. 47-53.
Welwei K.-W. Athen: Von neolithischen Siedlungsplatz zur archai¬
schen Großpolis. Darmstadt: Wege der Forschung, 1992.
К теме III
Андреев Ю. В. Апология язычества, или О религиозности древних
греков // ВДИ, 1998. № 1. С. 125-134.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов.
М.: Прогресс, 1995.
Дворецкая И. А., Залюбовина Г. Г., Шервуд Е. А. Кровная месть
у древних греков и германцев. М.: Прометей, 1993.
Доддс Э. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000.
Жмудь Л. Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореиз¬
ме. СПб.: ВГК, 1994.
Зайцев А. И. Греческая религия и мифология. M.-СПб.: Алетейя,
2005.
Залюбовина Г. Т. Идеи пантеизма в архаическом мировоззрении
Древних эллинов. М.: Прометей, 1993.
Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей: В 4 т. М.: Ладомир, 1995.
Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма. Томск: Водолей, 1996.
Каждан А. П. Религия и атеизм в древнем мире. М.: Наука, 1957.
Кулишова О. В. Дельфийский оракул в системе античных межго¬
сударственных отношений (VII-V вв. до н. э.). СПб.: Гуманитарная
академия, 2001.
220
Лекции
Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном из¬
ложении. М.: Мысль, 1989.
Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего
развития. Кн. 1-2. М.: Искусство, 1992-1994.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.:
Мысль, 1993.
Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996.
Лурье С. Я. История античной общественной мысли: Обществен¬
ные группировки и умственные движения в эллинском мире. М.-Л.:
Госиздат, 1929.
Маринович Л. П., Когиеленко Г. А. Судьба Парфенона. М.: Языки
русской культуры, 2000.
Мень А. В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни.
Т. 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпо¬
хи колонизации до Александра. М.: Слово, 1992.
Никитюк Е. В. Процессы по обвинению в нечестии (асебейе)
в Афинах во второй половине V в. до н. э. // Античный мир: Пробле¬
мы истории и культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. С. 117-138.
Онианс Р. На коленях богов: Истоки европейской мысли о душе,
разуме, теле, времени, мире и судьбе. М.: Прогресс, 1999.
Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1990.
Приходько Е. В. Двойное сокровище: Искусство прорицания
Древней Греции: мантика в терминах. М.: Прогресс, 1999.
Селиванова Л. Л. Сравнительная мифология: Мифы о возрожде¬
нии в древнем мире. Ч. 2: Античный мир. М.: ИВИ РАН, 2003.
Суриков И. E. Status versus charisma: сакрализация правите¬
ля в Греции и греческом мире I тыс. до н. э. // Сакрализация вла¬
сти в истории цивилизаций. Ч. 2-3. М.: Ин-т Африки РАН, 2005.
С. 7-34.
Фестюжьер А.-Ж. Личная религия греков. СПб.: Алетейя, 2000.
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Наука,
1978.
Фрейденберг О. М. Миф и театр. М.: Театр, 1988.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Blundell М. W. Helping Friends and Harming Enemies: A Study *n
Sophocles and Greek Ethics. Cambridge: Univ. Press, 1991.
Список источников и литературы
221
Burkert W. Greek Religion: Archaic and Classical. Cambridge (Mass).:
Harvard Univ. Press, 1985.
Burkert W. Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Reli¬
gions. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1996.
Castriota D. Myth, Ethos and Actuality: Official Art in Fifth-Century
В. C. Athens. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1992.
Comford F. M. Principium sapientiae: The Origins of Greek Philo¬
sophical Thought. Cambridge: Univ. Press, 1952.
Comford F. M. From Religion to Philosophy: A Study in the Origins
of Western Speculation. N.-Y.: Harper & Row, 1957.
Del Grande C. Hybris: Colpa e castigo nelPespressione poetica e let-
teraria degli scrittori della Grecia antica (da Omero a Cleante). Napoli:
Université, 1947.
Diels H. Über Epimenides von Kreta // Sitzungberichte der königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1891. Hlbd. 1.
St. 21. S. 387-403.
Drachmann A. B. Atheism in Pagan Antiquity. L.: Methuen, 1922.
Ehrenberg V. Sophokles und Perikles. München: Beck, 1956.
François G. Le polythéisme et l’emploi au singulier des mots theos,
daimon dans la littérature grecque d’Homère à Platon. P.: Boccard, 1957.
Giuliani A. La città e l’oracolo: I rapporti tra Atene e Delfi in età
arcaica e classica. Milano: Vita e pensiero, 2001.
Grube G. M. A. Euripides and the Gods // Euripides: A Collection of
Critical Essays. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968. P. 34-50.
Jaeger W. Humanism and Theology. Milwaukee: Univ. Press, 1943.
Jaeger W. The Theology of the Early Greek Philosophers. Oxf.: Cla¬
rendon Press, 1948.
Kerferd G. B. The Sophistic Movement. Cambridge: Univ. Press,
1984.
Kolb F. Die Bau-, Religions- und Kulturpolitik des Peisistratiden //
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 1977. Bd. 92. S. 99-
138.
Lévy E. Athènes devant la défaite de 404: Histoire d’une crise ideo-
tagique. P.: Ecole Franç., 1976.
Lloyd-Jones H. The Justice of Zeus. Berkeley: Univ. of California
Vss, 1971.
Lonis R. Guerre et religion en Grèce à l’époque classique. P.: Maspero,
1979.
222
Лекщц
Moreaux A. Eschyle: la violence et le chaos. P.: Maspero, 1985.
Morgan C. Athletes and Oracles: The Transformation of Olympia and
Delphi in the Eighth Century В. C. Cambridge: Univ. Press, 1994.
Nilsson M. P. Greek Piety. Oxf.: Clarendon Press, 1948.
Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. Bd. 1. München:
Beck, 1955.
North H. F. A Period of Opposition to Sôphrosynê in Greek Thought //
Transactions of the American Philological Assosiation, 1947. Vol. 78.
P. 1-17.
Parke H. W., Wormell D. E. W. The Delphic Oracle. Vol. 1-2. Oxf.:
Blackwell, 1956.
Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Reli¬
gion. Oxf.: Clarendon Press, 1985.
Price S. Religions of the Ancient Greeks. Cambridge: Univ. Press,
2000.
RudhardtJ. Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes
constitutifs du culte dans la Grèce classique: Étude préliminaire pour
aider à la comprehension de la piété athénienne au IVme siècle. Genève:
Droz, 1958.
Schachermeyr F. Religionspolitik und Religiosität bei Perikles. Wien:
Böhlau, 1968.
Snell B. Aristophanes und die Ästhetik // Die Antike. 1937. Bd. 13.
S. 249-271.
Snell B. The Discovery of the Mind: The Greek Origins of European
Thought. N.-Y.: Harper, 1960.
Sourvinou-Inwood Chr. What is Polis Religion? // The Greek City:
From Homer to Alexander. Oxf.: Clarendon Press, 1991. P. 295-332.
Sourvinou-Inwood Chr. “Reading” Greek Death: To the End of the
Classical Period. Oxf.: Clarendon Press, 1996.
Taeger F. Charisma: Studien zur Geschichte des antiken Herrscher¬
kultes. Bd. 1-2. Stuttgart: Kohlhammer, 1957.
Vemant J.-P. Mythe et pensée chez les Grecs. T. 1-2. P.: Maspero,
1971.
VemantJ.-P. Myth and Society in Ancient Greece. Brighton: Harves¬
ter Press, 1980.
Versnel H. S. Religion and Democracy // Die athenische Demokratie
im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart: Steiner, 1995. S. 367-387.
Список источников и литературы
223
Whitman С. Н. Euripides and the Full Circle of Myth. Cambridge
(Mass.): Harvard Univ. Press, 1974.
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Der Glaube der Hellenen. Bd. 1-2.
Basel: Schwabe, 1959.
К теме IV
Бахтин M. M. Творчество Франсуа Рабле и народная культу¬
ра Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература,
1990.
Молчанов А. А., Суриков И. Е. У истоков остракизма // Власть, че¬
ловек, общество в античном мире. М.: ИВИ РАН, 1997. С. 252-260.
Суриков И. Е. К историко-хронологическому контексту послед¬
него афинского остракизма // Античность: эпоха и люди. Казань:
Мастер Л айн, 2000. С. 17-27.
Суриков И. Е. Остракизм и остраконы: в Афинах и за их предела¬
ми // Hyperboreus. 2000. Vol. 6. Fase. 1. P. 103-123.
Суриков И. Е. Закон Клисфена об остракизме: к реконструкции
некоторых формулировок // Древнее право. 2000. № 1 (6). С. 14-22.
Суриков И. Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в. до н. э.
и первые остракофории // ВДИ. 2001. № 2. С. 118-130.
Суриков И. Е. Античная нарративная традиция об институте ост¬
ракизма // Studia historica. T. 2. М., 2002. C. 51-74.
Суриков И. E. IV речь Корпуса Андокида как исторический ис¬
точник // Проблемы истории, филологии, культуры. 2003. Вып. 13.
С. 3-13.
Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская поли¬
тическая элита // ВДИ. 2004. № 1. С. 3-30.
Суриков И. Е. Острака и афинская просопография // Вест. Ниже-
город. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. История. 2004. Вып. 1 (3).
С. 51-65.
Bicknell P.J. Agora Ostrakon Р 7103 // L’Antiquité classique. 1974.
Vol. 43. P. 334-337.
Bicknell P.J. Agasias the Donkey // Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik. 1986. Bd. 62. S. 183-184.
Brenne S. «Portraits» auf Ostraka // Mitteilungen des Deuts¬
chen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. 1992. Bd. 107.
S. 161-185.
224
Лекццц
Brenne S. Ostraka and the Process of Ostrakophoria // The Archaeo¬
logy of Athens and Attica under the Democracy. Oxf.: Oxbow Books,
1994. P. 13-24.
Brenne S. Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische Bürger des
5. Jhs. v. Chr. auf den Ostraka. Wien: Holzhausen, 2001.
Brenne S. Die Ostraka (487 — ca. 416 v. Chr.) als Testimonien //
Ostrakismos-Testimonien I: Die Zeugnisse antiker Autoren, der
Inschriften und Ostraka über das athenische Scherbengericht aus
vorhellenistischer Zeit (487-322 v. Chr.). Stuttgart: Steiner, 2002.
S. 36-166.
Calderini A. L’ostracismo. Сото: Marzoratti, 1945.
CarcopinoJ. L’ostracisme athénien. 2 ed. P.: Alcan, 1935.
Christ M. R. Ostracism, Sycophancy and Deception of the Demos:
[Arist.] Ath. pol. 43,5 // Classical Quarterly. 1992. Vol. 42. No. 2.
P. 336-346.
Connor W. R. The New Politicians of Fifth-Century Athens. Prince¬
ton: Univ. Press, 1971.
Develin R. Cleisthenes and Ostracism: Precedents and Intentions //
Antichthon. 1977. Vol. 11. P. 10-21.
Dreher M. Verbannung ohne Vergehen: Der Ostrakismos (das Scher¬
bengericht) // Große Prozesse im antiken Athen. München: Beck, 2000.
S. 66-77.
Forsdyke S. Exile, Ostracism and the Athenian Democracy // Classi¬
cal Antiquity. 2000. Vol. 19. No. 2. P. 232-263.
Hall L. G. H. Remarks on the Law of Ostracism // Tyche. 1989. Bd. 4.
S. 91-100.
Heftner H. Ende und “Nachleben” des Ostrakismos in Athen // His-
toria. 2003. Bd. 52. Ht. 1. S. 23-38.
Heuss A. Vom Anfang und Ende “archaischer” Politik bei den Grie¬
chen // Gnomosyne: Menschliches Denken und Handeln in der früh-
griechischen Literatur. München: Beck, 1981. S. 1-29.
Homblower 5. The Greek World 479-323 BC. 3 ed. L.; N.-Y.: Rout-
ledge, 2002.
Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil 3b. A Com¬
mentary on the Ancient Historians of Athens. Vol. 1-2. Leiden: Brill,
1954.
Keaney J.J., Raubitschek A.E. A Late Byzantine Account of Ostra¬
cism // American Journal of Philology, 1972. Vol. 93. No. 1. P. 87-91.
Список источников и литературы
225
Lang М. Ostraka (The Athenian Agora. Vol. 25). Princeton: American
School, 1990.
Larsen J.A. О. Cleisthenes and the Development of the Theory
of Democracy at Athens // Essays in Political Theory Presented to
G. H. Sabine. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1948. P. 1-16.
Lavelle В. M. The Sorrow and the Pity: A Prolegomenon to a History
of Athens under the Peisistratids, c. 560-510 В. C. Stuttgart: Steiner,
1993.
Martin A. L’ostracisme athénien: un demi-siècle de découvertes
et de recherches // Revue des études grecques, 1989. Vol. 102.
P. 124-145.
Mattingly H. B. The Practice of Ostracism at Athens // Antichthon,
1991. Vol. 25. P. 1-26.
Mirhady D. C. The Ritual Background to Athenian Ostracism //
Ancient History Bulletin, 1997. Vol. 11. No. 1. P. 13-19.
Mossé C. De l’ostracisme aux procès politiques: le fonctionnement
de la vie politique à Athènes // Istituto universitario orientale (Napoli).
Annali. Sezione di archeologia e storia antica, 1985. Vol. 7. P. 9-18.
Mossé C. Dictionnaire de la civilisation grecque. Bruxelles: Complexe,
1992.
Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens. Princeton: Univ. Press,
1989.
Phillips D.J. Athenian Ostracism // Hellenika: Essays on Greek
Politics and History. North Ryde: Univ. Press, 1982. P. 21-43.
Raubitschek A. E. Athenian Ostracism // Classical Journal, 1953.
Vol. 48. No. 4. P. 113-122.
Rhodes P.J. The Ostracism of Hyperbolus // Ritual, Finance, Politics:
Athenian Democratic Accounts Presented to D. Lewis. Oxf.: Clarendon
Press, 1994. P. 85-98.
Robinson E. W. The First Democracies: Early Popular Government
outside Athens. Stuttgart: Steiner, 1997.
Stanton G. R. The Introduction of Ostracism and Alcmeonid Pro¬
paganda //Journal of Hellenic Studies, 1970. Vol. 90. P. 180-183.
Thomsen R. The Origin of Ostracism: A Synthesis. Aarhus: Gyldendal,
1972.
Vanderpool E. Ostracism at Athens. Cincinnati: Univ., 1970.
Vinogradov J. G. Ostrakismos als strenges Kampfmittel für Demo¬
kratie im Lichte der neuen Funde aus Chersonesos Taurike // Gab es
226
Лекции
das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6.
und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Mainz: Zabern, 2001. S. 379-
386.
Weber C. W. Athen: Aufstieg und Größe des antiken Stadtstaates.
Köln: Herrsching, 1981.
Willemsen F. Ostraka // Mitteilungen des Deutschen Archäologi¬
schen Instituts. Athenische Abteilung, 1965. Bd. 80. S. 100-126.
К теме V
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994.
Каллистов Д. П. Античный театр. Л.: Искусство, 1970.
Лурье С. Я. К вопросу о политической борьбе в Афинах в конце
V в. // ВДИ, 1954. № 3. С. 23-33.
Лурье С. Я. Политическая тенденция трагедии Эсхила «Евмени¬
ды» // ВДИ, 1958. № 3. С. 42-54.
Лурье С. Я. «Скованный Прометей» Эсхила и афинская демокра¬
тия // Античное общество. М.: Наука, 1967. С. 291-300.
Магаффи Дж. История классического периода греческой литера¬
туры. Т. 1. М.: Стасюлевич, 1882.
Пиотровский Адр. Театр Аристофана // Адриан Пиотровский.
Театр. Кино. Жизнь. Л.: Театр, 1969. С. 177-196.
Радциг С. И. Миф и действительность в греческой трагедии //
Науч. доклады высш. шк. Филол. науки, 1962. № 2. С. 114-127.
Радциг С. И. К вопросу о политической тенденции Эсхила в «Эв¬
менидах» // ВДИ, 1968. № 2. С. 29-41.
Родс П.Дж. Афинский театр в политическом контексте // ВДИ,
2004. № 2. С. 33-56.
Суриков И. Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н. э. //
ВДИ, 1995. №1. С. 23-40.
Суриков И. Е. Аттическая трагедия и политическая борьба в Афи¬
нах // Античный вестн. Вып. 4-5. Омск, 1999. С. 187-193.
Суриков И. Е. Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая
борьба в Афинах // ВДИ, 2002. № 1. С. 15-24.
Суриков И. Е. Клио на подмостках: классическая греческая драма
и историческое сознание // «Цепь времен»: проблемы историческо¬
го сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 89-104.
Ярхо В. Н. Миф и политика в древнегреческой трагедии // Вопр.
истории, 1970. № 1. С. 209-214.
Список источников и литературы
227
Bowie А. М. Religion and Politics in Aeschylus’ Oresteia // Classical
Quarterly, 1993. Vol. 43. No. 1. P. 10-31.
Braun M. Die «Eumeniden» des Aischylos und der Areopag. Tübin¬
gen: Univ., 1998.
Degani E. Aristofane e la tradizione dell’invettiva personale in Gre-
cia // Entretiens sur l’antiquité classique, 1991. Vol. 38. P. 1-49.
Dover K.J. The Political Aspect of Aeschylus’ Eumenides //Journal
of Hellenic Studies, 1957. Vol. 77. No. 2. P. 230-237.
Ehrenberg V. Sophokles und Perikles. München: Beck, 1956.
Ehrenberg V. The People of Aristophanes. 3 ed. N.-Y.: Schocken, 1962.
Fuscagni S. La condanna di Temistocle e PAiace di Sofocle // Istituto
lombardo. Accademia di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di lettere
e scienze morali e storiche, 1979. Vol. 113. P. 167-187.
Garvie A. F. Aeschylus’ Supplices: Play and Trilogy. Cambridge: Univ.
Press, 1969.
Goldhill S. Civic Ideology and the Problem of Difference: The Politics
of Aeschylean Tragedy //Journal of Hellenic Studies, 2000. Vol. 120.
P. 34-54.
Greek Tragedy and Political Theory / Ed. by J.P. Euben. Berkeley:
Univ. of California Press, 1986.
Giilke Chr. Mythos und Zeitgeschichte bei Aischylos. Meisenheim:
Hain, 1969.
Hall E. Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through Tra¬
gedy. Oxf.: Clarendon Press, 1991.
Jameson M. H. Sophocles and the Four Hundred // Historia, 1971.
Bd. 20. Ht. 5/6. S. 541-568.
Karavites P. Tradition, Scepticism and Sophocles’ Political Career //
Klio, 1976. Bd. 58. Ht. 2. S. 359-365.
Kitto H. D. F. Sophocles: Dramatist and Philosopher. L.: Methuen,
1958.
Kitto H. D. F. Greek Tragedy: A Literary Study. 3 ed. L.: Methuen,
1966.
Knox B. Sophocles and the Polis // Entretiens sur l’antiquité clas¬
sique, 1983. Vol. 29. P. 1-27.
MacDowell D. M. Aristophanes and Athens: An Introduction to the
Plays. Oxf.: Clarendon Press, 1996.
Macleod C. W. Politics in the Oresteia //Journal of Hellenic Studies,
j 1982. Vol. 102. P. 124-144.
228
Macurdy G. H. References to Thucydides, Son of Melesias, and to
Pericles in Sophocles ОТ 863-910 // Classical Philology, 1942. Vol. 37.
No. 3. P. 307-310.
Mazzarino S. Eschilo, Pericle e la storia delPAreopago // Rivista di
cultura classica e medioevale, 1960. Vol. 2. Fasc. 3. P. 300-306.
Meier Chr. Die politische Kunst der griechischen Tragödie. Dresden:
Kunst, 1988.
Meier Chr. Politik und Tragödie im 5. Jahrhundert // Philologus,
1991. Bd. 135. Ht. 1. S. 70-87.
Murray G. Euripides and his Age. L.: Methuen, 1923.
Nothing to Do with Dionysus? Athenian Drama in its Social Con¬
text / Ed. by J. J. Winkler, F. I. Zeitlin. Princeton: Univ. Press, 1990.
O’Neill E. Note on Phrynichus* Phoenissae and Aeschylus’ Persae //
Classical Philology, 1942. Vol. 37. No. 4. P. 425-427.
Plassart A. Eschyle et le fronton Est du temple delphique des Alc-
méonides // Revue des études anciennes, 1940. Vol. 42. P. 293-299.
Podlecki A.J. The Political Background of Aeschylean Tragedy. Ann
Arbor: Univ. Press of Michigan, 1966.
Post L. A. The Seven against Thebes as Propaganda for Pericles //
Classical Weekly, 1950. Vol. 44. No. 4. P. 49-52.
Schwarze J. Die Beurteilung des Perikies durch die attische Komödie
und ihre historische und historiographische Bedeutung. München: Beck,
1971.
Smertenko C. M., Belknap G. N. Studies in Greek Religion. Eugene:
Univ. of Oregon, 1935.
Spoudaiogeloion: Form und Funktion der Verspottung in der aristopha¬
nischen Komödie / Hrsg. von A. Ercolani. Stuttgart; Weimar Univ., 2002.
Storey I. Poets, Politicians and Perverts: Personal Humour in Ari¬
stophanes // Classics Ireland, 1998. Vol. 5. P. 85-134.
Vemant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie en Grèce ancienne.
T. 1-2. P.: Maspero, 1981-1986.
Vickers M. Alcibiades on Stage: Philoctetes and Cyclops // Historia.
1987. Bd. 36. Ht. 2. S. 171-197.
Vickers M. Alcibiades on Stage: Thesmophoriazusae and Helen //
Historia. 1988. Bd. 38. Ht. 1. S. 41-65.
Wallace R. W. Speech, Song and Text, Public and Private // Die
athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart: Steiner,
1995. S. 199-217.
Список источников и литературы
229
WilamowitZ'Moellendorff U. von. Der Glaube der Hellenen. Bd. 1-2.
Basel: Schwabe, 1959.
Zielinski Th. L’évolution religieuse d’Euripide // Revue des études
grecques, 1923. Vol. 36. P. 459-479.
К теме VI
Блаватская Т. В. Черты истории государственности Эллады
(XII — VII вв. до н. э.). СПб.: Алетейя, 2003.
Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Ин-т социологии РАН,
2001.
Стрелков А. В. Афинские серебряные монеты «нового стиля» //
Монеты и медали, 1996. [Вып. 1.] С. 14-40.
Стрелков А. В. Афинский монетный декрет // Нумизматика
и эпиграфика, 1999. Т. 16. С. 25-47.
Стрелков А. В. Финансовая структура и финансовая политика
Афин в V-IV вв. до н. э. // Антология источников по истории, куль¬
туре и религии Древней Греции. СПб.: Алетейя, 2000. С. 240-272.
Стрелков А. В. К вопросу об уточнении времени принятия реше¬
ния об эмиссии афинских золотых монет конца V в. до н. э. // Деся¬
тая Всероссийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов
и сообщений. М.: ГИМ, 2002. С. 10-12.
Стрелков А. В. Афинские бронзовые монеты IV-I вв. до н. э. //
Монеты и медали, 2004. Вып. 2. С. 10-55.
Стрелков А. В. К вопросу об афинских коллибах // XIII Всерос¬
сийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов и сообще¬
ний. М.: ГИМ, 2004. С. 11-12.
Суриков И. Е. Полемика о датировке Афинского монетного декре¬
та: к оценке аргументации сторон // X Всероссийская нумизмати¬
ческая конференция: Тезисы докладов и сообщений. М.: ГИМ, 2002.
С. 9-10.
BeuléE. Les monnaies d’Athènes. P.: Maspero, 1858.
Carradicel. Greek Coins. L.: Methuen, 1995.
Casey P.J. Understanding Ancient Coins: An Introduction for Ar¬
chaeologists and Historians. L.: Batsford, 1986.
Dawson S. The Athenian Wappenmünzen // Scholia. 1999. Vol. 8.
P. 71-77.
Furtwängler A. Neue Beobachtungen zur frühesten Münzprägung //
Schweizerische numismatische Rundschau, 1986. Bd. 65. S. 153-165.
230
Head В. V. Historia numonim: A Manual of Greek Numismatics. Oxf.:
Blackwell, 1887 (2 ed. Oxf.: Blackwell, 1911).
Hill G. F. Ancient Greek and Roman Coins. Chicago: Argonaut,
1964.
Hopper R.J. Observation on the Wappenmünzen // Essays in Greek
Coinage Presented to S. Robinson. Oxf.: Clarendon Press, 1968.
P. 16-39.
Howgego Chr. Why did Ancient States Strike Coins? // Numismatic
Chronicle, 1990. Vol. 150. P. 1-25.
Howgego Chr. Ancient History from Coins. L.; N.-Y.: Routledge, 1995.
Jenkins G. K. Ancient Greek Coins. L.: Methuen, 1990.
Kim H. S. Archaic Coinages as Evidence for the Use of Money //
Money and its Uses in the Ancient Greek World. Oxf.: Clarendon Press,
2001. P. 7-21.
Kraay C. M. The Archaic Owls of Athens: Classification and Chro¬
nology // Numismatic Chronicle, 1956. Vol. 16. P. 43-68.
Kraay С. M. The Early Coinage of Athens: a Reply // Numismatic
Chronicle, 1962. Vol. 2. P. 417-423.
Kraay C. M. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley: Univ. of
California Press, 1976.
Kraay C. M. Schatzfunde, Kleingeld und der Ursprung des Münzen //
Methoden der antiken Numismatik. Darmstadt: Wege der Forschung,
1989. P. 1-41.
Kroll J. H. From Wappenmünzen to Gorgoneia to Owls // The Ame¬
rican Numismatic Society. Museum Notes, 1981. Vol. 26. P. 1-32.
KrollJ. H. The Greek Coins (The Athenian Agora. Vol. 26). Princeton:
American School, 1993.
KrollJ. H. Silver in Solon’s Laws // Studies in Greek Numismatics in
Memory of M. J. Price. L.: Methuen, 1998. P. 225-232.
Kroll J. H., Waggoner N. M. Dating the Earliest Coins of Athens,
Corinth and Aegina // American Journal of Archaeology, 1984. Vol. 88.
No. 3. P. 325-340.
Martin Th. R. Sovereignty and Coinage in Classical Greece. Prince¬
ton: Univ. Press, 1985.
Mattingly H. B. New Light on the Athenian Standards Decree (ATL
II, D 14) // Klio, 1993. Bd. 75. S. 99-102.
Mattingly H. B. The Athenian Empire Restored: Epigraphic and
Historical Studies. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1996.
Список источников и литературы
231
Nicolet-Pierre H. De l’ancien au nouveau style athénien: une conti¬
nuité? // Studia Paulo Naster oblata. I. Numismatica antiqua. Leuven:
Univ., 1982. P. 105-112.
Osborne R. Greece in the Making, 1200-479 В. C. L.; N.-Y.: Rout-
ledge, 1996.
Radnoti-Alföldi M. Antike Numismatik. Teil 1. Mainz: Zabern, 1978.
Raven E.J.P. Problems of the Earliest Owls of Athens // Essays in
Greek Coinage Presented to S. Robinson. Oxf.: Clarendon Press, 1968.
P. 40-58.
RebuffatF. La monnaie dans l’antiquité. P.: Boccard, 1996.
Reden S. von. Exchange in Ancient Greece. L.: Methuen, 1995.
Rhodes P.J. Solon and the Numismatists // Numismatic Chronicle,
1975. Vol. 15. P. 1-11.
Robinson E. S. G. The Date of the Earliest Coins // Numismatic
Chronicle, 1956. Vol. 16. P. 1-8.
Ruschenbusch E. Plutarchs Solonbiographie // Zeitschrift für Pa¬
pyrologie und Epigraphik, 1994. Bd. 100. S. 351-380.
Schönhammer M. Some Thoughts on the Athenian Coinage Decree //
Actes du Xle Congrès International du Numismatique. Louvain-la-
Neuve, 1993. Vol. 1. P. 187-191.
SearD. R. Greek Coins and their Values. Vol. 1. L.: Sear, 1997.
Seltman C. T. Athens, its History and Coinage before the Persian
Invasion. Cambridge: Univ. Press, 1924.
Starr Ch. G. Athenian Coinage 480-449 В. C. Oxf.: Clarendon Press,
1970.
Theodorou J. Athenian Silver Coins: 6th-3rd centuries В. C. The
Current Interpretation // Mneme Martin Jessop Price. Athens: Hestia,
1996. P. 51-81.
Thompson M. The New Style Silver Coinage of Athens. Vol. 1-2. N.-Y.:
Routledge, 1961.
TrevettJ. Coinage and Democracy at Athens // Money and its Uses in
the Ancient Greek World. Oxf.: Clarendon Press, 2001. P. 23-34.
Vickers M. Early Greek Coinage, a Reassessment // Numismatic
Chronicle, 1985. Vol. 145. P. 1-44.
Wallace W. P. The Early Coinages of Athens and Euboia // Numisma¬
tic Chronicle, 1962. Vol. 2. P. 23-42.
Welwei K.-W. Athen: vom neolithischen Siedlungsplatz zur archai¬
schen Grosspolis. Darmstadt: Wege der Forschung, 1992.
5.
h ttp://argos.evai\sv'\We .еАм
http: //centant.pu.ru
http: //www.c\\ass.ut0T0YvV0 лга. / ■аХХлк.ъ.
http: //www.csad .o\.ac .y&l
http: / / www.gnomoiv
http: //www.perseus.tvAs.e^w
http: //www.tretvtu.ca/afcto
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерная тематика
курсовых работ и рефератов
1. Исторические труды Геродота и Фуки¬
дида: общее и особенное.
2. Архаическая эпоха в современной ис¬
ториографии: «переоценка ценностей».
3. «Греческое чудо»: оригинальность и за¬
имствования.
4. Основные составляющие «архаической
революции» в древнегреческой исто¬
рии.
5. Религиозность и рационализм в миро¬
ощущении древних греков.
6. Ключевые процессы в эволюции гре¬
ческой религии в архаическую эпоху.
7. Кризис классического полиса: «религи¬
озное измерение».
8. Закон Клисфена об остракизме: причи¬
ны, цели, исторический контекст.
9. Методы и направления источниковед¬
ческого исследования остраконов.
Приложение
10. «Исторические» и «мифологические» драмы в Афинах
V в. до н. э.
11. Политический контекст творчества Эсхила и Софокла.
12. Афинское монетное дело в архаическую эпоху.
Контрольные вопросы к зачету
1. Историческое сознание Геродота и факторы его формиро¬
вания.
2. Историческое сознание Фукидида и факторы его формиро¬
вания.
3. Основные подходы к изучению архаической Греции в совре¬
менной зарубежной историографии.
4. Основные подходы к изучению архаической Греции в совре¬
менной отечественной историографии.
5. Элементы континуитета и дисконтинуитета в развитии Гре¬
ции в архаическую эпоху.
6. Проблема восточных влияний на формирование древнегре¬
ческой цивилизации.
7. Ключевые исторические процессы архаической эпохи: ко¬
лонизация, демографический взрыв, раннее законодатель¬
ство.
8. Феномен архаической греческой тирании.
9. Роль религии в жизни древних греков. Религия и полисная
государственность.
10. Основные характеристики древнегреческой религиозности.
11. Ключевые категории и термины древнегреческого религиоз¬
ного сознания.
12. Эволюция древнегреческой религиозности: от Гомера до кон¬
ца архаики.
13. Религиозность в Афинах до Пелопоннесской войны.
14. Кризис религиозного сознания афинян.
15. Происхождение института остракизма.
16. Функции остракизма в демократическом полисе классиче¬
ской эпохи.
Контрольны* вопросы к зачету
235
17. Оценка института остракизма в контексте полисной цивили¬
зации.
18. Остраконы как исторический источник.
19. Историко-политическая проблематика классической грече¬
ской драмы: общие вопросы.
20. Политические интерпретации произведений Эсхила.
21. Политические интерпретации произведений Софокла.
22. Причины и цели введения чеканной монеты в архаической
Греции.
23. Древнейшие афинские монеты.
24. Проблемы монетной чеканки и монетной политики класси¬
ческих Афин.
Учебное издание
Игорь Евгеньевич Суриков
Архаическая и классическая Греция:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Учебное пособие
Зав. редакцией Игнатова Е. С.
Ведущий редактор Климкин М. С.
Редактор Иванова Н. В.
Корректоры Аввакумова Л. В., Ширяева H. Н.
Художник серии Новикова В. М.
Компьютерная верстка Краснощекова H. М.
Директор издательства Чепыжов В. В.
Подп. в печать 01.02.2007
Формат 60x84/16. Бумага офсетная
Гарнитура «PetersburgC». Печать цифровая
Уел. печ. л. 13,72. Тираж 1000 экз. Заказ № Т-434
ООО «Издательство «КДУ». 119234, г. Москва, а/я 587
Тел./факс: (495) 939-57-32,939-40-51
Http://www.kdu.ru. E-mail: kdu@kdu.ru
Отпечатано в типографии КДУ
Тел./факс: (495) 939-40-36. E-mail: press@kdu.ru