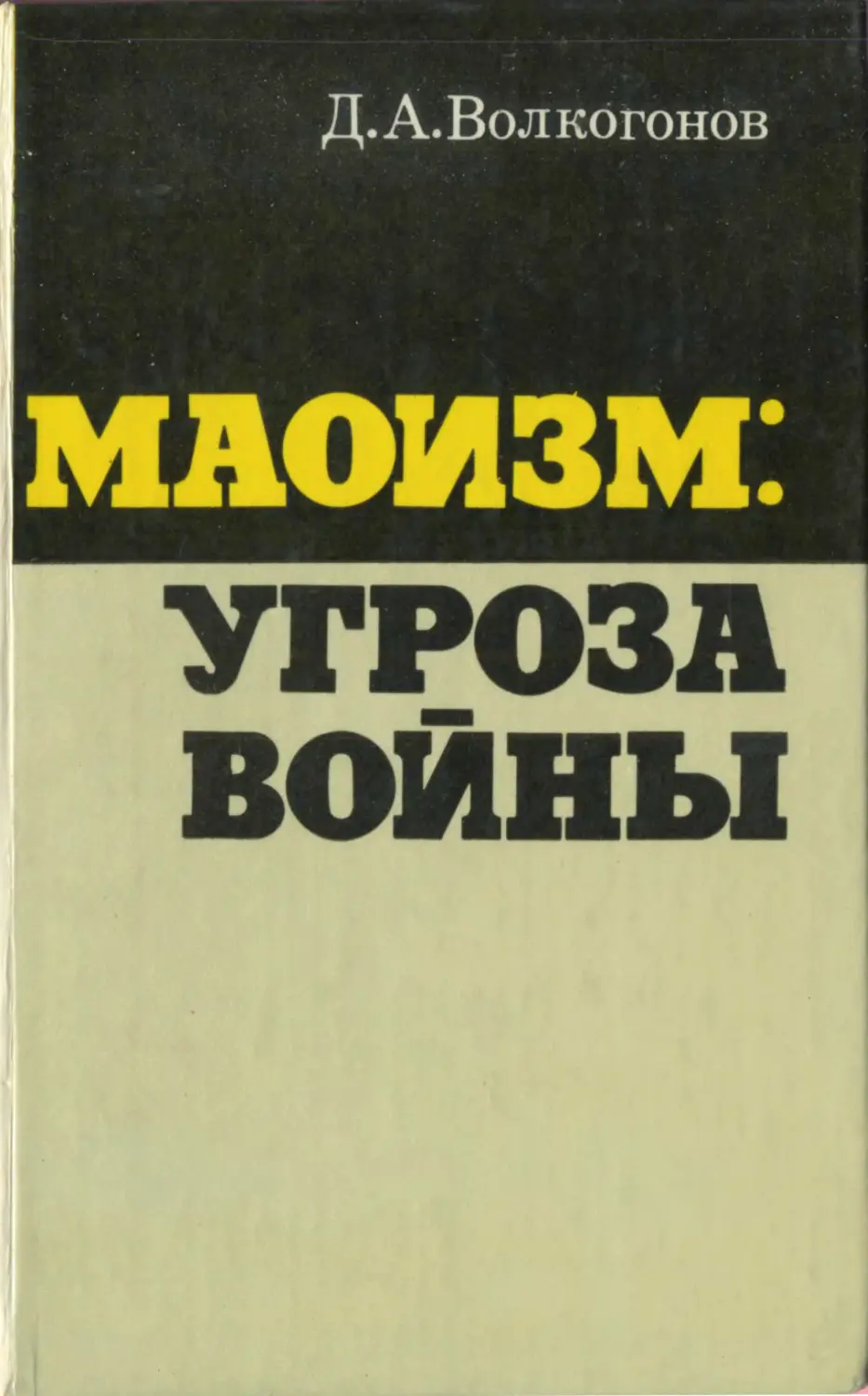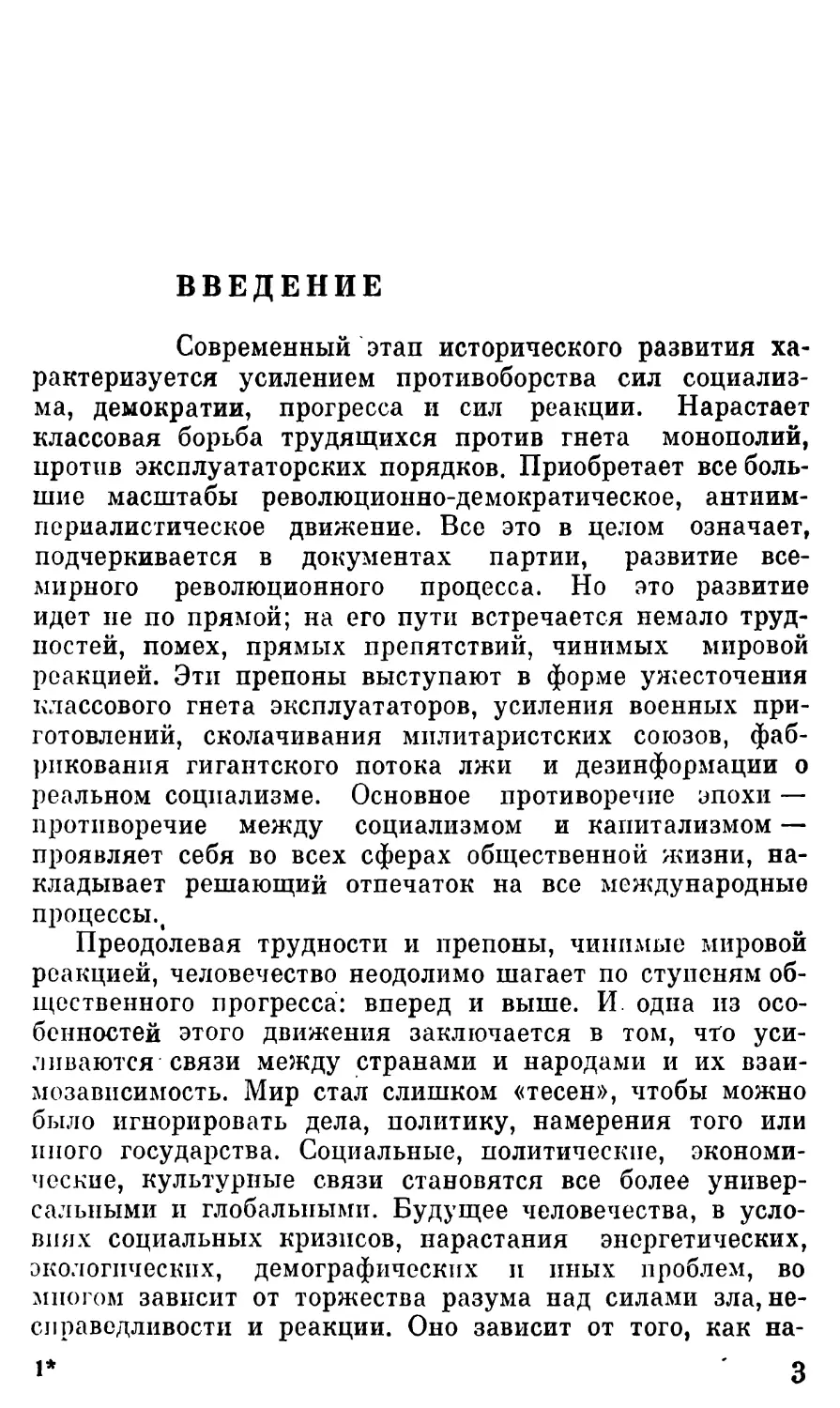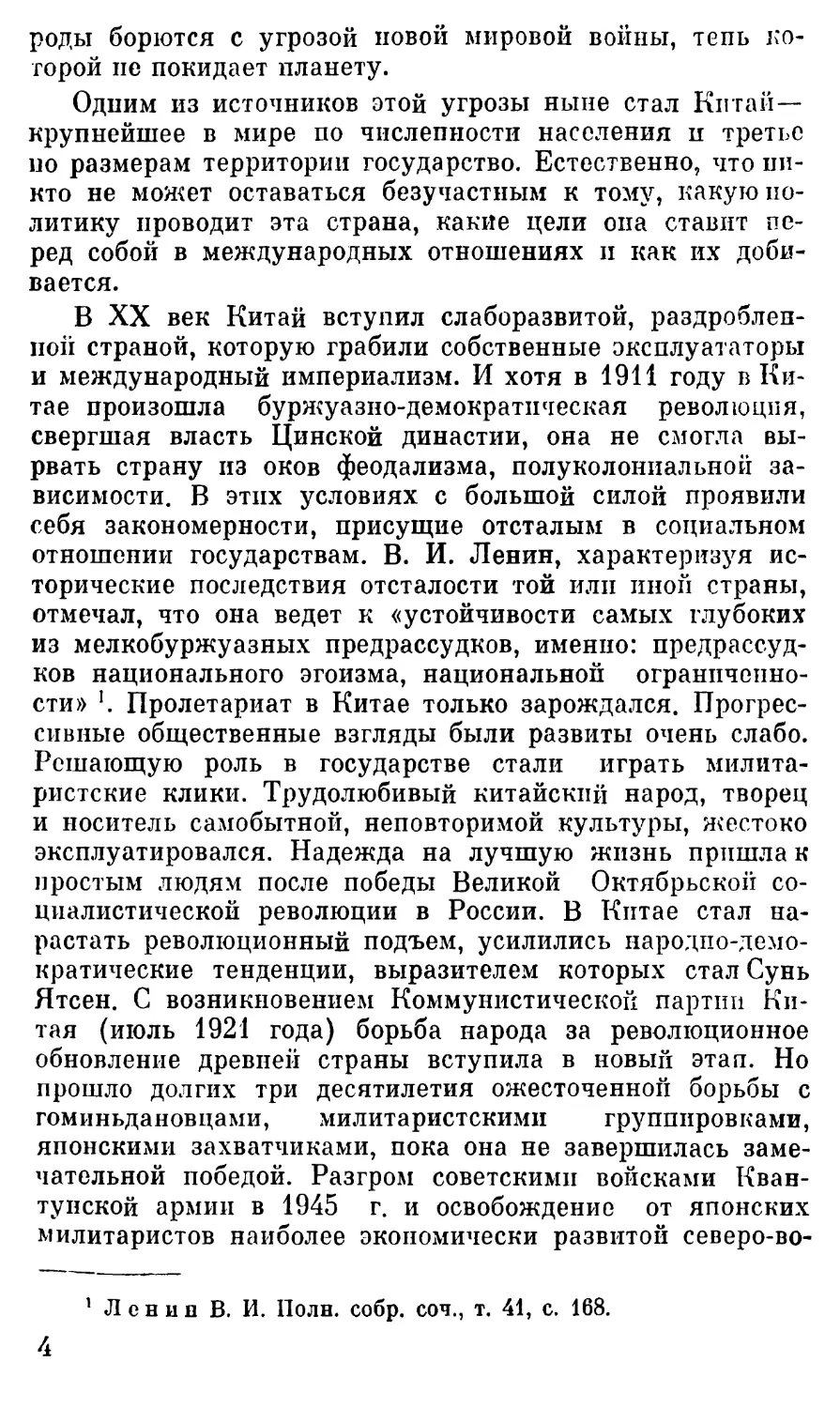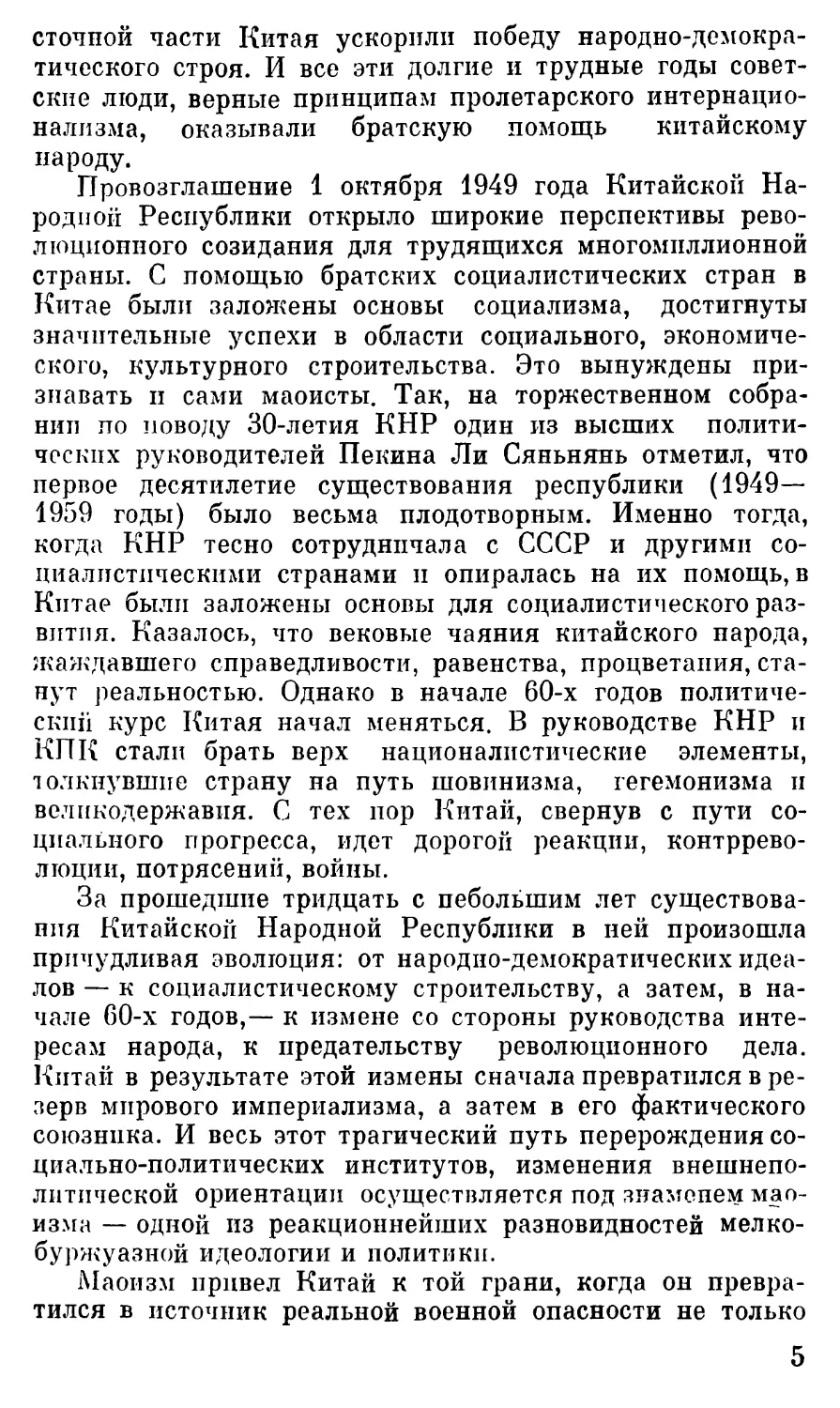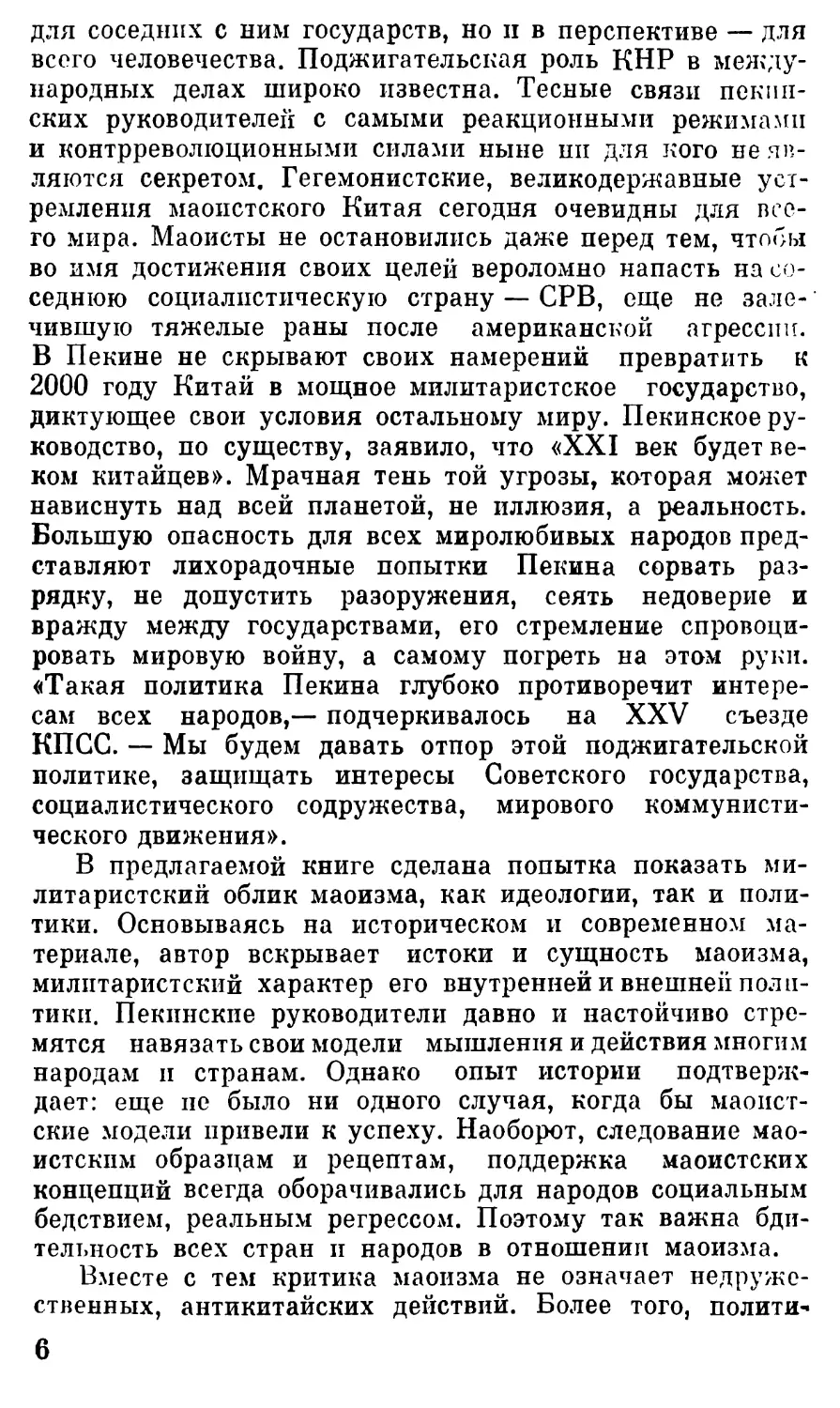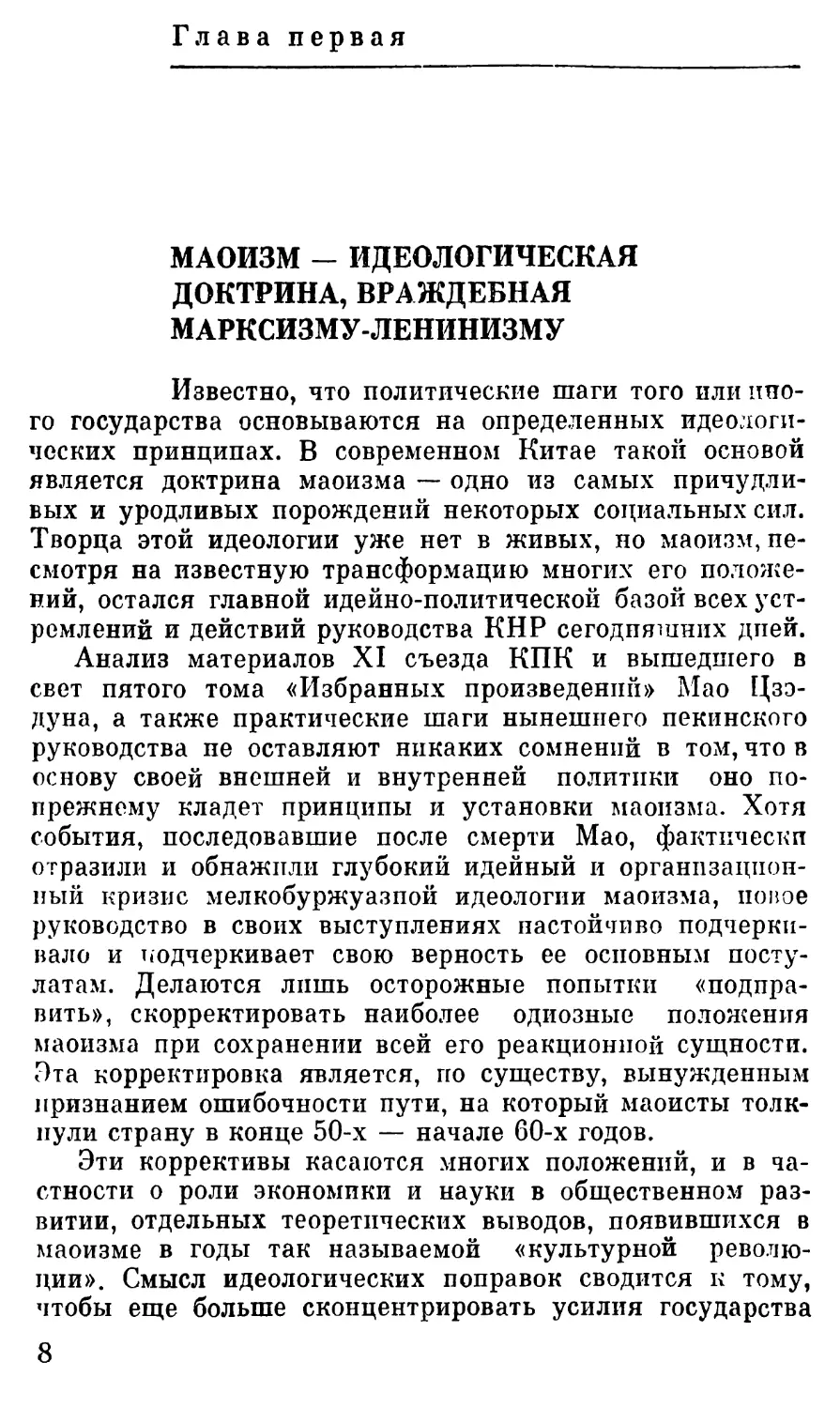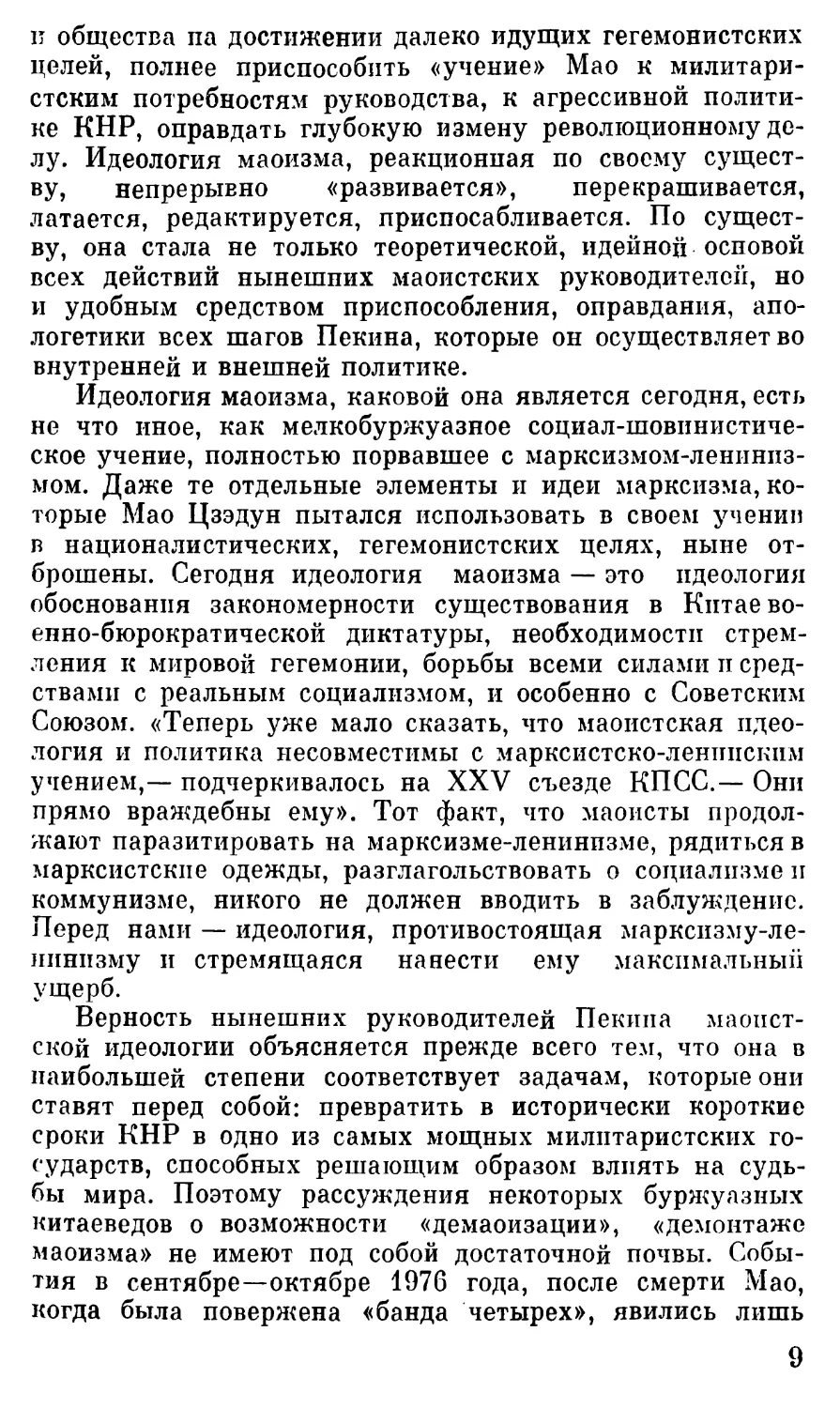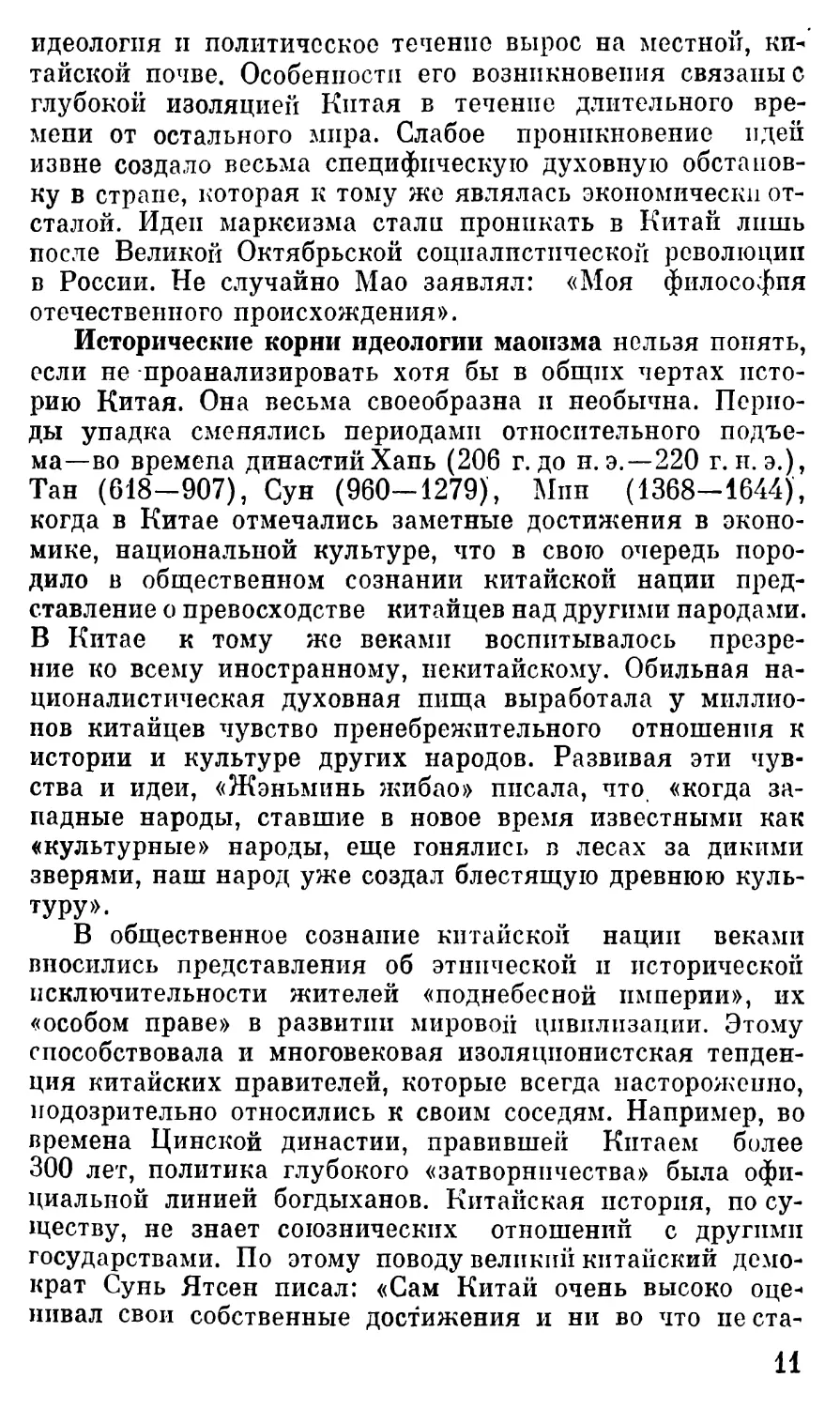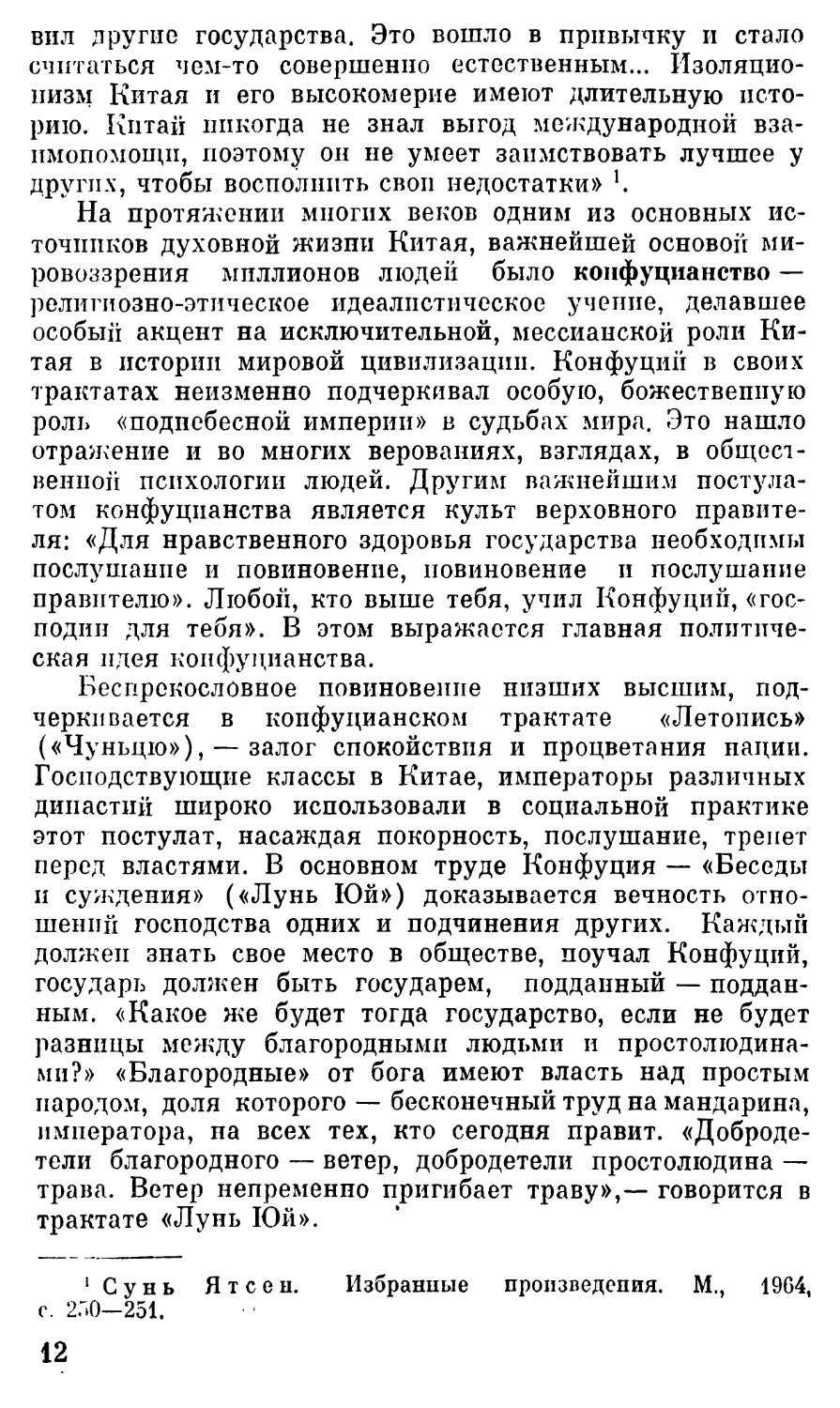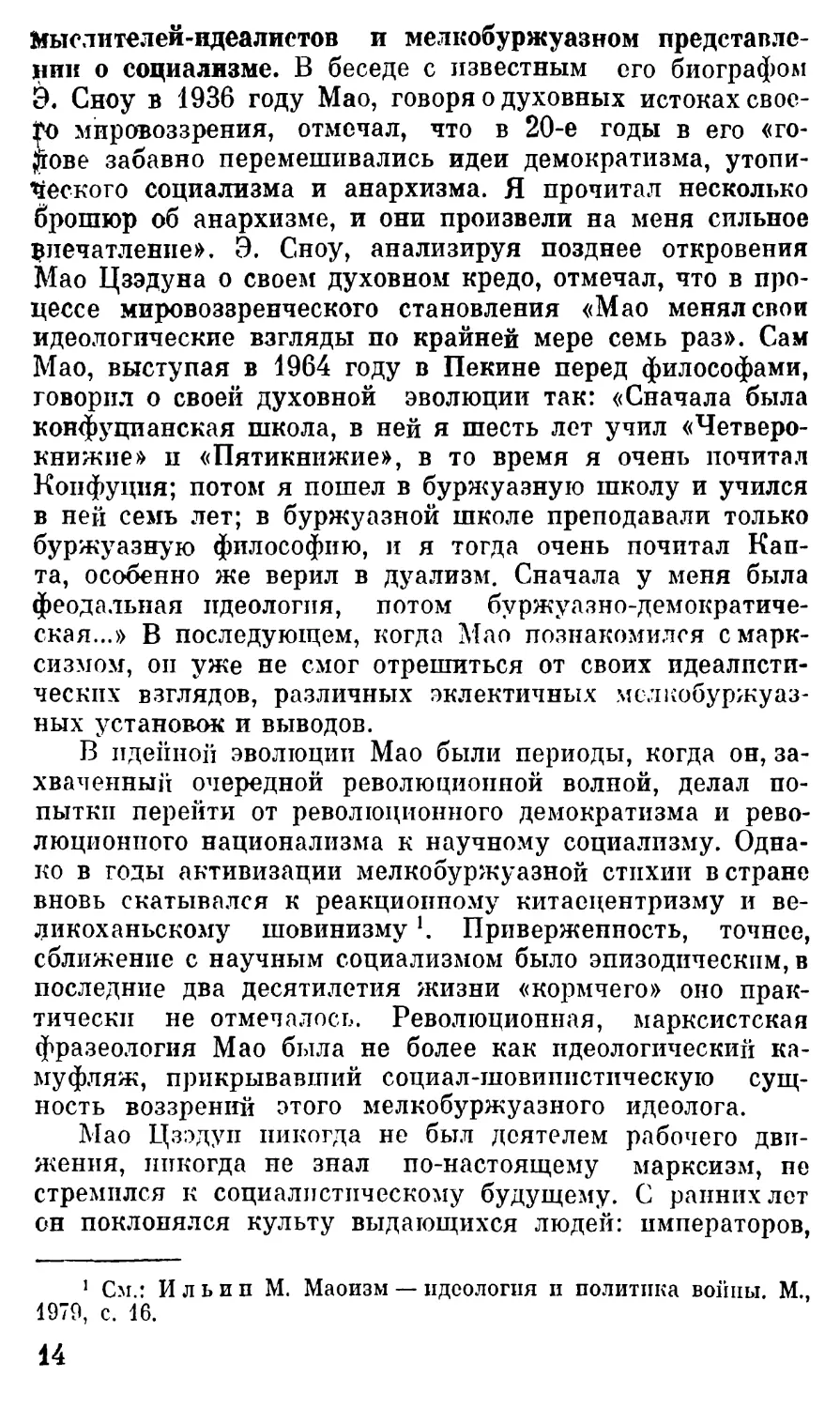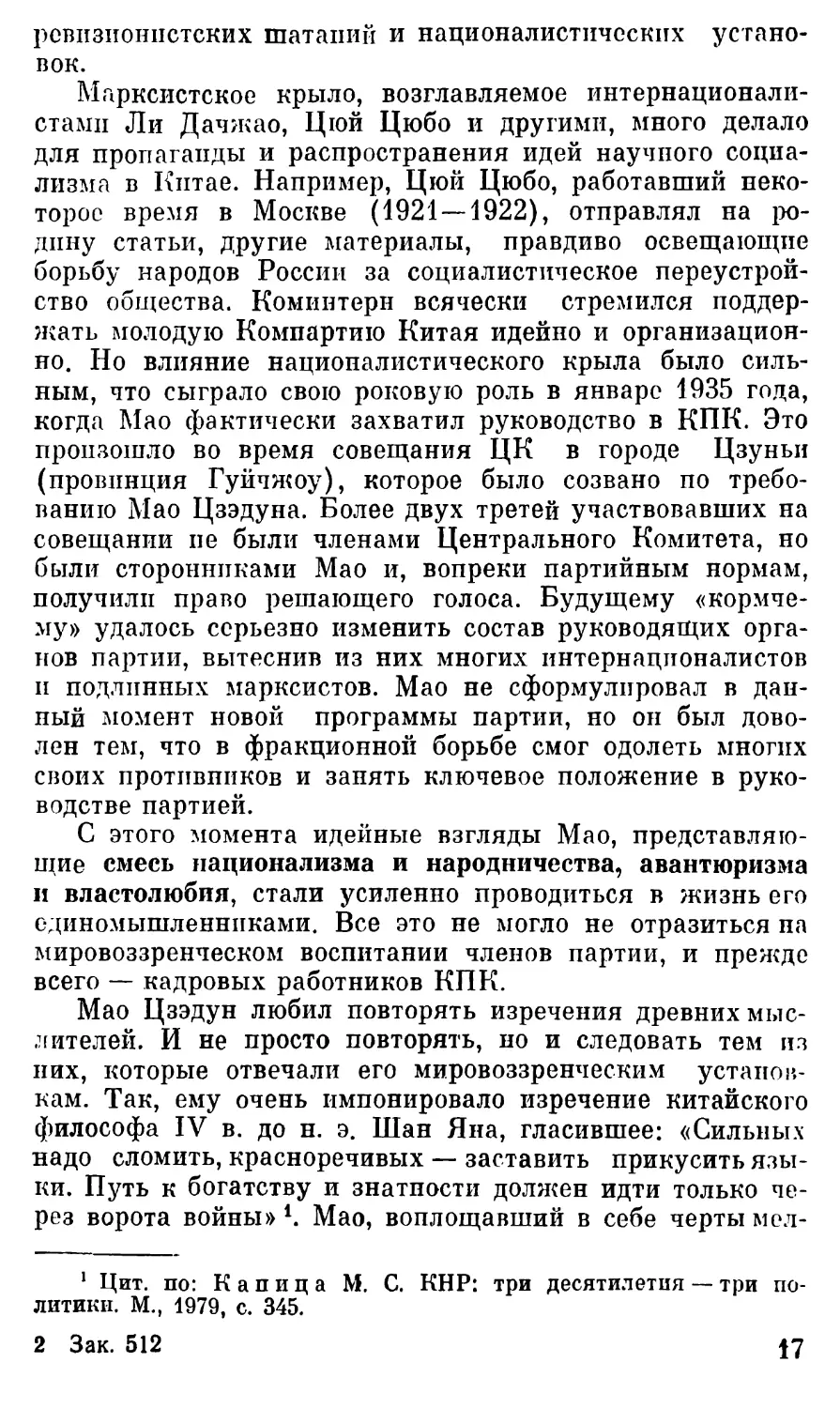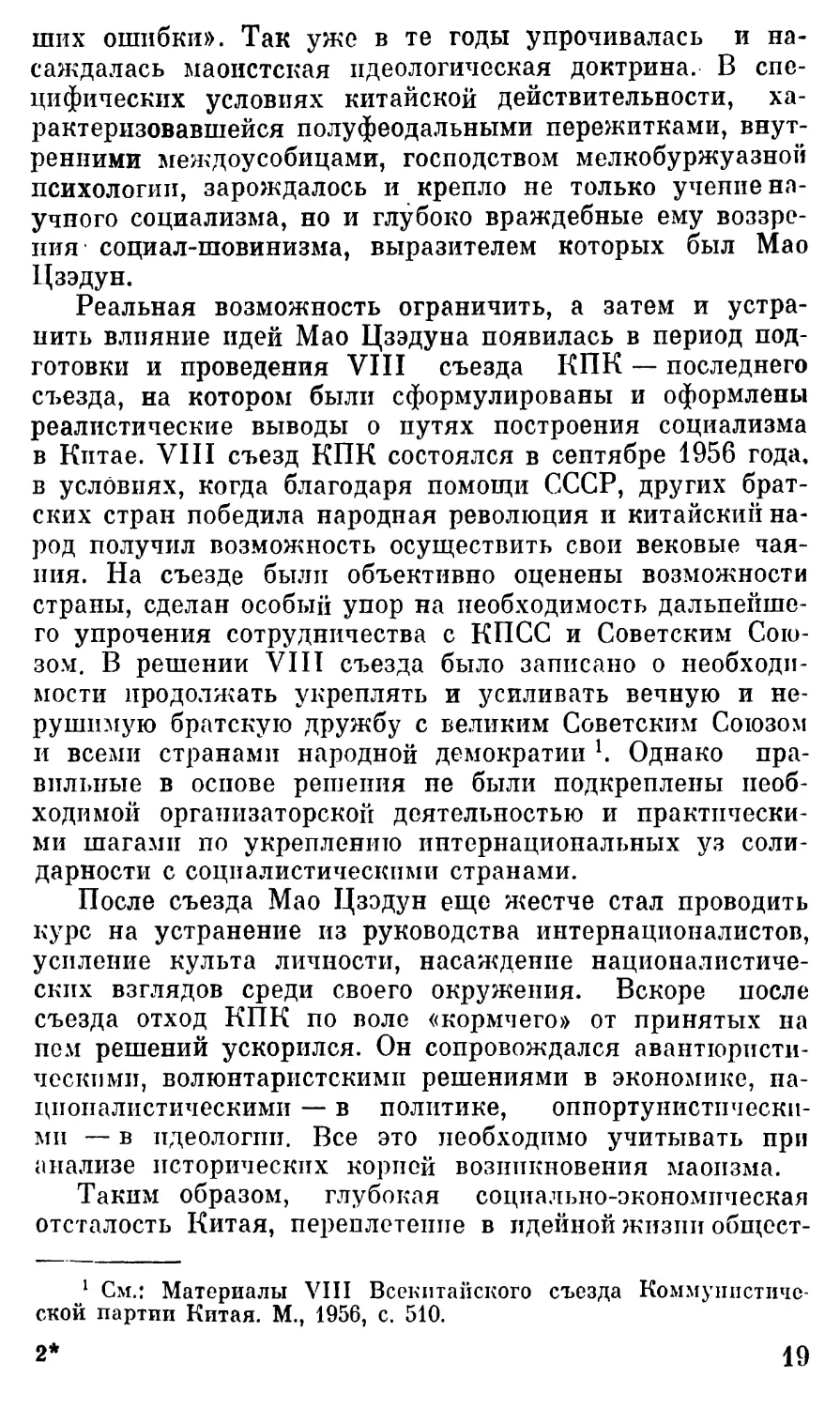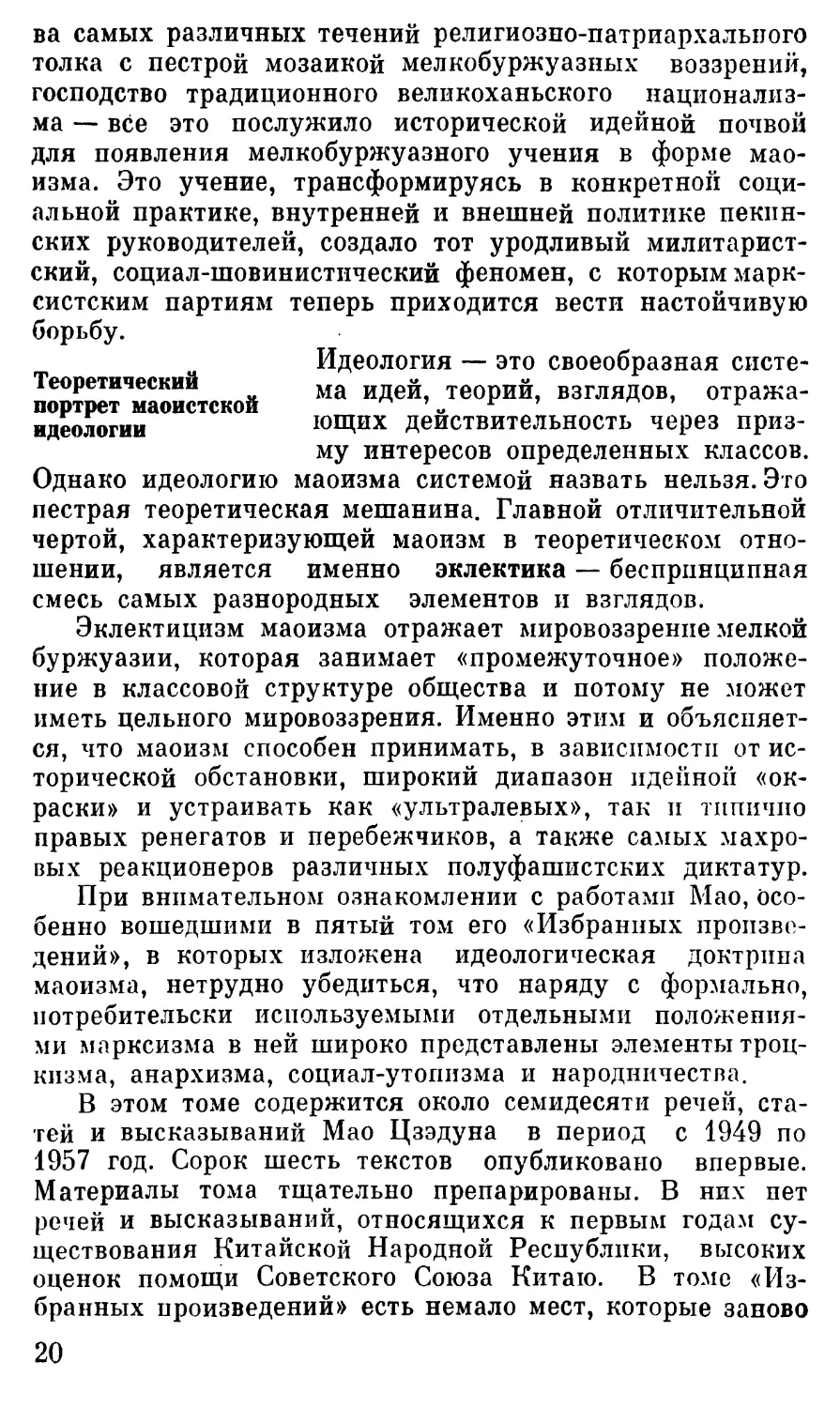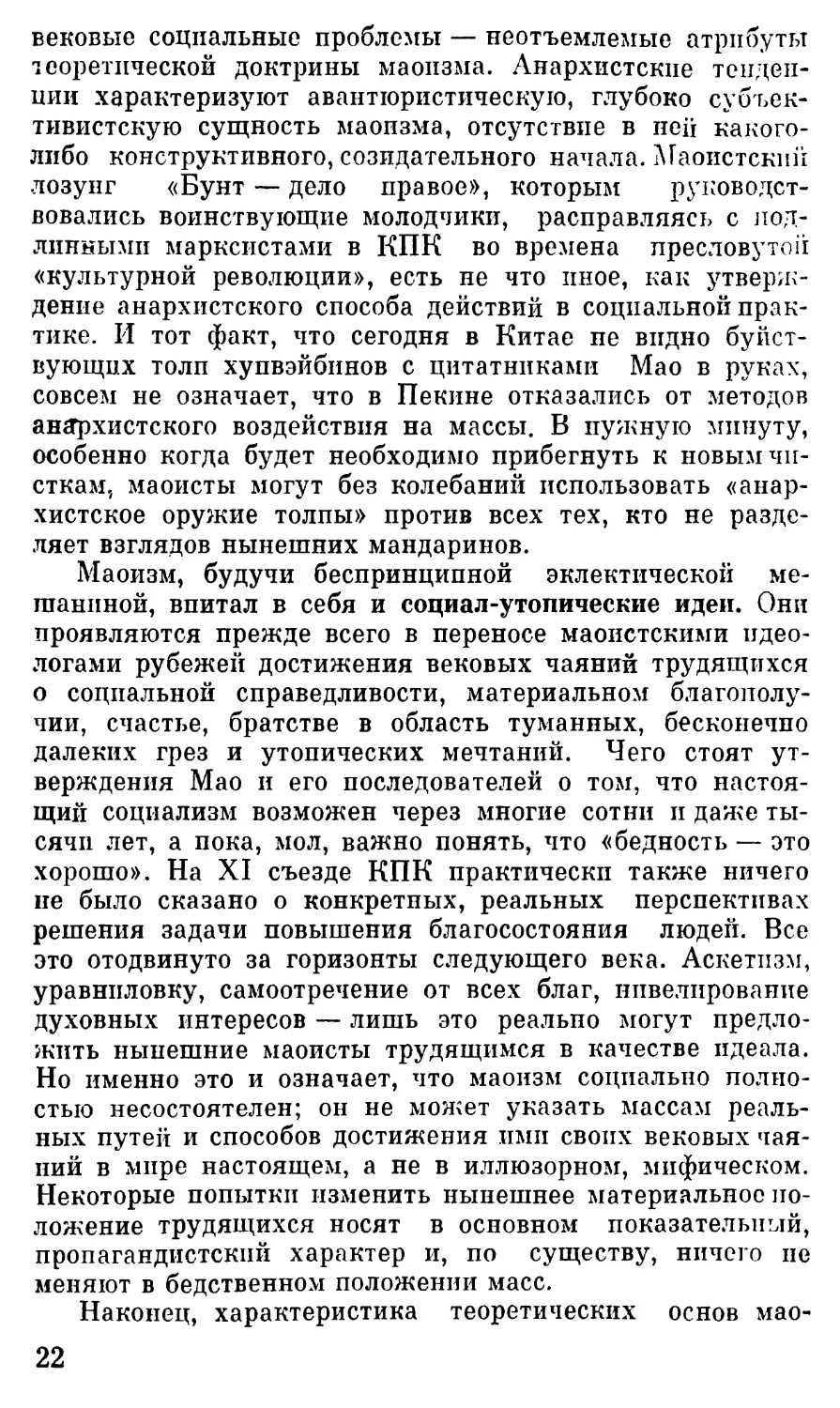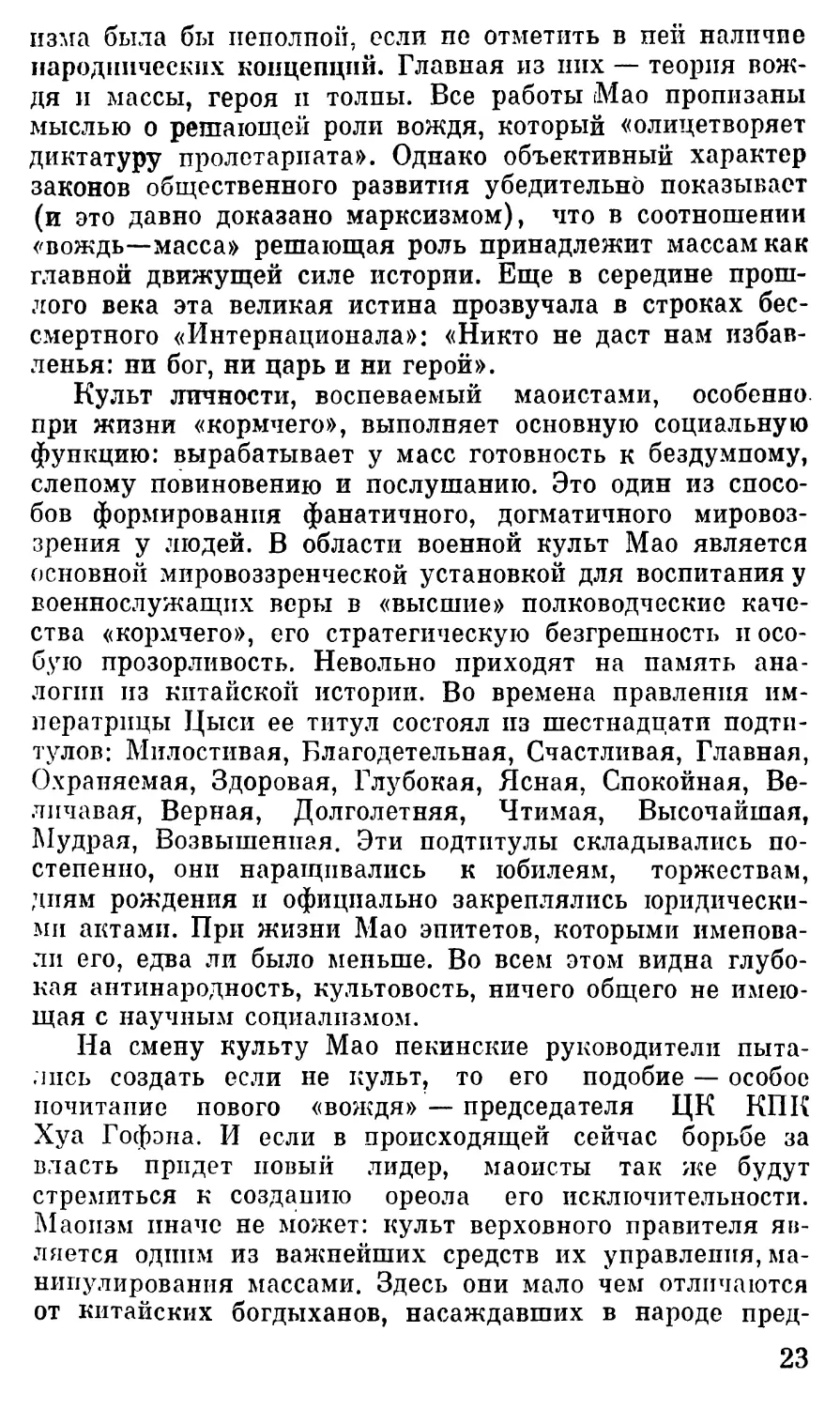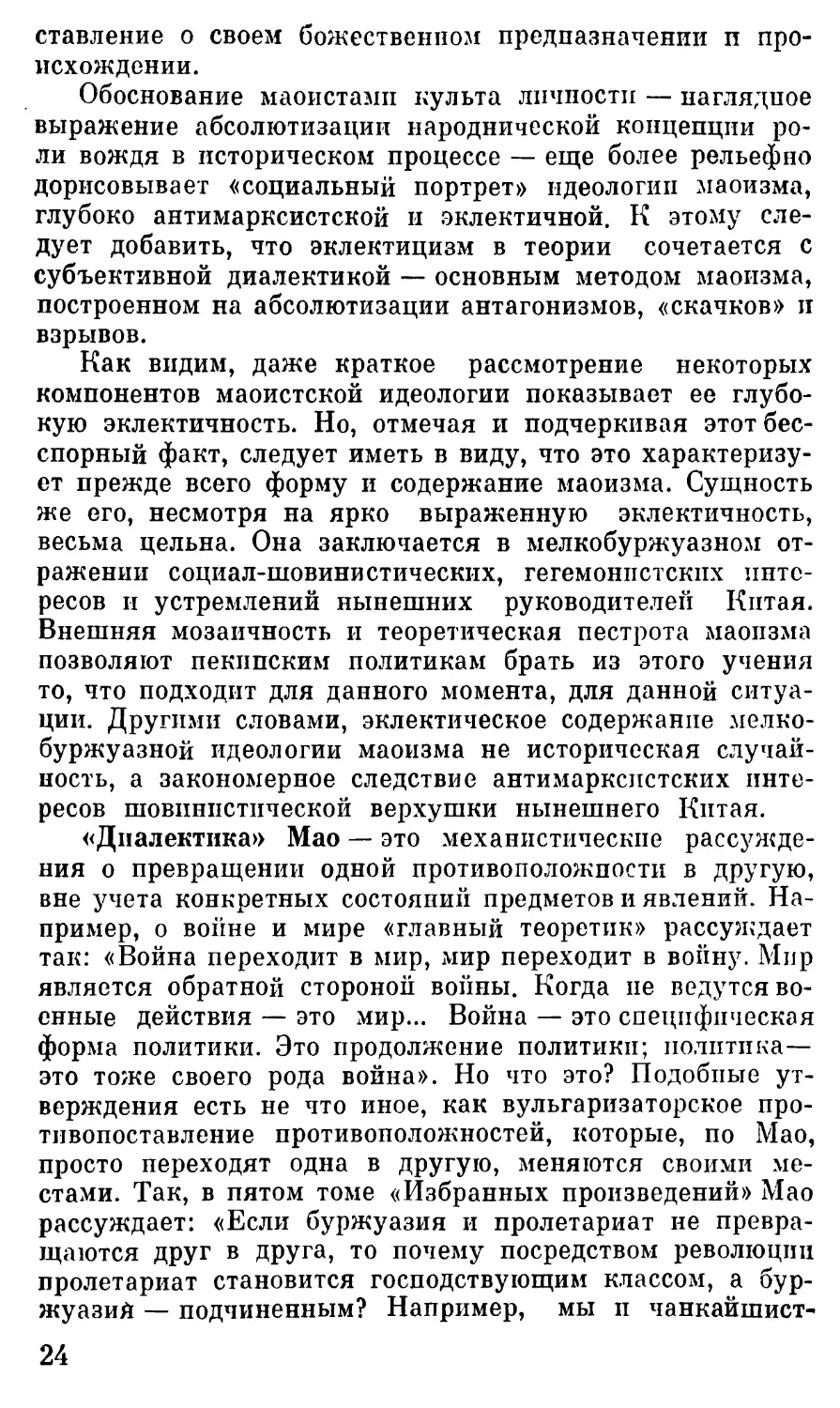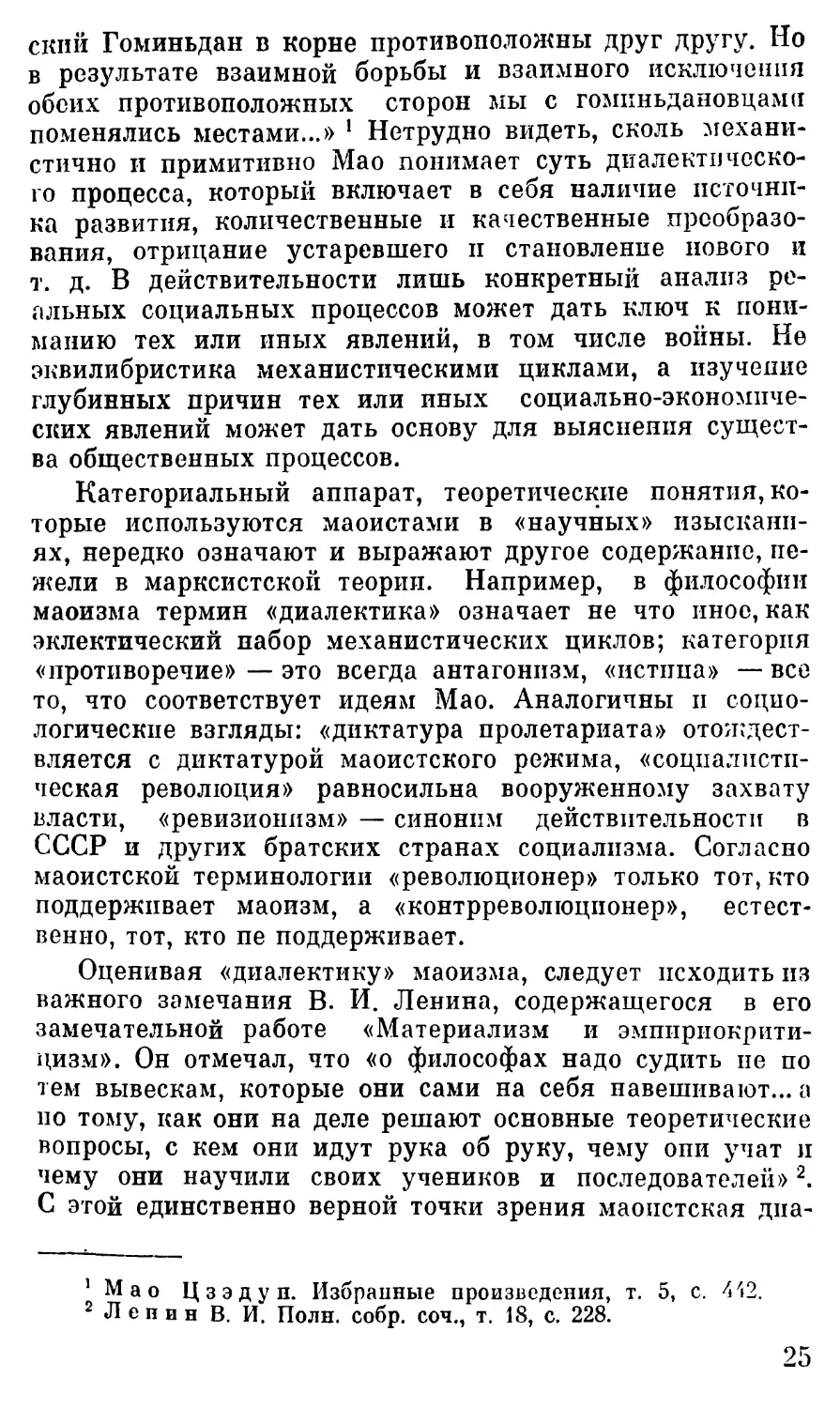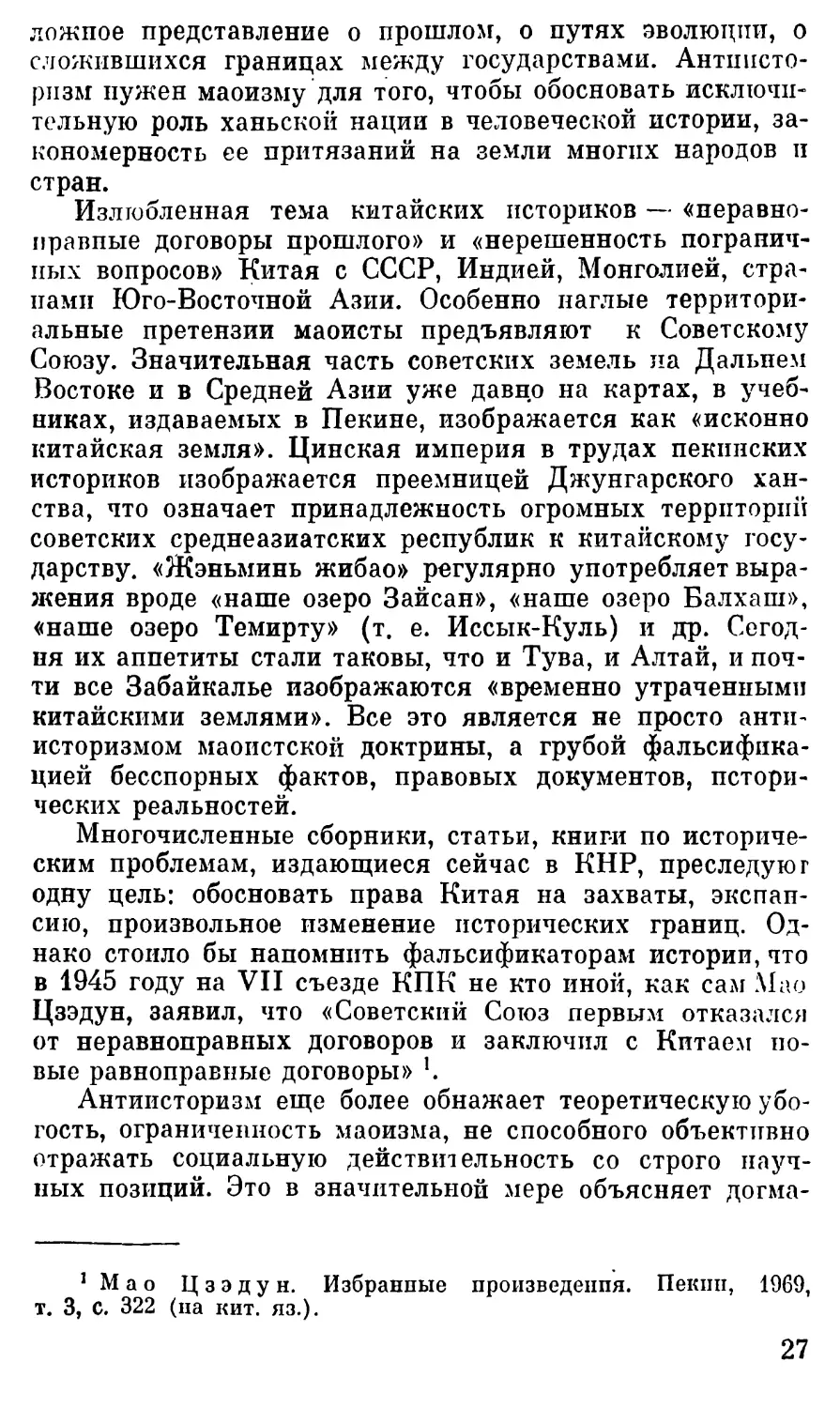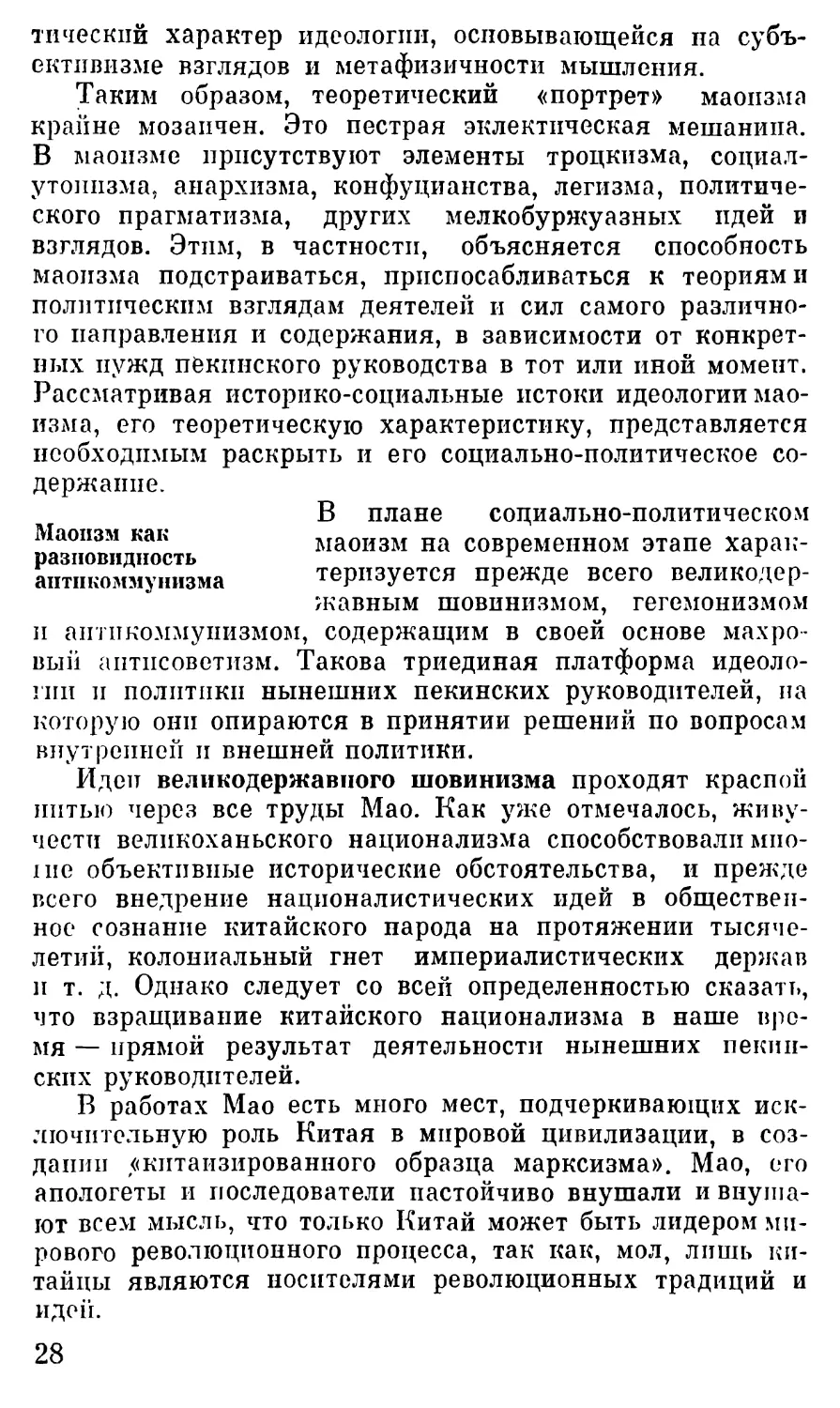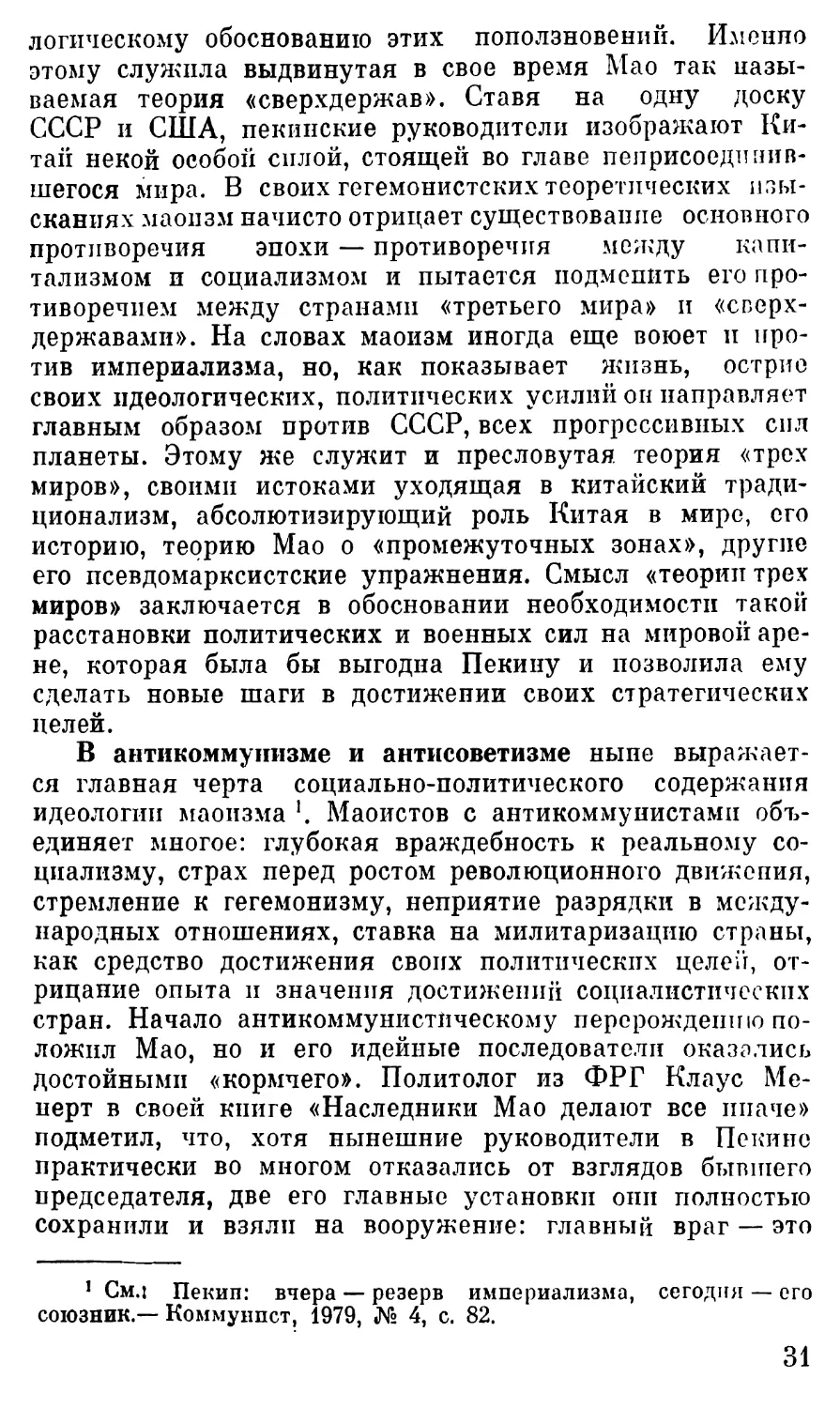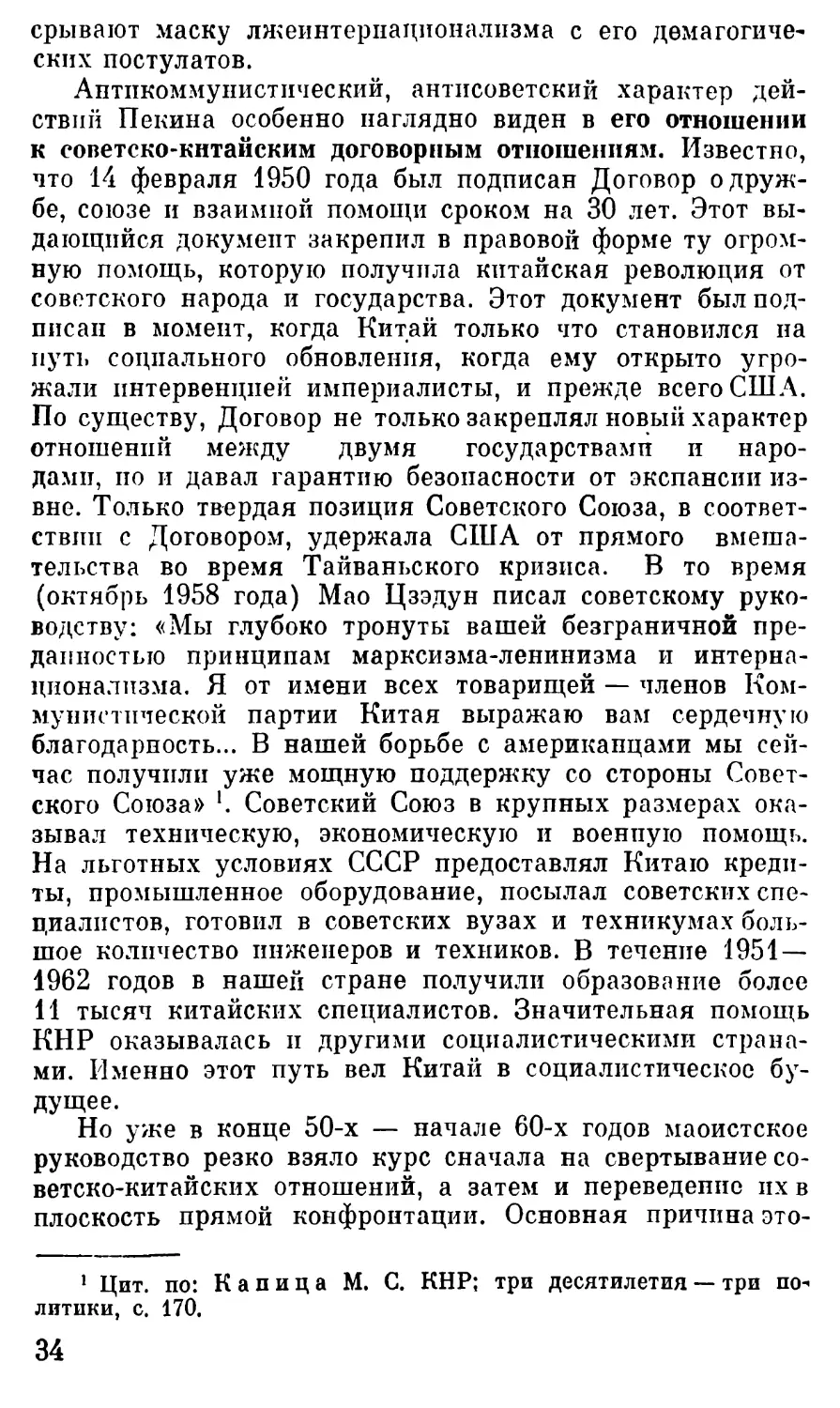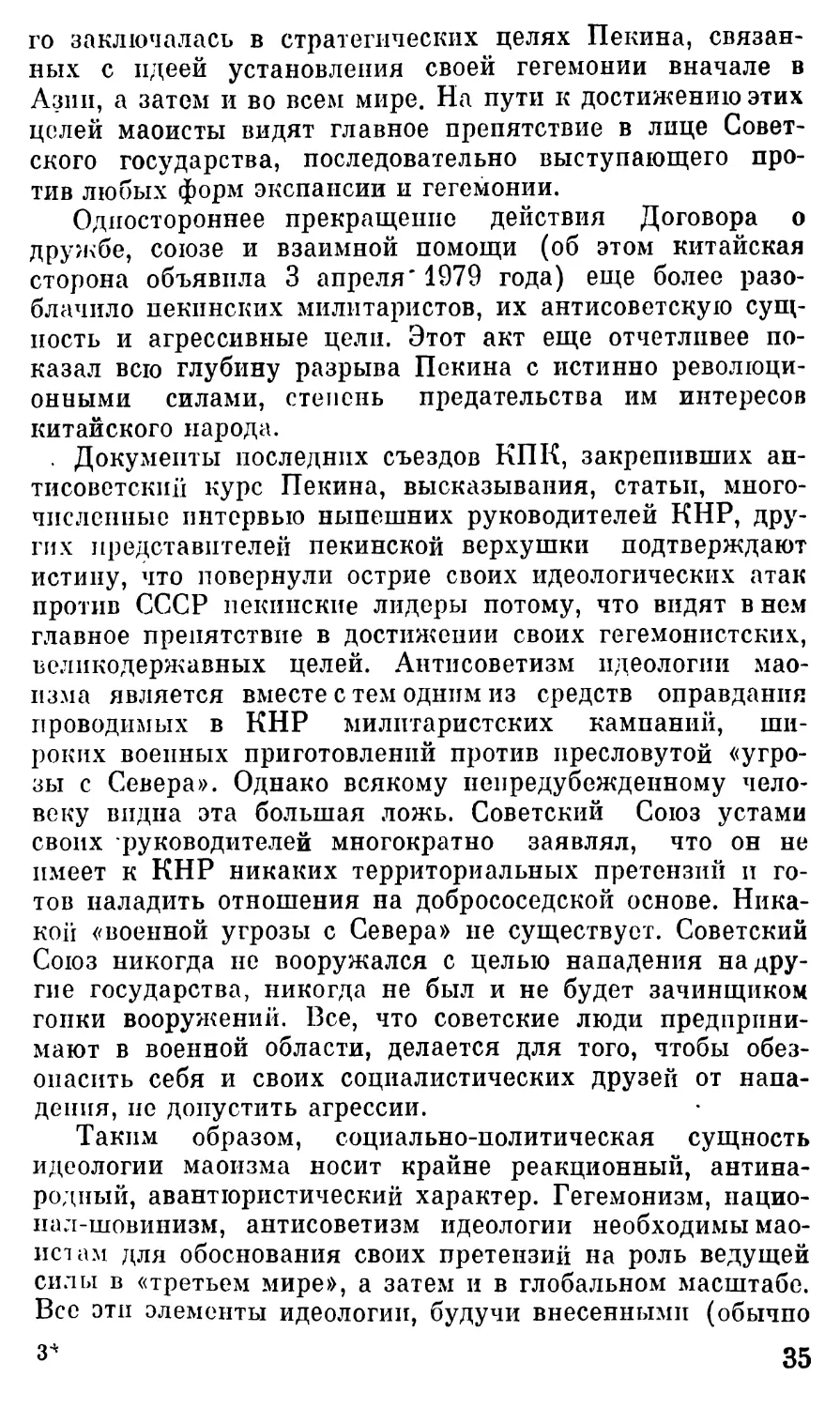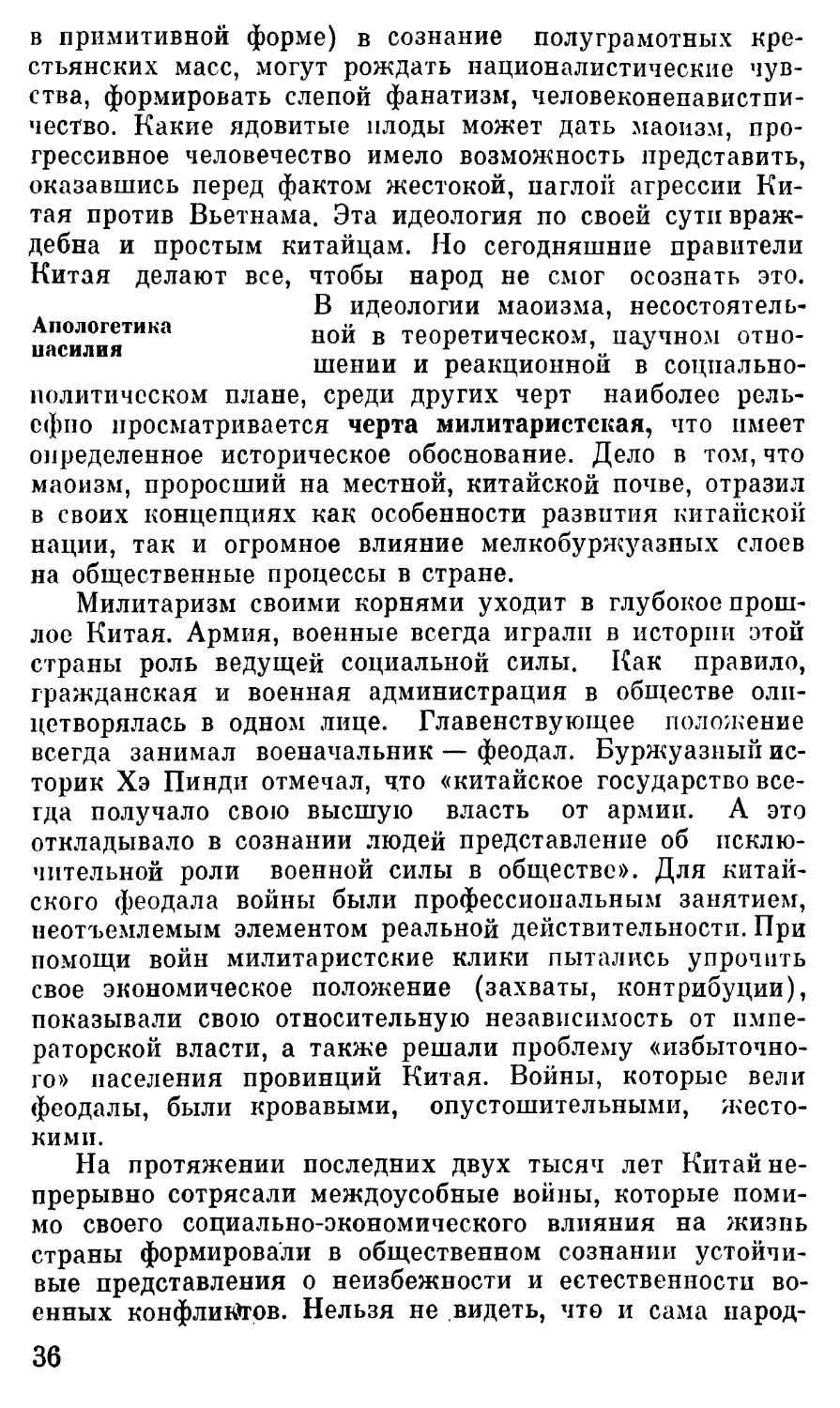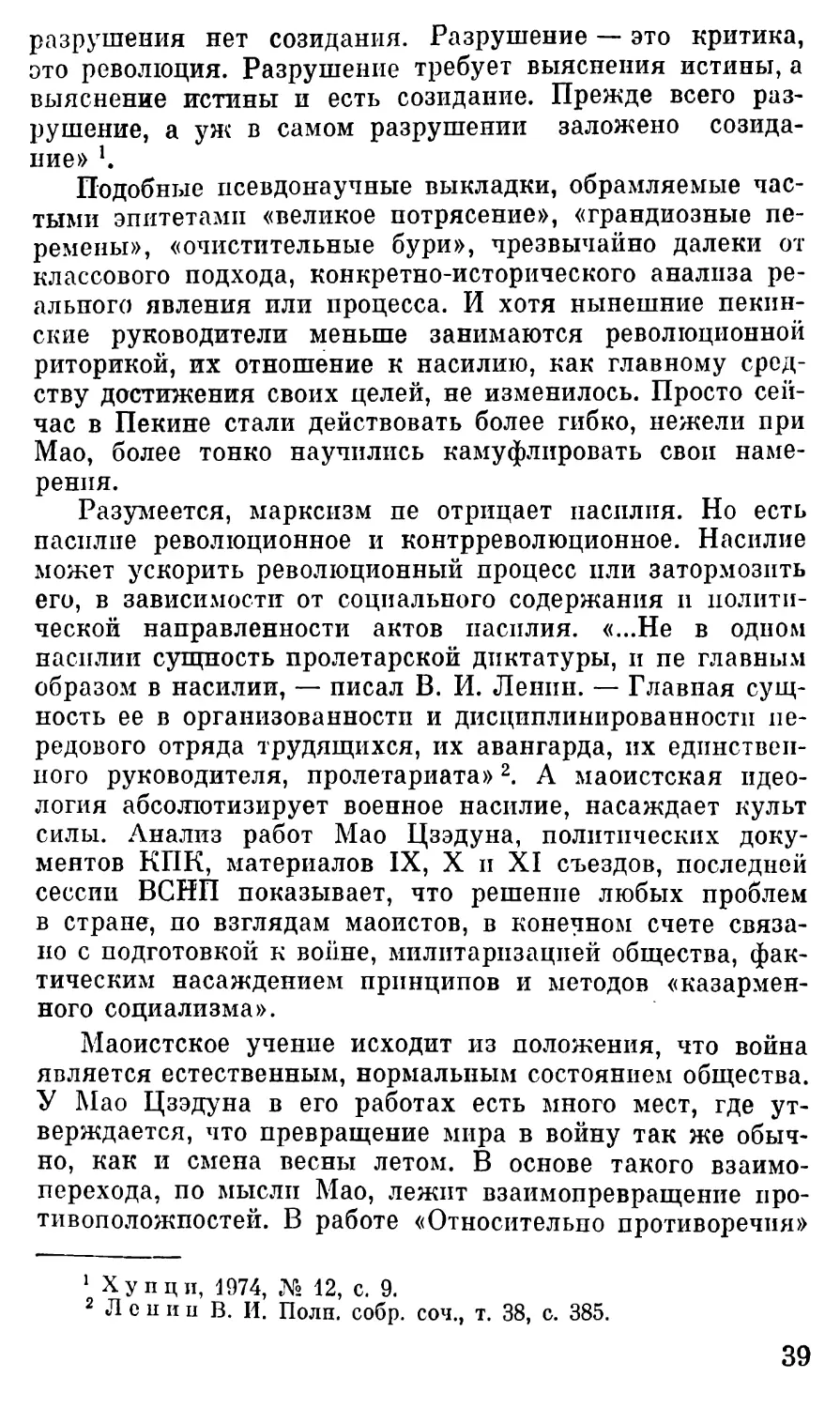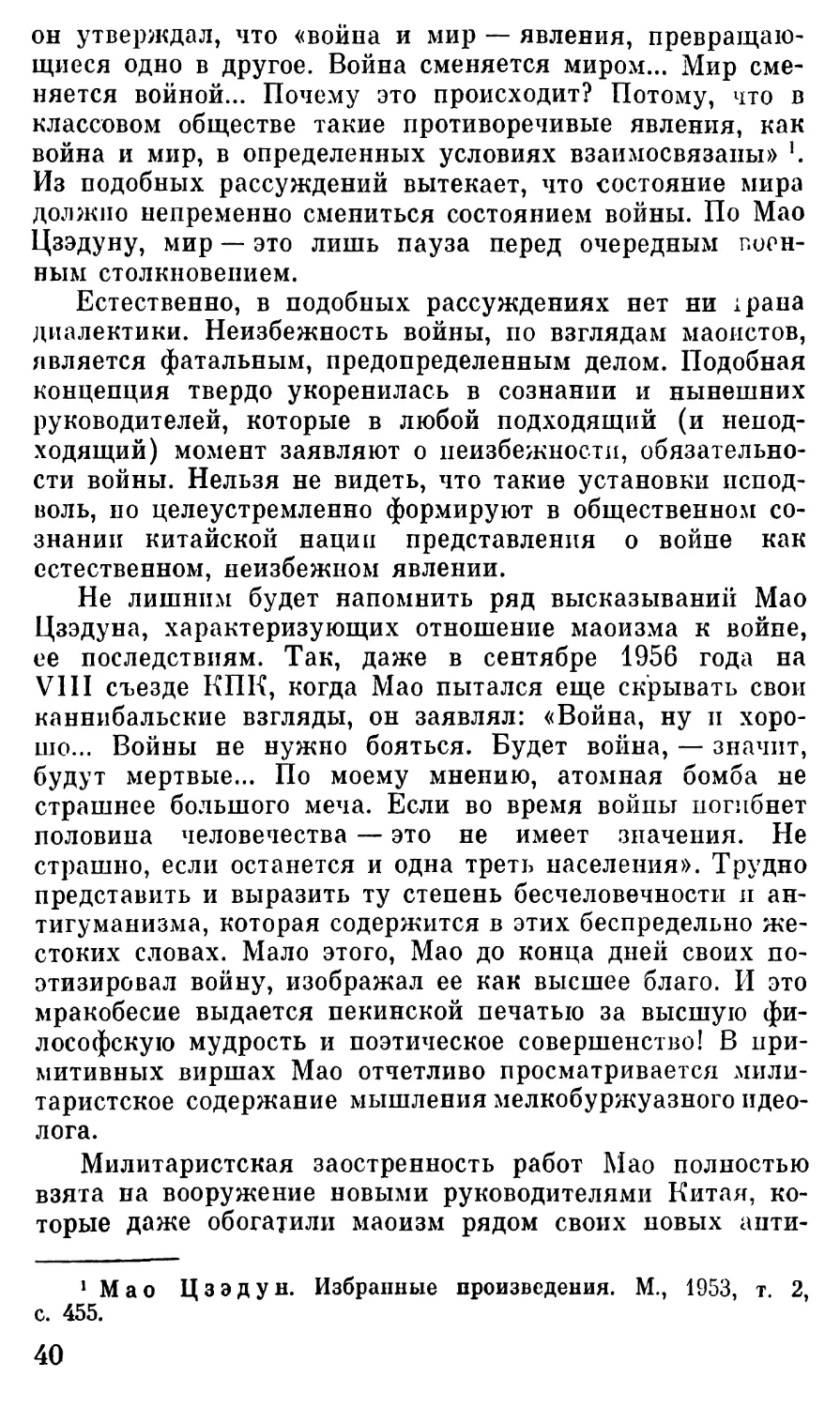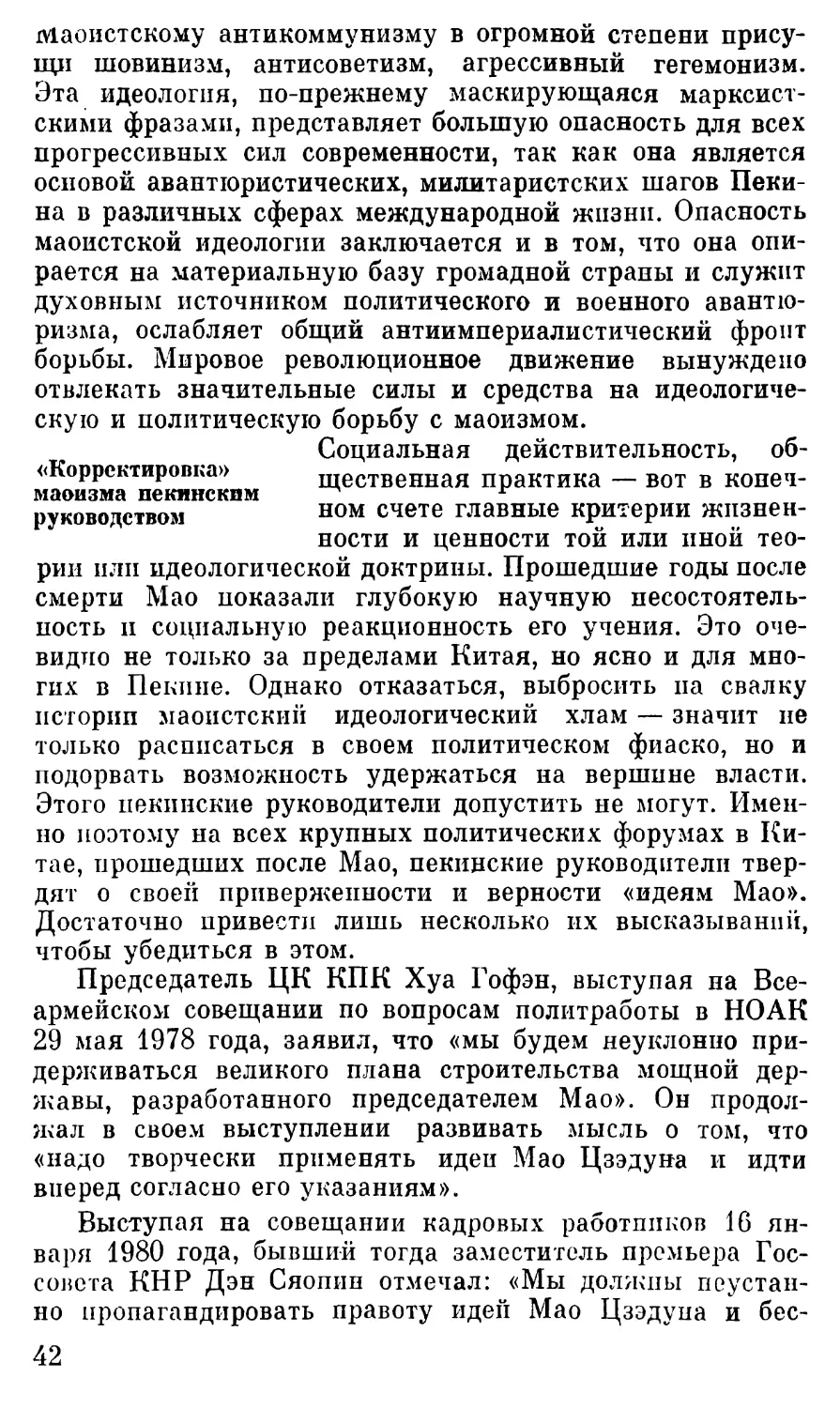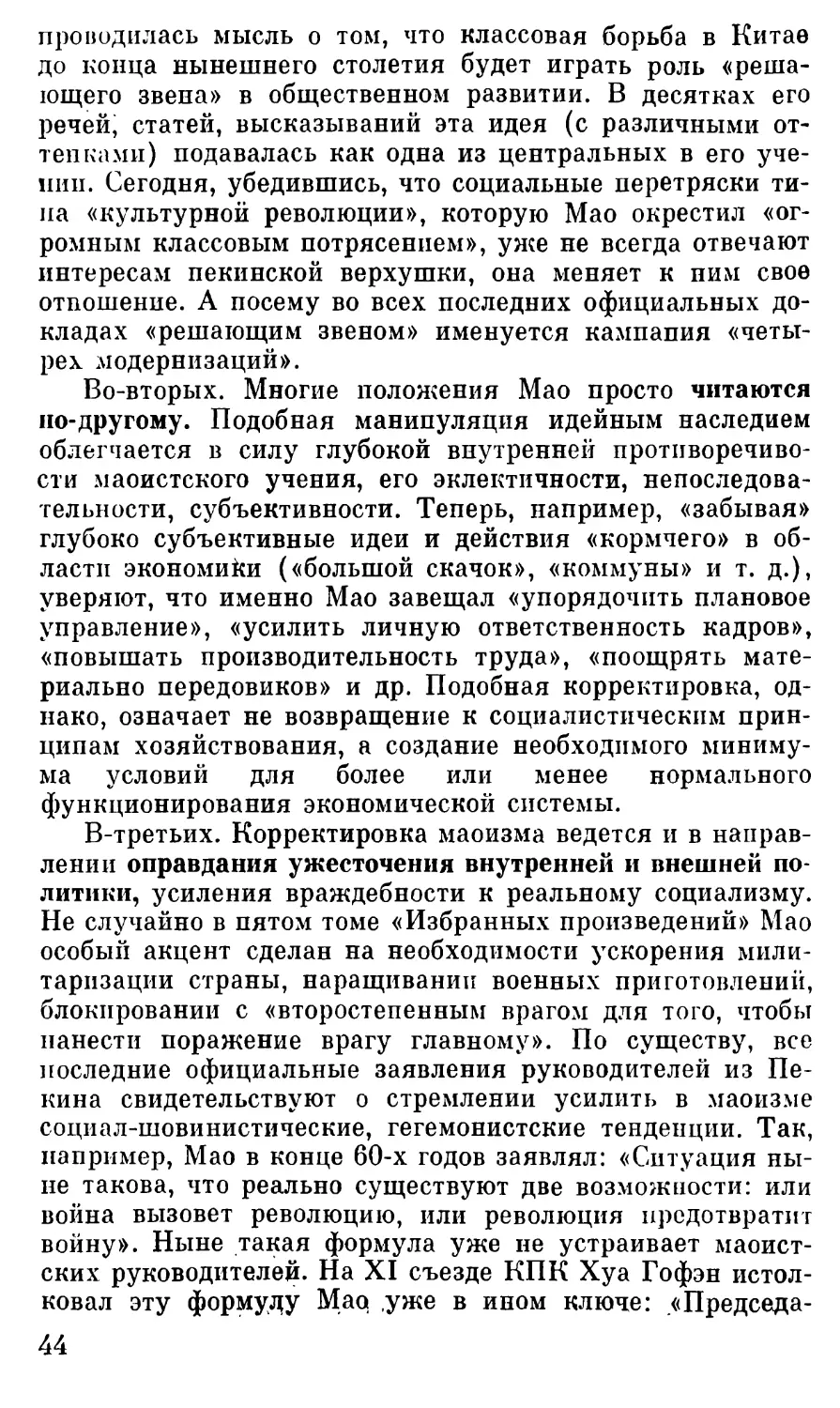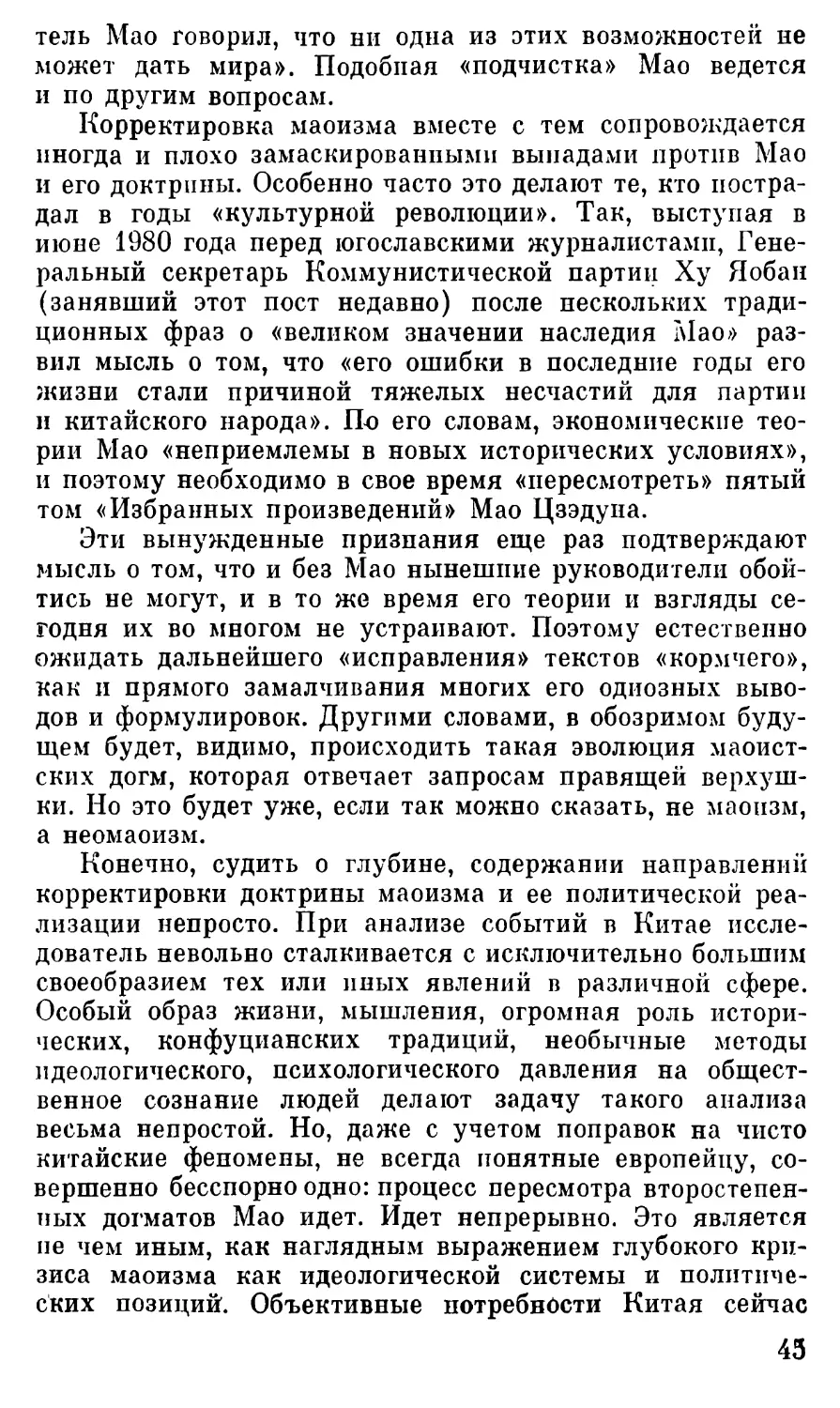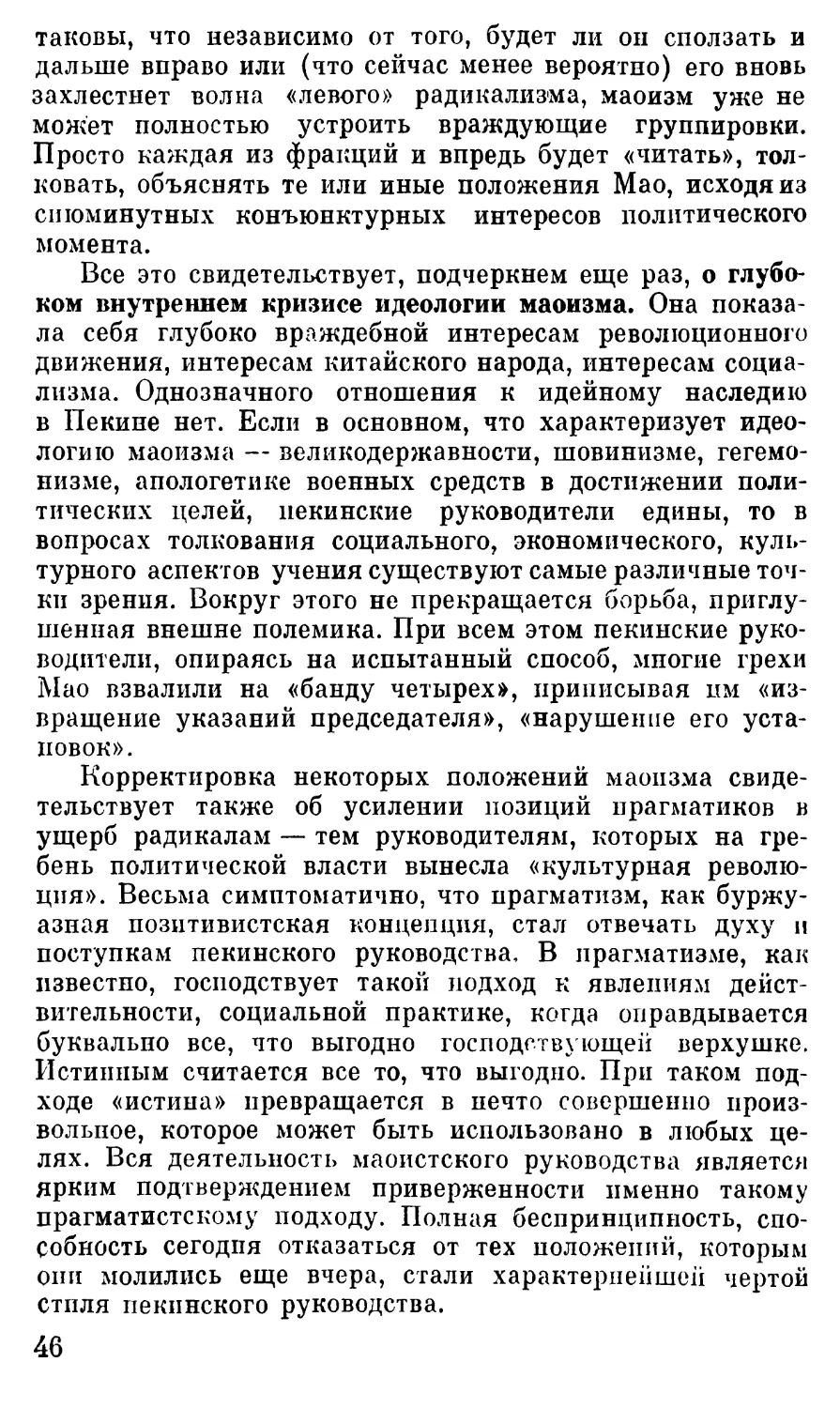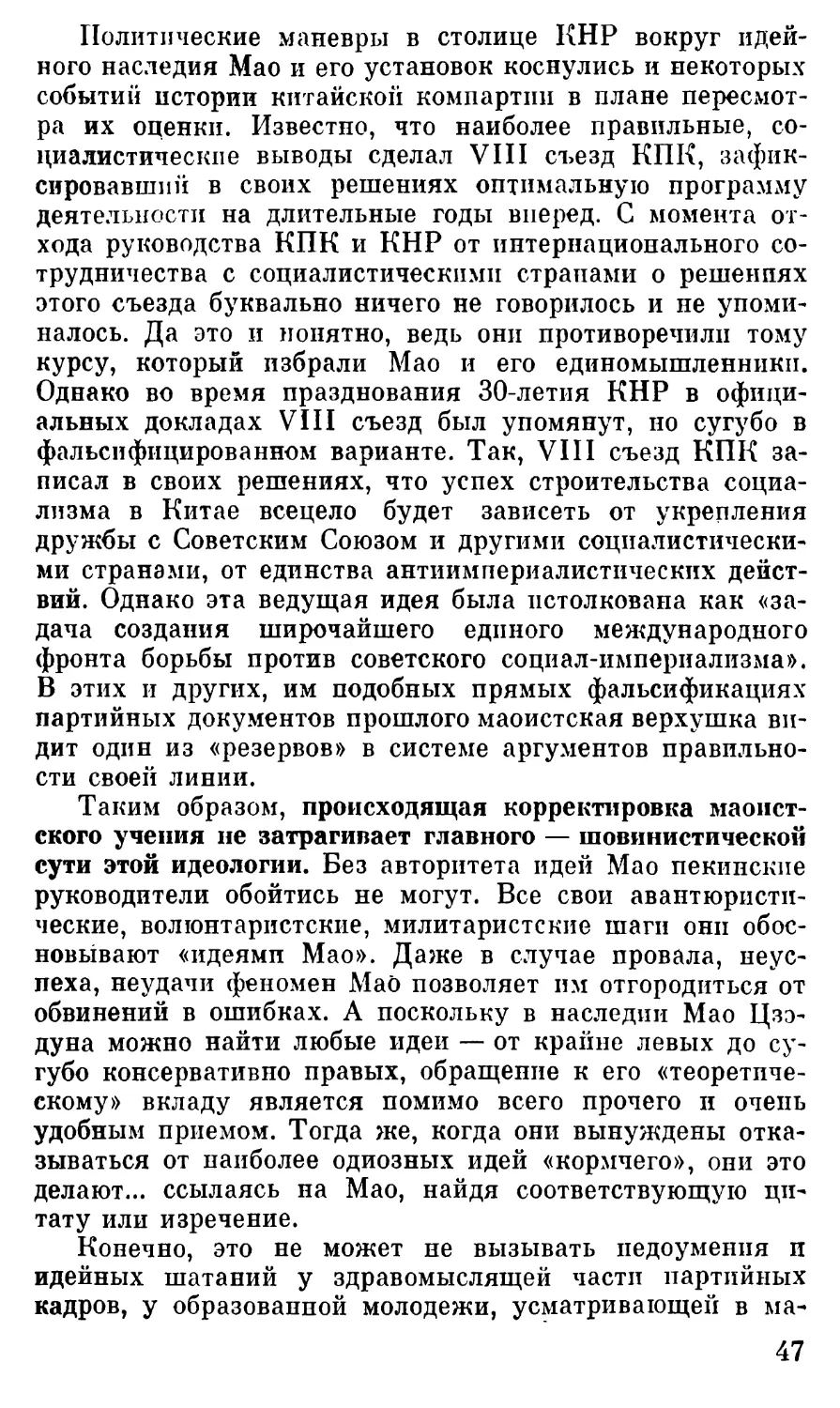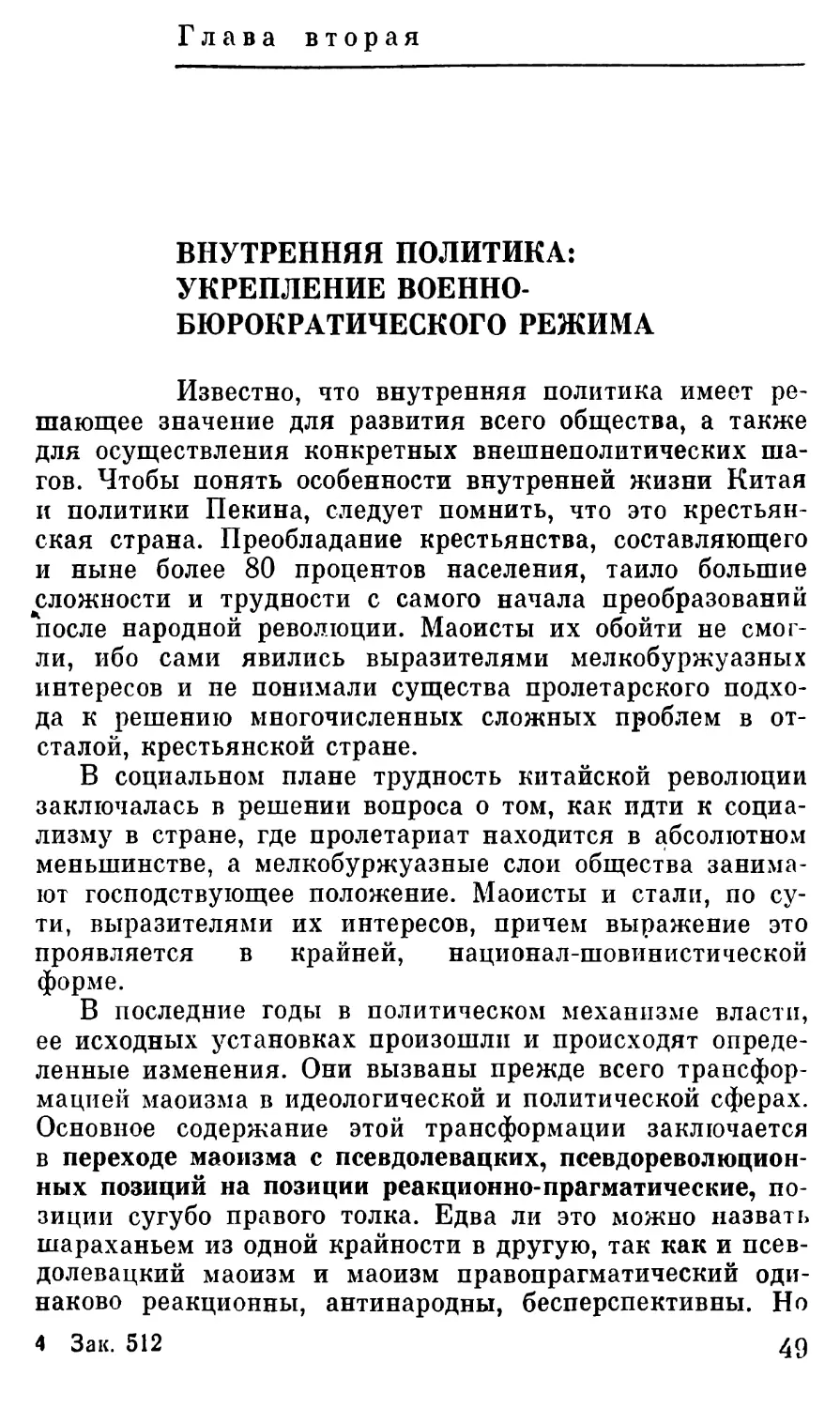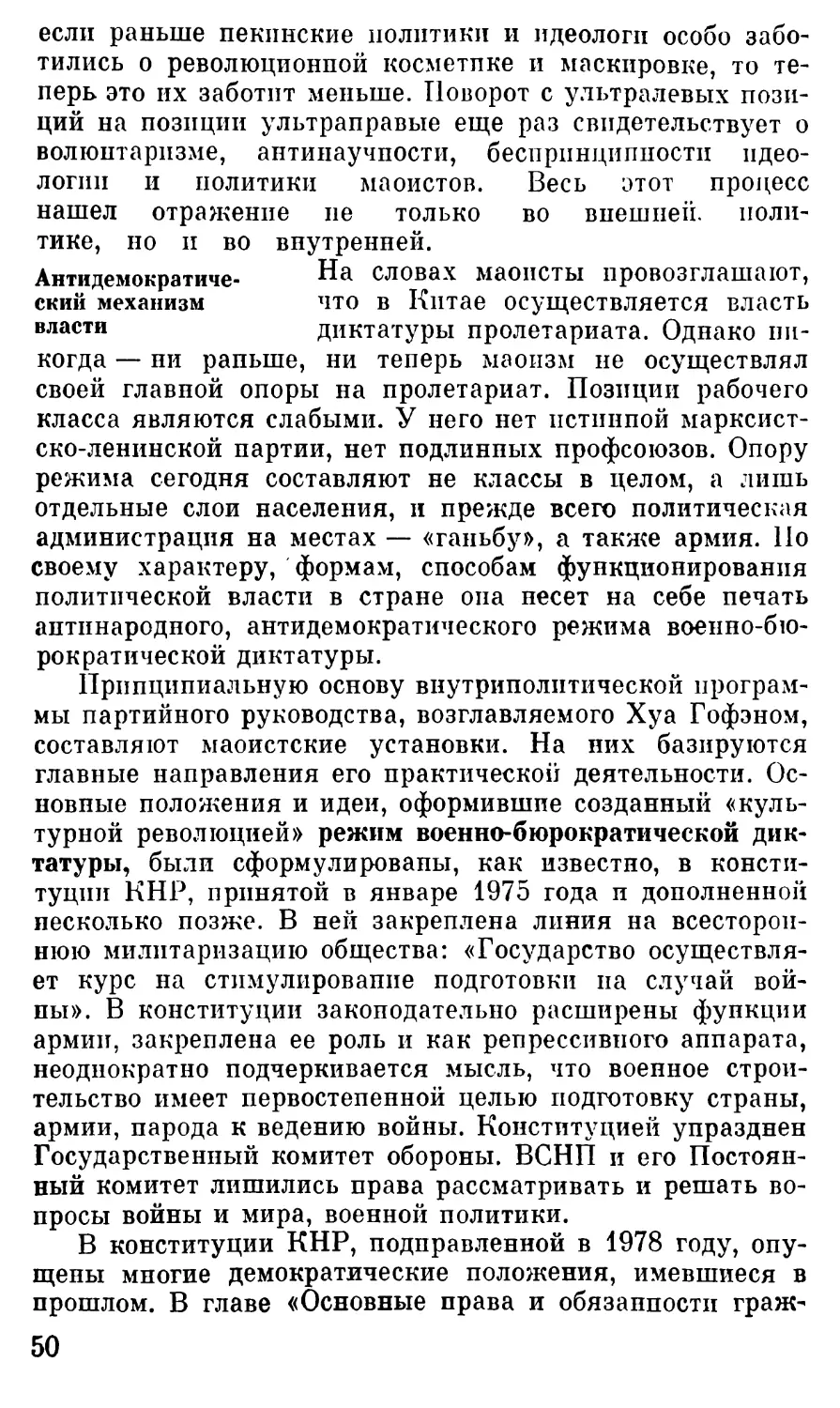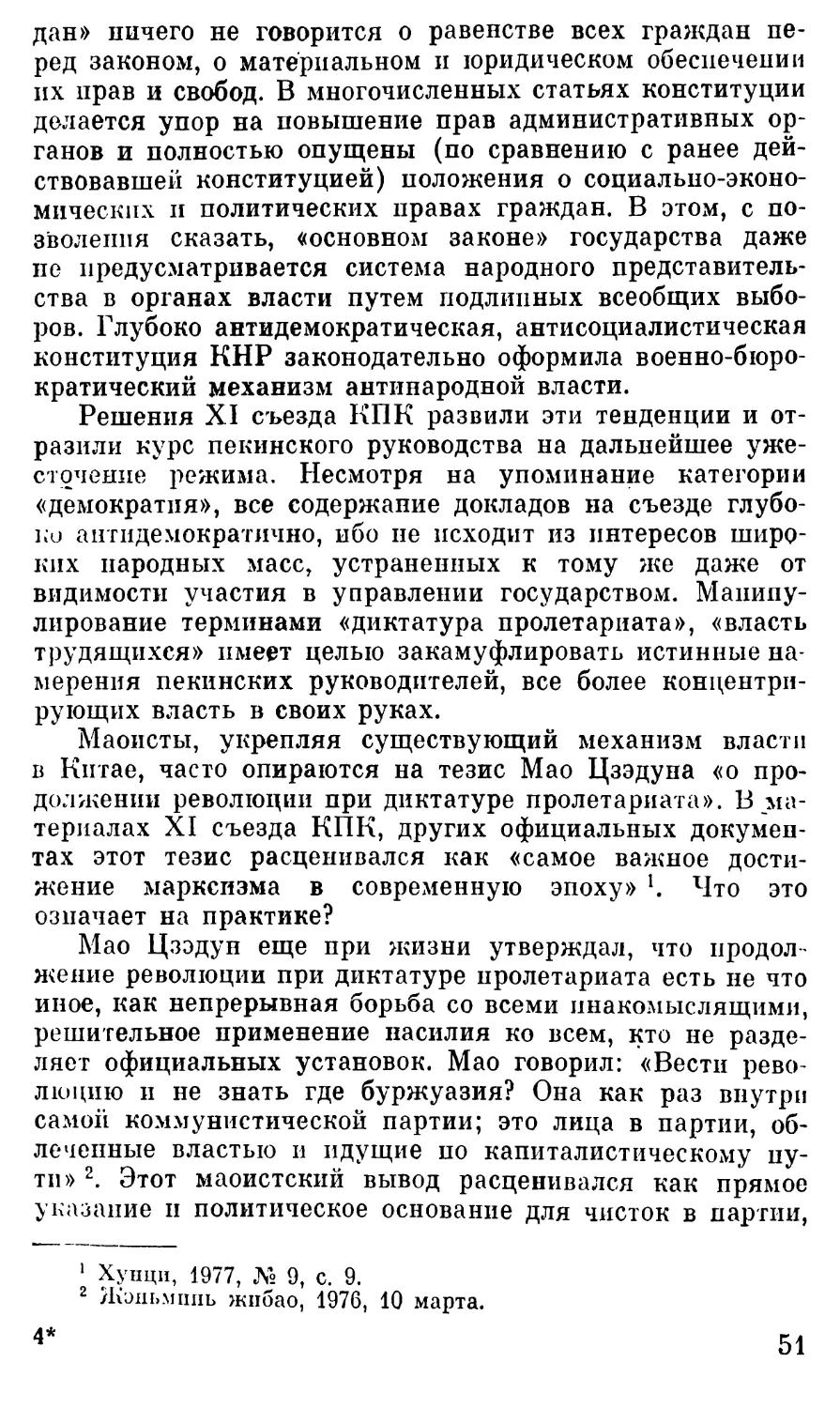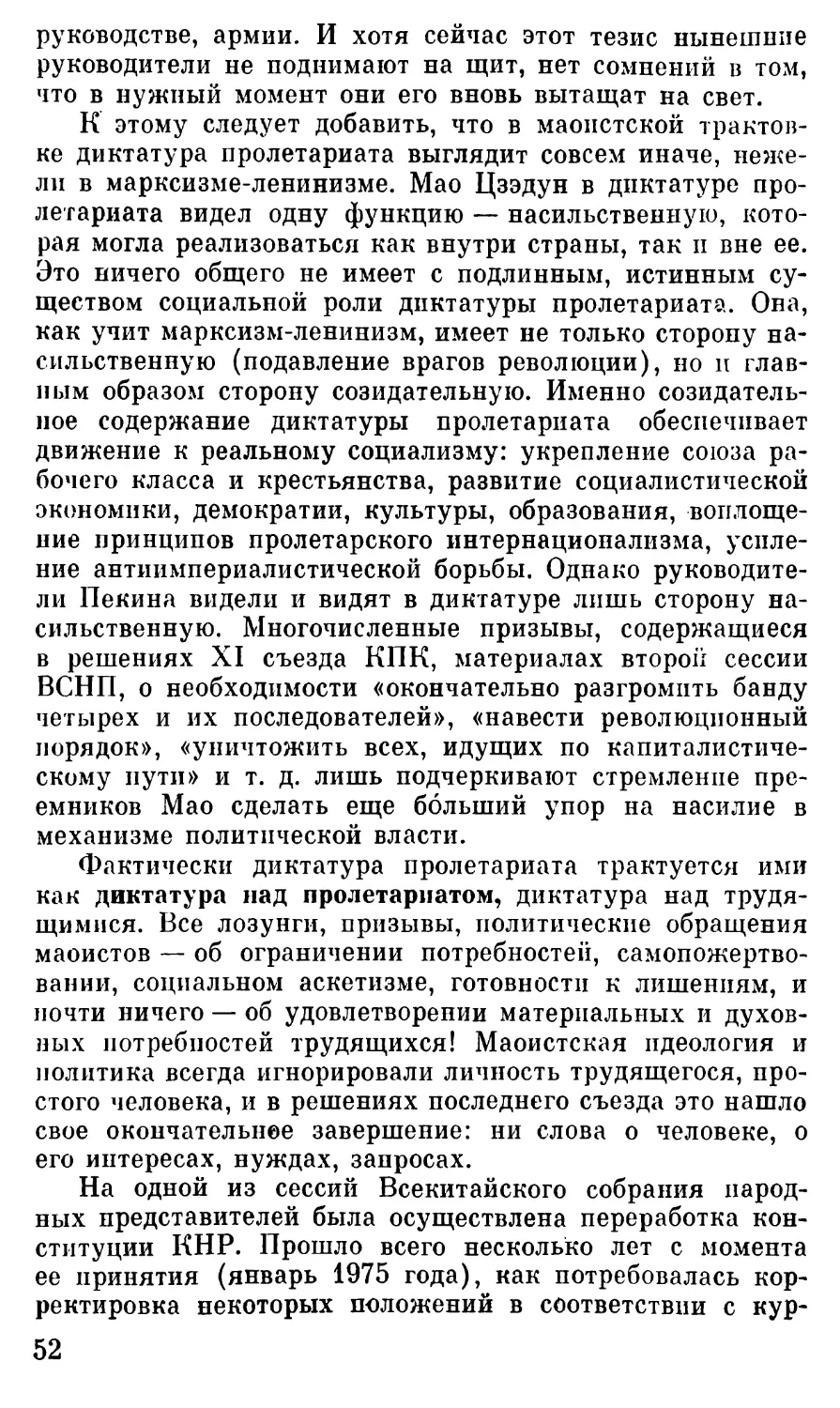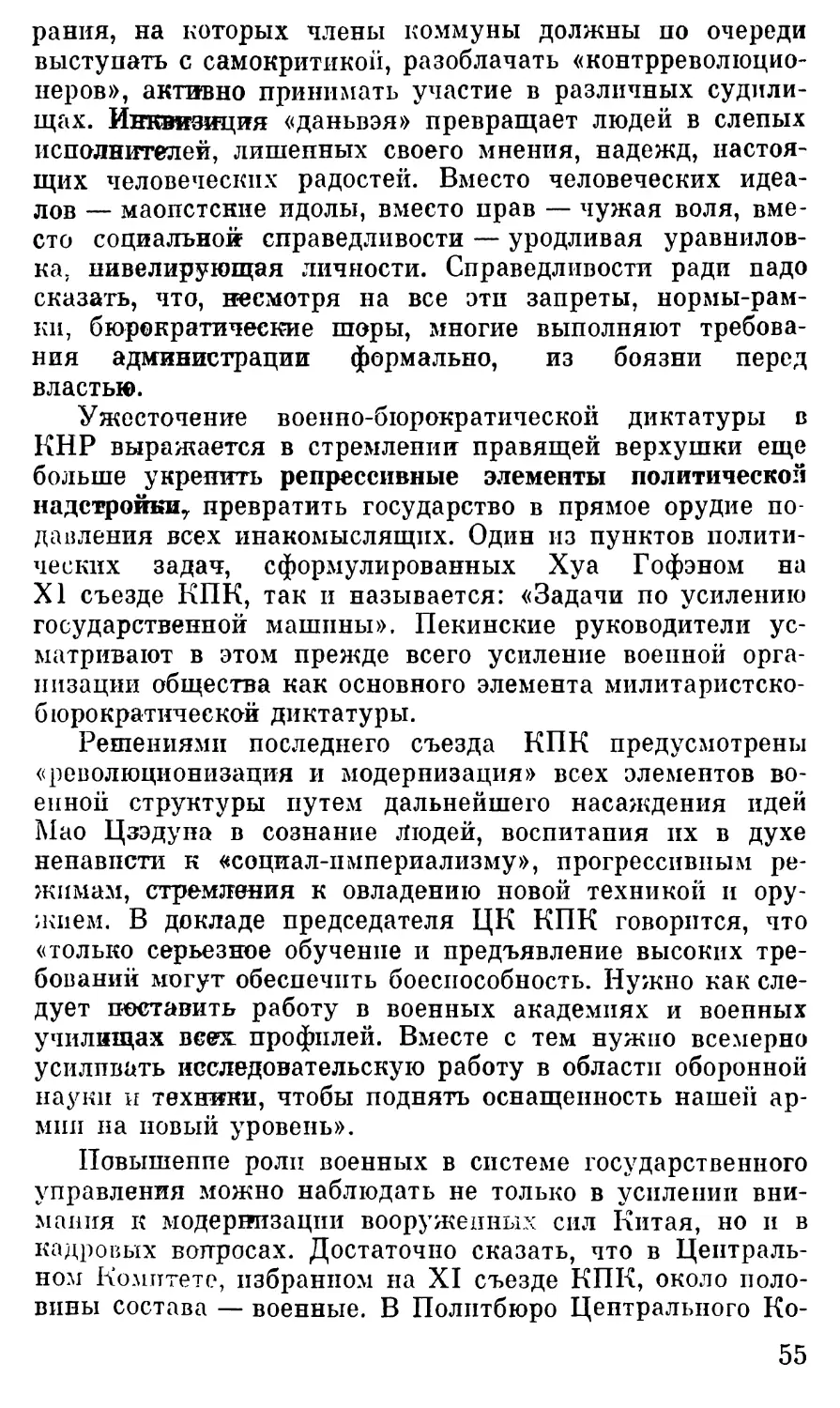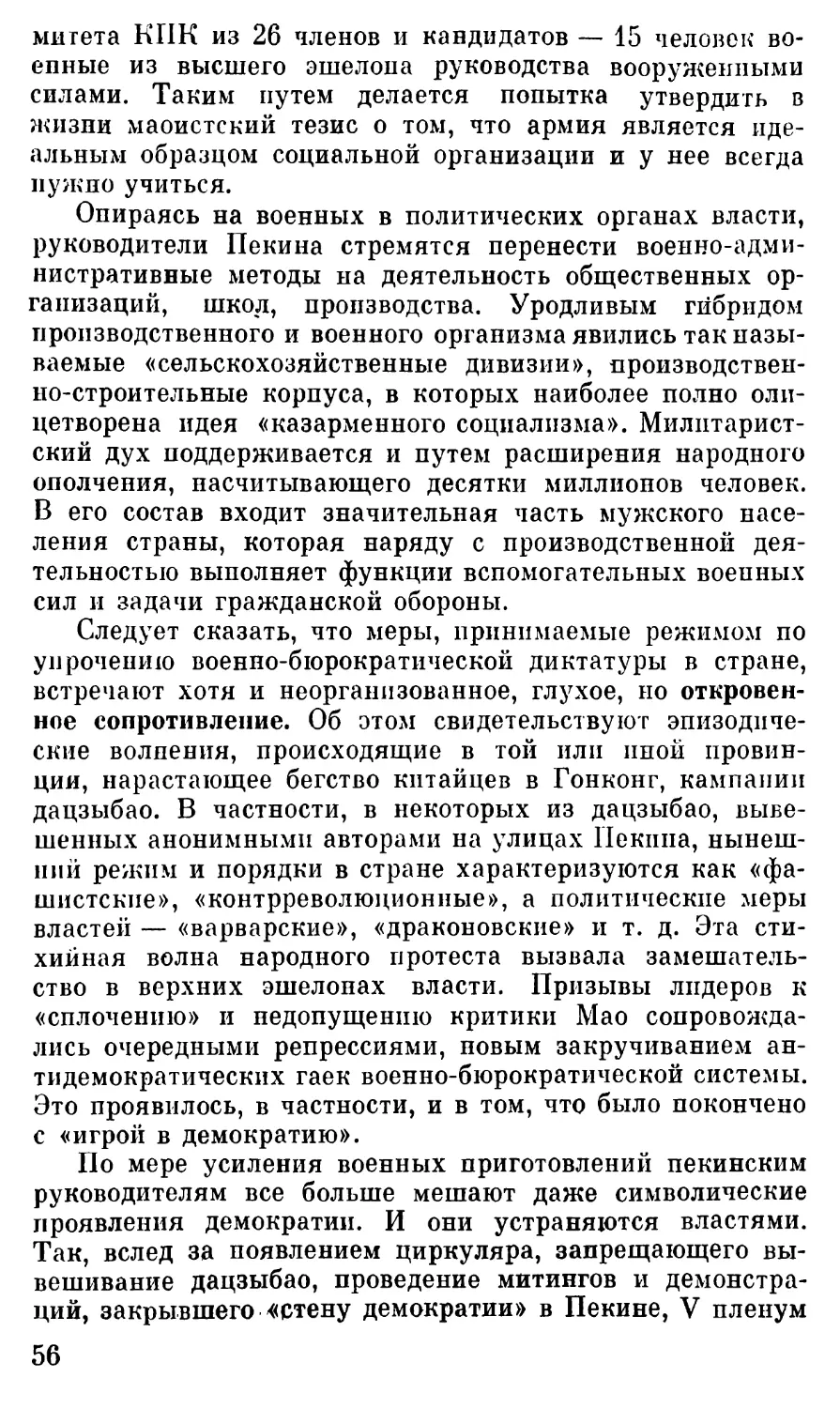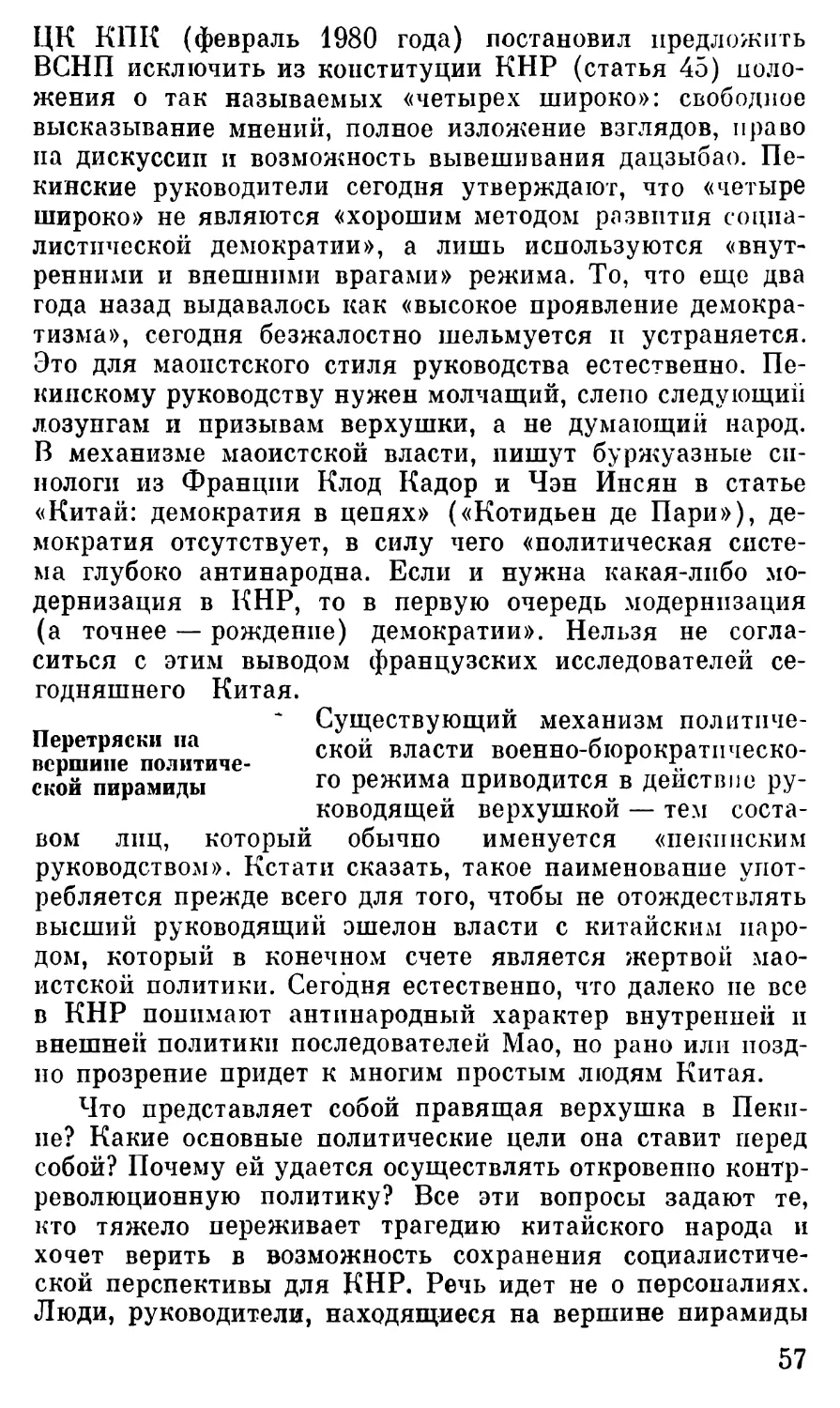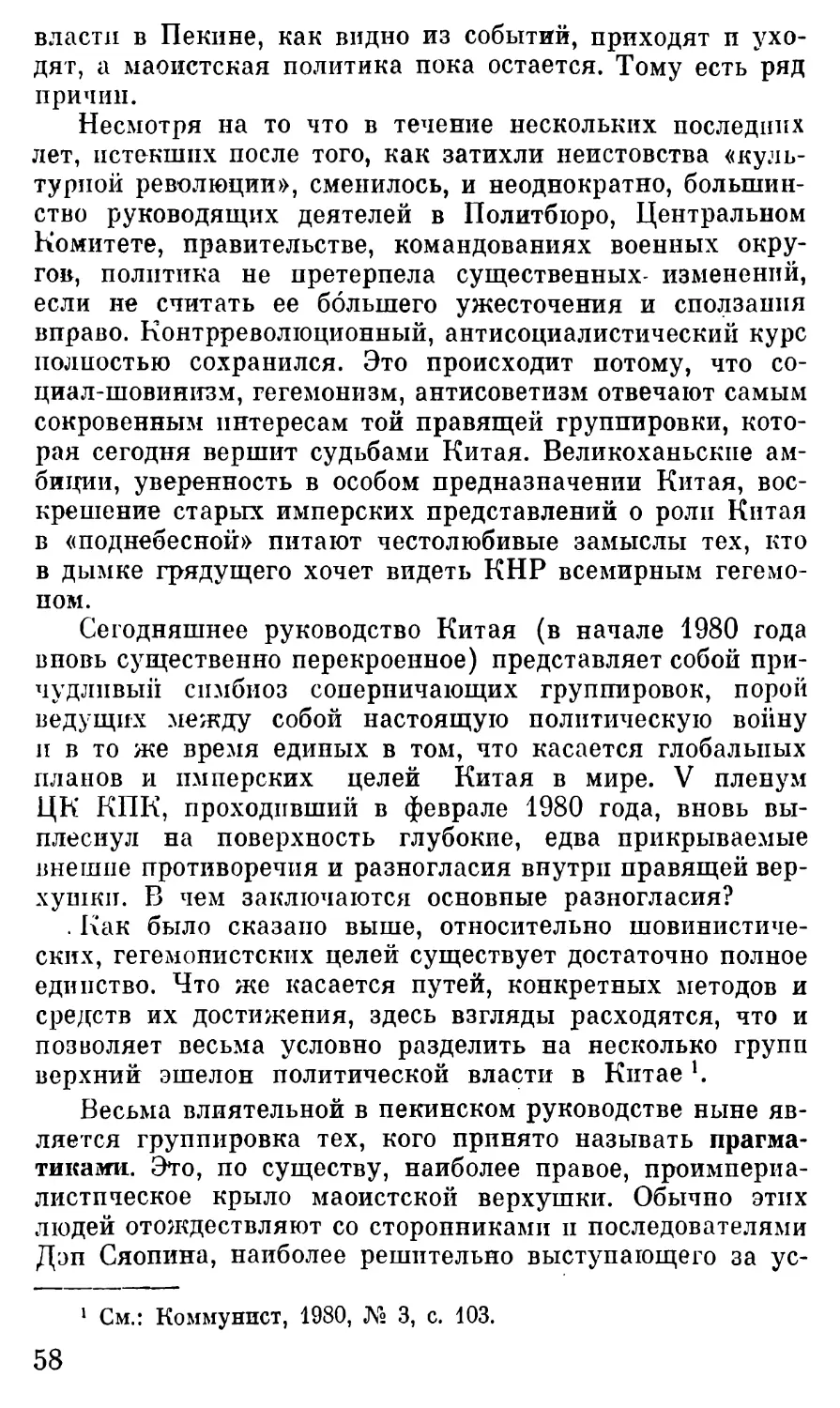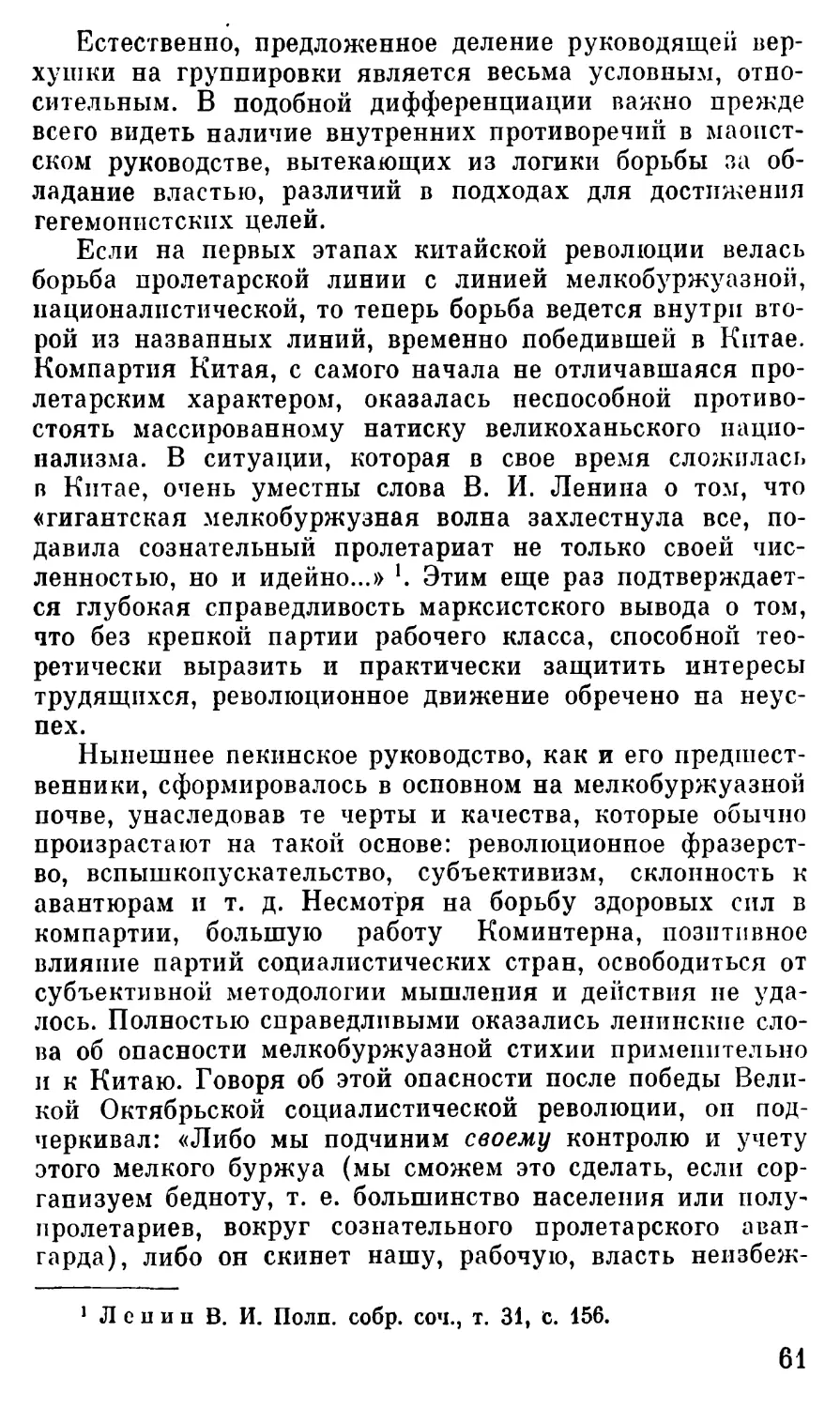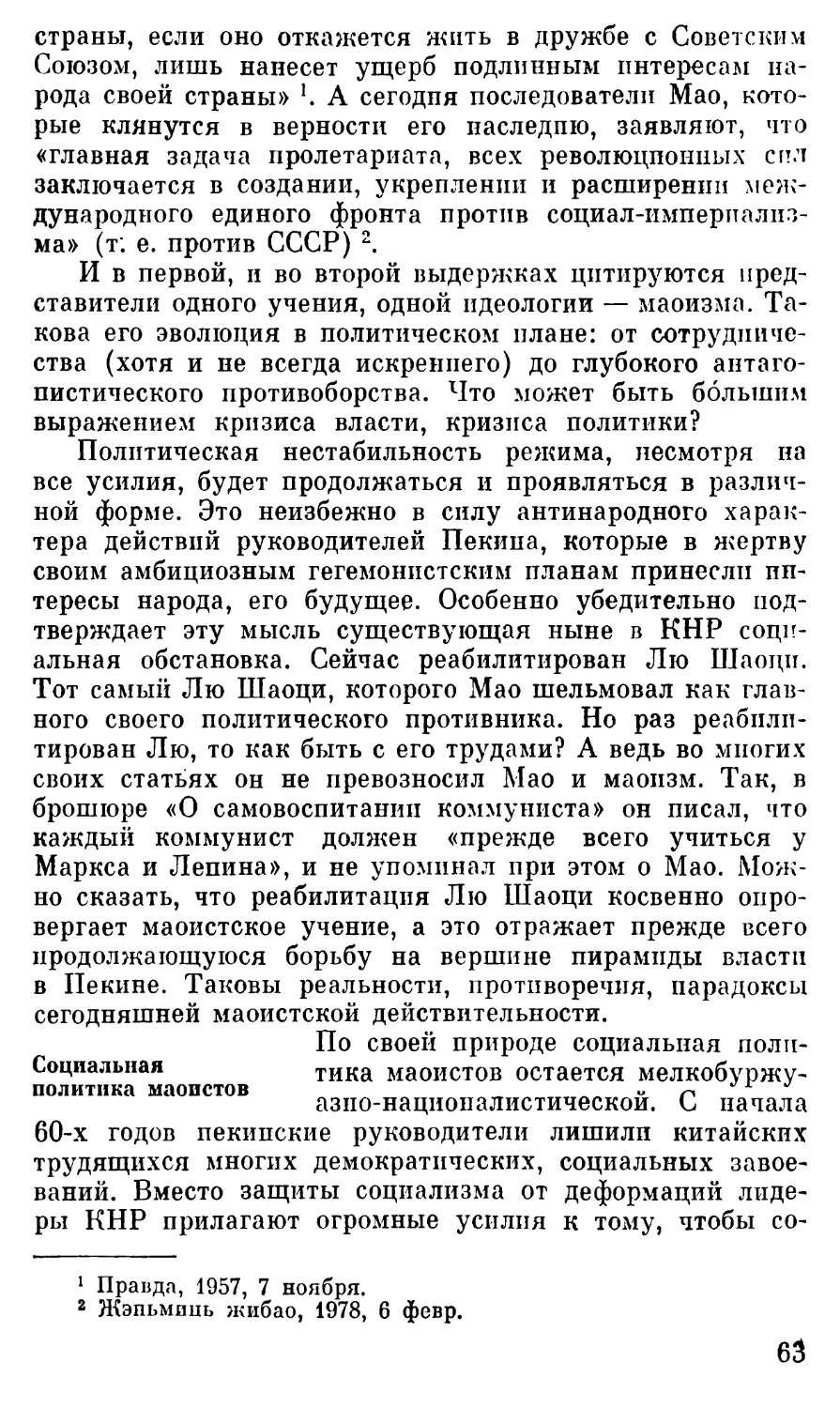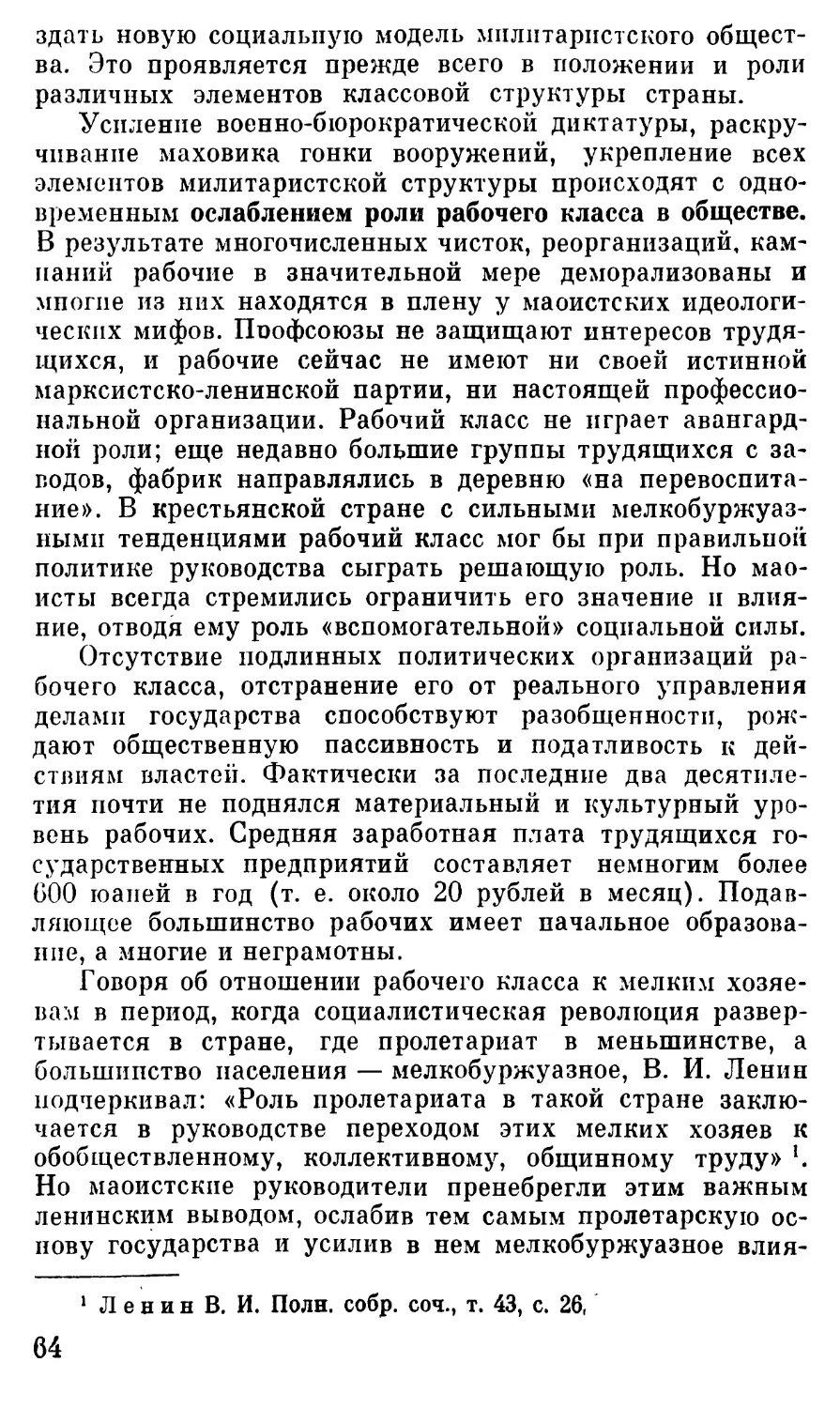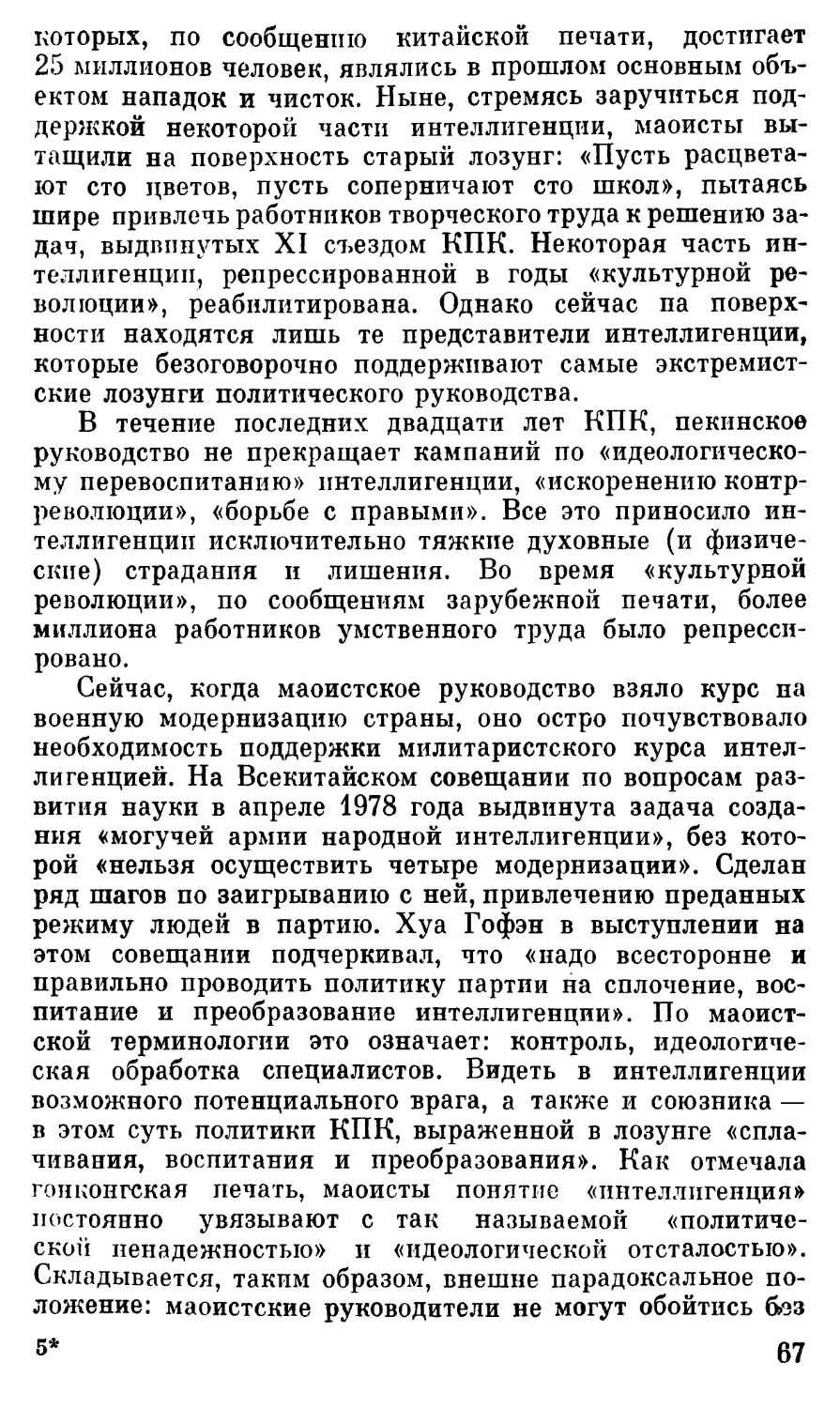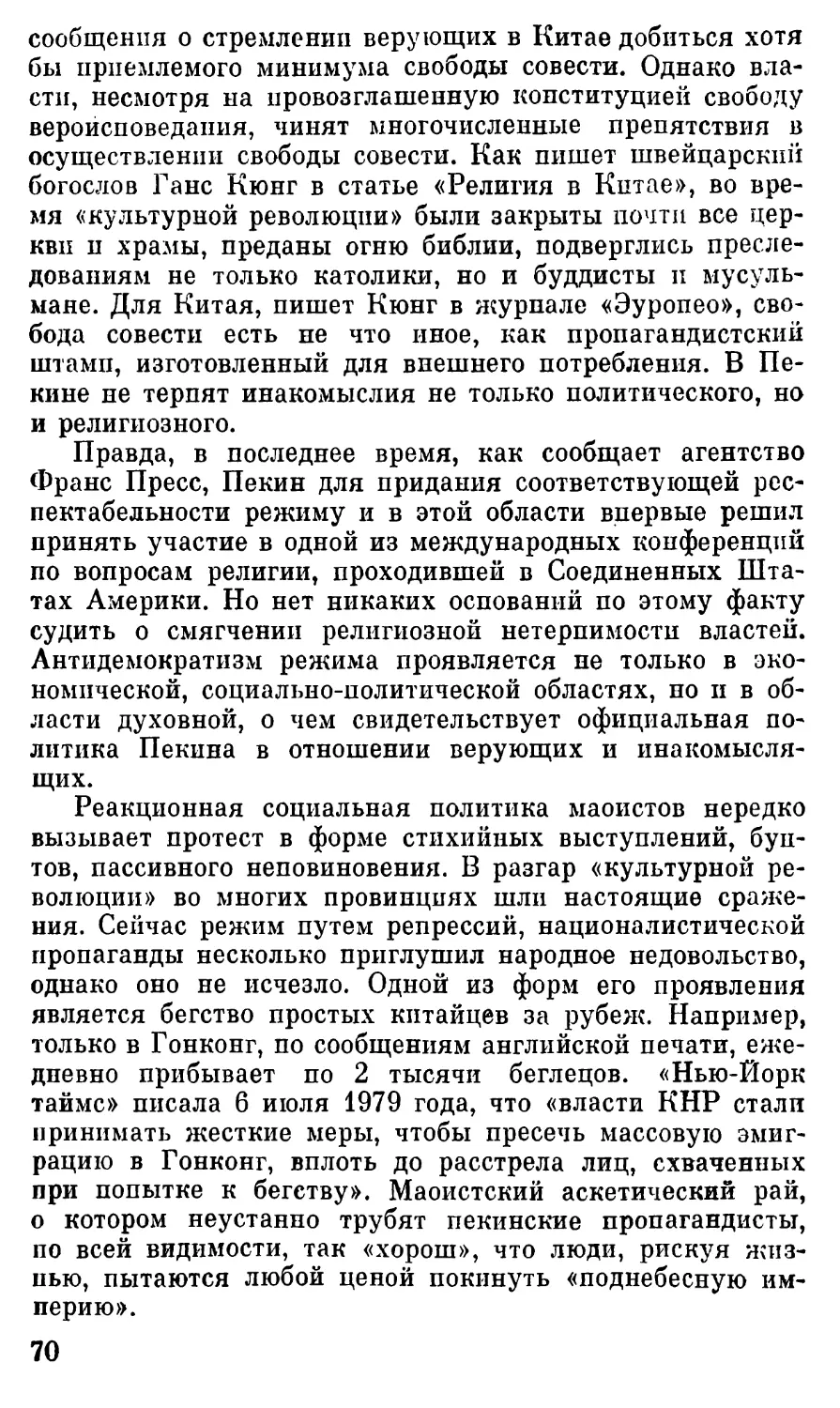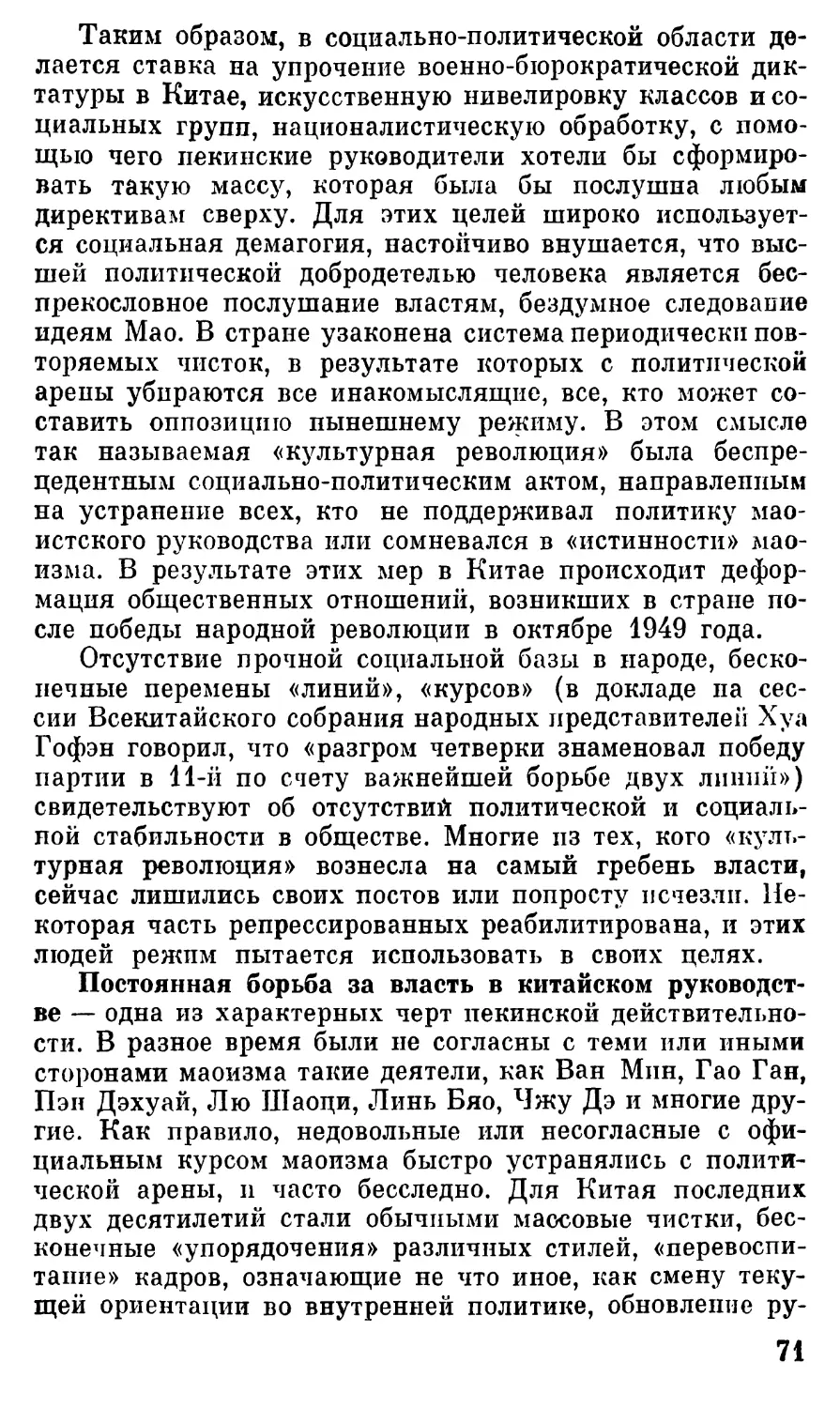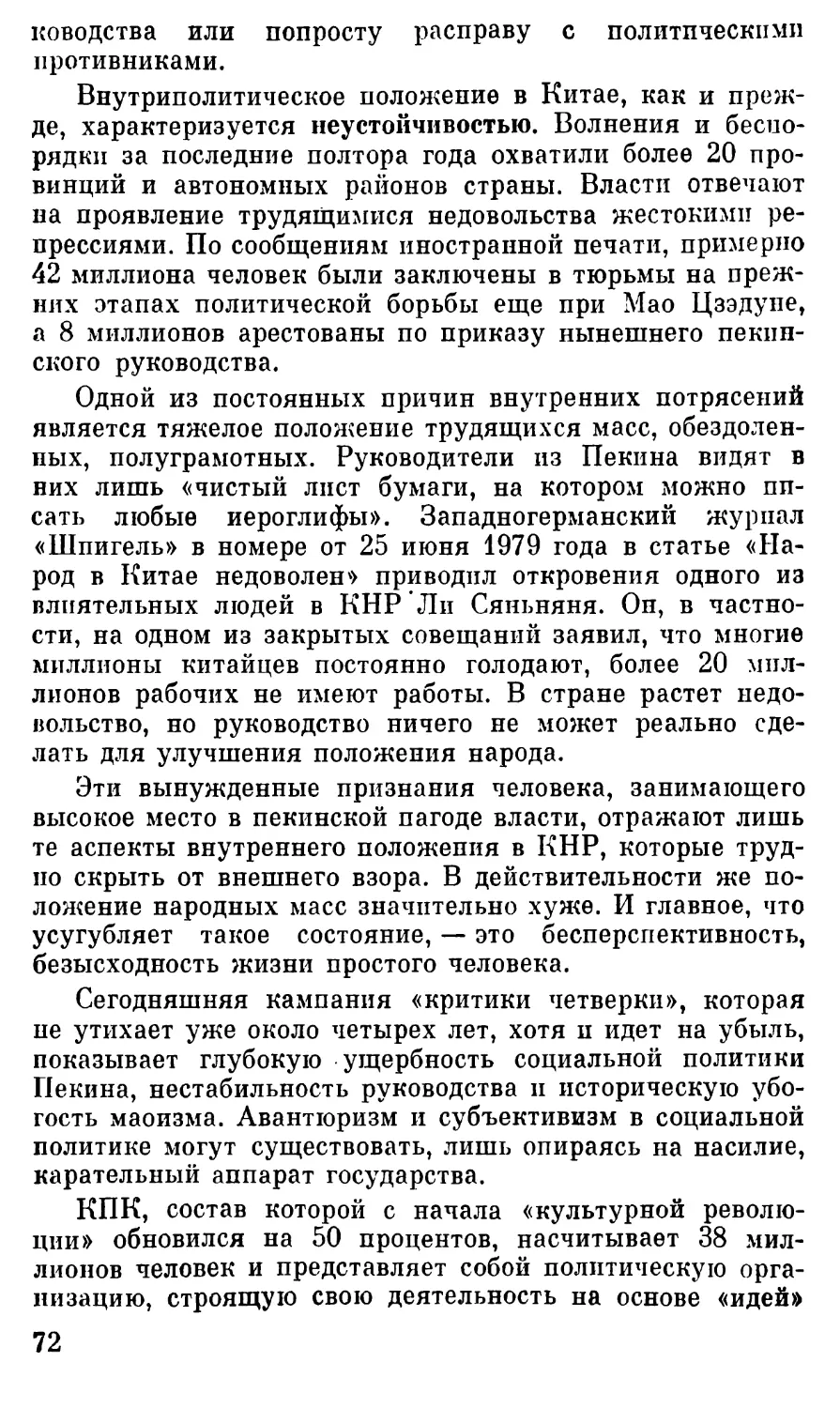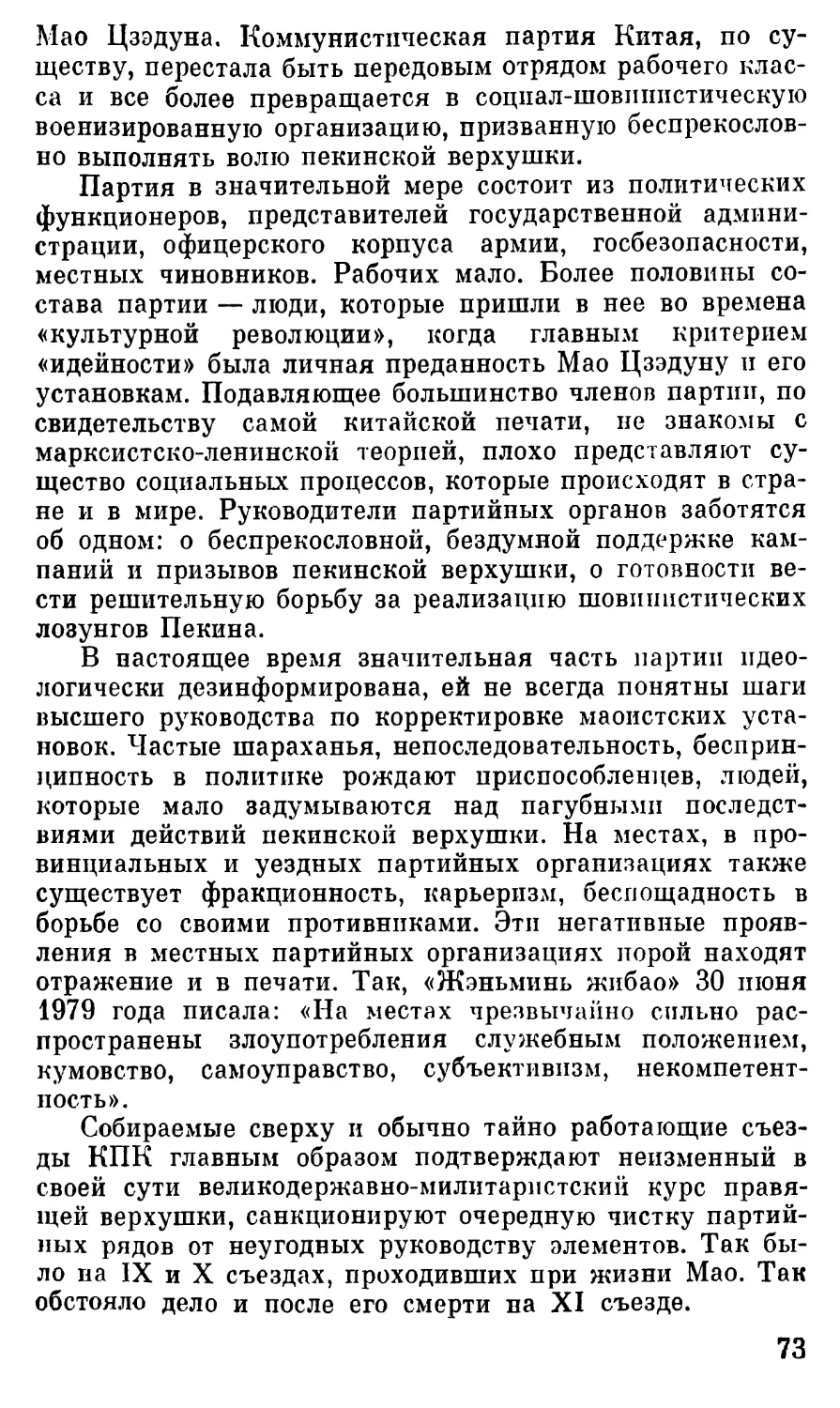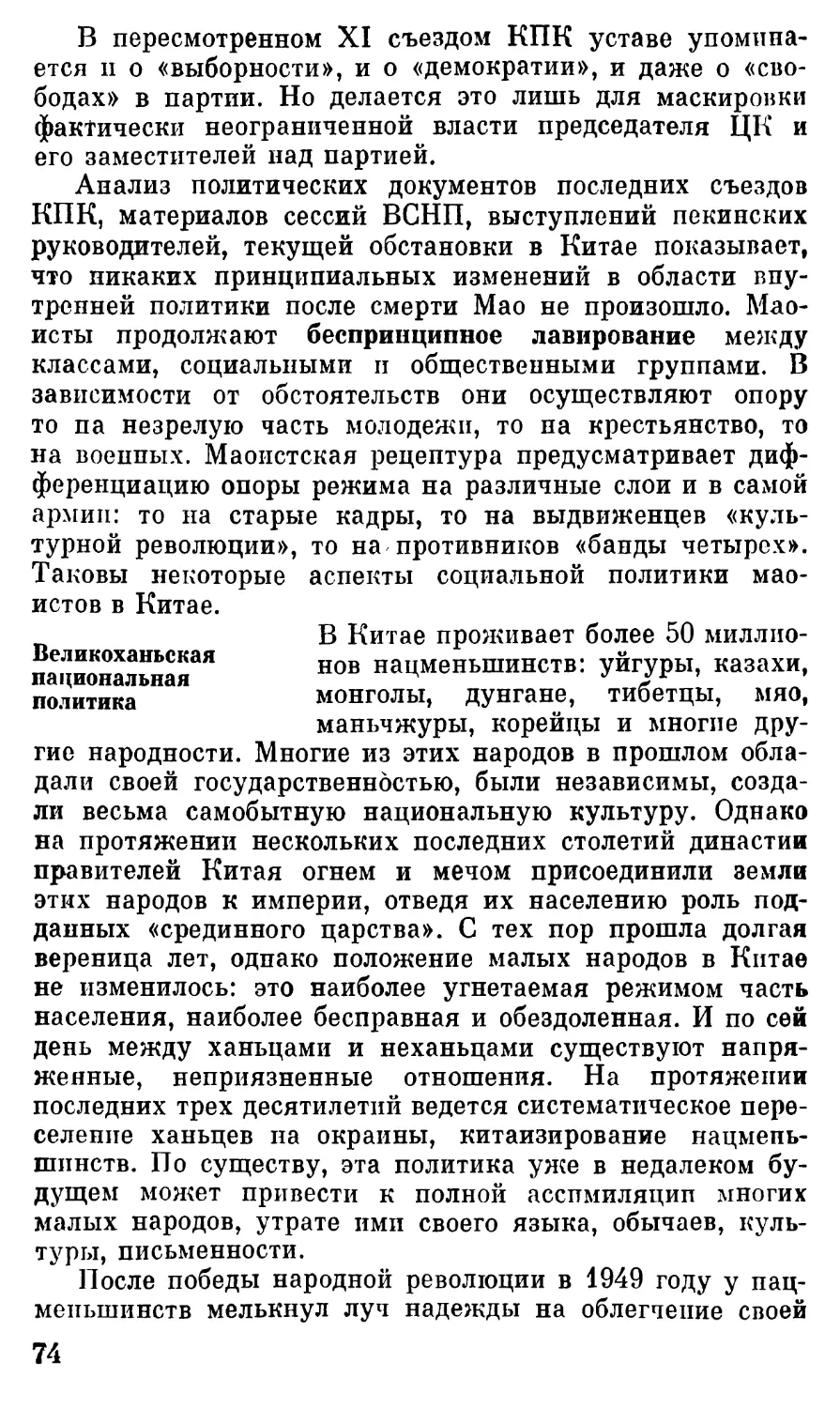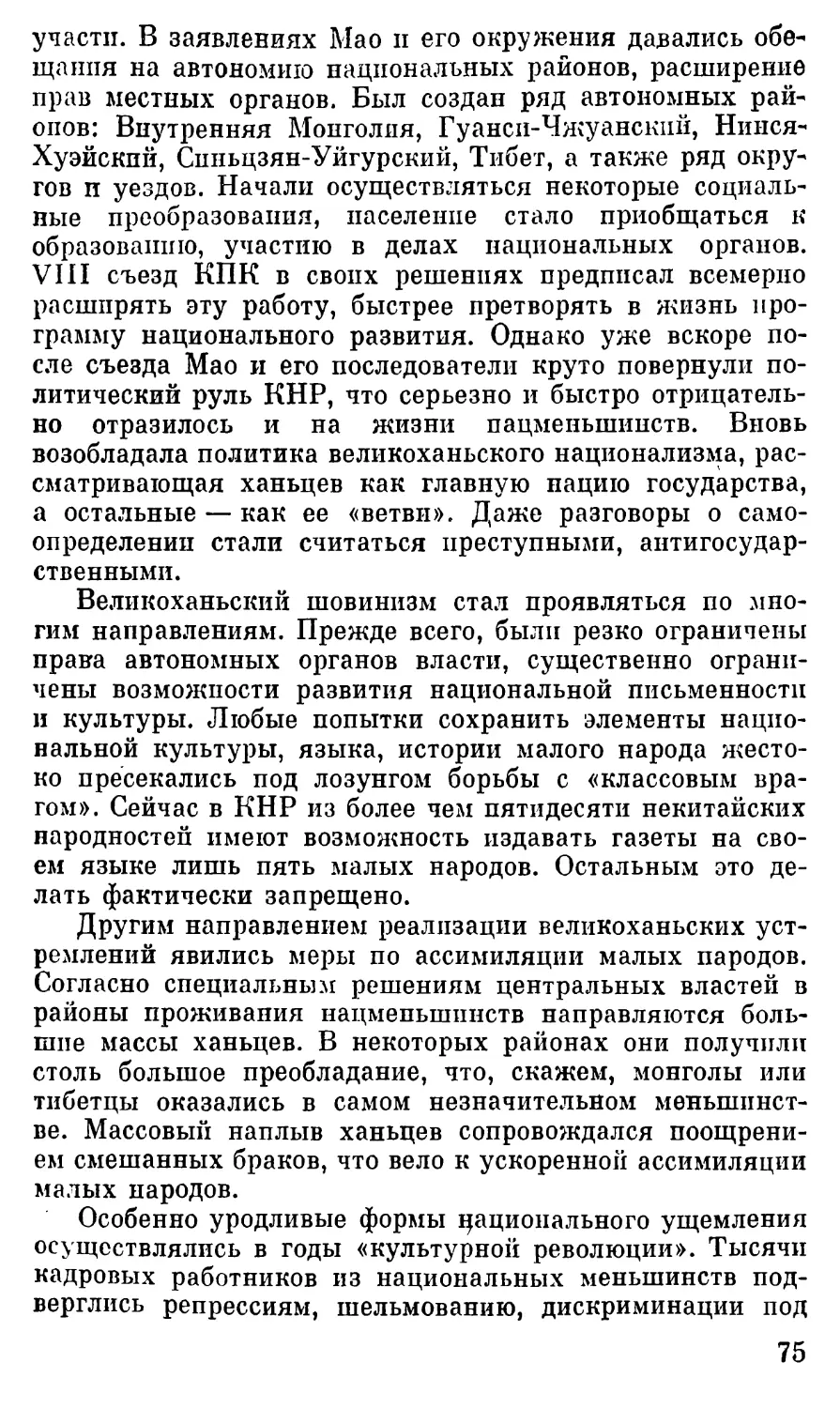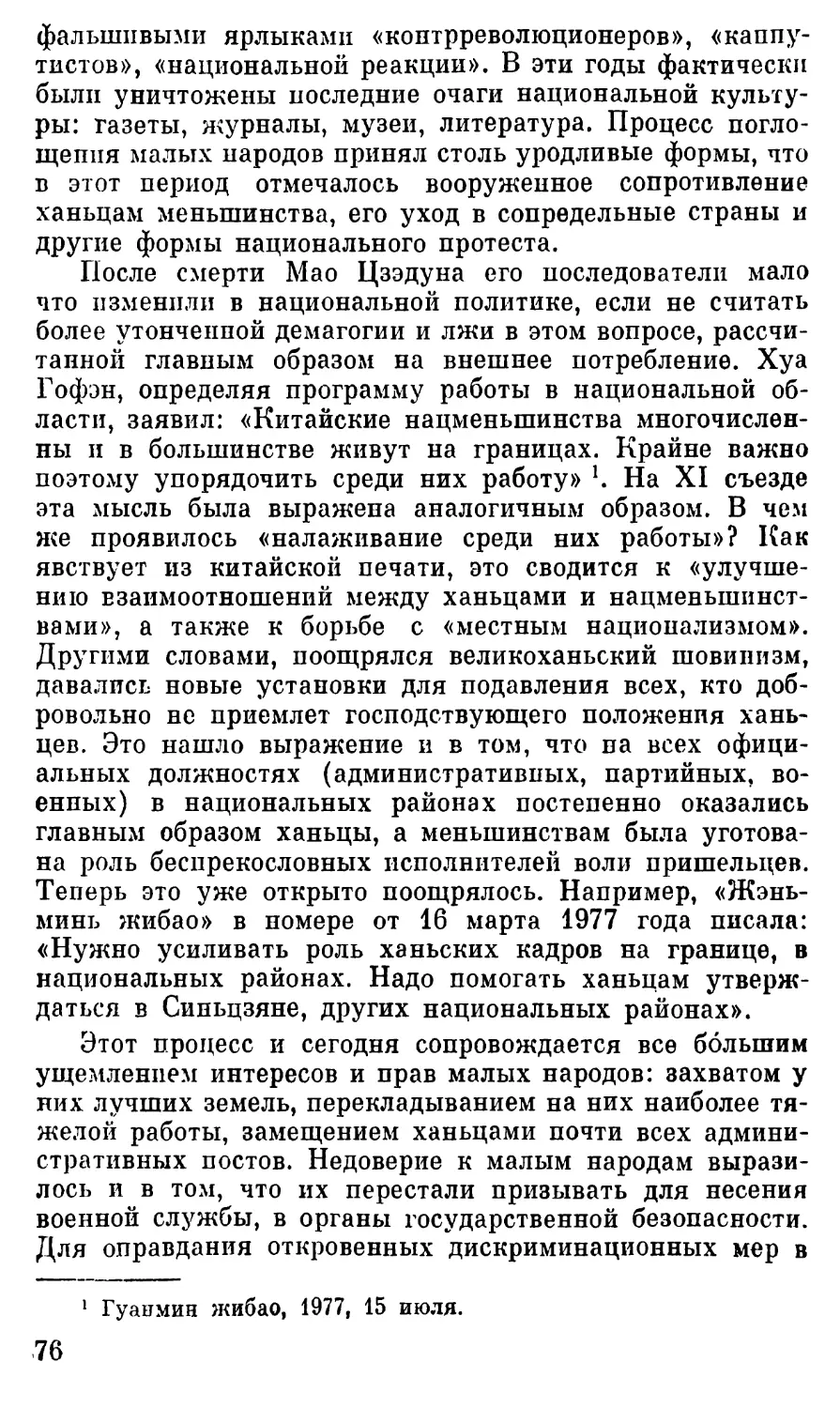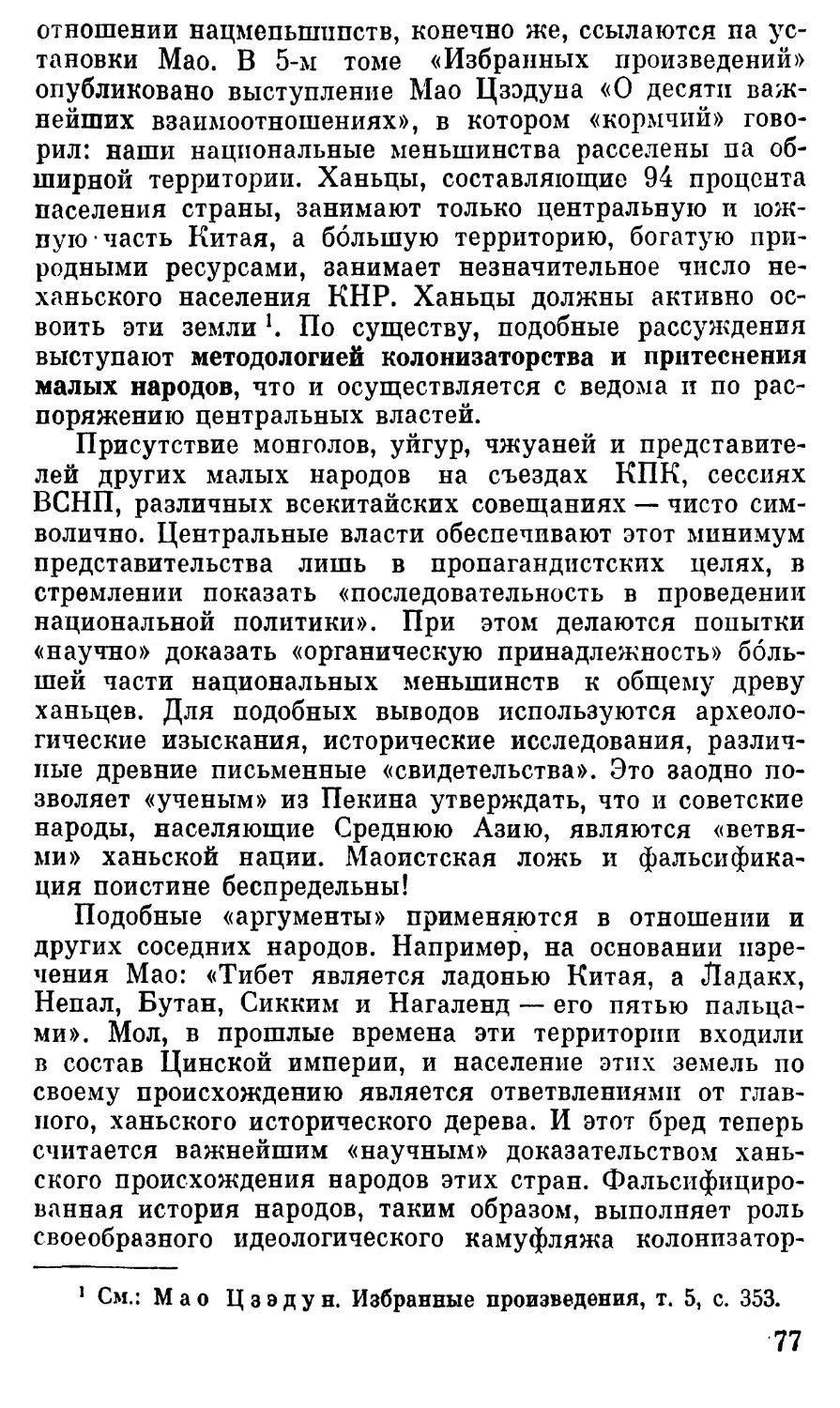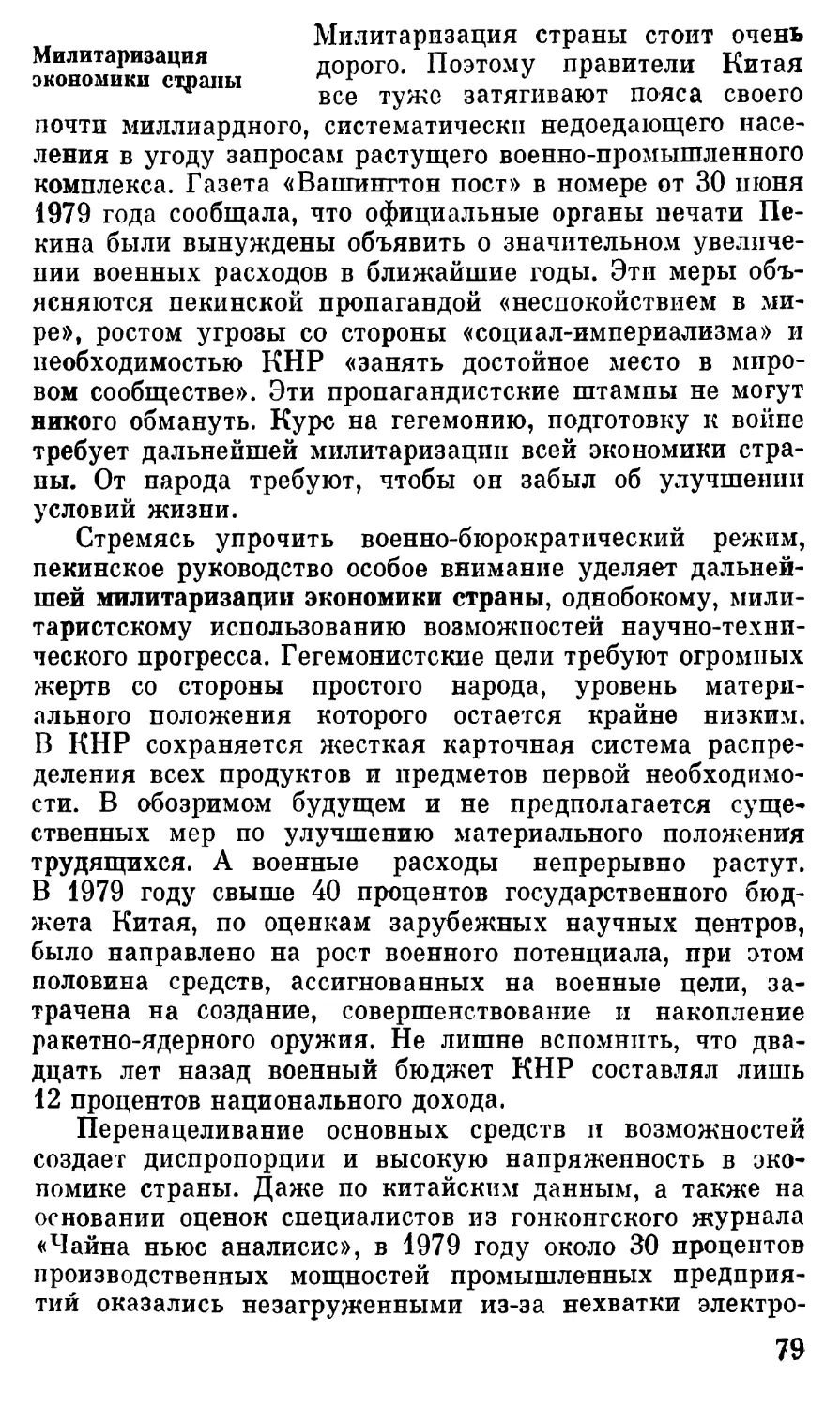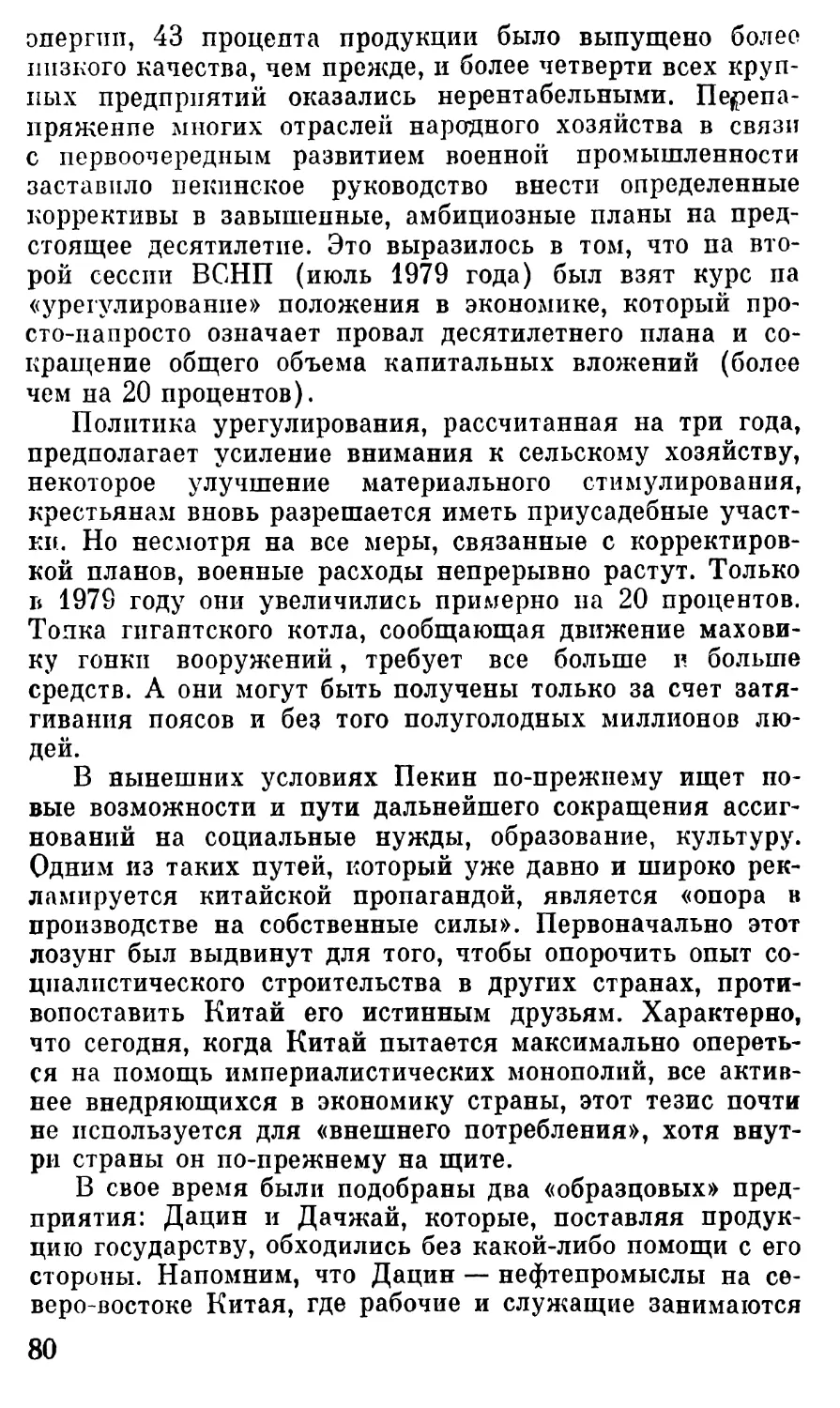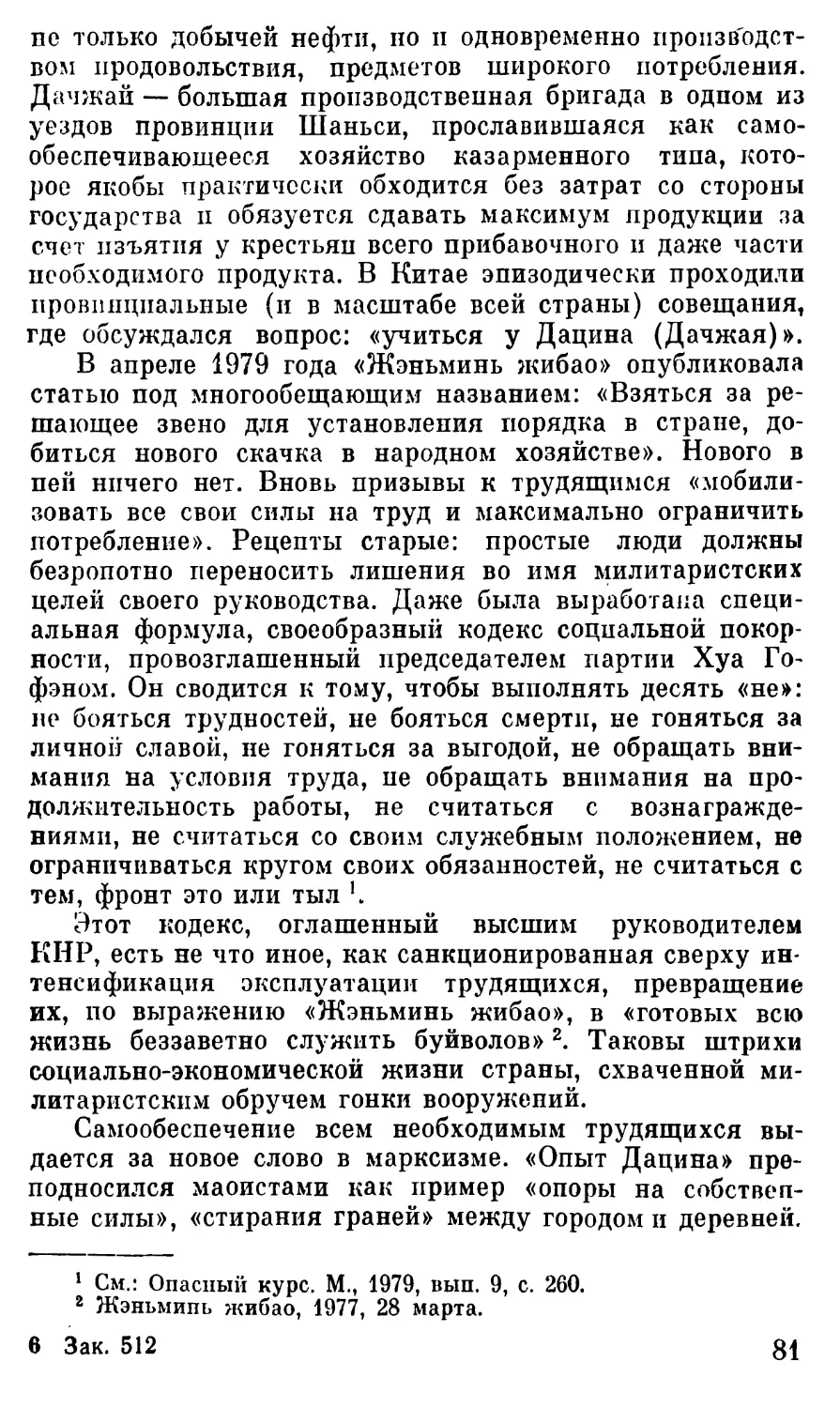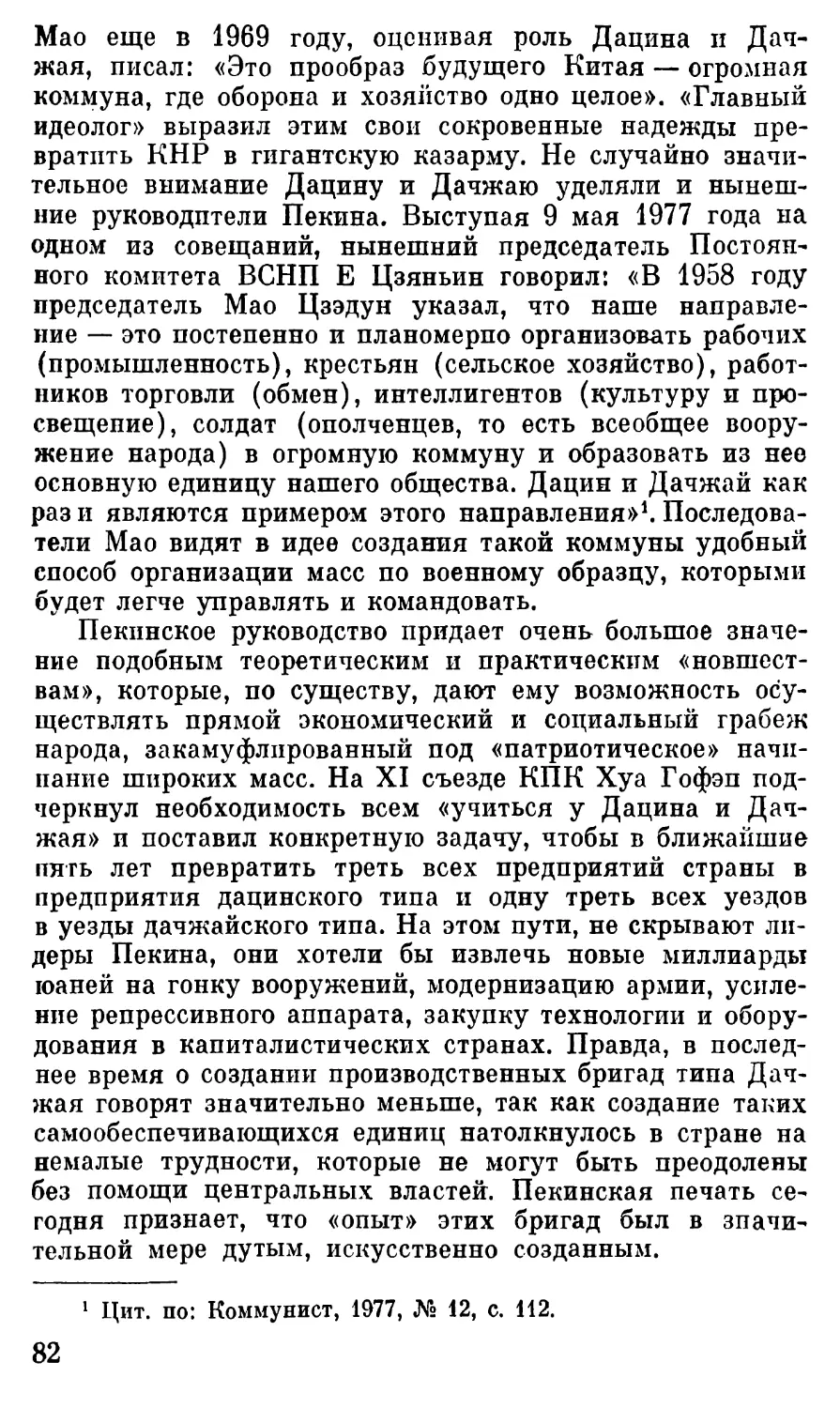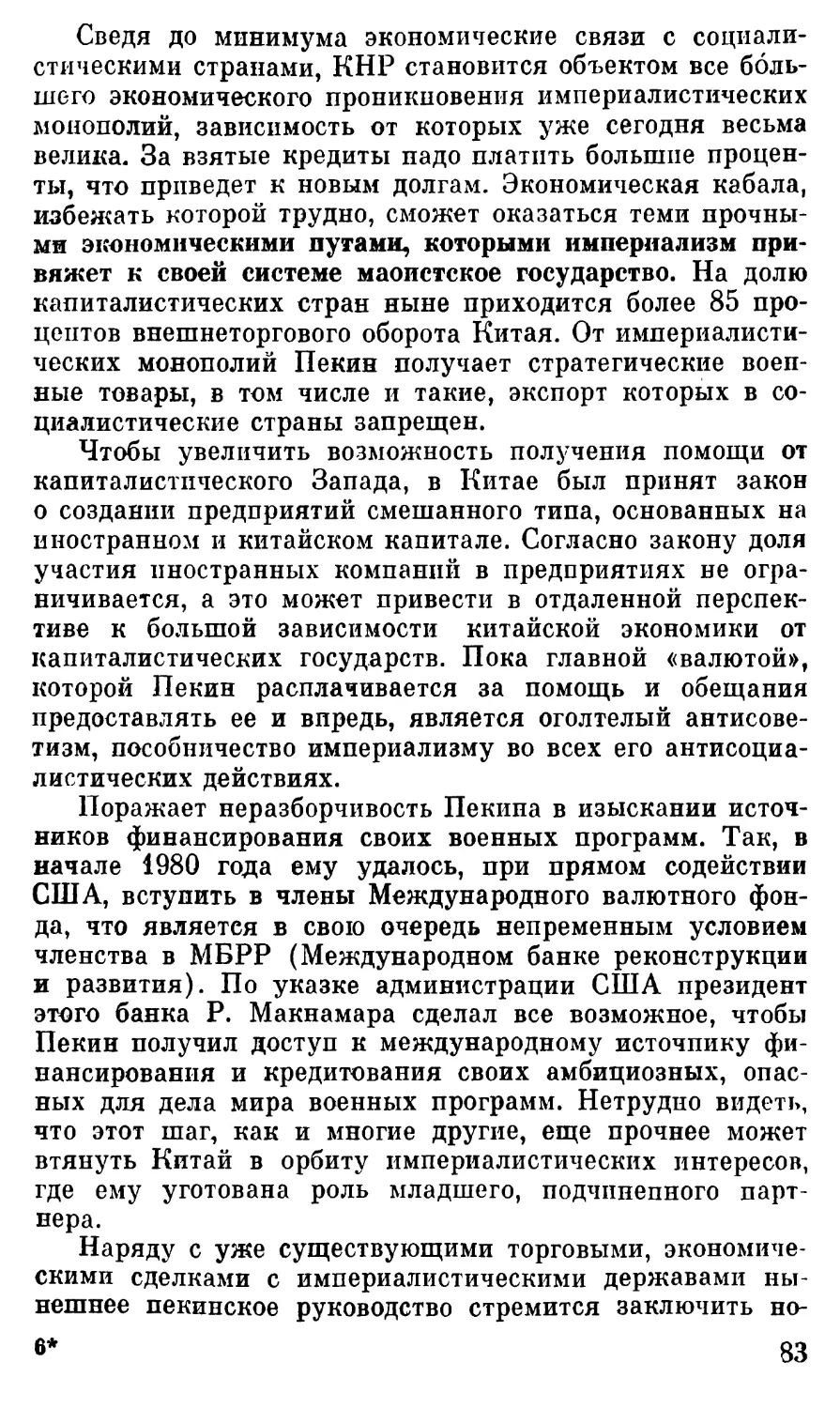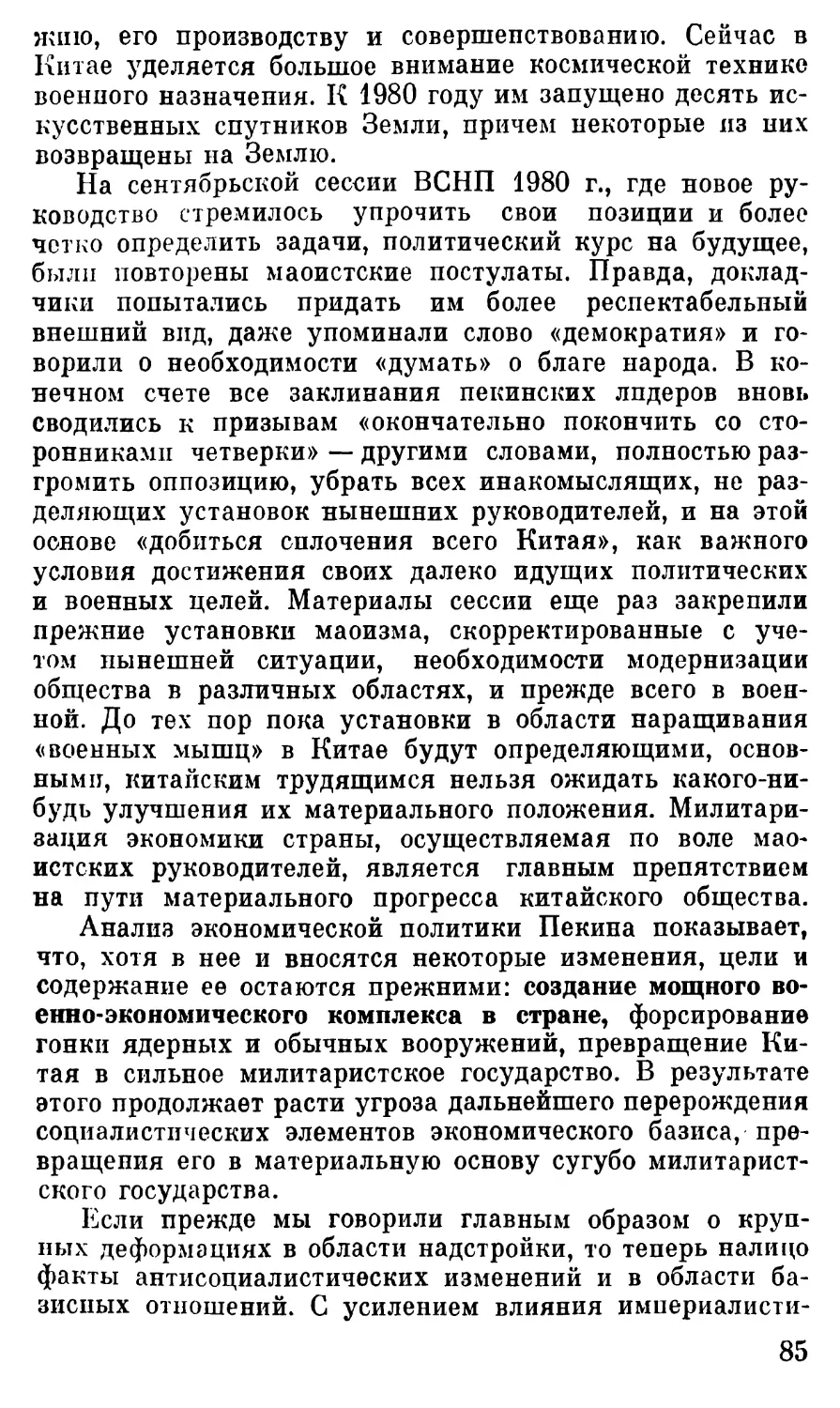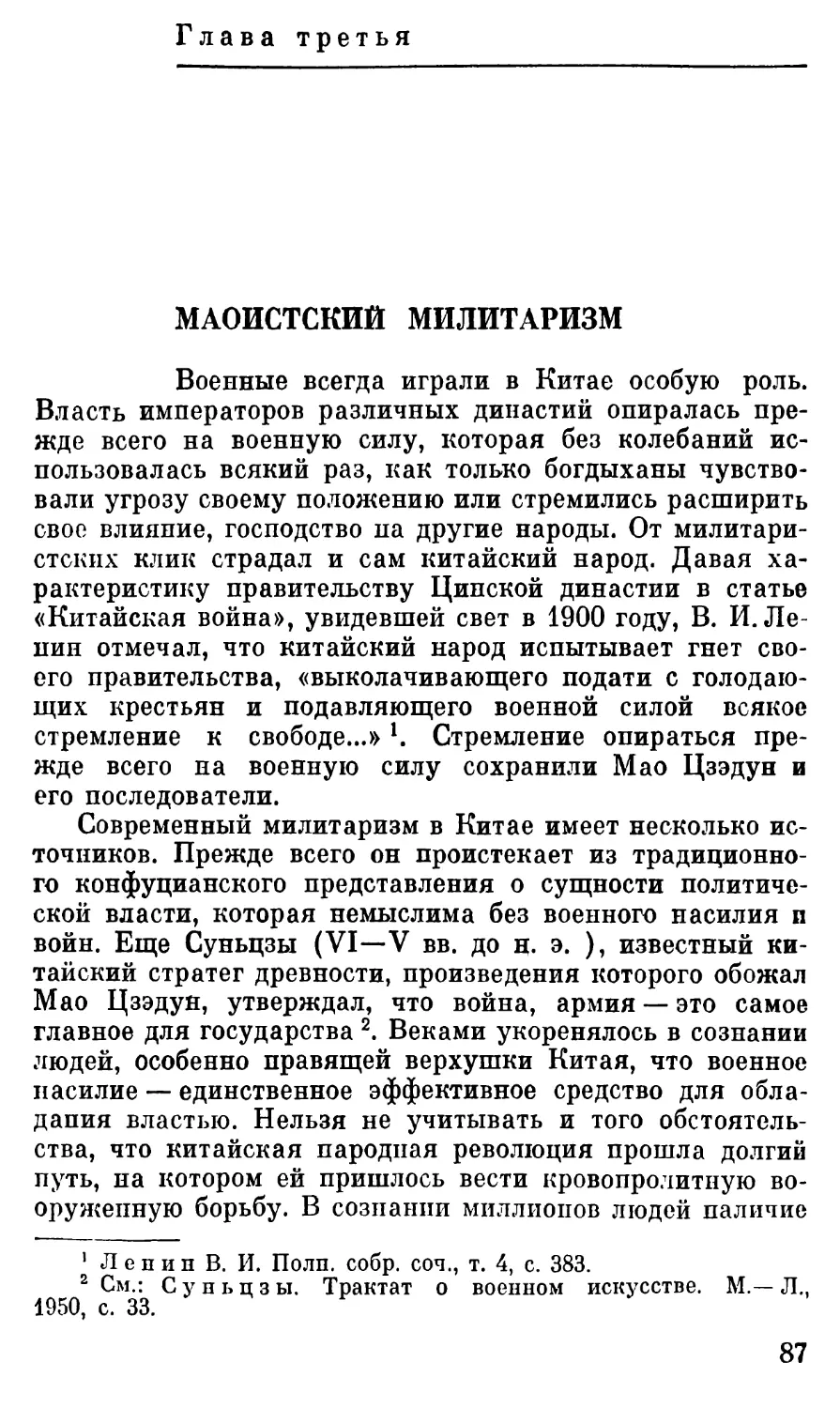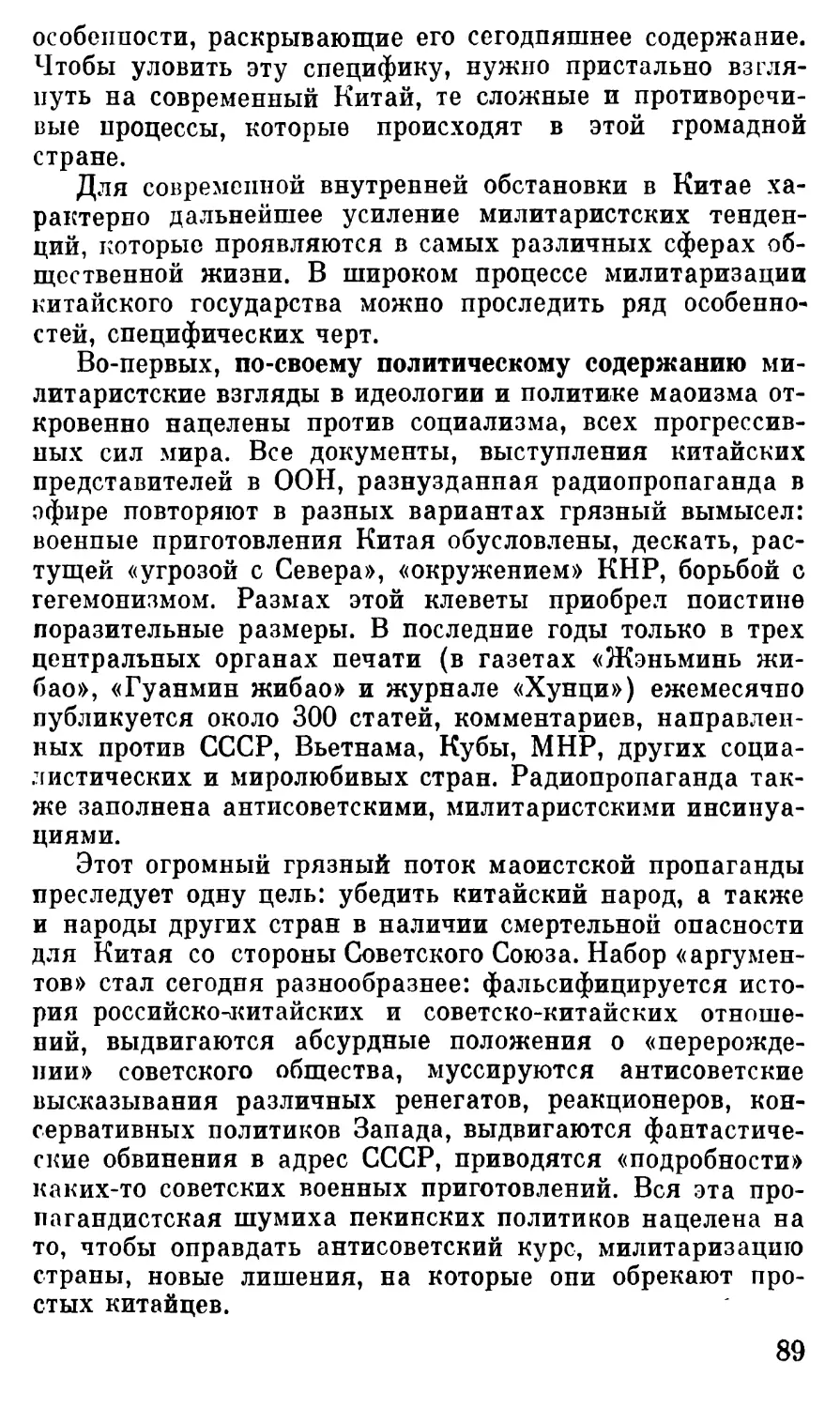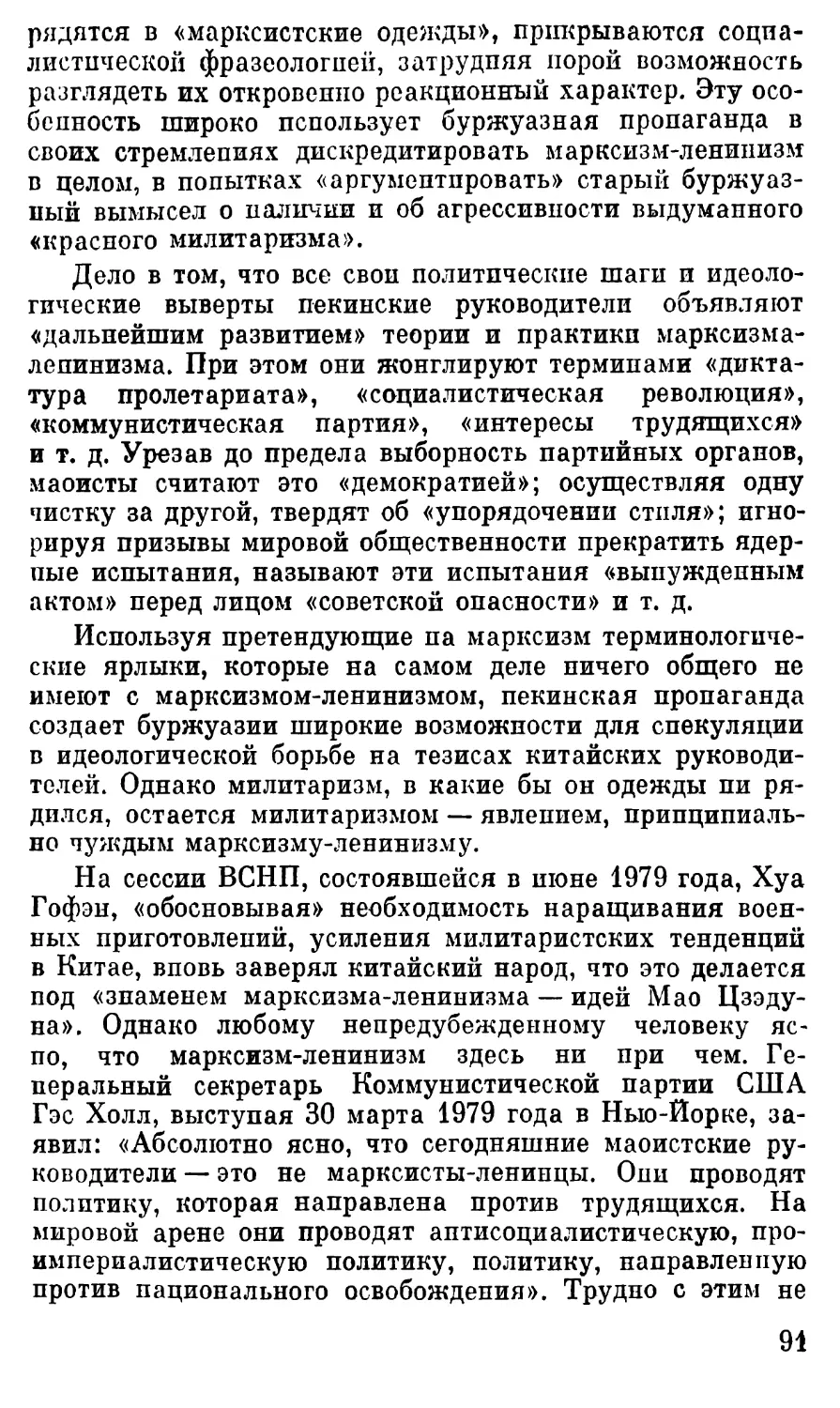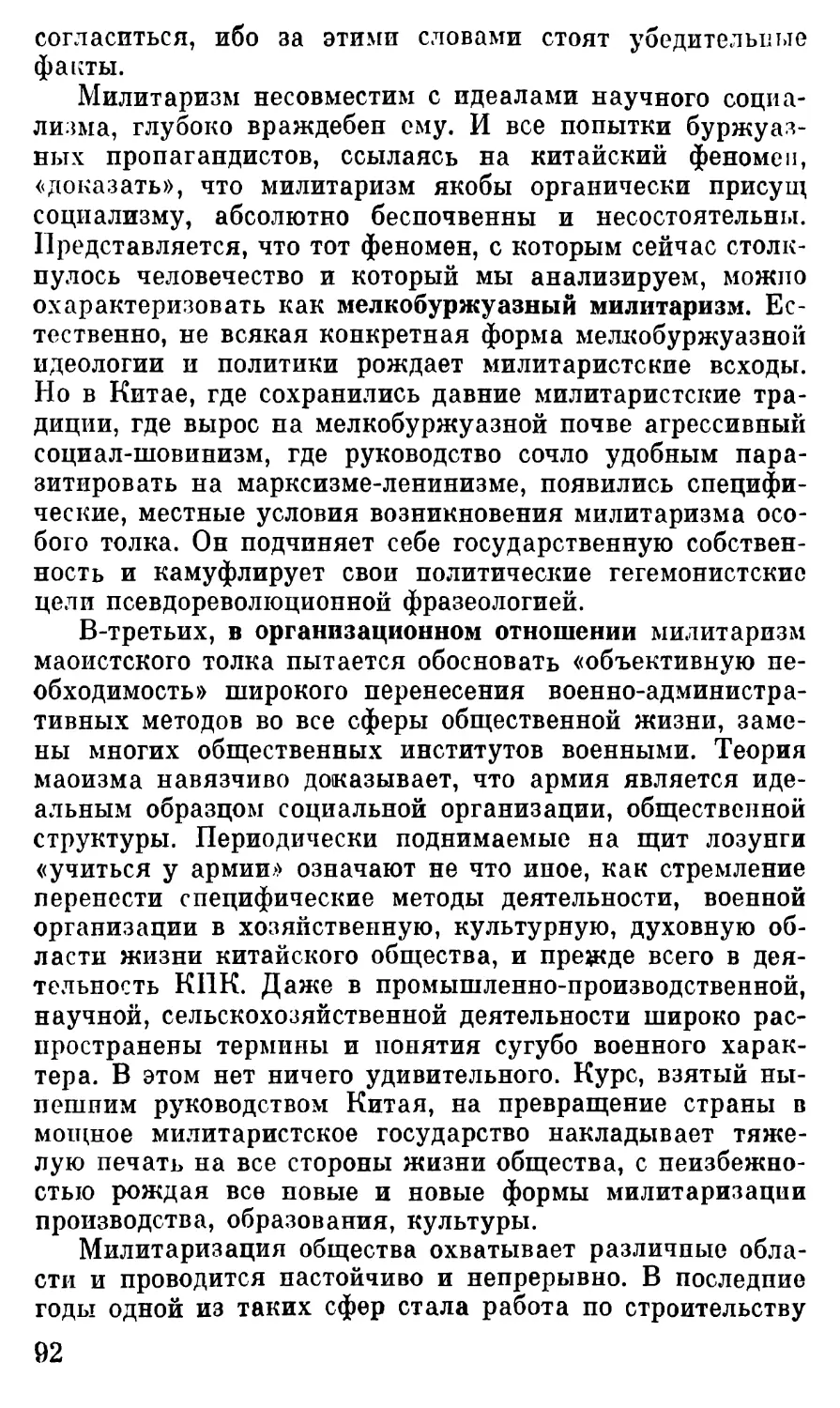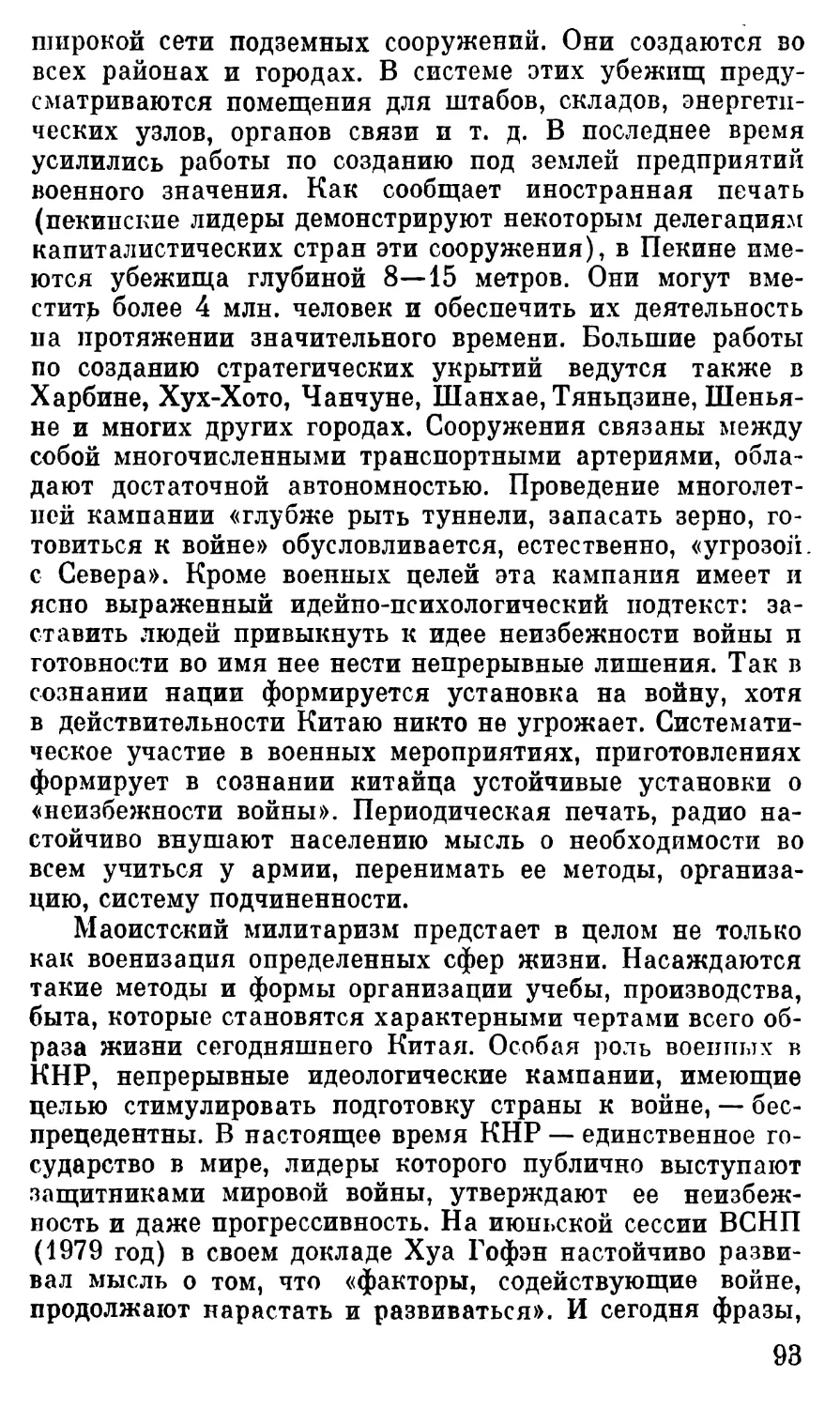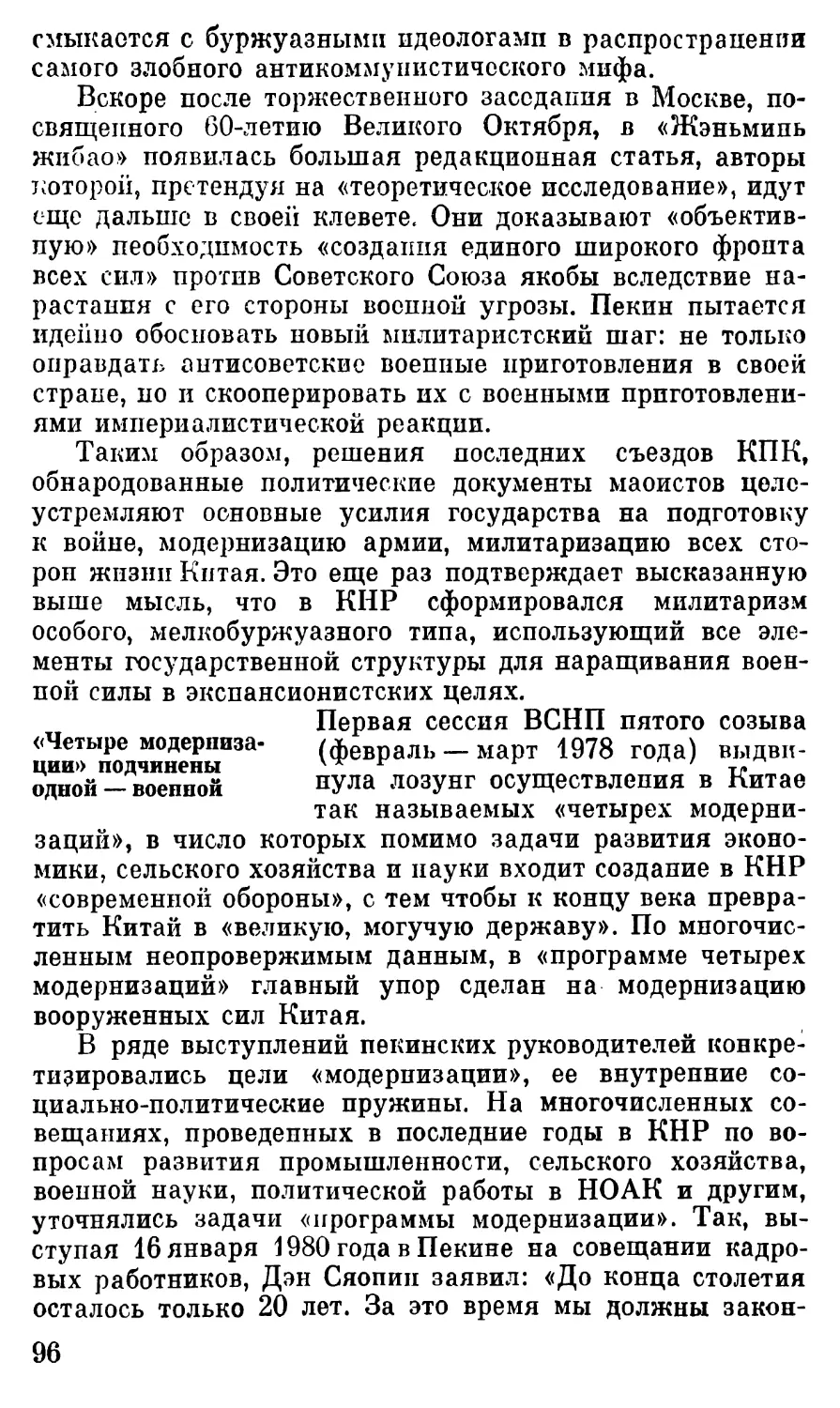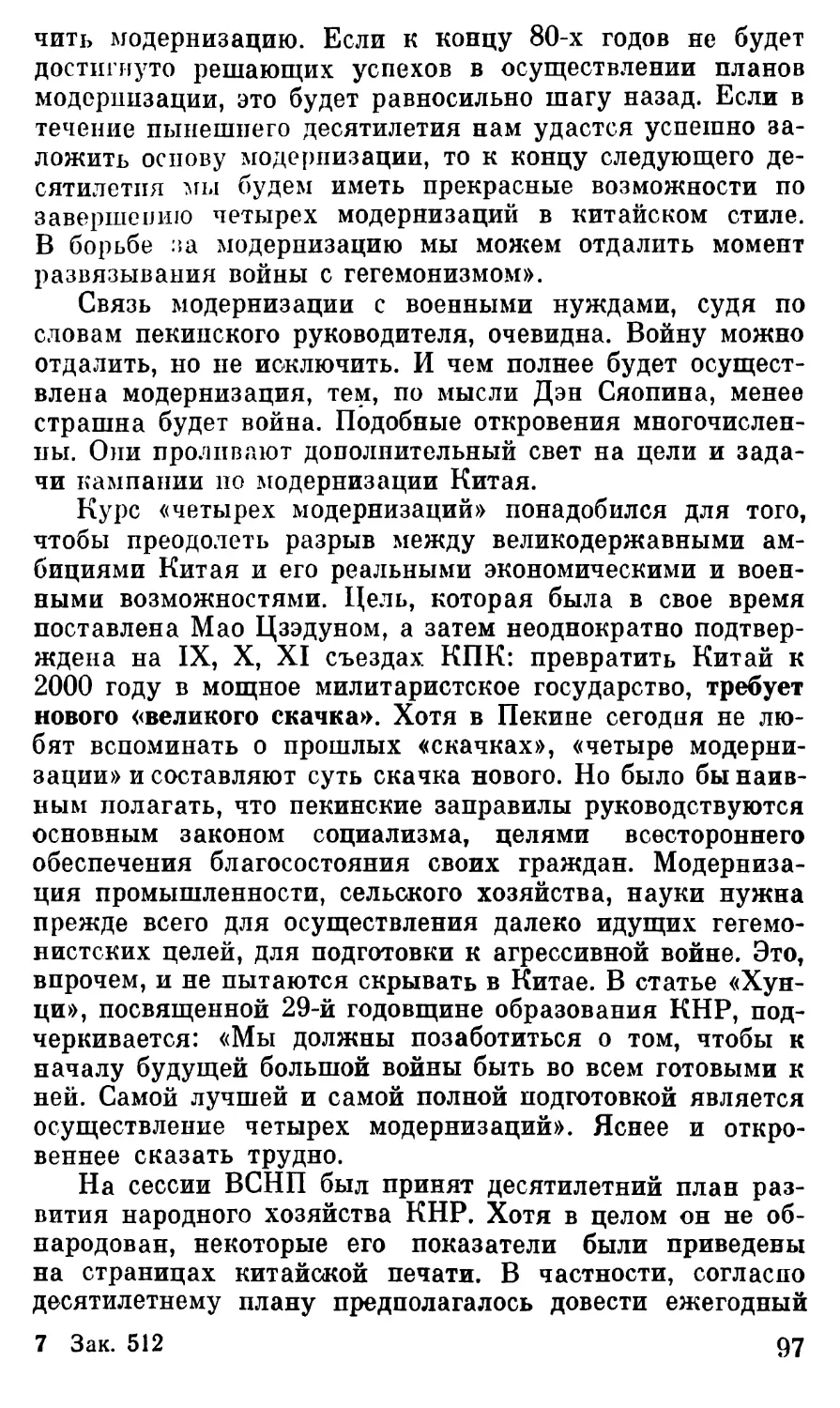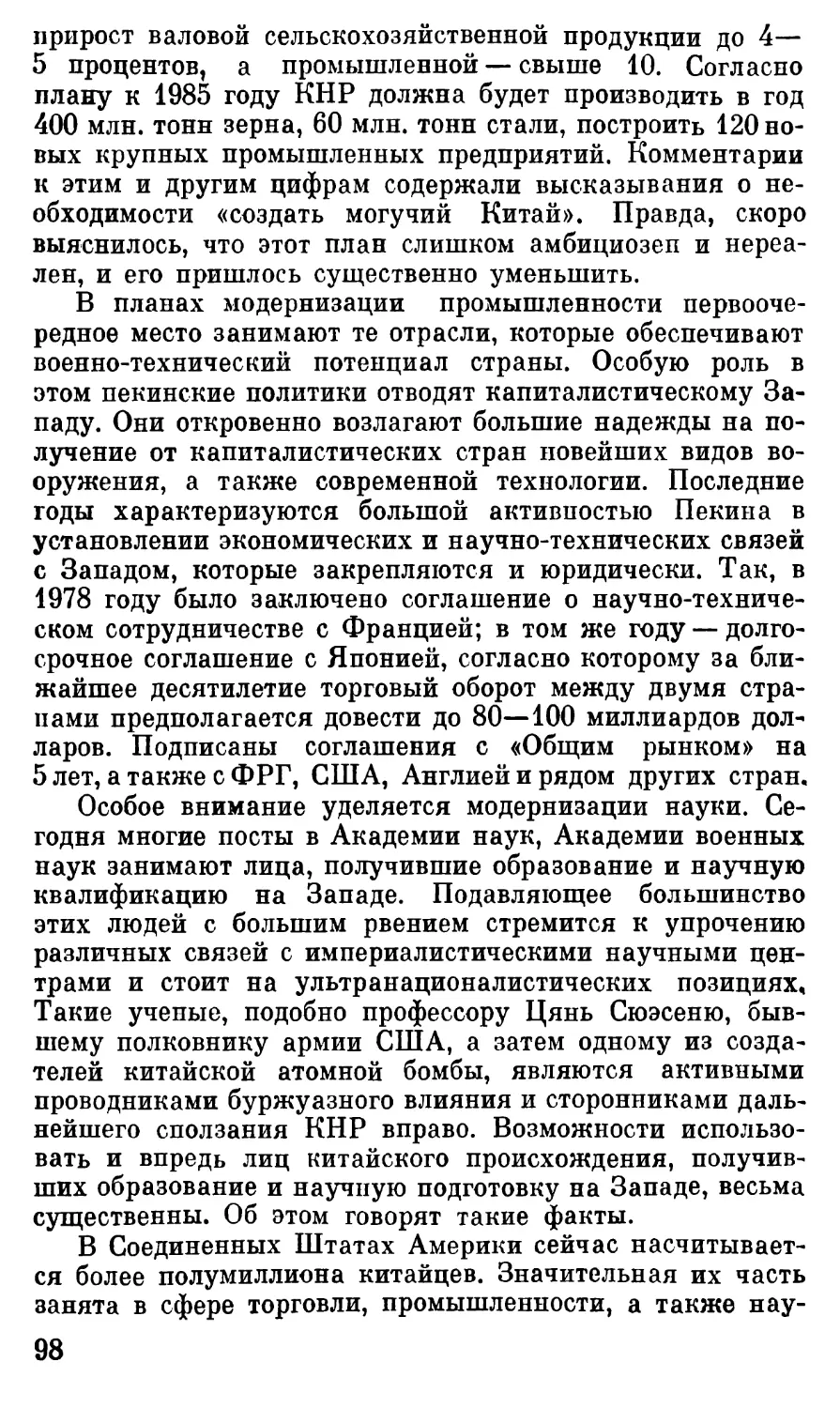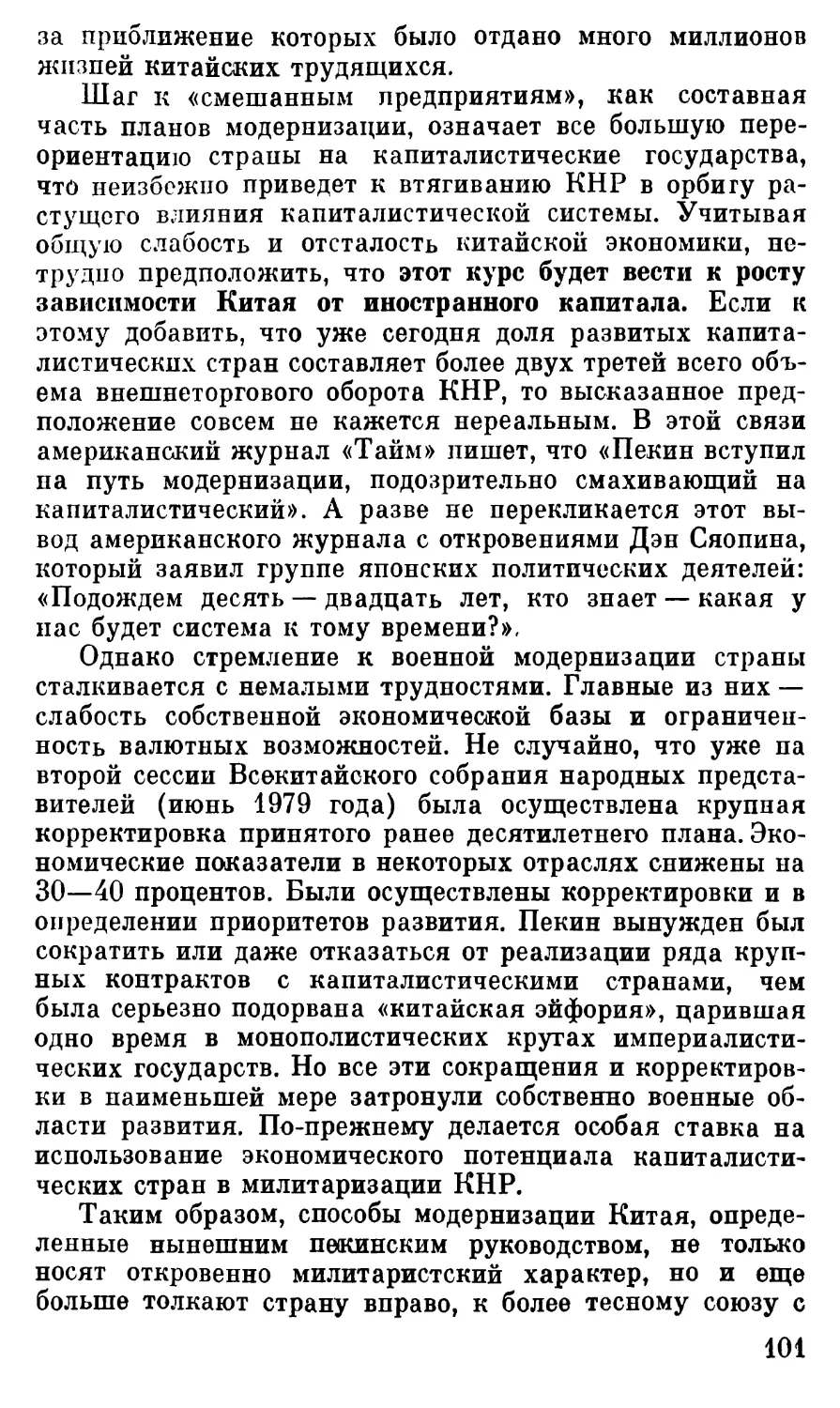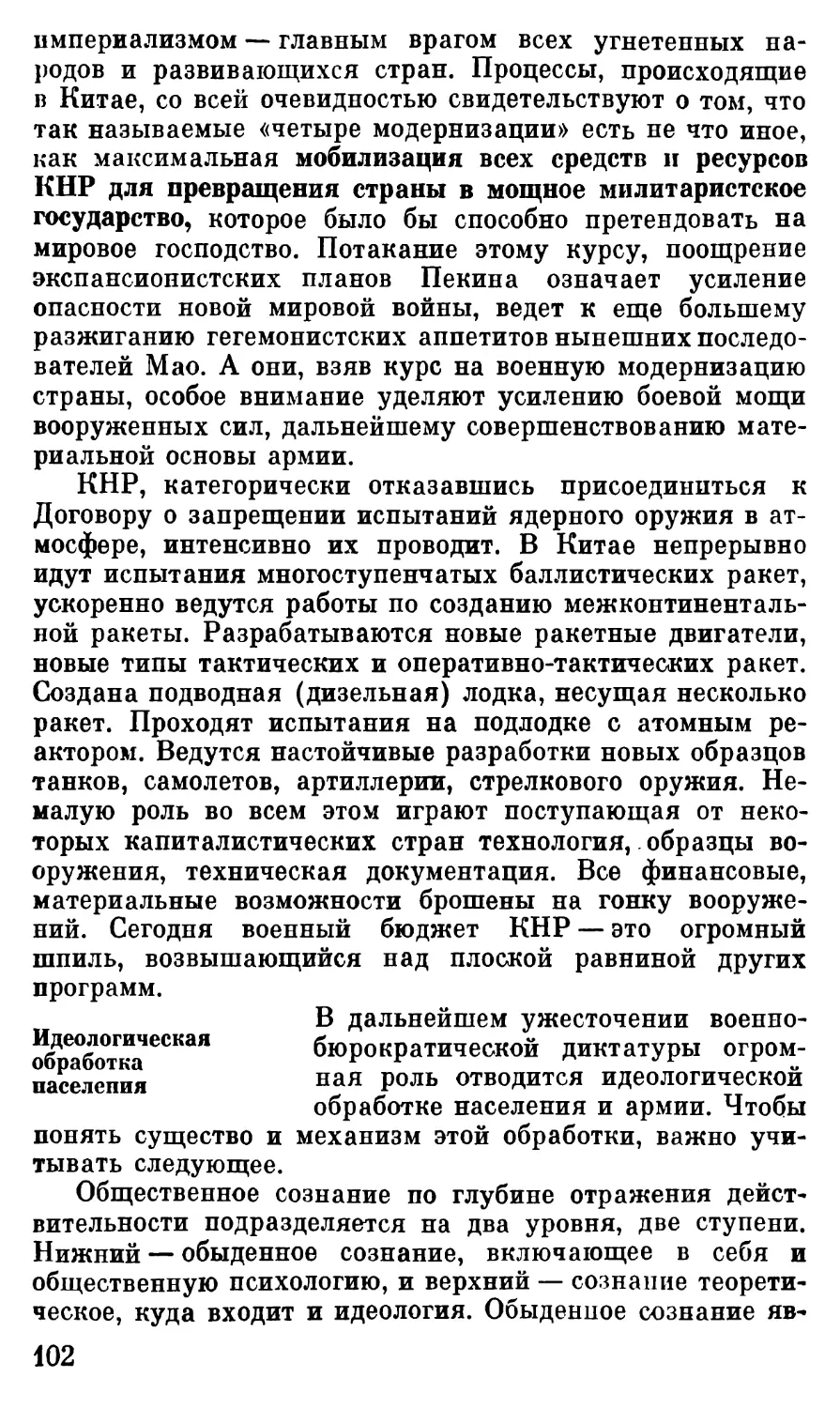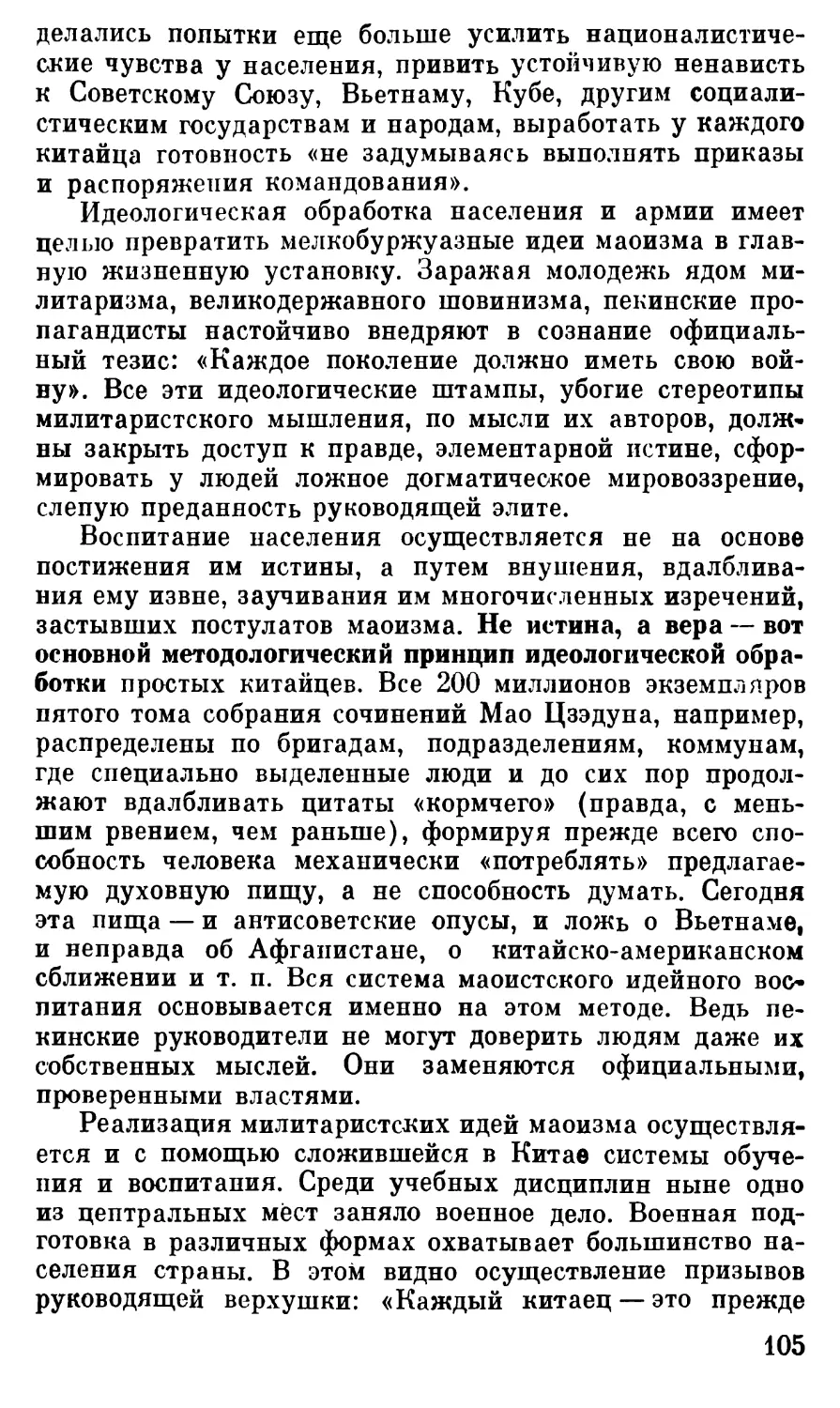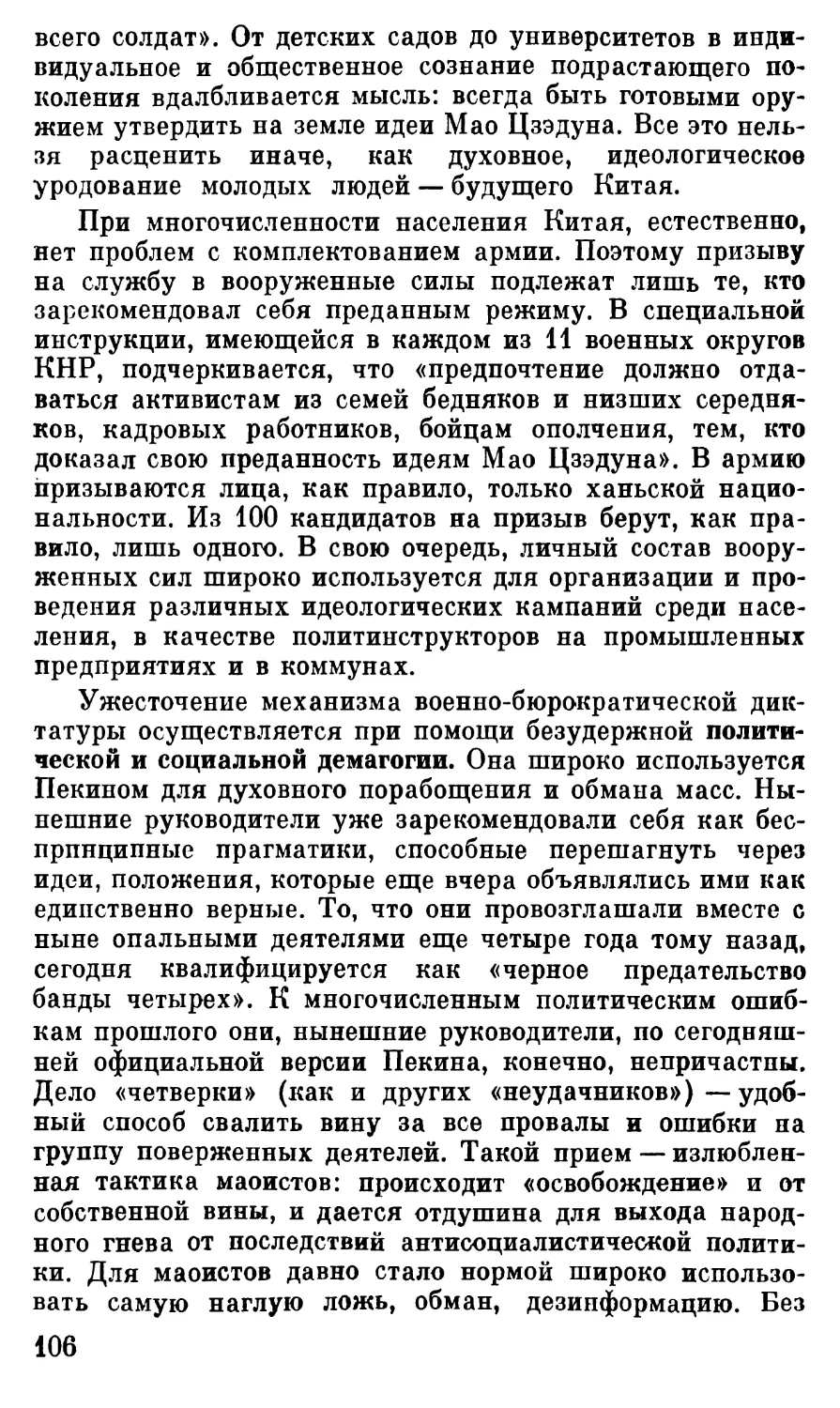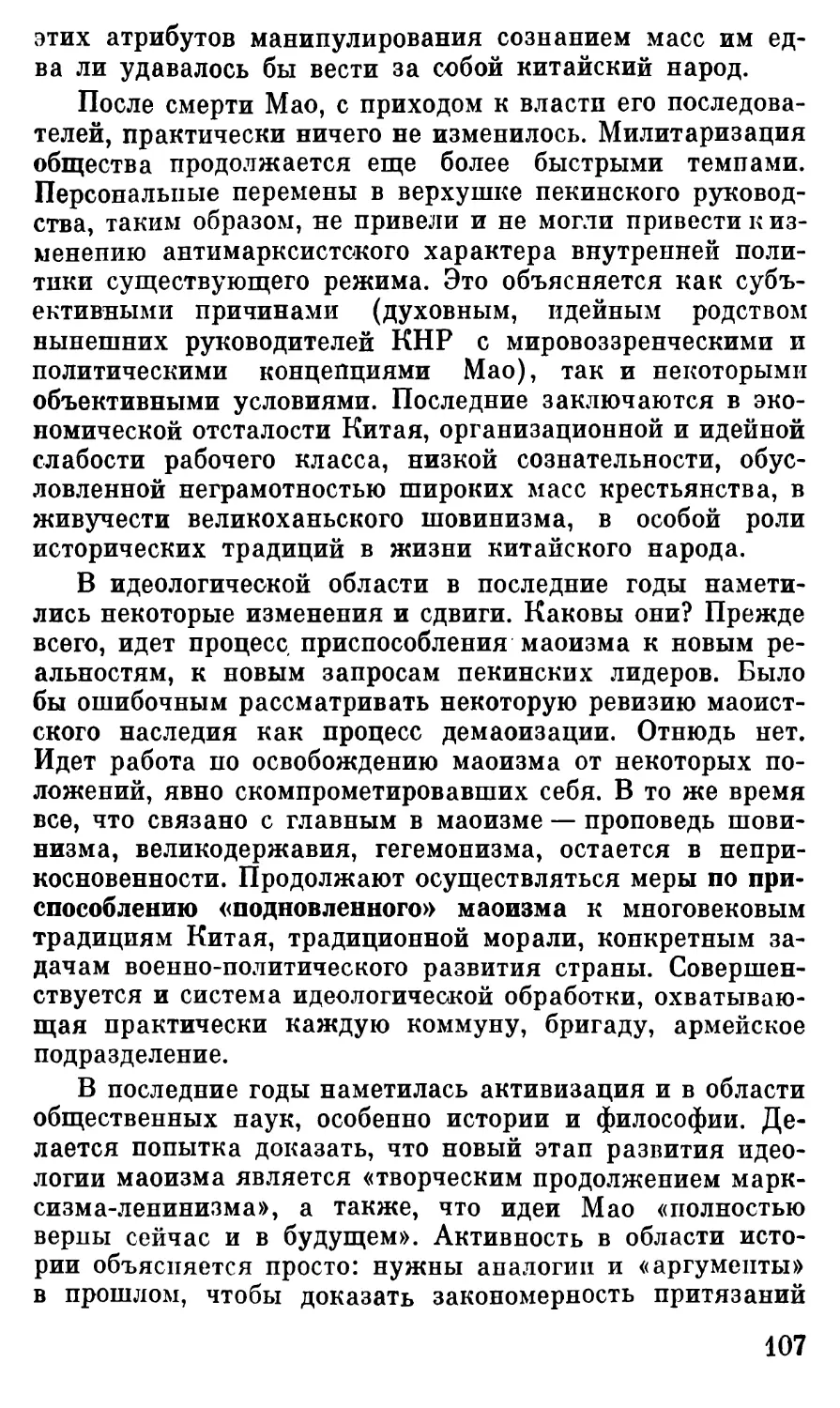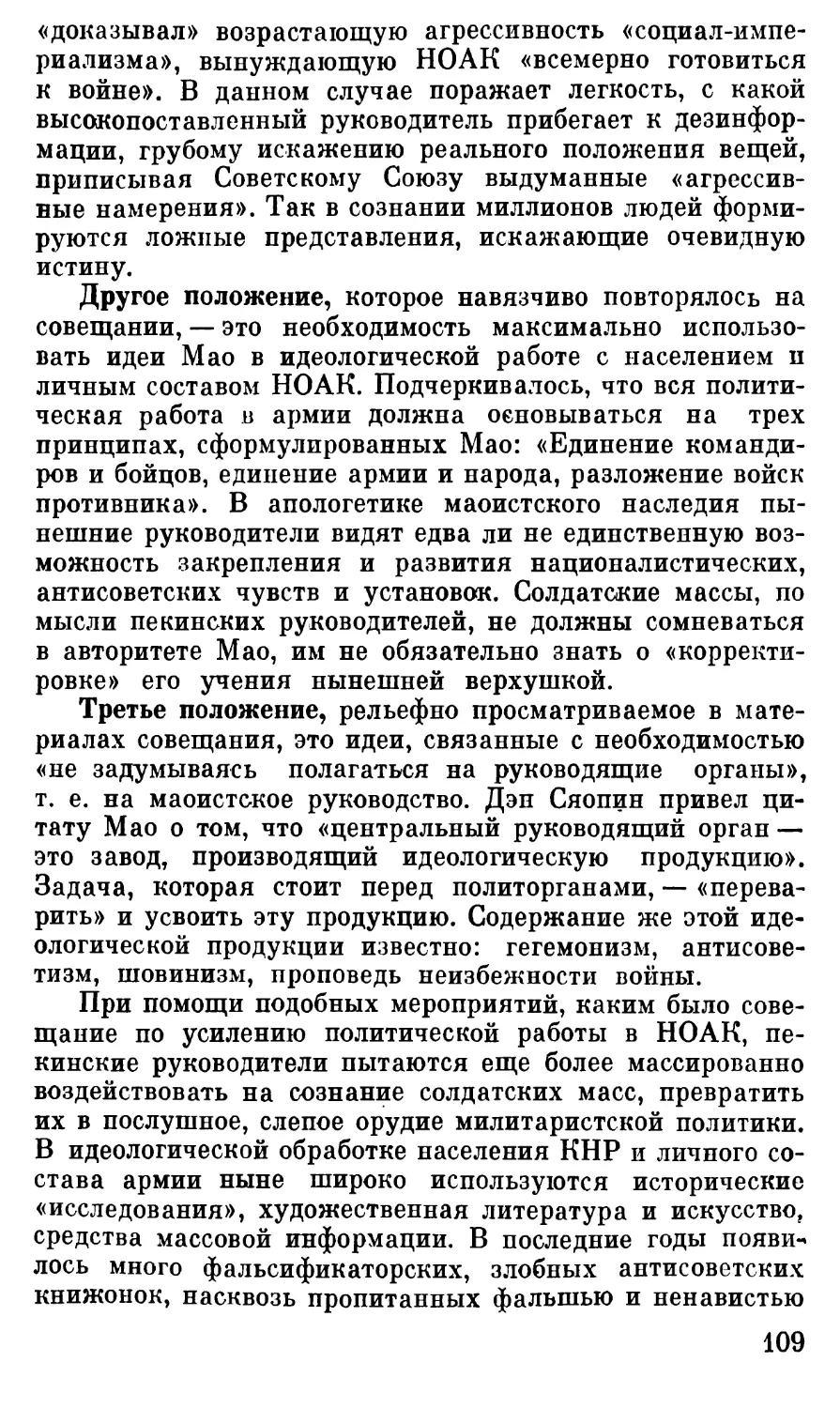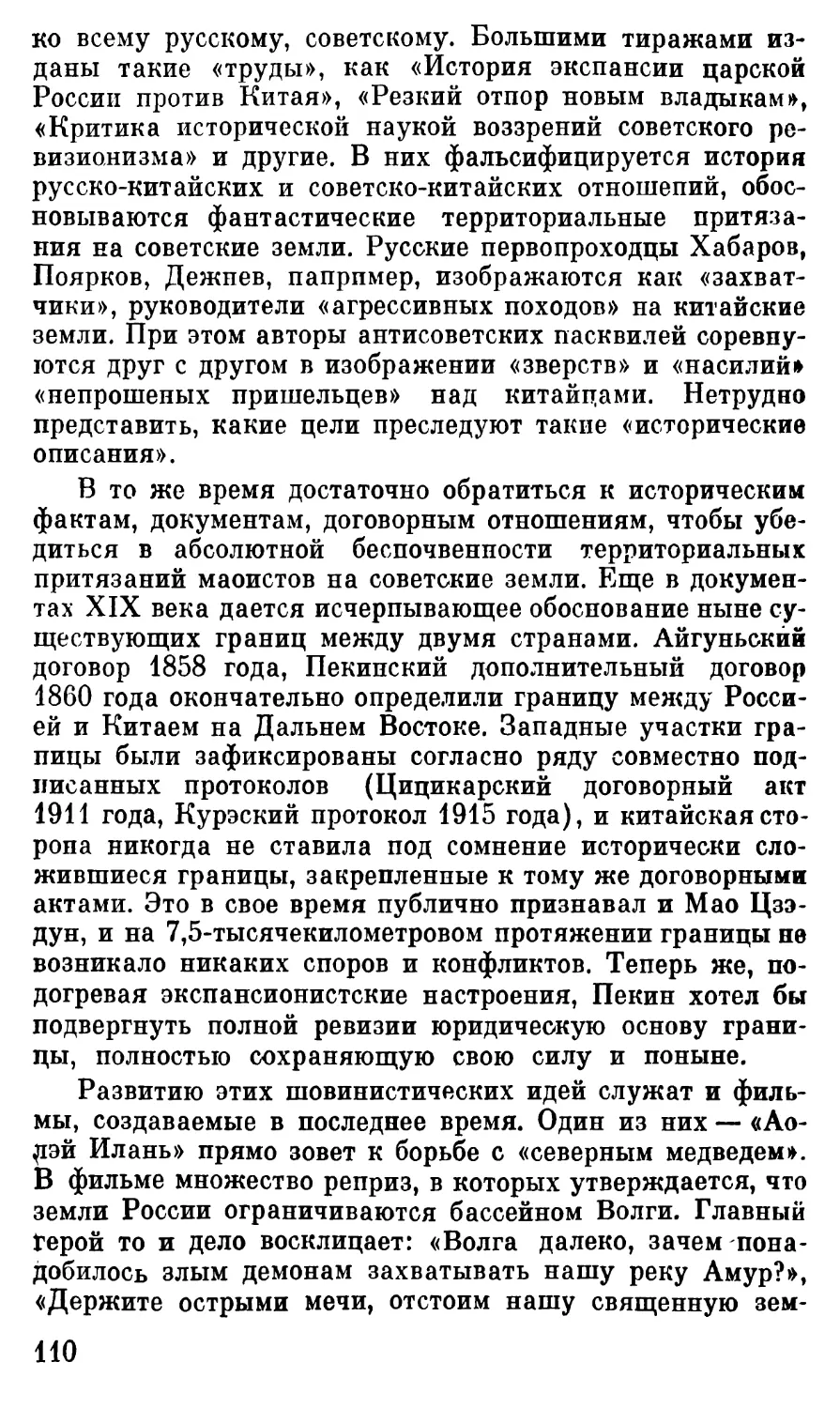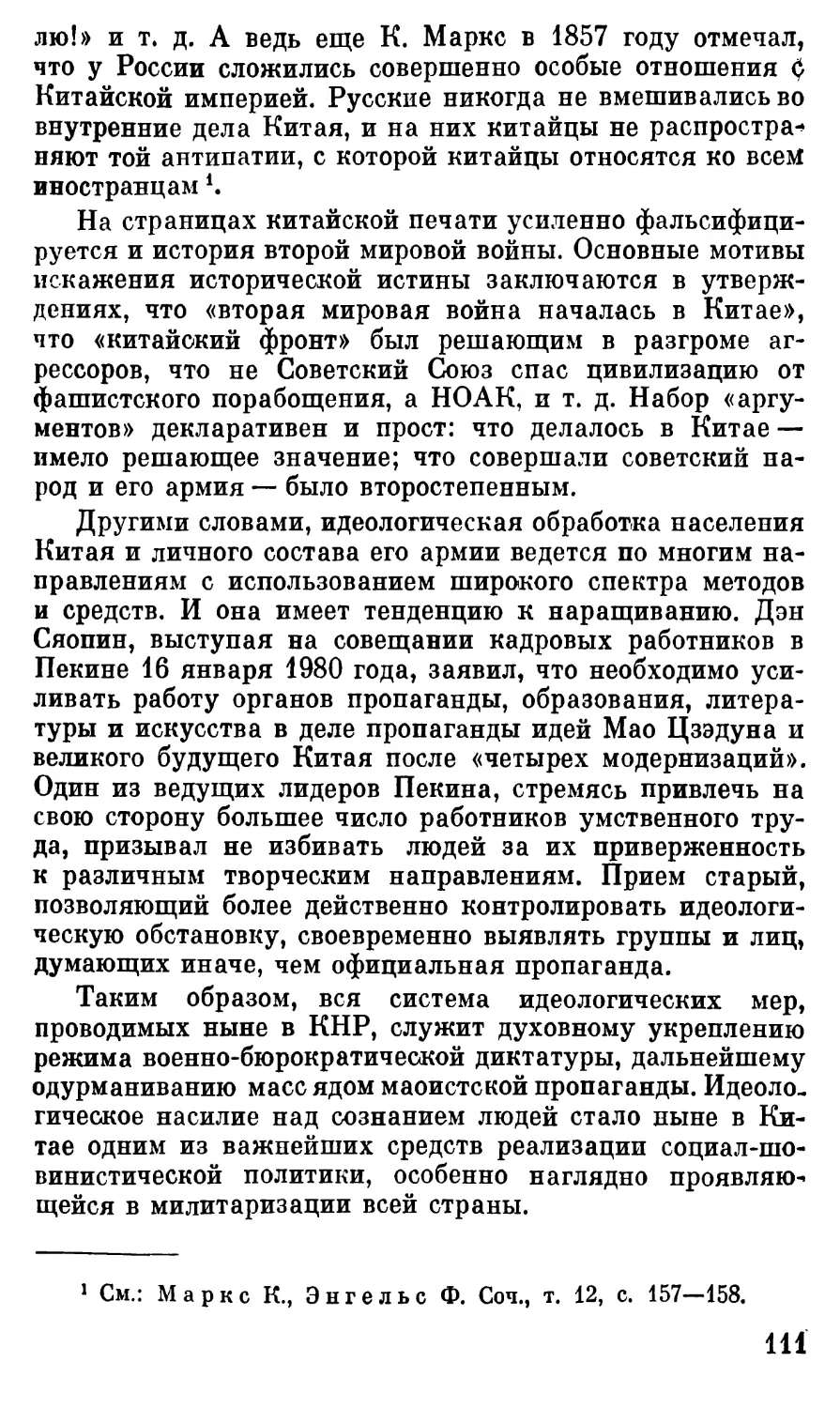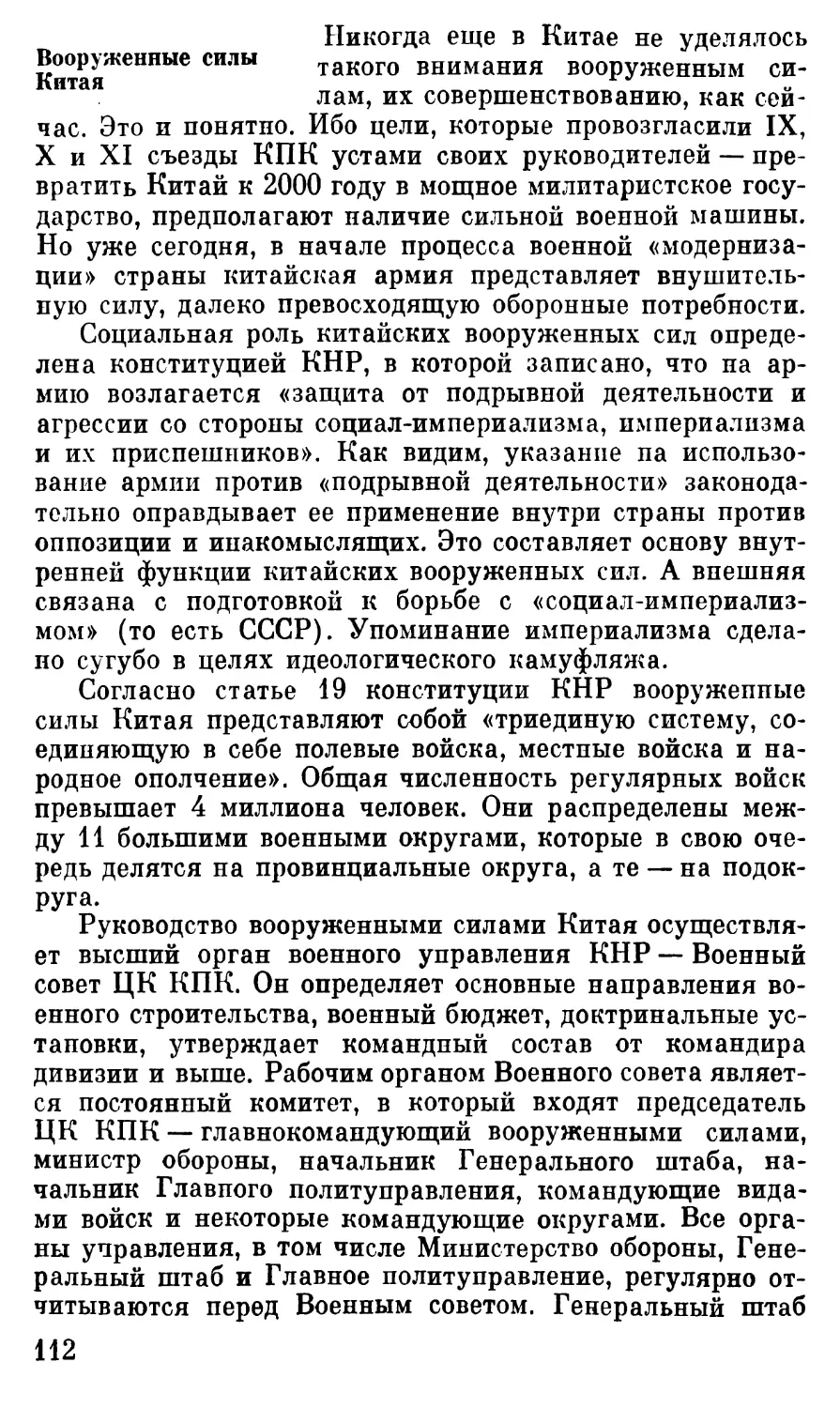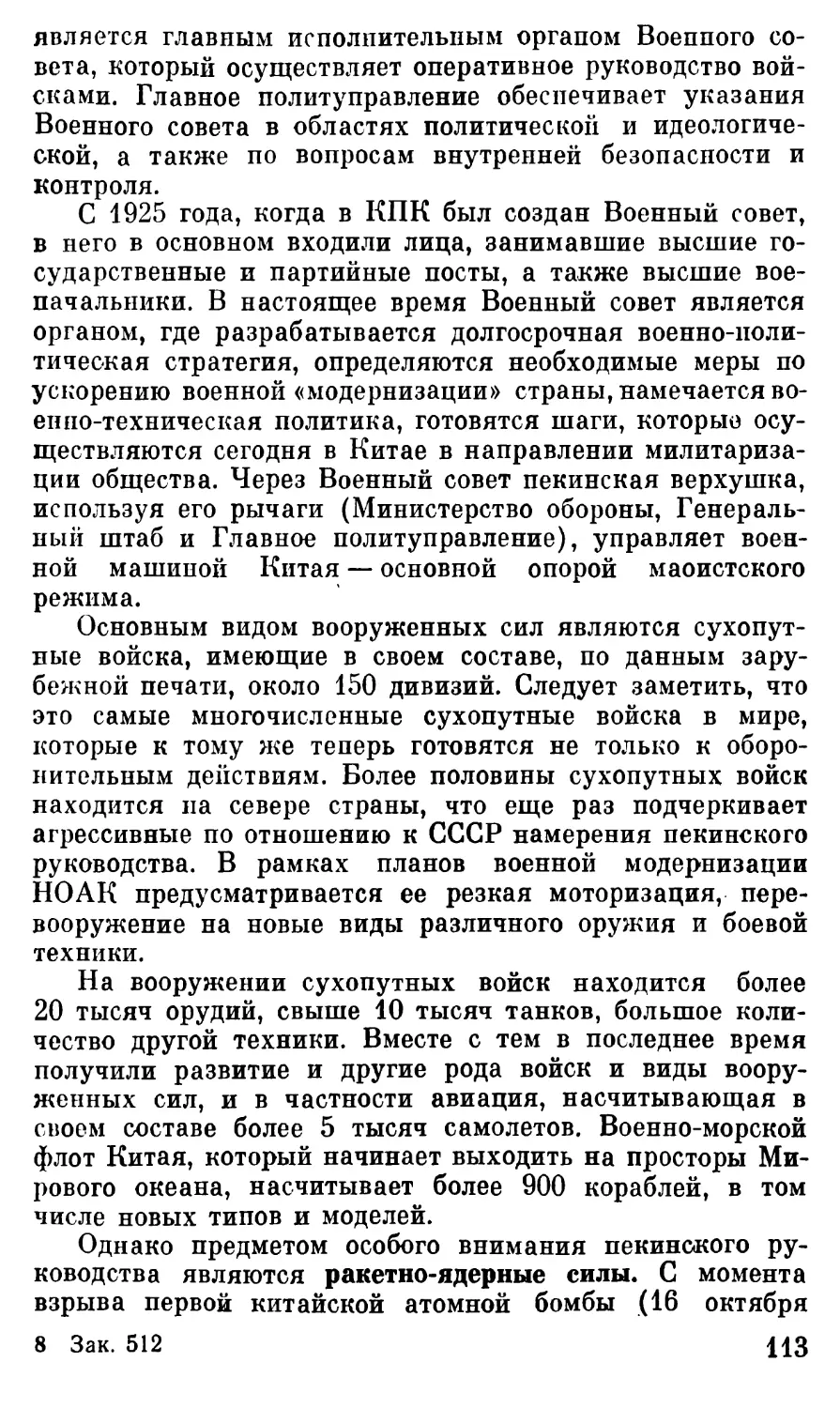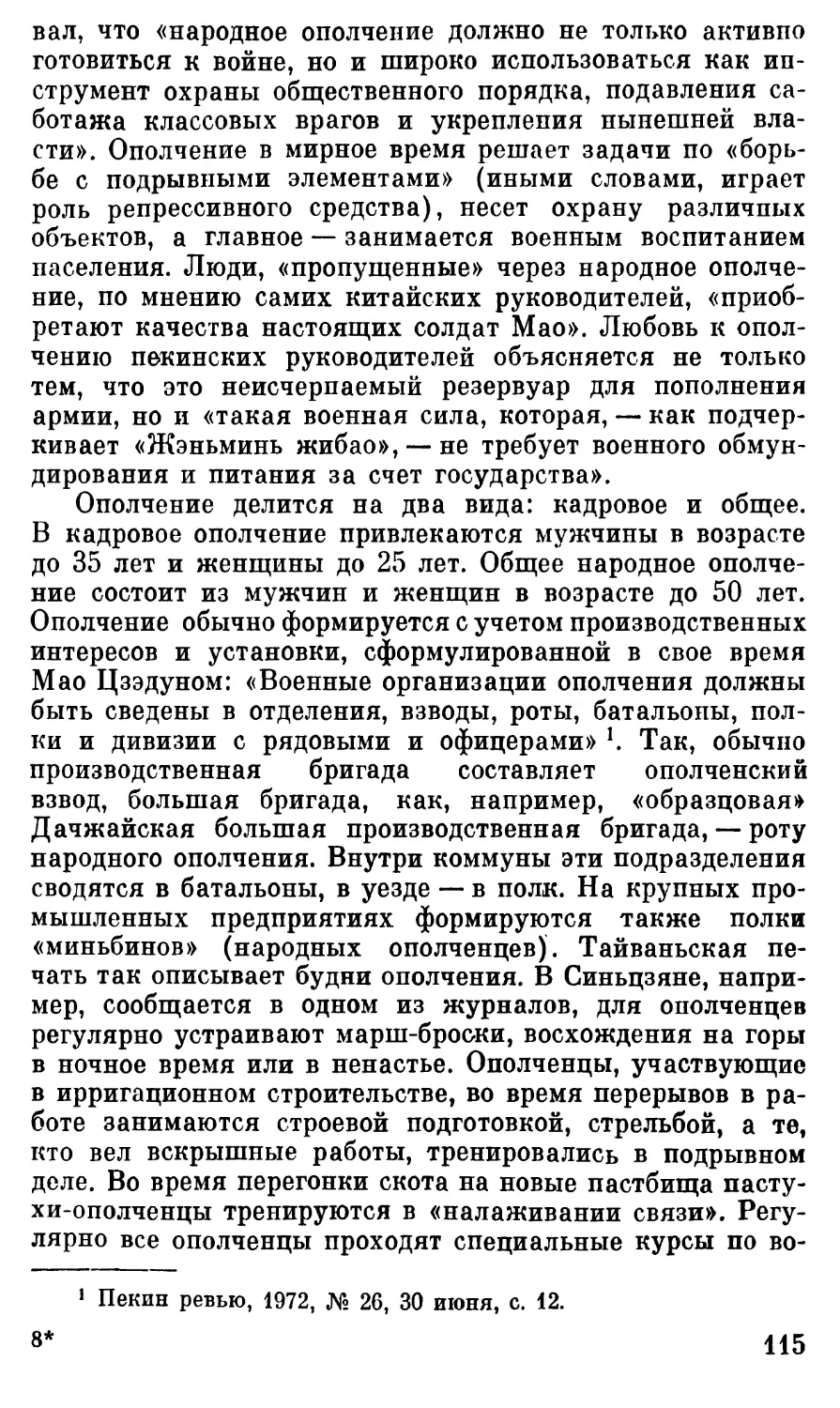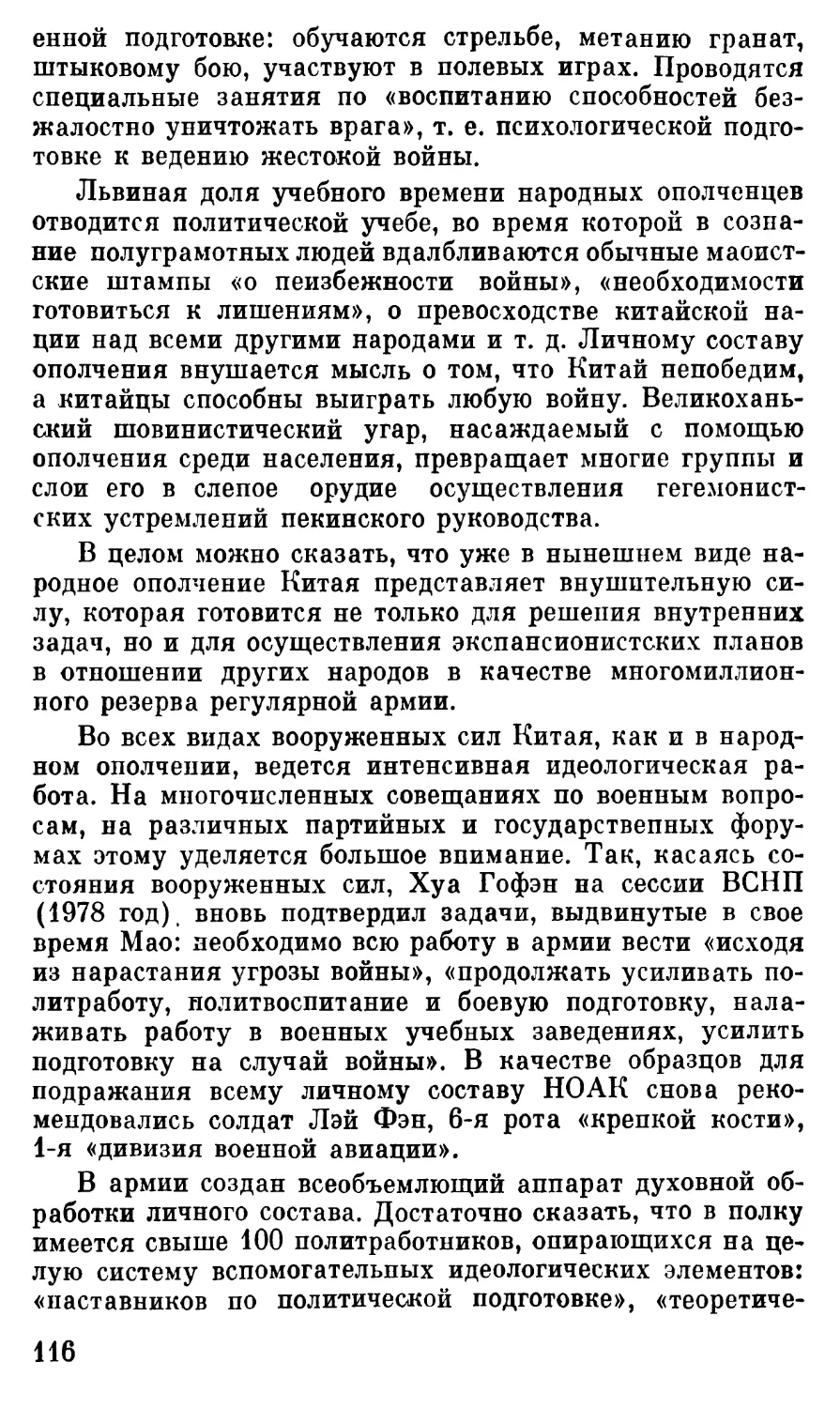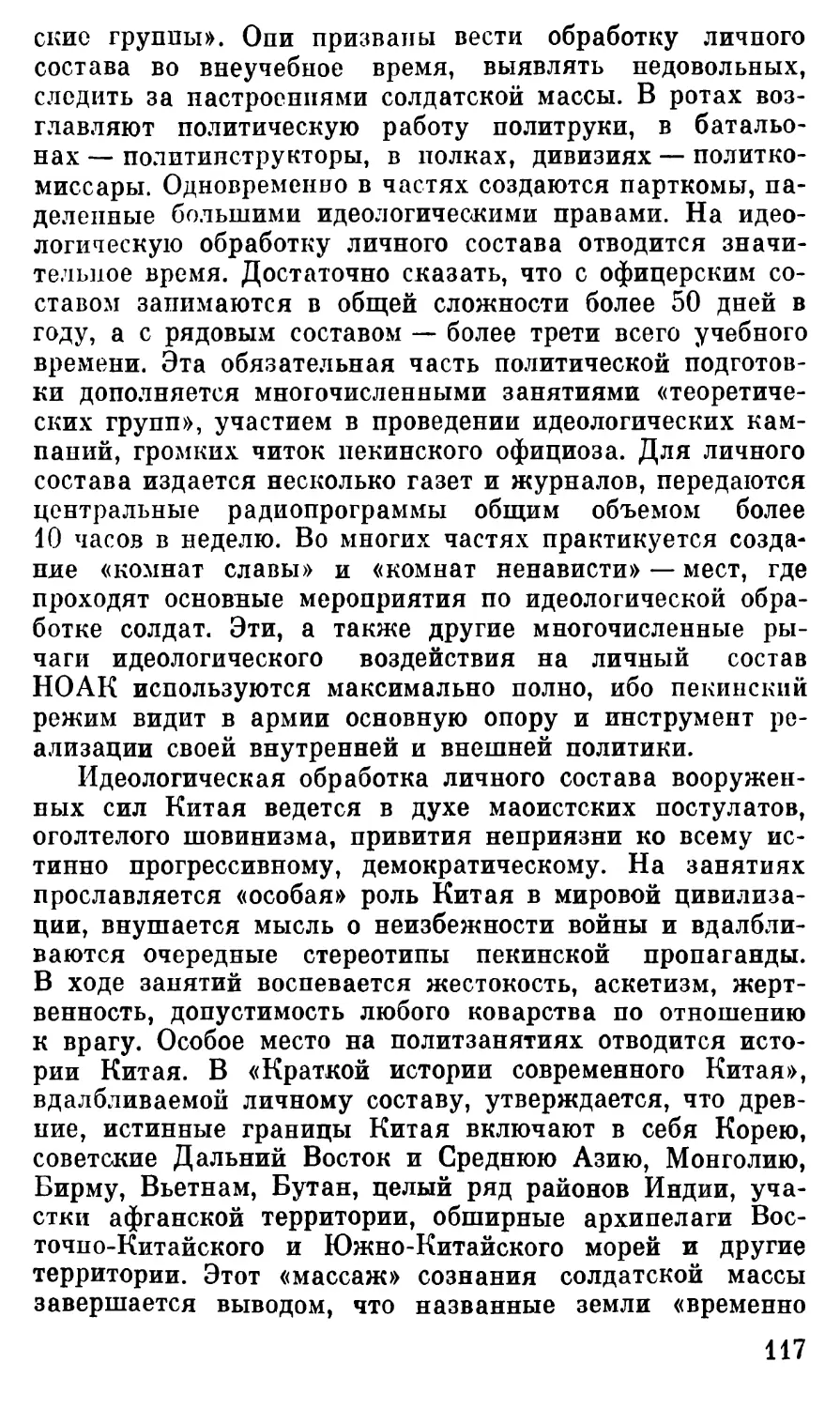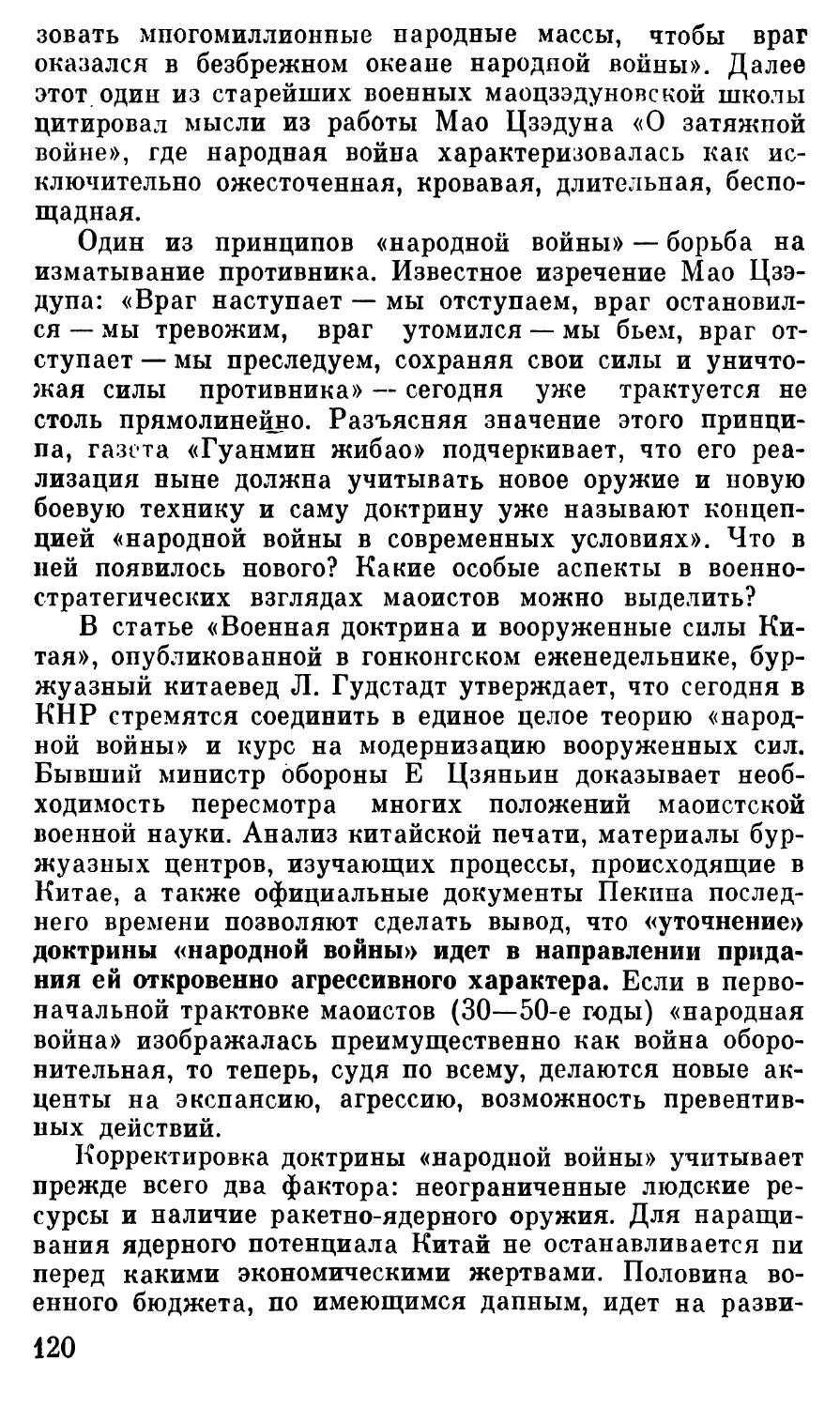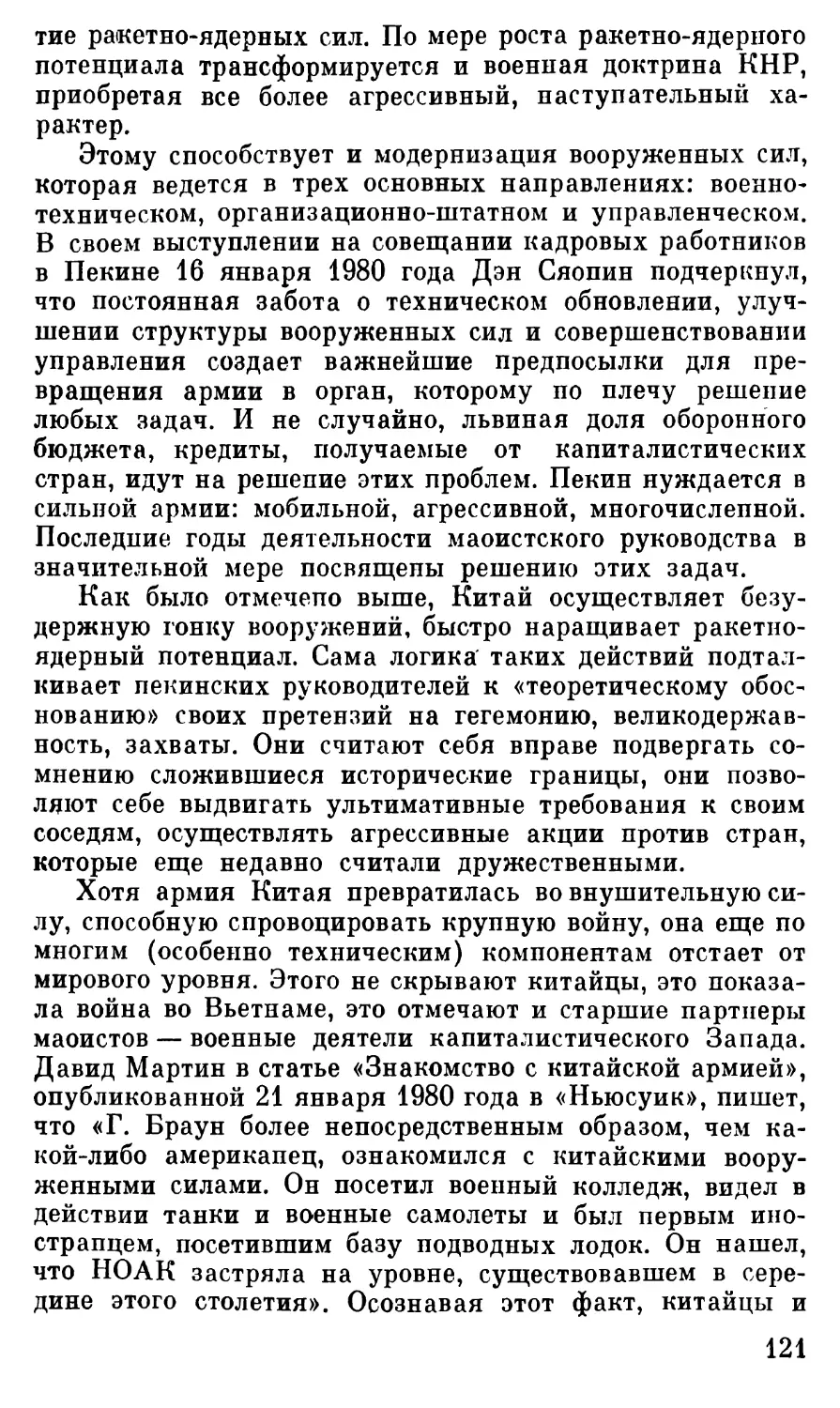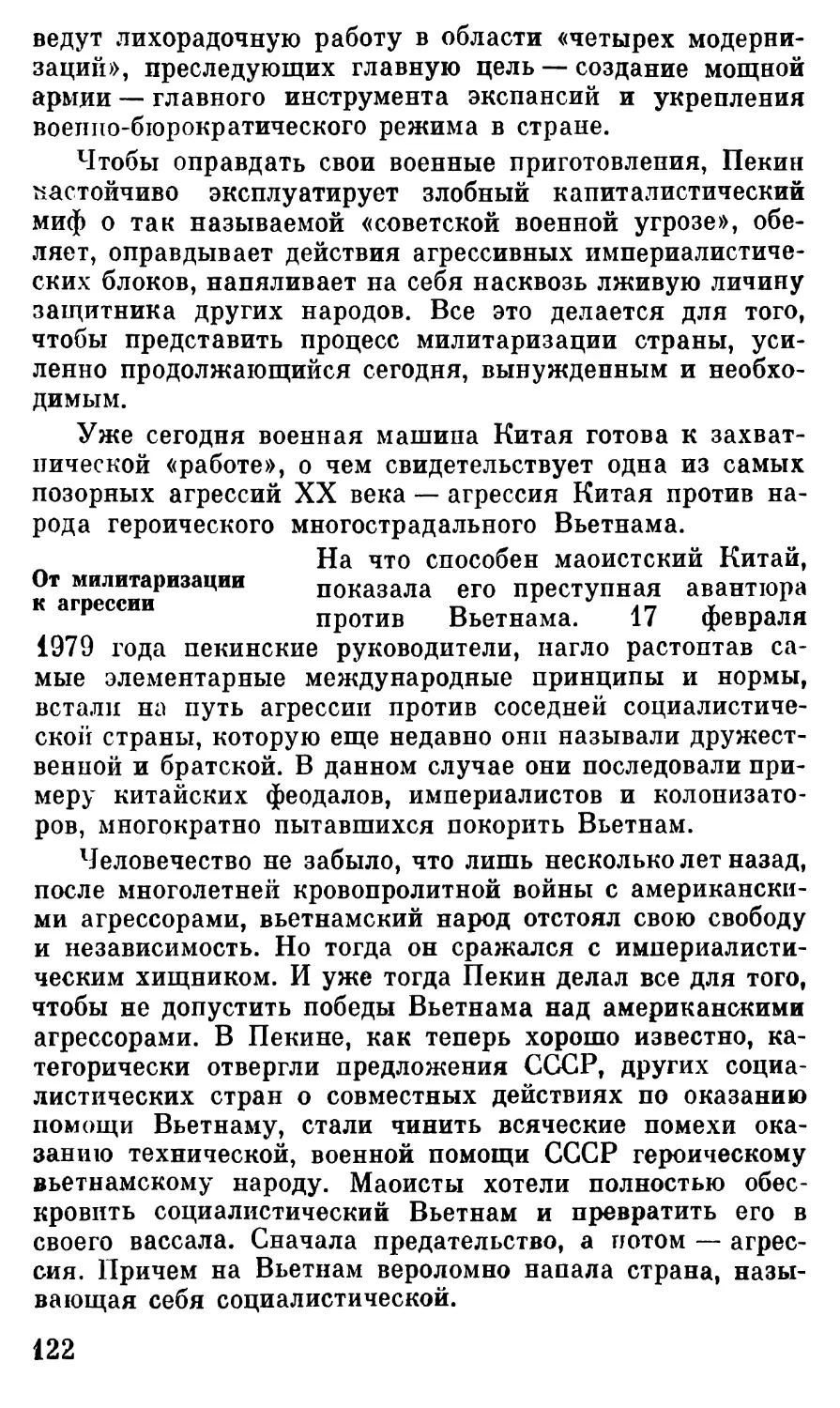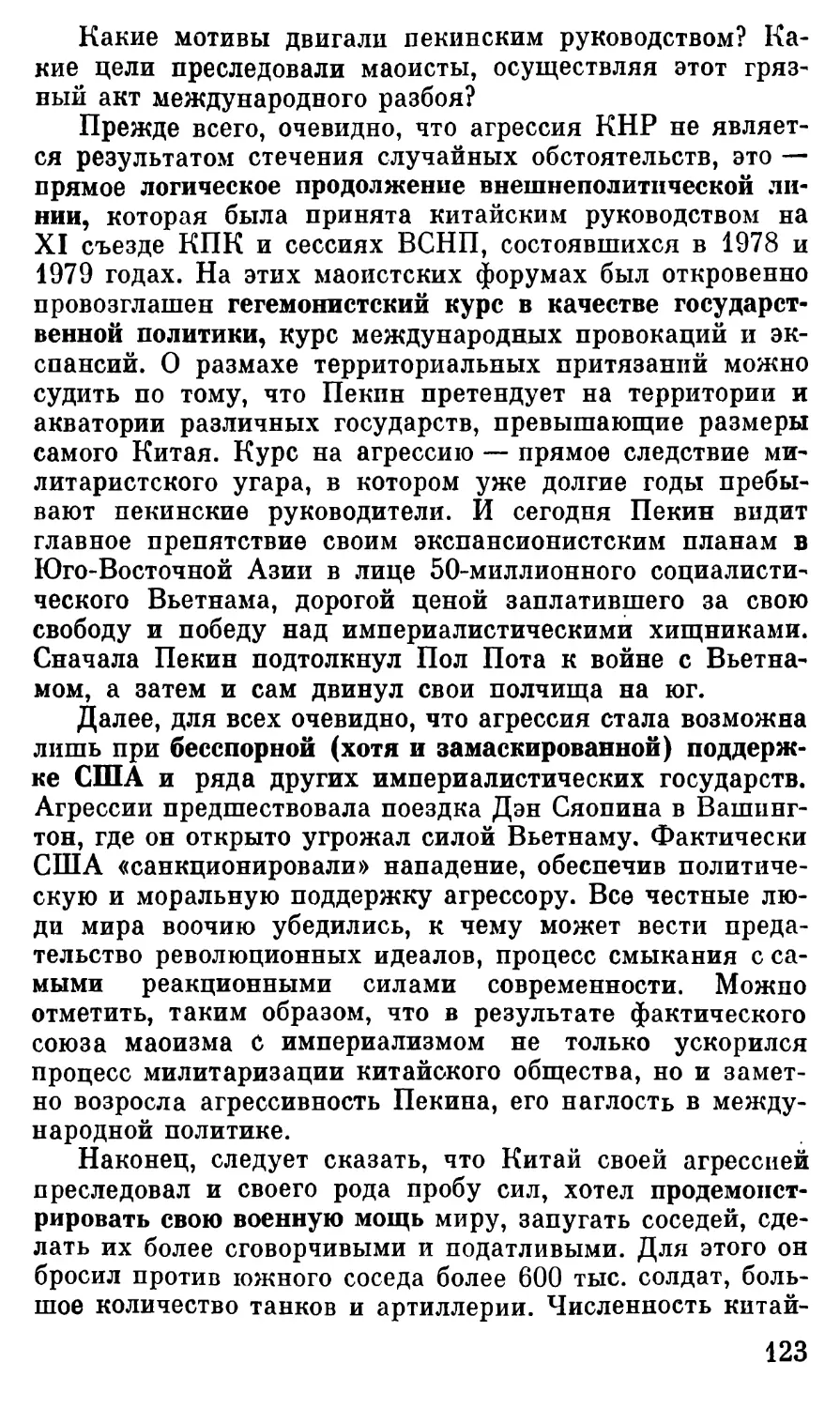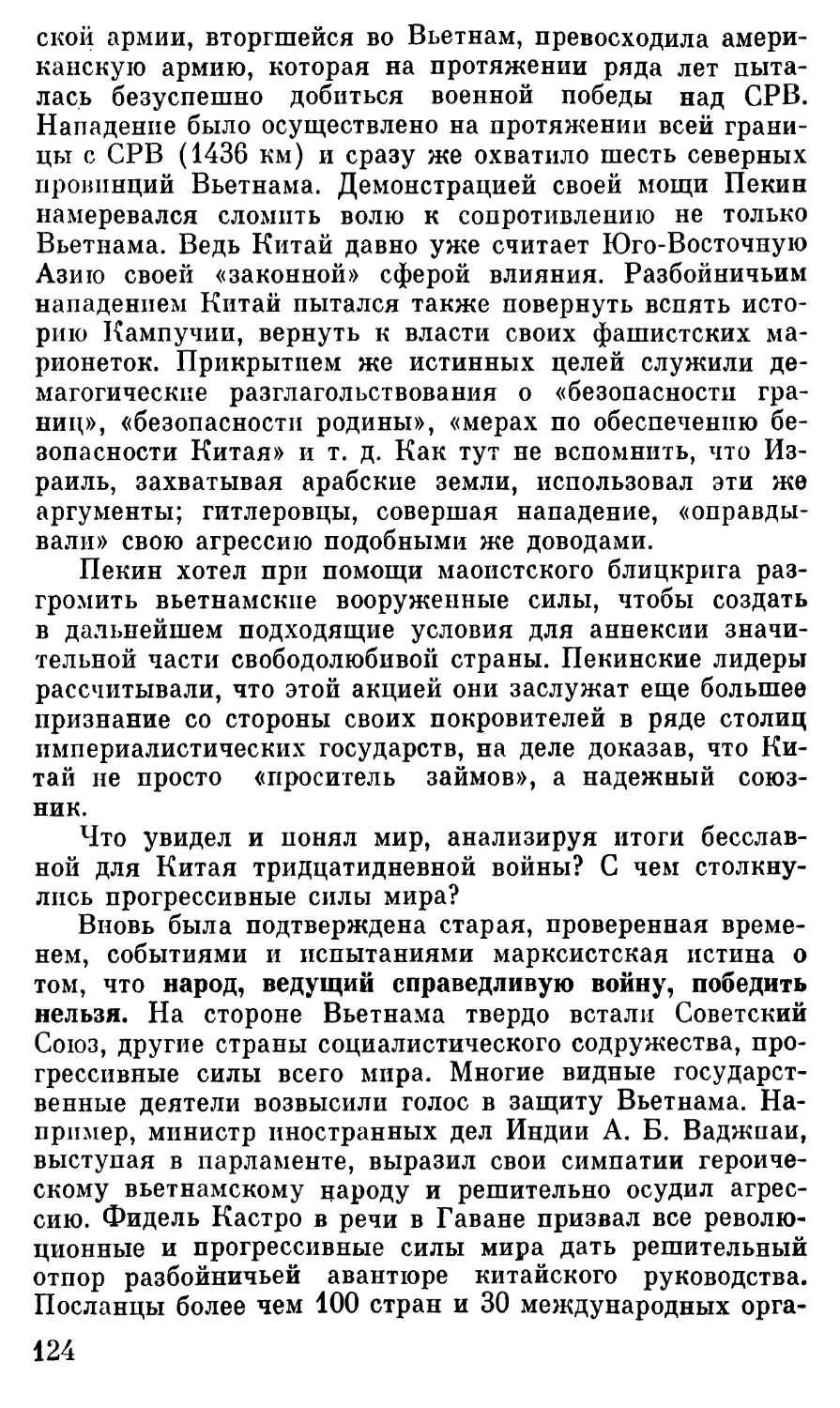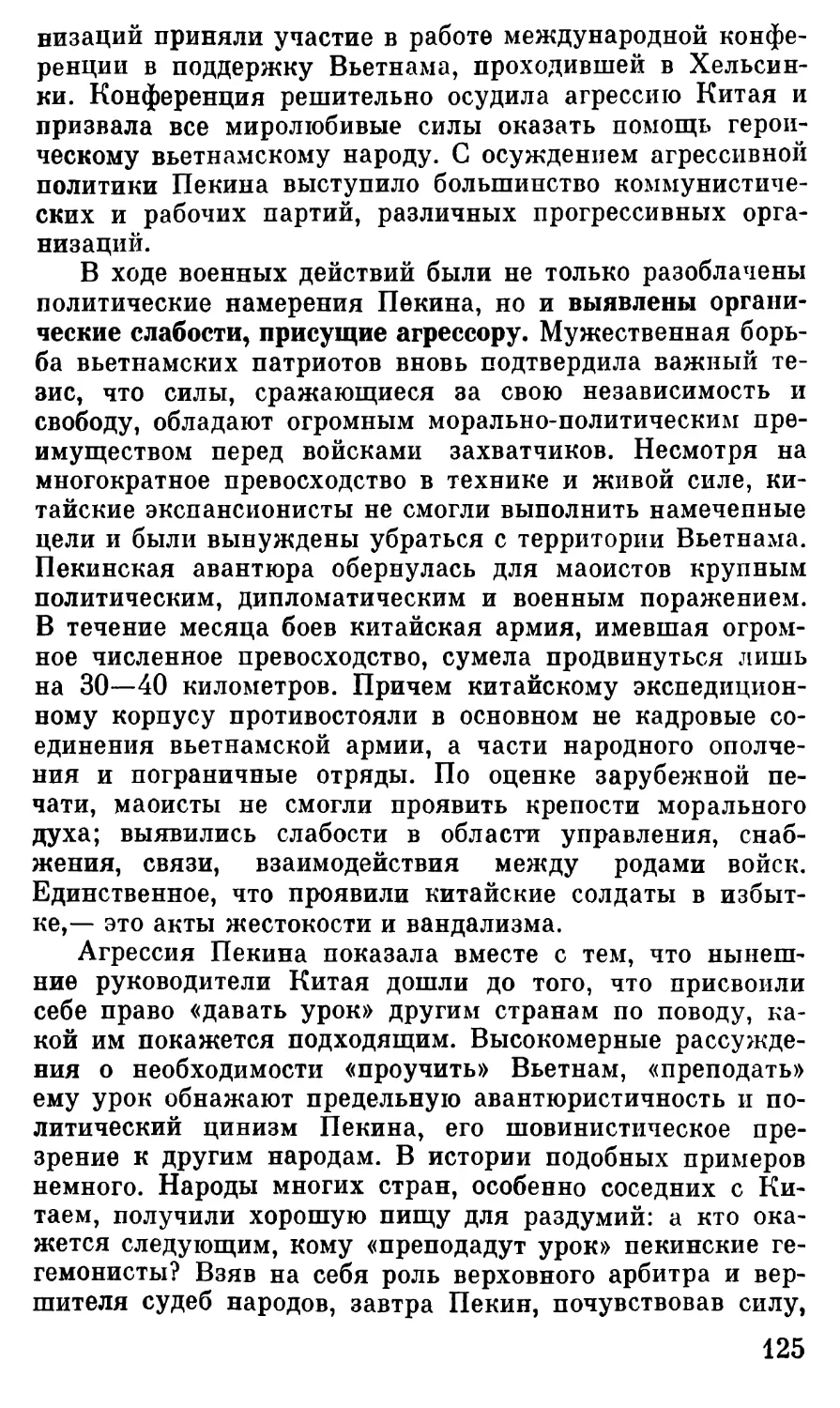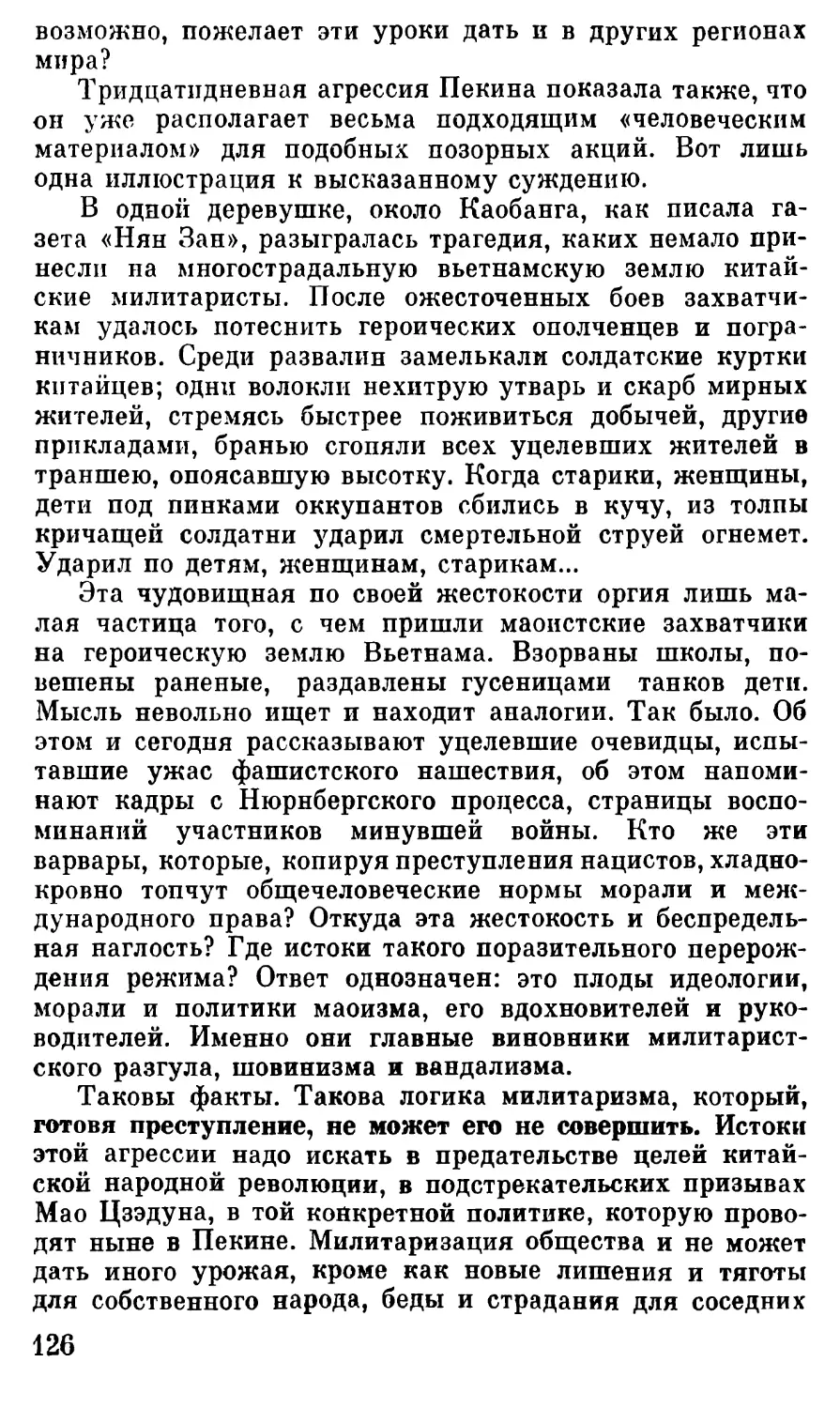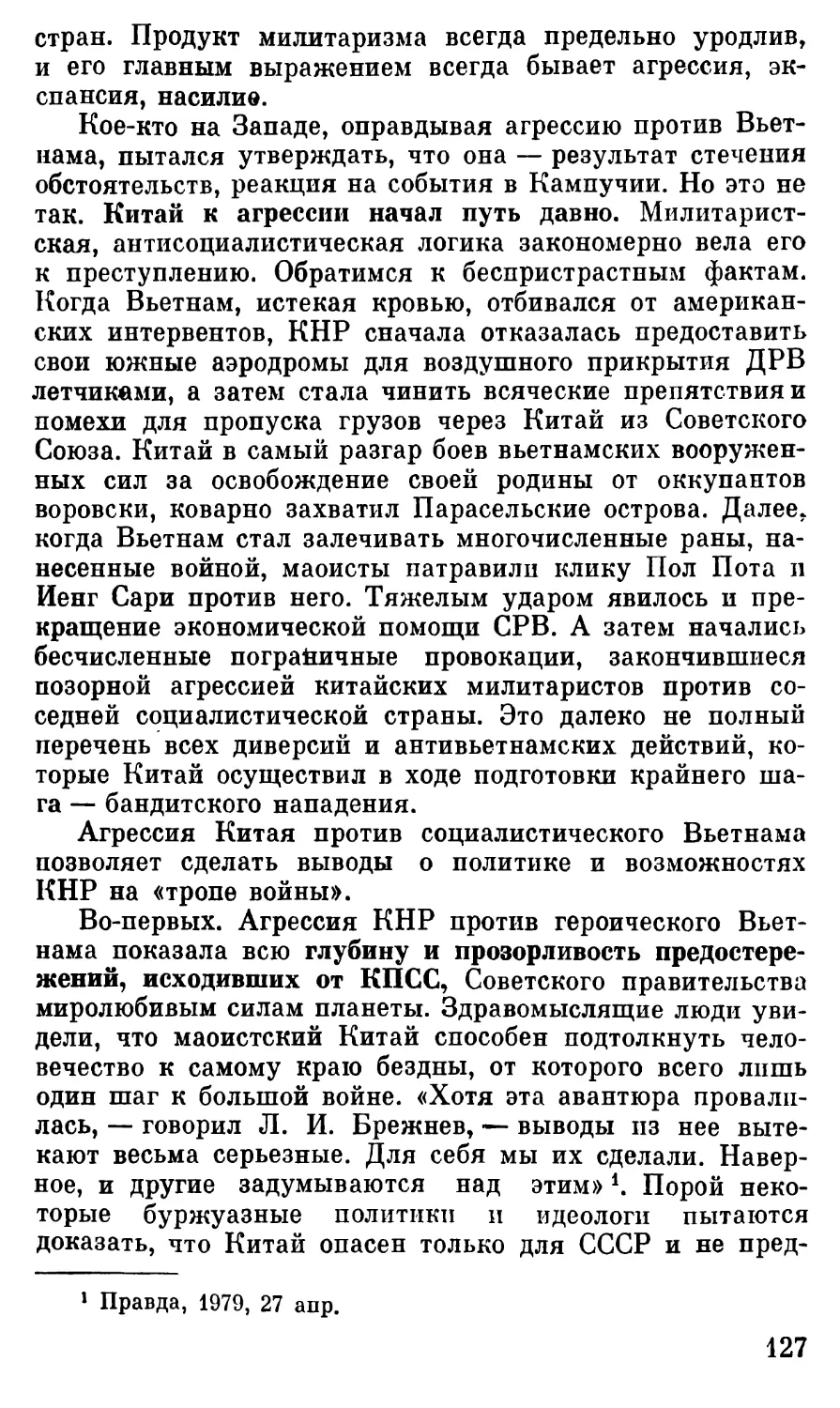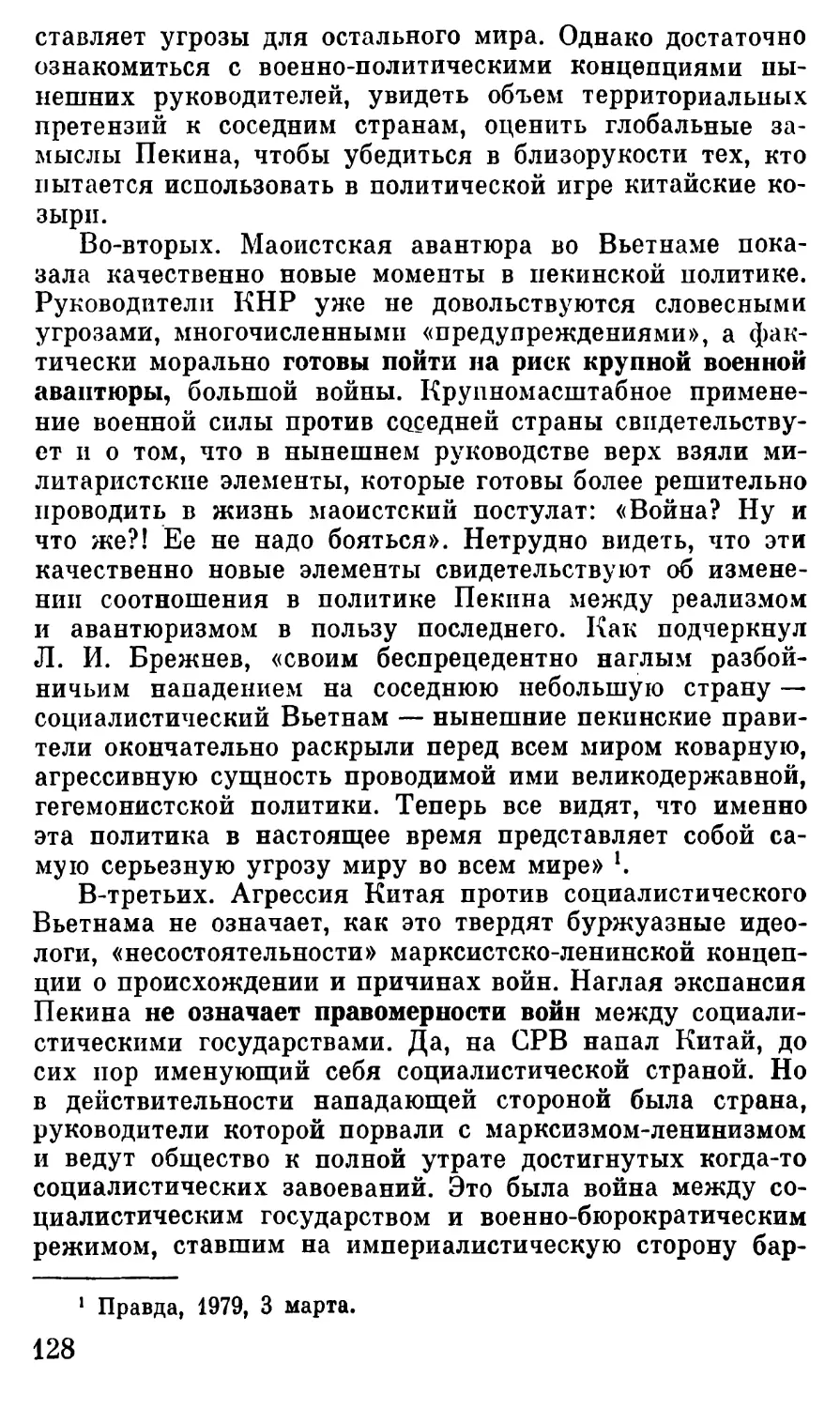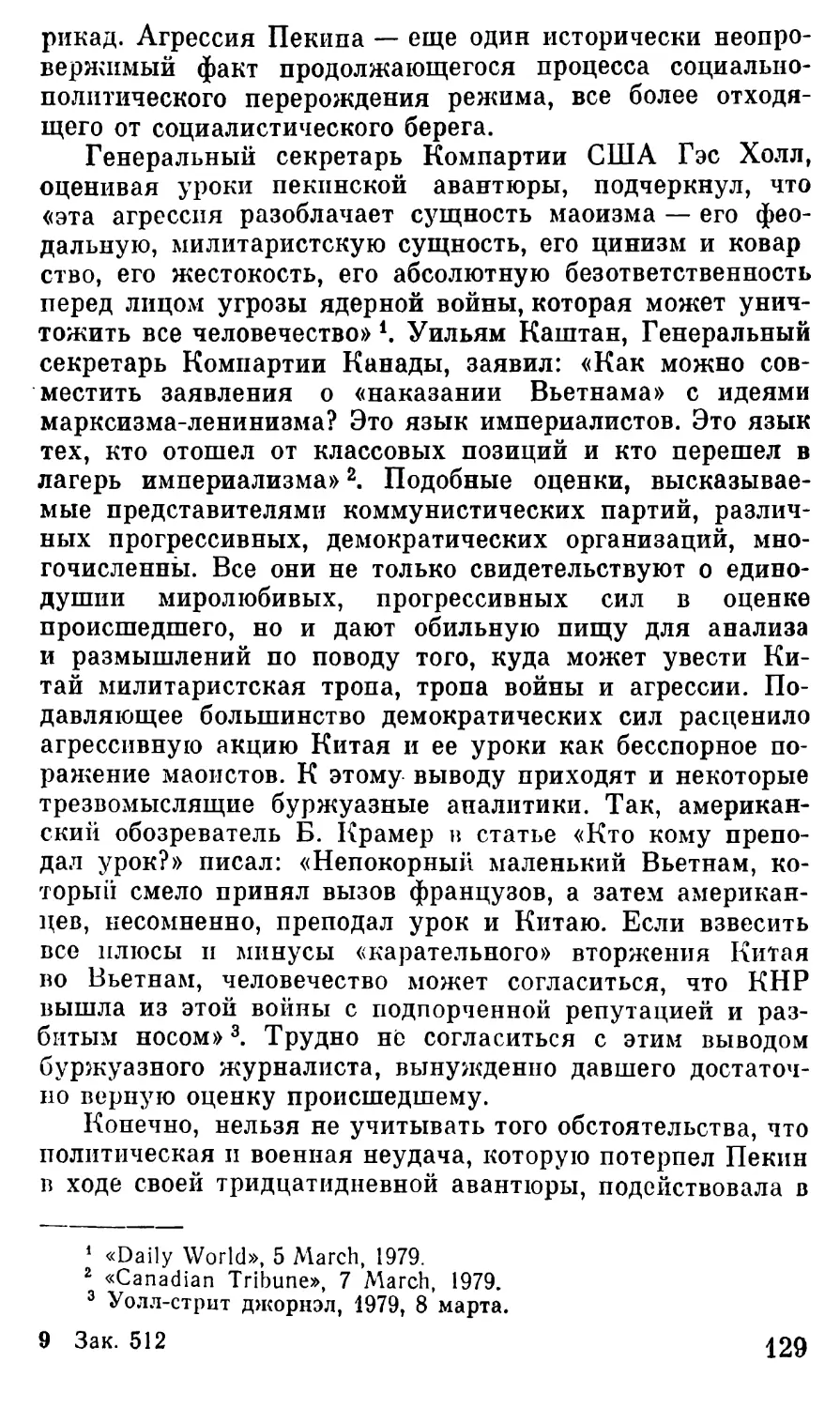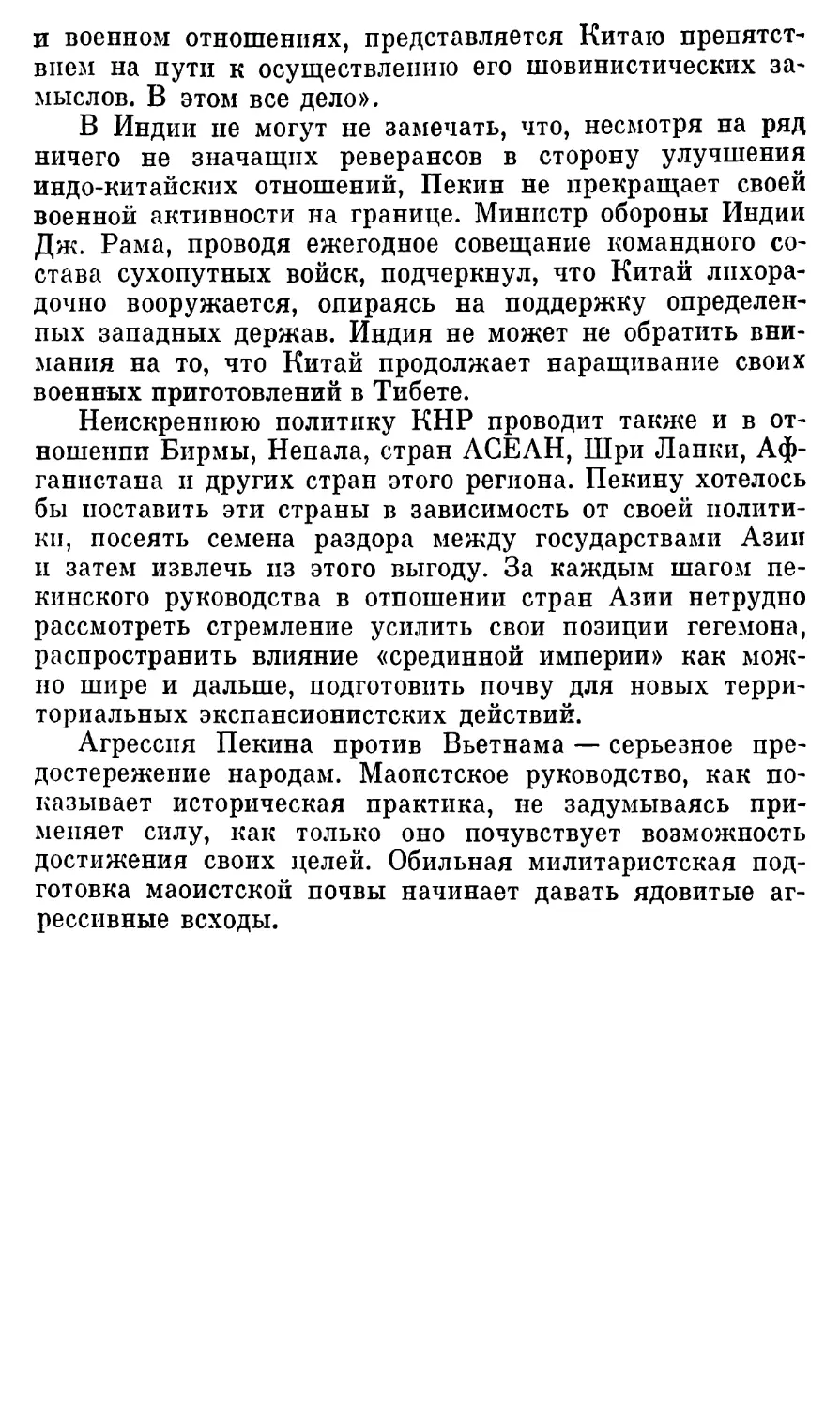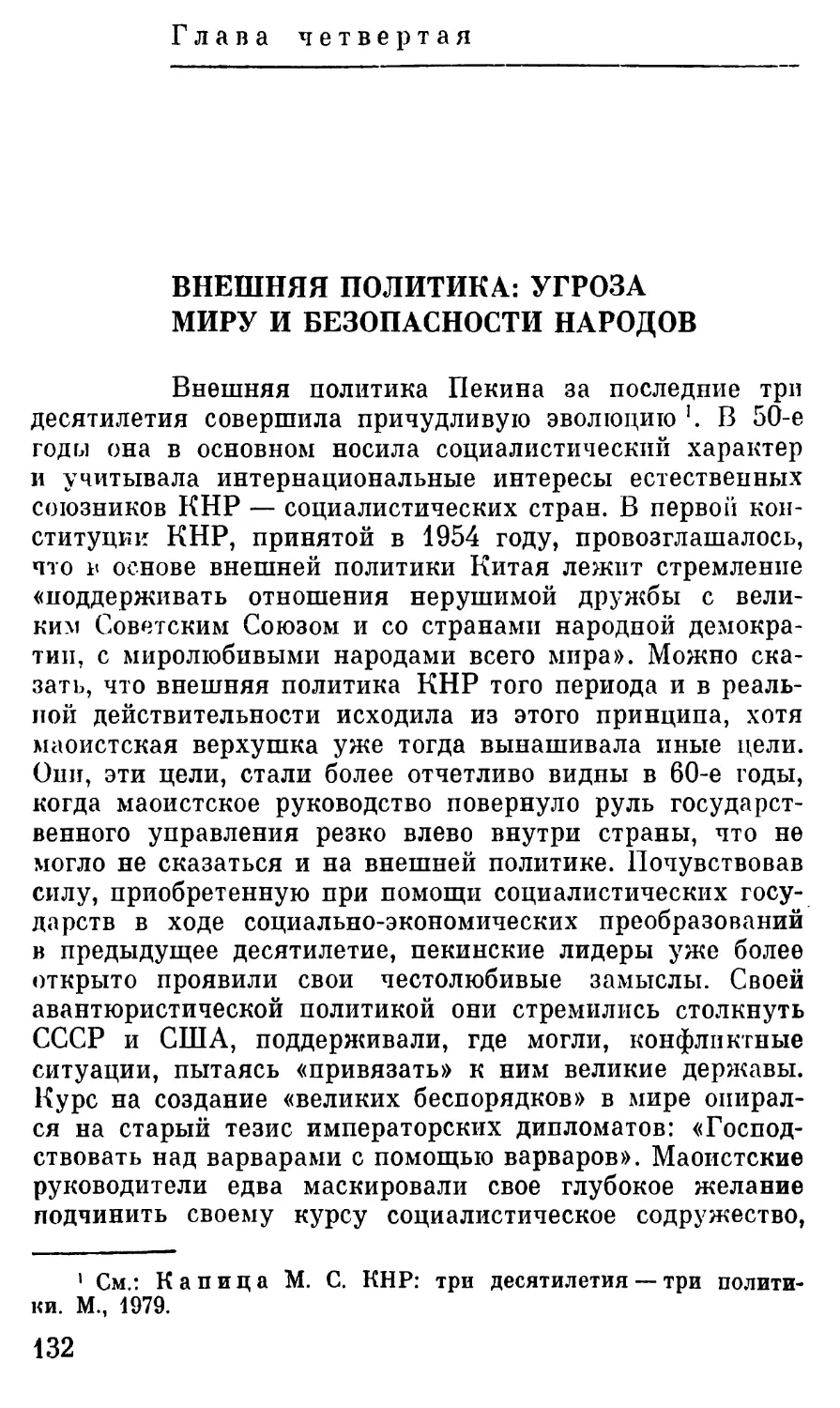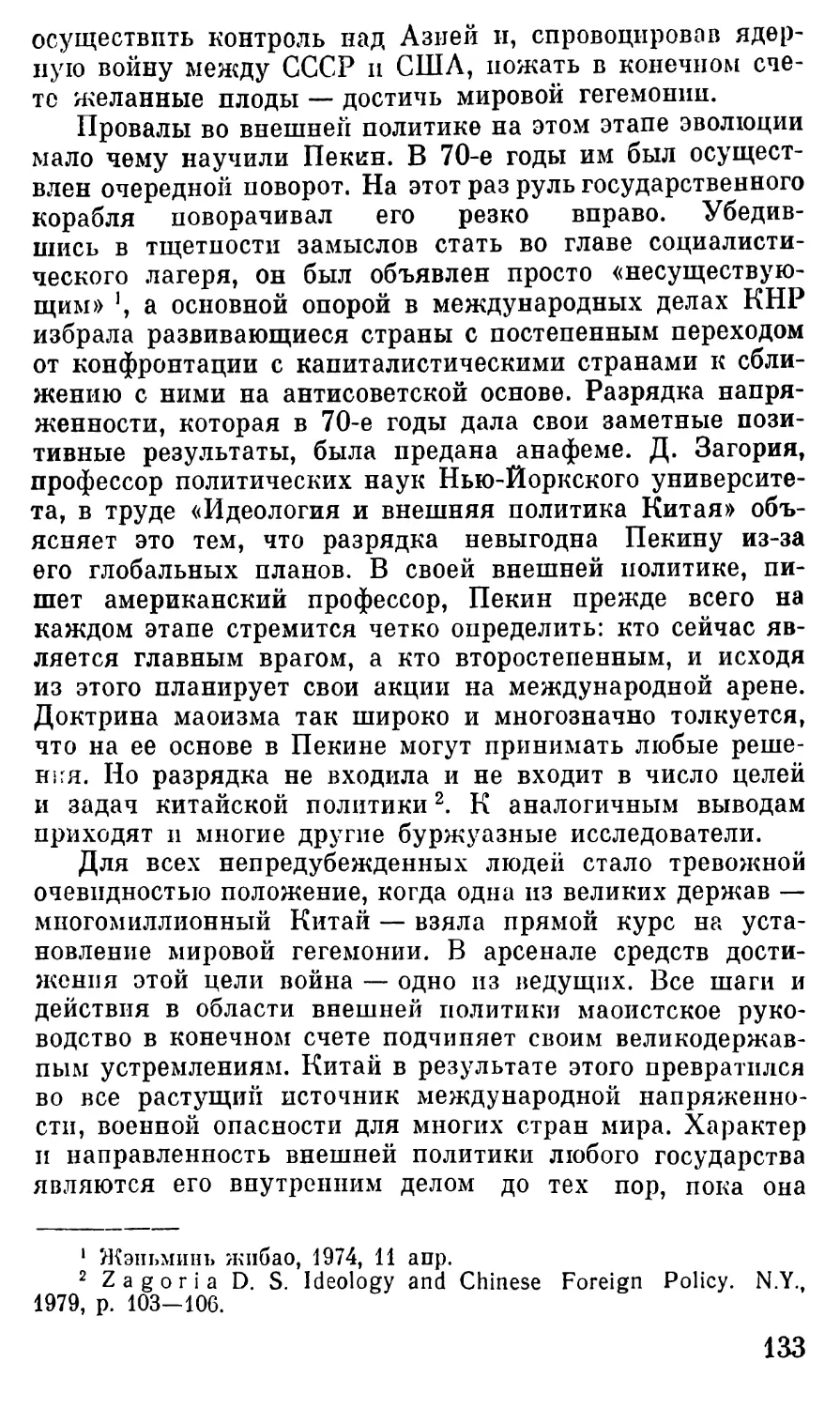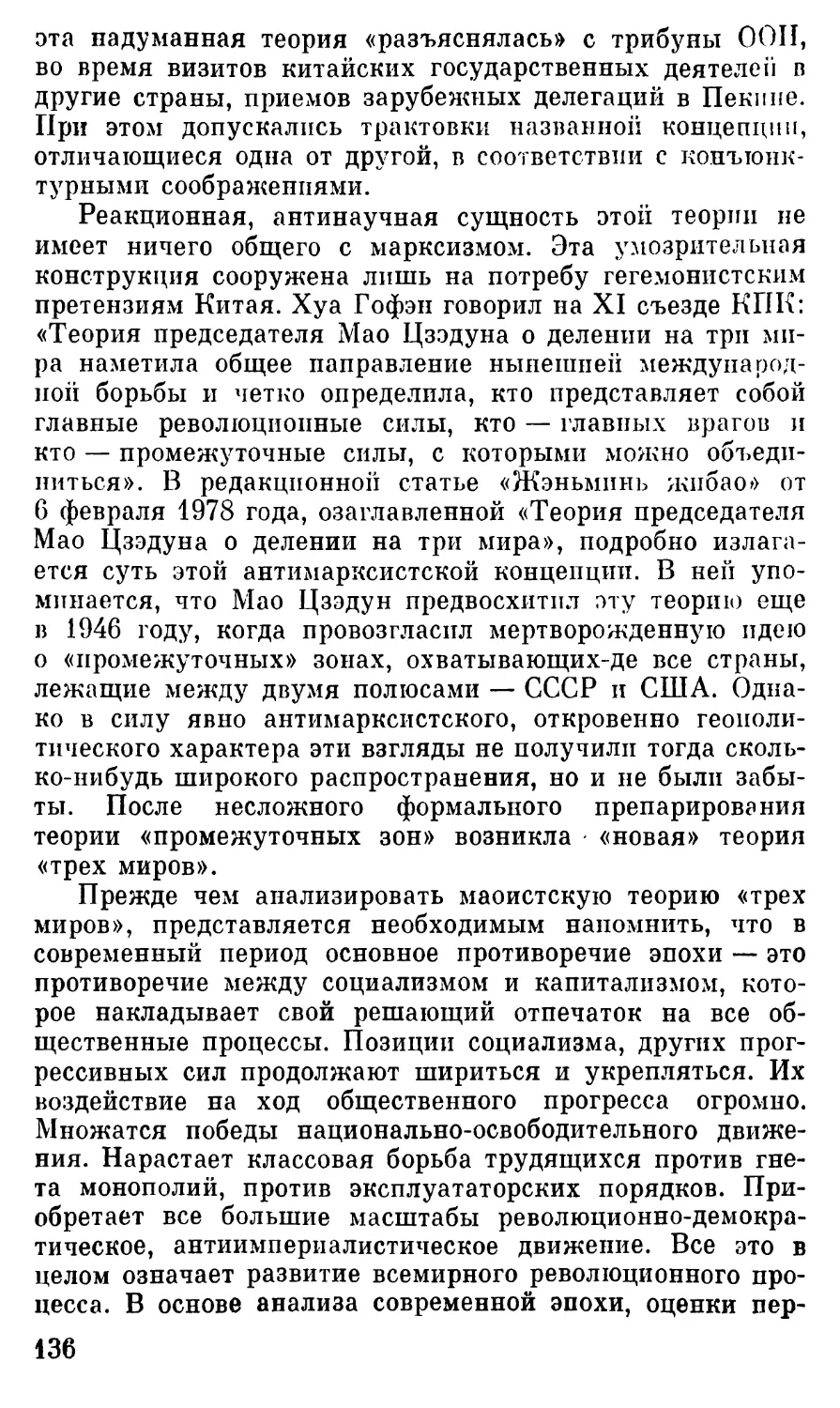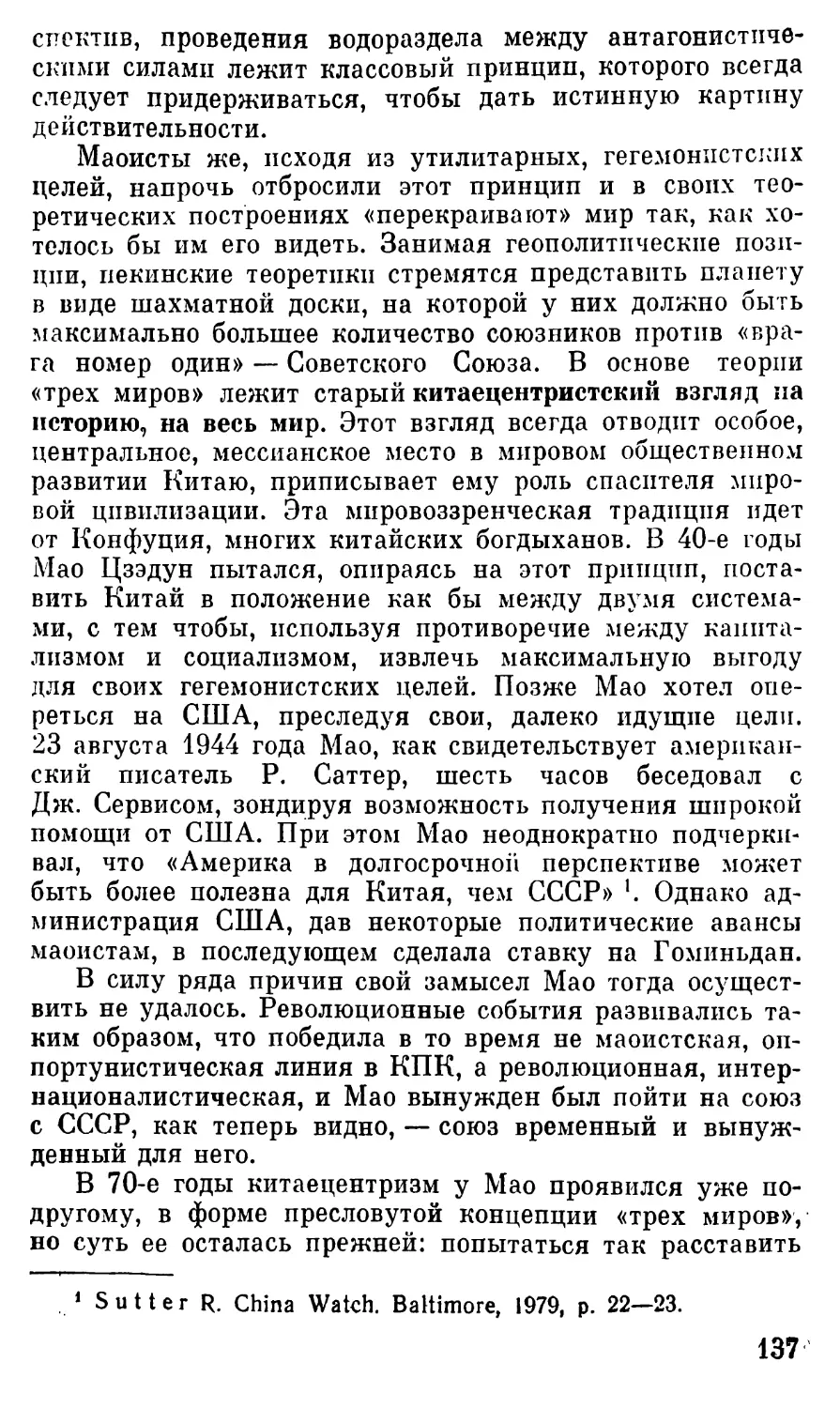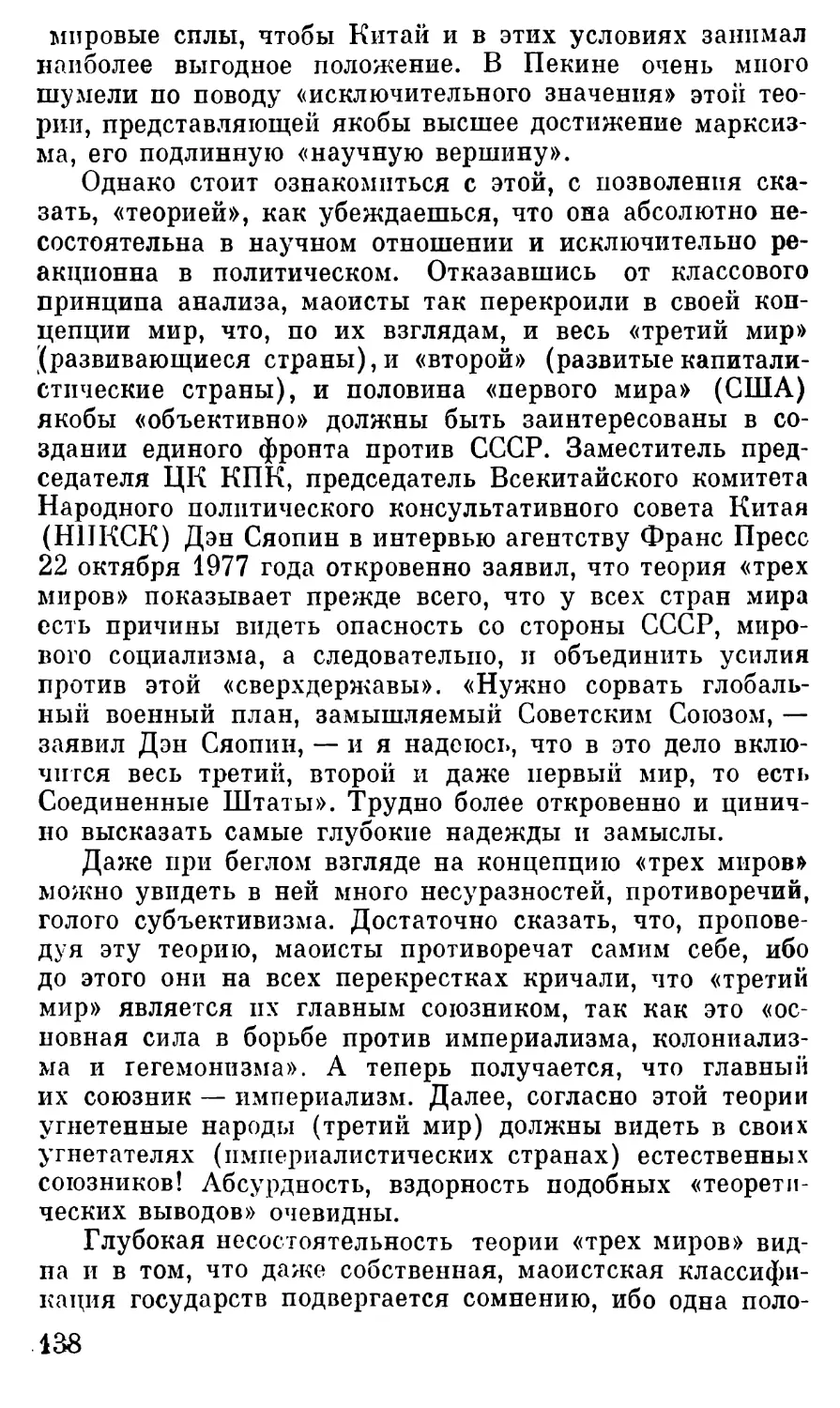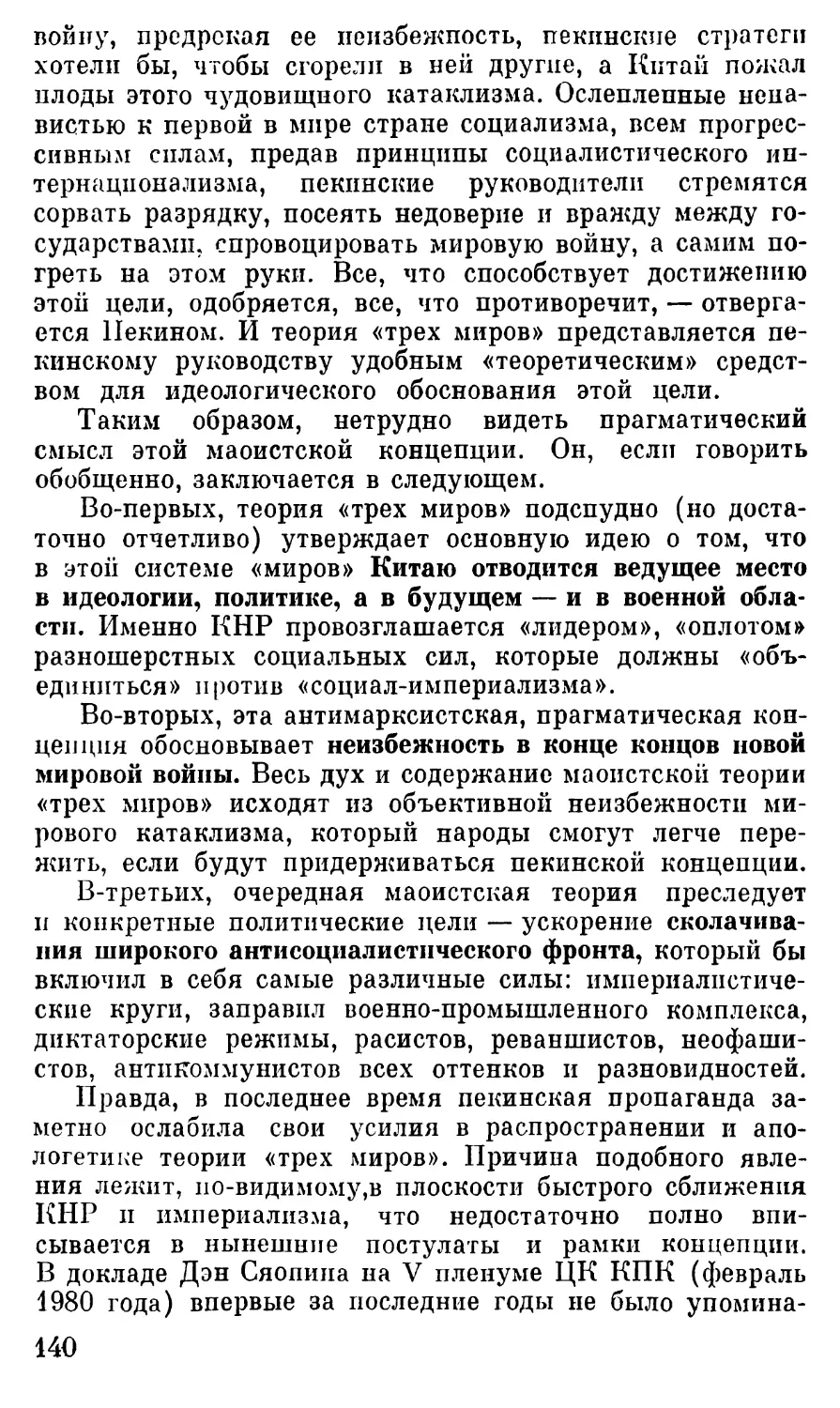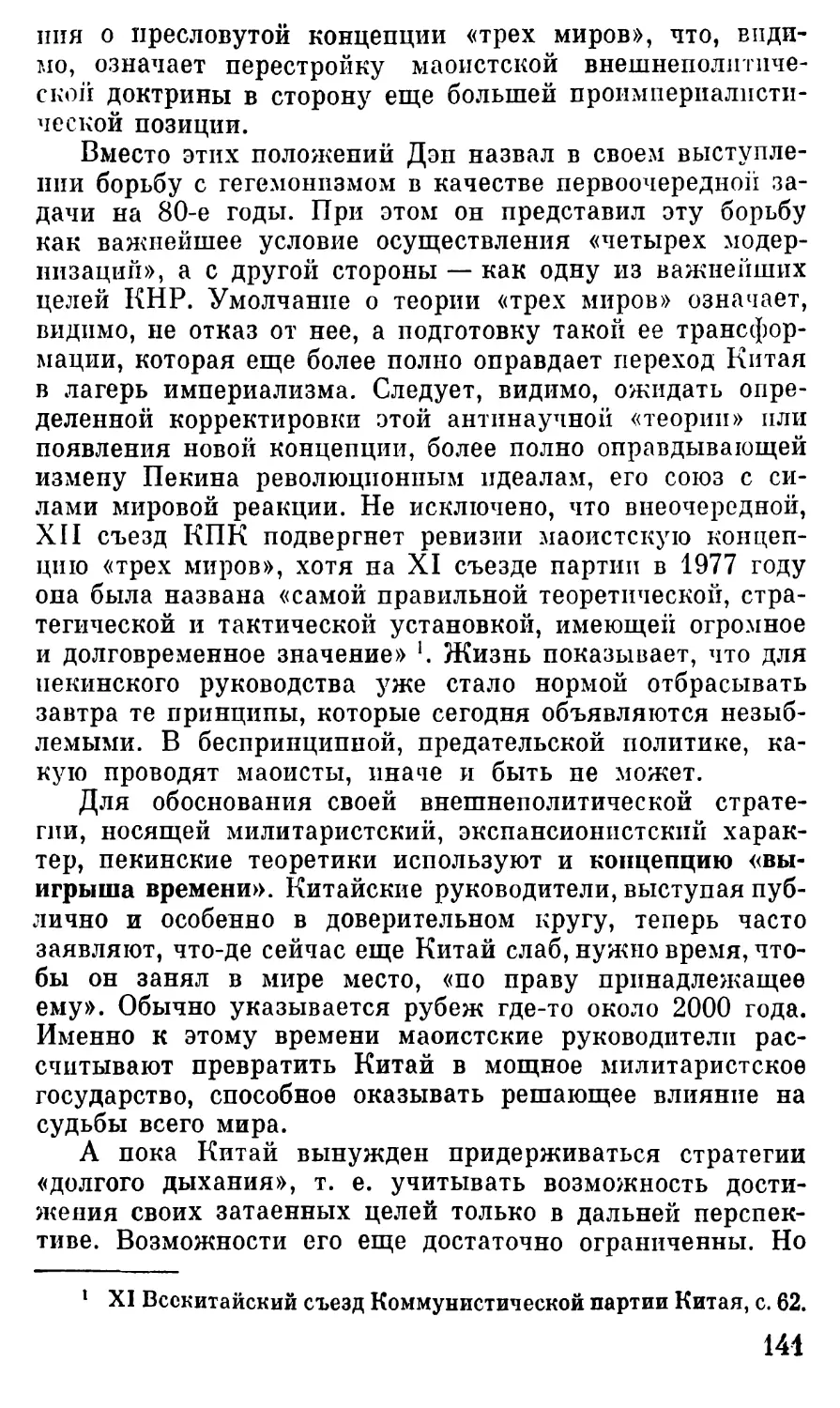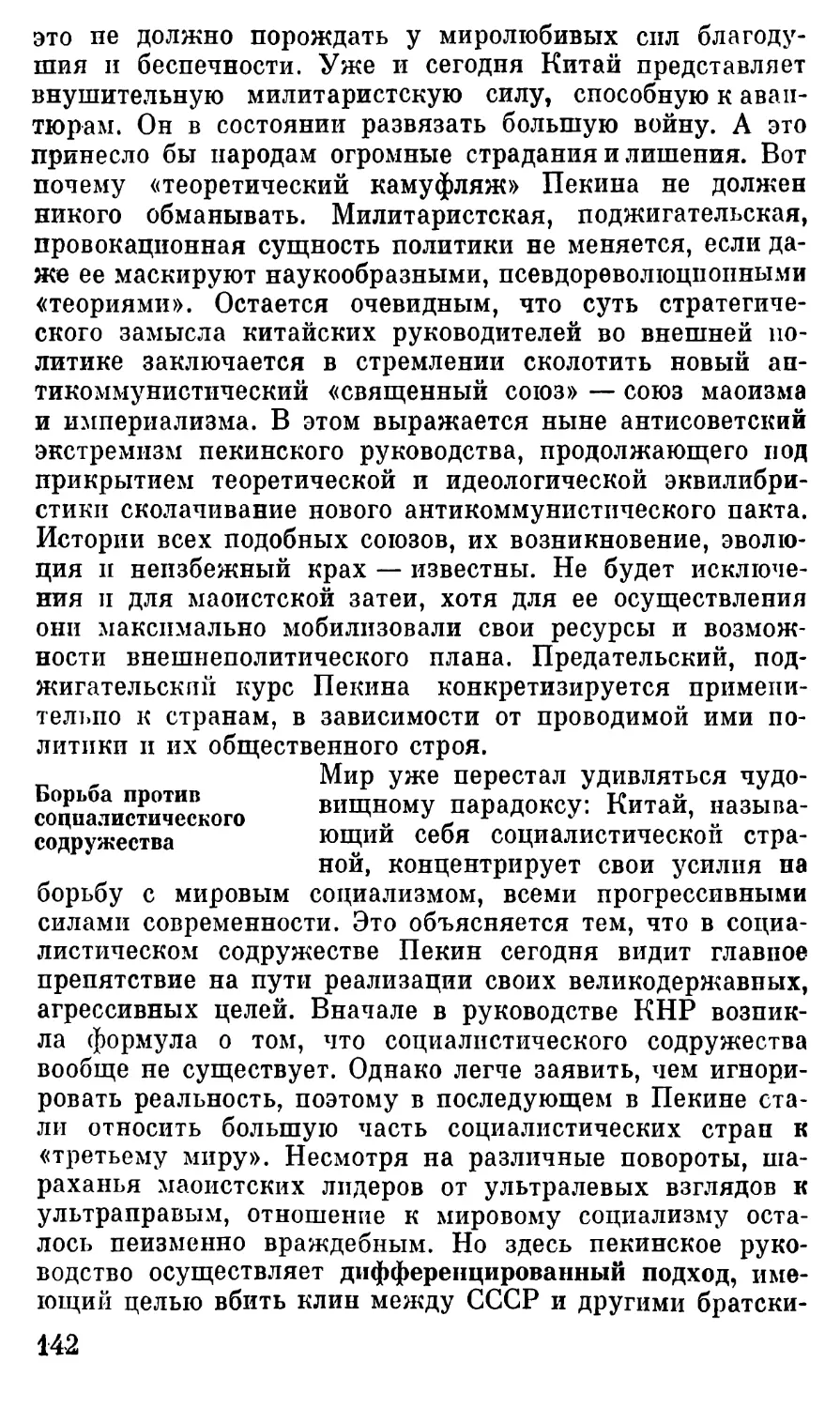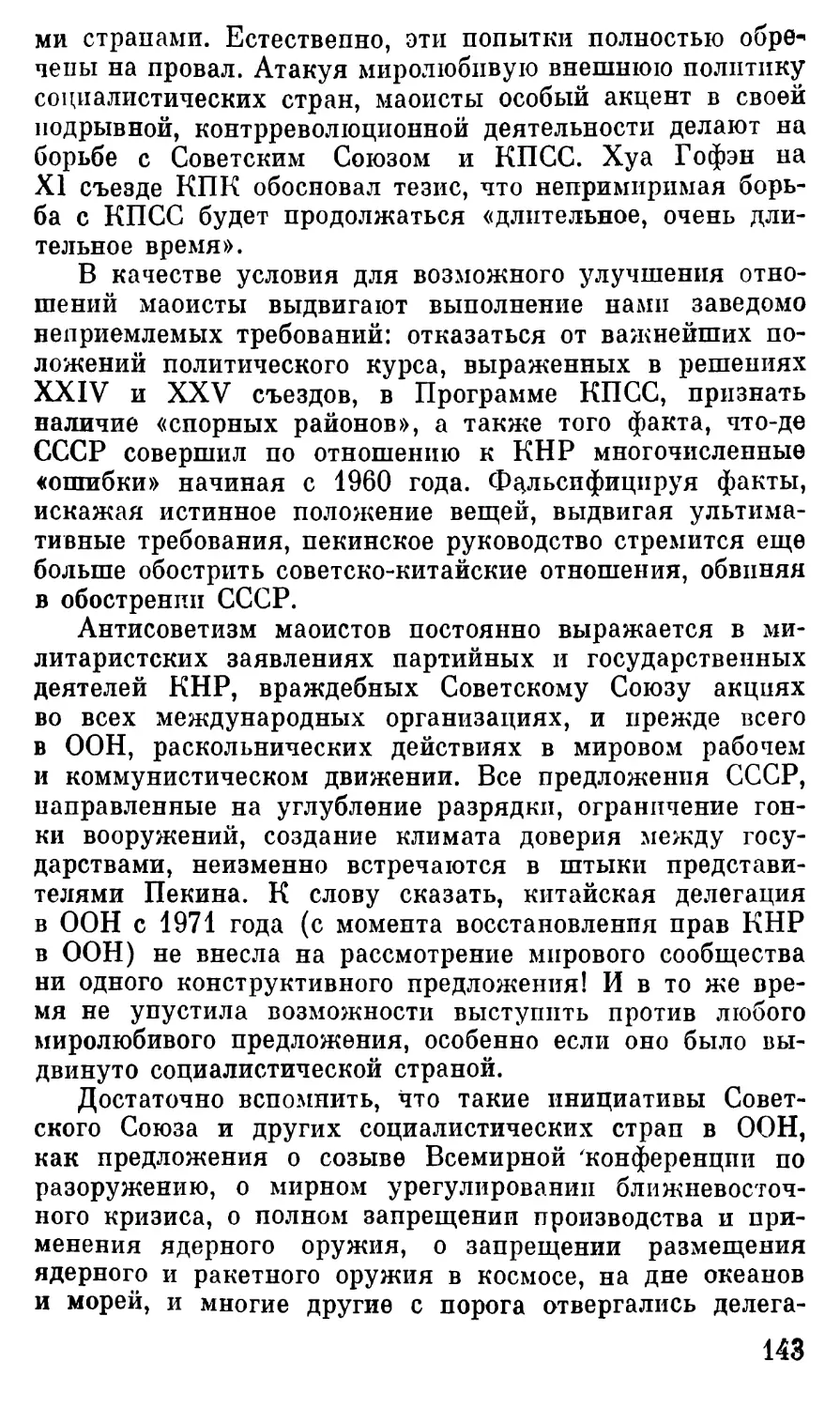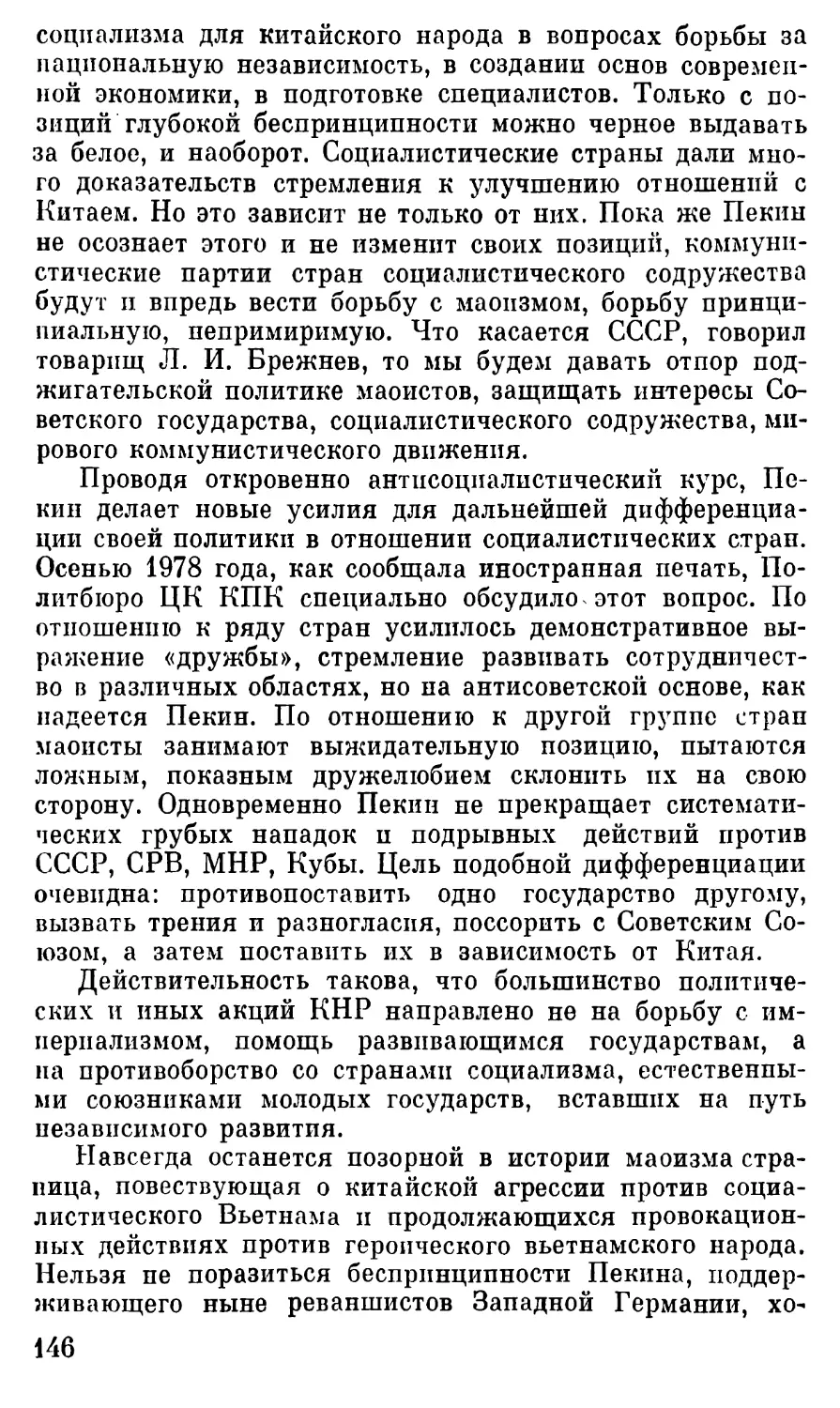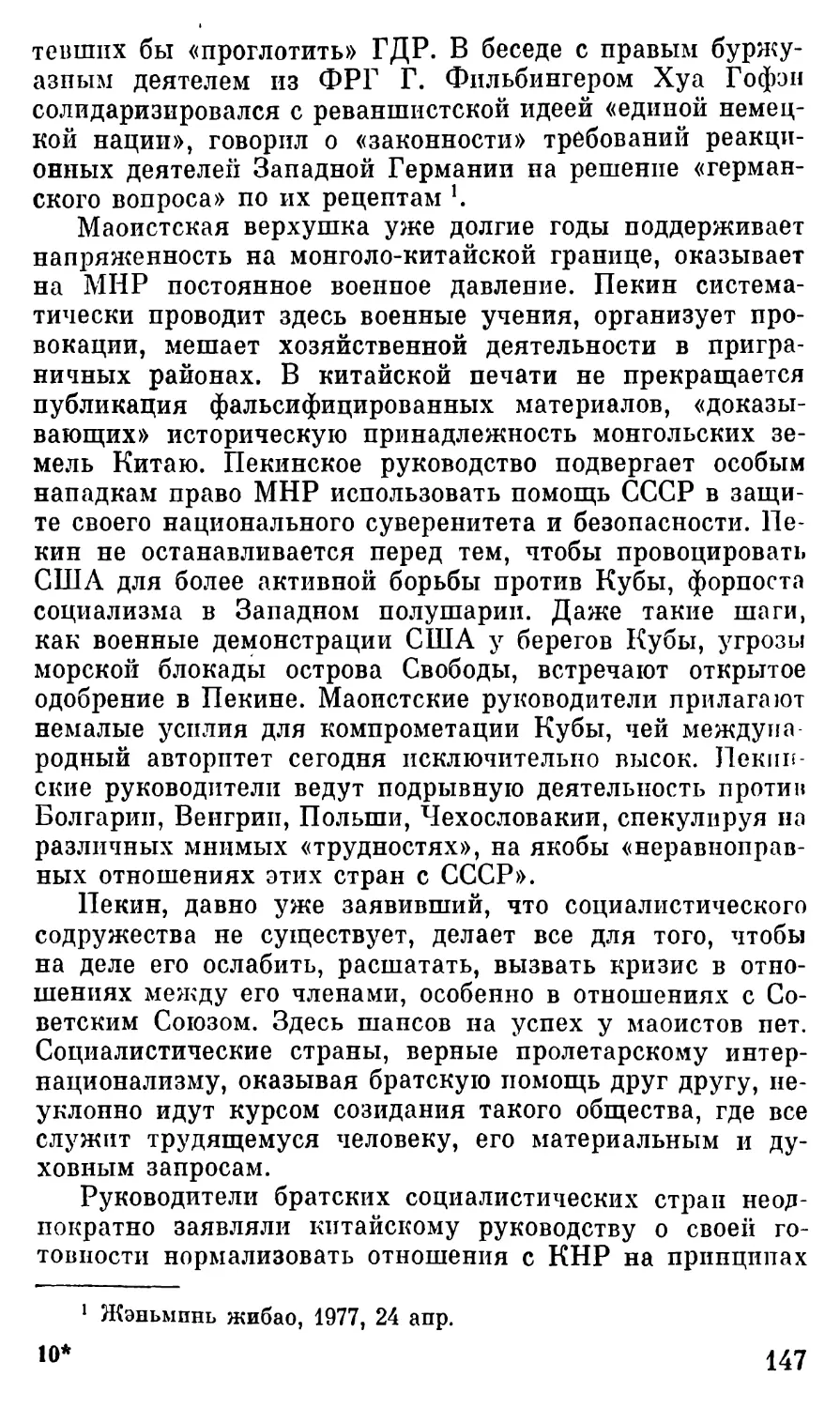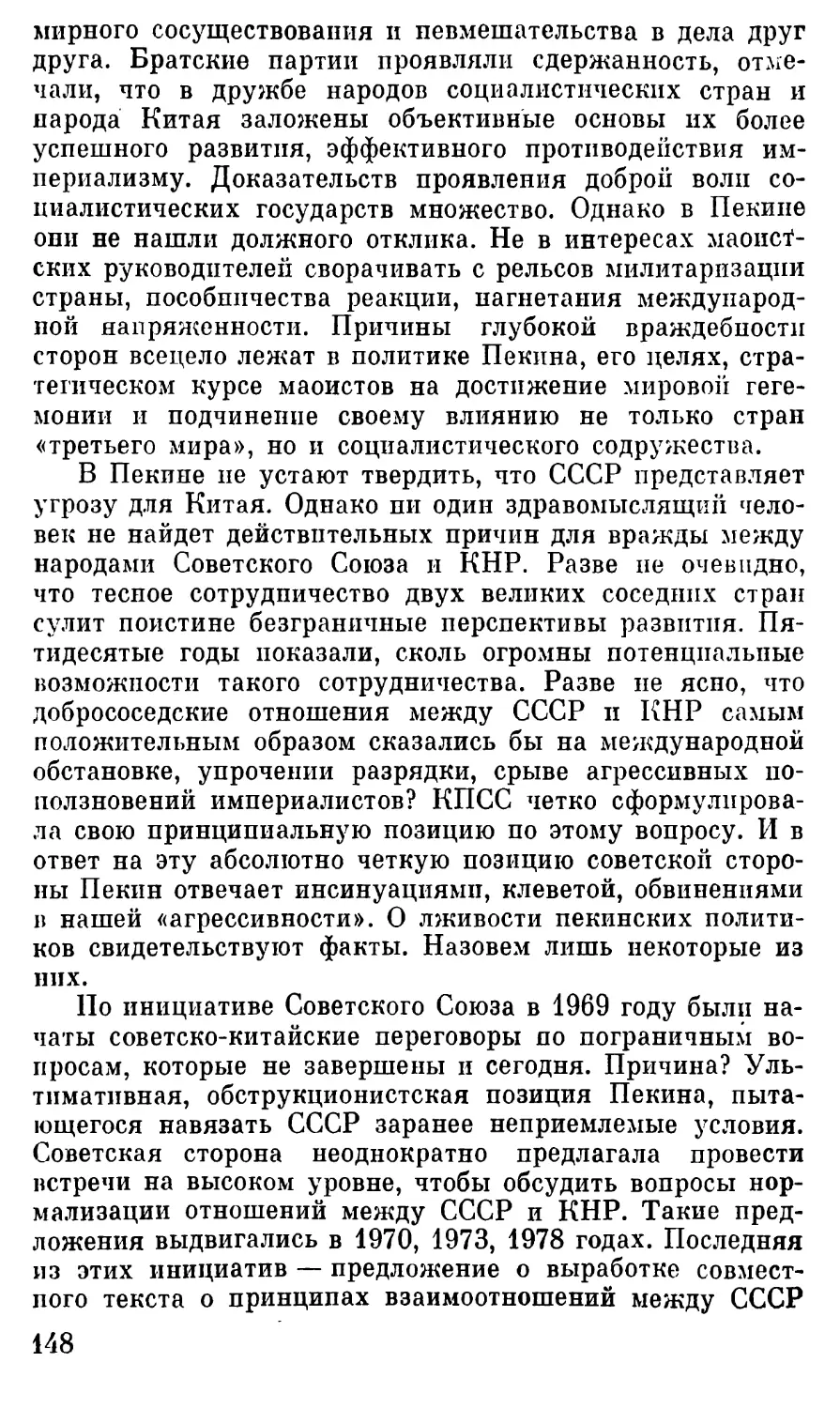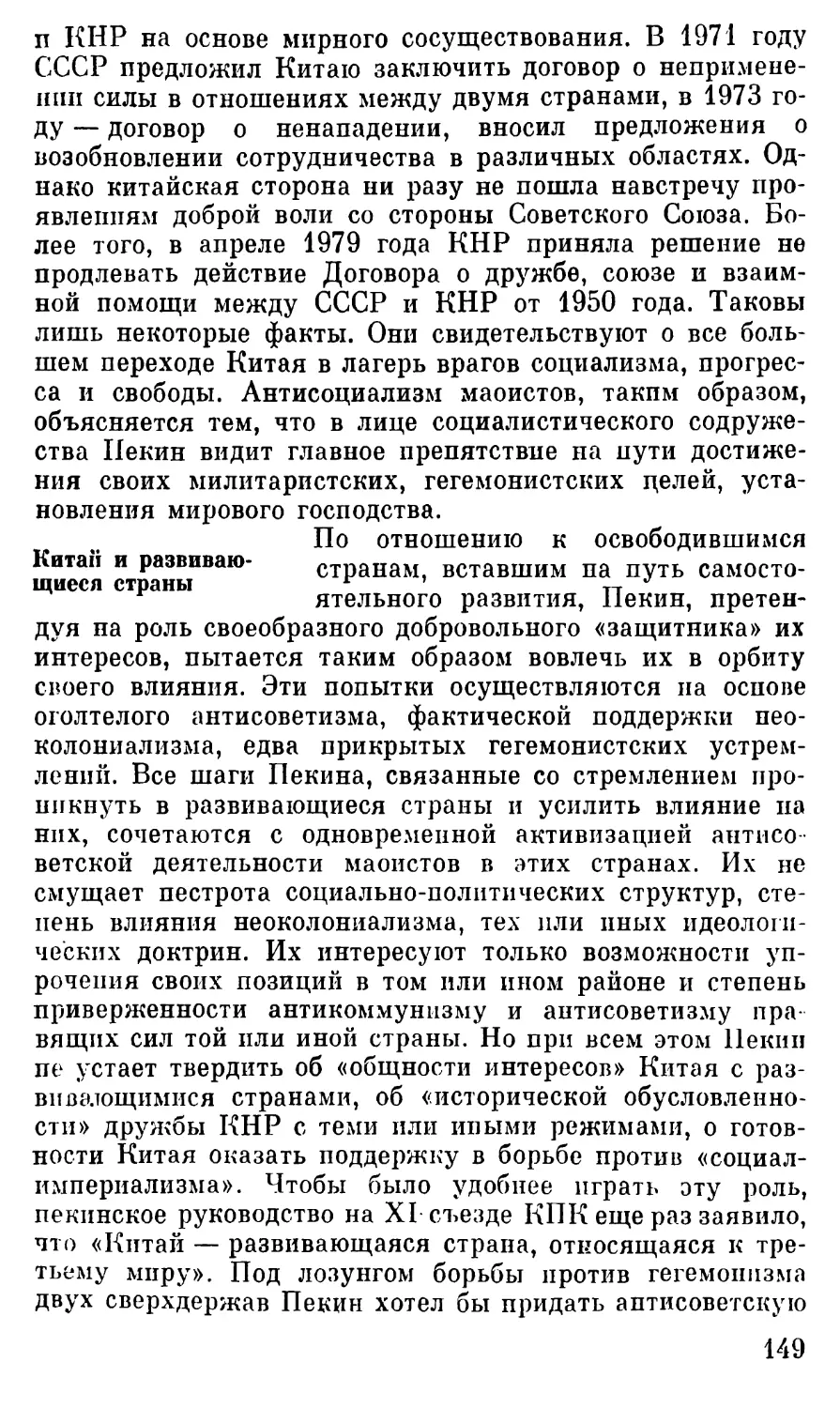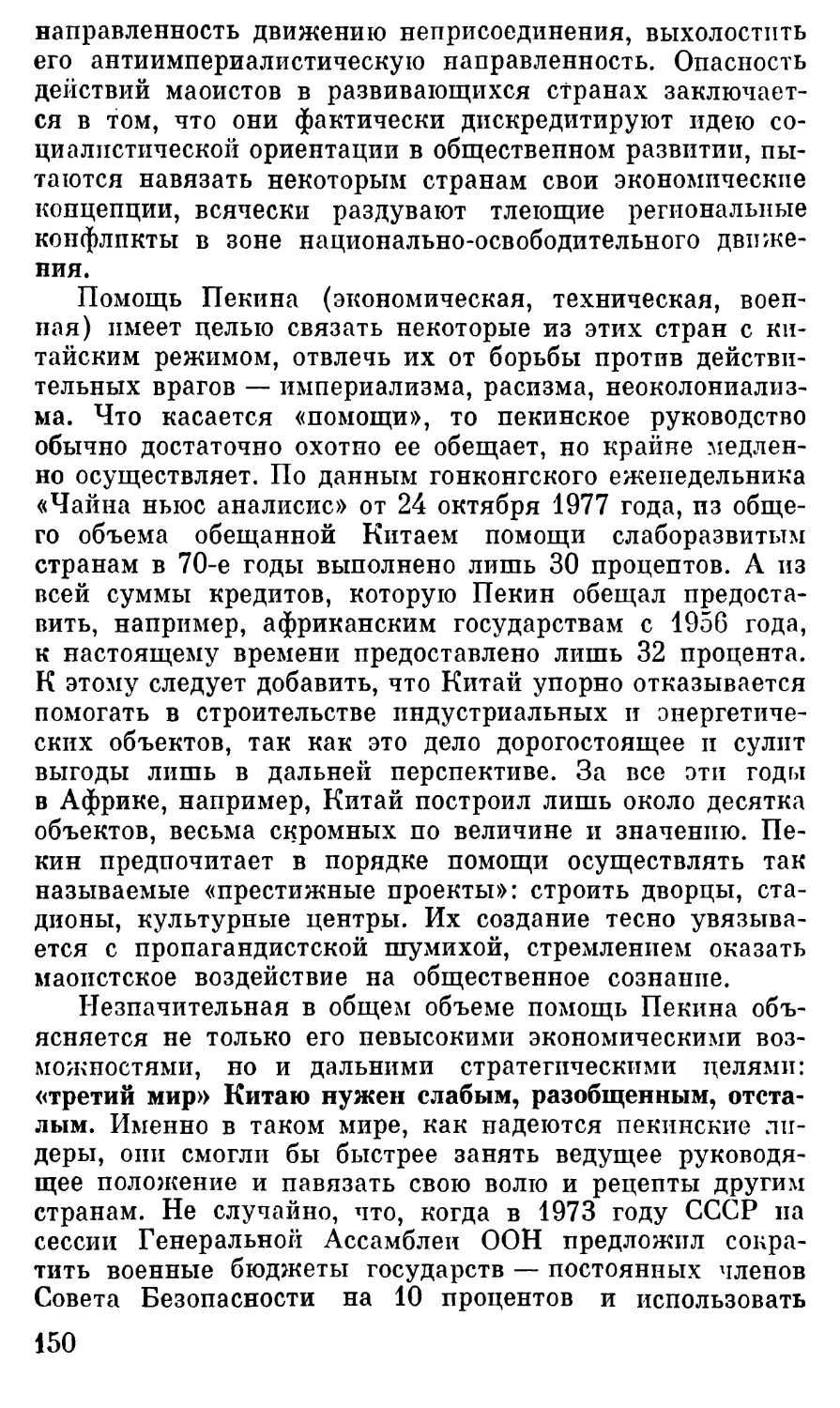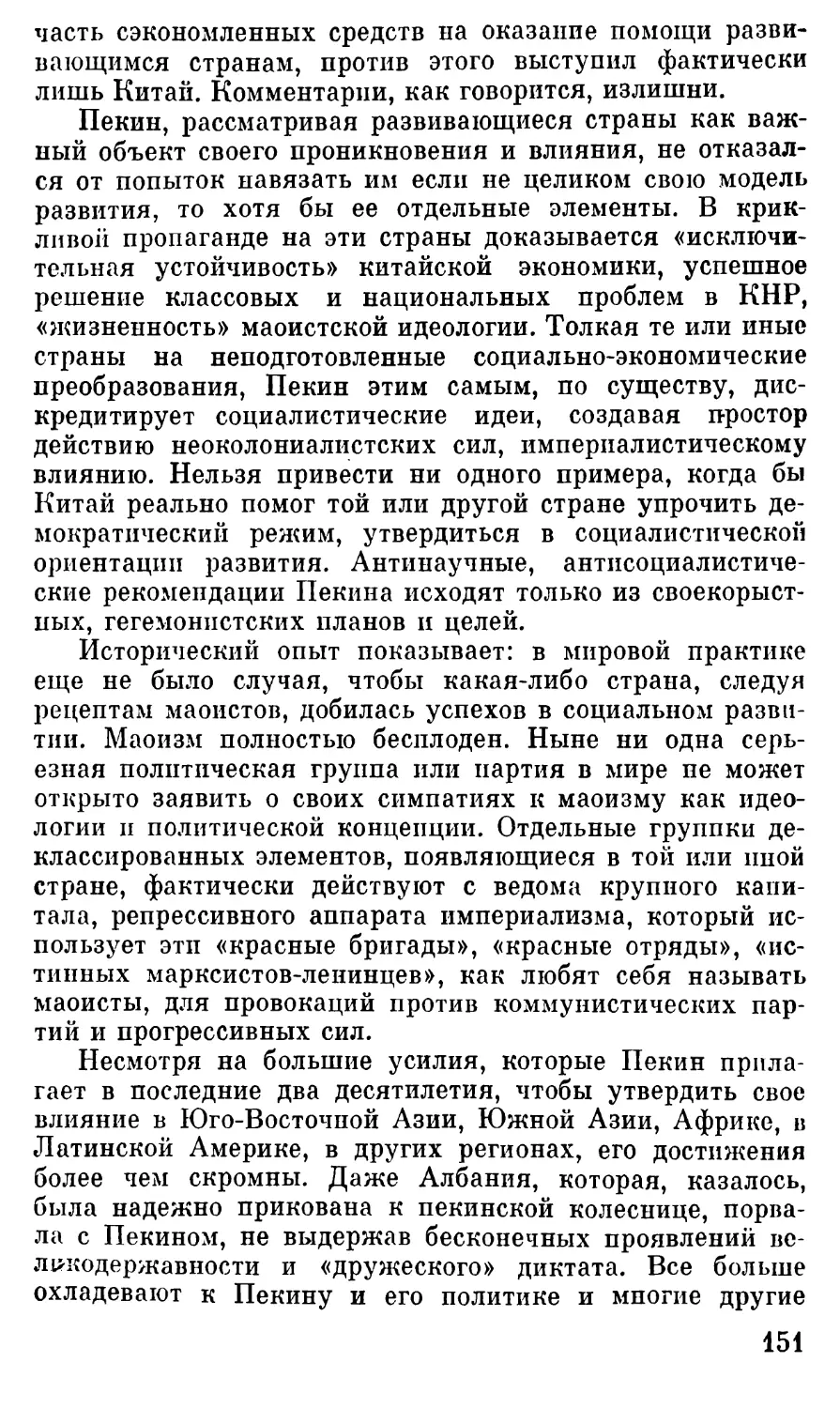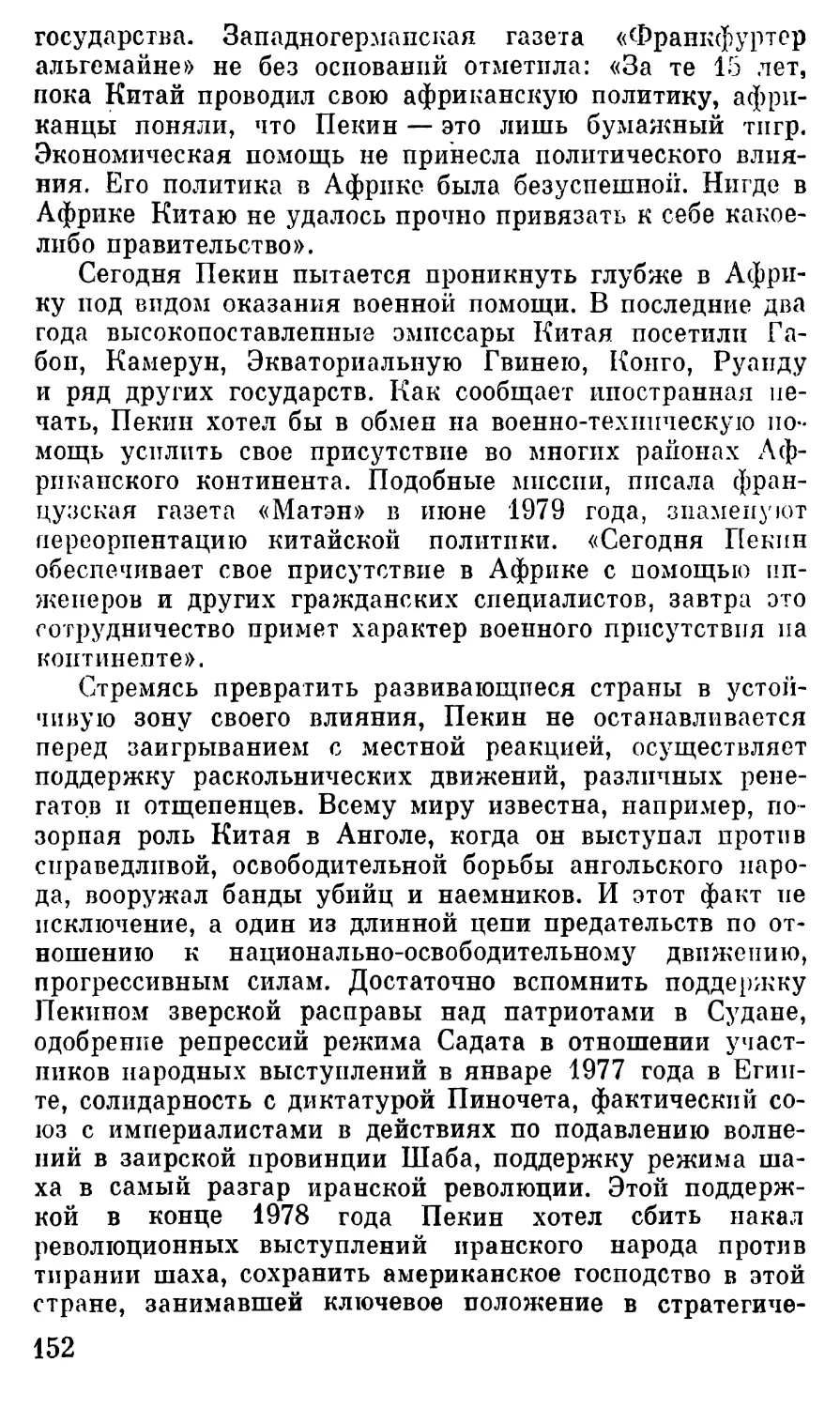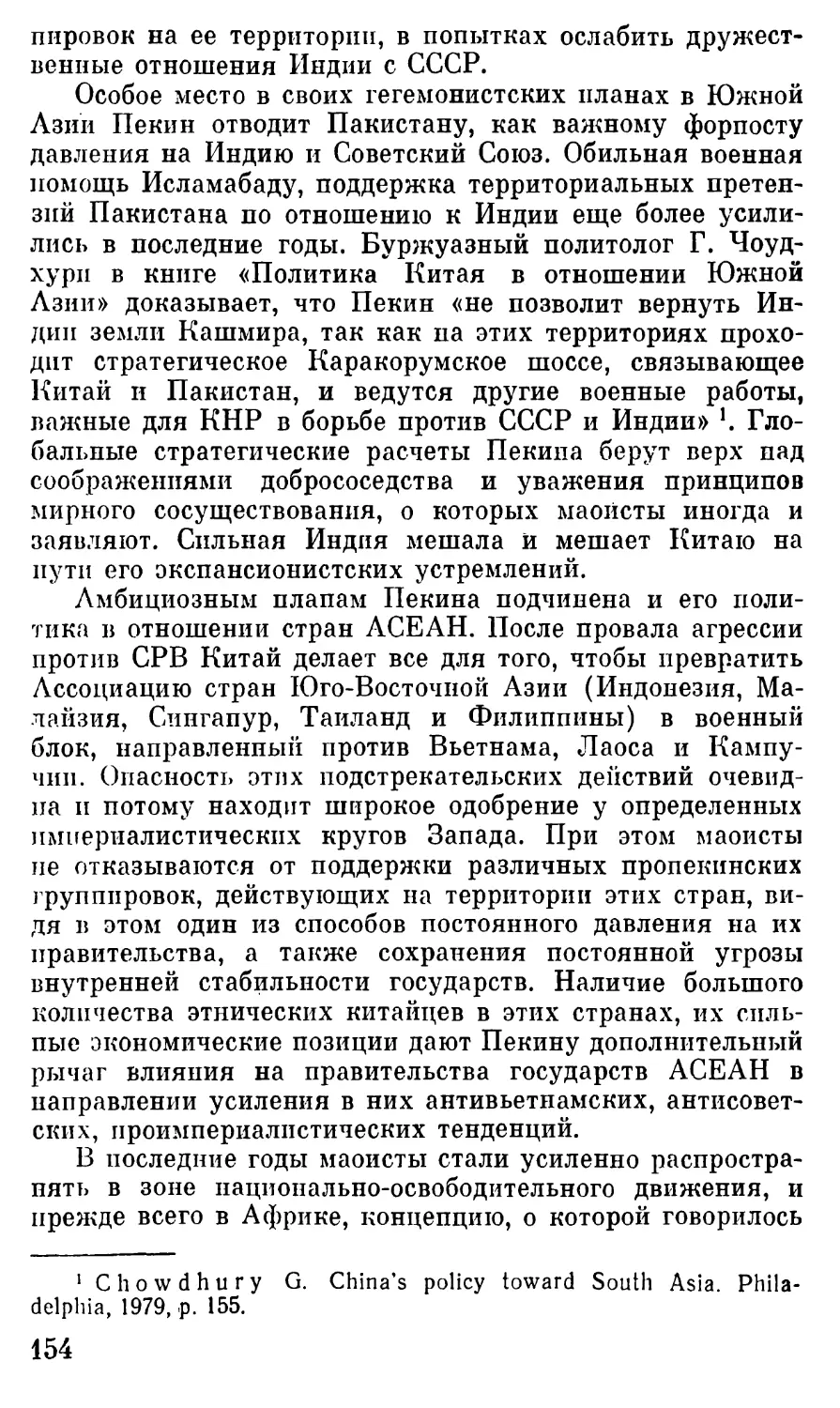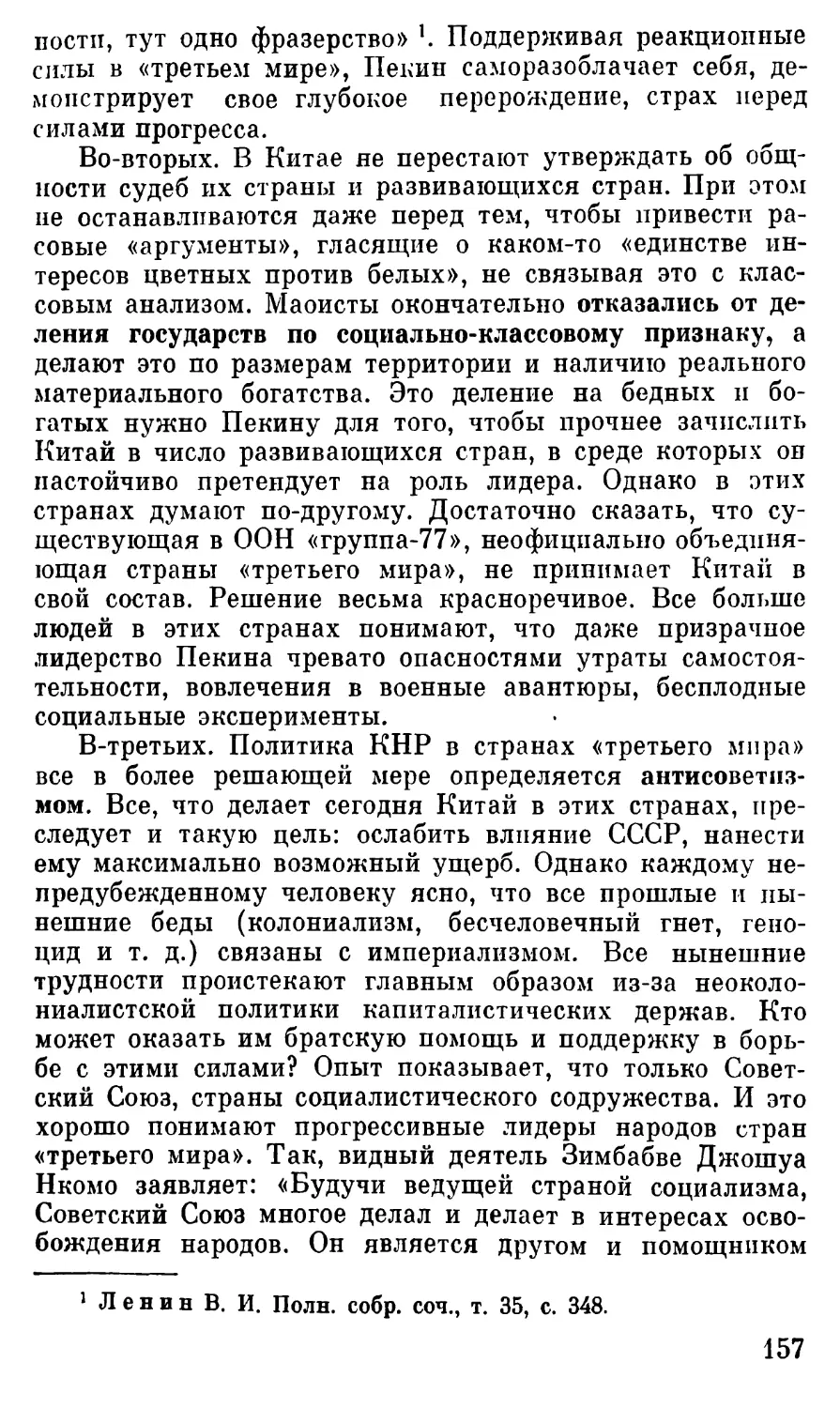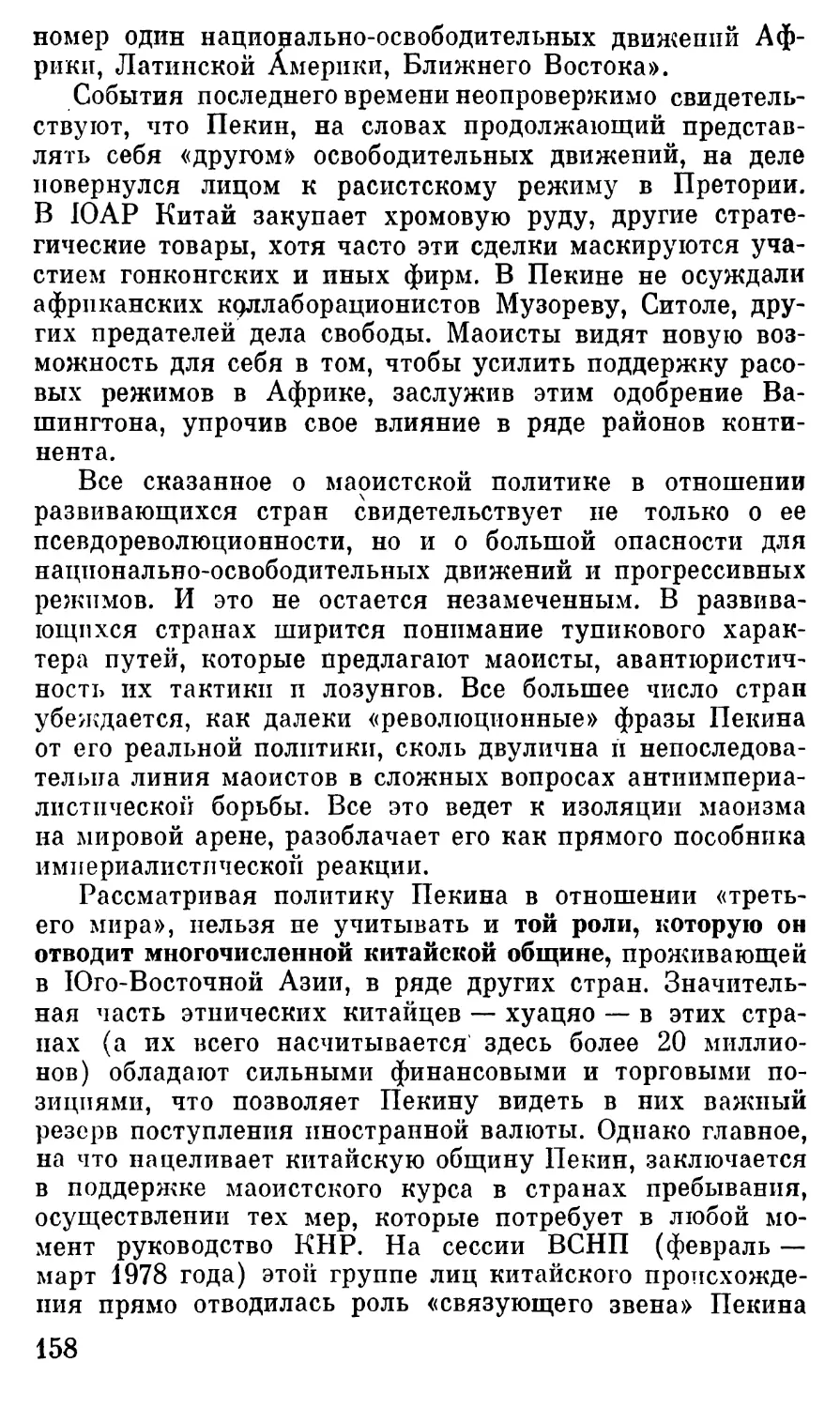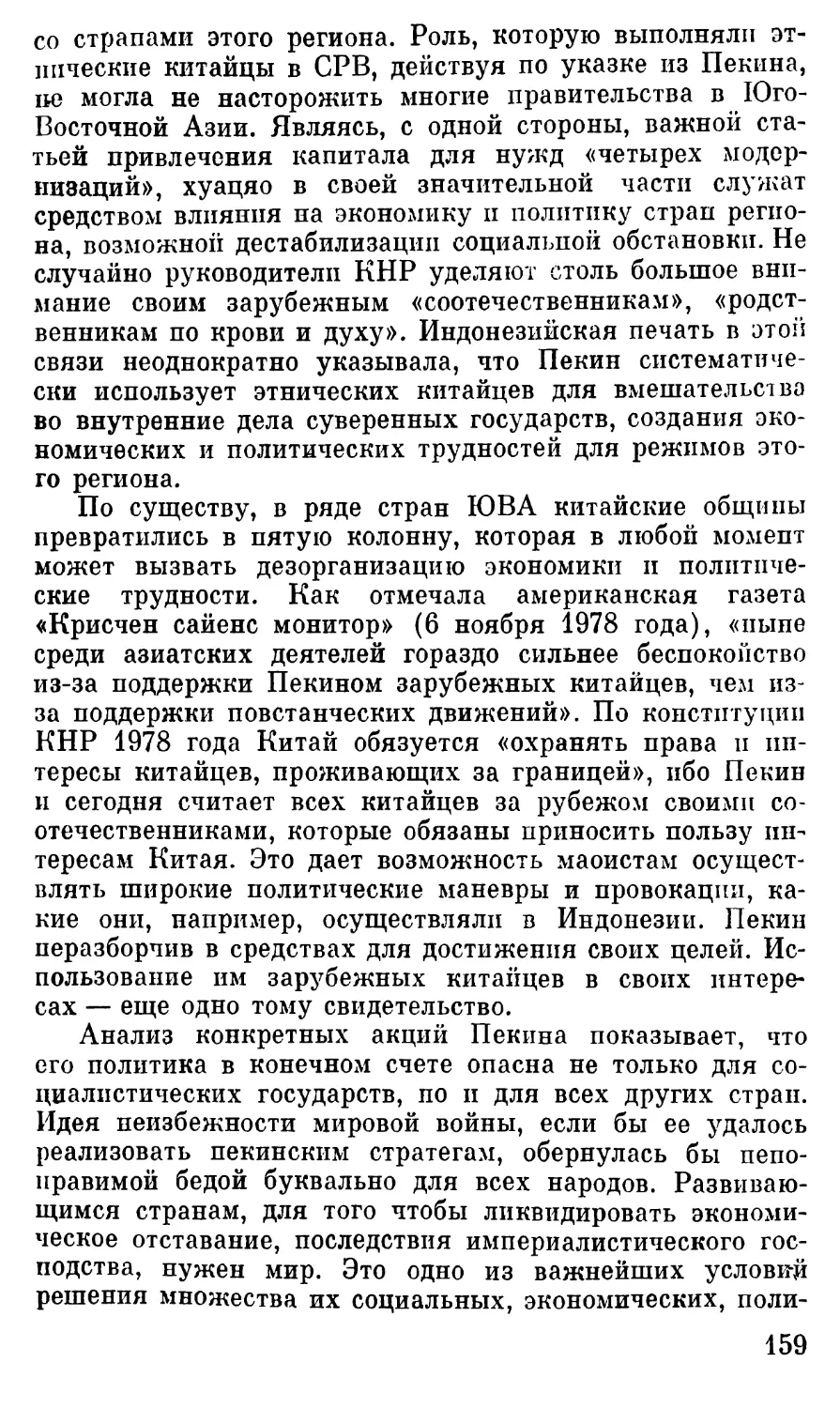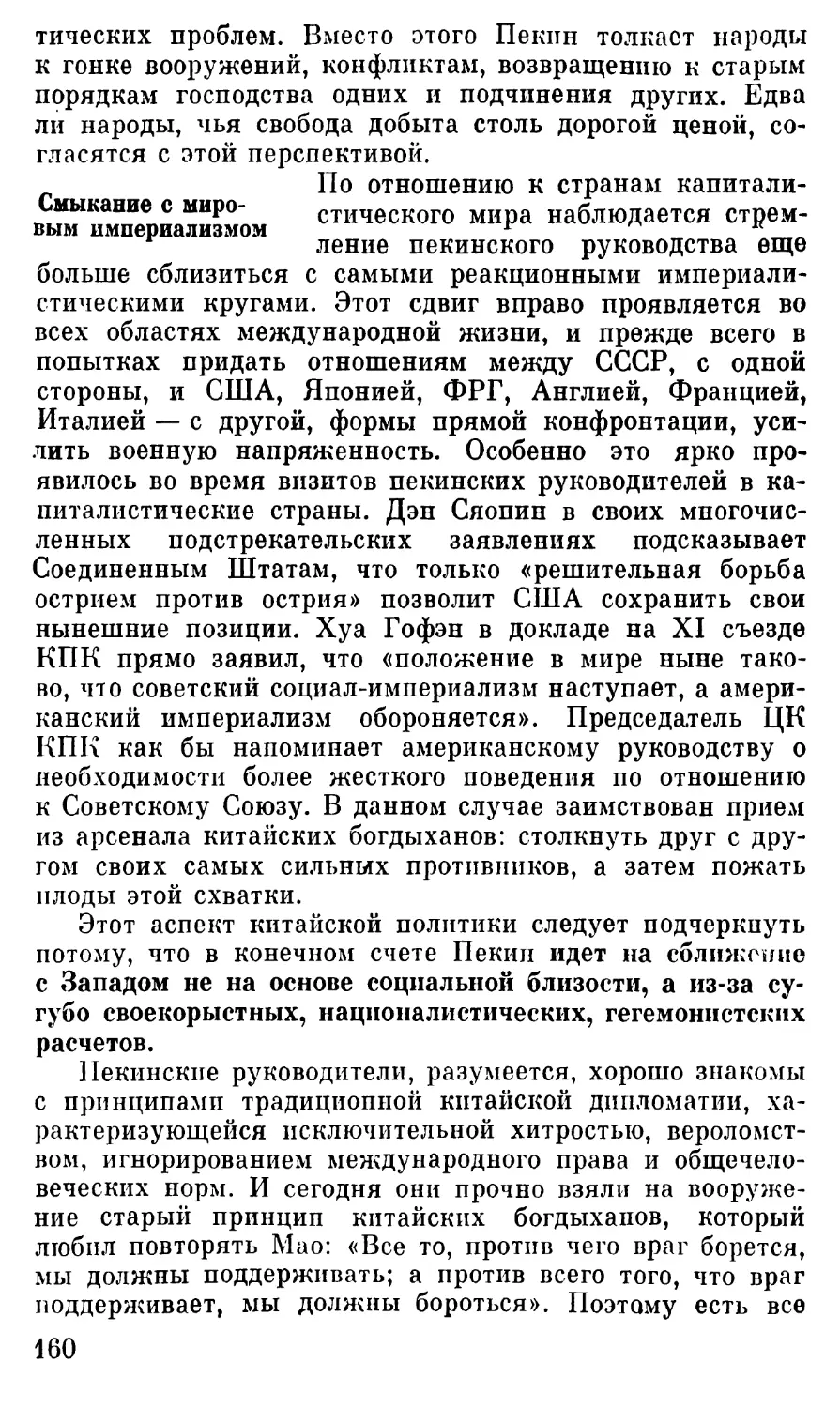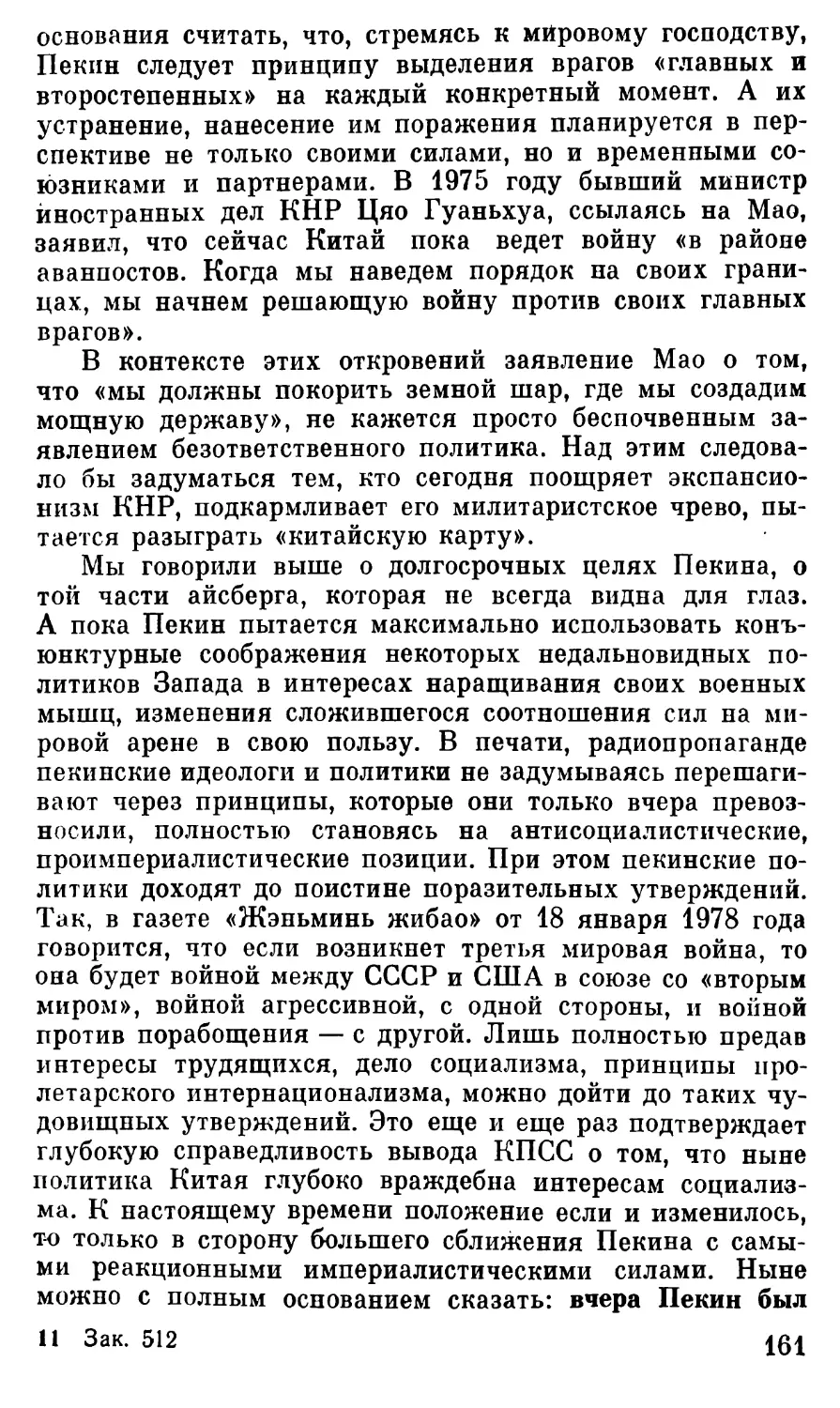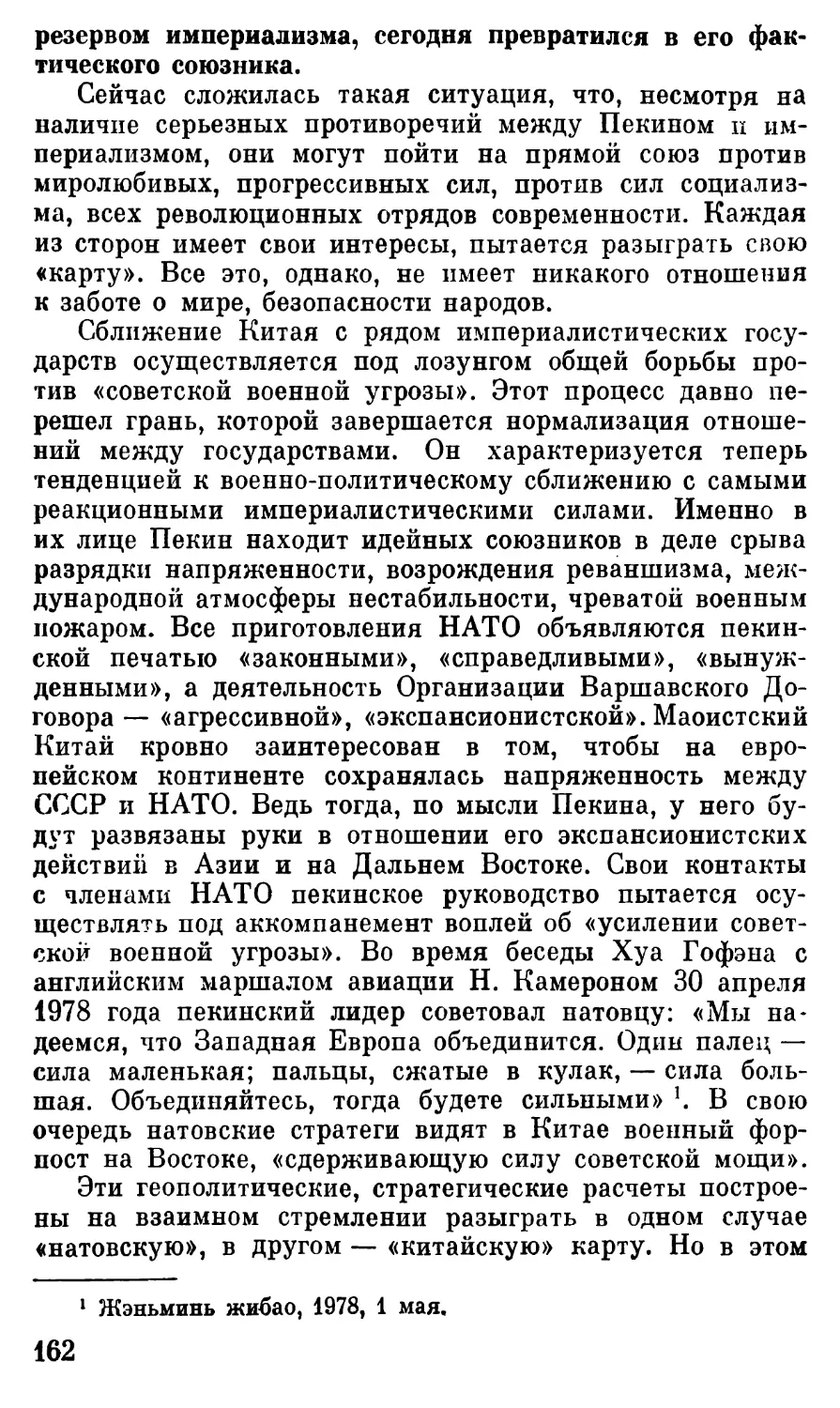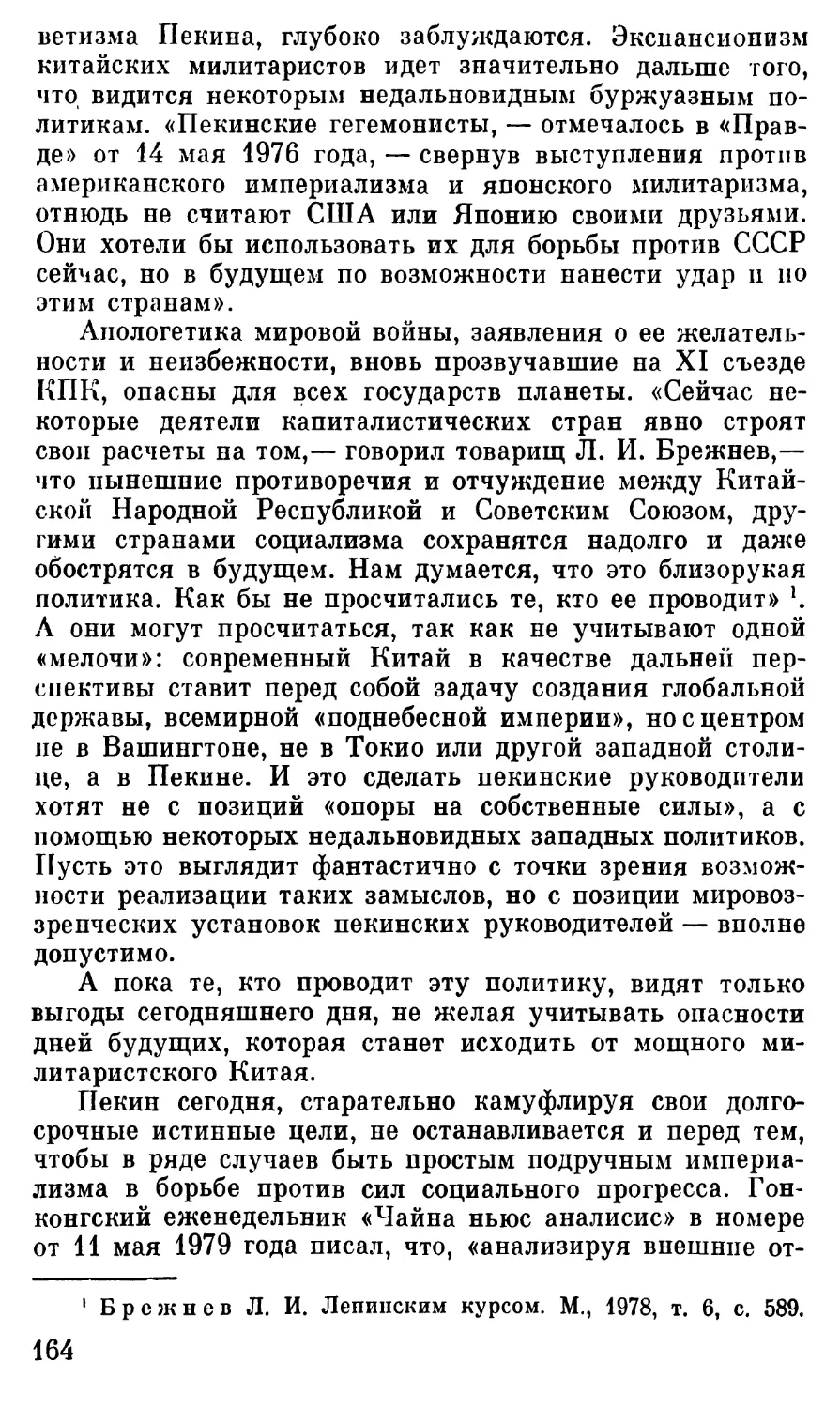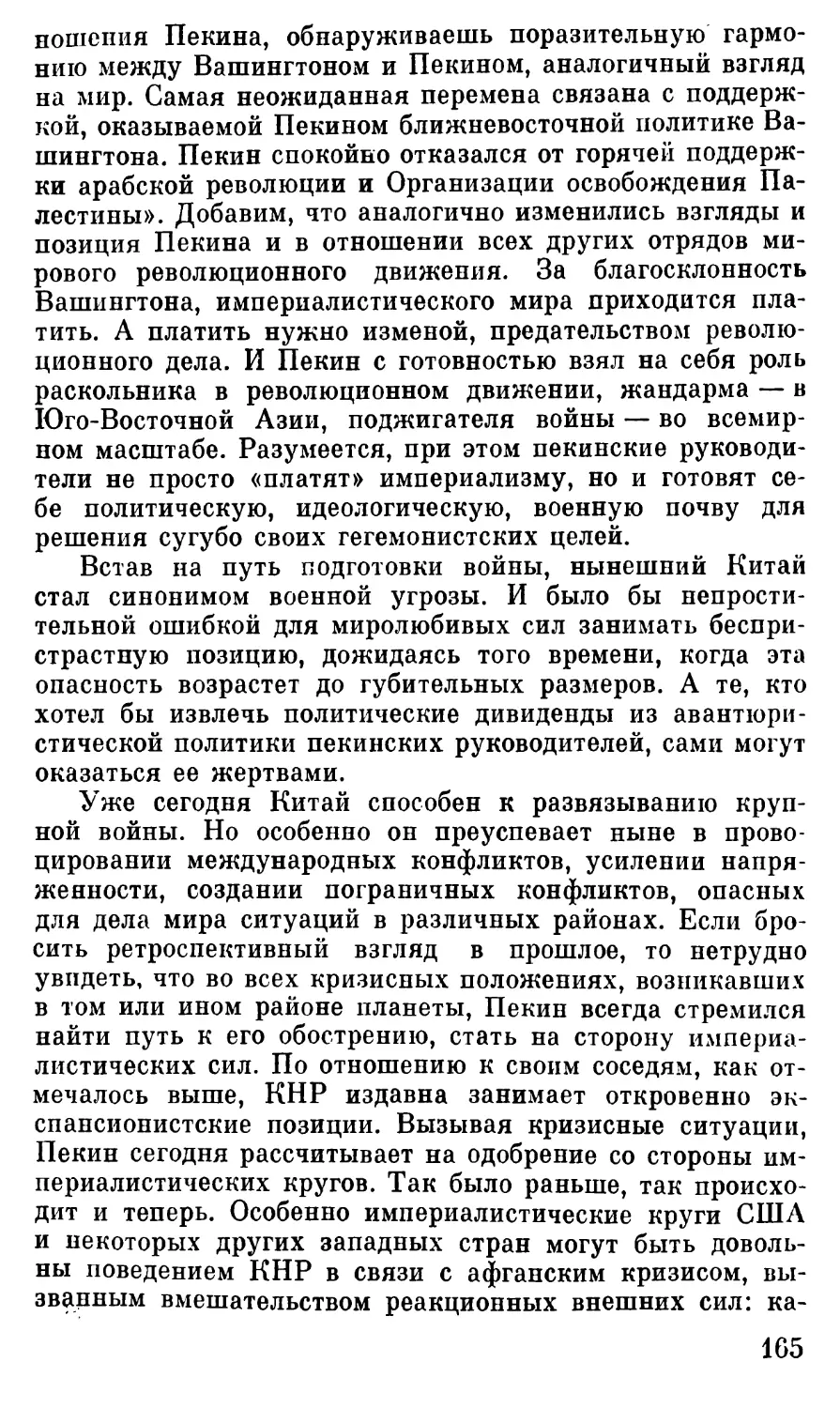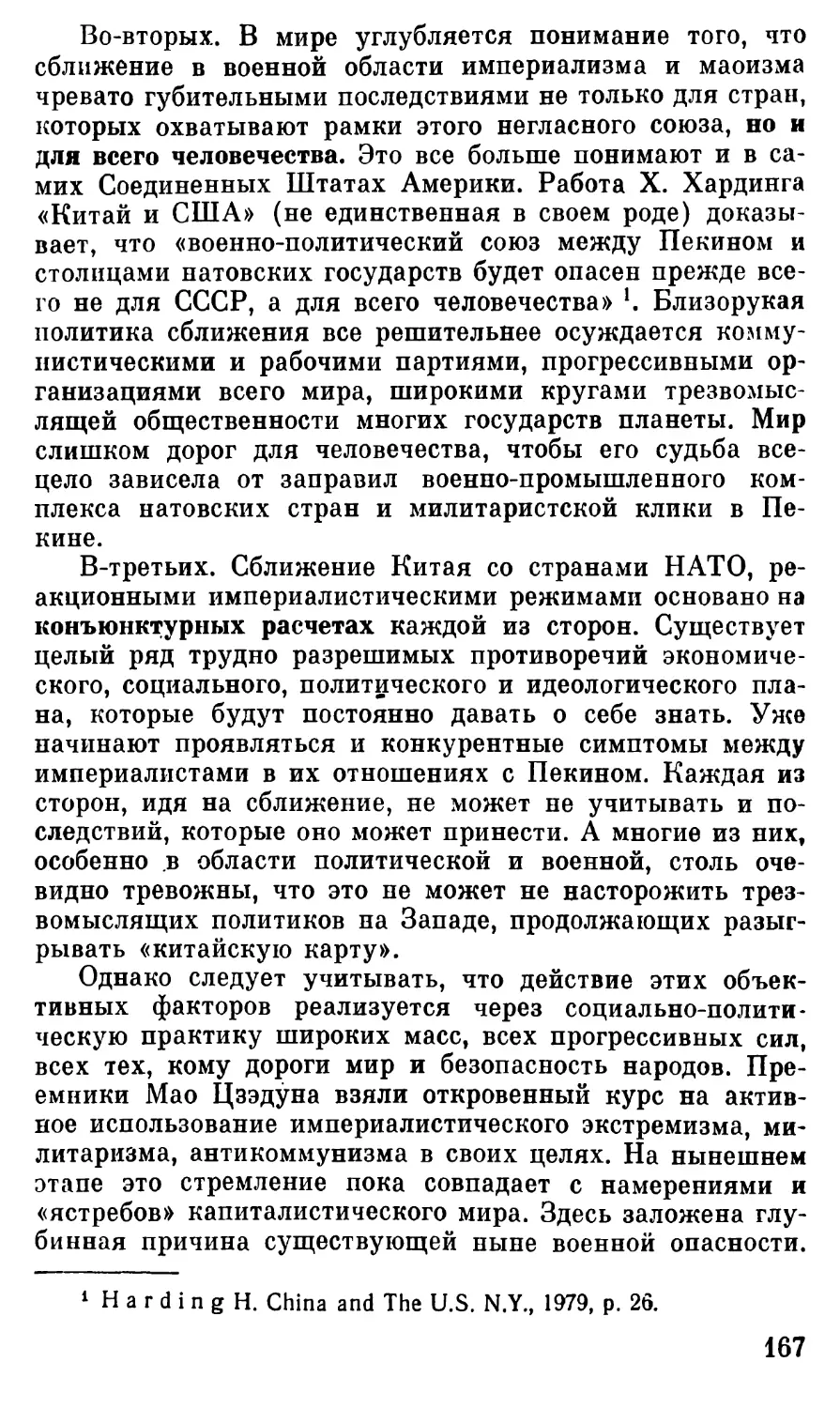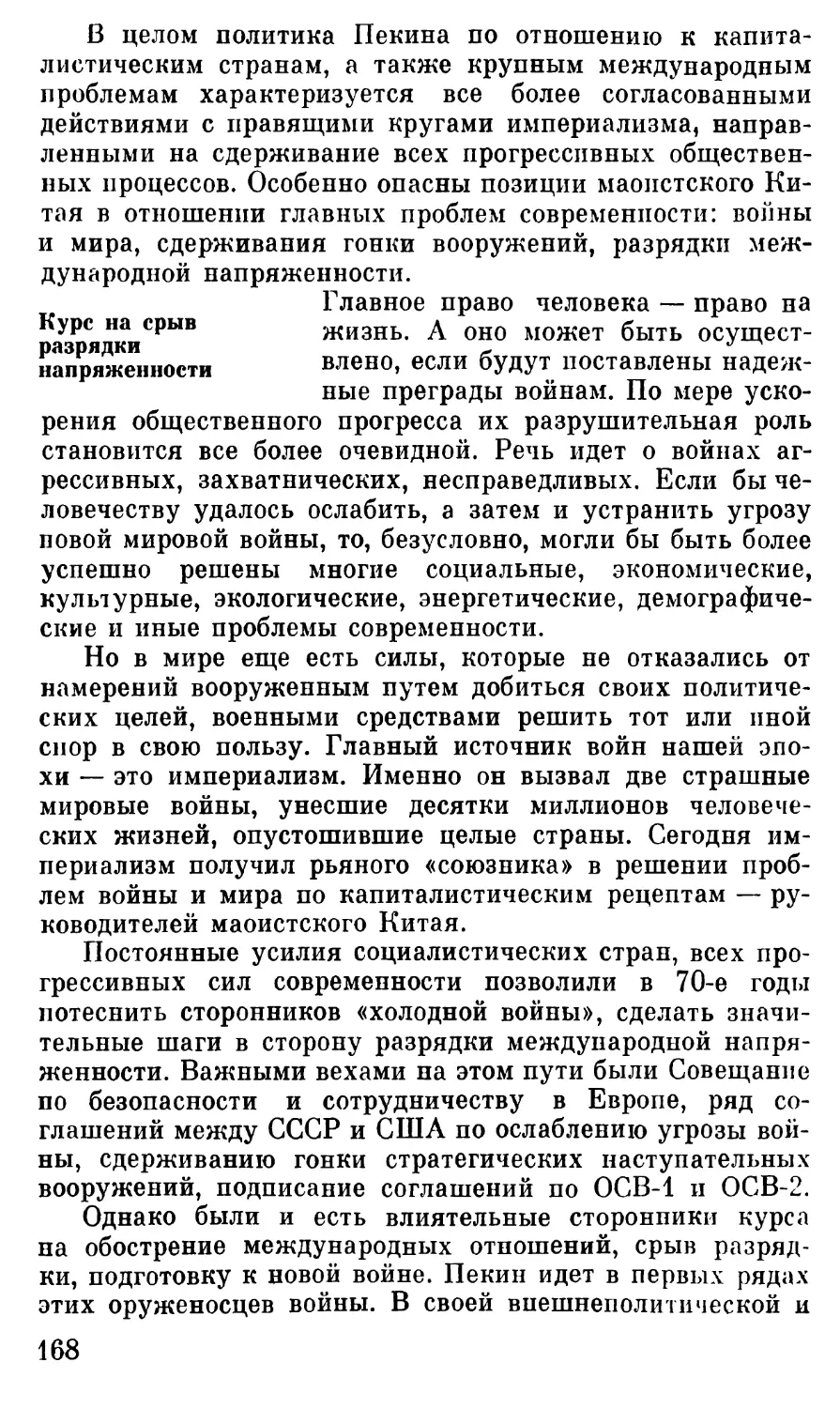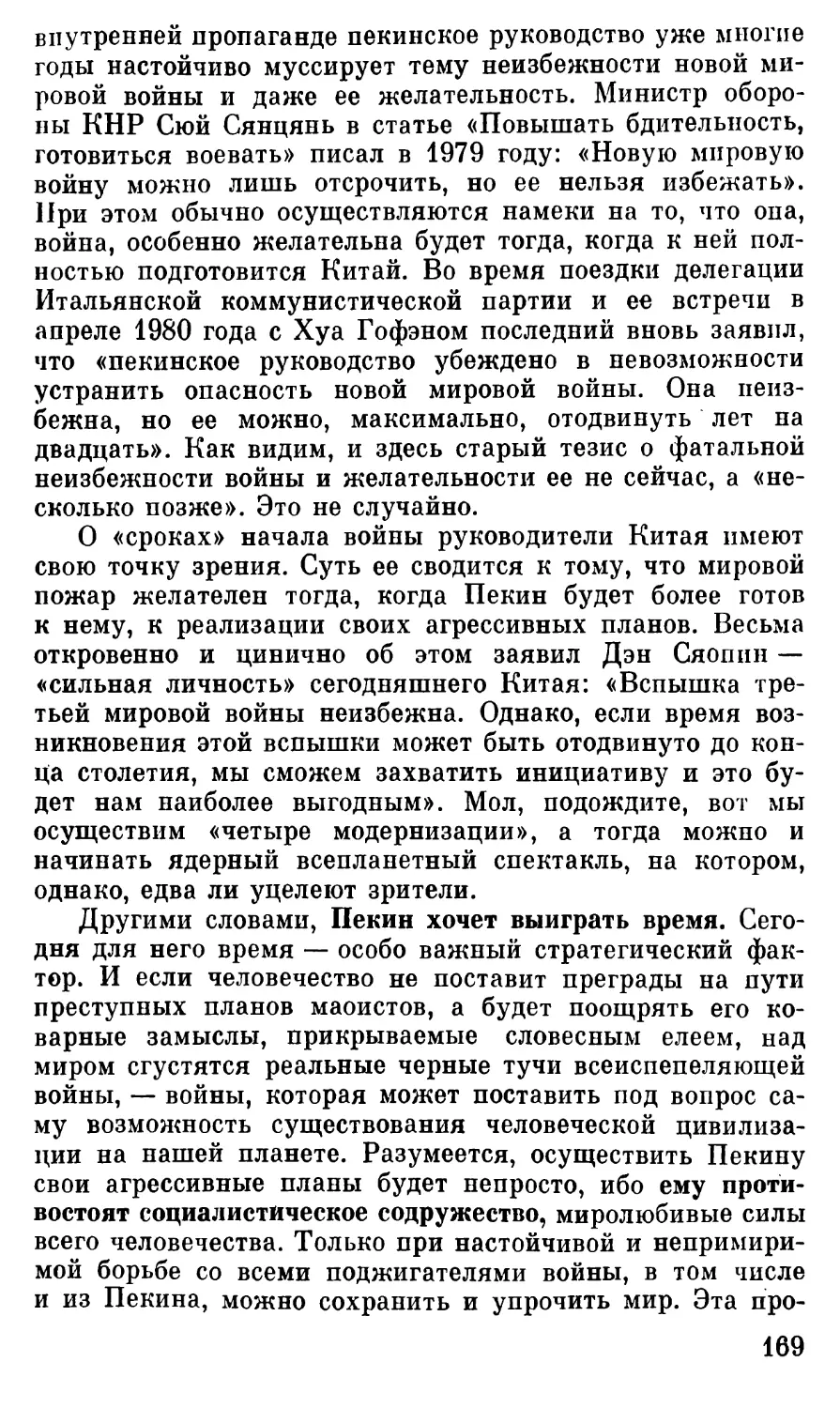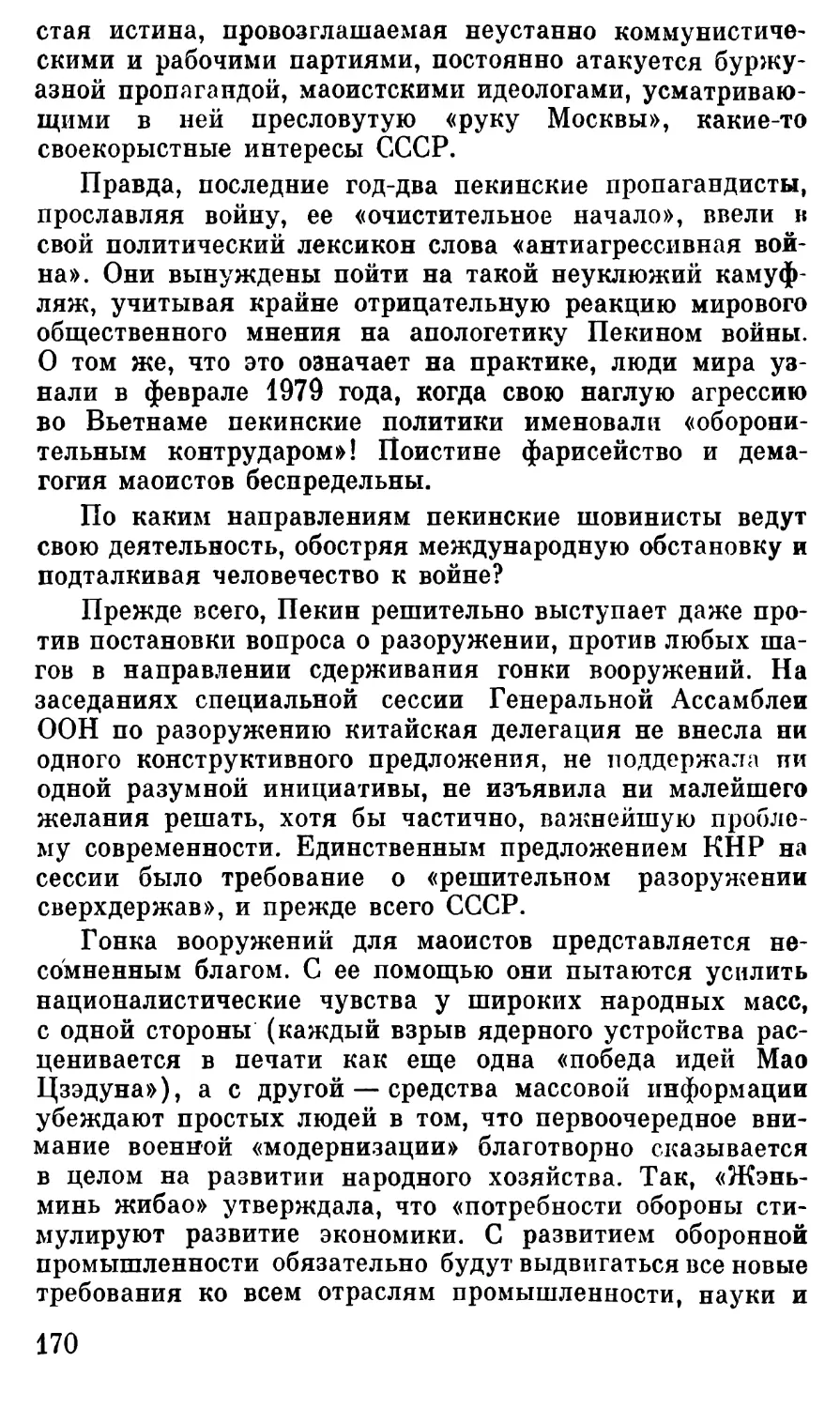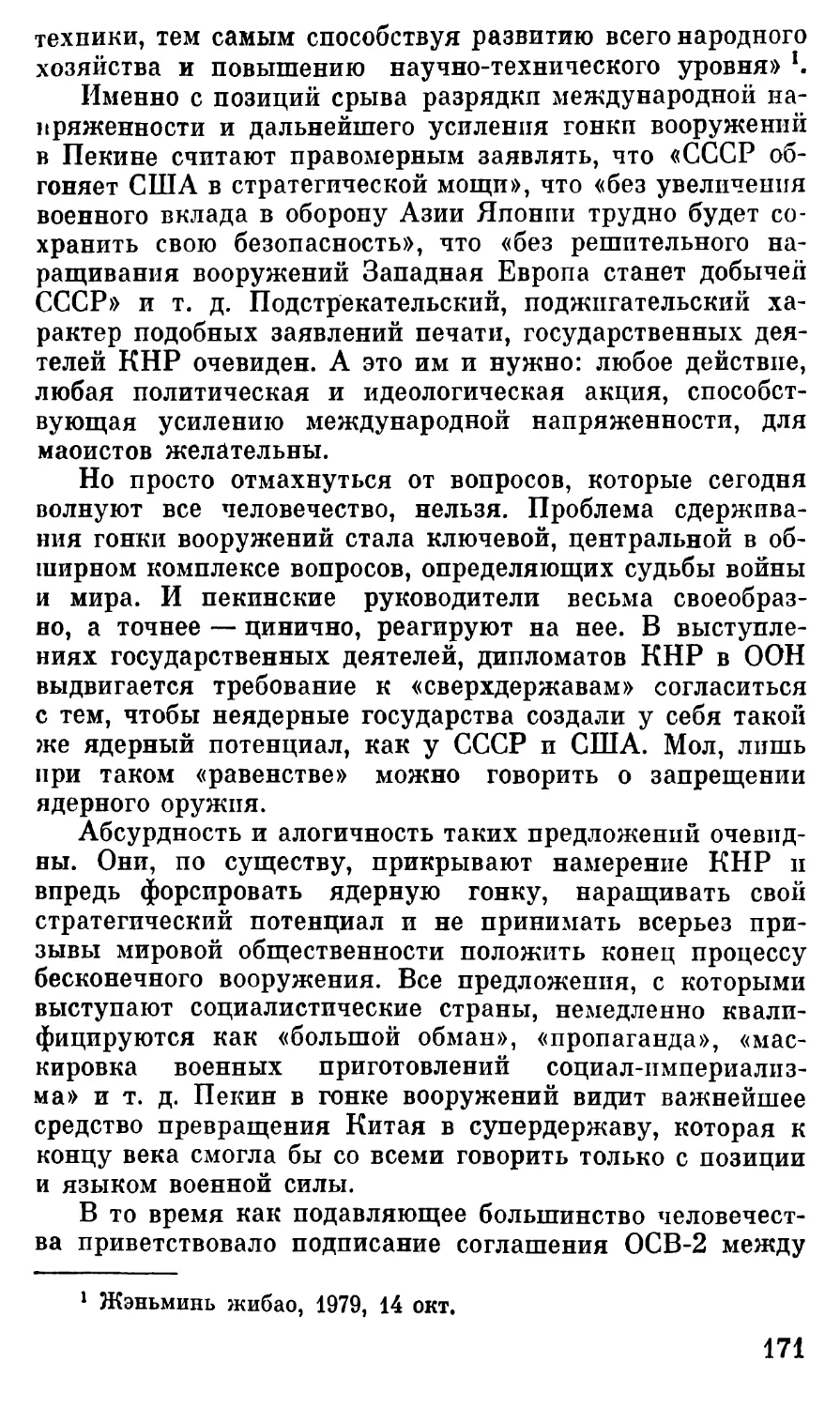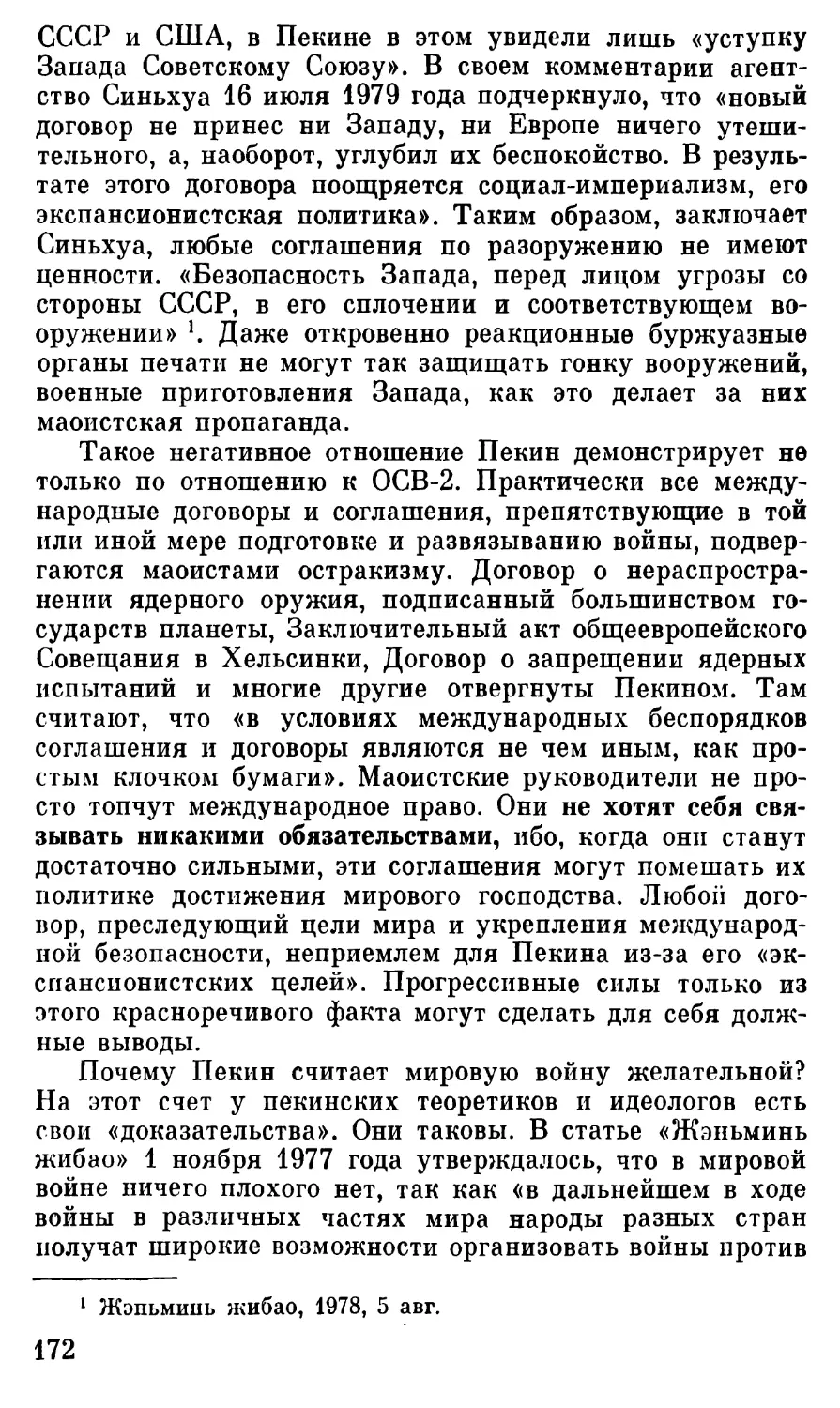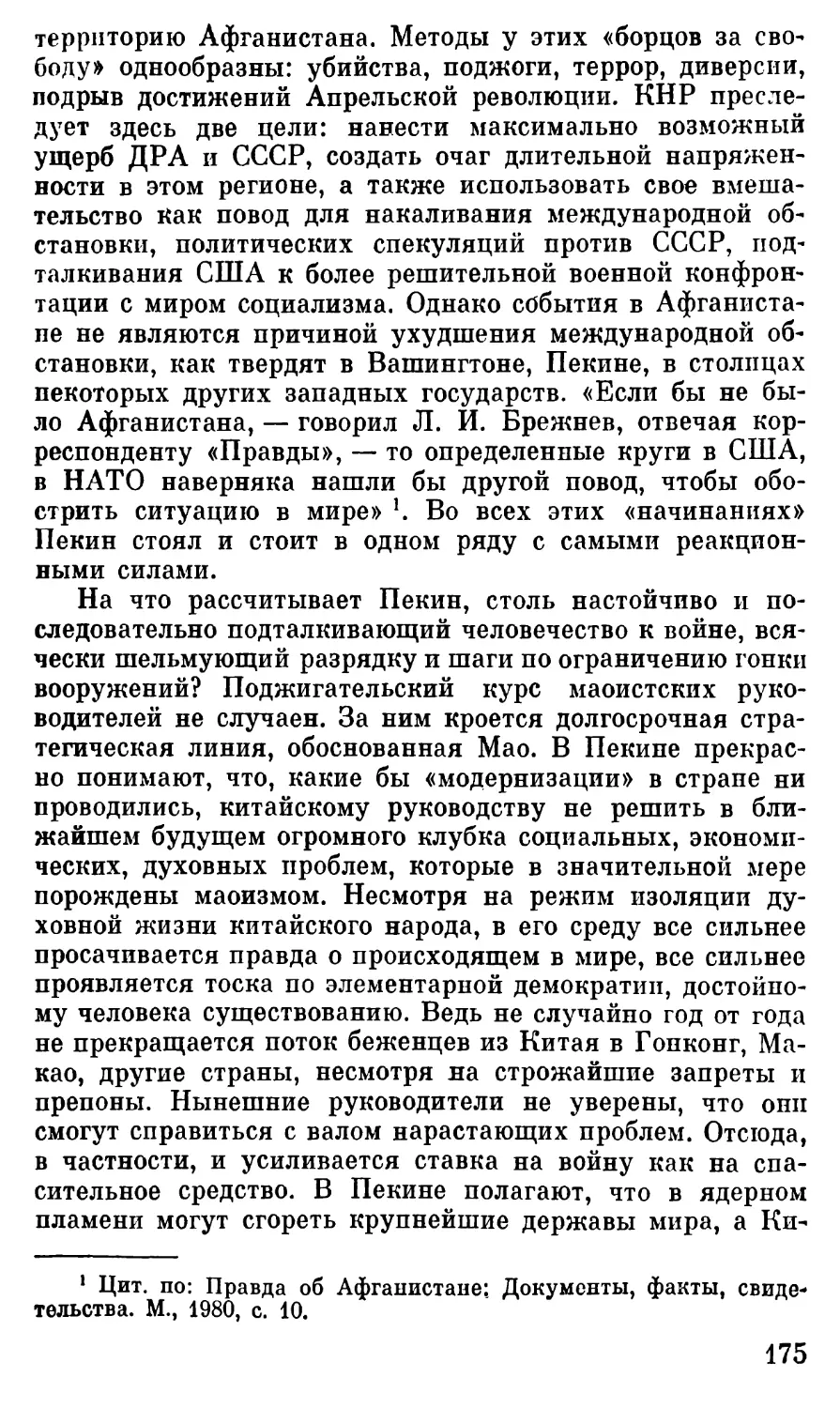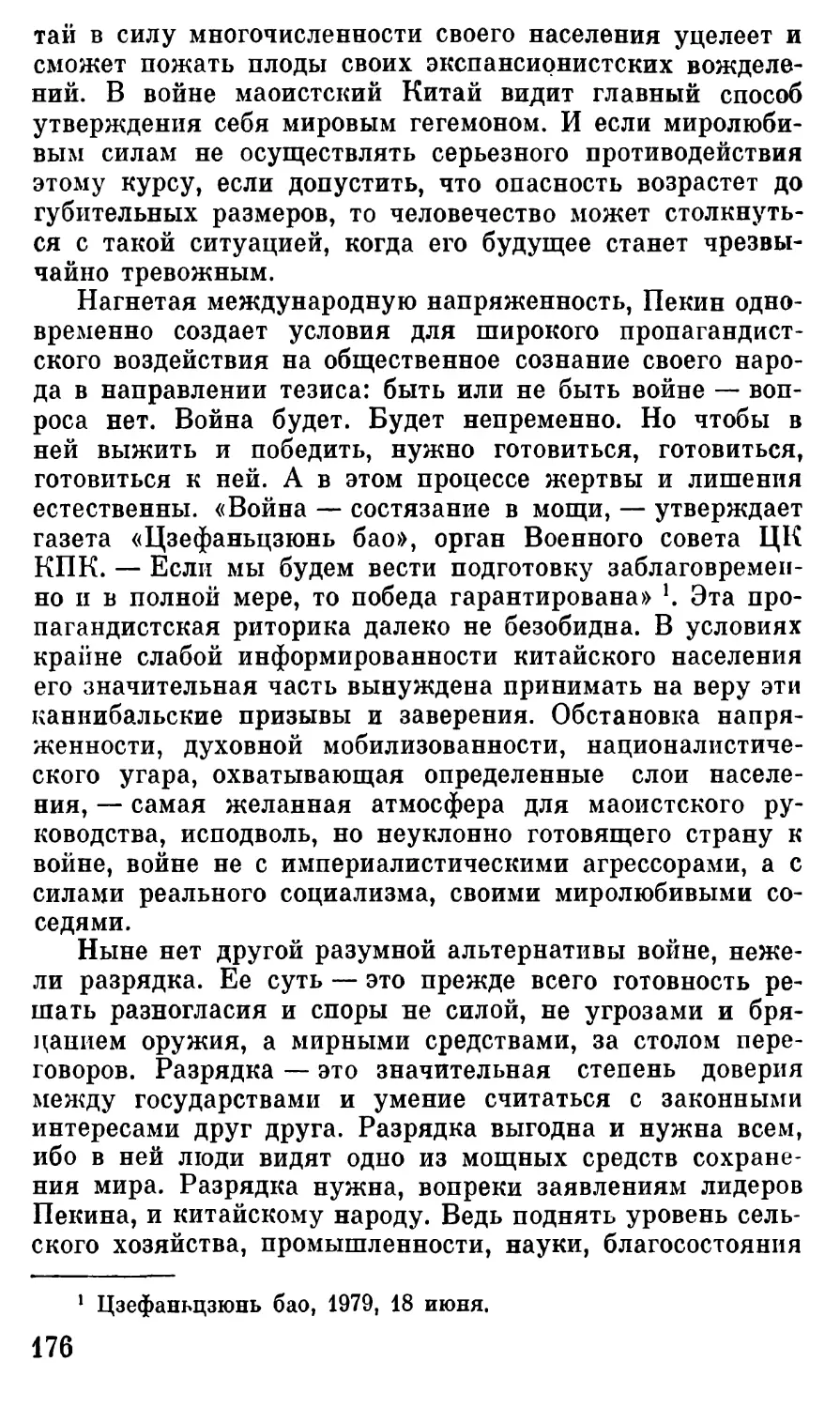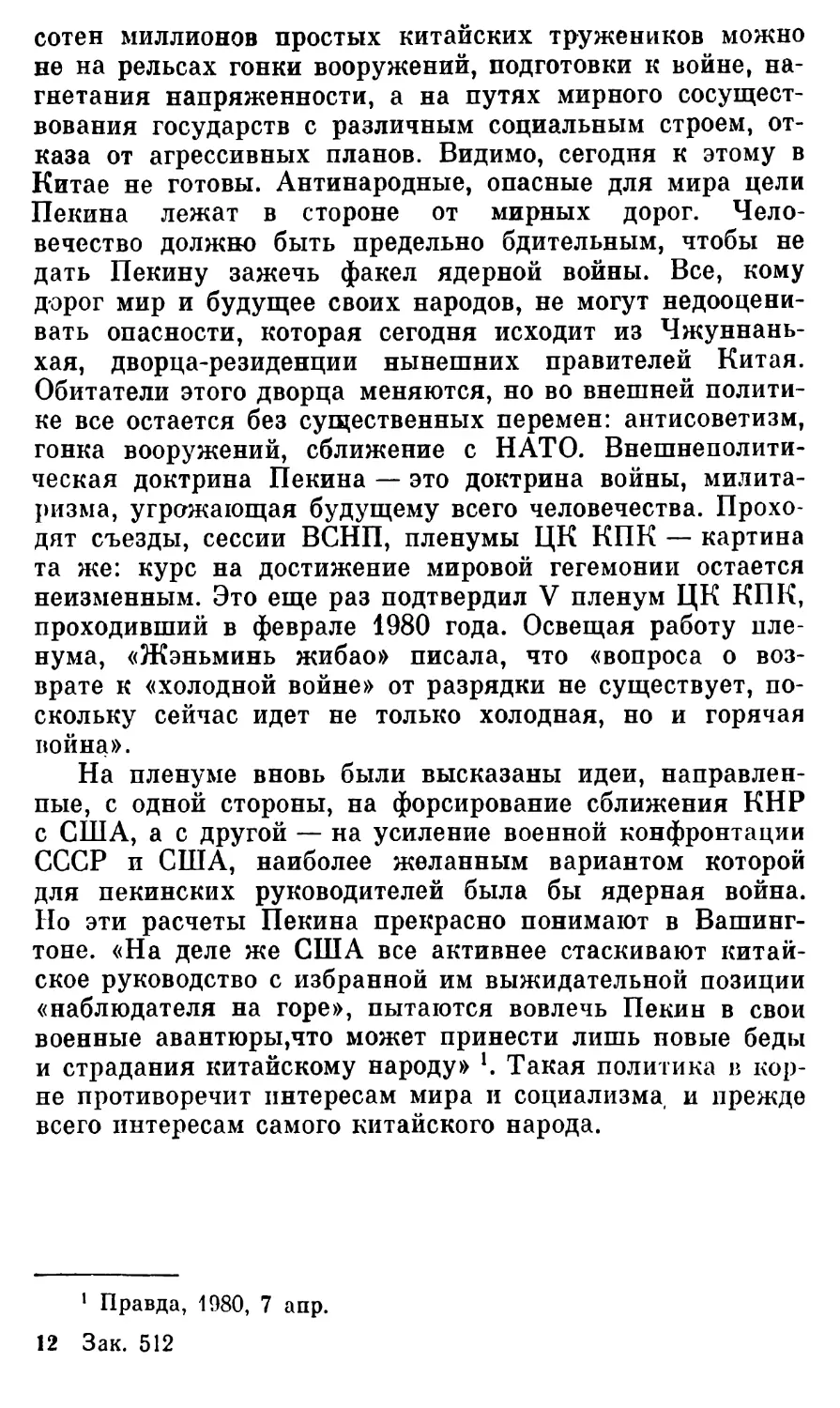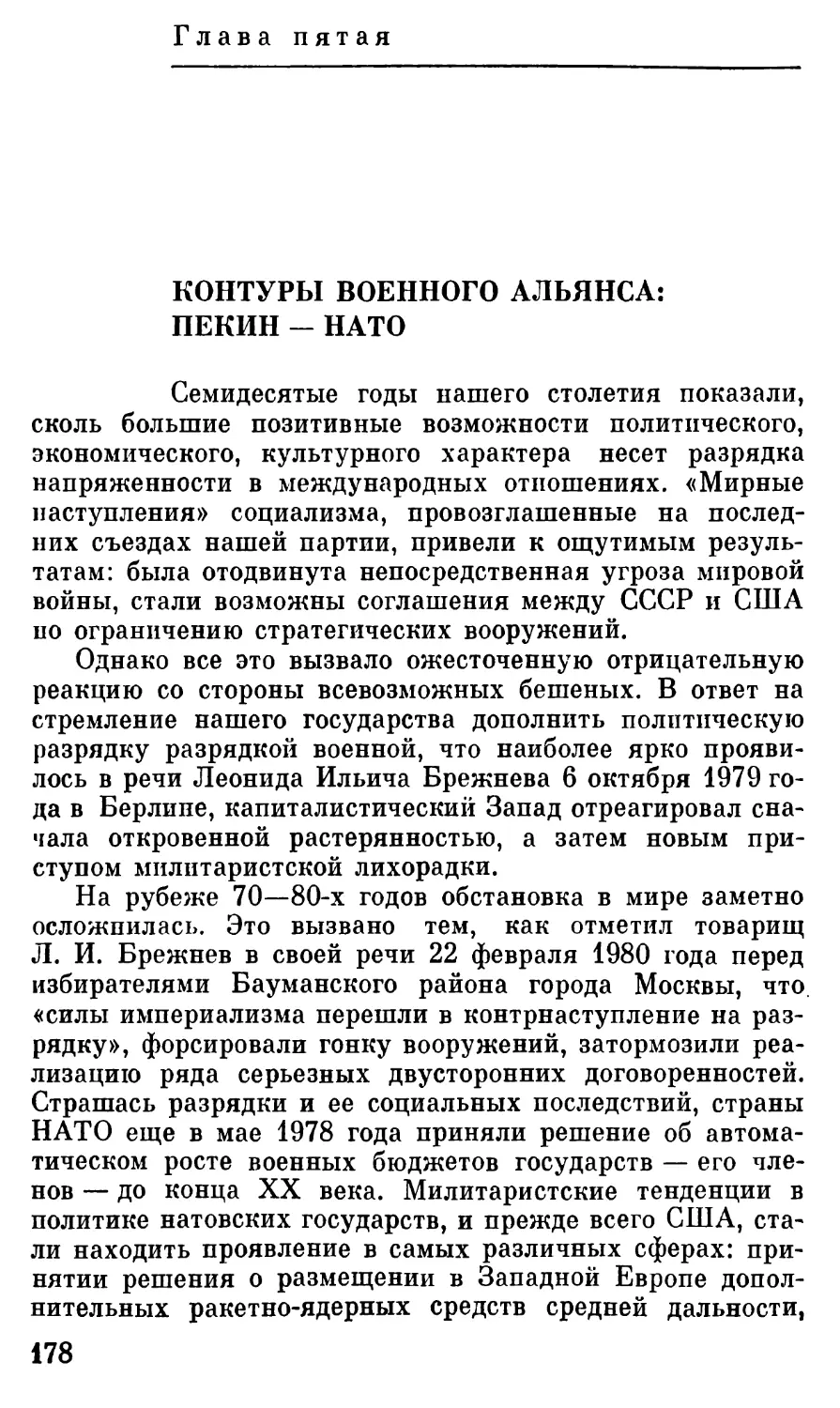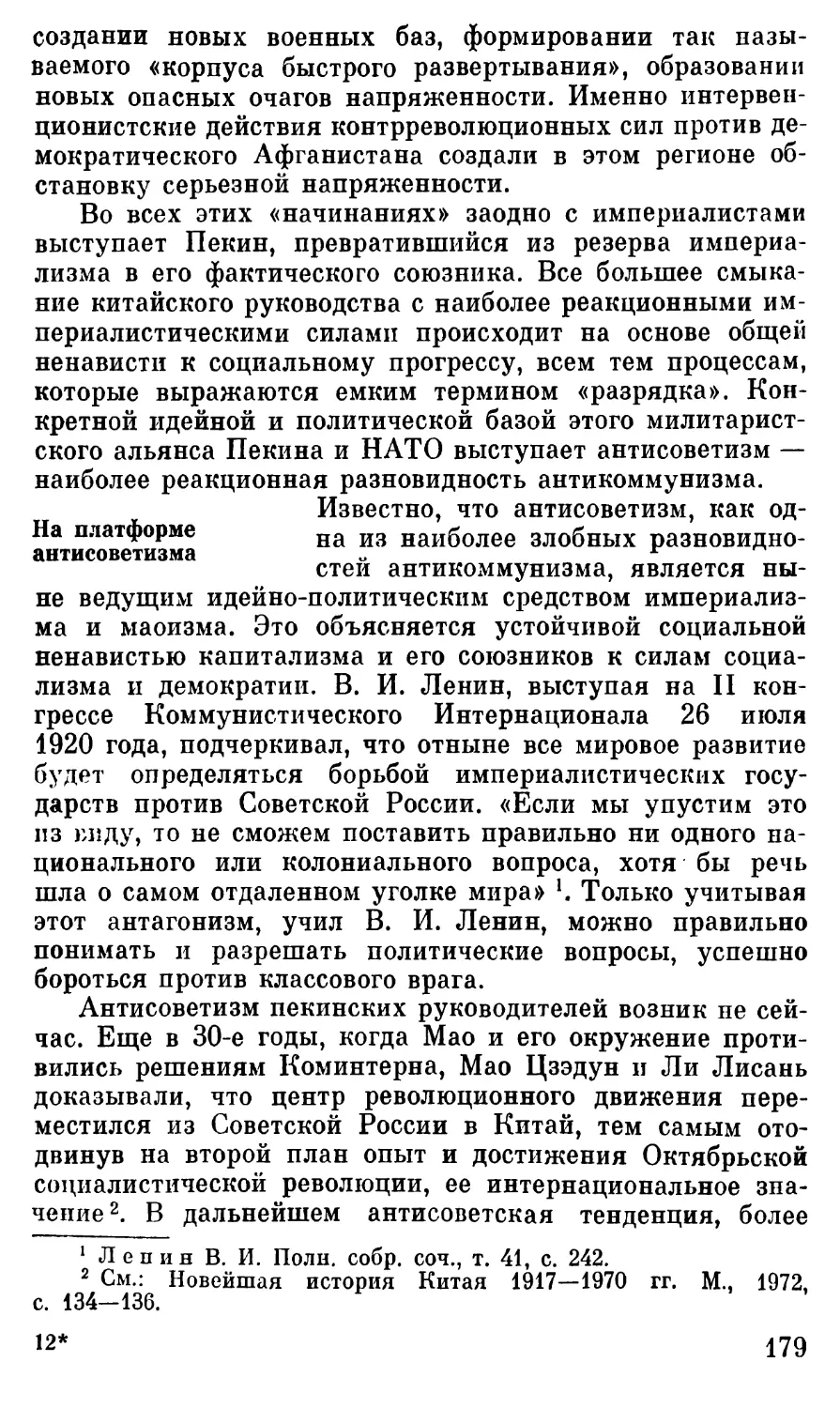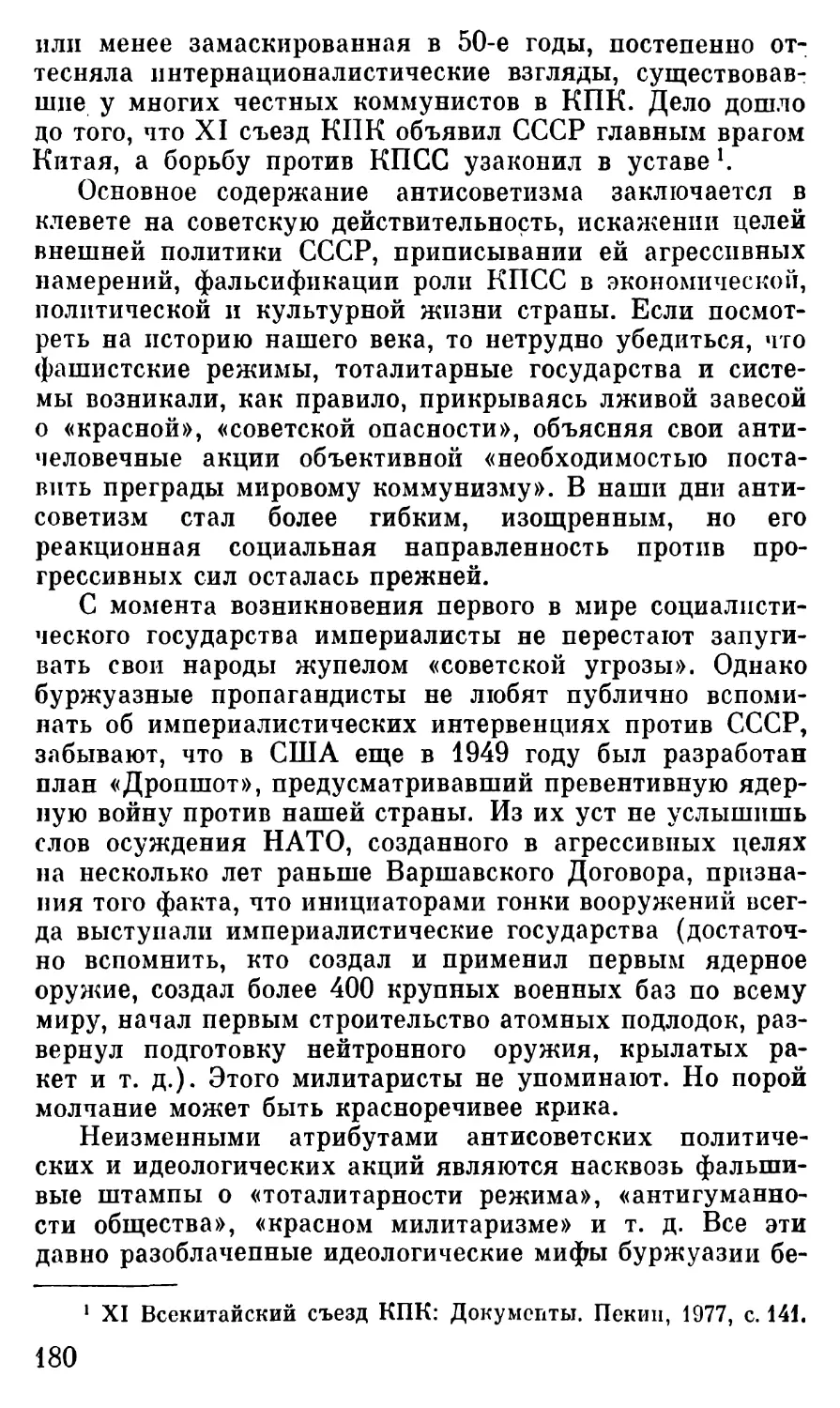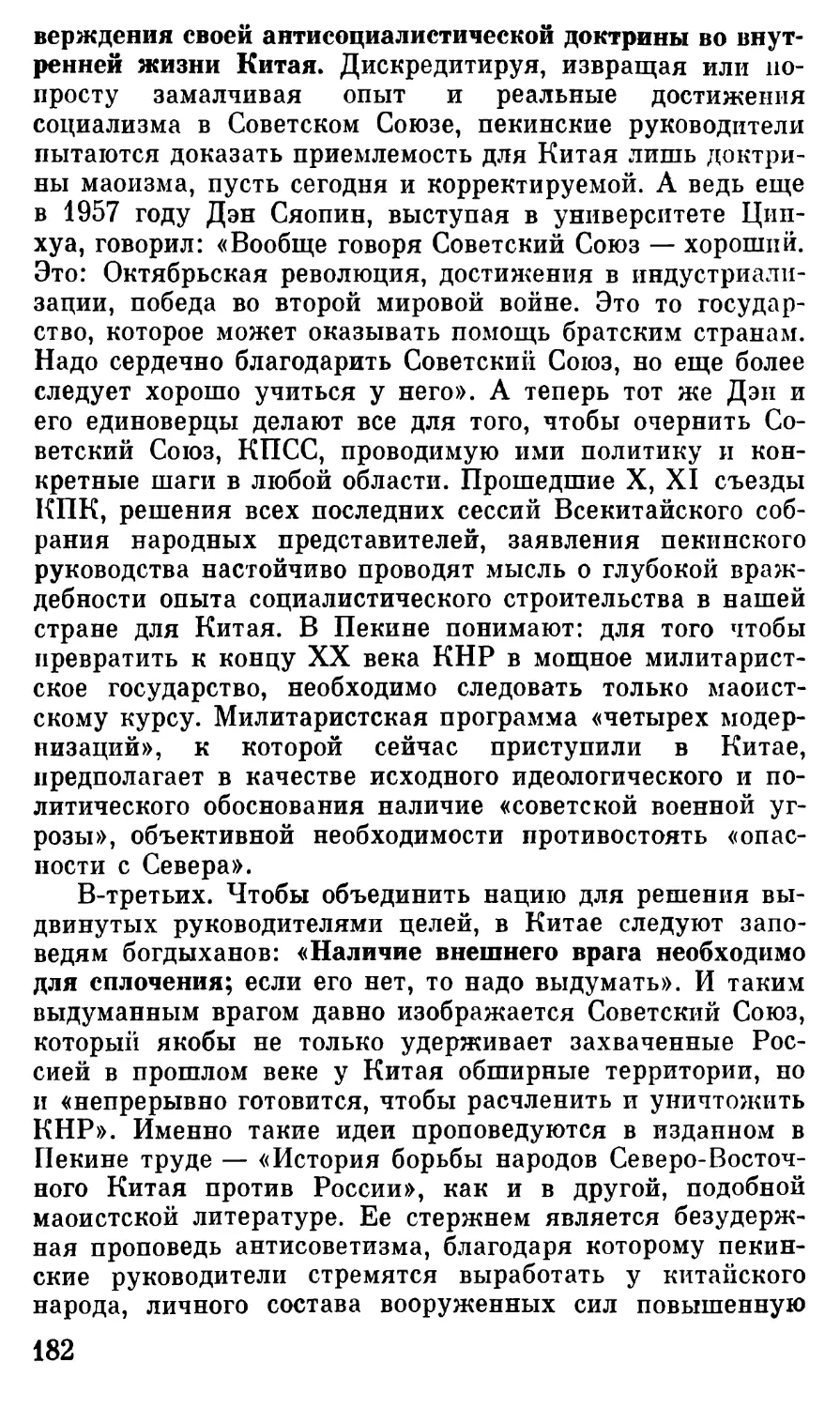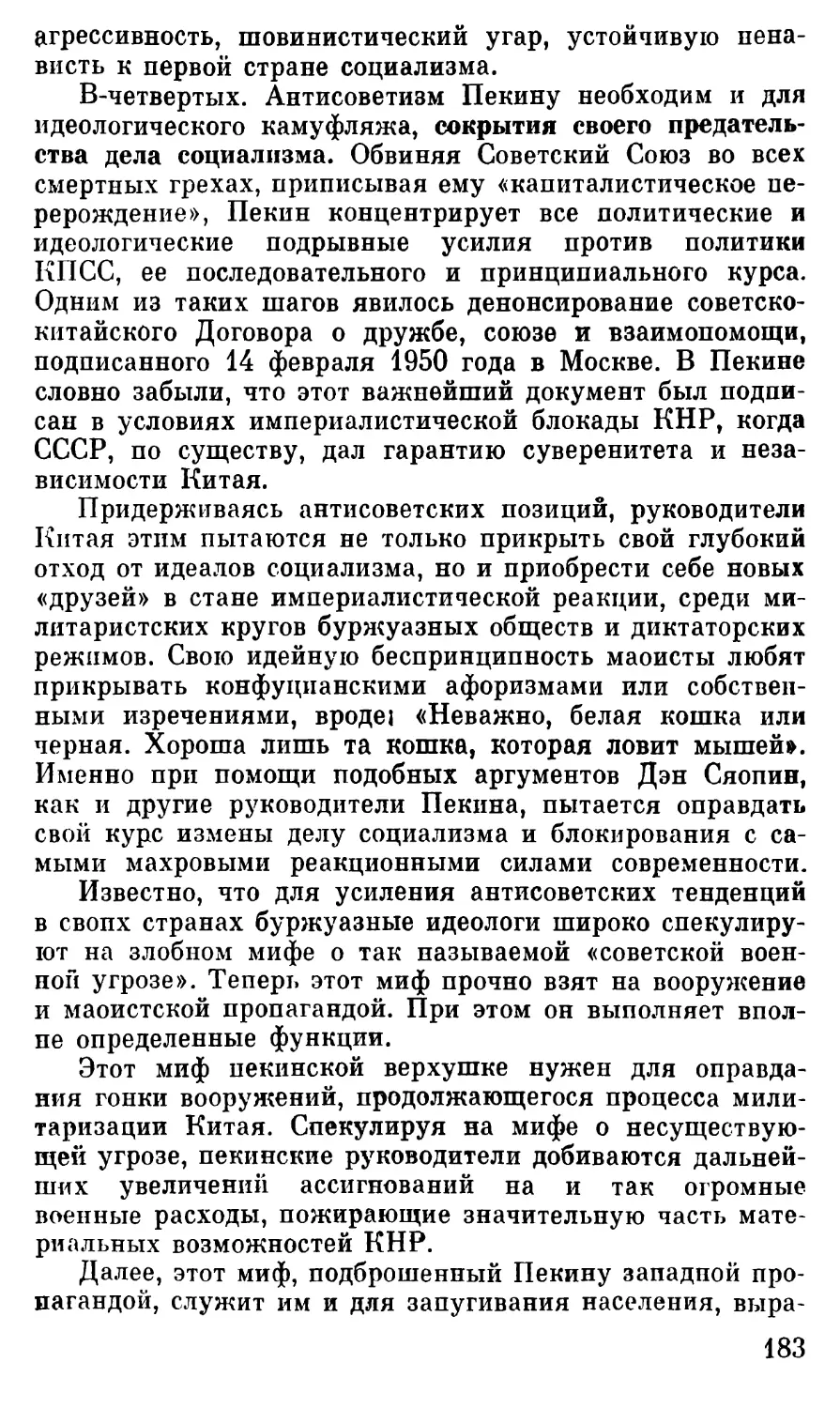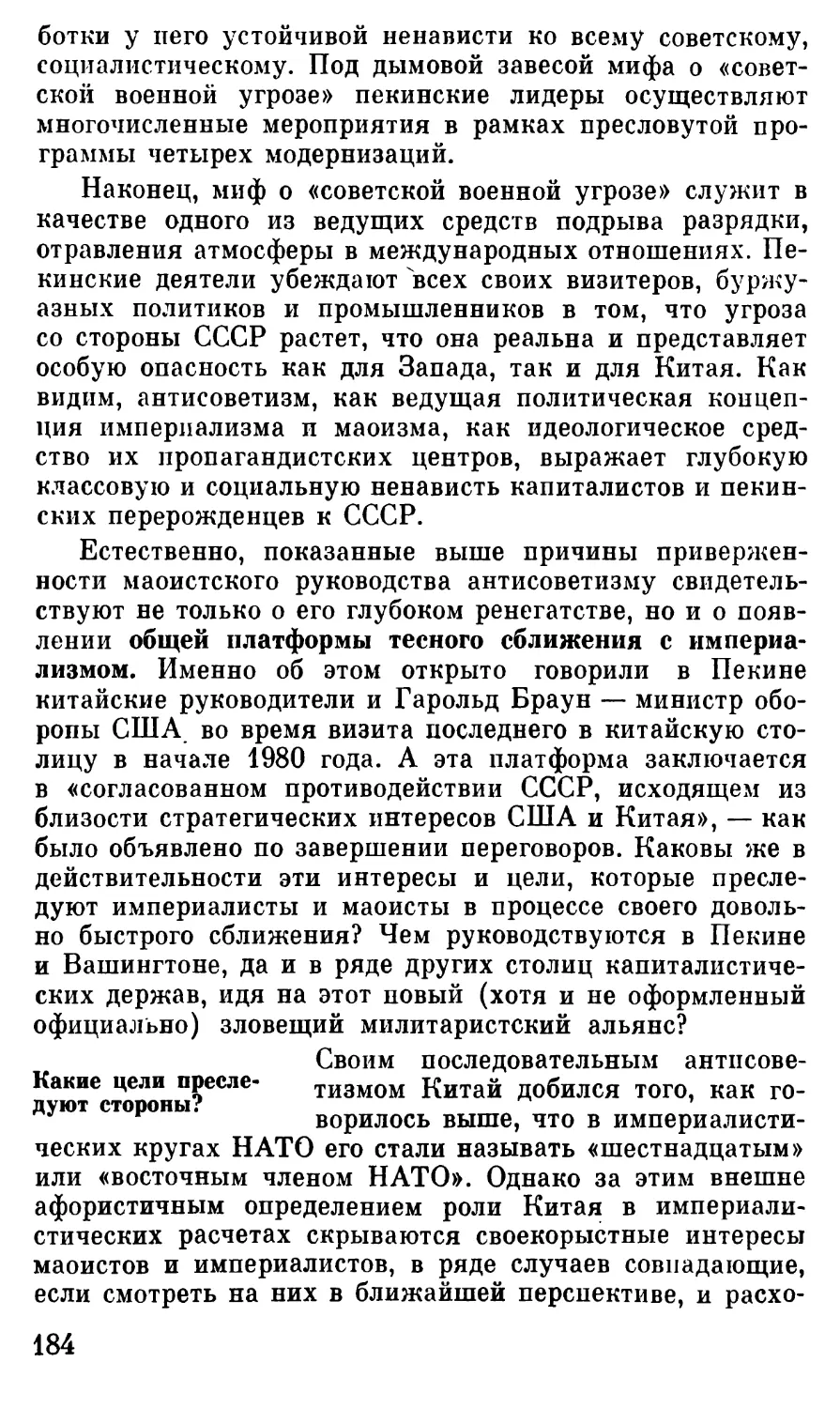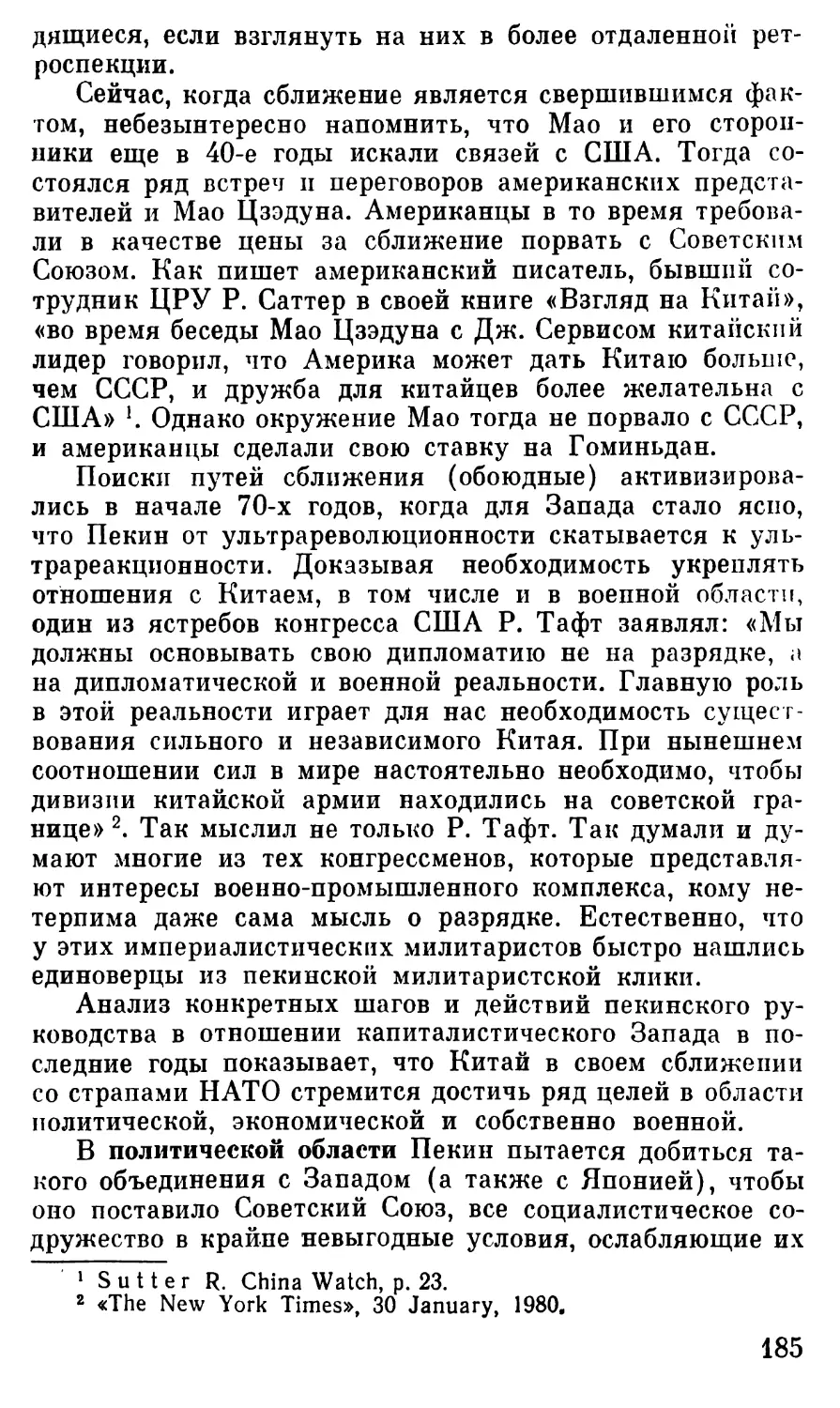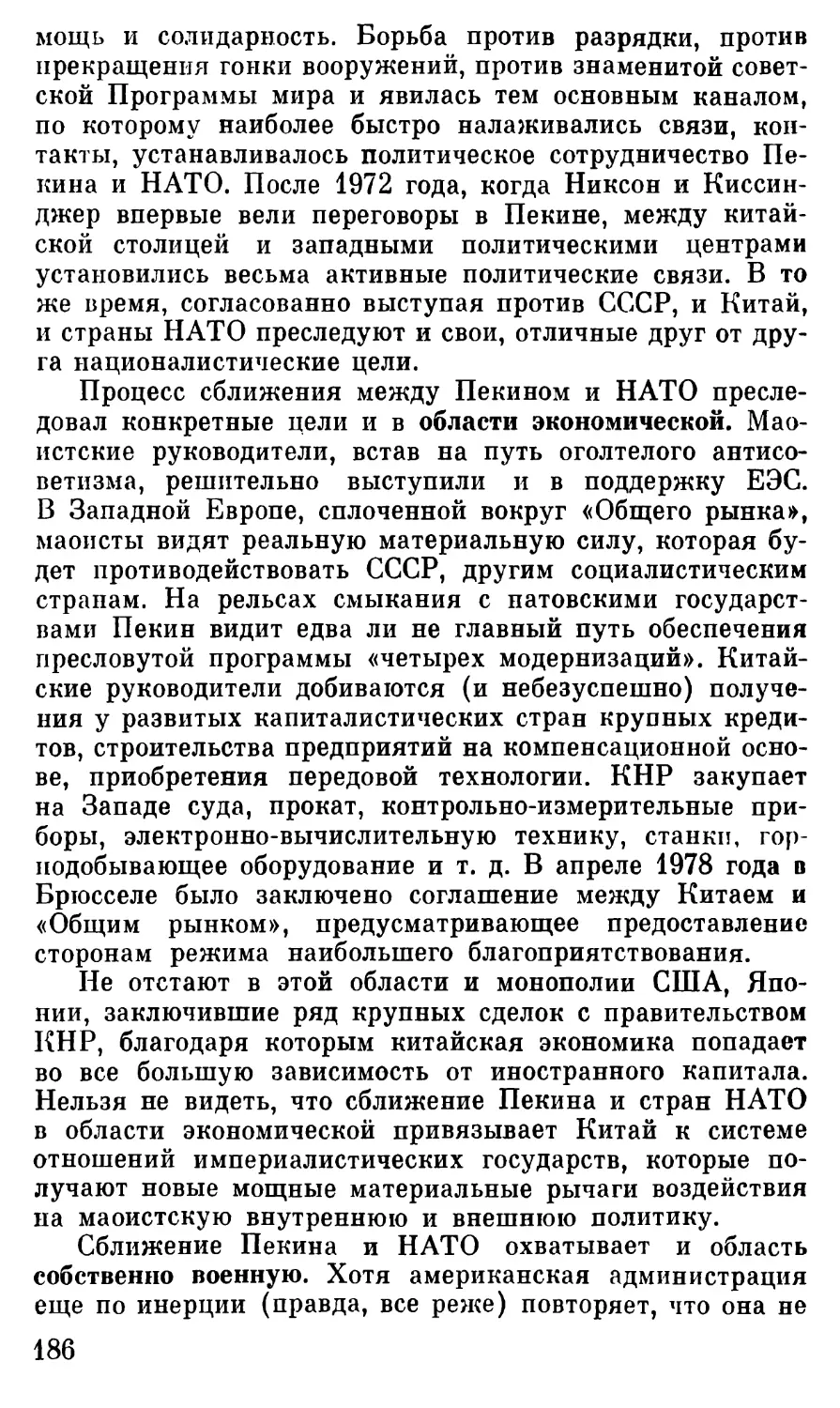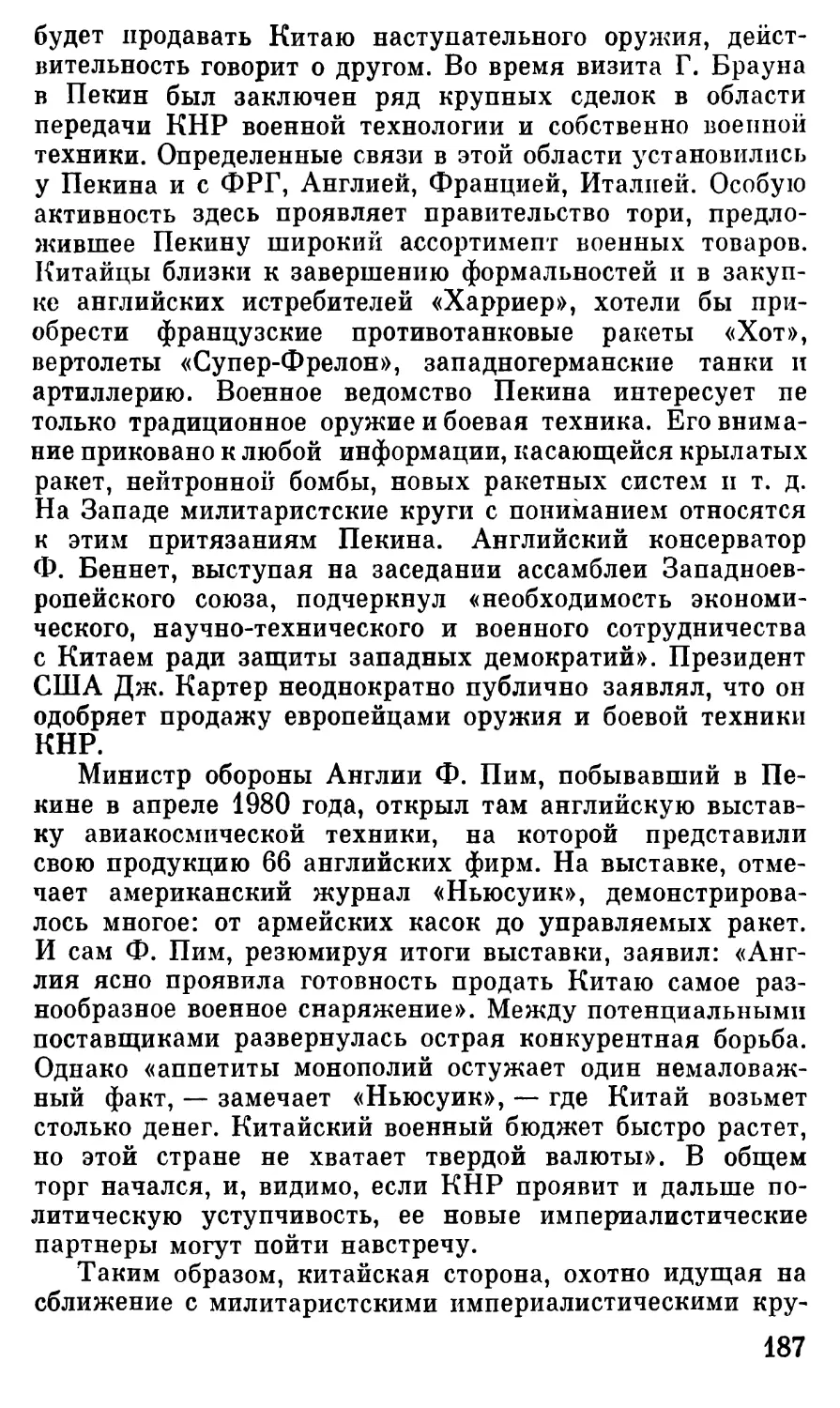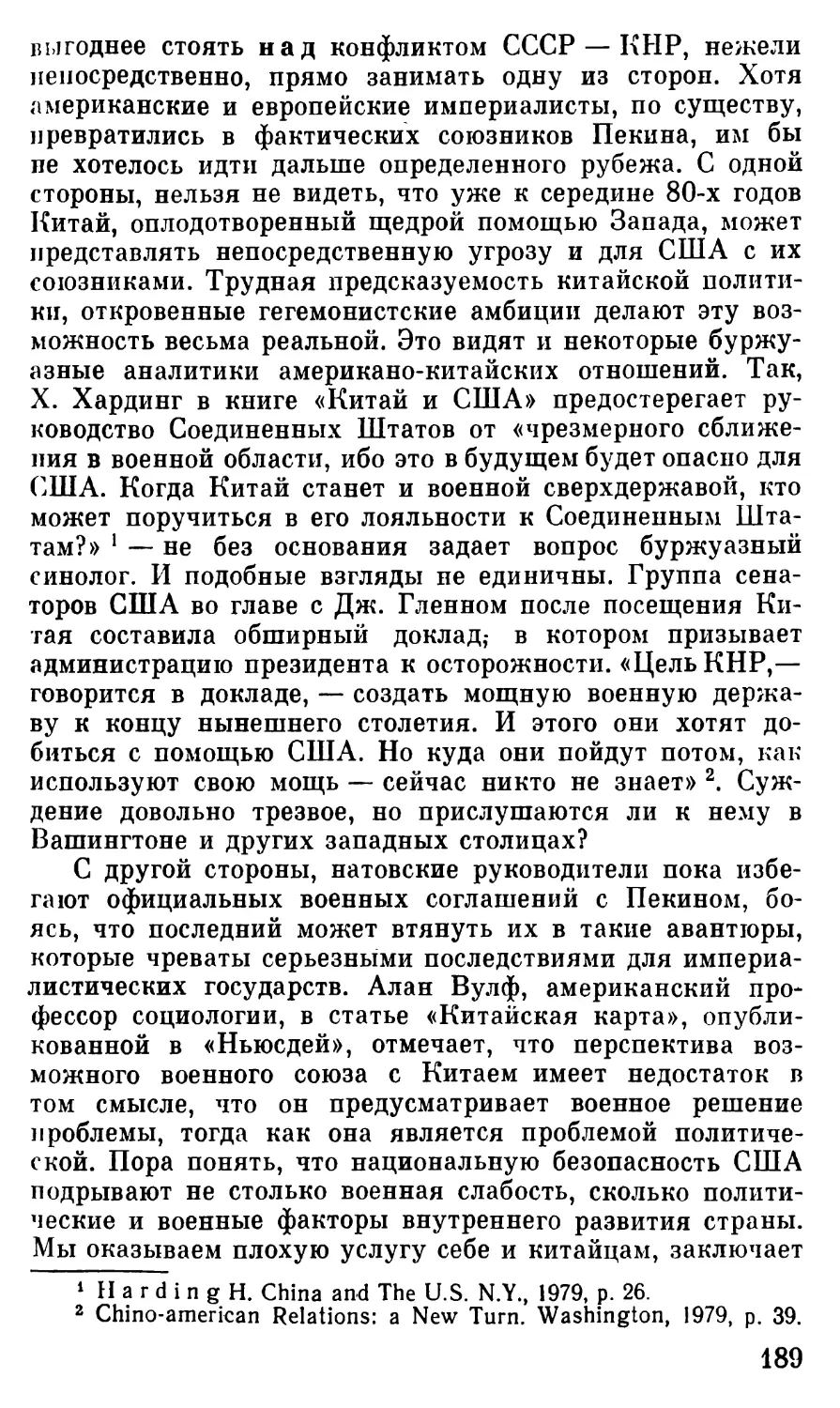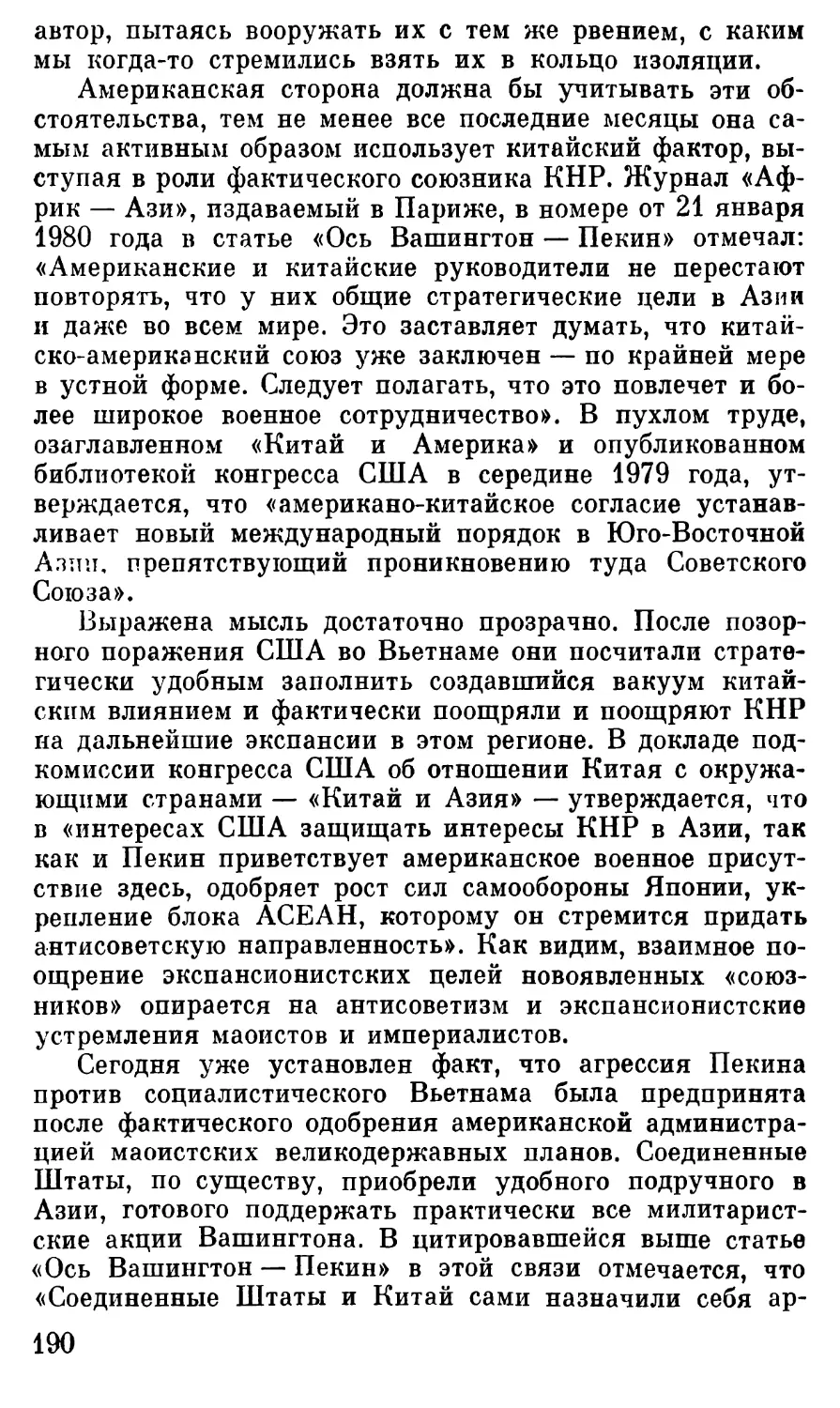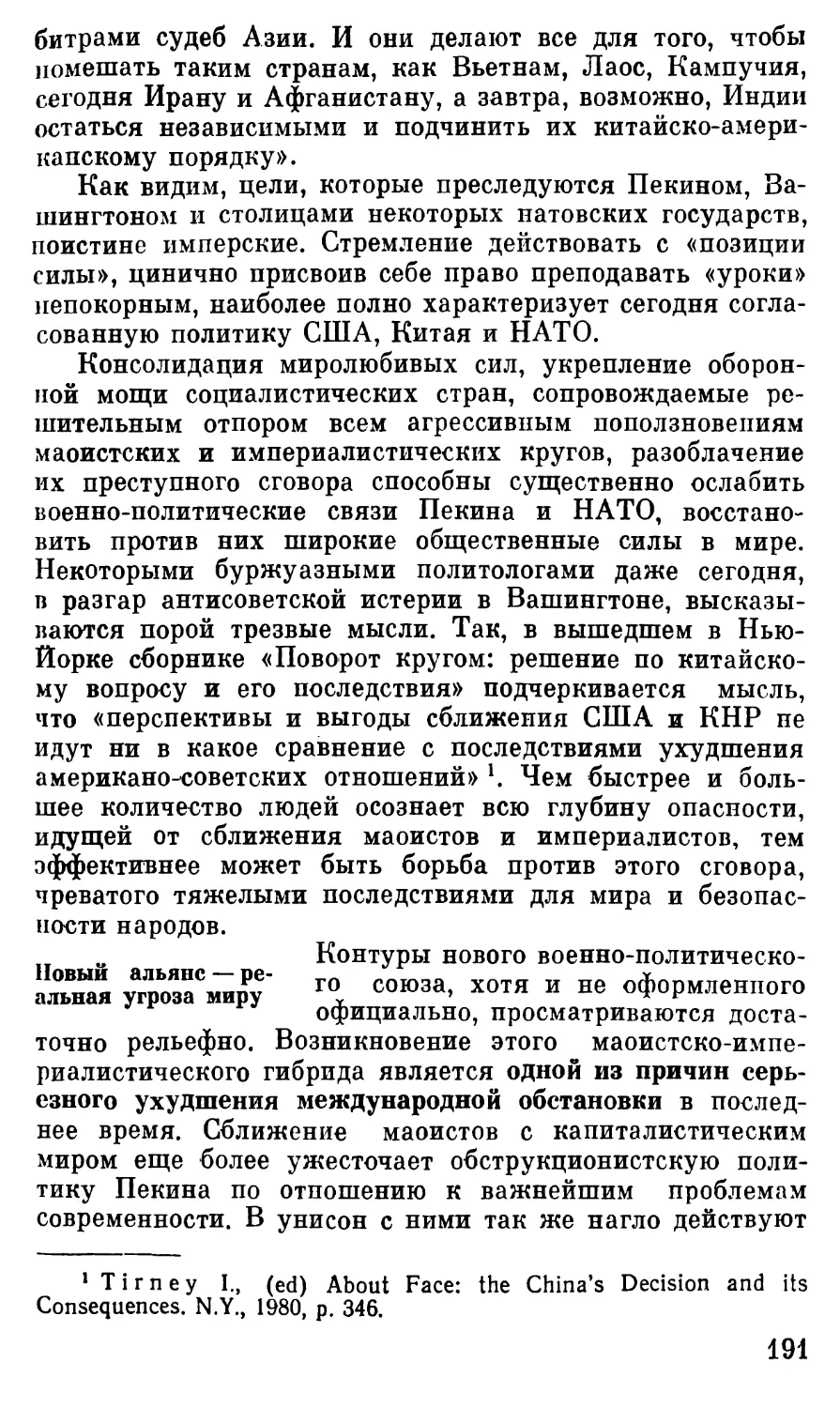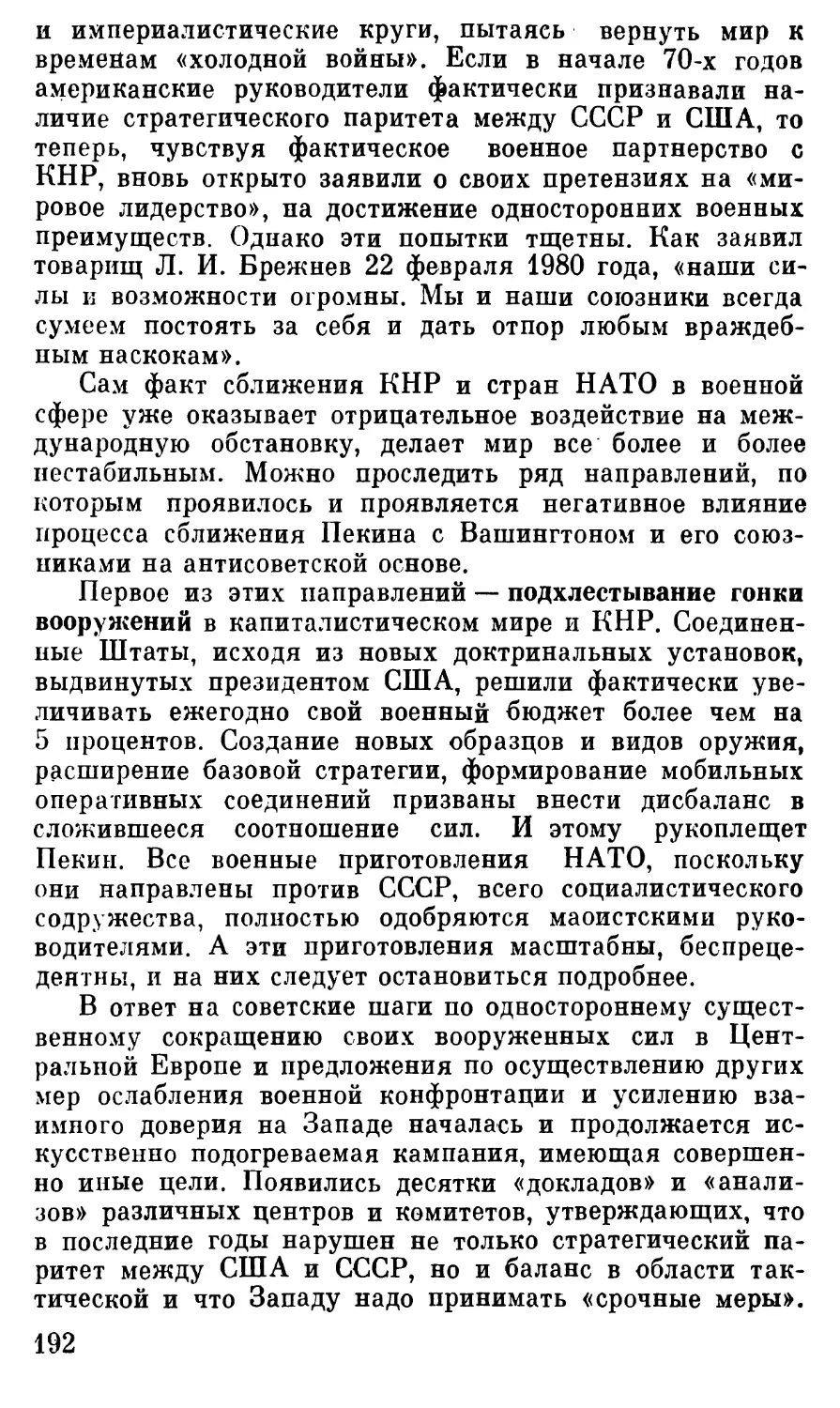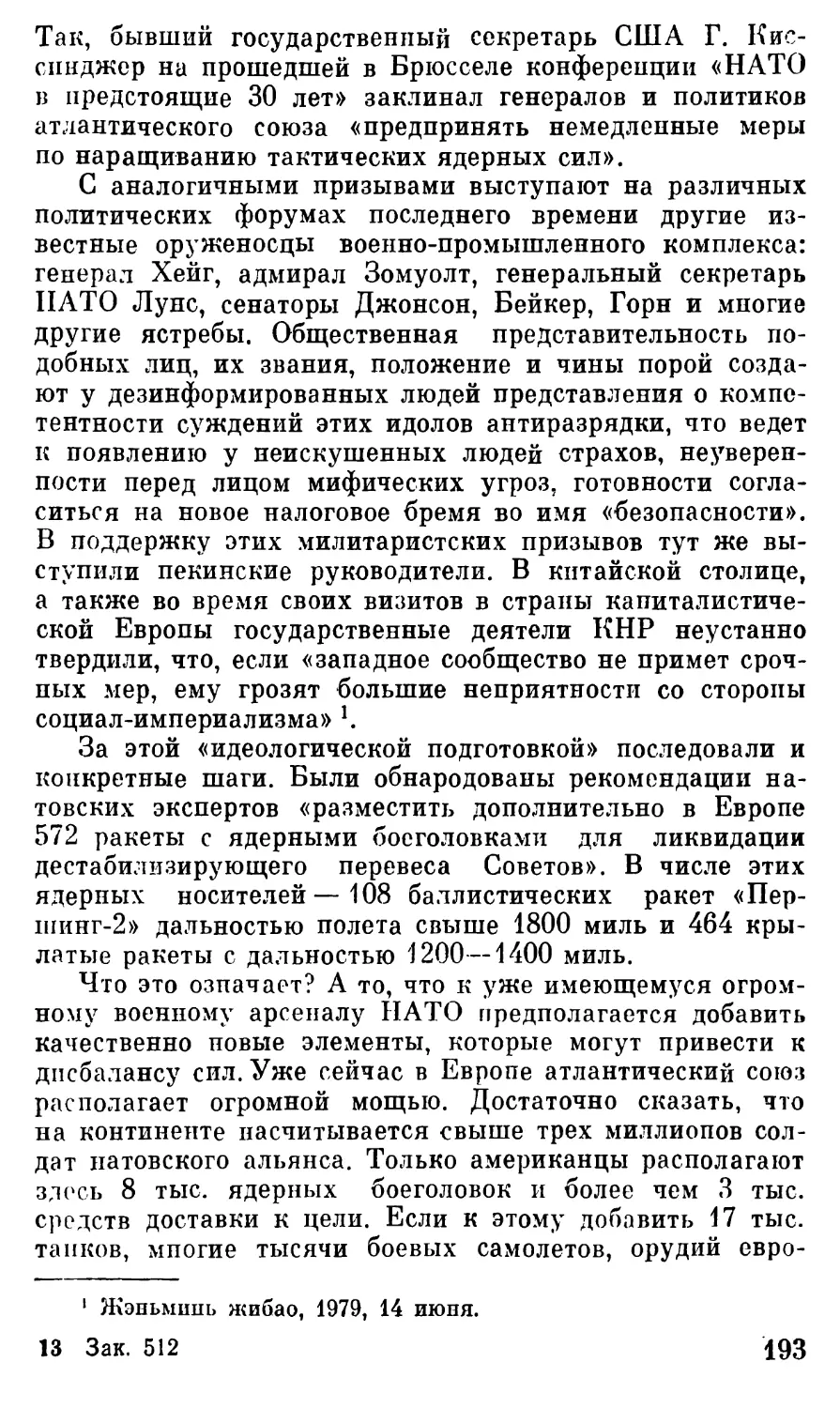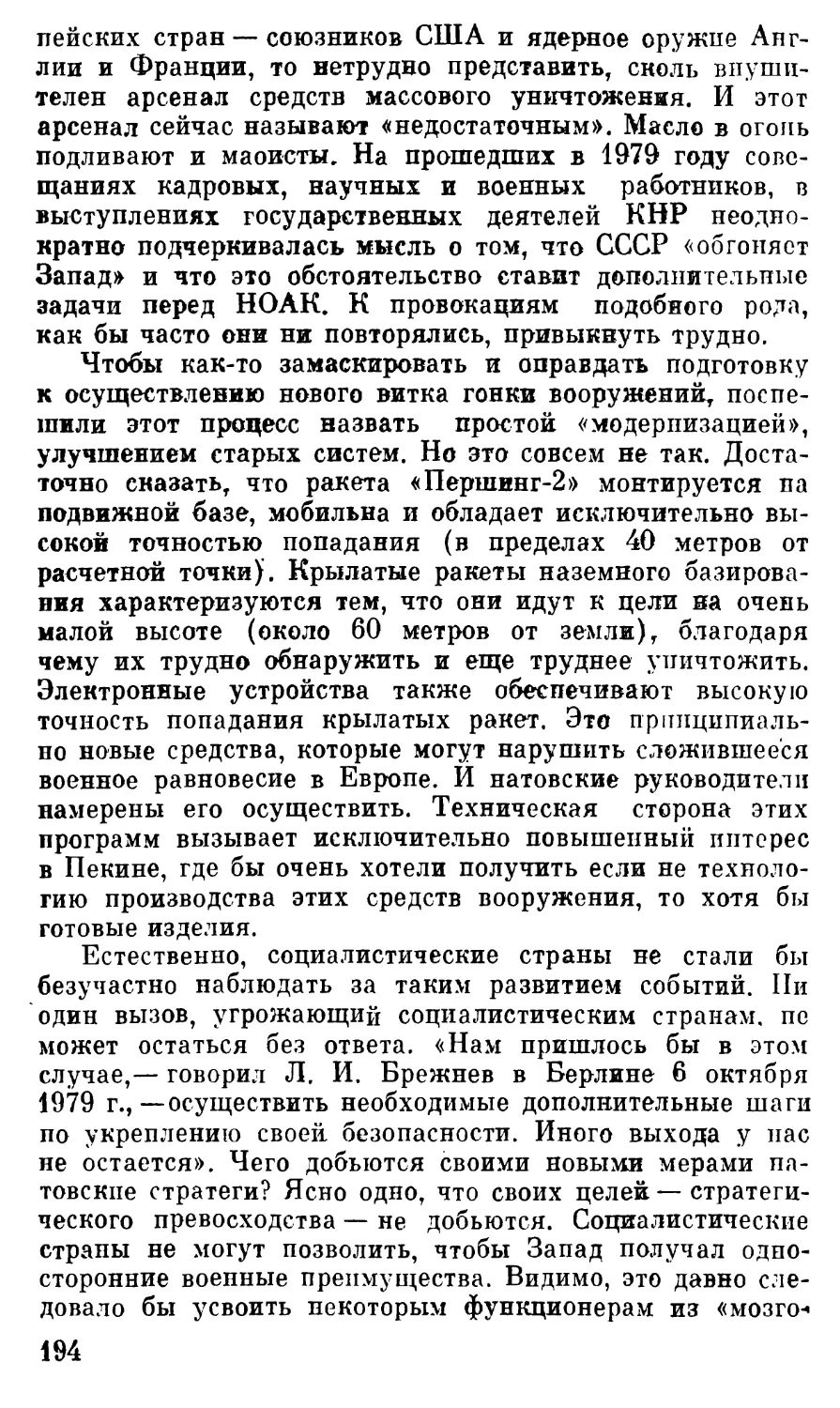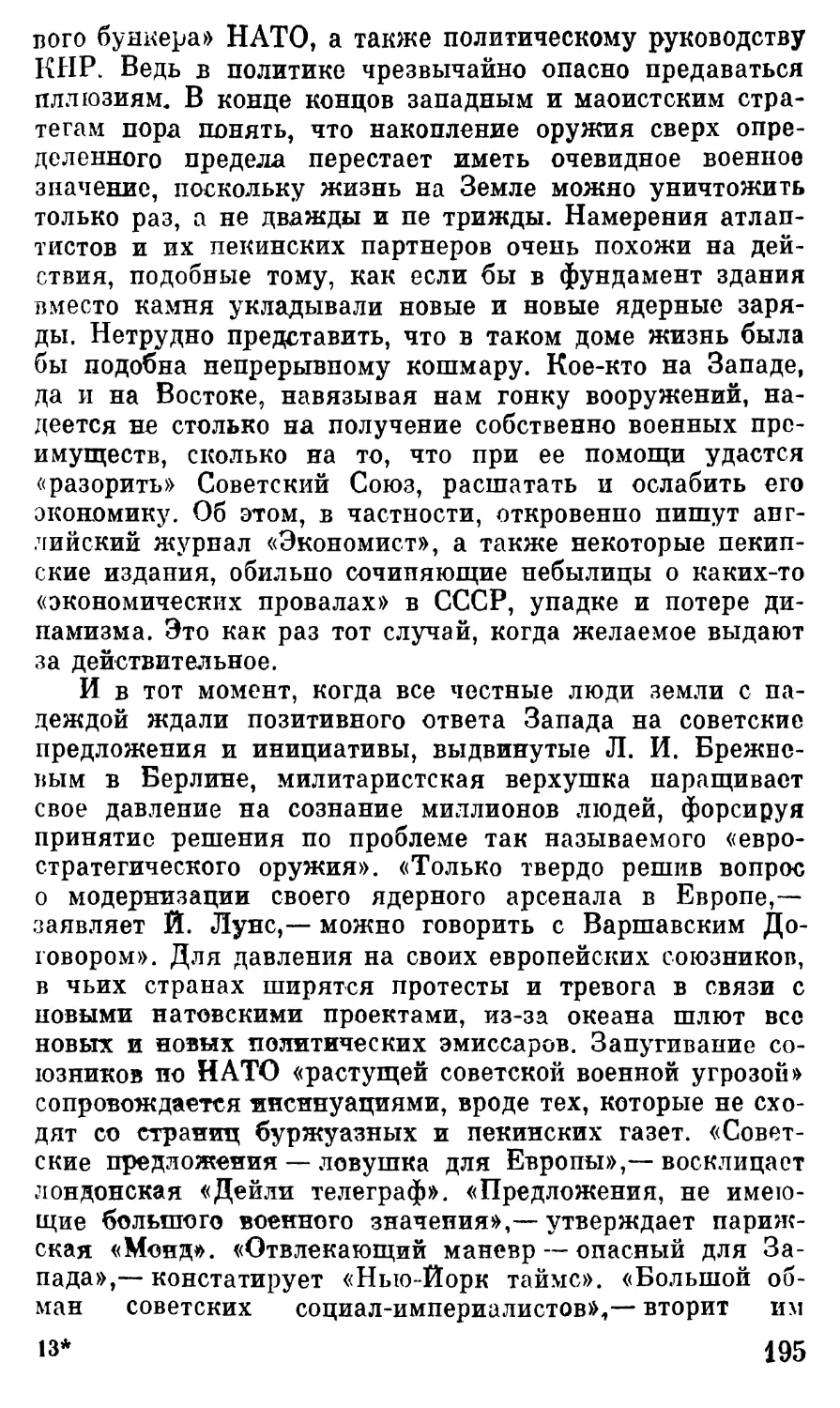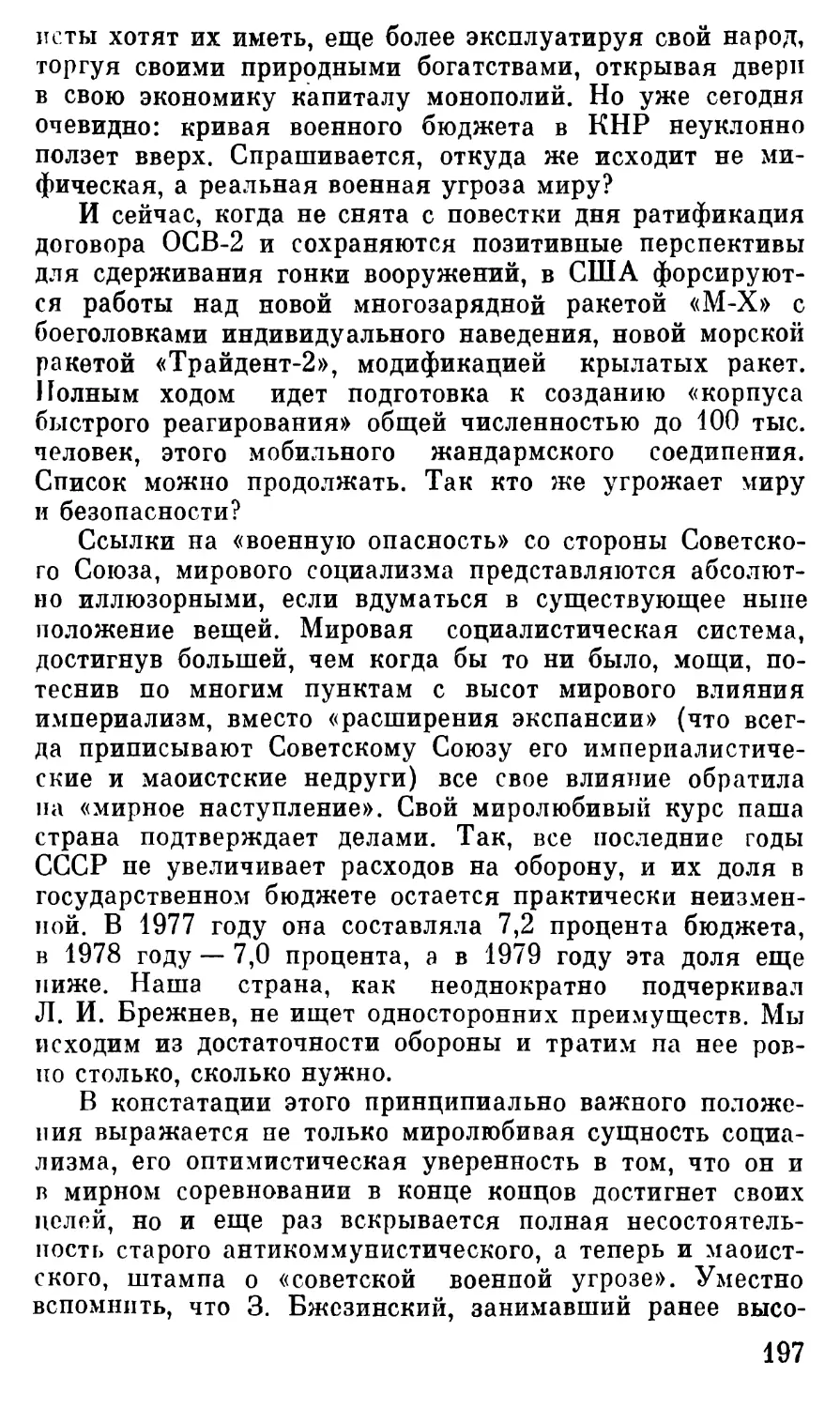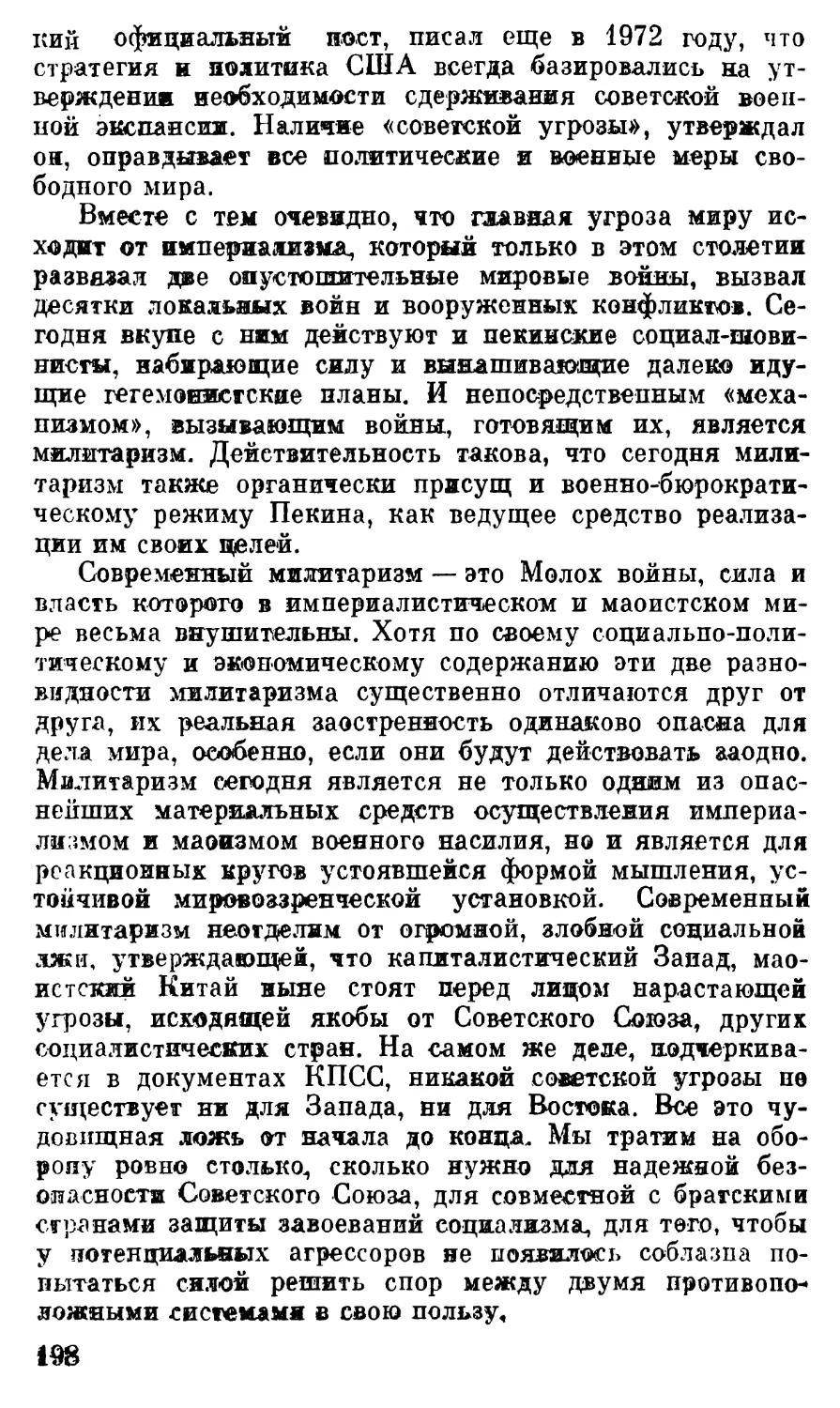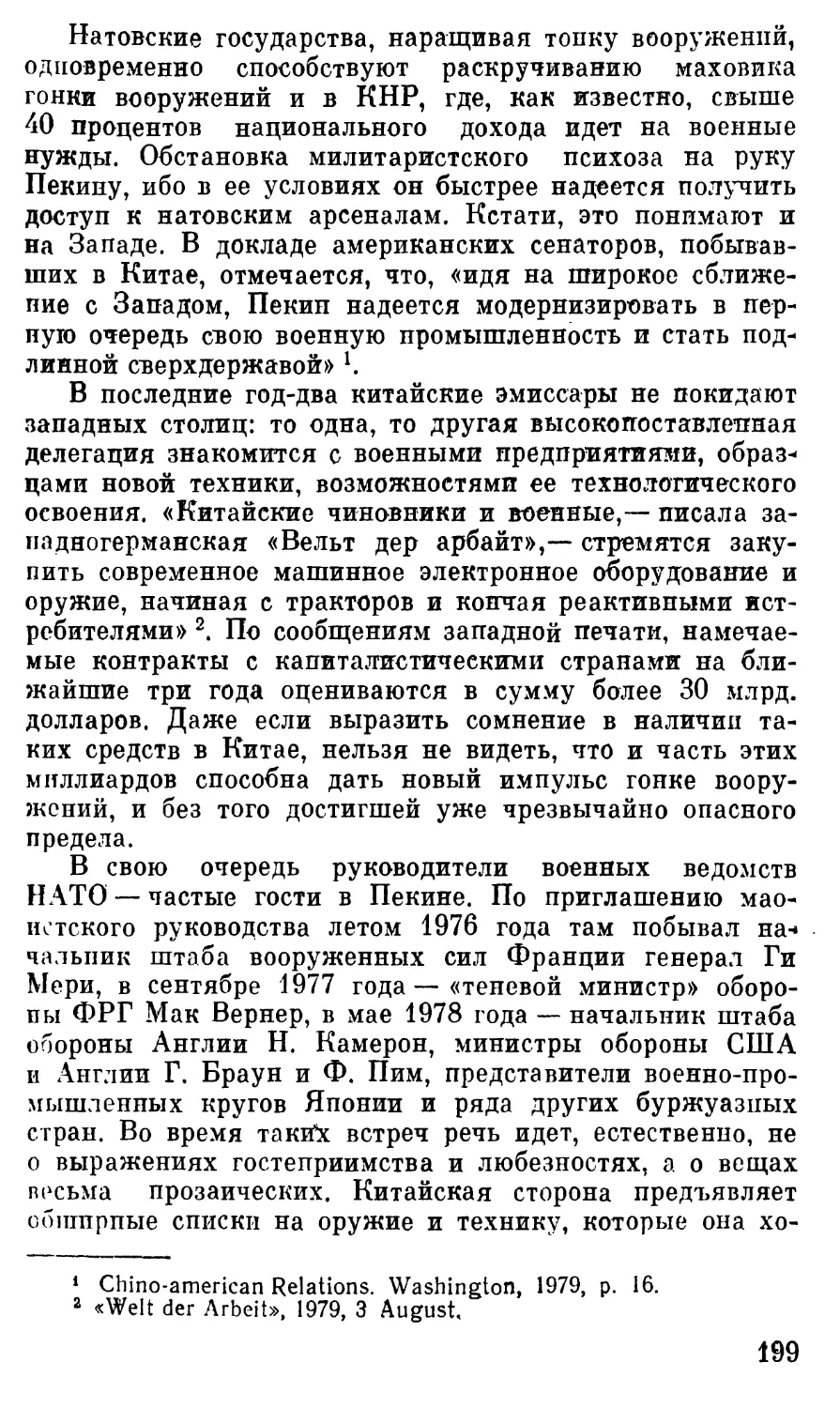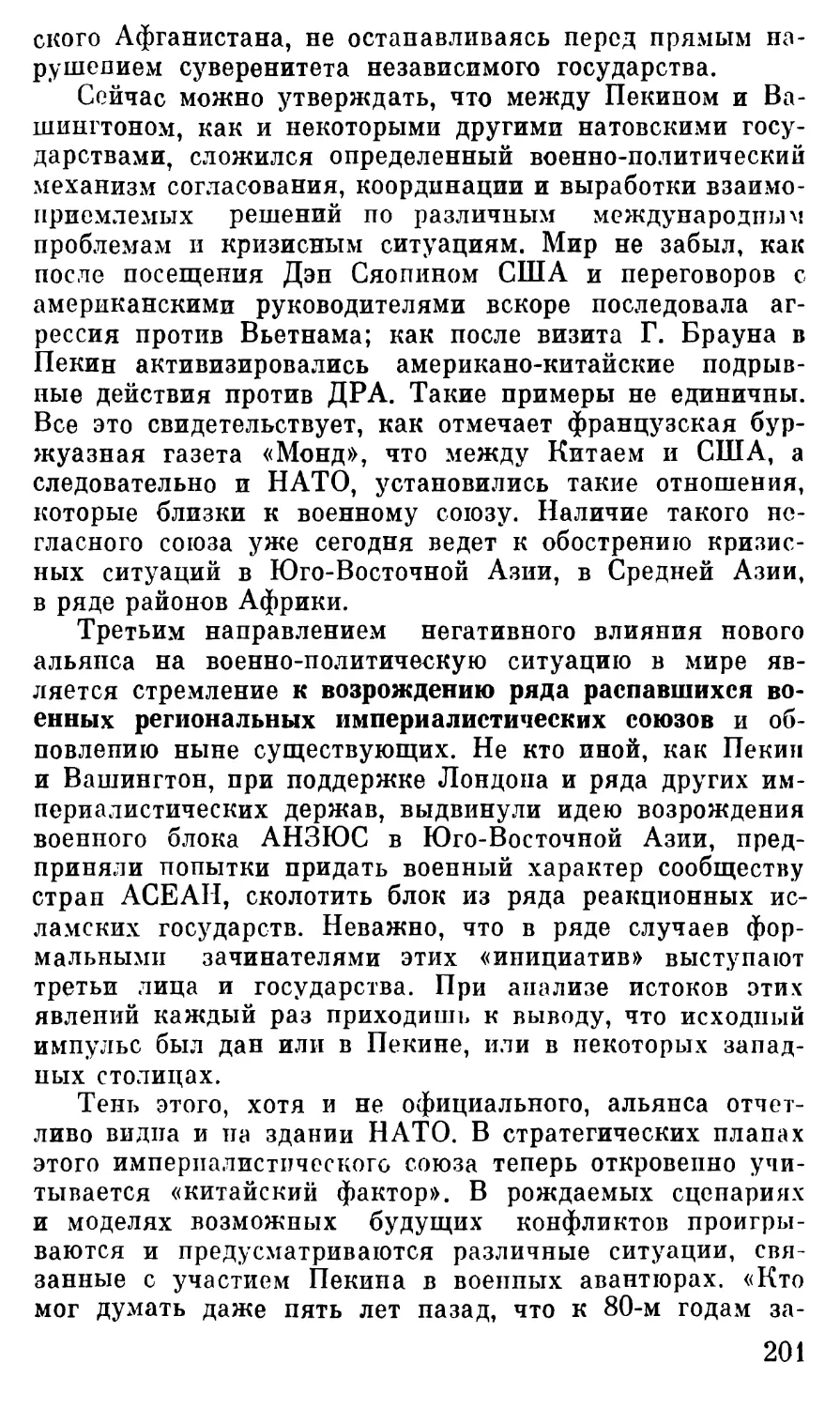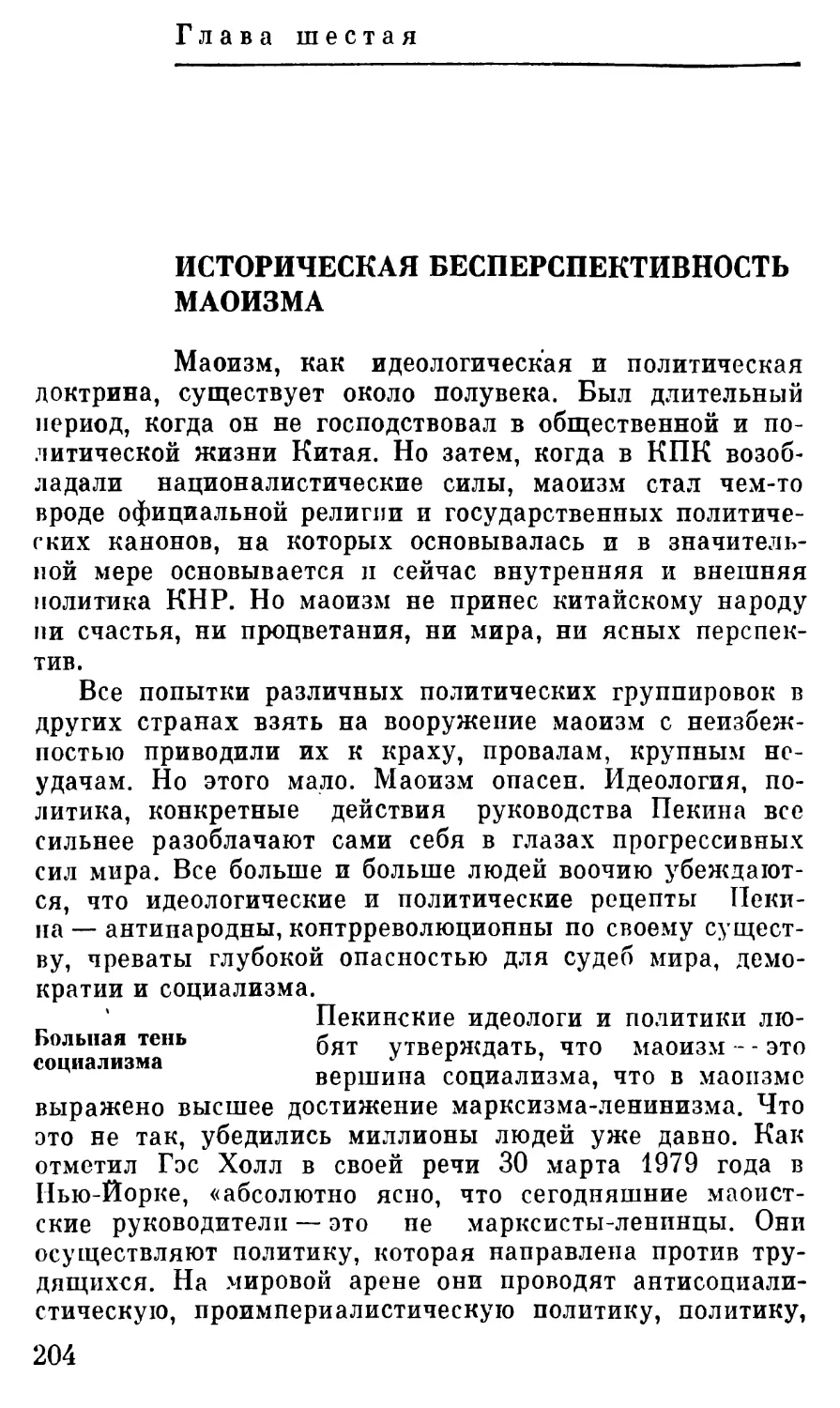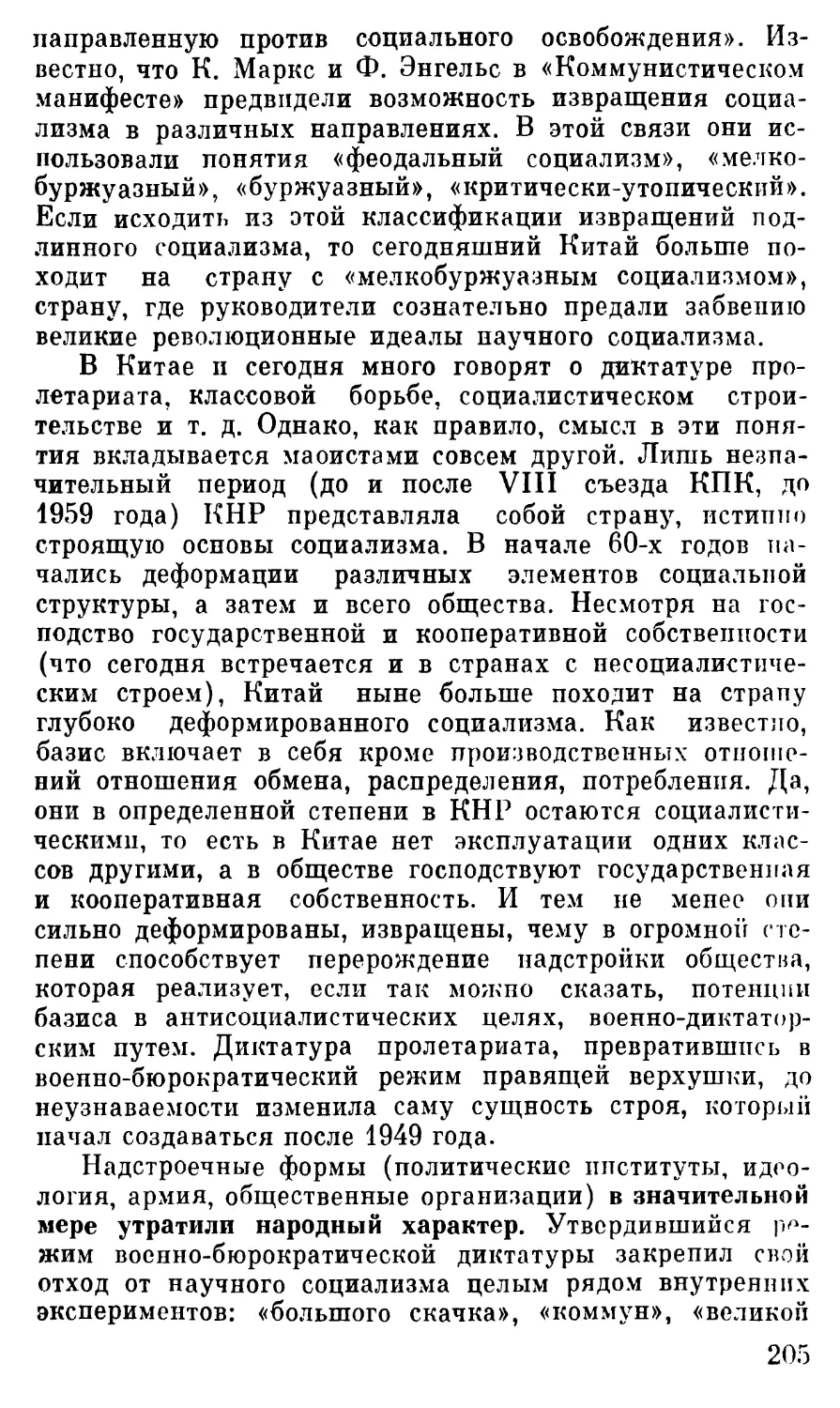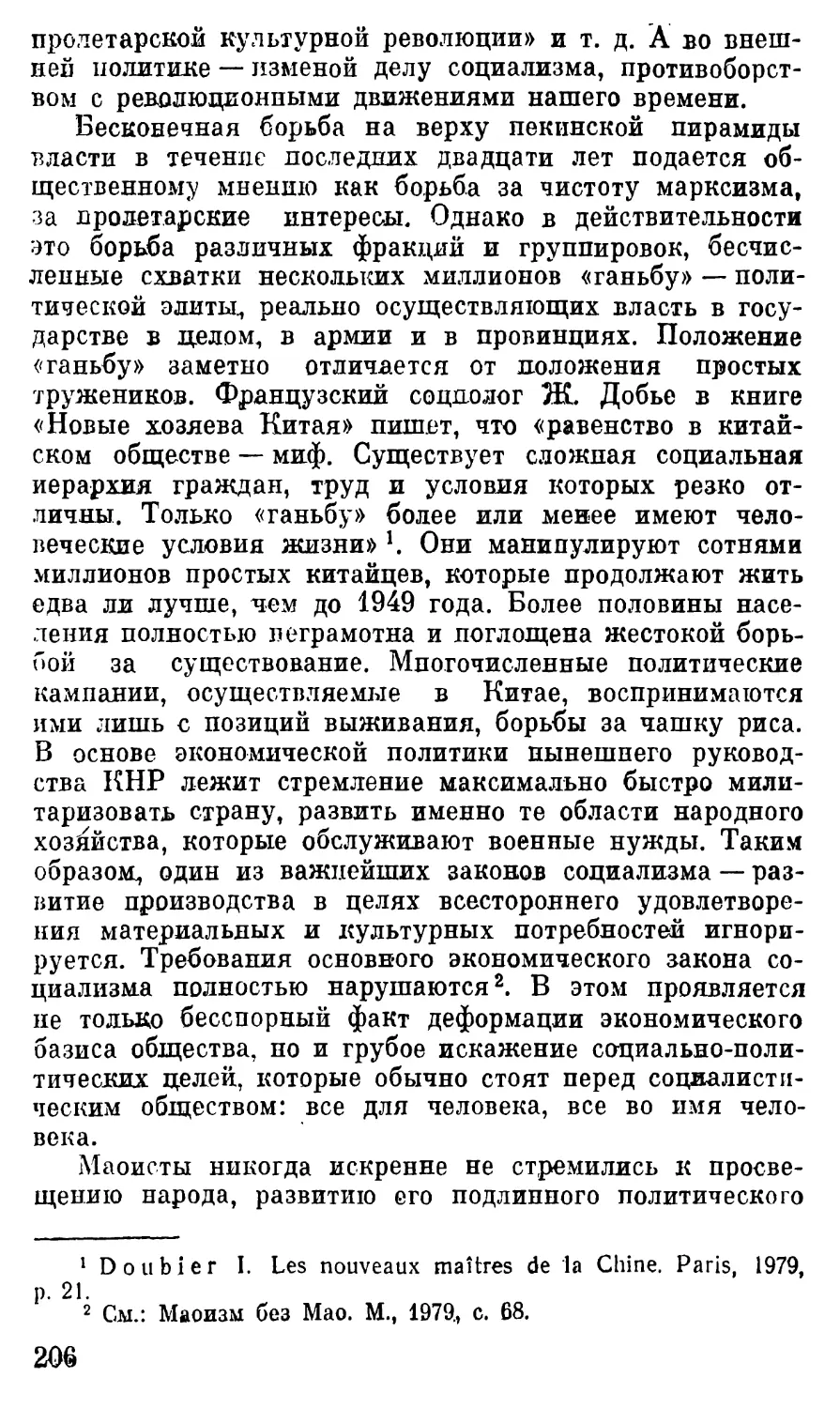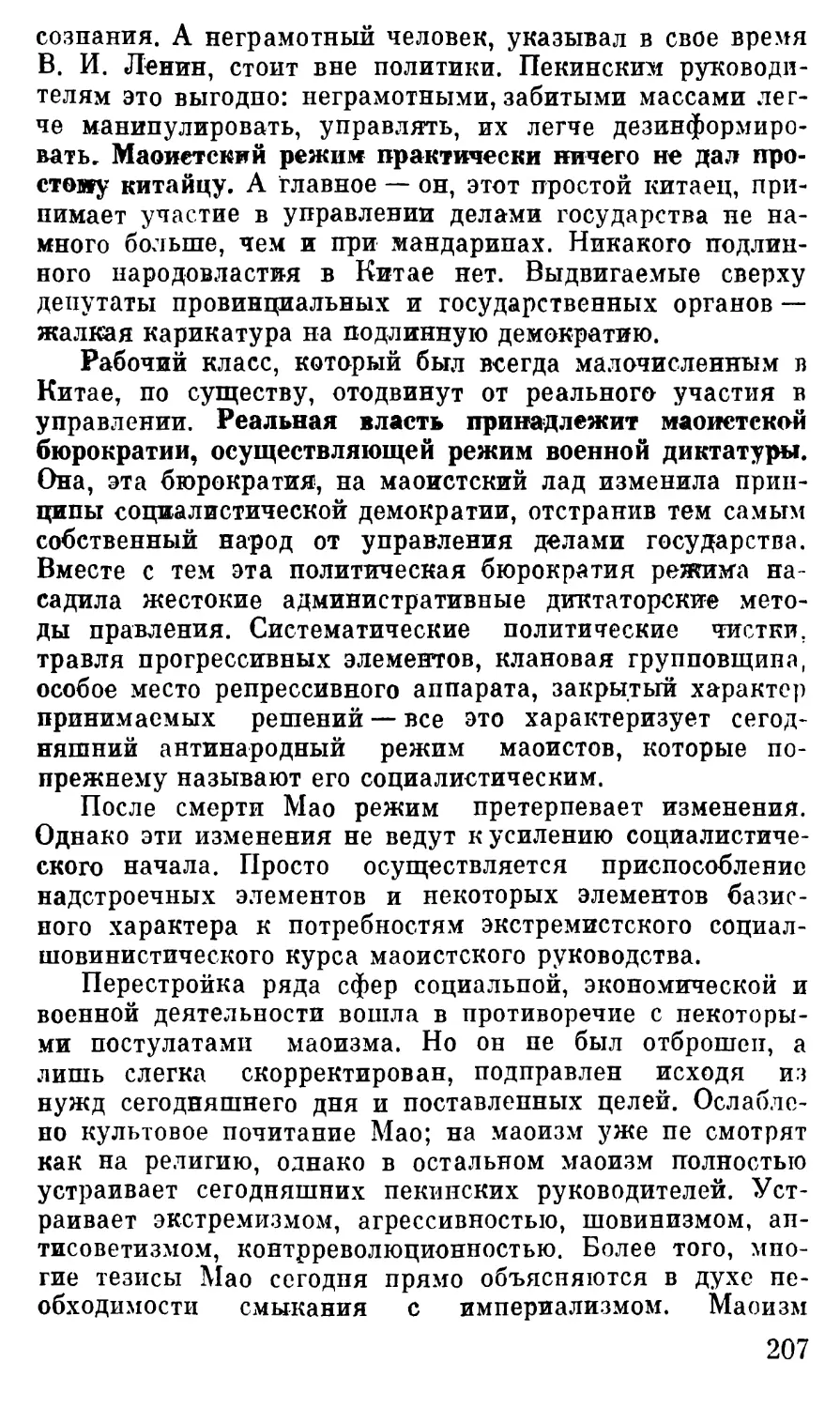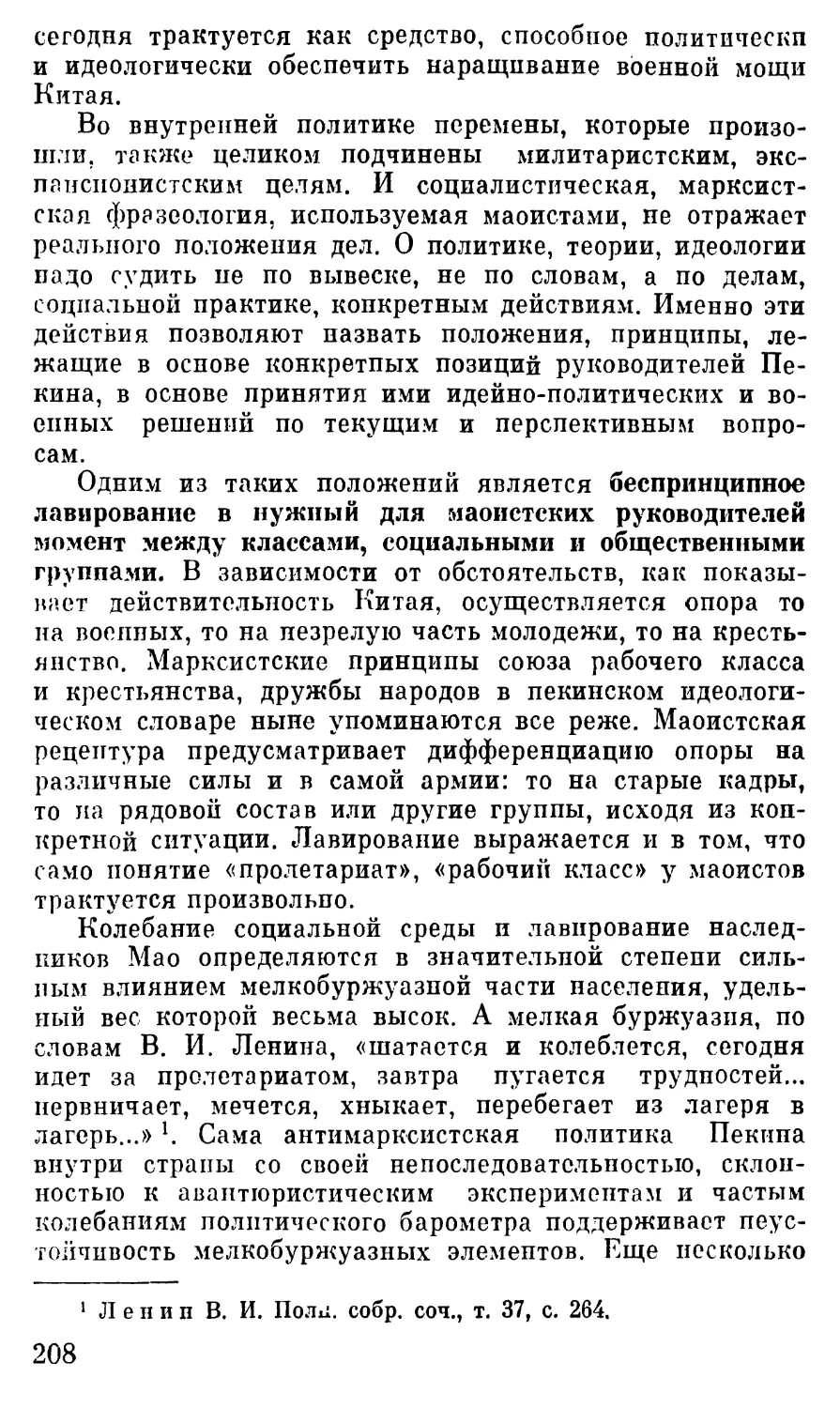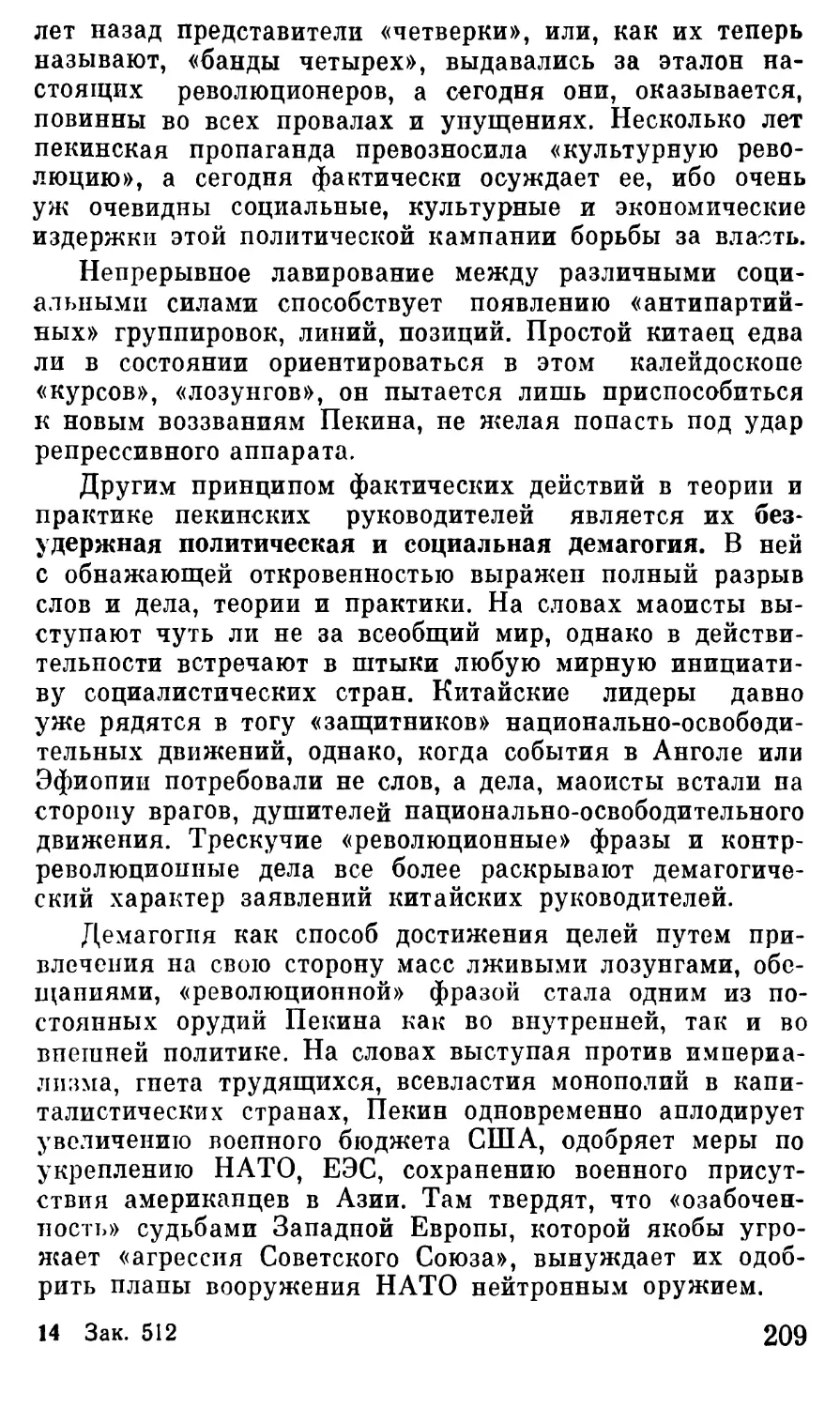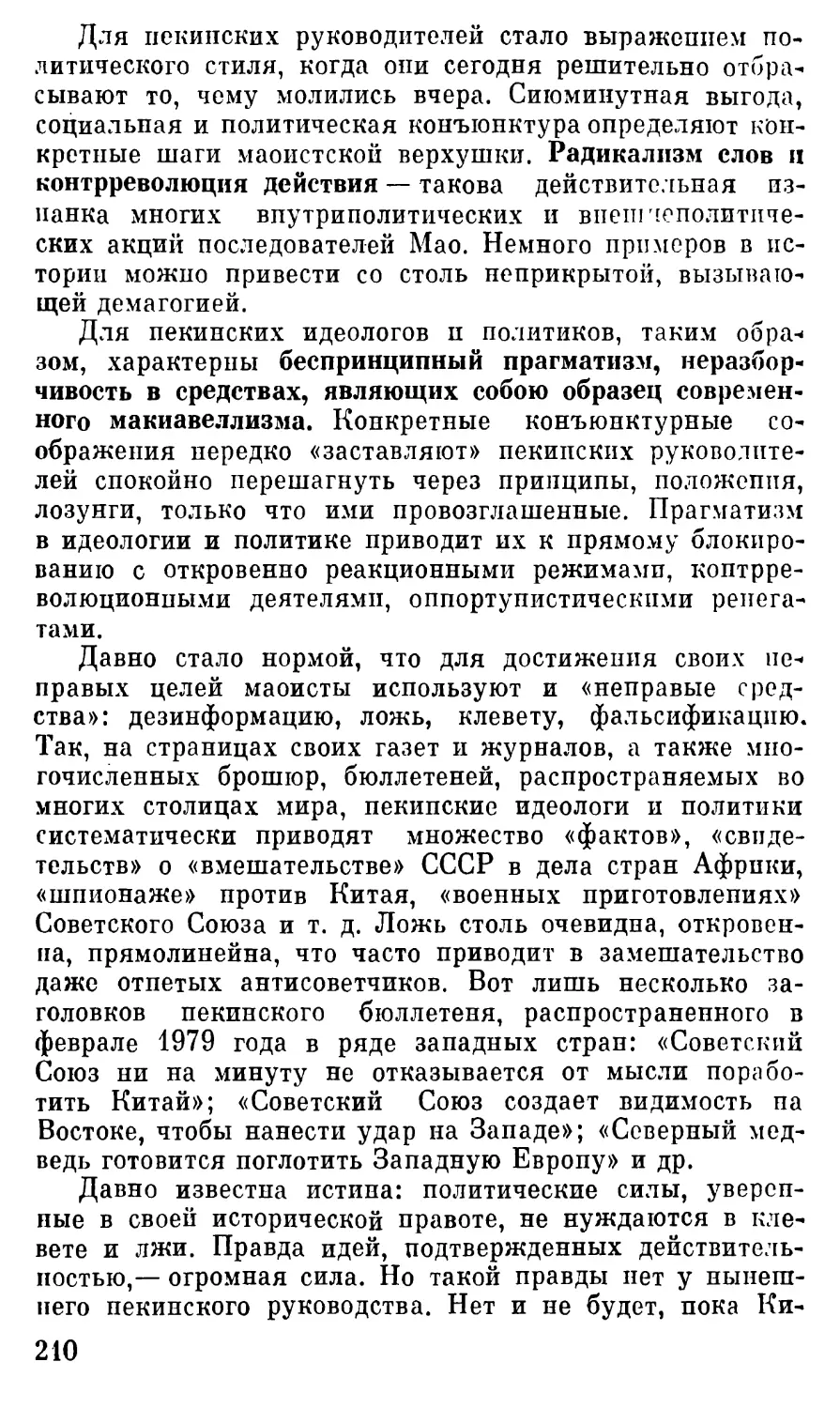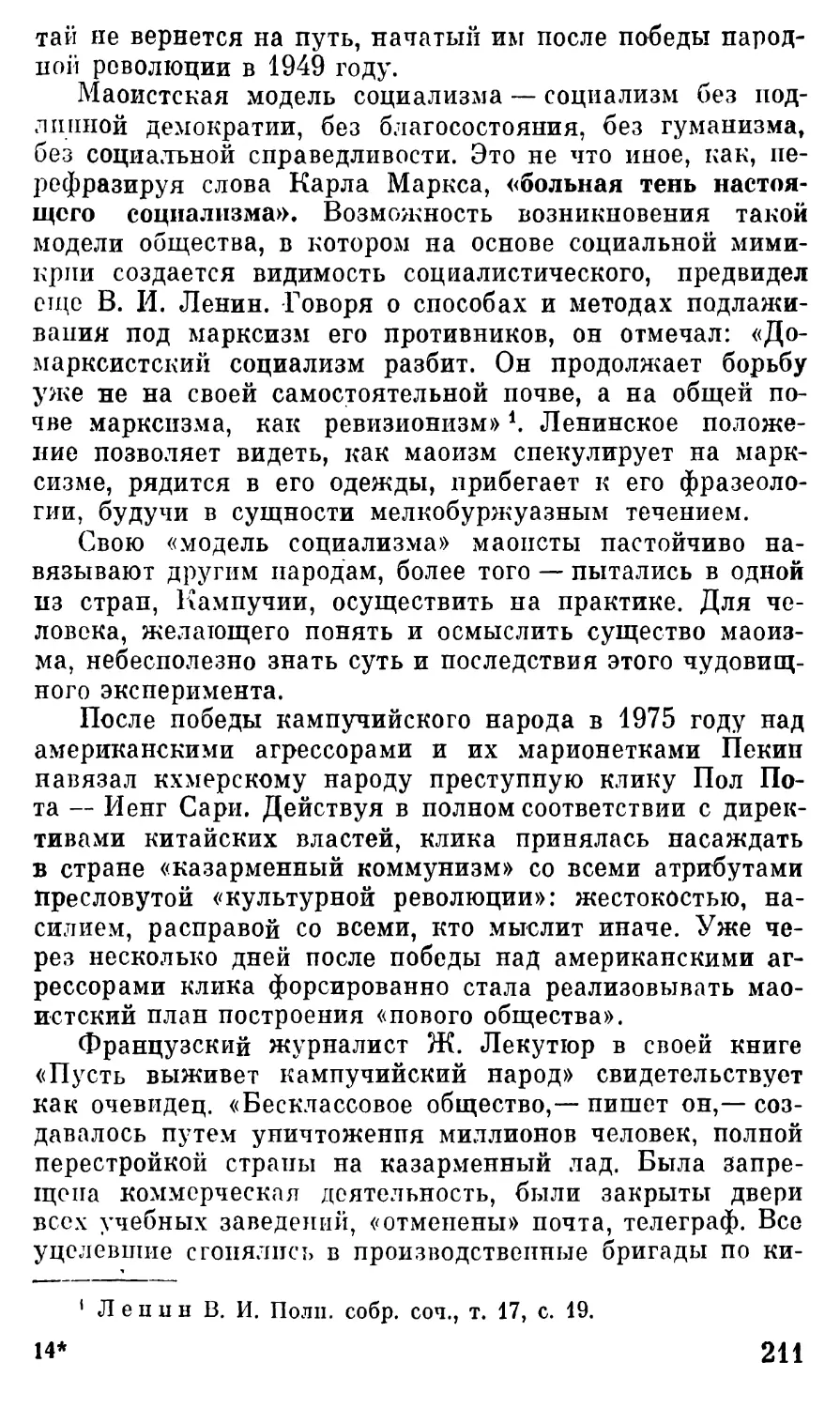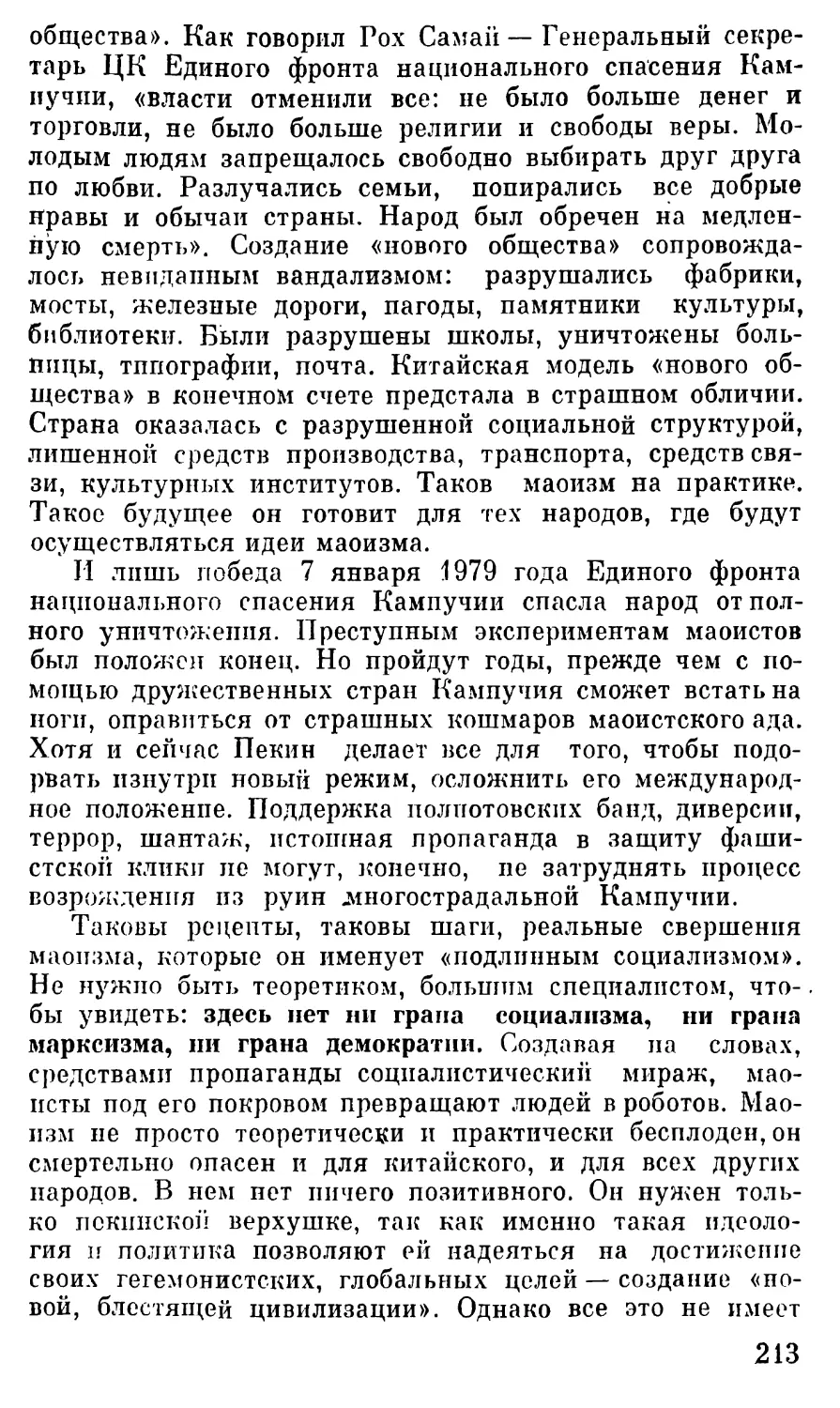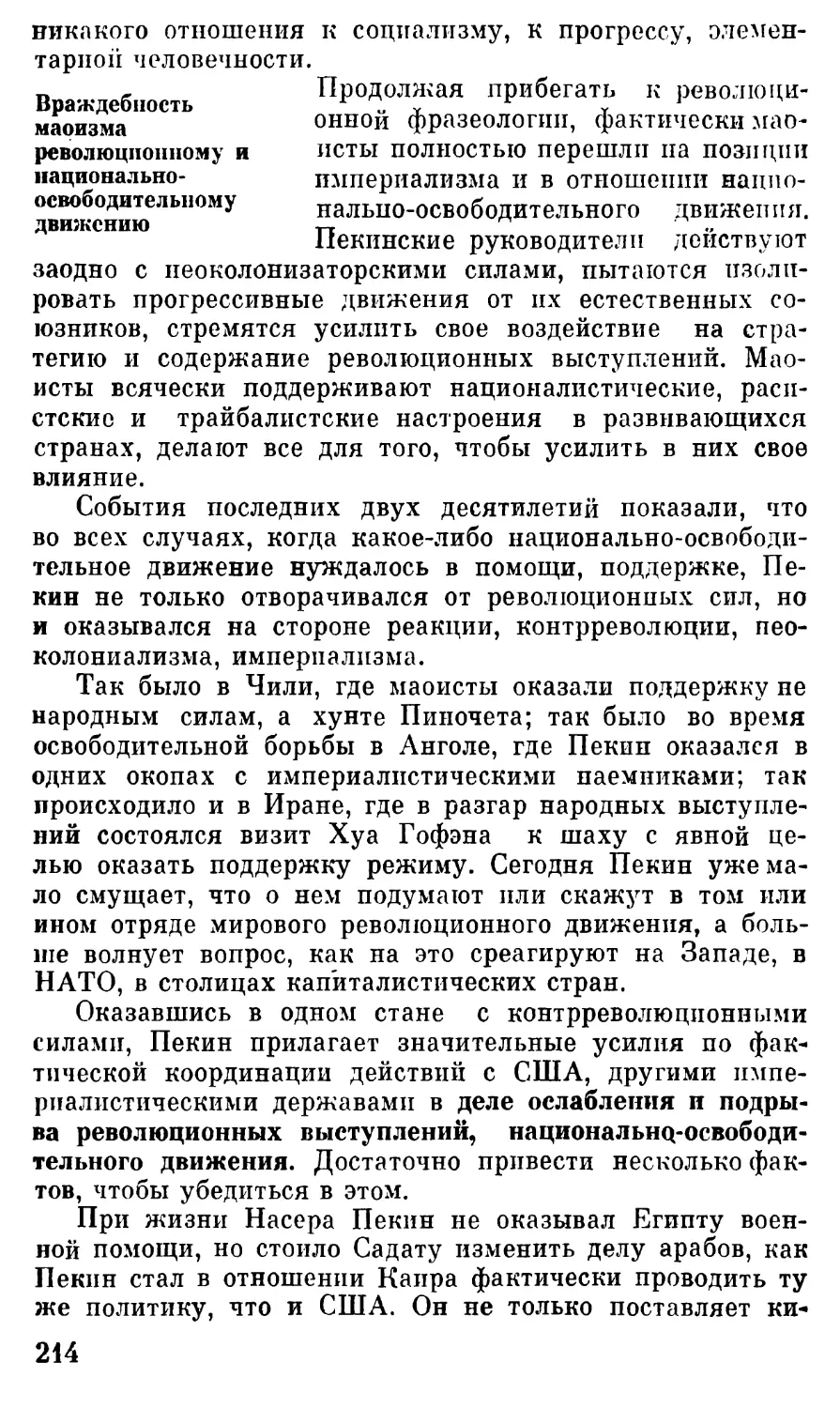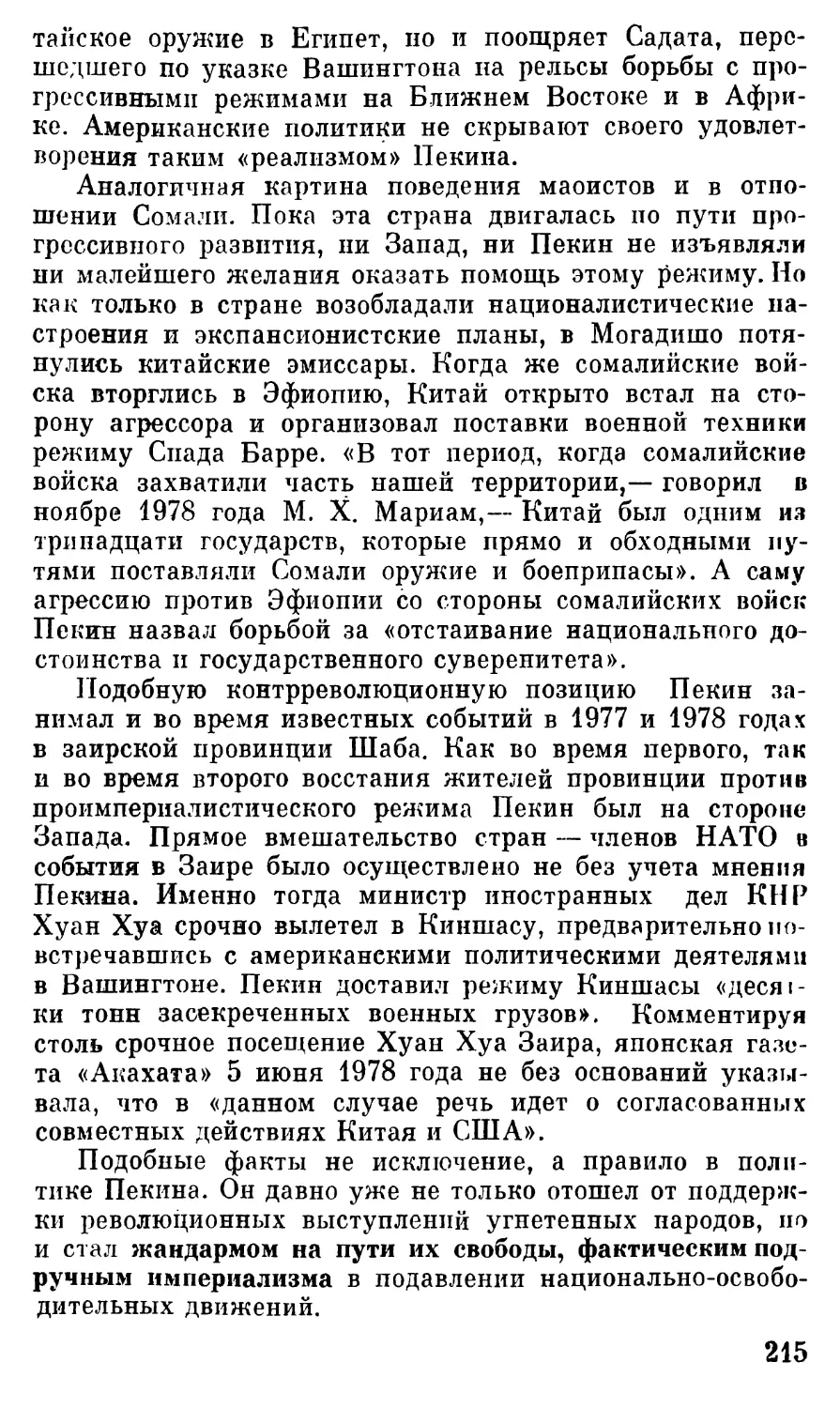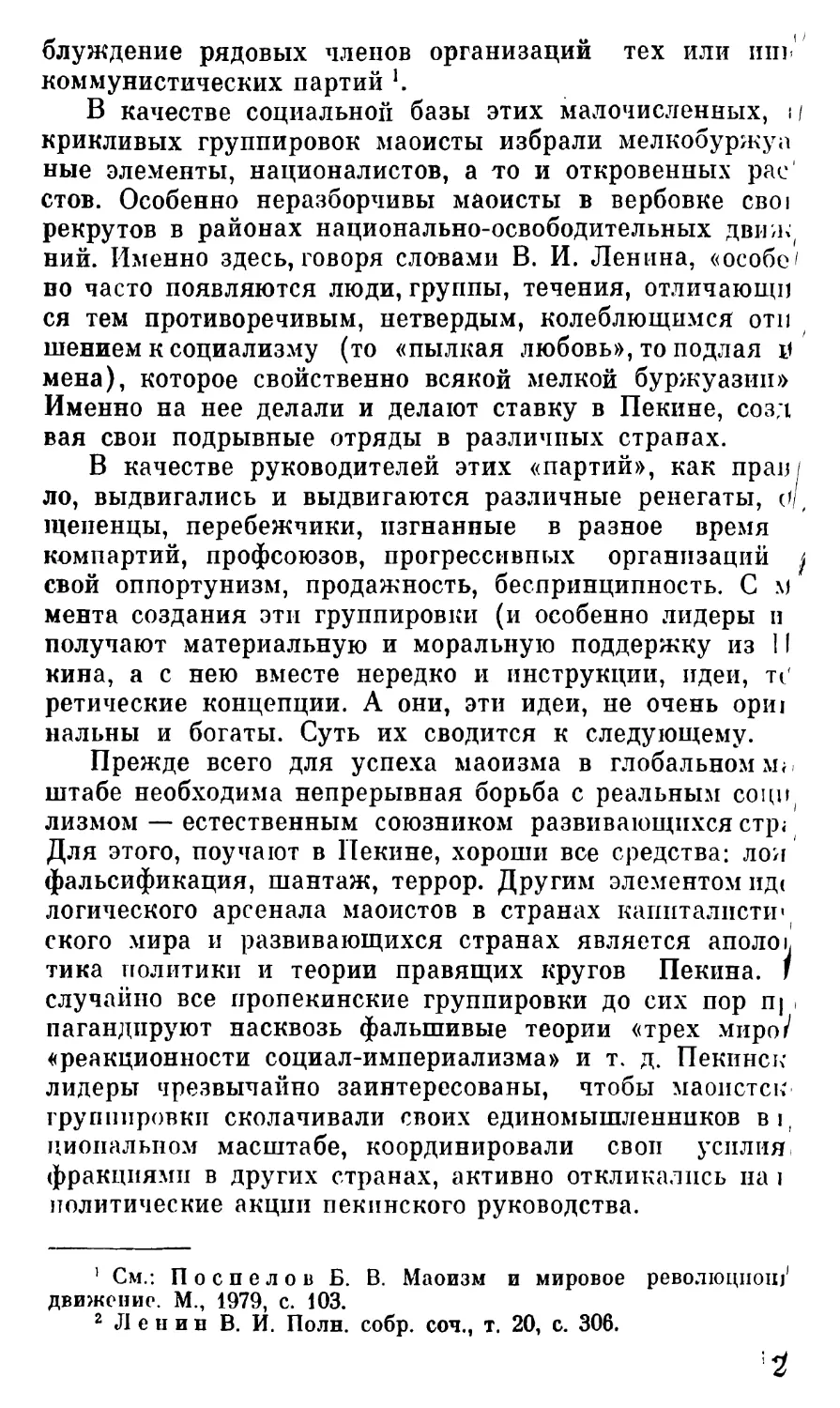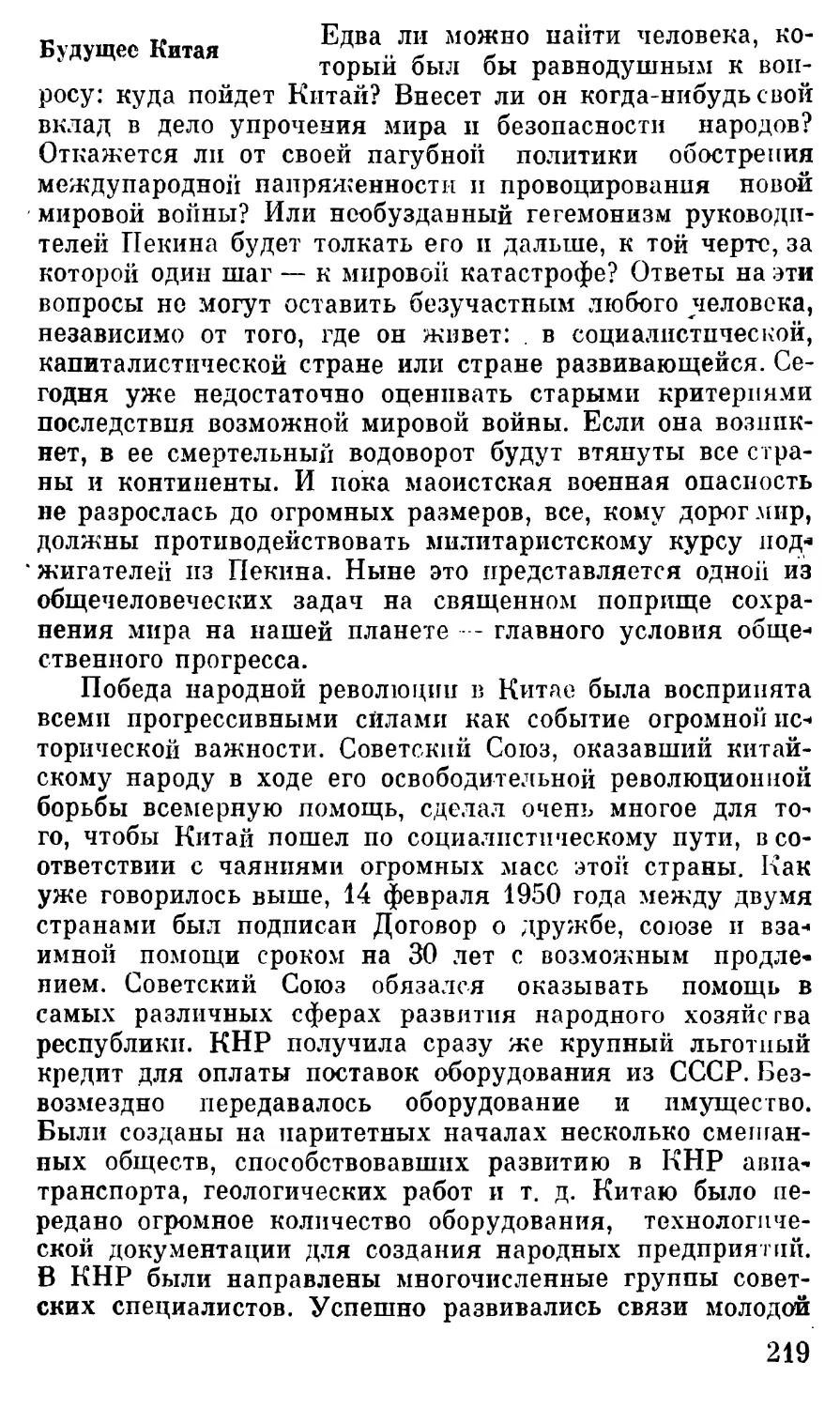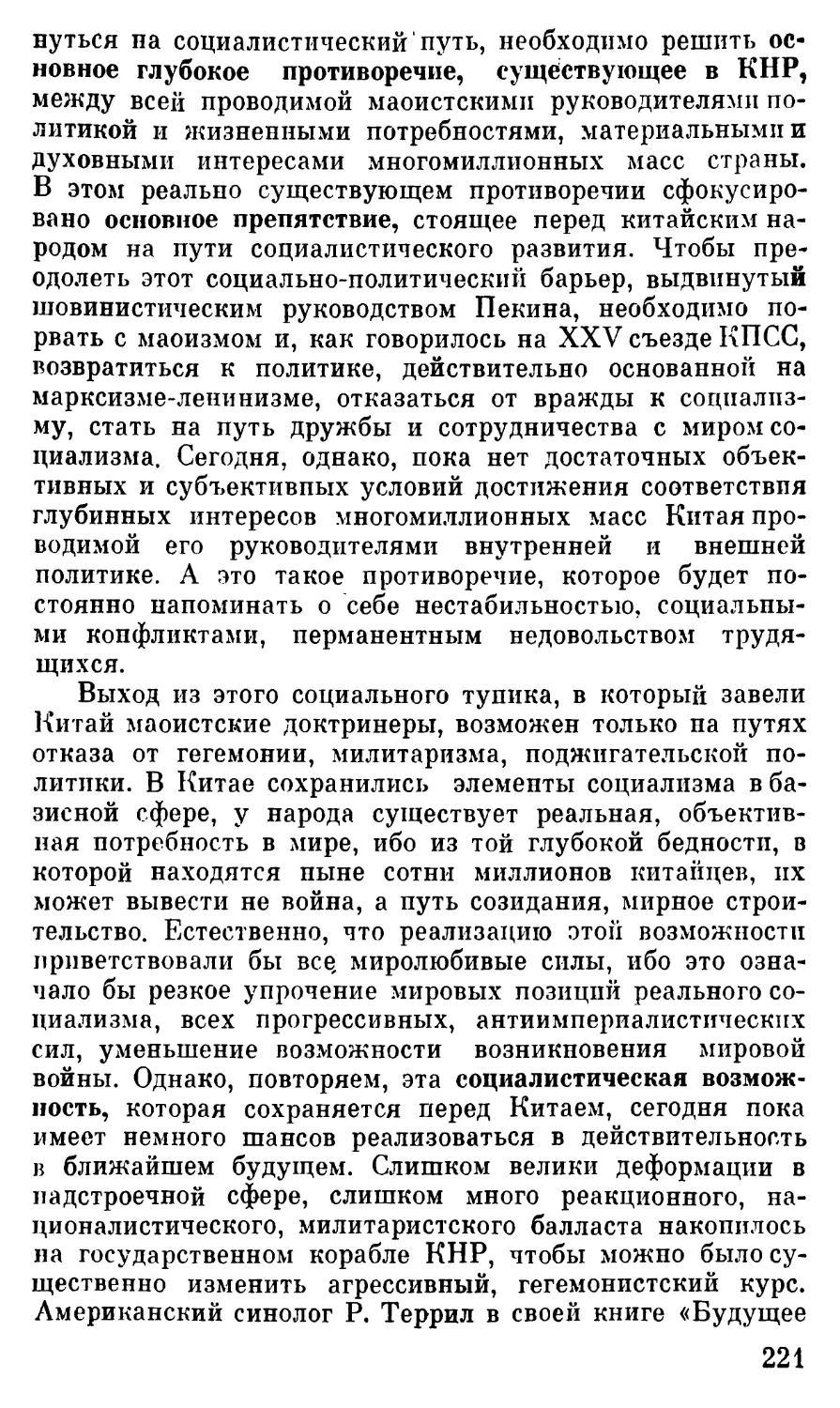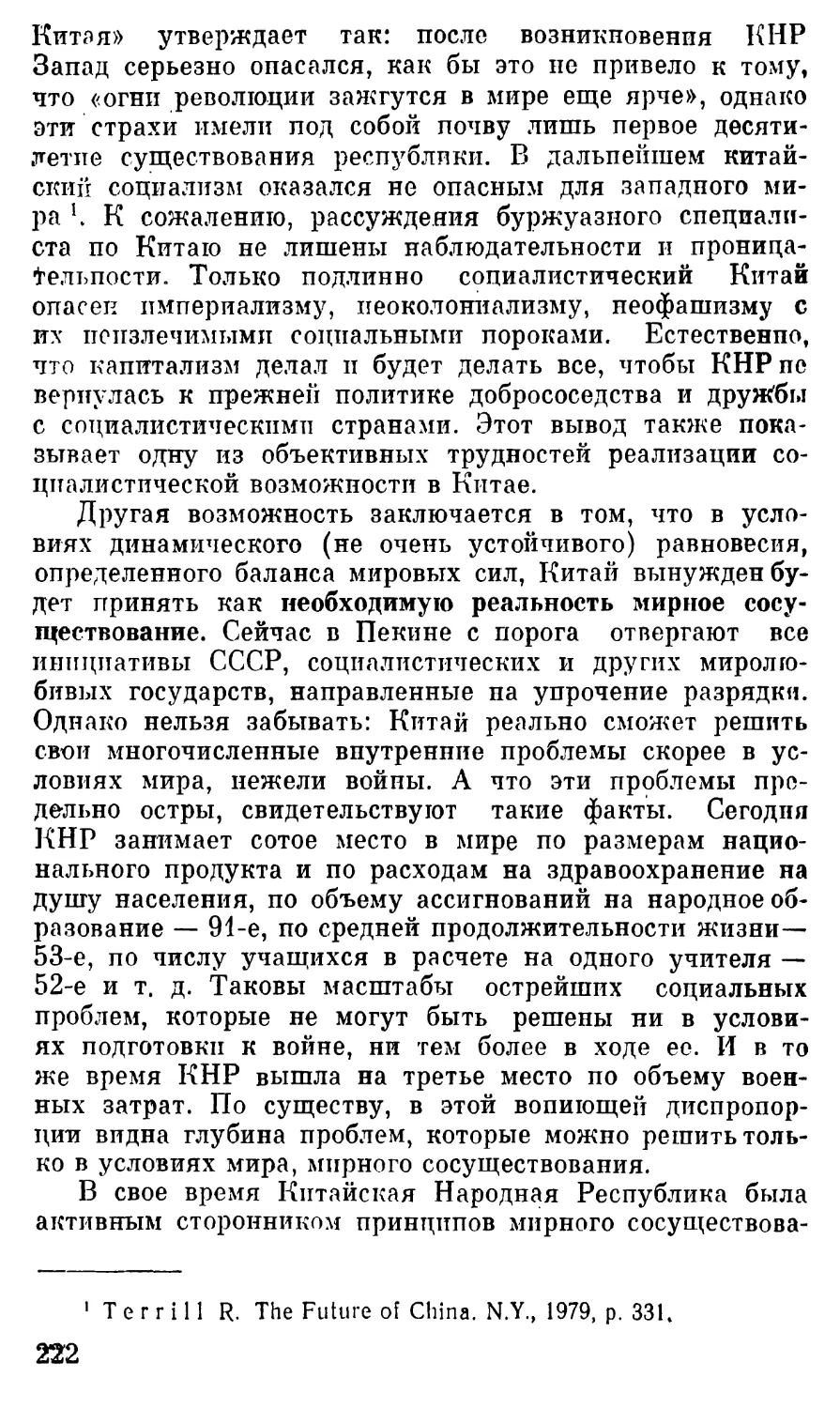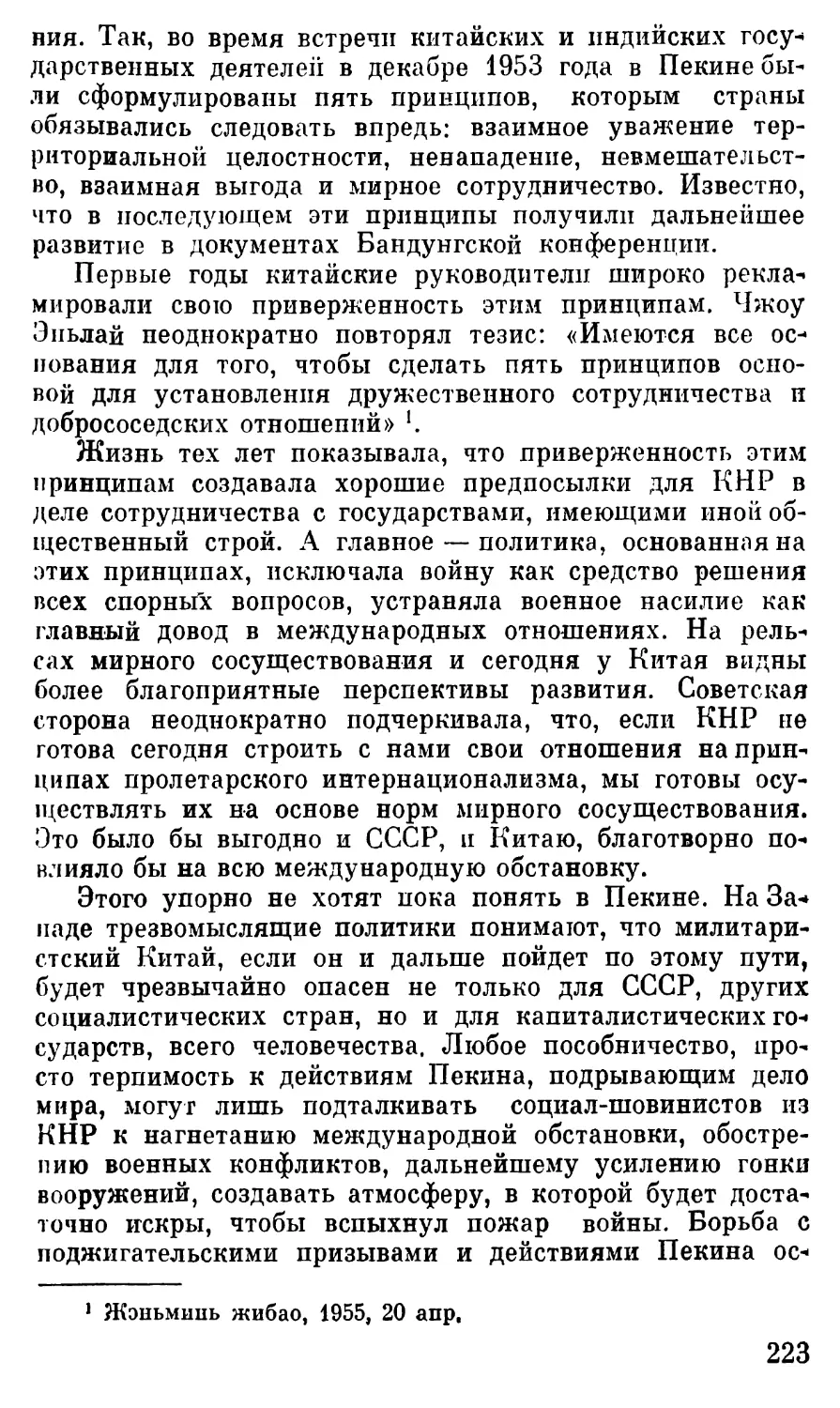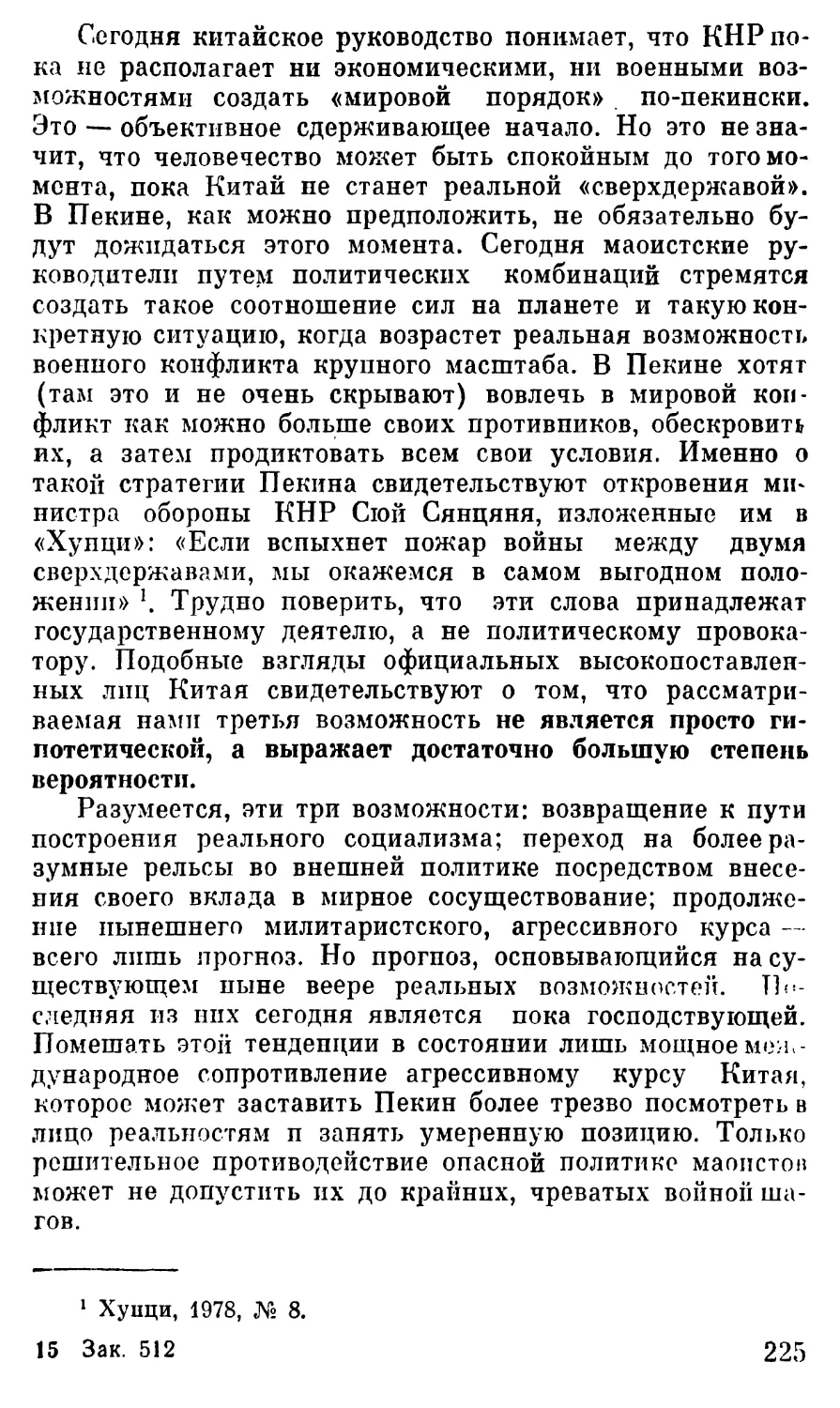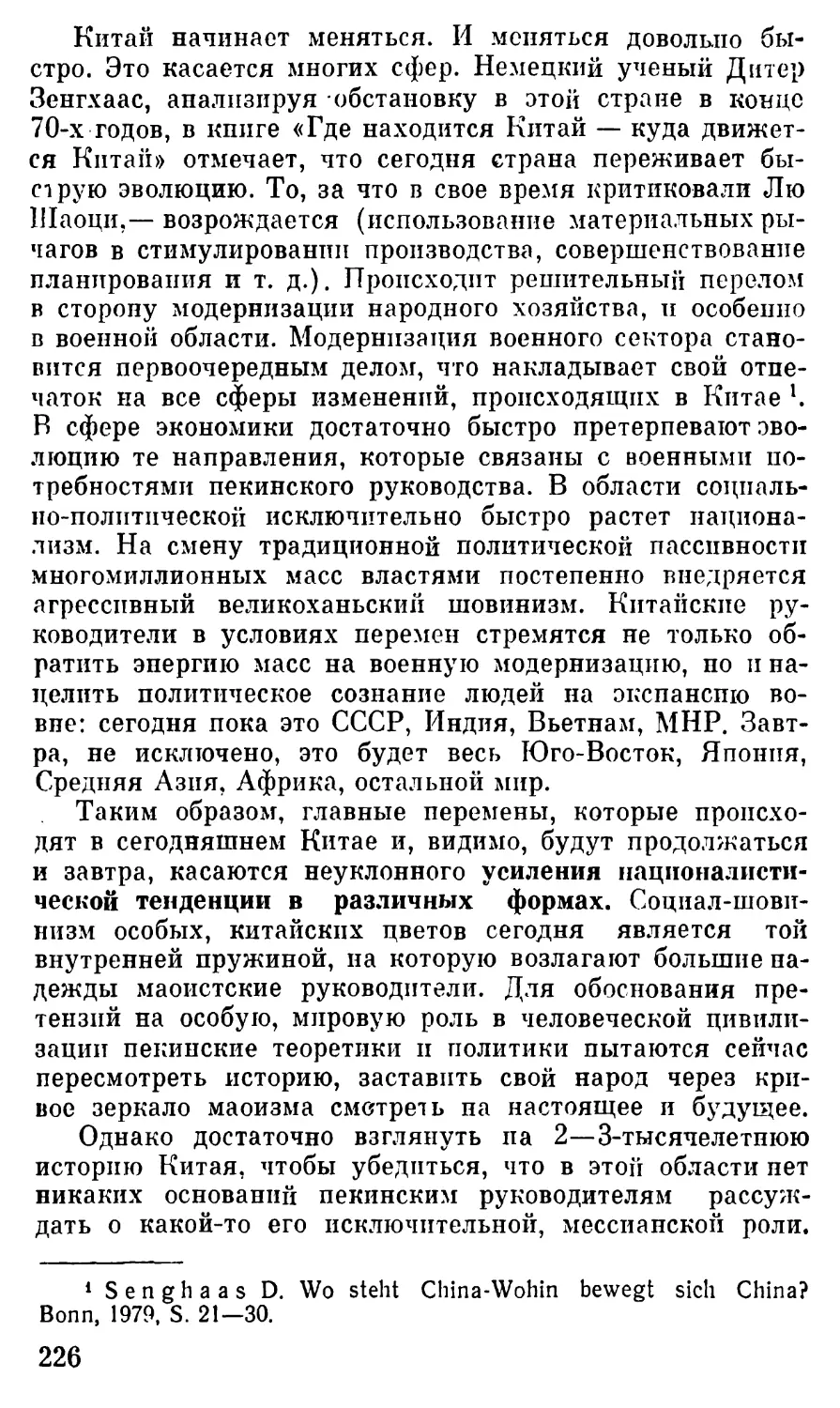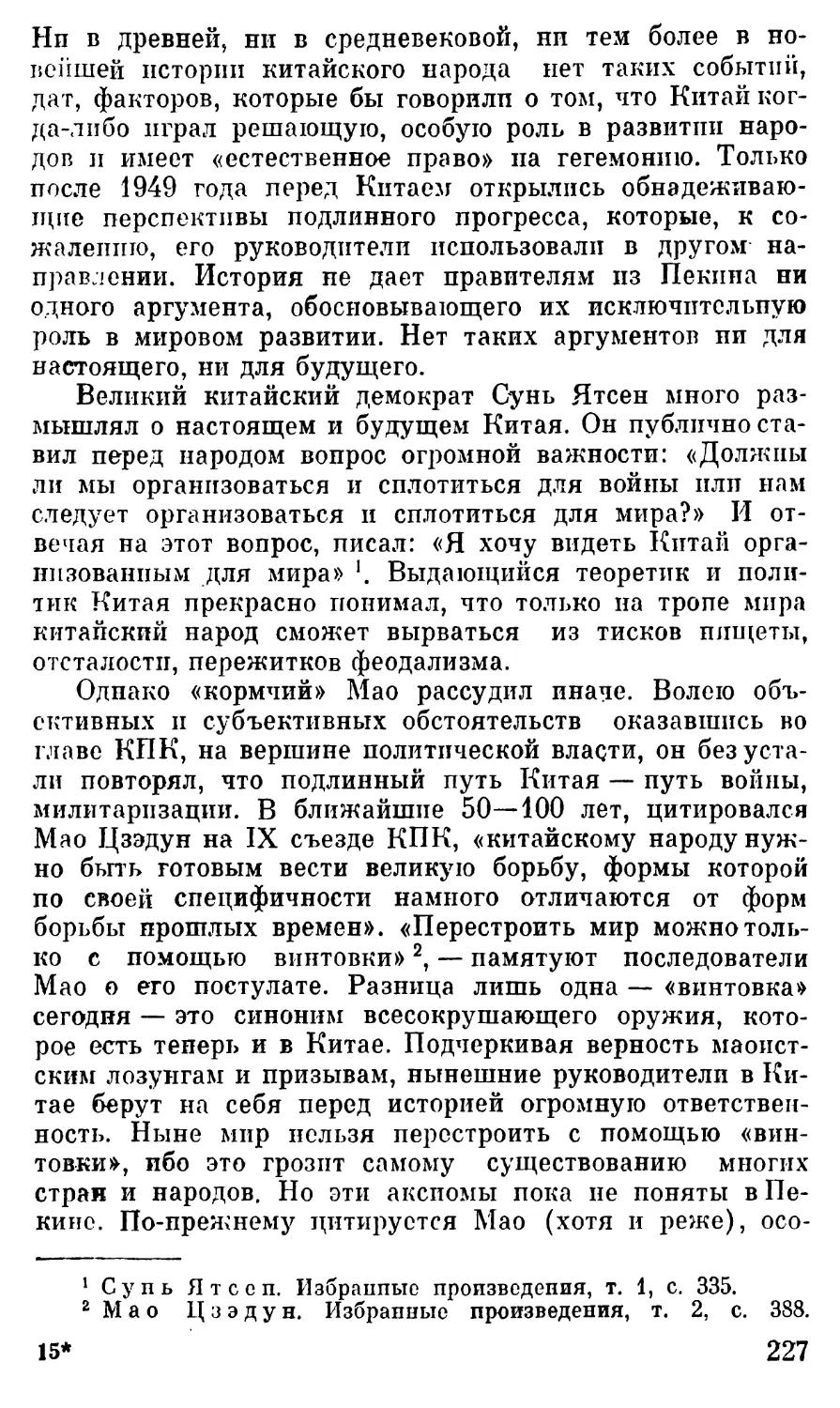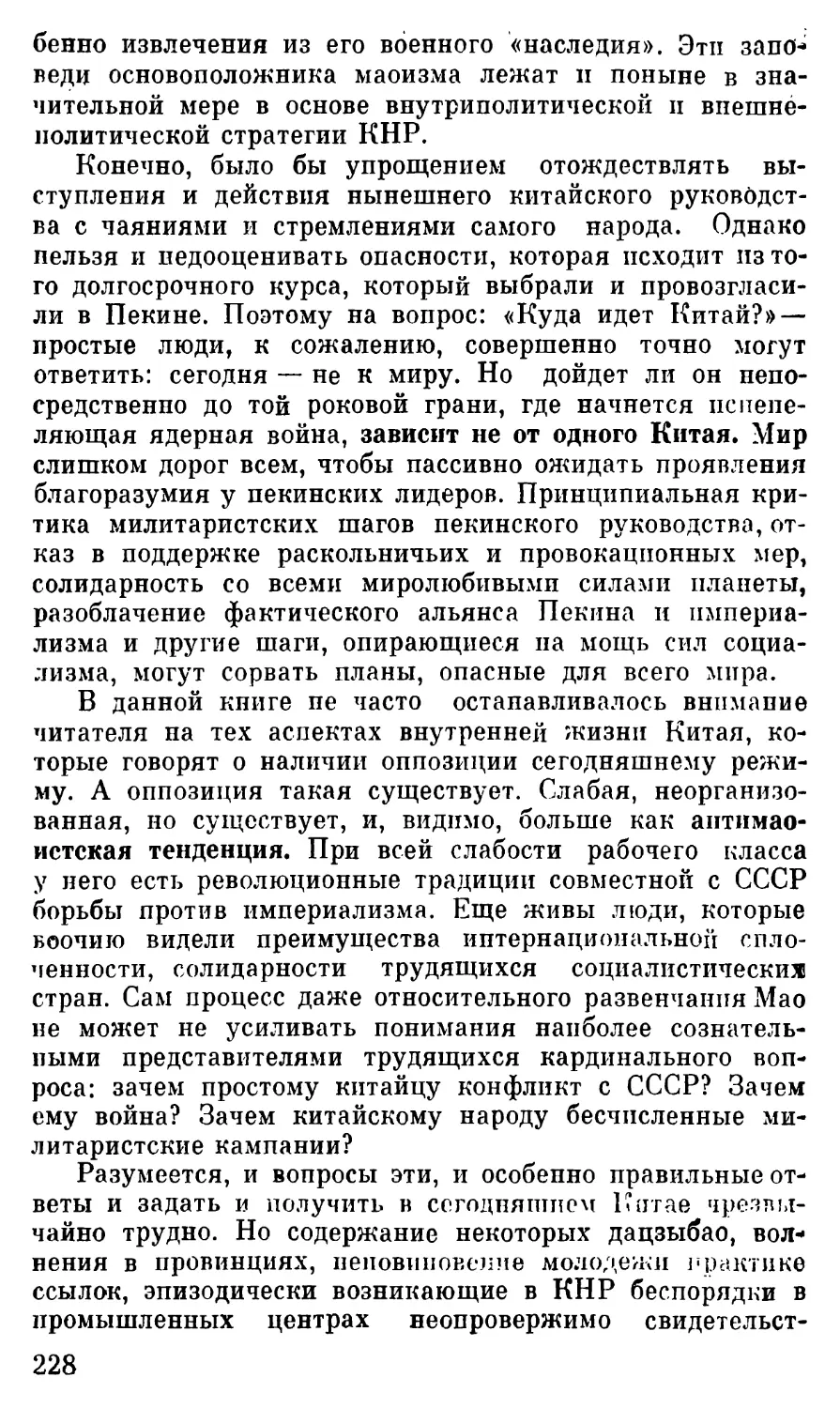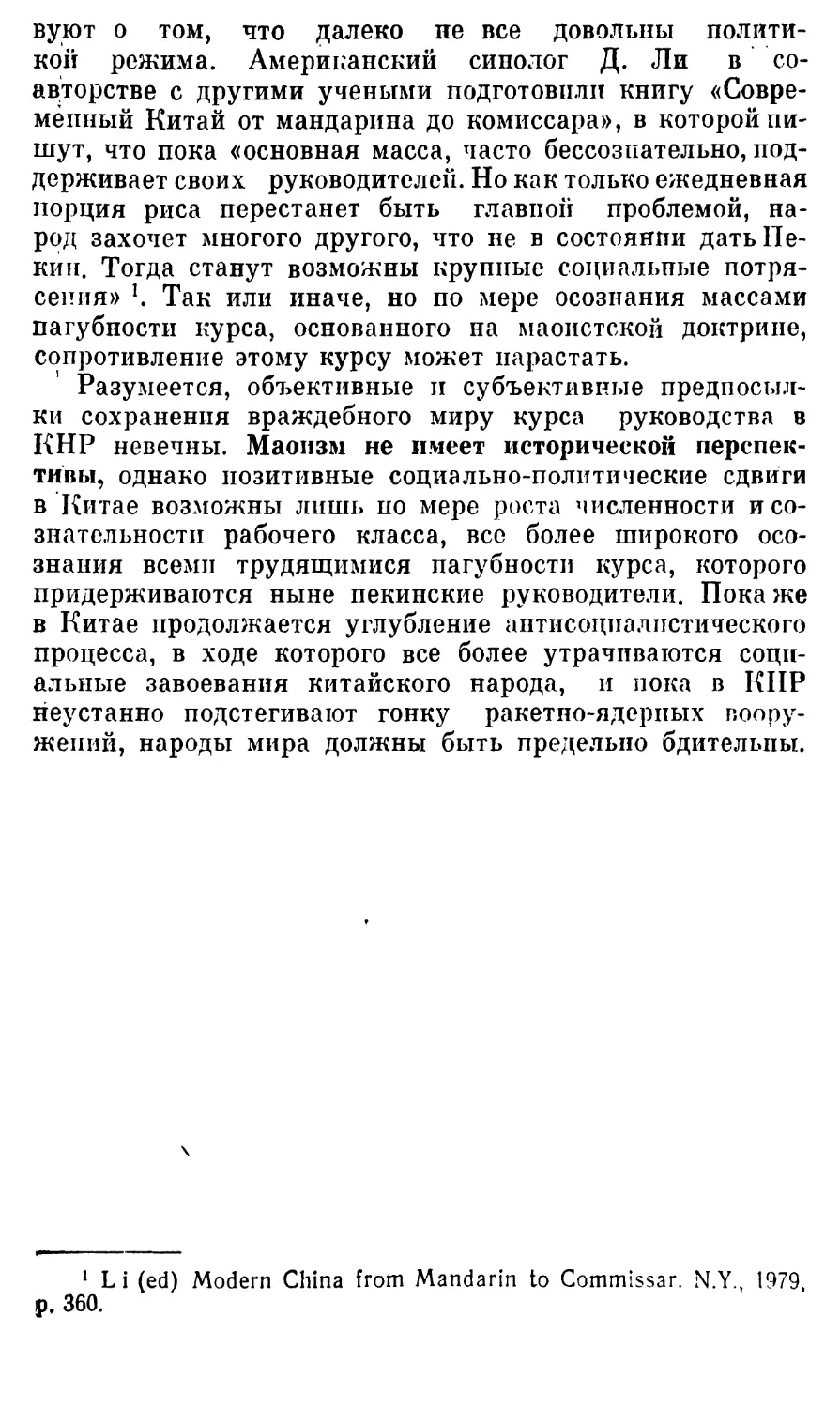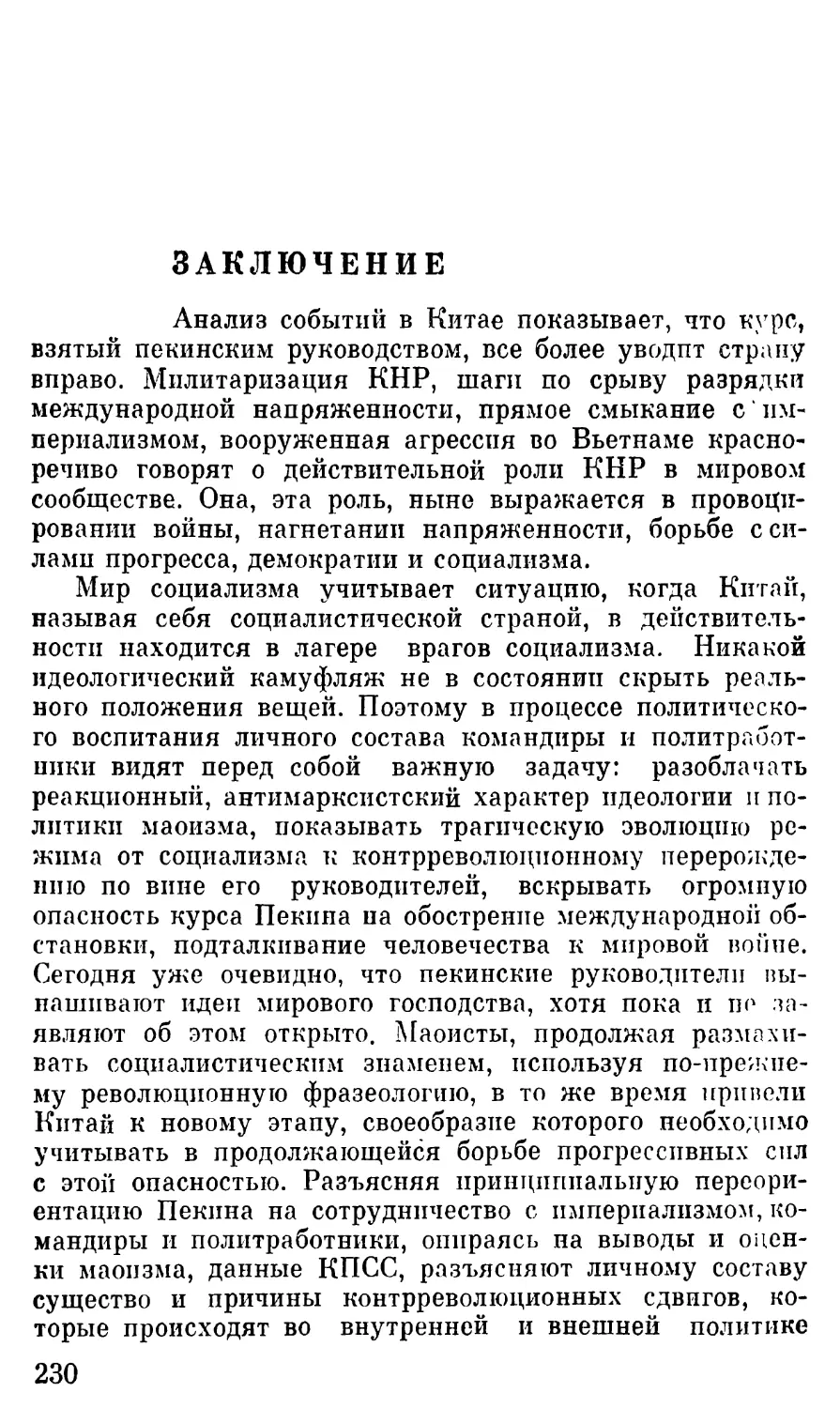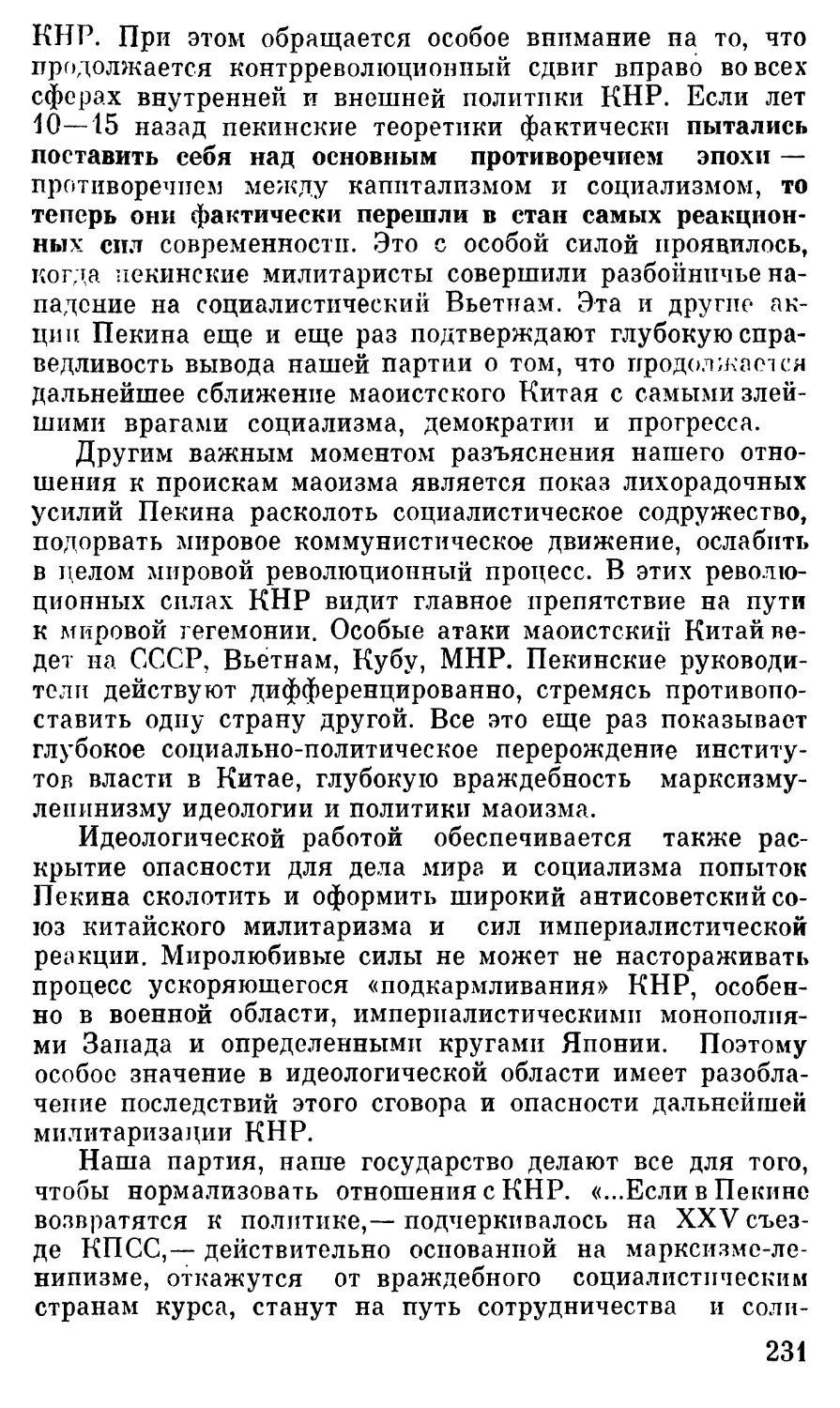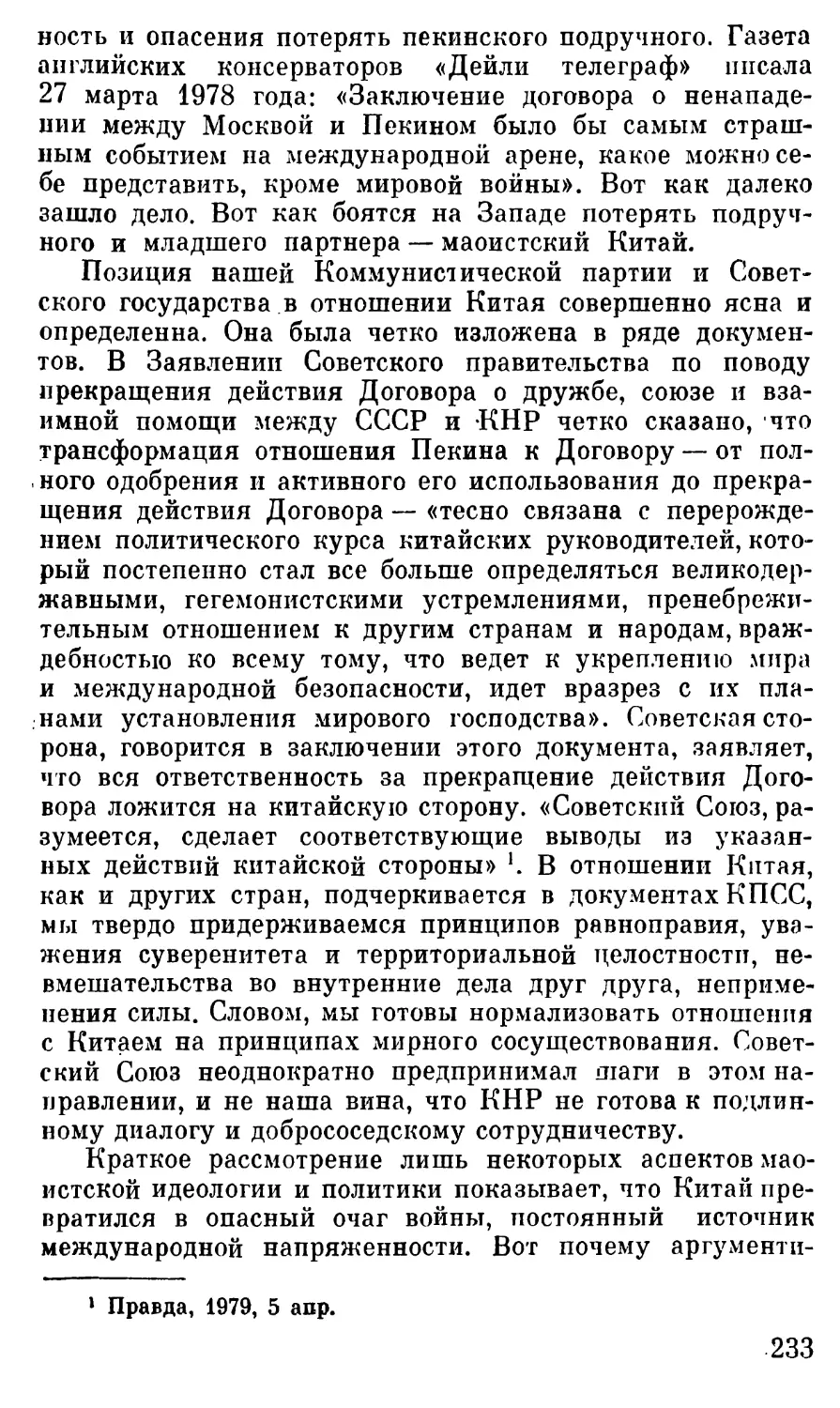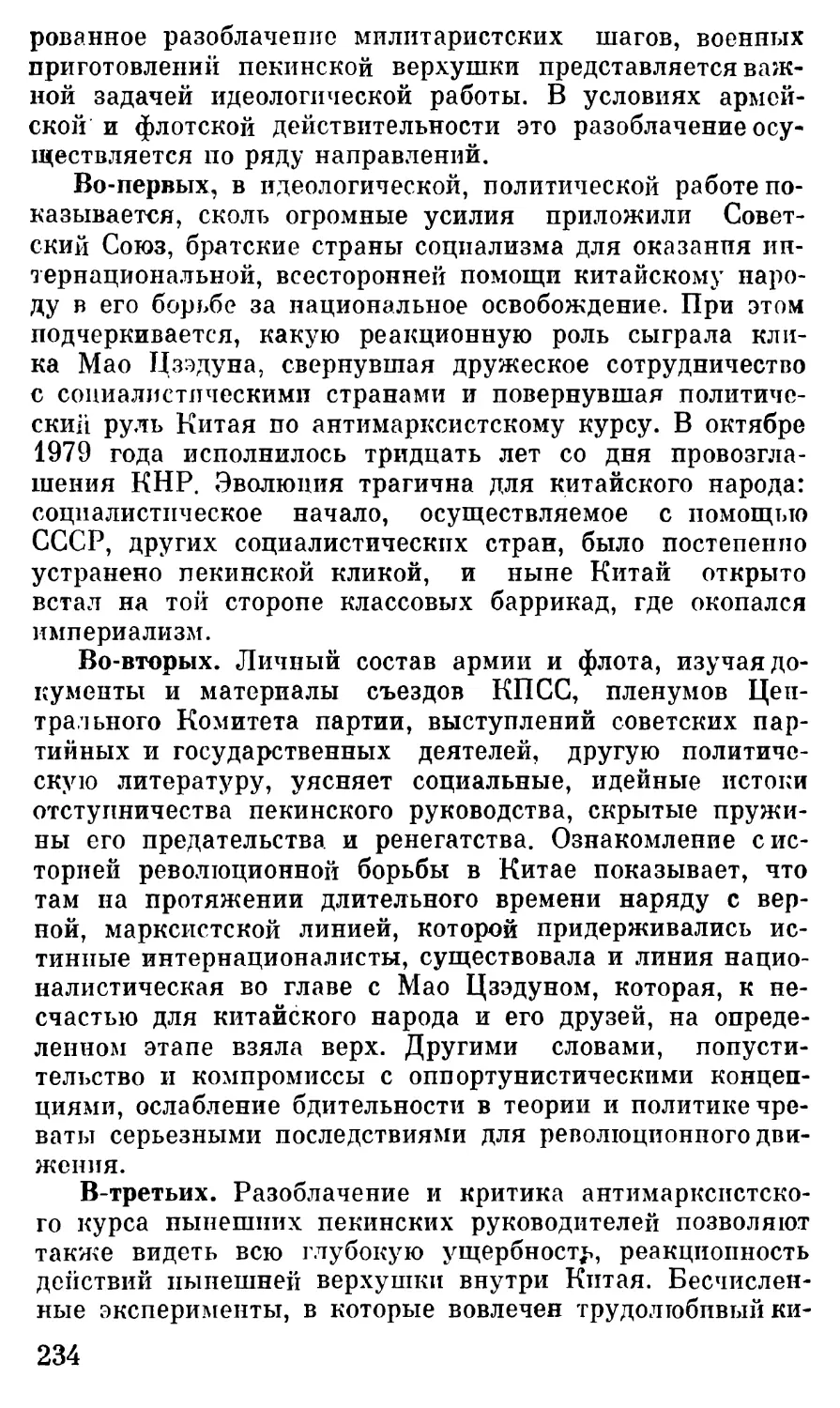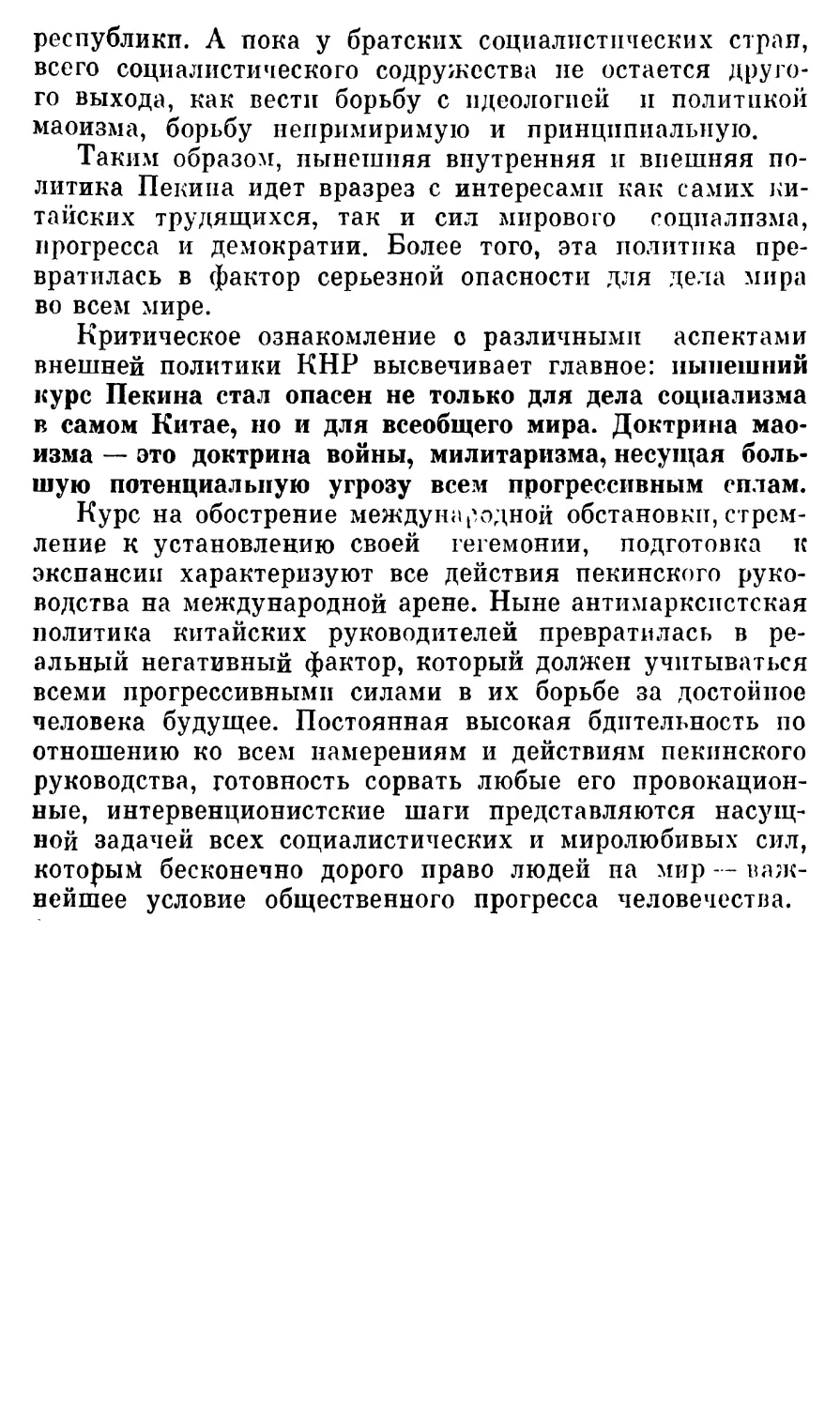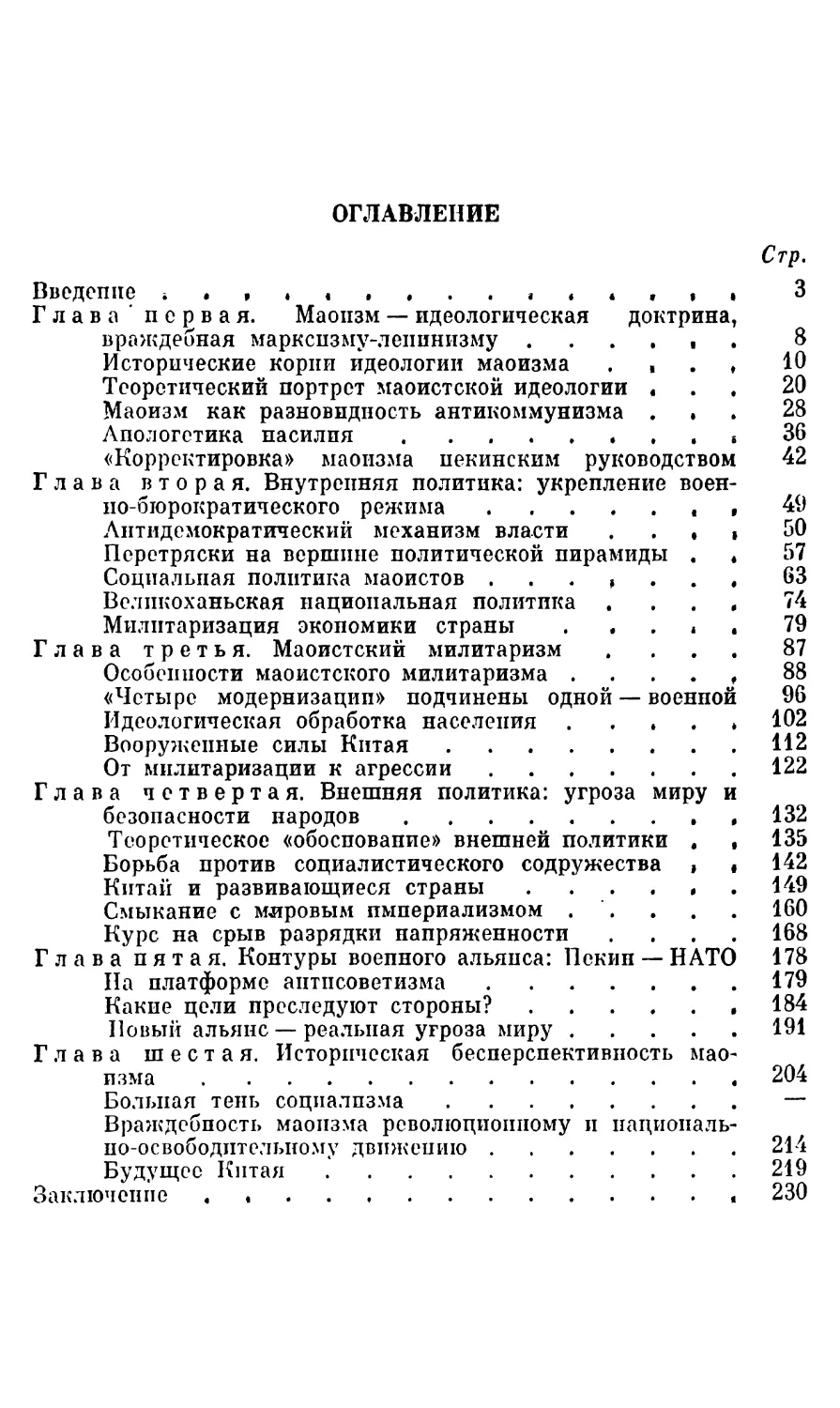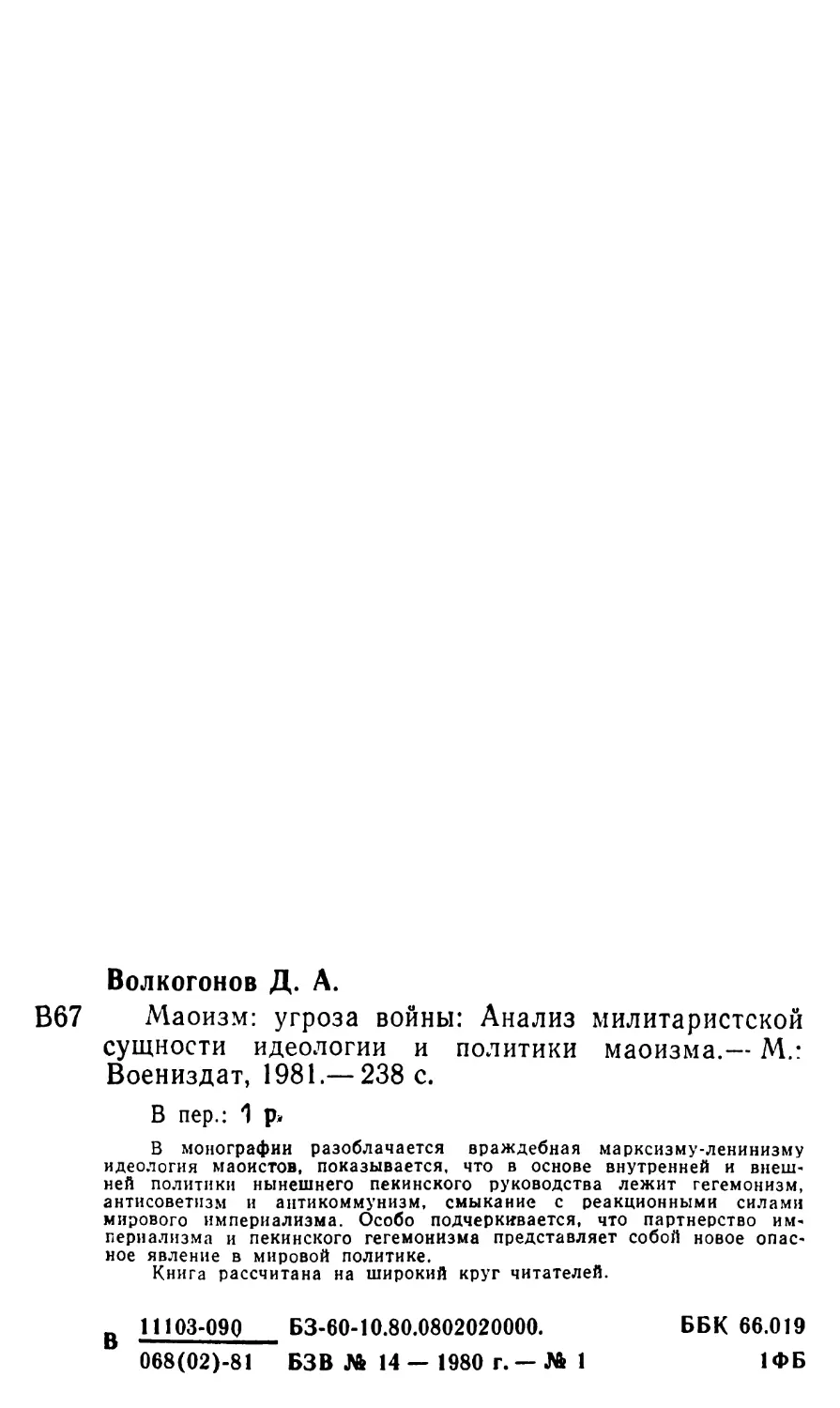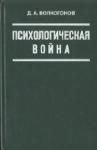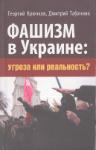Text
Генерал-лейтенант Д. А. ВОЛКОГОНОВ,
доктор философских наук, профессор
МАОИЗМ:
УГРОЗА ВОЙНЫ
Анализ милитаристской сущности
идеологии и политики маоизма
Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
MOCKBA-1981
ББК 66.019
В67
11103-090 БЗ-60-10.80.0802020000.
068(02)-81 БЗВ № 14 — 1980 г. — № 1
© Воениздат, 1981
ВВЕДЕНИЕ
Современный этап исторического развития
характеризуется усилением противоборства сил
социализма, демократии, прогресса и сил реакции. Нарастает
классовая борьба трудящихся против гнета монополий,
против эксплуататорских порядков. Приобретает все
большие масштабы революционно-демократическое,
антиимпериалистическое движение. Все это в целом означает,
подчеркивается в документах партии, развитие
всемирного революционного процесса. Но это развитие
идет не по прямой; на его пути встречается немало
трудностей, помех, прямых препятствий, чинимых мировой
реакцией. Эти препоны выступают в форме ужесточения
классового гнета эксплуататоров, усиления военных
приготовлений, сколачивания милитаристских союзов,
фабрикования гигантского потока лжи и дезинформации о
реальном социализме. Основное противоречие эпохи —
противоречие между социализмом и капитализмом —
проявляет себя во всех сферах общественной жизни,
накладывает решающий отпечаток на все международные
процессы.^
Преодолевая трудности и препоны, чинимые мировой
реакцией, человечество неодолимо шагает по ступеням
общественного прогресса: вперед и выше. И. одна из
особенностей этого движения заключается в том, что
усиливаются связи между странами и народами и их
взаимозависимость. Мир стал слишком «тесен», чтобы можно
было игнорировать дела, политику, намерения того или
иного государства. Социальные, политические,
экономические, культурные связи становятся все более
универсальными и глобальными. Будущее человечества, в
условиях социальных кризисов, нарастания энергетических,
экологических, демографических и иных проблем, во
многом зависит от торжества разума над силами зла,
несправедливости и реакции. Оно зависит от того, как на-
1*
3
роды борются с угрозой новой мировой войны, тень
которой не покидает планету.
Одним из источников этой угрозы ныне стал Китай—
крупнейшее в мире по числепности населения п третье
но размерам территории государство. Естественно, что
никто не может оставаться безучастным к тому, какую
политику проводит эта страна, какие цели она ставит
перед собой в международных отношениях и как их
добивается.
В XX век Китай вступил слаборазвитой,
раздробленной страной, которую грабили собственные эксплуататоры
и международный империализм. И хотя в 1911 году в
Китае произошла буржуазно-демократическая революция,
свергшая власть Цинской династии, она не смогла
вырвать страну из оков феодализма, полуколониальной
зависимости. В этих условиях с большой силой проявили
себя закономерности, присущие отсталым в социальном
отношении государствам. В. И. Ленин, характеризуя
исторические последствия отсталости той или иной страны,
отмечал, что она ведет к «устойчивости самых глубоких
из мелкобуржуазных предрассудков, именно:
предрассудков национального эгоизма, национальной
ограниченности» ]. Пролетариат в Китае только зарождался.
Прогрессивные общественные взгляды были развиты очень слабо.
Решающую роль в государстве стали играть
милитаристские клики. Трудолюбивый китайский народ, творец
и носитель самобытной, неповторимой культуры, жестоко
эксплуатировался. Надежда на лучшую жизнь пришла к
простым людям после победы Великой Октябрьской
социалистической революции в России. В Китае стал
нарастать революционный подъем, усилились
народно-демократические тенденции, выразителем которых стал Сунь
Ятсен. С возникновением Коммунистической партии
Китая (июль 1921 года) борьба народа за революционное
обновление древней страны вступила в новый этап. Но
прошло долгих три десятилетия ожесточенной борьбы с
гоминьдановцами, милитаристскими группировками,
японскими захватчиками, пока она не завершилась
замечательной победой. Разгром советскими войсками Кван-
тунской армии в 1945 г. и освобождение от японских
милитаристов наиболее экономически развитой северо-во-
1 Ленив В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 168.
4
сточной части Китая ускорили победу
народно-демократического строя. И все эти долгие и трудные годы
советские люди, верные принципам пролетарского
интернационализма, оказывали братскую помощь китайскому
народу.
Провозглашение 1 октября 1949 года Китайской
Народной Республики открыло широкие перспективы
революционного созидания для трудящихся многомиллионной
страны. С помощью братских социалистических стран в
Китае были заложены основы социализма, достигнуты
значительные успехи в области социального,
экономического, культурного строительства. Это вынуждены
признавать и сами маоисты. Так, на торжественном
собрании по поводу 30-летия КНР один из высших
политических руководителей Пекина Ли Сяньнянь отметил, что
первое десятилетие существования республики (1949—
1959 годы) было весьма плодотворным. Именно тогда,
когда КНР тесно сотрудничала с СССР и другими
социалистическими странами и опиралась на их помощь, в
Китае были заложены основы для социалистического
развития. Казалось, что вековые чаяния китайского парода,
жаждавшего справедливости, равенства, процветания,
станут реальностью. Однако в начале 60-х годов
политический курс Китая начал меняться. В руководстве КНР и
КПК стали брать верх националистические элементы,
толкнувшие страну на путь шовинизма, гегемонизма и
великодержавия. С тех нор Китай, свернув с пути
социального прогресса, идет дорогой реакции,
контрреволюции, потрясений, войны.
За прошедшие тридцать с небольшим лет
существования Китайской Народной Республики в ней произошла
причудливая эволюция: от народно-демократических
идеалов — к социалистическому строительству, а затем, в
начале 60-х годов,— к измене со стороны руководства
интересам народа, к предательству революционного дела.
Китай в результате этой измены сначала превратился в
резерв мирового империализма, а затем в его фактического
союзника. И весь этот трагический путь перерождения
социально-политических институтов, изменения
внешнеполитической ориентации осуществляется под знаменем
маоизма — одной из реакционнейших разновидностей
мелкобуржуазной идеологии и политики.
Маоизм привел Китай к той грани, когда он
превратился в источник реальной военной опасности не только
5
дли соседних с ним государств, но и в перспективе — для
всего человечества. Поджигательская роль КНР в
международных делах широко известна. Тесные связи
пекинских руководителей с самыми реакционными режимами
и контрреволюционными силами ныне ни для кого не
являются секретом, Гегемонистские, великодержавные
устремления маоистского Китая сегодня очевидны для псе-
го мира. Маоисты не остановились даже перед тем, чтобы
во имя достижения своих целей вероломно напасть на
соседнюю социалистическую страну — СРВ, еще не
залечившую тяжелые раны после американской агрессин.
В Пекине не скрывают своих намерений превратить к
2000 году Китай в мощное милитаристское государство,
диктующее свои условия остальному миру. Пекинское
руководство, по существу, заявило, что «XXI век будет
веком китайцев». Мрачная тень той угрозы, которая может
нависнуть над всей планетой, не иллюзия, а реальность.
Большую опасность для всех миролюбивых народов
представляют лихорадочные попытки Пекина сорвать
разрядку, не допустить разоружения, сеять недоверие и
вражду между государствами, его стремление
спровоцировать мировую войну, а самому погреть на этом руки.
«Такая политика Пекина глубоко противоречит
интересам всех народов,— подчеркивалось на XXV съезде
КПСС. — Мы будем давать отпор этой поджигательской
политике, защищать интересы Советского государства,
социалистического содружества, мирового
коммунистического движения».
В предлагаемой книге сделана попытка показать
милитаристский облик маоизма, как идеологии, так и
политики. Основываясь на историческом и современном
материале, автор вскрывает истоки и сущность маоизма,
милитаристский характер его внутренней и внешней
политики. Пекинские руководители давно и настойчиво
стремятся навязать свои модели мышления и действия многим
народам и странам. Однако опыт истории
подтверждает: еще не было ни одного случая, когда бы
маоистские модели привели к успеху. Наоборот, следование
маоистским образцам и рецептам, поддержка маоистских
концепций всегда оборачивались для народов социальным
бедствием, реальным регрессом. Поэтому так важна
бдительность всех стран и народов в отношении маоизма.
Вместе с тем критика маоизма не означает
недружественных, антикитайских действий. Более того, полити-
6
ческая и идеологическая борьба с маоизмом является
классовой помощью многострадальному китайскому
народу, который по воле своих руководителей поставлен
перед прямой угрозой утраты всех своих социальных
завоеваний. Маоизм — это угроза войны, которая может
отнять у сотен миллионов людей не только их надежды и
чаяпия, но и самое святое право — право на жизнь и
будущее,
Глава первая
МАОИЗМ - ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДОКТРИНА, ВРАЖДЕБНАЯ
МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ
Известно, что политические шаги того или
иного государства основываются на определенных
идеологических принципах. В современном Китае такой основой
является доктрина маоизма — одно из самых
причудливых и уродливых порождений некоторых социальных сил.
Творца этой идеологии уже нет в живых, но маоизм, пе-
смотря на известную трансформацию многих его
положений, остался главной идейно-политической базой всех
устремлений и действий руководства КНР сегодпяшних дней.
Анализ материалов XI съезда КПК и вышедшего в
свет пятого тома «Избранных произведений» Мао
Цзэдуна, а также практические шаги нынешнего пекинского
руководства пе оставляют никаких сомнений в том, что в
основу своей внешней и внутренней политики оно по-
прежнему кладет принципы и установки маоизма. Хотя
события, последовавшие после смерти Мао, фактически
отразили и обнажили глубокий идейный и
организационный кризис мелкобуржуазной идеологии маоизма, новое
руководство в своих выступлениях настойчиво
подчеркивало и подчеркивает свою верность ее основным
постулатам. Делаются лишь осторожные попытки
«подправить», скорректировать наиболее одиозные положения
маоизма при сохранении всей его реакционной сущности.
Эта корректировка является, по существу, вынужденным
признанием ошибочности пути, на который маоисты
толкнули страну в конце 50-х — начале 60-х годов.
Эти коррективы касаются многих положений, и в
частности о роли экономики и науки в общественном
развитии, отдельных теоретических выводов, появившихся в
маоизме в годы так называемой «культурной
революции». Смысл идеологических поправок сводится к тому,
чтобы еще больше сконцентрировать усилия государства
8
п общества па достижении далеко идущих гегемонистских
целей, полнее приспособить «учение» Мао к
милитаристским потребностям руководства, к агрессивной
политике КНР, оправдать глубокую измену революционному
делу. Идеология маоизма, реакционная по своему
существу, непрерывно «развивается», перекрашивается,
латается, редактируется, приспосабливается. По
существу, она стала не только теоретической, идейной основой
всех действий нынешних маоистских руководителей, но
и удобным средством приспособления, оправдания,
апологетики всех шагов Пекина, которые он осуществляет во
внутренней и внешней политике.
Идеология маоизма, каковой она является сегодня, есть
не что иное, как мелкобуржуазное
социал-шовинистическое учение, полностью порвавшее с
марксизмом-ленинизмом. Даже те отдельные элементы и идеи марксизма,
которые Мао Цзэдун пытался использовать в своем учении
в националистических, гегемонистских целях, ныне
отброшены. Сегодня идеология маоизма — это идеология
обоснования закономерности существования в Китае
военно-бюрократической диктатуры, необходимости
стремления к мировой гегемонии, борьбы всеми силами и
средствами с реальным социализмом, и особенно с Советским
Союзом. «Теперь уже мало сказать, что маоистская
идеология и политика несовместимы с марксистско-ленинским
учением,— подчеркивалось на XXV съезде КПСС— Они
прямо враждебны ему». Тот факт, что маоисты
продолжают паразитировать на марксизме-ленинизме, рядиться в
марксистские одежды, разглагольствовать о социализме и
коммунизме, никого не должен вводить в заблуждение.
Перед нами — идеология, противостоящая
марксизму-ленинизму и стремящаяся нанести ему максимальный
ущерб.
Верность нынешних руководителей Пекина
маоистской идеологии объясняется прежде всего тем, что она в
наибольшей степени соответствует задачам, которые они
ставят перед собой: превратить в исторически короткие
сроки КНР в одно из самых мощных милитаристских
государств, способных решающим образом влиять на
судьбы мира. Поэтому рассуждения некоторых буржуазных
китаеведов о возможности «демаоизации», «демонтаже
маоизма» не имеют под собой достаточной почвы.
События в сентябре—октябре 1976 года, после смерти Мао,
когда была повержена «банда четырех», явились лишь
9
своеобразным верхушечным переворотом. Победа одной
из группировок не изменила сущности режима, пе
подвергла коренному пересмотру идеологическую и
политическую доктрину маоизма. Она, эта доктрина,
трансформируется, приспосабливается к новым, быстро
меняющимся условиям, но ее шовинистическое,
авантюристическое, гегемонистское содержание полностью сохраняется.
Маоизм как идеология зародился и
Исторические корни сформировался главным образом на
идеологии маоизма * « -ё
мелкобуржуазной почве. Ьго
появление и развитие обусловлены общими причинами,
объясняющими активизацию на отдельных исторических
этапах различных форм оппортунизма. Одна из этих причин
заключается в том, что по мере развития мирового
революционного процесса с неизбежностью активизируется п
оппортунизм. Такое утверждение только кажется
парадоксальным. В. И. Ленин в своей замечательной работе
«Реформизм в русской социал-демократии» подчеркивал,
что по мере увеличения размаха революционного
движения оно «неизбежно привлекает в число его сторонников
известное количество мелкобуржуазных элементов,
порабощенных буржуазной идеологией, с трудом
освобождающихся от нее, постоянно впадающих в нее снова и
снова» К
Действительно, по мере развития мирового
революционного процесса на арену классовой борьбы выходят
десятки миллионов людей, многие из которых не закалены
политически и привносят в революционный процесс
элементы мелкобуржуазной революционности и стихийности.
При слабости руководства революционным движением в
различных странах это может явиться питательной
почвой для произрастания самых ядовитых
оппортунистических сорняков. В этом отношении идеология маоизма
является типичным побочным продуктом, «выбросом»
мирового революционного движения. К маоизму полностью
применимы образные слова К. Маркса, что это «больная
тень коммунизма».
Для того чтобы глубже попять, как конкретная
возможность может реализоваться в действительность, надо
видеть исторические истоки явления (генезис),
посмотреть на него со стороны теоретической, а также
социально-политической сущности. Известно, что маоизм как
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 306.
10
идеология и политическое течение вырос на местной, кп-
тайской почве. Особенности его возникновения связаны с
глубокой изоляцией Китая в течение длительного
времени от остального мира. Слабое проникновение идей
извне создало весьма специфическую духовную
обстановку в стране, которая к тому же являлась экономически
отсталой. Идеи марксизма стали проникать в Китай лишь
после Великой Октябрьской социалистической революции
в России. Не случайно Мао заявлял: «Моя философия
отечественного происхождения».
Исторические корни идеологии маоизма нельзя понять,
если не проанализировать хотя бы в общих чертах
историю Китая. Она весьма своеобразна и необычна.
Периоды упадка сменялись периодами относительного
подъема—во времена династий Хапь (206 г. до н. э.—220 г. н. э.),
Тан (618-907), Сун (960-1279), Мин (1368-1644),
когда в Китае отмечались заметные достижения в
экономике, национальной культуре, что в свою очередь
породило в общественном сознании китайской нации
представление о превосходстве китайцев над другими пародами.
В Китае к тому же веками воспитывалось
презрение ко всему иностранному, некитайскому. Обильная
националистическая духовная пища выработала у
миллионов китайцев чувство пренебрежительного отношения к
истории и культуре других народов. Развивая эти
чувства и идеи, «Жэньминь жибао» писала, что «когда
западные народы, ставшие в новое время известными как
«культурные» народы, еще гонялись в лесах за дикими
зверями, наш народ уже создал блестящую древнюю
культуру».
В общественное сознание китайской нации веками
вносились представления об этнической и исторической
исключительности жителей «поднебесной империи», их
«особом праве» в развитии мировой цивилизации. Этому
способствовала и многовековая изоляционистская
тенденция китайских правителей, которые всегда настороженно,
подозрительно относились к своим соседям. Например, во
времена Цинской династии, правившей Китаем более
300 лет, политика глубокого «затворничества» была
официальной линией богдыханов. Китайская история, по
существу, не знает союзнических отношений с другими
государствами. По этому поводу великий китайский
демократ Сунь Ятсен писал: «Сам Китай очень высоко
оценивал свои собственные достижения и ни во что не ста-
11
вил другие государства. Это вошло в привычку и стало
считаться чем-то совершенно естественным...
Изоляционизм Китая и его высокомерие имеют длительную
историю. Китай никогда не знал выгод международной
взаимопомощи, поэтому он не умеет заимствовать лучшее у
других, чтобы восполнить свои недостатки» К
На протяжении многих веков одним из основных
источников духовной жизни Китая, важнейшей основой
мировоззрения миллионов людей было конфуцианство —
религиозно-этическое идеалистическое учение, делавшее
особый акцент на исключительной, мессианской роли
Китая в истории мировой цивилизации. Конфуций в своих
трактатах неизменно подчеркивал особую, божественную
роль «поднебесной империи» в судьбах мира. Это нашло
отражение и во многих верованиях, взглядах, в
общественной психологии людей. Другим важнейшим
постулатом конфуцианства является культ верховного
правителя: «Для нравственного здоровья государства необходимы
послушание и повиновение, повиновение и послушание
правителю». Любой, кто выше тебя, учил Конфуций,
«господин для тебя». В этом выражается главная
политическая идея конфуцианства.
Беспрекословное повиновение низших высшим,
подчеркивается в конфуцианском трактате «Летопись»
(«Чуньцю»), — залог спокойствия и процветания пации.
Господствующие классы в Китае, императоры различных
династий широко использовали в социальной практике
этот постулат, насаждая покорность, послушание, трепет
перед властями. В основном труде Конфуция — «Беседы
и суждения» («Лунь Юй») доказывается вечность
отношений господства одних и подчинения других. Каждый
должен знать свое место в обществе, поучал Конфуций,
государь должен быть государем, подданный —
подданным. «Какое же будет тогда государство, если не будет
разницы между благородными людьми и
простолюдинами?» «Благородные» от бога имеют власть над простым
пародом, доля которого — бесконечный труд на мандарина,
императора, на всех тех, кто сегодня правит.
«Добродетели благородного — ветер, добродетели простолюдина —
трава. Ветер непременно пригибает траву»,— говорится в
трактате «Лунь Юй».
1Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1964,
с. 250—251.
12
В последние десятилетия в Китае проводилась не
одна кампания критики конфуцианства, как идеологии
«эксплуататорских классов». Однако критиковались
такие положения, которые не имели значения для
современности. Более того, важнейший политический постулат
Конфуция о почитании властей подчеркивался как
«прогрессивный». Аргумент был прост: ссылка на известную
концепцию Мао Цзэдуна — «использовать древность ради
современности». Таким образом, сложившееся веками в
национальной психологии представление о законности
любых властей, их «особом праве» существует и по сей
день, что активно используют маоисты в своих целях.
В XX век Китай вступил, находясь в состоянии
глубокого экономического упадка и отсталости. По существу,
до середины столетия он был на положении
полуколониальной страны, в которой феодальные отношения
соседствовали с нарождающимися капиталистическими. Для
духовной жизни Китая было характерно почти полное
отсутствие устоявшихся общедемократических традиций.
В этих условиях в гигантской крестьянской стране, где о
марксизме впервые услышали, по сути, лишь после
1917 года, в первой трети XX века получили широкое
хождение самые различные взгляды: от прагматических
идей буржуазной философии до идей мелкобуржуазно-
анархистских.
Для понимания событий, происходящих в Китае,
особый смысл имеет положение, высказанное В. И.
Лениным в 1920 году в работе «Тезисы ко II конгрессу
Коммунистического Интернационала». «...Чем более отсталой
является страна,—- писал В. И. Ленин,— тем сильнее в ней
мелкое земледельческое производство, патриархальность
и захолустность, неминуемо ведущие к особой силе и
устойчивости самых глубоких из мелкобуржуазных
предрассудков...» ' Под влиянием такой социальной среды,
отражавшей борьбу феодальных и капиталистических
начал, и эклектики духовной жизни общества
формировалось и мировоззрение Мао Цзэдуна, главного выразителя
«китаизированного марксизма».
Мао Цзэдун, являясь выходцем из кулацкой семьи,
прочно унаследовал от своей среды и мелкобуржуазное
мировоззрение. Все биографы Мао отмечают его
крайний национализм, замешанный на идеях древнекитайских
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 168.
13
Мыслителей-идеалистов и мелкобуржуазном
представлении о социализме. В беседе с известным его биографом
Э. Сноу в 1936 году Мао, говоря о духовных истоках
своего мировоззрения, отмечал, что в 20-е годы в его
«голове забавно перемешивались идеи демократизма,
утопического социализма и анархизма. Я прочитал несколько
брошюр об анархизме, и они произвели на меня сильное
впечатление». Э. Сноу, анализируя позднее откровения
Мао Цзэдуна о своем духовном кредо, отмечал, что в
процессе мировоззренческого становления «Мао менял свои
идеологические взгляды по крайней мере семь раз». Сам
Мао, выступая в 1964 году в Пекине перед философами,
говорил о своей духовной эволюции так: «Сначала была
конфуцианская школа, в ней я шесть лет учил «Четверо-
книжие» и «Пятикнижие», в то время я очень почитал
Конфуция; потом я пошел в буржуазную школу и учился
в ней семь лет; в буржуазной школе преподавали только
буржуазную философию, и я тогда очень почитал Кап-
та, особенно же верил в дуализм. Сначала у меня была
феодальная идеология, потом
буржуазно-демократическая...» В последующем, когда Мао познакомился с
марксизмом, он уже не смог отрешиться от своих
идеалистических взглядов, различных эклектичных
мелкобуржуазных установок и выводов.
В идейной эволюции Мао были периоды, когда он,
захваченный очередной революционной волной, делал
попытки перейти от революционного демократизма и
революционного национализма к научному социализму.
Однако в годы активизации мелкобуржуазной стихии в стране
вновь скатывался к реакционному китаецентризму и ве-
ликоханьскому шовинизму К Приверженность, точнее,
сближение с научным социализмом было эпизодическим, в
последние два десятилетия жизни «кормчего» оно
практически не отмечалось. Революционная, марксистская
фразеология Мао была не более как идеологический
камуфляж, прикрывавший социал-шовинистическую
сущность воззрений этого мелкобуржуазного идеолога.
Мао Цзэдун никогда не был деятелем рабочего
движения, никогда не знал по-настоящему марксизм, пе
стремился к социалистическому будущему. С ранних лет
он поклонялся культу выдающихся людей: императоров,
1 См.: Ильин М. Маоизм — идеология и политика войны. М.,
1979, с. 16.
14
полководцев, государственных деятелей. Любимыми ге*
роями Мао Цзэдуна были: основатель первой китайской
империи Цинь Шихуаи (III в. до н. э.), основатель Хань-
ской династии Лю Бан (III в. до н. э.), первый
император Танской династии Тан Тойцзун (VII в.), Чингисхан
(XII—XIII вв.), вождь крестьянского восстания,
родоначальник Минской династии Чжу Юоньчжан (XIV в.).
Из зарубежных государственных деятелей у Мао вызыва-»
ли восхищение Цезарь, Петр I, Екатерина II, Наполеон.
И в поздние годы своей жизни Мао Цзэдун любил апа-*
логии, сравнения, связанные с жизнью этих людей1. Он,
по свидетельству Э. Сноу, не раз сравнивал себя с
китайским императором Лю Баном, который начал свой
жизненный путь обычным простолюдином, а затем
благодаря своей ловкости, хитрости и жестокости занял трон
и основал династию. Эти черты были присущи и Мао. Они
нашли затем уродливое проявление как в идеологии, так
и в политике маоизма, исповедовавшей исключительную
первичную роль вождя и вторичность массы — безликого
материала для реализации идей «кормчего».
В первые годы своего существования КПК была
слабой и малочисленной. В период I съезда (1921 год)
насчитывалось всего 50 членов партии, II съезда
(1922 год) - 120, Ш-го (1923 год) - 230, IV-ro
(1925 год) — 950 человек2. Огромную роль в
становлении Компартии Китая сыграл Коминтерн, Исполком
которого неоднократно обсуждал многие вопросы
революционного движения в Китае. Так, оценивая социальную
базу революции, в Китае, VI пленум ИККИ (февраль —
март 1926 года) подчеркивал, что основным вопросом ки-«
тайского национально-освободительного движения явля*
ется крестьянский вопрос. Главный виновник всех бед-<
ствий крестьянства — внутренние милитаристские клики
и иностранные империалисты. Крестьянство остается
распыленным, дело организации его еще очень мало
продвинулось вперед. Основной задачей китайских комхмуни-
стов поэтому является разъяснение того, что только
образование независимой революционно-демократичен
ской власти на основе союза рабочего класса и
крестьянства может радикально улучшить материальное и поли-*
1 См.: Алтайский М.? Георгиев В. Антимарксистская
сущность философских взглядов Мао Цзэдупа. М., 1969, с. 44.
2 В а р н а и Ф. Путь маоистов. М., 1979, с. 22.
15
тичсское положение крестьянства1. Принимались
решения и оказывалась помощь Компартии Китая и по
многим другим вопросам. Однако среди ее руководства
деятели типа Мао Цзэдуна не только ставили под сомнение
рекомендации Коминтерна, но и прямо противились
интернациональному влиянию па революционные процессы,
которые происходили в Китае в 20—30-е годы.
Следует подчеркнуть для понимания исторических
корней маоизма, что с момента образования
Коммунистической партии Китая в 1921 году в ней четко
вырисовывались два крыла: интернационалистическое, тяготевшее
к тесным связям с Советской Россией, мировым
революционным движением, и националистическое,
абсолютизировавшее свой собственный китайский путь, свои
особенности и считавшее главной задачей национальное, а не
социальное освобождение Китая. В партии и руководстве
КПК было крайне мало рабочих, что отражало и
численную, и организационную слабость китайского
пролетариата, представлявшего собой затерянный островок в
необъятной крестьянской стране. Отмечая это обстоятельство,
пленум ЦК КПК в 1927 году записал в своем
постановлении: «Один из источников идейной и организационной
слабости партии в том, что почти весь руководящий
актив пашей партии состоит не из рабочих и даже не из
бедных крестьян, а из представителей мелкобуржуазной
интеллигенции».
На VI съезде КПК, который из-за белого террора,
осуществляемого Гоминьданом в Китае, проходил в Москве
(18 июня— И июля 1928 года), в резолюции
«Организационные задачи партии» подчеркивалось, что в настоящее
время 76% членов КПК крестьяне и лишь 10% рабочие,
большинство которых к тому же относились к числу
безработных или занятых на мелких предприятиях. Во
многие сельские парторганизации вступали чуть ли не всей
деревней. Однако набранные таким путем «новые члены
партии не понимают, что такое коммунистическая партия
и какие задачи стоят перед ней» 2. Нетрудно видеть, что
такой состав партии открывал широкие возможности для
различных оппортунистических экспериментов, появления
1 См.: Стратегия и тактика Коминтерпа в
национально-колониальной революции на примере Китая. М., 1934, с. 125.
2 Стенографический отчет VI съезда КПК. М., 1930, кн. 4,
с. 16 (на рус. яз.).
16
ревизионистских шатаний и националистических
установок.
Марксистское крыло, возглавляемое
интернационалистами Ли Дачжао, Цюй Цюбо и другими, много делало
для пропаганды и распространения идей научного
социализма в Китае. Например, Цюй Цюбо, работавший
некоторое время в Москве (1921 — 1922), отправлял на
родину статьи, другие материалы, правдиво освещающие
борьбу народов России за социалистическое
переустройство общества. Коминтерн всячески стремился
поддержать молодую Компартию Китая идейно и
организационно. Ио влияние националистического крыла было
сильным, что сыграло свою роковую роль в январе 1935 года,
когда Мао фактически захватил руководство в КПК. Это
произошло во время совещания ЦК в городе Цзуньи
(провинция Гуйчжоу), которое было созвано по
требованию Мао Цзэдуна. Более двух третей участвовавших на
совещании не были членами Центрального Комитета, но
были сторонниками Мао и, вопреки партийным нормам,
получили право решающего голоса. Будущему
«кормчему» удалось серьезно изменить состав руководящих
органов партии, вытеснив из них многих интернационалистов
и подлинных марксистов. Мао не сформулировал в
данный момент новой программы партии, но он был
доволен тем, что в фракционной борьбе смог одолеть многих
своих протнвпиков и занять ключевое положение в
руководстве партией.
С этого момента идейные взгляды Мао,
представляющие смесь национализма и народничества, авантюризма
и властолюбия, стали усиленно проводиться в жизнь его
единомышленниками. Все это не могло не отразиться па
мировоззренческом воспитании членов партии, и прежде
всего — кадровых работников КПК.
Мао Цзэдун любил повторять изречения древних
мыслителей. И не просто повторять, но и следовать тем из
них, которые отвечали его мировоззренческим
установкам. Так, ему очень импонировало изречение китайского
философа IV в. до н. э. Шан Яна, гласившее: «Сильных
надо сломить, красноречивых — заставить прикусить
языки. Путь к богатству и знатности должен идти только
через ворота войны» *. Мао, воплощавший в себе черты мол-
1 Цит. по: Капица М. С. КНР: три десятилетия — три
политики. М., 1979, с. 345.
2 Зак. 512
17
кобуржуазного идеолога и в значительной мере черты
старых правителей Китая, прекрасно понимал, что для
реализации его идей в китайской действительности нужна
реальная сила, каковой могла быть только армия.
Поэтому не случайно, что значительная часть работ Мао
посвящена различным аспектам партизанской борьбы,
военного строительства, тактики, роли военных в
китайском обществе. Свои основные усилия он направлял на
установление своего контроля над партией и, особенно,
над армией. Эти диктаторские черты Мао в свое время
принципиально осуждались партийными органами, его
товарищами по борьбе с Гоминьданом и с японскими
милитаристами. Например, на VI съезде КПК в 1928 году
действия Мао, направленные на усиление своего влияния
в армии, были охарактеризованы как «проявление
милитаристской психологии». В письме Цзянсиского
комитета действия КПК в адрес Комитета действия
Юго-Восточной Хунани от 25 декабря 1930 года подчеркивалось, что
«Мао Цзэдун является хитрым политиканом... Он
устраивал интриги внутри партии, склоки между товарищами...
Он мечтал создать свою личную клику и разрушить
партийную организацию»1.
Мао всячески добивался перенесения военных
методов руководства в партию, в хозяйственную структуру.
Всех тех, кто был не согласен с ним, он устранял со
своего пути. Известный китайский
коммунист-интернационалист, видный деятель Коминтерна Ван Мин писал по
этому поводу: «Своих противников Мао Цзэдун заставлял
пытками признавать себя «предателями», «шпионами
Гоминьдана, империалистов и Советского Союза», а затем
их просто уничтожал» 2. Уже в 30-е годы «кормчий»
использовал армию как репрессивный инструмент в борьбе
с инакомыслящими, своими политическими
противниками. В докладе военного отдела ЦК КПК в феврале
1923 года подчеркивалось, что Мао Цзэдун добился того,
что «Красная армия совершенно заменила массовые
организации и партийные комитеты», что «в большинстве
мест массы вступают в армию не из-за своих насущных
интересов, а из-за боязни Красной армии, что военная
дисциплина полностью вытеснила партийную. Зачастую
расстрел был обычным наказанием товарищей, совершив-
1 Цит. по: Владимиров О., Р я з а н ц е в В. Страницы по-*
литической биографии Мао Цзэдуна. М., 1980, с. 39—40.
2 В а н Мин. О событиях в Китае. М., 1974, с. 39.
18
ших ошибки». Так уже в те годы упрочивалась и
насаждалась маоистская идеологическая доктрина. В
специфических условиях китайской действительности,
характеризовавшейся полуфеодальными пережитками,
внутренними междоусобицами, господством мелкобуржуазной
психологии, зарождалось и крепло не только учение
научного социализма, но и глубоко враждебные ему
воззрения социал-шовинизма, выразителем которых был Мао
Цзэдун.
Реальная возможность ограничить, а затем и
устранить влияние идей Мао Цзэдуна появилась в период
подготовки и проведения VIII съезда КПК — последнего
съезда, на котором были сформулированы и оформлены
реалистические выводы о путях построения социализма
в Китае. VIII съезд КПК состоялся в сентябре 1956 года,
в условиях, когда благодаря помощи СССР, других
братских стран победила народная революция и китайский
народ получил возможность осуществить свои вековые
чаяния. На съезде были объективно оценены возможности
страны, сделан особый упор на необходимость
дальнейшего упрочения сотрудничества с КПСС и Советским
Союзом. В решении VIII съезда было записано о
необходимости продолжать укреплять и усиливать вечную и
нерушимую братскую дружбу с великим Советским Союзом
и всеми странами народной демократии *. Однако
правильные в основе решения пе были подкреплены
необходимой организаторской деятельностью и
практическими шагами по укреплению интернациональных уз
солидарности с социалистическими странами.
После съезда Мао Цзэдун еще жестче стал проводить
курс на устранение из руководства интернационалистов,
усиление культа личности, насаждение
националистических взглядов среди своего окружения. Вскоре после
съезда отход КПК по воле «кормчего» от принятых на
нем решений ускорился. Он сопровождался
авантюристическими, волюнтаристскими решениями в экономике,
националистическими — в политике,
оппортунистическими — в идеологии. Все это необходимо учитывать при
анализе исторических корней возникновения маоизма.
Таким образом, глубокая социально-экономическая
отсталость Китая, переплетение в идейной жизни общеет-
1 См.: Материалы VIII Всекитайского съезда
Коммунистической партии Китая. М., 1956, с. 510.
2*
19
ва самых различных течений религиозно-патриархального
толка с пестрой мозаикой мелкобуржуазных воззрений,
господство традиционного великоханьского
национализма — все это послужило исторической идейной почвой
для появления мелкобуржуазного учения в форме
маоизма. Это учение, трансформируясь в конкретной
социальной практике, внутренней и внешней политике
пекинских руководителей, создало тот уродливый
милитаристский, социал-шовинистический феномен, с которым
марксистским партиям теперь приходится вести настойчивую
борьбу.
Идеология — это своеобразная систе-
Теоретический ма идей теорий, взглядов, отража-
портрет маоистской ' „ г ' ' г
идеологии ющих действительность через
призму интересов определенных классов.
Однако идеологию маоизма системой назвать нельзя. Это
пестрая теоретическая мешанина. Главной отличительной
чертой, характеризующей маоизм в теоретическом
отношении, является именно эклектика — беспринципная
смесь самых разнородных элементов и взглядов.
Эклектицизм маоизма отражает мировоззрение мелкой
буржуазии, которая занимает «промежуточное»
положение в классовой структуре общества и потому не может
иметь цельного мировоззрения. Именно этим и
объясняется, что маоизм способен принимать, в зависимости от
исторической обстановки, широкий диапазон идейной
«окраски» и устраивать как «ультралевых», так и типично
правых ренегатов и перебежчиков, а также самых
махровых реакционеров различных полуфашистских диктатур.
При внимательном ознакомлении с работами Мао,
особенно вошедшими в пятый том его «Избранных
произведений», в которых изложена идеологическая доктрина
маоизма, нетрудно убедиться, что наряду с формально,
потребительски используемыми отдельными
положениями марксизма в ней широко представлены элементы
троцкизма, анархизма, социал-утопизма и народничества.
В этом томе содержится около семидесяти речей,
статей и высказываний Мао Цзэдуна в период с 1949 по
1957 год. Сорок шесть текстов опубликовано впервые.
Материалы тома тщательно препарированы. В них пет
речей и высказываний, относящихся к первым годам
существования Китайской Народной Республики, высоких
оценок помощи Советского Союза Китаю. В томе
«Избранных произведений» есть немало мест, которые заново
20
переделаны, отредактированы в угоду сиюминутным
интересам, потребе сегодпяшнего дня пекинских
руководителей. Однако одного нынешние «редакторы» изменить
не могли — глубокой, поразительной эклектики взглядов
Мао Цзэдуна и его «учения». Здесь фактически есть все,
что характеризует самые различные школы и школки
оппортунистического направления, националистические
взгляды, ренегатство. По сути, в эклектицизме маоизма
выражена его глубокая научная несостоятельность и
социальная реакционность. Даже при беглом ознакомлении
с «трудами» главного идеолога маоизма можно увидеть
наличие самых различных оппортунистических
концепций п идей.
Элементы троцкизма в идеологии маоизма наиболее
отчетливо просматриваются, когда речь заходит о
перспективах революции. Известно, что В. И. Ленин
решительно отбросил троцкистский тезис о том, что между
буржуазно-демократической и пролетарской революциями
обязателен многолетний интервал, необходимый якобы
для накопления пролетариатом сил. Троцкисты
утверждали, что если «революционный взрыв» в одной стране не
будет поддержан выступлением всего мирового
пролетариата, то неизбежно поражение социализма, утрата им
своей революционной сущности. Именно об этом много
говорят сегодня пекинские пропагандисты, пытаясь
доказать «обуржуазивание» советского общества,
«реставрацию капитализма» в СССР, превращение его в
«социал-империализм» и т. д.
Заимствования у троцкистов хорошо видны и в
области методов хозяйственного и военного строительства в
Китае, п в отношении к конкретным формам классовой
борьбы. Маопсты не скрывают своих симпатий к
различным троцкистским группкам в капиталистических
странах и оказывают им поддержку. Не случайно лидеры так
называемого IV Интернационала (троцкистского)
пользуются любым случаем, чтобы подчеркнуть свое духовное
родство с маоизмом.
Существенное место в идеологии маоизма занимают
элементы анархизма. Если окинуть взглядом всю
причудливо-уродливую идеологическую доктрину маоизма, легко
заметить в ней следы анархистской методологии
мышления и действий. Призывы к бесконечным «скачкам»,
разрушениям, вспышкопускательство, стремление
перескочить через исторические этапы и одним ударом решить
21
вековые социальные проблемы — неотъемлемые атрибуты
теоретической доктрины маоизма. Анархистские
тенденции характеризуют авантюристическую, глубоко
субъективистскую сущность маоизма, отсутствие в ней какого-
либо конструктивного, созидательного начала. Маоистский
лозунг «Бунт — дело правое», которым
руководствовались воинствующие молодчики, расправляясь с
подлинными марксистами в КПК во времена пресловутой
«культурной революции», есть не что иное, как
утверждение анархистского способа действий в социальной
практике. И тот факт, что сегодня в Китае пе видно
буйствующих толп хунвэйбинов с цитатниками Мао в руках,
совсем не означает, что в Пекине отказались от методов
анархистского воздействия на массы. В нужную минуту,
особенно когда будет необходимо прибегнуть к новым
чисткам, маоисты могут без колебаний использовать
«анархистское оружие толпы» против всех тех, кто не
разделяет взглядов нынешних мандаринов.
Маоизм, будучи беспринципной эклектической
мешаниной, впитал в себя и социал-утопические идеи. Они
проявляются прежде всего в переносе маоистскими
идеологами рубежей достижения вековых чаяний трудящихся
о социальной справедливости, материальном
благополучии, счастье, братстве в область туманных, бесконечно
далеких грез и утопических мечтаний. Чего стоят
утверждения Мао и его последователей о том, что
настоящий социализм возможен через многие сотни и даже
тысячи лет, а пока, мол, важно понять, что «бедность — это
хорошо». На XI съезде КПК практически также ничего
не было сказано о конкретных, реальных перспективах
решения задачи повышения благосостояния людей. Все
это отодвинуто за горизонты следующего века. Аскетизм,
уравниловку, самоотречение от всех благ, нивелирование
духовных интересов — лишь это реально могут
предложить нынешние маоисты трудящимся в качестве идеала.
Но именно это и означает, что маоизм социально
полностью несостоятелен; он не может указать массам
реальных путей и способов достижения ими своих вековых
чаяний в мире настоящем, а не в иллюзорном, мифическом.
Некоторые попытки изменить нынешнее материальное
положение трудящихся носят в основном показательный,
пропагандистский характер и, по существу, ничего не
меняют в бедственном положении масс.
Наконец, характеристика теоретических основ мао-
22
изма была бы неполпой, если пе отметить в пей наличие
народнических концепций. Главная из них — теория
вождя и массы, героя и толпы. Все работы Мао пролизаны
мыслью о решающей роли вождя, который «олицетворяет
диктатуру пролетариата». Однако объективный характер
законов общественного развития убедительно показывает
(и это давно доказано марксизмом), что в соотношении
«вождь—масса» решающая роль принадлежит массам как
главной движущей силе истории. Еще в середине
прошлого века эта великая истина прозвучала в строках
бессмертного «Интернационала»: «Никто не даст нам
избавленья: ни бог, ни царь и ни герой».
Культ личности, воспеваемый маоистами, особенно
при жизни «кормчего», выполняет основную социальную
функцию: вырабатывает у масс готовность к бездумному,
слепому повиновению и послушанию. Это один из
способов формирования фанатичного, догматичного
мировоззрения у людей. В области военной культ Мао является
основной мировоззренческой установкой для воспитания у
военнослужащих веры в «высшие» полководческие
качества «кормчего», его стратегическую безгрешность и
особую прозорливость. Невольно приходят на память
аналогии из китайской истории. Во времена правления
императрицы Цыси ее титул состоял из шестнадцати подтн-
тулов: Милостивая, Благодетельная, Счастливая, Главная,
Охраняемая, Здоровая, Глубокая, Ясная, Спокойная,
Величавая, Верная, Долголетняя, Чтимая, Высочайшая,
Мудрая, Возвышенная. Эти подтитулы складывались
постепенно, они наращивались к юбилеям, торжествам,
дням рождения и официально закреплялись
юридическими актами. При жизни Мао эпитетов, которыми
именовали его, едва ли было меньше. Во всем этом видна
глубокая антинародность, культовость, ничего общего не
имеющая с научным социализмом.
На смену культу Мао пекинские руководители
пытались создать если не культ, то его подобие — особое
почитание нового «вождя» — председателя ЦК КПК
Хуа Гофэна. И если в происходящей сейчас борьбе за
власть придет новый лидер, маоисты так же будут
стремиться к созданию ореола его исключительности.
Маоизм иначе не может: культ верховного правителя
является одним из важнейших средств их управления,
манипулирования массами. Здесь они мало чем отличаются
от китайских богдыханов, насаждавших в народе пред-
23
ставление о своем божественном предназначении и
происхождении.
Обоснование маоистамп культа личности — наглядное
выражение абсолютизации народнической концепции
роли вождя в историческом процессе — еще более рельефно
дорисовывает «социальный портрет» идеологии маоизма,
глубоко антимарксистской и эклектичной. К этому
следует добавить, что эклектицизм в теории сочетается с
субъективной диалектикой — основным методом маоизма,
построенном на абсолютизации антагонизмов, «скачков» и
взрывов.
Как видим, даже краткое рассмотрение некоторых
компонентов маоистской идеологии показывает ее
глубокую эклектичность. Но, отмечая и подчеркивая этот
бесспорный факт, следует иметь в виду, что это
характеризует прежде всего форму и содержание маоизма. Сущность
же его, несмотря на ярко выраженную эклектичность,
весьма цельна. Она заключается в мелкобуржуазном
отражении социал-шовинистических, гегемонистских
интересов и устремлений нынешних руководителей Китая.
Внешняя мозаичность и теоретическая пестрота маоизма
позволяют пекинским политикам брать из этого учения
то, что подходит для данного момента, для данной
ситуации. Другими словами, эклектическое содержание
мелкобуржуазной идеологии маоизма не историческая
случайность, а закономерное следствие антимарксистских
интересов шовинистической верхушки нынешнего Китая.
«Диалектика» Мао — это механистические
рассуждения о превращении одной противоположности в другую,
вне учета конкретных состояний предметов и явлений.
Например, о войне и мире «главный теоретик» рассуждает
так: «Война переходит в мир, мир переходит в войну. Мир
является обратной стороной войны. Когда не ведутся
военные действия — это мир... Война — это специфическая
форма политики. Это продолжение политики; политика—
это тоже своего рода война». Но что это? Подобные
утверждения есть не что иное, как вульгаризаторское
противопоставление противоположностей, которые, по Мао,
просто переходят одна в другую, меняются своими
местами. Так, в пятом томе «Избранных произведений» Мао
рассуждает: «Если буржуазия и пролетариат не
превращаются друг в друга, то почему посредством революции
пролетариат становится господствующим классом, а
буржуазии — подчиненным? Например, мы и чанкайшист-
24
ский Гоминьдан в корне противоположны друг другу. Но
в результате взаимной борьбы и взаимного исключения
обеих противоположных сторон мы с гомпньдановцами
поменялись местами...» 1 Нетрудно видеть, сколь
механистично и примитивно Мао понимает суть
диалектического процесса, который включает в себя наличие
источника развития, количественные и качественные
преобразования, отрицание устаревшего и становление нового и
т. д. В действительности лишь конкретный анализ
реальных социальных процессов может дать ключ к
пониманию тех или иных явлений, в том числе войны. Не
эквилибристика механистическими циклами, а изучение
глубинных причин тех или иных
социально-экономических явлений может дать основу для выяснения
существа общественных процессов.
Категориальный аппарат, теоретические понятия,
которые используются маоистами в «научных»
изысканиях, нередко означают и выражают другое содержание,
нежели в марксистской теории. Например, в философии
маоизма термин «диалектика» означает не что иное, как
эклектический набор механистических циклов; категория
«противоречие» — это всегда антагонизм, «истина» — все
то, что соответствует идеям Мао. Аналогичны и
социологические взгляды: «диктатура пролетариата»
отождествляется с диктатурой маоистского режима,
«социалистическая революция» равносильна вооруженному захвату
власти, «ревизионизм» — синоним действительности в
СССР и других братских странах социализма. Согласно
маоистской терминологии «революционер» только тот, кто
поддерживает маоизм, а «контрреволюционер»,
естественно, тот, кто не поддерживает.
Оценивая «диалектику» маоизма, следует исходить из
важного замечания В. И. Ленина, содержащегося в его
замечательной работе «Материализм и
эмпириокритицизм». Он отмечал, что «о философах надо судить не по
тем вывескам, которые они сами на себя навешивают... а
но тому, как они на деле решают основные теоретические
вопросы, с кем они идут рука об руку, чему они учат и
чему они научили своих учеников и последователей»2.
С этой единственно верной точки зрения маоистская диа-
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 442.
2 Л е п и н В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 228.
25
лектика выглядит как чистая софистика,
псевдодиалектика. В своих основных философских трудах
«Относительно практики», «Относительно противоречия», «Как у
людей появляются правильные мысли» Мао стремится
доказать, что антагонистические противоречия вечны, они
неистребимы и непроходящи. В пятом томе «Избранных
произведений», в ряде статей, написанных еще в 50-е
годы, он доказывает неизбежность противоречий и борьбы
Китая с Советским Союзом *. Категория «различие» (а
различий между социальными системами, культурой,
традициями всегда было и будет немало) предстает в его
трудах как исток проявления закона единства и борьбы
противоположностей.
В диалектике Мао и его последователи видели и
видят удобный способ обоснования любых волюнтаристских
шагов, авантюрных действий, прикрываемых ширмой
«научности». Поэтому в маоистской диалектике выражена
псевдонаучная интерпретация движения, развития,
противоположностей, борьбы. И это не просто теоретическое
невежество, а сознательное приспособление лжеметода
для оправдания и обоснования конкретных политических
шагов.
Не случайно буржуазные исследователи увидели в
маоистской «диалектике» нечто такое, что выхолащивает
марксизм-ленинизм и прямо искажает его те или иные
положения. Западногерманский политолог Гюнтер Барч
об этом пишет довольно откровенно и не скрывает своего
удовлетворения диалектическими упражнениями Мао.
«Значение философии Мао Цзэдуна,— пишет Г. Барч,—
состоит в том, что она в отличие от ленинизма и
сталинизма представляет настоящую философию, настоящую
диалектику. Она взламывает рамки диалектического
материализма и наполняет их новым содержанием, идущим
из концепций Мао Цзэдуна». По мысли
западногерманского ученого, Мао «основал новую школу мышления,
которая, применяя диалектику к коммунизму, разъедает
его»2. Лучшей похвалой ревизионизму, отступничеству
от марксизма-ленинизма едва ли что еще может быть.
Идеологии маоизма присущ и антиисторизм.
Искажением и фальсификацией подлинных исторических
фактов и событий маоизм пытается создать в сознании людей
1 См.: Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 407.
2 Б а г t s с h. Die Philosophic Мао Tsetung. Stuttgart, 1977, S. 30.
26
ложное представление о прошлом, о путях эволюции, о
сложившихся границах между государствами.
Антиисторизм нужен маоизму для того, чтобы обосновать
исключительную роль ханьской нации в человеческой истории,
закономерность ее притязаний на земли многих народов и
стран.
Излюбленная тема китайских историков —
«неравноправные договоры прошлого» и «нерешенность
пограничных вопросов» Китая с СССР, Индией, Монголией,
странами Юго-Восточной Азии. Особенно наглые
территориальные претензии маоисты предъявляют к Советскому
Союзу. Значительная часть советских земель на Дальнем
Востоке и в Средней Азии уже давно на картах, в
учебниках, издаваемых в Пекине, изображается как «исконно
китайская земля». Цинская империя в трудах пекинских
историков изображается преемницей Джунгарского
ханства, что означает принадлежность огромных территории
советских среднеазиатских республик к китайскому
государству. «Жэньминь жибао» регулярно употребляет
выражения вроде «наше озеро Зайсан», «наше озеро Балхаш»,
«наше озеро Темирту» (т. е. Иссык-Куль) и др.
Сегодня их аппетиты стали таковы, что и Тува, и Алтай, и
почти все Забайкалье изображаются «временно утраченными
китайскими землями». Все это является не просто
антиисторизмом маоистской доктрины, а грубой
фальсификацией бесспорных фактов, правовых документов,
исторических реальностей.
Многочисленные сборники, статьи, книги по
историческим проблемам, издающиеся сейчас в КНР, преследуют
одну цель: обосновать права Китая на захваты,
экспансию, произвольное изменение исторических границ.
Однако стоило бы напомнить фальсификаторам истории, что
в 1945 году на VII съезде КПК не кто иной, как сам Мао
Цзэдун, заявил, что «Советский Союз первым отказался
от неравноправных договоров и заключил с Китаем
новые равноправные договоры» 1.
Антиисторизм еще более обнажает теоретическую
убогость, ограниченность маоизма, не способного объективно
отражать социальную действительность со строго
научных позиций. Это в значительной мере объясняет догма-
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Пекин, 1969,
т. 3, С. 322 (па кит. яз.).
27
тический характер идеологии, основывающейся на
субъективизме взглядов и метафизичности мышления.
Таким образом, теоретический «портрет» маоизма
крайне мозаичен. Это пестрая эклектическая мешанина.
В маоизме присутствуют элементы троцкизма, социал-
утопизма, анархизма, конфуцианства, легизма,
политического прагматизма, других мелкобуржуазных идей и
взглядов. Этим, в частности, объясняется способность
маоизма подстраиваться, приспосабливаться к теориями
политическим взглядам деятелей и сил самого
различного направления и содержания, в зависимости от
конкретных нужд пекинского руководства в тот или иной момент.
Рассматривая историко-социальные истоки идеологии
маоизма, его теоретическую характеристику, представляется
необходимым раскрыть и его социально-политическое
содержание.
В плане социально-политическом
Маоизм как маоизм на современном этапе харак-
разновидность r r
антикоммунизма теризуется прежде всего
великодержавным шовинизмом, гегемонизмом
и антикоммунизмом, содержащим в своей основе
махровый антисоветизм. Такова триединая платформа
идеологии и политики нынешних пекинских руководителей, на
которую они опираются в принятии решений по вопросам
внутренней и внешней политики.
Идеи великодержавного шовинизма проходят красной
нитью через все труды Мао. Как уже отмечалось,
живучести великоханьского национализма способствовали мио-
ше объективные исторические обстоятельства, и прежде
всего внедрение националистических идей в
общественное сознание китайского парода на протяжении
тысячелетий, колониальный гнет империалистических держав
и т. д. Однако следует со всей определенностью сказать,
что взращивание китайского национализма в наше
время — прямой результат деятельности нынешних
пекинских руководителей.
В работах Мао есть много мест, подчеркивающих
исключительную роль Китая в мировой цивилизации, в
создании «китаизированного образца марксизма». Мао, его
апологеты и последователи настойчиво внушали и
внушают всем мысль, что только Китай может быть лидером
мирового революционного процесса, так как, мол, лишь
китайцы являются носителями революционных традиций и
идей.
28
На чем основываются эти утверждения? Мао и его
последователи неоднократно указывали, что лишь Китай
обладает возможностями для революционного
переустройства мира в глобальном масштабе. В качестве
стратегической задачи дальнего прицела Мао выдвинул задачу
«освобождения всего человечества» Китаем, другими
словами — обеспечение его мирового господства. Эта аваптю-
ристическая и преступная цель выдается в идеологии
маоизма за вершину революционности. В данном случае Мао
не оригинален. Один из проповедников конфуцианства
Мэн Цзы (IV в. до н. э.) эту идею — идею всемирного
господства Китая — сформулировал на много веков
раньше. Он утверждал, что народы мира ждут освобождения
их китайцами, «как дождя во время большой засухи», л
что только Китай может «принести счастье некптайцам
па вечные времена».
Маоисты модернизировали эту утопическую и
одновременно мессианскую идею, «доказав», что в стремлении
Китая к всеобщему влиянию и заключается существо
высшей революционности. В этом положении маоистской
доктрины рельефно просматривается не только реакционная
социальная утопия, но и глубоко шовинистическое
отношение пекинских теоретиков к судьбам других народов,
судьбам всей человеческой цивилизации. Для маоистов все
неханьцы — люди, которые по своему уровню стоят ниже.
Теоретики и политики маоизма и не пытаются скрыть
своего пренебрежительного отношения к национальным
меньшинствам. Во многих работах хмаоистов
обосновывается необходимость ассимиляции чжуаней, тибетцев,
казахов, уйгур в лоне ханьской нации.
Согласно первой конституции КНР в рамках единого
государства были образованы 5 автономных районов,
29 автономных округов и 64 автономных уезда. Однако
уже в начале 60-х годов маоисты стали осуществлять свою
программу насильственной ассимиляции. Этот процесс
усилился во время «культурной революции». Ущемление
прав национальных меньшинств, дискредитация
национальной культуры, языка, обычаев, прямые репрессии,
проводимые с благословения Пекина, наглядно показали
глубокую реакционность национальной политики маоизма.
Националистические установки во внешней политике
носят характер откровенного гегемонизма. Еще в 1958—
1959 годах Мао Цзэдун совершенно недвусмысленно
заявлял: «Мы должны покорить земной шар... Мы создадим
29
мощную державу...» Свои претепзии на гегемонию в
революционном движении Мао выражал в лозунге: «Ветер
с Востока одолевает ветер с Запада», в тезисе о
перемещении «центра революционных бурь» в Азию и т. п. Эти
идейно-политические установки убедительно
свидетельствовали о подмене маоистами классового подхода к
проблемам современности подходом националистическим,
расовым, геополитическим. Очевидно всем, что подобные
«теоретические прогнозы» «кормчего» и его наследников
отражают их откровенные претензии на мировое
господство Китая, сознательно принижают роль революционных
сил современности, международного рабочего класса,
игнорируют объективные закономерности общественного
развития.
Китайские руководители заявляли и заявляют, что
Китай «никогда не будет сверхдержавой», что он
«никогда не будет претендовать на гегемонию». Эти трескучие
фразы нужны лишь для камуфляжа, ибо идеология
маоизма — это идеология великодержавного гегемонизма.
Работы Мао Цзэдуна, материалы IX, X, XI съездов партии,
последняя конституция КНР не оставляют и тени
сомнений в том, что Китай намерен (если не сейчас, то в
будущем) подчинить своему влиянию, а затем, возможпо, и
господству многие народы мира. К такому выводу
приходят не только марксисты, но и многие трезвомыслящие
буржуазные ученые и политики. Американский ученый
Р. Бойд считает, что «теперь несомненно, что Китай
будет вести борьбу за распространение маоизма на весь
мир»1. Ападиз тенденций развития современного Китая,
пишет английский ученый Б. Ларкин, показывает, что
«приемлемая для Пекина модель участия в мировых
делах лежит в плоскости его глобального господства»2.
К сожалению, эти реалистические суждения еще не
являются определяющими в буржуазном общественном
сознании. Немало еще организаций, социальных групп и
лиц, которые, руководствуясь конъюнктурными,
сиюминутными интересами, не видят (или не хотят видеть) той
глубины опасности для многих народов мира, которая
вытекает из гегемонистского кредо маоистов.
В последние годы маоизм, камуфлируя свои гегемо-
пистские устремления, особенно часто прибегает к идео-
1 Boid R Communist Chinas. Eoreigh Policy, 1979, p. 73.
M.arkin B. China and Africa 1949—1970. London, 1975, p. 200.
30
логическому обоснованию этих поползновений. Именно
этому служила выдвинутая в свое время Мао так
называемая теория «сверхдержав». Ставя на одну доску
СССР и США, пекинские руководители изображают
Китай некой особой силой, стоящей во главе
иелрисоедттпившегося мира. В своих гегемонистских теоретических
изысканиях маоизм начисто отрицает существование основного
противоречия эпохи — противоречия между
капитализмом п социализмом и пытается подменить его
противоречием между странами «третьего мира» и
«сверхдержавами». На словах маоизм иногда еще воюет и
против империализма, но, как показывает жизнь, острие
своих идеологических, политических усилий он направляет
главным образом против СССР, всех прогрессивных сил
планеты. Этому же служит и пресловутая теория «трех
миров», своими истоками уходящая в китайский
традиционализм, абсолютизирующий роль Китая в мире, его
историю, теорию Мао о «промежуточных зонах», другие
его псевдомарксистские упражнения. Смысл «теории трех
миров» заключается в обосновании необходимости такой
расстановки политических и военных сил на мировой
арене, которая была бы выгодна Пекину и позволила ему
сделать новые шаги в достижении своих стратегических
целей.
В антикоммунизме и антисоветизме ныне
выражается главная черта социально-политического содержания
идеологии маоизма *. Маоистов с антикоммунистами
объединяет многое: глубокая враждебность к реальному
социализму, страх перед ростом революционного движепия,
стремление к гегемонизму, неприятие разрядки в
международных отношениях, ставка на милитаризацию страны,
как средство достижения своих политических целен,
отрицание опыта и значения достижений социалистических
стран. Начало антикоммунистическому перерождению
положил Мао, но и его идейные последователи оказались
достойными «кормчего». Политолог из ФРГ Клаус Ме-
нерт в своей книге «Наследники Мао делают все иначе»
подметил, что, хотя нынешние руководители в Пекине
практически во многом отказались от взглядов бывшего
председателя, две его главные установки они полностью
сохранили и взяли на вооружение: главный враг — это
1 См.: Пекип: вчера — резерв империализма, сегодня — его
союзник.— Коммунист, 1979, № 4, с. 82.
31
Советский Союз, а союзник — любой тот, кто выступает
против СССР *. Антисоветизм в работах Мао
прослеживается еще с 20—30-х годов. Мао уже тогда неоднократно
признавал, что видел в СССР не столько первое в мире
социалистическое государство, сколько надежный
источник экономической, политической и военной поддержки.
В качестве главного аргумента сначала косвенных, а
потом и прямых идеологических нападок на Советский
Союз был выдвинут фальшивый тезис, что «советский опыт
мало пригоден для Китая».
Антисоветские тенденции отчетливо проявились в
трудные для СССР годы первого периода Великой
Отечественной войны (1941 — 1942 годы). Китайские
руководители, близкие к Мао Цзэдуну, рассуждали о
несостоятельности советского военного искусства, советской воепной
науки, откровенно выражали скептицизм в отношении
исхода Великой Отечественной войны для советского
народа. Мао неоднократно утверждал, что «военная
стратегия Советского Союза неправильна», так как она исходит
не из его «народно-партизанского» понимания характера
войны. В окружении Мао даже давались «советы» нашим
представителям в Китае уйти за Урал и втянуть
фашистскую Германию в длительную партизанскую, «народную»
войну. Абсурдность подобных «рекомендаций» очевидна.
Особенно разнузданный характер антикоммунизм и
антисоветизм маоистов приобрел, когда пекинские
руководители вступили в открытое противоборство с Советским
Союзом, с мировой системой социализма, всеми
прогрессивными силами современности. Можно с уверенностью
сказать, что в идеологической доктрине маоизма
предельно эклектичной и антинаучной, коммунизм и
антисоветизм присутствуют во всех современных концепциях и
высказываниях.
Вот лишь один образчик современной антисоветской
продукции маоистов. В 1978 году в Китае вышла книга
«История борьбы народов Дунбэя против России» (Дун-
бэй — северо-восток* Китая). Книга написана Цзинлин-
ским институтом и «теоретической группой» воинской
части, где служил Лэй Фэн, прославившийся фанатичной
верностью идеям Мао Цзэдуна. В этом «трактате»
пространно излагаются претензии китайских руководителей
1 Mehnert К. Maos Erben macheu's anders Stuttgart, 197),
S. 81-85
32
на территорию СССР. В книге утверждается, что Россия
захватила у Китая 1,5 миллиона квадратных километров
территории. Приводятся различные доказательства
«неравноправности» Айгуньского, Пекинского и других
договоров между Россией и Китаем. В развязной форме
живописуется, как Россия напала на Китай и
«подавляла революционное движение китайского народа».
Книга насквозь антиисторична и фальшива. В ней нет
ни грана истины. Авторы делают еще одну попытку
поставить под сомнение исторически сложившиеся
границы, закрепленные целой системой международных
договоров. Этот фолиант рассчитан на разжигание у
китайского народа ненависти к Советской стране, так много
сделавшей для победы народной революции в Китае и
строительства социализма в нем. Аналогична по своему
содержанию книжонка «Китайско-русский илийский
договор» *. В труде «доказывается», что договор был
навязан русскими царями и согласно этому документу Рос-
сия-де незаконно отторгла северо-западные районы
Китая — озеро Балхаш, земли на востоке и юге от него,
бассейны рек Чу и Талас —- все «исконные территории
Китая». В книге полностью игнорируется тот
исторический факт, что ко времени подписания договора весь
Казахстан уже входил в состав России и русское
подданство добровольно приняли киргизские племена. Попутно
оспаривается правомочность Пекинского договора 1860
года и Чугучакского протокола 1864 года, которые якобы
были подготовлены и подписаны под давлением «белых
царей». Глубокий антиисторизм, фальсификация
документов, искажение общеизвестных фактов,
зафиксированных в государственных документах, характеризуют и это
маоистское издание.
В подобных «трудах» обосновывается
«правомерность» экспансионистских действий Китая, направленных
на пересмотр границ, «исправление» истории. Нужно ли
говорить, что эти попытки абсолютно беспочвенны в
научном отношении и совершенно бесплодны в
политическом плане. Абсурдные территориальные притязания
Пекина лишь разоблачают антисоциалистический,
милитаристский характер маоистской идеологии и политики,
1 Китайско-русский илийский договор — так именуется
китайцами Петербургский договор 1881 г.
«■
3 Зак. 512 33
срывают маску лжеинтернационализма с его
демагогических постулатов.
Антикоммунистический, антисоветский характер
действий Пекина особенно наглядно виден в его отношении
к советско-китайским договорным отношениям. Известно,
что 14 февраля 1950 года был подписан Договор о
дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Этот
выдающийся документ закрепил в правовой форме ту
огромную помощь, которую получила китайская революция от
советского народа и государства. Этот документ был
подписан в момент, когда Китай только что становился на
путь социального обновления, когда ему открыто
угрожали интервенцией империалисты, и прежде всего США.
По существу, Договор не только закреплял новый характер
отношений между двумя государствами и
народами, но и давал гарантию безопасности от экспансии
извне. Только твердая позиция Советского Союза, в
соответствии с Договором, удержала США от прямого
вмешательства во время Тайваньского кризиса. В то время
(октябрь 1958 года) Мао Цзэдун писал советскому
руководству: «Мы глубоко тронуты вашей безграничной
преданностью принципам марксизма-ленинизма и
интернационализма. Я от имени всех товарищей — членов
Коммунистической партии Китая выражаю вам сердечную
благодарность... В нашей борьбе с американцами мы
сейчас получили уже мощную поддержку со стороны
Советского Союза» 1. Советский Союз в крупных размерах
оказывал техническую, экономическую и военную помощь.
На льготных условиях СССР предоставлял Китаю
кредиты, промышленное оборудование, посылал советских
специалистов, готовил в советских вузах и техникумах
большое количество инженеров и техников. В течение 1951 —
1962 годов в нашей стране получили образование более
11 тысяч китайских специалистов. Значительная помощь
КНР оказывалась и другими социалистическими
странами. Именно этот путь вел Китай в социалистическое
будущее.
Но уже в конце 50-х — начале 60-х годов маоистское
руководство резко взяло курс сначала на свертывание
советско-китайских отношений, а затем и переведение их в
плоскость прямой конфронтации. Основная причина это-
1 Цит. по: Капица М. С. КНР; три десятилетия — три
политики, с. 170.
34
го заключалась в стратегических целях Пекина,
связанных с идеей установления своей гегемонии вначале в
Азии, а затем и во всем мире. На пути к достижению этих
целей маоисты видят главное препятствие в лице
Советского государства, последовательно выступающего
против любых форм экспансии и гегемонии.
Одностороннее прекращение действия Договора о
дружбе, союзе и взаимной помощи (об этом китайская
сторона объявила 3 апреля"1979 года) еще более
разоблачило пекинских милитаристов, их антисоветскую
сущность и агрессивные цели. Этот акт еще отчетливее
показал всю глубину разрыва Пекина с истинно
революционными силами, степень предательства им интересов
китайского народа.
. Документы последних съездов КПК, закрепивших
антисоветский курс Пекина, высказывания, статьи,
многочисленные интервью нынешних руководителей КНР,
других представителей пекинской верхушки подтверждают
истину, что повернули острие своих идеологических атак
против СССР пекинские лидеры потому, что видят в нем
главное препятствие в достижении своих гегемонистских,
великодержавных целей. Антисоветизм идеологии
маоизма является вместе с тем одним из средств оправдания
проводимых в КНР милитаристских кампаний,
широких военных приготовлений против пресловутой
«угрозы с Севера». Однако всякому непредубежденному
человеку видна эта большая ложь. Советский Союз устами
своих руководителей многократно заявлял, что он не
имеет к КНР никаких территориальных претензий и
готов наладить отношения на добрососедской основе.
Никакой «военной угрозы с Севера» не существует. Советский
Союз никогда не вооружался с целью нападения на
другие государства, никогда не был и не будет зачинщиком
гонки вооружений. Все, что советские люди
предпринимают в военной области, делается для того, чтобы
обезопасить себя и своих социалистических друзей от
нападения, не допустить агрессии.
Таким образом, социально-политическая сущность
идеологии маоизма носит крайне реакционный,
антинародный, авантюристический характер. Гегемонизм,
национал-шовинизм, антисоветизм идеологии необходимы мао-
истам для обоснования своих претензий на роль ведущей
силы в «третьем мире», а затем и в глобальном масштабе.
Все эти элементы идеологии, будучи внесенными (обычно
в примитивной форме) в сознание полуграмотных
крестьянских масс, могут рождать националистические
чувства, формировать слепой фанатизм, человеконепавистпи-
чество. Какие ядовитые плоды может дать маоизм,
прогрессивное человечество имело возможность представить,
оказавшись перед фактом жестокой, наглой агрессии
Китая против Вьетнама. Эта идеология по своей сути
враждебна и простым китайцам. Но сегодняшние правители
Китая делают все, чтобы народ не смог осознать это.
В идеологии маоизма, несостоятель-
иашмя™1*8 ной в теоРетическом> научном
отношении и реакционной в социально-
политическом плане, среди других черт наиболее
рельефно просматривается черта милитаристская, что имеет
определенное историческое обоснование. Дело в том, что
маоизм, проросший на местной, китайской почве, отразил
в своих концепциях как особенности развития китайской
нации, так и огромное влияние мелкобуржуазных слоев
на общественные процессы в стране.
Милитаризм своими корнями уходит в глубокое
прошлое Китая. Армия, военные всегда играли в истории этой
страны роль ведущей социальной силы. Как правило,
гражданская и военная администрация в обществе
олицетворялась в одном лице. Главенствующее положение
всегда занимал военачальник — феодал. Буржуазный
историк Хэ Пинди отмечал, что «китайское государство
всегда получало свою высшую власть от армии. А это
откладывало в сознании людей представление об
исключительной роли военной силы в обществе». Для
китайского феодала войны были профессиональным занятием,
неотъемлемым элементом реальной действительности. При
помощи войн милитаристские клики пытались упрочить
свое экономическое положение (захваты, контрибуции),
показывали свою относительную независимость от
императорской власти, а также решали проблему
«избыточного» населения провинций Китая. Войны, которые вели
феодалы, были кровавыми, опустошительными,
жестокими.
На протяжении последних двух тысяч лет Китай
непрерывно сотрясали междоусобные войны, которые
помимо своего социально-экономического влияния на жизнь
страны формировали в общественном сознании
устойчивые представления о неизбежности и естественности
военных конфликтов. Нельзя не видеть, что и сама народ-
36
пая революция в Китае вылилась в форму длительной
вооруженной борьбы, в ходе которой КПК всегда
уделяла первостепенное внимание военным проблемам. Мао в
своих военных произведениях, освещая конкретные
вопросы борьбы, часто обращался к историческому опыту
таких деспотов-милитаристов, как Цинь Шихуан, Сунь У,
Сунь Бинь, и других. Обычно эти исторические
параллели и аналогии выглядят теоретически неубедительно, а
порой и просто нелепо. Так, обосновывая необходимость
и допустимость переброски огромных масс людей для
осуществления сельскохозяйственных работ, Мао писал:
«В древности миллионы военных были переселены в
район к югу от Янцзы, а теперь это тем более можно
делать». Механически опираясь на идеалистическую
методологию мышления и действия, «главный теоретик»
маоизма одни и те же положения Конфуция или легиста
Шан Яна, оправдывающие насилие, мог использовать для
обоснования диаметрально противоположных позиций в
современных условиях.
При анализе вопросов классовой борьбы, социально-
экономического развития общества, становления
надстроечных элементов государства маоизм всегда исходит из
решающей роли военного насилия как универсального
метода и способа достижения любых целей. Они начисто
отвергают марксистско-ленинский подход,
предусматривающий возможность мирных и немирных средств в
революции. Обосновывая необходимость применения
революционного насилия, классики марксизма-ленинизма в
то же время допускают и возможность, при
определенных условиях, достижения своих политических целей
мирными средствами. Так, К. Маркс, выступая на
митинге в Амстердаме в 1872 году, отмечал, что достижение
революционных целей в определенных случаях может быть
осуществлено с помощью мирных средств '*. В. И. Ленин
учил партию и пролетариат умению гибко пользоваться
формами и методами классовой борьбы.
«...Революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь
овладеть всеми, без малейшего изъятия, формами или
сторонами общественной деятельности...» 2 Сама
историческая практика XX столетия показала глубокую
правоту марксизма-ленинизма и в этом вопросе, не допускаю-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 154
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 81:
37
щем абсолютизации каких-либо средств революционной
борьбы.
У маоистов все обстоит иначе. Насилие, насилие, на-*
силне — вот панацея от всех бед, вот единственный метод
и средство. Насилие военное, духовное, экономическое —
таковы главные инструменты Мао и его наследников,
рвущихся к осуществлению своих великодержавных целей.
Свою устойчивую приверженность идее (и средству)
насилия маоисты и не скрывают.
Уже в своих ранних работах Мао Цзэдун на первый
план ставил вооруженное насилие как главный способ
достижения политических целей. В это время он
находился под сильным влиянием легизма (китайское
идеалистическое учение, проповедовавшее насилие и
возможность использования любых средств для достижения своих
целей) и всячески подчеркивал одну из своих
важнейших идеологических аксиом — «есть армия — есть
власть». Причем, идет ли речь об экономических
проблемах, вопросах социального развития или культурном
строительстве, в конечном счете рецепты достижения
конкретных целей одни: сила, насилие, винтовка. Выступая
в марте 1957 года перед представителями журналистских
и издательских кругов, Мао с предельным откровением
сформулировал свое идейно-политическое кредо: «Наш
коронный номер — это война и диктатура».
Апологетика насилия в теории маоизма объяснялась
и тем, что в 20—30-е годы подавляющее большинство
членов КПК были военнослужащими. В партии
господствовали военные методы работы, приказным порядком
насаждались казарменные нравы и обычаи. Иногда
трудно было заметить отличие (и по структуре, и по
методам) между партией и армией. Нормы военной жизни,
армейская регламентация, отсутствие демократических
начал способствовали утверждению в общественном
сознании китайской нации глубокого представления о том, что
насилие и армия, как важнейший его атрибут,—
единственное средство достижения политических целей.
Культ насилия в идеологии и политике, по мнению
маоистов, не является какой-то аномалией, отступлением
от общечеловеческих норм. И потому насилие стало
устойчивой мировоззренческой позицией многих партийных
и военных функционеров, административной верхушки,
пропагандистских органов. Вот что говорится о насилии
в «Хунци» — ведущем теоретическом органе КПК: «Без
38
разрушения нет созидания. Разрушение — это критика,
это революция. Разрушение требует выяснения истины, а
выяснение истины и есть созидание. Прежде всего
разрушение, а уж в самом разрушении заложено
созидание» 1.
Подобные псевдонаучные выкладки, обрамляемые
частыми эпитетами «великое потрясение», «грандиозные
перемены», «очистительные бури», чрезвычайно далеки от
классового подхода, конкретно-исторического анализа
реального явления или процесса. И хотя нынешние
пекинские руководители меньше занимаются революционной
риторикой, их отношение к насилию, как главному
средству достижения своих целей, не изменилось. Просто
сейчас в Пекине стали действовать более гибко, нежели при
Мао, более тонко научились камуфлировать свои
намерения.
Разумеется, марксизм не отрицает насилия. Но есть
насилие революционное и контрреволюционное. Насилие
может ускорить революционный процесс или затормозить
его, в зависимости от социального содержания и
политической направленности актов насилия. «...Не в одном
насилии сущность пролетарской диктатуры, и пе главным
образом в насилии, — писал В. И. Ленин. — Главная
сущность ее в организованности и дисциплинированности
передового отряда трудящихся, их авангарда, их
единственного руководителя, пролетариата»2. А маоистская
идеология абсолютизирует военное насилие, насаждает культ
силы. Анализ работ Мао Цзэдуна, политических
документов КПК, материалов IX, X и XI съездов, последней
сессии ВСНП показывает, что решение любых проблем
в стране, по взглядам маоистов, в конечном счете
связано с подготовкой к войне, милитаризацией общества,
фактическим насаждением принципов и методов
«казарменного социализма».
Маоистское учение исходит из положения, что война
является естественным, нормальным состоянием общества.
У Мао Цзэдуна в его работах есть много мест, где
утверждается, что превращение мира в войну так же
обычно, как и смена весны летом. В основе такого
взаимоперехода, по мысли Мао, лежит взаимопревращение
противоположностей. В работе «Относительно противоречия»
1 X у п ц и, 1974, № 12, с. 9.
2 Л с и и и В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 385.
39
он утверждал, что «война и мир — явления,
превращающиеся одно в другое. Война сменяется миром... Мир
сменяется войной... Почему это происходит? Потому, что в
классовом обществе такие противоречивые явления, как
война и мир, в определенных условиях взаимосвязаны» ].
Из подобных рассуждений вытекает, что состояние мира
должно непременно смениться состоянием войны. По Мао
Цзэдуну, мир — это лишь пауза перед очередным
поенным столкновением.
Естественно, в подобных рассуждениях нет ни грана
диалектики. Неизбежность войны, по взглядам маоистов,
является фатальным, предопределенным делом. Подобная
концепция твердо укоренилась в сознании и нынешних
руководителей, которые в любой подходящий (и
неподходящий) момент заявляют о неизбежности,
обязательности войны. Нельзя не видеть, что такие установки
исподволь, но целеустремленно формируют в общественном
сознании китайской нации представления о войне как
естественном, неизбежном явлении.
Не лишним будет напомнить ряд высказываний Мао
Цзэдуна, характеризующих отношение маоизма к войне,
ее последствиям. Так, даже в сентябре 1956 года на
VIII съезде КПК, когда Мао пытался еще скрывать свои
каннибальские взгляды, он заявлял: «Война, ну и
хорошо... Войны не нужно бояться. Будет война, — значит,
будут мертвые... По моему мнению, атомная бомба не
страшнее большого меча. Если во время войпы погибнет
половина человечества — это не имеет значения. Не
страшно, если останется и одна треть населения». Трудно
представить и выразить ту степень бесчеловечности и
антигуманизма, которая содержится в этих беспредельно
жестоких словах. Мало этого, Мао до конца дней своих
поэтизировал войну, изображал ее как высшее благо. И это
мракобесие выдается пекинской печатью за высшую
философскую мудрость и поэтическое совершенство! В
примитивных виршах Мао отчетливо просматривается
милитаристское содержание мышления мелкобуржуазного
идеолога.
Милитаристская заостренность работ Мао полностью
взята на вооружение новыми руководителями Китая,
которые даже обогатили маоизм рядом своих новых апти-
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. М., 1953, т. 2,
с. 455.
40
марксистских выводов. В газете «Жэньминь жибао» 18
января 1978 года была опубликована статья о
«национальной независимости стран второго мира», т. е. развитых
капиталистических государств. Авторы статьи,
произвольно оперируя цитатами и фактами, «доказывают», что
вооруженное насилие в политике неизбежно. Более того,
оно желательно. Пекинские «теоретики» не
останавливаются перед откровенными провокационными призывами
к странам «второго мира» активнее готовиться к войне
против «социал-империализма».
Как уже говорилось, марксисты-ленинцы признают
роль насилия в революционном процессе. «Насилие
является повивальной бабкой всякого старого общества, когда
оно беременно новым. Само насилие есть экономическая
потенция» \ — подчеркивал К. Маркс. В этой
лаконичной фразе великий мыслитель точно определил роль
насилия в развитии общества, в революционном его
преобразовании. Насилие необходимо (и возможно) лишь при
назревших социальных и экономических условиях. Но
насилие — лишь «повивальная бабка», помощница в
процессе, который имеет более глубокие корни и основания. Не
«бабка» рождает новое, не она его творит, она лишь
помогает успешнее протекать процессу, основанпому на
глубоких внутренних причинах и закономерностях2. Однако
маоисты этого никогда не понимали и не хотели
понимать. Насилие для них и цель, и средство, и причина.
Абсолютизация насилия в общественных процессах ставит
их в ряд с руководителями старых милитаристских клик
в Китае, вершивших судьбы народа и государства по
принципу «тот прав, кто сильнее».
Такова политическая логика идеологии маоизма.
Насилие, насилие, насилие. Лишь оно может позволить достичь
«лучезарного будущего», лишь в насилии маоисты видят
особый смысл бытия. Нелишне заметить, что пекинские
теоретики неоригинальны. Подобные идеи в свое время
развивал Ницше, а затем реализовывали на практике
фашисты. Чем это кончилось, известно всем.
Даже краткое рассмотрение идеологии маоизма
показывает, что она является одной из современных
разновидностей мелкобуржуазной идеологии. Маоизм все больше
приобретает крайне реакционное содержание и характер.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 761.
2 См.: Бурлацкий Ф. Маоизм или марксизм. М., 1967, с. 87.
41
маоистскому антикоммунизму в огромной степени
присущи шовинизм, антисоветизм, агрессивный гегемонизм.
Эта идеология, по-прежнему маскирующаяся
марксистскими фразами, представляет большую опасность для всех
прогрессивных сил современности, так как она является
основой авантюристических, милитаристских шагов
Пекина в различных сферах международной жизни. Опасность
маоистской идеологии заключается и в том, что она
опирается на материальную базу громадной страны и служит
духовным источником политического и военного
авантюризма, ослабляет общий антиимпериалистический фронт
борьбы. Мировое революционное движение вынуждено
отвлекать значительные силы и средства на
идеологическую и политическую борьбу с маоизмом.
Социальная действительность, об-
«Коррсктировка» щественная практика — вот в копеч-
маоизма пекинском ^ г
руководством ном счете главные критерии
жизненности и ценности той или иной
теории или идеологической доктрины. Прошедшие годы после
смерти Мао показали глубокую научную
несостоятельность и социальную реакционность его учения. Это
очевидно не только за пределами Китая, но ясно и для
многих в Пекине. Однако отказаться, выбросить па свалку
истории маоистский идеологический хлам — значит не
только расписаться в своем политическом фиаско, но и
подорвать возможность удержаться на вершине власти.
Этого пекинские руководители допустить не могут.
Именно поэтому на всех крупных политических форумах в
Китае, прошедших после Мао, пекинские руководители
твердят о своей приверженности и верности «идеям Мао».
Достаточно привести лишь несколько их высказываний,
чтобы убедиться в этом.
Председатель ЦК КПК Хуа Гофэн, выступая на
Всеармейском совещании по вопросам политработы в НОАК
29 мая 1978 года, заявил, что «мы будем неуклонно
придерживаться великого плана строительства мощной
державы, разработанного председателем Мао». Он
продолжал в своем выступлении развивать мысль о том, что
«надо творчески применять идеи Мао Цзэдуна и идти
вперед согласно его указаниям».
Выступая на совещании кадровых работников 16
января 1980 года, бывший тогда заместитель премьера
Госсовета КНР Дэн Сяопин отмечал: «Мы должны
неустанно пропагандировать правоту идей Мао Цзэдуна и бес-
42
предельное будущее Китая». Как видим, два важных лица
в пекинской иерархии руководителей однозначно говорят
v своей приверженности и верности идеям покойного
«кормчего». И это не случайно. Основное
антисоциалистическое, антисоветское, шовинистическое содержание
маоистской доктрины устраивает пекинскую верхушку,
ибо это доктрина милитаризма, войны, оголтелого
гегемонизма. Собственные интересы нынешних руководителей
Пекина, характеризующиеся крайним
социал-шовинизмом, полностью совпадают с устремлениями,
выраженными в постулатах Мао Цзэдуна. И тем не менее в Пекине
непрерывно, правда не всегда открыто и гласно, идет
«подчистка», корректировка, «улучшение»
идеологической доктрины маоизма. Чем это вызвано и в чем такая
корректировка выражается?
Причины, побудившие пекинское руководство
«поправлять» идейное наследие Мао, заключаются в
несоответствии некоторых его установок новым условиям, одиозности
многих его лозунгов и формулировок, в слишком
откровенной ставке на субъективный фактор в ущерб фактору
материальному. Хотя Мао вел длительное заигрывание с
американским империализмом, он не решался идти на
прямое блокирование с ним, а пытался главным образом
столкнуть СССР и США между собой. Такая позиция
также не полностью отвечает нынешним планам
руководителей КНР.
Более прагматический курс, взятый ныне Пекином,
требует освобождения маоистской доктрипы от некоторых
положений, на которых настаивал Мао. Например, именно
он насаждал в практику установки о том, что
«экономические стимулы в народном хозяйстве — это ревизионист*
ский хлам», лозунги о необходимости борьбы «против двух
сверхдержав как главного во внешней политике», об
оценке «культурной революции» как могучего ускорителя
революции и т. д. Все эти, как и многие другие, лозупги и
политические установки уже не отвечают требованиям
дня. Пекинское руководство пошло по пути
приспособления маоистской доктрины к нуждам нынешней геге-
монистской политики. Это осуществляется по нескольким
направлениям.
Во-первых, ведется освобождение идеологической
доктрины от указанных выше и других явно устаревших
положений, которые выглядят анахронизмом на фоне
сегодняшних событий. Так, у Мао в многочисленных работах
43
проводилась мысль о том, что классовая борьба в Китае
до конца нынешнего столетия будет играть роль
«решающего звена» в общественном развитии. В десятках его
речей, статей, высказываний эта идея (с различными
оттенками) подавалась как одна из центральных в его
учении. Сегодня, убедившись, что социальные перетряски
тина «культурной революции», которую Мао окрестил
«огромным классовым потрясением», уже не всегда отвечают
интересам пекинской верхушки, она меняет к ним свое
отпошение. А посему во всех последних официальных
докладах «решающим звеном» именуется кампания
«четырех модернизаций».
Во-вторых. Многие положения Мао просто читаются
по-другому. Подобная манипуляция идейным наследием
облегчается в силу глубокой внутренней
противоречивости маоистского учения, его эклектичности,
непоследовательности, субъективности. Теперь, например, «забывая»
глубоко субъективные идеи и действия «кормчего» в
области экономики («большой скачок», «коммуны» и т. д.),
уверяют, что именно Мао завещал «упорядочить плановое
управление», «усилить личную ответственность кадров»,
«повышать производительность труда», «поощрять
материально передовиков» и др. Подобная корректировка,
однако, означает не возвращение к социалистическим
принципам хозяйствования, а создание необходимого
минимума условий для более или менее нормального
функционирования экономической системы.
В-третьих. Корректировка маоизма ведется и в
направлении оправдания ужесточения внутренней и внешней
политики, усиления враждебности к реальному социализму.
Не случайно в пятом томе «Избранных произведений» Мао
особый акцент сделан на необходимости ускорения
милитаризации страны, наращивании военных приготовлений,
блокировании с «второстепенным врагом для того, чтобы
нанести поражение врагу главному». По существу, все
последние официальные заявления руководителей из
Пекина свидетельствуют о стремлении усилить в маоизме
социал-шовинистические, гегемонистские тенденции. Так,
например, Мао в конце 60-х годов заявлял: «Ситуация
ныне такова, что реально существуют две возможности: или
война вызовет революцию, или революция предотвратит
войну». Ныне такая формула уже не устраивает
маоистских руководителей. На XI съезде КПК Хуа Гофэн
истолковал эту формуду Мао уже в ином ключе: «Председа-
44
тель Мао говорил, что ни одна из этих возможностей не
может дать мира». Подобная «подчистка» Мао ведется
и по другим вопросам.
Корректировка маоизма вместе с тем сопровождается
иногда и плохо замаскированными выпадами против Мао
и его доктрины. Особенно часто это делают те, кто
пострадал в годы «культурной революции». Так, выступая в
июне 1980 года перед югославскими журналистами,
Генеральный секретарь Коммунистической партии Ху Яобан
(занявший этот пост недавно) после нескольких
традиционных фраз о «великом значении наследия Мао»
развил мысль о том, что «его ошибки в последние годы его
жизни стали причиной тяжелых несчастий для партии
и китайского народа». По его словам, экономические
теории Мао «неприемлемы в новых исторических условиях»,
и поэтому необходимо в свое время «пересмотреть» пятый
том «Избранных произведений» Мао Цзэдуна.
Эти вынужденные признания еще раз подтверждают
мысль о том, что и без Мао нынешние руководители
обойтись не могут, ив то же время его теории и взгляды
сегодня их во многом не устраивают. Поэтому естественно
ожидать дальнейшего «исправления» текстов «кормчего»,
как и прямого замалчивания многих его одиозных
выводов и формулировок. Другими словами, в обозримом
будущем будет, видимо, происходить такая эволюция
маоистских догм, которая отвечает запросам правящей
верхушки. Но это будет уже, если так можно сказать, не маоизм,
а неомаоизм.
Конечно, судить о глубине, содержании направлений
корректировки доктрины маоизма и ее политической
реализации непросто. При анализе событий в Китае
исследователь невольно сталкивается с исключительно большим
своеобразием тех или иных явлений в различной сфере.
Особый образ жизни, мышления, огромная роль
исторических, конфуцианских традиций, необычные методы
идеологического, психологического давления на
общественное сознание людей делают задачу такого анализа
весьма непростой. Но, даже с учетом поправок на чисто
китайские феномены, не всегда понятные европейцу,
совершенно бесспорно одно: процесс пересмотра
второстепенных догматов Мао идет. Идет непрерывно. Это является
не чем иным, как наглядным выражением глубокого
кризиса маоизма как идеологической системы и
политических позиций. Объективные потребности Китая сейчас
45
таковы, что независимо от того, будет ли он сползать и
дальше вправо или (что сейчас менее вероятно) его вновь
захлестнет волна «левого» радикализма, маоизм уже не
может полностью устроить враждующие группировки.
Просто каждая из фракций и впредь будет «читать»,
толковать, объяснять те или иные положения Мао, исходя из
сиюминутных конъюнктурных интересов политического
момента.
Все это свидетельствует, подчеркнем еще раз, о
глубоком внутреннем кризисе идеологии маоизма. Она
показала себя глубоко враждебной интересам революционного
движения, интересам китайского народа, интересам
социализма. Однозначного отношения к идейному наследию
в Пекине нет. Если в основном, что характеризует
идеологию маоизма — великодержавности, шовинизме,
гегемонизме, апологетике военных средств в достижении
политических целей, пекинские руководители едины, то в
вопросах толкования социального, экономического,
культурного аспектов учения существуют самые различные
точки зрения. Вокруг этого не прекращается борьба,
приглушенная внешне полемика. При всем этом пекинские
руководители, опираясь на испытанный способ, многие грехи
Мао взвалили на «банду четырех», приписывая им
«извращение указаний председателя», «нарушение его
установок».
Корректировка некоторых положений маоизма
свидетельствует также об усилении позиций прагматиков в
ущерб радикалам — тем руководителям, которых на
гребень политической власти вынесла «культурная
революция». Весьма симптоматично, что прагматизм, как
буржуазная позитивистская концепция, стал отвечать духу и
поступкам пекинского руководства, В прагматизме, как
известно, господствует такой подход к явлениям
действительности, социальной практике, когда оправдывается
буквально все, что выгодно господствующей верхушке.
Истинным считается все то, что выгодно. При таком
подходе «истина» превращается в нечто совершенно
произвольное, которое может быть использовано в любых
целях. Вся деятельность маоистского руководства является
ярким подтверждением приверженности именно такому
прагматистскому подходу. Полная беспринципность,
способность сегодня отказаться от тех положений, которым
они молились еще вчера, стали характернейшей чертой
стиля пекинского руководства.
46
Политические маневры в столице КНР вокруг
идейного наследия Мао и его установок коснулись и некоторых
событий истории китайской компартии в плане
пересмотра их оценки. Известно, что наиболее правильные,
социалистические выводы сделал VIII съезд КПК,
зафиксировавший в своих решениях оптимальную программу
деятельности на длительные годы вперед. С момента
отхода руководства КПК и КНР от интернационального
сотрудничества с социалистическими странами о решениях
этого съезда буквально ничего не говорилось и не
упоминалось. Да это и понятно, ведь они противоречили тому
курсу, который избрали Мао и его единомышленники.
Однако во время празднования 30-летия КНР в
официальных докладах VIII съезд был упомянут, но сугубо в
фальсифицированном варианте. Так, VIII съезд КПК
записал в своих решениях, что успех строительства
социализма в Китае всецело будет зависеть от укрепления
дружбы с Советским Союзом и другими
социалистическими странами, от единства антиимпериалистических
действий. Однако эта ведущая идея была истолкована как
«задача создания широчайшего единого международного
фронта борьбы против советского социал-империализма».
В этих и других, им подобных прямых фальсификациях
партийных документов прошлого маоистская верхушка
видит один из «резервов» в системе аргументов
правильности своей линии.
Таким образом, происходящая корректировка
маоистского учения не затрагивает главного — шовинистической
сути этой идеологии. Без авторитета идей Мао пекинские
руководители обойтись не могут. Все свои
авантюристические, волюнтаристские, милитаристские шаги они
обосновывают «идеями Мао». Даже в случае провала,
неуспеха, неудачи феномен Мао позволяет им отгородиться от
обвинений в ошибках. А поскольку в наследии Мао
Цзэдуна можно найти любые идеи — от крайне левых до
сугубо консервативно правых, обращение к его
«теоретическому» вкладу является помимо всего прочего и очень
удобным приемом. Тогда же, когда они вынуждены
отказываться от наиболее одиозных идей «кормчего», они это
делают... ссылаясь на Мао, найдя соответствующую
цитату или изречение.
Конечно, это не может не вызывать недоумения и
идейных шатаний у здравомыслящей части партийных
кадров, у образованной молодежи, усматривающей в ма-
47
нипулировашш идеями Мао весьма прозаические цели:
оправдать отход от пути социалистического развития,
свалить вину за провал на лиц, которые «неправильно
выполняли указания Мао», обосновать новый поворот во
внутренней и внешней политике. Пекинская верхушка очень
боится, что суть всех маневров вокруг маоистского
наследия будет правильно понята теми, кто устал от
бесконечных перетрясок, скачков, кампаний. Чтобы этого не
произошло, ужесточается идеологический пресс
маоистской пропаганды, духовной обработки населения и
личного состава НОАК.
Когда-нибудь в будущем, когда маоизм будет
действительно полностью развенчан как мелкобуржуазное,
шовинистическое учение, перед взорами китайского народа
предстанет вся глубина той социальной лжи и
политической демагогии, которой опутывали его сознание на
протяжении десятилетий. А это произойдет в отдаленной
перспективе непременно, так как маоистская доктрина,
обрекающая народ на неизбежные жертвы и постоянные
лишения, рано или поздно придет в столкновение с
интересами широких масс. Это понимают и в Пекине, и
некоторые реально мыслящие синологи на Западе.
Подлинная «демаоизация» возможна только на пути
полного развенчания маоистской доктрины. Нынешние
руководители этого допустить не могут. Чтобы сам народ
не поставил это на повестку дня, происходит процесс
приспособления маоистской военно-бюрократической
диктатуры к запросам пекинской верхушки, которая
продолжает балансировать между социализмом и капитализмом во
внутренней политике и все более открыто блокируется с
мировой реакцией в плане внешнеполитическом. Все это
усиливает в конечном счете основное противоречие в
сегодняшнем Китае: между антисоциалистической
идеологической доктриной маоизма и реальными интересами
широких масс. Всей своей внутренней политикой маоисты
стремятся его затушевать и пригладить. Пути и средства
этого различны: ужесточение политического режима,
направление внутреннего недовольства на внешнего «врага»,
социальное лавирование, безудержная демагогия. Таковы
рецепты идеологической доктрины маоизма.
Глава вторая
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА:
УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННО-
БЮРОКРАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Известно, что внутренняя политика имеет
решающее значение для развития всего общества, а также
для осуществления конкретных внешнеполитических
шагов. Чтобы понять особенности внутренней жизни Китая
и политики Пекина, следует помнить, что это
крестьянская страна. Преобладание крестьянства, составляющего
и ныне более 80 процентов населения, таило большие
сложности и трудности с самого начала преобразований
"после народной революции. Маоисты их обойти не
смогли, ибо сами явились выразителями мелкобуржуазных
интересов и не понимали существа пролетарского
подхода к решению многочисленных сложных проблем в
отсталой, крестьянской стране.
В социальном плане трудность китайской революции
заключалась в решении вопроса о том, как идти к
социализму в стране, где пролетариат находится в абсолютном
меньшинстве, а мелкобуржуазные слои общества
занимают господствующее положение. Маоисты и стали, по
сути, выразителями их интересов, причем выражение это
проявляется в крайней, национал-шовинистической
форме.
В последние годы в политическом механизме власти,
ее исходных установках произошли и происходят
определенные изменения. Они вызваны прежде всего
трансформацией маоизма в идеологической и политической сферах.
Основное содержание этой трансформации заключается
в переходе маоизма с псевдолевацких,
псевдореволюционных позиций на позиции реакционно-прагматические,
позиции сугубо правого толка. Едва ли это можно назван»
шараханьем из одной крайности в другую, так как и
псевдолевацкий маоизм и маоизм правопрагматический
одинаково реакционны, антинародны, бесперспективны. Но
4 Зак. 512
49
если раньше пекинские политики и идеологи особо
заботились о революционной косметике и маскировке, то
теперь это их заботит меньше. Поворот с ультралевых
позиций на позиции ультраправые еще раз свидетельствует о
волюнтаризме, антинаучное™, беспринципности
идеологии и политики маоистов. Весь этот процесс
нашел отражение не только во внешней,
политике, но и во внутренней.
Антидемократиче- ^а словах маоисты провозглашают,
ский механизм что в Китае осуществляется власть
власти диктатуры пролетариата. Однако
никогда — ни раньше, ни теперь маоизм не осуществлял
своей главной опоры на пролетариат. Позиции рабочего
класса являются слабыми. У него нет истинной
марксистско-ленинской партии, нет подлинных профсоюзов. Опору
режима сегодня составляют не классы в целом, а лишь
отдельные слои населения, и прежде всего политическая
администрация на местах — «ганьбу», а также армия. По
своему характеру, формам, способам функционирования
политической власти в стране она несет на себе печать
антинародного, антидемократического режима
военно-бюрократической диктатуры.
Принципиальную основу внутриполитической
программы партийного руководства, возглавляемого Хуа Гофэном,
составляют маоистские установки. На них базируются
главные направления его практической деятельности.
Основные положения и идеи, оформившие созданный
«культурной революцией» режим военно-бюрократической
диктатуры, были сформулированы, как известно, в
конституции КНР, принятой в январе 1975 года и дополненной
песколько позже. В ней закреплена линия на
всестороннюю милитаризацию общества: «Государство
осуществляет курс на стимулирование подготовки на случай
войны». В конституции законодательно расширены функции
армии, закреплена ее роль и как репрессивного аппарата,
неоднократно подчеркивается мысль, что военное
строительство имеет первостепенной целью подготовку страны,
армии, народа к ведению войны. Конституцией упразднен
Государственный комитет обороны. ВСНП и его
Постоянный комитет лишились права рассматривать и решать
вопросы войны и мира, военной политики.
В конституции КНР, подправленной в 1978 году,
опущены многие демократические положения, имевшиеся в
прошлом. В главе «Основные права и обязанности граж-
50
дан» ничего не говорится о равенстве всех граждан
перед законом, о материальном и юридическом обеспечении
их прав и свобод. В многочисленных статьях конституции
делается упор на повышение прав административных
органов и полностью опущены (по сравнению с ранее
действовавшей конституцией) положения о
социально-экономических и политических правах граждан. В этоАм, с
позволения сказать, «основном законе» государства даже
не предусматривается система народного
представительства в органах власти путем подлинных всеобщих
выборов. Глубоко антидемократическая, антисоциалистическая
конституция КНР законодательно оформила
военно-бюрократический механизм антинародной власти.
Решения XI съезда КПК развили эти тенденции и
отразили курс пекинского руководства на дальнейшее
ужесточение режима. Несмотря на упоминание категории
«демократия», все содержание докладов на съезде
глубоко антидемократично, ибо не исходит из интересов
широких народных масс, устраненных к тому же даже от
видимости участия в управлении государством.
Манипулирование терминами «диктатура пролетариата», «власть
трудящихся» имеет целью закамуфлировать истинные
намерения пекинских руководителей, все более
концентрирующих власть в своих руках.
Маоисты, укрепляя существующий механизм власти
в Китае, часто опираются на тезис Мао Цзэдуна «о
продолжении революции при диктатуре пролетариата». В_ма-
териалах XI съезда КПК, других официальных
документах этот тезис расценивался как «самое важное
достижение марксизма в современную эпоху» *. Что это
означает на практике?
Мао Цзэдун еще при жизни утверждал, что
продолжение революции при диктатуре пролетариата есть не что
иное, как непрерывная борьба со всеми инакомыслящими,
решительное применение насилия ко всем, кто не
разделяет официальных установок. Мао говорил: «Вести
революцию и не знать где буржуазия? Она как раз внутри
самой коммунистической партии; это лица в партии,
облеченные властью и идущие по капиталистическому
пути» 2. Этот маоистский вывод расценивался как прямое
указание и политическое основание для чисток в партии,
1 Хунци, 1977, № 9, с. 9.
2 Жэиьмпнь жибао, 1976, 10 марта.
руководстве, армии. И хотя сейчас этот тезис нынешние
руководители не поднимают на щит, нет сомнений в том,
что в нужный момент они его вновь вытащат на свет.
К этому следует добавить, что в маоистской
трактовке диктатура пролетариата выглядит совсем иначе,
нежели в марксизме-ленинизме. Мао Цзэдун в диктатуре
пролетариата видел одну функцию — насильственную,
которая могла реализоваться как внутри страны, так и вне ее.
Это ничего общего не имеет с подлинным, истинным
существом социальной роли диктатуры пролетариата. Она,
как учит марксизм-ленинизм, имеет не только сторону
насильственную (подавление врагов революции), но и
главным образом сторону созидательную. Именно
созидательное содержание диктатуры пролетариата обеспечивает
движение к реальному социализму: укрепление союза
рабочего класса и крестьянства, развитие социалистической
экономики, демократии, культуры, образования,
воплощение принципов пролетарского интернационализма,
усиление антиимпериалистической борьбы. Однако
руководители Пекина видели и видят в диктатуре лишь сторону
насильственную. Многочисленные призывы, содержащиеся
в решениях XI съезда КПК, материалах второй сессии
ВСНП, о необходимости «окончательно разгромить банду
четырех и их последователей», «навести революционный
порядок», «уничтожить всех, идущих по
капиталистическому пути» и т. д. лишь подчеркивают стремление
преемников Мао сделать еще больший упор на насилие в
механизме политической власти.
Фактически диктатура пролетариата трактуется ими
как диктатура над пролетариатом, диктатура над
трудящимися. Все лозунги, призывы, политические обращения
маоистов — об ограничении потребностей,
самопожертвовании, социальном аскетизме, готовности к лишениям, и
почти ничего — об удовлетворении материальных и
духовных потребностей трудящихся! Маоистская идеология и
политика всегда игнорировали личность трудящегося,
простого человека, и в решениях последнего съезда это нашло
свое окончательнее завершение: ни слова о человеке, о
его интересах, нуждах, запросах.
На одной из сессий Всекитайского собрания
народных представителей была осуществлена переработка
конституции КНР. Прошло всего несколько лет с момента
ее принятия (январь 1975 года), как потребовалась
корректировка некоторых положений в соответствии с кур-
52
сом, который проводят нынешние пекинские
руководители. Так, в преамбуле переработанной конституции
говорится, что главная угроза Китаю исходит от
«социал-империализма», то есть от СССР. Армия
провозглашена «опорой диктатуры пролетариата», а
возглавляет ее, согласно статье 19, председатель ЦК КПК.
В конституцию внесены некоторые изменения,
составляющие видимость демократии при выборах местных
органов власти. Однако согласно провозглашенной системе
население имеет право избирать лишь в «революционные
комитеты народных коммун». Во все вышестоящие
органы власти выборы осуществляются не на основе прямого
избирательного права, а при помощи сложной,
многоступенчатой системы «демократических консультаций на
соответствующих собраниях народных представителей».
Народ по-прежнему остается отстраненным от реального
участия в государственных делах, от решения своей
собственной судьбы.
В конституции теперь более пространно говорится
«о демократии, правах и свободах граждан». Такие
рассуждения рассчитаны прежде всего на внешнее
потребление. Это — попытка создать видимость дальнейшего
развития политической системы и органов народного
представительства. Однако вся функционирующая система
административных органов КНР лишь подчеркивает
бюрократический, антинародный характер нынешней власти
в стране.
Сегодняшняя политическая администрация в Пекине
озабочена тем, чтобы антидемократизм системы не
оттолкнул партнеров из капиталистического мира. Прагматизм
подхода к решению стоящих перед Китаем проблем
заставляет пекинскую верхушку предпринимать
определенные шаги по восстановлению некоторых государственных
и общественных институтов, которые были в свое время
разгромлены «культурной революцией». В частности,
после второй сессии ВСНП были введены в действие
некоторые правовые кодексы государственного
законодательства, воссозданы некоторые министерства (юстиции,
геологии), приняты положения о функционировании суда
и прокуратуры на местах. Все это может показаться
должными мерами по «укреплению законности» в стране.
Однако в действительности положение обстоит иначе.
Пекинское руководство, не отказавшееся от насилия
как универсальцрго средства достижения политических
53
и иных целей, намерено придать видимость законности
любых мер, которые будут приниматься против возможной
оппозиции, людей, не согласных с проводимой
политикой, любых инакомыслящих. В то же время остается
в силе ряд постановлений, принятых ранее и
позволяющих властям применять внесудебное принуждение к
лицам, которые <<ведут антиобщественный образ жизни». Это
выражается в высылке неугодных людей в отдаленные
районы на «перевоспитание», отправке на
принудительные работы, запрете менять место жительства и т. д. На
второй сессии ВСНП были приняты решения о
постепенном преобразовании ревкомов в так называемые
«народные правительства» (местные органы власти). В основном
они («правительства») назначаются, но для
демонстрации «демократии» признано целесообразным в ряде
случаев формировать их и путем прямых выборов.
Вся жизнь простых китайцев настолько загнана в
рамки бесчисленных запретов и ограничений, что им
остается лишь роль бездушных винтиков. То, что в
социалистических странах является естественным, обычным
(социальное обеспечение, бесплатные обучение и
медицинская помощь, право на отдых, жилище и т. д.), для
китайцев предстает далеким, недостижимым благом.
Достаточно сказать, что в КНР обучение и медицинское
обеспечение производятся за плату, фактически
отсутствуют оплачиваемые отпуска. Карточная система
распространяется на питание, одежду, элементарные предметы
житейского обихода. Китаец лишен права без
разрешения властен выехать в другой город, в соседнюю
провинцию, в гости к родственникам и т. п. «Революционные
комитеты» производственных коммун («даньвэй») облечены
широкими правами надзора и контроля за членами
коммун. Как пишут долго прожившие в Китае буржуазные
журналисты Жак и Клоди Ъруайэль во французском
еженедельнике «Экспресс», в «даньвэй» (коммуне) полностью
распоряжается судьбой каждого члена коммуны ревком.
От руководства «даньвэй» зависит получение жилья,
талонов на товары, распределение билетов в кино,
женитьба или развод. Если рождается ребенок сверх
установленной нормы количества детей в семье (норма — два
ребенка), он никогда не получит места в яслях и
несколько лет не будет учитываться при распределении
талонов на питание.
Руководство «даньвэй» систематически проводит соб-
54
рания, на которых члены коммуны должны по очереди
выступать с самокритикой, разоблачать
«контрреволюционеров», активно принимать участие в различных
судилищах. Инквизиция «даньвэя» превращает людей в слепых
исполнителей, лишенных своего мнения, надежд,
настоящих человеческих радостей. Вместо человеческих
идеалов — маоистские идолы, вместо прав — чужая воля,
вместо социальной справедливости — уродливая
уравниловка, нивелирующая личности. Справедливости ради надо
сказать, что, несмотря на все эти запреты,
нормы-рамки, бюрократические шоры, многие выполняют
требования администрации формально, из боязни перед
властью.
Ужесточение военно-бюрократической диктатуры в
КНР выражается в стремлении правящей верхушки еще
больше укрепить репрессивные элементы политической
надстройки,, превратить государство в прямое орудие по
давления- всех инакомыслящих. Один из пунктов
политических задач, сформулированных Хуа Гофэном на
XI съезде КПК, так и называется: «Задачи по усилению
государственной машины». Пекинские руководители
усматривают в этом прежде всего усиление военной
организации общества как основного элемента милитаристско-
бюрократической диктатуры.
Решениями последнего съезда КПК предусмотрены
«революционизация и модернизация» всех элементов
военной структуры путем дальнейшего насаждения идей
Мао Цзэдуна в сознание Людей, воспитания их в духе
ненависти к «социал-империализму», прогрессивным
режимам, стремления к овладению новой техникой и
оружием. В докладе председателя ЦК КПК говорится, что
«только серьезное обучение и предъявление высоких
требований могут обеспечить боеспособность. Нужно как
следует поставить работу в военных академиях и военных
училищах всех профилей. Вместе с тем нужно всемерно
усиливать исследовательскую работу в области оборонной
науки и техники, чтобы поднять оснащенность нашей
армии на новый уровень».
Повышеппе роли военных в системе государственного
управления можно наблюдать не только в усилении
внимания к модернизации вооруженных сил Китая, но и в
кадровых вопросах. Достаточно сказать, что в
Центральном Комитете, избранном на XI съезде КПК, около
половины состава — военные. В Политбюро Центрального Ко-
55
митета КПК из 26 членов и кандидатов — 15 человек
военные из высшего эшелона руководства вооруженными
силами. Таким путем делается попытка утвердить в
жизни маоистский тезис о том, что армия является
идеальным образцом социальной организации и у нее всегда
нужно учиться.
Опираясь на военных в политических органах власти,
руководители Пекина стремятся перенести
военно-административные методы на деятельность общественных
организаций, школ, производства. Уродливым гибридом
производственного и военного организма явились так
называемые «сельскохозяйственные дивизии»,
производственно-строительные корпуса, в которых наиболее полно
олицетворена идея «казарменного социализма».
Милитаристский дух поддерживается и путем расширения народного
ополчения, насчитывающего десятки миллионов человек.
В его состав входит значительная часть мужского
населения страны, которая наряду с производственной
деятельностью выполняет функции вспомогательных военных
сил и задачи гражданской обороны.
Следует сказать, что меры, принимаемые режимом по
упрочению военно-бюрократической диктатуры в стране,
встречают хотя и неорганизованное, глухое, но
откровенное сопротивление. Об этом свидетельствуют
эпизодические волнения, происходящие в той или иной
провинции, нарастающее бегство китайцев в Гонконг, кампании
дацзыбао. В частности, в некоторых из дацзыбао,
вывешенных анонимными авторами на улицах Пекина,
нынешний режим и порядки в стране характеризуются как
«фашистские», «контрреволюционные», а политические меры
властей — «варварские», «драконовские» и т. д. Эта
стихийная волна народного протеста вызвала
замешательство в верхних эшелонах власти. Призывы лидеров к
«сплочению» и недопущению критики Мао
сопровождались очередными репрессиями, новым закручиванием
антидемократических гаек военно-бюрократической системы.
Это проявилось, в частности, и в том, что было покончено
с «игрой в демократию».
По мере усиления военных приготовлений пекинским
руководителям все больше мешают даже символические
проявления демократии. И они устраняются властями.
Так, вслед за появлением циркуляра, запрещающего
вывешивание дацзыбао, проведение митингов и
демонстраций, закрывшего «стену демократии» в Пекине, V пленум
56
ЦК КПК (февраль 1980 года) постановил предложить
ВСНП исключить из конституции КНР (статья 45)
положения о так называемых «четырех широко»: свободное
высказывание мнений, полное изложение взглядов, право
на дискуссии и возможность вывешивания дацзыбао.
Пекинские руководители сегодня утверждают, что «четыре
широко» не являются «хорошим методом развития
социалистической демократии», а лишь используются
«внутренними и внешними врагами» режима. То, что еще два
года назад выдавалось как «высокое проявление
демократизма», сегодня безжалостно шельмуется и устраняется.
Это для маоистского стиля руководства естественно.
Пекинскому руководству нужен молчащий, слепо следующий
лозунгам и призывам верхушки, а не думающий народ.
В механизме маоистской власти, пишут буржуазные
синологи из Франции Клод Кадор и Чэн Инсян в статье
«Китай: демократия в цепях» («Котидьен де Пари»),
демократия отсутствует, в силу чего «политическая
система глубоко антинародна. Если и нужна какая-либо
модернизация в КНР, то в первую очередь модернизация
(а точнее — рождение) демократии». Нельзя не
согласиться с этим выводом французских исследователей
сегодняшнего Китая.
*■ Существующий механизм политпче-
Перетряски на ской власти военно-бюрократическо-
всршипе политиче- г \.
ской пирамиды г0 режима приводится в действие
руководящей верхушкой — тем
составом лиц, который обычно именуется «пекинским
руководством». Кстати сказать, такое наименование
употребляется прежде всего для того, чтобы не отождествлять
высший руководящий эшелон власти с китайским
народом, который в конечном счете является жертвой
маоистской политики. Сегодня естественно, что далеко не все
в КНР понимают антинародный характер внутренней и
внешней политики последователей Мао, но рано или
поздно прозрение придет к многим простым людям Китая.
Что представляет собой правящая верхушка в
Пекине? Какие основные политические цели она ставит перед
собой? Почему ей удается осуществлять откровенно
контрреволюционную политику? Все эти вопросы задают те,
кто тяжело переживает трагедию китайского народа и
хочет верить в возможность сохранения
социалистической перспективы для КНР. Речь идет не о персоналиях.
Люди, руководители, находящиеся на вершине пирамиды
57
власти в Пекине, как видно из событий, приходят и
уходят, а маоистская политика пока остается. Тому есть ряд
причин.
Несмотря на то что в течение нескольких последних
лет, истекших после того, как затихли неистовства
«культурной революции», сменилось, и неоднократно,
большинство руководящих деятелей в Политбюро, Центральном
Комитете, правительстве, командованиях военных
округов, политика не претерпела существенных- изменений,
если не считать ее большего ужесточения и сползания
вправо. Контрреволюционный, антисоциалистический курс
полностью сохранился. Это происходит потому, что
социал-шовинизм, гегемонизм, антисоветизм отвечают самым
сокровенным интересам той правящей группировки,
которая сегодня вершит судьбами Китая. Великоханьские
амбиции, уверенность в особом предназначении Китая,
воскрешение старых имперских представлений о роли Китая
в «поднебесной» питают честолюбивые замыслы тех, кто
в дымке грядущего хочет видеть КНР всемирным
гегемоном.
Сегодняшнее руководство Китая (в начале 1980 года
вновь существенно перекроенное) представляет собой
причудливый симбиоз соперничающих группировок, порой
ведущих между собой настоящую политическую войну
и в то же время единых в том, что касается глобальных
планов и имперских целей Китая в мире. V пленум
ЦК КПК, проходивший в феврале 1980 года, вновь
выплеснул на поверхность глубокие, едва прикрываемые
внешне противоречия и разногласия внутри правящей
верхушки. В чем заключаются основные разногласия?
. Как было сказано выше, относительно
шовинистических, гегемопистских целей существует достаточно полное
единство. Что же касается путей, конкретных методов и
средств их достижения, здесь взгляды расходятся, что и
позволяет весьма условно разделить на несколько групп
верхний эшелон политической власти в Китае *.
Весьма влиятельной в пекинском руководстве ныне
является группировка тех, кого принято называть
прагматиками. Это, по существу, наиболее правое, проимпериа-
листическое крыло маоистской верхушки. Обычно этих
людей отождествляют со сторонниками и последователями
Дэи Сяопина, наиболее решительно выступающего за ус-
1 См.: Коммунист, 1980, № 3, с. 103.
58
коренное сближение с капиталистическим Западом, его
военно-политическими союзами. Личная судьба Дэна,
этого рупора правоэкстремистских руководителей, весьма
своеобразна. Сын помещика, вступивший в КПК в
1925 году, после совещания в Цзуньи (1935) принявший
сторону Мао Цзэдуна, занимавший видные посты в
партии и государстве, неоднократно подвергаемый опале, в
70-е годы особенно откровенно проявил свои крайне
реакционные, антисоциалистические взгляды. Ныне он и его
единомышленники олицетворяют курс, связанный с
глубокой деформацией общественных отношений в Китае, курс,
чреватый полной утратой социальных завоеваний
китайского народа. Последние два-три года дают немало
свидетельств постепенного усиления этого крыла в руководстве.
Есть основания полагать, что именно представители этой
фракции стали инициаторами прекращения
советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи,
быстрого сближения с США, агрессии против Вьетнама,
начала политики «открытых дверей» для иностранного
капитала. Это крыло — выразители наиболее глубокого
социального ренегатства и перерождения. У этих людей,
в сущности, нет определенных принципов, кроме
одного — глубокого антисоветского прагматизма.
По-прежнему обладает определенными позициями и
группировка, которую иногда по инерции называют
«радикалами». Так повелось с тех лет, когда эти люди были
выброшены на политическую поверхность волнами
«культурной революции». Одним из таких лиц явился и
нынешний председатель ЦК КПК Хуа Гофэн, настойчиво
пытающийся поставить себя выше враждующих
группировок. В свое время радикализм этих людей выражался в
левых по форме лозунгах и призывах и
контрреволюционных по содержанию действиях. Наиболее крупный удар
сторонники левого радикализма (которым в свое время
симпатизировал сам Мао) получили в связи с делом
«банды четырех».
Новое, существенное ослабление своих позиций
выдвиженцы «культурной революции» почувствовали в
феврале 1980 года, когда четыре члена Политбюро: Ван Ду-
син, Цзи Дэнкуй, У Дэ, Чэнь Силянь — были лишены всех
партийных и государственных постов. Все эти люди были
в свое время выдвинуты на высокие посты лично Мао
Цзэдуном. За этим фактом мало видеть простую
фракционную борьбу или месть Дэн Сяопина (который в свое
59
время серьезно от них пострадал), скорее, определенную
тенденцию. Л она заключается в том, что сегодняшнее
ядро все меньше нуждается даже во фразеологическом
левачестве, показной ультрареволюционности и ее методах.
Эти люди (устраненные в феврале 1980 года)
малокомпетентны в современных экономических и технических
вопросах и не всегда разделяли циничный прагматизм
прозападных деятелей. Не случайно места этой новой
четверки заняли люди, которые более близки к типу
современных «социальных технократов», а главное —
безоговорочно разделяют стратегические планы Дэн Сяопина и его
сторонников.
Прежде всего речь идет об избрании в состав
постоянного комитета Политбюро ЦК КПК двух новых членов:
Ху Яобана и Чжао Цзыяна — будущего премьера
Госсовета. Ху Яобан, который с 1952 по 1966 год был первым
секретарем Союза коммунистической молодежи Китая, а
затем низвергнут толпами хунвэйбинов, занял пост
генерального секретаря ЦК КПК. Этим людям, пострадавшим
во время «культурной революции», прочат большое
будущее в осуществлении прагматистских программ. Новая
генерация руководителей в пекинской верхушке, по всей
видимости, является последователями Дэн Сяопина, и они
едва ли внесут какие-либо существенные изменения во
внешнюю политику КНР. По существу, идет процесс все
большего приспособления механизма власти к тем
крупным задачам, которые поставил XI съезд КПК перед
страной в области «четырех модернизаций».
Наконец, в руководстве по-прежнему достаточно
значительное место занимает группировка прямых
«соратников» Мао Цзэдуна, старых ветеранов руководящей
верхушки. Это люди типа Е Цзяньина, сумевшие путем
приспособленчества и политической мимикрии удержаться
на вершине при самых сильных толчках, которые
неоднократно испытывала пекинская пирамида власти. Эти
люди не заинтересованы в открытом развенчании Мао, они
причастны ко всем зигзагам и поворотам пекинской
политики. Поэтому им присущ в большей степени дух
компромисса между враждующими фракциями в пекинском
руководстве. Эти люди часто выступают в роли
«толкователей» наследия Мао, исходя из потребностей и интересов
сегодняшнего дня. Каждая из основных группировок,
придерживающихся правопрагматических или более
«левых» взглядов, пытается заручиться поддержкой ветеранов.
60
Естественно, предложенное деление руководящей
верхушки на группировки является весьма условным,
относительным. В подобной дифференциации важно прежде
всего видеть наличие внутренних противоречий в
маоистском руководстве, вытекающих из логики борьбы за
обладание властью, различий в подходах для достижения
гегемонистскнх целей.
Если на первых этапах китайской революции велась
борьба пролетарской линии с линией мелкобуржуазной,
националистической, то теперь борьба ведется внутри
второй из названных линий, временно победившей в Китае.
Компартия Китая, с самого начала не отличавшаяся
пролетарским характером, оказалась неспособной
противостоять массированному натиску великоханьского
национализма. В ситуации, которая в свое время сложилась
в Китае, очень уместны слова В. И. Ленина о том, что
«гигантская мелкобуржузная волна захлестнула все,
подавила сознательный пролетариат не только своей
численностью, но и идейно...» К Этим еще раз
подтверждается глубокая справедливость марксистского вывода о том,
что без крепкой партии рабочего класса, способной
теоретически выразить и практически защитить интересы
трудящихся, революционное движение обречено на
неуспех.
Нынешнее пекинское руководство, как и его
предшественники, сформировалось в основном на мелкобуржуазной
почве, унаследовав те черты и качества, которые обычно
произрастают на такой основе: революционное
фразерство, вспышкопускательство, субъективизм, склонность к
авантюрам и т. д. Несмотря на борьбу здоровых сил в
компартии, большую работу Коминтерна, позитивное
влияние партий социалистических стран, освободиться от
субъективной методологии мышления и действия не
удалось. Полностью справедливыми оказались ленинские
слова об опасности мелкобуржуазной стихии применительно
и к Китаю. Говоря об этой опасности после победы
Великой Октябрьской социалистической революции, он
подчеркивал: «Либо мы подчиним своему контролю и учету
этого мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если
сорганизуем бедноту, т. е. большинство населения или
полупролетариев, вокруг сознательного пролетарского авап-
гарда), либо он скинет нашу* рабочую, власть неизбеж-
1 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 156.
61
но и неминуемо, как скидывали революцию Наполеоны и
Кавеньяки, именно на этой мелкособственнической почве
и произрастающие» *.
Мелкобуржуазная сущность власти ведет к ее
хронической нестабильности. Она может проявляться в самых
различных формах.
Во-первых, в форме политических и идеологических
кампаний, которые не прекращаются в Китае уже много
лет. Наиболее крупные из них — «культурная револю-
ция», «критика Линь Бяо и Конфуция», шельмование
«банды четырех». Само содержание этих кампаний
говорит о глубоком идейном падении маоизма, классовом вы-
|юждении и социальном ренегатстве. Это порой невольно
вынуждены признавать и в Пекине. Так, реабилитировав
Лю Шаоци, пекинские руководители, по существу,
полностью дезавуировали решения XII пленума ЦК КПК
(1968 год, восьмой созыв), восхвалявшего «культурную
революцию» и поносившего Лю как противника этой
кампании. Не случайно «Хунци» отмечает, что «культурная
революция была периодом самого ненормального
положения в политической жизни партии за всю ее историю».
Любая кампания, как показывает история китайской
действительности, ищет «виновников» очередного провала,
очередных ошибок и перегибов, которые неизбежны в
условиях господства мелкобуржуазной идеологии и
политики.
Во-вторых. Кризис власти и политическая
нестабильность выражаются в том, что все шараханья, поиски
путей усиления режима вращаются вокруг одного
стержня — маоистского. В конечном счете все сводится к новым
сочетаниям и комбинациям руководителей, что означает
лишь несколько отличные друг от друга варианты
маоистской власти. Причем все эти политические
комбинации, поиск компромисса между борющимися
группировками имеют одну устойчивую тенденцию — к
ужесточению действий, фактически непрерывному поправению
идейных и политических установок. Достаточно сказать,
что Мао, который и сейчас остается идеологическим
идолом маоизма, в свое время был вынужден публично
признавать многие объективные истины. Так, в своей речи
но случаю 40-й годовщины Великого Октября он
заявлял: «...после Октябрьской революции правительство любой
1 Л е п и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 298.
62
страны, если оно откажется жить в дружбе с Советским
Союзом, лишь нанесет ущерб подлинным интересам
народа своей страны» К А сегодпя последователи Мао,
которые клянутся в верности его наследию, заявляют, что
«главная задача пролетариата, всех революционных сил
заключается в создании, укреплении и расширении
международного единого фронта против
социал-империализма» (т; е. против СССР) 2.
И в первой, и во второй выдержках цитируются
представители одного учения, одной идеологии — маоизма.
Такова его эволюция в политическом плане: от
сотрудничества (хотя и не всегда искреннего) до глубокого
антагонистического противоборства. Что может быть большим
выражением кризиса власти, кризиса политики?
Политическая нестабильность режима, несмотря на
все усилия, будет продолжаться и проявляться в
различной форме. Это неизбежно в силу антинародного
характера действий руководителей Пекина, которые в жертву
своим амбициозным гегемонистским планам принесли
интересы народа, его будущее. Особенно убедительно
подтверждает эту мысль существующая ныне в КНР
социальная обстановка. Сейчас реабилитирован Лю Шаоци.
Тот самый Лю Шаоци, которого Мао шельмовал как
главного своего политического противника. Но раз
реабилитирован Лю, то как быть с его трудами? А ведь во многих
своих статьях он не превозносил Мао и маоизм. Так, в
брошюре «О самовоспитании коммуниста» он писал, что
каждый коммунист должен «прежде всего учиться у
Маркса и Ленина», и не упоминал при этом о Мао.
Можно сказать, что реабилитация Лю Шаоци косвенно
опровергает маоистское учение, а это отражает прежде всего
продолжающуюся борьбу на вершине пирамиды власти
в Пекине. Таковы реальности, противоречия, парадоксы
сегодняшней маоистской действительности.
По своей природе социальная полп-
Социальная тика маоистов остается мелкобуржу-
полнтика маоистов о -, *r J
азно-нациоиалистическои. С начала
60-х годов пекинские руководители лишили китайских
трудящихся многих демократических, социальных
завоеваний. Вместо защиты социализма от деформаций
лидеры КНР прилагают огромные усилия к тому, чтобы со-
1 Правда, 1957, 7 ноября.
2 Жэпьмпиь жибао, 1978, 6 февр.
63
здать новую социальную модель милитаристского
общества. Это проявляется прежде всего в положении и роли
различных элементов классовой структуры страны.
Усиление военно-бюрократической диктатуры,
раскручивание маховика гонки вооружений, укрепление всех
элементов милитаристской структуры происходят с
одновременным ослаблением роли рабочего класса в обществе.
В результате многочисленных чисток, реорганизаций,
кампаний рабочие в значительной мере деморализованы и
мпогие из них находятся в плену у маоистских
идеологических мифов. Поофсоюзы не защищают интересов
трудящихся, и рабочие сейчас не имеют ни своей истинной
марксистско-ленинской партии, ни настоящей
профессиональной организации. Рабочий класс не играет
авангардной роли; еще недавно большие группы трудящихся с
заводов, фабрик направлялись в деревню «на
перевоспитание». В крестьянской стране с сильными
мелкобуржуазными тенденциями рабочий класс мог бы при правильной
политике руководства сыграть решающую роль. Но мао-
исты всегда стремились ограничить его значение и
влияние, отводя ему роль «вспомогательной» социальной силы.
Отсутствие подлинных политических организаций
рабочего класса, отстранение его от реального управления
делами государства способствуют разобщенности,
рождают общественную пассивность и податливость к
действиям властей. Фактически за последние два
десятилетия почти не поднялся материальный и культурный
уровень рабочих. Средняя заработная плата трудящихся
государственных предприятий составляет немногим более
600 юаней в год (т. е. около 20 рублей в месяц).
Подавляющее большинство рабочих имеет начальное
образование, а многие и неграмотны.
Говоря об отношении рабочего класса к мелким
хозяевам в период, когда социалистическая революция
развертывается в стране, где пролетариат в меньшинстве, а
большинство населения — мелкобуржуазное, В. И. Ленин
подчеркивал: «Роль пролетариата в такой стране
заключается в руководстве переходом этих мелких хозяев к
обобществленному, коллективному, общинному труду» 1.
Но маоистские руководители пренебрегли этим важным
ленинским выводом, ослабив тем самым пролетарскую
основу государства и усилив в нем мелкобуржуазное влия-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 26,
64
ние. Рабочий класс, являясь и так относительно
малочисленным, вместо осуществления своей ведущей роли
отодвинут на второй план. Маоисты отправляли
профессиональных рабочих на «перевоспитание» в деревню, для
получения «идейной закалки» и «классовой выучки».
Лишь сейчас делаются некоторые шаги по воссозданию
профсоюзов, молодежных организаций. Но это уже не
прежние партия, профсоюзы и комсомол, а особые
придатки власти, характер деятельности которых
определяется не самими трудящимися, а директивами
военно-бюрократического аппарата.
В силу того что промышленность в Китае фактически
подразделяется на предприятия центрального
подчинения и местного, рабочий класс также невольно
подразделяется на две группы, положение которых несколько
различно. Если рабочие центральной экономической системы
обладают большими социальными правами (пенсионное
обеспечение, выдача пособий по временной
нетрудоспособности, хотя краткие, но оплачиваемые отпуска), то
пролетариат местной промышленности наделен значительно
меньшими социальными возможностями. Рабочие
центральной промышленности получают вознаграждение за
труд по восьмиразрядной сетке, а местной — по пятираз
рядной. Это свидетельствует о различии в
профессиональной компетентности, что ведет к существенным
различиям и в оплате за труд.
Существующий фактический «раскол» рабочего
класса ослабляет узы его солидарности и уровень
сознательности, ведет к усилению местнических тенденций, к
разобщенности. Среди рабочих широко пропагандируются
меры по самоограничению потребностей, принижению
роли материальных стимулов в труде.
Маоистское руководство, стремясь создать видимость
наличия широкой социальной базы у режима,
произвольно определяет и само понятие «пролетариат». Сегодня в
него включаются не только рабочие предприятий, но и все
неимущие, сезонный люмпен и просто деклассированные
элементы. Рабочий класс, как наиболее организованный
выразитель коренных интересов всех трудящихся, волею
маоизма оказался на обочине социальной жизни Китая.
Крестьянство в меньшей мере оказалось захваченным
бурей политических страстей. Будучи в своей основе
неграмотным, забитым, крестьянство наряду с политиче-
5 Зак. 512
65
скоп администрацией па местах остается основной
социальной базой маоизма, опираясь на которую лидеры
Пекина осуществляют свой антисоциалистический курс.
Несмотря на усилия пекинских политиков, деревня в целом
остается достаточно пассивной. Многочисленные
идеологические кампании, лозунги, призывы воспринимаются здесь
более сдержанно и даже равнодушно. Для того чтобы
надежнее манипулировать многомиллионными массами
крестьянства, маоисты прибегают к его искусственной
дифференциации, выделяя «бедняков», «низших
середняков» и другие категории. На сессии ВСНП в сентябре
1980 г. раздавались призывы ликвидировать эту
дифференциацию в целях уменьшения напряженности в
деревне. Но сложившуюся градацию не так-то просто
отменить на практике. К ней привыкло прежде всего местное
руководство.
Противопоставляя группы крестьянства друг другу,
маоисты осуществляют контроль над этой важной опорой
режима. Основная часть национального дохода,
создаваемого крестьянством, перекачивается в сферу
военно-промышленного комплекса, идет на цели милитаризации
экономики. Однако сами крестьяне живут на грани нищеты
и бедности, они лишены элементарных жизненных благ.
Большая часть крестьянства неграмотна или
полуграмотна, что облегчает властям проведение своего курса в
деревне. Важную часть хозяйственной политики среди
сельского населения составляет программа «подготовки к вой-
пе». Значительная часть крестьянства вовлекается в
народное ополчение, различные милитаристские кампании,
вроде участия в строительстве убежищ, создании запасов
на случай войны и т. д.
Бедственное положение жителей села,
бесперспективность их существования при настоящем режиме
подтверждают бесплодность маоизма и в этой сфере социальной
жизни. По существу, минувшие десятилетия при
маоистском режиме не улучшили материального и культурного
положения крестьян. Пекин не заинтересован в этом, как
и в ликвидации неграмотности и росте классового
самосознания крестьян, ибо это могло бы породить более
осознанное социальное недовольство многомиллионных
масс.
Интеллигенция в Китае расслоена и основательно
дискредитирована многочисленными акциями «культурной
революции». Работники умственного труда, численность
66
которых, по сообщению китайской печати, достигает
25 миллионов человек, являлись в прошлом основным
объектом нападок и чисток. Ныне, стремясь заручиться
поддержкой некоторой части интеллигенции, маоисты
вытащили на поверхность старый лозунг: «Пусть
расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», пытаясь
шире привлечь работников творческого труда к решению
задач, выдвинутых XI съездом КПК. Некоторая часть
интеллигенции, репрессированной в годы «культурной
революции», реабилитирована. Однако сейчас на
поверхности находятся лишь те представители интеллигенции,
которые безоговорочно поддерживают самые
экстремистские лозунги политического руководства.
В течение последних двадцати лет КПК, пекинское
руководство не прекращает кампаний по
«идеологическому перевоспитанию» интеллигенции, «искоренению
контрреволюции», «борьбе с правыми». Все это приносило
интеллигенции исключительно тяжкие духовные (и
физические) страдания и лишения. Во время «культурной
революции», по сообщениям зарубежной печати, более
миллиона работников умственного труда было
репрессировано.
Сейчас, когда маоистское руководство взяло курс на
военную модернизацию страны, оно остро почувствовало
необходимость поддержки милитаристского курса
интеллигенцией. На Всекитайском совещании по вопросам
развития науки в апреле 1978 года выдвинута задача
создания «могучей армии народной интеллигенции», без
которой «нельзя осуществить четыре модернизации». Сделан
ряд шагов по заигрыванию с ней, привлечению преданных
режиму людей в партию. Хуа Гофэн в выступлении на
этом совещании подчеркивал, что «надо всесторонне и
правильно проводить политику партии на сплочение,
воспитание и преобразование интеллигенции». По
маоистской терминологии это означает: контроль,
идеологическая обработка специалистов. Видеть в интеллигенции
возможного потенциального врага, а также и союзника —
в этом суть политики КПК, выраженной в лозунге
«сплачивания, воспитания и преобразования». Как отмечала
гонконгская печать, маоисты понятие «интеллигенция»
постоянно увязывают с так называемой
«политической ненадежностью» и «идеологической отсталостью».
Складывается, таким образом, внешне парадоксальное
положение: маоистские руководители не могут обойтись б»зз
5*
67
интеллигенции, и в то же время они боятся ее, как
носителя потенциально враждебных режиму идей.
В Китае определенную роль продолжает играть и
национальная буржуазия. Годы гонений па нее давно
остались позади. В КНР существует немало мелких
предприятий, которые в основном контролируются мелкой и сред-
пей буржуазией. Она поддерживает тесные связи с
китайскими промышленниками и торговцами за рубежом
(в Гонконге, Малайзии, Бирме, Индонезии, на
Филиппинах), что на руку пекинскому режиму, получающему
дополнительные каналы извлечения экономической и
финансовой выгоды из этих отношений. По словам
официальных деятелей Пекина, национальная буржуазия
рассматривается сегодня как «часть народа», и ей, не
исключено, будет отведена заметная роль в создании смешанных
предприятий, усилении тенденций «рыночного
социализма» и упрочении связей с капиталистическими
объединениями за рубежом. Такой вывод вытекает из тезиса Мао
о возможности и необходимости «перевоспитания»
эксплуататоров: «Буржуазия должна признать
необходимость и возможность ее перевоспитания» 4, Неклассовый
подход здесь очевиден.
Большую общественную группу в социальной
структуре Китая составляет молодежь. Однако очевидно, что
у 200 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до
25 лет нет ясной перспективы. Значительную часть
городской молодежи, выпускников средних школ по-прежнему
продолжают направлять «на воспитание» в самые глухие
районы страны, где их принуждают заниматься тяжелым
неквалифицированным ручным трудом. Фактически
миллионы молодых граждан страны находятся в ссылке, без
нрава вернуться к родным, домой. Антидемократичность
подобных мер очевидна. Они находятся в ряду типичных
маоистских социальных шагов. Почти ежедневно в
печати появляются призывы к молодежи воспитывать себя
в духе аскетизма, готовности к лишениям и страданиям.
В последние годы перед молодежью остро встала проблема
трудоустройства. По данным гонконгской газеты «Мин-
бао», сейчас более 20 миллионов молодых людей не могут
найти себе работы. Количество безработных растет.
Кризисные явления в экономике, связанные с недогрузкой
предприятий, нехваткой энергии, делают проблему безра-
Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 616.
68
ботицы особо острой. Режим не может дать
подавляющему большинству молодежи образование, работы по душе,
реальных надежд на осуществление своих чаяний.
Многие из молодых людей, скрываясь от ссылки в
отдаленные райопы, бродяжничают. Американская газета
«Уолл-стрит джорнэл» от 26 июля 1979 года в статье
«Тысячи бездомных в Пекине» писала, что «городские
власти эпизодически осуществляют чистку, высылку
бродяг из Пекина — людей без работы, жилья, будущего.
Некоторые из них непрочь, чтобы их арестовали, но тогда
властям пришлось бы их кормить. Поэтому арестовывать
бродяг они не хотят. Их просто высылают в деревни. Но
проблем от этого не уменьшается. Места бездомных
занимают новые несчастные, и власти не могут им предложить
ничего, кроме отвержения».
Жизненный уровень китайского трудящегося
продолжает оставаться одним из самых низких в мире. Продажа
основных продуктов питания и промышленных товаров
регламентируется жесткой карточной системой. Объем
зарплаты (несмотря на незначительное повышение в
последние годы) остается очень низким. Заработная плата
зависит от разряда (от 30 до 100 юаней). При наличии
карточек (талонов) рабочий платит за велосипед 155
юаней; может получить в месяц мяса 0,5 кг, сахара —
200 г. По оценкам ООН, в КНР на душу населения
продукции текстильной промышленности потребляется в
11 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в
Англии, в 7 раз меньше, чем в Японии. Бесплатное
медицинское обслуживание существует только для рабочих и
служащих государственной промышленности центрального
подчинения. За операцию средней сложности китаец
должен платить 30 юаней и т. д. И перспектив улучшения
жизненного уровня трудящихся на рельсах милитаризации
не видно.
Великоханьский национализм насаждается во всех
сферах общественной жизни, в том числе и такой, как
религия.
В Китае, как известно, значительная часть населения
исповедует буддизм, ислам, ламаизм, католицизм и
некоторые другие религии и верования. Особенно
многочисленна община буддистов, насчитывающая более 100
миллионов человек, значительны общины католиков и
мусульман. Из зарубежной печати эпизодически проникают
69
сообщения о стремлении верующих в Китае добиться хотя
бы приемлемого минимума свободы совести. Однако
власти, несмотря на провозглашенную конституцией свободу
вероисповедания, чинят многочисленные препятствия в
осуществлении свободы совести. Как пишет швейцарский
богослов Ганс Кюнг в статье «Религия в Китае», во
время «культурной революции» были закрыты почти все
церкви и храмы, преданы огню библии, подверглись
преследованиям не только католики, но и буддисты и
мусульмане. Для Китая, пишет Кюнг в журнале «Эуропео»,
свобода совести есть не что иное, как пропагандистский
штамп, изготовленный для внешнего потребления. В
Пекине не терпят инакомыслия не только политического, но
и религиозного.
Правда, в последнее время, как сообщает агентство
Франс Пресс, Пекин для придания соответствующей
респектабельности режиму и в этой области впервые решил
принять участие в одной из международных конференций
по вопросам религии, проходившей в Соединенных
Штатах Америки. Но нет никаких оснований по этому факту
судить о смягчении религиозной нетерпимости властей.
Антидемократизм режима проявляется не только в
экономической, социально-политической областях, но и в
области духовной, о чем свидетельствует официальная
политика Пекина в отношении верующих и
инакомыслящих.
Реакционная социальная политика маоистов нередко
вызывает протест в форме стихийных выступлений,
бунтов, пассивного неповиновения. В разгар «культурной
революции» во многих провинциях шли настоящие
сражения. Сейчас режим путем репрессий, националистической
пропаганды несколько приглушил народное недовольство,
однако оно не исчезло. Одной из форм его проявления
является бегство простых китайцев за рубеж. Например,
только в Гонконг, по сообщениям английской печати,
ежедневно прибывает по 2 тысячи беглецов. «Нью-Йорк
тайме» писала 6 июля 1979 года, что «власти КНР стали
принимать жесткие меры, чтобы пресечь массовую
эмиграцию в Гонконг, вплоть до расстрела лиц, схваченных
при попытке к бегству». Маоистский аскетический рай,
о котором неустанно трубят пекинские пропагандисты,
по всей видимости, так «хорош», что люди, рискуя
жизнью, пытаются любой ценой покинуть «поднебесную
империю».
70
Таким образом, в социально-политической области
делается ставка на упрочение военно-бюрократической
диктатуры в Китае, искусственную нивелировку классов и
социальных групп, националистическую обработку, с
помощью чего пекинские руководители хотели бы
сформировать такую массу, которая была бы послушна любым
директивам сверху. Для этих целей широко
используется социальная демагогия, настойчиво внушается, что
высшей политической добродетелью человека является
беспрекословное послушание властям, бездумное следование
идеям Мао. В стране узаконена система периодически
повторяемых чисток, в результате которых с политической
арепы убираются все инакомыслящие, все, кто может
составить оппозицию пынешнему режиму. В этом смысле
так называемая «культурная революция» была
беспрецедентным социально-политическим актом, направленным
на устранение всех, кто не поддерживал политику
маоистского руководства или сомневался в «истинности»
маоизма. В результате этих мер в Китае происходит
деформация общественных отношений, возникших в стране
после победы народной революции в октябре 1949 года.
Отсутствие прочной социальной базы в народе,
бесконечные перемены «линий», «курсов» (в докладе на
сессии Всекитайского собрания народных представителей: Хуа
Гофэн говорил, что «разгром четверки знаменовал победу
партии в 11-й по счету важнейшей борьбе двух линий»)
свидетельствуют об отсутствий политической и
социальной стабильности в обществе. Многие из тех, кого
«культурная революция» вознесла на самый гребень власти,
сейчас лишились своих постов или попросту исчезли.
Некоторая часть репрессированных реабилитирована, и этих
людей режим пытается использовать в своих целях.
Постоянная борьба за власть в китайском
руководстве — одна из характерных черт пекинской
действительности. В разное время были не согласны с теми или иными
сторонами маоизма такие деятели, как Ван Мин, Гао Ган,
Пэн Дэхуай, Лю Шаоци, Линь Бяо, Чжу Дэ и многие
другие. Как правило, недовольные или несогласные с
официальным курсом маоизма быстро устранялись с
политической арены, п часто бесследно. Для Китая последних
двух десятилетий стали обычными массовые чистки,
бесконечные «упорядочения» различных стилей,
«перевоспитание» кадров, означающие не что иное, как смену
текущей ориентации во внутренней политике, обновление ру-
71
ководства или попросту расправу с политическими
противниками.
Внутриполитическое положение в Китае, как и
прежде, характеризуется неустойчивостью. Волнения и
беспорядки за последние полтора года охватили более 20
провинций и автономных районов страны. Власти отвечают
на проявление трудящимися недовольства жестокими
репрессиями. По сообщениям иностранной печати, примерно
42 миллиона человек были заключены в тюрьмы на
прежних этапах политической борьбы еще при Мао Цзэдуне,
а 8 миллионов арестованы по приказу нынешнего
пекинского руководства.
Одной из постоянных причин внутренних потрясений
является тяжелое положение трудящихся масс,
обездоленных, полуграмотных. Руководители из Пекина видят в
них лишь «чистый лист бумаги, на котором можно
писать любые иероглифы». Западногерманский журнал
«Шпигель» в номере от 25 июня 1979 года в статье
«Парод в Китае недоволен» приводил откровения одного из
влиятельных людей в КНР Ли Сяньняня. Он, в
частности, на одном из закрытых совещаний заявил, что многие
миллионы китайцев постоянно голодают, более 20
миллионов рабочих не имеют работы. В стране растет
недовольство, но руководство ничего не может реально
сделать для улучшения положения народа.
Эти вынужденные признания человека, занимающего
высокое место в пекинской пагоде власти, отражают лишь
те аспекты внутреннего положения в КНР, которые
трудно скрыть от внешнего взора. В действительности же
положение народных масс значительно хуже. И главное, что
усугубляет такое состояние, — это бесперспективность,
безысходность жизни простого человека.
Сегодняшняя кампания «критики четверки», которая
не утихает уже около четырех лет, хотя и идет на убыль,
показывает глубокую ущербность социальной политики
Пекина, нестабильность руководства и историческую
убогость маоизма. Авантюризм и субъективизм в социальной
политике могут существовать, лишь опираясь на насилие,
карательный аппарат государства.
КПК, состав которой с начала «культурной
революции» обновился на 50 процентов, насчитывает 38
миллионов человек и представляет собой политическую
организацию, строящую свою деятельность на основе «идей»
72
Мао Цзэдуна. Коммунистическая партия Китая, по
существу, перестала быть передовым отрядом рабочего
класса и все более превращается в социал-шовинистическую
военизированную организацию, призванную
беспрекословно выполнять волю пекинской верхушки.
Партия в значительной мере состоит из политических
функционеров, представителей государственной
администрации, офицерского корпуса армии, госбезопасности,
местных чиновников. Рабочих мало. Более половины
состава партии — люди, которые пришли в нее во времена
«культурной революции», когда главным критерием
«идейности» была личная преданность Мао Цзэдуну и его
установкам. Подавляющее большинство членов партии, по
свидетельству самой китайской печати, не знакомы с
марксистско-ленинской теорией, плохо представляют
существо социальных процессов, которые происходят в
стране и в мире. Руководители партийных органов заботятся
об одном: о беспрекословной, бездумной поддержке
кампаний и призывов пекинской верхушки, о готовности
вести решительную борьбу за реализацию шовинистических
лозунгов Пекина.
В настоящее время значительная часть партии
идеологически дезинформирована, ей не всегда понятны шаги
высшего руководства по корректировке маоистских
установок. Частые шараханья, непоследовательность,
беспринципность в политике рождают приспособленцев, людей,
которые мало задумываются над пагубными
последствиями действий пекинской верхушки. На местах, в
провинциальных и уездных партийных организациях также
существует фракционность, карьеризм, беспощадность в
борьбе со своими противниками. Эти негативные
проявления в местных партийных организациях норой находят
отражение и в печати. Так, «Жэньминь жибао» 30 июня
1979 года писала: «На местах чрезвычайно сильно
распространены злоупотребления служебным положением,
кумовство, самоуправство, субъективизм,
некомпетентность».
Собираемые сверху и обычно тайно работающие
съезды КПК главным образом подтверждают неизменный в
своей сути великодержавно-милитаристский курс
правящей верхушки, санкционируют очередную чистку
партийных рядов от неугодных руководству элементов. Так
было на IX и X съездах, проходивших при жизни Мао. Так
обстояло дело и после его смерти на XI съезде.
73
В пересмотренном XI съездом КПК уставе
упоминается и о «выборности», и о «демократии», и даже о
«свободах» в партии. Но делается это лишь для маскировки
фактически неограниченной власти председателя ЦК и
его заместителей над партией.
Анализ политических документов последних съездов
КПК, материалов сессий ВСНП, выступлений пекинских
руководителей, текущей обстановки в Китае показывает,
что никаких принципиальных изменений в области
внутренней политики после смерти Мао не произошло. Мао-
исты продолжают беспринципное лавирование между
классами, социальными и общественными группами. В
зависимости от обстоятельств они осуществляют опору
то па незрелую часть молодежи, то на крестьянство, то
на военных. Маоистская рецептура предусматривает
дифференциацию опоры режима на различные слои и в самой
армии: то на старые кадры, то на выдвиженцев
«культурной революции», то на противников «банды четырех».
Таковы некоторые аспекты социальной политики мао-
истов в Китае.
В Китае проживает более 50 миллио-
Великоханьская нов нацменьшинств: уйгуры, казахи,
национальная ^ £
политика монголы, дунгане, тибетцы, мяо,
маньчжуры, корейцы и многие
другие народности. Многие из этих народов в прошлом
обладали своей государственностью, были независимы,
создали весьма самобытную национальную культуру. Однако
на протяжении нескольких последних столетий династии
правителей Китая огнем и мечом присоединили земли
этих народов к империи, отведя их населению роль
подданных «срединного царства». С тех пор прошла долгая
вереница лет, однако положение малых народов в Китае
не изменилось: это наиболее угнетаемая режимом часть
населения, наиболее бесправная и обездоленная. И по сей
день между ханьцами и неханьцами существуют
напряженные, неприязненные отношения. На протяжении
последних трех десятилетий ведется систематическое
переселение ханьцев на окраины, китаизирование
нацменьшинств. По существу, эта политика уже в недалеком
будущем может привести к полной ассимиляции многих
малых народов, утрате ими своего языка, обычаев,
культуры, письменности.
После победы народной революции в 1949 году у
нацменьшинств мелькнул луч надежды на облегчение своей
74
участи. В заявлениях Мао и его окружения давались
обещания на автономию национальных районов, расширение
прав местных органов. Был создан ряд автономных
районов: Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанский, Нинся-
Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Тибет, а также ряд
округов и уездов. Начали осуществляться некоторые
социальные преобразования, население стало приобщаться к
образованию, участию в делах национальных органов.
VIII съезд КПК в своих решениях предписал всемерно
расширять эту работу, быстрее претворять в жизнь
программу национального развития. Однако уже вскоре
после съезда Мао и его последователи круто повернули
политический руль КНР, что серьезно и быстро
отрицательно отразилось и на жизни нацменьшинств. Вновь
возобладала политика великоханьского национализма,
рассматривающая ханьцев как главную нацию государства,
а остальные — как ее «ветви». Даже разговоры о
самоопределении стали считаться преступными,
антигосударственными.
Великоханьский шовинизм стал проявляться по
многим направлениям. Прежде всего, были резко ограничены
права автономных органов власти, существенно
ограничены возможности развития национальной письменности
и культуры. Любые попытки сохранить элементы
национальной культуры, языка, истории малого народа
жестоко пресекались под лозунгом борьбы с «классовым
врагом». Сейчас в КНР из более чем пятидесяти некитайских
народностей имеют возможность издавать газеты на
своем языке лишь пять малых народов. Остальным это
делать фактически запрещено.
Другим направлением реализации великоханьских
устремлений явились меры по ассимиляции малых пародов.
Согласно специальным решениям центральных властей в
районы проживания нацменьшинств направляются
большие массы ханьцев. В некоторых районах они получили
столь большое преобладание, что, скажем, монголы или
тибетцы оказались в самом незначительном
меньшинстве. Массовый наплыв ханьцев сопровождался
поощрением смешанных браков, что вело к ускоренной ассимиляции
малых народов.
Особенно уродливые формы национального ущемления
осуществлялись в годы «культурной революции». Тысячи
кадровых работников из национальных меньшинств
подверглись репрессиям, шельмованию, дискриминации под
75
фальшивыми ярлыками «контрреволюционеров», «каппу-
тистов», «национальной реакции». В эти годы фактически
были уничтожены последние очаги национальной
культуры: газеты, журналы, музеи, литература. Процесс
поглощения малых пародов принял столь уродливые формы, что
в этот период отмечалось вооруженное сопротивление
ханьцам меньшинства, его уход в сопредельные страны и
другие формы национального протеста.
После смерти Мао Цзэдуна его последователи мало
что изменили в национальной политике, если не считать
более утонченной демагогии и лжи в этом вопросе,
рассчитанной главным образом на внешнее потребление. Хуа
Гофэн, определяя программу работы в национальной
области, заявил: «Китайские нацменьшинства
многочисленны и в большинстве живут на границах. Крайне важно
поэтому упорядочить среди них работу» К На XI съезде
эта мысль была выражена аналогичным образом. В чем
же проявилось «налаживание среди них работы»? Как
явствует из китайской печати, это сводится к
«улучшению взаимоотношений между ханьцами и
нацменьшинствами», а также к борьбе с «местным национализмом».
Другими словами, поощрялся великоханьский шовинизм,
давались новые установки для подавления всех, кто
добровольно не приемлет господствующего положения хань-
цев. Это нашло выражение и в том, что на всех
официальных должностях (административпых, партийных,
военных) в национальных районах постепенно оказались
главным образом ханьцы, а меньшинствам была
уготована роль беспрекословных исполнителей воли пришельцев.
Теперь это уже открыто поощрялось. Например, «Жэнь-
минь жибао» в номере от 16 марта 1977 года писала:
«Нужно усиливать роль ханьских кадров на границе, в
национальных районах. Надо помогать ханьцам
утверждаться в Синьцзяне, других национальных районах».
Этот процесс и сегодня сопровождается все большим
ущемлением интересов и прав малых народов: захватом у
них лучших земель, перекладыванием на них наиболее
тяжелой работы, замещением ханьцами почти всех
административных постов. Недоверие к малым народам
выразилось и в том, что их перестали призывать для несения
военной службы, в органы государственной безопасности.
Для оправдания откровенных дискриминационных мер в
1 Гуанмин жибао, 1977, 15 июля.
76
отношении нацменьшинств, конечно же, ссылаются па
установки Мао. В 5-м томе «Избранных произведений»
опубликовано выступление Мао Цзэдуна «О десяти
важнейших взаимоотношениях», в котором «кормчий»
говорил: наши национальные меньшинства расселены па
обширной территории. Ханьцы, составляющие 94 процента
населения страны, занимают только центральную и
южную часть Китая, а большую территорию, богатую
природными ресурсами, занимает незначительное число не-
ханьского населения КНР. Ханьцы должны активно
освоить эти земли К По существу, подобные рассуждения
выступают методологией колонизаторства и притеснения
малых народов, что и осуществляется с ведома и по
распоряжению центральных властей.
Присутствие монголов, уйгур, чжуаней и
представителей других малых народов на съездах КПК, сессиях
ВСНП, различных всекитайских совещаниях — чисто
символично. Центральные власти обеспечивают этот минимум
представительства лишь в пропагандистских целях, в
стремлении показать «последовательность в проведении
национальной политики». При этом делаются попытки
«научно» доказать «органическую принадлежность»
большей части национальных меньшинств к общему древу
ханьцев. Для подобных выводов используются
археологические изыскания, исторические исследования,
различные древние письменные «свидетельства». Это заодно
позволяет «ученым» из Пекина утверждать, что и советские
народы, населяющие Среднюю Азию, являются
«ветвями» ханьской нации. Маоистская ложь и
фальсификация поистине беспредельны!
Подобные «аргументы» применяются в отношении и
других соседних народов. Например, на основании
изречения Мао: «Тибет является ладонью Китая, а Ладакх,
Непал, Бутан, Сикким и Нагаленд — его пятью
пальцами». Мол, в прошлые времена эти территории входили
в состав Цинской империи, и население этих земель по
своему происхождению является ответвлениями от
главного, ханьского исторического дерева. И этот бред теперь
считается важнейшим «научным» доказательством
ханьского происхождения народов этих стран.
Фальсифицированная история народов, таким образом, выполняет роль
своеобразного идеологического камуфляжа колонизатор-
1 См.: Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 353.
77
ской политики Пекина. В докладе подкомиссии конгресса
США об отношении с окружающими странами
отмечается: китайцы в Пекине считают, что многие соседние с
КНР государства населяются большим количеством
этнических китайцев, что свидетельствует об исторической
принадлежности этих земель Китаю *. Великоханьские
шовинистические установки, которые внедряются в
мировоззрение простых китайцев, позволяют руководителям
из Пекина поддерживать националистические настроения
в народе, культивировать устойчивые представления о
превосходстве ханъцев над другими национальностями.
Методы ассимиляции земель и народов отработаны
четко. Вот, например, как обстояло с Тибетом. Вскоре
после победы китайской революции Мао заявил: «Война
на континенте закончилась. Теперь очередь за Тайвапем
и Тибетом». И уже в 1950 году части НОАК ворвались
в Тибет, устроили расправу над тысячами патриотов
этого небольшого народа. Самостоятельность Тибета была
ликвидирована, туда ввели большие контингенты
войск. Сейчас на 1,5 миллиона тибетцев там
насчитывается более 300 тысяч солдат, которые после увольнения
в запас оставляются на постоянное поселение в этой
горной стране. Ассимиляция маленького народа
продолжается.
Поскольку нацменьшинства проживают на границах
Китая, они подвергаются двойному давлению:
административному и военному. На территории Внутренней
Монголии, в Синьцзян-Уйгурском, Тибетском и других
районах полным ходом идет военное строительство: дорог,
аэродромов, казарм, полигонов, других военных объектов.
Основная рабочая сила — местное население, которое
отрывается от занятий животноводством, земледелием,
другими постоянными традиционными промыслами. В
районах проживания нацменьшинств милитаристские
приготовления ведутся особенно активно, непрерывно
наращивается антисоветская пропаганда. Путем лживой
пропаганды, дезинформации, прямой фальсификации
исторических фактов пытаются убедить соседние с СССР
народности в агрессивности «социал-империализма», ведении им
военных приготовлепий против КНР. Все это является
звеньями общей шовинистической национальной
политики, проводимой и ныне маоистским руководством.
1 См.: China and Asia. Washington, 1979, p. 6.
78
Милитаризация страны стоит очень
Милитаризация дорого. Поэтому правители Китая
экономики страны м ^ j v
все туже затягивают пояса своего
почти миллиардного, систематически недоедающего
населения в угоду запросам растущего военно-промышленного
комплекса. Газета «Вашингтон пост» в номере от 30 июня
1979 года сообщала, что официальные органы печати
Пекина были вынуждены объявить о значительном
увеличении военных расходов в ближайшие годы. Эти меры
объясняются пекинской пропагандой «неспокойствием в
мире», ростом угрозы со стороны «социал-империализма» и
необходимостью КНР «занять достойное место в
мировом сообществе». Эти пропагандистские штампы не могут
никого обмануть. Курс на гегемонию, подготовку к войне
требует дальнейшей милитаризации всей экономики
страны. От народа требуют, чтобы он забыл об улучшении
условий жизни.
Стремясь упрочить военно-бюрократический режим,
пекинское руководство особое внимание уделяет
дальнейшей милитаризации экономики страны, однобокому,
милитаристскому использованию возможностей
научно-технического прогресса. Гегемонистские цели требуют огромных
жертв со стороны простого народа, уровень
материального положения которого остается крайне низким.
В КНР сохраняется жесткая карточная система
распределения всех продуктов и предметов первой
необходимости. В обозримом будущем и не предполагается
существенных мер по улучшению материального положения
трудящихся. А военные расходы непрерывно растут.
В 1979 году свыше 40 процентов государственного
бюджета Китая, по оценкам зарубежных научных центров,
было направлено на рост военного потенциала, при этом
половина средств, ассигнованных на военные цели,
затрачена на создание, совершенствование и накопление
ракетно-ядерного оружия. Не лишне вспомнить, что
двадцать лет назад военный бюджет КНР составлял лишь
12 процентов национального дохода.
Перенацеливание основных средств и возможностей
создает диспропорции и высокую напряженность в
экономике страны. Даже по китайским данным, а также на
основании оценок специалистов из гонконгского журнала
«Чайна ньюс аналисис», в 1979 году около 30 процентов
производственных мощностей промышленных
предприятий оказались незагруженными из-за нехватки электро-
79
энергии-, 43 процепта продукции было выпущено более
низкого качества, чем прежде, и более четверти всех круп-
пых предприятий оказались нерентабельными. Перепа-
иряженпе многих отраслей народного хозяйства в связи
с первоочередным развитием военной промышленности
заставило пекинское руководство внести определенные
коррективы в завышенные, амбициозные планы на
предстоящее десятилетие. Это выразилось в том, что па
второй сессии ВСНП (июль 1979 года) был взят курс па
«урегулирование» положения в экономике, который
просто-напросто означает провал десятилетнего плана и
сокращение общего объема капитальных вложений (более
чем на 20 процентов).
Политика урегулирования, рассчитанная на три года,
предполагает усиление внимания к сельскому хозяйству,
некоторое улучшение материального стимулирования,
крестьянам вновь разрешается иметь приусадебные
участки. Но несмотря на все меры, связанные с
корректировкой планов, военные расходы непрерывно растут. Только
в 1979 году они увеличились примерно на 20 процентов.
Топка гигантского котла, сообщающая движение
маховику гонки вооружений, требует все больше и больше
средств. А они могут быть получены только за счет
затягивания поясов и без того полуголодных миллионов
людей.
В нынешних условиях Пекин по-прежнему ищет по-
вые возможности и пути дальнейшего сокращения
ассигнований на социальные нужды, образование, культуру.
Одним из таких путей, который уже давно и широко
рекламируется китайской пропагандой, является «опора в
производстве на собственные силы». Первоначально этот
лозунг был выдвинут для того, чтобы опорочить опыт
социалистического строительства в других странах,
противопоставить Китай его истинным друзьям. Характерно,
что сегодня, когда Китай пытается максимально
опереться на помощь империалистических монополий, все
активнее внедряющихся в экономику страны, этот тезис почти
не используется для «внешнего потребления», хотя
внутри страны он по-прежнему на щите.
В свое время были подобраны два «образцовых»
предприятия: Дацин и Дачжай, которые, поставляя
продукцию государству, обходились без какой-либо помощи с его
стороны. Напомним, что Дацин — нефтепромыслы на
северо-востоке Китая, где рабочие и служащие занимаются
80
пе только добычей нефти, но и одновременно
производством продовольствия, предметов широкого потребления.
Дачжай — большая производственная бригада в одном из
уездов провинции Шаньси, прославившаяся как
самообеспечивающееся хозяйство казарменного типа,
которое якобы практически обходится без затрат со стороны
государства и обязуется сдавать максимум продукции за
счет изъятия у крестьян всего прибавочного и даже части
необходимого продукта. В Китае эпизодически проходили
провинциальные (и в масштабе всей страны) совещания,
где обсуждался вопрос: «учиться у Дацина (Дачжая)».
В апреле 1979 года «Жэньминь жибао» опубликовала
статью под многообещающим названием: «Взяться за
решающее звено для установления порядка в стране,
добиться нового скачка в народном хозяйстве». Нового в
ней ничего нет. Вновь призывы к трудящимся
«мобилизовать все свои силы на труд и максимально ограничить
потребление». Рецепты старые: простые люди должны
безропотно переносить лишения во имя милитаристских
целей своего руководства. Даже была выработана
специальная формула, своеобразный кодекс социальной
покорности, провозглашенный председателем партии Хуа Го-
фэном. Он сводится к тому, чтобы выполнять десять «не»:
не бояться трудностей, не бояться смерти, не гоняться за
личной славой, не гоняться за выгодой, не обращать
внимания на условия труда, не обращать внимания на
продолжительность работы, не считаться с
вознаграждениями, не считаться со своим служебным положением, не
ограничиваться кругом своих обязанностей, не считаться с
тем, фронт это или тыл К
Этот кодекс, оглашенный высшим руководителем
КНР, есть не что иное, как санкционированная сверху
интенсификация эксплуатации трудящихся, превращение
их, по выражению «Жэньминь жибао», в «готовых всю
жизнь беззаветно служить буйволов»2. Таковы штрихи
социально-экономической жизни страны, схваченной
милитаристским обручем гонки вооружений.
Самообеспечение всем необходимым трудящихся
выдается за новое слово в марксизме. «Опыт Дацина»
преподносился маоистами как пример «опоры на
собственные силы», «стирания граней» между городом и деревней.
1 См.: Опасный курс. М., 1979, вып. 9, с. 260.
2 Жэньмипь жибао, 1977, 28 марта.
в Зак. 512 81
Мао еще в 1969 году, оценивая роль Дацина и Дач-
жая, писал: «Это прообраз будущего Китая — огромная
коммуна, где оборона и хозяйство одно целое». «Главный
идеолог» выразил этим свои сокровенные надежды
превратить КНР в гигантскую казарму. Не случайно
значительное внимание Дацину и Дачжаю уделяли и
нынешние руководители Пекина. Выступая 9 мая 1977 года на
одном из совещаний, нынешний председатель
Постоянного комитета ВСНП Е Цзяньин говорил: «В 1958 году
председатель Мао Цзэдун указал, что наше
направление — это постепенно и планомерно организовать рабочих
(промышленность), крестьян (сельское хозяйство),
работников торговли (обмен), интеллигентов (культуру и
просвещение), солдат (ополченцев, то есть всеобщее
вооружение народа) в огромную коммуну и образовать из нее
основную единицу нашего общества. Дацин и Дачжай как
рази являются примером этого направления»1.
Последователи Мао видят в идее создания такой коммуны удобный
способ организации масс по военному образцу, которыми
будет легче управлять и командовать.
Пекинское руководство придает очень большое
значение подобным теоретическим и практическим
«новшествам», которые, по существу, дают ему возможность
осуществлять прямой экономический и социальный грабеж
народа, закамуфлированный под «патриотическое»
начинание широких масс. На XI съезде КПК Хуа Гофэп
подчеркнул необходимость всем «учиться у Дацина и Дач-
жая» и поставил конкретную задачу, чтобы в ближайшие
пять лет превратить треть всех предприятий страны в
предприятия дацинского типа и одну треть всех уездов
в уезды дачжайского типа. На этом пути, не скрывают
лидеры Пекина, они хотели бы извлечь новые миллиарды
юаней на гонку вооружений, модернизацию армии,
усиление репрессивного аппарата, закупку технологии и
оборудования в капиталистических странах. Правда, в
последнее время о создании производственных бригад типа Дач-
жая говорят значительно меньше, так как создание таких
самообеспечивающихся единиц натолкнулось в стране на
немалые трудности, которые не могут быть преодолены
без помощи центральных властей. Пекинская печать
сегодня признает, что «опыт» этих бригад был в
значительной мере дутым, искусственно созданным.
1 Цит. по: Коммунист, 1977, № 12, с. 112.
82
Сведя до минимума экономические связи с
социалистическими странами, КНР становится объектом все
большего экономического проникновения империалистических
монополий, зависимость от которых уже сегодня весьма
велика. За взятые кредиты падо платить большие
проценты, что приведет к новым долгам. Экономическая кабала,
избежать которой трудно, сможет оказаться теми
прочными экономическими путами, которыми империализм
привяжет к своей системе маоистское государство. На долю
капиталистических стран ныне приходится более 85
процентов внешнеторгового оборота Китая. От
империалистических монополий Пекин получает стратегические воеп-
ные товары, в том числе и такие, экспорт которых в
социалистические страны запрещен.
Чтобы увеличить возможность получения помощи от
капиталистического Запада, в Китае был принят закон
о создании предприятий смешанного типа, основанных на
иностранном и китайском капитале. Согласно закону доля
участия иностранных компаний в предприятиях не
ограничивается, а это может привести в отдаленной
перспективе к большой зависимости китайской экономики от
капиталистических государств. Пока главной «валютой»,
которой Пекин расплачивается за помощь и обещания
предоставлять ее и впредь, является оголтелый
антисоветизм, пособничество империализму во всех его
антисоциалистических действиях.
Поражает неразборчивость Пекина в изыскании
источников финансирования своих военных программ. Так, в
начале 1980 года ему удалось, при прямом содействии
США, вступить в члены Международного валютного
фонда, что является в свою очередь непременным условием
членства в МБРР (Международном банке реконструкции
и развития). По указке администрации США президент
этого банка Р. Макнамара сделал все возможное, чтобы
Пекин получил доступ к международному источнику
финансирования и кредитования своих амбициозных,
опасных для дела мира военных программ. Нетрудно видеть,
что этот шаг, как и многие другие, еще прочнее может
втянуть Китай в орбиту империалистических интересов,
где ему уготована роль младшего, подчиненного
партнера.
Наряду с уже существующими торговыми,
экономическими сделками с империалистическими державами
нынешнее пекинское руководство стремится заключить но-
6*
83
вые, чтобы заполучить у капиталистического Запада не
только образцы современного оружия, но и целые его
партии. Именно для этого потребовался лозунг,
сформулированный в свое время Мао и вновь выдвинутый на XI
съезде КПК: «Ставить древнее на службу современности, а
зарубежное — на службу Китаю». Беседы лидеров КНР
с многочисленными капиталистическими визитерами
разоблачают откровенные намерения Пекина шире
использовать научный, технический и экономический потенциал
капиталистического мира в целях ускоренной
модернизации своих вооруженных сил.
Следует отметить, что на сессии Всекитайского
собрания народных представителей (1979 год) было уделено
большое внимание экономическим проблемам КНР.
Однако они рассматривались прежде всего в плане дальнейшей
милитаризации жизни общества. В докладе Хуа Гофэна
подчеркивалось, что к концу нынешнего века Китай
должен превзойти все другие страны по сбору главных
видов сельскохозяйственных культур с единицы площади,
а по выпуску главных видов промышленной продукции —
приблизиться, догнать или перегнать развитые
государства. Все это позволит, по мнению пекинских лидеров,
резко усилить оборонную мощь страны, и Китай будет
«выситься на Востоке мира как могучая современная держава».
В своем докладе премьер поставил задачу «превратить
внутренние районы страны в мощную стратегическую
тыловую базу».
Военная промышленность — объект особой заботы
пекинских руководителей. Военные расходы в современном
Китае в несколько раз превышают общий объем
капиталовложений в другие отрасли промышленности.
Несколько сот предприятий производят все виды современного
обычного вооружения, а также ракетно-ядерное оружие.
Несколько министерств машиностроения руководят
военными отраслями. Так, второе министерство
машиностроения занимается разработкой и производством ядерного
оружия; третье министерство — артиллерийско-стрелко-
вого; четвертое — электроники и военной связи; шестое —
боевых кораблей; седьмое — боевой авиационной
техники.
В Китае достаточно высоко развиты танковая и
артиллерийская промышленность; в последние годы
значительно продвинулось вперед кораблестроение и
авиастроение. Но особое значение придается ракетно-ядерному ору-
84
ншю, его производству и совершенствованию. Сейчас в
Китае уделяется большое внимание космической технике
военного назначения. К 1980 году им запущено десять
искусственных спутников Земли, причем некоторые из них
возвращены на Землю.
На сентябрьской сессии ВСНП 1980 г., где новое
руководство стремилось упрочить свои позиции и более
четко определить задачи, политический курс на будущее,
были повторены маоистские постулаты. Правда,
докладчики попытались придать им более респектабельный
внешний вид, даже упоминали слово «демократия» и
говорили о необходимости «думать» о благе народа. В
конечном счете все заклинания пекинских лидеров вновь
сводились к призывам «окончательно покончить со
сторонниками четверки» — другими словами, полностью
разгромить оппозицию, убрать всех инакомыслящих, не
разделяющих установок нынешних руководителей, и на этой
основе «добиться сплочения всего Китая», как важного
условия достижения своих далеко идущих политических
и военных целей. Материалы сессии еще раз закрепили
прежние установки маоизма, скорректированные с
учетом пынешней ситуации, необходимости модернизации
общества в различных областях, и прежде всего в
военной. До тех пор пока установки в области наращивания
«военных мышц» в Китае будут определяющими,
основными, китайским трудящимся нельзя ожидать
какого-нибудь улучшения их материального положения.
Милитаризация экономики страны, осуществляемая по воле
маоистских руководителей, является главным препятствием
на пути материального прогресса китайского общества.
Анализ экономической политики Пекина показывает,
что, хотя в нее и вносятся некоторые изменения, цели и
содержание ее остаются прежними: создание мощного
военно-экономического комплекса в стране, форсирование
гонки ядерных и обычных вооружений, превращение
Китая в сильное милитаристское государство. В результате
этого продолжает расти угроза дальнейшего перерождения
социалистических элементов экономического базиса,
превращения его в материальную основу сугубо
милитаристского государства.
Если прежде мы говорили главным образом о
крупных деформациях в области надстройки, то теперь налицо
факты антисоциалистических изменений и в области
базисных отношений. С усилением влияния империалисти-
85
чсских монополий в сфере окопомикп, с нарастанием
рыночных тенденций может возникнуть опасность
реставрации капитализма в Китае. Пока это лишь возможность,
но шаги нынешних руководителей, все более
ослабляющие элементы социалистического пачала, делают эту
перспективу реальной.
Глава третья
МАОИСТСКИЙ МИЛИТАРИЗМ
Военные всегда играли в Китае особую роль.
Власть императоров различных династий опиралась
прежде всего на военную силу, которая без колебаний
использовалась всякий раз, как только богдыханы
чувствовали угрозу своему положению или стремились расширить
свое влияние, господство па другие народы. От
милитаристских клик страдал и сам китайский народ. Давая
характеристику правительству Ципской династии в статье
«Китайская война», увидевшей свет в 1900 году, В. И.
Ленин отмечал, что китайский народ испытывает гнет
своего правительства, «выколачивающего подати с
голодающих крестьян и подавляющего военной силой всякое
стремление к свободе...»!. Стремление опираться
прежде всего на военную силу сохранили Мао Цзэдун и
его последователи.
Современный милитаризм в Китае имеет несколько
источников. Прежде всего он проистекает из
традиционного конфуцианского представления о сущности
политической власти, которая немыслима без военного насилия п
войн. Еще Суньцзы (VI—V вв. до ц. э. ), известный
китайский стратег древности, произведения которого обожал
Мао Цзэдун, утверждал, что война, армия — это самое
главное для государства 2. Веками укоренялось в сознании
людей, особенно правящей верхушки Китая, что военное
насилие — единственное эффективное средство для
обладания властью. Нельзя не учитывать и того
обстоятельства, что китайская народная революция прошла долгий
путь, на котором ей пришлось вести кровопролитную
вооруженную борьбу. В сознании миллионов людей наличие
1 Л е п и н В. И. Полп. собр. соч., т. 4, с. 383.
2 См.: Суньцзы. Трактат о военном искусстве. М.—Л.,
1950, с. 33.
87
и необходимость насилия стали казаться естественными,
неизбежными.
Другой источник современного милитаризма в КНР
заключается в характере идейно-политических взглядов
руководителей Китая. Имеется множество высказываний
Мао Цзэдуна и других руководителей Китая, а также
официальных государственных и партийных установок,
в которых обожествляются войны, прославляется
милитаризация общества. «Война закаляет народ и движет
историю вперед», — утверждал журнал «Хунци» 1. По
мере роста амбиционных, гегемонистских устремлений
Пекина растет и внимание китайского руководства к
военному аспекту действительности. Как пишет буржуазный
синолог Boy в книге «Милитаризм в современном Китае»,
это явление для КНР означает приоритет воеппых
вопросов, военной силы, военных систем перед всеми другими
проблемами. В Китае военный подход и военные идеи
являются преобладающими, основными, а соображения
военного характера подавляют все остальные 2.
Известно классическое ленинское положение о том, что
милитаризм является жизненным проявлением
капитализма 3. Он не присущ социализму, который всегда выступал
и выступает против войн, гонки вооружений,
использования военных сил для достижения своих целей. Однако в
данном случае мы имеем дело с режимом, который стоит
на пути утраты социалистических завоеваний.
Маоистский милитаризм — специфическое явление,
свидетельствующее о процессе перерождения народного строя в
военно-бюрократическую диктатуру, глубоко чуждую
принципам социализма.
Известно, что милитаризм, как со-
Особенности маоист- циальный процесс, представляет со-
ского милитаризма J „ г ^ » г м
бои систему государственных,
экономических, политических, идеологических мер и шагов,
направленных на максимальное усиление военного
компонента общественной структуры. Основное предназначение
милитаризма — обеспечение достижения политических
целей средствами военного насилия. Для маоистского
милитаризма при наличии общих черт, присущих
империалистическому милитаризму вообще, характерны некоторые
* Хунци, 1975, № 10.
2 Wou О. Militarism in Modern China. Dawson, 1979 p. 5.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 187.
88
особенности, раскрывающие его сегодняшнее содержание.
Чтобы уловить эту специфику, нужно пристально
взглянуть на современный Китай, те сложные и
противоречивые процессы, которые происходят в этой громадной
стране.
Для современной внутренней обстановки в Китае
характерно дальнейшее усиление милитаристских
тенденций, которые проявляются в самых различных сферах
общественной жизни. В широком процессе милитаризации
китайского государства можно проследить ряд
особенностей, специфических черт.
Во-первых, по-своему политическому содержанию
милитаристские взгляды в идеологии и политике маоизма
откровенно нацелены против социализма, всех
прогрессивных сил мира. Все документы, выступления китайских
представителей в ООН, разнузданная радиопропаганда в
эфире повторяют в разных вариантах грязный вымысел:
военные приготовления Китая обусловлены, дескать,
растущей «угрозой с Севера», «окружением» КНР, борьбой с
гегемонизмом. Размах этой клеветы приобрел поистине
поразительные размеры. В последние годы только в трех
центральных органах печати (в газетах «Жэньминь
жибао», «Гуанмин жибао» и журнале «Хунци») ежемесячно
публикуется около 300 статей, комментариев,
направленных против СССР, Вьетнама, Кубы, МНР, других
социалистических и миролюбивых стран. Радиопропаганда
также заполнена антисоветскими, милитаристскими
инсинуациями.
Этот огромный грязный поток маоистской пропаганды
преследует одну цель: убедить китайский народ, а также
и народы других стран в наличии смертельной опасности
для Китая со стороны Советского Союза. Набор
«аргументов» стал сегодня разнообразнее: фальсифицируется
история российско-китайских и советско-китайских
отношений, выдвигаются абсурдные положения о
«перерождении» советского общества, муссируются антисоветские
высказывания различных ренегатов, реакционеров,
консервативных политиков Запада, выдвигаются
фантастические обвинения в адрес СССР, приводятся «подробности»
каких-то советских военных приготовлений. Вся эта
пропагандистская шумиха пекинских политиков нацелена на
то, чтобы оправдать антисоветский курс, милитаризацию
страны, новые лишения, на которые опи обрекают
простых китайцев.
89
Но было бы неправильно думать, что милитаристское
острие китайских экспансионистских устремлений
нацелено только на Север. Действительность говорит о другом.
По мере роста военной мощи Китая аппетиты маоистов
растут. Не лишне вспомнить, что еще в августе 1965 года
Мао Цзэдуп говорил па заседании Политбюро ЦК КПК,
что «мы обязательно должны заполучить Юго-Восточную
Азию, включая Южный Вьетнам, Таиланд, Бирму,
Малайзию, Сингапур... Такой район, как ЮВА, очень богат;
там очень много природных ископаемых, ои весьма
заслуживает затрат на то, чтобы его заполучить».
Сегодняшние руководители Китая не столь
откровенны, как их предтеча, однако никто из них не ставил под
сомнение эти (и многие другие) экспансионистские про-
* граммные заявления Мао. Захват Парасельских островов,
принадлежащих Вьетнаму, претензии на острова Сэнкаку,
которые японцы считают своими, 36 тысяч
квадратных километров узурпированной индийской
территории, стремление поглотить Вьетнам, Лаос, Кампучию —
это далеко не полный перечень экспансионистских шагов
маоистского Китая. Характеризуя эту политику захватов,
индонезийская газета «Синар хоропен» отмечала, что
подобные действия КНР «наглядно показывают страпам
Азии будущие методы и поведение Пекина в этой части
земного шара». Таким образом, маоистский милитаризм —
это подготовка к территориальным захватам, путь к
порабощению других народов. Дымовая завеса маоистской
пропаганды, стремящейся закамуфлировать истинные
цели милитаристских приготовлений Пекина, никого не
должна ввести в заблуждение.
С помощью политических средств милитаризм в Китае
развивается сегодня быстрыми темпами, что ведет к
усилению его влияния буквально на все сферы жизни страны.
К маоистской милитаризации применимы ленинские слова
о том, что она «проникает собой всю общественную
жизнь» *. По существу, вся внутренняя и внешняя
политика обусловливается военными задачами краткосрочного
и долгосрочного характера. Милитаризм фактически
превратился в типичную особенность политической
атмосферы и политических целей пынешнего Китая.
Во-вторых, по своей форме милитаристские тенденции
в идеологии и политике маоизма необычны, так как они
1 Л е н н и В. И. Полп. собр. соч., т. 30, с. 137.
90
рядятся в «марксистские одежды», прикрываются
социалистической фразеологией, затрудняя порой возможность
разглядеть их откровенно реакционный характер. Эту
особенность широко использует буржуазная пропаганда в
своих стремлениях дискредитировать марксизм-ленинизм
в целом, в попытках «аргументировать» старый
буржуазный вымысел о наличии и об агрессивности выдуманного
«красного милитаризма».
Дело в том, что все свои политические шаги и
идеологические выверты пекинские руководители объявляют
«дальнейшим развитием» теории и практики марксизма-
ленинизма. При этом они жонглируют терминами
«диктатура пролетариата», «социалистическая революция»,
«коммунистическая партия», «интересы трудящихся»
и т. д. Урезав до предела выборность партийных органов,
маоисты считают это «демократией»; осуществляя одну
чистку за другой, твердят об «упорядочении стиля»;
игнорируя призывы мировой общественности прекратить ядер-
пые испытания, называют эти испытания «вынужденным
актом» перед лицом «советской опасности» и т. д.
Используя претендующие на марксизм
терминологические ярлыки, которые на самом деле ничего общего не
имеют с марксизмом-ленинизмом, пекинская пропаганда
создает буржуазии широкие возможности для спекуляции
в идеологической борьбе на тезисах китайских
руководителей. Однако милитаризм, в какие бы он одежды пи
рядился, остается милитаризмом — явлением,
принципиально чуждым марксизму-ленинизму.
На сессии ВСНП, состоявшейся в июне 1979 года, Хуа
Гофэн, «обосновывая» необходимость наращивания
военных приготовлений, усиления милитаристских тенденций
в Китае, вновь заверял китайский народ, что это делается
под «знаменем марксизма-ленинизма — идей Мао
Цзэдуна». Однако любому непредубежденному человеку яс-
по, что марксизм-ленинизм здесь ни при чем.
Генеральный секретарь Коммунистической партии США
Гэс Холл, выступая 30 марта 1979 года в Нью-Йорке,
заявил: «Абсолютно ясно, что сегодняшние маоистские
руководители — это не марксисты-ленинцы. Они проводят
политику, которая направлена против трудящихся. На
мировой арене они проводят антисоциалистическую, про-
империалистическую политику, политику, направленную
против национального освобождения». Трудно с этим не
91
согласиться, ибо за этими словами стоят убедительные
факты.
Милитаризм несовместим с идеалами научного
социализма, глубоко враждебен ему. И все попытки
буржуазных пропагандистов, ссылаясь на китайский феномен,
«доказать», что милитаризм якобы органически присущ
социализму, абсолютно беспочвенны и несостоятельны.
Представляется, что тот феномен, с которым сейчас
столкнулось человечество и который мы анализируем, можно
охарактеризовать как мелкобуржуазный милитаризм.
Естественно, не всякая конкретная форма мелкобуржуазной
идеологии и политики рождает милитаристские всходы.
Но в Китае, где сохранились давние милитаристские
традиции, где вырос на мелкобуржуазной почве агрессивный
социал-шовинизм, где руководство сочло удобным
паразитировать на марксизме-ленинизме, появились
специфические, местные условия возникновения милитаризма
особого толка. Он подчиняет себе государственную
собственность и камуфлирует свои политические гегемонистские
цели псевдореволюционной фразеологией.
В-третьих, в организационном отношении милитаризм
маоистского толка пытается обосновать «объективную
необходимость» широкого перенесения
военно-административных методов во все сферы общественной жизни,
замены многих общественных институтов военными. Теория
маоизма навязчиво доказывает, что армия является
идеальным образцом социальной организации, общественной
структуры. Периодически поднимаемые на щит лозунги
«учиться у армии» означают не что иное, как стремление
перенести специфические методы деятельности, военной
организации в хозяйственную, культурную, духовную
области жизни китайского общества, и прежде всего в
деятельность КПК. Даже в промышленно-производственной,
научной, сельскохозяйственной деятельности широко
распространены термины и понятия сугубо военного
характера. В этом нет ничего удивительного. Курс, взятый
нынешним руководством Китая, на превращение страны в
мощное милитаристское государство накладывает
тяжелую печать на все стороны жизни общества, с
неизбежностью рождая все новые и новые формы милитаризации
производства, образования, культуры.
Милитаризация общества охватывает различные
области и проводится настойчиво и непрерывно. В последпие
годы одной из таких сфер стала работа по строительству
92
широкой сети подземных сооружений. Они создаются во
всех районах и городах. В системе этих убежищ
предусматриваются помещения для штабов, складов,
энергетических узлов, органов связи и т. д. В последнее время
усилились работы по созданию под землей предприятий
военного значения. Как сообщает иностранная печать
(пекинские лидеры демонстрируют некоторым делегациям
капиталистических стран эти сооружения), в Пекине
имеются убежища глубиной 8—15 метров. Они могут
вместит^ более 4 млн. человек и обеспечить их деятельность
на протяжении значительного времени. Большие работы
по созданию стратегических укрытий ведутся также в
Харбине, Хух-Хото, Чанчуне, Шанхае, Тяньцзине, Шенья-
не и многих других городах. Сооружения связаны между
собой многочисленными транспортными артериями,
обладают достаточной автономностью. Проведение
многолетней кампании «глубже рыть туннели, запасать зерно,
готовиться к войне» обусловливается, естественно, «угрозой.
с Севера». Кроме военных целей эта кампания имеет и
ясно выраженный идейно-психологический подтекст:
заставить людей привыкнуть к идее неизбежности войны п
готовности во имя нее нести непрерывные лишения. Так в
сознании нации формируется установка на войну, хотя
в действительности Китаю никто не угрожает.
Систематическое участие в военных мероприятиях, приготовлениях
формирует в сознании китайца устойчивые установки о
«неизбежности войны». Периодическая печать, радио
настойчиво внушают населению мысль о необходимости во
всем учиться у армии, перенимать ее методы,
организацию, систему подчиненности.
Маоистский милитаризм предстает в целом не только
как военизация определенных сфер жизни. Насаждаются
такие методы и формы организации учебы, производства,
быта, которые становятся характерными чертами всего
образа жизни сегодняшнего Китая. Особая роль военных в
КНР, непрерывные идеологические кампании, имеющие
целью стимулировать подготовку страны к войне, —
беспрецедентны. В настоящее время КНР — единственное
государство в мире, лидеры которого публично выступают
защитниками мировой войны, утверждают ее
неизбежность и даже прогрессивность. На июньской сессии ВСНП
(1979 год) в своем докладе Хуа Гофэн настойчиво
развивал мысль о том, что «факторы, содействующие войне,
продолжают нарастать и развиваться». И сегодня фразы,
93
произносимые в Пекине, о том, что «война неизбежна»,
что «война —дело недалекого будущего», не
представляются уже безобидной риторикой. Курс на милитаризацию
Китая приобретает особый смысл, подчеркивал
Л. И. Брежнев, в связи с общим подходом руководителей
Китая к проблемам войны и мира в современную эпоху 1.
За пекинскими установками стоит нечто большее. За ними
стоит реальный курс большого государства, обладающего
крупными материальными ресурсами и огромным
человеческим потенциалом. Маоистский милитаризм опасен для
дела всеобщего мира, и, если он не будет получать
политического, идеологического отпора, будет
«подкармливаться» капиталистическими монополиями, может наступить
такой день, когда тень термоядерной войны на нашей
планете превратится в реальность.
На последнем, XI съезде КПК, сессии ВСНП (июнь
1979 года) милитаристская концепция маоизма получила
дальнейшее антисоциалистическое развитие. В
документах съезда и сессии нашли новое подтверждение идеи Мао
о социальной роли армии внутри страны, заключающейся
в осуществлении полицейских, репрессивных функций.
Хуа Гофэн провозгласил новую идейную установку:
«Ухватившись за решающее звено, установить всеобщий
порядок в стране». Смысл этого «порядка», как явствует
из документов съезда и сессии, заключается в
фактическом устранении, ликвидации всех, кто не
разделяет установок нового пекинского руководства. Это
устранение всех нежелательных, по мысли маоистских
последователей, должно осуществляться преимущественно армией.
Армия была и остается решающим фактором внешней и
внутренней политики Пекина. Этого там и не скрывают.
«Наша армия, — подчеркивается в теоретическом органе
КПК «Хунци», — есть главное орудие диктатуры
пролетариата. Будь то классовая борьба на международной арене
или же классовая борьба внутри страны — армия
неизменно является главным орудием».
Антимарксистские установки о социальном
предназначении вооруженных сил как инструмента насилия внутри
страны не просто созвучны буржуазным концепциям, по
и фактически смыкаются с ними. Как пишет гонконгский
еженедельник «Чайна ньюс аналисис» от 8 октября
1 См.: Брежнев Л. И. Лепипским курсом. М., 1973, т. 2,
с. 393.
94
1976 года в статье «Политическая роль армии в КНР»,
вооруженные силы Китая, «как при классических
диктаторских режимах, используются для полицейских целей,
устрашения населения, поддержания внутреннего
порядка, осуществления чисток».
Разглагольствования пекинских лидеров об особой
роли армии в «разгроме четверки и ее агентов по всей
стране» направлены па оправдание военных репрессий, на
закрепление карательных функций за вооруженными
силами Китая. Во всех социалистических странах, как
показывает исторический опыт, внутренняя функция армии
после подавления контрреволюции имеет тенденцию к
отмиранию, в КНР, наоборот, — к значительному
возрастанию. А это глубоко враждебно марксизму, такая позиция
свидетельствует о дальнейшем усилении в КНР
милитаризма, насилия в общественных процессах.
В докладах и выступлениях на съезде и сессиях
ВСНП нынешние высшие руководители КПК и
КНР единодушно говорили о «нарастании факторов
войны». В политическом отчете на съезде утверждалось, что
«война есть явление, наблюдающееся между двумя
мирными периодами». Этим подтверждается, что война
является таким же естественным состоянием, как и мир.
Тезис «война есть продолжение мира» выражает откровенно
милитаристские установки пекинских руководителей,
обожествление ими военного насилия как наиболее
желательного способа управления общественным развитием. В
разделах доклада, развивающих положение о войне,
содержатся и такие чудовищные утверждения, что, «пока
социал-империализм (так теперь в Пекине называют
первую страну социализма — СССР. — Авт.) не изменит своей
природы, — война неизбежна». По существу, «новые»
идеологические установки пекинских руководителей
превосходят маоцзэдуновские постулаты в своем
антисоветизме и реакционности.
В материалах XI съезда КПК, в решениях сессии
ВСНП (июнь 1979 года) сформулирована также
программа дальнейших мероприятий государства и общества по
подготовке к войне. В докладе Хуа Гофэна содержатся
вздорные утверждения вроде того, что, поскольку
«советские ревизионисты не расстаются с мыслью поработить
нашу страну, нам необходимо быть готовыми воевать».
Повторяя вслед за империалистическими пропагандистами
штампы о «советской военной угрозе», Пекин фактически
95
смыкается с буржуазными идеологами в распространении
самого злобного антикоммунистического мифа.
Вскоре после торжественного заседания в Москве,
посвященного 60-летию Великого Октября, в «Жэньмипь
жибао» появилась большая редакционная статья, авторы
которой, претендуя на «теоретическое исследование», идут
еще дальше в своей клевете. Они доказывают
«объективную» необходимость «создания единого широкого фронта
всех сил» против Советского Союза якобы вследствие
нарастания с его стороны военной угрозы. Пекин пытается
идейно обосновать новый милитаристский шаг: не только
оправдать антисоветские военные приготовления в своей
стране, но и скооперировать их с военными
приготовлениями империалистической реакции.
Таким образом, решения последних съездов КПК,
обнародованные политические документы маоистов целе-
устремляют основные усилия государства на подготовку
к войне, модернизацию армии, милитаризацию всех
сторон жизни Китая. Это еще раз подтверждает высказанную
выше мысль, что в КИР сформировался милитаризм
особого, мелкобуржуазного типа, использующий все
элементы государственной структуры для наращивания
военной силы в экспансионистских целях.
Первая сессия ВСНП пятого созыва
«Четыре модерниза- (февраль - март 1978 года) выдви-
ции» подчинены \ч? v г ' т/»
одной — военной нУла лозунг осуществления в Китае
так называемых «четырех
модернизаций», в число которых помимо задачи развития
экономики, сельского хозяйства и науки входит создание в КНР
«современной обороны», с тем чтобы к концу века
превратить Китай в «великую, могучую державу». По
многочисленным неопровержимым данным, в «программе четырех
модернизаций» главный упор сделан на модернизацию
вооруженных сил Китая.
В ряде выступлений пекинских руководителей
конкретизировались цели «модернизации», ее внутренние
социально-политические пружины. На многочисленных
совещаниях, проведенных в последние годы в КНР по
вопросам развития промышленности, сельского хозяйства,
военной науки, политической работы в НОАК и другим,
уточнялись задачи «программы модернизации». Так,
выступая 16 января 1980 года в Пекине на совещании
кадровых работников, Дэн Сяопин заявил: «До конца столетия
осталось только 20 лет. За это время мы должны закон-
96
чить модернизацию. Если к концу 80-х годов не будет
достигнуто решающих успехов в осуществлении планов
модернизации, это будет равносильно шагу назад. Если в
течение нынешнего десятилетия нам удастся успешно
заложить основу модернизации, то к концу следующего
десятилетия мы будем иметь прекрасные возможности по
завершению четырех модернизаций в китайском стиле.
В борьбе за модернизацию мы можем отдалить момент
развязывания войны с гегемонизмом».
Связь модернизации с военными нуждами, судя по
словам пекинского руководителя, очевидна. Войну можно
отдалить, но не исключить. И чем полнее будет
осуществлена модернизация, тем, по мысли Дэн Сяопина, менее
страшна будет война. Подобные откровения
многочисленны. Они проливают дополнительный свет на цели и
задачи кампании но модернизации Китая.
Курс «четырех модернизаций» понадобился для того,
чтобы преодолеть разрыв между великодержавными
амбициями Китая и его реальными экономическими и
военными возможностями. Цель, которая была в свое время
поставлена Мао Цзэдуном, а затем неоднократно
подтверждена на IX, X, XI съездах КПК: превратить Китай к
2000 году в мощное милитаристское государство, требует
нового «великого скачка». Хотя в Пекине сегодня не
любят вспоминать о прошлых «скачках», «четыре
модернизации» и составляют суть скачка нового. Но было бы
наивным полагать, что пекинские заправилы руководствуются
основным законом социализма, целями всестороннего
обеспечения благосостояния своих граждан.
Модернизация промышленности, сельского хозяйства, науки нужна
прежде всего для осуществления далеко идущих гегемо-
нистских целей, для подготовки к агрессивной войне. Это,
впрочем, и не пытаются скрывать в Китае. В статье «Хун-
ци», посвященной 29-й годовщине образования КНР,
подчеркивается: «Мы должны позаботиться о том, чтобы к
началу будущей большой войны быть во всем готовыми к
ней. Самой лучшей и самой полной подготовкой является
осуществление четырех модернизаций». Яснее и
откровеннее сказать трудно.
На сессии ВСНП был принят десятилетний план
развития народного хозяйства КНР. Хотя в целом он не
обнародован, некоторые его показатели были приведены
на страницах китайской печати. В частности, согласно
десятилетнему плану предполагалось довести ежегодный
7 Зак. 512
97
прирост валовой сельскохозяйственной продукции до 4—
5 процентов, а промышленной — свыше 10. Согласно
плану к 1985 году КНР должна будет производить в год
400 млн. тонн зерна, 60 млн. тонн стали, построить 120
новых крупных промышленных предприятий. Комментарии
к этим и другим цифрам содержали высказывания о
необходимости «создать могучий Китай». Правда, скоро
выяснилось, что этот план слишком амбициозеп и
нереален, и его пришлось существенно уменьшить.
В планах модернизации промышленности
первоочередное место занимают те отрасли, которые обеспечивают
военно-технический потенциал страны. Особую роль в
этом пекинские политики отводят капиталистическому
Западу. Они откровенно возлагают большие надежды на
получение от капиталистических стран новейших видов
вооружения, а также современной технологии. Последние
годы характеризуются большой активностью Пекина в
установлении экономических и научно-технических связей
с Западом, которые закрепляются и юридически. Так, в
1978 году было заключено соглашение о
научно-техническом сотрудничестве с Францией; в том же году —
долгосрочное соглашение с Японией, согласно которому за
ближайшее десятилетие торговый оборот между двумя
странами предполагается довести до 80—100 миллиардов
долларов. Подписаны соглашения с «Общим рынком» на
5 лет, а также с ФРГ, США, Англией и рядом других стран.
Особое внимание уделяется модернизации науки.
Сегодня многие посты в Академии наук, Академии военных
наук занимают лица, получившие образование и научную
квалификацию на Западе. Подавляющее большинство
этих людей с большим рвением стремится к упрочению
различных связей с империалистическими научными
центрами и стоит на ультранационалистических позициях.
Такие ученые, подобно профессору Цянь Сюэсеню,
бывшему полковнику армии США, а затем одному из
создателей китайской атомной бомбы, являются активными
проводниками буржуазного влияния и сторонниками
дальнейшего сползания КНР вправо. Возможности
использовать и впредь лиц китайского происхождения,
получивших образование и научную подготовку на Западе, весьма
существенны. Об этом говорят такие факты.
В Соединенных Штатах Америки сейчас
насчитывается более полумиллиона китайцев. Значительная их часть
занята в сфере торговли, промышленности, а также нау-
98
ки, в том числе имеющей военное значение. Согласно
переписи населения США, проведенной в 1970 году, из
180 тыс. лиц китайской национальности 48 тыс. являются
высококвалифицированными рабочими, из почти 9 тыс.
инженерно-научных работников более 500 чел. —
специалисты в аэронавтике, космической технике, более
500 чел. — работники в области химических
исследований, 2,5 тыс. — специалисты в области электроники 1 и др.
Американские ученые китайского происхождения
приглашаются в КНР на длительные сроки работы в области
военно-технических и научных программ, некоторые
остаются в Китае насовсем. На современном этапе такая
интеллектуальная «инъекция» как никогда кстати для
реализации амбициозных проектов пекинского руководства.
Китайское руководство, добиваясь осуществления
программы «четырех модернизаций», большое внимание
уделяет развитию военно-научных исследований. Этой цели
служит и принятый план научно-технических работ па
1978—1985 годы. В соответствии с ним в КНР воссоздан
Государственный комитет по науке и технике,
занимающийся планированием, координацией НИР, а также
получением научной информации из-за рубежа и ее
обработкой. Задачи выполнения плана научно-технических
работ были обсуждены на целой серии всекитайских
совещаний. В 1979—1980 годах на 40 процентов возросло
число студентов, принятых на факультеты, имеющие военное
значение. Широко стала практиковаться отправка
студентов и ученых для подготовки в капиталистические
страны. Значительное число китайцев проходит обучение
в вузах Англии, Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов и
других стран. Причем это не гуманитарии, а будущие
специалисты в области физики, кибернетики, космонавтики,
связи, атомной энергетики, машиностроения. В 1980 году
только в США обучалось свыше полутора тысяч научных
работников и студентов.
Модернизация науки в Китае связана главным
образом с усилиями в военно-прикладных сферах знаний,
которые могут быть использованы для дальнейшего
наращивания военно-промышленного потенциала страны.
Разумеется, Китай не может и не должен стоять вне мировых
экономических связей. Процесс включения любой страны
1 S i n g В. L. A Survey of Chinese-American Maneuver and
Employment. N.Y., 1976, p. 77.
7*
99
в экономическую, научную структуру мировых связей —
процесс естественный. Однако применительно к Китаю
наблюдается во всех случаях одна и та же закономерность:
устанавливаются лишь те связи, которые способствуют
развитию военной промышленности, наращиванию
военного потенциала.
Одновременно Пекин, не дожидаясь, пока
«модернизация» промышленности и науки даст свои плоды,
стремится заполучить оружие и боевую технику в различных
капиталистических странах. Многочисленные китайские
делегации, появившиеся на военных полигонах, в
лабораториях и на предприятиях Запада, подтверждают
намерения Пекина закупать в огромных количествах
электронное военное оборудование, самолеты, вертолеты,
противотанковые ракеты, двигатели, соответствующую
документацию и т. д. «Китай ищет технологически совершенное
оружие в Западной Европе»,— подчеркивал заместитель
министра иностранных дел КНР Юй Чжань в интервью
итальянской газете «Эль пополо» в июне 1978 года. Еще
более определенно сказал «сильный человек» Китая Дэн
Сяопин: «Мы готовы широко импортировать оружие, и
мы будем непременно делать это».
На июньской сессии Всекитайского собрания
народных представителей (1979 года) был принят закон,
разрешающий иностранным, главным образом западным
и японским, компаниям, другим экономическим
организациям и отдельным лицам образовывать в пределах
Китая так называемые «смешанные предприятия». Что стоит
за этим решением?
Специалисты считают, что это один из важных
элементов «модернизации». Экономика Китая, до сих пор
стоявшая на рельсах маоизма, испытывает огромные
трудности. Достаточно сказать, что к концу 1979 года четверть
промышленных предприятий работала убыточно. Из-за
нехватки электроэнергии простаивает значительная часть
промышленных предприятий. В стране, только по
китайским данным, насчитываются миллионы безработных.
Сбор зерновых на душу населения остается на уровне
двадцатилетней давности, а сбор хлопка и масличных
культур заметно снизился. Несмотря на
широковещательные заявления китайских руководителей, сегодняшний
Китай, преследующий амбиционные, милитаристские
цели, не в состоянии их достичь без уступок империализму,
открытого предательства тех социалистических идеалов,
100
за приближение которых было отдано много миллионов
жизней китайских трудящихся.
Шаг к «смешанным предприятиям», как составная
часть планов модернизации, означает все большую
переориентацию страны на капиталистические государства,
что неизбежно приведет к втягиванию КНР в орбиту
растущего влияния капиталистической системы. Учитывая
общую слабость и отсталость китайской экономики,
нетрудно предположить, что этот курс будет вести к росту
зависимости Китая от иностранного капитала. Если к
этому добавить, что уже сегодня доля развитых
капиталистических стран составляет более двух третей всего
объема внешнеторгового оборота КНР, то высказанное
предположение совсем не кажется нереальным. В этой связи
американский журнал «Тайм» пишет, что «Пекин вступил
на путь модернизации, подозрительно смахивающий на
капиталистический». А разве не перекликается этот
вывод американского журнала с откровениями Дэн Сяопина,
который заявил группе японских политических деятелей:
«Подождем десять — двадцать лет, кто знает — какая у
нас будет система к тому времени?»,
Однако стремление к военной модернизации страны
сталкивается с немалыми трудностями. Главные из них —
слабость собственной экономической базы и
ограниченность валютных возможностей. Не случайно, что уже па
второй сессии Всекитайского собрания народных
представителей (июнь 1979 года) была осуществлена крупная
корректировка принятого ранее десятилетнего плана.
Экономические показатели в некоторых отраслях снижены на
30—40 процентов. Были осуществлены корректировки и в
определении приоритетов развития. Пекин вынужден был
сократить или даже отказаться от реализации ряда
крупных контрактов с капиталистическими странами, чем
была серьезно подорвана «китайская эйфория», царившая
одно время в монополистических кругах
империалистических государств. Но все эти сокращения и
корректировки в наименьшей мере затронули собственно военные
области развития. По-прежнему делается особая ставка на
использование экономического потенциала
капиталистических стран в милитаризации КНР.
Таким образом, способы модернизации Китая,
определенные нынешним пекинским руководством, не только
носят откровенно милитаристский характер, но и еще
больше толкают страну вправо, к более тесному союзу с
101
империализмом — главным врагом всех угнетенных
народов и развивающихся стран. Процессы, происходящие
в Китае, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что
так называемые «четыре модернизации» есть не что иное,
как максимальная мобилизация всех средств и ресурсов
КНР для превращения страны в мощное милитаристское
государство, которое было бы способно претендовать на
мировое господство. Потакание этому курсу, поощрение
экспансионистских планов Пекина означает усиление
опасности новой мировой войны, ведет к еще большему
разжиганию гегемонистских аппетитов нынешних
последователей Мао. А они, взяв курс на военную модернизацию
страны, особое внимание уделяют усилению боевой мощи
вооруженных сил, дальнейшему совершенствованию
материальной основы армии.
КНР, категорически отказавшись присоединиться к
Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, интенсивно их проводит. В Китае непрерывно
идут испытания многоступенчатых баллистических ракет,
ускоренно ведутся работы по созданию
межконтинентальной ракеты. Разрабатываются новые ракетные двигатели,
новые типы тактических и оперативно-тактических ракет.
Создана подводная (дизельная) лодка, несущая несколько
ракет. Проходят испытания на подлодке с атомным
реактором. Ведутся настойчивые разработки новых образцов
танков, самолетов, артиллерии, стрелкового оружия.
Немалую роль во всем этом играют поступающая от
некоторых капиталистических стран технология, образцы
вооружения, техническая документация. Все финансовые,
материальные возможности брошены на гонку
вооружений. Сегодня военный бюджет КНР — это огромный
шпиль, возвышающийся над плоской равниной других
программ.
В дальнейшем ужесточении военно-
Идеологическая
обработка
паселепия ная Роль отводится идеологической
обработке населения и армии. Чтобы
понять существо и механизм этой обработки, важно
учитывать следующее.
Общественное сознание по глубине отражения
действительности подразделяется на два уровня, две ступени.
Нижний — обыденное сознание, включающее в себя и
общественную психологию, и верхний — сознание
теоретическое, куда входит и идеология. Обыденное сознание яв-
бюрократической диктатуры огром-
102
ляется как бы первичным, оно формируется в
значительной мере стихийно, под влиянием среды, условий,
обстоятельств. Социальные и национальные чувства, влечения,
настроения, привычки, представления, традиции,
общественное мнение, иллюзии, пережитки непосредственно, в
эмоционально-чувственной сфере, отражают окружающую
действительность. Сфера общественной психологии
китайской нации испытывает огромное давление низкого уровня
грамотности, конфуцианских традиций, великоханьского
представления об окружающем мире, множества
маоистских штампов и мифов, усвоенных механически, бездумно.
В процессе идеологической обработки населения и
личного состава НОАК в милитаристском духе
пропагандистские органы широко используют некоторые морально-
психологические особенности и национальные черты
китайцев. Например, известно, что трудящееся население
обладает ярко выраженными неприхотливостью и
аскетизмом. Тяжелые материальные условия жизни простых
людей, постоянная нехватка самого необходимого для
существования на протяжении тысячелетий выработали у
китайцев способность к самоограничению, умеренность,
терпение, приспособляемость, умение довольствоваться
малым. Развитию этих черт способствовало и
конфуцианское учение, проповедовавшее аскетизм и умение
видеть счастье не в обилии материальных благ.
Эти черты национального характера и самосознания
цинично эксплуатируются пекинскими руководителями,
без конца призывающими народ «не бояться трудностей
и лишений», «упорно трудиться», «развивать дух
самоотверженности» и т. д. Так же сознательно маоистские
пропагандисты используют и цепкую приверженность
китайцев к вековым традициям, к сложившимся нормам
поведения, формам мышления, определенным духовным
ценностям. Особенно превозносятся традиции послушания и
повиновения властям, почитания старших, культ
верховного правителя и др. Эти патриархальные и феодальные
традиции, как и многие другие, взяты в арсенал
идеологической обработки населения, личного состава армии,
у которых вырабатываются шовинистическое,
милитаристское мировоззрение, покорность, догматическое мышление,
начетничество, способность слепо верить любым лозунгам
и призывам властей.
Идеологический уровень общественного сознания масс
сформировался в значительной мере под воздействием тео-
103
ретических догм Мао Цзэдуна, той огромной
пропагандистской машины, которая пе бездействует ни минуты. На
всех этапах становления, развития и ужесточения
маоистского режима идеологическим средствам отводилась
особая роль. Идеологическими проблемами всегда
непосредственно занимались сами пекинские руководители,
настойчиво насаждая великоханьский шовинизм,
антисоветизм, милитаристские установки и слепую веру в
непогрешимость пекинских верхов. Хуа Гофэн на XI съезде КПК
подчеркивал, что «для того, чтобы превратить в
последнюю четверть века Китай в могучую державу»,
необходимо всемерно усилить воспитание людей в духе маоцзэ-
дуновских идей. «Идейное упорядочение», по его мнению,
должно заключаться прежде всего во всемерной духовной
подготовке каждого китайца к войне. Курс на
милитаризацию духовной жизни общества осуществляется с
помощью систематически проводимых идеологических
кампаний. Все подобные кампании последних лет носят ярко
выраженный милитаристский характер. Вот лозунги
лишь некоторых из них, заимствованные из наследия
Мао: «стимулировать производство, продолжать
революцию, готовиться к войне»; «уметь переносить тяготы и
страдания, не бояться смерти»; «глубже рыть туннели на
случай войны» и т. п.
Всеохватывающая система отупляющего непрерывного
идеологического манипулирования сознанием людей
позволяет правящей верхушке намертво сковать мысль
простого китайца обручем примитивного догматизма и
слепого фанатизма. Официальная пропаганда эпизодически
подбрасывает на маоистский идеологический базар этало-
лы «настоящих китайцев» вроде солдата Лэй Фэна,
который все свободное время отдавал переписыванию в свою
записную книжку цитат Мао; Суан Хая, который помнит
наизусть все директивы Мао; «шестой несгибаемой роты»,
давшей клятву умереть, но не отступить перед «социал-
империализмом» и т. д. Кстати, в политическом отчете на
съезде Хуа Гофэн вновь пропагандировал эти «образцы»
твердости духа. Сейчас появились и новые образчики для
подражания.
В ходе и после агрессивной войны Китая против
Вьетнама все центральные и провинциальные газеты пестрели
сообщениями о встречах «героев оборонительного
контрудара» с тружениками промышленности и сельского
хозяйства КНР. С помощью подобных пропагандистских мер
104
делались попытки еще больше усилить
националистические чувства у населения, привить устойчивую ненависть
к Советскому Союзу, Вьетнаму, Кубе, другим
социалистическим государствам и народам, выработать у каждого
китайца готовность «не задумываясь выполнять приказы
и распоряжения командования».
Идеологическая обработка населения и армии имеет
целью превратить мелкобуржуазные идеи маоизма в
главную жизненную установку. Заражая молодежь ядом
милитаризма, великодержавного шовинизма, пекинские
пропагандисты настойчиво внедряют в сознание
официальный тезис: «Каждое поколение должно иметь свою
войну». Все эти идеологические штампы, убогие стереотипы
милитаристского мышления, по мысли их авторов,
должны закрыть доступ к правде, элементарной истине,
сформировать у людей ложное догматическое мировоззрение,
слепую преданность руководящей элите.
Воспитание населения осуществляется не на основе
постижения им истины, а путем внушения,
вдалбливания ему извне, заучивания им многочисленных изречений,
застывших постулатов маоизма. Не истина, а вера — вот
основной методологический принцип идеологической
обработки простых китайцев. Все 200 миллионов экземпляров
пятого тома собрания сочинений Мао Цзэдуна, например,
распределены по бригадам, подразделениям, коммунам,
где специально выделенные люди и до сих пор
продолжают вдалбливать цитаты «кормчего» (правда, с
меньшим рвением, чем раньше), формируя прежде всего
способность человека механически «потреблять»
предлагаемую духовную пищу, а не способность думать. Сегодня
эта пища — и антисоветские опусы, и ложь о Вьетнаме,
и неправда об Афганистане, о китайско-американском
сближении и т. п. Вся система маоистского идейного
воспитания основывается именно на этом методе. Ведь
пекинские руководители не могут доверить людям даже их
собственных мыслей. Они заменяются официальными,
проверенными властями.
Реализация милитаристских идей маоизма
осуществляется и с помощью сложившейся в Китае системы
обучения и воспитания. Среди учебных дисциплин ныне одно
из цептральных мест заняло военное дело. Военная
подготовка в различных формах охватывает большинство
населения страны. В этом видно осуществление призывов
руководящей верхушки: «Каждый китаец — это прежде
105
всего солдат». От детских садов до университетов в
индивидуальное и общественное сознание подрастающего
поколения вдалбливается мысль: всегда быть готовыми
оружием утвердить на земле идеи Мао Цзэдуна. Все это
нельзя расценить иначе, как духовное, идеологическое
уродование молодых людей — будущего Китая.
При многочисленности населения Китая, естественно,
нет проблем с комплектованием армии. Поэтому призыву
на службу в вооруженные силы подлежат лишь те, кто
зарекомендовал себя преданным режиму. В специальной
инструкции, имеющейся в каждом из И военных округов
КНР, подчеркивается, что «предпочтение должно
отдаваться активистам из семей бедняков и низших
середняков, кадровых работников, бойцам ополчения, тем, кто
доказал свою преданность идеям Мао Цзэдуна». В армию
призываются лица, как правило, только ханьской
национальности. Из 100 кандидатов на призыв берут, как
правило, лишь одного. В свою очередь, личный состав
вооруженных сил широко используется для организации и
проведения различных идеологических кампаний среди
населения, в качестве политинструкторов на промышленных
предприятиях и в коммунах.
Ужесточение механизма военно-бюрократической
диктатуры осуществляется при помощи безудержной
политической и социальной демагогии. Она широко используется
Пекином для духовного порабощения и обмана масс.
Нынешние руководители уже зарекомендовали себя как
беспринципные прагматики, способные перешагнуть через
идеи, положения, которые еще вчера объявлялись ими как
единственно верные. То, что они провозглашали вместе с
ныне опальными деятелями еще четыре года тому назад,
сегодня квалифицируется как «черное предательство
банды четырех». К многочисленным политическим
ошибкам прошлого они, нынешние руководители, по
сегодняшней официальной версии Пекина, конечно, непричастны.
Дело «четверки» (как и других
«неудачников»)—удобный способ свалить вину за все провалы и ошибки на
группу поверженных деятелей. Такой прием —
излюбленная тактика маоистов: происходит «освобождение» и от
собственной вины, и дается отдушина для выхода
народного гнева от последствий антисоциалистической
политики. Для маоистов давно стало нормой широко
использовать самую наглую ложь, обман, дезинформацию. Без
106
этих атрибутов манипулирования сознанием масс им
едва ли удавалось бы вести за собой китайский народ.
После смерти Мао, с приходом к власти его
последователей, практически ничего не изменилось. Милитаризация
общества продолжается еще более быстрыми темпами.
Персональные перемены в верхушке пекинского
руководства, таким образом, не привели и не могли привести к
изменению антимарксистского характера внутренней
политики существующего режима. Это объясняется как
субъективными причинами (духовным, идейным родством
нынешних руководителей КНР с мировоззренческими и
политическими концепциями Мао), так и некоторыми
объективными условиями. Последние заключаются в
экономической отсталости Китая, организационной и идейной
слабости рабочего класса, низкой сознательности,
обусловленной неграмотностью широких масс крестьянства, в
живучести великоханьского шовинизма, в особой роли
исторических традиций в жизни китайского народа.
В идеологической области в последние годы
наметились некоторые изменения и сдвиги. Каковы они? Прежде
всего, идет процесс приспособления маоизма к новым
реальностям, к новым запросам пекинских лидеров. Было
бы ошибочным рассматривать некоторую ревизию
маоистского наследия как процесс демаоизации. Отнюдь нет.
Идет работа по освобождению маоизма от некоторых
положений, явно скомпрометировавших себя. В то же время
все, что связано с главным в маоизме — проповедь
шовинизма, великодержавия, гегемонизма, остается в
неприкосновенности. Продолжают осуществляться меры по
приспособлению «подновленного» маоизма к многовековым
традициям Китая, традиционной морали, конкретным
задачам военно-политического развития страны.
Совершенствуется и система идеологической обработки,
охватывающая практически каждую коммуну, бригаду, армейское
подразделение.
В последние годы наметилась активизация и в области
общественных наук, особенно истории и философии.
Делается попытка доказать, что новый этап развития
идеологии маоизма является «творческим продолжением
марксизма-ленинизма», а также, что идеи Мао «полностью
верны сейчас и в будущем». Активность в области
истории объясняется просто: нужны аналогии и «аргументы»
в прошлом, чтобы доказать закономерность притязаний
107
Пекина на мировое господство, территориальные
приобретения и мессианскую роль Китая в целом.
В теории маоизма откровенно выходит на первый
план буржуазный прагматический подход: истинно то,
что полезно сейчас. В этом выражается конъюнктурный,
беспринципный характер маоистских постулатов,
опирающихся не на истинные выводы науки, а на сугубо
утилитарные потребности режима, обуреваемого стремлением
достичь величия, господства во всем мире. Если раньше
эти цели тщательно маскировались, сегодня их контуры
видны все отчетливее в документах, высказываниях,
речах, реальной политике маоистских руководителей.
Активность в идеологической работе в сегодняшнем
Китае не носит отвлеченного характера, она служит
конкретной потребности властей. А им нужны новые и новые
аргументы, положения, формулы, которые бы
безоговорочно «доказывали» правильность маоистского курса, его
«революционность» и перспективность. Не случайно в
1978—1979 годах в ряде провинций на уровне уездов и
районов были проведены партийные конференции и
совещания по вопросу активизации идеологического
воспитания масс, изучения ими маоистской теории. Аналогичные
мероприятия были проведены и в армии. Так, в мае —
июне 1978 года прошло Всекитайское совещание об
«усилении политической работы в НОАК» 1.
Этому совещанию явно хотели придать этапный,
программный характер. С большими речами на совещании
выступили председатель ЦК КПК Хуа Гофэн, его
заместитель Е Цзяньин и Дэн Сяопин. Весьма характерно, что
во всех трех выступлениях на этом идеологическом
совещании настойчиво прозвучал ряд положений,
отражающих нынешние позиции и установки пекинского
руководства.
Первое из этих положений заключается в утверждении
известного тезиса о неизбежности «схватки с социал-
империализмом». Так, в речи Хуа Гофэна подчеркивалось,
что в «условиях нынешней обстановки в мире еще
очевиднее положение: рано или поздно начнется война.
Советский ревизионизм, который не отказывается поработить
нашу страну, является нашим самым главным, самым
опасным врагом». Развивая этот тезис, китайский лидер,
бесцеремонно фальсифицируя реальное положение вещей,
1 Жэньминь жибао, 1978, 5 июня.
108
«доказывал» возрастающую агрессивность
«социал-империализма», вынуждающую НОАК «всемерно готовиться
к войне». В данном случае поражает легкость, с какой
высокопоставленный руководитель прибегает к
дезинформации, грубому искажению реального положения вещей,
приписывая Советскому Союзу выдуманные
«агрессивные намерения». Так в сознании миллионов людей
формируются ложные представления, искажающие очевидную
истину.
Другое положение, которое навязчиво повторялось на
совещании, — это необходимость максимально
использовать идеи Мао в идеологической работе с населением п
личным составом НОАК. Подчеркивалось, что вся
политическая работа в армии должна основываться на трех
принципах, сформулированных Мао: «Единение
командиров и бойцов, единение армии и народа, разложение войск
противника». В апологетике маоистского наследия пы-
нешние руководители видят едва ли не единственную
возможность закрепления и развития националистических,
антисоветских чувств и установок. Солдатские массы, по
мысли пекинских руководителей, не должны сомневаться
в авторитете Мао, им не обязательно знать о
«корректировке» его учения нынешней верхушкой.
Третье положение, рельефно просматриваемое в
материалах совещания, это идеи, связанные с необходимостью
«не задумываясь полагаться на руководящие органы»,
т. е. на маоистское руководство. Дэн Сяопин привел
цитату Мао о том, что «центральный руководящий орган —
это завод, производящий идеологическую продукцию».
Задача, которая стоит перед политорганами, —
«переварить» и усвоить эту продукцию. Содержание же этой
идеологической продукции известно: гегемонизм,
антисоветизм, шовинизм, проповедь неизбежности войны.
При помощи подобных мероприятий, каким было
совещание по усилению политической работы в НОАК,
пекинские руководители пытаются еще более массированно
воздействовать на сознание солдатских масс, превратить
их в послушное, слепое орудие милитаристской политики,
В идеологической обработке населения КНР и личного
состава армии ныне широко используются исторические
«исследования», художественная литература и искусство,
средства массовой информации. В последние годы появи-
лось много фальсификаторских, злобных антисоветских
книжонок, насквозь пропитанных фальшью и ненавистью
109
ко всему русскому, советскому. Большими тиражами
изданы такие «труды», как «История экспансии царской
России против Китая», «Резкий отпор новым владыкам»,
«Критика исторической наукой воззрений советского
ревизионизма» и другие. В них фальсифицируется история
русско-китайских и советско-китайских отношений,
обосновываются фантастические территориальные
притязания на советские земли. Русские первопроходцы Хабаров,
Поярков, Дежнев, например, изображаются как
«захватчики», руководители «агрессивных походов» на китайские
земли. При этом авторы антисоветских пасквилей
соревнуются друг с другом в изображении «зверств» и «насилий»
«непрошеных пришельцев» над китайцами. Нетрудно
представить, какие цели преследуют такие «исторические
описания».
В то же время достаточно обратиться к историческим
фактам, документам, договорным отношениям, чтобы
убедиться в абсолютной беспочвенности территориальных
притязаний маоистов на советские земли. Еще в
документах XIX века дается исчерпывающее обоснование ныне
существующих границ между двумя странами. Айгуньскйй
договор 1858 года, Пекинский дополнительный договор
1860 года окончательно определили границу между
Россией и Китаем на Дальнем Востоке. Западные участки гра-
пицы были зафиксированы согласно ряду совместно
подписанных протоколов (Цицикарский договорный акт
1911 года, Курэский протокол 1915 года), и китайская
сторона никогда не ставила под сомнение исторически
сложившиеся границы, закрепленные к тому же договорными
актами. Это в свое время публично признавал и Мао
Цзэдун, и на 7,5-тысячекилометровом протяжении границы не
возникало никаких споров и конфликтов. Теперь же,
подогревая экспансионистские настроения, Пекин хотел бы
подвергнуть полной ревизии юридическую основу
границы, полностью сохраняющую свою силу и поныне.
Развитию этих шовинистических идей служат и
фильмы, создаваемые в последнее время. Один из них — «Ао-
рэй Илань» прямо зовет к борьбе с «северным медведем».
В фильме множество реприз, в которых утверждается, что
земли России ограничиваются бассейном Волги. Главный
Герой то и дело восклицает: «Волга далеко, зачем
понадобилось злым демонам захватывать нашу реку Амур?»,
«Держите острыми мечи, отстоим нашу священную зем-
110
лю!» и т. д. А ведь еще К. Маркс в 1857 году отмечал,
что у России сложились совершенно особые отношения С
Китайской империей. Русские никогда не вмешивались во
внутренние дела Китая, и на них китайцы не распростра-^
няют той антипатии, с которой китайцы относятся ко всем
иностранцам *.
На страницах китайской печати усиленно
фальсифицируется и история второй мировой войны. Основные мотивы
искажения исторической истины заключаются в
утверждениях, что «вторая мировая война началась в Китае»,
что «китайский фронт» был решающим в разгроме
агрессоров, что не Советский Союз спас цивилизацию от
фашистского порабощения, а НОАК, и т. д. Набор
«аргументов» декларативен и прост: что делалось в Китае —
имело решающее значение; что совершали советский
народ и его армия — было второстепенным.
Другими словами, идеологическая обработка населения
Китая и личного состава его армии ведется по многим
направлениям с использованием широкого спектра методов
и средств. И она имеет тенденцию к наращиванию. Дэн
Сяопин, выступая на совещании кадровых работников в
Пекине 16 января 1980 года, заявил, что необходимо
усиливать работу органов пропаганды, образования,
литературы и искусства в деле пропаганды идей Мао Цзэдуна и
великого будущего Китая после «четырех модернизаций».
Один из ведущих лидеров Пекина, стремясь привлечь на
свою сторону большее число работников умственного
труда, призывал не избивать людей за их приверженность
к различным творческим направлениям. Прием старый,
позволяющий более действенно контролировать
идеологическую обстановку, своевременно выявлять группы и лиц,
думающих иначе, чем официальная пропаганда.
Таким образом, вся система идеологических мер,
проводимых ныне в КНР, служит духовному укреплению
режима военно-бюрократической диктатуры, дальнейшему
одурманиванию масс ядом маоистской пропаганды. Идеолс
гичеокое насилие над сознанием людей стало ныне в
Китае одним из важнейших средств реализации
социал-шовинистической политики, особенно наглядно проявляю-»
щейся в милитаризации всей страны.
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 157—158.
111"
Никогда еще в Китае не уделялось
Вооруженные силы такого внимания вооруженным
силам, их совершенствованию, как
сейчас. Это и понятно. Ибо цели, которые провозгласили IX,
X и XI съезды КПК устами своих руководителей —
превратить Китай к 2000 году в мощное милитаристское
государство, предполагают наличие сильной военной машины.
Но уже сегодня, в начале процесса военной
«модернизации» страны китайская армия представляет
внушительную силу, далеко превосходящую оборонные потребности.
Социальная роль китайских вооруженных сил
определена конституцией КНР, в которой записано, что на
армию возлагается «защита от подрывной деятельности и
агрессии со стороны социал-империализма, империализма
и их приспешников». Как видим, указание па
использование армии против «подрывной деятельности»
законодательно оправдывает ее применение внутри страны против
оппозиции и инакомыслящих. Это составляет основу
внутренней функции китайских вооруженных сил. А внешняя
связана с подготовкой к борьбе с
«социал-империализмом» (то есть СССР). Упоминание империализма
сделано сугубо в целях идеологического камуфляжа.
Согласно статье 19 конституции КНР вооружеппые
силы Китая представляют собой «триединую систему,
соединяющую в себе полевые войска, местные войска и
народное ополчение». Общая численность регулярных войск
превышает 4 миллиона человек. Они распределены
между 11 большими военными округами, которые в свою
очередь делятся на провинциальные округа, а те — на
подокруга.
Руководство вооруженными силами Китая
осуществляет высший орган военного управления КНР — Военный
совет ЦК КПК. Он определяет основные направления
военного строительства, военный бюджет, доктринальные
установки, утверждает командный состав от командира
дивизии и выше. Рабочим органом Военного совета
является постоянный комитет, в который входят председатель
ЦК КПК — главнокомандующий вооруженными силами,
министр обороны, начальник Генерального штаба,
начальник Главного политуправления, командующие
видами войск и некоторые командующие округами. Все
органы управления, в том числе Министерство обороны,
Генеральный штаб и Главное политуправление, регулярно
отчитываются перед Военным советом. Генеральный штаб
112
является главным исполнительным органом Военного
совета, который осуществляет оперативное руководство
войсками. Главное политуправление обеспечивает указания
Военного совета в областях политической и
идеологической, а также по вопросам внутренней безопасности и
контроля.
С 1925 года, когда в КПК был создан Военный совет,
в него в основном входили лица, занимавшие высшие
государственные и партийные посты, а также высшие
военачальники. В настоящее время Военный совет является
органом, где разрабатывается долгосрочная
военно-политическая стратегия, определяются необходимые меры по
ускорению военной «модернизации» страны, намечается
военно-техническая политика, готовятся шаги, которые
осуществляются сегодня в Китае в направлении
милитаризации общества. Через Военный совет пекинская верхушка,
используя его рычаги (Министерство обороны,
Генеральный штаб и Главное политуправление), управляет
военной машиной Китая — основной опорой маоистского
режима.
Основным видом вооруженных сил являются
сухопутные войска, имеющие в своем составе, по данным
зарубежной печати, около 150 дивизий. Следует заметить, что
это самые многочисленные сухопутные войска в мире,
которые к тому же теперь готовятся не только к
оборонительным действиям. Более половины сухопутных войск
находится на севере страны, что еще раз подчеркивает
агрессивные по отношению к СССР намерения пекинского
руководства. В рамках планов военной модернизации
НОАК предусматривается ее резкая моторизация,
перевооружение на новые виды различного оружия и боевой
техники.
На вооружении сухопутных войск находится более
20 тысяч орудий, свыше 10 тысяч танков, большое
количество другой техники. Вместе с тем в последнее время
получили развитие и другие рода войск и виды
вооруженных сил, и в частности авиация, насчитывающая в
своем составе более 5 тысяч самолетов. Военно-морской
флот Китая, который начинает выходить на просторы
Мирового океана, насчитывает более 900 кораблей, в том
числе новых типов и моделей.
Однако предметом особого внимания пекинского
руководства являются ракетно-ядерные силы. С момента
взрыва первой китайской атомной бомбы (16 октября
8 Зак. 512
113
1964 года) в КНР уже произвели около трех десятков
испытаний атомного и водородного оружия. Сравнительно
быстро китайцам удалось улучшить соотношение веса и
мощности ядерного устройства. Богатые запасы ядерного
сырья, крупные капиталовложения в этой области,
широкое использование интеллектуального потенциала
ученых — китайцев американского происхождения
позволили Пекину за относительно короткий срок создать такие
запасы ядерного оружия, которые в руках милитаристов
представляют огромную угрозу для всего человечества.
Уже сейчас, по оценке западных экспертов, Китай имеет
около 500 ядерных боеприпасов различной мощности от
20 килотонн до 4 мегатонн. Созданы и современные
средства доставки зарядов до целей:
самолеты-бомбардировщики, ракеты с дальностью полета до 3—4 тыс.
километров.
Выступая на сессии ВСНП (1978 год), Хуа Гофэн
поставил перед военной промышленностью задачу
«энергично разрабатывать и выпускать еще в большем количестве
и еще лучшего качества современные виды обычного и
стратегического оружия». И в соответствии с этой
установкой ракетно-ядерный потенциал Китая продолжает
наращиваться форсированными темпами. Пекинские
руководители не прекращают ядерных испытаний в атмосфере,
категорически отказываются вести любые переговоры по
ограничению стратегических ядерных вооружений. На
сегодняшний день Китай единственная страна в мире,
которая использует ядерную энергию только в военных
целях.
По нарастающей развивается и ракетно-космическая
программа КНР, носящая откровенно военный характер,
Пекин полностью игнорирует призывы мировой прогрес*
сивной общественности подключиться к переговорам об
ограничении стратегических наступательных вооружений,
поддержать конкретные шаги по сдерживанию гонки
ядерных вооружений.
Важным резервом регулярных сил является ополчение,
насчитывающее в своем составе около 30 млн. человек.
Ополчение, готовящее, по существу, пополнение для
регулярных войск, в то же время выполняет и ряд других,
вспомогательных функций. На Всекитайской
конференции, проведенной в 1978 году и посвященной
дальнейшему совершенствованию народного ополчения,
заместитель начальника Генерального штаба Ян Юн подчерки-
114
вал, что «народное ополчение должно не только активпо
готовиться к войне, но и широко использоваться как
инструмент охраны общественного порядка, подавления
саботажа классовых врагов и укрепления нынешней
власти». Ополчение в мирное время решает задачи по
«борьбе с подрывными элементами» (иными словами, играет
роль репрессивного средства), несет охрану различных
объектов, а главное — занимается военным воспитанием
паселения. Люди, «пропущенные» через народное
ополчение, по мнению самих китайских руководителей,
«приобретают качества настоящих солдат Мао». Любовь к
ополчению пекинских руководителей объясняется не только
тем, что это неисчерпаемый резервуар для пополнения
армии, но и «такая военная сила, которая, — как
подчеркивает «Жэньминь жибао», — не требует военного
обмундирования и питания за счет государства».
Ополчение делится на два вида: кадровое и общее.
В кадровое ополчение привлекаются мужчины в возрасте
до 35 лет и женщины до 25 лет. Общее народное
ополчение состоит из мужчин и женщин в возрасте до 50 лет.
Ополчение обычно формируется с учетом производственных
интересов и установки, сформулированной в свое время
Мао Цзэдуном: «Военные организации ополчения должны
быть сведены в отделения, взводы, роты, батальоны,
полки и дивизии с рядовыми и офицерами» !. Так, обычно
производственная бригада составляет ополченский
взвод, большая бригада, как, например, «образцовая»
Дачжайская большая производственная бригада, — роту
народного ополчения. Внутри коммуны эти подразделения
сводятся в батальоны, в уезде — в полк. На крупных
промышленных предприятиях формируются также полки
«миньбинов» (народных ополченцев). Тайваньская
печать так описывает будни ополчения. В Синьцзяне,
например, сообщается в одном из журналов, для ополченцев
регулярно устраивают марш-броски, восхождения на горы
в ночное время или в ненастье. Ополченцы, участвующие
в ирригационном строительстве, во время перерывов в
работе занимаются строевой подготовкой, стрельбой, а те,
кто вел вскрышные работы, тренировались в подрывном
деле. Во время перегонки скота на новые пастбища
пастухи-ополченцы тренируются в «налаживании связи».
Регулярно все ополченцы проходят специальные курсы по во-
1 Пекин ревыо, 1972, № 26, 30 июня, с. 12.
8* 115
енной подготовке: обучаются стрельбе, метанию гранат,
штыковому бою, участвуют в полевых играх. Проводятся
специальные занятия по «воспитанию способностей
безжалостно уничтожать врага», т. е. психологической
подготовке к ведению жестокой войны.
Львиная доля учебного времени народных ополченцев
отводится политической учебе, во время которой в
сознание полуграмотных людей вдалбливаются обычные
маоистские штампы «о неизбежности войны», «необходимости
готовиться к лишениям», о превосходстве китайской
нации над всеми другими народами и т. д. Личному составу
ополчения внушается мысль о том, что Китай непобедим,
а китайцы способны выиграть любую войну. Великохань-
ский шовинистический угар, насаждаемый с помощью
ополчения среди населения, превращает многие группы и
слои его в слепое орудие осуществления гегемонист-
ских устремлений пекинского руководства.
В целом можно сказать, что уже в нынешнем виде
народное ополчение Китая представляет внушительную
силу, которая готовится не только для решения внутренних
задач, но и для осуществления экспансионистских планов
в отношении других народов в качестве
многомиллионного резерва регулярной армии.
Во всех видах вооруженных сил Китая, как и в
народном ополчении, ведется интенсивная идеологическая
работа. На многочисленных совещаниях по военным
вопросам, на различных партийных и государственных
форумах этому уделяется большое внимание. Так, касаясь
состояния вооруженных сил, Хуа Гофэн на сессии ВСНП
(1978 год), вновь подтвердил задачи, выдвинутые в свое
время Мао: необходимо всю работу в армии вести «исходя
из нарастания угрозы войны», «продолжать усиливать
политработу, политвоспитание и боевую подготовку,
налаживать работу в военных учебных заведениях, усилить
подготовку на случай войны». В качестве образцов для
подражания всему личному составу НОАК снова
рекомендовались солдат Лэй Фэн, 6-я рота «крепкой кости»,
1-я «дивизия военной авиации».
В армии создан всеобъемлющий аппарат духовной
обработки личного состава. Достаточно сказать, что в полку
имеется свыше 100 политработников, опирающихся на
целую систему вспомогательных идеологических элементов:
«наставников по политической подготовке», «теоретиче-
116
ские группы». Они призваны вести обработку личного
состава во внеучебное время, выявлять недовольных,
следить за настроениями солдатской массы. В ротах
возглавляют политическую работу политруки, в
батальонах — политинструкторы, в полках, дивизиях — политко-
миссары. Одновременно в частях создаются парткомы,
наделенные большими идеологическими правами. На
идеологическую обработку личного состава отводится
значительное время. Достаточно сказать, что с офицерским
составом занимаются в общей сложности более 50 дней в
году, а с рядовым составом — более трети всего учебного
времени. Эта обязательная часть политической
подготовки дополняется многочисленными занятиями
«теоретических групп», участием в проведении идеологических
кампаний, громких читок пекинского официоза. Для личного
состава издается несколько газет и журналов, передаются
центральные радиопрограммы общим объемом более
10 часов в неделю. Во многих частях практикуется
создание «комнат славы» и «комнат ненависти» — мест, где
проходят основные мероприятия по идеологической
обработке солдат. Эти, а также другие многочисленные
рычаги идеологического воздействия на личный состав
НОАК используются максимально полно, ибо пекинский
режим видит в армии основную опору и инструмент
реализации своей внутренней и внешней политики.
Идеологическая обработка личного состава
вооруженных сил Китая ведется в духе маоистских постулатов,
оголтелого шовинизма, привития неприязни ко всему
истинно прогрессивному, демократическому. На занятиях
прославляется «особая» роль Китая в мировой
цивилизации, внушается мысль о неизбежности войны и
вдалбливаются очередные стереотипы пекинской пропаганды.
В ходе занятий воспевается жестокость, аскетизм,
жертвенность, допустимость любого коварства по отношению
к врагу. Особое место на политзанятиях отводится
истории Китая. В «Краткой истории современного Китая»,
вдалбливаемой личному составу, утверждается, что
древние, истинные границы Китая включают в себя Корею,
советские Дальний Восток и Среднюю Азию, Монголию,
Бирму, Вьетнам, Бутан, целый ряд районов Индии,
участки афганской территории, обширные архипелаги
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей и другие
территории. Этот «массаж» сознания солдатской массы
завершается выводом, что названные земли «временно
117
утрачены» и в будущем их предстоит вернуть *. Нетрудно
видеть, что подобные аргументы формируют агрессивный
характер мышления и действия у людей, утверждают в
сознании личного состава высокомерное отношение к
другим народам, готовность к экспансии.
В последнее время военное руководство ищет новые
стимулы повышения морального духа, эффективности
психологической подготовки войск и сил флота. Так, в
период китайской агрессии во Вьетнаме были учреждены
медали: «Боевым героям и передовикам» и «За боевые
заслуги». Увеличиваются тиражи специальной
литературы для солдат, для них же организованы дополнительные
специальные радио- и телепередачи. В подразделениях
насаждается взаимная слежка и страх перед репрессиями
в случаях недостаточного служебного рвения. Всем этим
занимается обширный аппарат осведомителей,
политработников. Эти интеллектуальные надсмотрщики опираются
на специально подобранных лиц в ротах, которые
тщательно следят за настроениями, взглядами личного
состава и информируют обо всем кадровых работников.
Как видим, современный китайский милитаризм, как
специфическое социальное явление, не только
перестраивает экономическую, политическую сферы жизни
общества и его вооруженных сил, но и изменяет область
духовную. Культ военной силы, апологетика войны, атмосфера
«фронтовой обстановки», ненависти к другим народам,
жестокость (что особенно проявилось во время китайской
агрессии во Вьетнаме) — вот реальные элементы духовной
атмосферы военной машины Китая.
На заседании Постоянного комитета ВСНП,
состоявшемся 7 марта 1978 года, было принято постановление о
введении более длительных сроков действительной
военной службы для солдат. Новая система, отмечается в этом
постановлении, призвана «усилить боеспособность» армии.
По закону «О прохождении действительной военной
службы» установлены такие сроки: в сухопутных войсках —
3 года, в ВВС и ПВО — 4 года, в ВМС — 5 лет. Используя
опыт создания наемнических империалистических армий,
китайское руководство ввело в вооруженных силах
институт добровольцев-профессионалов, которые имеются
сегодня во многих частях и подразделениях. Такие
1 См.: Лю Пэйхуа. Краткая история современного Китая.
Пекин, 1973.
118
лица могут служить по 15—20 лет. Неисчерпаемые
человеческие ресурсы позволяют маоистскому руководству
призывать лишь незначительный процент контингента
лиц соответствующего возраста, имеющих определенный
минимум образования и специальной подготовки. Вопрос
о пригодности того или иного призывника решается на
двухмесячных курсах военной подготовки, где особое
внимание уделяется выявлению благонадежности солдата,
его преданности маоизму, способности переносить
лишения и т. д.
Вся система комплектования вооруженных сил Китая
направлена на то, чтобы создать хорошо подготовленные
в профессиональном отношении части и соединения,
способные фанатично исполнять волю пекинских
руководителей. Это необходимо и потому, что доктринальные
установки маоистов также претерпевают изменения.
В основе военно-стратегических концепций маоистов
лежат идеи «кормчего». В свою очередь Мао Цзэдун,
формулируя основные постулаты так называемой «народной
войны», широко опирался на высказывания китайского
императора Цинь Шихуана, а также ханьокого стратега
прошлого Суньцзы (VI—V вв. до н. э.). Сочинения
последнего он называл не иначе, как «великими»,
«мудрыми». Одно из изречений Суньцзы: «Война — великое дело
для государства, это почва жизни и смерти» —
неоднократно встречается в произведениях самого Мао в
контексте апологетики насилия. Мао, развивая доктрину
«народной войны», рассматривал несколько возможностей
ее ведения: в форме маневренной, позиционной и парти-
запской войны. В 30-е годы он отдавал предпочтение
партизанским способам борьбы, позднее — позиционным, а в
последние годы жизни неоднократно возвращался к
концепции маневренной войны, в которой предпочтение
отдается не оборонительным, а наступательным действиям.
Но во всех случаях доктрина «народной войны» (и в
«классическом» — маоистском, и в сегодняшнем —
модернизированном вариантах) исходит из ее исключительно
затяжного, длительного характера. Этой точки зрения
придерживаются и его последователи. Так, Е Цзяньин,
выступая перед руководящим составом НОАК 29 мая
1978 года, заявил: «Для достижения победы в будущей
войне мы должны по-прежнему опираться на такое
бесценное сокровище, оставленное нам председателем Мао,
как народная война. С ее помощью мы должны мобили-
119
зовать многомиллионные народные массы, чтобы враг
оказался в безбрежном океане народной войны». Далее
этот один из старейших военных маоцзэдуновской школы
цитировал мысли из работы Мао Цзэдуна «О затяжной
войне», где народная война характеризовалась как
исключительно ожесточенная, кровавая, длительная,
беспощадная.
Один из принципов «народной войны» — борьба на
изматывание противника. Известное изречение Мао
Цзэдуна: «Враг наступает — мы отступаем, враг
остановился — мы тревожим, враг утомился — мы бьем, враг
отступает — мы преследуем, сохраняя свои силы и
уничтожая силы противника» — сегодня уже трактуется не
столь прямолинейно. Разъясняя значение этого
принципа, газета «Гуанмин жибао» подчеркивает, что его
реализация ныне должна учитывать новое оружие и новую
боевую технику и саму доктрину уже называют
концепцией «народной войны в современных условиях». Что в
ней появилось нового? Какие особые аспекты в военно-
стратегических взглядах маоистов можно выделить?
В статье «Военная доктрина и вооруженные силы
Китая», опубликованной в гонконгском еженедельнике,
буржуазный китаевед Л. Гудстадт утверждает, что сегодня в
КНР стремятся соединить в единое целое теорию
«народной войны» и курс на модернизацию вооруженных сил.
Бывший министр обороны Е Цзяньин доказывает
необходимость пересмотра многих положений маоистской
военной науки. Анализ китайской печати, материалы
буржуазных центров, изучающих процессы, происходящие в
Китае, а также официальные документы Пекина
последнего времени позволяют сделать вывод, что «уточнение»
доктрины «народной войны» идет в направлении
придания ей откровенно агрессивного характера. Если в
первоначальной трактовке маоистов (30—50-е годы) «народная
война» изображалась преимущественно как война
оборонительная, то теперь, судя по всему, делаются новые
акценты на экспансию, агрессию, возможность
превентивных действий.
Корректировка доктрины «народной войны» учитывает
прежде всего два фактора: неограниченные людские
ресурсы и наличие ракетно-ядерного оружия. Для
наращивания ядерного потенциала Китай не останавливается ни
перед какими экономическими жертвами. Половина
военного бюджета, по имеющимся данным, идет на разви-
120
тие ракетно-ядерных сил. По мере роста ракетно-ядерного
потенциала трансформируется и военная доктрина КНР,
приобретая все более агрессивный, наступательный
характер.
Этому способствует и модернизация вооруженных сил,
которая ведется в трех основных направлениях: военно-
техническом, организационно-штатном и управленческом.
В своем выступлении на совещании кадровых работников
в Пекине 16 января 1980 года Дэн Сяопин подчеркнул,
что постоянная забота о техническом обновлении,
улучшении структуры вооруженных сил и совершенствовании
управления создает важнейшие предпосылки для
превращения армии в орган, которому по плечу решение
любых задач. И не случайно, львиная доля оборонного
бюджета, кредиты, получаемые от капиталистических
стран, идут на решение этих проблем. Пекин нуждается в
сильной армии: мобильной, агрессивной, многочисленной.
Последние годы деятельности маоистского руководства в
значительной мере посвящены решению этих задач.
Как было отмечено выше, Китай осуществляет
безудержную гонку вооружений, быстро наращивает ракетно-
ядерный потенциал. Сама логика таких действий
подталкивает пекинских руководителей к «теоретическому
обоснованию» своих претензий на гегемонию,
великодержавность, захваты. Они считают себя вправе подвергать
сомнению сложившиеся исторические границы, они
позволяют себе выдвигать ультимативные требования к своим
соседям, осуществлять агрессивные акции против стран,
которые еще недавно считали дружественными.
Хотя армия Китая превратилась во внушительную
силу, способную спровоцировать крупную войну, она еще по
многим (особенно техническим) компонентам отстает от
мирового уровня. Этого не скрывают китайцы, это
показала война во Вьетнаме, это отмечают и старшие партнеры
маоистов — военные деятели капиталистического Запада.
Давид Мартин в статье «Знакомство с китайской армией»,
опубликованной 21 января 1980 года в «Ньюсуик», пишет,
что «Г. Браун более непосредственным образом, чем
какой-либо американец, ознакомился с китайскими
вооруженными силами. Он посетил военный колледж, видел в
действии танки и военные самолеты и был первым
иностранцем, посетившим базу подводных лодок. Он нашел,
что НОАК застряла на уровне, существовавшем в
середине этого столетия». Осознавая этот факт, китайцы и
121
ведут лихорадочную работу в области «четырех
модернизаций», преследующих главную цель — создание мощной
армии — главного инструмента экспансий и укрепления
военно-бюрократического режима в стране.
Чтобы оправдать свои военные приготовления, Пекин
настойчиво эксплуатирует злобный капиталистический
миф о так называемой «советской военной угрозе»,
обеляет, оправдывает действия агрессивных
империалистических блоков, напяливает на себя насквозь лживую личину
защитника других народов. Все это делается для того,
чтобы представить процесс милитаризации страны,
усиленно продолжающийся сегодня, вынужденным и
необходимым.
Уже сегодня военная машина Китая готова к
захватнической «работе», о чем свидетельствует одна из самых
позорных агрессий XX века — агрессия Китая против
народа героического многострадального Вьетнама.
На что способен маоистский Китай,
От милитаризации показала его преступная авантюра
против Вьетнама. 17 февраля
1979 года пекинские руководители, нагло растоптав
самые элементарные международные принципы и нормы,
встали на путь агрессии против соседней
социалистической страны, которую еще недавно они называли
дружественной и братской. В данном случае они последовали
примеру китайских феодалов, империалистов и
колонизаторов, многократно пытавшихся покорить Вьетнам.
Человечество не забыло, что лишь несколько лет назад,
после многолетней кровопролитной войны с
американскими агрессорами, вьетнамский народ отстоял свою свободу
и независимость. Но тогда он сражался с
империалистическим хищником. И уже тогда Пекин делал все для того,
чтобы не допустить победы Вьетнама над американскими
агрессорами. В Пекине, как теперь хорошо известно,
категорически отвергли предложения СССР, других
социалистических стран о совместных действиях по оказанию
помощи Вьетнаму, стали чинить всяческие помехи
оказанию технической, военной помощи СССР героическому
вьетнамскому народу. Маоисты хотели полностью
обескровить социалистический Вьетнам и превратить его в
своего вассала. Сначала предательство, а потом —
агрессия. Причем на Вьетнам вероломно напала страна,
называющая себя социалистической.
122
Какие мотивы двигали пекинским руководством?
Какие цели преследовали маоисты, осуществляя этот
грязный акт международного разбоя?
Прежде всего, очевидно, что агрессия КНР не
является результатом стечения случайных обстоятельств, это —
прямое логическое продолжение внешнеполитической
линии, которая была принята китайским руководством на
XI съезде КПК и сессиях ВСНП, состоявшихся в 1978 и
1979 годах. На этих маоистских форумах был откровенно
провозглашен гегемонистский курс в качестве
государственной политики, курс международных провокаций и
экспансий. О размахе территориальных притязаний можно
судить по тому, что Пекин претендует на территории и
акватории различных государств, превышающие размеры
самого Китая. Курс на агрессию — прямое следствие
милитаристского угара, в котором уже долгие годы
пребывают пекинские руководители. И сегодня Пекин видит
главное препятствие своим экспансионистским планам в
Юго-Восточной Азии в лице 50-миллионного
социалистического Вьетнама, дорогой ценой заплатившего за свою
свободу и победу над империалистическими хищниками.
Сначала Пекин подтолкнул Пол Пота к войне с
Вьетнамом, а затем и сам двинул свои полчища на юг.
Далее, для всех очевидно, что агрессия стала возможна
лишь при бесспорной (хотя и замаскированной)
поддержке США и ряда других империалистических государств.
Агрессии предшествовала поездка Дэн Сяопина в
Вашингтон, где он открыто угрожал силой Вьетнаму. Фактически
США «санкционировали» нападение, обеспечив
политическую и моральную поддержку агрессору. Все честные
люди мира воочию убедились, к чему может вести
предательство революционных идеалов, процесс смыкания с
самыми реакционными силами современности. Можно
отметить, таким образом, что в результате фактического
союза маоизма с империализмом не только ускорился
процесс милитаризации китайского общества, но и
заметно возросла агрессивность Пекина, его наглость в
международной политике.
Наконец, следует сказать, что Китай своей агрессией
преследовал и своего рода пробу сил, хотел
продемонстрировать свою военную мощь миру, запугать соседей,
сделать их более сговорчивыми и податливыми. Для этого он
бросил против южного соседа более 600 тыс. солдат,
большое количество танков и артиллерии. Численность китай-
123
ской армии, вторгшейся во Вьетнам, превосходила
американскую армию, которая на протяжении ряда лет
пыталась безуспешно добиться военной победы над СРВ.
Нападение было осуществлено на протяжении всей
границы с СРВ (1436 км) и сразу же охватило шесть северных
провинций Вьетнама. Демонстрацией своей мощи Пекин
намеревался сломить волю к сопротивлению не только
Вьетнама. Ведь Китай давно уже считает Юго-Восточную
Азию своей «законной» сферой влияния. Разбойничьим
нападением Китай пытался также повернуть вспять
историю Кампучии, вернуть к власти своих фашистских
марионеток. Прикрытием же истинных целей служили
демагогические разглагольствования о «безопасности
границ», «безопасности родины», «мерах по обеспечению
безопасности Китая» и т. д. Как тут не вспомнить, что
Израиль, захватывая арабские земли, использовал эти же
аргументы; гитлеровцы, совершая нападение,
«оправдывали» свою агрессию подобными же доводами.
Пекин хотел при помощи маоистского блицкрига
разгромить вьетнамские вооруженные силы, чтобы создать
в дальнейшем подходящие условия для аннексии
значительной части свободолюбивой страны. Пекинские лидеры
рассчитывали, что этой акцией они заслужат еще большее
признание со стороны своих покровителей в ряде столиц
империалистических государств, на деле доказав, что
Китай не просто «проситель займов», а надежный
союзник.
Что увидел и понял мир, анализируя итоги
бесславной для Китая тридцатидневной войны? С чем
столкнулись прогрессивные силы мира?
Вновь была подтверждена старая, проверенная
временем, событиями и испытаниями марксистская истина о
том, что народ, ведущий справедливую войну, победить
нельзя. На стороне Вьетнама твердо встали Советский
Союз, другие страны социалистического содружества,
прогрессивные силы всего мира. Многие видные
государственные деятели возвысили голос в защиту Вьетнама.
Например, министр иностранных дел Индии А. Б. Ваджпаи,
выступая в парламенте, выразил свои симпатии
героическому вьетнамскому народу и решительно осудил
агрессию. Фидель Кастро в речи в Гаване призвал все
революционные и прогрессивные силы мира дать решительный
отпор разбойничьей авантюре китайского руководства.
Посланцы более чем 100 стран и 30 международных орга-
124
низаций приняли участие в работе международной
конференции в поддержку Вьетнама, проходившей в
Хельсинки. Конференция решительно осудила агрессию Китая и
призвала все миролюбивые силы оказать помощь
героическому вьетнамскому народу. С осуждением агрессивной
политики Пекина выступило большинство
коммунистических и рабочих партий, различных прогрессивных
организаций.
В ходе военных действий были не только разоблачены
политические намерения Пекина, но и выявлены
органические слабости, присущие агрессору. Мужественная
борьба вьетнамских патриотов вновь подтвердила важный
тезис, что силы, сражающиеся за свою независимость и
свободу, обладают огромным морально-политическим
преимуществом перед войсками захватчиков. Несмотря на
многократное превосходство в технике и живой силе,
китайские экспансионисты не смогли выполнить намеченные
цели и были вынуждены убраться с территории Вьетнама.
Пекинская авантюра обернулась для маоистов крупным
политическим, дипломатическим и военным поражением.
В течение месяца боев китайская армия, имевшая
огромное численное превосходство, сумела продвинуться лишь
на 30—40 километров. Причем китайскому
экспедиционному корпусу противостояли в основном не кадровые
соединения вьетнамской армии, а части народного
ополчения и пограничные отряды. По оценке зарубежной
печати, маоисты не смогли проявить крепости морального
духа; выявились слабости в области управления,
снабжения, связи, взаимодействия между родами войск.
Единственное, что проявили китайские солдаты в
избытке,— это акты жестокости и вандализма.
Агрессия Пекина показала вместе с тем, что
нынешние руководители Китая дошли до того, что присвоили
себе право «давать урок» другим странам по поводу,
какой им покажется подходящим. Высокомерные
рассуждения о необходимости «проучить» Вьетнам, «преподать»
ему урок обнажают предельную авантюристичность и
политический цинизм Пекина, его шовинистическое
презрение к другим народам. В истории подобных примеров
немного. Народы многих стран, особенно соседних с
Китаем, получили хорошую пищу для раздумий: а кто
окажется следующим, кому «преподадут урок» пекинские ге-
гемонисты? Взяв на себя роль верховного арбитра и
вершителя судеб народов, завтра Пекин, почувствовав силу,
125
возможно, пожелает эти уроки дать и в других регионах
мира?
Тридцатидневная агрессия Пекина показала также, что
он уже располагает весьма подходящим «человеческим
материалом» для подобных позорных акций. Вот лишь
одна иллюстрация к высказанному суждению.
В одной деревушке, около Каобанга, как писала
газета «Нян Зан», разыгралась трагедия, каких немало
принесли на многострадальную вьетнамскую землю
китайские милитаристы. После ожесточенных боев
захватчикам удалось потеснить героических ополченцев и
пограничников. Среди развалин замелькали солдатские куртки
китайцев; одни волокли нехитрую утварь и скарб мирных
жителей, стремясь быстрее поживиться добычей, другие
прикладами, бранью сгопяли всех уцелевших жителей в
траншею, опоясавшую высотку. Когда старики, женщины,
дети под пинками оккупантов сбились в кучу, из толпы
кричащей солдатни ударил смертельной струей огнемет.
Ударил по детям, женщинам, старикам...
Эта чудовищная по своей жестокости оргия лишь
малая частица того, с чем пришли маоистские захватчики
на героическую землю Вьетнама. Взорваны школы,
повешены раненые, раздавлены гусеницами танков дети.
Мысль невольно ищет и находит аналогии. Так было. Об
этом и сегодня рассказывают уцелевшие очевидцы,
испытавшие ужас фашистского нашествия, об этом
напоминают кадры с Нюрнбергского процесса, страницы
воспоминаний участников минувшей войны. Кто же эти
варвары, которые, копируя преступления нацистов,
хладнокровно топчут общечеловеческие нормы морали и
международного права? Откуда эта жестокость и
беспредельная наглость? Где истоки такого поразительного
перерождения режима? Ответ однозначен: это плоды идеологии,
морали и политики маоизма, его вдохновителей и
руководителей. Именно они главные виновники
милитаристского разгула, шовинизма и вандализма.
Таковы факты. Такова логика милитаризма, который,
готовя преступление, не может его не совершить. Истоки
этой агрессии надо искать в предательстве целей
китайской народной революции, в подстрекательских призывах
Мао Цзэдуна, в той конкретной политике, которую
проводят ныне в Пекине. Милитаризация общества и не может
дать иного урожая, кроме как новые лишения и тяготы
для собственного народа, беды и страдания для соседних
126
стран. Продукт милитаризма всегда предельно уродлив,
и его главным выражением всегда бывает агрессия,
экспансия, насилие.
Кое-кто на Западе, оправдывая агрессию против
Вьетнама, пытался утверждать, что она — результат стечения
обстоятельств, реакция на события в Кампучии. Но это не
так. Китай к агрессии начал путь давно.
Милитаристская, антисоциалистическая логика закономерно вела его
к преступлению. Обратимся к беспристрастным фактам.
Когда Вьетнам, истекая кровью, отбивался от
американских интервентов, КНР сначала отказалась предоставить
свои южные аэродромы для воздушного прикрытия ДРВ
летчиками, а затем стала чинить всяческие препятствия и
помехи для пропуска грузов через Китай из Советского
Союза. Китай в самый разгар боев вьетнамских
вооруженных сил за освобождение своей родины от оккупантов
воровски, коварно захватил Парасельские острова. Далее,
когда Вьетнам стал залечивать многочисленные раны,
нанесенные войной, маоисты натравили клику Пол Пота и
Иенг Сари против него. Тяжелым ударом явилось и
прекращение экономической помощи СРВ. А затем начались
бесчисленные пограничные провокации, закончившиеся
позорной агрессией китайских милитаристов против
соседней социалистической страны. Это далеко не полный
перечень всех диверсий и антивьетнамских действий,
которые Китай осуществил в ходе подготовки крайнего
шага — бандитского нападения.
Агрессия Китая против социалистического Вьетнама
позволяет сделать выводы о политике и возможностях
КНР на «тропе войны».
Во-первых. Агрессия КНР против героического
Вьетнама показала всю глубину и прозорливость
предостережений, исходивших от КПСС, Советского правительства
миролюбивым силам планеты. Здравомыслящие люди
увидели, что маоистский Китай способен подтолкнуть
человечество к самому краю бездны, от которого всего лишь
один шаг к большой войне. «Хотя эта авантюра
провалилась, — говорил Л. И. Брежнев, — выводы из нее
вытекают весьма серьезные. Для себя мы их сделали.
Наверное, и другие задумываются над этим» К Порой
некоторые буржуазные политики и идеологи пытаются
доказать, что Китай опасен только для СССР и не пред-
1 Правда, 1979, 27 апр.
127
ставляет угрозы для остального мира. Однако достаточно
ознакомиться с военно-политическими концепциями
нынешних руководителей, увидеть объем территориальных
претензий к соседним странам, оценить глобальные
замыслы Пекина, чтобы убедиться в близорукости тех, кто
пытается использовать в политической игре китайские
козыри.
Во-вторых. Маоистская авантюра во Вьетнаме
показала качественно новые моменты в пекинской политике.
Руководители КНР уже не довольствуются словесными
угрозами, многочисленными «предупреждениями», а
фактически морально готовы пойти на риск крупной военной
авантюры, большой войны. Крупномасштабное
применение военной силы против соседней страны
свидетельствует и о том, что в нынешнем руководстве верх взяли
милитаристские элементы, которые готовы более решительно
проводить в жизнь маоистский постулат: «Война? Ну и
что же?! Ее не надо бояться». Нетрудно видеть, что эти
качественно новые элементы свидетельствуют об
изменении соотношения в политике Пекина между реализмом
и авантюризмом в пользу последнего. Как подчеркнул
Л. И. Брежнев, «своим беспрецедентно наглым
разбойничьим нападением на соседнюю небольшую страну —
социалистический Вьетнам — нынешние пекинские
правители окончательно раскрыли перед всем миром коварную,
агрессивную сущность проводимой ими великодержавной,
гегемонистской политики. Теперь все видят, что именно
эта политика в настоящее время представляет собой
самую серьезную угрозу миру во всем мире» К
В-третьих. Агрессия Китая против социалистического
Вьетнама не означает, как это твердят буржуазные
идеологи, «несостоятельности» марксистско-ленинской
концепции о происхождении и причинах войн. Наглая экспансия
Пекина не означает правомерности войн между
социалистическими государствами. Да, на СРВ напал Китай, до
сих пор именующий себя социалистической страной. Но
в действительности нападающей стороной была страна,
руководители которой порвали с марксизмом-ленинизмом
и ведут общество к полной утрате достигнутых когда-то
социалистических завоеваний. Это была война между
социалистическим государством и военно-бюрократическим
режимом, ставшим на империалистическую сторону бар-
1 Правда, 1979, 3 марта.
128
рикад. Агрессия Пекина — еще один исторически
неопровержимый факт продолжающегося процесса социально-
политического перерождения режима, все более
отходящего от социалистического берега.
Генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл,
оценивая уроки пекинской авантюры, подчеркнул, что
«эта агрессия разоблачает сущность маоизма — его
феодальную, милитаристскую сущность, его цинизм и ковар
ство, его жестокость, его абсолютную безответственность
перед лицом угрозы ядерной войны, которая может
уничтожить все человечество» 4. Уильям Каштан, Генеральный
секретарь Компартии Канады, заявил: «Как можно
совместить заявления о «наказании Вьетнама» с идеями
марксизма-ленинизма? Это язык империалистов. Это язык
тех, кто отошел от классовых позиций и кто перешел в
лагерь империализма»2. Подобные оценки,
высказываемые представителями коммунистических партий,
различных прогрессивных, демократических организаций,
многочисленны. Все они не только свидетельствуют о
единодушии миролюбивых, прогрессивных сил в оценке
происшедшего, но и дают обильную пищу для анализа
и размышлений по поводу того, куда может увести
Китай милитаристская тропа, тропа войны и агрессии.
Подавляющее большинство демократических сил расценило
агрессивную акцию Китая и ее уроки как бесспорное
поражение маоистов. К этому выводу приходят и некоторые
трезвомыслящие буржуазные аналитики. Так,
американский обозреватель Б. Крамер в статье «Кто кому
преподал урок?» писал: «Непокорный маленький Вьетнам,
который смело принял вызов французов, а затем
американцев, несомненно, преподал урок и Китаю. Если взвесить
все плюсы и минусы «карательного» вторжения Китая
во Вьетнам, человечество может согласиться, что КНР
вышла из этой войны с подпорченной репутацией и
разбитым носом»3. Трудно не согласиться с этим выводом
буржуазного журналиста, вынужденно давшего
достаточно верную оценку происшедшему.
Конечно, нельзя не учитывать того обстоятельства, что
политическая и военная неудача, которую потерпел Пекин
в ходе своей тридцатидневной авантюры, подействовала в
1 «Daily World», 5 March, 1979.
2 «Canadian Tribune», 7 March, 1979.
3 Уолл-стрит джорнэл, 1979, 8 марта.
9 Зак. 512 129
известной мере отрезвляюще на маоистскую верхушку.
По отрезвляюще не в смысле отказа впредь от подобных
«экспедиций», а в смысле осознания пока недостаточной
своей воепной готовности к тому, чтобы решать сплои
крупные задачи. Судя по серии совещаний, которые
прошли в НОАК на различных уровнях, маоистские
руководители спешат учесть и устранить те многочисленные
слабости, которые, как они считают, проявились у
китайских вооруженных сил, — слабости технического,
оперативно-тактического, управленческого характера, которые
мешают превращению НОАК в надежный инструмент
реализации гегемонистской политики.
Агрессия КНР против социалистического Вьетнама
создала, таким образом, новую ситуацию: Пекин от
милитаристских приготовлений и далеко идущих
экспансионистских программ перешел к прямому использованию
военной силы для достижения своих целей.
Милитаристский потенциал страны проявился как своеобразный
военный фактор захватов и агрессий. Ныне Пекин не просто
стал апологетом, трубадуром войны, но и выступил как
орудие мировой реакции в ее развязывании. Все это не
может не учитываться не только социалистическими
странами, но и многими государствами Европы, Азии,
Африки. Ведь разве только Вьетнаму грозит опасность со
стороны маоистов? Над Южной Азией и Средним Востоком, как
и над рядом других районов, давно уже нависла зловещая
тень маоистской опасности. Попустительство
международному разбою может дорого обойтись народам.
Одна из целей Пекина в Южной Азии, в частности,
заключается в том, чтобы окружить Индию
государствами, которые бы относились к ней враждебно. Индия
давно мешает китайской экспансии. И Пекин не брезгует в
своей антииндийской деятельности ничем. Он готовит и
засылает вооруженных агентов и диверсантов в восточные
районы Индии, всячески поддерживает антииндийские
настроения в Пакистане, ряде других стран. Пекин не
останавливается на этом и шлет прямые угрозы своему
западному соседу. «Китайцы, — писала индийская газета
«Пэтриот», — адресуют Индии завуалированные угрозы,
предсказывая, что народности, входящие в Индийский
союз — нага, мизо, сиккимцы и кашмирцы, — восстанут
против центральной власти. Это должно открыть глаза
тем, кто вершит политику нашей страны.
Могущественная Индия, независимая в политическом, экономическом
130
и военном отношениях, представляется Китаю
препятствием на пути к осуществлению его шовинистических
замыслов. В этом все дело».
В Индии не могут не замечать, что, несмотря на ряд
ничего не значащих реверансов в сторону улучшения
индо-китайских отношений, Пекин не прекращает своей
военной активности на границе. Министр обороны Индии
Дж. Рама, проводя ежегодное совещание командного
состава сухопутных войск, подчеркнул, что Китай
лихорадочно вооружается, опираясь на поддержку
определенных западных держав. Индия не может не обратить
внимания на то, что Китай продолжает наращивание своих
военных приготовлений в Тибете.
Неискреннюю политику КНР проводит также и в
отношении Бирмы, Непала, стран АСЕАН, Шри Ланки,
Афганистана и других стран этого региона. Пекину хотелось
бы поставить эти страны в зависимость от своей
политики, посеять семена раздора между государствами Азии
и затем извлечь из этого выгоду. За каждым шагом
пекинского руководства в отношении стран Азии нетрудно
рассмотреть стремление усилить свои позиции гегемона,
распространить влияние «срединной империи» как
можно шире и дальше, подготовить почву для новых
территориальных экспансионистских действий.
Агрессия Пекина против Вьетнама — серьезное
предостережение народам. Маоистское руководство, как
показывает историческая практика, не задумываясь
применяет силу, как только оно почувствует возможность
достижения своих целей. Обильная милитаристская
подготовка маоистской почвы начинает давать ядовитые
агрессивные всходы.
Глава четвертая
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: УГРОЗА
МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ
Внешняя политика Пекина за последние три
десятилетия совершила причудливую эволюцию !. В 50-е
годы она в основном носила социалистический характер
и учитывала интернациональные интересы естественных
союзников КНР — социалистических стран. В первой
конституции КНР, принятой в 1954 году, провозглашалось,
что к основе внешней политики Китая лежит стремление
«поддерживать отношения нерушимой дружбы с
великим Советским Союзом и со странами народной
демократии, с миролюбивыми народами всего мира». Можно
сказать, что внешняя политика КНР того периода и в
реальной действительности исходила из этого принципа, хотя
маоистская верхушка уже тогда вынашивала иные цели.
Они, эти цели, стали более отчетливо видны в 60-е годы,
когда маоистское руководство повернуло руль
государственного управления резко влево внутри страны, что не
могло не сказаться и на внешней политике. Почувствовав
силу, приобретенную при помощи социалистических
государств в ходе социально-экономических преобразований
в предыдущее десятилетие, пекинские лидеры уже более
открыто проявили свои честолюбивые замыслы. Своей
авантюристической политикой они стремились столкнуть
СССР и США, поддерживали, где могли, конфликтные
ситуации, пытаясь «привязать» к ним великие державы.
Курс на создание «великих беспорядков» в мире
опирался на старый тезис императорских дипломатов:
«Господствовать над варварами с помощью варваров». Маоистские
руководители едва маскировали свое глубокое желание
подчинить своему курсу социалистическое содружество,
1 См.: Капица М. С. КНР: три десятилетия — три
политики. М, 1979.
132
осуществить контроль над Азией и, спровоцировав
ядерную войну между СССР и США, пожать в конечном
счете желанные плоды — достичь мировой гегемонии.
Провалы во внешней политике на этом этапе эволюции
мало чему научили Пекин. В 70-е годы им был
осуществлен очередной поворот. На этот раз руль государственного
корабля поворачивал его резко вправо.
Убедившись в тщетпости замыслов стать во главе
социалистического лагеря, он был объявлен просто
«несуществующим» \ а основной опорой в международных делах КНР
избрала развивающиеся страны с постепенным переходом
от конфронтации с капиталистическими странами к
сближению с ними на антисоветской основе. Разрядка
напряженности, которая в 70-е годы дала свои заметные
позитивные результаты, была предана анафеме. Д. Загория,
профессор политических наук Нью-Йоркского
университета, в труде «Идеология и внешняя политика Китая»
объясняет это тем, что разрядка невыгодна Пекину из-за
его глобальных планов. В своей внешней политике,
пишет американский профессор, Пекин прежде всего на
каждом этапе стремится четко определить: кто сейчас
является главным врагом, а кто второстепенным, и исходя
из этого планирует свои акции на международной арене.
Доктрина маоизма так широко и многозначно толкуется,
что на ее основе в Пекине могут принимать любые
решения. Но разрядка не входила и не входит в число целей
и задач китайской политики2. К аналогичным выводам
приходят и многие другие буржуазные исследователи.
Для всех непредубежденных людей стало тревожной
очевидностью положение, когда одна из великих держав —
многомиллионный Китай — взяла прямой курс на
установление мировой гегемонии. В арсенале средств
достижения этой цели война — одно из ведущих. Все шаги и
действия в области внешней политики маоистское
руководство в конечном счете подчиняет своим
великодержавным устремлениям. Китай в результате этого превратился
во все растущий источник международной
напряженности, военной опасности для многих стран мира. Характер
и направленность внешней политики любого государства
являются его внутренним делом до тех пор, пока она
1 Жэньминь жибао, 1974, И апр.
2 Zagoria D. S. Ideology and Chinese Foreign Policy. N.Y.,
1979, p. 103-106.
133
не вызывает угрозы другим государствам. И именно
такая угроза сегодня исходит от маоистского Китая.
«Большую опасность для всех миролюбивых народов, — говорил
товарищ Л. И. Брежнев, — представляют лихорадочные
попытки Пекина сорвать разрядку, не допустить
разоружения, сеять недоверие и вражду между государствами,
его стремление спровоцировать мировую войну, а самому
погреть на этом руки» *.
Китай ныне является единственным государством,
которое провозглашает неизбежность и желательность новой
мировой войны. Тезис Мао о том, что «война, которую
будет вести подавляющее большинство человечества,
станет мостом, по которому человечество перейдет в новую
историческую эпоху», развит его последователями,
которые на своих партийных съездах, сессиях ВСНП
многократно подтвердили приближение всемирного катаклизма.
Не далее как в июне 1979 года Хуа Гофэн на сессии
ВСНП утверждал, что факторы войны все более
нарастают, и эту обстановку он назвал весьма «благоприятной
и перспективной». Министр обороны КНР Сюй Сянцянь,
вторя пекинскому лидеру, заявляет, что «третья мировая
война может разразиться в любой день», а посему
необходимо ускоренно и напряженно готовиться к ней.
Сегодняшний Китай превратился в фактического
союзника империалистических кругов, самых реакционных
режимов и диктатур. Этот вывод подтверждается всем
содержанием его внешней политики, классово враждебной
марксизму-ленинизму и реальному социализму. Этот
качественный сдвиг контрреволюционного характера
негативно влияет на соотношение сил в мире, если исходить
из интересов прогрессивных, антиимпериалистических
сил, вызывает необходимость для социалистического
содружества отвлекать значительные средства, чтобы
противодействовать экспансионистским планам Пекина. Этим
самым наносится прямой удар и по
национально-освободительному движению, по тем народам, которые борются
против неоколониализма, за свое национальное и
социальное освобождение.
Никто так последовательно не выступает против
разрядки напряженности, как Китай. Нельзя привести ни
одного факта, потому что их нет, когда бы Пекин
поддержал ту или иную миролюбивую инициативу, шаги к ог-
1 Брежнев Л. И. Ленипским курсом. М., 1976, т. 5, с. 459.
134
ранпчению гонки вооружений, установлению
международного климата доверия и сотрудничества. Наоборот,
милитаризация страны, происходящая ныне быстрыми темпами,
агрессивные действия против своих соседей, политика
экспансии, разжигания тлеющих углей вооруженных
конфликтов в различных районах мира делают сегодняшний
Китай очень опасным очагом войны. Недооценка этой
опасности может дорого стоить народам, независимо от
того, каковы их сегодняшние отношения с Китаем и
далеко или близко* они расположены от «срединной
империи». Нелишне вспомнить, что даже такой политик, как
Конрад Аденауэр, в конце своей жизни пришел к
заключению, что «китайцы готовят ядерную войну» и что
удаленность Европы от Китая дает «ужасающе мало
гарантий безопасности» *.
В период после Мао во внешней по-
Теоретическое литике Китая мало что изменилось.
«обоснование» ^ -»
внешней политики Основные ее постулаты,
разработанные «кормчим», получили
дальнейшее развитие и завершение. Нового в стратегии
внешнеполитической деятельности немного. Это «новое»
заключалось в придании внешнеполитическому курсу еще более
реакционного характера и подведении под внешнюю
политику «теоретической базы» — так называемой
концепции «трех миров». Впервые Мао упомянул о «трех мирах»
в беседе с президентом Замбии К. Каундой. Он заявил,
что «СССР и США составляют первый мир.
Промежуточные силы, например Европа, Япония и Канада,
принадлежат к второму миру. Мы же с вами относимся к
третьему миру. Вся Азия, за исключением Японии,
принадлежит к третьему миру. Вся Африка — тоже третий мир.
К третьему миру относится и Латинская Америка». И эти
несколько фраз, произнесенные Мао Цзэдуном, стали
выдавать за «божественное откровение», «гениальный
вывод», «великий вклад в развитие марксизма-ленинизма».
Пекинские руководители эти исходные указания
«кормчего» стали широко пропагандировать на всех
международных форумах, совещаниях, встречах, усматривая в них
не только возможпость пропаганды этой антимарксистской
концепции, но и повод для привлечения сторонников
антисоветского курса, средство «обоснования» сближения с
империалистическими силами. Именно с таких позиций
1 Adenauer К. Erinnerungen 1959—63. Stuttgart, 1968, S. 234.
135
эта надуманная теория «разъяснялась» с трибуны ООН,
во время визитов китайских государственных деятеле и в
другие страны, приемов зарубежных делегаций в Пекине.
При этом допускались трактовки названной концепции,
отличающиеся одна от другой, в соответствии с
конъюнктурными соображениями.
Реакционная, антинаучная сущность этой теории не
имеет ничего общего с марксизмом. Эта умозрительная
конструкция сооружена лишь на потребу гегемонистским
претензиям Китая. Хуа Гофэн говорил на XI съезде КПК:
«Теория председателя Мао Цзэдуна о делении на три
мира наметила общее направление нынешней
международной борьбы и четко определила, кто представляет собой
главные революционные силы, кто — главных врагов и
кто — промежуточные силы, с которыми можно
объединиться». В редакционной статье «Жэньминь жибао» от
6 февраля 1978 года, озаглавленной «Теория председателя
Мао Цзэдуна о делении на три мира», подробно
излагается суть этой антимарксистской концепции. В ней
упоминается, что Мао Цзэдун предвосхитил эту теорию еще
в 1946 году, когда провозгласил мертворожденную идею
о «промежуточных» зонах, охватывающих-де все страны,
лежащие между двумя полюсами — СССР и США.
Однако в силу явно антимарксистского, откровенно
геополитического характера эти взгляды не получили тогда
сколько-нибудь широкого распространения, но и не были
забыты. После несложного формального препарирования
теории «промежуточных зон» возникла «новая» теория
«трех миров».
Прежде чем анализировать маоистскую теорию «трех
миров», представляется необходимым напомнить, что в
современный период основное противоречие эпохи — это
противоречие между социализмом и капитализмом,
которое накладывает свой решающий отпечаток на все
общественные процессы. Позиции социализма, других
прогрессивных сил продолжают шириться и укрепляться. Их
воздействие на ход общественного прогресса огромно.
Множатся победы национально-освободительного
движения. Нарастает классовая борьба трудящихся против
гнета монополий, против эксплуататорских порядков.
Приобретает все большие масштабы
революционно-демократическое, антиимпериалистическое движение. Все это в
целом означает развитие всемирного революционного
процесса. В основе анализа современной эпохи, оценки пер-
136
сттектив, проведения водораздела между
антагонистическими силами лежит классовый принцип, которого всегда
следует придерживаться, чтобы дать истинную картину
действительности.
Маоисты же, исходя из утилитарных, гегемонистских
целей, напрочь отбросили этот принцип и в своих
теоретических построениях «перекраивают» мир так, как
хотелось бы им его видеть. Занимая геополитические
позиции, пекинские теоретики стремятся представить планету
в виде шахматной доски, на которой у них должно быть
максимально большее количество союзников против
«врага номер один» — Советского Союза. В основе теории
«трех миров» лежит старый китаецентриетскии взгляд на
историю, на весь мир. Этот взгляд всегда отводит особое,
центральное, мессианское место в мировом общественном
развитии Китаю, приписывает ему роль спасителя
мировой цивилизации. Эта мировоззренческая традиция идет
от Конфуция, многих китайских богдыханов. В 40-е годы
Мао Цзэдун пытался, опираясь на этот принцип,
поставить Китай в положение как бы между двумя
системами, с тем чтобы, используя противоречие между
капитализмом и социализмом, извлечь максимальную выгоду
для своих гегемонистских целей. Позже Мао хотел
опереться на США, преследуя свои, далеко идущие цели.
23 августа 1944 года Мао, как свидетельствует
американский писатель Р. Саттер, шесть часов беседовал с
Дж. Сервисом, зондируя возможность получения широкой
помощи от США. При этом Мао неоднократно
подчеркивал, что «Америка в долгосрочной перспективе может
быть более полезна для Китая, чем СССР» !. Однако
администрация США, дав некоторые политические авансы
маоистам, в последующем сделала ставку на Гоминьдан.
В силу ряда причин свой замысел Мао тогда
осуществить не удалось. Революционные события развивались
таким образом, что победила в то время не маоистская,
оппортунистическая линия в КПК, а революционная,
интернационалистическая, и Мао вынужден был пойти на союз
с СССР, как теперь видно, — союз временный и
вынужденный для него.
В 70-е годы китаецентризм у Мао проявился уже по-
другому, в форме пресловутой концепции «трех миров»,
но суть ее осталась прежней: попытаться так расставить
1 Sutter R. China Watch. Baltimore, 1979, p. 22—23.
137
мировые силы, чтобы Китай и в этих условиях занимал
наиболее выгодное положение. В Пекине очень много
шумели по поводу «исключительного значения» этой
теории, представляющей якобы высшее достижение
марксизма, его подлинную «научную вершину».
Однако стоит ознакомиться с этой, с позволения
сказать, «теорией», как убеждаешься, что она абсолютно
несостоятельна в научном отношении и исключительно
реакционна в политическом. Отказавшись от классового
принципа анализа, маоисты так перекроили в своей
концепции мир, что, по их взглядам, и весь «третий мир»
(развивающиеся страны),и «второй»
(развитыекапиталистические страны), и половина «первого мира» (США)
якобы «объективно» должны быть заинтересованы в
создании единого фронта против СССР. Заместитель
председателя ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета
Народного политического консультативного совета Китая
(НПКСК) Дэн Сяопин в интервью агентству Франс Пресс
22 октября 1977 года откровенно заявил, что теория «трех
миров» показывает прежде всего, что у всех стран мира
есть причины видеть опасность со стороны СССР,
мирового социализма, а следовательно, и объединить усилия
против этой «сверхдержавы». «Нужно сорвать
глобальный военный план, замышляемый Советским Союзом, —
заявил Дэн Сяопин, — и я надеюсь, что в это дело
включится весь третий, второй и даже первый мир, то есть
Соединенные Штаты». Трудно более откровенно и
цинично высказать самые глубокие надежды и замыслы.
Даже при беглом взгляде на концепцию «трех миров»
можно увидеть в ней много несуразностей, противоречий,
голого субъективизма. Достаточно сказать, что,
проповедуя эту теорию, маоисты противоречат самим себе, ибо
до этого они на всех перекрестках кричали, что «третий
мир» является их главным союзником, так как это
«основная сила в борьбе против империализма,
колониализма и гегемонизма». А теперь получается, что главный
их союзник — империализм. Далее, согласно этой теории
угнетенные народы (третий мир) должны видеть в своих
угнетателях (империалистических странах) естественных
союзников! Абсурдность, вздорность подобных
«теоретических выводов» очевидны.
Глубокая несостоятельность теории «трех миров» вид-
па и в том, что даже собственная, маоистская
классификация государств подвергается сомнению, ибо одна поло-
138
вина «первого мира» — СШЛ зачисляется в союзники
Китая, а другая — СССР — в лютые враги. А
социалистическому содружеству, согласно пекинской схеме, вообще
не находится даже символического места! Мировая
социалистическая система, как решающая сила современного
общественного развития, определяющий фактор
исторического прогресса, исключается маоистами как
несуществующая! Здесь не просто выражается антинаучность
мышления пекинских теоретиков, но и раскрывается их
сокровенное желание — ослабить, расколоть, ликвидировать
социалистическое содружество как главное препятствие
на пути реализации Пекином своих замыслов.
Ущербность и научная убогость маоистской теории
видна и в том, что она к «третьему миру» практически
относит пе только развивающиеся страны, но и Чили,
ЮАР, и ряд других реакционных режимов. Хотя в
последние два года пекинские руководители и пытаются
корректировать, подправлять эту «теорию»
(«перетасовывая» колоду своих расчетов, делая ставку на те или ипые
страны), результат тот же: на первом плане не научный
подход к анализу процессов современности, а подход
националистический, геополитический. Псевдомарксистская
фразеология не в состоянии скрыть сугубо
прагматического подхода маоистов к своим проблемам, своим
милитаристским целям.
Анализ практических шагов Пекина показывает, что
для него сегодня и эта так называемая теория «трех
миров» и надлежащим образом обработанные статьи и
выступления Мао Цзэдуна, опубликованные в пятом томе
«Избранных произведений», служат для оправдания геге-
монистского, антисоветского курса, для оправдания
действий, направленных на срыв разрядки напряженности,
обострение международной обстановки, возвращение к
стуже «холодной войны». Действительно, кроме Китая
сейчас в мире практически нет ни одного государства,
которое бы открыто предрекало неизбежность новой мировой
войны, столь активно подталкивало бы человечество к
ядерной катастрофе. «Третья огромная мировая война
неизбежна, — говорил глава китайской делегации на
Генеральной Ассамблее ООН. — Возможно, в этой войне
погибнут сколько-то людей. Но эта война облегчит решение
вопросов угнетенных наций и человечества. Она вовсе не
так уж плоха» 1. Одна существенная деталь: прославляя
1 Цит. по: Правда, 1976, 14 мая.
139
войну, предрекая ее неизбежпость, пекинские стратеги
хотели бы, чтобы сгорели в ней другие, а Китай пожал
плоды этого чудовищного катаклизма. Ослепленные
ненавистью к первой в мире стране социализма, всем
прогрессивным силам, предав принципы социалистического
интернационализма, пекинские руководители стремятся
сорвать разрядку, посеять недоверие и вражду между
государствами, спровоцировать мировую войну, а самим
погреть на этом руки. Все, что способствует достижению
этой цели, одобряется, все, что противоречит, —
отвергается Пекином. И теория «трех миров» представляется
пекинскому руководству удобным «теоретическим»
средством для идеологического обоснования этой цели.
Таким образом, нетрудно видеть прагматический
смысл этой маоистской концепции. Он, если говорить
обобщенно, заключается в следующем.
Во-первых, теория «трех миров» подспудно (но
достаточно отчетливо) утверждает основную идею о том, что
в этой системе «миров» Китаю отводится ведущее место
в идеологии, политике, а в будущем — ив военной
области. Именно КНР провозглашается «лидером», «оплотом»
разношерстных социальных сил, которые должны
«объединиться» против «социал-империализма».
Во-вторых, эта антимарксистская, прагматическая
концепция обосновывает неизбежность в конце концов новой
мировой войны. Весь дух и содержание маоистской теории
«трех миров» исходят из объективной неизбежности
мирового катаклизма, который народы смогут легче
пережить, если будут придерживаться пекинской концепции.
В-третьих, очередная маоистская теория преследует
п конкретные политические цели — ускорение
сколачивания широкого антисоциалистического фронта, который бы
включил в себя самые различные силы:
империалистические круги, заправил военно-промышленного комплекса,
диктаторские режимы, расистов, реваншистов,
неофашистов, антикоммунистов всех оттенков и разновидностей.
Правда, в последнее время пекинская пропаганда
заметно ослабила свои усилия в распространении и
апологетике теории «трех миров». Причина подобного
явления лежит, по-видимому,в плоскости быстрого сближения
КНР и империализма, что недостаточно полно
вписывается в нынешние постулаты и рамки концепции.
В докладе Дэн Сяопина на V пленуме ЦК КПК (февраль
1980 года) впервые за последние годы не было упомина-
140
ния о пресловутой концепции «трех миров», что,
видимо, означает перестройку маоистской
внешнеполитической доктрины в сторону еще большей проимиериалисти-
ческой позиции.
Вместо этих положений Дэп назвал в своем
выступлении борьбу с гегемонизмом в качестве первоочередной
задачи на 80-е годы. При этом он представил эту борьбу
как важнейшее условие осуществления «четырех
модернизаций», а с другой стороны — как одну из важнейших
целей КНР. Умолчание о теории «трех миров» означает,
видимо, не отказ от нее, а подготовку такой ее
трансформации, которая еще более полно оправдает переход Китая
в лагерь империализма. Следует, видимо, ожидать
определенной корректировки этой антинаучной «теории» или
появления новой концепции, более полно оправдывающей
измену Пекина революционным идеалам, его союз с
силами мировой реакции. Не исключено, что внеочередной,
XII съезд КПК подвергнет ревизии маоистскую
концепцию «трех миров», хотя на XI съезде партии в 1977 году
она была названа «самой правильной теоретической,
стратегической и тактической установкой, имеющей огромное
и долговременное значение» 1. Жизнь показывает, что для
пекинского руководства уже стало нормой отбрасывать
завтра те принципы, которые сегодня объявляются
незыблемыми. В беспринципной, предательской политике,
какую проводят маоисты, иначе и быть не может.
Для обоснования своей внешнеполитической
стратегии, носящей милитаристский, экспансионистский
характер, пекинские теоретики используют и концепцию
«выигрыша времени». Китайские руководители, выступая
публично и особенно в доверительном кругу, теперь часто
заявляют, что-де сейчас еще Китай слаб, нужно время,
чтобы он занял в мире место, «по праву принадлежащее
ему». Обычно указывается рубеж где-то около 2000 года.
Именно к этому времени маоистские руководители
рассчитывают превратить Китай в мощное милитаристское
государство, способное оказывать решающее влияние на
судьбы всего мира.
А пока Китай вынужден придерживаться стратегии
«долгого дыхания», т. е. учитывать возможность
достижения своих затаенных целей только в дальней
перспективе. Возможности его еще достаточно ограниченны. Но
1 XI Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, с. 62.
144
это не должно порождать у миролюбивых сил
благодушия и беспечности. Уже и сегодня Китай представляет
внушительную милитаристскую силу, способную к
авантюрам. Он в состоянии развязать большую войну. А это
принесло бы народам огромные страдания и лишения. Вот
почему «теоретический камуфляж» Пекина не должен
никого обманывать. Милитаристская, поджигательская,
провокационная сущность политики не меняется, если
даже ее маскируют наукообразными, псевдореволюциопными
«теориями». Остается очевидным, что суть
стратегического замысла китайских руководителей во внешней
политике заключается в стремлении сколотить новый
антикоммунистический «священный союз» — союз маоизма
и империализма. В этом выражается ныне антисоветский
экстремизм пекинского руководства, продолжающего под
прикрытием теоретической и идеологической
эквилибристики сколачивание нового антикоммунистического пакта.
Истории всех подобных союзов, их возникновение,
эволюция и неизбежный крах — известны. Не будет
исключения п для маоистской затеи, хотя для ее осуществления
они максимально мобилизовали свои ресурсы и
возможности внешнеполитического плана. Предательский,
поджигательский курс Пекина конкретизируется
применительно к странам, в зависимости от проводимой ими
политики и их общественного строя.
Мир уже перестал удивляться чудо-
£?Л«а„!!р?т!!Г л л вищному парадоксу: Китай, называ-
социалистического „ J ^ ^ J ' «
содружества ющии себя социалистической
страной, концентрирует свои усилия на
борьбу с мировым социализмом, всеми прогрессивными
силами современности. Это объясняется тем, что в
социалистическом содружестве Пекин сегодня видит главное
препятствие на пути реализации своих великодержавных,
агрессивных целей. Вначале в руководстве КНР
возникла формула о том, что социалистического содружества
вообще не существует. Однако легче заявить, чем
игнорировать реальность, поэтому в последующем в Пекине
стали относить большую часть социалистических стран к
«третьему миру». Несмотря на различные повороты,
шараханья маоистских лидеров от ультралевых взглядов к
ультраправым, отношение к мировому социализму
осталось неизменно враждебным. Но здесь пекинское
руководство осуществляет дифференцированный подход,
имеющий целью вбить клин между СССР и другими братски-
142
ми странами. Естественно, эти попытки полностью обре-*
чеиы на провал. Атакуя миролюбивую внешнюю политику
социалистических стран, маоисты особый акцент в своей
подрывной, контрреволюционной деятельности делают на
борьбе с Советским Союзом и КПСС. Хуа Гофэн на
XI съезде КПК обосновал тезис, что непримиримая
борьба с КПСС будет продолжаться «длительное, очень
длительное время».
В качестве условия для возможного улучшения
отношений маоисты выдвигают выполнение нами заведомо
неприемлемых требований: отказаться от важнейших
положений политического курса, выраженных в решениях
XXIV и XXV съездов, в Программе КПСС, признать
наличие «спорных районов», а также того факта, что-де
СССР совершил по отношению к КНР многочисленные
«ошибки» начиная с 1960 года. Фальсифицируя факты,
искажая истинное положение вещей, выдвигая
ультимативные требования, пекинское руководство стремится еще
больше обострить советско-китайские отношения, обвиняя
в обострении СССР.
Антисоветизм маоистов постоянно выражается в
милитаристских заявлениях партийных и государственных
деятелей КНР, враждебных Советскому Союзу акциях
во всех международных организациях, и прежде всего
в ООН, раскольнических действиях в мировом рабочем
и коммунистическом движении. Все предложения СССР,
направленные на углубление разрядки, ограничение
гонки вооружений, создание климата доверия между
государствами, неизменно встречаются в штыки
представителями Пекина. К слову сказать, китайская делегация
в ООН с 1971 года (с момента восстановления прав КНР
в ООН) не внесла на рассмотрение мирового сообщества
ни одного конструктивного предложения! И в то же
время не упустила возможности выступить против любого
миролюбивого предложения, особенно если оно было
выдвинуто социалистической страной.
Достаточно вспомнить, что такие инициативы
Советского Союза и других социалистических стран в ООН,
как предложения о созыве Всемирной 'конференции по
разоружению, о мирном урегулировании
ближневосточного кризиса, о полном запрещении производства и
применения ядерного оружия, о запрещении размещения
ядерного и ракетного оружия в космосе, на дне океанов
и морей, и многие другие с порога отвергались делега-
143
цией КНР, которая вместе с представителями пиночетов-
скон клики и расистами ЮАР неизменно выступала и
голосовала против этих миролюбивых акций. Одновременно
делегация КНР систематически использует трибуну ООН
для злобной клеветы на миролюбивую политику
Советского Союза и других социалистических стран, выступая
нередко с откровенно подстрекательскими,
провокационными заявлениями. Оценивая выступление главы
китайской делегации на специальной сессии ООН по
разоружению, отражающее деструктивную позицию КНР по
этому вопросу, Л. И. Брежнев говорил: «Похоже, что их
представитель попросту перепутал трибуны. Ему бы с его
воинственной речью выступать не в ООН, а на сессии
блока НАТО» К За годы пребывания КНР в ООН она не
сделала ни одного шага, направленного на упрочение
мира, углубление разрядки, поддержку подлинно
революционных движений.
Ныне внешняя политика КНР, по существу,
представляет синтез беспринципности, великодержавности и
антисоветизма. Для Пекина антисоветизм стал фактически
универсальным принципом и критерием: все, что наносит
ущерб Советскому Союзу, для него истинно и приемлемо.
Китайские руководители особенно настойчиво
спекулируют сейчас на мнимой «угрозе с Севера», «нерешенных»
якобы территориальных вопросах, раздувают
фантастические вымыслы и беспардонно дезинформируют
общественность в своей стране. Все это свидетельствует о том, что
антисоветская направленность пекинской политики
носит не временный, тактический, а долгосрочный,
стратегический характер. Именно в лице Советского Союза,
последовательно проводящего в жизнь ленинские принципы
внешней политики, Пекин ныне видит «главное
препятствие на пути достижения своих гегемонистских
целей.
На сессии Всекитайского собрания народных
представителей (1978 год) пекинские руководители вновь
подтвердили основные положения своего антисоветского
курса. В частности, Хуа Гофэн повторил абсурдные,
совершенно необоснованные требования Китая к Советскому
Союзу в отношении так называемых «спорных
территорий» (территориальных притязаний Пекина), обвинил
Советскую страну в «диктате», «враждебности» к Китаю,
1 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1979, т. 7, с. 380.
144
каких-то «военных приготовлениях». Политический
репертуар насквозь лживых мифов у Пекина весьма
небогат, и он весь был повторен.
Высказываясь по вопросам внешней политики КНР,
Хуа Гофэн заявил на сессии ВСНП в июне 1979 года, что
китайское правительство по-прежнему намерено
следовать маоистской концепции «трех миров» и проводить
«внешнеполитическую линию Мао Цзэдуна». Хуа Гофэн
вновь утверждал, что главная угроза миру исходит не
от империализма, а от Советского Союза. И в этой связи
он повторил стереотипные антисоветские выпады и
маоистский лозунг создания так называемого «широчайшего
единого фронта борьбы против сверхдержавного
гегемонизма», что означает на пекинском жаргоне — против
СССР.
Злобная антисоветская линия, проводимая
руководителями КНР и КПК, вызывает самые благоприятные
отклики реакционных сил, заправил военно-промышленного
комплекса, реваншистов и антикоммунистов всех мастей.
В политическом словаре империалистических трубадуров
сегодня прочное место заняли различные маоистские
штампы, вроде: «гегемония сверхдержавы», «военная
опасность со стороны социал-империализма», «факторы
войны нарастают», и другие. Спекулируя на домыслах,
клевете, фальсификациях маоистов, антисоветчики Запада
делают все для того, чтобы отравить международный
политический климат, сорвать разрядку напряженности,
помешать реализации миролюбивой политики СССР и
других стран социалистического содружества.
В Китае систематически публикуются материалы, в
которых искажается политика братских стран социализма,
извращается сущность и роль СЭВ, Организации
Варшавского Договора. Так, «Жэньминь жибао» от 6 февраля
1978 года подчеркивала, что Варшавский Договор —
агрессивный союз, который будто бы несет опасность
Западной Европе. «В настоящее время, — вещали пекинские
пропагандисты, — Варшавский Договор представляет
самую серьезную угрозу западноевропейским
государствам. Как только вспыхнет война, они неизбежно станут
первым объектом атаки Советского Союза».
Провокационный, подстрекательский характер подобных заявлений
очевиден.
Только люди без памяти могут забыть, как много
сделал Советский Союз, а затем и другие братские страны
10 Зак. 512 145
социализма для китайского народа в вопросах борьбы за
национальную независимость, в создании основ
современной экономики, в подготовке специалистов. Только с
позиций глубокой беспринципности можно черное выдавать
за белое, и наоборот. Социалистические страны дали
много доказательств стремления к улучшению отношений с
Китаем. Но это зависит не только от них. Пока же Пекин
не осознает этого и не изменит своих позиций,
коммунистические партии стран социалистического содружества
будут и впредь вести борьбу с маоизмом, борьбу
принципиальную, непримиримую. Что касается СССР, говорил
товарищ Л. И. Брежнев, то мы будем давать отпор
поджигательской политике маоистов, защищать интересы
Советского государства, социалистического содружества,
мирового коммунистического движения.
Проводя откровенно антисоциалистический курс,
Пекин делает новые усилия для дальнейшей
дифференциации своей политики в отношении социалистических стран.
Осенью 1978 года, как сообщала иностранная печать,
Политбюро ЦК КПК специально обсудило этот вопрос. По
отношению к ряду стран усилилось демонстративное
выражение «дружбы», стремление развивать
сотрудничество в различных областях, но на антисоветской основе, как
надеется Пекин. По отношению к другой группе стран
маоисты занимают выжидательную позицию, пытаются
ложным, показным дружелюбием склонить их на свою
сторону. Одновременно Пекин не прекращает
систематических грубых нападок и подрывных действий против
СССР, СРВ, МНР, Кубы. Цель подобной дифференциации
очевидна: противопоставить одно государство другому,
вызвать трения и разногласия, поссорить с Советским
Союзом, а затем поставить их в зависимость от Китая.
Действительность такова, что большинство
политических и иных акций КНР направлено не на борьбу с
империализмом, помощь развивающимся государствам, а
на противоборство со странами социализма,
естественными союзниками молодых государств, вставших на путь
независимого развития.
Навсегда останется позорной в истории маоизма
страница, повествующая о китайской агрессии против
социалистического Вьетнама и продолжающихся
провокационных действиях против героического вьетнамского народа.
Нельзя не поразиться беспринципности Пекина,
поддерживающего ныне реваншистов Западной Германии, хо-
146
тевших бы «проглотить» ГДР. В беседе с правым
буржуазным деятелем из ФРГ Г. Фильбингером Хуа Гофэн
солидаризировался с реваншистской идеей «единой
немецкой нации», говорил о «законности» требований
реакционных деятелей Западной Германии на решение
«германского вопроса» по их рецептам !.
Маоистская верхушка уже долгие годы поддерживает
напряженность на монголо-китайской границе, оказывает
на МНР постоянное военное давление. Пекин
систематически проводит здесь военные учения, организует
провокации, мешает хозяйственной деятельности в
приграничных районах. В китайской печати не прекращается
публикация фальсифицированных материалов,
«доказывающих» историческую принадлежность монгольских
земель Китаю. Пекинское руководство подвергает особым
нападкам право МНР использовать помощь СССР в
защите своего национального суверенитета и безопасности.
Пекин не останавливается перед тем, чтобы провоцировать
США для более активной борьбы против Кубы, форпоста
социализма в Западном полушарии. Даже такие шаги,
как военные демонстрации США у берегов Кубы, угрозы
морской блокады острова Свободы, встречают открытое
одобрение в Пекине. Маоистские руководители прилагают
немалые усилия для компрометации Кубы, чей
международный авторитет сегодня исключительно высок.
Пекинские руководители ведут подрывную деятельность протин
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, спекулируя на
различных мнимых «трудностях», на якобы
«неравноправных отношениях этих стран с СССР».
Пекин, давно уже заявивший, что социалистического
содружества не существует, делает все для того, чтобы
на деле его ослабить, расшатать, вызвать кризис в
отношениях между его членами, особенно в отношениях с
Советским Союзом. Здесь шансов на успех у маоистов пет.
Социалистические страны, верные пролетарскому
интернационализму, оказывая братскую помощь друг другу,
неуклонно идут курсом созидания такого общества, где все
служит трудящемуся человеку, его материальным и
духовным запросам.
Руководители братских социалистических стран
неоднократно заявляли китайскому руководству о своей
готовности нормализовать отношения с КНР на принципах
1 Жэньминь жибао, 1977, 24 апр.
10*
147
мирного сосуществования и невмешательства в дела друг
друга. Братские партии проявляли сдержанность,
отмечали, что в дружбе народов социалистических стран и
парода Китая заложены объективные основы их более
успешного развития, эффективного противодействия
империализму. Доказательств проявления доброй воли
социалистических государств множество. Однако в Пекине
они не нашли должного отклика. Не в интересах
маоистских руководителей сворачивать с рельсов милитаризации
страны, пособничества реакции, нагнетания
международной напряженности. Причины глубокой враждебности
сторон всецело лежат в политике Пекина, его целях,
стратегическом курсе маоистов на достижение мировой
гегемонии и подчинение своему влиянию не только стран
«третьего мира», но и социалистического содружества.
В Пекине не устают твердить, что СССР представляет
угрозу для Китая. Однако пи один здравомыслящий
человек не найдет действительных причин для вражды между
народами Советского Союза и КНР. Разве не очевидно,
что тесное сотрудничество двух великих соседних стран
сулит поистине безграничные перспективы развития.
Пятидесятые годы показали, сколь огромны потенциальные
возможности такого сотрудничества. Разве не ясно, что
добрососедские отношения между СССР и КНР самым
положительным образом сказались бы на международной
обстановке, упрочении разрядки, срыве агрессивных
поползновений империалистов? КПСС четко
сформулировала свою принципиальную позицию по этому вопросу. И в
ответ на эту абсолютно четкую позицию советской
стороны Пекин отвечает инсинуациями, клеветой, обвинениями
в нашей «агрессивности». О лживости пекинских
политиков свидетельствуют факты. Назовем лишь некоторые из
них.
По инициативе Советского Союза в 1969 году были
начаты советско-китайские переговоры по пограничным
вопросам, которые не завершены и сегодня. Причина?
Ультимативная, обструкционистская позиция Пекина,
пытающегося навязать СССР заранее неприемлемые условия.
Советская сторона неоднократно предлагала провести
встречи на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы
нормализации отношений между СССР и КНР. Такие
предложения выдвигались в 1970, 1973, 1978 годах. Последняя
из этих инициатив — предложение о выработке
совместного текста о принципах взаимоотношений между СССР
148
п КНР на основе мирного сосуществования. В 1971 году
СССР предложил Китаю заключить договор о
неприменении силы в отношениях между двумя странами, в 1973
году — договор о ненападении, вносил предложения о
возобновлении сотрудничества в различных областях.
Однако китайская сторона ни разу не пошла навстречу
проявлениям доброй воли со стороны Советского Союза.
Более того, в апреле 1979 года КНР приняла решение не
продлевать действие Договора о дружбе, союзе и
взаимной помощи между СССР и КНР от 1950 года. Таковы
лишь некоторые факты. Они свидетельствуют о все
большем переходе Китая в лагерь врагов социализма,
прогресса и свободы. Антисоциализм маоистов, таким образом,
объясняется тем, что в лице социалистического
содружества Пекин видит главное препятствие на пути
достижения своих милитаристских, гегемонистских целей,
установления мирового господства.
По отношению к освободившимся
Катан и развиваю- странам, вставшим па путь самосто-
щиеся страны г » j
ятельного развития, Пекин,
претендуя на роль своеобразного добровольного «защитника» их
интересов, пытается таким образом вовлечь их в орбиту
своего влияния. Эти попытки осуществляются на основе
оголтелого антисоветизма, фактической поддержки
неоколониализма, едва прикрытых гегемонистских
устремлений. Все шаги Пекина, связанные со стремлением
проникнуть в развивающиеся страны и усилить влияние на
них, сочетаются с одновременной активизацией
антисоветской деятельности маоистов в этих странах. Их не
смущает пестрота социально-политических структур,
степень влияния неоколониализма, тех или иных
идеологических доктрин. Их интересуют только возможности
упрочения своих позиций в том или ином районе и степень
приверженности антикоммунизму и антисоветизму
правящих сил той или иной страны. Но при всем этом Пекин
пе устает твердить об «общности интересов» Китая с
развивающимися странами, об «исторической
обусловленности» дружбы КНР с теми или иными режимами, о
готовности Китая оказать поддержку в борьбе против «социал-
империализма». Чтобы было удобнее играть эту роль,
пекинское руководство на XI съезде КПК еще раз заявило,
что «Китай — развивающаяся страна, относящаяся к
третьему миру». Под лозунгом борьбы против гегемонизма
двух сверхдержав Пекин хотел бы придать антисоветскую
149
направленность движению неприсоединения, выхолостить
его антиимпериалистическую направленность. Опасность
действий маоистов в развивающихся странах
заключается в том, что они фактически дискредитируют идею
социалистической ориентации в общественном развитии,
пытаются навязать некоторым странам свои экономические
концепции, всячески раздувают тлеющие региональные
конфликты в зоне национально-освободительного
движения.
Помощь Пекина (экономическая, техническая,
военная) имеет целью связать некоторые из этих стран с
китайским режимом, отвлечь их от борьбы против
действительных врагов — империализма, расизма,
неоколониализма. Что касается «помощи», то пекинское руководство
обычно достаточно охотно ее обещает, но крайне
медленно осуществляет. По данным гонконгского еженедельника
«Чайна ныос аналисис» от 24 октября 1977 года, из
общего объема обещанной Китаем помощи слаборазвитым
странам в 70-е годы выполнено лишь 30 процентов. А из
всей суммы кредитов, которую Пекин обещал
предоставить, например, африканским государствам с 1956 года,
к настоящему времени предоставлено лишь 32 процента.
К этому следует добавить, что Китай упорно отказывается
помогать в строительстве индустриальных и
энергетических объектов, так как это дело дорогостоящее и сулит
выгоды лишь в дальней перспективе. За все эти годы
в Африке, например, Китай построил лишь около десятка
объектов, весьма скромных по величине и значению.
Пекин предпочитает в порядке помощи осуществлять так
называемые «престижные проекты»: строить дворцы,
стадионы, культурные центры. Их создание тесно
увязывается с пропагандистской шумихой, стремлением оказать
маоистское воздействие на общественное сознание.
Незначительная в общем объеме помощь Пекина
объясняется не только его невысокими экономическими
возможностями, но и дальними стратегическими целями:
«третий мир» Китаю нужен слабым, разобщенным,
отсталым. Именно в таком мире, как надеются пекинские
лидеры, они смогли бы быстрее занять ведущее
руководящее положение и навязать свою волю и рецепты другим
странам. Не случайно, что, когда в 1973 году СССР на
сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил
сократить военные бюджеты государств — постоянных членов
Совета Безопасности на 10 процентов и использовать
150
часть сэкономленных средств на оказание помощи
развивающимся странам, против этого выступил фактически
лишь Китай. Комментарии, как говорится, излишни.
Пекин, рассматривая развивающиеся страны как
важный объект своего проникновения и влияния, не
отказался от попыток навязать им если не целиком свою модель
развития, то хотя бы ее отдельные элементы. В
крикливой пропаганде на эти страны доказывается
«исключительная устойчивость» китайской экономики, успешное
решение классовых и национальных проблем в КНР,
«жизненность» маоистской идеологии. Толкая те или иные
страны на неподготовленные социально-экономические
преобразования, Пекин этим самым, по существу,
дискредитирует социалистические идеи, создавая простор
действию неоколониалистских сил, империалистическому
влиянию. Нельзя привести ни одного примера, когда бы
Китай реально помог той или другой стране упрочить
демократический режим, утвердиться в социалистической
ориентации развития. Антинаучные,
антисоциалистические рекомендации Пекина исходят только из
своекорыстных, гегемонистских планов и целей.
Исторический опыт показывает: в мировой практике
еще не было случая, чтобы какая-либо страна, следуя
рецептам маоистов, добилась успехов в социальном
развитии. Маоизм полностью бесплоден. Ныне ни одна
серьезная политическая группа или партия в мире не может
открыто заявить о своих симпатиях к маоизму как
идеологии и политической концепции. Отдельные группки
деклассированных элементов, появляющиеся в той или ипой
стране, фактически действуют с ведома крупного
капитала, репрессивного аппарата империализма, который
использует эти «красные бригады», «красные отряды»,
«истинных марксистов-ленинцев», как любят себя называть
маоисты, для провокаций против коммунистических
партий и прогрессивных сил.
Несмотря на большие усилия, которые Пекин
прилагает в последние два десятилетия, чтобы утвердить свое
влияние в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Африке, в
Латинской Америке, в других регионах, его достижения
более чем скромны. Даже Албания, которая, казалось,
была надежно прикована к пекинской колеснице,
порвала с Пекином, не выдержав бесконечных проявлений
великодержавности и «дружеского» диктата. Все больше
охладевают к Пекину и его политике и многие другие
151
государства. Западногерманская газета «Франкфуртер
альгемайне» не без оснований отметила: «За те 15 лет,
пока Китай проводил свою африканскую политику,
африканцы поняли, что Пекин — это лишь бумажный тигр.
Экономическая помощь не принесла политического
влияния. Его политика в Африке была безуспешной. Нигде в
Африке Китаю не удалось прочно привязать к себе какое-
либо правительство».
Сегодня Пекин пытается проникнуть глубже в
Африку иод видом оказания военной помощи. В последние два
года высокопоставленные эмиссары Китая посетили
Габон, Камерун, Экваториальную Гвинею, Конго, Руанду
и ряд других государств. Как сообщает иностранная
печать, Пекин хотел бы в обмен на военно-техническую
помощь усилить свое присутствие во многих районах
Африканского континента. Подобные миссии, писала
французская газета «Матэн» в июне 1979 года, знаменуют
переориентацию китайской политики. «Сегодня Пекин
обеспечивает свое присутствие в Африке с помощью пп-
женеров и других гражданских специалистов, завтра это
сотрудничество примет характер военного присутствия на
континенте».
Стремясь превратить развивающиеся страны в
устойчивую зону своего влияния, Пекин не останавливается
перед заигрыванием с местной реакцией, осуществляет
поддержку раскольнических движений, различных
ренегатов и отщепенцев. Всему миру известна, например,
позорная роль Китая в Анголе, когда он выступал против
справедливой, освободительной борьбы ангольского
народа, вооружал банды убийц и наемников. И этот факт не
исключение, а один из длинной цепи предательств по
отношению к национально-освободительному движению,
прогрессивным силам. Достаточно вспомнить поддержку
Пекином зверской расправы над патриотами в Судане,
одобрение репрессий режима Садата в отношении
участников народных выступлений в январе 1977 года в
Египте, солидарность с диктатурой Пиночета, фактический
союз с империалистами в действиях по подавлению
волнений в заирской провинции Шаба, поддержку режима
шаха в самый разгар иранской революции. Этой
поддержкой в конце 1978 года Пекин хотел сбить накал
революционных выступлений иранского народа против
тирании шаха, сохранить американское господство в этой
стране, занимавшей ключевое положение в стратегиче-
152
еких расчетах США. Именно тогда председатель ЦК
КПК, премьер Госсовета Хуа Гофэн заявил в Тегеране об
одобрении политики шаха в зоне Персидского залива и
Ппдийского океана, рекомендовал усилить помощь
Пакистану, с тем чтобы не допустить там «афганского
варианта». Этой акцией Пекин еще раз разоблачил себя как
защитник и пособник всех самых реакционных,
антинародных режимов и систем. Перечень этих акций велик,
п все они свидетельствуют .о предательстве маоистамп
справедливого дела народов, борющихся за свое
социальное и национальное освобождение.
Произнося трескучие псевдореволюциоппые лозунги по
вопросам стратегии и тактики
национально-освободительной борьбы, пекинские лидеры в то же время, по суще
ству, способствуют сохранению неоколониализма,
расизма, апартеида. Китайские руководители до сих пор стре
мятся обострить положение в районе Африканского
Рога, на Ближнем Востоке, занимая обычно самые
реакционные позиции. Примечательно, что, когда необходимо
четко определить свою линию перед лицом мирового
общественного мнения, китайская сторона стремится
всячески этого избежать. Так, при обсуждении резолюций о
положении на Ближнем Востоке, других острых вопросов
делегация КНР в ООН предпочитала не участвовать в
голосовании. Например, на XXXI сессии Генеральной
Ассамблеи представители Пекина не участвовали в
голосовании по 20 из 79 резолюций. А если и участвовали, то,
как правило, оставались в компании с самыми
реакционными режимами. Когда в ООН была вынесена рядом
стран резолюция о необходимости соблюдения прав
человека в Чили, фактически осуждавшая существующий там
фашистский режим, Пекин счел необходимым
продемонстрировать свою солидарность с хунтой.
В числе долгосрочных целей в области внешней
политики Пекин выдвигает и такую, как максимальное
ослабление Индии, подрыв ее влияния и авторитета на
международной арене. Маоистское руководство, не без
оснований, видит в независимой Индии серьезное препятствие
на пути распространения своего влияния не только в
Азии, но и среди неприсоединившихся стран. Решение
задач по ослаблению Индии Пекин видит в поддержке на
ее границах недружественных ей режимов, в
активизации различных сепаратистских, националистических груп-
153
пировок на ее территории, в попытках ослабить
дружественные отношения Индии с СССР.
Особое место в своих гегемонистских планах в Южной
Лзии Пекин отводит Пакистану, как важному форпосту
давления на Индию и Советский Союз. Обильная военная
помощь Исламабаду, поддержка территориальных
претензий Пакистана по отношению к Индии еще более
усилились в последние годы. Буржуазный политолог Г. Чоуд-
хури в книге «Политика Китая в отношении Южной
Азии» доказывает, что Пекин «не позволит вернуть
Индии земли Кашмира, так как на этих территориях
проходит стратегическое Каракорумское шоссе, связывающее
Китай и Пакистан, и ведутся другие военные работы,
важные для КНР в борьбе против СССР и Индии» !.
Глобальные стратегические расчеты Пекина берут верх над
соображениями добрососедства и уважения принципов
мирного сосуществования, о которых маойсты иногда и
заявляют. Сильная Индия мешала и мешает Китаю на
пути его экспансионистских устремлений.
Амбициозным планам Пекина подчинена и его
политика в отношении стран АСЕАН. После провала агрессии
против СРВ Китай делает все для того, чтобы превратить
Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (Индонезия,
Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины) в военный
блок, направленный против Вьетнама, Лаоса и
Кампучии. Опасность этих подстрекательских действий
очевидна и потому находит широкое одобрение у определенных
империалистических кругов Запада. При этом маойсты
не отказываются от поддержки различных пропекинских
группировок, действующих на территории этих стран,
видя в этом один из способов постоянного давления на их
правительства, а также сохранения постоянной угрозы
внутренней стабильности государств. Наличие большого
количества этнических китайцев в этих странах, их
сильные экономические позиции дают Пекину дополнительный
рычаг влияния на правительства государств АСЕАН в
направлении усиления в них антивьетнамских,
антисоветских, ироимпериалистических тенденций.
В последние годы маойсты стали усиленно
распространять в зоне национально-освободительного движения, и
прежде всего в Африке, концепцию, о которой говорилось
'Chowdhury G. China's policy toward South Asia.
Philadelphia, 1979, p. 155.
154
выше. Она предполагает противоестественное объединение
бывших колоний с бывшими метрополиями и другими
неоколониальными капиталистическими государствами.
Маоистские руководители стремятся создать такую
группу стран в Африке, которая бы устойчиво тяготела к
Китаю и делала все для подрыва социалистического влияния
в этом регионе. Для достижения этих целей Пекин
оказывает широкую поддержку антинародным режимам,
способствует консервации трайбалистских пережитков
(трайбализм — племенное деление, племенная рознь), проявлений
неоколониализма, поощряет расизм и национализм. Любой
конфликт, возникающий на этом континенте, пекинское
руководство стремится использовать, направить в русло
антисоветизма, антисоциализма, проимпериализма.
Старания Пекина изолировать африканские и другие
развивающиеся страны от мира социализма означают не что
иное, как пособничество мировой системе капитализма,
пособничество колонизаторам. Кстати, это было отмечено
в июле 1977 года албанской газетой «Зери и популлит»,
которая вполне обоснованно констатировала, что «так
называемая теория «трех миров» не ставит никаких задач
перед революцией», а имеет целью «затормозить
революционный процесс и защитить капитализм». Албанцы,
хорошо узнавшие маоистов в деле, разоблачили ряд
пекинских постулатов, изложенных в выступлениях китайских
руководителей и в пресловутой теории «трех миров». Они
отмечали, что эта концепция не только предательство
социализма, но и измена революционному делу
развивающихся стран.
Так, Э. Ходжа в своей книге «Размышления о Китае»,
вышедшей в 1979 году, отмечает, что эта и подобные
маоистские теории нужны Пекину лишь на какой-то
определенный момент, чтобы замаскировать истинные
политические цели. Уже сегодняшняя действительность не
вписывается в эту теорию. В книге подчеркивается, что, когда
в 1973 году на X съезде КПК было открыто
провозглашено, что СССР является главным врагом для Китая, этим
был сделан решающий шаг для сближения с
Соединенными Штатами. Теория «трех миров», сформулированная
Мао именно в это время, пишет Э. Ходжа, была нужна
для обоснования в будущем «союза любой ценой с
американским империализмом и международной
реакционной буржуазией. А на этой основе Пекин хотел и хочет
занять ведущее положение в странах третьего мира, под-
155
чинить их своему влиянию. И помощь Америки маоистам
в этом деле необходима. Политика подготовки китайско-
американской коалиции имеет исключительно глубокие
корни в рядах китайского руководства, ибо это было их
давней мечтой».
Думается, в словах недавнего друга Пекина есть зерна
истины. На словах борясь с империализмом, маоизм уже
давно перенацелил свои основные усилия на борьбу с
социалистическим содружеством, естественным союзником
всех народов, борющихся за свою свободу и
независимость. По существу, политика Пекина в отношении
развивающихся стран не отличается от политики
империализма, так как маоизм сегодня — активный сообщник
капитализма в борьбе против социального прогресса этих
народов, их сближения с социалистическими странами. Во
всех империалистических акциях против развивающихся
стран (будь то американо-израильско-египетские планы в
отношении Палестины и других арабских народов,
шантаж и блокада Соединенными Штатами Ирана или
подрывная деятельность Каира против Ливии и т. д.) Пекин
всегда прямо или косвенно поддерживал и поддерживает
империалистическую политику. Маоисты превратились в
фактических подручных империализма, не
прекращающего своей неоколонизаторской политики.
Анализируя политику пекинского руководства в
отношении развивающихся стран на современном этапе,
можно отметить ряд характерных моментов, отражающих
эволюцию маоизма в этой зоне мира.
Во-первых. Налицо тенденция прямого перехода
Пекина от ультрареволюционности к ультрареакционности, от
союза с прогрессивными силами к союзу с
консервативными, реакционными партиями и режимами. Даже
расисты ЮАР, другие антинародные силы с удовлетворением
отмечают все большее проявление этой тенденции.
Правда, поддержка предательской политики Садата в
отношении арабских народов, одобрение перерождения
сомалийского режима, репрессий в ЮАР, восхваление полпотовских
экспериментов и поныне прикрываются
революционными лозунгами, звонкой фразой. Например,
поддерживая агрессию Сомали против соседней Эфиопии,
китайская печать называла это «актом борьбы за уничтожение
колониализма и иностранного влияния». Однако, говоря
словами В. И. Ленина, «тут нет ни грана революцион-
156
ности, тут одно фразерство» х. Поддерживая реакционные
силы в «третьем мире», Пекин саморазоблачает себя,
демонстрирует свое глубокое перерождение, страх перед
силами прогресса.
Во-вторых. В Китае не перестают утверждать об
общности судеб их страны и развивающихся стран. При этом
не останавливаются даже перед тем, чтобы привести
расовые «аргументы», гласящие о каком-то «единстве
интересов цветных против белых», не связывая это с
классовым анализом. Маоисты окончательно отказались от
деления государств по социально-классовому признаку, а
делают это по размерам территории и наличию реального
материального богатства. Это деление на бедных и
богатых нужно Пекину для того, чтобы прочнее зачислить
Китай в число развивающихся стран, в среде которых он
настойчиво претендует на роль лидера. Однако в этих
странах думают по-другому. Достаточно сказать, что
существующая в ООН «группа-77», неофициально
объединяющая страны «третьего мира», не принимает Китай в
свой состав. Решение весьма красноречивое. Все больше
людей в этих странах понимают, что даже призрачпое
лидерство Пекина чревато опасностями утраты
самостоятельности, вовлечения в военные авантюры, бесплодные
социальные эксперименты.
В-третьих. Политика КНР в странах «третьего мира»
все в более решающей мере определяется
антисоветизмом. Все, что делает сегодня Китай в этих странах,
преследует и такую цель: ослабить влияние СССР, нанести
ему максимально возможный ущерб. Однако каждому
непредубежденному человеку ясно, что все прошлые и
нынешние беды (колониализм, бесчеловечный гнет,
геноцид и т. д.) связаны с империализмом. Все нынешние
трудности проистекают главным образом из-за
неоколониалистской политики капиталистических держав. Кто
может оказать им братскую помощь и поддержку в
борьбе с этими силами? Опыт показывает, что только
Советский Союз, страны социалистического содружества. И это
хорошо понимают прогрессивные лидеры народов стран
«третьего мира». Так, видный деятель Зимбабве Джошуа
Нкомо заявляет: «Будучи ведущей страной социализма,
Советский Союз многое делал и делает в интересах
освобождения народов. Он является другом и помощником
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 348.
157
номер один национально-освободительных движений
Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока».
События последнего времени неопровержимо
свидетельствуют, что Пекин, на словах продолжающий
представлять себя «другом» освободительных движений, на деле
повернулся лицом к расистскому режиму в Претории.
В ЮАР Китай закупает хромовую руду, Другие
стратегические товары, хотя часто эти сделки маскируются
участием гонконгских и иных фирм. В Пекине не осуждали
африканских коллаборационистов Музореву, Ситоле,
других предателей дела свободы. Маоисты видят новую
возможность для себя в том, чтобы усилить поддержку
расовых режимов в Африке, заслужив этим одобрение
Вашингтона, упрочив свое влияние в ряде районов
континента.
Все сказанное о маоистской политике в отношении
развивающихся стран свидетельствует не только о ее
псевдореволюционности, но и о большой опасности для
национально-освободительных движений и прогрессивных
режимов. И это не остается незамеченным. В
развивающихся странах ширится понимание тупикового
характера путей, которые предлагают маоисты, авантюристич-
ность их тактики п лозунгов. Все большее число стран
убеждается, как далеки «революционные» фразы Пекина
от его реальной политики, сколь двулична и
непоследовательна линия маоистов в сложных вопросах
антиимпериалистической борьбы. Все это ведет к изоляции маоизма
на мировой арене, разоблачает его как прямого пособника
империалистической реакции.
Рассматривая политику Пекина в отношении
«третьего мира», нельзя не учитывать и той роли, которую он
отводит многочисленной китайской общине, проживающей
в Юго-Восточной Азии, в ряде других стран.
Значительная часть этнических китайцев —- хуацяо — в этих
странах (а их всего насчитывается здесь более 20
миллионов) обладают сильными финансовыми и торговыми
позициями, что позволяет Пекину видеть в них важный
резерв поступления иностранной валюты. Однако главное,
на что нацеливает китайскую общину Пекин, заключается
в поддержке маоистского курса в странах пребывания,
осуществлении тех мер, которые потребует в любой
момент руководство КНР. На сессии ВСНП (февраль —
март 1978 года) этой группе лиц китайского
происхождения прямо отводилась роль «связующего звена» Пекина
158
со страпами этого региона. Роль, которую выполняли
этнические китайцы в СРВ, действуя по указке из Пекина,
не могла не насторожить многие правительства в Юго-
Восточной Азии. Являясь, с одной стороны, важной
статьей привлечения капитала для нужд «четырех
модернизаций», хуацяо в своей значительной части служат
средством влияния на экономику п политику стран
региона, возможной дестабилизации социальной обстановки. Не
случайно руководители КНР уделяют столь большое
внимание своим зарубежным «соотечественникам»,
«родственникам по крови и духу». Индонезийская печать в этой
связи неоднократно указывала, что Пекин
систематически использует этнических китайцев для вмешательства
во внутренние дела суверенных государств, создания
экономических и политических трудностей для режимов
этого региона.
По существу, в ряде стран ЮВА китайские общины
превратились в пятую колонну, которая в любой момент
может вызвать дезорганизацию экономики и
политические трудности. Как отмечала американская газета
«Крисчен сайенс монитор» (6 ноября 1978 года), «иыпе
среди азиатских деятелей гораздо сильнее беспокойство
из-за поддержки Пекином зарубежных китайцев, чем из-
за поддержки повстанческих движений». По конституции
КНР 1978 года Китай обязуется «охранять права и
интересы китайцев, проживающих за границей», ибо Пекин
и сегодня считает всех китайцев за рубежом своими
соотечественниками, которые обязаны приносить пользу
интересам Китая. Это дает возможность маоистам
осуществлять широкие политические маневры и провокации,
какие они, например, осуществляли в Индонезии. Пекин
неразборчив в средствах для достижения своих целей.
Использование им зарубежных китайцев в своих
интересах — еще одно тому свидетельство.
Анализ конкретных акций Пекина показывает, что
его политика в конечном счете опасна не только для
социалистических государств, по и для всех других стран.
Идея неизбежности мировой войны, если бы ее удалось
реализовать пекинским стратегам, обернулась бы
непоправимой бедой буквально для всех народов.
Развивающимся странам, для того чтобы ликвидировать
экономическое отставание, последствия империалистического
господства, нужен мир. Это одно из важнейших условий
решения множества их социальных, экономических, поли-
159
тических проблем. Вместо этого Пекин толкает народы
к гонке вооружений, конфликтам, возвращению к старым
порядкам господства одних и подчинения других. Едва
ли народы, чья свобода добыта столь дорогой ценой,
согласятся с этой перспективой.
По отношению к странам капитали-
Смыкание с миро- стического мира наблюдается стрем-
вым империализмом ^ ^ *
ление пекинского руководства еще
больше сблизиться с самыми реакционными
империалистическими кругами. Этот сдвиг вправо проявляется во
всех областях международной жизни, и прежде всего в
попытках придать отношениям между СССР, с одной
стороны, и США, Японией, ФРГ, Англией, Францией,
Италией — с другой, формы прямой конфронтации,
усилить военную напряженность. Особенно это ярко
проявилось во время визитов пекинских руководителей в
капиталистические страны. Дэн Сяопин в своих
многочисленных подстрекательских заявлениях подсказывает
Соединенным Штатам, что только «решительная борьба
острием против острия» позволит США сохранить свои
нынешние позиции. Хуа Гофэн в докладе на XI съезде
КПК прямо заявил, что «положение в мире ныне
таково, что советский социал-империализм наступает, а
американский империализм обороняется». Председатель ЦК
КПК как бы напоминает американскому руководству о
необходимости более жесткого поведения по отношению
к Советскому Союзу. В данном случае заимствован прием
из арсенала китайских богдыханов: столкнуть друг с
другом своих самых сильных противников, а затем пожать
плоды этой схватки.
Этот аспект китайской политики следует подчеркнуть
потому, что в конечном счете Пекин идет на сближение
с Западом не на основе социальной близости, а из-за
сугубо своекорыстных, националистических, гегемонистских
расчетов.
Пекинские руководители, разумеется, хорошо знакомы
с принципами традиционной китайской дипломатии,
характеризующейся исключительной хитростью,
вероломством, игнорированием международного права и
общечеловеческих норм. И сегодня они прочно взяли на
вооружение старый принцип китайских богдыханов, который
любил повторять Мао: «Все то, против чего враг борется,
мы должны поддерживать; а против всего того, что враг
поддерживает, мы должны бороться». Поэтому есть все
160
основания считать, что, стремясь к мировому господству,
Пекин следует принципу выделения врагов «главных и
второстепенных» на каждый конкретный момент. А их
устранение, нанесение им поражения планируется в
перспективе не только своими силами, но и временными
союзниками и партнерами. В 1975 году бывший министр
иностранных дел КНР Цяо Гуаньхуа, ссылаясь на Мао,
заявил, что сейчас Китай пока ведет войну «в районе
аванпостов. Когда мы наведем порядок на своих
границах, мы начнем решающую войну против своих главных
врагов».
В контексте этих откровений заявление Мао о том,
что «мы должны покорить земной шар, где мы создадим
мощную державу», не кажется просто беспочвенным
заявлением безответственного политика. Над этим
следовало бы задуматься тем, кто сегодня поощряет
экспансионизм КНР, подкармливает его милитаристское чрево,
пытается разыграть «китайскую карту».
Мы говорили выше о долгосрочных целях Пекина, о
той части айсберга, которая не всегда видна для глаз.
А пока Пекин пытается максимально использовать
конъюнктурные соображения некоторых недальновидных
политиков Запада в интересах наращивания своих военных
мышц, изменения сложившегося соотношения сил на
мировой арене в свою пользу. В печати, радиопропаганде
пекинские идеологи и политики не задумываясь
перешагивают через принципы, которые они только вчера
превозносили, полностью становясь на антисоциалистические,
проимпериалистические позиции. При этом пекинские
политики доходят до поистине поразительных утверждений.
Так, в газете «Жэньминь жибао» от 18 января 1978 года
говорится, что если возникнет третья мировая война, то
она будет войной между СССР и США в союзе со «вторым
миром», войной агрессивной, с одной стороны, и войной
против порабощения — с другой. Лишь полностью предав
интересы трудящихся, дело социализма, принципы
пролетарского интернационализма, можно дойти до таких
чудовищных утверждений. Это еще и еще раз подтверждает
глубокую справедливость вывода КПСС о том, что ныне
политика Китая глубоко враждебна интересам
социализма. К настоящему времени положение если и изменилось,
то только в сторону большего сближения Пекина с
самыми реакционными империалистическими силами. Ныне
можно с полным основанием сказать: вчера Пекин был
11 Зак. 512 161
резервом империализма, сегодня превратился в его
фактического союзника.
Сейчас сложилась такая ситуация, что, несмотря на
наличие серьезных противоречий между Пекином и
империализмом, они могут пойти на прямой союз против
миролюбивых, прогрессивных сил, против сил
социализма, всех революционных отрядов современности. Каждая
из сторон имеет свои интересы, пытается разыграть свою
«карту». Все это, однако, не имеет никакого отношения
к заботе о мире, безопасности народов.
Сближение Китая с рядом империалистических
государств осуществляется под лозунгом общей борьбы
против «советской военной угрозы». Этот процесс давно
перешел грань, которой завершается нормализация
отношений между государствами. Он характеризуется теперь
тенденцией к военно-политическому сближению с самыми
реакционными империалистическими силами. Именно в
их лице Пекин находит идейных союзников в деле срыва
разрядки напряженности, возрождения реваншизма,
международной атмосферы нестабильности, чреватой военным
пожаром. Все приготовления НАТО объявляются
пекинской печатью «законными», «справедливыми»,
«вынужденными», а деятельность Организации Варшавского
Договора — «агрессивной», «экспансионистской». Маоистский
Китай кровно заинтересован в том, чтобы на
европейском континенте сохранялась напряженность между
СССР и НАТО. Ведь тогда, по мысли Пекина, у него
будут развязаны руки в отношении его экспансионистских
действий в Азии и на Дальнем Востоке. Свои контакты
с членами НАТО пекинское руководство пытается
осуществлять под аккомпанемент воплей об «усилении
советской военной угрозы». Во время беседы Хуа Гофэна с
английским маршалом авиации Н. Камероном 30 апреля
1978 года пекинский лидер советовал натовцу: «Мы
надеемся, что Западная Европа объединится. Один палец —
сила маленькая; пальцы, сжатые в кулак, — сила
большая. Объединяйтесь, тогда будете сильными» *. В свою
очередь натовские стратеги видят в Китае военный
форпост на Востоке, «сдерживающую силу советской мощи».
Эти геополитические, стратегические расчеты
построены на взаимном стремлении разыграть в одном случае
«натовскую», в другом — «китайскую» карту. Но в этом
1 Жэньминь жибао, 1978, 1 мая.
162
нет ничего такого, что бы отвечало интересам мира и
безопасности народов. Китайское руководство прилагает
настойчивые усилия к тому, чтобы получить доступ к
натовским арсеналам. В течение 1978—1979 годов заместитель
премьера Госсовета КНР Гу My, министр иностранных
дел Хуан Хуа, другие официальные высокопоставленные
лица побывали в Англии, Франции, ФРГ, Италии,
Швеции, Дании, Бельгии, Голландии, Швейцарии, где вели
переговоры о закупке оружия и технологии. В это же
время ряд официальных военных деятелей Запада побывали
в Пекине, где вели аналогичные переговоры. Китайские
руководители проявляют острый интерес к авиационной,
вычислительной, ракетной технике. Китай, в отличие от
всего прогрессивного мира, одобрительно отнесся к
намерениям США приступить к массовому производству
нейтронной бомбы. По сообщениям зарубежной печати,
в КНР создана специальная исследовательская
организация, которая должна заниматься разработкой этого вида
варварского оружия.
Наряду с усилением военно-технического
сотрудничества пекинские руководители стремятся перевести его и
в плоскость сотрудничества политического. Свидетельства
подобных намерений видны в участившемся обмене
военными делегациями КНР с делегациями капиталистических
стран, откровенной защите милитаристских действий
Запада, призывах «объединить усилия» НАТО, КНР и
Японии в борьбе против «социал-империализма» и т. д.
В последние несколько лет упрочились связи Китая с
капиталистическими странами и по экономической линии.
Установлены договорные отношения с «Общим рынком»,
США, Японией, ФРГ, Англией, Францией, другими
странами. Китай фактически открыл двери для проникновения
в страну иностранного капитала, что, безусловно, будет
усиливать его зависимость от империализма.
Естественно, не только Китай пытается использовать
Запад в своих целях, но и капиталистические страны
преследуют свои цели, сближаясь с КНР. Реакционные
деятели капиталистических стран типа Джексона, Штрауса,
Камерона пытаются особо использовать «китайский
фактор» для политического давления на Советский Союз,
забывая, однако, что гегемонистские устремления КНР
несут опасность не только СССР, но и всему человечеству.
Те, кто считает, что можно погреть руки на военных
заказах Китая, извлечь политические выгоды из антисо-
11*
163
ветизма Пекина, глубоко заблуждаются. Экспансионизм
китайских милитаристов идет значительно дальше того,
что видится некоторым недальновидным буржуазным
политикам. «Пекинские гегемонисты, — отмечалось в
«Правде» от 14 мая 1976 года, — свернув выступления против
американского империализма и японского милитаризма,
отнюдь не считают США или Японию своими друзьями.
Они хотели бы использовать их для борьбы против СССР
сейчас, но в будущем по возможности нанести удар и но
этим странам».
Апологетика мировой войны, заявления о ее
желательности и неизбежности, вновь прозвучавшие на XI съезде
КПК, опасны для всех государств планеты. «Сейчас
некоторые деятели капиталистических стран явно строят
свои расчеты на том,— говорил товарищ Л. И. Брежнев,—
что нынешние противоречия и отчуждение между
Китайской Народной Республикой и Советским Союзом,
другими странами социализма сохранятся надолго и даже
обострятся в будущем. Нам думается, что это близорукая
политика. Как бы не просчитались те, кто ее проводит» х.
А они могут просчитаться, так как не учитывают одной
«мелочи»: современный Китай в качестве дальней
перспективы ставит перед собой задачу создания глобальной
державы, всемирной «поднебесной империи», но с центром
не в Вашингтоне, не в Токио или другой западной
столице, а в Пекине. И это сделать пекинские руководители
хотят не с позиций «опоры на собственные силы», а с
помощью некоторых недальновидных западных политиков.
Пусть это выглядит фантастично с точки зрения
возможности реализации таких замыслов, но с позиции
мировоззренческих установок пекинских руководителей — вполне
допустимо.
А пока те, кто проводит эту политику, видят только
выгоды сегодняшнего дня, не желая учитывать опасности
дней будущих, которая станет исходить от мощного
милитаристского Китая.
Пекин сегодня, старательно камуфлируя свои
долгосрочные истинные цели, не останавливается и перед тем,
чтобы в ряде случаев быть простым подручным
империализма в борьбе против сил социального прогресса.
Гонконгский еженедельник «Чайна ньюс аналисис» в номере
от 11 мая 1979 года писал, что, «анализируя внешние от-
Брежнев Л. И. Лешшским курсом. М., 1978, т. 6, с. 589.
164
ношения Пекина, обнаруживаешь поразительную
гармонию между Вашингтоном и Пекином, аналогичный взгляд
на мир. Самая неожиданная перемена связана с
поддержкой, оказываемой Пекином ближневосточной политике
Вашингтона. Пекин спокойно отказался от горячей
поддержки арабской революции и Организации освобождения
Палестины». Добавим, что аналогично изменились взгляды и
позиция Пекина и в отношении всех других отрядов
мирового революционного движения. За благосклонность
Вашингтона, империалистического мира приходится
платить. А платить нужно изменой, предательством
революционного дела. И Пекин с готовностью взял на себя роль
раскольника в революционном движении, жандарма — в
Юго-Восточной Азии, поджигателя войны — во
всемирном масштабе. Разумеется, при этом пекинские
руководители не просто «платят» империализму, но и готовят
себе политическую, идеологическую, военную почву для
решения сугубо своих гегемонистских целей.
Встав на путь подготовки войны, нынешний Китай
стал синонимом военной угрозы. И было бы
непростительной ошибкой для миролюбивых сил занимать
беспристрастную позицию, дожидаясь того времени, когда эта
опасность возрастет до губительных размеров. А те, кто
хотел бы извлечь политические дивиденды из
авантюристической политики пекинских руководителей, сами могут
оказаться ее жертвами.
Уже сегодня Китай способен к развязыванию
крупной войны. Но особенно он преуспевает ныне в
провоцировании международных конфликтов, усилении
напряженности, создании пограничных конфликтов, опасных
для дела мира ситуаций в различных районах. Если
бросить ретроспективный взгляд в прошлое, то нетрудно
увидеть, что во всех кризисных положениях, возникавших
в том или ином районе планеты, Пекин всегда стремился
найти путь к его обострению, стать на сторону
империалистических сил. По отношению к своим соседям, как
отмечалось выше, КНР издавна занимает откровенно
экспансионистские позиции. Вызывая кризисные ситуации,
Пекин сегодня рассчитывает на одобрение со стороны
империалистических кругов. Так было раньше, так
происходит и теперь. Особенно империалистические круги США
и некоторых других западных стран могут быть
довольны поведением КНР в связи с афганским кризисом,
вызванным вмешательством реакционных внешних сил: ка-
165
виталистических, маоистских, некоторых режимов,
которые на данном этапе являются игрушкой в политической
игре мировых гегемонистов. Все это лишь усиливает и
дополнительно аргументирует сделанный вывод о
продолжающейся эволюции смыкания империализма и маоизма.
Этот причудливый социально-политический гибрид
объединяет одно: стремление задержать развитие мирового
социализма, задушить революционные выступления
прогрессивных сил, не дать утвердиться разрядке и
замедлиться маховику гонки вооружений. Фактически
союзнические отношения КНР с империализмом являются
новым негативным фактором в мировой политике, и этого
миролюбивым силам нельзя недооценивать. Альянс,
синтезирующий западную и японскую технологическую
мощь, людские и сырьевые ресурсы Китая, может при
определенных условиях представлять большую угрозу
делу мира и социализма, безопасности народов.
Но вместе с тем не следует и драматизировать этого
реакционного сдвига в сторону сближения империализма
и маоизма. Есть ряд объективных обстоятельств
долгосрочного значения, которые способны не только
максимально ослабить, но и сблокировать проявление этого
антикоммунистического союза. Обстоятельства эти таковы.
Во-первых. Экономическая, политическая и военная
мощь реального социализма сегодня достаточна, чтобы
нейтрализовать любые агрессивные поползновения
империализма и маоизма. Существующий паритет
стратегических ядерных сил, признанный и в СССР, и в США и
закрепленный в ряде договоренностей, подчеркивает
бессмысленность надежд тех горячих голов в лагере реакции,
которые еще не отказались от идеи достичь решающего
военного превосходства над социализмом. Опыт истории
учит, что ни один вызов, угрожающий безопасности
социалистического содружества, не может остаться без
ответа. Затея, связанная со стремлением достичь
положения, которое существовало в начале 50-х годов,
характеризовавшееся крупным превосходством США в области
ядерных вооружений над социалистическим
содружеством, — беспочвенна и авантюрна. У мирного
сосуществования нет иной разумной альтернативы, и этот
единственно верный вывод, многократно подтвержденный и
доказанный братскими коммунистическими партиями, рано
или поздно станет господствующим в международных
отношениях.
166
Во-вторых. В мире углубляется понимание того, что
сближение в военной области империализма и маоизма
чревато губительными последствиями не только для стран,
которых охватывают рамки этого негласного союза, но н
для всего человечества. Это все больше понимают и в
самих Соединенных Штатах Америки. Работа X. Хардинга
«Китай и США» (не единственная в своем роде)
доказывает, что «военно-политический союз между Пекином и
столицами натовских государств будет опасен прежде
всего не для СССР, а для всего человечества» 1. Близорукая
политика сближения все решительнее осуждается
коммунистическими и рабочими партиями, прогрессивными
организациями всего мира, широкими кругами
трезвомыслящей общественности многих государств планеты. Мир
слишком дорог для человечества, чтобы его судьба
всецело зависела от заправил военно-промышленного
комплекса натовских стран и милитаристской клики в
Пекине.
В-третьих. Сближение Китая со странами НАТО,
реакционными империалистическими режимами основано на
конъюнктурных расчетах каждой из сторон. Существует
целый ряд трудно разрешимых противоречий
экономического, социального, политического и идеологического
плана, которые будут постоянно давать о себе знать. Уже
начинают проявляться и конкурентные симптомы между
империалистами в их отношениях с Пекином. Каждая из
сторон, идя на сближение, не может не учитывать и
последствий, которые оно может принести. А многие из них,
особенно в области политической и военной, столь
очевидно тревожны, что это не может не насторожить
трезвомыслящих политиков на Западе, продолжающих
разыгрывать «китайскую карту».
Однако следует учитывать, что действие этих
объективных факторов реализуется через
социально-политическую практику широких масс, всех прогрессивных сил,
всех тех, кому дороги мир и безопасность народов.
Преемники Мао Цзэдуна взяли откровенный курс на
активное использование империалистического экстремизма,
милитаризма, антикоммунизма в своих целях. На нынешнем
этапе это стремление пока совпадает с намерениями и
«ястребов» капиталистического мира. Здесь заложена
глубинная причина существующей ныне военной опасности.
1 Н а г d i n g H. China and The U.S. N.Y., 1979, p. 26.
167
В целом политика Пекина по отношению к
капиталистическим странам, а также крупным международным
проблемам характеризуется все более согласованными
действиями с правящими кругами империализма,
направленными на сдерживание всех прогрессивных
общественных процессов. Особенно опасны позиции маоистского
Китая в отношении главных проблем современности: войны
и мира, сдерживания гонки вооружений, разрядки
международной напряженности.
Главное право человека — право на
Курс на срыв жизнь. А оно может быть осущест-
разрядки ш,
напряженности влено, если будут поставлены
надежные преграды войнам. По мере
ускорения общественного прогресса их разрушительная роль
становится все более очевидной. Речь идет о войнах
агрессивных, захватнических, несправедливых. Если бы
человечеству удалось ослабить, а затем и устранить угрозу
повой мировой войны, то, безусловно, могли бы быть более
успешно решены многие социальные, экономические,
культурные, экологические, энергетические,
демографические и иные проблемы современности.
Но в мире еще есть силы, которые не отказались от
намерений вооруженным путем добиться своих
политических целей, военными средствами решить тот или иной
спор в свою пользу. Главный источник войн нашей
эпохи — это империализм. Именно он вызвал две страшные
мировые войны, унесшие десятки миллионов
человеческих жизней, опустошившие целые страны. Сегодня
империализм получил рьяного «союзника» в решении
проблем войны и мира по капиталистическим рецептам —
руководителей маоистского Китая.
Постоянные усилия социалистических стран, всех
прогрессивных сил современности позволили в 70-е годы
потеснить сторонников «холодной войны», сделать
значительные шаги в сторону разрядки международной
напряженности. Важными вехами на этом пути были Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе, ряд
соглашений между СССР и США по ослаблению угрозы
войны, сдерживанию гонки стратегических наступательных
вооружений, подписание соглашений по ОСВ-1 и ОСВ-2.
Однако были и есть влиятельные сторонники курса
на обострение международных отношений, срыв
разрядки, подготовку к новой войне. Пекин идет в первых рядах
этих оруженосцев войны. В своей внешнеполитической и
168
внутренней пропаганде пекинское руководство уже многие
годы настойчиво муссирует тему неизбежности новой
мировой войны и даже ее желательность. Министр
обороны КНР Сюй Сянцянь в статье «Повышать бдительность,
готовиться воевать» писал в 1979 году: «Новую мировую
войну можно лишь отсрочить, но ее нельзя избежать».
При этом обычно осуществляются намеки на то, что она,
война, особенно желательна будет тогда, когда к ней
полностью подготовится Китай. Во время поездки делегации
Итальянской коммунистической партии и ее встречи в
апреле 1980 года с Хуа Гофэном последний вновь заявил,
что «пекинское руководство убеждено в невозможности
устранить опасность новой мировой войны. Она
неизбежна, но ее можно, максимально, отодвинуть лет на
двадцать». Как видим, и здесь старый тезис о фатальной
неизбежности войны и желательности ее не сейчас, а
«несколько позже». Это не случайно.
О «сроках» начала войны руководители Китая имеют
свою точку зрения. Суть ее сводится к тому, что мировой
пожар желателен тогда, когда Пекин будет более готов
к нему, к реализации своих агрессивных планов. Весьма
откровенно и цинично об этом заявил Дэн Сяопин —
«сильная личность» сегодняшнего Китая: «Вспышка
третьей мировой войны неизбежна. Однако, если время
возникновения этой вспышки может быть отодвинуто до
конца столетия, мы сможем захватить инициативу и это
будет нам наиболее выгодным». Мол, подождите, вот мы
осуществим «четыре модернизации», а тогда можно и
начинать ядерный всепланетный спектакль, на котором,
однако, едва ли уцелеют зрители.
Другими словами, Пекин хочет выиграть время.
Сегодня для него время — особо важный стратегический
фактор. И если человечество не поставит преграды на пути
преступных планов маоистов, а будет поощрять его
коварные замыслы, прикрываемые словесным елеем, над
миром сгустятся реальные черные тучи всеиспепеляющеи
войны, — войны, которая может поставить под вопрос
саму возможность существования человеческой
цивилизации на нашей планете. Разумеется, осуществить Пекину
свои агрессивные планы будет непросто, ибо ему
противостоят социалистическое содружество, миролюбивые силы
всего человечества. Только при настойчивой и
непримиримой борьбе со всеми поджигателями войны, в том числе
и из Пекина, можно сохранить и упрочить мир. Эта про-
169
стая истина, провозглашаемая неустанно
коммунистическими и рабочими партиями, постоянно атакуется
буржуазной пропагандой, маоистскими идеологами,
усматривающими в ней пресловутую «руку Москвы», какие-то
своекорыстные интересы СССР.
Правда, последние год-два пекинские пропагандисты,
прославляя войну, ее «очистительное начало», ввели в
свой политический лексикон слова «антиагрессивная
война». Они вынуждены пойти на такой неуклюжий
камуфляж, учитывая крайне отрицательную реакцию мирового
общественного мнения на апологетику Пекином войны.
О том же, что это означает на практике, люди мира
узнали в феврале 1979 года, когда свою наглую агрессию
во Вьетнаме пекинские политики именовали
«оборонительным контрударом»! Поистине фарисейство и
демагогия маоистов беспредельны.
По каким направлениям пекинские шовинисты ведут
свою деятельность, обостряя международную обстановку и
подталкивая человечество к войне?
Прежде всего, Пекин решительно выступает даже
против постановки вопроса о разоружении, против любых
шагов в направлении сдерживания гонки вооружений. На
заседаниях специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по разоружению китайская делегация не внесла ни
одного конструктивного предложения, не поддержала пи
одной разумной инициативы, не изъявила ни малейшего
желания решать, хотя бы частично, важнейшую
проблему современности. Единственным предложением КНР на
сессии было требование о «решительном разоружении
сверхдержав», и прежде всего СССР.
Гонка вооружений для маоистов представляется
несомненным благом. С ее помощью они пытаются усилить
националистические чувства у широких народных масс,
с одной стороны (каждый взрыв ядерного устройства
расценивается в печати как еще одна «победа идей Мао
Цзэдуна»), а с другой — средства массовой информации
убеждают простых людей в том, что первоочередное
внимание военной «модернизации» благотворно сказывается
в целом на развитии народного хозяйства. Так, «Жэнь-
минь жибао» утверждала, что «потребности обороны
стимулируют развитие экономики. С развитием оборонной
промышленности обязательно будут выдвигаться все новые
требования ко всем отраслям промышленности, науки и
170
техники, тем самым способствуя развитию всего народного
хозяйства и повышению научно-технического уровня» !.
Именно с позиций срыва разрядки международной
напряженности и дальнейшего усиления гонки вооружений
в Пекине считают правомерным заявлять, что «СССР
обгоняет США в стратегической мощи», что «без увеличения
военного вклада в оборону Азии Японии трудно будет
сохранить свою безопасность», что «без решительного
наращивания вооружений Западная Европа станет добычей
СССР» и т. д. Подстрекательский, поджигательский
характер подобных заявлений печати, государственных
деятелей КНР очевиден. А это им и нужно: любое действие,
любая политическая и идеологическая акция,
способствующая усилению международной напряженности, для
маоистов желательны.
Но просто отмахнуться от вопросов, которые сегодня
волнуют все человечество, нельзя. Проблема
сдерживания гонки вооружений стала ключевой, центральной в
обширном комплексе вопросов, определяющих судьбы войны
и мира. И пекинские руководители весьма
своеобразно, а точнее — цинично, реагируют на нее. В
выступлениях государственных деятелей, дипломатов КНР в ООН
выдвигается требование к «сверхдержавам» согласиться
с тем, чтобы неядерные государства создали у себя такой
же ядерный потенциал, как у СССР и США. Мол, лишь
при таком «равенстве» можно говорить о запрещении
ядерного оружия.
Абсурдность и алогичность таких предложений
очевидны. Они, по существу, прикрывают намерение КНР и
впредь форсировать ядерную гонку, наращивать свой
стратегический потенциал и не принимать всерьез
призывы мировой общественности положить конец процессу
бесконечного вооружения. Все предложения, с которыми
выступают социалистические страны, немедленно
квалифицируются как «большой обман», «пропаганда»,
«маскировка военных приготовлений
социал-империализма» и т. д. Пекин в гонке вооружений видит важнейшее
средство превращения Китая в супердержаву, которая к
концу века смогла бы со всеми говорить только с позиции
и языком военной силы.
В то время как подавляющее большинство
человечества приветствовало подписание соглашения ОСВ-2 между
1 Жэньминь жибао, 1979, 14 окт.
171
СССР и США, в Пекине в этом увидели лишь «уступку
Запада Советскому Союзу». В своем комментарии
агентство Синьхуа 16 июля 1979 года подчеркнуло, что «новый
договор не принес ни Западу, ни Европе ничего
утешительного, а, наоборот, углубил их беспокойство. В
результате этого договора поощряется социал-империализм, его
экспансионистская политика». Таким образом, заключает
Синьхуа, любые соглашения по разоружению не имеют
ценности. «Безопасность Запада, перед лицом угрозы со
стороны СССР, в его сплочении и соответствующем
вооружении» К Даже откровенно реакционные буржуазные
органы печати не могут так защищать гонку вооружений,
военные приготовления Запада, как это делает за них
маоистская пропаганда.
Такое негативное отношение Пекин демонстрирует не
только по отношению к ОСВ-2. Практически все
международные договоры и соглашения, препятствующие в той
или иной мере подготовке и развязыванию войны,
подвергаются маоистами остракизму. Договор о
нераспространении ядерного оружия, подписанный большинством
государств планеты, Заключительный акт общеевропейского
Совещания в Хельсинки, Договор о запрещении ядерных
испытаний и многие другие отвергнуты Пекином. Там
считают, что «в условиях международных беспорядков
соглашения и договоры являются не чем иным, как
простым клочком бумаги». Маоистские руководители не
просто топчут международное право. Они не хотят себя
связывать никакими обязательствами, ибо, когда они станут
достаточно сильными, эти соглашения могут помешать их
политике достижения мирового господства. Любой
договор, преследующий цели мира и укрепления
международной безопасности, неприемлем для Пекина из-за его
«экспансионистских целей». Прогрессивные силы только из
этого красноречивого факта могут сделать для себя
должные выводы.
Почему Пекин считает мировую войну желательной?
На этот счет у пекинских теоретиков и идеологов есть
свои «доказательства». Они таковы. В статье «Жэньминь
жибао» 1 ноября 1977 года утверждалось, что в мировой
войне ничего плохого нет, так как «в дальнейшем в ходе
войны в различных частях мира народы разных стран
получат широкие возможности организовать войны против
1 Жэньминь жибао, 1978, 5 авг.
172
агрессии и уничтожить поджигателей войны» (по
маоистской терминологии — СССР и другие прогрессивные
страны). Теоретики маоизма тщатся доказать, что нужны
жертвы в этой, предстоящей войне, чтобы их не было
потом. «Жертвы населения необходимы для будущего
человечества; временные лишения сменятся длительным и
даже вечным миром и счастьем», — писала «Гуанмин
жибао» в августе 1978 года. Член Постоянного комитета
Военного совета ЦК КПК Су Юй заявил в августе
1977 года, что для «освобождения человечества Китай
готов пойти на самые крупные национальные
жертвы...».
В данном случае Китай не просто топчет моральные
общечеловеческие нормы, но и не соблюдает положения
Устава ООН, членом которой он является. Стоит
напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН 3 ноября
1947 года приняла резолюцию, согласно которой
запрещается «любая форма пропаганды войны, имеющей целью
или способной создать угрозу миру, нарушение мира или
акт агрессии».
Подобной пропагандой Пекин пытается навязать
мировому общественному мнению мысль о необратимости при^
хода войны и вместе с тем выражает надежду, что она
приблизит Китай к его цели — мировому господству.
Каннибальские размышления Мао о допустимости гибели
сотен миллионов людей «достойно» развиты его
нынешними последователями. На всех международных форумах
китайские представители с откровенным цинизмом вещают
о том, что война неизбежна, что мир неуклонно
приближается к ней. С маниакальной настойчивостью пекинские
политики хотят убедить человечество, что оно «созрело»
для самоуничтожения.
Примечательно, что эти человеконенавистнические
заявления и призывы, противоречащие здравому смыслу и
интересам подавляющего числа людей на планете, не
встречают отпора и осуждения со стороны буржуазных
дипломатов и политиков. Есть и такие деятели, в том
числе в странах так называемого «третьего мира»,
которые занимают индифферентную, нейтральную позицию по
отношению к поджигательским действиям Пекина.
Нетрудно видеть, к каким тяжелым последствиям буквально
для всех народов может привести подобная линия. Ведь
мир — ныне важнейшее условие существования, развития,
реализации любых созидательных планов и программ.
173
И тот, кто на него покушается, подрывает сами условия
существования человека, его будущее.
Пекинские лидеры, прославляя войну, прибегают и к
ее поэтизированию. Известны многочисленные
стихотворения Мао Цзэдуна, ряда нынешних политических
деятелей, которые в своих виршах воспевают Молоха войны.
Достаточно напомнить одно из стихотворений Мао,
опубликованное в новогоднем номере «Жэньминь жибао»
(1976 год), где он прибегал к таким выражениям: «Огнем
орудий небо полыхает, воронками изрыта вся земля-
весь мир идет вверх дном». Как это перекликается со
словами, сказанными «великим кормчим» на Московском
совещании коммунистических и рабочих партий 1957 года:
«Если во время будущей войны погибнет половина
человечества — это не имеет значения. Не страшно, если
останется и одна треть населения».
Поэтизация, эпическое изображение всеиспепеляющей
войны — не просто эстетическое обрамление политических
идей, а один из тонко выверенных и продуманных
пропагандистских приемов маоистов. С его помощью делается
попытка эмоционально убедить свой народ, народы всего
мира в том, что война не просто естественное состояние
человечества, но и социально очищающее явление. В
Пекине полагают, что, чем большее число людей будет
думать согласно маоистским стереотипам, тем заметнее
ослабнет общественное противодействие и осуждение гонки
вооружений, разрушительной войны.
На рубеже 70—80-х годов Пекин для срыва
разрядки напряженности, для обострения международного
положения широко использовал события в Афганистане.
Известно, что народ этой древней страны решил покончить
с феодальными и капиталистическими порядками. В
результате Апрельской революции 1978 года перед ДРА
открылись ясные перспективы демократического,
независимого развития. Но это не понравилось США, Китаю,
их партнерам по антикоммунизму. Китай взял на себя
значительную долю контрреволюционного вмешательства,
которое решили осуществлять в Афганистане
империалистические державы. В ответ на братскую помощь СССР,
оказанную этой стране в соответствии с Уставом ООН,
пекинские шовинисты и их американские друзья
организовали, по существу, необъявленную войну против ДРА.
КНР организовала подготовку в Синьцзяне и
Пакистане многочисленных групп мятежников и засылку их па
174
территорию Афганистана. Методы у этих «борцов за
свободу» однообразны: убийства, поджоги, террор, диверсии,
подрыв достижений Апрельской революции. КНР
преследует здесь две цели: нанести максимально возможный
ущерб ДРА и СССР, создать очаг длительной
напряженности в этом регионе, а также использовать свое
вмешательство как повод для накаливания международной
обстановки, политических спекуляций против СССР,
подталкивания США к более решительной военной
конфронтации с миром социализма. Однако события в
Афганистане не являются причиной ухудшения международной
обстановки, как твердят в Вашингтоне, Пекине, в столицах
некоторых других западных государств. «Если бы не
было Афганистана, — говорил Л. И. Брежнев, отвечая
корреспонденту «Правды», — то определенные круги в США,
в НАТО наверняка нашли бы другой повод, чтобы
обострить ситуацию в мире» !. Во всех этих «начинаниях»
Пекин стоял и стоит в одном ряду с самыми
реакционными силами.
На что рассчитывает Пекин, столь настойчиво и
последовательно подталкивающий человечество к войне,
всячески шельмующий разрядку и шаги по ограничению гонки
вооружений? Поджигательский курс маоистских
руководителей не случаен. За ним кроется долгосрочная
стратегическая линия, обоснованная Мао. В Пекине
прекрасно понимают, что, какие бы «модернизации» в стране ни
проводились, китайскому руководству не решить в
ближайшем будущем огромного клубка социальных,
экономических, духовных проблем, которые в значительной мере
порождены маоизмом. Несмотря на режим изоляции
духовной жизни китайского народа, в его среду все сильнее
просачивается правда о происходящем в мире, все сильнее
проявляется тоска по элементарной демократии,
достойному человека существованию. Ведь не случайно год от года
не прекращается поток беженцев из Китая в Гонконг,
Макао, другие страны, несмотря на строжайшие запреты и
препоны. Нынешние руководители не уверены, что они
смогут справиться с валом нарастающих проблем. Отсюда,
в частности, и усиливается ставка на войну как на
спасительное средство. В Пекине полагают, что в ядерном
пламени могут сгореть крупнейшие державы мира, а Ки-
1 Цит. по: Правда об Афганистане: Документы, факты,
свидетельства. М., 1980, с. 10.
175
тай в силу многочисленности своего населения уцелеет и
сможет пожать плоды своих экспансионистских
вожделений. В войне маоистский Китай видит главный способ
утверждения себя мировым гегемоном. И если
миролюбивым силам не осуществлять серьезного противодействия
этому курсу, если допустить, что опасность возрастет до
губительных размеров, то человечество может
столкнуться с такой ситуацией, когда его будущее станет
чрезвычайно тревожным.
Нагнетая международную напряженность, Пекин
одновременно создает условия для широкого
пропагандистского воздействия на общественное сознание своего
народа в направлении тезиса: быть или не быть войне —
вопроса нет. Война будет. Будет непременно. Но чтобы в
ней выжить и победить, нужно готовиться, готовиться,
готовиться к ней. А в этом процессе жертвы и лишения
естественны. «Война — состязание в мощи, — утверждает
газета «Цзефаньцзюнь бао», орган Военного совета ЦК
КПК. — Если мы будем вести подготовку
заблаговременно и в полной мере, то победа гарантирована» !. Эта
пропагандистская риторика далеко не безобидна. В условиях
крайне слабой информированности китайского населения
его значительная часть вынуждена принимать на веру эти
каннибальские призывы и заверения. Обстановка
напряженности, духовной мобилизованности,
националистического угара, охватывающая определенные слои
населения, — самая желанная атмосфера для маоистского
руководства, исподволь, но неуклонно готовящего страну к
войне, войне не с империалистическими агрессорами, а с
силами реального социализма, своими миролюбивыми
соседями.
Ныне нет другой разумной альтернативы войне,
нежели разрядка. Ее суть — это прежде всего готовность
решать разногласия и споры не силой, не угрозами и
бряцанием оружия, а мирными средствами, за столом
переговоров. Разрядка — это значительная степень доверия
между государствами и умение считаться с законными
интересами друг друга. Разрядка выгодна и нужна всем,
ибо в ней люди видят одно из мощных средств
сохранения мира. Разрядка нужна, вопреки заявлениям лидеров
Пекина, и китайскому народу. Ведь поднять уровень
сельского хозяйства, промышленности, науки, благосостояния
Цзефаньцзюнь бао, 1979, 18 июня.
176
сотен миллионов простых китайских тружеников можно
не на рельсах гонки вооружений, подготовки к войне,
нагнетания напряженности, а на путях мирного
сосуществования государств с различным социальным строем,
отказа от агрессивных планов. Видимо, сегодня к этому в
Китае не готовы. Антинародные, опасные для мира цели
Пекина лежат в стороне от мирных дорог.
Человечество должно быть предельно бдительным, чтобы не
дать Пекину зажечь факел ядерной войны. Все, кому
дорог мир и будущее своих народов, не могут
недооценивать опасности, которая сегодня исходит из Чжуннань-
хая, дворца-резиденции нынешних правителей Китая.
Обитатели этого дворца меняются, но во внешней
политике все остается без существенных перемен: антисоветизм,
гонка вооружений, сближение с НАТО.
Внешнеполитическая доктрина Пекина — это доктрина войны,
милитаризма, угрожающая будущему всего человечества.
Проходят съезды, сессии ВСНП, пленумы ЦК КПК — картина
та же: курс на достижение мировой гегемонии остается
неизменным. Это еще раз подтвердил V пленум ЦК КПК,
проходивший в феврале 1980 года. Освещая работу
пленума, «Жэньминь жибао» писала, что «вопроса о
возврате к «холодной войне» от разрядки не существует,
поскольку сейчас идет не только холодная, но и горячая
война».
На пленуме вновь были высказаны идеи,
направленные, с одной стороны, на форсирование сближения КНР
с США, а с другой — на усиление военной конфронтации
СССР и США, наиболее желанным вариантом которой
для пекинских руководителей была бы ядерная война.
Но эти расчеты Пекина прекрасно понимают в
Вашингтоне. «На деле же США все активнее стаскивают
китайское руководство с избранной им выжидательной позиции
«наблюдателя на горе», пытаются вовлечь Пекин в свои
военные авантюры,что может принести лишь новые беды
и страдания китайскому народу» *. Такая политика в
корне противоречит интересам мира и социализма, и прежде
всего интересам самого китайского народа.
1 Правда, 1980, 7 апр.
12 Зак. 512
Глава пятая
КОНТУРЫ ВОЕННОГО АЛЬЯНСА:
ПЕКИН - НАТО
Семидесятые годы нашего столетия показали,
сколь большие позитивные возможности политического,
экономического, культурного характера несет разрядка
напряженности в международных отношениях. «Мирные
наступления» социализма, провозглашенные на
последних съездах нашей партии, привели к ощутимым
результатам: была отодвинута непосредственная угроза мировой
войны, стали возможны соглашения между СССР и США
но ограничению стратегических вооружений.
Однако все это вызвало ожесточенную отрицательную
реакцию со стороны всевозможных бешеных. В ответ на
стремление нашего государства дополнить политическую
разрядку разрядкой военной, что наиболее ярко
проявилось в речи Леонида Ильича Брежнева 6 октября 1979
года в Берлине, капиталистический Запад отреагировал
сначала откровенной растерянностью, а затем новым
приступом милитаристской лихорадки.
На рубеже 70—80-х годов обстановка в мире заметно
осложнилась. Это вызвано тем, как отметил товарищ
Л. И. Брежнев в своей речи 22 февраля 1980 года перед
избирателями Бауманского района города Москвы, что
«силы империализма перешли в контрнаступление на
разрядку», форсировали гонку вооружений, затормозили
реализацию ряда серьезных двусторонних договоренностей.
Страшась разрядки и ее социальных последствий, страны
НАТО еще в мае 1978 года приняли решение об
автоматическом росте военных бюджетов государств — его
членов — до конца XX века. Милитаристские тенденции в
политике натовских государств, и прежде всего США,
стали находить проявление в самых различных сферах:
принятии решения о размещении в Западной Европе
дополнительных ракетно-ядерных средств средней дальности,
178
создании новых военных баз, формировании так
называемого «корпуса быстрого развертывания», образовании
новых опасных очагов напряженности. Именно
интервенционистские действия контрреволюционных сил против
демократического Афганистана создали в этом регионе
обстановку серьезной напряженности.
Во всех этих «начинаниях» заодно с империалистами
выступает Пекин, превратившийся из резерва
империализма в его фактического союзника. Все большее
смыкание китайского руководства с наиболее реакционными
империалистическими силами происходит на основе общей
ненависти к социальному прогрессу, всем тем процессам,
которые выражаются емким термином «разрядка».
Конкретной идейной и политической базой этого
милитаристского альянса Пекина и НАТО выступает антисоветизм —
наиболее реакционная разновидность антикоммунизма.
Известно, что антисоветизм, как
одна платформе на из наиболее злобных разновидно-
антисоветизма „ г ^
стеи антикохммунизма, является
ныне ведущим идейно-политическим средством
империализма и маоизма. Это объясняется устойчивой социальной
ненавистью капитализма и его союзников к силам
социализма и демократии. В. И. Ленин, выступая на II
конгрессе Коммунистического Интернационала 26 июля
1920 года, подчеркивал, что отныне все мировое развитие
будет определяться борьбой империалистических
государств против Советской России. «Если мы упустим это
из киду, то не сможем поставить правильно ни одного
национального или колониального вопроса, хотя бы речь
шла о самом отдаленном уголке мира» 1. Только учитывая
этот антагонизм, учил В. И. Ленин, можно правильно
понимать и разрешать политические вопросы, успешно
бороться против классового врага.
Антисоветизм пекинских руководителей возник не
сейчас. Еще в 30-е годы, когда Мао и его окружение
противились решениям Коминтерна, Мао Цзэдун и Ли Лисань
доказывали, что центр революционного движения
переместился из Советской России в Китай, тем самым
отодвинув на второй план опыт и достижения Октябрьской
социалистической революции, ее интернациональное
значение2. В дальнейшем антисоветская тенденция, более
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 242.
2 См.: Новейшая история Китая 1917—1970 гг. М., 1972,
с. 134-136.
12*
179
или менее замаскированная в 50-е годы, постепенно
оттесняла интернационалистические взгляды,
существовавшие у многих честных коммунистов в КПК. Дело дошло
до того, что XI съезд КПК объявил СССР главным врагом
Китая, а борьбу против КПСС узаконил в уставе 1.
Основное содержание антисоветизма заключается в
клевете на советскую действительность, искажении целей
внешней политики СССР, приписывании ей агрессивных
намерений, фальсификации роли КПСС в экономической,
политической и культурной жизни страны. Если
посмотреть на историю нашего века, то нетрудно убедиться, что
фашистские режимы, тоталитарные государства и
системы возникали, как правило, прикрываясь лживой завесой
о «красной», «советской опасности», объясняя свои
античеловечные акции объективной «необходимостью
поставить преграды мировому коммунизму». В наши дни
антисоветизм стал более гибким, изощренным, но его
реакционная социальная направленность против
прогрессивных сил осталась прежней.
С момента возникновения первого в мире
социалистического государства империалисты не перестают
запугивать свои народы жупелом «советской угрозы». Однако
буржуазные пропагандисты не любят публично
вспоминать об империалистических интервенциях против СССР,
забывают, что в США еще в 1949 году был разработан
план «Дропшот», предусматривавший превентивную
ядерную войну против нашей страны. Из их уст не услышишь
слов осуждения НАТО, созданного в агрессивных целях
на несколько лет раньше Варшавского Договора,
признания того факта, что инициаторами гонки вооружений
всегда выступали империалистические государства
(достаточно вспомнить, кто создал и применил первым ядерное
оружие, создал более 400 крупных военных баз по всему
миру, начал первым строительство атомных подлодок,
развернул подготовку нейтронного оружия, крылатых
ракет и т. д.). Этого милитаристы не упоминают. Но порой
молчание может быть красноречивее крика.
Неизменными атрибутами антисоветских
политических и идеологических акций являются насквозь
фальшивые штампы о «тоталитарности режима»,
«антигуманности общества», «красном милитаризме» и т. д. Все эти
давно разоблаченные идеологические мифы буржуазии бе-
1 XI Всекитайский съезд КПК: Документы. Пекин, 1977, с. 141.
180
рутся на вооружение и маоистами. Если классовая
приверженность империализма антисоветизму совершенно
очевидна и определяется его социальной природой, то
какую корысть видят пекинские руководители в
настойчивом, до фанатизма, следовании этому курсу? В этой связи
следует отметить ряд моментов.
Во-первых. В лице Советского Союза и других
социалистических стран Пекин видит главное препятствие в
достижении своих великодержавных, гегемонистских целей.
Так было при Мао, так осталось и теперь. К. Менерт,
политолог из ФРГ, в книге «Наследники Мао делают все
иначе» констатирует, что «Хуа Гофэн и Дэн Сяопин две
главные установки кормчего выполняют неукоснительно:
враг номер один — это СССР, и союзник Китая — любой,
кто выступает против Советского Союза» *. Эта
навязчивая идея, лежащая в основе конкретных политических
действий Пекина, повторяется ежедневно и многократно.
В январе 1980 года «Жэньминь жибао» писала, что
«самый опасный враг Китая — это советский
социал-империализм, препятствующий нашему развитию и нашим
модернизациям». Антисоветизм пекинских лидеров — это
вовсе не какой-то конфликт на идеологической почве,
как любят утверждать буржуазные синологи, он
является прямым следствием враждебного курса маоистов,
противостоящего реальному социализму,
марксизму-ленинизму, мировому революционному движению.
Последовательный курс Советского Союза,
направленный на укрепление мира, реального социализма и на срыв
агрессивных поползновений любых реакционных сил,
предстает в глазах Пекина непреодолимой преградой на
пути его авантюристических планов. Поэтому для
маоистских руководителей антисоветизм стал универсальным
принципом и критерием: все, что наносит ущерб
Советскому Союзу, для них истинно и приемлемо. Учитывая
цели Пекина, направленные в конечном счете на
достижение мировой гегемонии, можно считать, что
антисоветизм в идеологии и политике маоистов носит не.
временный, тактический характер, а долговременный,
стратегический.
Во-вторых. Оголтелый антисоветизм нынешним
обитателям Чжуннаньхайского дворца необходим и для ут-
1 М е h n е г t К. Maos Erben machen's anders, S. 85.
181
верждения своей антисоциалистической доктрины во
внутренней жизни Китая. Дискредитируя, извращая или
попросту замалчивая опыт и реальные достижения
социализма в Советском Союзе, пекинские руководители
пытаются доказать приемлемость для Китая лишь
доктрины маоизма, пусть сегодня и корректируемой. А ведь еще
в 1957 году Дэн Сяопин, выступая в университете Цип-
хуа, говорил: «Вообще говоря Советский Союз — хороший.
Это: Октябрьская революция, достижения в
индустриализации, победа во второй мировой войне. Это то
государство, которое может оказывать помощь братским странам.
Надо сердечно благодарить Советский Союз, но еще более
следует хорошо учиться у него». А теперь тот же Дэн и
его единоверцы делают все для того, чтобы очернить
Советский Союз, КПСС, проводимую ими политику и
конкретные шаги в любой области. Прошедшие X, XI съезды
КПК, решения всех последних сессий Всекитайского
собрания народных представителей, заявления пекинского
руководства настойчиво проводят мысль о глубокой
враждебности опыта социалистического строительства в нашей
стране для Китая. В Пекине понимают: для того чтобы
превратить к концу XX века КНР в мощное
милитаристское государство, необходимо следовать только
маоистскому курсу. Милитаристская программа «четырех
модернизаций», к которой сейчас приступили в Китае,
предполагает в качестве исходного идеологического и
политического обоснования наличие «советской военной
угрозы», объективной необходимости противостоять
«опасности с Севера».
В-третьих. Чтобы объединить нацию для решения
выдвинутых руководителями целей, в Китае следуют
заповедям богдыханов: «Наличие внешнего врага необходимо
для сплочения; если его нет, то надо выдумать». И таким
выдуманным врагом давно изображается Советский Союз,
который якобы не только удерживает захваченные
Россией в прошлом веке у Китая обширные территории, но
и «непрерывно готовится, чтобы расчленить и уничтожить
КНР». Именно такие идеи проповедуются в изданном в
Пекине труде — «История борьбы народов
Северо-Восточного Китая против России», как и в другой, подобной
маоистской литературе. Ее стержнем является
безудержная проповедь антисоветизма, благодаря которому
пекинские руководители стремятся выработать у китайского
народа, личного состава вооруженных сил повышенную
182
агрессивность, шовинистический угар, устойчивую
ненависть к первой стране социализма.
В-четвертых. Антисоветизм Пекину необходим и для
идеологического камуфляжа, сокрытия своего
предательства дела социализма. Обвиняя Советский Союз во всех
смертных грехах, приписывая ему «капиталистическое
перерождение», Пекин концентрирует все политические и
идеологические подрывные усилия против политики
КПСС, ее последовательного и принципиального курса.
Одним из таких шагов явилось денонсирование советско-
китайского Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи,
подписанного 14 февраля 1950 года в Москве. В Пекине
словно забыли, что этот важнейший документ был
подписан в условиях империалистической блокады КНР, когда
СССР, по существу, дал гарантию суверенитета и
независимости Китая.
Придерживаясь антисоветских позиций, руководители
Китая этим пытаются не только прикрыть свой глубокий
отход от идеалов социализма, но и приобрести себе новых
«друзей» в стане империалистической реакции, среди
милитаристских кругов буржуазных обществ и диктаторских
режимов. Свою идейную беспринципность маоисты любят
прикрывать конфуцианскими афоризмами или
собственными изречениями, вроде* «Неважно, белая кошка или
черная. Хороша лишь та кошка, которая ловит мышей».
Именно при помощи подобных аргументов Дэн Сяопин,
как и другие руководители Пекина, пытается оправдать
свой курс измены делу социализма и блокирования с
самыми махровыми реакционными силами современности.
Известно, что для усиления антисоветских тенденций
в своих странах буржуазные идеологи широко
спекулируют на злобном мифе о так называемой «советской
военной угрозе». Теперь этот миф прочно взят на вооружение
и маоистской пропагандой. При этом он выполняет
вполне определенные функции.
Этот миф пекинской верхушке нужен для
оправдания гонки вооружений, продолжающегося процесса
милитаризации Китая. Спекулируя на мифе о
несуществующей угрозе, пекинские руководители добиваются
дальнейших увеличений ассигнований на и так огромные
военные расходы, пожирающие значительную часть
материальных возможностей КНР.
Далее, этот миф, подброшенный Пекину западной
пропагандой, служит им и для запугивания населения, выра-
183
ботки у него устойчивой ненависти ко всему советскому,
социалистическому. Под дымовой завесой мифа о
«советской военной угрозе» пекинские лидеры осуществляют
многочисленные мероприятия в рамках пресловутой
программы четырех модернизаций.
Наконец, миф о «советской военной угрозе» служит в
качестве одного из ведущих средств подрыва разрядки,
отравления атмосферы в международных отношениях.
Пекинские деятели убеждают всех своих визитеров,
буржуазных политиков и промышленников в том, что угроза
со стороны СССР растет, что она реальна и представляет
особую опасность как для Запада, так и для Китая. Как
видим, антисоветизм, как ведущая политическая
концепция империализма и маоизма, как идеологическое
средство их пропагандистских центров, выражает глубокую
классовую и социальную ненависть капиталистов и
пекинских перерожденцев к СССР.
Естественно, показанные выше причины
приверженности маоистского руководства антисоветизму
свидетельствуют не только о его глубоком ренегатстве, но и о
появлении общей платформы тесного сближения с
империализмом. Именно об этом открыто говорили в Пекине
китайские руководители и Гарольд Браун — министр обо-
ропы США во время визита последнего в китайскую
столицу в начале 1980 года. А эта платформа заключается
в «согласованном противодействии СССР, исходящем из
близости стратегических интересов США и Китая», — как
было объявлено по завершении переговоров. Каковы же в
действительности эти интересы и цели, которые
преследуют империалисты и маоисты в процессе своего
довольно быстрого сближения? Чем руководствуются в Пекине
и Вашингтоне, да и в ряде других столиц
капиталистических держав, идя на этот новый (хотя и не оформленный
официально) зловещий милитаристский альянс?
Своим последовательным антнсове-
Какие цели пресле- тизмом Китай добился того, как
годуют стороны/
J r ворилось выше, что в
империалистических кругах НАТО его стали называть «шестнадцатым»
или «восточным членом НАТО». Однако за этим внешне
афористичным определением роли Китая в
империалистических расчетах скрываются своекорыстные интересы
маоистов и империалистов, в ряде случаев совпадающие,
если смотреть на них в ближайшей перспективе, и расхо-
184
дящиеся, если взглянуть на них в более отдаленной
ретроспекции.
Сейчас, когда сближение является свершившимся
фактом, небезынтересно напомнить, что Мао и его
сторонники еще в 40-е годы искали связей с США. Тогда
состоялся ряд встреч и переговоров американских
представителей и Мао Цзэдуна. Американцы в то время
требовали в качестве цены за сближение порвать с Советским
Союзом. Как пишет американский писатель, бывший
сотрудник ЦРУ Р. Саттер в своей книге «Взгляд на Китай»,
«во время беседы Мао Цзэдуна с Дж. Сервисом китайский
лидер говорил, что Америка может дать Китаю больше,
чем СССР, и дружба для китайцев более желательна с
США» *. Однако окружение Мао тогда не порвало с СССР,
и американцы сделали свою ставку на Гоминьдан.
Поиски путей сближения (обоюдные)
активизировались в начале 70-х годов, когда для Запада стало ясно,
что Пекин от ультрареволюционности скатывается к
ультрареакционности. Доказывая необходимость укреплять
отношения с Китаем, в том числе и в воепной области,
один из ястребов конгресса США Р. Тафт заявлял: «Мы
должны основывать свою дипломатию не на разрядке, а
на дипломатической и военной реальности. Главную роль
в этой реальности играет для нас необходимость
существования сильного и независимого Китая. При нынешнем
соотношении сил в мире настоятельно необходимо, чтобы
дивизии китайской армии находились на советской
границе» 2. Так мыслил не только Р. Тафт. Так думали и
думают многие из тех конгрессменов, которые
представляют интересы военно-промышленного комплекса, кому
нетерпима даже сама мысль о разрядке. Естественно, что
у этих империалистических милитаристов быстро нашлись
единоверцы из пекинской милитаристской клики.
Анализ конкретных шагов и действий пекинского
руководства в отношении капиталистического Запада в
последние годы показывает, что Китай в своем сближении
со страпами НАТО стремится достичь ряд целей в области
политической, экономической и собственно военной.
В политической области Пекин пытается добиться
такого объединения с Западом (а также с Японией), чтобы
оно поставило Советский Союз, все социалистическое
содружество в крайне невыгодные условия, ослабляющие их
1 Sutter R. China Watch, p. 23.
2 «The New York Times», 30 January, 1980.
185
мощь и солидарность. Борьба против разрядки, против
прекращения гонки вооружений, против знаменитой
советской Программы мира и явилась тем основным каналом,
по которому наиболее быстро налаживались связи,
контакты, устанавливалось политическое сотрудничество
Пекина и НАТО. После 1972 года, когда Никсон и
Киссинджер впервые вели переговоры в Пекине, между
китайской столицей и западными политическими центрами
установились весьма активные политические связи. В то
же время, согласованно выступая против СССР, и Китай,
и страны НАТО преследуют и свои, отличные друг от
друга националистические цели.
Процесс сближения между Пекином и НАТО
преследовал конкретные цели и в области экономической.
Маоистские руководители, встав на путь оголтелого
антисоветизма, решительно выступили и в поддержку ЕЭС.
В Западной Европе, сплоченной вокруг «Общего рынка»,
маоисты видят реальную материальную силу, которая
будет противодействовать СССР, другим социалистическим
странам. На рельсах смыкания с натовскими
государствами Пекин видит едва ли не главный путь обеспечения
пресловутой программы «четырех модернизаций».
Китайские руководители добиваются (и небезуспешно)
получения у развитых капиталистических стран крупных
кредитов, строительства предприятий на компенсационной
основе, приобретения передовой технологии. КНР закупает
на Западе суда, прокат, контрольно-измерительные
приборы, электронно-вычислительную технику, станки,
горнодобывающее оборудование и т. д. В апреле 1978 года в
Брюсселе было заключено соглашение между Китаем и
«Общим рынком», предусматривающее предоставление
сторонам режима наибольшего благоприятствования.
Не отстают в этой области и монополии США,
Японии, заключившие ряд крупных сделок с правительством
КНР, благодаря которым китайская экономика попадает
во все большую зависимость от иностранного капитала.
Нельзя не видеть, что сближение Пекина и стран НАТО
в области экономической привязывает Китай к системе
отношений империалистических государств, которые
получают новые мощные материальные рычаги воздействия
на маоистскую внутреннюю и внешнюю политику.
Сближение Пекина и НАТО охватывает и область
собственно военную. Хотя американская администрация
еще по инерции (правда, все реже) повторяет, что она не
186
будет продавать Китаю наступательного оружия,
действительность говорит о другом. Во время визита Г. Брауна
в Пекин был заключен ряд крупных сделок в области
передачи КНР военной технологии и собственно военной
техники. Определенные связи в этой области установились
у Пекина и с ФРГ, Англией, Францией, Италией. Особую
активность здесь проявляет правительство тори,
предложившее Пекину широкий ассортимент военных товаров.
Китайцы близки к завершению формальностей и в
закупке английских истребителей «Харриер», хотели бы
приобрести французские противотанковые ракеты «Хот»,
вертолеты «Супер-Фрелон», западногерманские танки и
артиллерию. Военное ведомство Пекина интересует пе
только традиционное оружие и боевая техника. Его
внимание приковано к любой информации, касающейся крылатых
ракет, нейтронной бомбы, новых ракетных систем и т. д.
На Западе милитаристские круги с пониманием относятся
к этим притязаниям Пекина. Английский консерватор
Ф. Беннет, выступая на заседании ассамблеи
Западноевропейского союза, подчеркнул «необходимость
экономического, научно-технического и военного сотрудничества
с Китаем ради защиты западных демократий». Президент
США Дж. Картер неоднократно публично заявлял, что он
одобряет продажу европейцами оружия и боевой техники
КНР.
Министр обороны Англии Ф. Пим, побывавший в
Пекине в апреле 1980 года, открыл там английскую
выставку авиакосмической техники, на которой представили
свою продукцию 66 английских фирм. На выставке,
отмечает американский журнал «Ньюсуик»,
демонстрировалось многое: от армейских касок до управляемых ракет.
И сам Ф. Пим, резюмируя итоги выставки, заявил:
«Англия ясно проявила готовность продать Китаю самое
разнообразное военное снаряжение». Между потенциальными
поставщиками развернулась острая конкурентная борьба.
Однако «аппетиты монополий остужает один
немаловажный факт, — замечает «Ньюсуик», — где Китай возьмет
столько денег. Китайский военный бюджет быстро растет,
но этой стране не хватает твердой валюты». В общем
торг начался, и, видимо, если КНР проявит и дальше
политическую уступчивость, ее новые империалистические
партнеры могут пойти навстречу.
Таким образом, китайская сторона, охотно идущая на
сближение с милитаристскими империалистическими кру-
187
гами, преследует вполне определенные гегемонистские
цели: ослабить СССР, заручиться натовской
экономической, технической, финапсовой и военной помощью,
форсировав тем самым процесс превращения КНР в мощное
милитаристское государство. Однако, учитывая различие
социальных структур китайского и западных обществ,
различие в политических и экономических системах,
нельзя не видеть, что совпадение целей Пекина и НАТО
имеет в значительной мере конъюнктурный характер.
Наряду с общими антисоциалистическими, антисоветскими
целями маоистское и империалистическое руководства
преследуют и свои, узконационалистические интересы.
Это проявляется в том, что между сближающимися сто-
ронами есть ряд трудно преодолимых противоречий. К ним
можно отнести тщательно скрываемые подозрения в
отношении дальних целей друг друга, различие
политических и социально-экономических систем у членов
просматривающегося союза, неравноправный характер этого
союза, в котором Китай ценой политических и идейных
уступок пытается усилить свою военно-техническую базу.
Нельзя не видеть и различного подхода сторон к судьбе
Тайваня, политике в отношении Филиппин, Индонезии
и т. д.
Другими словами, при констатации бесспорного факта
ноенно-политического сближения Пекина и НАТО,
происходящего на почве антисоветизма и гегемонистских
планов, было бы неправильно представлять этот альянс
завершенным, однородным, окончательно оформившимся и т. д.
Хотя этот союз имеет ныне стратегическое значение в
оценке соотношения сил в мире, его жизненность весьма
проблематична, особенно в долгосрочной перспективе.
Наша партия неоднократно предупреждала мировую
общественность о том, что попустительство гегемонистской
политике Пекина может привести к ситуации, чреватой
серьезной опасностью не только для миролюбивых сил, но и
для тех, кто усиленпо разыгрывает «китайскую карту»,
не учитывая в полной мере того, с кем они имеют дело.
В этой связи следует отметить, что США, как и другие
страны НАТО, хотели бы максимально использовать
Китай в качестве противовеса Советскому Союзу на Дальнем
Востоке и в Азии. Американские руководители цинично
рассматривают свое сближение с Пекином как
определенный рычаг давления на СССР. Другое дело, что из этого
получится. В Соединенных Штатах не скрывают, что им
188
выгоднее стоять над конфликтом СССР — КНР, нежели
непосредственно, прямо занимать одну из сторон. Хотя
американские и европейские империалисты, по существу,
превратились в фактических союзников Пекина, им бы
не хотелось идти дальше определенного рубежа. С одной
стороны, нельзя не видеть, что уже к середине 80-х годов
Китай, оплодотворенный щедрой помощью Запада, может
представлять непосредственную угрозу и для США с их
союзниками. Трудная предсказуемость китайской
политики, откровенные гегемонистские амбиции делают эту
возможность весьма реальной. Это видят и некоторые
буржуазные аналитики американо-китайских отношений. Так,
X. Хардинг в книге «Китай и США» предостерегает
руководство Соединенных Штатов от «чрезмерного
сближения в военной области, ибо это в будущем будет опасно для
США. Когда Китай станет и военной сверхдержавой, кто
может поручиться в его лояльности к Соединенным
Штатам?» 1 —- не без основания задает вопрос буржуазный
синолог. И подобные взгляды не единичны. Группа
сенаторов США во главе с Дж. Тленном после посещения
Китая составила обширный доклад,- в котором призывает
администрацию президента к осторожности. «Цель КНР,—
говорится в докладе, — создать мощную военную
державу к концу нынешнего столетия. И этого они хотят
добиться с помощью США. Но куда они пойдут потом, как
используют свою мощь — сейчас никто не знает» 2.
Суждение довольно трезвое, но прислушаются ли к нему в
Вашингтоне и других западных столицах?
С другой стороны, натовские руководители пока
избегают официальных военных соглашений с Пекином,
боясь, что последний может втянуть их в такие авантюры,
которые чреваты серьезными последствиями для
империалистических государств. Алан Вулф, американский
профессор социологии, в статье «Китайская карта»,
опубликованной в «Ньюсдей», отмечает, что перспектива
возможного военного союза с Китаем имеет недостаток в
том смысле, что он предусматривает военное решение
проблемы, тогда как она является проблемой
политической. Пора понять, что национальную безопасность США
подрывают не столько военная слабость, сколько
политические и военные факторы внутреннего развития страны.
Мы оказываем плохую услугу себе и китайцам, заключает
1 Н а г d i n g H. China and The U.S. N.Y., 1979, p. 26.
2 Chino-american Relations: a New Turn. Washington, 1979, p. 39.
189
автор, пытаясь вооружать их с тем же рвением, с каким
мы когда-то стремились взять их в кольцо изоляции.
Американская сторона должна бы учитывать эти
обстоятельства, тем не менее все последние месяцы она
самым активным образом использует китайский фактор,
выступая в роли фактического союзника КНР. Журнал «Аф-
рик — Ази», издаваемый в Париже, в номере от 21 января
1980 года в статье «Ось Вашингтон — Пекин» отмечал:
«Американские и китайские руководители не перестают
повторять, что у них общие стратегические цели в Азии
и даже во всем мире. Это заставляет думать, что
китайско-американский союз уже заключен — по крайней мере
в устной форме. Следует полагать, что это повлечет и
более широкое военное сотрудничество». В пухлом труде,
озаглавленном «Китай и Америка» и опубликованном
библиотекой конгресса США в середине 1979 года,
утверждается, что «американо-китайское согласие
устанавливает новый международный порядок в Юго-Восточной
Азии, препятствующий проникновению туда Советского
Союза».
Выражена мысль достаточно прозрачно. После
позорного поражения США во Вьетнаме они посчитали
стратегически удобным заполнить создавшийся вакуум
китайским влиянием и фактически поощряли и поощряют КНР
на дальнейшие экспансии в этом регионе. В докладе
подкомиссии конгресса США об отношении Китая с
окружающими странами — «Китай и Азия» — утверждается, что
в «интересах США защищать интересы КНР в Азии, так
как и Пекин приветствует американское военное
присутствие здесь, одобряет рост сил самообороны Японии,
укрепление блока АСЕАН, которому он стремится придать
антисоветскую направленность». Как видим, взаимное
поощрение экспансионистских целей новоявленных
«союзников» опирается на антисоветизм и экспансионистские
устремления маоистов и империалистов.
Сегодня уже установлен факт, что агрессия Пекина
против социалистического Вьетнама была предпринята
после фактического одобрения американской
администрацией маоистских великодержавных планов. Соединенные
Штаты, по существу, приобрели удобного подручного в
Азии, готового поддержать практически все
милитаристские акции Вашингтона. В цитировавшейся выше статье
«Ось Вашингтон — Пекин» в этой связи отмечается, что
«Соединенные Штаты и Китай сами назначили себя ар-
190
битрами судеб Азии. И они делают все для того, чтобы
помешать таким странам, как Вьетнам, Лаос, Кампучия,
сегодня Ирану и Афганистану, а завтра, возможно, Индии
остаться независимыми и подчинить их
китайско-американскому порядку».
Как видим, цели, которые преследуются Пекином,
Вашингтоном и столицами некоторых натовских государств,
поистине имперские. Стремление действовать с «позиции
силы», цинично присвоив себе право преподавать «уроки»
непокорным, наиболее полно характеризует сегодня
согласованную политику США, Китая и НАТО.
Консолидация миролюбивых сил, укрепление
оборонной мощи социалистических стран, сопровождаемые
решительным отпором всем агрессивным поползновениям
маоистских и империалистических кругов, разоблачение
их преступного сговора способны существенно ослабить
военно-политические связи Пекина и НАТО,
восстановить против них широкие общественные силы в мире.
Некоторыми буржуазными политологами даже сегодня,
в разгар антисоветской истерии в Вашингтоне,
высказываются порой трезвые мысли. Так, в вышедшем в Нью-
Йорке сборнике «Поворот кругом: решение по
китайскому вопросу и его последствия» подчеркивается мысль,
что «перспективы и выгоды сближения США и КНР не
идут ни в какое сравнение с последствиями ухудшения
американо-советских отношений» *. Чем быстрее и
большее количество людей осознает всю глубину опасности,
идущей от сближения маоистов и империалистов, тем
эффективнее может быть борьба против этого сговора,
чреватого тяжелыми последствиями для мира и
безопасности народов.
Контуры нового военно-политическо-
альХ уТроТм^рТ ™ союза' хотя и не оформленного
официально, просматриваются
достаточно рельефно. Возникновение этого маоистско-импе-
риалистического гибрида является одной из причин
серьезного ухудшения международной обстановки в
последнее время. Сближение маоистов с капиталистическим
миром еще более ужесточает обструкционистскую
политику Пекина по отношению к важнейшим проблемам
современности. В унисон с ними так же нагло действуют
1 Tirney I., (ed) About Face: the China's Decision and its
Consequences. N.Y., 1980, p. 346.
191
и империалистические круги, пытаясь вернуть мир к
временам «холодной войны». Если в начале 70-х годов
американские руководители фактически признавали
наличие стратегического паритета между СССР и США, то
теперь, чувствуя фактическое военное партнерство с
КНР, вновь открыто заявили о своих претензиях на
«мировое лидерство», на достижение односторонних военных
преимуществ. Однако эти попытки тщетны. Как заявил
товарищ Л. И. Брежнев 22 февраля 1980 года, «наши
силы к возможности огромны. Мы и наши союзники всегда
сумеем постоять за себя и дать отпор любым
враждебным наскокам».
Сам факт сближения КНР и стран НАТО в военной
сфере уже оказывает отрицательное воздействие на
международную обстановку, делает мир все более и более
нестабильным. Можно проследить ряд направлений, по
которым проявилось и проявляется негативное влияние
процесса сближения Пекина с Вашингтоном и его
союзниками на антисоветской основе.
Первое из этих направлений — подхлестывание гонки
вооружений в капиталистическом мире и КНР.
Соединенные Штаты, исходя из новых доктринальных установок,
выдвинутых президентом США, решили фактически
увеличивать ежегодно свой военный бюджет более чем на
5 процентов. Создание новых образцов и видов оружия,
расширение базовой стратегии, формирование мобильных
оперативных соединений призваны внести дисбаланс в
сложившееся соотношение сил. И этому рукоплещет
Пекин. Все военные приготовления НАТО, поскольку
они направлены против СССР, всего социалистического
содружества, полностью одобряются маоистскими
руководителями. А эти приготовления масштабны,
беспрецедентны, и на них следует остановиться подробнее.
В ответ на советские шаги по одностороннему
существенному сокращению своих вооруженных сил в
Центральной Европе и предложения по осуществлению других
мер ослабления военной конфронтации и усилению
взаимного доверия на Западе началась и продолжается
искусственно подогреваемая кампания, имеющая
совершенно иные цели. Появились десятки «докладов» и
«анализов» различных центров и комитетов, утверждающих, что
в последние годы нарушен не только стратегический
паритет между США и СССР, но и баланс в области
тактической и что Западу надо принимать «срочные меры».
192
Так, бывший государственный секретарь США Г.
Киссинджер на прошедшей в Брюсселе конференции «НАТО
в предстоящие 30 лет» заклинал генералов и политиков
атлантического союза «предпринять немедленные меры
по наращиванию тактических ядерных сил».
С аналогичными призывами выступают на различных
политических форумах последнего времени другие
известные оруженосцы военно-промышленного комплекса:
генерал Хейг, адмирал Зомуолт, генеральный секретарь
НАТО Луне, сенаторы Джонсон, Бейкер, Горн и многие
другие ястребы. Общественная представительность
подобных лиц, их звания, положение и чины порой
создают у дезинформированных людей представления о
компетентности суждений этих идолов антиразрядки, что ведет
к появлению у неискушенных людей страхов,
неуверенности перед лицом мифических угроз, готовности
согласиться на новое налоговое бремя во имя «безопасности».
В поддержку этих милитаристских призывов тут же
выступили пекинские руководители. В китайской столице,
а также во время своих визитов в страны
капиталистической Европы государственные деятели КНР неустанно
твердили, что, если «западное сообщество не примет
срочных мер, ему грозят большие неприятности со стороны
социал-империализма» 1.
За этой «идеологической подготовкой» последовали и
конкретные шаги. Были обнародованы рекомендации
натовских экспертов «разместить дополнительно в Европе
572 ракеты с ядерными боеголовками для ликвидации
дестабилизирующего перевеса Советов». В числе этих
ядерных носителей—108 баллистических ракет «Пер-
шинг-2» дальностью полета свыше 1800 миль и 464
крылатые ракеты с дальностью 1200—1400 миль.
Что это означает? А то, что к уже имеющемуся
огромному военному арсеналу НАТО предполагается добавить
качественно новые элементы, которые могут привести к
дисбалансу сил. Уже сейчас в Европе атлантический союз
располагает огромной мощью. Достаточно сказать, что
на континенте насчитывается свыше трех миллионов
солдат натовского альянса. Только американцы располагают
здесь 8 тыс. ядерных боеголовок и более чем 3 тыс.
средств доставки к цели. Если к этому добавить 17 тыс.
танков, мпогие тысячи боевых самолетов, орудий евро-
1 Жэньмипь жибао, 1979, 14 июпя.
13 Зак. 512 193
л ейских стран — союзников США и ядерное оружие
Англии и Франции, то нетрудно представить, сколь
внушителен арсенал средств массового уничтожения. И этот
арсенал сейчас называют «недостаточным». Масло в огонь
подливают и маоисты. На прошедших в 1979 году
совещаниях кадровых, научных и военных работников, в
выступлениях государственных деятелей КНР
неоднократно подчеркивалась мысль о том, что СССР <<обгоняет
Запад» и что это обстоятельство ставит дополнительные
задачи перед НОАК. К провокациям подобного рода,
как бы часто они ни повторялись, привыкнуть трудно.
Чтобы как-то замаскировать и оправдать подготовку
к осуществлению нового витка гонки вооружений,
поспешили этот процесс назвать простои «модернизацией»,
улучшением старых систем. Но это совсем не так.
Достаточно сказать, что ракета «Першинг-2» монтируется па
подвижной базе, мобильна и обладает исключительно
высокой точностью попадания (в пределах 40 метров от
расчетной точки). Крылатые ракеты наземного
базирования характеризуются тем, что они идут к цели ва очень
малой высоте (около 60 метров от земли), благодаря
чему их трудно обнаружить и еще труднее уничтожить.
Электронные устройства также обеспечивают высокую
точность попадания крылатых ракет. Это
принципиально новые средства, которые могут нарушить сложившееся
военное равновесие в Европе. И натовские руководители
намерены его осуществить. Техническая сторона этих
программ вызывает исключительно повышенный интерес
в Пекине, где бы очень хотели получить если не
технологию производства этих средств вооружения, то хотя бы
готовые изделия.
Естественно, социалистические страны не стали бы
безучастно наблюдать за таким развитием событий. Ни
один вызов, угрожающий социалистическим странам, пе
может остаться без ответа. «Нам пришлось бы в этом
случае,— говорил Л. И. Брежнев в Берлине 6 октября
1979 г.,—осуществить необходимые дополнительные шаги
по укреплению своей безопасности. Иного выхода у нас
не остается». Чего добьются своими новыми мерами
натовские стратеги? Ясно одно, что своих целей —
стратегического превосходства — не добьются. Социалистические
страны не могут позволить, чтобы Запад получал
односторонние военные преимущества. Видимо, это давно
следовало бы усвоить некоторым функционерам из «мозгов
194
вого бункера» НАТО, а также политическому руководству
КНР. Ведь в политике чрезвычайно опасно предаваться
иллюзиям* В конце концов западным и маоистским
стратегам пора понять, что накопление оружия сверх
определенного предела перестает иметь очевидное военное
значение, поскольку жизнь на Земле можно уничтожить
только раз, а не дважды и не трижды. Намерения атлап-
тистов и их пекинских партнеров очень похожи на
действия, подобные тому, как если бы в фундамент здания
вместо камня укладывали новые и новые ядерные
заряды. Нетрудно представить, что в таком доме жизнь была
бы подобна непрерывному кошмару. Кое-кто на Западе,
да и на Востоке, навязывая нам гонку вооружений,
надеется не столько на получение собственно военных
преимуществ, сколько на то, что при ее помощи удастся
«разорить» Советский Союз, расшатать и ослабить его
экономику. Об этом, в частности, откровенно пишут
английский журнал «Экономист», а также некоторые пекип-
ские издания, обильно сочиняющие небылицы о каких-то
«экономических провалах» в СССР, упадке и потере ди-
памизма. Это как раз тот случай, когда желаемое выдают
за действительное.
И в тот момент, когда все честные люди земли с
надеждой ждали позитивного ответа Запада на советские
предложения и инициативы, выдвинутые Л. И.
Брежневым в Берлине, милитаристская верхушка наращивает
свое давление на сознание миллионов людей, форсируя
принятие решения по проблеме так называемого «евро-
стратегического оружия». «Только твердо решив вопрос
о модернизации своего ядерного арсенала в Европе,—
заявляет Й. Луне,— можно говорить с Варшавским
Договором». Для давления на своих европейских союзников,
в чьих странах ширятся протесты и тревога в связи с
новыми натовскими проектами, из-за океана шлют все
новых и новых политических эмиссаров. Запугивание
союзников но НАТО «растущей советской военной угрозой»
сопровождается инсинуациями, вроде тех, которые не
сходят со страниц буржуазных и пекинских газет.
«Советские предложения — ловушка для Европы»,— восклицает
лондонская «Дейли телеграф». «Предложения, не
имеющие большого военного значения»,—утверждает
парижская «Монд». «Отвлекающий маневр — опасный для
Запада»,— констатирует «Нью-Йорк тайме». «Большой
обман советских социал-империалистов»,— вторит им
13*
195
«Жэньминь жибао». В буржуазном хоре голоса
пекинских поджигателей войны не портят общего
милитаристского тона. Да это и понятно. Пойдя по пути измены
революционным идеалам, Пекин не останавливается пи
перед чем, чтобы ублажить своих старших партнеров и
получить доступ к еще одному виду оружия, к повому
образцу техники, дополнительным займам.
Гонка вооружений — перманентное «эльдорадо»
военно-промышленного комплекса, несмотря на то что его
действия равносильны прямому социальному грабежу
своей страны (да и не только своей). В перспективе
гонка вооружений, которую неустанно подталкивают
Пентагон и его союзники, непосредственно грозит
цивилизации. Еще покойный президент США Джон Кеннеди
предупреждал: «Человечество должно покончить с
гонкой вооружений, иначе гонка вооружений покончит с
человеком». А пока беспрецедентный рост военного
бюджета США, который, как предполагается, в 1981 году
достигнет астрономической суммы в 173,4 млрд.
долларов, обеспечивает баснословные барыши фирмам,
специализирующимся на создании нового вооружения. За
последние 10 лет прямые военные расходы США
составили 1 255 млрд. долларов, а военные ассигнования НАТО
достигли гигантской суммы — 1 327 млрд. долларов.
Политическое обоснование такого опасного роста не очень
сложно. «Когда военный бюджет находится на пути к
бюджетной комиссии,— заявил один из сенаторов,—
басни о грозящей советской мощи растут, как цветы весной».
Однако В. И. Ленин еще в 1919 году говорил, что те, кто
кричит о «красном милитаризме», есть просто
«политические мошенники, которые делают вид, будто бы они в
эту глупость верят...» 1.
Когда в мае 1978 года по инициативе СССР проходила
сессия ООН по разоружению, в это же время
руководители государств — членов НАТО на своей встрече в
Вашингтоне решили ежегодно увеличивать свои военпые
расходы на 3%. В Китае также изыскиваются новые
возможности для увеличения военных расходов. Ведь
ядерная программа чрезвычайно дорога, а образцы
западного оружия, которые бы хотели приобрести в Пекине, в
серийном варианте стоят многие миллиарды долларов. Мао-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 50.
196
исты хотят их иметь, еще более эксплуатируя свой народ,
торгуя своими природными богатствами, открывая двери
в свою экономику капиталу монополий. Но уже сегодня
очевидно: кривая военного бюджета в КНР неуклонно
ползет вверх. Спрашивается, откуда же исходит не
мифическая, а реальная военная угроза миру?
И сейчас, когда не снята с повестки дня ратификация
договора ОСВ-2 и сохраняются позитивные перспективы
для сдерживания гонки вооружений, в США
форсируются работы над новой многозарядной ракетой «М-Х» с
боеголовками индивидуального наведения, новой морской
ракетой «Трайдент-2», модификацией крылатых ракет.
Полным ходом идет подготовка к созданию «корпуса
быстрого реагирования» общей численностью до 100 тыс.
человек, этого мобильного жандармского соединения.
Список можно продолжать. Так кто же угрожает миру
и безопасности?
Ссылки на «военную опасность» со стороны
Советского Союза, мирового социализма представляются
абсолютно иллюзорными, если вдуматься в существующее ныне
положение вещей. Мировая социалистическая система,
достигнув большей, чем когда бы то ни было, мощи,
потеснив по многим пунктам с высот мирового влияния
империализм, вместо «расширения экспансии» (что
всегда приписывают Советскому Союзу его
империалистические и маоистские недруги) все свое влияние обратила
на «мирное наступление». Свой миролюбивый курс паша
страна подтверждает делами. Так, все последние годы
СССР не увеличивает расходов на оборону, и их доля в
государственном бюджете остается практически
неизменной. В 1977 году она составляла 7,2 процента бюджета,
в 1978 году — 7,0 процента, а в 1979 году эта доля еще
ниже. Наша страна, как неоднократно подчеркивал
Л. И. Брежнев, не ищет односторонних преимуществ. Мы
исходим из достаточности обороны и тратим па нее
ровно столько, сколько нужно.
В констатации этого принципиально важного
положения выражается не только миролюбивая сущность
социализма, его оптимистическая уверенность в том, что он и
в мирном соревновании в конце концов достигнет своих
целей, но и еще раз вскрывается полная
несостоятельность старого антикоммунистического, а теперь и
маоистского, штампа о «советской военной угрозе». Уместно
вспомнить, что 3. Бжезинский, занимавший ранее высо-
197
кий официальный пост, писал еще в 1972 году, что
стратегия и политика США всегда базировались на
утверждения необходимости сдерживания советской
военной экспансии. Наличие «советской угрозы», утверждал
ои, оправдывает все политические и военные меры
свободного мира.
Вместе с тем очевидно, что главная угроза миру
исходит от империализма, который только в этом столетии
развязал две опустошительные мировые войны, вызвал
десятки локальных войн и вооруженных конфликтов.
Сегодня вкупе с ним действуют и пекинские
социал-шовинисты, набирающие силу и вынашивающие далеко
идущие гегемонистские планы. И непосредственным
«механизмом», вызывающим войны, готовящим их, является
милитаризм. Действительность такова, что сегодня
милитаризм также органически присущ и
военно-бюрократическому режиму Пекина, как ведущее средство
реализации им своих н^лей.
Современный милитаризм — это Молох войны, сила и
власть которото в империалистическом и маоистском
мире весьма внушительны. Хотя по своему
социально-политическому и экономическому содержанию эти две
разновидности милитаризма существенно отличаются друг от
друга, их реальная заостренность одинаково опасна для
дела мира, особенно, если они будут действовать заодно.
Милитаризм сегодня является не только одним из
опаснейших материальных средств осуществления
империализмом и маоизмом военного насилия, но и является для
реакционных кругов устоявшейся формой мышления,
устойчивой мировоззренческой установкой. Современный
милитаризм неотделим от огромной, злобной социальной
лжи, утверждающей, что капиталистический Запад,
маоистский Китай ныне стоят перед лицом нарастающей
угрозы, исходящей якобы от Советского Союза, других
социалистических стран. На самом же деле,
подчеркивается в документах КПСС, никакой советской угрозы не
существует ни для Запада, ни для Востока. Все это
чудовищная ложь от начала до конца. Мы тратим на
оборону ровно столько., сколько нужно для надежной
безопасности Советского Союза, для совместной с братскими
странами защиты завоеваний социализма, для того, чтобы
у потенциальных агрессоров не появилось соблазна
попытаться силой решить спор между двумя
противоположными системами в свою пользу,
Ш
Натовские государства, наращивая топку вооружений,
одновременно способствуют раскручиванию маховика
гонки вооружений и в КНР, где, как известно, свыше
40 процентов национального дохода идет на военные
нужды. Обстановка милитаристского психоза на руку
Пекину, ибо в ее условиях он быстрее надеется получить
доступ к натовским арсеналам. Кстати, это понимают и
на Западе. В докладе американских сенаторов,
побывавших в Китае, отмечается, что, «идя на широкое
сближение с Западом, Пекин надеется модернизировать в пер-
иуго очередь свою военную промышленность и стать
подлинной сверхдержавой» 1.
В последние год-два китайские эмиссары не покидают
западных столиц: то одна, то другая высокопоставленная
делегация знакомится с военными предприятиями,
образцами новой техники, возможностями ее технологического
освоения. «Китайские чиновники и военные,— писала
западногерманская «Вельт дер арбайт»,— стремятся
закупить современное машинное электронное оборудование и
оружие, начиная с тракторов и кончая реактивными
истребителями» 2. По сообщениям западной печати,
намечаемые контракты с капиталистическими странами на
ближайшие три года оцениваются в сумму более 30 млрд.
долларов. Даже если выразить сомнение в наличии
таких средств в Китае, нельзя не видеть, что и часть этих
миллиардов способна дать новый импульс гонке
вооружений, и без того достигшей уже чрезвычайно опасного
предела.
В свою очередь руководители военных ведомств
НАТО — частые гости в Пекине. По приглашению
маоистского руководства летом 1976 года там побывал на-»
чалышк штаба вооруженных сил Франции генерал Ги
Мери, в сентябре 1977 года — «теневой министр» оборо-
пы ФРГ Мак Вернер, в мае 1978 года — начальник штаба
обороны Англии Н. Камерон, министры обороны США
и Англии Г. Браун и Ф. Пим, представители
военно-промышленных кругов Японии и ряда других буржуазных
стран. Во время такй*х встреч речь идет, естественно, не
о выражениях гостеприимства и любезностях, а о вещах
песьма прозаических. Китайская сторона предъявляет
обширные списки на оружие и технику, которые она хо-
1 Chino-american Relations. Washington, 1979, p. 16.
2 «Welt der Arbeit», 1979, 3 August
199
тела бы приобрести, а западные военные чиновники
«изучают» эти притязания, давая понять, при каких
условиях они могли бы постепенно удовлетворять их.
Непременный компонент в этих условиях — еще большая
податливость КНР в поддержке внешнеполитической
стратегии США, НАТО, Японии.
Сближение маоизма и империализма ускоряет
модернизацию китайской армии — основного инструмента
реализации экспансионистской политики пекинских
руководите;! ой. Но дело не ограничивается лишь
военно-технической помощью Запада. Как стало известпо, во время
визита Г. Брауна в Китай в январе 1980 года
была достигнута договоренность о присылке в НОАК
американских лекторов-специалистов в различных
областях военного дела «для передачи опыта и знаний
китайским офицерам». Следует ожидать в дальнейшем
расширения этой практики. Западногерманский журнал
«Шпигель» в номере от 15 мая 1979 года писал, что, «когда в
конце прошлого века высокопоставленный чиновник
императорского двора Ли Хунчжан задал вопрос Бисмарку:
имеется ли такое средство, которое снова бы привело
Китай к расцвету? — канцлер ответил: «Создайте сильную
армию. Армия единственное средство, пригодное для
этого». Видимо, этот совет, заключает автор статьи в
«Шпигеле», единственно правилен и для наших дней. Если
мы хотим иметь сильный Китай, ему нужно помочь в
этом.
Дело же обстоит так, что уже и до высказывания
подобных рецептов западные страны прилагали свою руку
к делу наращивания военных мышц пекинского
гегемона.
Другим негативным направлением, по которому
выражается влияние маоистско-империалистического альянса,
является более наглое вмешательство США, Китая,
некоторых натовских стран в дела различных народов и
государств. Если взглянуть в недавнее прошлое, то
нетрудно увидеть, что во всех кризисных положениях,
возникавших в том или ином районе планеты, Пекин всегда
стремился найти путь, способ к обострению кризиса,
открыто встать на сторону империалистических,
реакционных сил. Так было л отношении кризисов на Ближнем
Востоке, в районе Карибского моря, в Анголе, в других
районах земного шара. Сегодня Пекин и Вашингтон
координируют свои подрывные усилия против демократиче-
200
ского Афганистана, не останавливаясь перед прямым
нарушением суверенитета независимого государства.
Сейчас можно утверждать, что между Пекином и
Вашингтоном, как и некоторыми другими натовскими
государствами, сложился определенный военно-политический
механизм согласования, координации и выработки
взаимоприемлемых решений по различным международным
проблемам и кризисным ситуациям. Мир не забыл, как
после посещения Дэн Сяопином США и переговоров с
американскими руководителями вскоре последовала
агрессия против Вьетнама; как после визита Г. Брауна в
Пекин активизировались американо-китайские
подрывные действия против ДРА. Такие примеры не единичны.
Все это свидетельствует, как отмечает французская
буржуазная газета «Монд», что между Китаем и США, а
следовательно и НАТО, установились такие отношения,
которые близки к военному союзу. Наличие такого
негласного союза уже сегодня ведет к обострению
кризисных ситуаций в Юго-Восточной Азии, в Средней Азии,
в ряде районов Африки.
Третьим направлением негативного влияния нового
альянса на военно-политическую ситуацию в мире
является стремление к возрождению ряда распавшихся
военных региональных империалистических союзов и
обновлению ныне существующих. Не кто иной, как Пекин
и Вашингтон, при поддержке Лондона и ряда других
империалистических держав, выдвинули идею возрождения
военного блока АНЗЮС в Юго-Восточной Азии,
предприняли попытки придать военный характер сообществу
стран АСЕАН, сколотить блок из ряда реакционных
исламских государств. Неважно, что в ряде случаев
формальными зачинателями этих «инициатив» выступают
третьи лица и государства. При анализе истоков этих
явлений каждый раз приходишь к выводу, что исходный
импульс был дан или в Пекине, или в некоторых
западных столицах.
Тень этого, хотя и не официального, альянса
отчетливо видна и на здании НАТО. В стратегических планах
этого империалистического союза теперь откровенно
учитывается «китайский фактор». В рождаемых сценариях
и моделях возможных будущих конфликтов
проигрываются и предусматриваются различные ситуации,
связанные с участием Пекина в военпых авантюрах. «Кто
мог думать даже пять лет назад, что к 80-м годам за-
201
падные стратеги в своих планах не только не будут
изображать Китай противником, но и могут
рассчитывать на его военное содействие»,— пишет X. Хардипг в
упоминавшейся выше книге «Китай и США» 1.
Ио самым желанным для руководителей Пекина было
бы создание, как они говорят, «единого международного
фронта против социал-империализма». Навязчивая идея
создания этого глобального антисоветского фронта
накладывает отпечаток буквально на все
внешнеполитические и идеологические акции: социал-шовтгаистов из
Пекина.
Четвертым направлением негативного влияния
сближения Китая и НАТО является замораживание разрядки,
возникновение таких процессов, которые ставят под
угрозу крупные завоевания миролюбивых сил, и прежде
всего СССР и стран социалистического содружества,
связанные с реализацией знаменитой советской Программы
мира. Западные страны, вынужденные в 70-е годы пойти
на некоторые шаги в направлении разрядки
напряженности, в то же время боятся ее социальных последствий.
Дело в том, что в условиях разрядки активизируется
классовая борьба трудящихся против эксплуататоров,
создаются предпосылки для сдерживания гонки
вооружений, ускоряются темпы развития реального
социализма. Маоисты же с самого начала были против разрядки.
Хуа Гофэн, выступая перед западными
корреспондентами, однозначно сказал: «Разрядка — это ловушка социал-
империализма (так в Пекине именуют Советский Союз.—
Ред.), и мы никогда на нее не пойдем». В противовес идее
и практике разрядки пекинские руководители не
прекращают апологетику войны, ее неизбежности. Французский
сиполог Ж. Добье в книге «Новые хозяева Китая»
отмечает, что даже мысль о принятии Пекином разрядки
представляется там крамольной и оппортунистической.
Стремление стать сверхдержавой обязывает Китай решительно
отвергнуть разрядку 2.
Как видим, откровенное отвержение разрядки мао-
истами и наиболее реакционными империалистическими
кругами не только создает дополнительную сферу
«параллельных интересов», но и реально ухудшает
международное положение, возрождая многочисленные рецидивы
1 Н а г d i n g H. China and The U.S., p. 28.
2 D о u b i e r I. Les nouveaux maitres de la Chine. Paris, 1979,
p. 216.
202
«холодной войны». По существу, возникший сговор
между Пекином и НАТО свидетельствует, во-первых, о
дальнейшем повороте вправо курса маоистов, которые отныне
проводят откровенно проимпериалистическую внешнюю
политику. Возникший альянс, хоть и не по форме, зато
по существу, говорит о качественно новом сдвиге
контрреволюционного характера, знаменующем собой новый
этап эволюции: от политического заигрывания с
империализмом к жрялкшу сотрудничеству, направленному
против дела мира и социализма.
Во-вторых, этот этап знаменует собой одновременно
все большее включение Китая в сферу влияния
империализма я усиление зависимости от него. В происходящем
сближении Вашингтон со своими союзниками занимает
доминирующее положение, позволяющее натовцам играть
ведущую р>оль при согласовании, координировании
военно-политических шагов и при организации
сотрудничества в конкретных областях. Здесь, в частности, заложен
один из элементов дополнительных противоречий,
которые могут с большой силой проявиться в будущем.
Сказанное позволяет сделать общий вывод о том, что
формируемый альянс, в котором у обеих сторон при
наличии своих, сугубо националистических, гегемонистских
целей главные козыри — антисоветизм, исключительно
опасен дая дела мира. Пристальное изучение процессов,
происходящих в конгломерате политических,
экономических, военно-технических связей между Пекином и
НАТО, представляется важной задачей, решение которой
подчинен» главному: обеспечению высокой боевой
готовности Советских Вооруженных Сил перед лицом
нового вызова.
Гл ава шестая
ИСТОРИЧЕСКАЯ БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
МАОИЗМА
Маоизм, как идеологическая и политическая
доктрина, существует около полувека. Был длительный
период, когда он не господствовал в общественной и
политической жизни Китая. Но затем, когда в КПК
возобладали националистические силы, маоизм стал чем-то
вроде официальной религии и государственных
политических канонов, на которых основывалась и в
значительной мере основывается и сейчас внутренняя и внешняя
политика КНР. Но маоизм не принес китайскому народу
пи счастья, ни процветания, ни мира, ни ясных
перспектив.
Все попытки различных политических группировок в
других странах взять на вооружение маоизм с
неизбежностью приводили их к краху, провалам, крупным
неудачам. Но этого мало. Маоизм опасен. Идеология,
политика, конкретные действия руководства Пекина все
сильнее разоблачают сами себя в глазах прогрессивных
сил мира. Все больше и больше людей воочию
убеждаются, что идеологические и политические рецепты
Пекина — антинародны, контрреволюционны по своему
существу, чреваты глубокой опасностью для судеб мира,
демократии и социализма.
Пекинские идеологи и политики лю-
Вольная тень gHT утверждать, что маоизм - - это
социализма J г '
вершина социализма, что в маоизме
выражено высшее достижение марксизма-ленинизма. Что
это не так, убедились миллионы людей уже давно. Как
отметил Гэс Холл в своей речи 30 марта 1979 года в
Нью-Йорке, «абсолютно ясно, что сегодняшние
маоистские руководители — это не марксисты-ленинцы. Они
осуществляют политику, которая направлена против
трудящихся. На мировой арене они проводят
антисоциалистическую, проимпериалистическую политику, политику,
204
направленную против социального освобождения».
Известно, что К. Маркс и Ф. Энгельс в «Коммунистическом
манифесте» предвидели возможность извращения
социализма в различных направлениях. В этой связи они
использовали понятия «феодальный социализм»,
«мелкобуржуазный», «буржуазный», «критически-утопический».
Если исходить из этой классификации извращений
подлинного социализма, то сегодняшний Китай больше
походит на страну с «мелкобуржуазным социализмом»,
страну, где руководители сознательно предали забвению
великие революционные идеалы научного социализма.
В Китае и сегодня много говорят о диктатуре
пролетариата, классовой борьбе, социалистическом
строительстве и т. д. Однако, как правило, смысл в эти
понятия вкладывается маоистами совсем другой. Лишь незпа-
чительный период (до и после VIII съезда КПК, до
1959 года) КНР представляла собой страну, истинно
строящую основы социализма. В начале 60-х годов
начались деформации различных элементов социальной
структуры, а затем и всего общества. Несмотря на
господство государственной и кооперативной собственности
(что сегодня встречается и в странах с
несоциалистическим строем), Китай ныне больше походит на страпу
глубоко деформированного социализма. Как известно,
базис включает в себя кроме производственных
отношений отношения обмена, распределения, потребления. Да,
они в определенной степени в КНР остаются
социалистическими, то есть в Китае нет эксплуатации одних
классов другими, а в обществе господствуют государственная
и кооперативная собственность. И тем не менее они
сильно деформированы, извращены, чему в огромной
степени способствует перерождение надстройки общества,
которая реализует, если так можпо сказать, потенции
базиса в антисоциалистических целях,
военно-диктаторским путем. Диктатура пролетариата, превратившись в
военно-бюрократический режим правящей верхушки, до
неузнаваемости изменила саму сущность строя, который
начал создаваться после 1949 года.
Надстроечные формы (политические институты,
идеология, армия, общественные организации) в значительной
мере утратили народный характер. Утвердившийся
режим военно-бюрократической диктатуры закрепил свой
отход от научного социализма целым рядом внутренних
экспериментов: «большого скачка», «коммун», «великой
205
пролетарской культурной революции» и т. д. А во
внешней политике — изменой делу социализма,
противоборством с революционными движениями нашего времени.
Бесконечная борьба на верху пекинской пирамиды
власти в течение последних двадцати лет подается
общественному мнению как борьба за чистоту марксизма,
за пролетарские интересы. Однако в действительности
это борьба различных фракций и группировок,
бесчисленные схватки нескольких миллионов «ганьбу» —
политической элиты, реально осуществляющих власть в
государстве в делом, в армии и в провинциях. Положение
«ганьбу» заметно отличается от положения простых
тружеников. Французский социолог Ж. Добье в книге
«Новые хозяева Китая» пиниет, что «равенство в
китайском обществе — миф. Существует сложная социальная
иерархия граждан, труд и условия которых реако
отличны. Только «ганьбу» более или менее имеют
человеческие условия жизни» *. Они манипулируют сотнями
миллионов простых китайцев, которые продолжают жить
едва ли лучше, чем до 1949 года. Более половины
населения полностью неграмотна и поглощена жестокой
борьбой за существование. Многочисленные политические
кампании, осуществляемые в Китае, воспринимаются
ими лишь с позиций выживания, борьбы за чашку риса.
В основе экономической политики нынешнего
руководства КНР лежит стремление максимально быстро
милитаризовать страну, развить именно те области народного
хозяйства, которые обслуживают военные нужды. Таким
образом, один из важнейших законов социализма —
развитие производства в целях всестороннего
удовлетворения материальных и культурных потребностей
игнорируется. Требования основного экономического закона
социализма полностью нарушаются2. В этом проявляется
не только бесспорный факт деформации экономического
базиса общества, но и грубое искажение
социально-политических целей, которые обычно стоят перед
социалистическим обществом: все для человека, все во имя
человека.
Маоиеты никогда искренне не стремились к
просвещению народа, развитию его подлинного политического
1 Doubier I. Les nouveaux maitres de la Chine. Paris, 1979,
p. 21.
2 См.: Маоизм без Мао. М., 1979., с. 68.
206
сознания. А неграмотный человек, указывал в свое время
В. И. Ленин, стоит вне политики. Пекинским
руководителям это выгодно: неграмотными, забитыми массами
легче манипулировать, управлять, их легче
дезинформировать. Маоистский режим практически ничего не дал
простому китайцу. А главное — он, этот простой китаец,
принимает участие в управлении делами государства не
намного больше, чем и при мандаринах. Никакого
подлинного народовластия в Китае нет. Выдвигаемые сверху
депутаты провинциальных и государственных органов —
жалкая карикатура на подлинную демократию.
Рабочий класс, который был всегда малочисленным в
Китае, по существу, отодвинут от реального участия в
управлении. Реальная власть принадлежит маоистской
бюрократии, осуществляющей режим военной диктатуры.
Она, эта бюрократия, на маоистский лад изменила
принципы социалистической демократии, отстранив тем самым
собственный народ от управления делами государства.
Вместе с тем эта политическая бюрократия режима
насадила жестокие административные диктаторские
методы правления. Систематические политические чистки.
травля прогрессивных элементов, клановая групповщина,
особое место репрессивного аппарата, закрытый характер
принимаемых решений — все это характеризует
сегодняшний антинародный режим маоистов, которые по-
прежнему называют его социалистическим.
После смерти Мао режим претерпевает изменения.
Однако эти изменения не ведут к усилению
социалистического начала. Просто осуществляется приспособление
надстроечных элементов и некоторых элементов
базисного характера к потребностям экстремистского социал-
шовинистического курса маоистского руководства.
Перестройка ряда сфер социальной, экономической и
военной деятельности вошла в противоречие с
некоторыми постулатами маоизма. Но он не был отброшен, а
лишь слегка скорректирован, подправлен исходя из
нужд сегодняшнего дня и поставленных целей.
Ослаблено культовое почитание Мао; на маоизм уже не смотрят
как на религию, однако в остальном маоизм полностью
устраивает сегодняшних пекинских руководителей.
Устраивает экстремизмом, агрессивностью, шовинизмом,
антисоветизмом, контрреволюционностью. Более того,
многие тезисы Мао сегодпя прямо объясняются в духе
необходимости смыкания с империализмом. Маоизм
207
сегодня трактуется как средство, способное политически
и идеологически обеспечить наращивание военной мощи
Китая.
Во внутренней политике перемены, которые
произошли, также целиком подчинены милитаристским,
экспансионистским целям. И социалистическая,
марксистская фразеология, используемая маоистами, не отражает
реального положения дел. О политике, теории, идеологии
надо судить не по вывеске, не по словам, а по делам,
социальной практике, конкретным действиям. Именно эти
действия позволяют назвать положения, принципы,
лежащие в основе конкретных позиций руководителей
Пекина, в основе принятия ими идейно-политических и
военных решений по текущим и перспективным
вопросам.
Одним из таких положений является беспринципное
лавирование в нужный для маоистских руководителей
момент между классами, социальными и общественными
группами. В зависимости от обстоятельств, как показы-
нает действительность Китая, осуществляется опора то
на военных, то на незрелую часть молодежи, то на
крестьянство. Марксистские принципы союза рабочего класса
и крестьянства, дружбы народов в пекинском
идеологическом словаре ныне упоминаются все реже. Маоистская
рецептура предусматривает дифференциацию опоры на
различные силы и в самой армии: то на старые кадры,
то на рядовой состав или другие группы, исходя из
конкретной ситуации. Лавирование выражается и в том, что
само понятие «пролетариат», «рабочий класс» у маоистов
трактуется произвольно.
Колебание социальной среды и лавирование
наследников Мао определяются в значительной степени
сильным влиянием мелкобуржуазной части населения,
удельный вес которой весьма высок. А мелкая буржуазия, по
словам В. И. Ленина, «шатается и колеблется, сегодня
идет за пролетариатом, завтра пугается трудпостей...
нервничает, мечется, хныкает, перебегает из лагеря в
лагерь...» 1. Сама антимарксистская политика Пекина
внутри страны со своей непоследовательностью,
склонностью к авантюристическим экспериментам и частым
колебаниям политического барометра поддерживает
неустойчивость мелкобуржуазных элемептов. Еще несколько
1 Ленин В. И. Пол11. собр. соч., т. 37, с. 264.
208
лет назад представители «четверки», или, как их теперь
называют, «банды четырех», выдавались за эталон
настоящих революционеров, а сегодня они, оказывается,
повинны во всех провалах и упущениях. Несколько лет
пекинская пропаганда превозносила «культурную
революцию», а сегодня фактически осуждает ее, ибо очень
уж очевидны социальные, культурные и экономические
издержки этой политической кампании борьбы за власть.
Непрерывное лавирование между различными
социальными силами способствует появлению
«антипартийных» группировок, линий, позиций. Простой китаец едва
ли в состоянии ориентироваться в этом калейдоскопе
«курсов», «лозунгов», он пытается лишь приспособиться
к новым воззваниям Пекина, не желая попасть под удар
репрессивного аппарата.
Другим принципом фактических действий в теории и
практике пекинских руководителей является их
безудержная политическая и социальная демагогия. В ней
с обнажающей откровенностью выражеп полный разрыв
слов и дела, теории и практики. На словах маоисты
выступают чуть ли не за всеобщий мир, однако в
действительности встречают в штыки любую мирную
инициативу социалистических стран. Китайские лидеры давно
уже рядятся в тогу «защитников»
национально-освободительных движений, однако, когда события в Анголе или
Эфиопии потребовали не слов, а дела, маоисты встали на
сторону врагов, душителей национально-освободительного
движения. Трескучие «революционные» фразы и
контрреволюционные дела все более раскрывают
демагогический характер заявлений китайских руководителей.
Демагогия как способ достижения целей путем
привлечения на свою сторону масс лживыми лозунгами,
обещаниями, «революционной» фразой стала одним из
постоянных орудий Пекина как во внутренней, так и во
внешней политике. На словах выступая против
империализма, гнета трудящихся, всевластия монополий в
капиталистических странах, Пекин одновременно аплодирует
увеличению воепного бюджета США, одобряет меры по
укреплению НАТО, ЕЭС, сохранению военного
присутствия американцев в Азии. Там твердят, что
«озабоченность» судьбами Западной Европы, которой якобы
угрожает «агрессия Советского Союза», вынуждает их
одобрить планы вооружения НАТО нейтронным оружием.
14 Зак. 512
209
Для пекинских руководителей стало выражением
политического стиля, когда они сегодня решительно
отбрасывают то, чему молились вчера. Сиюминутная выгода,
социальная и политическая конъюнктура определяют
конкретные шаги маоистской верхушки. Радикализм слов и
контрреволюция действия — такова действительная
изнанка многих внутриполитических и
внешнеполитических акций последователей Мао. Немного примеров в
истории можно привести со столь неприкрытой,
вызывающей демагогией.
Для пекинских идеологов и политиков, таким обра-<
зом, характерны беспринципный прагматизм,
неразборчивость в средствах, являющих собою образец
современного макиавеллизма. Конкретные конъюнктурные
соображения нередко «заставляют» пекинских
руководителей спокойно перешагнуть через принципы, положения,
лозунги, только что ими провозглашенные. Прагматизм
в идеологии и политике приводит их к прямому
блокированию с откровенно реакционными режимами,
контрреволюционными деятелями, оппортунистическими
ренегатами.
Давно стало нормой, что для достижения своих
неправых целей маоисты используют и «неправые
средства»: дезинформацию, ложь, клевету, фальсификацию.
Так, на страницах своих газет и журналов, а также
многочисленных брошюр, бюллетеней, распространяемых во
многих столицах мира, пекинские идеологи и политики
систехматически приводят множество «фактов»,
«свидетельств» о «вмешательстве» СССР в дела стран Африки,
«шпионаже» против Китая, «военных приготовлениях»
Советского Союза и т. д. Ложь столь очевидна,
откровенна, прямолинейна, что часто приводит в замешательство
даже отпетых антисоветчиков. Вот лишь несколько
заголовков пекинского бюллетеня, распространенного в
феврале 1979 года в ряде западных стран: «Советский
Союз ни на минуту не отказывается от мысли
поработить Китай»; «Советский Союз создает видимость па
Востоке, чтобы нанести удар на Западе»; «Северный
медведь готовится поглотить Западную Европу» и др.
Давно известна истина: политические силы, увереп-
ные в своей исторической правоте, не нуждаются в
клевете и лжи. Правда идей, подтвержденных
действительностью,— огромная сила. Но такой правды нет у
нынешнего пекинского руководства. Нет и не будет, пока Ки-
210
тай не вернется на путь, начатый им после победы
народной революции в 1949 году.
Маоистская модель социализма — социализм без
подлинной демократии, без благосостояния, без гуманизма,
без социальной справедливости. Это не что иное, как,
перефразируя слова Карла Маркса, «больная тень
настоящего социализма». Возможность возникновения такой
модели общества, в котором на основе социальной
мимикрии создается видимость социалистического, предвидел
еще В. И. Ленин. Говоря о способах и методах
подлаживания под марксизм его противников, он отмечал:
«Домарксистский социализм разбит. Он продолжает борьбу
уже не на своей самостоятельной почве, а на общей
почве марксизма, как ревизионизм» *. Ленинское
положение позволяет видеть, как маоизм спекулирует на
марксизме, рядится в его одежды, прибегает к его
фразеологии, будучи в сущности мелкобуржуазным течением.
Свою «модель социализма» маоисты пастойчиво
навязывают другим народам, более того — пытались в одной
из стран, Кампучии, осуществить на практике. Для
человека, желающего понять и осмыслить существо
маоизма, небесполезно знать суть и последствия этого
чудовищного эксперимента.
После победы кампучийского народа в 1975 году над
американскими агрессорами и их марионетками Пекин
навязал кхмерскому народу преступную клику Пол
Пота — Иенг Сари. Действуя в полном соответствии с
директивами китайских властей, клика принялась насаждать
в стране «казарменный коммунизм» со всеми атрибутами
пресловутой «культурной революции»: жестокостью,
насилием, расправой со всеми, кто мыслит иначе. Уже
через несколько дней после победы над американскими
агрессорами клика форсированно стала реализовывать
маоистский план построения «нового общества».
Французский журналист Ж. Лекутюр в своей книге
«Пусть выживет кампучийский народ» свидетельствует
как очевидец. «Бесклассовое общество,—пишет
он,—создавалось путем уничтожения миллионов человек, полной
перестройкой страны на казарменный лад. Была
запрещена коммерческая деятельность, были закрыты двери
всех учебных заведений, «отменены» почта, телеграф. Все
уцелевшие сгонялись в производственные бригады по ки-
1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 19.
14*
211
тайскому образцу. «Новое» общество создавалось па
костях соплеменников, которые гибли тысячами. Нация
оказалась на краю гибели — такова цена этого
социального эксперимента» *.
Под предлогом «чистки общества» подручные Пол
Пота в течение нескольких дней выселили три с
половиной миллиона жителей из Пномпеня и других городов
в деревни, джунгли, болота. Эти люди не были готовы к
подобной депортации, они гибли тысячами. Под
предлогом осуществления «радикальной и полной социальной
революции» миллионы людей загнали в так называемые
кооперативы по образцу народных коммун Китая. В этих
резервациях режим работы и повседневной жизни был
установлен предельно жестоким. Верхушка такого
«кооператива», где фактически вершили все дела китайские
советники, неуклонно проводила политику геноцида. Те,
кто «недостаточно хорошо работал», жаловался или болел,
приговаривались к одному-единственному наказанию —
смерти. Расправа была короткой: удар по голове
мотыгой или молотком перед шеренгами оцепеневших от
ужаса «коммунаров». Народ таял, смерть витала над
каждым простым человеком. За четыре года бесчинств клика
и ее китайские вдохновители уничтожили более трех
миллионов людей, более трети всей нации. Как пишет
Уилфред Бэрчетт в журнале «Африк — Ази» в номерах
от 11 и 25 июня 1979 года, «более трети населения было
истреблено, в том числе по крайней мере три четверти
всех взрослых мужчин и практически все кампучийцы
со средним или высшим образованием». В истории
трудно найти подобные аналогии жестокости, кроме
фашизма.
По мысли Пол Пота, внушенной ему маоистскими
идеологами, в Кампучии нужно было оставить лишь
«около одного миллиона» жителей, чтобы создать
«совершенное общество с лучезарным будущим». А на
освободившихся землях намеревались расселить несколько
миллионов китайцев, а затем колонизовать и всю Кампучию.
Чудовищность подобных замыслов и реальных шагов мао-
истов и их кампучийских квислингов беспрецедентна.
Но и это не все. Пекинские теоретики и политики
одобрили план «полного социального переустройства нового
'Lakonture J. Survive le Peple Combodgien. Paris, 1979,
p. 110.
212
общества». Как говорил Рох Саман — Генеральный
секретарь ЦК Единого фронта национального спасения
Кампучии, «власти отменили все: не было больше денег и
торговли, не было больше религии и свободы веры.
Молодым людям запрещалось свободно выбирать друг друга
по любви. Разлучались семьи, попирались все добрые
нравы и обычаи страны. Народ был обречен на
медленную смерть». Создание «нового общества»
сопровождалось невиданным вандализмом: разрушались фабрики,
мосты, железные дороги, пагоды, памятники культуры,
библиотеки. Были разрушены школы, уничтожены
больницы, типографии, почта. Китайская модель «нового
общества» в конечном счете предстала в страшном обличий.
Страна оказалась с разрушенной социальной структурой,
лишенной средств производства, транспорта, средств
связи, культурных институтов. Таков маоизм на практике.
Такое будущее он готовит для тех народов, где будут
осуществляться идеи маоизма.
II лишь победа 7 января 1979 года Единого фронта
национального спасения Кампучии спасла народ от
полного уничтожения. Преступным экспериментам маоистов
был положен конец. Но пройдут годы, прежде чем с
помощью дружественных стран Кампучия сможет встать на
ноги, оправиться от страшных кошмаров маоистского ада.
Хотя и сейчас Пекин делает все для того, чтобы
подорвать изнутри новый режим, осложнить его
международное положение. Поддержка полпотовских банд, диверсии,
террор, шантаж, истошная пропаганда в защиту
фашистской клики не могут, конечно, не затруднять процесс
возрождения из руин -многострадальной Кампучии.
Таковы рецепты, таковы шаги, реальные свершения
маоизма, которые он именует «подлинным социализмом».
Не нужно быть теоретиком, большим специалистом, что-.
бы увидеть: здесь нет ни грана социализма, ни грана
марксизма, ни грана демократии. Создавая па словах,
средствами пропаганды социалистический мираж, мао-
исты под его покровом превращают людей в роботов.
Маоизм не просто теоретически и практически бесплоден,он
смертельно опасен и для китайского, и для всех других
народов. В нем нет ничего позитивного. Он нужен
только пекинской верхушке, так как именно такая
идеология и политика позволяют ей надеяться на достижение
своих гегемонистских, глобальных целей — создание
«новой, блестящей цивилизации». Однако все это не имеет
213
никакого отношения к социализму, к прогрессу,
элементарной человечности.
т> .. * Продолжая прибегать к революцн-
маоизма онной фразеологии, фактически мао-
революционному и исты полностью перешли на позиции
национально- империализма и в отношении наино-
освободителыюму нально-освободительного движения.
движению -гх ^ о
Пекинские руководители действуют
заодно с неоколонизаторскими силами, пытаются
изолировать прогрессивные движения от их естественных
союзников, стремятся усилить свое воздействие на
стратегию и содержание революционных выступлений. Мао-
исты всячески поддерживают националистические,
расистские и трайбалистские настроения в развивающихся
странах, делают все для того, чтобы усилить в них свое
влияние.
События последних двух десятилетий показали, что
во всех случаях, когда какое-либо
национально-освободительное движение нуждалось в помощи, поддержке,
Пекин не только отворачивался от революционных сил, но
и оказывался на стороне реакции, контрреволюции,
неоколониализма, империализма.
Так было в Чили, где маоисты оказали поддержку не
народным силам, а хунте Пиночета; так было во время
освободительной борьбы в Анголе, где Пекин оказался в
одних окопах с империалистическими наемниками; так
происходило и в Иране, где в разгар народных
выступлений состоялся визит Хуа Гофэна к шаху с явной
целью оказать поддержку режиму. Сегодня Пекин уже
мало смущает, что о нем подумают или скажут в том или
ином отряде мирового революционного движения, а
больше волнует вопрос, как на это среагируют на Западе, в
НАТО, в столицах капиталистических стран.
Оказавшись в одном стане с контрреволюционными
силами, Пекин прилагает значительные усилия по
фактической координации действий с США, другими
империалистическими державами в деле ослабления и
подрыва революционных выступлений, национальнс1-освободи-
тельного движения. Достаточно привести несколько
фактов, чтобы убедиться в этом.
При яшзни Насера Пекин не оказывал Египту
военной помощи, но стоило Садату изменить делу арабов, как
Пекин стал в отношении Каира фактически проводить ту
же политику, что и США. Он не только поставляет ки-
214
тайское оружие в Египет, но и поощряет Садата,
перешедшего по указке Вашингтона на рельсы борьбы с
прогрессивными режимами на Ближнем Востоке и в
Африке. Американские политики не скрывают своего
удовлетворения таким «реализмом» Пекина.
Аналогичная картина поведения маоистов и в
отношении Сомали. Пока эта страна двигалась по пути
прогрессивного развития, ни Запад, ни Пекин не изъявляли
ни малейшего желания оказать помощь этому режиму. Но
как только в стране возобладали националистические
настроения и экспансионистские планы, в Могадишо
потянулись китайские эмиссары. Когда же сомалийские
войска вторглись в Эфиопию, Китай открыто встал на
сторону агрессора и организовал поставки военной техники
режиму Спада Барре. «В тот период, когда сомалийские
войска захватили часть нашей территории,— говорил в
ноябре 1978 года М. X. Мариам,— Китай был одним из
тринадцати государств, которые прямо и обходными
путями поставляли Сомали оруяше и боеприпасы». А саму
агрессию против Эфиопии со стороны сомалийских войск
Пекин назвал борьбой за «отстаивание национального
достоинства и государственного суверенитета».
Подобную контрреволюционную позицию Пекин
занимал и во время известных событий в 1977 и 1978 годах
в заирской провинции Шаба. Как во время первого, так
и во время второго восстания жителей провинции против
проимпериалистического режима Пекин был на стороне
Запада. Прямое вмешательство стран -- членов НАТО в
события в Заире было осуществлено не без учета мнения
Пекина. Именно тогда министр иностранных дел КНР
Хуан Хуа срочно вылетел в Киншасу, предварительно
повстречавшись с американскими политическими деятелями
в Вашингтоне. Пекин доставил режиму Киншасы
«десятки тонн засекреченных военных грузов». Комментируя
столь срочное посещение Хуан Хуа Заира, японская
газета «Акахата» 5 июня 1978 года не без оснований
указывала, что в «данном случае речь идет о согласованных
совместных действиях Китая и США».
Подобные факты не исключение, а правило в
политике Пекина. Он давно уже не только отошел от
поддержки революционных выступлений угнетенных народов, но
и стал жандармом на пути их свободы, фактическим
подручным империализма в подавлении
национально-освободительных движений.
215
В долгосрочную стратегию Пекина входит также и
его стремление склонить на свою сторону политические
организации рабочего класса как развитых
капиталистических стран, так и государств «третьего мира». Для этой
цели маоистское руководство еще в начале 60-х годов
стало создавать во многих странах различные маоистские
группировки, обычно именующие себя «истинными
марксистско-ленинскими партиями».
Этот шаг в Пекине сделали после того, как убедились,
что коммунистические партии в своем подавляющем
большинстве не только не поддержали авантюристический,
гегемонистский курс маоизма, но и выступили против
него. Потеряв надежду занять роль лидера в
коммунистическом движении, Пекин решил создать движение
«параллельное», а фактически — сугубо враждебное
марксизму. Перед группировками маоистов ставилась цель не
столько борьбы с империалистическими порядками в
капиталистических странах, сколько борьбы с
прогрессивными силами в этих государствах. Маоисты намеревались
таким путем не только усилить влияние Пекина в
рабочем, молодежном, профсоюзном движениях, но и
повлиять на государственные позиции ряда стран.
Хотя в 60-е годы маоистские группы и фракции
возникли в нескольких десятках стран, их политическое
лицо, лицо предателей интересов трудящихся, угнетенных
народов, стало вскоре всем отчетливо видно. Несмотря на
трескучий набор псевдореволюционных фраз и лозунгов,
маоисты всегда оказывались по одну сторону баррикад с
угнетателями. Маоистские руководители, щедро
субсидировавшие эти «истинные марксистско-ленинские партии»,
ставили перед ними и еще одну цель: расколоть,
разобщить на мелкие фракции коммунистические и рабочие
организации, увести их в социальные и идейные тупики,
разоружить духовно перед лицом классового врага. С
самого начала пекинские лидеры избрали тактику
дифференцированного подхода к различным рабочим и
коммунистическим партиям, стараясь привлечь некоторые из
них на свою сторону. В другом случае маоисты
добивались (если нельзя было сделать большего), чтобы те или
иные прогрессивные организации занимали нейтральную,
терпимую по отношению к пропекинским группировкам
позицию. При этом руководители этих сектантских
группок кричали и кричат, что принципиальные разногласия
у них существуют только с КПСС, пытаясь ввести в за-
216
блуждение рядовых членов организаций тех или imi»
коммунистических партий *.
В качестве социальной базы этих малочисленных, м
крикливых группировок маоисты избрали мелкобуржуа
ные элементы, националистов, а то и откровенных рае
стов. Особенно неразборчивы маоисты в вербовке cboi
рекрутов в районах национально-освободительных движ,
ний. Именно здесь, говоря словами В. И. Ленина, «особе'
но часто появляются люди, группы, течения, отличающп
ся тем противоречивым, нетвердым, колеблющимся отп /
шением к социализму (то «пылкая любовь», то подлая \s
мена), которое свойственно всякой мелкой буржуазии»
Именно на нее делали и делают ставку в Пекине, созд
вая свои подрывные отряды в различных странах.
В качестве руководителей этих «партий», как праи/
ло, выдвигались и выдвигаются различные ренегаты, о\ t
щепенцы, перебежчики, изгнанные в разное время
компартий, профсоюзов, прогрессивных организаций f
свой оппортунизм, продажность, беспринципность. С м
мента создания эти группировки (и особенно лидеры и
получают материальную и моральную поддержку из 11
кина, а с нею вместе нередко и инструкции, идеи, ti'
ретические концепции. А они, эти идеи, не очень орш
нальны и богаты. Суть их сводится к следующему.
Прежде всего для успеха маоизма в глобальном м<,
штабе необходима непрерывная борьба с реальным соцн|
лизмом — естественным союзником развивающихся стр.
Для этого, поучают в Пекине, хороши все средства: л он
фальсификация, шантаж, террор. Другим элементом ндс
логического арсенала маоистов в странах капиталист*!'
ского мира и развивающихся странах является аполог
тика политики и теории правящих кругов Пекина. 1
случайно все иропекинские группировки до сих пор nj .
пагандируют насквозь фальшивые теории «трех миро/
«реакционности социал-империализма» и т. д. Пекинск
лидеры чрезвычайно заинтересованы, чтобы маоистск
группировки сколачивали своих единомышленников bi(
циоиальном масштабе, координировали свои усилия
фракциями в других странах, активно откликались на г
политические акции пекинского руководства.
1 См.: Поспелов Б. В. Маоизм и мировое революциош'
движение. М., 1979, с. 103.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 306.
;2
Однако с начала 70-х годов в деятельности
маоистских группировок стал рельефно просматриваться
кризис: организационный, идейный, теоретический. Это
выражается в самороспуске некоторых фракций, усилении
междоусобной борьбы, полной теоретической путанице, а
главное — в исторической бесплодности и
бесперспективности. Некоторые группировки окончательно подорвали
свое (и так незначительное) влияние сотрудничеством с
реакцией, переходом на рельсы терроризма. Отдельные
члены этих группировок, прозрев, отошли от догматов
Пекина, сопровождая свой отход разоблачениями, критикой,
обличениями маоизма. Так, группа бывших маоистов в
Перу в газете «Унидад» (10 марта 1978 года) подвергла
уничтожающей критике теорию и практику Пекина, его
антинародные, антидемократические действия,
подстрекательский, милитаристский курс маоистов.
Главной причиной кризиса маоистских группировок,
этого табуна троянских коней в революционном
движении, является переход Пекина на позиции союза с
империализмом, оголтелого антисоветизма и провопирования
мировой войны. Ряд деятелей пекинских группировок в
ФРГ, Италии, Франции, Австрии, Нидерландах,
Сальвадоре, Боливии и других странах осудили предательство
маоизмом национально-освободительного движения,
революционных выступлений пролетариата. В последние годы
произошли расколы в так называемых
«марксистско-ленинских партиях» Великобритании, Франции, Италии.
Перу, Швеции, Шри Ланки, Испании, Португалии и
многих других, ибо все труднее становится оправдывать
измену Пекина революционному делу. Разрыв между
Пекином и Тираной еще более углубил кризис зарубежных
маоистских группировок и организаций.
Кризис международного маоизма резко усилился
после агрессии КНР против Вьетнама, новых шагов,
направленных на сближение Китая с мировым
империализмом. «Невозможно оставаться честным,— заявил Гэс
Холл,— и отстаивать маоизм, когда нет пи одного
примера выступления маоистов против империализма, за
национальное освобождение, за социализм и за рабочий
класс». И пусть маоизм продолжает напяливать на себя
личину защитника угнетенных и обездоленпых. Этот
камуфляж не поможет. Факты свидетельствуют о том, что
Пекин стал союзником империализма в его борьбе со
всеми прогрессивными движениями современности.
218
c „ ,„лл и» Едва ли можно найти человека, ко-
Будущее Китая .. ^ -
торыи был бы равнодушным к
вопросу: куда пойдет Китай? Внесет ли он когда-нибудь свой
вклад в дело упрочения мира и безопасности народов?
Откажется ли от своей пагубной политики обострения
международной напряженности и провоцирования новой
мировой войны? Или необузданный гегемонизм
руководителей Пекина будет толкать его и дальше, к той черте, за
которой один шаг — к мировой катастрофе? Ответы на эти
вопросы не могут оставить безучастным любого человека,
независимо от того, где он живет: . в социалистической,
капиталистической стране или стране развивающейся.
Сегодня уже недостаточно оценивать старыми критериями
последствия возможной мировой войны. Если она
возникнет, в ее смертельный водоворот будут втянуты все
страны и континенты. И пока маоистская военная опасность
не разрослась до огромных размеров, все, кому дорог мир,
должны противодействовать милитаристскому курсу иод*
'жигателей из Пекина. Ныне это представляется одной из
общечеловеческих задач на священном поприще
сохранения мира на нашей планете - главного условия
общественного прогресса.
Победа народной революции в Китае была воспринята
всеми прогрессивными силами как событие огромной ис-
торической важности. Советский Союз, оказавший
китайскому народу в ходе его освободительной революционной
борьбы всемерную помощь, сделал очень многое для
того, чтобы Китай пошел по социалистическому пути, в
соответствии с чаяниями огромных масс этой страны. Как
уже говорилось выше, 14 февраля 1950 года между двумя
странами был подписан Договор о дружбе, союзе и
взаимной помощи сроком на 30 лет с возможным
продлением. Советский Союз обязался оказывать помощь в
самых различных сферах развития народного хозяйства
республики. КНР получила сразу же крупный льготный
кредит для оплаты поставок оборудования из СССР.
Безвозмездно передавалось оборудование и имущество.
Были созданы на паритетных началах несколько
смешанных обществ, способствовавших развитию в КНР
авиатранспорта, геологических работ и т. д. Китаю было
передано огромное количество оборудования,
технологической документации для создания народных предприятий.
В КНР были направлены многочисленные группы
советских специалистов. Успешно развивались связи молодой
219
республики и с другими социалистическими странами.
Китай признали многие развивающиеся государства. Мощь
Советского Союза создавала надежную гарантию от
империалистических поползновений агрессивных кругов США,
которые продолжали поддерживать режим Чан Кайши.
Все шло к тому, что Китайская Народная Республика
занимала все более прочное место в братском сообществе
социалистических и прогрессивных государств.
Победоносная революция в Китае явилась важным фактором
нарастания мирового революционного процесса. Она дала
новый мощный толчок национально-освободительным
движениям, открыла широкие перспективы развития для
самого китайского народа. Совещание представителей
коммунистических и рабочих партий 1960 года подчеркнуло,
что китайская революция «в огромной степени
способствовала изменению соотношения мировых сил в пользу
социализма, оказала огромное влияние на народы,
особенно на народы Азии, Африки и Латинской Америки».
Однако с тех пор положение коренным образом
изменилось. Маоисты предали дело китайской революции,
покинули лагерь борцов за социальный прогресс.
Национализм китайского руководства привел их в стан врагов
всего передового. Исповедуя традиционный китаецент-
ризм, Пекин простирает свои амбициозные планы навесь
мир.
Учитывая современный баланс сил, существующие
тенденции общественного развития в мире, и в частности
в Китае, опираясь на знание характера проявления
объективных законов общественного прогресса, действия
основного противоречия эпохи, можно сказать, что у
китайского народа ныне имеется несколько возможностей
дальнейшего движения в будущее.
Одна из этих возможностей социалистическая, она
заключается в том, что маоизм, как идеология и политика,
не может обеспечить реализацию глубинных, коренных
классовых интересов трудящихся и рано или поздно в
Китае в общественном сознании нации возобладает
понимание пагубности нынешнего курса, стремление вернуться
к пути, в частности, определенному VIII съездом КЦК.
Разумеется, эта возможность ныне выглядит не очень
вероятной, однако нельзя забывать, что все реакционные
режимы, идеологии, политические доктрины, как
свидетельствует опыт истории, в конечном счете уходили со
сцены действительности. Для того чтобы Китай мргвер-
220
нуться па социалистический'путь, необходимо решить
основное глубокое противоречие, существующее в КНР,
между всей проводимой маоистскими руководителями
политикой и жизненными потребностями, материальными и
духовными интересами многомиллионных масс страны.
В этом реально существующем противоречии
сфокусировано основное препятствие, стоящее перед китайским
народом на пути социалистического развития. Чтобы
преодолеть этот социально-политический барьер, выдвинутый
шовинистическим руководством Пекина, необходимо
порвать с маоизмом и, как говорилось на XXV съезде КПСС,
возвратиться к политике, действительно основанной на
марксизме-ленинизме, отказаться от вражды к
социализму, стать на путь дружбы и сотрудничества с миром
социализма. Сегодня, однако, пока нет достаточных
объективных и субъективных условий достижения соответствия
глубинных интересов многомиллионных масс Китая
проводимой его руководителями внутренней и внешней
политике. А это такое противоречие, которое будет
постоянно напоминать о себе нестабильностью,
социальными конфликтами, перманентным недовольством
трудящихся.
Выход из этого социального тупика, в который завели
Китай маоистские доктринеры, возможен только на путях
отказа от гегемонии, милитаризма, поджигательской
политики. В Китае сохранились элементы социализма в
базисной сфере, у народа существует реальная,
объективная потребность в мире, ибо из той глубокой бедности, в
которой находятся ныне сотни миллионов китайцев, их
может вывести не война, а путь созидания, мирное
строительство. Естественно, что реализацию этой возможности
приветствовали бы все, миролюбивые силы, ибо это
означало бы резкое упрочение мировых позиций реального
социализма, всех прогрессивных, антиимпериалистических
сил, уменьшение возможности возникновения мировой
войны. Однако, повторяем, эта социалистическая
возможность, которая сохраняется перед Китаем, сегодня пока
имеет немного шансов реализоваться в действительность
в ближайшем будущем. Слишком велики деформации в
надстроечной сфере, слишком много реакционного,
националистического, милитаристского балласта накопилось
на государственном корабле КНР, чтобы можно было
существенно изменить агрессивный, гегемонистский курс.
Американский синолог Р. Террил в своей книге «Будущее
221
Китая» утверждает так: после возникновения КНР
Запад серьезно опасался, как бы это не привело к тому,
что «огни революции зажгутся в мире еще ярче», однако
эти страхи имели под собой почву лишь первое
десятилетие существования республики. В дальпейшем
китайский социализм оказался не опасным для западного
мира К К сожалению, рассуждения буржуазного
специалиста по Китаю не лишены наблюдательности и
проницательности. Только подлинно социалистический Китай
опасен империализму, неоколониализму, неофашизму с
их неизлечимыми социальными пороками. Естественно,
что капитализм делал и будет делать все, чтобы КНР не
вернулась к прежней политике добрососедства и дружбы
с социалистическими странами. Этот вывод также
показывает одну из объективных трудностей реализации
социалистической возможности в Китае.
Другая возможность заключается в том, что в
условиях динамического (не очень устойчивого) равновесия,
определенного баланса мировых сил, Китай вынужден
будет принять как необходимую реальность мирное
сосуществование. Сейчас в Пекине с порога отвергают все
инициативы СССР, социалистических и других
миролюбивых государств, направленные на упрочение разрядки.
Однако нельзя забывать: Китай реально сможет решить
свои многочисленные внутренние проблемы скорее в
условиях мира, нежели войны. А что эти проблемы
предельно остры, свидетельствуют такие факты. Сегодня
КНР занимает сотое место в мире по размерам
национального продукта и по расходам на здравоохранение на
душу населения, по объему ассигнований на народное
образование — 91-е, по средней продолжительности жизни—
53-е, по числу учащихся в расчете на одного учителя —
52-е и т. д. Таковы масштабы острейших социальных
проблем, которые не могут быть решены ни в
условиях подготовки к войне, ни тем более в ходе ее. И в то
же время КНР вышла на третье место по объему
военных затрат. По существу, в этой вопиющей
диспропорции видна глубина проблем, которые можно решить
только в условиях мира, мирного сосуществования.
В свое время Китайская Народная Республика была
активным сторонником принципов мирного сосуществова-
1 Т е г г i 11 R. The Future of China. N.Y., 1979, p. 331.
222
ния. Так, во время встречи китайских и индийских
государственных деятелей в декабре 1953 года в Пекине
были сформулированы пять принципов, которым страны
обязывались следовать впредь: взаимное уважение
территориальной целостности, ненападение,
невмешательство, взаимная выгода и мирное сотрудничество. Известно,
что в последующем эти принципы получили дальнейшее
развитие в документах Бандунгской конференции.
Первые годы китайские руководители широко
рекламировали свою приверженность этим принципам. Чжоу
Эньлай неоднократно повторял тезис: «Имеются все
основания для того, чтобы сделать пять принципов
основой для установления дружественного сотрудничества и
добрососедских отношений» 1.
Жизнь тех лет показывала, что приверженность этим
принципам создавала хорошие предпосылки для КНР в
деле сотрудничества с государствами, имеющими иной
общественный строй. А главное — политика, основанная на
этих принципах, исключала войну как средство решения
всех спорных вопросов, устраняла военное насилие как
главный довод в международных отношениях. На
рельсах мирного сосуществования и сегодня у Китая видны
более благоприятные перспективы развития. Советская
сторона неоднократно подчеркивала, что, если КНР не
готова сегодня строить с нами свои отношения на
принципах пролетарского интернационализма, мы готовы
осуществлять их на основе норм мирного сосуществования.
Это было бы выгодно и СССР, и Китаю, благотворно
повлияло бы на всю международную обстановку.
Этого упорно не хотят пока понять в Пекине. На За*
наде трезвомыслящие политики понимают, что
милитаристский Китай, если он и дальше пойдет по этому пути,
будет чрезвычайно опасен не только для СССР, других
социалистических стран, но и для капиталистических
государств, всего человечества. Любое пособничество,
просто терпимость к действиям Пекина, подрывающим дело
мира, могут лишь подталкивать социал-шовинистов из
КНР к нагнетанию международной обстановки,
обострению военных конфликтов, дальнейшему усилению гонки
вооружений, создавать атмосферу, в которой будет
достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар войны. Борьба с
поджигательскими призывами и действиями Пекина ос-
1 Жэньмипь жибао, 1955, 20 апр.
223
тается важным условием единства и сплочения всех
прогрессивных сил, борющихся с опасностью войны и
угрозой для международной безопасности. Осознание этого
исключительной важности положения может побудить
самые широкие силы воздействовать на Китай в
направлении реального приобщения его к практике мирного
сосуществования. Ибо только оно может быть достойной
альтернативой ядерному пожару, который способен
принести неописуемые бедствия человечеству.
К сожалению, пока весьма реальна возможность
движения Китая по пути подготовки войны. Эта
возможность в обозримом будущем представляется весьма
вероятной. В Пекине следуют главной установке Мао,
выдвинутой им в 1959 году: «Мы создадим мощную
державу. Мы должны покорить земной шар». Если бы этот
тезис был лишь помыслом параноика, на него можно бы
не обращать внимания. Однако вся китайская реальность
последних лет свидетельствует о верности Пекина этой
долгосрочной стратегической установке. Анализ
материалов IX, X, XI съездов, конституции КНР 1978 года,
сессий ВСНП 1979 и 1980 годов, выступлений пекинских
руководителей на всекитайских совещаниях по науке,
промышленности, сельскому хозяйству, военным
вопросам не оставляет сомнений в одном: маршрут
гегемонизма, путь к мировому господству — таковой на сегодня
остается конечная цель маоизма. Ставка на мировую
войну (пусть и в будущем, по словам пекинских
руководителей) представляется маоистам наиболее кратким и
надежным путем достижения мирового господства.
Меняются люди в Чжуннаньхайском дворце Пекина, одна линия
сменяется другой, всплывают на поверхность новые
установки в области внешней и внутренней политики. Все
меняется. Не меняется одно: глубокая враждебность
маоистских руководителей миру, их обожествление военной
силы, желательность большой войны. Если бы Китай уже
сегодня располагал тем военным арсеналом, который он
намерен создать и приобрести в результате «четырех
модернизаций»,— кто может поручиться, что он не пустил
бы его в ход в удобный для него момент? При
агрессивном, шовинистическом характере мышления, открытом
пренебрежении к судьбам народов (и своего
собственного) эта возможность никогда не должна сбрасываться со
счетов при оценке тех или иных поворотов вр внешней
политике пекинских заправил.
224
Сегодня китайское руководство понимает, что КНР
пока не располагает ни экономическими, ни военными
возможностями создать «мировой порядок» по-пекински.
Это —- объективное сдерживающее начало. Но это не
значит, что человечество может быть спокойным до того
момента, пока Китай не станет реальной «сверхдержавой».
В Пекине, как можно предположить, не обязательно
будут дожидаться этого момента. Сегодня маоистские
руководители путем политических комбинаций стремятся
создать такое соотношение сил на планете и такую
конкретную ситуацию, когда возрастет реальная возможность
военного конфликта крупного масштаба. В Пекине хотят
(там это и не очень скрывают) вовлечь в мировой
конфликт как можно больше своих противников, обескровить
их, а затем продиктовать всем свои условия. Именно о
такой стратегии Пекина свидетельствуют откровения
министра обороны КНР Сюй Сянцяня, изложенные им в
«Хунци»: «Если вспыхнет пожар войны между двумя
сверхдержавами, мы окажемся в самом выгодном
положении» 1. Трудно поверить, что эти слова принадлежат
государственному деятелю, а не политическому
провокатору. Подобные взгляды официальных
высокопоставленных лиц Китая свидетельствуют о том, что
рассматриваемая нами третья возможность не является просто
гипотетической, а выражает достаточно большую степень
вероятности.
Разумеется, эти три возможности: возвращение к пути
построения реального социализма; переход на более
разумные рельсы во внешней политике посредством
внесения своего вклада в мирное сосуществование;
продолжение нынешнего милитаристского, агрессивного курса —
всего лишь прогноз. Но прогноз, основывающийся на
существующем ныне веере реальных возможностей.
Последняя из них сегодня является пока господствующей.
Помешать этой тенденции в состоянии лишь мощное
международное сопротивление агрессивному курсу Китая,
которое может заставить Пекин более трезво посмотреть в
лицо реальностям и запять умеренную позицию. Только
решительное противодействие опасной политике маоистон
может не допустить их до крайних, чреватых войной
шагов.
1 Хупци, 1978, № 8.
15 Зак. 512 225
Китай начинает меняться. И меняться довольно
быстро. Это касается многих сфер. Немецкий ученый Дитер
Зенгхаас, анализируя обстановку в этой стране в конце
70-х годов, в книге «Где находится Китай — куда
движется Китай» отмечает, что сегодня страна переживает
быструю эволюцию. То, за что в свое время критиковали Лю
Шаоци,— возрождается (использование материальных
рычагов в стимулировании производства, совершенствование
планирования и т. д.). Происходит решительный перелом
в сторону модернизации народного хозяйства, и особенно
в военной области. Модернизация военного сектора
становится первоочередным делом, что накладывает свой
отпечаток на все сферы изменений, происходящих в Китае х.
В сфере экономики достаточно быстро претерпевают
эволюцию те направления, которые связаны с военными
потребностями пекинского руководства. В области
социально-политической исключительно быстро растет
национализм. На смену традиционной политической пассивности
многомиллионных масс властями постепенно внедряется
агрессивный великоханьский шовинизм. Китайские
руководители в условиях перемен стремятся не только
обратить энергию масс на военную модернизацию, но и
нацелить политическое сознание людей на экспансию
вовне: сегодня пока это СССР, Индия, Вьетнам, МНР.
Завтра, не исключено, это будет весь Юго-Восток, Япония,
Средняя Азия, Африка, остальной мир.
Таким образом, главные перемены, которые
происходят в сегодняшнем Китае и, видимо, будут продолжаться
и завтра, касаются неуклонного усиления
националистической тенденции в различных формах.
Социал-шовинизм особых, китайских цветов сегодня является той
внутренней пружиной, на которую возлагают большие
надежды маоистские руководители. Для обоснования
претензий на особую, мировую роль в человеческой
цивилизации пекинские теоретики и политики пытаются сейчас
пересмотреть историю, заставить свой народ через
кривое зеркало маоизма смотреть на настоящее и будущее.
Однако достаточно взглянуть на 2—3-тысячелетпюю
историю Китая, чтобы убедиться, что в этой области нет
никаких оснований пекинским руководителям
рассуждать о какой-то его исключительной, мессианской роли.
1 Senghaas D. Wo steht China-Wohin bewegt sich China?
Bonn, 1979, S. 21—30.
226
Ни в древней, ни в средневековой, ни тем более в
новейшей истории китайского народа нет таких событий,
дат, факторов, которые бы говорили о том, что Китай
когда-либо играл решающую, особую роль в развитии
народов и имеет «естественное право» на гегемонию. Только
после 1949 года перед Китаем открылись
обнадеживающие перспективы подлинного прогресса, которые, к
сожалению, его руководители использовали в другом
направлении. История не дает правителям из Пекина ни
одного аргумента, обосновывающего их исключительную
роль в мировом развитии. Нет таких аргументов пи для
настоящего, ни для будущего.
Великий китайский демократ Сунь Ятсен много
размышлял о настоящем и будущем Китая. Он публично
ставил перед народом вопрос огромной важности: «Должны
ли мы организоваться и сплотиться для войны или нам
следует организоваться и сплотиться для мира?» И
отвечая на этот вопрос, писал: «Я хочу видеть Китай
организованным для мира» 1. Выдающийся теоретик и
политик Китая прекрасно понимал, что только на тропе мира
китайский народ сможет вырваться из тисков пищеты,
отсталости, пережитков феодализма.
Однако «кормчий» Мао рассудил иначе. Волею
объективных и субъективных обстоятельств оказавшись во
главе КПК, на вершине политической власти, он без
устали повторял, что подлинный путь Китая — путь войны,
милитаризации. В ближайшие 50—100 лет, цитировался
Мао Цзэдун на IX съезде КПК, «китайскому народу
нужно быть готовым вести великую борьбу, формы которой
по своей специфичности намного отличаются от форм
борьбы прошлых времен». «Перестроить мир можно
только с помощью винтовки»2, — памятуют последователи
Мао о его постулате. Разница лишь одна — «винтовка»
сегодня — это синоним всесокрушающего оружия,
которое есть теперь и в Китае. Подчеркивая верность
маоистским лозунгам и призывам, нынешние руководители в
Китае берут на себя перед историей огромную
ответственность. Ныне мир нельзя перестроить с помощью
«винтовки», ибо это грозит самому существованию многих
стран и народов. Но эти аксиомы пока не поняты в
Пекине. По-прежнему цитируется Мао (хотя и реже), осо-
1 Супь Я т с с п. Избранпые произведения, т. 1, с. 335.
2 Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 2, с. 388.
15*
227
бенно извлечения из его военного «наследия». Эти запо*
веди основоположника маоизма лежат и поныне в
значительной мере в основе внутриполитической и
внешнеполитической стратегии КНР.
Конечно, было бы упрощением отождествлять
выступления и действия нынешнего китайского
руководства с чаяниями и стремлениями самого народа. Однако
пельзя и недооценивать опасности, которая исходит из
того долгосрочного курса, который выбрали и
провозгласили в Пекине. Поэтому на вопрос: «Куда идет Китай?» —
простые люди, к сожалению, совершенно точно могут
ответить: сегодня — не к миру. Но дойдет ли он
непосредственно до той роковой грани, где начнется
испепеляющая ядерная война, зависит не от одного Китая. Мир
слишком дорог всем, чтобы пассивно ожидать проявления
благоразумия у пекинских лидеров. Принципиальная
критика милитаристских шагов пекинского руководства,
отказ в поддержке раскольничьих и провокационных мер,
солидарность со всеми миролюбивыми силами планеты,
разоблачение фактического альянса Пекина и
империализма и другие шаги, опирающиеся на мощь сил
социализма, могут сорвать планы, опасные для всего мира.
В данной книге пе часто останавливалось внимание
читателя на тех аспектах внутренней жизни Китая,
которые говорят о наличии оппозиции сегодняшнему
режиму. А оппозиция такая существует. Слабая,
неорганизованная, но существует, и, видимо, больше как
антимаоистская тенденция. При всей слабости рабочего класса
у него есть революционные традиции совместной с СССР
борьбы против империализма. Еще живы люди, которые
воочию видели преимущества интернациональной
сплоченности, солидарности трудящихся социалистических!
стран. Сам процесс даже относительного развенчания Мао
не может не усиливать понимания наиболее
сознательными представителями трудящихся кардинального
вопроса: зачем простому китайцу конфликт с СССР? Зачем
ему война? Зачем китайскому народу бесчисленные
милитаристские кампании?
Разумеется, и вопросы эти, и особенно правильные
ответы и задать и получить в сегодняшнем Китае
чрезвычайно трудно. Но содержание некоторых дацзыбао,
волнения в провинциях, неповиновение молодежи практике
ссылок, эпизодически возникающие в КНР беспорядки в
промышленных центрах неопровержимо свидетельст-
228
вуют о том, что далеко не все довольны
политикой режима. Американский синолог Д. Ли в
соавторстве с другими учеными подготовили книгу
«Современный Китай от мандарина до комиссара», в которой
пишут, что пока «основная масса, часто бессознательно,
поддерживает своих руководителей. Но как только ежедневная
порция риса перестанет быть главной проблемой,
народ захочет многого другого, что не в состоянии дать
Пекин. Тогда станут возможны крупные социальные
потрясения» К Так или иначе, но по мере осознания массами
пагубности курса, основанного на маоистской доктрине,
сопротивление этому курсу может нарастать.
Разумеется, объективные и субъективные
предпосылки сохранения враждебного миру курса руководства в
КНР невечны. Маоизм не имеет исторической
перспективы, однако позитивные социально-политические сдвиги
в Китае возможны лишь по мере роста численности и
сознательности рабочего класса, все более широкого
осознания всеми трудящимися пагубности курса, которого
придерживаются ныне пекинские руководители. Пока же
в Китае продолжается углубление антисоциалистического
процесса, в ходе которого все более утрачиваются
социальные завоевания китайского народа, и пока в КНР
неустанно подстегивают гонку ракетно-ядерных
вооружений, народы мира должны быть предельно бдительпы.
1 Li (ed) Modern China from Mandarin to Commissar. N.Y., 1979,
p, 360.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ событий в Китае показывает, что курс,
взятый пекинским руководством, все более уводит страну
вправо. Милитаризация КНР, шаги по срыву разрядки
международной напряженности, прямое смыкание с1
империализмом, вооруженная агрессия во Вьетнаме
красноречиво говорят о действительной роли КНР в мировом
сообществе. Она, эта роль, ныне выражается в
провоцировании войны, нагнетании напряженности, борьбе с
силами прогресса, демократии и социализма.
Мир социализма учитывает ситуацию, когда Китай,
называя себя социалистической страной, в
действительности находится в лагере врагов социализма. Никакой
идеологический камуфляж не в состоянии скрыть
реального положения вещей. Поэтому в процессе
политического воспитания личного состава командиры и
политработники видят перед собой важную задачу: разоблачать
реакционный, антимарксистский характер идеологии и
политики маоизма, показывать трагическую эволюцию
режима от социализма к контрреволюционному
перерождению по вине его руководителей, вскрывать огромную
опасность курса Пекина на обострение международной
обстановки, подталкивание человечества к мировой войне.
Сегодня уже очевидно, что пекинские руководители
вынашивают идеи мирового господства, хотя пока и по
заявляют об этом открыто. Маоисты, продолжая
размахивать социалистическим знаменем, используя
по-прежнему революционную фразеологию, в то же время привели
Китай к новому этапу, своеобразие которого необходимо
учитывать в продолжающейся борьбе прогрессивных сил
с этой опасностью. Разъясняя принципиальную
переориентацию Пекина на сотрудничество с империализмом,
командиры и политработники, опираясь па выводы и
оценки маоизма, данные КПСС, разъясняют личному составу
существо и причины контрреволюционных сдвигов,
которые происходят во внутренней и внешней политике
230
КНР. При этом обращается особое внимание на то, что
продолжается контрреволюционный сдвиг вправо во всех
сферах внутренней и внешней политики КНР. Если лет
10—15 назад пекинские теоретики фактически пытались
поставить себя над основным противоречием эпохи —
противоречием между капитализмом и социализмом, то
теперь они фактически перешли в стан самых
реакционных сил современности. Это с особой силой ирояцилось,
когда пекинские милитаристы совершили разбойничье
нападение на социалистический Вьетнам. Эта и другие
акции Пекина еще и еще раз подтверждают глубокую
справедливость вывода нашей партии о том, что продолжается
дальнейшее сближение маоистского Китая с самыми
злейшими врагами социализма, демократии и прогресса.
Другим важным моментом разъяснения нашего
отношения к проискам маоизма является показ лихорадочных
усилий Пекина расколоть социалистическое содружество,
подорвать мировое коммунистическое движение, ослабить
в целом мировой революционный процесс. В этих
революционных силах КНР видит главное препятствие на пути
к мировой гегемонии. Особые атаки маоистский Китай
ведет на СССР, Вьетнам, Кубу, МНР. Пекинские
руководители действуют дифференцированно, стремясь
противопоставить одну страну другой. Все это еще раз показывает
глубокое социально-политическое перерождение
институтов власти в Китае, глубокую враждебность марксизму-
ленинизму идеологии и политики маоизма.
Идеологической работой обеспечивается также
раскрытие опасности для дела мира и социализма попыток
Пекина сколотить и оформить широкий антисоветский
союз китайского милитаризма и сил империалистической
реакции. Миролюбивые силы не может не настораживать
процесс ускоряющегося «подкармливания» КНР,
особенно в военной области, империалистическими
монополиями Запада и определенными кругами Японии. Поэтому
особое значение в идеологической области имеет
разоблачение последствий этого сговора и опасности дальнейшей
милитаризации КНР.
Наша партия, наше государство делают все для того,
чтобы нормализовать отношения с КНР. «...Если в Пекине
возвратятся к политике,— подчеркивалось на XXV
съезде КПСС,— действительно основанной на марксизме-ле-
нипизме, откажутся от враждебного социалистическим
странам курса, станут на путь сотрудничества и соли-
231
дарности с миром социализма, то это найдет
соответствующий отклик с нашей стороны и откроется возможность
для развития добрых отношений между СССР и КНР,
отвечающих принципам социалистического
интернационализма». Однако пока Пекин на все наши миролюбивые
предложения отвечает ужесточением своего
антисоветского курса, обструкционистскими шагами по поводу
любых инициатив социалистических стран. Антисоветизм
маоистов постоянно выражается в милитаристских
заявлениях партийных и государственных деятелей КНР,
враждебных Советскому Союзу акциях во всех
международных организациях, и прежде всего в ООН,
раскольнических действиях в мировом рабочем и
коммунистическом движении. Все предложения СССР, направленные па
углубление разрядки, ограничение гонки вооружений,
создание климата доверия между государствами, неизменно
встречаются в штыки представителями Пекина.
По инициативе Советского Союза в 1969 году были
начаты советско-китайские переговоры, которые не
завершены и сегодня. Причина? Ультимативная,
обструкционистская позиция Пекина, пытающегося навязать СССР
заранее неприемлемые условия. Советская сторона
неоднократно предлагала провести встречи на высоком
уровне, чтобы обсудить вопросы нормализации отношений
между СССР и КНР. Такие предложения выдвигались в
1970, 1973, 1978 годах. Последняя из этих инициатив
содержала выработку совместного текста о принципах
взаимоотношений между СССР и КНР на основе мирного
сосуществования. В 1971 году СССР предложил Китаю
заключить договор о неприменении силы в отношениях
между двумя странами, в 1973 году — договор о
ненападении; вносил предложения о возобновлении
сотрудничества в различных областях. Однако китайская сторона ни
разу не пошла навстречу проявлениям доброй воли со
стороны Советского Союза. Более того, 3 апреля 1979
года КНР приняла решение не продлевать действие
Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР
и КНР от 1950 года. Начатые во второй половине 1979
года переговоры с китайской стороной в Москве должны
были быть продолжены в Пекине, однако маоистское
руководство фактически блокировало их, спекулируя на
афганском вопросе, который создали именно маоисты
совместно с империализмом США. К слову сказать, уже эти
одни инициативы вызывали на Западе большую нервоз-
232
ность и опасения потерять пекинского подручного. Газета
английских консерваторов «Дейли телеграф» писала
27 марта 1978 года: «Заключение договора о
ненападении между Москвой и Пекином было бы самым
страшным событием на международной арене, какое можно
себе представить, кроме мировой войны». Вот как далеко
зашло дело. Вот как боятся на Западе потерять
подручного и младшего партнера — маоистский Китай.
Позиция нашей Коммунистической партии и
Советского государства в отношении Китая совершенно ясна и
определенна. Она была четко изложена в ряде
документов. В Заявлении Советского правительства по поводу
прекращения действия Договора о дружбе, союзе и
взаимной помощи между СССР и КНР четко сказано, что
трансформация отношения Пекина к Договору — от пол-
. ного одобрения и активного его использования до
прекращения действия Договора — «тесно связана с
перерождением политического курса китайских руководителей,
который постепенно стал все больше определяться
великодержавными, гегемонистскими устремлениями,
пренебрежительным отношением к другим странам и народам,
враждебностью ко всему тому, что ведет к укреплению мира
и международной безопасности, идет вразрез с их
планами установления мирового господства». Советская сто-
; рона, говорится в заключении этого документа, заявляет,
что вся ответственность за прекращение действия
Договора ложится на китайскую сторону. «Советский Союз,
разумеется, сделает соответствующие выводы из
указанных действий китайской стороны» *. В отношении Китая,
как и других стран, подчеркивается в документах КПСС,
мы твердо придерживаемся принципов равноправия,
уважения суверенитета и территориальной целостности,
невмешательства во внутренние дела друг друга,
неприменения силы. Словом, мы готовы нормализовать отношения
с Китаем на принципах мирного сосуществования.
Советский Союз неоднократно предпринимал шаги в этом
направлении, и не наша вина, что КНР не готова к
подлинному диалогу и добрососедскому сотрудничеству.
Краткое рассмотрение лишь некоторых аспектов
маоистской идеологии и политики показывает, что Китай
превратился в опасный очаг войны, постоянный источник
международной напряженности. Вот почему аргументи-
1 Правда, 1979, 5 апр.
233
рованное разоблачение милитаристских шагов, военных
приготовлений пекинской верхушки представляется
важной задачей идеологической работы. В условиях
армейской и флотской действительности это разоблачение
осуществляется по ряду направлений.
Во-первых, в идеологической, политической работе
показывается, сколь огромные усилия приложили
Советский Союз, братские страны социализма для оказания
интернациональной, всесторонней помощи китайскому
народу в его борьбе за национальное освобождение. При этом
подчеркивается, какую реакционную роль сыграла
клика Мао Цзэдуна, свернувшая дружеское сотрудничество
с социалистическими странами и повернувшая
политический руль Китая по антимарксистскому курсу. В октябре
1979 года исполнилось тридцать лет со дня
провозглашения КНР. Эволюция трагична для китайского народа:
социалистическое начало, осуществляемое с помощью
СССР, других социалистических стран, было постепенно
устранено пекинской кликой, и ныне Китай открыто
встал на той сторопе классовых баррикад, где окопался
империализм.
Во-вторых. Личный состав армии и флота, изучая
документы и материалы съездов КПСС, пленумов
Центрального Комитета партии, выступлений советских
партийных и государственных деятелей, другую
политическую литературу, уясняет социальные, идейные истоки
отступничества пекинского руководства, скрытые
пружины его предательства и ренегатства. Ознакомление с
историей революционной борьбы в Китае показывает, что
там на протяжении длительного времени наряду с
верной, марксистской линией, которой придерживались
истинные интернационалисты, существовала и линия
националистическая во главе с Мао Цзэдуном, которая, к
несчастью для китайского народа и его друзей, на
определенном этапе взяла верх. Другими словами,
попустительство и компромиссы с оппортунистическими
концепциями, ослабление бдительности в теории и политике
чреваты серьезными последствиями для революционного
движения.
В-третьих. Разоблачение и критика
антимарксистского курса нынешних пекинских руководителей позволяют
также видеть всю глубокую ущербности, реакционность
действий нынешней верхушки внутри Китая.
Бесчисленные эксперименты, в которые вовлечен трудолюбивый ки-
234
тайский народ (движение коммун, «большой скачок»,
«культурная революция», «четыре модернизации» и т. д.),
обрекают трудящихся на прозябание, тяжкие лишения. Им
уготована лишь роль послушных статистов —
исполнителей чужой недоброй воли. Критическое ознакомление с
различными аспектами внешней политики КИР
высвечивает главное: нынешний курс Пекина стал опасен не
только для дела социализма в самом Китае, но и для
всеобщего мира. Доктрина маоизма — это
антикоммунистическая доктрина войны, доктрина милитаризма, несущая
большую потенциальную угрозу всем прогрессивным
силам. Разтзяснение этих позиций является важным
условием правильного, партийного понимания нынешней
ситуации в Китае, воспитания глубокой, принципиальной
непримиримости к маоизму — идеологии и политике войны
и антикоммунизма.
Одно из важнейших положений научного социализма
гласит, что идеи, овладевая массами, становятся
материальной силой. Вместе с тем в истории известны случаи,
когда при определенных условиях и ложные,
реакционные идеи в силу демагогического манипулирования
общественным сознанием масс со стороны господствующих
классов или господствующей клики становились также
материальной силой. Это всегда оборачивалось огромпой
социальной бедой не только для дела прогресса и свободы
других народов, но и для самой страны, где эти идеи
«материализовались». История не может забыть фашизма с
его идеологией антикоммунизма,
человеконенавистничества, расизма, шовинизма. Есть немало и других
исторических параллелей. Однако всегда в конечном счете все
ложные идеологии, реакционные социально-политические
институты, милитаристские концепции, основывающиеся
на этих идейных постулатах, терпели неизбежный крах.
Не будет исключения и для реакционной, милитаристской
по своей сущности идеологии и политики маоизма.
На путях маоизма у Китая нет достойного будущего.
Такова неумолимая логика исторического прогресса,
логика закономерного движения человечества по пути
коренного социального обновления. Борьба с маоизмом
является важной составной частью борьбы за упрочение
мира и безопасности народов. И вместе с тем это
специфическая форма помощи китайскому народу,
переживающему период тяжелой социальной трагедии. Все
истинные друзья китайского народа уверены, что рано или по-
235
здно эта мрачная страпица его истории будет перевернута.
Очевидно, что Китай перестанет быть очагом
опасности тогда, когда будет решено основное противоречие этой
страны — противоречие между жизненными интересами
многомиллионных масс народа и политикой его
нынешних руководителей. Здесь кроются как истоки китайской
трагедии, так и исходный пункт ее преодоления. Все
истинные друзья трудолюбивого китайского народа верят,
что рано или поздно Китайская Народная Республика
вернется на подлинно революционный путь, избранный
массами еще в 1949 году.
Несмотря на круппые деформации базисных и
надстроечных элементов в общественной структуре Китая,
предательскую политику его руководства по отношению к
революционным силам современности, все большее
сползание к альянсу с империализмом, мы продолжаем
относить КНР к социалистической стране, хотя и с рядом
принципиальных оговорок. Делается это, разумеется, ие
просто по инерции или каким-либо другим
конъюнктурным причинам. Все дело в том, что, как указывал
Л. И. Брежнев, наша партия не отождествляет
шовинистическую верхушку КНР с трудолюбивым китайским
пародом, его объективными интересами и чаяниями.
В данном случае китайский народ оказался в качестве
объекта для манипуляции им, объекта
антисоциалистических экспериментов и действий.
Нельзя не видеть и того, что, несмотря на
перерождение надстроечных компонентов, в базисной основе
продолжает сохраняться социалистическая собственность па
средства производства, остались некоторые другие
атрибуты общественной собственности. При всем том
негативном, что постоянно усиливается в политической
организации общества, еще имеют место определенные
предпосылки и возможности возвращения к подлинно
социалистическим отношениям. Но, повторяем, при
определенных условиях.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов стремление
социалистического содружества сохранить, вернуть Китаю
перспективу такого развития, которое осуществлялось в
50-е годы. Борьба с политикой пекинских руководителей,
разоблачение их гегемонистскнх замыслов, критика пауч-
ио несостоятельной маоистской идеологии — все это
помогает коммунистам, честным, неодурманенным
гражданам Китая сохранять веру в социалистическое будущее
236
республики. А пока у братских социалистических стран,
всего социалистического содружества не остается
другого выхода, как вести борьбу с идеологией и политикой
маоизма, борьбу непримиримую и принципиальную.
Таким образом, нынешняя внутренняя и внешняя
политика Пекина идет вразрез с интересами как самих
китайских трудящихся, так и сил мирового социализма,
прогресса и демократии. Более того, эта политика
превратилась в фактор серьезной опасности для дела мира
во всем мире.
Критическое ознакомление о различными аспектами
внешней политики КНР высвечивает главное: нынешний
курс Пекина стал опасен не только для дела социализма
в самом Китае, но и для всеобщего мира. Доктрина
маоизма — это доктрина войны, милитаризма, несущая
большую потенциальную угрозу всем прогрессивным силам.
Курс на обострение международной обстановки,
стремление к установлению своей гегемонии, подготовка к
экспансии характеризуют все действия пекинского
руководства на международной арене. Ныне антимарксистская
политика китайских руководителей превратилась в
реальный негативный фактор, который должен учитываться
всеми прогрессивными силами в их борьбе за достойное
человека будущее. Постоянная высокая бдительность по
отношению ко всем намерениям и действиям пекинского
руководства, готовность сорвать любые его
провокационные, интервенционистские шаги представляются
насущной задачей всех социалистических и миролюбивых сил,
которым бесконечно дорого право людей па мир —
важнейшее условие общественного прогресса человечества.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Введепие , » , « , , , 3
Глава ' первая. Маоизм — идеологическая доктрина,
враждебная марксизму-ленинизму ...... 8
Исторические корни идеологии маоизма , . ♦ 10
Теоретический портрет маоистской идеологии ... 20
Маоизм как разновидность антикоммунизма ... 28
Апологетика насилия 5 36
«Корректировка» маоизма пекинским руководством 42
Глава вторая. Внутренняя политика: укрепление
военно-бюрократического режима , 49
Антидемократический механизм власти . . • • 50
Перетряски на вершине политической пирамиды . ♦ 57
Социальная политика маоистов ...,..♦ 63
Великоханьская национальная политика .... 74
Милитаризация экопомики страны * . 79
Глава третья. Маоистский милитаризм .... 87
Особенности маоистского милитаризма , 88
«Четыре модернизации» подчинены одной — военной 96
Идеологическая обработка населения 102
Вооруженные силы Китая 112
От милитаризации к агрессии 122
Глава четвертая. Внешняя политика: угроза миру и
безопасности народов 132
Теоретическое «обоснование» внешней политики # , 135
Борьба против социалистического содружества , • 142
Китай и развивающиеся страны 149
Смыкание с мировым империализмом . . . . . 160
Курс на срыв разрядки напряженности .... 168
Глава пятая. Контуры воепного альянса: Пекин — НАТО 178
На платформе антисоветизма 179
Какие цели преследуют стороны? ,184
Новый альянс — реальная угроза миру 191
Глава шестая. Историческая бесперспективность
маоизма 204
Больная тень социализма —
Враждебность маоизма революционному и
национально-освободительному движению 214
Будущее Китая 219
Заключение « 230
Волкогонов Д. А.
В67 Маоизм: угроза войны: Анализ милитаристской
сущности идеологии и политики маоизма.— М.:
Воениздат, 1981.—238 с.
В пер.: 1 р*
В монографии разоблачается враждебная марксизму-ленинизму
идеология маоистов, показывается, что в основе внутренней и
внешней политики нынешнего пекинского руководства лежит гегемонизм,
антисоветизм и антикоммунизм, смыкание с реакционными силами
мирового империализма. Особо подчеркивается, что партнерство
империализма и пекинского гегемонизма представляет собой новое опас-
ное явление в мировой политике.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
11103-09Q БЗ-60-10.80.0802020000. ББК 66.019
068(02)-81 БЗВ № 14- 1980 г. - № 1 1ФБ
Дмитрий Антонович Волкогонов
МАОИЗМ: УГРОЗА ВОЙНЫ
Анализ милитаристской сущности идеологии и политики маоизма
Редактор И. С. Ищенко
Технический редактор Л. А. Ворон
Корректор И. И. Матвеева
И Б № 1922
Сдано в набор 04.09.80. Подписано в печать 31.10.80.
Г-32888. Формат 84Х108/зг. Бумага тип. № 2.
Гарн. обыкн. нов. Печать высокая.
Печ. л. Vlt. Усл. печ. л. 12,6. Уч. изд л. 13,435.
Тираж 65 000 экз. Изд. .Nfc 1/7137. Зак. 512.
Цена 1 р.
Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова. дом 3