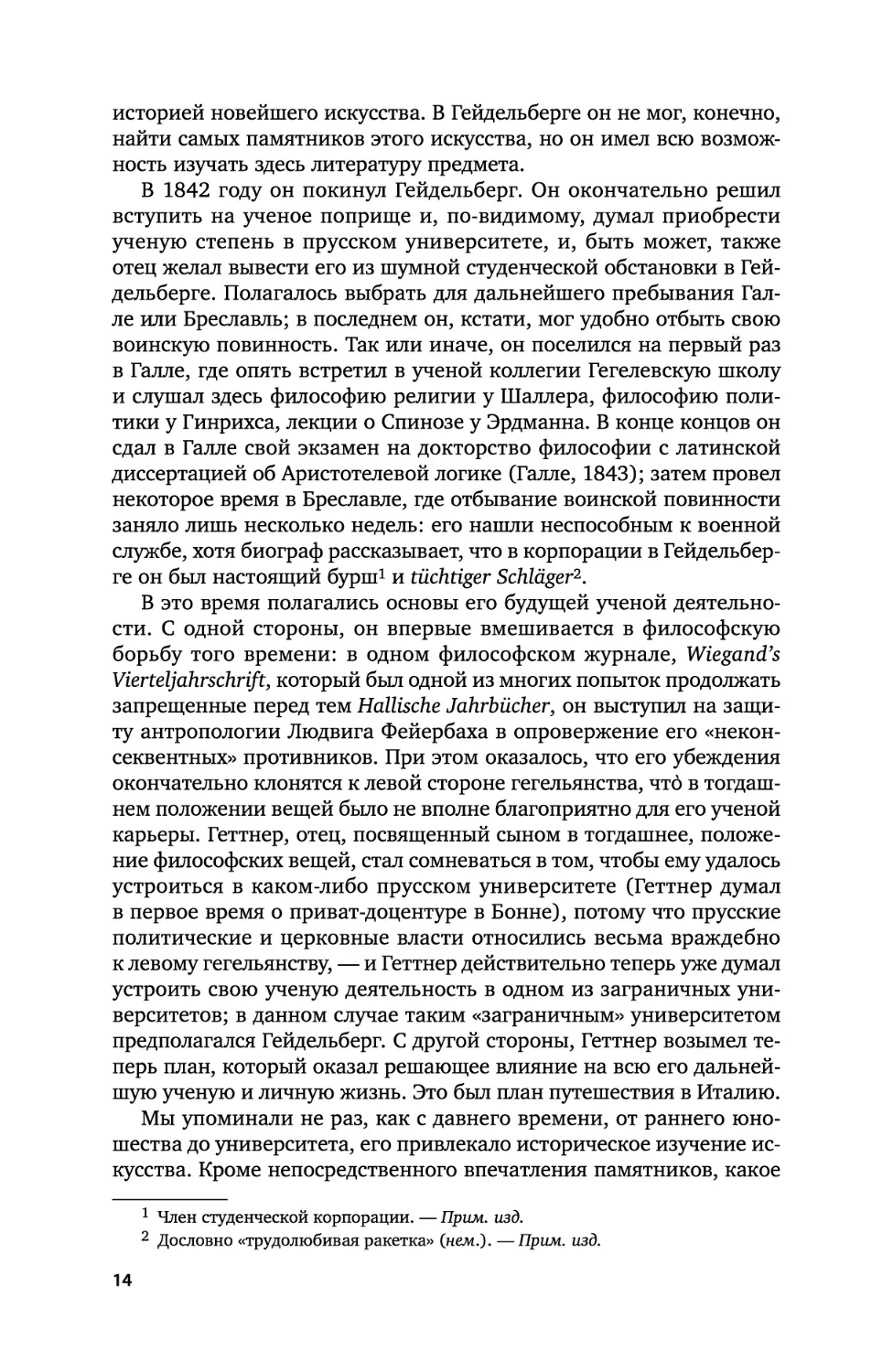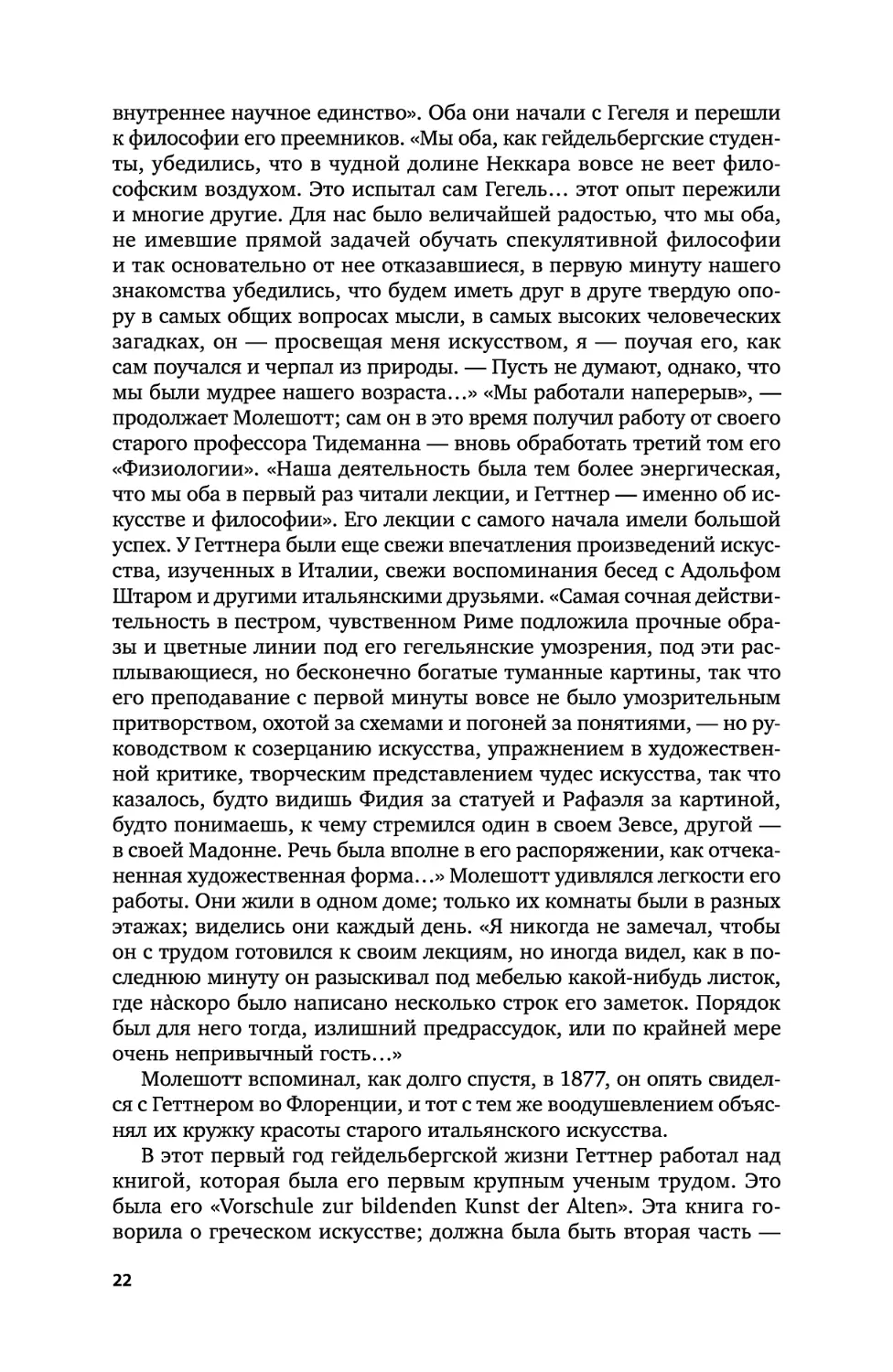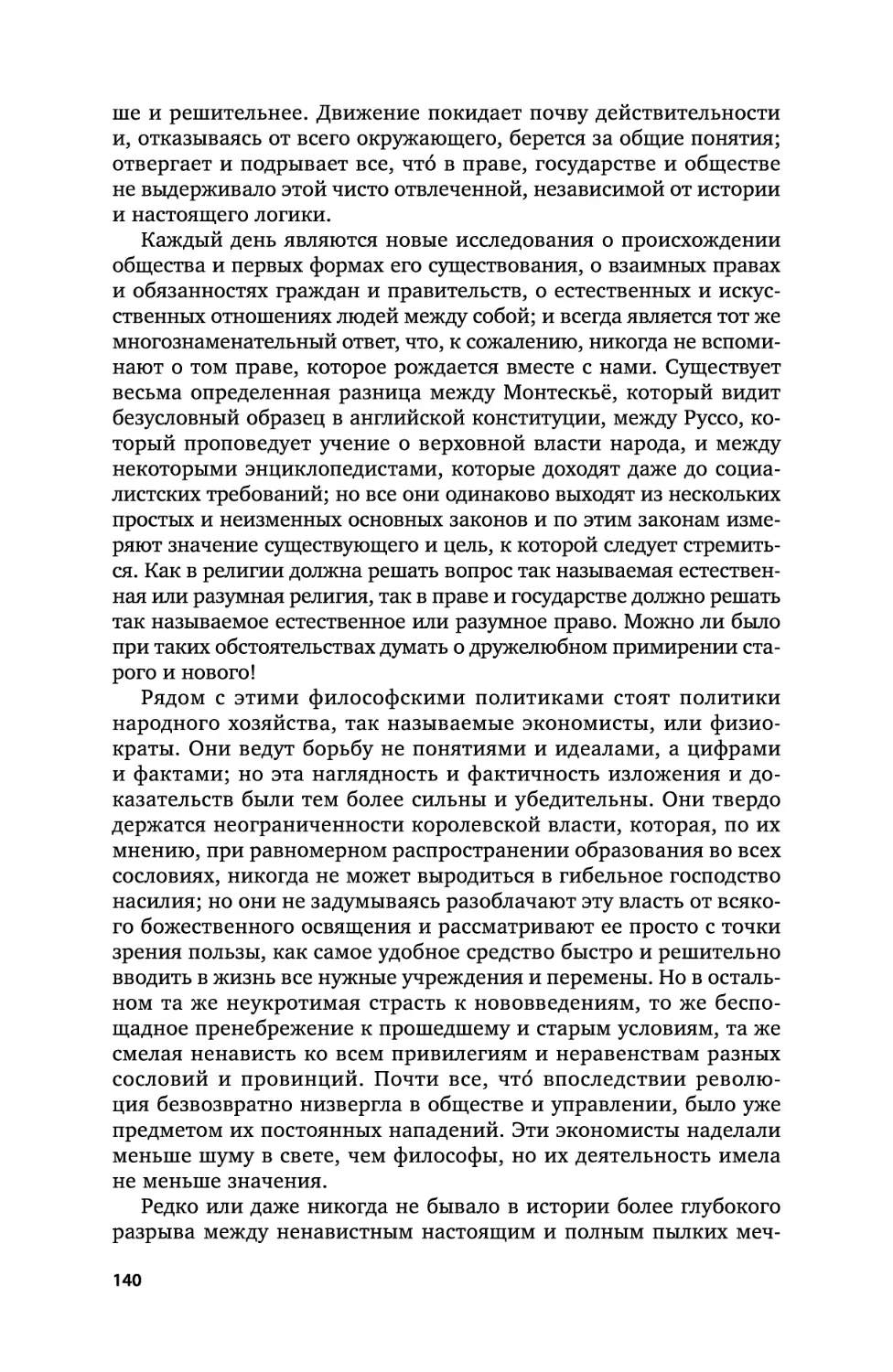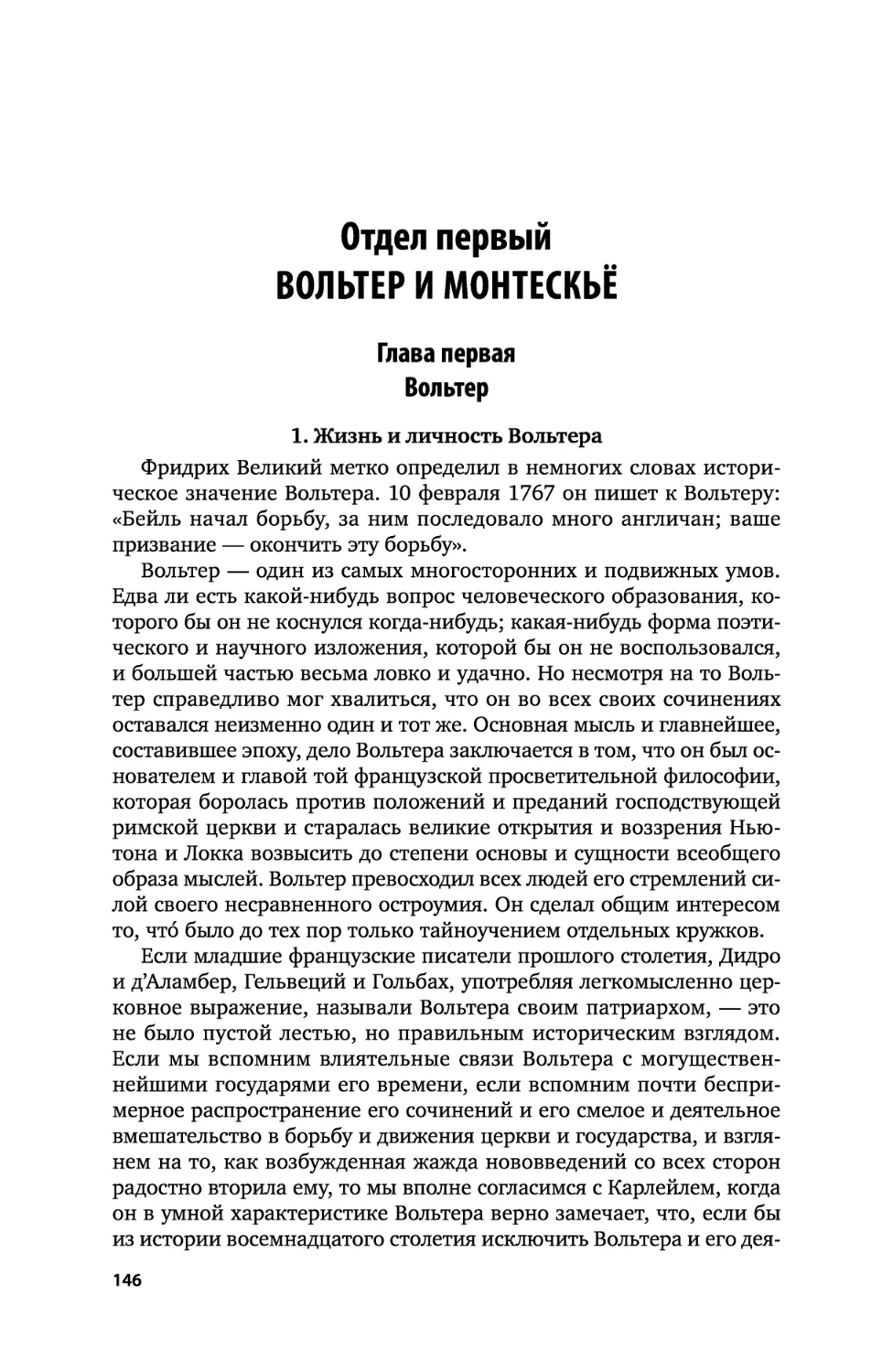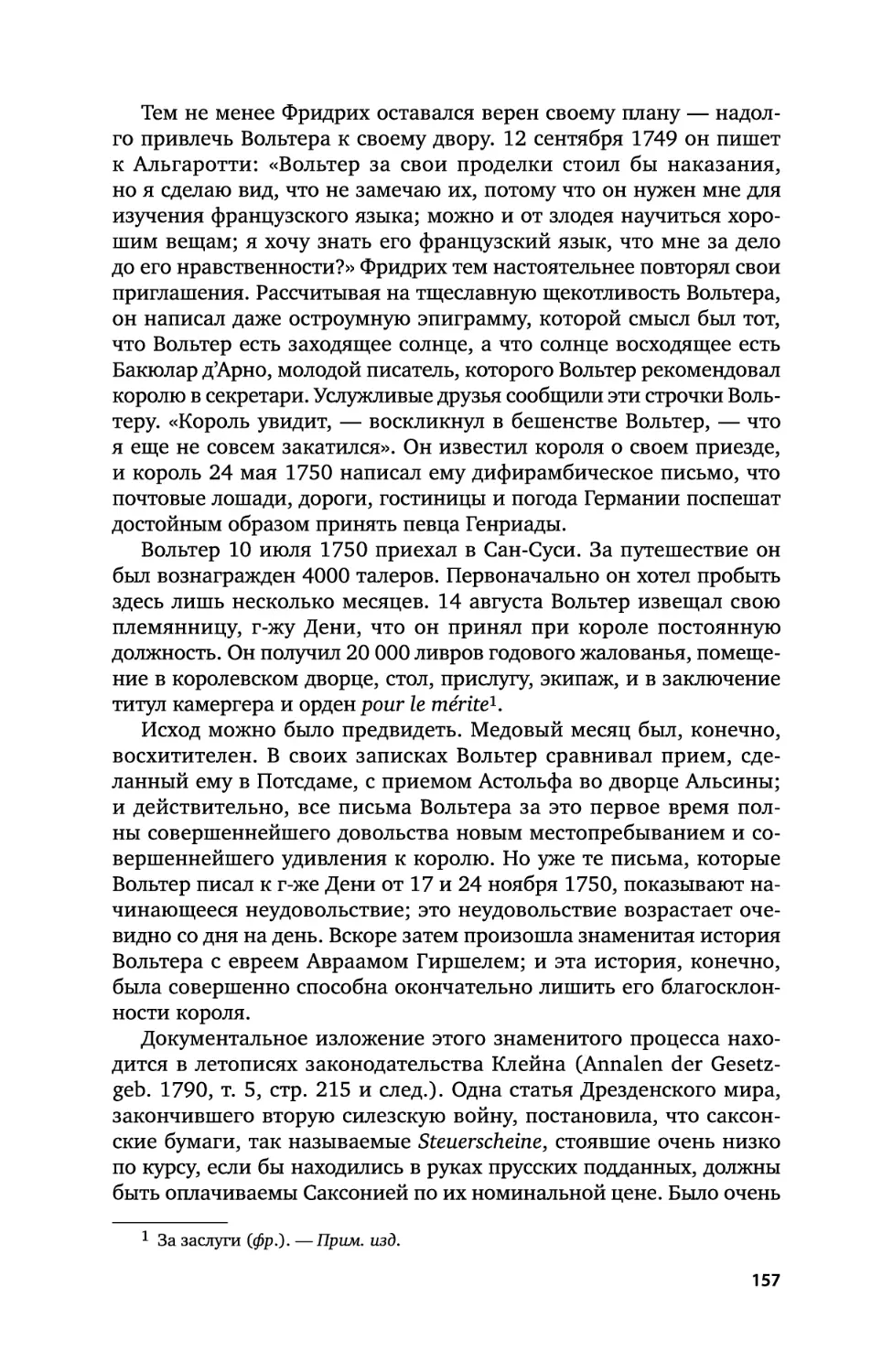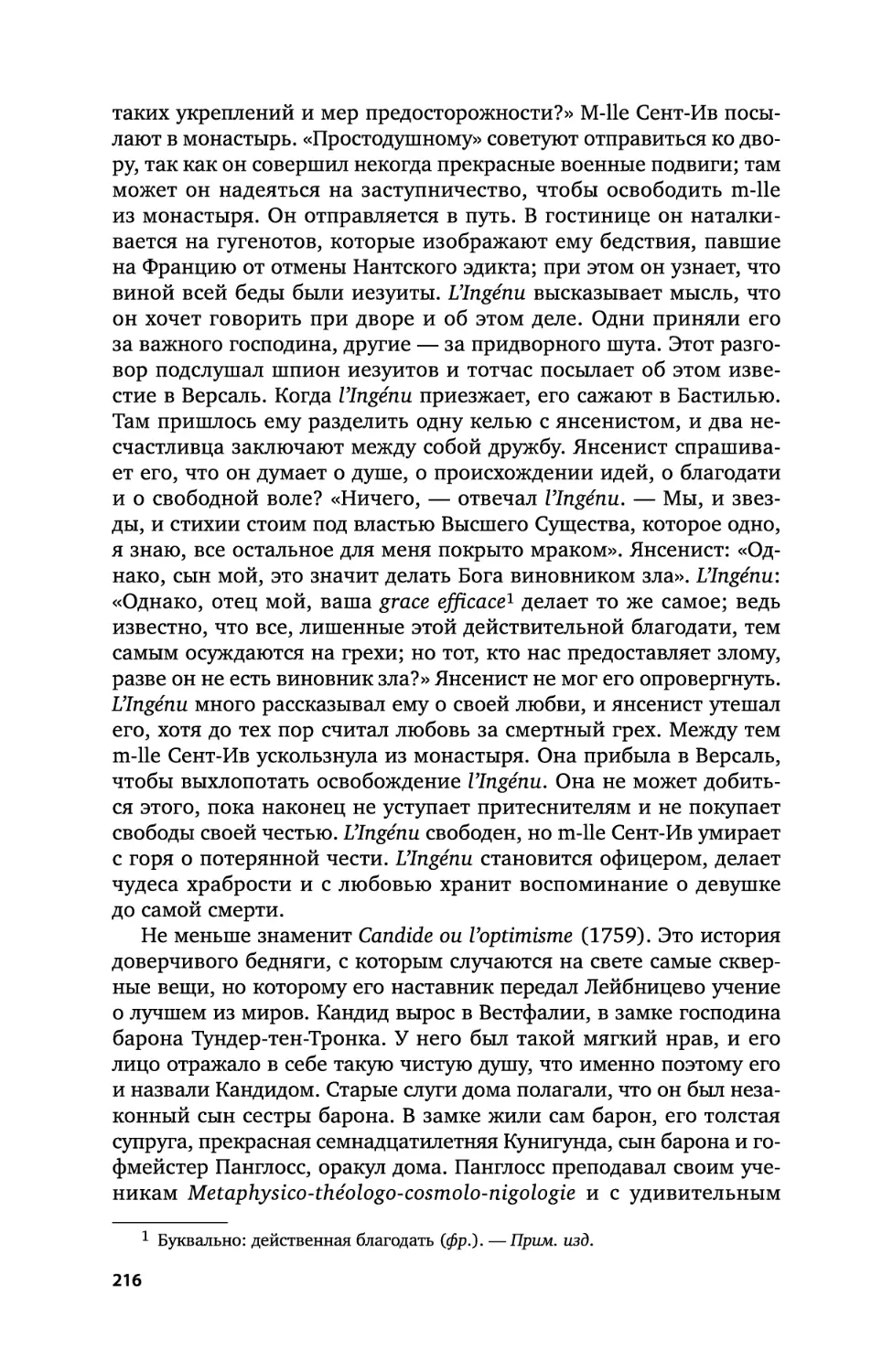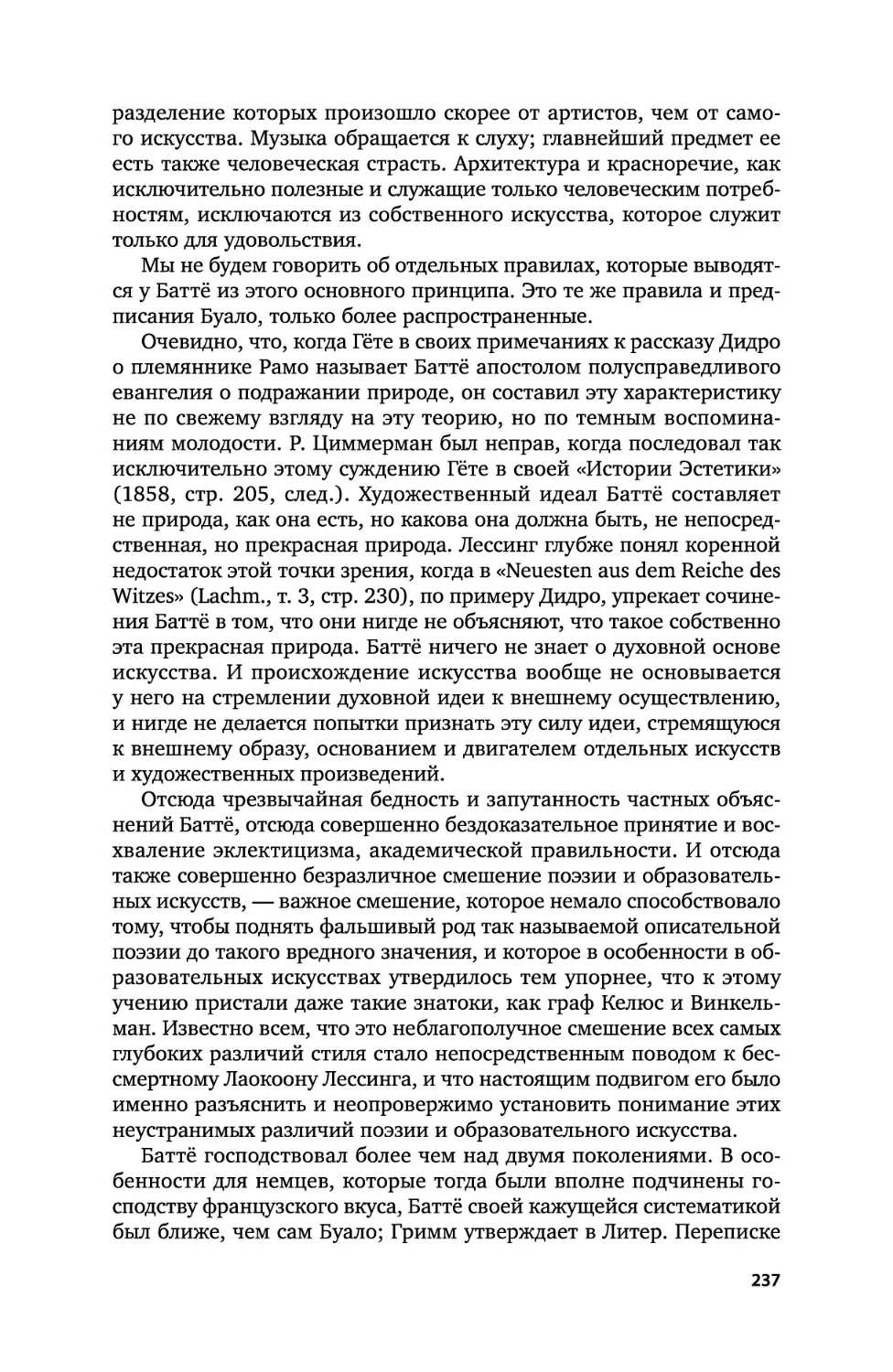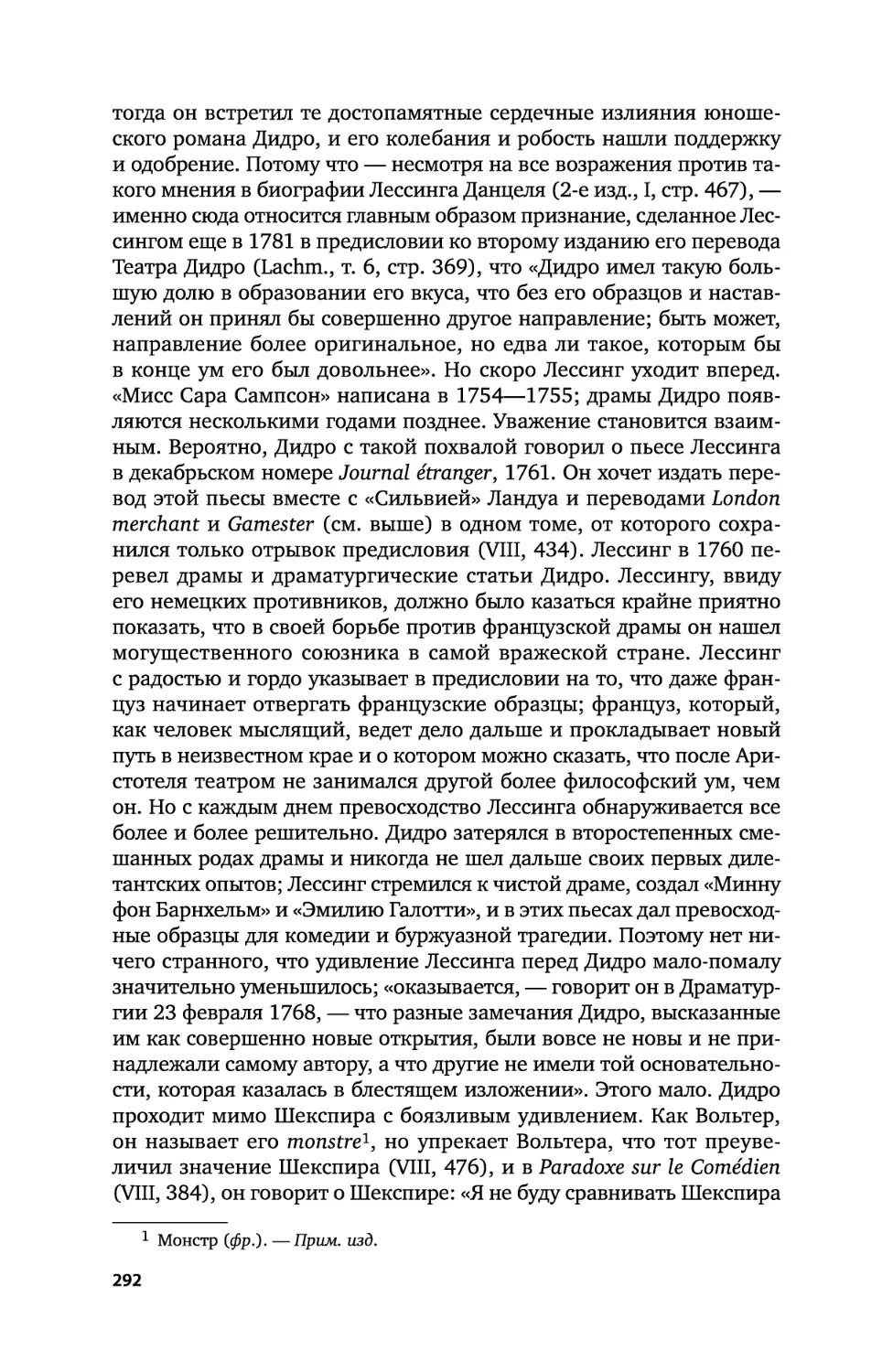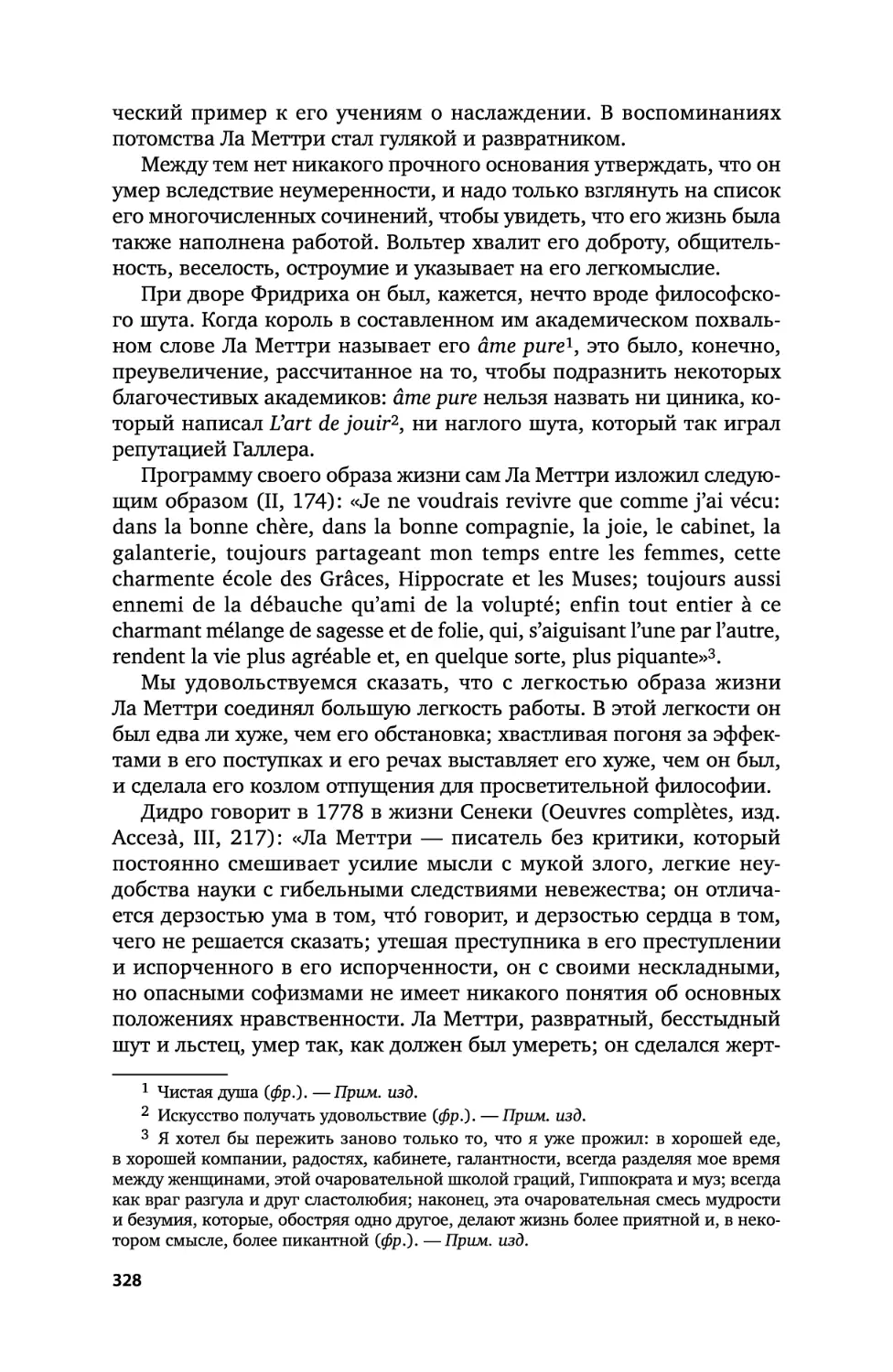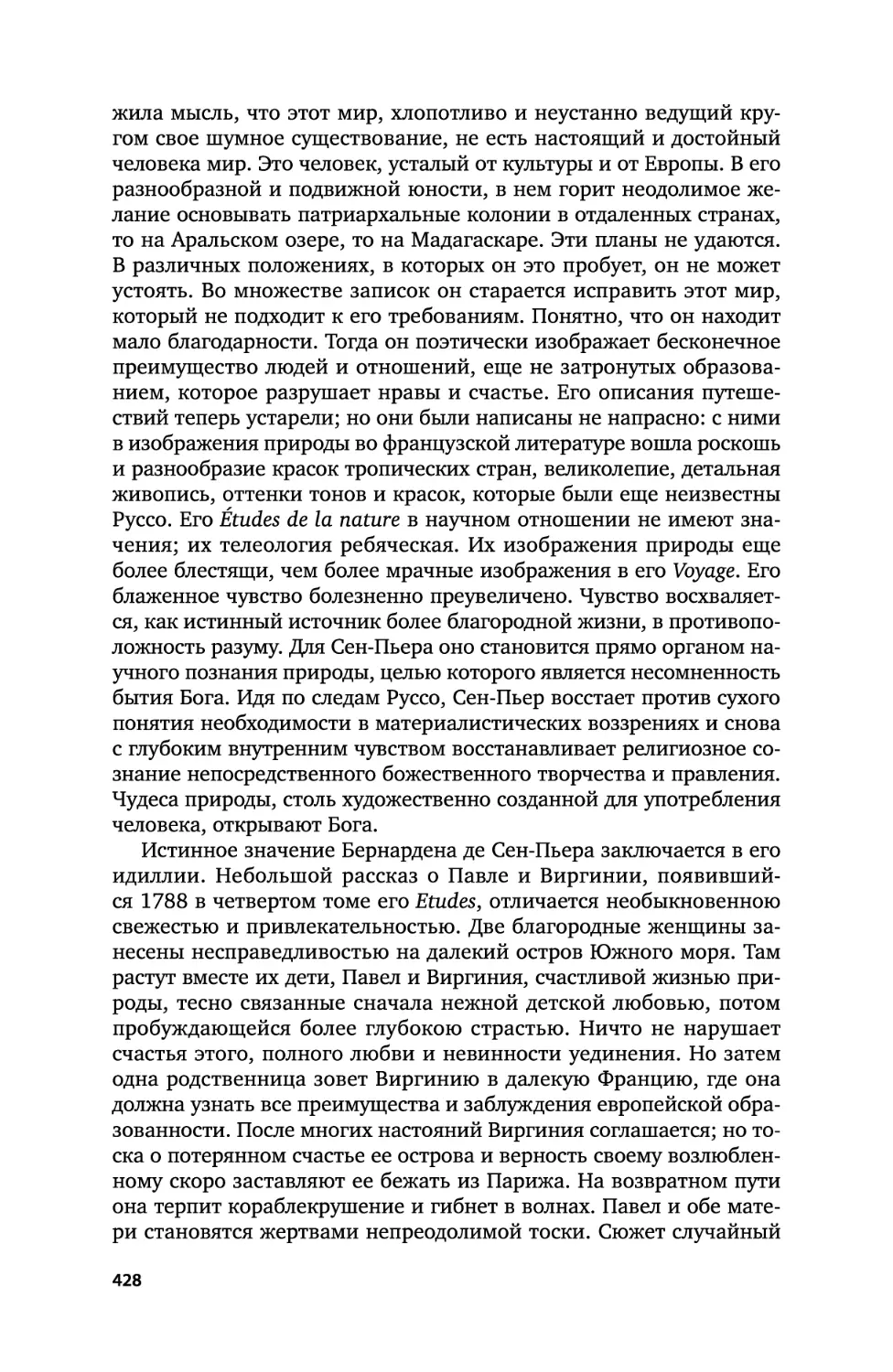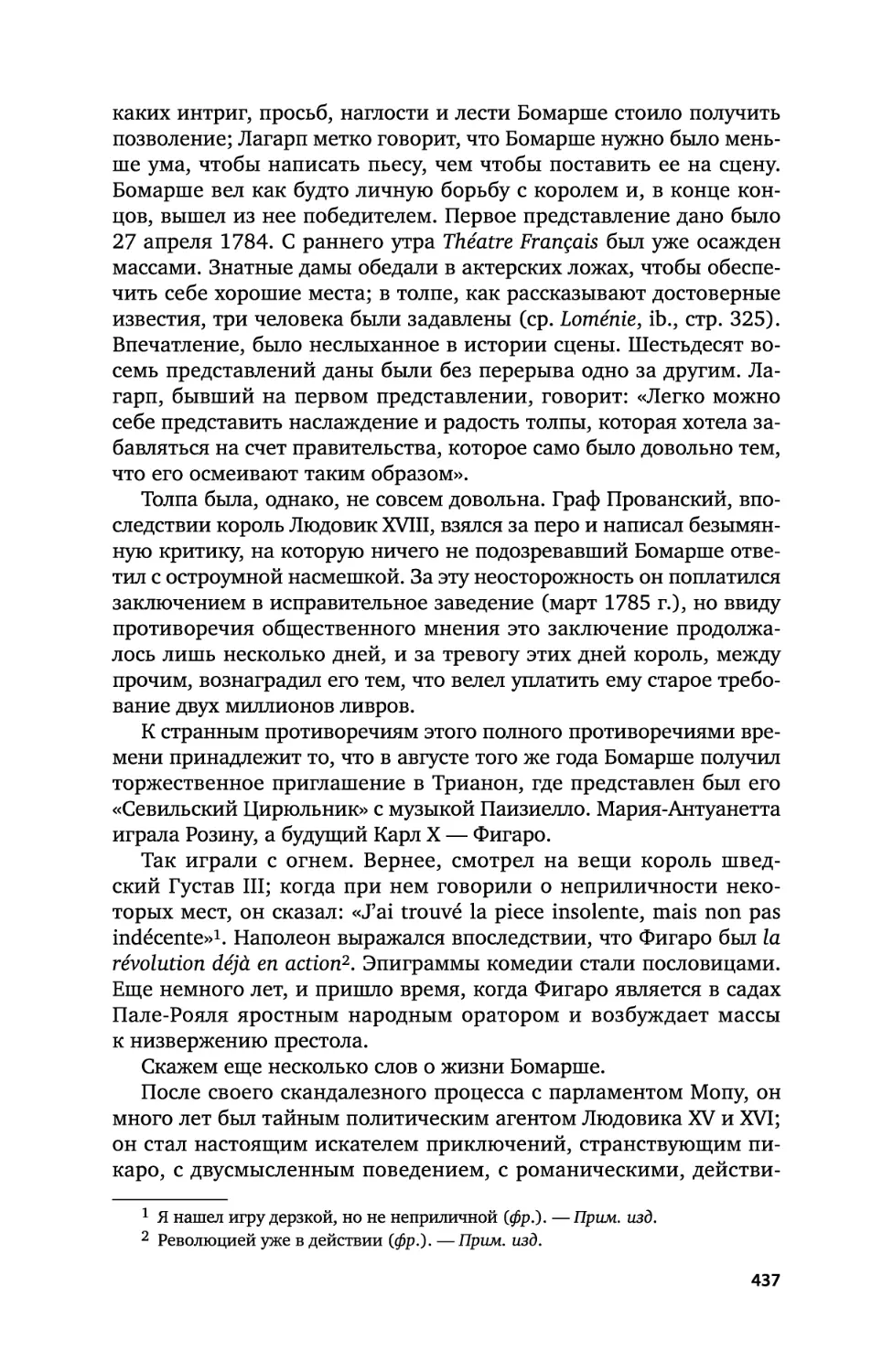Author: Геттнер Г.
Tags: французская литература литература литературоведение литература франции история литературы
ISBN: 978-5-534-12164-3
Year: 2022
Text
Серия
«Антология мысли»
1821—1882
Г.Геттнер
ИСТОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ
ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Переводчик — А. Н. Пыпин
Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»
Москва «Юрайт «2022
УДК 821.133.1::82(091)
ББК 83.3(4Фра)5
Г44
Автор:
Геттнер Герман Теодор (1821—1882) — немецкий историк
литературы, искусствовед.
Переводчик:
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — литературовед,
этнограф, академик Петербургской Академии наук.
Геттнер, Г.
Г44 История всеобщей литературы XVIII века: французская литература /
Г. Геттнер; переводчик А. Н. Пыпин. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 480 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-12164-3
«История литературы XVIII века» — главный масштабный труд
немецкого историка литературы и искусствоведа Германа Геттнера (1821—
1882). Работы Г. Геттнера были популярны не только в Германии,
но и во Франции и Англии. Опубликованы они были и в России отдельными
томами, посвященными литературе Англии, Франции и Германии.
Г. Геттнер придерживается комплексного подхода и рассматривает развитие
литературы в контексте духа эпохи — исторических, политических, научных
и социальных событий описываемого периода, что позволяет понять
причинно-следственные связи развития литературных течений и идей.
Настоящий том посвящен анализу французской литературы XVIII века.
В книге представлено творчество как именитых, так и малоизвестных
французских литературных деятелей и философов, а также их влияние
на общественные настроения в соседних странах.
Печатается по изданию 1897 года.
Для литературоведов и всех интересующихся историей литературы.
Издание имеет значительную историческую, художественную или иную
культурную ценность и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» под действие
указанного Федерального закона не подпадает
УДК821.133.1::82(091)
ББК 83.3(4Фра)5
ISBN 978-5-534-12164-3
© Оформление. ООО «Издательство
Юрайт», 2022
Оглавление
От издательства...........................................8
Герман Геттнер............................................9
Книга первая
Начало французской
литературы просвещения
Отдел первый. Последние годы Людовика XIV.................49
Глава первая. Людовик XIV, его величие и его падение...49
Глава вторая. Начало оппозиционной литературы..........62
1. Фенелон..........................................62
2. Вобан и Буагильбер...............................70
3. Сент-Эвремон и Фонтенель.
Бейль и Ле Клерк....................................74
Глава третья. Упадок классицизма; волшебные сказки
и сатирический роман. Кребильон старший и Реньяр. Ламотт.
Ш. Перро и графиня Д’Онуа. Лабрюйер и Лесаж............83
Отдел второй. Регентство герцога Орлеанского
и министерство кардинала Флёри............................92
Глава первая. Одичание нравов дворянства
и усиление буржуазии...................................92
Глава вторая. Первые влияния Англии
на политику и естественные науки......................103
1. Массильон. Аббат де Сен-Пьер. ДАржансон.........103
2. Мопертюи........................................109
Глава третья. Общественные противоречия
в искусстве и в поэзии................................112
1. Поэзия. Прево. Кребильон младший. Грессе. Мариво.
Детуш. Нивелль де Лашоссе..........................112
2. Искусство. Куапель, Сюблейра, Парросель.
Ватто и его школа. Ван Лоо. Буше. Шарден............123
Книга вторая
Цветущее время французской
литературы просвещения
Введение. Французская литература
при Людовике XV..........................................133
5
Отдел первый. Вольтер и Монтескьё..........................146
Глава первая. Вольтер...................................146
1. Жизнь и личность Вольтера.........................146
2. Вольтер как философ...............................173
3. Вольтер как поэт..................................205
Глава вторая. Монтескьё.................................221
Глава третья. Экономисты. Кенэ и его школа..............230
Глава четвертая. Теория искусства Дюбо и Баттё..........234
Отдел второй. Дидро и энциклопедисты.......................239
Глава первая. Материализм, Ла Меттри.
Энциклопедия и салоны...................................239
1. Материализм. Ла Меттри............................239
2. Энциклопедия......................................244
3. Салоны............................................249
Глава вторая. Дидро.....................................254
1. Жизнь и личность Дидро............................254
2. Дидро как философ.................................264
3. Дидро как поэт и критик...........................283
Глава третья. Д’Аламбер.................................293
Глава четвертая. Робине и Гольбах.......................298
Глава пятая. Бюффон.....................................309
Глава шестая. Кондильяк и его школа. Кабанис. Де Траси..313
Глава седьмая. Учение материалистов
о нравственности. Ла Меттри. Гельвеций.
Сен-Ламбер. Вольней.....................................324
Глава восьмая. Разрыв с классицизмом. Бартелеми.
Летурнер. Мерсье. Седен. —Люлли и Рамо.
Филидор и Гретри. — Суффло. Грёз. Верне.................338
Глава девятая. Гримм и Correspondance litteraire........350
Отдел третий. Руссо и демократия...........................362
Глава первая. Жан-Жак Руссо.............................362
1. Руссо как философ.................................362
2. Руссо как поэт. Новая Элоиза......................398
3. Жизнь Руссо и его «Признания»......................401
Глава вторая. Начала социализма.
Морелле. Мабли. Рейналь.................................421
Гл ава третья. Бернарден де Сен-Пьер и Бомарше..........425
Книга третья
Могущество французской
литературы просвещения
Глава первая. Основная мысль
французского просвещения...................................443
б
Глава вторая. Влияния французского
просвещения на политику и литературу
за пределами Франции..................................449
Глава третья. Мирабо и Сийес..........................464
От издательства
Первое и единственное издание данной работы на русском языке
относится к 1897 году и представляет собой литературный памят-
ник XIX столетия. Это проявляется как в специфической лексике,
так и в нормах орфографии и пунктуации, актуальных более ста лет
назад и значительно отличающихся от современных.
Книга впервые издается в современной орфографии. При работе
над данным изданием грамматические особенности были учтены
и в большинстве случаев приведены к современным нормам. Не-
которые аспекты тем не менее могут обращать на себя внимание
читателя. Названия книг и периодических изданий на иностранных
языках приводятся в соответствии с оригиналом, поскольку часто
не имеют русскоязычных версий. Приоритетной задачей при подго-
товке данного издания было сохранить выдающийся научный труд
и сделать его актуальным и доступным.
Издательство «Юрайт», 2021 г.
Герман Геттнер
Русским читателям довольно известно имя Геттнера, как авто-
ра «Истории литературы XVIII века», которая, впрочем, переведена
на русский язык пока еще только наполовину. Первый том немец-
кой книги вышел в свет в половине пятидесятых годов, и сочинение
закончено было в шестой книге, в 1870 г. С тех пор сочинение Гетт-
нера имело в Германии обширный успех, так что в последние годы
многотомная книга дошла уже до пятого издания, — успех редкий,
который показывает, в какой мере автор успел привлечь читателя
своим изложением великой исторической эпохи. Должно сказать,
впрочем, что такова была и цель автора. Вооруженный, как свой-
ственно немецкому ученому, обширной эрудицией, Геттнер в этом
главном своем труде, как и вообще в своих сочинениях, не хотел
быть, однако, таким специалистом, который обращается только
к немногим собратьям по ученому кабинету: он хотел обращаться
к обширному кругу образованного общества: самый литературный
вопрос он старался поставить с той широтой, какую он на самом
деле имеет в жизни, объясняя тесную органическую связь поэзии
с искусством и с стремлениями науки, наконец, с самой реальной
жизнью, с вопросами политического быта и народного хозяйства,
с нравственным содержанием общества, нравами и обычаями.
Историю литературы Геттнер понимал не как историю книг, а как
историю идей, и в этом смысле история литературы XVIII века, где
он говорил собственно об Англии, Франции и Германии, — была для
него целым историческим циклом, составляющим преддверие исто-
рии современной. История XVIII века, поставленная в этом смысле
в первый раз, достигла действительно своей цели: она встретила тех
многочисленных читателей, каких желал для нее автор. В этой об-
ласти книга Геттнера остается до сих пор лучшей цельной картиной
литературы XVIII века.
Если для понимания крупного научного труда бывает важно по-
знакомиться с той обстановкой жизни и школы, какая воспитала
научного деятеля, то для русского читателя в данном случае подоб-
ная биография может иметь и другой интерес: она может познако-
мить, на одном из множества подобных примеров, с самым складом
немецкой жизни, ученой школы и, наконец, с историческим состо-
янием немецкого общества, среди которых возникали и созревали
научные стремления. В биографии Геттнера есть, без сомнения,
9
много чисто личного, принадлежащего, свойствам его ума и даро-
вания, но есть и много типического, принадлежащего немецкой
жизни и обычным условиям и уровню немецкой науки.
Биография Геттнера подробно рассказана его друзьями и людь-
ми, близко его знавшими; не вдаваясь в подробности слишком лич-
ные и местные, мы приведем из нее черты, имеющие упомянутый
типический характер1.
Герман Юлий Теодор Геттнер родился 12 марта 1821 г. в Силезии
и был сыном довольно состоятельного помещика, который был хо-
рошим сельским хозяином и жил постоянно в своем имении. Пер-
вое свое обучение он получил, как пишет биограф, в «деревенской
школе», а когда ему было лет одиннадцать-двенадцать, он учился
в маленькой приготовительной школе в соседнем местечке, кото-
рую вел «многосторонне образованный» деревенский пастор, у ко-
торого, кроме элементарных предметов, мальчик стал учиться так-
же, и весьма успешно, по-французски и по-латыни. Двенадцати лет
он перешел в гимназию в соседнем городке Гиршберге — в, пре-
красной местности у подножья Исполиновых гор. Эта гимназия в за-
холустной местности была, однако, ведена очень хорошо, и во гла-
ве ее стоял «превосходный филолог». Ученье шло весьма успешно;
юный гимназист мало интересовался математикой и естественной
историей, но зато тем больше был предан предметам историческим
и филологии. Биограф отмечает, что когда ученику было едва четы-
рнадцать лет, «в кругу его учителей мало-помалу распространялось
радостное убеждение, что Геттнер некогда с великим успехом будет
принадлежать науке». Он, без сомнения, отличался большой талант-
ливостью; но в вопросе школы любопытно то, что уже на этих пер-
вых шагах она доставляла наилучшие образовательные средства.
Директор Линге «был один из тех умных, многосторонних и, одна-
ко, основательных филологов, какие от второго до четвертого деся-
тилетий нашего века действовали почти в каждой немецкой гим-
назии»; «его преподавание должно было быть (судя по результатам)
в высшей степени привлекательным и возбуждающим; он в особен-
ности умел ввести своих учеников в дух греческой поэзии, и Гетт-
нер еще в самые поздние годы с одушевлением вспоминал об его
объяснениях Гомера и Софокла». «Один из учителей, Шуберт, — го-
1 Укажем несколько сочинений, посвященных этой биографии:
— Hermann Hettner’s Morgenroth, von Jac. Moleschott. Giessen, 1883.
— Hermann Hettner, von Bernhard Seuffert, в Archiv fur Litteraturgeschichte,
herausgegeben von Dr. Franz Schnorr von Carolsfeld. Bd. XII. Leipzig. 1884, стр. 1—25.
— Hermann Hettner. Ein Lebensbild von Adolf Stern. Mit einem Portrait. Leipzig,
1885.
— Любопытные черты для биографии Геттнера за время пребывания его
в Гейдельберге и Йене находятся в статье Gottfried Keller in Heidelberg und Berlin
(1848—1855). Nach den Briefen mitgetheilt von Jakob Bachtold, в Deutsche Rundschau,
1893—1894, t. 77, 78.
10
ворит дальше биограф, — был, как известно, одним из самых ран-
них объяснителей Гёте в Германии, один из первых, которые с пол-
ной преданностью гению поэта обнаруживали глубокое понимание
его произведений и особенно величайшего из них — “Фауста”».
Предметами его преподавания были история, география, немецкий
язык и литература и, наконец, «философская пропедевтика», кото-
рая читалась в старшем классе. Между прочим, он поощрял своего
даровитого ученика к занятиям немецкими поэтами, в особенности
к изучению Гёте, и сам ученик делал тогда поэтические опыты, где
его образцами были Маттисон и Рюккерт, Кернер и Уланд.
Независимо от того, что этот ученик отличался особенным даро-
ваньем, из сказанного можно видеть, что очень высоко был постав-
лен самый уровень преподавания, что гимназия умела сообщать
значительные познания, что она уже на этой ступени преподавания
способна была вводить своих питомцев в общие и идеальные во-
просы древней и новой литературы и отвечала тем порывам идеа-
лизма, которые так свойственны юношеству. Не мудрено, что еще
в гимназии составился кружок друзей с этими идеалистическими
стремлениями, в которых было, конечно, еще много незрелого,
но в которых было зерно дальнейшей здоровой и сознательной де-
ятельности. Вступая в жизнь, такому юноше не приходилось сожа-
леть о том, что много времени было потрачено им на вещи, которые
тотчас оказывались для него бесполезными; напротив, школа имен-
но доставляла ему основу, которую потом университет развивал
в том же направлении, только расширяя объем и горизонт знания.
И другие условия немецкой жизни помогали этому здоровому раз-
витию юношеского ума. Летом совершались столь обычные в Гер-
мании Ferienreisen, каникулярные путешествия, которые не ограни-
чивались ближайшей окрестностью. Летом 1836 г. Геттнер сделал
такое путешествие до Дрездена, которому принадлежали потом
долгие годы его деятельности в области искусства, и где теперь он
в первый раз воспринял страстный интерес к искусству в знамени-
той картинной галерее. Молодежь мечтала уже о будущем студенче-
стве, и в 1837 г. Геттнер с двумя из своих друзей предприняли более
далекое странствование. На первый раз целью его была Прага и ку-
рорты Богемии, но затем план расширился, и друзья отправились
в Вену. Путешествие совершалось пешком; но иногда они пользова-
лись крестьянской фурой, Rollwagen, которая, по словам биографа,
представляла собой «орудие пытки добрых старых времен»: так они
доехали до Брюнна, затем частью пешком, частью на крестьянских
фурах добрались до Вены. Здесь, как и в Праге, они пересмотрели,
конечно, все достопримечательности, церкви, дворцы, галереи, те-
атры и т. д. Биограф замечает, что уже в это время Геттнер почув-
ствовал, что едва ли он будет в состоянии удовлетворить желаниям
отца, который хотел сделать из него юриста, — потому что Дрезден,
и
Прага и Вена внушили ему стремление к изучению искусства. Ему
было тогда шестнадцать лет.
Скоро предстояло покинуть гимназию. О степени его гимнази-
ческих знаний можно судить по тому, что в конце курса он держал
в гимназии две речи: одна была на английском языке — об употре-
блении греческой мифологии в новейшей поэзии, другая на латин-
ском — о заслугах Лютера для немецкого языка. В октябре 1838 г.
он стал студентом берлинского университета по философскому фа-
культету.
Это было еще в последние годы короля Фридриха Вильгель-
ма III. Геттнер пробыл в Берлине пять семестров, до весны 1841 г.,
когда в немецкой жизни, и, между прочим, академической, насту-
пил поворот со вступлением на престол Фридриха Вильгельма IV.
Геттнер вступал в университет с намерением посвятить себя
специально изучению философии. Известно то абсолютное господ-
ство философии в немецких университетах, которое составило це-
лый период в истории науки. Со времен Гегеля это продолжалось
и теперь, и университетские годы Геттнера совпадали, во-первых,
с полным разгаром развития Гегелевской системы, в которой на-
чиналось раздвоение, и, во-вторых, с новым поворотом в ее внеш-
нем положении: когда прежде, в руках самого Гегеля и ближайших
учеников, она становилась как бы государственной философией,
теперь, в ее новом фазисе, она стала больше и больше возбуждать
недоверие в правительственных сферах. В берлинском универси-
тете Геттнер тотчас стал ревностным слушателем известнейших
профессоров, каких имел философский факультет. Философы Геге-
левской школы стояли, конечно, на первом плане. Геттнер слушал
у Габлера «философские институции» и «критику сознания», у Михе-
лета — психологию и «историю последних философских систем
в Германии», у Вердера — логику, и у Гото — эстетику; при этом он
работал самостоятельно и углублялся в задачи, развиваемые геге-
льянцами. «Могущественная система Гегеля, — говорит биограф, —
и выработка ее значительнейшими учениками великого прусского
официального философа в то время были еще мало оспариваемы;
необыкновенное значение, которое наука об абсолюте приобрела
для всей немецкой умственной жизни и для университетов, должно
было побуждать именно самых ревностных и даровитых питомцев
принять сколько возможно участие в дальнейшем развитии этой
системы. Собственно говоря, старшие ученики Гегеля питали глу-
бокое убеждение, что дальнейшее развитие системы в сущности не-
возможно. Но уже именно в это время (1837) так называемая левая
сторона гегельянцев задумала в журнале “Hallische Jahrbiicher”, ко-
торый основан был Арнольдом Руге и Эхтермейером, предпринять
это дальнейшее развитие, и именно в религиозно-философской
и историко-политической области достигнуть совершенно новых
12
применений системы». Молодой берлинский студент был самым
ревностным читателем этого журнала, и его критика, по-видимому,
производила на него более сильное влияние, чем лекции профессо-
ров: у Геттнера, по-видимому, появлялось уже легкое чувство недо-
вольства против чистой абстракции; во всяком случае он не разде-
лял высокомерного презрения строгих гегельянцев к конкретным
явлениям. Философия еще оставалась для него важнейшим предме-
том изучения, но рядом с этим для него сохраняли свой интерес его
давние исторические и филологические изучения. Берлинский уни-
верситет и в этом отношении представлял великие научные силы:
Геттнер слушал здесь историю греческой литературы и филологи-
ческую энциклопедию у знаменитого Бёка, историю средних ве-
ков и немецкую историю у Ранке, лекции о Демосфене у Дройзена.
Геттнер высоко ценил влияние в особенности Бёка и Ранке на свое
образование, и в конце концов они решили то направление, какое
приняли труды Геттнера в сороковых годах.
Неудивительно, что при этом сочувствии к левой стороне геге-
льянства молодой студент увлекался и теми зачатками политиче-
ского движения, какие все сильнее разрастались в образованных
кругах немецкого общества в течение сороковых годов; биограф
замечает, однако, что эти политические увлечения умерялись его
разносторонними интересами, между прочим к поэтической ли-
тературе. Вместе с тем его влекло к более оживленному обществу,
влекло к красотам природы, и в 1841 году он переселился в Гейдель-
берг, который с первых шагов произвел на него чарующее впечатле-
ние. В его семье подозревали, что Гейдельберг манил его не своим
научным содержанием, а скорее большим оживлением академиче-
ской жизни, большей свободой студенческого быта, — и это было
справедливо, потому что Геттнер тотчас вступил в корпорацию
и принял участие в ее обычаях, попойках, дуэлях и т. п.; но, с дру-
гой стороны, он слишком дорожил своими научными интересами
и в Гейдельберге опять встретил руководителей, которым был не-
мало обязан в своем научном развитии и в своем мировоззрении.
Здесь читал еще знаменитый некогда Крейцер, к которому он умел
уже относиться критически; но в особенности внушил ему великое
уважение Шлоссер, с которым он впоследствии сблизился тесным
дружеским образом. Из Берлина продолжались те Ferienreisen, ка-
кие он начал еще в гимназии, и еще шире он предпринимал эти
каникулярные путешествия из Гейдельберга. Однажды он сделал
путешествие на север по Рейну, в другой раз — на юг в Швейцарию
и в северную Италию до Венеции и затем до Мюнхена. Понятно,
что на юношу, который уже раньше чувствовал влечение к изуче-
нию искусства, Венеция произвела очень сильное впечатление сво-
ими художественными сокровищами, которыми тогда она была еще
богаче, чем теперь, и в результате путешествия он решил заняться
13
историей новейшего искусства. В Гейдельберге он не мог, конечно,
найти самых памятников этого искусства, но он имел всю возмож-
ность изучать здесь литературу предмета.
В 1842 году он покинул Гейдельберг. Он окончательно решил
вступить на ученое поприще и, по-видимому, думал приобрести
ученую степень в прусском университете, и, быть может, также
отец желал вывести его из шумной студенческой обстановки в Гей-
дельберге. Полагалось выбрать для дальнейшего пребывания Гал-
ле или Бреславль; в последнем он, кстати, мог удобно отбыть свою
воинскую повинность. Так или иначе, он поселился на первый раз
в Галле, где опять встретил в ученой коллегии Гегелевскую школу
и слушал здесь философию религии у Шаллера, философию поли-
тики у Гинрихса, лекции о Спинозе у Эрдманна. В конце концов он
сдал в Галле свой экзамен на докторство философии с латинской
диссертацией об Аристотелевой логике (Галле, 1843); затем провел
некоторое время в Бреславле, где отбывание воинской повинности
заняло лишь несколько недель: его нашли неспособным к военной
службе, хотя биограф рассказывает, что в корпорации в Гейдельбер-
ге он был настоящий бурш1 и tiichtiger Schlager2.
В это время полагались основы его будущей ученой деятельно-
сти. С одной стороны, он впервые вмешивается в философскую
борьбу того времени: в одном философском журнале, Wiegand’s
Vierteljahrschrift, который был одной из многих попыток продолжать
запрещенные перед тем Hallische Jahrbiicher, он выступил на защи-
ту антропологии Людвига Фейербаха в опровержение его «некон-
секвентных» противников. При этом оказалось, что его убеждения
окончательно клонятся к левой стороне гегельянства, что в тогдаш-
нем положении вещей было не вполне благоприятно для его ученой
карьеры. Геттнер, отец, посвященный сыном в тогдашнее, положе-
ние философских вещей, стал сомневаться в том, чтобы ему удалось
устроиться в каком-либо прусском университете (Геттнер думал
в первое время о приват-доцентуре в Бонне), потому что прусские
политические и церковные власти относились весьма враждебно
к левому гегельянству, — и Геттнер действительно теперь уже думал
устроить свою ученую деятельность в одном из заграничных уни-
верситетов; в данном случае таким «заграничным» университетом
предполагался Гейдельберг. С другой стороны, Геттнер возымел те-
перь план, который оказал решающее влияние на всю его дальней-
шую ученую и личную жизнь. Это был план путешествия в Италию.
Мы упоминали не раз, как с давнего времени, от раннего юно-
шества до университета, его привлекало историческое изучение ис-
кусства. Кроме непосредственного впечатления памятников, какое
1 Член студенческой корпорации. — Прим. изд.
2 Дословно «трудолюбивая ракетка» (нем.). —Прим. изд.
14
он испытывал в Праге, в Вене, в Венеции, в Мюнхене, его влечения
к изучению искусства усиливались теперь теоретическими сооб-
ражениями. В университете его в особенности занимали вопросы
эстетики, и хотя в своей докторской диссертации он был еще до-
брым гегельянцем, но в нем уже начала колебаться уверенность
в достаточности спекулятивного метода; наклонность к левой сто-
роне гегельянства была свидетельством сомнения в гегельянском
правоверии; во время пребывания в Бреславле он изучал историю
искусства и историю литературы, и в конце концов то, чтд долж-
но было служить только пособием для решения теоретических во-
просов, стало самой целью. Он начал сознавать, что чисто спекуля-
тивная эстетика, какую он изучал до сих пор, односторонне ставит
самую сущность искусства, не давая должного места всей полноте
личного творчества; он убеждался, что понимание искусства невоз-
можно без обширного изучения памятников, и необходимое усло-
вие для этого есть история искусства. В апреле 1844 года Геттнер
писал одному из гейдельбергских друзей о своих ученых планах;
мечтая об университетском поприще, на первый раз о приват-до-
центуре, он хотел исполнить это дело с честью: «из всех философ-
ских дисциплин меня, кроме философии религии, в особенности
привлекла теория искусства и его история; чем больше я входил
в последнее время в это изучение, тем больше я убеждался, что без
основательного личного изучения могущественных созданий древ-
него искусства едва ли может идти речь о настоящем понимании
сущности искусства. Поэтому во мне все сильнее и сильнее про-
буждалось стремление к вечной родине всей художественной жиз-
ни, Италии». Он был счастлив, что его отец понял его стремления
и дал ему возможность сделать желанное путешествие. Несколько
месяцев он употребил на приготовления к этому путешествию,
углубился в литературу по археологии и истории искусства, изу-
чал итальянский язык и в конце июля 1844 года отправился в путь.
Он предполагал пробыть в Италии год; но путешествие затянулось
на целых три года.
Из своей Силезии он направился на Вену и здесь, кроме произве-
дений искусства, он обратил особенное внимание на венские сады,
причем ему удалось встретить опытного практического руководите-
ля; а именно, он хотел определить отношение ландшафтного садо-
водства к ландшафтной живописи, — и это опять было выражением
зародившихся сомнений в том, правильно ли эстетика Гегеля опре-
деляла отношение красоты природной и красоты художественной.
В Венеции он пробыл недолго, потому что спешил в Рим. В то время
в Италии путешествовали в дилижансах и с веттуринами, путеше-
ствие было медленно и не весьма удобно, но зато получалось гораз-
до больше впечатлений и от пейзажа, и от самой жизни и людей.
Италия произвела на Геттнера чрезвычайно сильное впечатление
15
красотами природы, историческими воспоминаниями и богатства-
ми памятников искусства. Он прибыл в Рим в начале октября.
Здесь опять мы видим пример того, какие богатые образователь-
ные средства могла доставить немецкая наука для начинающего
ученого, который вступал в ее область. В Берлине, Гейдельберге,
Галле Геттнер мог учиться у величайших светил тогдашней немец-
кой науки; отражения этой науки он нашел и в Риме, когда впервые
приступал к непосредственным изучениям археологии и истории
искусства. В первые же дни он встретился и сдружился с молодым
немецким археологом Брунном, который уже давно жил в Риме,
и познакомился с другим немецким ученым, Гизебрехтом, столь из-
вестным впоследствии историком старой немецкой империи. Пер-
вое знакомство с достопримечательностями Рима, хотя и при таком
опытном руководстве, какое давали ему обширные познания Бруи-
на, убедило Геттнера, что этот новый мир, открывавшийся перед
ним, требует долгого и внимательного изучения, чтобы могло быть
достигнуто сознательное усвоение его содержания. Уже теперь он
решил, что ему необходимо остаться в Италии дольше, чем он пред-
полагал. Условия для изучения, как мы сказали, были очень благо-
приятны. Кроме художников, он нашел в Риме целый кружок мо-
лодых немецких ученых, большей частью историков и археологов,
которые сосредоточивались около немецкого археологического ин-
ститута в Риме. Понятно, что в этом кругу в особенности занима-
лись классическою древностью. Геттнер не остался чужд этим ин-
тересам и принял участие в «Анналах» немецкого археологического
института, издававшихся на итальянском языке; но его гораздо бо-
лее привлекало средневековое и современное искусство, и вместе
с тем он возвращался к общему вопросу эстетики, в понимании ко-
торой он уже начинал расходиться с господствующими мнениями,
и в том же журнале Виганда он написал в это время статью «Против
умозрительной эстетики».
В Риме, как говорит биограф, Геттнер «нашел кружок товари-
щей с одинаковыми стремлениями и переживал с ними во второй
раз академическое время, которого прелесть существенно возвы-
шалась грандиозной обстановкой и богатыми надеждами личного
труда в сочувственном кругу». «Рим имеет то приятное, — писал
тогда Геттнер своим родным, — что там собственно никогда нельзя
быть праздным. В то время как в Германии прогулки бывают обык-
новенно потеряны для работы, и работа ограничивается только
кабинетом, здесь она происходит, собственно, только на улице
и в музеях и церквях. На каждом выходе из дому находишь драго-
ценные произведения искусства и памятники, которые призывают
к наблюдению и наслаждению, так что мне приходится постоянно
бегать, и я только утро и вечер могу употребить для подготовки.
Но этому вечному странствованию чрезвычайно благоприятству-
16
ет удивительно прекрасная погода» (писано в конце ноября 1844).
Кроме упомянутого Бруина, он имел еще ученых друзей во Фрид-
лендере и Моммсене: «Это достойные, любезные люди, — писал он
домой, — основательно образованные, из бесед с которыми я также
извлекаю много удовольствия и пользы. Так как мы всегда вместе
рассматриваем произведения искусства, вместе о них размышляем
и обсуждаем их, то тем самым мы в значительной степени возбу-
ждаем друг друга и помогаем один другому. Вообще одно из вели-
чайших преимуществ, какими я здесь пользуюсь, состоит в том, что
я постоянно живу в возбуждении, в среде людей одинаковых со мной
стремлений. Если прибавить еще, что ни один город не представля-
ет в такой степени, как Рим, встреч и сближения с значительными
иностранцами и путешественниками, то вы можете легко предста-
вить, в какой возбужденной и разнообразной жизни я нахожусь...»
«Я живу и движусь в искусстве, — продолжает он, — и знаю, что
здесь для моей деятельности открыто прекрасное и богатое поле.
Это поле, на котором я не приду в разлад с государством и где я при
истинном стремлении, — а я сознаю его в себе, — могу ждать и хо-
рошей внешней карьеры, и удовлетворяющего внутреннего призна-
ния». Этот разлад с государством относится к упомянутому выше
преследованию левого гегельянства со стороны прусского прави-
тельства. «Задачей следующих лет моей работы я считаю выработ-
ку эстетики. Так как мои прежние философские изучения привели
меня к такой точке зрения, с которой я считаю необходимым иначе
определять сущность этой науки, чем это сделано у Гегеля, то я за-
думываю теперь выработать основу, введение к моей позднейшей
работе, и когда оно будет окончено, напечатать под заглавием
“К реформе эстетики” или в виде рецензии вышедшей недавно кни-
ги профессора Фишера в Тюбингене. Мне хочется наконец приве-
сти в порядок все те идеи, которые с моего вступления в Италию
волновались в моей голове, и установить почву и исходный пункт
для будущей деятельности». Названный выше Теодор Моммсен был
знаменитый теперь историк древнего Рима.
Когда в начале апреля в 1845 Геттнер отправился из Рима в Неа-
поль и затем в Сицилию, его и там сопровождала эта возбуждающая
среда в дружеском общении с представителями немецкой науки
и поэзии. В Неаполе, кроме знакомств с итальянцами, он встре-
тил опять молодых немецких ученых и между ними знакомого уже
раньше Моммсена; но самым значительным из новых знакомцев
был известный поэт Фридрих Геббель, живший тогда в Италии
на датскую стипендию. «Демоническая личность поэта, — говорит
биограф, — привлекала молодого ученого тем неодолимее, что Геб-
бель был вовсе не чужд тем эстетическим вопросам, с которыми но-
сился Геттнер. Письма Геттнера к его римскому другу Брунну свиде-
тельствуют о том сильном влиянии, какое оказал за это время автор
17
“Марии Магдалины” на его суждения и воззрения». В последние
годы Геттнер исключительно отдавался историко-художественным
изучениям, и Геббель пробудил в нем снова интерес к поэтическим
вопросам. Впоследствии Геттнер говорил об этой встрече в замет-
ке, сообщенной им для биографии Геббеля: «Я был тогда молодой
человек двадцати трех лет, у которого школьная мудрость заучен-
ной Гегелевой философии была спутана свежими впечатлениями
итальянских произведений искусства, который носил в себе тысячу
вопросов, требующих решения, не всегда находя для них тотчас до-
статочного решения в собственном мышлении, и потому я с удвоен-
ным интересом слушал ответы Геббеля, который в несколько иной
форме пережил в себе тот же процесс и перед моими колебаниями
являлся с готовым убеждением. Я сознавал ясно, что был обязан ему
бесконечно много. В наших кружках главную роль играл тогда Мом-
мсен, но только издали, так как он оставался в Неаполе недолго,
и, хотя в своей юности он сам был поэтом, был чужд поэтическим,
и художественным вопросам».
Быть может, еще более сильное влияние имел на Геттнера другой
ученый соотечественник — Адольф Штар, с которым он встретил-
ся также в Неаполе. Это был человек старшего поколения (1805—
1876), многосторонний ученый, имевший свои большие заслуги
по изучению классической древности, литературной и художествен-
ной, вместе с тем близко принимавший к сердцу тревожные вопро-
сы времени, только что перед тем ревностный сотрудник Hallische
Jahrbiicher, наконец художественный теоретик и критик. Геттнер,
как рассказывает биограф, «тотчас познакомился с этим умным,
разносторонне образованным человеком, который, был тогда силь-
но возбужден борьбой, совершавшейся в немецкой политической
и литературной жизни, и до такой степени к нему привязался, что
это повредило его отношениям к Геббелю, Моммсену и некоторым
другим знакомым. Рядом с блестящими достоинствами Штар отли-
чался той раздражительной ревностью, которая делала невозмож-
ными отношения к людям, хотя, с теми же интересами, но с други-
ми воззрениями. Он предпринял путешествие в Италию для своего
здоровья, и это путешествие возбудило его к новой жизни и к новой
повышенной деятельности». Результатом этого пребывания в Ита-
лии была одна из известнейших книг Адольфа Штара, «Ein Jahr in
Italien». К молодому ученому он относился с большим сочувстви-
ем, но Геттнеру пришлось испытать на себе последствия крайней
нетерпимости Штара, так как это привело его к столкновениям
с противниками его нового друга, и биограф высказывает, кроме
того, сожаление, что Штар снова пробудил в Геттнере наклонность
к «тенденциозной литературе» того времени.
Из Неаполя он сделал в мае путешествие в Сицилию. Он отпра-
вился туда опять в компании с двумя молодыми учеными, из кото-
18
рых один, Фридлендер, бывал уже раньше в Сицилии. Здесь способ
путешествия был уже совершенно первобытный. «Здесь совсем нет
правильных дорог и только в больших городах есть гостиницы, —
писал он домой. — Вследствие сильной жары и за отсутствием мо-
стов нельзя было и думать о путешествии пешком; за недостатком
дорог и экипажей единственным возможным способом путешествия
остается мул. И так как по дороге мало гостиниц и по большей части
они плохи, то путешественник должен всю провизию брать с собой.
Таким образом наше путешествие выходит очень оригинально. Мы
составляем настоящий караван. Впереди едет проводник Джованни
Фелечиа, за ним следуем мы трое на неповоротливых мулах, затем
слуга с мулом, который везет наш багаж, и наконец слуга с мулом,
который везет наилучшее, чтд мы имеем, т. е. нашу провизию»,
и т. д. Их проводник оказался превосходным поваром, который
с трогательной отеческой любовью заботился о путешественниках.
Дорога была отвратительна, но труд путешествия вознаграждался
поразительными картинами природы и археологическим опытом.
Из Неаполя Геттнер сообщал сведения и римскому другу Бруи-
ну и прежде всего о своем сближении со Штаром. «В самом деле,
наши изучения, собственно говоря, общие. Штар и я имеем общие
принципы, это взаимный обмен, мы помогаем друг другу, потому
что относительно формальной части образовательных искусств
я, благодаря твоим наставлениям, сильнее его, между тем как он
умеет очень проницательно выводить эстетические результаты. При
его помощи я всего удобнее войду в литературу предмета, чтд уже
давно я поставил себе целью. Таким образом на будущую зиму мы
уже уговорились о многих работах, частью общих, частью самостоя-
тельных», — а именно они предполагали вдвоем перевести историю
Неаполя Коллетты. Он определил теперь и свой взгляд на археоло-
гию. «По моему мнению, настоящая наука археологии начинается
только там, где теперь большею частью археологи оканчивают. Не-
смотря на великий пример Винкельмана, итальянцы остались архе-
ологами. Яснее говоря, археологи останавливаются только на внеш-
нем материале. Они хотят знать, чтд здесь представлено. Это верно
и необходимо, столь необходимо, что нельзя понять, как давно уже
не пришли к мысли собрать легенды и истории святых, составляю-
щие сюжет итальянской живописи, т. е. написать мифологию хри-
стианского искусства. Быть может, я стану собирать для этого ма-
териалы. Но только дети успокаиваются на этом вопросе! И к ним
принадлежат итальянцы и итальянствующие немцы и французы,
которые считают за одно и то же объяснение искусства и науку
об искусстве».
Но дружба с Адольфом Штаром, как мы упоминали, отозва-
лась для Геттнера неприятными столкновениями по возвращении
в Рим. Штар привлек Геттнера к сотрудничеству в «Бременской
19
Газете», которая стремилась тогда сделаться для Германии второй
Allgemeine Zeitung, но в ультралиберальном смысле. Политические
идеи Штара и, вероятно, также его отношение к той внешней архео-
логии, о которой мы приводили слова Геттнера и которой в особен-
ности занимались в немецком археологическом институте, повели
к разрыву Штара с главой этого института, Эмилем Брауном, и это
отозвалось на Геттнере, которого называли «адъютантом Штара».
Между прочим, он думал также и о своей будущей карьере. Био-
граф рассказывает: «Переписка, которую он вел с разными универ-
ситетами о своем будущем устройстве, показала ему, что в Пруссии
совсем не хотят гегельянцев, даже на нейтральной почве истории
искусства и эстетики. Только в Бреславле представлялась некото-
рая перспектива, но Геттнеру всего меньше хотелось отправляться
именно в столицу своей родной провинции. Чтд было делать исто-
рику искусства в таком месте, где студент не увидит ни одной кар-
тины, и где поэтому будет отсутствовать всякое побуждение зани-
маться историей искусства?» Но последнее время жизни в Италии
было поглощено и другими личными интересами и заботами. Он
сблизился с одним немецким семейством и увлекся девушкой, ко-
торая стала потом его женой. Это была дочь лица, игравшего зна-
чительную роль в немецком дипломатическом кругу, и взаимная
привязанность не устраняла трудностей брака, так как молодой
ученый не имел пока никакого определенного положения, а отец,
живший в Германии, давал свое согласие только тогда, когда Гетт-
нер достигнет этого определенного положения и даже когда он зая-
вит себя первым крупным ученым трудом. В конце января 1847 Гет-
тнер простился с римскими друзьями, отправился морем в Марсель
и через Лион и Страсбург прибыл в Гейдельберг; в феврале успешно
сдал свой коллоквиум, в марте пробную лекцию на заданную тему
о древнейших школах греческого искусства, сдал публичный дис-
пут и получил приват-доцентуру археологии, эстетики и истории
искусства в философском факультете гейдельбергского университе-
та. Он должен был начать лекции в летнем семестре того же года.
Он побывал затем дома в Силезии и в апреле был снова в Гейдель-
берге: в первом собрании «кружка приват-доцентов» он перезнако-
мился с своими будущими товарищами и в особенности с первого
раза сдружился с одним из них, который в это же время получил
приват-доцентуру. Это был столь известный впоследствии анатом
и физиолог Якоб Молешотт; голландец родом, питомец гейдель-
бергского университета в первое время, потом врач, он был доцен-
том в Гейдельберге с того же 1847 года до 1854; оставив кафедру
вследствие того, что министерство не одобряло его материалисти-
ческих воззрений, он был приглашен в 1856 профессором физио-
логии в Цюрих, в 1861 — в Турин, в 1876 он сделан был сенатором
итальянского королевства, а с 1879 стал профессором физиологии
20
в римском университете. Тесная дружба с Геттнером (они были поч-
ти ровесники) опять является не безынтересной чертой немецкой
научной жизни. Оба по своим общим воззрениям были питомцами
той после-гегелевской эпохи, когда чисто умозрительная филосо-
фия переставала удовлетворять молодые поколения, когда в этих
поколениях являлось стремление связать философию с жизнью
и на место неосязаемых отвлеченностей становилась с одной сто-
роны потребность вмешаться в действительную жизнь, с другой —
проверить умозрение реальным изучением тех областей, в которых
это умозрение распоряжалось так повелительно. Мы видели, что
Геттнер уже рано усомнился в умозрительной эстетике и приходил
к убеждению, что понимание искусства может быть достигнуто
только на почве его истории. Без сомнения, еще сильнее должны
были чувствовать это недовольство люди из другой области нау-
ки — как естествознание. Известно, что в конце концов с этой сто-
роны, а также и со многих других, умозрительная философия, на-
конец, совершенно потеряла кредит: требовалось исключительно
только точное реальное знание в области природы, и историческое
изучение в области внешней судьбы человечества, литературы и ис-
кусства... В конце сороковых годов спор еще не был решен, но эти
новые стремления были уже очевидны: в философских вопросах,
например в вопросах нравственности, религии, на место умозре-
ния ставилась антропология; философский анализ направлялся
на реальные вопросы жизни, вмешивался в политику, в определе-
ние социальных отношений общества и т. д. Прежний философский
консерватизм превращался в политический либерализм; чистое ис-
кусство, само себя удовлетворяющее, становилось тенденциозной
поэзией. Это был уже канун двух тревожных годов, когда внутрен-
нее брожение немецкого общества высказалось, наконец, извест-
ными революционными волнениями.
Дружба эстетика и натуралиста началась раньше этих событий,
которых они не предчувствовали и которые после коснулись их
очень мало, хотя нравственно, конечно, не могли также их не вол-
новать. Это были молодые кабинетные ученые, мирно предавав-
шиеся каждый своим изучениям. Общая почва нашлась в том духе
времени, воздействиям которого они не могли остаться чужды.
Не только эстетик, но и естествоиспытатель, — последний, несмо-
тря на материалистические воззрения, навлекшие потом на него
столько осуждений, — были оба величайшими идеалистами, и есте-
ствоиспытатель сохранил этот идеализм и тогда, когда тридцать
пять лет спустя писал свои воспоминания о друге своей молодости
в упомянутой выше книжке.
Его с первого раза привлекла оживленная и любезная внеш-
ность и манера нового знакомца; «но, быть может, — говорит Мо-
лешотт, — сблизила нас тогда не столько эта любезность, сколько
21
внутреннее научное единство». Оба они начали с Гегеля и перешли
к философии его преемников. «Мы оба, как гейдельбергские студен-
ты, убедились, что в чудной долине Неккара вовсе не веет фило-
софским воздухом. Это испытал сам Гегель... этот опыт пережили
и многие другие. Для нас было величайшей радостью, что мы оба,
не имевшие прямой задачей обучать спекулятивной философии
и так основательно от нее отказавшиеся, в первую минуту нашего
знакомства убедились, что будем иметь друг в друге твердую опо-
ру в самых общих вопросах мысли, в самых высоких человеческих
загадках, он — просвещая меня искусством, я — поучая его, как
сам поучался и черпал из природы. — Пусть не думают, однако, что
мы были мудрее нашего возраста...» «Мы работали наперерыв», —
продолжает Молешотт; сам он в это время получил работу от своего
старого профессора Тидеманна — вновь обработать третий том его
«Физиологии». «Наша деятельность была тем более энергическая,
что мы оба в первый раз читали лекции, и Геттнер — именно об ис-
кусстве и философии». Его лекции с самого начала имели большой
успех. У Геттнера были еще свежи впечатления произведений искус-
ства, изученных в Италии, свежи воспоминания бесед с Адольфом
Штаром и другими итальянскими друзьями. «Самая сочная действи-
тельность в пестром, чувственном Риме подложила прочные обра-
зы и цветные линии под его гегельянские умозрения, под эти рас-
плывающиеся, но бесконечно богатые туманные картины, так что
его преподавание с первой минуты вовсе не было умозрительным
притворством, охотой за схемами и погоней за понятиями, — но ру-
ководством к созерцанию искусства, упражнением в художествен-
ной критике, творческим представлением чудес искусства, так что
казалось, будто видишь Фидия за статуей и Рафаэля за картиной,
будто понимаешь, к чему стремился один в своем Зевсе, другой —
в своей Мадонне. Речь была вполне в его распоряжении, как отчека-
ненная художественная форма...» Молешотт удивлялся легкости его
работы. Они жили в одном доме; только их комнаты были в разных
этажах; виделись они каждый день. «Я никогда не замечал, чтобы
он с трудом готовился к своим лекциям, но иногда видел, как в по-
следнюю минуту он разыскивал под мебелью какой-нибудь листок,
где наскоро было написано несколько строк его заметок. Порядок
был для него тогда, излишний предрассудок, или по крайней мере
очень непривычный гость...»
Молешотт вспоминал, как долго спустя, в 1877, он опять свидел-
ся с Геттнером во Флоренции, и тот с тем же воодушевлением объяс-
нял их кружку красоты старого итальянского искусства.
В этот первый год гейдельбергской жизни Геттнер работал над
книгой, которая была его первым крупным ученым трудом. Это
была его «Vorschule zur bildenden Kunst der Alten». Эта книга го-
ворила о греческом искусстве; должна была быть вторая часть —
22
об искусстве римлян и этрусков; но она не была написана. Мы
упомянем дальше об отзывах тогдашней немецкой критики, кото-
рая встретила книгу, по разным причинам, вообще не очень дру-
желюбно. Но друг — натуралист, на глазах которого она писалась,
ценит, ее очень высоко: «Это одна из тех книг, которые хотелось бы
лучше прочесть от начала до конца, чем излагать ее содержание...
Мне не приходила мысль, чтобы эта книга не произвела сильней-
шего впечатления, чтобы издание не следовало за изданием. Те-
перь я до некоторой степени понимаю. Хотя прошло почти уже сто
лет с тех пор, как явилась история древнего искусства Винкельма-
на, несмотря на “Лаокоона” Лессинга, несмотря на “Ватиканского
Аполлона” Ансельма Фейербаха, в Германии была еще очень слаба
потребность в учениях об искусстве, потому что было еще мало воз-
можности видеть произведения искусства... Свежая книга Геттнера
явилась слишком рано».
Он убежден, что некогда изменится это холодное отношение
к искусству. Искусство представляется ему священным, как религия,
потому что религией может быть не одно конфессиональное уче-
ние. «Нет, независимо от этого в каждом человеке живет нечто, что
ему священно, что означает для него высочайший долг, блаженней-
шее влечение, самое горячее убеждение, самое чистое добро, для
чего благородный человек живет и умирает, от чего робкий со стра-
хом отказывается, что может нечестиво предать только холодный
и низкий».
Исторически, конфессиональное учение, где оно было форму-
лировано, и искусство проистекают из одного источника, и таким
образом часто, но не необходимо искусство идет рука об руку с ве-
рой, но необходимо и неизменно искусство соответствует религии
и составляет ее новую ступень. «И в этом вместе с тем, — говорит
Молешотт, — заключается вечность и изменчивость искусства.
Это воззрение было развито у Геттнера до высшей степени со-
знания, но оно принадлежало, не ему одному. Что отличало его
от других и доставляло ему прекрасную роль нововводителя, это
было то единство, в каком он совмещал все искусство... Геттне-
ру казалось прискорбной случайностью, что изучение искусства,
цельность которого так прекрасно воплощает греческий Аполлон,
печальным образом распалось на бессвязные части. Почему все-
го чаще именно филолог должен быть обязан понимать сущность
греческой трагедии? Бывает ли обыкновенно художественное
чувство так развито у историков, чтобы они понимали различие
между Фидием и Праксителем? Должны ли непременно археоло-
ги объяснять нам сущность памятников зодчества или теологи
объяснять прелесть христианского искусства? И если кто-либо
из этих «специалистов» мог иногда сделать что-нибудь прекрас-
ное относительно истории искусства, это была пустая штучная ра-
23
бота, которая оставляла нетронутой сущность искусства и не по-
падала в его сердце, жизненный пункт его развития».
«Обыкновенно, — продолжает Молешотт, — с изложением искус-
ства идет плохо именно у историков. Для Геттнера, как и для меня,
Фридрих Кристоф Шлоссер был образцом нравственного величия
и научной серьезности. Он был для нас как будто другом и отцом,
в дверь которого мы никогда не стучались напрасно, порог кото-
рого мы никогда не переступали без сознания, что мы вернемся
из его кабинета нравственно поднятые, если мы шли к нему с стес-
ненным сердцем или опечаленные. Шлоссер был историк, который
принимал в свои широкие рамки все элементы духовной жизни, как
источник и выражение исторического развития, — но мы не могли
признать за ним художественного чувства, хотя он вовсе не прене-
брегал искусством. Что это последнее было верно, можно доказать
(чтобы упомянуть хотя бы один пример) его подробной оценкой
Жорж Санда, — когда иной немецкий ученый того времени поч-
ти постыдился бы так хорошо знать ее произведения. Что у него
не было художественного чувства, это достаточно доказывает его
стиль, — тот отрывистый, угловатый, убедительный, иногда тяже-
лый и бесформенный стиль, который, быть может, одной долей его
поучительного действия обязан этому недостатку в художественных
свойствах». Подобное замечание Молешотт делает и о Гервинусе.
«Так как Геттнер чувствовал искусство как единое целое; он
был вполне убежден в его, по природе необходимом, развитии,
и, не бывши шеллингианцем, или гегельянцем, или вообще школь-
ным философом, он уже этим показал, что учения Шеллинга и Ге-
геля не остались для него потеряны». Молешотт замечает, что ска-
занное Геттнером в предисловии к Vorschule о греческом искусстве
выражает ту основную мысль, которая выросла у него, вообще,
из его художественных изучений и руководила им потом в дальней-
ших исследованиях. Он говорил: «Отдельные произведения искус-
ства являются здесь не результатами какой-нибудь произвольной,
единичной, личной фантазии художника, которая рефлектирует
над отдельными сюжетами и формами и сознательно выбирает
между ними; напротив, они по содержанию и форме гораздо более
вырастают из целого чувства их определенной эпохи, я сказал бы,
вырастают инстинктивно, представляют только художествен-
но-просветленную душу целого века. Поэтому греческое искусство
в своем историческом ходе обнаруживает такое нормальное, по-
стоянное, непрерывное развитие; поэтому и развитие отдельных
искусств совершается в самой тесной параллельности и взаимодей-
ствии, потому что все одинаковым образом являются глубочайшим
выражением своего времени». Геттнер высказывал желание, чтобы
скорее пришло то светлое будущее, когда понято будет, что «гармо-
ническое, истинно человечное воспитание немыслимо без чистого
24
образования вкуса», и его друг натуралист уверен, что юношеская
книга Геттнера до сих пор может иметь в этом смысле благотвор-
ное действие, может объяснить, что надо понимать под очищением
через искусство: историческим развитием расширяется внутреннее
сознание человечества, и «задача всей истории искусства в том, что-
бы показать, что за формальным образованием известного художе-
ственного произведения в художнике действовала душа всемирной
истории, через него проявляла в его произведениях известные выс-
шие пункты своего развития и таким образом в ряде следовавших
одно за другим художественных произведений диктовала образны-
ми письменами свои летописи».
В апреле 1848 Геттнер женился, и когда потом женился также
его друг Молешотт, две молодые семьи жили в самой тесной друж-
бе. Бурные политические события возбуждали в обоих доцентах са-
мый страстный интерес, причем им становилась очевидна великая
историческая важность социального вопроса, который для полити-
ков прежней школы, между прочим в кругу старших профессоров,
как бы не существовал. События не мешали, однако, и ревностной
академической деятельности; в ближайшие семестры Геттнер читал
самые разнообразные курсы, например, археологию, т. е. историю
образовательных искусств у греков, этрусков и римлян, историю
живописи, лекции о Гёте, о Спинозе и его отношении к настояще-
му времени; далее историю новой немецкой литературы, поэти-
ку, лекции о Кальдероне и Шекспире, историю поэзии и искусств
от Готтшеда и Рафаэля, Менгса до настоящего времени. Он принял
также участие в журнальной литературе, как художественный и ли-
тературный критик. Мы скажем дальше о более крупных работах,
выходивших отдельными книгами.
В Гейдельберге он пробыл, однако, недолго. Как ни была для
него привлекательна во многих отношениях жизнь в этом городе,
он не был удовлетворен своим положением в университете, где
не представлялось близкой возможности получить настоящую про-
фессуру. Поэтому он с удовольствием принял приглашение из Йены,
и весной 1851 переселился в этот небольшой и оригинальный уни-
верситетский город в качестве экстраординарного профессора фи-
лософского факультета. Здесь встретили его очень радушно, и у него
снова явилась дружеская среда с многосторонними научными и ли-
тературными интересами. Веймар-Йена и теперь составляли как бы
одно целое, как некогда во времена Гёте и Шиллера; и в это время
они жили не одними воспоминаниями о своем старом значении
для немецкого образования: Йенский университет не переставал
заключать в своей среде замечательные научные силы; Веймар до-
ставлял Йене театр, как Мангейм Гейдельбергу, с замечательными
сценическими дарованиями; и когда перед тем поселился в Вейма-
ре Лист, этот город опять приобрел особую притягательную силу.
25
Геттнер вскоре совершенно вошел в жизнь Веймара-Йены и между
прочим через Адольфа Штара близко познакомился с Листом, в ко-
тором высоко ценил замечательную личность, глубокую и любез-
ную художническую натуру. В Веймаре была и своя школа талантли-
вых живописцев, так что и с этой стороны Геттнер находил для себя
художественную пищу.
Уже вскоре после переселения в Йену он с новой стороны расши-
рил свои изучения истории искусства, а именно исполнил давнюю
мечту о путешествии в Грецию. Он предпринял это путешествие
весной 1852 с двумя йенскими учеными, из которых один был за-
мечательный филолог, уже в четвертый раз отправлявшийся в Гре-
цию, старый профессор Гёттлинг, другой — библиотекарь в Вейма-
ре Преллер, автор ценных книг о греческой и римской мифологии.
Через Лейпциг, Дрезден и Вену они прибыли в Триест, откуда на-
правились морем к берегам Греции. С дороги, из Афин и других
мест Греции Геттнер писал домой подробный рассказ о своих на-
блюдениях и впечатлениях, который вошел отчасти в изданные им
потом «Griechische Reiseskizzen». Эта книга, кроме специально-ар-
хеологических объяснений, дает живую картину путевых впечатле-
ний и, между прочим, тех особых впечатлений, какие испытывал
не только он один, но, вероятно, многие классические филологи,
которые направлялись в новейшее время на родину греческой поэ-
зии и искусства, на место действия греческой истории. Все досто-
примечательные местности, все исторические и поэтические воспо-
минания были давно известны, и каждый раз, при встрече с ними
в новейшей обстановке людей и нравов, путешественник приходил
в странное недоумение, а иногда и в отчаяние. Древние памятники
Акрополя представляли картину разрушения, в которой и опытным
археологам трудно было ориентироваться. «Правда, — говорит он
о Пропилеях и Парфеноне, — эти возносящиеся в высоту колонны
и карнизы кровли своими прекрасными формами и размерами на-
полняют нас удивлением и восторгом; но на первый взгляд фанта-
зия не в состоянии живо восстановить целое в его полной красоте
из того ужасного разрушения, какому подверглось и это здание. Ко-
лонны, лишенные теперь кровли, перекладин и отчасти капителей,
жалобно поднимаются в голубом воздухе, и кругом на полу вну-
треннего пространства храма лежат в диком беспорядке прекрас-
нейшие остатки зодчества: страшное поле битвы, где искалеченные
трупы и члены возбуждают только горесть и ужас. Можно много
раз видеть на картинах и в книгах это разрушение и читать о нем,
но здесь на месте оно производит такое поражающее действие, ка-
кого я не представлял себе никогда. Фантазия работает и работает,
чтобы преодолеть это подавляющее впечатление, но это ей не уда-
ется. .. Словом, первый день в Афинах был для меня днем мучений».
В конце концов он привык к этому зрелищу и в состоянии был ра-
26
зобраться в том, чтд он видел перед собой, и научился найти меж-
ду развалинами «живую картину цельного величия этих высших
художественных созданий человеческого духа». Каждый день он
отправлялся на Акрополь, и описание его с археологическими ху-
дожественными объяснениями составило главную часть «Путевых
очерков». Греческий народ производил на него такое же двоякое
впечатление. Не было следа великой древней жизни; трудно было
сказать, сколько в новом племени славянской примеси; страна была
бедна, — но тем не менее ему вспоминалась иногда классическая
древность. Он видел народ в его простом быту, в глубине Пелопон-
неса, и видел его высший круг на придворном балу у короля Отто-
на, где являлись и греки старого закала в национальных костюмах,
без малейшей наклонности к новым европейским обычаям. «Это
варвары, — говорил он, — но в них есть поэзия. Понимаешь, что
эти дикие люди в освободительной войне должны были взять верх
над многочисленностью истощенных турок». «Не могу указать, как
мне тягостно было видеть все это, — говорит он о придворном бале,
где греки-мужчины держались особняком. — Да, я очень хорошо
знаю, что живущий прав и что было бы пустой романтикой желать,
чтобы в Афинах на каждом шагу нам встречался какой-нибудь Фе-
мистокл, Перикл или Платон. Но мелкое становится еще мельче,
чем самодовольнее оно подходит к возвышенному величию. Когда
я смотрел на эти служительские ливреи дипломатов и безвкусно су-
хие модные танцы и думал, что все это происходит в Афинах, мне
казалось каждую минуту, что вот, войдет в двери какой-нибудь ста-
рый почтенный марафонский воин и в справедливом негодовании
выгонит всю эту пустую компанию в балаган. Именно здесь, — за-
ключает поклонник античной красоты, — где постоянно и неволь-
но навязывается сравнение с древностью, чувствуется живее, чем
где-нибудь, какая ненаполнимая пропасть отделяет нас от здоровой
красоты древнего греческого мира, и какая неясность и ребячество
есть все то, чтд в нашем нынешнем образовании топорщится как
красота и поэзия жизни». Вместе с тем его глубоко поражала кра-
сота греческой природы. Путешествие совершалось первобытны-
ми способами, но его неудобства вознаграждались удивительным
богатством пейзажа. Таково было поражающее впечатление грече-
ской природы в Акрокоринфе. «Все чудеса Швейцарии и Италии ис-
чезают перед величием этого совершенно несравненного пейзажа».
Направо и налево было два моря, кругом горы, долины и равнины
Пелопоннеса и Аттики, где путешественникам вспоминалась слав-
ная топография древней Эллады. Мессения показалась ему самой
прелестной местностью Греции, где всего больше сказалась южная
природа. Отсюда их путь шел в Олимпию, где потом произведены
были знаменитые раскопки, которые хотя не восстановили древне-
го великолепия этой долины, но опять дали намек на художествен-
ное величие античной Греции; в то время Геттнер только, вспоми-
нал о том, чем была некогда эта местность, которая теперь была
пустынна и печальна: окрестные горные вершины были безлесны
и голы, Алфей покинул свое старое каменистое ложе, и равнина
превращалась в болото; лишь немногие развалины напоминали
о величии древних храмов.
Ему казалось, однако, что в самом народном типе еще сохраня-
лись иногда черты древнего эллина. На улице одного города он ви-
дел однажды, как ходили рука об руку один начальник паликаров
и знатный человек из Спарты: «они держались так гордо и с таким
сознанием своей красоты, что я не мог на них насмотреться; они
казались мне как будто захудалыми потомками древних царских
родов, которые даже в нищенском плаще все еще умеют сохранять
прежнее достоинство». «Замечательно, — прибавляет он, — что
женщины, по крайней мере городские, почти все носят новейшую
одежду. При их смуглом цвете лица и пышных волосах, это дает
им вид страшных салопниц. Красивых гречанок я видел до сих пор
очень мало. Все они отцветают очень рано». В другой раз он вспом-
нил древность в Фивах. «Я видел здесь мальчиков и юношей столь
чисто греческих по чертам лица, столь, цветущих и благородных
по росту, по манере держать себя, как будто это были воплотивши-
еся фигуры с парфенонского фриза». Но, похвалив их красоту, он
замечает и их недостаток, какой он встретил во всех более оживлен-
ных местностях Греции. «В благородном уличном юношестве живет
ложное представление о древней игре в диск; оно забавляется тем,
что бросает в иностранцев маленькими камнями. В этой игре от-
личается юношество Элевзиса; но пальма первенства принадлежит
бесспорно юным фиванцам». Путешествие по Греции напомнило
ему прежнее путешествие во внутренности Сицилии, но в Греции
оно было еще ужаснее; тем не менее он говорит, что такое бродя-
жество от времени до времени в этих прекрасных варварских стра-
нах, — бродяжество, наклонность к которому кроется в каждой
свежей человеческой природе, имеет такую прелесть, которой он
ни за что не хотел бы лишиться.
Но и в Йене Геттнер остался недолго. Жизнь его здесь устано-
вилась самым благоприятным образом, в дружеских отношениях
с товарищами, в литературных и художественных интересах; работа
шла успешно, — здесь он задумал исполнение давнишнего плана,
широкой картины литературы XVIII века, и здесь написан был пер-
вый том обширного сочинения, которое осталось его главнейшим
трудом. Его работы были издавна разделены между двумя главными
интересами: историей и критикой искусства и историей и крити-
кой литературы; он постоянно переходил от одного к другому; его
главный труд принадлежал именно истории литературы, но искус-
ство все-таки было его постоянным насущным интересом, который
28
в конце концов взял верх в его практической деятельности. По по-
воду греческого путешествия его биограф говорит: «Всем сердцем
он был привязан к искусствам сильнее, чем сам иногда сознавал.
Сосредоточиться на одной истории литературы было бы для него
тяжелой жертвой, означало бы отказ от одной части своего разви-
тия, от широких планов работ, даже отказ от некоторых внешних
надежд в будущем. Любимой мечтой молодого исследователя искус-
ства было стать когда-нибудь во главе большого художественного
собрания, и он сознавал, что эта мечта может осуществиться только
тогда, когда, несмотря на все неблагоприятные условия данных об-
стоятельств, он будет продолжать свою историко-художественную
деятельность». Эта мечта осуществилась, быть может, раньше, чем
он предполагал. Он пробыл в Йене всего года четыре, когда ему
предложено было место директора королевского собрания антиков
и музея гипсовых слепков (так называемого музея Менгса) в Дрез-
дене. Прежний директор оставлял это место вследствие болезни,
и когда в правительственном и художественном кругу шел вопрос
о его преемнике, на Геттнера указал давний приятель, Бертольд
Ауэрбах, который давно жил в Дрездене и имел значение в тамош-
нем обществе. О Геттнере знали в Дрездене хорошо, свое согласие
он дал тотчас, в весной в 1855 он был уже в Дрездене. Здесь он
остался до конца свой жизни.
Работа в Дрездене вполне отвечала его вкусам и научным стрем-
лениям; в дрезденском обществе он нашел самый радушный при-
ем; в Дрездене был и большой художественный круг, где Геттнер
особенно пользовался дружбой знаменитого скульптора Ритчеля.
Кроме занятий по музеям, ему вскоре представилась и привычная
академическая работа, потому что уже с осени 1855 он приглашен
был читать историю искусства в дрезденской академии художеств,
а потом в политехнической школе.
Эта спокойная трудовая и общественная жизнь Геттнера в Дрез-
дене надолго была помрачена болезнью и потом смертью его жены
в 1856; через два года он начал новую семейную жизнь, женившись
на дочери одного из богатых дрезденских художников. В 1857 он
сделал продолжительное путешествие в Англию и Францию. Пово-
дом была большая художественная выставка в Манчестере; кроме
того, он был в Ливерпуле, Оксфорде, довольно долго в Лондоне.
Париж произвел на него особенно привлекательное впечатление,
и он тем с большим интересом изучал его, что в это время он го-
товился ко второму тому своей истории литературы, который был
посвящен французской литературе. Другое путешествие он сделал
в 1862 опять в Англию с специальной целью; он давно предлагал
управлению королевских музеев приобрести для собрания анти-
ков несколько ассирийских скульптур из раскопок Лейарда; теперь
ему поручено было сделать эти закупки в Лондоне, чтб он и испол-
29
нил. В Лондоне он нашел, конечно, много важного и любопытного
для своих художественно-исторических изучений: редкие древние
скульптуры в Британском музее, удивительного Перуджино в лон-
донской галерее, поразительные собрания в Кристальном дворце
и т. д. На обратном пути он посетил Голландию и пришел в настоя-
щий восторг от старого голландского искусства: «в этих старых гол-
ландцах открылся для меня новый мир; до сих пор я слишком мало
ценил их, потому что недостаточно их знал».
В Дрездене деятельность Геттнера все более расширялась; он
являлся особенным авторитетом в вопросах искусства; как замеча-
тельный оратор, он должен был принимать участие своим словом
не только в торжественных случаях жизни академии художеств,
но и в других художественных и литературных событиях дрезден-
ской жизни, имевших и широкий германский интерес. Каждый раз
это были историко-художественные и литературные очерки, в ко-
торых частный случай, отдельная личность объяснялись с широкой
исторической точки зрения и на ряду, с его многочисленными худо-
жественными и литературными рецензиями составили интересный
том его «Kleine Schriften». Много раз его приглашали читать публич-
ные лекции в разных городах Германии.
Возвращаемся к его литературным трудам. Мы говорили об его
юношеских литературных начинаниях и первой более крупной ра-
боте, его Vorschule. За исключением немногих археологических и ху-
дожественно-исторических исследований, где он обращался только
к специалистам, Геттнер в большинстве своих трудов имел в виду
действовать на большой круг общества и в интересах общего об-
разования, конечно, предполагая довольно высокий уровень этого
образования. Та возвышенная точка зрения, какую воспитала в нем
его философская школа и общий характер тогдашней немецкой ли-
тературы и общественной жизни, руководила его первым научным
трудом и навсегда определила его литературно-художественные ин-
тересы: как мы видели, он уже рано освободился от умозрительных
односторонностей своей гегельянской школы, но вопросы истори-
ческого развития он всегда старался ставить с той широтой взгляда,
к какой приучало это философское умозрение. Уже в самых ранних
своих работах он отделился от старого гегельянства, во-первых, в за-
щите Фейербаха, систему которого считал, впрочем, естественным
и законным развитием философии Гегеля, и в восстании против
«спекулятивной эстетики», которую он именно обвинял в недостат-
ке внимания к индивидуальным и национальным условиям искус-
ства. Умозрительная эстетика должна слиться с историей искусства
во всей ее широте и внешней зависимости от религии и националь-
ности. «С этим прекратится разделение философской и эмпириче-
ской науки об искусстве. Не должно быть так, чтобы на одной сторо-
не стояла философия, на другой эмпирия, как техническая теория,
30
как положительное историческое изучение, — которые враждебно
исключают друг друга, — но обе составляют в сущности одно, как
и их предмет один и тот же. Это единственно возможное, несовер-
шенно необходимое разрешение той антиномии, от которой страда-
ет не только умозрительная эстетика, но и вся философия». На этих
основаниях утверждались его отдельные работы по частным пред-
метам истории искусства, например, о старой неаполитанской жи-
вописи, о новейшей пластике, о пейзажной живописи и т. д.
После Vorschule другой крупной его работой была книга о «Ро-
мантической школе в ее внутренней связи с Гёте и Шиллером»
(1850). В этой теме для него опять являлся вопрос об искусстве.
Правда, поэзия, не была для него «абсолютное искусство, облада-
ющее всеми средствами, какие принадлежат другим искусствам,
так что она может изобразить внутреннему представлению здания,
скульптуры, картины, и внутреннему слуху передать тоны, и следо-
вательно представляет духовную цельность всех искусств»; но он
чувствовал, что «материал поэзии», язык, доставляет возможность
величайшей свободы и подвижности, разнообразие представлений
и действий, которые превосходят действие всех других искусств. Ро-
мантическая школа интересовала его именно тем, что она возымела
смелую мысль быть поэзией универсальной, для которой слишком
тесны и скудны действия отдельной художественной формы, даже
каждого отдельного искусства. «Она хочет в одно и то же время до-
стигнуть всех действий поэзии, эпических, лирических и драмати-
ческих, и тем восстановить полную высоту мнимой первобытной
поэзии. Смешение отдельных родов искусства, т. е. расплывающая-
ся бесформенность, становится правилом и доктриной и выступает
с притязанием быть высочайшим завершением поэзии, даже быть
единственно и специально поэтическим». Книга Геттнера не была
историей романтической школы, но доставляла для нее много важ-
ных указаний. Позднейшая критика указывала недостатки в поста-
новке вопроса, где автор слишком вдавался в обобщение, подгоняя
факты по какой-либо одной черте в общий принцип, но вместе с тем
отдает справедливость большим достоинствам исследования, кото-
рое стремилось объяснить явления романтической школы не каки-
ми-либо частными условиями времени, например политическими,
а, напротив, искало для нее объяснения в широком историческом
движении. Критика находила, что он с большим искусством умел
выделять в частных явлениях их общую принципиальную основу,
т. е. их настоящий исторический смысл. Так он, кажется, впервые
объяснил внутреннюю связь романтической школы с периодом
«бурных стремлений» в конце XVIII века; он всегда старается о том,
чтобы раскрыть взаимодействие между искусством и литературой,
связь философии и поэзии, религии и политики, связь художника
с народом его времени; он старается обнять в своем наблюдении
31
параллельные факты других литератур, французской, английской
и т. д. Свое исследование он доводит до научных и политических
вопросов своего времени. События конца сороковых годов отраз-
ились у него и на эстетической критике: он призывает поэта к ре-
альному пониманию действительности, как вместе с тем хочет при-
вести к реальному пониманию и политических мечтателей. Дело
искусства для него тесно связывается с общественным и народным
интересом. Как некогда в Риме, так и теперь он убежден, что дело
искусства есть и дело свободы.
В таком же смысле написана им уже в Йене другая книга «Но-
вейшая драма» (1852). Последний вывод опять тот же, — что поэт,
чтобы достигнуть действительной художественной силы и прочного
поэтического результата, должен тесно примыкать к жизненным ин-
тересам своего времени: драма, как трагедия, так и комедия долж-
ны быть политическими; историческая драма должна быть не учеб-
ником истории, а должна отвечать современному общественному
сознанию; будущее немецкой комедии зависит только оттого, име-
ет ли Германия в своей внутренней жизни политическое будущее.
В первых пятидесятых годах он задумал уже свою главную ра-
боту. В одном письме от 1881 года он говорил, что план книги воз-
ник у него еще в Гейдельберге. В тогдашних стремлениях выяснить
общие вопросы являлась мысль о французских энциклопедистах:
стараясь, раскрыть их историческое значение, Геттнер по необхо-
димости восходил раньше к английской литературе, а затем следил
дальнейшее развитие в литературе немецкой; но то, чтд первона-
чально должно было составить статью, обратилось в многотом-
ную книгу. Первый план статьи об энциклопедистах не вдруг пре-
вратился в план большой книги. В Йене он видел уже, что статья
будет книгой, и когда в 1853 он приступил к исполнению плана,
ему было очевидно, что исследование об энциклопедистах должно
в сущности быть историей так называемого «просвещения». Но ког-
да сделан был первый опыт изложения борьбы энциклопедистов
с «академизмом» и намечен переход их идеалов в новые идеалы,
то первоначальный замысел расширился еще более: предвиделась
целая обширная историческая работа. Первый том книги вышел
в свет осенью 1855, когда Геттнер жил уже в Дрездене. Работа над
вторым томом замедлилась тяжелыми обстоятельствами его лич-
ной жизни и снова подвинулась быстро с его новой домашней жиз-
нью. Осенью 1859 он надеялся вскоре выпустить второй том и в это
время уже сознавался, что третий том, с которого должно было на-
чаться изложение немецкой литературы, был ему еще «совершенно
неясен по своему объему и тону»: ему хотелось скорее освободить-
ся от этой тяжести, чтобы отдаться своей любимой истории искус-
ства, — он думал именно об истории развития Рафаэля. Он ошибся,
однако, в своих предположениях: работа над XVIII веком затянулась
32
на целые десять лет. По первоначальному плану немецкая литера-
тура должна была составить третий том; но ему казалось, что этот
период просветительного движения представляет столько важного
и с ним связаны были такие многозначительные явления, воздей-
ствие которых простиралось и до новейшего времени, что он счел
необходимым расширить рамки изложения и разделил третий том
на три книги, и последнюю из них еще на два отделения, так что
в сложности из третьего тома вышло целых четыре, а в целом шесть.
«История литературы восемнадцатого века» составила в целом
один из самых замечательных историко-литературных трудов но-
вейшего времени, как по плану, так и по исполнению. За сорок лет
с появления, начала этого труда не появилось другой попытки из-
ложения этого предмета, и книга Геттнера остается лучшим и един-
ственным изложением европейской литературы прошлого столетия
в той исторической связи, какая соединяла литературу отдельных
народов, стоявших тогда во главе образованности, в той связи, кото-
рая создала цельное движение, называемое европейским просвеще-
нием. В отдельности, история этих литератур уже в то время, когда
Геттнер начал свою работу, представляла обширную массу иссле-
дований; были отдельные вопросы, отдельные писатели и деятели
науки, о которых составилась целая литература; но исторический
вопрос был, однако, мало разработан с той точки зрения, на кото-
рую становился Геттнер, — с точки зрения взаимодействия евро-
пейских литератур, которым достигалось с одной стороны единство
европейской науки, с другой стороны развивалась, как никогда пре-
жде, общность стремлений в поэзии и искусстве. Эта цельная кар-
тина удовлетворяла прежде всего историческому требованию, пото-
му что должен быть выяснен факт, который раньше был определен
всего чаще только как «влияние» того или другого отдельного пи-
сателя, пожалуй, даже отдельного «направления», из одной нацио-
нальной литературы на другую, но который в действительности был
фактом все более и более многообъемлющим и общим. Затем эта
цельная картина приобретала высокое значение для общественного
сознания, как убеждение в умственной и нравственной солидарно-
сти обществ, в среде которых ставились высокие задачи научного
исследования, общественных изучений и поэтического воспроизве-
дения действительности.
Немецкий ученый был в особенности способен исполнить та-
кую задачу. Несмотря на упомянутые литературные связи, которые
весьма существенным образом проявлялись уже с XVIII столетия,
в ученой литературе того времени, когда Геттнер начинал свою ра-
боту, была еще достаточно велика та отчужденность, при которой
французы обыкновенно почти не знали других литератур, когда ан-
гличане подобным образом оставались в области одной своей лите-
ратуры и науки, и только у немцев можно было встретить те уни-
33
версальные литературные интересы, какие заявлял некогда Гердер,
какие развила потом немецкая романтика и затем немецкая исто-
рическая и филологическая наука. К подобному широкому взгляду
приводила, наконец, та философская школа, в которой воспитался
немецкий ученый. Опыт «философии истории» потерпел неудачу:
философское построение слишком спешило создать теорию, когда
еще не были достаточно разработаны факты, с которыми она долж-
на была ведаться, и мы видели, что Геттнер, под влиянием левого
гегельянства, уже рано почувствовал несостоятельность этих умо-
зрительных построений; но от этого опыта осталось драгоценное
поучение — широкий исторический взгляд, внимание к разнообраз-
ным сторонам жизни, стремление ориентироваться в частных фак-
тах и возводить их к принципиальным явлениям, отыскивать имен-
но это характерное и существенное и, наблюдая развитие, не терять
из виду его последовательной нити в разнообразной массе нацио-
нальных и общественных особенностей, умственных течений, лич-
ных характеров в науке и поэзии. Присоединялись побуждения
общественно-нравственные. Увлечения сороковых годов с течением
времени у него улеглись; биограф, близко знавший Геттнера, конеч-
но, не без основания замечает однажды, что в более поздние годы
он должен был смотреть на свои порывы сороковых годов, окрашен-
ные левым гегельянством и политической тенденцией, как на нечто
чуждое; взгляд стал спокойнее, но у него сохранилась способность
общественного понимания и то чувство нравственного достоинства
в науке, какое в годы молодости он воспринимал под влиянием лю-
дей такого высокого характера, как Шлоссер.
Для исполнения задачи требовалась, наконец, обширная эру-
диция; при начале работы Геттнер хорошо видел, что необходима,
как он выражался, «wiiste Vielleserei»1, — но эта способность давно
отличала немецких ученых. Геттнер надеялся преодолеть этот труд,
и действительно его книга свидетельствует о весьма широкой на-
читанности. Наконец, важным условием его работы было давнее
изучение искусства: он отдавал себе ясный отчет, кроме образо-
вательного и общественного значения произведений литературы
и в их художественном характере, чтобы разобраться в особенно-
стях стиля, среди условных форм найти отголоски истинной поэзии,
среди старого подметить зачатки новых движений и т. д. К исто-
рии литературы он присоединял наблюдения над современным
искусством и объяснял, как те же черты века, которые сообщали
особенный склад поэзии; отражались вместе с тем на искусстве —
архитектуре, живописи и в так называемых мелких искусствах,
в формах и орнаментах жилья, мебели, костюма. Изложение, при
первоначальном плане, в первых двух томах было по необходимо-
1 Большая начитанность (нем.). —Прим. изд.
34
сти сжатое, но историк умел обыкновенно давать определенные,
точные характеристики общественных положений, направления
умов; литературных особенностей. Способ изложения занял сере-
дину между ученым трактатом, который обращается к специали-
стам, и книгой, предназначаемой для большой публики, но всегда
требует от читателя, во-первых, значительной исторической подго-
товки, а, во-вторых, сохраняет тон научной серьезности, требуемой
важностью предмета.
Уже в первые годы, когда сочинение далеко не было доведено
до конца, Геттнер имел удовольствие видеть большой успех свое-
го труда: при его жизни вышло четыре издания двух первых томов,
и три издания последних, которые явились значительно позже.
Не было, конечно, недостатка в критических замечаниях; между
прочим, говорили, что книга представляет, в сущности, ряд отдель-
ных essays, хотя и талантливых, — замечание с внешней стороны
справедливое, но не вникавшее в сущность его исторического при-
ема. «У него была потребность, — говорит его биограф, — сосре-
доточивать развитие на известных представителях, и, быть может,
он зашел на один шаг несколько далеко, когда долю участия менее
значительных, менее самостоятельных натур в каком-либо умствен-
ном прогрессе или повороте переносил на главных представителей.
Но всегда он решал этот выбор одного или нескольких определен-
ных представителей данного момента развития только после самых
внимательных изучений, и потому “История литературы” заклю-
чает целый ряд характерных, резко и твердо начертанных портре-
тов забытых или мало замеченных писателей. Кроме того, явились
также вводные главы, общие обзоры, большей частью мастерские
при своей сжатости, и они доказывали, что историк прошел через
самую строгую школу философской методики. Он положительно
и не один раз говорил, что хочет дать “историю идей, а не историю
книг”, и, только совсем забывая об его намерениях и целях, можно
было винить его, что он изображает слишком широкими и общими
чертами и часто упускает из виду детальную филологическую точ-
ность. Правда, такие осуждения бывали справедливы относитель-
но отдельных частей и пунктов обширного труда, но правда также
и то, что они не могут иметь решающего значения ввиду обшир-
ности плана, силы и энергии группировки, мастерства портретов,
тонкости и справедливости почти всех суждений. Сам Геттнер от-
носительно всех открытых и более серьезных нападений, в которых
не было недостатка, за эти годы, твердо держался основной идеи
и исполнения своей книги». Другое дело — фактические подробно-
сти: в обширной работе не могло не встречаться неточностей, на-
пример, вследствие неточностей в самых пособиях; но в последую-
щих изданиях в этом отношении сделано очень много исправлений
и дополнений по новым исследованиям.
35
Сочинение Геттнера открывается историей английской лите-
ратуры, которую он начинает с последних десятилетий XVII века.
По своему целому плану Геттнер сводит историческое движение ан-
глийской литературы к его руководящим принципам, которые он
следит в науке, нравственной философии, политических теориях
и в поэзии. Биограф, чтобы характеризовать труд Геттнера, отмечает
отзывы критики, к которой иногда и сам присоединяется, но, с дру-
гой стороны, объясняет и великие достоинства этого труда, которые
послужили причиной его необыкновенного успеха. В некоторых об-
ластях английской литературной истории могли быть ясно очерче-
ны источники и дальнейшее развитие движения; в других — явле-
ния были более сложны. «В истории английской поэзии, — говорит
биограф, — эти исходные пункты гораздо менее определенны, и как
ни склонна новейшая критика все возводить к явлениям времени,
к общим началам, но здесь она постоянно встречает помеху в раз-
личных индивидуальностях в областях искусства и должна или отка-
зываться от общего закона, или довольно насильственно подменять
его. Чрезвычайно замечательно, с какой свежестью и как свободно
от притязаний на подобную систему Геттнер старается определить
это разнообразие натур, их начинаний и целей, и, однако, с какой
тонкой проницательностью он умеет разыскать везде один общий
момент. В то время, как именно с Англии начинают свое победо-
носное шествие те научные системы, идеи, которые должны были
уничтожить монархический и церковный абсолютизм периода Лю-
довика XIV, искусство, созданное именно этим абсолютизмом, дей-
ствовало обратно на искусство свободной Англии... В изображении
этих великих противоположных течений, — этой науки, самосто-
ятельно и своеобразно выросшей на почве английского политиче-
ского развития, науки, которой естественно-научные исследования,
опытная философия, деизм и “чистая мораль” были передовым све-
точем для остальной Европы; и искусства, которое в своих значи-
тельнейших представителях, как Драйден, Поп, Аддисон, является
совершенно подчиненным французскому вкусу, — Геттнер обнару-
живает редкое мастерство характеристики». Биограф находит и сам
некоторые недостатки в этом изображении: мало выяснен Шери-
дан, Бёрнс, недостаточно указаны начала английской историогра-
фии; но в целом он находит, что внутренняя полнота, к которой
стремился автор, определение всех существенных явлений были
им достигнуты. Ясная и наглядная композиция книги, прекрасно
проведенная последовательность основного взгляда, теплое уча-
стие к изображаемым явлениям, умеренность суждений, свежесть
изложения составляют высокие достоинства этого труда. Биограф
решительно отвергает обвинения в недостатке самостоятельного
изучения, — он объясняет, что между прочим подобные обвине-
ния происходили из того, что книга Геттнера, против обыкновения
36
немецких ученых, не испещрена цитатами, которые должны были
свидетельствовать о великой начитанности автора; Геттнер всегда
намеренно избегал этого ученого груза, как потому, что главным
его интересом бывало принципиальное объяснение предмета, так
и потому, что он обращался не к специалистам, а к большому чита-
ющему кругу.
Изложение истории французской литературы было как бы сре-
доточием всего труда. Французская литература восприняла глубо-
кие научные возбуждения из литературы английской и, перерабо-
тав и развив их, воздействовала не только на романские народы,
но и обратно на Англию и затем на Германию; до второй половины
XVIII века французская литература была литература всемирная (био-
граф Геттнера замечает, что немецкая литература только после дол-
гой борьбы успела возвыситься до такого же положения; собствен-
но говоря, несмотря на великие подвиги немецкой науки и поэзии,
она не достигла этого положения и теперь). Изложение француз-
ской литературы для немецких читателей тех годов представляло
большие трудности, и преодоление их биограф справедливо ставит
в большую заслугу Геттнеру. «Мы, немцы, — говорит он, — завоева-
ли свою умственную и художественную самостоятельность, только
восставши против господства французского вкуса и в самом резком
противоречии к стремлениям французов, и потому у нас вместе
с пренебрежением к побежденному противнику осталось и извест-
ное раздражение. И хотя это пренебрежение и раздражение отно-
сятся больше к французским классическим писателям XVII века,
писатели периода просвещения оцениваются у нас весьма умерен-
но». Геттнер занял в этом вопросе совершенно самостоятельное по-
ложение. «Общая благосклонность, с которой восемнадцатое столе-
тие смотрело на этих писателей просвещения, в наше время почти
везде обратилась в самую страстную ненависть», — говорил Геттнер
в главе, составляющей введение к изложению литературы просве-
щения при Людовике XV. «После насилий и переворотов француз-
ской революции, мы привыкли безжалостно и без всяких ограниче-
ний осуждать французскую литературу просвещения. Во Франции
этих писателей вмешивают в самую среду вопросов и борьбы дня;
в Англии и Германии их больше не читают и не знают, но бранят
их. Говорят только о их дерзости и неосновательности, видят в них
только отродье одичавшего века; но не спрашивают и не думают
о том, нет ли в них также и чего-нибудь хорошего и благородного.
Никакой рассудительный человек не будет защищать или отрицать
тяжелых ошибок и заблуждений этих писателей. Они — дети ис-
порченного времени; металл покрыт ржавчиной. Мы часто находим
у них одно насмешливое остроумие там, где мы требуем нравствен-
ной серьезности и научной основательности. Они выдают за несо-
мненную истину науки то, чтд было только личным взглядом, или,
37
много, гениальной догадкой. В их нападениях на церковь и рели-
гию ими часто руководит больше слепая ненависть, чем положи-
тельная любовь к истине; в своих требованиях от государства они
слишком часто забывают о законах и условиях действительности.
Удаленные от всякой публичной жизни, они нисколько не думают
о препятствиях, которые проистекают из данных обстоятельств
для самых желанных улучшений, и оттого они часто бывали еще
смелее и докторальнее. Но должно также сказать, чтб при всем том
в их заблуждении скрывается, однако, неистребимое зерно исти-
ны, в их мышлении и деятельности — великодушное одушевление
и сила. В то время, когда религиозное преследование, пытка, про-
извольные заключения, несправедливость суда, угнетения всякого
рода были делом самым обыкновенным и совершенно легальным,
они, с убеждающим чувством глубочайшего отвращения, муже-
ственно вели войну против всего, что считали злоупотреблением;
неутомимо стремились к просвещению и религиозной терпимости,
к освобождению и облегчению угнетенных классов народа и снова
завоевывали потерянные, но неизменные права мыслящего позна-
ния и врожденного человеческого достоинства. В этом, при всех их
недостатках, заключается их величие, их неотъемлемое историче-
ское значение». В последнем, пятом, издании книги Геттнера заме-
чено, что после его примера в немецкой литературе уже, например,
гораздо справедливее, чем прежде, относятся к Вольтеру; таковы
труды Штрауса и особенно Маренгольца1. Подобным образом Гетт-
нер является, сравнительно с прежней точкой зрения, защитником
драматических произведений Корнеля и Расина, в которых, несмо-
тря на их искусственную натянутую форму, он указывает, однако,
поэтические достоинства. Подобным образом он объясняет мало
признаваемое прежде значение Лабрюйера, Лесажа и пр. И даже
в том, чтб было давно известно, Геттнер дает фактам новое и живое
освещение. «Относительно писателей, как Вольтер, Дидро, Бомар-
ше, Руссо, Геттнер обнаруживает и проницательность историческо-
го суждения, и решимость признать великое, значительное и прола-
гающее путь новому развитию даже там, где это связано с именами,
справедливо или несправедливо ненавистными».
История немецкой литературы, как мы упоминали, чрезвычайно
разрослась сравнительно с первыми томами. Это объясняется есте-
ственно тем, что он обращался к немецким читателям, которым
нужно было объяснение бдлыпей массы известных фактов; притом
для объяснения тех самостоятельных движений, какие возникли
в Германии в отпор чужеземным влияниям, историк считал нуж-
ным возвратиться к национальным литературным зачаткам времен
реформации, а с другой стороны он хотел завершить историю того
1 Literaturgeschichte, Braunschweig, 1894. II, стр. 138.
38
движения конца XVIII века, последним отголоском и развитием ко-
торого была деятельность Шиллера и Гёте и возникающая роман-
тическая школа. Положение историка было здесь уже совершен-
но иное: предмет, который предстояло ему излагать, множество
раз излагался немецкими историками литературы, и, по-видимо-
му, ему не оставалось сказать чего-нибудь нового. «Но это могло
только казаться, — говорит его биограф. — Кто занимался ближе
литературными предметами, тот знает, что история немецкой ли-
тературы XVIII века, подобная книге Геттнера, не существовала, что
многочисленные труды в этой области способны были дать только
совершенно ложную картину научного и художественного разви-
тия немецкого народа. Потому что вообще здесь шли только двумя
путями. Или сухо говорили о сухости, а также и пустоте немецкой
литературы, до Лессинга, или повторяли обыкновенные суровые
осуждения всего XVIII века до выступления Лессинга. Стало как
будто правилом критического и литературного высокомерия смо-
треть на все предшествовавшее Лессингу развитие свысока, с вели-
чайшим, резким пренебрежением. Геттнер, верный характеру всего
своего труда и верный характеру своей критики, вообще сочув-
ственной, обсуждающей писателей на основании их данных усло-
вий, принял в противоположность этому совершенно другой путь.
Основной тон и отличительная черта его изложения и немецкой
литературы, даже там, где она представляется еще в несомненном
подчинении литературе английской и французской, этот тон и из-
ложение вполне положительные. Автор доказал, что самое точное
историческое суждение может соединяться с действительным пие-
тетом, что можно сознавать самые высокие и последние требования
искусства, не обвиняя и не предавая поношению тех, которые едва
были в состоянии удовлетворять самым грубым и второстепенным
художественным требованиям. Изложение немецкой литературы
отличается в этом отношении от однородных произведений отри-
цательного характера теми свойствами, которые всегда различают
продуктивную критику и скептицизм, стремление к истине и стрем-
ление к разрушению».
Понятно, что это постоянное правило определять писателя по ус-
ловиям его времени и его собственным стремлениям становилось
только правилом действительно исторической критики и беспри-
страстия, и понятно также, что биограф мог восхвалять в изобра-
жении XVIII века у Геттнера величайшую живость и наглядность,
мог указывать на то, что большое число давно забытых фактов
было вновь оживлено в связи его рассказа. Но рядом с этим Геттнер
умел самостоятельно определять и те крупные, основные явления
XVIII века, которые до тех пор только возвеличивались историками,
и для которых он находил теперь более спокойную и многосторон-
нюю критику.
39
Обширный трактат был посвящен им Лессингу, и здесь, как за-
мечает биограф, он должен был бы закончить историю немецкого
«просвещения», насколько она была связана с английскими и фран-
цузскими влияниями. «Как Винкельман, так и Лессинг стоят уже
выше эпохи “просвещения”, взятого даже в самом широком смысле.
Но довольно понятно, что писателя влекло к изображению и того
славного исполнения обетований того периода немецкой литерату-
ры от последней трети XVIII века, в котором немецкий дух, столь дол-
го зависимый от чужеземных влияний, сам воспринял руководство
и господство». Одну из последних книг своего труда Геттнер издал
между прочим отдельно под заглавием «Гёте и Шиллер» (1876). Это
продолжение истории просвещения, которая начинается изображе-
нием той великой борьбы против просвещения, которая известна
под названием периода «бурных стремлений» и действительно ока-
залась замечательным переворотом в умственной жизни Германии.
«Геттнер, — говорит биограф, — справедливо настаивает, кроме
литературной, также на общественной стороне этого важного пе-
реворота, и нам кажется, что он мог бы пойти в этом направлении
еще дальше. Его общее изображение этого движения, сравнительно
с новейшими любимыми представлениями его, было вполне апо-
логетическим. Только тот, кто не понял, что рационализм и лите-
ратурная школа полезности, предводителями которой в течение
десятков лет были Николаи и Энгель, не допускали никакого раз-
вития; что нравоучительная поэзия, которая и не была вовсе поэ-
зией, могла только в очень слабой степени подойти к действитель-
ной жизни; кто не может видеть, что в одном гётевском “Вертере”
было больше природы и “реальности”, чем в романах берлинских
просветителей, — только тот может обвинять “бурные стремления”,
как заблуждение. Геттнер не отвергает ни одного из излишеств,
которые происходили из необузданности фантазии из ненормаль-
ной страсти, как и из грубого эгоизма. Он самым резким образом
осуждал отдельные примеры самомнения и произвола фантазии
у людей бурных стремлений, но он твердо держится того взгляда,
что из бурных стремлений выросли не только немецкая классиче-
ская литература, но и бдлыпая часть того, чтд дорого и необходимо
немцам в их общественной жизни и образовании». Упомянув о том,
что к «философам чувства» и пиетистическим мечтателям, как Га-
ман, Якоби, Лафатер, Юнг-Штиллинг, Геттнер относится большей
частью отрицательно, биограф замечает, что даже и здесь замеча-
тельным образом обнаруживается редкая любовь к справедливости
и способность Геттнера понимать даже в натурах ему совсем чуждых
то, что могло быть в них оправдано. Подобным образом он говорит
и о гёттингенском «союзе поэтов». «Особенностью Геттнера, — при-
бавляет еще биограф, — было то, что он, относясь большей частью,
с необыкновенным чувством справедливости и с самой тонкой на-
до
блюдательностью к слабым сторонам прежних критических сужде-
ний, давал новое, пересмотренное, окончательное решение, но что
он затруднялся становиться прямо в резкое противоречие с своими
предшественниками».
В заключение биограф подтверждает свои выводы словами ли-
тературного историка из нового поколения, упомянутого нами
выше Зейферта: «Относительно материала и плана труд Геттнера
исполнен как немногие другие; ясная наглядность целого, сообще-
ние метко выбранных цитат, умеренная субъективность суждений,
согласная с мнениями лучших умов — все эти свойства делают нео-
быкновенно удобным для читателя ориентироваться в книге о тех
или других культурных эпохах. И это есть, конечно, удивительно
неблагодарный, но обычный знак полного признания, когда книга
молча обкрадывается: это красноречивое свидетельство того, что
содержание книги принадлежит к несомненному образовательно-
му капиталу».
Возвращаемся к последним годам жизни Геттнера. Завершив, на-
конец, многолетний труд, Геттнер вернулся опять к любимым инте-
ресам истории искусства. Зиму 1870/71 г. и затем лето он посвятил
пересмотру своих художественно-исторических материалов и при-
готовлениям к давно желанному путешествию в Италию. Это путе-
шествие состоялось во второй половине 1871 года. Снова был он
в Венеции, в первый раз ближе познакомился с северной Италией,
которую прежде видел очень мало; в Турине свиделся с старым
другом Молешоттом и уговорился встретиться с ним еще во Фло-
ренции; в первый раз осмотрел Геную, затем направился в давно
знакомые Флоренцию, Рим и Неаполь. Италия с своей природой
и чудесами древнего и новейшего искусства, которые были для него
так долго предметом страстного увлечения и внимательного изуче-
ния, наполнила его и теперь тем же восторгом, как двадцать пять
лет тому назад. Для него воскресали мечты его юности. «С Флорен-
цией, — писал он, — случилось на этот раз то же, чтд случилось
в мое первое и второе пребывание здесь. Меня подавляет неизмери-
мое богатство материала. Для того, кто делает главным предметом
своего путешествия не древнюю, а новейшую историю искусства,
Флоренция важнее Рима. Я работаю постоянно, но уеду отсюда с со-
знанием, что я прекратил, но не окончил свои изучения». «Когда по-
кидаешь Флоренцию, — говорил он в другом письме, — всегда му-
чит совесть... Возбуждений к будущей работе множество, но мало
надежды исполнить ее. Ввиду этих великих памятников получаешь
основательное недоверие к книжническому знанию».
Он был еще раз в Италии ненадолго в 1875 и, наконец, в 1877.
Результаты своих изучений он намеревался добрать в одно целое,
41
которое должно было представить историю искусства Возрождения.
Но этот план требовал еще стольких исследований, что он огра-
ничился исполнением его в отдельных трактатах, которые только
впоследствии могли достигнуть полного объема задачи. Это были
«Italienische Studien», первый том которых вышел в 1879 и заклю-
чал несколько художественно-исторических исследований из эпохи
Возрождения. Характер своего исторического взгляда он определил
двумя эпиграфами. Один был взят из известного историка искусства
Румора: «Совершенно так же, как в жизни и природе, в искусстве
не бывает ничего прекрасного, что хочет быть прекрасным только
для самой красоты; но необходимую сущность сообщает художе-
ственному произведению его непосредственная связь со всей жиз-
нью времени, из глубоко почувствованных истинных стремлений
и потребностей которого это художественное произведение прои-
зошло». Другой эпиграф взят из «Истории города Рима» Грегорови-
уса: «Великое значение, какое принадлежит итальянской живописи
в истории культуры, имеет столь высокую прелесть именно потому,
что эта живопись доставила в своих красках отпечаток и воплоще-
ние для целой догматической истории человечества, для самых ин-
тимных понятий и ощущений века». Таким образом историк искус-
ства хотел рассматривать его произведения главным образом с той
стороны, где они находились в теснейшей связи с целой духовной
жизнью, религиозными воззрениями, поэтическими идеалами, на-
учными стремлениями времени. После этого первого тома явился
еще один трактат, который должен был служить началом второй
серии итальянских изучений, — но на этом работа остановилась.
В семидесятых годах Геттнер по преимуществу занят был этими
и другими трудами по истории искусства; но вместе с тем он не по-
кидал и художественных вопросов литературы. В шестидесятых
годах он издал с своим предисловием знаменитые «Эстетические
опыты» Вильгельма Гумбольдта о «Германе и Доротее» Гёте, три дра-
мы Лессинга, стихотворения Фридриха Мюллера (так называемый
Maier Muller) со своими введениями; теперь он издал переписку Ге-
орга Форстера с Земмерингом.
Его личная жизнь в Дрездене, наполненная постоянной деятель-
ностью, окружена была уважением многочисленных друзей и по-
читателей из художественного и литературного мира и большим
почетом в официальных кругах; в последние годы шла речь о при-
глашении его в Лейпциг и Берлин, но с одной стороны он отвык
от университетской жизни, с другой — ему стало изменять здоро-
вье. Он умер 29 мая 1882 г.
Относительно взглядов Геттнера на разработку истории литера-
туры мы находим следующие замечания в том же обзоре трудов Гет-
тнера у Зейферта, который был близок и самому писателю. «По всей
писательской деятельности Геттнера, — говорит Зейферт, — можно
42
прийти к заключению, что он относился совершенно отрицательно
ко всему, что называют филологической работой в тесном смыс-
ле слова. Нет сомнения, что в основе его литературно-историче-
ского исследования лежит не филология, но философия и история
культуры. Он есть всегда эстетический и редко технический критик.
И, конечно, он не счел бы для себя почетным именем, если бы его
называли филологом. И тем больше я был изумлен, когда услышал
от него безусловное признание филологического приема исследо-
вания. То, в чем, прежде всего оказывается филологический метод,
точность в установлении текста со всеми мелкими последствиями
этого, он указывал как важнейшую основу всего изучения. Стрем-
ление к стилистическим наблюдениям он также одобрял. Он только
не думал, чтобы наблюдения основывались только на внешностях.
Против сопоставления формул и фраз, которые, не имея характера
сами по себе, не допускают никаких заключений о форме и плане
художественного произведения, против поверхностного собирания
случайных сходств, он восставал со всей резкостью, со своей часто
крепкой насмешкой. Где ему казалось, что принимается во внима-
ние только мертвая буква, он тотчас готов был давать этому клич-
ку александринизма, которую он нередко применял к нынешнему
изложению литературы. Он ненавидел и преследовал все, что было
только методом; он презирал всех, которые, не имея собственного
суждения, потеют по указанию известной школьной выучки. И след-
ствием этого, не всегда справедливо судившего взгляда, было то, что
он осуждал воспитание студентов в семинариях1. Его сильная, уве-
ренная в себе, вполне сознававшая свою цену субъективность ду-
мала находить в этих учреждениях, которых он достаточно не знал
и потому односторонне и слишком низко ценил, или подавление
ума, низведение его до машины, или вредное для науки вооружение
бесталанной головы на ученую работу. С этим взглядом соединялось
отрицательное суждение об изучениях в тесной небольшой области,
о возне с мелкими подробностями. В своей истории литературы он
показал, что для него не была лишена значения даже и незначитель-
ная подробность, как скоро она, как новая черта, способствовала,
изображению целой картины. Но только на этом условии он при-
знавал опубликование частных исследований. Как сам он все возво-
дил к целому и в индивидуальном искал всегда общего, так должны
были делать и другие; и они должны были изучать самые мелкие
подробности, но должны были пощадить общество от сообщения
этих подробностей, если они не служили при этом плану высшего
порядка. Так он, которому не оставалось чуждо ни одно из важней-
ших новых литературно-исторических исследований, жалел, что
1 Разумеются специальные факультетские занятия студентов под непосред-
ственным руководством профессора.
43
столько сил и времени у людей работающих, а потом по необходи-
мости и у воспринимающих, тратилось при этих занятиях второсте-
пенными отдельными явлениями. Принять в соображение все даже
маловажные произведения, которые были нужны для обсуждения
писателя, так или иначе значительного, было для него священной
обязанностью. Но когда с многоречивой обстоятельностью говори-
ли о каком-нибудь мелком лице, не открывая в нем черты, которая
изменяла бы принятое суждение об этом мелком лице, как это де-
лают иные новейшие работы, он бичевал это с великим раздраже-
нием. Наоборот, его теплое признание непременно получал каждый
труд, который ставил более широкую задачу, хотя бы иногда юно-
шеская незрелость не могла вполне справиться с предприятием. Как
резко Геттнер относился к тому, чтд противоречило его взглядам,
так мягко относился он ко всему, чтд каким-либо образом внушало
ему уважение. Его сочувствие было обеспечено для каждого, кто об-
наруживал следы самостоятельного понимания, свободного сужде-
ния, если предмет излагался просто и с достоинством. Потому что
негодование против манерного стиля, против погони за эффектами,
могло совершенно отравить для него удовольствие от самой лучшей
книги. Его наука и сообщение ее были для него делом сердца, как
необходимая часть его образования, его жизни. Поэтому он не хо-
тел видеть, чтобы она была унижаема сухой ученостью или вычур-
ной искусственностью».
В этих взглядах на историко-литературное исследование сказал-
ся, очевидно, питомец философской школы конца тридцатых и со-
роковых годов, в свое время преданный вопросам нравственной
философии и искусства и, видимо, менее заинтересованный вопро-
сами собственной филологии. Когда Геттнер приступал к своему
историко-литературному труду, основная задача состояла для него
именно в «истории идей», притом идей, составлявших непосред-
ственный источник новейшего умственного и общественного дви-
жения: здесь требовалось главным образом изучить историческое
положение обществ, перечитать наличную литературу, пересмо-
треть готовые биографии писателей, и сущность работы, которая
и составила главную заслугу историка, состояла в группировке фак-
тов, в раскрытии их внутреннего смысла, в определении основных
течений исторического развития, и относительно главнейших явле-
ний поэтической литературы — в определении их художественной
цены. По всему характеру задач, это была гораздо меньше работа
филолога, чем работа историка культуры и историка философии.
Отсюда, его историко-литературные требования относились имен-
но к той стороне исследования, которая имела первостепенную
важность для него самого и в данном предмете. Понятно, однако,
что эти требования не могли быть поставлены исключительно. Це-
лые обширные периоды литературы, и именно старые периоды,
44
могли стать в первый раз доступны для историко-литературного
обобщения лишь после упорной филологической работы, — когда
требовалось разыскать и издать самые памятники, установить их
«редакции», определить самую эпоху, к которой они принадлежали
(потому что даже это не всегда было ясно), наконец, исследовать
язык, стиль и т. д. Здесь неизбежно требовались именно те мелоч-
ные детальные работы, в которых, не могло быть речи о каких-либо
обобщениях, потому что только мало-помалу добывался самый ма-
териал и получал первоначальные ближайшие объяснения. С дру-
гой стороны, однако, понятны те требования, какие ставил Геттнер:
детальные работы имеют свойство так увлекать специалистов, что
последние нередко теряют всякий интерес к целому ходу истори-
ко-литературного развития: накопляются подробности, но истори-
ческая работа еще долго бывает непроизводительной, когда новые
данные остаются неразвитыми и необобщенными. «Воспринимаю-
щая» часть общества, т. е. его масса, довольствуется прежними
обобщениями, которые отжили свое время. Геттнер именно думал,
что историко-литературный труд, кроме его технической стороны,
должен иметь еще более широкую идею цельного исторического
построения, с которой он только и может удовлетворить истинно
научному, требованию, а вместе совершить другую великую зада-
чу — служить сознанию общества и его воспитанию.
А. Пыпин
Книга первая
Начало французской
литературы
просвещения
Отдел первый
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛЮДОВИКА XIV
Глава первая
Людовик XIV, его величие и его падение
Людовик XIV смело совершил то, что смело было начато и при-
готовлено планами некоторых предшествовавших ему правителей,
и в последнее время особенно Ришелье и Мазарини. Опытность,
приобретенная в бурные годы юности, зародила в душе его горя-
чую ненависть ко всякого рода дворянскому и народному господ-
ству. По блеску и достоинству своей личности и по неотъемлемому
величию своего творческого ума, он был самодержец от природы,
и он поднял королевскую власть до такого могущества и неограни-
ченности, до какой далеко не достигали даже Карл V и Филипп II.
В полном убеждении, что Бог дает государям не только часть
своего всемогущества, но и часть своего всеведения, Людовик XIV
в короткое время, с твердой энергией и удивительною осторожно-
стью, подчинил своей воле все непокорные, самостоятельные стрем-
ления и свел их к строгому порядку и одному общему действию.
Средневековая спесь беспокойного дворянства была разбита, и оно
поставлено в зависимость от всемогущества королевских повеле-
ний, отчасти приманками пышной и веселой придворной жизни,
отчасти посредством подчинения дворян строгой дисциплине, вве-
денной во вновь устроенном постоянном войске. Высшее духовен-
ство, некогда столь враждебное, превращено было в послушную
придворную аристократию, благодаря исключительному присвое-
нию высших духовных должностей и важнейших приходов членам
знатных фамилий; этим способом интересы и желания духовенства
были неразрывно связаны с интересами и желаниями короля. Преж-
ние собрания сословий были уничтожены. Парламенты, имевшие
притязание на то, чтобы ни одно королевское решение не получало
законной силы, прежде чем последует внесение его в книгу парла-
мента, в чем они могли отказать, лишились всякого существенного
значения в государстве. Свобода и самоуправление общин исчезли
бесследно. В то же время положено было начало новейшей бюро-
кратии, которая, по своему происхождению и по сущности, была
не что иное, как выполнение единого и последовательного закона,
49
и в этом смысле была естественной противоположностью всякой
феодальной особенности и раздельности. Самая резкая централи-
зация считалась уже высшим принципом управления. И, как венец
его, была изобретена полиция, которая, охраняя и обеспечивая
общественное спокойствие и безопасность, вместе с тем служила
короне зорким глазом, наблюдавшим за самыми тайными под-
робностями общественной жизни. Все исходило непосредственно
от короля, все стояло, под его ближайшим руководством. Король
не только стал главой и представителем государства; государство
было не что иное, как личность короля. L’etat c’est moi1.
Не подлежит сомнению, что такое неограниченное могущество
короля было для того времени исторической необходимостью, и по-
тому бесконечным благом. Средневековое феодальное государство
с его дикими раздорами партий и междоусобиями, с его отдельны-
ми, самовластными, большей частью враждебными друг другу кор-
порациями и исключительными правами — было уничтожено на-
всегда. Государство стало снова твердым, строго распределенным
целым, стало юридическим государством, хотя, конечно, в пер-
вое время это юридическое государство было только государство
деспотически-полицейское. Первые годы Людовика XIV полны бла-
городнейших намерений и широких предприятий. Мудрым и не-
устрашимым усилиям Кольбера удалось привести расстроенные
финансы и сбор податей в правильную систему государственного
хозяйства. Призваны были иностранные, работники, чтобы нау-
чить туземцев разным знаниям и искусствам; основаны большие
торговые общества, чтобы обеспечить торговую независимость
Франции от соседей, особенно голландцев; построен Лангедокский
канал, который хотя и не мог осуществить первоначально заду-
манного плана — соединить Средиземное море с Атлантическим
океаном, но все-таки принес огромные выгоды для внутренних
сношений. Торговля, мореплавание и колонии пришли в цветущее
состояние. Буржуазия, благодаря возраставшему благосостоянию,
могла действительно уравновешивать могущество и богатство дво-
рянства. Судопроизводство стало проще, единообразнее и связнее;
хотя оно и не было вполне обеспечено от вмешательства правитель-
ственного произвола, но все-таки по возможности было защищено
от произвола и насилия низших властей. Представители искусства,
поэзии и науки находили поддержку и поощрение в покровитель-
стве двора, в денежных пенсиях, в учреждении академий. Сознание
твердого единства и сильного законного порядка, возрастающее
внутреннее благосостояние и сильное внешнее положение везде
доставляли королю охотное повиновение и благоговейное уваже-
ние. Вся страна была воодушевлена гордым сознанием собствен-
1 Государство — это я (фр.). — Прим. изд.
50
ного достоинства и ревностным стремлением к совершенствова-
нию. Вскоре Франция опередила все прочие народы в образовании
и промышленности и стала примером для целой Европы не только
по своему политическому могуществу, но и по своему умствен-
ному превосходству. Влияние было тем сильнее, что и все другие
народы были проникнуты тем же стремлением приобрести тесное
единство и защиту от насилий дворянства. Повсюду на дымящих-
ся развалинах старого феодализма строилось неограниченное мо-
гущество победившей королевской власти. Как бы самовластно
и расточительно ни действовали иногда государи, но все-таки даже
самая необузданная бессовестность одного всегда легче и выгоднее
произвола и хищничества многих.
Преимущественно с этой точки зрения и надобно понимать идеи
Боссюэ, когда этот могущественный архиепископ и знаменитейший
проповедник своего века основывает неограниченное право едино-
державия на исключительно теократических началах, как некогда
в Англии Филмер, и прославляет его, как непосредственно боже-
ское установление. Он излагает это в сочинении «Politique йгёе de
1’Ecriture sainte» (издано в 1709 г.), которое он написал в качестве
учителя наследника престола. Сам Бог, говорил он, видимо управ-
лял как царь своим избранным народом до тех пор, пока не пома-
зал на царство Саула и Давида, через Самуила, и не утвердил затем
власть в доме Давида. Королевская власть священна, потому что
король есть наместник Бога; власть эта неограниченна, так как ко-
роль не обязан никому давать отчета, кроме одного Бога. Величе-
ство королевской власти есть подражание и отражение величества
Бога. Король есть государство. Только тот, кто служит государству,
служит королю; кто враг королю, враг государству; каждый должен
с радостью жертвовать жизнью за короля; недостатку благоговения,
верности и повиновения нет никакого оправдания и никакого пред-
лога, даже и в безбожии или жестокости короля. Но зато король,
конечно, обязан употреблять все свое могущество, во-первых, на то,
чтобы уничтожать в своем государстве ложную религию и поддер-
живать блеск, истинной религии и ее служителей; и, во-вторых,
чтобы исполнять мудрую справедливость в отношении своих под-
данных, так как это одно отличает королевскую власть от недостой-
ного произвола. В числе средств, какими располагает король для
увеличения своего могущества, а с тем вместе и счастья народа,
одно из главных есть война, потому что война не только позволена,
но Бог даже положительно велел израильтянам вести войну против
некоторых народов; налоги, которыми отягощаются покоренные
страны, составляют увеличение национального богатства. Словом,
перед нами книга, цель которой — доказать полное согласие бли-
жайшей действительности с требованиями священного писания
и превознести ее, как исполнение библейского закона. В книге этой
51
много низкой лести, но сущность ее была глубочайшим убеждени-
ем Боссюэ, а с ним вместе и большей части его современников.
Во времена Фронды, Мезерё (Mezeray), первый французский
историк с более широким значением, написал свою историю Фран-
ции, имевшую большое влияние, — эта книга, в особенности вни-
кавшая в общественные и экономические отношения и перемены,
была не только историей государей, но и историей народа; то, что
появлялось исторического в литературе времен Людовика XIV, есть
не что иное, как придворное прославление французской королев-
ской власти.
Рядом с этим безусловным подчинением королевской власти
видна черта самой искренней приверженности к церкви. Декарт,
который решительно разорвал связь с схоластикой, дал силу са-
мостоятельному исследованию и выставил знаменитый принцип
о необходимости сомнения — не для того, чтобы, как Монтень
и Шаррон, бесплодно остановиться при одном этом сомнении,
но чтобы извлечь из него начало и средства более глубокого позна-
ния — Декарт вызвал во Франции сильное возбуждение. Его воздей-
ствия видны повсюду; не только в науке, но также в общем образо-
вании и взгляде на вещи. Николь, глава янсенистов, и даже Боссюэ,
этот неумолимый страж Сиона, не свободны от влияний Декарта; ло-
гика Порт-Рояля основывается на декартовской почве, и переписка
г-жи Севинье даже ясно показывает, что отдельные мысли проникли
и в высшее общество. Но в конце концов и это рационалистическое
направление было сломлено. И это сделано было не столько внеш-
ними запрещениями и мерами, — хотя и в них не было недостатка
в правление Людовика XIV, — сколько внутренней переменой само-
го народного духа, которая показывала, что та эпоха еще не была
в состоянии следовать за свободным мыслителем. Но, за исключе-
нием Жёлена (Jeulinx) и Мальбранша, которые самостоятельно шли
к более последовательному развитию, остальные последователи
исключительно повторяли только вещи второстепенные и побоч-
ные, именно учение о природе. Ортодоксия осталась непоколеби-
ма. Испуганные смелостью философских нововведений, люди тем
усерднее прятались за положениями церкви и за потребностями
набожного сердца. Борьба между иезуитами и янсенистами, — ко-
торые в своем стремлении к большей глубине и освящению жизни
приближаются к понятиям протестантства, — разгорелась ярким
пламенем; но оба противника совершенно согласны в убеждении
о безусловной необходимости слепо подчиняющейся веры. Па-
скаль, неистощимый в своей резкой борьбе против иезуитов, был
не менее неистощим в своей ненависти к философам. И он прошел
некогда школу сомнения и при этом дошел почти до истощения
от страха и мучений совести; теперь он преследует философию, как
тщеславное высокомерие, лишенное утешения и истины, как зна-
52
ние, не признающее ни бытия Бога, ни его сущности, и становится
восторженным проповедником положительной религии, без кото-
рой человеческое сердце не может найти удовлетворения. Подоб-
но Паскалю, и Юэ видит в сомнении только подготовление веры.
Наконец Боссюэ высказывает всю сумму своего мышления и зна-
ния, когда в своем знаменитом «Discours sur 1’histoire universelle»
(1681) — этом первом опыте научной всеобщей истории, осно-
ванной на твердой и единой основной мысли, — видит в истории
только приготовление и совершение христианства. Христианство
есть начало и цель. Люди, царства и народы имеют цену и значе-
ние только, как орудия к движению этого высшего божественного
намерения. Поэтому в древности существует на деле только один
исторический народ — народ еврейский; и явления средних веков
и новейшей истории рассматриваются только с точки зрения само-
го узкого клерикального высокомерия.
Таковы условия и настроение, из которых исходит французское
искусство и поэзия того времени. Это искусство и поэзия представ-
ляют прославление этих условий и этого настроения. Они верное,
но и весьма предательское отражение века.
В этом величии в то же время заключается и слабость.
Всего своеобразнее выразилась трагика. Несмотря на тяжелый
приговор, произнесенный против нее Лессингом с глубоким со-
знанием правоты своего мнения, мы не можем не признать того,
как могущественно она одушевлена и проникнута великими иде-
ями, двигавшими тогда государство и церковь. Первым, не только
по времени, но и по оригинальной силе таланта, был Корнель. На-
чало и развитие его относится еще ко временам Ришелье; оттого
он так энергически стремится к ясно сознаваемой цели. Он так же,
как Шекспир, вполне принадлежит возникающей королевской вла-
сти. В своих юношеских произведениях он только стремится к опре-
деленности содержания и к определенной художественной форме;
но раз достигши их, он берет только те вопросы, которые стоят
в ближайшей связи с вопросами и борьбой его времени. В Корне-
ле еще живет черта того древнего рыцарства, которое он так ув-
лекательно умел возвеличить в своем Сиде; его герои горды, му-
жественны, с твердой волей; его женские характеры так страстны,
так мстительны и так непоколебимо решительны, что их называли
достойными поклонения фуриями; но страсти этих упрямых на-
тур всегда связаны с великими мировыми событиями и под конец
добровольно уступают удовольствию и обязанности, подчинить-
ся требованиям общественного блага. Нельзя не признать более
чем случайностью, что именно «Цинна» и «Полиевкт» наиболее
закончены в поэтическом отношении: трагедия «Цинна» изобра-
жает королевскую власть, которая, в твердом обладании силой,
уже не боится восстаний, заговоров и измен, но, напротив, укре-
53
пляется тем больше, чем милостивее и великодушнее она прощает
и предает забвению; трагедия «Полиевкт» превозносит с теплой ис-
кренностью веры могущество и святость церкви, в которой новое
государство находило свое основание и опору. В остальных драмах
Корнеля всегда изображается радостная смерть за отечество, побе-
да единовластия над падающим республиканским величием, счаст-
ливая война государства, стремящегося к всемирному могуществу,
против изнеженных или варварских народов. За Корнелем следу-
ет Расин. Он мягче, сердечнее, женственнее, язык его утонченнее
и музыкальнее. Брожение государственной жизни прекратилось,
дикие бури утихли. Поэтому у Расина уже нет того одушевленного
стремления к общественной жизни; он охотнее погружается в про-
тиворечия и запутанности сердца, возбужденного привязанностью
и долгом, честью, любовью и ревностью. Он вложил свою душу
в душевную борьбу Андромахи, Электры и Федры; а в библейских
драмах «Эсфирь» и особенно «Аталия» он дошел до поэтической
силы, которая часто напоминает возвышенность псалмов, служив-
ших ему образцами. Теперь пора уже снова отдать справедливость
этим могучим произведениям Корнеля и Расина. В них замечатель-
но не одно содержание; в самой форме их есть многое, что вовсе
не заслуживает презрительного тона, с каким обыкновенно говорят
о них теперь. Постоянное обращение к греческой и римской траги-
ке, сделавшееся обязательным правилом после примера итальянцев
и испанцев и после собственных французских предшественников,
дает этим поэтам такую ясную и резкую отделку трагических проти-
воположностей, такое чистое и наглядное изображение характеров,
такое спокойствие и правильность действия, совершенно отстраня-
ющие все второстепенное, — что даже Гёте и Шиллер, для проти-
водействия начинавшемуся одичанию новейшей сцены, указывали
уже на Корнеля и Расина, если не как на «образцы», то, по крайней
мере, как на «руководство к лучшему»; они отчасти сами переводи-
ли их, а в некоторых случаях даже подражали им. Почему же, не-
смотря на все это, мы остаемся холодны к Корнелю и Расину и все
еще отворачиваемся от них по славному примеру Лессинга? Никто
не может перескочить через свою тень. Здесь обнаруживается и от-
мщается то, что королевская власть этого времени есть не только
законченное государственное единство, но что она, как исключи-
тельная цель самой себе, односторонне ставит себя над народом
и государством. Страшные слова «государство есть король» являют-
ся здесь еще более страшными словами «человечество есть король
и его двор». «Etudiez la cour, connaissez la ville»1, — говорит Буало,
которого хвастливо называли законодателем Парнасса, но который
на деле не больше, как весьма ничтожный обер-церемониймейстер.
1 Изучайте двор, познавайте город (т. е. столицу) (дбр.). —Прим. изд.
54
Поэтическим идеалом были здесь не одна чистая человечность, глу-
бина страсти, возвышенное или великое, но скорее один внешний
блеск, знатность, произвол и натянутый этикет. Французская тра-
гедия, в сущности, есть придворное искусство. Это направление
искусства называют классицизмом, но это классицизм не свобод-
ный. Отсюда его странная принужденность, что он исключитель-
но говорит о богах и героях: каким бы образом мог явиться пред
королем трагический герой, не имеющий права приезда ко двору?
Отсюда и искажение верного, в сущности, художественного чув-
ства, требующего твердой замкнутости действия в пресловутые три
единства, происшедшие из ложного понимания древних; этикет за-
прещает всякие скачки и всякий шум. И отсюда же в особенности
то преобладающее стремление к риторике, которым столько же от-
личается литература александрийцев и римской империи. При ис-
кусственности и неестественности внешней обстановки, фантазия
потеряла ту природную сочность и обилие цветов, какие свойствен-
ны ей в более свежих и первобытных условиях и настроениях. Чув-
ство стиля было возбуждено и развито греческо-римскими и ита-
льянскими образцами; но стиль без верности природе становится
пустым, неестественным и рутинным. Основанием этого классиче-
ского стиля служит неподвижная и сухая рассудочность; этот недо-
статок и вознаграждается потом риторикой и эпиграмматическим
остроумием.
Мольер смело разоблачает комическую оборотную сторо-
ну общества. Мы встречаемся у него с теми же людьми, с тем же
обществом, изображения которых дают такую занимательность
и историческую поучительность любезной болтовне г-жи Севинье.
От наблюдательности Мольера, всегда внимательной, тонкой и лу-
кавой, не ускользает никакая смешная сторона, ни одно заблужде-
ние, ни одно сословие и никакой характер. Он точно так же беспо-
щадно смеется над притязательным франтом маркизом, как и над
надутым выскочкой, ученым синим чулком, шарлатаном, скупцом
и мизантропом; мало того, в самом богатом по содержанию про-
изведении, в «Тартюфе», он, преследуя себялюбивое ханжество,
приобретает такую силу широкого политического комизма, какой
не бывало на сцене со времен Аристофана. Мольер пользуется пол-
ным уважением даже у тех, кто не может терпеть французской тра-
гики. Но при всем том, он не стоит на высшей точке комической
поэзии. Как Корнель и Расин, и он, именно в комедии характеров,
страдает той же рассудочной сухостью и отвлеченностью, которая
не умеет изобразить живых личностей, поглощенных разнообраз-
ными целями и отношениями. Лессинг в своей «Драматургии» (изд.
Лахмана, т. 7, стр. 412) справедливо осуждает Мольера, что он, по-
добно Плавту, вместо изображения скупого, дает только странное
и отвратительное изображение страсти скупости; то же можно ска-
55
зать и о Тартюфе. Замечательно, что фарсы Мольера, где он черпа-
ет из свежего источника непосредственной народной жизни, в этом
отношении бесконечно оригинальнее и живее. И что хуже всего,
у Мольера нет твердого нравственного начала. Как весь тот век, от-
казывавшийся от самых существенных своих прав в пользу короны
и алтаря, Мольер не имеет твердой почвы, свободных и положи-
тельных воззрений. Мерка его поэтической справедливости заклю-
чается во временных нравах, а не в неизменной нравственности.
Мы не можем отдаться свободному и веселому наслаждению, когда
поэт хочет заставить нас радоваться над крайней безнравственно-
стью, как, например, в «Жорже Дандене», в «Школе женщин», в «На-
сильственном браке» и других подобных произведениях, и нас даже
неприятно поражает, что в «Мизантропе» выставляется глупцом
и предается осмеянию именно тот, кто слишком горд и слишком
честен, чтобы выть с волками по волчьи.
Еще крепче и прямее зависели от двора образовательные искус-
ства. Это яснее всего обнаруживается в Версале, этой блестящей
королевской резиденции, которая с эпиграмматической резкостью
выдает весь характер Людовика XIV. Дворец этот построил Жюль
Ардуэн-Мансар. Король не любил Лувра; Лувр стоит среди города,
и вокруг него шумит и волнуется народ, от которого самодержец
отдаляется в гордой неприступности. Король строит себе замок
в песчаной и безводной местности, и если из пустыни он мог как бы
волшебством создать рай, это лишь еще больше доказывало его
всемогущество. Впереди, у входа в замок, огромная статуя короля,
далее обширные дворы, наконец самый замок с его громадным за-
падным фасадом, который и есть собственно Версаль. Чтд за пове-
лительная величественность масс! Длинно растянутое здание зани-
мает пространство почти в две тысячи футов. Главная часть дворца
выступает далеко вперед и тотчас указывает собой жилище власти-
теля; каждый камень говорит, что здесь живет король; оба боковые
флигеля отступают почтительно назад. В самом дворце, в этих вы-
соких, великолепных, обширных залах, пестрые, богатые фигурами
плафоны Лебрёна рассказывают с напыщенным самохвальством
о всех великих военных подвигах, которые ознаменовали славу ко-
роля и сделали его могущественнейшим из государей. Весь Олимп
падает к его ногам; мифология стала только красноречивой алле-
горией могущества и мудрости короля. Германия, Голландия, Ис-
пания, даже Рим покорно преклоняются перед ним. Но нигде нет
олицетворения Франции, потому что Франция — сам король; точно
так же, как и на больших картинах, изображающих битвы, является
не войско, а только король и разве иногда подле него великий Кон-
де, так как слава принадлежит королю, а не армии. К замку при-
мыкает обширный парк, великое создание Ленотра. Из окон своего
дворца король видит только самого себя; парк так же далек, как го-
56
ризонт, отодвигая с глаз всякую постороннюю окрестность. Длин-
ные, прямолинейные, усыпанные песком дорожки, высокие, пра-
вильно подстриженные стены листвы и прямоугольные ковры лугов,
искусственные гроты, убежища, обильные фонтаны, бесчисленные
статуи, представляющие опять только аллегорическое прославле-
ние короля, его любви и прихотей, — все это на каждом шагу долж-
но показывать, как даже непокорная необузданность природы, под-
чиняясь порядку и правилам, признает добровольную покорность
своим законам. Еще и теперь, когда мы гуляем по этим аллеям, нас
постоянно охватывает неотвратимое воспоминание о могуществен-
ном короле. Мы как будто видим его, среди этой возвышающейся
пышности и великолепия, в том виде, как описывает его Береника
в трагедии Расина, говоря о своем возлюбленном Тите:
De cette nuit, Phenice, as-tu vu la splendeur?
Tes yeux ne sont-ils pas tons pleins de sa grandeur?
Ces flambeaux, ce bucher, cette nuit enflammee
Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armee,
305. Cette foule de rois, ces consuls, ce senat,
Qui tous de mon amant empruntoient leur eclat,
Cette pourpre, cet or, qui rehaussoit sa gloire,
Et ces lauriers enfin, temoins de sa victoire,
Tous ces yeux qu’on voyoit venir de toutes parts
310. Confondre sur lui seul leurs avides regards;
Ce port majestueux, cette douce presence...
Ciel! avec quel respect et quelle complaisance
Tous les coeurs en secret Passuroient de leur foi!
Parle! peut-on le voir sans penser comme moi
315. Qu’en quelque obscurite que le sort I’eut fait naitre
Le monde en le voyant ait reconnu son maitre?
Но и здесь, среди всего блеска, выказывается поддельность, ис-
кусственность и внутренняя пустота. Как голы и утомительны ка-
жутся, наконец, эти громадные массы дворца, которые так пора-
жают с первого взгляда. В этом архитектурном стиле нет ни той
силы, которая делает флорентинские дворцы неприступными кре-
постями, — потому что живущий здесь повелитель не нуждается
для защиты своего могущества ни в каких укреплениях; ни веселой
красоты римских дворцов, — потому что здесь не живет та чистая
и свободная человечность, которая отличает лучшее время итальян-
ского Возрождения; этот стиль имеет только напыщенную колос-
сальность, без всякой глубины в отделке частностей, — потому что
здесь живет только напыщенное, холодное высокомерие, надменная
власть, которая надевает на себя длинный парик, чтобы его длин-
ными локонами походить на Юпитера, и которая в этом лживом ве-
личии насильственно подчиняет все движения сердца мертвящему
57
однообразию этикета. Это тяжелое впечатление еще более усилива-
ется неестественностью парка, который кажется только зеленым са-
лоном, и своим полнейшим аристократизмом не дает ни на минуту
забыть о стеснительной близости короля. Скульптура и живопись
также бедны изобретательностью и театральны в исполнении; они
остаются такими даже и тогда, когда и не служат непосредствен-
но королю. По временам бывает в них много смелости и внешнего
искусства; но везде много пустого стремления к эффекту. Рассма-
тривая в Луврском музее группу Пюже, возбуждавшую некогда та-
кое всеобщее удивление и представляющую Милона Кротонского
с защемленными в стволе дерева руками, когда лев терзает его без-
защитного, — мы увидим, что образцом этого времени рядом с ге-
ниальным, но бесконечно смелым и преувеличивающим Бернини,
была в особенности группа Лаокоона, — это произведение искус-
ства, которое уже стоит на крайней границе дилетантского смеше-
ния трагического с ужасным.
Только у Лафонтена, который из всех поэтов и художников это-
го века был наиболее далек от влияния двора, в простом тоне его
рассказа и лукавом остроумии есть нечто народное и первобытное;
это наивный поэт. Но и он иногда не свободен от явной преднаме-
ренности.
История искусства дает нам то великое поучение, что недостатки
известного развития искусств бывают не что иное, как недостатки
того состояния жизни, которое лежит в основании этого развития.
Людовик XIV был именно человек, который слишком скоро мог от-
крыто обнаружить эти тайные раны.
Славное начало Людовика XIV имело неожиданный конец. По-
следние годы его правления поколебали в самом основании гордое
здание его владычества.
Для объяснения этого поворота можно находить случайные при-
чины, именно возраставшую болезненность короля, которая отдала
его под власть умной, но хитрой и преданной узкому ханжеству го-
спожи Ментенон. Но зачем одинокий больной человек осмеливает-
ся брать на себя роль божественного провидения для целой богатой
страны и даже для целого образованного мира? Истинная сущность
дела лежит глубже. Трагедия Людовика XIV есть трагедия абсолю-
тизма. Та же основная идея, которая была величием и силой Лю-
довика, была и причиной его постепенного падения, его трагиче-
ской виной. То, чтд, по намерениям короля, должно было упрочить
и расширить единство и силу государства и королевской власти,
ослабило и уничтожило их. Струна лопается, если ее слишком туго
натягивают.
Церковные распри и борьба заняли большую часть его жизни.
Король был искренно предан католической вере, в последние годы
даже хвастался своим рвением. Эта строго католическая черта про-
58
являлась тем резче, что и король, и все духовенство страны были
убеждены, что после падения Италии и Испании Франция остава-
лась естественной главой католического христианства. Но если
вообще крайне вредно для строгой замкнутости государства, что
католическое духовенство ищет свою точку опоры не в той вла-
сти, которая стоит над ней внутри страны, но в посторонней вла-
сти папы, то такой решительный самодержец, как Людовик XIV,
всего меньше склонен был допускать самостоятельность и неза-
висимость церкви, как государства в государстве. Потому король
и во внешней своей политике, и главным образом посредством
внутренних ограничений, старался подорвать верховную власть
папы. Он конфисковал духовные имения, притеснял духовные ор-
дена, облагал должности и приходы налогами и распространил так
называемую регалию, т. е. право присваивать себе доходы с упразд-
нившихся епископств и замещать подчиненные им места, — даже
на такие провинции, где до тех пор этого права никогда не было.
После этих отдельных стычек Людовик XIV созвал тот знаменитый
съезд французских прелатов, который, с ноября 1681 до марта
1682, определил независимость светской власти от всяких духов-
ных вмешательств, подчинение папы постановлениям всеобщих
соборов, необходимость согласия церкви на папские решения
даже и в делах веры, и неприкосновенность галликанских законов
и обычаев. Эти определения получили такую обязательную силу,
что в университетах и школах не было терпимо никакое другое
учение. Король одно время льстил себя надеждой, что ему удалось
осуществить мысль о свободной и независимой галликанской на-
циональной церкви. Но эта галликанская церковь должна была
стать и на деле строго единой, свободной от всяких ересей и раз-
дора. Un roi, ипе lot, unefoi1. Отсюда началось жестокое преследова-
ние и истребление гугенотов посредством отмены Нантского эдик-
та, и отсюда же не менее настойчивое и насильственное стеснение
янсенистов, которые были для короля тем более ненавистны, чем
более он подчинялся в последнее время влиянию иезуитов. Можно
было бы подумать, что победа осталась за королем; но на деле эта
победа оказалась чувствительным поражением. Изгнание гугено-
тов подорвало торговлю и промышленность в самом жизненном
корне; раздражение протестантских государств против Франции
имело решительное влияние на ее внешние дела. На сторону пре-
следуемых янсенистов перешли все, в ком только осталось среди
всеобщего гнета чувство свободы и противодействия. Сигнал к пу-
бличному порицанию и сопротивлению королевским повелениям
был дан; парламенты стали упорнее. Король не мог похвалиться,
чтобы полная сила этих четырех галликанских положений устояла
1 Один король, один закон, одна вера (фр.). —Прим. изд.
59
надолго. Уже в 1693 году папа Иннокентий XII, ободряемый и под-
держиваемый соединившимися против Франции государствами,
достиг того, что большая часть прелатов, участвовавших на собо-
ре 1682 года, смиренно просили извинения у папского престола,
и что даже сам король, если не совсем отменил и запретил эти по-
ложения, то по крайней мере должен был умерить их обязательную
исключительность. Но, несмотря на то, жестокая религиозная не-
терпимость оставалась в Людовике неизменна и даже становилась
все сильнее и сильнее.
Еще неожиданнее и гораздо ощутительнее подорвали почву
бесконечные войны. Людовик XIV не был по природе человеком
воинственным; он сам никогда не предводительствовал войсками
в сражении. При всем том он искал и любил войну. Говорят, что
французское правительство может держаться только тогда, когда
оно сумеет возбудить к себе страх и удивление, страх — своей силой
и твердостью, удивление — искусством постоянно занимать и по-
ражать общественное мнение эффектными делами и событиями.
Людовик, как впоследствии Наполеон, должен был подавлять вну-
тренние волнения и междоусобия, а потому, как и тот, чувствовал
и с жадностью хватался за необходимость направить воинственные
силы на внешнюю войну для пользы государства, чтобы они не по-
действовали разрушительно внутри. Первые блестящие успехи от-
уманили Людовика. «Увеличивать пределы государства, — пишет
он еще 8 января 1688 к маркизу Виллару, — есть самое достойное
и приятное занятие королей». В нем зародился также грандиозный
план всемирного владычества. Властитель Франции, он хотел быть
и властителем Европы, или по крайней мере иметь в ней неоспо-
римое преобладание; отсюда те бесконечные, несправедливые и ис-
требительные войны, которые, в течение более чем двух поколений,
держали весь мир в постоянной тревоге. Несмотря на все колебания
и переменное счастье, выгоды от войны остались, конечно, реши-
тельно на стороне Франции. Однако глубокие раны, понесенные
страной, не зажили.
К этому присоединяются и те неимоверные расходы, которых
требовал король на свои сады и постройки и на дорогое содержание
двора. Блеск и пышность он считал необходимой принадлежностью
величия; притом он признавал тот страшный принцип, что король
подает милостыню, когда он расточителен.
Великие труды Кольбера по устройству и улучшению государ-
ственной экономий в короткое время были совершенно унич-
тожены. Их заменила низкая алчность; меркой для назначения
податей была не способность народа к труду, а способность его
к лишениям. Страна опустела и обезлюдела, торговля и земледе-
лие были заброшены, народ обеднел и голодал, нравы одичали.
Все слои населения были одинаково проникнуты злобой и глубо-
60
чайшим недовольством. Отчаянье жаждало освобождения и даже
проявилось отдельными восстаниями.
Гердер в «Адрастее» говорит о Людовике XIV: «Если когда-либо
в истории жизни и правления короля высказывалась строго-крот-
кая Немезида, то именно в истории Людовика; он жил и управлял
довольно долго для того, чтобы видеть неоднократные повороты ее
медленного колеса, и чтобы с королевской заботой пожать то, что
он с королевской беззаботностью посеял». Трагически потрясающее
впечатление производят слова, с которыми король, — по рассказам
Сен-Симона (Записки, изд. Cheruel et Regnier, XI, 448), — за четыре
дня смерти обратился к своему правнуку, который должен был ему
наследовать: «Дитя мое, — сказал он, — ты скоро будешь великим
королем; старайся сохранить мир с твоими соседями; слушай посто-
янно добрых советов; старайся облегчить тягости твоих подданных;
я, к несчастью, не всегда мог это делать». Король сам произнес свой
приговор.
Он умер 1 сентября 1715 г. Весть о смерти короля произвела
повсюду самую нескрытую радость. Поколение, испытавшее бла-
годеяния его правления, сошло в могилу задолго до него; жившие
знали только угнетение и несчастья последних годов. Страшная
надгробная речь Массильона1 на кафедре и необузданные насмеш-
ки на улицах дышали той же долго скрывавшейся злобой. Первым
делом регента и собранного в Париже парламента было уничтоже-
ние королевского завещания. Дворцовая революция начала теперь
то, что немного десятков лет спустя вспыхнуло открытой народной
революцией.
Можно ли удивляться, при таких обстоятельствах, что и лите-
ратура приняла глубоко естественный поворот? Противодействие
было и политическое, и религиозное. Оно началось вблизи само-
го трона.
Политическое противодействие стремится к естественному осво-
бождению народа, как единственно верному средству устранить су-
ществующее зло. Сюда относится в высшей степени замечательная,
но теперь очень редкая книга «Les Soupirs de la France», вышедшая
в 1690 в Амстердаме, где собрано пятнадцать Memoires, изданных
в последние месяцы и исходивших из протестантских кругов. Она
требует восстановления старых сословных собраний, для противо-
действия себялюбивым насилиям неограниченной королевской вла-
сти; так, например, говорит заглавие VII мемуара: Lapuissanse absolue
des rois de France est usurpee; les Etats ont toujours ete les principaux
depositaires de la souverainete et sont superieurs aux rois2. Но самое дей-
1 Современное написание «Масийон». — Прим. изд.
2 Абсолютная власть королей Франции узурпирована. Сословия всегда были
главными хранителями суверенитета и превосходили королей (фр.). —Прим. изд.
61
ствительное и яркое выражение этого направления представляют
политические сочинения и советы Фенелона и экономические со-
чинения Буагильбера и маршала Вобана.
С еще большей страстью и решительностью вспыхнула религи-
озная борьба. Особенно громко раздавались голоса изгнанных гуге-
нотов, которых сочинения, рассчитанные для Франции, проникали
в нее всеми путями и во все слои народа, из Нидерландов. Они на-
ходили тем более живой отголосок, что преследование янсенистов
и без того уже чрезвычайно взволновало умы. Во главе стоял Бейль.
Мы стоим теперь на великом рубеже. Здесь начало той страш-
ной политической и религиозной борьбы, которая делает восем-
надцатое столетие одним из важнейших периодов целой истории.
Борьба росла день ото дня с неудержимой быстротой, пока наконец
она привела к полному падению прежнего государства и прежней
церкви.
Проследить самым точным образом именно эти начала состав-
ляет необходимую задачу историка. Они представляют собой за-
ключительную катастрофу трагедии Людовика XIV и вместе с тем
основание новейшего государственного и церковного развития,
с началом и созреванием которого мы все связаны еще нашими глу-
бочайшими привязанностями и ненавистью.
Глава вторая
Начало оппозиционной литературы
1. Фенелон
Полное понимание всей деятельности Фенелона установилось
только в последнее время. Эта деятельность была по преимуществу
политическая. Быть может, даже правы те, которые полагают, что
Фенелон надеялся, подобно Ришелье и Мазарини, сам некогда взять
в свои руки кормило правления.
Франсуа Салинъяк де Ла Мот-Фенелон, потомок старинной
дворянской фамилии, родился 6 августа 1651 в замке Фенелоне,
в нынешнем департаменте Дордонь. Предназначенный к духов-
ному званию, он воспитывался в Париже. В молодости он мечтал
о далеких миссиях, и его особенно влекло в Грецию; он хотел ви-
деть Дельфы, Парнасе и Темпейскую долину, хотел проповедовать
в Афинах, где действовали и учили его образцы, Сократ и апостол
Павел. Но исполнение этого плана не удалось вследствие сопротив-
ления семьи. Молодой аббат получил дело во внутренней миссии:
ему поручено было (в 1678 г.) обучение новообращенных католи-
ков, и эта должность, с 1683, поставила его в близкие отношения
к Боссюэ. После отмены Нантского эдикта он послан был, во гла-
ве штаба духовных лиц, в Аунис (Aunis) и Сентонж, где с 1681 года
62
ему предшествовали драгонады, чтобы трудиться над обращением
еретиков (конец 1685—1688). К этому времени относятся его сочи-
нения «Traite de I’education des filles» 1687 и «Traite du ministere des
Pasteurs»1688.16 августа 1689 г. Фенелон, по рекомендации герцога
Бовилльера, назначен был воспитателем герцога Бургонского. Это
событие решило всю его жизнь.
С этой минуты Фенелон принадлежал безраздельно своему вос-
питаннику. Он чувствовал робость и воодушевление при мысли,
что от характера того, кого он должен образовать, будет зависеть
не только счастье или несчастье двадцати миллионов подданных,
но и счастье или несчастье целой Европы. На первую молодость
принца рассчитаны басни Фенелона. Они написаны по поводу раз-
ных событий дня и случайных обстоятельств, смотря по надобности
объяснить принцу ту или другую ошибку и недостаток, или твердо
запечатлеть в его памяти то или другое наставление и предосте-
режение. Разнообразные по тону, басни Фенелона все одинаково
грациозны; при всей их строгой серьезности, они полны, однако,
любви и снисходительности. Когда принц сделался старше, за бас-
нями последовали разговоры в царстве мертвых, по образцу Лукиа-
на. Круг зрения становится обширнее, и внимание обращается уже
на государство и историю, и притом с явной целью отклонить вос-
питанника от соблазнительных путей деда, от его насилий и стра-
сти к завоеваниям. В разговоре Генриха IV с герцогом майнцским
говорится: «Короли не хотят, чтобы вещи назывались собственны-
ми их именами; они привыкли к лести и извлекают из нее свои при-
тязания на величие». В разговоре Франциска I с Карлом V, гордому
властелину Испании предсказывается, что его насильственное угне-
тение всякой истинной заслуги и всякого серьезного образования
повергнет его могущественное государство в неминуемую гибель
и будет новым примером для старого правила, что высокомерие —
опаснейший враг счастья.
Но нельзя не удивляться, что Фенелон в том же смысле задевает
и ближайшее настоящее. Известен проект письма к королю, напи-
санный Фенелоном, вероятно, около нового 1695 года. Его в первый
раз сообщил д’Аламбер в своем академическом похвальном слове
и считал его принадлежащим Фенелону (сочинения д’Аламбера,
Paris 1821, т. 2, стр. 502); долго подлинность письма была подвер-
гаема сомнению, но теперь знающие критики находят в нем черты
Фенелона1. Письмо в самых жестких выражениях порицает короля
за то, что он в свое правдивое и благородное сердце допускает все * 9
1 Письмо вызвало маленькую литературу; в Германии Ранке (Werke, XI, 74) со-
мневался в его подлинности; Дёллингер защищал ее (Allgemeine Zeitung, Beilage
9 июля 1886). Наконец, вопрос разобран был Реадом (Read, в Bulletin de la socidtd de
1’histoire du protestantisme frangais, год 39, 1890, стр. 113 и далее). Во всяком случае
мысли письма могут быть подтверждены из сочинений Фенелона.
63
больше и больше недоверия и эгоизма; никто, по словам письма,
не осмеливается больше говорить с королем о государстве и его ну-
ждах; король думает только о себе, о своих удовольствиях и лич-
ных выгодах; Франция обеднела и обеднела от роскоши и пышно-
сти двора, тогда как на деле никакой король не может быть велик
на счет своих подданных. Об уничтожении Нантского эдикта, ко-
нечно, нигде нет речи. Наконец автор переходит к неумеренной
страсти к войнам. Самые победоносные результаты не могут сде-
лать несправедливой войны справедливой, и вынужденные мирные
договоры никогда не могут быть прочны. В особенности это можно
сказать о печальном походе 1672 года. Удивительно ли, что вся Ев-
ропа восстает против короля. И теперь, когда Франция больше чем
когда-нибудь нуждается в силе против неприятеля, страна оказы-
вается расстроенной внутренними смутами, государственная казна
лишена средств; теперь было бы полезнее всего, если бы король
наконец смирился перед Богом и возвратил свои несправедливые
завоевания тем, у кого они отняты.
Ясно, что письмо это не было передано лично королю. Он скры-
вает, однако, свое авторство словами: Sire, la personne qui prend la
liberte de vous ecrire cette lettre... vous aime sans etre connue de vous1.
Г-жа Ментенон в конце 1695 в своей корреспонденции с кардина-
лом Ноайлем2 два раза говорит о подобном письме, но тремя года-
ми раньше и которое для нас не сохранилось; она находит, что оно
хорошо написано, но слишком резко, и говорит об авторстве как
о тайне, в которую впрочем она, конечно, была посвящена с самого
начала, как приятельница Фенелона. Это было время, когда, как го-
ворит герцогиня Орлеанская Елизавета-Шарлотта, Фенелон правил
в Версале с г-жой Ментенон.
4 февраля 1695, после преподавания в течение пяти с половиной
лет, он был назначен епископом в Камбре, и с этим назначением
было соединено милостивое условие, чтобы он, как и прежде, оста-
вался учителем принца и каждый год приезжал на три месяца в Вер-
саль. Не видно, чтобы Людовик XIV чувствовал к нему особенную
любовь. Не имело ли назначение в Камбре своего основания в же-
лании короля начать этим отдаление тринадцатилетнего принца
от его прежнего руководителя?
Фенелон исполнял свою новую должность с благоразумной
твердостью и часто с клерикальным рвением, которое странно
противоречит его свободному политическому образу мыслей. Если
обратить внимание на исторически достоверные факты его офици-
альной церковной деятельности, то становится несомненным, что,
как сановник церкви, Фенелон вовсе не отличался такой кротостью
1 Сир, человек, который берет на себя смелость написать вам это письмо... лю-
бит вас, не будучи знаком вам (фр.). —Прим. изд.
2 Современный вариант написания «Ноай». — Прим. изд.
64
и терпимостью, как его представили Д’Аламбер и французские фи-
лософы восемнадцатого века, а за ними биографы Фенелона, Рэмзи
и Боссе. Правда, Рэмзи рассказывает, что Фенелон предупреждал
шевалье Сен-Жоржа, т. е. несчастного сына Якова II английского,
против всяких религиозных преследований, но при тогдашних ус-
ловиях это было для него необходимым правилом благоразумия.
Достоверно то, что Фенелон, который так хорошо видел все другие
ошибки короля, никогда не говорил ни единого слова против же-
стокого уничтожения протестантов. Не менее достоверно и то, что
в долголетней переписке своей с ле Теллье, упрямым духовником
короля, он постоянно подстрекал его к более суровому стеснению
янсенистов. Открытие новых документов из времени его миссии
в Сентонже, и более внимательное изучение его переписки, нако-
нец, совершенно уничтожили легенду о деистически настроенном,
кротком, терпимом и великодушном Фенелоне, и мы, к сожале-
нию, видим его суровым и нетерпимым в деле обращения и дву-
язычным в своих письменных рассказах, — так что его характер
в двояком отношении может быть назван поповским (pfaffisch), на-
сколько это выражение означает недостаток гуманности, который
может отчасти извинить эпоха и недостаток прямоты и благород-
ства. И то обстоятельство, что важные бумаги Фенелона заботливо
охраняются в Saint Sulpice от глаз чужого исследования, возбуждает
подозрение, что они выказывают характер Фенелона не в особенно
благоприятном свете.
В глубине своей души Фенелон оставался политиком. Его глав-
ную заботу составляет неизменно принц. Он хочет образовать
из него короля, ум которого сформировало бы его педагогическое
искусство, которого понятия о жизни составились бы под его вни-
мательной заботой и который в своем будущем поприще охотно
и доверчиво пользовался бы руководством своего учителя, чтобы
составить счастье Франции и человечества. Боссё в своей биографии
Фенелона (Париж, 1808, ч. 2, стр. 137) с вероятностью предполага-
ет, что сочинение знаменитейшей книги Фенелона «Les aventures de
Telemaque» относится к 1695—1696 гг. Она должна была издалека
сообщить принцу правила и советы его учителя.
Минерва, под видом Ментора, сопровождает молодого Телема-
ка, отправившегося отыскивать Улисса, который еще не возвра-
тился из-под Трои. Будущий властитель Итаки встречает во время
своего странствования самые разнообразные государства и госуда-
рей, принципы и учреждения. Всего больше он остается у Идоме-
нея, который был некогда царем Крита, но изгнан был жителями
за свои насилия; теперь он царствует в Саленте, городе, основанном
им в Гесперии. В нем еще живет прежняя страсть к завоеваниям
и властолюбие, но опыт и несчастья смягчили его, и он охотно слу-
шает советы Ментора. В этих наставлениях заключается сущность
65
книги; смешно, конечно, говорить о поэтическом значении книги
или сравнивать ее с Гомером и Вергилием, как это делают некото-
рые французские критики.
Поучения Фенелона сами по себе весьма неопределенны
и общи. Основанием их служит неограниченная монархия, но мо-
нархия, презирающая всяким внешним могуществом и блеском,
всякими завоевательными войнами и великолепными праздне-
ствами и постройками, и стремящаяся единственно к народному
благу посредством развития земледелия и торговли и водворения
патриархальной простоты нравов. Боги, по словам его, сделали мо-
нарха монархом не для него самого, а только для народа; он обязан
дать народу все свое время, свою заботу, свою любовь; он досто-
ин трона лишь до тех пор, пока он забывает о себе и живет ис-
ключительно для народа. Монарх есть только хранитель законов;
своей мудростью и умеренностью он должен служить благососто-
янию людей, но не люди предназначены на то, чтобы своей ни-
щетой и трусливым рабством питать высокомерие и сластолюбие
одного человека. Только изредка указываются определенные пра-
вительственные меры, например, безусловное устранение строгих
запрещений Кольбера относительно ввоза; иногда заметны даже
черты аристократические. Все подданные должны быть разделены
на семь классов, которые должны быть резко разграничены друг
от друга твердыми законами об одежде. Но при всем том книга
эта была делом в высшей степени замечательным и смелым. Она
была результатом внимательного наблюдения и изучения господ-
ствующих личностей и положения дел. Если современники пошли
слишком далеко, видя в Калипсо маркизу Монтеспан, в Эвхари-
се — герцогиню Фонтанж, в Антиопе — герцогиню Бургонскую,
в Протезилае — ненавистного Лувуа, в Сезострисе и Идоменее —
частью Якова II английского, но особенно самого короля Людови-
ка XIV, — то все-таки несомненно, что мы находимся гораздо более
в Версале, нежели в Саленте.
Фенелон утверждает, что он никогда не думал издавать в свет
эти наставления, тайно обращенные им к своему воспитаннику,
но что один переписчик был так недобросовестен, что распростра-
нил несколько копий. Факт состоит в том, что копии со всякими
предосторожностями ходили по рукам в придворных кругах, и что
парижская фирма К. Барбен начала печатание в 1699, под загла-
вием Suite du quatrieme livre de I’Odyssee d’Homere ou les aventures de
Telemaque, на основании королевской привилегии от 6 апреля этого
года. Первый том не был еще окончен, когда Фенелон запретил пе-
чатание и велел откупить экземпляры, как пишет Елизавета-Шар-
лотта 14 июня 1699 к курфюрстине Софии ганноверской (ср. Ранке,
Franzdsische Geschichte, V, 372). Между тем это не помешало из-
дателю произвести тайное напечатание целого сочинения (в пяти
бб
частях). Впрочем, в июне сочинение появилось и в Гааге у книго-
продавца Adrian Montjens. Король был крайне раздражен, особенно
когда он видел, что все его враги, именно иностранные государи
поспешно и с злорадством схватились за эту книжку.
Между тем положение Фенелона при дворе было уже поколебле-
но. В январе 1697 он издал книгу Explication des maximes des saints
sur la vie interieure, в которой, по-видимому, торжествовала свое
возрождение мистическая доктрина (исходивший из Испании кви-
етизм), которую опровергал Боссюэ, а церковь отвергла в 1695 как
лжеучение. В жестоком церковном споре, который тогда поднялся
и в теологических контроверсиях которого скрывалось много свет-
ских придворных соображений, архиепископ камбрейский под-
чинился суду папы1. Еще прежде, нежели Рим высказал свое nous
reprouvons et condamnons ce livre2 (март 1699), король запретил Фе-
нелону пребывание в Версале (август 1697), удалил из обстановки
своего внука учителей, которые известны были как личные друзья
Фенелона, и собственноручно вычеркнул имя Фенелона из спи-
ска придворного персонала (в начале 1699). Между тем «Телемак»
разошелся по всему свету в бесчисленных изданиях и переводах.
Фенелон никогда публично не признавал его своим сочинением,
но никогда и не отказывался от него. Догадка, что он не был со-
вершенно непричастен напечатанию книги, которое подняло та-
кую тревогу, не может быть совершенно отвергнута. Быть может,
в начале 1699 он думал, что надо поставить все на карту, когда он
потерял партию в 1697. Во всяком случае он с горячим интересом
следил за судьбой своей книги; он постоянно отделывал, исправлял
и дополнял ее, то смягчая, то усиливая ее намеками на новейшие
события. С 1701 его имя явилось на заглавном листе. Издание, в ко-
тором мы читаем теперь Телемака, разделенное по примеру Илиады
на двадцать четыре книги, составилось еще под надзором Фенело-
на, но издано было уже после его смерти, его племянником. Поч-
ти смешно, что «Приключения Телемака» ради чистоты и легкости
своего языка сделались теперь безобидной школьной книжкой.
«Телемак» — самое знаменитое, но не самое важное из сочине-
ний Фенелона. Чем больше ухудшалось положение Франции, тем
Фенелон становился неутомимее, — и при том уже не только в фор-
ме общих взглядов и поучении, но и непосредственно вмешиваясь
в ход событий. Мало-помалу он отбросил все морализирующие
длинноты и становился тем неустрашимее и фактичнее, чем насто-
ятельнее требовало основательных реформ безотрадное положение
страны. Человек вырастал вместе с расширением своих целей.
1 Теперь мы знаем, что полное подчинение Риму, которое ревностно высказы-
вал теолог Фенелон, не было искренним. Он лицемерил ввиду грозившего полного
уничтожения его положения.
2 Мы порицаем и осуждаем эту книгу (дбр.). — Прим. изд.
67
Фенелон, который до сих пор говорил только о мудрой, но нео-
граниченной королевской власти, требует теперь конституционно-
го ограничения.
Прежде всего это проявляется в его письмах к герцогам Бовил-
льеру и Шеврёзу, которые пользовались безусловным доверием
короля, но, как рассказывает Сен-Симон в своих записках, все
еще по-прежнему советовались обо всех важнейших делах с Фе-
нелоном. Особенно заслуживают внимания письма, которые пи-
сал Фенелон во время войны за испанское наследство. Ни один
историк не должен пропускать их, если хочет представить себе
наглядную картину безотрадного запустения страны и опасного
одичания войска. Фенелон требует полного и безусловного раз-
рыва со всей прежней политикой. Король, по мнению его, должен
купить мир во что бы то ни стало; это единственное спасение го-
сударства, доверенного ему Богом. 4 августа 1710 он пишет, что
расстроенный кредит может быть восстановлен только при усло-
вии, если король решится сделать шаг, который, конечно, будет,
для него довольно труден. Чтобы война привела к какому-либо
сносному результату, она должна сделаться из дела короля делом
нации; но это возможно только тогда, если король откровенно
переговорит с нотаблями из различных сословий и провинций
и примет их решения. Всего лучше было бы даже снова созвать
прежние собрания сословий; но от этого он покамест отказыва-
ется, потому что внезапность перехода представляет много опас-
ностей. Фенелон оканчивает: «Простите мне, мой добрый герцог,
мою неблагоразумную смелость; я бы молчал, если бы я менее
любил Францию, короля и королевский дом; впрочем, я знаю,
с кем говорю».
Еще определительнее высказываются те же понятия о необходи-
мости сословного содействия в его письмах и мемуарах к герцогу
Бургонскому. Личные свидания между ними, конечно, прекрати-
лись с приказанием короля. Когда в 1702 герцог во время похода
вступил в Камбре, то король разрешил ему видеться с любимым
учителем, но под непременным условием не оставаться с ним
без свидетелей. Но, благодаря посредничеству герцога Бовиллье-
ра, между ними удержалась деятельная переписка. Одинаковую
месть и Фенелону, и герцогу Бургонскому делает то, что первый
никогда не унижался до лести, а второй всякое серьезное напоми-
нание принимал серьезно. Сношения их усилились, когда 4 апреля
1711 дофин умер и герцог Бургонский стал чрез эту неожиданную
смерть ближайшим наследником престола. Письмо, написанное
Фенелоном по получении первого известия об этом событии, по-
истине трогательно; он оканчивает простыми, но великими сло-
вами: «II faut vouloir etre le pere et non le maitre; il ne faut pas que
tons soient a un seul, mais un seul doit etre a tons pour faire leur
68
bonheur»1. Еще ранее Фенелон послал ему новое небольшое сочи-
нение, «Directions pour la conscience d’un Roi» (напечатано только
в 1734), написанное глубоко и благородно, — если только мы ис-
ключим отсутствие каких-либо заявлений о религиозной терпимо-
сти. Гердер, который по внутреннему сродству питал к Фенелону
явное пристрастие, приводит в «Адрастее» и в «Humanitatsbriefe»
несколько прекрасных отрывков из этого сочинения. И если Лес-
синг (Lachm., ч. 3, стр. 175) мог с некоторым правом сказать, что
такие наставления выдумает и всякий неглупый школьный учи-
тель, то нельзя не прибавить к этому, что и сам Фенелон далеко
не довольствовался только такими общими указаниями. Он, в ко-
тором вся придворная обстановка видела уже будущего Мазарини,
при первом случае выступил с планом конституции, главным ос-
нованием которой было введение правильного народного предста-
вительства. Проект этот в ноябре 1711 был сначала обсужден
с герцогом Шеврёзом, а затем представлен и самому принцу.
Политический образ мыслей Фенелона следует судить не по уто-
пии Телемака, но по этому проекту. Основным условием лучшего
порядка вещей и здесь выставляется мир во что бы то ни стало,
и затем сокращение армии и улучшение ее устройства. Затем стро-
гая бережливость при дворе; равномерное распределение налогов
и общественных тягостей, по примеру порядка, уже существовавше-
го в Лангедоке; восстановление провинциальных собраний, также
по примеру Лангедока; в руках этих собраний находится главным
образом управление, правительство сохраняет только верховный
надзор. Наконец, во главе всего — генеральные собрания сосло-
вий, в которые собираются из каждого округа, одно лицо из знат-
ного и старого дворянства, выбираемое дворянством, и одно лицо
из третьего сословия, выбираемое третьим сословием. Выборы
должны быть совершенно свободны, ни один депутат, пока остает-
ся депутатом, не может получить повышения от короля. Собрания
сословий должны происходить каждые три года; от короля зависит
только место, а не продолжительность заседаний. Сословия пользу-
ются самыми широкими правами в делах судебных и финансовых,
в переговорах о войне и мире.
Все это, конечно, изложено еще весьма недостаточно, в са-
мых общих чертах. Как в Телемаке, так и здесь, дворянству и ду-
ховенству все еще предоставляются значительные преимущества;
но путь, по которому должно идти, указан ясно и определенно,
и третье сословие освобождено от всяких ограничений и притесне-
ний. Какое громадное различие между политикой Боссюэ и поли-
тикой Фенелона!
1 Следует стремиться стать отцом, а не господином, чтобы не все [люди] были
для одного, но один для всех, заботящийся об их благополучии (фр.). — Прим. изд.
69
Все эти надежды неожиданно разрушились. 18 февраля 1712 скоро-
постижно умер герцог Бургонский. Трудно определить, в какой мере
он, по вступлении на престол, последовал бы советам Фенелона. Мы
знаем, что он пугался страшной ответственности неограниченного
самодержавия; но, кажется, он скорее склонен был едва ли не к более
легкому чиновническому управлению, чем к содействию сословий.
Вся Франция была глубоко опечалена этой смертью. Но Фене-
лон вскоре оправился к новой деятельности. Он посвятил много
мемуаров вопросу об установлении и составе будущего регентства
и указал на герцогов Бовилльера и Шеврёза и на герцога Сен-Си-
мона, как на членов этого регентства. Распоряжение о назначении
регентства должно быть сообщено собранию нотаблей и затем вне-
сено в книги парламента.
Но и эти труды были напрасны. 5 ноября 1712, через девять
месяцев после смерти герцога Бургонского, умер герцог Шеврёз,
31 августа 1714 — герцог Бовилльер. В ближайшей перспективе
было регентство герцога Орлеанского, возбуждавшего такие опасе-
ния. То, чем дорожил в жизни Фенелон, было потеряно. Он умер
5 января 1715.
Король никогда не простил Фенелона; некоторые историки не-
справедливо рассказывают о мнимом примирении. Академические
речи Дю Броза и Дасье не осмелились упомянуть об опальном Те-
лемаке. Плаватель может убить птицу, которая предвещает бурю,
но приближающаяся буря растет, однако, неудержимо.
2. Вобан и Буагильбер
В то же время, когда Фенелон действовал в пользу политического
улучшения и освобождения, Вобан и Буагильбер действовали для
улучшения экономического.
И здесь сопротивление опять восстает в ближайшей среде, окру-
жавшей короля. Маршал Вобан (Vaubari), тот славный полководец,
который своим гениальным инженерным искусством основал трид-
цать три новые крепости, обновил и переделал триста крепостей
старых, который вел пятьдесят три осады и сражался в ста сорока
сражениях, написал «Projet d’une dime royale» 17071. Эта книга, как
и названные дальше, изданная вновь в собрании Economistes frangais
(Е. Daire; Paris 1843), тем важнее для обсуждения настроения того
времени, что относительно Вобана не может возникнуть ни малей-
шего сомнения в его вернейшей преданности королю.
1 Вот полное заглавие, заключающее в себе целую программу: «Projet d’une
dixme royale, qui, supprimant la Taille, les Aydes, les Doiianes d’une Province a 1’autre,
les Declines du Clerge, les Affaires extraordinaires; et tous autres Impots onereux et non
volontaires: Et diminuant le prix du Sei de moitie et plus, produiroit au Roy un Revenu
certain et suffisant, sans frais; et sans etre a charge a 1’un de ses sujets plus qu’a 1’autre,
qui s’augmenteroit considerablement par la meilleure Culture des Terres».
70
Никто лучше его не знал внутреннего состояния Франции. В те-
чение более полустолетия он узнал Францию во всех направлени-
ях, и не только как солдат, но и как внимательный государствен-
ный человек и истинный филантроп. Везде в своих путешествиях
он усердно и заботливо собирал все важные факты относительно
военного и морского дела, финансов, торговли, церкви и внутрен-
него управления: он отец французской статистики (ср. Dime royale,
глава X: Projets de denombrements et de I’utilite qu’on en pent tirer,
с таблицами). Но как страшен и безотраден результат, извлечен-
ный им из этого старательного изучения и собранный в тех обшир-
ных рукописных томах, отрывки которых изданы были в 1843—
1846 под заглавием Oisivetes de М. de Vauban. Он говорит (изд. Daire,
стр. 34 и далее): «Из всех моих исследований я узнал, что почти
десятая часть народа в нищете и действительно нищенствует, что
из девяти остальных частей только пять в состоянии давать ей
милостыню, а из прочих четырех три опять совершенно стеснены
долгами и процессами, и что десятая часть, к которой я отношу от-
дельных лиц войска, судебного сословия и духовенства, дворянство,
чиновников, хороших купцов и достаточных горожан, едва заклю-
чает в себе сто тысяч семейств». Вобан не сомневался о главнейшей,
основной причине этого несказанного бедствия. «У нас презирают
и отягощают partie basse1, — говорит он, — которая, однако, и сво-
им числом и действительными трудами составляет главную опору
государства. Но почему вельможи свободны от податей и налогов?»
Он с самой благородной теплотой сердца высказывает положение,
что все подданные без различия состояний одинаково имеют есте-
ственную обязанность — по мере своих доходов и барышей помо-
гать покрытию государственных расходов, и что всякая привилегия,
освобождающая от этого, есть несправедливость и злоупотребле-
ние. И для достижения этой равномерности Вобан предлагает заме-
нить все множество тех произвольных и отяготительных налогов,
которые взимались тогда под именами tallies2, capitations3, aides4,
traites foraines5 и dixiemes6 посредством единственного главного
налога, который покрывался бы натурой или деньгами и, смотря
по обстоятельствам, мог колебаться между десятой и двадцатой ча-
стью дохода, как высшим и низшим пределом. Этот налог должен
иметь четыре различных источника: 1) десятину от всякой жатвы
и естественных произведений, доставляемую натурой, без различия
сословий или каких-нибудь провинциальных преимуществ; 2) де-
1 Нижняя часть, т. е. низы общества (фр.). —Прим. изд.
2 Оброк в пользу феодала (фр.). — Прим. изд.
3 Подушный налог (фр.). —Прим. изд.
4 «Помощь» сюзерену (фр.). —Прим. изд.
5 Ярмарочные сборы (фр.). —Прим. изд.
6 Десятина (фр.). —Прим. изд.
71
сятую часть от всякого денежного владения и дохода, от принца
до последнего простолюдина; 3) умеренный налог на соль, но рав-
номерно распределенный между различными сословиями и про-
винциями; 4) определенную подать с поместий, феодальных прав
и других случайных доходов, при которых трудно было бы вводить
новые изменения.
Вобан ошибался, конечно, в форме: это собирание десятины
уже очень скоро оказалось бы невозможным. Но важнее этой фор-
мы была основная руководящая мысль, и эта мысль была полным
низвержением всех существовавших прав и обычаев. Вобан предви-
дел, какое противодействие возбудит его предложение о всеобщем
и равномерном распределении налогов. Он в глубоко поразитель-
ных словах жалуется, «что еще не пришло время вырвать бедный
и страждущий народ из рук тех порождений ехидны, которые го-
дятся только на галеры и которые, однако, держат себя в Париже
с такой вызывающей гордостью, как будто они спасают государ-
ство». И в самом деле, Вобан слишком скоро должен был сделаться
жертвой своих благородных стремлений. Герцог Сен-Симон расска-
зывает, что когда маршал представил королю свою книгу, он был
принят королем очень дурно. Все его великие заслуги, его военная
гениальность, его долговременная преданность, были вдруг забы-
ты; маршал считался с тех пор безумцем, если не прямо достойным
наказания преступником. Старый воин не мог перенести этой не-
милости. 14 февраля 1707 книга Вобана была государственным со-
ветом конфискована, так как она заключает в себе вещи, противные
общественному порядку и нравам страны, и 19 марта это распоря-
жение было еще усилено. Несколько дней спустя, 30 марта он умер.
Рядом с Вобаном стоит Буагилъбер. Он до такой степени согла-
сен с Вобаном во всех основных воззрениях, что нашлись недобро-
желательные люди, полагавшие, что старый полководец не сделал
сам ничего своего и самостоятельного, и хотел только поддержать
Буагильбера своим влиятельным именем. Но Сен-Симон (изд.
Cheruel et Regnier, V, 150) говорит положительно, что они, не зная
один другого, отдавались одним изучениям и приходили к одина-
ковым результатам. Предложения Буагильбера раньше явились
в печати, после чего Вобан, реи attache aux siens, mats ardent pour le
soulagement des peuples et pour le bien de I’Etat1, конечно, употребил
их с пользой при окончательной редакции своего труда. Главней-
шие отличия их в подробностях Сен-Симон указал в кратком срав-
нении обеих систем.
Буагильбер (Pierre Le Pesant de Boisguillebert) был уважаемый чи-
новник руанского суда. Главное его сочинение «Detail de la France
1 He очень связанный с наукой, но жаждавший облегчения жизни народов
и блага государству (фр.). —Прим. изд.
12
sous le r£gne de Louis XIV» вышло в первый раз в 1697; и, совер-
шенно переработанное в 1707, под заглавием Factum de la France
ou moyens tres faciles de faire recevoir an roi 84 millions par dessus la
capitation etc.1, оно произвело такое впечатление, что почти в одно
время с книгой Вобана (14 марта) было запрещено государствен-
ным советом2. Буагильбер одно время подвергся преследованию,
но потом по благосклонности сильных покровителей опять получил
свою должность. Он умер в 1714 и имел еще горесть видеть, что
король (в 1710 г.) с помощью своего духовного руководителя и ус-
лужливого финансового советника решил введение предложенной
им и Вобаном dime royale (dixieme denier)3, но навыворот, так что
она не устранила, а еще увеличила тягость существующих налогов
(Saint-Simon, VIII, 136—143). Только во время регентства (1718)
сделаны были некоторые местные и недостаточные опыты с систе-
мой Буагильбера-Вобана (там же, XIV, 302).
Как Вобан, так и Буагильбер существенным образом настаивает
на необходимости равномерного распределения податей и уничто-
жения всяких льгот и привилегий. Он также требует введения деся-
тины без всяких исключений, но деньгами, а не натурой, и вместе
с тем он глубже вникает в самую сущность и источник националь-
ного богатства, в значение денег как средства мены, в свободу тор-
говли, во вредное влияние пошлин. Тайна возрождения, как говорит
он, заключается в уничтожении всех фискальных мер, стесняющих
земледелие и торговлю; народ желает только одного — дозволения
и ненарушимости труда и торга, или другими словами — дозво-
ления обогащаться. Если прежняя политическая экономия стре-
милась только к тому, чтобы удержать в стране сколько возможно
больше денег для того, чтобы тотчас предоставить их под самыми
разнообразными названиями и формами в руки правительства, —
то здесь высшей целью твердо и сознательно ставится всеобщее
благосостояние народа. Финансовое искусство должно быть не ис-
кусством эксплуатировать народ, а искусством возвышать его про-
изводительные способности.
В настоящее время уже не обращают более внимания на эти по-
пытки; они далеко опережены и в государстве, и в науке, но они
остаются неподдельными свидетельствами своего времени; с теми
уже убеждениями мы встречаемся у Фенелона. К возбужденным
здесь понятиям возвратились потом физиократы, т. е. политико-эко-
номическое направление следующего периода, и во главе их Ми-
1 Изложение обстоятельств дел во Франции или очень простые способы полу-
чить королем 84 миллиона сверх подушного налога и т. д. (фр.). — Прим. изд.
2 После 1707 собрание экономических сочинений Буагильбера явилось бе-
зыменно (2 тома) и в 1712 было вновь издано под ошибочным, но возбуждавшим
общественное внимание заглавием «Testament politique du Mardchal de Vauban».
3 Королевская десятина (десятый денье) (фр.). —Прим. изд.
73
рабо старший и тогдашние государственные люди: одни, развивая
эти понятия дальше научным образом; другие, стремясь к их фак-
тическому осуществлению. Необходимость избавить народ от го-
сподствующих злоупотреблений была высказана ясно. Все члены
государства должны иметь одинаковые права и одинаковые обязан-
ности; привилегия есть несправедливость.
3. Сент-Эвремон и Фонтенель. Бейль и Ле Клерк
Кто сеет кровью, тот и пожнет кровь. Людовик XIV хотел доста-
вить своей стране религиозное единство, и вместо единства вырос-
ли раздор и ненависть. Клерикальные преследования опять только
открывали дорогу к сомнению и свободному мышлению.
Даже Буало, вообще такой уклончивый и столько известный
низкой лестью, напал в резкой сатире на иезуитов и написал Арно,
главе янсенистов, надгробную надпись, в которой с горячо прочув-
ствованной горестью прославляет его смерть и восстает против мо-
рали лживых пастырей. Пусть читатель прочтет прекрасные харак-
теристики Лабрюйера, в особенности тонкий сатирический отдел
о модах, и он убедится в том, какие высокие и свободные идеалы
рождаются посреди всеобщего гнета.
Преувеличенно, но не без основания, жалуется пфальцграфиня
Елизавета-Шарлотта уже в 1698, что в Париже есть только немного
молодых людей, которые не хвастались бы, что они атеисты. Сна-
чала открыто выступают только отдельные умы; но толпа прислу-
шивается к ним тем благодарнее и с тем большей жадностью, чем
больше они высказывают того, чтд немеет на губах образованного
большинства. Прежде всего мы видим только аванпостные битвы,
но битвы серьезные и широкие, за которыми следует только борьба
на жизнь и смерть.
Этими первыми борцами религиозной свободы мысли были от-
части католические, отчасти протестантские писатели. Основная
мысль их одна и та же, различен только тон их. Одни более поверх-
ностны и ограниченны, другие размышляют больше и проникают
глубже. Между католиками наиболее замечательными писателя-
ми были Сент-Эвремон и Фонтенель, между протестантами Бейль
и Ле Клерк.
Сеньор де Сент-Эвремон (JJharle de Saint-Denis, seigneur de Saint-
Evremont), родившийся 1 апреля 1613 в Нормандии, был храбрым
солдатом, потом неосторожные выражения о Мазарини и сатира
против мира 1659 навлекли на него немилость молодого короля
Людовика XIV, и в 1662 он бежал в Англию. В 1664—1670 гг. он жил
в Гааге, потом вернулся опять в Лондон и там в 1703 умер и похоро-
нен в Вестминстерском аббатстве. Он принадлежал к тем элегант-
ным вельможам, которые своим остроумием и своим блестящим
и распущенным легкомыслием придают такую странную прелесть
74
дворам Людовика XIV и Карла II. Равняясь с Болингброком по свое-
му положению, остроумию и многосторонности, он превосходит
его, однако, по серьезности и важности мысли. В высшей степени
забавно читать в тонко сатирической «Conversation du Marechai
d’Hoquincourt avec le рёге Сапауе» (написано около 1655), как иезу-
ит, загнанный своим собеседником, открыто и усмехаясь призна-
ется, что во вражде и преследованиях иезуитов против янсенистов
дело идет вовсе не о догмате благодати и оправдания, а единственно
о господстве на исповеди. Но чем насмешливее бросает он изъеден-
ную червями кору, тем заботливее он бережет неразрушимое зерно.
«Lettre au Marechai de Crequy sur la religion» (1672) с убеждением
проповедует, что сущность религии заключается не в вере, а в до-
брых делах и нравственности. «Христианство, — говорится в этом
письме, — есть чистейшая и совершеннейшая религия, потому что
есть чистейшее и совершеннейшее нравственное учение. Филосо-
фия довольствуется тем, что научает нас переносить страдания;
христианство научает нас и в этом страдании узнавать благость
и мудрость Бога». И затем Сент-Эвремон продолжает: «Привязан-
ность к своей вере вовсе не возбуждает меня против веры других;
в религии ненавистны только притворство и лицемерие; тот, кто
верует горячо и искренно, — если его религия ложна, — заслужи-
вает не преследования, а сожаления. Путь к единству заключается
не в постоянных спорах о господстве. Если мы вспомним, как проис-
ходили обращения в древние времена, мы найдем, что они исходи-
ли от тронутого сердца, а не от убеждения разума. В сердце должна
быть восприимчивость к христианской истине; сердце глубже про-
никается божественной благодатью, чем разум — божественным
откровением. Неизмеримость Бога смущает наше ограниченное
понимание, но его благость непреодолимо вынуждает нас к любви.
Люби Бога и своего ближнего — вот главная заповедь, по словам
апостола Павла. Христианская религия смягчает то, что есть в нас
дикого, она повелевает нам любить даже своих врагов. Так было
во времена первобытного христианства, и если теперь это бывает
иначе, это происходит только оттого, что теперь религия занимает
больше нашу мысль, чем наше чувство. Из различия мнений про-
изошли партии, из партий — войны. И это зло будет продолжать-
ся до тех пор, пока религия из любопытства нашего разума снова
возвратится в искренность сердца, из холодных притязаний мыш-
ления — в кроткие движения любви».
Фонтенель обращается больше против самого догмата. Он родил-
ся 11 февраля 1657 в Руане и умер столетним стариком в Париже
9 января 1757. Его «Entretiens sur la pluralite de mondes», вышедшие
в 1686, ввели в общее сознание факты Декартова и Коперникова
учения о природе; он был для этого учения тем же, чем впоследствии
Вольтер для Локка и Ньютона. Гримм говорит в «Correspondance
75
literaire» (изд. Tourneux, III, 338): «Невежественные и неразвитые
светские люди, даже женщины, которых наклонности и занятия
имеют такое большое влияние во всем, что касается нравов и ума
французов, почерпнули здесь основания истинной философии:
и именно изысканная вычурность его стиля, которую должен осу-
дить строгий вкус, способствовала тому, чтобы расширить границы
света, стремление к истине, господство разума!» Из этой твердой
позиции Фонтенель делает сильные и глубоко действовавшие набе-
ги. В январе 1686 в журнале «Nouvelles de la republique des lettres»,
издававшемся Бейлем, явилась сатирическая аллегория Фонтенеля
«Relation de 1’ile de Borneo». Письмо, написанное будто бы в Бата-
вии, рассказывает, что на острове Борнео спорили две сестры Мгёо
(Rome) и Eenegu (Geneve), т. е. католицизм и протестантизм, о пре-
столонаследии по смерти их матери Mliseo (?), Мрео признана была
без затруднения, но скоро невыносимым гнетом и притеснениями
оттолкнула от себя все более свободные умы; все подданные долж-
ны были сообщать ей самые тайные свои мысли, приносить ей все
свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было
целование ноги, но прежде, чем их допускали к этому, они долж-
ны были преклониться перед костями умерших любимцев. Тогда
выступила новая королева, Энегю. Она уничтожает все эти жесто-
кие нововведения, требует себе престола, называет себя настоящей
дочерью недавно умершей королевы и доказывает эти притязания
своим сходством с матерью, между тем как Мрео с своей стороны
сильно заботилась о том, чтобы скрывать и подменивать портреты
матери. Между партиями обеих претенденток начинаются крова-
вые побоища. До сих пор ни одна из партий не одержала решитель-
ной победы; но в настоящее время Энегю подверглась нечаянному
нападению, и если не была совсем побеждена, то все-таки значи-
тельно ослаблена. — К той же самой цели стремится и изданная
в 1687 «Histoire des Oracles», умная и ловкая обработка книги уче-
ного голландца фан Дале. Стараясь доказать, что оракулы были
чистым обманом жрецов, Фонтенель извлекал из этого положения
весьма смелые выводы против сущности церковного учения, и го-
сподства клерикалов вообще. «Прежде чем спрашивать о причине
какой-нибудь вещи, — говорит Фонтенель, — надобно спросить
хорошенько о самой вещи». «Не те вещи затрудняют нас, которые
существуют и причины которых мы не знаем, а те, которые не су-
ществуют и для которых мы ищем, однако, причины». «В 1593 рас-
пространился слух, что в Силезии у одного семилетнего ребенка,
потерявшего молочные зубы, вырос золотой зуб; начались самые
горячие споры об этом чуде; написаны были толстые книги. Нужно
было только, чтоб зуб был действительно золотой; но когда один зо-
лотых дел мастер исследовал его, он нашел, что зуб только снаружи
с большим искусством покрыт был листом золота». «Все мышление
76
состоит в том, что вещь рассматривается как она есть, независимо
от всякой обманчивой оболочки».
Но у Фонтенеля недоставало мужества, чтобы твердо выдержать
эти стремления; ему недоставало величия души, готовой на жертву
за свое дело. Он служил истине до тех пор, пока видел себе от нее
пользу; он оставил ее, когда она стала грозить ему опасностью.
Сначала король и духовенство мало обращали на него внимания,
они даже не поняли хорошенько смысла этой аллегории; но когда
его заметили и он должен был опасаться за свое спокойствие, он
бросил этот род писательства. С тех пор Фонтенель никогда боль-
ше не брался ни за какие скользкие вопросы, «и ежели бы у меня
рука была полна истинами, — говорил он обыкновенно с трусли-
вым самодовольством, — я бы остерегся когда-нибудь разжать ее»
(ср. Гримма, там же, стр. 346). Он стал пошлым bel esprit1; из позд-
нейших его сочинений заслуживает внимания только история
академии, написанная им как непременным ее секретарем. Когда
Лессинг (т. 3, стр. 410) сказал о Фонтенеле, что это не больше, как
остроумная голова, имевшая несчастье сто лет быть остроумной, —
это было слишком сурово; но не меньше односторонен и почтенный
Флуран, пытаясь в своем небольшом сочинении «Fontenelle ou de
la philosophic moderne», Paris, 1847, представить Фонтенеля передо-
вым героем мысли.
Гораздо сильнее была литература изгнанных протестантов.
От внешней, чисто государственной и церковной стороны рели-
гиозного вопроса они проникают до самых глубоких метафизиче-
ских его корней. Они не довольствуются одной проповедью любви
и терпимости, покорно или шутливо обходя тайны догматического
учения, как неразрешимые; они спрашивают об основе и праве ре-
лигии вообще. Критика церковной иерархии становится критикой
религии.
Гердер справедливо говорит в «Адрастее», что Людовик XIV, ко-
нечно, против своего желания, этой литературой эмигрантов дал
народам самое богатое вознаграждение за все то зло, какое он при-
чинил им своими несправедливыми войнами и опустошениями. Ос-
нователь и замечательнейший представитель этого направления —
Пьер Бейлъ. Это смелая фаустовская натура, в которой неустанно
бродят все глубочайшие вопросы человечества.
Он родился в 1647 в Ле Карла, в графстве Фуа; воспитанный стро-
го реформатскими родителями, он увлечен был в 1669 учеными
иезуитами в католицизм, но уже через семнадцать месяцев снова
возвратился в протестантство, потому что не мог убедиться в исти-
не католического учения о причащении. Затем Бейль прилежно из-
учал в Женеве Декартову философию, жил несколько времени в Ру-
1 Остроумный человек (фр.). —Прим. изд.
77
ане и Париже и с 1675 занимал профессуру в седанской академии.
Когда суровые меры, предшествовавшие отмене Нантского эдикта,
прекратили существование седанской школы, он нашел убежище
в школе роттердамской. Но вскоре его сочинения вовлекли его в го-
рячие споры с его собственными единоверцами. В 1693 он потерял
свое место, и начал тогда свой философский словарь. 1706 декабря
28 он умер вследствие постоянного напряжения и возбужденного
состояния.
Уже в первом своем сочинении «Pensees diverses ecrites a 1’occasion
de la comete», вышедшем в 1682, он высказывает знаменитые слова,
что неверие, даже открытое отрицание божества лучше суеверия,
которое по необходимости всегда связано с самой ненавистной ис-
ключительностью и страстью к преследованию, и что поэтому госу-
дарство должно доставить и атеистам неограниченную терпимость.
То же требование терпимости и для иудеев, турок и атеистов по-
вторяет он в прекрасных брошюрах, которые писал он по поводу
преследования французских протестантов, именно в небольшом со-
чинении «Се que c’est la France toute catholique sous Louis le Grand»
(март 1686) и в «Commentaire philosophique sur les paroles: Contrains
les d’entrer» (август 1686). «Что же нужно думать, — восклица-
ет раздраженный Бейль, — при этих насилиях, о христианстве?
Не следует ли думать, что это кровожадная религия, которая для
совершенного притеснения свободы совести не боится даже лжи
и обмана, клятвопреступничества, драгонад, палачей и инквизи-
ции?» Но глубже и сильнее, чем этими брошюрами, Бейль действо-
вал своими журналами и особливо своим философским словарем.
В 1664 Бейль основал свои «Nouvelles de la republique des lettres».
Этот шаг получил тем более широкое значение, что журналистика
имела тогда еще вполне прелесть новизны и в действительности
отвечала, однако, настоящей потребности времени. Основанный
с 1665 «Journal des savants», так же как «Philosophical transactions»,
«Giornale dei letterati» в Риме и лейпцигские «Acta eruditorum», обра-
щались только к ученым специалистам. Парижский «Mercure galant»
(с 1672 г.) был только легкий салонный листок. Бейль хотел попол-
нить пробел между «Journal des savants» и «Mercure», обращаясь
с научным ежемесячным журналом к обширному кругу образован-
ных людей, «которые или по лености, или по недостатку времени
читают мало и однако желают приобретать познания». На первом
плане стоят в этом журнале книги за или против протестантского
учения, которые разбираются коротко и метко, и отчасти приводят-
ся даже в буквальных извлечениях; затем идут старательно состав-
ленные известия о сочинениях по истории и естественным наукам.
Меньше всего обращено внимания на искусство и поэзию: из этого
произошло то, что внимание читающего мира, который при Лю-
довике XIV по понятной причине почти исключительно занимался
78
беллетристикой, все в большей мере обращалось и к вопросам бо-
лее серьезным. Разбираются только французские, латинские и не-
которые английские книги; о немецкой, итальянской и испанской
литературе не говорится.
И когда Бейль вследствие своей болезненности вынужден был
в 1687 покинуть это блестящее предприятие, он приступил к об-
работке своего знаменитого «Dictionnaire historique et critique»,
который появился впервые в конце 1696. Это произведение обо-
значает собой совершенно новый поворот религиозного и философ-
ского мышления. Его главное, произведшее эпоху, значение состоит
в том, что оно выставляет противоречие между мышлением и верой
с такой ясностью и глубиной, с такой неустрашимой смелостью,
что, кроме Спинозы, этот разрыв с схоластикой никогда не был так
решителен и, что очень важно, еще никогда не был выполнен так
общепонятно. Бейль принадлежит, конечно, к школе Декарта; фи-
лософские лекции, читанные им в Седане и Роттердаме и изданные
в 1737 по его бумагам, как «Systeme de philosophic», представляют
не что иное, как ясное и доступное изложение Декартовых начал.
Но между тем, как Декарт или просто подчиняет свое мышление
церкви, или же обходит и прикрывает пропасть, отделяющую его
от церкви, — Бейль делает именно эту пропасть, по его мнению не-
наполнимую, главнейшим предметом своего мышления и чувства.
Он находит это противоречие в области нравственности, — когда
по требованиям разума он должен порицать библейские харак-
теры, например, Авраама и Давида, и с другой стороны признать
безупречное величие между язычниками и даже между явными
атеистами; он находит его в области догмата, — если основное на-
чало христианства, построенного на необходимости избавления,
он должен искать в грехе, и если при всем том он не может согла-
сить греха, как и зла вообще, ни с всемогуществом, ни с благостью
и святостью Бога. Бейль постоянно колеблется между этими проти-
воположностями. По большей части он в тексте бывает верующим,
а в примечаниях приводит много чрезвычайно важных возражений.
Куда обратиться среди этих перекрещивающихся путей? При всем
том Бейль, конечно, хвалится своей протестантской ортодоксально-
стью; подобно Паскалю, он из сомнения заключает не о ничтоже-
стве веры, а о ничтожестве разума. Но общее впечатление не отве-
чает этому утверждению. Его мнимая вера есть только маска или
самого решительного неверия или же беспомощного сомнения, ко-
торое не решается подчинить непонятное в вере господству разума
и ищущий понимания разум подчинить господству веры.
Словарь Бейля есть одна из самых могущественных по своему
действию книг, какие только появлялись на свете. Датский комик
Гольберг рассказывает, что во время его путешествия во Франции
все публичные библиотеки были формально осаждаемы молоде-
79
жью; которая требовала для чтения Словарь Бейля. «Королевское
Общество» начало из Англии правильную переписку с Бейлем.
Лейбниц думал, что его положения о единстве философии и рели-
гии будут обеспечены только тогда, когда будут опровергнуты воз-
ражения Бейля; Теодицея направлена исключительно против Бейля,
хотя последний уже не дожил до этого. И по этому примеру Теоди-
цеи Лейбница вся английская, французская и немецкая философия
просвещения не считала бытия Бога доказанным, неприкосновен-
ным прежде, чем не казались убедительно объясненными и оправ-
данными основание и необходимость зла в божественном устрой-
стве мира. Фридрих Великий, будучи еще принцем, изучал словарь
Бейля самым ревностным образом, и даже около 1764 г., следова-
тельно вскоре по окончании Семилетней войны, делал очень об-
ширное извлечение из философских статей Словаря; сам Готтшед
думал, что ничем нельзя лучше расширить и образовать понятия
немцев, как устроивши перевод Словаря Бейля, который, конечно,
вышел у него страшно плоский. Можно без преувеличения сказать,
что Бейль господствовал над целым рядом человеческих поколений.
Вольтер метко определил этот способ действия Бейля, сказавши
в своих «Письмах о Раблё», что как у Бейля нельзя найти ни строки
открытого нападения на христианство, так же нельзя найти и стро-
ки, которая бы не вела к сомнению; что он сам не неверующий,
но что он делает неверующим. Если удержать положение Бейля, что
разум и откровение несоединимы, что мешало поставить его заклю-
чение обратно и отвергать притязания не первого, а последнего?
И кто не решался на этот последний вывод, тот все-таки становил-
ся выше узкого клерикализма. Поразительная полигистория Бейля
была, так же как у его великого современника Лейбница, не бес-
порядочным делом памяти, а ненасытной ревностью знания; в ней
рассматриваются, разбираются или, как любит выражаться Бейль,
анатомируются государство, церковь, религия, нравы, воспитание,
наука и искусство. Образование теряет тот исключительно бого-
словский оттенок, каким оно до сих пор отличалось. Едва ли уже
было нужно тогда Бейлю постоянно возвращаться к требованию
в горячих выражениях безусловной религиозной свободы и ненару-
шимой терпимости ко всем религиозным партиям, к самим евреям
и туркам и даже к открытым атеистам! Обширность взгляда сама
по себе обусловливала более свободное обсуждение религиозных
вещей. Знаменитое слово Фридриха Великого, что каждый может
спасаться на свой манер, и вообще кроткая терпимость, благодаря
которой XVIII столетие стоит в истории человечества такой завид-
ной эпохой, — в значительной степени обязаны непосредственному
влиянию Бейля.
Не менее замечательна у Бейля своеобразность его писатель-
ской формы. Бейль пишет всегда только небольшие сочинения,
80
статьи для журнала и энциклопедии. Его стиль отличается вели-
чайшей драматической живостью; это стиль свежий, простой,
смелый, вызывающий и, однако, всегда ясный и быстро идущий
к цели; когда он, по-видимому, только остроумно играет с предме-
том, он исследует и анализирует его до его самых скрытых глубин.
Бейль был рожден журналистом, конечно, журналистом в высшем
смысле этого слова. Эта привлекательная и действительная ма-
нера исследования и изложения главным образом стала толчком
и образцом для того по преимуществу журнального изложения,
которое было столь выдающейся и чрезвычайно важной чертой
в литературе просвещения XVIII века. Нужно было этот дух мыш-
ления, сомнения и исследования и это стремление к образованию
перенести из кабинета ученого во все слои народа, и нужно было
глубочайшие и священнейшие требования религии и нравствен-
ности сделать жгучим вопросом дня для всего общественного
мнения. В Бейле лежит корень полемической манеры Вольтера
и французских энциклопедистов; и для писательской формы Лес-
синга имело значение то, что в свои юношеские годы он много
занимался Бейлем.
И рядом с Бейлем действовали в том же направлении еще неко-
торые другие гугенотские писатели.
До какой степени принадлежавшее Бейлю основание обще-
доступных журналов было глубочайшей потребностью, оче-
видно из того замечательного обстоятельства, что, когда Бейль
в 1687 прекратил свой журнал, его наследство приняли многие
эмигранты. Уже в 1686 Ле Клерк с несколькими сотрудниками, как
Жак Бернар, начали, издавать свою Bibliotheque universelle. По по-
ручению Бейля его друг Банаж (Basnage de Beauval) продолжал его
предприятие с несколько измененным планом и под заглавием
Histoire des ouvrages des savants (1687—1799), и двенадцать лет спу-
стя Ж. Бернар восстановил старое заглавие Nouvelles de la republique
des lettres и редактировал это издание в течение почти двадцати
лет (1699—1710, 1716—1718). Если Bibliotheque несколько тяжело-
весного Ле Клерка в некоторых отношениях составляет достойней-
шее продолжение Бейля и Ж. Бернар был наименее значительным
из этих трех журналистов, то о тонком стилисте Банаже можно ска-
зать, что Бейль нашел в нем преемника, который с тактом и вкусом
шел по его следам.
Жан Ле Клерк (Le Clerc), происходивший из старой женевской
фамилии ученых, был с 1684 профессором арминианской шко-
лы в Амстердаме, где он и умер в 1736, семидесяти восьми лет
от роду. Из его многочисленных сочинений особенно известны
были «Entretiens sur diverses matieres de theologie» (1685) и «Traite
de I’incredulite» (1696); но его главная деятельность и значение
связаны с этим журналом, который, правда, в течение долгих лет
81
издания два раза менял свое название, но по своей сущности оста-
ется одним и тем же. Bibliotheque universelle, начавшись в 1686 и яв-
ляясь ежемесячно небольшими тетрадями, была продолжаема
в двадцати пяти томах до 1693; за некоторым перерывом следо-
вала Bibliotheque choisie с 1703 до 1713, — она выходила сначала
два раза, потом три раза в год и обнимает двадцать семь томов;
в 1714 начинается Bibliotheque ancienne et moderne, выходившая
раз в три месяца, кончается в 1726 и состоит из двадцати вось-
ми томов. Программа этого журнала, состоящего таким образом,
из 80 томов (и, кроме того, три тома указателей), приближается
уже гораздо более к нынешним обозрениям, чем журнал Бейля. Из-
влечения из новейших сочинений и разборы их чередуются с само-
стоятельными статьями и биографическими сообщениями. И круг
внефранцузской литературы, обнимаемой журналом, становится
шире. Беллетристика и здесь занимает только очень мало места;
но зато каждое, даже малейшее явление теологии, философии, цер-
ковной и всеобщей истории разбирается основательно и остроум-
но. Летописи янсенизма в Bibliotheque universelle по своей полноте
не превзойдены и до сих пор.
По учености и проницательности, по живости и увлекательно-
сти Ле Клерк стоит далеко ниже Бейля; но он превышает послед-
него по решительности и прямоте. Где Бейль остается скептиком,
Ле Клерк есть рационалист. Он подчиняет не мышление вере,
а веру мышлению. Вера может насильственно подавить сомне-
ние; но удовлетворить и разрешить сомнение может только само
мышление.
С тех пор эти нововведения возрастают с удивительной быстро-
той и даже тотчас начинают искажаться. Тиссо де Пато (Tyssot de
Patot), профессор математики в Девентере, также реформатский
эмигрант, пишет в 1710 роман «Voyages et aventures de Jacques
Masse», который заключает уже самые резкие насмешки над хри-
стианством. Правда, что «Lettres choisies», вышедшие в 1727 в двух
томах, показывают ясно, что это был человек совершенно легко-
мысленный и поверхностный bel esprit, которому хотелось только
сказать что-нибудь новенькое и эффектное.
Замечательно, что уже здесь, при этом первом появлении сво-
бодного мышления, тотчас весьма деятельно выступает соеди-
нение с Англией, которая стала потом во главе движения. Локк,
казавшийся подозрительным королю Якову I, как друг и клиент
старого графа Шафтсбери, был исключен из оксфордского уни-
верситета и много лет прожил в тихом уединении в Амстердаме.
Рассказывают, что каждую ночь он бывал там в кружке ученых
и мыслителей, где одним из важнейших участников был Ле Клерк.
По желанию этих друзей Локк составил извлечение из своего боль-
шого сочинения о человеческом познании, Abrege de ses sentiments,
82
как говорит Ле Клерк, который перевел его и напечатал в январ-
ском выпуске «Bibliotheque universelle» 16881.
В таком положении была религиозная борьба в последние годы
Людовика XIV. Не только церковь, но и верования были потрясены.
Все возвещало, что пришел новый век.
Глава третья
Упадок классицизма; волшебные сказки и сатирический роман.
Кребильон старший и Реньяр. Ламотт. Ш. Перро и графиня
Д'Онуа. Лабрюйер и Лесаж
Чтоб узнать, где лежит центр тяжести века, мы должны спросить,
в каких стремлениях он опережает предыдущие века и в каких он
остается назади. Теперь, например, мы имеем таких великих и про-
ницательных историков и естествоиспытателей, как никогда пре-
жде, между тем ни один из наших поэтов и философов даже при-
близительно не может равняться с величием Гёте и Шиллера, Канта,
Шеллинга и Гегеля.
С этой точки зрения поворот, принятый французской поэзией
в последние годы Людовика XIV, является чрезвычайно замечатель-
ным. Ни Корнель и Расин, ни Мольер не нашли себе сколько-нибудь
подходящих преемников; зато достигают чрезвычайно счастливого
развития новые роды поэзии — волшебная сказка и сатира.
В самом деле тот высокий стиль, который носит гордое имя клас-
сицизма, истощился во Франции удивительно быстро. Лафосс и Ла-
гранж-Шансель сохраняют, правда, формы старой трагики, но ожив-
ляющего духа нет. Кребильон2, наиболее выдающийся из этих
запоздалых трагиков, называется у французов страшным, потому
что, как все плохие трагические поэты, искал трагического в терза-
ниях и мучительствах; он говаривал, что Корнель изобразил небо,
Расин — землю, и что ему остается поэтому только изобразить ад.
Понемногу начинают уже показываться некоторые дерзкие ереси.
Комедия была свежее и жизненнее. Бурсо пишет пьески, кото-
рые нравятся; Легран смело берется за фантастическое; Реньяра
французы ставят даже обыкновенно рядом с Мольером. Реньяр
в 1694—1708 написал десять комедий; всего больше известны Le
Joueur 1696, Le Distrait 1697, Les Menechmes 1705, Le Legataireuniversel
1708. Эти комедии чрезвычайно живы и верны действительности.
1 Под заглавием «Extrait d’un Livre Anglois qui n’est pas encore publid, intituld Essai
philosophique concernant 1’Entendement, ou 1’on montre quelle est I’dtendue de nos
connoissances certaines et la maniere dont nous у parvenons. Communiqud par Monsieur
Locke» (94 стр.).
2 Вариант современного написания «Кребийон». — Прим. изд.
83
Реньяр, имевший бурную и полную приключениями юность
и достигший наконец высокого и выгодного положения в жизни,
есть беззаботный философ веселого наслаждения, предшественник
тех изящных эпикурейцев, которые давали тон в светском обще-
стве времен регентства. Когда он изображает блестящую и разврат-
ную jeunesse doree1 своего века, он неистощим, в выдумках и завяз-
ках: сцена его пьес — легкомысленный hotel garni2; главные герои
его — «шевалье», красивый, храбрый, ветреный, соблазнительный
молодой аристократ, охотник до игры, кутежа и дуэлей, и «маркиз»,
который, как паразит древней комедии, потеряв состояние в раз-
врате и расточительности, живет игрой, обманом и лестью и, как
опытный товарищ, руководит и поощряет шалости молодых бари-
чей. В этих пьесах много неподдельного юмора и веселости, но тем
не менее они не могут нам нравиться. Кто может смеяться над этой
внутренней гнилью, над этой истасканной разочарованностью, ко-
торую поэт не только оправдывает, но даже простодушно восхваля-
ет, как идеал? И впечатление становится тем тяжелее, что многие
из его характеров, — как замечает уже Лессинг в своей «Драматур-
гии» (Lachm., 7, стр. 126), — односторонне преувеличены и скорее
похожи на маски, чем на живых, настоящих людей.
Поэтому являются уже сначала застенчиво некоторые отважные
ереси, — и прежде всего на чисто критической почве.
Здесь лежит корень знаменитого спора о том, кому принадлежит
преимущество в искусстве и поэзии, древним или новейшим. Спор
велся уже многие годы, особенно со времен Paralleles des Anciens
et des Modernes Шарля Перро (1688—1697, 4 тома), весьма различ-
ными лицами из самых разных точек зрения и велся с страстным
ожесточением. Чем был он, как не спором за право и за существо-
вание самого французского классицизма? Тот, кто нападал на древ-
них, тот в гораздо большей степени, чем бы думал и хотел, напа-
дал также и на бдлыпую долю самых существенных оснований,
на которых утверждались Корнель и Расин, Мольер и французская
комедия, и все французское искусство. Отсюда та ревность, какой
в особенности сам Буало вступался за преимущества и права древ-
них (Reflexions sur Longin, 1693). И, наконец, не было недостатка
и в таких людях, которые открыто и неустрашимо высказывали
этот неизбежный вывод. Ламотт оспаривал всеобщую обязатель-
ность так называемых трех единств, жаловался в Корнеле и Расине
на излишнее количество длинных речей и на бедность драмати-
ческого действия; он полагал даже нужным удалить стих и ввести
вместо него прозу, чтобы отнять соблазн погони за фальшивой
возвышенностью. И Луи Расин, сын трагика, хотя пишет в старом
1 Золотая молодежь (дбр.). —Прим. изд.
2 Частный отель с мебелью (фр.). —Прим. изд.
84
стиле религиозные оды и дидактические поэмы, но вместе с тем
в своих критических сочинениях он указывает на Лопе де Вегу
и Шекспира и даже переводит Мильтона, которого Буало вероятно
не знал даже и по имени.
Это было восстание против гнета чужого художественного иде-
ала, который, хотя не противоречил романскому народному харак-
теру французов, но тем не менее не наполнял всего его существа;
это было не произвольное, но еще неясное самому себе стремление
к такому искусству и поэзии, которые не только по своему содер-
жанию, но и по своей форме и языку были бы порождением и зер-
калом своего времени и народности. Это было начало той великой
борьбы, которую позднее снова повел Дидро и которая еще в новей-
шее время дала жизнь реалистическому направлению так называе-
мой романтической школы.
На почве драмы, особливо трагедии, эти еретические отклоне-
ния не имели никакого большого действия. Опыты трагедии Ла-
мотта, который был таким мужественным передовым бойцом
в критике, не говоря даже о полном отсутствии в них поэтическо-
го творчества и оригинальности, представляют почти комический
разлад между новыми воззрениями и старыми привычками; и он
еще неизменно остается при старом этикете, который требовал для
трагических героев внешнего блеска и знатного ранга. Французская
трагика, как известно, и до настоящего дня еще не освободилась
от этих странных колебаний.
Тем сильнее и действительнее поднялось сопротивление в поэ-
зии повествовательной.
Возникли волшебные сказки и сатирический роман — два явле-
ния, которые, по-видимому, не имеют между собой ничего общего
и которые, однако, во внутренней основе своего происхождения
представляют только различные отражения одного и того же на-
правления.
Основателем французской сказочной литературы был Шарль Пер-
ро (Perrault), тот самый, который в споре о преимуществах древних
и новейших так решительно стоял на стороне новейших. В 1694 он
издал прелестную стихотворную обработку двух народных сказок
(Peau d’ane и Souhaits ridicules); затем в январе 1697 его юный сын,
Пьер Перро Дарманкур (Darmancour) издал с его помощью восемь
сказок в прозе, под названием Histoires ои contes du temps passe avec
des moralites и co вторым заглавием Contes de ma mere Гоуе, «Сказки
моей матери гусыни». Сказочная поэзия стала теперь модой. Заме-
чательным образом за этот новый род схватился с самым решитель-
ным предпочтением знатный круг общества. Сразу явился длинный
ряд подражаний, из которых всего более известны стали два сбор-
ника графини д’Онуа (d'Aulnoy: Les contes des fees, восемь томиков,
1698, за которыми в том же году последовали Contes nouveaux ои
85
les fees a la mode, той же писательницы), графини Мюрат (Murat),
графини д’Оней (d’Auneuil), девицы де Ла Форс, господина Прешака
(Preschac). Все эти книжки сказок вышли еще в 1698 и в следующую
четверть столетия имели новые, отчасти многочисленные издания.
Граф Келюс (Caylus), знаменитый знаток искусства и древности,
рассказывает в предисловии своего Кадишона, в котором он сам де-
лает запоздалый опыт этого рода, что волшебные сказки долго были
в такой моде, что в его молодости — он родился в 1692 — большой
свет не читал почти ничего другого.
В 1644 явился сборник индейских басен и сказок, Давида Саги-
да из Испагани, под заглавием «Livre des lumieres ou la conduite des
rois, compose par le sage Pilpay». Эта книга возбудила к себе живей-
шее внимание. Юэ (Huet), ученый епископ Авраншский, в своем
«Traite sur 1’origine des fables» (1670), высказывает поразительный,
но неопровержимо подтверждаемый новейшими исследованиями
факт, что почти все наши известнейшие народные сказки и бас-
ни — индейского происхождения. Лафонтен заимствует из вновь
открытого источника некоторые из своих самых привлекатель-
ных басен. Не может быть никакого сомнения, что и Перро вышел
из тех же возбуждений. Но Перро не удовольствовался одним за-
имствованием из вторых рук, а обратился также и прямо к живому
устному народному преданию. Старые народные сказки о мудрых
женщинах, о спящей красавице, о синей бороде, о красной шапочке,
о коте в сапогах, о замарашке, о горбатом, о мальчик-с-пальчик, он
воспринял в такой чистоте и рассказал так просто и естественно,
так народно и так доступно для детей, как только допускал уже вы-
глаженный в то время французский литературный язык. И это по-
нимание детской наивности обнаруживается также во многих ска-
зочных рассказах графини д’Онуа, хотя нельзя не видеть, что сюда
проникло уже много притязательных и искусственных прикрас,
много излишней утонченности и светской напыщенности из века
Людовика XIV. Сказки других писателей, как, например, два тома
Contes des Contes девицы де Ла Форс, не имеют уже ничего ни детско-
го, ни народного. Это направление усилилось, когда в 1704 Галланд
начал издавать перевод арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Не-
нарушимая народная основа сказочной поэзии в конце концов была
покинута; чувствовали наклонность к еще более фантастическому
собственному изобретению. И при этом впадали или в странную
смесь восточного волшебства и новейших пастушеских любовных
историй, которая тем больше нравилась переобразованным фран-
цузам того времени, чем беспрепятственнее в этих чудесах и похож-
дениях находила себе исход их невоздержная фантазия, — или в са-
тирические намеки, которые в воздушной одежде фей легче, чем
в другом одеянии, ускользали от нападений полиции. Счастливым
соединением поэтического изображения и тонкой иронии отлича-
86
ются здесь в особенности стихотворные Contes Антуана Гамильтона
(ум. 1720): Le Belter и Fleur d’epine.
Как ни была, по-видимому, незначительна эта сказочная поэзия,
кто не видит, что здесь тем не менее лежали семена весьма значи-
тельного переворота? К сожалению, почва не была удобна для их
развития. Уже в своем первом начале, у Перро, это возобновление
и собирание старых до тех пор презираемых народных сказок вовсе
не было возвращением к собственному и народному, возвращени-
ем, ясно сознававшим свою противоположность к господствующе-
му классицизму; и преемники Перро еще больше, чем он, лишены
были этого необходимого сознания. Тем не менее это движение зна-
менует собой акт освобождения, обновления, и благодетельность
этого обновления распространилась даже на те жалкие извраще-
ния, которые из здоровой народной природы укрылись в салонное
кокетство остроумничанья и фальшивой чувствительности. Бутер-
век (Geschichte der Poesie und Beredtsamkeit, т. 6, стр. 245) метко
говорит: «Волшебные сказки, казалось, давали наконец воображе-
нию свободу, к которой, сами того не зная, стремились под гнетом
истинных и условных правил вкуса. Если дамы, которые рассказы-
вали столь приятно, не были поэтами первого сорта, то все-таки
они были женщины умные. У них была по крайней мере способ-
ность к истинной поэзии, между тем как мужчины, которые в кра-
сивеньких стихах писали умные, но прозаические мысли, имели
только слабое представление о существенных основах поэтическо-
го ощущения».
И то же настроение, которое привело Шарля Перро к сокрови-
щам древней народной поэзии и любящему наблюдению жизни
скромных людей, было то же самое, которое несколько лет спустя
превратило роман в верное и смелое изображение ближайшего на-
стоящего и действительности, какого до тех пор никогда не было.
И здесь тот же разрыв с пришедшим из чужого источника идеа-
лом поэзии Возрождения, то же стремление к своеобразному и пер-
вобытному. Что в сказочной литературе, по крайней мере в первых
чисто народных сказках Перро и графини д’Онуа, было заимство-
ванием из источника народной фантазии, то в новом романе было
внимательным наблюдением и изображением самой непосред-
ственной жизненной правды. В сказке нанесен был урон классициз-
му могуществом фантастики; в новом романе такой же урон был
нанесен классицизму той резкой верностью природе, которую в но-
вейшем художественном языке называют реалистическим стилем.
Нравственное одичание этого времени произвело то, что это
изображение ближайшего настоящего и действительности, если
оно само не хотело впадать в эту безнравственность, как в комедии
Реньяра, с глубочайшей необходимостью должно было стать по пре-
имуществу сатирическим.
87
Предшественник этого сатирического романа есть Лабрюйер; со-
здатель, мастер этого романа есть Лесаж.
«Поэт бывает сатирическим, — говорит Шиллер в своей статье
о наивной и сентиментальной поэзии, — когда он делает своим
предметом отклонение от природы и противоречие действительно-
сти с идеалом. Но он может выполнять это или серьезно и с чув-
ством, или шутливо и весело, смотря по тому, остается ли он в об-
ласти воли или в области рассудка; первое является в карательной
или патетической, второе — в шутливой сатире». Лабрюйер и Лесаж
относятся к разряду шутливых сатириков.
Жан де Лабрюйер (Jean de la Вгиуёге) родился в 1645 в Пари-
же и был с 1684 под руководством Фенелона одним из воспитате-
лей герцога Бургонского, внука великого Конде. До самой смерти
(1696) он оставался членом двора принца, в качестве gentilhomme
de Mr. le Due1. Его врожденный талант самой тонкой наблюдатель-
ности нашел богатую пищу в придворной обстановке; как Фенелон
возбужден был к сопротивлению в политическом смысле, Лабрюй-
ер был вызван к самому горячему сопротивлению в смысле нрав-
ственном. В 1688 вышла его книга «Les caracteres de Theophraste
traduits du grec, avec les caracteres ou les moeurs de ce siecle». Это
первое издание заключает преимущественно общие размышления,
крайне тонкие и проницательно подмеченные «сентенции и прави-
ла» в роде Паскаля и Ларошфуко, хотя совершенно в другом смысле.
Сам Лабрюйер говорит, что он с своей стороны старается сделать
людей разумными, тогда как Паскаль делает их верующими, а Ла-
рошфукб — себялюбивыми. Известны его знаменитые слова: «Un
homme пё chretien et Francjais se trouve contraint dans la satire; les
grands sujets lui sont defendus. Il les entame quelquefois et se detourne
ensuite sur de petites choses qu’il releve par la beaute de son genie et
de son style»2. Тем не менее он неутомимо преследует, где только
можно, все слабости и все ничтожества в общественных стремле-
ниях. Его главы «О государе и государстве», «О человеке», «О моде»
удивительны не только по своему тонкому остроумию, но еще
более по своей мужественной смелости. Лабрюйер, который пре-
красно характеризует ханжу словами: «Un Devot est celui, qui sous
un roi athee serait athee» (ханжа — тот, кто сделался бы атеистом
при атеисте-короле), не боится намекать прямо на самого короля,
давая ему следующий совет: «Для богобоязненного государя очень
тяжело желать обратить двор и сделать его благочестивым: зная,
что придворный желает во что бы то ни стало ему понравиться, го-
1 Дворянин господина Герцога (фр.). —Прим. изд.
2 Человек, рожденный христианином и французом, находит себя принужден-
ным к сатире; ему запрещены великие сюжеты. Иногда принимаясь за них, он раз-
ворачивается в сторону маленьких вещей, которые привлекают красотой своего
гения и стиля (фр.). —Прим. изд.
88
сударь будет благоразумно щадить и терпеливо сносить его, потому
что должен бояться ввергнуть его в лицемерие; он больше ожида-
ет от Бога и от времени, чем от своей преднамеренной ревности».
С 1688 до смерти Лабрюйера, последовавшей в мае 1696, вышло
девять изданий его книги; они сохраняют те же мысли, но каждое
новое издание становится богаче и глубже по художественной от-
делке, целое подкрепляется и объясняется подробностями, слово —
картиной, так что из 386 caracteres1 первого издания в конце кон-
цов их развилось более тысячи. Учитель нравственности делается
сатирическим живописцем характеров и нравов. То, что Лафонтен
осмеливается говорить только под маской басни о зверях, является
теперь в форме лица, снятого с натуры. И эти картины начерчены
так тонко, исполнены так отчетливо, так живо и глубоко верны,
и на них лежит такое мягкое освещение, такая приятная и лукавая
ирония, как это удается только благородному и любезному, истинно
прекрасному сердцу. Реньяр в своем «Рассеянном» подражал одному
из характеров Лабрюйера.
О Лесаже метко было сказано однажды, что это Лабрюйер, по-
ставленный на сцену. Набросанные очерки становятся законченной
картиной, сатира — сатирическим романом.
Рене Лесаж родился 8 мая 1668 в Сарзб на полуострове Рюис
в Бретани. Лишенный своего состояния бессовестным опекуном, он
прибыл в 1691 в Париж и жил там своей работой. Он умер 17 ноя-
бря 1747 в Булонь-сюр-Мер, в доме своего сына.
Сначала Лесаж попробовал своего счастья в комедии, но без
успеха: даже лучшая его комедия, «Turcaret», сатира против финан-
сьеров и генеральных откупщиков, держалась недолго. Тем сильнее
подействовал тотчас его первый роман, «Le Diable boiteux», вышед-
ший в 1707. Заглавие и план романа заимствованы были из ис-
панской новеллы дона Луиса Велеса де Гевары «el Diablo cojuelo»;
но склад и колорит чисто французский. Асмодей, пронырливый
слуга дьявола, заводит молодого легкомысленного испанца, дона
Клеофаса, на одну из мадридских башен; по его волшебному мано-
вению, с домов поднимаются крыши. Мы видим внутренние тайны
жилищ, видим пеструю деятельность разных сословий, характеров
и возрастов, беспокойное движение страстей, пороков и глупости;
ряд самых забавных и поучительных картин, рассказов и размышле-
ний. Вальтер Скотт, написавший весьма привлекательную биогра-
фию нашего поэта, справедливо говорит, что едва ли есть на свете
другая книга, в которой бы столь глубокий взгляд на человеческий
характер был передан в таком ясном и приятном изложении. На со-
временников эта книга подействовала тем быстрее и разительнее,
чем новее был для них этот род поэзии и чем пикантнее была книга
1 Персонажей (фр.). —Прим. изд.
89
по легко разгадываемым намекам на известные лица. Еще важнее
второй роман Лесажа, «Жиль Блас де Сантильяна»; в нем больше
и художественного единства формы. Лесаж взялся за вошедший
в моду из Испании так называемый плутовской роман, — как еще
до него воспользовался им Скаррон во Франции и автор «Симпли-
циссимуса» в Германии. Он так строго выдержал испанские формы
и краски и соблюл их так верно, что испанцы охотно, хотя, без вся-
кого основания, выдают Жиль Бласа за перевод и переделку испан-
ского первообраза. Однако и этот роман — французский сначала
и до конца, в своих достоинствах и в своих недостатках. Два первые
тома вышли в 1715, третий — в 1724, четвертый — 1735. Основное
направление уже твердо обозначено первыми томами и относится
к последним годам Людовика XIV. Жиль Блас — даровитый, но за-
брошенный мальчик. Он отправляется в свет искать счастья, тотчас
при первом странствовании его обманывают, и он теряет все свое
имущество, попадает в плен к разбойникам, должен с ними воро-
вать и грабить, наконец убегает от них, идет затем в услужение
к самым разнообразным людям самых различных сословий, к дво-
рянам, духовным, светским франтам и актрисам, потом, благодаря
своим познаниям и бодрой ловкости и прямодушию своего харак-
тера, не поврежденному всей грязью этой жизни, он делается сна-
чала писцом, потом доверенным лицом у первого министра, затем,
вследствие собственного легкомыслия и чужих интриг, подвергается
несчастию и попадает в тюрьму, освобождается, приобретает с по-
мощью покровителей, которых он обязал существенными услугами,
порядочное состояние, снова достигает высокого положения в госу-
дарстве и оканчивает свою жизнь в веселом довольстве сельского
счастья. Легко видеть, что в таком богатстве самых пестрых при-
ключений не остается нетронутым ни одно сколько-нибудь важное
житейское положение. Когда Лесаж изображает распадение старого
государства, промахи и себялюбие министров, плутовство и обма-
ны низших чиновников, мы узнаем всю страшную картину расстро-
енных общественных отношений при стареющем короле, — так же,
как живые изображения городской жизни, франтов, актеров и пи-
сателей представляют уничтожающее отражение возраставшего
с каждым днем одичания нравов. И это богатое содержание нашло
себе полную, истинно художественную отделку. Жиль Блас, совер-
шенно так же, как английский Робинзон, сам пишет свои записки
и таким образом с искренним самоуглублением вводит нас в свои
житейские испытания, настроения и перемены, и своим простым,
правдивым изображением даже самых мелких подробностей умеет
представить все, даже самые внезапные и поразительные переходы
своей судьбы, с таким обманывающим правдоподобием, что, несмо-
тря на все легкомыслие и странность героя, мы принимаем в нем
самое глубокое участие. Иные упрекали роман в том, что мы посто-
90
янно встречаемся в нем только с одними испорченными характера-
ми и нигде не видим чистых и возвышенных; но по неистребимой
ясности сердца Жиль Блас с своей веселой иронией всегда стоит
выше самого себя. Правда и то, что нас больше занимает только
остроумно придуманное положение, чем глубина характеристики,
что господствующее настроение есть больше ум, чем юмор. В этом
отношении он не может равняться ни с Дон Кихотом, ни даже с То-
мом Джонсом.
Жиль Блас представляет собой весьма решительный, поворот.
До тех пор французская поэзия была только возвеличением су-
ществовавшего государства; здесь она делается сатирическим его
бичеванием. До тех пор буржуа допускался только для того, чтобы
быть осмеянным; здесь он победоносный герой. До тех пор поэ-
тическое изображение характеров было стеснено в определенные
и неизменные общие понятия, скопированные с идеального вели-
чия древности; здесь проложен путь к действительности и приро-
де. По содержанию Лесаж есть первый оппозиционный писатель,
по форме он первый реалист.
Когда Буало застал однажды своего слугу с «Хромым Бесом» в ру-
ках, он грозил тотчас отказать ему. Этот анекдот, справедлив он или
выдуман, характеризует противоположность двух веков. На место
придворной литературы становится литература, в которой веет све-
жим, свободным, народным духом. Жиль Блас был предшественни-
ком Фигаро.
Отдел второй
РЕГЕНТСТВО ГЕРЦОГА ОРЛЕАНСКОГО
И МИНИСТЕРСТВО КАРДИНАЛА ФЛЁРИ
Глава первая
Одичание нравов дворянства и усиление буржуазии
Регентство герцога Орлеанского, 1715—1723 гг., есть одна
из важнейших эпох французской истории. С именем этого регент-
ства всегда соединяется только картина самого бесстыдного развра-
та, и это мнение, к сожалению, слишком основательно. Но при этом
мы не должны забывать, что в то же время в государстве, обществе
и воззрениях происходят самые многозначительные изменения, де-
лающие эту эпоху настоящей предшественницей французской ре-
волюции.
Существенный характер этого времени может быть выражен
в двух словах. Дворянство приходит в упадок и в одичание; буржуа-
зия усиливается и получает невиданное могущество и значение.
Филипп, герцог Орлеанский, был натура даровитая, но извра-
щенная. Мать его, почтенная пфальцграфиня Елизавета-Шарлотта,
говорила о нем, намекая на известную сказку, что при его рождении
были все добрые феи и одарили его самыми прекрасными своими
дарами, но что одна уродливая фея, не приглашенная из пренебре-
жения, в отмщение за то прибавила заклятие, что все эти достоин-
ства должны быть помрачены и уничтожены такими же пороками.
Эта сказка исполнилась на нем почти буквально. В ранней юности
он выказал себя блестящим полководцем; но король не хотел, что-
бы кто-нибудь из принцев превзошел в военной славе его самого.
Молодой герой, желавший славы и осужденный на бездействие, ис-
кал удовлетворения своего честолюбия в хвастливо-буйном кутеже.
Легкомыслие вело к испорченности, и его испорченность была так
известна, что общественное мнение даже взваливало на него вне-
запную смерть дофина и герцога Бургонского. Он продолжал ту же
развратную жизнь и тогда, когда в его руки попало управление го-
сударством. По вечерам он проводил время с своими любовницами,
певицами и танцовщицами и десятью или двенадцатью близкими
друзьями, которых он называл своими roues, т. е. своими висель-
92
никами. Каждый вечер был бесстыдной оргией. Все остроумие вер-
телось на самом отвратительном сквернословии и богохульстве;
все кончалось непременно всеобщим пьянством. В этот бешеный
вихрь вовлечено было и государственное управление. Франция сде-
лалась игрушкой и поприщем того гнусного класса людей, для ко-
торого французский язык изобрел тогда меткое название chevaliers
d'industrie1, Дюбуа, учитель и потом всемогущий министр реген-
та, был именно такой низкий искатель приключений, вышедший
в люди через порок и державшийся пороком, всегда себялюбивый
и всегда доступный для подкупа и измены. Известный финансист
Лоу, полный глубоких взглядов на сущность денежного рынка и не-
сомненно гениальных планов, повергает страну в самое ужасное
потрясение и подкапывает все имущественные отношения только
потому, что он привык смотреть на свет глазами стоящего у про-
пасти и безумно-смелого игрока. Когда все известные финансовые
уловки были истощены, то даже люди серьезные и опытные считали
необходимым объявление государственного банкротства. Так все,
насмехаясь над всяким долгом и честью, думали исключительно
о ближайшем минутном наслаждении и выгоде.
Читая романы и мемуары этого времени, мы с ужасом видим,
как страшно эти беспутные отношения действовали в особенности
на высшие классы. Та дикая страсть к наслаждению и удовольстви-
ям, которая господствовала в залах Пале-Рояля, разлилась во всем
знатном обществе. Дворянство Людовика XIV все еще отличается
любезной и привлекательной смесью старинного рыцарства и того
изящного обращения, которое пришло во Францию с итальянским
искусством и образованием. Правда, и тогда не было уже недостат-
ка в разврате и чувственных излишествах; набожная строгость по-
следних лет только прикрыла, но не уничтожила эту наклонность;
но отвлекающая смена постоянных войн и стеснительность строго-
го и правильного этикета представляли благодетельное противодей-
ствие. Теперь, наконец, война, которую дворянство все еще считало
своим исключительным призванием, замолкла уже несколько лет.
Старые предания чести и рыцарства исчезли в дворянстве. Финан-
совые предприятия Лоу манили из спокойствия прочного владения
на безрассудный риск: с тех пор того возбуждения и добычи, какие
прежде давала война, стали искать в возбуждении и добыче игры,
а рыцарства стали искать в nobles passions2 и в шумных удовольстви-
ях. Дворянство почти никогда не жило в своих имениях, так же как
высшие офицеры не жили в своих гарнизонах, и высшее духовен-
ство — в епархиях. Весь знатный свет собрался в Париже. Женщины
были в том же опьянении. Пример герцогини Беррийской, которая
1 Рыцари промышленности (фр.). —Прим. изд.
2 Благородные страсти (фр.). —Прим. изд.
93
так бесстыдно выставляла свою развратную жизнь, что ее подозре-
вали даже в преступной связи с отцом, регентом, — этот пример
был не единственный. От этого времени остались свадебные контр-
акты, в которых жена ставит непременным условием — проводить
каждую зиму в Париже. Дворцы знатнейших фамилий, Кариньян,
Нассау, Арманьяк, Листанк и других, были известным всему горо-
ду убежищем игроков и банкометов; в 1722 основаны были даже
публичные игорные дома (Academies de jeux). В 1716 введены были
публичные маскарады; шевалье де Бульон1, племянник старого Тю-
ренна, получил ежегодную пенсию в шесть тысяч ливров за остро-
умную мысль воспользоваться театрами для устройства бальных
зал. Опера и балет стали важнейшим предметом общественного ин-
тереса. М-11е Пелиссье, т-11е Салё, т-11е Камарго, их прелести и лов-
кое кокетство составляли предмет фривольного разговора в салонах
и сюжет соблазнительного мадригала для поэтов. То, что уцелело
еще от святости брака и мирного семейного счастья, исчезло те-
перь без остатка. Взаимная любовь и верность считались мещан-
ством и ограниченностью: муж жил с веселыми дочерями оперы
и балета, жена — с близкими друзьями дома. Любопытный дневник,
веденный адвокатом Барбье с 1717 до 1762 г. (Journal historique et
anecdotique du regne de Louis XV. Paris 1857, 8 томов), отличается
в этом отношении весьма замечательной откровенностью: «De vingt
seigneurs de la cour, — говорит Барбье, — il у en a quinze, qui ne
vivent point avec leurs femmes; rien n’est plus commun, meme entre
particuliers»2. И если он хвалит любовь герцога Конти к своей су-
пруге, он тотчас прибавляет: «cependant il a des maitresses: c’est la
regie»3. Приводимая у Лемонте (Histoire de la Regence 2, стр. 319),
Bibliotheque des gens de cour упоминает о бесстыдном обычае, что при
дамском туалете подает рубашку не служанка, a valet de chambre4.
В наружном церемониале общественной жизни все еще сохранялось
известное достоинство и грация, обязательная тонкость и хорошее
обращение; но внутри этих людей была окончательная пустота, ни-
зость и безнравственность.
Загляните в альбом костюмов того времени. Кто не знает этого
старчески-юного маркиза с вычурной менуэтной походкой, с исто-
щенно-развратной усмешкой, с легкой шпагой, в шитом с длин-
ными полами кафтане и с напудренными волосами, эту странную
смесь легкомыслия и натянутости, сознания своего достоинства
и покорного унижения? И кто не знает также этой знатной дамы
в пудре, с такими ярко блестящими глазами, одетой в богатые кру-
1 Еще один вариант написания фамилии «Буйон». — Прим. изд.
2 Из двадцати сеньоров двора пятнадцать не живут со своими женами; нет ни-
чего общего, даже между частными лицами (фр.). —Прим. изд.
3 Однако у него есть любовницы: это право (фр.). — Прим. изд.
4 Дословно: комнатный молодой дворянин (фр.). —Прим. изд.
94
жева, в длинном узком корсете, в широких фижмах, разукрашенных
цветами и бантами, с очень открытой грудью, с мушками на лице
и на высоких каблуках, — кто не знает этого подобия легкомыслен-
ной грации?
При Людовике XIV все было натянуто и подведено под строгие
предписания придворного этикета. Длинные отвороты рукавов,
полы кафтана и длинные полы жилета подкладывались даже прово-
локой; воротнички, галстук, манжеты крахмалились, чтобы на них
не было ни одной складки; большой и неудобный парик необходи-
мо принуждал к важной осанке. При регентстве, напротив, все идет
к непринужденности и к более и более легкому взгляду на жизнь.
Жесткая подкладка-подол мало-помалу исчезает, вместо большого
парика теперь пудрят волосы, но крепко завивают их, чтобы ни-
какое быстрое движение не могло их спутать, и связывают назади
в косу; в белье аффектируют известную опрятную небрежность. Со-
образно с изменением костюма и в жилищах все становится мягче
и соблазнительнее: комнаты делаются меньше, неприютные и бле-
стящие парадные залы уже не нравятся; общество живет, любит,
болтает и наслаждается в маленьких салонах и будуарах. Вместе
с чаем и кофе входит во всеобщий вкус и мягкая восточная софа,
с своими подушками, удобно применяемыми ко всякому положе-
нию. Вместе с софой является также мягкое набитое кресло, fauteuil,
вытесняя средневековые высокие и прямолинейные стулья. Явля-
ются цветные, тяжелые шелковые занавеси для окон, чтобы сладо-
страстно смягчить свет; на стенах пышные картины и большие зер-
кала в золотых рамах; на мраморном камине, на столах и консолях
красивые вещицы, фарфоровые вазы, богато украшенные столовые
часы. Мебель стала прихотливая и вычурная; по всей комнате но-
силось сладострастное благоухание, подслащавшее естественный
и здоровый воздух.
Историю роскоши метко разделяли на три эпохи. Роскошь гру-
бых неразвитых народов заключается в пустом блеске и мишуре;
роскошь здоровых и свободных народов заботится о свежем и здо-
ровом удобстве и комфорте; роскошь времен упадка служит только
пороку и пустой расточительности. Нужно ли спрашивать, какого
рода была роскошь этого периода? Он отличался изящной и любез-
ной внешностью, но внутри была пустота и одичание; еще много
было понимания и чутья к живописному, к костюму, к живой форме
и цветам, но все это было странно, прихотливо, искусственно и вы-
чурно. Жадная утонченность истощенных кутил была вкусом этого
внутренне гнилого общества, вкусом, требовавшим раздражений.
Только самые испорченные времена римской империи представ-
ляют другую подобную картину; но, к счастью, несмотря на все это,
была между ними и весьма глубокая разница. Испорченность Рима
проникала одинаково во все слои народа; нигде не было сопротив-
95
ления, нигде ни зерна более свежей и здоровой жизни. Но здесь,
во Франции, эта испорченность и легкомыслие дворянства были
только одной стороной жизни; за этим развратным и противным
шутовством скрывается серьезное и важное движение. Если мы
всмотримся глубже в брожение и перевороты регентства, от мы
найдем и в государственной, и особенно в общественной и эконо-
мической жизни этого века такие учреждения, стремления и собы-
тия, которые находятся уже в полнейшем противоречии с планами
и убеждениями Людовика XIV и которые имеют огромное значение.
Это дикое и распущенное время представляет, однако, занимающу-
юся зарю более счастливого и человечественного будущего.
В это время впервые была чрезвычайно глубоко потрясена идея
о безусловной силе королевской власти. И рядом с безнравствен-
ным дворянством неожиданно становится юношески крепкое сред-
нее сословие, которого требования и деятельность с каждым днем
делаются важнее и неотвратимее.
Странная ирония истории сделала то, что как в государственном
устройстве, так и в управлении народные стремления исходили пре-
жде всего от самого трона.
Людовик XIV не знал никакого другого государственного права,
кроме права своего всемогущества и неограниченности, получае-
мых по наследству через королевское рождение. Но регент постав-
лен был запутанными обстоятельствами в трудное положение. Так
как он присвоил себе регентство против положительно высказан-
ной воли короля, то для этого необходимо требовалось содействие
парламента. Этого содействия нельзя было купить без очень зна-
чительных уступок. Парламент вновь приобрел свои старинные
права, отнятые у него умершим королем. Королевское объявление
15 сентября 1715 предоставляет парламенту полное и неограничен-
ное право — до внесения в регистры королевских указов и реше-
ний представлять королю советы и возражения. Это мало; когда
регент отнял у легитимированных принцев право возможного пре-
столонаследия (не потому, чтобы такая возможность действительно
имелась в виду, а скорее только для того, чтобы обеспечить настоя-
щим принцам крови их родовое преимущество в полном его объе-
ме), то обе стороны не усомнились даже открыто признать учение
о верховной власти народа. Memoire des princes legitimes основывал
требование полного равенства принцев на той мысли, что народ
заключил с господствующим домом договор, что народ вручил ему
корону для избежания неудобства постоянных избирательных ин-
триг; что следовательно все, чтд препятствует прекращению ди-
настии, соответствует желанию и пользам народа; что во всяком
случае этот спор может быть решен только совершеннолетним ко-
ролем или по желанию трех сословий. Затем следует королевский
ответ от 1 июля 1717. И он также не отвергает революционной тео-
96
рии договора; вместо того, он сам выставляет правило, что если бы
когда-нибудь совершилось несчастье, предположенное покойным
королем, то одному только народу следует исправить это несчастье
мудростью своего выбора; что если основные законы государства
запрещают короне отчуждать ее домены, то сообразно с этим ко-
роне еще менее позволительно самовольное распоряжение самой
короной.
Такое же расширение свободы проявилось первоначально
и в управлении. Регент осуществил на деле то, чего желал и на что
надеялся умерший герцог Бургонский, воспитанник Фенелона, по-
дававший такие богатые надежды. Исключительное единовластие
короля или доверенного министра должно было быть ограничено
в известной мере, полезной для потребностей государства. Вме-
сто одного неответственного и всемогущего министра, управление
должно было принадлежать многим министерствам, взаимно контр-
олирующим и дополняющим друг друга. Учреждено было шесть
различных коллегий: коллегия для церкви, военных дел, финансов,
флота, внутренних и иностранных дел. Каждая коллегия составлена
была из двенадцати членов, и это число было впоследствии увеличе-
но, даже удвоено. Президенты этих коллегий представляли доклады
в совет регентства, который и решал дела в последней инстанции
большинством голосов. Перемена была глубокая и многозначитель-
ная. Направление не шло уже исключительно сверху вниз, но и сни-
зу вверх: вместо безусловного повеления и столько же безусловного
повиновения, является теперь равноправная деятельность и свобод-
ное совещание.
Правда, эти нововведения существовали очень недолго. Парла-
менты, хотя по своему составу, исходившему из наследственности
или покупки мест, и не могли нисколько считаться настоящим на-
родным представительством, думали, однако, что примером для
них должны быть не только времена Фронды, но даже положение
английского парламента. Регент вовсе не был расположен уступать
этому притязанию. Отсюда постоянная смена успехов и неудач, со-
противления и притеснений, взаимных соглашений и возобновляю-
щейся ненависти. Совещательные, коллегии еще менее оправдали
ожидания. Не имея внутреннего единства и порядка, они вели дела
неповоротливо и неопределенно, не были приготовлены ни к одно-
му непредвиденному случаю, не в силах были совладеть ни с одним
сильным столкновением. Весь государственный корабль попал в са-
мое небезопасное положение. Регент хитро воспользовался этими
затруднительными обстоятельствами и повелением 24 сентября
1718 снова восстановил старые абсолютистские учреждения Людо-
вика XIV. Но следы этой более свободной жизни остались неизгла-
димы в умах. Ранке в четвертом томе своей французской истории
(стр. 438) упоминает один мемуар из этого времени, который хва-
97
лится, что нация вышла теперь из своей томительной летаргии,
что она уже проснулась, но еще доискивается ощупью свободы.
Когда, в 1731 Вольтер в своей трагедии «Брут» выставлял целью бу-
дущего «de fonder la liberte publique sous 1’ombrage sacre du pouvoir
monarchique»1, — тонко рассчитывавший поэт очень хорошо пони-
мал настроение и мысли зрителей.
Еще сильнее были перемены, происходившие между тем в самой
народной жизни: эти перемены совершенно преобразовывали ос-
новы прежней государственной жизни. Этот период есть колыбель
третьего сословия, tiers-etat.
Регентство имело мирные наклонности. Оно покровительствова-
ло земледелию и особенно торговле и ремеслам. Оно строило доро-
ги и мосты, на которых основывается вся возможность сношений
и которых при Людовике XIV было, однако же, так мало, что, за ис-
ключением окрестностей Парижа, пересылка почты производилась
только через верховых курьеров. Регентство уничтожило множе-
ство чиновнических придирок и таможенных препятствий, затруд-
нявших вывоз в колония и за границу. Предприятия Лоу, как ни пе-
чально лопнула их ближайшая цель, преобразовали государство
в огромный банковый и торговый дом и тем доставили должное
значение, кроме поземельного владения и движимой собственно-
сти. Торговля сделалась наукой, биржа стала независимой и весь-
ма сильной властью. Управление герцога Бурбона (1723—1726)
и кардинала Флёри (1726—1743) велось в том же смысле. Торговля
и ремесла отдохнули от тяжелых ударов, нанесенных им в правле-
ние Людовика XIV. Метрополия нашла весьма выгодные пути вы-
воза в Левант; колонии соперничали во всемирной торговле с ан-
глийскими колониями. Словом, буржуа возвышался трудолюбием
и предприимчивостью, между тем как одичавшее дворянство с каж-
дым днем упадало все больше и больше. Своими средствами буржуа
мог по крайней мере равняться с дворянством; по своему значению
и важности для государственного хозяйства буржуа стоял выше его
во всех отношениях.
Эту возвышающуюся буржуазию усиливали и подкрепляли низ-
шее духовенство, люди парламента, писатели и художники, люди
образованные. Здесь обнаружилось то же превосходство над дво-
рянством. Даже в салонах господствовала уже не аристократия
рождения, а аристократия ума.
Нельзя не видеть, что история достигла здесь серьезной и важ-
ной точки поворота. Третье сословие чувствует могущество свое-
го богатства и своего образования, чувствует свое государствен-
ное, общественное и экономическое значение, свою более чистую
1 Воздвигнуть общественную свободу под священной сенью монархической вла-
сти (фр.). —Прим. изд.
98
нравственность, и несмотря на то оно видит себя лишенным вся-
кого самостоятельного участия в государственной жизни; дво-
рянство все еще стоит против него вызывающим образом, как
надменная каста с оскорбительными привилегиями и с упрямым
отрицанием всякого неотъемлемого человеческого достояния. От-
сюда — пробуждающаяся ненависть против сословных отличий,
которая становится все неотступнее, самонадеянно проповедует
идею о врожденном равенстве людей и делает ее многознамена-
тельным лозунгом. Оттого начинаются с этих пор беспрестанные
планы и проекты, которые стремятся обеспечить третьему сосло-
вию, буржуазным собственникам и представителям образования,
соразмерное влияние на ход внутреннего и внешнего управле-
ния. С возвышением этого третьего сословия старое государство
поражено было в самом глубоком своем корне. Существующее
право и существующая государственная форма не дают никакого
места для этой вновь появляющейся силы, а между тем эта сила
не только не может быть подавлена, но делается все настойчивее
и упорнее.
За этой образованной и зажиточной буржуазией стоит кре-
стьянин и фабричный рабочий. Он беден и отягощен податями
и барщиной; гнет привилегированных классов и жестокое цеховое
угнетение постыдно отняли у него развитие и право его челове-
ческой природы. Ужасные картины бедствий и нужды этого низ-
шего населения при Людовике XIV, представленные Фенелоном,
Вобаном, Буагильбером, еще уступают, если возможно, бедстви-
ям времен регентства и министерства Флёри. «Кругом, — говорит
благородный д’Аржансон в своих записках (Париж, 1859 и след.,
III, 84) о 1740 годе, — среди мира и при порядочной жатве люди
мрут массами, как мухи, потому что по бедности ели одну траву;
в городе Шателлеро из четырех тысяч жителей тысяча восемьсот
нуждается в пособии». И над этими бедными страждущими людь-
ми тяготеет неотвратимая строгость жестоких уголовных законов,
которые за самомалейшие проступки присуждают только удары,
тюрьму и смерть, тяготеет самое бесстыдное злоупотребление су-
дебной власти и произвол продажных приказов об аресте. Ясно, что
недалеко уже время, когда третье и четвертое сословия разойдутся
в своих стремлениях и средствах и будут с ожесточением бороться
одно против другого; но теперь они еще остаются естественными
союзниками против одного общего врага.
Или старое должно дать места и воздуха проникающему ново-
му, или борьба на жизнь и смерть становится неизбежной. Фонте-
нель в 1743 говорит в предисловии к своим комедиям: «Будущее
приготовляет нам такие события, что люди едва ли бы поверили
тому, кто бы мог их предвидеть». Цель этой борьбы не подлежит со-
мнению. Вольтер открывает общее настроение этой стремящейся
99
вперед буржуазии, когда говорит в «Танкреде»: «L’injustice produit
a la fin I’independance»1.
Подобное движение происходит в религии и в церкви. И здесь пе-
риод от смерти Людовика XIV до смерти кардинала Флёри представ-
ляет весьма замечательный поворот.
Мы отличаем в этих религиозных и церковных отношениях три
различные группы.
Вверху — разочарованный высший свет. Он предается дерзким
насмешкам над религией, как будто хочет вознаградить себя за при-
нуждение, которое он должен был выносить в последние набожные
годы Людовика XIV. Регент был не только неверующий, но даже
с оскорбительной насмешкой открыто хвастался своим неверием.
И рядом с этими презрительными остротами стоит самое пошлое
и страшное суеверие, как и везде, где неверие не есть плод серьез-
ной борьбы и научного мышления, а только выражение одного лег-
комыслия и пустоты сердца, или просто хвастливого тщеславия.
Здесь повторяется невообразимая путаница времен римской импе-
рии. Как регент таинственно хвалился сообщением с высшими ду-
хами и в продолжение многих ночей запирался в своих комнатах
с маркизом Мирепуа для вызывания злого духа, так и почти все эти
дерзкие остряки в самом жалком страхе дрожали перед мрачными
силами ада и делались презренной добычей шарлатанов, заклинате-
лей духов, хитрых делателей золота и адептов, смешной игрушкой
геомантов и снотолкователей, гадателей на картах и астрологов.
Маршал Монревель умер от горячки, потому что за столом у герцо-
га Бирона на него просыпалась случайно опрокинутая солонка. За-
писки Сен-Симона и Дюкло рассказывают тысячу анекдотов в этом
роде. Это было прекрасное начало, из которого немного лет спустя
вышли Сен-Жермен, Калиостро и все эти ловкие итальянцы и армя-
не, надувалы и авантюристы.
Затем — самые церковные партии. Они выбиваются из сил в ни-
чтожных ссорах и вражде и мало были способны возбуждать ува-
жение к упадающей вере. Старый спор между янсенистами и иезу-
итами снова начал свирепствовать с крайней необузданностью.
Для регента церковное управление было просто делом политики.
Сначала он был за янсенистов; им, как терпевшим прежде угне-
тение, с редким единодушием оказываемо было открытое благо-
воление. Кардинал Ноайль, подвергшийся преследованию за свое
сопротивление булле Unigenitus, получил управление духовными
делами; ле Теллье, ненавистный духовник покойного короля, был
изгнан; тюрьмы янсенистов были отперты. Но янсенисты упо-
требили во зло свое новое положение. Они хотели отплатить сво-
им врагам за преследование таким же преследованием. 5 марта
1 В конце концов несправедливость производит независимость (фр.). —Прим. изд.
100
1717 епископы Мирепуа, Сенеза, Монпелье и Булони потребовали,
чтобы папская булла была отвергнута формально, как противная
свободе и независимости церкви, и чтобы созван был свободный
и всеобщий собор, как единственно правильное высшее судилище
в спорных делах церкви. Регент воспротивился этому беспокойно-
му волнению и преувеличениям янсенистов; он отнял у них свое
покровительство. Вскоре после того в политике началось ретро-
градное движение: Дюбуа сделан был кардиналом, иезуиты снова
всплыли наверх. Прошло немного времени, и они опять приобре-
ли то же значение, каким пользовались прежде. Под управлением
герцога Бурбонского преследование усилилось самыми жестокими
насилиями. В 1724 издан был религиозный эдикт, который далеко
превзошел строгость, направленную против оставшихся протестан-
тов при отмене Нантского эдикта. Кардинал Флёри, вступивший
тогда в управление, был клерикал и человек ничтожный. Ненавист-
ная булла стала обязательным государственным законом. Иезуи-
ты исключительно овладели кафедрами, исповедальней, школами
и университетом. Парламент приобрел, правда, некоторые смягче-
ния для изгнанного духовенства; но преобладание иезуитов оста-
лось по-прежнему неизменно и ужасно. К сожалению, и янсенисты
больше и больше теряли свою прежнюю чистоту. Их набожность,
некогда столь горячая и проникнутая чувством, выродилась в фан-
тастическую мечтательность, в экстаз, в умерщвление плоти и чу-
дотворство. Все оргии и беспутства самого крайнего ханжества
развились здесь до последнего предела; они охладили и оттолкнули
всех рассудительных людей. Человек спокойный и благоразумный
не мог увлекаться ни иезуитами, ни янсенистами. Чистая простота
веры была чрезвычайно потрясена даже в народе.
Наконец — так называемые философы. Если уже при Людови-
ке XIV обнаружилось движение более свободного и независимого
образа мыслей, как противодействие скучным раздорам и несогла-
сиям церковных направлений и партий, то теперь оно было еще
усилено и подкреплено тем могущественным движением, которое
происходило в то время в Англии, как последовательный результат
идей Ньютона. Локк и свободные мыслители были там уже бесспор-
ными вождями господствующего образования. Мопертюи, Вольтер
и Монтескьё делаются одушевленными проповедниками нового
учения, и эти английские влияния усиливались из года в год быстро
и с замечательной широтой. Не только сочинения Ньютона, но так-
же и сочинения Локка, Попа, Коллинза и сказка о бочке Свифта пе-
реводились, объяснялись, дополнялись и развивались; в 1725 в Па-
риже появляются даже свободные каменщики, в то время еще
полные первой свежести и чистоты своей деистической пропаганды
(ср. Lemontey, Histoire de la Regence 2, стр. 476). Мы живо видим об-
ширность и быстроту этих влияний по тем фактам, которые Шлос-
101
сер сообщает в своей истории восемнадцатого века (в первом томе)
из неизданных еще записок кардинала Флёри. Кардинал горько
жалуется в них на бесчисленное множество непозволительных ан-
глийских книг, пришедших из-за моря во времена регентства. «Эти
книги, — говорит кардинал, — отравили всех, кто имеет у нас при-
тязание на ум и широкие взгляды». Таким образом глубокое значе-
ние имеют знаменитые стихи молодого Вольтера, которые он еще
в 1718 году бросил против духовенства в своем «Эдипе»:
Les organes du ciel sont ils done infaillibles?
Pensez-vous, qu’en effet au gre de leur demande
Du vol de leurs oiseaux la verite depende?
Non, non; chercher ainsi 1’auguste verite
C’est usurper les droits de la divinite!
Nos pretres ne sont pas ce qu’un vain peuple pense.
Notre credulite fait toute leur science...
...Traitre, au pied des autels il faudrait t’immoler
A 1’aspect de tes dieux que ta voix fait parler!
И тот же Вольтер пишет уже в это время первый план Генриады,
которая, в сущности, есть именно настоятельное напоминание о ре-
лигиозной терпимости, и Монтескьё пишет Lettres Persannes, религи-
озная часть которых проникнута тем же самым духом.
Если мы оглянемся назад на подвижную, пеструю, разнообраз-
ную жизнь этого замечательного века, то является несомненной
исторической необходимостью, что искусство и литература его
должны быть очень разнообразны и исполнены самых живых про-
тивоположностей. Обыкновенно об этой литературной эпохе гово-
рят только очень бегло и мимоходом; и она, конечно, незначитель-
на, если мы сравним ее с блестящим временем Людовика XIV или
с процветанием и зрелостью французской литературы просвеще-
ния, наступившими в следующие десятилетия. Но она имеет зна-
чение и силу, как борьба и стремление глубоко действующей пе-
реходной эпохи. В это время Вольтер и Монтескьё пишут уже свои
первые сочинения; Дидро и Руссо получают в них свое юношеское
образование.
Научная литература этого времени занимается преимуществен-
но идеями политической реформы и естественно-историческими
и философскими стремлениями, которые стараются оторвать нра-
вы и образ мыслей от старых церковных преданий. Но искусство
и литература совершенно отказываются от придворного штемпеля,
который наложило на них господство Людовика XIV. Как в самом
настроении времени, так и здесь, в верном зеркале искусства и поэ-
зии, мы с точностью можем отличить два противоположные направ-
102
ления. С одной стороны это искусство впадает в то разочарованное
легкомыслие, которое было болезнью высшего света; но с другой,
оно делается простой и трогательной картиной нравов усиливаю-
щегося народа и завоевывает себе сюжеты и формы, которые еще
недавно были во Франции совершенно невозможны.
Глава вторая
Первые влияния Англии на политику и естественные науки
1. Массильон. Аббат де Сен-Пьер. Д’Аржансон
Записки герцога Сен-Симона раскрывают ясно, какие широкие
планы переворота затевала большая часть дворянства по смерти
Людовика XIV. Завоевания королевской власти должны были быть
уничтожены, дворянству снова возвращена его потерянная неза-
висимость. Самым открытым выражением этой феодальной пар-
тии была страстная книга графа Буленвилье «Мёшопез historiques
sur I’ancien gouvernement de France, avec 14 lettres sur les Parlemens
ou Etats gёnёraux», которая вышла 1727, через пять лет по смерти ав-
тора, в трех томах, в Гааге, но уже задолго перед тем была известна
в рукописи во всех знатных кружках. Эта книга производит дворян-
ство от франкских завоевателей низшие сословия от крепостных
галлов, и столько же раздражается против захватов королевской
власти, которая все больше и больше ограничивала дворянство
в его отцовском наследии самого безусловного могущества, свобо-
ды и независимости, сколько оскорбительна и надменна в отноше-
нии к народу, который из своего крепостного состояния возвысился
до государственных должностей и до зажиточности и положения
в обществе. Все новейшее государственное развитие представляется
совершенно противозаконным. Полное возвращение к господству
дворянства, не ограниченному ни сверху, ни снизу, выставляется
неопровержимым результатом.
Были и резкие возражения против этого неисторического вздора;
так, например, Дюбо (Dubos), секретарь академии, в своей Histoire
critique de I’etablissement de la monarchic jrangaise dans les Gaules, 1734,
старается опровергнуть притязания дворянства, и Монтескьё, кото-
рый хочет взять середину между двумя взглядами, говорит, что он
должен здесь иметь дело с двумя системами, dont Гип semble etre ипе
conjuration contre le tiers etat et 1’autre une conjuration contre la noblesse1.
Но всего важнее было то, что против этой ретроградной партии ста-
ла столько же деятельная партия прогрессистов. К действительной
жизни прилагаются только слова Гёте: «И если они отрицают дви-
1 Одна кажется заговором против третьего сословия, другая — против дворян-
ства (фр.). —Прим. изд.
103
жение, то танцуй у них перед носом». Ввиду опасности люди смелые
и проницательные тем тверже настаивали на восстановлении и обе-
спечении законных и свободных отношений.
Всегда останется достопамятным фактом то обстоятельство, что
Массилъон, знаменитый проповедник, воспользовался кафедрой,
чтоб подействовать на совесть короля. Уже Людовик XIV должен
был услышать от него, что хотя льстивый свет прославляет его
за его победы и завоевания, но что евангелие судит более непод-
купно. Он стал говорить еще прямее, когда призван был регентом
для чтения великопостных проповедей девятилетнему королю Лю-
довику XVI. Эти проповеди изданы под названием Petit-Careme. Из-
вестно, какой карательный взгляд бросал он на покойного короля,
славу которого он сравнивал с вередом, распространяющим только
заразу и стыд; но еще великолепнее его увещания, которыми он
старался обеспечить стране лучшее будущее. Учения, происходив-
шие от Мильтона, Элджернона Сидни и Локка, раздаются теперь
перед самым троном. «Сир, — говорит Массильон, — свобода, ко-
торую обязаны дать государи своим народам, есть свобода зако-
нов. Над вами нет никакого судьи, кроме Бога; но законы должны
иметь больше власти, чем вы сами; вы господствуете не над раба-
ми, вы господствуете над свободным и храбрым народом, который
столько же ревнив к своей свободе, сколько и к своей верности». —
«Вы только служитель и первый исполнитель закона (yous n’en etes
que le ministre et le premier depositaire)». И в другой проповеди Мас-
сильон говорит: «Государь вовсе не идол, которого народы сдела-
ли себе, чтобы ему поклоняться; он охранитель и страж, которого
они поставили во главе себя, чтоб он охранял и защищал их. Го-
судари не те бесполезные боги, которые имеют глаза и не видят,
имеют язык и не говорят, имеют: руки и не действуют; они долж-
ны предшествовать народам и руководить их. Народы по Божией
заповеди сделали государей тем, что они есть; потому и государи
должны жить только для народов. Да, Сир, только избрание народа
дало впервые скипетр в руки ваших предков, поднимало их на щит,
объявило их повелителями, и только свободное согласие подданных
сделало королевскую власть наследственной. Так как поэтому пер-
вый источник королевской власти идет от нас, то и короли должны
употреблять эту власть только для нашей пользы».
При таком настроении еще живее разрабатывались вопросы
о государственном устройстве, которые подняты были еще Фенело-
ном. Беспомощное колебание, отражавшееся в событиях, побужда-
ло все более глубокие умы к установлению ясных и сознательных
принципов и целей. Все соглашались в необходимости ограничения
королевской власти.
На первом плане стоит любезный и мечтательный аббат де Сен-
Пьер, характер которого лучше всего обозначается тем, что он
104
изобрел для французского языка слово «bienfaisance»1. Первым
сочинением, которым произвел впечатление аббат де Сен-Пьер,
был «Discours sur la Polysynodie ou р1ига1кё des conseils», написан-
ный, как говорит предисловие, еще при Людовике XIV, но издан-
ный только в 1718, при регенте. Клеймя названием визирьской
или полувизирьской власти неограниченное самовластие, смотря
по тому, исполняется ли оно одним королем или главным мини-
стром, или же несколькими всемогущими министрами вместе, эта
книга составляет научное доказательство и защиту тех разделенных
министерских советов, учрежденных регентом в начале его правле-
ния, между которыми распределены были отдельные части адми-
нистрации и которых мнения и советы король рассматривал перед
своим решением. Особенное значение приобрела эта книга тем,
что Сен-Пьер не нашел другого средства сделать более доказатель-
ной необходимость своих предложений, как раскрывши все наси-
лия и весь вред, принесенные отечеству Людовиком XIV. Хотя за это
его исключили 28 апреля 1718 из французской академии, но он уси-
лил эти нападения, именно в Annates historiques (напечатано по его
смерти в 1758), которые все еще составляют важнейший историче-
ский источник для 1658—1739 годов. Во всех последующих сочине-
ниях он даже еще определеннее, чем прежде, указывал на тягостные
явления общественного порядка, — в «Мёптопе pour l^tablissement
de la tache proportionelle» (1717) на несправедливости существую-
щего распределения налогов, — в «Projet pour rendre les dues et pairs
utiles» на вред наследственного дворянства и продажных должно-
стей. Его постоянной целью и стремлением было сделать Францию
спокойной и могущественной посредством свободного и правиль-
ного государственного устройства, и сделать ее цветущей и бога-
той посредством возвышения торговли и земледелия, — по образцу
Англии, к которой он обнаруживает живейшее удивление. Этого
мало, он старается уже разбить национальные рамки, и в «Projet de
Henri le Grand pour rendre la paix регрёшеПе, ёсШга par M. 1’аЬЬё
de Saint-Pierre» (три тома 1713—1717) мечтает о целом всемир-
ном союзе, в котором отдельные государства должны решать свои
несогласия путем общественного третейского суда. Точно также
и в церковных вопросах он настаивает не только на уничтожении
безбрачия, монашества и строгого соблюдения праздников воскре-
сения и постов, но и на смягчении догмата вообще; «кротости
и справедливости, — говорит он, — довольно, чтоб угодить Богу».
Современники смеялись отчасти над этими широкими планами.
Кардинал Дюбуа свысока отозвался о них, как о «reves d’un homme
de bien»2; Сен-Симон говорит о нем: «И avait de I’esprit, des lettres
1 Благотворительность (фр.). —Прим. изд.
2 Мечты добропорядочного человека (фр.). —Прим. изд.
105
et des chimeres»1; даже Вольтер называет Сен-Пьера однажды «ип
homme тошё philosophe тошё fou»2; даже Руссо, который предпри-
нял издать удобное извлечение из сочинений аббата с критическим
прибавлением, но под конец ограничился обработкой «Polysynodie»
и «Projet de paix регрёшеПе» (ср. его письмо от 5 декабря 1759), го-
ворит о нем только условную, колеблющуюся похвалу. И сам Сен-
Пьер, конечно, ослабил их впечатление сухостью и растянутостью
своего изложения и своенравной вычурностью своего особенного
правописания. Но, несмотря на все это, Гердер в одушевленном вос-
поминании, которое он посвятил ему в своих «Humanitatsbriefe»,
справедливо мог сказать о Сен-Пьере, что «своими сочинениями,
которые при появлении их немногие прочитали, многие не читав-
ши осмеивали, другие нелепо опровергали, которых очевиднейшая
справедливость даже навлекла ему неприятности, — этими своими
сочинениями он сделал впоследствии больше добра, чем многие
блестящие писатели того времени, изгнавшие его из академии».
Сен-Пьер родился 18 февраля 1658 в замке Сен-Пьер-Эглиз, неда-
леко от Гарфлера в Нормандии; он умер восьмидесяти пятилетним
стариком в Париже 29 апреля 1743 года.
Самостоятельное участие всех образованных людей в благе
и бедствиях государства становилось все более и более глубоким
и всеобщим.
Маркиз д’Аржансон рассказывает в своих мемуарах (Paris 1859,
I, 91, 102 и след.) об одном клубе, в который он вступил в 1724,
но который образовался еще за несколько лет раньше. Этот клуб
есть весьма замечательное свидетельство о вновь пробудившейся
политической жизни. Членами его были почтенные ученые, как
в особенности Сен-Пьер, и старые опытные государственные люди,
которые отчасти заведовали весьма важными управлениями и по-
сольствами; лорд Болингброк и Гораций Уолпол находились с ним
в самой тесной связи. Клуб собирался каждую субботу после обеда,
от пяти до восьми часов, у своего председателя, аббата Алари, ко-
торый жил на Вандомской площади в антресоли дворца президен-
та Эно; поэтому клуб назывался обыкновенно Le Club de I’Entresol.
В клубе говорили о газетах, которые получались отовсюду; обсуж-
дали текущие события внутренней и внешней политики; каждый
обрабатывал известные ветви политической и исторической нау-
ки, и об этих работах начинались часто самые оживленные толки.
Влияние этого клуба на общественное мнение было значительно;
когда в 1726 после отречения герцога Бурбонского союз с Англией
находился в опасности, Гораций Уолпол, тогдашний английский по-
сланник во Франции, прежде всего старался приобрести расположе-
1 У него есть ум, язык и химеры (нереалистичные идеи) (фр.). —Прим. изд.
2 Человек наполовину философ, наполовину сумасшедший (фр.). — Прим. изд.
106
ние этого клуба. Нет поэтому ничего удивительного, что кардинал
Флёри закрыл его в 1731.
Таким образом Сен-Пьер не только не был одинок в политиче-
ской литературе, но вскоре нашлись и более молодые ревнители,
которые, исходя от его возбуждений, были еще сильнее и решитель-
нее и большим знанием дела дали больше силы своим требованиям.
Замечательнее всех между ними маркиз дАржансон (Rene Louis
de Voyer, marquis d’Argensori).
Он родился 18 октября 1694 в Париже; как старший сын могу-
щественного канцлера д’Аржансона, он уже рано достиг высоких
государственных должностей; в 1720—1724 он был интендантом
в Геннегау. Но школа государственной службы только сделала его
более проницательным.
Книга его «Consicterations sur le gouvernement ancien et present
de la France» крайне характеристична для определения духа вре-
мени. Она относится к 1739 году, хотя первый план ее и был уже
предметом обсуждений в упомянутом клубе. Она оставалась сна-
чала в рукописи, как и почти все важнейшие произведения это-
го времени распространялись первоначально только в рукописи.
В 1764 она была напечатана в Амстердаме у Марка-Мишеля Рея,
но с большими ошибками; лучшее издание вышло в 1784, но и оно
испорчено его сыном, который старался сколько возможно сгладить
все резкости и угловатости. Собственноручный список, приготов-
ленный для печати, находится в Луврской библиотеке, где хранятся
бумаги д’Аржансона, в особенности его драгоценные мемуары (те-
перь вполне изданные Rathery для 5ос1ёгё pour 1’histoire de France,
1889 и след., в 9 томах). Он носит заглавие «Jusques ой 1а Эётосгайе
pent etre admise dans le Gouvernement monarchique» (cp. Sainte-Beuve,
Causeries du Lundi XII, 151) и эпиграф из «Британника»:
Que dans le cours d’un regne florissant
Rome soit toujours libre et Cesartout-puissant.
Эта книга, имевшая некогда сильное влияние, чрезвычайно харак-
терна для возрастающей оппозиции. Она уже не довольствуется
совещательными советами; напротив того, как говорит сам д’Ар-
жансон в своих записках, скорее желает уничтожить границу, по-
ставленную дворянством между народом и королем, усилить и ут-
вердить королевскую власть освобождением и усилением народа.
Она в особенности направлена против идей Буленвилье.
Голландия и Швейцария были тогда самыми свободными госу-
дарствами в свете, и как д’Аржансон узнал по собственному наблю-
дению, они были вместе с тем и самыми счастливыми и богатыми.
А Франция? Д’Аржансон, совершенно согласно с картиной Вобана,
называет ее всеобщей богадельней и больницей, подкрашенной
107
могилой, наружный блеск которой плохо прикрывает внутреннюю
гниль. Где же корень зла? Виновата, по его, мнению не королевская
власть сама по себе, а притязательность дворянства, которое тяго-
теет над страной, как жадное сатрапство. В этом дворянстве имеют
своего общего врага и король, и народ. Народ не может поправиться
до тех пор, пока у дворянства остается власть безнаказанно его вы-
сасывать; и король будет силен и могуществен только тогда, когда
будет иметь за собой могущественный и зажиточный народ. Победа
над этим дворянством будет возможна только тогда, когда решатся
поднять народ до свободной самодеятельности и самоуправления.
«Какая идея, — восклицает с одушевлением автор, — может быть
прекраснее идеи республики, покровительствуемой королем? Ре-
спублика сама по себе не имеет головы; неограниченное королев-
ство скоро останется без рук, потому что одностороннее преобла-
дание головы ослабляет». Отсюда исходят следующие требования:
«введение или восстановление самостоятельных провинциальных
конституций; уничтожение продажи должностей; отмена сборщи-
ков податей, казначеев и генеральных откупщиков, — каждая про-
винция должна сама вносить королевские подати; ни дворянство
и никакое другое звание не освобождает от налогов; провинциаль-
ные собрания составляются из свободных выборов; никто не имеет
в этих собраниях преимущества сословного, только большее владе-
ние дает большие права; точно так же ни одна провинция не имеет
предпочтения перед другой, мера взносов определяется по населе-
нию и по доходу, приносимому торговлей и земледелием». На со-
брания сословий (etats generaux) д’Аржансон смотрит, напротив, ре-
шительно неблагосклонно, потому что они производили бы только
один раздор и несогласие.
Руссо, имевший в руках еще не изданную тогда рукопись д’Ар-
жансона, в своем Contrat social (кн. 3, гл. 8) хвалит в д’Аржансоне
сердце истинного гражданина (Ze coeur d’un vrai citoyen), здравые
и чисто народные стремления. Когда эта рукопись была напечатана
в первый раз без имени автора, Руссо даже долгое время считался ее
автором. Мирабо старший в своем Ami des hommes (1756) очевидно
также воспользовался рукописью «Consic^rations» д’Аржансона.
В ноябре 1744 д’Аржансон получил министерство иностранных
дел, но уже в феврале 1747 он лишился этого министерства. Паде-
ние постигло его так скоро потому, что д’Аржансон и как государ-
ственный человек преследовал планы, которые хотя самым блестя-
щим образом свидетельствуют о великодушии его характера, но для
мелочной политики национального самолюбия до сих пор кажутся
вредным мечтательством. Вольтер, старый друг молодости д’Аржан-
сона, напоминает в письме к герцогу Ришелье от 5 февраля 1757, что
д’Аржансон управлял французским министерством в смысле млад-
шего государственного секретаря Платоновой республики. Между
108
прочим для нашего времени крайне замечательно то, что д’Аржан-
сон обращал величайшее внимание на итальянские смуты, и что
лучшим средством для успокоения их казался ему свободный союз
государств по образцу Швейцарии и Нидерландов, или по крайней
мере по образцу немецкой империи.
После отставки д’Аржансон жил отчасти в Париже, отчасти
в своем поместье в Сегре, близ Арпажона. И прежде, и теперь осо-
бенное внимание посвящал он английской литературе, которая,
по его словам, привлекала его своим великим и здоровым смыслом.
Но всего глубже его интересовала политика: с каждым днем он ста-
новился все решительнее и прогрессивнее в своих народных нача-
лах. Когда в июне 1756 он прочел Code de la nature Морелле, который
настаивает на совершенном изменении отношений собственности,
он назвал его книгой книг и ставил Морелле гораздо выше Монте-
скьё. Не менее радостно приветствовал он «Discours sur ГтёдаИгё»,
хотя сам писал на тему Дижонской академии и видел в Руссо более
счастливого победителя. Он думал написать большое сочинение
«Les Loix de la 8ос1ёгё en leur ordre naturel», которое должно было
быть изложением естественного права, измеряя существующий по-
рядок вещей масштабом вечных человеческих прав. Но смерть по-
мешала исполнению этого плана. Д’Аржансон умер 26 января 1757.
У него было много противников, но никто не сомневался в чистоте
его стремлений. Лучшее слово сказал о д’Аржансоне Вольтер: он на-
звал его Аристидом.
Если мы будем рассматривать даже одну первую деятельность
д’Аржансона, его «Соп81бёгаНоп8», то уже здесь выдвигается твер-
дой целью стремление времени к ограничению королевской власти
и дворянских привилегий посредством конституции и ровного рас-
пределения податей.
Стремления Фенелона и Массильона возвращаются снова, но бо-
лее ясно и сознательно переработанные. Это благородные и благо-
мыслящие люди, великодушные друзья человечества, защищающие
дело народа.
Набегающие волны будут приливать тем грознее, чем насиль-
ственнее будут теперь оттеснять их. Если ближайшее будущее про-
извело не только Монтескьё, но и Руссо, и даже начала социализ-
ма, — виной этого было упрямое коснение в старине.
2. Мопертюи
В Англии религиозная свобода мысли главным образом имела
свое начало в Ньютоне и Локке.
Во Франции движения свободной мысли, которые начинаются
уже при Людовике XIV и поразительно развиваются при регентстве
и при министерстве Флёри, заимствуют свою научную основу и до-
казательность также от Ньютона и Локка.
109
Между тем как главное сочинение Локка под заглавием «Essai
philosophique concernant 1’entendement humain» было переведе-
но уже в 1700, первый перевод Ньютона приходится уже во вре-
мя регентства. Новые идеи возбудили всеобщее внимание. Ле-
монте рассказывает в истории Регентства (ч. 2, стр. 476), что уже
в 1723 воззрения Ньютона на природу были защищаемы и поддер-
жаны в публичной диспутации в College Louis le Grand. В 1727 вы-
шло «Eloge de Newton» Фонтенеля; оно хотя и все еще вполне стоит,
на точке зрения картезианской философии, которой Фонтенель был
счастливым представителем, но несмотря на то исполнено уваже-
ния к великому противнику. Но, собственно говоря, решительный
поворот в пользу Ньютона сделан был Мопертюи, и этим подвигом
Мопертюи навсегда обеспечил себе имя первого предшественника
нового философского движения во Франции.
Пьер Луи де Мопертюи родился 17 июля 1698 в Сен-Мало. Сна-
чала он посвятил себя военной службе, но потом исключительно
занялся математикой и уже в 1723 принят был в академию наук.
Наклонность к воззрениям Ньютона привела его 1728 в Англию, где
он также принят был тотчас в члены Королевского Общества наук.
Все его первые сочинения посвящены научному объяснению и за-
щите Ньютона. Всего важнее между ними его мемуары, представ-
ленные академии в 1732, «Sur les Lois de I’attraction» и «Discours sur
la figure des astres»; в особенности это последнее сочинение приоб-
рело тем большее значение, что оно решительно восстало на ошиб-
ки картезианского учения о природе, которое, определяя сущность
тел единственно протяжением, не умело иначе объяснить движения
земли и всей планетной системы, как предположением, что все про-
странство неба, наполненное планетами, вертится в круге, центр
которого есть солнце, наподобие водоворотов, случающихся иногда
в реках. Спор возбудил самое живое участие, и все тотчас почув-
ствовали, что доказать систему Ньютона было бы делом огромной
важности не только для разъяснения понятий, но и для торговли
и мореплавания. Поэтому кардинал Флёри решился для исследова-
ния одного из удивительнейших положений Ньютона, именно для
исследования утверждаемого им сплющения земного шара на обо-
их полюсах, снарядить две ученые экспедиции. В 1736 ла Конда-
мин с несколькими надежными естествоиспытателями послан был
в Перу, Мопертюи с другими в то же время — в Лапландию. Спра-
ведливость учения Ньютона была подтверждена самым точным из-
мерением градусов. Победа Ньютона была решительная, — потому
что наглядные факты действуют на умы людей сильнее и убедитель-
нее всяких остроумных заключений и выводов мысли.
С тех пор Мопертюи приобрел всеобщую славу. Знамени-
тый автор «Векфильдского священника», Голдсмит, писал тогда
(Miscellaneous Works 4, стр. 130): «Мопертюи первый доставил ан-
110
глийским философам удивление Европы. Появилось учение Ньюто-
на и метафизика Локка; в Англии их усвоили, поняли, удивлялись
им, но на материке было иначе. Фонтенель, дававший тогда тон
в науке, не хотел признать их, потому что всю свою жизнь потра-
тил на ошибочную философию; так как и он присоединял свой го-
лос ко всеобщему невниманию, новые английские учения остава-
лись почти совершенно неизвестны. Но Мопертюи изучал их. Он
полагал, что можно опровергать естественно-исторические мнения
и несмотря на то остаться хорошим гражданином. Он защищал ан-
гличан, он писал в их пользу и наконец обнаружил истину. Сочине-
ния Мопертюи распространили везде славу его учителя Ньютона,
и от учителя часть этой славы упала на ученика». Фридрих Великий
следовал только общему голосу, когда письменно обращался к нему
в 1740, как к первому из живших тогда ученых, чтобы приобрести
его для организовавшейся тогда берлинской академии, а в 1746 на-
значил его президентом этой академии.
Мопертюи сознавал, какие неизбежные следствия вырастали
из этого основания для религиозных воззрений. Он написал «Essai
de cosmologie» (Берлин, 1750). Отвергая доказательства бытия Бо-
жия, основанные на чудотворении Бога и также на познании бо-
жественных конечных целей, эта книга основывает доказательство
бытия Божия исключительно на том, что движение мира материи
должно иметь причину в двигателе, и притом в двигателе всемогу-
щем и мудром, так как из ученого наблюдения природы оказывает-
ся неопровержимо, что в экономии природы для каждой цели всег-
да употребляются только самые малые средства, — закон, который
Мопертюи назвал «1а loi de la moindre quantite»1. Он написал также
и «Essai de philosophic morale» (Берлин, 1749); здесь он полагает му-
дрость жизни в достижении счастья, а это счастье — в ощущении,
и исполнении всеобщей любви к Богу и ближнему, которой учит
христианство. Как прежде он шел по следам Ньютона, как теперь
идет по следам Локка.
Но слава Мопертюи завяла рано. Рядом с ним встал более могу-
чий боец, защищавший те же идеи. Вольтер уже в 1733 показал себя
в своих «Английских письмах» ревностным приверженцем Ньютона,
и хотя потом он снова обращался к поэзии, но несмотря на то ни-
когда не забывал этого изучения. В особенности живо он занялся им
в замке Сирей вместе с своей ученой подругой, маркизой дю Шатле;
им помогал сам Мопертюи, который также прожил несколько време-
ни в Сирее. В 1738 Вольтер издал свои «Etements de la philosophic de
Newton»; они ясно, живо и остроумно развивали то, чтб Мопертюи
развивал сухо и строго научно. Он уже издавна был очень самолю-
1 Закон наименьшего количества (т. е. закон наименьшего действия) (фр.). —
Прим. изд.
111
бив; Гримм рассказывает в «Литературной Переписке» (декабрь
1766), что его безмерное славолюбие шло так далеко, что он во всем
разыгрывал оригинала и обращал на себя внимание на гуляньях
и в публичных местах своей пестрой и особенной одеждой. Это мел-
кое тщеславие стало еще раздражительнее, когда он увидел, что его
звезда падает. Когда его прежний друг, профессор Кёниг в Франекере
(в Голландии), стал оспаривать мнимую новость его закона о малей-
шем действии, указывая на то, что Лейбниц высказывал уже нечто по-
добное, то Мопертюи исключил его из членов берлинской академии
(1752). И как писатель, он старался заменить недостаток серьезных
трудов странностями. В своих небольших философских Essais, назван-
ных Lettres, он позволяет себе фантастические выдумки в таких пред-
метах, которыми он не мог владеть научно. Так, в последнем из этих
Lettres, под названием «Sur les progres des sciences», он совершенно
серьезно предлагал прорыть дыру до самого центра земли, чтобы ис-
следовать ее внутренние свойства. Для пользы психологии он хотел
даже раскрывать черепа нескольких патагонов и преступников. Воль-
тер, живший тогда также при дворе Фридриха Великого, смертельно
поссорился с Мопертюи; эти тщеславные люди оба отталкивали друг
друга. Вольтер написал против него несколько уничтожающих сатир,
в которых он сделал из этих странностей карикатурный сборник,
и от этого смешного память Мопертюи терпит и до сих пор. Это пора-
жение стоило жизни и без того слабому и болезненному Мопертюи.
Он умер в Базеле 27 июля 1759 на дороге во Францию.
Как бы то ни было, толчок был дан. Все ученое развитие вертится
с тех пор на Ньютоне и Локке.
Понятно, какая задача поставлена мышлению и исследованию
на этой основе. Когда вечное и законно действующее движение
признано неизменным свойством самого телесного мира материи,
то представляется вопрос: происходит ли это движение от высшей
силы, стоящей над этим миром материи и вне его, или оно заклю-
чено в самой материи вечным и собственным свободным могуще-
ством. Последователь первого мнения есть деист, последователь
второго — материалист.
Оба направления находят во Франции самых ревностных привер-
женцев. Оба, хотя и горячо спорили одно против другого, имеют
свой общий корень в Ньютоне.
Глава третья
Общественные противоречия в искусстве и в поэзии
1. Поэзия. Прево. Кребильон младший. Грессе.
Мариво. Детуш. Нивелль де Лашоссе
Об искусстве вообще можно сказать то же, чтб Гамлет говорит
об актерах, что они составляют зеркало и сокращенную хронику века.
112
Внутреннее взаимодействие между искусством и жизнью редко
проявлялось так поразительно, как в том внезапном повороте, ко-
торый приняла французская поэзия во времена регентства и мини-
стерства Флёри. Та гордая исключительность, которой отличалась
придворная: литература Людовика XIV, теперь ослабевает; поэзия
укрепляется и в низших слоях обыкновенной жизни. Буржуазия,
которая прежде допускалась только ради того, чтобы быть подня-
той на смех придворным обществом, сражается за право равенства
в области поэтических сюжетов и достигает этого права. Вместе
с сюжетами расширяются и узкие формы традиционного классициз-
ма. Больше и больше выказывается стремление к обыденной жизни
и безусловной естественности.
В высокой трагедии некоторое значение имеет один Вольтер;
но и он пишет и формирует свои трагедии в совершенно ином духе.
Трагическая сцена, служившая некогда в Корнеле и Расине са-
мым действительным прославлением королевской власти и цер-
ковного верования, становится для Вольтера кафедрой, с которой
он возвещает свое религиозное и политическое свободомыслие.
Подле него, и отчасти через его посредство, появляются уже и но-
вые направления, в которых людям проницательным становится
ясно, что самая глубокая трагика может заключаться не только
в сердце героев и королей, но и в сердце каждого человека без раз-
личия сословий.
Живая деятельность начинается в романе и комедии. По целому
характеру своему эти роды поэзии всего доступнее верному изобра-
жению жизни и нравов; и здесь они имели за собой еще и ту выгоду,
что они меньше, чем трагика, были стеснены крепко укоренивши-
мися преданиями старого классицизма.
До сих пор в своих внешних заимствованиях французская поэзия
всегда обращалась только к Италии и Испании. Англия стояла да-
леко. Еще в 1700 году аббат Дюбо справедливо мог сказать в своем
путешествии в Англию, что если некоторые и обращались иногда
в виде исключения к Англии, они делали это не как «перебежчики»,
но как «лазутчики», и притом такие лазутчики, которые порядочно
презирали врага. Но теперь французская поэзия с теми же побужде-
ниями внутреннего сродства увлекается к английским образцам.
В особенности влекло ее к той народной литературе, которая вы-
росла после победы гражданской свободы во времена Вильгельма
и королевы Анны, т. е. к нравственным еженедельным изданиям
Аддисона, к комедиям Сиббера и Стила, к романам Свифта и Дефо,
к начаткам буржуазной трагедии Джоржа Лилло и Эдварда Мура.
Эти сочинения переводились, им начинали подражать. И как Мо-
пертюи, Вольтер и Монтескьё, пробудившие новое научное на-
правление, так и поэты, Прево и Детуш, отправляются в Англию
и знакомятся там с замечательнейшими ее писателями. Английское
из
возбуждение видно везде, оно только своеобразно видоизменяется
по французскому характеру и по уцелевшим еще основаниям и ус-
ловиям принятых воззрений и манеры французского классицизма.
Этот переворот — естественное следствие переворота политиче-
ского и общественного. Франция не есть уже исключительно один
двор; начинает шевелиться и народ в своих различных слоях и со-
словиях. Поэтому противоположности и борьба времени отражают-
ся в этих романах и комедиях с самой осязательной ясностью. Если
смысл всего бурного брожения времен регентства сводится главным
образом на то, что дворянство дичает и приходит в упадок и что,
напротив, возвышается до важного значения деятельное среднее
сословие, то это двойное направление совершенно таким же обра-
зом выступает и в поэтических картинах времени и нравов. Одно
из этих направлений изображает легкомысленную жизнь высшего
общества, другое — борьбу и запутанности, радости и глупости воз-
вышающегося среднего сословия.
Первое направление обозначается в особенности аббатом Прево,
младшим Кребильоном и Грессе; второе — Мариво, Детушем и Ни-
веллем де Лашоссе. Светские поэты смелее и живее и потому ос-
лепительнее; буржуазные более связаны и поучительны. Но на деле
эти последние теснее срослись с передовым движением времени;
они завоевывают новое поле и производят на ход поэтического раз-
вития глубокое и прочное влияние.
Мы обратимся сначала к рассмотрению первой названной груп-
пы. Если картина вовсе неутешительна, в этом виновато время.
Впереди стоит аббат Прево. Он родился 1 апреля 1697 в Эдене
в Артуа и был сыном одного почтенного чиновника. Жизнь его
была разнообразная и полная приключений. Сначала воспитан-
ник иезуитов, потом солдат, затем бенедиктинец (1721—1728), он
скоро опять бежал из монастыря и странствовал в Голландии и Ан-
глии; с 1735, вернувшись во Францию, священник у принца Конти,
что впрочем не избавило его от стесненных материальных обстоя-
тельств; затем опять беглец на некоторое время. Рассказ о том, что
23 ноября 1763 он умер около Шантильи1 под ножом неискусного
деревенского врача, который, приняв апоплексию за смерть, начал
анатомировать его и умертвил его своей операцией, — это есть пре-
дание, неизвестное современным некрологам.
Прево был одним из деятельнейших посредников между фран-
цузской и английской литературой. В 1733—1740 гг. он издавал
журнал «Le Pour et le Contre, ouvrage periodique d’un gout nouveau»
(Paris, Didot, 20 томов), который подобно своему образцу, англий-
скому «Зрителю», распространялся в привлекательной болтовне
о всех отраслях человеческого знания, занимал и поучал читателя
1 Современный вариант написаний «Шантийи». — Прим. изд.
114
множеством занимательных анекдотов, очерков и картин; свои-
ми же подробными разборами английских поэтов и писателей, как
Рочестер, Уичерли, Савадж, извлечениями из Шекспира, переводом
«Марка Антония» Драйдена (т. VII, стр. 122 и далее) и комедии «The
conscious lovers» Стила (т. VIII, стр. 108 и след.) и постоянными ука-
заниями на новые английские явления он старался побудить испол-
ненных предрассудками французов к более справедливому понима-
нию иностранцев и расширить свой литературный горизонт. Прево
первый также переводил впоследствии мещанские романы Ричард-
сона, и в 1755 принял на себя главную редакцию в «Journal etranger».
Следствия этого не замедлили оказаться на его собственном автор-
стве. Конечно, в большей части всех своих романов Прево отли-
чается только многописанием «Мёшойез et Aventures d’un homme
de quaint» (6 томов; первые четыре вышли в 1728 и 1729 гг. в Па-
риже, два последние — в 1731 в Амстердаме), «Le Doyen de Killerine,
histoire morale» (1735—1739, 3 тома), «Philosophe anglois ou Histoire
de Mr. Cteveland, fils naturel de Cromwell» (1731 и след., 8 томов),
в своем изображении бурных похождений и крайних ужасов не идут
дальше чисто внешней занимательности; даже вставленные в них
картины борьбы английских партий, англиканских фанатиков и ир-
ландских католиков, — напоминающая Руссо картина счастливого
идиллического государства протестантских эмигрантов на непри-
ступном острове близь Св. Елены, не могли спасти этих романов
от забвения1. Но там, где Прево остается самим собой, где он пи-
шет кровью своего сердца, там он создает решительный прогресс
в истории французской поэзии. Если натянутая холодная галанте-
рейность в романах д’Юрфе и девицы Скюдери потеряла уже вся-
кую занимательность при совершенно изменившемся настроении
и новых отношениях, и если даже Лесаж пользуется маской чужих
обычаев и характеров в изображении ближайшей обстановки и на-
стоящего, — то Прево, напротив, наученный и подкрепленный
своими английскими образцами, прямо и беспристрастно вступа-
ет в область собственно французской мысли и жизни и дает такое
смелое и свежее изображение этой французской действительности,
что от него можно было бы ожидать чего-нибудь вполне совершен-
ного, если бы только сама эта действительность не была так гнус-
на и внутренне гнила. Таково историческое значение его лучшего
произведения «Histoire du Chevalies des Grieux et de Manon Lescaut»,
которая вышла в первый раз в Амстердаме 1731, как седьмой том
Memoires et aventures d’un homme de qualite, и затем до настоящего
1 Библиография сочинений Прево представляет особенные трудности, потому
что он с самого начала располагал свои романы так, что они по желанию могли
быть продолжены дальше в случае, если публика принимала их благосклонно, и он,
блуждая за границей, в этих продолжениях часто менял издателей и место печата-
ния, и между тем и воровское печатание овладевало прежними томами.
115
времени повторена была в бесчисленном множестве изданий. Это
история одного молодого человека из знатной фамилии, который
увлечен непреодолимой страстью к милой и веселой, но легкомыс-
ленной гризетке, не покидает своей возлюбленной, несмотря на за-
ключение и нищету, и наконец следует за ней в изгнание в Америку,
где его возлюбленная умирает. Естественность, теплота и увлека-
тельное чистосердечие этого рассказа глубоко поразительны; чи-
татель чувствует в каждой строке, что в основе лежит болезненно
пережитое; в этом отношении роман можно сравнить только с пре-
красным Томом Джонсом Филдинга. Успех был огромный. В Герма-
нии И. X. Брандес переделал этот сюжет, отчасти под руководством
Лессинга, в пятиактную трагедию «Кораблекрушение». Во Франции
этот роман до сих пор считается недосягаемым мастерским про-
изведением. Жорж Санд подражала ему в Leone Leoni; Александр
Дюма в своей Dame aux Camelias прославлял новейшую Манон
и в 1875 написал к роскошному изданию рассказа Прево смелую
апологию этого литературного рода и апологию героини, что произ-
вело очень неприятное впечатление; и даже серьезные критики, как
Сент-Бёв (Portraits liter. Paris 1844,1, стр. 265 и след., Cans, du Lundi
9, стр. 122) и Вильмен в одиннадцатой лекции своей истории ли-
тературы, не находят ему достаточных похвал. Но, несмотря на эти
великие и неоспоримые достоинства, общее впечатление тяжело
и неприятно. Любовники не только впадают в непростительное лег-
комыслие, они впадают в порок и преступление. Чтобы найти себе
новые средства для своей непреодолимой жажды к наслаждению,
Манон продает себя богатым развратникам, а шевалье делается
фальшивым игроком. Размышление, которым де Гриё оправдывает
свою преступную испорченность, — что большая часть его сооте-
чественников пускается на такие же бесчестные проделки, — дает
роману еще более резкий колорит; это размышление не уничтожа-
ет старой истины, что дурное и безнравственное никогда не может
быть художественным.
Еще полнее и бесстыднее отражается эта испорченность в Кре-
бильоне. Скандалезность его романов вошла в пословицу. Лучший
его роман «Les ёgarerпens du coeur et de I’esprit» (1736), история
молодого человека, в первый раз вступающего в свет и попадаю-
щего в школу к женщинам, отличается такой остроумной тонко-
стью и живостью наблюдения и рисовки, что нельзя не пожалеть,
что эти красоты растрачены на такие грязные предметы. Но у нас
кружится голова от софистики сердца, которая принимает эту без-
донную испорченность за нечто естественное, понятное само собой
и необходимое. Остальные рассказы Кребильона, например, хоть
«1’Ecumoire» (1734, направленный отчасти против Мариво), «La Nuit
et le Moment» (1755), «Le Hasard du coin du fen» (1763), «Ah quel
conte» (1764) и даже столь знаменитая «Le Sopha» (1745), в настоя-
116
щее время скучны и невыносимы для образованного читателя, хотя
также во многих подробностях представляют самую тонкую миниа-
тюрную работу. Как свежо и невинно действует здоровая жесткость
наивной полноты сил, так отвратительно действует наглость полу-
закрытого самодовольного порока.
Наконец мы упомянем еще Жана-Батиста-Луи Грессе, того чисто
французского поэта, который в небольшом, написанном стихами,
рассказе о Вер-Вере (Vert-Vert ои les voyages du perroquet de Nevers,
1735, после того как уже в 1734 вышло три издания, не разрешен-
ные автором) описывает нам приключения попугая, воспитанно-
го в женском монастыре, но потом одичавшего в грубом обществе
матросов, — описывает с такой увлекательной грацией и лукав-
ством, какие удаются только в остроумной болтовне француза.
В менее невинной комедии «Ье МёсЬат» (1747), он изображает то,
чтб он с горестью признает за esprit du siecle1 в столичном обще-
стве гпёсЬапсегё2, представители которой жестокую забаву травли
и злословия окружают ореолом философского превосходства. Герой
этой пьесы зол от скуки и для препровождения времени; он интри-
ган из разочарованного тщеславия. Ключ к этой пьесе заключается
в замечании, которое высказывает по поводу ее благородный д’Ар-
жансон (ср. Сент-Бёв, Caus. du Lundi 12, стр. 130) в следующих сло-
вах: «Люди, которых мы называем теперь при дворе и в обществе
умными людьми, большей частью покупают себе эту славу злостью
и предательством, так что уподобляются обезьянам или чертям, ко-
торые находят свое удовольствие только во вреде другим; и если
у них остается еще немного прямодушия и откровенности, то они
употребляют их только на то, чтобы хвастаться своей собственной
негодностью». Легкомысленные песенки, «розё1е8 fugitives», «petits
vers» Лафара и Шольё, Жана-Батиста Руссо и Вольтера были люби-
мой и повсеместной монетой того же чекана.
Все эти произведения не имеют никакого художественного зна-
чения, но имеют — если можно так выразиться — значение патоло-
гическое; это истории болезни. Мы не можем лучше закончить их,
как словами, сказанными Юлианом Шмидтом в его истории фран-
цузской литературы (Лейпц. 1858, 1, стр. 22) о Манон Леско: «Поэт
не заслуживает никакого упрека, он изображает верно и глубоко
подмеченный процесс природы; но то, что произвол сердца подавил
все нравственные силы, есть роковой знак для французского обще-
ства, которое восхищалось этой книгой».
К счастью, не было недостатка в более здоровых противодейство-
вавших стремлениях, которым впрочем отчасти послужили и сами
названные писатели: Прево переводит Ричардсона; Грессе обличает
1 Дух века (фр.). — Прим. изд.
2 Озлобленность (фр.). —Прим. изд.
117
ту злость, которая выдает себя за остроумие; он учит, что le veritable
esprit marche avec la bonte1, и заявляет: «Mon estime commence toujours
par le coeur»2. Таким образом он подает руку деятелям и представи-
телям более умеренной и здоровой буржуазии.
Основателями этого нового и лучшего направления стали Мари-
во (Marivaux, 1688—1763) и Детуш (Destouches, 1680—1754).
Мариво — ум вовсе не глубокий и не оригинальный; его
врожденная наклонность к длинноте и напыщенности вызва-
ла даже насмешливую кличку — marivaudage. Тем не менее он
начинает совершенно новый тон. Мариво также исходит из ан-
глийского влияния. Его журнал «Le Spectateur fran^ais», который
он пытался продолжать в 1728 и 1734 под другими названиями,
в самом заглавии является подражанием английскому образцу;
и лучшие статьи его — «Пути честолюбия», «Мучения скупости»,
«Вероломство и трусость друзей», «Неблагодарность детей и не-
справедливость отцов», «Бесстыдство богачей», «Тирания покро-
вителей» — обнаруживают этот нравоучительный характер еще
определеннее. Но Мариво не был только простым подражателем.
Ему неотъемлемо принадлежит слава того, что он раньше са-
мих англичан развил и расширил те плодотворные начала, кото-
рые заключались в появлении английских еженедельников. Еще
за целые десять лет до Ричардсоновой «Памелы» он написал свой
роман «La vie de Marianne», 1731—1741 гг., в одиннадцати выпу-
сках, и в 1735 г. другой роман «Le paysan parvenu». Оба романа,
к сожалению, неконченные, стремятся прославить победу твердой
добродетели над всеми внешними искушениями и опасностями;
они длинны и натянуты подобно всем нравоучительным романам,
но полны благих намерений и, как положительно указывают не-
которые разговоры в Paysan parvenu, представляют сознательной
противодействие легкомыслию Кребильона. Тому же направлению
следуют и его комедии, из которых La Surprise de I’Amour (1722),
Lejeu de I’amour et du hasard (1730), Decole des meres (1732), La Mere
confidente (1735), Le Legs (1736), Les fausses confidences (1737),
L’Epreuve (1740) до сих пор удержались на сцене. Из драматиче-
ских писателей XVII и XVIII века, его пьесы занимают третье место
в нынешнем репертуаре Theatre Frangais; он примыкает к Мольеру
и Расину и стоит впереди Корнеля и Бомаршё. Характерная чер-
та этих пьес заключается в том, что они, без назойливой нраво-
учительной тенденции, представляют общество современных са-
лонов, moeurs mondaines3, с их лучшей стороны, когда в основном
интересе подвергают тонкому микроскопическому анализу лож-
1 Истинный разум идет вместе с добротой (фр.). — Прим. изд.
2 Мое уважение всегда начинается с сердца (фр.). — Прим. изд.
3 Мирские нравы (фр.). —Прим. изд.
118
ную любовь (или лучше: galanterie1). Если д’Аламбер (Сочин., 3,
стр. 584) и Лессинг (Lachm. 7, стр. 80) жалуются на их однообразие
и невероятности, — то в этом вполне соглашаются все знатоки;
и сам Мариво высказывает, как постоянную черту всех своих пьес,
что в них господствует — то любовь, которая неизвестна обоим
любящим, то любовь, которую они чувствуют и взаимно скрывают
друг от друга, то боязливая любовь, которая не решается объяс-
ниться, то, наконец, неопределенная и нерешительная любовь,
которая робко подслушивает свои свежие порывы. Но при этом
не надобно забывать, что именно этот главнейший недостаток,
слишком изысканный и утонченный анализ страсти, имеет свое
существенное основание в том, что человек возвращается теперь
к самому себе и находит судьбу не только во внешних обстоятель-
ствах, но и в собственной совести.
Следуя направлению, представленному в его романах, он про-
бовал себя и в драматизировании трогательных происшествий.
Его Mere confidente и существующая только в отрывке Femme fidele
(1755) суть то, что Вольтер (письмо к Вилетту, июнь 1765) называет
les drames bourgeois du neologue Marivaux2: полукомические, полусе-
рьезные очерки вопросов семейной жизни в форме разговоров.
Тем временем это более серьезное направление комики вступило
на сцену: его основал Детуш.
Филипп Нерико Детуш родился около 1680 в Туре, если верить
свидетельству д’Аламбера, прожил разнообразную юность отчасти
солдатом в войне за испанское наследство, отчасти странствующим
актером. Затем обратил на него внимание Пюизьё, французский по-
сланник в Швейцарии, и сделал его своим секретарем. В 1717 Де-
туш принимал участие в дипломатическом посольстве будущего
кардинала Дюбуа в Англию, но и после возвращения его оставал-
ся до 1723 в Англии, самостоятельным поверенным в делах. В это
время Детуш приобрел самое основательное знание английской
литературы. Он был не только в тесной дружбе с Аддисоном, ко-
торый был тогда младшим государственным секретарем и которого
комедию «Барабанщик» он перевел; но все его предисловия с осо-
бенным предпочтением указывают на Драйдена, Конгрива и Стила;
Шекспира он никогда не цитирует и, по-видимому, его не знал.
В его драматических трудах надо различать два периода: вре-
мя до и после его пребывания в Англии. Если уже в произведе-
ниях своей молодости, как в Curieux impertinent (из Дон Кихота I,
гл. 33 и далее), в Ingrat (1712, подражание Тартюфу), Irresolu (1713)
и Medisant (1715), он вполне посвятил себя комедии характеров
по образцу Мольера, — то позднее, над влиянием тогдашней англий-
1 Галантность (фр.). —Прим. изд.
2 Буржуазные драмы неолога Мариво (фр.). — Прим. изд.
119
ской комедии этого направления, он все сильнее настаивает на на-
меренно-поучительном и нравственно-трогательном. «Мольер, —
говорит Детуш в предисловии к “Glorieux”, (1732), — справедливо
называется несравненным и неподражаемым; было бы дерзостью
вздумать идти по его следам; поэтому я с своей стороны попробо-
вал новую дорогу, чтобы очистить сцену от фривольных выходок,
от разврата остроумия, от двусмысленностей и пошлой игры слов,
от низких и дурных нравов; комедия кажется мне достойной уваже-
ния только тогда, когда она смеясь улучшает нравы, бичует порок
и ставит добродетель в подобающем свете». В этом смысле написа-
ны его позднейшие пьесы; это верные действительности картины
нравов с патетически высказанной преднамеренной трогательно-
стью содержания; но при этом слезы должны проливаться только
в виде исключения. Le philosophe marie ои le mari honteux de Petre
(1727), Le Glorieux (1732), Le Dissipateur (1736) и другие комедии
того же рода везде находили живейший отголосок, и в Германии че-
рез переводы и подражания Готтшеда, X. Ф. Вейсе и Готтера надолго
стали любимыми пьесами. Лессинг в Драматургии говорит о мно-
гих из них с самым явным одобрением, хотя уже он указывает в них
недостаток настоящей комической жилки. Нельзя не заметить, да,
кроме того, положительно подтверждается историческим предани-
ем, что основной сатирический мотив всегда исходил из собствен-
ных наблюдений и опыта автора. Превосходную картину времени
представляет особенно «Glorieux», в высшей степени забавное осме-
яние обедневшего аристократа, который, для поправления обстоя-
тельств, хочет жениться на дочери богатого выскочки, но при этом
еще более хвастается своими титулами и предками. Эта насмешка
тем многозначительнее в устах нашего поэта, что он разделял ан-
глийские убеждения о государственной важности прочной аристо-
кратии и в одной из своих пьес, «La Force du Naturel», даже прослав-
лял дворянство, как прямо божественное учреждение.
Серьезный трогательный элемент, введенный Детушем в Мо-
льеровскую комедию, был, выработан дальше и возведен в глав-
ную сущность пьесы Нивеллем де Лашоссе (Nivelle de la Chaussee,
1692—1754), которого Детуш называет своим учителем. Правда,
в его образе жизни ему недостает серьезности Детуша; это распут-
ный человек из времен регентства. Его Contes не менее шаловливы,
чем сказки его образца Лафонтена; его Parades — фарсы, остроумие
которых главным образом вертится на неприличностях, а письма,
которые в 1720 он посылает из Амстердама своим парижским дру-
зьям, возбуждают отвращение своей грязью. С сороковыми годами
этот холостяк обращается к комедии во вкусе Детуша, чтобы поу-
чать со сцены своих современников о семейном чувстве и добро-
детели, проповедовать святость и ненарушимость брака. Он при-
надлежит к довольно многочисленному классу писателей, которых
120
литературные теории стоят в противоречии с их характером. Его
драмы проистекают не из сердца, а выдают расчет ума. Им недоста-
ет также и поэзии.
Уже в первой его пьесе «La fausse Antipathie», данной в первый
раз 12 октября 1733 г., изображаются двое супругов, которые тот-
час после свадьбы разлучены были всякого рода насилиями; после
очень долгого времени они видятся снова, не узнавая один другого;
они чувствуют самую горячую склонность друг к другу; затем они
узнают себя взаимно, и Леонора высказывает в конце свое глубокое
чувство: «О sort trop ГогШпё, c’est mon ёроих que j’aime!»1. — Затем
«Le Prejt^ a la Mode», данная в первый раз 3 февраля 1735 г. Герой
этой пьесы — муж, который страстно любил свою жену и несмотря
на то страшно мучит ее, потому что из предрассудка не хочет пока-
заться смешным, если бы он обнаружил эту любовь перед светом;
но наконец его естественное чувство берет верх.
Здесь комика, которая еще преобладает у Детуша, является уже
только, между прочим, как hors d’oeuvre2; в следующих пьесах Ла-
шоссё она исчезает совсем перед патетическо-трогательным эле-
ментом. Самой знаменитой его пьесой была «Меланида» (1741);
по словам Лессинга, она исторгала у чувствительных душ потоки
слез, и она также основывается на соединении двух разлученных
супругов. Французская комедия неожиданно поворотила на дорогу
нравственных романов Ричардсона. Когда Лашоссе в 1743 г. пере-
делал для сцены Ричардсонову «Памелу», это было совершенно по-
следовательно.
Вольтер рассказывает (изд. Moland XVII, 419), что знаменитая
актриса т-11е Кино видела в 1732 г. на одном театре любителей
представление небольшой трогательной семейной картины, и она
так на нее подействовала, что Кино поручила сначала Вольтеру,
а когда он отказался, то начинавшему тогда Нивеллю де Лашоссе
исполнить подобную картину в большем объеме. Но это значит
сводить всемирно-исторические явления на мелкие анекдотиче-
ские причины. Это нововведение было естественным и необходи-
мым следствием великого общественного переворота. Если уже
Корнель в предисловии к Don Sanche (1650), и особенно в комедиях
его молодости «Мё1йе», «La Place royale», «La Veuve», указывал на то,
что страдания и бедствия одинаковых с нами людей трогают нас
глубже, чем далекие судьбы героев и царей, — то теперь, с возвы-
шением буржуазии, это убеждение становится еще яснее. Лашоссе
доканчивает то, что уже начато и приготовлено было по тому же
стремлению времени Мариво и Детушем. Теперь, как выражается
Гёте в тринадцатой книге «Поэзии и Правды», симпатичному на-
1 Судьба слишком милосердна, это мой муж, которого я люблю (фр.). —Прим. изд.
2 Закуска (фр.). —Прим. изд.
121
блюдению подвергаются средние и низшие классы. А что за дело
этим классам до богов и героев высшей трагедии? что им Гекуба?
Таким образом комедия совершенно изменила свой характер.
Она стала трогательной пьесой, семейной картиной, с ясно сознан-
ной целью нравственного действия и исправления. Лашоссе был
еще очень далек от этой пошлой изнеженности и назидательности,
которая впоследствии так досадно портила немецкие подражания;
но и здесь уже исчезает всякий след веселости и юмора. Внутренняя
связь с буржуазной трагедией англичан очевидна, но канон фран-
цузской трагедии, исключавший из нее буржуазный мир, мешал по-
вернуть развязку на трагический тон. Француз исходил не из траге-
дии, а из комедии.
Это нововведение произвело чрезвычайно сильное впечатление
на весь образованный мир. Господствовавшая теория не имела для
него приличного названия, да и не желала вообще тотчас дать ему
безусловное право.
Мы можем достаточно познакомиться с ходом этого дела по тем
извлечениям из современных журналов, которые издатель Нивелля
де Лашоссе собрал в предисловии к первому тому (Paris, 1762) в за-
щиту помещенных в нем комедий. Другой весьма любопытный об-
зор этих споров сделал Лессинг, переведши в Театральной Библи-
отеке французскую статью Шассирона «Reflexions sur le comique
larmoyant» (1749) и академическое рассуждение Геллерта pro
comoedia commovente и прибавив к этим переводам свои собствен-
ные примечания (Lachm., 4, стр. 109, след.).
Лашоссе называл свои пьесы «сотёсНе»; он полагал, что может
сослаться при этом на «Haute СотёсИе» Мольера, именно на Мизан-
тропа, который действительно имеет трагический основной коло-
рит. Французская теория, для более точного различения, изобрела
название «СотёсНе larmoyante», которое, по мнению Лессинга, для
приверженцев ее могла означать «трогательную», а для против-
ников «плаксивую» комедию. Другие, как Дидро (1757), выбрали
позднее название «Tragedie bourgeoise», чтобы по сходству содержа-
ния поставить этот поэтический род ближе к буржуазной трагедии
англичан. Это название принято было всего меньше; оно слишком
резко сталкивалось со старой традицией, которая связывала тра-
гическое достоинство исключительно с придворными свойствами
трагических героев. Наконец, особенно через Бомарше, утверди-
лось общее родовое название «Drame», как, например, уже Дидро
(1758) употреблял выражение «Drame domestique», а в 1765 Воль-
тер говорил уже о «drames bourgeois du neologne Marivaux». Это имя
осталось везде и до сих пор.
Мы должны понимать это явление просто как исторический факт
или, лучше сказать, как историческую необходимость. Самое дей-
ствительное развитие нашло оно в Дидро и с тех пор распространи-
122
лось по всем литературам. Этот род искусства везде будет находить
любопытных зрителей, и порядочные писатели, у которых нет долж-
ной силы ни для трагической серьезности, ни для комической весе-
лости, также будут предпочтительно обращаться к таким драмати-
ческим картинам нравов. Но в художественном отношении этот род
искусства тем не менее останется на втором плане, потому именно,
что здесь становятся слишком опасными подводными камнями или
пошлая плаксивость, или слишком дагерротипная обыденность.
Оттого так легко стареют эти пьесы. Мариво, Детуш, Лашоссе, ко-
торым некогда так много удивлялись, принадлежат теперь только
истории, а не живой сцене.
Но при всем том здесь есть и глубокое предчувствие прав-
ды. Драматическое изображение может входить во все страдания
и бедствия обыкновенной буржуазной жизни и все-таки остаться
при этом на самой чистой высоте комики и трагики. Нужно только,
чтобы за эти сюжеты взялся истинный гений. Сама по себе верная
и глубокая мысль драматического изображения средних классов
не нашла художественного осуществления ни в плаксивой комедии
французов, ни в нравоучительной трагедии Лилло. Лессинг вышел
из тех же возбуждений и настроений; но он совершил прочные ху-
дожественные произведения — из того, чтб у них не пошло даль-
ше неопределенных колеблющихся начинаний. Художественным
завершением этих здоровых, но неясных стремлений были «Минна
фон Барнхельм» и «Эмилия Галотти».
2. Искусство. Куапель, Сюблейра, Парросель.
Ватто и его школа. Ван Лоо. Буше. Шарден
Период регентства и Людовика XV известен в истории искусства,
как время крайнего упадка. Чем может быть искусство в эпоху, ко-
торая потеряла веру и благочестие и еще не имела просвещения
в истинно человеческом образовании? Но как ни манерно это ис-
кусство, оно все еще наивно и естественно и обладает такой тех-
нической ловкостью, которая умеет дать характерное выражение
даже самой странной прихоти. Оно все-таки отражает нравы и об-
раз мыслей своего времени так верно и живо, что в своем роде оно
действует даже монументальнее, чем многие другие направления
искусства, далеко превосходящие его в чистой красоте. Поэтому,
если церковный элемент искусства, который уже и при Людови-
ке XIV проявлялся только с отвратительно театральным характером,
теперь почти совершенно исчезает или, где еще берутся за него, те-
ряет и последние остатки внутренней возвышенности, — это явле-
ние имеет глубокий смысл: искусство обращается к действительной
жизни. И как в поэзии, так и в искусстве резко выразилась проти-
воположность развращенной знати и простой буржуазии, хотя, ко-
нечно, по самой своей природе эти искусства, больше чем поэзия
123
рассчитывающие на внешнее благоволение, дают гораздо больше
места влиянию аристократическому, чем влиянию буржуазному.
Спесь, испорченность, легкомыслие, напудренность французско-
го маркиза отражается на всех постройках и скульптурных произ-
ведениях и также на большинстве картин, принадлежащих этому
времени.
В особенности надо сказать это об архитектуре. При Людови-
ке XIV она стремилась больше всего, к могущественному, массивно-
му, пышному; во времена регентства еще сохранился вкус к полноте
и богатству, но уже не из холодной любви к великолепию, а из же-
лания удобства и роскошного наслаждения. Теперь нравятся уже
не пышные, парадные залы, a «petites maisons», будуары, где идет
остроумная болтовня за ужином в маленьком обществе, влюбленная
шутка, кокетливый каприз и наслажденье, роскошное легкомыслие
и ухаживание, и где все это чувствует себя свободнее и уютнее. Про-
стые и крупные формы, чистое и ясное действие масс, твердые про-
тивоположности опор и тяжестей исчезают, все сводится к мягкому,
роскошному и расплывающемуся. Теперь избегают суровости и тя-
жести; прямые линии и углы исчезают в формах круглых, волни-
стых и обточенных. Все сильные линии и поверхности перерывают-
ся выдающимися или уходящими назад уступами, произвольными
и потому странно поражающими пилястрами, окнами и сводами.
Основная форма маскируется и подавляется наружными украше-
ниями из пестрых и вычурных арабесков с растениями и зверями.
Нигде не видно практической необходимости и характеристики
здания по его внутренней цели; везде только прихоть и странный
вкус гениальной личности, которая и ненарушимые законы меха-
ники и статики втягивает в смелое опьянение своего собственного
легкомыслия. Стиль «барокко», образовавшийся через постепенное
искажение итальянского «возрождения», достиг здесь своих край-
них пределов. Есть много прелести в этой непосредственной и су-
етливой живости, но эта живость — распущенная, без выдержки
и меры, без цели и правды; это живость кокетливого разочарования
и изысканности, гениальность каприза. Серьезность архитектуры
изгнана в пользу игривой легкости декоратора, который привык
к мягкой податливости стука и даже наружные поверхности трак-
тует в стиле красивеньких мелочей своей комнатной декорации.
Оппенорд, Жюст-Орель Мейссонье, Жан-Батист Леру всего более
содействовали установлению этих новых форм.
Эти странные, вычурные, но уютные формы, для которых впо-
следствии выдумали столь же странное название «рококо», нахо-
дят самое изящное и своеобразное свое развитие в небольших уве-
селительных замках, в малом Трианоне и в отеле Шуази, в домах
Сен-Жерменского предместья, в потсдамском Сан-Суси, в дрезден-
ском Цвингере и множестве других построек этого рода, которые
124
вполне проникнуты утонченной аристократической изнеженно-
стью и кокетством.
Это направление оказало решительное влияние и на так называ-
емые мелкие искусства. Еще доныне наша мебель, формы посуды,
золотые и серебряные изделия большей частью напоминают ро-
коко. Здесь нет никакого внимания к соразмерности твердых ар-
хитектурных линий; но формы, если удается удалить чрезмерную
изысканность, имеют то неоспоримое преимущество, что они при-
ятны, удобны и веселы. Той же изнеженностью отличается пласти-
ка. Формы становятся все произвольнее и распущеннее, все круглее
и волнистее. Искусство начинают считать в том, чтобы как можно
больше преодолеть жесткость камня и меди; натуралистическая
наклонность к живописному и театральному, беспрепятственно
усиливавшаяся вслед за вредными попытками Бернини, доходит
до самых невыносимых преувеличений. Свежесть и решительность,
с которыми прославленный герой является в статуях в модном ко-
стюме рококо, привлекательны свой исторической верностью, ко-
торая живо передает нам характер того времени и его обстановку;
но кто знает, чтб такое искусство и в особенности что такое пласти-
ческий стиль, того отталкивает голый аллегорический хлам аксес-
суаров и страшная манерность форм. Всего охотнее эта пластика
занимается декоративной стороной. Как средство украшения садов
и зданий, она большей частью имеет очень большое и тонко рассчи-
танное живописное и архитектурное действие, но, конечно, оттого
она становится еще фантастичнее и произвольнее в формах, еще
чувственнее и наглее в мотивах. Кто не знает этих амуров и граций,
в самых разнообразных видах и повторениях, эти любимые группы
Панов с козлиными ногами, которые с жадным сластолюбием обни-
мают стройных, соблазнительно мягких нимф? И кому незнакомы
все эти изображения похищений, спрятанные в тихих боскетах под-
ле мечтательно журчащего источника, покрытого зеленой кровлей
деревьев, — и соблазняющие посетителя на такие же шалости. Все
это завершается наконец теми маленькими безделушками, которые
вошли в моду вместе с введением фарфора и которые окончатель-
но уничтожали всякое чувство человеческой красоты, сводя его
на безвкусную игру китайскими и японскими карикатурами.
То же самое и в живописи, — по крайней мере в ее замечатель-
нейших художниках.
Широкого исторического стиля нет совершенно. Антуан Куапелъ
(1661—1722), принадлежащий еще временам Людовика XIV, и Пьер
Сюблейра (1699—1749) единственные замечательные исторические
живописцы. Знаменитейшие картины первого — «Суд Соломона»
и «Изгнание Аталии из храма» (в Лувре), второго — «Омовение ног
Христа Магдалиной за столом Симона Фарисея», «Пробуждение
мертвого ребенка св. Бенедиктом» и «Благословение императора
125
Феодосия св. Амвросием» (все три в Лувре). В манере, и именно
в колорите и в пристрастии к блестящим одеждам нельзя не видеть
влияния Паоло Веронезе; оба живописца не лишены даже извест-
ного понимания возвышенности и драматизма; но характеристи-
ка — внешняя и преувеличенная, расположение — разбросанное
и лишенное единства. То же самое надобно сказать и о Шарле Пар-
роселе (1688—1752), который, оставив библейские сюжеты, обра-
щается к самой непосредственной действительности батальной
живописи. Он ловко группирует массы, точен в портретах главных
действующих лиц, большей частью превосходно рисует лошадей,
но и он театрален и бьет на эффекты. Опыты Ватто, Шарля ван Лоо
и Буше в изображениях святых, ясно показывают, что эти живо-
писцы первоначально рисовали оперные декорации. О последнем
из них в особенности можно сказать то, что Шиллер говорит в своих
«Мыслях о вульгарном и низком в искусстве»: «Есть картины из свя-
щенной истории, где апостолы, Богоматерь и Христос имеют такое
выражение, как будто бы они взяты были из самой низкой черни;
все такие картины доказывают низкий вкус, который дает нам пра-
во заключать о грубых и вульгарных взглядах самого художника».
Зато много свежести и жизни в жанре. Когда в Луврскую галерею
хотели всунуть несколько голландских жанров, Людовик XIV с пре-
зрением сказал: «Qu’on m’ote ces magots la»1; теперь жанр сделался
любимой живописью времени. Высший свет желает, чтобы его изо-
бражали с его изяществом и великолепием.
Начало этих изящных модных картинок можно относить уже
к любимым картинам Минъяра. Какие сладенькие улыбки, какие
томные и полные любви взгляды! Изнеженная грация рисунка, ро-
зовый колорит, отчетливое как в миниатюре исполнение, которым
еще благоприятствовала более и более входившая в употребление
пастель, — эти качества возбуждали такое удивление, что если мар-
киз д’Аржансон ставил Миньяра рядом с Корреджо, он высказывал
только общее увлечение тогдашней публики.
Но настоящим основателем французской салонной живописи
и вместе самым тонким и наиболее умеренным представителем ее
был Антуан Ватто. Он родился 1684 г. в Валансьене; в 1702, буду-
чи восемнадцати лет, поступил в парижскую оперу декоративным
живописцем, но скоро обнаружил ту поразительную самостоятель-
ность и оригинальность, которые быстро сделали его значитель-
ным и лучшим живописцем своего времени. Он отличался самой
удивительной легкостью творчества: хотя он умер уже в 1720 г.,
только тридцати семи лет от роду, известно множество несомнен-
но ему принадлежащих картин. Большие исторические картины
ему не удаются; и его опыты изображений святых, и та натянутая
1 Чтобы убрали этих обезьян отсюда (фр.). — Прим. изд.
126
картина церемоний, где Людовик XIV надевает орденскую лен-
ту на принца в колыбели, и даже находящаяся в Лувре картина
«L’embarquement pour Pile de Cythere», холодны и неудачны. Зато он
достигает в своем роде совершенства в тех изящных маленьких кар-
тинах, форму и содержание которых метко характеризовала фран-
цузская академия, когда сделала Ватто своим членом под титулом
«peintre des fetes galantes»1. Ватто — живописец сельской жизни знат-
ного общества, живописец des amusements champetres2. Он не дости-
гает страсти и здоровой жизни подобных картин Рубенса, который
очевидно был его образцом; но в этих нежных, изящных, тонких
и стройных образах, в их увлечении нежным взором и беззаботным
наслаждением, в их кокетливых, но живописных костюмах и дви-
жениях — несмотря на всю изысканность — много живописной
прелести, много лукавой грации, даже наивности. Фон картины со-
ставляют широкие тенистые аллеи с тихими уголками, роскошны-
ми статуями, с бьющими фонтанами и зелеными лужайками; и си-
неватый воздух полон сладострастным очарованием заката жаркого
летнего солнца.
Конечно, здесь близка была опасность — извращения вкуса. Уже
ближайшие его последователи, Ланкре и Патер, холодны, искус-
ственны и потому неприятны. Ланкре в особенности в своих китай-
ских фигурах вносит много чувственной грубости, а Патер уже ри-
сует, например, г-жу Бувильон из «Roman comique» Скаррона (ч. II,
гл. 10), которая заставляет актера Ле Дестэна, «pour tenter le destin»3,
ловить у нее блоху4. Еще дальше идет Шарль ван Лоо (1705—1765).
В каком смысле задумывает он даже библейские сюжеты, всего
менее двусмысленно объясняется картиной, где Сара приводит
прекрасную Агарь своему мужу Аврааму. Агарь является полуобна-
женной, как зазывающая женщина, Сара восхваляет ее прелести,
а старый патриарх, как восточный сластолюбец, многозначитель-
но указывает пальцем на мягкое ложе. Таковы и одиннадцать кар-
тин, которые ван Лоо нарисовал в замке Ступиниджи, близ Турина,
из Освобожденного Иерусалима Тасса и из охоты Дианы. В особен-
ности знаменита была некогда нарисованная в 1730 г. сцена туалета
восточной красавицы, которая застегивает на ноге золотую пряж-
ку. Вкус был уже так испорчен, что находили недобросовестными
1 Художник галантных праздников (фр.). —Прим. изд.
2 Деревенских (в смысле возвышенно пасторальных, усадебных) развлечений
(фр.). —Прим. изд.
3 Испытывать судьбу (фр.). —Прим. изд.
4 Патер сделал одиннадцать иллюстраций к «Roman comique», которые по силе
комизма почти не уступают замыслам писателя. Упоминаемая здесь картина при-
надлежит к этим иллюстрациям и таким образом основана на внушении Скаррона.
В связи с этим можно указать еще другие, самостоятельные, произведения Патера,
например, «Conversation dans un pare» или «Baigneuse» (обе в Лувре, Coll La Caze).
127
тех, кто сравнивал ван Лоо только с Тицианом или Рубенсом; боль-
шинство полагало, что своей грацией он превосходит даже Рафаэ-
ля. Чтобы сколько-нибудь уронить эту утвердившуюся славу, нужна
была та война, которую начал Дидро в «Салоне» 1765 (напечатано
только в 1795) против последних картин ван Лоо, против его Су-
санны, его граций и против аллегорического изображения искусств.
Тем не менее ван Лоо все еще не был самый худший. Верх одича-
ния есть Франсуа Буше.
Он родился 19 сентября 1703 г. в Париже, начал свое творчество
двадцатилетним юношей и господствовал в течение почти двух по-
колений; он умер 30 мая 1770. Как ловкий энциклопедист искус-
ства, он берется за все: он рисует, пишет картины, гравирует, он
делает картины для обоев, модели для фарфоровых фигурок или
модели изящных украшений к часам и каминам для Севрской фа-
брики, делает проекты ваз и фонтанов; все в том же вычурном пыш-
ном вкусе. Он и есть собственно мастер вкуса рококо; он —premier
peintre du Roi, directeur de lAcademie et des Gobelins1; знатный свет
от него в восторге и называет его живописцем кокетливой грации.
Он писал только одни крайне скандалезные вещи; в своих формах
и красках он так далек от всякого чувства и природы, что его Ма-
донны, как и его Венеры, все те же роскошные балетные нимфы.
Дидро в «Салоне» 1765 г. высказал о Буше уничтожающее сужде-
ние. Он ставит ему в упрек эту фантазию, — фантазию человека,
который всю свою жизнь провел между последними развратными
женщинами, и этот вкус, никогда не знавший истины. «У него слиш-
ком много мелочной игры мин, манерности и аффектации; везде
только румяна, мушки, мишура и всякие туалетные тонкости: он
никогда не проникает внутрь природы, все его произведения невы-
носимо бьют в глаза. Не думайте вовсе, чтобы он был в своем роде
тем, чем был Кребильон младший в своем. Конечно, они изобража-
ют одни и те же нравы; но писатель имеет совсем другой талант,
чем живописец» (изд. Аззёга^ X, 257).
Собиратели картин, гравюр и рисунков знают, к своему сожа-
лению, как до сих пор еще дорого ценятся эти картины и рисунки
Буше и школы Ватто. Разочарованная знать не понимает уже про-
стой и великой естественности настоящего искусства.
Тем любопытнее, что и здесь оказалось также противодействие.
Почтенная буржуазия с своими более чистыми нравами, с более
глубокой жизнью сердца также искала и находила свое выражение
в живописи. Сначала это шло медленно и ограничивалось отдель-
ными примерами, но впоследствии новый вкус стал брать верх.
Начатки этого вкуса мы видим уже в самой школе Ватто. Ланкрё
рисует картинки к Детушу, где истинный смысл писателя нашел
1 Первый художник короля, директор Академии и Гобелин (название мануфак-
туры) (фр.). —Прим. изд.
128
грациозное и верное выражение. Но настоящим основателем этого
направления был Шарден.
Жан-Батист-Симеон Шарден родился в Париже в 1699 г. и умер
там же в 1779. Его небольшие, беспритязательные, состоящие
только из немногих фигур картины преимущественно изображают
чисто буржуазную скромную домашнюю жизнь. В противополож-
ность к Ватто, который был peintre des fetes galantes, французы на-
зывают Шардена peintre des amusements de la vie privee1. Мы видим
в них, как мать радостно выслушивает молитвы от своей маленькой
дочери, как мать завивает своего ребенка, как прачка прилежно за-
нимается своей работой, а ее маленький сын занимается в то же
время мыльными пузырями, как хозяйка заботливо записывает свои
хозяйственные покупки, как мать учит детей говорить заобеденную
молитву, и другие сюжеты подобного рода. Эти изображения так
искренно прочувствованы, так красноречивы по выражению, так
теплы и верны по колориту, так привлекательны по своему изящно-
му и умному выполнению, что Шарден в самом деле приближается
к лучшим из голландских мастеров. Он часто возвышается до шут-
ливого юмора. Его «Обезьяна-антикварий», находящаяся с 1852 г.
в Луврской галерее, напоминает рисунки к Рейнеке-Лису Каульбаха.
Стремления Мариво, Детуша и Нивелля де Лашоссе находят
в Шардене свое соответственное отражение и дополнение. Но живо-
писец выдержаннее, чем поэты. Он свободен от той нравоучитель-
ной примеси, которая мешает всякому настоящему наслаждению.
Непонятно, каким образом превосходные рисунки Шардена одно
время могли быть совершенно забыты. Они снова начинают нахо-
дить должную оценку только в новейшее время.
Несколько лет спустя милый Грёз довел это направление; до пол-
ной его красоты.
Но Грёз, так же, как и его поэтический друг и товарищ по убе-
ждениям — Дидро, принадлежит уже к следующему периоду.
1 Художник привилегированных развлечений (0р.).—Прим. изд.
Книга вторая
Цветущее время
французской литературы
просвещения
Введение
Французская литература при Людовике XV
То, что медленно, но постоянно подготовлялось в последние годы
Людовика XIV и в регентство, в половине XVIII столетия пришло
к полному взрыву. С 1748 г. появились важнейшие произведения
Вольтера, Монтескьё, Дидро, Руссо. Везде обнаруживались новые
идеи, новые надежды, новое движение.
Фонтенель, принадлежавший еще иному порядку идей, уже сто-
летним стариком с горестью говаривал, что всего больше пугает его
та уверенность, с которой теперь каждый выставляет и утверждает
свое собственное мнение. Этим резко и ясно определяется противо-
положность двух периодов. В блестящее время Людовика XIV лите-
ратура была в полнейшем согласии с существовавшим положением
церкви и государства, она была одушевленным панегириком и про-
славлением господствовавшего счастья; теперь сущность ее заключа-
ется в критике, обличении и отрицании. Литература перестает быть
своей собственной целью, мирно заключенной в самой себе; она
воинственна, она обращается к массам и основывает неизвестную
до тех пор силу решающего общественного мнения. Поэзия скром-
но отступает назад перед широкими завоеваниями науки или сама
охотно служит ей; но наука стремится к тому, чтобы сделать свои
учения и взгляды непосредственным основанием церкви, государ-
ства и общества, определяющим началом всей деятельной жизни.
Один из достойнейших бойцов этого движения, д’Аламбер, назы-
вает эту эпоху литературы в сравнении с великим блестящим време-
нем Людовика XIV — после-августовской; и это название, конечно,
справедливо, если иметь в виду только поэзию и искусство, чисто-
ту внешнего изображения, мерное спокойствие и красоту. Но зато
эта новая литература превосходит старую большей глубиной содер-
жания и большим объемом и силой действия. Она вызывает такой
общий и глубокий переворот в умах, что наше нынешнее положе-
ние большей частью есть только ее результат. Корнель и Расин —
явления, вполне законченные, навсегда оставшиеся позади нас, яв-
ления чисто исторические; но Вольтер, Монтескьё, Дидро и Руссо
еще живо захватывают наше время. Мы уважаем или отвергаем их,
смотря по различным церковным и политическим воззрениям пар-
тий, которых мы держимся.
133
Эти обличения и отрицания никогда не приобрели бы такого
быстрого и сильного влияния, если бы они не были необходимым
и имеющим свое внутреннее право результатом господствовавших
зол и запутанностей. Но тот гнет, который в предыдущие десятиле-
тия вызвал первые попытки общественного сопротивления, теперь
не только не уничтожился, но еще день ото дня возрастал. Тяжелое
расстройство церкви и государства тяготело над всеми умами. Цер-
ковь отнимала у человека неотвратимые требования мыслящего
сознания, государство — присущие человеческой природе и необ-
ходимые права — свободы бытия и деятельности.
Вольтер, в «Essai sur les Moeurs» (глава 139; т. XII, стр. 346 в из-
дании Moland), заметил, что во Франции в начале восемнадцато-
го столетия было больше монастырей, чем в самой Италии. Чис-
ло монахов и монахинь простиралось до девяноста тысяч. К этому
присоединялось еще полтораста тысяч белого духовенства. Темное
суеверие, тупое невежество господствовало во всем низшем клас-
се населения. На кафедрах и в исповедальнях держал свою пропо-
ведь самый ужасный дух преследования. Кристоф де Бомон, новый
архиепископ парижский, отказывал в св. тайнах даже умираю-
щим, если они не признавали положительно буллы Unigenitus или,
по крайней мере, не исповедовались у правоверного священника.
Немногих уцелевших протестантов преследовали и заподозривали
еще хуже, чем янсенистов, их изгоняли и лишали покровительства
законов. Не было ли совершенно естественно, что парламенты,
уже давно благоприятствовавшие более свободному янсенизму,
начали теперь ожесточенную борьбу против этих насильственных
и жестоких превышений духовной власти? — и что против этих
неподвижных и тупых клерикалов еще сильнее, чем парламенты,
восставало то более и более расцветавшее образование, которое
мужественно и ревностно вырастало из учений и взглядов Бейля,
Ньютона, Локка и других английских свободных мыслителей, кото-
рое призывало людей к разумному знанию и свободному исследова-
нию, ко взаимной любви и терпимости? Нельзя было представить
себе пропасти глубже и обрывистее. Там — старое католическое
предание с своими притязаниями быть единственной и исключи-
тельной истиной; здесь — взгляды, отвергавшие не только католи-
цизм, но в нем и вместе с ним, христианство и всякое откровение,
не признававшие никаких оснований и никакой руководящей ис-
тины, кроме самодеятельности и внутренней последовательности
человеческого мышления, выходящего от предметов чувственно-
го мира. В этой борьбе началось и усилилось свободномыслящее
направление. Декартовское учение о природе было окончательно
опровергнуто и вытеснено. Заменившие его английские влияния
не только принимались все более и более охотно и, при всеобщем
распространении французского языка, расходились по всему свету,
134
но даже перерабатывались и самостоятельно: они то развивались
и уяснялись, то обезображивались и толковались навыворот, смо-
тря по тому, насколько была искусна обрабатывавшая рука. Эти
французские просветители и свободные мыслители, принявшие
почетное имя философов, взялись за дело в самом смелом смысле.
Они вовсе не желали оставаться угнетенными и преследуемыми
еретиками, которых на хороший случай только терпят или остав-
ляют без внимания; эта eglise philosophique1 также хотела быть цер-
ковью воинствующей и завоевывающей. Теперь предстояла реши-
тельная борьба на жизнь и смерть. Философия просвещения с своей
стороны стремилась сделаться всемирной религией, чем именно
хвалился католицизм.
В развитии этой французской философии просвещения ясно мож-
но отличить три эпохи. Первая есть эпоха перешедшего из Англии
деизма. Ее основатель и главнейший представитель есть Вольтер;
она восстает против откровения и церкви, но твердо держится лич-
ного Бога и личного бессмертия. Вторая — эпоха открытого и ре-
шительного материализма. Глава этого направления — Дидро и его
ближайшие последователи; от «Энциклопедии», которая была пред-
принята Дидро и была их центром и сборным пунктом, они назы-
ваются обыкновенно энциклопедистами. Жизнь природы, по взгля-
дам их, не происходит от супернатурального создания и хранения,
а покоится в самой себе, на исконном собственном законе; теоло-
гия и метафизика становятся у них естествознанием. Но, конечно,
это направление, по недостатку основательных исследований и по-
ложительных фактов, часто вырождается в произвольные догадки
и фантастические крайности. Третья эпоха есть восстание внутрен-
него чувства, не удовлетворенного этими материалистскими взгля-
дами, идеализм сердца, который не хочет отказываться от своих
прав перед стесняющим его господством разума, — возвращение
к Богу и бессмертию, если не на основании откровения и церков-
ной веры, то, по крайней мере, на основании присущей человеку
жизни чувства. Эта эпоха обозначается именем Руссо; она находит
далекий отголосок особенно в немецких философах чувства, в Гама-
не, Гердере, Якоби. Все эти три направления и эпохи чрезвычайно
ясно понимают свои внутренние контрасты и уклонения и нередко
страстно враждуют одно против другого; но относительно господ-
ствующей церкви они преследуют те же общие цели, ведут ту же
истребительную войну. Вот причина, почему, при всем глубоком их
различии, критики этих эпох большей частью смешивают их в одно
и меряют их по одному масштабу.
Одинаковое зло, одинаковые противоположности и результаты
находятся в брожении и в государстве, и в обществе.
1 Философская церковь (фр.). —Прим. изд.
135
Токвиль представил весьма наглядную картину этого положения
как в своей «Histoire philosophique de Louis XV» (Paris 1846), так осо-
бенно в своей прекрасной книге «L’Ancien Regime et la Revolution»
(Paris 1856). Всего вреднее действовало строгое отделение и себялю-
бие сословных отношений. За исключением самых низших слоев
народа, в обществе был один и тот же средний уровень образова-
ния, то же воспитание и образ жизни, те же привычки и наклонно-
сти; богатство было столько же, если не больше, в руках зажиточ-
ной буржуазии, как и в руках сильно упавшего теперь дворянства.
И при всем том внешние перегородки между ними не только
не упали, но стали даже еще резче. Чем больше дворянство пере-
ставало быть настоящей аристократией, тем спесивее оно держа-
лось отдельной кастой, если сущность касты состоит в том, чтобы,
определяться исключительно одним рождением. При Людовике XIV
для буржуа было легче сделаться офицером, чем при Людовике XV
и Людовике XVI. Ненавистнейшая из всех привилегий, привилегия
свободы от податей, с пятнадцатого века до самой французской
революции для дворянства постоянно увеличивалась. Дворянство
раздавалось очень щедро, потому что правительство находило это
хорошим финансовым средством, — считалось не меньше четы-
рех тысяч должностей, с которыми непосредственно соединялось
дворянство; но эти пожалования дворянства вовсе не расшатыва-
ли касты, не смешивали ее постепенно и медленно с буржуазией,
а только размножали касту, и это размножение, по своему вредному
влиянию на распределение податей, было тем тяжелее и оскорби-
тельнее для других классов народа. Буржуа с своей стороны начи-
нает стремиться к той же исключительности. Он хлопочет о новых
преимуществах, как дворянство хлопочет о сохранении старых. Го-
родские должности, зависящие не от свободного выбора общин или
от королевского назначения, но большей частью покупаемые — для
наполнения государственной казны — в потомственное владение,
находятся в руках немногих богатых фамилий, которые всегда уме-
ют распределить подати и налоги так, что они приходятся только
на долю бедняков. Свободная рабочая сила была ограничена стро-
жайшим цеховым гнетом; кто по рождению или через брак не осво-
бождался от затруднительных и дорогих формальностей, предпи-
санных для получения права мастера, тот почти неизбежно должен
был осудить себя на пожизненную работу у других (ср. Histoire
de la Rёvolution franchise par Louis Blanc. Paris 1847, 1, 482 и далее).
Сельское население было поставлено еще хуже. По свидетельству
англичанина Артура Юнга, знаменитейшего сельского хозяина
того времени, две трети земли принадлежали большим землевла-
дельцам, отчасти дворянству и духовенству, отчасти разным ведом-
ствам и денежным людям; только остальная треть была во владе-
нии мелких собственников. Большие именья всего чаще отдавались
136
в аренду за страшно высокую цену — половину валового дохода,
между тем как в то же самое время в Англии четверть валового до-
хода считалась уже крайней арендной платой; а мелкие владения
в некоторых провинциях, именно в Лоррени и в Шампани, были
разбиты на слишком мелкие части, так что они не приносили даже
самых бедных средств к жизни. Поэтому среднего сельского класса
почти не существовало. Это со всех сторон стесненное и запертое
положение французского крестьянина живо изображено у Токвиля
(L’Ancien Regime 2, гл. 12), который, с помощью многочисленных
исторических данных, неоспоримо доказывает, что это положение
в восемнадцатом веке было более жалко, чем в тринадцатом. Целые
полосы земли пустели без обработки. Духовное развитие оставалось
на степени крайнего невежества. Крестьянин был беспомощной до-
бычей корыстолюбивых попов, собственников земли и сборщиков
податей. Правда, он не был уже крепостным; но он был беден, по-
рабощен, он тупо и ропща жил со дня на день. Результаты новейших
исследований об этом положении вещей дает первый том сочине-
ния Тэна «Les origines de la France contemporaine».
В самом деле, мы не найдем никакого риторического преувели-
чения, а только фактическое изображение ужасной действительно-
сти в словах Ж.-Ж. Руссо, который в небольшом сочинении о поли-
тической экономии, написанном им в 1755 для «Энциклопедии»,
делает следующее страстное восклицание: «Разве все выгоды обще-
ства не принадлежат одним сильным и богатым? Разве не им одним
достаются все доходные места, все преимущества и льготы от пода-
тей? Разве не остается почти всегда безнаказанным знатный чело-
век, когда он обманывает своих кредиторов или совершает другие
плутовства? Разве палочные удары, которые он раздает, насилия,
которые он совершает, даже самые преступления и убийства, — раз-
ве все это не такие вещи, которые закрывают покрывалом христи-
анской любви и о которых через полгода больше и не говорят? От-
правляется ли знатный человек в какое-нибудь опасное место, ему
дают охранительную стражу; ломается ось его экипажа, тотчас все
бежит к нему на помощь; беспокоит его шум у его дверей, ему стоит
только раскрыть рот, и все в минуту затихает; теснит его толпа, он
делает только жест, и все пугливо расступается перед ним; попада-
ется ему на дороге телега, слуги готовы избить мужика до полус-
мерти, и пятьдесят почтенных пешеходов, идущих по своим делам,
скорее должны позволить себя переехать, чем задержать экипаж
гнусного ленивца. Как не сходно с этим положение бедняка! Чем
больше человечество должает ему, тем меньше оно дает ему прав.
Перед ним заперты все двери, даже тогда, когда он имеет право от-
ворить их; и если он просит иногда справедливости, это стоит ему
большего труда, чем если бы кто другой добивался себе милости.
Конечно, ему всегда дают первое место, когда идет дело о барщине
137
или поставке рекрут. Кроме своего собственного бремени, он несет
еще бремя своего соседа, который достаточно знатен и богат, чтобы
отделаться от этого бремени. В каждом несчастии, которое с ним
случается, он остается одиноким. Опрокидывается его тележонка,
он не может рассчитывать на помощь и должен считать себя счаст-
ливым, если разукрашенные лакеи какого-нибудь молодого герцога
не станут еще мимоходом грубо издеваться над ним. Но я считаю
погибшим бедняка, если он так несчастен, что у него есть честное
сердце, красивая дочь и еще сильный сосед!»
Такое государство неминуемо разваливается и падает. Оно
не есть уже естественное распределение и спокойное равновесие
отдельных и тем не менее тесно связанных сил; это только путаница
одних себялюбивых личностей, открытая война всех против всех.
Бурные события времени позаботились о том, чтобы ускорить
падение этого гнилого строения. Король не способен был справить-
ся с этим положением вещей. Людовик XV, распутный и бесстыд-
ный в своей жизни, не хуже самого презренного римского импе-
ратора, и в своем управлении непостоянный, не отдававший себе
никакого отчета, подчинявшийся каждому минутному настроению
и интриге, уничтожал последнее очарование неограниченной ко-
ролевской власти. Господствовали m-me Помпадур и m-me Дюбар-
ри; это было господство позора. Уголовные законы были жестоки
и безжалостны, lettres de cachet даже продажны. Франция никогда
не вела войн более несчастных, чем войны с Пруссией в семилет-
нюю войну, и с Англией — в индейских колониях; но славолюби-
вейший в мире народ принимал эти несчастья только с злорадством
и насмешкой, потому что считал их поражением короля. Сознание
людей давно отвергло мысли Людовика XIV о безусловном слия-
нии государства с личностью короля. На первый план все грознее
и могущественнее выступали государство как государство, и народ
как народ. Само правительство не боялось применять и распро-
странять эти понятия, в случае если находило их полезными для
каких-нибудь случайных своих целей. Те замечательные перегово-
ры, которые регентство герцога Орлеанского вело с легитимиро-
ванными принцами, говорили уже о ненарушимых правах народа;
эти объяснения народного права были повторены еще раз, когда
в 1750, после бесславного Ахенского мира понадобились, для но-
вых вооружений, новые денежные средства, и когда для этого нуж-
но было привлечь к уплате податей и духовенство. Когда духовные
противились этому требованию на том основании, что имения,
посвященные службе Богу, должны быть священны и неприкосно-
венны, то защитники светской власти дали знаменательный ответ,
что высшая власть принадлежит народу, и что государь есть только
его управитель; что поэтому никак не может быть не только че-
ловеческого, но и божественного закона, который бы освобождал
138
от участия во всеобщих повинностях (ср. Ранке, Franz. Geschichte,
4, стр. 520). Что же могло быть, если народ сам, или корпорации,
которые считают себя его представителями, обратят некогда это
обоюдоострое оружие против королевской власти? В поводах не-
достатка не было. Споры между королем и парламентом станови-
лись все чаще и ожесточеннее. Когда парламент протестовал про-
тив духовенства, отказывавшего в св. тайнах людям противных
ему взглядов, и когда король неожиданно стал на сторону архи-
епископа, парламент пошел на самую явную вражду. Он без стра-
ха и прямо высказал, что повиновение государственным законам
для него выше повиновения королю; что он будет защищать эти
законы даже с опасностью подвергнуться королевской немилости.
И что же вышло? Король изгнал парламент и учредил новую судеб-
ную палату, которую назвал королевской палатой; но в обществен-
ном мнении считалось честью быть членом изгнанного парламен-
та, и адвокаты отказывались являться перед новым судом. Король
должен был возвратить парламент и уступить во всех существен-
ных спорных пунктах; парламент одержал решительную победу.
Токвиль в своей «Histoire philosophique du regne de Louis XV» (2,
125) метко характеризовал положение дела следующими словами:
«Во Франции было два государя: один действовал совершенно про-
извольно и насильственно, другой следовал законам, но толковал
их только в свою пользу. Эти две власти скоро должны были встре-
титься в решительном бою».
Люди с содроганием предчувствовали, что человечеству предсто-
ят великие и решительные события. Фонтенель, Вольтер, Гримм,
Дидро, Руссо, Гольбах, Гельвеций, словом все сколько-нибудь за-
мечательные писатели этого времени достаточно дают понять, что
хотя они и не желают такого насильственного исхода, но считают
его неизбежным. Старое государство и старое общество пережили
самих себя. Везде чувство глубочайшего отвращения к настоящему;
везде горячее стремление к переделке и к новой организации.
Могла ли литература, это естественное выражение и верный тер-
мометр общественного чувства и мысли, отклониться от этого мо-
гущественного стремления?
Те первые начала политической литературы, которые мы за-
мечаем в последние годы Людовика XIV и в регентство, были все
вообще благонамеренными советами, которые непосредственно
примыкали к настоящему и традиционному и стремились только
преобразовать его сообразно с временем. Теперь было совершенно
иначе. Благодаря ежедневно возраставшим насилиям правитель-
ства, эта надежда и ожидание постепенного улучшения и твер-
дого преобразования в ходе вещей, — эта надежда совершенно
исчезла. Настроение стало более ожесточенное и потому более
страдает отсутствием определенного плана, захватывает даль-
139
ше и решительнее. Движение покидает почву действительности
и, отказываясь от всего окружающего, берется за общие понятия;
отвергает и подрывает все, что в праве, государстве и обществе
не выдерживало этой чисто отвлеченной, независимой от истории
и настоящего логики.
Каждый день являются новые исследования о происхождении
общества и первых формах его существования, о взаимных правах
и обязанностях граждан и правительств, о естественных и искус-
ственных отношениях людей между собой; и всегда является тот же
многознаменательный ответ, что, к сожалению, никогда не вспоми-
нают о том праве, которое рождается вместе с нами. Существует
весьма определенная разница между Монтескьё, который видит
безусловный образец в английской конституции, между Руссо, ко-
торый проповедует учение о верховной власти народа, и между
некоторыми энциклопедистами, которые доходят даже до социа-
листских требований; но все они одинаково выходят из нескольких
простых и неизменных основных законов и по этим законам изме-
ряют значение существующего и цель, к которой следует стремить-
ся. Как в религии должна решать вопрос так называемая естествен-
ная или разумная религия, так в праве и государстве должно решать
так называемое естественное или разумное право. Можно ли было
при таких обстоятельствах думать о дружелюбном примирении ста-
рого и нового!
Рядом с этими философскими политиками стоят политики
народного хозяйства, так называемые экономисты, или физио-
краты. Они ведут борьбу не понятиями и идеалами, а цифрами
и фактами; но эта наглядность и фактичность изложения и до-
казательств были тем более сильны и убедительны. Они твердо
держатся неограниченности королевской власти, которая, по их
мнению, при равномерном распространении образования во всех
сословиях, никогда не может выродиться в гибельное господство
насилия; но они не задумываясь разоблачают эту власть от всяко-
го божественного освящения и рассматривают ее просто с точки
зрения пользы, как самое удобное средство быстро и решительно
вводить в жизнь все нужные учреждения и перемены. Но в осталь-
ном та же неукротимая страсть к нововведениям, то же беспо-
щадное пренебрежение к прошедшему и старым условиям, та же
смелая ненависть ко всем привилегиям и неравенствам разных
сословий и провинций. Почти все, что впоследствии револю-
ция безвозвратно низвергла в обществе и управлении, было уже
предметом их постоянных нападений. Эти экономисты наделали
меньше шуму в свете, чем философы, но их деятельность имела
не меньше значения.
Редко или даже никогда не бывало в истории более глубокого
разрыва между ненавистным настоящим и полным пылких меч-
140
таний будущим. В государстве и церкви — недостойное человека
утеснение и унижение, а в этом гнете и над ним — безграничные
надежды и стремления, которые ищут истины и справедливости
и, снова начиная развитие человечества на развалинах постыдного
прошедшего, обещают более счастливым будущим поколениям про-
свещение и избавление.
В этих людях живет еще та свежесть страстного стремления,
которая проистекает единственно из твердой уверенности в несо-
мненной окончательной победе. Они еще думают, что деревья бу-
дут расти до неба, что будет светить свет, в котором тела не будут
бросать никакой помрачающей тени. Этой свежести никогда уже
больше не имели позднейшие эпохи с их неудачными революция-
ми, с их обманутыми надеждами и разбитыми идеалами. Испытан-
ный жизнью человек стал зрелее; но вместе с слабостями юноши он
потерял и ее преимущества.
Если бы нужно было еще доказательство того, до какой степе-
ни эта французская философия просвещения была только созна-
нием и выражением тайного желания и надежды всех, — мы на-
шли бы это доказательство в странном факте, что люди, которые,
по-видимому, должны были бы преследовать и истреблять новый
дух, боролись против него весьма безуспешно и большей частью
даже прямо покровительствовали ему. Духовенство в начале не об-
ращало внимания на эти движения свободной мысли; иезуиты
и янсенисты были слишком заняты своими мелкими раздорами
и не замечали, что за ними вырастал новый общий враг. Когда ду-
ховенство не могло уже не видеть возрастающей опасности, оно
было не в силах поравняться с этим врагом в знаниях и остроу-
мии и стало бороться оружием власти против того, с чем бороться
и чтб опровергать можно только одним оружием мысли. Кристоф
де Бомон, архиепископ парижский, издавал пастырские послания
и осуждения. «Journal de Тгёуоих» (1701—1775), орган иезуитов,
выходил из себя и кричал о ереси; но уловки старой схоластики
не приносили уже никакой пользы. Фрероны, Дефонтени, Лабомел-
ли, посланные в огонь против Вольтера, были бездарны по уму и ни-
чтожны в нравственном отношении. Палиссо, написавший в 1706 г.
комедию «Les Philosophies», где он представлял воровство и обман
следствиями энциклопедии, не имел ни малейшей искры той силы,
с которой брались за такие сюжеты Аристофан и Мольер, а в нрав-
ственном отношении он был бездельник; ср. Barbier, «Chroniquede
la R^gence et du regne de Louis XV» (1718—1763), изд. Шарпантье,
1866, в 8 томах, VII, 250. Не было ни Боссюэ, ни Паскаля; церковь
не имела защиты, которая бы сделала теперь впечатление. Немину-
емым следствием всего этого было то, что победа, по крайней мере
временная, была совершенно на стороне просветителей; и мало
того — часть самого духовенства, целая толпа знатных светских аб-
141
батов, с радостью перебежала в неприятельский лагерь. В политике
время было, если возможно, еще благоприятнее для новых стремле-
ний. За исключением короля и его ближайшего кружка, только не-
многие верили в прочность и годность настоящего. Правительство
не понимало самого себя; беспомощное, руководившееся только
минутной прихотью и обстоятельствами, оно колебалось между
грубой силой и слабой уступчивостью. Дворянство стояло враж-
дебно к королевской власти, потому что оно все еще питало старые
поползновения фронды; и наоборот, несчастный Людовик XVI видел
в дворянстве не поддержку своего трона, а только опасного сопер-
ника. Поэтому дворянство покровительствовало новому учению
и, по странной близорукости, не видело, что топор грозит и его кор-
ню. Наконец, образованная буржуазия знала только необходимость
сопротивления против высших, и шла этим путем тем беспечнее,
что, во-первых, в то время еще нельзя, было опасаться возбужде-
ния масс, да и вообще это еще не входило в ее опытность. Старая
религия и старое государство были еще целы; но быть привержен-
цем этого государства и этой религии считалось уже невежеством
и малодушием.
От этого везде господствует самое страшное лицемерие и фаль-
шивые положения. Академия либеральна в большинстве своих
членов и атеистична в своих лучших представителях; она дает
премии сочинениям, которые за несколько десятков лет были бы
преследуемы огнем и мечом; и в то же время наряду с философ-
скими задачами она ставит и чисто церковные и еще в 1752 дает
темой для поэтического сочинения на премию «La Tendresse de
Louis XVI pour sa Famille». Малерб в 1750—1763 был Directeur de
la librairie, т. e. начальником всего управления печати, следова-
тельно одним из самых важных государственных лиц Франции,
и несмотря на то в своей речи при вступлении во французскую
академию он говорил: «Литература и философия теперь снова
завоевали себе ту свободу, какую они имели в древней Греции;
они дают народам законодателей; благородное одушевление ов-
ладело всеми умами; пришло время, когда каждый, способный
мыслить и писать, чувствует себя обязанным направить свои
мысли к общему благу». Самые строгие запрещения и меры пре-
досторожности сохраняют свою силу. Сочинение еще в рукописи
подлежит рассмотрению цензоров, которые назначаются государ-
ственными властями или Сорбонной, рассмотрению Lieutenant
de police1, потом Chambre syndicale des libraires2, и по отпечатании
вмешательству государственного совета, определениям парламен-
та, индексу Сорбонны, lettres de cachet, или, если книга приходит
1 Лейтенант полиции (фр.). —Прим. изд.
2 Общественная палата книготорговцев (фр.). —Прим. изд.
142
из-за границы, надзору таможни. Но эти меры предосторожности
делаются бесполезны не только от тайных типографий и привоза,
но еще более от неохоты самих чиновников, которым поручено
их исполнение. Тот же Малерб пишет к Дидро, что на следующий
день он, Малерб, должен дать приказание захватить все бумаги
Дидро. «Это невозможно, — отвечает Дидро. — Когда я успею пе-
ресмотреть их, как я успею спрятать их в двадцать четыре часа?»
«Пришлите их ко мне, — отвечает Малерб, — у меня они сбере-
гутся под замком». Алчные сыщики находят у Дидро одни только
пустые ящики; ср. мемуары дочери Дидро в издании его сочи-
нений Аззёга!, 1875 и дал., т. I, стр. XLV. Когда вышел «Эмиль»,
Руссо велено было арестовать. Руссо хотел явиться перед судом;
но наконец он уступил совету своих высоких покровителей, герцо-
га и герцогини Люксембургских, и предпочел бежать. Сам герцог
помогал ему привести в порядок бумаги и жечь те, которые были
наиболее опасны. По предписанию арест должен был последо-
вать в полдень. Руссо оставил Монморанси только в четыре часа.
«Между Лабарром и Монморанси, — рассказывает Руссо в При-
знаниях, — я встретил сыщиков, которые раскланялись со мной
усмехаясь». Этого мало. Был род молчаливого соглашения, чтобы
писатель не ставил своего имени на сочинении, которое могло
навлечь опасность. Таким образом писатель избавлялся от непри-
ятного мученичества, а правительство от столько же неприятной
обязанности быть строгим. Против книги принимались меры,
сжигали ее рукой палача, а сочинителя оставляли без внимания.
Руссо в пятом письме из «Lettres de la Montange» метко говорит:
«С одним и тем же человеком писатель признает себя автором
книги или не признает, смотря по тому, встречается ли он с ним
за столом салона или за столом судебной залы».
Вся Европа, весь образованный мир принимали в этой борьбе
живейшее участие. Даже правительства неограниченные, наскучив
постоянным раздором с притязаниями властолюбивого духовен-
ства, открыто брали сторону этих нововведений, не сознавая всего
их значения. В Испании, Португалии и Италии влияние их обнару-
жилось так же положительно, как в Пруссии, Австрии, Дании. Им-
ператрица Екатерина, эта Семирамида севера, ревностно им покро-
вительствовала.
Общая благосклонность, с которой восемнадцатое столетие смо-
трело на этих писателей просвещения, в наше время почти везде
обратилась в самую страстную ненависть. После насилий и пере-
воротов французской революции, мы привыкли безжалостно и без
всяких ограничений осуждать французскую литературу просве-
щения. Во Франции этих писателей вмешивают в самую среду во-
просов и борьбы дня; в Англии и Германии их больше не читают
и не знают, но бранят их. Говорят только о их дерзости и неоснова-
143
тельности, видят в них только отродье одичавшего века; но не спра-
шивают и не думают о том, нет ли в них также и чего-нибудь хоро-
шего и благотворного.
Никакой рассудительный человек не будет защищать или от-
рицать тяжелых ошибок и заблуждений этих писателей. Они дети
испорченного времени; металл покрыт ржавчиной. Мы часто на-
ходим у них одно насмешливое остроумие там, где требуем нрав-
ственной серьезности и научной основательности. Они выдают
за несомненную истину науки то, что было только личным взгля-
дом или многогениальной догадкой. В нападениях на церковь и ре-
лигию ими часто руководит больше слепая ненависть, чем положи-
тельная любовь к истине; в своих требованиях от государства, они
слишком часто забывают о законах и условиях действительности.
Удаленные от всякой публичной жизни, они нисколько не думают
о препятствиях, которые проистекают из данных обстоятельств для
самых желанных улучшений, и оттого они часто бывали еще сме-
лее и докторальнее. Но должно также сказать, что при всем том
в их заблуждении скрывается, однако, неистребимое зерно исти-
ны, в их мышлении и деятельности — великодушное одушевление
и сила. В то время, когда религиозное преследование, пытка, про-
извольные аресты, несправедливость суда, угнетения всякого рода
были делом самым обыкновенным и совершенно легальным, они,
с убеждающим чувством глубочайшего отвращения, мужествен-
но вели войну против всего, что считали злоупотреблением; не-
утомимо стремились к просвещению и религиозной терпимости,
к освобождению и облегчению угнетенных классов народа и снова
завоевывали потерянные, но неизменные права мыслящего позна-
ния и врожденного человеческого достоинства. В этом, при всех их
слабостях, заключается их величие, их неотъемлемое историческое
значение.
Гегель уже давно, в своей истории философии (ч. 3, стр. 515) вы-
сказал в серьезных словах осторожное и правдивое признание их
дела. И история присоединяется к этому суждению философа.
Зибель, во введении к его истории революционной эпохи, спра-
ведливо говорит об этих писателях: «Как религиозные средние
века имели свои истребления еретиков, так и новое направле-
ние мира не обошлось без своих ошибок и промахов; но, порицая
их, не должно забывать, что состояние, из которого эти писатели
вырвали Европу, всем нам без исключения показалось бы самым
невыносимым варварством. Одно время слишком высоко ценили
просвещение восемнадцатого столетия, отчасти в его наименее
достойных представителях; а теперь слишком склонны забывать
о его всемирно-исторической заслуге, потому что это просвеще-
ние стало уже общим благом нашего времени. Но если кто станет
пожимать плечами от его иногда вялой и лицемерной гуманности,
144
то пусть только он перенесется назад, в совершенно негуманное
время до его деятельности. Ни классическая и христианская древ-
ность, ни средние века и реформация не возмущались злейшими
ужасами войны, мучениями жестокого уголовного суда, уничто-
жением политических противников, — перед которыми все ужасы
наших революций и реакций показались бы одной детской заба-
вой. Мысль, что жизнь каждого отдельного человека что-нибудь
значит для остальных, стала действительной силой только через
восемнадцатое столетие».
Отдел первый
ВОЛЬТЕР И МОНТЕСКЬЁ
Глава первая
Вольтер
1. Жизнь и личность Вольтера
Фридрих Великий метко определил в немногих словах истори-
ческое значение Вольтера. 10 февраля 1767 он пишет к Вольтеру:
«Бейль начал борьбу, за ним последовало много англичан; ваше
призвание — окончить эту борьбу».
Вольтер — один из самых многосторонних и подвижных умов.
Едва ли есть какой-нибудь вопрос человеческого образования, ко-
торого бы он не коснулся когда-нибудь; какая-нибудь форма поэти-
ческого и научного изложения, которой бы он не воспользовался,
и большей частью весьма ловко и удачно. Но несмотря на то Воль-
тер справедливо мог хвалиться, что он во всех своих сочинениях
оставался неизменно один и тот же. Основная мысль и главнейшее,
составившее эпоху, дело Вольтера заключается в том, что он был ос-
нователем и главой той французской просветительной философии,
которая боролась против положений и преданий господствующей
римской церкви и старалась великие открытия и воззрения Нью-
тона и Локка возвысить до степени основы и сущности всеобщего
образа мыслей. Вольтер превосходил всех людей его стремлений си-
лой своего несравненного остроумия. Он сделал общим интересом
то, что было до тех пор только тайноучением отдельных кружков.
Если младшие французские писатели прошлого столетия, Дидро
и д’Аламбер, Гельвеций и Гольбах, употребляя легкомысленно цер-
ковное выражение, называли Вольтера своим патриархом, — это
не было пустой лестью, но правильным историческим взглядом.
Если мы вспомним влиятельные связи Вольтера с могуществен-
нейшими государями его времени, если вспомним почти беспри-
мерное распространение его сочинений и его смелое и деятельное
вмешательство в борьбу и движения церкви и государства, и взгля-
нем на то, как возбужденная жажда нововведений со всех сторон
радостно вторила ему, то мы вполне согласимся с Карлейлем, когда
он в умной характеристике Вольтера верно замечает, что, если бы
из истории восемнадцатого столетия исключить Вольтера и его дея-
146
тельность, это произвело бы гораздо большую разницу в нынешнем
положении вещей, чем можно было бы сказать о каком-нибудь дру-
гом человеке последних столетий.
Можно ли поэтому удивляться, что до сих пор слышатся самые
противоречивые суждения о том, что похвально и непохваль-
но в деятельности такого замечательного человека? Вольтер еще
живо захватывает стремления и деятельность настоящего. Именно
во Франции с именем Вольтера еще соединяется все волшебство мо-
гущественно действующего знамени и все проклятия, какие навле-
кает на себя это знамя с другой стороны. Там борются за или про-
тив Вольтера, смотря по религиозной и политической точке зрения
партии. С одной стороны, во Франции снова восстает теперь то по-
читание, которое без дальнейшего исследования принимает и даже
еще усиливает удивление и прикрашивание, наследованные от бли-
жайших друзей и приверженцев Вольтера; это направление мы все-
го лучше отметим сочинением Ланфре: «L’Eglise et la Philosophic
du dix-huitieme siecle», 1857. А с другой стороны, опять возможны
книги, как вышедшая не так давно книга Луи Николардо «Mёnage
et finances de Voltaire», 1854, которая ставит себе исключительной
целью подробно доказать, что Вольтер был не что иное, как низ-
кий скряга и обманщик. В Англии большинство пугливо сторонится
от Вольтера. И в других местах многие хвалятся, что они уже стоят
выше точки зрения Вольтера, и потому повторяют, большей частью
механически, обычную брань, между тем как на деле они должны
были бы признаться, что только очень немногие из них, и самые
шумные крикуны всего меньше, знают Вольтера из собственного
изучения1.
Вольтер оставил два автобиографические рассказа: один, напи-
санный в 1759, который обыкновенно носит название «Мёшойе
pour servir a la vie de М. de Voltaire» и относится главным образом
к его приключениям при берлинском дворе; и другой, составлен-
ный, правда, его секретарем, но им проверенный и дополненный
«Commentaire historique sur les oeuvres de I’auteur de la Henriade»
(1776). Трое его секретарей оставили мемуары: Longchamp (1746—
1750), Colini (1752—1756), Wagniere (1754—1778). Его биографию
в первый раз изложил связно Кондорсе, труд которого появился
в 1789 в Кельском издании сочинений Вольтера. С тех пор эта био-
графия рассказана была еще много раз, всего полнее в книге Дену-
артерра (Gustave Desnoiresterres, Voltaire et la 5ос1ёгё au XVIII siecle,
8 томов, 1867—1876): это книга, составленная с необычайным тру-
1 В Германии начинают относиться к Вольтеру справедливее с тех пор, как оце-
нивал его покойный автор настоящей книги (1860), с тех пор, как Давид Фридрих
Штраус издал свои лекции того же рода (1872) и Маренгольц изобразил его с та-
ким решительным стремлением к беспристрастию (JMahrenholtz, Voltaire’s Leben
und Werke, Oppeln, 1885, 2 Bde). (Добавление 5-го немецкого издания, 1894.)
147
долюбием, и читатель охотно подтвердит то свидетельство, какого
автор желает для нее словами Монтеня: Ceci est un livre de bonne foi1.
Место и день рождения Вольтера в разных известиях означаются
различно. Местом рождения называют то Париж, то Шатене; днем
рождения считают то 20 февраля, то 20 или 25 ноября 1694 г. Сам
Вольтер не решает дела ни в своих письмах, ни в записках. Недав-
но стало известно свидетельство о крещении Вольтера (напечатано
в издании сочинений Вольтера, Moland, I, 294). Отсюда оказывает-
ся положительно, что Вольтер родился 21 ноября 1694 г. в Париже
и на другой день был окрещен в церкви St. Andre des Arts.
Отец его был Франсуа Аруэ, казначей в счетной палате; мать —
Маргарита д’Омар, из одной дворянской фамилии в Пуату. Приня-
тое им потом имя является впервые в 1719 в посвящении Эдипа
герцогине Орлеанской: Arouet de Voltaire. О происхождении этого
псевдонима неизвестно ничего точного; но это есть вероятно мест-
ное имя, происходящее, быть может, от какого-нибудь фамильного
владения.
Направление и своеобразный характер Вольтера обнаружились
уже рано. Религиозные и политические притеснения, тяготевшие
над страной, не скрылись от живого мальчика. И внешние обстоя-
тельства также помогли раздуть тлевший огонь. Вольтер воспиты-
вался в college St. Louis le Grand (1704—1711), который принадле-
жал иезуитам. Замечательно, что почти все французские свободные
мыслители вышли из иезуитских школ.
Его отзывы о полученном здесь школьном образовании коле-
блются, смотря по поводу, который вызывал их: в письмах к своим
учителям, с которыми он и после поддерживает отношения, он рас-
точает похвалы; в других случаях он не удерживается от порицаний.
«Поистине, вы дали мне тогда превосходное воспитание, — говорит
в статье Education, в Dictionnaire philosophique, прежний питомец
иезуитов одному патеру. — Когда я вступал в свет, я хотел попро-
бовать говорить, и меня подняли на смех. Что помогло мне цитиро-
вать латинские оды и Pedagogue chretien2? Я не знал, что Франциск I
был взят в плен при Павии, я не знал, где и Павия. Даже страна, где
я родился, была мне неизвестна; я не знал ни ее главных законов,
ни ее интересов, не знал ни слова в математике, ни слова в здравой
философии — я понимал латынь и глупости».
В каком смысле это воспитание подействовало на Вольтера,
всего лучше видно из того, что уже в письмах, какие сохранились
из его школьного времени, являются насмешки над церковными уч-
реждениями и обычаями. Так затем его первая трагедия «Эдип», над
которой он работал с 1714 года, заключает самые сильные нападе-
1 Это искренняя книга (фр.). —Прим. изд.
2 Христианский педагог (фр.). —Прим. изд.
148
ния против тупой жажды преследования, и в это время Вольтер уже
набрасывает план «Генриады», коренная мысль которой есть про-
славление религиозной любви и терпимости.
В 1717 гимназист делается студентом прав. До самой старости он
с досадой вспоминает о педантизме этих юридических наук. Начи-
нается время столкновений. Студент Вольтер занимается посторон-
ними вещами, ведет легкомысленную жизнь в обществе таких же
товарищей и причиняет тяжелые заботы отцу. Стихи пустили рост-
ки; насмешливость шла через край в прозаических и стихотворных
посланиях; только иногда прибавляется более серьезный тон, точ-
но голос мимолетного раскаяния. Отец делал различные попытки
побудить его заняться каким-нибудь правильным делом и в конце
концов в 1715 предоставил его самому себе, назначив ему неболь-
шую ренту. Дальше средства существования молодого человека
нам неизвестны. На распутных пирушках своих знатных друзей он,
очевидно, платил не argent, a esprit comptant1. Но его связи с haute
finance2, которые впоследствии должны были доставить ему боль-
шое богатство, начались уже в 1716. Еще неприятнее, чем церков-
ные, действовали на него государственные порядки. В 1717 г. Воль-
тер, без всякого следствия, несправедливо посажен был на год
в Бастилию, потому что ему приписали, впрочем справедливо, две
эпиграммы на регента и герцогиню Беррийскую. В 1725 г. произо-
шел случай, имевший на его судьбу решительное влияние. Вольтер
был сын чиновника, буржуа; но еще мальчиком введенный в выс-
шее общество своим легкомысленным дядей, он привык держаться
в этом обществе на короткой ноге. Это чувство собственного до-
стоинства еще возросло с его ранней поэтической славой. Однажды
за столом у герцога Сюлли он поспорил с шевалье де Роганом. По-
следний прибегнул к весьма низкому мщению и велел своим слугам
напасть ночью на Вольтера и оскорбить его. Вольтер послал Рога-
ну вызов. Фамилия3 Роганов делает об этом заявление, и Вольтер,
17 апреля 1726 г., во второй раз был посажен в Бастилию. Правда,
уже 29 апреля его освободили, но ему запрещено было жить ближе
по крайней мере 50 миль от Парижа. Злоба осталась в его сердце.
Небольшое пламя в бурю тухнет, но большое пылает еще сильнее.
Вольтер отправился в Англию и остался там целых три года, с мая
1726 до марта 1729.
Пребывание в Англии было важнейшим пунктом в его разви-
тии; для Вольтера оно было тем же, чем пребывание в Италии для
Винкельмана. Оба нашли свое истинное призвание только на чуж-
бине. До тех пор Вольтер был почти только талантливым и ловким
1 Не деньгами, а умом (фр.). — Прим. изд.
2 Финансовая верхушка (фр.). —Прим. изд.
3 Некорректный перевод. Имеется в виду «семья». — Прим. изд.
149
стихотворцем; в Англии он познакомился с политической жизнью
и вступил в школу английской поэзии, науки и просветительного
образования.
Он познакомился с английской сценой и черпал из нее, особливо
из театра Шекспира, некоторые возбуждения, которые показались
его соотечественникам чрезвычайной новостью, — несмотря на су-
хое и неуверенное применение того, чтб он называл gout anglais1.
Он находил в Попе мастера дидактической поэзии и в Свифте учи-
теля сатирического рассказа. В Англии он выработал свою эпопею,
которая вышла в 1723 под заглавием «La ligue ou Henri le Grand»
и напечатал ее еще в 1728 по подписке. Здесь произошла его траге-
дия Брут и его история Карла XII.
Его мировоззрение определили с тех пор Ньютон и Локк. Его ве-
треный характер сосредоточился и углубился. Он с юношеским оду-
шевлением поставил задачей своей жизни распространить по свету
эти английские идеи и сделать их общим достоянием всего челове-
чества. И этой жизненной задаче Вольтер остался верен до самой
преклонной старости.
Гёте сказал о лорде Байроне, что его поэмы — не произнесенные
парламентские речи. Эта характеристика всего лучше идет к Воль-
теру. Драмы, романы, стихотворения, брошюры, философские ста-
тьи, исторические сочинения, энциклопедии и словари, словом, все
возможные формы поэтического и научного изложения служат ему
только для того, чтобы возвещать его могущественное учение.
Его нападения на римскую церковь, и даже на самое христиан-
ство, — страстны, враждебны и дерзки. Но крайне, однако, оши-
баются те, кто по обыкновению без всяких различений смешивает
Вольтера с неверующим материалистским образом мыслей Дидро
или известной «Systeme de la Nature»: Вольтер всегда твердо держал-
ся веры в живого, личного и внемирового Бога; конечно, не с такой
глубокой потребностью сердца, как Жан-Жак Руссо, но с непоколе-
бимым убеждением, что ни природа не могла произойти и сохра-
няться без создателя и хранителя, ни человеческая нравственность
и образование — без последнего судьи добродетели и порока.
Англия имела сильнейшее влияние на политические взгляды
Вольтера. Правда, он никогда не выработал своих политических
воззрений в одну твердую и ясную систему, как его знаменитый
современник Монтескьё, но английская конституция, которую он
с одушевлением восхваляет в Генриаде, и для него была безуслов-
ным образцом и достойным примером для подражания.
Когда Вольтер незадолго перед смертью познакомился в Париже
с Франклином, он положил руку на его внука и сказал слова «God
and liberty», «Бог и свобода». Эти слова верно характеризуют все на-
1 Английский вкус (фр.). —Прим. изд.
150
правление Вольтера. Говоря нынешним языком, Вольтер в религи-
озном отношении деист и рационалист, в политическом — либерал.
Но отчего же, несмотря на то, над именем Вольтера лежит это не-
истребимое проклятие? И проклятие более жестокое, чем над теми
людьми его мнений, которые в своих взглядах были гораздо смелее
и решительнее даже самого Вольтера?
Это происходит оттого, что сочинения Вольтера, и особенно его
сочинения полемические, легкомысленны, фривольны и лишены
нравственной опоры. Как в своей поэтической деятельности Воль-
тер касается высших идей только в эпиграмме и небольшом сати-
рическом рассказе, т. е. только в тех родах поэзии, где недостаток
творческой фантазии заменяется остроумной шуткой и esprit, так
и его научное мышление, хотя ясное и быстрое, больше остроум-
но, чем основательно. Там, где мы ожидаем спокойных и полных
доказательств, он отделывается большей частью только сухой на-
смешкой. Нас поражает и отталкивает его назойливая, злорадная,
насмешливая страсть к разрушению и отрицанию. Уже Моисей
Мендельсон жалуется в письме к Лессингу (изд. Лахмана, т. 13,
стр. 8), что Вольтер весь мир принимает за шутовство, bouffonnerie.
Шиллер в своей классической статье о наивной и сентиментальной
поэзии очень метко говорит, что удивительное разнообразие Воль-
тера во внешних формах, не доказывая вовсе внутренней полноты
его духа, скорее подвергает ее большому сомнению, потому что при
всех этих формах он не нашел ни одной, где бы он мог отпечатлеть
сердце. Еще сильнее высказывает ту же мысль Гёте. Когда он прочел
в 1784 записки Вольтера, он писал к г-же Штейн: «Du wirst finden,
es ist als wenn ein Gott, etwa Momus, aber eine Canaille von einem Gott,
fiber das Hohe der Welt schriebe»1.
Характер человека и есть его судьба. Проклятие Вольтера — его
мефистофелевская натура.
Когда Фридрих Великий писал 12 сентября 1749 к Альгарот-
ти: «Жалко, что с такой прекрасной гениальностью соединяется
такая недостойная душа», — это был взрыв минутного раздраже-
ния, но не лишенный основания. В этих словах заключается вся
загадка раздвоенной природы Вольтера. Он никогда не выходил
из противоречия его сильного таланта и мелочного, себялюби-
вого характера. Ум и образование ставят его на сторону высоких
и идеальных целей человечества, — но только ум и образование.
Вольтер отличается страстной ревностью, которая не успокаивает-
ся и не отдыхает до тех пор, пока не достигнет предположенной
цели; но ему недостает благородства души, внутренней высоты
и чистоты, и даже личной честности. Вольтер — могучий агита-
1 Ты обнаружишь, что это словно бог, подобный Момусу, или мошенник среди
богов пишет о мире (нем.). —Прим. изд.
151
тор, который вступает в великое движение истории, потому что
это приносит ему славу и потому что к этому принуждает его за-
детая злость его души; но это вовсе не великий человек, который
исключает из себя все низкое и подлое по внутренней необходимо-
сти своего существа.
У Вольтера есть самые низкие и мелочные слабости, которые
извращают человеческую природу. Он тщеславен, корыстолюбив
и не правдив.
Уже с самого начала мы видим Вольтера в постоянных стычках.
Его уничтожающее остроумие обнаруживается при этом самым бле-
стящим образом; но это остроумие не успокаивает, потому что оно
проистекает из нечистого источника — из сварливого тщеславия,
предательски пятнающего всех писателей, высшая цель которых
есть выставление своей любезной личности. Вольтер не мог выно-
сить, чтобы его не почитали и не окружали удивлением везде; он
забывал всякую меру, когда кто-нибудь хотел подвергать сомнению
или нанести ущерб его славе. Он хотел быть не только героем века,
но и героем дня. Он внимательно прислушивается к каждому шеле-
сту общественного мнения. Самая ничтожная шавка, нападавшая
на него, приводила его в крайнюю ярость и тревогу, гнев и доса-
ду, которые делали его больным на целые дни. Его слуга, Лоншан,
рассказывает, что, когда давалась трагедия Вольтера «Семирамида»,
Вольтер, переодевшись духовным, отправился в Cafe Procope, чтобы
там неузнанным подслушать разговор театральных критиков; во-
ротившись домой, он, по выражению его слуги, похож был на тень
Нина. Полемические сочинения Вольтера почти всегда — пасквили.
Если Лессинг уничтожает своих противников тяжелыми палочны-
ми ударами своего полемического остроумия, то борьба его все-та-
ки бывает честная и фактическая. Борьба Вольтера против других
писателей есть большей частью часто личное мщение; он позво-
ляет себе всякие средства, заботится только о действии и никог-
да не заботится особенно об истине фактов. Впрочем, мы должны
быть справедливы и в порицании и не должны упускать из виду той
резкой черты, которой, — надобно сказать к чести Вольтера, — он
никогда не переступал. Он был крайне щекотлив и честолюбив,
но он был свободен от той завистливой ревности, которая хочет
славы только для себя и не выносит рядом с собой никакого дру-
гого величия. Если он начинает войну с Кребильоном, Монтескьё,
Бюффоном, Ж.-Ж. Руссо, то он не нападал, а сам терпел нападение.
К Дидро и д’Аламберу Вольтер всегда питал самую горячую дружбу
и всегда отдавал им справедливость; он был удивительно привязан
и к младшим писателям, даже другого направления, как, например,
к благородному Вовенаргу.
С этим тщеславием самым тесным образом соединялась страсть
к внешнему блеску и богатству.
152
Как еще в ранней юности Вольтер с недостойным усердием ла-
стился к знатным и сильным, так делал он и до конца своей жизни.
Он находился в личных сношениях или в переписке почти со всеми
государями Европы, не исключая и папы. Вольтер жалуется в сво-
их записках, что он, до идолопоклонства любивший свободу, пред-
назначен был судьбой странствовать от одного короля к другому;
Гёте, в «Поэзии и Правде», ловко отвечает на это, что не всякому бы
удалось сделать себя таким зависимым, чтобы приобрести незави-
симость. И точно так же юноша Вольтер заботится не только о нача-
той «Генриаде», но еще больше, пожалуй, о биржевой игре.
Приобревши значительное состояние пенсиями, литературным
доходом, лотерейными выигрышами и отцовским наследством,
Вольтер скоро пустился в денежные предприятия в больших разме-
рах, принимал участие в государственных займах и поставках для
войска, покупал именья и помещал капитал таким образом, что
даже самые горячие хвалители не оправдывают всяких его хитро-
стей и обманов. Зибель в своей «Истории французской революции»
выставляет весьма характеристическую черту, что в то время ника-
кие денежные бумаги не были так любимы, как пожизненные рен-
ты, посредством которых, за высокие проценты, отнимался в свою
пользу капитал у наследников. Вольтер имел такое явное пристра-
стие к этим пожизненным рентам, что Николардо, быть может,
не совсем неправ, выдавая их отчасти причиной беспрестанных
жалоб Вольтера на свою слабость и болезненность.
И только с трудом можно объяснять нравами века, что он всег-
да, если приходила опасность, дерзко и лживо отказывался от своих
книг, вместо того чтобы честно и мужественно признавать их свои-
ми. 13 августа 1763 Вольтер пишет к Гельвецию: «Не нужно никогда
ставить своего имени; я не написал даже и Pucelle». И этой коварной
лживостью он пользуется всегда с изобретательностью не слишком
завидной.
По возвращении из Англии Вольтер не мог сначала найти ника-
кого постоянного местопребывания. После того как он выдержал
род нравственного карантина в Сен-Жермене-ан-Ле, он мог явить-
ся в Париже; но он получил положительный приказ сколько можно
не делать себя заметным. В 1730—1731 тайное печатание истории
Карла XII привело его в Руан. Но злость его противников и зависть
заслоненных им писателей подвергали его раздражительность са-
мым тяжелым испытаниям. Он стремился к тихому уединению.
«Боже мой, — писал он к своему другу Сидвилу, — что за приятная
должна быть вещь — жить вместе с тремя или четырьмя людьми
сходных понятий, меняться мыслями без взаимной ревности, сер-
дечно любить друг друга, заниматься искусством и говорить о нем,
образовываться и просвещаться друг от друга; я мечтаю, что я еще
буду когда-нибудь жить в таком раю». Он нашел этот рай. В 1733 г.
153
он познакомился с маркизой дю Шатле, умной и ученой женщиной,
которая знала греческую и римскую литературу, геометрию и ме-
тафизику, не только основательно изучала Лейбница и Ньютона,
но даже ввела их во Францию переводами и обработками. Г-жа дю
Шатле, несмотря на этот мужской характер, была женщина раз-
вратная; об ней рассказываются такие подробности, которые даже
мужчине дали бы репутацию бесстыдного развратника; Фридрих
Великий обыкновенно называл ее в шутку Венерой Ньютоновской
(Venus-Newton). Г-же дю Шатле было тогда двадцать семь лет, Воль-
теру — тридцать девять. Она была замужем, но нисколько не заду-
малась сделать Вольтера своим другом и возлюбленным.
После того, как в 1732 Вольтер своим деистическим стихот-
ворением «Le Pour et le Contre» и в 1733 своим «Temple du gout»
до последней степени раздражил духовные и литературные круж-
ки, в начале 1734 явились его «Lettres sur les Anglais», которые
представляют парламент, как scandaleux, contraire a la religion, aux
bonnes moeurs et au respect du aux puissances1. Против автора издан
был приказ об аресте. Вольтер бежал, и приятельница предоста-
вила ему в распоряжение замок Сирей, уединенное именье у за-
падного подножия Вогезов, прямо у нынешней немецкой границы.
Полуразрушенный дом был поправлен, и летом маркиза последова-
ла за своим другом. Вольтер пережил здесь счастливые и трудовые
годы. Письма г-жи Граффиньи, посещавшей в 1738 г. двух друзей
в их деревне, дают прекрасную картину этой спокойной жизни,
украшенной уютным изяществом и полной ума деятельностью.
Из научных трудов здесь произошли «Elemens de la philosophic de
Newton» 1738, которые решили во Франции победу Ньютона над
Декартом, исследование об огне и его перенесении, 1738, кото-
рое дает новые экспериментальные исследования о теории те-
плоты, приготовительные работы к «Siecle de Louis XIV», первый
план обширного труда о духе и нравах народов, откуда с 1745 яв-
ляются в «Mercure de France» отрывки под характерным заглавием:
«Nouveau plan de 1’histoire de 1’esprit humain»; из трудов поэтиче-
ских — «La Mort de Cesar», «Альзира», «Магомет», «Меропа», «Се-
мирамида», «Нанина», «Задиг», «Discours sur I’homme», «Pucelle».
Но, к сожалению, эта дружба имела прискорбный и неожиданный
исход. Маркиза завязала при дворе Станислава в Люневиле новую
связь с молодым офицером Сен-Ламбером, автором «Времен года»;
эта связь кончилась смертью от родов. Маркиза умерла 10 сентя-
бря 1749 г. Сердце Вольтера никогда не испытало более глубокого
горя. Над этой четырнадцатилетней тесной связью много подсме-
ивались; и кто станет защищать ее? Но нет сомнения, что любовь
1 Скандальный, противоречащий религии, добрым нравам и уважению властей
(фр.). —Прим. изд.
154
Вольтера была глубокая и искренняя. Все его письма из этого вре-
мени дышат самой трогательной горестью, и он до самой поздней
старости сохранил об умершей самую верную память.
Вольтеру было теперь пятьдесят пять лет. Он стоял на вершине
своей славы; в целой Европе его признавали первым из всех жи-
вых писателей. Он был наделен и внешними почестями, к которым
уже издавна стремилось его тщеславие; он был назначен историо-
графом Франции, 1745; он был gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi1 в 1746; он мог продать это место и удерживал, однако, его
титул и привилегии; и с того же года занял место в Академии, в ко-
тором ему долго отказывали. По смерти своей приятельницы, Воль-
тер вернулся сначала в Париж. Он нанял дом в rue Traversiere, где
он жил прежде с г-ми дю Шатлё, подле rue Richelieu, и взял к себе
племянницу, г-жу Дени, вдову французского капитана, чтоб быть хо-
зяйкой его дома. Блестящие театральные представления и ужины
привлекали в его салоны самое знатное общество. Но Париж, cette
grande, vilaine, turbulente, frivole et injuste ville que je deteste et que je
hais2, скоро опять ему надоел. Он видел себя устраненным от двора,
так как король чем дальше, тем меньше скрывал свое нерасположе-
ние к нему. Уже в начале 1748 Вольтер с успехом противопоставил
полузабытой трагедии Кребильона старшего «Семирамида» (1717)
свою собственную Семирамиду. И его гнев дошел до высшей степе-
ни, когда он должен был узнать, что двор и в особенности его преж-
няя покровительница, г-жа Помпадур, как и завистливые кружки
писателей, соединились с тем, чтобы создать незаслуженный успех
Кребильону. Вольтер принял вызов и в 1750 против «Электры» Кре-
бильона выставил своего «Oreste» и рядом с его же «Каталиной»
(1748) поставил свой «Rome заиуёе» — причем, по иронии судьбы,
ему пришлось представлять свои пьесы на критику своему соперни-
ку, который был тогда цензором. Это соревнование, в высшей степе-
ни бесполезное в глазах всех беспристрастных людей, не дало ему,
однако, победы ни у его литературных противников, ни при дворе.
Тогда явились настоятельные, несколько раз повторенные пригла-
шения Фридриха Великого — переселиться в Сан-Суси. Вольтер со-
гласился. Он надеялся найти при чужом дворе и в чужой стране те
почести, которые, по его мнению, так постыдно и несправедливо
оспаривали у него в его отечестве.
Мы могли бы только мимоходом упомянуть об этом, всем извест-
ном пребывании Вольтера при дворе Фридриха Великого, потому
что в самом деле это только эпизод, не имеющий никакого особен-
ного значения для развития, для объема работы и исторического
1 Титул, дословно: «обычный дворянин комнаты Короля» (фр.). —Прим. изд.
2 Этот большой, непотребный, шумный, легкомысленный и несправедливый
город, который мне отвратителен и который я ненавижу (фр.). — Прим. изд.
155
влияния Вольтера. Но он так замечателен и до такой степени харак-
теризует этих обоих людей, что очень понятно, почему этот эпизод
издавна обращал на себя всеобщее внимание.
С обеих сторон эти отношения не были свободны от эгоистиче-
ского расчета. Сношения завязались уже рано, и переписка откры-
вается уже 8 августа 1736. Молодой, стремившийся к образованию
принц с самой юности принадлежал к числу восторженных почи-
тателей Вольтера; и Вольтер с своей стороны тотчас понял, какое
великое будущее предназначено принцу. Первые годы переписки
были наполнены самыми расточительными изъявлениями взаим-
ного уважения; принц послал даже своего камергера, барона Кай-
зерлинга, в Сирей, к «божествам Сирея». По вступлении Фридриха
на престол, эти тесные отношения сначала оставались неизменны-
ми. Король несколько раз приглашал Вольтера посетить его. Пер-
вая встреча произошла 11 сентября 1740 в замке Мойланде у Кле-
ве. Вольтер читал своего Магомета; Фридрих в восхищении говорит
иордану: «Вольтер владеет красноречием Цицерона, мудростью
Агриппы и кротостью Плиния младшего». Еще в ноябре того же
года Вольтер приехал в Рейнсберг и в Берлин, но уже к этому вре-
мени относятся и первые неудовольствия. Королю пришлось доро-
го заплатить за путешествие; и Вольтер явился на этот раз только
по тайному поручению кардинала Флёри, чтобы разведать, назнача-
лись ли собранные войска за или против Австрии. Король с досадой
пишет 28 ноября 1740 г. к Иордану: «Твой скряга Вольтер должен
удовлетворить по горло свое ненасытное корыстолюбие и полу-
чить еще 1300 талеров; из шести дней, которые он здесь пробыл,
каждый день стоит мне 550 талеров; я называю это дорого платить
за шута (fou); я думаю, никогда придворный шут не получал такой
платы». Новое свидание произошло 1742 в Ахене. По-видимому, оно
было очень теплое; по крайней мере Вольтер говорит в своих пись-
мах (т. XXXVI, стр. 162): «Герой, выигравший два сражения, болтал
с ним, как Сципион с Теренцием». Менее благоприятно было дру-
гое посещение, в Берлине в сентябре 1743. Здесь опять замешались
несчастные дипломатические дела, которых Вольтер честолюбиво
добивался. Вольтер посылал тайные известия к французскому ми-
нистру иностранных дел и даже вел для него свой дневник, в кото-
ром записывал все слова, сказанные королем в дружеской беседе.
Ему хотелось быть французским посланником в Берлине; и король
должен был согласиться и на это назначение Вольтера. В своих за-
писках Вольтер с самодовольной подробностью рассказывает, как
ловко умел он в объяснении о Ливии и Вергилии вставлять вопросы
о Франции и Австрии; зато Фридрих говорит в истории своего вре-
мени, что блестящее воображение Вольтера стремилось подняться
в могучем полете в обширную область политики, но что все его
мнимое посланничество не больше как смешная игрушка.
156
Тем не менее Фридрих оставался верен своему плану — надол-
го привлечь Вольтера к своему двору. 12 сентября 1749 он пишет
к Альгаротти: «Вольтер за свои проделки стоил бы наказания,
но я сделаю вид, что не замечаю их, потому что он нужен мне для
изучения французского языка; можно и от злодея научиться хоро-
шим вещам; я хочу знать его французский язык, что мне за дело
до его нравственности?» Фридрих тем настоятельнее повторял свои
приглашения. Рассчитывая на тщеславную щекотливость Вольтера,
он написал даже остроумную эпиграмму, которой смысл был тот,
что Вольтер есть заходящее солнце, а что солнце восходящее есть
Бакюлар д’Арно, молодой писатель, которого Вольтер рекомендовал
королю в секретари. Услужливые друзья сообщили эти строчки Воль-
теру. «Король увидит, — воскликнул в бешенстве Вольтер, — что
я еще не совсем закатился». Он известил короля о своем приезде,
и король 24 мая 1750 написал ему дифирамбическое письмо, что
почтовые лошади, дороги, гостиницы и погода Германии поспешат
достойным образом принять певца Генриады.
Вольтер 10 июля 1750 приехал в Сан-Суси. За путешествие он
был вознагражден 4000 талеров. Первоначально он хотел пробыть
здесь лишь несколько месяцев. 14 августа Вольтер извещал свою
племянницу, г-жу Дени, что он принял при короле постоянную
должность. Он получил 20 000 ливров годового жалованья, помеще-
ние в королевском дворце, стол, прислугу, экипаж, и в заключение
титул камергера и орден pour le merite1.
Исход можно было предвидеть. Медовый месяц был, конечно,
восхитителен. В своих записках Вольтер сравнивал прием, сде-
ланный ему в Потсдаме, с приемом Астольфа во дворце Альсины;
и действительно, все письма Вольтера за это первое время пол-
ны совершеннейшего довольства новым местопребыванием и со-
вершеннейшего удивления к королю. Но уже те письма, которые
Вольтер писал к г-же Дени от 17 и 24 ноября 1750, показывают на-
чинающееся неудовольствие; это неудовольствие возрастает оче-
видно со дня на день. Вскоре затем произошла знаменитая история
Вольтера с евреем Авраамом Гиршелем; и эта история, конечно,
была совершенно способна окончательно лишить его благосклон-
ности короля.
Документальное изложение этого знаменитого процесса нахо-
дится в летописях законодательства Клейна (Annalen der Gesetz-
geb. 1790, т. 5, стр. 215 и след.). Одна статья Дрезденского мира,
закончившего вторую силезскую войну, постановила, что саксон-
ские бумаги, так называемые Steuerscheine, стоявшие очень низко
по курсу, если бы находились в руках прусских подданных, должны
быть оплачиваемы Саксонией по их номинальной цене. Было очень
1 За заслуги (фр.). —Прим. изд.
157
естественно, что прусские денежные люди стали тайно скупать эти
Steuerscheine и что все запрещения королем этих прибыльных опе-
раций оставались безуспешны. 23 ноября 1750 Вольтер также по-
ручил берлинскому банкиру Гиршелю устроить ему такую сделку.
Гиршель хотел обмануть своего доверителя и чувствовал себя тем
более обеспеченным, что любимец короля вероятно не решился бы
открыто признаться в нарушении королевских запрещений. Воль-
тер, по подстрекательству одного еврея Эфраима, вдруг отменил это
поручение и в вознаграждение суммы, переданной Гиршелю, взял
у него бриллиантов на три тысячи талеров. Эти бриллианты были
оценены придворным ювелиром Рекламом; тем не менее Вольтер
через три дня отослал бриллианты назад, — он увидел будто бы, что
был обманут. Гиршель не соглашается. Вольтер требует его ареста,
и начался процесс. Гиршель обратился прямо к королю. Вольтер
хотел скрыть предпринимавшуюся запрещенную операцию с сак-
сонскими бумагами и в счете с Гиршелем о покупке бриллиантов
слово taxes («оцененные») изменил в taxables («подлежащие оцен-
ке»). Правда, Вольтер был 18 февраля 1751 оправдан, так как Гир-
шель был в других пунктах уличен во лжи; но как думало об этом,
наделавшем шуму деле, общественное мнение, достаточно видно
из остроумной эпиграммы Лессинга (изд. Lachm. 1, стр. 32), которая
кончается словами:
Und kurz und gut den Grund zu fassen
Warum die List
Dem Juden nicht gelungen ist,
So fallt die Antwort ohngefahr:
Herr V** war ein grossrer Schelm als er.
(«И чтобы коротко и ясно сказать причину, почему хитрость не удалась ев-
рею, — ответ будет почти такой: господин В** был больше мошенник, чем он».)
С этим совершенно согласны два другие намека Лессинга (т. 2,
стр. 3, ит. 11, стр. 308); а Лессинг знал дело очень хорошо, потому
что в то время он, двадцати двухлетний и совершенно неизвестный
писатель, переводил для Вольтера с французского на немецкий на-
писанные им защитительные записки. На короля этот публичный
скандал подействовал тем неприятнее, что именно любимец из его
ближайшего кружка был нарушителем его строгого запрещения от-
носительно саксонских бумаг, — и, кроме того, он узнал, что Воль-
тер старался воспользоваться своими особенными отношениями
к королю, чтобы подействовать на судей.
К этому присоединились и всякие другие личные промахи. Вне-
запное вмешательство Вольтера раздражило и перессорило весь
французский кружок «умных людей», и это расстраивало общество
158
короля. Вольтер не мог также отстать и от своей безумной страсти
вмешиваться в дипломатические дела. И наконец в довершение
всего Мопертюи донес королю, что когда король послал Вольтеру
для поправки свои стихи, Вольтер презрительно сказал: «Когда же
король перестанет заставлять меня перемывать его грязное белье?»
2 сентября 1751 Вольтер должен был написать своей племяннице,
что король сказал по секрету Ламетри, что «он продержит Вольтера
разве еще один год; что выжавши апельсин, корку его бросают».
При такой крайней натянутости отношения разрыв был неизбе-
жен. Он ускорен был ссорой Вольтера с Мопертюи. Мопертюи уже
давно завидовал Вольтеру, который заслонял его своей славой; Воль-
тер с своей стороны не мог спокойно признавать за ним чести быть
президентом берлинской академии. Поэтому, когда Мопертюи всту-
пил в спор об одном вопросе научной механики с старым другом
Вольтера, голландским профессором Сэмуелем Кёнигом, знакомым
Вольтеру еще в Сирее, и 13 апреля 1752 несправедливо исключил
его из берлинской академии, Вольтер издал в сентябре безыменный
отчет об этом академическом юридическом убийстве под заглавием
«Reponse d’un academicien de Berlin a un academicien de Paris». На это
отвечал, также безыменно и не бесстрастно, сам король Фридрих,
который не мог вынести, чтобы нанесен был ущерб достоинству его
академии. Таким образом король и писатель встретились, как два
замаскированные противника; между тем оба узнали друг друга,
и эта игра при всей ее опасности имела для Вольтера особенную
прелесть. Вольтер пошел еще дальше и написал свою «Diatribe du
docteur Akakia, medecin du Pape», один из самых резких, но и остро-
умных пасквилей, какие знает литература. Некоторые фантастиче-
ские странности и нелепости в сочинениях Мопертюи, особенно
в его «Lettre sur le progres des sciences» (ср. выше, стр. 82) достави-
ли неистощимый источник для его насмешливых преувеличений
и остроумных карикатур. Об этот новом нападении на президента
своей академии король получил известие только тогда, когда пам-
флет был тайно напечатан в Потсдаме. Он был возмущен. Вольтер
отрекался. Король пишет ему: «Ваше бесстыдство удивляет меня.
После всего того, что вы сделали и что ясно, как солнце, вы упор-
ствуете в отрицании вместо того, чтобы признать себя виновным.
Не воображайте себе, что заставите меня поверить, что белое чер-
но; если люди не всегда видят, — значит, они не всегда хотят ви-
деть. Но если вы доведете дело до крайности, я велю напечатать
все, и тогда узнают, что если ваши сочинения заслуживают, чтобы
вам воздвигали статуи, то ваше поведение напротив заслуживает
цепей. Книгопродавец был спрошен, он признался во всем». Нако-
нец Вольтер признается и старается обратить все дело в шутку. Он
должен выдать все издание. Король велел сжечь найденные экзем-
пляры в своем камине, и Вольтер 27 ноября 1752 должен был под-
159
писать заявление, что он никогда не будет писать ни против Фран-
ции, ни против какого-нибудь другого правительства, ни против
других писателей, — заявление до того унизительное, что непонят-
но, каким образом Вольтер мог сделать его, если имел сколько-ни-
будь уважения к себе. Между тем все это было уже поздно, чтобы
действительно задержать публикацию Диатрибы. В Берлин тем
временем пришли экземпляры, напечатанные в Дрездене. Король
пришел в величайший гнев, до того, что 24 декабря пополудни
велел сжечь книжку рукой палача на площадях Берлина. Вольтер,
живший уже несколько времени в доме своего друга и издателя
Франшвилля (Taubenstrasse, 20), мог собственными глазами видеть
аутодафе1 на соседней Жандармской площади. На новый 1753 год
Вольтер отослал королю патент на пенсию, орден и камергерский
ключ с трогательными стихами и письмом. Но король против ожи-
дания протянул ему руку примирения, возвратил ему орден и ключ
и 30 января 1753 даже снова призвал его в свой ближайший круг
в Потсдаме. По его желанию Вольтер напечатал в Шпенеровой га-
зете 18 января заявление, что он не принимал никакого участия
в недавних академических спорах; но к этому заявлению он при-
бавил в Утрехтской газете метившую на Фридриха заметку, que des
disputes entre gens de lettres sur des experiences de physique singulieres ne
peuvent etre traitees comme des affaires d’Etat ni des affaires criminelles2.
Как видно из современных писем, у Вольтера уже несколько недель
было намерение покинуть двор как можно скорее. Но когда он про-
сил позволения отправиться на воды в Пломбьер, король отвечал,
как пишет Вольтер 15 марта своей племяннице, что есть отличные
воды и в графстве Глац. И когда Вольтер настаивал, король писал
ему 16 марта очень сердито: vous pouvez partir quand vous voudrez,
mais, avant de partir, faites-moi remettre le contrat de votre engagement,
la clef, la croix et le volume de poesies queje vous ai confies3. Но Вольтер
не хотел расстаться в немилости. Он приехал в Потсдам, имел ауди-
енцию у Фридриха, которая прошла удовлетворительным образом
для обоих. Он прожил еще восемь дней у своего хозяина-короля
в прежней близости. Затем он получил позволение уехать. Он поки-
нул Потсдам 26 марта 1753 с твердым намерением никогда больше
не возвращаться.
Вольтер пробыл три недели в Лейпциге, где он познакомился
с Готтшедом. Он должен был обещать королю Фридриху никогда
больше не трогать Мопертюи. Но когда президент академии, не до-
1 Торжественная религиозная церемония. — Прим. изд.
2 Что споры между литераторами по поводу единичных физических экспери-
ментов не могут рассматриваться как государственные или уголовные дела (фр.). —
Прим. изд.
3 Вы можете уйти, когда захотите, но перед уходом пришлите мне договор о ва-
шем залоге, ключ, крест и том стихов, которые я вам доверил (фр.). — Прим. изд.
160
веряя миру, счел нужным послать вслед уезжавшему Вольтеру еще
угрожающее письмо, то Вольтер не мог удержаться, чтобы не про-
должать войны, и прежде всего осмеял угрожавшего противника
карикатурным изображением в одной лейпцигской газете. Эту но-
вую выходку, так же как некоторые дальнейшие нападения, он еще
в том же году вместе с Диатрибой собрал в брошюру под названи-
ем Histoire du docteur Akakia et du natif de Saint-Malo. Затем Вольтер
отправился в Готу. Герцогиня Доротея приняла его с чрезвычайной
внимательностью и с тех пор вела с ним самую деятельную пере-
писку. Потом он отправился через Кассель во Франкфурт-на-Майне.
Там, 1 июня, последовал по приказанию Фридриха Великого тот
внезапный арест Вольтера, который привел весь образованный мир
в изумление и напряженное ожидание. Странный конец дружбы,
которая началась некогда так горячо!
Это событие большей частью передается по рассказам Вольтера
и по вышедшему в 1807 рассказу его секретаря, флорентинца Ко-
лини. Фарнхаген фон Энзе в своих Denkwiirdigkeiten und vermischte
Schriften (т. 8, стр. 173 и далее) напечатал документы, хранящиеся
в тайном королевском архиве в Берлине. Из этого документально-
го изложения оказывается ясно, что Вольтер и его секретарь при-
страстно преувеличили дело. Король виноват меньше, чем до сих
пор решались думать даже самые ревностные его поклонники, меж-
ду тем как на исполнителей его приказаний, конечно, падает упрек
в бюрократической неумелости и грубых, незаконных действиях.
И франкфуртский совет нашел нужным сделать в Берлине представ-
ления в пользу арестованного Вольтера и в защиту своих имперских
прав, хотя, конечно, в самых покорнейших формах.
Когда повторившиеся нападения на Мопертюи, против угово-
ра, снова показали, что на Вольтера полагаться нельзя, и когда все
яснее оказывалось, что Вольтер не возвратится больше в Пруссию,
короля стало беспокоить то, что в руках Вольтера находились неко-
торые письма, но в особенности том стихотворений короля, — том,
который издан был в немногих оттисках для одних ближайших
друзей, и которого известность была бы крайне нежелательна для
короля по политическим соображениям. Поэтому король, повеле-
нием 11 апреля 1753, поручил прусскому резиденту во Франкфур-
те-на-Майне, кригсрату Фрейтагу, вытребовать у Вольтера, при его
проезде, камергерский ключ, крест и ленту ордена pour le merite
и взять его письма и бумаги (Briefe und Scriptureri) и также упомя-
нутый сборник стихотворений; в случае отказа надобно было гро-
зить Вольтеру арестом, и если нужно, действительно арестовать
его. По приезде Вольтера приказание было тотчас исполнено. Ключ
и орден были выданы; обыск в бумагах продолжался от 9 часов утра
до 5 часов пополудни; но, к несчастью, том стихов, с другими ве-
щами Вольтера, остался в Лейпциге для позднейшей пересылки.
161
Вольтер должен был обещать честным словом, что останется за-
держанным в своей гостинице до прибытия этого ящика; а затем,
по письменному удостоверению Фрейтага, он мог выехать. Фрейтаг
уведомлял в Потсдам о положении вещей, но на то время короля
в Потсдаме не было.
18 июня прибыл из Лейпцига выписанный ящик к прусско-
му резиденту во Франкфурте. Вольтер считал себя свободным.
Но Фрейтаг отговаривался из чиновнической боязливости откры-
вать ящик, так как в тот же день пришла из Потсдама бумага се-
кретаря Фридриха, которая извещала о скором возвращении короля
и его ожидаемых приказаниях. Вольтер не без основания жаловался
на нарушение слова; он был крайне раздражен и, вместе с своим се-
кретарем, 20 июня сделал попытку к бегству. Его догнали и аресто-
вали снова. Племянница его, г-жа Дени, поспешившая на помощь
дяде во Франкфурт, также была арестована Фрейтагом, потому
что пыталась призвать для посредничества франкфуртскую поли-
цию. К арестованным был приставлен караул. На следующий день,
21 июня, пришел от возвратившегося в Потсдам короля приказ ос-
вободить Вольтера. Но так как он своей попыткой бегства совер-
шил новый поступок, то боязливый Фрейтаг счел себя обязанным
сначала послать об этом сведение в Потсдам. Так прошло еще две
недели, пока оттуда пришел весьма немилостивый к Фрейтагу при-
каз все-таки немедленно освободить Вольтера. Король досадовал
на эту совершенно непредвиденную путаницу, вызванную неразум-
ным усердием его чиновников. Вольтер, которого, как пишет тай-
ный секретарь Фридриха к Фрейтагу, «весь свет считает за Kujon»,
и его племянница, о которой сам король пишет, qu’elle pourrait bien
etre une aimable carogne aussi malicieuse que M. son oncle1, были отпу-
щены 7 июля. Если Вольтер сочиняет басни о злостном вымогании
его собственности, даже о ночном покушении караула на честь его
племянницы, это оказывается чистой выдумкой. Как смело Вольтер
в своих рассказах обращается с фактами, видно, например, из того
простого обстоятельства, что он неутомимо приписывает резиденту
смешное правописание «роёзЫе», между тем как Фрейтаг во всех
этих бумагах совершенно правильно пишет «роёз!е». Но и рассказ,
составленный прусскими чиновниками, не свободен от извраще-
ний: так, мнимое нападение Вольтера с пистолетом в руках на Фрей-
тага по расследованию Франкфуртского совета оказалось басней.
Вольтер отмстил Фридриху за это франкфуртское «кораблекру-
шение» известным злостным изображением прусской придвор-
ной жизни (Memoires pour servir a la vie de M. de Voltaire); но он их
не издавал и распорядился, чтобы они не были издаваемы при жиз-
1 Она может очаровательной тварью, такой же лукавой, как ее дядя (фр.). —
Прим. изд.
162
ни прусского короля. Но нескромность повела к их напечатанию
в 1784 под заглавием La vie privee du roi de Prusse.
Уже весной 1754 снова началась переписка между Фридрихом
и Вольтером: последний отправил королю первый том своего исто-
рического сочинения Les annales de I’empire, и первый ответил бла-
годарностью и уверял Вольтера, что имел против него только то не-
удовольствие, что тот не сдержал своего слова в деле Мопертюи.
Несколько месяцев спустя (в августе) Вольтер решился на первую
просьбу, чтобы получить от короля слово удовлетворения за испы-
танное во Франкфурте. Фридрих насмешливо отвечает ему через се-
кретаря по этому «vieille affaire dont vous parlez encore»1, и сколько
потом Вольтер ни высказывал желания положительного удовлетво-
рения, король отказывал. Все это не обходилось без неудовольствия
с обеих сторон: оно ярко высказывается в письмах, и переписка
не раз надолго прерывается. Между тем, сколько ни имел Фридрих
оснований жаловаться и на то, что Вольтер продолжал пользовать-
ся своими литературными отношениями к нему для политических
целей, но письма его, особливо письма к д’Аламберу, достаточно
свидетельствуют, с каким не ослабевшим удивлением король все
еще говорил об уме Вольтера, и когда около 1770 шла речь о статуе
Вольтера, которую должен был исполнить Пигаль, Фридрих принял
в этом участие весьма значительной суммой. По смерти Вольтера
Фридрих писал 26 ноября 1778 в лагере в Шацларе похвальную
речь, которую велел прочитать в торжественном публичном засе-
дании берлинской академии, — речь благородную и правдивую,
полную преданного чувства и признания его заслуг.
По освобождении из Франкфурта Вольтер отправился снача-
ла в Майнц, — между тем как г-жа Дени поехала прямо в Па-
риж, — и оттуда в Шветцинген, ко двору Карла-Теодора, курфюрста
пфальцского. Он долго колебался, куда ему направиться, потому
что Париж, вследствие гнева короля, был для него по-прежнему за-
крыт. В октябре 1753 он поселился на некоторое время в Кольмаре,
чтобы воспользоваться указаниями знаменитого юриста Шёпфлина
для Annalles de I’empire. Это было для него беспокойное время. Ко-
пии Pucelle ходили по рукам в угрожающем числе, и можно было
наверно ждать ее напечатания каким-нибудь недоброжелательным
человеком. Князь-епископ базельский поручил кольмарским иезуи-
там побеспокоить его. На пасху 1754 он намеренно присутствовал
на церковном торжестве, но это помогло мало; он должен был се-
рьезно подумать о том, чтобы найти себе другое место жительства.
Вольтер то думал опять поселиться в Англии, то хотел принять при-
глашение готского двора. Обоим планам противилась его племян-
ница, г-жа Дени. Тогда стала определяться мысль, которую он имел
1 Старый случай, о котором ты все еще говоришь (фр.). — Прим. изд.
163
уже раньше: он хочет поселиться в Швейцарии. В ноябре 1754 он
покидает Кольмар и едет через Лион в Ваадт1. Местные законы
не позволяют ему, как католику, приобрести продававшийся замок
на Женевском озере. До весны он гостит у некоего господина Жижё
(Giger) в замке Пранжен. Между тем представляется случай нанять
дом подле Лозанны в Монрионе, и вслед за тем женевский банкир
Троншен, как подставной покупщик, приобретает для него у во-
рот Женевы на берегу Роны поместье, которое он назвал Les Delices
и выбрал своим летним местопребыванием. Таким образом он стал
землевладельцем именно в той стране, где законы запрещали ему
владеть землей. Можно представить, как он подсмеивался над этим
в своих письмах!
Далее, в ноябре и декабре 1758 он приобретает два владения
за швейцарской границей, лежавшие на французской земле, граф-
ство Турнэ и имение Ферни, последнее в округе Жекс. Теперь он
пишет в своих письмах: «J’appuie ma gauche au mont-Jura, ma droite
aux Alpes et j’ai le lac de Geneve au-devant de mon camp; un beau
chateau sur les limites de la France, I’ermitage des Delices au territoire
de Geneve, une bonne maison a Lausanne; rampant ainsi d’une taniere
a 1’autre, je me sauve des rois et des armees»2.
Покинув свой дом в Лозанне, он переселяется в свой женевский
Malepartus3, зимой живет в Delices, летом в Турнэ, пока, наконец,
в конце 1760 года поселяется в совершенно переделанном Ферни,
и только изредка он жил в других своих владениях.
Здесь начинается последняя и во многих отношениях важнейшая
эпоха в жизни Вольтера.
Вольтер был уже старик, слабый и болезненный. В своих пись-
мах он охотно говорит о своей физической дряхлости и любит назы-
вать себя «1е vieux Suisse, le vieux malade de Ferney, le vieil ermite de
Ferney, le vieux malade du Mont-Jura»4. И Фрейтаг в своих франкфур-
тских донесениях в Берлин не мог достаточно надивиться худобе
Вольтера, походившего на скелет. Вольтер был знатный и богатый
человек, и ему нравилось тщеславиться своим счастливым состоя-
нием. Кто не знает по портретам его длинной худощавой фигуры
с иронической усмешкой, его большого седого парика, длинных
тонких манжет и вышитого верхнего платья или собольей шубы,
крытой красным бархатом, которую подарила ему русская импера-
1 От нем. Waadt. Французское название Vaud переводится «Во». — Прим. изд.
2 Слева у меня Мон-Жюра, справа Альпы, Женевское озеро перед моим лагерем,
красивы замок на границе Франции, эрмитаж наслаждений на территории Жене-
вы, хороший дом в Лозанне; так, переползая из одного логова в другое, я спасаюсь
от королей и армий (фр.). — Прим. изд.
3 Логовище Рейнеке-Лиса. — Прим. пер.
4 Старый швейцарец, старый больной из Ферне, старый отшельник из Ферне,
старый больной из Мон-Жюра (фр.). —Прим. изд.
164
трица? Еще немного лет назад, в замке и саду Ферни сохранялось
все то богатое, хотя вычурное изящество, которое мы привыкли ви-
деть в жизни знатного света в восемнадцатом столетии. Иностран-
цы собирались в Ферни со всех сторон. Препровождение времени
оживлялось домашним театром, на котором являлся иногда сам
Вольтер и который часто украшали даже первые артисты столи-
цы, например, в особенности Лекен, как некогда в Delices, к досаде
женевских властей, так теперь в Турнэ и в Ферни. В одном письме
к маркизу Тибувиллю, Вольтер однажды называет себя в шутку
aubergiste de ГЕигоре1 (Lettres ined., 2, стр. 132). Но в Вольтере было
столько неиссякаемой свежести и силы, что наслаждение и отдых
не могли ни на минуту отвлечь его от его высших целей. Его всегда
влекло — словом и делом осуществить идеал своей юности.
Действительно, Вольтер-старик свежее и смелее Вольтера-юно-
ши. То, что он осмелился указать в своих Английских письмах
только с боязливой осторожностью, является теперь открытым
объявлением войны. Ecrasez I’infame2, это знаменитое слово ста-
новится теперь его девизом и его страстью. Когда издатели и на-
чинатели «Энциклопедии» пугаются угрожающих опасностей, он,
их патриарх, побуждает их все к большей смелости и решительно-
сти. Вольтер пишет еще драмы, и «Танкред» есть даже одно из его
лучших и имевших наиболее успеха произведений. Но главная
сторона его деятельности заключается в «Essai sur 1’Esprit et les
Moeurs des Nations», который он в первый раз напечатал в Дрездене
в 1754—1758; в «Dictionnaire philosophique», который явился впер-
вые в 1764 книгой 8° в 350 страниц и затем при жизни Вольтера
имел еще с дюжину постоянно умножаемых изданий; в «Philosophe
ignorant» (1766); в «Examen important de Milord Bolingbroke» (1767);
в «Diner du comte de Boulainvilliers» (1667); в «II faut prendre un parti»
(1772); в «Bible enfin ехрИдиёе» (1776); в сатирических рассказах;
и все эти сочинения стремятся только к одной и той же цели — под-
копать основные учения христианства и католической церкви, ко-
торые он считал корнем суеверия и господствовавшего духа пресле-
дования, и взамен того проложить путь свободному и спокойному
исполнению так называемой разумной религии. Не менее неуто-
мимо, он боролся против недостатков судебного порядка. Если он
не мог достигнуть до своих последних целей, он хотел по крайней
мере обеспечить самую безусловную религиозную терпимость, са-
мое кроткое исполнение законов, в особенности законов уголовных.
Вольтер справедливо мог похвалиться в одном письме к г-же
дю Деффан, что сердце его еще молодо. Он везде является человеком
с быстрой решимостью. В короткое время он сделал из Ферни, ко-
1 Трактирщик Европы (фр.). —Прим. изд.
2 Давите мерзость (фр.). —Прим. изд.
165
торый достался ему маленьким, заброшенным местечком, где жила
сотня бедных крестьян, деятельный, зажиточный город, где при его
жизни считалось 1200 трудолюбивых жителей, занимавшихся боль-
шей частью выделкой часов. Услышав в 1760, что одна родственни-
ца Пьера Корнеля живет в нужде, он призвал ее в Ферни и дал ей об-
разование под своим отеческим надзором. Своими «Commentaires
sur Corneille» (1761) он доставил ей богатое приданое: «Старому
солдату, — говорил он, — следует быть полезным дочери своего ге-
нерала». М-11е Корнель вышла замуж в 1763 за драгунского офицера
Дюпюи, у которого было именье близ Ферни; молодая пара заня-
ла у Вольтера двенадцать тысяч ливров. После рождения первого
ребенка поэт сделал визит молодой женщине и прощаясь оставил
великолепную серебряную вазу, в которой была квитанция на за-
нятые деньги. Его секретарь Ваньер (Wagniere) рассказывает ряд
других подробностей о привлекательных делах участия и благотво-
рительности Вольтера.
Каков он был в мелочах, таков он был и в вещах серьезных. Его
старость отличается несколькими чертами и поступками, которые
произвели сильное впечатление и увеличили его литературную сла-
ву другой, лучшей славой — быть и в действительной жизни врагом
фанатизма, мстителем нарушенного закона, другом и защитником
страдающих и угнетенных.
Всего известнее история Жана Каласа.
Жан Калас, 63 лет от роду, уже больше сорока лет жил торгов-
лей в Тулузе; он и его семейство были протестанты. Младший сын
его перешел в католицизм, но через это не отдалился от семейства;
в доме жила также больше тридцати лет служанка-католичка, хо-
дившая за детьми. Марк Антуан, старший сын Жана Каласа, был
парень легкомысленный и весь в долгах. Когда разные попытки до-
ставить ему какое-нибудь положение не имели успеха, он предался
праздности и игре и 13 октября 1761 повесился. Все обстоятельства
указывали на самоубийство. Несмотря на то, один фанатик из са-
мого низшего класса народа кричал, что отец повесил своего сына
из ненависти к католической религии, которую покойный хотел
вскоре принять, по примеру своего младшего брата. Головы разго-
рячились, и попы раздували пламя. Семейство Каласа, католическая
служанка, один друг дома были закованы, в цепи; Марк-Антуан был
торжественно выставлен как мученик; народ рассказывал о ясных
как день чудесах, испытанных на себе теми, кто имел счастье кос-
нуться тела Марка-Антуана. В конце концов самоубийца-протестант
был с большой пышностью похоронен по католическому обряду.
К несчастью, именно в 1762 году пришелся двухсотлетний юбилей
страшной резни гугенотов, которая в одной Тулузе стоила жизни
трем тысячам человек. Это обстоятельство еще более усилило все-
общее возбуждение. Дело разбирали тринадцать судей тулузского
1бб
парламента в последней инстанции. Казалось невероятным, чтобы
шестидесяти трехлетний старик; с опухшими и слабыми ногами,
мог задушить и повесить необыкновенно крепкого мужчину двад-
цати восьми лет; также невероятным казалось и то, чтобы в этом
злодействе участвовали нежная мать, любящий брат, строго католи-
ческая служанка и друг семейства, издалека приехавший повидать-
ся. И как бы возможно было это злодейство без борьбы, без крика,
без ран? Тем не менее отец осужден был восемью голосами против
пяти на пытку и колесование, 9 марта 1762, и этот приговор на сле-
дующий день был исполнен. Старик остался тверд во всех мучениях.
Еще на колесе, прежде чем палач положил конец его мукам задуше-
нием, старик призывал Бога в свидетели своей невиновности и мо-
лился, чтобы Бог простил его судьям. Его тело было сожжено. Брат
и сестры под видом помилования посажены были в монастырь и вы-
нуждены принять католичество; мать осталась одна, без семьи и без
средств к существованию. Тогда Вольтер, у которого нашли прибе-
жище молодые Донат и Пьер Каласы, бежавшие от преследования
и монастыря, взялся за перо и выпустил в свет ряд записок, взвол-
новавших общественное мнение всего образованного мира, особен-
но свое знаменитое сочинение о терпимости (1763). Почти семи-
десятилетний старик выказал неустанную деятельность. Он принес
большие личные жертвы и нанял целый штаб знаменитых адвока-
тов для защиты семейства Каласа. Париж и вся Европа вступились
в это дело и требовали справедливости. Государственный совет
7 марта 1763 решил единогласно, что тулузский парламент должен
выслать документы этого дела. Тулузский парламент медлил. Нако-
нец, через три года производство дела было кончено: невинность
победила. Тулузский приговор в июне 1764 был отменен, и нако-
нец, в годовщину осуждения, 9 марта 1765, семейство Калас было
объявлено невинным. Честь колесованного отца была спасена. Ко-
роль назначил семейству 36 000 ливров, конечно, жалкий подарок,
когда один процесс в защиту семейства поглотил 50 000 ливров. Три
года своей жизни Вольтер неутомимо боролся за это дело. «Ни разу
улыбка не касалась моих губ в течение этого времени, — говорит
он. — Я поставил бы ее себе за глубокую несправедливость».
В том же роде и история Сирвена.
В 1762 году, когда семейство Калас было обременено цепями,
дочь Поля Сирвена, кальвиниста, жившего в Кастре, была насиль-
ственно взята епископом Кастра в монастырь для воспитания в ка-
толицизме. Она сошла с ума. Выпущенная из монастыря, она, до-
вольно далеко от дома своего отца, бросилась в колодезь. Умы были
возбуждены делом Каласа; как этот из ненависти к католицизму по-
весил своего сына, так Сирвен будто бы по той же причине утопил
свою дочь. Думали, что у протестантов есть закон, требующий смер-
ти детей, если бы они обнаруживали наклонность к католицизму.
167
Отца, мать и сестер решено было арестовать. Сирвен предупредил
исполнение ареста; он бежал с своим семейством в Женеву. Несмо-
тря на то, процесс продолжался. С легкомысленной поспешностью
был произнесен приговор об отсутствующих; отец и мать были
повешены in effigie; имения были конфискованы. Вольтер и здесь
явился защитником и мстителем. Правительства бернское и женев-
ское, русская императрица, короли польский, прусский и датский,
ландграф гессенский, герцоги саксонские, по вызову Вольтера, при-
слали несчастному семейству богатую помощь. Вольтер обратился
прямо к тулузскому парламенту, который опять по закону был выс-
шей судебной инстанцией в деле Сирвена; исход процесса Каласа
дал перевес свободномыслящей партии, и Сирвен через девять лет,
в 1771, был оправдан.
Дальше история де Ла Барра.
Один житель Аббевиля, небольшого городка в Пикардии, по име-
ни Беллеваль, сделал настоятельнице монастыря объяснение в люб-
ви, но получил отказ. В 1764 настоятельница призвала к себе своего
племянника де Ла Барра, чтобы на свой счет довершить его воспи-
тание. Беллеваль решился отомстить. Замечено, было, что молодой
де Ла Барр и его друг д’Эталлон в июле 1765 прошли мимо одной
процессии не снявши шляп. К несчастью, 9 августа того же года
в Аббевиль сброшено было с моста в воду деревянное распятие. Это
преступление приписывали вообще пьяному солдату. Но Беллеваль
сумел воспользоваться случаем и поставил упомянутое пренебреже-
ние к процессии в связь с этим преступлением относительно рас-
пятия. Начат был уголовный процесс. Правда, допрос свидетелей
13 августа 1765 мог только доказать, что де Ла Барр пел однажды не-
которые легкомысленные песни, и нельзя было найти следа совер-
шенного преступления, восемнадцатилетний де Ла Барр по одному
подозрению был присужден к пытке и церковному покаянию, затем
ему должно было вырвать богохульный язык и отрубить голову. Он
мужественно вынес мучение; он отказывался говорить церковное
покаяние и оказал такое отчаянное сопротивление палачу, который
должен был вырезать ему язык, что этот удовольствовался отрубить
ему голову. На костер, на котором сожгли тело казненного, была
также брошена книга, которая, как полагали, совратила молодого
человека, «Dictionnaire philosophique» Вольтера. Друг его д’Эталлон
успел бежать. По рекомендации Вольтера он получил офицерское
место в прусской армии. Письма Вольтера поразительны по его
горькому гневу. Он должен был удовольствоваться быть благодете-
лем спасшегося, когда, несмотря на все усилия, ему не удалось до-
биться отмены приговора.
Дальше история Монбальи.
Старая женщина, любившая выпить, жила в доме своего сына
в Сент-Омере; 26 июля 1770 она выпила больше обыкновенного,
168
и на другой день нашли ее мертвой на сундуке и упавшей с постели.
Все обстоятельства указывали на внезапную смерть от удара; ее сын
и жена его, молодые порядочные люди, спокойно спали в соседней
комнате. Вскрытие трупа не показало решительно ничего особен-
ного; погребение и устройство наследства шли своим обыкновен-
ным порядком. Вдруг пронесся слух, что мать была убита своими
детьми. Сент-Омерские судьи арестовали Монбальи и его жену. До-
просы не дали никакого повода к подозрениям; но из уступчивости
к крикам толпы судьи удержали арестованных в заключении. Дело
поступило в высший суд в Аррасе. Монбальи, без всякого нового
допроса, был осужден на пытку, затем ему должно было отрубить
руку, совершившую убийство, тело его колесовать и еще живым
бросить в огонь. Жена была «помилована» на пытку и виселицу.
Приговор 19 ноября 1770 был исполнен над Монбальи; он умер спо-
койно, с клятвами уверяя на эшафоте о своей невинности. Казнь
жены была отложена, потому что она была беременна. Таков был
юридический обычай в Ancien regime, и эта черта человеколюбия
в том бесчеловечном уголовном законодательстве в течение двух
десятилетий спасла жизнь не менее как трем невинно осужденным
женщинам. Тогда вступился в это дело Вольтер, «адвокат потерян-
ных дел», как он сам себя называет. Он написал мемуар «La meprise
d’Arras». Новый суд собрался в Аррасе. Монбальи и жена его были
объявлены невинными. Вдова с триумфом возвращена была в свой
родной город.
Такое же внимательное участие показал Вольтер к юридическо-
му убийству генерала Лалли, которого осудил на казнь парижский
парламент, несправедливо обвинив его в подлогах, а на деле за то,
что он неудачно совершил индейский поход — осудил чисто по-кар-
фагенски, как некогда Англия — генерала Бинга, в 1766. Вольтер
успокоился только тогда, когда процесс был разобран снова и вслед-
ствие того кассирован. За несколько дней до своей смерти Вольтер
узнал о счастливом успехе своих усилий. 28 мая 1778 он писал
к сыну умершего: «Умирая я ободряюсь, когда узнал это известие.
Нежно обнимаю господина Лалли. Я умру довольный». Это его по-
следние написанные слова, последняя строка переписки, наполняю-
щей двадцать томов и заключающей несколько тысяч писем.
И, наконец, не следует никогда забывать, что именно Вольтер
всего сильнее боролся против сохранявшихся во Франции остат-
ков крепостного права. Всего жестче это крепостное право держа-
лось в Франш-Конте, особенно во владениях монастыря Сен-Клод.
Притесняемые бедняки обратились к Вольтеру, и он самым горя-
чим образом защищал их требования, — но, конечно, напрасно.
Только Людовик XVI отменил крепостное право, по крайней мере
в королевских имениях. Революция 1789 совершила то, чего желал
и к чему стремился Вольтер.
169
Эти сильные дела находили самый восторженный отголосок
во всей Европе. Кондорсе, в своей биографии Вольтера, совершен-
но справедливо говорит: «Русская императрица, короли прусский,
датский, шведский старались заслужить похвалу Вольтера и под-
держивали его благие дела; во всех странах вельможи, министры,
стремившиеся к славе, искали одобрения фернийского философа
и доверяли ему свою надежду на успехи разума, свои планы рас-
пространения света и уничтожения фанатизма. Во всей Европе он
основал союз, которого он был душой. Воинственным криком это-
го союза было: разум и терпимость! Совершена ли была где-нибудь
большая несправедливость, оказывалось ли кровавое преследова-
ние, нарушалось ли человеческое достоинство, — сочинение Воль-
тера перед всей Европой выставляло виновных к позорному столбу.
И как часто рука притеснителей дрожала от страха перед этим вер-
ным мщением!»
Как прискорбно, что при всем том и в это последнее и самое бле-
стящее время Вольтера не было недостатка в пятнах! Он по-преж-
нему отпирается от своих книг. Мало того, он причащается, ходит
на исповедь, не только для того чтобы избавиться от клерикаль-
ных преследований, но и потому, что для него представляло нео-
долимую прелесть насмехаться над господствующими в мире цер-
ковными обычаями, на что противники его должны были злиться,
но не могли обвинить его за это. Фарнхаген (Denkwiirdigkeiten 8,
стр. 475) несправедливо извиняет эти хитрости и притворство, эти
засады и внезапные нападения, это искусное умение идти вперед
и быстро исчезать, — извиняет, как позволительные и необходи-
мые вспомогательные средства партизанской войны. Эту времен-
ную покорность не только люди благочестивые считали безбожной
дерзостью, но даже люди его партии осуждали, как вещь жалкую
и трусливую.
Вольтер прожил двадцать лет в своем сельском уединении. Он
был уже старик восьмидесяти четырех лет. Мало-помалу он стал спо-
койнее в Ферни. Старевшая, но все еще кокетствовавшая г-жа Дени,
наскучив сельской жизнью, употребляла все средства, чтобы побу-
дить его к возвращению в Париж, которое стало возможно для него
по смерти Людовика XV и было желательно, так как предстояла
постановка на сцену его самой ранней трагедии «Ирен». Вольтер
оставил 6 февраля 1778 Ферни и 10 февраля приехал в Париж. Он
остановился у маркиза де Виллета, на набережной, которая называ-
ется теперь набережной Вольтера (quai Voltaire). Эта поездка была
триумфальным шествием, но она была без сомнения и причиной
его смерти.
Все письма и записки современников полны описанием этих
дней. Мы отметим вкратце, что пишет Гримм в Литературной Пе-
реписке:
170
«Сегодня, 30 марта, знаменитый старик в первый раз был в ака-
демии и в театре. Огромная толпа людей следовала за его экипа-
жем даже во дворы Лувра, желая его видеть. Все двери, все входы
академии были заняты; поток раскрылся только, чтобы дать ему
место, и потом быстро сомкнулся снова и с громкой радостью
приветствовал его. Вся академия вышла ему навстречу в первую
залу, — честь, которой не получал еще никто из ее членов, даже
никто из иностранных государей. Ему назначили место директора
и выбрали его единогласно директором. Вольтер принял эти отли-
чия с выражениями живейшей благодарности, и чтение д’Аламбера
о Буало возбудило, кажется, его живейшее участие. Чтение заклю-
чало множество чрезвычайно лестных намеков на Вольтера. Собра-
ние было весьма многочисленно, хотя в нем и не было епископов,
которые не явились — или случайно, или по духу своей церкви,
который никогда не оставляет этих господ. Но эти почести, оказан-
ные академией, были только увертюрой к тому, что ожидало Воль-
тера на национальной сцене. Когда он ехал от Лувра к театру, это
было совершенно похоже на триумф. Все было переполнено людь-
ми обоего пола, всякого возраста и всякого звания. Едва только
показывалась вдали карета, раздавался всеобщий радостный клич;
с приближением его, восклицания, аплодисменты и восторг удваи-
вались. Наконец, когда толпа видела уже почтенного старика, отя-
гощенного столькими годами и столькой славой, видела, как он,
поддерживаемый с обеих сторон, выходил из экипажа, умиление
и удивление достигали высшей степени. Все улицы, все балюстра-
ды домов, лестницы, окна были усыпаны зрителями, и едва оста-
навливалась карета, как все лезло на колеса и на экипаж, чтобы
посмотреть вблизи на знаменитого человека. В самом театре, где
Вольтер вошел в камергерскую ложу, суматоха радости, казалось,
стала еще больше. Он сидел между г-жей Дени и г-жей де Виллет.
Знаменитейший из актеров, Бризар, подал дамам лавровый венок
с просьбой увенчать им старика. Но Вольтер тотчас положил венок
в сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканиями за-
ставляла его оставить венок на голове. Все дамы стояли. Вся зала
наполнилась пылью от передвижения человеческой массы. Только
с трудом можно было начать пьесу. Давали “Ирен” и затем драму
“Нанина”. Когда занавесь упала, шум поднялся снова. Старик встал
с своего места, чтобы благодарить, и тогда посреди сцены явил-
ся на высоком пьедестале бюст великого человека; его окружили
все актеры и актрисы с венками и гирляндами из цветов, на за-
днем плане стали воины, выходившие в пьесе. Имя Вольтера раз-
давалось из всех уст; это было восклицание радости, благодарно-
сти и удивления. Зависть и ненависть, фанатизм и нетерпимость
должны были скрыть свою злобу, и общественное мнение в первый
раз, быть может, высказалось свободно и в полном блеске. Бризар
171
положил на бюст первый венок, за ним следовали другие актеры,
наконец г-жа Вестрис обратила к виновнику торжества несколько
стихов, написанных маркизом Сен-Марком, которые торжественно
высказывали, что лавровый венок дает ему сама Франция. Минута,
когда Вольтер оставлял театр, была, если можно, еще трогатель-
нее, чем его вступление. Казалось, он изнемогал под тяжестью лет
и лавров. Кучера просили ехать потише, чтобы можно было идти
за ним; большая часть народа провожала его с криками: “Да здрав-
ствует Вольтер!”»
Чрезвычайное возбуждение, постоянная деятельность, которой
Вольтер снова отдался и здесь, и которая особенно посвящена была
плану нового словаря французского языка, некоторые невнима-
тельности в исполнении предписанных медицинских мер повели
за собой болезнь, и Вольтер стал жертвой ее 30 мая 1778 между
11 и 12 часами вечера. Последние часы его жизни, усилия духовных
обратить его и то, как Вольтер принимал эти попытки обращения,
весьма различно рассказываются различными партиями. Известно,
что двор и духовенство остались непримиримы, и что его племян-
ница Дени своими отвратительными поступками отравила послед-
ние дни Вольтера. Она давно с нетерпением ожидала наследства
после старого дяди.
Вольтер был погребен не в Париже, а совершенно тихо похоро-
нен был в аббатстве Селльер, в Шампани, где номинальным абба-
том был его племянник Миньо. Актерам запрещено было в это вре-
мя давать драмы Вольтера. Журналам не позволено было говорить
о смерти Вольтера.
Во время революции, 11 июля 1791, прах Вольтера был перене-
сен в Пантеон. Памятник его, с статуей Гудона, получил надпись:
«Aux Manes de Voltaire. РоёГе, historien, philosophe, il agrandit 1’esprit
humain et lui apprit, qu’il devait etre libre. Il defendit Calas, Sirven, de
la Barre et Montbailli, combattit les athees et les fanatiques; il inspira
la tolerance, il reclama les droits de I’homme contre la servitude de la
fёodalitё»1. По возвращении Бурбонов старая ненависть возгорелась
снова. К сожалению, справедливо, что в мае 1814 прах Вольтера,
как и прах Руссо, был тайно вынут из саркофага и разбросан на жи-
водерне.
В этой натуре, многообразной как Протей, удивительно соеди-
няются светлые и темные стороны. История не может отвергать
ни тех, ни других. Маколей в одном из своих опытов сказал послед-
нее слово, говоря: «Мы обязаны пред Вольтером и его товарищами
признать, что настоящая тайна их силы есть пламенный энтузиазм,
1 Памяти Вольтера. Поэт, историк, философ, он расширил разум человека и на-
учил его, что он должен быть свободным. Он защищал Каласа, Сирвэна, де ла Барра
и Монбайи, боролся с атеистами и фанатиками; он внушал толерантность, он тре-
бовал прав человека против рабства феодализма (фр.). —Прим. изд.
172
который во всяком случае скрывался под их легкой натурой». Та-
ким же образом думал и Гёте, когда в своих замечаниях к рассказу
Дидро «Neveu de Rameau» называл Вольтера величайшим писате-
лем, какого только можно вообразить у французов, и писателем,
наиболее соответствующим характеру этой нации.
2. Вольтер как философ
Немецкие историки философии обыкновенно с крайним прене-
брежением говорят о философском значении Вольтера. Даже Генрих
Риттер в своем большом историческом труде (ч. 12, стр. 373) уделя-
ет Вольтеру только несколько строк. Этот странный взгляд на вещи
чрезвычайно несправедлив. Вольтер не был, конечно, творческим
мыслителем, который бы положил неизгладимую межу в истории
самой науки какими-нибудь великими открытиями и завоевания-
ми. Более скромное значение Вольтера состояло в том, чтобы доста-
вить самое всеобщее распространение тому, что было добыто други-
ми. Но ясностью, легкостью, разнообразием и постоянством своего
мышления и деятельности он почти исключительно властвовал над
двумя поколениями. Не неизбежен ли поэтому вопрос, к какому
особенному направлению из перемешавшихся партий того време-
ни он принадлежал?
В Германии именно в Гегелевой школе, слишком, господствова-
ла дурная привычка смотреть на философию, как на нечто заклю-
ченное только в самом себе, развивающееся как бы в безвоздушном
пространстве, односторонне отделенное от естественной почвы
общего состояния образованности. Или, быть может, эта странная
небрежность имеет, относительно Вольтера, еще какое-нибудь осо-
бенное основание? Быть может, не происходит ли она оттого, что
Вольтер никогда не излагал своих мыслей в виде твердой и связной
системы, а всегда только отрывочно и разбросанно, в самых разно-
образных брошюрах, стихотворениях, романах и рассуждениях,
часто слишком скрывая серьезную мысль под легкомысленной
оболочкой? Быть может, даже оттого, что нужно прочесть очень
много толстых томов, чтобы получить полный и наглядный образ?
По крайней мере более чем странно, что те же самые писатели, ко-
торые почти совершенно обходят Вольтера, обыкновенно весьма
пространно говорят о далеко менее замечательном Гельвеции. Ко-
нечно, этот последний представляет ту бесконечную выгоду, что его
легко узнать из двух-трех томов.
Со стороны французов никогда не было такого непонимания зна-
чения Вольтера. Но большая часть из них смотрят на него только
глазами партии. Всего свободнее в этом отношении новейшая кни-
га о Вольтере «La philosophic de Voltaire, par E. Bersot», Paris 1848;
но она не полна и не имеет точного плана. Господствующая кри-
тика в современной Франции делает процесс труду Вольтера и его
173
соратников (ср. статью G. Larroumet, Le XVIIIе siecle et la critique
contemporaine, в его Etudes de litterature et d’art. Paris, 1893).
Религия. Бог, мир, зло
Страстная борьба против церкви и откровенного учения со-
ставляет цель и исходную точку почти всех сочинений Вольтера.
Он сам всегда смотрел на эту борьбу, как на главнейшую задачу
своей жизни.
Христианство и церковь, в особенности католицизм, казались
ему основанием и вершиной самого крайнего суеверия и фанатиз-
ма. Из откровенных писем Вольтера к его друзьям еще яснее мож-
но видеть, чем из его изданных тогда сочинений, что низвержение
и уничтожение христианства были для него совершенно равнозна-
чительны со счастьем и успехами человечества. Ecrasez Vinfame, вот
заключение стольких его писем к ближайшим друзьям: «Embrassez
tous les freres et ecrlinf»1 или «Aimez-moi et ecrlinf»2. L’infame3 (всег-
да в женском роде) есть la basse et infame superstition4, противница
просвещения, мракобесие во всякой форме, но преимущественно
в форме клерикального суеверия и нетерпимости. Когда он гово-
рит «les dogmes de notre infame»5, он разумеет именно клерикалов.
И это столь известное и осуждаемое слово не было у Вольтера одной
родомонтадой6: это есть его глубочайшая надежда и желание.
Главнейшие сочинения, заключающие эти страстные нападе-
ния, были: сочинение, излагавшее его юношеские взгляды (1722),
«Le Pour et le Contre» (напечатано в 1732); «Extrait des sentiments
de Jean Meslier» (после 1761), сделанное Вольтером извлечение
из сочинения, враждебного церкви и государству, оставшегося по-
сле одного священника в Шампани, который умер в 1733; «Sermon
des cinquante», светская проповедь (1762); «Question de Zapata»
(1767), собрание теологических вопросов, которые будто бы ли-
ценциат из Саламанки Запата предложил тамошнему факультету
в начале своей учебной деятельности и из которых первый гласит:
«Comment dois-je m’y prendre pour prouver que les Juifs que nous
faisons bruler par centaines furent, pendant quatre mille ans, le peuple
cheri de Dieu?» Далее, из того же 1767 года: «Examen important de
Milord Bolingbroke ou le tombeau du fanatisme», приписанное умер-
шему английскому другу, но вполне принадлежащее Вольтеру из-
ложение еврейской и христианской истории, и «Le Diner du comte
1 Поцелуй всех братьев и дави мерзость (сокращение от Ecrasez l’infame —
ecrlinf) (фр.). —Прим. изд.
2 Обнимаю и дави мерзость (фр.). —Прим. изд.
3 Гнусная, мерзкая (фр.). —Прим. изд.
4 Низкое и мерзкое суеверие (фр.). —Прим. изд.
5 Догмы нашей мерзости (фр.). —Прим. изд.
6 Хвастливая речь или поведение. — Прим. изд.
174
de Boulainvilliers», теологические застольные разговоры. В 1769 вы-
шло «Dieu et les hommes, oeuvre theologique mais raisonnable», изла-
гающее религиозные представления китайцев, индийцев, халдеев
и т. д., и в 1776 — «La Bible enfin ехрИдиёе par plusieurs aumoniers
de S. M. L. R. D. P. (sa шаз’езгё le roi de Pologne)», самое обширное
из этих сочинений, которые все выходили без имени автора или под
псевдонимом и большей частью с фальшивыми обозначениями ме-
ста и времени печати.
Вольтер не успокаивается и не отдыхает до тех пор, пока под
ударами его молота; повторяющимися все сильнее, должно нако-
нец коваться жесткое железо. «На меня жалуются, — говорит он
однажды, — что я повторяюсь; я буду повторяться до тех пор, пока
мир не исправится». Оружие этих воинственных вылазок, заим-
ствовано им у английских свободных мыслителей. Все направлено
к тому, чтобы доказать внутренние противоречия и исторические
неверности библейских преданий и родственную связь их с языче-
скими сказаниями и представлениями. Многое с намерением иска-
жено, многое высказано с возмутительной дерзостью, с злорадной
и мефистофелевской страстью отрицания, с явной радостью от со-
блазна. Глубокая поэзия Библии понятна Вольтеру так же мало,
как английским писателям, с которыми он сходится во мнениях.
Но везде пылкая страсть, уничтожающее остроумие, неумолимая
проницательность. Отсюда его всеобщее действие во всех странах
и во всех сословиях.
Таким образом с именем Вольтера стали связывать все, что
только говорится между людьми враждебного религии и атеисти-
ческого. Но это несправедливо. По своим основным воззрениям,
Вольтер — деист, в смысле тех английских свободных мыслителей,
которые хотя и разорвали с верой в откровение, но на основании
своей так называемой разумной религии, происходящей из челове-
ческой мысли, твердо держались личности Бога, как сущности и на-
чала всех вещей.
Не только «Английские Письма», но и некоторые рассуждения
в «Essai sur les Moeurs et 1’Esprit des Nations» (Oeuvres completes de
Voltaire, изд. Moland, XIII, 84), высказывают это собственно деи-
стическое воззрение в одушевленной похвале английским свобод-
ным мыслителям. «Эту далеко распространившуюся секту англий-
ских деистов упрекают, — говорит Вольтер в последнем указанном
месте, — что она слушается только разума и свергает иго веры;
но во всяком случае это единственная из всех сект, которая никог-
да не нарушала спокойствия и мира человеческого общества бес-
плодными спорами. Эти люди согласны со всеми другими в общем
почитании единого Бога; они отличаются только тем, что у них нет
никаких твердых положений учения и никаких храмов, и что они,
веря в Божью справедливость, одушевлены величайшей терпимо-
175
стью. Они говорят, что их религия — религия чистая и такая же ста-
рая, как свет; у них нет никакого тайного культа, и потому они без
угрызений совести могут подчиниться и публичным религиозным
обычаям».
С этой точки зрения Вольтер справедливо мог сказать в одном
письме к Дамилавиллю 8 февраля 1768, что ему одинаково нена-
вистны и положения церковные, и атеистические стремления его
младших современников. Вольтер испытал то, что всегда испыты-
вают средние положения; и на него стали нападать с обеих сторон.
Клерикалы подвергали его опале и осуждали за неверие; люди,
ушедшие дальше в отрицании, срамили и осмеивали его, как чело-
века отсталого. Когда Вольтер написал в 1771 небольшое сочинение
против знаменитой «Systeme de la Nature», Гримм в своей Литера-
турной Переписке (1 сентября 1770) насмехался над Вольтером, что
он думает о Боге, как ребенок, хотя и чрезвычайно милый.
Вера в Бога была у Вольтера не внутренней потребностью сердца,
как у людей благочестивых или даже как у Ж.-Ж. Руссо, но только
необходимым, по его мнению, результатом его мышления. Оттого
эта вера была, конечно, весьма обща и неопределенна. В Вольте-
ре живет непоколебимое убеждение, что ни природа не могла бы
создаться и сохраняться без творца и хранителя, ни человеческая
нравственность и образование — без последнего судьи добродетели
и порока; но Вольтер отказывается от всякого ближайшего вника-
ния в сущность и свойства Божества.
Уже в 1738 Вольтер говорит в Elemens de la philosophic de Newton:
«Правда, философия говорит нам, что есть Бог; но она не в состоя-
нии сказать, что он есть, какие его действия, как и почему он дей-
ствует. Мне кажется, что нужно было бы стать самим Богом, чтобы
знать это» (XXII, 407).
Дальше: «Нужно потерять всякий здравый человеческий смысл,
чтобы полагать, что одного движения материи достаточно для
произведения чувствующих и мыслящих существ. Но хотеть знать
свойства этого высшего существа — значит уподобиться безумцу,
который только потому, что знает, что дом построен архитекто-
ром, думает, что может лично знать и самого архитектора» (XXVI,
317 и далее).
«Легко сказать, что Бог бесконечен, что он начало и конец, во все
времена и во всех местах. Но сотни объяснений этого рода не могут
все-таки дать никакого настоящего истолкования! Для такого по-
знания у нас нет основания и почвы, нет твердой точки опоры. Мы
чувствуем, что стоим под покровительством невидимого существа,
но это и все; этой границы мы перейти не в состоянии. Безумно —
хотеть угадать это существо, угадать, находится ли оно в известном
месте и как оно действует и поступает» (XVIII, 359). «Не будем пу-
скаться в эти метафизические тонкости» (XXVI, 318).
176
Единственное свойство, которое Вольтер осмеливается высказать
о Боге, есть вечность, его мудрость и его правосудие. В его Axiomes
(XXVIII, 243) говорится: «Никакое общество не может существовать
без правосудия; таким образом, наш Бог правосуден. Если государ-
ство карает преступления обнаруженные, то этим мы возвещаем
Бога, который наказывает также скрытые и тайные... Неразумно
верить в Бога, который странствует, говорит, делается человеком,
как человек умирает на кресте... но в высшей степени мудро верить
в Бога, который наказывает и награждает»1.
По сущности деистического образа мыслей, так называемые до-
казательства бытия Божия занимают в нем весьма значительное
место. Деизм поставлен не так благоприятно, как откровение, ко-
торое непосредственно предполагает открывающего Бога, и не так
благоприятно, как материализм, который просто удовлетворяется
фактом существующего материального мира и отвергает созна-
тельного личного виновника. Вольтер также посвящает этим дока-
зательствам самое обстоятельное рассуждение. Конечно, большей
частью он при этом весьма отрывочен и не имеет методической по-
следовательности; но везде отличается самым ясным пониманием
объема и значения отдельных родов доказательств.
Так называемому argumentum a consensu gentium, т. е. дока-
зательству бытия Божия посредством общего согласия в этом
всех, он не придает никакой цены. Вольтер отвергает это мнимое
общее согласие. «Есть варварские народы, — говорит он в Traite de
Metaphysique (XXII, 193), — у которых, нет понятия о Боге; ни один
ребенок, даже и у образованных народов, и не подозревает это-
го». «Все люди, — продолжает он насмешливо по своему обыкно-
вению, — рождаются с носом и пятью пальцами на каждой руке;
но никто — с познанием Бога».
Зато тем чаще повторяются у Вольтера три остальные обыкно-
венные доказательства.
Во-первых, так называемое космологическое, т. е. то доказатель-
ство, которое выводится из факта, что все, существующее и движу-
щееся в мире, получает бытие и движение не от самого себя, а от че-
го-нибудь другого, что это другое опять указывает на другое, и т. д.,
пока наконец мы находим первую движущую конечную причину.
Это доказательство было выработано уже Платоном, Аристотелем
и схоластиками; в новейшее время оно приобрело большую важ-
1 Неразумно полагать предел Всемогущему. Не видно, почему бы нельзя Богу
сделаться человеком, не изменяясь в своем существе? Природа человека ищет сою-
за с Божеством. Сам автор своей системой доказывает это. Достойно ли Бога такое
снисхождение к человеку, чтобы, его принять в общение с Собой? Но почему бы
то было недостойно Бога? Признается же автором системы непостижимо дивное
присутствие Бога при человеке и с человеком во все моменты его бытия: так как
Богу необходимо все в подробности видеть и ведать, что человек не только делает,
но и что мыслит и чувствует, чтобы праведно награждать и наказывать (Пр. Арх. М.).
177
ность через Лейбница, как учение о достаточном основании, т. е.
как учение о том, что основанием мира может быть только суще-
ство, стоящее вне мира и в самом себе носящее основу своего бы-
тия. Вольтер подробно изложил это доказательство во второй главе
своего Traite de Metaphysique (XXII, 194). Он говорит: «Я существую,
следовательно есть вообще бытие. Нечто может существовать или
само собой или получает свое бытие от чего-нибудь другого. Если
оно существует само собой, то оно необходимо, и, как необходи-
мое, оно было всегда. Это есть Бог. Но если нечто имеет свое бытие
от чего-нибудь другого, а это другое имеет свое бытие от третьего,
то тем, от чего имеет свое бытие последнее, необходимо должен
быть Бог; потому что без этого предположения мы имели бы винт
без конца, т. е. нелепость. Таким образом мы должны признать, что
есть существо, которое необходимо существует от вечности само
собой, и как таковое есть начало всех вещей». Но Вольтер не обма-
нывается относительно ограниченного значения этого доказатель-
ства. Он видел, — как это еще определеннее объяснила позднейшая
философская критика, — что это доказательство, хотя и доказывает
необходимое основное существо, не доказывает, однако, его живой
и внемировой личности. Потому Вольтер старался дополнить это
доказательством особенности против нападений материалистов.
В упомянутом месте он продолжает: «Сама материя не может быть
этим творческим основным существом; в материи нет разума, со-
знательной мысли, понимания; скала не мыслит. Таким образом
те части материи, которые мыслят и чувствуют, не могут получить
этого мышления и чувства сами собой, а только от руки высшего,
сознательного, бесконечного существа». Совершенно так же Воль-
тер повторяет это доказательство в 1767, в Homelie sur Vatheisme
(XXVI, 316): «Я существую; следовательно, должно существовать не-
что от вечности. Если бы этого не было, то вселенная произошла бы
из ничего; наше бытие было бы, следовательно, без производящей
причины, — это предположение само по себе есть противоречие.
Но мы сознательны и разумны; следовательно, должно быть вечное
разумное существо. Если простой дом, корабль, плывущий по морю,
дают неопровержимое свидетельство о существовании их виновни-
ка и создателя, то течение созвездий и вся природа также должны
свидетельствовать о таком виновнике и создателе. Быть может,
возможно, что одна материя, ограниченная сама собой, движется,
соединяется между собой, производит явления; но кто может ска-
зать, что это слепо действующее движение в состоянии произвести
существо с органами, которых качества и устройство столько арти-
стичны, сколько непонятны?.. Нет никакого перехода от движения
материи к ощущению, и еще менее к мысли. Вечность всех возмож-
ных движений не производит ни восприятия, ни представления.
Надобно потерять здравый смысл, чтобы сказать, что достаточно
178
одного движения материи, чтобы создать чувствующие и мыслящие
существа». Атеистов, по мнению Вольтера, можно опровергнуть од-
ним словом: «Vous existez, done il у a un Dieu»1.
Затем доказательство телеологическое. Оно состоит в том, что
от целесообразности в порядке и устройстве мира делается заклю-
чение о мудром строителе. Анаксагор и Сократ не менее ревностно,
чем Библия и христианские отцы церкви, восстают против безумия
неверующих, которые из красоты создания не хотят познать вели-
чия и славы создателя.
Всего подробнее это доказательство излагается Вольтером в Фи-
лософском Словаре, в статье Causes finales, и короче в статье об ате-
изме. Там говорится (XVII, стр. 464): «Если мы видим прекрасную
машину, мы делаем заключение о разумном и искусном строителе
ее. Неужели при виде удивительного мира мы будем противиться
предположению о творящем художнике? Течение звезд, обраще-
ние земли около солнца, все устроено по глубочайшим математи-
ческим законам; Платон, который впрочем так охотно предается
безграничной мечтательности, называет Бога вечным геометром
и этим выражением прекрасно обозначает высокую творящую му-
дрость Бога». Этим словам совершенно соответствует одно письмо,
направленное против Гольбаха (XLIV, 534), где он говорит, что он
может считать атеизм только развратом разума; потому что также
точно смешно от устройства мира не заключать о мудром основате-
ле, как было бы бесстыдно, говоря о часах, отрицать существование
часовщика. Но и здесь Вольтер весьма определенно указывает гра-
ницы этого, доказательства. В Traite de Metaphysique (XXII, 194) по-
ложительно объясняется, что хотя из целесообразности мира долж-
но заключать о высшем мудром существе, искусно приготовившем
и устроившем мировую материю, но что нельзя прибавлять, что это
существо произвело из ничего и самую мировую материю. Поэто-
му прекрасная статья «Le Philosophe ignorant» (XXVI, 59) говорит:
«Строгий порядок и целесообразность мира есть вместе с тем и са-
мое положительное доказательство бытия Божия: ничто не поколе-
блет во мне этого убеждения. Каждое дело свидетельствует о своем
виновнике. И эта высшая мудрость вечна; потому что, буду ли
я признавать или отвергать вечность материи, я не могу подвер-
гать сомнению вечного бытия высочайшего творца. Но различает-
ся ли этот творец от мира, как художник от статуи, или он состав-
ляет одно с миром и проникает его? Об этом вопросе рассуждали
многие философы; но кто же может утверждать, чтобы кто-нибудь
верно решил его?»
Наконец, так называемое нравственное доказательство. Без Бога
нет нравственности.
1 Вы существуете, значит Бог есть (фр.). —Прим. изд.
179
Пятый отдел статьи «Dieu» в Философском Словаре (XVIII, 376)
говорит: «Настоящая главная причина, почему вера в Бога необхо-
дима, заключается, по моему мнению, не в метафизических основа-
ниях, но в том уважении, что для общего блага необходим Бог воз-
награждающий и наказующий. Без такого Бога мы оставались бы
в бедствиях без надежды, в пороке без угрызений совести. Кто при-
знает, что вера в Бога удерживает хоть нескольких людей от пре-
ступления, тот признает, что эта вера должна быть принята всем
человечеством. Вы боитесь, что вера в Бога приводит к суеверию
и духу преследования; но не должно ли бояться еще более того, что
человек, отрицающий Бога, делается жертвой еще более диких стра-
стей и более ужасных преступлений? Заботьтесь о том, чтобы вера
не упадала до суеверия и до религиозного преследования. Избави
нас Бог от служителя религии, который умерщвляет своего короля
освященным кинжалом; но избави нас и от гневного и жестокого
деспота, который, не веря в Бога, есть сам для себя Бог. Если мысль
о Боге произвела Титов, Траянов, Антонинов, Марков Аврелиев,
то этих примеров совершенно достаточно для защиты моего дела,
а мое дело есть дело всего человечества». Поэтому, на знаменитый
вопрос Бейля, может ли существовать государство атеистов, Вольтер
(XVII, 463, 472) отвечает насмешливо, что, если бы Бейлю пришлось
управлять только пятью- или шестьюстами поселян, он непременно
начал бы проповедовать учение о воздающем Боге. Когда Вольтер
писал Генриху, принцу прусскому, столь известные слова «Si Dieu
n’existait pas, il faudrait 1’inventer; mais toute la nature nous crie, qu’il
existe»1 (X, 403), — в устах Вольтера они не были пустым остроуми-
ем, но выражением самого глубокого убеждения.
Кто возьмет на себя труд сравнить различные выражения Воль-
тера, тот легко увидит, что в разное время Вольтер давал различную
цену одному и тому же доказательству. Нельзя не увидеть также,
что в конце концов Вольтер охотнее всего опирается на телеологи-
ческом доказательстве.
Вольтер был весьма красноречивый и ревностный защитник
causes finales, т. е. твердых и сознательных целей Бога в создании
и устройстве вещей. Если материалисты и атеисты, отрицая вся-
кую сознательную целесообразность в природе, объявляют каж-
дый образ и явление только следствием и осадком движения ма-
терии, то для Вольтера весь мир, напротив, есть только твердая
связь и живое олицетворение таких сознательных и тонко рассчи-
танных целей.
Вольтер, правда, очень далек от того ограниченного применения
понятий о цели, вследствие которого рассуждения этого рода так
1 Если бы Бога не было, его бы изобрели; но вся природа кричит нам, о том, что
он существует (фр.). —Прим. изд.
180
часто подвергались насмешкам. Никто остроумнее Вольтера не сме-
ется над тщеславием людей, думающих, что мир создан единственно
и исключительно для них. В пятой песне его поэмы о человеке (IX,
416) мыши прославляют Бога за то, что земля имеет такие превос-
ходные мышиные норы; с такой же исключительной точки зрения
рассматривают творение утки, индейские петухи и бараны; и нако-
нец приходит осел и хвалится, что так как мир создан единствен-
но для него, то и человек — его раб, который должен ему прислу-
живать, подковывать его, чистить, купать, строить ему его сераль,
устраивать его удовольствия и приводить ему его ослицу — не без
зависти к тому счастью, которым он наслаждается. И не меньше
трунит Вольтер над теми естествоиспытателями, которым вообра-
жалось, что прилив и отлив предназначены только для того, чтобы
корабли легче могли входить в гавань и чтобы морская вода предо-
хранялась движением от гнилости (XVIII, 102). Но тем резче Вольтер
настаивает на том, чтобы за ложными определениями целесообраз-
ности не терять из виду истинных. Но истинными и необходимыми
он считает только те, которые всеобщи, всегда и везде одинаковы
и совершенно неизменны. Статья Causes finales в «Философском Сло-
варе» (XVIII, 102) говорит: «Если только часы сделаны не для того,
чтобы показывать время, я соглашусь, что сознательные конечные
цели — чистый вздор. Есть люди, которые смеются над этими це-
лями, так как они уже давно опровергнуты Эпикуром и Лукреци-
ем; им следовало бы скорее смеяться над Эпикуром и Лукрецием.
Глаз, говорят они, сделан не для того, чтобы видеть; им только вос-
пользовались для этого употребления, потому что заметили, что им
отлично можно воспользоваться для этой цели. По этому мнению,
рот создан вовсе не для принятия пищи, желудок — не для перева-
ривания, сердце — не для кровообращения, ноги — не для ходьбы,
уши — не для слушания; но эти же люди сознают, что портной сде-
лал им платье для надевания, каменщик сделал дом для жилья. Они
осмеливаются отказывать природе, высшему существу, всеобщему
разуму — в том, что они охотно признают за самым ничтожным
работником. Конечно, было бы преувеличением утверждать, что
ноги существуют для того, чтобы носить сапоги, нос — для оч-
ков. Только то может считаться действительной конечной целью,
где одно и то же действие во все времена и во всех местах связано
с той же причиной. Корабли были не во все времена и не во всех мо-
рях; следовательно, нельзя сказать, что море создано для кораблей.
Руки существуют не для перчаточников. Но все существа имеют
глаза и видят, все имеют рот и едят, все имеют желудок и перева-
ривают. Мы извращаем свое мышление, когда не хотим принимать
всеобщих истин».
Вольтер так глубоко проникнут этим взглядом, что в статье
«Nature» в Философском Словаре (XX, 116) он заставляет приро-
181
ду жаловаться, что ее назвали природой, тогда как она вполне ис-
кусство. Точно также в «Histoire de Jenni» (XXI, 554) одно из дей-
ствующих лиц говорит: «В нас и кругом нас нигде нет природы; все
без исключения есть искусство». И статья «Amour de Dien» (XVII,
176) объясняет даже, что наша любовь к Богу существенно походит
на ту любовь, какую мы питаем к художнику, превосходное произ-
ведение которого потрясает и восхищает нас. Этот взгляд на при-
роду, как на художественное произведение, казался Вольтеру так
важен, что в «Разговорах Эвгемера» (XXX, стр. 485) он в особенно-
сти указывает на то, что это положение есть совершенно новая ис-
тина и что открытие ее есть его главнейший философский подвиг.
Если знаток истории не согласится с этой радостью изобретателя,
это, в сущности, все равно. Неоплатоник Филон (De monarch. 1,
85) уже высказал эту мысль с тем же понятием о Боге, как о выс-
шем художнике.
В теснейшей связи с этим основным воззрением стоит то, что
Вольтер с особенным предпочтением отдался размышлениям и ис-
следованиям о сущности и происхождении существующего в мире
зла. Чем больше мыслитель считает важным доказать бытие Бога
из целесообразности мира, тем больше он будет чувствовать по-
требность поставить вне всяких сомнений эту предполагаемую им
целесообразность мирового порядка. Оттого и деисты древности,
и деисты нового времени так согласно стремились разрешить загад-
ку о факте и оправдании зла; и оттого же, когда эти традиционные
доказательства потеряли свое влияние через критику Юма и Кан-
та и должны были уступить перед более глубокими воззрениями,
и этот вопрос, возбуждавший столько споров, тотчас же отступил
с поля битвы.
Мы последуем за Вольтером и в этих рассуждениях о происхож-
дении и сущности зла. Они существенно помогут объяснить со всех
сторон его понятие о божестве.
Й. Б. Мейер в небольшом сочинении о Вольтере и Руссо (Berlin,
1856, стр. 62), как прежде Низар, разделил историю этих воззрений
на две эпохи. Первую, по обычному выражению, он называет опти-
мизмом, т. е. преувеличенным прикрашиванием; другую — эпохой
пессимизма, т. е. столько же преувеличенного мрачного взгляда. Го-
воря правильнее, в первую эпоху Вольтер, как ученик Болингброка,
Шафтсбери и Попа, старался, по примеру Лейбница, если не отри-
цать зло, то сравнительно низко оценивать сумму земных бедствий;
во вторую он довольствовался объяснять и оправдывать бесспорно
существующее зло.
Первая эпоха продолжается до 1755. Те сочинения, которые
особливо сюда относятся, Remarques sur les Pensees sur Pascal 1728,
Discours en vers sur I’Homme 1734, Philosophic de Newton 1738, все
согласны в том, что сомневаться об устройстве мира есть пустое
182
безумие и раздражение. «Зачем, — говорит он в “Мыслях о Паска-
ле” (XXII, 34), — делать из нашего существования цепь горя и бед-
ствий? Представить себе свет тюрьмой и всех людей осужденны-
ми преступниками — это мысль мизантропа; думать, что мир есть
место вечного веселья — есть заблуждение мечтателя; знать, что
земля, люди, звери таковы, каковы они должны быть по порядку
провидения, — есть признак мудреца».
Между тем роман «Задиг» (1747) уже выказывает наклонность
Вольтера, которому тем временем минуло пятьдесят лет, сильнее
выставлять зло в этом мире, чем он делал это до сих пор (XXI, 90).
Тогда совершилось, в 1755, лиссабонское землетрясение. Гёте,
в своей «Поэзии и Правде» рассказывает, что лиссабонское земле-
трясение, происходившее первого ноября этого года, распространи-
ло чрезвычайный ужас в свете, привыкшем к миру и спокойствию,
и одинаково настроило людей благочестивых и философов к самым
печальным размышлениям; весьма замечательное подтверждение
этого потрясающего впечатления мы видим и на Вольтере. Немного
дней спустя после этого ужасного события, 24 ноября 1755, Воль-
тер писал к Троншену (Lettres ined. rec. par Cayrol 1, стр. 480): «Как
жестока природа! Трудно будет сказать, почему законы движения
должны производить такие страшные опустошения dans le meilleur
des mondes possibles1. Что за печальная игра случая — игра человече-
ской жизни! Это должно бы научить человека не преследовать чело-
века. Когда один собирается сжигать другого, земля поглощает обо-
их». К этому времени относится «Кандид», эта уничтожающая своим
остроумием сатира против оптимизма, представляющая историю
того кроткого и благонравного юноши, которого без всякой меры
толкает, мучит и угнетает судьба и который так, однако, твердо
убежден в учении о лучшем из миров, что при каждом новом уда-
ре судьбы только восклицает с самым забавным умилением: «Tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles»2. Но за этой
легкой шуткой скрывается самая серьезная мысль. Боязливые со-
мнения о Боге и мире боролись из-за утешения и разрешения. Все
рассуждения, которые представляет с тех пор Вольтер о свойствах
и существовании зла, состоят из двух составных частей. Во-первых,
они опровергают тех, кто, подчинившись ложному философскому
учению, хотел обманываться в резкой действительности существую-
щего зла; и, во-вторых, они оправдывают божественный мировой
порядок, производя большую часть зла не непосредственно от Бога,
но от человеческой необузданности, а для остальных запутанно-
стей жизни, обусловленных естественными событиями, указывая
на примирение в будущем.
1 В лучшем из возможных миров (фр.). — Прим. изд.
2 Все к лучшему в лучшем из возможных миров (фр.). — Прим. изд.
183
Это направление его мысли выражается в высшей степени харак-
теристично именно в той поэме, которая написана непосредствен-
но после первого известия об этом необыкновенном событии, 1е
Роете sur le Desastre de Lisbonne (т. IX, стр. 470 и след.). Он с глубоко
прочувствованной жалобой восстает против положения: «все есть
добро», которое проповедовали английские свободные мыслители
и также Лейбниц. Ничто не поможет, как говорится там, нужно ре-
шиться на признание, что на земле есть и зло, как и добро, и что
в нынешних страданиях нас может утешить только надежда на то,
что в новом порядке вещей развитие нашего бытия будет встре-
чать меньше препятствий. Уверенность в благости провидения есть
единственное прибежище для человека в сумраке его мышления
и в несчастии его трудов и терпения:
Un jour tout sera bien, voila notre esperance,
Tout est bien aujourd’hui, voila 1’illusion.
Этот взгляд Вольтера легко было бы подтвердить большим коли-
чеством самых недвусмысленных мест из его сочинений. Homelie
sur I’Atheisme из 1767 (XXVI, 319); Historie de Jenni, особенно девятая
глава, из 1775 года (XXI, 561); философский разговор Les Adorateurs
ои les Louanges de Dieu из 1769 года (XXVIII, 320); статья в «Фило-
софском Словаре» Du bien et du Mai physique et moral (XVII, 576) про-
никнуты тем же признанием зла и той же верующей покорностью
тайнам божественного мирового порядка. Мы укажем здесь только
на две статьи, которые особенно наглядно раскрывают эти сомне-
ния и верующий отказ — решать их.
Первая статья находится в «Философском Словаре» под заглави-
ем «Tout est bien». Там говорится: «Болингброк, Шафтсбери и Поп
защищают взгляд, что все устроено наилучшим образом. Если это
значит, что все происходит из вечного неизменного закона, — кто
этого не знает? Порядок есть, конечно, везде. Если в моем мочевом
пузыре образуется камень, то это образование происходит совер-
шенно согласно с природой, и также согласно с природой и с ис-
кусством действует врач при своем лечении; но если я умираю под
этим болезненным леченьем, какая мне польза из сознания, что
я подчиняюсь неизменным естественным законам? “Зла никакого
нет, — говорит Поп, — все частные роды зла составляют только
общее благо”. Славное общее благо, составленное из каменной
болезни, ревматизмов, преступлений и страданий всякого рода,
из смерти и осуждения; и мне кажется плохим утешением, когда
Поп говорит, что Бог одинаково смотрит на гибель героя и воро-
бья, тысячи планет или атома, или когда Шафтсбери спрашивает,
почему бы должен был Бог менять свои вечные законы в пользу
такого жалкого творения, как человека. Надобно по крайней мере
184
согласиться, что человек имеет право жаловаться, что частное
благосостояние не примиряется с вечными законами. Это учение
представляет божество могущественным, но насильственным вла-
стителем, которому нет дела до тысяч человеческих жизней, когда
их требуют его произвольные цели. Это учение не утешительно,
оно тягостно. Вопрос о происхождении зла остается неразреши-
мой путаницей, от которой нет другого спасения, как доверие
к Провидению».
Вторая статья озаглавлена «Tout en Dieu» (XXVIII, 101): «Есть выс-
шее, вечное разумное существо, от которого происходит все, что
живет и существует. Но происходит ли от этой основной причины
всех вещей и зло, физическое и моральное? Что касается до зла фи-
зического, то все религии и все философские учения относили его
к Богу; только безвкусие манихеев хотело освободить Бога от соз-
дания и допущения зла, но безвкусие вовсе не есть доказательство.
Эта основная причина произвела яд и пищу, болезнь и наслажде-
ние; в этом сомневаться нельзя. Зло необходимо, потому что оно
есть; все, что есть, необходимо, — какую бы иначе оно имело при-
чину своего существования? Но зло нравственное, преступление.
Нерон, Александр VI!.. Весь, свет говорит: “Как может быть Бог
причиной стольких страданий?” Но если наш разум есть только
часть всеобщего разума, только истечение высшего существа, как
можем мы думать и желать проникнуть все намерения и конечные
дела самого высшего существа? Что три есть половина шести, что
диагональ делит квадрат на два равные треугольника, это мы зна-
ем так же верно, как это знает Бог; но мы остаемся только частью
и можем понять только часть мира. Demander pourquoi Uy a du mal
sur la terre, c’est demander pourquoi nous ne vivons pas autant que les
chenes1. Высшее существо сильно, мы слабы; мы также необходимо
конечны, как высшее существо необходимо бесконечно. Зная, что
один луч ничего не значит против солнца, я покорно подчиняюсь
высшему свету, который должен просветить меня во мраке мира»
(ср. XVII, 468).
Как ни различно, следовательно, судил Вольтер в разное время
о размерах и свойстве фактически существующего в мире зла, это
зло никогда не могло поколебать Вольтера ни в его понятиях о це-
лесообразности мира, ни в вере Бога, основанной на этом понятии.
«Никакой предлог, — говорит Вольтер в разборе одной атеистиче-
ской книги, — не может оправдать атеизма. И если бы все христиа-
не передушили друг друга и поглотили внутренности своих братьев,
побитых в религиозном споре, и если бы на земле остался только
один христианин, он при виде солнца должен был бы признать
1 Спрашивать, почему на земле есть зло, — значит спрашивать, почему мы
не живем так много, как дубы (фр.). — Прим. изд.
185
и почтить высшее существо, он должен был бы с горестью восклик-
нуть: “Мои отцы и братья были чудовища; но Бог есть Бог!”»
Сам Вольтер коротко и метко высказывает сущность своих рели-
гиозных воззрений, когда в Profession defoi de theistes говорит (XVII,
64): «Мы осуждаем атеизм, мы гнушаемся суеверием, мы любим
Бога и человечество — вот в немногих словах изложение наших ре-
лигиозных понятий».
Психология и нравственность. Сущность и бессмертие души,
чувственный опыт и свобода воли, добродетель
Вольтер является истинным деистом и в том, что при осуждении
религии и философии самый решительный перевес дает не сторо-
не догматической, а стороне нравственной. В октябре 1737 года
он пишет Фридриху Великому: «Я всегда, сколько возможно, свожу
свою метафизику к морали». Точно также, после длинного иссле-
дования откровенных религий, последним результатом он ставит
положение, что только нравственное учение есть истинная религия
и философия. И, наконец, у него бесчисленное множество других
выражений того же рода. Ср. особенно XXVI, 78.
Но и без этих положительных признаний внимательный наблю-
датель легко заметил бы это предпочтение к деятельному и к не-
посредственно осязательному. О сущности и происхождении жиз-
ни человеческой души Вольтер никогда не составил себе твердого
окончательного представления; но он очень определенно и отчасти
даже совершенно самостоятельно развил свои убеждения о способе,
которым душевная жизнь проявляется в мышлении и действии.
Как Вольтер, веря в Бога, отказывается от всякого ближайше-
го исследования божественных свойств, так и основную сущность
души он считает совершенно закрытой от познания. В упомянутом
уже письме к Фридриху Великому он говорит: «Я честно и со всей
внимательностью исследовал, могу ли я приобрести какие-нибудь
твердые понятия о человеческой душе, и я увидел, что плодом всех
моих исследований остается одно признание в полном незнании.
Как узнаем свою душу мы, которые не можем составить себе ника-
кого понятия о свете, если мы случайно имеем несчастье родиться
слепыми?» Почти те же слова Вольтер повторяет в Философском
Словаре под словом «Аше» (XVII, 131). Там говорится: «Мы совер-
шенно не знаем ни того, что заставляет нас жить, ни что заставля-
ет нас думать... Есть ли душа, дух или материя, существует ли она
до нас, происходит ли она из ничего при нашем рождении, живет ли
она в вечности после нас — что такое эти вопросы, которые кажутся
так возвышенны? Не что иное, как вопросы слепца к другому слеп-
цу о том, что такое свет?»
Вольтер также прошел через все те многообразные колебания,
которые беспокоят серьезного мыслителя в этом важном вопросе.
186
Если Вольтер думает иногда приводить для объяснения души тот
предположенный Ньютоном элементарный огонь, который, зани-
мая середину между телесностью и чистой духовностью, имеет в не-
которых из своих монад способность мышления и как мыслящая мо-
нада называется душой, — это не имеет большого значения. Всего
больше занимает его дилемма: есть ли душа особенная субстанция,
т. е. отдельное своеобразное само по себе существо, или она живет
в материи и потому составляет только определенную способность
и свойство материи? В разрешении этой противоположности он су-
щественно склонялся на сторону Локка, который думал, что Бог дал
способность мышления и материй. Превосходная статья Le Philosophe
ignorant, написанная в 1767, которая вообще может считаться пол-
нейшим изложением всего образа мыслей Вольтера, в третьей главе
весьма убедительно представляет внутренний разлад и раздвоение
борющегося сомнения. «Я старался открыть, — говорит Вольтер, —
не через те ли же самые силы, которые производят пищеварение
и движение, я получаю и свою мысль? Я никогда не мог понять, как
и почему мысли убегают, когда голод истощает мое тело, и каким
образом они возвращаются, когда я сыт. Я нахожу такую большую
разницу между мышлением и едой, составляющей, однако, усло-
вие моего мышления, что я часто думал, что во мне есть одна суб-
станция или сущность, которая думает, и другая, которая перева-
ривает. Но чем больше я раскрашивал себе такую двойственность,
тем больше я чувствовал свое единство». Если мы спросим, какие
главнейшие основания привели Вольтера к принятию безусловного
единства сущности, достаточное объяснение этого дает нам пятая
глава Traite de Metaphysique (XXII, 212). «Если бы душа, — говорит-
ся там, — была что-нибудь особенное и отдельное, то мышление
должно бы было составлять ее сущность». Поэтому все, принимаю-
щие нематериальную душу, принуждены также сказать, что душа
мыслит непрерывно. Но думаем ли мы, когда мы крепко и здорово
спим? Думает ли человек, который впал в обморок и, в сущности,
находится во временной смерти? Но если человек думает не всегда,
то будет противоречием принимать в человеке одну субстанцию,
сущность которой есть мышление. В одном случае (XXVIII, 456) вы-
сказывается даже и самая жестокая насмешка над этой мнимо боже-
ственной субстанцией, которая девять месяцев проводит в ничто-
жестве, потом является на свет, не зная и не делая ровно ничего,
и затем порядочно долго остается в этом тупом состоянии, которая
часто даже рождается мертвой, или, если живет, то развивается
только для того, чтобы делать величайшие глупости. Поэтому, если
Вольтер в признаниях этого Philosophe ignorant и прибавляет осто-
рожно, что, быть может, в нас мыслит и не сама материя, но что
Богу не было невозможно сделать материю мыслящей, — то в дру-
гих местах, особенно в «Письмах Меммия к Цицерону» (XXVIII,
187
458) и в статье о душе (XXIX, 336) он высказывает ясно и положи-
тельно, что душа есть только мыслительная и чувствующая способ-
ность, связанная с телесными условиями человека. В прекрасной
статье «II laut prendre un parti ou le principe d’action» (XXVIII, 528),
написанной в 1772, Вольтер даже неустрашимо признает близко
следующий вывод, что, собственно, нелепо говорить всегда вообще
о сущности и бытии души как о целом. Душа, по его мнению, есть
только общее, отвлеченное понятие, как движение, разум, воспоми-
нание, воля. Нигде нет действительного существа, которое называ-
ется волей, движением, разумом, воспоминанием; только человек
есть действительное существо, только он мыслит, воспоминает, же-
лает и двигается. Такие общие недействительные понятия изобре-
тены единственно для легчайшего уразумения. «Ни беганье, ни сон,
ни пробуждение невозможно назвать действительными телесными
существами; бегаю, сплю и пробуждаюсь — я. Точно также зрение,
слух, осязание, обоняние, вкус не имеют сами по себе действитель-
ности и сущности; я — как человек — вижу, слышу, осязаю, обоняю
и чувствую вкус». У червя есть такая же душа, насколько он имеет
те же чувства.
Ясно, что как ни сильно восставал Вольтер против материализ-
ма в идее о божестве, он сильным решительным образом наклонен
к нему в рассмотрении душевной жизни. Во всяком случае Вольтер
ясно сознавал глубочайшую зависимость человеческой души от те-
лесных состояний и качеств, хотя он никогда не мог решиться на то,
чтобы вполне поставить душу под верховной властью тела. Тот же
самый Вольтер, который в 1772 писал г-же дю Деффан, что способ,
каким человек совершил пищеварение, всегда решает и способ на-
шего мышления, и который говорил о ревматизме души, как о рев-
матизме зубов, тот же Вольтер еще в 1770 в письме к д’Аламберу
находит в высшей степени забавным, что, несмотря на всю зависи-
мость души от желудка, лучшие желудки не всегда бывают вместе
и лучшими мыслителями.
Отсюда происходит беспомощность Вольтера относительно про-
должения личности. Чем больше давал он веса своему материа-
листическому пониманию души, тем сомнительнее должно было
ему — как и следует — казаться вечное существование личности.
Уже в шестой главе своего Traite de Metaphysique он думает, что
так же смело можно сказать, что человек по смерти ест и пьет, как
то, что он по смерти мыслит и вспоминает. Точно то же убеждение
обнаруживает он еще и в старости, когда говорит в «Письмах Мем-
мия» (XXVIII, 460): «Если я действительно должен быть бессмертен,
то я должен сохранить свои чувства, память, все свои способности;
откройте могилы, соберите кости и вы не найдете ничего, что мог-
ло бы дать вам какой-нибудь призрак этой надежды». И такого рода
взгляд он обнаруживает везде. Но когда Вольтер опять вспомина-
188
ет свое убеждение о Божием правосудии и необходимости вечного
воздаяния, — убеждение, ставшее для него неоспоримым по дру-
гим основаниям, — все его материалистские возражения исчеза-
ют, и бессмертие души является перед ним не менее положительно,
чем его живая мысль о божестве. Вольтер не выходил из этих про-
тиворечий, которые часто вызывались минутными и случайными
впечатлениями. Это колебание мнений Вольтера характеристиче-
ски выразилось в Философском Словаре (статья «Dieu»), где он вос-
клицает утешающим образом, что хотя и нет в пользу бессмертия
никаких неотразимых доказательств, но нет также и неотразимых
оснований отвергать его возможность. «В этом вопросе, — прибав-
ляет Вольтер, — мы находимся в том же положении, как и во всех
метафизических вопросах: мы движемся только в царстве неопреде-
ленных вероятностей, мы плаваем в море, берега которого убегают
от глаз». «Горе тем, которые плывя борются друг с другом; приста-
вай, кто может; но кто говорит — “вы плывете напрасно, твердой
земли нет”, — тот приводит меня в уныние и отнимает у меня все
мои силы».
Кондорсе в своей биографии Вольтера (Paris, 1820, стр. 287),
верно обсуждает и объясняет эти переменчивые мнения, говоря,
что хотя Вольтер никогда не мог победить сомнения, но что он
охотнее держится оснований утвердительных, чем их опроверже-
ния, потому что утверждение казалось ему нужно для нравствен-
ной жизни людей.
На более твердую почву Вольтер становится только там, где он
вступает в открытую действительность и объясняет фактические
обнаружения жизни души, т. е. природу человеческого мышления
и деятельности.
В учении о познании Вольтер был строгим приверженцем Локка.
Огромной заслугой Локка было то, что он господствующему учению
о врожденных идеях противопоставил простой факт, что начало
и основа всякого познания есть только чувственный опыт. Чувства
дают рассудку впечатления внешних предметов; рассудок находит
некоторые из этих впечатлений сходными, другие — противоре-
чащими, и из этого наблюдения единства и противоположности
он образует себе общие понятия (ср. выше, т. I, стр. 125). Вольтер
усвоил себе это учение во время пребывания в Англии и остался
верен ему, вполне и без всяких ограничений, всю свою жизнь. Ко-
нечно, Кондорсе справедливо замечает в своей биографии Вольте-
ра (стр. 139), что эта борьба против врожденных идей есть одна,
из самых главных причин, почему «Английские Письма» Вольтера
встретили такой ожесточенный отпор. «Положение о врожденных
идеях было одним из основных столпов картезианской системы;
и ученые, — прибавляет насмешливо Кондорсе, — боялись, что,
если бы у них не было никаких врожденных идей, то не было бы
189
больше никакого видимого различия между их душой и ду-
шой животных». Те же нападения Вольтер возобновил в Traite de
Metaphysique, гл. 3, в статье «Tout en Dieu», в статье «Idee» в «Фило-
софском Словаре» и где только он может найти случай возвратиться
к этим основным своим воззрениям. Было бы очень долго входить
в подробности о его различных выражениях этих взглядов. Всего
остроумнее Вольтер изобразил поражение и победу борющихся пар-
тий в маленьком сатирическом романе «Микромегас», в котором
он, очевидно, подражал «Путешествиям Гулливера», — особенно
в седьмой главе. Микромегас, обитатель Сириуса и потому великан
совершенно баснословной величины, вместе с одним обитателем
Сатурна, также громадным великаном, но маленьким сравнительно
с Микромегасом, предприняли вместе путешествие на другие не-
бесные тела. При своей огромной величине они удобно перепры-
гивают с звезды на звезду, и, наконец, достигают земли. Нигде они
не замечают живого существа; крошечные земные творения и зем-
ные жилища слишком малы для их глаза. Но потом посредством
микроскопа они открывают в северном море кита и вскоре затем
корабль с учеными, которые возвращались из полярного путеше-
ствия. Великан Сириуса берет корабль на руку, крайне забавляясь
пестрой толпой маленьких творений. Он ясно заметил, что люди
говорили между собой. Любопытство усилило его остроумие. Он
с большим искусством сумел устроить орудие, которое делало по-
нятным тихий людской голос уху обоих путешественников и, на-
оборот, громовой голос путешественников уху людей. Началась
в высшей степени поучительная беседа. Как дивились обитатели
звезд, когда услышали о кровавых войнах между царем и султаном
из-за маленького клочка земли, которого не видал ни один из них!
И как велико было их изумление, когда люди сумели дать им совер-
шенно точные сведения о небе, о величине и течении звезд! Ми-
кромегас сказал им (XXI, 120): «Так как вы в точности знаете, что
вне вас самих, то скажите мне, что знаете вы о своей душе и как
образуете вы идеи?» Человеческие философы опять заговорили все
вдруг, как они делали и до тех пор; но теперь все были различно-
го мнения. Старейший ссылался на Аристотеля, другой называл
имя Декарта, этот — Мальбранша, тот — Лейбница, иной — Лок-
ка. Перипатетик громко и с гордой уверенностью говорил: «Душа
есть энтелехия». — «Я не понимаю по-гречески», — сказал на это
великан. «Я также, — отвечал философ, — но чего не понимаешь,
всегда надо называть на том языке, который люди понимают всего
меньше». Тогда начал говорить картезианец и сказал: «Душа есть
чистый дух, который получил все метафизические идеи в материн-
ской утробе, а потом, вышедши на Божий свет, принужден идти
в школу и учить сначала все, что он уже прежде так превосходно
знал и чего он таким образом никогда не будет знать». «Да ведь это
190
лишний труд, — отвечал великан, — если твоя душа владеет такой
мудростью в утробе матери и делается невежественной, отрастив
бороду». Затем Микромегас обратился к третьему и спросил его, что
такое его душа и что она делает. «Ничего, — отвечал приверженец
Мальбранша. — Бог составляет для меня все; я вижу все в нем; я де-
лаю все через него; он делает все, так что я нисколько в этом не уча-
ствую». — «В таком случае все равно и вовсе не быть», — заметил
великан. «А ты, мой друг, — сказал он последователю Лейбница, —
ты что скажешь о своей душе?» — «Моя душа, — отвечал тот, —
есть стрелка, показывающая часы, а мое тело бьет часы; или, лучше
сказать, если хотите, она бьет часы, а мое тело показывает их; душа
моя есть зеркало вселенной, а мое тело — рамка этого зеркала; это
ясно». Рядом с ним стоял приверженец Локка. Когда обратились
к нему, он сказал: «Я не знаю, каким образом я думаю, но я знаю,
что я всегда думал только посредством моих чувств; я не сомнева-
юсь, что есть чисто духовные существа, но я сильно сомневаюсь,
чтобы Богу невозможно было сделать материю мыслящей». Вели-
кан Сириуса усмехнулся. Он нашел, что этот был не всего менее му-
дрый; он обнял бы его, если бы это при неравенстве их тел не было
просто неисполнимо.
Это понятие о безусловном могуществе внешних чувственных
впечатлений и у Вольтера имело весьма решительное влияние
на суждения о свободе человеческой воли.
Странно, что сначала Вольтер старался уклониться от этой суро-
вой последовательности; но наконец он давал силу только одной не-
умолимости мышления. Берсо делает неточность, когда в своей кни-
ге La Philosophic de Voltaire (Paris, 1848) и в своих Etudes sur le XVIIIе
siecle (Paris, 1855) выставляет Вольтера всегдашним защитником
свободы человеческой воли; не менее неточно и то, когда Форлен-
дер в своей истории английской и французской морали и политиче-
ских учений (Марбург, 1885, стр. 577), приписывает ему такое же
всегдашнее отрицание человеческой свободы и хочет стеснить
значение писем к Фридриху Великому о свободе только до борьбы
против Лейбницова учения о судьбе. Скорее справедливо то, что
Вольтер с течением времени изменил свою точку зрения. Письма
к Фридриху Великому от 1737—1740 годов, современный Discours
sur РНотте и Traite de Metaphysique дают исключительный перевес
свободе; напротив, все сочинения, написанные после 1750, точно
так же исключительно дают перевес безусловной зависимости. Три-
надцатая глава в Philosophe ignorant, в которой ясно и убедительно
излагается это понятие о неизбежной необходимости природы,
кончается признанием, что этот скептический мыслитель, которо-
го Вольтер делает представителем своих философских умозаключе-
ний, хотя и не всегда думал таким образом, но наконец поддался
принудительной силе противоположных оснований.
191
Эти более ранние сочинения характеризуют свободу воли, как
способность думать или не думать о чем-нибудь, двигаться или
не двигаться совершенно по желанию: «liberte est le pouvoir de
penser a une chose on de n’y pas penser, de se mouvoir et de ne se
mouvoir pas, conformement au choix de son propre esprit»1 (письмо
к Фридриху Великому, октябрь 1737). Свобода воли — по словам
его — есть здоровье души; есть, конечно, препятствия и ограниче-
ния этой свободы, как есть препятствия и ограничения здоровья;
но тот, кто отвергает свободу воли только потому, что она ограниче-
на, должен также отвергать и здоровье только потому, что тело ино-
гда бывает нездорово. Вообще, полагает Вольтер в письме от 23 ян-
варя 1738, против свободы воли легко выставлять доказательства,
отчасти как будто весьма действительные; но такие же доказатель-
ства выставляются и против бытия Бога. «Но так как я, несмотря
на эти затруднения, все-таки верю в творение мира и провидение,
то также точно я считаю себя и свободным, несмотря на все мни-
мые доказательства противного».
Совершенно иначе рассуждает, он в позднейшее время. Вольтер
понял теперь, что отрицание врожденных идей необходимо вле-
чет за собой и отрицание человеческой свободной воли, по край-
ней мере, в том случае, если воля понимается, как доброе жела-
ние и произвол. Эту логическую необходимость коротко и ясно
высказывает глава 29 в Philosophe ignorant, указывая на то, что
человек может хотеть только вследствие идей, которые явились
в мозге от внешних впечатлений; при отсутствии этих идей чело-
век стал бы определяться (желать чего-нибудь) без всякого осно-
вания, он имел бы действие без причины. В другом месте того же
сочинения (XXVI, 56) он говорит: «Мои идеи являются в моем мозгу
необходимо; каким же образом моя воля, которая зависит от этих
идей, может в одно и то же время быть и зависимой от необходи-
мости и безусловно свободной? Быть истинно свободным — значит
мочь. Если я могу исполнить то, что я себе предположил, — у меня
есть свобода; но я, по естественной необходимости, хочу того, чего
я хочу; иначе я хотел бы без основания, без причины, и это совер-
шенно невозможно. Моя свобода состоит в том, что я могу идти,
если я хочу идти, что мне в ходьбе не мешает подагра. Моя свобо-
да состоит в том, что я не совершаю никакого дурного действия,
когда мой ум знает, что оно дурно; что я укрощаю свои страсти,
когда мой ум указывает мне происходящие от них опасности; что
отвращение от такого действия могущественно подавляет мою
прихоть. Мы можем подавлять свои страсти; но в этом подавлении
мы нисколько не свободнее, как если бы мы потакали им. И в том,
1 Свобода — это способность думать о вещи или не думать о ней, двигаться
и не двигаться в соответствии с выбором собственного разума (фр.). —Прим. изд.
192
и в другом случае мы без сопротивления повинуемся нашей по-
следней идее; и эта последняя идея необходима; поэтому, следуя ее
внушению, я действую также необходимо. Странно, что люди не хо-
тят удовольствоваться этой мерой свободы. Все естественные тела
имеют свои неизбежные законы, и только человек хочет хвастаться
непонятным и бессмысленным даром — мочь хотеть, не имея на это
другой причины, кроме хотения». Таковы же и объяснения в статье
de ГАте, гл. 5, и в «Философском Словаре» под словом Franc arbitre1.
Поэтому объяснения, которые Вольтер дает с тех пор понятию сво-
бодной воли, говорят уже вовсе не о произвольном желании челове-
ческого духа, или — как сказано с насмешкой в главе 51 Philosophe
ignorant — об pouvoir chimerique de vouloir vouloir2; но ограничивает-
ся только простым указанием того, что человек свободен, когда мо-
жет сделать, чего хочет; но что если человек хочет того или другого
и ничего иного, то это не зависит от его выбора, а является у него
по естественно-необходимому сцеплению чувственных впечатле-
ний. Облако, которое вздумало бы сказать ветру: «Я не хочу, чтобы
ты меня гнал», — было бы не смешнее человека, который восстает
против естественной необходимости (XXVIII, 533). Вольтер просто
перевернул вверх дном свой прежний образ мыслей. Что за неуто-
мимый боец против Лейбницова учения о судьбе был он в своих
письмах к Фридриху! А теперь, признавая естественную необхо-
димость человеческой воли, он уже не только не довольствуется
тем общим неоспоримым положением, что дух человека есть его
судьба, а этот дух есть осадок разнообразнейших внешних условий
и событий; но, в статье «II faut prendre parti» (XXVIII, 531) и «Destin»
в «Философском Словаре», он открыто и без всяких ограничений
становится на сторону своего, некогда так сильно оспариваемого
противника. Люди, враждебно расположенные к Вольтеру, могут
видеть в этой внезапной перемене непостоянство и легкомыслие,
но тот, кто сам пережил в себе сладкое мученье честного исследо-
вания, скорее видит в этом только свидетельство действительной
серьезности Вольтера и его смелого искания истины.
Отсюда тотчас возникает дальнейший, глубоко важный вопрос.
Что же будет добродетель и нравственность при этом отсутствии
врожденных идей, при этом отсутствии способности свободного ре-
шения? Как может человек быть ответственным за свои действия?
В прежние годы еще бывали соображения, которые побуждали
Вольтера держаться свободы совести: он боялся за нравственность
(XXV, 466; XXVIII, 523). Теперь Вольтера уже не озабочивало то, что
при таких основаниях потрясается все здание человеческой нрав-
ственности и уничтожается всякое различие между добродетелью
1 Вольный судья (фр.). —Прим. изд.
2 Сила несбыточного желания хотеть (фр.). —Прим. изд.
193
и пороком. Напротив. Особенной заслугой Вольтера было то; что
он, наперекор колеблющимся положениям Локка, чрезвычайно убе-
дительно и проницательно выставил и защищал неизменную твер-
дость и вечность добродетели и нравственности. «Порок, — говорит
Вольтер в главе 13 статьи “Il faut prendre parti”, — остается пороком,
как болезнь болезнью; преступник должен нести следствия своего
преступления, как больной следствия своей болезни».
Локк основал часть своего доказательства неврожденности че-
ловеческих идей на том мнимом факте, что понятия о добродетели
и приличии различны по различию времен и народов; люди одного
места и времени чувствуют угрызения совести за такие действия,
которые считаются весьма почтенными в другое время и в дру-
гих местах (ср. Ист. лит. XVIII в., т. I, стр. 125). За исключением
Шафтсбери и позднейших шотландских моралистов, большая часть
английских свободных мыслителей приняли, не исследуя, эти мне-
ния Локка; на той же точке зрения остались также Дидро и фран-
цузские материалисты. Вольтер в своей Метафизике был одним
из вернейших учеников Локка; но в нравственном учении он всегда
прямо опровергал его. Здесь Вольтер был скорее учеником Ньютона
и Шафтсбери.
Уже в октябре 1737 г. Вольтер писал к Фридриху: «Локк, мудрей-
ший метафизик, какого я знаю, вместе с опровержением врожден-
ных идей подвергает, кажется, сомнению и твердый, всеобщий
нравственный принцип. В этом пункте я решаюсь восстать на мыс-
ли великого человека или, вернее, вести их дальше». «Конечно, как
нет вовсе врожденных идей, так нет и врожденных нравственных
законов; но, если мы родились без бороды, следует ли из этого, что
мы в известном возрасте и не приобретем бороды? Мы не родимся
с умением ходить; но каждый, кто родится с двумя ногами, получа-
ет потом и способность ходить. Подобным образом никто, конечно,
не приносит с собой в свет готовых понятий о праве и несправедли-
вости; но человеческая природа устроена так, что в известном воз-
расте эта истина естественным образом вырабатывается». Понятие
о добродетели есть понятие всеобщее и неизменное не потому, что
оно врожденное, а потому, что человеческая природа и ее развитие
везде, в сущности, одинаковы.
Вольтер с явным пристрастием останавливался на этом согла-
сии всех народов в том, что справедливо и хорошо. Дидактическое
стихотворение Sur la loi naturelle, написанное в 1751 г., имеет глав-
нейшей целью показать, что «как золото имеет одну природу и одно
происхождение и в Перу, и в Китае, так и принципы и движения
сердца везде имеют одинаковые свойства; человек не может пере-
менить добродетели; судья царит в его душе». И здесь самым ясным
и обильным источником служит опять Le Philosophe ignorant. Гла-
вы 31—32 объясняют, что все народы, даже самые грубые, имеют
194
понятие о справедливости; везде есть заповедь, что должно уважать
отца и матерь, отвергать нарушение слова, клевету и убийство; по-
нятие о справедливости имеет такое всеобщее господство, что даже
преступление старается извинять себя предлогом справедливости.
Ничего нет несправедливее войны, но ни один завоеватель не бе-
рется за меч, не выставляя своего насилия требованием справед-
ливости; даже разбойники и воры грабят и воруют только потому,
что считают распределение богатств несправедливым, ни один за-
говорщик не говорит, что он хочет совершить преступление, — он
говорит только, что хочет освободить отечество от несправедливых
тиранов. На основании этих положений Вольтер и в этом сочине-
нии вступает в открытую борьбу против Локка. Глава 36 говорит:
«Оставляя здесь Локка, я говорю с великим Ньютоном. Natura est
semper sibi consona, природа всегда остается согласна с собой. Закон
тяготения, действующий на одну звезду, действует на все звезды,
даже на весь вещественный мир; таким же образом и основной за-
кон морали действует на всех людей и на все народы. Есть тысячи
отличий в применении и толковании этого закона, но основание
везде одно и то же; это идея права и несправедливости. Человек
совершает несправедливости в бешенстве страсти, как он теряет
рассудок в опьянении; но когда опьянение проходит, рассудок воз-
вращается... Для нас невозможно не счесть весьма безрассудным
того человека, который хочет броситься в огонь, чтобы заслужить
удивление, и еще надеется выскочить из него. До точно так же не-
возможно не назвать крайне преступным человека, который в гневе
убивает другого. На этих понятиях, которых никто не вырвет из на-
шей груди, основано все человеческое общество. В каком же возрас-
те приобретаем мы понятия права и несправедливости? В том же,
в каком мы узнаем, что дважды два четыре. Все философы от Зо-
роастра и до лорда Шафтсбери, при всем различии их понятий,
всегда были согласны в нравственном учении» (ср. статью «Du juste
et de 1’injuste» в «Философском Словаре»).
В стихотворении Sur la loi naturelle говорится:
Sois juste, bienfaisant, contraire a tout extreme,
Indulgent pour ton frere, indulgent pour toi-meme.
D’ou tu viens, ou tu vas, renonce a le savoir
Et marche vers ta fin sans crainte et sans espoir.
Едва ли есть какое-нибудь значительное сочинение Вольтера, ко-
торое бы не проповедовало преимущества морали над верованием.
Мораль, как выражается Вольтер в заключение своей критики
Библии и церковного учения (XXVIII, 136, 244), есть единственная
истинная религия и философия: «потому что, — говорит он в Фи-
лософском Словаре (статья Athee), — мораль одна у всех людей,
195
поэтому она идет от Бога; культ различен, следовательно, он есть
дело человека». Ср. рассуждения в «Философском Словаре»: Religion,
Vertu, Theisme et Theiste, Tolerance1.
Прекрасные разговоры между Cu-su и Кои, написанные в 1764 г.,
высказывают сумму всех нравственных истин, живущих в челове-
ческой груди, в двух предложениях «Живи так, как бы по смерти ты
желал прожить» и «Делай своему ближнему то, что желаешь, чтобы
он делал тебе». «Vis, comme, en mourant, tu voudrais avoir vecu. Traite
ton prochain comme tu veux qu’il te traite» (XVIII, 64).
Как Лессинг последним завещанием своих глубочайших убежде-
ний поставил слова Иоанна «Дети, любите друг друга», так и Воль-
тер, которого и до сих пор все еще обвиняют в самом пустом лег-
комыслии и себялюбии, в седьмой песне своего дидактического
стихотворения о человеке указывает на слова И. Христа ученикам
«Aimez Dieu, mais aimez aussi les mortels», восхваляя благородного
Сен-Пьера, который изобрел слово Bienfaisance, — потому что это
слово обнимает все, что есть добродетель и нравственность.
Les miracles sont bons; mais soulager son frere,
Mais tirer son ami du sein de la misere,
Mais a ses ennemis pardonner leurs vertus,
C’est un plus grand miracle et qui ne se fait plus.
Политика и история. Свобода и равенство,
просвещенный деспотизм, история
Как в религии и философии, так и в своих политических взгля-
дах Вольтер занимает такую же середину. Он решительно отверга-
ет недостойный гнет грубого насилия; но не менее решительно он
отвергает и безрассудную страсть нововведений, которая готова
была идти до уничтожения личной собственности. Как в религии
он настаивает на признании и выполнении естественной религии,
так в политике он настаивает на признании и проведении есте-
ственного права, ненарушимых прав человека. Кто поддерживает
эти права человека, тот его друг и товарищ его убеждений; кто
оспаривает или стесняет их, тот враг и противник, — в каком бы
виде и под какой бы маской ни выступала эта поддержка или это
стеснение.
Политической деятельности Вольтера придают обыкновенно го-
раздо меньше значения, чем его деятельности религиозной. Прав-
да, Вольтер никогда не излагал в последовательном порядке своих
политических убеждений и никогда не приводил их в прямую си-
стему, как Монтескьё и Руссо, и правда, что он вообще с большей
настоятельностью говорил о религиозной и литературной свободе,
чем о политической. Но Вольтер следил, однако, и за политически-
1 Религия, Добродетель, Теизм и Теист, Терпимость (фр.). — Прим. изд.
196
ми событиями и задачами с самым неутомимым и неустрашимым
участием. Во все горячие вопросы дня он бросал зажигательные
брошюры, как, например, в 1750 году маленькое сочинение «La
voix du Sage et la voix Peuple» — против притязаний духовенства,
которое хотело отклонить от церковных имений светский налог.
Значительная часть его стихотворений также исключительно по-
литического содержания. Сюда относятся не только ряд мелких
случайных стихотворений, возникших большей частью из борьбы
и событий того времени, которые собрал перевел и Адольф Эллис-
сен в замечательном небольшом сочинении «Voltaire, als politischer
Dichter» (Leipz. 1852), но также и «Генриада», «Брут», «Смерть Цеза-
ря» и многие другие из его трагедий.
Поселившись в марте 1755 г. на Женевском озере, Вольтер напи-
сал ту глубоко прочувствованную оду к свободе (X, 362), которой
Вильмен справедливо дает первое место между мелкими стихотво-
рениями Вольтера.
Mon lac est le premier; c’est sur ses bords heureux
Qu’habite des humains la deesse eternelle.
L’ame des grands travaux, 1’objet des nobles voeux,
Que tout mortel embrasse, ou desire, ou rappelle,
Qui vit dans tous les coeurs, et dont le nom sacre
Dans les cours des tyrans est tout bas adore,
La liberte...
Liberte, Liberte, ton trone est en ces lieux,
La Grece, ou tu naquis t’a pour jamais perdue,
Avec ses sages et ses dieux.
Rome depuis Brutus ne t’a jamais revue.
Chez vingt peuples polis a peine es tu connue.
Le Sarmate a cheval t’embrasse avec fureur;
Mais le bourgeois a pied, rampant dans 1’esclavage,
Те regarde, soupire, et meurt dans la douleur.
L’Anglais, pour te garder, signala son courage;
Mais on pretend qu’a Londres on te vend quelquefois;
Non, je ne le crois point; ce peuple her et sage
Te paya de son sang, et soutiendra tes droits.
Aux marais du Batave on dit que tu chancelles;
Tu рейх te rassurer: la race des Nassaux,
Qui dressa sept autels a tes lois immortelles,
Maintiendra de ses mains fideles
Et tes honneurs et tes faisceaux.
Venise te conserve, et Genes t’a reprise.
Tout a cote du trone a Stockholm on t’a mise;
Un si beau voisinage est souvent dangereux.
Preside a tout etat ou la loi t’autorise,
Et restes-y, si tu le рейх.
Ne va plus, sons les noms et de Ligue et de Fronde,
197
Protectrice funeste en nouveautes feconde.
Troubler les jours brillans d’un peuple de vainqueurs,
Gouverne par les lois, plus encore par les moeurs.
Il cherit la grandeur supreme;
Qu’a-t-il besoin de tes faveurs,
Quand son joug est si doux qu’on le-prend pour toi-meme?
Dans le vaste Orient ton sort n’est pas si beau.
Aux murs de Constantin, tremblante et consternee,
Sous les pieds d’un visir tu languis enchainee,
Entre le sabre et le cordeau:
Chez tous les Levantins tu perdis ton chapeau.
Que celui du grand Tell orne en ces lieux ta tete,
Descends dans nos foyers, en tes beaux jours de fete,
Viens m’y faire un destin nouveau.
Embellis ma retraite ou I’Amitie t’appelle;
Sur de simples gazons viens t’asseoir avec elle.
Elie fuit comme toi les vanites des cours,
Les cabales du monde et son regne frivole.
О deux divinites! vous etes mon recours;
L’une eleve mon ame, et 1’autre la console,
Presidez a mes derniers jours!
Известно за исторический факт, что Вольтер еще до своего путе-
шествия в Англию обнаруживал решительно либеральное направле-
ние. Уже в 1713 г. Вольтер, двадцатилетний юноша, написал оду (VIII,
411) о государственном и нравственном упадке Франции, — оду, ко-
торая напоминает самые смелые сатиры древних римлян. Мало того,
в одном стихотворении, о несправедливостях суда, из 1715 года,
Вольтер призывает даже к открытой революции (VIII, 420):
Vieille erreur, respect chimerique,
Sortez de nos coeurs mutines;
Chassons le sommeil lethargique
Qui nous a tenus enchaines.
Peuple! que la flamme s’apprete;
J’ai deja, semblable au prophete,
Perce le mur d’iniquite.
Volez, detruisez 1’injustice.
Saisissez au bout de la lice
La desirable Liberte!
Но во всяком случае, ближайшим образом Вольтер составил свои
политические убеждения только наблюдением английской жизни
и учреждений. Он изучал не только Ньютона и Локка, но и поли-
тических писателей Англии; именно, в этом направлении имел
на него большое влияние Болингброк. Вольтер хотя в несуществен-
ных вещах и старался опровергнуть своего великого современника
198
Монтескьё, но в вещах существенных он стоит с ним на одной поч-
ве. Английская конституция и для него есть удивительное создание,
осуществление разумной свободы или, как выражается он в вось-
мом из своих «Английских Писем», «английская нация есть един-
ственная, которая неутомимыми усилиями установила наконец ту
мудрую правительственную форму, где король имеет всю власть
делать всякое добро, и где однако у него связаны руки на злое, где
господа становятся важными господами без насилий и без вассалов,
и где народ без смуты принимает участие в правлении». В Генриаде
он говорит (XXVII, 349):
Aux murs de Westminster on voit paraitre ensemble
Trois pouvoirs etonnes du noeud qui les rassemble,
Les deputes du peuple et les grands et le roi,
Divises d’interet, reunis par la loi;
Tous trois membres sacres de ce corps invincible,
Dangereux a lui-meme, a ses voisins terrible.
Вольтер не изучал внимательно ни управления и хозяйства об-
ширного общества, ни устройства английской конституции. Но он
приобрел себе тот основной взгляд, что благосостояние бывает
только там, где есть свобода и равенство.
Не кто другой, а именно Вольтер возвестил во Франции те слова,
которые получили такое значение во французской революции —
«Liberte et Egalitd»1. Один из наиболее значительных памятников
политического образа мыслей Вольтера, «Разговор между А. В. С.»
(XXVII, 348), ясно и резко высказывает эти понятия: «Единствен-
но естественная жизнь состоит в том, чтобы человек был свободен
и чтобы все люди были равны. Всякое другое состояние есть только
недостойная внешняя подделка, дурной фарс, в котором один игра-
ет роль господина, другой — раба, третий — льстеца, четвертый —
поставщика. Люди могли потерять это естественное юридическое
состояние только по трусости и глупости». Но Вольтер, конечно,
далек от всех тех преувеличений, которые пристали к этим поня-
тиям впоследствии. Свобода есть у Вольтера господство закона,
равенство — одинаковое право всех на его защиту, юридическое
равенство.
«Быть свободным, — говорит Вольтер в Pensees sur PAdministration
publique в 1752 (XXIII, 526) — значит не зависеть ни от чего, кроме
закона. La liberte consiste a ne dependre que des lois2. Теперь (1750)
каждый свободен таким образом в Швеции, Англии, Голландии,
Швейцарии, в Гамбурге; но есть еще много христианских госу-
дарств, жители которых по большей части рабы». Совершенно со-
1 Свобода и Равенство (фр.). —Прим. изд.
2 Свобода должна зависеть только от законов (фр.). — Прим. изд.
199
гласно с этим Вольтер в Idees republicaines, (XXIV, 416) характеризу-
ет правительство как волю всех, исполняемую одним главой или
многими по смыслу закона, который дается всеми. Le gouvernement
civil est la volonte de tous, executee par un seul ou par plusieurs en vertu
des lois, que tous ont portees1. В ближайшие указания о правитель-
ственных формах Вольтер никогда не вдавался.
Из этой свободы, как высшего основного закона, тотчас и необхо-
димо следует, — как весьма определенно объяснил сам Вольтер, —
равенство граждан, именно в смысле уравнения всех пред зако-
ном. В тринадцатом отделе этих Разговоров между А. В. С. (т. 36,
стр. 206) говорится: «Свобода обнимает все прочие условия. Когда
господствует закон, а не произвол, — крестьянина не будет угнетать
любой мелкий чиновник, гражданина не посадят в тюрьму, не на-
чав тотчас же его процесса перед его законными судьями, ни у кого
не будут отнимать его поля под предлогом общей пользы, не воз-
награждая его за это, клерикалы не будут властвовать над народом
и обогащаться на его счет, вместо того чтобы научать его». Но Воль-
тер никогда не простирал политического понятия равенства даль-
ше этого требования равенства юридического. В душе он, конечно,
негодует на различие сословий и ни под каким условием не хочет
допустить привилегии по одному рождению. В письмах к Фридриху
Великому и в первой песни Discours sur 1’Нотте он положительно
утверждает, что все люди равны по рождению, что он тогда только
поверит в божественное право рыцарей, когда увидит, что крестья-
не являются на свет с седлами на спинах, а рыцари — со шпорами
на пятках. Но эта злоба, хотя и против воли, подчиняется неодо-
лимым препятствиям. Статья Egalite в «Философском Словаре» на-
зывает равенство мечтой, прекрасной, но несбыточной, неравен-
ство — злом прискорбным, но непобедимым. Одиннадцатая Pensee
sur lAdministration publique высказывает эту мысль так, — что все
равны как люди, но не как члены общества. «Все естественные пра-
ва принадлежат самому последнему турку так же ненарушимо, как
султану; и тот, и другой с той же властью могут распоряжаться со-
бой, своим семейством, своей собственностью; люди равны в сущ-
ности, но на сцене мира они играют разные роли».
Поэтому Вольтер постоянно говорит о безусловном подчинении
церкви государству, о свободе совести, свободе печати, смягчении
уголовных законов, справедливом и равномерном распределении
налогов, — он постоянно повторяет эти и подобные требования,
одинаково неустрашимый и против насильственного гнета неогра-
ниченной королевской власти, и против преимуществ высокомер-
ного дворянства и мрачной ревности властолюбивых клерикалов.
1 Гражданское управление — это воля всех, выполняемая одним или нескольки-
ми в соответствии с законами, которые всеми приняты (фр.). —Прим. изд.
200
Одушевленный боец за просвещение и терпимость в религии, Воль-
тер был и в политике тем же одушевленным бойцом за чистейшую
и свободную любовь к людям, за кротость и справедливость.
Вольтер настаивал на улучшении испортившегося государствен-
ного порядка; но он ожидал этого улучшения не снизу, а сверху,
не от насильственного переворота, а от постепенного и последова-
тельного преобразования, не от революции, а от реформы. Вольтера
обвиняют обыкновенно в пошлом аристократическом себялюбии;
доказательством может служит то, как говорит о Вольтере еще Луи
Блан в своей истории французской революции (Paris 1847, 1, 354
и след.). Это обвинение неосновательно. Это доказывает не только
его человеколюбивая деятельность в Ферни, но и многие из его пи-
сем и стихотворений. Таковы, например, его Epitre а ип Нотте ода
sur le Passe et le Present (1775), прекрасное стихотворение Le Temps
present (1775), и Epitre a un homme (Turgot, 1776). Как горько жалу-
ется он в одном дружеском письме, что о бедных крестьянах думают
только тогда, когда их и их стада постигает моровая язва; что все
считается в отличном порядке, если опера достаточно снабжена кра-
сивыми женщинами. Как сильна его ненависть ко всяким аристо-
кратическим комплотам, к Фронде, к заговорам польского и швед-
ского дворянства! Но, с другой стороны, Вольтер как значительный
и опытный землевладелец слишком близок был к суровой почве
действительности, чтобы безотчетно отдаваться тем сантименталь-
ным мечтаниям о настоящем положении народного образования
и народного характера, каким могли подчиняться его друзья в па-
рижской салонной жизни. Случается, что в дурные минуты подоб-
ного настроения он иногда сомневается даже в возможности поря-
дочного всеобщего народного образования. 1 апреля 1766 он пишет
к Дамилавиллю: «Я думаю, что относительно народа мы не понима-
ем друг друга; я понимаю под народом populace, чернь, у которой
есть только руки, чтобы жить. Я опасаюсь, что этот разряд людей
никогда не будет иметь времени и способности научиться; мне ка-
жется даже необходимым, чтобы существовали невежи. Если бы вам
пришлось возделывать землю, как им, вы, конечно, согласились бы
со мной; «quand la populace se mele de raisonner, tout est perdu»1.
В письме к Табаро от 3 февраля 1769 он увлекся даже до такого
мнения: «Народ всегда безвкусен и груб; это быки, которым нуж-
но ярмо, погонщик и корм». Всего спасения Вольтер ожидал от тех
благосклонных правительственных мер, которые метко назвали
просвещенным деспотизмом. Отсюда радость Вольтера, когда гла-
вой правительства стал Тюрго, освободивший народ от угнетений
дворянства и генеральных откупщиков, и глубокая печаль, когда
этот благородный государственный человек был низвергнут. Отсю-
1 Когда население вовлекается в рассуждения, все потеряно (фр.). —Прим. изд.
201
да радостное одушевление, с каким он встретил молодого, многоо-
бещавшего Людовика XVI. С этой точки зрения в значительной сте-
пени должны объясняться и сношения Вольтера с Фридрихом Вел.,
с Екатериной, Густавом III и Кристианом VII. Хотя в эти отношения
замешиваются и многие другие побудительные причины, не всегда
чистого свойства, и хотя Вольтер нередко в своих похвалах и лести
переходит дозволенную меру, но при всем том остается справедли-
во мнение его жизнеописателя Кондорсе, что Вольтер, даже в самых
тайных своих письмах к этим государям, никогда не отказывался
от своих политических убеждений и стремлений.
Поэтому Вольтеру тем страшнее казалось то, что французское
правительство нисколько не подавалось на эту просвещенную ре-
форму. В такое время, когда вся Франция нисколько не думала
ни о какой опасности, Вольтер видел уже приближающиеся бури
насильственного переворота. В 1764, 2 апреля, он писал к марки-
зу Шовелену достопамятные слова: «Все, что я вижу происходящим
кругом меня, бросает зерно революции, которая наступит немину-
емо, но которой я едва ли буду свидетелем. Французы почти всегда
поздно достигают своей цели, но, наконец, они все-таки достига-
ют ее. Свет распространяется все больше и больше; вспышка про-
изойдет при первом случае, и тогда поднимется страшная сумяти-
ца. Счастлив тот, кто молод; он еще переживет прекрасные вещи».
Из Литературной Переписки, от января 1790, видно, какое сильное
впечатление произвело это письмо, опубликованное тогда в одном
литературном альманахе.
Вольтер-историк также, в сущности, повторяет Вольтера-полити-
ка, — по крайней мере относительно философских оснований его
исторических трудов.
Еще и теперь много читается живая история Карла XII, кото-
рая отличается прекрасным рассказом, но не имеет научного зна-
чения. Это юношеское сочинение Вольтера, от 1727 и 1728 годов
(напечатано в 1731), и еще ясно обнаруживает влияние представ-
лений о царственной власти и величии, господствовавших в век
Людовика XIV; она исполнена удивления перед дерзким искателем
приключений и завоевателем, удивлением, от которого Вольтер
совершенно освободился в свои позднейшие годы. Такова и Histoire
de I’empire de Russie sous Pierre le Grand (1759—1763). Вольтер сам
признается в письме к Шувалову от 17 июля 1758, что из рукопи-
сей, доверенных ему русским двором, он устранил многое, чтд
не приносило славы возвеличенному им герою; и это признание
тем более странно, что источники, сообщенные ему петербур-
гским двором, и без того были очень скудны, как это видно из не-
напечатанного письма Вольтера к герцогине Готской от 31 июля
1761, — сохраняющегося в готском архиве. Далее, сюда же при-
надлежат Annales de I’Empire, написанные по поручению герцогини
202
Готской (1753—1754). Они сухи и похожи на хронику; но Лессинг
(Lachm., т. 4, стр. 468) по поводу их справедливо хвалит Вольтера,
что никто не умеет так хорошо, как он, передать важнейшие собы-
тия в эпиграмме.
Важнее другие произведения: Siecle de LouisXIV (1751), Histoire du
Parlement de Paris (1769) и Precis du Siecle de Louis XV (1768). К этим
произведениям, правда, может в особенности относиться та глубо-
кая жалоба, которую Вольтер высказал в письме к г-же дю Деффан
от 20 июня 1764 при появлении английской истории Юма, — что
во Франции еще невозможна настоящая история, потому что исто-
рик постоянно стесняется гнетом двора, церкви и парламентов;
что во Франции пишут историю так, как пишут комплимент ака-
демии; что нужно заботливо выбирать слова, чтобы кто-нибудь
не нашел их оскорбительными. Именно, история Людовика XIV не-
редко вырождается в самое фальшивое прикрашивание; Вольтер,
как остроумно было замечено, изображает короля, основывавшего
академии, точно так же как монахи описывали государей, осно-
вывавших монастыри. Но что было очень важно и в особенности
сделало эпоху в историографии, — это было то, что эта книга была
не одна история королей, но история целого века. On veut essayer de
peindre a la posterite, non les actions d’un seul homme, mais I’esprit des
hommes dans le siecle le plus eclaire qui fut jamais1. И народ получает
свое право. Это вместе история управления и финансового хозяй-
ства, торговли и промысла, церковных споров, искусства и науки,
нравов и образования.
Еще глубже и всестороннее Вольтер провел эту широкую точку
зрения в своем главном историческом произведении, в Essai sur les
moeurs et I’esprit des nations.
Это произведение начато было еще в 1740 для маркизы дю Шат-
ле. Отрывки, напечатанные с 1745 в Mercure de France, носили за-
главие Nouveau plan d’une histoire de I’esprit humain; первое издание,
сделанное Вольтером (Дрезден, 1754 и след.), названо Essai sur
I’histoire universelle. В 1756 он снова напечатал этот Essai у Краме-
ра в Женеве, присоединив к нему свой Siecle de Louis XIV, а потом
и Precis du siecle de Louis XV, так что сочинение действительно каза-
лось доведенным до настоящего времени. Только в 1769 оно полу-
чило употребительное теперь название Essai sur les moeurs et I’esprit
des nations. Оно непосредственно примыкает к Боссюэтову Discours
sur I’Histoire universelle (1681), но исключительно церковному взгля-
ду своего предшественника Вольтер противополагает взгляд фило-
софский. «Писать историю следует только философу», — говорил
Вольтер в 1745 в письме к Дюкло.
1 Мы пытаемся обратиться к потомству, не действия одного единственного че-
ловека, но разум многих в самом просвещенном столетии, что когда-либо существо-
вало (фр.). —Прим. изд.
203
Точка зрения этой книги не подлежит спору. В объяснительных
дополнениях (XXIV, 548). Вольтер ставит целью истории, — что она
должна быть не только рассказом о внешних событиях, которые при-
том мы знаем большей частью только в весьма извращенном виде,
а скорее историей человеческого духа, задача которой — показать,
какой борьбой развития человек мало-помалу поднялся от варвар-
ства к образованию. «Поэтому, — прибавляет Вольтер (стр. 372), —
здесь обращено внимание не исключительно на огромную массу
фактов, которые взаимно уничтожают друг друга, но автор ограни-
чился только важнейшими и несомненными, и дает самому читате-
лю возможность обсудить стеснение, оживление и успехи человече-
ского духа». Вольтер ясно понимал возможность этих требований.
Он ввел равномерно все известные народы в свое обозрение и стре-
мился к самой полной фактичности; едва ли не более ревностно,
чем политические события, он рассматривает внутреннюю жизнь,
нравственное и общественное состояние и учреждения, экономи-
ческие события, промышленные изобретения, историю поэзии
и даже искусств. Здесь мы в первый раз встречаем понятие и на-
чало настоящей культурной истории. Когда Лессинг, которого, ко-
нечно, нельзя заподозрить в особенной любви к Вольтеру, объявлял
об этой книге в Berliner Zeitung (т. 3, стр. 379), он сказал, что автор
ее идет совершенно новым путем, что он может справедливо хва-
литься, libera per vacuum posui vestigia princeps. Здесь имеют свою
исходную точку не только ближайшая английская школа Фергю-
сона, Юма, Гиббона и Робертсона, но, как единогласно объясняют
Вильмен (Tableau de la litt, du 18-me siecle, 17-я лекция), Шлоссер
(Gesch. des achtzehnt. Jahrh. Heid. 1843, ч. 2, стр. 474) и Бокль (т. I,
отд. 2), — и вся новейшая историография. Но исполнение, конечно,
остается далеко от широко задуманного плана. У Вольтера вовсе нет
недостатка в весьма старательном и подробном изучении, хотя он
никогда его не выставляет; часто просвечивают очень ясно выраже-
ния и колорит даже весьма отдаленных источников, как это показал
для некоторых отделов Вильмен; но Вольтер впадает в ослепление
и пристрастие и насилует факты, как только является на сцену его
ненависть к клерикализму. Он несправедлив, потому что не разли-
чает эпох. Все времена и народы он меряет одним масштабом; он
не знает закона человеческого развития. Он предчувствовал в неко-
торой степени то глубокое положение, что всемирная история есть
прогресс в сознании свободы; но понимание и приложение этой
мысли еще остается у него совершенно узким и односторонним.
Тем же духом проникнуты исторические статьи Вольтера в Фи-
лософском Словаре. Преследование христиан при римлянах Воль-
тер объясняет главным образом наущениями иудеев. Даже первые
христиане почти всегда являются у него только себялюбивыми воз-
мутителями; при Траяне, как говорит он, христиане убили в Азии
204
более двухсот тысяч человек; они были наказаны, прибавляет он,
но меньше, чем бы заслуживали, потому что, к сожалению, они
все еще продолжали существовать. Средние века кажутся Вольтеру
только дикой путаницей преступлений, глупостей и бедствий, среди
которых только иногда встречаются отдельные примеры добродете-
ли и счастья, как в дикой пустыне встречаются разбросанные жили-
ща. Поразительным доказательством неисторического понимания
Вольтера служит то, что высшим образцом в религии, нравствен-
ности и управлении он, напротив, считает Китай, который хотя
и был тогда, в сущности, неизвестен, но почти у всех французских
писателей того времени представляется совершенно баснословной
страной неслыханного превосходства. Священные книги индусов
и персов кажутся Вольтеру мастерскими произведениями мудрости,
Конфуций и Зороастр превосходят Моисея, пророков и апостолов.
Древние египтяне и германцы были, по его мнению, деисты. Юли-
ан-отступник — один из величайших героев и мудрецов; он только
из политического расчета должен был показывать наклонность
к языческому суеверию.
Эти преувеличения, конечно, странны и несправедливы, но в них
есть, однако, важная черта. В прошедшем искали тогда ручатель-
ства за будущее. Мыслящие люди хотели показать, что не понапрас-
ну предавались неисполнимым мечтаниям и что в другие времена
и в более счастливых странах земли уже осуществлялось то, в чем
они видели теперь цель своих стремлений.
3. Вольтер как поэт
Вольтер открыл свое блестящее поприще поэтическими произве-
дениями, и он прославился прежде всего как поэт. Но при всем том
поэзия никогда не была для него внутренней потребностью, никог-
да не была врожденным и необходимым выражением его личной
природы. Рифма, рассказ и сценическое представление, если они
не были просто делом тщеславия и страсти к внешнему блеску, ста-
ли его оружием в особенности потому, что это была самая доступ-
ная и самая влиятельная форма, которой он мог воспользоваться
для распространения во всех кругах общества своих религиозных
и политических мнений. Его стихотворения были памфлетами.
Об одной из своих пьес, Олимпии, Вольтер говорит совершенно
прямо в письме в д’Аламберу от 25 февраля 1762 г., что он выбрал
этот сюжет не столько для того, чтобы написать трагедию, сколько
для того, чтобы в конце пьесы найти повод к рассуждению о мисте-
риях, о сходстве древних и новых жертвоприношений, об обязанно-
сти жрецов и единстве Бога. Если новая теория искусства называ-
ет такую поэзию, направленную исключительно на внешние цели
и обстоятельства, — поэзией тенденции, то Вольтер был преимуще-
ственно таким тенденциозным поэтом.
205
Поэтому у него нигде нет свежего и оживляющего дыхания чи-
сто поэтического настроения. Его образы и положения — только
искусно придуманные примеры и олицетворения общих понятий.
Все в этой поэзии поучительно; все сводится к эпиграмматической
выходке, к минутному применению: Вольтер пробовал себя во всех
родах поэзии; его смелой предприимчивости казались доступны са-
мые высокие роды драмы, эпоса и лирики. Но живое, полное чувство
ему не удается: его гимны и оды большей частью напыщенны; его
эпос беден образами и жизнью; его драмы исполнены благородных
и прекрасных мыслей, часто поразительны в подробностях, но ли-
шены драматического действия и интереса. Вольтер гораздо лучше
владеет серединным родом дидактического стихотворения, а всего
лучше удаются ему небольшие эпиграмматические стихотворения,
так называемые poesies fugitives, и сатирические повести. Вольтер —
мастер там, где достаточно ума; это гений французского esprit.
Трагедии
Замечательнейшие трагедии Вольтера следующие: «Эдип»,
представленный в 1718, «Брут» 1730, «Заира» 1732, «Смерть Цеза-
ря» 1735 (на сцене только в 1743), «Альзира» 1736, «Магомет» 1742,
«Меропа» 1743, «Семирамида» 1748, «Rome Sauvee» 1750, в Париже
только в 1752, «L’Orphelin de la Chine» 1755, «Танкред» 1760.
Некоторые из этих пьес, особенно Заира, остаются в пределах
страстей любви и ревности, принадлежащих исключительно от-
дельным лицам; но большая часть их вступает в общественную
жизнь, в стремительную борьбу государства и церкви. Корнель
и Расин превозносили королевскую власть и веру; Вольтер охотнее
выводит на сцену величие римской свободы и злодеяния жрече-
ского обмана. В эпоху угнетения Вольтер бросил могучие образы
Брута, Цезаря, Катилины и Цицерона, которые, если не точным
изображением характеров, то страстным одушевлением и звучной
речью снова пробудили заснувшие идеалы. Вольтер не стесняется
при этом намеренно искажать события, не подлежащие сомнению,
если такое искажение бывает нужно для его целей. Между тем
как Шекспир с глубоким историческим инстинктом довел изобра-
жение Цезаря до рокового решения при Филиппах, Вольтер, хотя
очевидно возбужденный Шекспиром, обрывает трагедию Цезаря
смертью самого героя и оканчивает знаменитыми словами, что
рабство не должно побеждать свободы. «Семирамида» и «L’Orphelin
de la Chine» исходят из того же настроения. В сюжетах религиозных
надежды и стремления Вольтера были заинтересованы еще беско-
нечно глубже. Если еще пылким юношей Вольтер решился сказать
в «Эдипе», что жрецы имеют силу только потому, что народ глуп
и верит им, то в «Магомете» эта мысль прямо является основным
мотивом целой пьесы. Магомет есть не что иное, как холодный
206
обманщик, или как выражается сам Вольтер в письме к Фридриху
(XXXV, 557), Тартюф с мечом в руке. 1 сентября 1742 Вольтер пишет
к Сезару де Мисси, священнику французского посольства в Англии:
«Магомет есть Tartufe le Grand. Я хотел показать в этом произведе-
нии, к каким странным необузданностям фанатизм ведет слабые
души, если они подчиняются руководству негодяя; моя пьеса под
видом Магомета изображает приора якобинов, который дает кин-
жал в руки Жака Клемана». Удивительно, что, когда Вольтер имел
смелость послать Магомета Бенедикту XIV, папа мог написать ему
благодарственное письмо и вступить с ним в литературное разби-
рательство; но также удивительно и то, что Наполеон, при большом
стечении владетельных особ в Эрфурте, велел представить именно
«Смерть Цезаря».
При новом представлении «Эдипа», старый Ламотт был удив-
лен и объявил, что Корнель и Расин нашли теперь достойно-
го преемника. Лагарп держится еще того же мнения. Но как бы
ни ценили поэтическое достоинство этих обоих трагиков, Вольте-
ра ни в каком случае нельзя поставить наряду с ними. Нападения
Лессинга и А. В. Шлегеля остаются в своей прежней силе. Теперь
в Comedie fran^aise семь раз ставят Расина, пока придет раз оче-
редь до Вольтера.
Вольтера считают обыкновенно нововводителем и в трагедии.
И действительно, можно заметить самые разнообразные нововве-
дения, — как и в критике он часто в резких выражениях говорил
о различных недостатках французской сцены. Если до тех пор была
немыслима французская трагедия без любовной интриги, то Воль-
тер дает особенное значение тому, что он писал трагедии без этого
обязательного материала; мало того, в посвятительном предисло-
вии к «Зюлиме» он насмехается над страстью Филоктета к Иокасте,
изображенной в его юношеском произведении, и отдает самое ре-
шительное преимущество пьесам, свободным от любовной интри-
ги. Вольтер осмелился представить в «Заире» французских, а в дру-
гих пьесах — даже китайских, американских и африканских героев,
в «Альзире» — происшествие из новейшей истории, между тем как
до тех пор придворные качества трагических героев и сюжетов
требовались гораздо строже. Он старается сделать трагедию более
богатой действием, более оживленной в сценическом отношении:
«II faut frapper Fame et les yeux a la fois»1, — говорит он в предисло-
вии к «Танкреду». В «Эрифиле» и «Семирамиде» он решился даже
вызвать тени умерших. Но та неловкость и безвкусие, с какими он
пользуется здесь английскими образцами, достаточно показывает,
что для него дело шло только о внешнем, театральном эффекте. Все,
что сколько-нибудь серьезно подрывает старые предания, находит
1 Нужно достучаться до души и глаз одновременно (фр.). — Прим. изд.
207
в Вольтере непримиримого врага. Самая сущность классицизма
остается и для него вещью неприкосновенной.
Этим уже определяется то отношение, в котором. Вольтер нахо-
дится к древности и к Шекспиру.
Вольтер не знает древних и потому всегда говорит о них с тем са-
модовольством, которое свойственно только незнанию. По его мне-
нию (ср. Essai sur les Moeurs, XVII, 243), «Мандрагора» Макиавелли
стоит целого Аристофана, «Неистовый Роланд» выше «Одиссеи»,
«Освобожденный Иерусалим» выше «Илиады»; чрез несколько сто-
летий, как думает он, не станут уже делать таких бесполезных срав-
нений. «Греческие трагедии, — говорит его Ingenu в главе 12 (XXI,
279), — хороши для греков; но кто знает Ифигению, Федру, Андро-
маху, Аталию французов, тот, конечно, не найдет в них ни восторга,
ни трогательности». Точно также Вольтер пишет в 1768 в Горацию
Уолполу, что все греческие трагедия в сравнении с Корнелем и Раси-
ном просто ученические работы, что в Париже людей со вкусом го-
раздо больше, чем было когда-нибудь в Афинах; а в марте 1737 он
говорит странную лесть Фридриху Великому, что Афины некогда
далеко отстанут от Берлина.
Это безвкусное хвастовство Вольтер повторил и в предисловии
к «Семирамиде», и Лессинг, в Драматургии, ответил на это корот-
ким замечанием, что, быть может, иностранец, который также
немножко читал древних, может смиренно просить о позволении
быть здесь кое в чем другого мнения.
То же высокомерие является и в критике Шекспира. Это есть
факт, что Вольтер первый во Франции обратил внимание на Шек-
спира. Как малоизвестен был Шекспир во Франции в половине
прошлого столетия, всего лучше видно из того, что когда Вольтер
представил французской академии свой перевод «Юлия Цезаря»
Шекспира, д’Аламбер в официальном благодарственном письме
от 8 сентября 1762 признался, что академия не имела под руками
подлинника и потому не могла сличить с ним перевода (XLII, 230).
Но ошибочно будет различать в отношении Вольтера к Шекспиру
две разные эпохи, как это делает новейшее сочинение о влиянии
Шекспира во Франции Альберта Лакруа (Брюссель 1856): эпоху пол-
нейшего признания, 1729—1761, и эпоху завистливого отрицания,
идущую до смерти Вольтера. Дело в том, что Вольтер — автор «Ан-
глийских Писем», автор «Заиры», «Брута» и «Юлия Цезаря», и Воль-
тер — старик, который в 1761 под псевдонимом Жерома Карре пи-
сал Appel a toutes les nations de I’Europe1, в 1762—1764 комментарий
к Корнелю с этим переводом «Юлия Цезаря» Шекспира, в 1776 —
письмо к Академии и в 1778 — посвятительное послание «Ирен»
к тому же упреждению, стоят совершенно на одной и той же точке
1 Воззвание ко всем нациям Европы (фр.). —Прим. изд.
208
зрения; как у одного нет безусловной похвалы, так у другого нет
безусловного порицания. Не только эти Письма к Академии назы-
вают Шекспира пьяным дикарем, нелепым акробатом, оборванным
пиутом, жалкой обезьяной, Фесписом, который, однако, мог бы
быть иногда и Софоклом и между грязными пьяницами создает
часто и героя с чертами величия; — но уже в 1728 Вольтер (VIII,
317) называл пьесы Шекспира monstres еп tragedie1 и резко выражал
двойственность своих впечатлений. В «Английских Письмах» (1734)
он ставит в упрек Шекспиру отсутствие всякого вкуса и полное не-
знание драматических правил: le merite de cet auteur a perdu le theatre
anglais... il ne faudrait pas I’imiter2, и называет его трагедии des farces
monstrueuses3 (XXII, 149). Когда в 1736 Вольтер печатал La Mort de
Cesar, где он подражал Шекспиру, он в предисловии называл свой
образец un ouvrage monstrueux4 (III, 309), которое невозможно пере-
вести на французский язык. И точно так же в 1748 написано было
то знаменитое предисловие к «Семирамиде», в котором Вольтер го-
ворит, что, по-видимому, природа хотела соединить в голове Шек-
спира все, что могла она произвести высокого и великого и, с дру-
гой стороны, грубого и отвратительного: «II semble que la nature se
soit plue a rassembler dans la tete de Shakespeare ce qu’on peut imaginer
de plus fort et de plus grand avec ce que la grossiёretё sans esprit peut
avoir de plus bas et de plus dёtestable»5. По словам его, трагедия «Гам-
лет», le fruit de ^imagination d’un sauvage ivre6, так груба и пошла, что,
во Франции и даже в Италии самая низкая чернь не потерпела бы
ее представления. И наоборот, Вольтер и в старости не был вовсе
нечувствителен к преимуществам Шекспира. В 1764, 28 февраля,
Вольтер пишет к Сорену, что при всей грубости и смешных недо-
статках Шекспира, у него, как у Лопе де Веги, есть такие наивные
и правдивые черты и такая увлекающая полнота действия, что все
рассуждения Корнеля кажутся ледяными в сравнении с Шекспиром.
В «Философском Словаре» (1764) он называет Шекспира un genie7,
в произведениях которого находятся пьесы, qui elevent imagination
et qui penetrent le coeur8 (XVII, 210). Ср. письмо Вольтера к Горацию
Уолполу от 15 июля 1768 года. Его подражание Шекспиру, как при-
1 Монстры в трагедии (фр.). —Прим. изд.
2 Заслуги этого автора угробили английский театр... ему не следует подражать
(фр.). —Прим. изд.
3 Монструозные фарсы (фр.). —Прим. изд.
4 Монструозное произведение (фр.). —Прим. изд.
5 Кажется, что природе доставляло удовольствие собрать в голове Шекспира
самое сильное и величайшее, какое только можно вообразить, с самой низкой и от-
вратительной грубостью без духа (фр.). —Прим. изд.
6 Плод воображения пьяного дикаря (фр.). —Прим. изд.
7 Гений (фр.). —Прим. изд.
8 Которые пробуждают воображение и проникают в сердце (фр.). —Прим. изд.
209
знается сам Вольтер в предисловии к «Семирамиде», всегда было
только внешним заимствованием отдельных эффектных подробно-
стей, оборотов и мотивов, — часто даже очень нерассудительным,
как, например, появление привидения среди белого дня в «Семи-
рамиде» (ср. Лессинга, Dramaturgic, Lachm., т. VII, стр. 52) или пе-
ределка Отелло и Дездемоны в Заиру и Оросмана (ср. Лессинга,
статья 11). Именно самые тонкие красоты Шекспира оставались
Вольтеру непонятны. Та черта, подмеченная в самой глубине чело-
веческого сердца, что Отелло еще раз обнимает свою возлюблен-
ную, прежде чем умертвить ее, находит осуждение у Вольтера, как
нечеловеческая и безвкусная (XXIV, 210). В своем подражании Шек-
спиру Вольтер похож на тех нехудожественных архитекторов, ко-
торые выводят постройку плоско, сухо, чисто ремесленно, и затем,
чтобы удовлетворить требованиям искусства, считают достаточным
прибавить снаружи какие-нибудь штукатурные украшения.
Поэтому Лессинг, исполнивший великую историческую зада-
чу — снова вместо искусственности восстановить ненарушимое
право природы, вместо французского классицизма поставить глубо-
кую самобытность Шекспира, — Лессинг был совершенно последо-
вателен, когда самым резким образом нападал именно на Вольтера.
Этот классицизм, оспариваемый в своем существовании, казалось,
оживал в Вольтере с помолодевшими силами. Нужно было разо-
блачить пустоту и ничтожество трагики Вольтера для того, чтобы
истинные, открывавшие дорогу всему будущему, взгляды Лессинга
могли найти себе плодоносную почву.
«Генриада» и дидактические стихотворения
Истинное отличие между поэтом и bel esprit заключается в том,
что поэт всегда создает только по внутренней необходимости своей
природы; между тем как bel esprit, как расчетливый купец, становит-
ся в зависимость от действительных или мнимых желаний и потреб-
ностей дня. Вольтер написал эпопею не потому, чтобы его природа
влекла его к эпосу, а просто потому, что во французской литературе
не было эпоса. Ему казалось, что он приобретет вечную славу, если
наполнит этот пробел.
К эпосу у Вольтера было еще меньше призвания, чем к драме,
потому что в новейшее время эпос вообще есть вещь невозможная.
Великий народный эпос в стиле Гомера и Нибелунгов, художествен-
ное очищение и соединение живой мифической и героической
саги, может расцвести только в героическом возрасте народа, т. е.
только в те свежие века, когда духовная жизнь и незамысловатая
простота нравов еще вполне совпадают с внешними потребностями
и деятельностью; в новое время нет даже места и для бесконечно
более бледного искусственного эпоса Вергилия и Тасса, потому что
образование и рефлексия, и дисциплинированные нравы новей-
210
шего времени отнимают у эпоса его сказочную, фантастическую
и романическую основу. Шиллер очень хорошо понял причины,
которые заставили его бросить задуманный им когда-то план сде-
лать Фридриха Великого героем эпоса. Новейший эпос есть роман.
Вольтер очень ясно понимал это неудобное положение вещей. В за-
ключении статьи об эпической поэзии, приложенной им к «Генриа-
де», — он говорит положительно, что новейшие и именно француз-
ские нравы и условия мало годятся для эпической поэзии; что дух
народа слишком односторонне рассудителен, слишком образован,
даже прозаичен для этого. Но это научное понимание уступило ме-
сто тщеславному желанию — дать подобный эпос и французской
литературе, которая не могла представить ничего равного Данте,
Ариосту и Тассу, Камоэнсу и Мильтону. Вольтер надеялся создать
такой эпос, который бы был действительным эпосом и вместе с тем
соответствовал трезвой рассудочности своего народа и своего века.
Выходом из этого затруднения казался ему выбор исторических
героев. «Единственно по этому основанию, — прибавляет Вольтер
в этой статье, — я выбрал действительного героя вместо мифиче-
ского, действительные войны вместо фантастических побоищ, ал-
легорические изображения истины вместо богов, принадлежащих
только фантазии».
Поэма вышла в первый раз в 1723 г., тайно напечатанная в Ру-
ане, под заглавием «La Ligue ou Henri le Grand». Дополненную об-
работку, т. e. тот вид, в котором она известна теперь, поэма полу-
чила уже впоследствии, в Лондоне. С тех пор она носила заглавие
«La Henriade» и была посвящена королеве английской, супруге Ге-
орга II (1728).
Десять песен «Генриады» обнимают союз, заключенный после
умерщвления Гизов (1588) для укрощения Лиги между Генрихом III
и его зятем, впоследствии Генрихом IV. Поэма состоит из рифмован-
ного исторического рассказа, хотя автор счел безусловным требова-
нием поэзии — в иных местах с намерением отступать от историче-
ской истины. На форму самое решительное влияние имел Вергилий,
которого Вольтер ставит далеко выше Гомера. Некоторые черты взя-
ты также у итальянца Мальминьяти, который в 1623 посвятил Лю-
довику XIII своего Enrico.
«Генриада» начинается прямо в середине описываемых событий,
начало которых передается потом в последующем рассказе; буря,
оставленная любовница, которой страсть грозила помешать попри-
щу героя, изображение подземного мира, местопребывания бла-
женных, предсказания о будущих судьбах отечества и даже льстивое
указание на венценосного потомка героя. Там, где Вергилий вводит
богов, которыми он мог воспользоваться совершенно естественно
по освященному стариной преданью и живой вере народа, Вольтер
вводит аллегорические фигуры, олицетворения Раздора, Политики,
211
Фанатизма, Любви и почти всех страстей. Все это мы в особенно-
сти имеем право назвать мертвым механизмом. Нигде ни малейше-
го признака живого изображения характеров, местного колорита
и эпохи. Все герои говорят совершенно в смысле и духе Вольтера;
они говорят даже о Ньютоновой физике. Везде гораздо больше рас-
суждений, чем образов, больше ораторского таланта, чем поэтиче-
ской силы. Художественно прекрасны только отдельные эпизоды,
например, в особенности поразительное изображение Варфоломе-
евской ночи, убийства Генриха III и сражения при Иври; и хороши
также одни стихи, — по гладкости и благозвучию это самое совер-
шенное, что только было написано Вольтером.
Теперь «Генриада» вызывает единогласные осуждения. Даже
французская критика, обыкновенно так упрямо сохраняющая ста-
рые предрассудки и мнения, едва решается теперь брать ее под
свою защиту. Но на современников «Генриада» произвела самое
могущественное впечатление. Чистота и достоинство содержания
закрыли слабость формы.
Это песнь, прославляющая религиозную и общественную сво-
боду, серьезный призыв к кротости и терпимости, к образованию
и просвещению. Генрих IV, или порицаемый, или забытый у писа-
телей семнадцатого столетия, стал героем поэмы только потому,
что он герой свободы и развития, или, по крайней мере, таким
был понят и представлен Вольтером. Фридрих Великий был самым
ревностным почитателем «Генриады»; этот боец религиозной сво-
боды и терпимости видел в ней выражение своих собственных
убеждений.
Всего лучше мы можем назвать «Генриаду» эпико-дидактической
поэмой, как «Натана Мудрого» мы можем назвать драматико-дидак-
тической поэмой. «Генриада» есть вовсе не поэтический, а истори-
ческий подвиг.
И почти можно было бы желать, чтобы Вольтер чаще вступал
на эту дорогу, — потому что его собственно дидактические стихот-
ворения, семь Discours en vers sur I’homme (1736), Epitre a m-me du
Chdtelet sur la philosophic de Newton (1736), Роете sur la Loi naturelle
(1752), Роете sur le desastre de Lisbonne (1755) и другие стихотво-
рения этого рода, хотя почти все лишены поэтического вдохнове-
ния, но и другие произведения весьма действительно служили для
распространения его взглядов, — как и теперь они служат еще од-
ним из самых богатых источников для определения этих взглядов;
но сами по себе они почти совершенно лишены всякой поэтической
жизни. Вольтер совсем не понимал величия Лукреция; образцом
его в этих стихотворениях был Поп; иногда, как например в Epitre
a mad. du Chdtelet, видно влияние Томсона.
Плавность и благозвучие стиха не в состоянии одни возвысить
и без того прозаический род поэзии. Где нет глубокого чувства,
212
и вместе с тем яркой образности, там стихотворная форма только
мешает логической строгости.
«Орлеанская девственница» и сатирические повести
Часто задавался вопрос о том, почему Вольтер имел так мало
успеха, как писатель комический. Правда, его слезливые комедии
«1’Enfant prodigue», «Нанина» и «Шотландка» (ср. Лессинга, Dram.,
статьи 12 и 21) давались некогда везде и переведены были на ино-
странные языки; но теперь они не читаются вовсе. Его фарсы и ха-
рактерные пьесы уже современникам казались тяжелы и скучны.
Вольтеру давалось только смешное в мнениях, а не смешное в ха-
рактерах.
Этим вообще и определяется граница комической силы Воль-
тера. Как ни блестяще и поразительно его остроумие, оно всегда
относится только к противоречиям и нескладицам рассудочного
образования.
Самое известное из комических произведений Вольтера есть
столь знаменитая своей дурной славой Pucelle d’Orleans. Она была
начата уже в конце двадцатых годов и с 1735 ходила между прияте-
лями Вольтера в более или менее полных списках.
В конце 1755 г., без ведома автора вышло испорченное издание
в 15 песнях, злонамеренно сделанное капуцином Мобером. Ме-
стом печатания указан Лувен, но на самом деле издание сделано
во Франкфурте. Если Вольтер решился в 1762 г. сделать собственное
издание, это было требованием благоразумия. Вольтер везде смяг-
чил поэму и уничтожил самые вопиющие места, — но это было на-
прасно: первоначальное, уже известное чтение, сохранилось, и все
последующие издатели старательно восстановляли его в приложе-
ниях и примечаниях.
Открыто высказанная цель этой поэмы — осмеять дедовский
эпос Шаплена, la Pucelle ои la France delivree (1656). Здесь тяжеловес-
но восхваляется Жанна д’Арк, как вдохновенная, чистая дева из на-
рода. Если притязание Шаплена подарить Францию национальным
эпосом само по себе вызывало насмешку певца Генриады, то эта
насмешка особенно была возбуждена тем, что Шаплен сделал ге-
роиней своей поэмы деревенскую девушку — «трактирную девку»,
как говорит Вольтер — и тем унизил достоинство эпоса, и что он
прославил эту девушку как вдохновенную и придавал такую важ-
ность ее девственности. Вдохновение есть для Вольтера бессмысли-
ца и девственность — предмет недоверчивой насмешки. Он осмеи-
вает и то и другое: сношения героини с небом и ее чистоту. Женская
нравственность и добродетель подвержены самой легкомысленной
насмешке. Эта тема, как более благодарная, главным образом вызы-
вает его глумление: выдумать самые пошлые побудительные причи-
ны для фактов этой истории и тем запачкать и предать всеобщему
213
осмеянию те высокие подвиги мужества и веры, которые по преда-
нью совершила девственница и которые могли дать богатый траги-
ческий материал для возвышенного поэта, каким был Шиллер.
Jeanne montra sons feminin visage,
Sons le corset et sous le cotillon
D’un vrai Roland le vigoureux courage.
J’aimerais mieux, le soir, pour mon usage
Une beaute douce comme un mouton;
Mais Jeanne d’Arc eut un coeur de lion,
Vous le verrez, si lisez cet ouvrage,
Vous tremblerez de ses exploits nouveaux,
Et le plus grand de ses rares travaux
Fut de garder un an son pucelage.
Все низкое и скандальное, двусмысленное и наглое находится
здесь в самом роскошном изобилии. Тот факт, что царственные
покровители и покровительницы и весь знатный свет могли иметь
такое пристрастие и удивление к этой «безделушке» — ярко обна-
руживает глубокую нравственную испорченность века; и тем более
еще, что в своем целом, поэма, несмотря на раздражающие подроб-
ности, крайне скучна и однообразна. Не следует, впрочем, забывать,
что сквозь эти наружные арабески все-таки проглядывает более
глубокая основная цель. Для поверхностного наблюдателя могло
представлять наибольшую заманчивость то, что поэма с неслыхан-
ной дерзостью глумится над королем Людовиком и госпожой Пом-
падур, над первыми сановниками государства и личными врагами
поэта, — хотя, впрочем, именно эти насмешки и намеки и могли
быть главной причиной того, что издание, сделанное врагами авто-
ра, так сильно перепугало Вольтера. Но бичующая насмешка идет
гораздо глубже. Вместе с осмеянием и унижением девственницы,
облеченной, по народному мнению, небесным посланничеством,
предавалась осмеянию и унижению и католическая вера в чудеса,
и даже святость королевской династии, спасение которой и было
целью посланничества девственницы. Историческому образу Орле-
анской девы, которая в конце концов пала жертвой церковного пре-
следования еретиков, историк Вольтер не может отказать в своем
сочувствии. Поэтому в своем эпосе он не говорит об ее конце, и са-
тира направлена не столько против ее личности, которая с извест-
ным достоинством проходит через грязь поэмы, сколько против
окружающих деву фигур двора и церкви, от короля и его метрес-
сы Агнессы Сорель до монахов и монахинь. Самая язвительная на-
смешка направлена против тех, которые низвергли девственницу
в погибель и которые были и его собственными врагами.
Всего полнее остроумие Вольтера блестит в его небольших сати-
рических повестях.
214
Самая значительная из них I’Ingenu (1767). Основная мысль его
есть изумление здравого и простого человеческого смысла и его
критика над искусственностью и произволом верований и господ-
ствующих обычаев. «Простодушный» — попавший в Европу гурон.
Здесь хотят его крестить. Гурон читает библию и непременно хо-
чет быть обрезанным, потому что в библии нет ни одного необре-
занного человека. Приор только с трудом успевает убедить его, что
эта церемония теперь вышла из употребления. Наконец гурон обе-
щает креститься; но сначала он должен исповедаться и делает это.
Но затем он требует, чтобы и его духовный отец исповедался перед
ним, потому что в послании Иакова написано, что люди должны
исповедаться друг перед другом. В день крещения он исчезает; по-
сле долгих поисков его нашли в реке, со сложенными на груди ру-
ками. Его стараются убедить, что обычаи уже переменились; но он
упрямо стоит на своем, потому что в библии все крестятся в реке.
Только m-Не Сент-Ив, к которой он питает тайную склонность, мо-
жет убедить его принять крещение по употребительному теперь
способу. Несколько времени спустя, гурон признается девушке
в любви. Она краснеет и посылает его к своим родным. L’Ingenu
никак не может понять, к чему тут требуется еще участие третьего
лица. Но он уступает и на этот раз. Его дядя делает ему предложе-
ние вступить в духовное звание, — он наверно получит приорат.
L’Ingenu свидетельствует ему самую горячую благодарность за его
доброту; но говорит, что может решиться на это только в том слу-
чае, если это не помешает ему жениться на выбранной им девуш-
ке. Дядя объясняет ему, что его любовь противоречит законам бо-
жеским и человеческим, потому что девушка была его крестной
матерью. Гурон опять приводит простой факт, что библия вовсе
не представляет такого запрещения. Тетка придумывает выход
из этого положения — просить о разрешении папу. L’Ingenu обни-
мает тетку. «Кто же этот отличный человек, который с такой добро-
той покровительствует любви молодых людей? Я хочу сейчас же
говорить с ним». Ему объясняют, кто папа, и I’Ingenu удивляется
еще больше, чем прежде. «Об этом опять нет ни слова в вашей кни-
ге, любезный дядя; я нахожусь теперь в Бретани и должен идти
к человеку, который живет на Средиземном море и не понимает
даже моего языка, и я должен просить этого человека позволить
мне любить m-Не де Сент-Ив?» L’Ingenu хочет овладеть своей воз-
любленной; он ссылается на права и требования природы, дядя
старается ему объяснить, что следует предпочесть законы, уста-
новленные государством, что без них жизнь сделалась бы постоян-
ным, разбоем, что для поддержания нравственности нужны судьи,
священники, договоры. L’Ingenu отвечал ему тем рассуждением,
которое всегда готово на подобный случай у дикарей: «Что за бес-
честные люди вы должны быть, если вы не можете обойтись без
215
таких укреплений и мер предосторожности?» М-11е Сент-Ив посы-
лают в монастырь. «Простодушному» советуют отправиться ко дво-
ру, так как он совершил некогда прекрасные военные подвиги; там
может он надеяться на заступничество, чтобы освободить т-11е
из монастыря. Он отправляется в путь. В гостинице он наталки-
вается на гугенотов, которые изображают ему бедствия, павшие
на Францию от отмены Нантского эдикта; при этом он узнает, что
виной всей беды были иезуиты. L’Ingenu высказывает мысль, что
он хочет говорить при дворе и об этом деле. Одни приняли его
за важного господина, другие — за придворного шута. Этот разго-
вор подслушал шпион иезуитов и тотчас посылает об этом изве-
стие в Версаль. Когда Pingenu приезжает, его сажают в Бастилью.
Там пришлось ему разделить одну келью с янсенистом, и два не-
счастливца заключают между собой дружбу. Янсенист спрашива-
ет его, что он думает о душе, о происхождении идей, о благодати
и о свободной воле? «Ничего, — отвечал I’lngenu. — Мы, и звез-
ды, и стихии стоим под властью Высшего Существа, которое одно,
я знаю, все остальное для меня покрыто мраком». Янсенист: «Од-
нако, сын мой, это значит делать Бога виновником зла». L’Ingenu:
«Однако, отец мой, ваша grace efficace1 делает то же самое; ведь
известно, что все, лишенные этой действительной благодати, тем
самым осуждаются на грехи; но тот, кто нас предоставляет злому,
разве он не есть виновник зла?» Янсенист не мог его опровергнуть.
L’Ingenu много рассказывал ему о своей любви, и янсенист утешал
его, хотя до тех пор считал любовь за смертный грех. Между тем
гп-Пе Сент-Ив ускользнула из монастыря. Она прибыла в Версаль,
чтобы выхлопотать освобождение I’lngenu. Она не может добить-
ся этого, пока наконец не уступает притеснителям и не покупает
свободы своей честью. L’Ingenu свободен, но гп-Пе Сент-Ив умирает
с горя о потерянной чести. L’Ingenu становится офицером, делает
чудеса храбрости и с любовью хранит воспоминание о девушке
до самой смерти.
Не меньше знаменит Candide ои I’optimisme (1759). Это история
доверчивого бедняги, с которым случаются на свете самые сквер-
ные вещи, но которому его наставник передал Лейбницево учение
о лучшем из миров. Кандид вырос в Вестфалии, в замке господина
барона Тундер-тен-Тронка. У него был такой мягкий нрав, и его
лицо отражало в себе такую чистую душу, что именно поэтому его
и назвали Кандидом. Старые слуги дома полагали, что он был неза-
конный сын сестры барона. В замке жили сам барон, его толстая
супруга, прекрасная семнадцатилетняя Кунигунда, сын барона и го-
фмейстер Панглосс, оракул дома. Панглосс преподавал своим уче-
никам Metaphysico-theologo-cosmolo-nigologie и с удивительным
1 Буквально: действенная благодать (фр.). —Прим. изд.
216
остроумием доказывал им, что нет действия без причины, и что
в этом лучшем из возможных лучших миров замок господина баро-
на есть прекраснейший из всех замков и баронесса — лучшая
из всех возможных баронесс. Кандид извлек из этого учения есте-
ственное следствие, что, после счастья быть бароном Тундер-тен-
Тронком, вторая ступень счастья есть, конечно, быть девицей Ку-
нигундой, третья — видеть ее каждый день, четвертая — слушать
доктора Панглосса. Однажды Кунигунда прогуливалась в парке,
и там она увидела, как господин Панглосс в тени кустарника цело-
вал горничную девушку, без сомнения, только для того чтобы обу-
чить ее экспериментальной физике. Она видела повторяющиеся
опыты, которые делал доктор, она ясно видела достаточное основа-
ние доктора, причины и следствия; пораженная и задумчивая, она
вернулась в замок; почему бы она не могла служить достаточным
основанием Кандиду и Кандид — ей? Кунигунда встретилась с Кан-
дидом. Она уронила платок, Кандид поднял его; Кунигунда дала ему
невинно руку, Кандид невинно поцеловал ее. Их губы встретились,
глаза воспламенились, колена задрожали, руки заблудились. В эту
роковую минуту проходил мимо барон. Он прогнал Кандида
из дому; Кунигунда была наказана; все в этом лучшем из замков
было в величайшем смущении. Кандид долго блуждал, не зная, чтд
начать. Он попадается в руки булгарским вербовщикам и делается
солдатом. Ему приходится попробовать палочных ударов, и он бе-
жит. Едва успел он сделать две мили, как попался. Ему предоставля-
ют на выбор — получить тридцать шесть палочных ударов от каж-
дого полка или двенадцать свинцовых пуль в лоб. Сколько он
ни утверждал, что посредством своей свободной воли он не желает
ни того, ни другого; но наконец, вследствие своей врожденной сво-
боды, он решился на палочные удары. Он выдержал еще очень не-
большую часть своего наказания, как предпочел двенадцать пуль.
К счастью, проходил в это время булгарский царь; он понял, что
Кандид есть только метафизический мечтатель, и помиловал его.
Через три недели разбитое тело выздоровело. Король булгаров и ко-
роль аваров вели войну. Произошло кровавое сражение; оно было
достаточным основанием для смерти по крайней мере тридцати ты-
сяч человек. Кандид дрожал, как философ, и спрятался, как только
умел лучше. Когда оба короля велели петь Те Deum за победу, он
нашел случай к бегству. Он бежал дальше и дальше через разрушен-
ные города, нося в своем сердце прекрасную Кунигунду. Наконец он
прибыл в Голландию. Он стучится в двери богатых людей, прося ми-
лостыни; двери перед ним затворяются, и ему грозят тюрьмой. Тог-
да он обращается к человеку, который только недавно назидательно
проповедовал в одном многочисленном собрании о добродетели
благотворительности. «Но веруешь ли ты, — спросил его проповед-
ник, — что папа есть антихрист?» «Я еще не думал об этом, — отве-
217
чал Кандид, — я знаю только, что я голоден». «Ты не стоишь куша-
нья, несчастный», — возразил проповедник, и жена его, слышавшая
этот разговор, вылила на Кандида ведро воды; поэтому он усомнил-
ся, чтобы папа был антихрист. Его берет к себе перекрещенец, раз-
драженный нетерпимостью врага своей секты, и дает ему хлеба,
пива, денег и работы. На другое утро Кандид встречается с нищим.
Это его старый учитель Панглосс. Прекраснейший из вестфальских
замков во время войны был разрушен; лучший из баронов, толстей-
шая из баронесс, молодой их наследник, прекраснейшая Кунигунда,
все были убиты, — таково было печальное известие, сообщенное
Панглоссом. «Но, — заключил бедный доктор, — все это было необ-
ходимо; несчастье отдельного человека служит к счастью целого;
все прекрасно». Благотворительный перекрещенец едет с ними вме-
сте по делам в Лиссабон. Все трое заняты были самой глубокомыс-
ленной беседой, как вдруг началась буря, и корабль потонул. До-
брый анабаптист старается спасти бездельника матроса; но он
первый утонул. Спаслись только матрос, доктор и Кандид. Они
были выброшены на берег и отправляются к Лиссабону. Едва сдела-
ли они шаг в город, как земля затряслась под ними. Произошло лис-
сабонское землетрясение. Везде происходит страшное бедствие,
но Панглосс утешает себя и других. Такие землетрясения — вещь
вовсе не новая, потому что всегда же одинаковые причины произ-
водили одинаковое действие; притом же несчастье отдельного лица
служит ко благу целого, все устроено наилучшим образом; если бы-
вает землетрясение в Лиссабоне, то, значит, его нет в другом месте.
Это объяснение услышал маленький черный человек, который ско-
ро убедился из этого, что Панглосс не верит в первородный грех;
если все устроено наилучшим образом, то нет грехопадения и нет
также и суда. Панглосс и Кандид очутились в тюрьме инквизиции.
Землетрясение должно было быть укрощено кровью еретиков. Не-
сколько несчастных было сожжено; Панглоссу грозила виселица,
Кандид был помилован ради своей юности, и наказание должно
было ограничиться палочными ударами. Кандид со слезами стоял
перед виселицей своего учителя. Тогда подошла к нему старая
женщина и попросила его следовать за ней. За ним ухаживают
и одевают его в новое платье. Одна прекрасная дама узнала Канди-
да и послала к нему свою служанку. И эта прекрасная дама была
никто иная, как прекрасная Кунигунда, которая вовсе не была уби-
та при разрушении замка ее отцов, как несправедливо думал Пан-
глосс, но продана была в невольницы и после разных приключений
попала в дом великого инквизитора. Кандид убивает инквизитора.
Отягощенные богатствами, любовники убегают на андалузских ло-
шадях в Кадикс. На дороге их обкрадывают. Они решились отпра-
виться в Новый свет; быть может, там находится тот лучший мир,
который Панглосс хотел найти в Европе. Но Кандид не был счастли-
218
вее и в Новом свете. Губернатор Буэнос-Айреса, Дон Фернандо
д’Ибароа, и Фигера, и Макармес, и Лампурдос, и Суза, гордый, как
его гордое имя, был очарован красотой Кунигунды. Кандид должен
как можно поспешнее бежать от преследования кораблей инквизи-
ции. С слугой Какамбо он отправляется в Парагвай. В начальнике
иезуитов он узнает своего старого другу детства, молодого барона
Тундер-тен-Тронка, брата Кунигунды. Кандид признается ему
в своей пламенной любви. «Как, бессовестный, ты имеешь наглость
просить руки моей сестры, имеющей семьдесят два предка?» Он вы-
нимает против Кандида шпагу; Кандид, раздраженный, также хва-
тается за шпагу и глубоко вонзает ее в тело оскорбителя. Это луч-
ший молодой человек на свете, и между тем он имел несчастье
убить уже несколько человек и в том числе даже двух священников!
Но к чему эти сожаления? Единственное дело его теперь — поду-
мать о своем спасении. Он убегает, приходит в страну дикарей
и имеет достаточный случай удивляться восхваляемому естествен-
ному состоянию; он попадает даже, случайно и чисто по счастью,
в обетованное Эльдорадо, жители которого осыпают его почестями
и богатствами. Но однообразие счастья утомляет его. Богато ода-
ренный, он оставляет страну и решается возвратиться в Европу
и выкупить Кунигунду. Но очень скоро он увидел себя обманутым
из-за своих богатств. Его путешествия во Францию, Англию и Ита-
лию, делают жизнь его еще тяжелей; везде видит он только порок
и несчастье. После долгих блужданий, он находит всех своих в раб-
стве у турок, даже Панглосса, который вбвремя был срезан от висе-
лицы, и молодого барона, который был им только сильно ранен.
Прекрасная Кунигунда сделалась весьма дурна. Он едва ли бы же-
нился на ней, если бы брат, хотя и освобожденный Кандидом от га-
леры, даже и не продолжал из аристократической гордости своих
возражений. Кандид купил для всех их маленькое имение на берегу
Черного моря. Они видели кругом жестокости и беспорядочность
турок, и еще спорили об лучшем из миров; но спор оканчивался
обыкновенно очень скоро. Панглосс сожалел, что он не блистал
в каком-нибудь из немецких университетов. Правда, он сознавался,
что ему приходилось всегда ужасно скверно, но что он всегда
утверждал и будет утверждать, что все устроено наилучшим обра-
зом — конечно, сам он не верить здесь ни одному слову. Между тем
они обрабатывали свою землю и получали богатую прибыль. Ино-
гда Панглосс говорил Кандиду: «Если бы вы не были изгнаны
из зймка барона за свою любовь к Кунигунде, если бы вы не попали
в руки инквизиции, если бы вы не прошли всей Америки и даже
Эльдорадо и не нанесли барону удара мечом, то вы не ели бы те-
перь этих вареных фруктов и фисташек». «Это справедливо, — от-
вечал Кандид, — но пойдем же заняться своим садом». «Работать,
не предаваясь умствованиям — единственное средство сделать
219
жизнь сносной», — думал он. Вольтер высказал в немногих словах
основную идею повести, когда писал д’Аржансону в 1763: «J’en
reviens toujours a Candide; il faut finir par cultiver son jardin; tout le
reste, ехсергё I’amitie, est bien peu de chose; et encore cultiver son
jardin n’est pas grande chose»1.
Эти повести можно разделить на два разряда, которые достаточно
определяются основной мыслью L’Ingenu и Кандида. Одни стремятся
к вере в неразрушимость человеческой природы, другие сомнева-
ются в ней. К первому разряду принадлежат история Задига (1747)
и принцессы Вавилонской (1768) и некоторые небольшие очерки,
как например Les deux Consoles (1756); ко второму — Метпоп ои 1а
sagesse humaine (1750); Histoires des voyages de Scarmentado (1756),
и Histoire d’un bon Bramin (1759). Любопытно, что и этот последний
рассказ сводится на заключительную мысль Кандида. «Один, много
думавший и изучавший брамин — несчастлив, потому что на все
загадки бытия он знает только вопросы и никаких ответов; добрая
старушка, его соседка, счастлива, потому что ей никогда не при-
ходит в голову умствовать о подобных вещах. И между тем никто
не захочет предпочесть положение этой женщины положению бра-
мина. Мы высоко ценим наше счастье, но еще выше наш разум.
Но по здравом размышлении является бессмыслицей предпочитать
разум счастью. Каким же образом разрешить это противоречие?
Таким же, как и всякие другие противоречия. II у a la de quoi parler
beaucoup»2.
Из-за этих сатирических повестей в особенности Вольтера ча-
сто сравнивали с Лукианом. Неистощимость его форм, прони-
цательность и быстрота его взгляда, шаловливость его юмора,
грациозность и приятная досужливость его рассказа, искусство
одевать научные вопросы в легкую одежду новеллы, в самом
деле могут равняться только с остроумными насмешками этого
древнего сатирика. Но Вольтер даже в лучших из этих рассказов
не достигает высоты истинного комизма, которая, однако, иногда
превосходно удается Лукиану. Здесь отмщают за себя недостатки
характера Вольтера. Образование может смягчать и прикрывать
наши врожденные недостатки, но не уничтожает их совершенно.
Вольтеру недостает теплого света любви, недостает жизненности
истинного юмора.
Пора наконец быть опять справедливым к Вольтеру. К нему так-
же прилагаются прекрасные слова апостола: «Если бы я говорил
языком людей и ангелов и не имел любви, то я был бы только медью
звенящей и бряцающим тимпаном».
1 Я всегда возвращаюсь к Кандиду; вы должны в конечном итоге возделывать
свой сад; все остальное, кроме дружбы, очень мало; и все же возделывать свой
сад — это не так уж и много (фр.). — Прим. изд.
2 Здесь много, о чем говорить (фр.). —Прим. изд.
220
Глава вторая
Монтескьё
Деятельность Монтескьё исходит из тех же настроений и возбуж-
дений, как и деятельность Вольтера; он также нашел завершение
своего развития в Англии. Но как Вольтер останавливается преи-
мущественно на религиозной стороне, так Монтескьё обращается
к политической.
Шарль-Луи де Секонда де Монтескьё, барон де Ла Брэд, родился
в своем отцовском замке Брэде, близь Бордо, 18 января 1689. В 1714,
он сделался советником и, по наследству от своего дяди, в 1716 пре-
зидентом парламента в Бордо. В то же время он стал членом Бор-
доской академии, в среде которой он в течение следующих годов
представил ряд трудов нравственно-философских (например, De
la consideration et de la reputation, 1725), исторических (например,
Politique des Romains dans la religion, 1716), и естественно-научных
(Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences, 1725; La
cause de la pesanteur des corps, 1720, не зная о Ньютоне; план Histoire
physique de la terre, 1719, и мн. др.), где результаты серьезного раз-
мышления он одевает в остроумную форму: его образец есть Фонте-
нель. Разные сочинения этого рода, частью или совсем неизвестные,
печатаются теперь в собрании Oeuvres inedites de Montesquieu, которое
издается его потомками при помощи Societe des bibliophiles de Guyenne
и первый том которого, Melanges inedits, вышел в 1892. Он всю жизнь
заботился о том, чтобы содействовать интересам этой академии:
в 1717 он основал премию по анатомии; в 1741 побудил академию
устроить публичные бесплатные лекции о механике и физике. Его
многочисленные путешествия в Париж довольно часто делались
в интересах академии. Он принимал к сердцу содействие научной
жизни провинции, а также и содействие ее материальному благосо-
стоянию. Под его влиянием академия часто занималась вопросами
виноделия, как и впоследствии Монтескьё пользовался своими ли-
тературными связями, чтобы доставить винам своей родины — он
сам был крупный владетель виноградников — новую область сбыта.
Esprit des Lois он называл прекрасной рекламой для своего вина, ко-
торое он продает своим покупщикам, comme il l’a requ de Dieu1 (пись-
мо к Гуаско от 4 октября 1752). В 1721, тридцати двух лет, занимая
уже важную должность и владея местной литературной репутацией,
Монтескьё выступил, конечно, безыменно, с Lettres Persannes. Два
персиянина пишут на родину о своих впечатлениях в Париже. Эти
письма — блестящая сатира на господствующие мнения, нравы и со-
стояние общества; в отрицании настоящего отражаются очень ярко
собственные религиозные и политические убеждения автора.
1 Как он получил его от Бога (фр.). — Прим. изд.
221
Хотя бы Монтескьё заимствовал свою выдумку — заставлять го-
ворить путешествующих персиян, из Amusements serieux et comiques
Дюфрени, где рассуждения о Париже приписываются сиамцу; или,
как говорят другие, из статьи Аддисона в «Зрителе», где индиец
из Явы внезапно видит себя перенесенным в Лондон, — сущность
книги заключается не в этой внешней и без того весьма немудре-
ной рамке, но единственно в ее затрагивающем содержании, кото-
рое, по словам Гёте в его примечаниях к «Племяннику Рамо» (т. 29,
стр. 335), с помощью прекрасного рассказа обращает внимание на-
ции на самые важные, даже самые опасные вещи и уже совершен-
но ясно обещает ум, который некогда должен был произвести Esprit
des Lois. Еще ни разу религиозное и политическое свободомыслие
не выступало так смело и определенно; тогда как Вольтер стоял еще
в рядах застрельщиков, здесь открыта была полная и настоящая вой-
на. В религиозном отношении здесь горько и остроумно осмеивают-
ся строгая ортодоксальность (письмо 16 и след.), папство (24, 29),
безбрачие и монастыри (116, 117), интриги исповедален (57), осу-
ждения еретиков и нетерпимость (35, 85), споры сект (135), и даже
христианские положения, именно учение о Христе и грехопадении
(39, 69); и не подлежит никакому сомнению, что автор — деист,
который верит в Бога и бессмертие души, но сущность религии по-
лагает исключительно в деятельном исполнении любви и доброде-
тели. В политическом отношении в самых разнообразных и резких
выражениях бичуются и уничтожаются насилия и расточительность
Людовика XIV (24, 37, 80, 92, 107), спесь дворянства и финансовое
фантазерство Лоу (98, 99,123,138), тяжелый гнет устарелых приви-
легий (100), одичание нравов (89, 90, 101), нелепости утонченного
образования и роскоши (105, 106), бессмысленная напыщенность
академии (73); и в самом деле поразительно видеть, каким реши-
тельным народным духом проникнуты его указания на лучшую
государственную форму. Критики не всегда достаточно замечали,
что эти Персидские Письма обнаруживают самое решительное
пристрастие к демократии. Как в его платонизирующих мечтах
о естественном состоянии троглодитов (11—15) республиканское
устройство изображается правлением добродетели и простоты,
а введение королевской власти состоянием испорченности, — так
и в течение всех дальнейших рассуждений он сильно и настойчи-
во указывает дурные стороны монархических учреждений. Пись-
мо 102 заключает замечательные слова: «Большинство европейских
правительств — монархическое, или вернее, они называют себя
монархиями; потому что я не знаю, существовали ли когда-нибудь
настоящие монархии; по крайней мере, им трудно долго сохранить-
ся в своей чистоте. Это насильственное положение вещей, которое
всегда превращается в деспотизм или республику. Власть никогда
не может быть разделена равномерно между народом и государем;
222
равновесие поддержать здесь слишком трудно: на одной сторо-
не власть должна уменьшаться, в то время как она увеличивается
на другой; но выгода бывает обыкновенно на стороне монарха, по-
тому что он стоит во главе войска». Поэтому для автора Персидских
Писем желаемым образцом являются не столько Англия, которой
он еще не знает близко, сколько республики Швейцарская (письмо
136: La Suisse est Vintage de la liberte) и Голландская (письмо 122).
Нападения были неслыханно смелы. Они действовали тем силь-
нее, чем изящнее и умнее они были выражены. Каждая фраза была
эпиграммой; многие из них переходили из уст в уста и станови-
лись пословицами. Но легкомысленное время понимало сначала
и серьезные вещи как забаву остроумия. Известно, что сам регент
и кардинал Дюбуа восхищались этими письмами. Но когда в 1724,
при министерстве герцога Бурбонского, Монтескьё начал хлопотать
о принятии в академию, он встретил в правительственных кругах
решительное сопротивление, и три года спустя (в 1727 г.) он мог
побудить всемогущего тогда кардинала Дюбуа допустить свою кан-
дидатуру только тем, что недостойным образом, согласился на фор-
мальное отрицание своих мнений.
В Париже президент Монтескьё бывал в особенности в салоне
г-жи де Ламбер, где его идеи получали различные возбуждения и где
он с своей стороны имел влияние, на других. В сочинениях г-жи
де Ламбер находятся моральные рассуждения, которые представ-
ляют не что иное, как переработку упомянутого выше сочинения
Монтескьё De la consideration et de la reputation, а последний печата-
ет в 1724 политический этюд Reflections sur la monarchic universelle,
который, по-видимому, восходит, к Фенелоновым Directions pour la
conscience d’un roi, рукопись которых была ему известна вероятно
через этот салон.
Для другого круга, именно круга имевшей незавидную репута-
цию девицы де Клермон, сестры министра Бурбона, он написал
(1724) Temple de Guide, безвкусную, продиктованную изысканной
галантерейностью идиллию, о которой один современник гово-
рит: «cela sort de la tete de quelque libertin qui a voulu envelopper des
ordures sous des al^gories»1, и за которой следовало в 1727 «Путе-
шествие в Пафос», которое столь же пошло и не менее неприлично.
Монтескьё был также членом Club de VEntresol2 (см. выше,
стр. 75): для него он написал свой Dialogue de Sylla et d'Eucrate, ко-
торый явился затем в 1745 в Mercure de France.
С 1726 Монтескьё сложил с себя свою должность в Бордо. Он
жил тогда попеременно на родине и в Париже. Чтобы расширить
1 Это плод головы какого-то распутника, который хотел обернуть нечистоты под
аллегории (фр.). —Прим. изд.
2 Клуб Антресоли (фр.). —Прим. изд.
223
свой политический круг зрения и забыть неприятную борьбу сво-
их академических дел, он надолго отправился в путешествие, че-
рез несколько недель после своего Discours de reception (24 января
1728). Сначала в Вену, где он был в частых сношениях с принцем
Евгением Савойским, затем в Венгрию и Италию, и наконец чрез
Швейцарию и Голландию в Англию. Здесь он оставался полтора
года. Д’Аламбер говорит в своем похвальном слове Монтескьё
(Соч., т. 3, стр. 449), что Англия была для Монтескьё тем, чем
Крит для Ликурга. И в самом деле развитие Монтескьё только
здесь достигло своей настоящей полноты. Неопределенные пред-
чувствия его молодости нашли здесь точку опоры и форму. Лорд
Честерфилд, с которым он познакомился еще в Венеции, объяснил
ему устройство английской конституции; и он всю жизнь остал-
ся в самых оживленных отношениях с лордом Греем, Голландом,
принцем Уэльским и замечательнейшими вождями вигов. Англий-
ская конституция казалась ему верхом политической мудрости.
Мы имеем листки его дневника из этого путешествия в Англию
(ср. Сент-Бёва, Causeries du Lundi, т. 7, стр. 59 и след.); Монтескьё
замечает и отдельные недостатки и злоупотребления: он сурово
порицает продажность голосов и предполагает близость револю-
ции, которая в самом деле и случилась бы непременно, если бы
испорченность, вошедшая при Роберте Уолполе, не стала исправ-
ляться коренными улучшениями при Чатаме; но наконец он выска-
зывает свое окончательное суждение словами, что Англия есть са-
мая свободная страна в свете, не исключая и республик. «Если бы
в Англии, — восклицает он с одушевлением, — у человека было
столько же врагов, сколько волос на голове, ему не могут сделать
ничего дурного».
Республиканец «Персидских Писем» сделался английским вигом.
Изучение английской государственной жизни, удивление перед ней
и пламенное желание сделать это знание плодотворным и для ма-
терика Европы стали теперь задушевной мыслью и целью деятель-
ности Монтескьё.
Он сводит в понятия то, чтд образовалось естественным ходом
истории. Монтескьё есть основатель конституционного политиче-
ского учения.
Из Англии, в мае 1731, Монтескьё удалился в уединение своего
замка Брэд, где прожил три или четыре года. Любопытно, что он
первый во Франции развел у себя парк в английском вкусе.
Он с новой ревностью отдался начатым уже ранее политическим
и историческим изучениям. Сначала занимался он подробным со-
чинением об Англии. Этот план расширился до сравнительной
истории государств и их политического устройства. Плодом этих
исследований были «Considdrations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur ddcadence» 1734 г., и «Esprit des lois» 1748. Histoire
224
le Louis XI, которую он, говорят, окончил, была уничтожена по одно-
му несчастному случаю (ср. Гримма, Литер, переп. от 1 мая 1765).
С этой точки зрения должна быть в особенности рассматрива-
ема книга о римской истории. Она дышит самым решительным
пристрастием к патрицианскому Риму. Она находит причины рим-
ского величия в любви к свободе, к труду и отечеству; в строгости
военной дисциплины; в деятельности партий, которая давала рабо-
ту умам и которая тотчас смолкала перед внешним врагом; в твер-
дости и, при несчастных обстоятельствах, в правиле заключать мир
только после победы; в почести триумфального шествия, которая
возбуждала соревнование между полководцами; в защите, которую
Рим давал всем народам, восстававшим против своих властите-
лей; в умной политике, оставлявшей побежденным их богов и их
обычаи; в лукавом обыкновении никогда не вести войны в одно
время против двух врагов, но терпеть все от одного, пока не будет
побежден другой. И с другой стороны причины упадка книга нахо-
дит в увеличении самого государства, отчего народные восстания
вырастали в междоусобные войны; в отдаленных войнах, которые
приучали гражданина к долгому отсутствию и мало-помалу лиша-
ли его республиканского чувства; во всеобщности права римского
гражданства, которое, будучи предоставлено самым различным на-
родностям, сделало, наконец, из римского народа многоголовое чу-
довище; в испорченности нравов, введенной азиатскою роскошью;
в проскрипциях Суллы; в необходимом, конечно, переходе респу-
блики в монархию; в почти непрерывном ряде дурных императо-
ров от Тиберия до Нервы и от Коммода до Константина, и, наконец,
в разделении империи.
На основании этой римской истории, Монтескьё с полным пра-
вом назвали отцом новейшей историографии. Правда, не так обще-
доступно, как Вольтер, но раньше его и с более глубоким полити-
ческим взглядом, нежели он, Монтескьё был первым новейшим
историком, который стал на действительно прагматическую точку
зрения. Сам Монтескьё определенно высказывает эту точку зрения,
когда положительно указывает на то, что благо и горе народа за-
висят не от случая или от произвола отдельных могущественных
личностей, но от сущности общественных и государственных ус-
ловий. В восемнадцатой главе он прекрасно говорит: «Общие как
нравственные, так и естественные причины и условия определяют
судьбу каждого царства, возвышают его, сохраняют или низвер-
гают; все события подчинены этим причинам и условиям; и если
случайность сражения, т. е. следовательно одна отдельная причина,
подвергает государство гибели, то была всеобщая причина, которая
и произвела то, что это государство могло погибнуть от одного сра-
жения; одним словом, общий характер обусловливает все отдель-
ные явления». В 1750 г. Тюрго (Сочинения, т. 2, стр. 52) в своих
225
чтениях в Сорбонне выразил это грандиозное основное воззрение
в следующем знаменательном положении: «Все века сцеплены друг
с другом последовательностью причин и действий, которая соеди-
няет настоящее со всем, что ему предшествовало». Это положение,
по-видимому, разумеется само собой, потому что с ним связано
понятие всеобщей истории человечества, и, однако, до тех пор это
положение еще никогда не было сознано и выражено с такой яс-
ностью. И как глубоко было научное влияние этого нового взгля-
да на историю, так было глубоко и непосредственно политическое
влияние этого взгляда. Шлоссер в своей «Истории восемнадцатого
века» (1, стр. 551) характеризует его с обычной меткостью. «Чело-
век, занимавший важное положение, умный и знаменитый, — го-
ворит он, — решился в мрачное и деспотическое время поднять по-
давленные души своих соотечественников примером величайшей
и сильнейшей нации; Монтескьё показал в римской историй зна-
чение патриотизма и сознание собственной силы и неотъемлемых
прав, и, в противоположность этому, он показал в образе той же на-
ции, каким образом народы уничтожаются и, наконец, совершен-
но погибают от деспотизма. Монтескьё преследует ту же цель, как
Макиавелли в своих словах о Ливии; но он очень далек от слепого
и безусловного удивления и вовсе не хочет признавать римского
государства величайшим и лучшим, как флорентинский патриот;
военное величие его не ослепляет».
«Esprit des Lois», второе произведение Монтескьё, есть продолже-
ние и завершение дела. Так как политическое величие заключается
в политической свободе, то является вопрос, какие основы, условия
и ручательства этой свободы, и в какой форме она всего вернее
и действительнее достижима для новейшего мира.
Когда Монтескьё издал свою книгу, ему было шестьдесят лет. Он
изложил в ней плоды многолетних изучений. Если он с 1729 работал
над ее редакцией, то материалы для нее он собирал уже с оконча-
ния своего школьного времени. Брошюра об универсальной монар-
хии, изданная в 1724, есть образчик этих изучений и впоследствии
послужила для Esprit des Lois (ср. книгу 21, гл. 22).
С 1734 он жил большею частью в Париже. Только с 1744 до 1746
он, кажется, без перерыва прожил на родине, куда после издания
Esprit des Lois он несколько раз возвращался на продолжительное
пребывание. Но как ни приковывали его прелесть сельской жизни
и управление своими владениями в Ла Брэде, он все-таки стремил-
ся, по временам, в столичные кружки герцогини д’Эгильон1 и го-
спож дю Деффан и Дюпре де Сен-Мор.
Книга его была напечатана сначала в Женеве, — в деле печати
Женева была нечто вроде убежища, так как вследствие старых до-
1 Современное написание «д’Эгийон». — Прим. изд.
226
говоров из времен Генриха IV она могла ввозить во Францию свои
книги и имела также обеспеченный сбыт в Италию и Германию.
За печатанием наблюдал давнишний друг Монтескьё, Жакоб Верн.
Отсюда с разных сторон появилось странное мнение, что Верн уча-
ствовал и в составлении книги (Ср. Etudes sur 1’Histoire de la Suisse
frangaise, par E. H. Gaullieur. Женева, 1856, стр. 64, и теперь Bude, Vie
de J. Vernet. Lausanne, 1893, стр. 129 и далее).
Нелегко в точности обозначить внутреннее единство отдельных
трактатов этой книги. Для избежания упрека в педантизме, изло-
жение и распределение ее нередко разбито и спутано. Но основная
мысль заключается в редком обусловлении всех юридических и го-
сударственных учреждений почвой, климатом, обычаями, образо-
ванием и религией. Вследствие этого тесного взаимодействия меж-
ду законом и духом народа, государство само собой является не как
что-нибудь произвольно сделанное и поэтому произвольно изменя-
емое, но как нечто необходимое, естественно вырастающее и раз-
вивающееся. Но целью государства во всяком случае есть и остает-
ся непременно осуществление законной свободы. Так как эта цель
всего лучше достигается соединением народного представительства
с монархией, то конституционная монархия и есть лучшая форма
государства.
Монтескьё выходит из того положения (кн. 11, гл. 3 и след.), что
сущность политической свободы состоит в праве делать все, что по-
зволяют законы. Затем он продолжает (гл. 5): «Есть народ, который
сделал политическую свободу главной целью своего государствен-
ного устройства: мы хотим исследовать принципы, на которых эта
конституция основала их; если они хороши, то свобода отразится
в них, как в зеркале; к чему долго искать свободы, если она уже най-
дена?» Осуществление этой свободы есть английская конституция
(гл. 6). Он изображает ее следующим образом:
В каждом государстве есть три рода власти: законодательная, испол-
нительная и судебная; политическая свобода в гражданине есть спокой-
ствие духа, происходящее от уверенности каждого в своей безопасности.
Правление должно быть таково, чтобы ни одному гражданину не нужно
было опасаться другого. Но если в одном и том же лице или в одной корпо-
рации соединены власть законодательная и исполнительная, то свободы
не существует, так как надо опасаться, что тот же правитель или та же кор-
порация будут издавать тиранические законы и тиранически исполнять
их. Точно также не существует свободы, когда судебная власть не отделена
от законодательной и исполнительной. В соединении с властью законода-
тельной, власть над жизнью и свободой гражданина была бы беззаконна,
потому что законодателем был бы судья; в соединении с исполнительной
властью, — судья имел бы могущество угнетателя.
Судебная власть не должна быть поручаема никакой постоянной
корпорации; она должна быть исполняема людьми, которые в извест-
227
ное время и правильно избираются из самого народа, чтобы составить
суд, продолжающийся не дольше, чем это именно нужно. Но если суды
не должны быть неизменны, то должны быть неизменны приговоры,
так как в основании их лежит неизменное положение закона. Судьи
должны быть из класса обвиняемого, ses pairs, для того чтобы подсуди-
мый не думал, что он находится в руках людей, желающих сделать ему
несправедливость.
Так как в свободном государстве каждый человек, в котором можно
предположить свободную душу, должен быть управляем самим собой,
то законодательную власть должен бы, собственно, иметь весь народ.
Но так как в больших государствах это невозможно, а в маленьких по раз-
ным обстоятельствам невыгодно, то народ должен делать через предста-
вителей то, чего не может делать сам.... Выборное право имеют все
граждане, кроме тех, которые живут в таком зависимом состоянии, что
не имеют вполне свободной воли. Представительное собрание избирается
не для того, чтобы принимать решения о текущих делах, — это бы плохо
удалось ему, — но чтобы составлять законы или наблюдать; хорошо ли
исполняются законы, им уже составленные.
В каждом государстве есть люди, выходящие из ряда других по рожде-
нию, богатству или значению. Если бы эти люди были смешаны с массой
народа и имели только по одному голосу, как другие, то всеобщая сво-
бода была бы для них рабством, и они не имели бы никакого интереса
защищать ее, потому что большинство решений было бы к ним враж-
дебно. Таким образом участие, которое они имеют в законодательстве,
должно быть соответственно их положению. Поэтому они образуют кор-
порацию, имеющую право останавливать предприятия народа, как народ
имеет право останавливать их предприятия. Таким образом законода-
тельная власть распадается на верхнюю палату и палату представителей;
каждая палата имеет свои особые собрания.
Власть исполнительная должна быть в руках монарха, потому что
эта часть правления, почти всегда требующая непосредственного дей-
ствия, лучше исполняется одним, чем многими. Если бы не было монарха,
и исполнительная власть поручена была известному числу лиц, выбран-
ных из законодательной власти, то уже не было бы свободы, потому что
обе власти опять слились бы в одну.
Если бы исполнительная власть не имела права останавливать начи-
нания законодательного корпуса, то он сделался бы деспотическим;
он мог бы уничтожить все другие власти. Но законодательная власть
не должна, наоборот, иметь права ограничивать исполнительную,
потому что исполнение имеет границы в своей собственной сущности
и притом в ней дело идет всегда только о минутных вещах. Зато она
имеет право и власть исследовать, каким образом исполняются издава-
емые ей законы. Особа государя священна на том основании, что, так как
он нужен, чтобы воспрепятствовать законодательному корпусу действо-
вать тиранически, то с минуты его обвинения или осуждения прекра-
тилась бы свобода. Государство перестало бы быть монархией; оно сде-
лалось бы несвободной республикой. Но так как исполнитель не может
исполнять худо без худых советников, то обвиняются и наказываются
эти последние.
228
Таково основное устройство государства, о котором мы говорим. Зако-
нодательный корпус состоит из двух частей, одна связывает другую своим
veto. Обе связаны исполнительной властью, которая, однако, с своей сто-
роны также точно связывается опять властью законодательной.
Никогда не был проницательнее схвачен самый глубокий жиз-
ненный нерв английской конституции. Право и свобода нашли
твердую и достижимую цель. Монтескьё не свободен в отдельных
случаях от больших и даже весьма опасных ошибок и недораз-
умений. Он защищает лены (кн. 30—31), продажу должностей,
по крайней мере в монархических государствах (кн. 5, гл. 19), и для
государств деспотических, хотя и с колебаниями, пытку (кн. 6,
гл. 17); он доводит учение о разделении властей до самых вредных
крайностей. Но основная мысль остается во всем своем величии.
«Дух Законов» Монтескьё до наших дней остается школой всех го-
сударственных людей.
Уже ближайшие современники предугадывали и признавали
могущественное значение этой книги. Вскоре переводы ее рас-
пространились во всех образованных странах. В герцогском архи-
ве в Готе хранится письмо Рейналя к благородной герцогине Лу-
изе-Доротее. Мы сообщим его, так как оно еще не было издано,
в подлиннике: «II n’y a point сГёшёе aussi nёgligёe еп France que celle
du droit public. Le peu d’ouvrages que nous avons sur cette matiere
sont fort mauvais, et quand meme ils auraient ёгё bons, ils n’auraient
pas ёгё lus. Il fallait un tres grand homme et, ce qui est bien plus, un
homme a la mode pour changer sur cela le gout de la nation. Mr. le
president de Montesquieu vients d’opёrer ce changement. Son livre
intitule “Esprit des Lois” ппргппё depuis quelques mois a Geneve et
гёнпрпшё depuis peu de jours furtivement a Paris а Гоигпё la tete a
tous les Frangais. On trouve ёgalement cet ouvrage dans le cabinet de
nos savants et sur la toilette de nos dames et de nos petits-maitres. Je ne
sais si 1’enthousiasme sera long, mais il est certain, qu’il ne peut pas etre
роиззё plus loin»1. Точно также Гримм говорит в своей «Лит. Пере-
писке» (15 августа 1756): «“Esprit des Lois” произвел совершенный
переворот в духе нации. Лучшие головы в последние семь или во-
семь лет посвятили себя объяснению политических вещей. Прави-
1 Во Франции нет более пренебрегаемого исследования, чем изучение обще-
ственного права. Те немногие работы, которые у нас есть по этой теме, очень плохи,
и даже если бы они были хорошими, их бы не прочитали. Чтобы изменить вкусы
нации, потребовался великий и, более того, модный человек. Господин президент
де Монтескье только что начал это изменение. Его книга под названием «Esprit des
Lois» (Дух Законов), напечатанная в течение нескольких месяцев в Женеве и пере-
изданная несколько дней назад тайно в Париже, вскружила головы всем французам.
Мы также находим эту работу в исследованиях наших ученых и в туалетах наших
дам и наших гроссмейстеров. Не знаю, как долго будет длиться энтузиазм, но уве-
рен, что дальше его нельзя поощрять (фр.). —Прим. изд.
229
тельственные дела стали теперь предметом философских толков,
и если не в действительности, то в науке политики мы уже можем
теперь равняться с англичанами».
Но не обошлось и без резких споров против книги, и именно
со стороны церковных партий. Сорбонна объявила тринадцать
мест ее еретическими (1750), и в Риме она была поставлена в ин-
декс (1752). В своих Nouvelles ecclesiastiques (1749) янсенисты подня-
ли бурю против этой livre scandaleux1. Монтескьё отвечал им, тонко
и остроумно, в своей прекрасной Defense de I’Esprit des Lois,
Лакретелль в своей Histoire de France pendant le 18е siecle (Paris,
1810, т. 3, стр. 13) справедливо замечает, что хотя Монтескьё ни разу
не говорил непосредственно в пользу французских парламентов
и их требований, но его влияние, совершенно ясно в той длинной
борьбе, которую парламенты вели против духовенства и против ко-
ролевской власти. Монтескьё так хорошо и удачно изобразил дей-
ствие представительного правления, что французы утешились о по-
тере своих etats generaux, стараясь поставить парламенты на место
assemblees nationales. Не трудно проследить, как это совершенно
новое воззрение все больше и больше обнаруживалось как в сопро-
тивлении парламентов, так и в мерах правительства. И, наконец,
история французской революции рассказывает, как первое учреди-
тельное собрание жило и питалось идеями Монтескьё.
Монтескьё умер в Париже 10 февраля 1755 г. Гримм говорит
в «Литературной Переписке» (15 февраля 1755), что, к чести фран-
цузов, он бы охотно умолчал, что публика едва заметила кончи-
ну Монтескьё. В его погребении не принял участия почти никто;
из мира писателей присутствовал только Дидро. «Если бы мы заслу-
живали того, чтобы быть современниками столь великого человека,
то мы прекратили бы нашу пустую суету, нашу погоню за удоволь-
ствиями, чтобы плакать на его могиле, и национальный траур по-
казал бы Европе, как просвещенный и тонко чувствующий народ
отдает почесть гению и добродетели».
Глава третья
Экономисты. Кенэ и его школа
Рядом с Вольтером и Монтескьё стоят экономисты. Как те дей-
ствуют на вопросы церковные и политические, так эти на вопро-
сы экономические. К чему служит свобода мысли и совести, к чему
конституционная свобода, когда нужда и гнет жизни или совершен-
но уничтожают счастье и наслаждение этими идеальными благами
или, по крайней мере, существенно мешают им?
1 Скандальная книга (фр.). —Прим. изд.
230
В то время все еще господствовали начала так называемой мер-
кантильной системы, которая видела увеличение или уменьшение
национального богатства просто в умножении или уменьшении на-
ходившегося в стране золота и серебра, в стремлении к выгодному
торговому балансу. Отсюда выходило решительное предпочтение
городской промышленности и особенно иностранной торговли при
помощи множества привилегий, монополий и пошлин, промышлен-
ных уставов и строгих запрещений вывозить благородные металлы
и сырые продукты, годные для внутренней обработки. Эти начала,
как ни были они превратны и односторонни, держались так долго
потому, что они всего лучше удовлетворяли главной цели всего тог-
дашнего государственного искусства — возможно быстрому достав-
лению значительных сумм на покрытие войн и содержание двора.
Но, наконец, должна была оказаться и реакция. Вобан и Буагильбер
подготовили ее; свое полное развитие нашла она в Кенэ.
Франсуа Кенэ (1694—1774) был собственным медиком г-жи Пом-
падур и приобрел себе известность и своими медицинскими сочи-
нениями. Родившись в провинции, он с молодости самым глубоким
образом вдумывался в положение сельского населения; и любовь
к нему еще усилилась в Кенэ, когда внезапное крушение финан-
совых предприятий Лоу показало в землевладении единственную
прочную и положительную собственность. Он выступил ожесточен-
ным врагом господствующей экономической теории. Его главное
сочинение есть «Tableau ёсопопндие», первая обработка которой
для короля напечатана была в 1758 в Версали в немногих экзем-
плярах, и из них не сохранилось ни одного в полном виде. Затем
следовал «Essai sur 1’administration des terres», Париж 1759; Кенэ
принадлежат также две экономические статьи в «Энциклопедии»
(Fermier, Grains).
Уже раньше Кенэ, маркиз Мирабо, отец знаменитого героя рево-
люции, в своей книге Kami des hommes ои traite de la population, 1756,
дал красноречивую апологию земледелия, измученного и пренебре-
гаемого крестьянина, и высказал положение: «Уважайте малого че-
ловека!» — Когда появились сочинения Кенэ, он, побеждая различ-
ные затруднения, пристал к его учению, выработанному в систему.
Земля и почва, как производящие все материалы, считаются
в его учении единственным и исключительным источником богат-
ства; обработка почвы есть единственное занятие, умножающее
массу имущества. В произведениях почвы заключается единствен-
ный первоначальный доход; при содействии природы приобрета-
ется излишек, produit net, над тем, что нужно было для содержа-
ния рабочих. Только сельские хозяева, обрабатывающие землю,
и поземельные собственники, дающие работу для ouvriers ruraux,
получающие поземельную ренту, составляют «производительные»
классы общества; все остальные классы: художники, купцы, врачи,
231
ученые, ремесленники, не производящие никаких новых вещей,
а только изменяющие форму вещей уже существующих, — «непро-
изводительны», бесплодны, от них не бывает никакого увеличе-
ния целого капитала, они не больше, как слуги, получающие плату
от земледельца. Сущность этого взгляда определяется словами, ко-
торые Кенэ поставил в начале своего сочинения: «Pauvre paysans,
pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi»1. Отсюда название фи-
зиократии, принятое этим учением. Природе принадлежит исклю-
чительное господство и определение богатства.
В то время, как Кенэ говорит о свободе торговли и промысла
только в дополнение своего учения о produit net, другой писатель,
Венсан де Гурнэ (Vincent de Gournay, 1712—1759), ставит требо-
вание полной свободы торговли и промышленности условием
всех преобразовательных предложений, как основу национально-
го благосостояния. Он хочет свободного действия экономических
сил: «laissez faire, laissez passer»2. Несмотря на различные исходные
пункты, де Гурнэ, в сущности, слил свое учение с учением Кенэ,
и приверженцы обоих придают важность тому, чтобы по внешности
представить их школу, как одну цельную. Дюпон де Немур приду-
мал для их учения название физиократии, т. е. учения об утвержде-
нии жизненных отношений на естественной почве. Природа одна
господствует и дает направление.
Кто не видит теперь односторонности и недостаточности этого
учения? Целые области самого плодотворного производства бо-
гатств остаются незамеченными и потому пренебрегаются самым
вредным образом. Даже между приверженцами системы, именно
в Венсане де Гурнэ, явился оттенок, который взял на себя защи-
ту опозоренной и пренебреженной торговли и промышленности.
Но эти односторонности и недостатки были скоро вполне уничто-
жены теми широкими и благотворными требованиями, которые
выставило это учение относительно государства. Чем больше зем-
леделие страдало под гнетом барщины и податей, ремесла страдали
от стеснительности цехов, торговля от бесчисленного множества
местных таможен, и всякая промышленность, без исключения,
от мелочной и произвольной регламентации и опеки, — тем гром-
че и тверже поднималось теперь сопротивление этому гнету. Все
эти тягости и жертвы, все притеснения и лишения не должны были
больше лежать на земледельце, который один кормил непроизводи-
тельных потребителей. Лозунгом этой теории стали: освобождение
экономических сил, отстранение всяких монополий, свободная кон-
куренция — laissez faire, laissez passer.
1 Бедные крестьяне, бедное королевство; бедное королевство, бедный король
(фр.). —Прим. изд.
2 Позвольте сделать, позвольте пройти (фр.). —Прим. изд.
232
Ревность этой школы была неутомима, результат был обширный
и блестящий. Для научного утверждения и развития системы труди-
лись в особенности Тюрго (Essai sur la formation etfa distribution des
richesses, 1767), Мерсье де Ла Ривьер (L’Ordre naturel et essentiel des
societes politiques, 1767), Дюпон де Немур (Physiocratie ou Constitution
naturelle du gouvernement le plus avantageux an genre humain, 1768),
Летронь (De I’interet social, 1777f Для. распространения системы
явился ряд журналов: Journal d'agriculture Дюпона де Немур и осо-
бенно Ephemerides du Citoyen аббата Бодо.
Исторически известно, что эти экономисты мало понимали по-
литическую свободу. Еще недавно Токвиль в своей превосходной
книге Sur I’ancien Regime (кн. 3, гл. 3, 54), снова с большим знанием
дела объяснил, что правительственный идеал их есть так называе-
мый просвещенный деспотизм, потому что он представляет самые
удобные и действительные средства для всех улучшений и преоб-
разований. «Le systeme de contreforces, — говорит положительно
Кенэ, — est une 1ёёе funeste»1. В особенности большинство из них
относились неблагосклонно к церковному просвещению. Неудиви-
тельно поэтому, если некоторые из замечательнейших современ-
ников, как Вольтер в сатирическом рассказе Нотте aux quarante
ecus и Гримм в Литерат. Корреспонденции (февраль 1767 и январь
1770) преследуют отчасти серьезно, отчасти с насмешкой, этих
экономистов, как школу, и бичуют их преувеличения и фантазии.
В особенности остроумная болтовня в Dialogues sur le commerce des
bles (1770) умного аббата Галиани отдает насмешкам современни-
ков доктринерскую манеру физиократов.
Тем не менее они принадлежат к самым достойным двигателям
человеческого прогресса. Еще более чем исследования о государ-
стве и его устройстве и о философских вопросах, которые дале-
ки от неразвитого и порабощенного народа, — внимание к более
близким народу хозяйственным отношениям вело к серьезному
размышлению и сознанию. Вольтер говорит в статье В1ё в Фило-
софском Словаре: «Нация, уставшая от стихов, трагедий, комедий,
опер, романов, удивительных историй и теологических раздоров,
начала наконец думать о важности хлеба». Просвещенные и благо-
родные государи и правители, как Тюрго, Карл-Фридрих, маркграф
баденский, милорд Лансдаун, Леопольд Тосканский, Иосиф II, при-
меняли эти принципы практически в управлении, и через это, не-
смотря на все ошибки и преувеличения в заботах о процветании
земледелия и о счастье сельского населения, приобрели самую за-
служенную славу благодетелей человечества.
Далее, исторически известно, что взгляды этих экономистов
с научной точки зрения не выдерживают критики. Адам Смит
1 Система противодействия — это губительная идея (фр.). — Прим. изд.
233
произвел эпоху, когда на место производительной силы почвы
поставил ценность человеческого труда. Прибыль составляют
не только один сырой материал, но и его обработка и торговое
распространение. Но при этом не надо забывать, что хотя Адам
Смит низвергнул физиократов, но сам он вышел из физиократов
и в особенности есть ученик Тюрго. И Бланки прекрасно говорит
в своей Histoire de I’economie politique, Paris, 1845, ч. 2, стр. 94:
«Что всего больше отличает этих великодушных друзей челове-
чества, — это их удивительная честность и безусловное само-
отвержение. Они не искали ни блеска, ни внешнего шуму; они
не нападали ни на какую из существовавших властей и не стре-
мились к пустой популярности, хотя искренно любили народ;
они были друзьями человечества в благороднейшем смысле это-
го слова. Их книги теперь забыты; но они посеяли плодотворное
семя; их учение разошлось по всему свету, развязало промыш-
ленную деятельность, подняло земледелие и приготовило свобо-
ду торговли».
Глава четвертая
Теория искусства Дюбо и Баттё
Несмотря на сильный переворот во всем образе мыслей, несмо-
тря на проникавшие нововведения буржуазной драмы и семейного
романа, несмотря на развитие в живописи до сих пор неизвестно-
го во Франции жанра, значение старого классицизма оставалось,
в сущности, неизменным. Трагедии Вольтера по своему содержанию
стоят в самом решительном противоречии с Корнелем и Расином;
по форме, они стремятся, хотя и не весьма успешно, стать нарав-
не с этими великими образцами. В сущности, это значение старого
классицизма продолжается во Франции и до нынешнего дня. Глубо-
чайший нерв этой неослабевающей живучести есть неразрушимая
потребность в высоком идеальном стиле. Преобладающая наклон-
ность французов к риторике не замечает, что высокий и идеальный
стиль находит себе только очень бедное и карикатурное выражение
в этой натянутой неестественности.
Уже не далеко время, когда выступит Дидро и объявит самую ре-
шительную войну формам и воззрениям классицизма, руководясь
совершенно новым духом времени. Но, оспаривая односторонность
другой односторонностью, он останется одиноким и без влияния.
И именно теперь, в первые годы нового движения, господствующее
преданье еще слишком сильно. Теперь больше думают о том, чтобы
оправдать это предание, дать ему более глубокое значение, приме-
нить его к новым потребностям, — чем соглашаются необдуманно
оставить его, не имея прочного идеала для будущего. Поэтому науч-
234
ное рассмотрение искусства, в сущности, еще хлопочет о подтверж-
дении и оправдании классицизма.
В век Людовика XIV критик Буало был одной из самых выдаю-
щихся личностей. Он, так сказать, вел счеты о текущих эстетиче-
ских требованиях; но он никогда не задавал себе вопроса о том,
на каком праве основываются эти требования.
Теперь этот вопрос был создан, и это было существенным успе-
хом науки и вместе первым пробуждением начинающихся худо-
жественных нововведений. Когда мы подвергаем серьезному ис-
следованию основания какой-нибудь вещи, это уже предполагает
сомнение в полной действительности ее значения.
Первое возбуждение эстетического вопроса принадлежит Жану
Батисту Дюбо, род. 1670 в Бове, ум. 1742 в Париже (ср. выше,
стр. 72). В своих Reflexions critiques sur la Poesie et sur la Peinture,
вышедших в 1719, с эпиграфом из Горация Ut pictura poesis1, он
первый из всех новых критиков сделал попытку «построить искус-
ство на одном общем начале и показать из него верность правил».
Он видит происхождение и необходимость искусства в потребно-
сти для людей живого чувства своего бытия. То же побуждение,
которое влечет человека находить удовольствие в казнях, боях
быков и азартных играх, побуждает его и к возбуждению стра-
сти посредством искусства. «Quand les passions reelles et уёгйаЫез,
qui procurent a Fame ces sensations les plus vives, ont des retours si
facheux, puisque les momens heureux, dont elles font jouir, sont suivis
de jounces si tristes, Part ne pourroit-il pas trouver le moyen de зёрагег
les mauvaises suites de la plupart des passions d’avec ce qu’elles ont
d’agreable? La роё$1е et la peinture en sont venues a bout»2 (т. I, отд. 3).
Дюбо правильно понимает, что художественная красота в противо-
положность к действительной красоте есть свободная игра, чистое
и, как выражается Кант, безынтересное удовольствие; поэтому он
совершенно правильно различает искусство эстетическое и ис-
кусство полезное; он ошибается только в выражениях, когда это
безынтересное настроение обозначает таким образом, что художе-
ственное возбуждение страстей должно быть только поверхностно,
и что потому живописец и поэт не должны выбирать сюжетов «trop
n^ressants par eux-memes»3. Дюбо понял, что искусство есть возвы-
шение над всей человеческой слабостью и бедностью, и эта посто-
янная мысль о чисто духовном действии искусства дает ему иногда
1 Поэзия как живопись (лат.). —Прим. изд.
2 Когда действительные и истинные страсти, которые вызывают в душе самые
живые ощущения, приносят такую прискорбную отдачу, поскольку счастливые
моменты, которыми они наслаждаются, сменяются такими печальными днями,
не могло бы искусство найти способ отделить плохие последствия большинства
страстей от приятных? Поэзия и живопись подошли к краю (фр.). — Прим. изд.
3 Слишком интересны сами по себе (фр.). — Прим. изд.
235
поразительную глубину и тонкость, которые имели самое действи-
тельное влияние именно на Бодмера и Брейтингера, Зульцера, Лес-
синга и Винкельмана.
Но основание художественной идеальности, конечно, является
здесь только догадкой, а не глубоким уразумением. Цель искусства
высказана; но здесь еще не исследовано, какими средствами дости-
гается эта цель. Этот шаг сделал Баттё. Он полагает сущность искус-
ства в подражании природе, но только прекрасной природе.
Шарль Баттё родился 1713 в Аландуи, близь Реймса. Еще в мо-
лодых летах он был профессором в различных парижских школах,
впоследствии членом французской академии; он умер 14 июля 1780.
Главное сочинение его, «Les beaux Arts reduits a un meme principe»,
вышло в первый раз в 1746. За ним уже в 1750 следовал «Cours des
belles lettres», более точное применение общих правил, указанных
в первом сочинении, к отдельным родам поэзии. Впоследствии обе
книги соединены были под одним общим заглавием «Principes de
littdrature», Y7T7.
Баттё возвращается к Аристотелю; он ставит себе задачей —
строить дальше на его основаниях. Сущность и происхождение ис-
кусства он находит в потребности людей возвышаться над дурной
и обыденной действительностью. Искусство привязано, конечно,
к границам природы; но оно пользуется природой не такой, как
она есть, но какова бы она могла быть, какою человеческий ум
способен ее представить. Искусство есть подражание не природе
просто, а прекрасной природе; оно представляет истинное, как дей-
ствительно существующее. Вкус есть чувство, которое показывает
нам, хорошо или худо было в произведении искусства подражание
прекрасной природе. Он удовлетворяется тем больше, чем больше
прекрасная природа не только прекрасна, но и интересна, т. е. чем
теснее ее отношение к нашему собственному совершенству или чем
больше она возбуждает нашего участия. Но для человека нет ниче-
го более прекрасного и интересного, как действия и страсти самих
людей. Что касается до перенесения этой прекрасной природы в ис-
кусство, оно требует в одинаковой степени и точности, и свободы;
точность уравнивает, свобода оживляет подражание.
Отдельные роды искусства выводятся из отношения их к нашим
чувствам. Поэзия есть высший род искусства, потому что действует
на два чувства, на глаз и ухо вместе. Мы или видим самые вещи,
или слышим рассказ о них; в первом случае является драма, во вто-
ром — эпос; в средине между ними находится, «genre mixte» лирика.
Поэзии доступно все: как есть на свете боги, цари, граждане, пасту-
хи и звери; так есть оперы, трагедии, комедии, пастушеские сти-
хотворения и басни. Всего ближе к поэзии стоит живопись, которая
обращается к зрению. Что в поэзии вымысел, то здесь рисунок; что
там версификация, то здесь колорит. Затем идут танцы и музыка,
236
разделение которых произошло скорее от артистов, чем от само-
го искусства. Музыка обращается к слуху; главнейший предмет ее
есть также человеческая страсть. Архитектура и красноречие, как
исключительно полезные и служащие только человеческим потреб-
ностям, исключаются из собственного искусства, которое служит
только для удовольствия.
Мы не будем говорить об отдельных правилах, которые выводят-
ся у Баттё из этого основного принципа. Это те же правила и пред-
писания Буало, только более распространенные.
Очевидно, что, когда Гёте в своих примечаниях к рассказу Дидро
о племяннике Рамо называет Баттё апостолом полусправедливого
евангелия о подражании природе, он составил эту характеристику
не по свежему взгляду на эту теорию, но по темным воспомина-
ниям молодости. Р. Циммерман был неправ, когда последовал так
исключительно этому суждению Гёте в своей «Истории Эстетики»
(1858, стр. 205, след.). Художественный идеал Баттё составляет
не природа, как она есть, но какова она должна быть, не непосред-
ственная, но прекрасная природа. Лессинг глубже понял коренной
недостаток этой точки зрения, когда в «Neuesten aus dem Reiche des
Witzes» (Lachm., t. 3, стр. 230), по примеру Дидро, упрекает сочине-
ния Баттё в том, что они нигде не объясняют, что такое собственно
эта прекрасная природа. Баттё ничего не знает о духовной основе
искусства. И происхождение искусства вообще не основывается
у него на стремлении духовной идеи к внешнему осуществлению,
и нигде не делается попытки признать эту силу идеи, стремящуюся
к внешнему образу, основанием и двигателем отдельных искусств
и художественных произведений.
Отсюда чрезвычайная бедность и запутанность частных объяс-
нений Баттё, отсюда совершенно бездоказательное принятие и вос-
хваление эклектицизма, академической правильности. И отсюда
также совершенно безразличное смешение поэзии и образователь-
ных искусств, — важное смешение, которое немало способствовало
тому, чтобы поднять фальшивый род так называемой описательной
поэзии до такого вредного значения, и которое в особенности в об-
разовательных искусствах утвердилось тем упорнее, что к этому
учению пристали даже такие знатоки, как граф Келюс и Винкель-
ман. Известно всем, что это неблагополучное смешение всех самых
глубоких различий стиля стало непосредственным поводом к бес-
смертному Лаокоону Лессинга, и что настоящим подвигом его было
именно разъяснить и неопровержимо установить понимание этих
неустранимых различий поэзии и образовательного искусства.
Баттё господствовал более чем над двумя поколениями. В осо-
бенности для немцев, которые тогда были вполне подчинены го-
сподству французского вкуса, Баттё своей кажущейся систематикой
был ближе, чем сам Буало; Гримм утверждает в Литер. Переписке
237
(сентябрь 1780 г.), что Cours des belles lettres Баттё имел в Германии
больше успеха, чем во Франции. Не только Готтшед с радостью
приветствовал его, как важного союзника; но вскоре и Бертрам,
Адольф Шлегель, Геллерт и Рамлер явились с самыми разнообраз-
ными переводами, обработками, дополнениями и объяснениями.
Теория изящных искусств Зульцера существенным образом постро-
ена на этом основании.
Во Франции и Италии еще теперь ясны следы его влияния. В Гер-
мании это иго уже свергнуто. Когда приготовлялся так называемый
период бурных стремлений, тогда явилось и самое враждебное чув-
ство к Баттё. Гердер, теоретический предводитель этого молодого
поколения, в Всеобщей немецкой библиотеке 1772 г. называл Бат-
тё «мелким умствователем и сухим метафизиком, который за свою
сухость не вознаграждает нас даже ясностью и определенностью
взгляда и который своей книгой был очень вреден для Германии».
Еще более, чем критика, действовали произведения искусства. Лес-
синг, Гёте и Шиллер низвергли французский классицизм и вместе
с ним Буало и Баттё.
Отдел второй
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
Глава первая
Материализм, Ла Меттри. Энциклопедия и салоны
1. Материализм. Ла Меттри
Вольтер и его ближайшие предшественники и товарищи оста-
вались еще в тех границах, которые были поставлены Ньютоном
и Локком. Новое молодое поколение уничтожило эти границы; де-
изм сделался атеизмом и материализмом.
Деизм принимает живую внемировую личность Бога, материа-
лизм отвергает ее. Краеугольный камень этого поворота есть по-
нятие движения, или, — как выражается об этом современное
естествознание, занятое теми же вопросами, — отношение мате-
рии и силы. Общим источником для обоих взглядов, деистическо-
го и материалистического, было сначала учение Ньютона о тяго-
тении. Деизм имел за себя слова Ньютона, потому что последний
даже строго держался откровенного учения; материализм думал,
что на его стороне дух и внутренняя последовательность великого
открытия Ньютона, необходимость вещи. Вольтер (XXII, 435) спра-
ведливо приписывает Ньютону мысль, что всякая материя, которая
движется, указывает на нематериальное существо, которое дало
материи это движение («toute matiere, qui agit, nous montre un etre
тшагёпе!, qui agit sur elle»); но материализм полагал, что необхо-
димо идти дальше Ньютона, и отвергал достаточную доказатель-
ность этого следствия, выведенного Ньютоном. Для материализма
подвижность материи была не толчком, данным извне, а качеством,
принадлежащим самой материи, вечно ей присущим и от нее нераз-
дельным. Материя, как говорит материалист, не может быть и мыс-
лима без движения; движение есть ее сущность. Нет материи без
силы, нет силы без материи.
Это материалистское воззрение появилось уже в самой Англии.
Толанд высказал его в 1720 г., в своем знаменитом Пантеистико-
не, и еще определеннее и с самой неустрашимой резкостью в сво-
их письмах к Серене (1704). У Толанда отдельные вещи и явления,
форма и цвет, теплота и холод, воздух и звук, также представляют
только самоопределение и осадок этой врожденной подвижности
239
и действия. «Все есть неустанное движение, вечное изменение ма-
терии: то, что мы называем покоем, есть покой только в противопо-
ложность к внешнему механическому движению тел, изменяющих
свое случайное место. Твердое делается жидким, жидкое — твер-
дым; звери, которых мы уничтожаем, служат нашей пищей, и мы
в свою очередь делаемся растениями, воздухом, водой и землей.
И самое мышление есть только телесное движение, привязанное
к миру материи, это чистая деятельность мозга; порча мозга есть
порча мышления; существо, не имеющее мозга, не думает».
Нельзя точно определить, заимствовали ли французские матери-
алисты свои первые идеи непосредственно у Толанда, или же, имея
вместе с ним общее основание в Ньютоне и Локке, они — особенно
под руководством Гоббса — вывели из одинаковых посылок одина-
ковые следствия. Известно, что влияние французских материали-
стов было несравненно сильнее, чем влияние Толанда. Голос Толан-
да раздался в Англии почти без отголоска; напротив французские
материалисты, более живые и деятельные, благоприятствуемые
могущественными результатами неудержимо развивавшегося тем
временем естествознания и более общим распространением фран-
цузского языка и образования, произвели мятеж во всем образован-
ном мире.
Значение главы и предводителя этих французских материали-
стов принадлежит главным образом Дидро, — не только потому,
что Дидро в самом деле был самым замечательным и многообъем-
лющим из этих писателей, но в особенности и потому, что он был
основателем и главой той обширной «Энциклопедии», которая все-
го действительнее распространила эти новые мысли и воззрения
и надолго осталась преобладающим, если не исключительным ру-
ководством общественного мнения. К Дидро примкнули д’Аламбер,
Кондильяк, Гольбах, Гельвеций и целый ряд других людей, которые
стремились к той же цели, отчасти как сотрудники «Энциклопе-
дии», отчасти самостоятельными книгами. Философия и материа-
лизм стали теперь словами однозначащими. Между тем первенство
систематического основания строго материалистического мировоз-
зрения принадлежит между французами XVIII века не Дидро, но пи-
сателю, которого он и его приемники не признавали, осмеивали
и отвергали, — Ла Меттри.
Жюльен Офрэ де Ла Меттри (de la Mettrie) родился в Сен-Мало
1709. Он сменил изучение теологии изучением медицины, и, ос-
новавшись уже в качестве практического врача в своем родном
городе, он решился продолжать свои изучения в Лейдене у Бурга-
ве. Перевод и комментирование сочинений Бургаве вовлекли его
в спор с парижским медицинским факультетом; в сатирах он берет
тон безжалостной насмешки и в одной комедии идет по следам
враждебного факультету Мольера. Припадок лихорадки, который
240
он перенес, будучи военным врачом в лагере, дает ему повод к пси-
хологическим самонаблюдениям и укрепляет его в убеждении, что
душевные состояния составляют необходимое следствие телесных
состояний. Это учение, о телесности души он высказывает в своей
Histoire naturelle de Гате (1745), и между «историями, подтверж-
дающими, что все представления происходят из чувств» (Oeuvres
philosophqiues, Амстердам, 1764, I, стр. 204 и далее), он занимался
психологией слепых и глухонемых и ставит антропоморфную обе-
зьяну рядом с человеком. То, что в человеке ощущает, должно быть
материально; вообще, он приписывает материи способность ощу-
щения, потому ли, что материя от века обладала ощущением, как
и движением, потому ли, что ощущение есть только необходимое
следствие состояний движения.
Если «Естественная история души» — которая стоила ему места
военного врача и заставила его бежать в Голландию — есть пра-
вильно распределенное и осмотрительно исполненное рассуждение,
то Нотте machine (1747) есть бурная речь, не без надоедающей
погони за эффектом и не без оскорбляющего цинизма. Ла Меттри
утверждает, не без основания, что он исходит от Декарта, которо-
го механическое объяснение природы и особливо его учение, что
животные суть машины, он распространяет на человека. Опыт
и наблюдение должны быть единственными руководителями ис-
следователя; их объект — прежде всего телесные органы челове-
ка. Ла Меттри пользуется при этом новейшими исследованиями,
например, об анатомии мозга, и указывает на учение об областях
мозга. Он снова подробно объясняет, как самые тонкие умственные
отправления и вся нравственная деятельность человека обусловле-
ны его телесными органами, и нарушение их функций имеет след-
ствием и нарушение духовного человека. «Пустяк небольшая лихо-
радка, нечто, чего не может открыть самая утонченная анатомия,
может сделать из Эразма и Фонтенеля двух глупцов» (1,18). Человек
есть животное, которое выучилось говорить. Его благородство есть
его телесная организация; его задача, как и у животного, — быть
счастливым. Чтобы достигнуть этой цели, нравственный закон (1а
loi naturelle), который есть у него, как и у животного, научает его:
чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай и никому друго-
му. Ученость не относится к задачам человека: «c’est-peut etre par
une espece d’abus de nos Гасикёз organiques que nous sommes devenus
savants»1 (I, 44; ср. то, что два года спустя будет объяснять Руссо
дижонской академии). Существование Бога может быть вероятно
(45), но этим не доказывается необходимость богослужения. Во вся-
ком случае теология не нужна для практической жизни, и мнение
1 Возможно, из-за своего рода злоупотребления нашими органическими способ-
ностями мы стали учеными (фр.). —Прим. изд.
241
Ла Меттри очевидно то, что мир не будет счастлив, если не будет
атеистическим. Веру, в бессмертие он вполне не отвергает. Во всей
вселенной есть только одна субстанция (монизм, стр. 81), из кото-
рой образовалась лестница самых многообразных организмов: есть
организмы, которые стоят по середине между растением и живот-
ным, и жизнь человека представляет многие параллели к жизни
растения (75).
Эти мысли об единстве органической жизни он разъясняет
и определяет дальше, под влиянием изучения Линнея, в своем
Ноттеplante (1748).
Безыменного Нотте machine Ла Меттри посвятил в высокопар-
ном обращении Альбрехту ф. Галлеру, резкие рецензии которого
(в Gottinger gelehrte Anzeigeri) в особенности раздражили его упре-
ком в литературной краже и которому он посвящением книги хотел
подставить ногу. Галлер в Journal des savants (май 1749) решительно
отклонил всякую общность с Ла Меттри и продолжал резкую кри-
тику его сочинений, на что Ла Меттри отвечал разными выходками
и неприличными насмешками и наконец памфлетом Le petit homme
a longue queue (1751), где он цинически глумится над гёттинген-
ским профессором, объявляет его прежним товарищем своих необ-
узданностей и влагает ему в уста неприличные речи о Боге и мире.
Возмущенный и огорченный Галлер собирался защищаться, когда
внезапная смерть «несчастного» Ла Меттри положила конец этому
злому спору.
При появлении Нотте machine разразилась буря, которая выгна-
ла автора из Голландии, вообще столь гостеприимной. Мопертюи
обратил внимание Фридриха II на гонимого соотечественника,
и король призвал его в 1748 в Потсдам, сделал его членом академии
и назначил своим чтецом.
Здесь Ла Меттри беспрепятственно продолжал свое философ-
ское писательство, иногда, чтобы сбить с пути своих противников,
опровергая самого себя под покровом анонима или псевдонима. Он
написал своего упомянутого Нотте plante, свой дурно известный
Discours sur le bonheur и другие нравственные трактаты, о которых
скажем далее, и также свою Systeme d'Epicure.
Под этим заглавием Ла Меттри дает не столько изложение ми-
ровоззрения Эпикура, сколько собственный опыт истории творе-
ния, где он примыкает к учению Бенуа де Малье. Де Малье (Benoit
de Maillet, 1656—1738), французский дипломат, который в часы
досуга занимался геологией и палеонтологией, оставил естествен-
но-научный труд, в стиле Фонтенелевых Entretiens sur la pluralite
des mondes, который один из его друзей издал под псевдонимом
(Telliamed) в 1748, под заглавием «Entretien d’un philosophe indien
avec un missionnaire frangais sur la diminution de la тег». Де Малье ис-
ходит от окаменелостей, которые научают его, что море покрывало
242
некогда всю земную поверхность и теперь находится в постоянном
отступлении, оставляя своих животных на земле, где они сообразно
с новыми условиями жизни превращались в сухопутных животных
(se terrestriser). Правда, это превращение, по его взгляду, происхо-
дило не постепенно и по наследственности; но он считает его вне-
запным, совершающимся на определенном индивидууме, который
затем передает потомкам свою вполне выработанную земную орга-
низацию. Таким образом его теория о происхождении видов от низ-
ших форм к высшим еще весьма зачаточная; но ему принадлежит
слава — дать начало теории превращения.
Ла Меттри принимает эту историю творения; он делает особое
ударение на том, что природа должна была сделать много неу-
дачных опытов, прежде чем достигла такой комбинации органов,
какую представляет человеческое тело, и решительно отвергает
целесообразность в процессах природы. По его взгляду, глаз есть,
конечно, зеркало, в которое мы видим картину внешних предме-
тов, но не доказано, чтобы этот орган был действительно образо-
ван для цели этого рассматривания и помещен в свою пустоту: он
есть просто продукт необходимого развития. Поэтому он отверга-
ет также и телеологическое доказательство бытия божия, которое
излагает Дидро в своих Pensees philosophiques (1746), как в осталь-
ном ни сочувственна ему вражда к клерикализму в этом sublime
ouvrage1 (I, 48).
Сочинения Ла Меттри старее, чем обращение Дидро к матери-
ализму (около 1754 г.), и они без сомнения содействовали с своей
стороны этому обращению. Философы круга Дидро, несомнен-
но, многому научились из Histoire naturelle de Рате и из Нотте
machine, — но из этого мы не имеем надобности заключать, что все,
напоминающее в их сочинениях учение Ла Меттри, заимствовано
ими именно из него, а не взято скорее из Гоббса или из их собствен-
ных размышлений. Конечно, они, по-видимому, только с неохотой,
вспоминают об этом долге; они умалчивают или даже; отрицают,
что они ходили в школу Ла Меттри. Причина этого заключается
в той компрометирующей репутации, которую создал себе Ла Мет-
три, как моралист (см. ниже, глава 7).
Эти французские материалисты не имеют никаких притязаний
на научную глубину. Наука требует доказательств; а здесь мы нахо-
дим только решительные мнения, и вместо доказательств — только
смелые догадки или игру заносчивого остроумия, которые мало
отвечали серьезности дела. Они хотели пожинать не сеявши, или,
если это выражение может показаться слишком сурово, они хотели
сорвать плод, прежде чем он успел созреть. Эти люди, которые во-
обще так резко проповедовали необходимость чувственного опыта,
1 Возвышенный труд (фр.). —Прим. изд.
243
как исключительного источника познаний, и так много говорили
об экспериментировании, как основе и поверке всякого научного
учения, хотели обойтись с одними тонкими умствованиями и лег-
комысленными гипотезами, — «я летаю, как птица, от гипотезы
к гипотезе», — говорит Ла Меттри, — и окончательно решать ими
вопросы, решение которых, если только вообще оно возможно,
предоставлено только серьезному и строгому наблюдению и иссле-
дованию, предоставлено химии, физиологии и психологии, воору-
женным всеми средствами науки. Оттого смелость их приговоров
кажется для нас неприятной и отталкивающей, странной и недоста-
точной.
Но при всех своих односторонностях и преувеличениях, это на-
правление сохраняет, однако, глубокую историческую важность.
Оно уничтожило много старых предрассудков и бессодержательных
положений и — бесспорно дало самый могущественный толчок хи-
мии и физиологии. Оно угадывало многое, что стало впоследствии
предметом и результатом науки; оно поставило задачи, о решении
которых до сих пор идет и будет еще долго идти самый оживленный
спор в области мысли и исследования. Вот причина, почему именно
теперь больше, чем когда-нибудь, становится своевременно истори-
ческое рассмотрение этих столько знаменитых и столько бранимых,
но теперь так мало читаемых материалистов.
2. Энциклопедия
Великий труд Энциклопедии вызвали прежде всего внешние об-
стоятельства. В Англии нашла всеобщее одобрение «Cyclopaedia»
(2 тома, Дублин, 1728) Эфраима Чэмберса. Англичанин Миллс
и немец Селлиус объявили о французском переводе этой «Энцикло-
педии» и поручили книгопродавцу Ле Бретону устроить юридиче-
ские формальности. Но книгопродавец взял привилегию на свое
собственное имя, и это сделалось поводом к ссоре. Затем Миллс во-
ротился в Англию, Селлиус умер. Книгопродавец не хотел, однако,
терять своей выгоды. Ему указали на Дидро (1745), этот молодой,
талантливый писатель в то время именно был в безденежье и пред-
лагал свои услуги, кому они были нужны. Дидро составил для этого
произведения совершенно новый план, и нужна была новая приви-
легия. Она взята была 21 января 1746. Ле Бретон удержал за собой
половину предприятия; другую половину взяли книгопродавцы Да-
вид старший, Бриассон и Дюран.
Дидро составил самый широкий план. Это была не только под-
вижная и многосторонняя, но и мыслящая голова. Он хотел дать
не только очерк всей человеческой деятельности, человеческого
знания и стремлений, но ввести в общее сознание и внутреннее
единство, необходимость и достойные цели этой деятельности, это-
го знания и этих стремлений. Он соединился с д’Аламбером, кото-
244
рый был уже тогда знаменитым математиком, но сохранил также
полный интерес и ко всем философским и поэтическим явлениям
и успехам. К ним присоединился ряд известных и надежных специ-
алистов, людей с тем же взглядом на вещи: их имена и область их
работы указаны в предисловиях к первому и седьмому тому. Руссо
писал музыкальные статьи. Вольтер был деятельным сотрудником
в течение нескольких лет; он доставлял до буквы М статьи по изя-
щной литературе и истории. Монтескьё обещал больше, чем ему
суждено было доставить; между оставшимися после него бумагами
нашелся отрывок Gout и был принят. Кенэ давал политико-экономи-
ческие статьи. Таким образом Энциклопедия стала сильным орга-
ном партии. Человеческая наука, искусство, разного рода, сведения
были собраны и сделаны общеполезным знанием с редким умением
и обстоятельностью. Но Энциклопедия вовсе не была мирной кла-
довой, где ученые и мыслители складывали и пересматривали свои
богатства; это была гигантская осадная машина и наступательное
оружие.
В 1750 Дидро издал программу издания, которое рассчитано
было на десять томов folio1 текста и два тома таблиц. Программа
возбуждает в читателе высокое уважение к серьезности предприя-
тия и дает превосходную картину осмотрительного, добросовестно-
го и многотрудного дела, которому эти люди посвящали свои луч-
шие силы.
Два первые тома вышли в 1751 и 1752 годах. Заглавие их было
«ЕпсуйорёсНе ou Dictionnaire raison^ des Sciences, des Arts et des
K/tetiers, par une Бойёгё de Gens de Lettres, mis en Ordre et риЬНё
par Mr. Diderot, de l’Acadёmie royale des Sciences et des Belles Lettres
de Prusse; et quant a la Partie madmmatique par M. dAlembert, de
lAcadёmie royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse et de la Бойёгё
royale de Londres». Первый том был посвящен министру д’Аржан-
сону, человеку, о котором Вольтер в своих Lettres sur VEncyclopedie
(XXVI, 513) говорит, что он достоин слышать язык философии и за-
щищать ее. Он заключает знаменитое предисловие д’Аламбера, ко-
торое дает распределенное по образцу Бэкона обозрение человече-
ских наук и искусств и красноречивый очерк умственной истории
новейшего мира со времен Возрождения.
Тотчас же поднялась жестокая буря. Барбье (в своем Journal
du regne de Louis XV, риЬНё par Villegille. Paris, 1841, t. 3, стр. 333,
360) дает о ней ясное понятие. Первое сопротивление оказала Со-
рбонна. Архиепископ парижский издал пастырское послание, ко-
торое, по словам Барбье, имело только то следствие, что дорогая
и редкая книга, до тех пор известная только немногим людям ли-
тературы и науки, стала теперь читаться всеми лавочниками и тря-
1 Фолио (фр.). —Прим. изд.
245
пичниками. 7 февраля на оба тома было наложено запрещение;
но продолжение не было остановлено. Д’Аламбер думал одно время
перенести предприятие в Берлин; но Вольтер отсоветовал делать
это, «потому что там увидишь больше штыков, чем книг, и потому
что там Афины только в кабинете короля».
После перерыва почти в два года, когда публикация была сно-
ва разрешена, вышел в октябре 1753 третий том. Малерб, глав-
ный начальник всего ведомства по делам печати, возвратил Дидро
захваченные бумаги; правительство, бывшее в споре с духовен-
ством, даже помогало предприятию. В предисловии этого третьего
тома д’Аламбер мог сказать: «Le gouvernement a paru ctesirer qu’une
entreprise de cette nature ne fut point abandonee, et la nation а изё
du droit, qu’ elle avait de 1’exiger de nous»1 (ср. письмо д’Аламбера
к Вольтеру от 24 августа 1752).
В 1754—1756 гг. вышли четвертый, пятый и шестой тома
«avec approbation et privilege du Roi»2. Издатели стали осторожнее,
и на время они освободились от нападений. Д’Аламбер писал Воль-
теру 21 июля 1757, недовольный этой сдержанностью: «Sans doute
nous avons de mauvais, articles de d^ologie et de n^taphysique, mais,
avec des censeurs ti^ologien et un privilege, je vous dёfie de les faire
meilleurs. Il у a d’autres, moins au jour, ou tout est герагё. Le temps
fera distinguer ce que nous avons решё d’avec ce que nous avons dit»3.
Энциклопедия имела тогда до четырех тысяч подписчиков.
В том же 1757 г. вышел и седьмой том. Д’Аламбер с торжеством
писал Вольтеру, что седьмой том превзойдет все остальные своей
силой; это так и было в самом деле. К несчастью, в это самое время
появилась и сильно затронула умы известная книга Гельвеция «De
1’Esprit». Нападения увеличивались в числе и силе. Руссо, раздра-
женный своей ссорой с Гриммом и г-жей д’Эпинэ, оскорбился ста-
тьей «Geneve», в которой он расслышал голос ненавистного Вольте-
ра, и написал свое резкое полемическое письмо против д’Аламбера;
иезуиты свирепствовали в «Journal de Trevoux», Фрерон, давнишний
враг Вольтера, — в «АппёеНпёгапе», Палиссо — в «Petites lettres a des
grands philosophes». Назначена была следственная комиссия. По за-
ступничеству Малерба, решение было снисходительно. 8 марта
1759 г., как рассказывает Барбье, появился «Arret du conseil d’Etat»,
по которому привилегия, выданная в 1746, была уничтожена и про-
дажа вышедших и имевших выйти томов была запрещена, «во вни-
1 Правительство, казалось, желало, чтобы предприятие такого рода не было ос-
тавлено, и нация использовала свое право требовать этого от нас (фр.). —Прим. изд.
2 С одобрения и привилегии короля (фр.). —Прим. изд.
3 Несомненно, у нас есть плохие теологические и метафизические статьи,
но с теологическими цензорами и привилегиями я призываю вас сделать их лучше.
Есть и другие, менее актуальные, где все исправлено. Время отличит то, что мы
думали, от того, что мы сказали (фр.). —Прим. изд.
246
мание того, что польза, приносимая искусству и науке, совершенно
не соответствует вреду, приносимому религии и нравственности».
Д’Аламбер утомился и оставил предприятие; несколько сотруд-
ников последовали его примеру. Дидро думает, кажется, что в этом
решении участвовало и себялюбие (ср. Oeuvres completes de Diderot,
изд. Аззёгаг, I, стр. XLI и далее; XVIII, 400). Но главнейшим основани-
ем его было то, что д’Аламбер, натура более мягкая, менее энерги-
ческая, устрашился серьезных усилий и случайностей дальнейшей
борьбы. Напротив, Дидро становился от неудач только еще рев-
ностнее и упрямее. Он и неутомимый Жокур работали без переры-
ва с несказанными усилиями и опасностями. Если бы г-жа Жофрен
не доставила значительных средств и если бы Малерб и лейтенант
полиции Сартин не были, так сказать, помощниками, предприятие
не могло бы быть приведено к концу. Наконец в 1765 вышли зараз
последние десять томов, с пятью первыми томами таблиц. Вопли
клерикалов повторились, и книгопродавцы были посажены на во-
семь дней в Бастилию; но, впрочем, продаже книги не делали ни-
каких серьезных препятствий. По одному анекдоту, рассказанному
Вольтером, но не вполне достоверному, — чтобы настроить короля
благоприятнее, устроен был маленький придворный маневр. Су-
мели сделать так, что король за столом спросил о приготовлении
пороха, г-жа Помпадур — о приготовлении лучшей помады. Доста-
ли Энциклопедию и прочли из нее о том и о другом. Король был
в восхищении. В эту минуту ему показалось непонятным, как мож-
но было запрещать такую полезную книгу.
К 1772 году явились остальные из одиннадцати томов таблиц.
Тогда издатель Панкук устроил дополнение из четырех томов текста
и тома таблиц (1775—1777), правда, без редакции Дидро, но при
содействии большей части старых сотрудников и также д’Аламбе-
ра. Таким образом целое издание, считая и два тома указателей
(в 1780 г.), обнимает 35 томов.
Редко бывало, чтобы такое обширное произведение имело та-
кой всеобщий успех: 4250 экземпляров издания были быстро рас-
проданы. Сделано было несколько перепечаток за границей, тогда
как в самой Франции новое печатание было остановлено вмеша-
тельством духовенства (1769). Из «Extrait d’un тётопе produit
en 1769 dans le proces тгепгё aux libraries», сообщенного в книге
«Voltaire et son temps», par Bungener (t. 2, стр. 53), видно, что печа-
тание стоило 1158,958 ливров, и, однако, чистый доход книгопро-
давцев простирался до 2630,393 ливров.
Дидро получил за свой громадный труд и за свою столь же гро-
мадную личную опасность только по две с половиной тысячи лив-
ров за каждый том и, кроме того, двадцать тысяч ливров раз навсег-
да. Наконец Дидро при корректуре последнего тома (1764) заметил
к своему крайнему ужасу, что издатель Ле Бретон с помощью свое-
247
го корректора, чтобы смягчить самые резкие места, произвольно
и систематически искажал рукописи. Сохранилось еще письмо, ко-
торое он, крайне возмущенный этим насилием, писал Ле Бретону:
«J’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil, j’en ai р1еигё de rage en
votre presence; j’en ai pleure de douleur chez moi devant votre аззоаё
et devant ma femme, mon enfant et mon domestique — et puis il n’y a
plus de remede»1. Так постыдно был обманут Дидро на прекрасней-
шем плоде многолетней работы. Его первая мысль была устранить
себя от разрушенного дела и известить об этом публику. Он усту-
пил мольбам книгопродавца, угрожаемого разорением, и увеща-
ниям своих друзей и промолчал. И друзья также сохранили тайну.
Только в 1771 г. Гримм в Литературной Переписке сообщил об этом
небольшому кругу.
От всей первоначальной редакции последних десяти томов оста-
лось, кажется, только то, что мог еще захватить Дидро в корректур-
ных листах (ср. Сочинения Дидро XIII, 124). Это было отправлено
в Петербург с его библиотекой и разделило там ее судьбу: оно ис-
чезло бесследно.
Если мы станем рассматривать основной план этого предприя-
тия, то сравнение его с большим словарем Бейля будет одним из са-
мых красноречивых свидетельств того, как бесконечно смелее стала
мысль и как она была готовее на борьбу. Где у Бейля было боязли-
вое сомнение, здесь положительное утверждение. Время примире-
ния и уступчивости прошло. Конечно, в разных статьях Энциклопе-
дии много уступок и хитрых умолчаний, зато в других нападение
совершенно открыто и беспощадно. Дидро сам открыл тайну своей
тактики в статье «Encyclopёdie» (1755), с явным намерением дать
читателю необходимые намеки для правильного понимания. Он
говорит: «Toutes les fois, qu’un prejuge national шёгйегай du respect,
il faudrait a son article particulier 1’exposer respectueusement et avec
tout son cortege de vraisemblance et de sёduction, mais renverser
l^difice de fange, dissiper un vain amas de poussiere, en renvoyant aux
articles ou des principes solides servent de basesaux vёritёs оррозёез.
Cette manierede dёtromperies hommes opere tres promptement sur
les bons esprits et elle opere infailliblement et sans aucune facheuse
consёquence, secretement et sans ёс1аг sur tous les esprits. C’est 1’art
de dёduire tacitement les consёquences les plus fortes. Si ces renvois
de confirmations et de refutations sont prevus de loin et preparees avec
adresse, ils donneront a une Encyclopёdie le caractere de changer la
fagon commune, de penser»2. В тех статьях, где власти всего скорее
1 Я перестал пить, есть и спать, я плакал от ярости в твоем присутствии; я пла-
кал от боли в своем доме перед твоим спутником и перед моей женой, моим ребен-
ком и моим слугой — и тогда нет больше лекарства (фр.). — Прим. изд.
2 Всякий раз, когда национальный предрассудок возносится к уважению, необ-
ходимо разоблачать его в конкретной статье с уважением и со всем соответствую-
248
должны были ожидать непозволительных вещей, — благоразумная
осторожность; но в других более отдаленных и меньше обращаю-
щих внимание — бой с открытым забралом. Например, в статье
«Christianisme» учение об инспирации; во многих других статьях его
самое безусловное опровержение; в «Аше» и «Liberte» учение о бе-
стелесности и свободной воле души, в «Naitre» самое решительное
изложение учения о движении материи и о зависящей от него теле-
сности и подчинении условиям природы.
Современники считали Энциклопедию замечательнейшим про-
изведением своего века, и это совершенно согласно с исторически-
ми фактами. Знамя было твердо поднято, лозунг роздан. Мало-по-
малу, но прочно, незаметно, но убедительно проникали воззрения
новой школы во взгляды и убеждения людей. Что можно сказать
об этом направлении вообще, то можно сказать и об Энциклопе-
дии. Через нее вошло в свет много неосторожной торопливости,
поверхностного обращении с вещами и задачами, которые требуют
для себя не остроумной болтовни, а трудного наблюдения и усерд-
ного, глубокого исследования. Но сущность дела тем не менее была
здоровая и принесла благотворные плоды. Можно не разделять все-
го, что Энциклопедия утверждала положительного, но можно было
от всей души разделять ее отрицания; можно было не быть ее безус-
ловным другом и приверженцев, но можно было преследовать с ней
одних и тех же общих врагов. Можно было желать большей твердо-
сти и обработанности ее слишком смелых решений, но не отвергать
из-за этого самого плана и основных идей. И в этом смысле Кабанис
сказал для того времени действительную историческую истину, ког-
да во введении к своей книге «Rapports de la physique et dela morale
de 1’Homme»1, конечно, несколько напыщенно, назвал энциклопеди-
стов «1а sainte confёdёration contre le fanatisme et la tyrannie»2.
3. Салоны
Даже такой серьезный и строгий историк, как Шлоссер, нашел
нужным в своей «Истории восемнадцатого столетия» подробно
говорить о парижских салонах. Они были одним из важнейших
двигателей тогдашнего образования и литературной жизни. Если
писателей этого времени можно сравнить с парламентскими пред-
щим кортежем правдоподобия и обольщения, но опрокинуть это здание грязи,
развеять суетную кучу пыли, сославшись на статьи, где твердые принципы служат
основой для противоположных истин. Этот способ переубеждения людей быстро
действует на добрые умы, действует неминуемо и без пагубных последствий, тайно
и без привлечения внимания других умов. Это искусство молчаливо выявлять са-
мые серьезные следствия. Если эти направления подтверждений и опровержений
будут спланированы издалека и искусно подготовлены, они придадут Энциклопе-
дии характер реформатора общепринятого образа мыслей (фр.). —Прим. изд.
1 Записки о физике и морали Человека (фр.). —Прим. изд.
2 Священная конфедерация против фанатизма и тирании (фр.). —Прим. изд.
249
водителями партий, то эти салоны были собраниями людей партии.
Здесь все возбуждается и подготовляется, обдумывается и обсужи-
вается, только смелее и непринужденнее, чем перед публикой.
Записки Мармонтеля и Морелле дают о них в особенности живое
понятие. Затем «Литературная Переписка» Гримма, письма Дидро
к г-же Волан, переписка Галиани, г-жи дю Деффан и многих других,
мемуары г-жи д’Эпинэ и бесчисленные биографии, какие есть у нас
о каждом сколько-нибудь замечательном человеке того времени.
Братья Гонкуры посвятили этой салонной жизни остроумные и ос-
новательные изучения (La femme аиXVIIIе siecle); очень знающий Ле-
скюр (Les femmes philosophes, 1881) судит и слишком строго; Феллье
де Конш (Les salons de conversation du XVIIIе siecle, 1891) дает только
поверхностную компиляцию.
Во главе этих салонов стоят большей частью женщины, которые,
по шутливому выражению Вольтера (т. XLIX, стр. 34), имели при
себе министрами одного или двух писателей. Но, впрочем, прекрас-
ными хозяевами салонов бывали и сами писатели, как, например,
Гольбах и Гельвеций, которые при своем богатстве имели для этого
блестящие условия.
К старшему поколению принадлежала г-жа Тансен, легкомыс-
ленная, остроумная и жестокая мать д’Аламбера; она умерла в 1749.
В ее салоне бывали в особенности Фонтенель, Мариво, Монтескьё,
Мармонтель, Пирон и Болингброк. Она с прискорбием видела, что
скипетр ее перейдет некогда к г-же Жофрен, — и это ожидание под-
твердилось. Эта последняя открыла свой салон в 1748.
Г-жа Жофрен, буржуазного происхождения (1699—1777), умела
превосходно вести салон; если она не выдавалась по уму, то отлича-
лась вкусом, добротой и богатством. В течение почти тридцати лет
(до 1776 г.) ее дом был сборным местом государственных людей,
писателей и художников; не было в Париже ни одного замечатель-
ного иностранца, который не считал бы себе величайшей честью
быть принятым у г-жи Жофрен. По понедельникам бывали обеды
для художников; по средам — для философов и их приверженцев,
и, кроме того, каждую неделю — несколько маленьких ужинов.
В этот салон влекла не роскошь угощения, но прелесть оживленного
разговора, который не должен был переходить границ легкой и при-
ятной беседы; если начиналось что-нибудь резкое и задевающее,
хозяйка умела мягко прекращать споры. Потом, вне салона, спор
мог начаться снова. Морелле (Мёгп., Paris 1823, т. I, стр. 85) расска-
зывает, что д’Аламбер, Рейналь, Гельвеций, Галиани, Мармонтель,
часто также Дидро, гуляли после обеда в большой аллее Тюльерий-
ского сада, «предаваясь разговору, столько же живому и свежему,
как воздух, их окружавший». Свидетельством влияния и значения
этого салона может служить то, что, когда г-жа Жофрен посети-
ла в 1766 своего клиента, короля Станислава польского в Варша-
250
ве, польское дворянство приняло ее с настоящим триумфом. При
венском дворе она также была предметом величайшего внимания;
в Петербурге императрица Екатерина пригласила ее к столу.
Одно время рядом с г-жей Жофрен владычествовала и г-жа дю Деф-
фан (1697—1780). Здесь собирался почти тот же самый кружок;
но у г-жи дю Деффан не было той же доброты и приветливости
к ее друзьям философам и остроумцам. Она смотрела слишком
резко, и строгость ее суждений довольно часто принимала оскор-
бительную форму. Она должна была понять, что ее компаньонка,
бедная т-11е де л’Эспинас, превосходит ее любезностью и привязан-
ностью других, и когда дю Деффан в порыве ревности вдруг отка-
зала ей, она должна была увидеть, что большая часть посетителей,
предводимые д’Аламбером, изменили ей и из rue St.-Dominique по-
следовали за m-lle л’Эспинас в rue Belle-Chasse. С тех пор она оста-
лась в раздраженном одиночестве; но что, старая и ослепшая, она
находила утешение и веселье только в насмешках и злословии, это
опровергают уже ее письма к Горацию Уолполу, к которому привле-
кала ее запоздалая любовь. Эти письма показывают в ней страстно
живую, готовую на самопожертвование женщину с чертами дей-
ствительной доброты. Переписка г-жи дю Деффан, где появляется
нередко и Вольтер, принадлежит к самым ценным свидетельствам
ума того века и заключает маленькие мастерские произведения
письменного стиля. Только англичанин Гораций Уолпол еще радо-
вал ее частыми посещениями и ежедневными письмами; от време-
ни до времени она получала дружеское слово от Вольтера.
Жюли л’Эспинас, подруга д’Аламбера, была так же, как и он, дитя
любви. Никогда не признанная своей матерью, графиней д’Альбион,
но воспитанная ею как бедная сирота, она поступила в 1754, двадца-
ти двух лет, в дом г-жи дю Деффан, и в 1764 оставила его. С тех пор
она стала центром самого оживленного общества. Гримм говорит
о ней в «Литературной Переписке», в мае 1776 г.: «Без богатства,
без известного происхождения, без красоты, ей удалось, однако, со-
брать в своем доме весьма многочисленное, разнообразное и усерд-
ное общество. Кружок ее собирался каждый день с пяти до девяти
часов вечера. Там, наверное, можно было встретить лучших людей
из всех сословий, людей церкви, придворных, военных, художни-
ков, ученых и замечательнейших иностранцев. Сначала этот кру-
жок могло соединять имя д’Аламбера, с которым m-lle л’Эспинас
многие годы жила вместе; но поддержать и расширить его — было,
без сомнения, ее собственной заслугой. Никогда еще не было та-
кого “общественного” таланта, как m-lle л’Эспинас. Она в высшей
степени одарена была столько трудным и драгоценным искусством
возбуждать ум других и давать ему простор. Мимоходом брошен-
ное слово завязывало беседу и вносило в нее самую разнообразную
полноту. Казалось, ничто не было ей чуждо; она все могла сделать
251
приятным и занимательным». То же говорят Мармонтель и Лагарп,
не упоминая уже о трогательной похвальной речи д’Аламбера. Ее
счастье было нарушено несчастной, почти непонятной двойной лю-
бовью к маркизу де Мора и к графу Гиберу. Ее письма к последнему
(1773—1776) вводят нас в тайну этой болезненной борьбы, кото-
рой настоящее свойство осталось скрыто даже для современников.
Это замечательный памятник пожирающей страсти; эти письма по-
казывают так же, как и письма к д’Аламберу и Кондорсе, смелый
ум и тонкий, вкус и обеспечивают их автору одно из первых мест
в эпистолярной литературе ее отечества.
Затем идут общество г-жи Неккер, которая открыла свой са-
лон в 1765 и принимала по пятницам (ср. d’Haussonville, le salon de
M-me Necker, 1882) и кружки г-жи д’Эпинэ и ее сестры, графини
д’Удето; также салон т-11е Кино, который процветал в особенности
после смерти Жофрен и л’Эспинас.
Свободнее, чем эти дамские салоны, был салон барона Голь-
баха. Морелле очень живо изображает его в своих записках (т. 1,
стр. 131, след.). Друзья называли Гольбаха maitre d’hotel de la
philosophic1, как в шутку назвал его Галиани. Каждое воскресенье
и четверг у него обедало от десяти до двадцати человек; у него был
превосходный стол, отличные вина и кофе. Общество оставалось
большей частью от двух до восьми часов; было много живой бол-
товни и споров: говорили с полнейшей свободой обо всех вопросах
религии, философии и политики, часто с поражающим остроуми-
ем. Иногда начинал говорить один и, не прерываемый другими,
излагал целое учение; иной раз происходил формальный поединок
двух различных мнений, за которым с интересом следило остальное
общество. Летом Гольбах жил в своем имении, в Гран-Вале, и дом
его и здесь был открыт для всех друзей. Дидро провел здесь прекрас-
ные дни, и рассказ об этом придает особенную прелесть его пись-
мам к Софии Волан.
Гельвеций принимал каждый вторник. Кружок был тот же, что
у Гольбаха; но беседа была менее оживлена; г-жа Гельвеций, как
рассказывает Морелле, красивая и с живым умом, любила мешать
серьезным толкованиям; сам Гельвеций легко впадал в сухость и тя-
желовесность: лишенный собственного творчества и однако побу-
ждаемый самым крайним славолюбием, старался эксплуатировать
своих друзей для своих книг. Позднейшую судьбу этого круга рас-
сказывает А. Guillois, Le salon de M-me Helvetius. Paris 1894.
Редко в общественную жизнь введено было столько ума.
Гримм в своей Литературной Переписке ярко рисует нам тон
этого общества, когда открывает новый 1770 г. речью, которая
крайне характеристична как по непозволительному подражанию
1 Дворецкий философии (фр.). —Прим. изд.
252
церковным выражениям, так и по своему шуточному содержа-
нию. Она говорит:
«Сотте il est d’usage dans notre sainte Eglise philosophique de nous
reunir quelquefois pour entendre la parole de Dieu, et donner aux fiddles
de salutaires et utiles instructions sur I’etat actuel de la foi, les progres
et bonnes oeuvres de nos Ireres, j’ai 1’honneur de vous adresser les an-
nonces et bans qui ont eu lieu a la suite de notre dernier sermon...
Soeur Necker fait savoir qu’elle donnera toujours a diner les vendre-
dis: I’Eglise s’y rendra, parce qu’elle fait cas de sa personne et de celle de
son ёроих; elle voudrait pouvoir en dire autant de son cuisinier.
Soeur de 1’Espinasse fait savoir que sa fortune ne lui permet pas d’of-
frir ni a diner ni a souper, et qu’elle n’en a pas moins d’envie de recevoir
chez elle les freres qui voudront у venir digerer. L’Eglise m’ordonne de lui
dire qu’elle s’ у rendra, et que, quand oh a autant d’esprit et de merite,
on peut se passer de beaute et de fortune.
Mere Geoffrin fait savoir qu’elle renouvelle les defenses et lois prohi-
bitives des annees precddentes et qu’il ne sera pas plus permis que par
le passd de parler chez elle ni d’affaires interieures, ni d’affaires exte-
rieures; ni d’affaires de la cour, ni d’affaires de la ville; ni d’affaires du
nord, ni d’affaires du midi; ni d’affaires d’oridnt, ni d’affaires d’occident;
ni de politique, ni de finances; ni de paix, ni de guerre; ni de religion, ni
de gouvernement; ni de theologie, ni de metaphysique; ni de grammaire,
ni de musique; ni, en general, d’aucune matiere quelconque... L’Eglise,
considerant que le silence, et notamment sur les matieres dont est ques-
tion, n’est pas son fort, promet d’obeir autant qu’elle у sera contrainte
par forme de violence»1.
1 Поскольку мы в нашей святой философской Церкви иногда встречаемся, что-
бы услышать слово Божье и дать верующим спасительные и полезные наставления
об актуальном состоянии веры, успехах и добрых делах наших братьев, я имею
честь отправить вам объявления и запреты, которые утвердились после нашей по-
следней проповеди...
Сестра Неккер сказала, что она всегда будет давать обед по пятницам: Церковь
пойдет к ней, потому что она заботится о своей личности и о своем супруге; хоте-
лось бы сказать то же самое о ее поваре.
Сестра де л’Эспинас дает понять, что ее состояние не позволяет ей предлагать
ни обеда, ни ужина, и что она, тем не менее, желает принимать в своем доме брать-
ев, которые захотят прийти и переварить пищу. Церковь приказывает мне сказать
ей, что она пойдет туда и что, когда у нее [л’Эспинас] столько ума и достоинств,
можно обойтись и без красоты и богатства.
Мать Жеффрин дает понять, что она возобновляет прежнюю защиту и запрети-
тельные законы, и что не будет позволено больше, как в прошлом, говорить дома
ни о внутренней, ни о внешней политике, ни о делах двора, ни о делах столицы,
ни о делах севера, ни о делах юга, ни о делах востока, ни о делах запада, ни о полити-
ке, ни о финансах, ни о мире, ни о войне, ни о религии, ни о правительстве, ни о тео-
логии, ни о метафизике, ни о грамматике, ни о музыке, и вообще ни о какой бы
то ни было материи... Церковь, считая, что молчание, в особенности касательно пе-
речисленных тем, не является ее сильной стороной, обещает подчиняться в той мере,
в какой она будет принуждена к этому в форме насилия (фр.). — Прим. изд.
253
Обоюдоострое влияние этих салонов понятно. Они существен-
но помогли распространить новый образ мыслей во все стороны,
но вместе помогли сделать его поверхностным.
Шлоссер проницательно заметил, что именно салоны в особен-
ности сделали общественное мнение независимым от придворного
воздуха, Париж — независимым от Версаля. Свобода мысли сде-
лалась вопросом моды; считалось признаком хорошего тона быть
неверующим и свободно рассуждать о политических вещах. Дво-
рянство декламировало против деспотизма, аббат — против рели-
гиозного фанатизма. Никто не удивлялся этим странным противо-
речиям.
Но именно поэтому и увеличивалось все больше и больше лег-
комыслие и торопливость решений. Бывает полезно и освежитель-
но — возбуждать других и получать возбуждение в живых обще-
ственных отношениях; но это принятие умственного возбуждения
есть только одна сторона умственной работы; другая сторона ее,
столько же существенная и необходимая, есть внутренняя сосредо-
точенность и углубление мысли. Салоны дали французским писате-
лям искусство остроумной болтовни, подвижную, понятную и при-
влекательную форму; но если Гёте сказал однажды, что искусство
разговора есть прямая противоположность искусству воспитания,
потому что разговор хотя и может касаться всех вопросов, но не мо-
жет исчерпать ни одного, — то этим сказано, что здесь может быть
только остроумие и тонкость, но не основательность и реальность.
Прихоть и удобство разговора шаловливо забегают в самые труд-
ные и священные вещи; говорящие стараются превзойти друг дру-
га эффектными мыслями и безумно смелыми решениями. Здесь
господствует то, что французы называют esprit: всему придается
эффектность; важнейшие вопросы разрешаются одной блестящей
фразой; философия делается софистикой. Только немногие избран-
ные могут спасти в этом расслабляющем салонном мире серьезную
мысль.
Если французское просвещение, в противоположность англий-
скому и немецкому, справедливо упрекают в фривольности, то, ко-
нечно, большая доля этой вины должна быть приписана этой салон-
ной жизни.
Глава вторая
Дидро
1. Жизнь и личность Дидро
Деятельность Дидро была не такая шумная, как деятельность
Вольтера, но влияние его было столько же обширно, и у него во вся-
ком случае было больше творчества и оригинальности. Вольтер ис-
254
кусно умеет пользоваться мыслями других; Дидро идет путем само-
стоятельного развития, которое преобразовывает принятые извне
указания и исходные точки, и неустрашимо ведет их дальше. Воль-
тер остановился на великих результатах Ньютона и Локка; Дидро
опирается также на них, но доходит, шаг за шагом, до открытого
материализма и атеизма, видя в нем, справедливо или несправед-
ливо, необходимый вывод из этих положений.
Эта разница обнаруживается и в их личных отношениях. Вольтер
ведет разнообразную жизнь знатного светского человека, Дидро —
более спокойную, хотя часто и полную страсти жизнь скромного,
предоставленного самому себе ученого. Здесь нет тех напряженных
и запутанных обстоятельств, которыми так богата жизнь Вольтера;
но зато мы находим достаточное вознаграждение в большей полно-
те внутренней сердечной жизни. Дидро — благородная и привлека-
тельная натура.
Г-жа Вандель, дочь Дидро, оставила достоверный очерк его
внешней жизни. Еще ближе мы знакомимся с Дидро в его пере-
писке с своей приятельницей, т-11е Волан, и в самых разнообраз-
ных известиях и записках его современников. Здесь раскрывают-
ся самые тайные сердечные движения Дидро. Сочинение дочери
и письма к приятельнице находятся в издании сочинений Дидро,
которое начал Ж. Ассеза покончил М. Турне (Oeuvres completes. Paris,
1875—1877, 20 томов). Это издание, кроме того, что было до сих
пор неизвестно, заключает в себе и то, что появилось неизданного
со времени последнего полного издания сочинений Дидро (edition
Briere, 1821). С тех пор появилось в разных местах и еще нечто неи-
зданное. Различные работы Дидро, особенно также письма, остают-
ся неизданными, преимущественно в русских библиотеках. Копию
оставшихся после него бумаг императрица Екатерина в 1785 ку-
пила через Гримма у г-жи Вандель. Эта копия в том же году, вме-
сте с собранием книг Дидро (3000 номеров), прибыла в Петербург
и хранится в Публичной библиотеке, почти в целости, между тем
как собрание книг непонятным образом исчезло.
Дидро принадлежал к почтенной буржуазной фамилии, которая
уже больше двухсот лет занималась фабрикацией ножей в Лангре,
приятном горном городке в южной Шампани. Дени Дидро родился
там 5 октября 1713. Его отец был человек рассудительный, способ-
ный и с состоянием; из писем Дидро к т-11е Волан (т. 1, стр. 107) вид-
но, что он оставил по смерти состояние в двести тысяч ливров. Та-
лантливый мальчик хотел сделаться духовным, и на двенадцатом
году принял даже пострижение; он хотел бежать в Париж, чтобы
там поступить к иезуитам. Умный отец предупредил его и свез его
в Париж, в коллегию d'Harcourt. Скоро он сделался отличным уче-
ником. С летами и развитием склонность к духовному признанию
терялась у него больше и больше. Ему не нравилось и изучение
255
права, и два года, которые он, по окончании гимназического курса,
провел в конторе одного парижского адвоката, прошли не столько
в юридической работе, сколько в литературных занятиях. Самым
усердным образом занимался он языками, английским, итальян-
ским, латинским и греческим, и математикой. Стремление к воз-
можно наибольшей всесторонности знания было у него так велико,
что он твердо объявил, что никогда не выберет себе определенной
профессии.
Напрасно сердился за это решение отец, напрасно он отнял у него
свою поддержку. Дидро прожил десять лет в этом свободном, ти-
хом, часто голодном уединении, то в хорошем, то в посредственном
и дурном обществе, но всегда в самой напряженной деятельности.
Он давал уроки, делал на заказ литературные работы; жил со дня
на день, но, несмотря на нужду и лишения, был счастлив тем, что
мог свободно удовлетворять своей охоте к занятиям. Тихо созрева-
ло и вырастало все, что впоследствии произвел Дидро. К этому вре-
мени принадлежит именно самое внимательное изучение Бэкона,
Локка и английских поэтов и свободных мыслителей. Голдсмит рас-
сказывает, что во время своего французского путешествия, около
1740 г., он слышал в одном парижском обществе, как Дидро с боль-
шим одушевлением восхвалял английскую литературу и защищал ее
от нападок Фонтенеля. По свидетельству Нежона, Бейль также имел
тогда большое влияние на Дидро.
В 1743 г. Дидро женился на молодой, скромной и весьма бедной
девушке. Это случилось против воли его отца, недовольство которо-
го, конечно, от этого стало еще больше. Рождение детей увеличило
обязанности и заботы; из двух девочек и двух мальчиков, которые
родились в 1744—1753 гг., выросла только младшая дочь, впослед-
ствии г-жа Вандель. Дидро перевел для книгопродавца Бриассона
историю Греции, Темпля Станнана, в трех томах, 1743, и с тремя
сотрудниками — большой медицинский Словарь Джеймса, в шести
томах, 1746. Но любовь Дидро продолжалась недолго. Юношеская
страсть забыла, что образованный человек требует от той, с кото-
рой делит он свою жизнь, симпатичного понимания и для своей
умственной деятельности и творчества; но все известия представ-
ляют жену Дидро хотя и прекрасной женщиной и хорошей хозяй-
кой, но мелочной и ограниченной; даже Руссо, конечно, мало из-
балованный в своих требованиях Терезой Левассёр, говорит о ней
в седьмой книге своих признаний с пренебрежением. Дидро полу-
чил склонность к некоей г-же де Пюизье, низкому и предательскому
созданию, которое, однако, прельстило его своим умом. Он прожил
целых четыре года (1745—1749) в этих отношениях, жертвуя време-
нем, деньгами и честью; наконец он открыл ее неверность. Но ско-
ро затем последовала другая, более благородная связь. В 1755 он
познакомился с m-lle Софи Волан, дочерью одной почтенной вдовы
256
чиновника, девушкой образованной и с чрезвычайно живым умом.
Это была любовь, основанная на самом глубоком взаимном пони-
мании. Из писем, которые Дидро писал к своей подруге, сохрани-
лась только небольшая часть (от 1759—1774 годов): 139 писем,
копии которых находятся в Петербурге. Этот отрывок искренней
долголетней переписки есть важнейший источник для знакомства
со всеми внутренними побуждениями и тайными отношениями за-
мечательной литературной и общественной жизни этого столетия.
Нигде так не отражается личность Дидро со всеми самыми глубо-
кими его ощущениями, мыслями и склонностями. Все знаменито-
сти дня, все движения этой оживленной эпохи проходят перед нами
в этой остроумной и веселой болтовне, и над всем этим господству-
ет благодатное теплое чувство человека, который уверен, что близ-
кое ему сердце понимает и любит его, будет ли он говорить важные
вещи или пустяки.
Между тем Дидро сознал всю свою литературную силу. От пере-
водов он перешел к самостоятельным трудам. К своей французской
переработке Essai sur le merite et la vertu Шафтсбери он присоединил
ряд примечаний (1745), и затем с удивительной быстротой следо-
вали одно за другим: Pensees philosophiques (1746), Bijoux indiscrets
(1748), Lettre sur les aveugles (1749), Sur les sourds-muets (1751),
и Pensees sur interpretation de la nature (1754), не упоминая дру-
гих менее известных сочинений. Вскоре, по своему направлению,
которое заключало в себе, открытые нападения на существующий
порядок вещей, Дидро сделался подозрителен правительству. Уже
в 1749 один духовный его прихода донес на него, как на человека
безбожного, который пишет опасные книги. В 1749 он заплатил
за свою смелость ста днями заключения в Венсенне; но мужество
его не было сломлено.
В 1745 начата была обширная «Энциклопедия». Дидро около
двадцати лет работал над этим произведением: его не утомлял ни-
какой труд, не пугало никакое преследование. На нем лежала вся
несказанная тягость редакции, беспрестанная борьба с сотрудни-
ками, которые боялись смелости предприятия, борьба с книгопро-
давцами, которые из трусливого благоразумия уродовали доставлен-
ные рукописи, борьба с духовенством и правительством, которые
раздражали и теснили его и грозили ему тюрьмой; и при всем том
он занимался обработкой подробностей с таким усердием, которое
будет вечным свидетельством его любви к истине и его неутомимой
любознательности. Чтобы удовлетворительно выполнить описание
ремесел и промыслов, он проводит целые дни в мастерских, рас-
сматривает внимательно машины, старается усвоить себе разные
приемы, везде вникает и наблюдает. Вместе с тем, в 1757 и 1758,
следовательно в самое занятое время, он пишет свои драмы, кото-
рые, как бы ни было сомнительно их поэтическое достоинство, за-
257
мечательны, однако, в высшей степени, потому что они самобытно
и своеобразно разрывают со всем прошедшим французской драмы
и стремятся свести ее на более естественную дорогу. Точно также
с 1759 он правильно каждые два года пишет «Салон». Длинный ряд
этих «Салонов» представляет описание и критику господствовав-
шего искусства, и прибавленные к ним подробные исследования
о сущности и цели образовательных искусств. К тому же времени
(1761) относятся физические и математические статьи, романы La
Religieuse (1760) и Le neveu de Rameau (1762), а в 1769, как видно
из писем к т-11е Волан (11 сентября 1769 г.), являются его важней-
шее философское сочинение, «Диалог с д’Аламбером», общий обзор
и завершение материалистической системы Дидро. И последнее де-
сятилетие его жизни было не менее плодовито.
Таким образом Дидро, несомненно, стоял во главе новой шко-
лы. Вместе с Вольтером он был самым прославленным писателем
Франции. Чем сильнее преследовала его одна партия, тем больше
сочувствия находил он в другой. В 1762 он получил от императри-
цы Екатерины предложение докончить «Энциклопедию» в Петер-
бурге. «Мне предлагают, — писал он к своей подруге (3 октября
1762 г.), — полную свободу, покровительство, почести, деньги, бле-
стящее положение. Что скажете вы на это? Во Франции, в стране
образованности, науки, искусства, хорошего вкуса, философии, нас
преследуют; а там, в варварских и ледяных пустынях севера, нам
дружески протягивают руку?» Дидро должен был отказаться, пото-
му что «Энциклопедия» составляла собственность книгопродавца.
Императрица нашла другой способ выразить Дидро свое располо-
жение. Чтобы обеспечить приданое своей дочери, Дидро хотел про-
дать свою библиотеку. Императрица, извещенная об этом Гриммом
и русским посланником в Париже, князем Голицыным (1765), ку-
пила ее за пятнадцать тысяч ливров, но с тем условием, чтобы Ди-
дро удержал ее на всю жизнь и принял жалованье в тысячу ливров
в качестве библиотекаря; два года спустя она велела заплатить ему
это жалованье за пятьдесят лет вперед. «Теперь я обязан честью, —
пишет Дидро шутя, — прожить еще пятьдесят лет». В 1767 после-
довало новое приглашение. Наконец, в 1773 Дидро согласился.
В сентябре, после путешествия, прерванного болезнью, он прибыл
в Петербург. Личная встреча только увеличила взаимное уважение.
«Я вижу его и Гримма очень часто, — писала императрица Вольтеру
(7 января 1774 г.), — нашим беседам нет конца; у него неистощи-
мая фантазия, я считаю его одним из необыкновенных людей, ка-
кие только были на свете». И через несколько дней она прибавляет:
«1а trempe de son coeur devrait etre celle de tous les hommes»1. Дидро
1 Закалка (характер) его сердца должна быть такой же, как и у других людей
(букв., фр.). —Прим. изд.
258
пишет с своей стороны к m-lle Волан (15 июня 1774 г.): «Кабинет
императрицы был открыт для меня каждый день от трех до пяти,
часто даже до шести часов; я входил, меня приглашали садиться,
и я болтал с своей обыкновенной необузданностью; уходя, я каж-
дый раз должен был говорить самому себе, что если я имел душу
раба в стране свободных людей, я чувствовал в себе душу свобод-
ного человека в стране, которую называют страной рабов». Дидро
предпринял для императрицы несколько записок, о вопросах поли-
тики и высшего образования, которые занимали его в самом Пе-
тербурге и на обратном пути, именно во время долгого пребыва-
ния в Гааге. О своих беседах с императрицей он вел род протокола,
автограф которого находится в частной императорской библиотеке
в Петербурге и о котором М. Турне напечатал пока только рубрики
(Archives des missions scientifiques, 1885, стр. 467).
В феврале 1774 Дидро отправился в обратный путь1. Несмотря
на то, что он имел настоятельное приглашение из Берлина, он
не посетил резиденции Фридриха II. Он вернулся через Голландию.
Его Voyage en Hollande показывает, как Дидро везде внимательно
и всесторонне прислушивается и наблюдает. Полное собрание его
сочинений, какое он предполагал с одним амстердамским книго-
продавцем, осталось, к сожалению, только проектом.
В октябре 1774 г. Дидро прибыл в Париж. Ему был теперь шесть-
десят один год. Но и теперь он работал неутомимо. К 1773 отно-
сится его роман Jacques le fataliste, Paradoxe sur le comedien, новая
обработка Neveu de Rameau; к следующим годам: Refutation d’un
ouvrage d’Helvetius intitule: L’Homme (1774), составление Elements
de physiologic (1774—1780), Essai sur les regnes de Claude et de Neron
(1778—1782), драма Est-il bon? est-il mechant? (1781).
19 февраля 1784 г. Дидро получил сильное кровоизлияние, как
симптом тяжелой болезни легких. Через несколько дней присоеди-
нился удар. Он угасал несколько месяцев. Вечером 30 июля он еще
беседовал с своими друзьями. «Первый шаг к философии есть не-
верие», — сказал он при этом, и, по словам его дочери, это были
последние слова, какие она слышала при его кончине. На следую-
щий день во время завтрака новый удар положил конец его жизни.
1 августа он был похоронен в церкви St.-Roche. Русская императри-
ца дала его вдове пожизненное пособие. Его приятельница, m-lle
Волан, умерла за несколько месяцев перед ним.
Как проста была его внешняя биография, так полна брожением
и бурями была его внутренняя жизнь.
Нам осталось одно небольшое воспоминание о Дидро, которое
Гримм в ноябре 1786 приложил к своей «Литературной Перепи-
1 Об этом эпизоде жизни Дидро русский читатель найдет подробный рассказ
в книге В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге». СПб. 1884. — Прим. пер.
259
ске», но которое было написано вероятно Генрихом Мейстером,
родом из Цюриха, жившим в кружках Дидро и Гримма. Ассезй
поставил его во главе своего издания Дидро. Это воспоминание
говорит: «Если бы художник захотел искать идеала головы Пла-
тона или Аристотеля, он едва ли бы нашел более достойную го-
лову, чем голова Дидро. Его широкий, высокий, свободный, легко
округленный лоб носил явную печать неограниченного, светлого
и плодотворного ума. Нос его имел чрезвычайно мужественную
красоту; верхний очерк глаза был полон нежности; выражение
его глаз, обыкновенно мягкое и исполненное чувства, в возбуж-
денном состоянии было истинно молниеносное, его рот представ-
лял привлекательную смесь тонкости, приятности и доброты. Как
ни был он небрежен в своих приемах, но в его манере держать го-
лову, особенно в живом разговоре, было много благородства, силы
и достоинства. Одушевление, казалось, было самым естественным
настроением его души и всей его физиономии. В холодном настро-
ении или в безучастном спокойствии в нем легко можно было бы
заметить что-то неловкое, ребяческое, даже принужденное; Дидро
был настоящим Дидро только тогда, когда им овладевало могуще-
ство мыслей». В том же роде говорит и сам Дидро, когда описыва-
ет в Салоне 1767 г. свой портрет, написанный Мишелем ван Лоо.
«Не подумайте, мои дети, — говорит он, — что этот портрет —
я сам. В один и тот же день у меня была сотня различных физио-
номий, смотря по предмету, который меня занимал; я был весел,
печален, мечтателен, нежен, горяч, страстен, одушевлен, но я ни-
когда не был таков, каким вы видите меня здесь». Этой живости
его личного характера совершенно соответствует то, что не раз по-
вторяют в своих записках Мармонтель и Морелле, — именно, что
кто знает Дидро только по его сочинениям, тот знает его только
наполовину. В нем все кипело и искрилось; могущество его речи
было неистощимо, невозможно было устоять перед удивительным
волшебством его разговора. Рамдор, тонкий наблюдатель, говорит
в «Berliner Monatsschrift» 1790 (т. 16, стр. 70), что он видел только
последние искры, последнее дыхание вулкана, но что этот вулкан
был вероятно несравненный, когда он бил полным пламенем. Мы
угадываем отчасти это волшебство по тому удовольствию, кото-
рое мы ощущаем, вслушиваясь в детски беззаботную, остроумную,
завлекательную болтовню, в блестящий и все-таки теплый юмор
его писем к m-lle Волан. Это тем решительнее обнаруживает вну-
тренние достоинства его натуры, что Дидро, несмотря на эти бле-
стящие качества, относительно очень мало вмешивался в шумную
суматоху салонной жизни. М-11е л’Эспинас говорит в своем письме
от 24 июня 1773 г., что Дидро — человек необыкновенный, кото-
рый не идет к обществу, но должен бы быть главой секты или гре-
ческим философом, дающим поучения юношеству.
260
Такого же горячего, одушевленного, но твердого свойства — ли-
тературная деятельность Дидро. Он отличался по истине удивитель-
ной многосторонностью и подвижностью. Он думает и пишет обо
всех самых глубоких вопросах метафизики, психологии, нравствен-
ного учения, политики, пишет об искусстве, ремеслах и торговле;
он занимается поэзией и пишет романы, очерки, драмы, углубля-
ется в математику, историю, историю искусства и литературы; сло-
вом, он занимается всем и всему предается с одинаковым усердием.
«Мне нужно, — говорит Рейналь, — несколько сильных прибавок
из общих философских взглядов, чтобы дать больше важности
и содержания моей истории индейской торговли»; Дидро берется
за перо и пишет больше третьей доли целого сочинения. Гримму
нужно написать о большой публичной художественной выставке,
но у него нет никакого знания дела и притом он хочет уехать; Ди-
дро помогает ему, — и вместо обещанных нескольких листков пи-
шет замечательную книгу, может быть, самое совершенное из все-
го, им написанного. Мысль его всегда готова. Стиль его есть стиль
остроумного, увлекаемого минутой импровизатора; когда идет речь
о великих идеях, он силен и полон жизненности, могуществен и не-
удержим, как бурный горный ручей, — но в предметах, не вполне
овладевающих его существом, он часто неровен, растянут и болт-
лив. Как в одной статье своих «Салонов» Дидро высказывает свое ре-
шительное предпочтение в пользу эскиза, потому что эскиз свежее
и в нем больше души, чем в исполненной картине, — так и самые
сочинения его всегда бывают только смело набросанным эскизом,
для более изящной отделки которого у него нет ни времени, ни охо-
ты. Мармонтель рассказывает, что Дидро сам говаривал часто, что
он может написать несколько хороших страниц, но не может напи-
сать хорошей книги; ему недостает строгой выдержанности и об-
думанной выработки основного плана. Чрезвычайно прискорбные
преувеличения и поверхностность были неизбежными следствиями
этой беспокойной и бурной поспешности.
Но эта многосторонность и неутомимое расширение мысли
были у Дидро не пустой и внутренне бессильной разбросанностью,
которая все предметы считает за удобное средство — блестящим
образом выставить свое любезное, остроумное «я», но горячей
жаждой всестороннего знания и деятельности. Пером его водит
высокое одушевление; поэтому друзья нередко сравнивают его
с Платоном — сравнение, на которое намекает в своих письмах
Вольтер шутливой перестановкой букв «Tonpla». Всеми его мысля-
ми и стремлениями руководит самый честный и реально серьез-
ный интерес; поэтому Гёте, в одиннадцатой книге своей «Поэзии
и Правды», назвал Дидро самым немецким из французских писате-
лей. За исключением его неприятно легкомысленного юношеского
романа «Bijoux indiscrets», написанного им, когда он был поклон-
261
ником г-жи Пюизье, все сочинения Дидро, как ни разнообразны
и как ни опрометчивы в частностях, связаны внутренним един-
ством и общностью цели. Первые сочинения его еще отыскива-
ют ощупью прочную точку зрения; но раз она была найдена, они
стараются в самых разнообразных видах перенести ее следствия
и требования равномерно на все области жизни. Везде неизменное
стремление к простой, непосредственной естественности и реализ-
му. В этом образе мыслей и в этих убеждениях коренится его фило-
софский взгляд, возвещающий самостоятельность и полновластие
природы; в этом образе мыслей коренится его мораль и политиче-
ские мнения, которые проповедуют независимость нравственности
от религии и в вопросе о государстве уже пролагают путь учению
о безусловной «верховной власти народа»; в этом образе мыслей
коренятся и его художественные стремления и взгляды, грозившие
французскому классицизму.
Кто же станет строго осуждать Дидро, как человека? В Германии
вообще и против Дидро, и против Вольтера постоянно слышатся са-
мые неразумные ругательства и осуждения. Нужно было бы только
вспомнить, что почти все судят о них только по слухам, и что люди,
как Лессинг, Гёте, Якоби, Фридрих Шлегель, Фарнхаген, Розенкранц,
сами знающие дело, никогда не соглашались с этим унижением их
имен. Конечно, Дидро был резкая и горячая натура, и его чувствен-
ности благоприятствовало легкомыслие и безнравственность его
времени. Но при всем том, когда в своих сочинениях он так много
говорит о добродетели и чистой человечности, с его стороны это
вовсе не было ложью. Его одушевляет самая неистребимая любовь
к людям; ничто, даже самые горькие испытания, не могут отвратить
его от этой любви.
Нибур сравнивает Дидро с Петронием (Kleine Sehr., стр. 356):
он называет обоих весьма благородными, чрезвычайно честными
и доброжелательными людьми, которые в бесстыдную эпоху дове-
дены были до цинизма своим глубоким презрением к господствую-
щей испорченности. «Если бы Дидро жил теперь, — прибавляет
Нибур, — и если бы Петроний жил хоть в четвертом веке вместо
третьего, то им было бы противно рисовать скандалезные вещи,
и поводов к этому было бы несравненно меньше». Названное нами
выше воспоминание о Дидро Мейстера метко говорит, что хотя Ди-
дро был страстным предводителем материализма, но что во всем
характере своих действий и ощущений он был самым явным иде-
алистом (I, стр. XIX). Совершенно противоположный идеалистиче-
скому, но желчному Руссо, он был всегда открыт и весел, и, понимая
мир с любовью, он всегда удовлетворялся им. «Я читаю людей, как
читаю книги, — писал он однажды к своей подруге Софи Волан, —
я отягощаю свою память только вещами, которые хороши и достой-
ны подражания».
262
С своими силами, временем и деньгами Дидро был бескорыстен
и готов на жертву даже до слабости. Он щедро раздает из богатства
своих идей и своей рабочей силы своим друзьям Руссо, Гольбаху,
Гельвецию. «On ne me vole point та vie, — говорил он обыкновен-
но, — je la donne»1 (I, стр. XVI, LI). Множеству других писателей
он подавал руку помощи. Гримм сохранил нам весьма характери-
стичное мнение Дидро, что дело вовсе не в том, была ли сделана
вещь им или кем-нибудь другим, а только в том, чтобы она вооб-
ще и хорошо была сделана. Он никогда не мог отказать кому бы
то ни было. Он мирил семейные ссоры, писал просительные письма
для бедняков и вступался за них; однажды написал даже к одному
пасквилю, написанному на него самого, посвящение, которое адре-
совалось к благочестивому герцогу Орлеанскому и которое доста-
вило голодному пасквилянту двадцать пять золотых. Даже самый
грубый обман имел успех над его добродушием. В этом роде рас-
сказываются самые забавные случаи. Так, например, Дидро четыре
года давал пособия человеку, о котором узнал наконец, что это был
полицейский шпион.
У Дидро было также весьма развито чувство дружбы. Когда
в 1762 г. Гримму грозила слепота, Дидро писал к m-lle Волан эти
простые великие слова: «Et d’avance je vous previens, que son baton
et son chien sont tout prets»2. Он оставался верен и изменившим;
только крайнее злоречие и вызовы Руссо могли побудить его к от-
пору. Много раз он собирался принять особенную осторожность
против своих простодушных увлечений. Автор упомянутого воспо-
минания рассказывает, что, когда Дидро думал, что имеет весьма
серьезную причину к ненависти, он положил вносить эти случаи
в особенный, нарочно для этой цели приготовленный записной
листок; «но этот листок, — прибавляет рассказчик, — лежал без
употребления в уголке его письменного стола; раз только он вынул
его в моем присутствии, чтобы объяснить мне несправедливость
к нему Руссо».
И — что имеет особенную цену в таком ревностном главе пар-
тии — Дидро отличался большой терпимостью к людям других
мнений. Он работал для того, чтобы сделать всеобщим, мировым
то учение, в котором он находил истину и счастье человечества;
но, говоря его собственными выражениями, он никогда не думал
о том, чтобы отнять костыль у тех, кто в нем нуждался. Его ближай-
шая обстановка состояла из людей верующих, — таковы были его
отец, мать, брат, сестра, жена; он дозволил также, чтобы и его дочь
воспитана была в религиозных правилах. Только там, где он видел
ненавистную исключительность, он противопоставлял ей такую же
исключительность и с своей стороны.
1 Они не крадут мою жизнь, я отдаю ее (фр.). — Прим. изд.
2 Заранее предупреждаю, что его палка с собакой уже готовы (фр.). —Прим. изд.
263
Кто из знающих знаменитый разговор, Дидро с племянником
Рамо, не вспомнит невольно тех слов, в которых очевидно образцом
был сам Дидро? Вот эти слова: «Я не презираю удовольствия чувств,
у меня также есть нёбо, которому нравится тонкое кушанье и от-
личное вино; у меня есть сердце и глаза, я могу обладать красивой
женщиной, обнять ее, прижать мои уста к ее устам, наслаждаться
ее взглядами и таять от радости на ее груди. Мне нравится иной раз
и веселый вечер с друзьями, даже вечер распущенный; но не могу
скрыть от вас, что для меня бесконечно слаще помочь бедняку, кон-
чить щекотливое дело, дать умный совет, прочесть приятную книгу,
сделать прогулку с близким другом или подругой, провести поучи-
тельные часы с своими детьми, написать хорошую страницу и ска-
зать любимой женщине нежные, мягкие вещи, за которые я заслу-
жу себе объятия. Я знаю такие дела, что я отдал бы все, что имею,
чтобы иметь возможность назвать эти дела своими. Магомет есть
превосходное произведение; но я желал бы лучше восстановить па-
мять Каласа».
2. Дидро как философ
Дидро есть глава материалистской школы. Он создал ее во Фран-
ции, он руководит и хранит ее: сочинения его похожи на команду
армией. Поэтому развитие, появление и возрастание Дидро есть
развитие, появление и возрастание целого, богатого последствия-
ми направления.
В философском развитии Дидро ясно различаются три различ-
ные ступени. Обыкновенно несправедливо думают, что образ мыс-
лей Дидро с самого начала является уже готовым и законченным.
Если мы будем рассматривать его сочинения в их хронологическом
порядке, то мы неизбежно заметим, что, напротив, одна точка зре-
ния мало-помалу и последовательно заменяет другую. Но при этом
мы принимаем в расчет исключительно его самостоятельные сочи-
нения. В статьях «Энциклопедии» он соглашается не раз на смяг-
чения и уступки, которые были чужды его собственным взглядам
и вынуждались только внешними обстоятельствами.
Сначала Дидро твердо держится откровения, потом он делается
деистом, наконец решительным атеистом. Надобно заметить еще,
что сочинения, вышедшие при его жизни, гораздо осторожнее и бо-
язливее тех, которые были оставлены им неизданными и напечата-
ны только по его смерти.
Первую ступень Дидро характеризует «Essai sur le merite et la ver-
tu», вышедшее в 1745.
Это есть вольная передача сочинения Шафтсбери с тем же загла-
вием. «Я несколько раз перечитал подлинник, — говорит Дидро, —
наполнился его духом; потом я как будто закрыл книгу и взялся
за перо». Мысль Шафтсбери, что основные понятия нравственно-
264
сти составляют нечто существенно независимое от веры, опираю-
щееся на разумном человеческом познании, и что истинной до-
бродетели наносится ущерб обычными представлениями о радости
рая и муках ада, — эта мысль вполне удержана в передаче Дидро
и не опровергается в его объяснительных примечаниях. Правда,
в предисловии он более настойчиво, чем английский писатель,
говорит о своей вере в Бога и откровенную религию, причем его
искренность, кажется, не стоит вне сомнений. «Цель этого сочине-
ния, — говорит он уже в предисловии, — показать, что добродетель
неразрывно связана с верой в Бога, и что временное счастье челове-
ка также нераздельно зависит от его добродетели; нет добродетели
без живой веры, нет счастья без добродетели». «Добродетелен тот,
кто без расчета низких побуждений, без надежды на награду и без
страха наказания, сводит все свои склонности и страсти к обще-
му благу своего рода... Этой добродетели благоприятствует только
теизм». Но теизм, по взгляду Дидро, есть философская теология,
которая основывается на откровении, и его не должно смешивать
с нескладным, отрицающим откровение деизмом Тиндала и Толан-
да. «Атеисты, которые хвалятся своей честностью, и дурные люди,
которые хвалятся своим счастьем, — вот мои противники».
Но Дидро недолго остается на этом образе мыслей. Пришла вто-
рая ступень развития, исследующая религия разума.
Уже весной 1746 явились Pensees philosophiques. Они произошли
из глубоких воздействий Бейля. Теист сделался деистом.
Это ряд в высшей степени умных размышлений, которые тем
вернее достигают своей цели, что каждое из них есть эпиграм-
ма. Г-жа Вандель рассказывает, что Дидро написал эти размышле-
ния в три дня, от великой пятницы до Пасхи; если это так, то они
были без сомнения зрелым плодом долгой, тихо созревавшей
подготовки. 7 июля 1746 г. книга была сожжена по приказанию
парламента. Но тотчас после этого она была издана снова и тайно
распространена.
Эти «Философские мысли» очевидно направлены против рели-
гиозных мнений Паскаля, имя которого здесь часто упоминается.
Мрачный янсенизм проповедовал в нравственности монастырское
самоотрицание, а в деле веры безусловное подчинение под прину-
дительную власть догмата. Дидро старается подкопать основы этого
взгляда. Положения Дидро, по-видимому, отдельные и бессвязные,
распадаются на две части: с одной стороны, это крик отчаяния угне-
тенной, жаждущей света и воздуха человеческой природы; с другой,
это пламенная защита свободного, избавленного от господства ав-
торитета, мышления. Но следует, однако, положительно заметить,
что Дидро и на этой точке зрения считает еще вполне несомнен-
ным, что строгое и разумное мышление так же, как вера, твердо
и ненарушимо связаны с признанием внемирового и личного Бога.
265
Здесь не однажды встречаются самые резкие выходки против
атеистов. Pensee 20, в некотором сокращении, говорит: «“Я спросил
атеиста, есть ли он мыслящее существо?” — “Как ты можешь со-
мневаться в этом”, — отвечал он самодовольно. Я: “Почему же нет?
Что же убедит меня в этом? Движение и голос? Они есть и у жи-
вотного, ведь попугай может даже и говорить”. Он: “Дело не в дви-
жении и голосе, а в связи и последовательности мыслей: если бы
попугай мог отвечать на все, то он был бы, конечно, существом мыс-
лящим. Но, — продолжал он, — какую связь имеет этот вопрос с бы-
тием Бога? Если бы ты даже доказал мне, что, быть может, человек
есть только автомат, разве я буду тогда больше склонен признавать
в природе сознательный разум?” Я: “Именно так. Ты соглашаешься,
что было бы безумно отказывать тебе и тебе подобным в способ-
ности мыслить?” Он: “Без сомнения; но что же из этого следует?”
Я: “Следует то, что если вселенная, если каждое крыло бабочки дает
мне в тысячу раз более определенные доказательства сознательно-
го творящего разума, чем какие ты можешь дать доказательства
о существовании способности мыслить, — то было бы в тысячу раз
безумнее отвергать бытие Бога, чем отвергать то, что ты мыслишь.
Разве божество не так же неотрицаемо в глазе червя, как способ-
ность мышления в произведениях Ньютона? Разве творение мира
менее ясно свидетельствует о сознательном разуме, чем понимание
мира? На таких простых размышлениях я гораздо охотнее постраи-
ваю бытие Бога, чем на том сухом и искусственном сплетении идей,
которое не открывает истины и только дает ей признаки лжи”».
В том же духе написаны «Additions aux Pensees philosophiques»; они
вероятно должны были служить ответом на возражения противни-
ков. Они резче и определеннее направляют нападения против са-
мых положений христианства; здесь проглядывает даже и поздней-
ший атеистический образ мыслей Дидро, с той разницей только, что
это дополнение определеннее направляет свои нападения против
самых положений христианства.
Таково же и Introduction aux grands principes ou Reception d’un
philosophe (II, 75 и след.).
Один духовный остроумно осмеял учения философов в разгово-
ре, составленном в подражание вступительной формуле франкмасо-
нов. Дидро воспользовался этим случаем, чтобы в поучение одному,
клерикально настроенному знакомцу серьезно разъяснить взгляды
этих философов. Любопытно вкратце сопоставить пародированные
обороты духовного и деистическую программу Дидро. Вопросы с от-
носящимися к ним ответами таковы:
В. Какой ты религии? Ответ пародии: Родители сделали меня като-
ликом, затем я сделался протестантом, теперь я хочу быть филосо-
фом. Ответ Дидро: Я следую той религии, которую нахожу написан-
266
ной в глубине, моего сердца; той, которая приносит Высшему Суще-
ству самое чистое и достойное почитание; той, которая не ограничена
известными временами и известными местами, но принадлежит всем
временам и всем местам; той, которая руководила Сократа и Аристида
и которая будет продолжаться вечно, потому что ее основной закон
покоится в человеческом сердце, между тем как другие религии пре-
ходящи, как учреждения человеческие, приносимые и опять уносимые
потоком столетий.
В. Молодой человек, во что ты веришь? Ответ пародии: Я не верю
ни во что, чтд не может быть доказано. Я не верю в прошедшее, потому
что его больше нет и, следовательно, оно не может быть доказано;
я не верю в будущее, потому что его еще нет и, следовательно, оно
не может быть доказано; я не верю в настоящее, потому что оно про-
шло, когда я его доказываю. Я верю только в то, что доставляет мне удо-
вольствие; я не верю в свидетельство людей, если оно мне противоре-
чит; я не верю в свидетельство Бога, потому что оно приходит ко мне
через людей. Ответ Дидро: Я верю во все, что доказано; но не все дока-
зано в одинаковой степени. Математическое доказательство выше,
чем моральное, моральное выше исторического. От извращения этого
порядка произошли все ошибки, тяготеющие над миром. Ложные рели-
гии распространились только потому, что историческое доказательство
поставлено было выше всех остальных. Если свидетельство людей должно
предпочесть свидетельству разума, то это открывает дорогу всякой неле-
пости и мир делается школой лжи. Я верю в свидетельство добрых и про-
свещенных людей, но есть столько людей недостойных и невежествен-
ных; я верю в свидетельство Бога, но Бог говорит только через свои
произведения. Как буду я верить, что Бог говорил непосредственно
к Зороастру, Ною, Моисею, Магомету? Есть столько людей, которые хва-
лятся такими откровениями, и одно противоречит другому. Разве недо-
статочно голоса моей совести? Через него Бог говорит одним языком
ко всем людям.
В. Что думаешь ты о душе? Ответ пародии: Она не может быть ничем
иным, как понятием, совмещающим наши чувственные впечатления.
Ответ Дидро: я не говорю о том, чего не знаю.
В. А о бессмертии? Ответ пародии: Это только гипотеза. Ответ
Дидро: Так как я не знаю сущности души, то как могу я знать, бес-
смертна ли она? Я знаю, что я имею начало; я должен, следовательно,
принять, что буду иметь и конец. Тем не менее мысль об уничтожении
приводит меня в трепет; поэтому я возвышаю мой дух с мольбой к Выс-
шему Существу, чтобы оно не допустило меня погибнуть после того, как
я видел красоту его дел.
В. Обещаешь ли ты признавать разум, как руководящую власть
во всем, чтд Высшее Существо могло и должно было делать? Ответ паро-
дии: Обещаю. Ответ Дидро: Бог может все, хотя он не может изменить
сущности вещей. Но отсюда не следует, что Бог сделал все, что он мог сде-
лать. Если испытывающая мысль людей отказывает Богу во многом, чтд
приписывает ему откровение, то человек уменьшает этим не могущество
Бога, а только свидетельство людей.
267
Но и деистическое воззрение было у Дидро только быстро пре-
ходящее. Уже рассмотренное здесь Introduction aux grands principes,
которое совсем также могло бы быть написано Вольтером, Дидро
составил в то время (около 1763 г.), когда он уже давно покинул
деизм и такие учения излагал еще лишь экзотерически для «введе-
ния» новичков.
Вскоре после Pensees philosophiques Дидро вступил на третью сту-
пень развития и обратился к атеизму, который он только что так
горячо опровергал. Он отвергает с этих пор личное божество и лич-
ное бессмертие и усердно старается доказать и распространить этот
свой новый образ мыслей.
Сначала много сочинений, в которых можно видеть нереши-
тельную борьбу.
Начинающийся поворот заключается в небольшом сочинении,
которое относится к 1747 году, «Прогулка скептика» (Promenade
d’un sceptique) (I, 177). Из конца предисловия его видно, что Дидро
хотел напечатать его в Пруссии, «в стране короля-философа». Но,
вероятно, друзья подняли шум слишком рано. Внезапно явился по-
лицейский чиновник, сделал обыск и взял это сочинение с собой.
Оно было напечатано только в 1831, в Memoires, correspondance efou-
vrages inedits de Diderot.
Здесь Дидро бросается во все пропасти неудержимого сомнения.
Сначала он пародирует ветхий и новый завет и построенную на них
христианскую церковь, затем различные наставления важнейших
философских школ и наконец резко отвергает даже веру в прочность
всего высокого и благородного; истинно действительным и господ-
ствующим началом являются только наслаждение и себялюбие. Это
сочинение есть самое безотрадное из всего, чтд когда-либо писал
Дидро; даже форма небрежна. Расположение и стиль однообразны;
нет живости и обилия образов, в нем Дидро вообще был таким уди-
вительным мастером.
Более отрадны «Письмо о Слепых» (1749) и «Письмо о Глухоне-
мых» (1751). Первая из этих статей есть, в сущности, исследование
о физиологии чувств, вторая — о происхождении и образовании
языка и о вопросах эстетики, и Лессинг почерпнул отсюда различ-
ные возбуждения.
Между тем явились Histoire naturelle de Рате (1745) и L’homme
machine (1747) Ла Меттри, и их влияние на постепенное изменение
взглядов Дидро можно увидеть тем яснее, что и эти сочинения уже
занимаются психологией слепых и глухонемых. В обоих письмах
Дидро много раз проскальзывает мысль, что вера в Бога есть боль-
ше дело внешнего и случайного соглашения, чем действительно
внутренняя необходимость. Нападения направлены именно против
так называемого телеологического доказательства. Николас Саун-
дерсон, слепой, умерший в 1739 в Кембридже профессором матема-
268
тики и физики, оспаривает тот взгляд, который от порядка и целе-
сообразности мира заключает о существовании мировой причины,
творящей по сознательным целям и намерениям, и Саундерсон
старается объяснить природу просто из ее материи и присущего ей
движения. Но здесь Дидро еще очень боязлив. Саундерсон умирает
у него не атеистом, но теистом, и в заключение Дидро еще положи-
тельно старается обеспечить себя от всякого неприятного подозре-
ния, — предосторожность, не принесшая, впрочем, много пользы,
потому что из-за этого сочинения Дидро должен был отправиться
в Венсенскую тюрьму.
И на той же боязливой точке зрения остается еще Apologie de Vab-
Ъё de Prades, 1752.
Но каким образом такой ум, как Дидро, мог долго выносить по-
добное беспомощное колебание? В одном позднейшем сочинении,
«Разговоре с д’Аламбером», Дидро сравнивает скептицизм с Бурида-
новым ослом, который, будучи поставлен между двумя одинаковы-
ми связками сена, умирал с голоду, а не мог решить, за какую связку
прежде взяться.
Твердо и определенно выступает Дидро в следующем сочинении,
в Pensees sur interpretation de la nature.
Это есть собственно его исповедание или, как выражается
Гримм, руководство нового образа мыслей, который скоро стал го-
сподствующим.
Это важное сочинение вышло в 1754. Тем временем Дидро по по-
воду «Энциклопедии» познакомился с Бэконам и особенно с Лейб-
ницем и Вольфом. Одно сочинение Мопертюи о сущности и свой-
ствах природы (De uni versait naturae systemate, 1751), изданное под
именем эрлангенского доктора Баумана, по собственному призна-
нию Дидро, также имело на него значительное влияние. В этом со-
чинении был сделан опыт положить в основу объяснения природы
гипотезу атомов ощущающих, снабженных стремлением, отвраще-
нием, памятью и умом.
Все эти возбуждения вели его к более и более серьезному раз-
мышлению о внутренней законности и самостоятельности жизни
природы. По словам его, он хотел удалиться от всех метафизиче-
ских тонкостей и прислушиваться только к голосу самого верного
наблюдения природы. Поэтому и здесь, и еще сильнее прежнего,
опровергает он телеологическое доказательство, так как оно всегда
спрашивает только «почему», а не «как». От этого отрицания ста-
рого, Дидро переходит к постройке нового. Это новое есть то уче-
ние об атомах, которого он держался всю свою жизнь, несмотря
на все его внутренние неясности, противоречия и преувеличения.
Дидро делает вид, как будто он опровергал гипотезу Мопертюи
вследствие ее опасных, вредных для веры последствий; но на деле
он сам принимает ее в несколько видоизмененной форме — pour la
269
pousser aussi loin qu’elle pouvait alter1, как выражается его друг Гримм
в Лит. Переписке, в мае 1754.
Это атомистическое учение издавна привыкли считать самым
отъявленным материализмом. Но мы не должны при этом забы-
вать, что в этих атомах Дидро совершенно так же, как в монадах
Лейбница, присутствует идеалистическая наклонность. Материя
вполне покоится в себе самой; она вечна без начала и конца; при
ней немыслим никакой вне и над ней стоящий создатель или храни-
тель; между мировой материей и духом нет никакого различия; мир
вполне един, без внутреннего раздвоения и различия. Но смещение
и взаимное проникновение атомов нигде не бывает просто случай-
ным и чисто внешним; оно бывает делом внутренней наклонности
и влечения; материя вполне одухотворена и способна к ощуще-
нию; по выражению Дидро, она есть всеобщая чувствительность
(sensibilite). Самые малейшие атомы являются одушевленными и де-
ятельными, хотя, конечно, эта деятельность и ощущение на ниж-
них ступенях развития еще связаны. Через эту свойственную им
деятельность и ощущение атомы восходят от низшего к высшему
и от высшего к низшему, развиваясь в постоянном брожении.
Доказательств Дидро не дает никаких; везде одни смелые до-
гадки и предположения. Ход мыслей начинает прежде всего
(§ 12) с единства и упрямого постоянства природы. Это единство
и постоянство происходит оттого, что самая малейшая часть ма-
терии (molecule) имеет элементарную чувствительность, inquietude
automate, и, побуждаемая ей, движется и старается занять все бо-
лее соответствующее ей положение, сотте il arrive aux animaux de
s’agiter dans le sommeil, lorsque I’usage de presque toutes leurs facultes est
suspendu, jusqu’ a ce qu’ ils aient trouve la disposition la plus convenable
au repos2 (§ 51). Следовательно, и самый мир, как общее соедине-
ние всех этих частиц материи в их разнообразнейших изменениях
и формах бытия, также мыслит и ощущает, т. е. мир имеет мировую
душу. Таким образом Дидро достигает до последнего заключения,
которое говорит следующим образом: «Если вера учит нас, как все
живые существа вышли из руки Творца, то философ, предоставлен-
ный своим собственным догадкам, должен был бы скорее составить
себе убеждение, что природа (animalite) от века имела свои осо-
бенные элементы, которые соединялись между собой, потому что
это соединение лежало в их возможности; что зародыш, происшед-
ший из этих элементов, прошел потом через множество образова-
ний и форм, и, наконец, переходя различные ступени, возвысился
до движения, ощущения, мышления, страсти, до языка права, науки
1 Чтобы протолкнуть ее настолько, насколько возможно (фр.). —Прим. изд.
2 Как это бывает с животными, когда они проявляют беспокойство во сне, хотя
почти все их способности приостановлены, пока они не найдут наиболее подходя-
щее положение для отдыха (фр.). — Прим. изд.
270
и искусства, как некогда он, может быть, пройдет еще другие до сих
пор неизвестные развития».
Дидро придает наибольшее значение именно этому учению
и всеобщей самодеятельности и способности к ощущению всего те-
лесного или, употребляя его собственное выражение, этому учению
о всеобщей чувствительности. Если он говорит в предисловии к это-
му небольшому сочинению, что при таком учении ни Бог не унижа-
ется до природы, ни человек не унижается до машины, то это вовсе
не было лицемерной хитростью для устранения внешних нападок,
но преднамеренным указанием обширного значения его взгляда.
Все следующие сочинения Дидро представляют только дальней-
шее объяснение и развитие этого основного взгляда, на который
имела влияние книга Робине (Robinet) «De la nature», 1761. Достой-
ны внимания в этом отношении Principes philosophiques sur la matiere
et le mouvement, из 1770 г. (II, 64). И точно так же в «Reflexions sur
le livre de 1’Esprit» (II, 267) Дидро поздравляет в 1758 своего друга
Гельвеция, что он принял учение о всеобщей чувствительности, —
«учение, — прибавляет он, — которое прилично людям мыслящим
и против которого не может восставать суеверие, не впадая в боль-
шие затруднения».
Но самое обширное и самое смелое изложение этого учения
есть сочинение «Entretien entre d’Alembert et Diderot» и «Le Reve de
d’Alembert» (II, 105), написанное еще в 1769, но изданное только
в 1831 в четвертом томе «K/temoires, corresp. et ouvrages inedits».
Дело состоит сначала в разговоре между д’Аламбером и Дидро,
где последний подробно излагает свое учение об одушевленных и са-
модеятельных атомах. Д’Аламбер видит потом возбужденные в нем
мысли и представления во сне и невольно развивает их дальше. Его
подруга, m-lle л’Эспинас, встревоженная этими речами сонного, по-
сылает к их приятелю и домашнему врачу Бордё. Этот знаменитый
физиолог слушает речи спящего и делает их идею предметом самой
оживленной беседы с заботливой подругой, частью безусловно со-
глашаясь, частью поучительно развивая эту идею. Спящий в свою
очередь также слышит их речи, и таким образом начинается разго-
вор самого прелестного рода, который, хотя иногда и слишком пе-
реполнен неприличными резкостями, по своему драматизму и диа-
лектической тонкости напоминает диалоги Платона. Дидро говорит
в одном письме к m-lle Волан (11 сентября 1769 г.), что сначала он
хотел сделать представителями своих мыслей Демокрита, Гиппо-
крата и Левкиппа, но что потом он оставил этот план, потому что
требования вероятия поставили бы его в слишком тесные границы.
Как бы он мог приписать эту ощущающую жизненность вселенной,
которую он считал существенным основанием своего взгляда, —
тем простым атомистам греческой древности, которым эта идеали-
стическая черта была совершенно чужда?
271
В начале д’Аламбер высказывает свое сомнение во всеобщей
чувствительности. — В таком случае и камень должен бы был чув-
ствовать.
Дидро. Почему же нет? Чувствительность похожа на движение. Дви-
жение одинаково и в неподвижных, и в подвижных телах. Уничтожьте
препятствие, которое мешает местному передвижению неподвижных
тел, и тело переменит свое место. Отнимите прочь воздух, окружающий
этот огромный дубовый ствол, и вода, заключенная в нем, разрушит его
в тысячу обломков, когда он вдруг раздастся.
Д'Аламбер. Быть может. Но какая же связь между движением и чув-
ствительностью? Быть может, вы признаете деятельную и недеятельную
чувствительность, как есть живая и мертвая сила; живая, которая обна-
руживается перемещением, и мертвая, которая обнаруживается давле-
нием; — быть может, вы признаете деятельную чувствительность, которая
обнаруживается известного рода деятельностью, заметной в животном
и, может быть, в растении, и недеятельную чувствительность, в которой
можно убедиться при переходе в состояние деятельной чувствительности?
Дидро. Превосходно! Именно так!
Д'Аламбер. Таким образом неорганическая природа имеет только неде-
ятельную чувствительность; а человек, животное и даже растение, быть
может, одарены деятельной чувствительностью.
Дидро. Без сомнения, таким образом отличается кусок мрамора
от куска мяса. Но вы понимаете, что это не единственное различие?
Д'Аламбер. Конечно! Как ни сходны внешние формы человека и при-
роды, — резец даже самого искусного скульптора не в состоянии сделать
мясистой кожи. Я не понимаю, каким образом можно переносить тело
из состояния недеятельной чувствительности в состояние деятельной.
Дидро. Это явление случается, когда вы едите.
Д'Аламбер. Когда я ем?
Дидро. Да, потому что — что вы делаете, когда едите? Вы уничтожаете
препятствия, которые находит деятельная чувствительность питательных
веществ. Вы уподобляете их себе, вы делаете из них мясо, вы анимализи-
руете их, вы делаете их чувствительными. И что вы делаете таким обра-
зом над питательными веществами, то я сделаю, если мне захочется, над
мрамором:
Д'Аламбер. Каким образом?
Дидро. Я сделаю его съедомым.
Д'Аламбер. Съедомым? Я нахожу, что это нелегко.
Дидро. Я превращаю кусок мрамора в порошок. Когда он сделан нечув-
ствительной пылью, я мешаю эту пыль с черноземом или растительной
землей, перемешаю их вместе, поливаю смесь водой, даю ей гнить год, два
года, целое столетие, потому что время для меня не важно. Когда все это
превратится в почти однообразную массу, в почву, знаете ли, что я делаю?
Д'Аламбер. Уверен, что вы не будете есть эту землю.
Дидро. Конечно! Но есть, однако, между мной и землей средство сое-
динения, усвоения.
Д'Аламбер. И это средство есть растение?
272
Дидро. Именно! Я сею на этой земле горошек, бобы, капусту; расте-
ния питаются из земли, и я питаюсь растениями. — Таким образом я про-
извожу действительно чувствительную материю. И если я не разрешаю
задачи, которую вы мне ставите, то по крайней мере значительно при-
ближаюсь к ней. Потому что вы согласитесь, что от куска мрамора до чув-
ствующего существа гораздо дальше, чем от существа, которое чувствует,
до существа, которое думает.
Д'Аламбер. Конечно. Но все-таки чувствующее существо вовсе не есть
существо думающее.
Дидро. Можете ли вы сказать мне, в чем состоит бытие чувствующего
существа относительно его самого?
Д'Аламбер. В убеждении, что с первой минуты своего бытия
и до настоящей минуты оно всегда было самим собой, всегда одним
и тем же.
Дидро. А на чем основывается это убеждение?
Д'Аламбер. На воспоминании своих действий.
Дидро. А без этого воспоминания?
Д'Аламбер. Без этого воспоминания оно не было бы самим собой,
потому что, если бы оно ощущало свое бытие только в момент впечат-
ления, оно не имело бы вовсе истории своей жизни. Жизнь его была бы
разорванным рядом воспоминаний, которые не были бы ничем соеди-
нены одно с другим.
Дидро. Очень хорошо. А что такое память человека? Откуда она явля-
ется?
Д'Аламбер. Из известной организации, которая возрастает, уменьша-
ется и иногда внезапно пропадает.
Дидро. Таким образом, если существо чувствующее, организованное
для памяти, соединяет получаемые впечатления, составляет через это сое-
динение историю, т. е. историю своей жизни и достигает до самосозна-
ния, то оно воспринимает, утверждает, заключает, думает.
Д'Аламбер. Но остается главная трудность. Мне кажется, что мы можем
в один раз думать только об одной вещи, а между тем не только для
какой-нибудь длинной цепи выводов, заключающей в себе тысячи идей,
но и для образования простого предложения, нам нужно по крайней мере
две вещи — предмет, занимающий прежде всего наш ум, и определение
или свойство, которое ум старается приложить к нему или отнять у него.
Дидро. Я думаю так же. Поэтому я сравнивал иногда нити наших орга-
нов с чувствительными, колеблющимися струнами. Тронутая струна дро-
жит и звучит долго после того, как она была тронута. Это дрожание, этот
род необходимого отзвука, именно и сохраняет перед нами присутствие
предмета, в то время как разум занимается принадлежащими ему свой-
ствами. Но колеблющиеся струны имеют еще свойство производить
сотрясение и в других струнах. Так, первая мысль вызывает вторую, они
отражают третью, все три образуют четвертую и т. д., так что невозможно
было бы определить границу пробужденных и соединенных мыслей у мыс-
лителя, который думает или в тихом молчании отдается самому себе. Этот
инструмент имеет удивительные скачки; раз возбужденная мысль про-
изводит иногда гармонию, которая лежит от нее на далеком расстоянии.
Если можно наблюдать это явление на звучных, мертвых, разделенных
273
струнах, то почему бы оно не могло иметь места между живыми связан-
ными между собой и чувствительными нитями?
Д'Аламбер. Если это и несправедливо, то очень умно. Но вы впадаете
здесь в противоречие, которого хотите избежать, — в различение двух
субстанций. Если вглядеться поближе, вы делаете из ума мыслителя суще-
ство, отличное от инструмента, род музыканта, который прислушивается
к сотрясенным струнам и судит о их созвучии и диссонансе.
Дидро. Вы забываете различие философского инструмента и струн-
ного. Философский инструмент чувствителен; это музыкант и инструмент
вместе. Как чувствительный, он имеет моментальное сознание тона, им
производимого; как анимальный, он имеет память о нем. Эта органиче-
ская способность соединяет тоны в ней самой, она производит мелодию
и сохраняет ее. Дайте фортепьяно чувствительность и память и скажите,
разве оно, будучи сознательным, не будет повторять тех арий, которые
вы сыграете на нем? Мы инструменты, одаренные чувствительностью
и памятью. Наши чувства суть те же клавиши, по которым ударяет окру-
жающая нас природа, и которые часто ударяют сами себя. И, по моему
мнению, это и есть все, что происходит в организованном фортепьяно,
как вы и я. Есть впечатление, которое имеет свое основание во внутрен-
ности и вне инструмента; ощущение, происходящее от этого впечатления,
и ощущение, которое продолжается.
Д'Аламбер. Понимаю. Таким образом, если бы это чувствительное
и оживленное фортепьяно было одарено способностью питаться и вос-
производит себя, то оно стало бы жить и, или из самого себя, или из своей
самки, производить маленькие живые и звучные фортепьяно.
Дидро. Но разве, по-вашему, зяблик, соловей, музыкант, человек есть
что-нибудь иное? Видите ли вы это яйцо? Им можно низвергнуть все
школы философов и все храмы земли. Что такое это яйцо? Прежде чем
оно оплодотворено, — это бесчувственная масса. И если оно оплодотво-
рено, то чем оно делается? Бесчувственной массой, потому что и семя
есть только мертвая и грубая жидкость. Каким образом эта масса пере-
ходит к другой организации, к чувствительности, к жизни? Посредством
теплоты. Что произведет теплота? Движение. Что такое эти постепенные
действия движения? Сначала это движущаяся точка, маленькая нить,
которая растягивается и окрашивается, образующееся мясо, носик, кры-
лья, глаза, появляющиеся когти, желтоватая материя, которая отделяется
и производит внутренности, — это животное. Животное движется туда
и сюда, кричит, я слышу его крик через скорлупу, оно покрывается пуш-
ком, оно видит. Тяжесть его колеблющейся головы беспрестанно натал-
кивает его носик на стену его темницы; вот стена пробита, оно выползает
на свободу, идет, летит, падает, бежит, подходит ближе, жалуется, стра-
дает, любит, стремится и радуется; оно имеет все ваши чувствования; все
ваши действия. Между вами и животным разница только в организации.
Вам остается только принять одно из двух, или думать, что в бездействен-
ной массе яйца скрывается элемент, только ожидающий развития, чтобы
обнаружить свое бытие, или предположить, что этот незаметный элемент
проник через кору в известный момент развития. Но что же это за эле-
мент? Занимал он пространство или нет? Пришел он или ушел, не дви-
гаясь? Был он сотворен в минуту потребности или уже существовал пре-
274
жде? Если он был одинаков, то он был материальный; если он был нео-
динаков, то нельзя понять ни его бездействия перед развитием, ни его
энергии в развившемся животном...
Д’Аламбер. Но если эта чувствительность есть качество, существенно
несоединимое с материей?
Дидро. Но откуда вы знаете это? Вы, не знающие сущности ни мате-
рии, ни чувствительности? — Если во вселенной нет частицы (molecule),
похожей на другую, на частице нет точки, похожей на другую, то согласи-
тесь, что самый атом одарен неделимой формой и качеством... Во вселен-
ной, в человеке, в животном есть только одна субстанция. Шарманка сде-
лана из дерева, человек состоит из мяса; чижик — из мяса, музыкант —
из иначе организованного мяса; но оба имеют одно происхождение, одно
образование, те же отправления и тот же конец.
Д’Аламбер. Но каким же образом оба ваши фортепьяно доходят
до согласия тонов?
Дидро. Так как животное есть чувствительный инструмент, и одно
совершенно похоже на другое, так как они одарены одним видом, снаб-
жены теми же струнами, сотрясаются теми же радостью и горем, голо-
дом и жаждой, судорогами, удивлением и ужасом, то невозможно, чтобы
этот инструмент не звучал одинаково, где бы то ни было, на северном или
южном полюсе, или на экваторе. Таким же образом вы находите почти
одни и те же междометия во всех мертвых и живых языках. Происхож-
дение условных тонов надобно выводить из потребности и совместно-
сти. Чувствительный инструмент, или животное, узнало, что если оно
издавало известный тон, то за ним следовало извне известное действие,
что другие ему подобные чувствительные инструменты, или животные,
на этот тон приближались, уходили, удивлялись, ласкались, и эти дей-
ствия запали в его память и в память других.
Д’Аламбер. По вашей системе нельзя понять хорошенько, как мы
составляем заключение, выводим следствие.
Дидро. Именно потому, что не мы их делаем, но что они все сделаны
природой. Мы высказываем только соединение явлений. Это соединение
явлений бывает или необходимое, или случайное; необходимое — в мате-
матике, физике и других строгих науках, случайное — в морали, политике
и других предположительных науках.
Д’Аламбер. Но может ли соединение явлений быть в одном случае
менее необходимо, чем в другом?
Дидро. Нет, но причина испытывает, в частности, слишком большие
перемены, которые ускользают от нас, так что мы не можем наверно рас-
считать путь, пройденный таким образом. Та уверенность, что горячий
человек впадает от оскорбления в гнев, не может быть сравниваема с уве-
ренностью в том, что если одно тело толкнет другое меньшее, то приве-
дет в движение это последнее.
Д’Аламбер. А аналогия?
Дидро. Аналогия и в самых сложных случаях есть только тройное пра-
вило, которое исполняется в чувствительном инструменте. Если за одним
известным явлением природы следует другое, столь же известное, какое
явление будет следовать за третьим? Поэт может смело держаться этой
аналогии; философ — нет. Философ должен спросить природу; часто вме-
275
сто ожидаемого феномена она дает ему другой, совершенно отличный,
и тогда он видит, как аналогия ввела его в заблуждение.
Итак, спокойной ночи, мой друг; не забывай, что так как ты прах,
то и сделаешься прахом!
Д’Аламбер. Это печально!
Дидро. И необходимо!
В продолжении этого разговора, носящем заглавие «Сна д’Алам-
бера», из данных здесь положений неустрашимо выводится неиз-
бежное следствие.
Это учение об изменении материи, учение о бесконечном круго-
вом движении жизни. Как в каждом атоме происходит безустанное
брожение, так то же постоянное брожение происходит и в другом
атоме, называемом землей. Кто знает породы животных, предше-
ствовавшие нашим, кто знает породы, которые будут следовать
за вашими? Все меняется, но целое остается и не изменяется. Мир
беспрестанно начинается и кончается; иначе никогда не было и ни-
когда не будет. Вы говорите об индивидуумах? Их нет. Есть один
только великий индивидуум, это вселенная. В этой вселенной, как
в машине или в каком-нибудь живом существе, есть различные ча-
сти, которые вы называете так или иначе; но если вы даете этим
отдельным частям название индивидуума, то это так же фальшиво,
как если бы вы у птицы назвали индивидуумом крыло или одно перо
из крыла. Вы говорите о сущностях, философы? (II, 139). Бросьте
ваши сущности, взгляните на целое вселенной, или, если вы слиш-
ком близоруки для этого, взгляните на ваше первое происхождение
и на ваш последний конец! Что такое жизнь? Жизнь есть ряд дей-
ствий и противодействий. Живя, я исполняю эти действия и проти-
водействия. Поэтому я и не умираю; нет! Без сомнения в этом смыс-
ле не умираю ни я, ни что-нибудь другое. Родиться, жить, погибнуть
значит только изменять форму! И что за важность, имею ли я ту
или другую форму? Каждая форма имеет свое собственное счастье
и свое несчастье. От слона и до малейшего гада, от малейшего гада
до ощущающего и живущего атома, во всей природе нет ничего,
что бы не страдало и не наслаждалось. — Бордё, присутствующий
при этой беседе, делает непосредственное приложение этих поня-
тий к человеку и излагает нервную физиологию, насколько она
была ему известна по тому времени, смело формулируя этику фи-
зиологическим путем. «И разве это учение не опасно?» — спраши-
вает в конце концов m-lle л’Эспинас. «Дело только в том, — замеча-
ет Бордё, — истинно ли оно или ложно. Если оно истинно, то можно
по крайней мере признаться, что ложь имеет свои выгоды и истина
свои неудобства».
Кто может читать эти сочинения, не испытывая сильного впечат-
ления? Это глубокое, но еще не просветленное совместное действие
276
спинозовско-лейбницевых положений и вновь подступающих, фи-
зиологических открытий и догадок. Из Elements de physiologie, издан-
ных в первый раз Ассеза (IX, 254), быстро набросанных для себя
заметок, можно видеть, что Дидро в особенности воспользовался
также исследованиями Галлера.
И учение Дидро о душе вполне согласно со этой метафизикой.
Вместе с различными метафизическими ступенями развития
меняются и психологические взгляды Дидро. Одинаковые колеба-
ния и одинаковые конечные результаты. Сам Дидро сказал однаж-
ды Гельвецию: «Как думает кто о Боге, так думает он и о челове-
ческой душе».
Поэтому первое сочинение Дидро, «Статья о Заслуге и Добро-
детели», еще вполне проникнутая верой в откровение, принимает
и чистую самостоятельность и духовность души: воля свободна,
душа бессмертна. И после того, как он стал говорить об естествен-
ной религии, он еще остается, в сущности, при том же взгляде.
Свидетельством этого служат психологические объяснения его
Pensees philosophiques, в которых он, предположив, без дальних
околичностей, духовность и личность человеческой души, делает
заключение о чистой духовности и личности божества. Но совер-
шенно иначе рассуждает он с той минуты, когда наступает его
поворот к материализму. И здесь «Письма о Слепых» и «Письма
о Глухонемых» представляют весьма замечательный переход; та-
кой же переход составляет и Apologie de I’abbe de Prades. Дидро
пристает здесь к воззрениям Локка. Говоря техническим языком,
Дидро из спиритуалиста делается прежде всего сенсуалистом.
Жизнь души вполне сводится на жизнь чувств, всякое познание
исходит из опыта; происхождение и природа души остаются еще
открытым вопросом, — но в позднейших сочинениях исчезают
и эти последние колебания. Interpretation de la Nature видит в душе
и духе только возвышение и усовершенствование постоянно вол-
нующегося смешения материи. «Дайте человеку организацию
собаки, и он собака, дайте собаке организацию человека, и она
человек», — говорят в Reflexions sur le livre de I’Esprit (II, 268). Ди-
дро с большим удовольствием и отцовской гордостью рассказыва-
ет теперь т-11е Волан, что когда он спросил свою дочь, чтд такое
душа, она отвечала ему: «Душа? душу делают тогда, когда делают
тело»; он находит даже это слово таким метким, что вставляет его
в разговор с д’Аламбером. И этот разговор, именно «Сон д’Аламбе-
ра», смело идет до последнего вывода, что психология есть не что
иное, как физиология нервов. Человек так же находится в посто-
янном изменении и преобразовании, как в постоянном преобра-
зовании находится природа. Человек потому только бывает «я»,
т. е. потому только сознает самого себя единым и постоянно про-
должающимся существом, что испытываемые им перемены совер-
277
шенно постепенны и медленны, и потому оканчивающаяся пере-
мена входит в наступающую.
Свободная воля и личное бессмертие немыслимы при этой точ-
ке зрения. Дидро знает эти следствия и выводит их. О воле Дидро
выражается почти буквально, как Молешотт. Дидро говорит в «Сне
д’Аламбера» (II, 175): «Воля происходит всегда из внутреннего или
внешнего движения, из какого-нибудь настоящего впечатления,
из воспоминания о прошедшем, из страсти, из плана на будущее, —
следовательно свобода воли есть только пустое слово; каждый раз
наше действие есть необходимое следствие хотя и весьма сложной,
но в сущности единой причины»; Молешотт говорит в «Kreislauf des
Lebens» (2-е изд. 1855, стр. 431): «Движение не исходит из так на-
зываемой свободной воли, — воля есть скорее только выражение
известного состояния мозга, обусловленного внешними влияния-
ми». И точно так же Дидро сознает, что по его основному воззрению
отдельное существо, возникшее из круговращения изменяющихся
смешений материи, снова втягивается в это меняющееся круговра-
щение и поглощается им. Земля питает и пожирает нас, бессмер-
тие отдельной личности есть бессмертие его деяний; это последнее
остается непотерянным в вечном дальнейшем влиянии. Non omnis
moriar1. В этом отношении именно очень важны письма Дидро
к скульптору Фальконё, писанные в 1766. С пылким красноречием
указывает он в них на поощрение и возвышение души, происходя-
щее из мысли о личной славе в последующие времена.
В нравственном учении Дидро обнаруживает то же смелое стрем-
ление вперед.
Дидро никогда не излагал своего нравственного учения в связ-
ной системе. Его взгляды на этот предмет разбросаны в самых
разнообразных сочинениях; они являются всегда только как сердеч-
ные излияния горячо чувствующего человека, а не как школьное
развитие этого понятия. Но можно, впрочем, ясно увидеть отдель-
ные отличия и переходы его мнений, пока наконец он, как материа-
лист, приходит к той же решительной смелости, которой еще теперь
физиология вызывает мыслящий мир к страстному спору.
Во введении к своему первому сочинению о Заслуге и Доброде-
тели Дидро принимает еще вполне самую безусловную нераздель-
ность и взаимодействие добродетели и религии. Это совершенно
изменяется, как скоро Дидро переходит к деистической естествен-
ной религии. Нравственные поступки человека, оторванные от ре-
лигиозного корня, являются теперь совершенно самостоятельными,
заключающимися единственно в самой сущности человека. Корень
добродетели есть, по выражению Дидро, голос природы. Человек
стремится к добродетели, потому что стремится к счастью и пото-
1 Не весь я умру (лат.). — Прим. изд.
278
му что этого счастья можно достигнуть только добродетелью. Всего
важнее в этом отношении Introduction aux grands principes и pensees
philosophiques; к ним примыкают в том же смысле Lettre a monfrere
(1760; I, 485) и Entretien d’un philosophe avec la marechale de Broglie
(1776; II, 505) и также статьи «Juste», «Passions» и «Plaisir» в «Энци-
клопедии». «Не самоотрицательное бесстрастие есть добродетель;
желание потушить страсть скорее можно назвать верхом всякого
безумия, потому что только великие страсти ведут к великим делам;
но эти страсти должны быть свободны от эгоизма и должны согла-
соваться с благом человечества. Поступок бывает хорош или дурен,
смотря по тому, помогает ли он нам и другим людям, или вредит
им; это различие стоит прежде и выше всякого закона, оно заклю-
чается не в произвольном соглашении, а в самой глубине нашей
природы» (XVI, 217). И с 1756 (ср. письмо к Ландуа, XIX, 435) при-
соединяется к этому открытое отрицание свободной воли. Ясно, что
здесь прежде всего дело идет о двух весьма важных вопросах. Если
человек в своей нравственной деятельности вполне зависит только
от извне приходящих влияний, то чем же делается добро и зло, до-
бродетель и порок? Сливаются ли они безразлично, как одинако-
вый конечный результат внешнего естественного определения, или
между ними, как прежде, остается неизменная граница? И дальше:
чем будет тогда ответственность лица за свои действия, чем будет
нравственная вменяемость? Есть ли она гибельный призрак, или
она остается неоспоримым руководством наших нравственных по-
нятий и законов?
Дидро отвечал на оба вопроса; и при том тем же самым образом,
как отвечают на них наши новейшие материалисты.
Тем не менее теперь, как и прежде, между добродетелью и поро-
ком есть неоспоримая разница. Конечно, отдельные воззрения и по-
нятия изменяются; они изменяются с изменением естественных ус-
ловий; бывают различны по различным временам и странам. Дидро
извлек это необходимое заключение из своих посылок. Уже «Пись-
мо о Слепых» ставит качество и условия наших нравственных дей-
ствий в зависимость, от качества и условий наших орудий чувств,
и в особенности Supplement аи Voyage de Bougainville (1772—1775)
самым решительным образом настаивает на влиянии этих посто-
янных условий природы. Здесь Дидро с самыми резкими преувели-
чениями находит даже, что наши понятия о браке, любви и стыд-
ливости просто случайны, ограничены по местным и временным
обстоятельствам, и потому произвольны и преходящи. Но Дидро
не забывает прибавить, что только волны на поверхности делаются
жертвой переменчивой игры переменчивого ветра; глубина остает-
ся ровна и спокойна.
Молешотт в своем «Kreislauf des Lebens» (стр. 445—450) объяс-
нил, что человеческому роду свойственна от природы необходи-
279
мость отвергать злое, то, чтд противоречит требованиям рода;
что нечего опасаться необузданности страстей, потому что челове-
чество никогда не будет удовлетворяться этой необузданностью;
противоестественность заключает в себе грех. Дидро совершенно
в том же роде с убедительным жаром защищает вечность и необ-
ходимость добродетели против легкомысленного умствования со-
фистов. Крайняя безнравственность Ла Меттри была ему отврати-
тельна (ср. Сочин. 1819, т. 6, стр. 163). В Reflexions sur le livre de
I’Esprit Гельвеция, Дидро ярко выставляет то, как ложно было бы
само по себе и вредно в своих приложениях, если бы кто вздумал
потрясти вечные начала права и несправедливости, которые ле-
жат в наших естественных потребностях, в нашей организации,
избегающей страдания. «Понятия, — говорит он, — могут ме-
няться на тысячу разных ладов, но сущность добра и зла незави-
сима от этого и неизменна», нравственность есть «un sentiment de
bienfaisance, qui embrasse I’espece humaine en gdndral; sentiment qui
n’est ni faux ni chimdrique»1 (II, 270). В 1760 году он пишет к m-lle
Волан об одном разговоре, который он вел с Сореном и Гельве-
цием. Они утверждали, что ни один человек не имеет понятия
ни о дурном, ни о нравственном. «Я согласился охотно, — говорит
Дидро, — что страх возмездия есть самая плохая защита от престу-
плений; но вместо внешнего возмездия я хотел поставить добро
для добра, чистую и бескорыстную любовь к добродетели, если
только добродетель не пустое слово; я думал, что внутреннее бла-
городство никогда совершенно не подавляется даже в людях самых
испорченных, что человек, который свою личную выгоду ставит
позади общей выгоды, имеет достаточно силы и для того, чтобы
в случае нужды пожертвовать самим собой, и что ни один человек,
как бы он ни пренебрегал потомством в своих словах, не примет
спокойно, если ему скажут, что люди, которых он не слышит, будут
считать его преступником» (XIX, 40). «Но всего страннее, — при-
бавляет Дидро, — было то, что едва кончился спор, эти добрые
люди, сами того не замечая, высказали сильнейшие вещи в пользу
того же чувства, которое они только что оспаривали; я желал бы,
чтобы Сократ был на моем месте; с какой усмешкой он повернул-
ся бы к ним спиной!»
Дидро, однако, не соглашался, чтобы понятия о праве и не-
справедливости совпали с существующими законами. Рядом
с юридической нравственностью он призывал morale illicite2, ко-
торую следует отличать от morale criminelle3. Эта morale illicite
может иногда быть высшим нравственным законом для homme
1 Чувство милосердия, которое охватывает человечество в целом; чувство, кото-
рое не является ни ложным, ни химерическим (фр.). — Прим. изд.
2 Запрещенная мораль (фр.). —Прим. изд.
3 Преступная мораль (фр.). —Прим. изд.
280
de bien1 (XI, 252). Таким образом и Дидро иногда позволял себе,
полагаясь на естественный нравственный закон bienfaisance, по-
ступать не согласно с существующими гражданскими законами,
когда ему казалось, что этого требует заповедь альтруизма. Он
в состоянии совершить поступок незаконный, чтобы не ска-
зать — бесчестный, чтобы принести пользу другому. Он два раза
подробно останавливался на этой проблеме индивидуалистиче-
ской нравственности: в рассказе Entretien d’un рёге avec ses enfants
(напечатано в 1773 г.) и в замечательной, возбуждающей тревогу
драматической пьесе Est-il bon? est-il mechant? (1781).
Если при этом взгляде нет вменяемости в обыкновенном смыс-
ле этого слова, то есть, однако, право наказания. Молешотт гово-
рит (ib., стр. 446): «Если искать права наказания в естественной
и необходимой потребности самосохранения, господствующей над
родом, — то вменяемость не уменьшается оттого, что мы признаем
зло, как естественное явление. Мы видим растение также во власти
природы, но это не мешает нам порицать неправильное и дурное
дерево; мы стараемся взращать его и вырываем вон, если оно нам
досаждает». Но Дидро говорит в «Сне д’Аламбера», — как мы уже
видели: «Надобно изменить название добродетели в bienfaisance2,
делание добра, а противоположность его в malfaisance3, делание зла;
человек родится счастливым или несчастливым; он безоружный
вовлекается во всеобщий водоворот, который одних ведет к славе,
других — к позору» (II, 176). А самоуважение, стыд, раскаяние?
«Ребяческие предрассудки, происшедшие из невежества и тщесла-
вия существа, которое приписывает себе заслугу или стыд минуты,
необходимо обусловленной самой собою». — «Но что же будет тогда
с наградой и наказанием?» — спрашивает m-lle л’Эспинас. Бордё,
введенный в разговор, отвечает: «Это средства исправлять то из-
менчивое существо, которое называют дурным, и поощрять то, ко-
торое называют хорошим».
Одним словом, в новейшем материализме нет вопроса, кото-
рый бы не был возбужден Дидро и не был доведен им до последне-
го вывода. Новейший материализм старается с помощью развиваю-
щегося естествознания дать этим резким выводам более прочную
основу, а самые выводы остаются те же.
Более подробное систематическое изложение политических во-
просов Дидро предпринял для русской императрицы Екатерины.
Внешние условия обязывали его здесь к сдержанности, как в ряде
написанных политических статей для «Энциклопедии». Тем не ме-
нее эти статьи не обошлись без затруднений со стороны правитель-
1 Добропорядочный человек (фр.). —Прим. изд.
2 Стремление к добрым делам, благотворительность (фр.). —Прим. изд.
3 Вредительство, готовность совершить зло (фр.). —Прим. изд.
281
ства, так как Дидро говорил, например; в статье Autorite (1758):
«Le gouvernement quoique hereditaire dans une famille et mis entre les
mains d’un seul, n’est pas un bien particulier, mais un bien public, qui, par
consёquent, ne peut jamais etre еп1еуё au peuple, a qui seul il appartient
essentiellement et en pleine ргорпёгё... ce n’est pas 1’Etat qui appartient
au prince, c’est le prince qui appartient a 1’Etat»1 (XIII, 394). Дидро нена-
видит существовавшее во Франции правление произвола. Principes
de la politique des souverains (1775) исследуют средства и намерения,
извороты и окольные пути тирании с такой проницательностью, ка-
кой может владеть только самая пылкая ненависть; и Essai sur les
regnes de Claude et de Neron полон самыми язвительными намеками.
Известны имеющие такую дурную репутацию стихи о клерикалах
и королях в его дифирамбической оде Les Eleutheromanes (1772,
напечатано в 1795). Конечно, не следует давать им слишком боль-
шую важность для характеристики Дидро, так как ода, которой они
принадлежат, есть ничтожное стихотворение. Но что на самом деле
Дидро в своих мыслях о новом устройстве государства и общества
шел очень далеко, об этом свидетельствует мнение современников,
которое приписывало ему социалистический Code de la nature Мо-
релле (издано безыменно, 1755), и еще решительнее доказывают
это отдельные места, его сочинений, где он говорит за рабочих (II,
430) или является энтузиастом анархии (II, 247).
Это последнее место принадлежит упомянутому Supplement аи
voyage de Bougainville, где Дидро в виде разговора — его любимая
форма — прославляет естественное состояние Отаити, составляя
вместе апологию его собственной чувственной натуры, многослов-
но и со многими повторениями, часто небрежно, но иногда с боль-
шой красотой и тонкостью. Культура, по словам его, наложила
гнет на благородную, хорошую природу, поработила, исказила ее.
История цивилизации есть история нашего бедствия: цивилиза-
ция в первобытного естественного человека насильственно внесла
homme artificiel et moral2, и теперь оба они беспрестанно борются
в груди человека и делают их обладателя несчастным. Человече-
ские законы — это средства, которыми сильный подчиняет слабого
и эксплуатирует во имя мнимого порядка. «Не доверяйте всякому,
кто хочет устраивать порядок! Хотите вы, чтобы человек был свобо-
ден, и счастлив — ne vous melez pas de ses affaires»3. Оставьте его без
законов! И последовательно является здесь слово «анархия».
1 Правительство/правление, хотя и передается по наследству в одной семье
в руки одного человека, является не частным благом, а общественным, а оно в свою
очередь никогда не может быть отнято у народа, которому по существу принадле-
жит и находится в полной его собственности... не Государство принадлежит князю,
а князь принадлежит Государству (фр.). —Прим. изд.
2 Человек искусственный и моральный (фр.). — Прим. изд.
3 Держитесь подальше от его дел (фр.). — Прим. изд.
282
В Дидро говорит вся ненависть просветителя против гнетущих
условий, которые его окружают. Все рамки должны пасть! Как да-
леки мы здесь от Вольтера! Дидро идет до самой основы антирели-
гиозного и антисоциального движения времени — «c’est un four trop
chaud qui brule tout ce qu’il cuit»1, — говорится о нем из Ферни.
Если надо прямо отвечать на вопрос: «должны ли мы действи-
тельно вернуться к фантастически идеализированной анархии
отаитских естественных людей?», то Дидро, как и Руссо, не го-
ворит «да». По его мнению, при нынешнем положении вещей,
человеку обеспечит наибольшее счастье не чистое естественное
состояние, а ограниченная, средняя цивилизация. От нашей пре-
увеличенной культуры мы должны вернуться к более простому
быту и довольствоваться быть moitie polices, moitie sauvages2 (II,
435; VI, 445). Чтобы повести к этому возвращению, должно по-
казать людям противоестественность их нынешних учреждений.
«Будем непрерывно поднимать наши голоса против существую-
щих законов, пока их не переменят, а до того времени будем им
подчиняться» (II, 249).
Анархист Дидро не берется за бомбу. Его анархические учения —
теоретический протест против тех несчастных порядков в Ancien
regime, которые он имел перед глазами и, так сказать, чувствовал
на своей шее, когда писал.
Но, как политик, Дидро никогда не вмешивался в мысль и дея-
тельность своего времени, и предположение, что его сочинения, из-
данные по его смерти, имели влияние на ход революции, основано
на ошибке. В то время, как бури революции перенесли прах Вольте-
ра и Руссо в Пантеон, прах Дидро остался в своей могиле забытый
и нетронутый.
3. Дидро как поэт и критик
Художественные взгляды Дидро, как и философские его взгляды,
вполне исходят из английских воззрений. Направление его опре-
делили буржуазная трагедия и нравственный и семейный роман.
Известно, какое преувеличенное похвальное слово Дидро написал
Ричардсону (1761); письма Дидро обнаруживают такое же одушев-
ленное пристрастие к этому писателю. В 1760 он перевел, несколько
свободно, Gamester Эдварда Мура (XVIII, 448, 461), но не мог поста-
вить на сцену этого своего Joueur, и когда в 1672 явился в печати
новый перевод этой пьесы, он высказывал т-11е Волан (15 августа)
намерение напечатать свой перевод с переводом многих пьес Лилло
и «Мисс Сара Сампсон» Лессинга, с драматургическими статьями.
Из этих работ сохранился только Joueur (VII, 417).
1 Это слишком горячая печь, которая сжигает все, что готовит (фр.). — Прим. изд.
2 Наполовину цивилизованными, наполовину дикими (фр.). —Прим. изд.
283
Дидро никогда не шел дальше этих образцов, ни в своих произ-
ведениях, ни в суждениях, ни в поэзии, ни в искусстве. Поэтому
в своих сюжетах он исключительно предпочитает картины из бур-
жуазной и домашней жизни, а в форме — самое усердное стремле-
ние к естественности, которую он полагает в самой плоской копи-
ровке природы. Идеал исчезает совершенно или сохраняется только
в виде вялой моральной трогательности. Поэтому слезная комедия
и жанр из буржуазной жизни, происшедшие из возвышения фран-
цузской буржуазии, были для Дидро естественными исходными точ-
ками, и он посильно обрабатывал их.
Как поэт в высоком смысле слова, Дидро не имеет большого зна-
чения.
Его юношеский роман «Les Bijoux indiscrets», из 1748 года, скан-
дален и легкомыслен; он основан на вымысле, который находится,
также в одном из самых неприличных фабльо. Если справедлив рас-
сказ его дочери, что изданием этого романа Дидро хотел доказать,
как легок успех младшего Кребильона, то он плохо доказал это. Ро-
ман, исключая нескольких тонких сатирических подробностей, ску-
чен и вял.
Затем Дидро пробовал сделаться драматическим писателем. Е. Ро-
зенкранц в поучительной статье (Ueber Diderot’s Theater, в «Jahrbuch
der Literaturgeschichte» P. Гоше, 1865, стр. 99) пытался сделать ве-
роятным, что драма Uhumanite ои le tableau de Tindigence, которая
находится в пятом томе издания сочинений Дидро, сделанном без
его воли в Лондоне 1773, а в позднейших полных собраниях была
исключена, тем не менее принадлежит Дидро и по времени напи-
сания очень близка упомянутому юношескому роману. Между тем
одно место в Correspondance litteraire (изд. Tourneux IV, 398, май
1761) доказывает окончательно, что Дидро не был ее автором. Ле-
том 1756 Дидро написал Lefils naturel ои les epreuves de la vertu, для
интриги которого он взял нечто из II чего amico Гольдони, чтд дало
его врагам повод к злостному упреку в плагиате. В 1758 он напи-
сал свою драму Le рёге de famille, в распределении ролей очевидно
примыкая к The London Merchant, Лилло. И еще в старости, с 1769,
Дидро предпринял ряд драматических произведений; они напечата-
ны в восьмом томе его сочинений. Там есть, план трагедии Le Sherif
(1769), где должно было быть поучительно представлено судейское
сословие; одноактная сельская трагедия, в подражание Геснеру, Les
peres Malheureux (1770); сохранившаяся в трех редакциях салонная
пьеса Est-il bon? est-il mechant? (1770—1781), где выставлена на сце-
ну morale illicite всесветного помощника Гардуэна (= Дидро); план
комедии, L’honnete femme, параллели к Рёге de famille и т. д.
Эти пьесы в окончательном разрыве с церемониалом классициз-
ма, живо вмешиваются в буржуазный быт, в который вводили уже
пьесы Мариво и Лашоссё. И с этой стороны они получили великое
284
историческое значение, — ив Германии почти еще больше, чем
во Франции. Лессинг в 1760 перевел «Побочного сына» и «Отца се-
мейства». Известно, что «Отец семейства» Дидро есть родоначаль-
ник всех тех бесчисленных трогательных семейных картин, кото-
рые со времени Юнгера, Геммингена, Шрёдера, Иффланда и Коцебу
распространились по всем сценам. Но это историческое значение
не должно обманывать беспристрастия критического суждения.
Потому что, что представляют знаменитейшие пьесы Дидро, «По-
бочный сын» и «Отец семейства»? Обе пьесы — картины семей-
ной жизни в разговорах, направленных к самой непосредственной
нравственной трогательности и исправлению. В сравнении с drames
bourgeois du neologue Marivaux (ср. выше, кн. 1, отд. 2, гл. 3, п. 1),
с серьезными комедиями Детуша и с слезной комедией Лашоссё
это решительно шаг назад. Они сухи там, где они хотят быть есте-
ственны; напыщенны и переполнены моралью там, где хотят быть
возвышенны; г-жа Сталь метко сказала, что у Дидро есть только
стремление к природе и аффектация природы, а самой природы нет.
«Fils nature!» не имел никакого действия; он был поставлен только
в 1771, и всего два раза. Не только Стерн, в письмах к Гаррику, пори-
цает в нем недостаток живых образов и характеров; Лессинг в Гам-
бургской Драматургии (статья 85) также смеется над однообразием
и невероятностью действия, над безжизненным и притязательным
диалогом, над педантизмом новомодных философских сентен-
ций. Вторая пьеса, «Отец семейства», лучше; он был дан с успехом
в 1760 в Марсели (XIX, 40) и проник до Неаполя (VIII, 409). При
своем появлении в Париже в 1761, он выдержал восемь или девять
представлений, «и когда дан был снова в 1769, он приобрел самые
громкие одобрения», — как пишет Дидро к m-lle Волан (23 августа).
В особенности долго он господствовал на немецкой сцене; Лессинг
решался даже предсказывать (статья 84), что он сохранится на сце-
не навсегда. Последствия не оправдали слов Лессинга.
После того Дидро отдался больше рассказу. Он писал романы
и жанры, которые по большей части прилагались к Литературной
Переписке Гримма или сообщались друзьям и меценатам в руко-
писи. Отчасти они были напечатаны уже по смерти Дидро. Сюда
принадлежат три большие рассказа: La Religieuse (1760), Le Neveu de
Rameau (1762, переработан в 1773), Jacques lefataliste (1773) и не-
сколько мелких рассказов.
Первый роман, La Religieuse, — история молодой монахини, кото-
рая против своей воли должна томиться в монастыре, и после дол-
гих бедствий и заблуждений находит, наконец, свою свободу. Здесь
нельзя не видеть влияния Ричардсона; тон большей частью совпа-
дает с драмами Дидро, чтд объясняется и временем происхождения
рассказа: переписка с m-lle Волан (XVIII, 451) уже в 1760 говорит
об этом рассказе, как о начатой работе. Основная идея — борьба
285
против монастырской жизни; Гримм рассказывает в 1770 в Литера-
турной Переписке, что первоначальным поводом этого романа была
шутка в обществе, состоявшая в том, что маркиза Круамара хотели
заманить из провинции в город, уверив его, что одна бежавшая мо-
нахиня просит его защиты. Роман был бы превосходный, если бы
стремление к самой полной естественности не привело Дидро к са-
мому обстоятельному изображению грехов и пороков, которые оди-
наково отталкивают и в нравственном, и в художественном отно-
шениях. Роман остался неоконченным.
«Племянник Рамо» приобрел особенную известность в Герма-
нии. Происхождение этого рассказа относится к 1762 г.; в 1773 Ди-
дро переработал его. В апреле 1804 года список этого рассказа,
через посредство Клингера и Вольцогена, попал из Петербурга
в руки Шиллера, который побудил Гёте перевести его (1805). Фран-
цузы, за неимением оригинала, сделали в 1821 обратный перевод;
в 1823 вышел тот том издания Бриера, который заключает француз-
ский подлинник Neveu de Rameau с рукописи, доставленной г-жей
Вандель. Издатель Бриер должен был в длинной полемике защи-
щать подлинность своего текста, причем он ссылался и на свиде-
тельство Гёте.
Neveu de Rameau, которого сам Дидро называет сатирой, есть
опыт изображения характера самого редкого разряда. Не подлежит
никакому сомнению, что самые существенные черты списаны с на-
туры. Существовал действительно такой чудак — племянник Рамо,
потерянный парень, который жил в кофейнях и часто не знал, куда
преклонить голову, но человек с умом и образованием, полный шу-
товского, презирающего свет, остроумия; Гримм называет его ге-
нием глупости, сам Дидро называет его удивительной смесью ве-
ликодушия и низости, здравого смысла и бессмыслия. Мастерство
Дидро было в том, что этот случайный образ он возвысил до вели-
кой исторической черты времени. Племянник Рамо есть философ
наслаждения, софист разочарованности и отчаянного пессимизма.
Он владеет всеми средствами и выгодами образования; но он поль-
зуется ими только для того, чтобы обратить дух против духа, выста-
вить нравственность и образование вещью, неважной и излишней,
и с самодовольной радостью победы дать единственное господство
стремлению к богатству, пышным одеждам, прекрасным кушаньям
и винам, красивым женщинам и бездельникам-льстецам. Со сто-
роны Гервинуса было сурово и односторонне отвергать, в союзе
с Генцем, всякие достоинства в этом сочинении и отнести обнару-
женное здесь знание людей к «актам трибуналов и сумасшедших до-
мов» (Gesch. der deutschen Dichtung, 5-е изд., 5, стр. 782); но Гегель,
в «Феноменологии Духа» (изд. 1841, стр. 356, след.) и Розенкранц
в своей книге о Дидро (1866, II, стр. 106, след.) прекрасно объясни-
ли, какую живую и умную картину общественной испорченности
286
перед французской революцией представляет этот рассказ. Но, ко-
нечно, его историческое значение выше художественного. Рассказ
отличается удивительной тонкостью изображения души, недости-
жимой легкостью изложения; но мы дышим в нем воздухом тления
и напрасно ищем успокоительного солнечного луча. Ему недоста-
ет той добродушной иронии над самим собой, с которой приятель
Фальстаф смеется над собственным бездельничеством; ему недоста-
ет любящего и освобождающего юмора. В нем есть только край-
не сомнительная поэзия новейшей мировой скорби, щекочущее
остроумие внутренней разорванности. Гёте имел, вероятно, в виду
этот переведенный им диалог, когда в одиннадцатой книге «Поэзии
и Правды» говорит, что и Дидро, как Руссо, распространял понятие
отвращения от общественной жизни.
Много прославляли последний рассказ «Jacques le fataliste»
(1773), и однако он далеко уступает двум первым романам. По фор-
ме он примыкает к «Тристраму Шенди» Стерна, по содержанию —
к «Кандиду» Вольтера. Вероятно, Дидро соблазняло у Стерна его
любящее изображение мелкого и ежедневного; но Дидро не умеет
дать своим героям той любезной привлекательности, которая так
восхитительна в странных чудаках Стерна. Основной мысли нет;
по крайней мере, недостаточно проведена противоположность
между верой в человеческую свободу у господина и верой в неот-
вратимое предопределение у слуги. Один рассказ идет беспорядоч-
но за другим; резкости производят неприятное впечатление, потому
что недостает господствующего здорового юмора. Целое пропадает
в неутешительной пустыне. Можно найти удовольствие только в не-
многих забавных подробностях, например, когда Гёте с большими
похвалами говорит об этом романе в письме к Мерку от 7 апреля
1780 г.: «прекрасный и большой обед, с большим умом... приготов-
ленный и поданный»; из читателей его круга «каждый стащил свое
любимое блюдо». Так Шиллер выбрал историю г-жи Помере и пере-
вел ее под заглавием «Женское мщение».
Всего счастливее и действительно блистательным и несравнен-
ным писателем был Дидро, без сомнения, в тех небольших очер-
ках, которые он называл «Petits papiers». Доказательством может
служить в особенности прекрасный отрывок о женщинах (1772, II,
251), история двух друзей Бурбоннь (1770, V, 265), история m-lle
де ла Шо и доктора Гарделя (около 1772, V, 319). Вильмен, который
не особенно долюбливал Дидро, справедливо говорит, что в целом
XVIII столетии никто не рассказывал лучше, даже сам Вольтер. Здесь
Дидро снова нашел свой настоящий характер, тонкую наблюдатель-
ность, открытое и любящее сердце, добродушный юмор.
Но гораздо больше, чем собственным творчеством, Дидро приоб-
рел глубочайшее влияние на художественное развитие современни-
ков своей критикой и теорией искусства.
287
В статье «Beau» в «Энциклопедии» (1751) Дидро развивает поня-
тие прекрасного, впрочем, не особенно ясно, чисто академически,
почти без внимания к подражающим искусствам, без настоящей
художественной критики, которой он занялся только впоследствии.
Он находит прекрасное (le beau reel) в природе; оно действитель-
но, оно имеет реальность, хотя абсолютной красоты не существу-
ет. Прекрасно — tout се qui contient en soi de quoi reveiller dans mon
entendement I’idee des rapports1 (X, 26). Человек познает эти отноше-
ния (rapports) различно, смотря по культурной ступени, какой он
принадлежит, и смотря по личной даровитости (le beau аррег^и),
и даже величайшие мастера имеют для его познания не одинако-
вый масштаб. «Aucun d’eux, — говорит он, — n’a la meme ёсЬеПе ni
peut-etre celle de la nature»2, чем он мимоходом указывает идеали-
стический элемент в подражании природе.
Впоследствии Дидро, в связи с его Salons, предпринял объяснение
вопроса о прекрасном с точки зрения художественного критика,
и с великой убедительностью проповедовал наблюдение действи-
тельной природы, постоянное, любящее изучение действительного
в противоположность натянутости академического стиля и манер-
ности модной живописи. Эти учения Дидро заключают в себе самые
плодоносные семена истины, и они были достаточно тверды, чтобы
поднять важную своим действием борьбу против вкоренившихся
и упрямых предрассудков и привычек господствовавшего художе-
ственного понимания. Пусть не обвиняют Дидро прямо в натурализ-
ме, потому что для оценки его эстетики не должно упускать из виду,
что в жару борьбы против ложного идеализма тогдашнего искусства
он формулирует свои натуралистические требования с очевидным
преувеличением и часто говорит больше, чем на самом деле думает.
Потому что действительная мысль его та, qu’il у a des effets de nature
qu’ilfaut ou pallier ou negliger3 (X, 422); в принципе он очень хоро-
шо знает, что художник должен идеализировать природу (XI, 9; VIII,
388 и след.).
Ближайший и самый могущественный враг был лицемерный
классицизм французской трагики. Уже в своем легкомысленном
юношеском романе Дидро открыл самые жестокие нападения про-
тив невероятности и преувеличений действия, сжатого в слишком
короткий промежуток времени, против изысканности и фальши-
вого остроумия положений, против противоречий диалога, против
неподготовленности и пустоты большей части развязок, против на-
тянутости и безжизненности; из этих упреков Дидро извлек язви-
1 Все, что содержит в себе достаточно, чтобы пробудить в моем понимании
идею отношений (фр.). —Прим. изд.
2 Ни один из них не имеет такого же масштаба, как и природа (фр.). — Прим. изд.
3 Что имеет природные эффекты, которые нужно смягчить или игнорировать
(фр.). —Прим. изд.
288
тельное заключение, что хотя обыкновенно и думают, что француз-
ская трагедия доведена до высокой степени совершенства, надобно
считать почти доказанным, что из всех родов литературы именно
она осталась самой несовершенной (ср. Лессинга, Dramat., ста-
тья 84). Эти нападения были возобновлены и усилены в драматур-
гических статьях, которые Дидро приложил к обеим своим драмам.
Но эти статьи не останавливаются на одном отрицании; они имеют
целью оправдать и подтвердить научным образом нововведения,
которые он пробует в этих драмах.
Между резко разграниченными родами трагедии и комедии он
вставляет средний род, драму. «Так как человек не всегда только пе-
чалится или радуется, — говорит Дидро (VII, 134), — а всего больше
находится в среднем настроении, то должен быть также и средний
род драмы, как изображение этого настроения». Дидро называет
его genre serieux. Он обнимает трогательную или слезную комедию
и буржуазную трагедию. Поэтому, на основании этого взгляда все
драматическое искусство распадается на четыре рода: на веселую
комедию (comedie gate), которая имеет содержанием порок и глу-
пость; на серьезную комедию (comedie serieuse), изображающую
добродетель и долг; на буржуазную трагедию (tragedie domestique et
bourgeoise, или drame domestique), представляющую наши домашние
несчастья, и на высокую историческую трагедию (haute tragedie),
изображающую общественные события и несчастья великих людей
(VII, 308). Genre serieux не знает стиха; возвышенность стиха про-
тиворечила бы характеру изложенного сюжета. Прозаическая речь
должна сопровождаться живыми жестами. Дидро часто с одушев-
лением говорил о достоинстве пантомимы (I, 354; VII, 377; XVIII,
369 и т. д.). И он часто разбирал живописный и пластический харак-
тер (tableaux) драматических сцен. Дидро положительно прибавляет,
что только этот новый средний род составляет верх и совершенство
всякой драматики. Так как он преимущественно стремится к есте-
ственности, он есть преддверие и пробный камень всякого истинно
поэтического изображения характеров (VII, 136), и вместе с тем, он
бывает тем действительнее, чем ближе и теснее он связан с нашими
собственными обстоятельствами и ощущениями. Это соображение,
а также убеждение его, что комедия исчерпала традиционные ко-
мические характеры, побуждает его требовать, чтобы новая драма-
тика ставила свою задачу в том, чтобы выдвигать на первый план
сословия с их обязанностями и преимуществами, их неудобством
и трагикой. Il те semble que cette source est plus feconde, plus etendue
etplus utile que celle des caracteres1 (150). Особенное ударение он де-
лал при этом на полезности, потому что театр должен быть школой
1 Мне кажется, что этот источник плодотворнее, обширнее и полезнее, чем
у персонажей (фр.). —Прим. изд.
289
нравственности. Общественная драма, которую он думает создать,
должна делать для зрителя и находящегося в подобном сословии
и отношениях тем более убедительным поучающий или предосте-
регающий пример. Одним словом, высший идеал Дидро есть сухая
мораль, вялая буржуазная, поучительность и исправление нравов.
Дидро, как и прежде его основатели слезной комедии, верно пони-
мал недостатки и ограниченность господствующего классицизма;
но вместо одной односторонности он умел только поставить другую
односторонность. Против фальшивого, неестественного идеализма
выступает такой же фальшивый, лишенный всякой идеальной воз-
вышенности, реализм.
Это понимание литературы Дидро перенес и на искусства. Снача-
ла это было по внешнему поводу, потому что в «Энциклопедии» (ста-
тья «Энциклопедия») Дидро даже отвергает в себе любовь к искус-
ствам. В 1759 друг его Гримм просил его писать для Correspondence
litteraire отчеты о парижской художественной выставке, устраивае-
мой каждые два года, и он правильно доставлял эти отчеты до 1771,
и потом еще за 1775 и 1781. Это знаменитые «Салоны». Хотя они
напечатаны были в первый раз только в 1798 в издании Нежона,
отчасти даже только в 1819, но они с самого начала были известны
во всех кружках тогдашнего общества. Дидро исполнил свою зада-
чу так поразительно, что можно сказать по истине, что он первый
создал во Франции художественную критику. Его описания картин
и статуй похожи на маленькие стихотворения; они легки, грациоз-
ны, наглядны, безжалостны к дурному и полны любви к хорошему.
Рядом с ними могут быть названы только художественные описа-
ния Винкельмана, Гёте и Георга Форстера. Его решительные лю-
бимцы прежде всего Верне, пейзажист, и Грёз, жанрист; они всего
лучше подходят к его требованию естественности, они стремятся
создать и создают то, к чему Дидро стремился в поэзии. Но и здесь
Дидро не остается при одном простом и верном требовании есте-
ственности; он преувеличивает его до требования непосредствен-
ной, мелочной верности природе.
Для более глубокого объяснения своих отдельных суждений
Дидро написал еще несколько теоретических статей о сущности
отдельных искусств, из которых самый знаменитый есть «Опыт
о живописи» (1765), переведенный Гёте. Здесь мы встречаем снова
все достоинства и все слабые стороны его драматургических воз-
зрений. Как убедительно и увлекательно выставляет он внутренне
свободное, легкое, непринужденное, естественно-живое! О рисун-
ке, например, он говорит: «заботьтесь не об академических, только
правильных пропорциях, не об академических, безжизненных по-
зах, а об одной природе и действии; наблюдайте полноту и све-
жесть жизни!» Говоря о колорите, он спрашивает, почему так мало
хороших колористов, и отвечает: «Ученик обыкновенно только ко-
290
пирует картины учителя и не всматривается в природу; он видит
всегда только чужими глазами и теряет оттого употребление соб-
ственных». Говоря о светотени, о перспективе, выражении и ха-
рактеристике, он опять указывает на одну действительность; ведь
греки только потому имели такое великое, искусство, что их боги
были вполне человечны и естественны. И из этих принципов Дидро
умеет так глубоко и проницательно выводить во всех отношениях
правильные следствия, что особенно в учении о композиции он
выставляет, и то существенное и необходимое, но все еще недоста-
точно оцененное нашими художниками правило, что художник дол-
жен всегда изображать только одно законченное действие и должен
в особенности остерегаться пестрого и произвольного смешения
исторических и аллегорических образов. Но, с другой стороны, ка-
кие глубокие ошибки, какие прискорбные искажения! Гёте весьма
проницательно и подробно указал их в своем переводе и объясне-
нии книги Дидро. Он метко говорит, что Дидро как будто требует
от художника, чтобы он работал исключительно для физиологии
и патологии, — задача, которую едва ли возьмет на себя гений. Ди-
дро недостаточно ясно и последовательно настаивает на том, что
художник передает не только природу, но вместе и самого себя,
и что так как формы природы не сами служат себе целью, а со-
ставляют только средство для выражения его мысли и ощущений,
то верность природе хотя и необходима, но сама по себе и одна все
еще не представляет полной художественной истины. Тайна всяко-
го художественного обучения состоит в том, чтобы ученик узнал,
чего он должен искать и чем пользоваться в природе.
Гёте в предисловии к своему переводу также очень верно вспо-
минает, что это сочинение главным образом опровергало педан-
тических маньеристов французской школы; что для нас оно вовсе
не законодательство, а только исторический памятник. «Эти пра-
вила, изложенные с таким же умом, как и риторически-софистиче-
ской смелостью, должны были скорее растревожить последователей
и друзей старой формы и дать повод к революции, чем воздвигнуть
новое здание искусства».
Мы можем дать этим словам более обширное толкование. Они
могут быть приложены не только к сочинению Дидро о живописи,
но и к его художественному значению вообще.
Самое верное средство для обсуждения Дидро есть его сравнение
с Лессингом. Они были современники, они оба живут в самом ожив-
ленном взаимодействии, оба преследуют одни цели.
Они оба в одно время и независимо друг от друга почерпали
у англичан. Сначала Дидро был смелее, и через это он приобрел са-
мое могущественное влияние на Лессинга. Когда Лессинг уже занят
был всякого рода раздумьем и нововведениями, но еще не решал-
ся окончательно разорвать связь с господствующим направлением,
291
тогда он встретил те достопамятные сердечные излияния юноше-
ского романа Дидро, и его колебания и робость нашли поддержку
и одобрение. Потому что — несмотря на все возражения против та-
кого мнения в биографии Лессинга Данцеля (2-е изд., I, стр. 467), —
именно сюда относится главным образом признание, сделанное Лес-
сингом еще в 1781 в предисловии ко второму изданию его перевода
Театра Дидро (Lachm., т. 6, стр. 369), что «Дидро имел такую боль-
шую долю в образовании его вкуса, что без его образцов и настав-
лений он принял бы совершенно другое направление; быть может,
направление более оригинальное, но едва ли такое, которым бы
в конце ум его был довольнее». Но скоро Лессинг уходит вперед.
«Мисс Сара Сампсон» написана в 1754—1755; драмы Дидро появ-
ляются несколькими годами позднее. Уважение становится взаим-
ным. Вероятно, Дидро с такой похвалой говорил о пьесе Лессинга
в декабрьском номере Journal etranger, 1761. Он хочет издать пере-
вод этой пьесы вместе с «Сильвией» Ландуа и переводами London
merchant и Gamester (см. выше) в одном томе, от которого сохра-
нился только отрывок предисловия (VIII, 434). Лессинг в 1760 пе-
ревел драмы и драматургические статьи Дидро. Лессингу, ввиду
его немецких противников, должно было казаться крайне приятно
показать, что в своей борьбе против французской драмы он нашел
могущественного союзника в самой вражеской стране. Лессинг
с радостью и гордо указывает в предисловии на то, что даже фран-
цуз начинает отвергать французские образцы; француз, который,
как человек мыслящий, ведет дело дальше и прокладывает новый
путь в неизвестном крае и о котором можно сказать, что после Ари-
стотеля театром не занимался другой более философский ум, чем
он. Но с каждым днем превосходство Лессинга обнаруживается все
более и более решительно. Дидро затерялся в второстепенных сме-
шанных родах драмы и никогда не шел дальше своих первых диле-
тантских опытов; Лессинг стремился к чистой драме, создал «Минну
фон Барнхельм» и «Эмилию Галотти», и в этих пьесах дал превосход-
ные образцы для комедии и буржуазной трагедии. Поэтому нет ни-
чего странного, что удивление Лессинга перед Дидро мало-помалу
значительно уменьшилось; «оказывается, — говорит он в Драматур-
гии 23 февраля 1768, — что разные замечания Дидро, высказанные
им как совершенно новые открытия, были вовсе не новы и не при-
надлежали самому автору, а что другие не имели той основательно-
сти, которая казалась в блестящем изложении». Этого мало. Дидро
проходит мимо Шекспира с боязливым удивлением. Как Вольтер,
он называет его monstre1, но упрекает Вольтера, что тот преуве-
личил значение Шекспира (VIII, 476), и в Paradoxe sur le Comedien
(VIII, 384), он говорит о Шекспире: «Я не буду сравнивать Шекспира
1 Монстр (0р.). —Прим. изд.
292
ни с Аполлоном Бельведерским, ни с капитолийским Гладиатором
или Антонием и фарнезским Геркулесом, но сравню его с св. Хри-
стофором в Notre-Dame, колоссом, который безобразен и безвкусен,
но между ногами которого мы можем свободно пройти». Лессинг,
напротив, признает в Шекспире высшую степень всякой новейшей
драмы, и этим победоносным признанием он навсегда низвергает
предания французского классицизма.
И еще одно замечание. В противоположность художественному
учению Баттё, в его Beaux-arts reduits а ип тёте principe Дидро уже
в 1751 в своем Lettre sur les souds et muets говорил о границах ис-
кусств и, например, высказывал мысль, что для живописи не идет
то, что идет для поэзии: «1е beau moment du poete n’est pas toujours le
beau moment du peintre»1 (I, 385, 403). Он понял, как говорит он, что
каждое искусство владеет своими особенными иероглифами; но он
должен удовольствоваться этим указанием: «й serat al souhaiter
qu’un ecrivain instruit et dёlicat en entrepriti a comparaison»2 (391).
Лессинг, после того как в 1751 подробно и с большим одобрением
говорил о «Письме» Дидро, сделал это в своем «Лаокооне», — кото-
рый, кажется, остался Дидро неизвестен, — и этим по эскизу Дидро
утвердил для всех времен непоколебимую, основу учения о художе-
ственном стиле. Лессинг дал глубокое выражение тому, чтд у Ди-
дро осталось афоризмом Мало того, Дидро в своих художественно
критических статьях довольно часто упускал из виду это признание
различных задач искусств и слишком часто обсуждал произведения
скульптуры слишком мало по их живописному и пластическому
достоинству и слишком много по их достоинству дидактическому,
просветительному, сентиментальному, и подобным образом к про-
изведению живописца применял то же правило, как к произведе-
нию писателя, как бы правило: «1’art pour la morale»3.
Дидро проницателен и вполне напоминает Лессинга своим ука-
занием ложного и неосновательного; но он нетверд и ограничен
в создании нового. Поэтому он является устарелым и недостаточ-
ным там, где Лессинг остается вечно юным и высоким.
Глава третья
Д'Аламбер
Один из основателей «Энциклопедии», д’Аламбер есть одно
из известнейших имен просветительной литературы Франции.
1 Прекрасный момент поэта не всегда прекрасный момент художника (фр.). —
Прим. изд.
2 Желательно, чтобы образованный и изящный писатель провел сравнение
(фр.). —Прим. изд.
3 Искусство для морали (фр.). — Прим. изд.
293
По своей значительной славе, какую он составил себе в матема-
тике, по уважению и влиянию, которыми он пользовался, как вы-
дающийся деятель двух парижских академий, Academic des sciences
и Academic franchise, по своим близким отношениям к Фридриху
Великому и Екатерине, он оказал своей партии самые существен-
ные услуги, и его справедливо восхваляют часто, как ее особенную
опору. Но самые сочинения его лишены оригинальности, силы и ре-
шительности.
Д'Аламбер родился 16 ноября 1717 г. в Париже. Мать его была
известная салонная дама г-жа де Тансен; отец был Детуш, инженер-
ный офицер, брат поэта. Бессовестные родители бросили ребенка;
он найден был вблизи Notre-Dame на ступенях разрушенного теперь
баптистерия St. Jean; ребенок получил имя поэтому месту. Имя,
под которым он приобрел славу, является в первый раз (в форме
d'Alembert) в завещании, в котором умерший в 1726 Детуш поручал
его заботам семейства и назначил ему ренту в 1200 ливров. Ребенок
был слишком слаб для воспитательного дома, и его отдали одной
бедной женщине. Она заботилась о нем с самой горячей любовью,
и д’Аламбер всю свою жизнь сохранил к ней самую верную благо-
дарность и привязанность. Но мать никогда не заботилась о своем
ребенке. Когда на старости ей показалось лестным признать себя
матерью знаменитого математика, он с презрением оттолкнул ее,
и это было справедливым возмездием. Ср. Литер. Переписку Грим-
ма от января 1784.
Его гениальное дарование к математике обнаружилось очень
рано. Уже в 1739 и 1740 д’Аламбер представил академии наук со-
чинение о движении твердых тел в жидкостях и другое сочинение
об интегральном исчислении. В 1742 он стал адъюнктом в Academic
des sciences, но он медленно проходил предварительные ступени, пока
сделался действительным членом академии (1765). Затем последо-
вали Traite de Dynamique 1743, Traite de el'quilibre et du mouvement
des fluides 1744, Reflexions sur la cause general des vents 1747, сочине-
ния о чистом анализе и в 1754—1756 ряд очень важных астроно-
мических исследовании. Но с такой же любовью, хотя и с меньшим
творчеством, д’Аламбер занимался и философией. В 1750 году он
написал научное введение к «Энциклопедии», Discours preliminaire;
этот труд имел такой блестящий успех, что в 1754 д’Аламбер был
выбран в члены французской Academic des lettres. Фридрих Великий
несколько раз приглашал д’Аламбера в президенты берлинской ака-
демии. Д’Аламбер отклонил это предложение, хотя был искренно
обязан и привязан к королю через ежегодную пенсию, через лич-
ные посещения в Везеле (1755) и Берлине (1763) и долговременную
дружескую переписку. Императрица Екатерина предлагала ему са-
мые блестящие условия, чтобы он сделался воспитателем ее сына,
и написала ему письмо, которое современники сравнивали с пись-
294
мом Филиппа Македонского к Аристотелю, и которое (Oeuvres de
d’Alembert, ёdition Bastien 1805, I, стр. XXXIV) действительно сви-
детельствует о редком благородстве души. Но д’Аламбер отказался
и от этого. Он не мог расстаться с старыми, любезными ему лицами
и отношениями. Он по-прежнему жил у своей старой няньки, хотя
помещение было так тесно и помещалось в такой узенькой ули-
це (Rue Michel le Comte), что он справедливо мог писать 8 февраля
1758 к Вольтеру, что его жилище — пещера, из которой он видит
только три аршина неба. И когда наконец его доктор заставил его
взять более здоровую квартиру (письмо к Вольтеру от 13 августа),
он поселился в 1765 в более удобном доме на бульваре du Temple,
где поселилась также и его приятельница т-11е л’Эспинас, которая
была предана ему с самой сердечной и чистой дружбой и помога-
ла ему в его литературных работах. По смерти ее в 1776 он занял
казенную квартиру в Лувре. Он умер 29 октября 1783 от тяжелой
и продолжительной каменной болезни.
Все современники единогласно говорят о нем, как о любезном
и справедливом человеке. Он был благотворителен и готов на са-
мопожертвование. Тонкой светскости у него не было, и, как Руссо,
хотя и в меньшей степени, он с некоторым самодовольством выка-
зывал свою светскую неловкость. Он мог быть необузданно весел,
даже до шутовства. Мармонтель, в шестой книге своих Записок,
прибавляет, что в этой легкой любви к удовольствиям отражалась
его чистая душа, свободная от страсти и довольствовавшаяся сама
собой. Но точно так же единогласно современники упрекают его
в холодности и недостатке энергии. Д’Аламбер сам признавал в себе
недостаток мужества; Мейстер рассказывает в замечательном вос-
поминании, которое посвящено д’Аламберу в «Литер. Переписке»
в январе 1784, как во время страданий, которые привели его конец,
он говорил: «Как счастливы те, у кого есть мужество; у меня его нет
никакого». Эта робость характера делала и его мышление робким
и несвободным.
В учении о познании д’Аламбер вполне стоит на почве Бэкона
и Локка; как и все люди его партии, он выводит человеческое позна-
ние просто из чувственного опыта. Но во всех вопросах о сущности
божества и человеческой душе он робко отступает назад и не нахо-
дит никакого решающего ответа.
Самое известное философское сочинение д’Аламбера есть его
Discours preliminaire. Д’Аламбер положительно говорит, что как
мысль о необходимости такого систематического изложения нау-
ки, так и способ выполнения и внутреннего разделения заимство-
ваны из великого образца Бэкона Веруламского. Как Бэкон делит
духовный мир или, говоря его собственным выражением, globus
intellectuals, по тому, сколько есть в нас духовных сил для отраже-
ния и изображения в нас действительного мира, и отсюда на осно-
295
вании и по мере памяти, фантазии и рассудка выводит различные
духовные области истории, так и у д’Аламбера удержано в сущности
то же деление, с той только разницей, что он обобщает основание,
и на место Бэконовой группировки человеческой духовной жизни
является группировка на науку, искусство и философию. И наконец
он присоединяет духовную историю последних столетий, в тонкой
и меткой общей характеристике; цель ее — показать, что прогресс
этой духовной истории состоит в том, чтобы эту старую полигисто-
рическую ученость поднять до строгого единого понятия и до по-
следовательности философского познания. Для нас, знающих подоб-
ные великие исследования Шеллинга и Гегеля, несколько забавно
мнение современников, что такое глубокое и широкое произведе-
ние будет написано разве только однажды в целое столетие; но не-
сомненно, что до тех пор еще никогда не было такого прекрасно
развитого, здравого и наглядного очерка.
Кроме этого, Discours preliminaire д’Аламбер написал еще преди-
словия к третьему и шестому тому «Энциклопедии» и рядом с мате-
матическими статьями доставлял и статьи общего содержания, на-
пример, College, где он не весьма благоприятно отзывается о своем
школьном времени у мрачных янсенистов, и, по поводу посещения
Вольтера (1756), Geneve, где выставлены робко протестующие же-
невские пасторы и Руссо.
По побуждению Фридриха Великого д’Аламбер написал Essai sur
les elements de philosophic. План его также энциклопедический; ос-
нования логики, метафизики, нравственного учения, грамматики,
алгебры, геометрии, механики, астрономии, оптики, гидростати-
ки, гидравлики и общего учения о природе представлены в про-
стом и ясном изложении. Точка зрения крайне характеристична.
Логика — строго сенсуалистическая; единственным источником
познания признается чувственный опыт. Но те вопросы, о которых
тогда всего больше думали и спорили, — вопросы о бытии и лично-
сти Бога, о духовности и бессмертии души, о свободе человеческой
воли, — или совершенно обойдены, или затронуты только слегка.
В нем очень заметны сомнения и нерешительность, внутреннее
раздвоение, а иногда и боязливая сдержанность ясно понимаемой
мысли, когда введение и метафизическая часть рассматривают
откровенную веру, как естественное и необходимое дополнение
человеческого ума. Точно также, в начале третьей части (II, 179),
в нравственном учении, которое излагает обязанности человека, за-
конодателя, гражданина, положительно удалено и отнесено к тео-
логии все, что касается наших обязанностей к божеству, и таким
образом откровенная вера также признается дополнением морали.
Эти чисто внешние уступки церковности принадлежат к обык-
новенной тактике просветителей. У д’Аламбера они выступают
сильнее и очевиднее, чем у его сотоварищей. Это проистекало
296
единственно из его личной боязливости. «La crainte des fagots est
tres raffraichissante»1, — пишет он Вольтеру в то время, когда он,
по робости, устранился от редакции «Энциклопедии». Но у д’Алам-
бера было для этого и другое побуждение, а именно убеждение, что
большую ошибку делают те, которые стараются слишком поспешно
разрушать религиозные мнения большой публики бурными книга-
ми. «Vouloir trop brusquement ёс1апег les hommes renfern^s dans les
ГёпёЬгез, c’est non seulement risquer de les aveugler, c’est risquer de leur
rendre la lumiere odieuse, en leur faisant croire qu’elle est un mal»2, —
говорит он в недавно изданной статье о свободе печати (Oeuvres et
corr. indites p. p. Ch. Henry, Paris, 1887).
Остальные сочинения д’Аламбера, его Eloges, т. е. биографии
умерших академиков, и сочинение об уничтожении иезуитов, от-
личаются блестящим изложением, но не имеют глубокого фило-
софского значения. Похвальные слова, которые он стал с новой
ревностью писать, с тех пор как сделался секретарем французской
академии (1772), и которыми он любил получать одобрение трибу-
ны, несмотря на всю перестрелку с преданием, представляют много
уступок клерикализму. Д’Аламбер вообще умерен в похвалах и хо-
лоден; но он не прочь приправлять свои речи всякими шутками,
что дает им несколько характер болтовни. Сочинение об иезуитах
(Histoire de la destruction desjesuites en France, par un auteur desinteresse,
1765) есть сочинение в духе партии и в смысле сильного стремле-
ния к терпимости и свободе совести; но его нападение еще больше,
чем против изгнанных иезуитов, направляется против ненавистных
янсенистов.
При этих обстоятельствах очень понятно, что д’Аламбера не од-
нажды сравнивали в насмешку с Фонтенелем. Сам д’Аламбер в пре-
дисловии к своим академическим похвальным словам, где он кри-
тикует своего предшественника Фонтенеля (VI, 10, 18), указывает
на то, что он по положению академика имеет известные соображе-
ния и обязательства. В своих письмах, не назначенных для публич-
ности, в доверенных и искренних беседах, он открыто высказывает
свои философские убеждения: он сомневается во всяком достовер-
ном историческом и метафизическом познании, не склоняясь, од-
нако, к материализму Дидро. Его письма удаляются от всего, о чем
уже кричали на площадях, как о готовой и законченной истине.
И здесь всюду только сомнение, признание в незнании. 29 августа
1769 (Сочинен., т. 5, стр. 186) д’Аламбер пишет к Вольтеру: «Чест-
ное слово! Во всем метафизическом тумане я нахожу разумным
только скептицизм; у меня нет ясного и полного понятия ни о мате-
1 Страх связок [прутьев] очень ободряет (фр.). —Прим. изд.
2 Слишком внезапное желание просветить людей, запертых во тьме, означает
не только риск ослепить их, но и риск сделать свет одиозным для них, заставив их
поверить, что это зло (фр.). —Прим. изд.
297
рии, ни о чем-нибудь другом; по истине, каждый раз, как пускаюсь
об этом в размышления, я начинаю думать, что все видимое нами
есть только чувственное явление, что вне нас нет ничего, соответ-
ствующего тому, что мы думаем, что мы видим, и я всегда возвраща-
юсь к вопросу индейского царя, — почему есть что-нибудь? потому
что в самом деле это и есть самое удивительное». Таким же обра-
зом пишет он 2 августа 1770 к Фридриху Великому (ib., стр. 296):
«Изречение Монтеня “что я знаю?” кажется мне единственно раз-
умным во всех философских вопросах. Скептицизм уместен именно
в вопросе о божестве. Во вселенной, особенно в строении растений
и животных, есть сопоставления и соединения отдельных частей, ко-
торые, по-видимому, положительно указывают на сознательный ум,
как часы указывают на существование часовщика. Это неоспоримо.
Но идите теперь дальше. Спрашивается, каков этот ум? Создал ли
он действительно материю или только устроил материю уже суще-
ствовавшую? Возможно ли создание и, если нет, вечна ли материя?
И если материя вечна, то принадлежит ли этот ум самой материи
или существует отдельно от нее? Если он принадлежит материи,
есть ли материя Бог и Бог материя? Если Он отделен от материи,
то каким образом существо, которое не есть материя, может дей-
ствовать на материю? Ответ всегда остается только: “что я знаю?”»
И совершенно с тем же печальным чувством отрицания говорит он
в этих письмах о сущности души, о бессмертии, о свободе воли.
Математик считает прочным только то, чтд доказано вполне.
«11 suffit qu’une chose ne soit pas capable de ddmonstration pour qu’il
s’en soucie tres peu; tout parti lui devient alors indiffdrent»1, — пишет
о д’Аламбере Луи Неккер, брат министра. И д’Аламбер подтвержда-
ет это, когда в своей автобиографии (1760) говорит: «Кроме точных
наук, мне почти ничто не кажется столь ясным, чтобы мнения о том
не могли расходиться, и потому мое любимое правило то, что почти
обо всем можно сказать все, чтд угодно».
Вольтер, всегда находчивый на меткие слова, называл обыкно-
венно д’Аламбера в шутку Протагором. То, что хотел он этим ска-
зать, не подлежит сомнению; Протагор также оспаривал возмож-
ность твердого, фактического, положительного познания.
Глава четвертая
Робине и Гольбах
У Дидро все еще есть немножко Лейбницова идеализма. Вечные
атомы, из которых, по мнению Дидро, произошла вселенная, имеют
свою деятельность и ощущения; в них создает и господствует вну-
1 Достаточно лишь одной вещи, способной продемонстрировать, что он о ней ма-
ло заботится; каждая партия становится тогда к нему безразлична (0р.). — Прим. изд.
298
тренняя органическая жизненная сила, связанная, но побуждающая
мировая душа.
На той же точке зрения стоит Жан Батист Рене Робине,
род. 23 июня 1735 в Ренне и ум. там же 24 января 1820. Его книга
De la Nature, которая начала выходить в Голландии в 1761, в разных
отношениях примыкает к Interpretation de la nature Дидро, хотя ни-
где не называет его имени. Она произвела в свое время большое
впечатление (ср. Bachaumont, Мёгп. seer., от 22 февраля и 28 марта
1762), а Дидро очевидно в свою очередь был возбужден им в учении
своего Entretien entre d'Alembert et Diderot.
Гегель еще с уважением говорит о нем в своей истории фи-
лософии (т. 3, стр. 520), и потом его вспоминали Дамирон
в Memoires pour servir a I’histoire de la philosophie du dix-huitieme siecle
1858 (t. 2, стр. 480 и далее), Ланге в Geschichte des Materialismus
1873 (стр. 313 и далее) и К. Розенкранц в Neue Studien 1875 (т. 2,
стр. 344 и далее).
С одной стороны, это есть самое странное искажение Лейбни-
цова учения о монадах. Все вещи без различия, растение, камень,
воздух, огонь, вода, даже земля и небесные тела составляют про-
дукт чувствительных частиц материи, это живые органические ин-
дивидуумы, которые питаются, растут и производят; toute matiere
est vivante1, есть только одно царство природы — царство животных;
все есть animalite. Но, с другой стороны, твердое стремление совер-
шенно устранить все теологизирующие притязания и оболочки.
Конечно, и Робине говорит еще о божестве, как о непостижимой
для нас, по существу, причине творения. Но он тотчас прибавляет,
что придавать этой непостижимой причине живую и сознательную
личность и особенные свойства было бы только обманчивым и пре-
ступным очеловечением. Все рассуждения Робине заключаются
единственно и исключительно в изображении саморазвития мате-
рии и ее различных форм. В своих все обновляющихся опытах тво-
рения природа достигает до образования человека, ее мастерского
произведения. Камни, растения, животные — не что иное, как не-
совершенные опыты матери природы создать человека. Затем, эти
мысли Робине развил особенно в своих Considerations philosophiques
sur les gradations naturelles des formes de Petre ou les essais de la nature
qui apprend a faire Phomme (1768).
Соответствие между духом и телесным миром не есть уже прихо-
дящее извне, предопределенное божественное устроение, но непре-
ложная необходимость самого телесного мира, в котором пребыва-
ет зерно духа. «Определения, от которых происходят добровольные
движения машины, сами имеют свой источник в органическом
(механическом) действии машины». Подробное применение этих
1 Вся материя жива (фрд. —Прим. изд.
299
основных мыслей Робине дал особенно и философской стороне, —
в четвертой главе, которая носит чрезвычайно характерное загла-
вие De la physique des esprits. Дух, коренящийся в теле, пребывает
и растет только в теле и вместе с телом, думает и желает, живет
и ощущает только в нем и через него. Дух необходимо привязан
к телесной жизни; вся деятельность мысли и воли основывается
на нервах.
Робине исходит из знаменитого вопроса о происхождении зла.
Он выводит необходимость зла из экономии природы, в которой
все погибает и все, однако, восстановляется. Но где взять средства
для этого восстановления, если не в целом? Мир должен разделить-
ся между жизнью и смертью; все существа, пожирающие и пожи-
раемые, содействуют продолжению рода не только своей жизнью,
но и своей смертью; новые поколения живут на счет старых. Таким
образом природа есть вечное передвижение, — и притом не только
природа как целое, но и каждая отдельная часть ее, каждое существо
имеет в себе живое зерно, или, как выражается Робине, des animaux
spermatiques1; — не только царство животных, но точно так же рас-
тения, минералы, воздух, огонь, вода, земля, даже звезды. Жизнь
индивидуума есть не что иное, как развитие этого зерна. Дух необ-
ходимо связан с нервной жизнью; на ней основана вся деятельность
мысли и воли. J’ai ипе matiere organisee, vivifiee, animee; mais peut etre
ilfaudrait que les autres eussent mes yeux pour voir le meme phenomene2.
Противоречия и неясности этой точки зрения увеличиваются,
когда в этом чисто материальном развитии и рядом с ним опять
возвращается вера в Бога, хотя, конечно, только в смысле единой,
творящей, но необъяснимой причины, приписывать которой лич-
ность и особенные свойства было бы только преступным и обман-
чивым антропоморфизмом.
Вскоре материализм освободился и от последней идеалистиче-
ской оболочки.
Это сделано было в столь знаменитой Systeme de la Nature, ко-
торая вышла в 1770 и своей смелостью и прямотой привела весь
образованный мир в удивление и ужас.
В мире не существует ничего, кроме вечной, сама собой суще-
ствующей материи и ее движения. Все от нее происходит и в нее
возвращается. Везде господствует строгая необходимость, внешний
механизм.
Основная мысль высказана ясно уже в предисловии. Человек,
как говорится там, должен быть приведен снова к природе и раз-
уму; он несчастлив только от того, что не знает природы. Он хотел
1 Семенные животные (фр.). —Прим. изд.
2 У меня есть материя организованная, оживленная, одушевленная; но, воз-
можно, было бы необходимо, чтобы другие имели мои глаза, чтобы увидеть то же
явление (фр.). —Прим. изд.
300
быть метафизиком, прежде чем был физиком; он презирал действи-
тельность, чтобы гоняться за призраками, которые ослепляют разум
и сбивают с настоящей дороги, как блудящие огоньки ночного пу-
тешественника. Поэтому сочинение разделяется на две части. Пер-
вая дает основные черты нового воззрения, которое объявляет себя
самым открытым материализмом; вторая, чисто полемическая, ста-
рается уничтожить и ослабить теологию и философию — насколько
эта последняя примыкает к теологическим положениям — указани-
ем их психологического происхождения. Первая часть носит загла-
вие «О природе и ее законах, о человеке, о душе и ее способностях,
о бессмертии и о блаженстве»; вторая — «О божестве, о доказатель-
ствах бытия божия, о божественных свойствах, о влиянии божества
на счастье людей».
Более важна первая часть. Она рассматривает с своей точки зре-
ния главные вопросы учения о природе, о душе и о нравственно-
сти, — конечно, в очень коротких и сухих очерках.
Во-первых. Метафизика, или учение о природе, гл. 1—5. Чело-
век есть произведение природы; он существует только в ней и свя-
зан с ее законами; он не может освободиться от этих законов, даже
в своей мысли. Существа, которые представляются стоящими выше
природы и отдельно от нее, — всегда одни призраки; ясное и истин-
ное понятие о свойстве и пребывании таких существ просто невоз-
можно. Поэтому пусть человек подчинится этим границам и пусть
сделает самую окружающую его природу исключительным предме-
том своего исследования! Если он сделает это, ему будет ясно, как
неудовлетворительно это любимое деление человека на чувственно-
го и духовного. Человек — существо, вполне чувственное; его духов-
ная природа есть та же самая его чувственность, только рассматри-
ваемая с известной точки зрения. Все наши мысли, движения воли
и действия — только необходимые результаты сущности, вложен-
ной в нас природой, и обстоятельств, которыми природа принужда-
ет нас испытывать внешние впечатления, а через них и внутренние
настроения. Человек сделал себе богов, владеющих его надеждами
и его страхом, единственно по незнанию природы и недостатку
опыта. Природа равно далека от доброты и от ненависти, и когда
она производит и уничтожает существа и раздает доброе и злое,
она следует своим необходимым и ненарушимым законам. Природа
представляет нам только бесконечную и непрерывную цепь причин
и действий. Весьма разнообразные и весьма различно составленные
материи беспрестанно принимают и отдают различные движения;
из этих различных движений и соединений необходимо происхо-
дят различные качества и формы бытия вещей. И человек с своим
чувством, мыслью и действиями есть результат и осадок таких под-
вижных и через эту подвижность соединенных между собой частиц
материи. Таким образом то, что люди называют Богом, есть скорее
301
только сама материя, и ее постоянное движение и деятельность —
основная черта природы. — Все увеличивается и уменьшается, про-
исходит и уничтожается. Все находится в постоянном изменении;
ни одна вещь не остается в покое, хотя в сравнении с более сильным
движением других вещей она и кажется находящейся в покое. Всю-
ду вечное превращение природы, постоянное изменение материи,
круговое движение всех частиц. Частицы (molecules) разделяются,
чтобы образовать новые тела; одно тело питает другое; занятые ча-
сти материи возвращаются опять в общую массу; сумма материи
остается всегда одна и та же. Но отсюда же в природе и неизбежная
необходимость. Видимая цель всех движений тел есть сохранение
настоящей формы их бытия, т. е. привлечение благоприятного, от-
странение враждебного. Но все эти движения тела необходимы, по-
тому что причины их лежат в его сущности и бытии; каждое суще-
ство по присущим ему свойствам может действовать только так, как
оно действует. Наблюдение необходимых и правильных движений
в природе породило понятие о мировом порядке; что противоречит
этому порядку, то обозначается большей частью как беспорядок.
Но на самом деле в природе не может быть ни порядка, ни беспо-
рядка, ни правильности, ни неправильности, так как все соверша-
ется необходимо и по вечным законам. Так, например, и револю-
ции: «Dans les convulsions terribles qui agitent quelquefois les зойёгёз
politiques et qui produisent souvent le renversement d’un empire, il n’y
a pas une seule action, une seule parole, une seule решёе, une seule
volonte, un seule passion dans les agens qui concurent a la revolution,
comme destructeurs ou comme victimes, qui ne soit necessaire, qui
n’agisse comme elle doit agir, qui n’opere infailliblement les effets qu’elle
doit орёгег, suivant la place qu’occupent ces agens dans ce tourbillon
moral»1 (Londres, 1771,1, 56). Понятия порядка и беспорядка — про-
извольные представления, которым не отвечает действительность.
Смерть, например, является нам как величайший из всех беспо-
рядков, а между тем она есть только изменение наших составных
частей, переход в другую форму бытия. Чудеса, т. е. действия, про-
тиворечащие неизменным законам природы, невозможны; то, что
является как чудо, есть или выдумка и обман, или явление, которое
мы приписываем воображаемым причинам, потому что настоящая
его причина нам неизвестна. Точно также, если мы говорим о руко-
водящем мировой порядок сознательном разуме, то это представле-
ние совершенно произвольное, приноровленное к нашим челове-
1 В ужасных конвульсиях, которые иногда провоцируют политические общества
и которые часто приводят к свержению империи, нет ни действия, ни единого сло-
ва, мысли, воли, страсти в агентах, которые борются за революцию, кроме как раз-
рушитель и жертва, которые не необходимы, не будут поступать так, как должны,
не воздействуют на явления, на которые они должны воздействовать, в зависимости
от места, занимаемого этими агентами в этом моральном вихре (0р.). —Прим. изд.
302
ческим свойствам и способностям. Так как человек чувствует себя
не в состоянии произвести могущественные действия природы, он
старается объяснить их себе тем, что способности того существа,
которое он делает виновником и хранителем мира, он представ-
ляет себе наподобие своих собственных качеств и способностей,
только гораздо больше и могущественнее. Но как же это может
быть? Не должно ли такое сознательное, мыслящее и действующее
существо иметь и известные чувственные органы, потому что без
чувственных органов нет идей и действий? Таким образом падает
мнение о сверх- и внемировом существе. Но это мнение и не нужно.
Сама материя, достигши известной ступени своего развития, при-
нимает действие, сознание и жизнь.
Во-вторых. Учение о душе, гл. 6—14. Человек подчинен такой же
необходимости, как и вся остальная природа. И жизнь человека есть
не что иное, как, непрерывная цепь необходимых и постоянных
движений, которые проистекают из частиц материи тела, из крови,
нервов, мяса и костей, или из внешних причин, как воздух и пища.
Как все другие вещи, так и человек стремится к сохранению своего
бытия, противодействует своему уничтожению, обращается к само-
му себе, ищет того, что ему родственно, избегает враждебного. Все
ощущения, идеи, страсти, решения воли, действия — необходимые
следствия этой внутренней его сущности, которая есть сущность
всей природы. Источник всех заблуждений заключается в том, что
человек воображает себе, что он действует по собственной силе
и власти, независимо от высших законов природы и от влияния
внешних предметов. Но разве человек не видит, что его темпера-
мент вовсе не находится в его власти, и что, однако, его страсти
обусловливаются единственно этим темпераментом? Человек есть
не что иное, как материальное существо, но организованное для
ощущения и мышления. Но отсюда не следует, что он вечен, как са-
мая материя; материя вечна, но ее отдельные формы и соединения
не вечны.
Человек произошел в известный период развития земли и раз-
личен по различным странам земли; сущность его останется
до тех пор, пока останется нынешнее качество земли; но если это
качество изменится, то и человек должен будет уступить свое ме-
сто другим существам, которые будут соответствовать этому ка-
честву. Человек не имеет никакого права считать себя существом
привилегированным; эта мысль основывается только на высоко-
мерии и себялюбии. Поэтому то, чтд мы называем душой, есть
в сущности только свойство материи. Душа разделяет все ощу-
щения тела, чувствует вместе с ним лень, силу, бессилие, смерть;
это само тело, рассматриваемое исключительно по некоторым
из своих отправлений. Мозг есть средоточие, в котором сходят-
ся все нервы, т. е. все органы так называемых деятельностей
303
души. Основание всех этих деятельностей, ощущение, возбужда-
ется тогда, когда внешние предметы действуют на соединенные
с мозгом телесные органы, т. е. на чувства; и изменчивость и бы-
строта ощущений, так много зависит от качества мозга и нервов,
что только большая подвижность мозга возвышает человека над
менее чувствительными животными и над безжизненными пред-
метами, точно так же, как большая или меньшая степень этой
подвижности создает и между самими людьми различие боль-
ших или меньших способностей. То, чтд мы принимаем относи-
тельно духовной жизни, может быть сказано и о нравственной.
Нравственные свойства и деятельности также зависят от темпе-
рамента, который определяется просто свойствами наших роди-
телей, воспитанием, климатом, образом жизни и в особенности
государственным и общественным устройством. К сожалению,
существующие отношения — не что иное, как система грабежа,
которая разнуздывает худшие наклонности человека. Общество,
основанное первоначально договором (pacte 1, 152), изврати-
лось; правление требует божественного происхождения. Между
тем существует право отменить его на основании pacte social1: «il
est dvident que la socidtd peut changer la forme de son gouvernemet,
quand son intdret 1’exige»2. — Спиритуализм внес в нравственное
учение самые произвольные и неосновательные воззрения. Если
вместо предрассудка обратиться к действительному опыту, то мы
гораздо больше стали бы обращать внимания на качества нашего
тела и в исцелении тела искали бы и исцеления души. Поэтому
нет ни врожденных идей, ни врожденного нравственного инстин-
кта; то, чтд мы называем этим именем, перешло к нам, когда мы
еще не сознавали себя самих, в первые времена детства, через
чувства, воспитание, пример и привычку. И этого мало; не су-
ществует также и свободы воли, и личного бессмертия. Учение
о свободе воли вырывает человека, составляющего только одну
отдельную часть, из связи и необходимости целого. Если бы че-
ловек в самом деле мог быть свободен, то он был бы или силь-
нее целой природы, или стоял бы совершенно вне ее; но в обоих
случаях он перестал бы действовать так, как действует теперь.
Основное побуждение человека есть его стремление к счастью
и самосохранению; отсюда проистекают все движения его ма-
шины; если человеческая воля желает полезного и отвращается
от вредного, то это не свобода, а необходимость его существа. Та-
ким образом над человеческой волей господствует не она сама,
а свойства внешних вещей. И даже если человек выбирает между
1 Социальный договор (фр.) - —Прим. изд.
2 Очевидно, что общество может изменить форму своего правления, когда этого
потребуют ее интересы (фр.). —Прим. изд.
304
приманкой того или другого предмета, то и этот, по-видимому,
самостоятельный выбор вовсе не доказывает его свободы. Меня
одолевает жажда, и я хочу пить; мне говорят, что вода, которую
я вижу, заражена, и я не беру ее. Можно ли думать, что я здесь
свободен? Одно побуждение бывает сильнее другого; нерешитель-
ность прекращается, как скоро воля направлена достаточным по-
буждением; воля, или скорее, мозг похожи в этом случае на шар,
который получил толчок по прямой линии и внезапно от друго-
го неожиданного толчка принимает другое направление. Отсюда
происходит в таких случаях тяжелое и боязливое чувство; мозг
содрогается в различные стороны. И в этом выборе также перевес
дает только свойство нашего тела и способ ощущения, так или
иначе образовавшийся через опыт, воспитание и привычку. И это
разнообразие и пестрое сплетение причин, действующих на наши
поступки, и затрудняют так сильно определение истинных и по-
следних причин. Но как же, спрашивают обыкновенно, при этом
предположении безусловной необходимости допускается право
наказывать преступления, тогда как непроизвольные действия
не могут быть предметом наказания? Это возражение совершен-
но неосновательно. Злые люди — люди безумные, и другие имеют
право защищаться от них. Учение о необходимости не поощряет
преступника и не заглушает раскаяния; оно только побуждает
к кротости и снисходительности. Бессмысленно также говорить,
что оно унижает человека до машины. Ведь целая природа есть
также машина, в которой человек составляет только одну часть;
а кто не восхваляет красоты природы? Как свобода воли противо-
речит вечным законам природы, так противоречит им и личное
бессмертие. Вера в бессмертие проистекает из стремления к веч-
ному продолжению. Но где же доказательства, что желание есть
и действительный факт? Душа есть только ощущение, мышление,
страдание и наслаждение тела; кончается тело, то нет и нужных
возбуждений для ощущения; без чувств нет мысли и ощущения.
Кто полагает, что душа продолжает ощущать и мыслить и после
смерти, тот должен также полагать, что часы, разбитые в куски,
продолжают показывать время и потом. Как странно, что столько
людей, которые хвалятся твердостью своей веры в бессмертие, не-
смотря на то, так привязаны к настоящей жизни и ничего не бо-
ятся хуже смерти! И эта вера даже не полезна. Дурных людей она
не удерживает от дурных дел; но тот, кто не ожидает второй жиз-
ни, старается сделать себя счастливым в этой жизни, и это счастье
он может найти только в стремлении к любви других людей.
В-третьих. Нравственное учение, гл. 15—17. Любопытно, что эта
заключительная статья носит заглавие «О человеческом блажен-
стве». Главное побуждение человеческих действий есть эгоизм, за-
бота о собственном счастье и благосостоянии. L’interet ои le desir du
305
bonheur est I’unique mobile de toutes nos actions1 (I, 343). Но истинное
блаженство заключается только в добродетели. Добродетель не ис-
ключает себялюбия; но она допускает его только в той степени, на-
сколько оно согласно с общим счастьем людей. Другие люди благо-
приятствуют моему счастью только в таком случае, если мое счастье
не мешает их счастью. Таким образом для своего счастья я должен
искать их дружбы, признания и помощи; мне выгодно быть добро-
детельным. Добродетель есть искусство делать себя счастливым, со-
действуя счастью других: «La vertu n’est que Part de se rendre heureux
soi-meme de la ГёИсйё des autres»2 (344). Человек добродетельный
всегда счастлив; даже тогда, когда его не ценят, справедливость его
дела служит ему утешением против людской несправедливости:
«Quand 1’univers entier serait injuste pour 1’homme de bien, il lui reste
avantage de s’aimer, de s’estimer lui-meme, de rentrer avec plaisir dans
le fond de son coeur... nulle force ne peut lui ravir 1’estime шёгйёе de
lui-meme»3 (351). Если мы видим на земле так мало добродетели,
то виной этого единственно испорченность нашей церковной и го-
сударственной жизни. Человек живет несчастливо, потому что ему
сказали, что он рожден для бедствий; он ненавидит добродетель,
потому что ему представили ее враждебной его удовольствию. И че-
ловек бывает часто дурен только потому, что при господствующих
обстоятельствах дурное для него выгодно. Пусть сделают людей
просвещеннее и счастливее, пусть преобразуют общество, удалят
его испорченность, пусть устроят, чтобы родина для большого числа
своих жителей перестала быть мачехой, и тогда люди будут лучше
(стр. 166, 317).
Вторая часть, заключающая критику религии, не важна. Проис-
хождение религии указывается в чувстве зависимости от сил при-
роды, в чувстве страха. Выставляются, как в новейшей немецкой
философии, слабые стороны и недостаточность доказательств бы-
тия божия. Деистические и даже пантеистические воззрения так-
же не находят никакой пощады. По примеру Бейля, в напыщенном
панегирике восхваляется счастье, которое господствовало бы в го-
сударстве безбожников. В восторженной заключительной главе
«О счастье добродетели» можно узнать сотрудничество Дидро. Эта
книга нравилась ему; он называет ее учение философией цельной,
какую он любит (Oeuvres, II, 398).
1 Интерес или желание счастья — единственный двигатель всех наших дей-
ствий (фр.). —Прим. изд.
2 Добродетель — не что иное, как искусство осчастливить себя ради счастья
других (фр.). —Прим. изд.
3 Когда вся вселенная будет несправедливой по отношению к хорошему чело-
веку, у него все еще есть преимущество любить себя, уважать себя, находить с удо-
вольствием убежище в глубинах своего сердца... никакая сила не может лишить его
заслуженного уважения к себе (фр.). —Прим. изд.
306
Эта Systeme de la Nature похожа на отчет большого торгового
дома. Вы видите, как начинаются и растут все отдельные предпри-
ятия, и когда находите наконец общую цифру, она поражает вас,
как нечто внезапное и неожиданное. Книга везде возбудила силь-
нейшее негодование. Духовенство и парламент вмешались в дело,
и общественное мнение приняло их сторону. Мы смело можем при-
нять за выражение общего настроения слова Гёте в одиннадцатой
книге «Поэзии и Правды» (т. 22, стр. 51), где он признается, что
хотя он понял уже многое, что могло бы показаться обыкновен-
ному человеку вредным, духовенству опасным, государству недо-
зволительным, но что в этой книге он, однако, нашел все таким
серым, киммерийским, мертвым, что едва мог выносить ее присут-
ствие и пугался ее, как привидения. Сама партия также раздели-
лась. Деисты в особенности были неприятно испуганы «Системой
Природы». Вольтер не уставал уничтожать то серьезно, то насмеш-
кой се maudit livre qui est un peche coutre nature1 (XVIII, 98, 369; XX,
439 и далее, в его письмах от 27 июля, 8 августа, 28 октября, 1 но-
ября 1770 и т. д.). Фридрих Великий писал в гневе особое опровер-
жение (ср. Сочин. Вольтера XLVII, 132). Недоволен был и мягкий
д’Аламбер (письмо от 4 августа к Вольтеру). Даже беззаботный,
вечно улыбающийся аббат Галиани писал с явной досадой, что та-
кой образ мыслей есть банкротство знания, удовольствия и челове-
ческого ума (ср. Corresp. тёб. de 1’аЬЬё Galiani, изд. Пере и Могра.
Paris 1881,1, стр. 203). Только Дидро и его ближайший кружок оста-
лись на стороне книги.
Systeme de la Nature вышла в свет под именем Жана-Батиста Ми-
рабо (Mirabaud'), который умер 24 июня 1760, восьмидесяти пяти
лет от роду, непременным секретарем академии. Уже в то время эта
маска не обманула никого. Вольтер говорит (VIII, 98), что добрый
Мирабо неспособен был написать ни одной строки этой книги. Те-
перь не подлежит никакому сомнению, что автором ее был Гольбах.
По смерти Гольбаха, Гримм в Литер. Переписке (август, 1789) выдал
долго хранившуюся тайну, и с этим согласны известия других совре-
менников (ср. Морелле, Мемуары, Paris 1822,1, стр. 138). В некото-
рых частях изложения участвовали также Дидро, Лагранж и Нежон.
Поль Генрих Дитрих барон Гольбах был немецкого происхожде-
ния. Он родился 1723 в Эдесхайме в Пфальце, но уже рано прибыл
в Париж и получил вполне французское воспитание. Первым пред-
метом его изучения были естественные науки, главным образом
химия. По рассказам Гримма, в упомянутом некрологе в его Пере-
писке, он перевел на французский язык много немецких сочинений
по химии; ему принадлежит много химических статей в Энцикло-
педии. Но впоследствии, особенно по влиянию Дидро, он обратил-
1 Эта проклятая книга, которая является грехом против природы (фр.). —Прим. изд.
307
ся к философии. Чрезвычайно богатый, он сделал свой дом одним
из самых любимых сборных мест для философских кружков.
Systeme de la Nature есть замечательнейшая книга Гольбаха;
за ней идет ряд других сочинений, которые защищают и объясня-
ют ее дальше и принадлежат тому же автору. Их нелегко узнать
с точностью; они всегда выходили без имени Гольбаха и с фаль-
шивым местом печатания. (Ср. Querard, La France Litt^raire, vol. 4,
стр. 118, след.). Мы можем различить два разряда: одни сочинения
рассматривают больше метафизическую сторону, другие — нрав-
ственную и политическую. К первому разряду принадлежат Lettres
a Eugenie ои preservatif centre les prejuges 1768, которые, очевидно
подражая «Письмам к Серене» Толанда, уже с самой резкой откро-
венностью проповедуют материализм; затем Le Bon Sens ои les idees
naturelles opposees aux idees surnaturelles 1772, — книга, которую
Вольтер в письме к д’Аламберу от 29 июля 1775 называет terrible
livre1 и вызывает его на опровержение (XXXI, 151), между тем как
Гримм (январь 1775) насмешливо замечает, что она приспособля-
ет атеизм для парикмахеров и горничных; и Examen critique sur la
vie et les ouvrages de St.-Paul 1770. Ко второму разряду относятся La
Politique naturelle ou Discours sur les vrais principes du gouvernement
1773, Systeme social 1773, L’Ethocratie ou le gouvernement fonde sur la
morale 1776, La Morale universelle 1776, Elemens de la morale universelle
1790. Все эти сочинения о нравственном учении рассудительны
и умеренны и выводят все обязанности отдельных лиц и государ-
ственной жизни из стремления человека к счастью.
Обыкновенно приписывают Гольбаху и несколько брошюр, ко-
торые в то время производили сильное впечатление, в особенности
Le Christianisme devoile ои examen critique des principes et des effets
de la religion chretienne (1756, в действительности книга вышла
в 1761 г.), Le Militairephilosophe, Theologie portative и Contagion sacree
(все три в 1767—1768 гг.). Но это несправедливо; первая из этих
книг принадлежит Дамилавиллю. Вольтер свидетельствует об этом
в письме от 20 декабря 1768 г.; книга принадлежит к тем сочине-
ниям, какие он осуждал (le livre conduit a I’atheisme, que je deteste,
XLIV, 534) и снабдил критическими замечаниями на полях (XXXI,
129). Дамирон в Memoires pour servir a I’histoire de la philosophic au
dixhuitieme siecle, II, 395, приписывает Theologie и Contagion другу
и ученику Дидро, Нежону; но несколько сухой Militaire philosophe,
кажется, действительно принадлежит Гольбаху (ср. Corresp. litt.,
от января 1768 г.). Из трех последних сочинений только Contagion
имеет атеистические аллюры; две другие получили одобрение
Вольтера: Militaire philosophe он называет ouvrage excellent2 (пись-
1 Ужасная книга (фр.). —Прим. изд.
2 Превосходная работа (фр.). —Прим. изд.
308
мо от 18 ноября 1767 г.), а к Th. portative делает, шутя, некоторые
оговорки.
Гольбах умер 21 июня 1789 г. в Париже, шестидесяти шести лет.
Все современники единогласно восхваляют Гольбаха как само-
го благородного и великодушного человека. Для своих друзей он
был верным другом, для бедных и угнетенных — спасительной по-
мощью. Рассказывают самые трогательные черты его самоотвер-
женной благотворительности; в своем богатстве он видел только
средство поощрять и укреплять доброе. (Ср. Дамирона, т. I, стр. 99,
след.; Морелле, Мемуары, т. 1, стр. 132).
Руссо изобразил Гольбаха в «Новой Элоизе» в лице благородно-
го англичанина Вольмара. Мейстер посвятил ему в Литер. Пере-
писке (август 1789 г.) следующее теплое воспоминание: «Я редко
встречал таких ученых и разносторонне образованных людей, как
Гольбах; я никогда не встречал людей, у которых было бы так мало
тщеславия и самолюбия. Без живой ревности к успеху всех наук,
без стремления, ставшего у него второй природой, сообщать другим
все, что казалось ему важно и полезно, он бы никогда не выказал
своей беспримерной начитанности. С его ученостью было то же,
что с его богатством. Его никогда бы не угадали, если бы он мог его
скрыть, не вредя своему собственному наслаждению и особенно на-
слаждению своих друзей. Человеку таких взглядов не должно было
стоить большого труда верить в господство разума; потому что его
страсти и удовольствия были именно таковы, каковы они должны
быть, чтобы дать перевес хорошим правилам. Он любил женщин,
любил удовольствия стола, был любопытен; но ни одна из этих
склонностей не овладевала им вполне. Он не мог ненавидеть ни-
кого; только тогда, когда он говорил о распространителях тирании
и суеверия, его врожденная кротость превращалась в ожесточение
и жажду борьбы».
Глава пятая
Бюффон
Если Systeme de la Nature видела главный недостаток обыкновен-
ной ходячей метафизики в том, что она философствует о природе,
не зная, однако, этой природы, то этот тяжелый упрек можно в осо-
бенности приложить к самому французскому материализму. Он ду-
мал, что может уже смело говорить о последних вершинах науки,
тогда как естественно-историческое исследование едва только уста-
навливало первые основы фактов и явлений, которые должны были
решать дело.
Поэтому Бюффон есть весьма существенное дополнение к стре-
млениям этого времени. Это естествоиспытатель широкого стиля.
309
Бюффон не менее своих философствующих современников имеет
в виду исследование высших идей; но он вступает на почву дей-
ствительности, на почву науки, основанной на опыте и знании под-
робностей.
Жорж-Луи Леклерк, шевалье и позднее (с 1773 г.) граф Бюффон,
род. 7 сентября 1707 в Монбаре в Бургони, есть один из тех просто
способных людей, которые всю свою жизнь посвящают одной вели-
кой цели и ни от чего не остерегаются так заботливо, как от разбро-
санности. Прошедши школу в Дижоне, он путешествовал по Фран-
ции и Италии (1730—1732) и прожил год в Англии. Английская
философия и естествознание подействовали на него возбуждающим
образом; он перевел Гейлса и Ньютона. Рядом шли диссертации
о вопросах геометрии, физики и сельского хозяйства. Назначенный
в 1739 начальником Jardin du roi, нынешнего Jardin des Plantes, он
с самым глубоким одушевлением взялся за план, — которому так со-
действовало его официальное положение, — сделаться историком
природы. После десятилетней работы он издал в 1749 первые три
тома своей обширной «Histoire naturelle gёnёrale et particuliere», ко-
торая мало-помалу возросла до тридцати шести томов. Окончание
прервано было смертью Бюффона: он умер 16 апреля 1788.
Три первые тома Histoire naturelle заключают вводные соображе-
ния к целому произведению и к зоологии в особенности, а именно
Theorie de la terre, Systeme de la formation des planetes, общую есте-
ственную историю животных и человека. Сюда примыкает описа-
ние четвероногих (1753—1767, в двенадцати томах). Затем, с пе-
рерывом, причиненным тяжелой болезнью, следует Histoire des
oiseaux (1770—1783, в девяти томах), далее Histoire des mineraux
(1783—1788, в пяти томах). Рядом с обработкой этих двух послед-
них отделов идет с 1774 издание дополнительных томов. Бюффон
дал семь таких дополнительных томов; последний явился только
за год до его смерти. Самый знаменитый из них есть пятый, Les
epoques de la nature (1779), полная переработка взглядов, изложен-
ных за тридцать лет перед тем в Theorie de la terre, произведение,
которое «Литературная Переписка» (апрель 1779) называет ип des
plus sublimes romans, un des plus beaux poemes que la philosophie ait
jamais ose imaginer1.
Значение Бюффона состоит не в великих открытиях, состав-
ляющих эпоху, но в его глубоком и обширном общем действии.
История науки мало укажет у него прочных отдельных исследо-
ваний. В распределении, изучении и описании отдельных под-
робностей Бюффон не точен и небрежен. В пятнадцати первых
томах ему оказал в анатомии самую дельную помощь Добантон.
1 Один из самых возвышенных романов, одно из самых красивых стихов, кото-
рое философия когда-либо смела вообразить (фр.). —Прим. изд.
310
Он устранился; его приемы точного исследователя подробностей
слишком мало сходились с художественными целями Бюффона
и его любовью к быстрым и смелым комбинациям. Затем Бюф-
фон окончательно обидел Добантона тем, что в новом издании
своего труда исключил анатомическую часть. Но впоследствии
старые сердечные отношения обоих восстановились, и Добантон
снова принял участие в общей работе, хотя его имя уже не явля-
лось в заглавии книги. В тех томах, которые заключают описание
птиц, его заменили Гено де Монбельяр и аббат Бенсон, перу ко-
торых принадлежат некоторые из знаменитейших статей (лебедь,
павлин, соловей и др.).
Внимание Бюффона, как выражается Гёте в разборе зоологиче-
ских взглядов Жоффруа Сент-Илера, направлено исключительно
на целое, как оно живет, взаимно действует и, в особенности, как
оно относится к человеку. Но на этой точке зрения он имеет широ-
кое возбуждающее действие и является истинно творческим. Ему
не только принадлежит заслуга самого обширного распространения
любви к изучению естественных наук; но он дал чрезвычайно могу-
щественный толчок и самой науке.
Этой популяризацией наблюдения и познания природы он стал
одним из могущественных деятелей просветительного движения.
Он изображает, в сущности, человека со стороны его зависимости
от естественных условий, останавливается на его животной жизни,
и медленно, но окончательно выводит его из того центрального по-
ложения, какое дает ему библейская история творения, в ряд позд-
нейших земных созданий.
Какое научное возбуждение вышло из работы Бюффона, это по-
казывают труды Ламарка, Жоффруа де Сент-Илера, Кювье. С удиви-
тельной гениальностью он умеет создавать из подробностей целое.
Несмотря на все ошибки и неточности, к которым нередко увлекает
его блестящее воображение, он с проницательностью, всегда вер-
ной, сознает все главные вопросы, которые представляются в на-
уке природы; и он всегда серьезно старается разрешать их, хоть
и не всегда счастливо. Он предначертал науке твердый основной
план, какого еще никогда прежде не предвидели в подобном объеме
и с такой внутренней необходимостью. После него являются усерд-
ные и достославные преемники, чтобы исправить этот план и забот-
ливо обработать его во всех отношениях.
Бюффон вовсе не пренебрегал опытом, но его взгляд нетерпели-
во перебегал от лабораторного стола в далекую область гипотезы.
Он нетерпеливо искал познания широкой связи природных явле-
ний, где более строгий метод повелевает трезвую осторожность.
«La plupart des naturalistes, — говорил он обыкновенно, — ne font
que des remarques partielles. Il vaut mieux avoir un faux systeme: il sert
du moins a lier nos dёcouvertes et c’est toujours une preuve qu’on sait
311
penser»1. Поэтому он не только встречал упреки даже от современ-
ников, которые, однако, были привычны к систематизированию,
что он слишком поспешный систематик, но свои быстрые выводы
он довольно часто и без труда менял на другие, столь же быстрые.
Эта гибкость суждения есть в высшей степени характеристическая
черта его произведения. Если, с одной стороны, она вредит солид-
ности целого здания и делает трудным, даже невозможным уловить
и ясно представить отношение Бюффона к известным основным
проблемам, то, с другой стороны, она доставляет «Естественной
истории» богатство идей и сумму возбуждений, которые при более
строго научной и менее противоречивой манере писателя едва ли
могли быть достигнуты.
Хотя внешним образом Бюффон держался вдалеке от escadron
encyclopedique2, как он называл материалистов, кажется, доказано,
что Бюффон в глубине души разделял взгляды современных ему ма-
териалистов. Нет никакого основания сомневаться в справедливо-
сти рассказа Эро де Сешеля, что Бюффон, за немного лет до своей
смерти, в своем монбарском поместье признавался ему, что он
удерживал слово «творец» только ради его обыкновенного употре-
бления, и — можем мы прибавить — ради внешних соображений;
что стоит только поставить на место его силу природы, силу при-
тяжения, движение, и тогда можно узнать его настоящее мнение.
Совершенно согласно с этим Бюффон говорит в своем совершен-
нейшем произведении, «Эпохах Природы»: «Если бы вдруг разру-
шилась большая часть существующих созданий, то произошли бы
новые роды; потому что органические частицы, или molecules,
неразрушимые и всегда деятельные, соединились бы между со-
бой и снова произвели бы организованные тела»; и точно так же
в своих «1бёез gёnёrales sur les animaux» и в «Histoire de 1’homme»
он говорит не только о molecules organiques3, но и о «correspondance
constante entre les changements physiques des sens ou des organes
et les changements dans 1’entendement ou dans les passions»4 и даже
о «ntecanisme des sens»5. Но это материалистическое воззрение ни-
когда не является у него с характером разрушительности и отрица-
ния. Скорее это у него проницательный взгляд на неразрушимую
вечность и красоту природы, и на внутренний ее порядок и закон-
1 Большинство натуралистов делают лишь частичные замечания. Лучше иметь
ложную систему: по крайней мере, она служит связующим звеном между нашими
открытиями и всегда является доказательством того, что мы умеем думать (0р.). —
Прим. изд.
2 Энциклопедический эскадрон (0р.). —Прим. изд.
3 Органические молекулы (0р.). —Прим. изд.
4 Постоянное соответствие между физическими изменениями чувств или орга-
нов и изменениями в разуме или страстях (0р.). —Прим. изд.
5 Механизм чувств (0р.). —Прим. изд.
312
ность, постоянно развивающиеся, не нарушаемые никакими скач-
ками и никаким произволом.
Бюффон вовсе не боец. Он не отвечал на многочисленные напа-
дения, которые испытал его труд. В тех словах, какими он объяснял
это молчание, сказывается потребность покоя, а также сильное са-
модовольство. Как отличает его эта сдержанность в сравнении с за-
дором просветителей, так отличает его и то, что в сравнении с их
пристрастием и скабрезностью он отказывается от чувственных
подробностей своих описаний.
Мы укажем и величие, и вместе слабость Бюффона, сказав, что
Бюффон смотрит на природу не столько как исследователь, сколько
как художник. С одушевлением и богатой фантазией он указывает
везде всеуправляющую идею, которая даже в вещах самых мелких
и маловажных выражается, как в искусстве, чувственным явлением
и образом. Отсюда происходит могучая наглядность и волшебная
сила его языка, которая, правда, впадает иногда в риторическую
изысканность и совершенно лишена поэтического возбуждения.
«Чего в особенности мы не находим в творениях этого великого
писателя, — говорит Гумбольдт во второй части Космоса о Бюффо-
не, — это гармонической связи изображения природы с выражени-
ем возбужденного чувства; отсутствует почти все, что проистекает
из таинственной аналогии между движениями души и явлениями
чувственного мира». Если Бюффон сказал в своей знаменитой речи
о стиле, что стиль человека есть сам человек, то это положение
проистекало прежде всего из ощущения того, как его собственная
манера описательного изображения была только результатом его
глубокой, более художественной, чем научной особенности.
Бюффон всего больше похож на своего великого немецкого со-
временника Винкельмана. Он восторженный биограф природы, как
Винкельман — восторженный биограф искусства. Оба они из не-
подвижной всеобщности отвлеченных, неопределенных понятий
вводят в полную жизнь фактической действительности и истори-
чески-органического развития. В исследовании подробностей они
по большей части устарели, и другие их опередили; но в широте
и грандиозности взгляда, в глубине и искренности гениального оду-
шевления их не превзошел еще никто из их преемников.
Глава шестая
Кондильяк и его школа. Кабанис. Де Траси
Философский дилетантизм можно отличать по тому верному
признаку, что он всегда обращается только к тем вопросам, кото-
рые связаны с ближайшими религиозными интересами. Француз-
ские «просветители» также имеют эту слабую сторону. Не только
313
Вольтер, но Дидро и его ближайшие последователи толкуют о бы-
тии Бога, о сущности и бессмертии души, об источниках и правилах
нравственной деятельности; но они большей частью только слегка
и равнодушно относятся к философскому учению о познании. Они
сочувствуют борьбе Локка против врожденных идей; но основа-
ние этой борьбы остается для них недоказанным и необъясненным
предположением. Даже д’Аламбер, который, однако, во введении
к «Энциклопедии» дал весьма обширное распределение науки, счи-
тал ненужным более точное исследование о происхождении чело-
веческого познания. Этот недостаток тем характеристичнее, что
именно здесь и заключалось важнейшее значение их учителя Локка.
Поэтому Кондильяк, делая учение о познании исключительным
предметом своих исследований, наполняет этим весьма чувстви-
тельный пробел. Он единственный из французских просветителей,
которого можно назвать философом в строгом смысле этого слова.
Жизнь его была простая, скромная жизнь ученого, посвященная
одной науке. Этъенн Бонно де Кондильяк, брат известного аббата
Мабли, родился 1715 в Гренобле. Он происходил из чиновнической
фамилии и предназначался к духовной карьере. О своем школьном
учении он не сохранил приятных воспоминаний: «наш способ пре-
подавания, — говорил он позднее, — стоит еще под влиянием ве-
ков невежества, и потому мы, оставив за собой школу, вынуждены
опять начинать учиться по новому плану». Он уже рано посвятил
себя изучению философии, именно Локка, которого, однако, он
читал только в переводе Коста. Он вступил в личные отношения
с Дидро, Руссо, д’Аламбером, Гольбахом, но, к удивлению, его нет
в числе сотрудников «Энциклопедии». В 1746 вышел его Essai sur
L’origine des connaissances humaines, co вторым заглавием Ouvrage ou
Гоп reduit a un seul principe tout ce qui concerne I’entendement humain.
В 1749 Traite des Systemes, в 1754 Traite des Sensations, за которым
в виде дополнения последовал в 1755 Traite des Animaux. Он сде-
лался в 1758 воспитателем инфанта пармского, дона Фердинанда,
внука Людовика XV, и в этом качестве воспитателя написал ряд не-
больших учебников, которые отчасти буквально повторяют мысли
его больших сочинений, I’Art de penser, VArt de raisonner, TArt d’ecrire,
Grammaire, Histoire des hommes et des empires. C 1768 он снова воз-
вратился во Францию. В том же году Academie frangaise открывает
ему свои двери, и Вольтер приветствует избрание словами (письмо
к Лагарпу 31 октября 1768): «Кондильяк, по достоинству его идей,
есть один из первых людей Европы. Он написал бы Локков опыт
о человеческом уме, если бы не написал его сам Локк, и с божьей
помощью он сделал бы его короче». Последние двенадцать лет своей
жизни он провел, кажется, вдали от столицы, спокойно предаваясь
своим занятиям. К этому времени относится издание названных
педагогических сочинений и выработка книги «La Logique ou les
314
premiers cteveloppements de Part de penser» 1777, написанной им для
школ по поручению польского правительства. Он умер 3 августа
1780, в своем имении Flux, близ Божанси, 65 лет от роду. По смерти
его вышел еще оставшийся после него опыт о философии матема-
тики, La Langue des calculs.
Два первые сочинения Кондильяка стоят вполне на почве Лок-
ка. Книга о происхождении человеческих познаний есть весьма яр-
кое и толковое изложение учения Локка о чувственном ощущении
и рефлексии, как двух источниках человеческого познания; кни-
га о философских системах, основанная на этих воззрениях, есть
остроумное и ученое опровержение Декарта, Мальбранша, Лейбни-
ца и Спинозы, которых он порицает в особенности за то, что они ис-
ходят не из чувственного наблюдения частностей, но из отвлечен-
ных общих понятий. Обе книги имели весьма полезное действие.
Убедительная борьба против врожденных идей нанесла упадаю-
щему влиянию картезианской философии последний смертельный
удар. Но в обеих этих книгах нет еще никаких новых и своеобраз-
ных взглядов. Кондильяк был слишком самолюбив, когда уже здесь,
из-за нескольких прибавок и объяснений о законах соединения
идей и о сущности и происхождении языка, иногда смотрит на Лок-
ка свысока.
Но, конечно, Локк был бы для Кондильяка только необходимой
предварительной ступенью. Главное его сочинение есть Traite des
sensations (1754), текст которого в течение годов он различным
образом видоизменял. Окончательное издание вышло в 1798. Кон-
дильяк выработал в нем такую точку зрения, которая хотя все еще
твердо держится основной мысли Локка, но и с своей стороны ведет
ее дальше и дает ей существенно отличный и новый вид.
В современной Франции оценка этого произведения снова возвы-
шается, и не только под влиянием Тэна; распоряжением 1885 года
первой части его дано даже место в преподавании средней школы.
Кондильяк приближается к учению материалистов, конечно,
не делая его своим. Его учение о познании находится ко взглядам
на природу французских материалистов в том же отношении, как
учение о познании Локка ко взглядам на природу Ньютона.
Локк старался охранить независимость и самостоятельность
духа. Правда, и у Локка ощущение (sensation), т. е. чувственное
восприятие всех внешних впечатлений, и рефлексия (reflexion), за-
ключающая в себе только самонаблюдение внутреннего понима-
ния, мышления и желания, определяются совершенно извне. Дух,
по выражению Локка, не может защищаться от впечатлений, как
зеркало не может защищаться от изображений, которые оно при-
нимает и отражает без всякой своей воли. Ум не производит идей,
но идеи производятся в нем. Но чувственное ощущение и рефлек-
сия составляют только первые основания; это только источники
315
простых идей. Из соединения и переработки простых идей образу-
ются идеи сложные, как из соединения и переработки букв и слогов
образуются слова. И в этом дальнейшем образовании ум является
самодеятельным и творческим. Поэтому Локк, при всей зависимо-
сти от внешних чувственных впечатлений, принимает полную сво-
боду воли.
Кондильяк идет совершенно иначе. Он считает главнейшей
ошибкой Локка то, что он принял два различные источника по-
знаний. Последовательнее было бы остаться при одном ощущении
(sensation), т. е. при непосредственном и простом чувственном ощу-
щении. Рефлексия есть не особенный и самостоятельный источник
идей, а только канал, которым идеи проникают в ум из чувств. Поэ-
тому Кондильяк не довольствуется, как Локк, простым наблюдени-
ем и простым занесением в реестр, — как выражается он, порицая
Локка, — духовных способностей и деятельностей; он скорее вы-
водит их естественно одну из другой, группирует их и следит за их
появлением и возрастанием от одной ступени до другой. Traite
des sensations есть внутренняя история развития, или, употребляя
соответственное выражение Гегеля, феноменология духа. Конди-
льяк исходит при этом из гипотезы, встречающейся также у Дидро
и Бюффона, гипотезы одушевленной человекоподобной статуи,
подобно статуе Пигмалиона, которая одарена всеми чувствами,
но еще не тронута ни одним чувственным впечатлением; в этой
статуе он заставляет пробуждаться по очереди все чувства, одно
за другим1. Он разделяет чувства на два разряда. На одной сторо-
1 Эта идея статуи повела к спорам о первенстве. Факты были следующие. Кон-
дильяк уже в своем Essai sur I’origine des connaissances humaines (1746) высказал
мысль поставить себя на место человека, который, будучи вполне развит, не полу-
чал еще никаких чувственных впечатлений и перед раскрывающимися глазами
которого впервые является мир. Затем, три года спустя, Бюффон в своей Histoire
naturelie de I’homme (1749) развил эту идею дальше: «J’imagine un homme tel qu’on
pent croire qu’etait le premier homme au moment de la creation, c’est a dire un homme
dont le corps et les organes seraient parfaitement formes mais qui s’eveillerait, tout
neuf pour lui-meme et pour tout ce qui 1’environne» (Могу представить себе человека,
который будто бы был первым человеком в момент творения, то есть человека,
органы и члены которого будут сформированы идеально, но который проснется
совершенно новый для себя и для всего вокруг (фр.)- — Прим. изд.). В то время,
как в обоих этих местах человек, исследуемый в своих первых впечатлениях, пред-
полагается находящимся тотчас в полном обладании всеми своими чувствами. Ди-
дро в своем письме о глухонемых (1751) набросал мысль о расчленении человека
на его пять чувств (d’un homme distribue en autant de parties pensantes que nous avons
de sens (человек, разделенный на столько частей, сколько мы чувств мы имеем
(фр.). — Прим, изд.)) (Сочинения I, 399). Теперь в 1754 Кондильяк строит свою
систему на этом самом расчленении и при этом естественно подвергается упре-
ку, что он присваивает себе чужое добро. Он отвечал на это, что Дидро, автору
письма о глухонемых, не было неизвестно, что он, Кондильяк, хочет сделать идею
о человеке, расчлененном на свои отдельные чувства, предметом особого сочине-
ния. Сам он, по его словам, обязан этой идеей, как и многими другими мыслями,
своей прекрасной приятельнице, т-11е Ферран, которая уже издавна по поводу его
316
не обоняние, зрение, слух и вкус, на другой — осязание. В первых
из них, как старается доказать Кондильяк, человек всегда остается
внутри самого себя, ощущает только себя, не имеет представления
о мире внешних предметов; в последнем, напротив, он получает
уверенность о внешних предметах. Первые дают только ощущения,
последнее дает идеи, — если различие между ощущением и идеей
состоит в том, что в первом то, что мы ощущаем, есть только воз-
буждение нашей собственной души, а в идее, т. е. в образе, ощуще-
ние вместе с тем относится к какому-нибудь предмету как своему
первообразу. Из этих ощущений и идей строится все наше мыш-
ление и наши желания. Первая ступень ощущения, в каком бы
ни было чувстве — все равно, есть непосредственно принятие впе-
чатления. Это восприятие, sensation или perception. Воспринятые
впечатления многочисленны и разнообразны; но одно впечатление
действует живее, чем другое. Более живое привлекает к себе боль-
ше; это привлечение есть внимание. Внимание оставляет следы;
поддержание этих следов есть память. Если это поддержание так
наглядно, что впечатления делаются как бы присутствующими,
то память становится воображением. Память и воображение срав-
нивают различные впечатления, настоящие и прошедшие; это срав-
нение открывает сходства и отличия. Это называется суждением.
Посредством суждения мы составляем себе определенное понятие.
Это образование понятия, происходящее из сравнивающих сужде-
ний, есть рефлексия. Она тотчас переносит нас в действительную
жизнь. Рефлексия различает приятные и неприятные ощущения;
мы останавливаемся охотнее на первых, чем на вторых; мы приоб-
ретаем чувства удовольствия и неудовольствия. Чувство удоволь-
ствия делается для нас потребностью, и это производит желание.
Из желания проистекают страсти, любовь, ненависть, надежда,
страх. Страсти побуждают волю; потому что воля есть желание,
стремящееся к удовлетворению и ищущее его в области возмож-
ного. С волей нераздельно связаны идеи доброго и прекрасного;
мы называем добрым и прекрасным то, чтб способствует нашему
удовольствию. Словом, одно прибавляется к другому, одно поня-
тие — к другому понятию, действие — к действию, в неразрывной
цепи. Воспоминание, сравнение, суждение, понимание представ-
Essai sur I’origine des connaissances указывала ему на то, что человек не с самого
начала владеет вполне своими чувствами, а научается употреблению их только
мало-помалу. Еще в том же 1754 году Кондильяк издал свой Traite sur les animaux,
направленный против Бюффона, который неблагоприятно отозвался о Traite des
sensations. Сильные упреки, какие он делает своему противнику, относятся осо-
бенно к упомянутым высокопарным словам Бюффона о новосозданном челове-
ке; но Кондильяк не делает ему легко представлявшегося упрека в плагиате: он
очевидно не желает напоминать, что некогда он сам дал Бюффону пример такого
представления. — О более старом появлении той же идеи сравни Ланге, Geschichte
des Materialismus, стр. 336.
317
ляют только последовательные восходящие степени внимания, как
любовь, ненависть, надежда, страх, воля — восходящие степени
желания. Но внимание и желание сами имеют свой общий корень
только в чувственном ощущении. Поэтому все духовные отправ-
ления и состояния, соединение идей между собой и происходя-
щая отсюда воля составляют только результат извне приходящих
чувственных впечатлений; всякое мышление и воля есть только
последовательно восходящее, преобразованное ощущение. Духов-
ная жизнь есть жизнь чувственная. Самодеятельность мышления,
свобода воли уничтожается. Мы представляем произведение нашей
чувственности и нашей привычки.
Как произвольно и неполно выполнение, так обширна и богата
результатами основная мысль Кондильяка.
Кондильяк знает очень хорошо, что там, где есть чувства, долж-
на быть и духовная жизнь. Поэтому Traite des animaux, который на-
добно считать продолжением и завершением упомянутого главного
сочинения Кондильяка, совершенно последовательно опровергает
Бюффона, который назвал животных ощущающими автоматами.
«Так как животные ощущают, — говорит Кондильяк, — то они
должны также сравнивать, судит, вспоминать, т. е. иметь идеи; их
мышление меньше и несовершеннее и ограничивается одним “я”
привычки, т. е. инстинктом, вместо того чтобы доходить до “я”
рефлексии, т. е. до разума, — только потому, что их потребности
меньше и однообразнее». Но затем Кондильяк опять пугается соб-
ственных выводов и старается избегнуть самых неизбежных заклю-
чений. Чувственное ощущение образуется, по его словам, не в чув-
ствах; чувства — по словам его — не самые чувственные ощущения,
а только телесное орудие и случайная причина их. Поэтому Конди-
льяк отвергает безусловную телесность души и даже положительно
порицает Локка за то, что он допустил эту возможность. До грехопа-
дения, по его словам, душа мыслила без чувств, и по смерти она бу-
дет мыслить также без чувств. Точно также Кондильяк всегда считал
возможным соединить свободу воли с своим учением о познании
и, например, защищает ее в Dissertation sur la liberte, составляющей
приложение к Traite des sensations.
Надобно было ожидать, что зерна этого взгляда найдут более
твердое и неустрашимое развитие. Если учение Кондильяка не есть
полный и настоящий материализм, то оно неизбежно ведет к нему.
Исследующий ум не довольствуется простым мнением, что позна-
ние и действие происходят из чувств; он спрашивает о происхожде-
нии и свойстве самых чувств, и вместе с этим учение о душе пере-
ходит в учение о теле, психология — в физиологию. Сам Кондильяк
посвятил затем этой физиологической стороне своего учения главу
в своей Logique. Но здесь мог решительно продолжать дело только
естествоиспытатель. Кондильяк, несмотря на его восхваления экс-
318
периментального исследования, был слишком теоретик. За Конди-
льяком следовал Кабанис, как в наше время за Людвигом Фейерба-
хом следовали материалистские естествоиспытатели.
Пьер Жан Жорж Кабанис родился 1757 в Конаке. В молодости он
принадлежал к числу beaux esprits1 и в салоне г-жи Гельвеции, для
которой он, например, переводил на французский язык немецкие
повести и стихи, вместе с замечательнейшими умами того време-
ни он узнал также Кондильяка и пользовался его непосредствен-
ными наставлениями. Впоследствии он обратился к медицине
и естественным наукам; от этих занятий не отдалило его и то жи-
вое участие, которое принимал он в движениях и переворотах
французской революции. Он был врач и друг Мирабо, и в отчете
о болезни и смерти его защищал память своего друга и свое лече-
ние. Как профессор гигиены и позднее судебной медицины и исто-
рии медицины, он играл значительную роль в преобразовании ме-
дицинских школ; но не только этому, а также и преобразованию
школьного дела вообще, он посвятил многочисленные сочинения.
Главным произведением его были его рассуждения о «Rapports du
physique et du moral de 1’homme», из которых первые шесть напеча-
таны были в 1798—1799 в Memoires de I’institut, а остальные шесть
в 1802 вышли отдельной книгой. Это произведение было тотчас
переведено почти на все европейские языки. Второе издание было
сделано еще самим автором. Он умер 5 мая 1808 от удара, который
раньше предвещали повторявшиеся небольшие потрясения и при-
ближение которого он наблюдал «с любопытством исследователя
и спокойствием мудреца». Даже до новейшего времени, несмотря
на большие успехи физиологии, все еще оказывались нужны но-
вые издания его книги. Кабанис есть отец «материалистической
физиологии».
Хотя Кабанис исходил из Кондильяка и основывался на его воз-
зрениях, он совершенно отвергает его способ исследования. Люби-
мая гипотеза человекоподобной статуи и связанное с ней деление
и разъединение чувств казались наблюдательному естествоиспы-
тателю совершенно бессмысленными; начало и цель его — только
живой человек сам. Этим наблюдением живого человека Кабанис
старается доказать, что тело и дух не только находятся в теснейшем
взаимодействии, но что они составляют безусловно одно и то же.
«Развитие телесных органов и развитие ощущений и страстей, —
говорит Кабанис в первом вступительном рассуждении, — соот-
ветствуют одно другому так полно и точно, что учение о теле, уче-
ние о познании и учение о нравственности составляют только три
различные ветви одной и той же науки, единого всеобщего учения
о человеке». «La physiologic, 1’analyse des idёes et la morale ne sont que
1 Красивые умы (букв., фр.). —Прим. изд.
319
les trois branches d’une seule et meme science qui peut s’appeler a juste
titre la science de 1’homme»1.
Главнейшие доказательства находятся во втором и третьем
рассуждениях, которые соединены под общим заглавием «Histoire
physiologique des sensations». Сущность их состоит в том, что как вся
жизнь есть не что иное как постоянная смена движений, исходящих
из различных отдельных органов, так в особенности отправления
и состояния души и ума — не что иное, как движения и ощуще-
ния нервов и мозга. Нервы, связанные с мозгом и образованные
из того же вещества, разветвляются по всем частям тела, так что
каждый ощущающий пункт имеет свою нервную нить и посредством
ее соединяется с мозгом. Поэтому нервы — настоящее орудие все-
общей чувствительности (sensibilite). «Если перевязать или перере-
зать все нервные нити, расходящиеся в известной части тела, то эта
часть в ту же минуту становится совершенно нечувствительной; ее
можно колоть, рвать, прижигать, животное совершенно не замеча-
ет этого; способность всякого самопроизвольного движения прекра-
щается, скоро исчезает даже и возможность всякого непроизвольно-
го движения». Через нервы, через так называемые чувствительные
нервы, мы получаем понимание как наших собственных органов,
так и внешних предметов; и точно так же от действия так называе-
мых двигательных нервов на мускулы, как органы движения, зави-
сят все наши движения: и так называемые самопроизвольные дви-
жения, о причине и деятельности которых мы каждый раз можем
отдать себе отчет, и так называемые непроизвольные, которые про-
исходят без нашей сознательной помощи, как биение сердца, дыха-
ние, пищеварение и отделение. Вся нервная система завершается
в мозге; потому мозг есть собственно орган мышления. «Мозг точно
так же назначен для мышления, как желудок — для пищеварения,
печень — для отделения желчи из крови. Впечатления, входящие
в мозг, приводят его в деятельность, как пища, вступая в желудок,
приводит его в деятельность. Собственное отправление одного за-
ключается в том, чтобы из каждого особенного впечатления создать
известный образ, соединить и сравнить эти образы между собой, со-
ставлять суждения и понятия; отправление другого — в том, чтобы
действовать на введенную в него пищу, разрешать ее и превращать
в кровь». «Нам скажут, что нам не известны те органические дви-
жения, которыми совершаются отправления мозга, — но от нашего
наблюдения ускользает также и деятельность, через которую желу-
дочные нервы действуют на процесс пищеварения. Мы принимаем
в себя пищу с ее особенными свойствами и видом, и она получает
в желудке совершенно иные свойства и вид; мы заключаем из этого,
1 Психология, анализ идей и мораль — это всего лишь три раздела одной и той
же науки, которую по праву можно назвать наукой о человеке (0р.). —Прим. изд.
320
что эту перемену производит желудок. Таким же образом мы видим,
что впечатления посредством нервов достигают мозга бессвязными
и разъединенными; мозг действует и работает и скоро возвраща-
ет их превращенными в мысли, которые обнаруживаются языком
мимики и знаками слова и письма, и мы с той же уверенностью
заключаем из этого, что мозг по-своему переваривает впечатления
и отделяет их в виде мыслей». Вот причина, почему духовная жизнь
отдельных лиц, их ощущения, мышление и воля до такой степени
разнообразны, смотря по первоначальным условиям или по при-
нятой привычке. Один имеет потребность принимать много силь-
ных впечатлений; другой может переваривать только немногие.
Это обусловливается качеством его органов, силой и слабостью его
нервной жизни, и, главное, способом ощущения. Поэтому Histoire
physiologique des sensations, излагаемая Кабанис, совершенно после-
довательно приходит к изображению того влияния, которое воз-
раст, пол, темперамент, болезнь, диета, климат и в той же степени
нравы и привычка производят на образование наших идей и склон-
ностей, — влияния, которое в отдельных случаях может искажаться
до полного извращения и расстройства.
Какая разница с Кондильяком! Теперь исчезают и последние
ограничения. «Les nerfs — voila tout Phomme»1. Душа есть способ-
ность, а не существо, «ипе £асикё, mais non pas un etre»...
Этим антропологическим понятиям соответствуют и другие по-
нятия. Вселенная представляет необходимый порядок природы,
естественный закон материи. «Tous les рЬёпотёпез de 1’univers ont
ёtё, sont et seront toujours la сопзёдиепсе des propriёtёs de la matiere
ou des lois qui regissent tous les etres. C’est par ces ргорпёгёз et par ces
lois que la cause premiere se manifeste a nous; aussi van Helmont les
appelait dans son style poёtique 1’ordre de Dieu»2.
Поэтому, когда в 1824 издано было оставшееся в бумагах Ка-
банис и писанное им около 1806 года письмо, «Lettre posthume et
шёбйе а М. F*** (Fauriel) sur les causes premieres avec des notes de
F. Вёгагб», значительно смягчавшее и даже отвергавшее взгляды
этой книги, — это возбудило сильное изумление. В этом письме
Кабанис уже не считает душу «только необходимым результатом
всеобщей деятельности или особенной способностью», но «само-
стоятельной субстанцией, действительным существом, которое
своим присутствием сообщает органам все движение, необходи-
мое для их отправлений, соединяет их между собой и предает их
разложению, когда невозвратно от них отделяется». Теперь Каба-
1 Нервы — вот и весь человек (фр.). —Прим. изд.
2 Все явления во вселенной были, есть и всегда будут следствием свойств мате-
рии или законов, управляющих всеми существами. Именно благодаря этим свой-
ствам и этим законам первая причина проявляется для нас; также ван Гельмонт
назвал их в своем поэтическом стиле порядком Бога (фр.). —Прим. изд.
321
нис обращается к любимой гипотезе так называемой жизненной
силы, без которой не может быть объяснено образование, ожив-
ление, сохранение и обновление различных частей тела. И эта
сознательно познающая и сознательно желающая сила ведет его
к Богу. «Человеческий ум, — говорит он, — не может понять, как
явления природы могут быть производимы без цели и провидения,
без сознания и воли; все указывает на то, что природа произведена
так же, как производит человек свои лучшие создания, только бес-
конечно совершеннее; и отсюда следует, что есть высшая мудрость
и мудрейшая воля; кто не хочет признать этой конечной причины,
то столько же легковерен, как если бы он верил во все басни ми-
фологии и Талмуда». Но историческое значение Кабанис основы-
вается не на этом посмертном письме, как ни прекрасно и красно-
речиво оно само по себе, — Женгенэ называет его un des plus beaux
morceux de philosophie qui existent dans notre langue1, — но на издан-
ной им самим книге, которая дала самый могущественный толчок
и физиологии, и всему образу мыслей.
Только добродушная простота или слепая ревность могут отва-
живаться уже теперь окончательно решать эти еще не исследован-
ные тайны жизни. Тем не менее, если мы даже совершенно перене-
семся на точку зрения Кабанис, он бесспорно решил свою задачу
только вполовину. Он сам поставил физиологию, учение о позна-
нии и нравственное учение в тесную связь между собой и считал их
постепенным развитием одной идеи; но он был по преимуществу
естествоиспытатель, и в этом качестве ограничился почти исклю-
чительно только первой частью — установлением физиологических
оснований. Это было для его преемников достаточным вызовом —
наполнить оставшиеся пробелы.
Но в таких преемниках не было недостатка. Сенсуализм овла-
дел школами; он был господствующим учением в Ecoles normales.
Во времена директории и консульства он проник уже во все круги
образованного общества. Лекции Гара (1794), «Icteologie» Деспо-
та де Траси (1801), книги Жерандо «Des signes et de Part de penser»
(1800) и «De la gёnёration des connaissances humaines» (1802).
«Тгайё dё 1’habitude» (1802), сочинения Ларомигьера, «Introduction
a 1’analyse des sciences» Ланселена (1801), и многие другие книги
и журналы до книги Бруссе, вышедшей уже в 1828, «De 1’irritation et
de la folie» — все с большим или меньшим искусством и смелостью
стремятся выполнить план, начерченный Кабанисом.
Эти стремления по большей части выходят уже за пределы во-
семнадцатого столетия. Мы укажем на первый том книги Дамирона
«Essai sur 1’histoire de la philosophie en France au dix-neuvieme siecle»
1 Одно из самых прекрасных произведений философии, существующих на на-
шем языке (фр.). —Прим. изд.
322
и очень значительную книгу Пикаве (F. Picavet), «Les ideologues,
essai sur I’histoire des 1бёе$ et des Tories scientifiques, philosophiques,
religieuses en France depuis 1789». Paris, 1891.
Нам достаточно остановиться ближе только на де Траси. Это бес-
спорно самый важный из этих писателей. По крайней мере, он мо-
жет иметь притязания на ту заслугу, что он поставил свою задачу
всего глубже и обширнее.
Антуан-Луи-Клод, граф Дестют де Траси (Destutt de Tracy), ро-
дился 20 июля 1754. Он принимал живое участие во французской
революции, и хотя он при Наполеоне был сенатором, при Бурбо-
нах — пэром, но никогда не отказывался от свободных идеалов
своей юности; 76-летним стариком, почти слепой, он еще ходил
с длинной палкой в руке на баррикады июльской революции. Он
умер 10 марта 1836.
Главные сочинения его, изданные с 1801, были собраны в 1817 под
заглавием «Etemens бЧбёок^е» в пяти томах. Кроме того, он напи-
сал весьма умный «Commentaire sur 1’Esprit des lois de Montesquieu»,
переведенный на немецкий язык Морштадтом. Наполеон, называя
свою ненависть к мнимо бесплодной науке ненавистью к идео-
логам, несомненно, взял это выражение из заглавия книги де Траси.
В посвящении Кабанису, находящемуся в третьем томе книги,
де Траси положительно признает влияние, которое имел на него Ка-
банис. Столько же, несомненно, это влияние обнаруживается и в са-
мой книге. И здесь наука о человеческом духе считается, в сущности,
только частью естественной истории или, по выражению автора,
зоологии; и здесь мышление и воля являются просто нервным ощу-
щением и ограничиваются впечатлениями и условиями нервной
жизни. Но де Траси самостоятельно ведет дальше план, преждев-
ременно набросанный у Кабаниса. Этот последний дал научное ос-
нование физиологии духа; де Траси берется за полную постройку.
Elemens de Tideologie представляют опыт — применить, с естествен-
но-исторической точки зрения, способы естественно-исторического
наблюдения и исследования к наблюдению и исследованию способ-
ностей и деятельностей духа.
Поэтому мы встречаем здесь те же вопросы и воззрения, какие
мы уже находим у Кондильяка; только здесь они обработаны бо-
лее материалистически и больше входят в разветвление отдельных
наук. Чувствительность (sensibilite), собственное ощущение и вос-
приятие, по учению Кабаниса, зависимые от внешних впечатле-
ний и внутренних телесных отправлений, составляют первона-
чальный элемент; из него производятся память, суждение и воля.
Из соединенного действия этих душевных сил проистекает позна-
ние нас самих и внешнего мира. Это познание есть наука. Поэто-
му наука распадается на три главные части. Первая есть история
наших средств познания, Histoire de nos moyens de connaitre. Она
323
имеет три подразделения: 1) учение об образовании наших идей,
собственное учение об идеях или идеология; 2) учение о выра-
жении наших идей, грамматика; 3) учение о соединении наших
идей, логика. Вторая часть есть применение наших средств по-
знания к изучению нашей воли и ее действий, Application de nos
Moyens de connaitre a I’Etude de notre Volonte et de ses Effets. Эта часть
имеет также три подразделения: 1) учение о наших действиях,
экономия; 2) учение о наших чувствах, мораль; 3) учение о руко-
водстве и направлении наших действий и чувств, правительство.
Третья главная часть есть применение наших средств познания
к внешнему миру, Application de nos moyens de conaitre a I’etude des
etres, qui ne sontpas nous. И здесь опять три подразделения: 1) уче-
ние о телах и их свойствах, физика; 2) учение о протяжении, ге-
ометрия; 3) учение о числе, математика. Первая главная часть,
идеология, грамматика и логика, изложены вполне; из второй ча-
сти есть политическая экономия и отрывок морали; третья часть
осталась нетронутой.
Некоторые исследования, например, в особенности логические
изыскания о вероятности и план политической экономии, новы
и оригинальны; но книга не имеет прочного значения. Даже труд-
но понять, каким образом мыслитель, знавший Бэкона и д’Алам-
бера, мог с подобным самодовольством излагать распределение
науки, внешность и неполнота которого бросаются в глаза с пер-
вого взгляда.
Кант повел философское учение о познании совершенно иным
путем. И это могущественное влияние стало теперь господствую-
щим и во Франции.
Глава седьмая
Учение материалистов о нравственности. Ла Меттри.
Гельвеций. Сен-Ламбер. Вольней
Во время господства английского деизма нравственно-философ-
ские исследования имели очень живой успех. Кто отвергает откро-
вение, тот не может уже рассматривать нравственное учение, как
приходящую извне заповедь религии; стремление к добродетели
и нравственности должно быть признано заключающимся в самой
сущности человека. Несмотря на то, именно здесь и была наиболее
слабая сторона Локка. В своей борьбе против врожденных идей он
считал добродетель и нравственность разнообразными и изменчи-
выми, смотря по различию времен и народов. Шафтсбери и за ним
шотландские моралисты Хатчесон и Фергюсон дополнили это уче-
ние, производя необходимость и постоянство твердых понятий
о добродетели из стремления человека к высшему блаженству. От-
324
вергая врожденные идеи, они находили, однако, возможным гово-
рить о врожденном нравственном чувстве (ср. Ист. Лит. XVIII в., т. 1,
стр. 159, 339). На этой точке зрения остался с тех пор весь деизм.
На ней стоял Вольтер и на ней стояли также немецкие деисты.
Можно было бы считать совершенно ясным, что нравственное
учение, основывающееся на воззрениях материализма, должно
искать другой опоры. Такое нравственное учение по самой своей
сущности имеет двойную задачу. Если материализм отвергает сво-
бодную волю, то следует представить все те крайне запутанные
естественные условия, по которым всемогущая необходимость дей-
ствует на человеческие поступки; и если материализм вместе с сво-
бодной волей отвергает последовательно бытие и силу нравственно
направляющего естественного побуждения, то он тем убедительнее
должен показать, что несмотря на то остается твердая нравственная
сдержка, непременное различие хорошего и дурного, доброго и зло-
го. Но предводители материализма странным образом не поняли до-
статочно важности этой задачи. Дидро всегда говорил об основных
вопросах научного нравственного учения только отрывочно и бес-
связно, и там, где он делает это, он без дальнейших доказательств
принимает обычный взгляд, что человек стремится к высшему бла-
женству, и что прочное достижение его возможно только через до-
бродетель. И когда впоследствии выступил с своими сочинениями
о нравственности Гольбах, он не задумываясь выводил всегда обя-
занности отдельного лица только из обязанностей к целому. Но он
нигде не пытается показать, каким образом человек вообще в своей
неизбежной естественной необходимости приходит к известному
решению, и почему доброе или злое качество этого решения опре-
деляется постоянным отношением к добру или злу целого.
Нисколько не удивительно поэтому, если прежде всего явилась
на сцену легкомысленная софистика и если она пришла к выводам,
которых большей частью испугались даже сами более серьезные
предводители.
При философских нововведениях никогда не бывает недостатка
в людях, которые из пристрастия к скандалу придают себе тем боль-
ше значения, чем больше высказывают они резких и раздражающих
вещей. Софистами материалистического учения о нравственности
были Ла Меттри и Гельвеций.
Уже в своей книге Нотте machine (1767) Ла Меттри говорил, что
задача человека состоит в том, чтобы быть счастливым. А счастье,
как говорится в Antiseneque ои Discours sur le bonheur, который он
написал в Берлине, как введение к переводу Сенеки, De vita beata,
основывается на чувстве наслаждения. Так как мнимая духов-
ность человека есть, в сущности, только телесность, то, по мнению
Ла Меттри, и высшее духовное наслаждение по своему существу
есть только телесное наслаждение. Роды наслаждения, к которому
325
стремится человек, разнообразны, как вся природа: эти роды могут
иметь различную цену; но все они равноправны. Счастье человека
основывается на его способности ощущения, а не на его образова-
нии. Правда, можно иногда найти свое счастье также и в знании
и мышлении, во внутреннем спокойствии духа, но это счастье ред-
ко и неверно; с нашей стороны было бы ребячеством отказывать-
ся из-за этого от других удовольствий или раскаиваться о прежних
удовольствиях. Мышление часто может даже испортить и отравить
жизнь; часто сладкое опьянение от опиума, сон, тихое безумие до-
ставляют более действительное счастье. Как был бы достоин зависти
тот, кто мог бы провести жизнь в настроении, какое свойственно
опьянению от опиума. Поэтому сумасшедшему оказывают дурную
услугу, когда лечат его от его болезни; если природа обманывает
нас к нашей выгоде, то пусть обманывает нас навсегда. Истинная
философия знает только временное блаженство; она разбрасывает
на нашем пути розы и цветы; ум, знание могут быть украшением,
но не основой нашего счастья. Телесность этого счастья делает его
доступным для всех людей. Далее, он ближе объясняет отношение
счастья и образования: конечно, человек образованный, ученый
будет наслаждаться более высоким счастьем, чем невежда, если
его разум очищен от предрассудков, именно — от страха загроб-
ной жизни, и опирается только на опыт и наблюдения. Делать это
должно научить его разумное воспитание. Добродетель есть только
в отношении к обществу; добро и зло — относительные, обществен-
ные понятия. Приносить пользу обществу имеет для человека при-
влекательность чести, делать добро другим людям есть обогащение
собственного наслаждения. Воспитание должно приводить челове-
ка к тому, чтобы он находил свое наслаждение — служить обществу
даже с личными жертвами. Хорошие и дурные люди отличаются
тем, что у последних частный интерес берет верх над обществен-
ным. Так как оба действуют по необходимости, то раскаяние совсем
не нужно; оно нарушает чувство наслаждения, не оказывая влияния
на поступки. Искоренение его есть существенная цель воспитания.
Против дурных людей общество охраняет себя законами; эти зако-
ны должны быть гуманны, потому что преступление есть болезнь,
и быть дурным есть уже само по себе наказание. На место судьи,
собственно говоря, должен стать врач.
Это изложение во многих случаях формулировано намеренно
оскорбительным образом. Он бесстыдно выставляет наслаждение
принципом жизни и проповедует равноправность всякого наслаж-
дения по мерке организации и темперамента индивидуума: «Et
toi-meme, voluptueux, puisque sans plaisirs vifs tu ne рейх parvenir a
la vie heureuse, laisse la ton ante et 8ёпёдие; chansons pour toi que
toutes les vertus stoiques! Ne songe qu’a ton corps... Ou si, non content
d’exceller dans le grand art des уоШргёз, la crapule et la dёbauche n’ont
326
rien de trop fort pour toi, 1’ordure et I’infamie sont ton partage: vautre
toi, comme font les pores, et tu seras heureux a leur maniere»1 (Oeuvres
philosophiques, Амстердам, 1764, II, 259 и далее).
Пример того, как можно очистить свое мышление от предрассуд-
ков и направить его на путь, который может возвысить телесное
наслаждение, дал сам Ла Меттри в своем Arts de jouir (1751), от-
личающемся противной скабрезностью и цинизмом, и содержание
которого достаточно определяется взятым из Лукреция эпиграфом:
«Et quibus ipsa modis tractetur blanda voluptas»2. Лессинг в резкой
рецензии в Neuesten aus dem Reiche des Witzes (Lachm., Ill, 232) за-
мечает, как эти разнузданные странности были тем более возмути-
тельны для немецкого чувства, что они примыкали к общеизвест-
ной невинной и задушевно любовной песне Галлера и недостойным
образом искажали ее.
В 1751 Ла Меттри собрал свои материалистические сочинения
и написал к ним странное предисловие, где приглашает читателя
спуститься с ним с высоты теологических конструкций, comme d’une
gloire d’Opera3, в parterre physique4 и научиться рассматривать бес-
смертного человека, как ип реи de boue organisee5. Но вместе с тем он
требует, чтобы из его сочинений не заключали об его образе жиз-
ни. Философия ищет того, что абсолютно истинно, abstraction faite
de toute consequence6; в жизни ищут обеспеченности гражданского
существования. Философия может служить освещающим факелом
для руководителей большой массы (51), но в обычной жизни чело-
веческого общества господствует и должен господствовать предрас-
судок, та противоестественная мораль qu’un art admirable a sagement
inventee (9). Chansons pour la multitude que tous nos ecrits!7 (21).
Таким образом в его работе нет серьезного стремления к улучше-
нию жизненных условий.
Ла Меттри умер 11 ноября 1751, в Берлине, после обеда почти
внезапно, потому, как говорит предание, что из ребяческого хва-
стовства съел целый паштет. Ничто больше не повредило его па-
мяти, как этот мнимый род его смерти, в котором видели практи-
1 А ты сам, сластолюбец, так как без живых утех не достигнешь счастливой жиз-
ни, оставь там свою душу и Сенеку; песни для тебя, что все стоические добродетели!
Думай только о своем теле... Или, если вы не хотите преуспеть в великом искусстве
удовольствий, разврат и разгул не для вас, мерзость и позор — ваша доля: валяй-
тесь, как свиньи, и будете счастливы в их манере (фр.)- —Прим. изд.
2 «Также и способ, каким предаются любовным утехам...» (перевод с латинско-
го Ф. Петровского). —Прим. изд.
3 Как роскошные ложи оперы (фр.). — Прим. изд.
4 Физический партер (фр.). —Прим. изд.
5 Немного организованной грязи (фр.). —Прим. изд.
6 Абстракция независимо от каких-либо следствий (фр.). —Прим. изд.
7 Которая есть замечательное искусство, хитро изобретенное. Песни для наро-
да — как все наши сочинения! (фр.). — Прим. изд.
327
ческий пример к его учениям о наслаждении. В воспоминаниях
потомства Ла Меттри стал гулякой и развратником.
Между тем нет никакого прочного основания утверждать, что он
умер вследствие неумеренности, и надо только взглянуть на список
его многочисленных сочинений, чтобы увидеть, что его жизнь была
также наполнена работой. Вольтер хвалит его доброту, общитель-
ность, веселость, остроумие и указывает на его легкомыслие.
При дворе Фридриха он был, кажется, нечто вроде философско-
го шута. Когда король в составленном им академическом похваль-
ном слове Ла Меттри называет его ате риге1, это было, конечно,
преувеличение, рассчитанное на то, чтобы подразнить некоторых
благочестивых академиков: ате риге нельзя назвать ни циника, ко-
торый написал L’art de jouir2, ни наглого шута, который так играл
репутацией Галлера.
Программу своего образа жизни сам Ла Меттри изложил следую-
щим образом (II, 174): «Je ne voudrais revivre que comme j’ai уёси:
dans la bonne chere, dans la bonne compagnie, la joie, le cabinet, la
galanterie, toujours partageant mon temps entre les femmes, cette
charmente ёсо1е des Graces, Hippocrate et les Muses; toujours aussi
ennemi de la dёbauche qu’ami de la уо1иргё; enfin tout entier a ce
charmant n^lange de sagesse et de folie, qui, s’aiguisant Tune par 1’autre,
rendent la vie plus agreable et, en quelque sorte, plus piquante»3.
Мы удовольствуемся сказать, что с легкостью образа жизни
Ла Меттри соединял большую легкость работы. В этой легкости он
был едва ли хуже, чем его обстановка; хвастливая погоня за эффек-
тами в его поступках и его речах выставляет его хуже, чем он был,
и сделала его козлом отпущения для просветительной философии.
Дидро говорит в 1778 в жизни Сенеки (Oeuvres completes, изд.
Ассез^, III, 217): «Ла Меттри — писатель без критики, который
постоянно смешивает усилие мысли с мукой злого, легкие неу-
добства науки с гибельными следствиями невежества; он отлича-
ется дерзостью ума в том, что говорит, и дерзостью сердца в том,
чего не решается сказать; утешая преступника в его преступлении
и испорченного в его испорченности, он с своими нескладными,
но опасными софизмами не имеет никакого понятия об основных
положениях нравственности. Ла Меттри, развратный, бесстыдный
шут и льстец, умер так, как должен был умереть; он сделался жерт-
1 Чистая душа (0р.). —Прим. изд.
2 Искусство получать удовольствие (0р.). —Прим. изд.
3 Я хотел бы пережить заново только то, что я уже прожил: в хорошей еде,
в хорошей компании, радостях, кабинете, галантности, всегда разделяя мое время
между женщинами, этой очаровательной школой граций, Гиппократа и муз; всегда
как враг разгула и друг сластолюбия; наконец, эта очаровательная смесь мудрости
и безумия, которые, обостряя одно другое, делают жизнь более приятной и, в неко-
тором смысле, более пикантной (0р.). —Прим. изд.
328
вой своей неумеренности и глупости; он убил себя незнанием того
искусства, которым занимался». Несправедливая суровость этого
приговора, написанного почти через 30 лет по смерти Ла Меттри
показывает ревность позднейших просветителей, чтобы стряхнуть
с себя компрометированного предшественника. Почти столько же
нагл в своем нравственном учении и Гельвеций.
Как Ла Меттри исключительным основанием и целью челове-
ческих действий полагает самую неумеренную чувственность, так
Гельвеций — самое неумеренное себялюбие. Но софистика Гельве-
ция идет не из немаловажной научной работы, как у Ла Меттри,
но из несчастной слабости, которой отдается в жертву все. Нужду
называли десятой музой, одиннадцатая и двенадцатая муза есть,
конечно, тщеславие. Гельвеций гонялся всего больше за эффектно-
стью мнений, потому что возбудить эффект было единственной це-
лью всего его мышления и писания. Гримм принадлежал к числу
ближайших друзей Гельвеция; тем не менее характеристика, сде-
ланная Гриммом в Литер. Корреспонденции (январь 1772 г.), впол-
не подтверждает это мнение.
Клод Адриан Гельвеций родился в январе 1715 в Париже; его отец,
происходивший из одной ученой фамилии в Пфальце, был лейб-ме-
диком королевы. Когда Гельвецию было не больше двадцати трех
лет, он вследствие сильной протекции получил место генерально-
го откупщика, которое принесло ему сто тысяч талеров годового
дохода. Его молодость отличалась только танцами и необузданной
страстью к женщинам; но в его сердце скрывалось самое пылкое
честолюбие. Это честолюбие однажды заставило Гельвеция явиться
в большой опере под маской в виде балетмейстера вместо знамени-
того танцовщика Дюпрё, и нужно было только более зрелой мысли,
чтобы увлечь это честолюбие к более высокому направлению. Это,
как насмешливо рассказывает Гримм, сделал сначала Мопертюи.
Одно время Мопертюи вошел в моду при дворе и в городе, хваста-
ясь своими математическими знаниями и опытами; едва Гельвеций
узнал об этом, он вообразил, что родился геометром. Это прошло,
когда Мопертюи, уже вышедший из моды, отправился ко двору Фри-
дриха Великого. Между тем героем дня сделался Вольтер. Гельвеций
тотчас решился сделаться поэтом; он начал дидактическую поэму
о человеческом счастье, которая, впрочем, подвигалась медленно
и была кончена им только в последние годы его жизни. Она крайне
суха и ужасно скучна. Затем явился «Дух Законов», Монтескьё, 1749.
Гельвеций опять в глубине сердца поражен был славой этой книги;
он вообразил, что теперь только он нашел свое настоящее призва-
ние. Он тотчас сложил свое официальное положение, женился, жил
летом в своих поместьях, особенно в Ворё в Бургони, зимой в своем
блестящем дворце на Вандомской площади; должность гофмейстера
королевы, принятая им по желанию отца, не налагала на него ни-
329
каких обязанностей. Его душой овладел с тех пор широкий план; он
надеялся стать некогда рядом с Монтескьё, дать его учению первую
научную обработку и подтверждение. Он привлек в свой кружок
Дидро и его друзей и приверженцев. Рассказывают (ср. Мармон-
теля, Мёш. II, 115), что он бывало заводил то одного, то другого
по одиночке в нишу окна, чтобы добывать от них нужные ему мыс-
ли. Морелле, например, зло насмехается над ним в своих Запи-
сках (Париж, 1723, т. I, стр. 71), какого мучительного труда стоило
Гельвецию из пустого тщеславия набирать в свою бедную мыслями
голову творческой силы, в которой ей было совершенно отказано.
Наконец, после десятилетних почти усилий, вышла в 1758 году его
книга De I’esprit, в четырех Discours, которая должна была сделать
Гельвеция знаменитым человеком.
Новое в этой книге неверно, а верное не ново. Гельвеций играет
с идеями своих предшественников, как дети с огнестрельным ору-
жием; он забавляется вспышками и треском и не думает о том, что
опасная игра приносит вред и гибель. Исходная точка его — учение
Кондильяка об ощущении, как единственном источнике познания;
juger c’est sentir1 (Oeuvres completes. Paris, 1818, в трех томах; I, 11).
И затем он выводит странное заключение, что так как все проис-
ходит от ощущения, то одно себялюбие и личная выгода есть дви-
гатель всех наших суждений и поступков. Очевидно, он воспользо-
вался здесь книгой Maximes герцога Ларошфуко: что там злорадно
сказано в форме остроумных афоризмов, то он самодовольно строит
в систему. Искать удовольствия, убегать от неудовольствия — наше
единственное побуждение. Польза и выгода составляют в мире
нравственном основание всех изменений, как движение в мире
физическом. Это факт, на который нечего жаловаться, но который
нужно просто признать. Каждый, по словам Гельвеция, составляет
свой мир, другие для него ничто; мы любим в других только самих
себя; мы живем для них, чтобы они жили для нас. Отсюда это разно-
речие в суждениях о добродетели и честности. Любимец двора ред-
ко бывает любимцем народа; в Спарте хитрое воровство считалось
делом достославным, дикари считают нужным убивать своих стари-
ков. Согласно с принципом, высказанным в предисловии, что изло-
жение этики должно выходить из фактов, как исследования в обла-
сти физики, он иллюстрирует свои объяснения многочисленными
примерами и анекдотами, в чувственности которых нередко отра-
жаются опыты его эротической молодости: moral d’Opera, в которой
упрекает его один современник. Гельвеций учит об относительно-
сти понятий добра и зла и объясняет, что задача законодательства,
т. е. воспитания в самом широком смысле, неразрывно связывать
единичную выгоду с выгодой целого. Общественная польза есть та
1 Судить значит чувствовать (фр.). —Прим. изд.
330
точка зрения, которой должно подчиняться все, даже человечность:
tout devient legitime et meme vertueux pour le salut public1 (74). Это
приводит автора к воспитанию и законодательству, о которых он,
в третьем Discours, с невероятной наивностью говорит самый бес-
смысленный вздор. По его мнению, воспитание действует сильнее,
чем первоначальные врожденные свойства. Все люди, как говорит
он, рождаются относительно одинаковыми; у всех достаточно ис-
кусные чувства, чтобы открывать в предметах те же качества; у всех
те же потребности, и у всех была бы одинаковая память, если бы
все захотели быть одинаково внимательны. Кто делает усилия, тот
может дойти до самых глубоких идей; но эти усилия делает только
тот, у кого есть живые страсти. Только страсть оплодотворяет ум,
от бесстрастия он глупеет. Хорошее воспитание состоит в том, что-
бы дремлющие в каждом человеке достаточно сильные страсти
пробуждать и делать плодотворными; тогда из людей, по-видимому
самых незамечательных, оно может делать самых замечательных
людей. Это учение о страстях, последней целью которых Гельвеций
указывает чувственное наслаждение и которые он в этом понима-
нии возвышает до основания всякой человеческой годности, это
учение особенно характеристично для всей его этики. Но для хо-
рошего воспитания нужно, конечно, и хорошее государство. Деспо-
тизм боится пробудившихся умов. Таким образом все дело состоит
в исправлении государства. То, что для отдельного человека значит
воспитатель, то законодатель значит для народа. Так как законода-
тель правильным распределением наград и наказаний может воз-
буждать и руководить все роды страстей и все побуждения челове-
ческих поступков, то в его власти находится весь человек. Народы
бывают тем, что делает из них законодатель.
Как эта книга ни была незначительна, запутанна и бессвязна
сама по себе, она произвела, однако, страшнейшую бурю. Гельве-
ций вдруг сделался знаменитым человеком, хотя и не в том роде,
как он желал. Книгу преследовали с необыкновенной строгостью,
хотя она была по всей форме снабжена королевской привилегией.
Дело в том, что Малерб, по желанию своего друга Гельвеция, пору-
чил рассмотрение рукописи не какому-нибудь «смешному теологу»,
а политику и юристу, министерскому чиновнику Терсье, специаль-
ностью которого в цензуре было рассмотрение юридических сочи-
нений. Таким образом книга победоносно выдержала малосведущее
официальное испытание.
Духовенство в особенности было раздражено сильными напад-
ками на господствующее воспитание; иезуиты и янсенисты, во-
обще так усердно враждовавшие друг против друга, соединились
1 Все становится законным и даже добродетельным для общественной пользы
(0р.). —Прим. изд.
331
для общего преследования книги и нашли благосклонную помощь
особенно у королевы и дофина. Кристоф де Бомон, парижский
архиепископ, обвинял Гельвеция в отрицании души, свободной
воли и нравственного закона, в подкапывании мира в государстве
и церкви. Сорбонна не только повторила, но еще усилила эти об-
винения. Государственный прокурор, Омер Жоли де Флери, в своей
речи называл эту книгу собранием всех самых опасных учений, ка-
кие только проповедовала «Энциклопедия». Привилегия была отме-
нена государственным советом, и в феврале 1759 книга по опреде-
лению парламента была публично сожжена; автор был отставлен
из придворного штата; Барбье в своем Journal historique du Regne
de Louis XV (t. 4, стр. 283, 307) рассказывает, что отставлен был
и цензор Терсье за то, что дал дозволение к печати. Через это кни-
га приобрела незаслуженную важность. В самое короткое время
она имела пятьдесят изданий; появились переводы почти на всех
живых языках Европы. Если же знатный свет читал книгу потому,
что, по его мнению, Гельвеций (как говорила известная острота
г-жи де Буффлер или г-жи дю Деффан) своим учением о себялю-
бии только открыто высказал то, чтд думает про себя целый свет;
то, напротив, Готтшед, в предисловии к сделанному им в 1759 не-
мецкому переводу, положительно говорит, что книга, испытавшая
столько преследований у католиков, должна быть тем более оцене-
на у протестантов. Таким образом случилось то, что книга, которая
была только странным преувеличением и искажением французско-
го просветительного движения, и теперь все еще считается самым
истинным и достоверным его выражением. В эту ошибку именно
впадают почти все немецкие историки философии. Но ошибка эта
несомненна. Именно люди той же партии всего беспощаднее пори-
цают эту книгу. Сен-Ламбер, написавший Гельвецию льстивую по-
хвалу (Oeuvr. philosoph., т. 5, стр. 209, след.), остается совершено
одиноким с своим суждением. Гримм весьма неодобрительно гово-
рит о пустой гоньбе за парадоксами, не только в приведенном месте
«Литературной Корреспонденции», но и в неизданном еще письме
к герцогине Готской, хранящемся в герцогском архиве (Части. Дела
1751—1767 Е. XIII а. 14—16, л. 400); он говорит, что эта книга хо-
чет отвратительный скелет без мяса и мускулов выдать за полную
человеческую красоту. По рассказам того же Гримма, Бюффон сме-
ялся, что Гельвеций сделал бы лучше, если бы вместо этой книги
написал новый контракт на откуп. Вольтер, слишком снисходи-
тельно отзывавшийся о прежних стихотворениях Гельвеция, не-
сколько сохранил эту снисходительность и относительно книги De
l’esprit. Он должен резко осудить многое, чтд в ней заключается;
но мысль, что автор стал предметом клерикального преследова-
ния, настраивает его мягче (ср. его сочинения, XX, 320 и письмо
к Сорену от 14 декабря 1772). Руссо пишет опровержение учений
332
Гельвеция; но он уничтожил рукопись, когда увидел, что Гельве-
ций подвергся преследованию. До нас дошли только примечания
на полях, какие сделал Руссо в своем экземпляре этой книги. Ди-
дро, хотя в своих Reflexions sur livre De I’esprit (1758), признает что
сочинение Гельвеция есть furieux coup de massue porte sur les prejuges
de tout genre1 и принадлежит к числу великих книг века, но он ре-
шительно отвергает парадоксы, лежащие в ее основании (Соч. II,
267—274). Он объясняет, как вредны мнения Гельвеция, отвергаю-
щего вечную и неизбежную сущность нравственности, которая хотя
и представляется в тысяче различных форм, но всегда и везде имеет
свой неистребимый корень в подчинении отдельной личности роду,
т. е. во всеобщей человеческой любви; на мнимое всемогущество
воспитания он насмешливо отвечает: «Credat Judaeus Apella»2; а от-
носительно восхваляемых чудес законодательства он выставляет
то вопиющее противоречие, указанное и Генрихом Риттером в его
«Истории философии» (ч. 12, стр. 455), — что так как человек со-
вершенно определяется внешними чувственными впечатлениями,
то законодатель — который также человек, — должен иметь силу,
безусловно и независимо от господства своей обстановки, руково-
дить и владеть чувственными впечатлениями людей. И совершенно
в том же роде говорили д’Аламбер, Фридрих Великий, Тюрго, Руссо
(ср. Дамирона, Мёш. т. 1, стр. 374, 386, 426, след.).
Поведение Гельвеция в этих запутанных обстоятельствах было
поразительно. Он ожидал себе верного места в академии и теперь
видел себя осужденным со всех сторон. Оскорбленное тщеславие
ожесточило его; Гримм замечает, что с этого времени, кажется,
он стал циничнее в своих выражениях. Относительно духовенства
и властей он был так слаб, что унизился до постыдного отрече-
ния, где между прочим говорится: «je souhaite tres vivement et tres
ardemment que tous ceux qui auront le malheur de lire cet ouvrage me
fassent la grace de ne pas me juger d’apres la fatale impression qui leur
en restera. Je souhaite qu’ils sachent que des qu’on m’en a fait sentir la
licence et le danger, je Pai aussitot desavo^, proscrit et condarmte...»3
(Дамирон, I, стр. 376). Но все-таки он написал в это время вторую
книгу: De I’Homme, de ses, facultes intellectuelles et de son education, ко-
торая, в сущности, есть только повторение первой — но еще запу-
таннее и, что весьма замечательно, еще страстнее и раздражитель-
1 Яростный удар молота по разного рода предрассудкам (фр.). —Прим. изд.
2 «Пусть этому верит иудей Апелла», т. е. пусть верит кто угодно, только не я
(лат.). —Прим. изд.
3 Я очень и очень горячо надеюсь, что все, кому выпадет несчастье прочитать
эту работу, окажут мне милость и не будут судить меня по гибельному впечатлению,
которое у них останется. Я хотел бы, чтобы они знали, что как только я почувство-
вал беспорядок и опасность, я немедленно отрекся от нее [данной работы], запре-
тил и осудил ее (фр.). —Прим. изд.
333
нее. Еще никогда не говорилось так резко о деспотизме настоящего,
о stupidite religieuse et tyrannique (II, 600). Но книга вышла только
в 1772, по смерти автора.
На полях своего экземпляра Дидро написал ряд заметок, которые
с течением времени выросли в формальное сочинение и теперь за-
нимают в его сочинениях половину тома под заглавием Refutation
suivie de I’ouvrage d’Helvetius intitule L’homme (II, 275—456). Дидро вы-
сказывает здесь гораздо сильнее, чем при жизни автора, свое прин-
ципиальное противоречие.
Гельвеций умер в начале 1771 года. Но, говоря о Гельвеции-писа-
теле, мы не должны забыть отдать справедливость Гельвецию, как
человеку. До какой степени все его писательство было напускным,
всего лучше видно из того, что в своей жизни он был совершенно
иным человеком, чем в сочинениях. Хотя он был до последней сте-
пени тщеславен и, как все тщеславные люди, при случае труслив,
он, как Гольбах, был благороден и благотворителен. Мармонтель
в шестой книге своих записок, полагает, что Гельвеций думал пря-
мо противоположно тому, чтд он говорил, и то же самое суждение,
в самых различных выражениях, повторяется у всех современников.
Этот хвастливый проповедник себялюбия был самым любящим дру-
гом своих друзей, самым самоотверженным покровителем бедных.
Гримм, хорошо видевший его слабости, очень характеристично шу-
тит, говоря о нем, что если бы во французском языке уже не было
выражения galanthomme1, это выражение нужно было бы выдумать
собственно для Гельвеция. Руссо в «Эмиле» очень трогательно обра-
щает к Гельвецию эти прекрасные слова: «Напрасно ты стараешься
стать ниже самого себя; твой ум свидетельствует против твоих пра-
вил; твое благотворительное сердце отвергает твое учение!»
Ввиду этих опасных преувеличений была поэтому тем настоя-
тельнее потребность в более глубоком понимании и утверждении
материалистического учения о нравственности.
Начало этих стремлений принадлежит Сен-Ламберу и Вольнею;
но, впрочем, только начало: оба они представляют правильный
взгляд на тот путь, которым нужно было идти, но у обоих выполне-
ние совершенно недостаточно.
Жан-Франсуа маркиз де Сен-Ламбер родился 16 декабря 1716 г.2
в Безели, на юге от Нанси. Имя его перешло к потомству чрез его
известную поэму о временах года, но едва ли еще не больше через
его галантные приключения с маркизой дю Шатле при дворе короля
Станислава и через его долговременную и искреннюю связь с мар-
кизой д’Удето, которая приобрела такую двусмысленную знамени-
тость через Признания Руссо. Он вел верную дружбу с Вольтером,
1 Галантный человек (0р.). —Прим. изд.
2 По современным данным дата рождения 26 декабря 1716 г. — Прим. изд.
334
Дидро, Гриммом и всеми людьми тех же взглядов. Хотя первые ча-
сти его учения о нравственности, Principes des moeurs chez toutes les
nations ou Catechisme universel, были изданы только в 1797, а послед-
ние в 1800, но сам он говорит, что идея и план его составлены были
уже за сорок лет перед тем. Он умер 9 февраля 1803 года.
Сен-Ламбер правильно понял, что нравственное учение с мате-
риалистической точки зрения имеет свое основание в естественной
истории человеческих действий, и притом так, что эти действия
являются с неизгладимой чертой, отделяющей доброе и злое. Два
первые отдела его книги представляют Analyse de I’homme и Analyse
de la femme, в которых говорится о телесных свойствах и условиях,
чувственных впечатлениях, происхождении склонностей, страстей
и деятельностей. Результат этих рассуждений тот, что мы достигаем
высшего возможного счастья тогда, когда образуем наш ум. Поэтому
в третьем отделе заключается логика. На этом основании утвержда-
ется затем в четвертом отделе собственное учение о нравственно-
сти, развитие и изложение необходимейших правил и законов,
которые должны определять и руководить жизнь; они излагаются
двояким образом: во-первых, это Catechisme в простых, коротких
закругленных, как пословица, изречениях, понятных и для детско-
го ума, и во-вторых, Commentaire sur le catechisme, который глубже
оправдывает и доказывает эти изречения из сущности человеческих
склонностей, страстей и характеров. Заключение составляет пятый
отдел, Analyse de la societe — исследование о происхождении различ-
ных форм правления и о влиянии их на дух народов. Везде обеспе-
чено неприкосновенное, положительное различие между правом
и несправедливостью. Несмотря на чисто сенсуалистическую исход-
ную точку, по которой полюсы человеческих действий заключаются
только в ощущении удовольствия и неудовольствия, в стремлении
искать одного и избегать другого, — Сен-Ламбер видит основание
и цель этого стремления к самосохранению не в наглой страсти
к безусловному удовлетворению одной только единичной воли, как
Гельвеций; но прямо наоборот — в неразрывном соединении сча-
стья отдельной личности со счастьем целого, как Дидро и Гольбах.
Отдельная личность должна отдаваться целому, человек — челове-
честву, если хотят приобрести свое счастье. Воззрения Сен-Ламбера
проникнуты глубокой и благородной любовью к людям. Его раз-
мышления о справедливости, любви и дружбе, семействе и отече-
стве напоминают древних популярных философов. Но Сен-Ламбер
помешал своему успеху по собственной вине. Он достаточно умен
для того, чтобы правильно предчувствовать и угадать, в чем, соб-
ственно, заключается дело с его точки зрения; но у него не было
достаточной школы, чтобы с строгой последовательностью развить
и передать то, что он правильно почувствовал и угадал. Он гово-
рит, как образованный светский человек, который много испытал
335
и внимательно наблюдал жизнь; но это ограничивается отдельными
взглядами, наблюдениями и указаниями. К этому присоединяется
еще крайне прискорбное стремление быть bel esprit, которое мешает
везде, а в учении о нравственности всего меньше кстати. Analyse de
la femme представляет разговор между Ниноной Ланкло и аббатом
Бернье, наполненный противными и бьющими на эффект скандаль-
ностями. Логикой Сен-Ламбер назвал статью под заглавием «De la
raison ou Ponthiamas»; она изображает фантастическую картину
острова блаженства, где государство, нравы и образование достиг-
ли безупречного блеска чистого разума. Кто возьмется выбирать
из этих плевел пшеницу?
На той же почве стоит и Вольней. К нашему предмету относит-
ся в особенности книга, вышедшая 1793 и возбудившая множество
толков — «СагёсЫзше du citoyen fran^ais».
Собственное имя Волънея есть Константин Франсуа де Шассбёф.
Он родился 3 февраля 17581 в Краоне в Анжу. Он был сначала ори-
енталистом и прожил 1783—1787 на Востоке, потом принимал оду-
шевленное участие в борьбе и делах национального собрания, про-
вел несколько времени в Америке, избежав гильотины только чрез
внезапное падение Робеспьера; как старый друг Бонапарта, благо-
приятствовал coup d’etat2 18 брюмера, но оставил общественную
жизнь, когда Бонапарт сделался императором. Он умер 25 апреля
1820. Собрание его сочинений вышло в 1820 в восьми томах и с тех
пор было еще повторяемо.
И у Вольнея основная мысль есть отрицание не только теологиче-
ского нравственного учения, но также и мнимо врожденного нрав-
ственного чувства. Предисловие говорит прямо, что нравственное
учение есть просто естественная наука, с строго математической си-
лой доказательств. Второе издание настаивает на этом взгляде еще
сильнее; оно изменяет заглавие и называется «La Loi naturelle ou
principes physique de la morale dёduits de ^organisation de 1’homme et
de 1’univers» (в двенадцати главах). Но исполнение и здесь остается
далеко позади плана. Читатель не вводится в твердые и решитель-
ные физиологические факты и опыты, но остается на поверхности
общих, отвлеченных метафизических понятий. Во главе ставится
понятие естественного закона, как правильного и постоянного по-
рядка вещей. Этому закону подвержен также и человек; погрешая
против него, он вредит самому себе; наблюдая его, он сохраняет
и возвышает свое бытие. Этот естественный закон человека, как
продолжает Вольней, есть, конечно, любовь к самому себе (I’egoisme
c’est a dire Гатоиг de sot); дело только в том, чтобы правильно понять
и применить этот закон. Если под эгоизмом понимать наклонность
1 По современным данным год рождения 1757 г. — Прим. изд.
2 Переворот (фр.). —Прим. изд.
336
вредить другим, это будет уже не любовь к самому себе, а ненависть
к другим. Напротив, правильный эгоизм сам по себе заключает
необходимость не вредить другим; мы хотим, чтобы и мы не испы-
тывали вреда от других. Поэтому такой эгоизм есть не враг, а опора
общего блага (гл. III). Этим необходимым и неизбежным отношени-
ем индивидуума к целому верно определяются все представления
о добре и зле, добродетели и пороке, праве и несправедливости,
истине и заблуждении, дозволенном и запрещенном. Доброде-
телью мы называем выполнение только таких действий, которые
приносят пользу как отдельному лицу, так, и обществу; грех — ка-
ждое действие, которое вредит сохранению и усовершенствованию
отдельного лица и общества. Поэтому добродетели распадаются
на три разряда: на добродетели человека относительно самого себя,
относительно семьи, относительно государства и общества. К пер-
вому разряду относятся благоразумие и мудрость, умеренность
и рассудительность, мужество, прилежание, опрятность; ко второ-
му — бережливость, любовь родительская, супружеская, детская
и родственная, правильные отношения господ и слуг; основание
третьего есть справедливость, к которой все другие общественные
и государственные добродетели относятся только как различные
формы и обнаружения. В страстях Вольней, в противоположность
Гельвецию, видит принцип, разрушающий нравственность. Спра-
ведливость есть необходимейшая добродетель, потому что чело-
век стремится к равенству, свободе и собственности (egalite, liberte,
propriete; гл. XI). Равны люди потому, что природа людей одинакова
и только средства ее развития различны; свободны люди потому,
что ни один человек не подчинен другому от природы; право на соб-
ственность имеет каждый, потому что каждый есть господин своего
тела и дохода с своей работы. Вся мудрость, всякое совершенство,
весь закон, вся добродетель заключаются в трех главных учениях:
«Сохраняй себя, поучай себя, умеряй себя», и эти три учения сое-
диняются в высшем основном законе: «Живи для своего ближнего,
чтобы он жил для тебя».
Второе знаменитое произведение Вольнея, «Развалины» (1791),
есть применение этих учений к исторической жизни, с помощью
поэтических фикций и большим количеством декламации. Любовь
человека к самому себе, стремление к благосостоянию, отвращение
к страданию были, по Вольнею, существенными и первобытными
побуждениями, которые вызвали человека из его грубого естествен-
ного состояния, дали ему торжество, привели его к обществу, к нау-
ке, искусству, наслаждению; извращение этой любви в слепую необ-
узданность жадности, и ее дочери — невежества, было источником
всех зол, опустошавших мир. Вольней мечтает в этой книге, как
мечтали благороднейшие люди того времени; он видит во француз-
ской революции попытку осуществить на деле господство разума.
337
«Пораженное меньшинство привилегированных восклицает: “все
потеряно; народ просветился”; а народ говорит: “все спасено, пото-
му что мы просветились и не будем теперь злоупотреблять нашей
силой, мы желаем только нашего блага; в нас есть чувство мщения,
мы забываем его; мы были рабами, мы будем способны повелевать;
мы хотим только быть свободны, а свобода есть не что иное, как
справедливость”» (гл. XV).
В научном смысле моральные трактаты Сен-Ламбера и Воль-
нея, в сущности, столько же незначительны, как книги Ла Меттри
и Гельвеция. Но они чище по своему настроению. Нравственное
одичание и материализм вовсе не непременно равнозначащи.
Материализм и в наше время не пошел в нравственном учении
дальше этих скудных опытов. Несомненно, что с этой точки зрения
нравственное учение есть существенная и необходимая часть ан-
тропологии. Если современный материализм хочет доказать свою
жизненную силу, то его ближайшая и значительнейшая задача ле-
жит здесь.
Глава восьмая
Разрыв с классицизмом. Бартелеми. Летурнер
Мерсье. Седей. — Люлли и Рамо
Филидор и Гретри. — Суффло. Грёз. Верне
Французское искусство и поэзия во второй половине восемнад-
цатого столетия ни в каком направлении не произвели прочных
созданий; но исторически они являются чрезвычайно верным
зеркалом господствующих условий и настроений. Нити художе-
ственного развития редко бывают так открыто перед глазами, как
в этом веке.
Здание старой монархии разрушается все больше и больше;
взамен того все могущественнее возрастает третье сословие, зажи-
точная и образованная буржуазия. Поразительно, и однако же со-
вершенно естественно, что в соответствие с этим государственным
и общественным поворотом классицизм, художественный отблеск
этой монархии, с каждым днем все более падает и живет только
остатками прежних преданий. Зато решительно выступают на пер-
вый план те роды искусства, которые исключительно коренятся
в изображении домашней и буржуазной жизни.
И этот многозначительный поворот сказывается в одно время
и с одинаковой силой во всех трех искусствах — в поэзии, музыке
и в изобразительном искусстве.
Какой гордой и победоносной была некогда трагедия Корнеля
и Расина! Теперь трагедия французского классицизма потеряла веру
338
в самое себя. Везде беспомощное колебание; ни одного уверенного
шага, почва колеблется под ногами. Время выросло из старых форм
и воззрений, но все-таки еще не было достаточно зрело, чтобы най-
ти новый путь. Вольтер — единственный писатель, которого мож-
но назвать в трагедии, но и у него цветущее время драмы прошло.
С одной стороны, много драматиков, которые плетутся за Вольте-
ром и недостаток настоящей поэзии стараются, прикрыть философ-
скими прикрасами и патетической декламацией, как Мармонтель,
Лагарп, Сорен, Лемьер, де Белуа. С другой стороны, дилетантская
попытка очистить и оживить правила и законы классицизма возвра-
щением к формам Софокла и Шекспира. Дюси, который, теснейшим
образом следуя Софоклу, написал «Эдипа в Колоне» (1778—1797),
обрабатывал также Шекспирова Гамлета (1769), затем «Ромео»,
«Короля Лира», «Макбета» и «Отелло» (1792).
Без сомнения, с этими движениями драматической поэзии нахо-
дится в ближайшей связи то, что теперь и со стороны французской
науки сделаны были весьма важные попытки достигнуть более пра-
вильного понимания древних и Шекспира.
Аббат Бартелеми работал уже над своими привлекательны-
ми картинами из жизни греков, которые вышли в 1787 под загла-
вием «Voyage du jeune Anacharsis». Хотя они все еще не свободны
от тогдашней французской манерности, они все-таки существенно
содействовали тому, чтобы не только в самой основе поколебать
у французов традиционные мнения о безусловном достоинстве
французского искусства и литературы, но и вызвать то юношеское
одушевление к античным формам жизни, которое составляет такую
выдающуюся черту первых годов французской революции.
И вместе с тем становилось во Франции все громче и шире
удивление перед Шекспиром; оно было так громко и широко, что
Вольтер, который, однако, сам один из первых обращал внимание
на Шекспира, увидел в этом серьезную опасность для хорошего вку-
са и настойчиво повторял то, что он уже за несколько десятков лет
говорил неблагоприятного о Шекспире. Уже в 1746 Делаплас издал
первый французский перевод Шекспира; правда, он был так же
неудовлетворителен и чужд настоящему духу поэта, как двадцать
лет спустя перевод Виланда в Германии, но тем не менее он был
полон одушевления и произвел большое действие. До тех пор даже
в самой Англии редко говорили о Шекспире так, как говорил о нем
Делаплас в своем предисловии; но, к своему удивлению, он приме-
шивает отчасти и порицания в духе Вольтера. «Никогда, — говорит
это предисловие, — поэт не господствовал над страстью с боль-
шей силой; никогда поэт не расширял так далеко своего царства.
Он движет, он воспламеняет, он успокаивает страсти без всякого
усилия, вполне по своей воле; без больших приготовлений и почти
незаметно он всегда твердо ведет нас к своей цели. Сердце потрясе-
339
но, мы вздыхаем, мы проливаем слезы и всегда в ту самую минуту,
когда он этого хочет. Но вместе с тем он с той же силой повелева-
ет страстями, которые прямо противоположны этим потрясающим
ощущениям; различные смешные стороны человеческой природы
получают от его кисти столь же тонкие и забавные черты, как до-
бродетели и пороки получают черты величественные и поразитель-
ные. Он столь же превосходен в холоде размышления, как в огне
страсти; его изречения и чувства не только вполне естественны
и отвечают данным характерам и положениям, но с самым удиви-
тельным искусством они всегда сглаживают все трудности, какие
представляются для хода действия». В 1776 Летурнер, который пе-
ревел уже Юнга, Стерна и Ричардсона, издал новый перевод Шек-
спира. И здесь мы слышим слова еще более высокого одушевления:
Летурнер называет Шекспира le dieu de la tragedie1 и — чтд в особен-
ности должно было оскорбить Вольтера — утверждает, что до сих
пор настоящий Шекспир был во Франции неизвестен. «Никогда, —
говорит посвящение королю, — ни один человек не смотрел так
глубоко в пропасть человеческого сердца, как Шекспир; никто так
не заставлял страсти говорить языком природы. Плодовитый, как
сама природа, он дал своим действующим лицам то изумительное
разнообразие характеров, какое людям дала природа. Он схватывал
природу везде, где находил ее; он раскрыл все самые тайные уголки
сердца, нигде, однако, не переступая границ истины». Мейстер го-
ворит в Литературной Переписке (15 марта 1776), что этот перевод
принят был всеми лучшими умами с самым горячим участием; что,
например, Седен, прекрасный драматик, несколько дней был точно
в опьянении, которое трудно изобразить, но легко понять.
Классицизм в своем прежнем безусловном могуществе и господ-
стве был похоронен.
Этот глубокий поворот художественных взглядов мы находим
как во всех критических мнениях того века, так и в характере поэ-
тических произведений, какие теперь почти исключительно приоб-
ретали значение.
Если Дидро уже в своем легкомысленном юношеском романе са-
мым резким образом осмеивал трагику французского классицизма
и затем повторял эти нападения в своих драматургических статьях,
то он нашел союзника не только в Германии, в Лессинге, но мно-
гочисленных союзников и в самой Франции. Руссо пишет в «Но-
вой Элоизе» (часть 2, письмо 17): «На французской сцене слишком
много речей и слишком мало действия; быть может, причина этого
явления в том, что француз в самом деле еще больше говорит, чем
действует, или, что по крайней мере он придает больше важности
тому, что говорят, чем тому, что делают... Корнель и Расин при всем
1 Бог трагедии (фр.). —Прим. изд.
340
их гении все-таки больше только такие говоруны (parleurs); их луч-
шим наследником будет тот, кто, соревнуя англичанам, осмелится
поставить на сцену самое действие. Обыкновенно все происходит
только в искусных, звучных диалогах; и первая забота каждого го-
ворящего есть всегда забота о блеске. Почти все говорится в общих
изречениях. Как бы действующие лица ни были возбуждены, они
всегда больше думают о публике, чем о себе самих; сентенция стоит
им меньше, чем чувство. За исключением пьес Расина и Мольера,
я почти так же добросовестно изгоняется из французской грамма-
тики, как из сочинений янсенистов, и язык человеческих страстей
говорит на этом театре почти так же скромно (он), как язык хри-
стианского смирения. Самые живые ситуации никогда не забы-
вают красивого расположения утонченной речи и изящной позы;
и если кто-нибудь в отчаянии вонзает в сердце кинжал, то он хо-
чет не только упасть со всем приличием какой-нибудь Поликсены,
но скорей даже вовсе не падает... Все это происходит оттого, что
француз ищет на сцене не естественности и иллюзии, а только ума
и мысли. Он желает приятного развлечения, а не правдивой дей-
ствительности; он хочет не иллюзии, а забавы. Актер есть для него
всегда актер, а не то лицо, какое он представляет; и как в представ-
ляемом лице видят только актера, так в драме видят только со-
чинителя». И вскоре в те же ряды вступил и Бомарше не только
с некоторыми из своих поэтических произведений, но и с умными
драматургическими статьями.
В 1773 явилась книга Себастьяна Мерсье «Du theatre ou nouvel
essai sur Part dramatique», где собраны и приведены в систему все
эти обвинения. «Наш театр, — говорится уже в посвятительном
введении, — никогда не принадлежал нашей почве; это прекрасное
дерево Греции, пересаженное в наш климат и в нем выродившееся.
Странный вкус исказить древний театр вместо того, чтобы постро-
ить новый, находящийся в теснейшем отношении к той нации, к ко-
торой говорят. Поэтому необходимо, чтобы это направление вку-
са изменилось, если Франция должна действительно иметь театр.
Если наша гордая и прославленная трагика есть не что иное, как
пустая тень, одетая золотом и пурпуром без всякой естественности,
то пора, наконец, чтобы истина и нравственная конечная цель по-
бедили, чтобы изображение обычной жизни вытеснило, наконец, ту
притворную и лживую помпу, которая господствовала до сих пор
на нашем театре». Мало того, Мерсье, — dramomane, как называет
его «Литературная Переписка», пренебрежительно отзываясь о нем,
как неловком подражателе Дидро, — тотчас открывает и политиче-
скую сторону этого вопроса, прибавляя, что эта поэзия только еще
увеличивает нечеловечные разделения, какие произвело общество;
что дело поэзии, напротив, смягчать и уничтожать эти разделения,
но что, конечно, поэт, пишущий для народа, подвергается опасности
341
быть принятым за человека из народа. Самая книга есть ближайшее
развитие этих резких отрицаний. Какой глубокий поворот всех тра-
диционных взглядов и чувства, когда здесь (стр. 30) французская
трагика классицизма называется родом серьезной шутовской пье-
сы, ипе sorte de farce serieuse, которая, хотя и написана известным
приятным для слуха красивым языком, но ничего не говорит нации,
да и не может сказать! Расин подвергается крайнему, часто очень
несправедливому осуждению, Буало называется холодной мелкой
душой, из Мольера находит пощаду только Тартюф.
Таким смелым нововводителям, как Мерсье, искомым идеалом
представлялась бесспорно такая новая трагедия, которая была,
правда, освобождена от оков французского классицизма, но вполне,
однако, сохраняла достоинство и строгость высокого стиля. Мерсье
прекрасно и тонко говорит (стр. 256): «Если бы первые основы на-
шего театра полагал независимый и гордый поэтический гений, как
Эсхил и Шекспир, то на почве, которую ему должно было обрабо-
тать, он дал бы своему делу совсем другой объем, вместо тех узких
границ, какие теперь уничтожают искусство; и если бы еще теперь
пришел такой гений, который дал бы французской сцене новый вид,
устранил все чуждые и искаженные прикрасы и работал по ново-
му неизвестному плану, кто может сомневаться, что он основал бы
сцену, которая была бы исполнена, если не тоньше и старательнее,
то во всяком случае истиннее, богаче чувством, полезнее?» И с этой
точки зрения чрезвычайно знаменательно, что Мерсье обратил свое
внимание на немецкую литературу и, издавая в 1802 г. перевод
Крамера Шиллеровой «Орлеанской Девы», говорил в предисловии:
«Heureux celui qui connait le cosmopolitisme litteraire! Il se jette dans
les grandes compositions de Shakespeare et de Schiller»1. Но во Фран-
ции для такой новой трагедии высокого стиля еще не пришло время.
Вместо высокой трагедии классицизма наступило здесь самое явное
пристрастие к трогательной семейной драме. Этот род самым горя-
чим образом защищают не только драматургические статьи Дидро,
но и сам Мерсье, хотя и против воли (стр. 94), должен был повто-
рять эти похвалы и с своей стороны (стр. 326) указывать драматиче-
ским поэтам сначала на Ричардсона, Филдинга и Мариво. И сам он,
кроме исторических драм в прозе, как Jean Неппиуег (1772), писал
преимущественно буржуазные трогательные пьесы, как La brouette
du vinaigrier, историю бедного молодого человека, который счастли-
во получает богатую возлюбленную, и Jenneral (1769), новую вер-
сию «Лондонского Купца» Лилло.
Поэтому, как ни скудны и неудовлетворительны в чисто художе-
ственном отношении эти французские картины семейной жизни
1 Счастлив тот, кто знает литературный космополитизм! Он перетекает в вели-
кие произведения Шекспира и Шиллера (0р.). —Прим. изд.
342
и нравов из второй половины восемнадцатого века, но в историче-
ском отношении было очень важно, что те начатки, которые уже
в прежних десятилетиях сказались в возникновении слезной коме-
дии и в похвалах, и в подражании буржуазной трагедии англичан,
теперь так победоносно брали верх над упадающим классицизмом.
Тон давал по-прежнему Дидро. Но в поэтическом отношении всего
больше выдается Седен (1719—1797), которого «Le philosophe sans le
savoir» (1765) производит трогательное и отрадное впечатление как
естественностью формы, так и простотой буржуазного настроения.
Затем следует множество других, теперь окончательно устарелых
пьес, в которых вместо серьезного одушевления и художественной
возвышенности являются вялая чувствительность и плаксивость,
и добродетельная назидательность, враждебно настроенная про-
тив существующих сословных отличий; но эти пьесы, отражавшие
в себе самый глубокий вопрос того времени, прошли весь свет в пе-
реводах и переделках.
Эти проникающие в литературу нововведения затронули и сце-
ническое исполнение. Гёте рассказывает в одиннадцатой книге
«Правды и Поэзии», что в противоположность актеру Лекену, кото-
рый играл своих героев с особенным театральным приличием, с по-
вышением и понижением голоса и силой, и был далек от естествен-
ного и обыкновенного, выступил актер Офрен, который объявил
войну всякой неестественности и в своей трагической игре старался
выразить высшую правду. Гёте прибавляет: «Этот прием не мог под-
ходить к остальному парижскому театральному персоналу. Он был
один, те держались вместе, и он, упорно держась на своем, решил-
ся скорее оставить Париж и прибыл в Страсбург. Здесь мы видели,
как он играл роли Августа в Цинне, Митридата и других подобных
с самым правдивым естественным достоинством. Это был красивый
человек высокого роста, более стройный, чем сильный, не столько
с внушительной, сколько благородной и приятной внешностью. Он
играл обдуманно и спокойно, вовсе не холодно, но достаточно силь-
но, где это требовалось. Это был очень опытный художник и из тех
немногих, которые вполне умеют превращать искусственное в при-
роду и природу в искусство. Именно ложно понимаемые преиму-
щества таких людей и дают постоянно повод к учению о ложной
естественности». Что в поэзии и драматическом искусстве остано-
вилось во Франции на скудных начатках, то в Германии достигло
художественной законченности у Лессинга, Экхофа и Шрёдера.
И это более свежее движение времени не сказывается ли также
в любви к пейзажным изображениям природы, которые теперь все
более и более вступают во французскую литературу, как явление,
весьма заслуживающее внимания? Правда, первым свидетельством
этого нового чувства было введение так называемой описательной
поэзии, того столь сурово преследуемого Лессингом литературного
343
рода, который не понимает, что поэзия имеет дело не с вычислени-
ем стоящих рядом предметов, а только со сменой живо движуще-
гося действия. «Времена года» Сен-Ламбера, «Les fastes» Лемьера,
«Сады» Делиля были, в сущности, подражаниями Попу и Томсону,
и эти подражания остаются не только позади Лукреция, Вергилия
и Овидия, но даже позади их ближайших образцов. Шатобриан
метко сказал о Делилевом переводе Георгик, что он похож на ко-
пию Рафаэля, сделанную Миньяром, или копию с Пуссена, сделан-
ную Ватто, — и то же можно сказать обо всех этих поэмах, которые
так противно слащавы и вместе так скудны и лишены чувства, что
из каждой строки видно, что эти мнимые поэты вовсе не сердечные
люди, которые всей душой привязаны к деревне и народу, к полю
и лесу, весне и лету, а натянутые горожане, которым хорошо нари-
сованная оперная декорация нравится больше, чем зеленеющая сол-
нечная природа. Но рядом с этими описательными поэтами и выше
их стоит уже Руссо, который после долгого времени опять впервые
почувствовал пейзажную природу и этим возвратил человеческому
чувству и поэзии неотъемлемые и, однако, давно потерянные миры.
Совершенно такой же поворот от натянутой неестественности
классицизма к истине и естественности показывает современный
ход развития музыки.
Уже из Италии опера принесла роковое назначение быть, в сущ-
ности, большим придворным увеселением. При Людовике XIV это
придворное назначение соблюдалось строжайшим образом; даже
тогда, когда итальянская опера давно двинулась дальше этих начат-
ков и даже когда король дал позволение давать оперы и публично,
за входную плату.
Жан-Батист Люлли (1633—1678), родом флорентинец, основа-
тель и глава большой французской оперы, вполне подчинен прин-
ципу современной французской трагики. Тексты опер, написанные
по большей части Кино, — мифологические трагедии, музыка — чи-
сто речитативная, рассчитанная главным образом на патетическую
декламацию, без всякого самостоятельного значения оркестра. Чем
суше была музыка, тем необходимее для возвышения торжествен-
ного впечатления делалось расточительное применение внешних
средств: балет, великолепие и разнообразие костюмов, декорации,
машины и шествия. Гримм, автор «Литературной Переписки», тон-
кий знаток музыки, в своей остроумной сатире «Le petit prophete de
Boehmischbroda» чрезвычайно забавно осмеивал эту оперу Люлли
следующим образом: «И я увидел танцоров и прыгуний без меры
и цели... Каждую минуту их танцы мешали актерам, и когда акте-
ры были в самом жару своих речей, являлись прыгуньи и говоря-
щих загоняли в угол, чтобы дать место прыгуньям, хотя торжество
предназначено было для говорящих; и когда им опять нужно было
что-нибудь сказать, им позволяли выйти на середину, конечно,
344
под условием опять убраться в угол, когда они облегчат свои серд-
ца. — И так я скучал два с половиной часа, пока слушал собрание
менуэтов и арий, которые они называют гавотами, и других вещей,
которые они называют ригодонами, тамбуринами и контрдансами;
и все это перемешивается с церковным пением, как мы в Богемии
поем и до сегодня при вечерне, и с уличными песнями, какие я слы-
хал в предместьях Праги... И я увидел, что называется во Франции
оперой, и отметил это, чтобы не забыть, в своей записной книжке»
(гл. VII и далее).
И прославленный Жан-Филипп Рамо (1683—1764) стоял, в сущ-
ности, на той же ступени; только он богаче и разнообразнее в гар-
монической обработке, а в пении и инструментовке отличается
большей самостоятельностью и живописностью деталей. Из соглас-
ных отзывов Гримма, Дидро и Руссо ясно видно, что опера Рамо
была только дальнейшей выработкой, но не преобразованием опе-
ры Люлли.
Известно, что преобразование большой французской оперы
вышло не из самой Франции, а имеет свое начало в знаменитой
борьбе глюкистов и пиччинистов, которая в семидесятых годах во-
семнадцатого века самым страшным образом волновала весь Па-
риж. В то время, когда приверженцы Глюка, большого немецкого
музыканта, и приверженцы Пиччини, тогда самого значительного
итальянского композитора, с ожесточением спорили между собой,
была еще и третья партия, которая старалась избежать влияния
обоих и сохранить в неизменном значении старый французский
вкус и искусство. Это не удалось. Люлли и Рамо были оттеснены.
Глюк остался победителем.
Тем временем, однако, и в самой Франции совершилось значи-
тельное музыкальное событие.
Как в поэзии поднялась буржуазная драма, так и в музыке — бур-
жуазная опера.
Она была давно подготовлена водевилем, которого крестным
отцом был Рене Лесаж, автор «Жиль Бласа», в начале столетия на па-
рижском ярмарочном театр (Theatre de lafoire). В 1712—1736 гг.
Лесаж дал этим acteurs forains1 до ста маленьких шуточных опер,
в которых он ставил на сцену пестрый мир своего романа и изо-
бражал смешные картины слабостей современного общества. Его
преемники, как Панар, стоявшие под влиянием современной более
серьезной и трогательной комики, прибавили к веселым звукам
Лесажева водевиля поучительные тоны, и он мало-помалу пристал
к тенденциям новой буржуазной драматики.
Затем пришел новый толчок извне. В августе 1752 общество
итальянских певцов получило разрешение давать в зале большой
1 Ярмарочные актеры (фр.). —Прим. изд.
345
оперы комические оперы; они приобрели до такой степени все-
общий успех, что стесненные французские певцы и музыканты
не успокоились до тех пор, пока в марте 1754 не добились удаления
их через полицию. Люди нового времени, именно Гримм, Дидро
и Руссо с живым участием приняли сторону итальянцев. Этот союз
был вызван не только прелестью более приятной и выразительной
итальянской музыки и пения, но еще более чувством внутреннего
родства, признанием одинакового стремления к естественности
и простоте. Opera buff а точно так же старалась освободиться от стес-
нительного господства оперы seria1, как новая драматика от господ-
ства французского классицизма. Поэтому тотчас возникла самосто-
ятельная деятельность. Явилась собственно комическая оперетка.
Руссо летом 1752 написал свою оперу «Le devin du village», который
представлен был 18 и 24 октября того же года в Фонтенбло перед
королем, а 1 марта 1853 в большой опере и везде имел самый боль-
шой успех. Поэты, как Фавар, Седен и Мармонтель, компонисты2,
как Дюни, Монсиньи и Филидор, счастливо повели эти начатки
дальше. Но настоящим мастером комической оперы стал Гретри.
Андре Эрнест Гретри (1741—1813), родившийся в Льеже, харак-
тер живой и приятный, хотя и неглубокий, получил прекрасную
подготовку во время восьмилетнего пребывания в Италии и, когда
в 1767 году прибыл в Париж в самый разгар музыкальной борьбы,
тотчас овладел новым родом и в 1768 г. поставил свою оперу «1е
Huron». Успех был блестящий, и каждое новое представление его
необычайно плодовитого таланта было всегда новым триумфом.
Только теперь можно было говорить и во французской музыке
об истине и драматической индивидуальности.
Отто Ян говорит в «Жизни Моцарта» (ч. 2, стр. 212) о Гретри:
«Существенное средство, каким он старался достигнуть этой исти-
ны и индивидуальности, было пение, мелодия; сделать ее приятной,
певучей и выразительной он старался выучиться у итальянцев, как
он применял также обычные у них формы, но применял свободно.
С той заботой об образовании мелодии в благозвучии и выражении
он соединял величайшее внимание к слову, к правильной резко
определенной декламации. Это придавало его музыкальному вы-
ражению нечто живое и пикантное и сообщило его музыке суще-
ственно национальный элемент, который всего ярче высказался
в водевиле. Но выразительная мелодия пения почти одна и была им
выработана; правда, он не вполне пренебрегал другими средства-
ми, как богатая и избранная гармония, искусный аккомпанемент,
инструментальные эффекты, но он употреблял их редко и как вещь
1 Опера буффа (отсюда буффонада) — «веселая» опера, опера серна — «серьез-
ная». — Прим. изд.
2 Сочинитель музыки, композитор (устар.). —Прим. изд.
346
второстепенную, которой нельзя придавать никакого большого зна-
чения. Но даже эта простота, которая почти граничит с бедностью,
могла в то время только содействовать тому, чтобы тем блистатель-
нее действовали его по истине превосходные особенности и чтобы
сделать его музыку популярной. И в самом деле эта популярность
была редкая. Понятно, что энциклопедисты, которые были вместе
защитниками итальянской музыки, нашли в нем человека, который
с красотой и благозвучием итальянцев соединял истину и характе-
ристическое выражение. Руссо благодарил его, что своей музыкой
он снова открыл его сердце для ощущений, которые он считал уже
для себя недоступными; Гримм, который с самого начала принял его
с громкими одобрениями, — когда спор глюкистов и пиччинистов
был в самом разгаре, — объявил, что знатоки и профаны согласны
в том, что ни один компонист не сумел так счастливо, как Гретри,
приноровить итальянскую мелодию к характеру французского язы-
ка и удовлетворить вкусу нации тонкостью и умом во всех мотивах.
И с каким энтузиазмом вся публика принимала его музыку! Мно-
гие из его опер, как “Земира и Азор”, обошли всю Европу, и Гретри
вообще несомненно оказал существенное влияние на образование
общественного вкуса».
И тот же самый ход развития повторяется опять в изобразитель-
ном искусстве. И здесь серьезное стремление решительно порвать
со старыми преданиями и взглядами. И здесь в созданиях высокого
стиля то же неясное брожение; и здесь то же глубоко знаменатель-
ное появление жанровой живописи, как в поэзии появление буржу-
азной драмы и в музыке появление оперы.
Если мы вспомним опыты поднять и очистить трагедию фран-
цузского классицизма строгим подражанием греческой трагике,
то чрезвычайно поучительной параллелью является то, что высокий
стиль изобразительного искусства вступает на ту же дорогу строго-
го подражания древним. Прежде всего в архитектуре. Чувствуется,
что уже больше нельзя строить в пустом, но пышном дворцовом
стиле Людовика XIV и даже в уютном рококо времен регентства;
эти стили произошли из сознания силы и самоуверенности аристо-
кратии, которые для нового поколения становятся уже сказочны-
ми мечтами исчезнувшего золотого века. Но все это еще борется
и слишком не зрело, чтобы из этого колебания мог выработаться
новый законченный архитектурный стиль; и всего меньше это вре-
мя понимает великие произведения собственной средневековой ар-
хитектуры, потому что в средних веках все еще видят врага, с кото-
рым нужно бороться всеми силами. Древность только теперь стали
опять видеть ближе после воспроизведений античной архитектуры
и орнаментики у Пиранези и после раскопок в Помпее и Геркулану-
ме. Иезуит Ложье в своем «Essai sur 1’architecture» 1753 снова призы-
вает одичавшее зодчество к простоте и истине; Кошен в «Mercure»
347
1754 делает такой же призыв в мелких искусствах; но решающее
значение имел Суффло, который в 1755 в постройке парижского
Пантеона возвращается к возможно верному, хотя еще очень внеш-
нему подражанию римской архитектуре. Тот же формальный прин-
цип обнаруживается в скульптуре у Пигаля и в живописи у Вьена,
которые, несмотря на все остатки прежней натянутости и манерно-
сти, несомненно были, однако, предшественниками академическо-
го на античный лад направления Давида.
За этим следовали мода и промышленное искусство. Гримм пи-
шет в своей «Переписке» 1 мая 1763 г.: «Перевороты, которые ока-
зываются благоприятными для искусств, столько же заслуживают
внимания, как и перевороты, которые ведут к их ущербу и упадку.
Странный вкус в орнаментах и в форме и рисунке драгоценностей
достиг во Франции последнего предела, и так как неразумное может
привлечь разве только новизной, этот вкус произвел беспрестанную
перемену моды. Но, несколько лет назад, начали опять искать ан-
тичных форм и орнаментов; вкус при этом много выиграл, и при-
страстие к ним стало таким общим, что теперь все делается а 1а
grecque1. Внутренняя и внешняя отделка домов, мебель, материи,
золотые изделия, все делается теперь на греческий лад. От архитек-
торов этот вкус перешел в модные лавки; наши дамы причесаны
a la grecque, наши светские господа считали бы себя для унижением,
если бы не держали в руках табакерки a la grecque».
Мы привыкли называть это сухое внешнее подражание древ-
ности веком des Zopfes. Стили барокко и рококо имели храбрость
переделывать и искажать античные формы совершенно по своему
вкусу; через это во лжи явилась известная истина, в подражании —
некоторая свежесть и оригинальность, в первоначально чужом —
что-то национальное. Но теперь мы видим перед собой вычурную
бесцветность, при которой нельзя было бы нас упрекать, что часто
к нам опять прокрадывается сожаление о столь много порицаемой
и отжившей старой художественной манере.
Но рядом с этим новым придворным искусством стоит другое ис-
кусство, которое больше обращается к буржуазии.
Дидро в живописи есть Жан Батист Грёз (1726—1805); это вну-
треннее родство всегда самым ясным образом чувствовал и сам
Дидро.
Грёз рисует фигуры пышных и распущенных девиц, Дидро пи-
шет сладострастные и легкомысленные романы. Но их сущность
не ограничивается этим легкомыслием. Вся сила оригинально-
сти и действия заключается у Грёза, как и у Дидро, в тонко про-
чувствованном изображении буржуазной семейной жизни. Две
картины, описанные Дидро в «Салоне» (Сочин., X, 354) и до сих
1 На греческий манер (фр.). —Прим. изд.
348
пор находящиеся в Лувре, изображают потерянного и раскаявше-
гося сына. На одной картине легкомысленный юноша оставляет
неблагодарно отца, мать, сестер и, прельщенный вербовщиком,
идет на бурную жизнь солдата, вместо того чтобы поддержать
семейство, живущее своим трудом; на другой картине возвратив-
шийся сын стоит с раскаянием у трупа умершего с горя отца. Кто
не чувствует здесь нравоучительного вкуса тогдашней театраль-
ной трогательности, хотя здесь и нет недостатка в чертах порази-
тельно наивных и сердечных? Но совершеннейшим произведени-
ем может быть названа знаменитая картина «ГАссогбёе de village»
(ср. Diderot, X, 151), на которую нельзя смотреть без самой глу-
бокой отрады, хотя бы мы пресыщены были мастерскими произ-
ведениями блестящего периода итальянской, голландской и ис-
панской живописи, которые стоят в соседних залах. Перед нами
уютное крестьянское жилище, ясно освещенное теплым солнеч-
ным светом. Большое количество хлеба на полке, полный шкаф
с посудой, простая, но опрятная и порядочная одежда изображен-
ных поселян показывают, что в этом кругу живет мир и счастье.
Нотариус составил свадебный контракт. В середине стоит молодая
невеста со своим женихом; она прощается с родителями и сестра-
ми. Смешанные ощущения невесты изображены мастерски мило.
Ей больно расстаться с домом родителей и огорчить их разлукой;
но она не поддается этому горю, потому что ей сладко следовать
за возлюбленным. Не менее нежно и верно выражение прощаю-
щейся матери, выражение подающего руку на прощанье отца. Им
тяжело расставаться с дочерью; но они знают, что это расставание
есть желание и счастье любимой дочери и что ее будущее обеспе-
чено; сестра в слезах склонилась головой на плечо невесты, меж-
ду тем как другие младшие сестры, не зная, что делается, с любо-
пытством заглядывают, а маленькая девочка беззаботно кормит
кур. Совершенно такой же восхитительной наивностью и правдой
отличаются две другие картины Грёза в Лувре. Одна есть так пре-
лестно изображенная у Дидро (X, 343) девушка, которая плачет
об умершей птичке, и другая, которая с печалью несет домой раз-
битую кружку. Жаль только, что выполнение не совсем соответ-
ствует чувству. Рисунок внимателен и полон любви, но колорит
холоден и однообразен.
То же стремление к естественности и у Клода Жозефа Верне, с ко-
торым снова оживает ландшафт, — но, конечно, менее счастливо,
чем у Грёза. Верне старается иногда, не совсем ловко подражая Пус-
сену и Сальватору Розе, подняться до идеального стиля; но большей
частью он держится на видах, как в особенности в его знаменитых
видах французских гаваней. Но этим видам он умеет дать в высшей
степени благоприятное действие умным выбором точки зрения,
смелой отгадкой живописных положений, живыми, кстати подо-
349
бранными фигурами, поэтическим, хотя часто несколько тяжелым
колоритом.
На этом пути искусство и поэзия остаются довольно долго,
но дальнейшая судьба их была различна. В поэзии это направле-
ние достигает блистательного завершения в комедиях Бомарше;
но Грёз ни прежде, ни во время революции не имел порядочных
продолжателей. Поэзия может иногда вмешаться в самую борь-
бу, и сама нередко делается острым оружием; но искусство растет
и успевает только там, где нравы и общество закончены, спокойны
и довольны.
Глава девятая
Гримм и Correspondence litteraire
«Литературная Переписка» Гримма представляет самый богатый
источник для историков французской литературы в восемнадцатом
столетии. Таким источником она была и для большой части совре-
менников. Она предназначалась главным образом к тому, чтобы
знакомить иностранные дворы с замечательнейшими новыми кни-
гами и литературными личностями и событиями. Через это Гримм
стал крайне важен для обсуждения и распространения французско-
го образа мыслей. Он умел всегда поддерживать внимание и уча-
стие высших кругов за границей к французской литературе.
Фридрих Мельхиор Гримм был родом немец: он родился 26 сен-
тября 1723 в Регенсбурге (ср. Ed. Scherer, Melchior Grimm. Paris,
1887, стр. 379). Отец его был евангелический духовный. Первый
биографический след Гримма есть письмо, которое он написал
19 апреля 1741 г. Готтшеду, еще будучи гимназистом (оно напечата-
но в Danzel’s Gottsched. Leipz. 1848, стр. 344). В этом письме он на-
зывает себя молодым человеком, который «занимается латинским
языком и другими свободными искусствами»; он питает величай-
шее удивление к Готтшеду и посылает ему оду и сатиру на людей,
презирающих философию. В другом письме от 28 августа того же
года он извещает, что занимается драматизированием известного
старинного романа «Азиатская Баниза», совершенно по правилам
Готтшеда. Действительно, когда Гримм сделался уже лейпцигским
студентом и решился обработать начатый в школе план, трагедия
была введена в литературу самим Готтшедом в четвертой части
«Немецкой сцены» (Лейпц. 1743). Она не лучше и не хуже других
трагедий готтшедовской школы, — без всякого поэтического чув-
ства, в тяжелых александринах1, с строжайшим соблюдением един-
ства времени и места. У Гримма достало благоразумия признаться,
1 Французский двенадцатисложный стих. — Прим. изд.
350
что его призвание находится не здесь. Оставивши университет, он
поступил секретарем к графу Шёнбергу, саксонскому посланнику
при имперском сейме, — которому он известен был еще с Реген-
сбурга и сын которого был его товарищем в Лейпциге; в качестве
секретаря Шёнберга он присутствовал во Франкфурте при избрании
Франца I и уже тогда воспользовался своим полудипломатическим
положением в особенности для того, — как он выражается сам в од-
ном письме (ср. Данцеля, стр. 349), — чтобы укрепиться во фран-
цузском языке. «Небеса решили, — говорит он, — что он не должен
быть поэтом, как ни любит и ни уважает он поэзию; отчасти созна-
ние этого естественного неуменья, отчасти внешние обстоятельства
были причиной того, что он бросил поэзию или стихоплетство почти
с началом своего академического времени». Чрезвычайно характе-
ристично то, что взамен этого он пробует в собственном небольшом
сочинении познакомить немцев с только что вышедшим Memoire
sur la satire Вольтера; намерение, правда, не исполнилось, вероятно
за отсутствием издателя. 18 декабря 1748 г. Гримм извещает свое-
го лейпцигского покровителя, что он намерен сделать путешествие
во Францию; затем мы находим его в апреле 1749 в Париже, в каче-
стве секретаря графа Фризена, молодого и проводившего веселую
жизнь наследника и племянника маршала Морица Саксонского,
которому он был вероятно рекомендован общим другом, графом
Готтлобом Шёнбергом. После этого, с промежутками нескольких
путешествий, Гримм оставался в Париже до последней старости.
Легкий взгляд на жизнь, выгодная наружность, большая живость
характера скоро дали двадцатипятилетнему молодому человеку по-
ложение в обществе. Его любили в высшем кругу; он давал уроки
молодому наследному принцу Саксен-Готскому; через посредство
Клюпфеля, веселого предигера1 принца Готского, он приобрел зна-
комство Жан-Жака Руссо и Дидро, и, как рассказывает Мармон-
тель в четвертой книге своих записок, уже давал каждую неделю
во дворце Фризена diners de gar$on2, веселыми гостями которых
бывали молодые французские писатели. В одном письме к Готт-
шеду, от 30 ноября 1751 г., Гримм хвалится своей тесной дружбой
с д’Аламбером, Дидро и семейством Вольтера. Скоро он и сам сде-
лал первые опыты французского писательства, как критик. Он пи-
сал в любимейшем французском журнале того времени, le Mercure,
письма о немецкой литературе (конец 1750), писал предисловие
к новооснованному Journal etranger и, благодаря своему глубокому
музыкальному образованию, принял весьма живое участие в вели-
ком споре, который вспыхнул в 1752 между французской и итальян-
ской музыкой по поводу прибытия в Париж итальянских певцов.
1 Проповедник (нем.). —Прим. изд.
2 Обеды для мальчиков (букв., фр.). —Прим. изд.
351
Гримм решительно восставал против господствовавшего во Фран-
ции вкуса и указывал взамен того на Перголези, Рамо и на Devin
du village Руссо. Он сделал это уже в Lettres sur Omphale, tragedie
lyrique reprise par lAcademie de la musique le 14janvier 1752 (февраль
1752 г.), но особенно в небольшом сочинении «Le petit Prophete de
Boehmischbroda» (начало 1753 г.). Это сочинение (в немецком пе-
реводе напечатанное в Бранденбургском извлечении из переписки
1823, 2, стр. 209) в самом деле так остроумно и даже теперь, ли-
шенное всех тогдашних намеков, так забавно, что становится совер-
шенно понятно, почему оно меньше чем в месяц имело тогда три
издания. «De quoi s’avise done ce ВоЬёпнеп d’avoir plus d’esprit que
nous?»1 — сказал Вольтер. Внешним образом также делается замет-
но, что Гримм все больше и больше делается французом, и по образу
жизни, и по образу мыслей переделывается на французский лад. Он
пишет еще несколько времени к Готтшеду, но уже по-французски,
хотя и знал, что Готтшед не терпел подобного хвастовства. Письмо
от 23 июня 1753 г. оканчивается так: «Mon adresse est a I’hotel de
Frise rue, Basse du Rempart, faubourg St.-Нопогё, sans autre qual^, car
je n’ai plus celle de зёсгёгапе du comte de Frise. Les gens de lettres de ce
pays-ci aiment mieux n’etre rien que d’etre а«асйё a quelqu’un; j’ai suivi
leur exemple et je me suis fait un petit revenu d’une occupation litteraire,
mais quoique je n’aie plus 1’honneur d’etre а«асйё a Mr. le comte de
Frise, j’ai pourtant celui de demeurer dans sa maison»2.
He трудно сказать, о каком литературном занятии упомина-
ет здесь Гримм. Это главным образом — Correspondance litteraire,
philosophique et critique. Его сотрудничество в ежемесячном Le
Journal etranger ограничивается предисловием к первому номеру
(апрель 1754 г.) и продолжалось лишь несколько недель.
Ничто лучше не доказывает господства французского духа
в предреволюционной Европе, чем то обстоятельство, что ряд
иностранных и особливо немецких дворов держали в Париже ли-
тературных корреспондентов. К первым государям, которые поль-
зовались такими правильными сообщениями, принадлежали Фри-
дрих II, — ему служил парижским корреспондентом друг Вольтера,
Тирио, когда Фридрих был еще наследным принцем, — и герцогиня
Луиза-Доротея Саксен-Готская, — для нее фон Тун, обер-гофмейстер
ее сына, учившегося тогда в Париже, разыскал (в июле 1747 г.) аб-
бата Рейналя, впоследствии автора Histoire philosophiques des deux
1 Почему этот богемец думает, что у него больше ума, чем у нас? (фр.). — Прим. изд.
2 Мой адрес в отеле по улице Фриз, Басс дю Ремпар, пригород Сен-Онорэ, ни-
чего более, так как у меня уже нет поста секретаря графа Фриз. Люди слова в этих
краях предпочитают быть одни, нежели приставленными к кому-то. Я последовал
их примеру и получил небольшой доход от литературного занятия, но, хотя я боль-
ше не имею чести быть прикрепленным к графу де Фриз, я тем не менее имею право
оставаться в его доме (фр.). —Прим. изд.
352
Indes. Двухнедельные отчеты Рейналя нашли похвалу у заказчиков,
и фон Тун вместе с известиями охотно послал бы больной тогда
герцогине и самого автора: «Je vous envoie une nouvelle feuille de
votre correspondant litteraire, — пишет он 4 сентября 1747 г., — que
je voudrais vous pouvoir envoyer lui-meme. Il ferait merveille aupres
du lit d’une ассоисЬёе. Petit, il n’occuperait pas trop de place; doux,
il n^tourdirait pas la convalescente et rempli de la litterature ancienne
et moderne, pourvu des anecdotes presentes et раззёез, il amuserait
tout le cercle. Il me semble que ces Nouvelles litt^raires n^riteraient
que V. A. les fit recueillir et en faire les volumes»1 (Luise Dorothea von
Sachsen-Gotha v. Jenny von der Osten. Leipzig 1893, стр. 81). Эта кор-
респонденция Рейналя простирается, хотя не без пропусков, до на-
чала 1755. Турне в своем прекрасном новом издании Correspondence
litteraire, philosophique et critique Гримма (16 томов. Париж 1877—
1882) напечатал также и письма Рейналя.
Немцу Ф. М. Гримму, к числу друзей которого принадлежал Рей-
наль, особенно понравилась мысль основать свое существование
на этом вошедшем теперь в моду литературном корреспондент-
стве. В 1753 он начал посылать в Германию Correspondance litteraire;
но мы не знаем, кто были его первые адресаты. Вследствие поездки
его в Германию в конце 1753, число его подписчиков, кажется, уве-
личилось; между ними мы находим теперь (1754) герцогиню Луи-
зу-Доротею и ландграфиню гессенскую, королеву шведскую (1756),
русскую императрицу (1764). Далее являются король польский,
маркграф ансбахский, герцог саксен-веймарский, экземпляр кото-
рого читал Гёте, великий герцог тосканский, и еще с полдюжины
других. Фридрих II согласился получать Correspondance; но она была
для него слишком литературна и мало занимательна, и когда он,
недовольный, отказался от ее дальнейшего получения, Гримм очень
этим оскорбился и утешился мыслью, что король по крайней мере
ничего не платил за известия. — Сначала принимались в число
подписчиков и хорошо платившие невладетельные лица, но вскоре
Гримм ограничился одними владетельными кругами, потому что
в исключительности такой публики он находил обеспечение жела-
тельной скромности.
Корреспонденция посылалась в рукописи раз в две недели, пер-
вого и пятнадцатого числа каждого месяца; объем отдельного со-
общения заключает теперь в печати 6—10 страниц. Понятно, что
годовой абонемент был высок, но был различен, смотря по согла-
1 Посылаю вам новый листок вашего литературного корреспондента, которо-
го я хотел бы отправить к вам самого. Он творит у постели с родами. Маленький,
не займет много места; мягкий, он не ошеломил бы выздоравливающую и, напол-
ненный древней и современной литературой, снабженный анекдотами настоящего
и прошлого, он позабавил бы весь круг. Мне кажется, что эти «Литературные ново-
сти» заслуживают того, чтобы В. А. собрал их и превратил в тома (фр.). —Прим. изд.
353
шению; императрица Екатерина платила 360 рублей. Хроника за-
ключает все, что дает теперь хороший фельетон большой газеты.
К этому прибавлялись важнейшие сочинения Вольтера и Дидро,
которые тогда по полицейским причинам ходили только в рукопи-
си, как некоторые песни из «Pucelle» Вольтера, как «1а Religieuse»,
«Jacques le fataliste», «le Reve de d’Alambert», «Lettres a Falconet», «Са-
лоны» Дидро, и другие статьи подобного рода. Разнообразие и важ-
ность предметов, живость и свежесть передачи, правильная пери-
одичность заставляли с любопытством ждать посылок, даже таких
людей, как Гёте (Ferneres fiber deutsche Literatur, 1819); и таким об-
разом предприятие доходит до тех годов, когда старое французское
общество сломилось под тяжестью событий; тень его дотянула свое
существование до 1813 года.
В первые двадцать лет Гримм оставался душой целого; только
изредка, особливо во время путешествий, его заменяли Дидро,
г-жа д’Эпинэ, Дамилавилль и другие. Весной 1773 Гримм взял к себе
в качестве секретаря молодого цюрихца Генриха Мейстера (1744—
1826). Мейстер был знаком с Гриммом еще с 1766; в 1769 он бежал
из своего родного города, так как на него повлекло преследование
издание сочинения, направленного против христианских догматов.
Как человек даровитый, он скоро получил значение в единомыш-
ленных кругах столицы, и Гримм питал к нему столько доверия, что
сделал из него своего литературного фактотума в то время, когда
сам надолго оставил Париж и отправился в Петербург. По своем воз-
вращении, в сентябре 1774, он передал Мейстеру все предприятие:
«toute sa boutique, — как выражается последний, — avec ses charges
et ses Ьёпёйсез»1. Мейстер почти двадцать лет вел Correspondence
в духе Гримма, хотя и далеко не с его искусством; затем, револю-
ция выгнала его из Парижа. Сначала (1792) он бежал в Англию,
откуда он, с помощью друзей, рассылал свои письма до половины
1793. Потом он вернулся в Цюрих и отсюда (в 1794 г.) также про-
должал кое-как свое предприятие посредством системы парижских
корреспондентов, к числу которых принадлежал, например, Сюар.
К естественным препятствиям, которые должны были затруднять
ход такой заграничной парижской хроники, присоединилось еще
то обстоятельство, что в 1812 он был испуган и обескуражен неожи-
данным и незаконным напечатанием 1753—1790 годов так забот-
ливо оберегаемой Correspondence. Тогда, в 1813, он положил перо.
Это издание, как другие позднейшие, очень неполно. Научным
требованиям удовлетворяет только упомянутое издание Турне,
снабженное также различными важными приложениями.
Это журнал самого оригинального свойства. В качестве перепи-
ски, он не подлежит никакому стеснению, как печать, и никакому
1 Весь его магазин с его расходами и прибылью (фр.). — Прим. изд.
354
надзору общественного мнения. Поэтому тон «Переписки» совер-
шенно прямой и откровенный, весело и свободно отражающий пе-
стрые впечатления. Гримм (VI, 139) пугается при мысли, что эти
листки могут быть когда-нибудь публикованы; а в частном письме
к герцогине Готской (XVI, 429) он сердечно благодарит Фридри-
ха Великого, что он во время пребывания д’Аламбера в Потсдаме
(1765) не показал ему этой корреспонденции. Еще больше чести
приносит Гримму то, что он всегда держится самой неподкупной
прямоты и фактической точности; у него нет ни клеветы на врагов,
ни одностороннего пристрастия к людям своих мнений. Если похва-
лы, расточаемые им своему другу Дидро, производят иногда впечат-
ление натянутого преувеличения, то, по справедливости, мы долж-
ны вспомнить, что Гримм относительно своего сотрудника не мог
быть вполне свободен.
Его сообщения обнимают все области жизни: литературу, искус-
ство, музыку, вопросы государственных и церковных учреждений,
воспитание, философию, политическую экономию до обществен-
ных игр и до лечения мозолей. Гримм говорит не только о таких ли-
тературных величинах, как Вольтер, Бюффон, Руссо, но и о каждой
театральной новинке, каждом памфлете, особливо в первые года
его предприятия: впоследствии он становится несколько небреж-
нее, задача видимо ему надоедает. Находит место и иностранная
литература, особливо английская. При этом он дает не только ука-
зания о содержании упоминаемых сочинений, — чем обыкновенно
ограничивались тогдашние литературные отчеты, — но всегда со-
единяет с своим изложением и критику; довольно часто книга до-
ставляет ему желанный повод к собственным длинным объяснени-
ям. При этом он заходит иногда очень далеко и в своем стремлении
поучать становится сух, и собственное превосходство, в котором
он является убежденным, производит охлаждающее впечатление.
Но при всем том он с своей точной, спокойной и честной манерой
остается мастером литературной критики, an grand homme en son
genre1, как называет его Байрон.
В суждениях о поэзии критика Гримма не пролагает нового
пути, указывая настоящую дорогу, в смысле Лессинга; но она со-
вершенно свободна от ограниченности его прежних готтшедовских
взглядов, она тонка и обдуманна и, несмотря на поспешность и суе-
ту меняющихся явлений дня, всегда ясна и тверда. Среди общества,
которое не понимает Гомера, он вместе с Дидро восхваляет поэзию
Гомера, которого может читать в подлиннике. С полным понима-
нием он судит о древней трагедии (1 января 1765). Ему нравится
то, чтд верно природе, чтд естественно и сильно; исполнение сухих
правил ему противно. С каким сочувствием он говорит о Шекспи-
1 Великий человек в своем роде (фр.). —Прим. изд.
355
ре, тогда как он не одобряет французской трагедии, даже траге-
дии Расина. Часто рядом с его крепкой филологической школой
слышится и его немецкое чувство, особливо когда он менее ценит
формальную сторону обсуждаемых им книг, чем французская кри-
тика, или когда он судит о французском языке и не признает в нем
именно тех качеств, какие хвалят в нем французы: clarte, precision,
energie1 (15 ноября 1754).
В обсуждении религиозной и философской борьбы ясно заметно
материалистское влияние Дидро, но без уверенности Дидро, без его
быстрого энтузиазма. Гримм относится к культурной работе своего
времени с сомнением. Он мало доверяет этому siecle philosophique2.
В своих суждениях он большей частью мрачен. «Я не верю, — го-
ворит он в «Литературной Переписке» от 15 января 1756, — что
век разума близок; я думал бы скорее, что Европе грозит злая ре-
волюция», именно революция реакции, которая снова поглотит
все приобретения просвещения. Гримм — скептик; к энтузиастам,
строителям прекрасных систем он относится почти с состраданием.
«Теоретики, — замечает он однажды, — говорят всегда о прекрас-
ных принципах и неотъемлемых правах; история везде указывает
мне только силу и факт». И он держится истории. Вопросы теку-
щей политики, конечно, не находят места в переписке; но Гримм
не уклоняется перед своими подписчиками от откровенного объяс-
нения принципов государственного устройства и политической
экономии.
1755 год был особенно важен для дальнейшего установления от-
ношений Гримма.
Незадолго перед тем он был введен в дом г-жи Эпинэ (1726—
1783). Он держался рыцарски к этой даме, жившей в тяжелых усло-
виях, даровитой и при всех ее слабостях не лишенной достоинства.
Он нашел путь к ее сердцу, и в начале 1755 образовался их союз, ко-
торый должен был продлиться 27 лет, до смерти г-жи Эпинэ. Энер-
гический, разумный характер Гримма получил полное господство
над слабой женщиной — их дружеский кружок называл его в шутку
le tyran3 — и принудил ее, как мы видим из ее мемуаров, твердым
руководством, ввести ясность в их отношения. Под влиянием Грим-
ма ее салон поднялся умственно и нравственно, и сам Гримм в этом
союзе нашел для себя более серьезное жизненное содержание и но-
вую охоту к труду.
Несколькими годами позднее жертвой этого ясного и охлаждаю-
щего руководства стал Ж.-Ж. Руссо, который тогда все больше по-
являлся в кружке г-жи Эпинэ. Не может быть никакой речи о том,
1 Ясность, определенность, энергия (фр.). —Прим. изд.
2 Философский век (фр.). —Прим. изд.
3 Тиран (фр.). —Прим. изд.
356
чтобы Гримм систематически преследовал Руссо; но бесспорно то,
что в 1757 он намеренно вытеснил от своей возлюбленной Руссо,
который становился ему несимпатичен и тягостен. Различие этих
двух людей сказывалось все сильнее. Один был исключительно че-
ловек ощущений, без всякой выдержанности и управления рассуд-
ка; другой — сухой рассудок, без одушевления и малейшего увле-
чения. Один — болезненный, раздражительный и подозрительный;
другой, хотя и не несправедливый, но слишком жесткий и неотступ-
ный в порицании, бессердечный в придирках, назойливый в своей
опеке. Это противоположность Тассо и Антонио в драме Гёте. Как
в драме, так и здесь в жизни отшлифованный светский человек
остается в выигрыше. Огонь тлелся давно и вспыхнул только от без-
умной страсти Руссо. И между тем, как Руссо в своих «Признани-
ях» набирает одно обвинение за другим, или, лучше сказать, одну
клевету за другой, Гримм в «Литер. Переписке» теперь, как прежде,
сохраняет умеренность и такт в суждениях о характере и произве-
дениях Руссо. Это показывает, например, краткая биография Рус-
со, которую он дает по поводу разбора Emile в «Литер. Переписке»
от 15 июня и 1 июля 1762. Как легко было бы Гримму иллюстриро-
вать прекрасные учения Руссо о воспитании детей рассказом об его
семейной жизни, если бы он хотел совершить такое мщение. «La
vie рпуёе et domestique de Rousseau, — говорит он просто, — est
ёсгйе dans la тётопе de deux ou trois de ses anciens amis, lesquels
se sont respe^s en ne’l^crivant nulle part»1. И мы знаем, что он был
сдержан и на словах. Рамдор говорит в Berliner Monatsschrift (1790,
т. 16, стр. 169), что даже на обедах у Гольбаха, где Руссо называли
не иначе, как cefou de Rousseau2, Гримм никогда не присоединялся
к общему тону безусловного осуждения. В своей спокойной мане-
ре Гримм не спешил ответом и относительно Confessions. Мемуары
г-жи д’Эпинэ, в редакции которых он принимал участие, должны
были, как он с уверенностью предвидел, оправдать его в глазах
справедливого потомства.
В том же 1755 году умер молодой граф фон Фризен, и Гримм по-
ступил секретарем к герцогу Орлеанскому; это была легкая долж-
ность, налагавшая на него разве только обязанности этикета, и до-
ставила ему принадлежность к Maison du гоу, доступ ко двору. С этим
выросло у Гримма желание практического участия в деловом кругу
того наиболее знатного общества, с которым в такие близкие отно-
шения поставила его Correspondance litteraire. У Гримма было силь-
ное пристрастие к внешнему аристократизму, к элегантности обста-
новки и образа жизни, и это навлекло ему со стороны его друзей
1 Личная и домашняя жизнь Руссо отражена в памяти двух или трех его старых
друзей, которые уважали друг друга и нигде не писали об этом (фр.). — Прим. изд.
2 Этот дурак Руссо (фр.). — Прим. изд.
357
разные добродушные насмешки, со стороны Руссо — ядовитые из-
девательства, а со стороны д’Эпинэ, сына его приятельницы, доста-
вившего много забот им обоим, навлекло потом (1811) характери-
стику, злобность которой бросается в глаза (Musset-Pathay, Oeuvres
inedites de Rousseau, 1823, I, 390). Знание людей, умение скромно
вести запутанные дела с спокойной обдуманностью, скептическая
манера надолго обеспечивали Гримму успех в его придворных от-
ношениях. Но в этих сношениях с высокими покровителями Гримм
показывал много мелкого тщеславия, и мы видим иногда его не-
красивую льстивость, и его попрошайничество о внешних отличиях
навлекало чувствительные для него отказы. Он становится ловким
придворным, и его придворные обязанности и погоня за этикетом
возбуждали досаду в независимом Дидро (ср. письмо к г-же Волан
4 ноября 1768).
Эта деятельность Гримма в качестве делового корреспондента
и доверенного иностранных дворов в литературном отношении
имеет мало интереса; если о ней здесь упоминается, то основание
к этому заключается в особенности в том, что в Германии она ча-
сто обсуждаема была по мнимым Memoires inedits Гримма (Париж,
1830), но эти записки — дело фальсификатора1.
В 1759 г. Гримм сделан был парижским представителем (envoye)
от города Франкфурта с 7200 ливров жалованья. Неосторожное вы-
ражение в письме о французской войне отняло у него это место уже
в январе 1761 г.
После того, как в 1762 г. он посетил в Готе герцогиню Луизу-Доро-
тею, он стал парижским комиссионером по ее частным делам. Пись-
ма к ней Гримма от 1762—1766 годов находятся в Готе и частью на-
печатаны в издании Турне (XVI, 407 и далее). Рядом со всякого рода
мелкими поручениями, например, по предметам моды, они говорят
о весьма важных политических вопросах, например, о примирении
Пруссии и Франции после Семилетней войны (Scherer, М. Grimm,
стр. 206 и далее).
В 1765—1774 гг. он служил подобным образом ландграфине Ка-
ролине Гессен-Дармштадтской, и главное дело, о котором говорится
в этих письмах, есть устройство замужества многочисленных доче-
рей ландграфини. С каким усердием, с какой сообразительностью
Гримм разбирает здесь различные шансы разных представляющих-
ся женихов и будущих свекра и свекрови! Он говорит с уверенной
озабоченностью человека, как будто принадлежащего к семейству.
Он посвящает себя и воспитанию наследного принца, которого
в 1771 г. он сопровождает в Англию. Формальным триумфом было
1 Сам Геттнер в первом издании своей книги доверял этим мемуарам (см. в пер-
вом русском издании, стр. 310 и далее), но впоследствии он написал эту главу
о Гримме заново, — как она излагается здесь. — Прим. пер.
358
для Гримма, когда состоялась ревностно подготовляемая помолвка
принцессы Вильгельмины с великим князем Павлом Петровичем
(1773). В том же году он ездил на свадьбу в русскую столицу и стал
лично известен императрице Екатерине, которая оказала ему вни-
мание и долго была с ним в переписке.
Эта переписка, продолжавшаяся больше 22 лет и, к сожалению,
сохранившаяся не без пробелов, издана была Русским Историче-
ским Обществом в 1878—1886 годах. Официально Гримм, по воз-
вращении в Париж, имел только поручение содействовать импе-
ратрице в приобретении произведений искусства. Но на самом
деле, как показывают эти письма, он исполнял для императрицы
много самых доверенных и деликатных поручений. С другой сто-
роны, им пользовались, между прочим, и французские министры,
как представителем и посредником для самых разнообразных инте-
ресов. В письмах идет речь о вопросах высшей политики, и Гримм
вполне выказывает здесь приемы умного, серьезного, осторожного
дипломата. Оба немецкого происхождения, русская императрица
и парижский литератор, переписываются на французском языке:
она вполне непринужденно, смело, не думая о рангах и своем сане,
болтает и исповедуется, мешая во французском языке и немецкий,
как ей приходит в голову; он следует за ней, но осторожно и помня
свое положение. Однажды он называет их болтовню «olla podrida
imperiale», и она находит это «admirablement bien»1. Имеет особен-
ную прелесть (для немцев) видеть, что эти единоземцы, живущие
на чужбине, судят о немецкой литературе с гораздо бдлыпим по-
ниманием, чем король прусский. «On ne pent nier, — пишет Гримм,
в 1781, когда Фридрих II послал ему свое сочинение De la litterature
allemande, — que 1’auguste ecrivain ne parle de 1’allemand comme un
aveugle des couleurs. Cela est bien moral, pour ceux qui reflechissent,
de voir un grand prince, et, qui pis est, une grande tete, qui donne tous
les jours un temps considёrable a la lecture, vivre au milieu de sa patrie,
dont la capitale possede plusieurs ecrivains de la premiere force, sans
en rien savoir, sans se douter que sa langue maternelle n’est plus celle
qu’on parlait et ёспуай il у a soixante ou quatre-vingts ans; et qui de la
meilleure fois du monde, ignore tout ce qu’on а ёсгй depuis quarante
ans autour de lui, et la revolution qui en est агпуёе dans la langue et
dans les tetes allemandes, et qui, par consёquent, ne peut entrevoir que
la plupart des ёсгйз de sa patrie valent mieux que toutes ces brochures
insipides qu’on voit paraitre a Paris, et ou les id£es de quelques grandes
tetes sont гёрёгёез en mille manieres diverses»2. И Екатерина находит
еще большие похвалы для немецкой литературы.
1 Бесподобно хорошо (фр.). —Прим. изд.
2 Нельзя отрицать, что августейший писатель говорит по-немецки как дальто-
ник. Достаточно показательно, для людей мыслящих, видеть великого князя и,
359
Екатерина ценит в Гримме в особенности то, что в своих спо-
койных суждениях он был гораздо больше человеком опыта, чем,
например, Дидро, и его трезвый ум не был опьянен декламациями
его единомышленников. Скептик Гримм не любит их прекрасных
систем, и Екатерина говорит однажды: «у меня нет никакой систе-
мы». Мысли обоих направлены на практическую жизнь.
Гримм делается любезным, когда говорит императрице
о г-же д’Эпинэ, о радостях и заботах этого своего родства по выбо-
ру. Затем его слова свидетельствуют о самоотверженной верности
и истинной сердечной доброте.
Знакомство с императрицей Екатериной, 1773, составляет пово-
ротный пункт в жизни Гримма. Он видит в пятьдесят лет, что цель
его желаний, положение, богатое внешними отличиями и деликат-
ными поручениями с прочной милостью высоких особ, достигну-
та. Свою Correspondence litteraire, которая выровняла ему путь, он
передает в другие руки. В 1775 готский двор назначает его своим
уполномоченным министром в Париже; в 1777 г. император Иосиф
возвышает его в имперское баронское достоинство, и из Петербур-
га идет дождь милостей: он получает титул полковника, чин стат-
ского советника, блестящий мундир, блестящий орден.
Мало-помалу вокруг него пустеет. Г-жа д’Эпинэ умерла в 1783;
верный друг Дидро, который восторженно почитал его, несмотря
на противоположность их натур, умер в 1784. Затем революция вы-
гнала его из Парижа (февраль 1792). После блужданий по Бельгии
и Германии он в 1793 поселился в Готе (ср. v. d. Osten, стр. 426).
И туда сопровождали его милости русской императрицы. В свои по-
следние годы он много страдал; он почти совсем потерял зрение.
О нем заботилась внука и правнучки г-жи д’Эпинэ.
Что мог он чувствовать, слыша близкие громы битвы при Йене?
«Я забыл велеть похоронить меня, когда следовало», — говорил он
обыкновенно с печалью. Он умер 19 декабря 1807 в Готе, восьми-
десяти четырех лет. Генрих Мейстер в своей «Литер. Переписке» по-
святил ему воспоминания, исполненные удивления (Турне I, 3).
Могильный памятник Гримма на кладбище в Зиблебене, давно
полуопавший и поросший мхом, в 1865 был обновлен Густавом
Фрейтагом.
что еще хуже, великого руководителя, который каждый день уделяет много вре-
мени чтению, живя в центре своей страны, в столице которой есть несколько
писателей первой силы, и ничего не знает, не подозревает, что его родной язык
больше не тот, на котором мы говорили и писали шестьдесят или восемьдесят
лет назад; и который, в лучшее время в мире, игнорирует все, что было написано
вокруг него за сорок лет, и революцию, которая произошла в языке и в немец-
ких головах, который поэтому не может понять, что большинство произведений
его родины лучше всех тех безвкусных брошюр, которые появляются в Париже,
и где идеи нескольких великих голов повторяются тысячей различных способов
(фр.). —Прим. изд.
360
Не без печали прощаешься с ним, как с богатым дарованием, ко-
торому, чтобы достичь полной плодотворности, недоставало теплой
веры в великую задачу. Своей литературной работе Гримм отдавал-
ся лишь в той мере, какой требовала деловая надобность, и он не за-
медлил покинуть ее, когда перестал в ней нуждаться, так как силь-
ные земли привлекли его на службу их не всегда возвышенных дел.
Гримм есть литературный талант, но без внутреннего призвания.
Вокруг него идет, работа в мастерской просвещения, полная веры
в будущность человечества, которое должно улучшаться и освобо-
ждаться; у него нет этой веры. На печальный вопрос товарища: «La
cause du genre humain est done dёsespёrёe et sans ressource?» — он
отвечает: «Нё1а$, je le crains»1.
1 Неужели участь человечества в отчаянии и нищете? — Увы, боюсь (фр.). —
Прим. изд.
Отдел третий
РУССО И ДЕМОКРАТИЯ
Глава первая
Жан-Жак Руссо
1. Руссо как философ
Жан-Жак Руссо представляет собой весьма значительный по-
ворот в настроении и образовании восемнадцатого столетия. Он
наследник французского просвещения и вместе противник его.
Он разделяет ненависть к господствующему государству и господ-
ствующей церкви; но его ненависть основывается на других побу-
ждениях и стремится к другим целям.
Как поразительно среди этого блестящего и богатого обра-
зованностью времени внезапное появление человека, который
клеймит это самое образование, науку и литературу, как ничтож-
ную и вредную мишуру, и взамен проповедует простоту приро-
ды и величие простой буржуазной добродетели, — и мало того,
в сравнении с чрезмерной утонченностью и изнеженностью об-
разованного света, он в самых пламенных красках выставляет
образцом и идеалом первобытное состояние дикарей, и гордости
образования противопоставляет гордость природы. Как порази-
тельно, что в то время, когда Монтескьё только что представил
могущество и свободу английской государственной жизни, об-
разцом к которому могла бы стремиться угнетенная Франция,
новый политический мыслитель говорит еще более смелое сло-
во, что сама Англия кажется ему страной угнетенной и лишен-
ной свободы, что свобода и благосостояние могут быть прочны
и сильны только там, где сам народ непосредственно есть свой
повелитель. И как поразительно, наконец, что тот же человек,
который смелостью и новостью политических взглядов далеко
оставляет за собой всех современных мыслителей и государствен-
ных людей, — с самой страстной ревностью восстает и против
нового атеизма и материализма и возвращается к вере, которая
основывается у него не только на одних доказательствах разума,
как у Вольтера и английских деистов, но на глубочайшей потреб-
ности сердца.
Где же источник этого странного и поразительного явления?
362
Для политических и религиозных взглядов Руссо весьма важное
определяющее значение имели политические и религиозные отно-
шения и история его родного города Женевы. У Руссо было совер-
шенно верное чувство, когда он обыкновенно с гордостью называл
себя citoyen de Geneve1.
В первой половине восемнадцатого века, в то время, когда весь
европейский материк лежал еще в глубочайшем политическом сне,
история Женевы была смелой и страстной борьбой о великом во-
просе, суверенном праве народа и о происходящих из этого понятия
границах законодательной и исполнительной власти, борьбой о ве-
ликом вопросе государственного отношения между аристократией
и буржуазией. Эту борьбу часто сравнивали с волнениями древнего
Рима во времена Гракхов, но, с другой стороны, уже Геерен в одной
прекрасной статье (Vermischte historische Schriften, I, стр. 365 и да-
лее) справедливо указал на то, что для того, чтобы понять историю
французской революции, нужно рассматривать и знать историю
Женевы в восемнадцатом столетии. Незадолго до рождения Руссо,
в 1707 г., женевская буржуазия поднялась, чтобы удержать и сно-
ва завоевать постановленное старой конституцией 1536 г. решение
всех важнейших дел общим собранием граждан (Conseil general)
против насильственных захватов патрициев, которые мало-помалу
захватили власть исключительно в свои руки. Предводителем дви-
жения был Пьер Фатио, по рождению сам принадлежавший к старой
патрицианской фамилии, но великодушная самоотверженная душа.
Все его глубоко воспламеняющие речи, которые он держал на пло-
щади Молар в собраниях горожан, имевших право голоса, а когда
горожане взялись за оружие — на общественных площадях и ули-
цах, в сильных словах утверждали, на основании естественного пра-
ва и историй, неотъемлемое право верховной власти народа, в силу
которого чиновники были не опекуны, а только исполнители народ-
ной воли, — и требовали правильного ежегодного созвания Conseil
general, который до тех пор созываем был только совершенно про-
извольно и через долгие промежутки времени. Движение было по-
давлено, главнейшие участники подверглись изгнанию, Пьер Фатио
был застрелен в тюрьме; но мысли, которые Пьер Фатио, идол на-
рода, бросил в народ и запечатлел своей кровью, продолжали жить.
В буржуазных кругах, в мастерских ремесленников, имели и чита-
ли речи Фатио, отчасти напечатанные, отчасти в рукописях; в тиши
тлелась и вырастала ненависть против угнетателей, которые крайне
самовластно, злоупотребляли своей победой. Это брожение пита-
лось в подрастающем поколении и усилилось судьбами и сочинени-
ями дю Крест, которые с 1728 г. привлекли к себе всеобщее внима-
ние. Дю Крест (JVticheli du Crest), женевский офицер во французской
1 Гражданин Женевы (фр.). —Прим. изд.
363
службе, в записке, доставленной женевскому аристократическому
правительству, открыто высказывал, что предпринятые им новые
укрепления направлены не столько против внешнего врага, сколько
против самого народа, и был за это насильственным приговором
лишен своих гражданских прав, лишен своего имущества и навсег-
да изгнан из Женевы; тогда он во многих небольших брошюрах,
жадно читавшихся народом, обратился к общественному мнению.
Собственно говоря, дю Крест, происходивший из старой и уважа-
емой дворянской фамилии, был всего меньше демократ и, — как
несомненно видно из рукописного сочинения, писанного им в кре-
пости Аарбурге, находившегося раньше в руках умершего швейцар-
ского историка Карла Морелля и еще не напечатанного «Maximes
et reflexions d’un republicain sur le gouvernement civil», — он видел
свой государственный идеал в представительном устройстве, ко-
торое все еще давало очень сильный перевес аристократии по ро-
ждению и по богатству; но все-таки сохранение и осуществление
безусловного верховного права народа, поднятие власти и права со-
брания граждан {Conseil general) над властью и правом правитель-
ства (Grand и petit conseil) были основанием и целью всех его речей
и увещаний. Каждый гражданин есть народный трибун; «наши за-
коны, — говорит дю Крест (ср. Histoire de Geneve, par Berenger, 1772,
IV, стр. 42 и далее), — поручают их защиту тем, которые их сделали
и которые пользуются их защитой, и они позволяют и требуют от-
вергать правительство, которое не будет верным исполнителем на-
родной воли, и вследствие этого злоупотребления отнимать у него
доверие». И вскоре пришло время победы. Восстания 1734 и 1737,
и вышедшая из них конституция 1738, которая доставляла буржуа-
зии, т. е. Conseil general, право избрания чиновников, право войны
и мира и право законодательства и наложения податей, были ис-
полнением неудавшейся революции 1707 года. Для Женевы насту-
пил ряд счастливейших годов.
Как сын женевского гражданина, Руссо вырос в кругу, которому
дорог был Пьер Фатио. И во время восстания 1737 г. Руссо, как он
рассказывает в пятой книге «Признаний», сам был в Женеве. Когда
Руссо прибавляет к этому рассказу, что тогда он нашел в бумагах
своего дяди упомянутую выше, напечатанную для немногих, бро-
шюру дю Крест об укреплениях, то мы имеем здесь ценное истори-
ческое свидетельство о том, какие настроения и взгляды по преиму-
ществу действовали на его юность.
Не менее важна была Женева для религиозного убеждения и чув-
ства Руссо. Старый кальвинистский дух строго сохранялся в Женеве;
Вольтер, с своей свободомыслящей точки зрения, с досадой называет
Женеву педантическим городом, который почитает реформаторов,
подчиняется тираническим законам Кальвина и верить каждому
слову своих проповедников. Как ни резко оспаривал то д’Аламбер
364
в знаменитой статье о Женеве в «Энциклопедии», было, однако, бес-
спорной истиной, что в то время, как во Франции естествоиспыта-
тели и философы страстно отвергали христианство, в Женеве даже
люди, разделявшие их материалистические основы и положения,
в своих выводах и заключениях почти всегда возвращались опять
в пристань церковного верования. Таковы были Абози (Abauzit),
де Соссюр, де Люк, Трамбле (ТгетЫеу). Таков был из женевских фи-
лософов в особенности Шарль Бонне (Bonnet), во взглядах которого
на природу много сходного с Робине и Кондильяком, но который
еще превзошел уступки, сделанные Лейбницем церковному учению,
и в своих Recherches sur le christianisme (с 1760 г.) становится самым
полным защитником откровения, а в своей Palingenesie philosophique
ои idees sur I’etat passe et I’etat futur des etres vivants (1769) проповеду-
ет не только бессмертие души, но даже воскресение тела.
Детство Руссо также было самым глубоким образом затронуто
этими впечатлениями старого женевского верования и благоче-
стия. «Мой отец, — говорит он во второй книге своей биографии
(Oeuvres de J.-J. Rousseau. Paris, Hachette, в 13 томах, VIII, 42), —
был, правда, человек, любивший веселую жизнь, но с твердой чест-
ностью и большой религиозностью; при светских нравах, он был
внутри христианином; он рано внушил мне чувства, которые его
наполняли. Из моих теток две старшие были набожны, а третья,
быть может, была еще набожнее, хотя и меньше это выказывала на-
ружно. Из недр этого почтенного семейства я перешел к г. Ламбер-
сье, духовному с самой искренней верой, и он своим ученьем и по-
ступками выработал во мне начала благочестия, которые нашел
в моем сердце... Таким образом у меня была религия, насколько
может иметь ее дитя... у меня было даже вообще распространен-
ное в нашем городе отвращение к католицизму». В разнообразных
переменах своей беспокойной жизни и по непреодолимому стрем-
лению к свободе его смелого духа Руссо отпал от церковного уче-
ния; но потребность живой религиозности, идеализм чувствующего
сердца остались у него навсегда.
Важно и необходимо обратить внимание на эти глубокие подго-
товительные условия Руссо. Но они еще не объясняют его полной
и целой особенности.
В истории бывают отдельные замечательные люди, которых мож-
но назвать новыми, самостоятельными, первобытными натурами.
Мы не всегда сознаем, что мы с существенной потерей покупаем те
выгоды, которые доставляет нам правильное школьное воспитание.
Мы приобретаем общие понятия, еще не имея тех чувственных на-
блюдений, из которых происходят эти понятия. Мы разучиваемся
смотреть на вещи своими собственными глазами; с самого начала
мы уже видим их в очки господствующих воззрений. Только немно-
гим удается окончательно сбросить эти очки. По той же причине,
365
по которой дети образованных родителей, хотя также образованные,
бывают большей частью лишены всякой глубокой оригинальности
и самостоятельности, — по той же причине все истинно творческие
и преобразующие умы почти всегда вырастают только из кругов
и сословий, которые стоят вдали от избитой колеи большой дороги.
Ребенок этого рода не получает монеты готовой и отчеканенной,
он должен с трудом отделать и отчеканить ее сам. Он развивается
медленнее, но самобытнее. Для него нет ничего положительного;
ко всему он обращается с вопросами и сомнением. Такие натуры
с неслыханной смелостью противопоставляют свою личность цело-
му человечеству и не признают ничего, что не докажет достаточно
перед этой личностью права и силы своего существования.
Руссо был такая новая, глубокая и оригинальная натура.
Свежий, бедный образованием, полный стремлений, с бурны-
ми вопросами, сомнениями и требованиями, он вступил в образо-
ванный свет после одинокой, предоставленной самой себе, полной
приключений юности. Руссо — дитя народа, он любит народ и все
без исключений ставит в непосредственное отношение к народу.
Он долго с жадностью искал образования; теперь он стоит среди
живого потока, он надеется на это образование, хочет насладиться
и укрепиться им. Но дает ли ему это образование то, чего он желал
и надеялся от него? Делает ли оно людей человечнее, благороднее,
лучше, или не есть ли оно только бесполезная, может быть, даже
опасная и сумасбродная забава праздных людей? В самом ли деле
это удалившееся от жизни умствование есть спасение человечества,
или, напротив, скорее не затемняет ли и не уродует ли оно свежей
деятельности, жизненно теплого чувства, простодушной, бессозна-
тельной добродетели? Он долго стремился к свободе и независимо-
сти; он, гениальный человек, выросший в жестокой борьбе народа
против высокомерной аристократии, носил лакейское платье, сми-
ренно преклонялся перед пустыми головами. Но возможна ли и до-
стижима ли эта свобода и независимость, идеал которой вырос в его
сердце в бедствиях его юности, — достижима ли она при тех усло-
виях гражданского общества, которые выгодны только для богатых
и сильных, и под несносным гнетом этой жалкой политической
жизни, которая ставит массу под насильственное господство людей,
привилегированных только от случайности рождения, а не по силе
и мудрости? Его благородная душа восстает против неестествен-
ности образования, которое хотя дает утонченность, но в то же вре-
мя и ослабляет человека; он восстает против государства, которое
унижает человека до недостойного рабства. Глубочайшие вопросы
человечества волнуют его и не оставляют его, пока не находят связи
и твердой формы. Он хочет разрушить старое и вредное и заменить
его новым и спасительным. Он хочет воспитать человечество для
счастья и свободы. Где же достойная человека образованность, где
366
достойное человека государство, которое сделает возможным и осу-
ществит эту образованность?
Вот та высокая и серьезная основная мысль, которая постоянно
и неуклонно проходит через все отпущения, мышление и деятель-
ность Руссо. Все его сочинения одинаково сурово и резко, но с оди-
наковой свежестью и силой служат этой могущественной задаче.
Руссо имел полное право сказать в своей полемике с архиеписко-
пом Кристофом де Бомоном, что он хотя и писал о различных пред-
метах, но всегда писал с одной целью. У Руссо есть та гениальная
односторонность, отличающая всех мыслителей, для которых един-
ственная и высшая цель жизни есть осуществление одной опре-
деленной великой идеи. Таким мыслителям недостает богатства
широкой многосторонности; но действие их оттого еще глубже
и могущественнее.
Всего яснее мы составим себе понятие о желаниях и мнениях
Руссо, если рассмотрим важнейшие, из его сочинений не по слу-
чайному порядку их происхождения, а по их внутренней связи. Эти
сочинения: 1) «Discours sur les sciences et les arts» (напечат. 1750);
2) «Discours sur 1’origine et les fondements de I’inegalite parmi les
hommes» (1755); 3) «Эмиль» (1762); 4) «Contrat Social» (1762). Эти
четыре сочинения, к которым естественно присоединяются лег-
кие политические статьи, тесно связаны одно с другим, взаим-
но вызывают и усиливают друг друга. Два первые представляют
критическое отрицание настоящего, открытое объявление войны
против господствующего образования и общества; два последние
представляют, напротив, новое систематическое построение, опыт
действительного улучшения и преобразования. «Эмиль» есть ответ
на статью о науках, «Общественный Договор» — ответ на статью
о неравенстве состояний. Статья о науках и искусствах доказа-
ла или хотела доказать, что существующее образование вредно;
«Эмиль» хочет воспитать людей для правильного и истинного об-
разования. Статья о неравенстве доказала или хотела доказать, что
существующее государство самым вопиющим образом противоре-
чит ненарушимой сущности человека; «Общественный Договор»
ищет правильного и истинного государства, которое восстанавли-
вает неотъемлемые требования и права врожденной человеческой
природы и возвращает им их полное значение. Против устарелого
и отжившего восстает свежая деятельность неотвратимой потреб-
ности прогресса; против вымершего и окаменелого — неизмен-
ная юношеская сила человеческой природы, жаждущей свободно-
го развития; против внешности и форменности одностороннего
рассудочного образования — настоятельный язык сердца; против
школьного — естественное.
Такие новые, свободные, вполне революционные умы бывают
чрезвычайно способны двигать, вперед застоявшуюся историю.
367
В Руссо есть что-то мечтательное, жреческое, пророческое. Гримм
с тонким чутьем замечает в «Литературной Переписке» (февраль
1770), что Руссо на два столетия опоздал родиться; что во времена
великого религиозного одушевления он стал бы основателем но-
вой религиозной секты. Отсюда исходит его увлекательное красно-
речие. По его быстрому и неудержимому течению, по теплоте его
слов и положений, мы чувствуем, что оно идет из самой глубины
сердца; сочинения Руссо доказали бы фактически, если бы даже он
сам не сказал нам этого в своих признаниях, — что он мог писать
только в пылу страсти; на них лежит волшебство полной и цельной
личности. Руссо высказал то, что проникало все человечество как
неопределенное стремление. Мы видим влияние Руссо не только
в героях французской революции, определявших человеческие пра-
ва, но и в титанических юношах немецкого периода бурных стрем-
лений, в фаустовском стремлении к непосредственности и цельно-
сти человеческого знания и действий, в юношеских произведениях
Шиллера, восстававших против гнета общественных порядков.
Но при всем том такие натуры всегда остаются софистами. Ло-
гикой делается у них фанатизм. Их бурный гнев не видит ничего
кругом себя, они совершенно не знают истории, они не понима-
ют, что прошедшая история была не произвольна и не случайна
и потому отдельный человек не может по усмотрению отрицать
и разрушать ее с ее отпрысками и разветвлениями, идущими в бу-
дущее. Руссо освободил сердце человека и восстанавливает полного
и цельного человека в его ненарушимом праве; но он отрывает его
от всех условий времени и места, он теряется в фантазиях, запуты-
вается в крайностях и противоречиях. Руссо сам говорит в Reveries
du promeneur solitaire, что в каждом вопросе первым исходом для
него было чувство; в другом месте он характеристически прибав-
ляет: «иногда мечты мои кончаются рассуждениями, но еще чаще
мои рассуждения кончаются мечтами». В особенности в первых его
сочинениях такие порывы и недостаток меры крайне вредят ясно-
сти и проницательности его мысли; их вернее нужно судить боль-
ше по их намерению, чем по выполнению. Но и крепкое и сильное
зерно его позднейших сочинений закрыто диким кустарником, ко-
торый мешает свежему цвету и часто совсем заглушает его. Како-
во дерево, таковы и плоды его. Не только разрушительная насиль-
ственность французской революции, но и бурные стремления более
внутренней немецкой борьбы за образование, исходившие от Руссо,
должны были, как виноградный сок в брожении, сначала осесться,
ограничиться и углубиться. Сначала должны были явиться софисты,
а потом Сократ.
У Руссо еще нет полного идеала чистой и свободной человечно-
сти, но он есть один из самых деятельных основателей и двигателей
этого идеала.
368
К сожалению, еще нет полного и критического издания его со-
чинений. Почти для всех сочинений Руссо сохранились для нас его
подлинные черновые рукописи, которые отвечают различным сту-
пеням их обработки и из которых напечатаны были пока лишь от-
рывочные сообщения.
Discours sur les sciences et les arts
В 1749 Дижонская академия выставила задачу на премию: «Si
le retablissement des Sciences et des Arts а сопшЬиё а ёригег ou a
corrompre les moeurs?»1 Задача рассчитывала вероятно на критиче-
ское сравнение средних веков и новейшего времени. Руссо вступил
в состязание, но дал историческому вопросу философский оборот;
он спрашивал не о том, было ли так называемое возрождение наук,
но была ли наука вообще благоприятна или неблагоприятна нрав-
ственному развитию, — ис гневной ревностью настаивал на вреде
науки. Академия увенчала сочинение. Хотя она и не соглашалась
с изложенными взглядами, она должна была, однако, признать их
глубокую оригинальность и широкое значение.
Руссо рассказывает во втором письме к Малербу 12 января
1762, что основная мысль пришла ему, как внезапное откровение.
На прогулке в Венсенн, где он посещал своего заключенного друга
Дидро, попало ему в руки объявление об этой задаче в Mercure de
France. «В эту минуту, — говорит он, — я почувствовал, что мой ум
окружен был лучами света, целые массы самых живых идей восста-
ли во мне с такой силой и беспорядком, что я пришел в несказан-
ное замешательство; голова моя была отуманена, сильное биение
сердца стесняло мне грудь; дыхание сперлось, когда я хотел идти,
я опустился под дерево и провел полчаса в таком возбужденном со-
стоянии, что, когда я поднялся, мое платье было омочено слезами,
хоть я и не заметил своих слез». Но Дидро рассказывает в «Жизни
Сенеки» (Соч. III, 98), что Руссо первоначально думал идти обыч-
ным путем панегирика и выбрал другую дорогу только по убежде-
нию Дидро, что противоположный путь гораздо благороднее и про-
изведет более сильное впечатление. Этот рассказ подтверждается
Морелле (Мёт. Paris 1820, т. 1, стр. 119) и также Мармонтелем
в седьмой книге его «Записок», откуда это известие перешло в Lycee
Лагарпа. Нет сомнения, что Дидро и его приверженцы здесь силь-
но преувеличили. Это первое сочинение Руссо есть начало и ос-
нование всей его деятельности. Вся жизнь Руссо была бы одним
обманом и пустой ложью, если бы это сочинение было произволь-
но надетой маской. И, кроме того, мы имеем еще положительное
свидетельство. Уже в 1748, следовательно еще до этого события,
Руссо писал к одному другу: «Я уверен, что нет ни одного трагиче-
1 Помогло ли восстановление наук и искусств очистить или развратить нравы?
(фр.). —Прим. изд.
369
ского поэта, который бы не был безутешен, если бы не было вовсе
великих преступлений. И вы, любители изящных искусств, вы хо-
тите заставить полюбить меня что-то, чтд ведет людей к такому
недостойному образу мыслей. Я хочу уважать искусства, но только
под условием, чтобы мне доказали, что прекрасная статуя имеет
больше достоинства, чем прекрасное дело, что кусок полотна, раз-
рисованный ван Лоо, выше добродетели». Влияние Дидро ограни-
чивается вероятно только тем, что Руссо боялся безумной дерзости
выступать в свет с своей внутренней злобой против образования
и что Дидро воодушевил опасавшегося Руссо на эту попытку: «й
m’exhorta de donner 1’essor a mes idёes et de concourir au prix»1, —
говорится в Confessions (VIII, 249).
Когда мы читаем это небольшое сочинение теперь, впечатление
его совершенно неудовлетворительно. Содержание незрело и неяс-
но, изложение — как соглашается и сам Руссо в Признаниях — не-
точно и беспорядочно (VIII, 250).
За средневековым мраком последовало возрождение наук.
Должны ли мы радоваться этому возрождению? «Нет, — отвечает
Руссо, — потому что наука заглушила чувство свободы и испортила
характер людей». «Уже старое предание знает (I, стр. 10), что изо-
бретателем науки было враждебное людям божество. Что стали бы
мы делать с искусствами без роскоши, которая их поддерживает?
К чему послужила бы вам наука о праве без несправедливости лю-
дей? Чем была бы история без тиранов, без войн, без заговоров?
К чему стали бы мы предаваться праздным философским рассужде-
ниям, если каждый, следуя своим обязанностям и своим естествен-
ным потребностям, посвящал свое время отечеству, страждущим,
друзьям... Но если науки пусты по своим предметам, то они еще
вреднее по своим действиям. Они родились в праздности и с своей
стороны питают ее... Отвечайте же мне, вы, просвещенные мыс-
лители, которые открыли нам тайны движения светил, открыли
жилище и сущность души, чудеса природы, отвечайте, были бы
мы менее многочисленны без ваших поучений, менее хорошо
управляемы, менее благоденствующими или были ли бы более ис-
порчены? Напротив. Ничтожные риторы приходят со всех сторон
и подкапывают основание веры и разрушают добродетель, и вме-
сте поддерживают роскошь, которая, однако, стала гибелью всех
государств. Наука и искусство одни виноваты в том, что талант
ставится выше добродетели. Люди не спрашивают больше, есть ли
у человека добродетель, но есть ли у него ум; не спрашивают, по-
лезна ли книга, а хорошо ли она написана. Говорун получает бога-
тое вознаграждение, честный человек уходит с пустыми руками.
Есть тысячи премий за хорошие речи, и ни одной за хорошие по-
1 Он призвал меня продвигать мои идеи и побороться за приз (фр.). —Прим. изд.
370
ступки; у нас есть естествоиспытатели, математики, химики, поэ-
ты, музыканты, живописцы, но у нас нет больше хороших граж-
дан, и если они встречаются иногда, они рассеяны в пустынных
местностях и живут бедные и презираемые. Если наши потомки
не будут еще безумнее нас, они возденут руки к небу и восклик-
нут: “Всемогущий Боже, избавь нас от просвещения наших отцов,
возврати нас к простоте, невинности и бедности, единственным
благам, которые способствуют нашему счастью и приятны тебе”.
Поэтому нужно не распространение науки, не продажа ее на рын-
ке, а привлечение высоких умов к деятельной жизни. Цицерон был
римский консул, Бэкон Веруламский — канцлер Англии. Пусть же
короли призывают в свой совет мужей науки! Полагать, что искус-
ство управлять народами труднее, чем искусство просвещать их, —
это предрассудок, изобретенный только высокомерием сильных.
До тех пор, пока власть одна будет стоять на одной стороне, про-
свещение и мудрость одни — на другой, до тех пор ученые редко
будут делать великие дела, и народы не перестанут быть угнетен-
ными, испорченными и несчастными. О добродетель, возвышенная
наука простых душ, нужно ли столько труда и издержек, чтобы уз-
нать тебя? Разве твои учения не начертаны во всех сердцах?.. Мы
не хотим завидовать славе тех, которые отличались в науках; мы
хотим сделать между ними и нами почетное различие, какое заме-
чали некогда между двумя великими народами: один народ умел
хорошо говорить, — другой хорошо действовать».
Что за удивительная смесь нелепых преувеличений, неясностей
и противоречий! Но все-таки остается возможно твердо и опреде-
ленно обозначить здесь основную руководящую мысль. Из предпо-
сланного предисловия и особенно из колких эпиграмм, которые са-
мая статья бросает против неестественности господствующих beaux
esprits и против мертвой учености академического цеха, — мы ви-
дим, с какой злобой Руссо ненавидит блестящее ничтожество этого
образования. Теперь он, по незнанию и ребяческому раздражению,
без разбора вымещает на всем искусстве и на всей науке то, что
он вывел только из науки и искусства своей ближайшей обстанов-
ки. Высшим идеалом золотым веком человечества представляется
ему то патриархальное, далекое от всяких сомнений, спокойствие
и простота, которые преданье и поэзия приписывают первобытному
естественному состоянию. «Страстная чувствительность Руссо, —
весьма верно замечает Шиллер в статье о наивной и сентименталь-
ной поэзии (т. 12, стр. 206), — ошибается в том, что он, стараясь
как бы только освободиться от борьбы в среде человечества, скорее
хочет возвратить его к пустому однообразию первобытного состоя-
ния, чем видеть эту борьбу оконченной в богатой гармонии вполне
развитого образования; что он скорее хочет не давать начинаться
искусству, чем ждать его законченности; одним словом, что он ско-
371
рее готов поставить ниже цель и спустить идеал, чтобы только до-
стигнуть его скорее и вернее».
И однако Руссо видит, что это мнимое счастье необразования по-
теряно навсегда. Он сам говорит в письме к королю Станиславу, что,
если теперь уничтожить образование, Европа впадет в варварство,
но что испорченность нравов все-таки уцелеет. Что же делать? Так
как он не может срубить самого дерева, он хочет по крайней мере
срезать толстые наросты. Он хочет возвратить науку из ее пустой
бессодержательной и ослабляющей болтовни к свежей деятельной
жизни. Он чувствует, что неладно в том обществе, где жизнь и нау-
ка отделены одна от другой широкой пропастью, вместо того чтобы
взаимно проникать и поддерживать одна другую.
Мы не должны забывать этого внутреннего раздвоения в Руссо,
если хотим понять его и быть к нему справедливы. Поэтому, в от-
ветах, которыми он защищается от нападений своих противни-
ков, — и эти нападения были втрое больше по объему, чем самый
Discours, — Руссо мог по чистой совести сказать, что в своем сочи-
нении он осуждает не самую науку, а только ее злоупотребления, —
а в статье о происхождении общественного неравенства мог опять
клеймить мысль и знание, как основу и признак всякой испорчен-
ности. Много подшучивали над тем, что Руссо постоянно говорит
о своей ненависти к писательству, хотя сам был одним из самых
плодовитых писателей. Предисловие к «Новой Элоизе» (1761) на-
чинается странным сожалением, что писатель живет не в таком
веке, который бы позволил ему скорее бросить в огонь роман, им
теперь издаваемый. Еще определеннее это чувство высказано в пре-
дисловии к комедии «Нарцисс» (1753). Как охотно желал бы Руссо
удалиться в тихое уединение своих любимых лесов, не думая, не ра-
ботая, а только ощущая и наслаждаясь; но кругом его волнуется за-
нятый делами свет, угнетенный народ ждет слова спасения, и те,
которые хвалятся, что они жрецы разума, заботятся только о своей
собственной забаве и безучастно проходят мимо народного бед-
ствия, если только они сами, чтд бывает всего чаще, не отравляют
народ своей обманчивой софистикой и развратной поэзией. Руссо
ведет войну, чтобы через эту войну приобрести вечный мир для бу-
дущего.
Как неясно само сочинение, так неясно было и первое впечатле-
ние его. Читатели не умели отдать себе полного отчета, где в этих
неслыханных положениях оканчивается истина, и где начинается
заблуждение; но предчувствовали, что под странной скорлупой зре-
ет плодотворное зерно. Лессинг метко высказал это впечатление.
Когда он начал в апреле 1751 издавать «Das Neueste aus dem Reiche
des Witzes» в виде приложения к берлинским «Staatsund Gelehrten-
Zeitungen», в первом листке он дал подробное извлечение из этого
сочинения и заключил свое извлечение словами: «Чувствуешь ка-
372
кое-то тайное уважение к человеку, который говорит в защиту до-
бродетели против всех принятых предрассудков, даже тогда, когда
он заходит слишком далеко». И эти слова тем важнее в устах Лес-
синга, что и сам он, как мы видим из несравненных «Мыслей о гер-
нгутерах» (Lachm., т. 11, стр. 22, след.), почти в то же время, но об-
думаннее, хотя столько же живо, считал возвращение из вредного
умствования к прямой деятельности неизбежной необходимостью
образования.
Вилльмен в 23-й лекции своей прекрасной «Истории литерату-
ры» верно замечает, что тогда чувствовалось, что «здесь выступила
на сцену совершенно новая личность, и с ней совершенно новый
слой народа с более сильными страстями; под ослепительным язы-
ком Руссо бушевала демократическая ненависть. Литература восем-
надцатого века, хотя и боровшаяся против существующей власти,
сохранила, однако, моду и предрассудки знатного света; Руссо вос-
стал против этой односторонности. Он боролся не только против су-
ществующей власти, но и против боровшейся оппозиции, не только
против Сорбонны, но и против Ферни».
Discours sur 1’origine et les fondements
de d’inegalite parmi les hommes
Повод ко второму сочинению Руссо также дан был Дижонской
академией. В 1754 она поставила тему: «Quelle est 1’origine de
I’inegalite parmi les hommes et si elle est autorisee par la loi naturelle?»1
Но, несмотря на этот внешний повод, сочинение вышло из самой
сущности воззрений Руссо. Вероятно даже, что не Руссо был воз-
бужден академией, но что она была возбуждена им. В своем первом
сочинении, о вреде образования, Руссо одним из опаснейших его
действий указал то, что оно, своим исключительным предпочтени-
ем таланта и связанным с ним унижением добродетели, ввело и рас-
пространило между людьми печальное неравенство. В своем ответе
на возражение короля Станислава он пошел еще дальше и назвал
неравенство корнем всех зол (I, стр. 41): из неравенства, по сло-
вам его, произошло богатство, из богатства роскошь и праздность,
из роскоши и праздности искусство и наука. Этим был уже вперед
высказано, что в глазах автора общественное неравенство чисто
произвольно и потому несправедливо.
Вследствие того великого брожения, которое происходило
со времен Людовика XIV в сословных отношениях, этот вопрос
не был нов во французской литературе. Еще незадолго перед тем,
в 1745, французская академия поставила задачу из притч Соломона,
гл. 22, 2. «La sagesse de Dieu dans la distribution inegale des richesses,
suivant ses paroles: Dives et pauper obviaverunt sibi, utriusque operator
1 В чем причина неравенства между людьми и допускается ли это естественным
законом? (фр.). —Прим. изд.
373
est Dominus»1. Французский писатель Вовенарг, своей сердечной чи-
стотой напоминающий немецкого Новалиса вступил в состязание
и в своем Discours sur I’inegalite des richesses представил обществен-
ное неравенство, в смысле Вольтера, вполне необходимым и, сле-
довательно, вечным. Это неравенство, по словам его, может быть
только смягчено старательнейшим проведением всеобщей равно-
правности, честным исполнением любви и благотворительности
и несомненностью равенства в будущей жизни, но оно никогда
не может быть уничтожено: это неравенство установлено эконо-
мией самой природы; мнимое равенство дикарей сомнительно
и ничего не доказывает, потому что оно не есть равенство, идеала,
а только равенство всеобщей бедности и лени. Совершенно иначе
рассуждает Руссо. Он не только утверждает возможность первобыт-
ного равенства, но и считает его безусловной, не требующей дока-
зательства действительностью. «Человеческая душа, — говорит Рус-
со в предисловии (I, 78 и далее), — была испорчена и обезображена
только в среде общества приобретением знаний и заблуждений,
телесными изменениями, постоянным действием пробужденной
страсти, и в этих только изменениях и в этой порче человеческой
природы мы и должны искать первой причины различий, суще-
ствующих между людьми; от природы люди так же равны, как были
равны звери, пока и между ними не явилось различие от телесных
причин». Поэтому отчуждение от этого предполагаемого всеобщего
равенства есть отпадение чистой человеческой природы от самой
себя, от ее первоначальной чистоты. Общество и государство, вы-
звавшие и поддерживавшие это неравенство, — насильственные
и вредные выдумки, и они тем вреднее, чем резче обнаруживается
в них это неравенство.
Таким образом сочинение последовательно распадается на две
части. Первая часть изображает мнимое естественное состояние
всеобщего равенства, т. е. человека до происхождения государ-
ства и общества, вторая изображает происхождение государства
и из способа этого происхождения развивает его сущность.
Мы не будем останавливаться на первой части, где кое-что при-
надлежит Дидро (I, 98—100). Это неисторические мечтания, кото-
рые могут быть объяснены только тем, что и богатые образованно-
стью эпохи все еще имели потребность стремиться к потерянному
спокойствию и простоте неиспорченной природы. Александрийский
век создал идиллию; Гораций восхваляет строгую добродетель ди-
ких скифов; Тацит убегает от испорченности императорского Рима
в первобытные леса Германии, и в ближайшем соседстве Руссо раз-
вились приторные пастушеские поэмы Геснера. Руссо преувеличи-
1 Мудрость Господа в неравном распределении богатств, согласно его словам:
«Богатый и бедный встречаются друг с другом, но обоих сотворил Господь» (фр.). —
Прим. изд.
374
вает самую природу. Его естественный человек есть дикарь, блужда-
ющий в лесах, без деятельности, без языка, без жилища, без борьбы
и без друзей, без влечения к другим людям, довольствующийся са-
мим собой, словом — тупая безотрадная животность. «Если приро-
да назначила нам быть здоровым, — говорит. Руссо, — то я почти
решаюсь думать, что состояние рефлексии есть состояние противо-
естественное, что человек мыслящий есть существо испорченное;
si la nature nous a destis a etre sains, j’ose presque assurer, que 1’etat
de reflection est un ёгаг contre la nature et que rhomme, qui nsdite; est
un animal dёpravё»1. Чтд в особенности отличает человека от живот-
ного, это есть его faculte de se perfectionner2, которую можно назвать
почти неограниченной (90): между тем как животное в несколько
месяцев становится тем, чем останется всю свою жизнь; между тем
как его вид еще на тысячу лет будет тем, чем был в первый год, чело-
век, как индивидуум и как вид, имеет дар способности к развитию,
которая, ставши, к сожалению, вследствие благоприятных внешних
обстоятельств деятельным стремлением, повела своего несчастного
обладателя от познания к познанию, от потребности к потребности
и таким образом стала источником всех бедствий его цивилизации.
«L’homme perfections — partant corrompu»3 (X, 124).
Когда Руссо послал свое сочинение Вольтеру, этот отвечал смеясь
(30 августа 1755): «Еще никогда никто не тратил столько ума, что-
бы сделать из нас животных; так и забирает охота побежать на чет-
вереньках». Вольтер прибавляет к этому, что «он искренно жалеет,
что не мог посетить канадских дикарей; но что это для него невоз-
можно, во-первых, потому, что болезнь, на которую он осужден,
делает для него необходимым европейского врача, и, во-вторых,
в этой стране идет война, так как постыдный пример образован-
ных народов сделал дикарей почти такими же злыми, как будто это
были мы сами».
Важнее вторая часть. «Мы должны, — говорит Руссо во введе-
нии (I, 83), — найти ту минуту, когда право приняло наследство
силы и таким образом природа была подчинена закону; мы должны
объяснить, через какое сцепление обстоятельств сильный мог ре-
шиться служить слабому и народ мог погнаться за мнимым спокой-
ствием ценой действительного счастья?»
Изложение распадается на следующие главные черты.
А. Уничтожение естественного состояния. В начале находятся
знаменитые слова: «Первый, кто огородил клочок земли и осмелил-
ся сказать: “эта земля принадлежит мне”, и нашел людей, которые
1 Если природа назначила нам быть здоровым, то я почти решаюсь думать, что
состояние рефлексии есть состояние противоестественное, что человек мыслящий
есть существо испорченное (фр.). —Прим. изд.
2 Способность улучшать себя (фр.). —Прим. изд.
3 Совершенный человек — таким образом испорчен (фр.). —Прим. изд.
375
были довольно простодушны, чтобы этому поверить, был истинный
основатель гражданского общества. Сколько преступлений, сколько
войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода
тот, кто, вырвавши столбы или заваливши рвы, служившие грани-
цами, воскликнул бы к людям: “Берегитесь слушать этого обманщи-
ка; вы погибли, если забудете, что плод принадлежит всем, а земля
не принадлежит никому”». — «До тех пор, пока человек жил еще
в грубой хижине (I, стр. 110) и довольствовался для одежды зве-
риными шкурами, делал себе лук и стрелы или простую лодку, од-
ним словом, пока он знал только те работы, которые каждый делал
для себя, до тех пор человек был свободен, здоров, добр и счастлив.
Но в ту же минуту, как человек стал нуждаться в помощи друго-
го, когда он выучился понимать, что одному бывает выгодно, если
у него есть пища для двоих, — в эту минуту равенство исчезло. Была
введена собственность, работа стала необходима, пустые земли
сделались цветущими полями; но с каждой жатвой росло рабство
и бедствия. Горный промысел и земледелие были те искусства, ко-
торые произвели этот великий переворот. Из возделывания земли
последовало ее деление; отсюда правила и понятия о праве и не-
справедливости. “Когда древние, — говорит Гроций, — дали Церере
название законодательницы и одному из ее праздников имя Фесмо-
форий, то они хотели сказать, что деление земель произвело право
собственности, отличное от естественного права”».
В. Основание государственного договора. «Что за печальное из-
менение вещей! Себялюбие пробудилось, начинается тщеславие,
равенство разбито, везде самое ужасное угнетение. Вечная борьба
не в естественном состоянии, как думает Гоббс, а только теперь.
Соединимся, говорят теперь люди после тягостных опытов; соеди-
нимся, чтобы защитить слабого от притеснения, обуздать честолю-
бивого, обеспечить защиту каждому. Вместо того, чтобы обращать
наши силы против нас самих, соберем их в одну высшую силу, кото-
рая будет управлять по мудрым законам, защищать и охранять всех
членов нашего соединения, разгонять общих врагов, держать нас
в вечном согласии. Все соглашаются. Выгода кажется несомненной.
У людей еще не было достаточно проницательности, чтобы пред-
видеть опасность; и те, которые были всего способнее увидеть воз-
можность злоупотреблении, были именно и те, которые при этом
всего больше рассчитывали на свою выгоду; даже мудрые видели,
что дело идет о том, чтобы пожертвовать одной частью свободы для
сохранения другой, как раненый позволяет отрезать себе руку, что-
бы сохранив остальное тело» (I, 115).
С. Вредные следствия государственного договора. «Такого рода
было или должно было быть происхождение государства и законов,
которые готовили новые оковы слабому и, напротив, увеличивали
силу богатого, уничтожали безвозвратно естественную свободу,
376
устанавливали навсегда собственность и неравенство, из неспра-
ведливого насилия делали непреложное право и для выгоды немно-
гих себялюбцев подвергали весь человеческий род труду, рабству
и нищете». — «Эти соединения распространились скоро по всей зем-
ле, потому что одно соединение необходимо обусловливало другое.
Везде является только гражданское искусственное право; естествен-
ное право сохраняется только в отдельных великих космополити-
ческих сердцах, которые обнимают все человечество и становятся
выше рамок, отделяющих народы друг от друга. То зло, которое
прежде заставляло, желать выхода из естественного состояния,
чувствовалось теперь и между отдельными соединениями, и, есте-
ственно, здесь оно чувствовалось еще сильнее. Отсюда несконча-
емые войны; благороднейшие люди считают своей обязанностью
убивать себе подобных». — «Каково же было состояние самых этих
соединений? Люди слишком скоро увидели, что масса сама по себе
дает мало силы и прочности законам. Должно было решиться дове-
рить отдельным лицам опасную должность общественной власти,
чтобы совещания и решения отдельных лиц исполнялись беспрепят-
ственно. Так произошло правительство. Оно поставлено было защи-
щать свободу, а не уничтожать ее. “Мы имеем государя, — говорит
Плиний Траяну, — чтобы он предохранил нас от господина”. Поэ-
тому, когда государи сумели сделаться наследственными и стали
смотреть на свою должность, как на свою семейную собственность,
это было смертельным ударом для назначения государства». Et c’est
ainsi que les chefs devenus hereditaires, s’accoutumerent a regarder leurs
magistratures comme un bien defamille, a se regarder eux memes comme
les proprietaires de I’Etat dont ils n’etaient d’abord que les ojficiers1, и пр.
D. Следствия для сущности государства. «Следя за успехами нера-
венства (1,122), мы находим, что первым шагом было установление
закона и права собственности; вторым — назначение начальства;
третьим и последним — переход законной власти в произвольную.
Первый шаг основал различие между богатыми и бедными, вто-
рой — различие между сильным и слабым, третий — различие меж-
ду господином и рабом. Это последнее различие есть сумма всей ис-
порченности. Несправедливость господства произвола заключается
в том, что у подданных нет другого закона, кроме воли господина,
и что воле господина нет другой меры, кроме его страсти. Но поэ-
тому деспот остается господином только до тех пор, пока он силь-
нее всех. Восстание, кончающееся лишением престола и задушени-
ем султана, есть такое же законное действие, как то, по которому
султан накануне распоряжался жизнью и имуществом своих под-
данных. Насилие поддерживает его, насилие его и низвергает». —
1 Так получилось, что вожди, ставшие потомственными, привыкли рассматри-
вать свои должности как семейную собственность, считали себя собственниками
государства, в котором они были вначале только офицерами (фр.). —Прим. изд.
377
«Неравенство, хотя бы освященное и признанное положительным
правом, всегда, однако, остается противно естественному праву,
если оно несогласно с естественным неравенством. Но это разли-
чие достаточно показывает, что мы должны думать о неравенстве,
господствующем теперь между образованными народами. Законам
природы очевидно противоречит то, что ребенок повелевает старцу,
глупец управляет мудрым, и что небольшая часть людей утопает
в изобилии в то время, как голодная масса нуждается в самом необ-
ходимом» (I, 126).
Таким образом Руссо и здесь стоит на той же точке зрения, как
и в сочинении о вреде образования. По мнению Руссо, как образова-
ние, так и гражданское общество, в сущности, есть зло; но по тому
положению, в каком вещи, к сожалению, находятся теперь, это
зло, конечно, необходимое. И как для образования, так и для госу-
дарства и общества выставляется необходимое требование — сно-
ва сколько возможно ближе возвратиться к первобытному есте-
ственному состоянию. «Мало того, — говорится в предисловии
(I, стр. 81), — чтобы закон был законом, он должен непосредствен-
но говорить к нам голосом природы; государство, как оно есть, по-
казывает только власть сильных и притеснение слабых, но должно
отделить то, что произвела божественная воля, от того, что было
только выдумкой людей».
Эти рассуждения сами по себе не так новы и не так оригиналь-
ны, как обыкновенно думают. Основное воззрение об естественном
состоянии, предшествующем образованию государств, и об искус-
ственном основании государства посредством договора идет еще
от Гроция, Пуфендорфа и Гоббса; и точно так же знаменитое ме-
сто об основании собственности и революционное истолкование,
что подданные не обязываются деспотизмом, потому что деспотизм
нарушает условия договора, заимствованы у Элджернона Сидни
и Локка, имена которых часто повторяются под пером Руссо. Но то,
что эти знаменитые предшественники говорили отвлеченно, здесь
схвачено с силой страсти и глубоко проникает в сердце. Это сочи-
нение есть страстный крик бедных и угнетенных, пламенное и ре-
шительное объявление войны против основ и учреждений господ-
ствующей государственной формы, возвышение народа, который
установил правительство собственным свободным решением и пол-
номочием, против превышений управления, которое несправедливо
и насильственно присвоило себе неограниченную власть.
Лессинг следующими словами объявил об этом сочинении
в «Берлинской Газете» 10 июля 1755 (Lachm. т. 5, стр. 57): «Руссо
везде смелый мудрец, не принимающий никаких предрассудков,
хотя бы они находили самое всеобщее одобрение, но идущий пря-
мым путем к истине, не заботясь о мнимых истинах, которыми он
на каждом шагу должен ей жертвовать; его сердце участвовало при
378
этом во всех его спекулятивных рассуждениях, и потому он говорит
совершенно другим тоном, чем говорит обыкновенно продажный
софист, которого своекорыстие или хвастовство делают учителем
мудрости».
Лессинг угадывает здесь самую сущность дела. Величие Руссо
в том, что он не только отрицает, но и строит вновь. На место лож-
ного образования и ложной государственной формы он хочет по-
ставить истинное образование и государственную форму. Он делает
это в «Эмиле» и в «Contrat Social». Руссо уже ясно выработал себе
точку зрения обеих книг, когда он писал свои первые отрицающие
исследования. Творческой бывает только та критика, которая исхо-
дит из твердого и ясного идеала.
Emile ou de I’education
Умы преобразующего свойства издавна с охотой обращаются
к молодым поколениям. Нет ни одного сколько-нибудь замечатель-
ного духовного стремления, которое не оставило бы своих ясных
следов в истории воспитания. Как Платон сначала должен сам вос-
питать граждан для своей республики, так и Гёте в социалисти-
ческих мечтах о будущем, которые он передает в Wilhelm Meisters
Wanderjahre, учреждает особенные «педагогические провинции»,
чтобы приготовить новых людей для новой общественной жизни.
Мыслители французского просвещения также рано поняли,
как важно для них обратить внимание на воспитание. Уже Локк
подал в высшей степени важный пример. Во Франции необходи-
мость изменить образование была тем настоятельнее, что школы
и воспитание были там почти исключительно в руках иезуитов.
Как ревностно старались, например, Гельвеций и Гольбах действо-
вать на очищение начал воспитания и сделать их полезными для
своих целей!
Книга «Эмиль», в которой Руссо изложил свои взгляды на осно-
вания и условия чистого, по его мнению, и человечески свободно-
го воспитания и образования, есть наполовину роман, наполовину
учебник. Она вышла в 1762. Руссо уверяет, что он более двадцати
лет обдумывал эту книгу и три года писал ее.
Основные мысли ее можно высказать в немногих словах. Руссо,
правда, хочет сделать из своего воспитанника не «естественного»
человека, но хочет воспитывать его сколько возможно естествен-
но. «Tout consiste a ne pas gater 1’homme de la nature, en 1’appropriant
a la sociёtё»1, — говорит он в пятом письме четвертой книги «Новой
Элоизы». То же говорится в предварительных взглядах самого этого
учения о воспитании. И так же говорится в третьей книге «Эмиля»
1 Все состоит в том, чтобы не испортить человека природы, приспособляя его
к обществу (фр.). —Прим. изд.
379
(II, стр. 177): «Есть большая разница между естественным челове-
ком в естественном состоянии и между естественным человеком
в состоянии общественном; Эмиль не дикарь, изгнанный в пусты-
ню, а дикарь, который должен жить в городах; он должен уметь най-
ти необходимое и соблюдать свою выгоду; он должен обращаться
с другими людьми, хотя он и не во всем на них похож». Еще опре-
деленнее говорится в четвертой книге: «Здесь дело идет не о том,
чтобы создать дикаря и послать его в уединение лесов; достаточно,
напротив, что Эмиль не увлекается в вихре света страстью и пред-
рассудками людей, он должен видеть своими собственными гла-
зами, чувствовать своим собственным сердцем, и никакая власть
в свете не должна управлять его решениями, кроме его разума».
Изложить все подробности «Эмиля» — дело истории воспита-
ния. Известно, как настоятельно Руссо убеждает матерей, чтобы
они сами давали ребенку первую пищу; как он предохраняет пер-
вую юность своего питомца от всякого преждевременного ученья;
как затем он основывает все ученье на свежем чувственном наблю-
дении, исходя от ближайшей обстановки; как он на случай нужды
научает своего питомца ремеслу и наконец приискивает ему жену.
Мало того, впоследствии в Англии Руссо пришла даже мысль при-
бавить в высшей степени странное продолжение, которое, к сча-
стью, осталось не конченным: Emile et Sophie ои les solitaires. Эмиль
преступно обманут своей избранной Софьей, убегает, попадает не-
вольником в Алжир и возвышается там до советника дея. Разве Рус-
со не чувствовал, что этим он подвергает сильнейшему сомнению
осторожность и мудрость воспитателя, который выбрал своему пи-
томцу именно эту подругу жизни? Или хотел он показать, каким об-
разом человек, воспитанный и образованный, как его Эмиль, умеет
спокойно переносить самые ужасные положения в жизни, и, даже
попавши на дикий Робинзоновский остров, всегда сумеет помочь
себе своими собственными силами?
Гёте вполне выразил значение этой книги, назвавши ее еванге-
лием природы в деле воспитания (JVaturevangelium der Erziehung).
Естественные, первобытные, сердечные свойства, принадлежащие
человеческой природе и человеческому обществу, снова получают
здесь свое неотъемлемое право.
Правда, Руссо понимает эту высокую цель очень односторонне.
Естественное он большей частью низводит к непосредственно по-
лезному. Ненависть к дрессировке человека для одного известно-
го состояния и к пустой болтовне салонов приводит его к безжиз-
ненной тени, к отвлеченному безличному человеку, который хотя
и должен заключать в себе способность ко всякого рода призвани-
ям, но на деле желает только своего собственного эгоистического
счастья без всякой определенной деятельности. Из желания уже
с ранних пор приучать воспитанника к самодеятельному мышлению
380
и не предлагать ему ничего, что бы не казалось ему собственным
его приобретением, выходит следствие, прямо противное предпо-
ложенной цели, — выходит опека и игра в прятки со стороны учи-
теля, которые выполнимы только в очень редких случаях, и если бы
они были выполнены на самом деле, конечно, были бы очень опас-
ны для нравственного образования воспитанника. Руссо сам очень
ясно понимал эту слабую сторону. Сохранилось много писем его,
в которых он отсоветует восторженным последователям слишком
буквально применять педагогические идеи Эмиля. Но при всем том
Эмиль остается книгой с замечательно широким взглядом, и поэ-
тому действие его было истинно могущественное. Как очищающая
молния в душном воздухе, во всем человечестве прошло сознание,
что оно должно возродиться и помолодеть из самого себя, что пре-
жде всего необходимо возвращение к простоте природы и к есте-
ственным условиям жизни. Не было, конечно, недостатка в сильных
и вредных преувеличениях дела. Г-жа Жанлис в своем воспитатель-
ном романе Adele et Theodore ои les lettres sur ^education (1772, ч. I,
стр. 167) справедливо подсмеивается над теми знатными молодыми
матерями, которые из кормления детей, вошедшего в моду через
Руссо, тотчас сделали повод к новому кокетству и, не стыдясь, да-
вали ребенку грудь в блестящем обществе, при чужих мужчинах.
Пошлость филантропических воспитательных заведений, из кото-
рых, правда, выходили здоровые тела, но пустые головы, справед-
ливо получила везде плохую репутацию. Но зерно не погибло, оно
растет и действует еще и теперь. Согревающий дух семьи усилился,
детям спасена детская пора, в школьном преподавании мертвое за-
учиванье на память заменилось возбуждающей самодеятельностью.
Песталоцци, великий основатель нового воспитания, вышел прямо
из основных воззрений Руссо. Правда, этот многоопытный учитель
называл потом Эмиля с его преувеличениями мечтательной книгой,
но он сам рассказывает, каким образом этот Эмиль одушевлял его
юность и был возбудителем его идей.
Но это учение о воспитании есть только одна сторона книги. Она
хочет не только сделать глубже и чище воспитание, но она хочет
сделать глубже и чище всю образованность. Но вершину образован-
ности составляет характер и форма религии: зная религию челове-
ка, мы знаем всю его сущность. Поэтому было не только последо-
вательно, но даже составляет существенное содержание книги то,
что Руссо изложил здесь свои глубочайшие религиозные убеждения
в знаменитом Profession defoi du vicaire Savoyard.
Это исповедание веры — отчаянный крик сердца, религиозность
чувства, стремящиеся к жизни и свободе. В спорах теологов и в спо-
рах философов всегда была речь, только о противоположности
мышления и веры, разума и откровения, но никогда о могуществе
и праве человеческого сердца, о неотвратимой потребности горяче-
381
го душевного ощущения. Эта религиозность сердца находит у Руссо
глубокое одушевленное выражение и с равной силой и решительно-
стью пролагает себе путь и против умствователей и против религи-
озных рутинеров.
Одним летним утром, при восходе солнца, викарий ведет своего
молодого друга, впавшего в неверие и бедствие юношу, из города
Турина на возвышенность, с которой они наслаждаются чудесным
видом. Таким образом прекрасная природа служит обстановкой для
наставления в вере; издали смотрят на обоих вершины Альп.
Эта горная проповедь распадается на два отдела. Всего сильнее
первая часть, борьба против деистов и материалистов. Эта борьба
была для Руссо священным делом сердца. Г-жа д’Эпинэ рассказывает
в своих записках (изд. 1818, ч. 2, стр. 63) весьма характеристиче-
скую черту. Однажды вечером философы по обыкновению забавля-
лись в салоне m-lle Кино легкомысленными насмешками над рели-
гией. Руссо, бывший при этом, прервал разговор замечанием: «Если
низко терпеть, когда злословят отсутствующего друга, то преступно
терпеть, когда злословят Бога, который присутствует». Он грозил
уйти из общества.
Для того, кто знает сочинения французских материалистов,
любопытно видеть, как упорно и осмотрительно Руссо оспарива-
ет у них место шаг за шагом. В отдельных выражениях и оборотах
очень ясны намеки на известные положения и слова Дидро, Конди-
льяка, Гельвеция и Гольбаха.
Материалисты говорили, что все наше познание, даже суждение
и воля — просто чувственное ощущение. Руссо, напротив, доказы-
вает, что хотя восприятие вполне и совершенно зависит только
от внешних чувственных впечатлений, но что от них не зависит
таким же образом соединение и сравнение отдельных ощущений.
Руссо говорит: «Это сравнение, т. е. суждение, исходит от самого
меня. Таким образом я не только ощущающее и страдательное су-
щество, но вместе и существо деятельное и производящее. Что бы
ни говорили философы, я никогда не откажусь от чести — мыс-
лить» (II, 242).
Материалисты давали движение самому миру материи, движе-
ние по вечным и твердым законам; поэтому творящее и сохраняю-
щее божество было для них немыслимо и излишне. Руссо, напротив,
говорит приблизительно так (стр. 243 и далее): «Движение бывает
сообщаемое и самостоятельное; одно принадлежит мертвой, другое
живой материи. Как я не убеждаюсь, что если я двигаю своей ру-
кой, это движение имеет другую причину, кроме моей воли, так же
точно я не убеждаюсь, что неоживленная материя движется или
выполняет какую-нибудь деятельность из самой себя. Но видимая
материя движется, и в ее постоянном и правильном движении со-
вершенно нет той свободы и произвола, какие обнаруживаются
382
в добровольных и самодеятельных движениях человека и животно-
го. Таким образом должна быть причина этого движения, которая
находится вне и выше материи; материя получает движение и со-
общает его, но не производит его. Чем больше я наблюдаю движе-
ние и сопротивление действующих друг на друга сил природы, тем
больше я вижу, что, преследуя действие за действием, мы должны
наконец принять волю, как первую основную причину. Я думаю
следовательно, что воля движет вселенной и оживляет природу;
и если движущаяся материя показывает лишь только одну волю,
то материя, движущаяся по определенным законам, показывает
лишь сознательную волю. Действие, сравнение, выбор — все это
деятельности мыслящего и деятельного существа, и это мыслящее
и деятельное существо, движущее вселенной и управляющее всеми
вещами, я называю Богом. Я вижу Бога в его делах, чувствую его
в себе и чувствую его над собой; но как скоро я хочу рассматривать
его в его сущности, и спрашиваю, где он есть и что он есть и как он
есть, то он убегает от меня, и мой ум, мыслящий об этих тайнах,
не находит ответа» (248).
Материалисты смеялись над высокомерием человека, который
все относит к себе, как к цели природы, и считает себя за нечто дру-
гое и лучшее, чем остальная природа, тогда как он подчинен необхо-
димости одинаковых форм и законов. Руссо, напротив, предлагает
гордый вопрос — «что же есть смешного в этой мысли, когда несо-
мненно, что один только человек способен быть такой целью? Че-
ловек не только подчиняет своим намерением животных и стихии;
своей мыслью и познанием он умеет приблизиться даже к звездам.
Покажите мне другое создание на земле, которое употребляет огонь
и удивляется солнцу. Я могу чувствовать порядок, красоту и добро-
детель и должен сравнивать себя с животными. Низкая душа, только
твоя безотрадная философия делает тебя подобным животному;
твой ум свидетель против твоих правил, твое сердце — против тво-
их заключений, и даже злоупотребление твоих способностей про-
тив твоей воли доказывает величие человека» (249).
Материалисты отвергали духовность человеческой души и сво-
боду воли. Но Руссо говорит: «Существо чисто материальное никог-
да не бывает деятельно через самого себя; но я деятелен. Моя воля
независима от гнета внешних нравственных ощущений. Я уступаю
или сопротивляюсь, я подчиняюсь или побеждаю, и я не знаю,
делаю ли то, что мне хочется делать, или я только уступаю своей
страсти» (251). «Что же определяет мою волю? Мое суждение. Что
определяет мое суждение? Моя мысль. Моя определяющая причина
находится во мне самом: вот все, что я понимаю; но за этими пред-
метами я иду ощупью во мраке. Не слово свобода не имеет смысла,
а слово необходимость; предполагать действие, которое не исходит
от действующего существа, значит хотеть действия без причины.
383
Но так как человек свободен в своих действиях, он должен быть
одушевлен не телесной субстанцией. И как из свободы воли следует
духовность души, так из нее объясняется так же и существование
зла. Злоупотребление наших способностей, свободы нашей воли
и нашей возможности совершенствования внесли в мир зло. Бог,
снабдив нас особенностями, которые отличают нас от животного,
дал нам небесный дар делать добро по собственному желанию. Если
человек держится зла, то это не вина провидения: Nos chagrins, nos
soucis, nospeines nous viennent de nous; le mal moral est incontestablement
notre ouvrage1. — И не только нравственное, но и физическое зло, те-
лесное страдание есть почти исключительно следствие испорченно-
сти цивилизованного человека. Естественный человек знает только
немногие страдания: il vit presque sans maladie ainsi que sans passions,
et ne prevoit ni ne sent la mort»2. Это учение самого неустрашимого
оптимизма, защитником которого Руссо является и в знаменитом
письме к Вольтеру (X, 124 и далее). «Homme, ne cherche plus 1’auteur
du mal; cet auteur c’est toi-meme — otez nos funestes progres, otez nos
erreurs et nos vices, otez 1’ouvrage de I’homme et tout est bien»3 (I, 253).
Материалисты отвергали также и бессмертие души. Руссо гово-
рит (254): «Если душа бестелесна, то этим самым открывается воз-
можность для души переживать тело. Но эта возможность делается
необходимостью, потому что только этим оправдывается мудрость
провидения. Если бы я не имел даже никакого другого доказатель-
ства бестелесности души, кроме торжества злых и притеснения до-
брых в этом свете, то мне было бы достаточно и одного этого до-
казательства. Противоречия жизни должны найти свое разрешение
по смерти. Я понимаю, как уничтожается тело, но не понимаю, ка-
ким образом та же судьба может постигнуть мыслящую часть моего
существа».
Наконец материалисты отрицали врожденное нравственное чув-
ство; источником человеческих действий был, по их мнению, эго-
изм. Руссо говорит: «Вернейший руководитель поступков есть со-
весть; совесть есть инстинкт души. Только тот, кто торгуется с своей
совестью, прибегает к тонкостям умствования. Если в человеческом
сердце нет врожденного, нравственного чувства, откуда является
в нем то бескорыстное удивление к великим делам, та великодуш-
ная любовь, к высоким характерам? Какое дело человеку, вооду-
шевленному добродетелью, до нашей пользы и выгоды? Отнимите
1 Наши печали, наши заботы, наши боли исходят от нас; моральное зло — это,
несомненно, наше творение (фр.). —Прим. изд.
2 Он живет почти без болезней, а также без страстей, не предвидит и не чув-
ствует смерти (фр.). —Прим. изд.
3 Человек, не ищи больше виновника зла; этот автор — ты сам. Избавься от на-
шего катастрофического прогресса, убери наши ошибки и пороки, убери работу
человека, и все будет хорошо (фр.). —Прим. изд.
384
у нас эту любовь к доброму, и вы отнимите у нас прелесть жизни.
Понятие доброго и справедливого везде и всегда до такой степени
одно и то же, что его не искажают даже испорченные религиозные
понятия и обычаи культа. Люди праздновали развратные похожде-
ния Юпитера и почитали воздержность Ксенократа» (260).
Как первая часть направлена против материализма, так вторая
часть спорит против обычных религиозных понятий.
Если уже естественная религия, основанная на человеческом
мышлении и ощущении, дает нам верное свидетельство о бытии
Бога, о бессмертии души и о вечной силе неразрушимых идеалов
добродетели, то к чему еще необходимость других сверхъестествен-
ных доказательств?
Оружие спора здесь то же самое, какое употребляли английские
свободные мыслители.
Откровение унижает Бога, потому что дает ему человеческие
свойства; поклонение, которого требует Бог, есть поклонение серд-
ца. Бог хочет, чтобы ему поклонялись духом и истиной, это долг всех
религий, времен и людей. К кому говорил Бог? О чудесах и открове-
ниях мы имеем только человеческие свидетельства. Одно открове-
ние всегда утверждает о другом, что оно ложно. Кто может решать
о справедливости этих притязаний, когда притом ни одно не знает
основательно другого? Почему истинное откровение бывает для
столь немногих? Но при всем том кто может отвергать возвышен-
ность евангелия? Если Сократ умер, как мудрец, то Христос умер,
как Бог. Книги Нового Завета так чисты и божественны, и, однако,
с другой стороны, так темны и противоречивы! Что же делать в этой
мучительной неизвестности? «Почитать с благоговейным молчани-
ем то, чего нельзя ни опровергнуть, ни понять, и смириться перед
Высшим Существом, которое одно знает истину» (28). «Но эта неиз-
вестность не имеет ничего мучительного, потому что она простира-
ется только на вещи несущественные. Мои нравственные поступки
имеют свои твердые правила; а особенные формы религии я счи-
таю спасительными различиями, которые по большей части имеют
свое основание в климате и народном характере и дают стране один
общий культ. Поэтому я и принимаю все формы этого культа, про-
никнутые могуществом и присутствием Высшего Существа и огра-
ниченностью человеческой мысли. Я всегда буду проповедовать лю-
дям добродетель и убеждать их делать добро; но я буду остерегаться
учить их жестокому правилу нетерпимости, что нет спасения вне
церкви». «Гордая философия ведет к сердечному свободомыслию,
слепая вера — к дикой жажде преследований. Избегайте обеих од-
носторонностей; оставайтесь непоколебимы в истине или в том,
чтд в сердечной простоте вы принимаете за истину. Имейте муже-
ство признавать Бога перед философами, имейте мужество пропо-
ведовать человечество перед людьми, жаждущими преследований.
385
Говорите, что истинно, делайте, что хорошо. Чтд существенно для
человека, это исполнять здесь, на земле, свою обязанность. Когда
человек не думает о самом себе, тогда он и работает действительно
для себя. Кто стремится к своей выгоде, тот обманывается, только
надежда справедливого не бывает обманута» (286).
Мы увидим вкратце содержание и направление этого замеча-
тельного Profession defoi, если приведем два письма, которые Руссо
писал 18 февраля и 25 марта 1758 г. к своему другу Верну. В первом
письме он говорит: «Я провел свою жизнь между неверующими,
не впавши в заблуждение, я любил и уважал их и не мог, однако,
терпеть их учения. Если они хвалились своим мышлением, я с своей
стороны спрашивал природу, т. е. внутреннее чувство, которое опре-
деляет мою веру независимо от моего мышления. Я предоставлял
им устраивать их вероятности и их необходимое движение, и ког-
да они строили свой мир a coups des des1, я с своей стороны видел
в мире такое единство намерений, которое заставляло меня — не-
смотря на них — видеть в нем и единый принцип. Я верю в Бога,
и Бог был бы несправедлив, если бы моя душа не была бессмертна.
И в этом, по моему мнению, заключается сущность и польза всякой
религии; об остальном пусть спорят те, у кого есть охота спорить».
В другом письме говорится: «Никто в свете не уважает евангелия
столько, как я; по моему мнению, это самая возвышенная из всех
книг; но наконец это все-таки только книга, и притом неизвестная
трем четвертям человечества. Нет, мой достойный друг, закон Бога
нужно искать не в нескольких разбросанных листах, а в сердце».
Случилось то, что предсказывает Руссо в предварительных раз-
мышлениях этого Profession de foi. В обоих лагерях оно произвело
крайнее ожесточение. Отрицатели Бога обесславили его, как верую-
щего, а верующие осудили его, как безбожника. Вольтер, который
сам занял среднее положение, называет книгу le seul veritablement
bon ouvrage qu’ait jamais fait Jean-Jacques Rousseau (Соч. XXVII,
118) и пишет к д’Аламберу, что он переплетет эти 50 страниц в са-
фьян (15 сентября 1762).
Энциклопедисты судили о нем тем суровее, что прежде счита-
ли Руссо одним из своих. Дидро в письме к m-lle Волан от 25 июля
1762 называет Profession defoi родом галиматьи, а его автора homme
excessif qui est ballotte de I’atheisme au bapteme des cloches2. Но еще
сильнее была раздражена клерикальная сторона. Архиепископ па-
рижский издал особое пастырское послание. Книга, по приказанию
парламента, была сожжена рукой палача; был бы взят и сам Рус-
со, если бы знатные покровители не помогли его бегству. В Женеве
1 На бросках костей (фр.). —Прим. изд.
2 Неумеренный человек, который перешел в атеизм из-за крещения колоколов
(либо дураков) (фр.). —Прим. изд.
386
произошло то же самое; Берн также изгнал автора, когда он искал
убежища в Ивердоне.
Мы с трудом поймем эту неожиданную строгость, если не возь-
мем при этом в расчет случайные обстоятельства времени. Сен-
Марк Жирарден (Rev. des deux Mondes, 1855, ноябрь, стр. 724)
с знанием дела объяснил, что несчастная судьба книги была в связи
с уничтожением иезуитского ордена. Некоторые подобные намеки
дает и сам Руссо в своем послании к архиепископу парижскому,
Кристофу де Бомону (III, 62 и далее). Меры против Эмиля и его ав-
тора относятся к 9 июня 1762, уничтожение ордена — к 9 августа.
Одно было приготовлением к другому. Когда правительство хотело
выступить против иезуитов, которые в глазах многих были защит-
никами веры и церкви, парламент счел для себя делом чести поло-
жительно доказать, что вера и церковь не остаются и при этом без
защиты. Отсюда ревность и преследование, которые здесь, конечно,
попали на человека относительно невинного. Эти нападения были
только полезны, для действия книги. Барбье рассказывает в своем
Journal historique et anecdotique du Regne de Louis XV (июнь 1762), что
книга, стоившая первоначально восемнадцать ливров, потом прода-
валась по два луидора. Многочисленные перепечатки в Голландии
озаботились о возможно большем ее распространении.
В умы, уже находившиеся в сильном брожении, теперь брошено
было, новое плодотворное зерно жизни. Эти освежительные воз-
буждения Руссо подвергались многим извращениям. Здесь имеет
свой корень вялая и неясная сентиментальность так называемой
философии чувства и поэтической романтики; но не забудем, что
здесь же было дано и существенное побуждение расширить и сде-
лать глубже сухой и поверхностный рационализм, разрушавший
всякую поэзию. Снова явился полный и цельный человек, — ко-
торый не только мыслит, но и ощущает. Шиллер был только отго-
лоском, всеобщего настроения времени, когда в юности говорил
в своей Антологии:
Sokrates ging unter durch Sophisten,
Rousseau leidet, Rousseau fallt durch Christen,
Rousseau — der aus Christen Menschen wirbt.
Contrat Social
В «Общественном Договоре» Руссо расширил в полную полити-
ческую систему то, что в своем сочинении о происхождении нера-
венства он высказал скорее как одушевленный народный оратор,
чем серьезный систематик.
Со времени своего пребывания в политических кругах Венеции
(1743) Руссо занят был планом большого сочинения Institutions
politiques, которое должно было заключать обширное учение о нрав-
387
ственности, праве и государстве (VIII, 288). Отрывок отсюда, оза-
главленный Contrat Social ои principes du droit politique, он пригото-
вил к печати уже в 1754; эта первая длинная редакция сохранилась
в рукописи, и А. Бертран сделал о ней доклад в Academic des sciences
morales et politique 4 апреля 1791. Руссо напечатал свое сочинение,
в сжатой и частью смягченной форме, только в феврале 1762 г.
в Голландии, за несколько недель до «Эмиля» (IX, 12).
Этот Contrat Social вместе с «Духом законов» Монтескьё есть важ-
нейшее политическое произведение восемнадцатого столетия. Кни-
га, несомненно, написана с постоянным отношением к Монтескьё,
как его противоположность, дополнение и развитие. В том сокра-
щенном изложении «Общественного Договора», которое он внес
в пятую книгу «Эмиля», Руссо говорит, что Монтескьё ограничился
de traiter du droit positif des gouvernements etablis (II, 430) и воздер-
жался исследовать принципы государственного права: «et rien au
monde n’est plus б1££ёгет que ces deux ёtudes... Il faut savoir ce qui doit
etre pour bien, juger de ce qui est»1. Его Contrat Social должен воспол-
нить пробел, оставленный Монтескьё, и представить теоретические
основы всей государственной жизни.
Из каждой строки слышатся столь роковые впоследствии слова
Liberte и Egalitel В новейшее время было несколько критиков, кото-
рым казалось очень глубокомысленным отвергать вполне демокра-
тический основной характер Руссо. Они не знают, что говорят. Они
ссылаются на отдельные положения, представляющие чистую демо-
кратию, как правление неисполнимое между людьми, как правле-
ние богов, или на некоторые политико-экономические положения,
несогласные с воззрениями современной демократии; но они забы-
вают при этом, что вся сущность учения Руссо есть учение о верхов-
ном праве народа, о верховном праве, которое остается деятельным
каждую минуту и которое, в понятиях Руссо, по самой внутренней
природе своей не допускает перенесения, разделения, ограничения
или замены представительством.
Первая книга. О сущности и происхождении государства
Человек родится свободным и, несмотря на то, он везде в оковах.
По какому праву может существовать это рабство? Его нельзя основать
ни на естественных условиях, ни на искусственных договорах. Что каса-
ется до естественных условий, то ни пример семейства — как думают
некоторые, — не дает на это права, потому что господство отца продол-
жается только в эпоху малолетства; ни право сильного, — как утверждают
другие, — потому что право сильного никогда не может быть правом,
но прекращается тотчас же, как только прекращается принуждение силы.
Что же касается договоров, то отчуждение свободы находится вне вся-
1 И ничто в мире не отличается больше, чем эти два учения... Ему надо знать,
что нужно делать для добра, размышлять, чем оно является (фр.). — Прим. изд.
388
ких договоров (III, 310). Отчуждать значит давать или продавать. Если бы
даже кто-нибудь и хотел продать себя, он не может продать своих детей;
они родились людьми и, следовательно, свободными, их свобода принад-
лежит им. Отказываться от своей свободы значит отказываться быть чело-
веком; не быть свободным значит отрекаться от всех прав и обязанностей
человека. Точно также нельзя строить рабства и на праве войны. Один
народ есть враг другому только до тех пор, пока продолжается война;
в ту минуту, когда народ покорен, прекращается всякий военный обы-
чай; побежденные уже больше не граждане и не защитники своего отече-
ства, но просто люди с человеческими правами и обязанностями.
Следовательно люди, переходя из естественного состояния к образова-
нию государств, не могли и не хотели отказываться от своей свободы; ско-
рее, они хотели только найти форму соединения, которая «общей силой
массы защищает и охраняет лицо и собственность каждого отдельного
члена государства, и в которой каждый, соединяясь со всеми, повинуется
однако только самому себе и следовательно остается так же свободен,
как прежде» (III, 313). Каждый член безусловно отчуждает от себя все
свои права в пользу целого общества. Через это возникает самая всеобщая
взаимность, и через эту взаимность каждый приобретает не только воз-
награждение за все, им потерянное, но и большую силу для удержания
того, что у него осталось.
Это отчуждение всех ко всем производит единое общество с единой
общей волей. Это общество называется государством (etat), если рассма-
тривать его, как спокойное и недеятельное целое; правителем или госуда-
рем (souverairi), если оно вступает в деятельность; державой (puissance) —
относительно других государств. Вступившие в союз, как целое, называ-
ются народом, как участники в высшей власти — гражданами (citoyens),
как подчиненные государственным законам — подданными.
Так как суверен есть не что иное, как единство и сложность отдель-
ных лиц, то он никогда не может желать вреда подданным, потому что
тело не хочет вреда своим членам. Но иначе бывает в отношениях под-
данных к суверену. Отдельный человек может, конечно, иметь свою соб-
ственную волю, выгода отдельного человека может впасть в противоре-
чие с выгодой целого. Но кто отказывается повиноваться общей воле,
тот будет вынужден к повиновению целым обществом; и это значит
только, что общество принуждает его быть свободным (315). Человек
теряет в «общественном договоре» только свой произвол и выигрывает
гражданскую свободу и собственность, которой он владеет. Государство
не уничтожает естественного равенства; оно только ставит на его место
равенство нравственное и законное. Если люди не равны по силам или
уму, то они делаются равны по праву и согласию. Но при дурных пра-
вительствах это равенство, конечно, бывает только видимое и обман-
чивое, оно служит только к тому, чтобы осудить бедного на его нищету,
а богатому обеспечить присвоенные им преимущества. В действитель-
ности законы полезны только для имущих и вредны для неимущих.
Отсюда следует, что государство представляет выгоды людям только
тогда, когда у всех — как и быть должно, — есть что-нибудь и никто
не имеет слишком много.
389
Вторая книга. О верховном праве и законодательстве
Верховное право (souverainete), как исполнение всеобщей воли, совер-
шенно неотчуждаемо. Власть можно перенести на каждого, но не волю;
поэтому и перенесение власти бывает только временное и всегда отме-
нимое. Когда народ обещает просто повиноваться, он уничтожает самого
себя; когда народ имеет господина, он уже не имеет больше верховного
права.
Верховное право точно так же и неразделимо. Потому что воля бывает
или всеобщая, или нет; это бывает или воля всего народа, или только
одной его части. Но только всеобщая воля есть акт верховного права.
Поэтому наши политики поступают бессмысленно, когда, не имея воз-
можности разделять верховного права в принципе, разделяют его в пред-
мете (в применении). Они разделяют его на силу и на волю, на власть
законодательную и исполнительную, на право налога, суда и войны, вну-
треннее управление, и власть вести сношения с иностранными государ-
ствами. Это значит делать суверена фантастическим существом, челове-
ком из нескольких тел, из которых одно имеет глаза, другое — руки, тре-
тье— ноги (319).
Также точно верховная воля народа всегда бывает справедлива и стре-
мится к общему благу. Это не значит, конечно, что народные определе-
ния бывают непременно верны во всех отдельных случаях. Отдельные
лица часто стремятся к своей личной выгоде; но это выравнивается. Одна
отдельная воля уничтожает другую, и всеобщая воля остается последним
результатом. Нужно только предотвращать интриги партий и небольшие
«государства в государстве»; каждый должен подавать голос по своей соб-
ственной воле; в этом заключалась великая мудрость Ликурга. Или, когда
такие разделенные партии есть, то нужно сделать их больше, чтобы огра-
ничить неравенство; это делали Солон, Нума и Сервий.
Суверен имеет только одно ограничение. Он должен делать стро-
гое различие между обязанностями гражданина и естественными пра-
вами человека. Природа «общественного договора» требует, чтобы каж-
дый человек совершенно свободно располагал всем, чего он по дого-
вору не отдал государству, и чтобы суверен никогда не отягощал одного
подданного больше, чем другого. Жизнью членов государства суверен
может располагать в том случае, когда смерть отдельного лица полезна
для сохранения целого (323).
Условия, при которых составился государственный союз, получают
свое выражение в законах. Нет никакого сомнения, что они должны
исходить от народа, но настоящего законодателя найти трудно, и при-
том положение его совершенно исключительное; он не есть ни суве-
рен, ни чиновник; он должен быть совершенно свободен и от чело-
веческих страстей, и от обыкновенных государственных отношений.
Но еще труднее доставить мудрым законам признание народа, кото-
рому часто недостает понимания. Здесь великие законодатели древ-
ности счастливо прибегали к ссылке на непосредственное божествен-
ное послание (329).
Целью всякого законодательства должна быть свобода и равен-
ство: свобода — потому что, когда отдельный человек зависим, его
390
сила отнимается у целого; равенство — потому что без него не может
существовать свобода. В чем состоит понятие свободы, это уже доста-
точно объяснено всеми предыдущими определениями; но что касается
до равенства, под ним разумеется не одна безразличная одинаковость
власти и имущества, но только то, что власть отдельного лица никогда
не может извратиться в незаконное насилие, богатство — в покупку
голосов, бедность — в низкую продажность (334). Говорят, что это
равенство есть пустая мечта и что оно вечно останется недостижимо.
Но по крайней мере разве не нужно обрезывать наросты, если они неиз-
бежны? Чем больше внешние отношения подрывают равенство, тем
больше именно законодательство должно стремиться к тому, чтобы под-
держать его.
Есть различные роды законов: государственные законы, которые рас-
сматривают отношение целого к целому, т. е. отношение государства
к суверену; гражданские законы, рассматривающие отношение отдель-
ных граждан к государству и между собой; и, наконец, уголовные законы,
которые составляют признание и исполнение прочих законов, примене-
ние законов против тех, кто им не повинуется. Но важнее всех четвертый
разряд законов, это неписанный закон обычая, предания, общественного
мнения. На этом обычном праве законодатель должен строить все про-
чие законы.
Третья книга. О сущности правления
В каждом свободном действии есть духовная и естественная, сторона.
Я должен чего-нибудь хотеть и должен иметь возможность исполнить эту
волю. Если я иду, я должен хотеть идти и мочь идти. Воля государственного
общества есть puissance legislative1, возможность исполнена —puissance
executive2; которая в этом смысле обнимает и власть судебную (337).
Таким образом исполнительная власть есть посредник между наро-
дом, как сувереном, и отдельным лицом, как подданным. В этом только
посредничестве и состоит роль правительства, хотя обыкновенно понятие
правительства весьма неловко смешивается с понятием суверена. И эта
роль остается одна и та же, будет ли власть, заведующая законным испол-
нением, как отдельное лицо, называться государем, или, как сословие —
магистратурой.
Самой лучшей формой правления кажется демократия. Если бы был
народ богов, он управлялся бы демократически; но такая совершенная
форма не идет для людей (344). Настоящих демократий никогда не было
и никогда не будет. Из форм аристократии лучшая есть аристократия изби-
рательная, причем самые благородные, умные и достойные избираются
народом на время для управления (345). Она стоит ближе всего к демо-
кратии, и c’est I’ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent
la multitude3 (cp. Ill, 204). Монархия имеет одного главу и потому во всех
1 Законодательная власть (фр.). —Прим. изд.
2 Исполнительная власть (фр.). —Прим. изд.
3 Это лучший и самый естественный порядок, чтобы мудрейшие правили боль-
шинством (фр.). —Прим. изд.
391
вещах обнаруживает всего больше силы и твердости; зло только в том,
что правитель большей частью станет больше заботиться о своей личной
выгоде, чем о выгоде народа. Вопрос о лучшей форме правления нельзя
решать абсолютно, потому что каждая форма правления зависит от раз-
личных свойств века, страны и народа, которым она принадлежит (354).
Вообще можно сказать, что монархия идет только для богатых народов,
аристократия — для государств среднего благосостояния и средней вели-
чины, а сколько возможно демократическая форма правления — только
для небольших и бедных стран (344 и далее, 351). При этом Руссо, посто-
янно имевшему в виду Женеву, представляется разложение больших госу-
дарств на мелкие союзные государства.
Как отдельная воля беспрестанно восстает против воли всеобщей, так
и правление делает постоянные нападения на верховное право. Поэтому
нужны частые собрания суверена, т. е. народные собрания, — и притом
действительные народные собрания, а не только собрания представителей
или депутатов. Потому что верховное право не допускает ни представитель-
ства, ни отчуждения; оно существенным образом заключается по всеобщей
воле, а всеобщая воля есть или всеобщая, т. е. воля всех, или нет; середина
здесь немыслима. Английский народ считает себя свободным и ошибается;
он свободен только во время парламентских выборов, после выборов он
раб. Toute loi que lepeuple en personne n’apas ratifiee est nulle1. Следовательно,
обязательно обращение к народу. Эти народные собрания, конечно, пред-
полагают для себя небольшие государства. Но это есть только новое дока-
зательство, что небольшие государства следует безусловно предпочитать
большим (ср. II, 436). Если говорит, что маленькие государства слишком
слабы против внешних врагов, то греческие города, сопротивлявшиеся пер-
сидскому царю, и Голландия, и Швейцария, сопротивлявшиеся Австрии,
доказывают противное. Государства становятся сильны посредством союза
государств.
Какую бы форму правление не имело, оно всегда исходит только из пол-
номочия народа. Установление правительства есть не договор между наро-
дом и правительством, а только поручение, получаемое правительством
от народа. Люди исполнительной власти не господа народа, а только его
чиновники. Они должны отдавать ему отчет (II, 435). Поэтому, если слу-
чается, что народ устанавливает наследственное правительство, монархи-
ческое или аристократическое — все равно, то даже и это мнимо наслед-
ственное установление есть только временное и всегда отменимое. Народ
передает правительственную власть только до той поры, пока ему не взду-
мается распорядиться иначе народное собрание от времени до времени
подает голос о том, следует ли удержать настоящую форму правления и сле-
дует ли и дальше вверить правление тем, кому оно было вверено до сих пор.
Четвертая книга. О средствах укрепить государство
Для основания государства необходимо единство голосов, потому что
никто не может быть подчинен государству против своей воли; но во всех
1 Любой закон, который сам народ не ратифицировал, недействителен (фр.). —
Прим. изд.
392
позднейших решениях достаточно большинства голосов. Если я остаюсь
в меньшинстве, это доказывает только, что я заблуждался и что я считал
свое мнение за всеобщую волю, которой оно не составляет. Чем здоровее
государство, тем больше единогласия; чем ближе к упадку, тем больше
раздоров и партий. Время римской республики с ее комициями, трибу-
нами, цензорами и диктаторами показывает всего лучше, какими сред-
ствами бывает можно предотвратить взрыв бури или сделать его по воз-
можности безвредным. Но новейшее государство имеет врага, кото-
рого не знали государства древности. Это двойственность государства
и церкви. В древности каждое государство имело свою собственную рели-
гию, и эта религия была теснейшим образом связана с государственными
законами; в средние века и в новейшее время религия стоит под неогра-
ниченным господством клерикалов, и там, где светские государи вме-
сте с тем бывают и церковной властью, они бывают только князьями,
а не законодателями церкви (384). Из всех новейших философов один
Гоббс видел это зло и понимал средства к его исправлению. Он хотел свя-
зать две головы орла и возвратить государство к политическому един-
ству. Под покровительством суверена снова должна быть установлена
государственная религия, потому что без религиозной основы нет ника-
кого государственного общежития. Старые национальные религии слиш-
ком узки и не могут больше возродиться для нас, — они для нас обман
и заблуждение; еще меньше годится католицизм, — он дает гражданину
две власти, двух законодателей, два отечества. Чистое и возвышенное
учение евангелия также не вполне совершенно соответствует этой цели.
Христианство чисто духовно, отечество христиан не от сего мира; поня-
тие христианского государства есть противоречие: христианство про-
поведует смирение и покорность и благоприятствует насилию: Zes vrais
chretiens sont faits pour etre esclaves1 (387). Поэтому суверен должен опре-
делить новую религию, не столько как религиозный догмат, сколько как
sentimens de sociabilite2, без которых нельзя быть ни хорошим граждани-
ном, ни верным подданным. Для государства все равно, каких религиоз-
ных учений ни держится гражданин в глубине сердца; оно должно только
смотреть, чтобы это не вредило государственной религии. Кто не при-
знает этой государственной религии, должен быть изгоняем, не как без-
божник, но как не исполняющий гражданских условий; кто признал ее
и действует, однако, против нее, достоин смерти, потому что совершил
величайшее преступление — он солгал перед законом (388). Учения этой
государственной религий ограничиваются бытием Бога, верой в будущую
жизнь, в которой добрые награждаются, а злые наказываются, священно-
стью государства и государственных законов и устранением всякой нетер-
пимости. Кто решается сказать, что вне церкви нет спасения, тот смер-
тельный враг государства.
Этими рассуждениями о необходимости и обязательной силе
государственной религии оканчивается знаменитая книга Рус-
1 Истинные христиане созданы, чтобы быть рабами (фр.). —Прим. изд.
2 Чувство общительности (фр.). —Прим. изд.
393
со. Весьма замечательно, что она кончается религиозным гнетом
и стеснением совести, которые шли бы к теократической деспотии,
но которые находятся в самом странном противоречии с его желан-
ным блаженством всеобщей свободы и равенства.
Тем внимательнее должны мы рассматривать целое. Есть ли эта
жесткая насильственность, которая высказывается в заключитель-
ных рассуждениях, только одна случайная причуда, или же семена
ее заключаются уже в каких-нибудь слабых сторонах и односторон-
ностях основной идеи?
В библиотеке своего отца Руссо познакомился некогда с Гроци-
ем (I, 76); позднее, в библиотеке г-жи Варенс, он нашел Пуфен-
дорфа (VIII, 77). Он широко воспользовался вышедшей в 1751 кни-
гой женевца Бурламаки, Principes du droit politique. Но главные
черты своего учения о государстве Руссо заимствовал у Локка.
Мы видим это и в том способе, которым он опровергает сво-
их противников, и в выводе и применении отдельных понятий
(ср. Ист. Лит. XVIII века, I, стр. 137, след.). Мы находим у Локка
не только все его воззрения на древнее естественное право, уче-
ние о первобытном естественном состоянии, об основании госу-
дарства, о верховном праве народа; но даже и учение о вечной
неотчуждаемости свободы, которое обыкновенно считается самой
разительной особенностью Руссо, у Локка было уже выработано
весьма определенно. Но Руссо строит на этих основаниях более
сильные выводы. Локк писал, как конституционный англичанин,
который доволен своей действительностью и потому охотно отка-
зывался от иных необходимых чисто логических требований; Рус-
со писал, как республиканский швейцарец, который — как он сам
говорит во введении к Contrat Social и Lettres de la Montagne (III,
204), — исключительно имел в виду женевское устройство и уч-
реждения. У Локка, несмотря на учение о неотчуждаемости свобо-
ды и следующее отсюда учение о верховном праве народа, корона
имела если не действительное верховное право, то все-таки совер-
шенно определенные преимущества, «чтобы в известных случаях,
не предвиденных законом, мочь собственной властью способство-
вать благу общества»; и потому Локк совершенно последовательно
посвятил еще особенный отдел возмущению, которое оправдывал,
как необходимое средство обороны, против насильственных пре-
вышений власти. Руссо, напротив, противоречит здесь не только
Локку, но и всем другим предшественникам, и не только не дает
правительству никаких преимуществ, но даже представляет его
бессильным и лишенным воли орудием, без всякой действительной
власти. Поэтому Руссо совершенно не знает понятия о возмуще-
нии. Если народ лишает короля престола и меняет правительство,
то он только отнимает у них на время данное поручение — в силу
ему всегда принадлежащего верховного права.
394
Но Руссо идет еще дальше. Прежде всего, понятие равенства
уничтожает в постановляющих собраниях всякие сословные под-
разделения. Затем он распространяет понятие неотчуждаемости
до того, что даже отвергает возможность и юридическую силу на-
родного представительства, назначаемого народным выбором. Та-
ким образом остается только мертвый и безразличный счет голосов.
Правда, Руссо много раз отличает volonte generale, всеобщую волю,
желающую общего блага, от volonte de tous, всеобщей воли, которая
представляет только внешнюю сумму всех отдельных, отчасти се-
бялюбивых решений воли; но это различие не получает у него ни-
какого более глубокого определения относительно государственной
жизни.
Высочайшим и неограниченным решителем в государстве оста-
ется деспотизм массы, как у Гоббса деспотизм одного. Поэтому Рус-
со вовсе не случайно, но по внутренней связи всей мысли, с такой
ревностью берет у Гоббса идею о принудительной государственной
религии. Этот деспотизм массы есть самый существенный недоста-
ток учения Руссо.
Но кто при тяжелом настоящем боится опасностей будущего?
Каждый чувствовал гнет существующего порядка; для будущего
оставались только надежды, а не опасения. Общество схватилось
исключительно за высокие и неопровержимые истины о равенстве
людей перед законом, о равенстве налогов и общественных тяго-
стей, о равной ответственности всех. Везде раздавались гордые ча-
рующие песни о народном господстве, свободе и равенстве. Когда
Руссо принял имя citoyen, он не предчувствовал, какое значение
получит некогда это имя. Быть «гражданином» стало с тех пор вели-
чайшей славой и величайшей честью. Contrat Social сделался основ-
ной книгой французской революции. Как конституция 1791 есть
по своей сущности дело Монтескьё, так конституция 1793 есть,
в сущности, дело Руссо.
Руссо был испуган непредвиденным значением его утопии. Он
едва ли думал когда-нибудь о том, могут ли и каким образом мо-
гут эти философские требования сделаться осуществленными фак-
тами. Когда в 1766 г. один пустой псевдоним, Кассиус, хвастался
перед ним, что хочет освободить угнетенный народ, Руссо отвечал,
что для него всякое предприятие этого рода кажется гнусным, по-
тому что такие предприятия никогда не могли бы быть исполнены
без насилия, беспорядка и кровопролития, но что, по его мнению,
кровь отдельного человека бесконечно дороже свободы всего че-
ловеческого рода (XI, 392). Когда в Женеве произошли беспоряд-
ки в его защиту вследствие сожжения «Эмиля», Руссо одно вре-
мя колебался, но потом советовал спокойствие (ср. М. J. Gaberel,
Rousseau et les Genevois, 1858, стр. 46, след.). В этом смысле Руссо
совершенно прав, когда жалуется в «Диалогах», что в нем всегда
395
видели только поджигателя к беспорядкам и возмущению, между
тем как он питает глубочайшее уважение к закону и существую-
щим учреждениям и глубочайшее отвращение к революции и раз-
дорам партий (IX, 287).
Мелкие сочинения
Мелкие сочинения Руссо — превосходные образцы красноречия
и полемики. По своему содержанию они также представляют много
материала для дополнения и объяснения основных идей в его боль-
ших сочинениях.
К кругу идей его статьи о вреде образования принадлежит Lettre
a Mr. d’Alembert sur les spectacles (1758).
В 1755 Вольтер устроил в Delices любительскую сцену, и в женев-
ском населении тотчас высказалось такое неудовольствие против
этого театра, что Вольтер в следующие годы должен был отказаться
от своего любимого развлечения. В этих обстоятельствах он побу-
дил д’Аламбера в статье Geneve, которую тот писал тогда для «Энци-
клопедии», посоветовать женевцам снова дать место в своем городе
театру (1757). Руссо самым решительным образом оспаривал это
предложение. «В больших городах, — говорил Руссо, — быть может
еще можно терпеть театр, как необходимое зло, потому что в них
вообще мало что остается портить; но в маленьких городах театр
служит только к тому, чтобы уничтожать любовь к работе, увели-
чивать роскошь, портить нравы». Мы не будем подробно излагать
и опровергать оснований, приведенных Руссо. По выражению Лес-
синга в ст. 28 Гамбургской Драматургии (Lachm., т. 7, стр. 128), это
старые «Chikanen», которые всегда обращаются только против не-
скольких произведений и тем думают уничтожить все искусство.
Но ненависть в расслабляющей утонченности века, одушевленное
восхваление домашнего и семейного счастья дают небольшому со-
чинению, при всех его крайностях, несомненно благотворное и воз-
вышающее значение. Ко второму сочинению, об общественном
неравенстве, еще определеннее примыкает Discours sur I’economie
politique, написанный для пятого тома «Энциклопедии».
Он важен, потому что точнее ограничивает известные понятия,
например, в особенности понятие и право собственности. Из того
знаменитого места, заимствованного у Локка, где Руссо делает
установление собственности роковым началом образования госу-
дарств, из этого места выводят обыкновенно заключение, что Рус-
со — вообще враг личной собственности, и потому его довольно
часто порицали или восхваляли, как главу коммунизма. Но это
совершенно несправедливо. Конечно, по мнению Руссо, людям
было бы лучше, если бы не было собственности, потому что тогда
не было бы и государства. Но так как мы раз уже неизбежно на-
ходимся в государстве, то обеспечение собственности необходимо.
396
Как в «Эмиле» уважение к собственности есть первое нравственное
чувство, которое Руссо внушает своему воспитаннику, так и здесь
он представляет право собственности священнейшим из всех прав
и истинным основанием и ручательством гражданских обязан-
ностей (III, 293, 316 и далее). Этого мало: Руссо настаивает даже
на сколько возможном постоянстве отношений собственности
и владения; потому что быстрое и внезапное изменение состояния
и имущества граждан производит крайне прискорбный беспоря-
док и смятение и подкапывает нравственность. Он хочет откло-
нить только слишком большое неравенство собственности. Если
люди живут в стране, неровно наделенные (III, 291); если искусства
утонченности и роскоши покровительствуются в ущерб полезным
и трудным ремеслам; если земледелием жертвуют торговле; если
вследствие дурного управления становятся необходимы генераль-
ные откупщики; если все становится так продажно, что число золо-
тых монет служит меркой взаимного уважения и даже добродетель
продается за деньги, — то это самые очевидные причины неесте-
ственного богатства с одной стороны и столько же неестествен-
ной бедности с другой, всеобщего эгоизма, разъединения граждан
равнодушия к общему благу, испорченности нравов, неудержимо
возрастающего изнеможения. Отсюда необходимость и целесооб-
разность налога на роскошь (303).
К области, преимущественно религиозной, относятся Lettre а
Christophe de Beaumont (1763) и Lettres ecrites de la Montagne (1764).
Оба написаны были по поводу преследований против «Эмиля»
и «Общественного Договора»: одно направлено против пастыр-
ского послания архиепископа парижского, осуждавшего «Эмиля»,
другое — против брошюры под заглавием Lettres de la campagne,
где женевский прокурор Троншен хотел оправдать меру своего
правительства против автора «Эмиля» и «Общественного Догово-
ра». Шлоссер в «Истории восемнадцатого столетия» (т. 4, стр. 24,
след.) справедливо сравнивает эти письма с письмами Юлиуса. Это
самая блестящая полемика против всяких непризванных блюсти-
телей Сиона, по уничтожающей силе и пламенной страсти, быть
может, стоящая даже выше знаменитых писем Лессинга против
гамбургского пастора Гёце; эти сочинения чрезвычайно важны так-
же и для познания учений Руссо, которые он здесь вкратце излагает
и защищает.
Таким образом Руссо и здесь является нам с своей замечательной
двойственностью: в религии возбудителем и защитником верую-
щего религиозного чувства, в политике — возвестителем неотъем-
лемых прав человека. Оба направления коренятся в одном общем
основном настроении. Вопрос в том, чтобы вполне и совершенно
развить врожденную человеческую природу, и то, что противится
этому полному и невозмущаемому развитию, есть и остается злом.
397
2. Руссо как поэт. Новая Элоиза
Руссо начал свое общественное поприще музыкантом. Он был
необыкновенно музыкален, и недостаток в основательной подго-
товке не помешал ему пускаться в полемику по теории музыки
и выступить композитором. Он написал две небольшие оперы; пер-
вая, «Les muses galantes», дана была в первый раз в 1745, вторая, «Le
devin du village» — в 1752. Первая была холодная аллегория, но име-
ла все-таки такой успех, что Рамо высказал свою зависть; вторая,
идиллически веселая пастораль с наивным чувством и естественной
приятностью мелодий, нашла самый шумный успех и при дворе,
и в городе. Это было начало комической оперетки, которая вскоре
потом нашла полную обработку у Гретри. Куплеты Руссо сделались
вскоре очень любимыми народными мелодиями, и «Деревенский
Предвещатель» до сих пор еще не совершенно исчез с французской
сцены. Pygmalion, scene lyrique, есть интересный опыт мерной прозы
с музыкальным аккомпанементом, проведенный с большим искус-
ством и по содержанию.
Гораздо выше музыкальной славы Руссо его слава, как поэта.
Его драматические опыты, частью еще неизданные, незначитель-
ны; он идет по следам Мариво, весьма неловко в пьесе Narcisse, ко-
торую он привез в Париж, оконченной уже в 1741; более искусно
и весело в «Engagement Гётёгапе» (1765). Но зато в его романе «La
nouvelle Heloise» столько глубокой страсти и истинно поэтического
чувства, что он составляет весьма замечательное явление не только
в истории французской поэзии, но и в целой всемирной литературе.
Роман Руссо, начатый им зимой в 1756—1757, вышел весной
в 1761 под трояким заглавием «Lettres de deux amants, habitants
d’une petite ville aux pieds des Alpes; Julie ou la nouvelle Eloise»,
в шести книжках в 12°.
Для обсуждения этого романа важно резко разделить роман
на две половины, чтд и без того, обусловливается их происхожде-
нием, подробно рассказанным в девятой книге «Признаний» (VIII,
305 и далее).
Первая половина, обнимающая три первые части со 120 пись-
мами, есть простая история двух любовников, которые открыто
высказывают свои ощущения и надежды, свою страсть и стрем-
ления, рассказывают с такой свежестью и глубиной чувства, с та-
ким жаром и волшебством языка, каких до тех пор еще никогда
не слыхали во Франции. Каждое слово страстно одушевлено пла-
менной потребностью любви, в какую впал тогда Руссо в своем
добровольно избранном одиночестве, и радостью, и борьбой
любви, какую вскоре потом он возымел к графине д’Удето. Руссо
справедливо мог хвалиться, что при всей простоте и беспритяза-
тельности сюжета, при всем отсутствии внешнего разнообразия,
ему удалось достигнуть самого высокого действия на читателя.
398
Перед нами раскрывается вся глубина сердца со всеми его тайна-
ми, наслаждениями и муками. В предисловии Руссо чрезвычайно
метко называет тон своего произведения готическим; немецкий
романтик назвал бы его романтическим. Самый роман он назы-
вает длинным романсом, а о письмах он говорит: «се sont des
hymnes»1.
Это был освободительный подвиг в высшем смысле, производив-
ший эпоху. Из шумного внешнего мира человек снова возвращает-
ся внутрь себя, в свои собственные надежды и робкие ожидания,
в свои радости и печали: «oh homme, resserre ton existence dedans
toi»2 (II, 50), и вместе с ощущениями своего сердца он снова при-
обретает и давно потерянное чувство природы, и в высоко подни-
мающихся горах и в тихом уединении лесов и долин узнает немые
отражения своей внутренней жизни. Значение вновь открытой при-
роды в этой книге так велико, и поэт так хорошо это сознает, что
ландшафтный фон своей любовной истории он указывает читателю
уже в заглавии.
Если в следующем поколении, именно в людях немецкого перио-
да бурных стремлений, мы находим большую глубину внутреннего
чувства, то значительная доля этого переворота несомненно долж-
на быть приписана «Новой Элоизе». Доказательство этого осталось
и в истории немецкого языка: как из «sentimental» Стерна вышло
«empfindsam», так из «belle ante» Руссо, о которой так много гово-
рят его любовники, вышло выражение «schone Seele»3, — извест-
но большое значение этой «Schonseligkeit»4 в немецкой культурной
жизни конца восемнадцатого столетия.
Эти одушевленные изображения любви и стремлений чувства
отличаются необыкновенной прелестью. И, несмотря на то, они
кончаются весьма уродливым заключительным мотивом. Никто
не может отказаться от своей собственной природы. Только душа,
в высшем смысле слова прекрасная и чистая, может изображать
красоту и чистоту. Но фантазия Руссо была фантазия одичавшая.
Руссо не знал природной высоты женщины. Юлия падает, и она
падает — не в необдуманную минуту вспыхнувшей страсти, она
падает обдуманно и с расчетом, из теряющей стыд чувственности.
Это затрагивает уже самую сущность дела. Г-жа Помпадур могла
остроумно сказать об этом в письме к одной приятельнице: «Quelle
maussade сгёашге que cette Julie! Combien de raisonnements et de
babil vertueux pour coucher enfin avec un homme!»5
1 Это гимны (фр.). —Прим. изд.
2 О, человек, разверни свое существование вовнутрь себя (фр.). —Прим. изд.
3 Прекрасная душа (нем.). —Прим. изд.
4 Болезненное прекраснодушие (нем.). —Прим. изд.
5 Какое угрюмое создание эта Джули! Сколько рассуждений и добродетельной
болтовни, чтобы наконец переспать с мужчиной (фр.). —Прим. изд.
399
Руссо с горечью восставал прежде против развратных романов
модного направления, а теперь он почти против собственной воли
сам написал такой же роман. Правда, он рисовал любовь иначе, чем
его предшественники, но только иначе, а не чище. Руссо чувство-
вал всю важность этого упрека. В девятой книге «Признаний» он
сам рассказывает, что глубоко стыдился этого противоречия, и что,
однако, он не находил никакой возможности удалить его из своего
первоначального плана.
Теперь задача была в том, чтобы по возможности загладить эту
ошибку. Этот мотив нужно было объяснить и оправдать. Таким
образом явилось продолжение, которое есть не последовательное
завершение, а только вынужденная прибавка. Из начала, задуман-
ного в совершенно ином смысле, Руссо сделал нравоописательный
и добродетельный роман, с намеренной нравоучительностью, под
давлением которой свежие естественные тоны сердца, отличавшие
первую часть, почти совершенно замолкли. В этой части ясно вы-
ступает влияние внушений Ричардсона.
В письме к д’Аламберу (I, 344) Руссо объявляет «Клариссу» Ри-
чардсона лучшим английским романом. Кроме формы писем он
заимствовал из него кое-что в постройке сюжета — но как он да-
лек от него в своих мечтаниях о природе, в умеренном употребле-
нии внешнего возбуждения и интереса (IV, 5; IX, 2), и особенно
в страстной чувственности, в erotiques transports1 (VIII, 314) первых
трех частей.
Теперь Юлия — которой грехопадение, как он сам говорит (VIII,
313), он с несказанным удовольствием писал на золотообрезной бу-
маге, листы которой сшивал голубым шелком, — павши, как девуш-
ка, должна сделаться добродетельной женщиной.
Юлия принуждена своим отцом оставить своего возлюбленного
Сен-Прё. После долгой борьбы она соглашается на брак с челове-
ком, которого она уважает, но не любит. Она делается превосход-
ной женой и остается верна и добродетельна даже тогда, когда воз-
любленный ее юности приходит после долгих странствий в ее дом
по приглашению мужа.
Основной пункт произведения, сравнительно с первой частью,
здесь совершенно другой. Все черты соединяются в главной мыс-
ли о святости брака, ненарушимой ни при каких обстоятельствах.
С этой целью приплетена и история господина и госпожи д’Орб, где
также восхваляется счастье брака, связь которого есть не любовь,
а долг. Правда, и то было заслугой, что Руссо проповедовал одичав-
шему веку неразрушимость брака. Не только в предисловии к своему
роману, но и во всех своих сочинениях Руссо с глубочайшим нрав-
ственным убеждением высказывает мысль, что очищение нравов мо-
1 Эротические транспорты (или переносы) (фр.). —Прим. изд.
400
жет выйти только из очищения упавшей семейной жизни. И с какой
глубокой сердечностью умеет Руссо изображать сладкие прелести
тихо счастливой домашней жизни, те сладкие заботы о доме и де-
тях, о саде и поле, которые даже и не заботы, потому что в них самих
заключено уже, как вознаграждение, чувство сердечного довольства.
Руссо совершенно верно определяет значение своего романа, когда
хвалится, что он показал удивленному свету, что идиллия не огра-
ничена только фальшивыми образами выдуманной Аркадии, но что
она глубоко существует там, где естественные люди в естественных
отношениях верно привязаны друг к другу. Поэзия везде или нигде.
Но в этой части романа нас восхищают только отдельные под-
робности; целое бедно и плоско. Ни один характер, ни одно поло-
жение не развиваются из самих себя свободно и естественно; мы
видим не живых людей, а только автоматов, которых автор держит
на помочах. Не довольствуясь сухим нравоучением основного моти-
ва, Руссо примешивает еще всякие другие ненужные мотивы. Руссо
представил Юлию верующей, ее мужа Вольмара — атеистом, и этим
он хотел, как он сам говорит (X, 260), смягчить господствующую
противоположность партий, показав одной партии преимущества
другой. К этому присоединяется ряд весьма длинных рассуждений
о неизменности нравственных законов, о превосходстве итальян-
ской музыки, о театре, о Париже и парижанах, о воспитании, садо-
водстве и т. п.
Немногие романы нашли такую быструю и всеобщую извест-
ность. Но замечательно, как в обсуждении его тотчас отделяются
две различные группы. Дидро, по рассказу самого Руссо (VIII, 330),
называл первую часть растянутой и напыщенной, и зато тем боль-
ше находил удовольствия во второй. Совершенно то же суждение
высказывает Мозес Мендельсон в «Литературных письмах» (т. 10,
стр. 255, след.) и даже Лессинг в «Гамбургской Драматургии»
(Lachm., т. 7, стр. 39); вероятно в том же смысле надобно понимать
и мнение Ричардсона, который, как рассказывает Мендельсон, гово-
рил, что не может читать «Новой Элоизы». На другой стороне сто-
ят Гёте, Шиллер, Тик, Бернарден де Сен-Пьер, Шатобриан, которые
с величайшим восторгом говорят о первой половине и безусловно
отвергают вторую. Эти различные отзывы представляют собой вы-
ражение двух различных веков. История уже давно сказала свое
решение. Гениальнейшее развитие и завершение тона, принятого
Руссо, есть «Вертер» Гёте.
3. Жизнь Руссо и его «Признания»
Жизнь Руссо известна до самых интимных подробностей. Сам
Руссо раскрыл ее в своих «Confessions» с беспримерной откровен-
ностью. Дополнением и поправкой служат многочисленные письма
и разнообразнейшие мемуары современников.
401
Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 в Женеве. Редко случа-
ется встретить такую подвижную и беспокойную жизнь в юности.
Мать его, женщина образованная, умерла при его рождении (VIII,
2). Отец, порядочный женевский часовщик, был человек прилеж-
ный, с живым умом, выходившим из рамок его состояния, но че-
ловек неблагоразумный и живший со дня на день. Детство Руссо
не знало ровного и спокойного семейного счастья, и это печаль-
ное обстоятельство решительно подействовало на весь его харак-
тер. Он с жадностью бросался на случайно попадавшиеся книги,
не соответствовавшие его возрасту, и это рано раздражило его
воображение. Однообразный и размеренный ход обыкновенной
буржуазной карьеры казался невыносим возбужденному маль-
чику. К довершению несчастия отец его, компрометированный
в деле чести, должен был бежать из Женевы. Руссо, едва вышедший
из детского возраста, попадает в жизнь, полную диких приключе-
ний. Он поступил писцом к адвокату, но не выдержал (VIII, 19).
Его отдают в ученье к граверу; он убежал. Шестнадцати лет, весной
1728, он пустился странствовать по свету, как некогда его старший
брат, которого эта наклонность к бродяжеству довела до нищеты,
и он пропал без вести. Два дня он блуждал, не зная, что делать,
затем бежал к некоему Понверру, католическому духовному в Кон-
финьоне, за милю от Женевы. Понверр, отличавшийся ревностным
прозелитизмом, послал его с рекомендательными письмами в Ан-
неси к г-же Варенс из Веве, которая незадолго перед тем, оставив
мужа, перешла в католицизм и жила небольшой пенсией, какие
выдавал новообращенным король сардинский. Г-жа Варенс была
цветущая молодая женщина 28 лет, добродушная и веселая; обра-
зованная, но без особенных дарований; благочестивая, но с очень
свободными взглядами на любовь. Она принимает молодого бегле-
ца (VIII, 33) и в соединении с духовными старается обратить его
в католицизм. Руссо отправляется в заведение для новообращае-
мых, в Турине, и там, шестнадцати лет от роду, совершает переход
в католичество 21 апреля 1728. Если Руссо рассчитывал при этом
на мирские выгоды, он постыдно обманулся. Он остался беспо-
мощен, как, прежде, и поступил слугой к одной старой знатной
даме. Здесь он узнал доброго аббата Гэма (JJaime), который стал
образцом для Vicaire Savoyard. Все пребывание в Турине Руссо впо-
следствии изобразил в идеализированном виде, на тех страницах,
которые в «Эмиле» предшествуют Profession defoi (II, 232 и далее).
Но каковы были в действительности нравственные свойства моло-
дого искателя приключений видно из того, что в этом доме он сде-
лал воровство и бросил подозрение в этом воровстве на невинную
девушку; предмет воровства была, по словам самого Руссо, шелко-
вая лента; другие известия говорят, что это была серебряная вещь
или алмаз. Затем, в 1728—1730, Руссо живет в услужении у графа
402
Гувона. Здесь обратили внимание на его замечательные способно-
сти, старались дать ему образование, чтобы он мог достичь более
высокого положения; но Руссо и здесь показывает себя недостой-
ным всякого покровительства, он отплачивает неблагодарностью
и бесстыдством и предпочитает снова отправиться искать счастья,
с одним женевским приятелем детства. Вскоре он возвращается
в дом г-жи Варенс (1729) и делается сначала ее экономом. Попыт-
ка сделать из него духовного не удается опять. Лучше действуют
на него занятия музыкой, но он бежит и от этого ученья, и затем
следуют два года искательства приключений (1731—1732). Руссо
делается учителем музыки в Лозанне и Фрейбурге, пробует себя
капельмейстером, блуждает затем несколько времени с одним
авантюристом, который выдавал себя за греческого архимандри-
та из Иерусалима и которому, например, он служит переводчиком
перед бернским сенатом. Затем он отправляется в Париж воспита-
телем одного молодого швейцарца, но осенью 1732 опять возвра-
щается к г-же Варенс, своей верной покровительнице (VIII, 123).
Она переселилась между тем в Шамбери. Разные подробности их
жизни вместе в последующие годы не совсем ясны, так как пока-
зания Руссо противоречивы и хронологически дурно поставлены.
Сначала он снова пробует сам зарабатывать хлеб, сначала писцом
в управлении податей, потом музыкальным учителем; но он скоро
утомляется этими занятиями. Он живет на счет г-жи Варенс (VIII,
149), только изредка внося что-нибудь от себя в издержки общего
хозяйства. Рядом с ревностными музыкальными изучениями в нем
пробуждается охота к литературным занятиям. Часто он делает не-
большие путешествия. «Je passai deux ou trois ans de cette fagon, —
говорит он (VIII, 155) и при этом представляет себе это время зна-
чительно короче, — entre la musique, les magisteres, les projets, les
voyages, flottant incessamment d’une chose a 1’autre, mais entraine
pourtant par degre vers I’etude, voyant des gens de lettres, entendant
parler, me melant quelquefois d’en parler moi-meme»1. Г-жа Варенс де-
лается из татап2 любовницей, и его счастье особенно смущается
тем, что он делит обладание ею со слугой дома. Являются заботы
о здоровье. Припадок головокружения укрепил его в убеждении,
что ему остается жить недолго, и повел к нравственному кризису,
из которого он вышел зрелее и серьезнее. «Je puis bien dire que je
ne commengai de vivre que quand je me regardai comme un homme
mort... je me sentis entraine vers letude avec une force irresistible et
tout en regardant chaque jour comme le dernier de mes jours, j’etudiais
1 Я провел два или три года таким образом, между музыкой, магистерствами,
проектами, путешествиями, беспрестанно плавая от одного предмета к другому,
но тем не менее постепенно меня тянуло к учебе, я видел людей, слова, слышал,
как они говорят, иногда вовлекался в разговоры (фр.). —Прим. изд.
2 Мамаша (фр.). —Прим. изд.
403
avec autant d’ardeur que si j’avais du toujours vivre»1 (169 и далее).
Г-жа Варенс поселилась с ним в деревне aux Charmettes2 подле
Шамбери (1738). Здесь он провел то время спокойной счастливой
жизни, которое он называет в «Признаниях» le court bonheur de та
vie, les paisibles mais rapides moments qui m’ont donne le droit de dire
que j’ai vecu3 (160). Его время делится между занятиями и сель-
ской работой; и его религиозное чувство становится более свежим
и живым. Его потребность образования принимает определенное
направление; Руссо становится типом самоучки, когда ему удается
счастливо привести к концу так рано прерванное, недостаточное
образование. В детстве его приводил в восторг Плутарх, в Аннеси
он углубился в английского «Зрителя», в Пуфендорфа, Сент-Эвре-
мона, в Генриаду, Бейля, Лабрюйера и Ларошфуко (VIII, 77). Он
учился теперь математике и латыни, изучал сочинения Порт-Рояля
и книги Ораторианцев и читал потом сочинения Локка, Лейбница,
Мальбранша, Декарта (169). Вильмен, указывая в двадцать тре-
тьей лекции своей истории литературы послание Руссо Le verger
des Charmettes4, справедливо замечал, что эти изучения во всяком
случае обнимали еще более широкий круг предметов и стали осно-
ванием всех его позднейших взглядов. Между тем появились уже
его комедии и опыты опер. Мысль о более широкой деятельности
выступила решительно на первый план. Но это тихое подгото-
вительное время имело неожиданный конец. По причине своего
расстроенного здоровья Руссо отправляется в Монпелье, где вра-
чи, не совсем без основания, видят в нем malade imaginaire5 (185),
потому что, вследствие дилетантских занятий медициной, он при-
думывает себе целый ряд болезней. Воротившись через несколько
времени к г-же Варенс, он нашел там нового поклонника, который,
очевидно, занял его прежнее место. Пребывание здесь становится
ему неприятно. Он пробует счастья в качестве домашнего учителя
в Лионе (1740—1741). Его практические успехи не велики (ср. II,
18); ему настойчиво напоминают о границах его знаний. Тогда он
опять возвращается к г-же Варенс, где живет еще несколько меся-
цев со своими книгами. Осенью 1741 года отправляется в Париж.
Этим начинается вторая эпоха его жизни. В первое время Рус-
со, конечно, все еще остается тем же беспомощным искателем при-
1 Я вполне могу сказать, что я начал жить только тогда, когда я смотрел на себя
как на мертвого человека ... Я чувствовал, что меня втягивает в учебу с подавляю-
щей силой, и, глядя на каждый день как на последний из моих дней, я учился с та-
ким энтузиазмом, как будто мне всегда придется жить (фр.). — Прим. изд.
2 У Шарметт (фр.). —Прим. изд.
3 Короткое счастье в моей жизни, мирные, но быстрые моменты, которые дали
мне право сказать, что я жил (фр.). —Прим. изд.
4 Фруктовый сад де Шарметт (фр.). —Прим. изд.
5 Мнимая болезнь (фр.). —Прим. изд.
404
ключений. Он прибыл в Париж с убеждением, что изобрел новый
и более удобный способ музыкальных нот; на этом изобретении он
хотел основать средства к жизни. Academic des sciences похвалила
теоретическое изложение этого изобретения (VI, 253), но вместе
с Рамо оспаривала его практическую приложимость. Руссо обра-
тился к публике с Dissertation sur la musique moderne, но без успе-
ха. Не более счастлив был он со своей комедией Narcisse, которая,
хотя была принята актерами, но была отложена на годы. Он сде-
лал первые литературные знакомства с Мариво, Мабли, Фонтене-
лем и только что начинавшим Дидро (VIII, 202) и получил доступ
в салон г-жи Дюпен и к ее зятю, финансисту Франкейлю. У него
являются всякие удивительные планы: он хотел зарабатывать хлеб
в качестве то декламатора, то шахматного игрока, потому что вы-
ручка за полученные литературные заказы была не велика, а ко-
медии и оперы (Les muses galantes), которые он задумал, двигались
медленно. Тогда летом 1743 г. он принял место частного секретаря
графа Монтэгю, французского посланника в Венеции; распростра-
нившийся потом слух, что Руссо и на этот раз был лакеем, был гнус-
ной выдумкой Вольтера. В венецианских и парижских архивах есть
записки и известия секретаря Руссо. Все-таки в «Признаниях» он
преувеличил и прикрасил значение своей роли. Через год он поссо-
рился с посланником и воротился опять в Париж. Пребывание в Ве-
неции было полезно ему в музыкальном отношении, познакомило
его с итальянской поэзией и подействовало возбуждающим обра-
зом в политических предметах.
Он сделался тогда секретарем у генерального откупщика Фран-
кейля и его тещи, г-жи Дюпон; оба пользовались им для литера-
турных работ, для которых у них было много честолюбия, но мало
собственного таланта. Между тем он много работал и для самого
себя. Он написал комедию Dengagement temeraire и Allee de Sylvie
и поддерживал живейшие сношения с Дидро, Кондильяком, д’Алам-
бером, Рейналем, Гриммом и Гольбахом; он даже начал было с Ди-
дро журнал «Le Persiffleur», но журнал ограничился только первым
номером (XII, 294). В кипучих идеях недостатка не было, но он все
еще не знал, чтд с собой сделать. Записки г-жи д’Эпинэ, с которой
он сошелся в 1747 г. через ее любовника Франкейля, изображают
его в это время (т. 1, стр. 201—205), как человека странного, остро-
умного, но неловкого, с смуглым лицом и огненными глазами, кото-
рые уже привлекали на себя всеобщее внимание, но часто неприят-
но поражавшего внезапно вырывавшимся тщеславием. Друзья уже
в то время называли его в шутку медведем.
К 1744 относится начало его отношений к Терезе Левассёр. Это
была швея из Орлеана, с которой он познакомился в одной париж-
ской гостинице, где он жил по возвращении из Венеции (VIII, 234).
Он жил с ней до самой смерти, хотя только впоследствии (1768)
405
признал ее своей женой. Она была так ограничена, что никогда
не могла сосчитать двенадцати месяцев, никогда не знала цифр,
никогда не могла сосчитать денег; она едва умела читать и писать,
так что, например, на рукописи Contrat Social, которую она потом
посвятила Конвенту, она подписалась/ате deu gean iacque rousseau;
но Руссо так хотелось заменить свою татап, и Тереза со своей сто-
роны была так верна и так хорошо входила в его характер, что Рус-
со при всем том жил с ней очень счастливо и даже принял к себе
ее отвратительную старуху-мать и хотя добродушного, но болез-
ненного отца. Руссо мог довольно часто чувствовать, как тяжело
быть связанным с глупым существом; в «Эмиле» (II, 380) он дает
своему воспитаннику благоразумный совет не жениться на женщи-
не не думающей, потому что для человека, любящего домашнюю
жизнь, самое худшее — быть вынужденным заключаться в самом
себе и не мочь ни с кем сойтись. Но тогда он обыкновенно утешал
себя тем, что, как прибавляет он в этом месте «Эмиля», простая
и здорово воспитанная девушка все-таки лучше ученой, которая де-
лает из своего дома судилище литературы. Руссо жил с Терезой в тех
отношениях, где привычка заменяет счастье любви. Невольно вспо-
минаются слова Гёте, сказанные им по своему опыту (т. 3, стр. 336):
«Достойно особенного внимания, что привычка может вполне за-
менять страсть любви; много нужно для того, чтобы прервать при-
вычные отношения, они могут устоять против всех неприятностей;
неудовольствие, досада, гнев ничего не могут сделать против них,
мало того, они переживают даже презрение и ненависть».
Наконец в 1750 г. явилось первое замечательное сочинение Рус-
со, рассуждение о вреде образования. Руссо вдруг сделался знаме-
нитым человеком. Самые глубокие черты характера Руссо порази-
тельно выражаются в том, какое употребление, сделал он из этой
знаменитости. Он сложил выгодную должность кассира, которую
дал ему Франкейль и которая самым непреодолимым образом про-
тиворечива его наклонностям, продал шпагу, часы, модное пла-
тье и украшения, оделся бедно и таким образом произвел то, что
он называет своей reforme somptuaire1 (258). Он решился искать
средств в переписывании нот, твердо убежденный, как он сам го-
ворит, что такой знаменитый переписчик никогда не будет иметь
недостатка в занятиях. По его собственному сообщению, этот нрав-
ственный кризис совпадал с тяжелым припадком болезни мочевого
пузыря, которая со времени его путешествия в Венецию появилась
снова после долгого перерыва (256). От этого страдала его работа
по переписке; она страдала также от его литературной деятельно-
сти и всякой небрежности, хотя иногда он делает вид, что это ис-
кусство он ценит выше, чем свои сочинения. Сен-Марк Жирарден
1 Сумптуарная реформа (фр.). —Прим. изд.
406
судит не слишком строго, когда называет все это недостойной ко-
медией. Заказчик и переписчик знали очень хорошо, что он рассчи-
тывает на свое имя, чтобы привлечь посетителей; они удовлетворя-
ли своему любопытству и платили за это любопытство подарками
Терезе и ее матери (261). Руссо, хотевший играть роль работника,
играл роль попрошайки. Как прост и благороден кажется Спиноза,
в скромном уединении зарабатывавший свой хлеб шлифованием
стекол для очков!
Затем являются Le devin du village 1752, Discours sur I’origine de
I’inegalite 1753, Discours sur I’economie politique 1755. Летом 1754 г.
Руссо ездил на четыре месяца в Женеву, где сограждане приняли его
с радостью и почетом: тем тяжелее было ему теперь, что переходом
в католицизм он так легко потерял женевское гражданство. Теперь
он приобрел его снова, возвратившись к кальвинизму. С тех пор он
носил гордое имя citoyen de Geneve. Он предпринимает семидневное
путешествие вокруг озера и собирает здесь те пейзажи, которыми
воспользовался потом в своем романе.
С тех пор Руссо опять жил в Париже. Но в 1756 он переменил
Париж на маленький домик в саду Монморанси, который носил на-
звание Эрмитажа. Он принадлежал г-же д’Эпинэ, которая жила в со-
седнем замке Шеврет. Однажды Руссо сказал, что ему хотелось бы
жить в Эрмитаже, если бы ему удалось достичь когда-нибудь до ста
пистолей ренты; теперь г-жа д’Эпинэ предложила ему это жилище,
потому что Руссо приглашен был в Женеву начальником публичной
городской библиотеки с тысячью двумястами ливров жалованья,
и парижские друзья хотели, однако, привязать его к Парижу. Руссо
возражал сначала, что он не хочет быть ни в какой зависимости;
но наконец он согласился. Это пребывание в Монморанси было зна-
чительным поворотом в его жизни; он сам считает отсюда vita nuova
(X, 304). Его любовь к природе и лесному уединению мечтала найти
здесь высшее мирное счастье, и сначала казалось, что эта мечта ис-
полнится: он живёт в delire champetre1 и работает в литературе боль-
ше, чем когда-нибудь. Но стечение тяжелых обстоятельств и крутая
необузданность его характера навлекли на него бурю и несчастья.
Все слабости и недостатки его вырвались здесь наружу. Бюст и пор-
трет Руссо, до сих пор украшающие этот домик, имеют в себе что-то
печальное, но вместе с тем что-то подсматривающее и сдержанное,
чтобы не сказать отталкивающее.
Мы должны остановиться здесь на трех различных событиях, тес-
но, впрочем, связанных одно с другим. Это любовь Руссо к графине
дУдето, разрыв с Дидро и разрыв с Гриммом и г-жей д’Эпинэ. Рус-
со рассказывает все эти запутанные истории в девятой книге своих
«Признаний»; он с весьма незавидным мастерством умеет прекрас-
1 В деревенском бреду (фр.У —Прим. изд.
407
но воспользоваться в свою выгоду незнанием потомства. Но в но-
вейшее время были изданы и известия противников, между которы-
ми всего важнее «Memoires et correspondance de madame d’Epinay».
Они изданы были в 1818, в трех томах, очень неполно; чрезвычайно
важные дополнения к ним доставили потом I. Регеу и G. Maugras, La
jeunesse de M-me d’Epinay, 1882, и Dernieres annees de M-me d’Epinay,
1883. Они показывают неопровержимо, что Руссо извратил факты
и оклеветал лица, особливо Гримма.
Сначала любовь Руссо к г-же д’Удето. Руссо познакомился с ней
у ее родственницы, г-жи д’Эпинэ. М-11е д’Удето была не хороша,
но мила и наивно весела. Она была несчастлива в браке и люби-
ла Сен-Ламбера, поэта «Времен года». Сен-Ламбер находился тог-
да в армии; m-me д’Удето была одна и была печальна. Она любила
говорить о своей печали и охотно говорила об этом и Руссо. Од-
нажды весной 1757 она явилась верхом с визитом в Эрмитаж. Он
писал тогда «Новую Элоизу»; он опьянел тогда от любви, по его
выражению (VIII, 316), но любви беспредметной. Скоро он увидел
в г-же д’Удето Юлию своего романа. Когда она говорила о своей то-
ске по далеком возлюбленном, Руссо ощущал ту же тоску по ней,
которая была к нему так близка и в то же время так далека от него.
Друг хотел быть любовником. Он убеждал графиню во имя добро-
детели оставить Сен-Ламбера; но он хотел приобрести для себя воз-
бужденные чувства. Она терпела его поклонение, не отвечая на эту
любовь, I’amour dans toute son energie et dans toutes sesfureurs1 (VIII,
319), какую он чувствовал. «Вся моя машина, — рассказывает он, —
пришла в страшнейший беспорядок... три месяца беспрестанного
возбуждения и постоянного лишения довели меня до такого исто-
щения, от которого я оправился только через несколько лет». Ког-
да летом 1757 Сен-Ламбер возвратился. Руссо мечтал о совместной
жизни в Дритте: Юлия, Вольмар и Сен-Прё. Но, конечно, ничего
из этого не вышло; переписка затягивалась и через год отношения
окончательно охладели.
Безыменное письмо известило Сен-Ламбера летом 1757 о частых
интимных свиданиях Руссо и графини. По всему, чтд мы знаем,
можно с уверенностью принять, что письмо было послано Терезой,
в которой подействовала ревность. Но Руссо вообразил, что это
письмо надо приписать г-же д’Эпинэ, и осыпал ее упреками (июль
1757). Правда, потом он сказал г-же д’Эпинэ, что уверился в неос-
новательности этого оскорбительного подозрения; но он не изме-
нил, однако, своего поведения и на деле не оставил своих подо-
зрений. Г-жа д’Эпинэ была этим чрезвычайно оскорблена. Гримм,
вернувшийся в сентябре из Германии, раздувал неудовольствие.
Нельзя сказать, чтобы Гримм ненавидел Руссо, хотя это мнение
1 Любовь во всей своей энергии и ярости (фр.). — Прим. изд.
408
установилось везде вследствие рассказов Руссо; суждения Гримма
о Руссо всегда правильны и основательны, хотя без особенной бла-
госклонности. Характер Руссо стал ему антипатичен. Кроме того,
ему, известному другу г-жи д’Эпинэ, присутствие Руссо было отя-
готительно; он решился вытеснить Руссо, обращался с ним прене-
брежительно, не щадя его слабостей. Дело дошло до резких объяс-
нений, за которыми последовало наружное примирение. В октябре
больная г-жа д’Эпинэ должна была поехать в Женеву к доктору
Троншену. Друзья требовали от Руссо, чтобы он проводил свою бла-
годетельницу в свой родной город. Он был крайне расстроен этим
нарушением его спокойствия. Не деликатные настояния Дидро,
уговоры г-жи дУдето — все приводит его в возбуждение. Он видит
в этом комплот и при отъезде г-жи д’Эпинэ пишет ей грубое, испол-
ненное упреками письмо об ces barbares tyrans qu’on appelle amis1.
Тотчас по отъезде г-жи д’Эпинэ (начало ноября), он получает грубое
письмо от Гримма, на которое грубо отвечает. Он хочет покинуть
Эрмитаж; г-жа д’Удето и Дидро его удерживают. По совету графини,
он пишет к г-же д’Эпинэ в весьма несчастном тоне. Тогда 10 дека-
бря приходит ее ответ: «Так как вы хотели и должны были оставить
Эрмитаж, то я удивляюсь, что ваши друзья вас удерживали; что ка-
сается до меня, я никогда не спрашиваю моих друзей о своих обя-
занностях». Руссо после этого тотчас оставил Эрмитаж (VIII, 349).
Далее, разрыв с Дидро. Как ни была нежна дружба, соединившая
этих двух людей в начале их деятельности, этот разрыв был наконец
неизбежен: причина его заключается в глубокой противоположно-
сти двух разных взглядов на вещи. Один с гневной ревностью ра-
товал против материализма, другой погружался в материализм все
больше и больше. Кажется также, что Дидро, сначала превосходив-
ший Руссо большей степенью светского образования, удерживал над
ним известную опеку дольше, чем следовало. Дидро не мог понять
любви Руссо к лесу и уединению и с непрошеной хлопотливостью
мешался в его планы о месте своего пребывания, особенно потому,
что считал жестоким, со стороны Руссо, что он хотел заставить ста-
рую восьмидесятилетнюю мать Терезы провести зиму в холодном
далеком жилище. Но из этого еще не следует, что Дидро и его дру-
зья, как говорит Руссо в «Признаниях», составили заговор с целью
выгнать его из Эрмитажа, чтобы тем легче мучить его в Париже.
И Руссо, однако, утвердился в этом нелепом подозрении. К несча-
стию, Дидро высказал в своем Fils naturel, вышедшем в начале 1757,
мысль, что только дурной человек любит уединение; Руссо принял
это прямо на свой счет и требовал у Дидро отчета (VII, 327; ср. II,
73; XII, 187). Дидро отвечал довольно грубо. Г-жа д’Эпинэ на время
помирила их; но, как бывает по большей части в таких примирени-
1 Те варварские тираны, которых мы называем друзьями (фр.). —Прим. изд.
409
ях, остался след взаимного недоверия и внутреннего отчуждения,
и разрыв Руссо с Гриммом и г-жей д’Эпинэ, конечно, не остался без
своего действия на его отношения с Дидро. И он не совсем без ос-
нования искал в нескромностях этого друга источник неприятных
разоблачений и толков об его частной жизни. Тогда в марте 1758 он
написал предисловие к своему письму к д’Аламберу, и здесь, как
будто в извинение недостатков сочинения, находится знаменитое
место: «У меня был некогда строгий и проницательный аристарх,
теперь у меня нет его, и я не хочу его больше; но я никогда не пе-
рестану сожалеть о его потере, потому что потерянного друга недо-
стает еще гораздо больше моему сердцу, чем моим сочинениям» (I,
180). В примечании он прибавил изречение Иисуса, сына Сирахова,
22, 26. Дидро оставил это нападение без ответа; он возразил на него
уже после, в «Жизни Сенеки», 1778—1782, раздраженный изобра-
жением их отношений в Confessions Руссо.
Так Руссо разошелся со старыми друзьями, которых с того вре-
мени называет в своих сочинениях собирательным именем coterie
holbachique1 или holbachiens2. Кроме Гримма, никто из них не искал
разрыва с ним; вина разрыва лежит в подозрительности Руссо, в его
резкости и невоспитанности и в несчастном сцеплении внешних об-
стоятельств.
С этих пор жизнь Руссо есть история постоянных страданий. Над
его головой собрались мрачные внешние бури; но злейшего врага
он имел в самом себе. Сердце его было поражено самым глубоким
образом; с каждым днем он становится подозрительнее и сумрач-
нее. Возрастающее ожесточение довело его наконец до упорного
душевного одиночества, которое подкапывало все его лучшие силы.
В декабре 1757 г. Руссо занял небольшую дачу на Мон-Луи, близь
Монморанси, которая принадлежала одному покровителю; позднее
он переселился в один флигель замка Монморанси, как гость мар-
шала Люксембурга и его жены, которые относились к нему очень
благосклонно. Он жил там в 1758—1762. Спокойное уединение
в прохладных долинах и лесах ближайшей окрестности оживило
его, и одно время сознание, что у него нет друзей, содействовало
его хорошему расположению. «Лишенный прелестей теплой привя-
занности, — говорит он, — я чувствовал себя свободным и от их
стеснительных уз» (VIII, 353). Герцог и герцогиня Люксембургские,
жившие в замке Монморанси, были к нему очень благосклонны;
они отдали в его распоряжение так называемый малый замок в се-
редине парка, и Руссо окончил в это время «Новую Элоизу», «Обще-
ственный Договор» и «Эмиля». Но резонерство, с каким он мучил
1 Гольбаховская клика (фр.). —Прим. изд.
2 Игра слов. «Гольбахианцы» написано со «chiens» (псы, суки (фр.)) на конце. —
Прим. изд.
410
сам себя, колебалось и однако не проходило. То он упрекал себя, что,
несмотря на свой демократический образ мыслей, против воли вхо-
дил в дружбу с вельможами; то перед его разгоряченной фантазией
вставали тени его прошедшего; то он чувствовал себя смертельно
больным и утомленным и желал избавиться от своих мучений. Он
ненавидел жизнь и людей. До какого страшного безумия дошел уже
Руссо, мы ясно видим по тем письмам, где он в ноябре и декабре
1761 г. жалуется на случайные препятствия, замедлявшие печата-
ние его Эмиля. Что за мрачные подозрения, что за злобное извраще-
ние явных фактов! Как вдруг, нападают на него подозрения, и как
нет у него никакой силы воли, чтобы серьезно следовать истине!
Как по временам он несчастен в часы спокойствия после этих при-
падков мании преследования: «je ne fais que des iniquites et n’imagine
que des calomnies»1. Достаточно было ничтожных поводов, чтобы
сделать эту болезнь неизлечимой, и в этих поводах, к сожалению,
недостатка не было. Когда вышел «Эмиль», книга была публично со-
жжена, и автора велено было арестовать. Покровительство знатных
друзей, герцога Люксембургского и принца Конти, помогло ему бе-
жать из Франции; 14 июня 1762 г. он перешел границу. Но с тех пор
Руссо уже нигде больше не нашел постоянного убежища.
Беглец отправился в Швейцарию. Он хотел отдохнуть на свобод-
ной земле своей родины. Но в Женеве, вследствие французского
влияния, также Эмиль был публично сожжен, и автора собирались
арестовать; ему не хотели позволить продолжительного пребы-
вания и в бернском кантоне в Ивердоне. Он отправился в Мотье,
в княжестве невшательском, и нашел здесь гостеприимную встречу.
Он приобрел действительное покровительство Фридриха Великого
и горячую дружбу штатгальтера, маршала лорда Джорджа Кейта.
Казалось, желанный мир наконец возвратился к нему. Он написал
здесь послание к архиепископу парижскому и Lettres de la montagne,
занимался приготовительным изучением для законодательства, ко-
торого от него требовали жители Корсики; но вообще он отдался
вполне той восхитительной тишине жизни, которая от ранней юно-
сти была его лучшей мечтой. Он блуждал, ботанизируя в прекрас-
ных окрестностях, сидел в кругу поселянок, занимавшихся плете-
нием шнурков. Но это безмятежное счастье продолжалось недолго.
Хотя Руссо по всей форме держался местной протестантской церк-
ви, но кирхенрат, священник и община преследовали его, как явно-
го врага религии. Поджигаемый народ нападал на его дом и грозил
его личной безопасности; есть вероятие, что в этих поджиганиях
участвовала даже его Тереза (ср. Gaberel, стр. 21). Руссо должен был
опять бежать, — это было летом 1765. Он выбрал маленький уеди-
ненный Petersinsel на Бильском озере. Здесь в приятном отдыхе, от-
1 Я только делаю беззаконие и думаю о доносе (фр.). — Прим. изд.
411
даваясь мечтательному чувству природы, ничего не делая, он, по его
собственному выражению, наслаждался спокойствием со страстью.
Но уже через месяц он получил от бернского правительства прика-
зание оставить остров.
Руссо по истине был достоин сожаления. И натура менее раздра-
жительная сломилась бы под этими постоянными бурями. Руссо был
окончательно расстроен; он был болен нравственно и физически.
Он был утомлен преследованиями и желал смерти; каждый день он
считал себя накануне ее и все-таки должен был думать о своем тя-
желом существовании.
В женевских и бернских происшествиях Руссо, впрочем совер-
шенно ошибочно, видел влияние Вольтера. С 1760 он совершенно
разошелся с Вольтером, и здесь первая несправедливость лежит
вполне на стороне Руссо, но в последующей многолетней войне до-
носов и клеветы Вольтер является более ненавистным противником.
Изгоняемый и преследуемый везде, он не знал, куда обратить-
ся. Ему приходили в голову самые разнообразные планы. Он думал
об Италии, Корсике, Берлине. Без определенного намерения он от-
правился в Страсбург. Там нашел он письма своей приятельницы,
графини Буффлер, и Давида Юма, которые настоятельно приглаша-
ли его отправиться с Юмом в Англию. Принц Конти выхлопотал ему
позволение ехать через Париж. Он прибыл туда 17 декабря. 3 янва-
ря Юм и Руссо начали свое путешествие.
Но червь, который грыз Руссо, въедался все глубже. Друж-
ба с Юмом, начавшаяся так горячо, скоро кончилась. Уже в июне
1766 г. Руссо поднимает против Юма самые тяжкие обвинения.
Рассказывать эту ссору утомительно: она достаточно объясняется
письмами, мемуарами и личными отзывами. Несомненно, что Юм
слишком мало смотрел на Руссо, как на действительного больного;
но столько же справедливо и то, что Руссо становился все стран-
нее и невыносимее. В самых случайных вещах он видел намерение,
в самых ничтожных мелочах находил основание для тяжелых по-
дозрений; довольно прочесть для примера письмо, написанное им
9 апреля 1766 г. к графине Буффлер.
В марте 1766 Руссо поселился в сельском доме своего вновь при-
обретенного друга Дэвенпорта в Вуттоне, в графстве Дерби. Здесь
он редактировал первые шесть книг своих Confessions, в то время,
когда его потрясали психические кризисы. Тереза, которая скучала
в Англии и ссорилась с английской прислугой, раздула огонь, пламя
которого разразилось наконец над головой несчастного Руссо. Но-
чью в непогоду он бежал от мнимого комплота своих врагов из Вут-
тона (1 мая 1767), после тяжелого путешествия добрался до Дувра
и переправился во Францию.
Под именем Renou, Руссо отправился в замок Три, принадлежав-
ший принцу Конти, близ Жизора. Его настроение было неизлечи-
412
мое. Уже через несколько месяцев он покинул замок, потому что
вообразил себя презираемым, окруженным шпионами и преследуе-
мым. На первом плане его безумных идей стоит теперь уже не Воль-
тер и не Юм, а министр Шуазёль. Можно видеть чудовищность его
представлений, когда он утверждает, что Шуазёль в 1765 купил
для Франции остров Корсику только затем, чтобы сделать недей-
ствительным написанный Руссо Projet de constitution pour les Corses:
«pour me ravir la gloire du code que j’avais redige pour ces insulaires!»1
По его мнению, вся французская политика вертится на его особе:
ее цель есть его нравственное уничтожение. Довольно прочесть
историческое сопоставление всех этих преследований в письме
Руссо к Сен-Жермену (XII, 180). Из этого хода мыслей понятно, что
с 1763 он не думает ни о чем другом, кроме того, чтобы выступить
против этого нравственного уничтожения, что он пишет одно защи-
тительное сочинение за другим и лихорадочно работает над своими
Confessions.
Из замка Три несчастный бежал в Лион, Гренобль, Шамбери,
пока наконец остановился на более продолжительное пребывание
в Бургоэне. Нигде нет отдыха и покоя. В самом крайнем унынии
он пишет: «Если я путешествую, — пишет он, — то вперед приго-
товляют все, чтобы везде мной распоряжаться; показывают на меня
прохожим, кучерам, трактирщикам; стараются распространить обо
мне такие страшные вещи, чтобы душа моя разрывалась на каждом
шагу, который я делаю, при каждом предмете, который я вижу,
и, чтд превышает мои понятия, все это делается с согласия целой
нации, и не только мои мнимые друзья, но даже честные люди
принимают участие в этих притеснениях». В 1770 Руссо воротился
опять в Париж и поселился опять в rue Platriere, которая носит те-
перь его имя. Доход с небольшого капитала, которым он жил, он до-
полнял перепиской нот, и в 1771 окончил свои Confessions, которые
должны были быть напечатаны только по его смерти, но теперь он
читал рукопись в дружеских салонах. Эти чтения повели к скандаль-
ному результату; по требованию г-жи д’Эпинэ, они были запрещены
полицией.
Лестное внимание, которое парижская публика сначала ока-
зывала возвращенному ей Руссо, ослабело. Недовольнее, чем ког-
да-нибудь; он возвратился в уединение своего бедного жилища
и прожил здесь последние годы без особых внешних происшествий.
С 1772 до 1776 г., в самом несчастном настроении он написал род
продолжения к «Признаниям»: Rousseau juge de Jean Jacques, три
диалога, плод определившейся мании преследования. Его послед-
нее значительное сочинение представляют написанные в 1777—
1 Чтобы украсть у меня славу того кодекса, который я написал для этих остро-
витян (фр.). —Прим. изд.
413
1778 в более спокойные минуты десять Reveries du promeneur solitaire,
картины мечтательных воспоминаний о своей жизни, апологетиче-
ское сочинение, полное поэзии.
Друг Руссо в эти последние годы есть Бернарден де Сен-Пьер, ко-
торый, как ученик, сопровождает его на ботанических странствиях
в окрестностях Парижа. Руссо — ботаник, и, как все, к чему он при-
вязывался, он сделал и ботанику модным занятием своих современ-
ников. Ботаника есть форма его мечтательности о природе. В этой
науке он не пошел дальше очень знающего любительства. Он нахо-
дится в переписке с Линнеем и имеет ту заслугу, что распространил
во Франции его систему.
Известна была любовь Руссо к сельской жизни, и многие знатные
почитатели предлагали в его распоряжение свои поместья. В мае
1778 Руссо решился принять одно из многих таких предложений,
маркиза Жирардена, и отправился в Эрменонвилль. Трогательно
видеть, как под зеленью деревьев в нем снова вспыхнула любовь
к жизни, но это была последняя вспышка потухающего огня. Он
умер 3 июля 1778, неожиданно и вдруг. Трудно сказать, была ли это
естественная смерть, или он отравился.
Мы расстаемся с Руссо не без глубочайшего сострадания и не мо-
жем, однако, не видеть за ним трагической вины. Со стороны вос-
хвалителей его поверхностно говорить только об его величии, как
со стороны его хулителей поверхностно говорить об одних его
ошибках и слабостях. Задача состоит скорее в том, чтобы разгадать
в загадочном человеке его сущность и свести его вину и его величие
к их внутреннему единству и общему корню.
Это внутреннее единство, однако, было. Историческое значение
Руссо было в том, что он спас идеализм сердца и его неотъемлемые
права сделал основанием и меркой всякого образования и порядка.
Но этот идеализм находится еще в своем первом неясном пробужде-
нии. Он знает только самого себя; то, что противопоставляется ему,
для него ничтожно и достойно истребления. Он робко и судорожно
прячется от суровой действительности. Этой сердечности и свобо-
ды, имеющей свои глубокие права, он не умеет соединить с необхо-
димостью нравственного самоограничения. Недостает продуманно-
го благоразумия, sophrosyne.
Как любезно обнаруживается этот идеализм в мечтательном
чувстве природы, в одушевленной любви Руссо к сельской жизни
и уединению лесов. «Как вы думаете, — обращается он в третьем
письме к Малербу (X, 305), — какие времена я всего охотнее вы-
зываю в своем воспоминании? Это не радости моей юности; они
были слишком редки, слишком соединены с горечью, слишком да-
леки от меня; это блаженство моего уединения, это мои одинокие
прогулки, те быстро проходящие, но драгоценные дни, которые про-
водил я совершенно один; один с самим собой, с моей доброй про-
414
стой Терезой, с любимой собакой, старой кошкой, с зверями леса,
с природой и ее непонятным Создателем. Когда я вставал перед вос-
ходом солнца, чтобы видеть пробуждение дня, то первым желани-
ем моим было, чтобы ни письма, ни посещения не могли нарушить
этой сладкой радости. Посвятивши время до полудня разным неот-
ложным занятиям, я рано обедал, чтобы обеспечить себе тем боль-
ше времени после обеда. До часу я вставал... когда я повертывал
за один угол, как билось тогда мое сердце, какая радость проникала
меня, когда я, свободно вздохнув, мог сказать себе: теперь осталь-
ной день — мой! Я искал себе какого-нибудь дикого места, где ни-
что не показывало мне руки человека, где никто третий не стано-
вился между мной и природой. Золото дрока, пурпур солнечных
лучей наполняли мое сердце и глаза восторгом; величие деревьев,
покрывавших меня своей тенью, нежность кустов, меня окружав-
ших, разнообразие трав и цветов, сгибавшихся под моими шагами,
держали мой ум в постоянном напряжении и удивлении... Мое во-
ображение наполняло эту прекрасную землю существами, которые
были мне по сердцу... я составлял себе общество, которого я считал
себя не недостойным, выдумывал себе золотой век, и, когда я на-
полнял эти прекрасные дни всеми сценами моей жизни, которые
были у меня в любезном мне воспоминании или которых я еще
себе желал, я трогался до слез этими истинными удовольствиями
человеческой жизни, этими чудными чистыми удовольствиями, ко-
торые так близки и однако так далеки теперь человечеству». И это
были не одни слова. Еще будучи мальчиком, Руссо плакал от радо-
сти, когда, убежав из душных стен Турина, он возвратился к г-же Ва-
ренс и нашел у нее комнату, из которой был вид на зеленые сады.
С каким увлекательным наслаждением умеет Руссо изображать ти-
хую любезную жизнь в Шарметте! Как успокаивает и восхищает его
Монморанси! И как верно сохраняет он это чувство, когда, неустан-
но гонимый страдалец, он надеется наконец найти мирное убежи-
ще на далеком от света островке. С какой волшебной силой стоят
перед нами в «Новой Элоизе» высокие Альпы, синее озеро, тихие
лесные уголки Кларанса! Этим свежим ощущением природы Руссо
высказал освобождающее слово для целого века. Описательная поэ-
зия была низвергнута; французское садоводство с своей прямоли-
нейной искусственностью получило смертельный удар; утонченный
и чуждый природе салонный свет строил павильоны на зеленых по-
катостях гор и на берегах речек и озер. Везде послышался радост-
ный крик весны и лесного воздуха.
Как любезен этот идеализм в неразрушимой страсти Руссо
к прелестной свободе веселого странничества, к исканию при-
ключений и блужданию! Мы как будто слышим прелестного ге-
роя Эйхендорфа, когда Руссо рассказывает в «Признаниях», что,
еще будучи мальчиком, он употребил три дня на дорогу от Жене-
415
вы до Аннеси, которую удобно мог бы сделать в один день, что он
не пропускал ни одного замка направо и налево, чтобы не петь под
его окнами, и удивлялся, что не появлялось красавицы, которая бы
вознаградила его за сладость его голоса и его зовущие песни упоен-
ным любовью взглядом или, может быть, даже горячим поцелуем.
И даже тогда, когда в нем уже давно замолкла эта мечтательная
юношеская романтика, он всего счастливее и всего больше бывал
самим собой в одиноком странствовании. «Никогда, — говорит он
в четвертой книге “Признаний” (VIII, 155), — я столько не думал,
не ощущал и не жил, как в этих путешествиях. Ходьба пробуждает
и одушевляет мои мысли; мое тело должно быть деятельно, если
должен быть деятелен мой ум. Вид пейзажа, пестрая смена прият-
ных далеких видов, свежий воздух, хорошее здоровье, которое дает
мне ходьба, свобода трактирной жизни, удаление от всего, что дает
мне чувствовать мою зависимость, — это освобождает мою душу,
дает мне большую энергию и смелость мысли, бросает меня в не-
измеримость вещей. Я представляю себя господином и хозяином
всей природы, мое сердце блуждает от предмета к предмету и упо-
яется тем, что ему нравится. Что за сила и свежесть является тогда
в моих красках, что за сила в моем выражении!.. Но как бы я мог
описать это настроение? К чему отнимать наслаждение настояще-
го, чтобы сказать другим, что я ощущал и как наслаждался? Что
мне было за дело до читателей и публики, что мне было за дело
до целого света?.. Приходя, я думал только о том, чтобы хорошо
поесть; уходя, я думал только о том, чтобы бодрее идти. Я чувство-
вал, что меня ожидает новый рай и шел отыскивать его». И как
глубоко поэтически описывает он тот ночлег, который он устроил
себе на чистом воздухе близь Лиона! «Я с удовольствием растянул-
ся на скамье, дерево раскинулось балдахином над моей постелью,
прямо надо мной пел соловей, и я заснул под его пенье. Я спал
сладко, сон, который я видел, был еще слаще. Был светлый день.
Когда глаза мои открылись, они увидели воду, зелень леса и чудный
пейзаж. Я встал; я чувствовал голод и весело шел в город, решив-
шись употребить на хороший завтрак немного денег, которые еще
остались у меня» (VIII, 120).
И как любезен, наконец, этот идеализм в глубокой склонности
Руссо к тихому счастью мирных и скромных жизненных условий,
к идиллии буржуазной и крестьянской жизни! Вышедши из народа,
он остается глубоко привязан к нему. Всего лучше ему за его про-
стым обедом с его Терезой! Если он обедал в Монморанси за герцог-
ским столом, то для него становится потребностью опять вмешать-
ся между поселянами и буржуа и разделять их простые радости.
В Мотье он плетет со старыми женщинами шнурки. Над этими чер-
тами подсмеивались, но этот смех был неразумен; из этого скорее
можно было видеть, что это искание неподдельной природы и ори-
416
гинальности и наслаждение ими составляли самую существенную
необходимость его характера.
Но как неприятно поражает его оборотная сторона! Как искажа-
ется и портится этот образ, когда эта мечтательная свобода огра-
ничивается малейшим внешним препятствием, когда ей противо-
поставится суровая действительность! «Самое драгоценное из всех
владений есть собственное сердце, и из тысячи оно едва есть у дво-
их», — этот лозунг периода бурных стремлений имеет свое истори-
ческое начало в Руссо. Но это собственное сердце балуется и пор-
тится, как больной ребенок, и погибает от крайней изнеженности.
Отсюда происходило его крайнее тщеславие. Мы видим это
тщеславие уже в самой наружности. Руссо никогда не терял той
загнанности, которая усвоилась ему от его положения в молодости.
Он старался скрыть это чувство под суровой, но легко объяснимой
резкостью. Упоенный триумфами своей славы и ревностно стараясь
тем с большей настойчивостью выказывать свои заслуги перед дру-
гими, он охотно хвастается своей бедностью и любит выставлять ее
на вид. Если затем богачи и вельможи оказывают ему свои милости,
он самодовольно радуется этим лестным милостям, но с мучитель-
ной подозрительностью заботится о том, чтобы от этого как-нибудь
не пострадало его личное достоинство и независимость, и, когда
он находит их нарушенными, он становится неблагодарен и готов
на оскорбление. В «Признаниях» он выдает сам себя: «Брошенный
против моей воли в свет, тона которого я не имел и не мог усвоить,
я решился принять тон, который принадлежал мне одному; я не мог
преодолеть нелепой и глупой робости, происходившей из опасения
нарушить принятые обычаи; я решился поэтому попрать ногами
эти обычаи; я стал циником, но циником из стыда; я делал вид,
что презираю обычаи, потому что я не был в состоянии соблюдать
их». — Этот ему одному принадлежавший тон простирался у Руссо
даже на одежду. Во время представления своей оперы он явился при
версальском дворе небритый и в небрежном обыкновенном платье.
В старости он одевался армянином. Когда Сократ увидел циника Ан-
тисфена, проходившего мимо в разодранном платье, он сказал ему:
«Антисфен, из прорех твоей одежды глядит тщеславие». Так думал
и маршал Кейт, когда Руссо в первый раз вошел к нему в армянском
кафтане; он улыбнулся и не касался этого переодеванья. Вольтер на-
зывал Руссо Диогеном, который выражается иногда, как Платон.
Еще более дерзко было высокомерие, которое Руссо хотел выда-
вать за гордость добродетели. Руссо с давнего времени был первый,
решившийся написать свою собственную биографию, и это вовсе
не было случайностью. Настроение, которое господствует в этих
«Признаниях», вовсе не есть беспристрастный, фактический взгляд
на прошлое, — как в «Поэзии и Правде» Гёте; это фарисейское само-
довольство, рассчитанное прежде всего на то, чтобы оправдать себя
417
перед потомством от обвинений со стороны своих врагов, но затем
больше и больше впадающее в прикрасы, которые с лицемерной от-
кровенностью рассказывают о дурных поступках только для того,
чтобы иметь случай наговорить по их поводу возвышенных рассуж-
дений о добродетели. Дневники и признания, которые ведутся по-
стоянно, всегда будут носить на себе проклятье тщеславия: человек
стоит перед зеркалом, выбирает искусственную позу, принимает
и представляет себя героем романа. Но это рассматриванье себя
в зеркало никогда не бывало так резко, как у Руссо. Он не написал
ни одного письма, которого бы он сначала старательно не обдумал
и не обработал; даже любовные письма к г-же д’Удето были, как те-
перь видно, написаны вдвойне. Первый план начала «Признаний»,
находящийся в невшательской публичной библиотеке, ясно показы-
вает, как рассчитано и тонко придумано в них распределение света
и тени. И какая удивительная самоуверенность звучит в последней
редакции их, отданной в печать! В ней говорится: «Я предприни-
маю сочинение, которое не имело и не будет иметь себе подобно-
го. Я хочу показать другим людям человека в его, истинной при-
роде; этот человек я, я один. Я знаю свое сердце и сердца других.
Я создан не так, как кто-нибудь из тех, кого я видел; я осмелива-
юсь думать, что я не таков, как кто-нибудь из тех, кто существует.
Если я и не лучше их, то я по крайней мере не такой. Пусть труба
страшного суда звучит, когда хочет; я предстану перед Судьей ми-
ров с этой книгой в руках и скажу громко: “Вот что я делал, что
я думал, чем я был”. Я с одинаковой прямотой раскрыл и хорошее,
и дурное: я не умолчал ничего дурного и не прибавил ничего хо-
рошего; и если мне случилось употребить какое-нибудь индиффе-
рентное украшение, — это было только для того, чтобы недостат-
ком памяти не сделать пропуска в рассказе. Я показал себя таким,
как я был, презренным и низким, когда я таким был, но и добрым,
благородным, возвышенным; все, что было внутри меня, теперь
раскрыто! Вечный Боже, собери кругом меня бесконечное множе-
ство моих братий — людей, чтобы они слышали меня; они могут
вздыхать о моих недостатках, краснеть за то, что было во мне низ-
кого; но пусть каждый с такой же искренностью откроет перед Тво-
им престолом свое сердце, и тогда пусть скажет кто-нибудь из них,
если может: я был лучше этого». И с такими выражениями мы
встречаемся везде. Совершенно так же говорится в конце первого
письма к Малербу: «Я знаю свои великие ошибки и живо чувствую
мои пороки; но, несмотря на то, я буду умирать, полный доверия
к Высшему Существу, убежденный, что из всех людей, которых я на-
блюдал в своей жизни, никто не был лучше меня». К г-же Б. он пи-
шет 16 марта 1770: «Вы всегда оказывали уважение к моим сочине-
ниям; вы оказали бы столько же уважения к моей жизни, если бы
она была вам известна, — и еще более к моему сердцу, если бы оно
418
было вам открыто; никогда не было сердца, более нежного, лучше-
го и более справедливого; злоба и ненависть никогда не приближа-
лись к нему». К г-же де Ла Тур он пишет: «Кто не одушевляется мной,
тот недостоин меня».
Поэтому и в его отношениях к другим обнаруживается необуз-
данный эгоизм. Из крайнего тщеславия Руссо создал в своих мечтах
фантастический мир, в котором все существа готовы были служить
ему; и теперь он не мог найти перехода в непослушную ему действи-
тельность. Он думает, что может требовать себе совершенно осо-
бенного исключительного положения. В 1757 он пишет к Гримму
(X, 172): «Никто не хочет войти в мое положение, не хочет понять,
что я существо совершенно особое, которое имеет совершенно иной
характер, понятия, побуждения, и которого поэтому нельзя судить
по их правилам». И в том же смысле он пишет 15 июля к Мульту: «О,
какую ошибку сделало во мне Провидение! Почему оно заставило
меня родиться между людьми и однако устроило меня иначе, чем
их?» Руссо знает только свои права, свои наклонности, но не свои
обязанности. «Все возбуждает мой ум к свободе и независимости, —
пишет он в своем первом знаменитом письме к Малербу, — самые
ничтожные обязанности жизни для меня невыносимы; для меня
смертельная мука — сказать слово, написать письмо, сделать визит,
если все эти вещи являются, как внешние требования». Даже там,
где он с своей прихотью и произволом впадает в самые недостойные
ошибки, пороки и преступления, он утешает себя с фарисейским
упорством своей бесконечной способностью ощущения. Чувство
есть все, дело — ничего. Из признания в самых греховных вещах
он тотчас сплетает себе венец святости. Здесь особенно справедли-
вы становятся слова Гёте, что, если только явится случай, из чув-
ствительного народа выйдут очень плохие люди. Никогда не было
человека, более изменчивого в дружбе, чем Руссо. Все его связи
начинаются с горячей преданностью и кончаются с непроститель-
ною грубостью. И несмотря на то, Руссо всегда, однако, хвалится
своим сердцем, которое всегда ищет дружбы, и хочет уверить себя
и других, что только внешнее и случайное несчастие было винова-
то в том, что он не нашел себе настоящего, истинного, достойного
себя, друга. Сам Руссо самым резким образом обвиняет себя, напри-
мер, в своей неблагодарности к г-же Варенс; но затем он прибавля-
ет в свое извинение: «Эта неблагодарность слишком много терзала
мое сердце, чтобы это сердце могло быть сердцем неблагодарного»
(VIII, 279). Никогда человек не бывал более дурным отцом. Руссо
хладнокровно и без всякой жалости отдал пятерых детей в воспи-
тательный дом. Руссо в «Эмиле» сам отлично знает, что кто не мо-
жет исполнять отцовских обязанностей, тот и не имеет права быть
отцом, и что ни бедность, ни работа, и ничто другое не освобождает
от обязанности воспитания детей; но тем не менее в своих письмах
419
и «Признаниях» он различным образом пытается оправдать свое из-
вращение — то указаниями на то, что он боялся отдать воспитание
детей на руки Терезы, то рассуждениями о том, что он, как граж-
данин Платоновской республики, обязан был передать своих детей
общественному воспитанию, как общее достояние; в восьмой кни-
ге «Признаний» (VIII, 253) он не стыдится даже сказать: «Никогда
в своей жизни Ж.-Ж. Руссо не мог ни на минуту быть человеком без
чувства, без сердца, быть отцом, забывающим природу». Нет слов,
чтобы достойно заклеймить такую низость. Подобные заблуждения
прекрасной души составляют уже материал для Питаваля.
Отсюда и его раздражительность, подозрения, болезненное пре-
зрение к людям. «Когда я был молод, — пишет Руссо во втором
письме к Малербу (X, 309), — я думал найти в свете тех же людей,
которых я находил в своих книгах; когда я становился опытнее,
я все более и более терял эту надежду. Раздраженный несправедли-
востью, которую я испытал, огорченный беспорядками, в которые
увлекал меня пример других или сила обстоятельств, я почувство-
вал презрение к веку и современникам; чувствуя, что я никогда
не приобрел бы между ними положения, которое бы удовлетворило
моему сердцу, я мало-помалу отдалился от человеческого общества;
я создал себе другое общество в своем воображении и радовался
ему тем более, что я мог наслаждаться им без труда и опасности
и всегда был уверен, что найду его таким, каким оно мне нужно».
Действительность с ее внутренним смыслом и неопровержимостью
сильнее слабого своенравного сердца и его безграничной софисти-
ки. Противоречие остается в Руссо неразрешенным. Это вечная
уничтожающая борьба, и личность в ней погибает.
Если мы поймем таким образом внутреннюю обоюдоострую
природу Руссо, как восстание и как насильственное и односторон-
нее стремление внутреннего индивидуального чувства, пробужден-
ного из долгого оцепенения, то мы не только в самом Руссо находим
снова затерянное внутреннее единство, но характер Руссо приобре-
тает вместе с тем более глубокое, всемирно-историческое, — мож-
но было бы сказать типическое значение. История Руссо есть исто-
рия болезни внутреннего чувства, преувеличенного, основанного
только, на самом себе, стоящего в разладе со всеми необходимыми
условиями и законами действительной жизни. Руссо есть неврас-
теник; он с отроческих лет страдает болезненным повышением
чувствительности. Он, как Шелли, может назвать себя, «а nerve o’er
which might creep the else unfelt oppressions of this earth»1. В юно-
сти ему недоставало твердого нравственного руководства, которое
укрепило бы его волю; неслыханные успехи, которые сделали его
1 «Подобен нерву я, когда трепещет / От гнета он и зла, что всем привычны...»
(англ.). —Прим. изд.
420
из лакея князем умов, потрясли его и без того колебавшееся психи-
ческое равновесие. Его я становится гипертрофическим; и в неиз-
бежном столкновении с внешним миром, рядом с манией величия
развивается мания преследования.
Руссо был душевнобольной.
В этом отношении в самом деле крайне замечательно, что сам
Руссо угадывал свое внутреннее родство с Тассом, и в 77-м стихе
12-й песни «Освобожденного Иерусалима» видит даже совершенно
определенное изображение своей судьбы. Руссо и Тассо оба стра-
дают одинаковой крайностью и погибают в одинаковой трагедии.
Здесь Байроны и Пушкины с их много воспетыми мировыми стра-
даниями и их разорванностью находят своих поэтических предков
и вместе с тем свой карающий приговор истории.
Более высокому гению предоставлено было продолжать ту же
борьбу и привести ее к победоносному разрешению. Этот гений был
Гёте. «Вертер» вполне стоит на воззрениях и ощущениях Руссо и вы-
шел непосредственно из него. Драматическая история страданий
Тассо ведет борьбу дальше; Тассо, как он является в трагедии Гёте,
выходит уже из своей эгоистической фантастики и подчиняется пре-
возмогающей силе действительности, хотя и против воли и с глубо-
ко пораженным сердцем. Наконец победа совершается в «Lehrjahre»
Вильгельма Мейстера. Этот величайший немецкий роман есть обра-
зование и воспитание человека, который, по выражению Шиллера,
переходит от неопределенного идеала в определенную деятельную
жизнь, не теряя при этом идеализирующей силы. Здесь настоящее
и действительное примирение между идеалом и жизнью; и в этом
смысле именно говорят, что высшая мудрость и мастерство жизни
заключается в ограничении.
Глава вторая
Начала социализма. Морелле. Мабли. Рейналь
В Руссо ищут обыкновенно первых возбуждений новейшего со-
циализма, но это несправедливо. Правда, Руссо, по примеру англий-
ского политического философа Гоббса, делает основание собствен-
ности ответственным за основание государства и с тем вместе за все
общественное зло; но, как мы видели, он вовсе не желал уничтоже-
ния собственности и государства, когда они уже раз основались; он
хотел только уничтожить наиболее дикие извращения их.
Демократическое настроение, которое выросло пышно под гне-
том необузданного деспотизма, нашло в Руссо свое самое красноре-
чивое, но не самое смелое выражение. Не было недостатка в людях,
которые, независимо от Руссо и частью еще до него, ушли гораздо
дальше Руссо.
421
Должно ли в самом деле демократическое, устройство, которое
только видоизменяло, но не устраняло существующего государства,
быть последней целью и высшим совершенством формы человече-
ского общества? Почему останавливаться и отступать так внезап-
но, и, по-видимому, совершенно без всякого основания? Почему
не искоренять зло в самом глубоком его корне? Почему не могло бы
быть мыслимо и восстановлено такое общественное распределе-
ние, которое уничтожением личной собственности уничтожило бы
и последнее различие между богатыми и бедными и установило бы
возрастающее чувство равенства не только в государственном,
но и в экономическом смысле? Здесь представлялась заманчивая
перспектива снова воротить потерянную природную простоту в ее
полной чистоте и неиспорченности, только в более сознательном
и развитом виде.
Всего резче и обширнее высказывает ее книга, вышедшая
в 1755 под заглавием «Code de la nature ou le veritable esprit des lois
de tout temps neglige ou meconnu». Она долго считалась произве-
дением Дидро, и еще в 1846 Эрнст Мориц Арндт перевел ее на не-
мецкий язык, нисколько не сомневаясь в этом ее происхождении.
Из «Корреспонденции» Гримма мы видим, что другие приписывали
ее Туссену и Лабомеллю. Теперь решено, что автором книги был аб-
бат Морелле (ср. Querard, Supercheries litteraires devoilees, Paris 1847,
I, 361). Морелле уже за два года перед тем, в 1753, в дидактической
поэме, написанной в прозе в четырнадцати песнях, «Naufrage des
Iles flottantes ou la Basiliade de File Bilpai», самой колкой сатирой
против господствующей формы государства изобразил тот же меч-
тательный идеал будущего.
Здесь уже самым определенным образом обозначены все те
энергические идеи и учения, которые под именем социализма
приводят в изумление и страх наше настоящее. Л. Штейн сделал
существенный недосмотр, нигде не рассмотревши ближе этого «ос-
новного закона природы» в своей превосходной книге «О социализ-
ме и коммунизме в нынешней Франции». Основная мысль состоит
в том, что человек от природы добр, говорится там, и испортили
его только превратные учения и учреждения; улучшение и совер-
шенное блаженство могут быть достигнуты только устранением
собственности и государственной морали, основанной на себялю-
бии. Основу нового общества составляют поэтому общность иму-
щества, труд для общества, общественное воспитание и безразлич-
ное равенство всех.
Последовательно нация распределяется по семействам, родам,
и, если она велика, по провинциям. Земля нераздельна и не при-
надлежит никому, как отдельная собственность. Орудия работы так-
же общи. Труд указывается человеку по его силам, прибыль по по-
требностям. Излишние запасы сберегаются или отдаются в другие
422
города и провинции, которых потребности не покрываются соб-
ственным доходом. Каждый, как скоро становится способен к браку,
вступает в брак, который в первые десять лет не может быть растор-
гаем. Ребенок остается в детстве в доме родителей, а затем перехо-
дит в мастерские, где он получает квартиру, пищу, одежду и обуче-
ние. Тот, кто посвящает себя науке или искусству, не освобождается
поэтому от земледелия. Вся метафизика и мораль ограничивается
простейшими учениями; полезным и богатым открытиями наукам
и искусствам доставляется совершенно свободное развитие. Денеж-
ных вознаграждений нет; они были бы нарушением общественных
прав. Кто нарушает эти законы или предпринимает ввести «гнус-
ную собственность», тот на всю жизнь заключается в пещеру, как
глупец, как бешеный и как враг человечества, и имя его исчезает
навсегда из списка граждан.
Почти такой же образ мыслей мы встречаем и в вышедшем
1776 г. сочинении «De la legislation ou principes des lois», Мабли,
старшего брата Кондильяка, который раньше приобрел почетную
известность, как счастливый ученик Монтескьё, прекрасными,
еще и доныне уважаемыми исследованиями об истории Франции
и об европейском народном праве, но позднее, затронутый воздей-
ствиями Руссо, хотел еще превзойти Руссо. «Люди, — объясняет
Мабли, — хотя и различны по своим способностям и потребностям,
но равны по своим правам. Все имеют одинаковое право развивать
свои способности и наслаждаться своим существованием. Кто имеет
вдвое больше силы, может нести двойную тяжесть. Если я себялю-
биво удерживаю для одного себя свой излишек, который нужен мо-
ему слабейшему соседу для его жизни, то понятие общества я за-
меняю понятием войны, я извращаю божественный порядок мира
и оказываюсь безбожником. Гражданское общество уподобляется
семейству, где приказание и повиновение одинаково проистекают
из внимания к общему благу и где сила одного бескорыстно забо-
тится о слабости другого. Не должно опасаться, что с этим унич-
тожением себялюбивой выгоды человечество впадет в ленивую
недеятельность: еще более возбуждающим образом, чем общая вы-
года, действует чувство чести». В своих Dialogues de Phocion Мабли
указывает на образец Спарты, а в «Doutes proposees aux philosophes
economistes sur 1’ordre naturel et essentiel des societes» (Oeuvr. compl.,
ч. 2, письмо 1) указывает на пример иезуитского поселения в Па-
рагвае, в котором — еще не зная его хорошенько — вообще видели
тогда род Платоновой республики.
Так охотно человек освобождает себя прекрасными мечтами
от тесного гнета тяжелой действительности. И можно ли назвать
иначе эти великодушные призывы к бескорыстной общинности
и труда, и наслаждения? Сам Морелле говорит в начале четвертой
части своих рассуждений, что в наши дни было бы невозможно ос-
423
новать такую общину, хотя и находит надежду ее осуществления
в далеком будущем.
Если подобные мечты, которым глубоко отдавался не только меч-
тательный Платон, но даже и спокойно гармонический Гёте в своих
«Wanderjahre», то это всегда бывает верным знаком, что это время
носит в себе глубокую болезнь и что одни члены получили разруши-
тельный перевес на счет других.
Страшная и непроходимая пропасть между высокомерным богат-
ством и голодной бедностью не наполняется и не уменьшается пре-
увеличенными, т. е. неисполнимыми мечтами о будущем, но только
деятельным и энергическим вмешательством в ближайшее настоя-
щее. Поэтому бывает очень важно, если при этом то же основное
стремление и мысль о всеобщем благе народа проникает и тех, кто
больше привязан к существующему порядку.
Этот знаменательный поворот был ясно заметен и в жизни,
и в литературе. Если прежде даже благородные и достойные физи-
ократы рассматривали национальное богатство только с той точки
зрения, чтобы доставить более богатые источники дохода для госу-
дарственной казны, то теперь привлекают на себя внимание преи-
мущественно рабочие классы сами по себе. Теперь заботятся о них
для них самих. Их уже не хотят больше эксплуатировать с себялю-
бивыми целями; теперь хотят облегчить их нужду и доставить им
существование, достойное человека.
Благородный Тюрго старается из всех сил, нередко даже при-
нудительными средствами, ограничить высокомерие, привилегии
и лихоимство богатства. Девиз его был: «Le soulegement des hommes
qui souffrent est le devoir de tous et 1’affaire de tous»1.
Только с этой точки зрения получает свое настоящее освещение
«Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce
des Europeens dans les deux Indes», 1772, аббата Рейналя. Теперь
уже не читают этой книги; она странна и бессвязна, полна самых
крайних преувеличений и противоречий; — но в свое время, и даже
еще во время французской революции, она имела необыкновенное
действие. «Литературная Переписка» в июле 1774 говорит о новом
издании этого многотомного сочинения: «Со времени Esprit des lois
наша литература не произвела ни одного памятника, который за-
служивал бы дойти к самому дальнему потомству». Это крик ужаса
страждущих и угнетенных против жестокого эгоизма, настоятель-
ный призыв к необходимому наконец улучшению. Его обличения
против жестокого, обращения с черными, его горячие изображения
несправедливости монополии и ее враждебных человечеству по-
следствий проницательно и неустрашимо настаивают на освобож-
1 Помощь людям, которые страдают, — это долг каждого и всеобщая забота
(фр.). —Прим. изд.
424
дении рабочего, которому достается труд, но не прибыль, на равен-
стве прав и обязанностей, на свободе торговли и промышленности.
Эта последняя свобода, толки о которой чрезвычайно возбужда-
ли умы того времени, в особенности обсуждалась в сочинениях фи-
зиократов. Для иллюстрации возгоревшейся здесь борьбы большей
частью приводятся вышедшие в 1770 «Dialogues sur le commerce des
bles» аббата Галиани, того блестящего умом маленького чудака не-
аполитанца, которого друзья его называли Machiavellino и о кото-
ром Гримм говорит в «Литературной Корреспонденции» 15 ноября
1764, что это Платон с огнем и ужимками арлекина. Эти остроум-
ные, ясные, привлекательно общедоступные и глубокие исследо-
вания, направленные прежде всего против позволения свободного
вывоза хлеба в 1764, представляют резкое осмеяние односторон-
ности физиократов, которые покровительствуют исключительно
поземельному владению на счет промышленного труда и особенно
фабричного работника. Но в показаниях его единомышленников,
энциклопедистов, внешний успех этого сочинения изображен преу-
величенно, и что взгляд остроумного автора был не особенно широ-
кий, показывает одно его мнение в письме к г-же д’Эпинэ: «Каждая
страна, которая вводит свободу хлебной торговли и ее выдержива-
ет, подвергнется переворотам. Форма ее правления станет чисто
республиканской, демократической, и крестьянство станет первым
и сильнейшим сословием. Поэтому мы, не работающие лопатой,
были бы настоящими глупцами, если бы дали воскреснуть этой сво-
боде, чтобы самим сделаться последними. Наес est lex et prophetae1
(22 января 1774). Взгляд книги был ограниченный и отчасти даже
злостный, так как книга была направлена против Тюрго; но наме-
рение было вполне благородно и безупречно.
На всех умах лежит грозящая уверенность в непрочности господ-
ствующих отношений.
Взгляды были различны только в том, может ли новая постройка
найти место на развалинах старого или она должна искать еще нетро-
нутой почвы. Рейналь укоряет народы в трусости за то, что они взды-
хают вместо того, чтобы в бешеном одушевлении могучими подвига-
ми освободиться от своих оков. Но Галиани дает одной приятельнице
совет — вместо Шоссе д’Антен поселиться лучше в Филадельфии.
Глава третья
Бернарден де Сен-Пьер и Бомарше
Какая резкая противоположность разделяет Бернардена де Сен-
Пьера и Бомарше! Один из них известен и знаменит всего больше
1 Это есть ведь закон и пророки (лат.). —Прим. изд.
425
любезной идиллией о Павле и Виргинии, которая уводит нас дале-
ко от всякого шума и суеты в простоту первобытной естественной
жизни; другой всегда живет среди дикого смятения разгоревшейся
борьбы и своими гневными мемуарами и резкой язвительностью
своих политических комедий делается одним из самых непосред-
ственных двигателей французской революции. И, несмотря на то,
эти противоположности в основе своего характера отражают в себе
один и тот же дух времени, одну и ту же ненависть к существующе-
му порядку, всеобщее недовольство, отчаянное требование воздуха,
света и свободы.
Шиллер в своей вечно удивительной статье о наивной и сенти-
ментальной поэзии превосходно объяснил, что идиллия и сатира
идут из одного общего корня. В этих обоих родах поэзии поэт на-
ходится в противоречии с враждебной ему обстановкой; но в од-
ном случае он убегает от этой противоречащей действительности
и выдумывает себе состояние мирной невинности и полного удов-
летворения, в другом он деятельно выступает на борьбу с этой
действительностью, держит перед ней зеркало идеала и старается
поэтически уничтожить ее посредством этого идеала. Тацит, кото-
рый с возвышенной нравственной злобой изображает страшную
испорченность императорского Рима, ищет утешения и отдохнове-
ния в патриархальной неиспорченности германских первобытных
лесов. Сатирическое и идиллическое настроение так близко сродны
между собой, что он, серьезный историк, соединяет их оба.
Руссо выразил эти чувства, дремавшие во французском обще-
стве. В мечтах Руссо о высоком и самим собой удовлетворяемом
блаженстве доисторического естественного состояния, в этих меч-
тах лежали семена идиллии; в его измерении государственной
и общественной действительности меркой ново-завоеванного иде-
ала о естественности народной свободы — были семена сатиры.
То, что у Руссо связывалось в одной основной идее, у Бернардена
де Сен-Пьера и Бомарше расходится в отдельные и самобытные на-
правления. У Бернардена де Сен-Пьера выразилось мечтательное,
романтическое, сентиментальное; у Бомарше — деятельное, преоб-
разующее, революционное. Один представляет женское отражение,
другой — мужское, — но оба они дети одного отца.
Это мечтательное идиллическое настроение времени удивитель-
но воплотилось в сочинениях Бернардена де Сен-Пьера, а также,
если верить легенде, и в его жизни. Легенда сделала из него нежно
чувствующего, полного невинности героя идиллии, каким он яв-
ляется в биографии, которую с благоговением к нему составил его
восторженный почитатель, Эме Мартен, при помощи своей жены,
вдовы Сен-Пьера. Новейшие изображения, как например, Арведа
Барина (Париж, 1891) и особливо Ф. Мори (Париж, 1892) показыва-
ют, что знаменитый автор «Павла и Виргинии» при всей его чувстви-
426
тельности был менее любезен: нечто вроде искателя приключений
в молодости, и в более зрелые годы чудак, которого раздражитель-
ность и отсутствие нежного чувства налагали на немногих друзей
тяжелые жертвы, и которого слова и поступки часто напоминают
нелепость его учителя и доверенного друга Руссо. И когда в позд-
нейшие годы ему улыбнулось счастье, и его окружило звонкое по-
клонение, он также пользовался репутацией несносного человека.
Бернарден де Сен-Пьер родился 19 января 1737 в Гавре. Волную-
щееся море и оживленная гавань рано пробудили в нем стремле-
ние в неизвестную туманную даль; история Робинзона есть мечта
его детских лет; двенадцатилетним мальчиком он уже делает пу-
тешествие на Мартинику, из которого, впрочем, вернулся разоча-
рованным. Его образование представляло величайшие пробелы.
Жизнь его была разнообразная и полная приключений. Мы видим
его то во французской, то в русской и польской военной службе,
то в путешествиях по материку, то в далеком Иль-де-Франсе, где
он, в 1767—1771, пережил время новых тяжелых разочарований.
Вернувшись в Париж, он познакомился с Ж.-Ж. Руссо. Общая лю-
бовь к природе ведет их к общему наслаждению прогулками. Эти
сношения оставили в Сен-Пьере глубокие следы, которые ярко ока-
зываются уже в его первой книге, Voyage a Vile de France (1773), ко-
торую он составил на основании заметок и эскизов, ревностно со-
биравшихся на месте. Это сочинение имело мало успеха. Сен-Пьер
впал в нужду и тяжелые обстоятельства. Он несчастен, он нищий.
Затем дни для него проясняются. Он может переменить свою жал-
кую комнату на жилище с солнцем и большим видом (1781). Здесь
он оканчивает свои Etudes de la nature, три первые тома которых
вышли в конце 1784, между тем как четвертый том с Павлом и Вир-
гинией в 1788. Он сразу делается знаменитым человеком. Именно
к нему склоняются сердца женщин. Начинается дождь объяснений
в любви. И он, который в молодости долгие годы был женихом,
искавшим богатого приданого, теперь, в пятьдесят лет, женился
на едва двадцатилетней дочери своего издателя Дидо, от которого
выговорил себе в приданое остров на Эссонне (небольшом прито-
ке Сены) с загородным домом. Не очень счастливый брак продол-
жается недолго; Фелиситё Дидо рано умерла, и Сен-Пьер женился
во второй раз, чтобы на этот раз найти и дать действительное сча-
стье. Ему нечего искать теперь богатства; при консульстве и им-
перии к нему обильно текут синекуры и пенсии, выпрашивать ко-
торых он никогда не стеснялся. Он умер 21 января 1814 на своей
даче в Эраньи-сюр-Уаз. То, что он издавал после Etudes, Voeux d’un
solitaire (1789), Harmonies de la nature (1796) и т. д., все это, кроме
Chaumiere indienne (1791), справедливо забыто.
Бернарден де Сен-Пьер во всю свою жизнь остался романти-
ком, голова которого была наполнена утопиями Робинзона. В нем
427
жила мысль, что этот мир, хлопотливо и неустанно ведущий кру-
гом свое шумное существование, не есть настоящий и достойный
человека мир. Это человек, усталый от культуры и от Европы. В его
разнообразной и подвижной юности, в нем горит неодолимое же-
лание основывать патриархальные колонии в отдаленных странах,
то на Аральском озере, то на Мадагаскаре. Эти планы не удаются.
В различных положениях, в которых он это пробует, он не может
устоять. Во множестве записок он старается исправить этот мир,
который не подходит к его требованиям. Понятно, что он находит
мало благодарности. Тогда он поэтически изображает бесконечное
преимущество людей и отношений, еще не затронутых образова-
нием, которое разрушает нравы и счастье. Его описания путеше-
ствий теперь устарели; но они были написаны не напрасно: с ними
в изображения природы во французской литературе вошла роскошь
и разнообразие красок тропических стран, великолепие, детальная
живопись, оттенки тонов и красок, которые были еще неизвестны
Руссо. Его Ёшйез de la nature в научном отношении не имеют зна-
чения; их телеология ребяческая. Их изображения природы еще
более блестящи, чем более мрачные изображения в его Voyage. Его
блаженное чувство болезненно преувеличено. Чувство восхваляет-
ся, как истинный источник более благородной жизни, в противопо-
ложность разуму. Для Сен-Пьера оно становится прямо органом на-
учного познания природы, целью которого является несомненность
бытия Бога. Идя по следам Руссо, Сен-Пьер восстает против сухого
понятия необходимости в материалистических воззрениях и снова
с глубоким внутренним чувством восстанавливает религиозное со-
знание непосредственного божественного творчества и правления.
Чудеса природы, столь художественно созданной для употребления
человека, открывают Бога.
Истинное значение Бернардена де Сен-Пьера заключается в его
идиллии. Небольшой рассказ о Павле и Виргинии, появивший-
ся 1788 в четвертом томе его Etudes, отличается необыкновенною
свежестью и привлекательностью. Две благородные женщины за-
несены несправедливостью на далекий остров Южного моря. Там
растут вместе их дети, Павел и Виргиния, счастливой жизнью при-
роды, тесно связанные сначала нежной детской любовью, потом
пробуждающейся более глубокою страстью. Ничто не нарушает
счастья этого, полного любви и невинности уединения. Но затем
одна родственница зовет Виргинию в далекую Францию, где она
должна узнать все преимущества и заблуждения европейской обра-
зованности. После многих настояний Виргиния соглашается; но то-
ска о потерянном счастье ее острова и верность своему возлюблен-
ному скоро заставляют ее бежать из Парижа. На возвратном пути
она терпит кораблекрушение и гибнет в волнах. Павел и обе мате-
ри становятся жертвами непреодолимой тоски. Сюжет случайный
428
и произвольный. Трагический исход совершенно не мотивирован;
и столкновение простых детей природы с испорченным образова-
нием происходит не из внутренней необходимости, но только для
внешней нравоучительной цели, чтобы — по выражению Гёте — по-
казать все тягостные неправильные отношения, которые так страш-
ны в новейших государствах, между природой и законом, чувством
и обычаем, стремлением и предрассудком. Но впечатление всех
подробностей глубоко увлекательное и в высшем смысле поэтиче-
ское. На маленькой поэме лежит жар и волшебство тропического
мира. Александр Гумбольдт рассказывает в Космосе (ч. 2, стр. 67),
как глубоко он и его спутник Бонплан проникнуты были удивитель-
ной истиной этих изображений природы — под тихим блеском юж-
ного неба или когда в дождливое время на берегах Ориноко молния
с треском освещала лес. Язык пламенный, свежий, наивный, всегда
взятый из самой естественной жизни; изображение характеров про-
сто, сердечно, приятно и своей увлекающей обстоятельностью часто
напоминает обманывающую живопись подробностей в английском
Робинзоне. И мы могли бы почувствовать тоску по этом блаженном
детстве чистой и непосредственной человечности, если бы этот род
поэзии, выходящий не из наивного, но из сентиментального настро-
ения, не имел своих границ в том, что это счастье, которое мы счи-
таем целью всего человеческого развития, он изображает нам как
предшествующее началу образования и потому возбуждает в нас
больше печальное чувство потери, чем радостное чувство надежды.
Той же ненавистью к образованию отличается и Chaumiere indienne,
которая вышла в 1791. Эта «Индейская хижина» есть хижина прези-
раемого парии. Изгнанный из всякого общества пария научает ев-
ропейца, что начало и конец всякого блаженства есть чистое и про-
стодушное сердце.
Это искавшее покоя идиллическое настроение не было исключи-
тельным настроением Бернардена де Сен-Пьера. В Германии явился
Геснер с своими идиллиями и нашел у французов самое живое со-
чувствие. С пятидесятых годов были французские переводы отдель-
ных его стихотворений. В 1777 явилось уже путешествие в Южное
море Георга Форстера. Мы не должны удивляться, что при этом
оказывалось также и много вялого и приторного. Королева Ма-
рия-Антуанетта справедливо называла «Нуму Помпилия» Флориа-
на, плоское подражание Фенелонову «Телемаку», сладкой молочной
кашицей. Такую любовь к этой поэзии произвели именно всеобщее
утомление господствующей испорченностью, боязливое убеждение,
что испорченное старое требует возрождения и оживления, и без-
надежное отчаяние найти в изношенном европейском человечестве
тот источник живой воды, о котором рассказывают старые сказки.
Но экономия природы позаботилась о том, чтобы, когда утом-
ляется один член, с тем большей силой действовал другой. Только
429
все люди составляют круг человечества. Когда Гёте в недовольном
стремлении к покою бежал на Восток и писал свой «Диван», немцы
одержали свою великую победу, и Кернеры, Арндты, Шенкендорфы
пели свои мужественные песни свободы.
Почти в одно время и рядом с Бернарденом де Сен-Пьером дей-
ствует Бомарше. Это явная противоположность и открытый враг
всякой мечтательной чувствительности. Скромное счастье тихого
уединения находится как нельзя дальше от его понятий. Его беспо-
койная ртутная натура чувствует себя хорошо только тогда, когда
кругом него идет шум бури. Весь характер его есть страсть к дея-
тельности и скандалу. Это вполне человек революции, — ив сочи-
нениях, и в своей жизни.
Об его жизни мы имеем теперь достаточно сведений. М. Тур-
не в 1887 издал наконец ту обширную Histoire de Beaumarchais,
которую оставил в рукописи друг Бомарше, Гюден {Gudin de la
Brenellerie, ум. 1812). На работе Гюдена и на основательном изуче-
нии семейных бумаг и архивных документов основана прекрасная
книга Луи де Ломени Beaumarchais et son temps (1856), результаты
которого в разных отношениях дополнены или исправлены Лин-
тильяком (Lintilhac, Beaumarchais et ses oeuvres, 1887). На новых
обширных исследованиях в Германии, Англии, Франции и Испа-
нии основана прекрасная книга А. Беттельгейма Beaumarchais, eine
Biographic, 1886.
Пьер-Огюстен Карон, родившийся 24 января 1732 в Париже, был
сын часовщика. Семейство Карон принадлежало к той порядочной
и почтенной буржуазии Ancien regime, которая чем дальше, тем все
тяжелее чувствовала господство упадавших привилегированных со-
словий. Мальчик рос в центре столицы, «между четырьмя окнами»
отцовской мастерской, мимо которой двигалась парижская жизнь.
Это рано созревший, ветреный парень, от которого отец часто при-
ходил в отчаяние. Но, несмотря на свои разные посторонние инте-
ресы, он все-таки прекрасный часовщик. Карон-сын делает изобре-
тения и с успехом защищает их; он успевает даже показывать их
королю. До двадцати четырех лет он занимается ремеслом своего
отца. Затем он покупает себе небольшое придворное место, женит-
ся на состоятельной вдове и этой женитьбой получает право носить
имя Бомарше. Уже в следующем году (1757), и несмотря на его хи-
трости, для него потеряно было и ее состояние. Его красивая наруж-
ность, его искусство в стихотворстве на случай, его музыкальный
талант помогают ему и дальше в тех кругах, откуда получаются ми-
лости и земные блага. Его игра на арфе доставляет ему благосклон-
ность королевских принцесс.
С тех пор Карон был в полном ходу. Предприимчивая голова
и тонкий светский человек, с удивительным мужеством и находчи-
востью во всяких мудреных обстоятельствах, он сумел быстро со-
430
ставить себе состояние и положение в свете. Уже в 1756 он принял
имя Бомарше. По счастью для него, именно в это время знамени-
тый финансист Пари Дюверне основал Ёсо1е militaire1, и по разным
придворным интригам невозможно было побудить короля к посе-
щению этой школы. Дюверне обратился к Бомарше. Этот последний
настроил принцесс на этот визит, и они своими рассказами возбу-
дили любопытство короля. Наконец желание Дюверне исполнилось
(1760). Дюверне, убедившись во влиянии Бомарше, дал ему участие
в разных финансовых делах, доставил ему значительные авансы,
поддерживал его своим советом и знаниями. Бомарше купил себе
более важное место (secretaire du Roy, 1761), с которым соединялось
дворянское достоинство, но и теперь остался по-прежнему преиму-
щественно деловым человеком. В 1764 он отправился в Испанию,
чтобы вести там дело, чрезвычайно важное для французской тор-
говли. Он занимался при этом и большой политикой, и этому де-
ловому путешествию сумел придать, в глазах своих высоких покро-
вительниц и большой публики, романтический характер тем, что
исключительной целью путешествия выставлял мщение предателю
Клавиго.
Вторая женитьба, в 1770, принесла ему большое состояние. Тог-
да произошло событие, которое бросило его на совершенно другую
дорогу и в своих последствиях приобрело огромное значение для
целого века. Дюверне умер. В своих бумагах он признал, что состо-
ит должен Бомарше сумму в пятнадцать тысяч ливров. Наследник
Дюверне, граф Ла Блаш, уже давно завидовавший и не любивший
Бомарше, отвергал этот долг, хотя наследство было не менее полу-
тора миллиона. В октябре 1771 начался процесс. Первая инстанция
решила 22 февраля 1772 благоприятно для Бомарше. Ла Блаш повел
дело дальше; и когда Бомарше имел несчастье быстро потерять двух
жен одну за другой, Ла Блаш, имел даже дерзость распространить
слух, что Бомарше отравил их. Наступало решение второй инстан-
ции. Бомарше, посаженный по одному делу чести в Fort I’Eveque,
получил по обычаю позволение посещать судей. Место старого пар-
ламента занял ненавистный парламент Мопу; докладчиком в этом
парламенте был альзасец Гезман. Бомарше требовал у Гезмана сви-
дания, но не получил его: Бомарше сообщили, что этого свидания
можно добиться только подарком жене судьи, Бомарше уговарива-
ется с ней, дает ей сто луидоров, золотые часы с алмазами и еще
пятнадцать луидоров, для секретаря; жена обещала с своей сторо-
ны возвратить все назад, если процесс будет проигран. Процесс
был проигран (апрель 1773 г.). Ла Блаш заявляет свои требования
с такой суровостью, что Бомарше поставлен был в самое затрудни-
тельное положение. Он был раздражен до последней степени; он
1 Военная школа (фр.). —Прим. изд.
431
был убежден — и, конечно, справедливо, что процесс был потерян
только потому, что с другой стороны подкуп был еще значительнее.
Г-жа Гезман возвратила сто луидоров и часы; но, к несчастью, она
вздумала удержать пятнадцать луидоров, которые она взяла для се-
кретаря и утаила. Бомарше поднял шум, и Гезману, как только вещь
огласилась, оставался один отчаянный исход — отвергать подкуп
и начать встречный иск против Бомарше, как клеветника. Положе-
ние обвиняемого было крайне опасно; можно было предвидеть, что
суд только с большим трудом решится компрометировать одного
из своих важнейших сочленов. Более слабый характер был бы пода-
влен гнетом обстоятельств; но в Бомарше озлобление нарушенного
чувства правоты пробудило тем больше огня и энергии. Бомарше
обратился к публике с четырьмя мемуарами (с ноября 1773 до фев-
раля 1774). Неумолимо и с непреклонным мужеством, гневом и оду-
шевлением преследуя врага во всех его убежищах и укреплениях,
остроумный до наглости и шутовства и в то же время доходящий
в нравственном раздражении до истинно поразительной возвы-
шенности, он приводит целое общественное мнение в самое живое
движение, делает свой интерес интересом всех, становится мсти-
телем нарушенной справедливости и с проницательностью злобы
выставляет все те страшные интриги и преступления, от которых
страдало тогда французское правосудие. Впечатление, произведен-
ное этими мемуарами, прошло все слои населения, даже всю Евро-
пу. Первый мемуар в первые же два дня продан был в числе десяти
тысяч экземпляров; со второго мемуара его процесс сделался, как
тогда выражались, la cause de la nation1, можно даже сказать, про-
цессом всего образованного мира. Решение суда ожидалось с не-
терпением. Оно последовало 26 февраля 1774 г. Г-жа Гезман была
осуждена на «blame»2 и на возвращение пятнадцати луидоров, кото-
рые должны были быть розданы бедным; сам Гезман объявлен был
лишенным своей должности и Бомарше также осужден на «blame».
Это «blame» (порицание) было не что иное, как лишение всех граж-
данских прав; осужденный должен был, стоя на коленах, выслушать
формулу, произносимую президентом: «La cour te blame et te declare
infame»3 (ср. I. de Lomenie, Beaumarchais et son temps, Paris 1856, т. 1,
стр. 368). Бомарше явился перед судом; но общественное мнение
сделало из осуждения Бомарше осуждение парламента. Бомарше
получил бесчисленное множество визитов. На другой же день после
осуждения принц Конти пригласил заклейменного на блистатель-
ный пир; «nous sommes, — говорил принц в своем письме, — d’assez
bonne maison pour donner 1’exemple a la France de la maniere dont on
1 Дело нации (фр.). —Прим. изд.
2 Порицание (фр.). —Прим. изд.
3 Суд обвиняет вас и объявляет вам позор (фр.). — Прим. изд.
432
doit traiter un grand citoyen tel que vous»1. Везде, где ни показывался
Бомарше, он принимаем был с восторженными криками. Парламент
Мопу не мог долго сопротивляться этому удару. Нападения в стихах
и прозе становились все многочисленнее и сильнее. Он влачил свое
существование еще несколько месяцев, презираемый и гонимый
всеми. Вскоре умер Людовик XV. Одним из первых действий нового
короля было то, что парламент Мопу был уничтожен, а распущен-
ный прежний парламент снова восстановлен во всех своих пра-
вах. 6 сентября 1776 г. это клеймящее решение было уничтожено;
Бомарше, deblame2, возвращены были все его права и должности.
Таким же образом парламент в Э (Aix) 21 июля 1778 приговорил
графа Ла Блаша к возвращению суммы, выигранной по первому
процессу, вместе с процентами и штрафом за нарушение чести; это
была сумма в семьдесят тысяч ливров, которая на ту минуту при-
шлась для Бомарше очень кстати.
Чем был процесс Каласа для религиозной борьбы того времени,
тем был процесс Бомарше для борьбы политической. В этих знаме-
нательных событиях дело шло о равенстве перед законом. Теперь
оправдывалось то, что сказал Бомарше в своем четвертом мемуаре:
«La nation n’est pas assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais
son oeil majestueux plane sur I’assemblee. Si elle n’est jamais le juge des
particuliers, elle est en tout temps le juge des juges»3.
Но эти замечательные мемуары представляют только одну сто-
рону Бомарше. Еще важнее его поэтические произведения. Проник-
нутые тем же пламенным и энергическим стремлением, они везде
производят свое зажигающее действие. Гордые бюллетени Руссо
приобретают здесь плоть и кровь, личный характер и влияние.
Бомарше был драматург по природе. Его записки представляют
неистощимый запас сильных и уже вполне поставленных на сцену
мотивов. Известно, что Гёте буквально заимствовал из них для своей
трагедии «Клавиго» не только сюжет, но и самую поразительную ее
сцену. При всем том первые драматические опыты Бомарше были
не особенно счастливы. Драма «Eugenie» 1767 года и «Les deux amis
ou le negotiant de Lyon» 1770, были нравоучительно-трогательные
пьесы во вкусе Дидро, против которых Палиссо направил сатириче-
ские стишки:
Beaumarchais, trop obscur, pour etre interessant,
De son Dieu Diderot est le singe impuissant.
1 Мы достаточно хороший дом, чтобы подать пример Франции в том, как долж-
ны относиться к таким великим гражданам, как вы (фр.). — Прим. изд.
2 С него сняты обвинения (фр.). —Прим. изд.
3 Народ не сидит на скамейках у говорящих; но его величественный взор задер-
живается над ассамблеей. Если она никогда не является судьей отдельных лиц, она
всегда является судьей судей (фр.). — Прим. изд.
433
Хотя пьесы игрались одно время на всех сценах, от них не оста-
лось ничего, кроме того, что от них вошло в употребление приня-
тое Бомарше название «драма», тогда как Дидро, который в своих
драматургических статьях не раз употребляет слово drame, и Се-
ден удерживали еще для своих пьес название «комедии». Свою
настоящую дорогу Бомарше нашел только тогда, когда из этого
смешанного и подчиненного рода драмы возвысился до чистой ху-
дожественной комедии. По своей комической силе и широте своего
содержания комедии его принадлежат к лучшим комическим про-
изведениям всех времен.
Кто не знает бессмертных созданий Бомарше, «Севильского
Цирюльника» и «Свадьбу Фигаро»? Кто не знает этих блестящих остро-
умием, лукавых, смелых пьес, которые затрагивают самые глубокие
общественные явления и в то же время так свежи, молоды, по южно-
му пламенны и так вкрадчиво веселы, что двое величайших компози-
торов нашли в них вдохновение для самых увлекательных мелодий?
Первая комедия, «Севильский Цирюльник», относится ко времени
его возвращения из Испании (1765). Первоначально она была заду-
мана и компонирована им как опера. Но она была отвергнута в Ко-
мической опере, и тогда автор передал ее в Comediefrangaise, в каче-
стве комедии, в обработке, где еще сохранились счастливо различные
следы первоначального водевильного характера. Самые разнообраз-
ные препятствия и запрещения, стоявшие в связи с тогдашними про-
цессами поэта, задержали первое представление до 23 февраля 1775.
Оно не удалось. Пять актов были сокращены в четыре, и с тех пор
пьеса имеет неизменную силу. Мотивы, по-видимому, самые обыден-
ные и изношенные, красивая и любезная девушка, старый и ревни-
вый опекун, навязывающий ей свою любовь, хитрый и продувной
слуга, доставляющий своему молодому легкомысленному господину
желанную невесту, — эти мотивы дали здесь такую быстроту и за-
бавность действия, такую остроумную тонкость и легкость речи, та-
кую естественность, живость, грацию и новость в изображении ха-
рактеров, которые со времен Мольера были окончательно потеряны
у французов, как ни велик однако их талант в комедии.
«Севильский Цирюльник» до нашего времени есть бесспорно со-
вершеннейшая из французских пьес с интригой. Скриб усвоил себе,
правда, от Бомарше внешнюю постройку, но ему недостает весело-
сти и свободы, которые действуют в произведении Бомарше таким
чарующим образом, что он справедливо мог хвалиться, что, следуя
врожденной веселости своего характера, он восстановил веселость
старой французской комедии. Но эта комедия есть решительный
подвиг не только в истории поэзии, по и в истории всего образо-
вания того времени. Из-за всей этой беззаботной веселости выгля-
дывает глубокая политическая оппозиция. В комедии есть резкая
демократическая черта; и не только в отдельных намеках и метком
434
остроумии, но в целом плане и основном мотиве. С незапамятных
времен было непременным обычаем, что плебей всегда осмеивает-
ся, в угоду знатным; но здесь все нити держит Фигаро, человек из са-
мого низшего класса, цирюльник, слуга, и своим тонким умствен-
ным превосходством он сам заставляет знатных служить себе. Это
была новость, и эта новость имела великое историческое значение.
Но «Севильский Цирюльник» был только началом. Полная мол-
ния разразилась в его продолжении, в «Свадьбе Фигаро». То, что там
было еще робко и тихо, здесь принимает твердый и определенный
вид, является сознательным и намеренным. Граф хочет отнять у слу-
ги его любезную, но слуга уничтожает все его покушения; хитрый
слуга перехитрил хитрого графа, и последний делается посмешищем
общества. Чрезвычайно живые, занимательные, разнообразные ха-
рактеры, всегда остроумный ход действия возбуждают живейший
драматический интерес; веселая, пылающая любовью атмосфера,
проникающая все положения, доставляет поэтическую прелесть
и беззаботно-веселое настроение. Но все служит к тому, чтобы твер-
до и настоятельно выставить основную мысль о равноправности
всех. Превосходство ума восстает против притязательных приви-
легий звания и богатства; третье сословие, непокорная буржуазия,
восстает против высокомерия дворянства; неистребимое чувство
человеческого достоинства — против государства, которое для вы-
годы немногих осуждает на всеобщее рабство всех остальных.
Где можно было прежде слышать слова вроде знаменитого мо-
нолога Фигаро в пятом акте: «Non, Monsieur le conte, vous ne 1’aurez
pas------vous ne 1’aurez pas. Parce que vous etes un grand seigneur,
vous vous croyez un grand genie! Noblesse, fortune, un rang, des places,
tout cela rend si fieri Qu’avez vous fait pour tant de biens? vous vous etes
donne la peine de naitre, et rien de plus. Du reste, homme assez ordi-
naire; tandis que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu
deployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu’on
n’en a mis depuis cent ans a gouverner toutes les Espagnes. Ne pouvant
avilir 1’esprit, on se venge en le maltraitant.
Il s’eleve une question sur la nature de richesse, et comme il n’est
pas necessaire de tenir les choses pour en raisonner, n’ayant pas un sou,
j’ecris sur la valeur de 1’argent et sur son produit net; sitot je vois du fond
d’un fiacre baisser pour moi le pont d’un chateau fort et a I’entree duquel
je laissai I’esperance et la liberte.-Pourvu que je ne parle en mes
ecrits ni de I’autorite, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni
des gens en place, ni des corps en credit, ni de I’opera, ni des autres spec-
tacles, ni de personne, qui tienne a quelque chose, je puis tout imprimer
librement sous 1’inspection de deux ou trois censeurs»1.
1 Нет, месье граф, вы не будете, не будете. Поскольку вы великий лорд, вы счи-
таете себя большим гением! Благородство, удача, звание, места — все это застав-
435
И дальше, этот знаменитый разговор: Figaro. J’etais ne pour
etre courtisan. — Susanne. On dit que c’est un metier si difficile. —
Fig. Recevoir, prendre et demander, voila le secret en trois mots1. И, на-
конец, сцена суда в третьем акте. Граф, имеющий судебную власть
в своих землях, хочет держать суд. Он спрашивает Фигаро, все ли
готово. «Eh! qu’est се qu’il у manque! — отвечает Фигаро. — Le grand
fauteuil pour vous, de bonnes chaises aux prud’hommes, le tabouret du
greffier, deux banquettes aux avocats, le plancher pour le beau monde
et la canaille derriere»2. Марселина спрашивает судью, известного
своей глупостью: «Quoi! c’est vous qui nous jugerez?» Он отвечает:
«Est ce que j’ai achete ma charge pour autre chose?»3
В предисловии, где Бомарше старается извинить и оправдать эти
колкие и раздражающие выходки, он прямо выставляет в резкой
противоположности «bourgeoise integrite» и «noble infidelite»4.
Le Mariage de Figaro ou la folle journee в своих набросках идет,
кажется, еще из половины семидесятых годов; в 1780 он вероятно
дал пьесе окончательную форму, и в конце 1781 она была отдана
актерам. Нет ничего удивительного, что постановка ее на сцену
встретила величайшие затруднения. Цензура делала мало препят-
ствий, но тем сильнее было противоречие в высших кругах, где
в то же время читалась пьеса Бомарше. К его противникам здесь
принадлежал, в особенности, сам король, который объявил, что
представление такой пьесы как будто заключало бы в себе позво-
ление к разрушению Бастильи. Биографы подробно рассказывают,
ляет вас так гордиться! Что вы сделали, чтобы получить все эти блага? Вы взяли
на себя труд родиться, и не более того. В остальном, довольно обычный человек;
в то время как я сволочь. Потерявшись в темной толпе, я задействовал больше нау-
ки и расчетов, чтобы выжить в одиночку, чем было потрачено за сто лет правления
всей Испанией. Не имея возможности унизить дух, мы мстим жестоким обращени-
ем с ним.
Возникает вопрос о природе богатства, и поскольку нет необходимости сдержи-
ваться в рассуждениях об этом, не имея ни гроша в кармане, я пишу о стоимости
денег и их чистой прибыли; и только вижу я дно экипажа, перед которым опуска-
ется мост укрепленного замка, при въезде в который я оставляю надежду и свою
свободу. — При условии, что я не говорю в своих произведениях ни об авторитете,
ни о богослужении, ни о политике, ни о морали, ни о людях на местах, ни о дей-
ствующих лицах, ни об опере, ни о других спектаклях, ни о ком другом, кого что-
то волнует, я могу все свободно распечатать под контролем двух-трех цензоров
(фр.). —Прим. изд.
1 Фигаро: «Я родился придворным». Сюзанна: «Говорят, это такая сложная ра-
бота». Фигаро: «Принимать, брать и просить — вот секрет в трех словах» (фр.). —
Прим. изд.
2 Э, чего ж там не хватает! Большое кресло для вас, хорошие стулья для присяж-
ных, табурет для секретаря, две скамейки для юристов, настил для хороших людей
и сброд позади (фр.). —Прим. изд.
3 Как! Это вы будете нас судить? — А для чего же еще я купил эту должность?
(фр.). —Прим. изд.
4 Буржуазная честность и аристократическая неверность (фр.). —Прим. изд.
436
каких интриг, просьб, наглости и лести Бомарше стоило получить
позволение; Лагарп метко говорит, что Бомарше нужно было мень-
ше ума, чтобы написать пьесу, чем чтобы поставить ее на сцену.
Бомарше вел как будто личную борьбу с королем и, в конце кон-
цов, вышел из нее победителем. Первое представление дано было
27 апреля 1784. С раннего утра Theatre Frangais был уже осажден
массами. Знатные дамы обедали в актерских ложах, чтобы обеспе-
чить себе хорошие места; в толпе, как рассказывают достоверные
известия, три человека были задавлены (ср. Lomenie, ib., стр. 325).
Впечатление, было неслыханное в истории сцены. Шестьдесят во-
семь представлений даны были без перерыва одно за другим. Ла-
гарп, бывший на первом представлении, говорит: «Легко можно
себе представить наслаждение и радость толпы, которая хотела за-
бавляться на счет правительства, которое само было довольно тем,
что его осмеивают таким образом».
Толпа была, однако, не совсем довольна. Граф Прованский, впо-
следствии король Людовик XVIII, взялся за перо и написал безымян-
ную критику, на которую ничего не подозревавший Бомарше отве-
тил с остроумной насмешкой. За эту неосторожность он поплатился
заключением в исправительное заведение (март 1785 г.), но ввиду
противоречия общественного мнения это заключение продолжа-
лось лишь несколько дней, и за тревогу этих дней король, между
прочим, вознаградил его тем, что велел уплатить ему старое требо-
вание двух миллионов ливров.
К странным противоречиям этого полного противоречиями вре-
мени принадлежит то, что в августе того же года Бомарше получил
торжественное приглашение в Трианон, где представлен был его
«Севильский Цирюльник» с музыкой Паизиелло. Мария-Антуанетта
играла Розину, а будущий Карл X — Фигаро.
Так играли с огнем. Вернее, смотрел на вещи король швед-
ский Густав III; когда при нем говорили о неприличности неко-
торых мест, он сказал: «J’ai trouve la piece insolente, mais non pas
indecente»1. Наполеон выражался впоследствии, что Фигаро был 1а
revolution deja en action2. Эпиграммы комедии стали пословицами.
Еще немного лет, и пришло время, когда Фигаро является в садах
Пале-Рояля яростным народным оратором и возбуждает массы
к низвержению престола.
Скажем еще несколько слов о жизни Бомарше.
После своего скандалезного процесса с парламентом Мопу, он
много лет был тайным политическим агентом Людовика XV и XVI;
он стал настоящим искателем приключений, странствующим пи-
каро, с двусмысленным поведением, с романическими, действи-
1 Я нашел игру дерзкой, но не неприличной (фр.). —Прим. изд.
2 Революцией уже в действии (фр.). — Прим. изд.
437
тельными и выдуманными похождениями. Во время американ-
ской войны за независимость он занялся арматурой кораблей,
и его военный корабль, le fies Rodrigue, принял решающее участие
в морском сражении при Ла Гренаде. В 1780 он основал Societe
typographique1, станки которого в Келе должны были печатать со-
чинения Вольтера. В течение всех этих годов он составил множе-
ство мемуаров, отчетов, воззваний — «й fait tous les metiers»2, —
как говорит Фигаро в знаменитом монологе. В особенности он
стал также и адвокатом драматических писателей против эксплуа-
тации, какую производили привилегированные сцены; он стал на-
стоящим основателем Societe des auteurs dramatiques (1777) и уста-
новил новое определение финансовой доли писателей в успехе их
театральных пьес (1780). Год успеха Mariage de Figaro принес дур-
ной поворот в его делах. Нечистые биржевые операции завлекли
его в полемику с Мирабо, перед могущественной речью которого
его находчивость должна была отступить. Для него наступили не-
приятные годы. Его оперное либретто «Тагаге» запутано и незначи-
тельно и замечательно только предисловием, которое, не понимая
великих стремлений Глюка, вроде нынешней школы Рихарда Вагне-
ра, настаивает на самом безусловном подчинении музыки строгим
границам слова. Еще его последняя драма «La mere coupable» 1792,
которая опять совершенно впадает в сухую нравоучительность его
первых пьес.
В волнениях французской революции Бомарше не принимал уча-
стия. Нападение на Бастилию, которое приготовили его сочинения,
повредило его дворцу; но своей щедростью и советами в своей те-
атральной манере он еще мог отклонить от себя общественное не-
доверие. В 1792 он пускается в торговлю оружием, которая навлек-
ла на него подозрение в государственной измене; он был арестован
и, когда он был выпущен на свободу, для шестидесятилетнего че-
ловека начинается время бесконечной самозащиты и бесконечных
странствий. Два раза он бежит в Англию; в изгнании и в бедности
он живет в Гамбурге, в Любеке, беспрестанно составляя записки
ко всем державам. В июле 1796 он получил возможность вернуться
в Париж. Но он не нашел спокойствия и здесь: ему пришлось защи-
щаться от всевозможных врагов.
Он умер в ночь с 17 на 18 мая 1799.
Как комический писатель, Бомарше еще не имел соперника.
Если мы когда-нибудь снова получим великую политическую
комедию, взятую из общественной жизни, то образец наш будет
не в аристофановской комедии, построенной на совершенно иных
основаниях, а в Тартюфе и Фигаро.
1 Типографическое общество (фр.). —Прим. изд.
2 Он делает все (фр.). —Прим. изд.
438
И эту смелую и отважную своенравность этих комедий едва ли
можно серьезно упрекать в безнравственности. Конечно, Бомарше
не свободен от пятен, которые лежат на всем его веке; но дурное ни-
когда не побеждает хорошего, как это, к сожалению, бывает боль-
шей частью в нынешних французских комедиях. Справедливо было
замечено, что Бомарше, как комический поэт, нравствен именно
на столько, сколько может быть нравствен Аристофан, безжалостно
раскрывающий общественное зло, чтобы исправить его.
И если где-нибудь, то именно в Бомарше обнаруживается все мо-
гущество политической комедии. Бомарше имеет то великое и бо-
гатое последствиями значение, что из всех французских писателей
восемнадцатого столетия он всего сильнее действует и на низшие
классы народа.
Книга третья
Могущество
французской литературы
просвещения
Глава первая
ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Чисто научный результат французской литературы просвеще-
ния не очень значителен. Только немногие из этих писателей вла-
дели творчеством и оригинальностью; это видит каждый, и они
сами признаются, что свои мнения и образ мыслей они заимство-
вали большей частью у английских исследователей и мыслителей.
Одни просто довольствуются данной мерой полученного сокрови-
ща и дают ему удобное и деятельное обращение в хорошей монете;
другие стараются, правда, увеличить и самостоятельно развить его
дальше, но и эти дают скорее остроумное возбуждение, чем дей-
ствительно завершающие факты и идеи. Понятно следовательно,
что история философии теперь обыкновенно мало говорит об этих
стремлениях, хотя все-таки ей гораздо приличнее было бы беспри-
страстно принять и представить их, вместо того чтобы, не зная дела,
бросать о них несколько самодовольных слов.
Точно также немного можно указать замечательных вещей
и в художественном отношении. Рамки французского классициз-
ма разбиты, начинает действовать более свежая и более нацио-
нальная поэзия; но содержание большей частью сухо и бедно,
преднамеренно и нравоучительно; форма, хотя и стремится к есте-
ственности, большей частью остается весьма поверхностна. Если
исключить Бомарше, то нет нигде чистого золота полной освобо-
ждающей красоты.
Но при всем том французская литература просвещения составля-
ет один из могущественнейших моментов в истории человечества.
Мы были бы несправедливы к этим писателям, если бы, обсуждая
их, прилагали к ним исключительно одну научную или художе-
ственную мерку. Историки науки еще недостаточно оценивают то,
что научное и культурно-историческое значение не всегда идут ря-
дом и параллельно. Мелкий торговец возможен только при боль-
шом; но обыденная торговля поддерживается преимущественно
мелочной продажей. Сократические школы с их общепонятными
и легко приложимыми учениями действовали на всеобщий образ
мыслей гораздо больше, чем Платон, хотя и были менее развиты
сравнительно с учениями Платона.
443
Такими общепонятными и прямо входившими в жизнь популяр-
ными философами были и французские просветители. Англичане
отчасти были доступны, по трудности своего содержания и изло-
жения, только самому тесному кружку ученых; отчасти они были
уединены своей отдельностью на острове и еще небольшим тогда
распространением их языка, и потому влияние их было сильно
ограничено. Положение французских писателей было более благо-
приятно. Их ловкая, остроумная, ищущая блеска природа была не-
истощима в разнообразных и приятных формах; они несравненны
в искусстве представлять даже самое трудное ясным и завлекатель-
ным образом; их язык был язык всемирный. Они распространили
новое учение по всем странам и сословиям. В Европе уже издавна
привыкли покорно принимать из Парижа не только моды, но даже
и характер всех более глубоких направлений. Поэтому новый дух
невидимо и незаметно овладел везде не только людьми более обра-
зованными, но и массой.
В этой-то решительности и универсальности действия, в этом
определяющем влиянии на жизнь, а не в отдельных великих и само-
стоятельных открытиях и исследованиях заключается могущество
и историческое значение этой французской литературы просвеще-
ния. Это не есть литература, рассчитанная исключительно только
для самих же литераторов, литература, которая пишется от одно-
го письменного стола до другого, от ученого до ученого, от знато-
ка до знатока; но литература, которая страстно и ревниво сознает
в себе более высокое призвание — непосредственно воспитывать
народ и преобразовывать нравы и общество по установленным ею
понятиям. Она не служит целью самой себе; она ставит свою гор-
дость в том, чтобы быть только средством для более высокой цели.
Однажды разгневанный Людовик XIV сказал: «Не думает ли Расин,
что он может все, оттого что он пишет хорошие стихи; не хочет ли
он сделаться министром, оттого что он писатель?», и Расин исто-
сковался от этой немилости короля. Теперь нравы совсем иные. Но-
вое литературное направление видит свое высокое посланничество
в том, чтобы испорченной действительности противопоставить не-
преклонную мысль и спасительный идеал, и литература не отсту-
пает пугливо и рабски назад, если противоречие между идеалом
и действительностью зовет ее на тяжелую борьбу.
Является такое возбуждение умов и происходит такой глубокий
и всеобщий переворот во мнениях и взглядах людей, какого еще
не бывало со времен великой реформации шестнадцатого столетия.
Просвещение восемнадцатого века не только продолжает преждев-
ременно прерванное дело реформации шестнадцатого века, но са-
мостоятельно и своеобразно развивает его дальше. Его идеи и тре-
бования смелее и настоятельнее, решительнее и неустрашимее.
Реформация была делом теологии, просвещение — дело философии.
444
В Лютере основные теологические понятия остались нетронутыми;
новый образ мыслей идет в своем отрицании дальше и сводит все,
даже религиозное познание, к человеческому мышлению и ощуще-
нию. В Лютере еще сохранялось теологическое определение власти;
новый образ мыслей пробуждает в людях сознание, что так как пра-
вительство, в сущности, служит человеческим целям, то оно может
изменяться по изменяющимся во времени и месте целям, и что
оно может быть определяемо собственной мыслью и полномочием
народа, которому оно служит выражением и руководством. Ничто
не должно иметь силы потому только, что оно традиционно и на-
ложено извне. Только свободное, чисто на самом себе основанное
мышление решает об истине вещей, о нравственных и обществен-
ных правах и обязанностях. Разум снова завоевал свое потерянное
могущество; человек снова приходит к сознанию самого себя. Ста-
рые воззрения и предания, которые не выдерживают его критики,
разрушаются, как пустые идолы. Французы называют восемнадца-
тый век веком философским, и они правы в этом, — не по глубине
этой философии, но по действительности ее влияния. Ни один век
человеческой истории не был под таким непосредственным господ-
ством философии. Человечество верит в силу и истину философии.
Кант высказывает ту же мысль, называя просвещение выходом лю-
дей из их добровольного малолетства.
Эта победа самосознательности человеческого духа есть основ-
ная мысль просвещения. Из этой основной мысли объясняется
с одной стороны тот недостаток этих писателей, что у них нет ни-
какого понимания и уважения к прошедшему и к историческому
развитию, что в религии они видят только властолюбивую прихоть
жрецов и в государстве только случайный договор. Но вместе с тем
из этой мысли объясняется и их величие. С геройски мужествен-
ной и истинно удивительной энергией и смелостью, с благород-
нейшим самоотвержением и одушевлением, с могучим негодова-
нием глубоко возмущенного нравственного чувства восстают эти
писатели против всего, что противоречит в государстве и церкви
ненарушимым правам ума и сердца. Под самым печальным гнетом
клерикалов и насилий светской власти они защищают свободу и до-
стоинство человеческой природы. Против упорства клерикальных
принципов они настаивают на свободе мысли и совести, на люб-
ви и терпимости; против угнетений господствующей политической
формы они настаивают сначала на улучшении управления, потом
на преобразовании политического устройства, на смягчении пода-
тей и наказаний. Человек существует не для одного удовольствия
нескольких привилегированных, которые пируют на труды бедня-
ков; он в самом себе имеет свое право и свое назначение. Ему долж-
ны быть даны просвещение и освобождение посредством доступ-
ного для всех воспитания и образования. Всех лучших людей этого
445
времени проникает горячая и деятельная любовь к людям, свежее
юношеское одушевление и готовность жертвовать собой за дело че-
ловечества.
Завет этой веры в дело человечества есть Esquisse (Тип tableau
historique des progres de 1’esprit humain, написанный Кондорсе, ко-
торый уже в своих биографиях Тюрго и Вольтера изложил стрем-
ления всего просветительного движения, написанный в течение
тех месяцев, когда он скрывался от гонения конвента, прежде чем
пошел на добровольную смерть (1794), — Esquisse, который тот же
конвент, по предложению Дону, в 1795 велел напечатать и сколько
возможно распространить во всей стране. В этой книге, часто не-
справедливо осуждаемой, Кондорсе хочет исторически и проро-
чески представить развитие способностей человека. Он хочет по-
казать, какой из девяти периодов, на которые он делит историю,
был успехом человечества на его не всегда прямом пути к истине
и к счастью, и затем, в десятом отделе, на основании рассмотре-
ния прошедшего он хочет определить, какие успехи еще предостав-
лены человеческому уму в будущем. Наши надежды относительно
будущего состояния человечества могут быть сведены к трем пун-
ктам: уничтожение неравенства между нациями, успех равенства
в пределах одного народа и, наконец, действительное усовершен-
ствование человека. Торговля и сношения будут все более сближать
и уравнивать нации и приведут гуманную колониальную политику
и в темные части света. Неравенство владения и образования в пре-
делах одного народа не будет, правда, вполне уничтожено, но будет
все-таки постоянно уменьшаться, например, посредством застрахо-
вания старости и жизни, посредством всеобщего народного обуче-
ния, которое даст каждому ту меру образования, «какая исключает
всякую вынужденную или добровольную зависимость». Тогда как
в настоящее время в самых просвещенных странах едва только два
процента талантливых людей получают обучение, необходимое для
применения этих талантов, в будущем число людей, участвующих
в научной работе, будет увеличиваться, и через это науки будут
двигаться вперед гораздо быстрее. За ними последует промышлен-
ность, лучшее пользование почвой и сырым материалом, лучшие
законы и общественные учреждения. Привычка сообща и публично
обсуждать вопросы всего быта поведет к успехам нравственности,
к уменьшению преступлений. Предрассудки, которые имели след-
ствием неравенство прав между обоими полами, исчезнут. Войны,
между прочим и таможенные войны, будут неизвестны. С успехами
знания улучшатся и жизненные условия изящных искусств. Если бы
даже не усовершенствовались естественные способности человека,
то уже из показанного здесь, постоянно возрастающего, употребле-
ния этих способностей можно было бы вывести заключение, что
усовершаемость человека безгранична (la perfectibilite de Fhomme
446
est indefinie, стр. 379). Но все, что мы знаем о развитии органиче-
ского мира, показывает нам, что и человеческий организм будет
также развиваться, и вместе с тем будут совершенствоваться ум-
ственные и нравственные способности человека. Успехи медицины
и особенно гигиены будут все более уменьшать ошибки в способе
питания и опасность заразительных и наследственных болезней,
так что придет время, ой la mort ne serait plus que I’effet ou d’accidens
extraordinaires ou de la destruction de plus enplus lente des forces vitales1.
Человек, конечно, не станет бессмертным, но средняя продолжи-
тельность жизни увеличится. — Мысль, что человечество шествует
этим путем к истине и к счастью, может утешить мудрого ввиду тех
заблуждений, преступлений и несправедливостей, какими земля
еще запятнана и жертвой которых он часто сам бывает. В созерца-
нии этой картины он найдет награду за свой труд в служении раз-
уму и свободе.
Поэтому теперь пора бы уже перестать говорить только о раз-
лагающем, уничтожающем, отрицательном характере, о легкомыс-
лии и дерзости французского просвещения. Гегель, который из всех
новейших немецких писателей вообще всего беспристрастнее су-
дит эту французскую философию просвещения, в своей «Феноме-
нологии Духа» и в «Чтениях об истории философии и о философии
истории» посвятил ей подробное обсуждение, и в своей «Истории
философии» (ч. 3, стр. 514, след.) справедливо называет эту борь-
бу нападением разумного инстинкта на состояние испорченно-
сти и всеобщей и совершенной лжи, разрушением того, что уже
было разрушено в самом себе. Он говорит: «Мы привыкли укорять
французов за их нападения на религию и государство. Надо иметь
понятие об ужасном состоянии общества, о бедствиях, о низости
во Франции, чтобы оценить их заслугу. Теперь только лицемерие,
ханжество, тирания, которая видит теперь похищенным свое похи-
щение, только слабоумие могут говорить, что они нападали на ре-
лигию, государство и нравственность. Какая была эта религия? Это
была религия, не очищенная реформой, — самое постыдное суеве-
рие, господство католического изуверства, тупость, презренный об-
раз мыслей, в особенности же мотовство и разврат с помощью “вре-
менных” владений и ввиду народных бедствий. Какое государство?
Самое слепое господство министров и их любовниц, жен, камерди-
неров, — так что огромная толпа мелких тиранов и тунеядцев счи-
тала своим божественным правом расхищать доходы государства
и труд народа. Бесстыдство и бесчестность доходили до невероят-
ного размера; нравы вполне соответствовали негодности учрежде-
ний. Мы видим беззаконие относительно законного и политиче-
ского, и такое же беззаконие относительно совести и мысли».
1 Когда смерть будет не чем иным, как следствием чрезвычайных происшествий
или все более и более медленным разрушением жизненных сил (фр.). —Прим. изд.
447
В этом нет сомнения. Нет эпохи, на которой можно было бы
отдохнуть вполне и от всей души. Характеры, которые являются
здесь, вовсе не великие характеры, имеющие право на безусловное
уважение. Но разве Монтескьё и Бюффон, и даже сами предводи-
тели материализма, которых бранили так много, Дидро, Гольбах,
Гельвеций, разве это не были люди, достойные уважения по своему
нравственному характеру? А главное, были ли чище и благороднее
характеры на противной стороне, и те пятна, которые мы указыва-
ем на личностях этих писателей просвещения, не были ли только
постыдным клеймом того гнусного и испорченного прошедшего,
которое они всеми своими силами стремились низвергнуть и пре-
образовать? Мысли и стремления этих людей страдают произволом
и лихорадочной поспешностью. В науке это опьянение смелой рев-
ности считает несомненным и решенным то, что еще требует бес-
конечно более глубокого объяснения и развития, и в этом развитии
должно еще счистить много лишних наростов и полнее обработать
много сильных и здоровых зачатков. В фактической действительно-
сти эта ревность думает, что может определить богатую и обширную
жизнь природы и человека одним приговором безжизненной, огра-
ниченной общими понятиями логики, и предается вредному заблу-
ждению, что будто бы мир, освободившись вдруг, от всех привычек
и преданий, вросших в нравы и понятия людей, может совершенно
изменить свой ход и начать его снова. Это еще не перебродившее
вино; это, по меткому выражению Гегеля, фанатизм отвлеченной
мысли. Но век французского просвещения есть век переходный,
со всеми его опасностями и надеждами на будущее. Если бы эти
люди были только безнравственными, остроумными и дерзкими на-
смешниками, за каких обыкновенно они выдаются, то как бы могли
они оставить такие глубокие следы своего существования в верова-
ниях, мышлении и деятельности следовавших поколений? Слабо-
сти и ошибки, насильственность и преувеличения теперь поняты;
благие стороны сохранились и не погибнут. Образование, углублен-
ное и обогащенное великими приобретениями Лессинга, Гердера,
Канта, Гёте и Шиллера, не имеет уже ничего общего с той борьбой,
цели которой были узки и неясны и орудие которой отчасти было
скорее софистическое, нежели действительно философское. Но тот,
кто твердо и прямо идет по расчищенному и выровненному пути,
не должен бранить тех, кто прокладывал этот путь, что они во мра-
ке и в дикой пустыне не шли также прямо, но сначала должны были
сделать много обходов или терять иногда дорогу.
Олимпийские боги низвергают восставших титанов в подземный
мир; но миф сохранил благодарное воспоминание об их подвигах.
Глава вторая
ВЛИЯНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
НА ПОЛИТИКУ И ЛИТЕРАТУРУ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФРАНЦИИ
Великие перемены и перевороты, сделавшие вторую половину
восемнадцатого века одной из самых могущественных эпох челове-
ческого развития, распадаются на две эпохи, резко отличные одна
от другой по времени и характеру.
Первая эпоха представляет улучшения и преобразования, кото-
рые были поняты и выполняемы самими правительствами. Вторая
эпоха идет снизу вверх; она не монархическая, а демократическая;
это не реформа, а революция. Но обе эпохи стоят в теснейшей связи
с стремлениями и целями французской литературы просвещения;
они стараются осуществить то, что наука выставляла как необходи-
мое требование разума; только одна эпоха гораздо шире и самосто-
ятельнее другой.
Во главе этого первого, мирного, монархического движения сто-
ит Фридрих Великий, король философ, выросший почти исключи-
тельно под впечатлениями французской литературы, одинаково ге-
ниальный, как государственный человек и как воин.
Пруссия по разбросанности своих земель и по своему быстро-
му возвышению должна была рассчитывать на большую военную
силу и делать возможные усилия для накопления денег налога-
ми. Проницательные государи уже давно заботились о том, чтобы
уничтожить старые феодальные порядки и, как выражался Фридрих
Вильгельм I, «gegen die Autoritat der Junkers ihre Souveranitat wie ein
rocher von Bronce zu stabiliren»1. Но Фридрих Великий сделал мо-
гущественный и глубоко значительный шаг вперед, когда твердо
и сознательно на место личности государя и его неограниченной
власти и произвола высшей точкой зрения поставил понятие госу-
дарства как государства. Государь не должен был стоять выше го-
сударства и считать его своей личной собственностью; он должен
был подчиниться государству и с самопожертвованием заботиться
1 ...Против власти знати, чтобы стабилизировать суверенитет как непоколеби-
мую силу (нем.). —Прим. изд.
449
единственно о его благе. Слова Ришелье, сказанные им в доказа-
тельство неограниченности власти государя, что государь, постав-
ленный на высшей вершине человечества, должен дать господство
разуму, — эти слова должны были теперь на деле стать историче-
ской истиной, не простым предлогом и маской, а настоящим де-
лом. Фридриху принадлежит замечательное изречение, что, так как
сохранение законов было единственным основанием, по которому
люди установили у себя власть, то и единственное основание вер-
ховной власти заключается в том, чтобы суверен был только пер-
вым слугой государства, обязанным действовать честно, мудро
и бескорыстно, как будто он каждую минуту должен был отдать
отчет в своем управлении. В этом смысле Фридрих Великий создал
и выполнил свое управление, устроил свое законодательство, су-
щественные положения которого сохраняют свою силу до сих пор;
в этом смысле он был самым строгим судьей всех притязаний се-
бялюбивой церковности. Через деятельность Фридриха Великого,
относительно маленькая Пруссия сделалась одним из сильнейших
и важнейших государств Европы. Если Фридриха Великого называ-
ли героем своего века, то он был этим героем не только по своим
внешним завоеваниям, но еще более по этим своим завоеваниям
внутренним.
Его блестящий пример должен был тем сильнее побуждать к са-
мому деятельному соревнованию, что везде почти неограниченная
власть государей накопила большие массы войска, и они для своего
содержания требовали соответственного благосостояния народа.
Великому примеру следовал почтенный ряд государей с самыми ве-
ликодушными намерениями: Иосиф II, Леопольд Тосканский, Екате-
рина II, Густав III; в других государствах в том же смысле трудились
просвещенные государственные люди: Тануччи, Сквиллаче и Карач-
чоли в Неаполе, Помбаль в Португалии, Аранда и Кампоманес в Ис-
пании, Шуазёль, Тюрго и Малерб во Франции, Дю Тильо в Парме,
Бернсторфы и Струэнзе в Дании. То же великое движение оказалось
и в республиканских государствах; в Нидерландах штатгальтерство
с новым мужеством воспротивилось притязаниям так называемых
патриотов; в Венеции сделан был, конечно, бесплодный опыт унич-
тожить злоупотребления старого устройства. Даже в Татарии, как
рассказывают записки Дома (Dohm’s Denkwiird, ч. 2, стр. 56), хоте-
ли для пользы народного воспитания перевести на татарский язык
французскую «Энциклопедию».
Если уже принципы и меры Фридриха Великого основывались
отчасти на французском влиянии, то у более внешних подражате-
лей, менее богатых собственным творчеством, это влияние обнару-
живается еще осязательнее. Эти подражатели делают многое если
даже не по внутреннему убеждению и необходимости, то из лич-
ного тщеславия. Французские писатели просвещения приобретают
450
какой-то особый авторитет и как будто наблюдают за действиями
правительств. Читая огромную переписку этих писателей с госуда-
рями, мы видим, как они то с мужественной смелостью, то с низкой
лестью ободряют и поощряют своих высоких воспитанников, и го-
судари с своей стороны делают или, что также случалось нередко,
только лицемерят многое, чтобы иметь похвалы и прославления
от этих писателей. Поразительным примером может быть Дидро,
писавший к Екатерине: «Si vous faites cas de grandes actions heroiques,
votre role est tres glorieux, mais si vous faites cas de vertus futiles, votre
role n’est pas egalement beau»1, или Мирабо, который с другой сторо-
ны мог писать в Lettres ecrites du Donjon de Vincennes: «Catherine met
en contribution tous les beaux esprits de son siecle pour ecrire en phrases
pompeuses ce qui ne fut jamais dans son coeur, ce qui dementent chaque
jour son administration et sa conduite»2 (cp. Wachsmuth, Das Zeitalter
der Revolution, т. 1, стр. 123).
Правда, эти преобразовательные стремления государей встреча-
лись с довольно мудреными препятствиями. А именно еще до сих
пор все зависело от силы и взгляда случайно господствующей лич-
ности. Помбаль отличался жестоким упорством Петра Великого,
но не его гениальностью; Густав III и Струэнзе были себялюбивые
развратники, которые играли с идеалами, пока они приносили им
пользу, но дерзко отвергали эти идеалы иди трусливо отказывались
от них, как скоро от них терпело их себялюбие; Екатерина живо за-
думывала планы, но не имела выдержки в исполнении и, тщеславясь
блестящей внешностью, совершенно забывала более глубокое тре-
бование твердой и искренней последовательности. Во всех странах
было много шумных начинаний, но нигде соответственного кон-
ца; много похвальных планов и предположений, но везде неокон-
ченность исполнения. Поэтому, особенно в католических странах,
почти все эти движения потерпели неудачу от упрямого сопротив-
ления духовенства, дворянства и черни; некоторые правительства,
сначала очень ревностные, устрашившись этого противодействия,
тем поспешнее с раскаянием опять бросались в объятия старины.
И даже там, где эти реформы были всего успешнее и прочнее, они
всегда выказывали свое одностороннее происхождение от неогра-
ниченной власти. Среди живого возбуждения и больших успехов
образованности власть выступала с притязаниями патриархального
попечительства; монарх хочет заботиться о своих подданных, как
отец семейства о малолетних детях. Вместо самоуправления наро-
да, какое удержалось в Англии еще от средних веков, все ведется
1 Если вы цените великие подвиги, ваша роль очень велика, но если вы цените
обычные добродетели, ваша роль не столь же прекрасна (0р.). —Прим. изд.
2 Екатерина объединяет все прекрасные умы своего века, чтобы написать пыш-
ными фразами то, чего никогда не было в ее сердце, которое каждый день отрицает
ее администрацию и управление (фр.). —Прим. изд.
451
на помочах чиновничеством, частью созданным вновь, частью до-
стигшим неслыханной прежде силы, и которое в самой безусловной
зависимости является только исполнительной рукой неограничен-
ного главы государства. Государство есть государственная машина;
Шлёцер в своем государственном праве чрезвычайно характерно
называет суверена директором машины. Эта черта резко вырази-
лась и на Фридрихе Великом.
Это все еще деспотизм, хотя и просвещенный. Народ и государ-
ство равнодушно распадаются. Все для народа, ничего через народ.
При всем том эти монархические реформы везде были чрезвы-
чайно благотворны — как в государстве, так и в церкви.
Относительно государства они сказывали свое действие в боль-
шей ясности и мягкости законодательства, в более порядочном
управлении, в улучшении школ, более справедливом распределении
налогов, в освобождении земледелия, торговли и промышленности
от стеснительных ограничений. Из развалин гнилого и упадающего
порядка надо было спасти неотъемлемое человеческое достоинство,
надо было спасти естественное право и право разума. В обществе
господствовали любезные, хотя и неясные мечты о человеческом
счастье и добродетели. Произвол и эгоизм старого феодализма были
потрясены теперь могуществом мысли глубже, чем единовластием
Людовика XIV и его монархических подражателей. Феодальное госу-
дарство уже не могло оправиться от этого смертельного удара. Там,
где феодальные наклонности появляются снова или где они еще ме-
чутся в последних конвульсиях, они должны уже, по крайней мере,
принимать более мягкие формы. Они не решаются больше основы-
вать своих притязаний на грубой силе, но уже только на мнимой
необходимости более строгого сословного распорядка.
Так же смелы и широки преобразования относительно церкви.
Везде ставятся преграды клерикальным притязаниям и религиоз-
ному преследованию; расширяется светский надзор за церковью
и духовенством; начинается, если не достигается окончательно,
взаимная терпимость различных исповеданий. Если Фридрих Ве-
ликий мог в своих, по преимуществу протестантских, землях дойти
до полной свободы совести и осмелился сказать знаменитое изре-
чение, что в его стране каждый может спасать свою душу на свой
фасон, то и католические правительства с своей стороны старались
уничтожить худшие проявления клерикального властолюбия. Заме-
чательным фактом этих стремлений к реформе было уничтожение
иезуитского ордена, сначала в Португалии, Испании и Франции,
а затем по всеобщим настояниям распространенное Климентом XIV
на все католическое христианство. Правда, что эта мера принята
была не столько по основаниям человеколюбия и просвещения,
сколько из политического благоразумия. Чем крепче складывалось
государственное единство, тем большей помехой оказывалась неза-
452
висимая власть церкви, которая старалась удержать за собой роль
государства в государстве, роль особой, самостоятельной силы,
вполне свободной от всякого подчинения. Как некогда Людовик XIV
выставил против папских притязаний независимость и самостоя-
тельность галликанской церкви, так и теперь эта борьба возроди-
лась сильнее, чем когда-либо; и эта борьба должна была тем скорее
обратиться против иезуитов, чем больше эти ревностные защит-
ники римской иерархии проникали во все области жизни и своим
влиянием в школе и конфессионале противились преобразователь-
ным стремлениям министров. Государственная власть вела борьбу
сурово и не всегда честно; правило иезуитов, что цель освящает
средства, обратилось против них самих. Тем не менее д’Аламбер
был прав, когда в своем все еще любопытном сочинении Sur la
destruction des Jesuites с сознательным удовольствием говорит, что
светские судьи говорили только от имени философов, которые по-
бедили иезуитов в науке и подвергли их изгнанию в общественном
мнении. Желательно было бы только, чтобы последующие поколе-
ния, вместо того чтобы восстановлять иезуитов, исполнили лучше
дальнейшее требование д’Аламбера — со всех сторон сильно и ре-
шительно выступить против всяких клерикальных поползновений
и уничтожить все монашеские ордена, за исключением братьев
и сестер милосердия.
Столь же могущественно и в своих последствиях даже еще
сильнее было то действие, какое французская литература просве-
щения оказала на литературное развитие всех других европейских
народов.
Везде чувствуется свежее дыхание весны. Новые цели и новые
надежды. Везде неустанная борьба и стремление вперед к цели чи-
стой и полной человечности.
Всего непосредственнее это сильное литературное влияние обна-
ружилось у романских народов, у итальянцев и испанцев, которых
столь блестящая некогда литература и искусство, под гнетом и ту-
постью последних столетий, упали до совершенного ничтожества.
Над Италией взошли новые счастливые дни. В Ломбардии го-
сподствовал и правил благородный и умный граф Фирмиан, в Тоска-
не — отличный правитель Леопольд, в Неаполе — способный Тануч-
чи, и даже в церковной области при Бенедикте XIV, Клименте XIII
и Клименте XIV появляются прекрасные планы улучшений, которые
не считали мудрость светского правительства несоединимой с обя-
занностями церковного главенства. Везде выступают благородные
и просвещенные люди, которые из глубокой любви к людям стре-
мятся к благосостоянию и свободе порабощенного народа; люди,
одушевленные достойной уважения ровностью сделать великие за-
воевания новых идей основанием и руководством для настоятельно
необходимых преобразований жизни.
453
В своих возрожденных научных стремлениях итальянцы пре-
жде всего направили свое сердце и мысль к ближайшему и наибо-
лее полезному, — и это служит прекрасным свидетельством о де-
ятельном и гуманном уме итальянцев. Вместе с тем выказались,
конечно, и наклонности свободного мышления. Граф Альгаротти,
впоследствии друг и доверенное лицо Фридриха Великого, напи-
сал в 1737 сочинение «Newtonianismo per le donne», которое хотя
относительно ума и грации и далеко отстает не только от Вольтера,
но даже и от Фонтенеля, но облегчило путь тонким и заниматель-
ным объяснениям Вольтера. Даже один кардинал, Квирини, употре-
бил свой досуг на перевод «Генриады» латинскими стихами. Но ско-
ро взяли верх влияния Монтескьё и экономистов. При поддержке
и поощрении благомыслящих правительств является ряд писателей,
которые горят высокой мыслью сделаться в самом широком смысле
учителями народа и виновниками его счастья. Они хотят осветить
светом науки основания свободного и соответственного человече-
скому достоинству законодательства и управления, и живут радост-
ной уверенностью, что идеи, признанные наукой справедливыми,
найдут одушевленный отголосок у правительства и через него сде-
лаются фактом жизни.
Один из благороднейших между ними, прекрасный Филанджье-
ри, с восторгом восклицает во введении к своей знаменитой книге
о законодательстве: «Правда, что печальная судьба не всегда по-
зволяет ученому исследовать великое дело государства в присут-
ствии государя; он не может проникнуть в то высокое собрание,
где государь занимает первое место и решает судьбу своих граж-
дан; свободный философ может только поверять свои мысли своим
сочинениям — мертвым истолкователям его глубочайшей сущно-
сти. Но всего можно надеяться от того века, в котором дух науки
не живет уже в неразрешимом раздоре с духом власти и в котором
быстрое течение мысли не удерживается больше препятствиями,
какие обыкновенно ставит ему деспотизм».
Милану принадлежит слава того, что он был первым местом этой
новой итальянской науки.
Как некогда во Франции при министерстве кардинала Флёри
произошел Club de I’Entresol, приобретший известность в особен-
ности через маркиза д’Аржансона, так и здесь несколько молодых
дворян и чиновников составили общество, чтобы в своих беседах
объяснять друг другу высшие требования и задачи человечества.
Замечательнейшие члены этого кружка были: Беккариа, Пьетро
и Алессандро Верри, каноник Лонго, Фр. Висконти, Л. Ламбертен-
ги, Сакки. Все они, как легко видеть из их писем и биографий, об-
разовались главным образом на Монтескьё, Вольтере и энциклопе-
дистах, и на родине часто подвергались упреку в приверженности
к иноземному. Их не должно, однако, считать простой умственной
454
колонией Франции. Они открыто восстали против вредной мишу-
ры мертвой учености и пустого стихотворства, господствовавших
под гнетом клерикализма, и направили свои стремления к учению
о нравственности и о государстве. Прежде всего, — как говорит сам
Беккариа в письме к аббату Морелле, — по образцу «Зрителя» Стила
и Аддисона, они основывают под редакцией Пьетро Верри журнал,
«II Caffd», который, хотя существовал только в короткий промежу-
ток времени 1764—1766, но своим прекрасным содержанием и пре-
лестью новизны имел заметное влияние. Его заглавие II Caffe essia
brevi е varj discorsi объясняется тем, что статьи журнала будто бы пе-
редают разговоры, которые велись в одной литературной кофейне.
Этот журнал был переведен Фюсли, в Цюрихе, на немецкий язык,
и на французский в Gazette litteraire d'Europe, Арно и Сюара. Но эти
люди создали и самостоятельные произведения, которые наполни-
ли их славой всю Европу.
Пьетро Верри (ср. Е. Bouvy, le comte Pietro Verri. Париж, 1889)
и Чезаре Беккариа в особенности оказали замечательнейшие заслу-
ги в уголовном законодательстве и народном хозяйстве.
Беккариа, подобно Вольтеру, раздраженный несправедливым
осуждением семейства Калас, написал знаменитую книгу «Dei delitti
е delle репе» (1764), которая имеет великое значение не только для
итальянского судопроизводства, но и для всей науки уголовного
права и также для нового законодательства Северо-Американских
Штатов. Справедливость и глубочайшая любовь к людям были ос-
нованием его стремлений к реформе, между тем как кругом свиреп-
ствовал уголовный процесс, который главнейшей задачей считал
не исследовать беспристрастно факт, но во что бы ни стало, даже
прибегая к самым жестоким принудительным мерам, признать об-
виняемого виновным. Беккариа требует в процессе исключения вся-
ких насильственных средств, требует применения ясно и общепо-
нятно написанных законов, публичного суда присяжных; потому что
только решение дела людьми равными и публичность судопроизвод-
ства дают достаточное ручательство против слепой страсти. Затем,
в приговоре он также требует крайней мягкости и в особенности
уничтожения смертной казни и конфискации имения. Наконец Бек-
кариа становится на высшую точку зрения, указывая лучшую школу
народного образования в общественной свободе и убеждая законо-
дателя, вместо того чтобы умножать преступления бесплодным на-
коплением запрещений и наказаний, скорее стараться избежать их
заботливым распространением всеобщего народного обучения. Аб-
бат Морелле перевел книгу на французский язык. П. Верри ревност-
но защищал ее от нападений критики и сам написал Osservazioni
sulla tortura (1777), где со всем негодованием своего благородного
сердца настаивал на окончательном уничтожении пытки; но семей-
ные обстоятельства помешали ему напечатать это сочинение.
455
Относительно политической экономии самым важным явлением
были Meditazioni sulla Economia politica Верри 1771, и политико-эко-
номические лекции Беккариа, которые он читал с 1768 года на но-
вооткрытой кафедре политической экономии в Милане и которые
вышли в 1804 г. в посмертном издании, под заглавием. «Elementi di
Economia politica»; но оба они оставили еще значительное число бо-
лее мелких сочинений, написанных по поводу вопросов дня и офи-
циальных отношений. Хотя, в сущности, оба писателя основывают-
ся на воззрениях французских физиократов, но они пошли дальше
их рамок. Они поднимают знамя труда и утверждают его преимуще-
ство над непосредственными произведениями почвы. Поэтому их
справедливо называли предшественниками Адама Смита. Между
ними есть, однако, глубокое различие. По ясности и силе развития
понятий и, следовательно, по чисто научному значению и важности
они стоят далеко ниже великого англичанина; но они имеют то по-
четное преимущество, что из-за экономического интереса они ни-
когда не упускают из виду интереса нравственного и человеческого.
Гражданское общество есть для них не только большой банковый
дом, работники — не просто мертвые машины; но и сам человек
с его непременным достоинством служит для них предметом посто-
янной мысли и заботы. Они предчувствуют, что политическая эко-
номия должна быть вместе и общественной наукой.
Такое же блестящее место рядом с Миланом занимает и Неаполь.
Славным предшественником позднейших писателей был здесь
Дженовези. За ним следует теперь, возбужденный им, но обни-
мающий всю область государственной науки, Гаэтано Филан-
джъери. Он принадлежал к княжеской фамилии и родился 18 авгу-
ста 1752 в Неаполе; умер уже 21 июля 1788, тридцати шести лет
от роду. Его знаменитое сочинение La scienza della legislazione вы-
шло 1780—1788 в восьми томах, но, к сожалению, осталось не-
конченным. Гёте, лично познакомившийся с Филанджьери в свое
путешествие в Италию (Неаполь, 5 марта 1787), говорит о неж-
ном нравственном чувстве, которое приятно светится из его слов
и характерами это дает понятие о впечатлении, которое мы вы-
носим и из сочинений Филанджьери. Мы не встречаем здесь ве-
ликой творческой идеи, иногда не встречаем даже и точного фак-
тического понимания; но в каждой строке слышится благородное
сердце. Порицая Монтескьё, что он исследовал только основания
того, что происходит, он хочет с своей стороны выставить прави-
ла того, что должно происходить. Английская конституция кажет-
ся ему недостаточно свободной; по его мнению, в ней остается
слишком большой перевес короны и слишком легкая подкупность
парламентских членов; он сам ставит на ее место такую конститу-
цию, основания которой могут быть изменены только единогласи-
ем всего народа, не подозревая, что это и есть гибельное liberum
456
veto1 поляков. Но во всех подробностях, которыми он хочет осу-
ществить свои пылкие стремления ко всеобщему счастью народа,
в требовании всеобщего народного воспитания, в своих полити-
ко-экономических принципах, с своем смягчении уголовных зако-
нов и наказаний, он с полным знанием и самым великодушным
одушевлением говорит не только для своего, но и для всех времен.
Нельзя не быть тронутым, читая его, когда он прежде всего горячо
и настоятельно обращается к государям с убеждением — сделаться
исполнителями этих его справедливых и хорошо взвешенных же-
ланий, и потом делает, призыв к более просвещенному потомству,
что свет, еще бесполезный для нашего века и для его ближайшего
отечества, конечно, принесет пользу другому веку и другому госу-
дарству, потому что мыслитель есть гражданин целого света и со-
временник всех веков.
Вильмен, знаменитый французский историк литературы, в 33-й ле-
кции о литературе XVIII столетия метко сравнил Филанджьери с мар-
кизом Позой Шиллера. Но Филанджьери не был один. Такими же
характерами были и все те благородные юноши, которые в своей
бурной любви к людям и к свободе требовали от тронов возвраще-
ния вечного достояния человечества, и наконец, как благородный
Марио Пагано — которого Saggi politici равняются с трудом Филан-
джьери, если не по объему и изложению, то по меткости и обду-
манности — запечатлели свое великодушное одушевление славной
мученической смертью под мщением вновь восставшего господства
насилия.
Эти книги были не только одни прекрасные книги; они были
и прекрасными подвигами.
Современная поэзия Италии также находится преимущественно
под французским влиянием. Потому эти итальянские поэтические
произведения, как и соответствующие им французские, не были за-
конченными произведениями искусства; но, подобно им, они были
верным отражением народного духа и, исходя непосредственно
из современной борьбы, имели на народ живое обратное действие.
В комедии и здесь мы видим буржуазную картину семейной
жизни с нравственным поучением. Основатель и главнейший
представитель ее есть Карло Гольдони, 1707—1793. Свои первые
возбуждения Гольдони, несомненно, почерпнул из стремлений
Мариво, Нивелля де Лашоссе и Детуша; затем он искал своих об-
разцов и в Англии. Если мы вспомним, что Гольдони заимствовал
не меньше трех пьес из Ричардсоновой «Памелы», и что в то же
время другие писатели почерпали подобные мотивы из других ан-
глийских романов, например, из Тома Джонса, — это еще положи-
тельнее указывает на внешнее влияние. Никто не назовет Гольдо-
1 Свободное вето (лат.). —Прим. изд.
457
ни великим поэтом. Поучительная преднамеренность задерживает
у него всякий свободный порыв; запутанность и вялость его нрав-
ственных понятий и происходящая отсюда, часто невыносимая
распущенность и одичалость мотивов поражает в нем неприятно;
Гольдони, как Коцебу, часто бывает всего безнравственнее имен-
но там, где он считает себя самым нравственным. Изображение
характеров сухо, лишено фантазии и только в отдельных случаях
возвышается до истинно поэтической силы; положения нередко
запутаны и лишены всякой последовательности. Тем не менее мы
можем объяснить себе успех, который Гольдони имел одно время
не только в Италии, но и во всем образованном свете. Его переход
из типических масок в психологически проведенные характеры,
его всегда находчивая изобретательность, его чуткость к сцениче-
скому действию и к истинному комизму, свежесть и легкость изло-
жения, остроумная и смелая живость разговора ставят его гораздо
выше его ближайших французских предшественников, даже выше
Дидро и Иффланда. Как Гольдони, так и его преемники обратились
к иностранной литературе. У Франческо Авеллони манера, с кото-
рой низшие классы смеются над высшими, слуги над господами,
и общественные злоупотребления смело предаются на осмеяние
толпы, — эта манера, очевидно, подслушана из комедий Бомарше,
хотя, конечно, с неизмеримо меньшим умом и комизмом. И таких
примеров очень много. Веселая сказочная фантастика Гоцци по-
бледнела перед этим могуществом близкого и знакомого; немцы
должны остерегаться, приписывать Гоцци ту веселую поэтическую
идеальность, с какой Шиллер сумел одухотворить свою гениальную
обработку «Турандот».
На трагической сцене господствует Альфьери. Он также имеет
свой корень во Франции. Правда, Альфьери утверждает, что по-
знакомился с французскими трагиками уже в позднейшее время;
но кто знает его пьесы, тот видит, что это есть самообольщение. Вез-
де проглядывает Вольтер, и в форме, и в содержании, с тем только
различием, что преобладающее направление Альфьери идет не про-
тив церкви, но против господствующего государства. Граф Витто-
рио Альфьери родился 17 января 1749 в Асти в Пьемонте. Наскучив
до последней степени стеснительностью и мелочностью туринской
придворной жизни, он в быстром путешествии проехал всю Европу
и нигде, однако, не нашел внутреннего удовлетворения, которого
жаждало его гордое чувство свободы. Двадцати восьми лет, он из-
ливает свое бурное негодование в книге о тирании (1777), в кото-
рой можно видеть брожение неясных влияний Руссо. Вскоре затем
является его книга «О государе и литературе», где он высокомерно
отвергает всякое хвастливое меценатство, так как мужество и не-
зависимость мысли созревают только на естественном основании
политической и национальной свободы. Это жаждущее свободы на-
458
строение составляет и существенный нерв его трагической поэзии.
Трагедии Альфьери обращаются или в великом мире греков и рим-
лян, чтобы напомнить испорченным внукам величие славных пред-
ков, или в ужасах деспотизма, чтобы воспламенить политическую
ненависть, именно против чужеземного австрийского владычества.
Преднамеренность содержания большей частью нарушает предание
и историю. В «Бруте» с убийством Цезаря одерживает победу ста-
рая республиканская свобода; и ни одно слово, ни одно действие
не напоминает о том, что при упадке народа старое величие и сво-
бода были невозможны. В изображении флорентийского заговора
Пацци, преступные орудия чужеземной интриги и папского мще-
ния превращены в великодушных героев свободы. Все характеры
отличаются чем-то суровым, резким, мрачным; мужественность
становится часто дикостью; воображение при всем глубоко страст-
ном чувстве остается сухо; лаконизм в плане и в исполнении, как
выражается Гёте, не развеселяют зрителя. Много риторики, мало
пластики. Но, несмотря на все это, Альфьери имел в Италии самое
могущественное влияние, которое продолжается еще и теперь. Он
бросил в массы великие мысли, политическую страсть. На нем вы-
росла и окрепла не только та поэтическая школа, которая простира-
ется от Уго Фосколо до Монти и Сильвио Пеллико, но и вся молодая
Италия. Это глубокое влияние Альфьери нисколько не уменьшается
от того факта, что сам Альфьери не всегда оставался верен своему
идеалу. Вильмен вспоминает о внутреннем родстве Альфьери с Бай-
роном. Он похож на него не только своей ненавистью и мировой
скорбью, но вместе и своим аристократическим эгоизмом. Когда
французская революция стала уничтожать и старые родословные,
деревья дворянства, он отшатнулся назад, как восстававшие против
тиранов немецкие графы Штольберги. Альфьери умер 8 октября
1803 во Флоренции.
И к этому, явившиеся почти еще больше под английским, чем
под французским влиянием, разрушительные сочинения Гаспаро
Гоцци и Баретти, стихотворения Чезаротти и Парини!
Винкельман бросает нам странный свет на настроение и состо-
яние Италии, когда 26 февраля 1768 пишет к своему другу Што-
шу, что, быть может, через пятьдесят лет в Риме не будет ни папы,
ни священника (ср. Winckelmann’s Briefe, herausgegeben von F. Fors-
ter, 1825, т. 3, стр. 313).
Дело политической истории подробно рассказать, как насиль-
ственно были стеснены и заглушены эти семена. Для Неаполя пе-
чальную обязанность этого рассказа исполняет обширное истори-
ческое произведение Коллетты. По меткому выражению Наполеона,
политика есть новейший фатум. Только после долгой и тяжелой пе-
ременчивости судьбы итальянцы достигли столь давно желанной
свободы и единства.
459
В Испании проявилось, хотя и слабее, движение, похожее на то,
какое было в Италии. Оно было похоже на него, потому что условия
и потребности были те же; слабее оно было потому, что и целое об-
разование стояло здесь ниже.
Фердинанд II (1736—1759), но еще более Карл III (1759—1788),
который уже в Неаполе действовал самым благотворным образом
через Тануччи, старались путем администрации помочь упавшей
стране; они покровительствовали всем светлым умам, которые
старались объяснять, распространять и применять к испанским
отношениям новые идеи, приобретенные Францией. В этих стрем-
лениях прекрасно то, что они нигде не рассчитывают на пустую
литературную выставку: наука получает здесь высокое назначение
быть руководством жизни. Тот, кто становится высоко в науке, де-
лается обыкновенно и государственным человеком и членом ад-
министрации.
Истинной душой этого счастливого времени Испании был Педро
Родригез, граф Кампоманес, родившийся 1723 в Астурии. Одина-
ково решительный, как писатель и как государственный человек,
в истреблении старого зла и во введении необходимых улучшений,
он, однако, остается умерен и совершенно далек от тех слишком
поспешных насилий, которые иногда бывают всего опаснее для
хорошего дела. В юности он занимался учеными исследования-
ми о храмовых рыцарях и о флоте карфагенян; затем вызванный
Карлом III к самым высоким государственным должностям, в сво-
их позднейших сочинениях он обращается единственно к нуждам
народа, старается поднять его земледелие и промышленность и ос-
вободить их от всяких стеснений и препятствий. Его справедливо
называли испанским Тюрго. Упадок земледелия имел свою причи-
ну в громадности монастырских имений, упадок промышленно-
сти — в страшном отупении низших классов народа, происшедшем
от влияния католического духовенства. Поэтому, его первое в этой
деятельности и знаменитейшее сочинение «Tratado de la regalia de
la amortization», 1765, главным образом посвящено борьбе против
вредного накопления имуществ посредством амортизации и ох-
ранения Права правительства — ограничивать отчуждение име-
ний в руки духовенства; это сочинение действовало благотворно
не только в Испании, но было с радостью приветствовано и во всех
католических странах Европы — тем более, чем заботливее осте-
регался автор в своей борьбе против духовенства касаться самых
верований. Поэтому же предметом всех позднейших его сочи-
нений было народное образование. Основанием был вышедший
в 1771 «Discurso sobre el fomento de la industria popular», который
разослан был королем во все светские и духовные управления;
за ним следовали, как предостережение и ближайшее объясне-
нием 1775 «Discurso sobre la educacion popular de los artisanos у su
460
fomento» и в 1777 «Apendice a la educacion popular», — сочинения,
которые, не ограничиваясь своей ближайшей целью, распространя-
ют самые просвещенные понятия о всей области государственной
экономии, земледелия, торговли и промышленности. Своего могу-
щества и богатства — так убеждают все эти сочинения — испанец
должен искать не в золотых рудниках южной Америки, но в трудо-
любии и благосостоянии собственной страны.
Под руководством и возбуждением Кампоманеса является це-
лая школа молодых политико-экономов, которые таким же обра-
зом стремились обратить в пользу для Испании учения и правила
французских экономистов, как, например, Кабаррус, Ховельянос.
Точно также, по мысли Кампоманеса, молодой юрист Лардизабаль
издал в 1784 сочинение об уголовном законодательстве, написан-
ное в духе и по образцу Беккариа и которое испанцы ставят рядом
с произведением Беккариа.
В этих людях, полных благородного стремления, могла родить-
ся мечта о будущем, которое бы достойно примкнуло к старой по-
терянной славе Испании. Но эта мечта была напрасна. Терроризм
Карла IV вырвал дерево с корнем прежде, чем оно успело расцвести.
Масса была тупа и груба и радовалась падению людей, которые хо-
тели звать ее к счастью и победе.
В поэзии мы можем наблюдать то же движение. Было бы нелепо
жалеть о том, что великие образцы старого блестящего века Ис-
пании были теперь оставлены; дух рыцарства уже вымер. Но мож-
но жалеть, что вообще исчезла всякая жизненная сила. Остались
только ошибки старого времени без его достоинств. Уже с первой
четверти восемнадцатого века появляются попытки переделать ис-
панскую сцену по мерке французской трагики; эти попытки были
плоски и ограничены, натянутые подражания и без того натяну-
тому образцу. В 1751 Игнасио де Лусан, один из ревностнейших
начинателей этого французского направления, перевел известную
французскую комедию Нивелля де Лашоссе «Модный предрассу-
док» с открыто высказанным намерением перенести в Испанию
нравоучительную буржуазную семейную драму. Затем следовали
переводы из Детуша. Благородный Ховельянос написал свою тро-
гательную пьесу «Почтенный преступник» (El delincuente honrado)
(1770), которая не только имела самый решительный успех в Ис-
пании, но дошла даже до французской и немецкой сцены, и Томас
де Ириарте написал две комедии этого рода «Невоспитанный юно-
ша» (1778) и «Дурно воспитанная девушка» (1788). Но эти явле-
ния остаются одинокими, и всего меньше чувствуется потребность
переступить границы этого второстепенного поэтического рода
и идти дальше. Нигде нет чего-нибудь самостоятельного и вну-
тренне пережитого, как у Гольдони и Альфьери; нигде никакой по-
пытки к самобытному и естественному развитию, как в Германии.
461
Приходившая новизна запутывала и нарушала прежнюю рутину,
но не побеждала ее.
Испания может служить поучительным историческим примером,
что народ только сам может быть своим избавителем. Доброе семя
требует доброй почвы. К чему служат Моисей и пророки, когда не-
кому слушать и понимать их?
И Англия, которая, собственно, была родиной французской ли-
тературы просвещения, сама испытала от нее чрезвычайно значи-
тельное обратное влияние, — хотя, конечно, только чисто научное.
Те требования, которые выставляли отставшие католические земли
относительно преобразования государственной жизни, здесь боль-
шей частью были уже совершившимися фактами.
Под этим новейшим французским влиянием вполне или отчасти
стоит значительное число в высшей степени замечательных англий-
ских писателей. То, что французские просветители развили дальше
своих английских предшественников, было принято и переработа-
но новым молодым поколением английских подражателей, часто
со всеми ошибками и односторонностями. Монтескьё и Вольтер
положили основание более глубокому пониманию истории, Дидро
и энциклопедисты довели положения Локка до самого решитель-
ного атеизма. Оба направления принялись в Англии поразитель-
ным образом. Вильмен в 28-й лекции своей «Истории литературы»,
конечно, несправедливо называет Юма исключительным подра-
жателем французам; но нельзя оспаривать того, что французские
возбуждения весьма чувствительно действовали на его образова-
ние — отчасти уже на его образование философское, но особенно
на историческое. И с этих пор французские воздействия становятся
все яснее и обширнее. Под влиянием Вольтера стоит даже Роберт-
сон, кроткий, умеренный, не любивший никакого свободомыслия
шотландский проповедник. Он подражает ему в искусстве рассказа
и старается по крайней мере столько же и забавлять, сколько по-
учать. Его богатый мыслями труд, «Введение в историю Карла V»,
дающее исторический обзор характера и развития средних веков,
не только по своему изложению, во и по всем основным взглядам,
непосредственно исходит из Essai sur les moeurs et I’esprit des nations
Вольтера. Но Гиббон уже вполне отличается французским характе-
ром. Знаменитое сочинение Гиббона о римской империи составля-
ет дополнение и противоположность к сочинению Монтескьё о при-
чинах величия Рима и по основным мыслям примыкает ко взглядам
Вольтера. Джозеф Пристли, один из знаменитейших естествоиспы-
тателей своего времени, становится проповедником материализма,
и поддерживаемый и ободряемый смелыми французскими предше-
ственниками, доводит его до его последнего предела, хотя и делает
вид, что опровергает Systeme de la nature и все еще удерживает вне-
мирового Бога.
462
Но слава живого и творческого развития и более глубокого пони-
мания принадлежит в особенности Германии.
Истории немецкой литературы должно быть предоставлено
подробно, изложено, в каком глубоком и тонком смысле Герма-
ния получает общее наследие английской и французской литера-
туры и, наконец, из основы его развивает великую философию
Канта и классически прекрасную поэзию Гёте и Шиллера, как
сумму и последнее завершение всей этой могучей борьбы про-
свещения.
Глава третья
МИРАБО И СИЙЕС
Всеобщее стремление времени к мирной реформе сказалось
очень сильно и во Франции. Уже в отдельных, правда, легких и бес-
связных решениях Людовика XV, но особенно со времени всту-
пления на престол Людовика XVI, предпринято было много благо-
родного и доброжелательного. Шуазёль, но в особенности Тюрго,
Малерб и Неккер были одушевлены самыми лучшими намерениями
и старались сколько возможно помочь настоятельным финансовым
нуждам. Дворянство было ограничено во многих старинных приви-
легиях в духе времени и, по требованиям общественного мнения,
было привлечено к большей равномерности в государственных по-
винностях; барщины были уменьшены и уничтожены; стеснитель-
ные таможенные ограничения сняты; государственное хозяйство
приведено в бдлыпий порядок; прежнее значение парламентов вос-
становлено.
Но и здесь, как в других романских странах, добрая воля разби-
валась о сопротивление тех, чьим привилегиям грозила опасность.
Правительство колебалось. Сегодня отменяли закон, завтра он вво-
дился опять; сегодня господствовал либеральный, расположенный
к реформам министр, завтра — какая-нибудь ограниченная и сла-
бая креатура высокомерной камариллы. Это беспомощное колеба-
ние возбуждало сопротивление во всех слоях и сословиях. Несо-
ответствие государственных порядков и учреждений с понятиями
и настроениями, преобладавшими в общем образовании, обнару-
живалось во всей своей резкости. Государственная машина, в сущ-
ности, была еще машина Людовика XIV; но поколение, которое
должно было найти в этом государстве свое удовлетворение и свою
деятельность, было совершенно другое. Просвещенный деспотизм
потерпел во Франции банкротство. Возбужденная страсть не видит
и не слышит хорошего в настоящем. В беспокойной поспешности
торопятся к лучшему будущему, которое воображают себе полным
блаженством. До тех пор, пока не было еще свободной ораторской
трибуны выборного народного представительства, литература была
единственным выражением этих раздраженных мнений и настрое-
ний. Литература, которая в половине столетия нападала в особен-
ности еще на церковные учреждения, теперь все более исключи-
тельно нападает на существующую форму государства. И теперь
464
уже не занимаются больше простым теоретическим умствованием,
но ставят прямо определенные требования и бурно настаивают
на их исполнении.
Это канун великой французской революции. Слово должно стать
делом.
Самые влиятельные политические писатели этой эпохи броже-
ния — Мирабо и Сийес. В них, как было метко сказано, мечтания
о свободе в первый раз становятся наукой об ее целях и средствах.
То, к чему они стремились и чего достигали, как предводители на-
чинающейся революции, было уже самым определенным образом
сказано вперед в их сочинениях, написанных еще до революции.
Как в течение самой революции, так уже и теперь пути Мирабо
и Сийеса часто далеко расходились. В Мирабо все еще виден немно-
го аристократ. Сийес смелее и радикальнее; Мирабо, хотя горячий
поклонник Руссо, в своих политических взглядах есть больше уче-
ник Монтескьё, Сийес больше ученик Руссо. Мирабо обращается
в особенности против неограниченности королевской власти и тре-
бует конституционного ограничения и свободных учреждений;
Сийес обращается в особенности против преобладания дворянства
и духовенства и требует безусловной отмены всех их государствен-
ных и экономических привилегий. Но в самой глубокой основе их
борьба совершенно общая. Час старой монархии пробил.
Габриэль Оноре Рикети, граф Мирабо, род. 9 марта 1749 г. в Бинь-
оне, близ Немура, происходил из провансальской фамилии, кото-
рая в XVI столетии посредством одного брака получила во владение
имение Мирабо и получила от Людовика XIV титул маркизов. Эта
фамилия издавна отличалась блестящей гениальностью, но также
необузданными страстями; в Мирабо достигали вершины и эти
преимущества, и эти недостатки (ср. Louis de Lomenie, Les Mirabeau,
новое издание в пяти томах. Париж, 1889—1891). Мирабо пережил
суровую юность; и даже первый год его мужества был непрерывной
школой страдания. Его отец, хотя в своих сочинениях и деятельно-
сти показавший себя достойным другом народа и с эмфазой назы-
вавший себя ami des hommes1 (ср. выше, кн. 2, отд. 1, гл. 3), был
непомерно строг и, когда сын был уже человек взрослый и жена-
тый, отправлял его из крепости в крепость купленными приказами
об аресте только за его долги, разгульную жизнь и легкомысленные
дела чести. «Так как нет уже никакого домашнего суда, — пишет
отец к своему брату, старому мальтийскому рыцарю, — то, когда
нужно наказать преступных детей, должно прибегать лучше к вар-
варскому деспотизму приказов об аресте, чем к медленным фор-
мальностям слепого и педантического правосудия; пусть люди счи-
тают меня за Нерона, я следую только моей собственной совести».
1 Друг людей (фр.). —Прим. изд.
465
Удивительно ли, что теперь неодолимое чувство свободы возбужде-
но было в Мирабо тем более бурно, что он, который некогда имел
в виду военное поприще и уже со славой сражался в Корсике (1769),
в одиночестве своего заключения, сменил усердно им прежде изу-
чаемых военных писателей Тацитом и политическими интересами
и превратился в заклятого врага всякого насилия и произвола? Его
письма из этого времени свидетельствуют, как им вполне овладе-
вали планы будущего величия, мечты о сладком торжестве обще-
ственного признания.
Во время своего заключения в Маноке, Мирабо написал (1774)
свой Essai sur le despotisme. В следующем году он явился будто бы
в Лондоне, в действительности в Невшателе.
Сам Мирабо называет эту книгу Une profession defoi de citoyen.
Ее направление ясно высказано в эпиграфе из «Агриколы» Тацита:
«По истине мы дали великое свидетельство терпения. Как древность
видела, чтд есть высочайшего в свободе, так мы видели, чтд есть
высочайшего в рабстве; с языком свободы мы потеряли бы также
и память свободы, если бы в нашей власти было одинаково забы-
вать, как и молчать».
Озлобление приближающейся революции и ближайшие жела-
ния и надежды ее были в каждой строке. Здесь говорилось, что
теперь никто уже не верит басне о божественном праве королей,
о которой говорили столько боязливых рабов и безумных фанати-
ков. Но если единовластие не есть божественное право, а только
человеческое изобретение, то можно и должно спрашивать об его
цели и условиях. Цель ясна. Народ поставил себе главу, а не вла-
стителя. Народ платит власти не затем, чтобы избавить ее от тру-
да, но, напротив, чтобы она взяла на себя труд охранять и защи-
щать национальную и частную собственность. Король есть первый
чиновник, и только: «Vous etes, en un mot, son premier salarie, et
vous n’etes que cela»1 (изд. 1775, стр. 82). И какие условия про-
истекают из этой цели? Если король не исполняет возложенных
на него забот, если он даже присваивает себе собственность, ко-
торую, однако, он призван охранять, то становится обязанностью,
пользой и честью сопротивляться ему и, если нет никакого дру-
гого спасения для свободы, отнимать у него его власть (стр. 102).
Но, вместо того чтобы вызывать зло насильственного переворота,
лучше осторожно предотвращать это зло. Нужно не терпеливое
повиновение, которое теперь так же сделалось модой, как любовь
к свободе была некогда всеобщей добродетелью более счастливых
времен, но искренний и твердый, требующий уважения и муже-
ственный язык, который напомнил бы королям об их истинном
происхождении, об их исключительном назначении, о существе
1 Одним словом, вы его первый чиновник, и никто другой (0р.). —Прим. изд.
466
и границах их власти. Необходимость положения требует предста-
вительных учреждений.
Так настоятельно и с таким непосредственным практическим
применением во Франции еще никогда не было говорено об отри-
цании королевской неограниченности. Но достойно замечания, что,
несмотря на то, Мирабо и здесь уже самым резким образом настаи-
вает на неприкосновенности монархии. «Представительные учреж-
дения, — говорит он, — выгодны не только нам, но и королям. Уста-
новленные для защиты законов и для обеспечения их исполнения,
они с своей стороны должны быть защищаемы законом; иначе, бес-
порядок и борьба партий причиняют такой же вред, как тирания».
Ему противна democratic tumultuaire1 Руссо.
Этому основному взгляду Мирабо никогда не изменял, хотя бы
его непостоянная и неправильная жизнь, его пламенные страсти
и дикий разгул, его крайне расстроенные дела, его беспрестанные
аресты и приключения налагали на его характер пятна, которые
слишком ясно свидетельствуют, что он, одушевленный боец возни-
кающей народной свободы, тем не менее был вполне сыном старой,
безнравственной французской аристократии.
Летом 1776 Мирабо из Дижона, где он был снова в заключении,
похитил двадцатичетырехлетнюю жену (Софию) старого марки-
за де Монье и убежал с ней в Голландию. Средством существова-
ния было для него главным образом его перо. Он делает переводы
с английского, пишет о музыке и дает умноженное издание своего
опыта о деспотизме. К этому времени принадлежит также мемуар,
который Мирабо разослал к нескольким единомышленным началь-
никам французского франкмасонства, чтобы воспламенить орден
к деятельному участию в великой борьбе за свободу. Деспотизм,
говорится в этом мемуаре, есть бич человечества; таким образом
главная цель нашего союза должна быть улучшение настоящей си-
стемы правления и законодательства. Улучшение не насильствен-
ное, потому что такое противно правилам ордена и самому благу
человечества, но постоянное и неизменно идущее вперед. Прежде
всего (и здесь в особенности обнаруживается влияние сочинений
его отца и физиократов) уничтожение крепостного права и всех
тягостей и притеснений, которые составляют не что иное, как от-
вратительный остаток варварства наших предков; уничтожение
барщины; ослабление цехового устройства; освобождение тор-
говли и промышленности от всех таможен и налогов, которыми
финансовые люди высасывают кровь народа, причем последний
не знает, сколько он дает; введение всеобщей терпимости всех
религиозных мнений; уничтожение всех духовных судов; ограни-
чение деспотизма его должными пределами, в особенности сохра-
1 Шумная демократия (фр.). —Прим. изд.
467
нение сословных собраний, отчасти еще уцелевших в Германии;
завоевание свободы печати, как сильнейшего оплота против не-
справедливого порабощения.
И в первые месяцы 1777 вышел в Клеве Avis aux Hessois et aux
autres peuples de lAllemagne vendus pas leur princes a I’Angleterre, вы-
званный негодованием на ту низость, с какой Фридрих II, ландграф
гессен-кассельский, во время американской войны за независи-
мость, продавал англичанам своих подданных, способных носить
оружие. «Как? В конце восемнадцатого века народы в центре Евро-
пы все еще остаются рабами постыднейшего деспотизма? Немцы,
которые некогда с таким непреодолимым одушевлением защи-
щали свою свободу против победителей мира, теперь проливают
свою кровь на службе тиранов? Знаете ли вы, против какого на-
рода вы должны сражаться, и знаете ли вы, чтд способен сделать
фанатизм свободы, единственный фанатизм, заслуживающий ува-
жения? Извлеките лучше пользу из примера этого великодушного
народа! Предоставьте низким придворным всегда говорить только
о праве королевской власти и ее неограниченном могуществе;
тому, кто повелевает преступление, вы не обязаны повиноваться».
И когда один защитник государей напечатал возражение под за-
главием «Conseils de la raison» (Амстердам 1777), Мирабо отвечал
в «Reponse aux conseils de la raison»: «Если высшая власть становит-
ся произвольной и притесняющей, если она нападает на собствен-
ность, которую призвана защищать, если она нарушает договор,
который обеспечивает ее права, но и ограничивает их, тогда сопро-
тивление есть обязанность, и это сопротивление нельзя называть
возмущением. Если это несправедливо, то и нидерландцы не что
иное, как преступные возмутители. Кто стремится возвратить свою
свободу и борется за нее, тот пользуется только своим естествен-
ным правом», и т. д.
В 1777, 10 мая, Мирабо, как соблазнитель и похититель замуж-
ней женщины, был приговорен судом в Понтарлье к отсечению
головы in effigie и к высокому штрафу; отец затратил десять тысяч
ливров, чтобы захватить виновного, и в июне 1777 Мирабо был по-
сажен в Венсеннскую тюрьму. В продолжение сорока двух месяцев
этого заключения Мирабо писал страстные любовные письма к Со-
фии, которые через год после его смерти изданы были человеком,
не имевшим на то права, и весьма недостоверно, под названием
Lettres originates de Mirabeau ecrites du donjon de Vincennes, и также ряд
соблазнительных романов, переводов, всякого рода статей, сочине-
нием которых он старался добыть себе средства к существованию;
но вместе с тем к этому наполненному трудом и буйному времени
принадлежит также его знаменитый Essai sur les lettres de cachet et
les prisons d'etat, который вышел в 1782, и о котором сам Мирабо
думал, что он никогда не погибнет. Еще никогда с таким пламен-
468
ным гневом не был осужден произвол и жестокость правительства,
как в этом ярком и однако везде документальном, частью вполне
автобиографическом изображении тех возмутительных мучений,
каким вследствие этого недостойного злоупотребления продажны-
ми приказами об аресте подвергались в своих тюрьмах по большей
части невинные заключенные. Поразительному красноречию это-
го сочинения мало вредит то, что оно, как все, чтд писал Мирабо,
наполнено плагиатами. Едва ли можно считать преувеличенным,
когда разрушение Бастилии, которым открылась французская рево-
люция, считают непосредственным следствием этой сильной кни-
ги. И это действие было увеличено тем, когда Мирабо деспотизм
этих произвольных приказов об аресте возводил вообще к сущности
деспотизма. Где все три государственные власти — законодатель-
ная, исполнительная и судебная — находятся в одних и тех же ру-
ках, там всегда возникает деспотизм; где монархия не ограничена,
там бывает только случайностью, если она не впадает в тиранию.
Правительство не перестает быть ответственным за все отдельные
злоупотребления, как скоро оно не перестает самовольно нарушать
течение законов. Если оно имеет притязание все делать самому,
то деспотизм и его последствия неизбежны. Только власть, ограни-
ченная представительством, имеет ручательства прочности; деспо-
тизм всегда вызывал революции.
Когда Мирабо, в конце 1780, был выпущен из тюрьмы, «голый
как червь», ему прежде всего надо было защититься от сделанно-
го в его отсутствие постановления суда в Понтарлье. Его жена,
в 1783, с успехом подняла против него дело о разводе. Затем,
поссорившись со всей своей семьей, он искал убежища в Англии,
постоянно работая в литературе. В 1785 он был опять во Франции,
поразил здесь публику рядом работ из области финансов. Он был
на службе у Калонна. Год 1786 почти весь он провел в Берлине,
отчасти с тайной политической миссией. Фридриху-Вильгельму II
в день его вступления на престол он переслал письмо, заклю-
чавшее формальную программу реформ (Lettre remise a Frederic-
Guillaume. Берлин, 1787). После бесславного собрания нотаблей,
весной 1787, в течение которого он не выпускал пера из рук, Ми-
рабо отправился в Брауншвейг, чтобы здесь в прилежном труде
с своим другом, майором Мовильоном, обработать ревностно со-
бранные, печатные и рукописные документы в историю Пруссии
при Фридрихе II (De la monarchic prussienne sous Frederic-le-Grand.
Лондон, 1788). И эти сочинения составляют только продолжение
старой борьбы. К своему другу Мовильону, который собрал и сооб-
щил ему большую часть фактического материала и впоследствии
перевел книгу о прусской монархии на немецкий язык, Мирабо
пишет (Lettres a Mauvillon. Гамбург, 1794, стр. 171): «У меня то же
намерение, какое было у Тацита, когда он описывал нравы гер-
469
манцев, чтобы в это описание одеть сатиру против Рима: в Прус-
сии я вижу Францию».
Послание к королю есть свод необходимейших желаний для бу-
дущего. Правда, Мирабо не решается высказать последнее слово
о необходимости конституционного ограничения королевской вла-
сти; но верх всех увещаний есть все-таки безусловное отрицание
жалкой страсти к опеке, il est de vous de ne pas trop gouverner1. За-
тем в этих пределах поставлен ряд требований, которые Пруссия
осуществила большей частью только в тяжелые времена Наполео-
новских войн: учреждение всеобщего ландвера, свобода передвиже-
ния, уничтожение барщины, возможность пользоваться дворянски-
ми имениями и бюргерам, ограничение преимуществ дворянства,
несменяемость судей и вознаграждение их не судебными дохода-
ми, а постоянным жалованьем, всеобщее народное обучение, сво-
бода печати, устранение лотереи, безусловное допущение всех ре-
лигиозных партий, введение более здравых экономических начал.
Не может подлежать никакому сомнению, что Генц в знаменитом
послании, которое он обратил к Фридриху Вильгельму III, при его
вступлении на престол, имел перед глазами послание Мирабо, воз-
никшее по подобному поводу.
И книга о прусской монархии есть критика порядка вещей, ко-
торый не отвечает этим желаниям и требованиям. Если просве-
щенный деспотизм даже такого человека, как Фридрих Великий,
неудовлетворителен, то как может вообще существовать такой
образ правления? Хотя он исполнен удивления к «великому, очень
великому королю, самому изумительному человеку, который ког-
да-либо держал скипетр», Мирабо, как он прямо говорит в посвяти-
тельном предисловии, хочет изложением вопиющих зол исцелить
правительство от убийственной болезни слишком большого прав-
ления. «Если правители государств одушевлены благими началами,
то у них в сущности только два дела: поддерживать мир хорошей си-
стемой защиты и заботиться о внутреннем порядке пунктуальным
и справедливым управлением и судом. Все остальное всего лучше
предоставить самому народу».
Самый полный свод политических взглядов Мирабо находится
в небольшом сочинении, которое он издал весной 1788 под сво-
им именем, по вызову голландской, так называемой патриоти-
ческой или республиканской партии, после того как она в своих
спорах против захватов штатгальтерства, стремившегося к монар-
хическим правам, низложена была насильственным вмешатель-
ством Пруссии. Это сочинение носит название «Aux Bataves sur
le Stathouderat». Что в книге о Lettres de cachet сказано было, хотя
сильно и убедительно, но все-таки только отрывочно, об отноше-
1 Это от вас зависит, чтобы не править слишком много (0р.). — Прим. изд.
470
нии суверена и народа, здесь изложено строго последовательно.
Важно особенно заключение, как несомненно принадлежащее
перу Мирабо. «Я ограничиваюсь, — обращается Мирабо к голлан-
дским патриотам (стр. 117), — представить вам таблицу тех прав,
которые врождены вам, как людям, которые раньше и выше всех
писанных законов неотъемлемы, не теряют силы от давности, со-
ставляют высшую основу всякого государственного общества, ко-
торые частями существуют уже в вашем законодательстве, но дей-
ствительно проведены только в учреждениях Америки. Без этих
прав человеческому роду, где бы он ни жил на земном шаре, про-
сто невозможно сохранить свое достоинство, совершенствоваться,
спокойно наслаждаться; это права каждого народа, который хочет
свободы». Главные положения Мирабо следующие. 1) Все люди
свободны и равны (tous les hommes sont libres et egaux1). 2) Так как
вся власть происходит от народа, то различные ведомства и чинов-
ники, принадлежат ли они законодательной, исполнительной или
судебной власти, все равно, всегда обязаны отчетом народу. 3) На-
род имеет неотъемлемое право улучшать или совершенно изменять
правительственную систему, если того требует его благополучие.
4) Народ имеет право замещать свободные места выборами. 5) Все
выборы должны быть свободны; из права быть избирателем и из-
бираемым исключаются только люди, ничем не владеющие, потому
что здесь возможна опасность подкупа. 6) Народ имеет право соби-
раться на совещания, давать наказы своим представителям и по-
средством адресов излагать законодательной власти свои просьбы
и желания. 7) Свобода совещания в собраниях так существенна,
что никакая речь, произносимая на них, не может быть преследу-
ема судом. 8) Долгое пребывание на высших местах управления
опасно для свободы; периодическая смена необходима. 9) Никто
не может занимать в одно время многих прибыльных должностей.
10) Безусловное разделение законодательной, исполнительной
и судебной власти. Если законодательная власть не из года в год,
но раз навсегда устанавливает взимание налогов, то она подвер-
гается опасности уничтожить свободу, потому что тогда исполни-
тельная власть от нее уже не зависит. Если исполнительная власть
устанавливает взимание налогов, то нет уже никакой свободы, так
как этим она присваивает себе важнейшее право законодатель-
ной власти. Если судебная власть соединена с законодательной,
то жизнь и свобода людей зависят от прихоти, потому что судья
есть законодатель; если она соединена с исполнительною властью,
то судья имеет силу угнетателя. Если все три власти находятся в ру-
ках одного человека, непосредственно или через его влияние, тогда
все потеряно. 11) Право уничтожать законы может принадлежать
1 Все люди свободны и равны (0р.). —Прим. изд.
471
только законодательной власти. 12) Мораль есть основание всей
политики. 13) Народ имеет общее право носить оружие. 14) Хоро-
шо устроенная милиция есть самая естественная и верная защи-
та свободного правительства. 15) Постоянные войска опасны для
свободы; без согласия законодательного корпуса не должны быть
ни набираемы, ни содержимы войска; военные люди должны быть
строго подчинены гражданской власти. 16) Никакая собственность
отдельного лица не должна быть употребляема для общественных
целей без его собственного согласия или без согласия народного
представительства. 17) Суд должен быть скорый, даровой и беспри-
страстный. 18) Никакой гражданин не должен быть изгоняем или
лишаем своей жизни, свободы и имущества иначе, как по правиль-
ному судебному приговору. 19) Каждый гражданин, встречающий
препятствия пользованию своей свободой, имеет право требовать
отчета о свойстве этого препятствия и в случае надобности искать
возмещения убытков. 20) Каждый гражданин должен быть обеспе-
чен от всякого предварительного задержания своей особы, своего
дома, бумаг и собственности. 21) Независимость и несменяемость
судей. 22) Все исключительные привилегии противны духу свобод-
ного правления. 23) Привилегии могут быть приобретаемы только
заслугами государству; так как звания по свойству их не могут
быть передаваемы по наследству, то мысль о прирожденном судье,
законодателе или генерале не имеет смысла и противна природе.
24) Свободное отправление всех вероисповеданий. 25) Ненаруши-
мая свобода печати.
Таковы были взгляды, с какими Мирабо вступал в начинаю-
щийся переворот. Финансовые нужды Франции становились все
настоятельнее. Опыт созвания нотаблей и переговоры с парламен-
том потерпели неудачу. Везде был один голос о восстановлении
собрания сословий (etats generaux). Мирабо вступил в ряд бойцов
с сочинением, которое он, имея в виду свои прежние брошюры
(в феврале 1787), назвал Suite de la denonciation de I’agiotage (1788).
Начало и конец этого сочинения тот, что самое действительное
средство поднять разрушенный государственный кредит заключа-
ется единственно и исключительно в даровании представительства.
«Представительства еще нет; но все возвещает его, все подготовляет
его, все содействует тому, чтобы его ускорить. Невозможно, чтобы
такая простая истина могла ускользнуть от правительства. До сих
пор мы не имели никакого влияния на правительство: теперь сила
вещей дает нам это влияние, и будущее покажет, достойны ли мы
свободы».
За эту свободную представительную жизнь, которая наполняет
всю его душу, Мирабо и во времена революционной борьбы стоял
со всей силой своей гениальности, с полнотой своего государственно-
го знания, с неодолимым очарованием своей могущественной речи.
472
Известны те знаменитые слова, какие Мирабо сказал обер-цере-
мониймейстеру 23 июня 1789, когда последний потребовал от на-
ционального собрания, чтобы оно по королевскому повелению
оставило залу заседаний: «Да, милостивый государь, мы слыша-
ли намерения, которые подсказаны были королю, и вы, который
не можете быть органом короля при национальном собрании, вы,
который не имеете здесь ни места, ни голоса, ни права говорить, вы
не тот человек, который может напоминать нам слова короля. Но,
чтобы избежать всяких проволочек и замедлений, я объявляю вам,
если вам поручено было удалить нас отсюда, вы должны были бы за-
пастись приказом употребить силу. Потому что мы уступим только
силе штыков» (см. A. Stern, Mirabeau. Berlin 1889, II, 26). Это был
решительный поворот победы революции, заявление верховного
права народа против королевской власти.
И, однако, именно теперь, когда приходило время не только раз-
рушения, но и созидания, оказалось, до какой степени умеренным
и строго конституционным в английском смысле был государствен-
ный идеал Мирабо. Осталось неизгладимым пятном на характере
Мирабо, что он тайно сносился с двором и заставлял оплачивать
свою монархическую деятельность, сопротивлявшуюся республи-
канским стремлениям, и эта низменность его образа мыслей яснее,
чем какая-нибудь другая черта, показывает, как глубоко испорче-
на была французская аристократия того времени даже в ее лучших
сынах; и, несмотря на все это, нельзя сказать, чтобы Мирабо прода-
вал себя. Он хотел свободного, но и сильного правительства. Он хо-
тел самых широких прав принадлежащей народу законодательной
власти и неумолимо восставал против всего, что имело малейший
признак преступной контрреволюции; но на основании этих широ-
ких народных прав он вместе с тем хотел самого строгого сохране-
ния монархической вершины. Мирабо есть первая эпоха француз-
ской революции, эпоха конституционализма.
Эмманюэлъ Жозеф Сийес, род. 3 мая 1748 в Фрежюсе, был один
из тех молодых французских духовных восемнадцатого века, которые
вполне принадлежали новой философии; а именно, большое влияние
имели на него Локк и Кондильяк. Внимательное изучение экономи-
стов и живое участие в совещаниях провинциальных сословий в Бре-
тани, на которых он присутствовал, как генеральный викарий епи-
скопа шартрского, уже рано направили его мысль на политические
предметы. Но его писательская деятельность началась только тогда,
когда революция вспыхнула уже открыто и когда должны были быть
вновь созваны сословия, которые не были собираемы почти уже два
столетия. Быстро последовали одна за другой брошюры, написанные
летом 1788: 1) Essai sur les privileges (ноябрь 1788); 2) Qu’est-ce que
le tiers-etat? (январь 1789); 3) Vues sur les moyens d’execution dont les
representants de la France pourront disposer (март 1789).
473
Ход революции и ближайшие ее цели были существенно опреде-
лены этими сочинениями.
Мы везде слышим ученика Руссо, но ученика, который вышел
из тихих мечтаний своего учителя и неустрашимо показывает путь
революции.
В первом из упомянутых сочинений, о привилегированных
сословиях, высказывается глубокое озлобление оскорбленно-
го народного чувства против высокомерной аристократии. Дать
кому-нибудь исключительную привилегию на то, что принадле-
жит каждому, значит делать несправедливость каждому в пользу
отдельного лица, чтд столько же несправедливо, как безвкусно.
Но привилегия не только несправедлива, но и по самой основе ее
вредна. В ту минуту, когда государственное управление дает како-
му-нибудь гражданину отличительный знак человека привилегиро-
ванного, оно открывает его душу личному интересу и более или
менее закрывает для нее одушевление к общему благу. Идея отече-
ства суживается для привилегированного; с этих пор она ограни-
чивается только кастой, которая его приняла. Все его силы, раньше
с успехом применяемые к общему благу, теперь обращаются про-
тив него; его хотели поощрить к совершению еще больших заслуг,
но сделали его только хуже. Испытайте новые чувства привилеги-
рованного; он рассматривает себя с членами своего сословия, как
совершенно особенное сословие, как отборную нацию внутри на-
ции. Что для отдельного человека есть личное тщеславие, то для
привилегированного класса есть исключительный сословный дух.
Этот сословный дух образует в своих последствиях пугливый союз,
готовый на все для сохранения и умножения гнусных привилегий.
Государственный порядок извращается, привилегированное со-
словие становится самой недостойной кастой. Рычаг всей обще-
ственной жизни составляют деньги и честь. Но каков этот рычаг
в привилегированном обществе? Какова честь? Она обеспечена
привилегированному, она есть его унаследованное свойство. Для
всех других честь есть награда их поступков; для привилегиро-
ванных достаточно родиться. У них нет даже потребности дости-
гать чести; они могут вперед отказываться от всего, чтд способно
доставлять честь. Привилегированные, конечно, очень живо чув-
ствуют необходимость в деньгах; они даже еще настоятельнее,
чем другие, чувствуют эту страсть, потому что чувство их высоко-
го положения постоянно возбуждает их к большим расходам. Но,
по удивительному противоречию, то мнение их сословия, которое
побуждает их разорять свои имения, запрещает им всякий закон-
ный путь к тому, чтобы вознаградить потери. Торговля и промысел
считаются презрительными. Что же остается? Только интрига и по-
прошайничество. В этом состоит индустрия привилегированных;
они сполна заняли двор, они осаждают министров; все милости,
474
пенсии и доходы они вырывают друг у друга. Интрига бросает свой
алчный взгляд на церковь, государственные и военные должности,
и вскоре она смотрит на эту службу не как на места, требующие
таланта, но как на приличные попечительные учреждения для при-
вилегированных фамилий. Попрошайничество держится особенно
при дворе. Хотя большая часть землевладения все еще находится
в руках аристократии, но распущенность и расточительность дела-
ют то, что есть множество бедных аристократов. Но почти невоз-
можно сказать о бедном аристократе, — тотчас поднимается крик
горестного негодования. Аристократ, который не в состоянии под-
держать честь своего имени и звания, есть позор для нации; надо
поспешить исправить этот позор. Высшие места управления не на-
прасно находятся по большей части в руках привилегированных;
с истинно отеческим попечением они заботятся о бедных сочленах
своего сословия. Во всей Европе являются хваленые воспитатель-
ные учреждения для бедных аристократов обоего пола; и остере-
гитесь приучать питомца к труду и к честному добыванию хлеба.
Едва эти молодые привилегированные вышли из детства, они сидят
уже на прочных местах. Все двери открыты для просьб привиле-
гированного; им стоит только показаться, и все считают себе че-
стью позаботиться об их повышении. Является постоянно все но-
вая изобретательность относительно должностей, синекур, пенсий,
какие всегда раздаются только привилегированным; и кроме того,
конечно, множество орденов, составляющих необходимую принад-
лежность их туалета. Те средства королевской кассы, которые на-
значены для милостыни, всего больше требуются аристократами.
Привилегированному не надо даже быть бедным, чтобы выпра-
шивать; он выпрашивает уже тогда, когда не может сполна удов-
летворить своему сословному тщеславию. В самом деле эта тема
о привилегии неистощима, как и предрассудки, которые служат
к ее сохранению. Но придет время, когда наши внуки с изумлени-
ем и негодованием будут читать нашу историю и дадут непонят-
ному безумию то имя, какого оно заслуживает. Предрассудок от-
носительно привилегированных сословий есть самый гибельный,
потому что он захватывает весь общественный порядок и самым
глубоким образом его подкапывает1.
Второе сочинение «Qu’est-се que le tiers-etat?», написанное
во время собрания нотаблей в 1788 и изданное в начале января
1789, тотчас сделало эту борьбу против привилегий аристокра-
тии самым жгучим вопросом дня. Собрание сословий, которое
не созывалось почти два столетия, должно было быть созвано
вследствие настоятельных финансовых нужд. Умы были самым
1 Любопытным комментарием к этим нападениям на французскую аристокра-
тию конца восемнадцатого века являются переведенные недавно по-русски «Запи-
ски герцога Лозена». — Прим. пер.
475
страстным образом возбуждены вопросом относительно состава
собрания; даже по мнению правительства, состав 1614 года был
немыслим при совершенно изменившихся условиях жизни. Тог-
да Сийес бросил в возбужденные умы всемирные исторические
положения: «Что есть третье сословие? Все. Что представляет
оно до сих пор в государственном порядке? Ничто. Чего требует
оно? Быть чем-нибудь». (Qu'est се que le tiers-etat? Tout. Qu’a-t-il ete
jusqu’a present dans I’ordre politique? Rien. Que demande-t-il? Y devenir
quelque chose.)
Эпиграмматическая краткость этих сильных положений пе-
реходила из уст в уста, хотя Сийес был обязан ими Шамфору
(ср. A. Bigcon, Sieyes. Париж 1839, стр. 114). Они стали победным
знаменем революции. С этих пор знали ясно и определенно, чего
хотели. И объяснения, которые Сийес присоединил к этим жгу-
чим вопросам и ответам, были совершенно способны устранить
и последние сомнения о том, что надо было прежде всего иметь
в виду. К первому вопросу. Третье сословие имеет везде труд, при-
вилегированные сословия имеют почести и наслаждения. Итак,
что такое третье сословие? Это целое, но подавленное и связан-
ное целое. Чем оно было бы без привилегированного сословия?
Целое, но свободное и цветущее целое. Ничто не идет без него,
все пошло бы лучше без других. Представители привилегирован-
ных сословий чужды нации; как по тому основанию, на каком они
опираются, потому что их миссия идет не от народа, так и по их
цели, потому что они представляют не общее благо, а только ис-
ключительное благо. Ко второму вопросу. Нация не может быть
свободна, если не свободно третье сословие; свободны бывают
не по привилегиям, но по гражданским правам, которые принад-
лежат всем. Если аристократия ведет свои привилегии от завоева-
ний франков, то теперь буржуа достаточно силен, чтобы не дать
себя завоевать и отослать потомков завоевавшего племени опять
в леса. Буржуа сделается аристократом, когда и сам с своей сторо-
ны сделается завоевателем. Когда французское правление не было
чистым деспотизмом, оно было, в сущности, придворной аристо-
кратией. Третье сословие не имело настоящего представитель-
ства и в etats generaux, потому что и последние принадлежали ис-
ключительно аристократии духовенства, дворянства и судебного
сословия; таким образом права третьего сословия равны нулю.
К третьему вопросу. Третье сословие хочет иметь в etats generaux
представителей, которые вышли из него самого. Но что пользы
для них в etats generaux, когда в последних преобладает интерес
враждебный третьему сословию; своим присутствием они только
подтвердили бы притеснение, которого стали бы вечной жертвой.
Поэтому они должны иметь влияние, которое по крайней мере
равнялось бы влиянию привилегированных, т. е. их число долж-
476
но равняться числу духовенства и дворянства вместе, и голоса
должны считаться по головам, а не по сословиям. Остается безраз-
лично, если привилегированные закрывают глаза на революцию,
которую произвели время и сила вещей; революция тем не ме-
нее есть факт. Всего лучше, если третье сословие соберется одно
и не будет голосовать с дворянством и духовенством ни по сосло-
виям, ни по головам. Третье сословие представляет двадцать пять
миллионов людей и совещается о задачах нации; два другие сосло-
вия представляют около двухсот тысяч человек и думают только
о своих привилегиях. Скажут, что третье сословие одно не может,
однако, образовать etats generaux. Тем лучше! Только оно составит
национальное собрание.
И третье сочинение, которое говорит об исполнительных сред-
ствах, находящихся в распоряжении народного представительства,
есть завершение. Оно распадается на два отдела. Первый отдел
возвращается к важному избирательному вопросу. Он объясняет
то решающее положение, что если народное представительство
должно быть действительно представительством общей воли, т. е.
суммой всех отдельных воль, то выборы никак не должны совер-
шаться по отдельным сословиям и корпорациям, но по округам.
Мало того, Сийес идет в этом смысле еще дальше и для устране-
ния всех мешающих отдельных влияний требует уничтожения
всего старого провинциального деления, замены старых провин-
ций отдельными департаментами, довольно равными по про-
странству и числу населения; только тогда на место различных
народностей станет единый народ и на место различных провин-
ций — единое государство. И каждый депутат, хотя бы выбранный
только частью нации, есть, однако, представитель целой нации
и потому не должен быть связан никакими определенными ин-
струкциями своих избирателей. Но второй отдел есть изложение
настоящей цели имеющего быть созванным собрания. Народное
представительство не имеет унизительного назначения заботить-
ся о новом наполнении кассы просто по приказу управления, ко-
торое грабило эту кассу. Les representants d’une nation ne s’aviliront
pas jusqu’a se changer en une simple compagnie de pourvoyeurs de la
caisse publique aux ordres des administrateurs qui I’ontpillee1. Миссия,
которую получило народное представительство от народа, прости-
рается скорее на все, что касается общего блага, оно имеет полное
и неограниченное право законодательства. Таким образом буду-
щее собрание будет в сущности учредительное. И при начертании
этих учреждений оно в особенности обратит свое внимание на то,
чтобы эти учреждения носили в себе необходимое ручательство
1 Представители нации не обесценятся до простой компании поставщиков го-
сударственных средств в структуре администраторов, которые эти средства грабят
(0р.). —Прим. изд.
477
их силы и жизненности. Имея власть в руках, легко нарушают уч-
реждения; даже самая подробная и самая законная конституция
есть ничто, если не имеет принудительной власти. Отсюда самая
безусловная необходимость исключительного права разрешения
налогов.
Третье сословие есть нация. «Старое общество, — говорил Сий-
ес, — есть пирамида, стоящая на своей вершине; нет никакой дру-
гой помощи, как перевернуть пирамиду и снова поставить на ее
основание».
Сийес гораздо больше, чем Мирабо, наложил на первые годы
французской революции печать своего смелого и упорного духа.
От Сийеса идет не только имя Assemblee nationale1, но и твердое
определение его первых энергических решений. Та, замечательная
ночь 4 августа 1789 г., «Варфоломеевская ночь привилегий», как
называл ее Ривароль, когда дворянство и духовенство, увлеченные
всеобщим бескорыстным одушевлением, с самоотвержением пола-
гали на алтарь отечества свое исключительное положение и свои
привилегии, это великодушное заявление и установление неот-
чуждаемых человеческих прав, — чем они были, как не осущест-
влением и всемирно-историческим подтверждением того учения,
какое проповедовал Руссо и его ученик Сийес?
В своей долгой переменчивой жизни Сийес видел еще дикие
времена террора, тиранию империи, от которой он получил граф-
ский титул, реставрацию, которая на четырнадцать лет изгнала его
из Франции, и июльскую революцию; он умер 20 июня 1836 г., Ми-
нье рассказывает (Revue des deux mondes 1837, стр. 12), как Сийес
еще в глубокой старости с гордостью указывал на то, что он был
единственным творцом деления на департаменты, через которое
Франция получила в первый раз свой нынешний вид.
Нет сомнения, что великие перемены и перевороты, которые
делают французскую революцию одним из наиболее глубоко дей-
ствующих событий всех времен, не должны быть выводимы един-
ственно из воздействий и возбуждений французских писателей
просвещения; но точно так же несомненно противоречит явным
фактам, когда совсем отвергают это влияние, как делает Гранье
де Кассаньяк в своей «Histoire des causes de la revolution frangaise»
(Париж, 1850). Истина в том, что те же настроения и условия, какие
в конце концов приводили к революции, произвели и французскую
философию просвещения, но что литература опередила неопреде-
ленное народное чувство, привела его к сознанию, стала его выра-
зителем и руководителем.
Токвиль указывает самую сущность положения вещей, когда го-
ворит в заключительной главе своей прекрасной книги «L’ancien
1 Национальное собрание (фр.). —Прим. изд.
478
Regime et la Revolution»: «Не было больше никаких свободных уч-
реждений; следовательно и никаких политических классов, ника-
ких живых политических корпораций, никаких организованных
партий с их предводителями, и за недостатком всех этих сил руко-
водство общественным мнением досталось философам. Поэтому
можно было предполагать, что ход революции будет управляться
не столько влиянием отдельных определенных условий, сколько
отвлеченными и весьма общими теориями; можно было сказать
вперед, что вместо того, чтобы нападать отдельно на дурные зако-
ны, будут нападать на все законы с тем, чтобы на место старого го-
сударственного устройства Франции поставить совершенно новое,
выдуманное этими писателями».
Поэтому сила и слабые стороны французской литературы про-
свещения составляют и силу, и слабые стороны французской ре-
волюции.
Французская революция велика в своем великодушном ос-
новном направлении. Везде, во всех речах и сочинениях этого
могучего времени раздаются величественные слова о неотъем-
лемой верховной власти народа, о свободе и равенстве, о свобо-
де совести и могуществе добродетели. Фихте в своих «Beitrage
zur Beurtheilung der franzosischen Revolution» метко назвал рево-
люцию великой картиной на тему «человеческое право и чело-
веческое достоинство». Гегель в «Философии истории» прекрас-
но говорит: «Мысль, понятие права приобрело силу в один раз,
и старые подмостки несправедливости не могли ему противить-
ся. В этой мысли права создано теперь государственное устрой-
ство, и на этом основании должно было отныне утверждаться
все... Анаксагор первый сказал, что nous, дух, управляет миром;
теперь человек пришел к тому, что дух должен управлять духов-
ной действительностью. Это было прекрасным восходом солнца.
Все мыслящие существа торжествовали эту эпоху. Над этим вре-
менем господствовало возвышенное чувство, мир содрогался
от энтузиазма духа, как будто теперь впервые достигнуто дей-
ствительное примирение божественного с миром». Отсюда со-
вершенно беспримерное значение этой революции. Генц, один
из ревностнейших ее противников, уже признавал, что тогда как
все прежние революции в Германии, Голландии и Англии стре-
мились только к чисто национальным, местным, особенным це-
лям и даже к ним стремились без ясного сознания, революции
во Франции и Америке в своих целях и принципах простираются
на все человечество.
Но слабая сторона французской революции, причина ее смут
и ее падения, заключается в том, что как вся литература просве-
щения, так и французская революция совершенно не знают ос-
новного исторического условия постепенности переходов и при-
479
вычек. Одушевленные герои свободы и с своей стороны надеялись
достигнуть того, чего легко и без страданий достигла американ-
ская революция! Если там осуществились великие воззрения
английских свободных мыслителей и политиков, то почему бы
не могли иметь такой же удачи воззрения и учения французских
мыслителей? Они не отдавали себе отчета в том, что в Амери-
ке была девственная почва и что Франция и Европа неразрывно
привязаны к двухтысячелетнему прошедшему. Фанатизм общей
мысли, отвлеченной от всякой действительности и всяких исто-
рических условий, который выразился в литературе, произвел фа-
натизм террора.
Революция не удалась; она и должна была не удаться. Но она
поставила будущему задачи, над разрешением которых постоян-
но работает история и, конечно, будет работать и бороться еще
много веков.