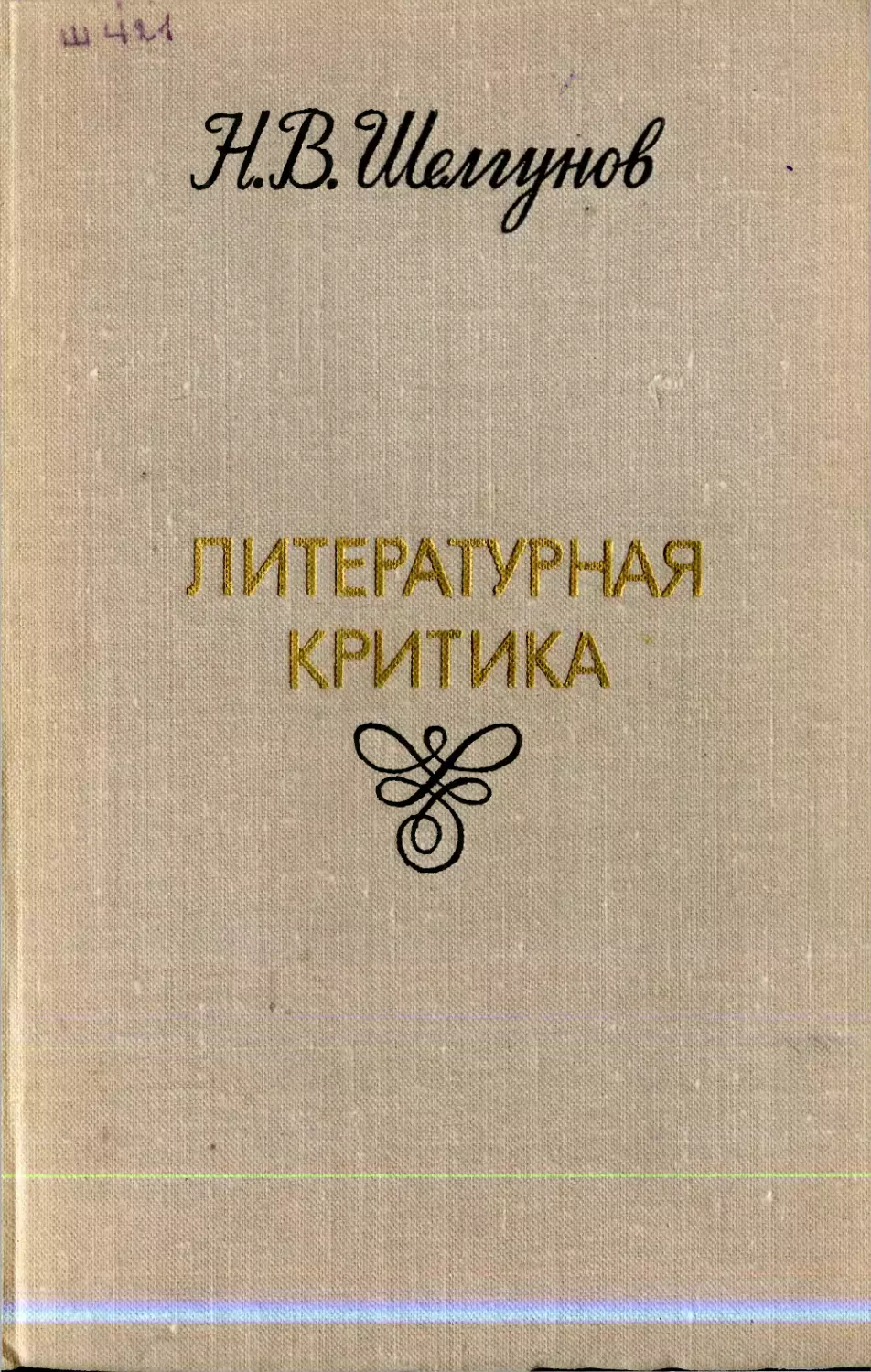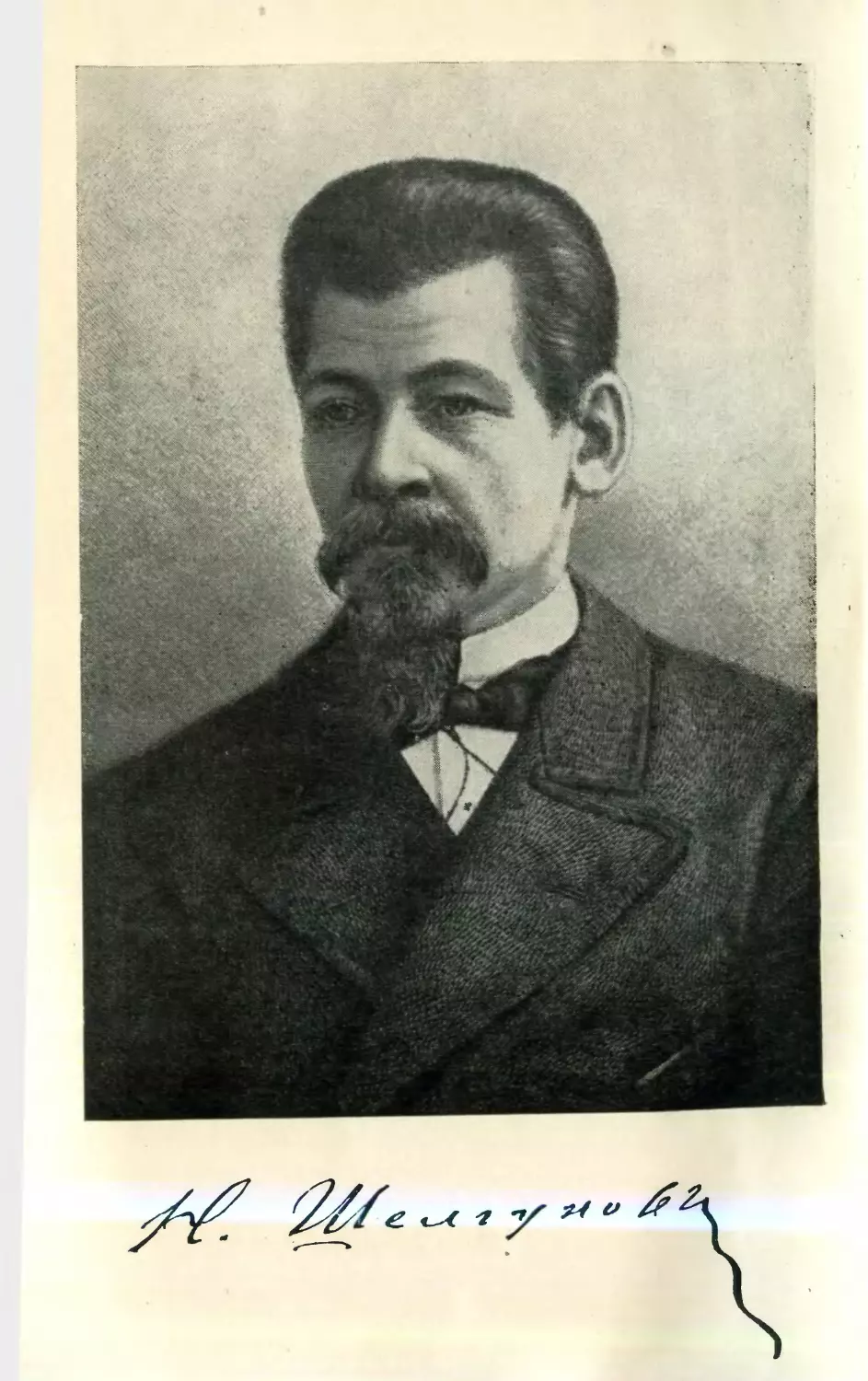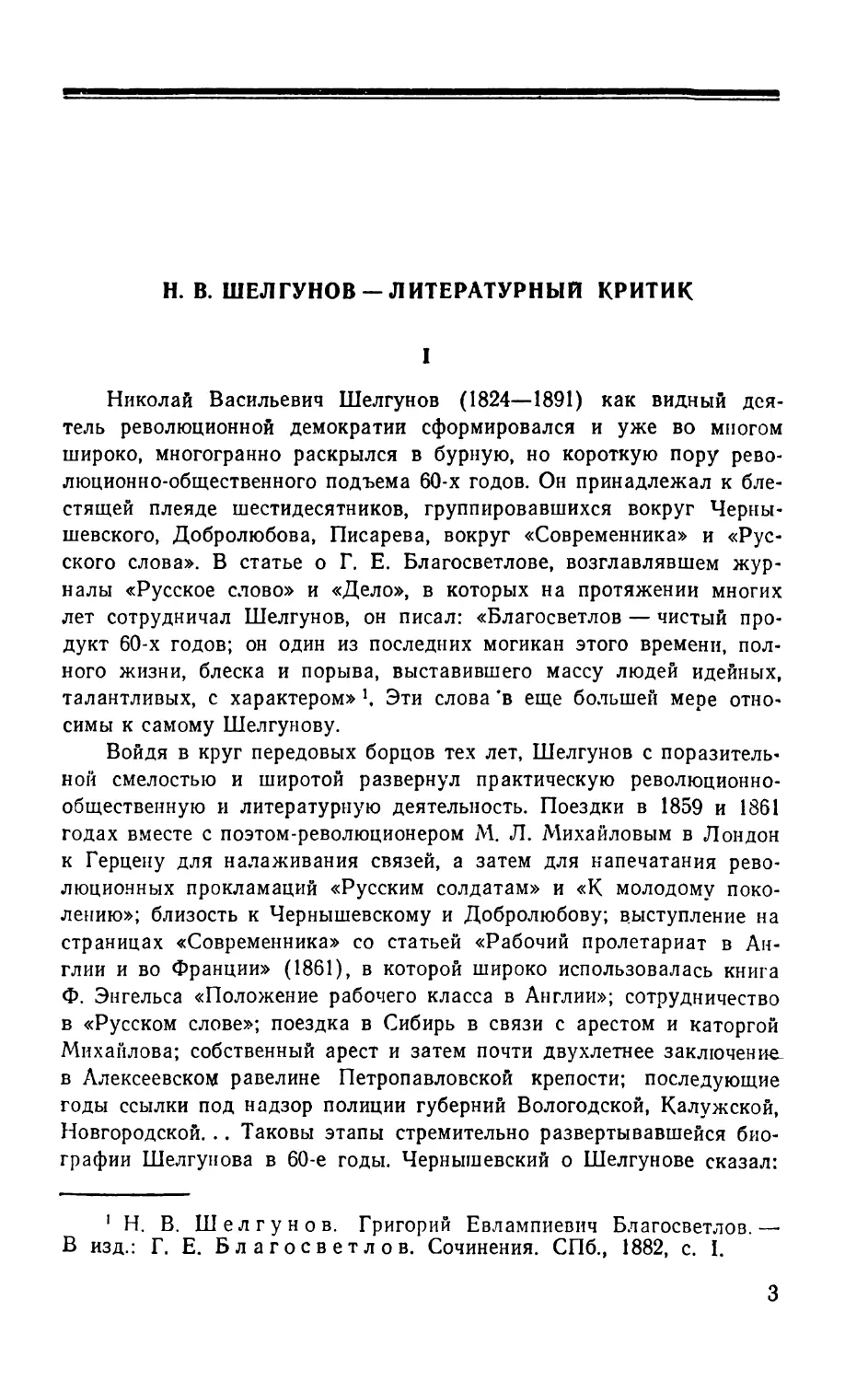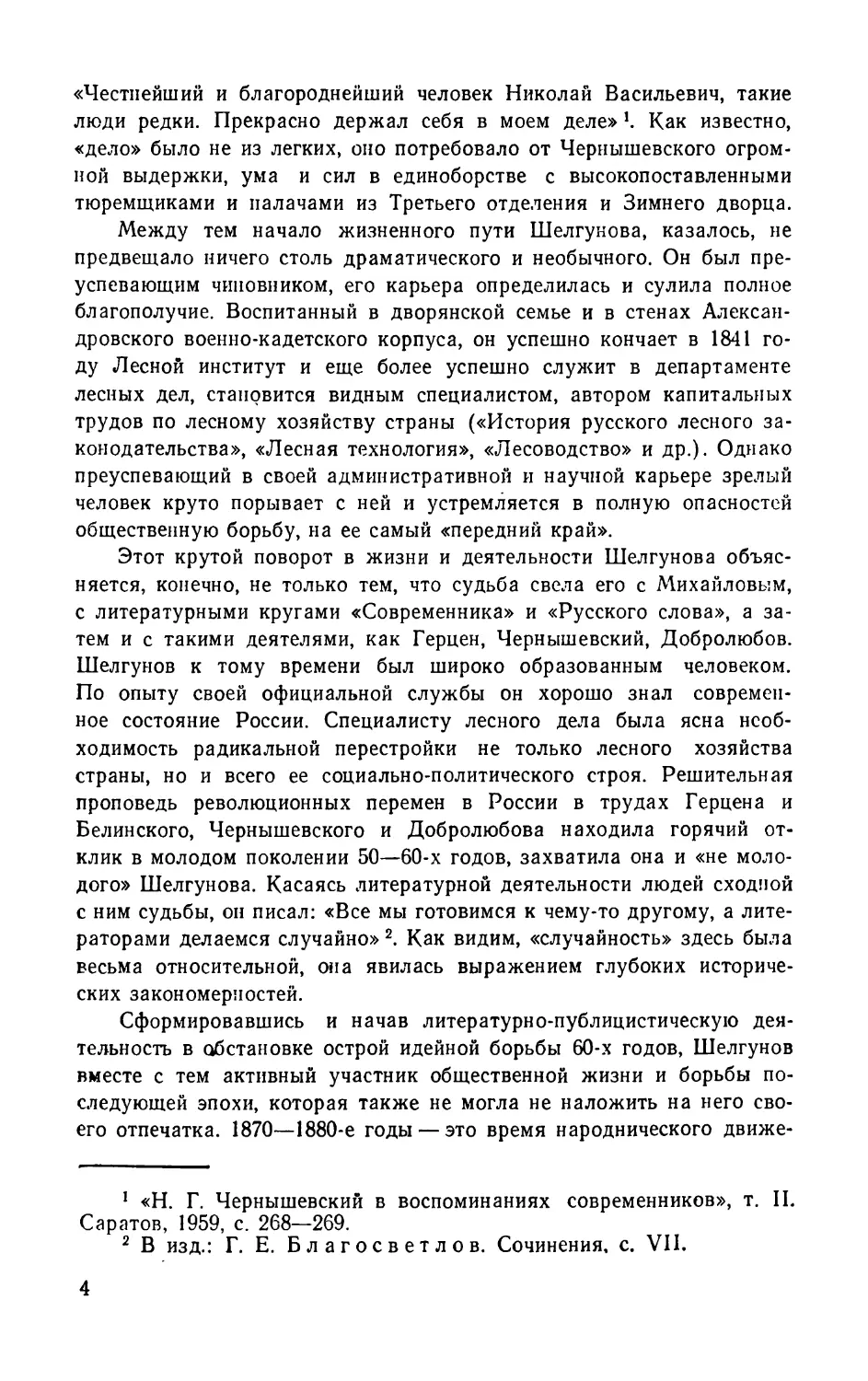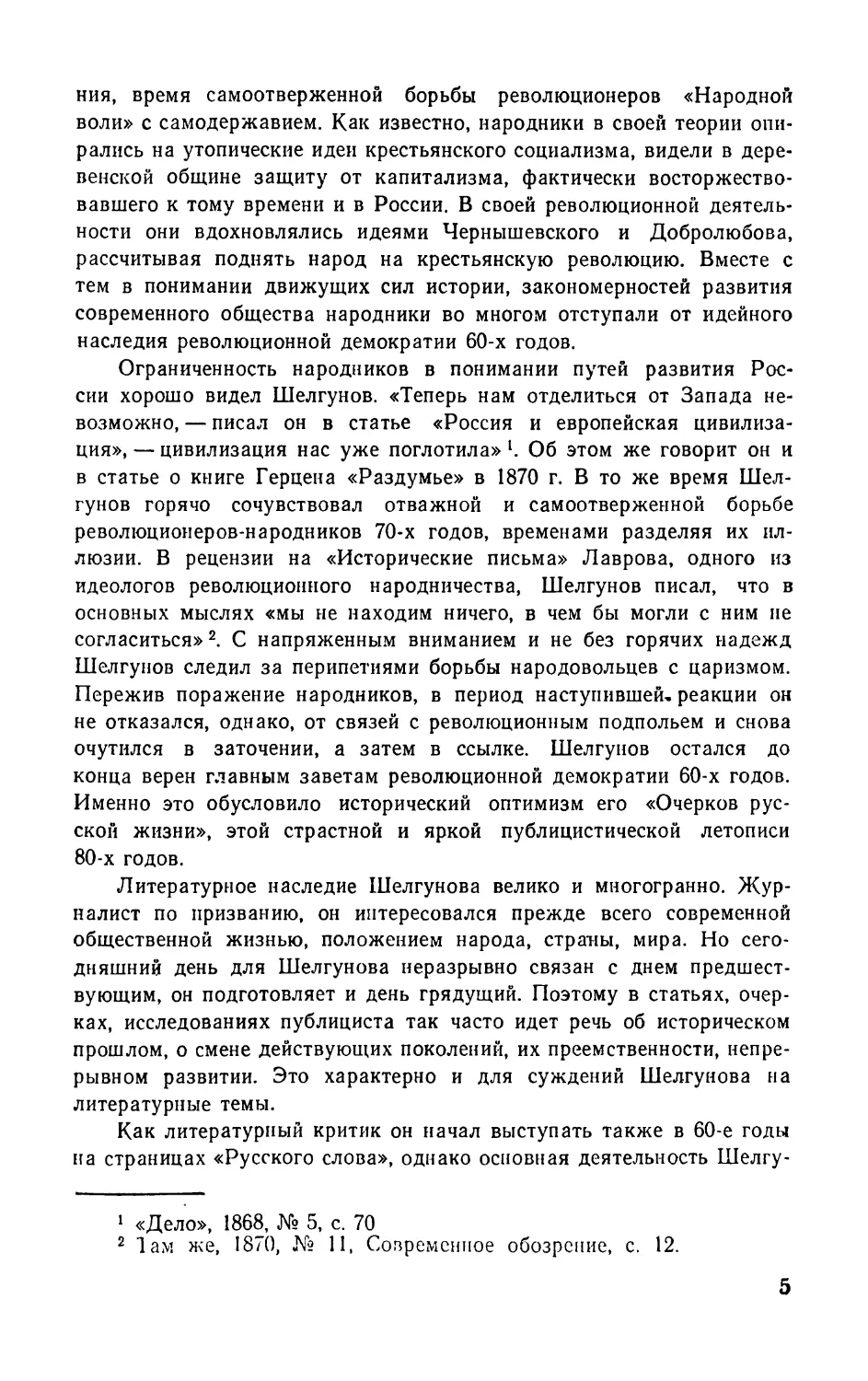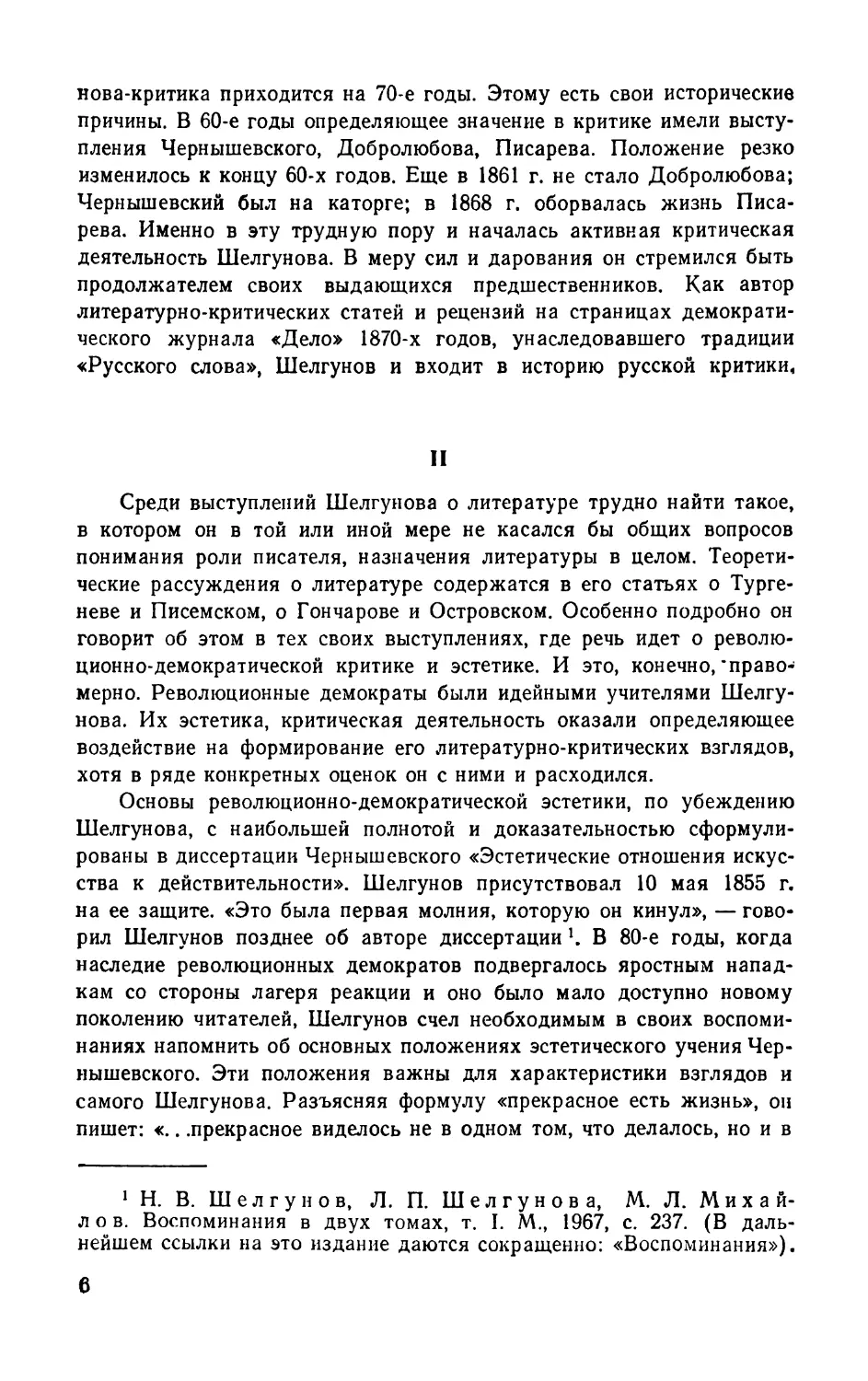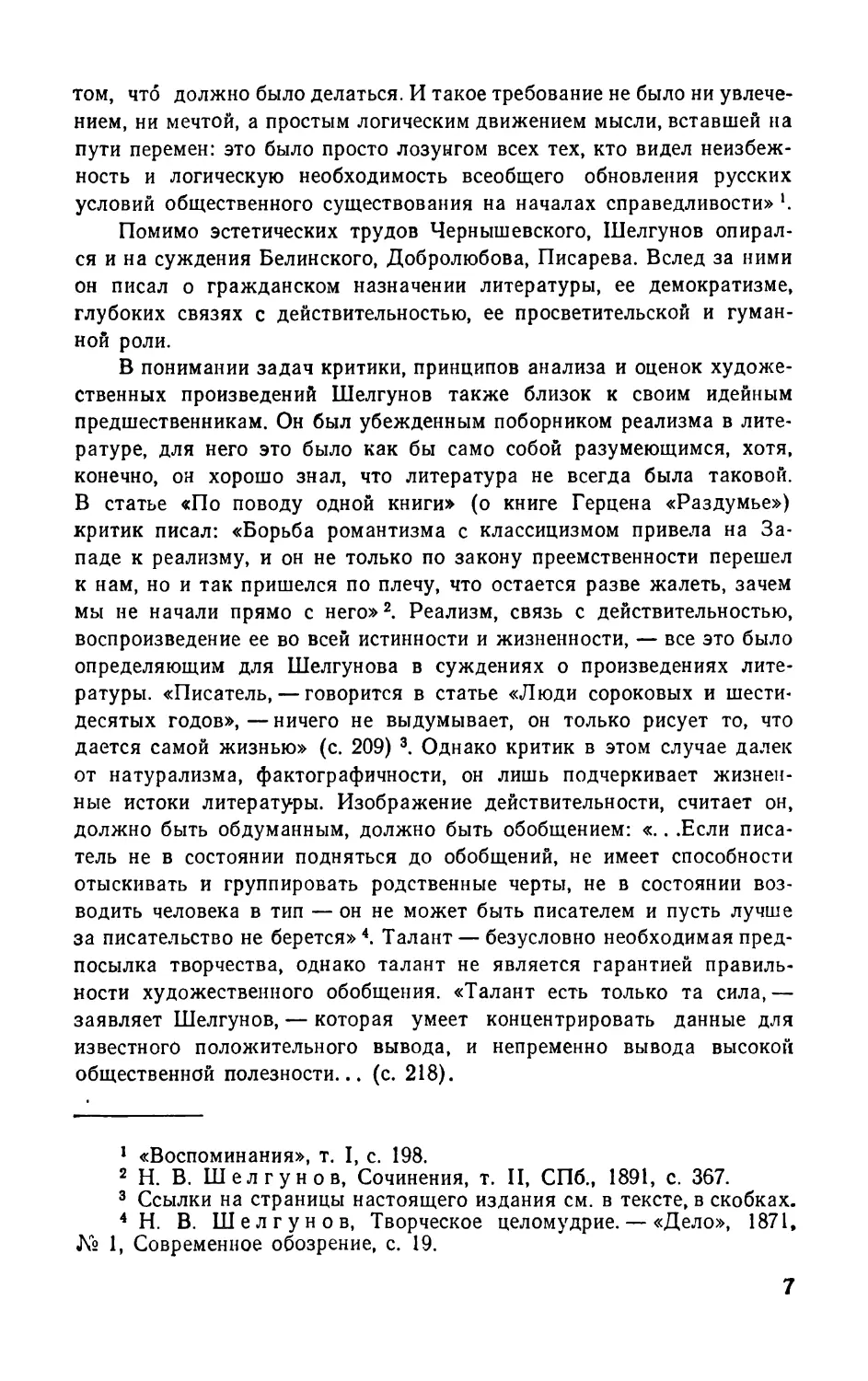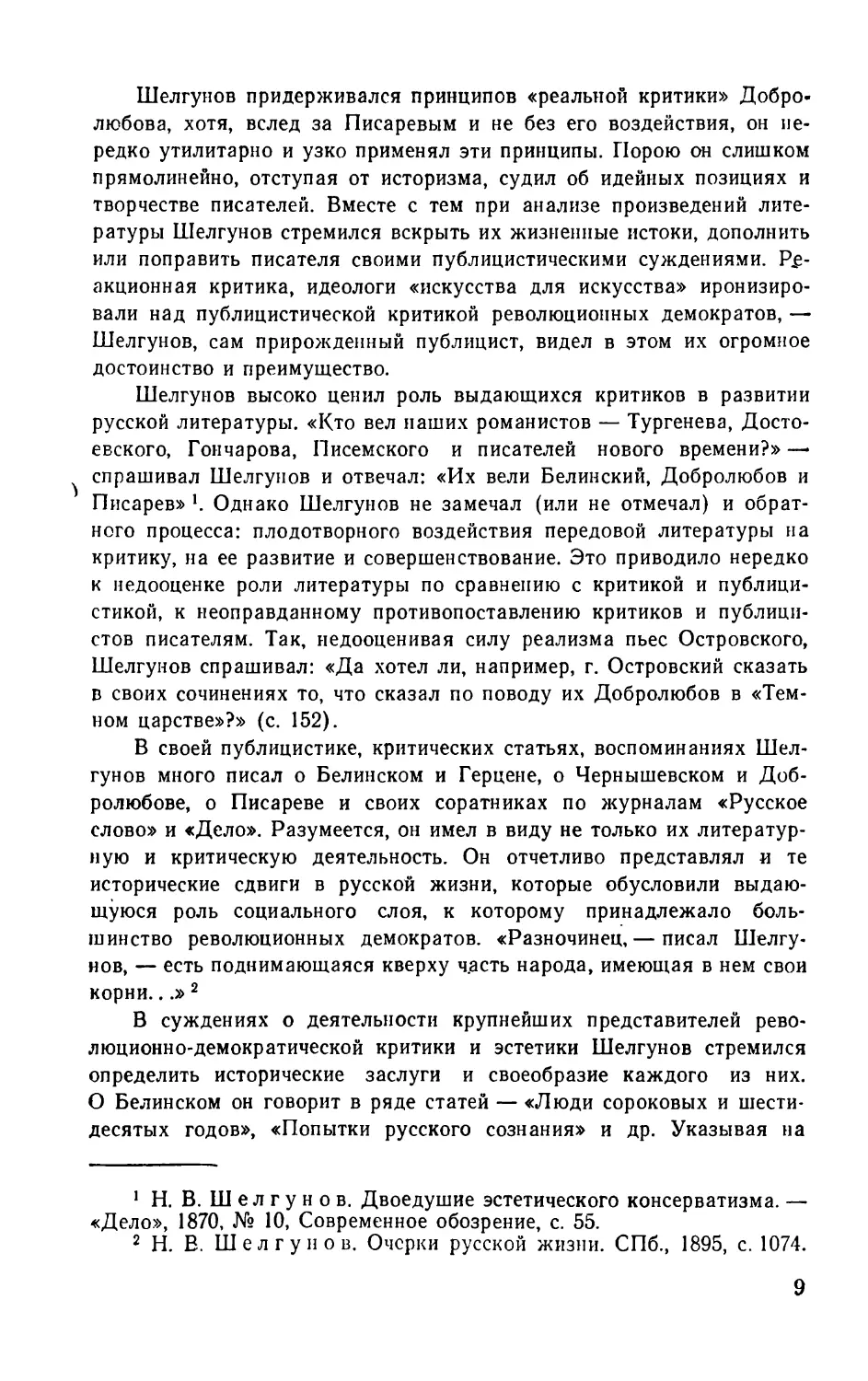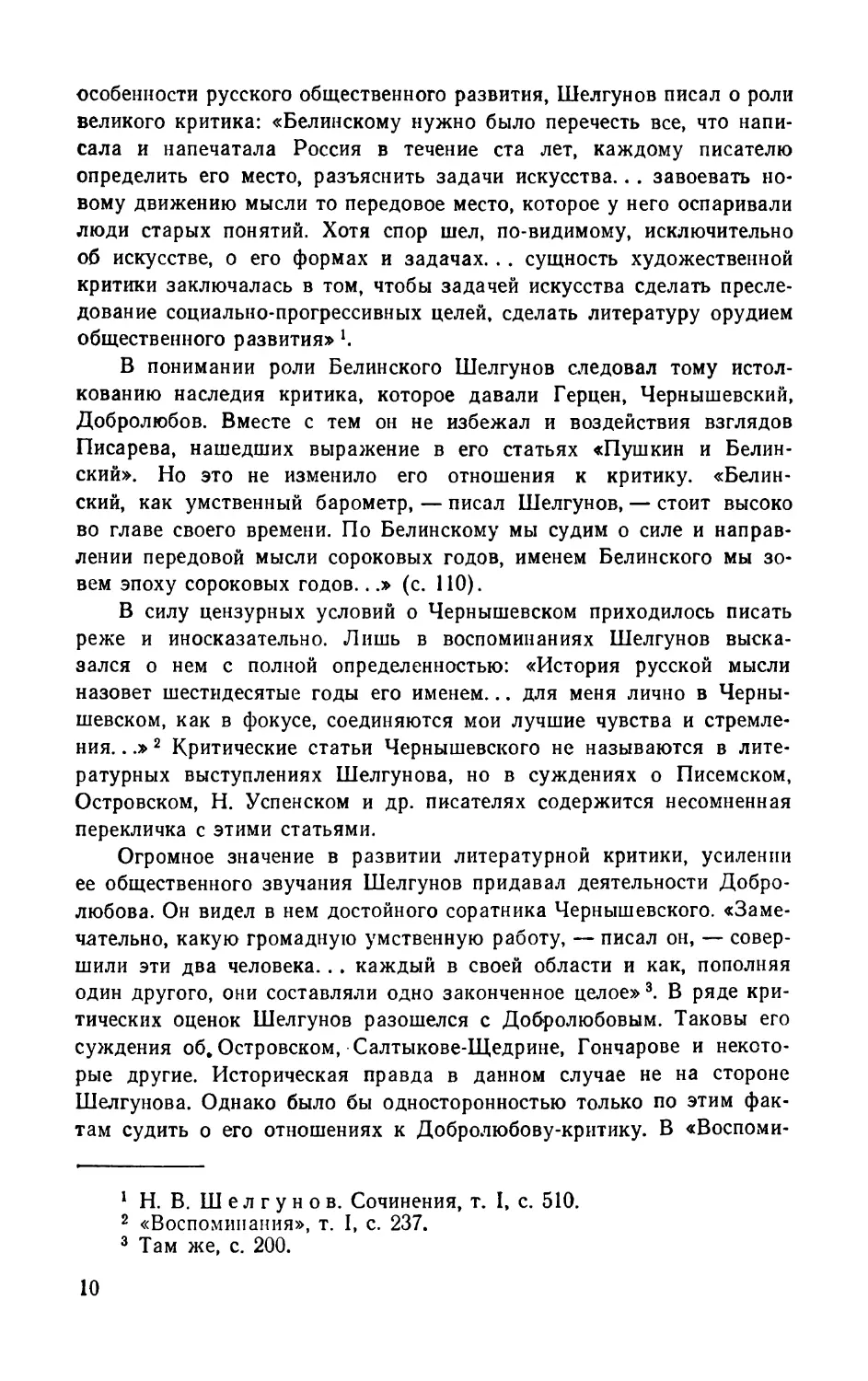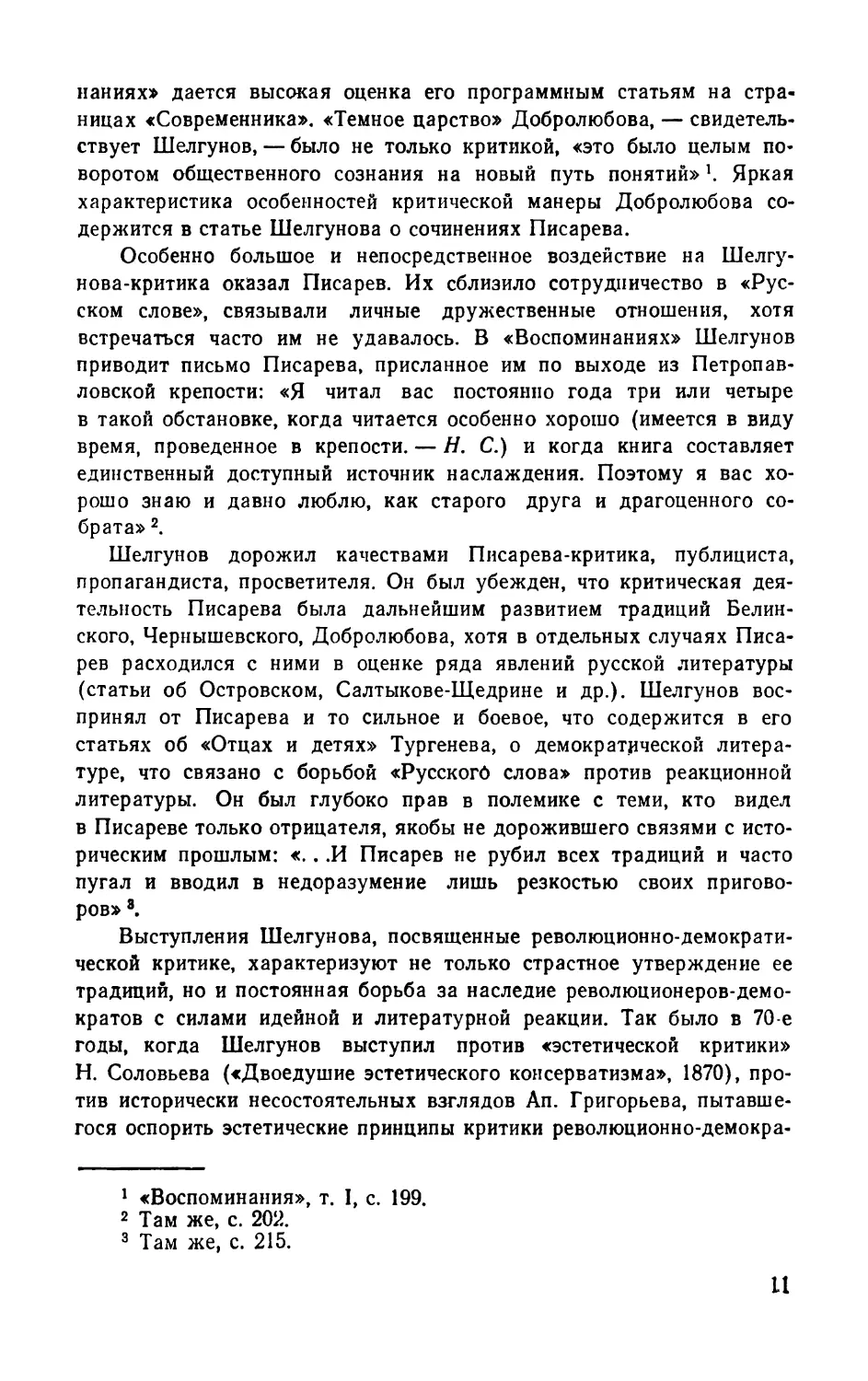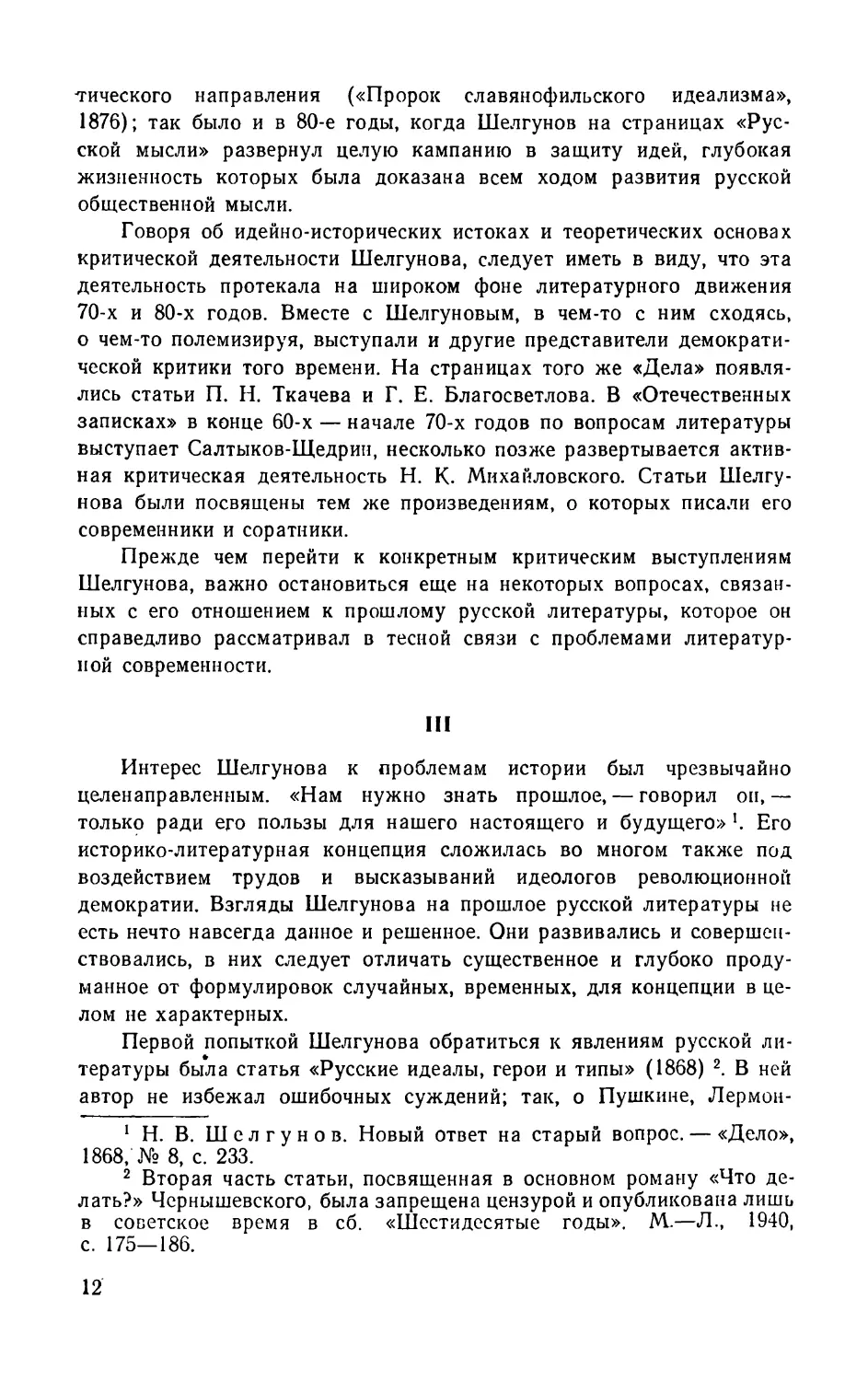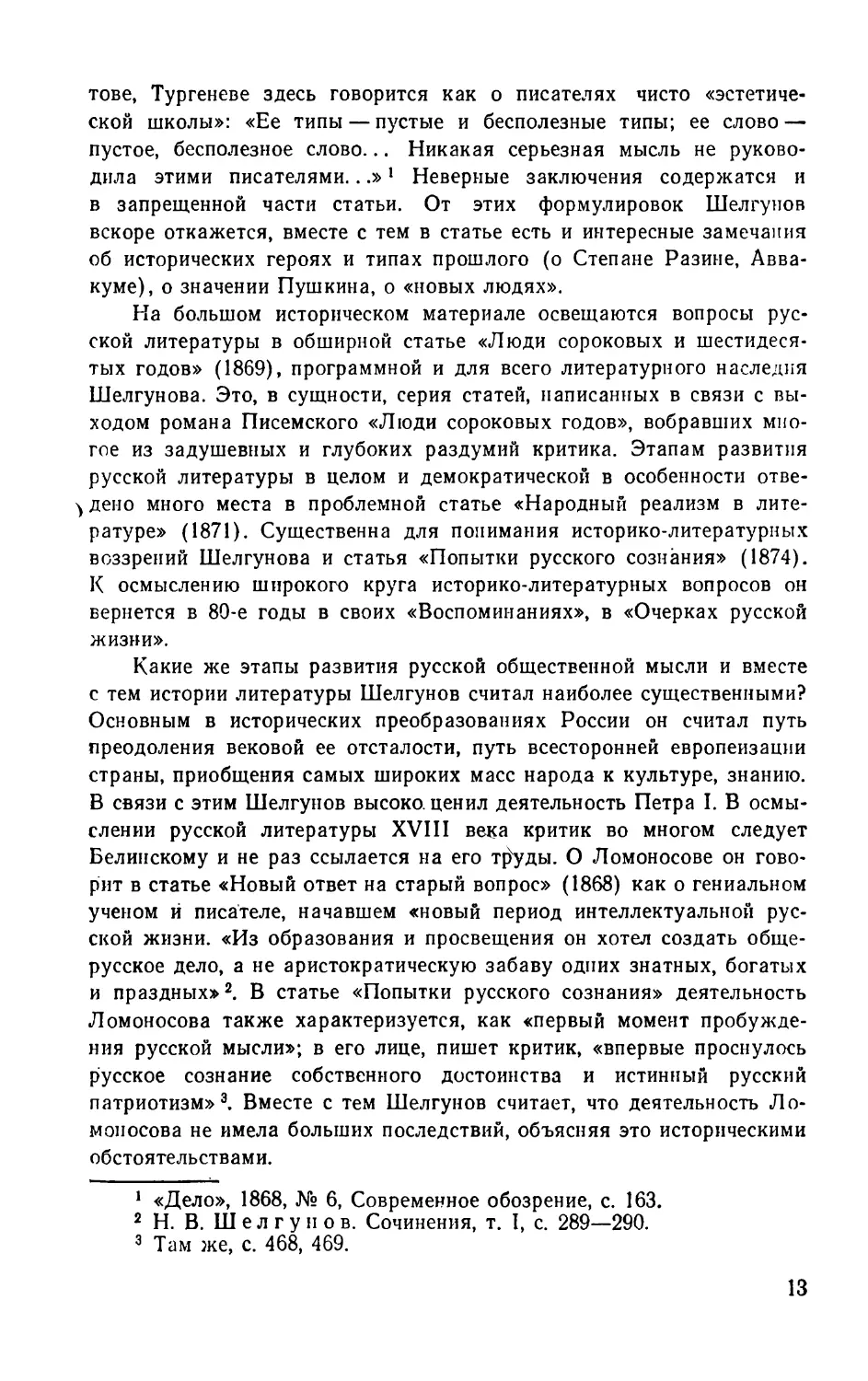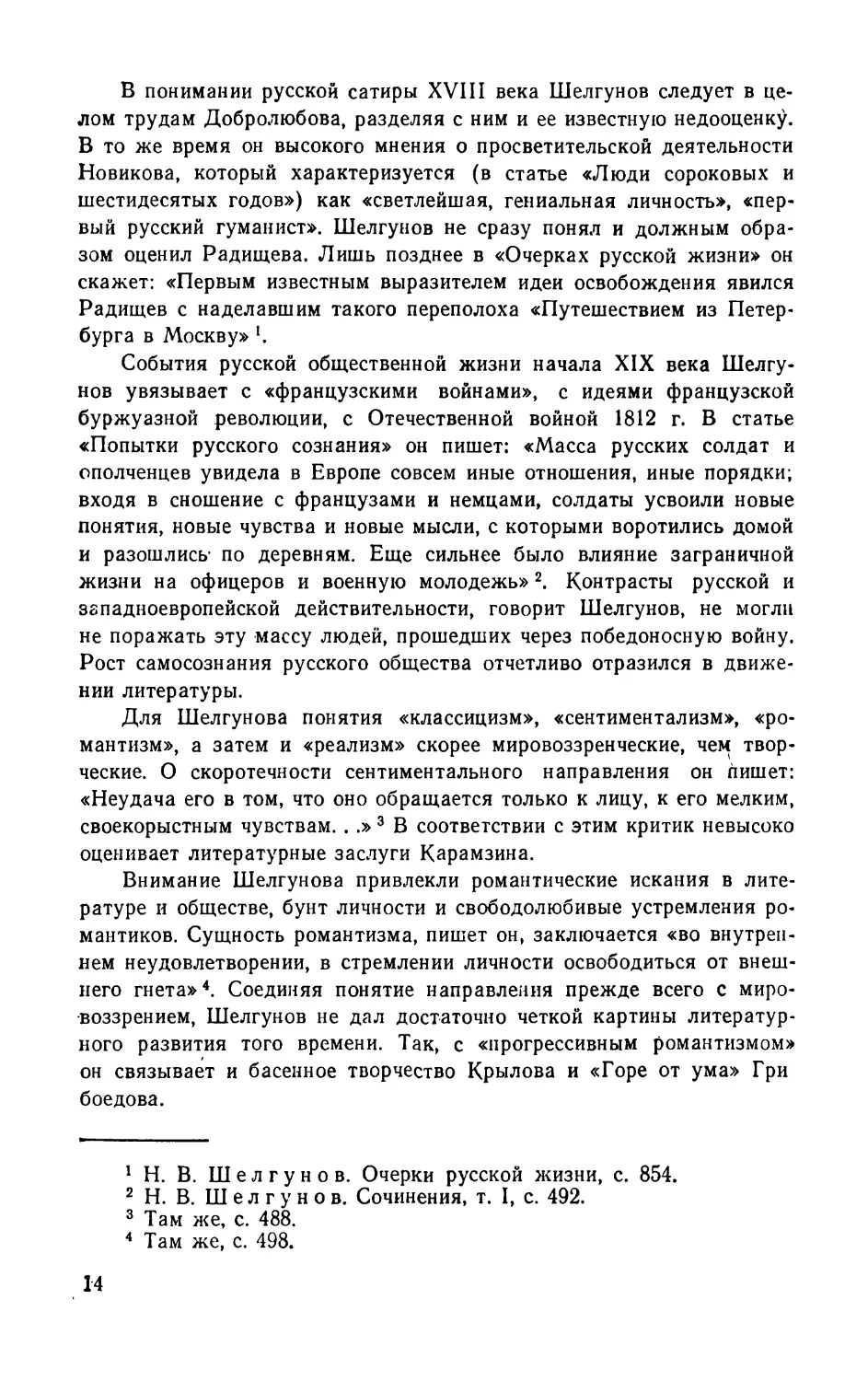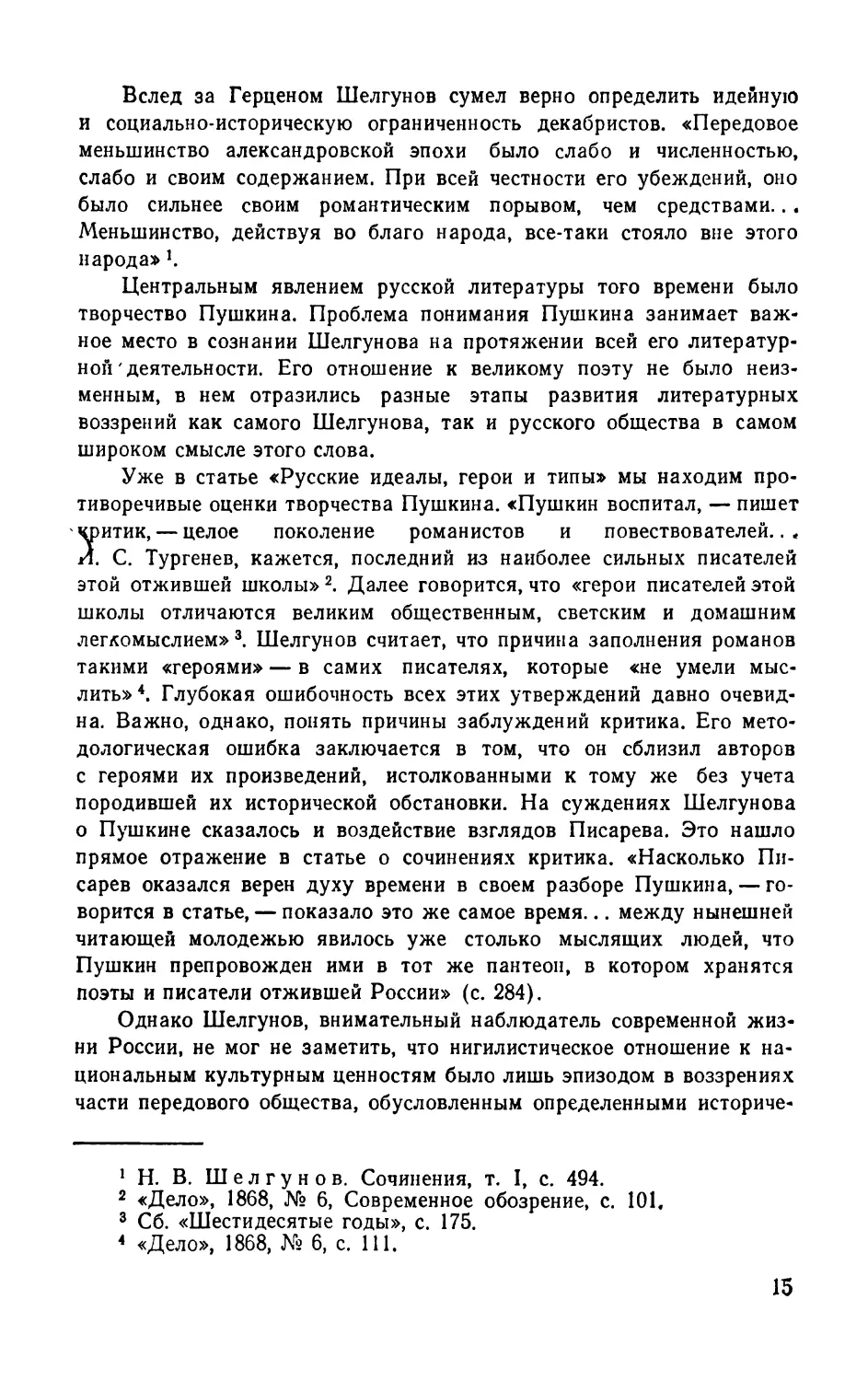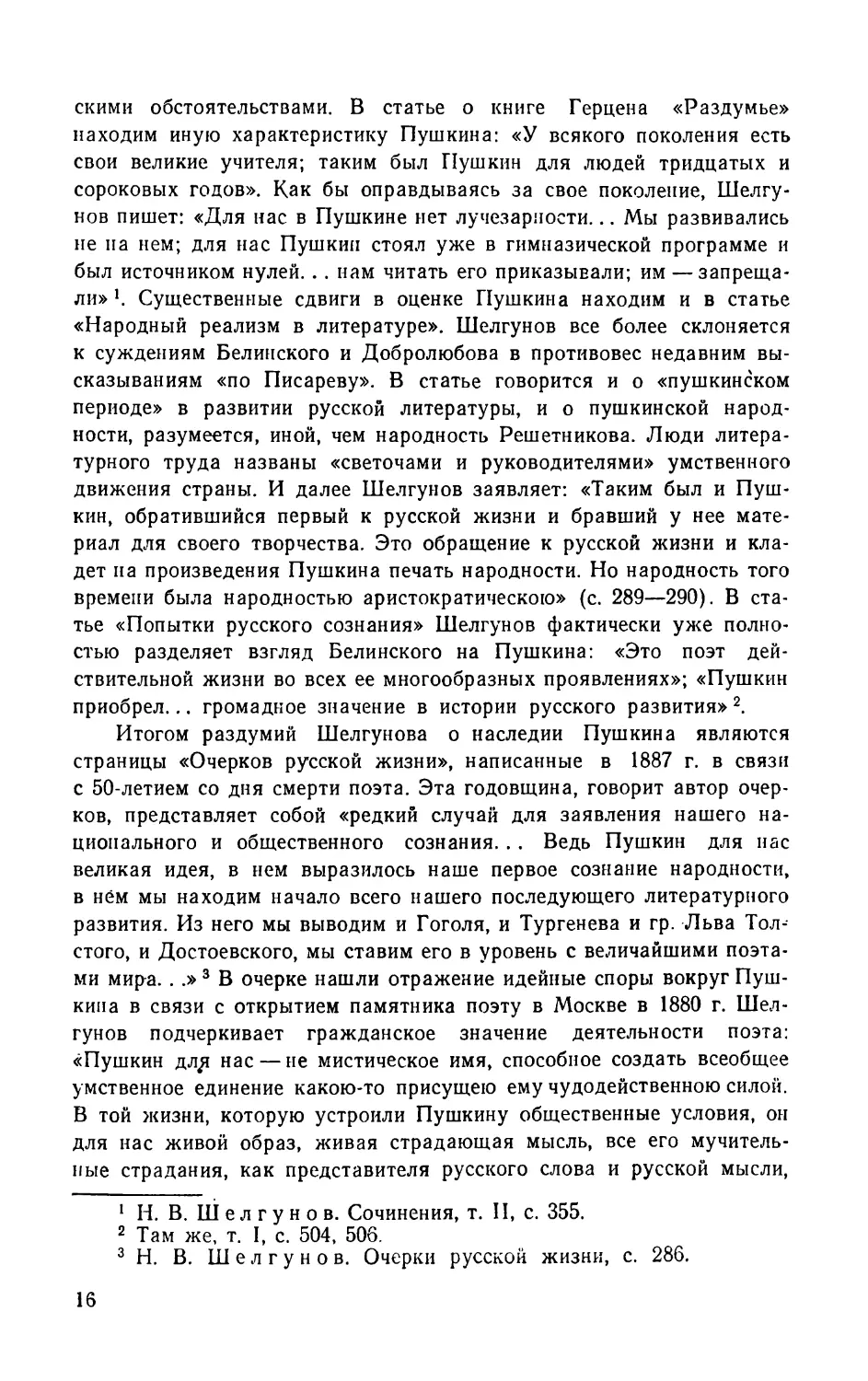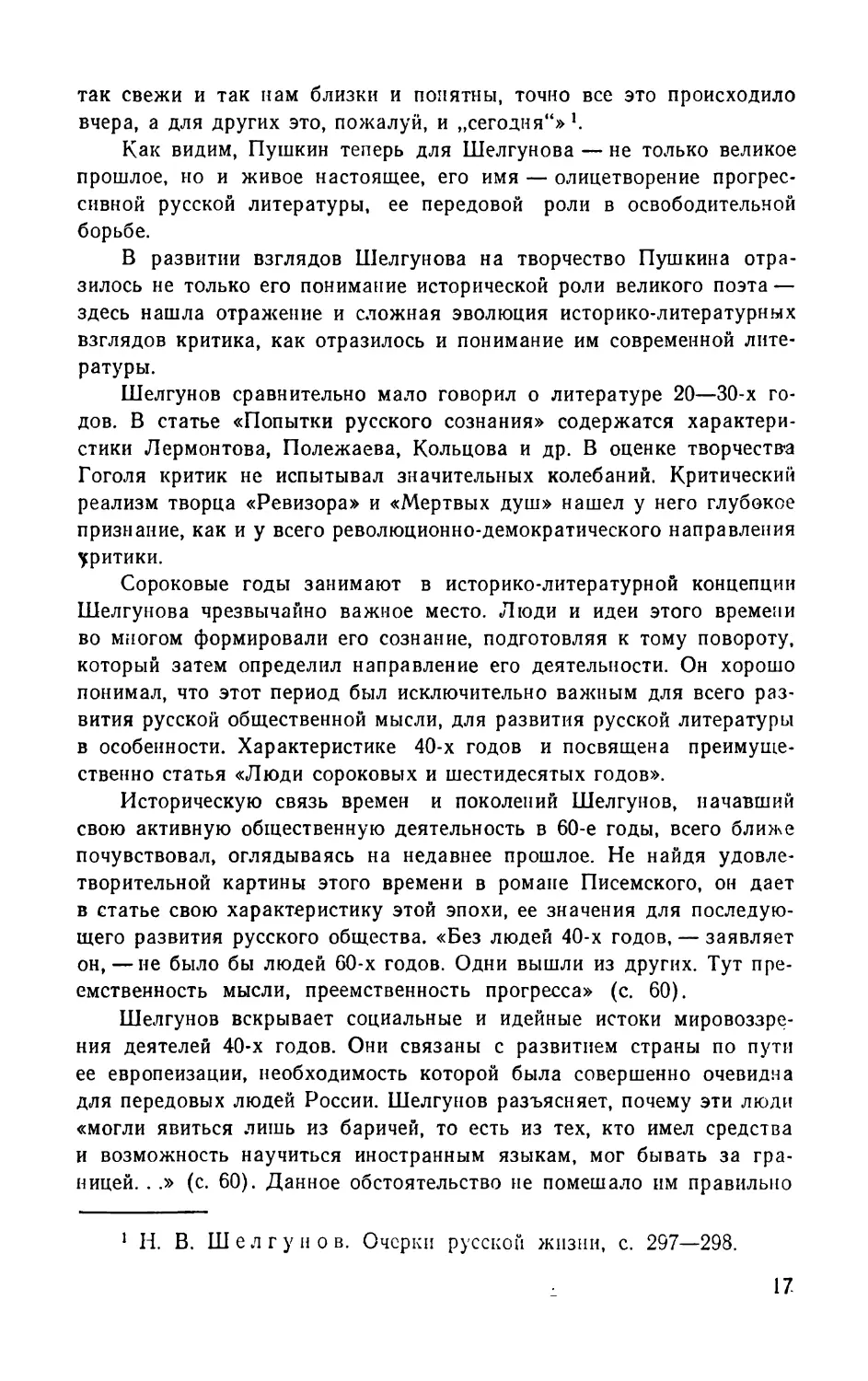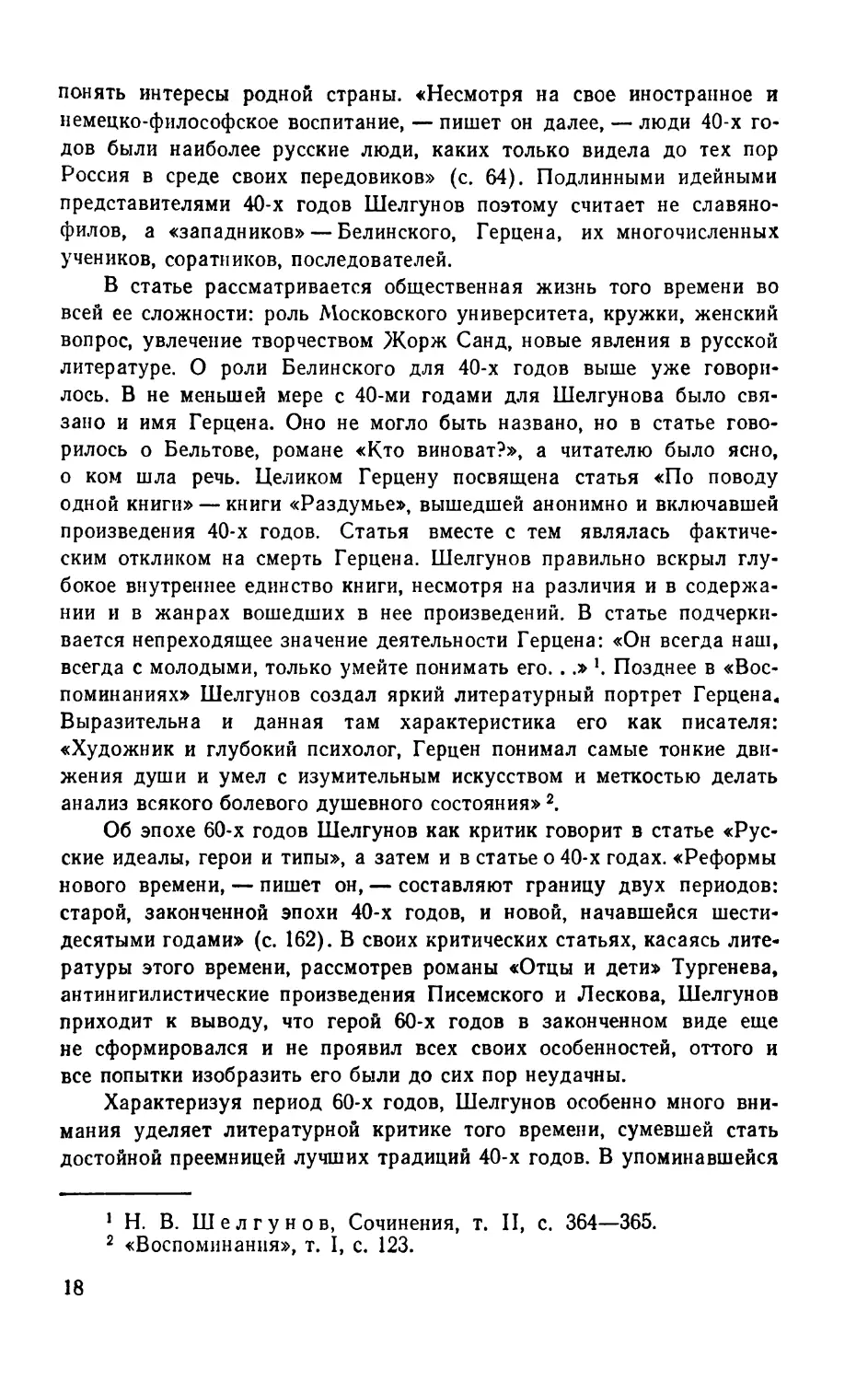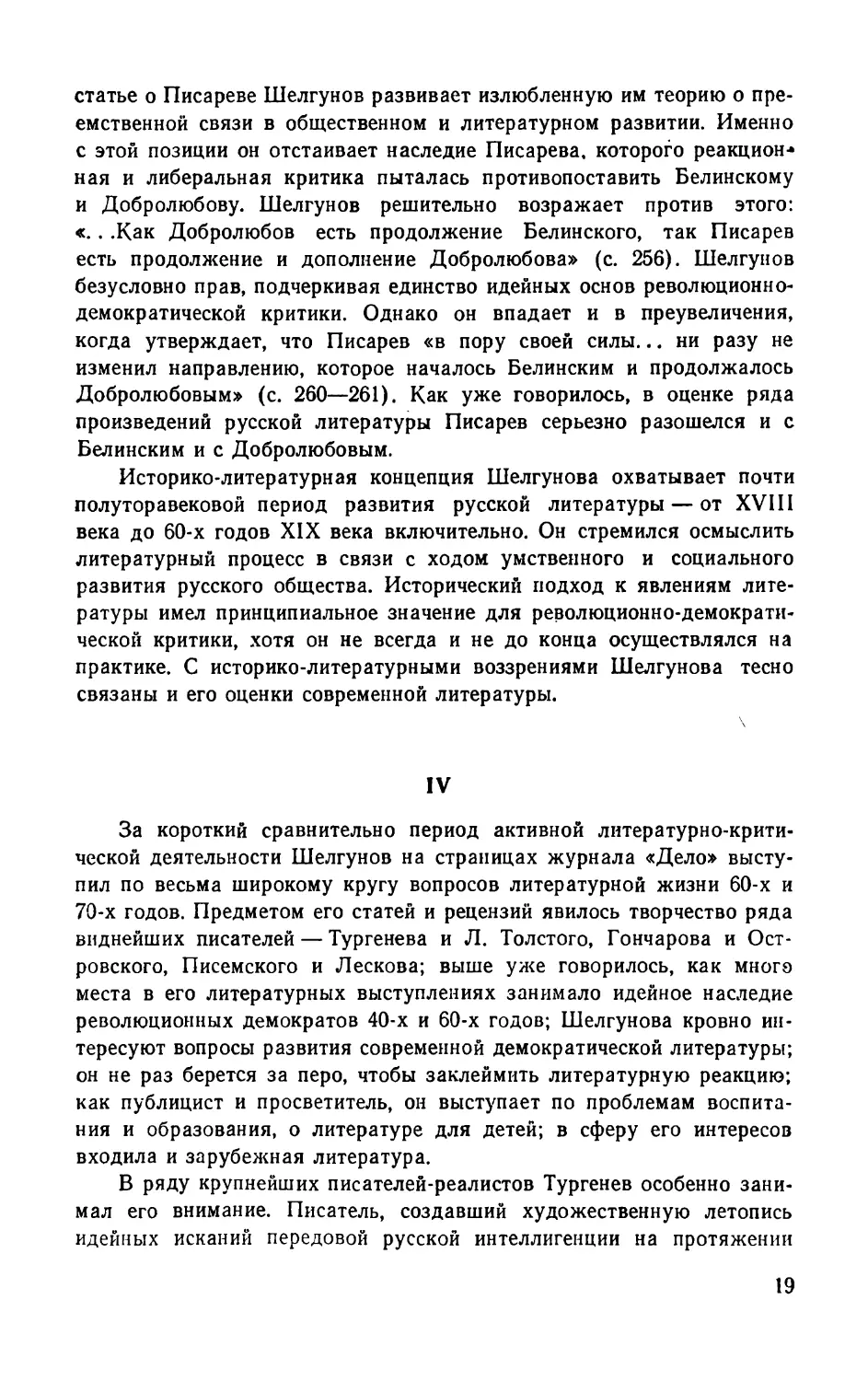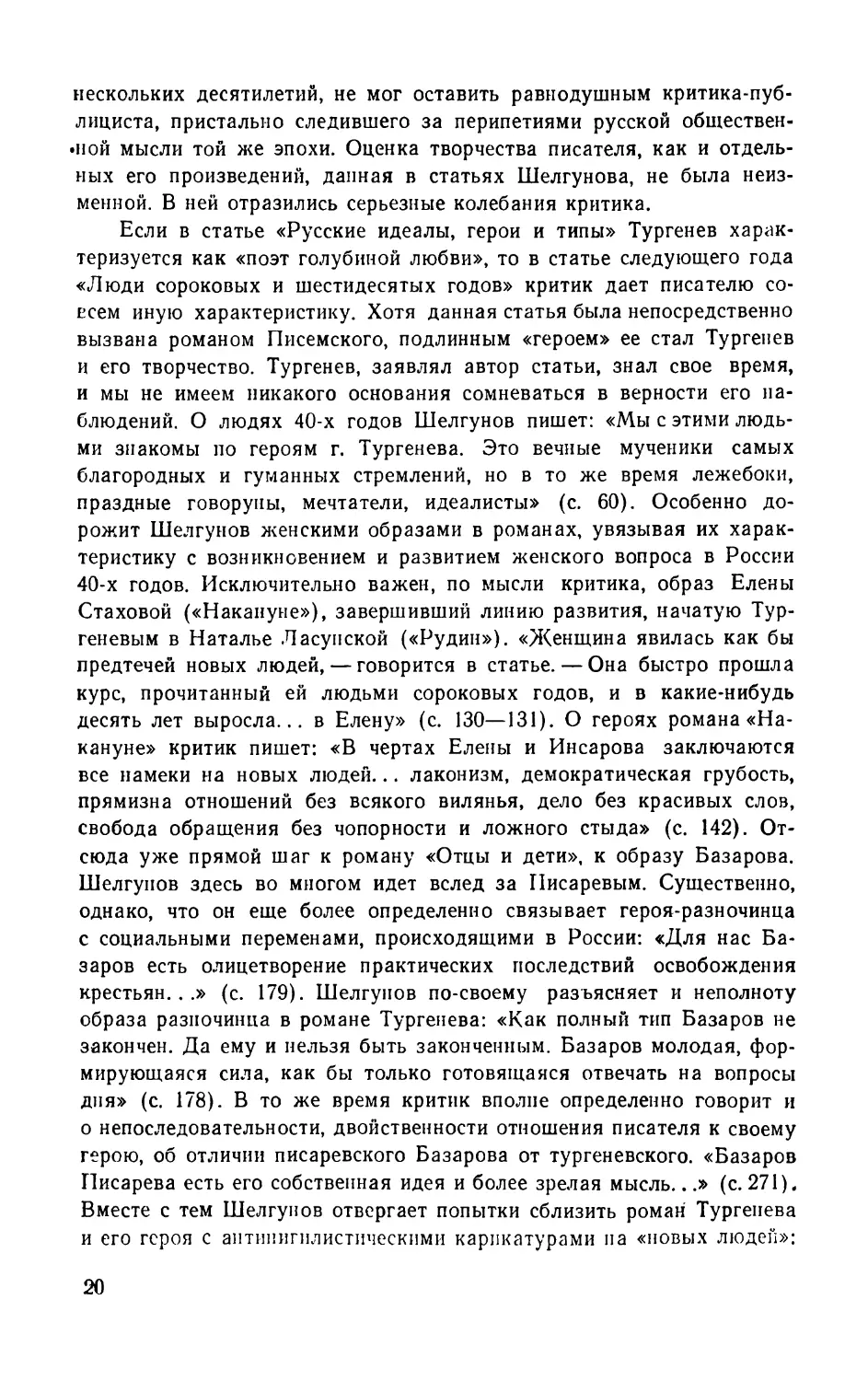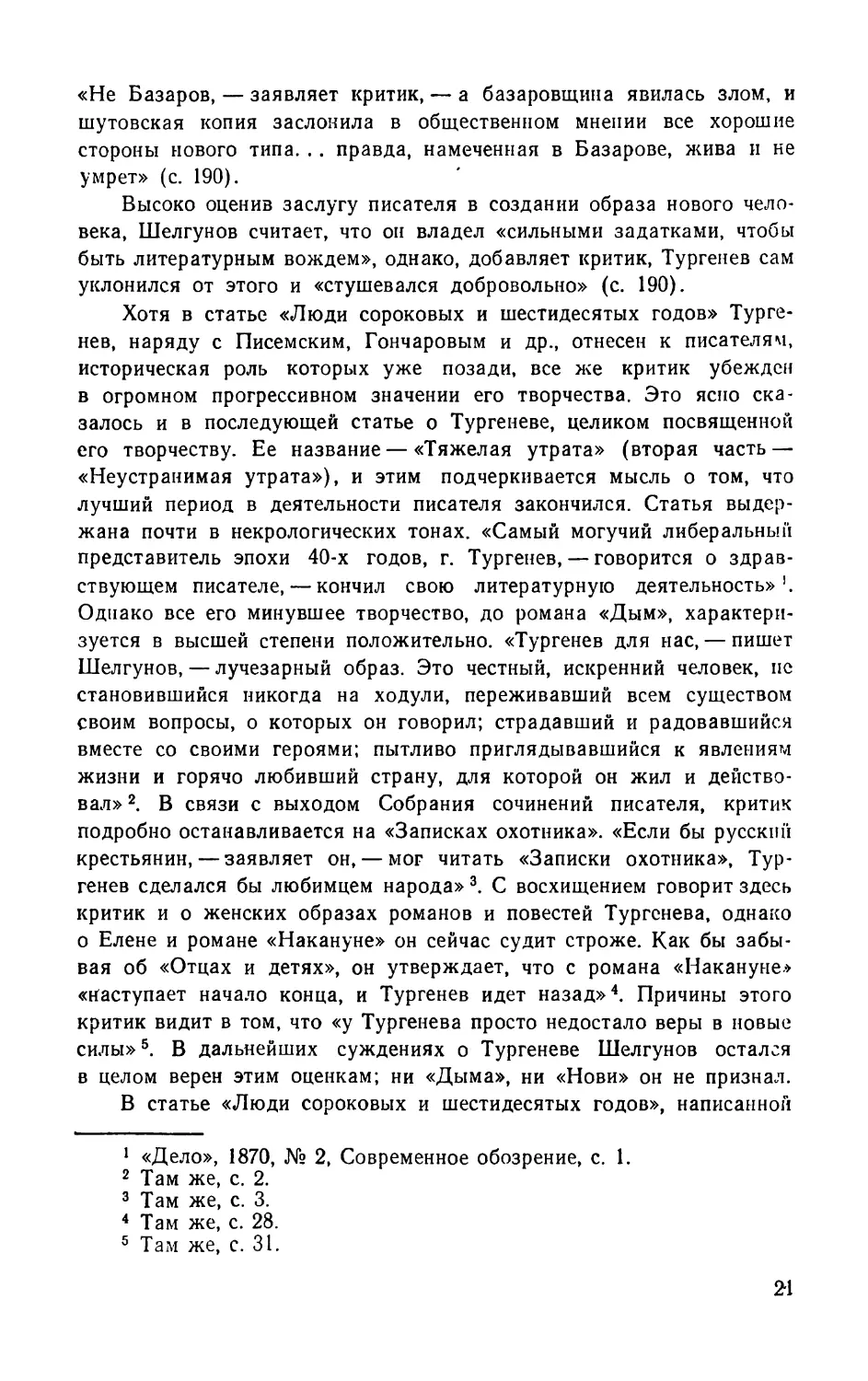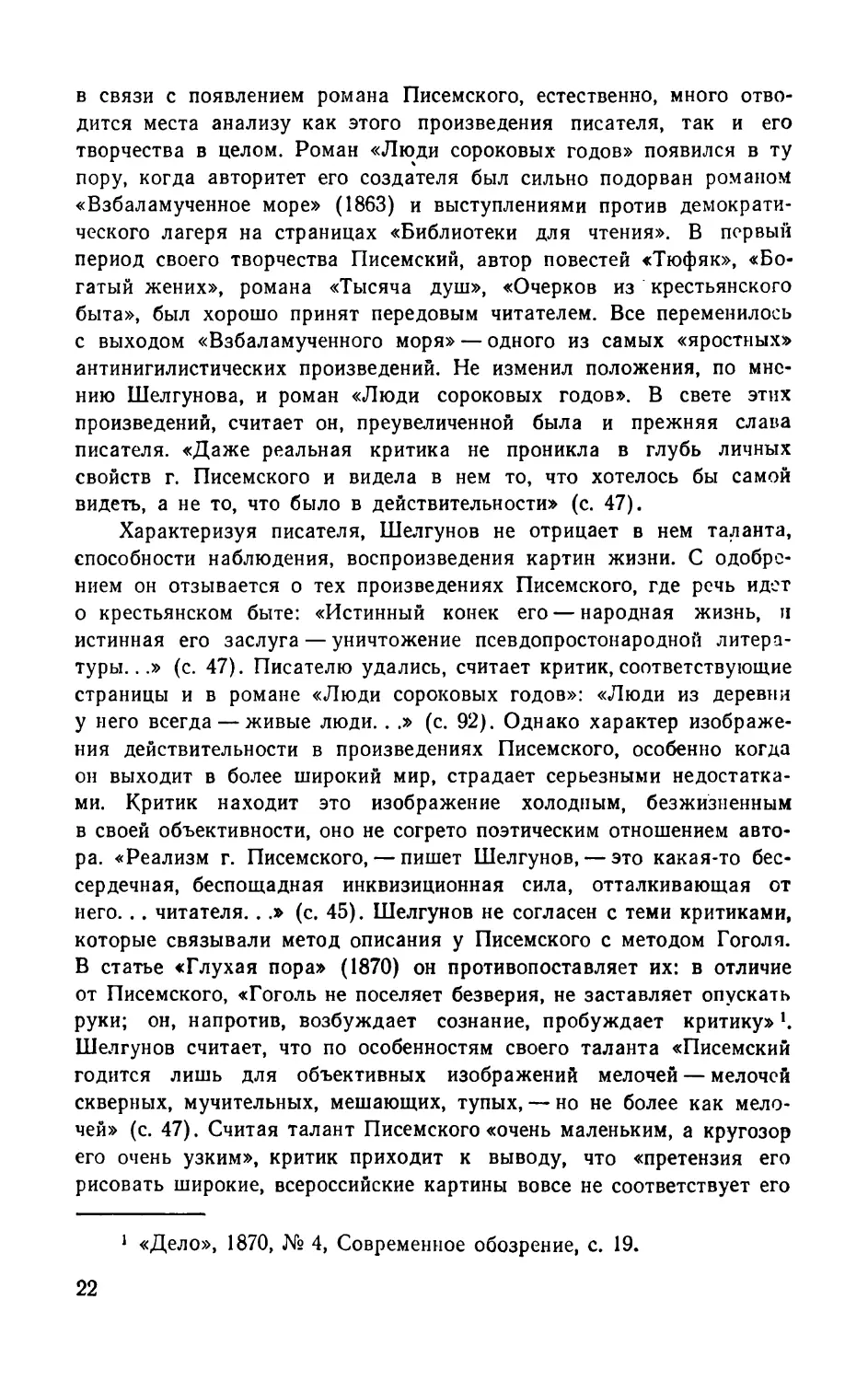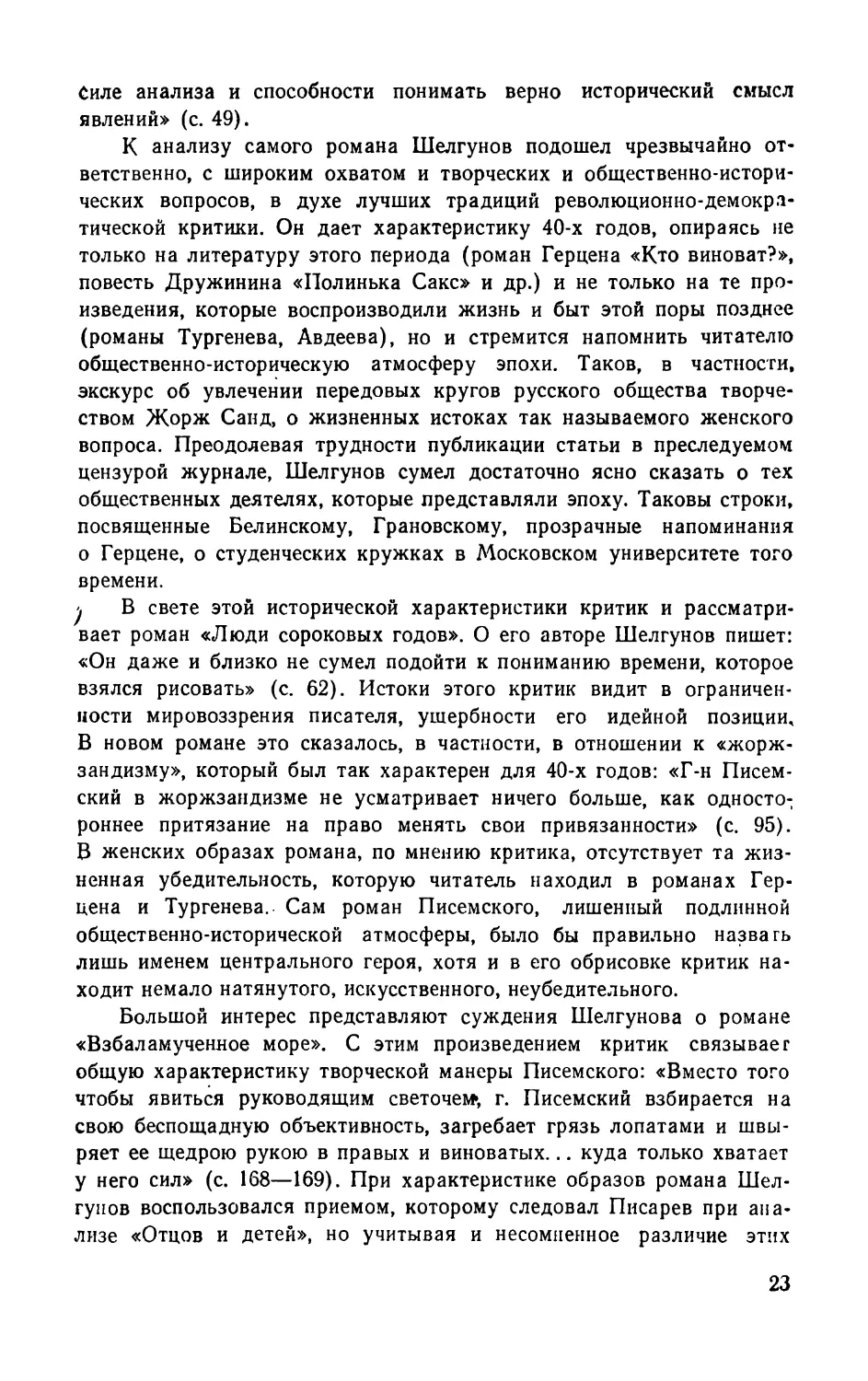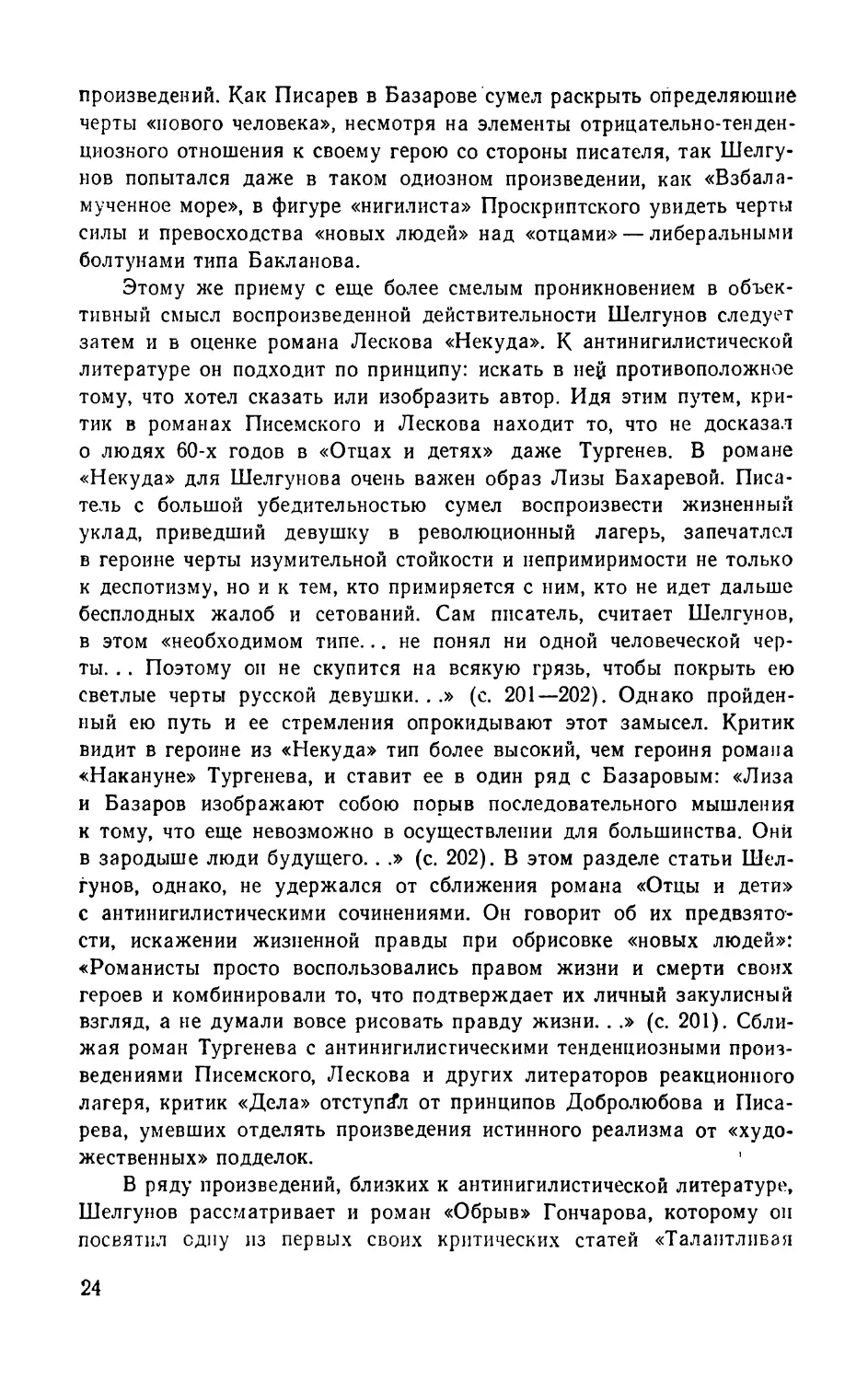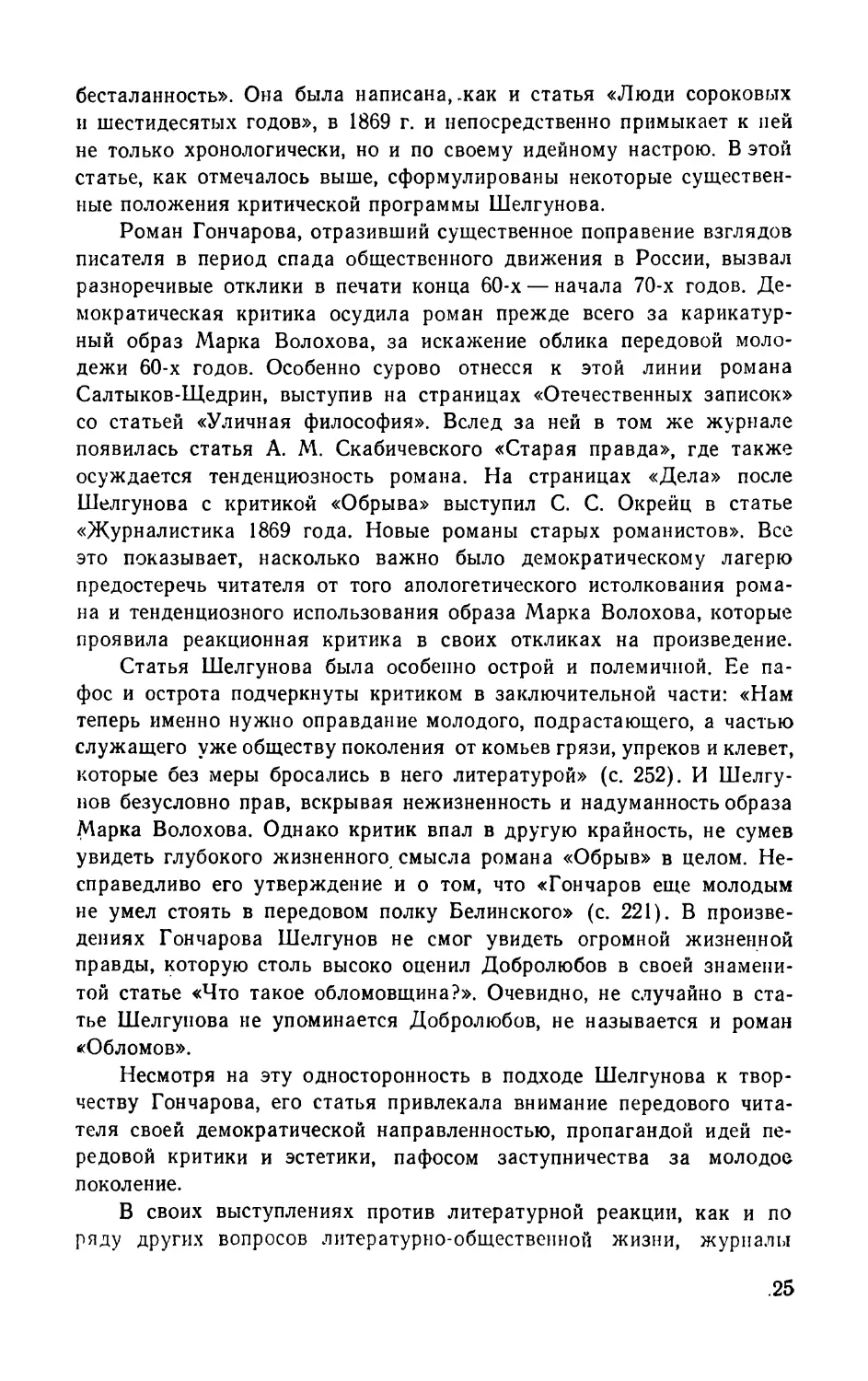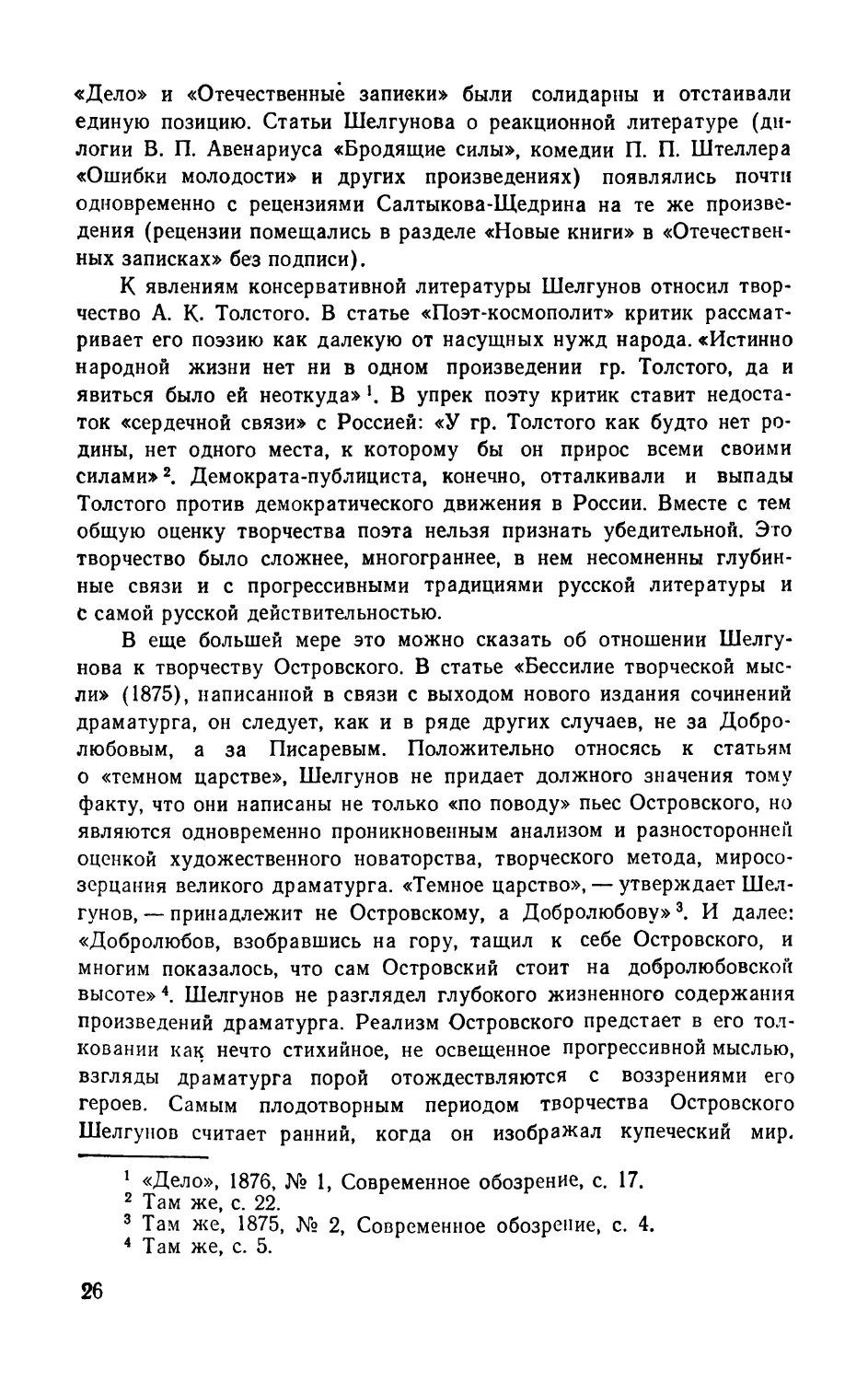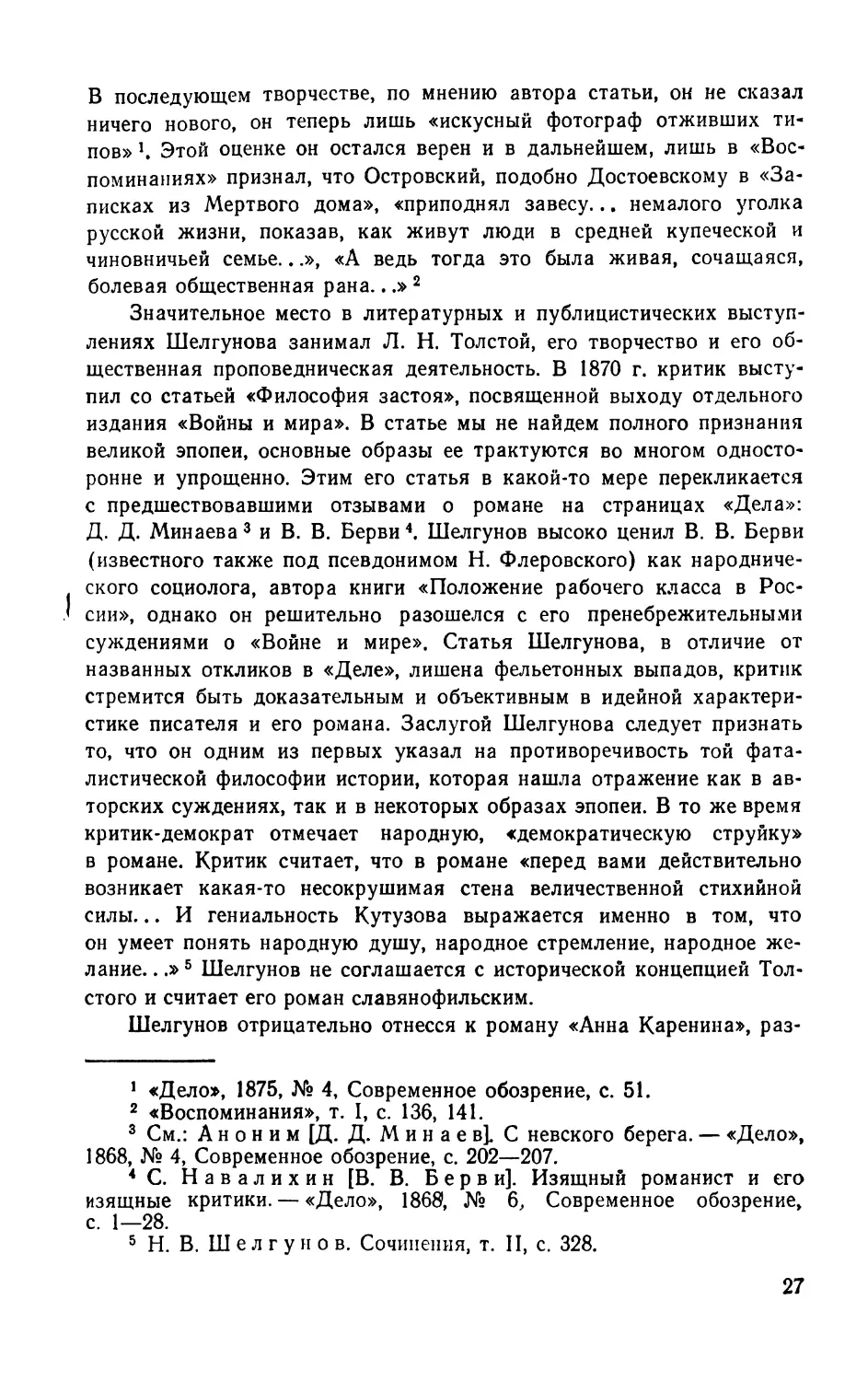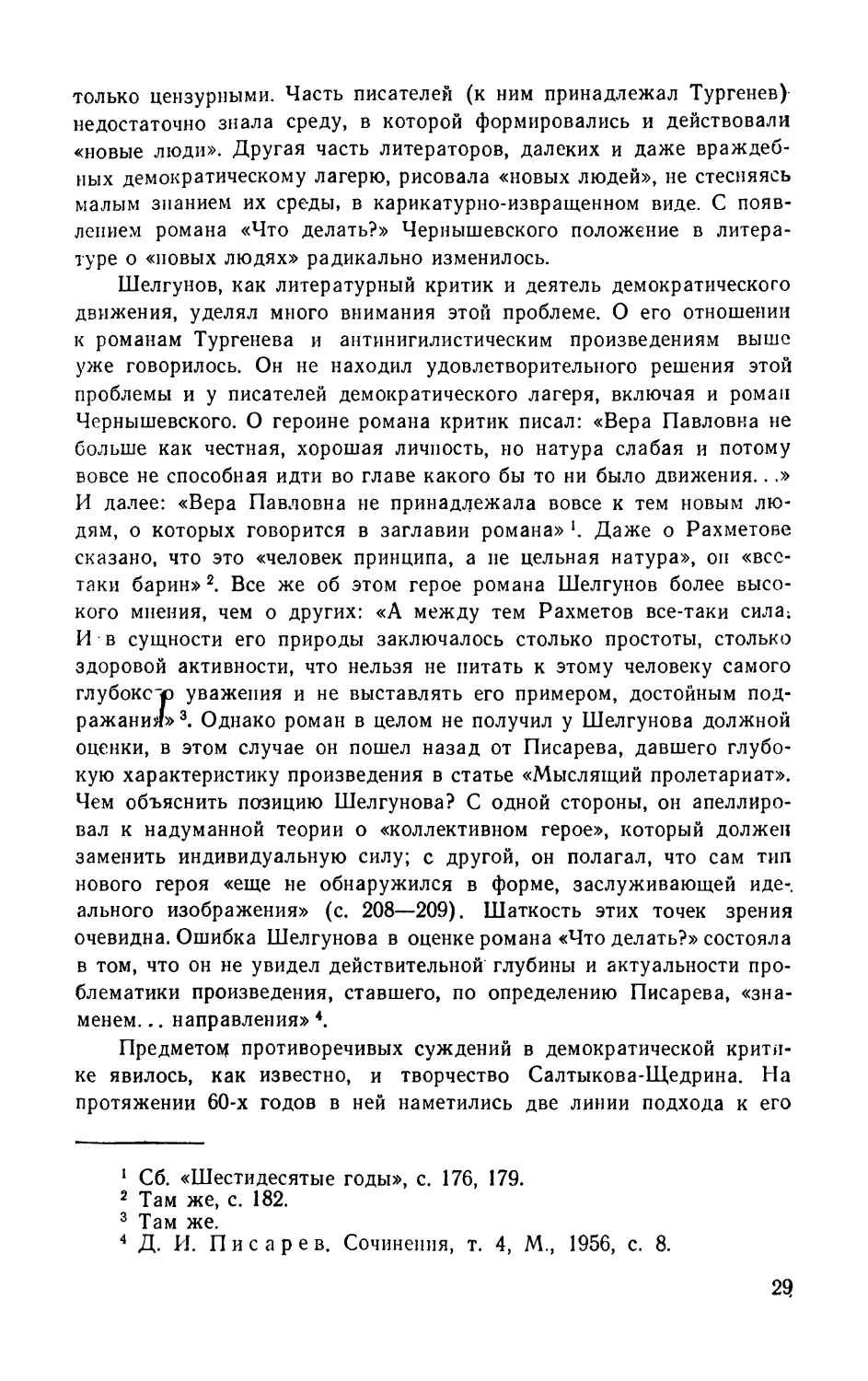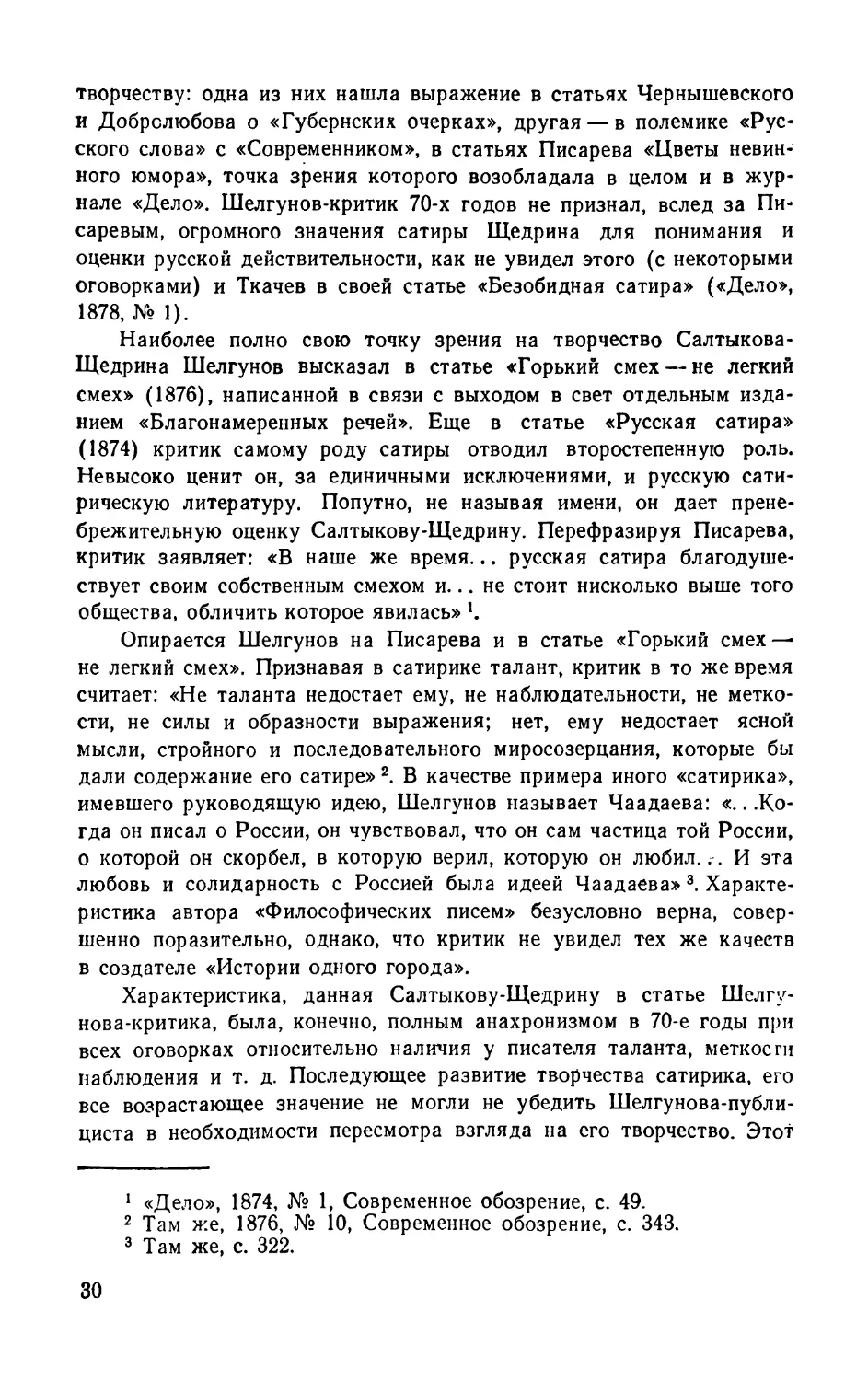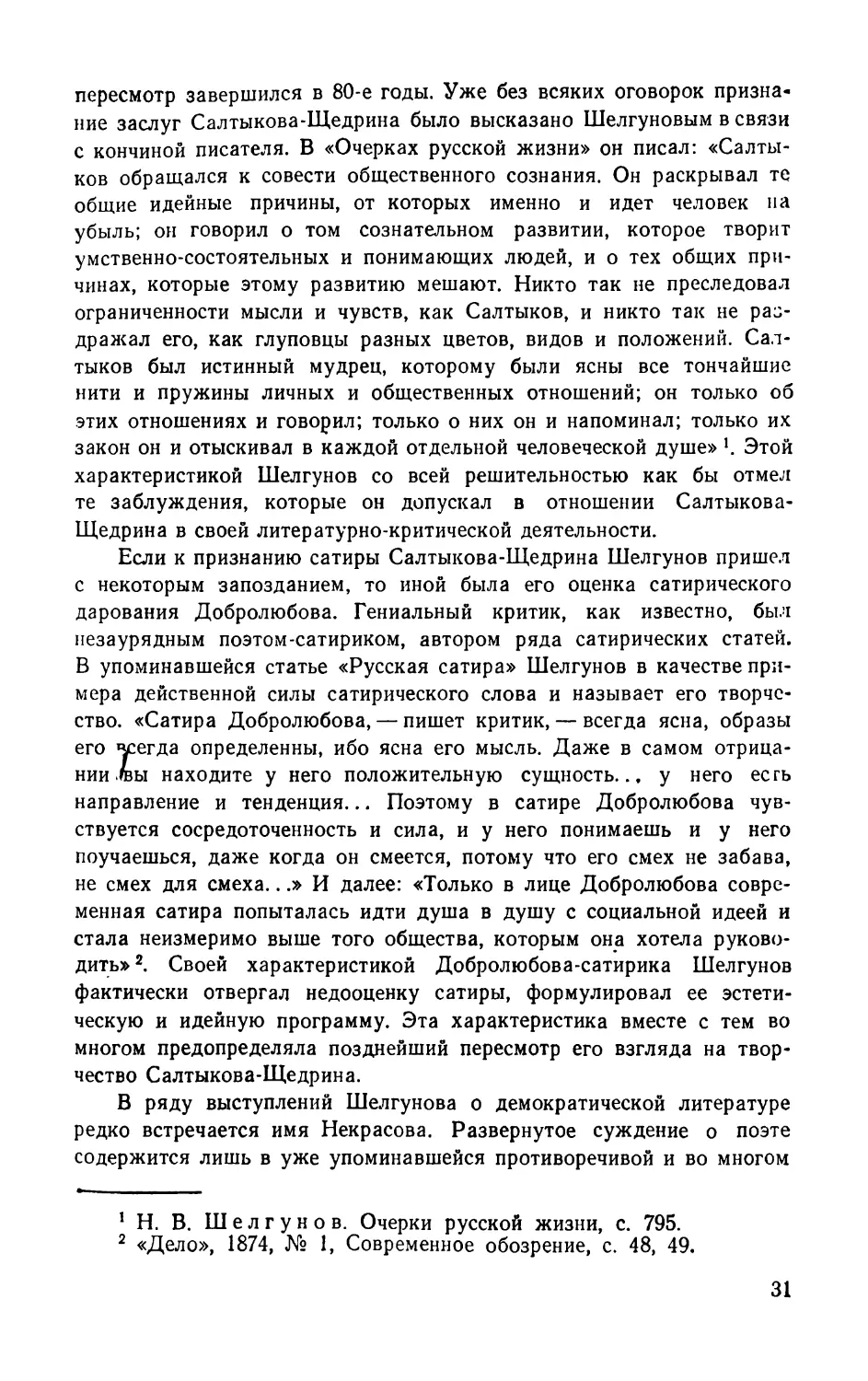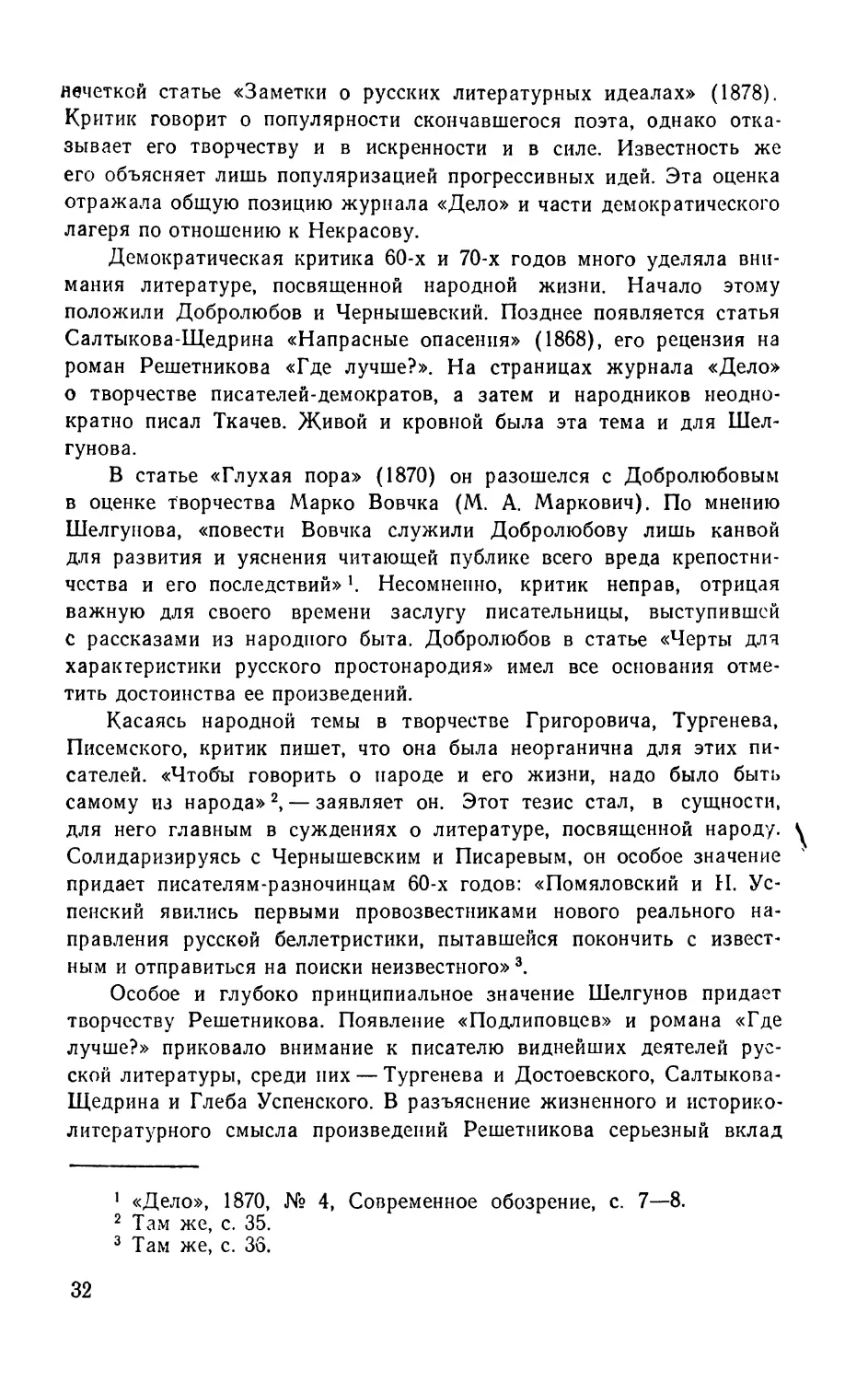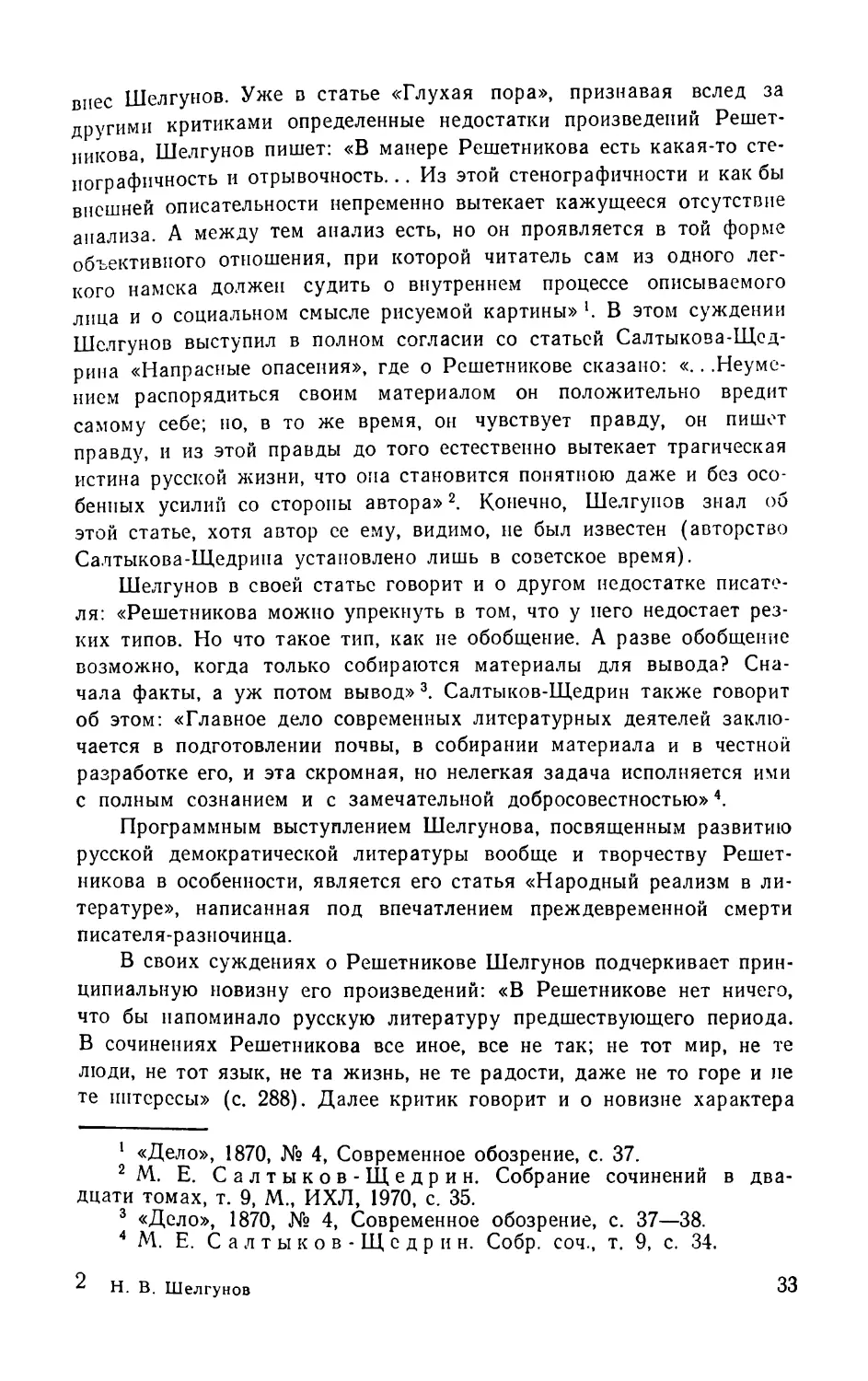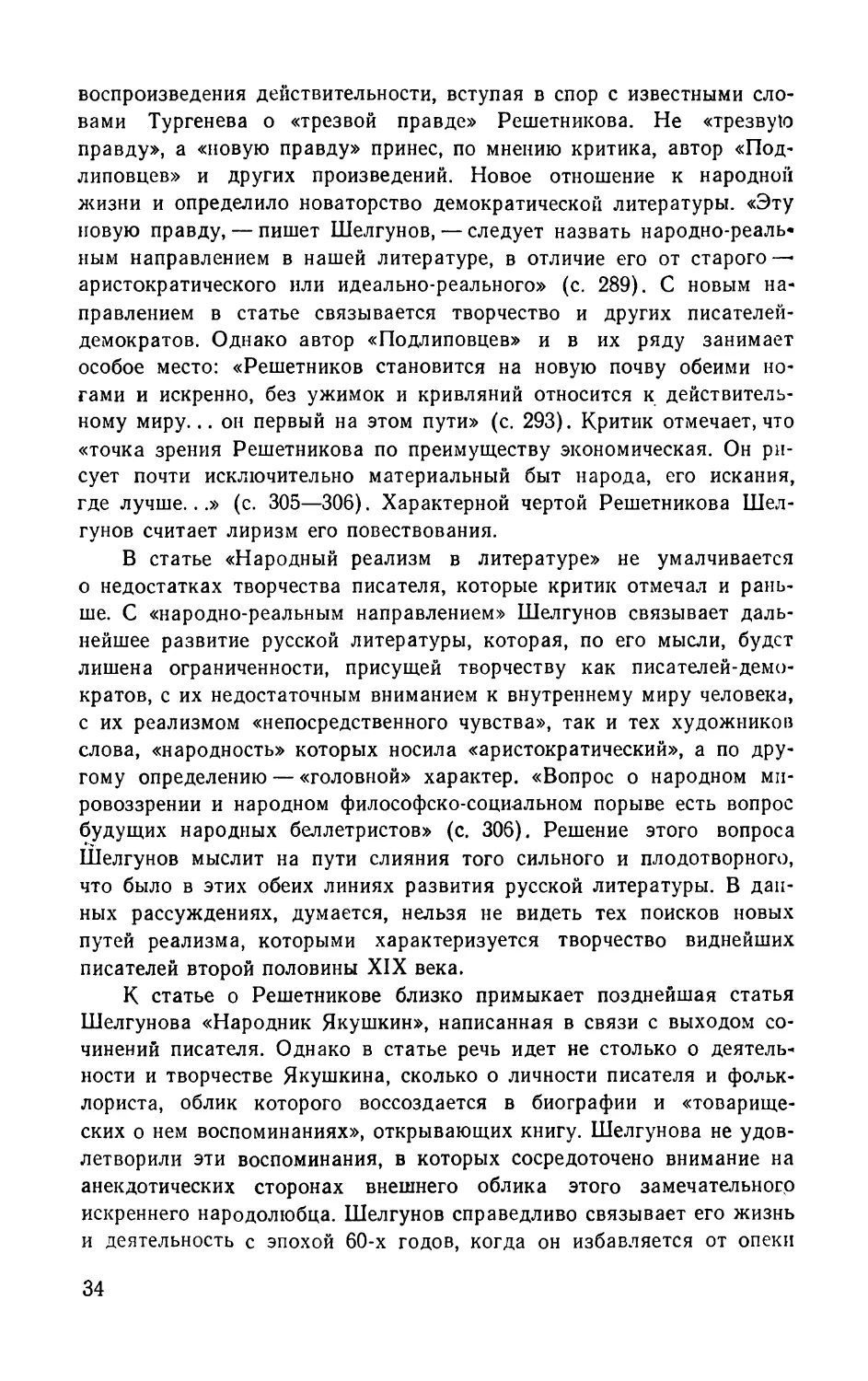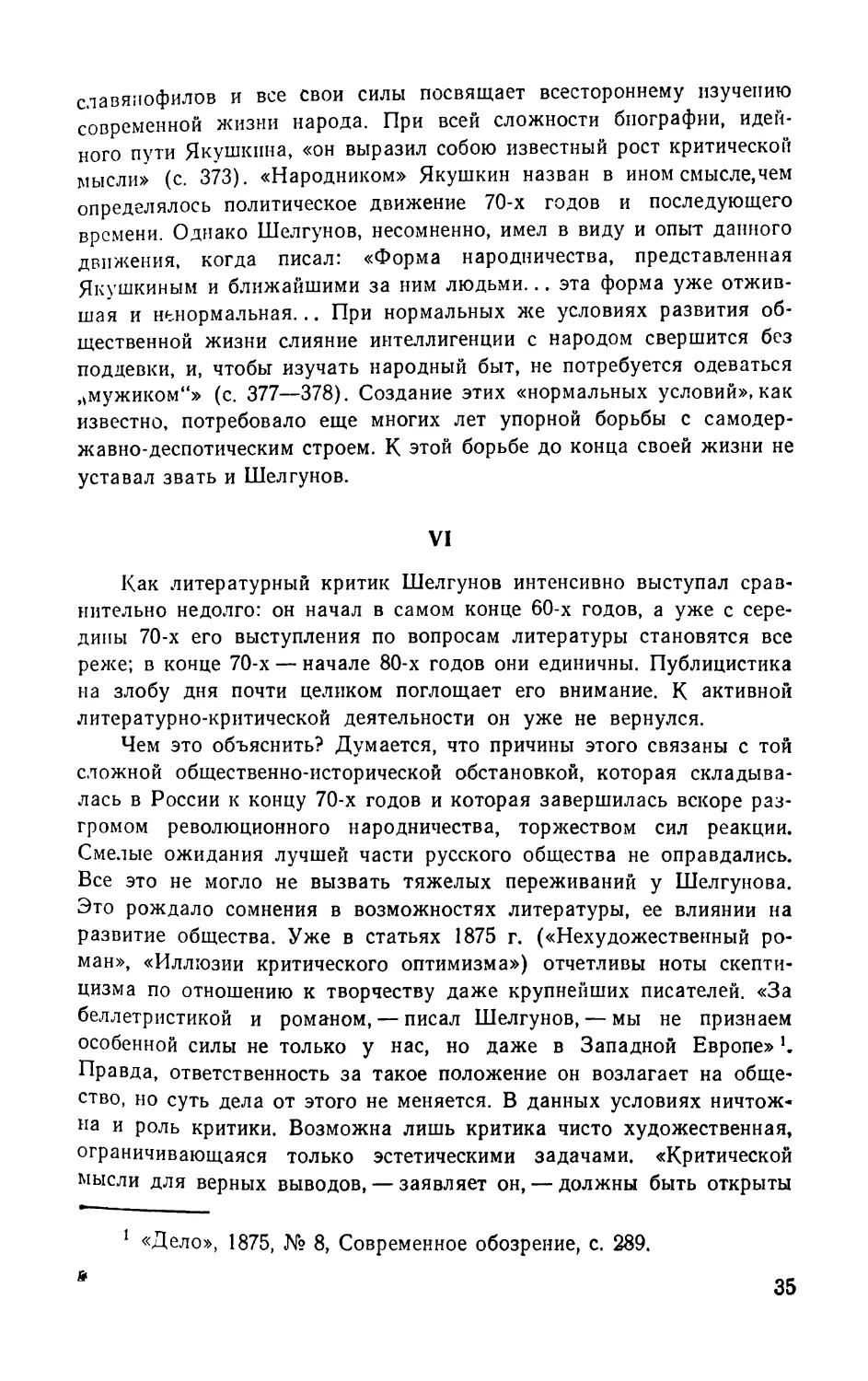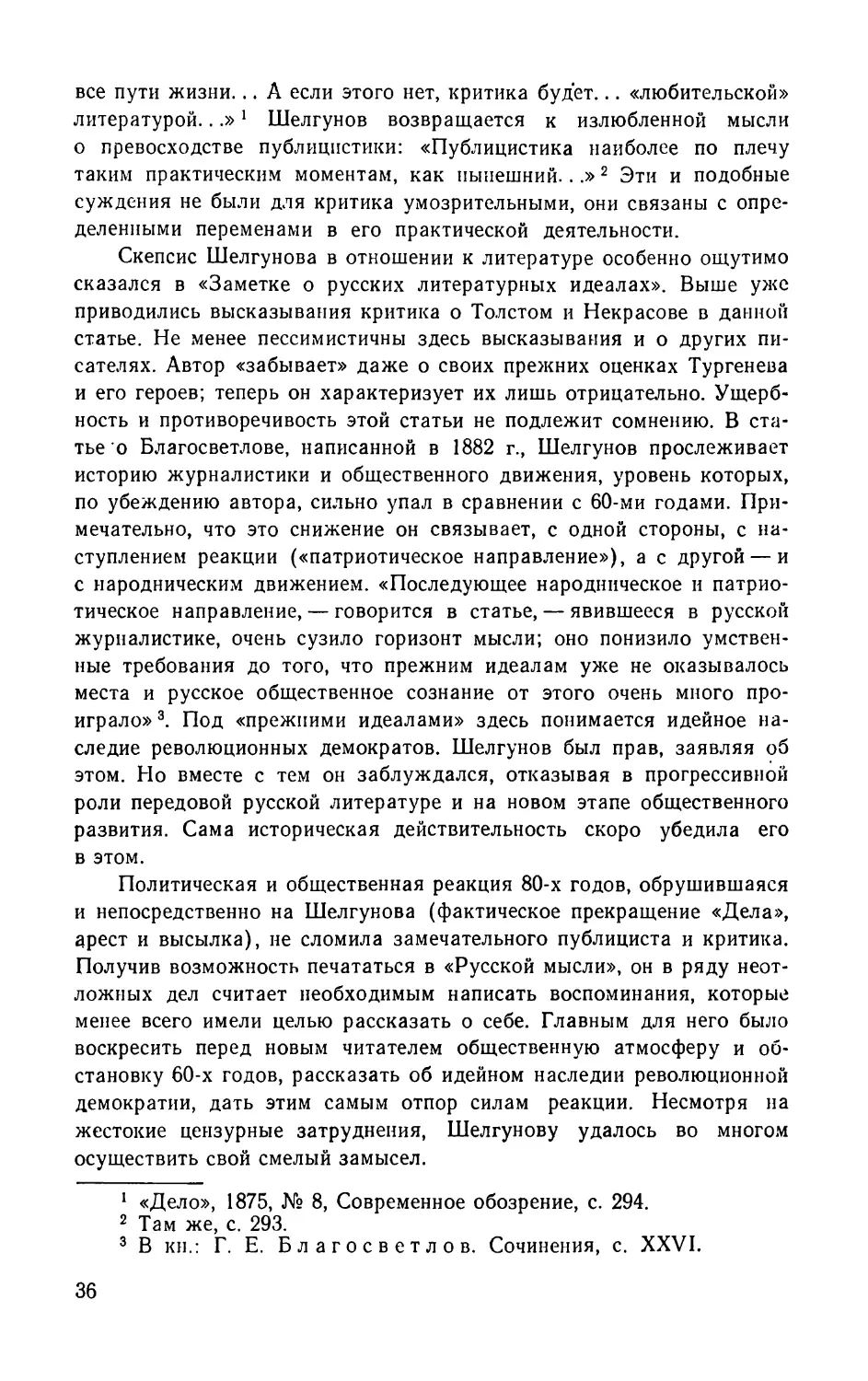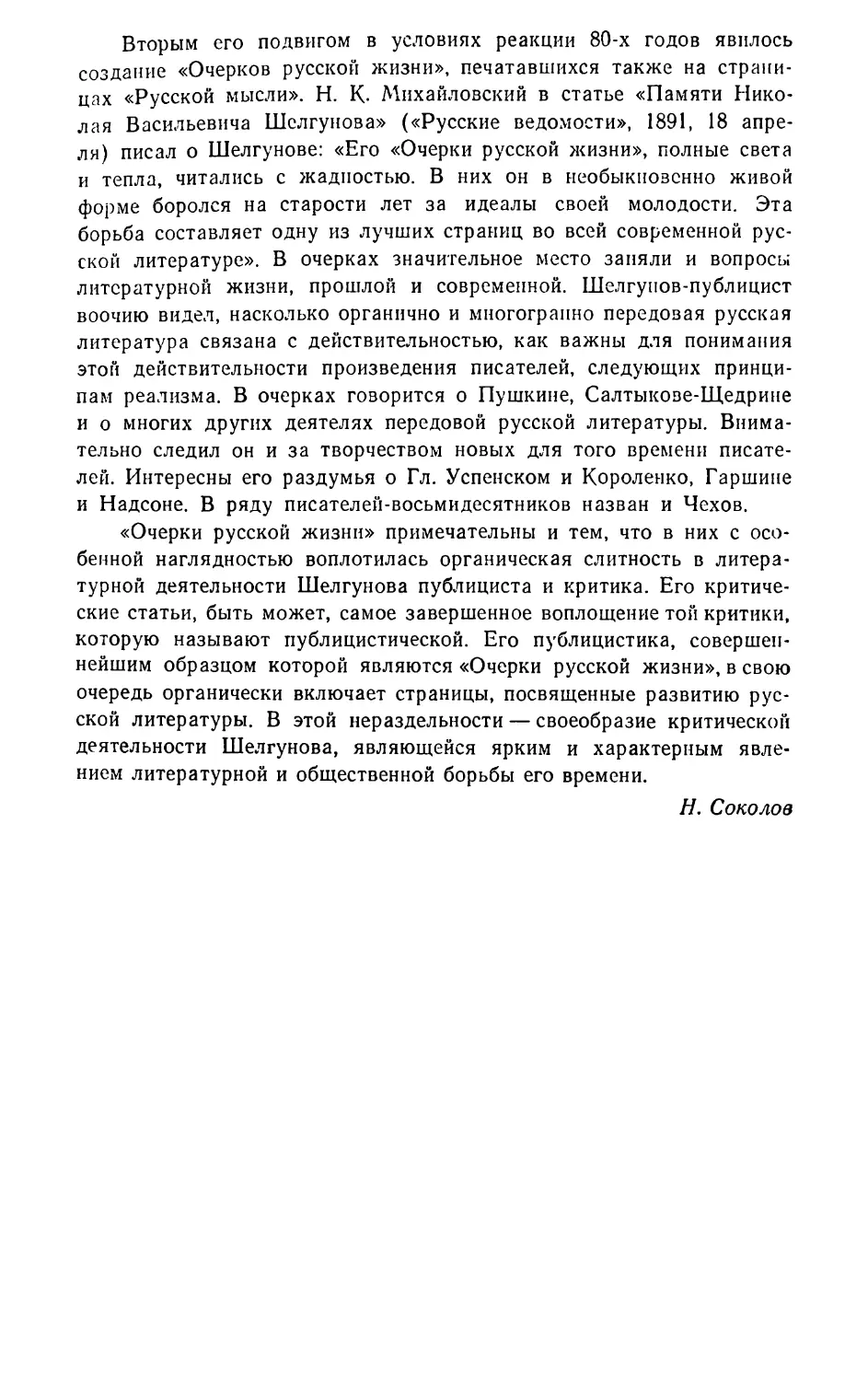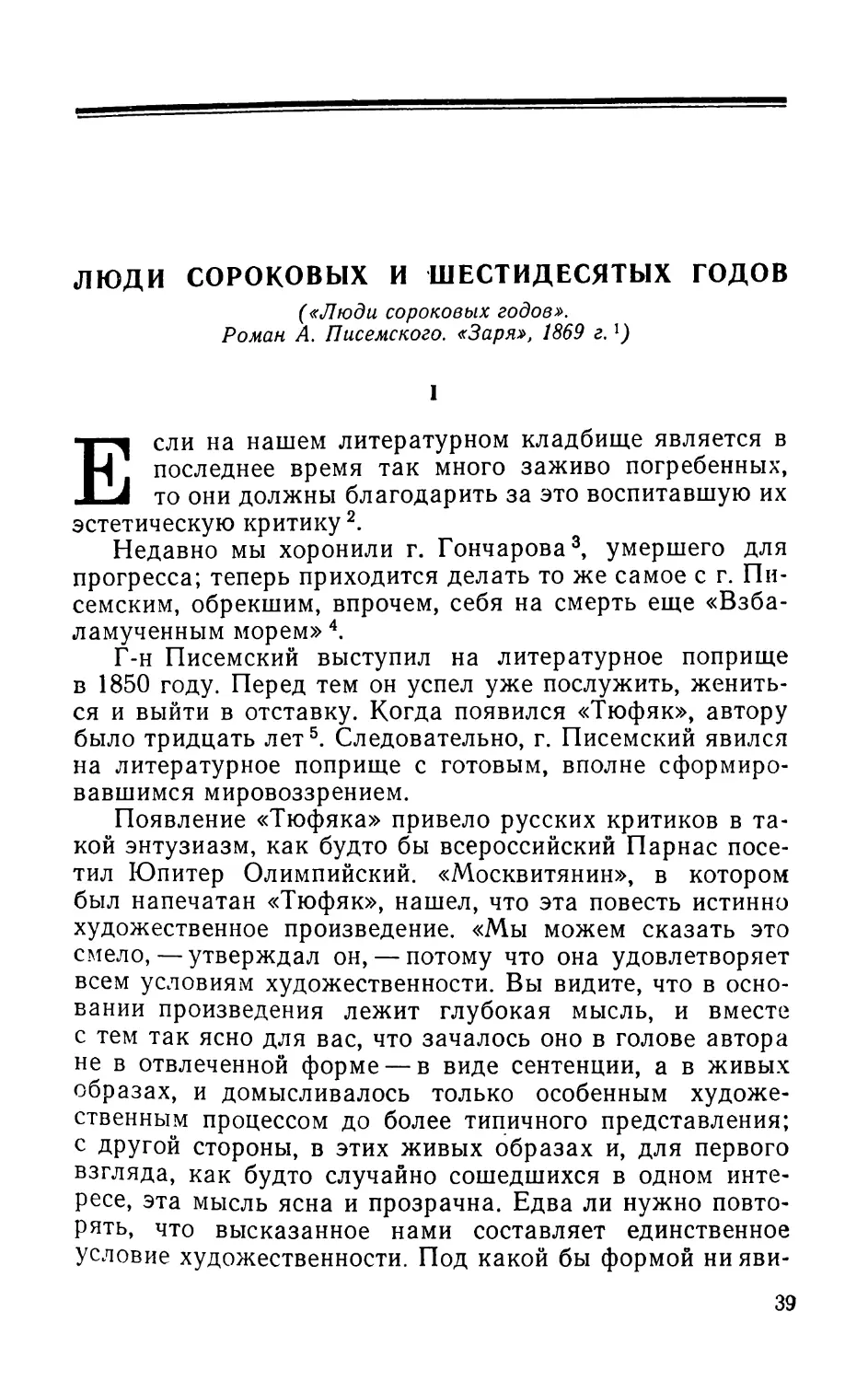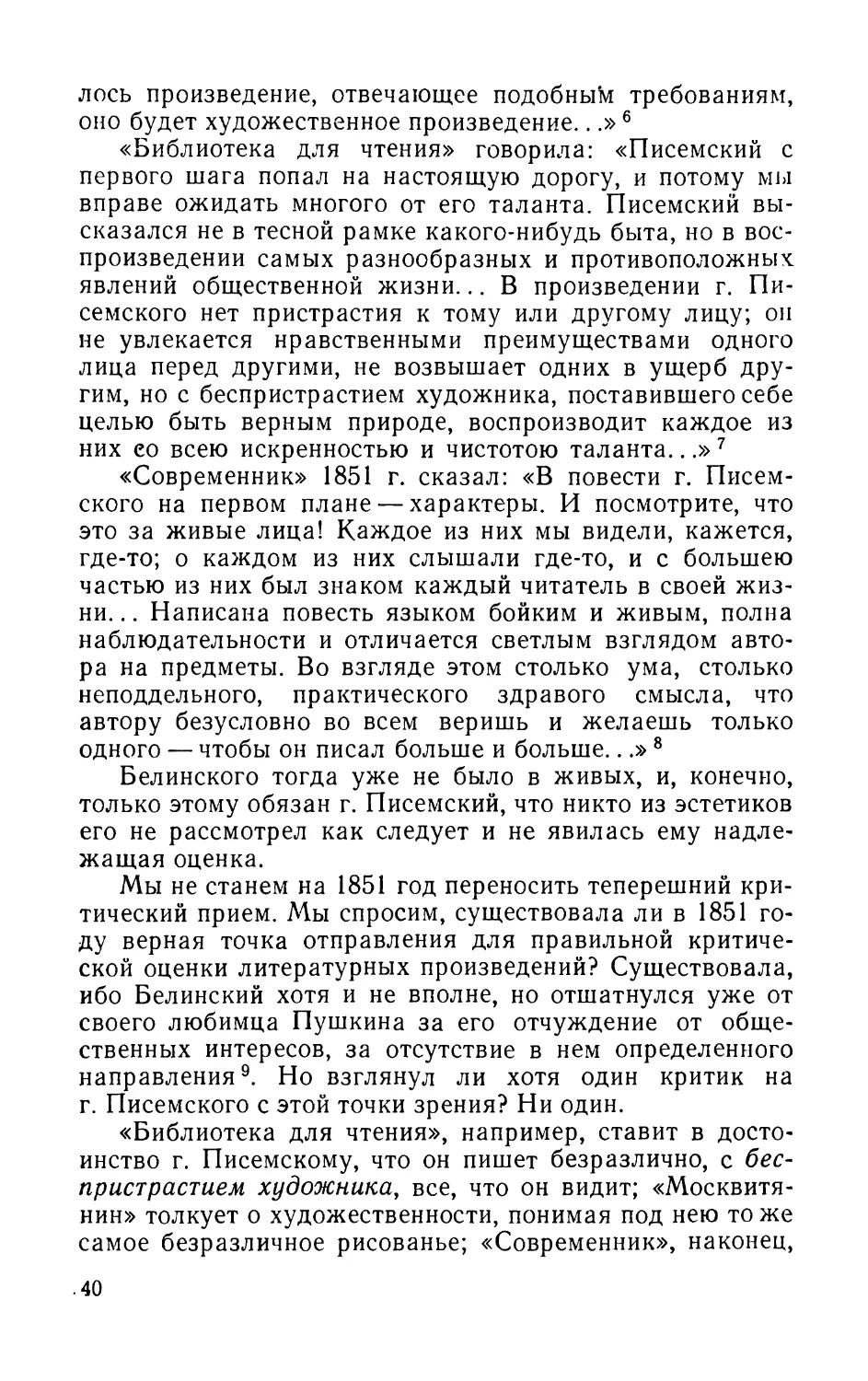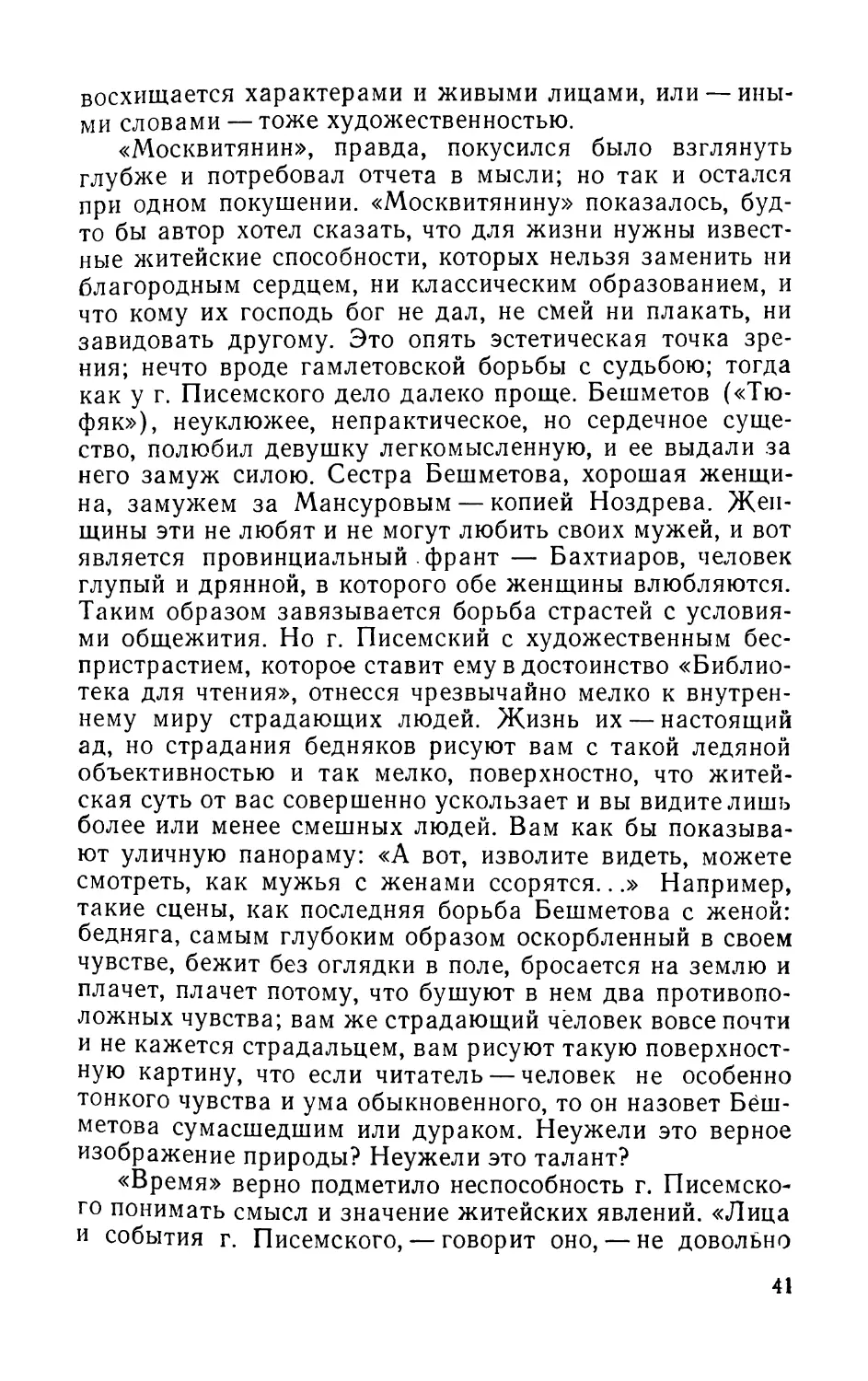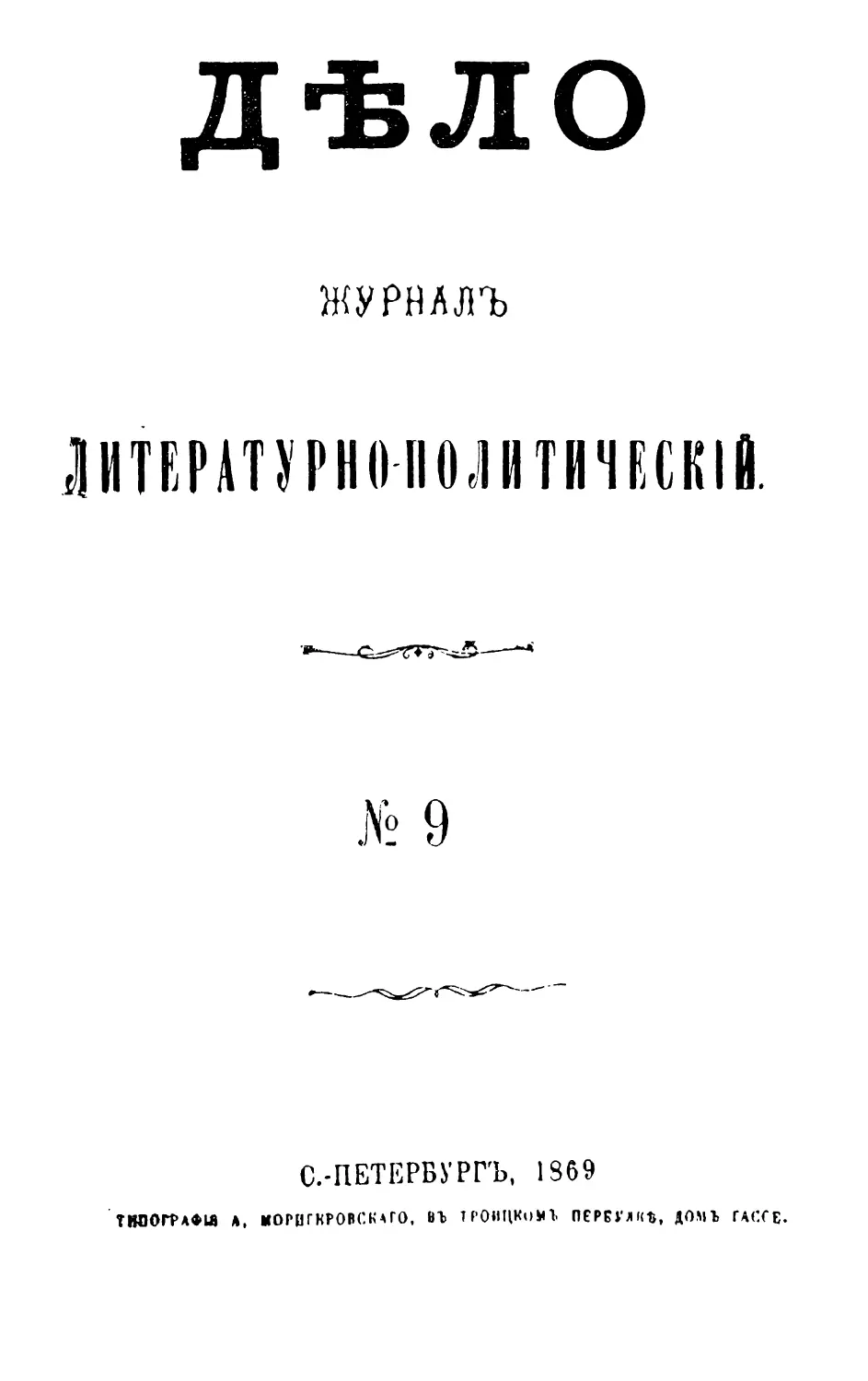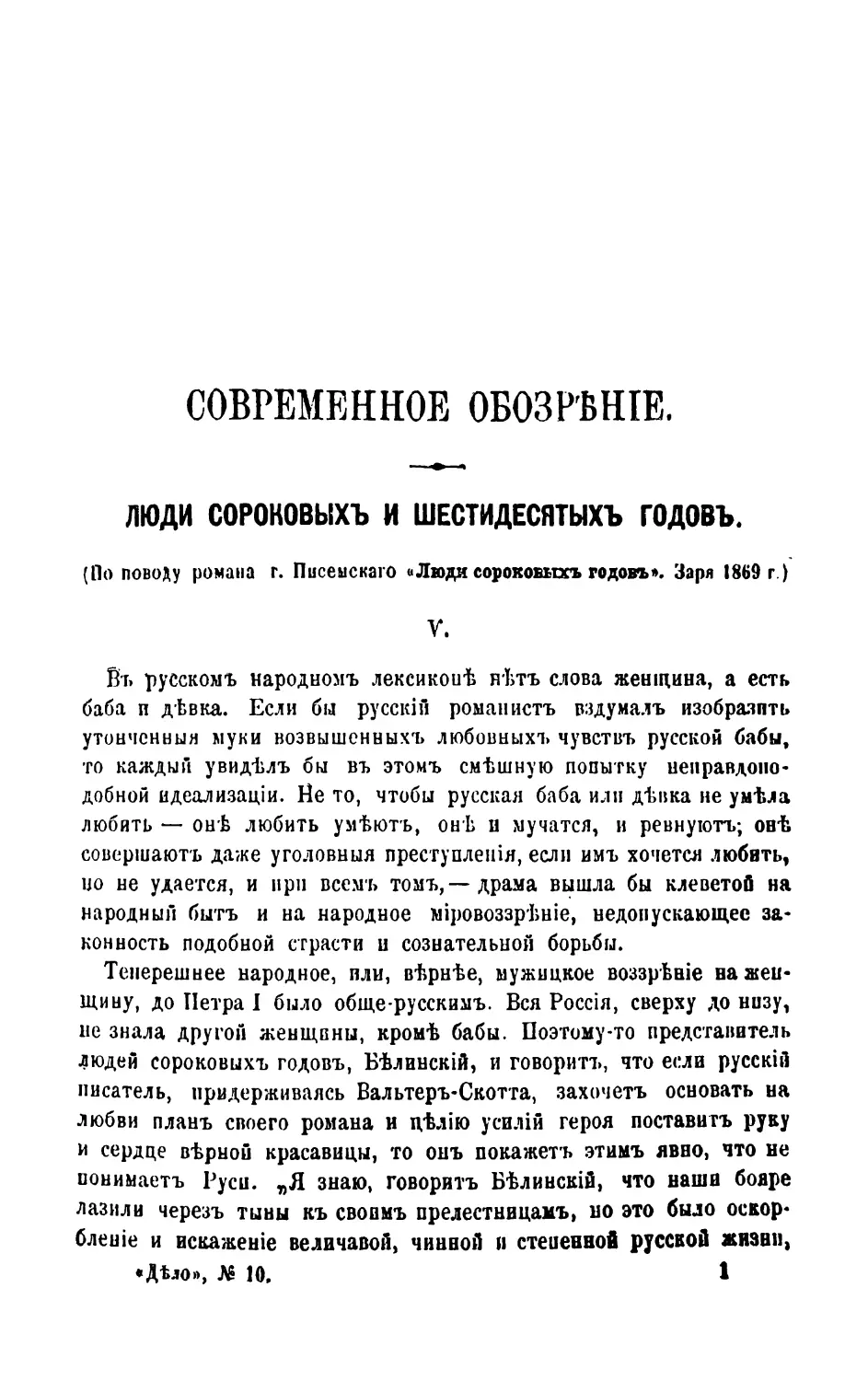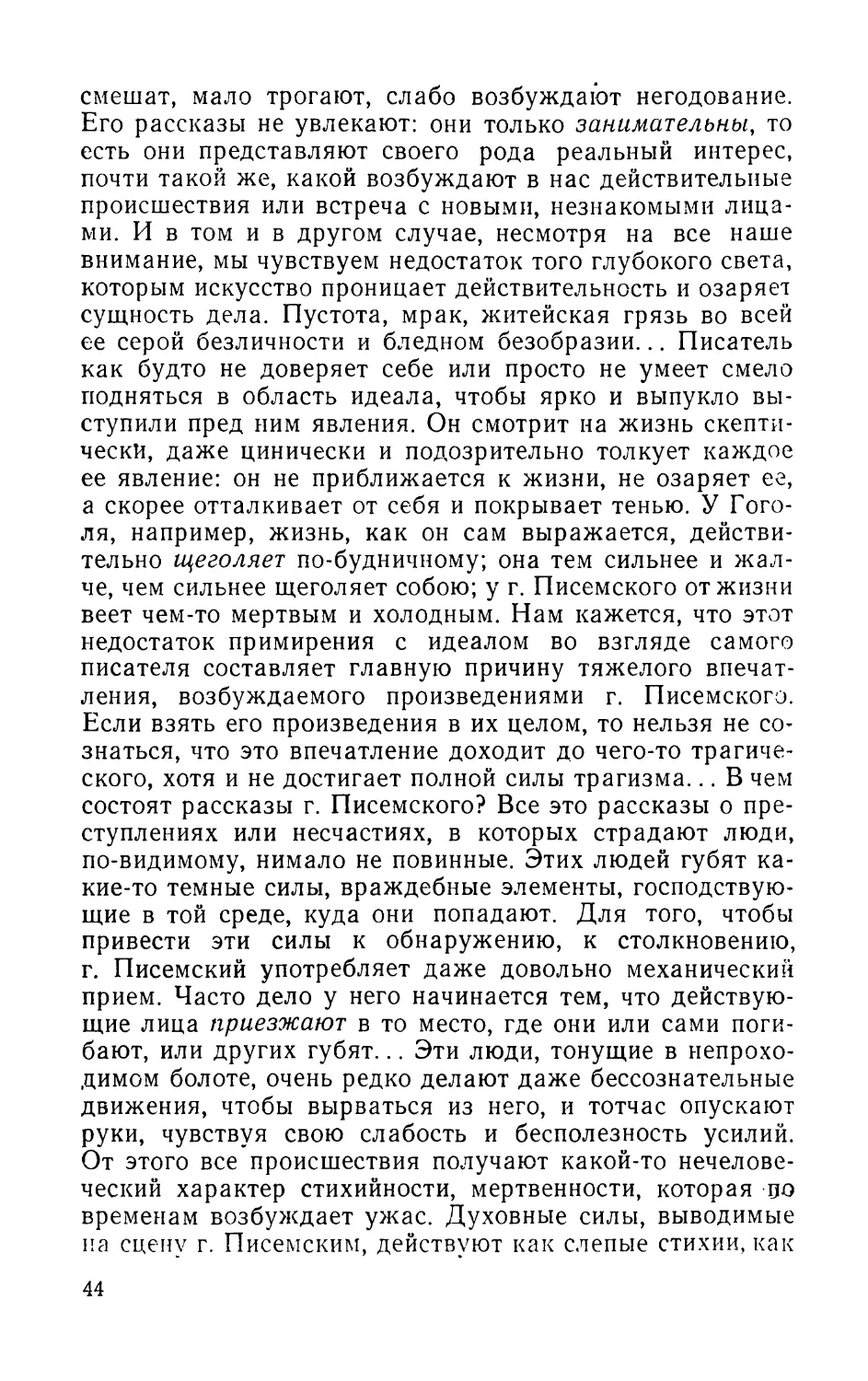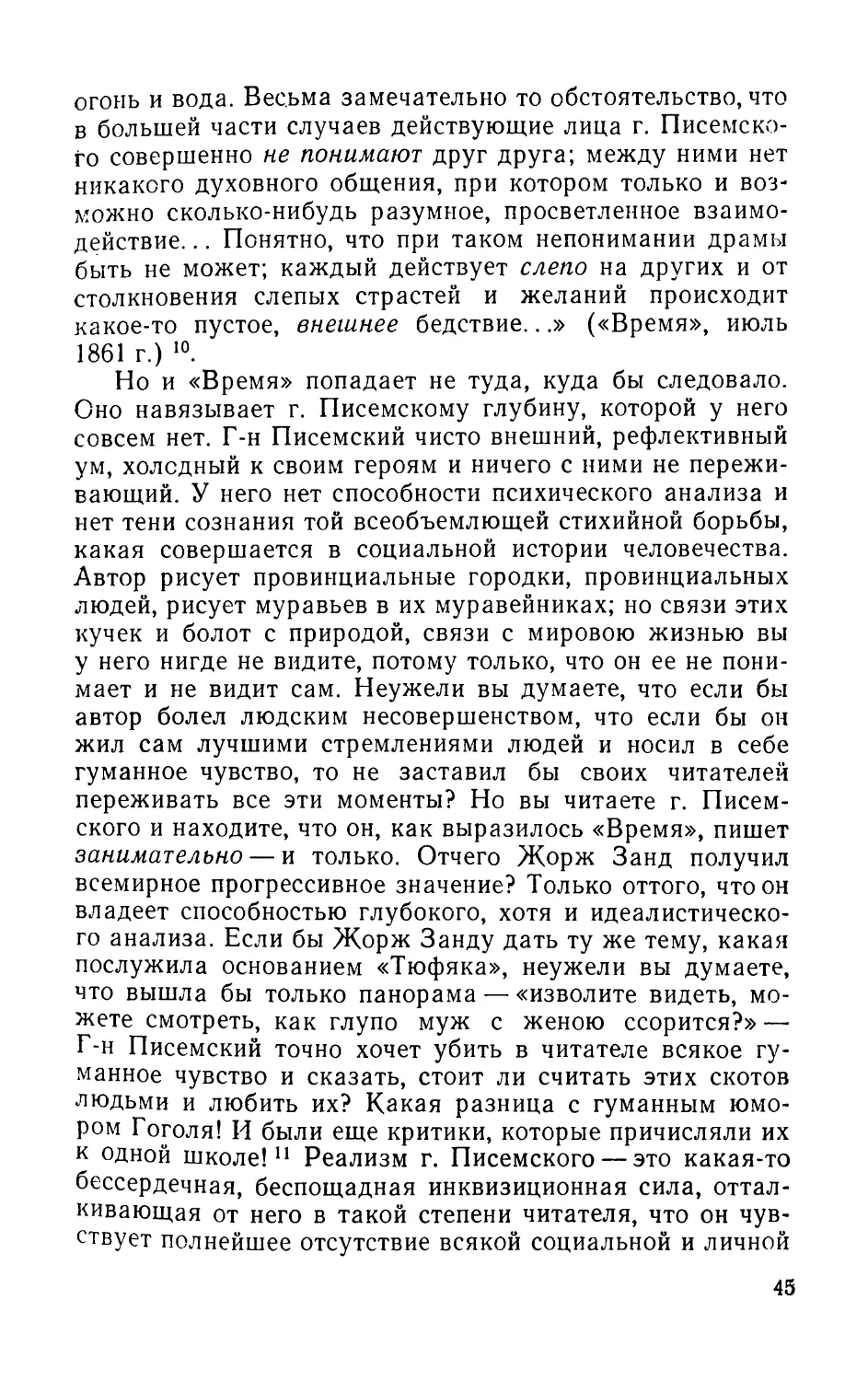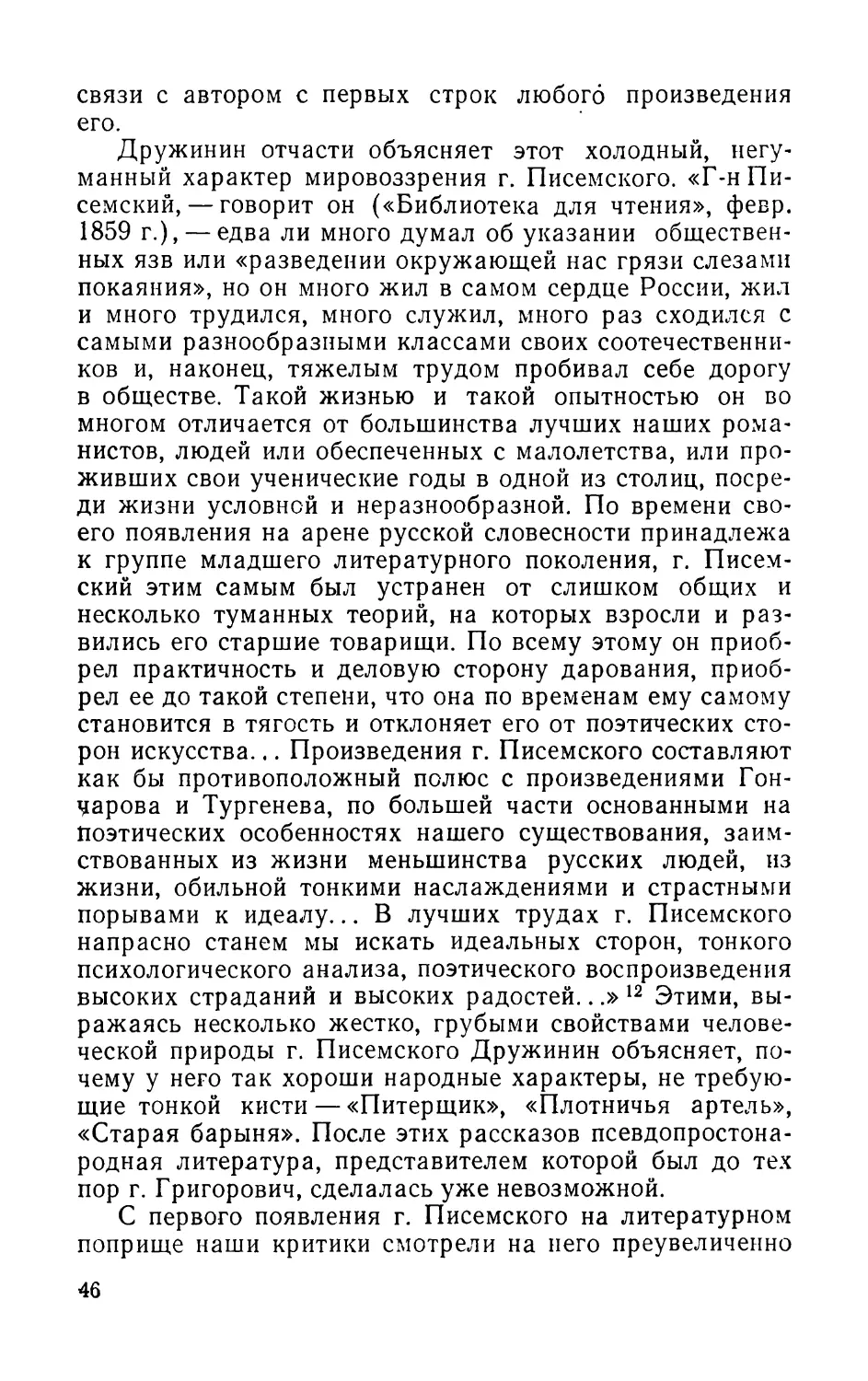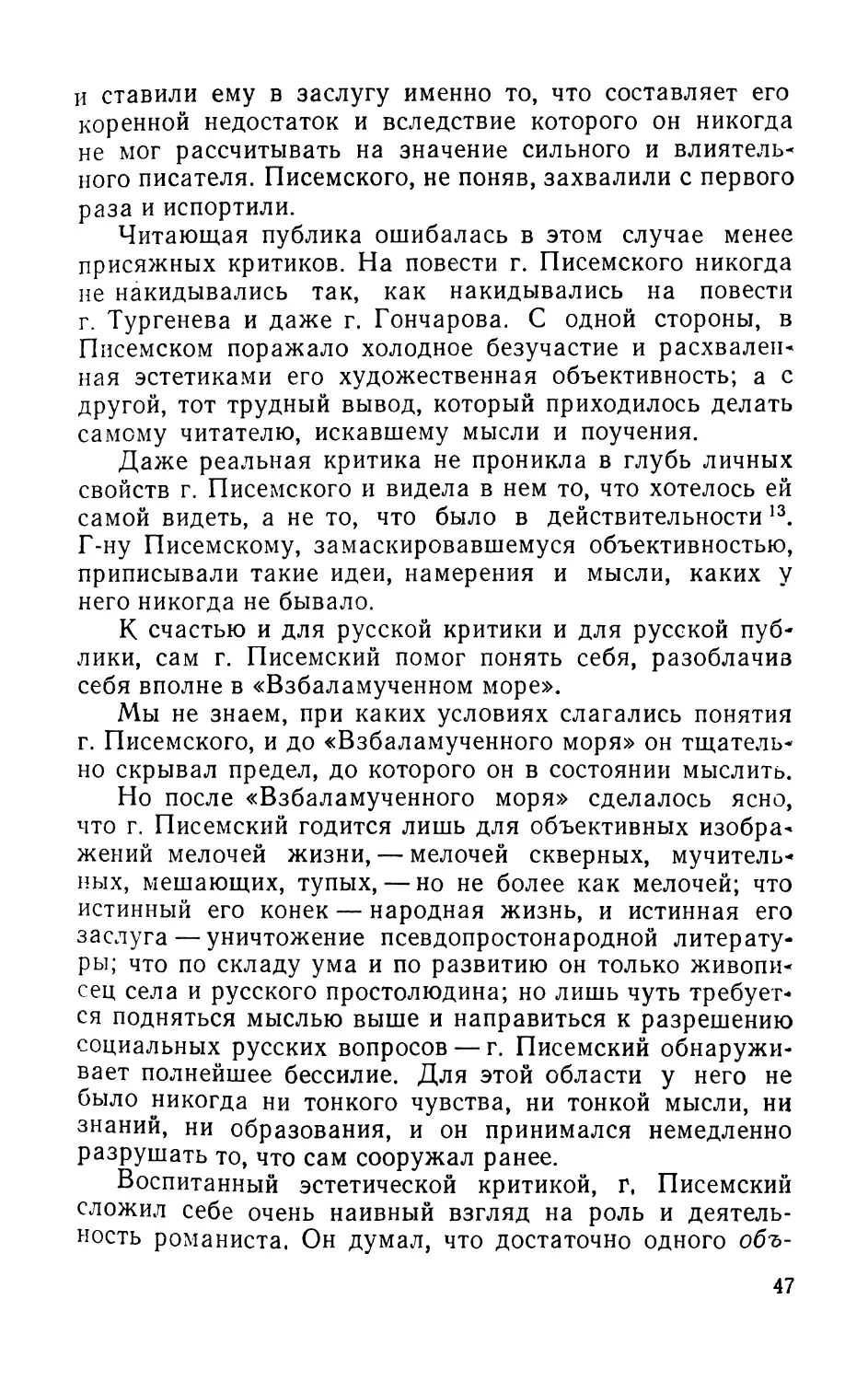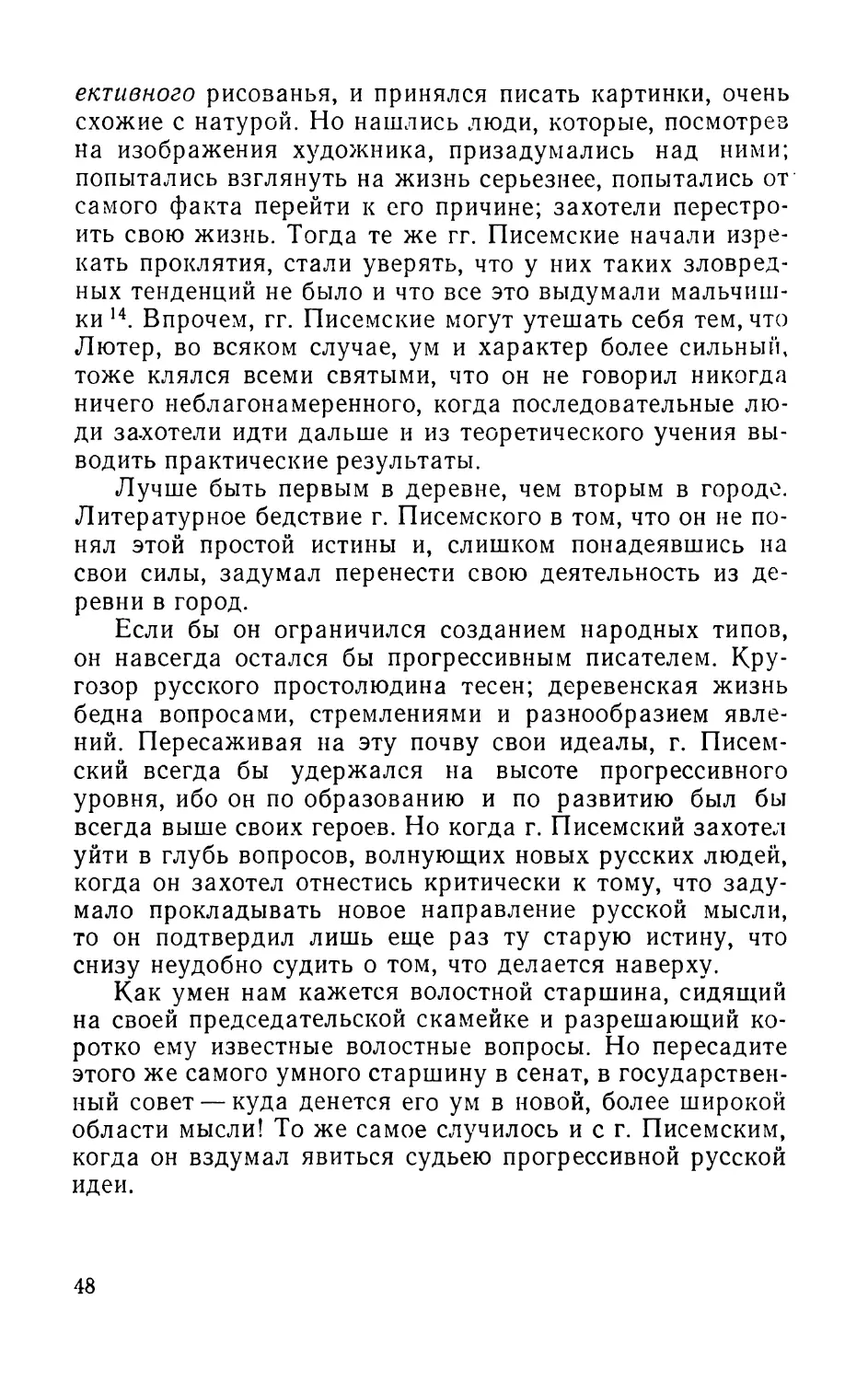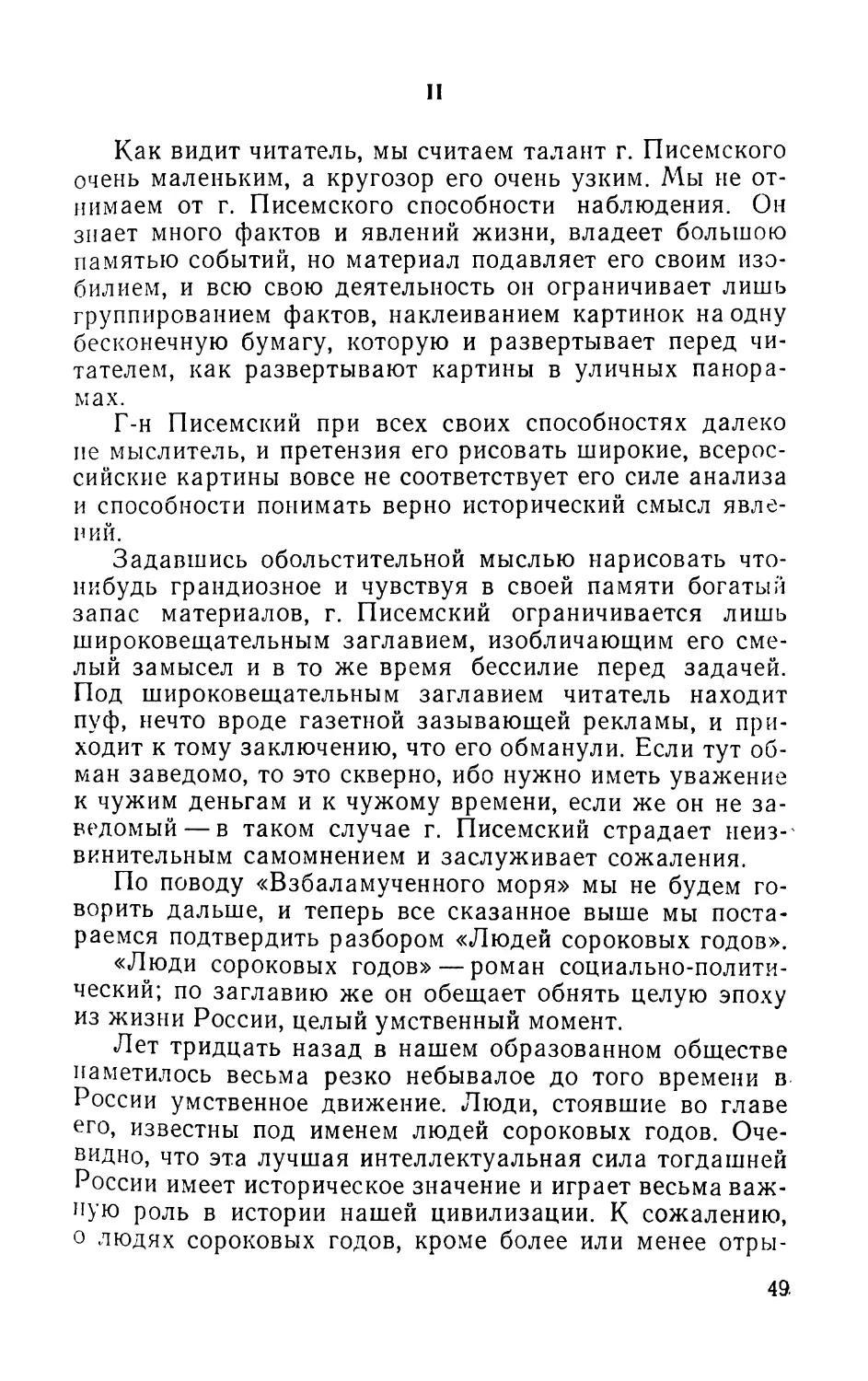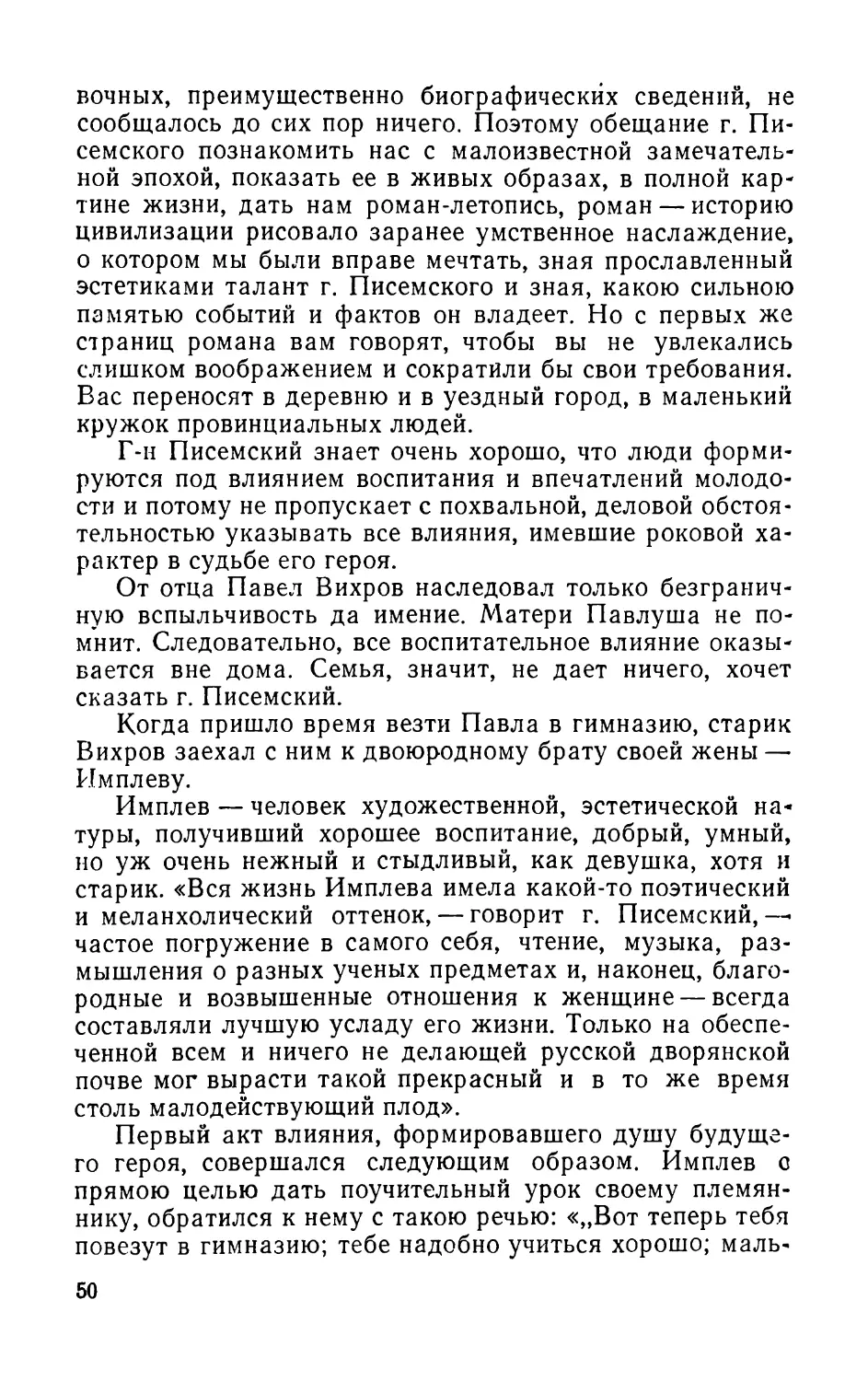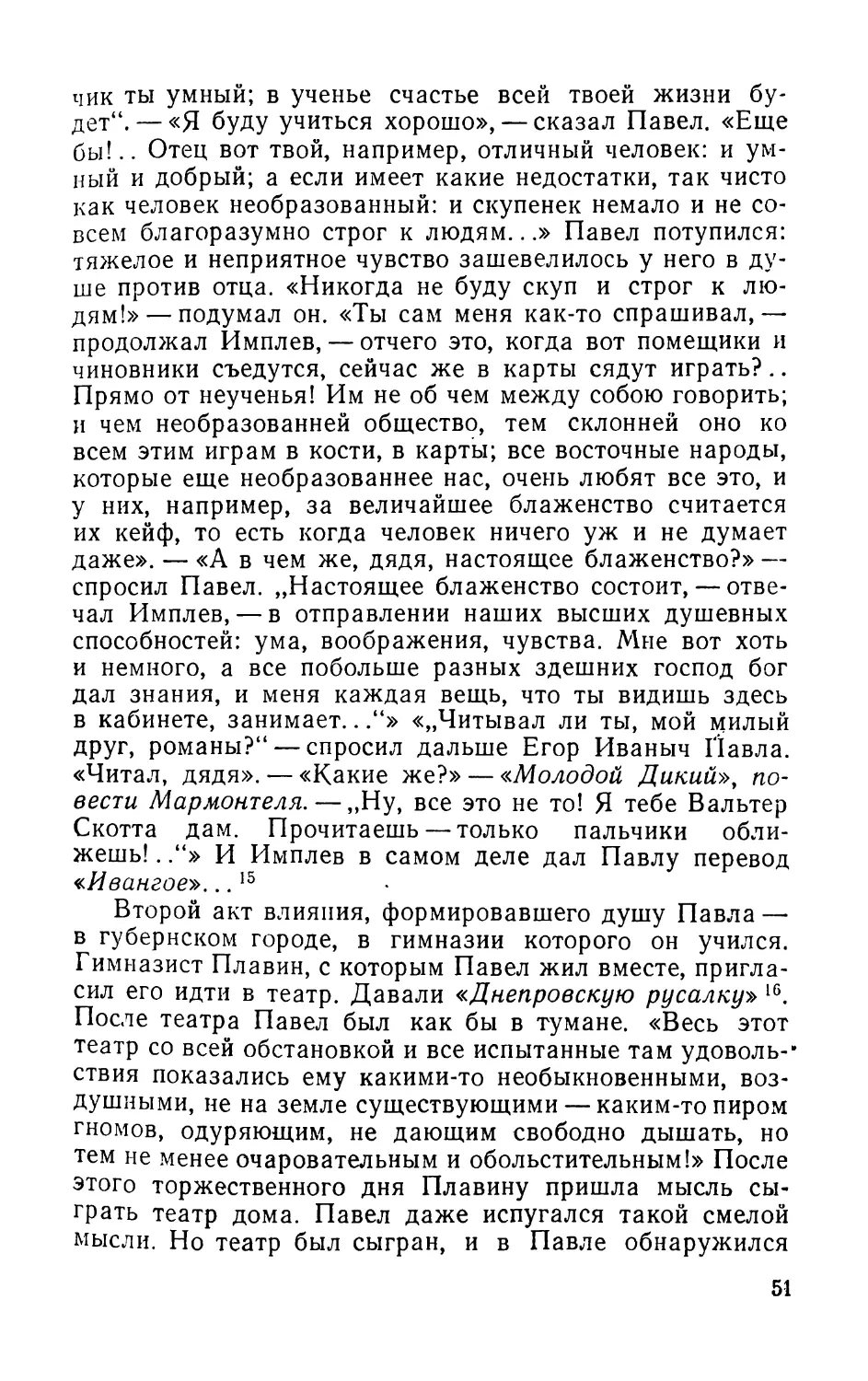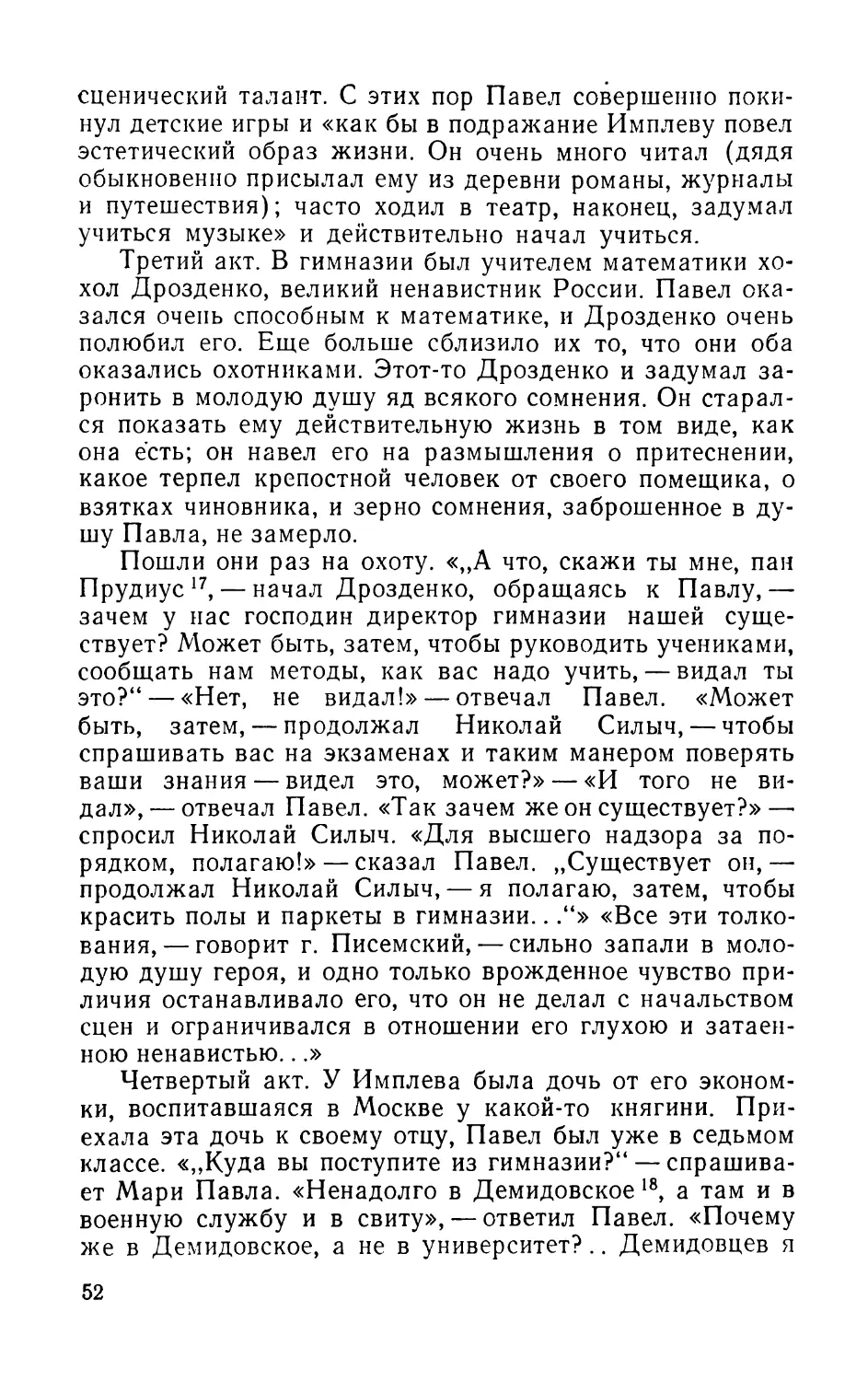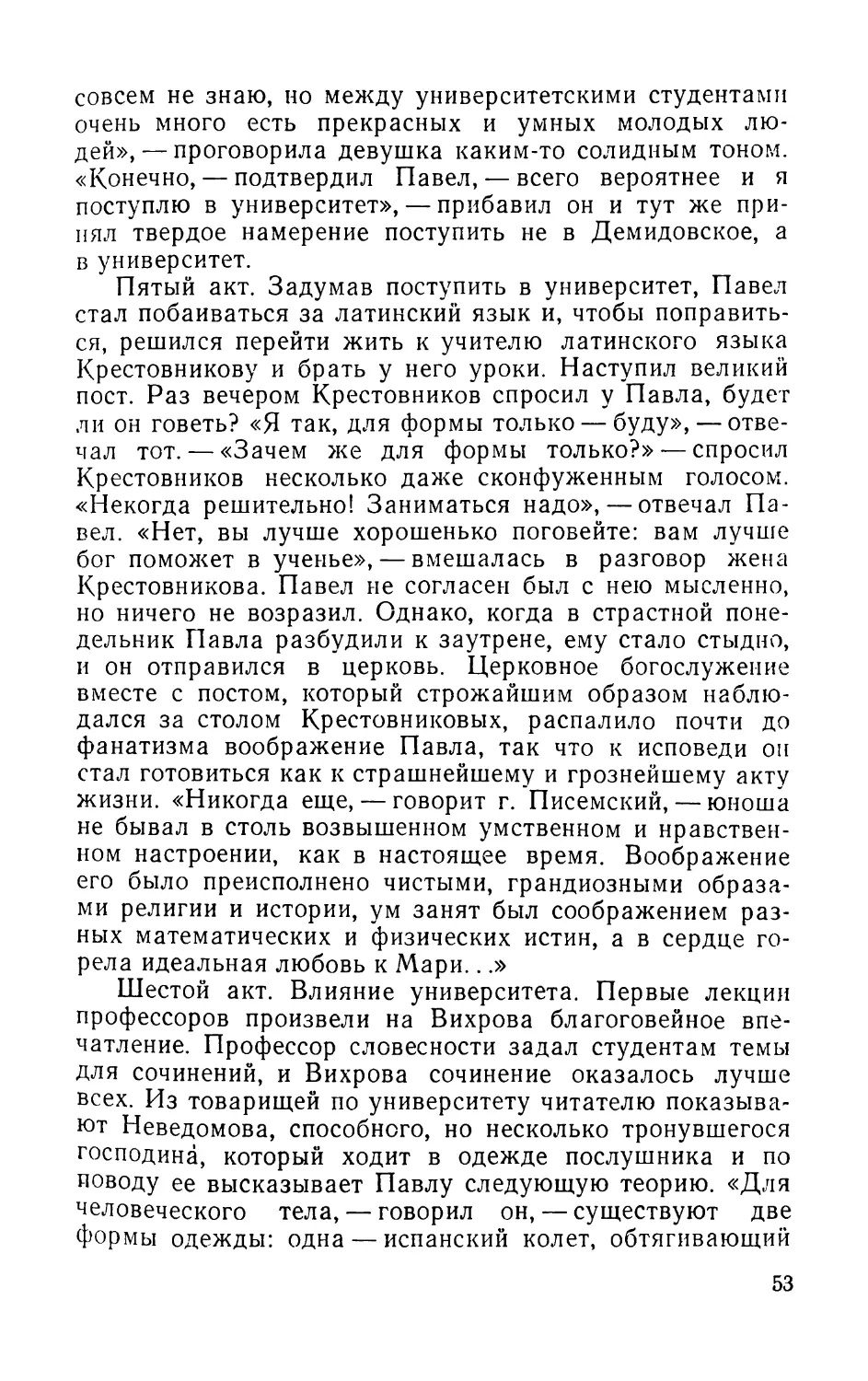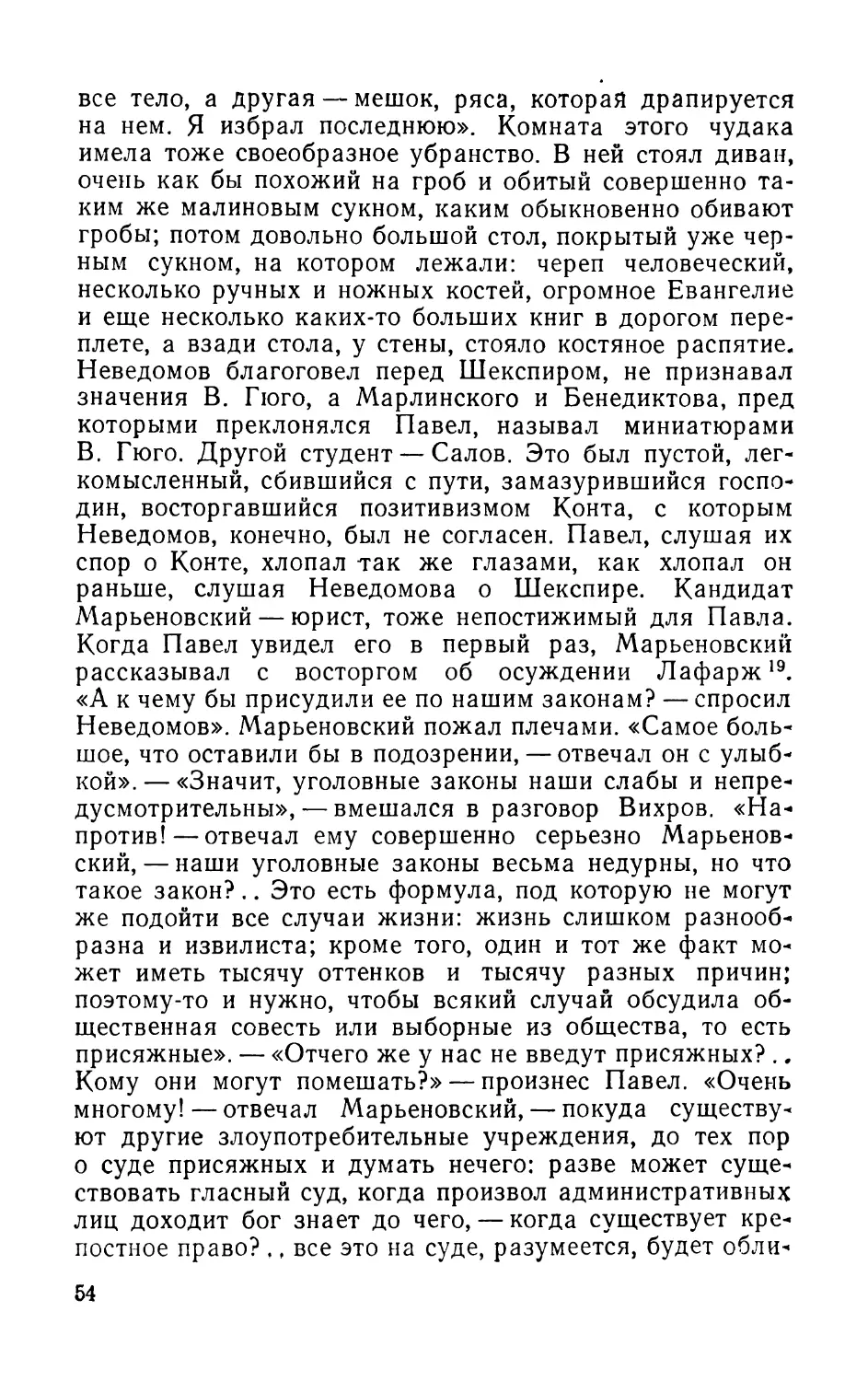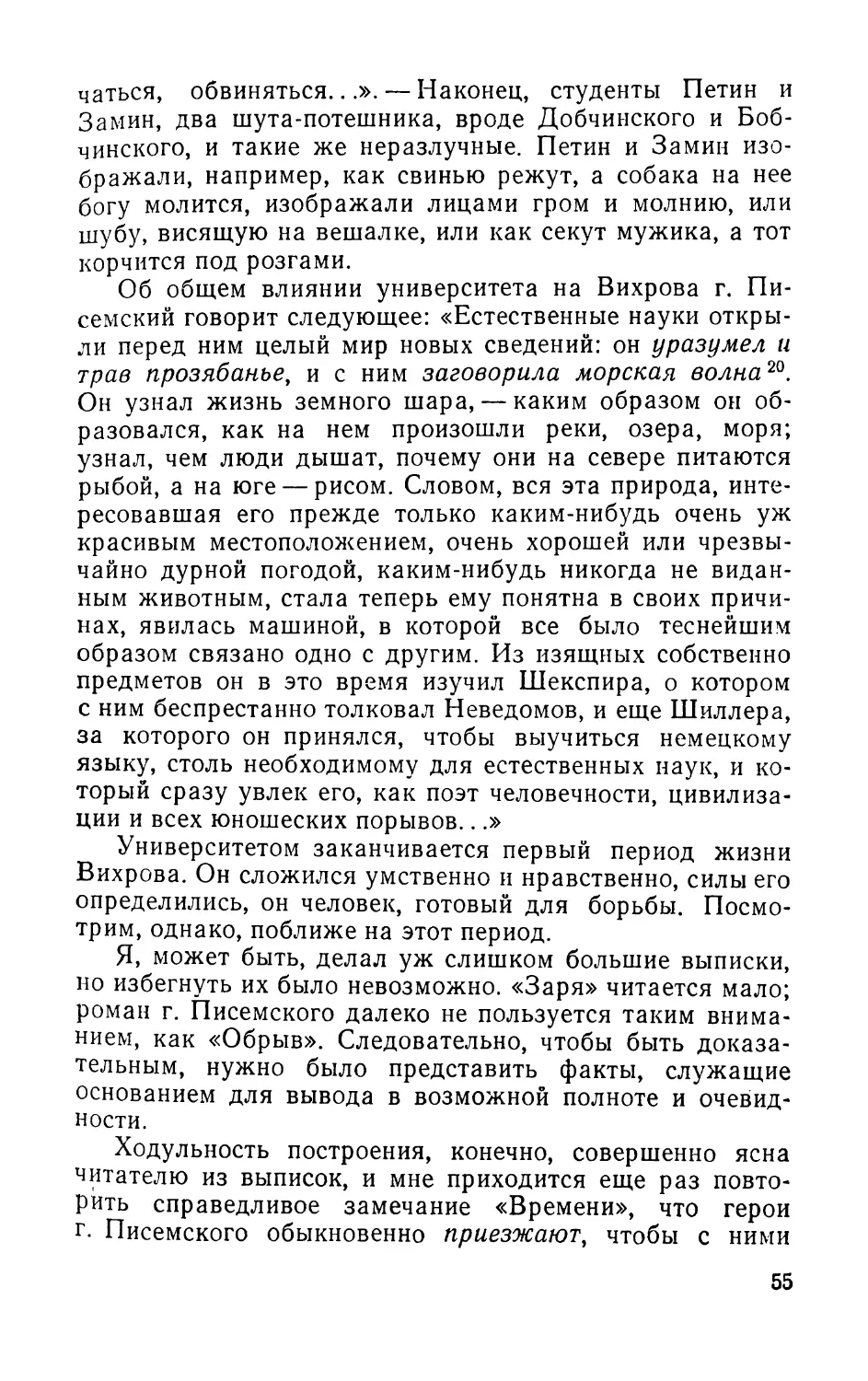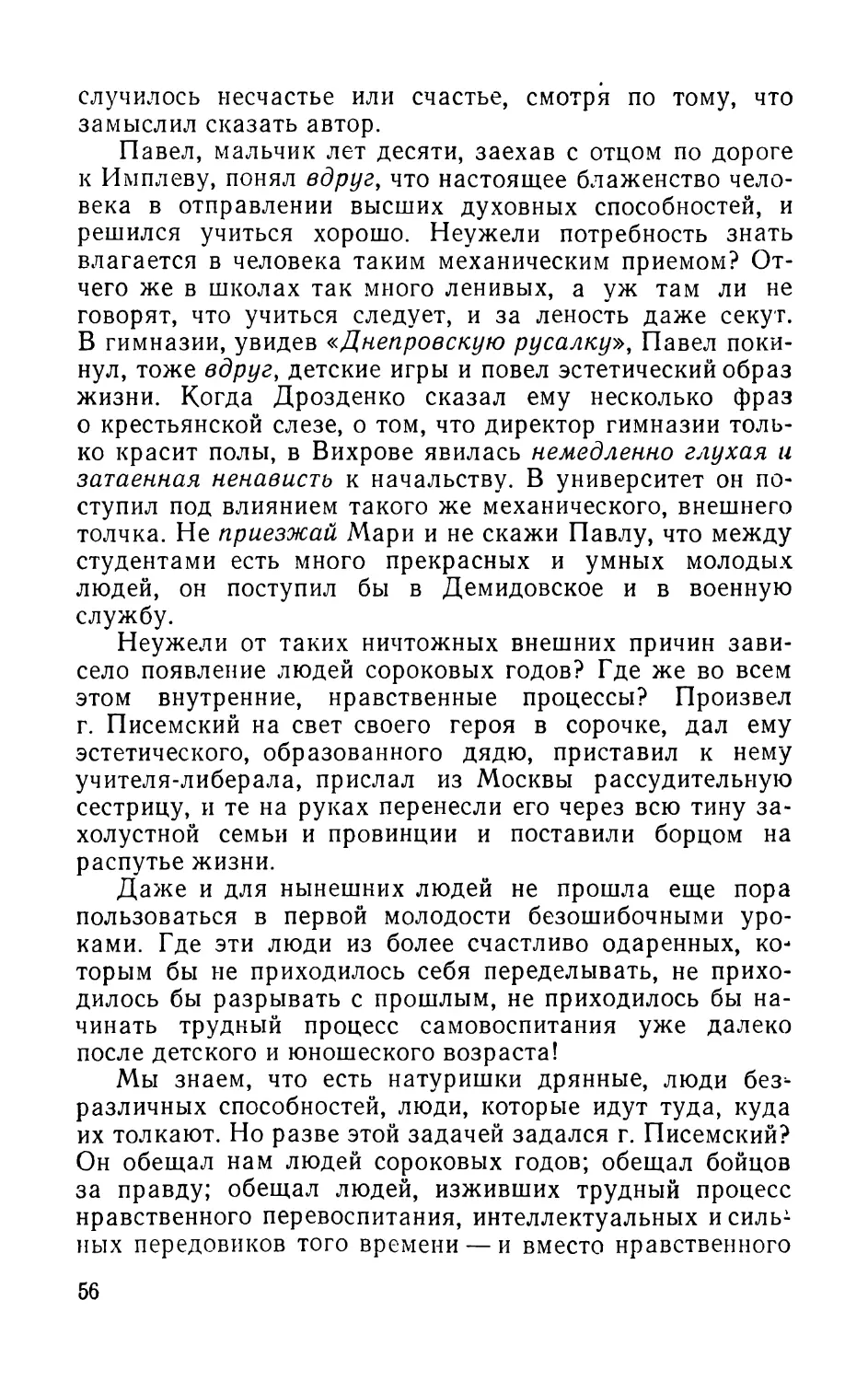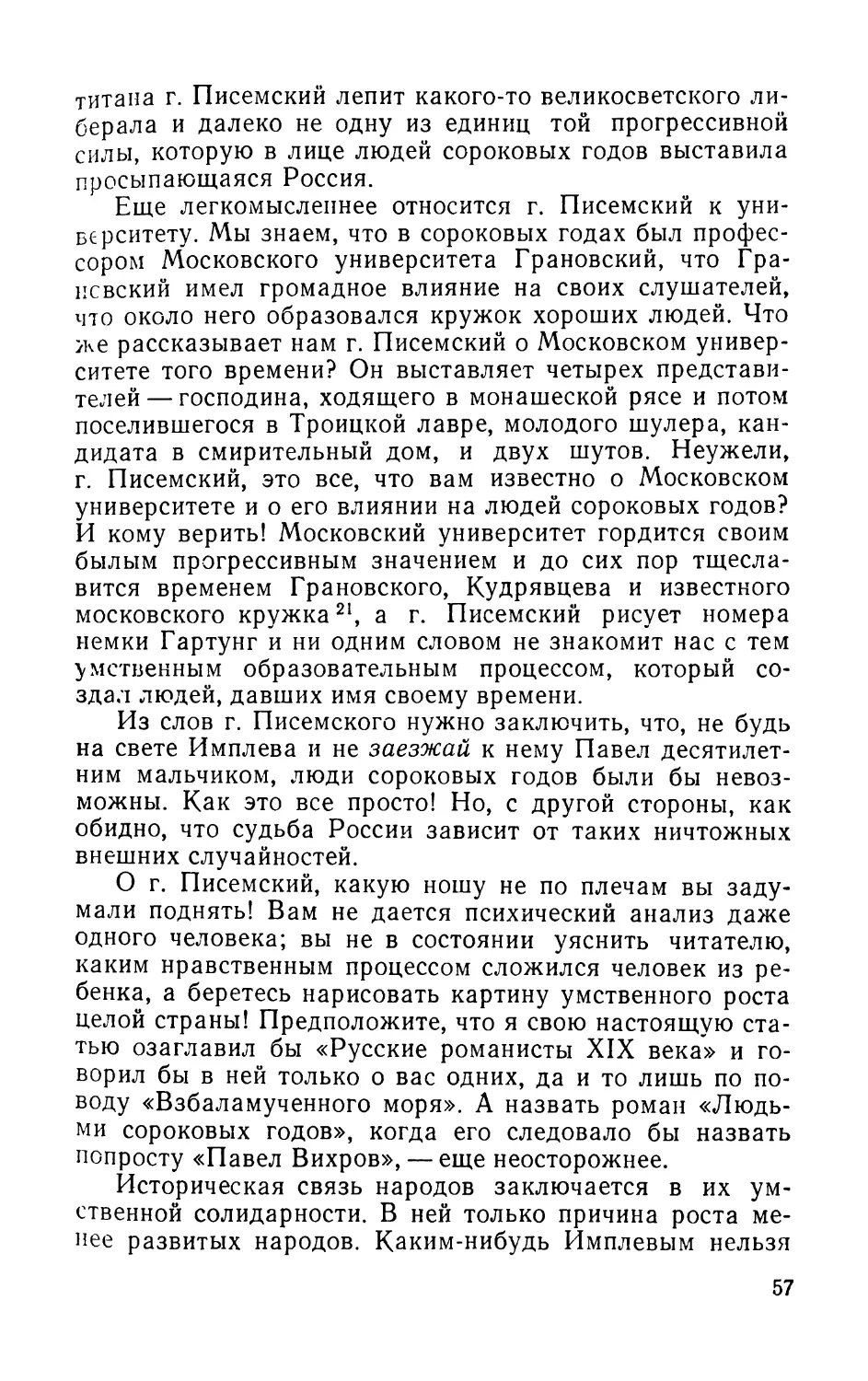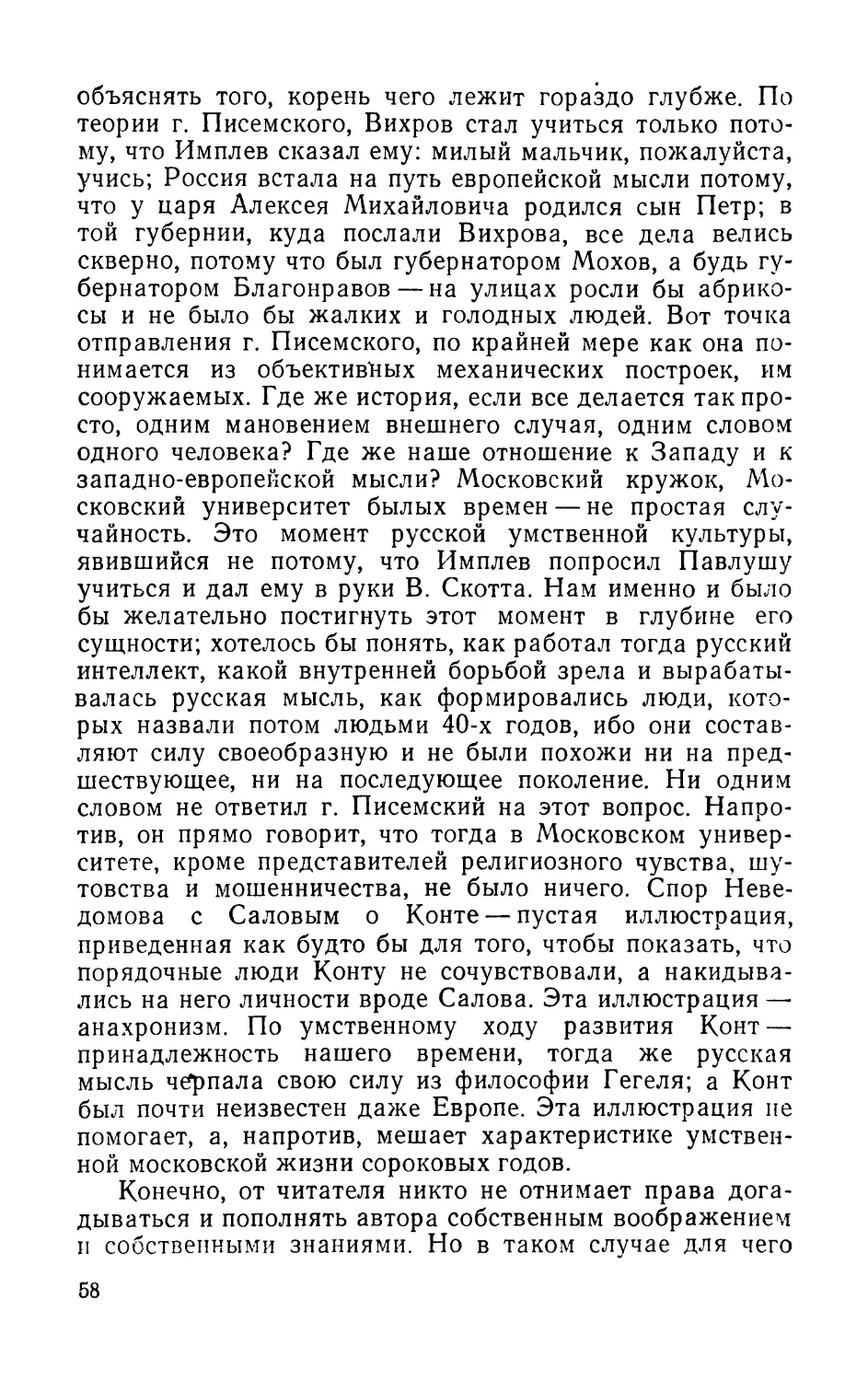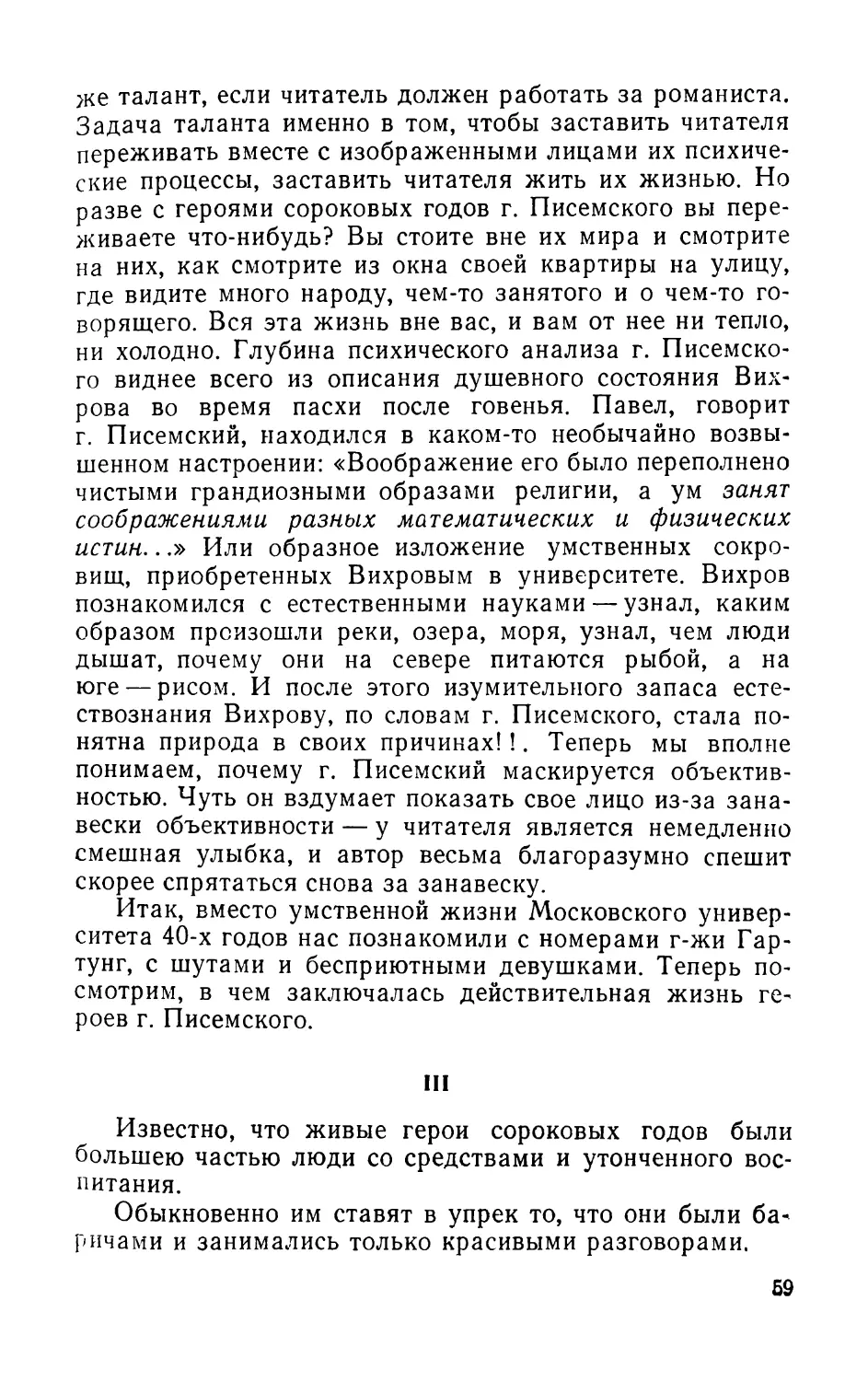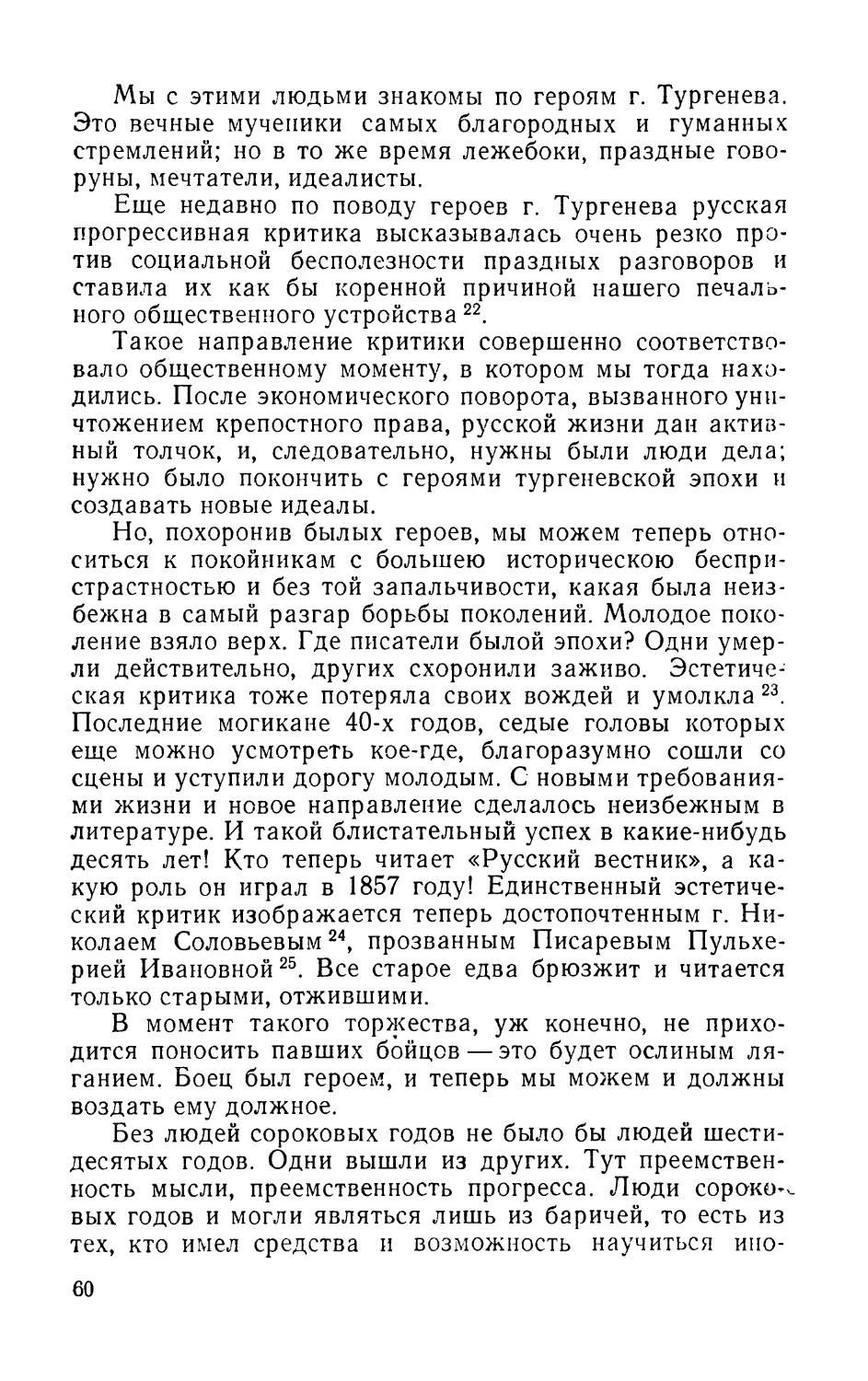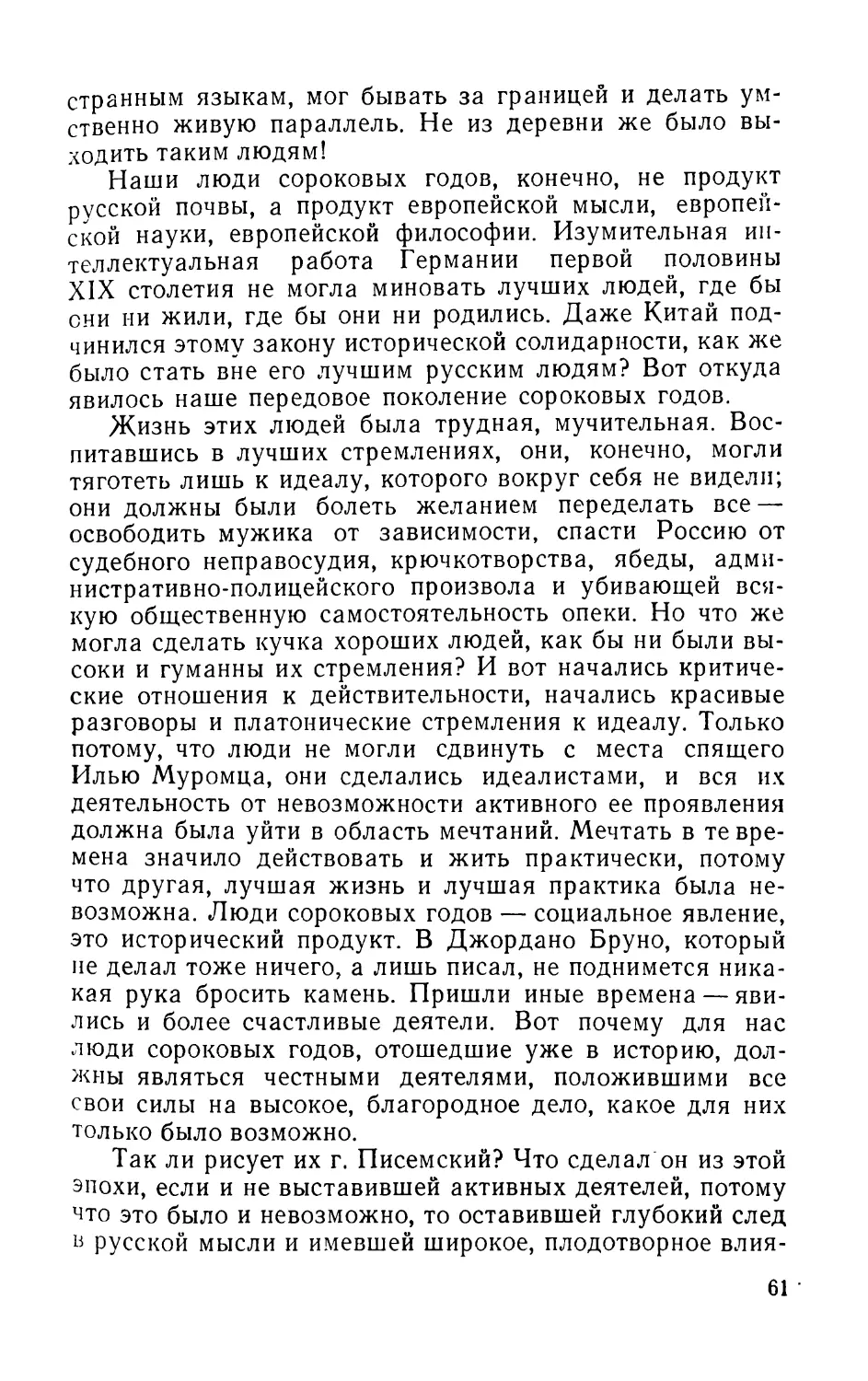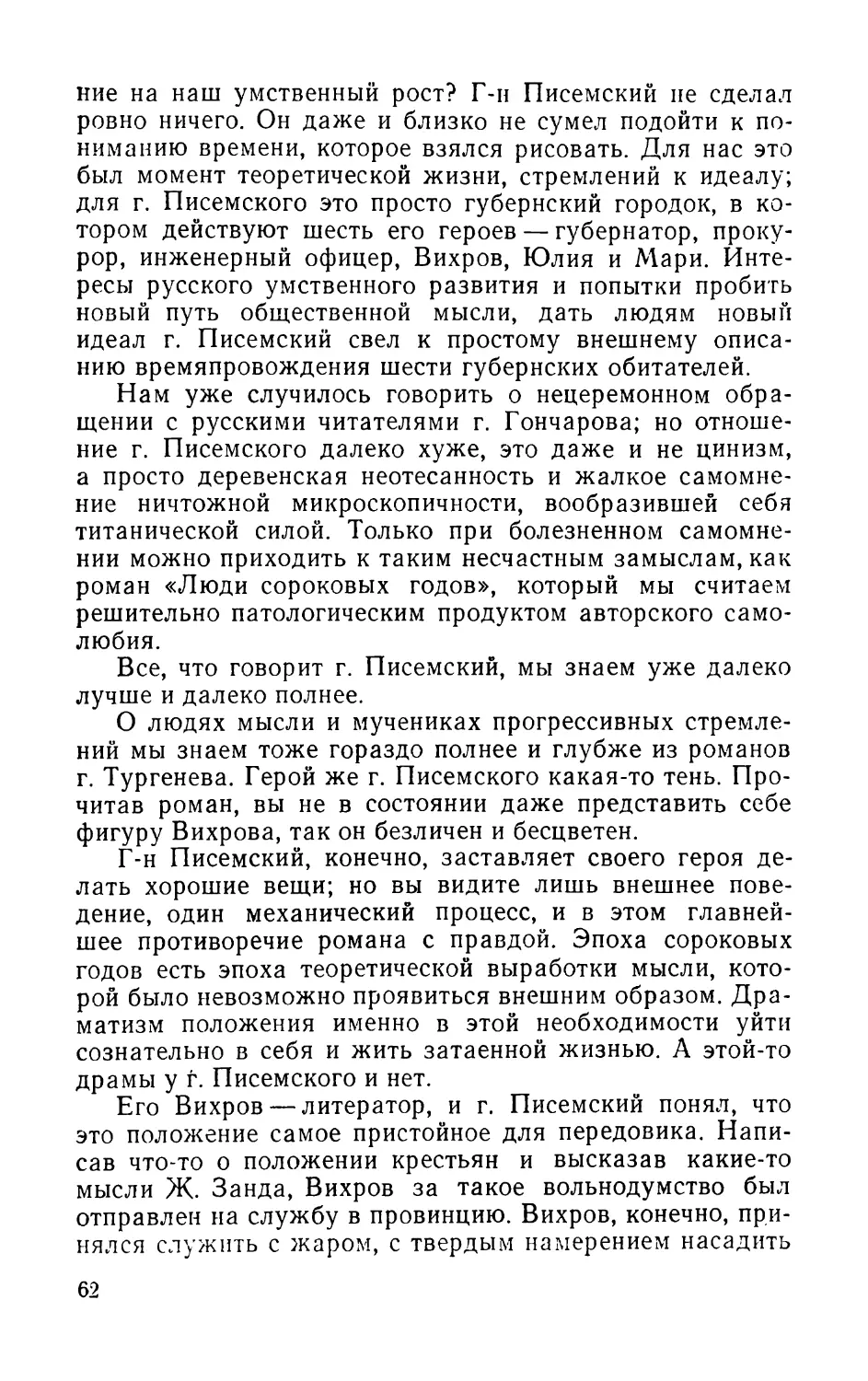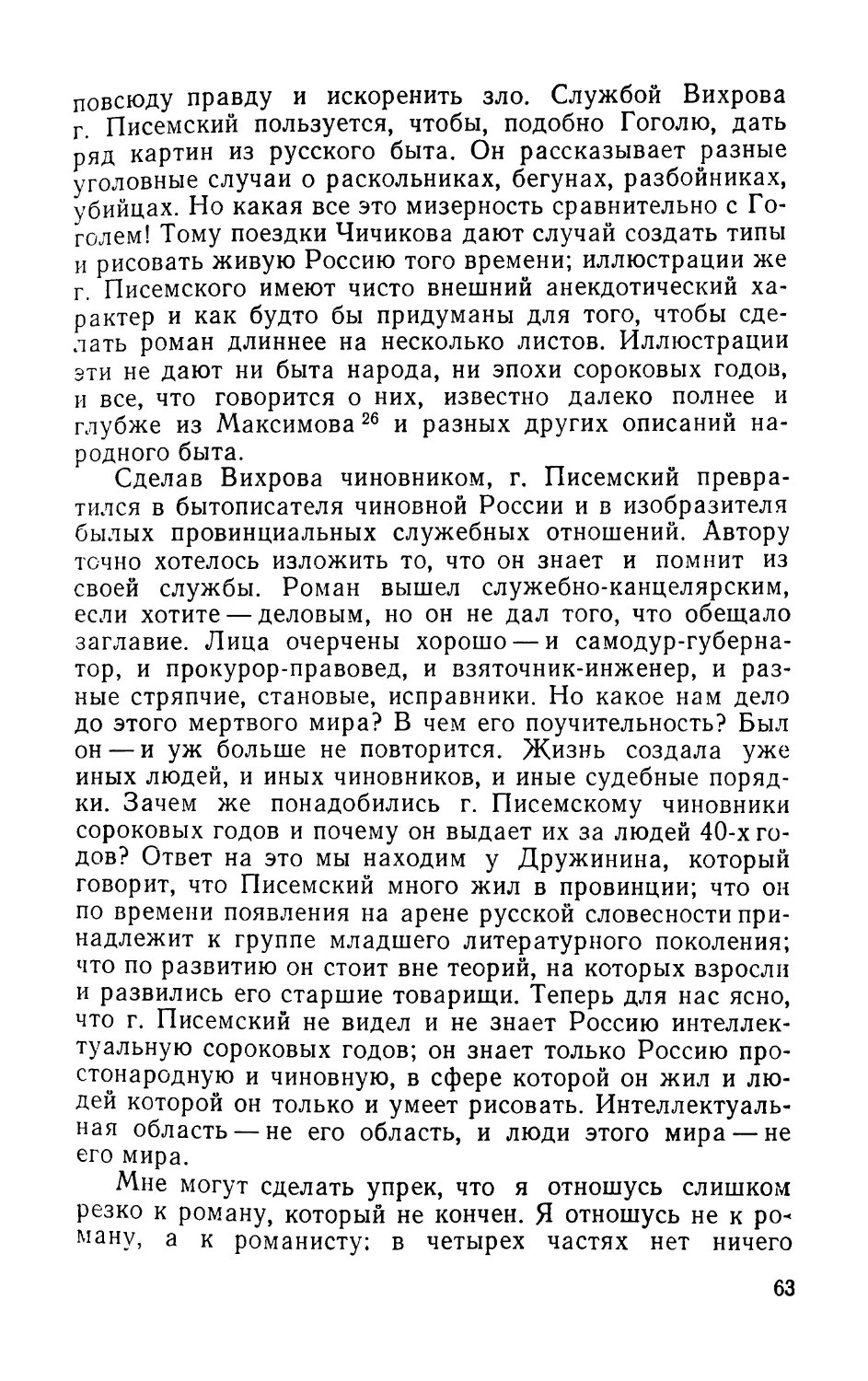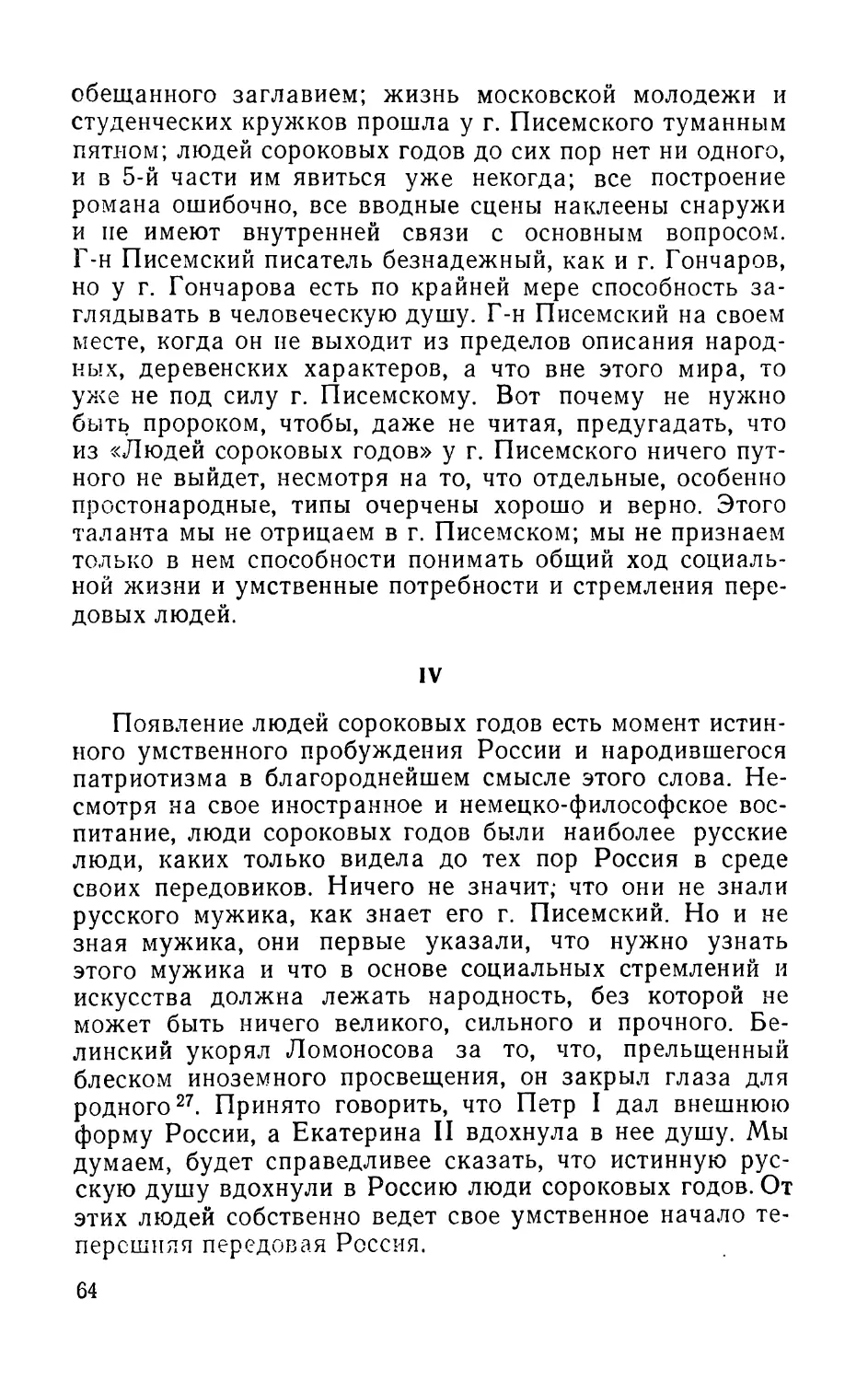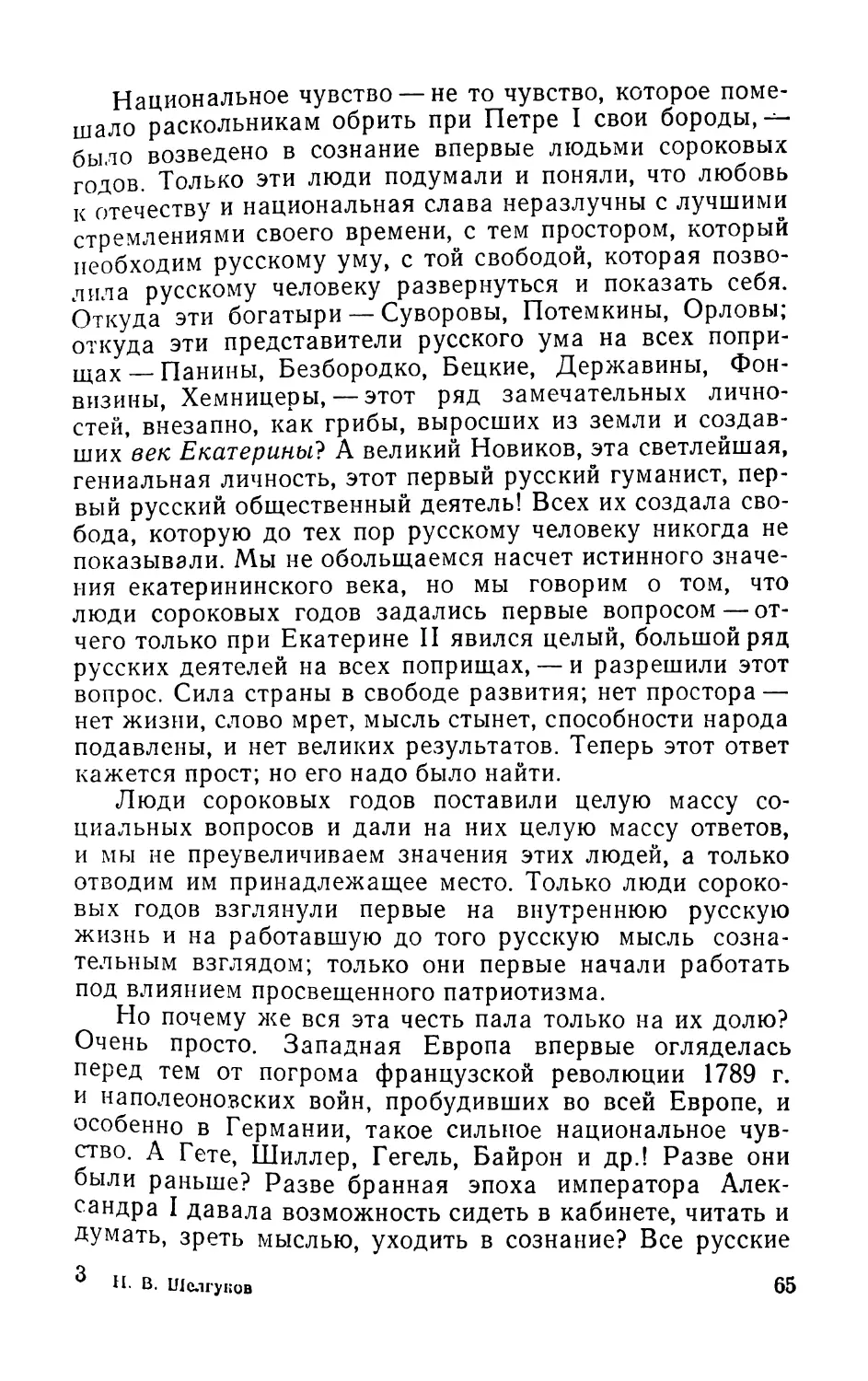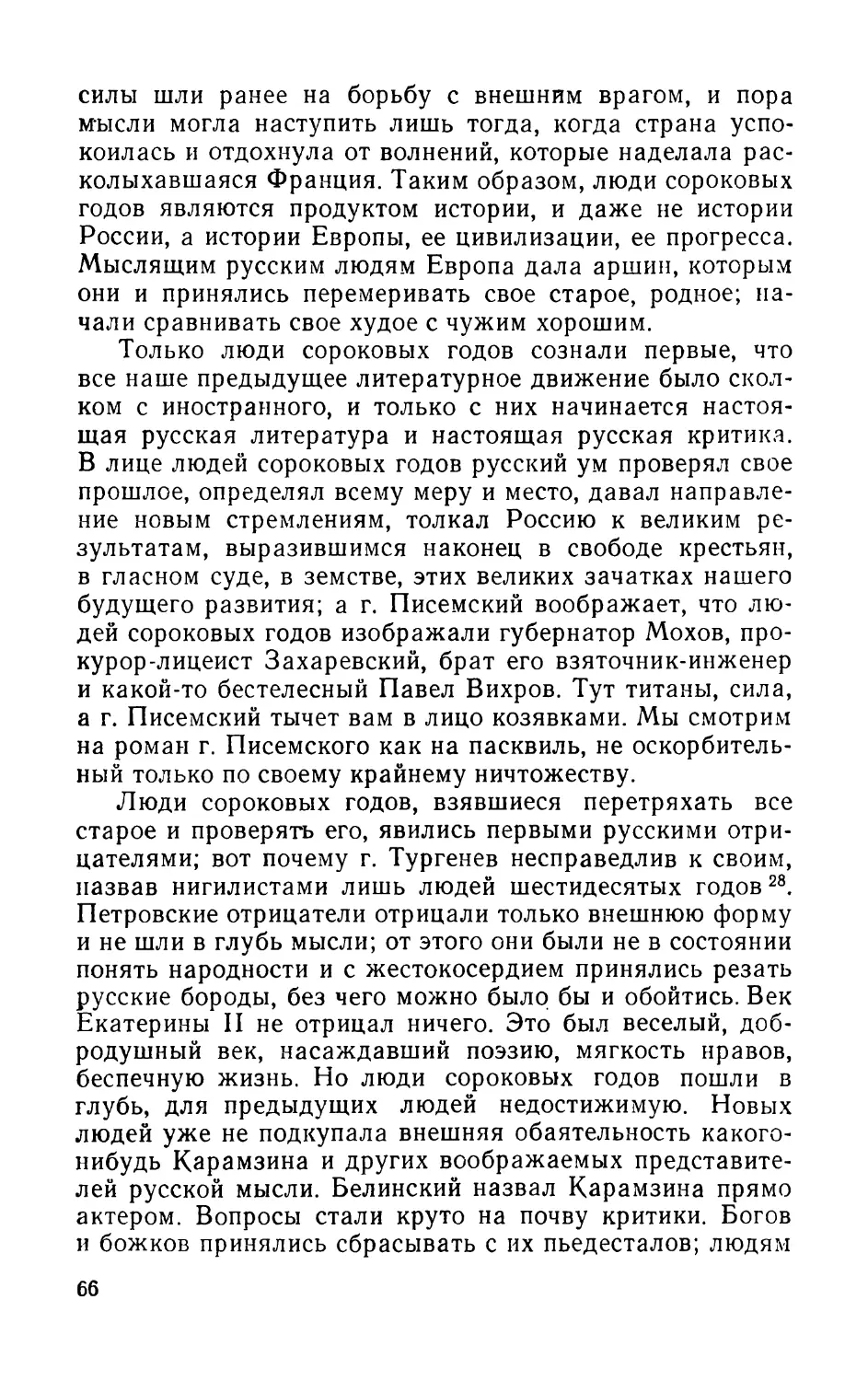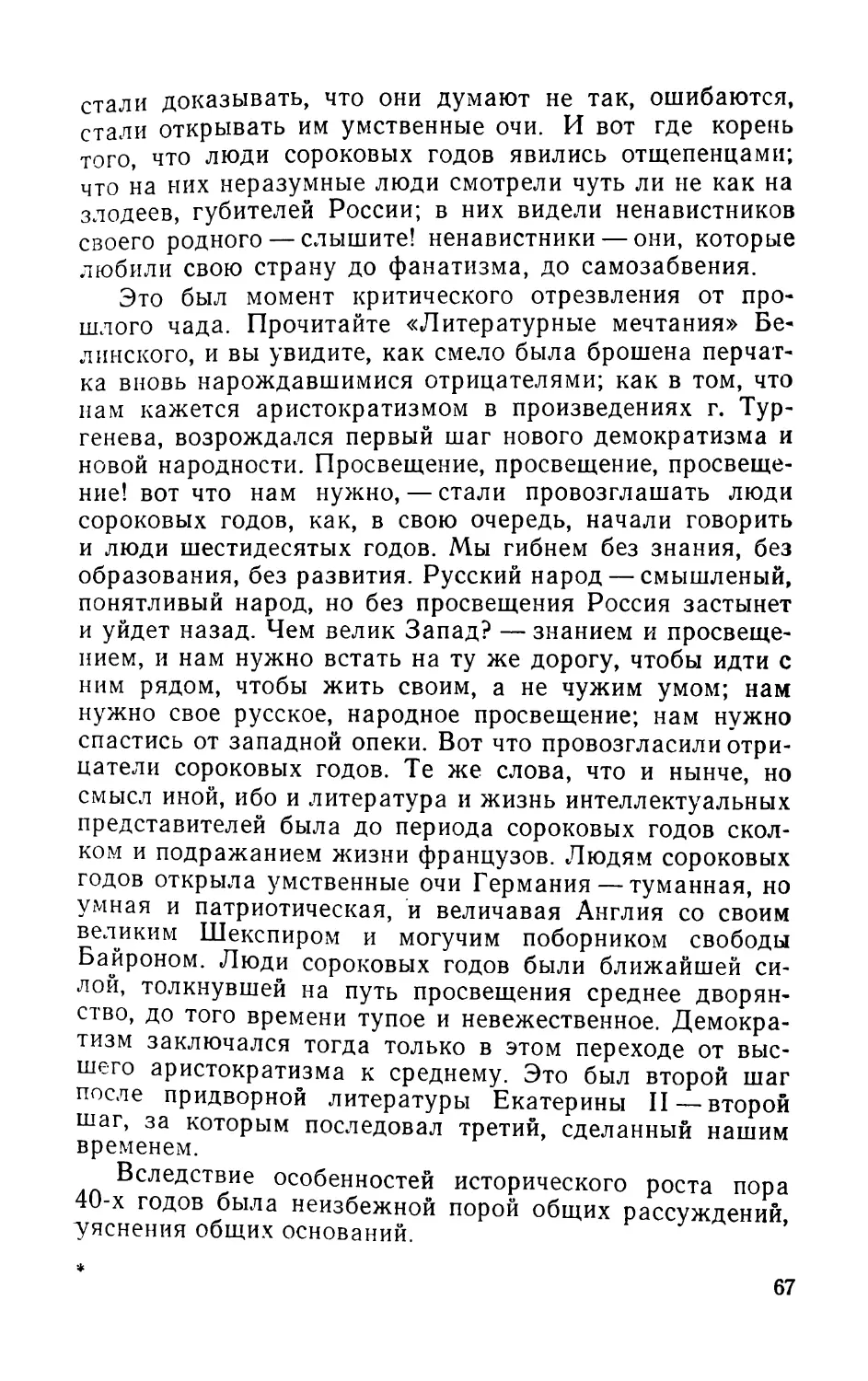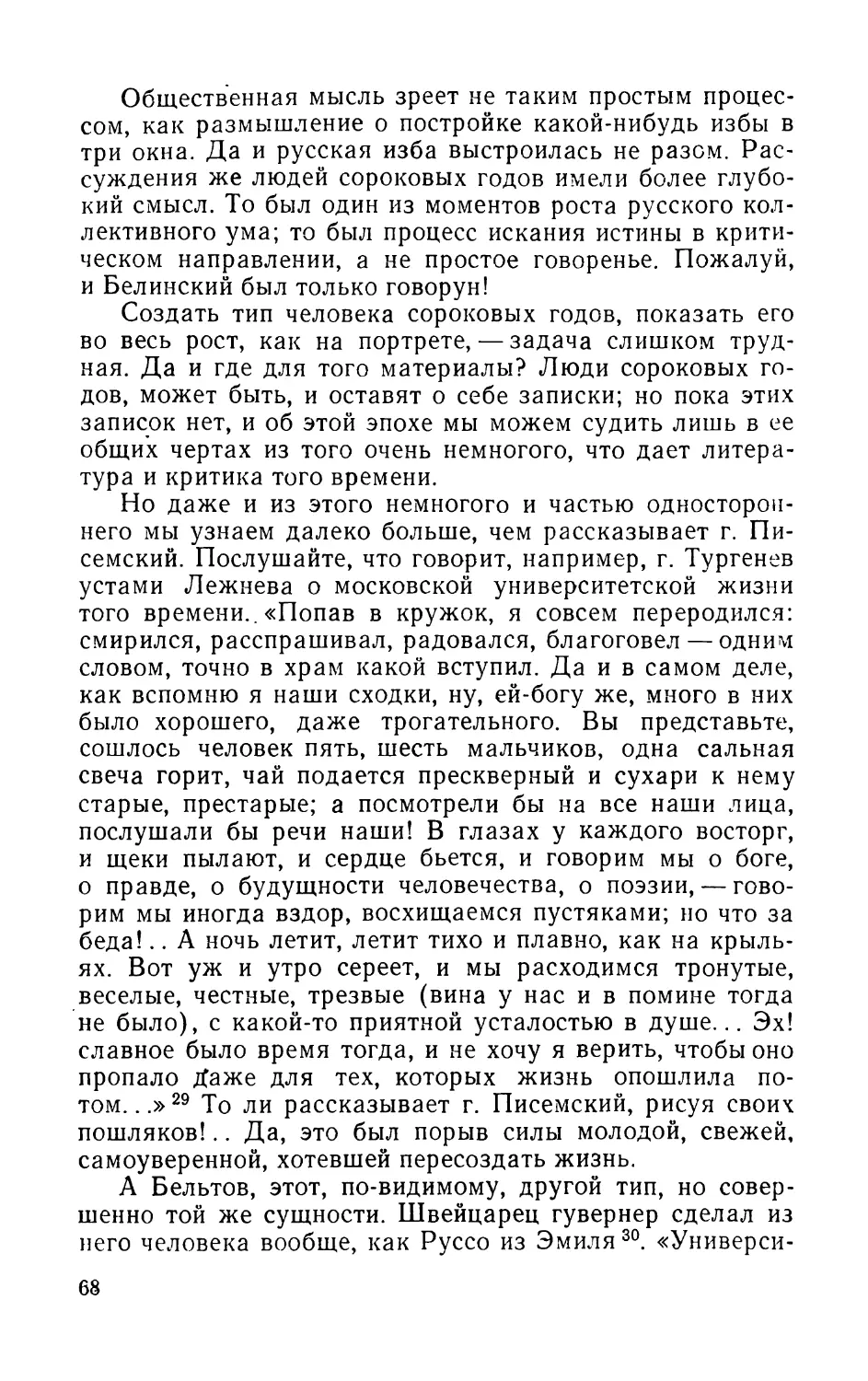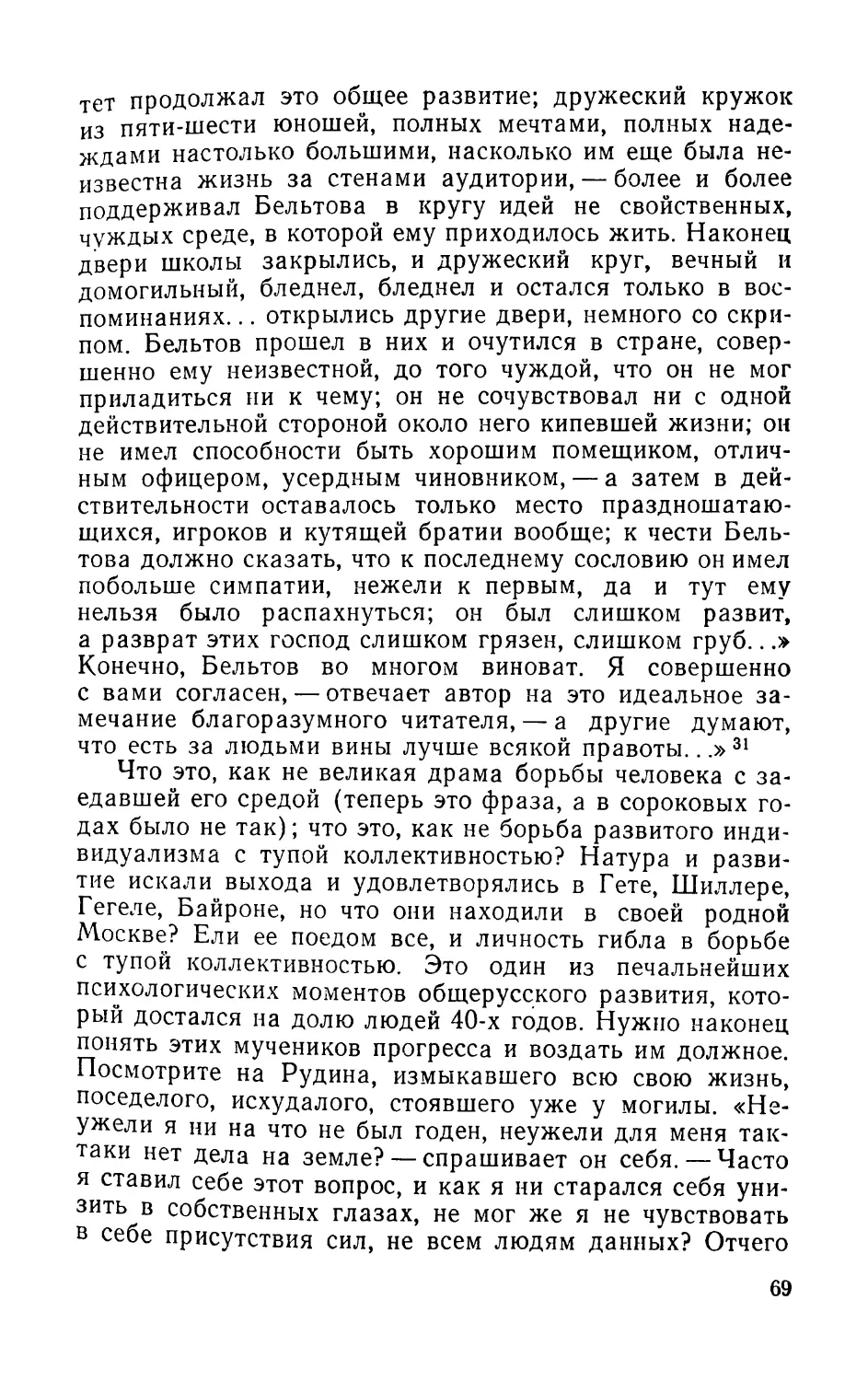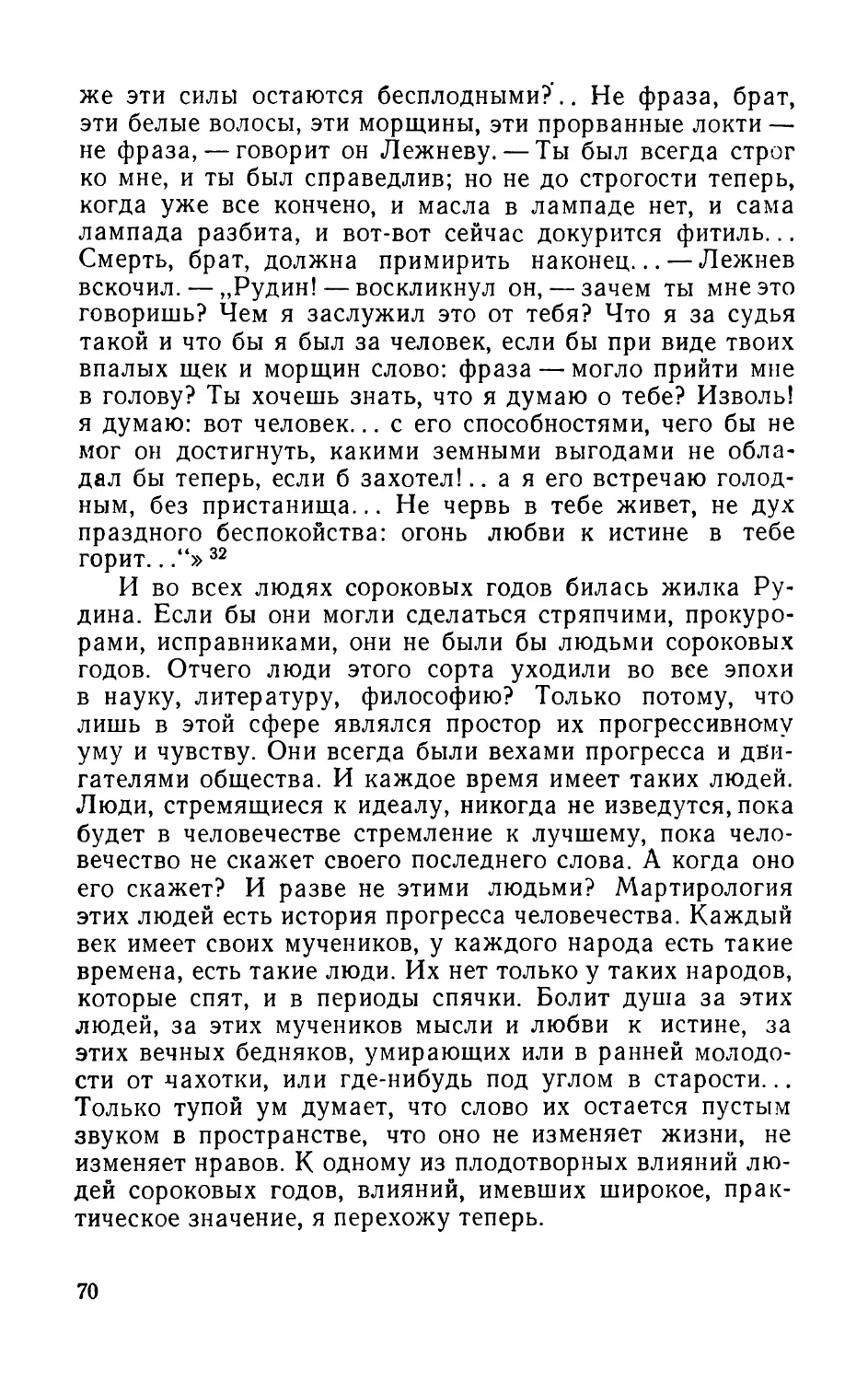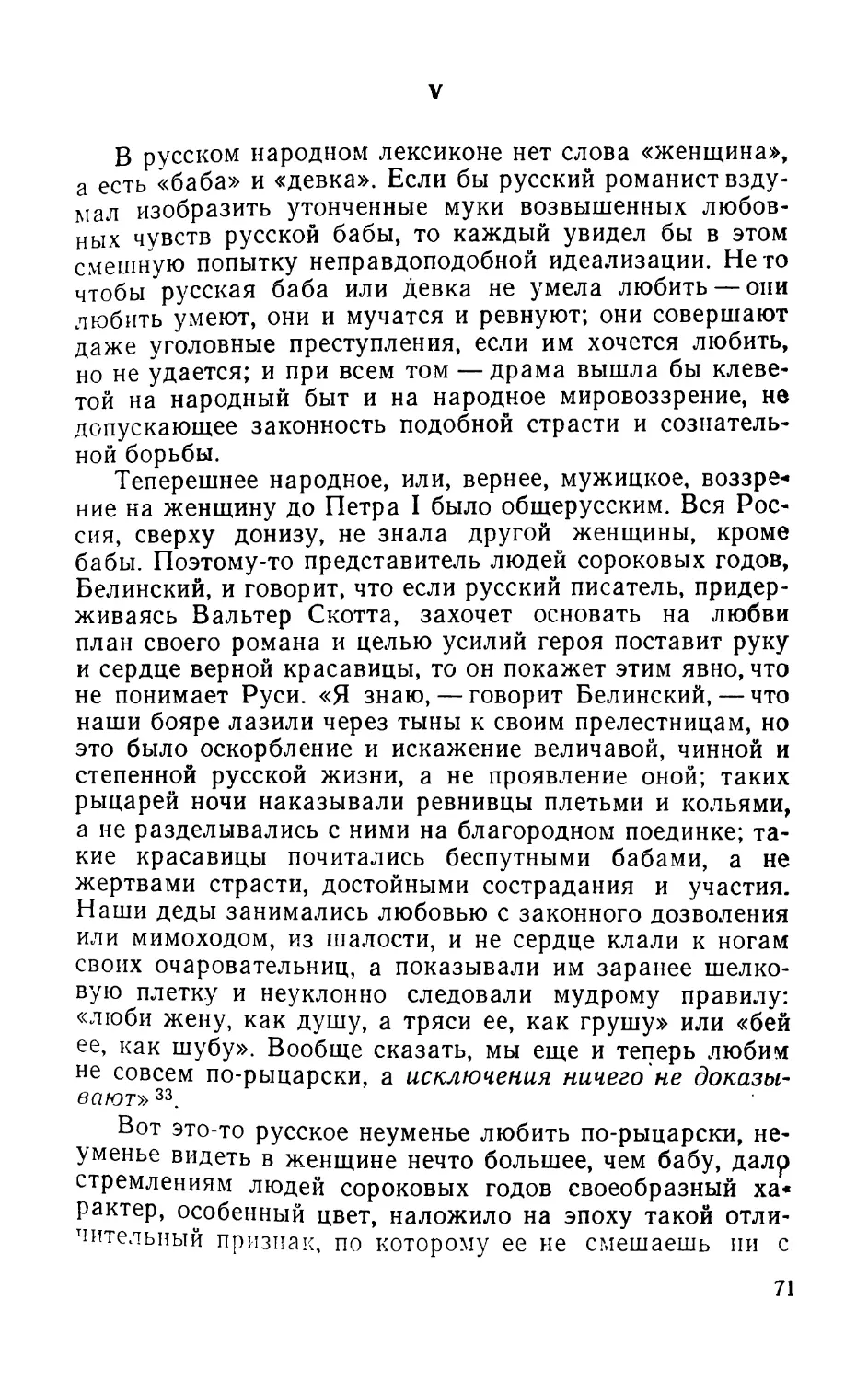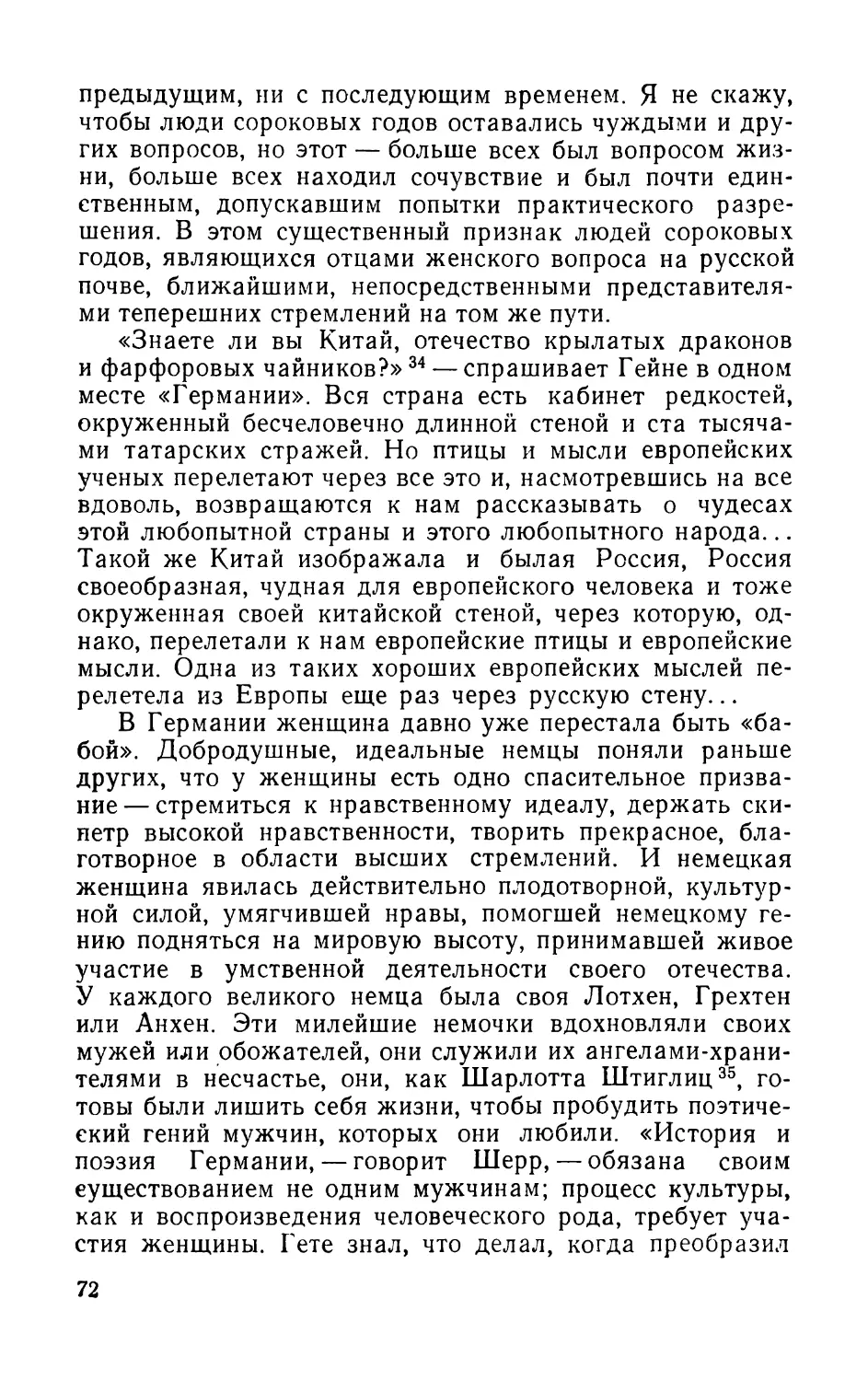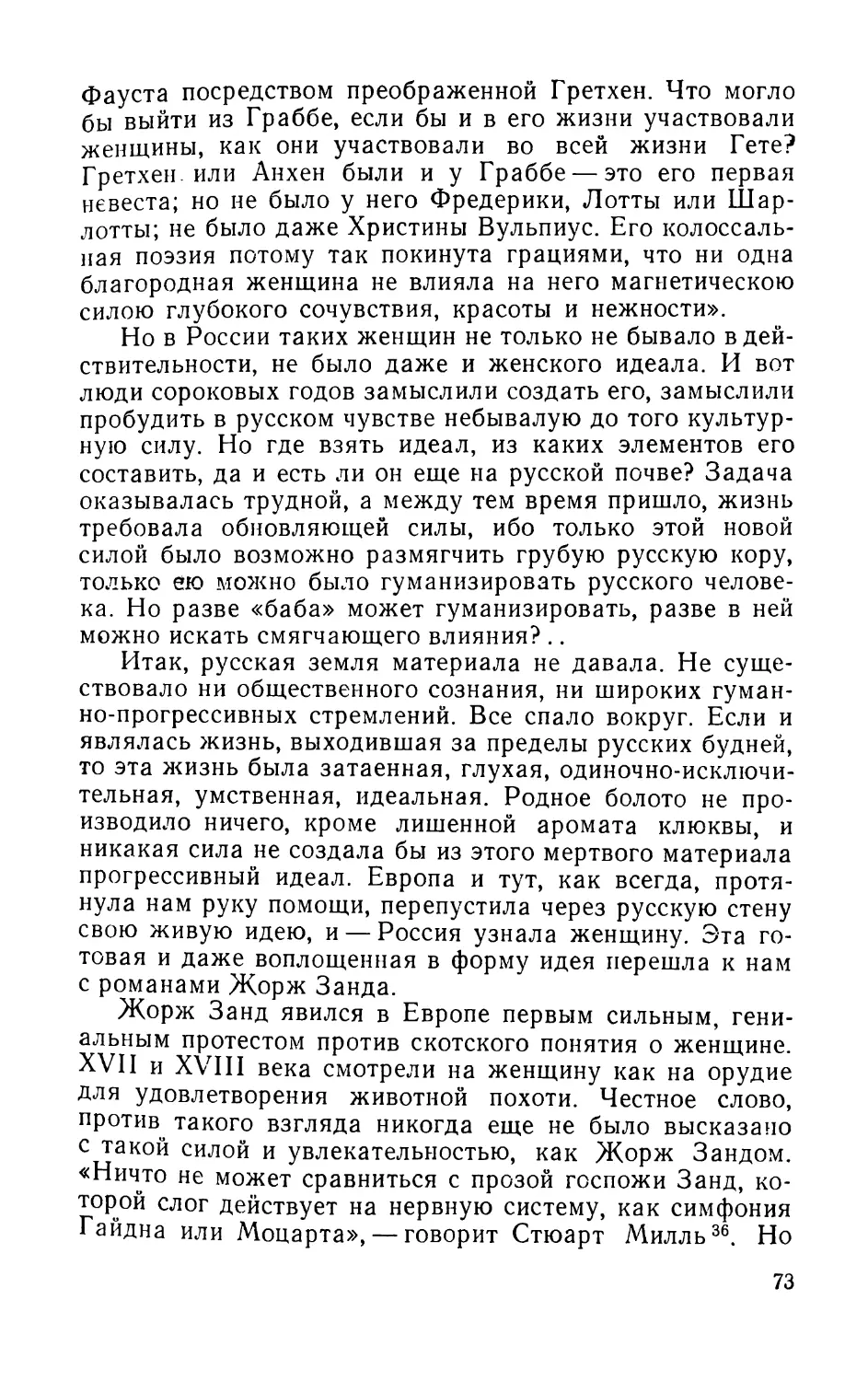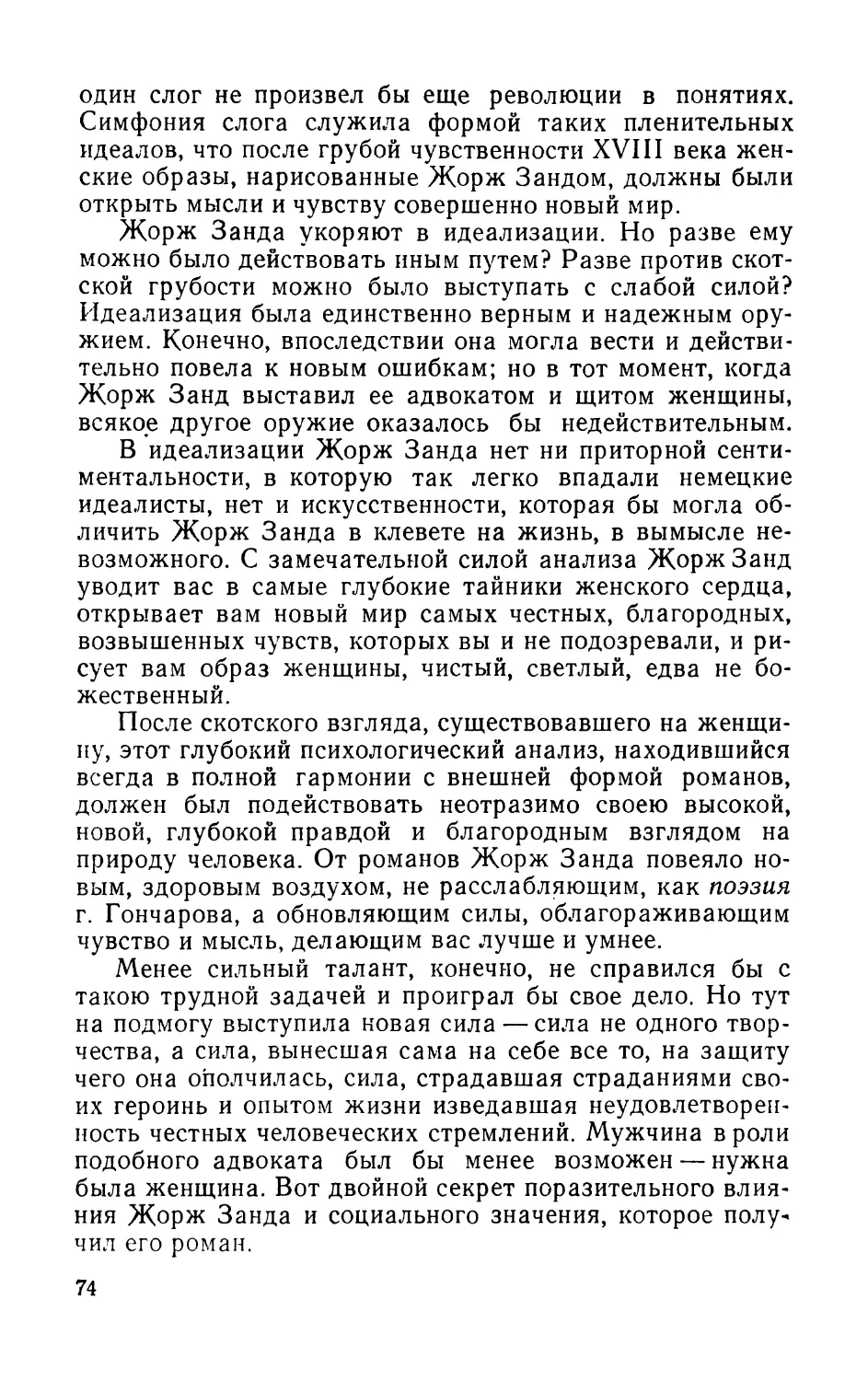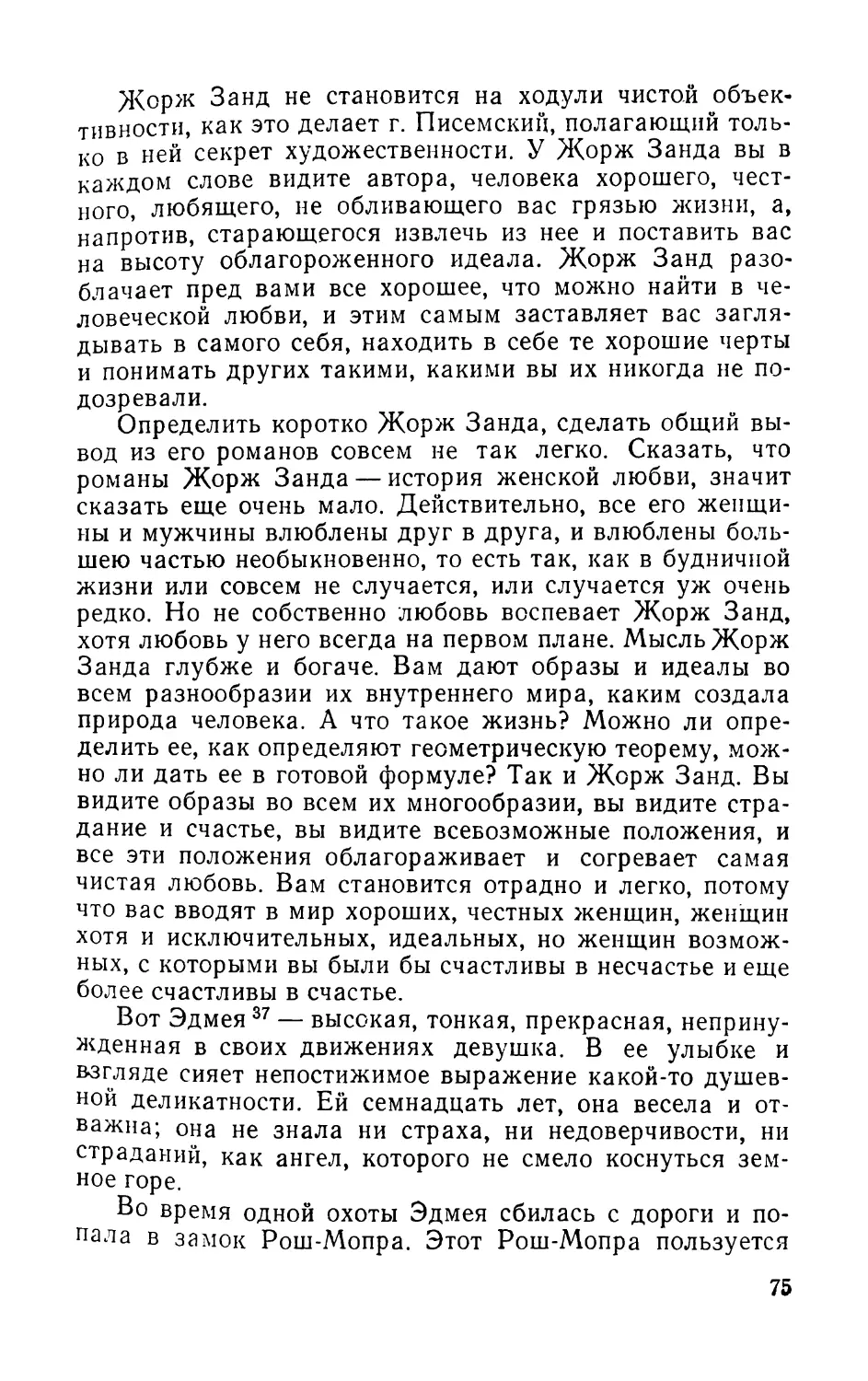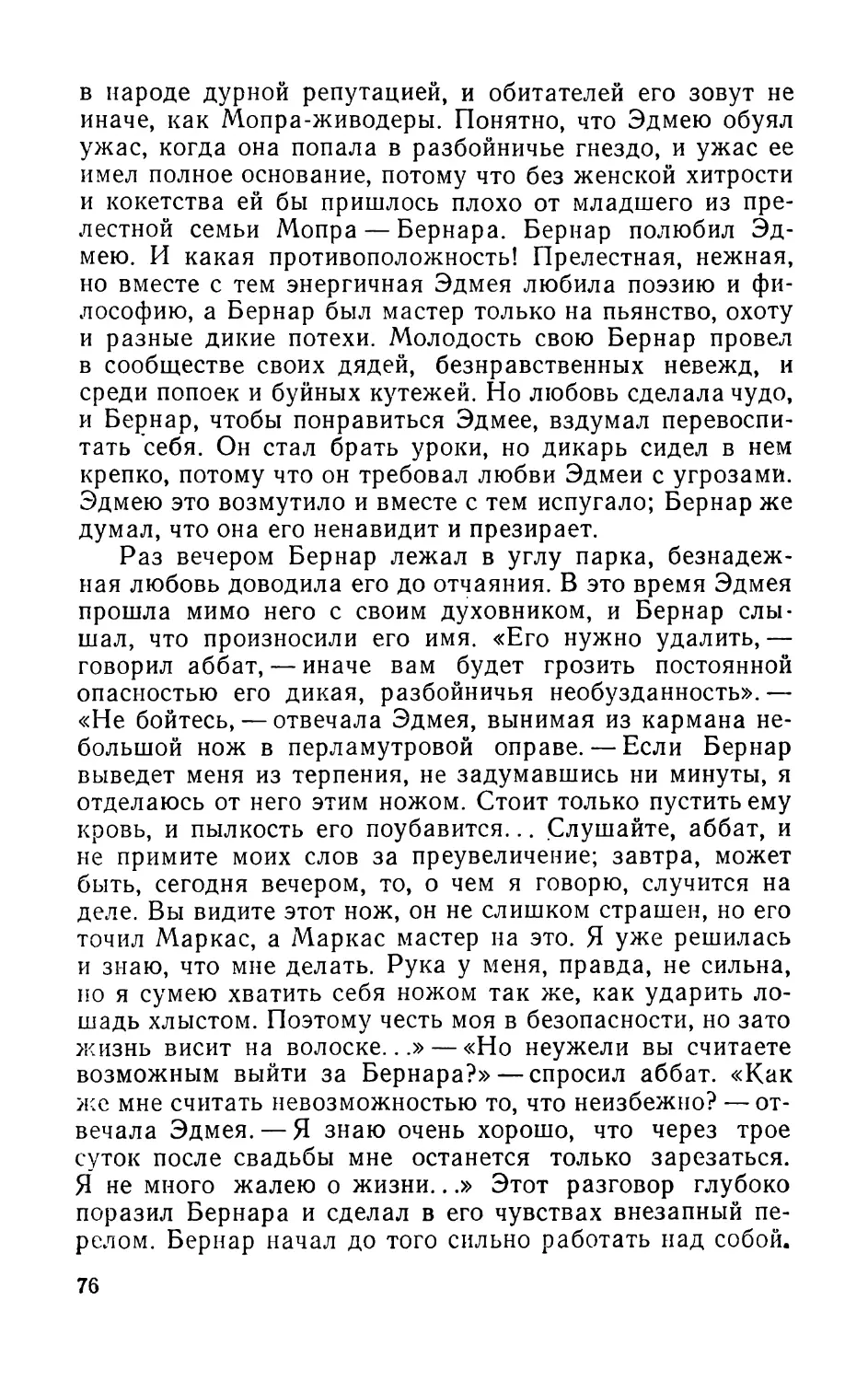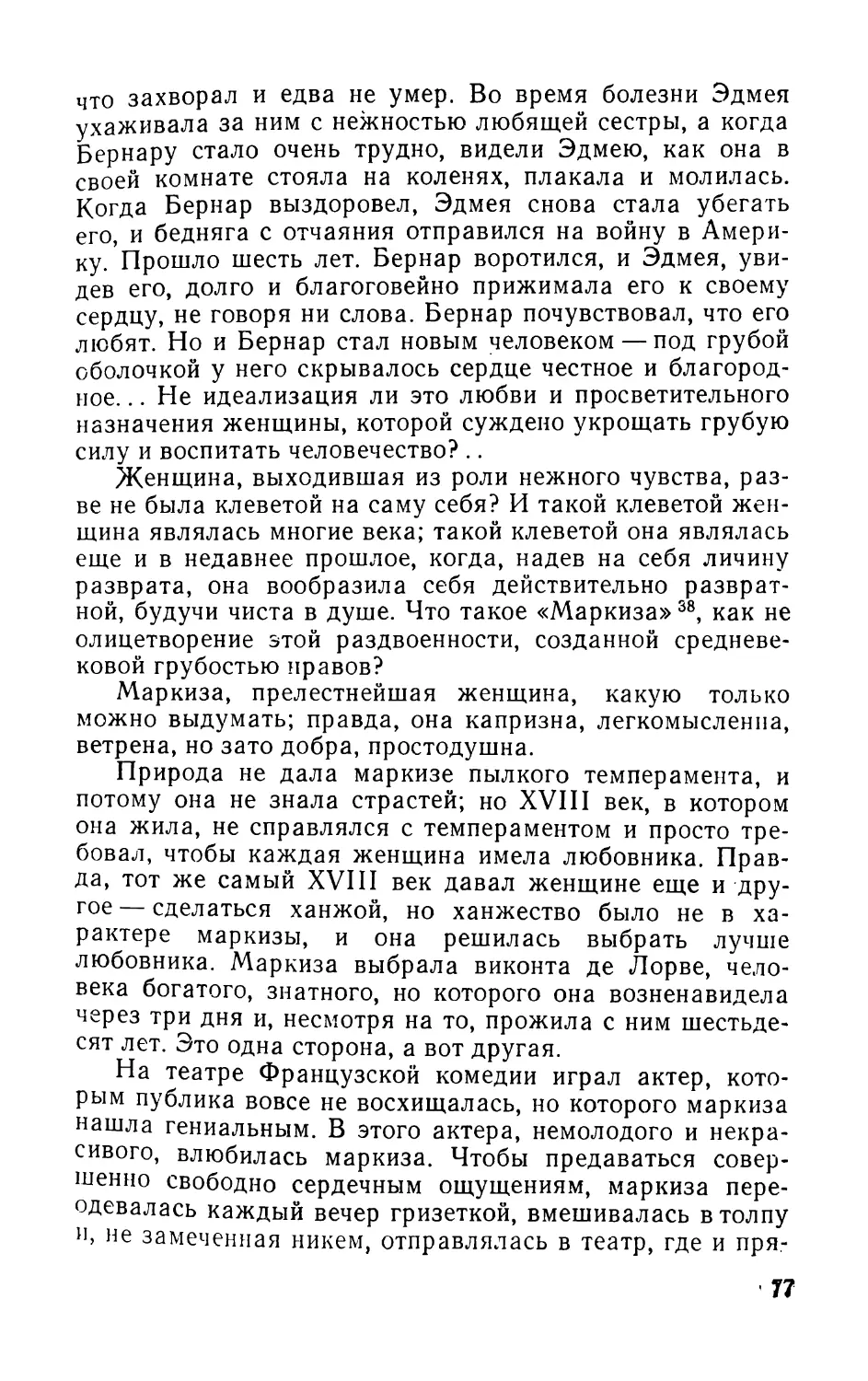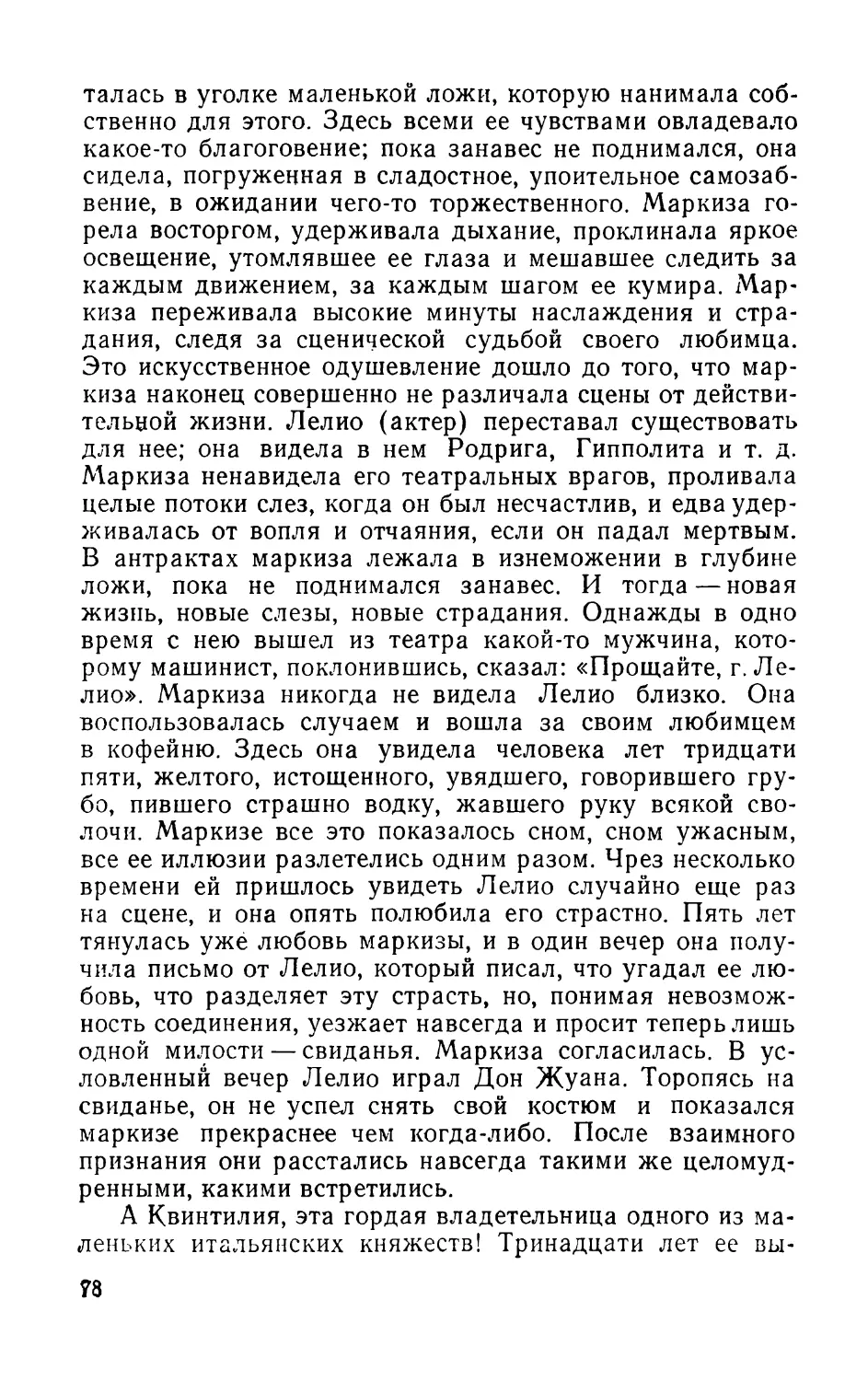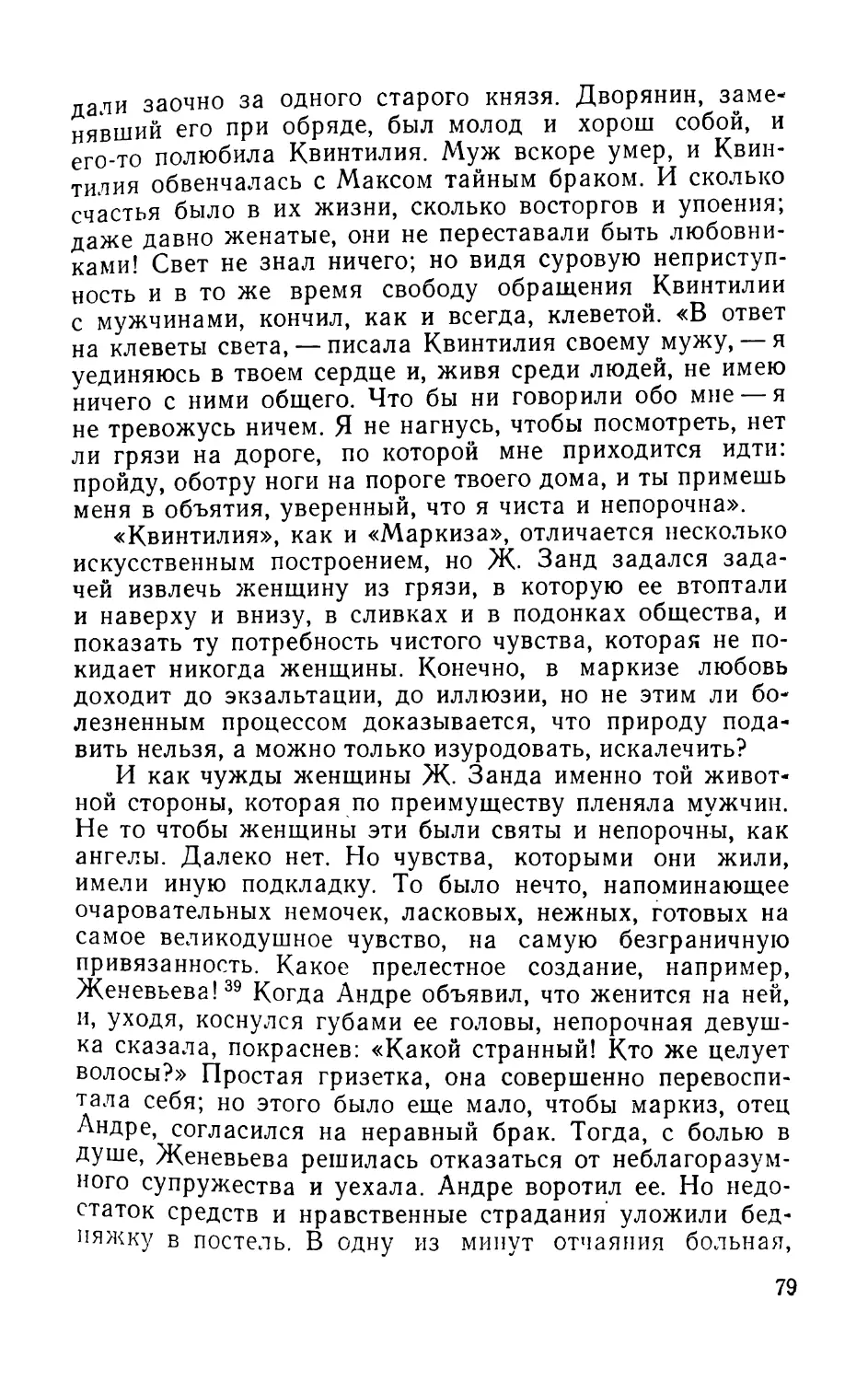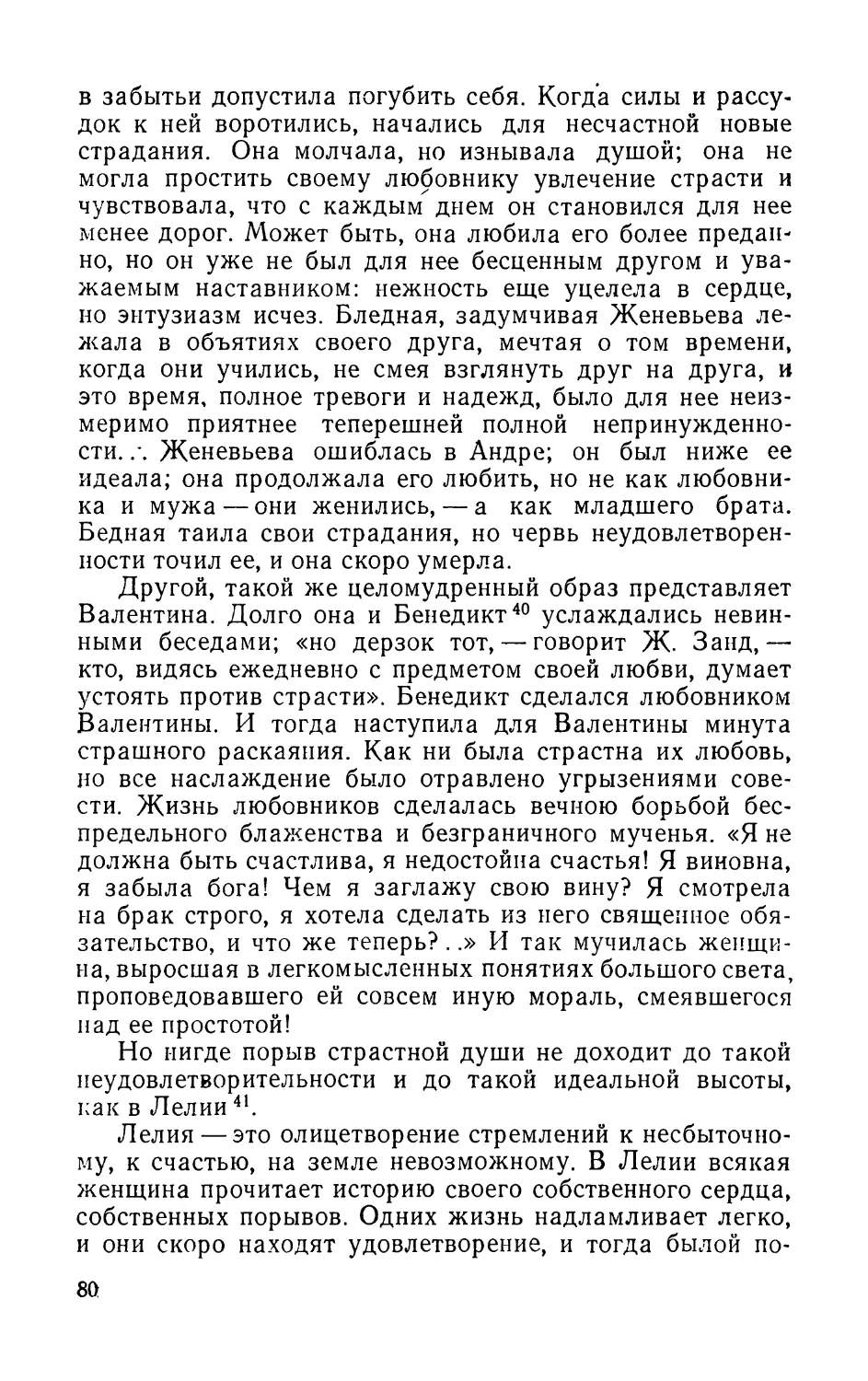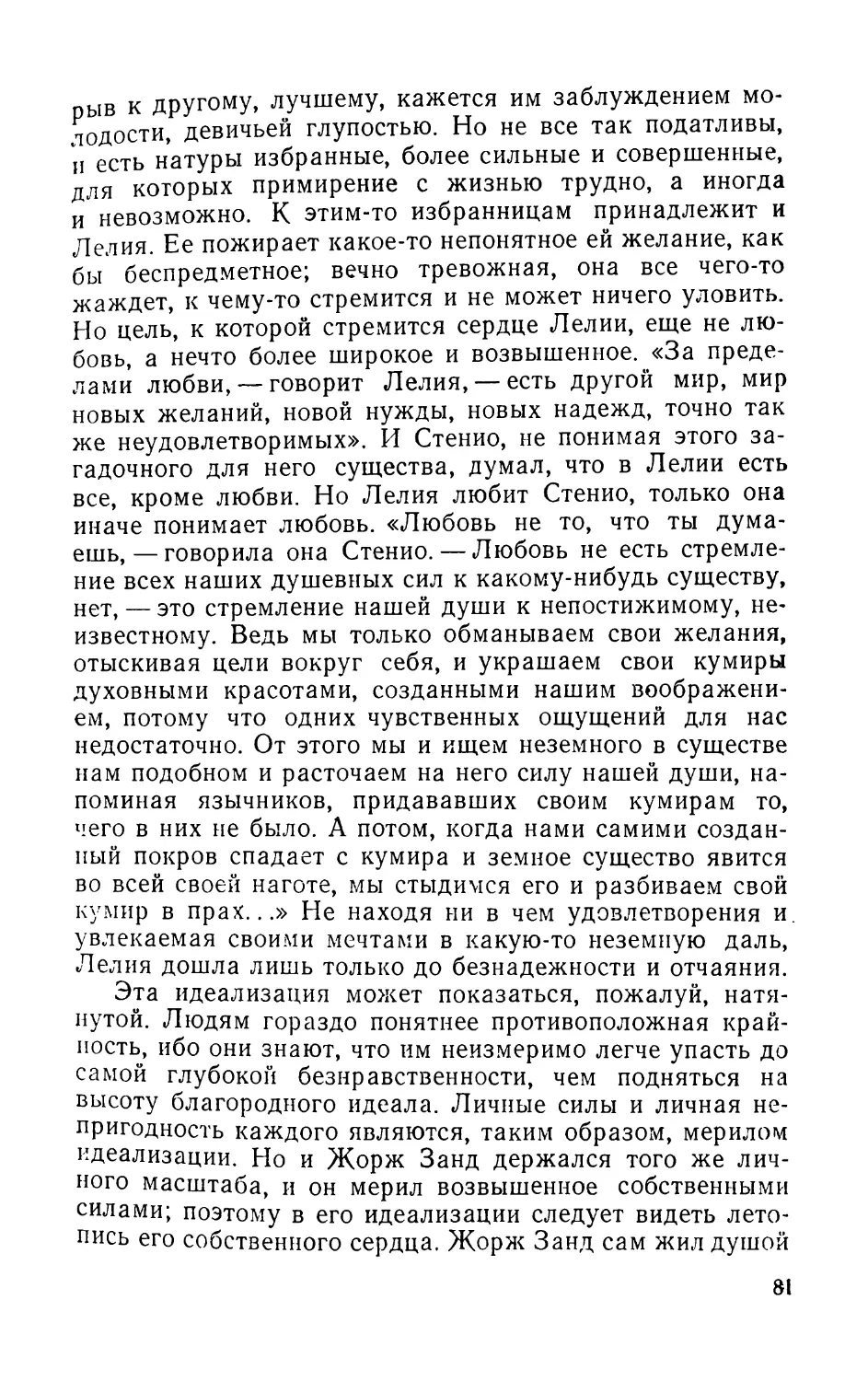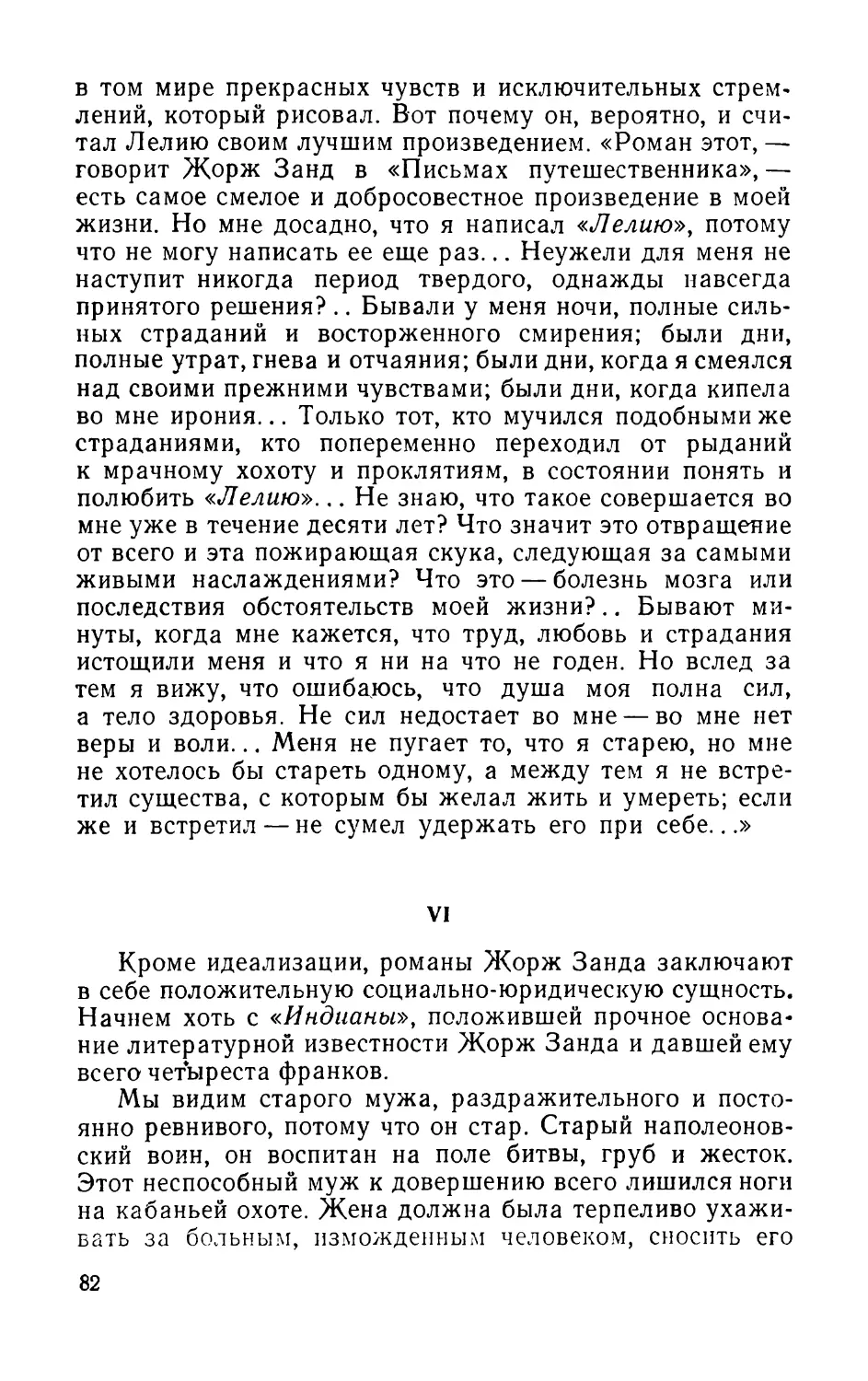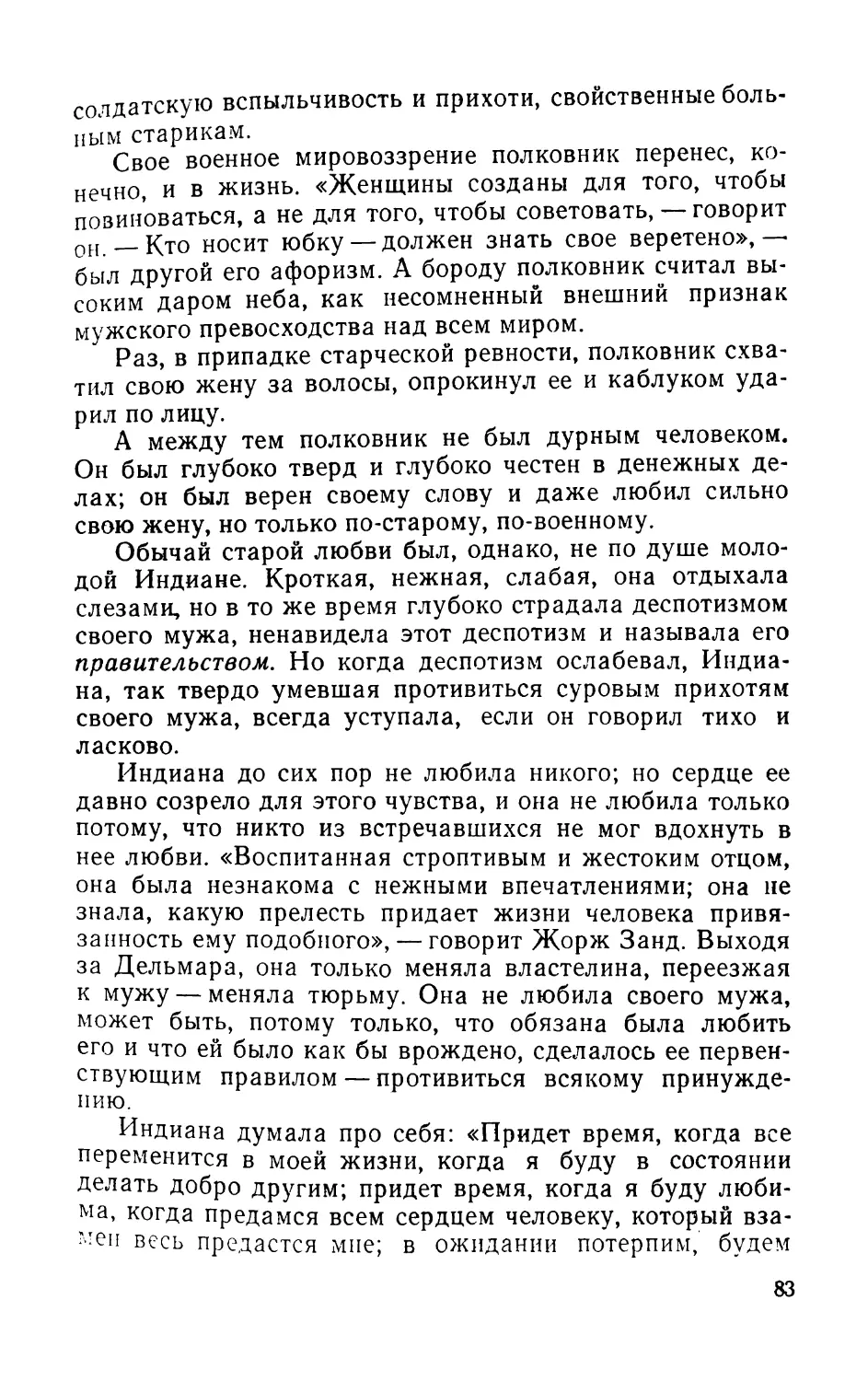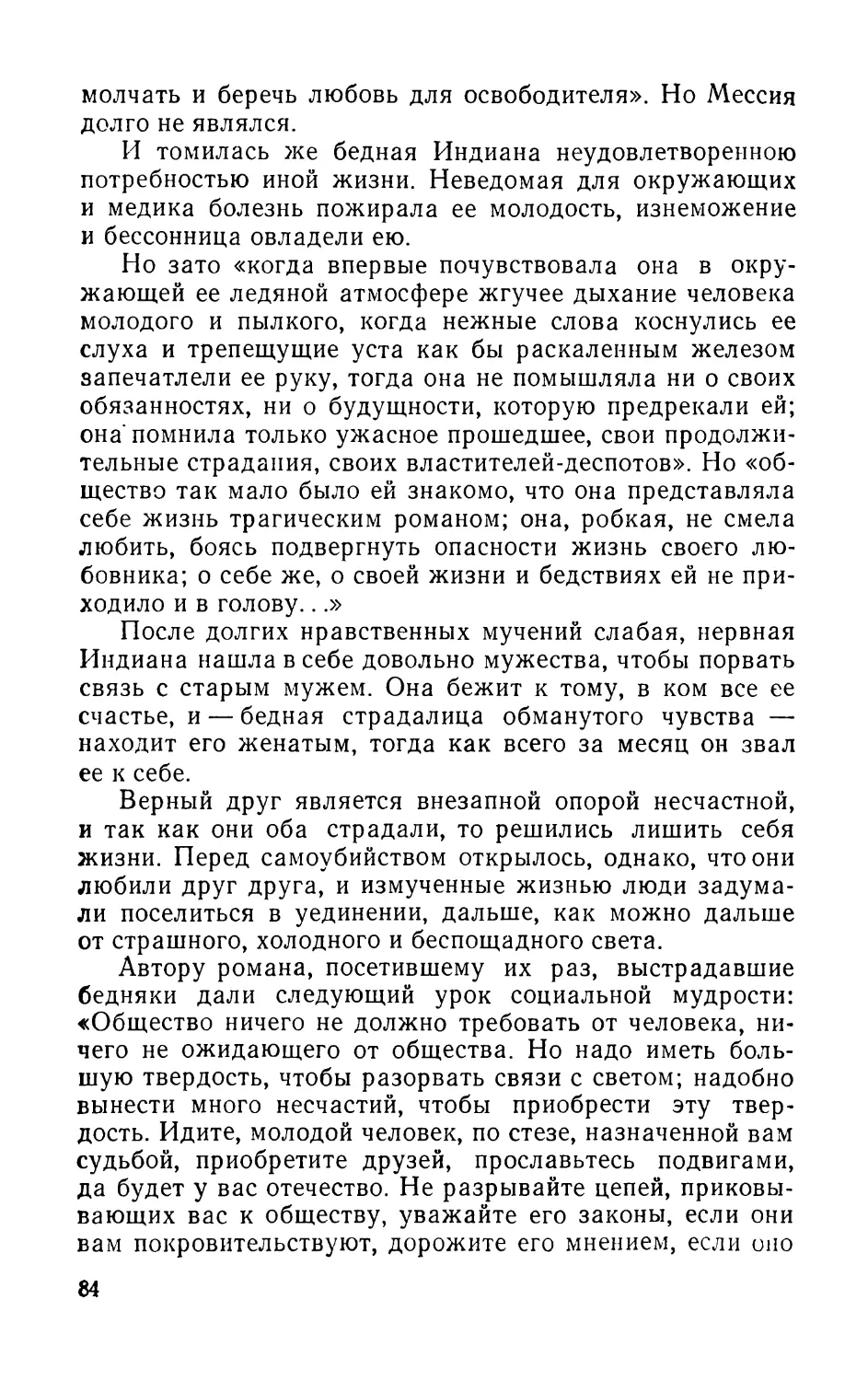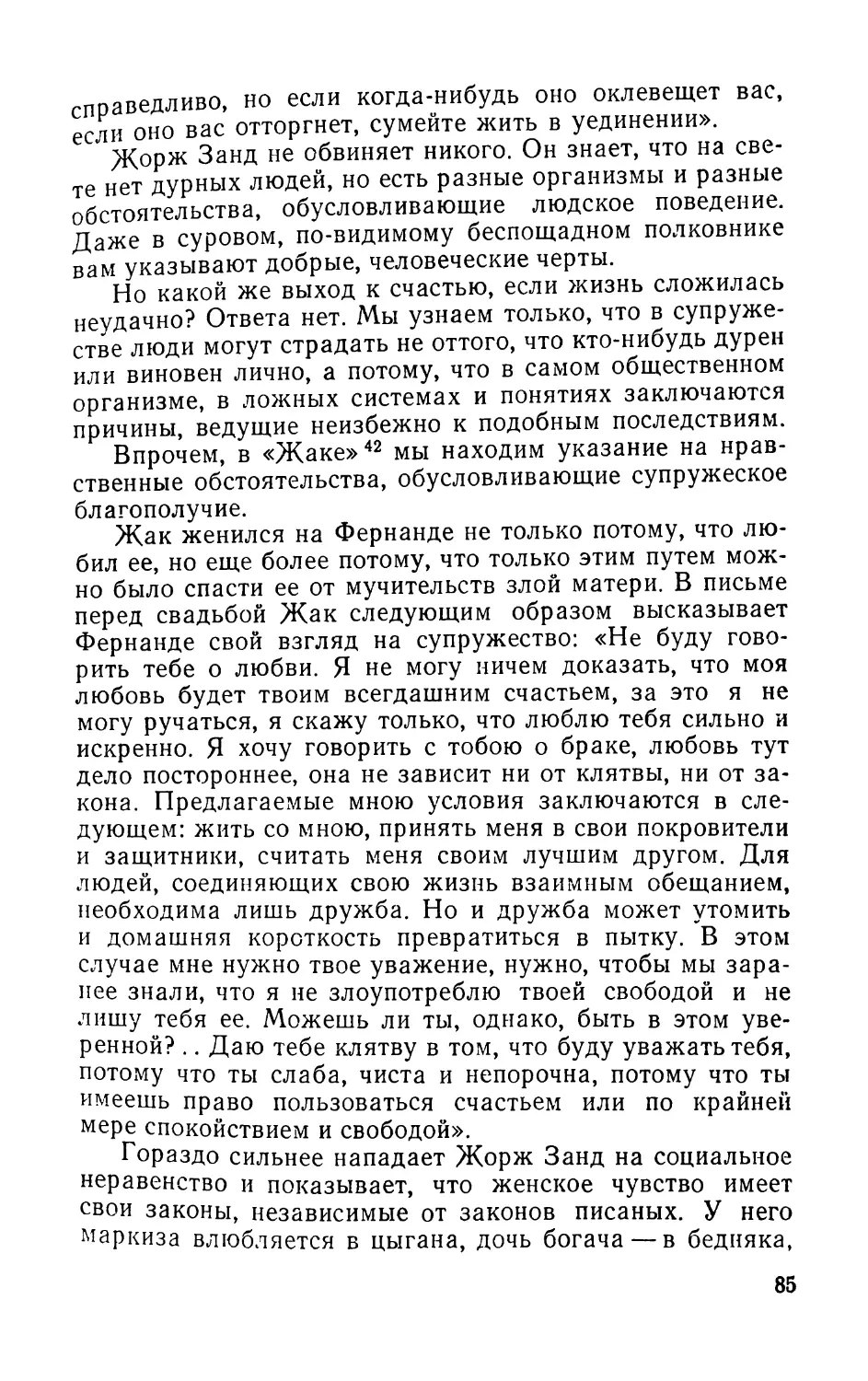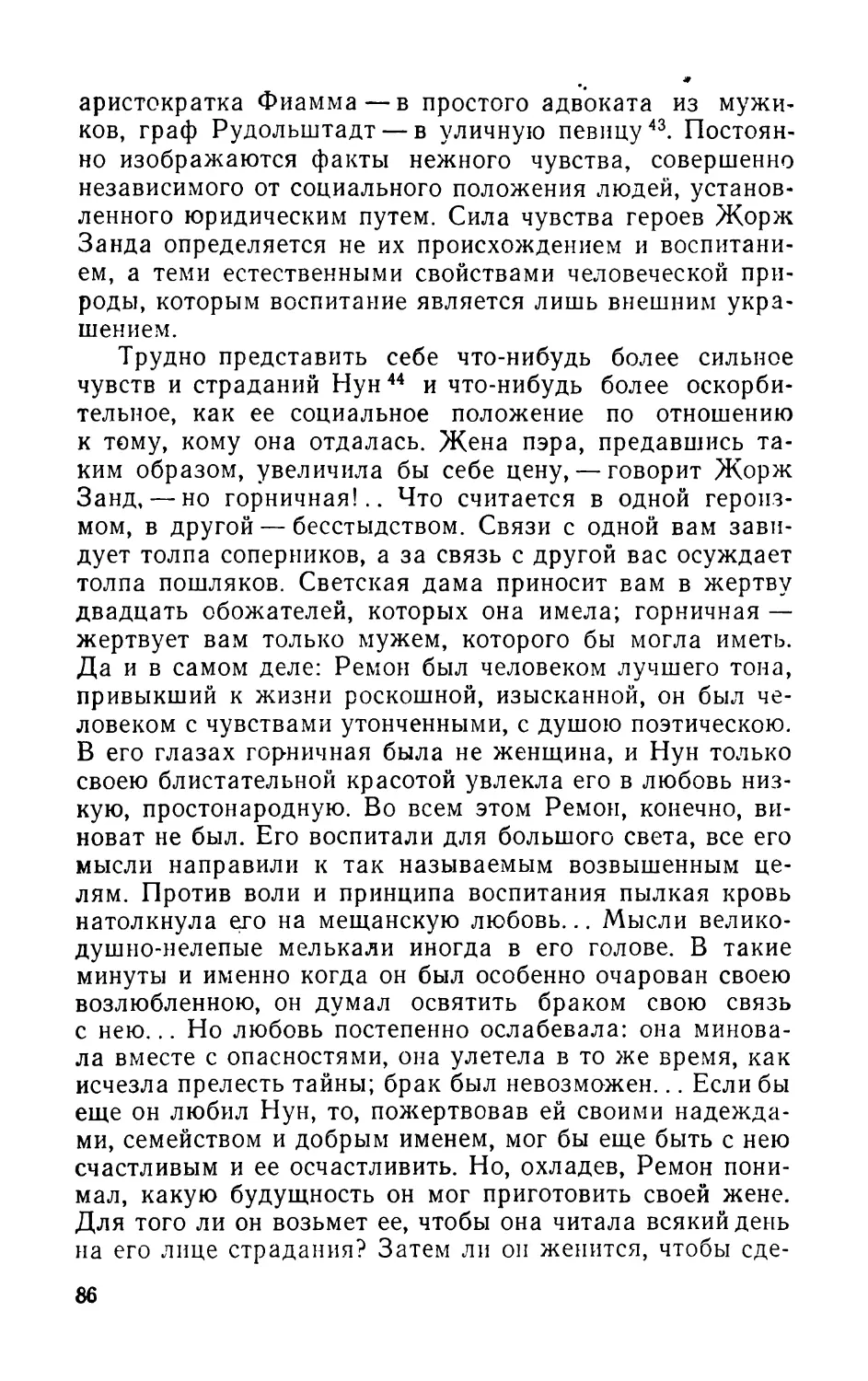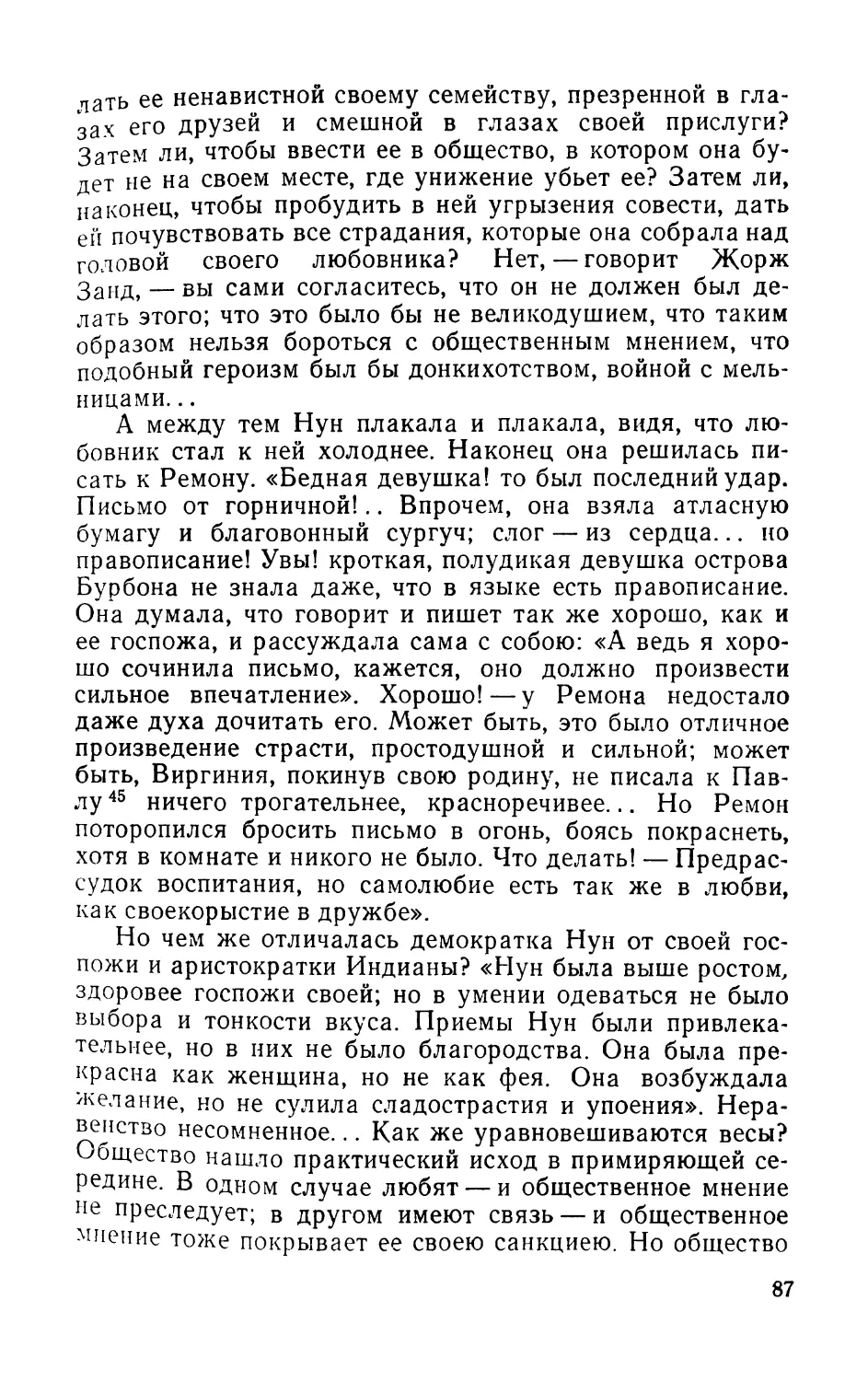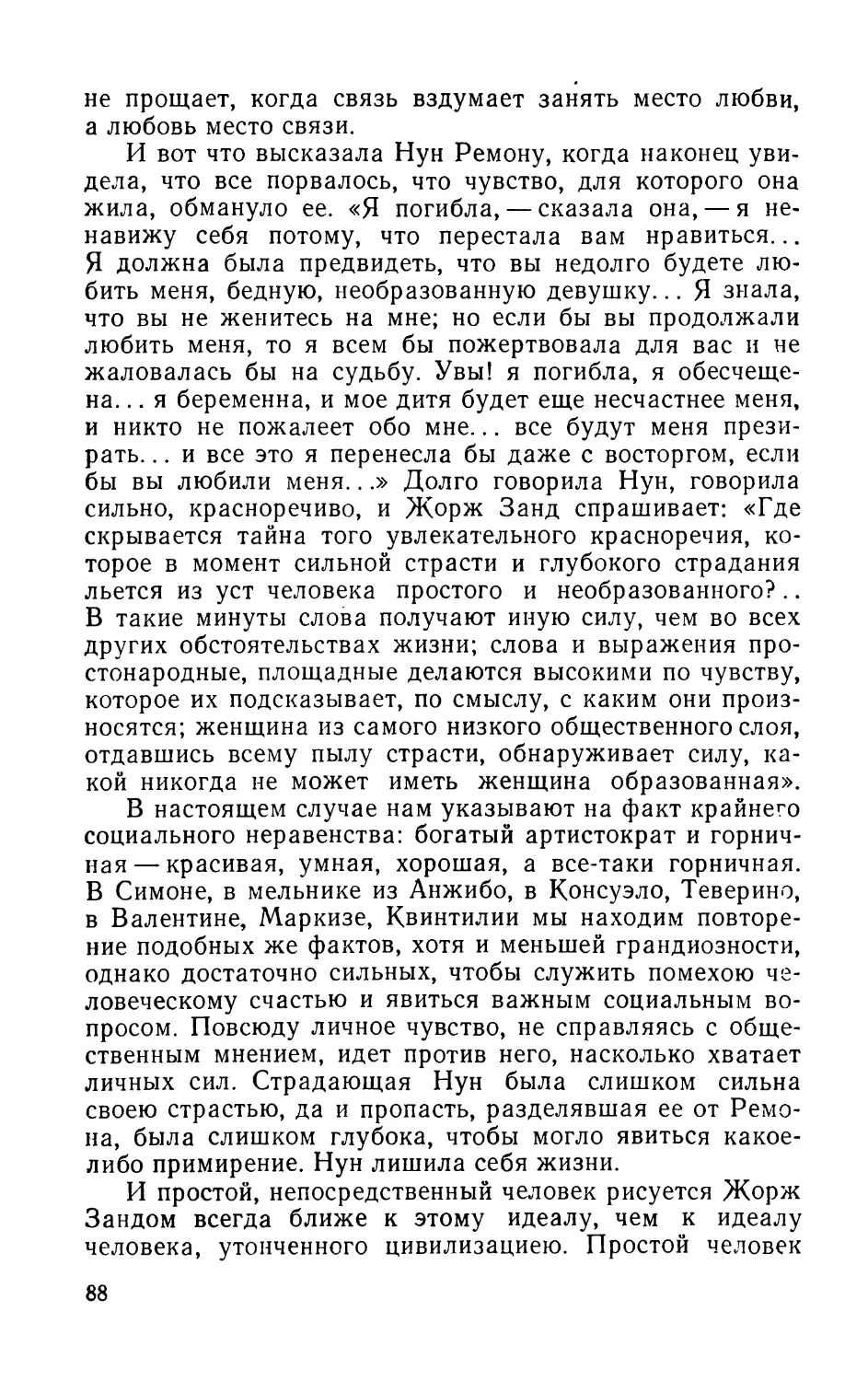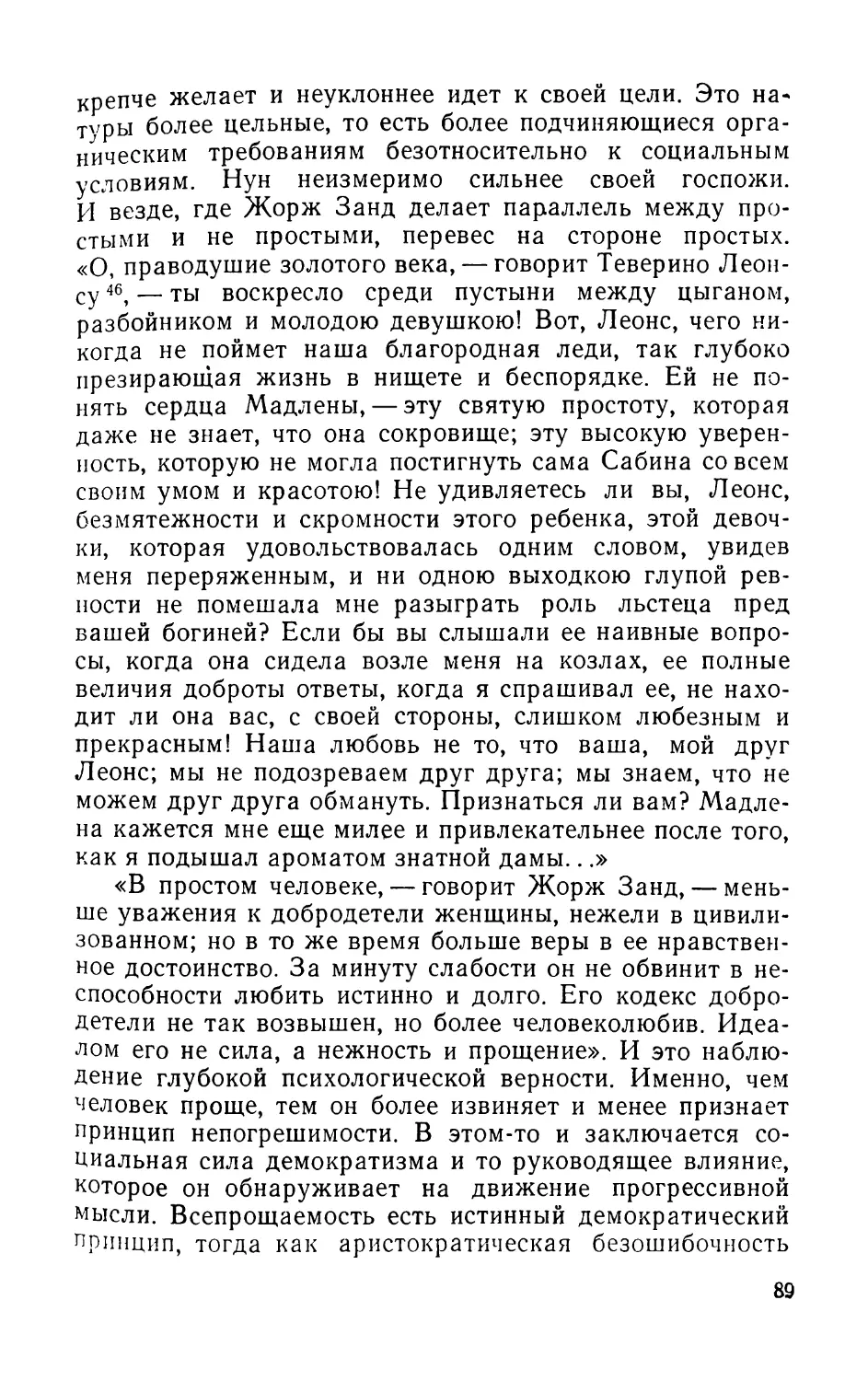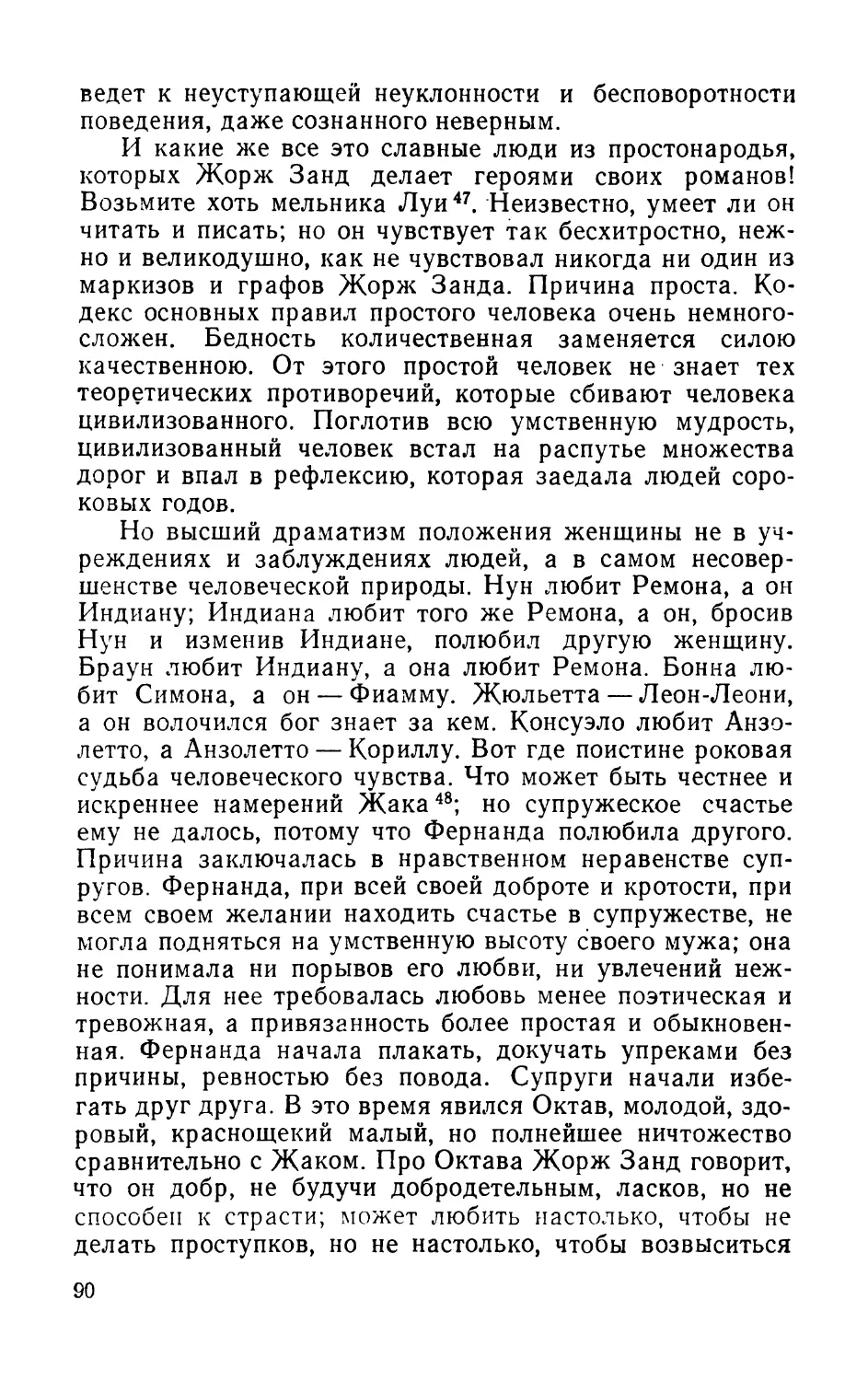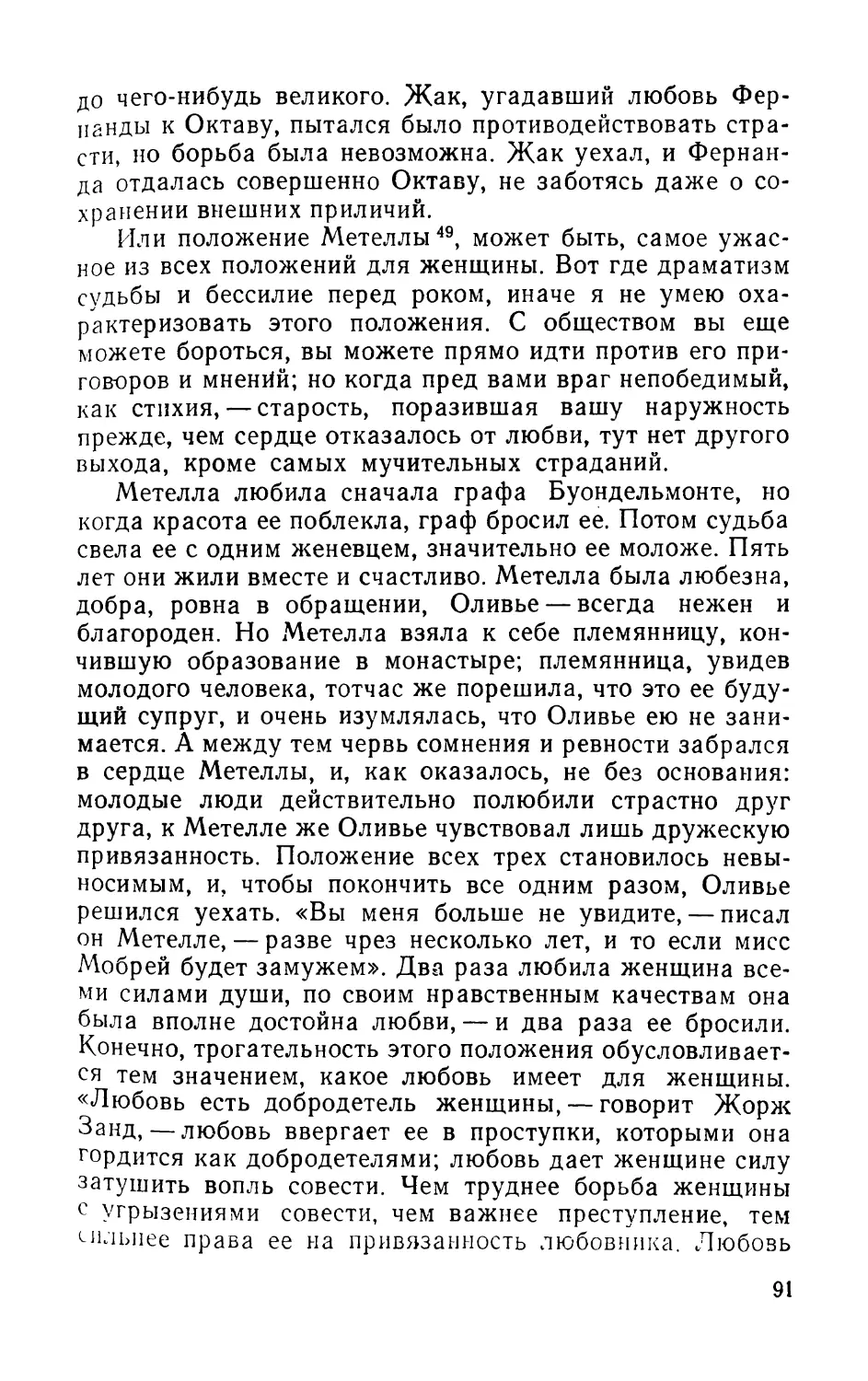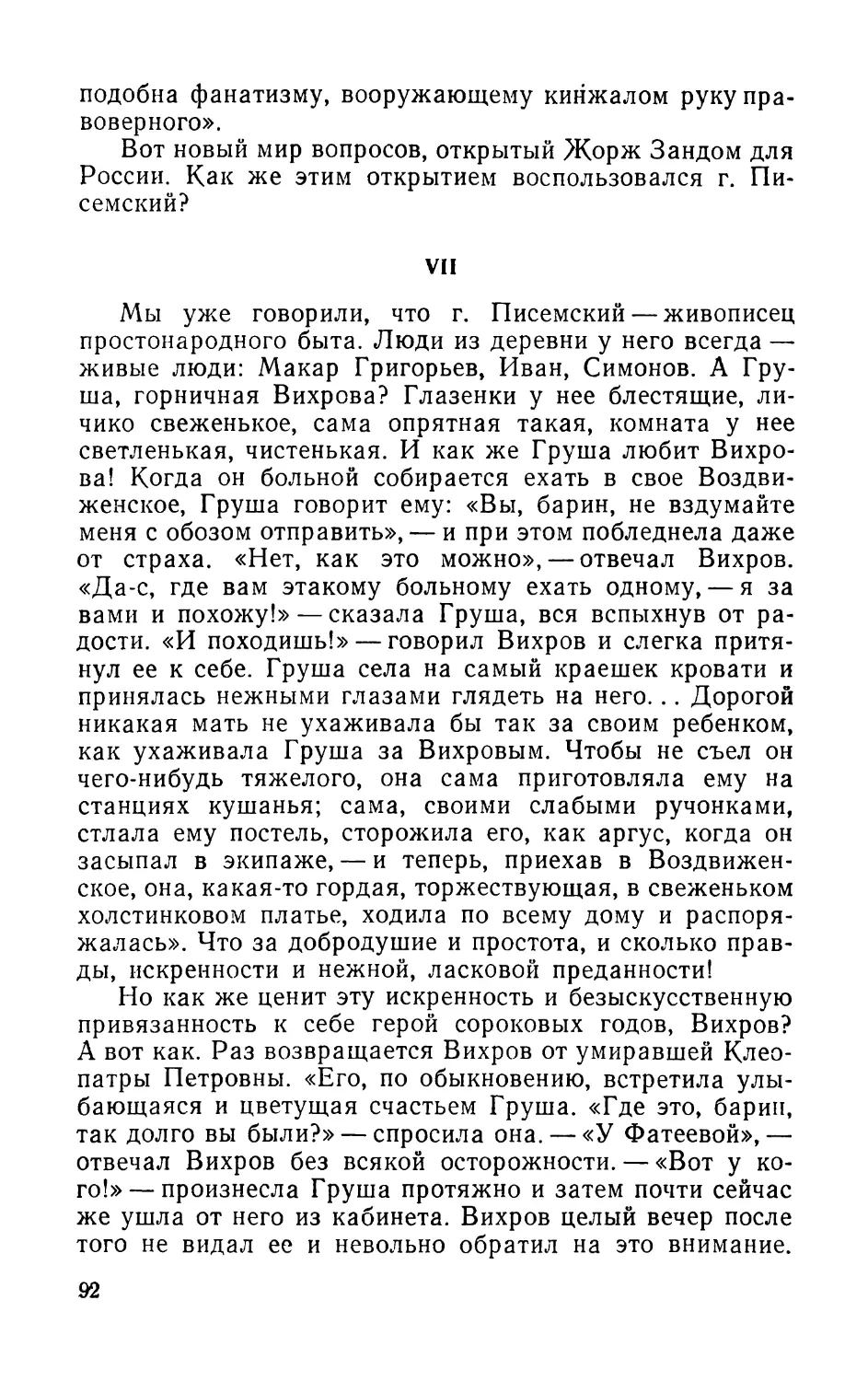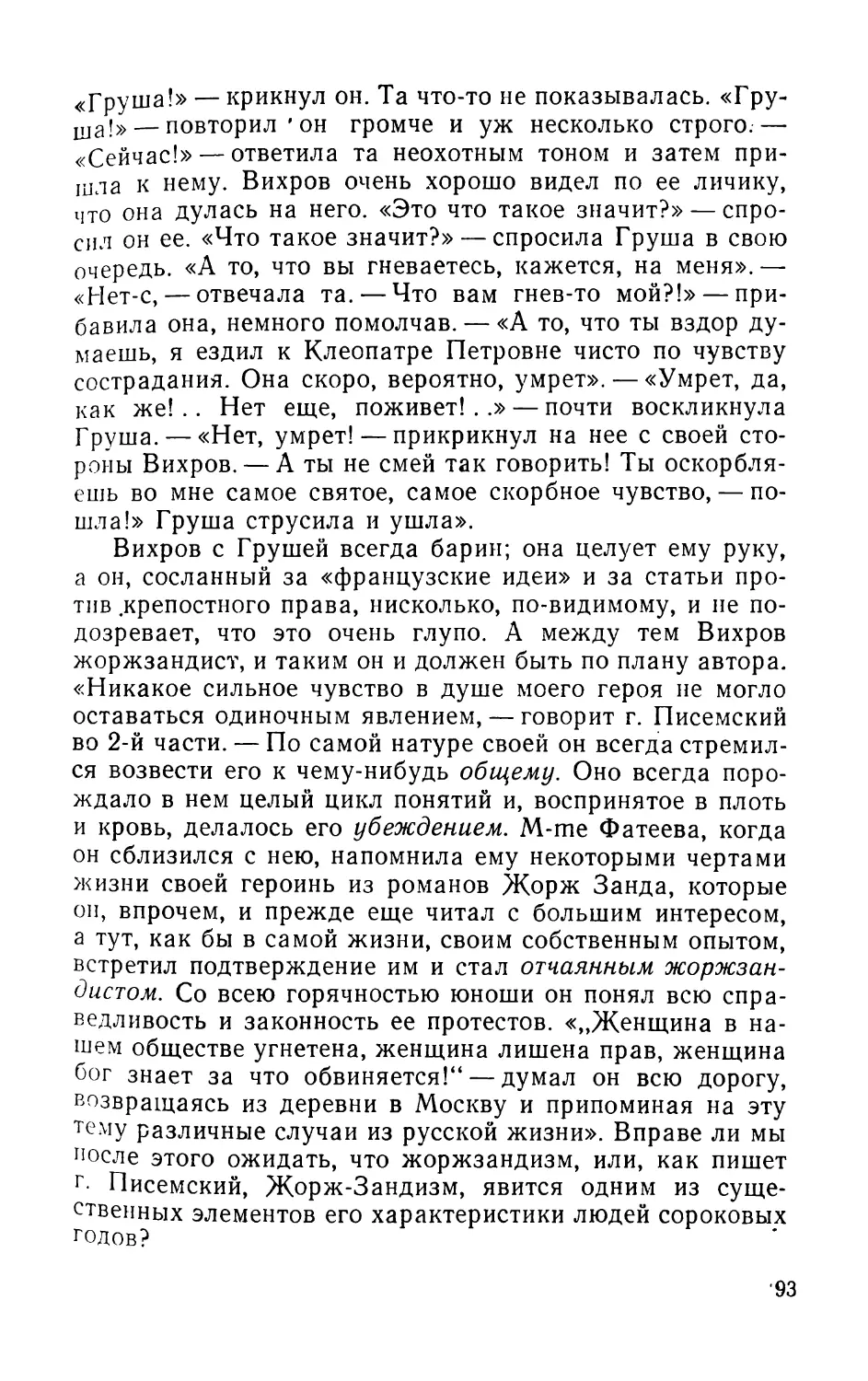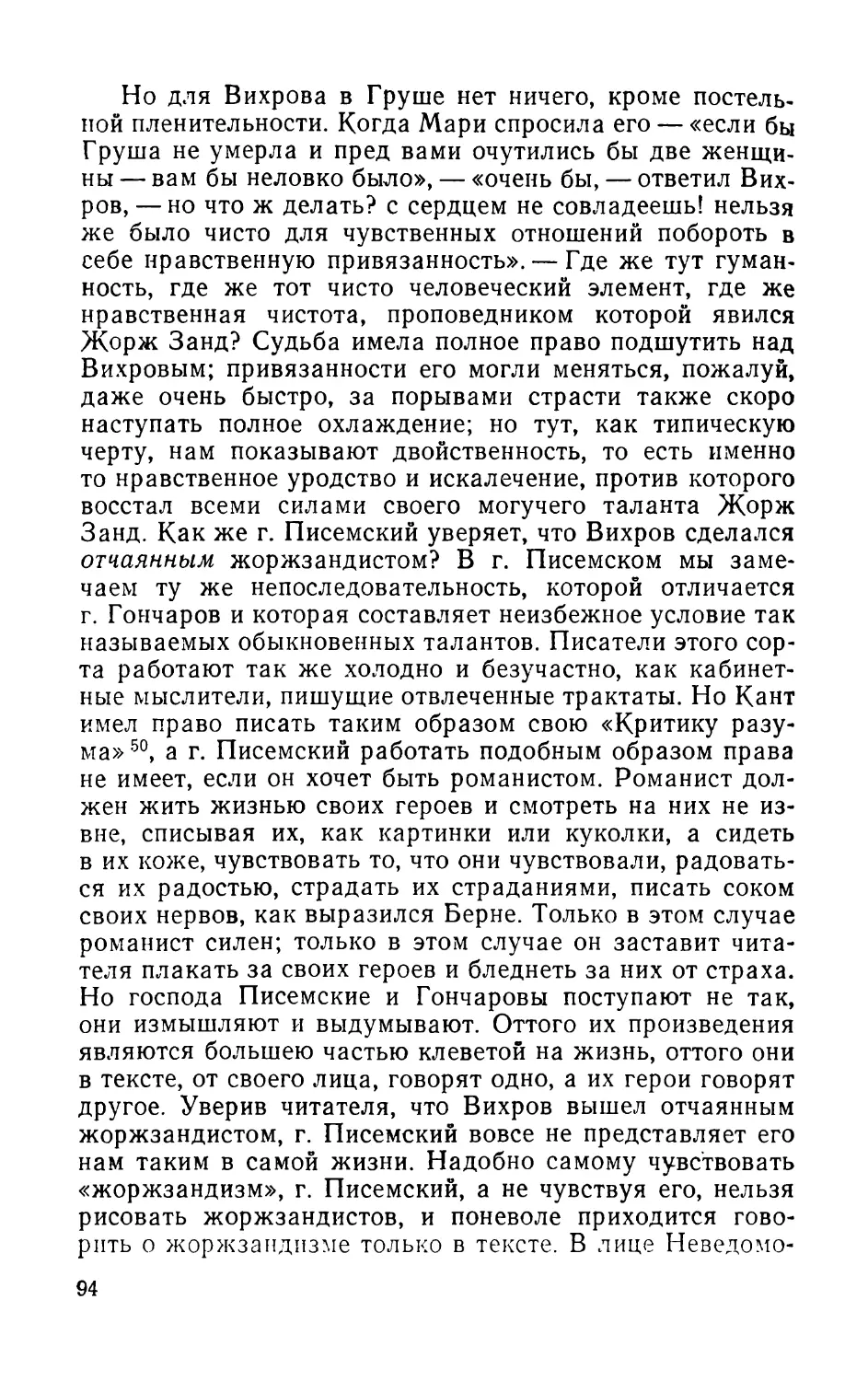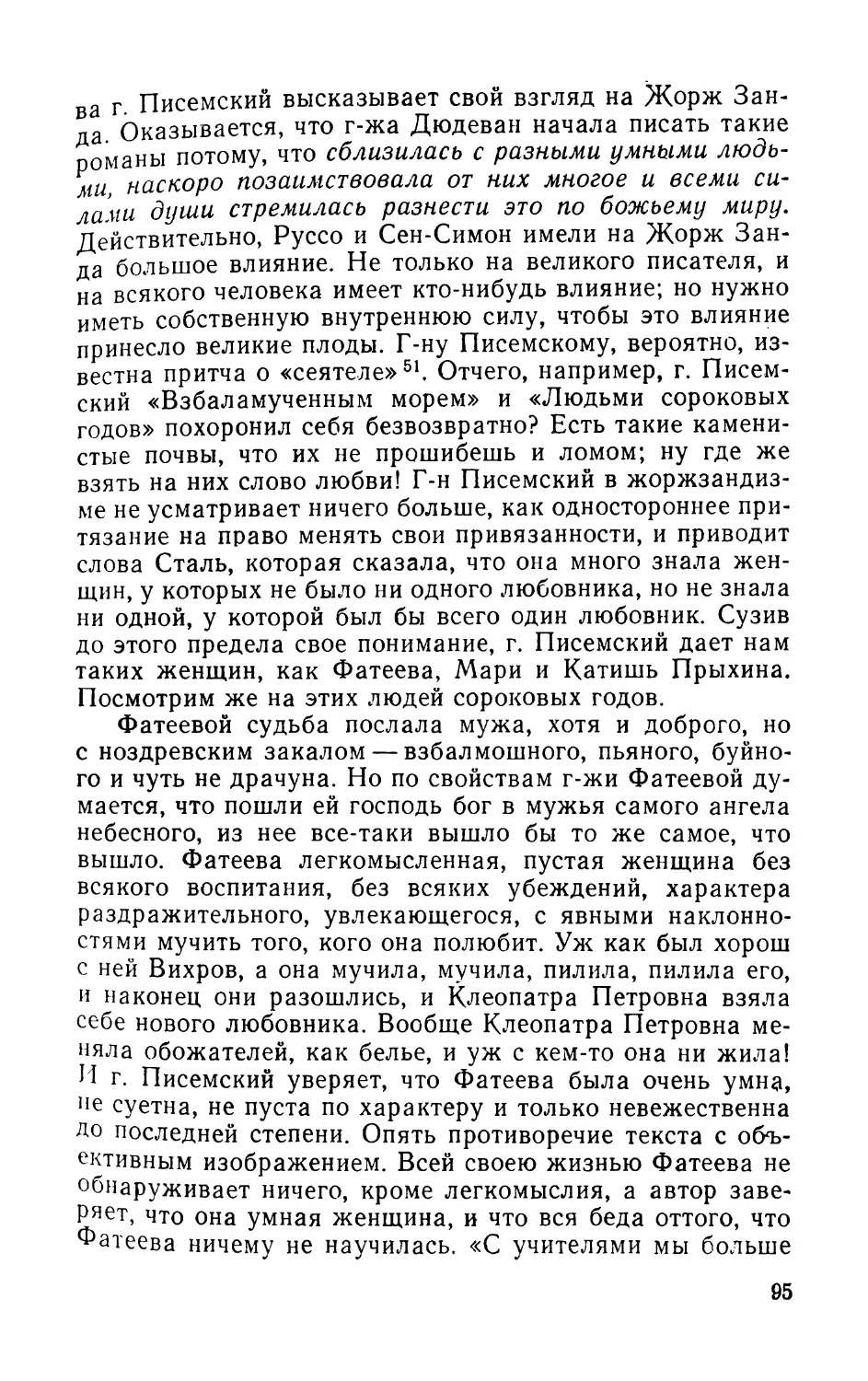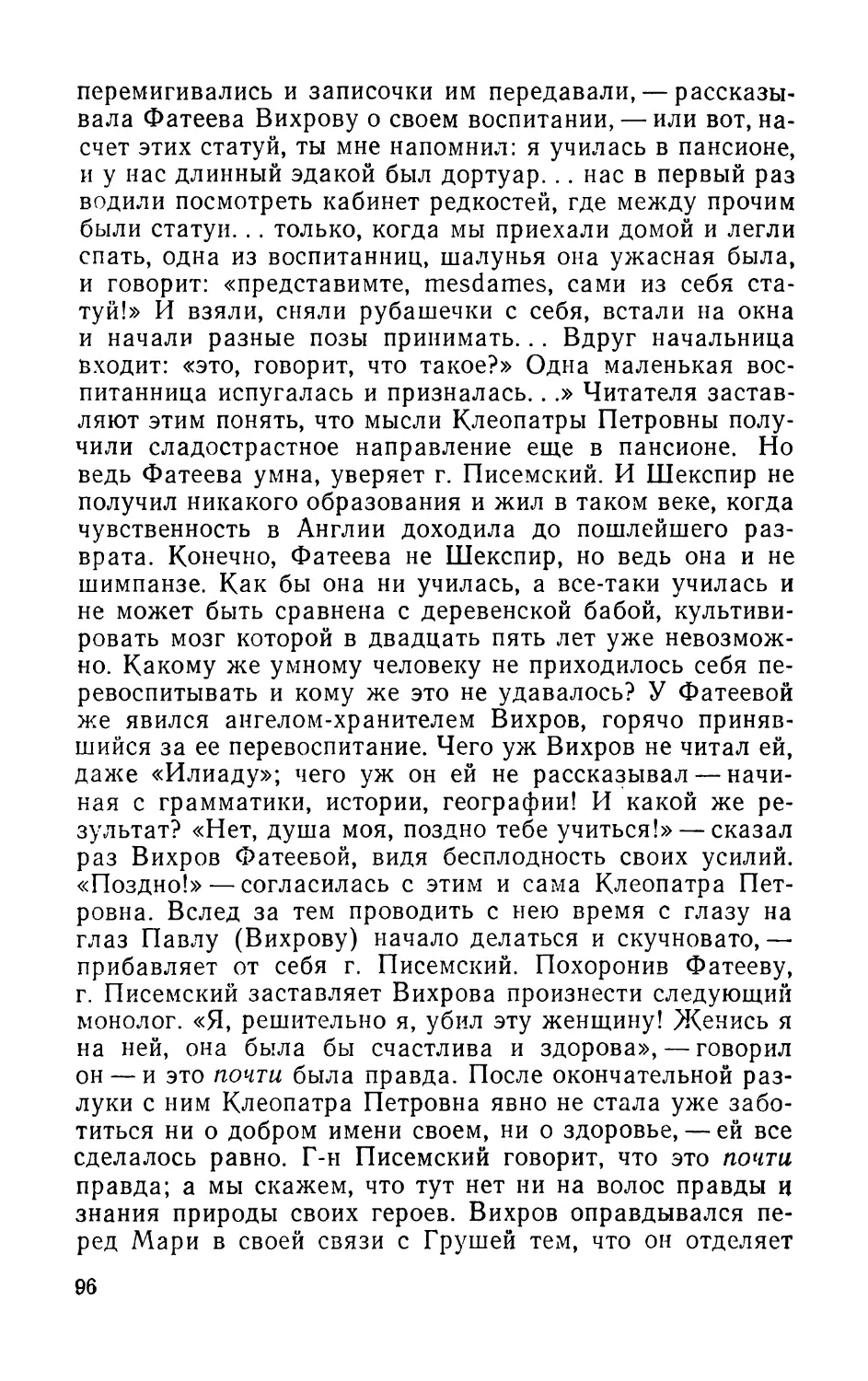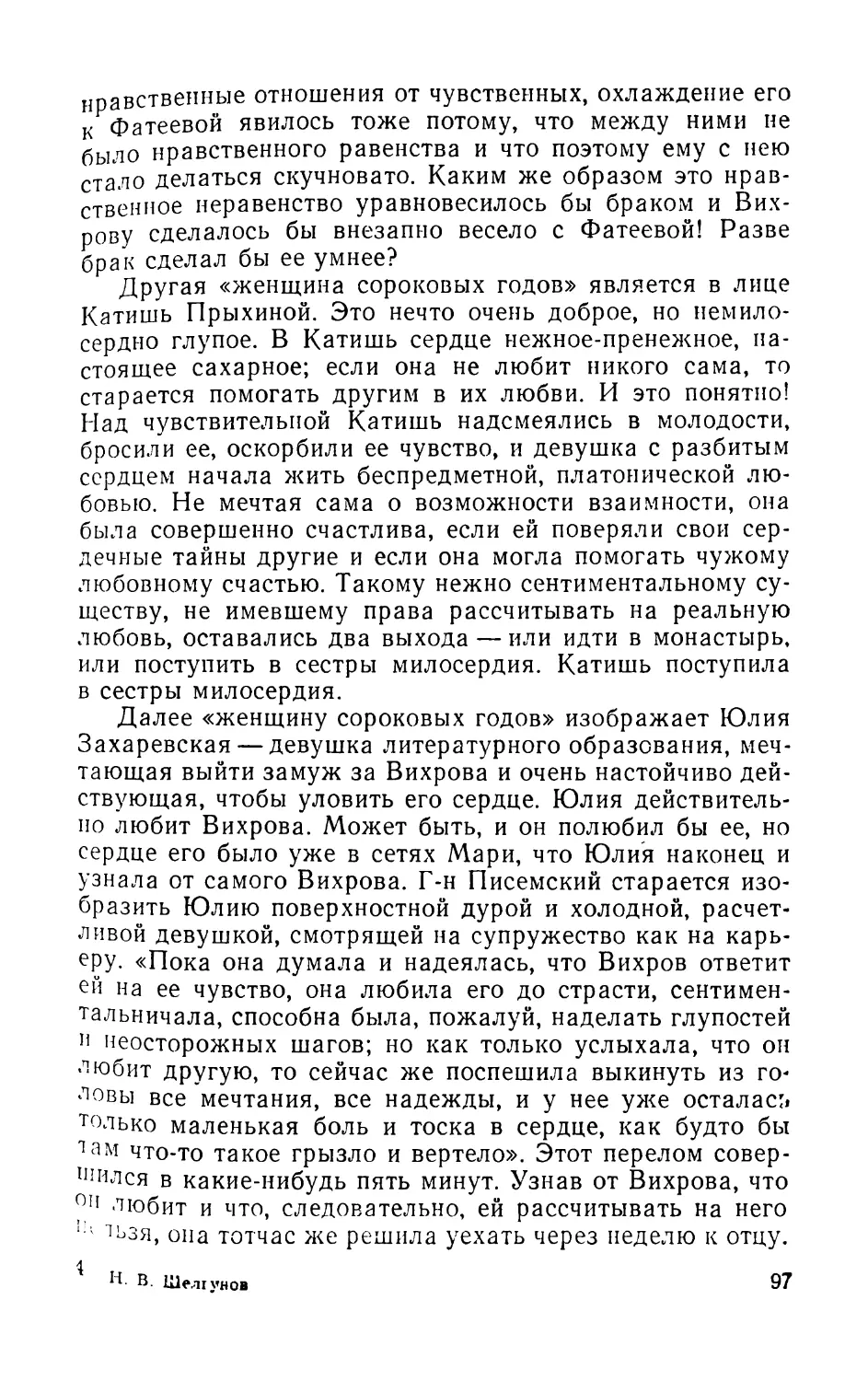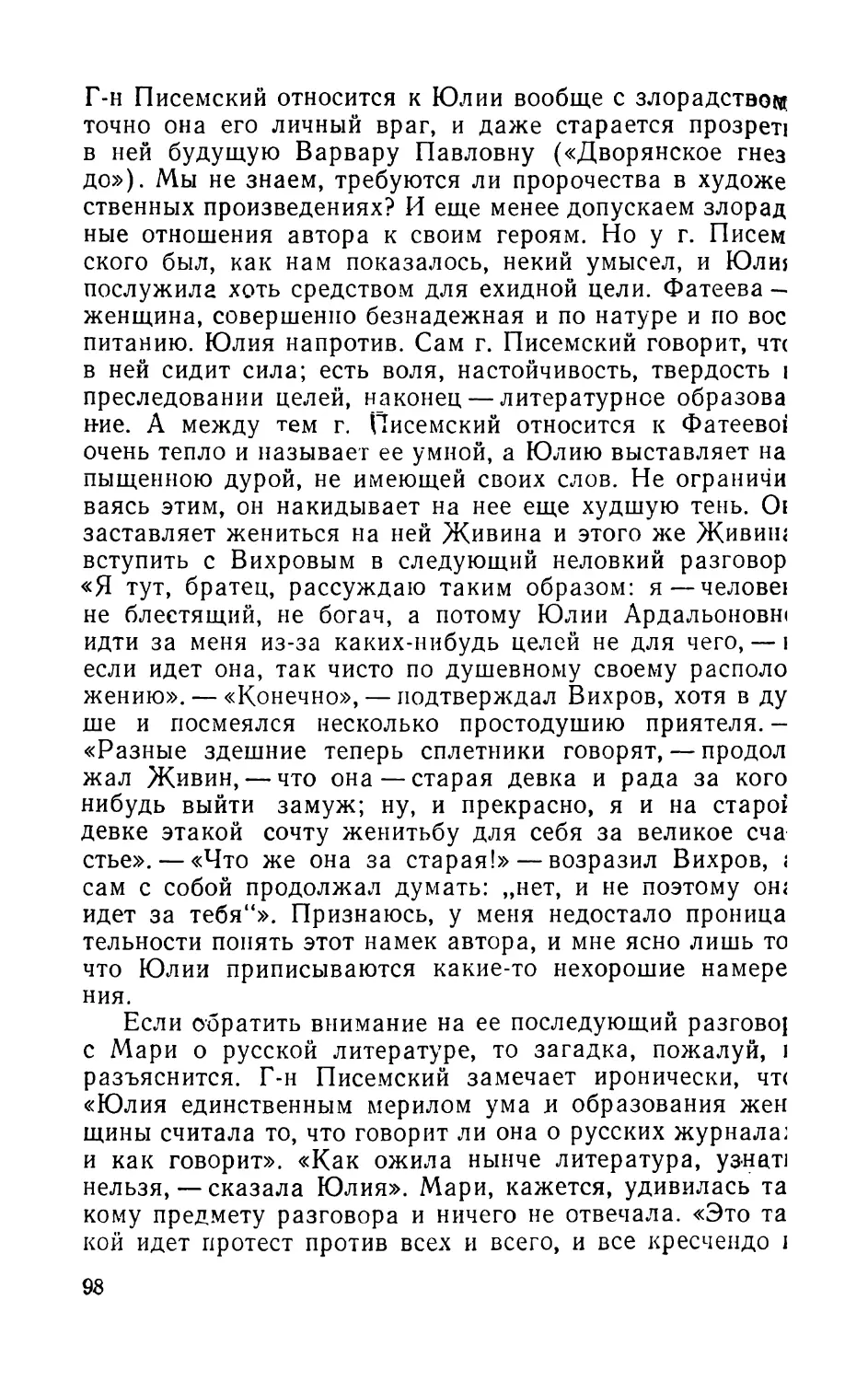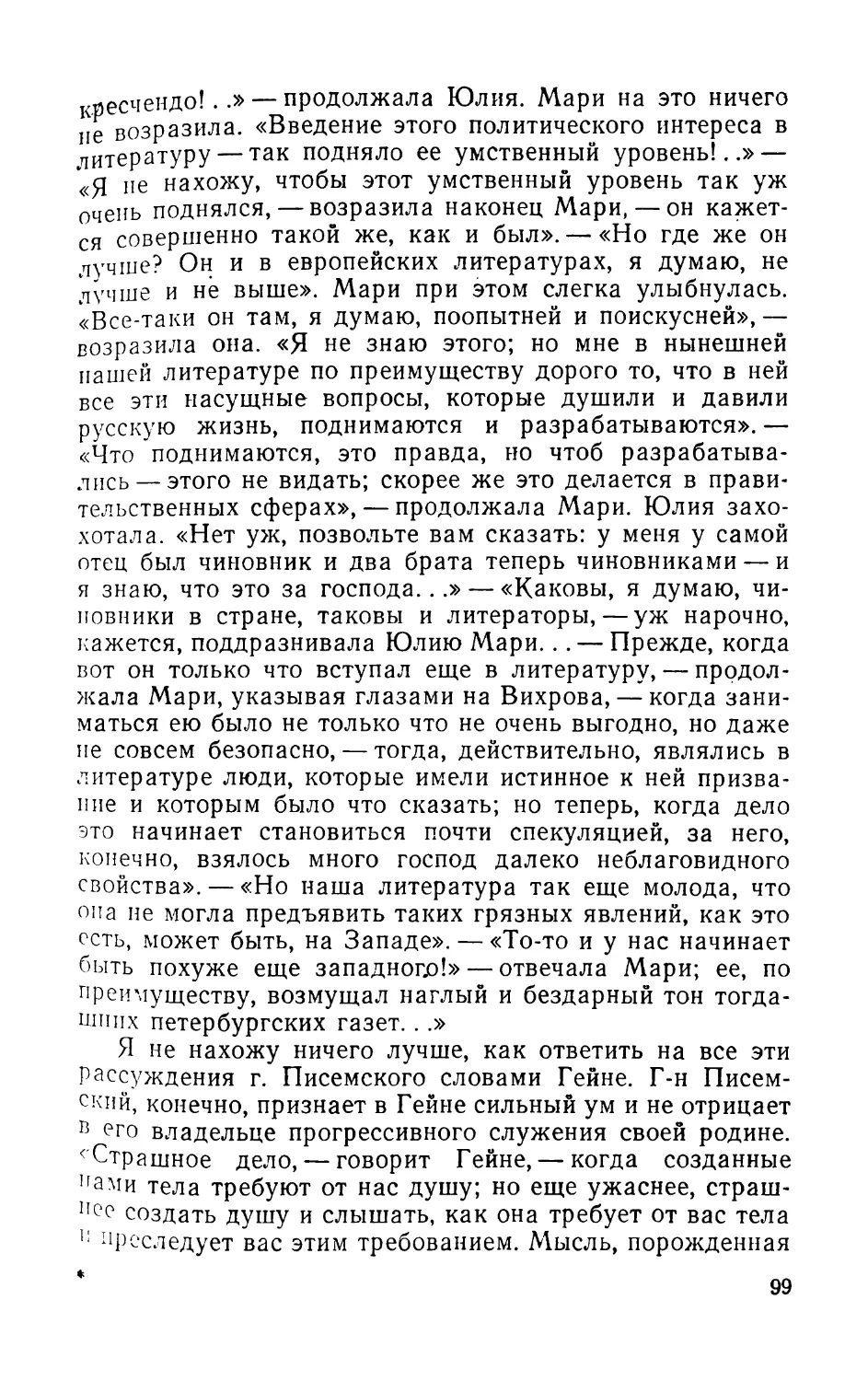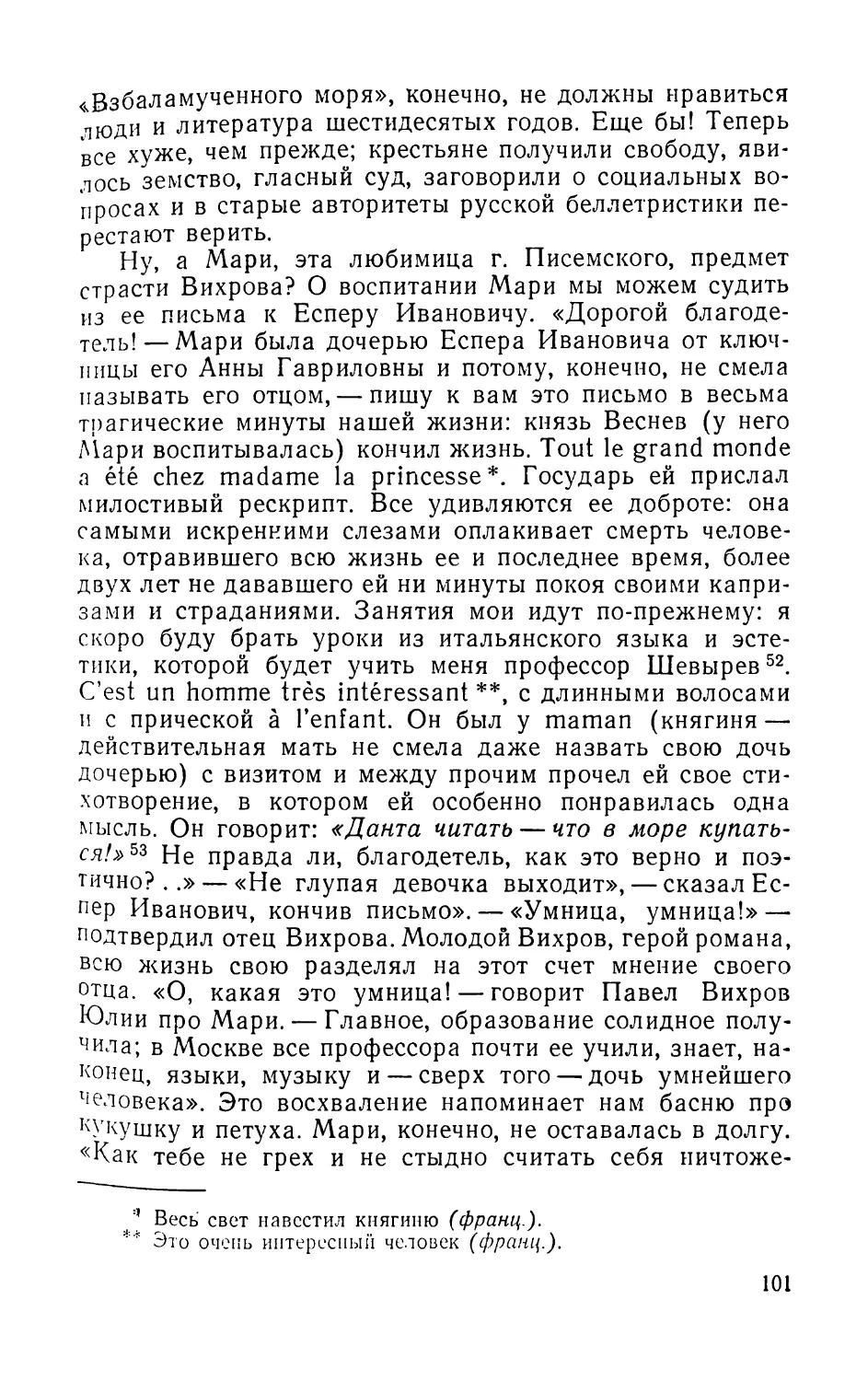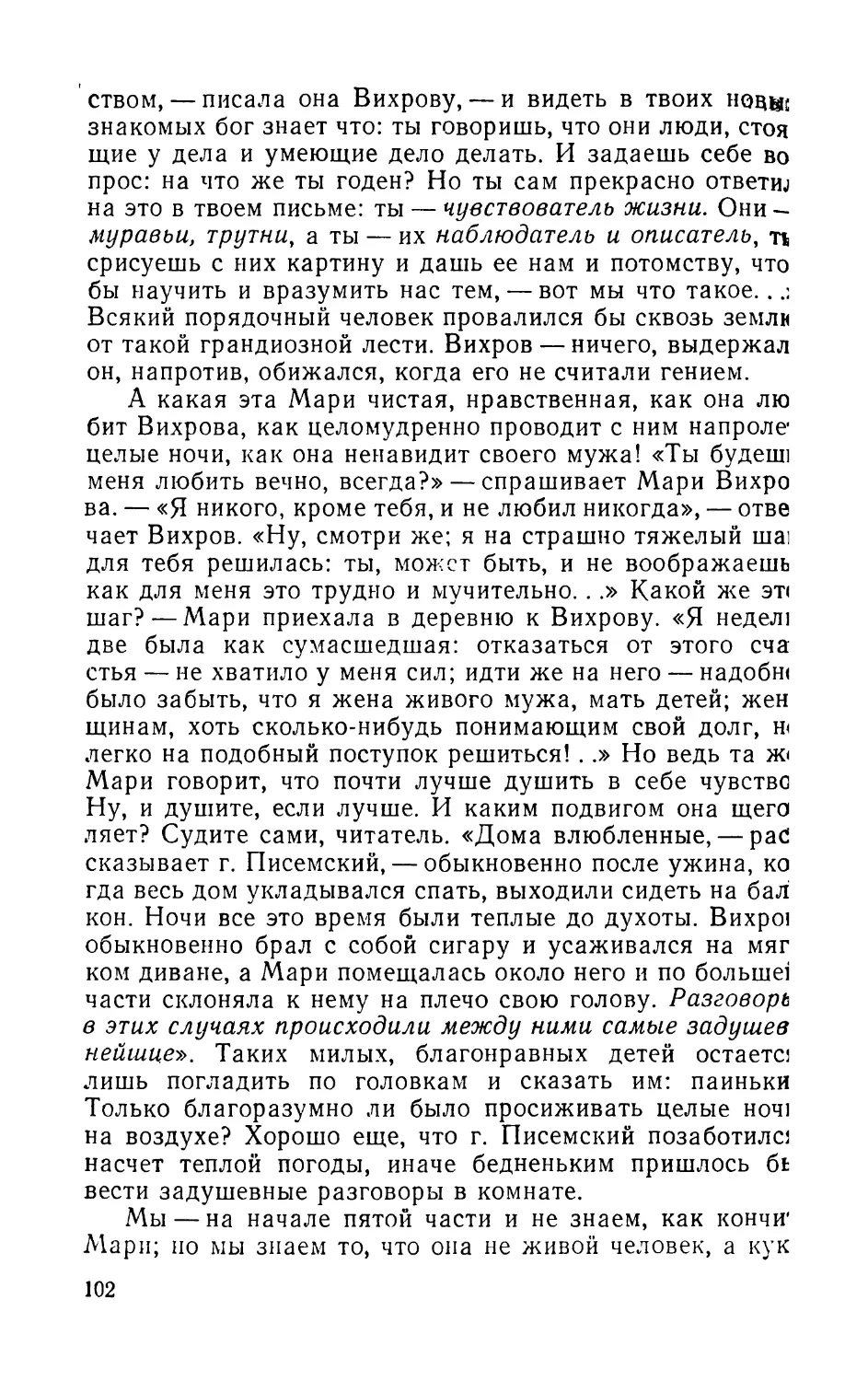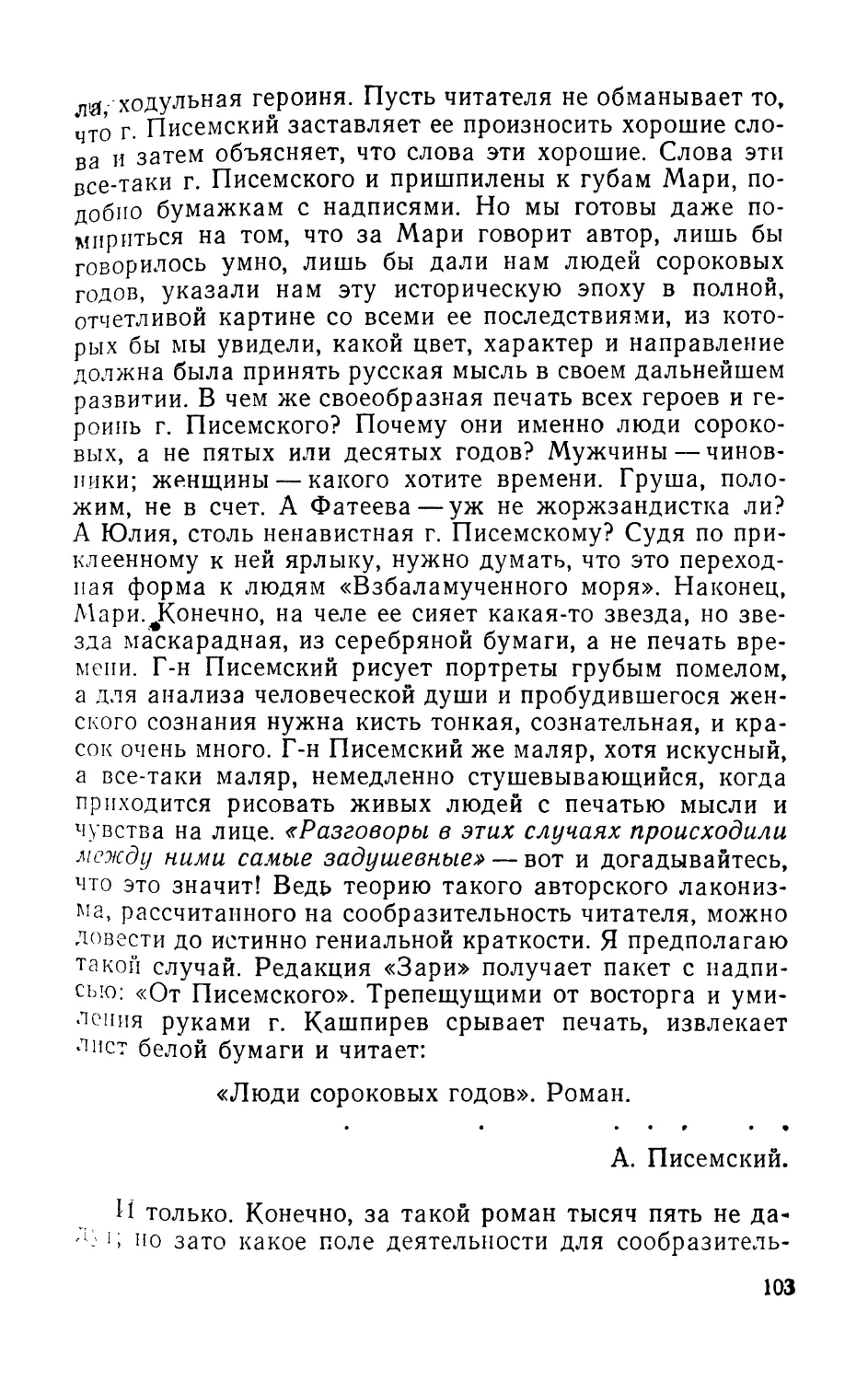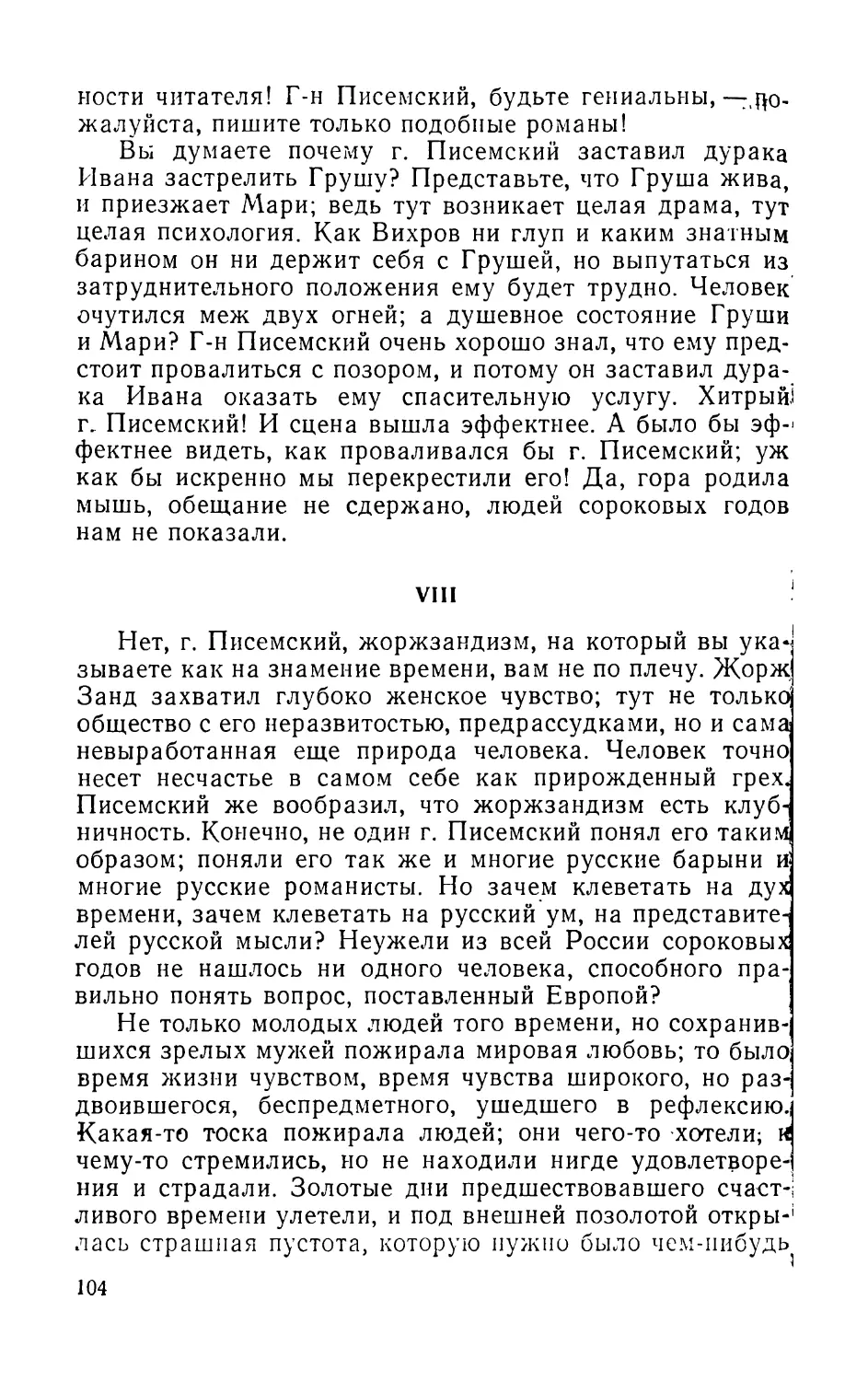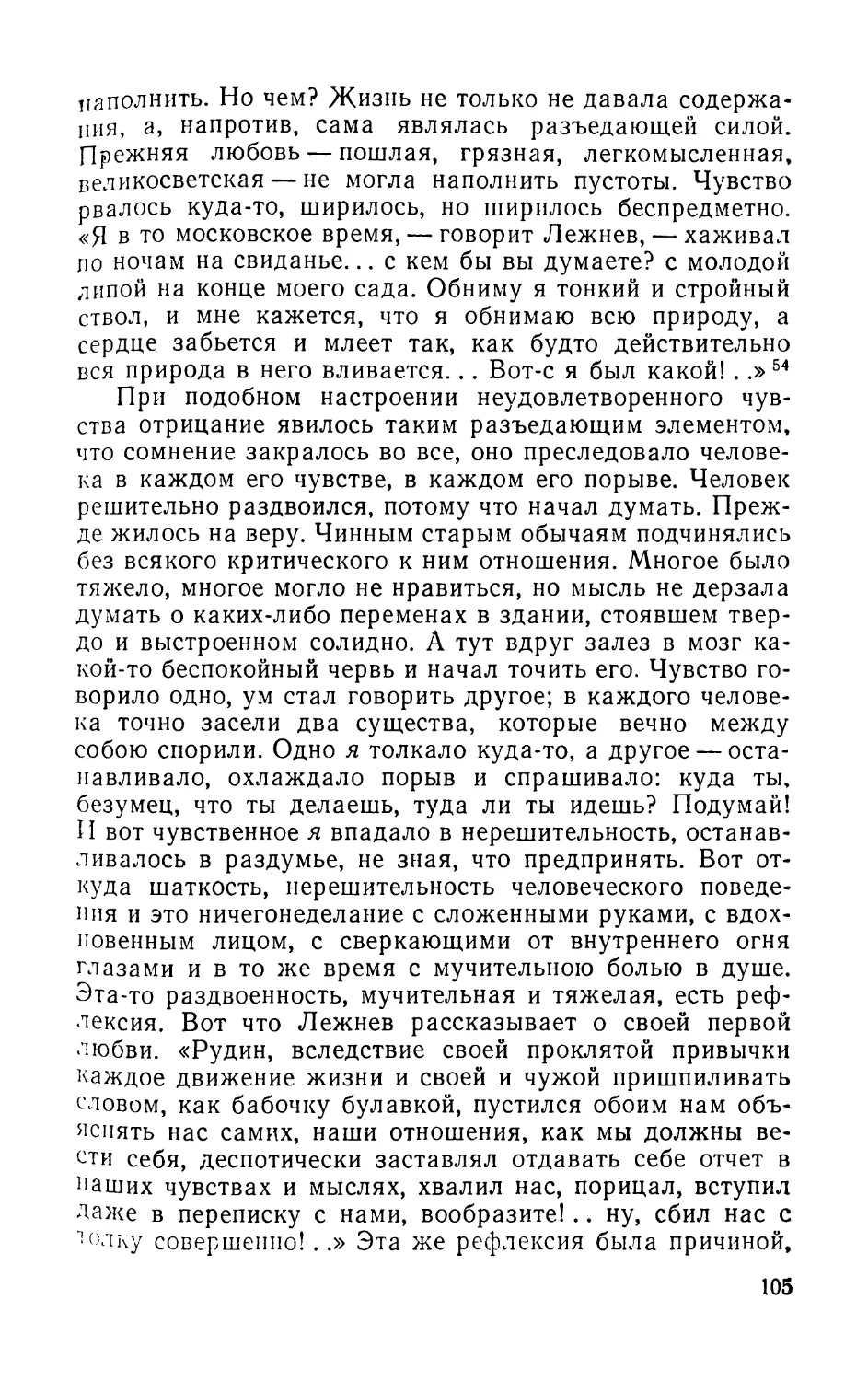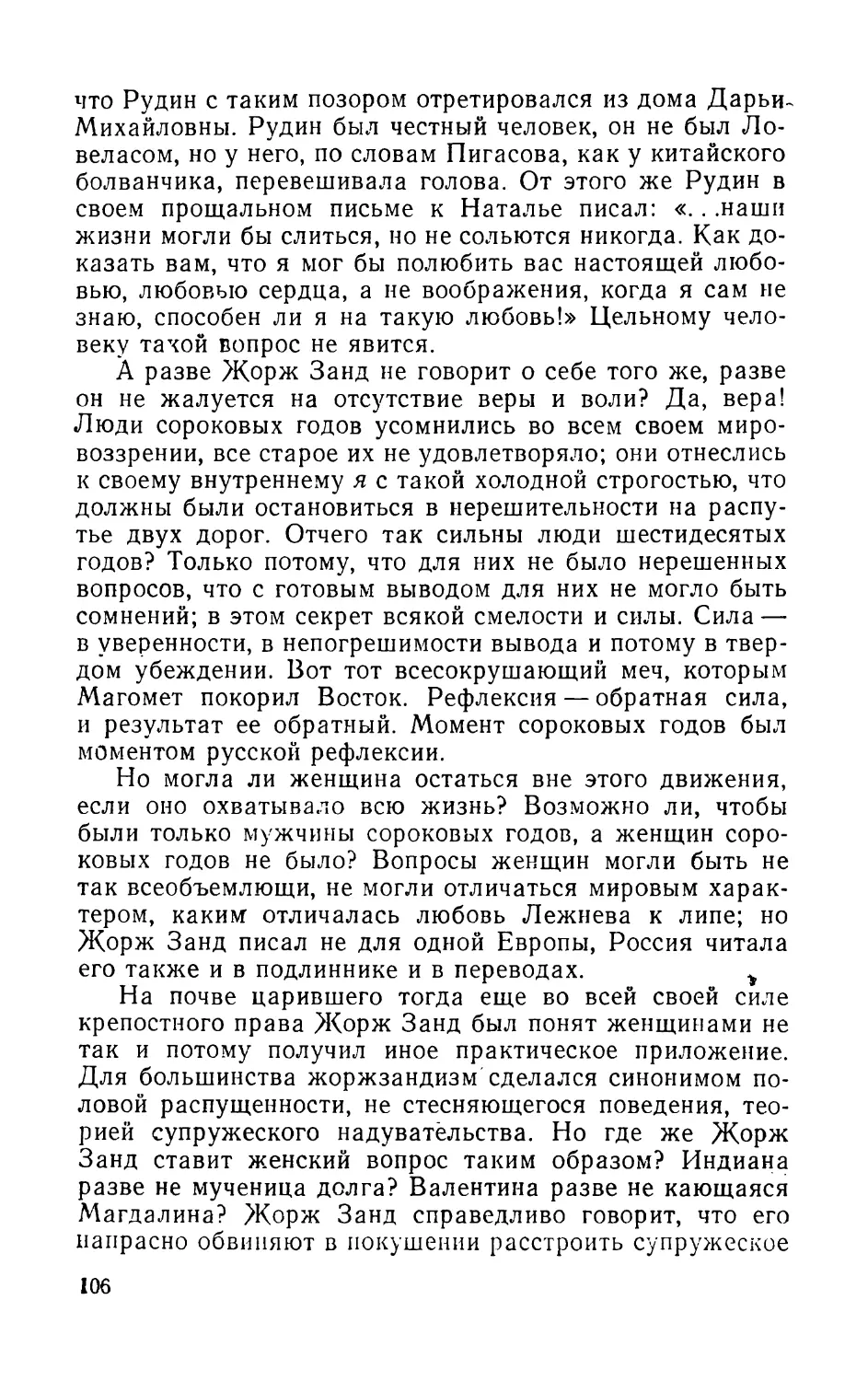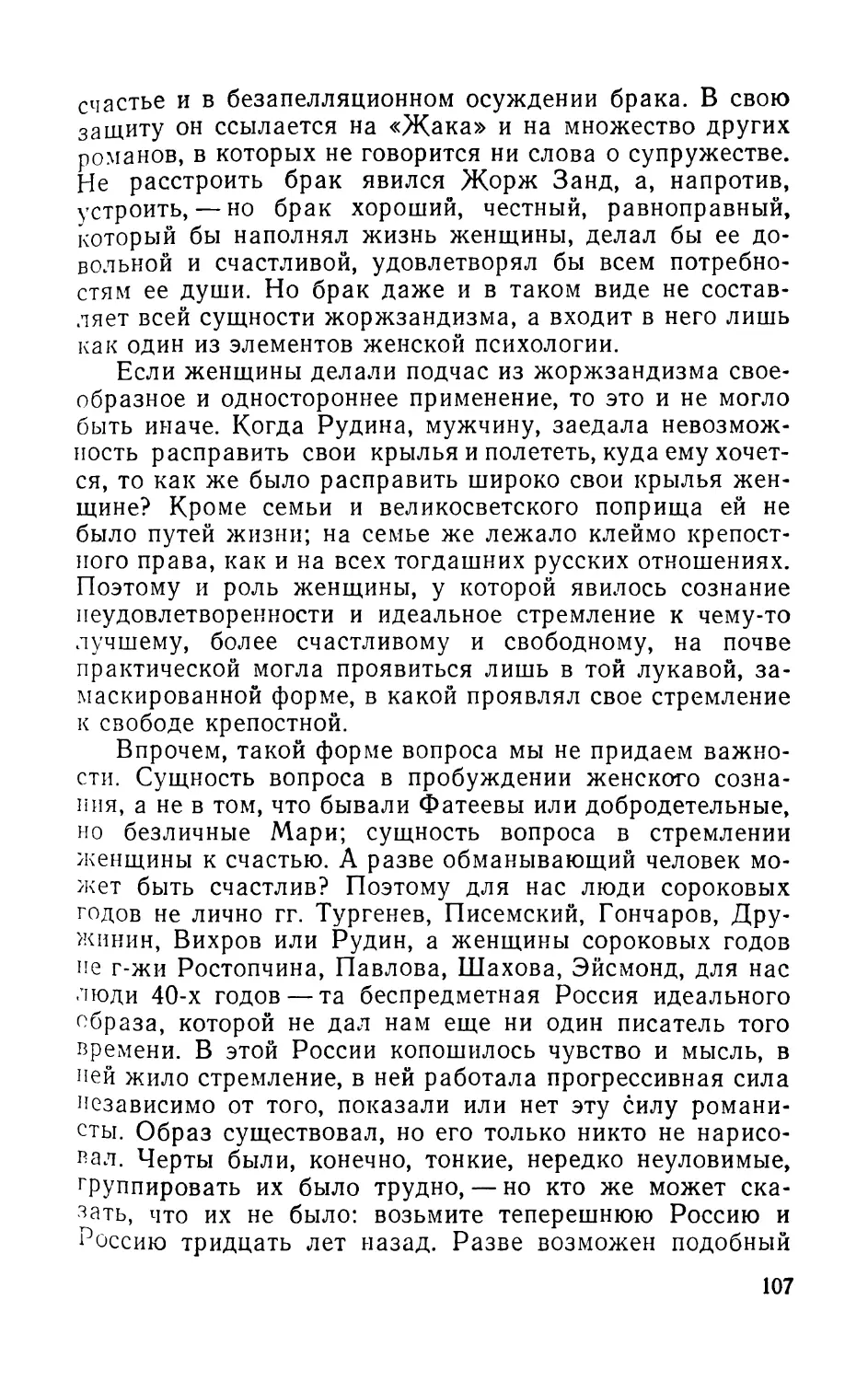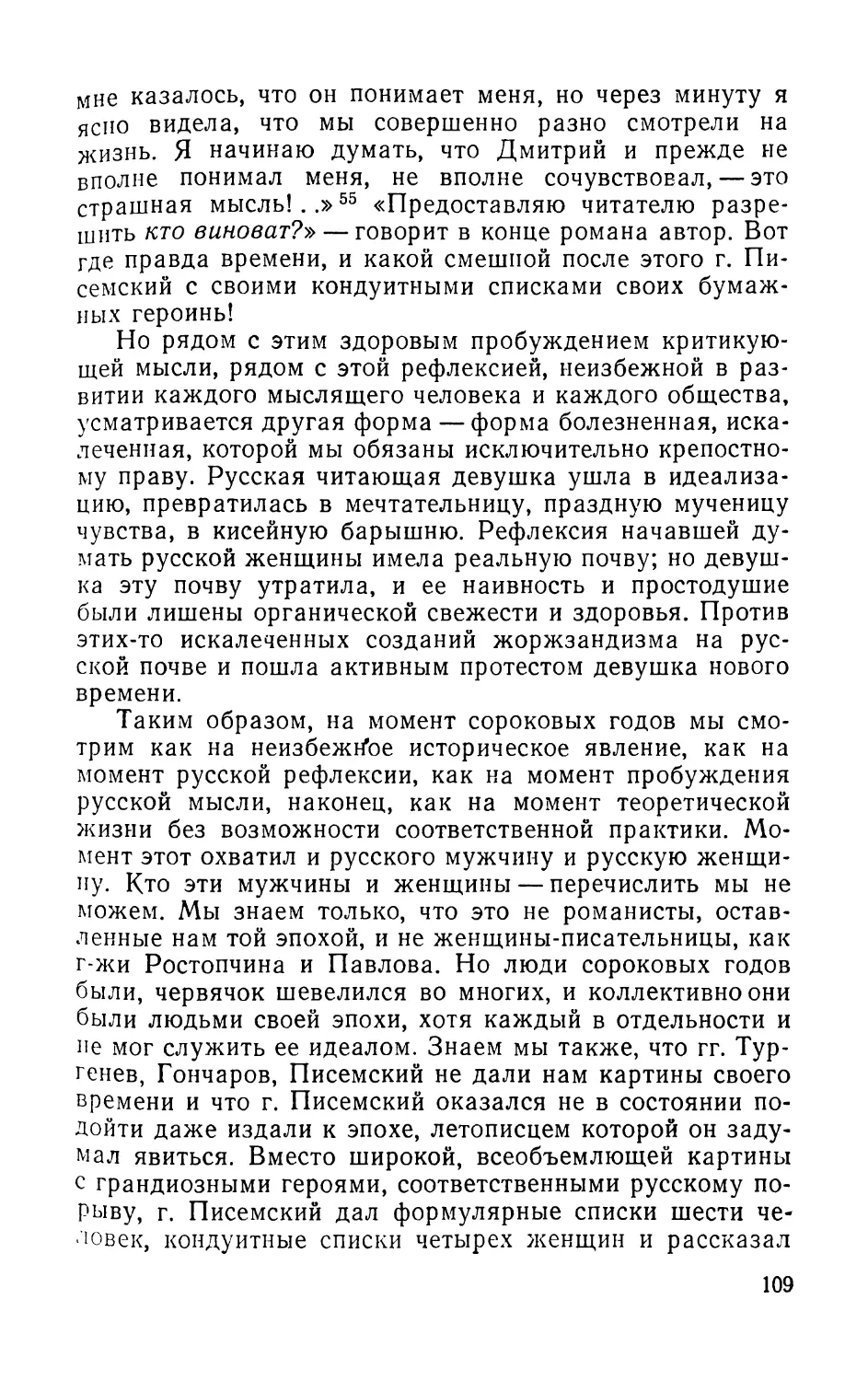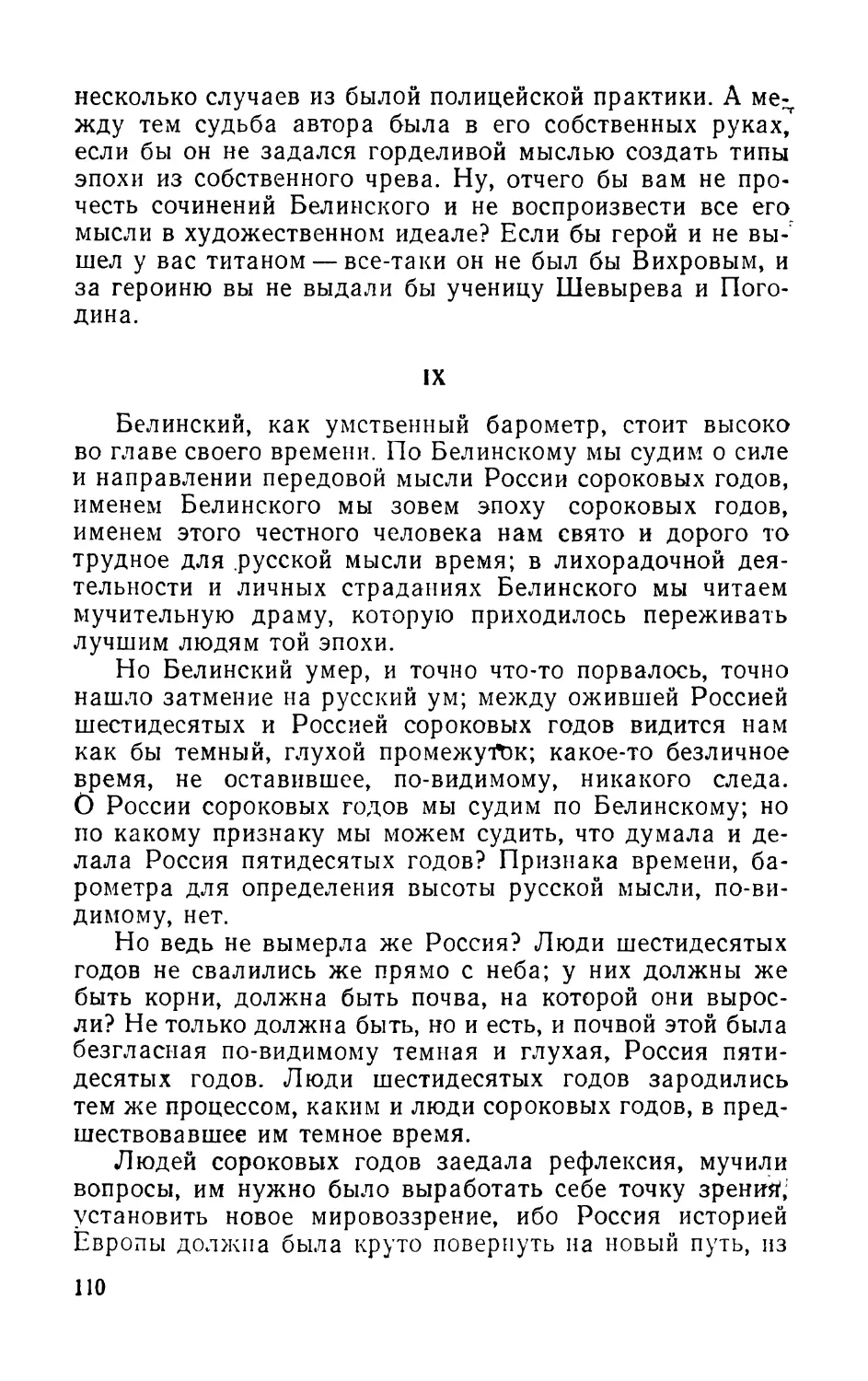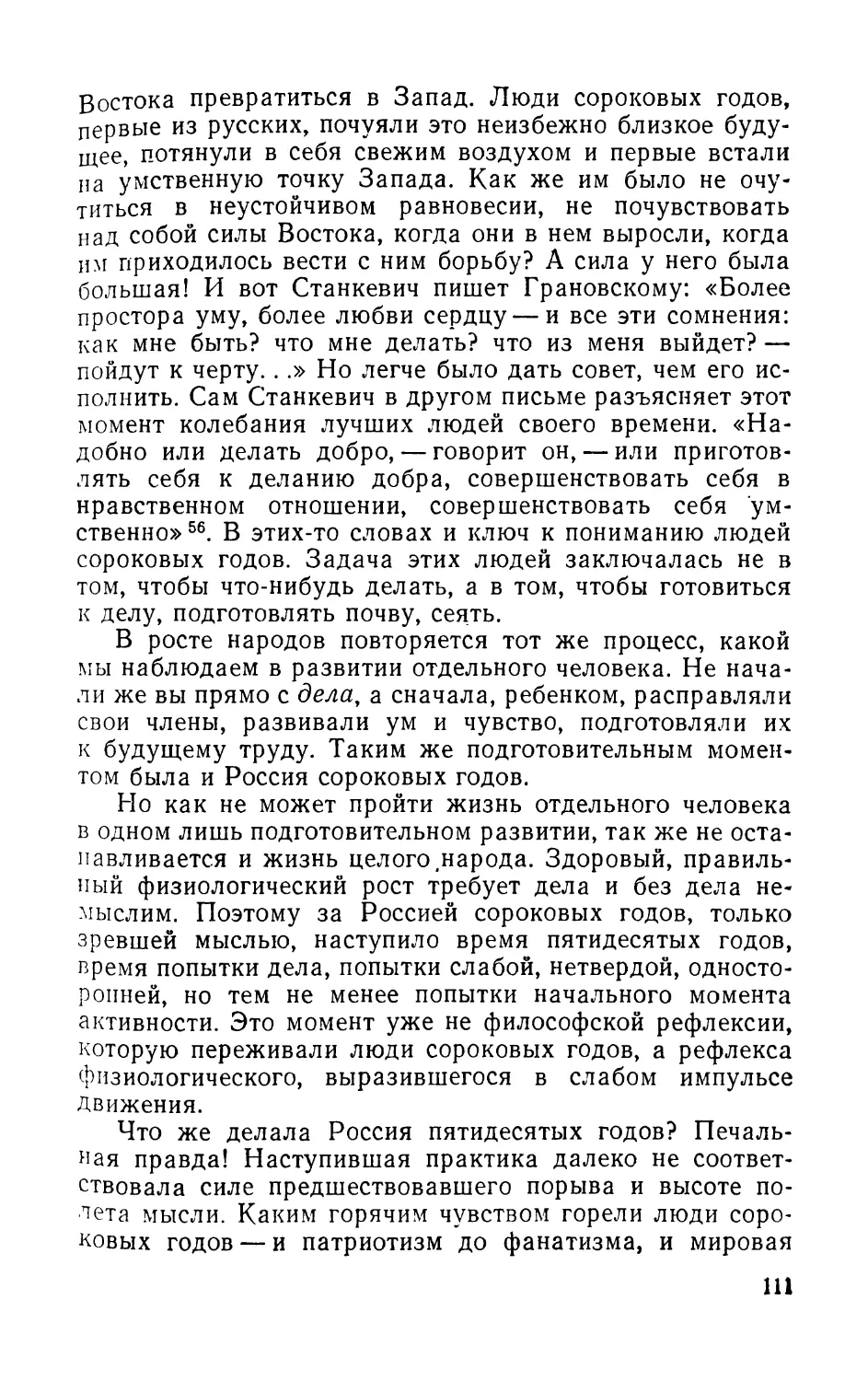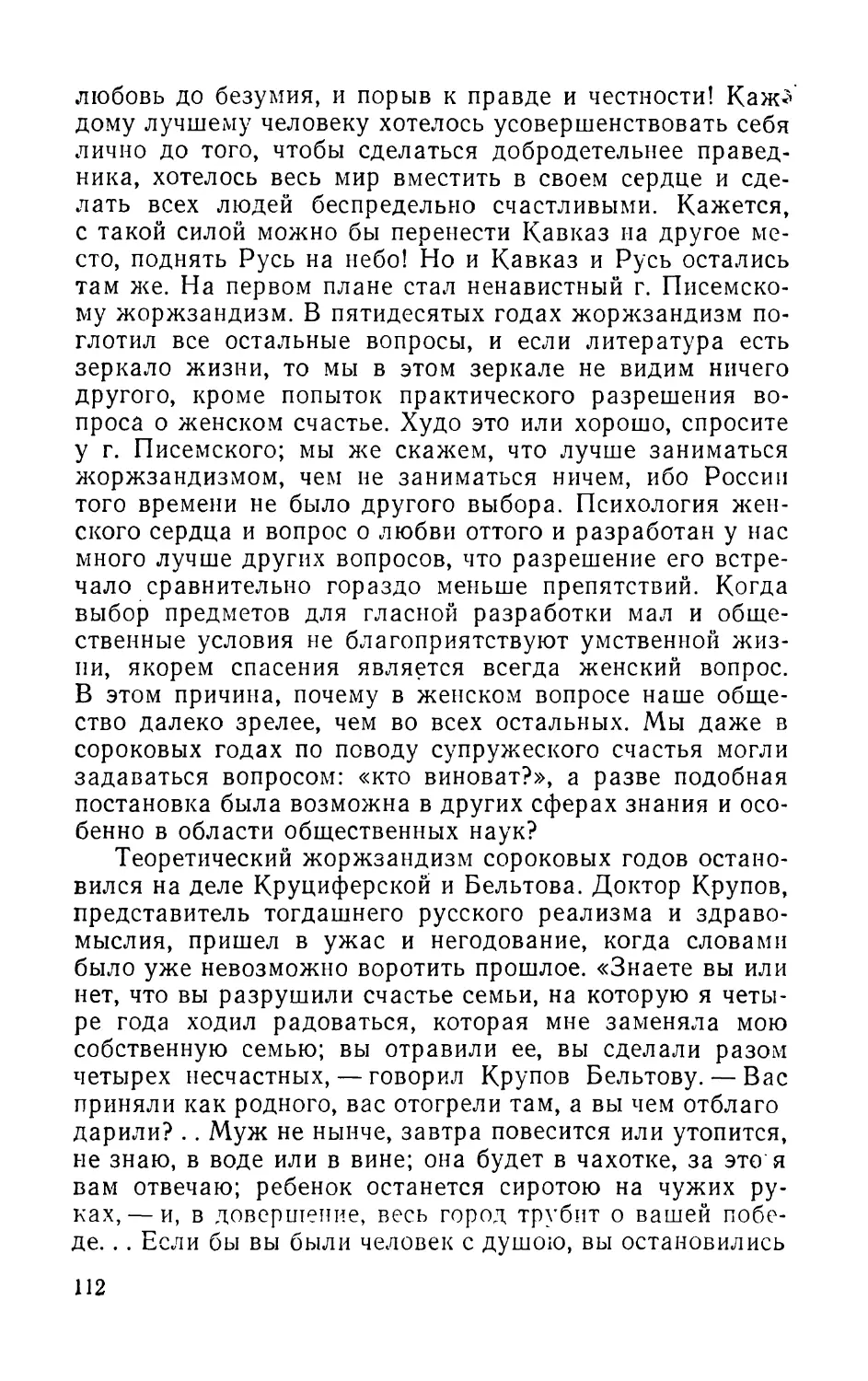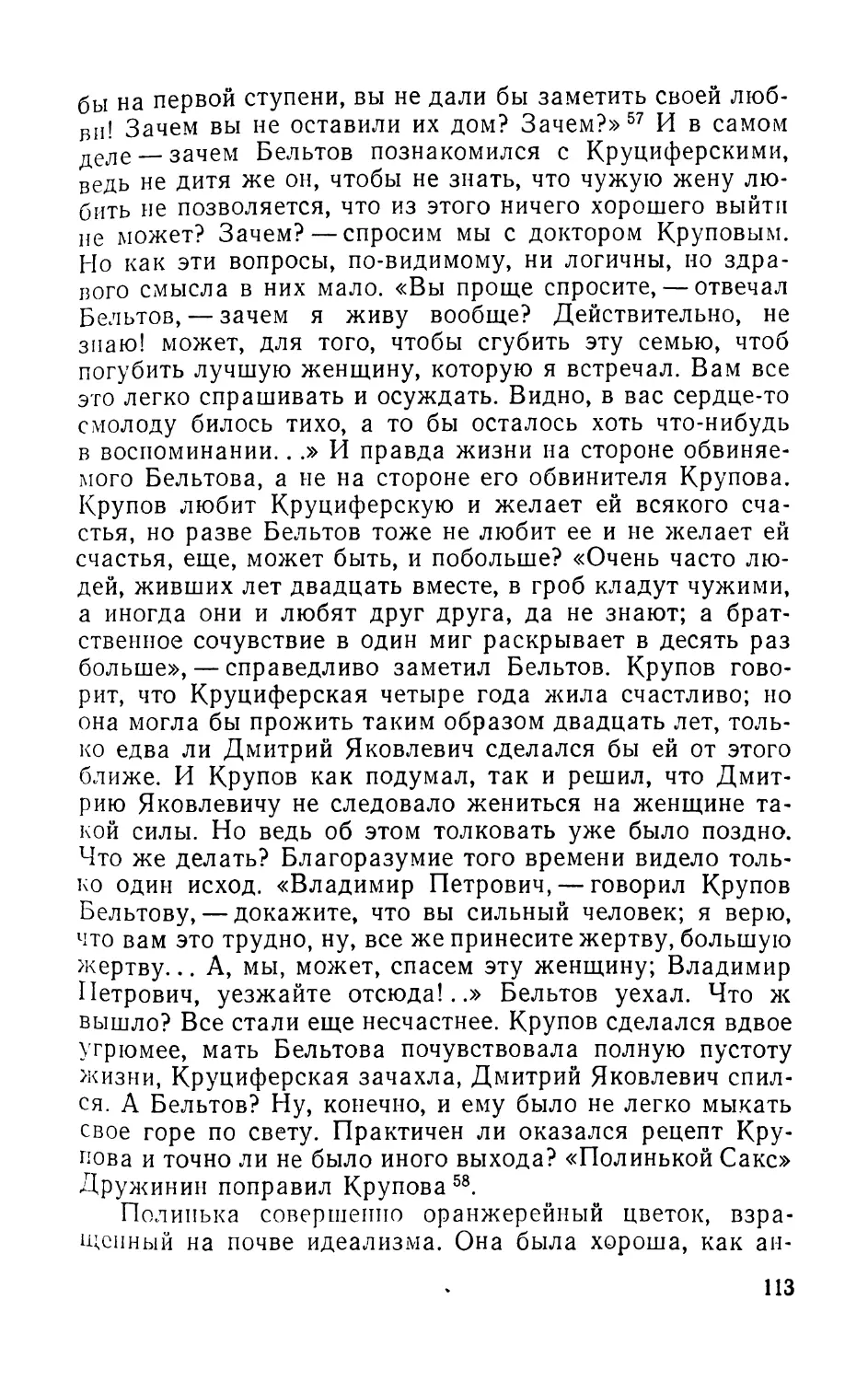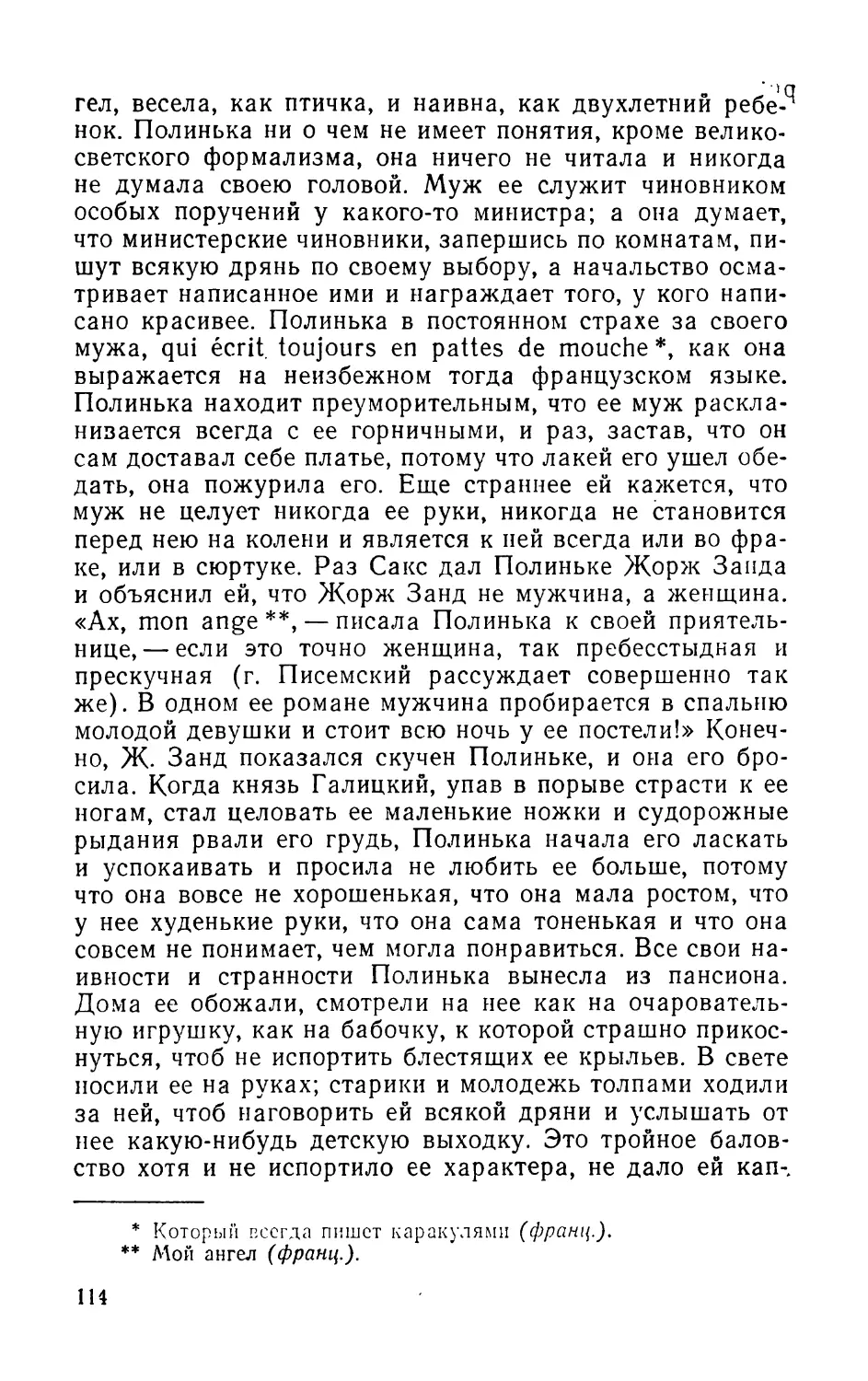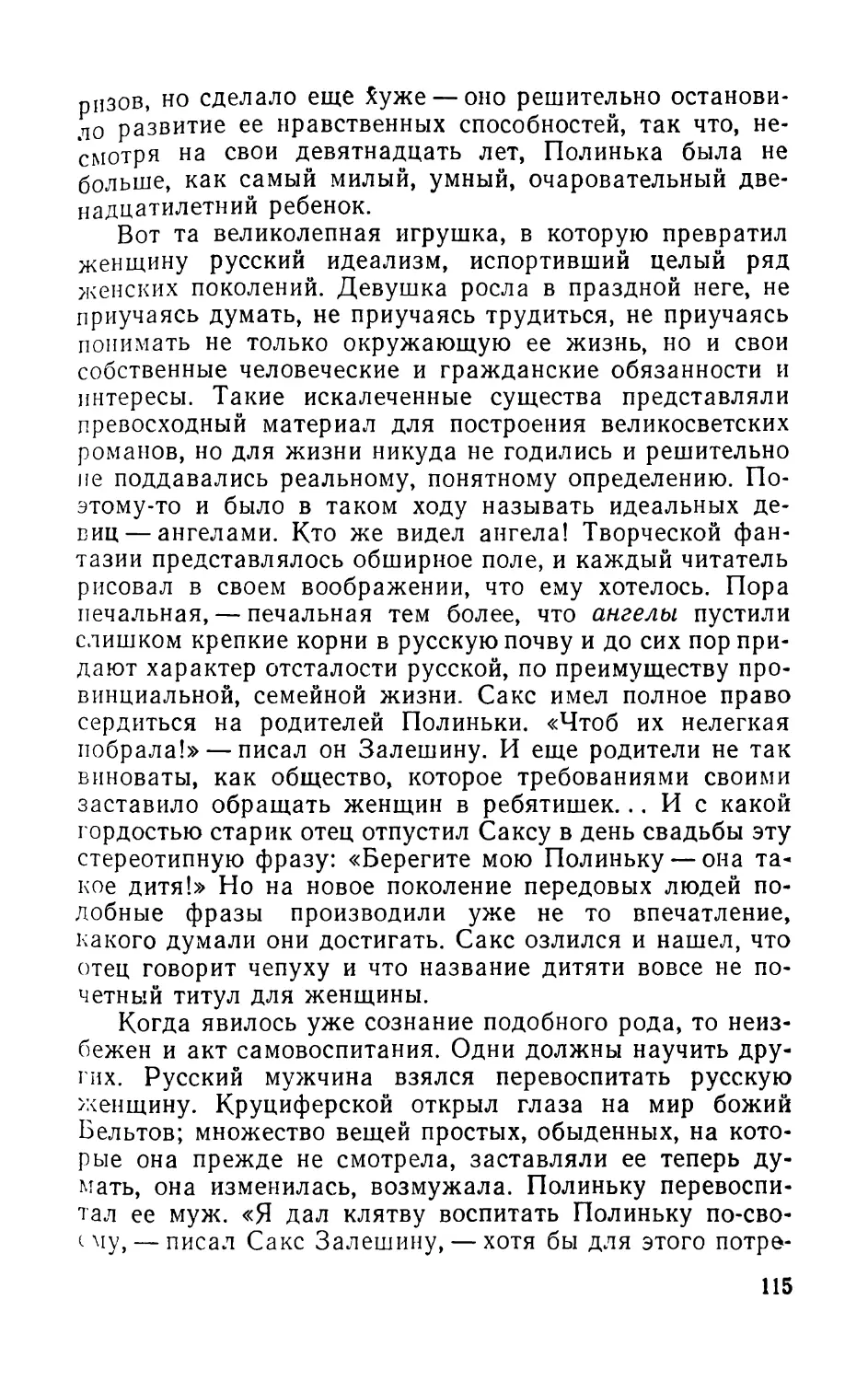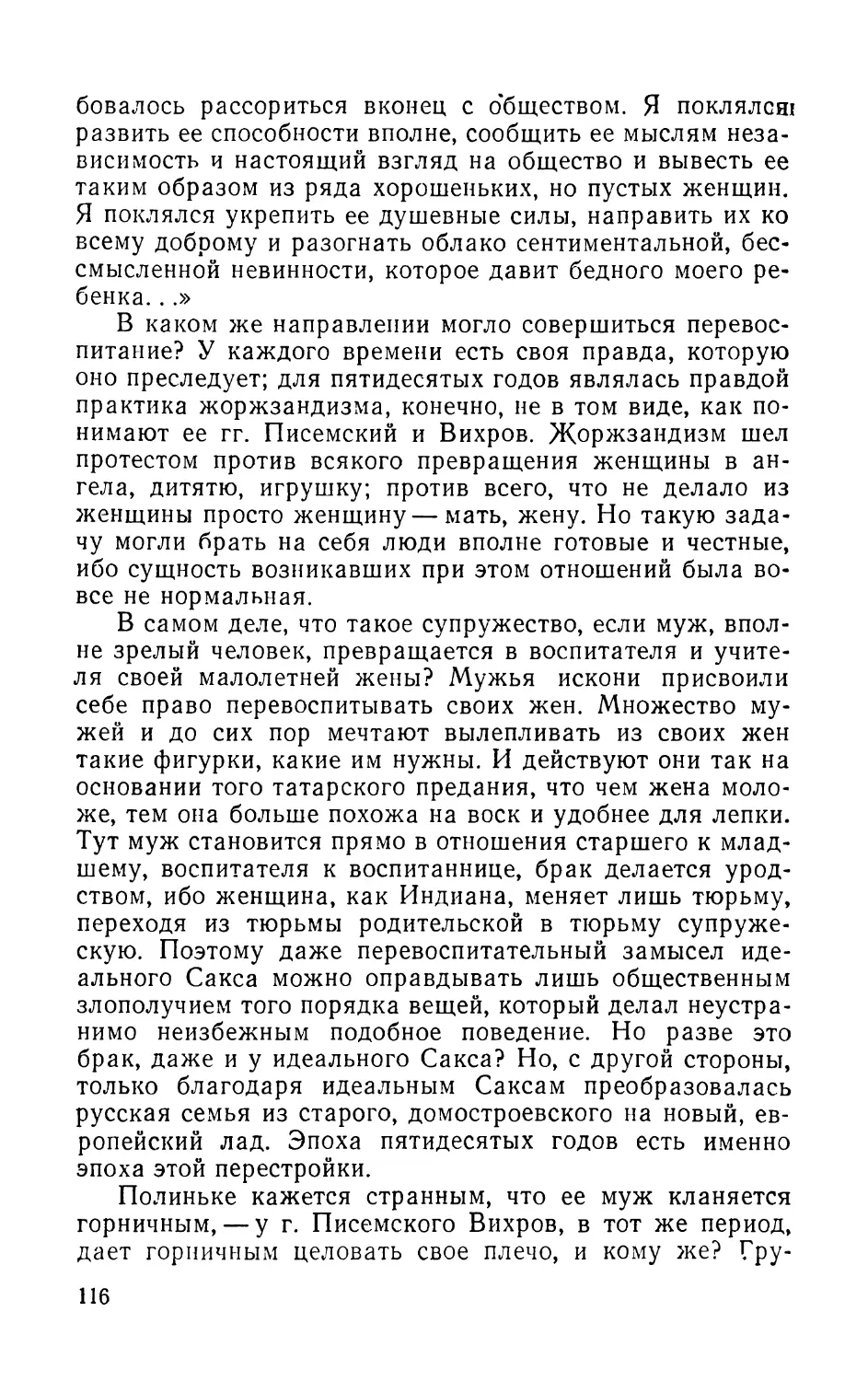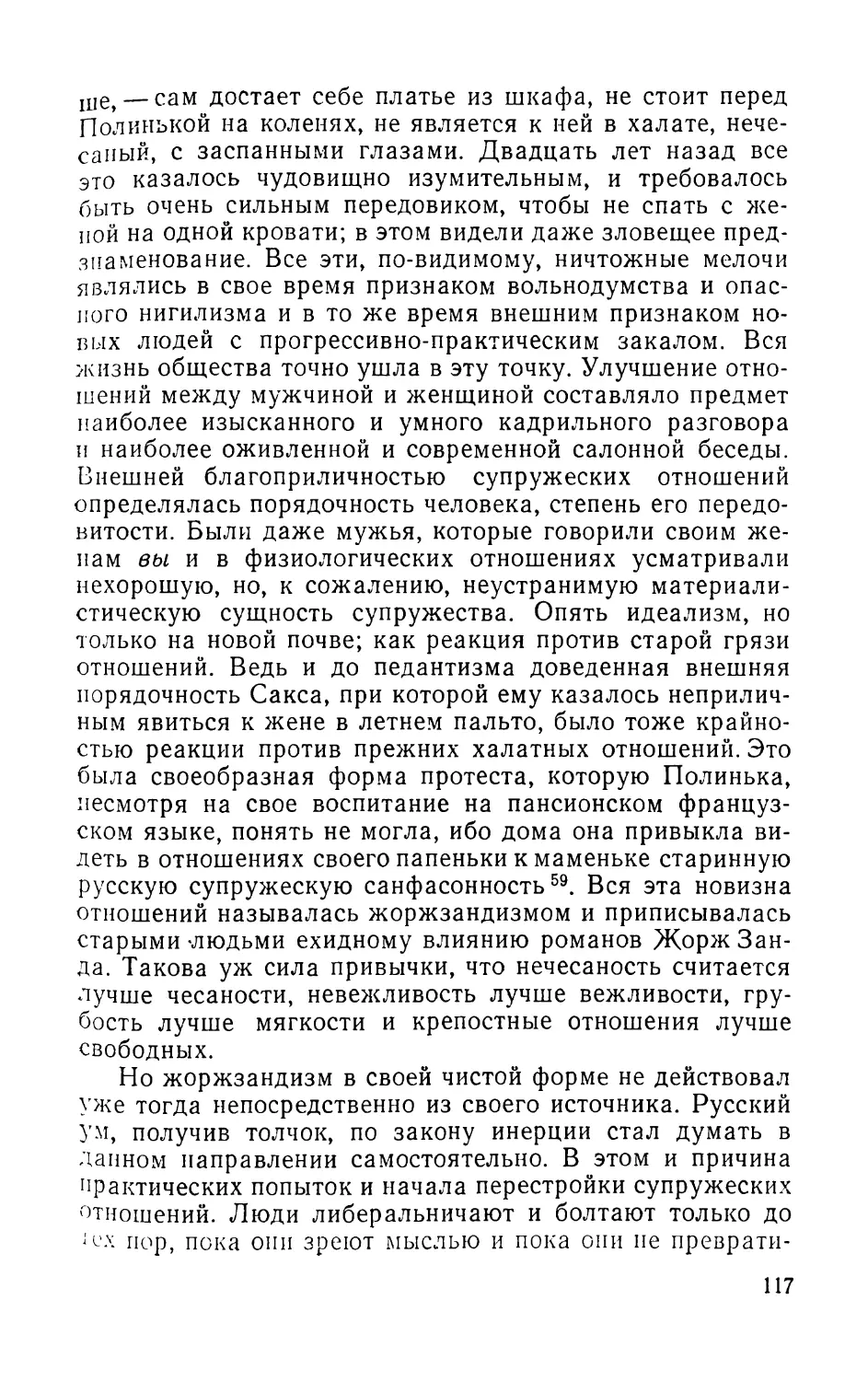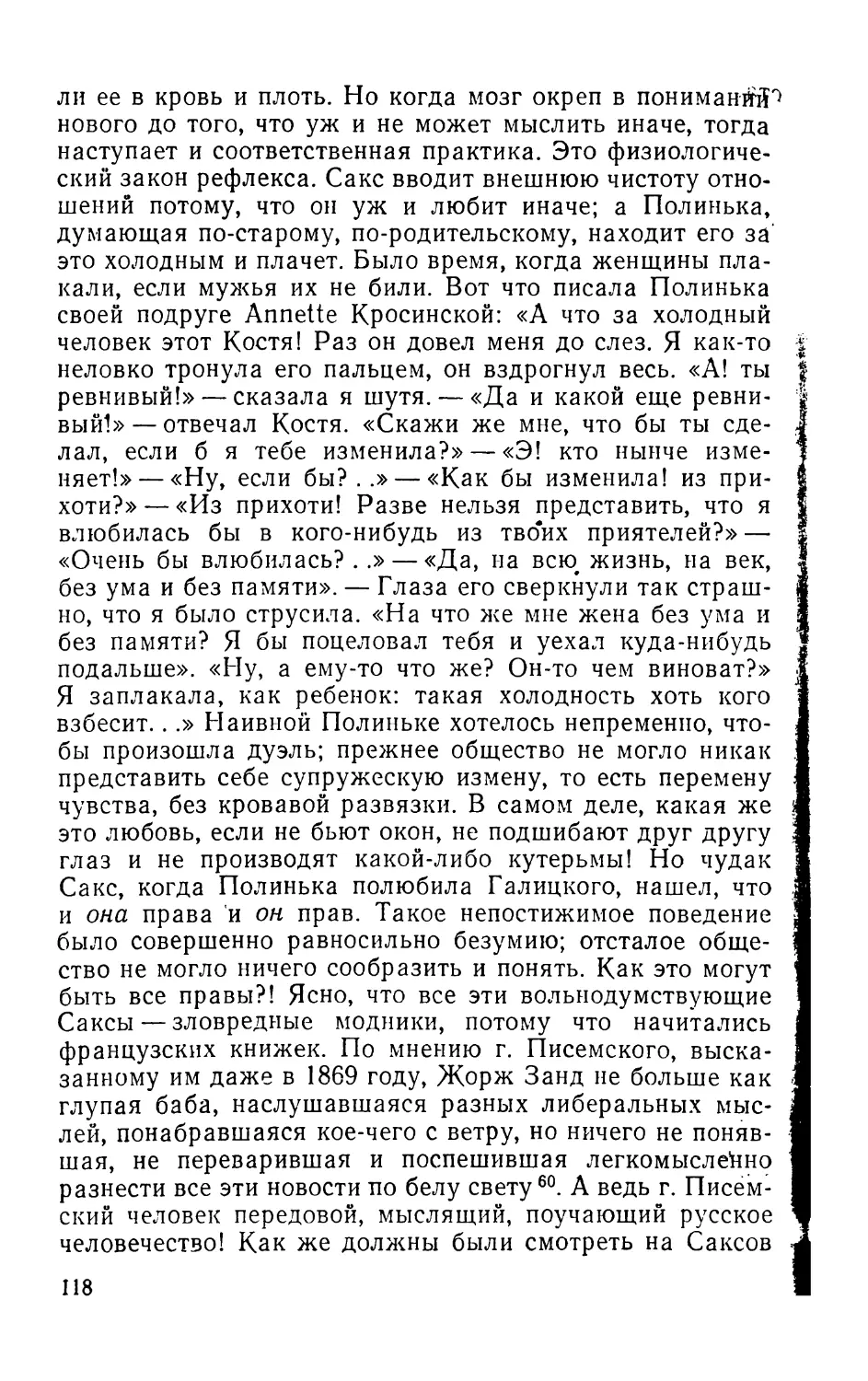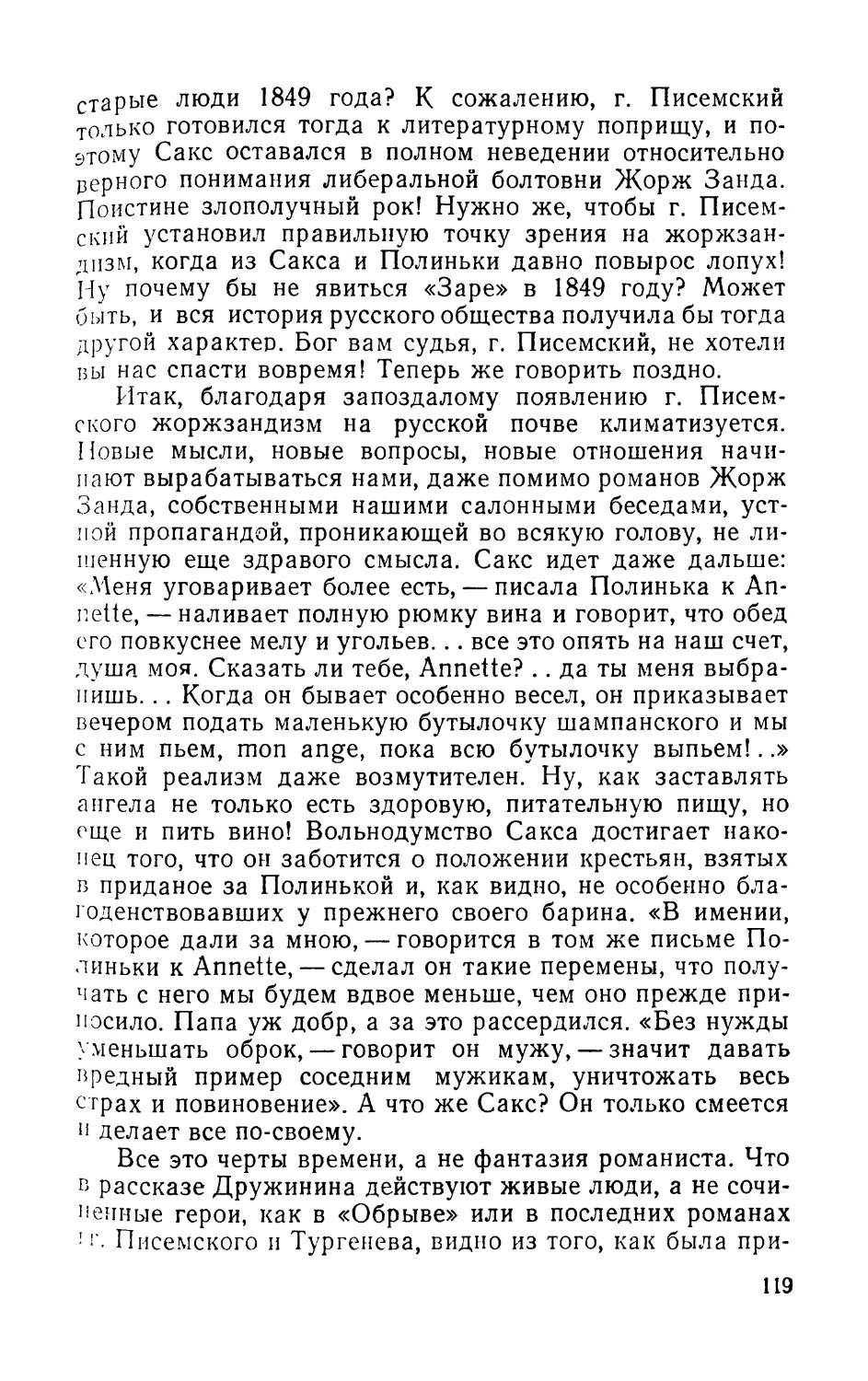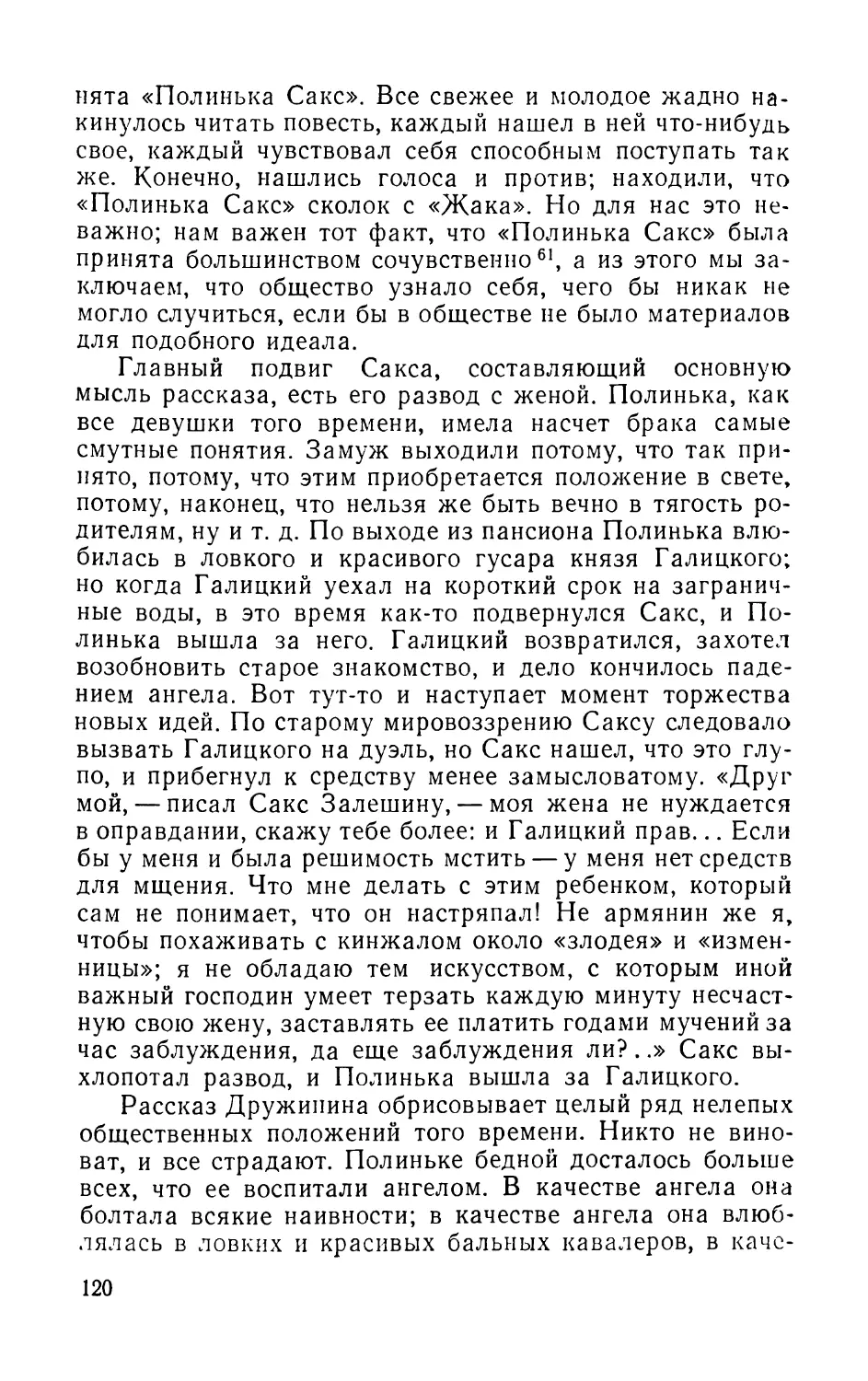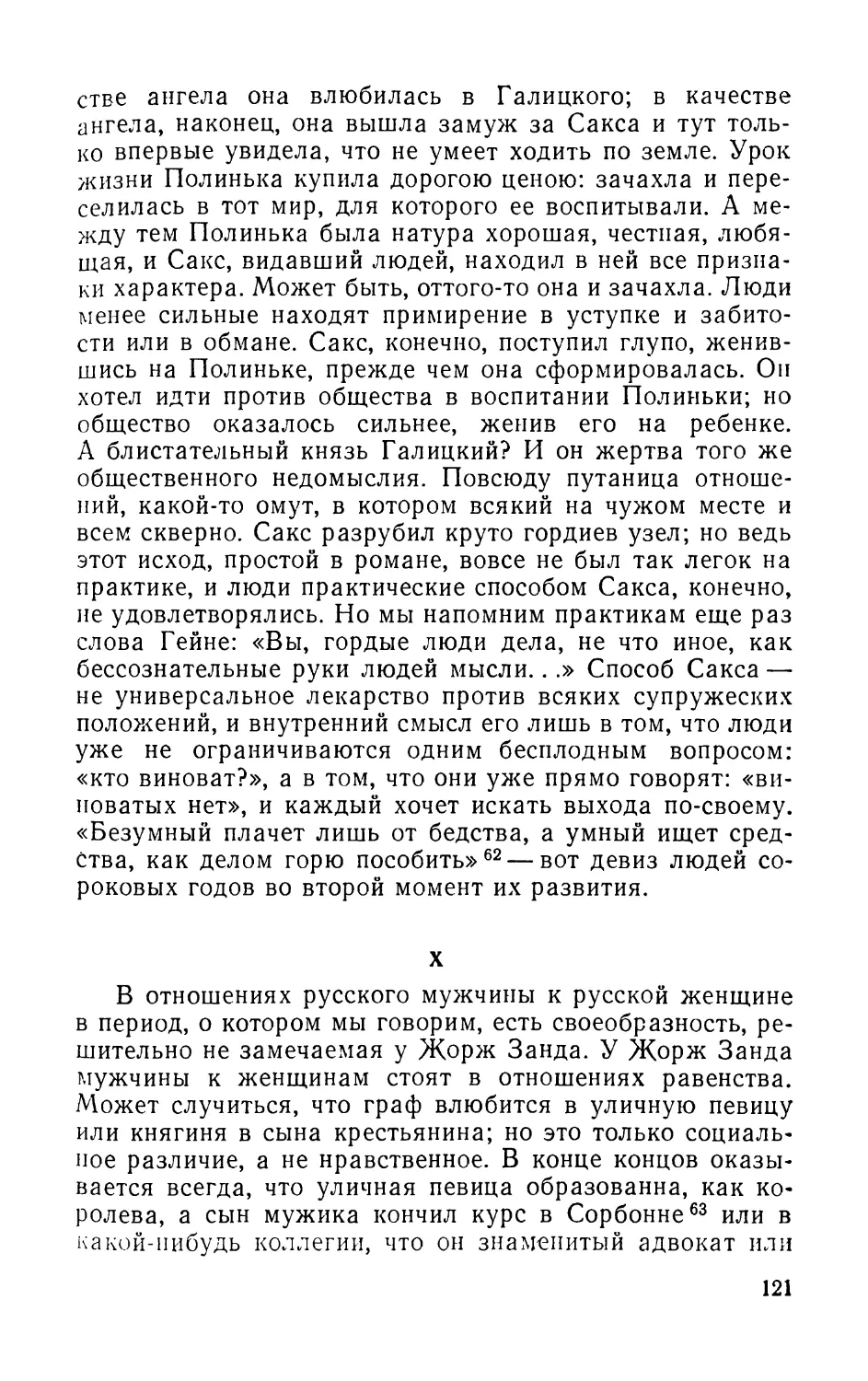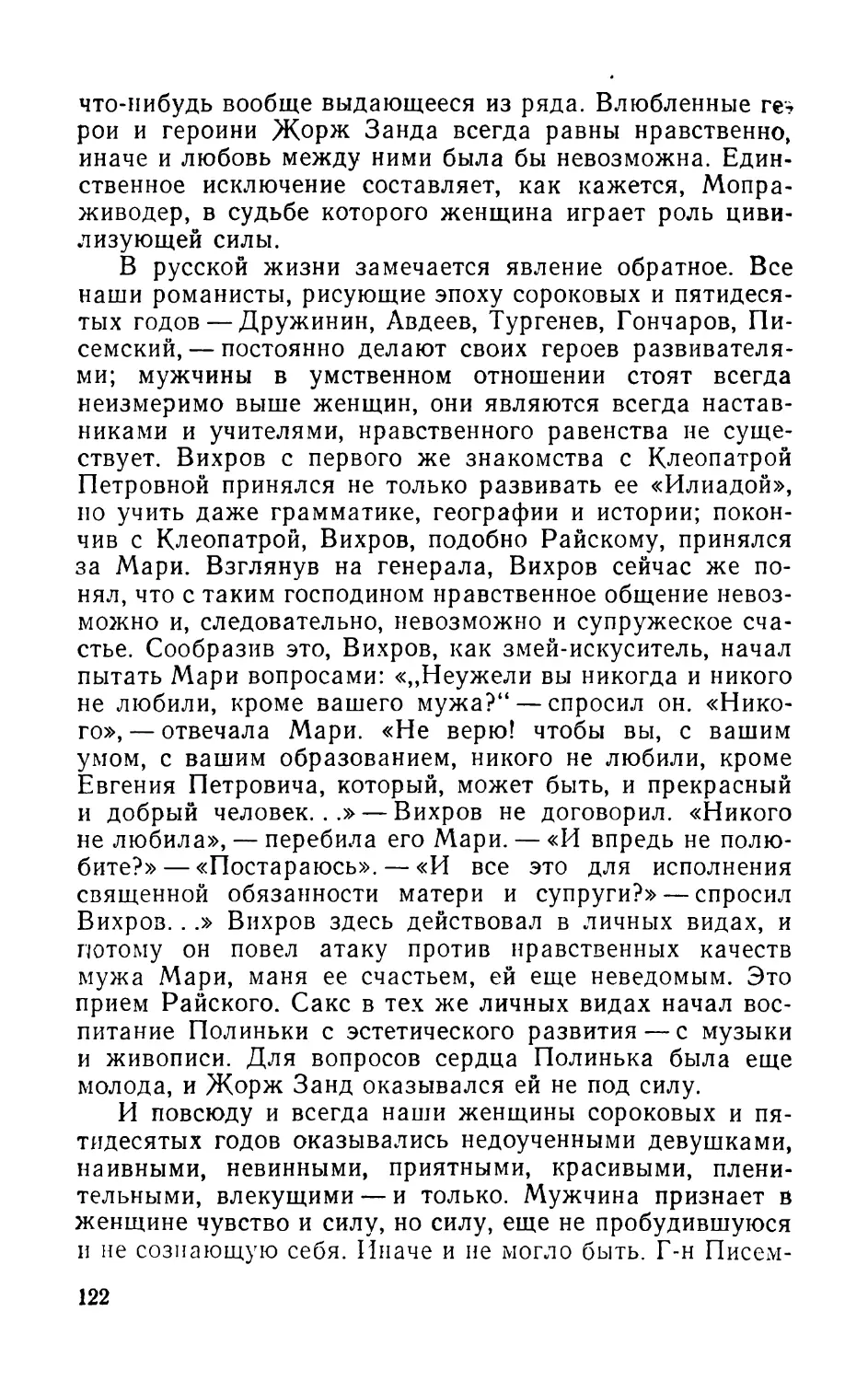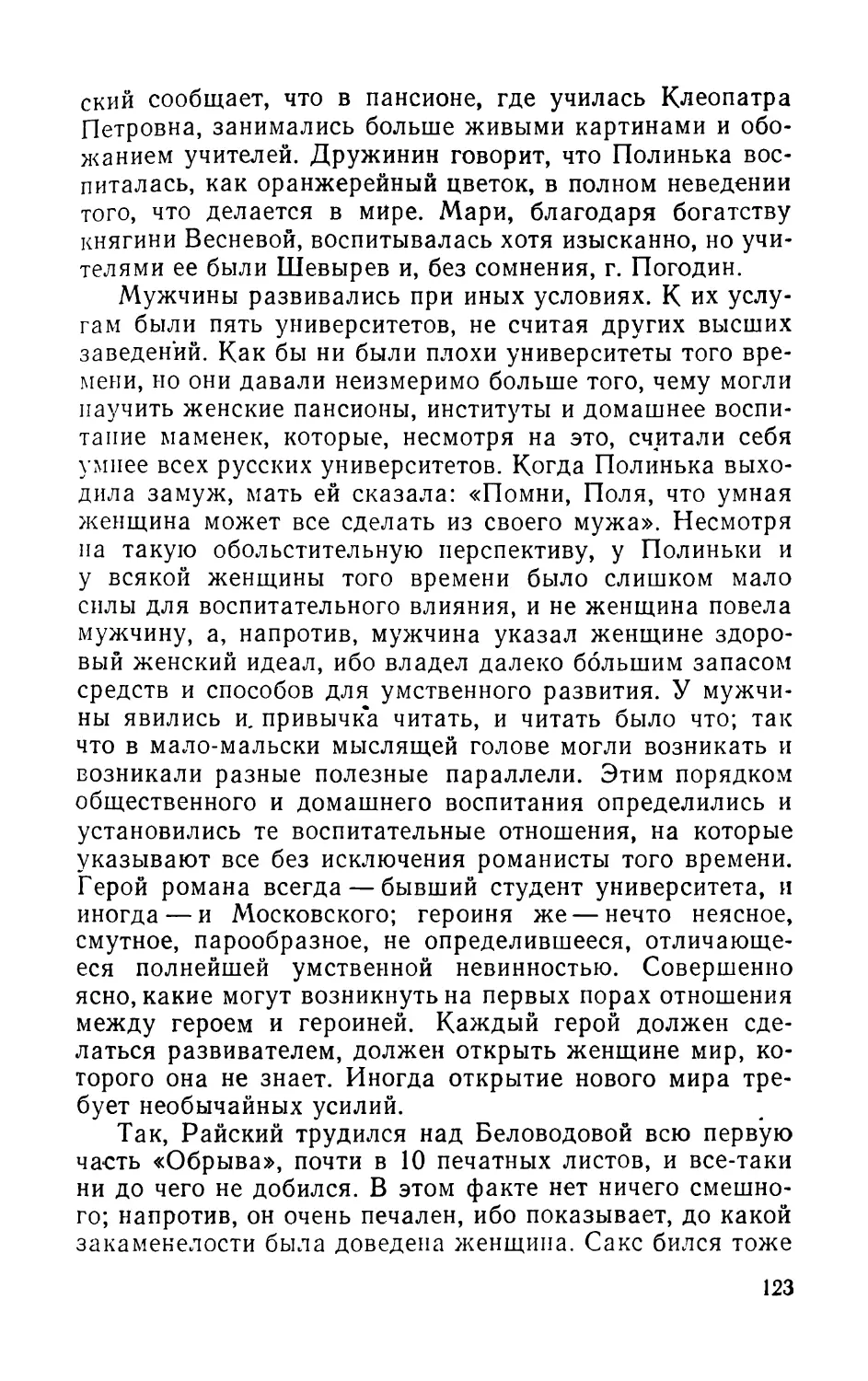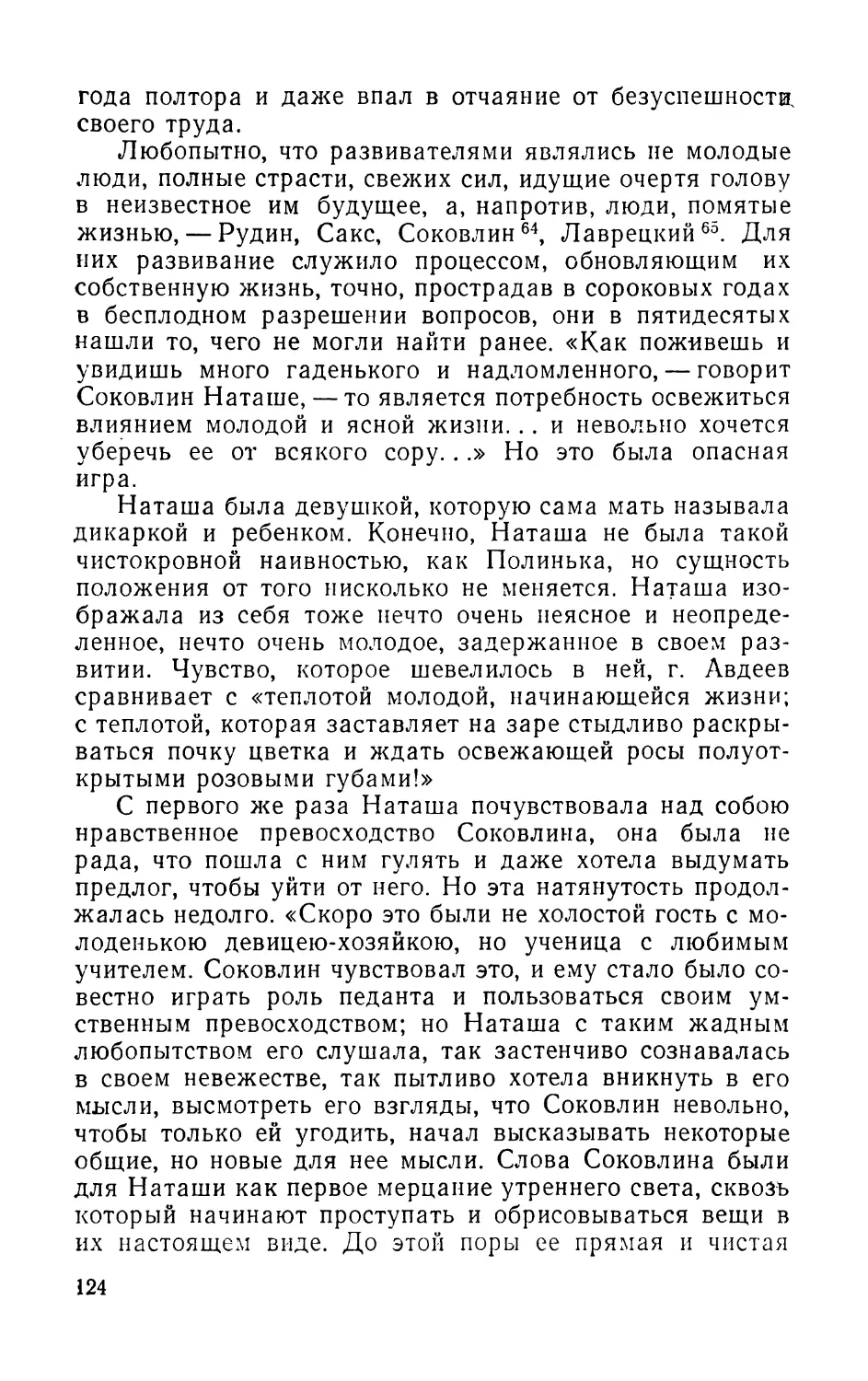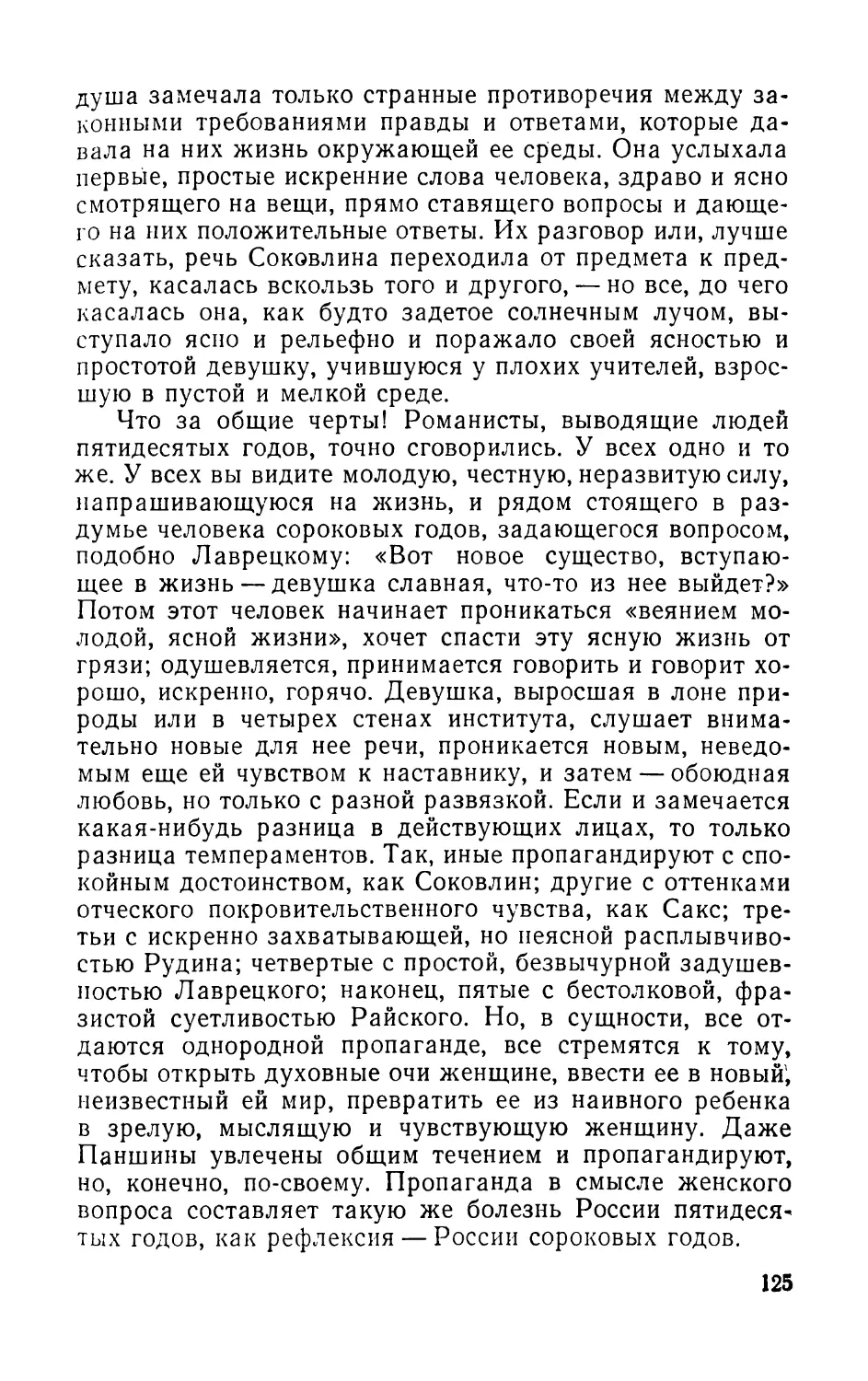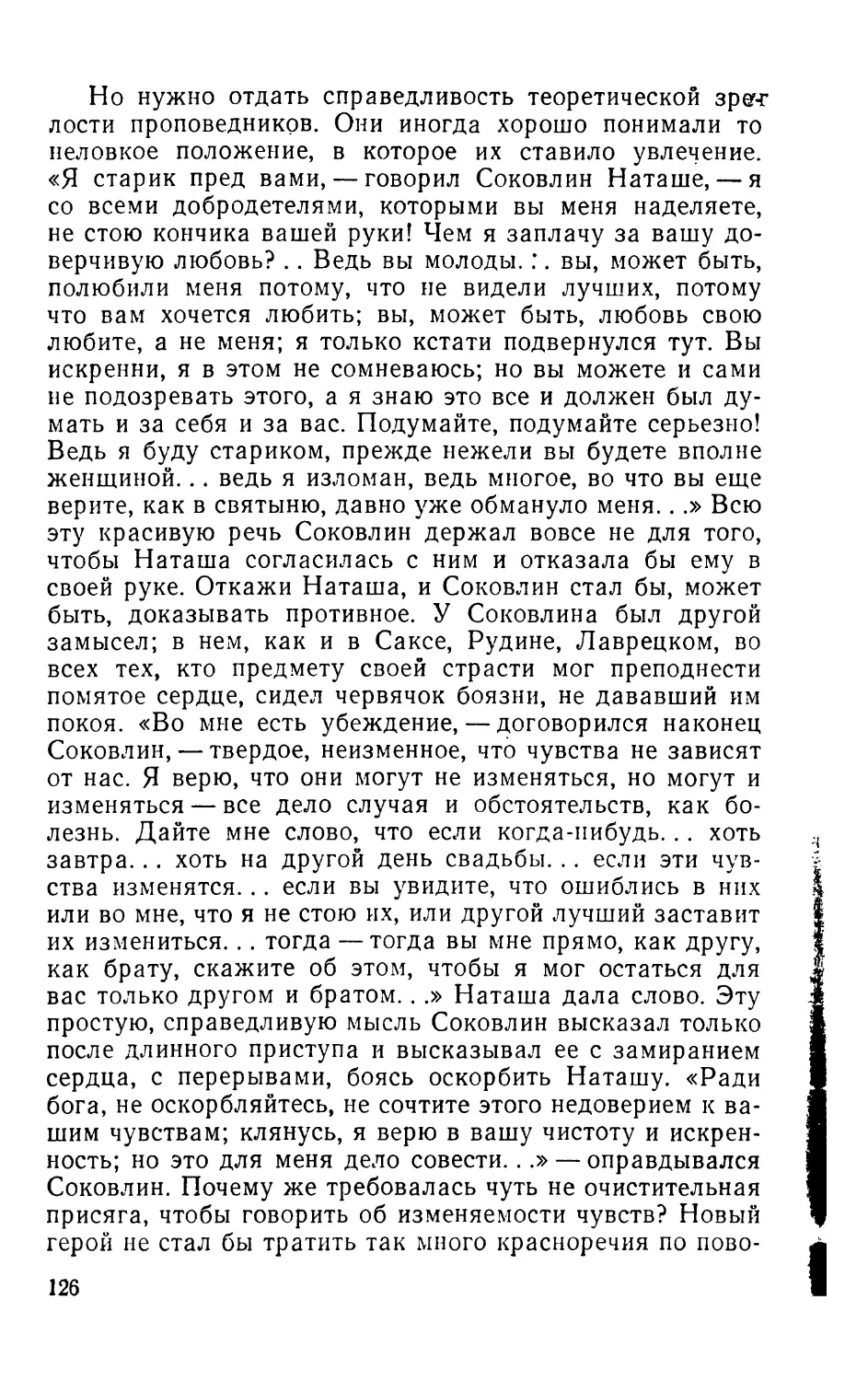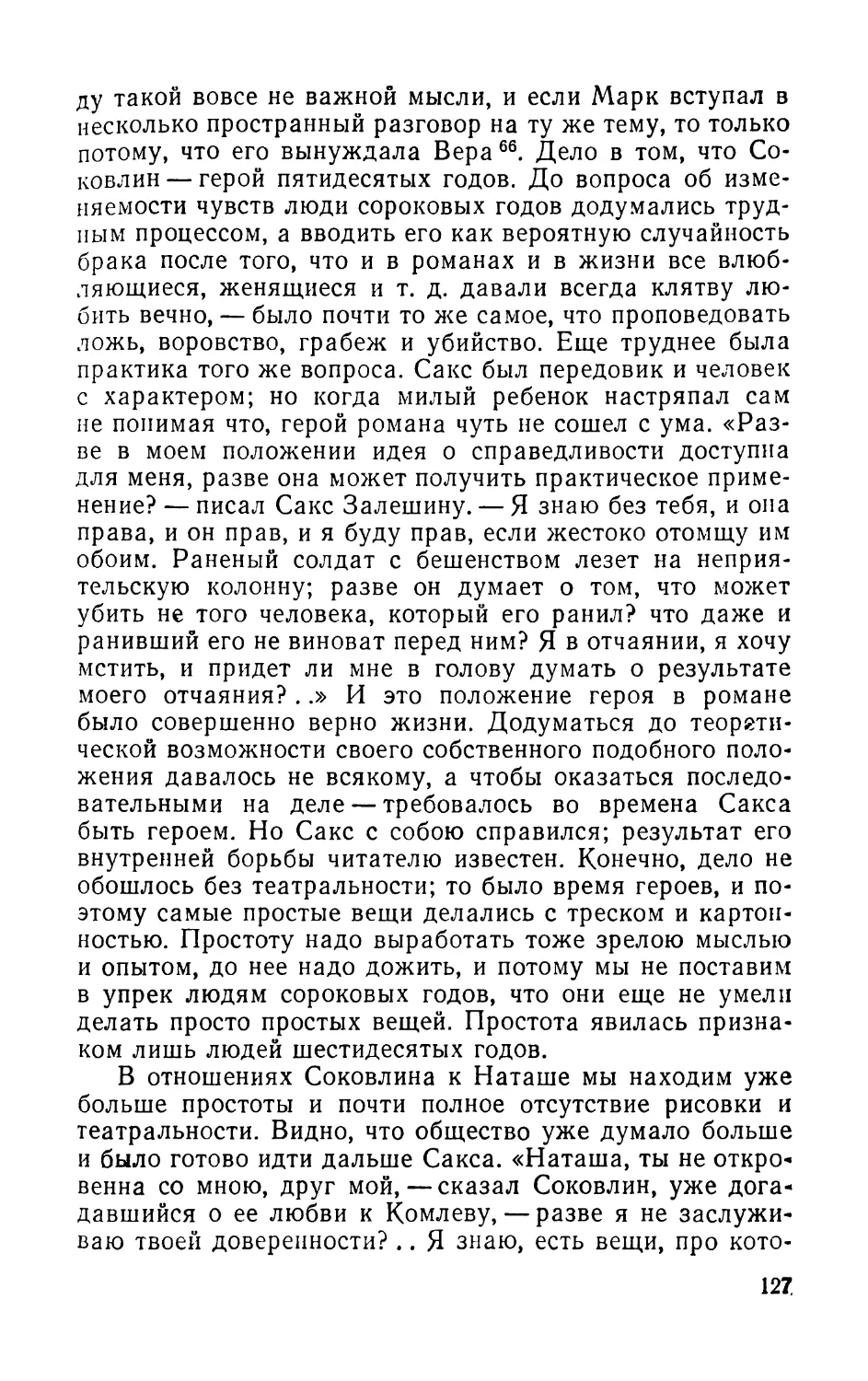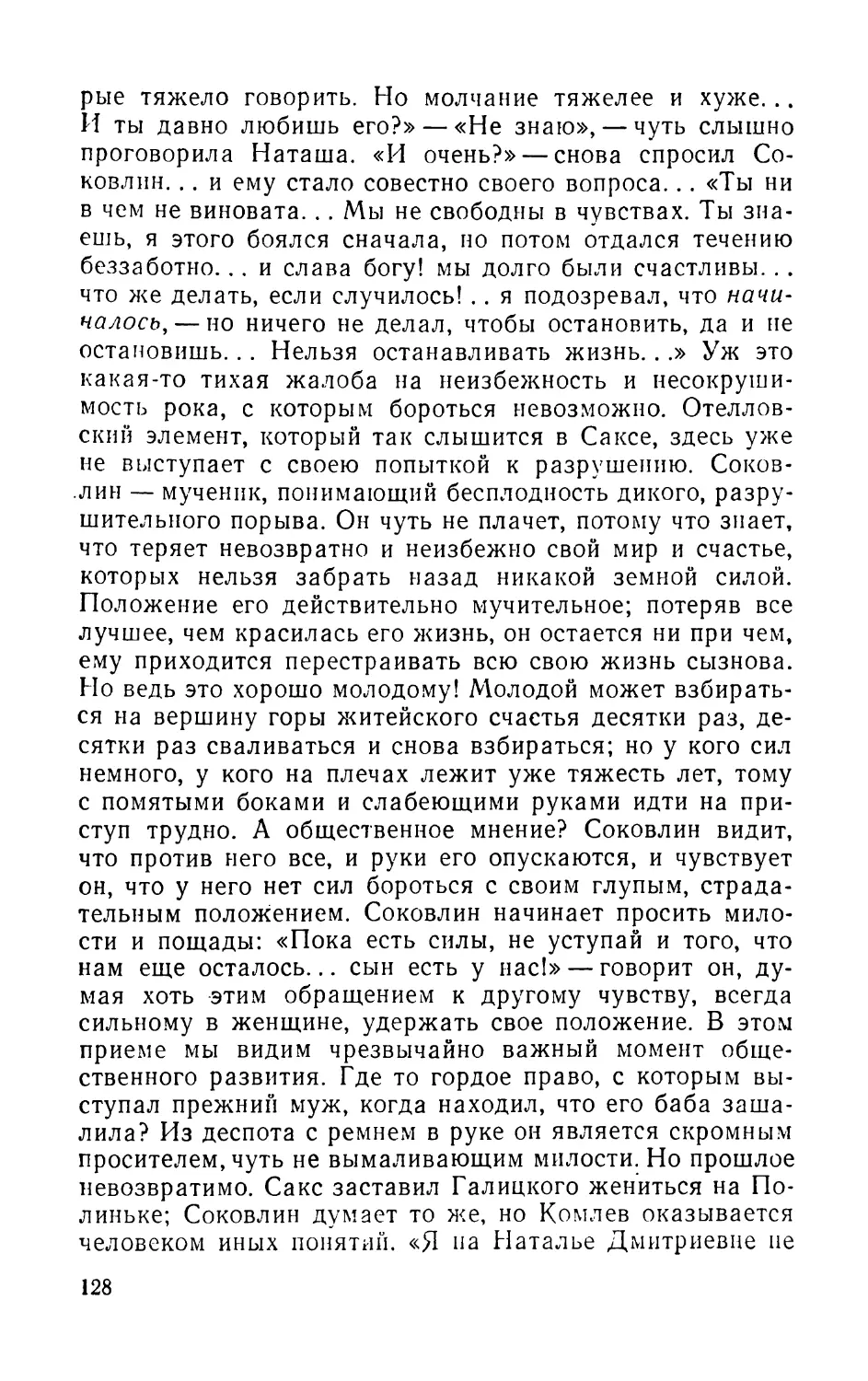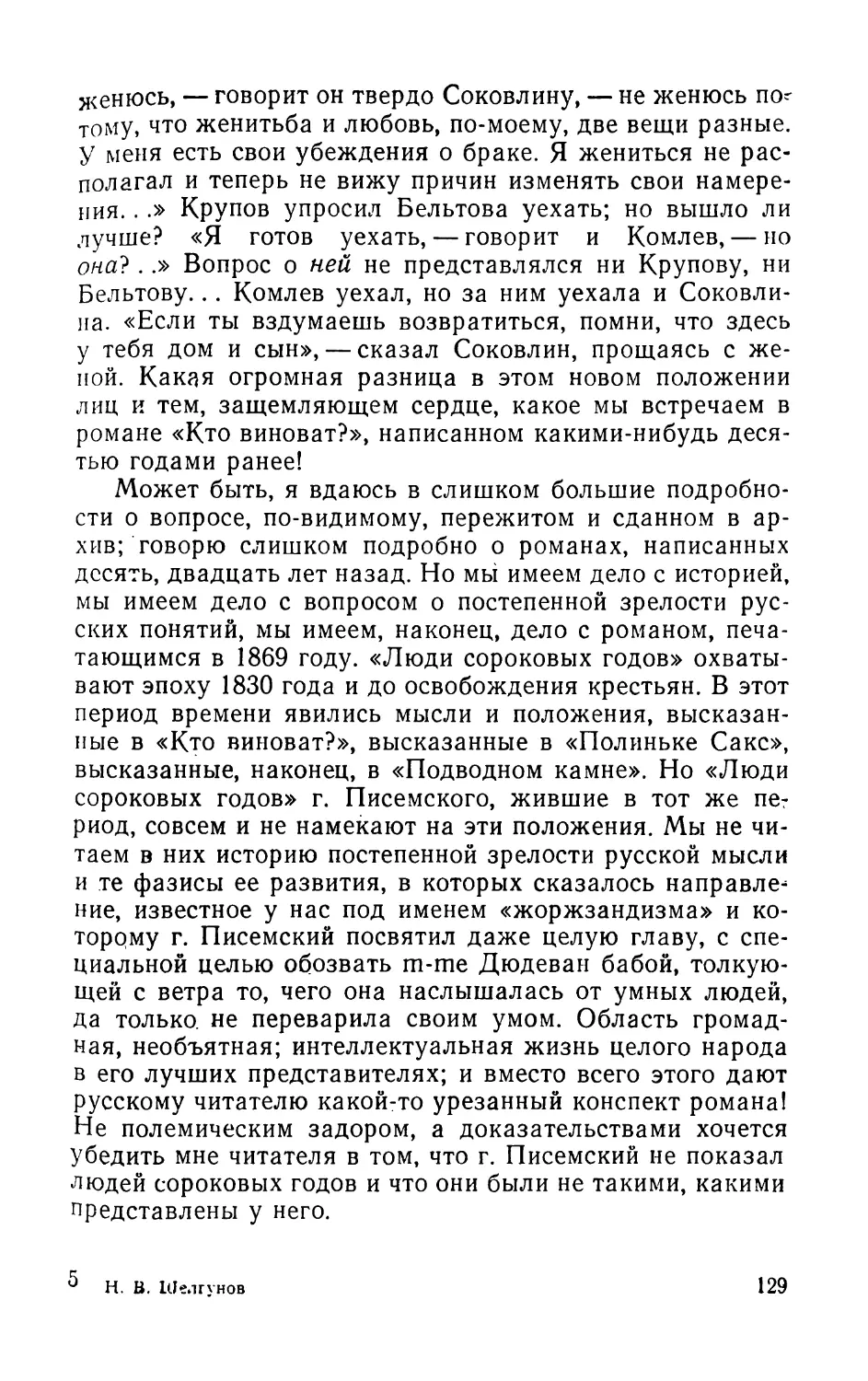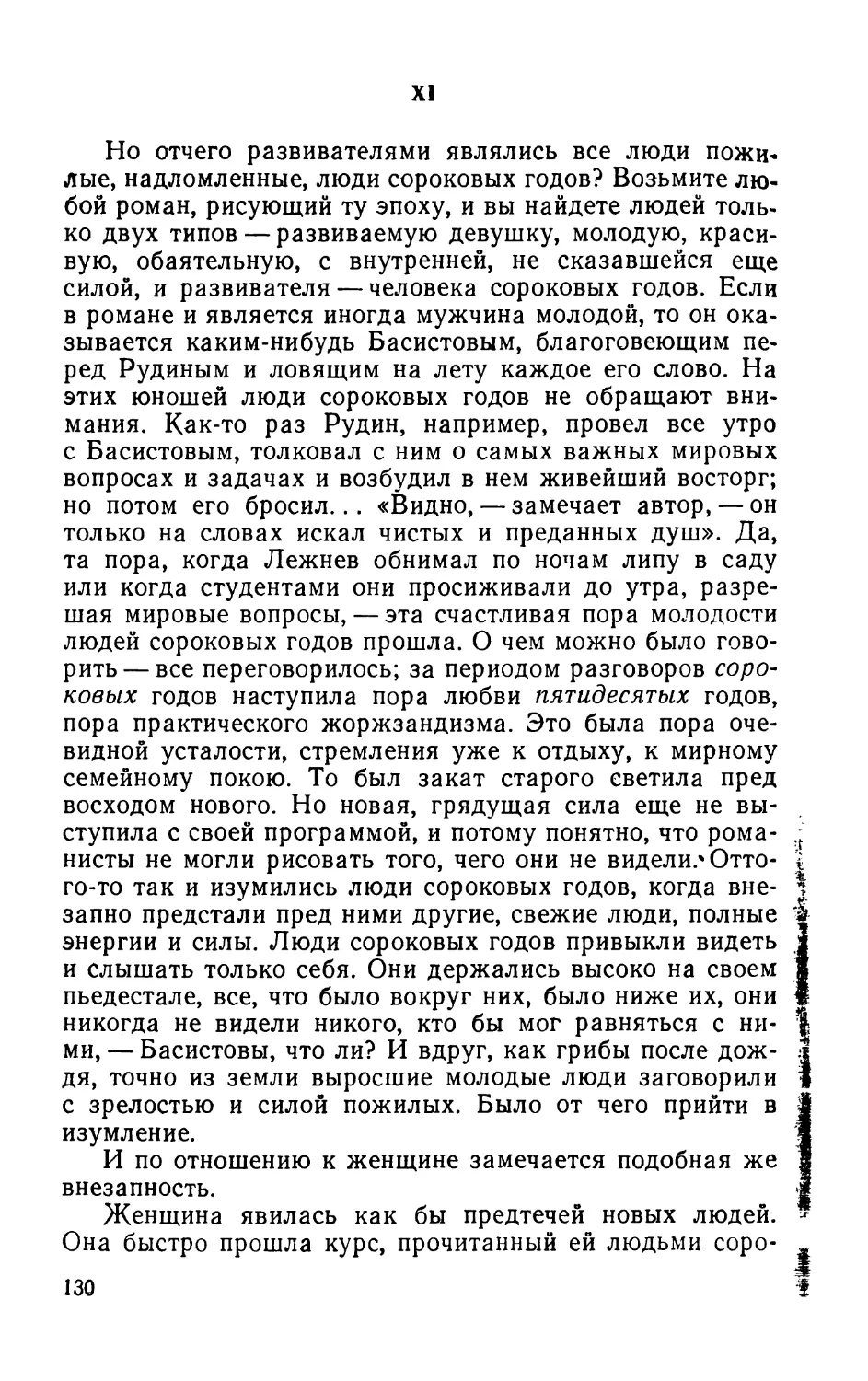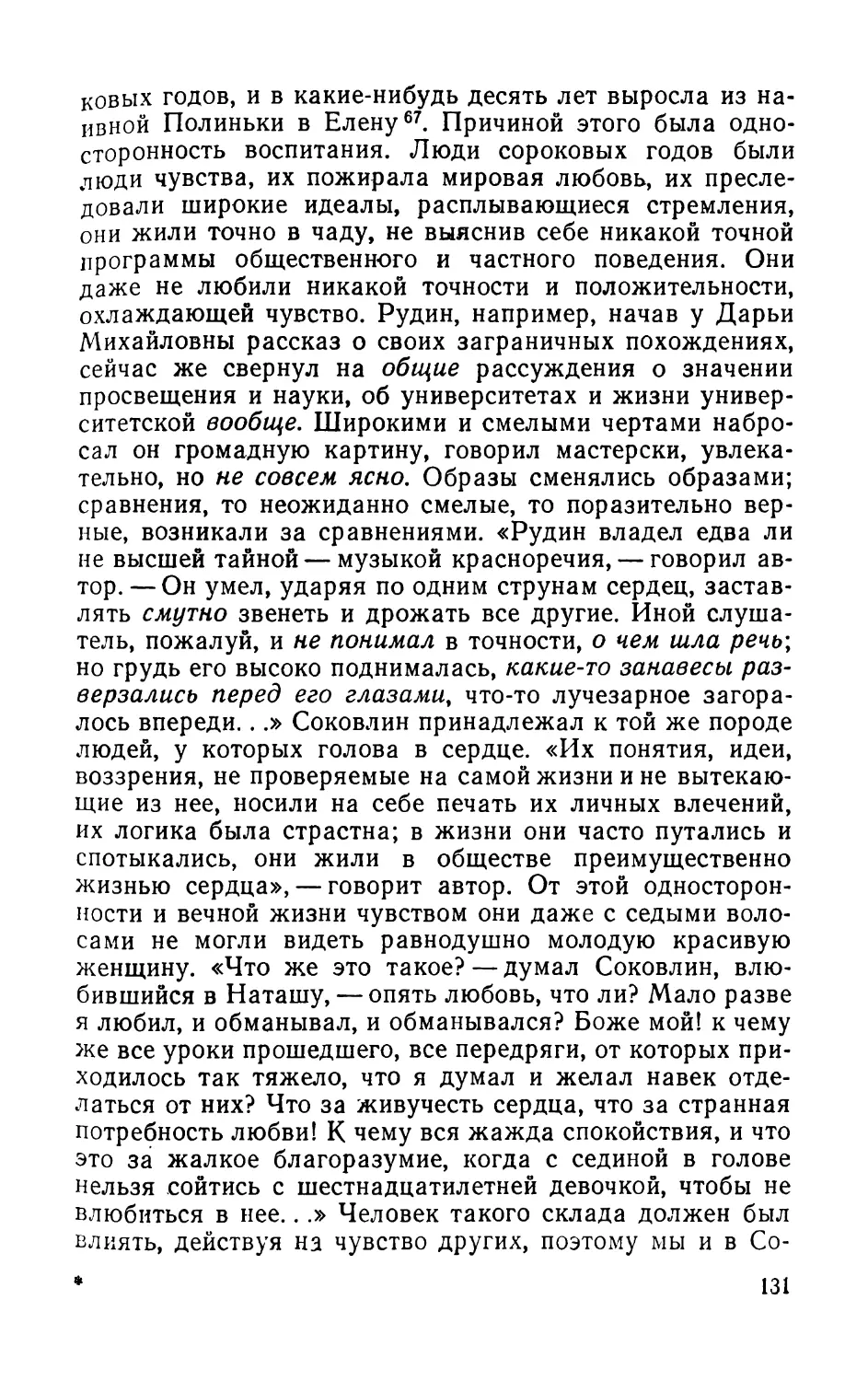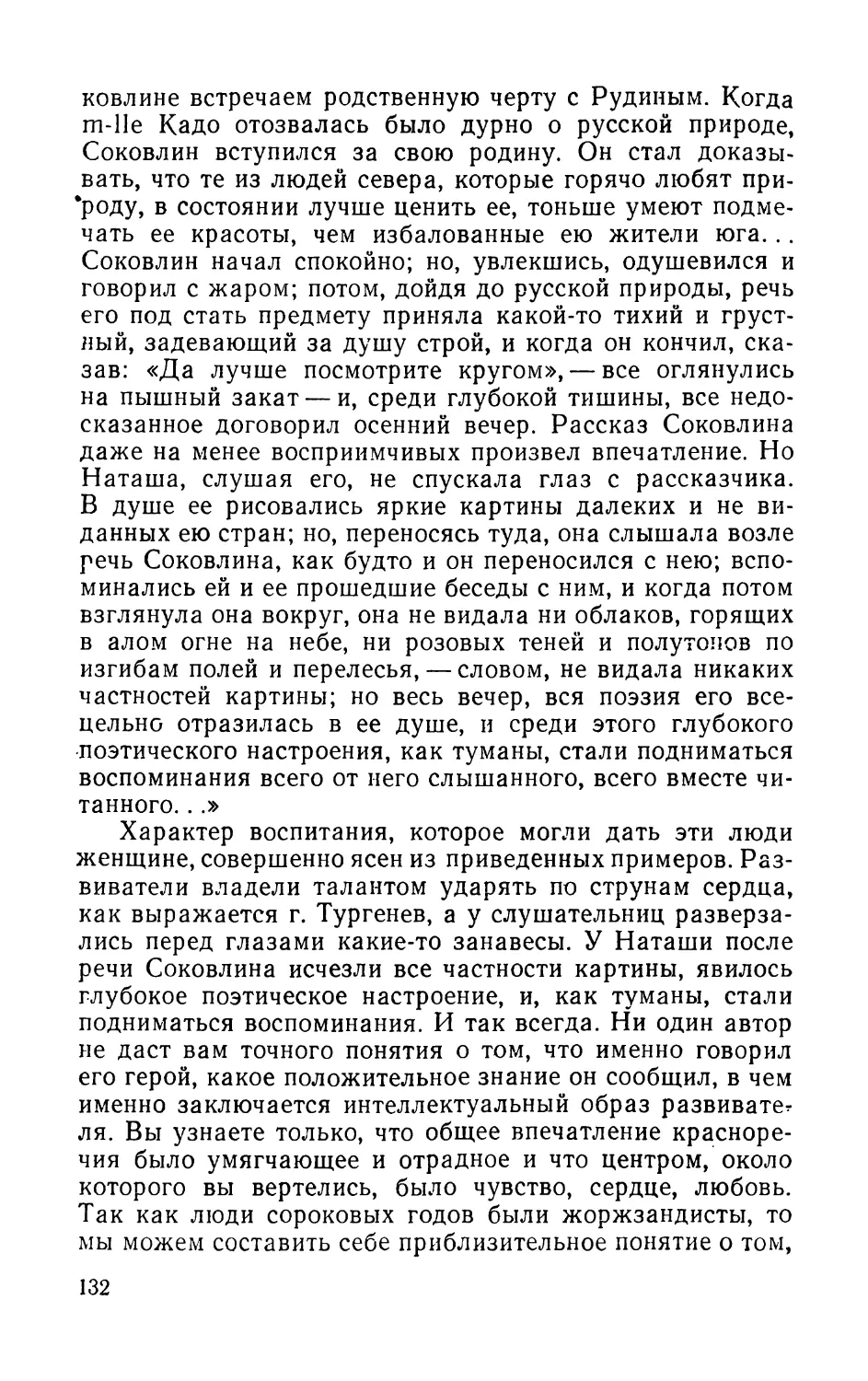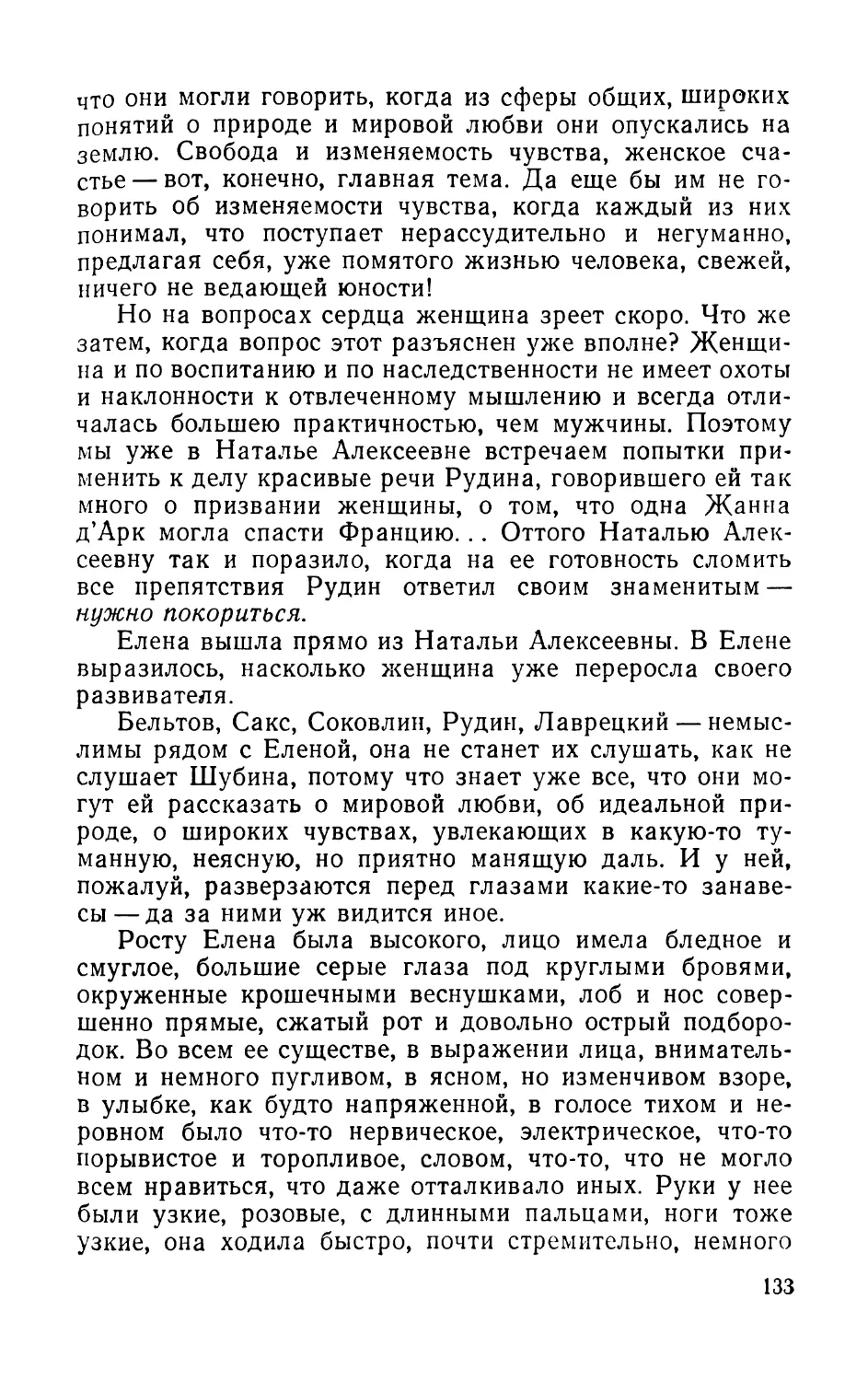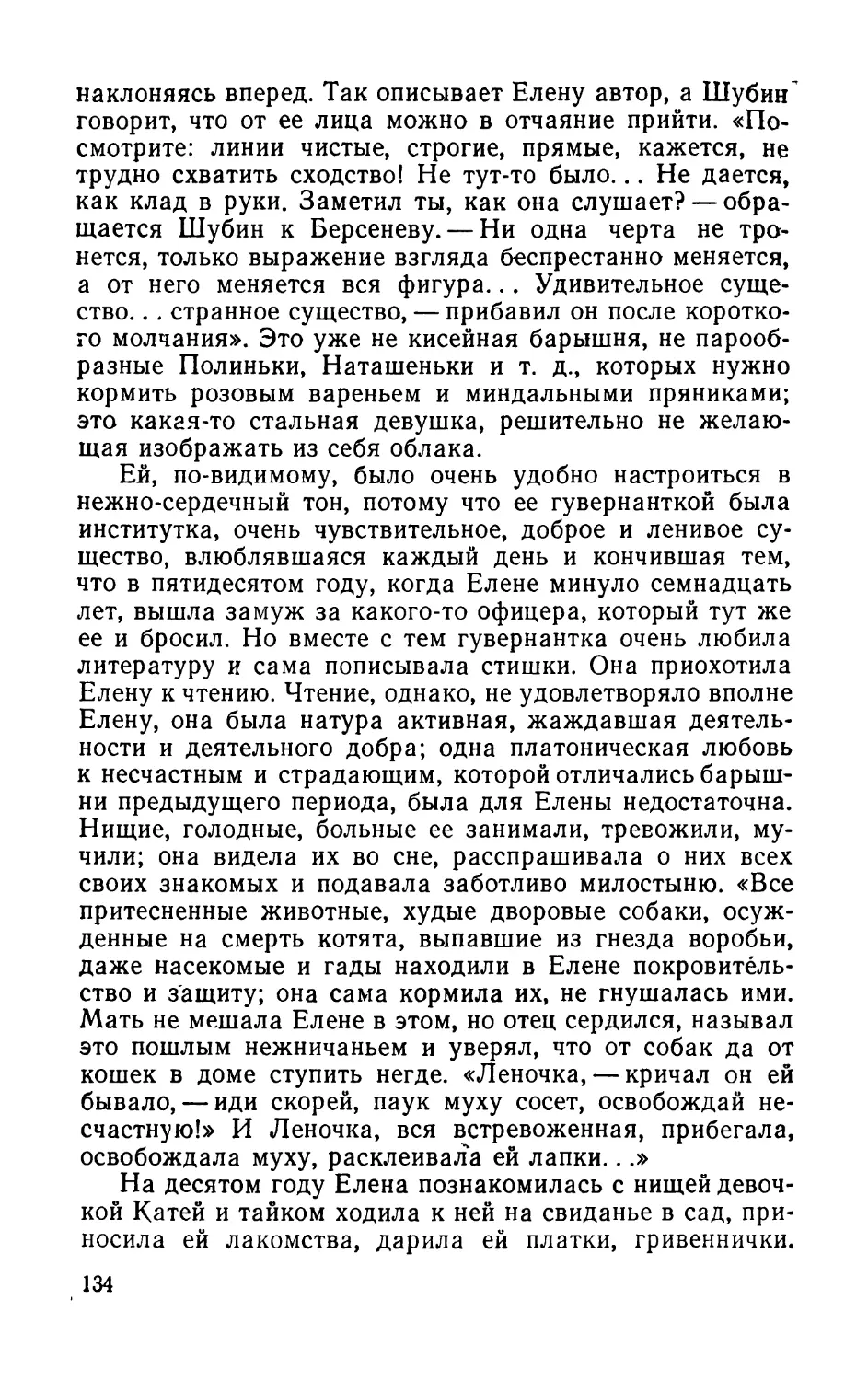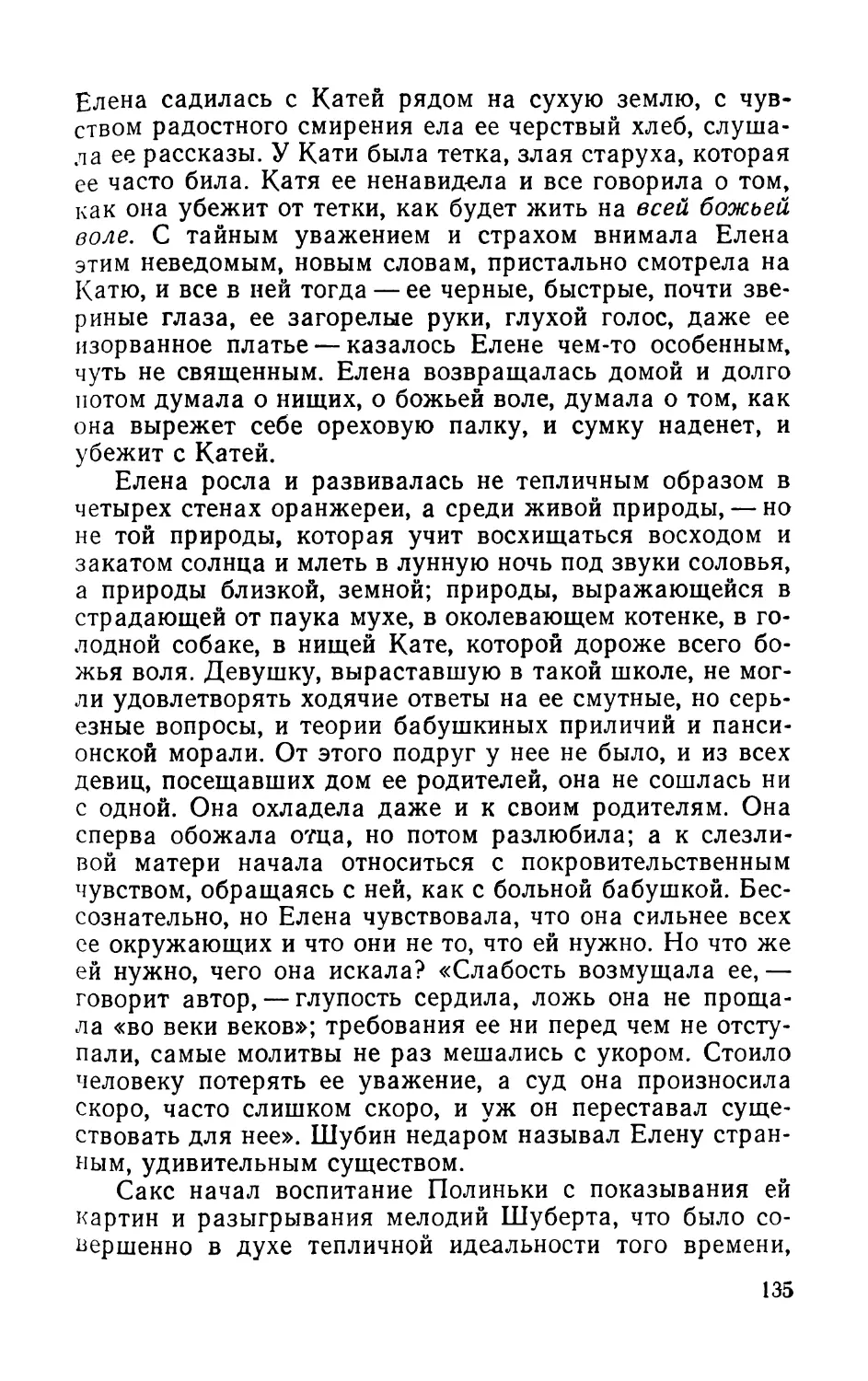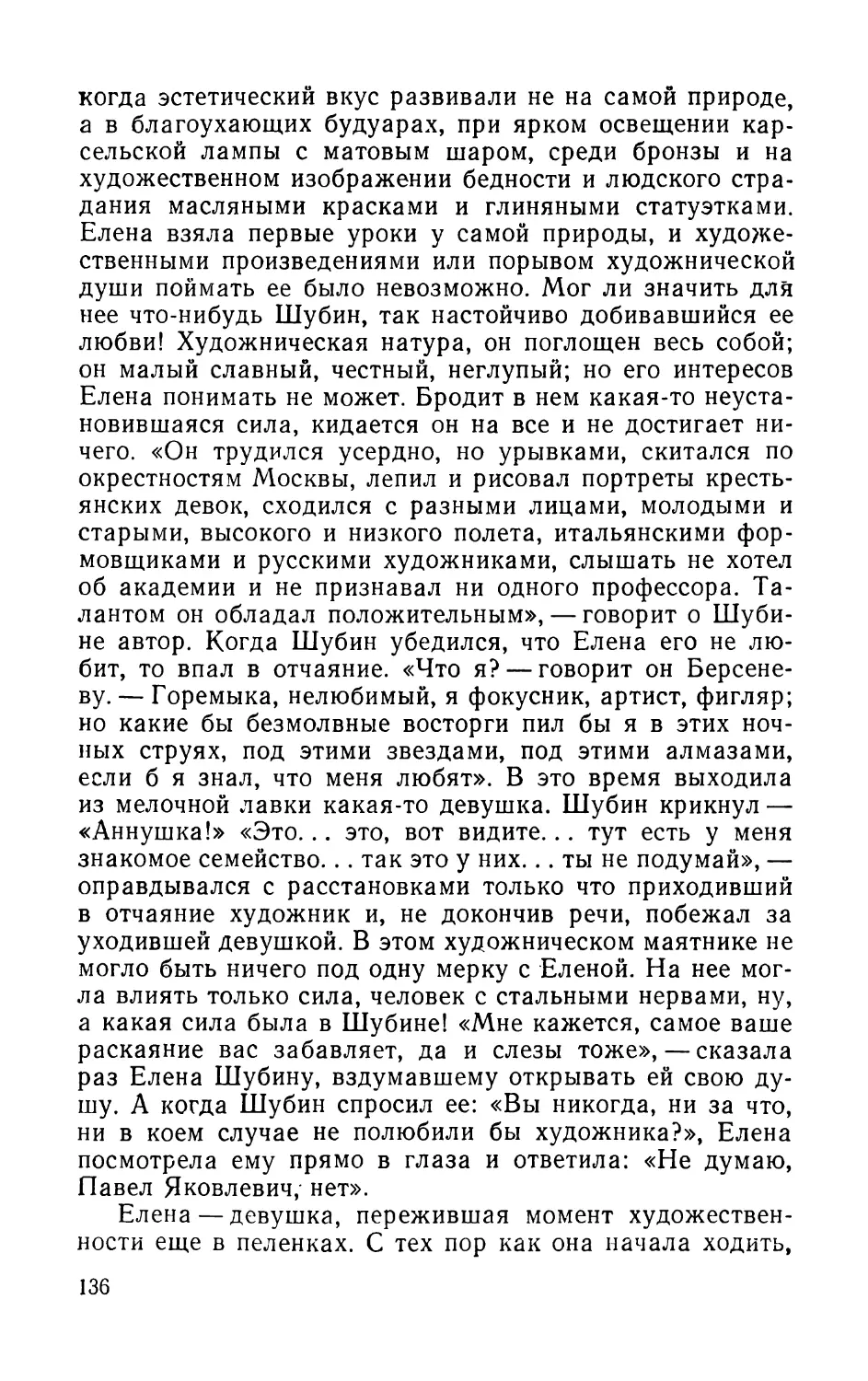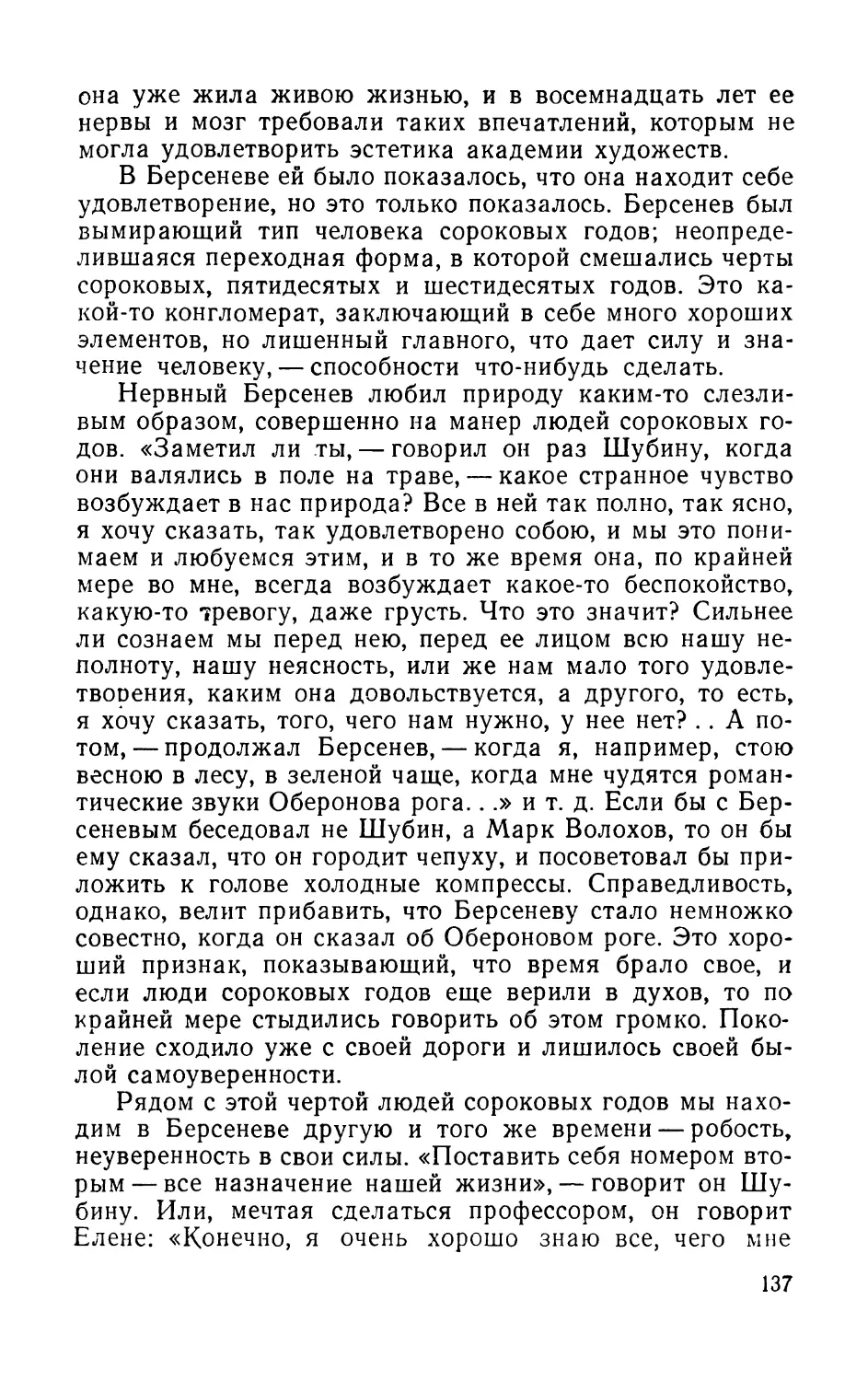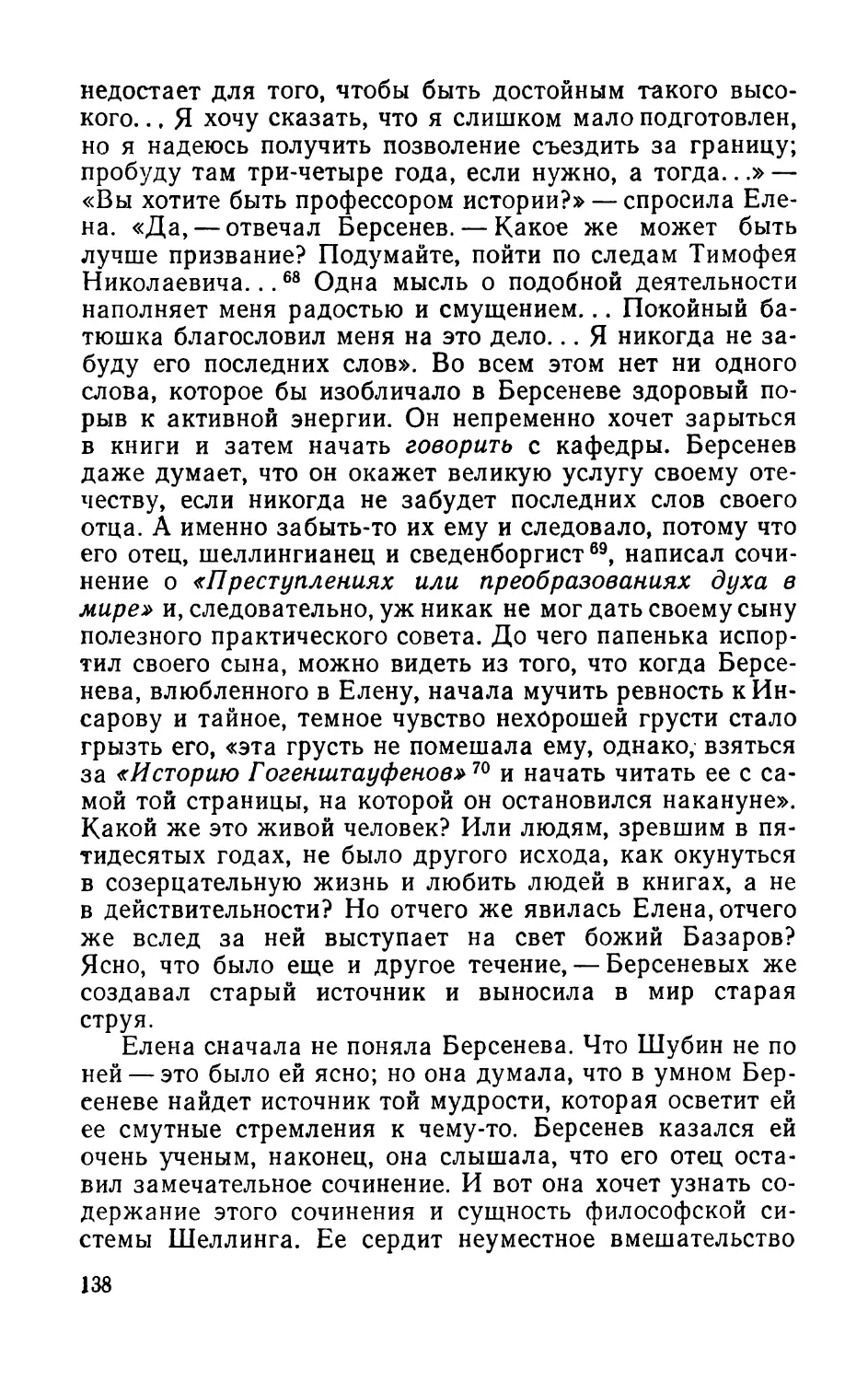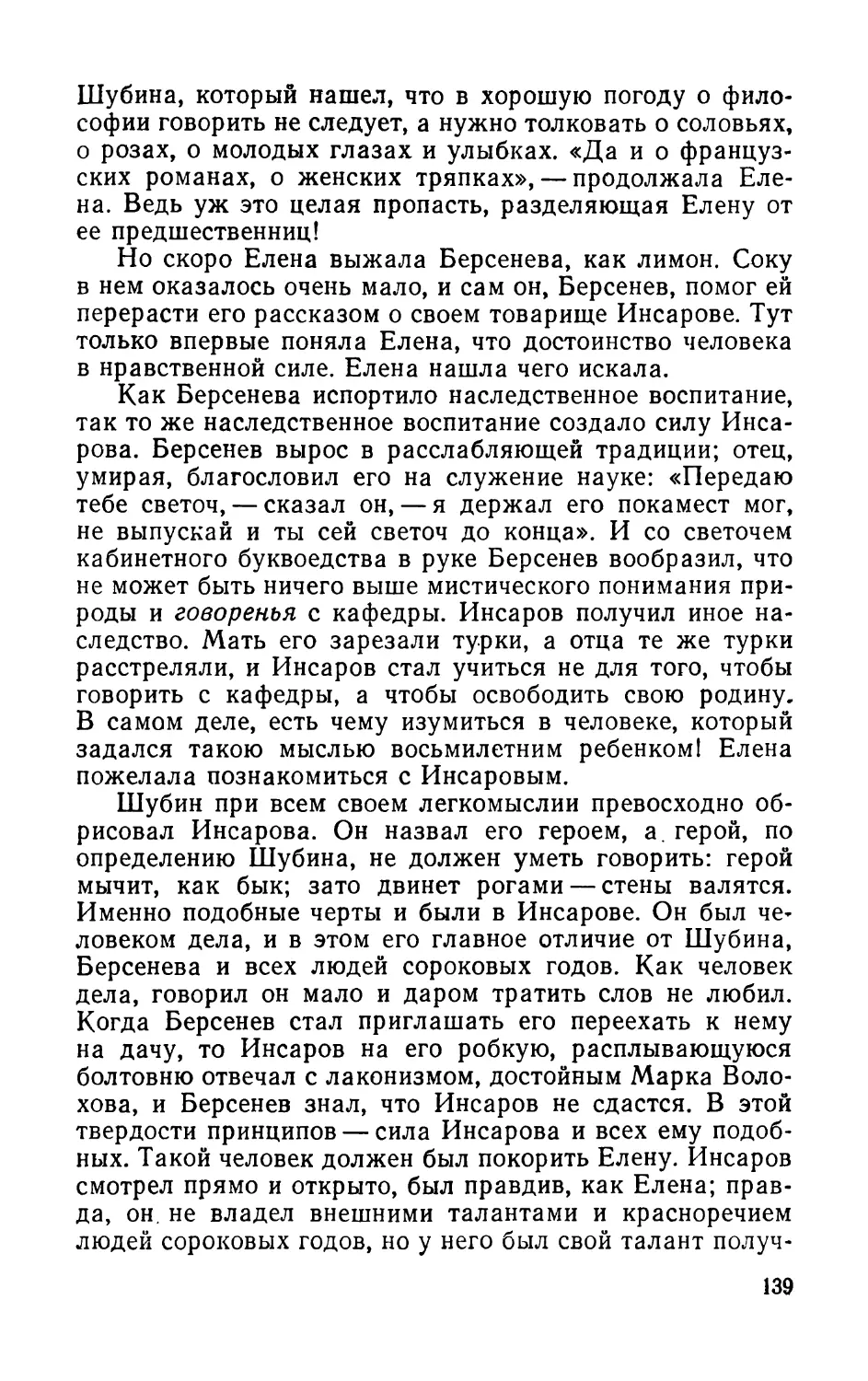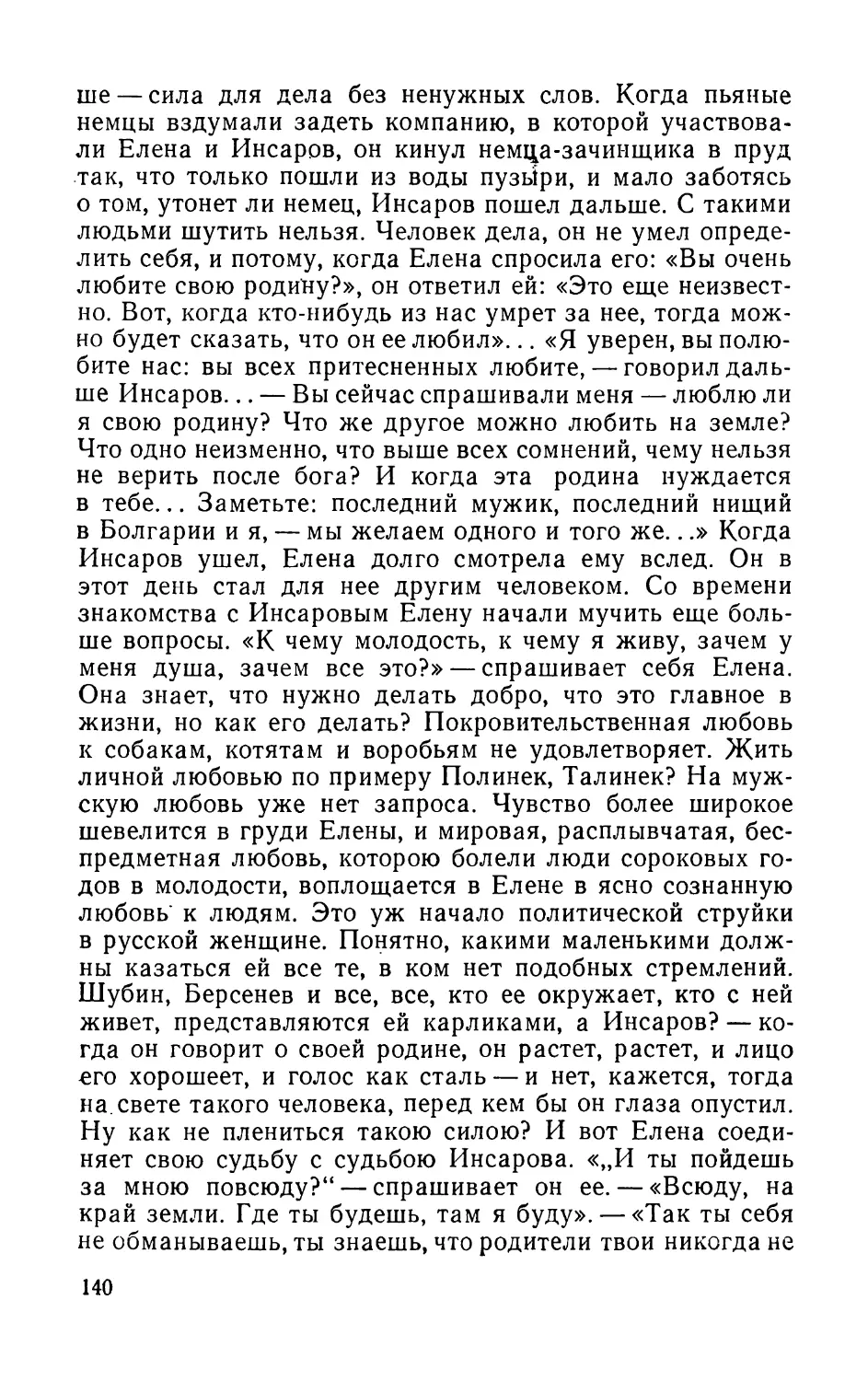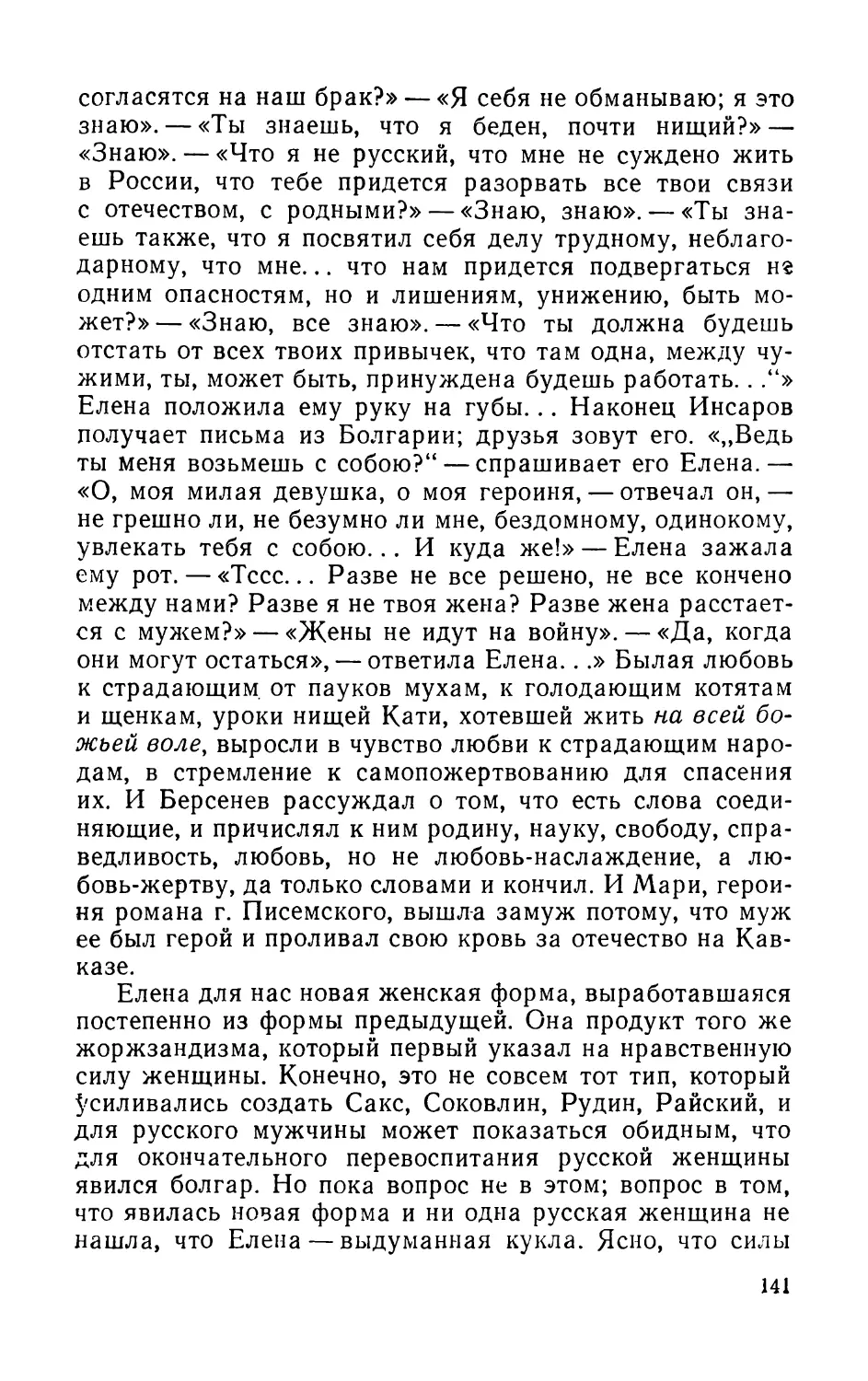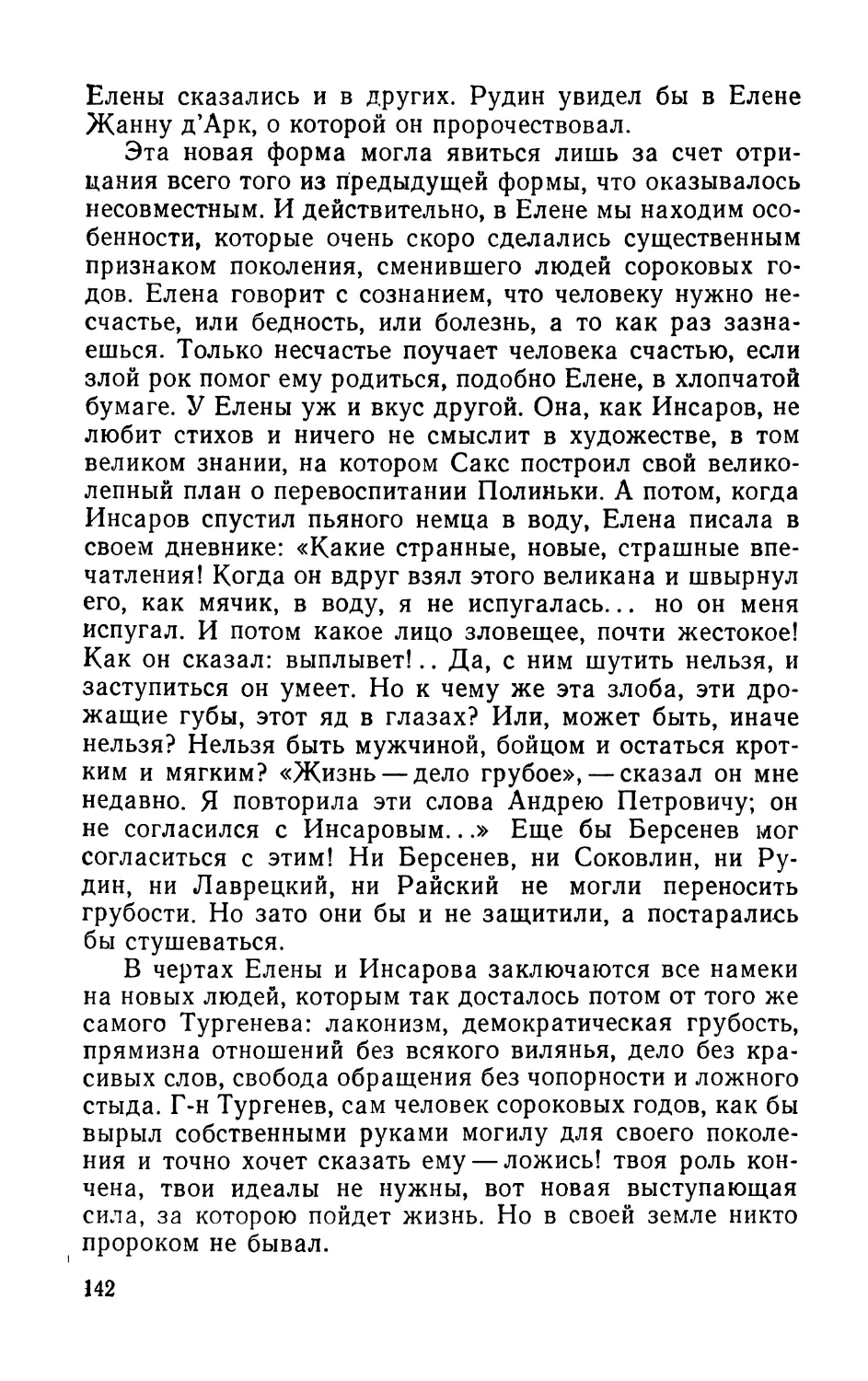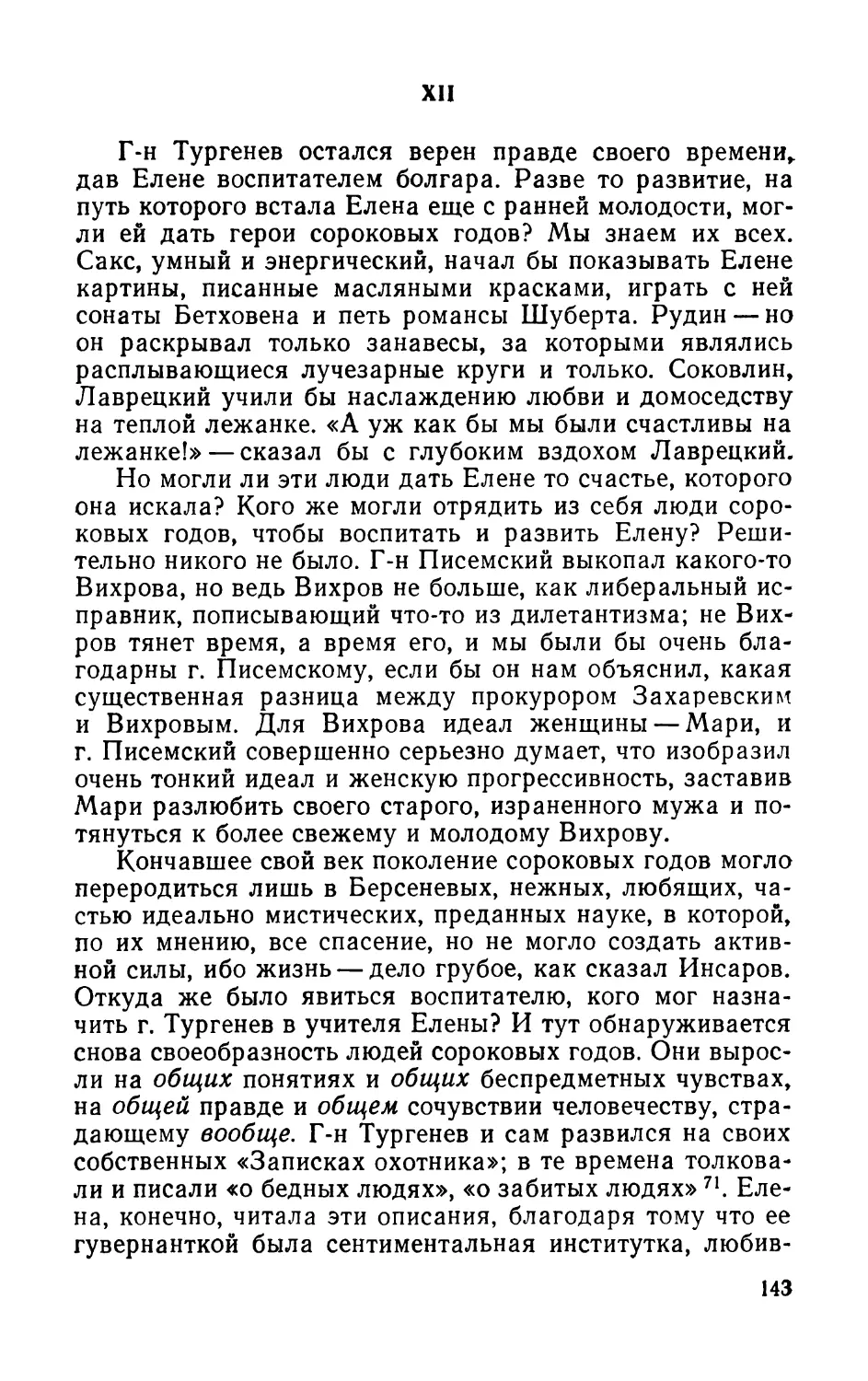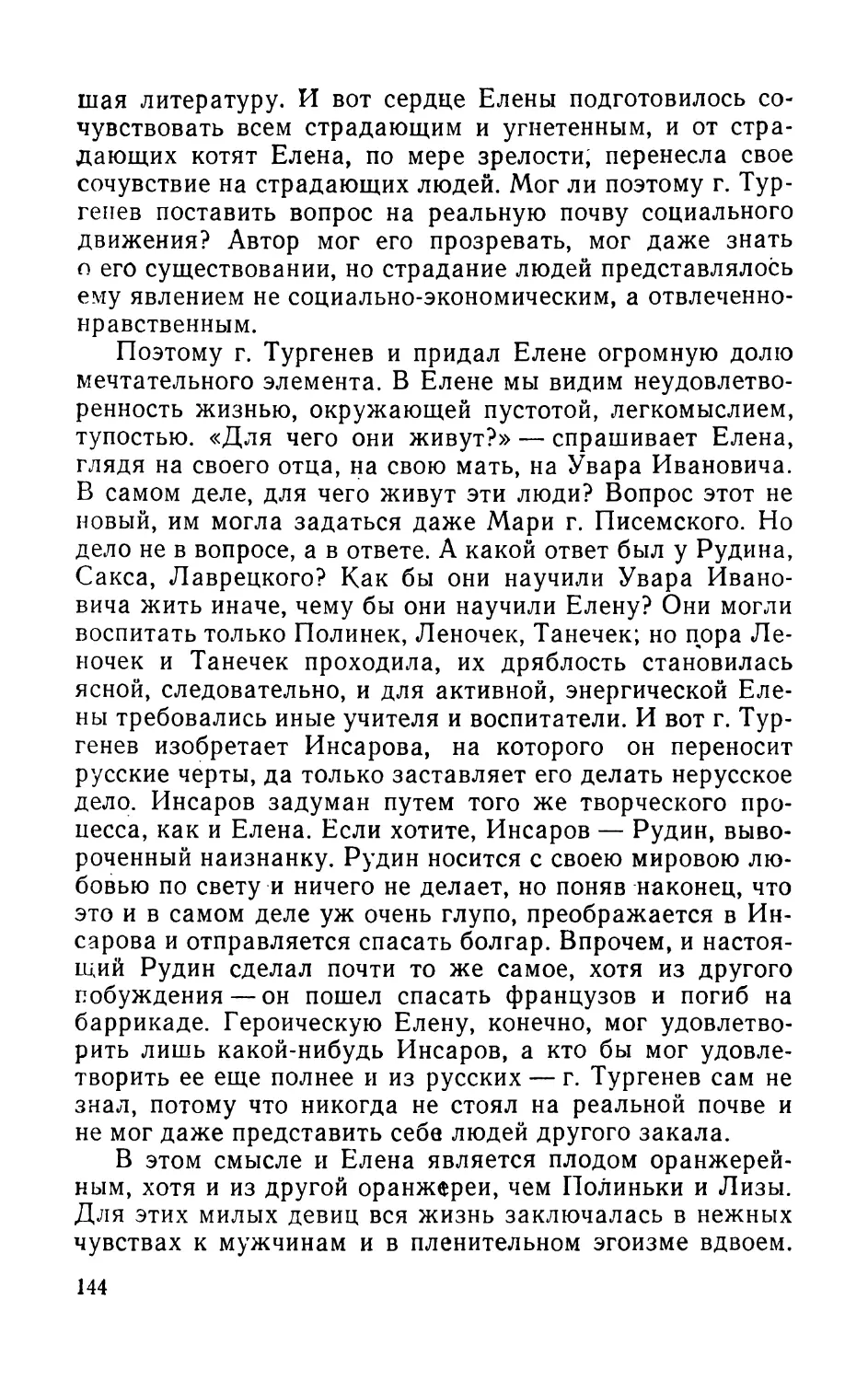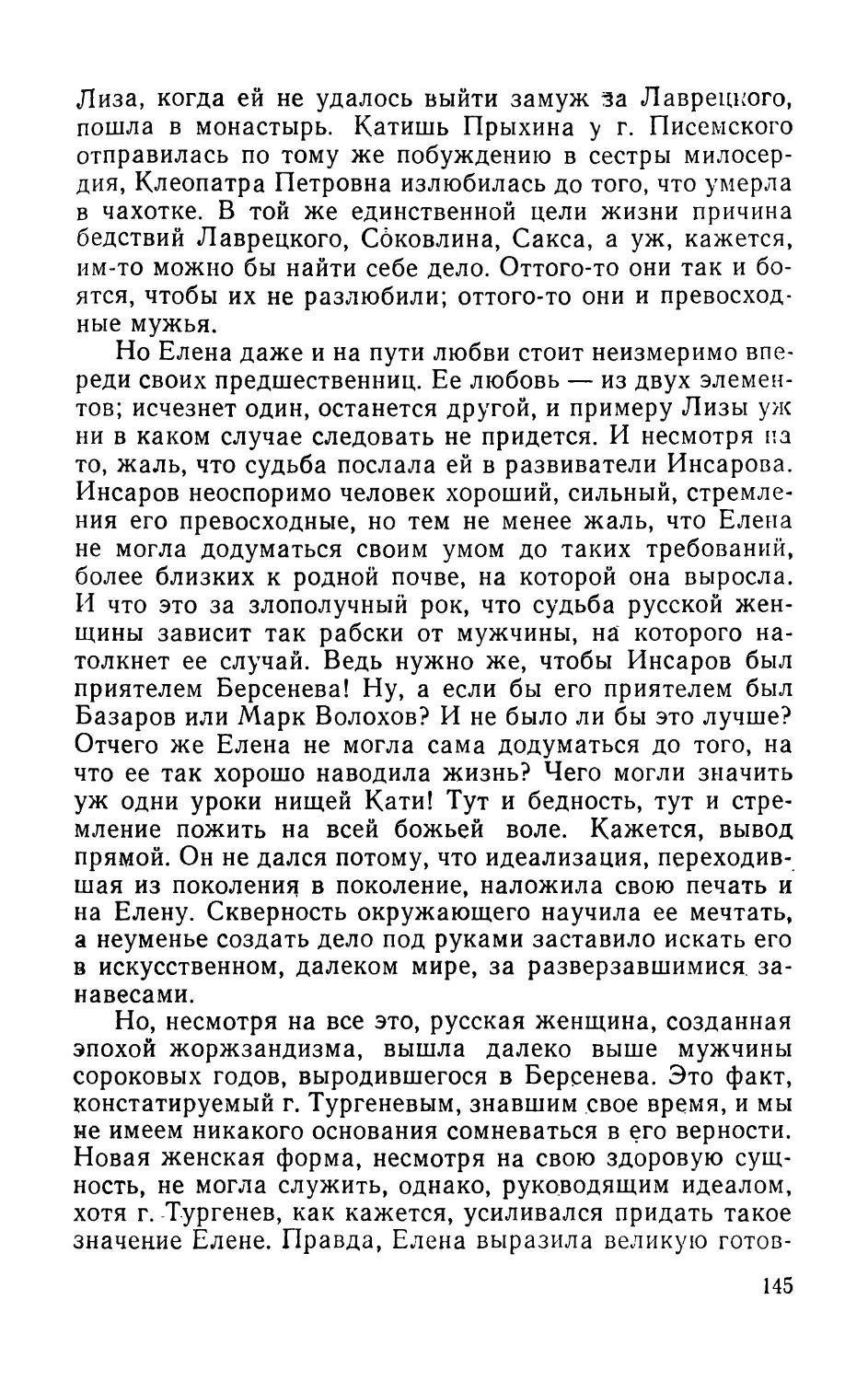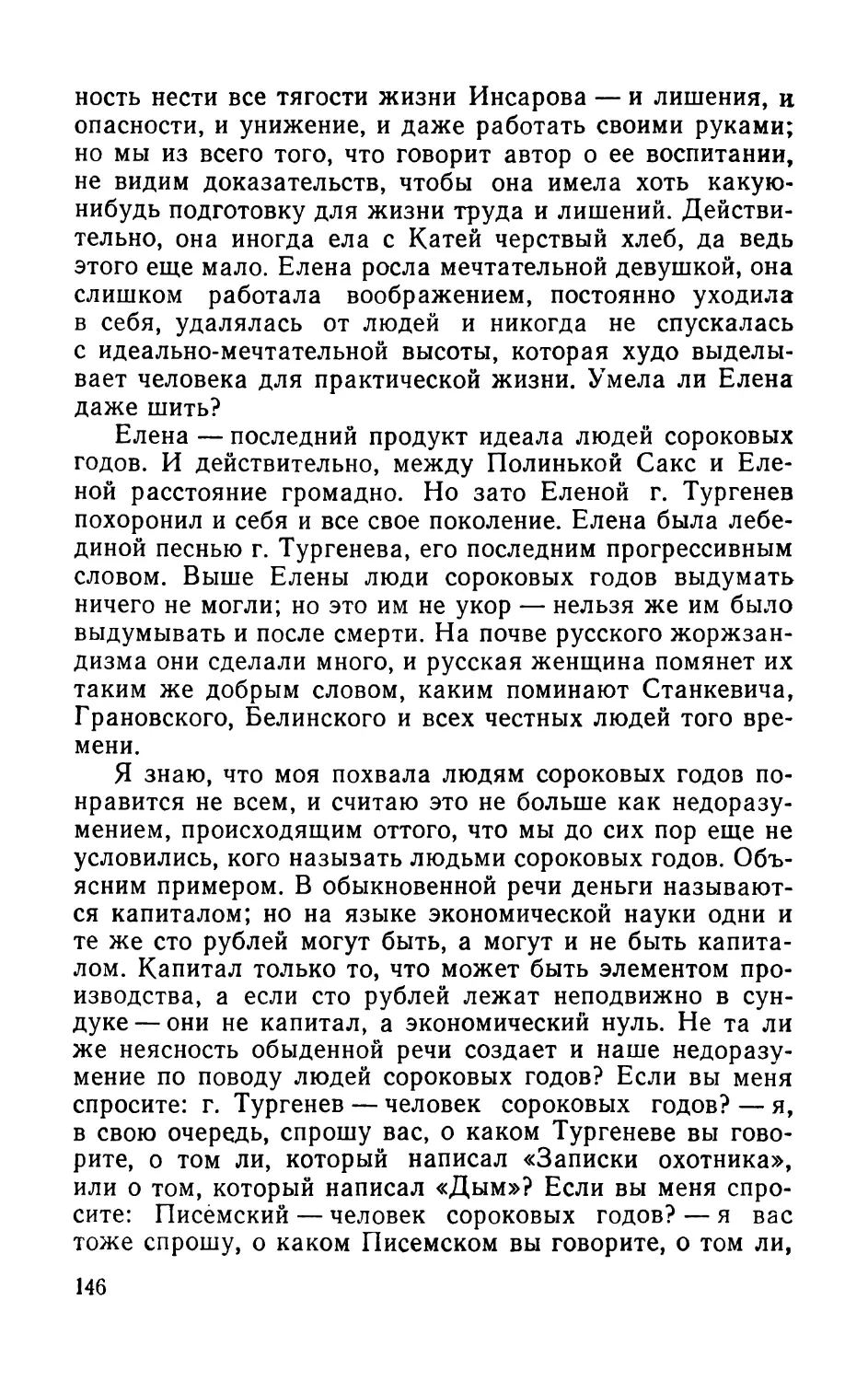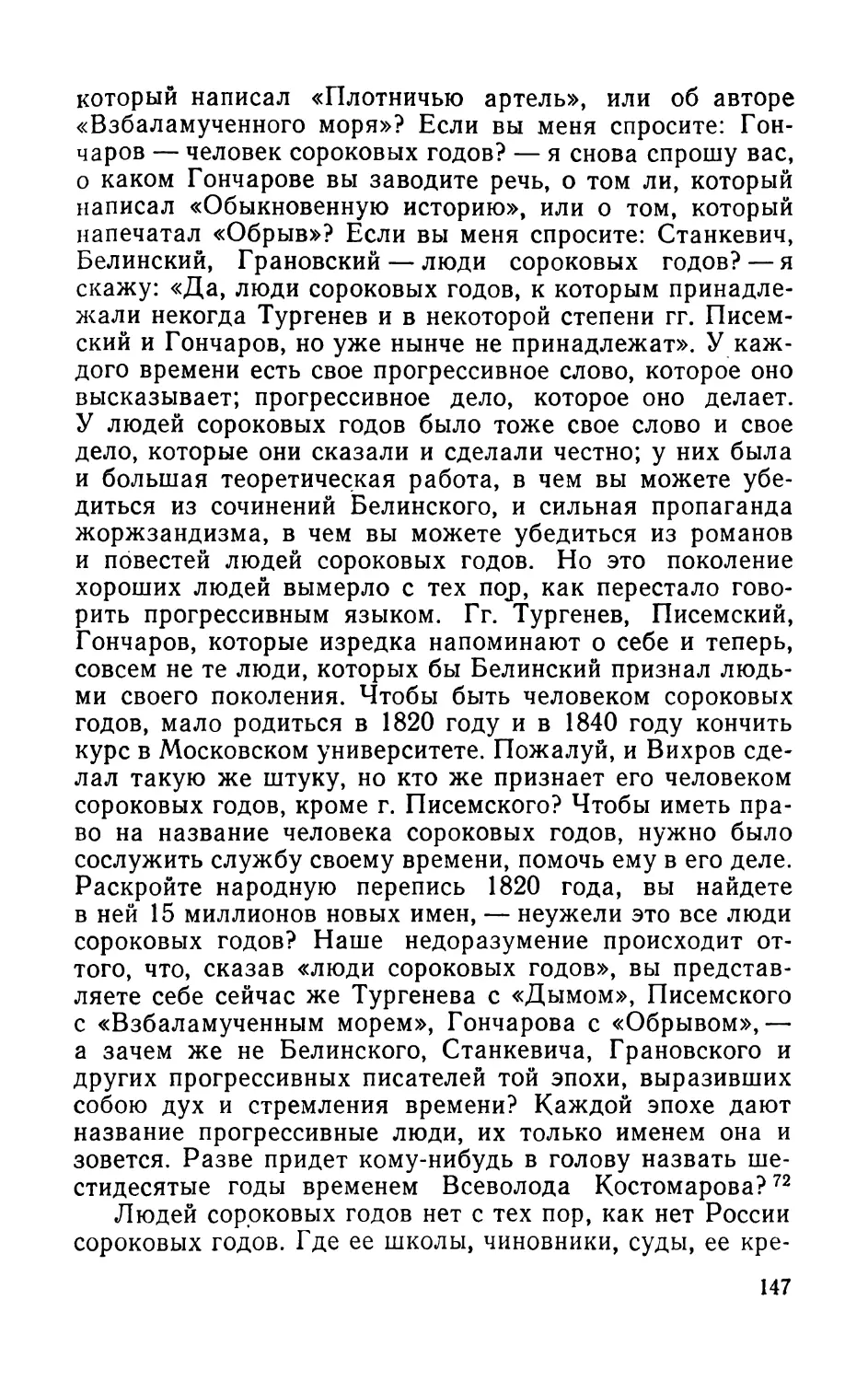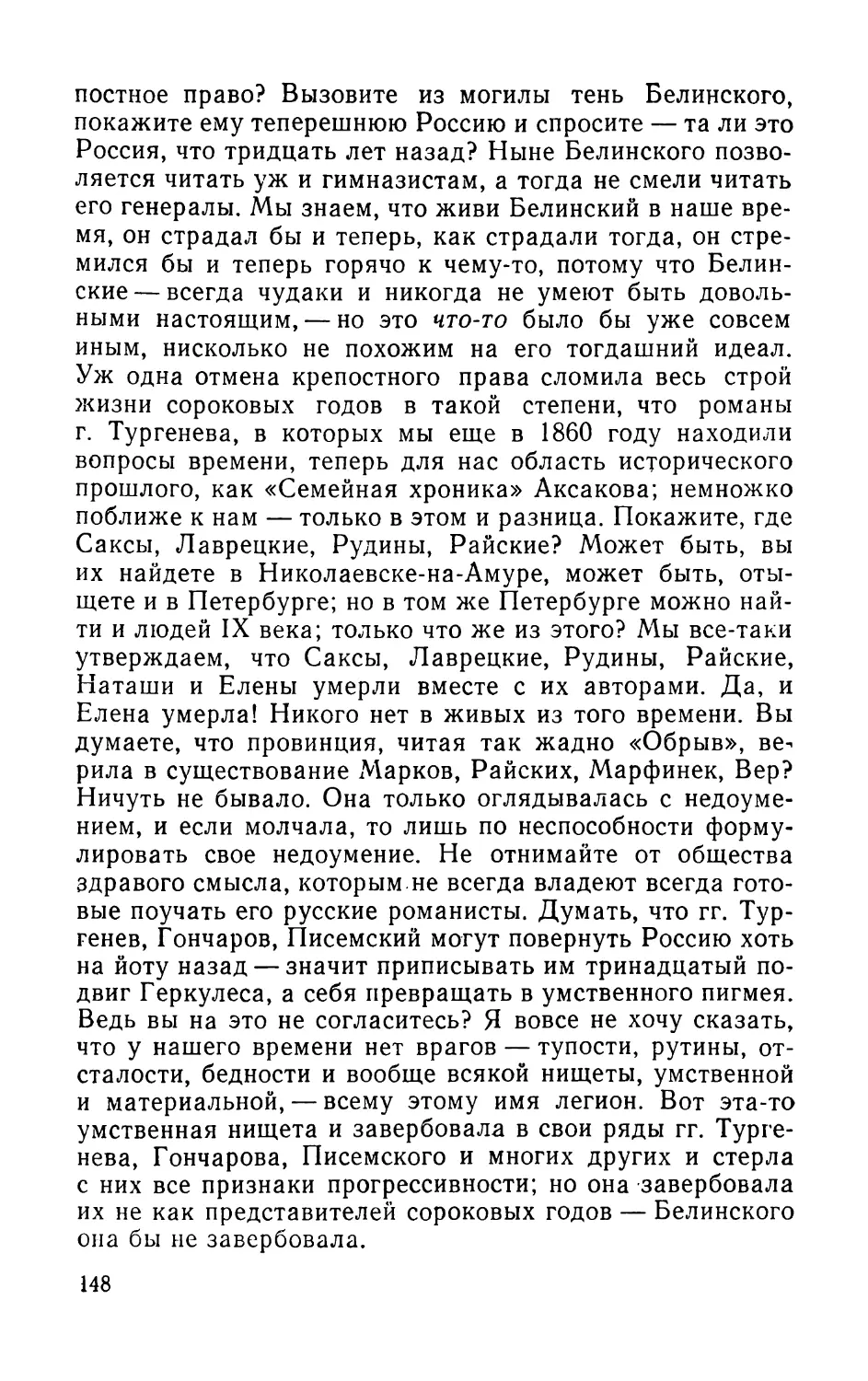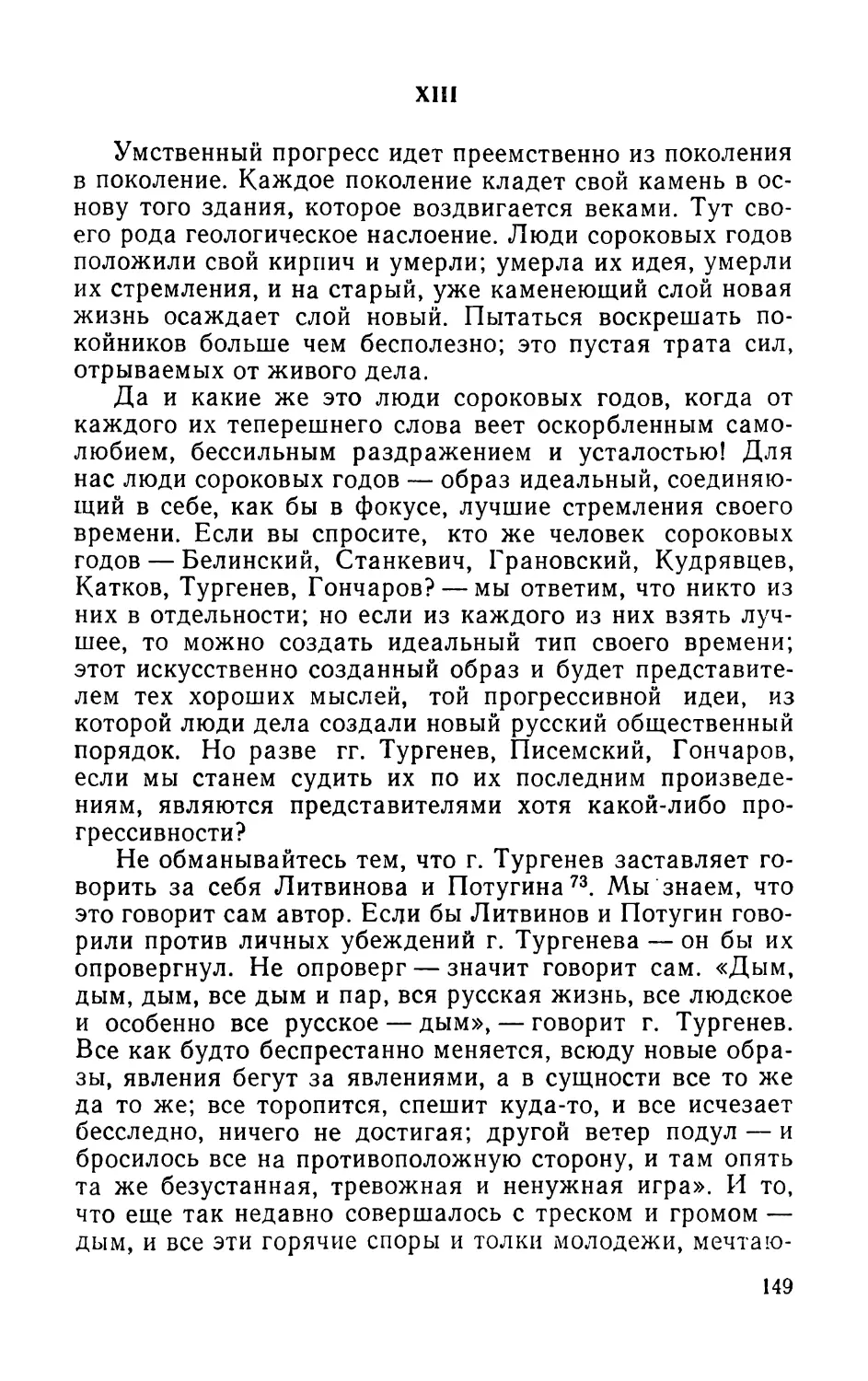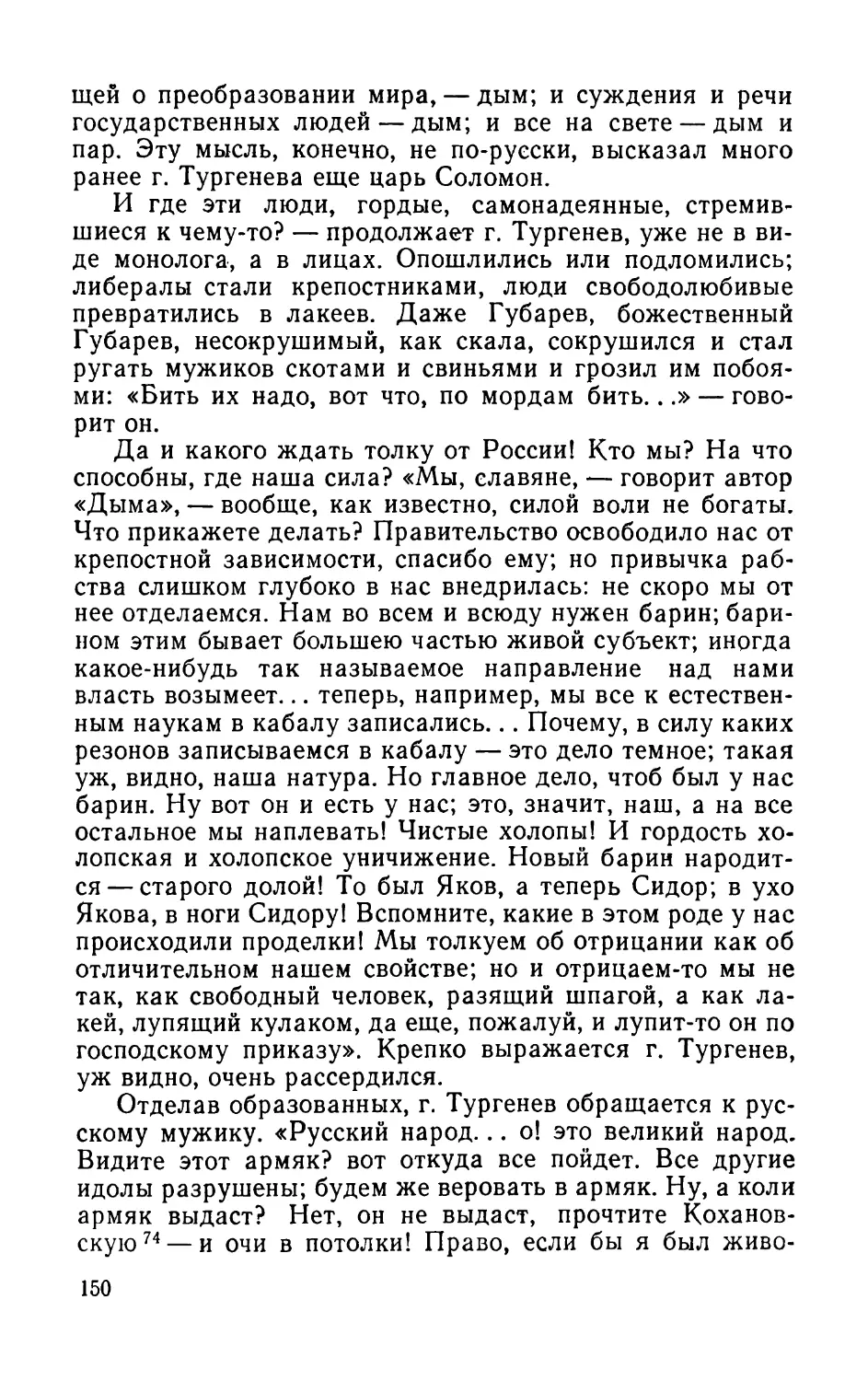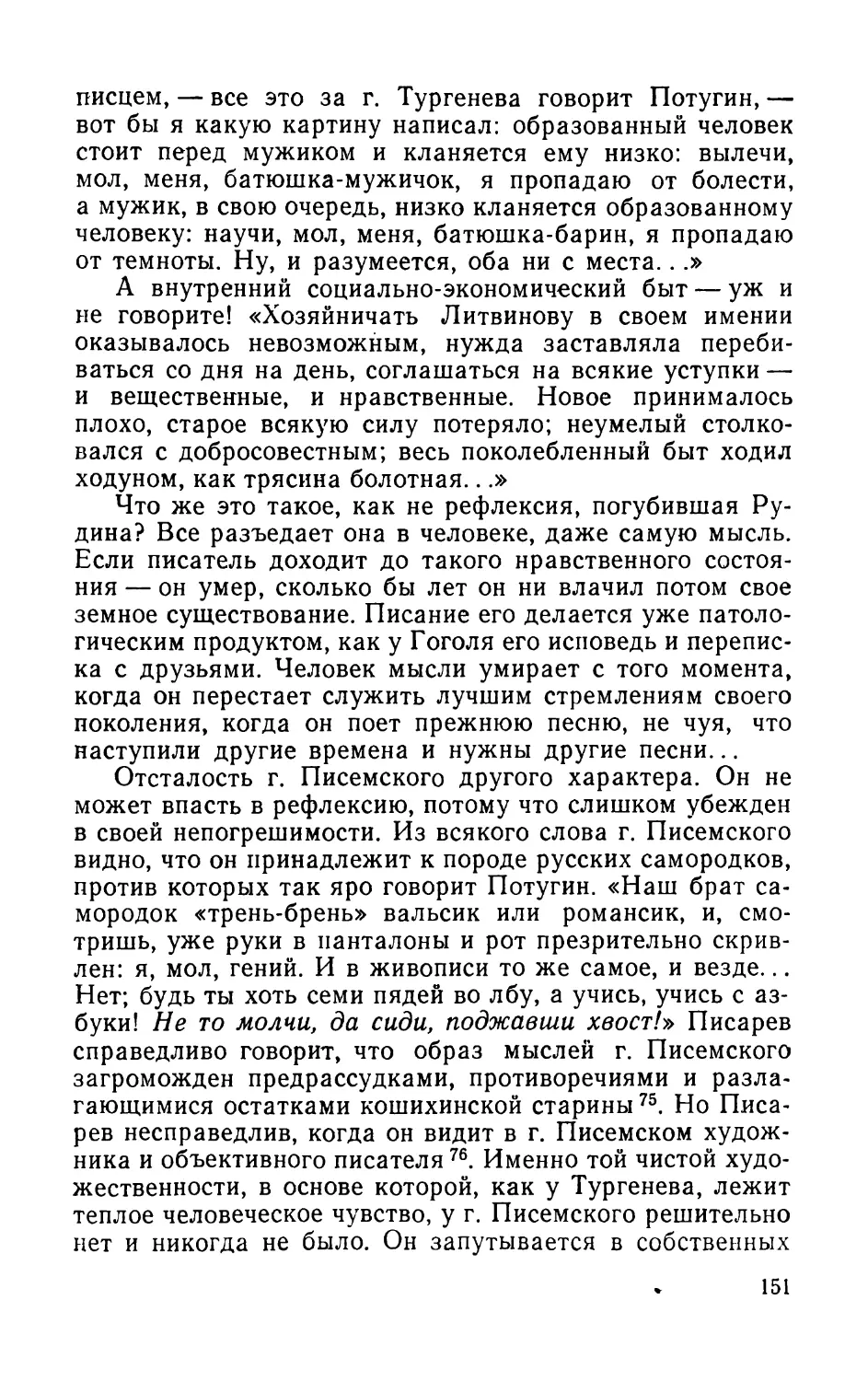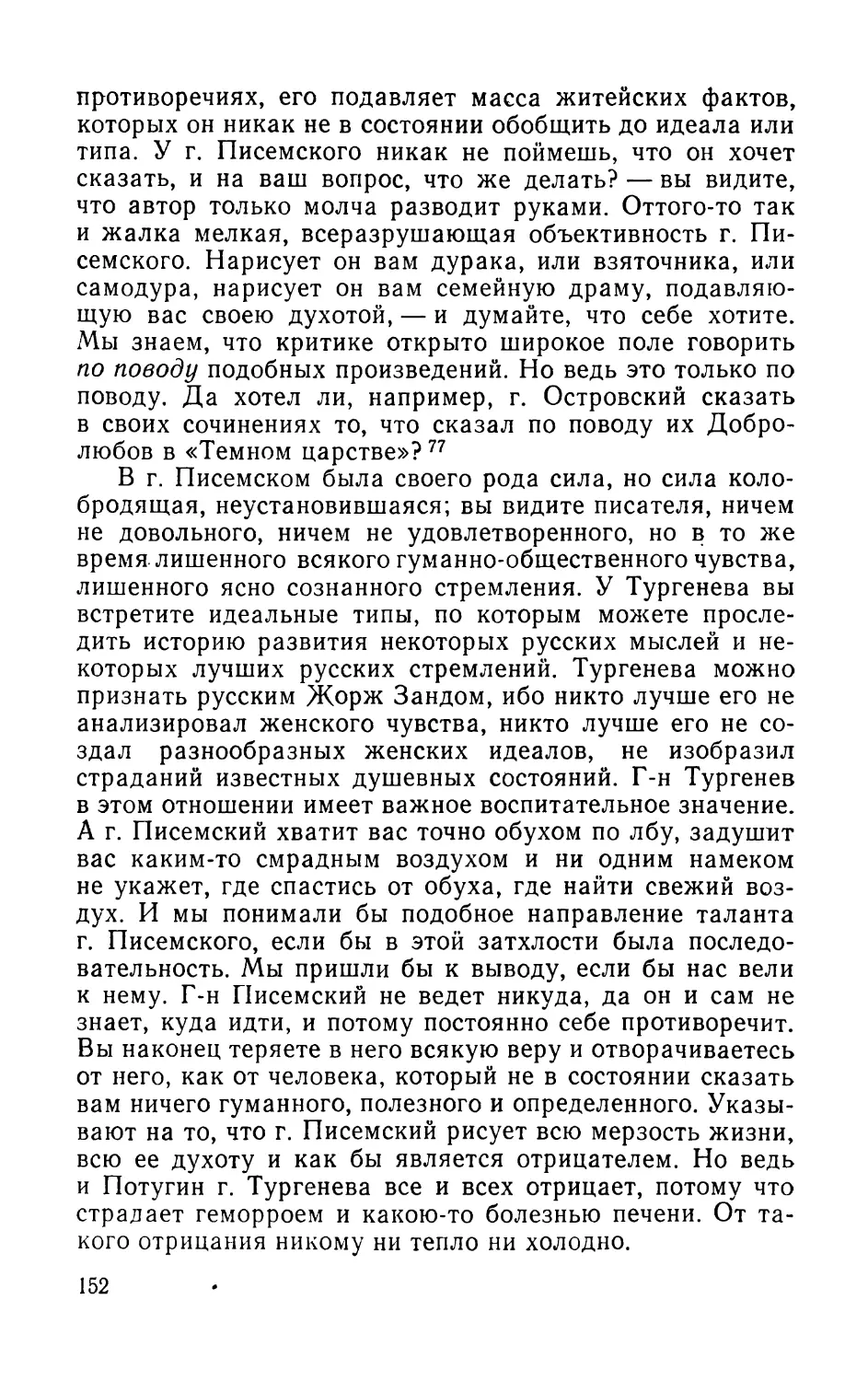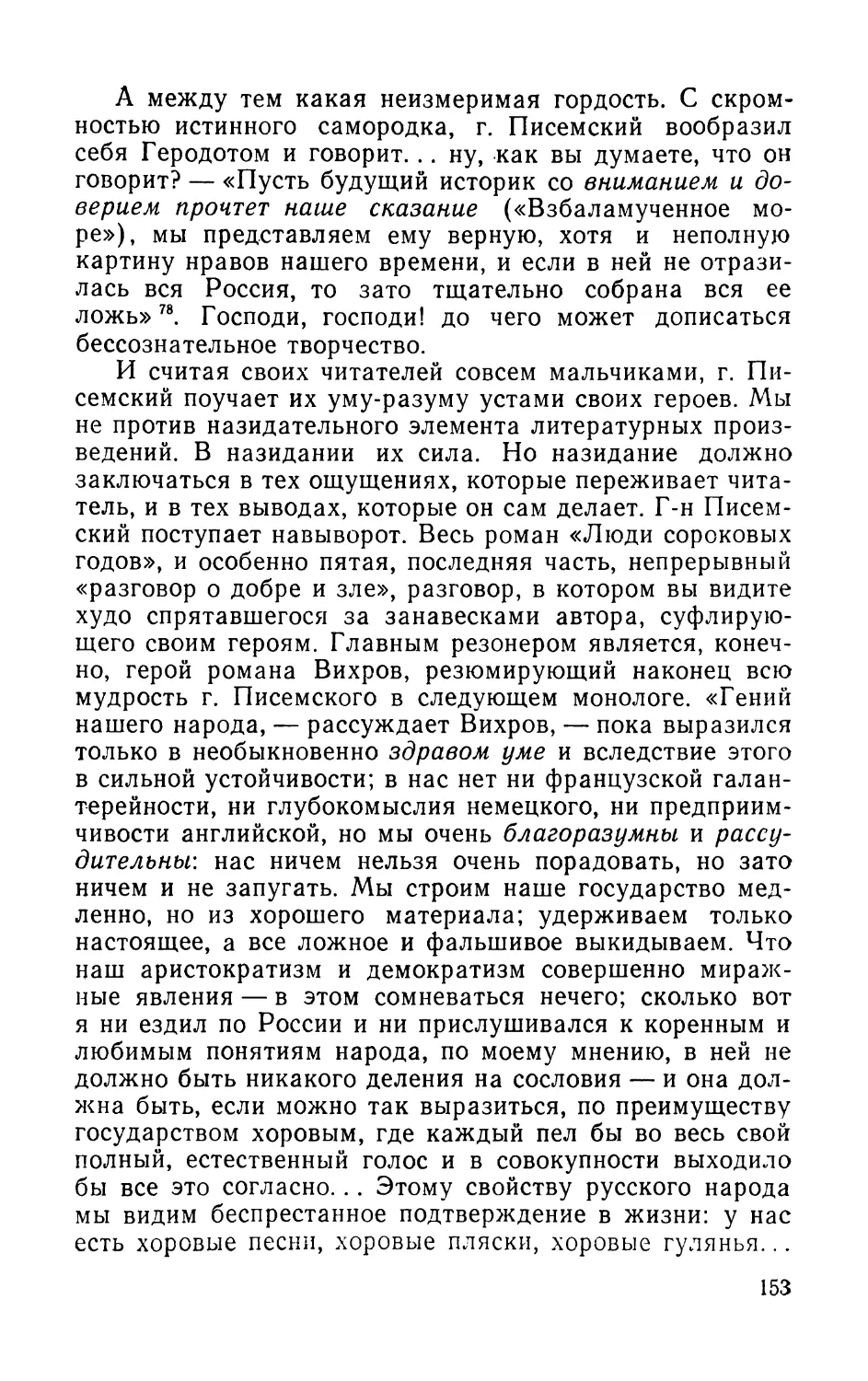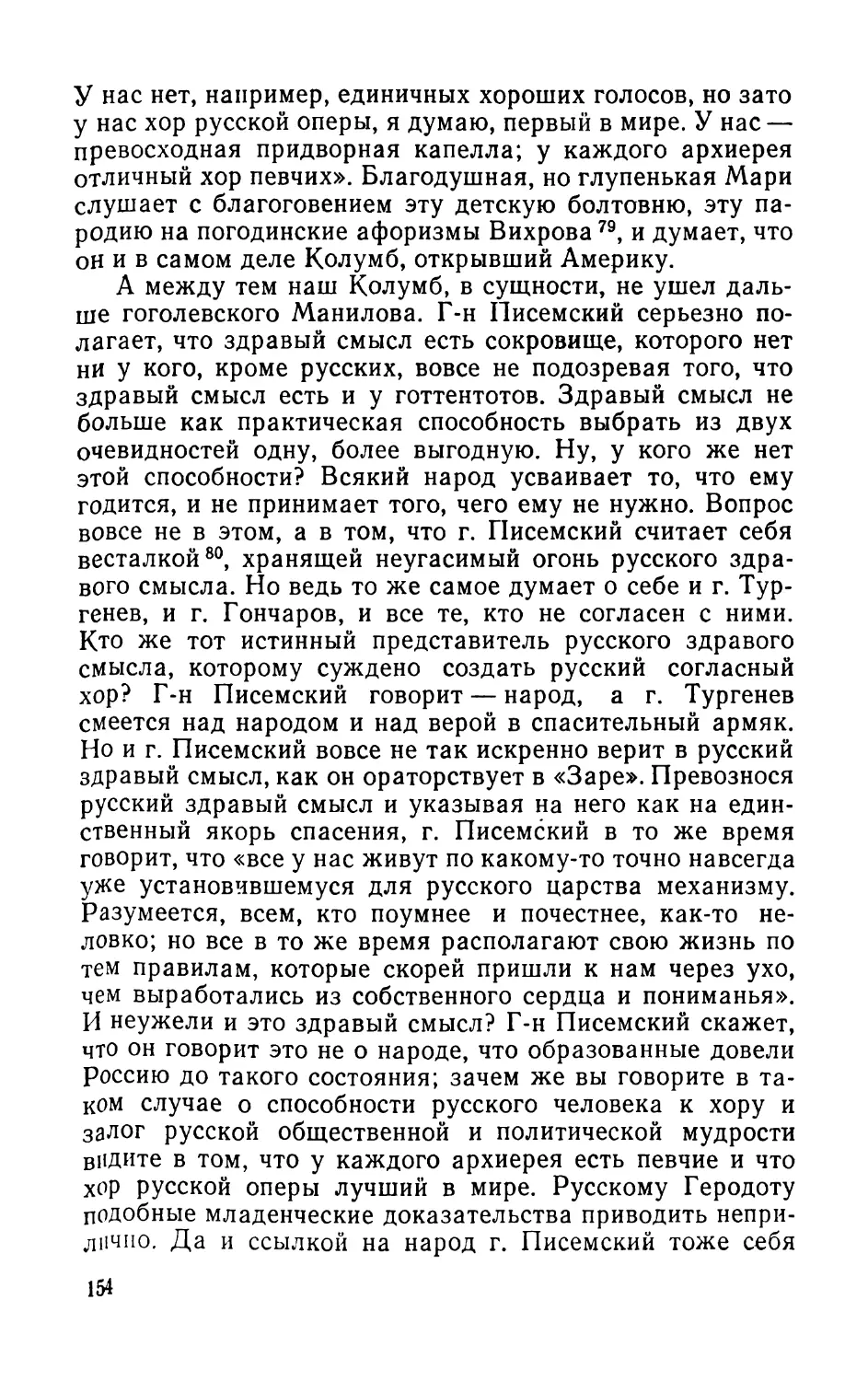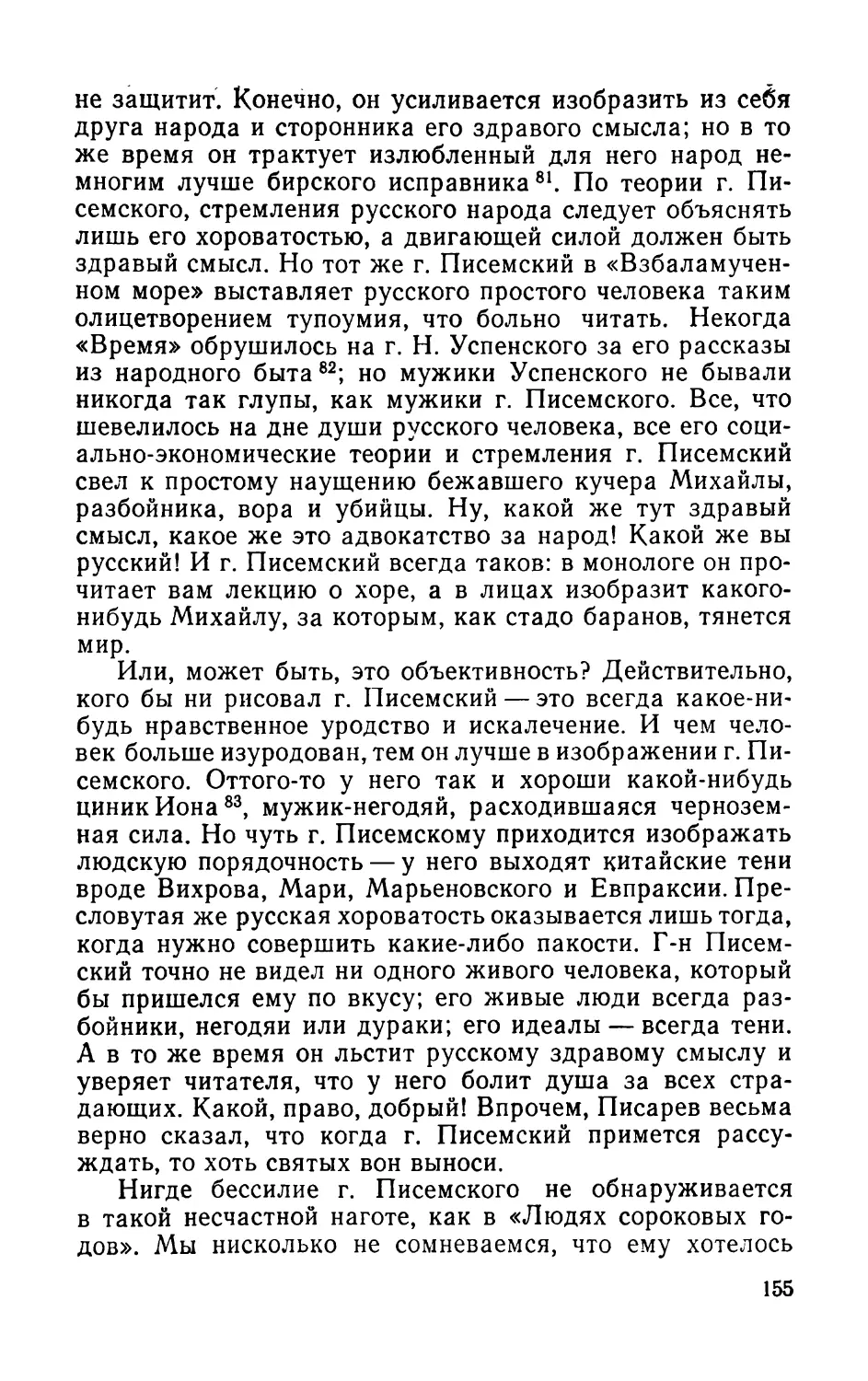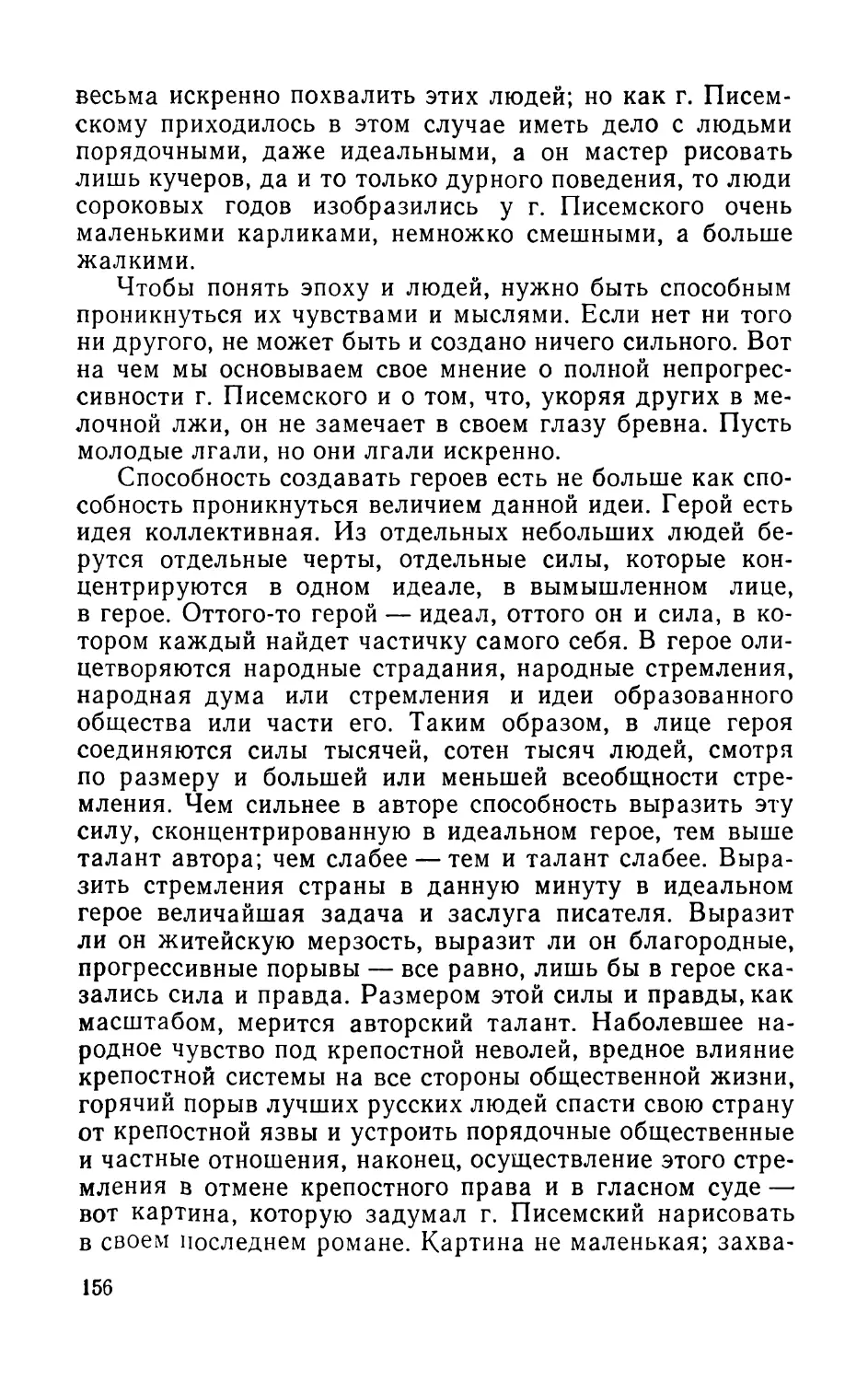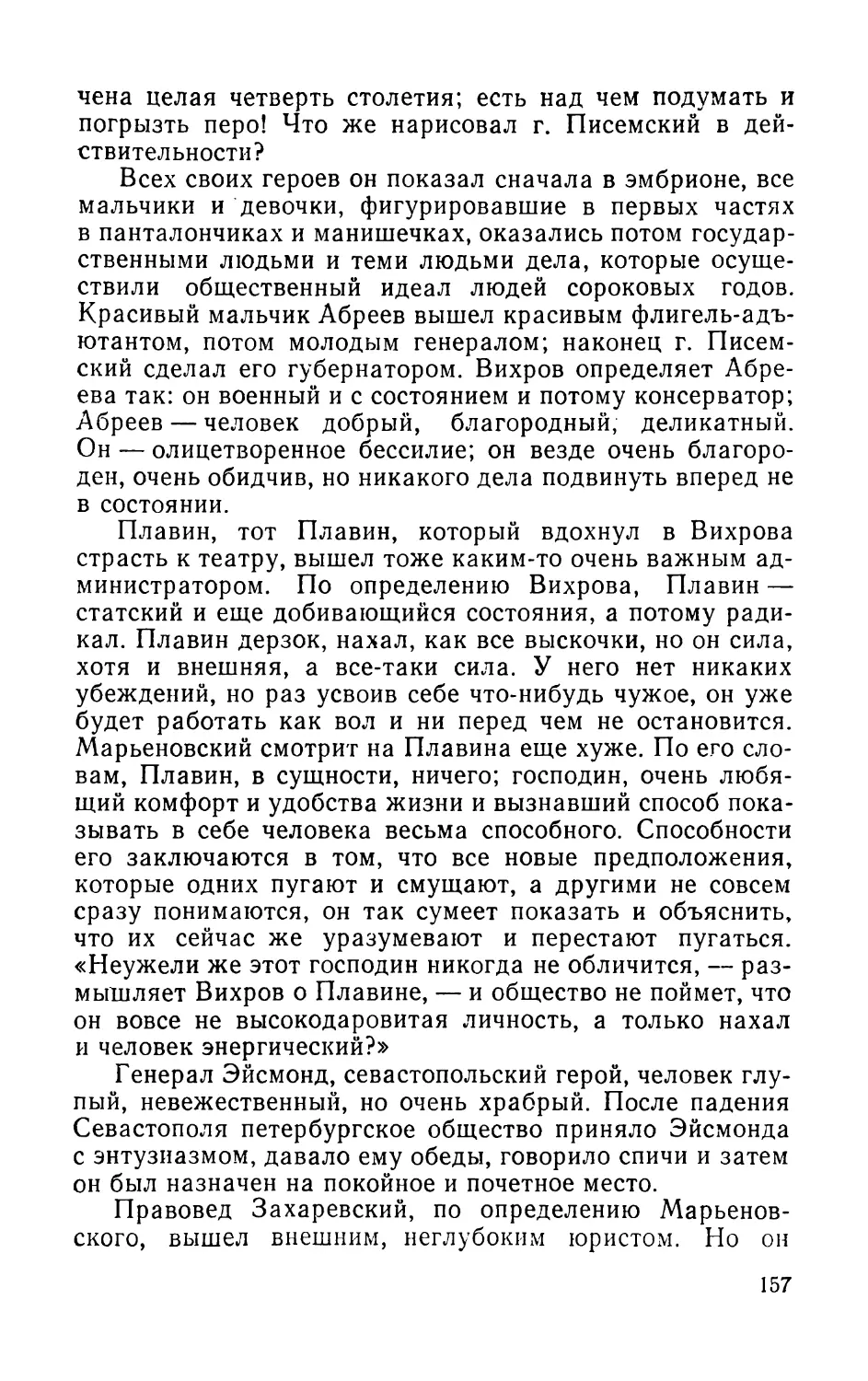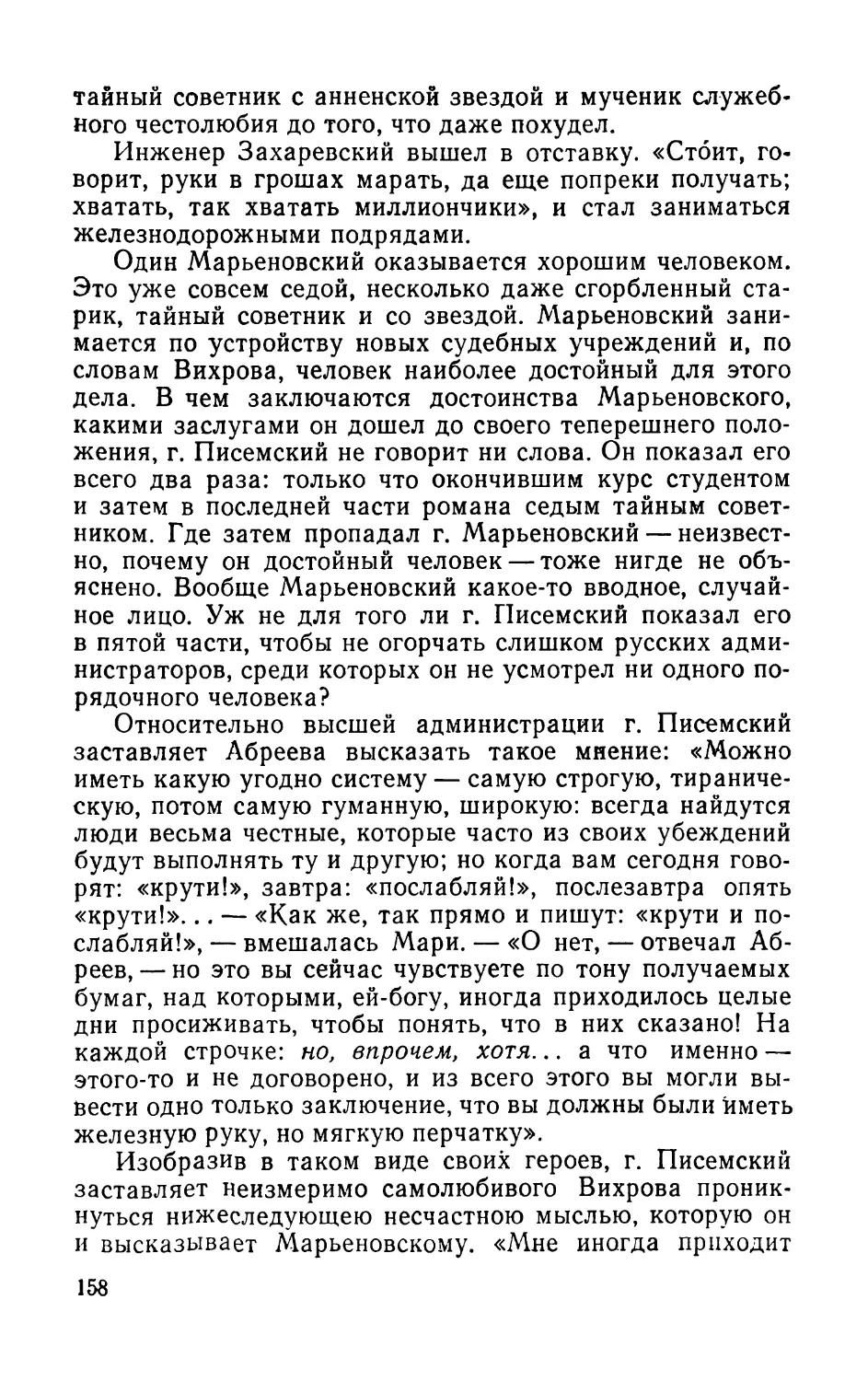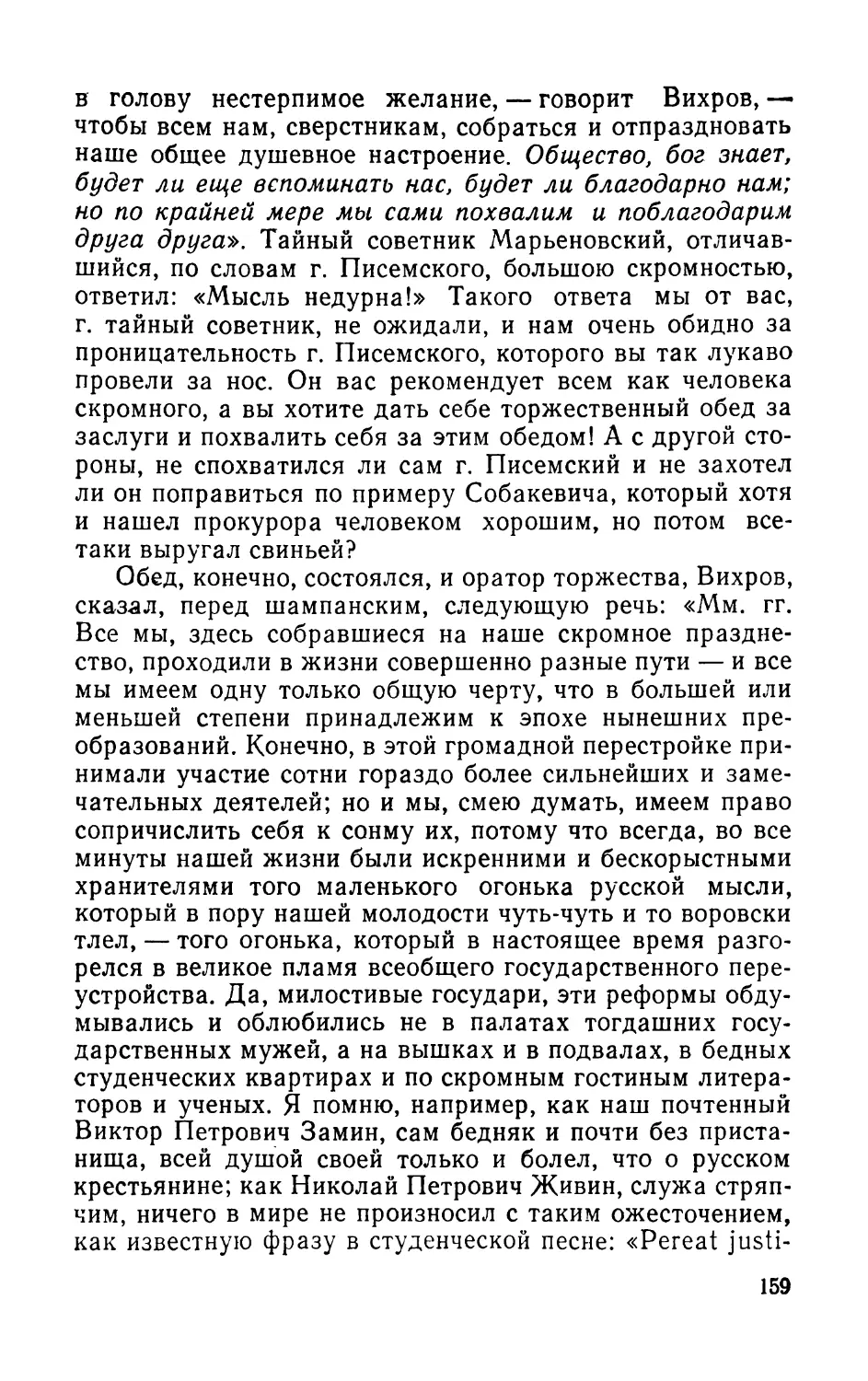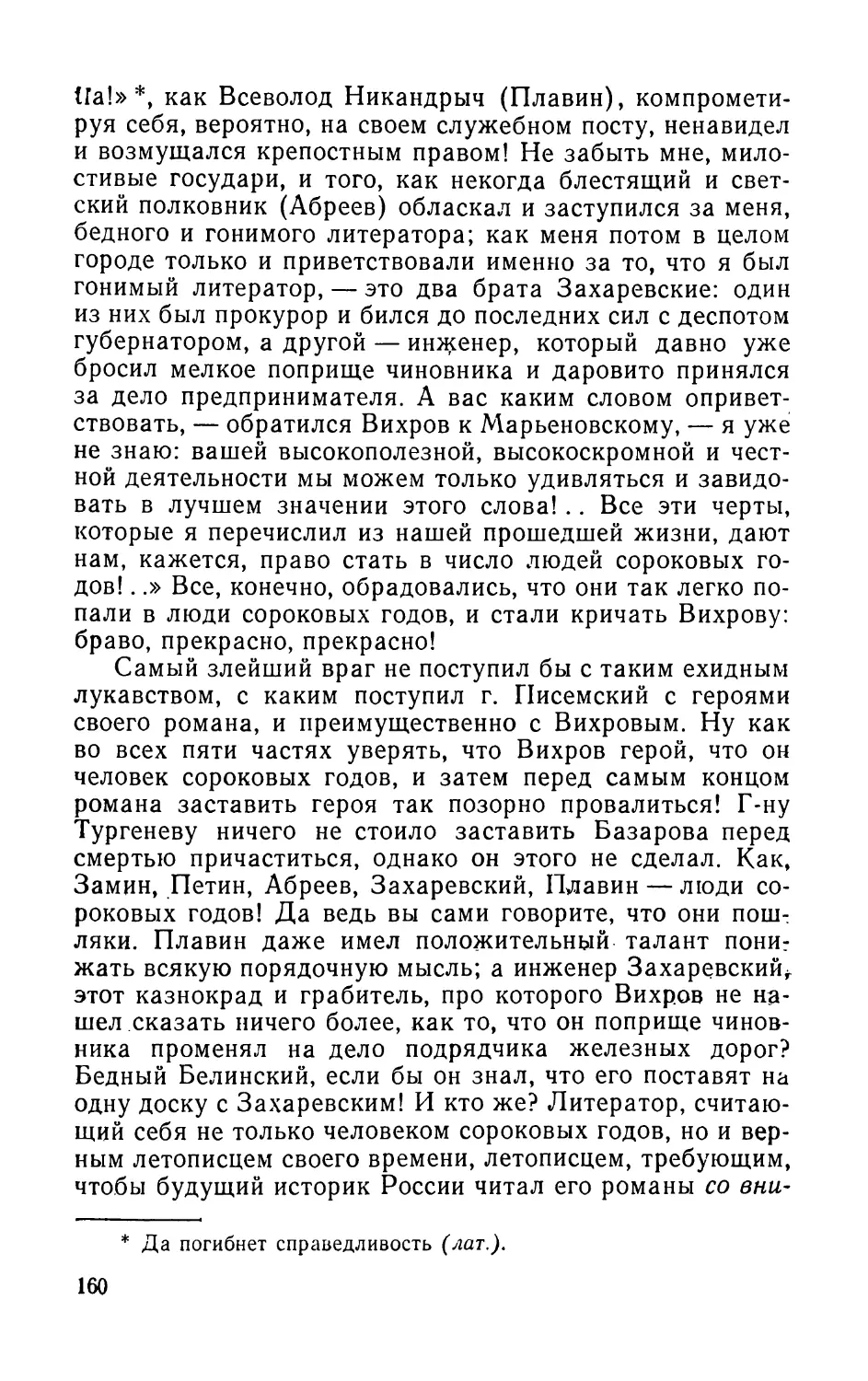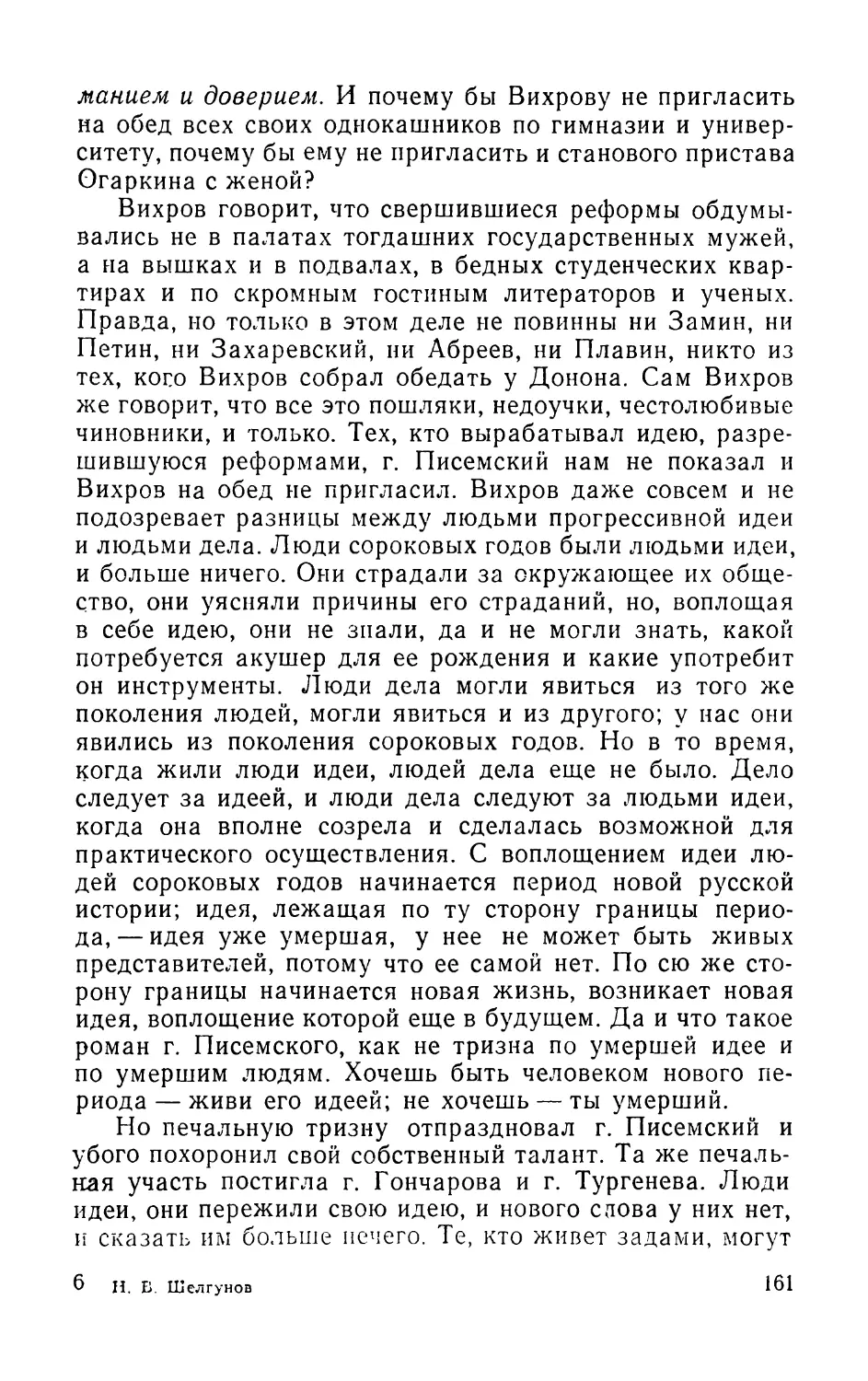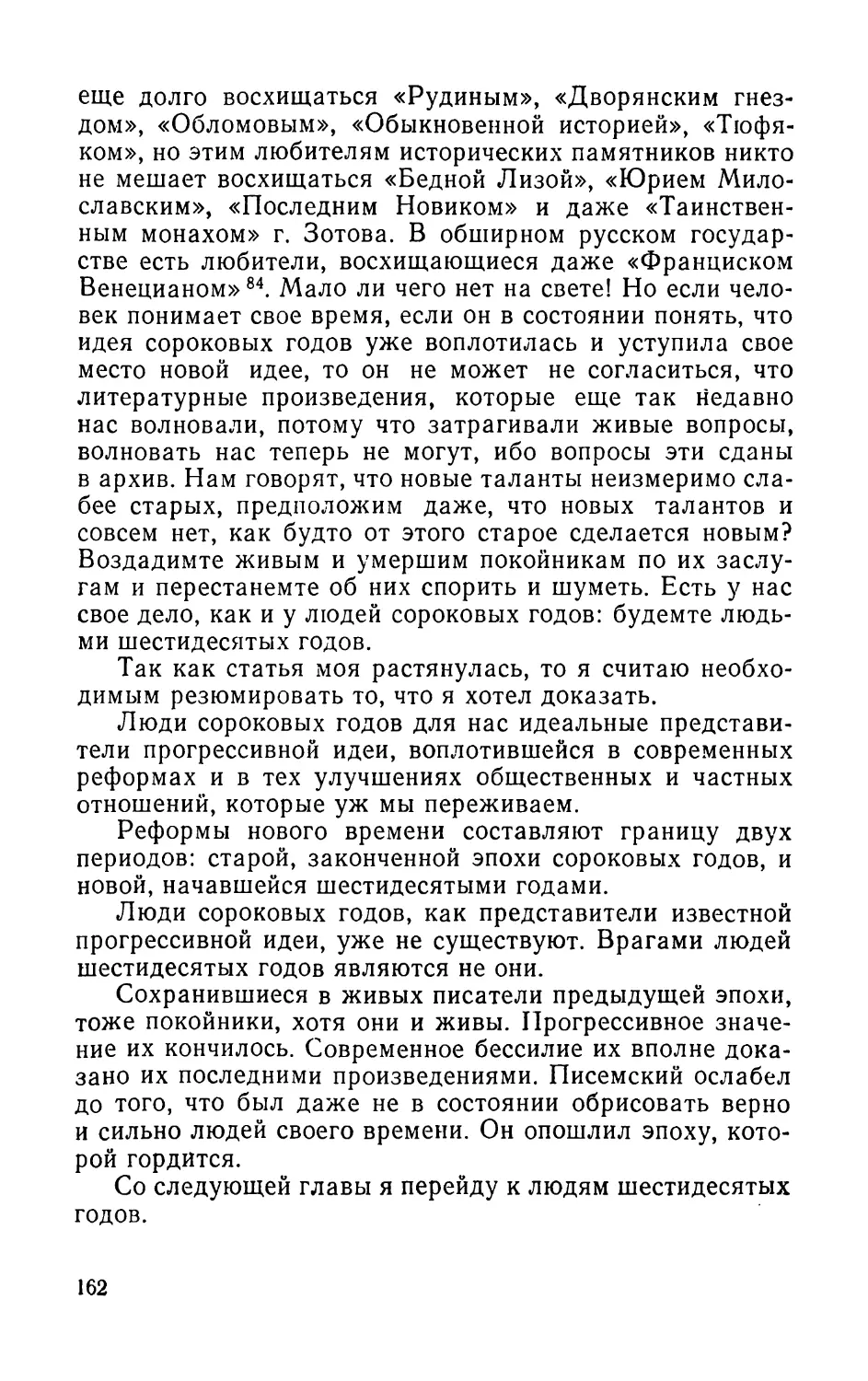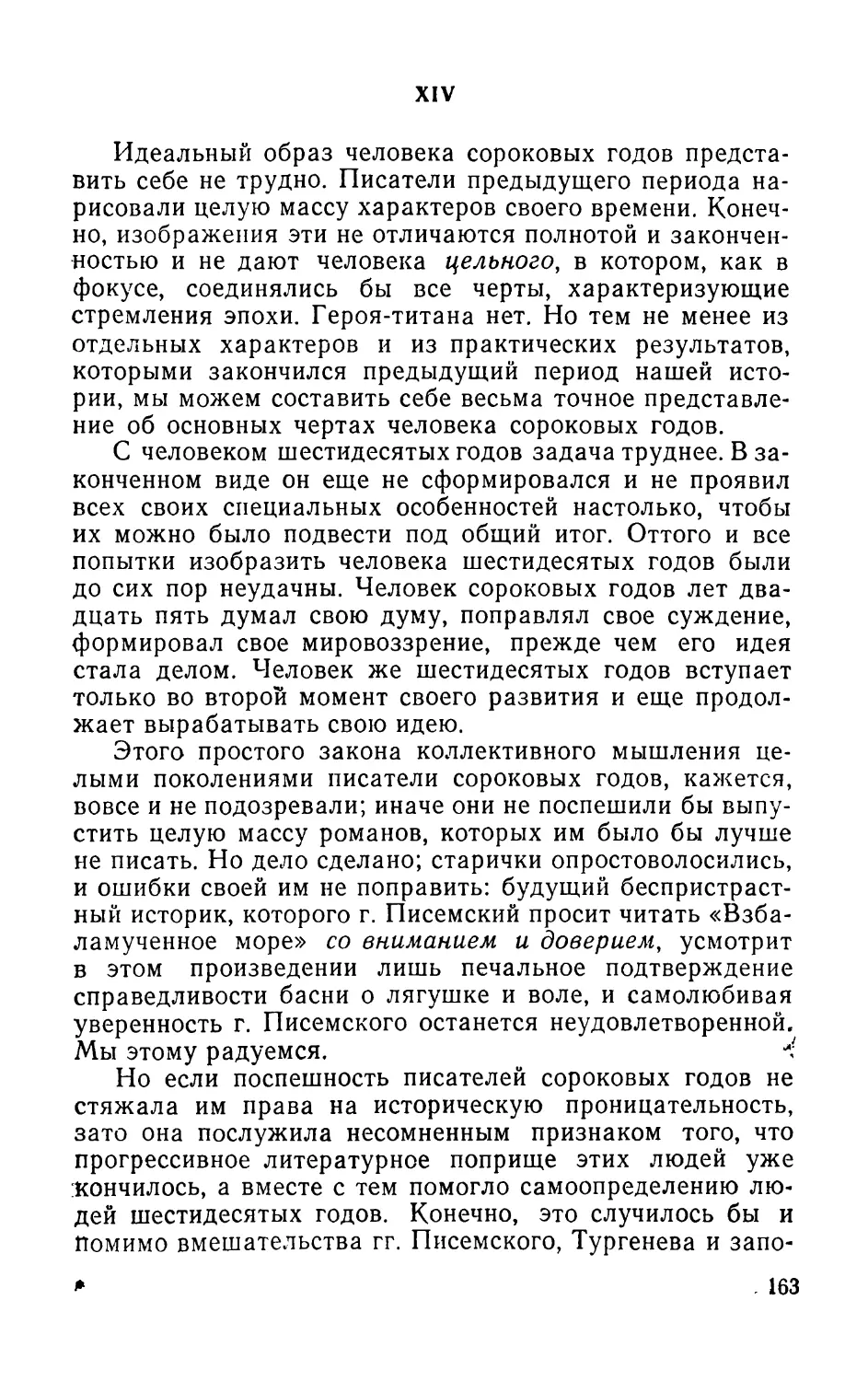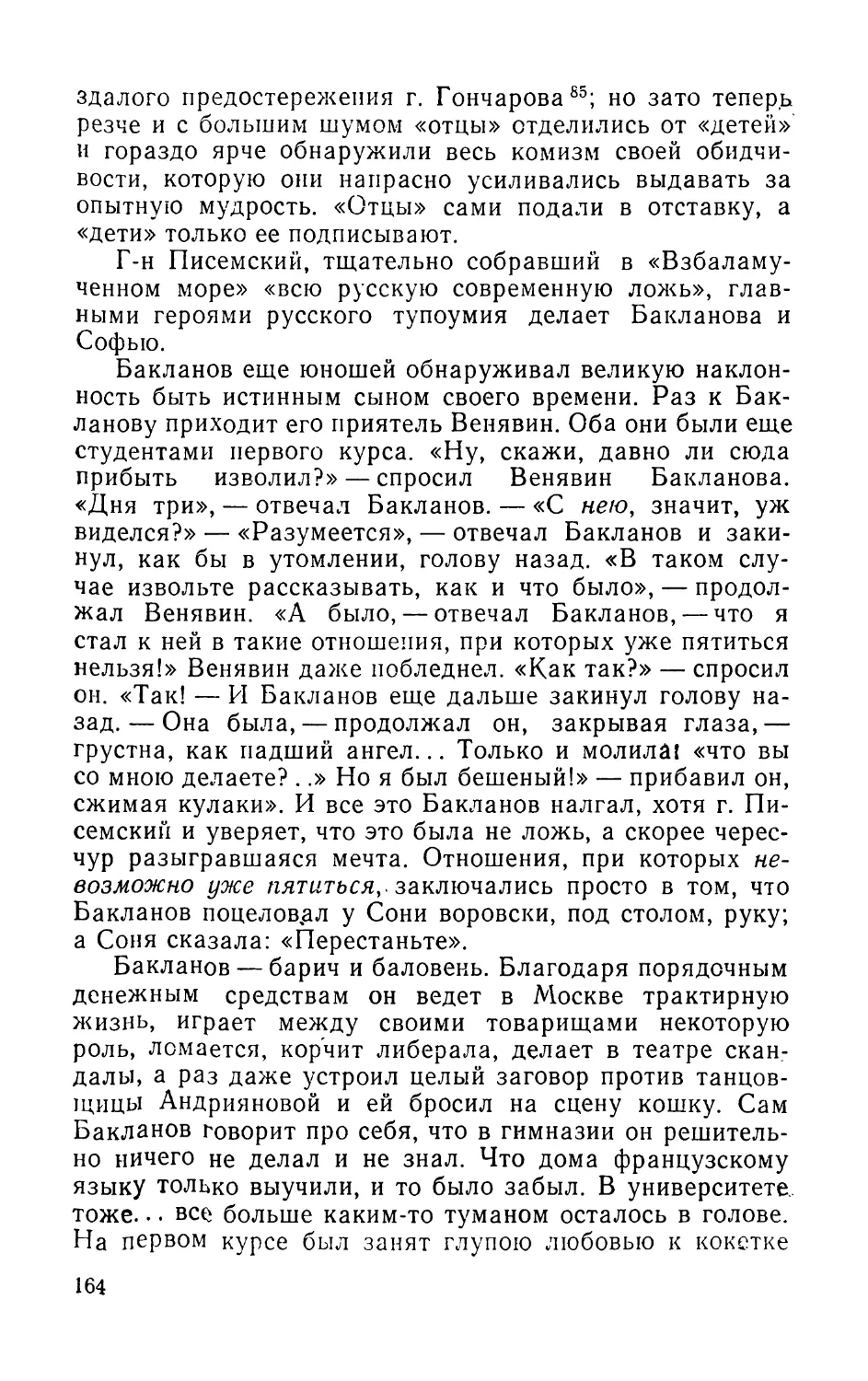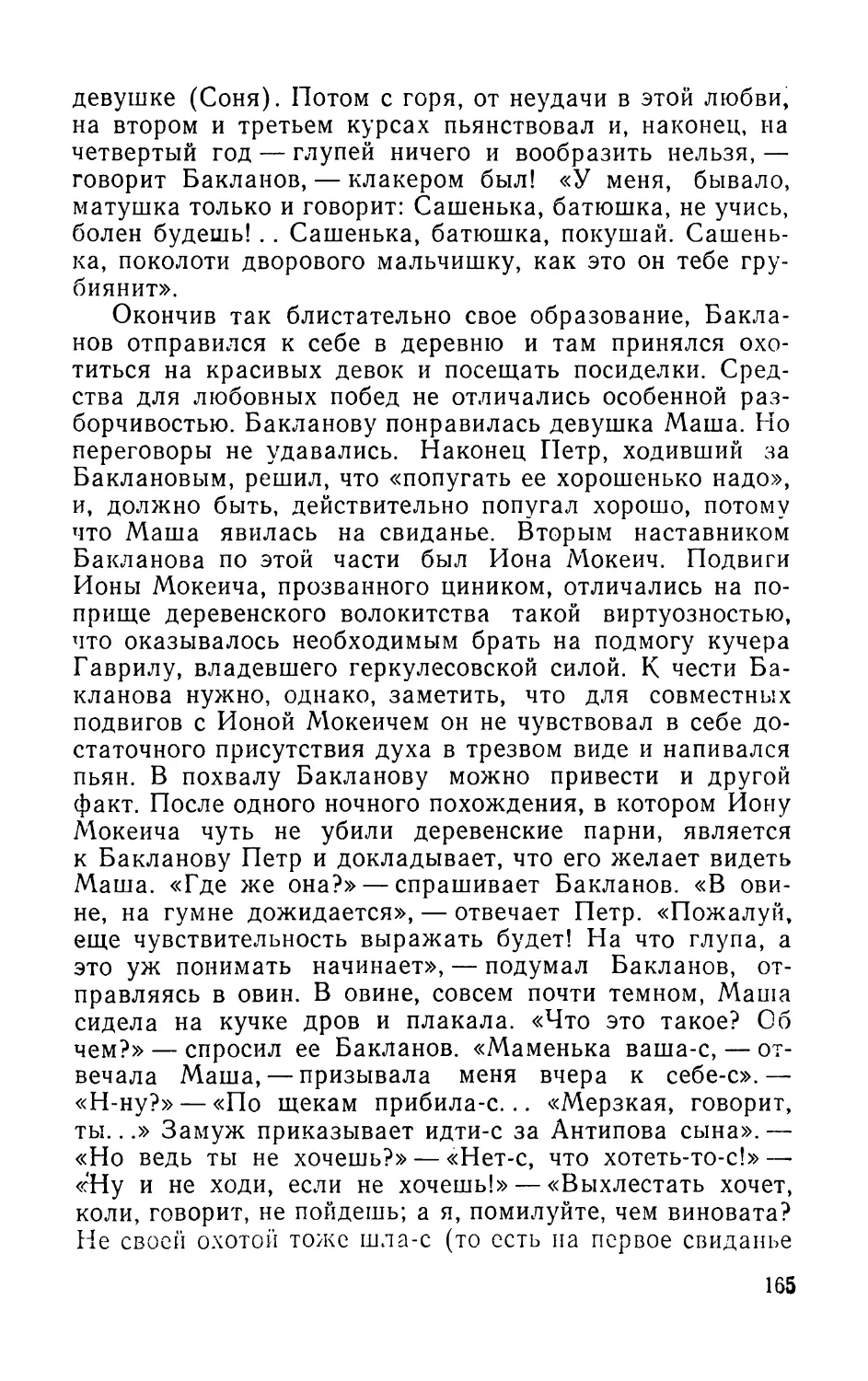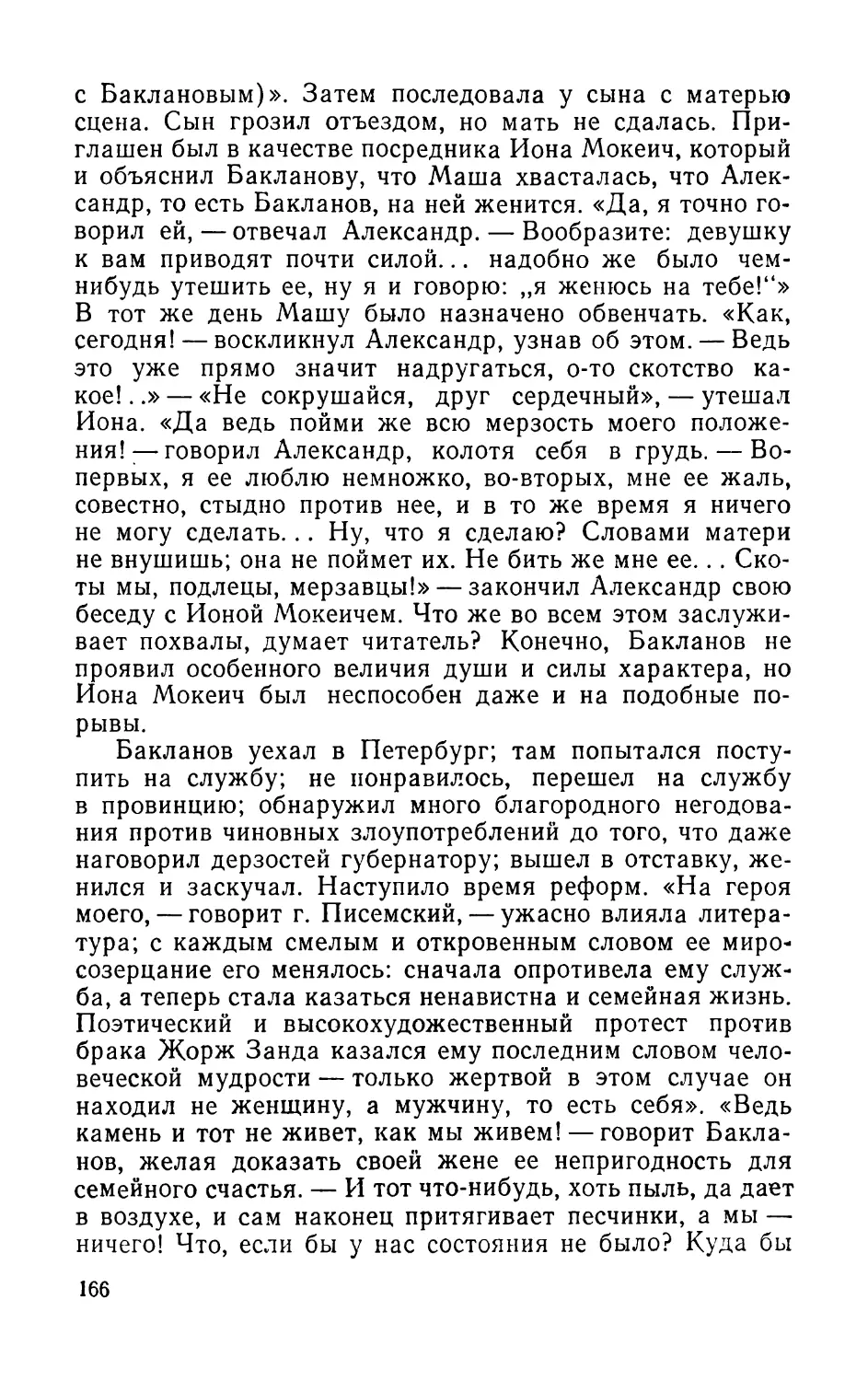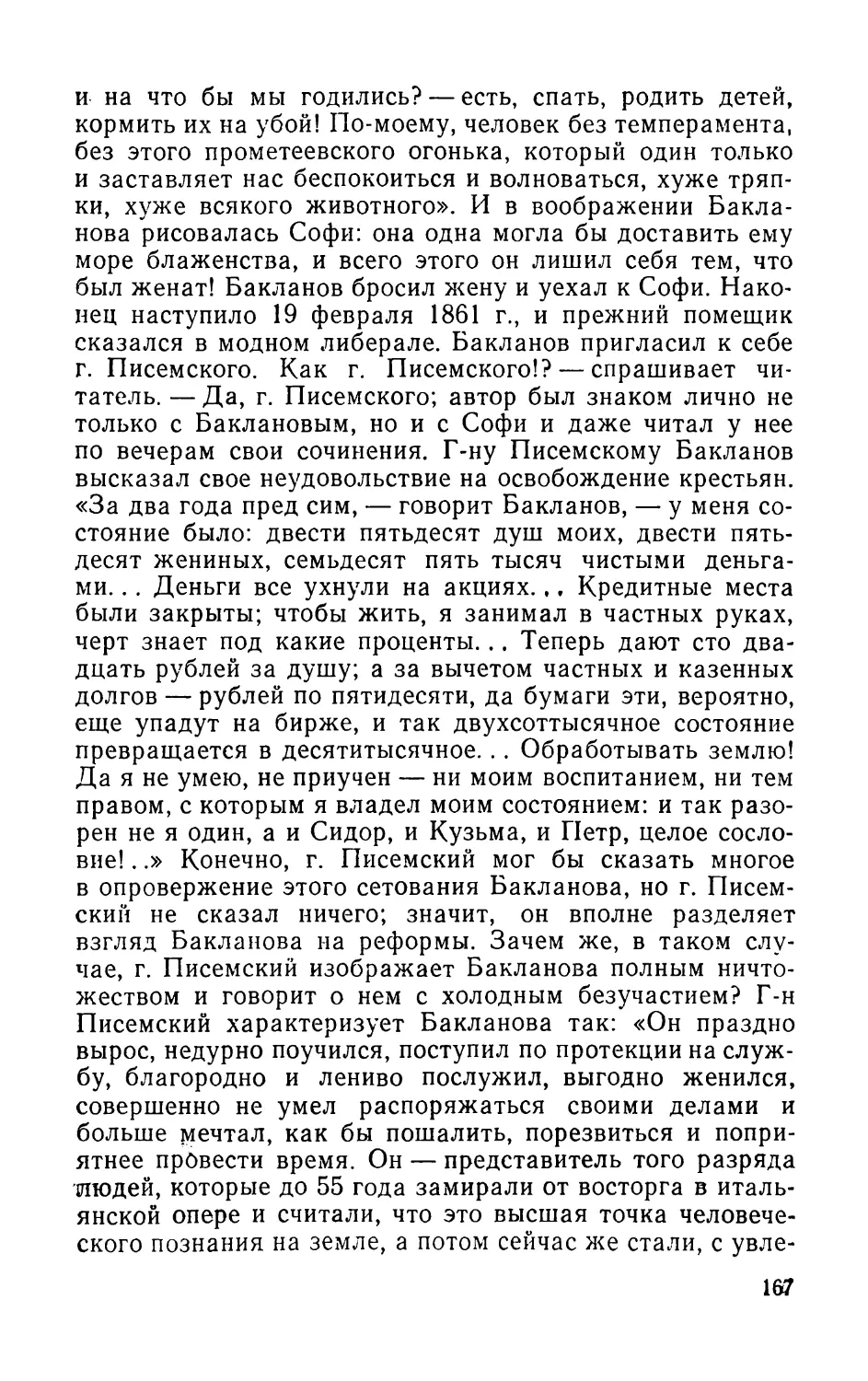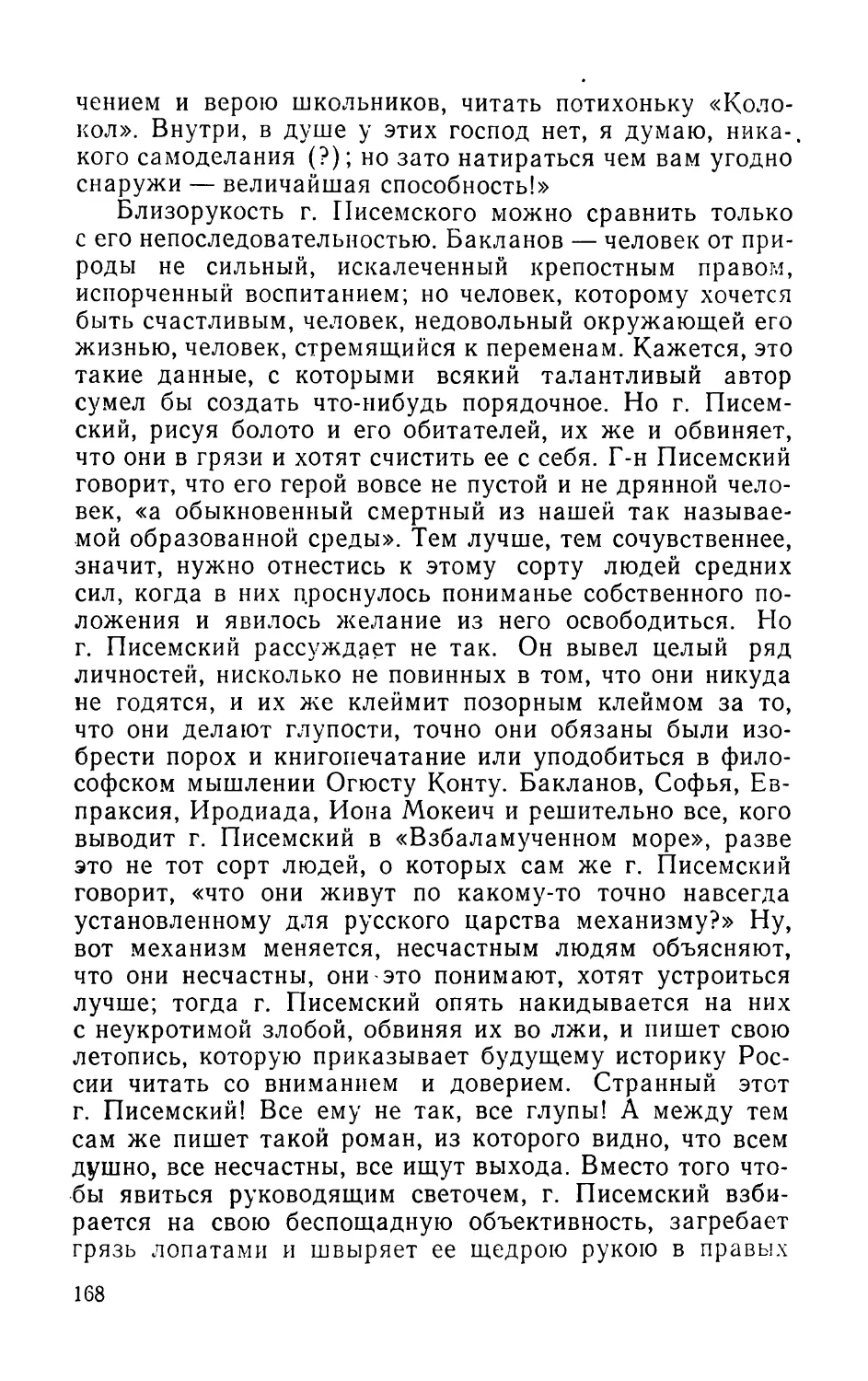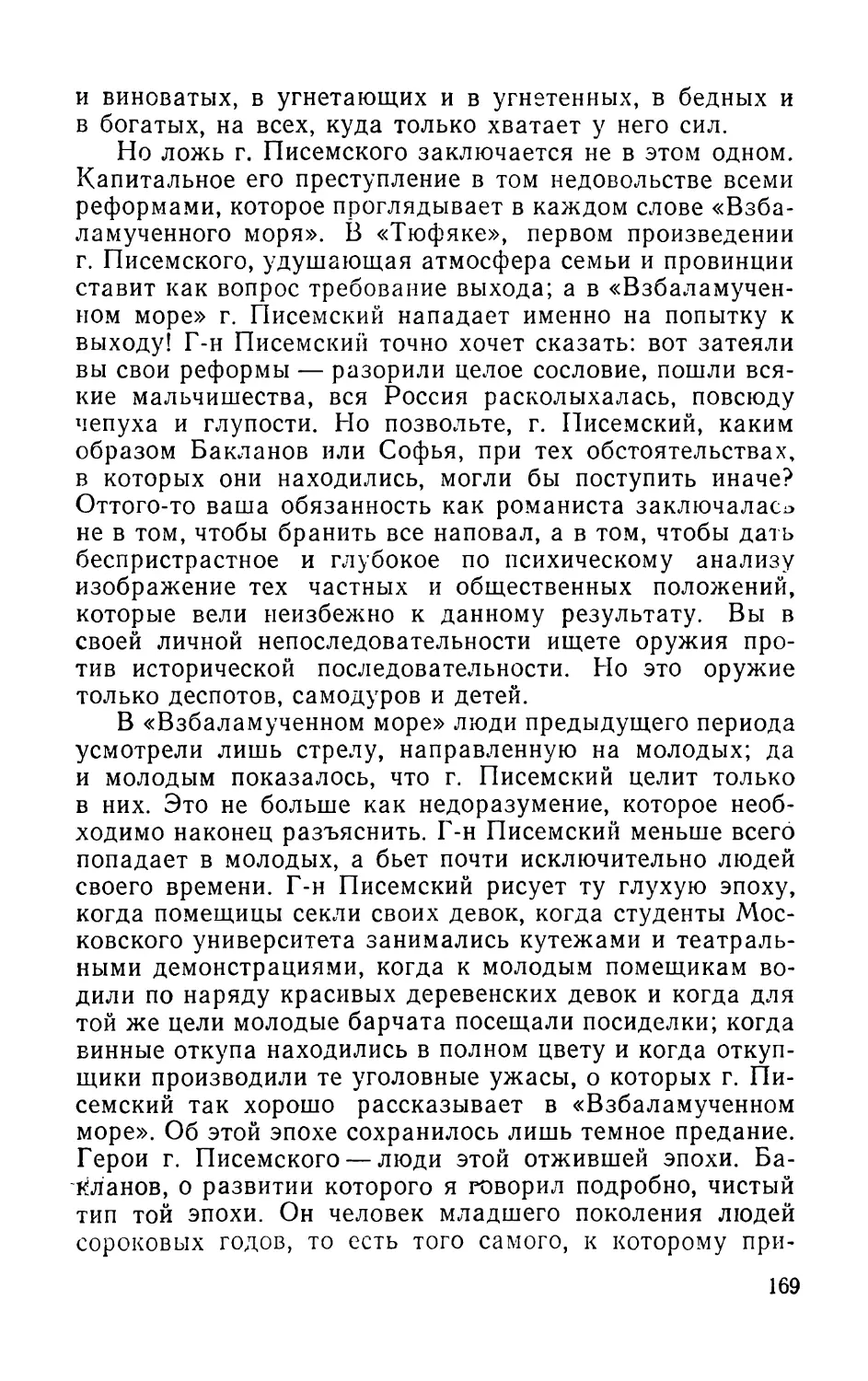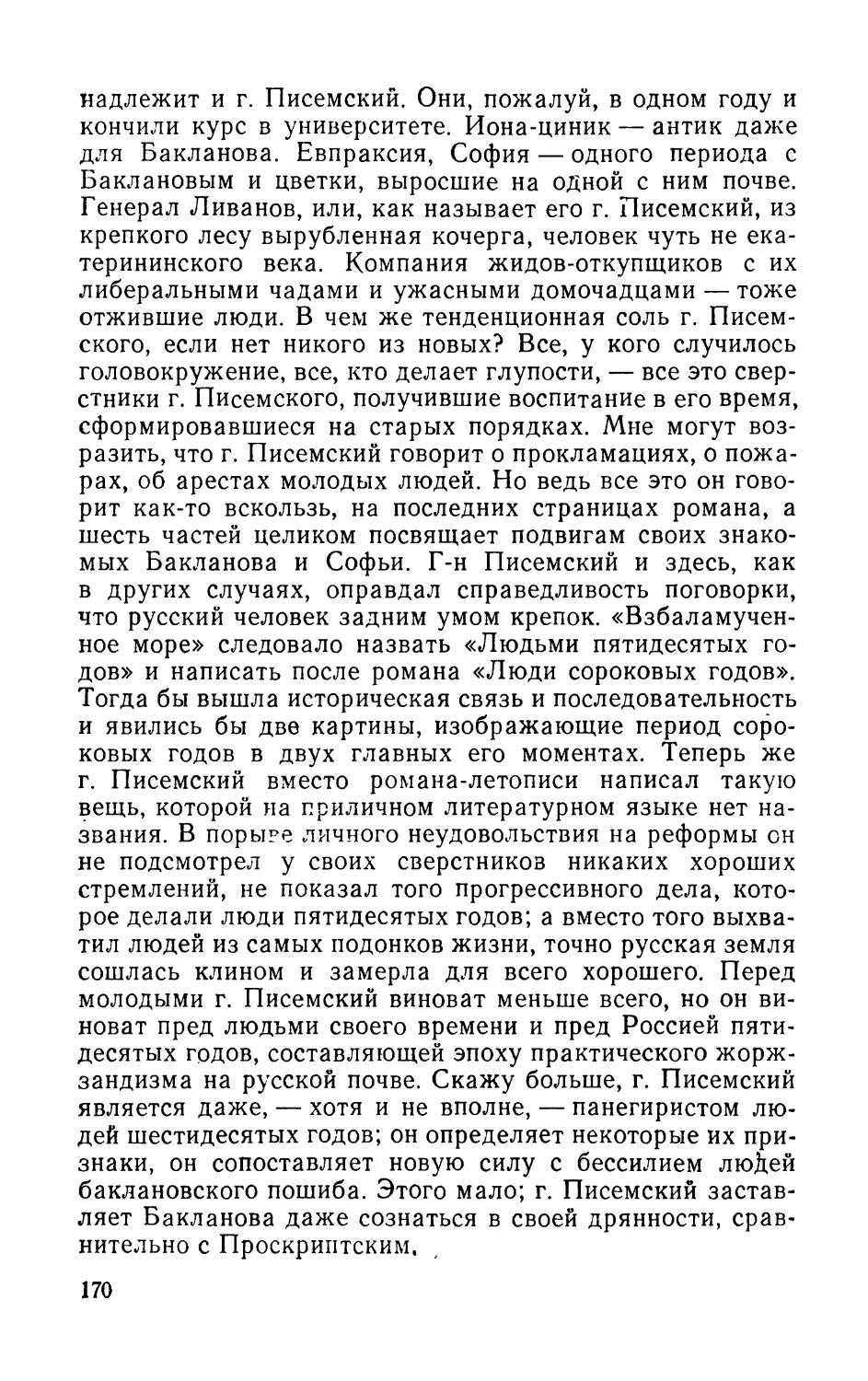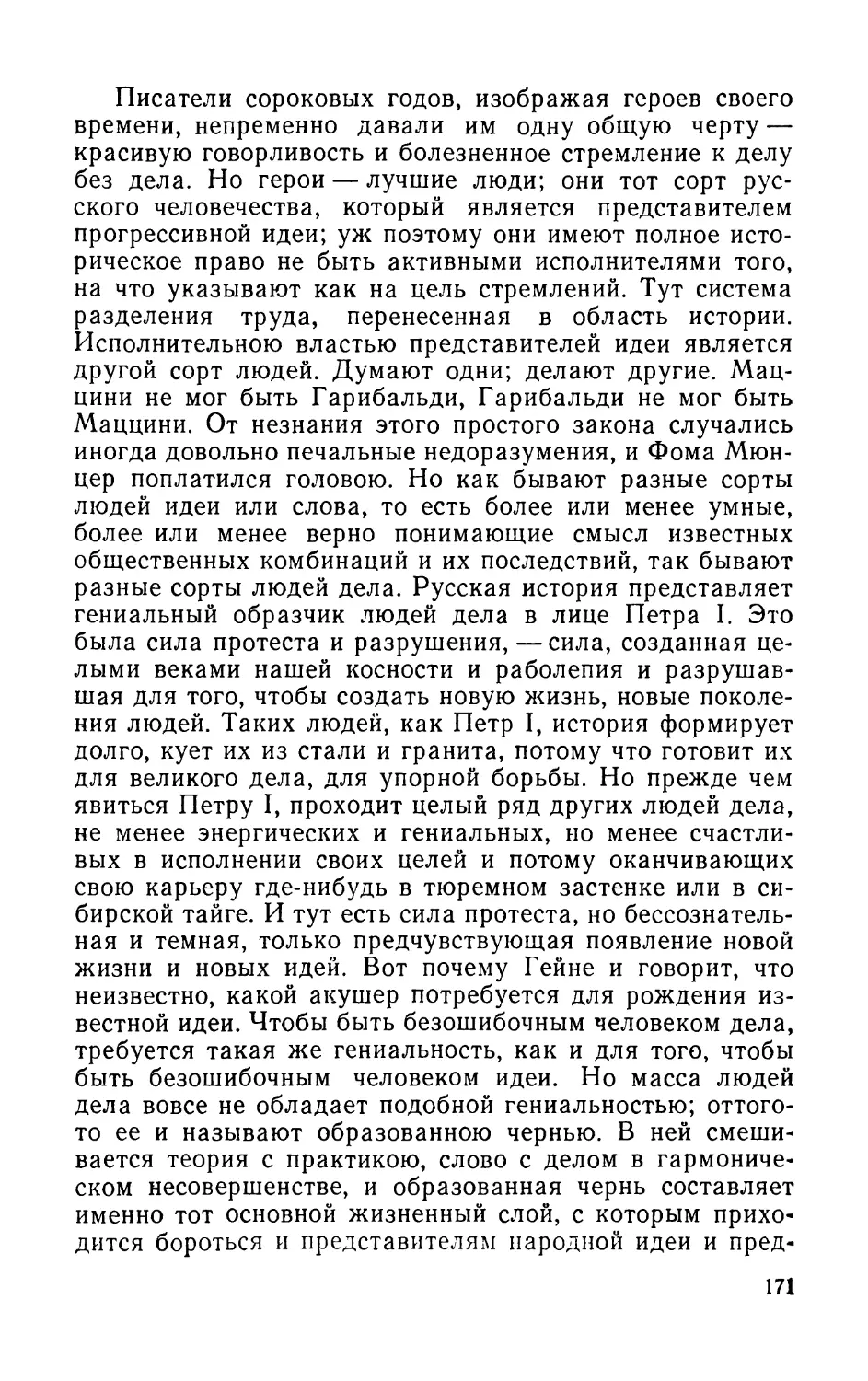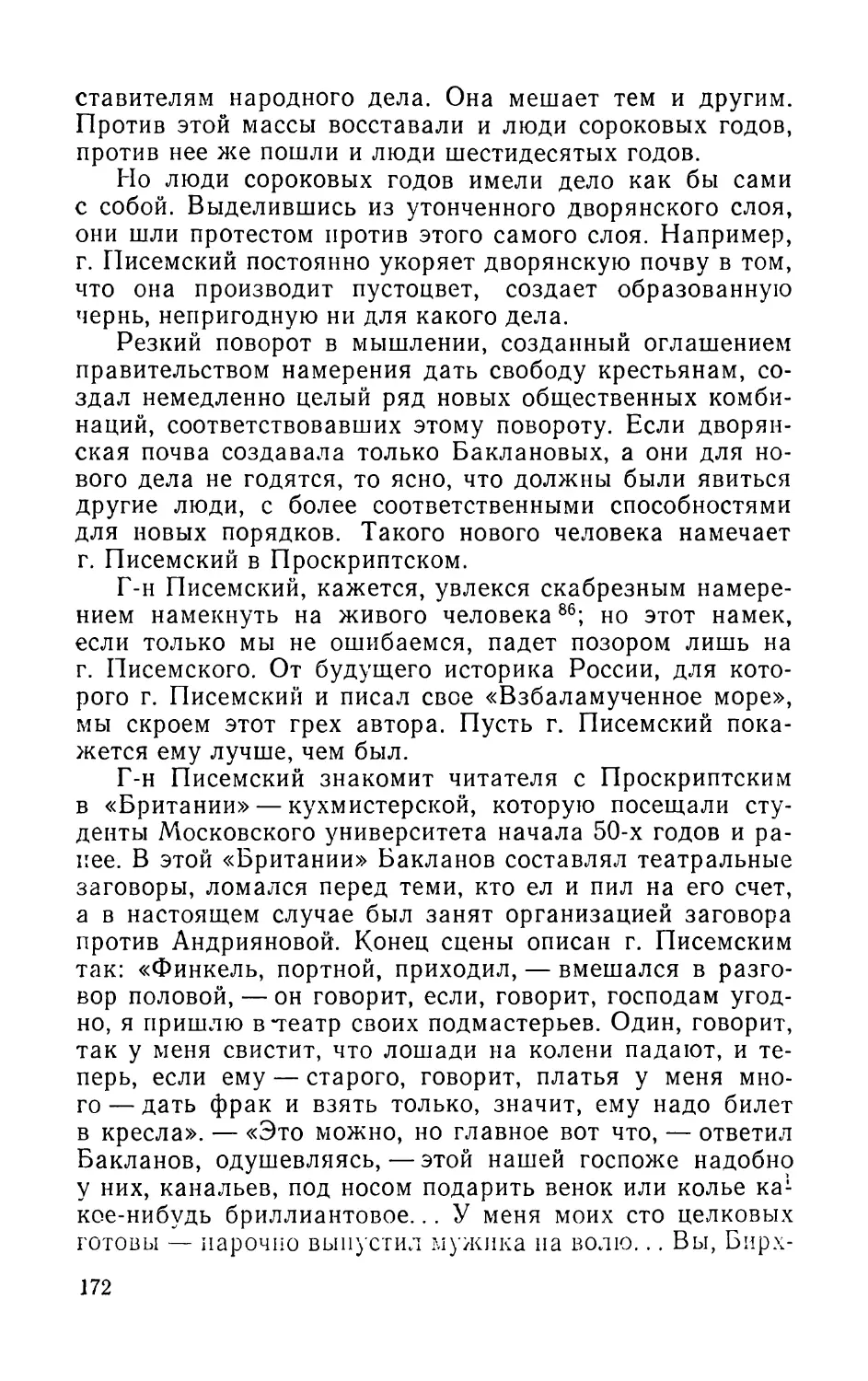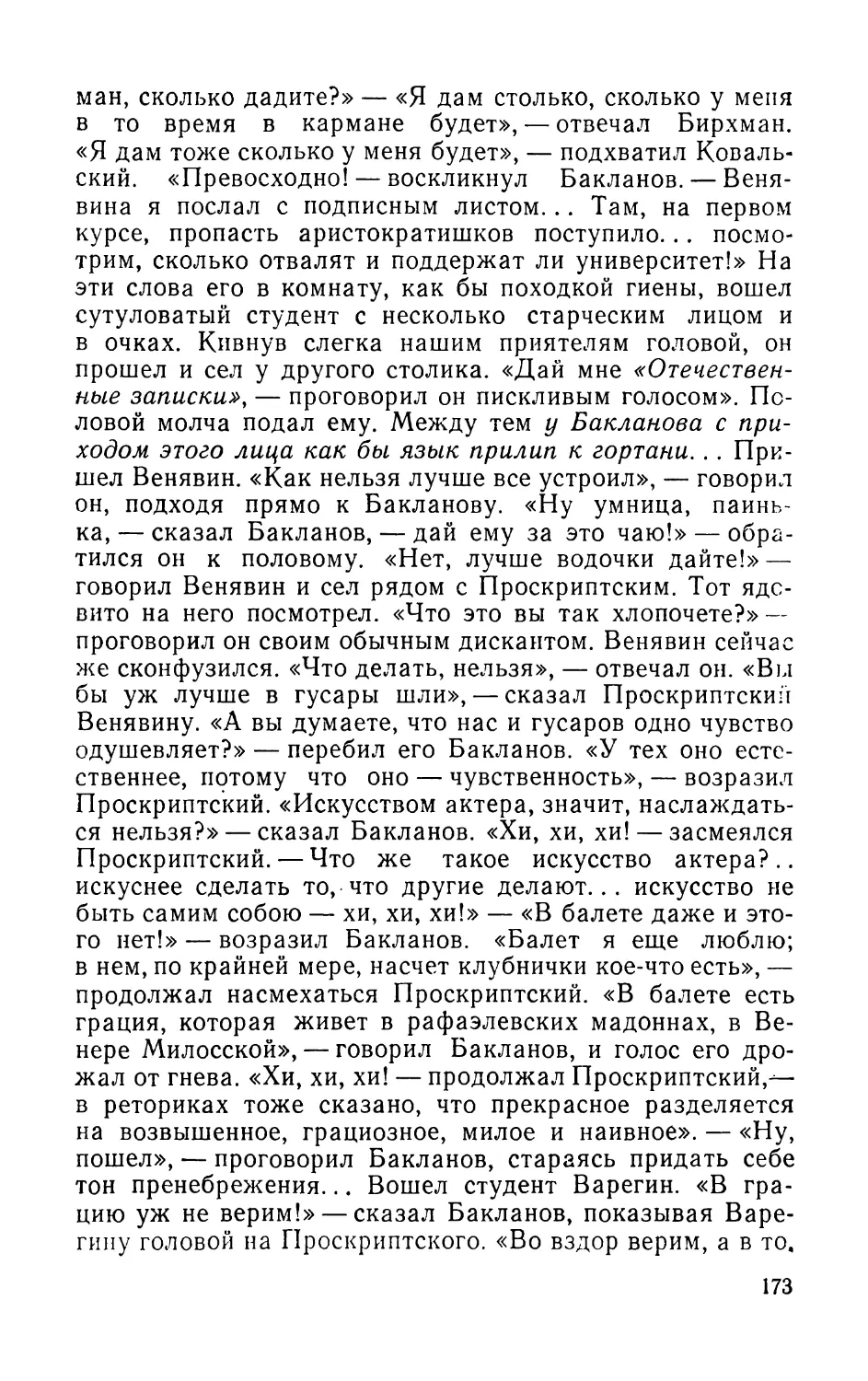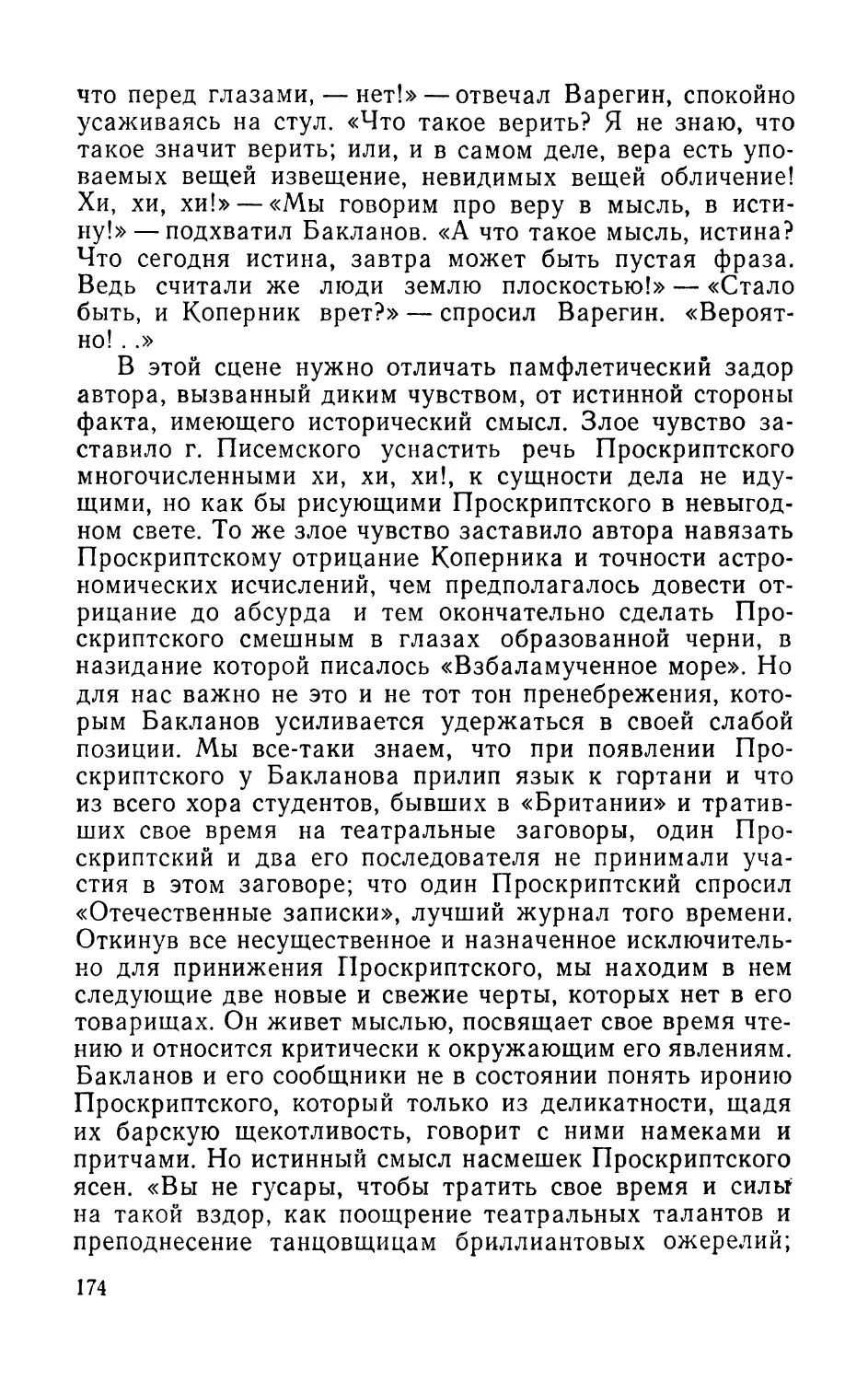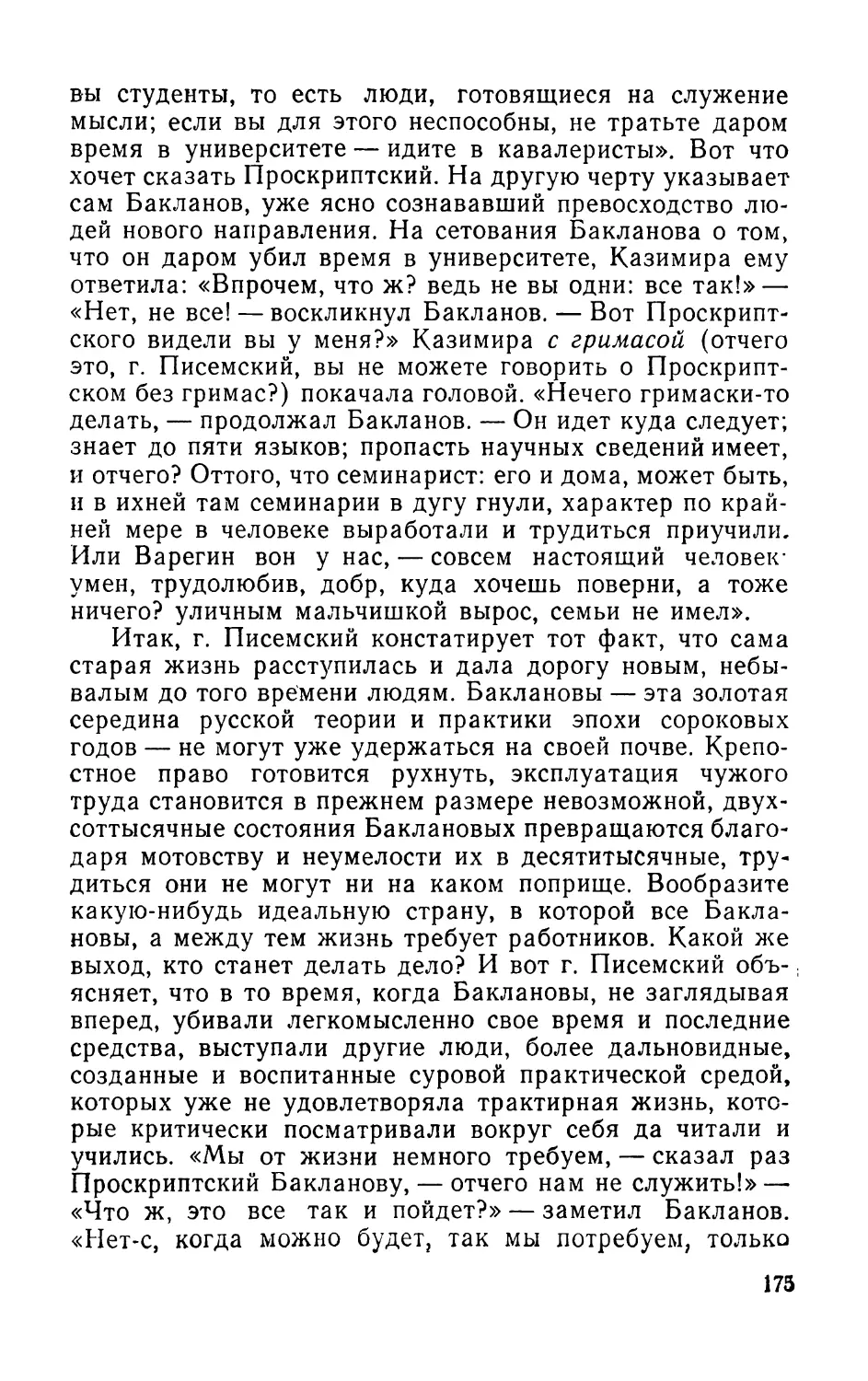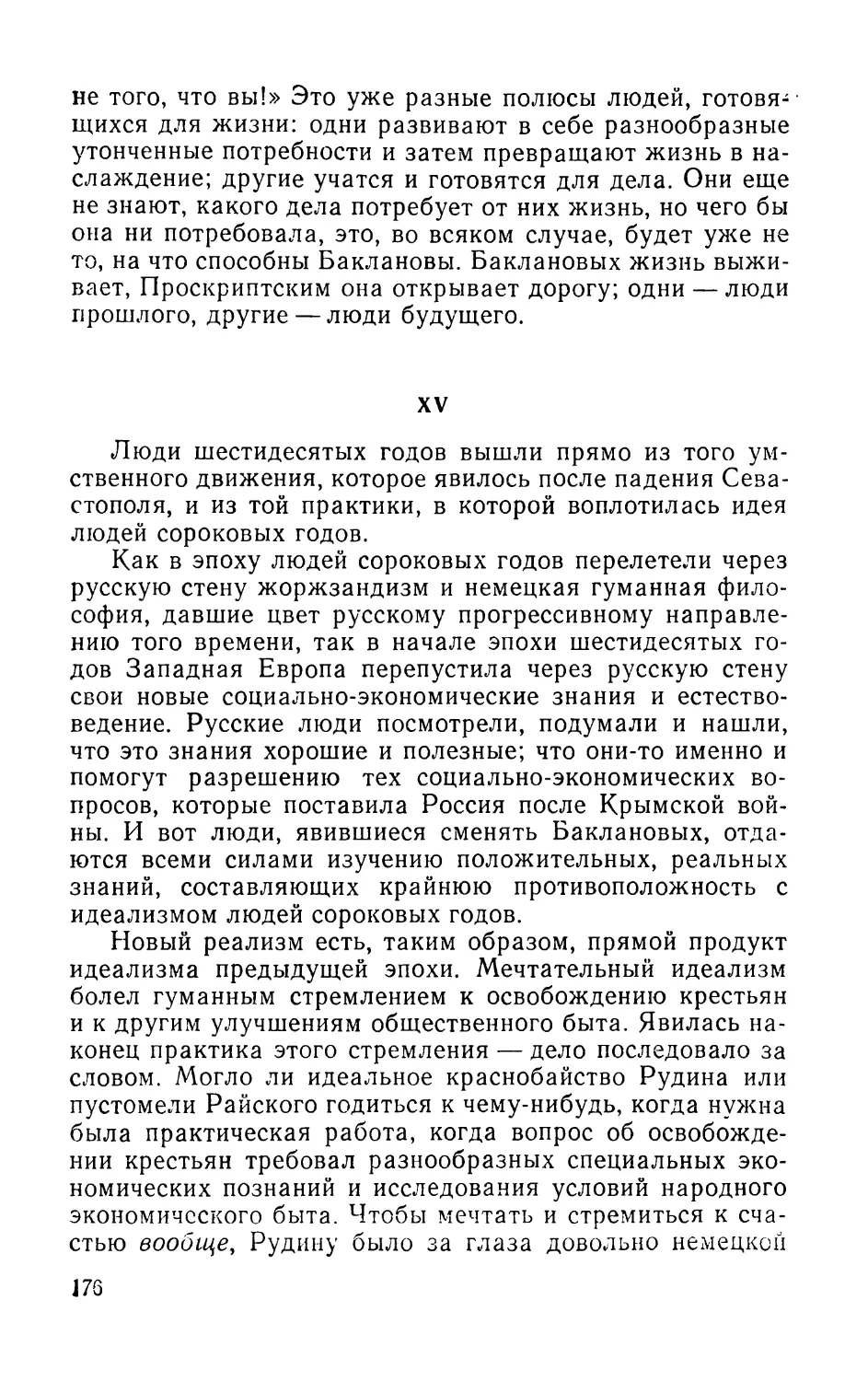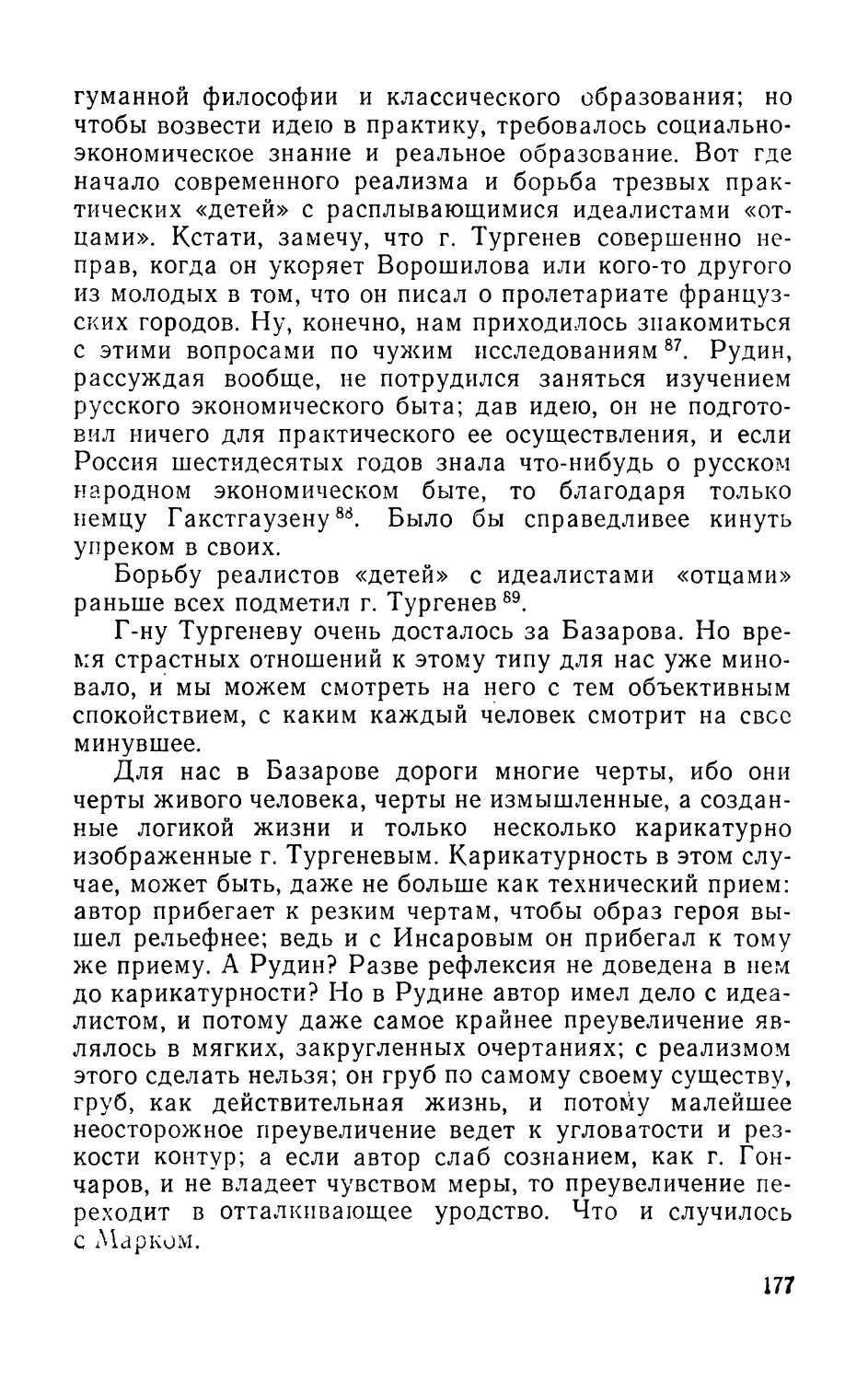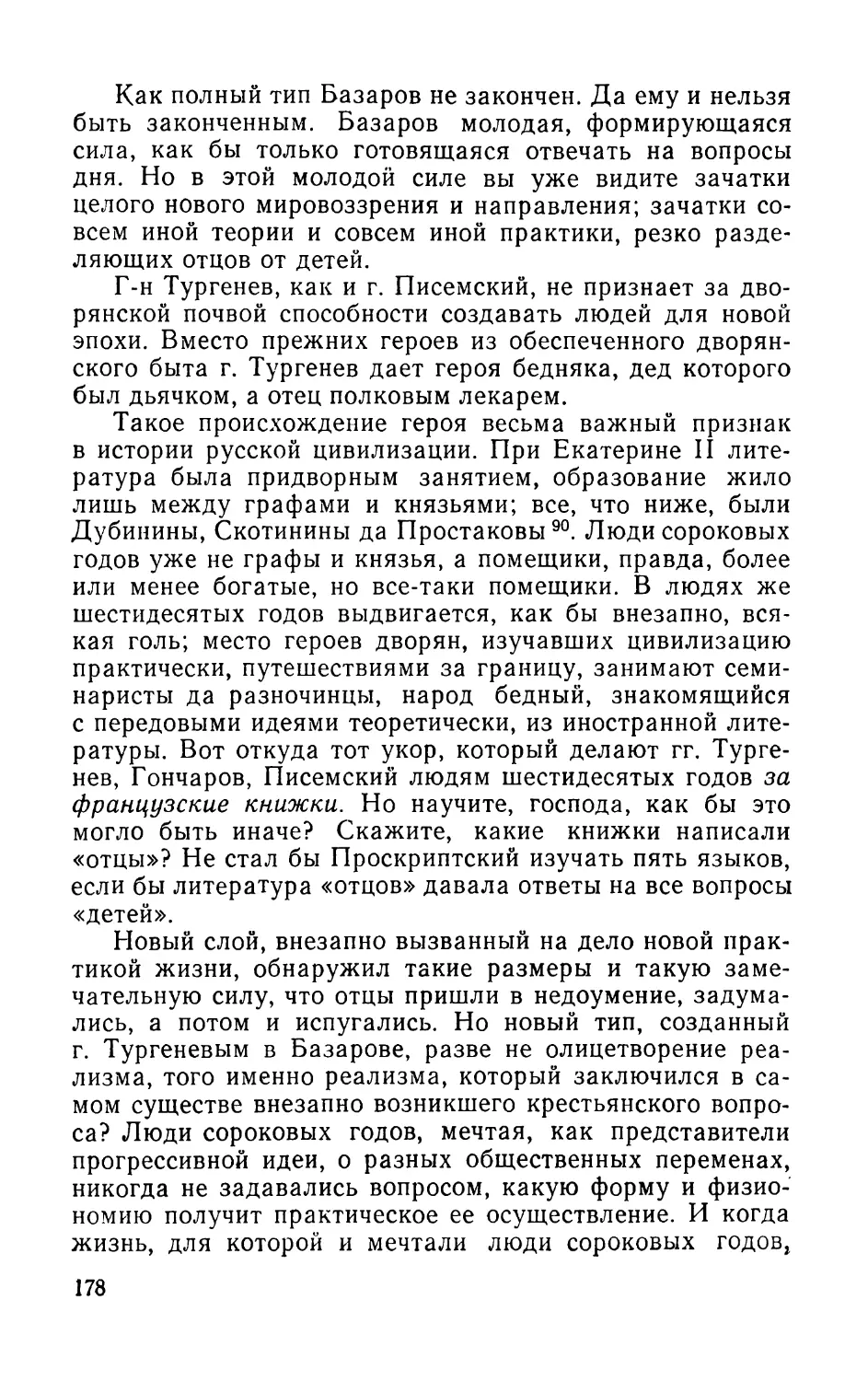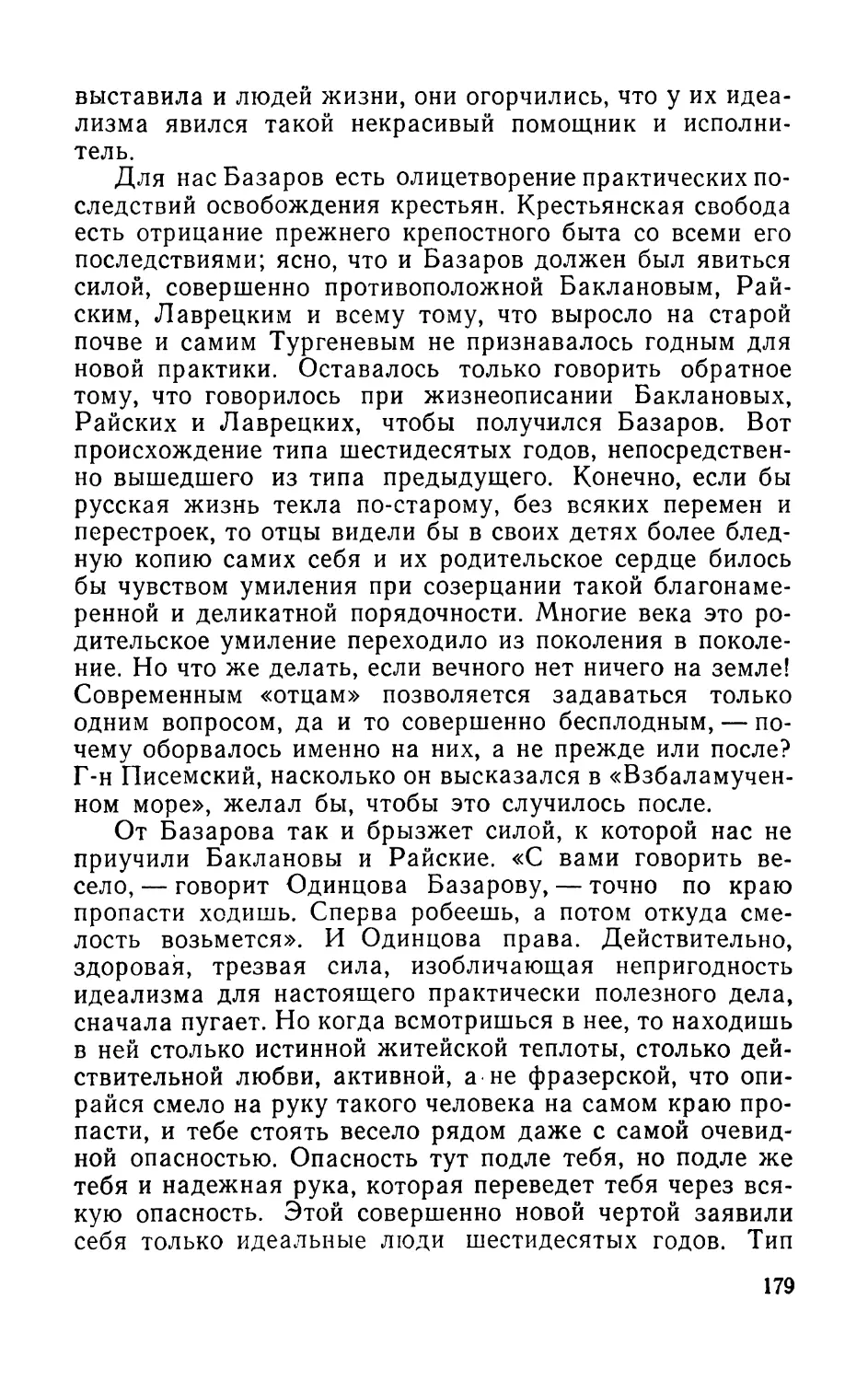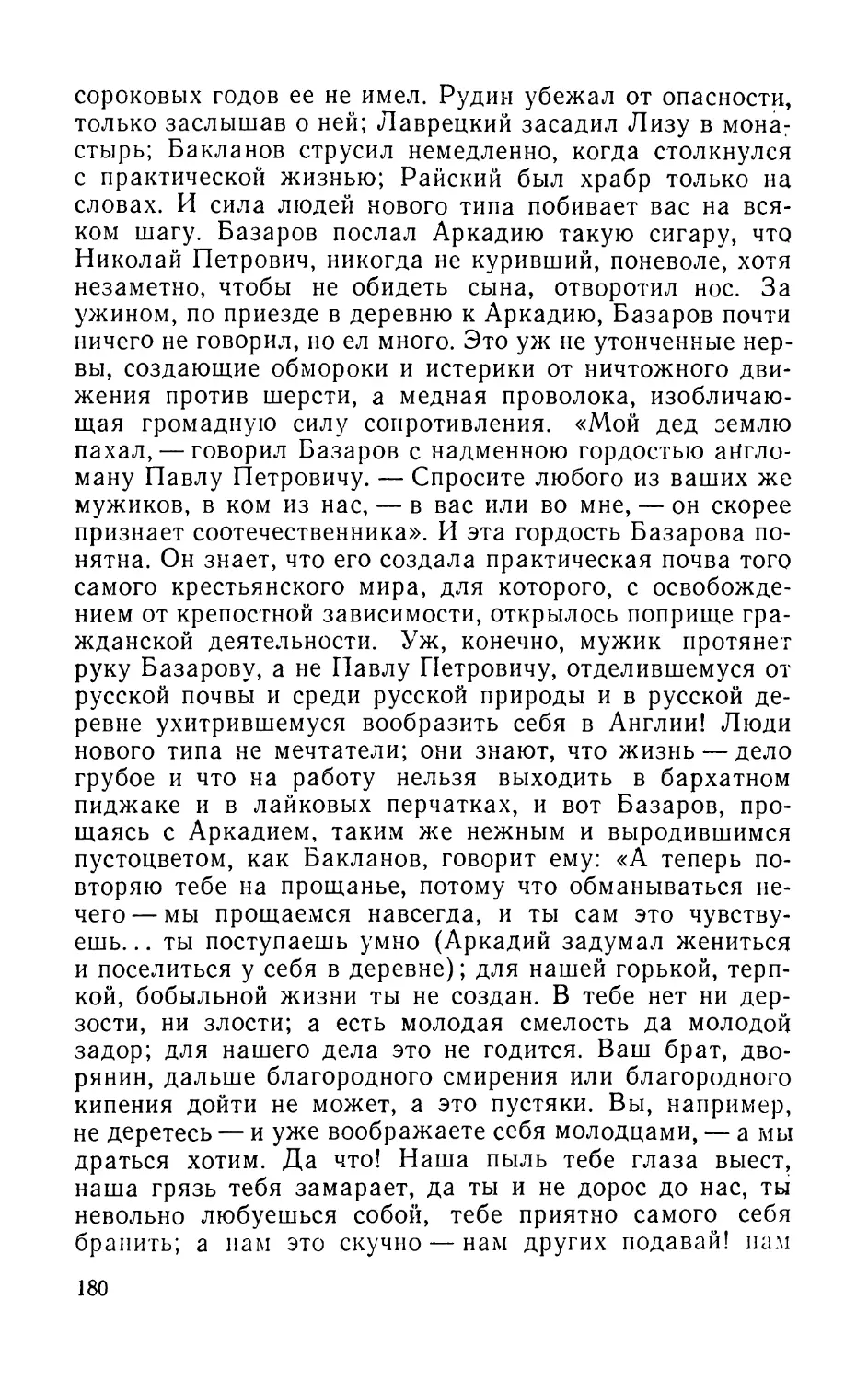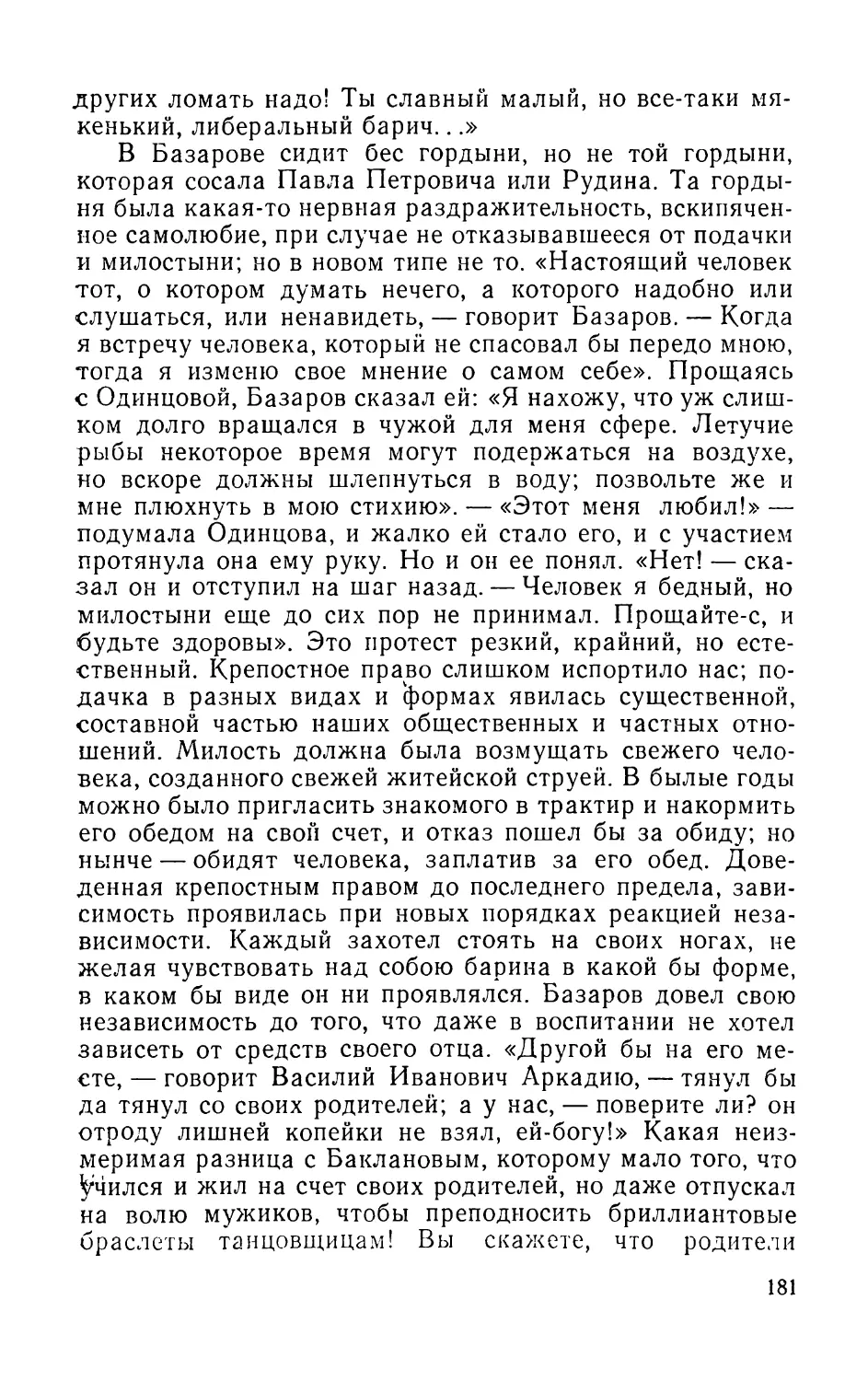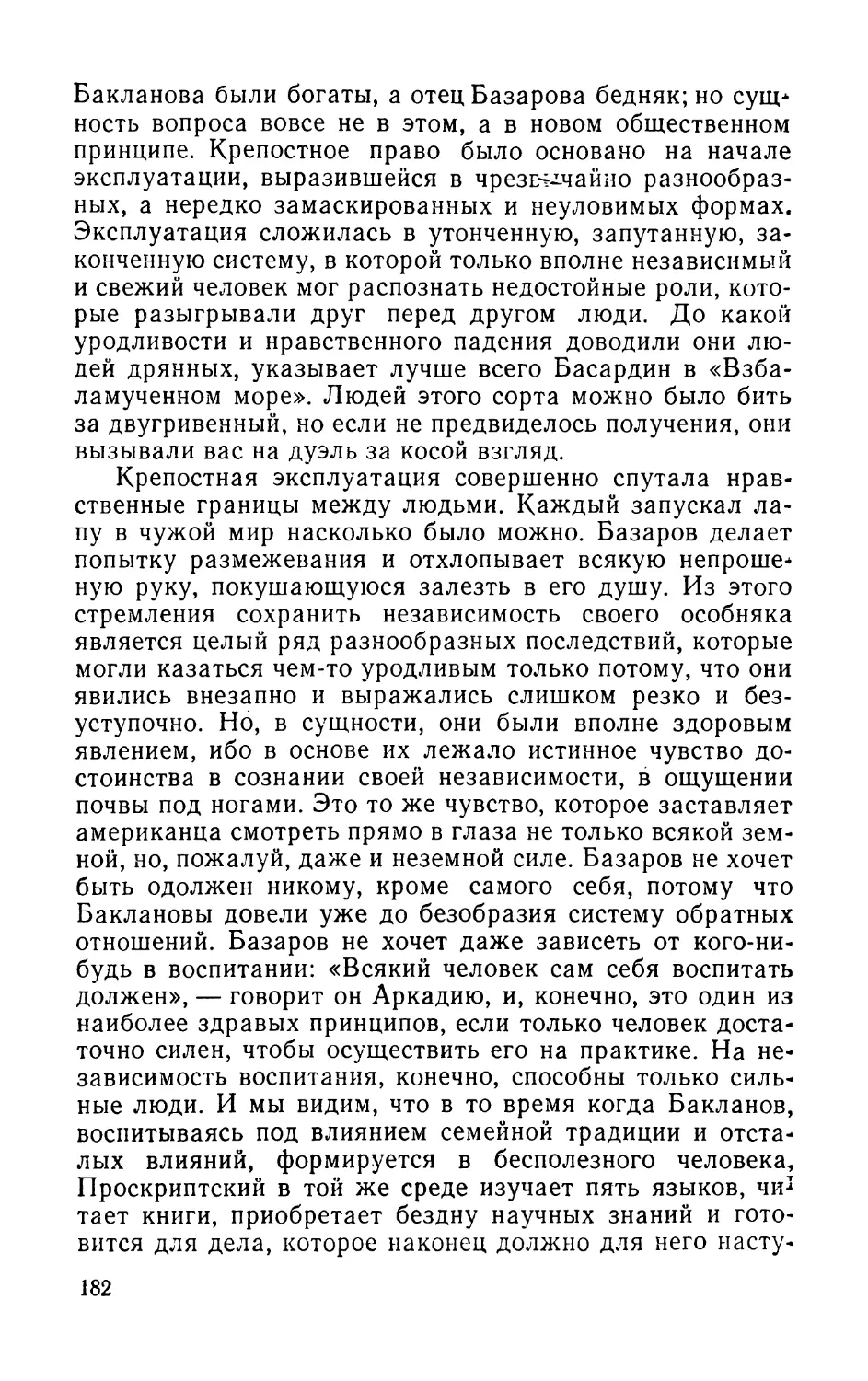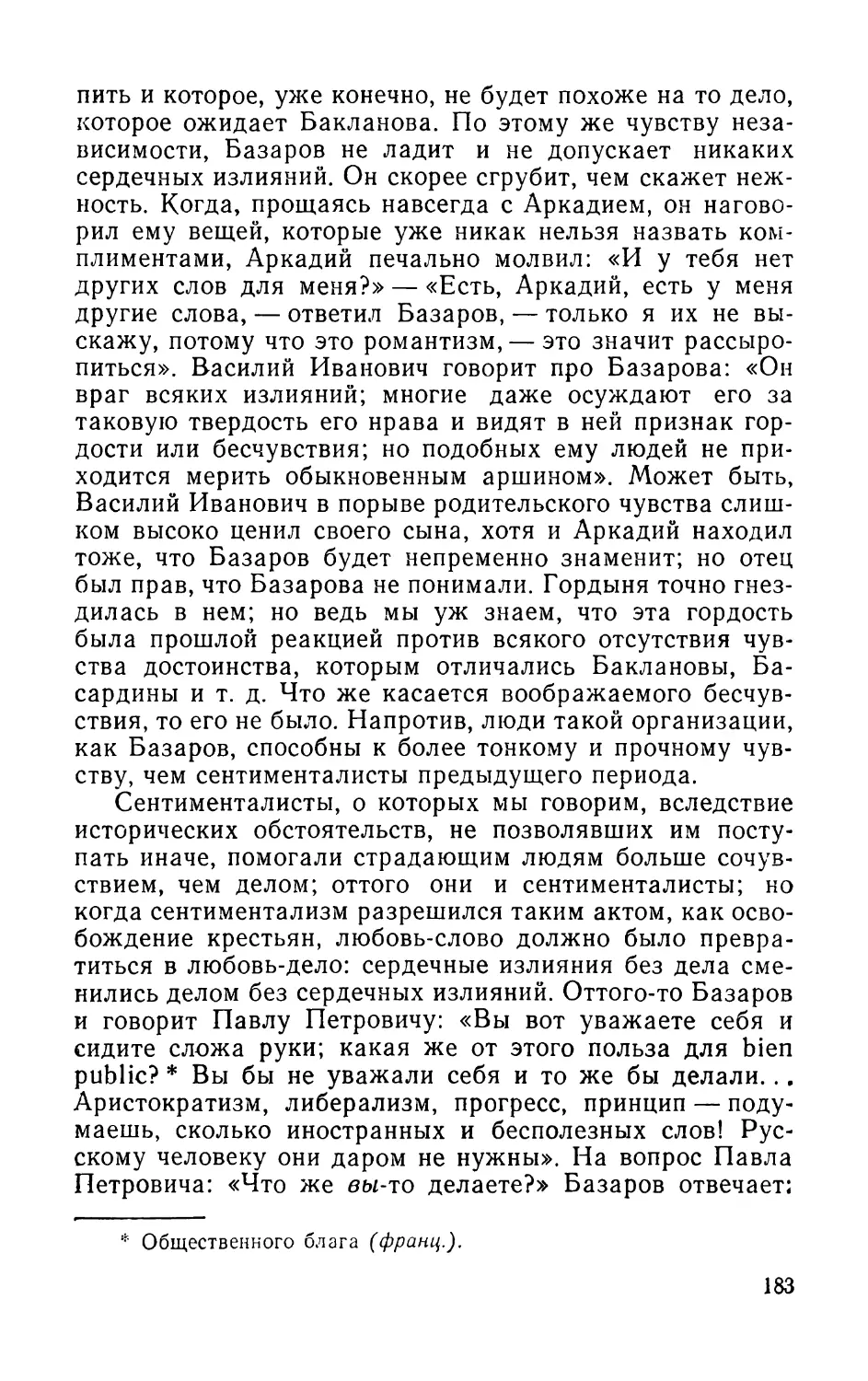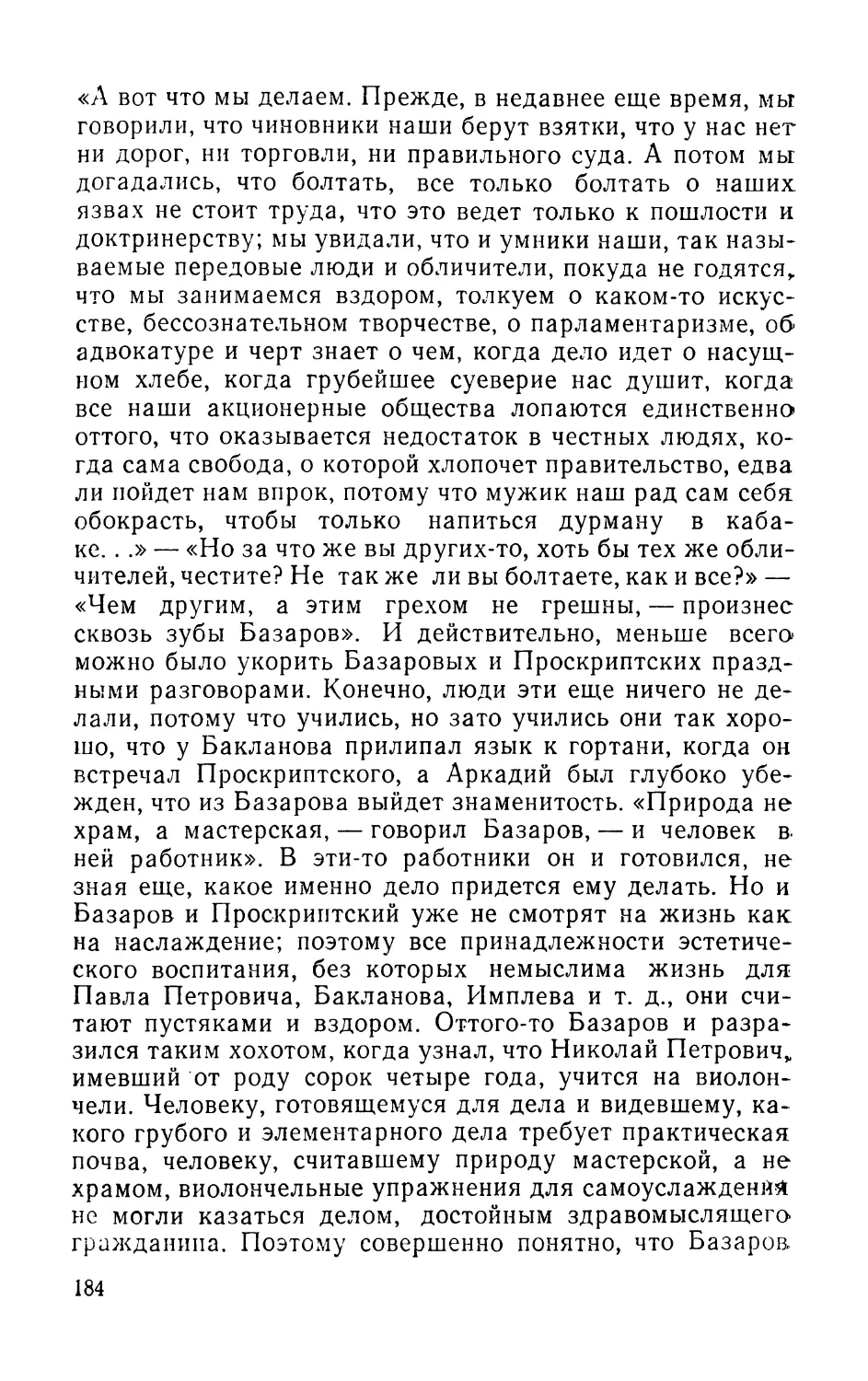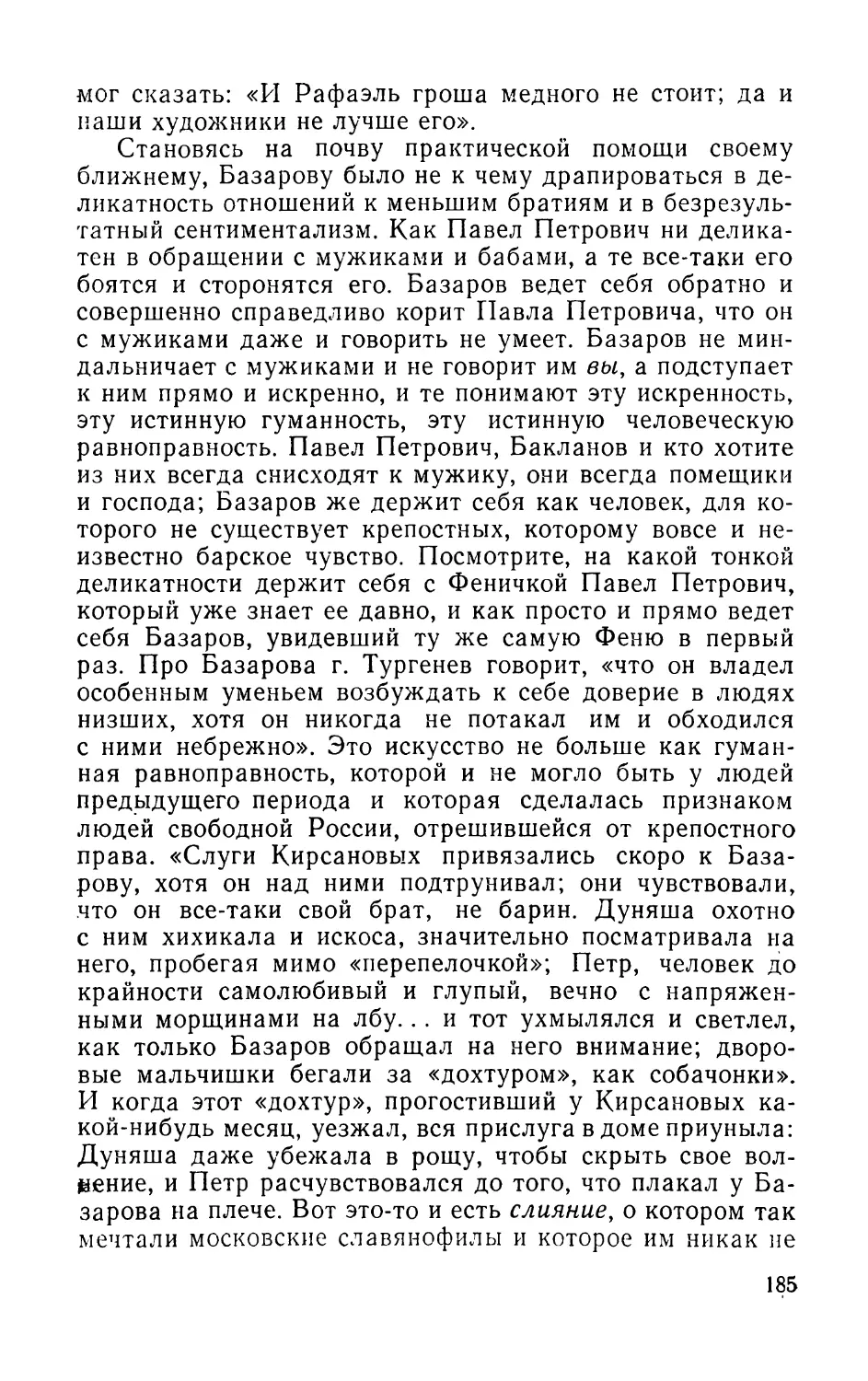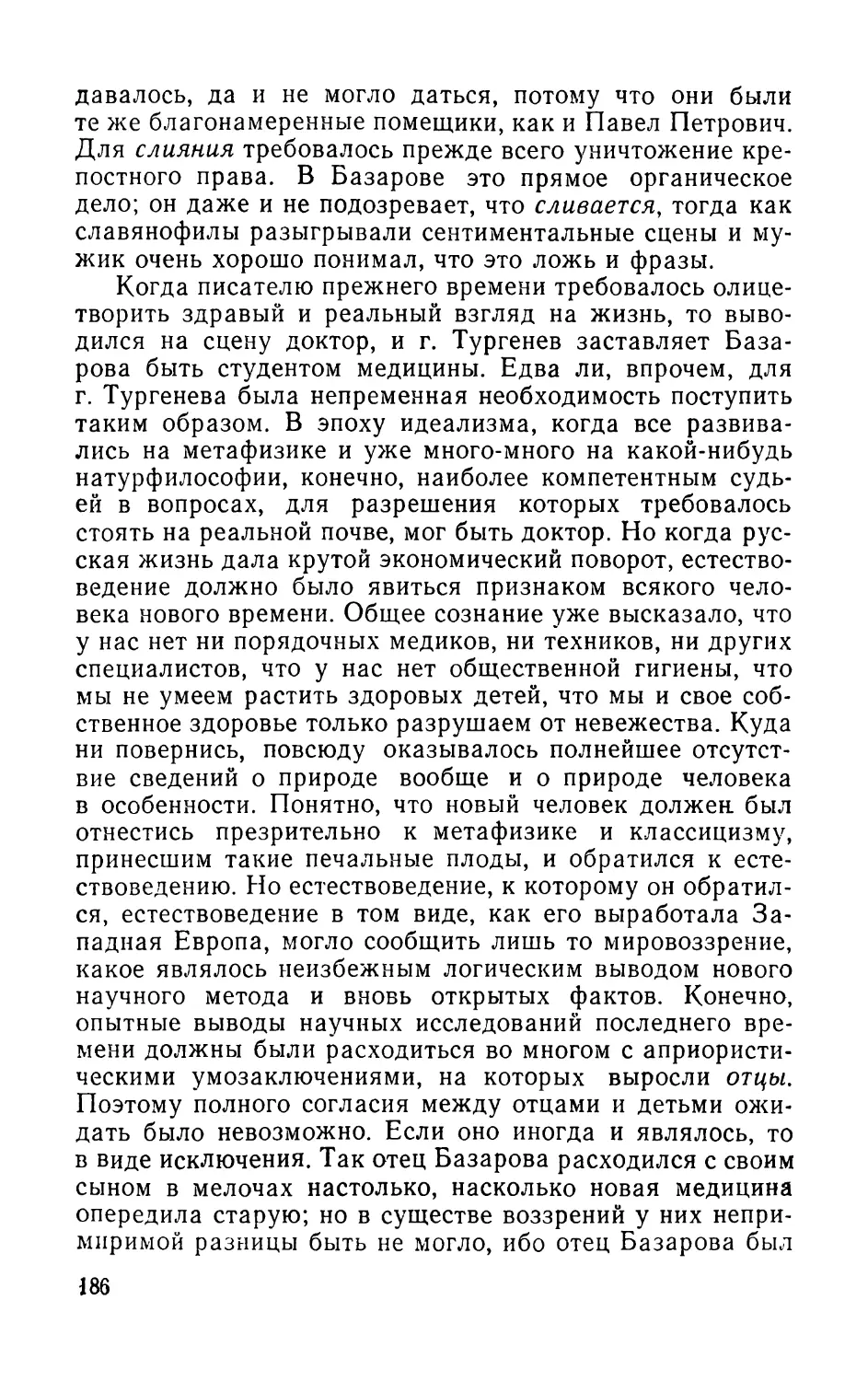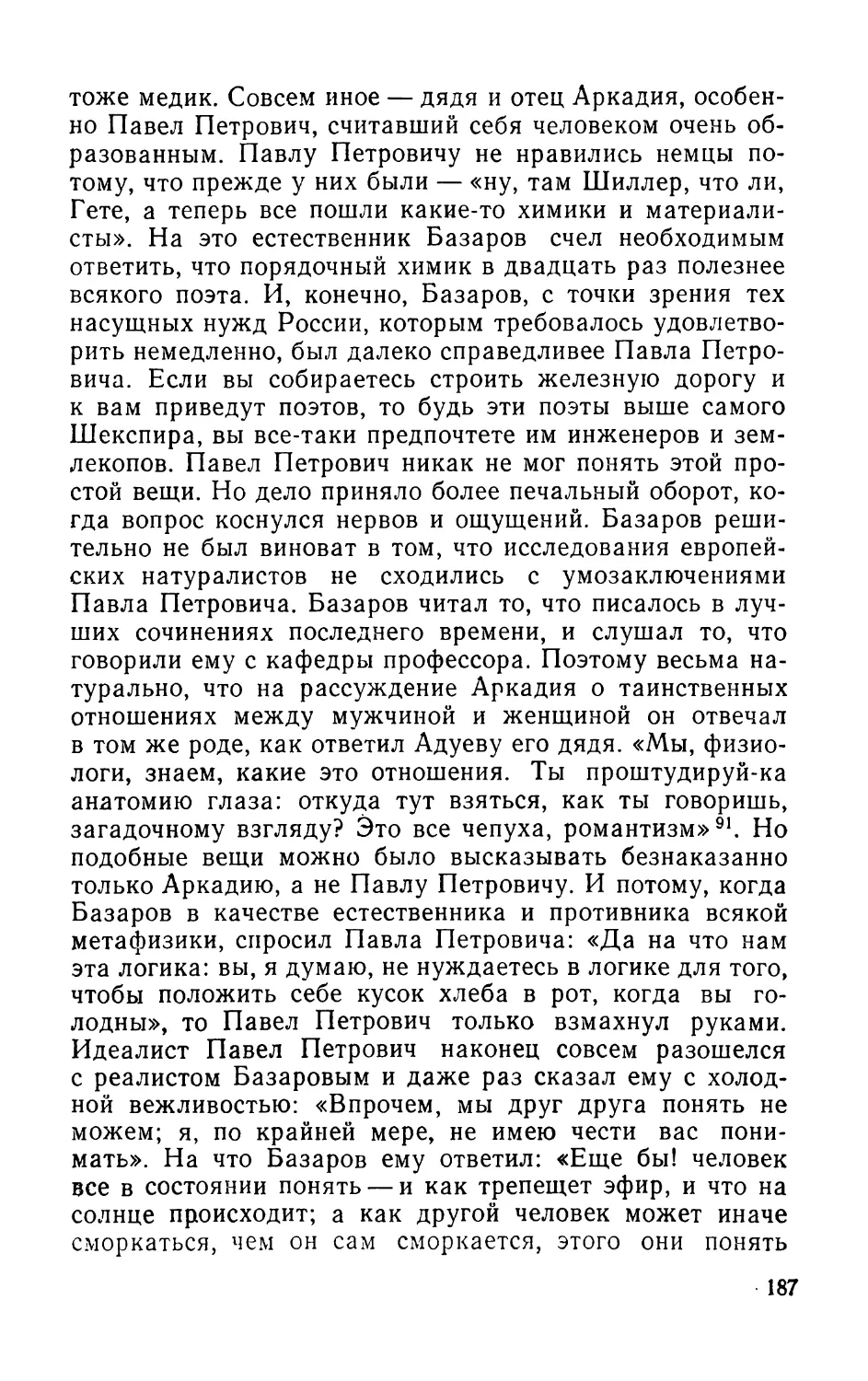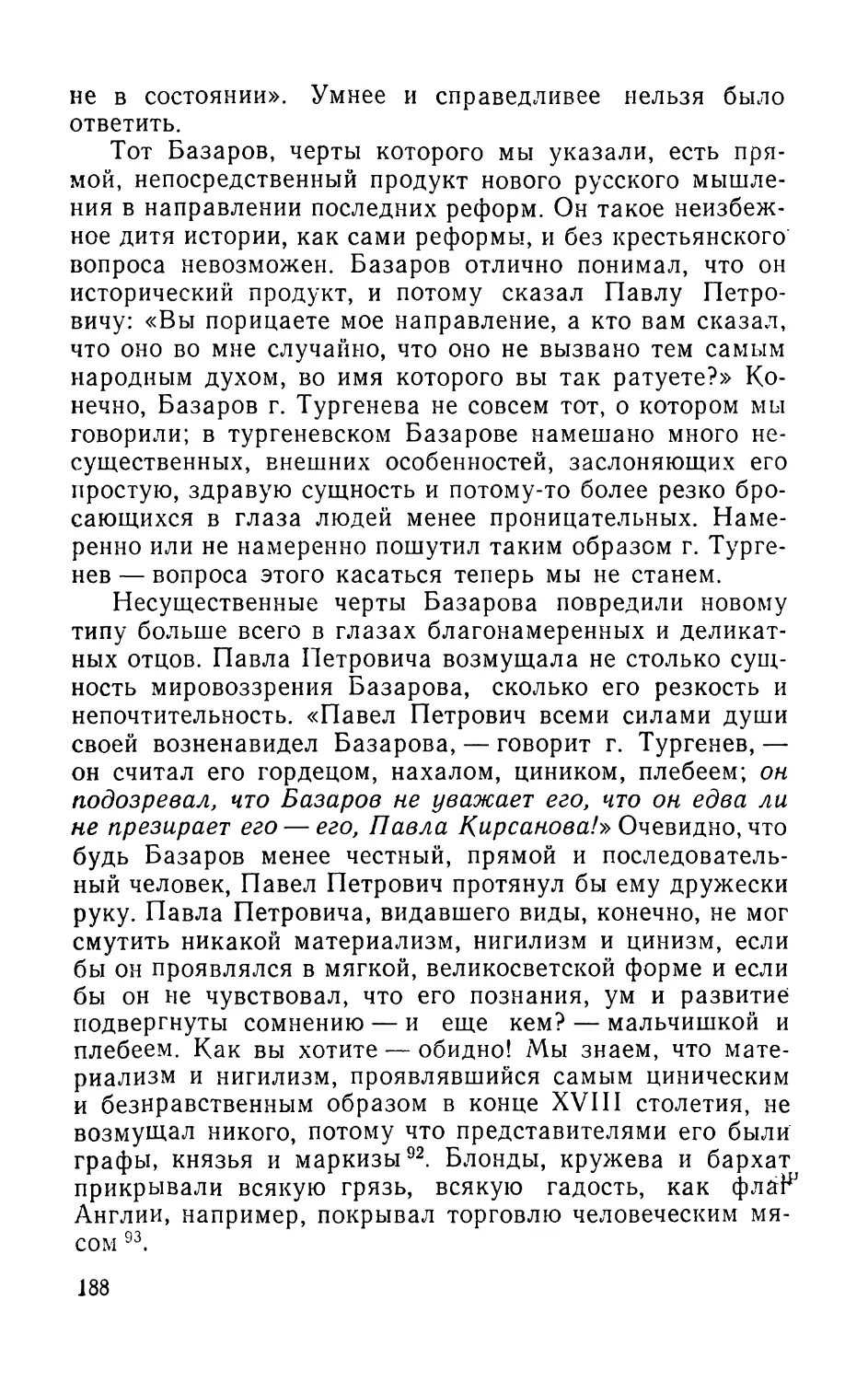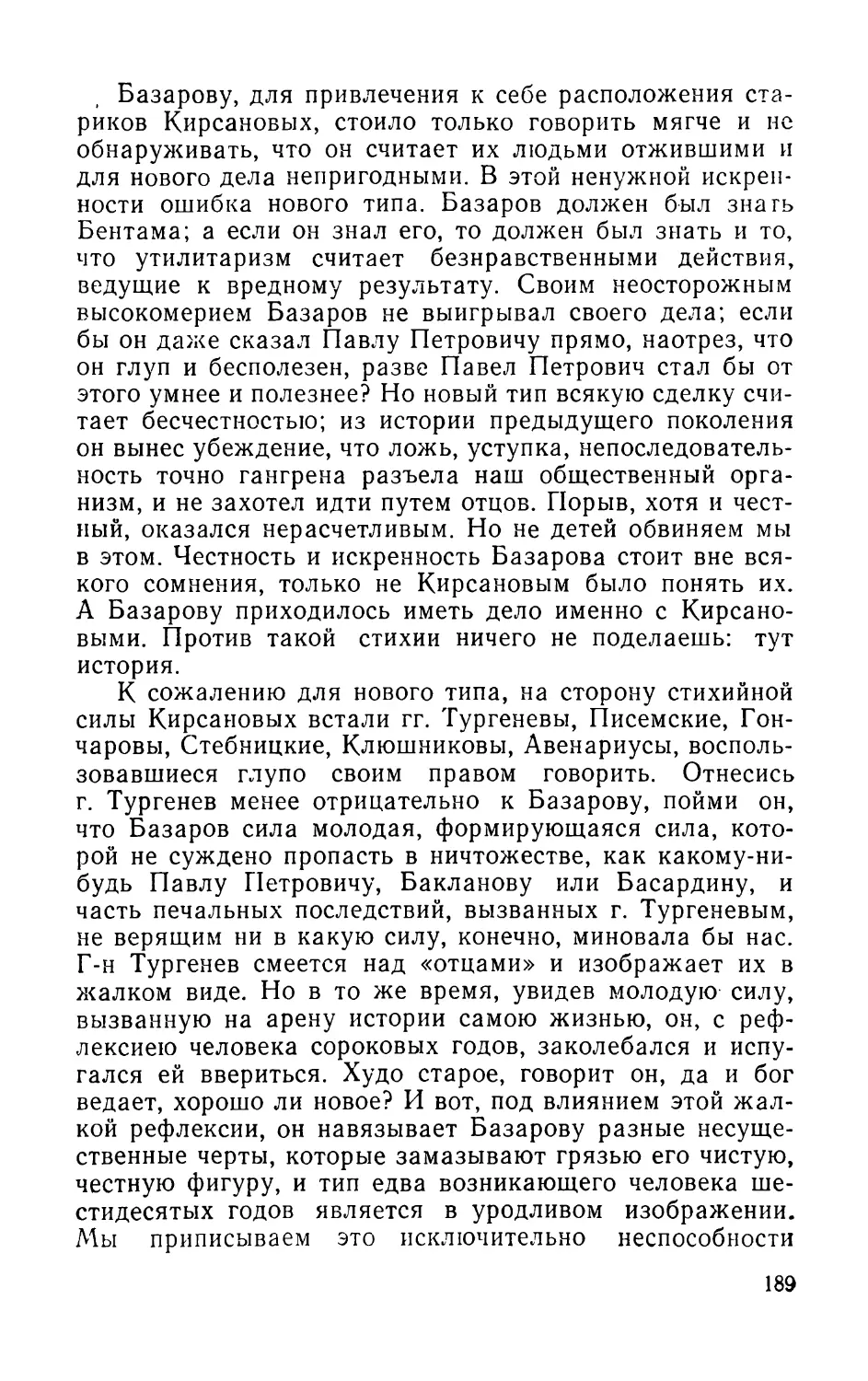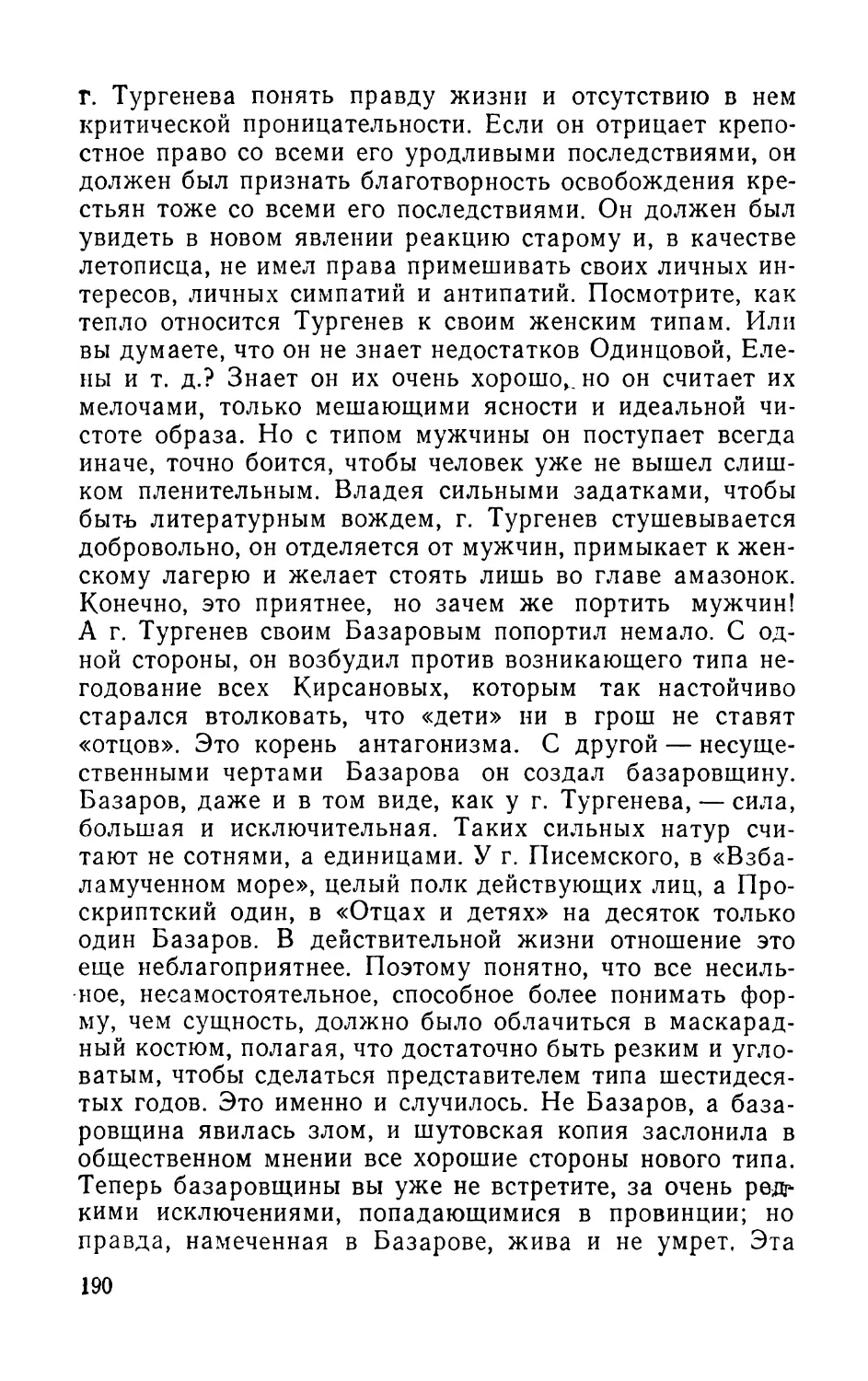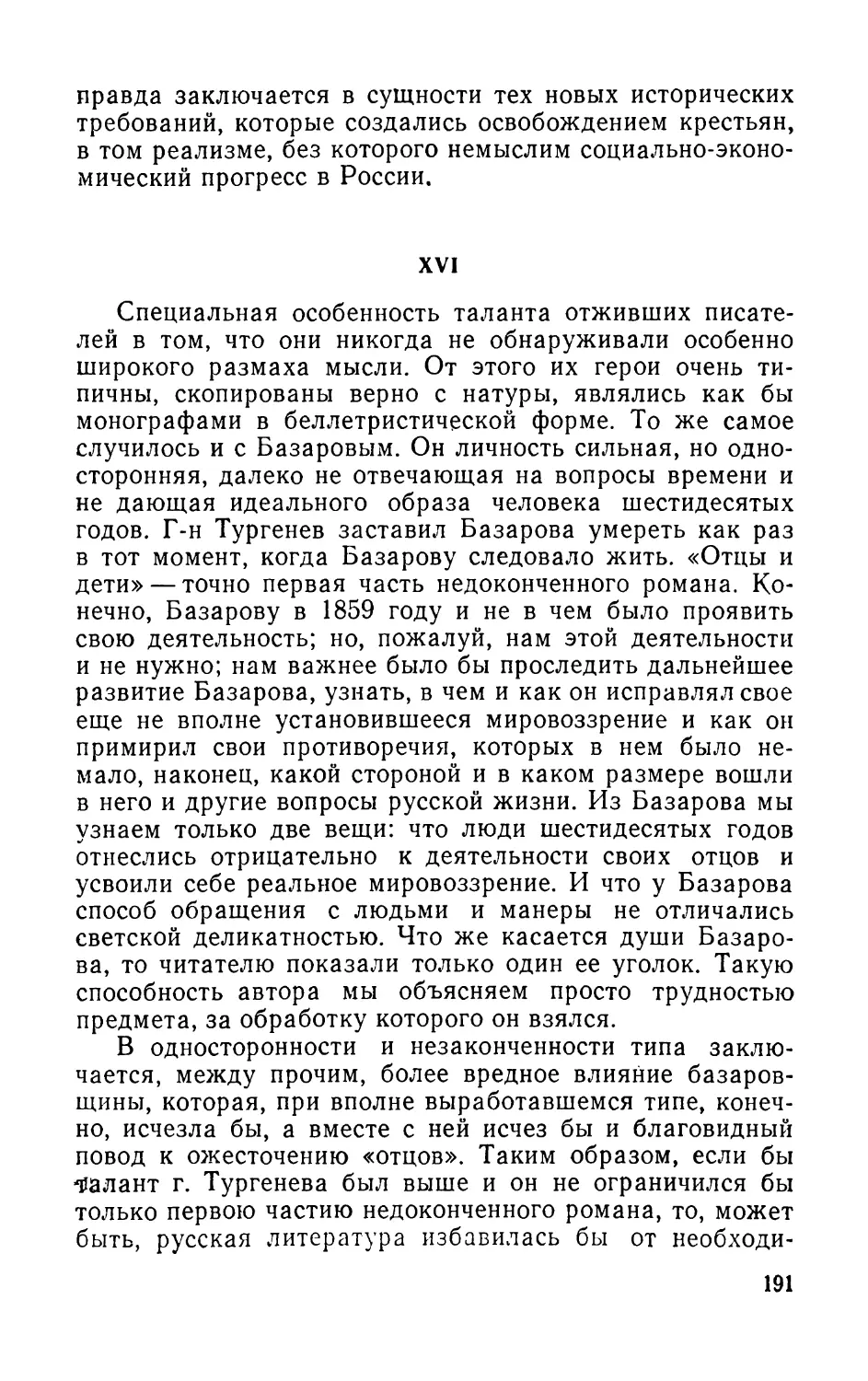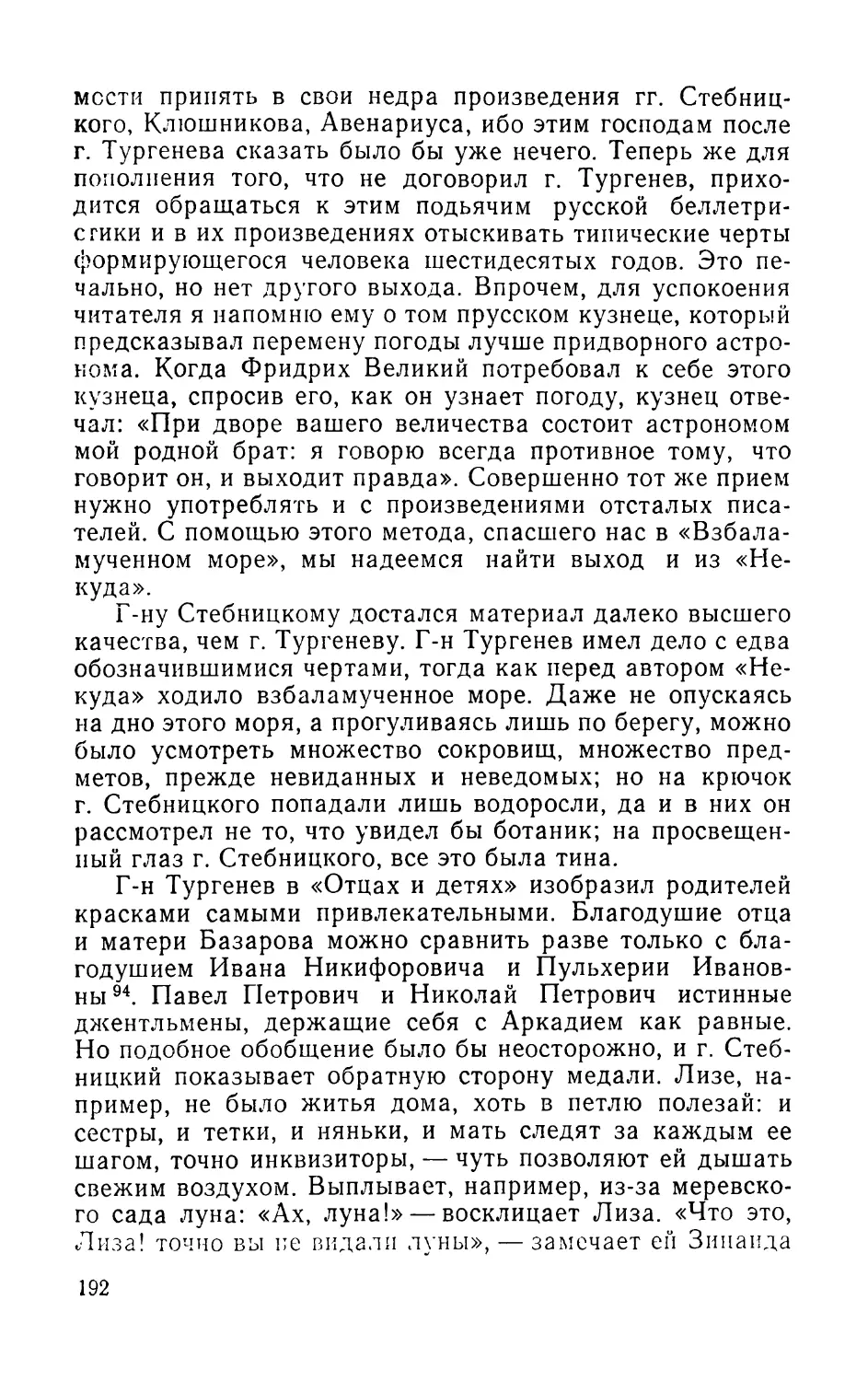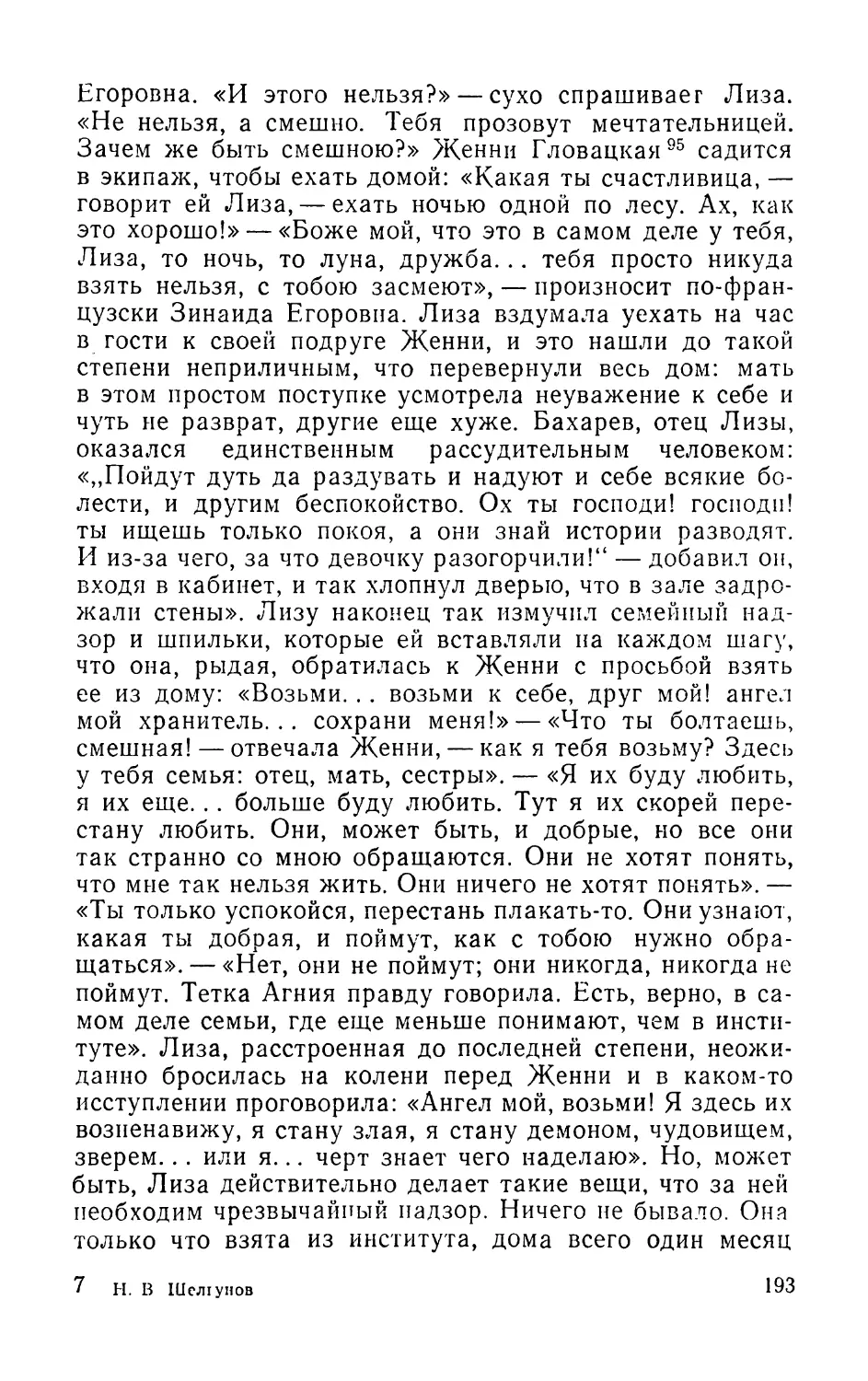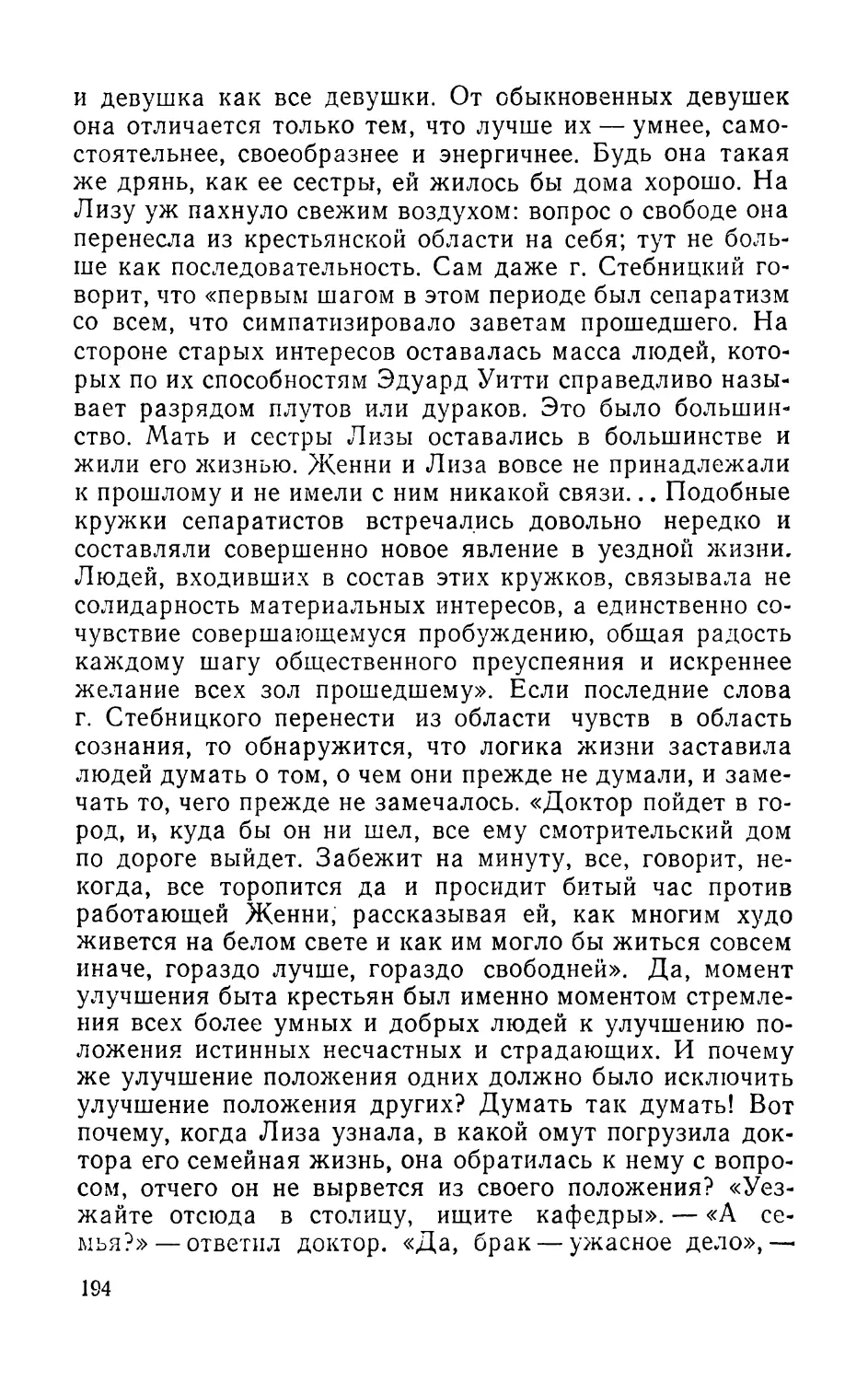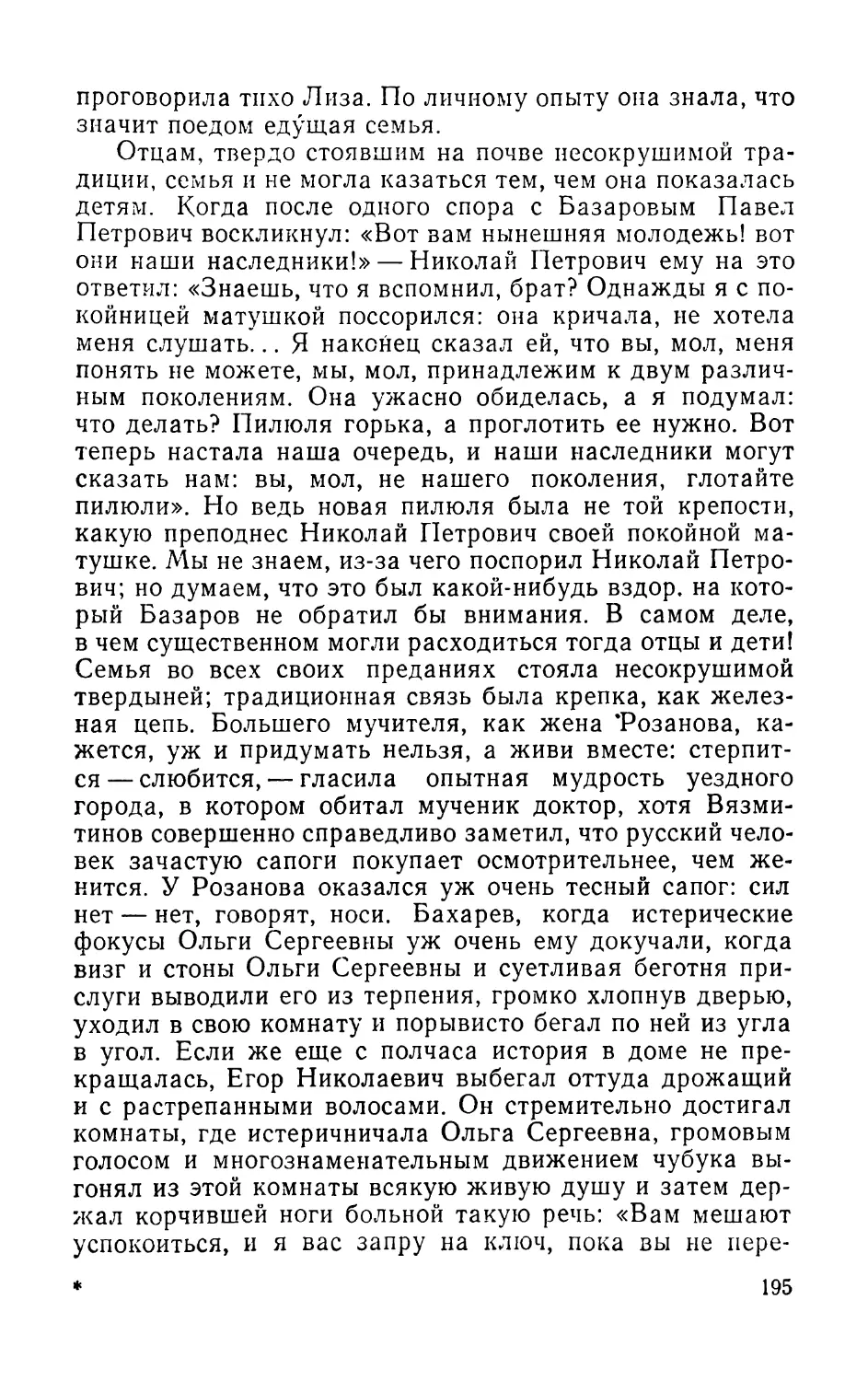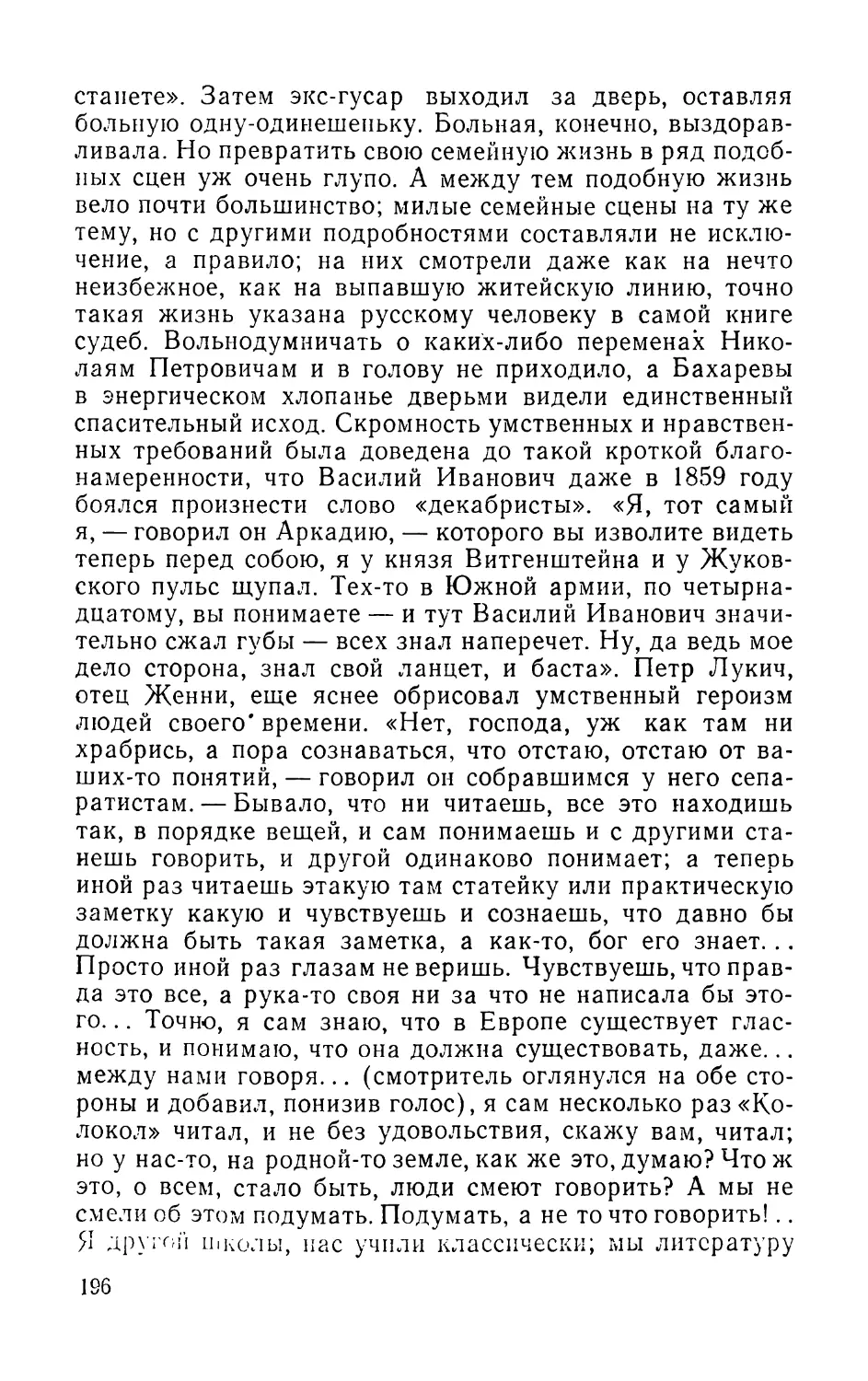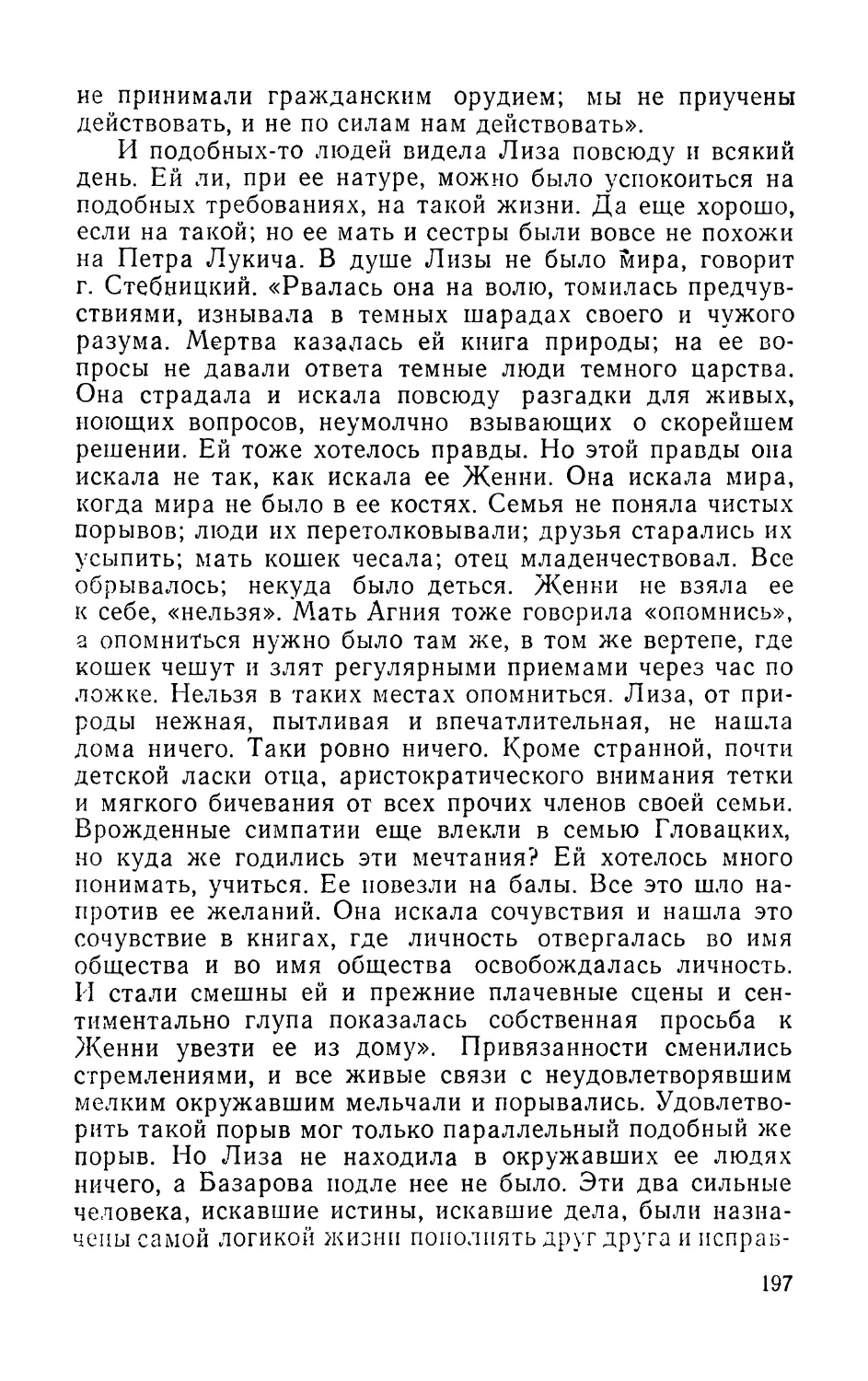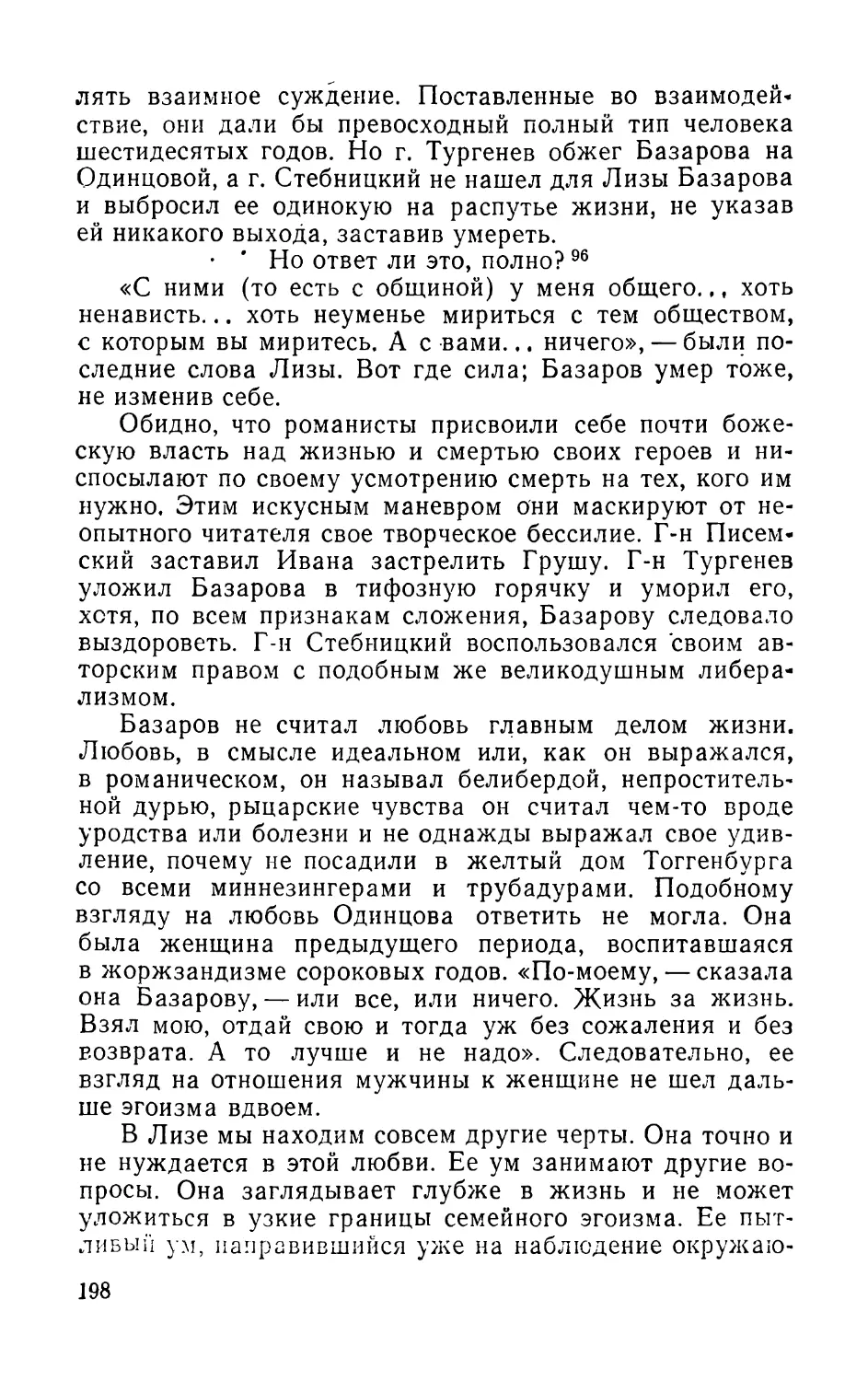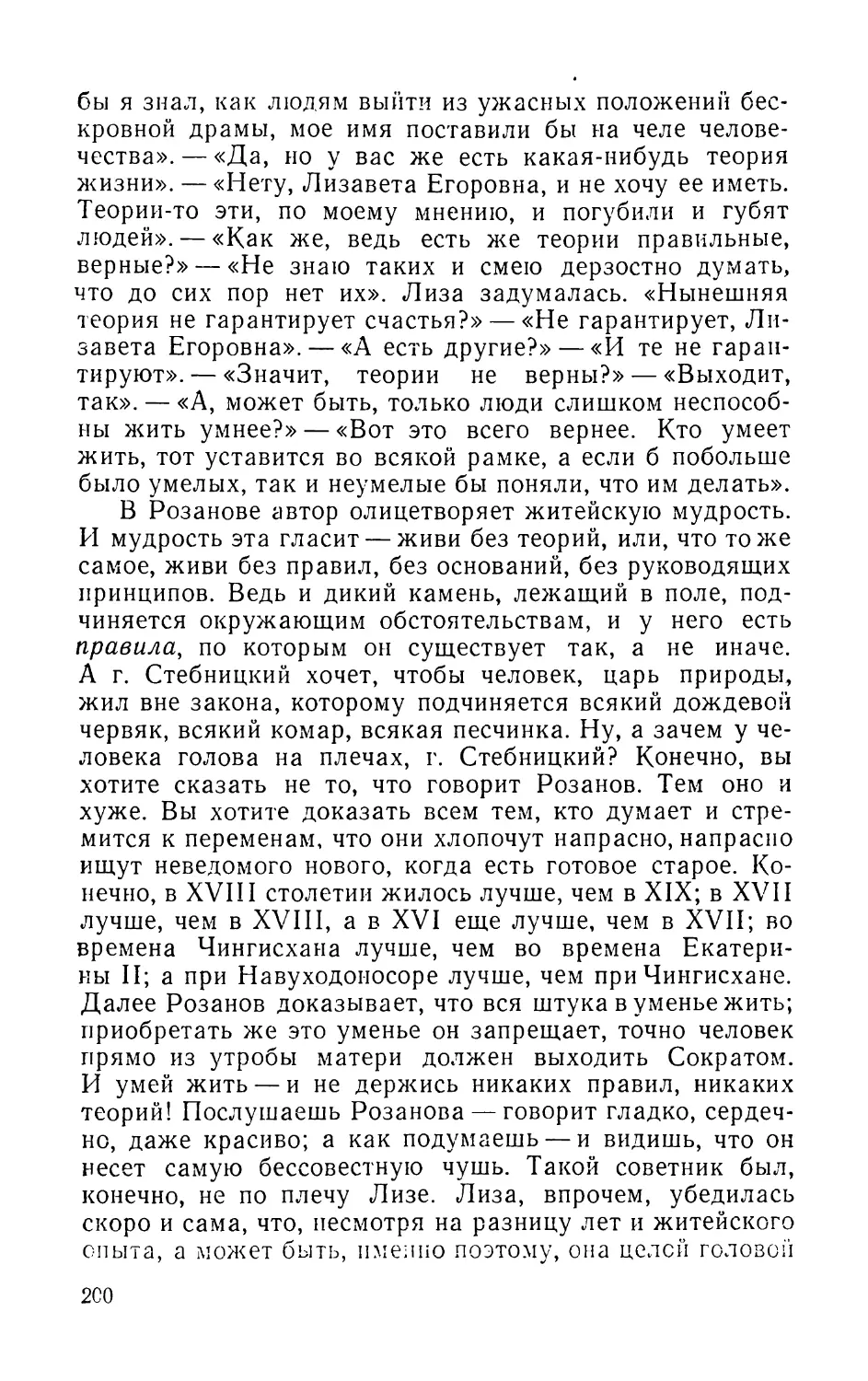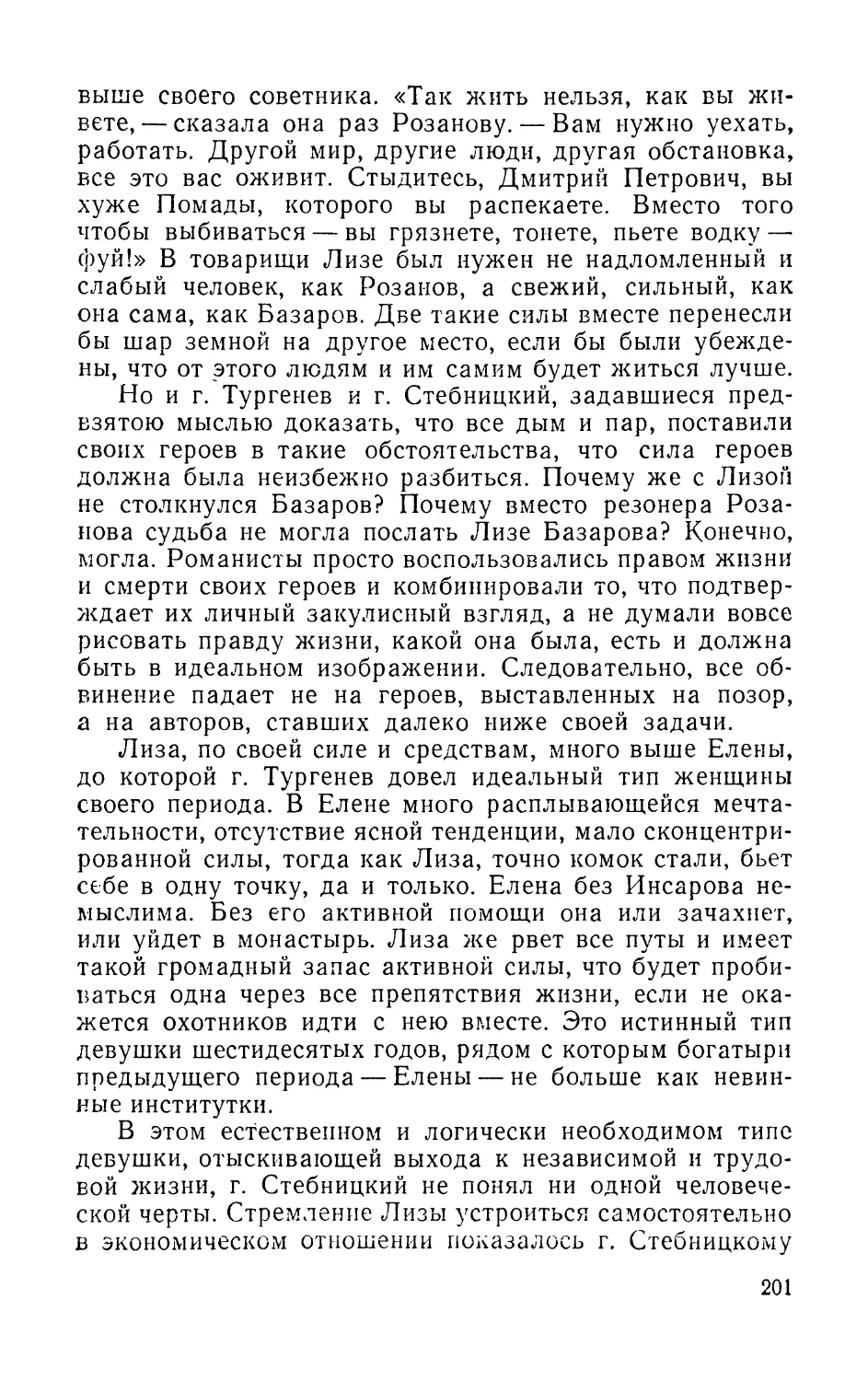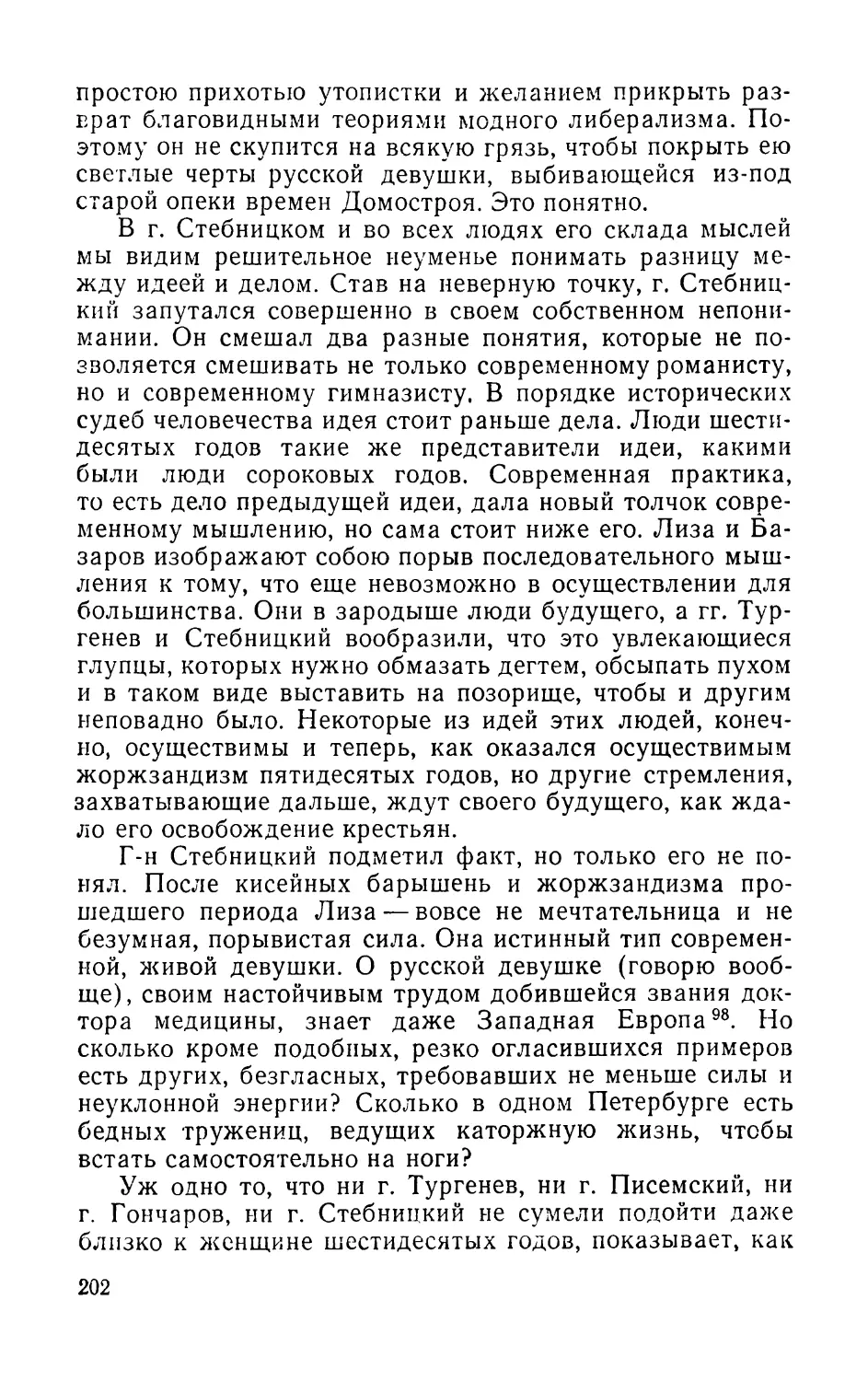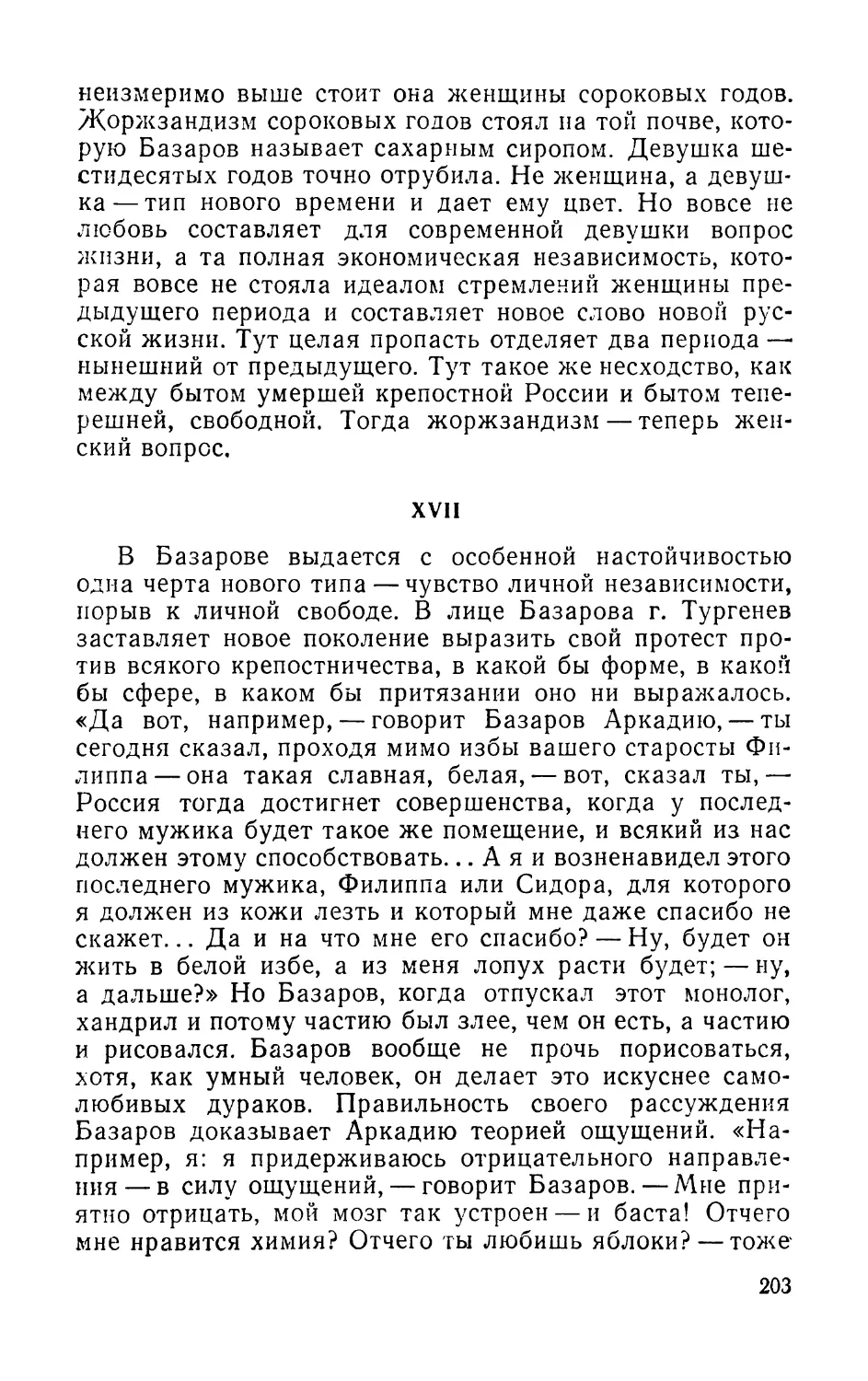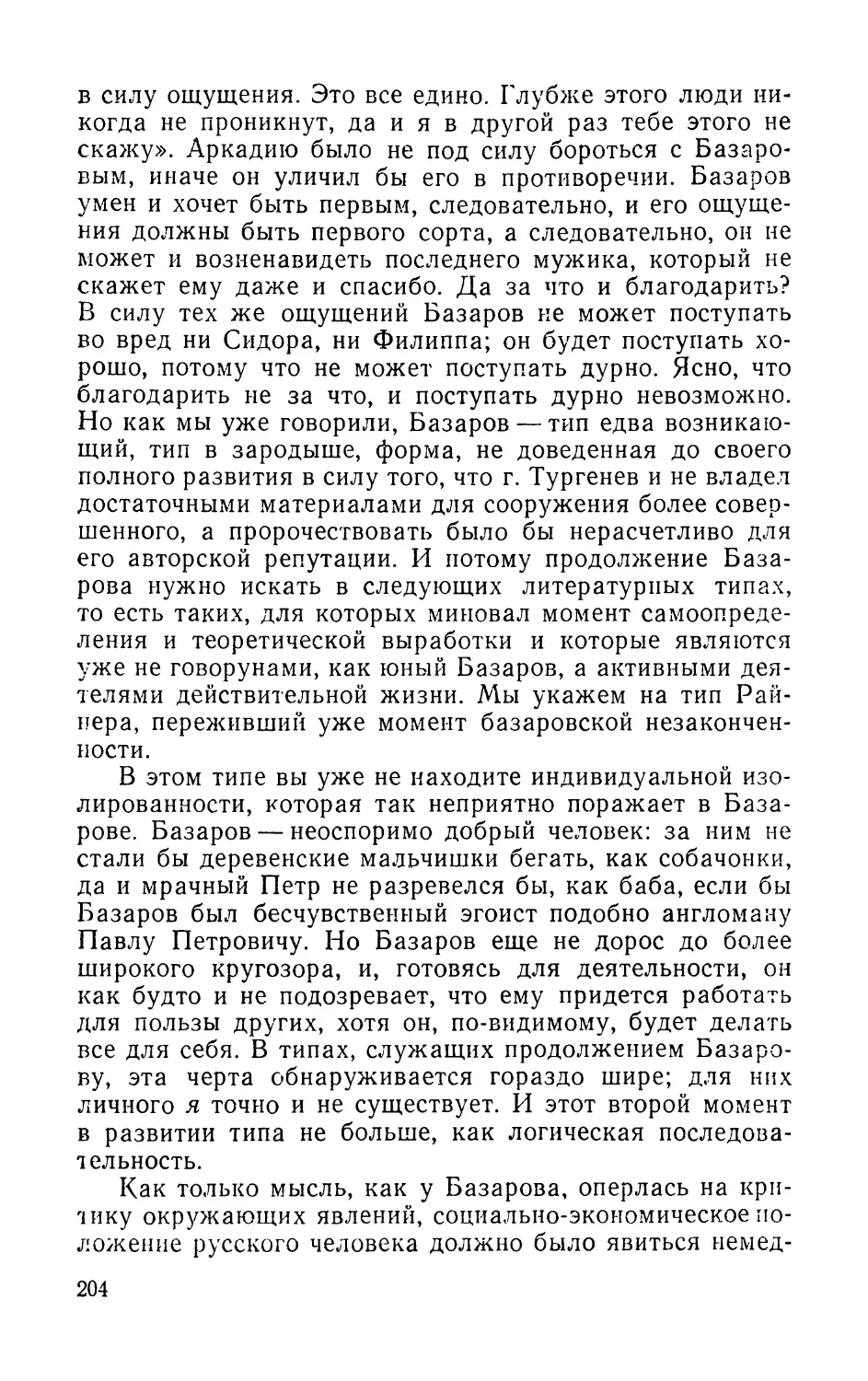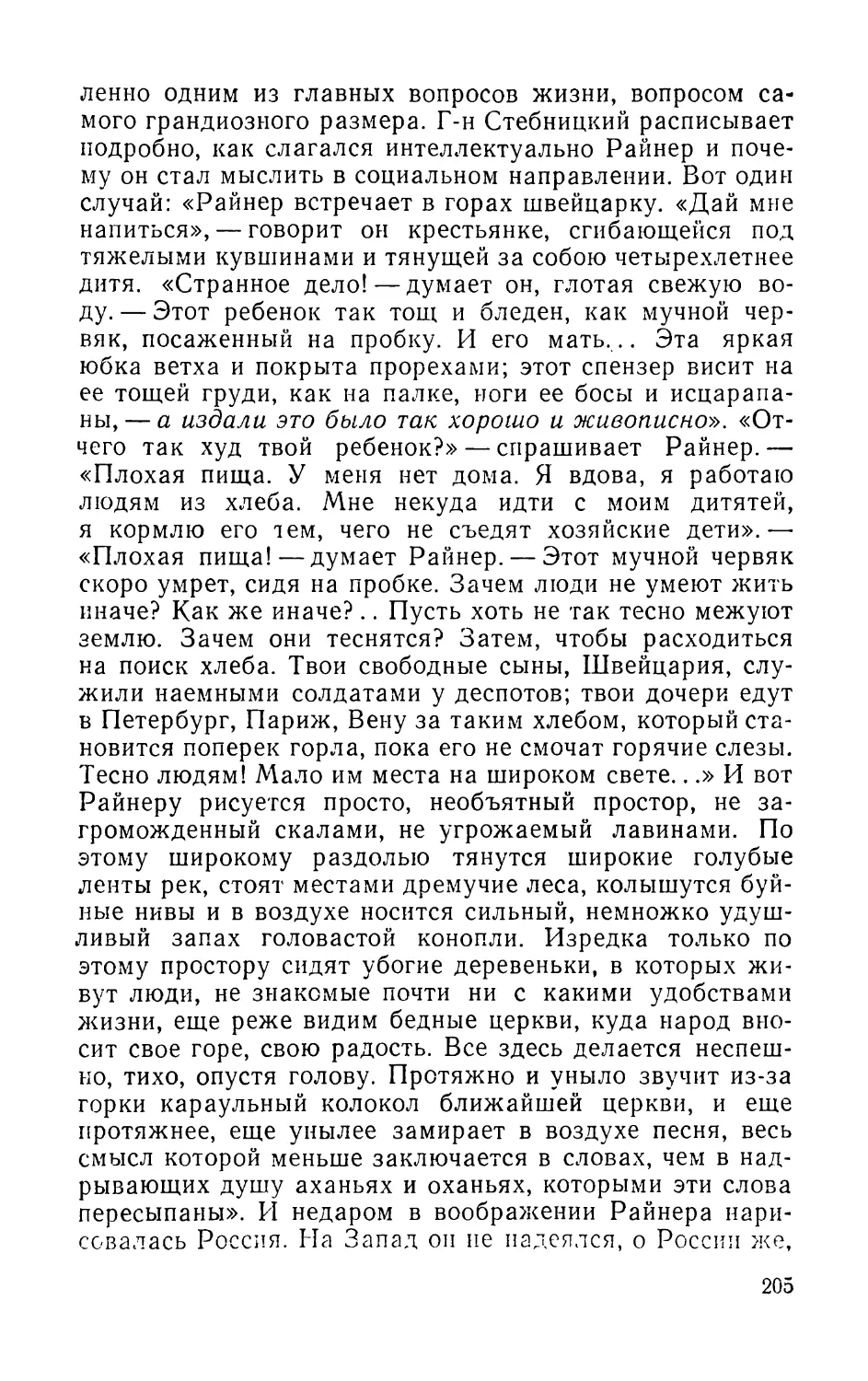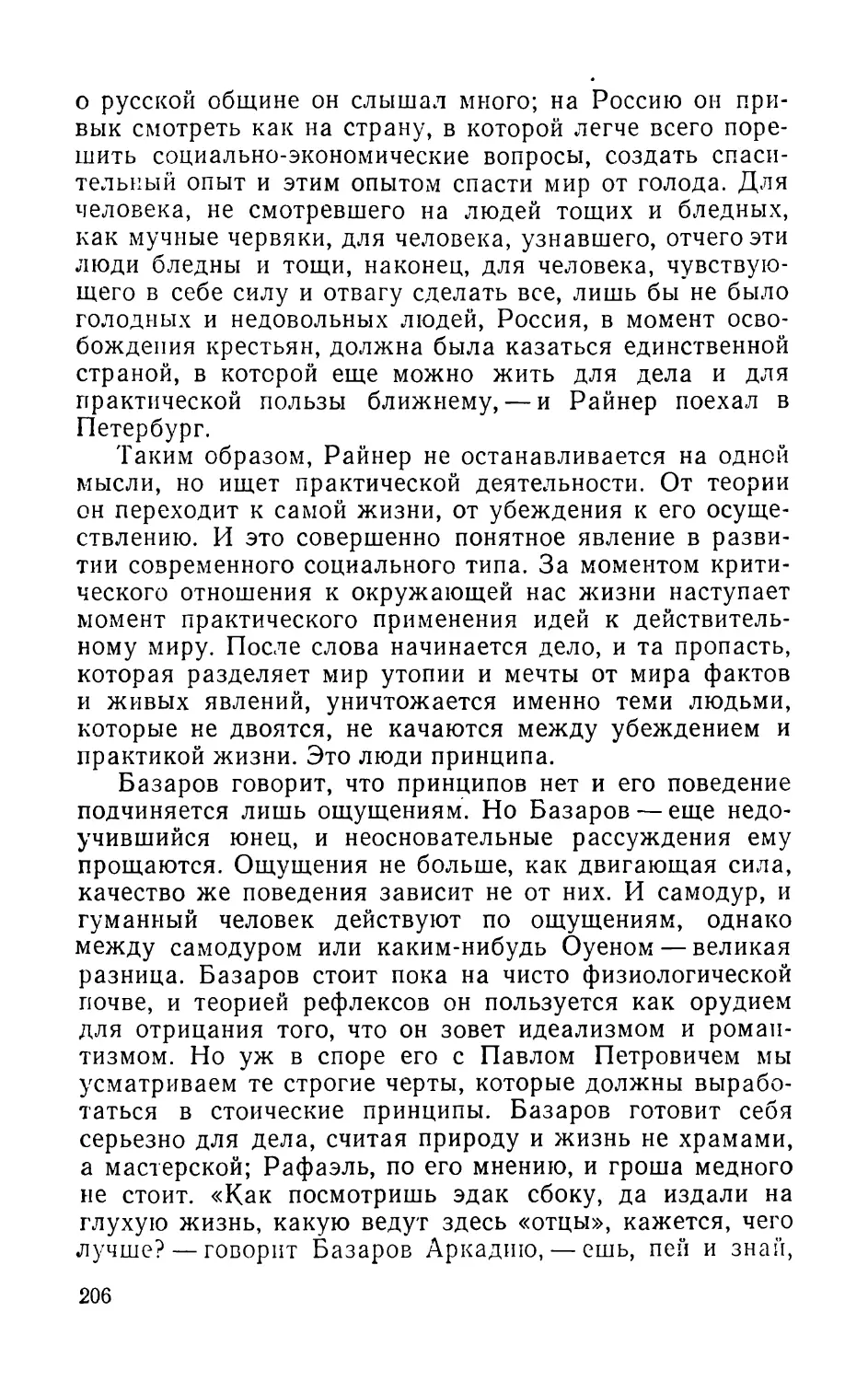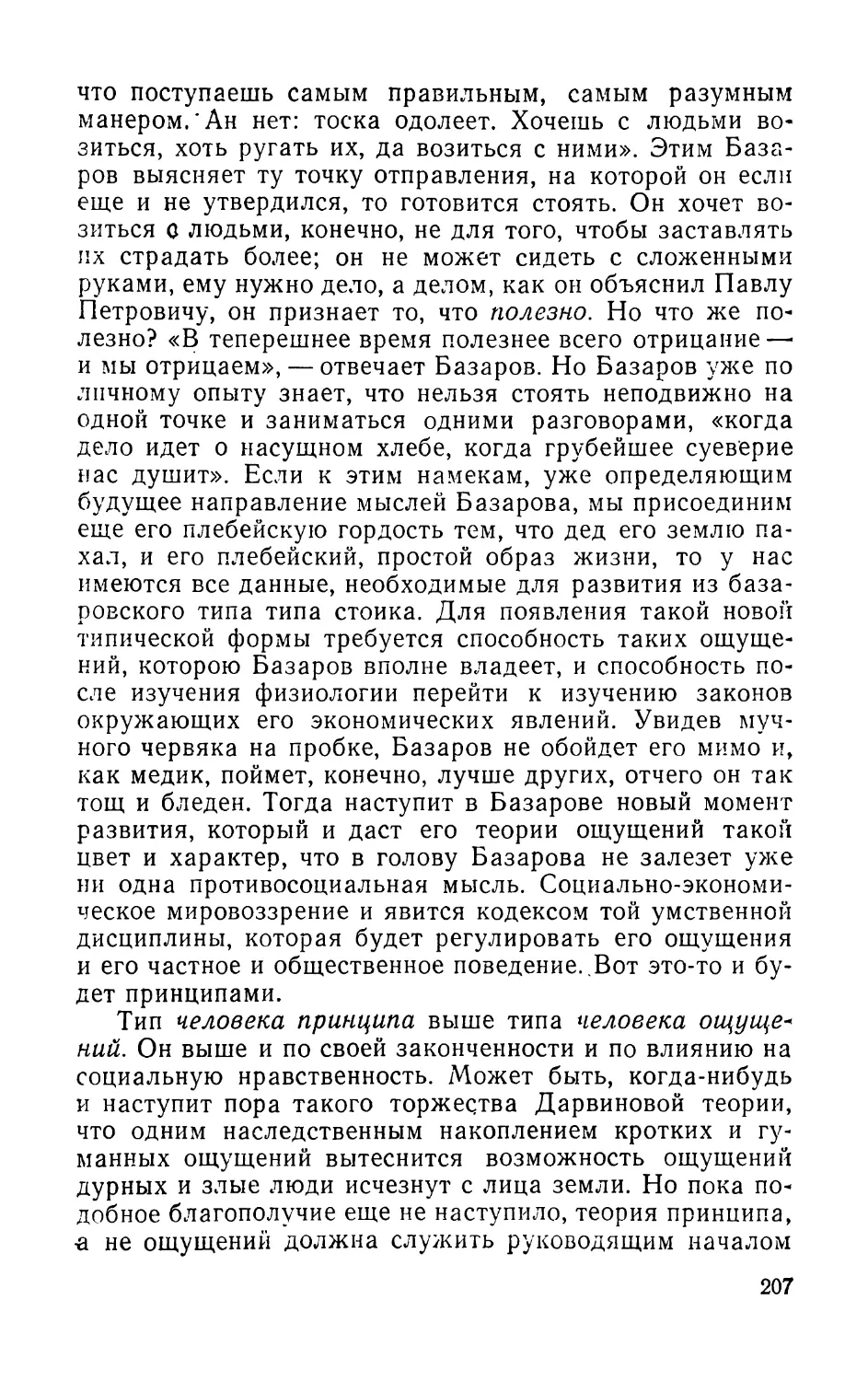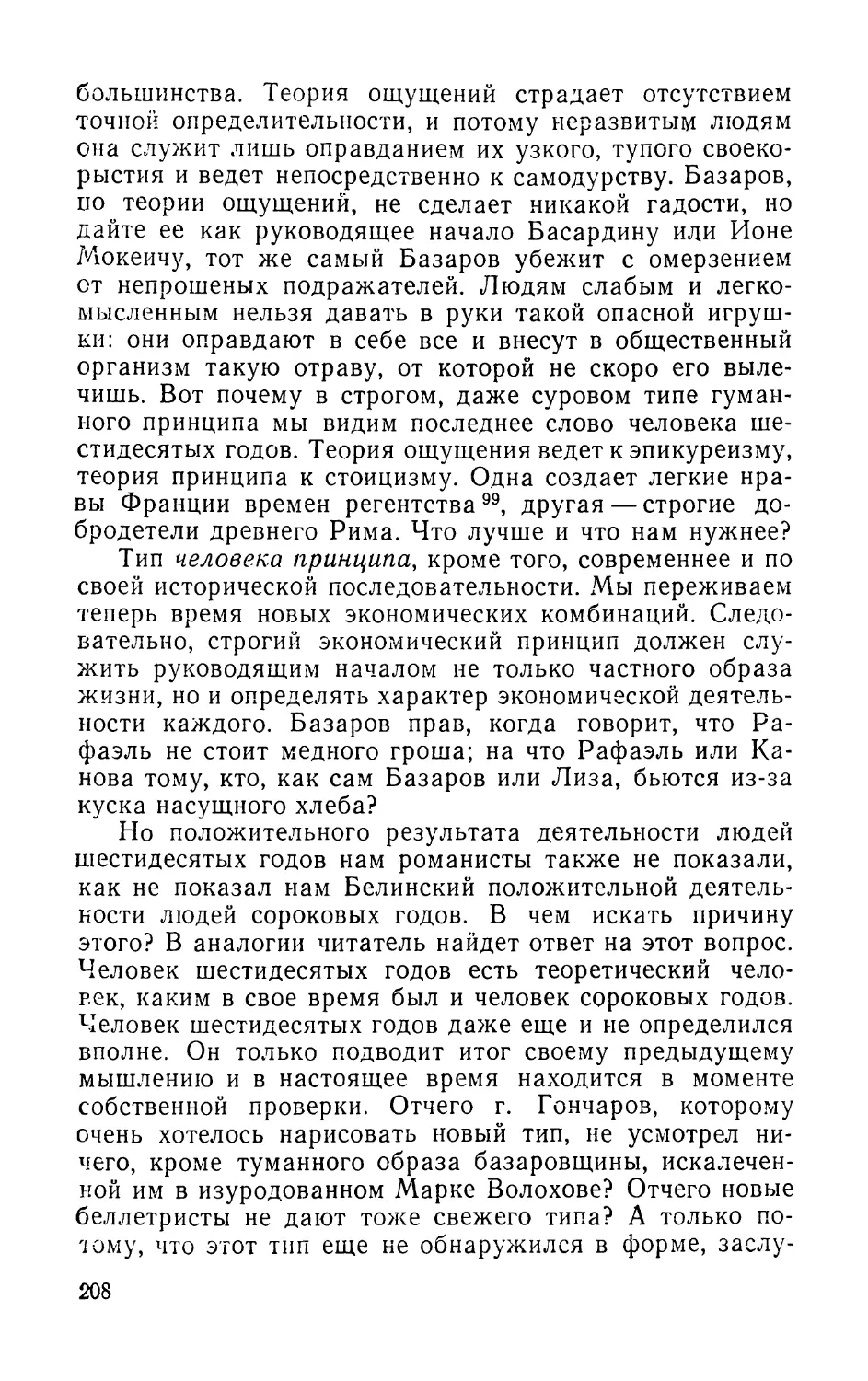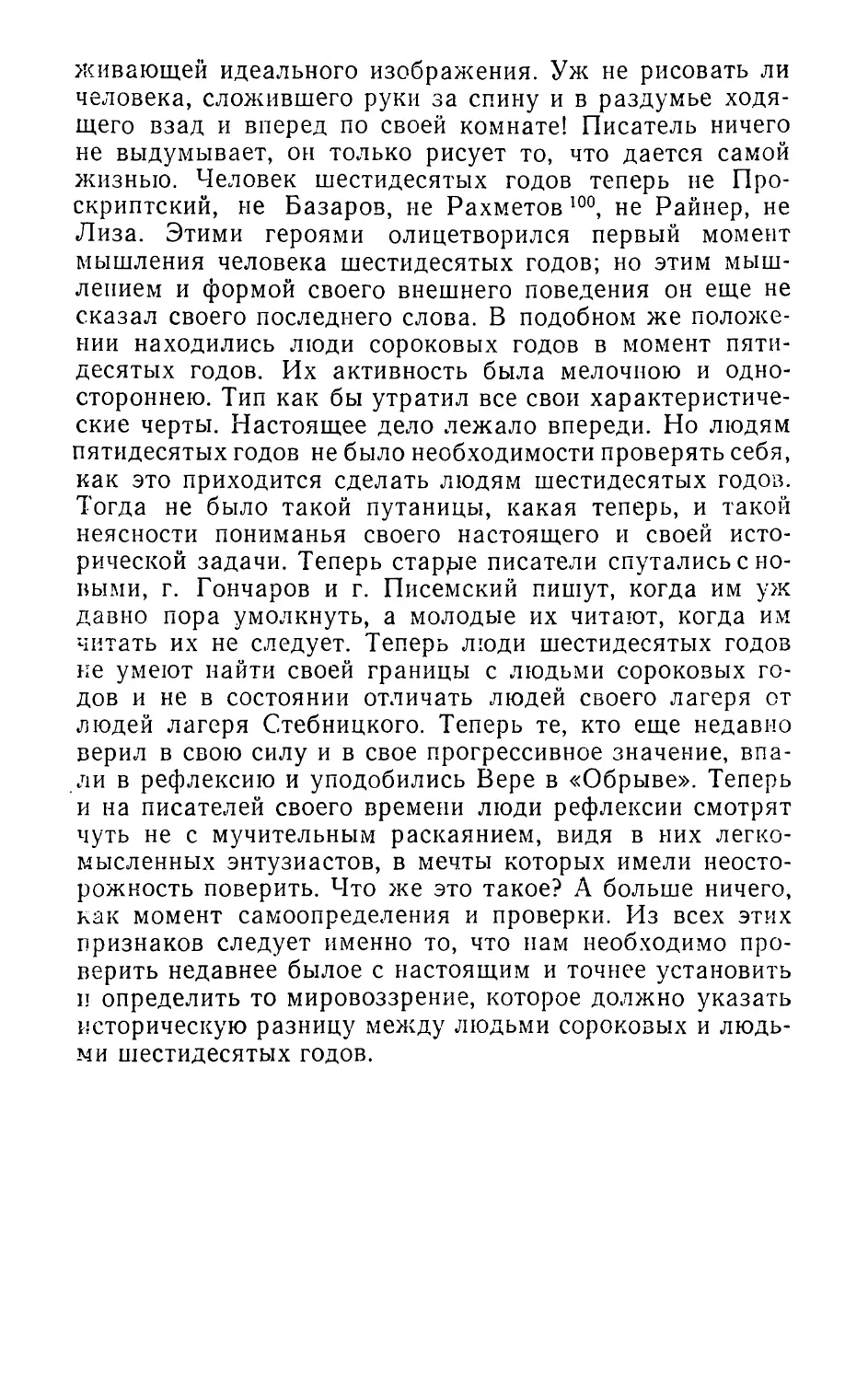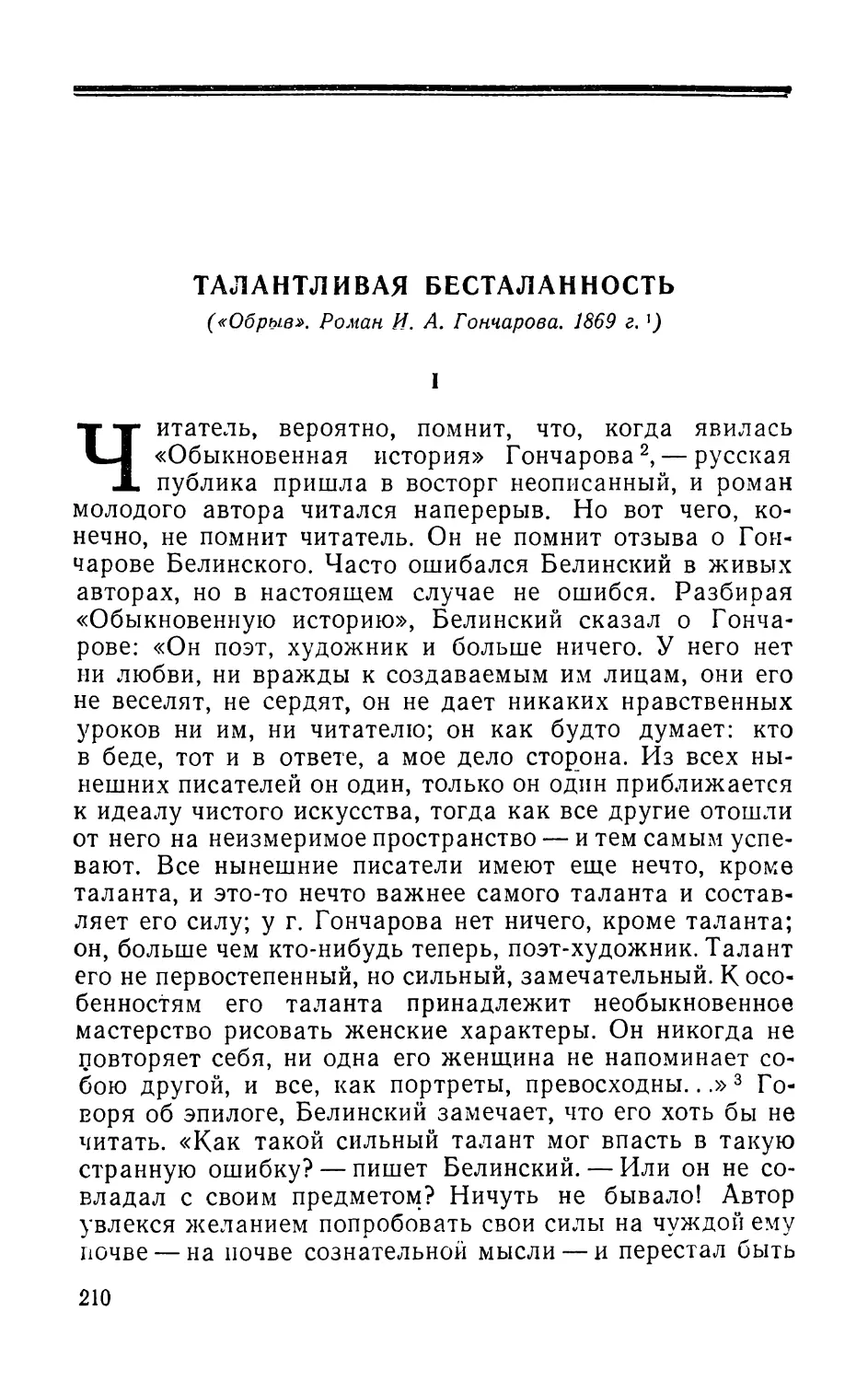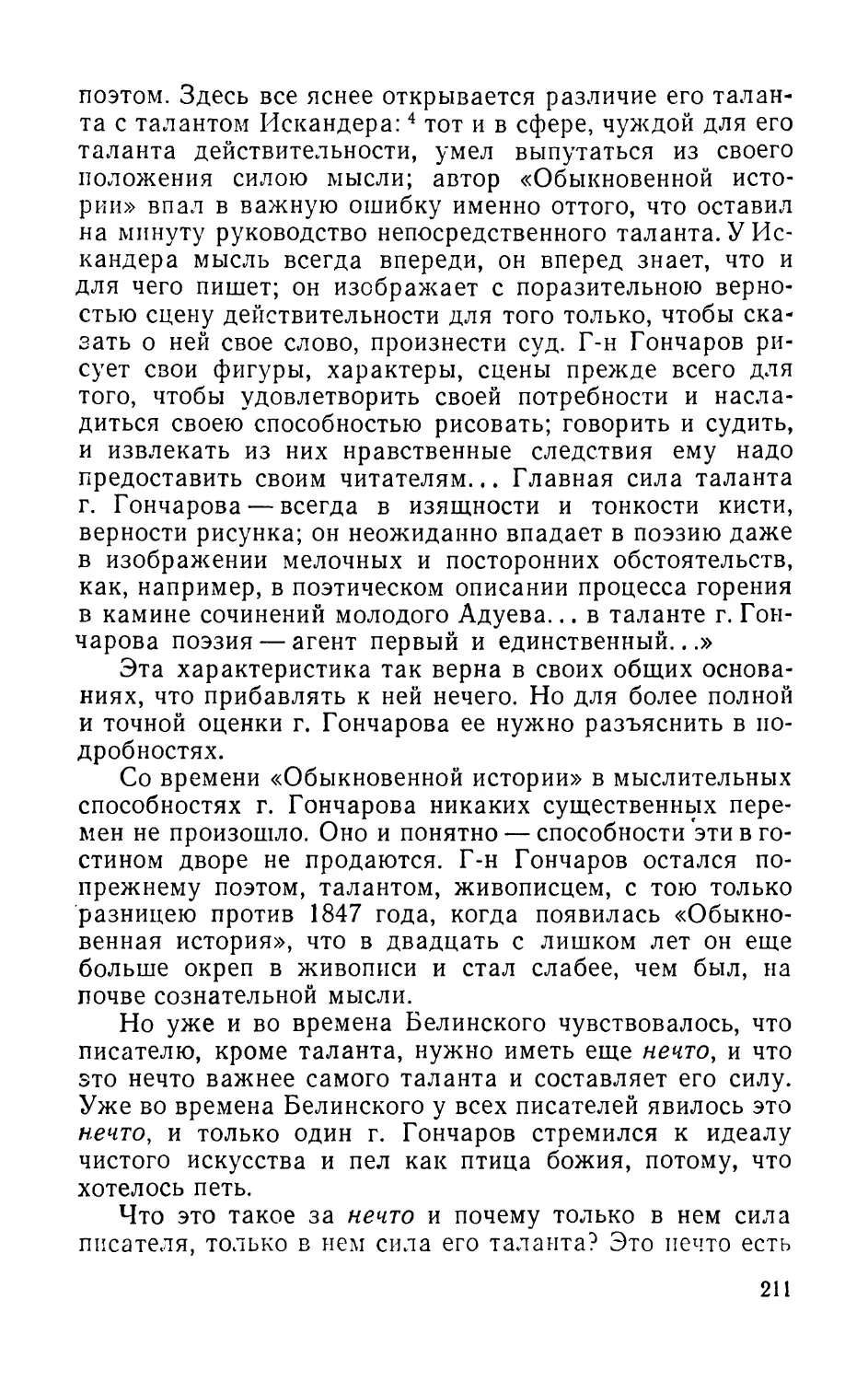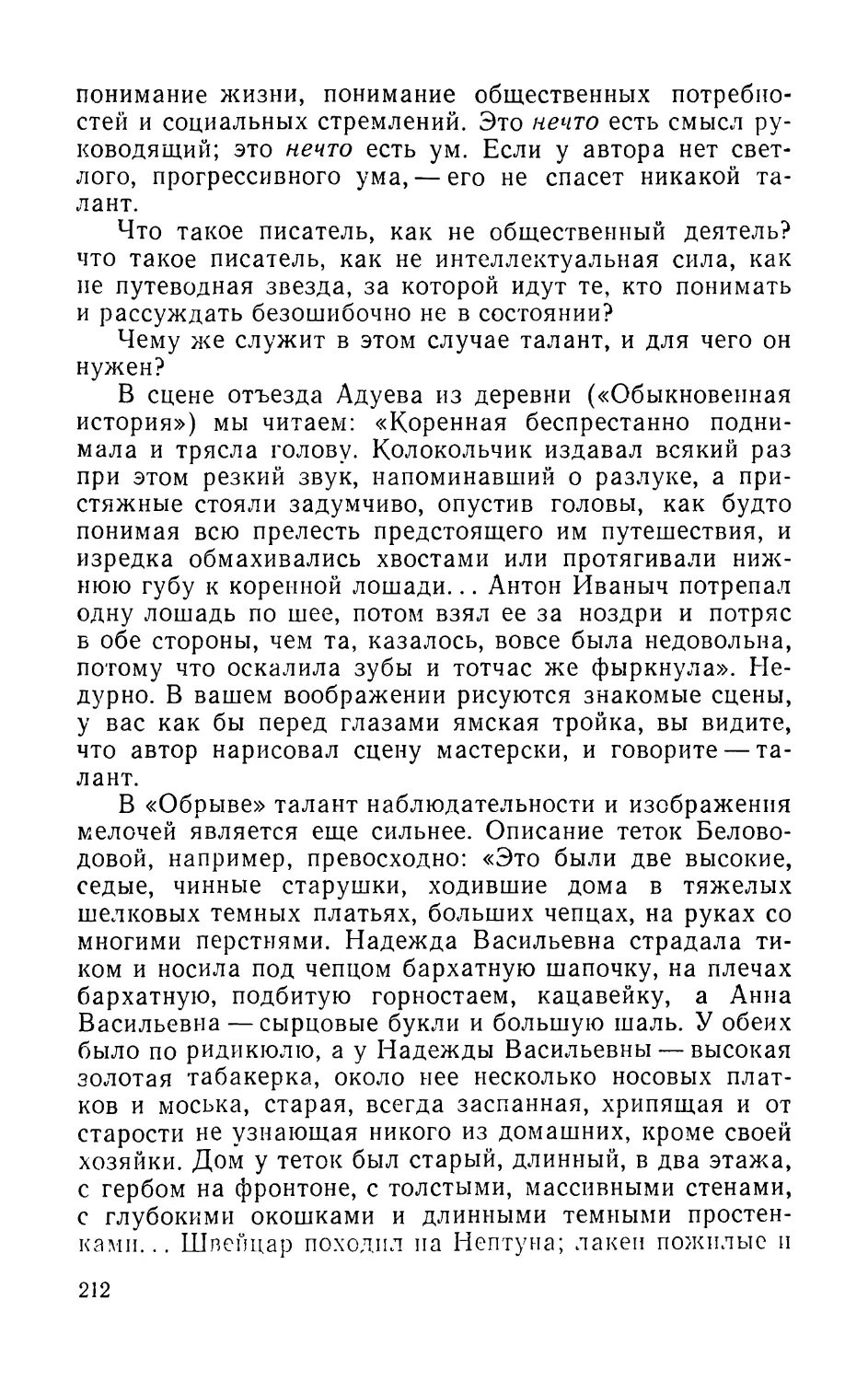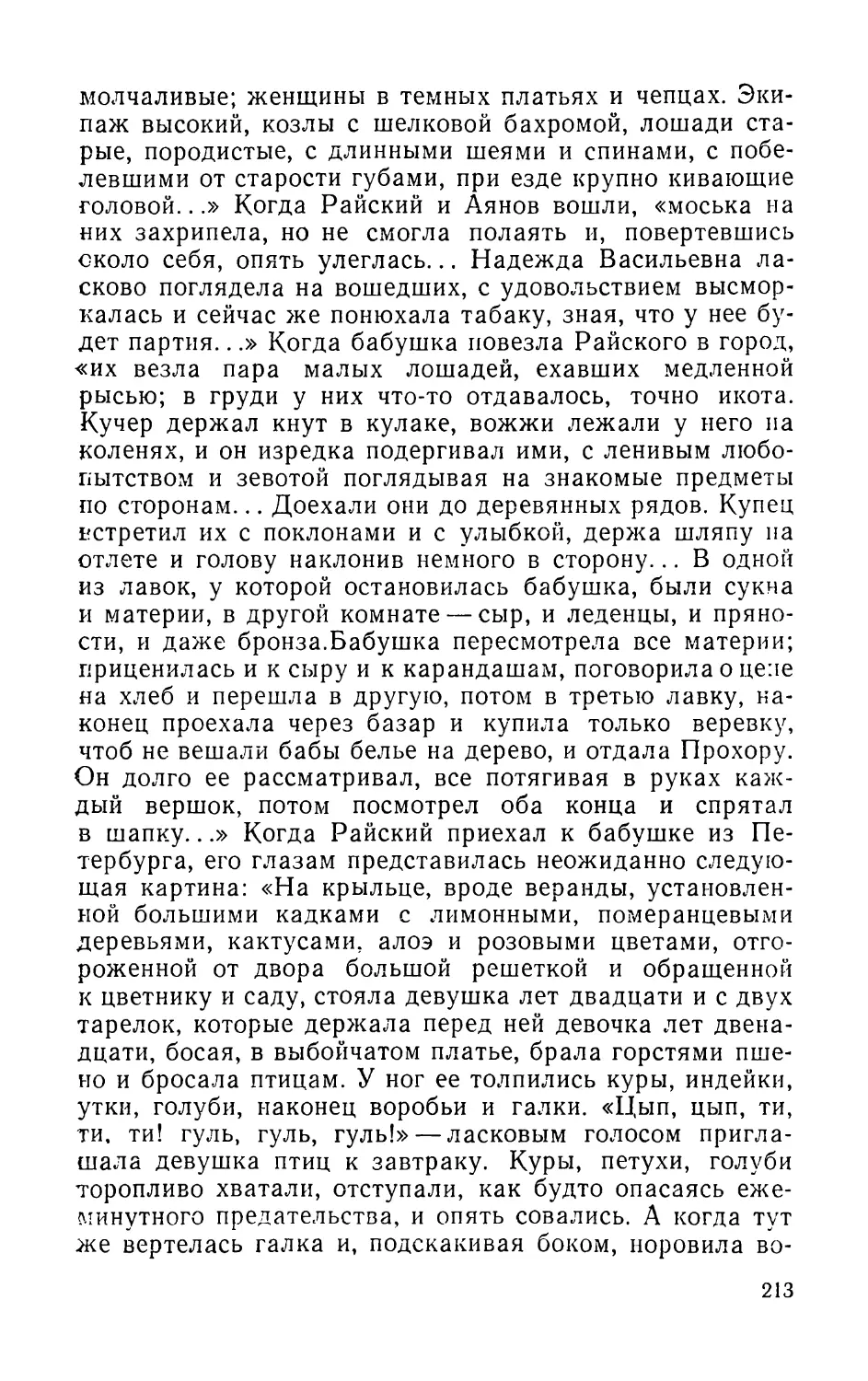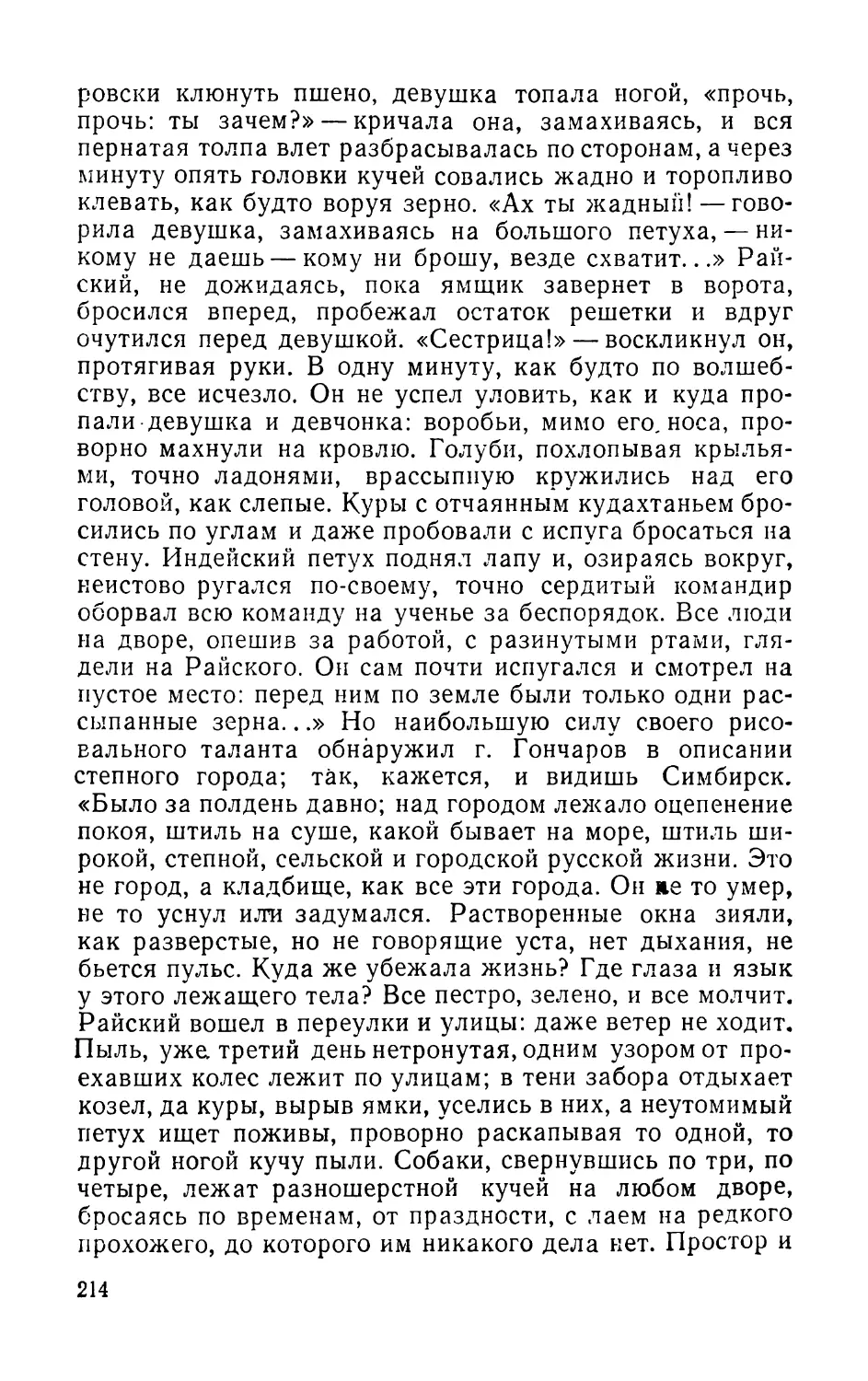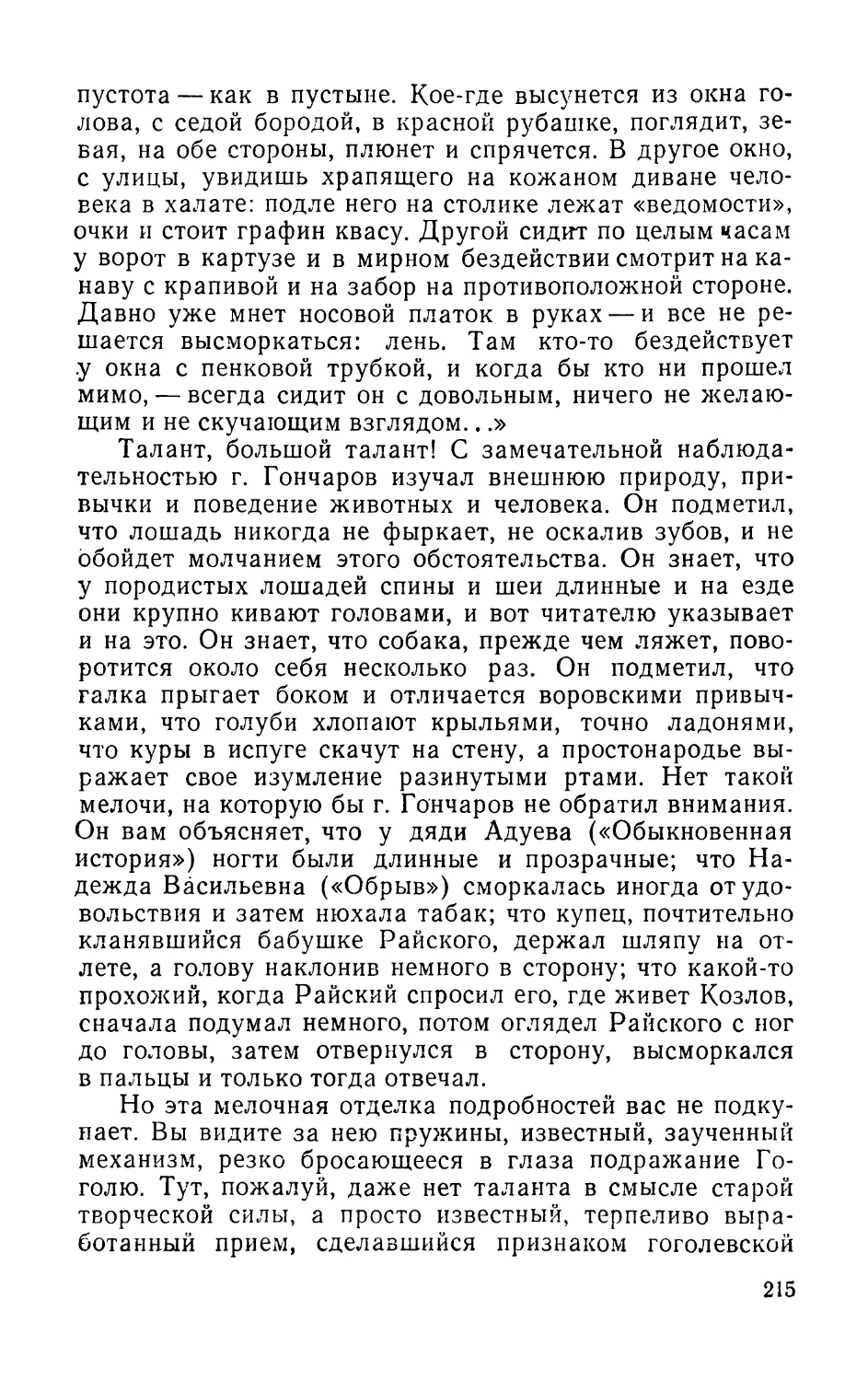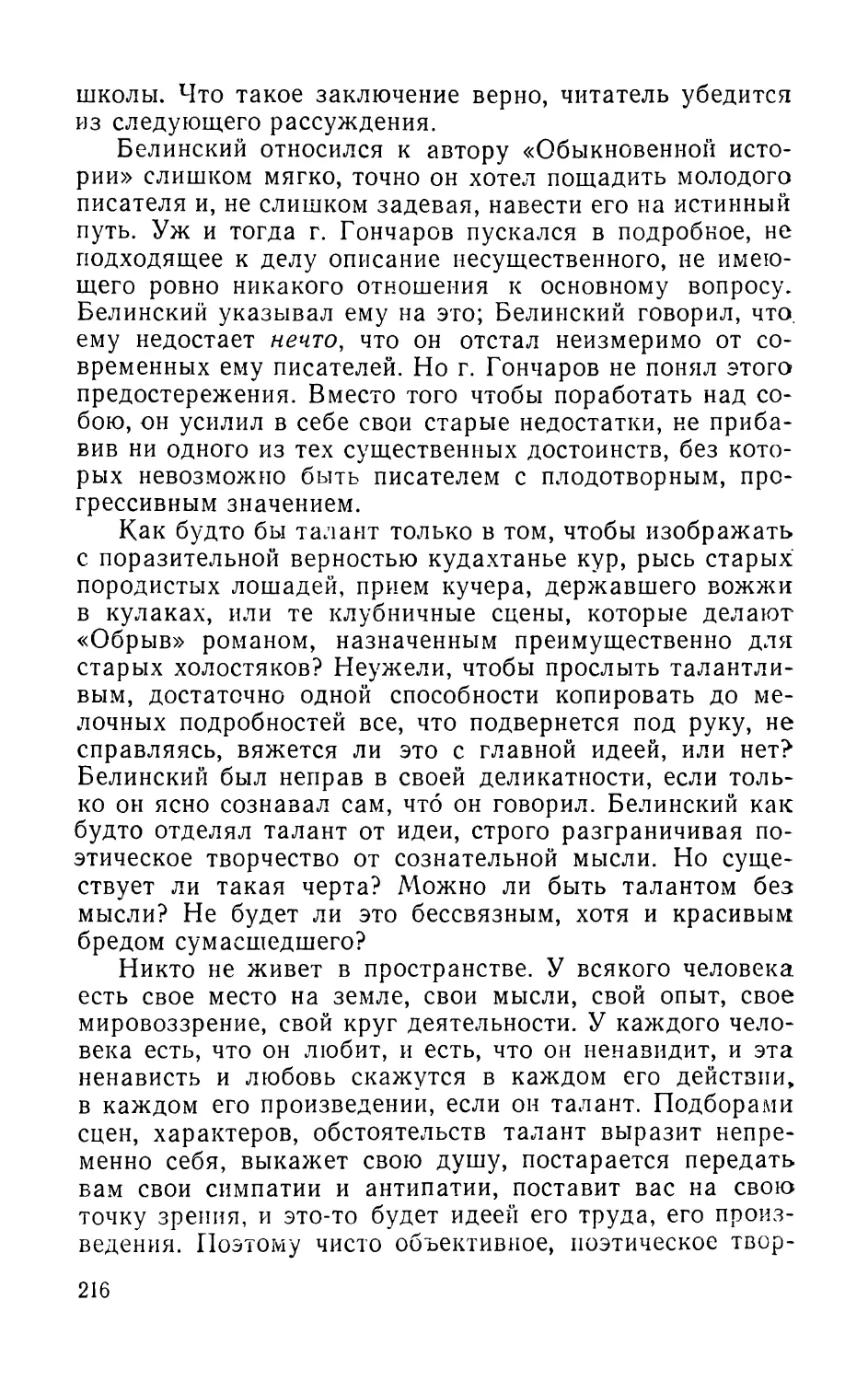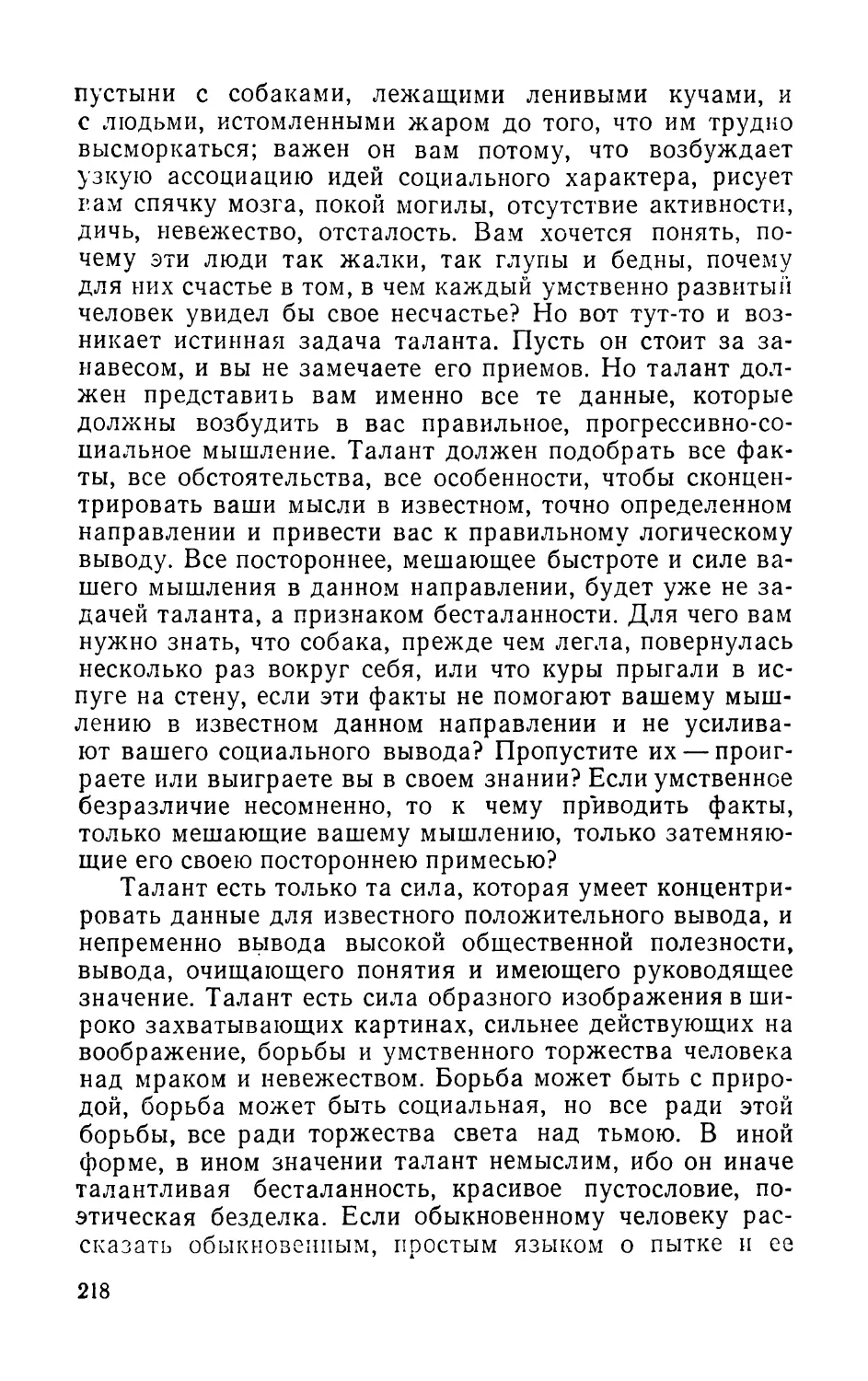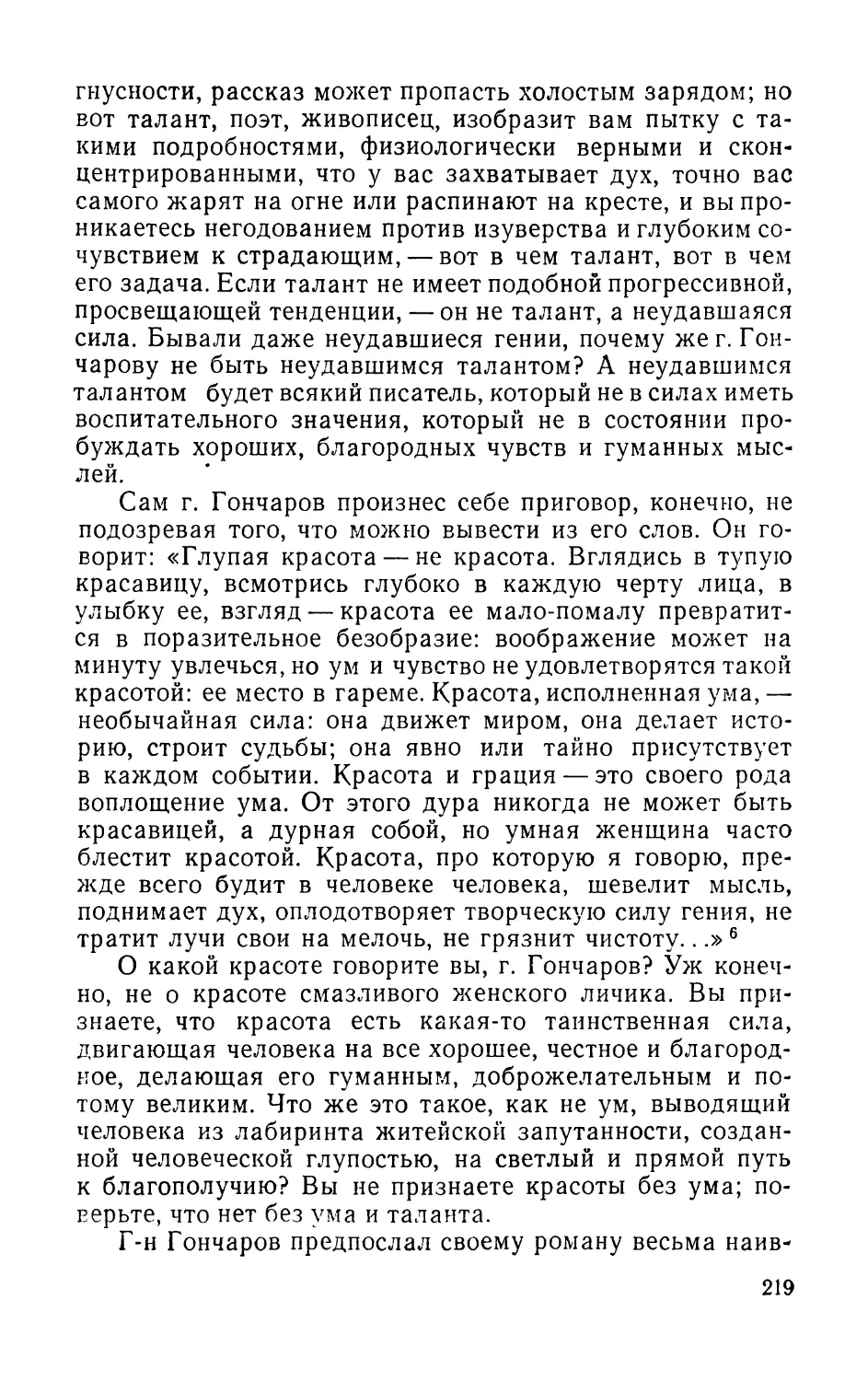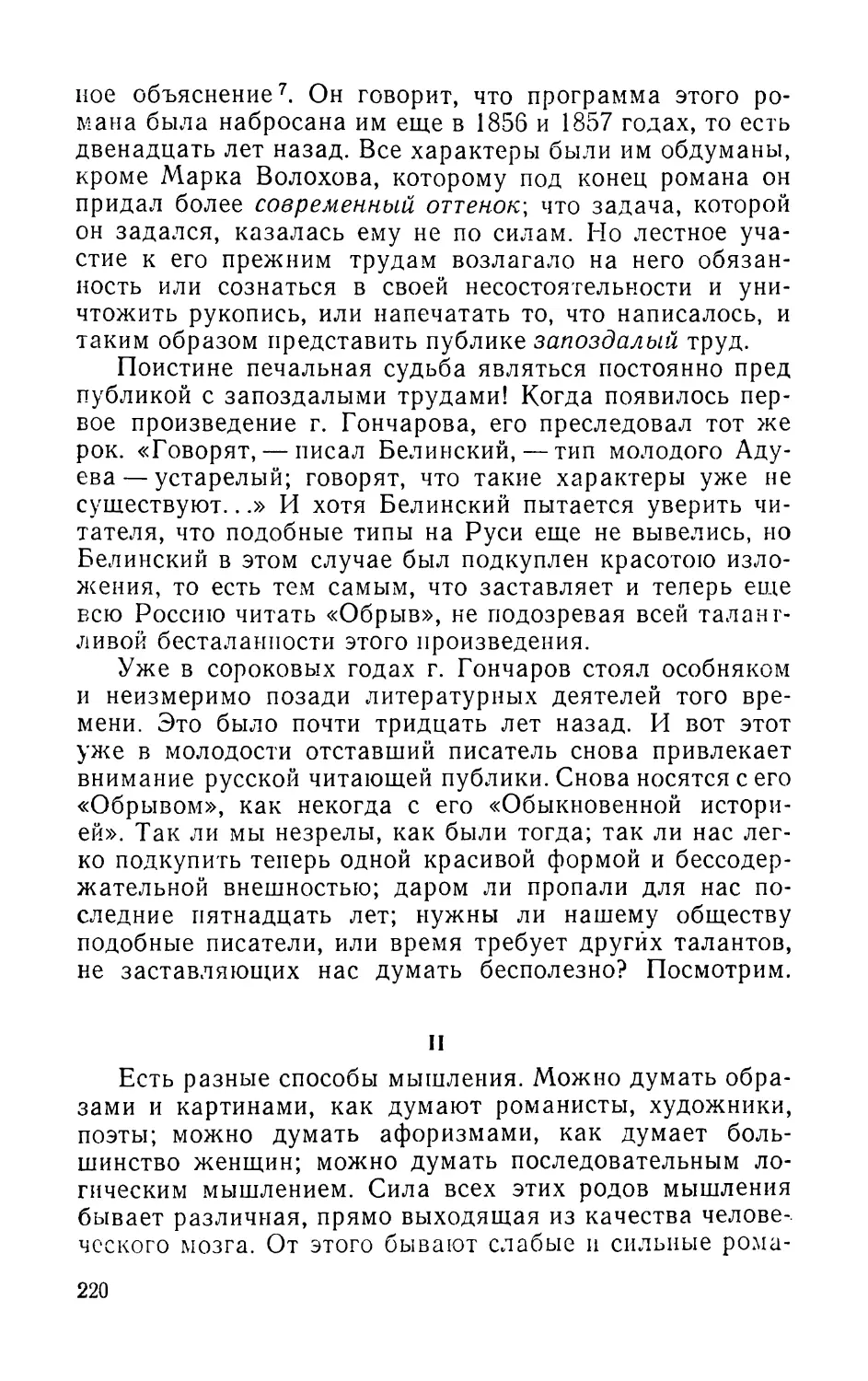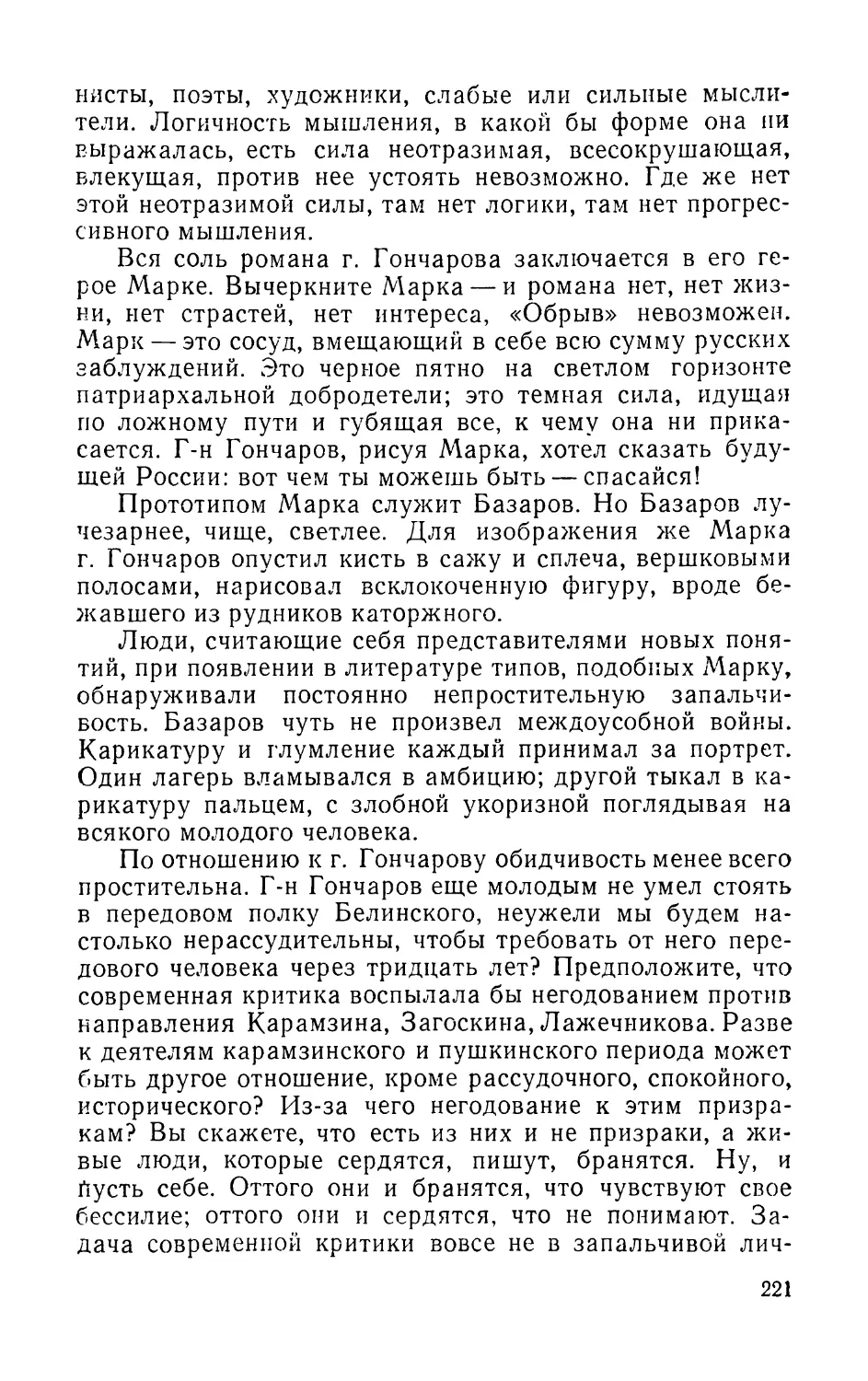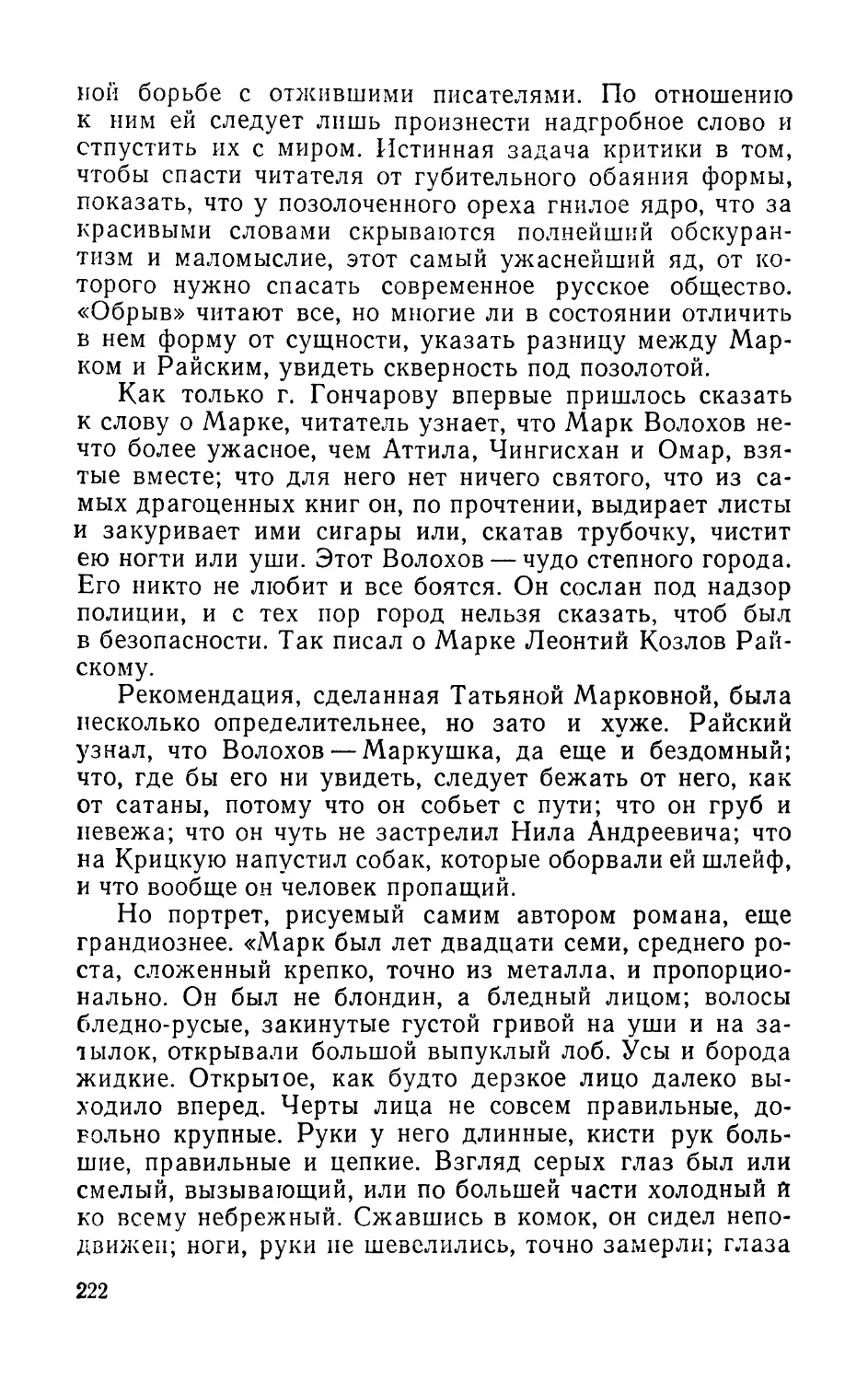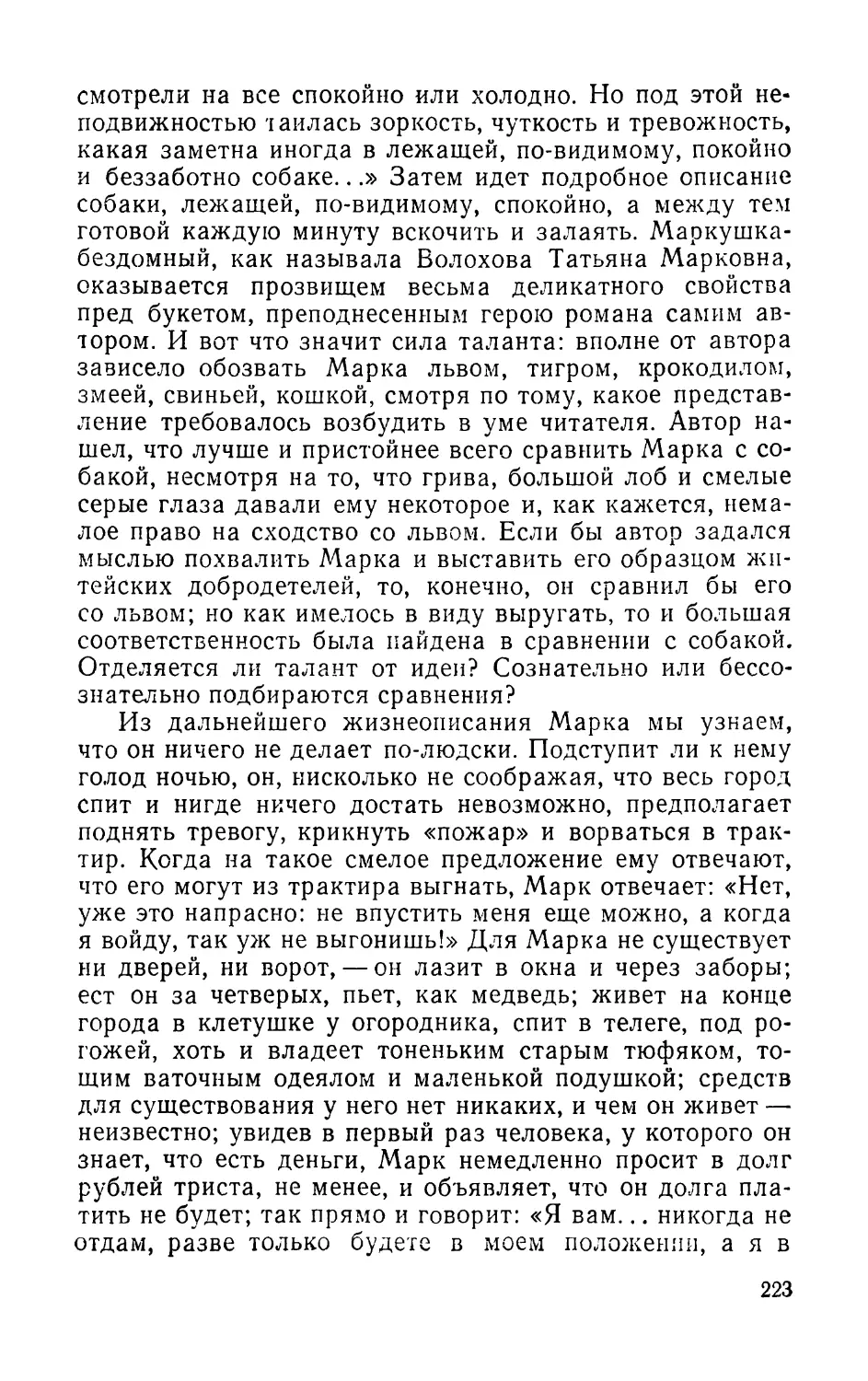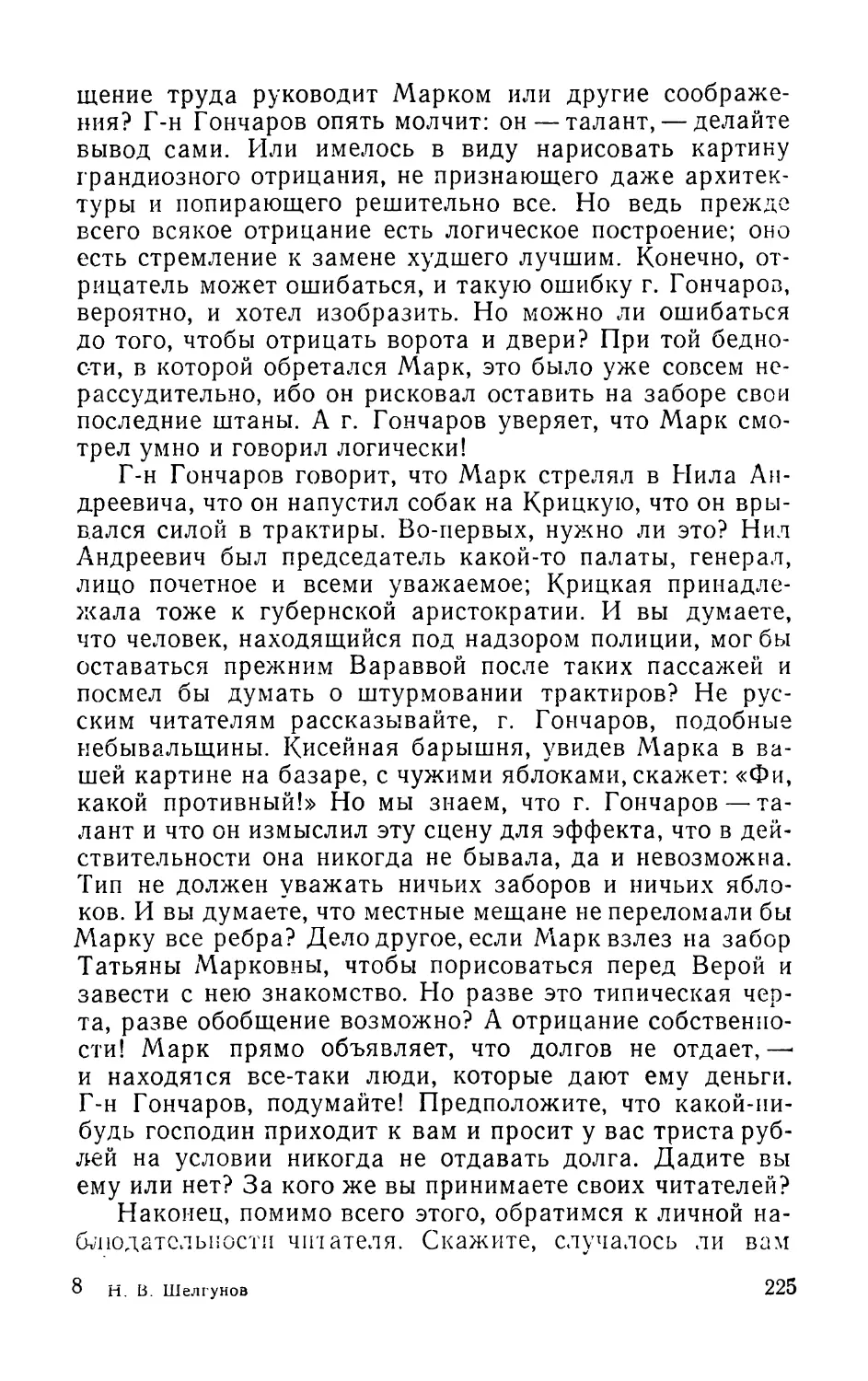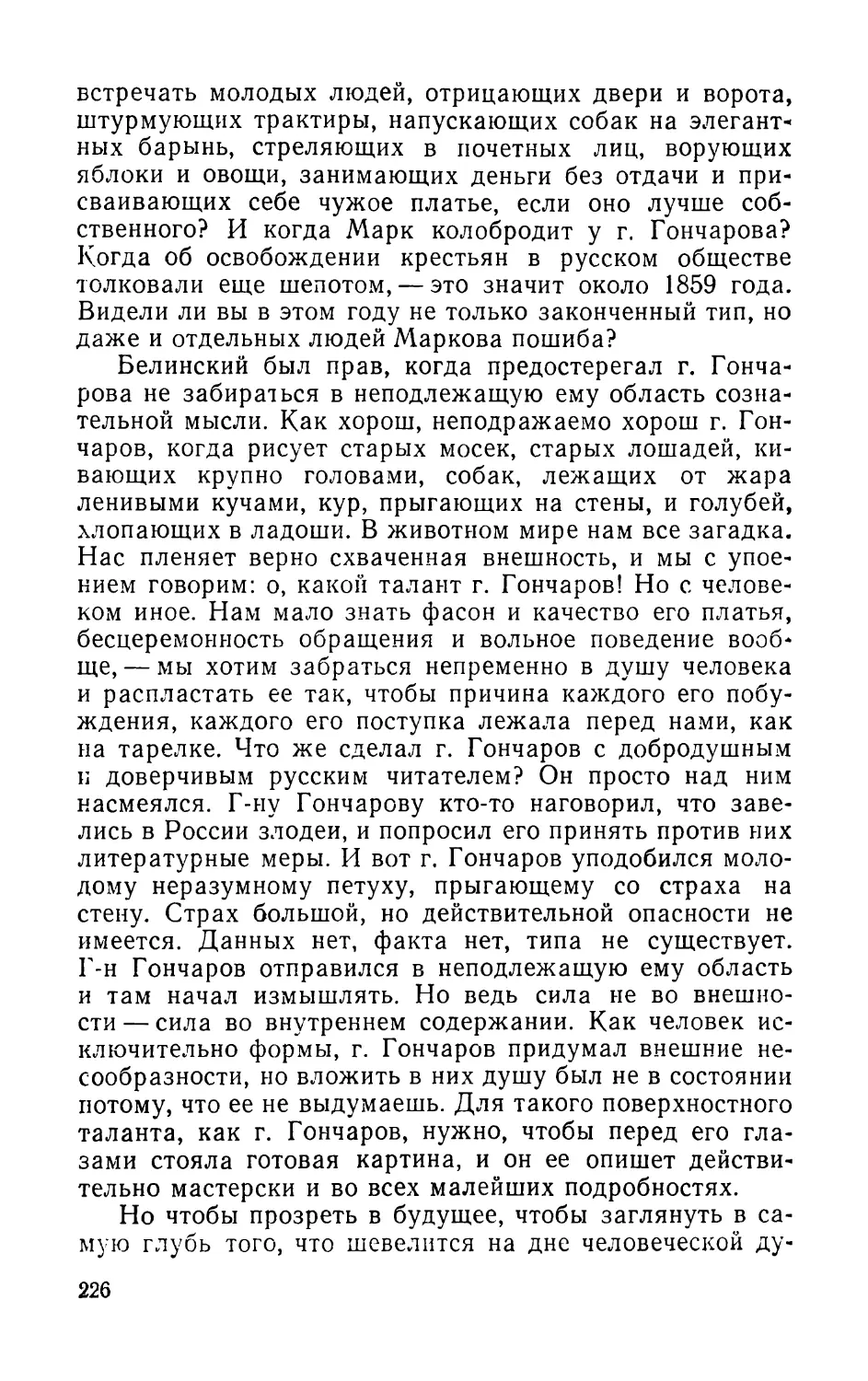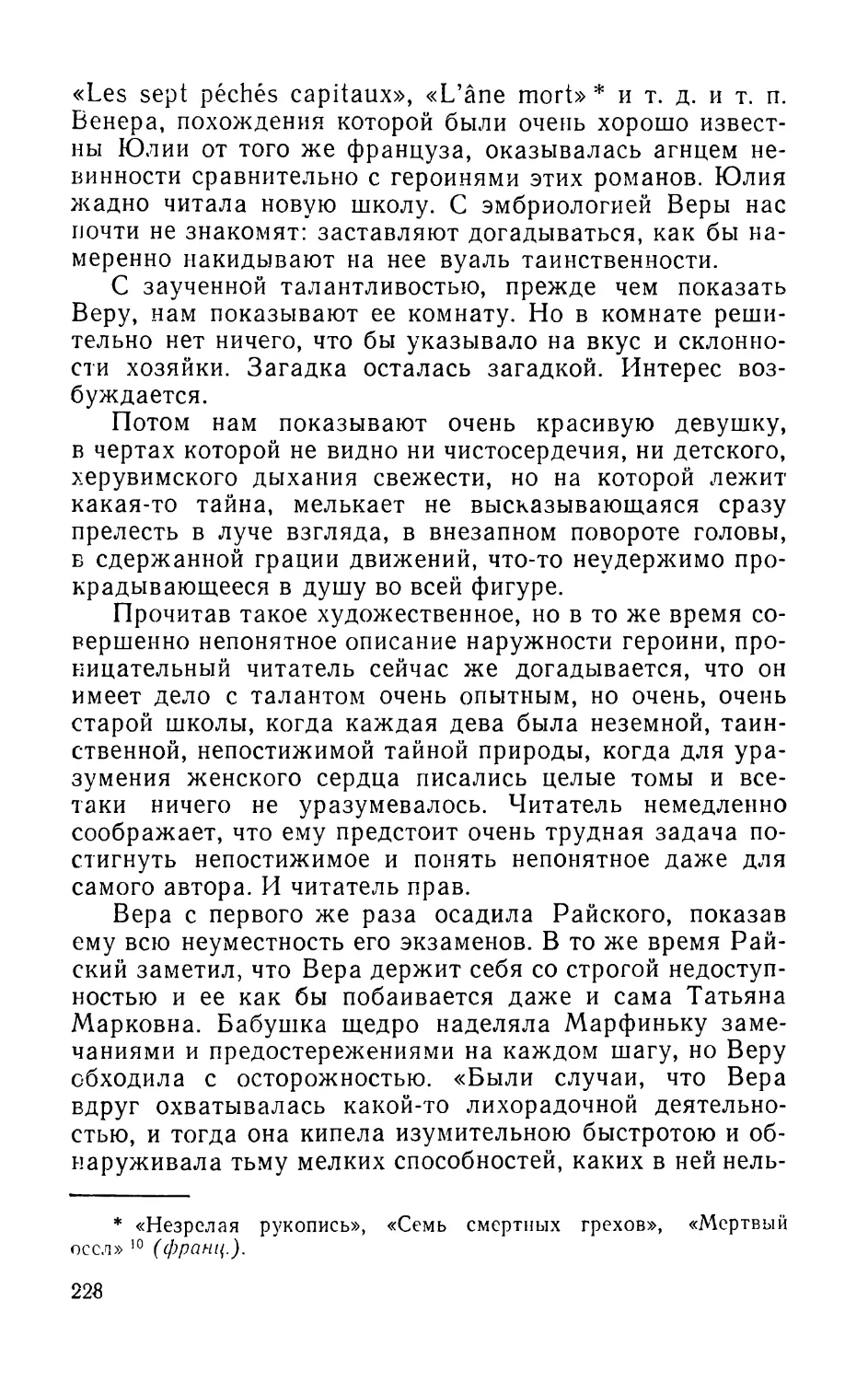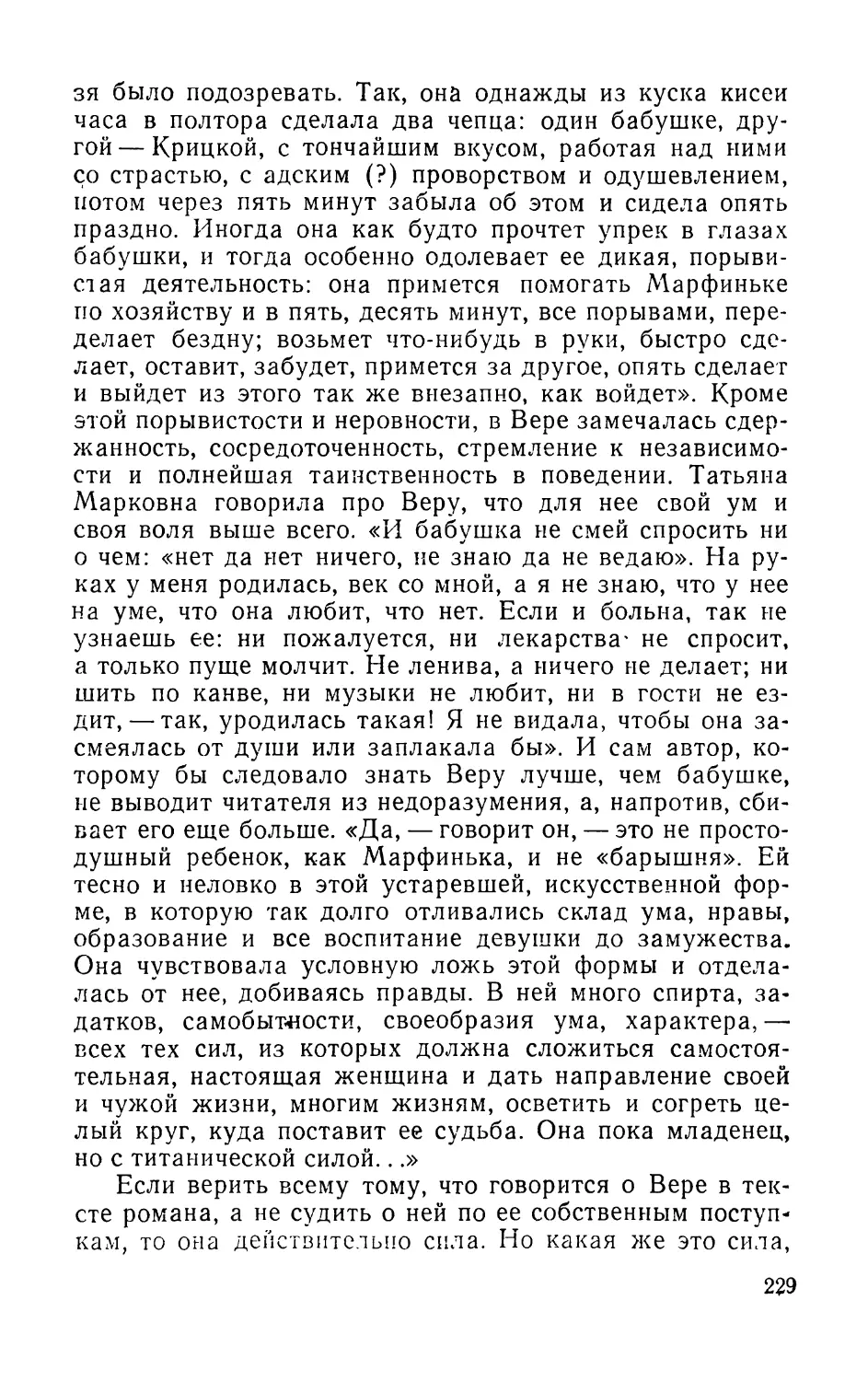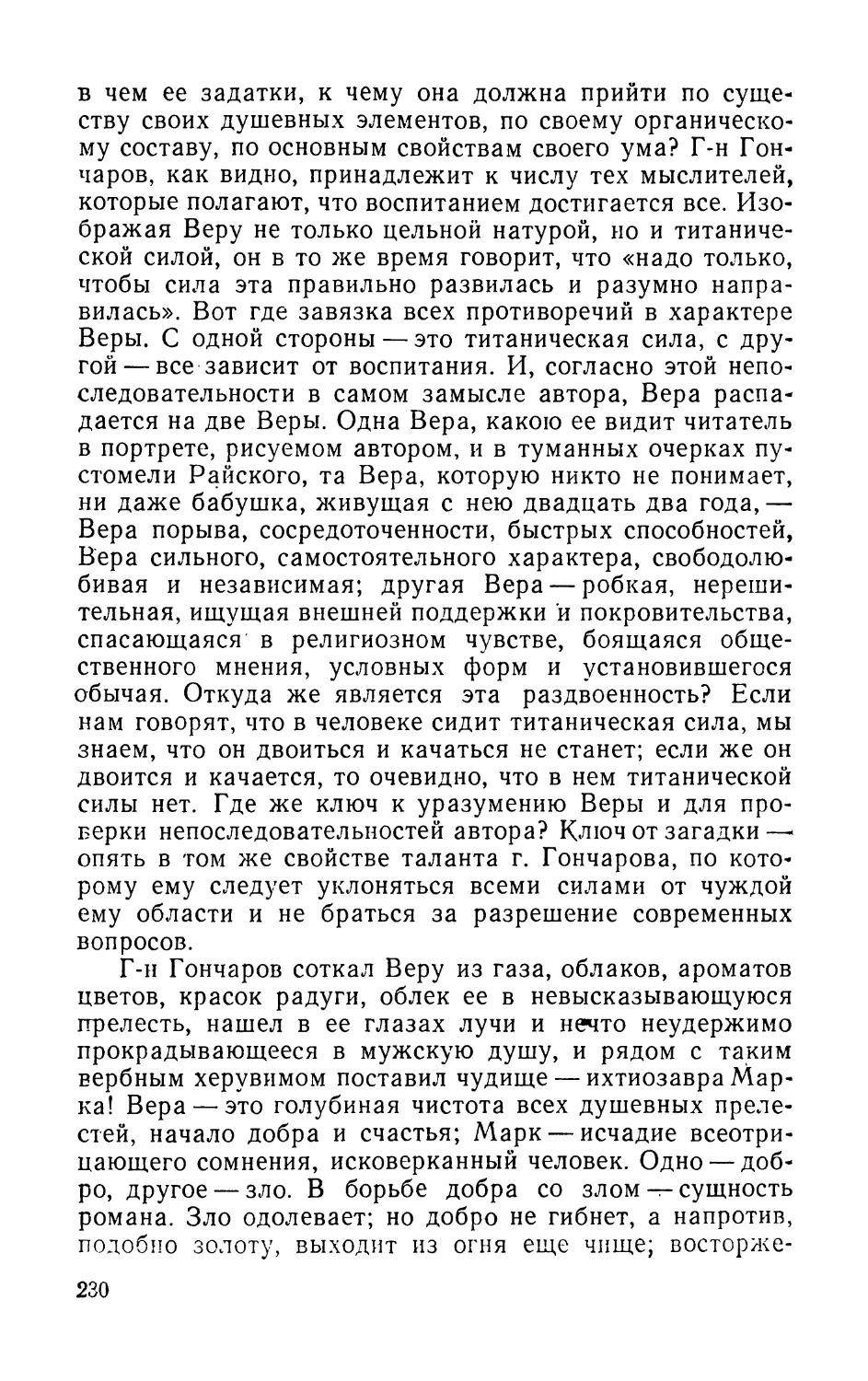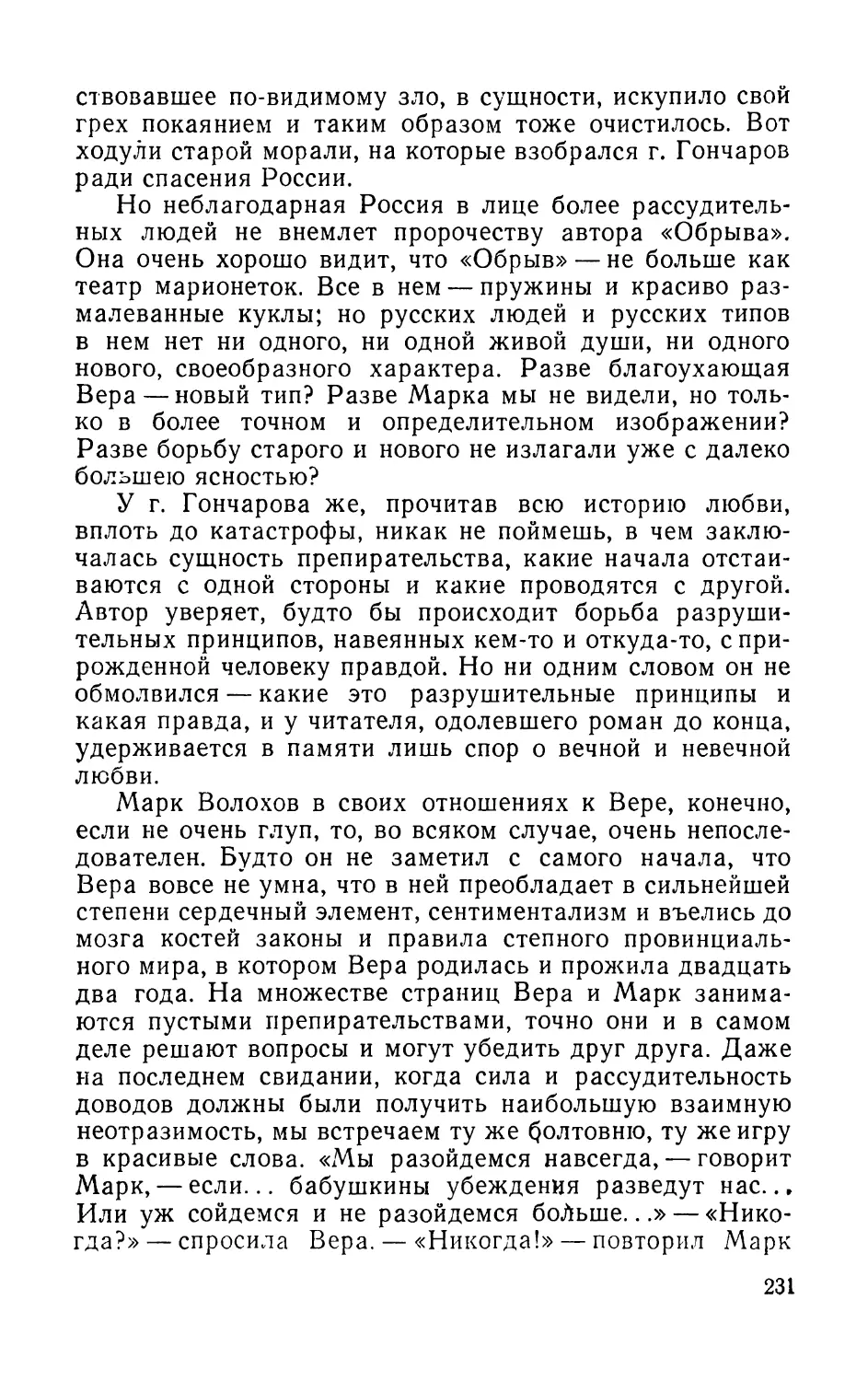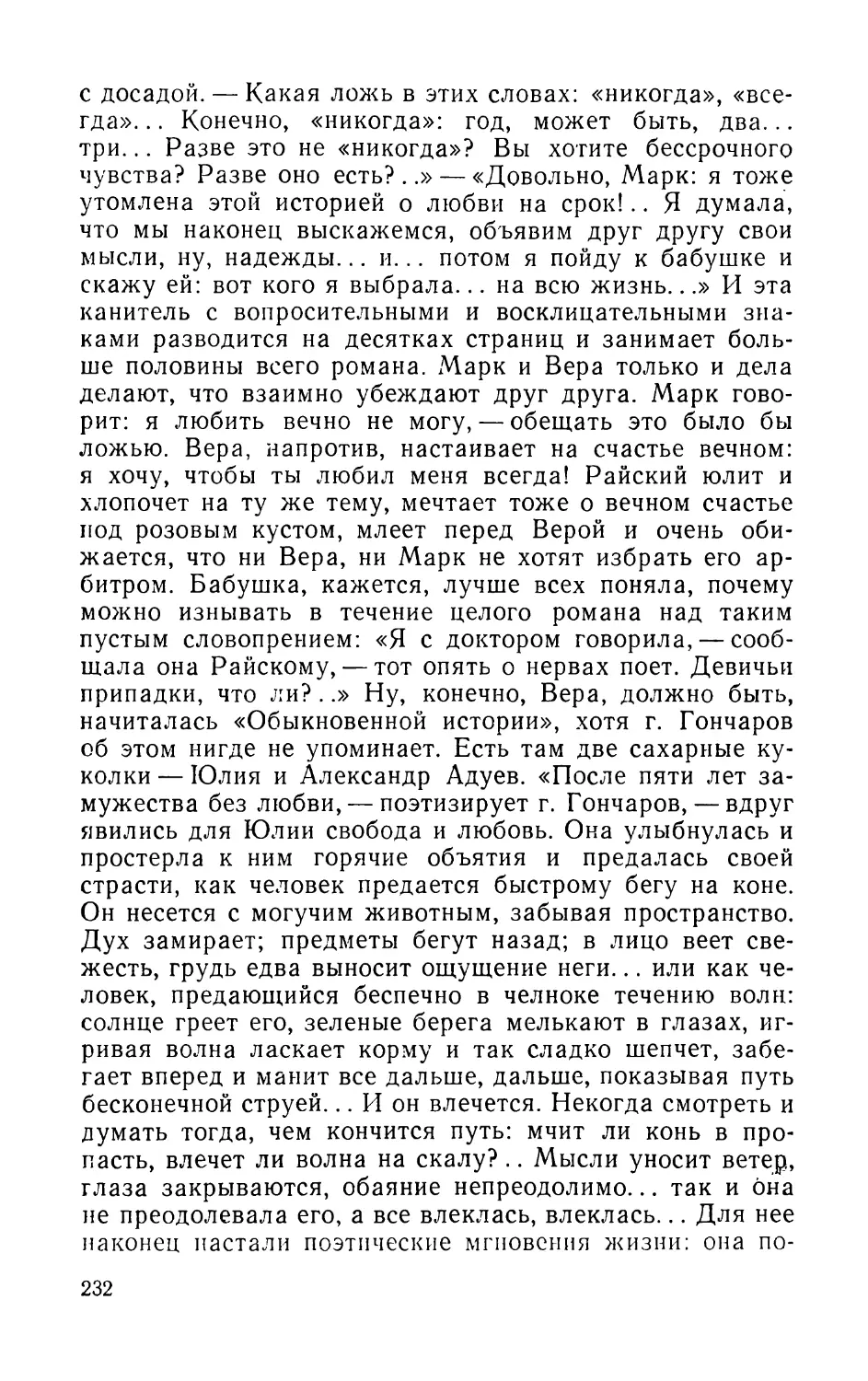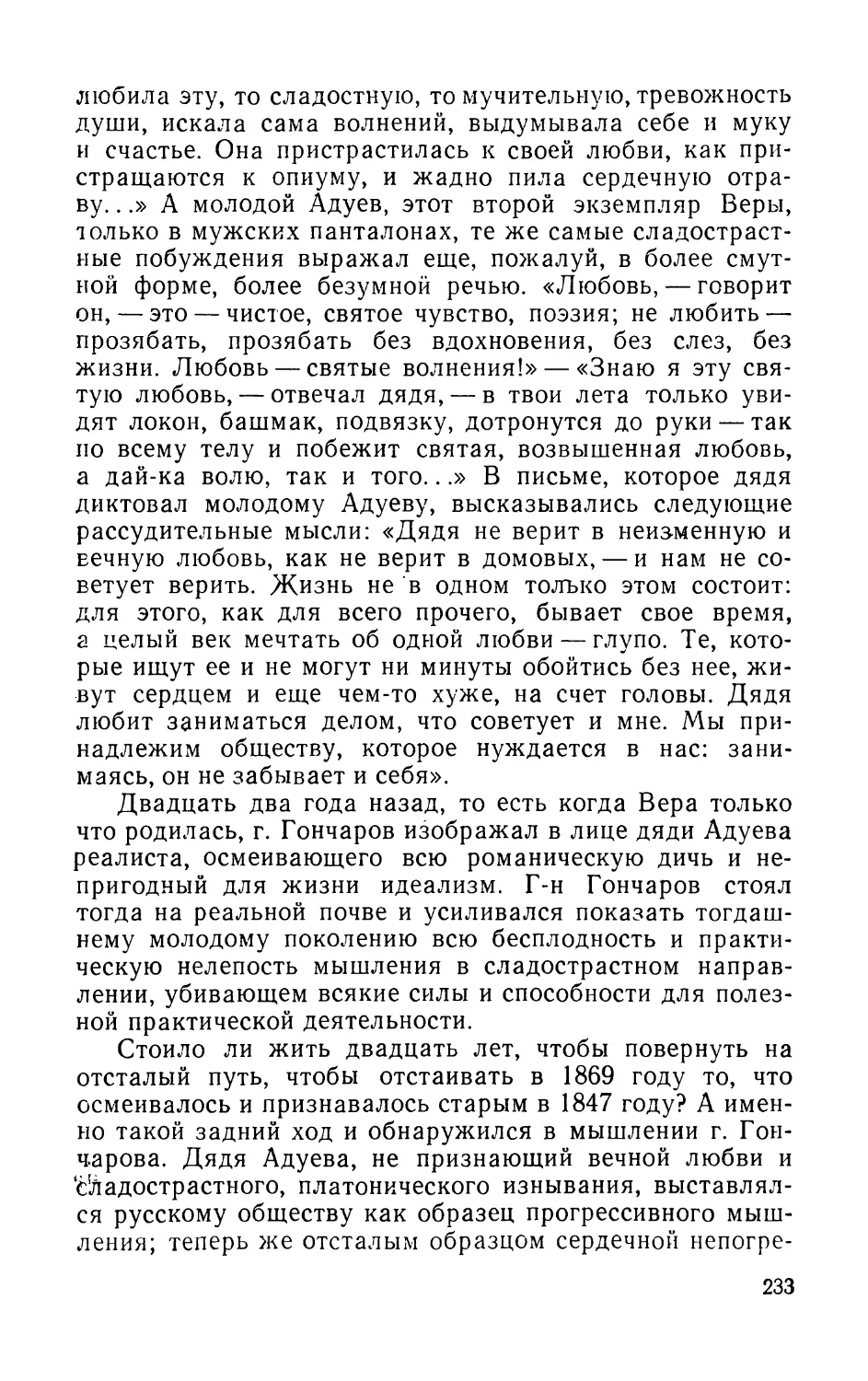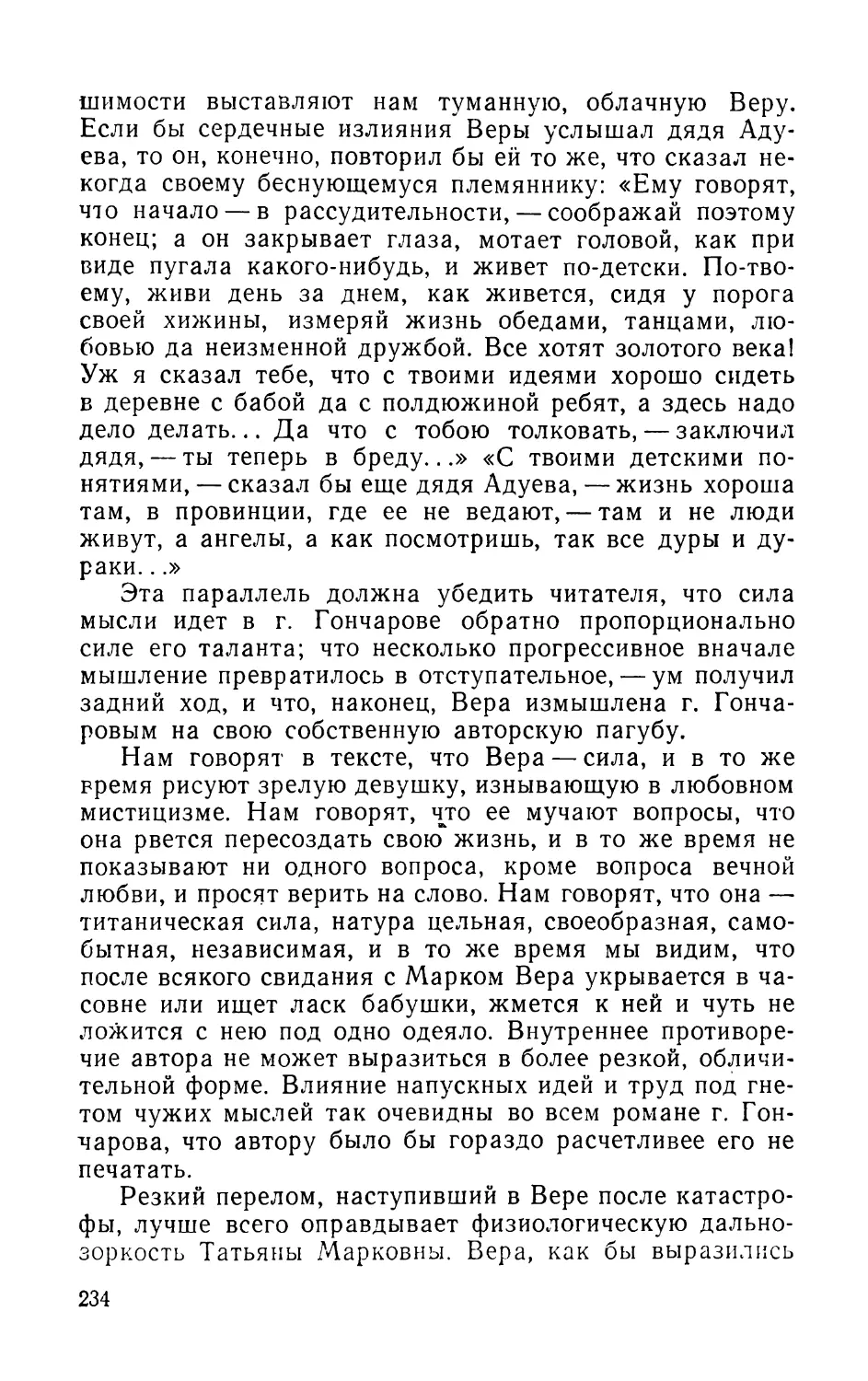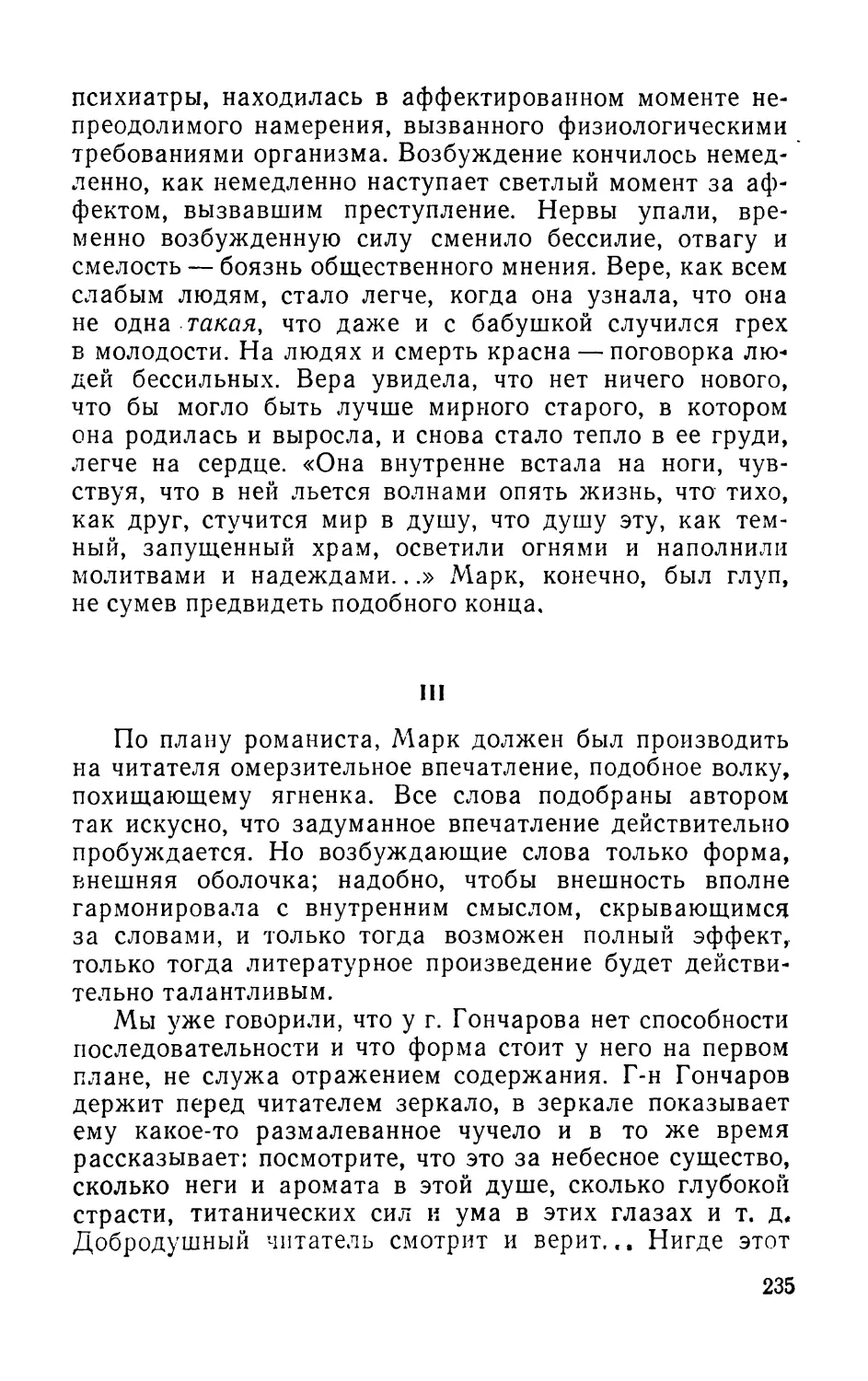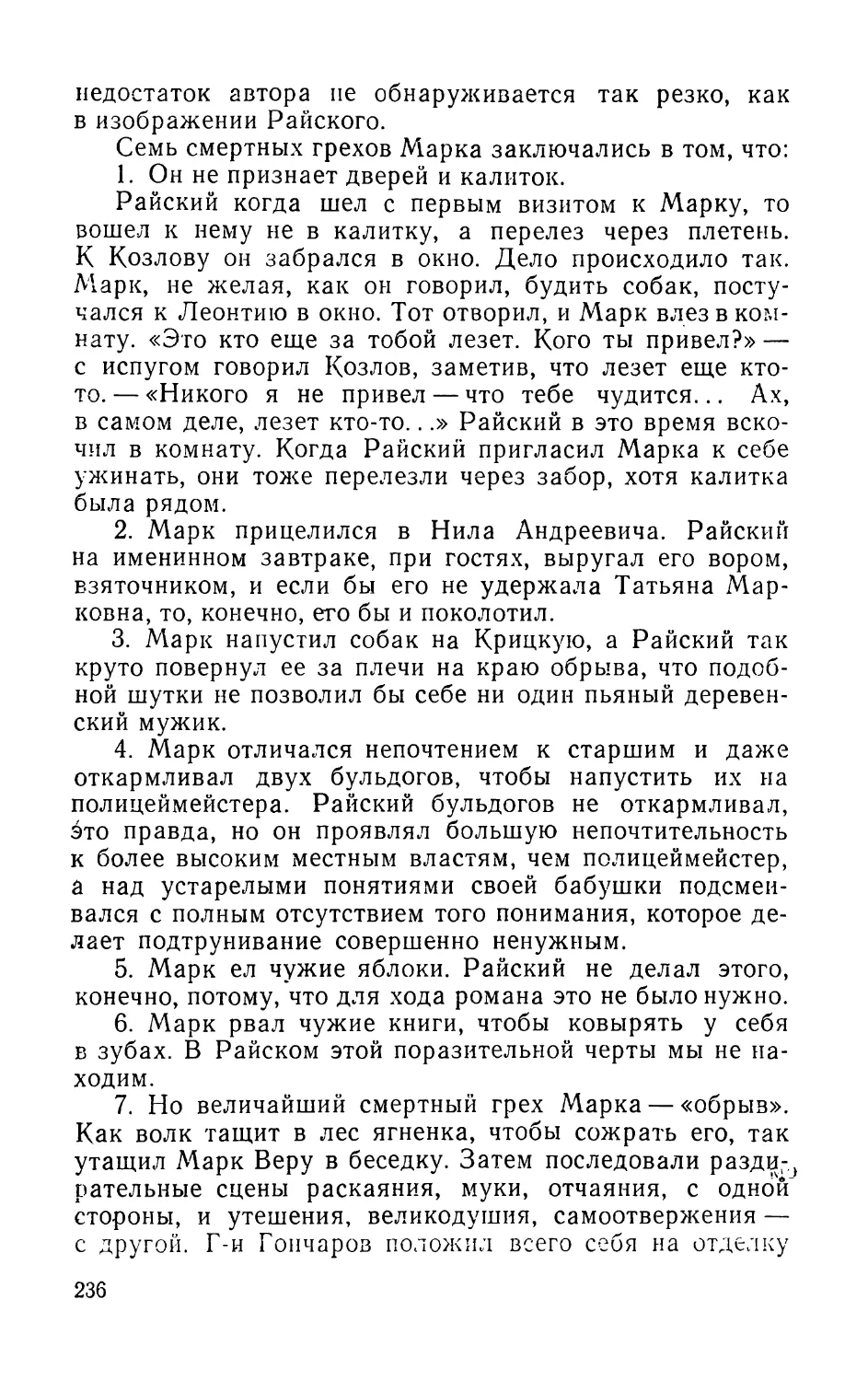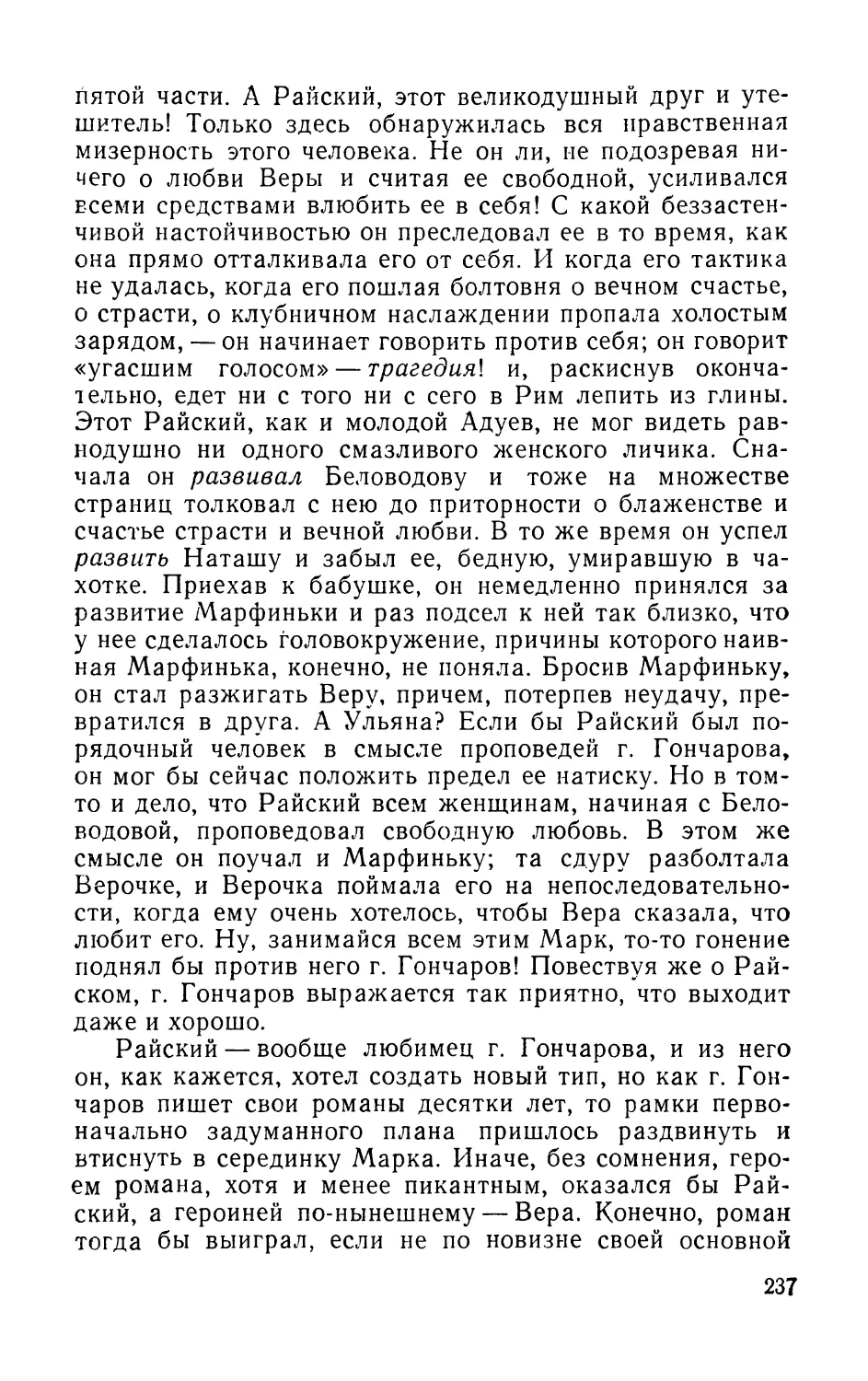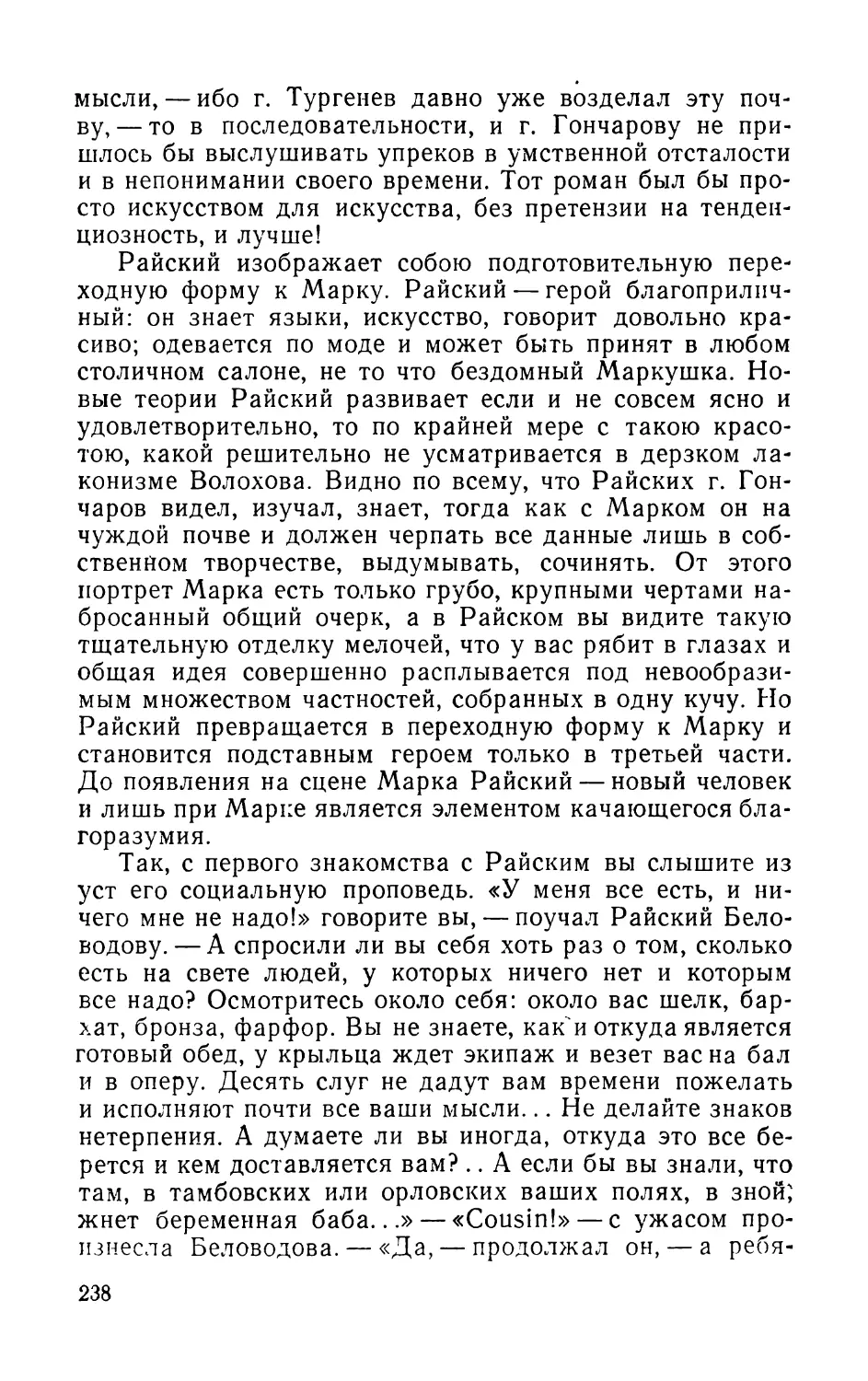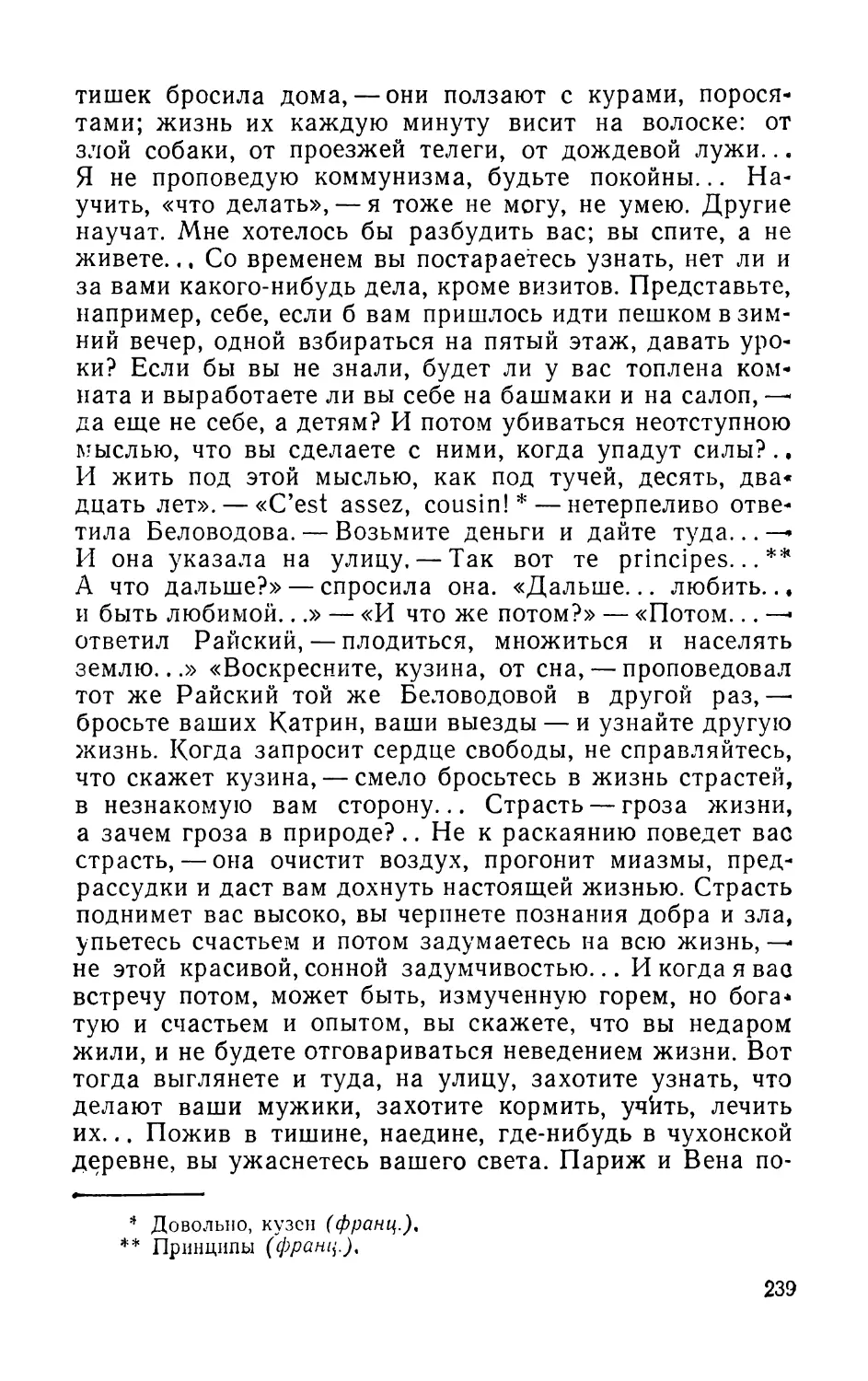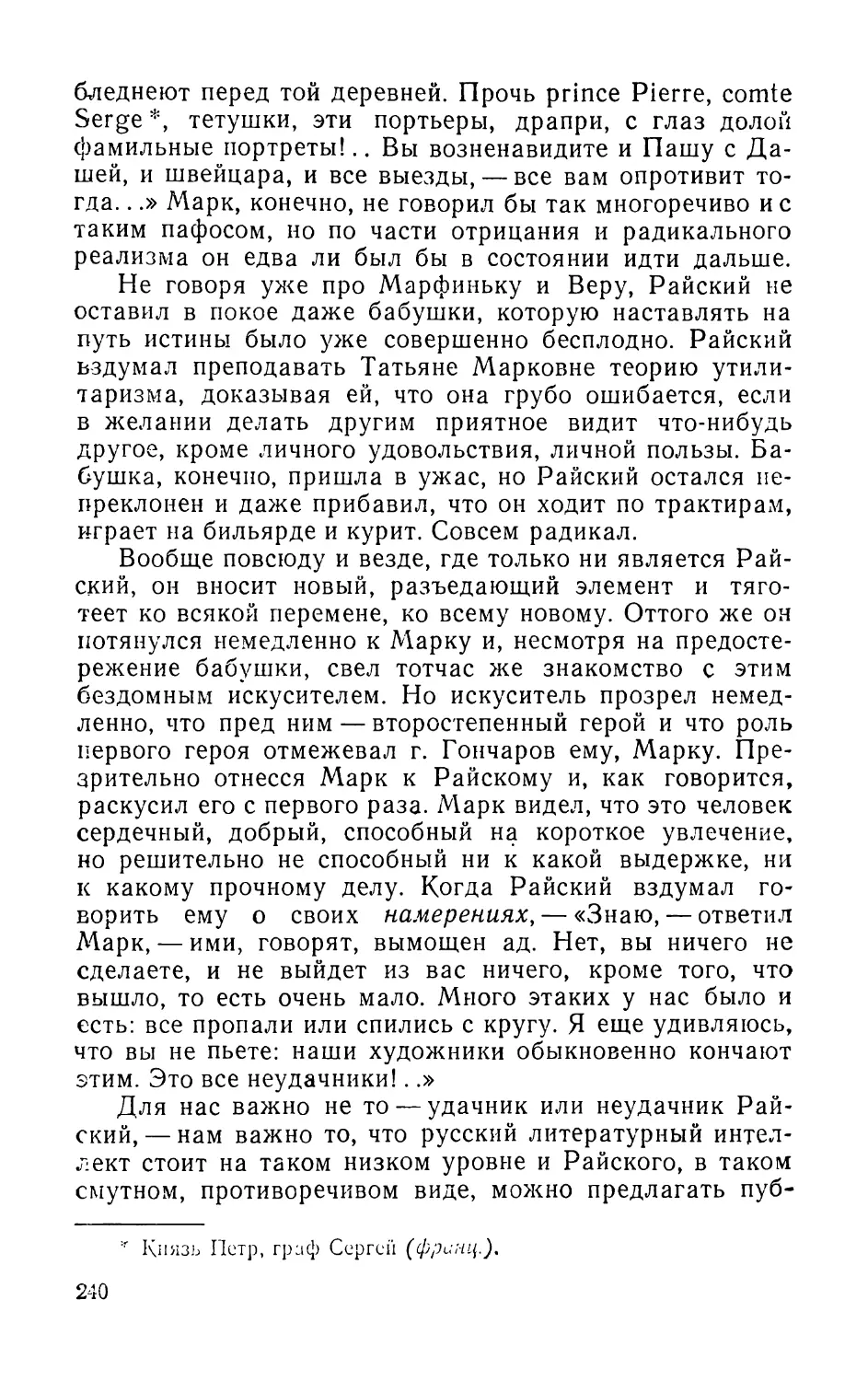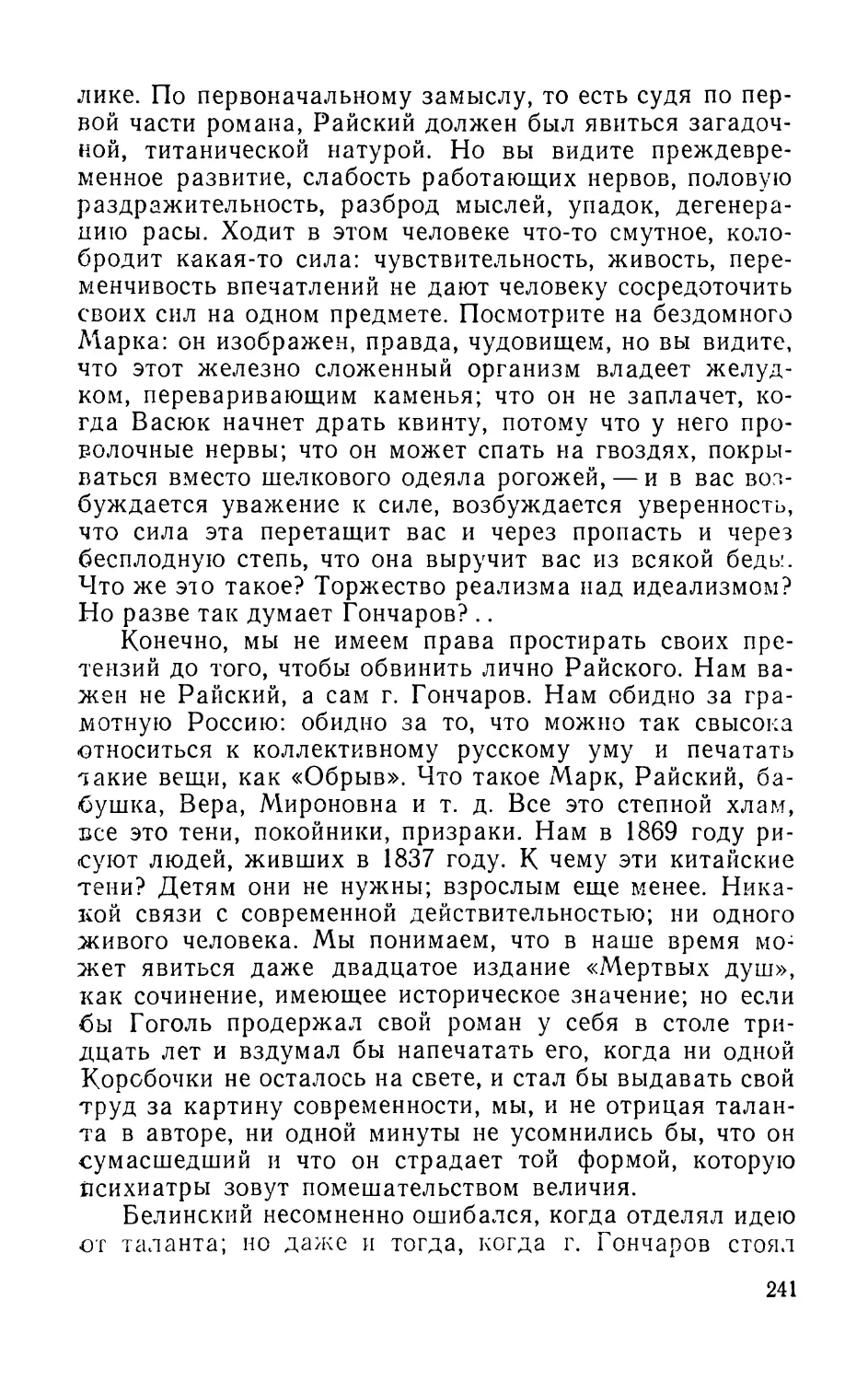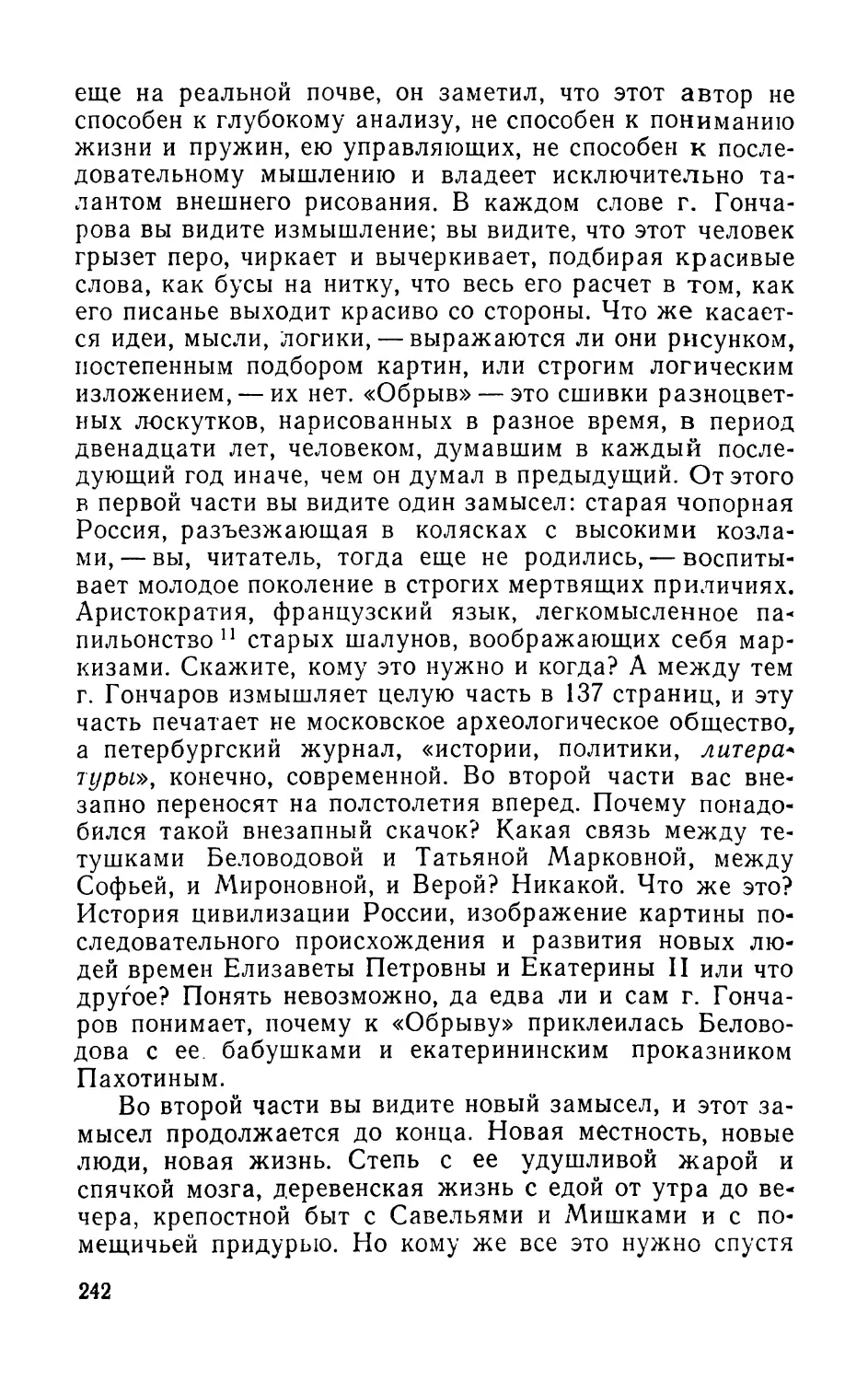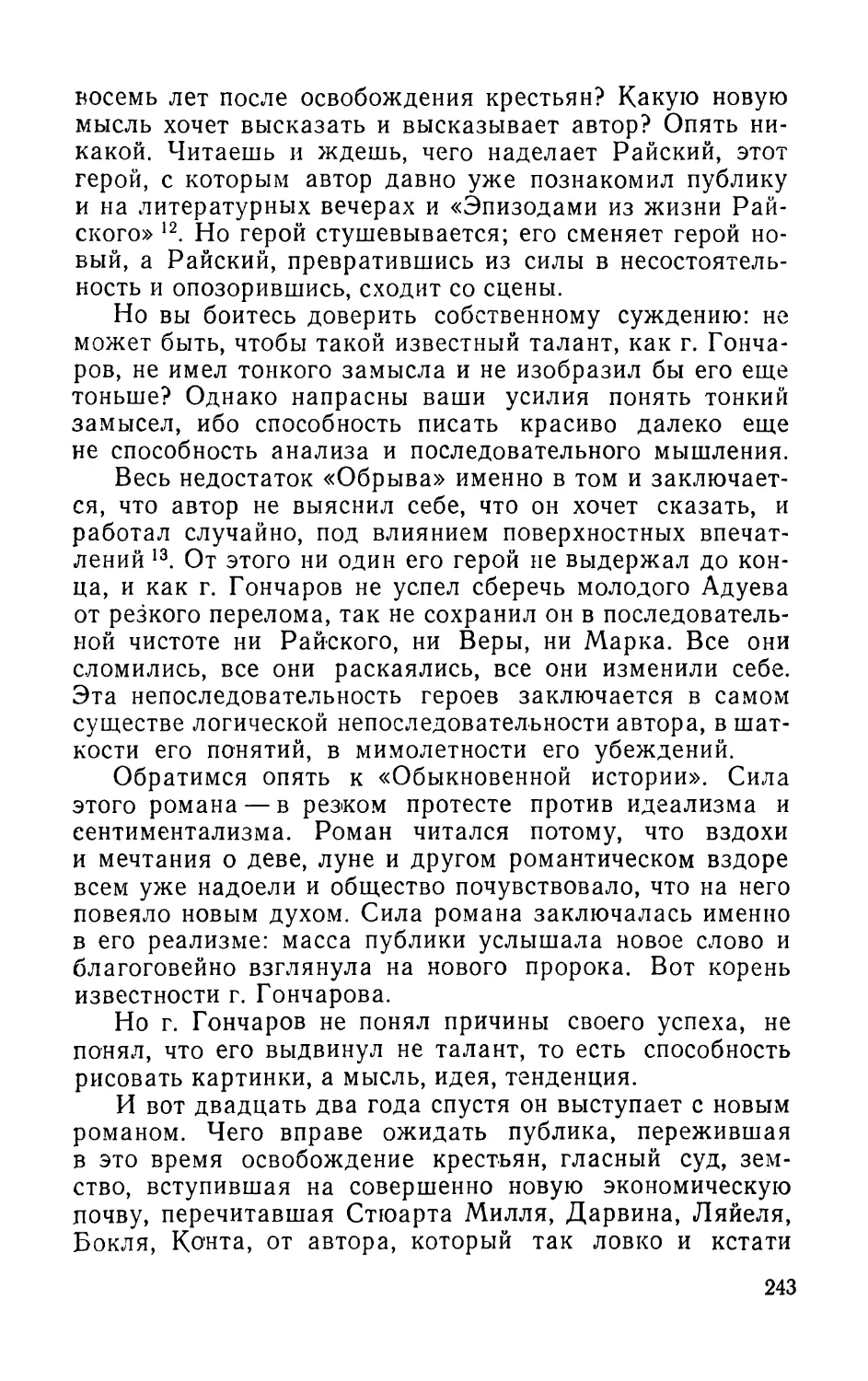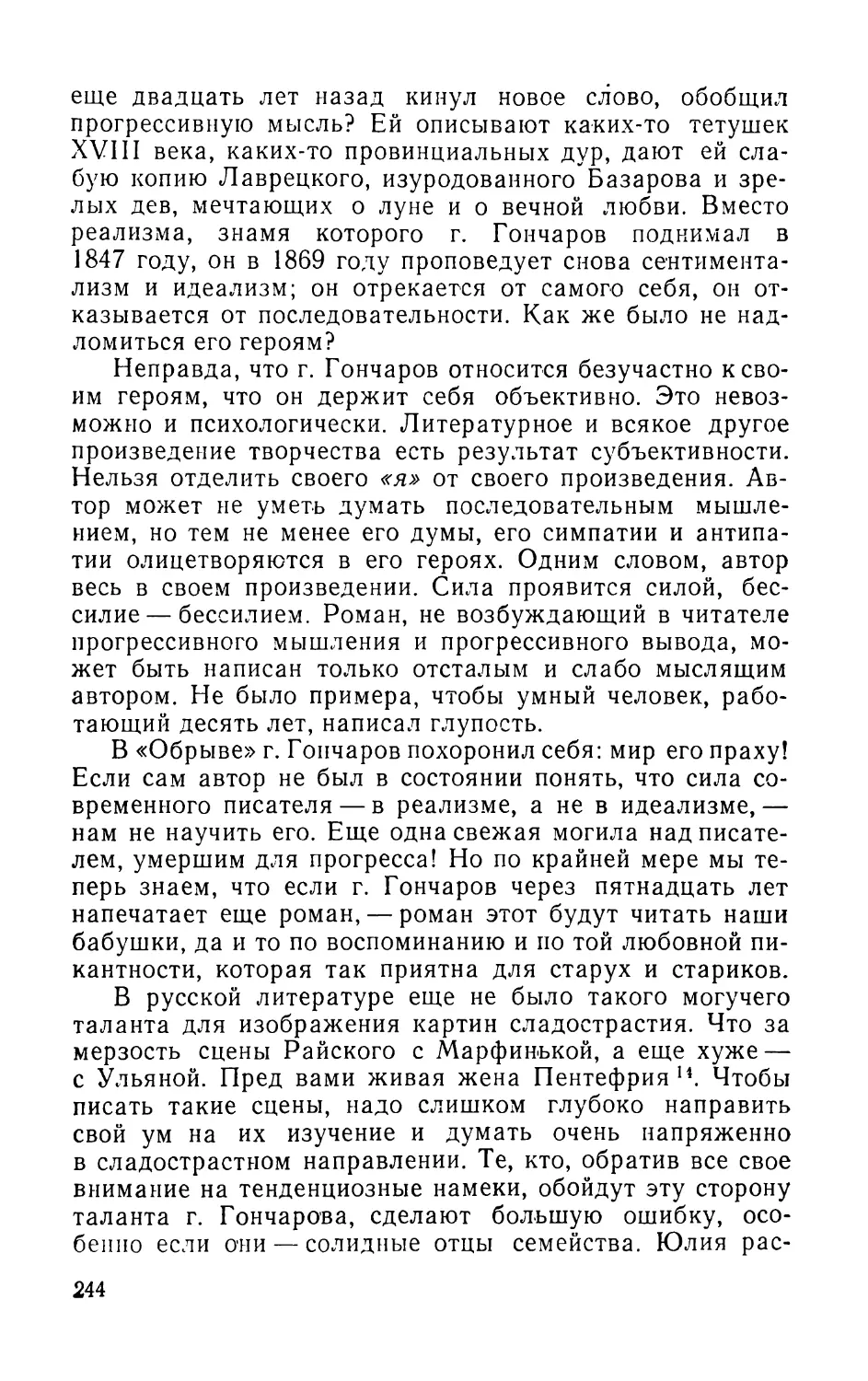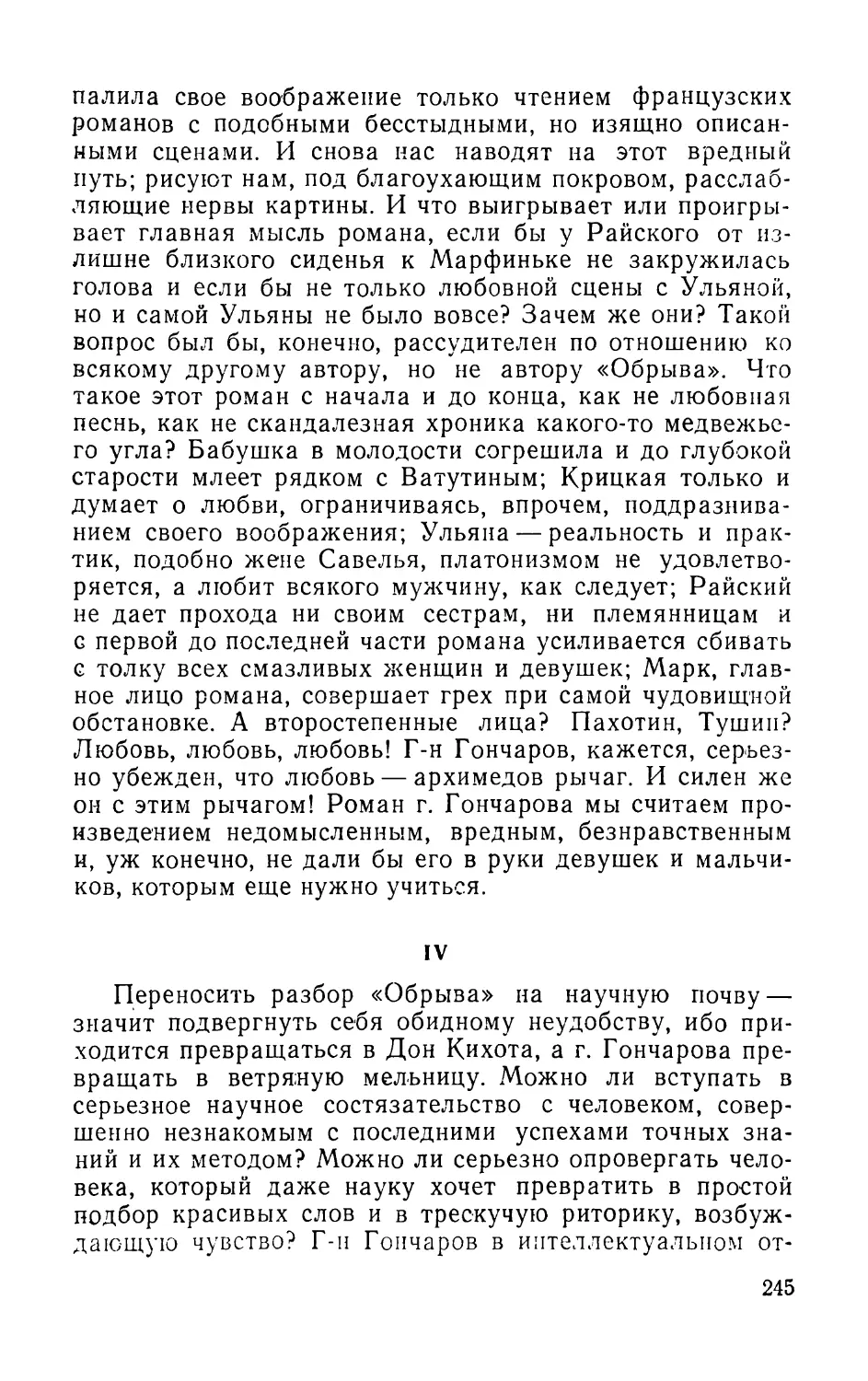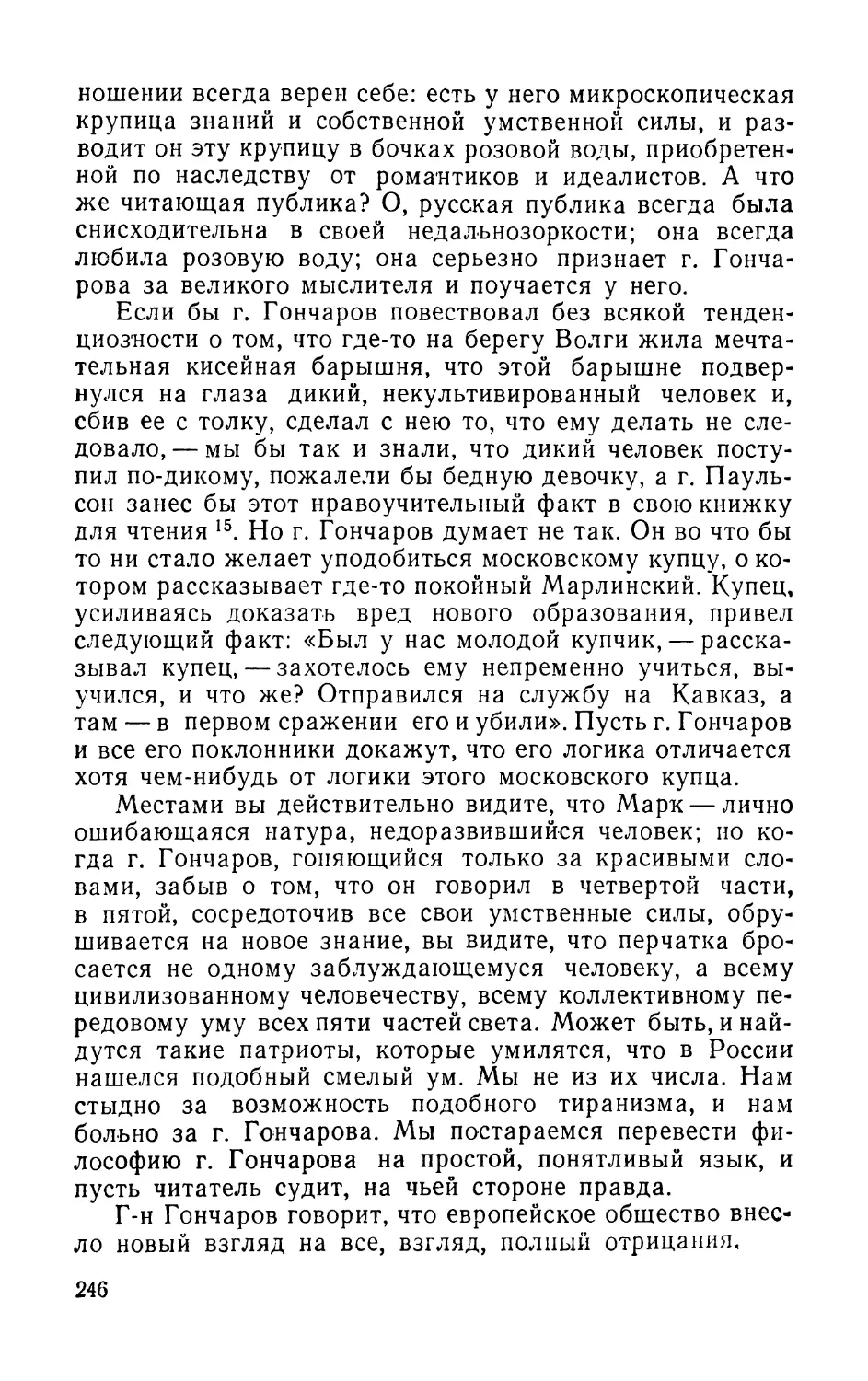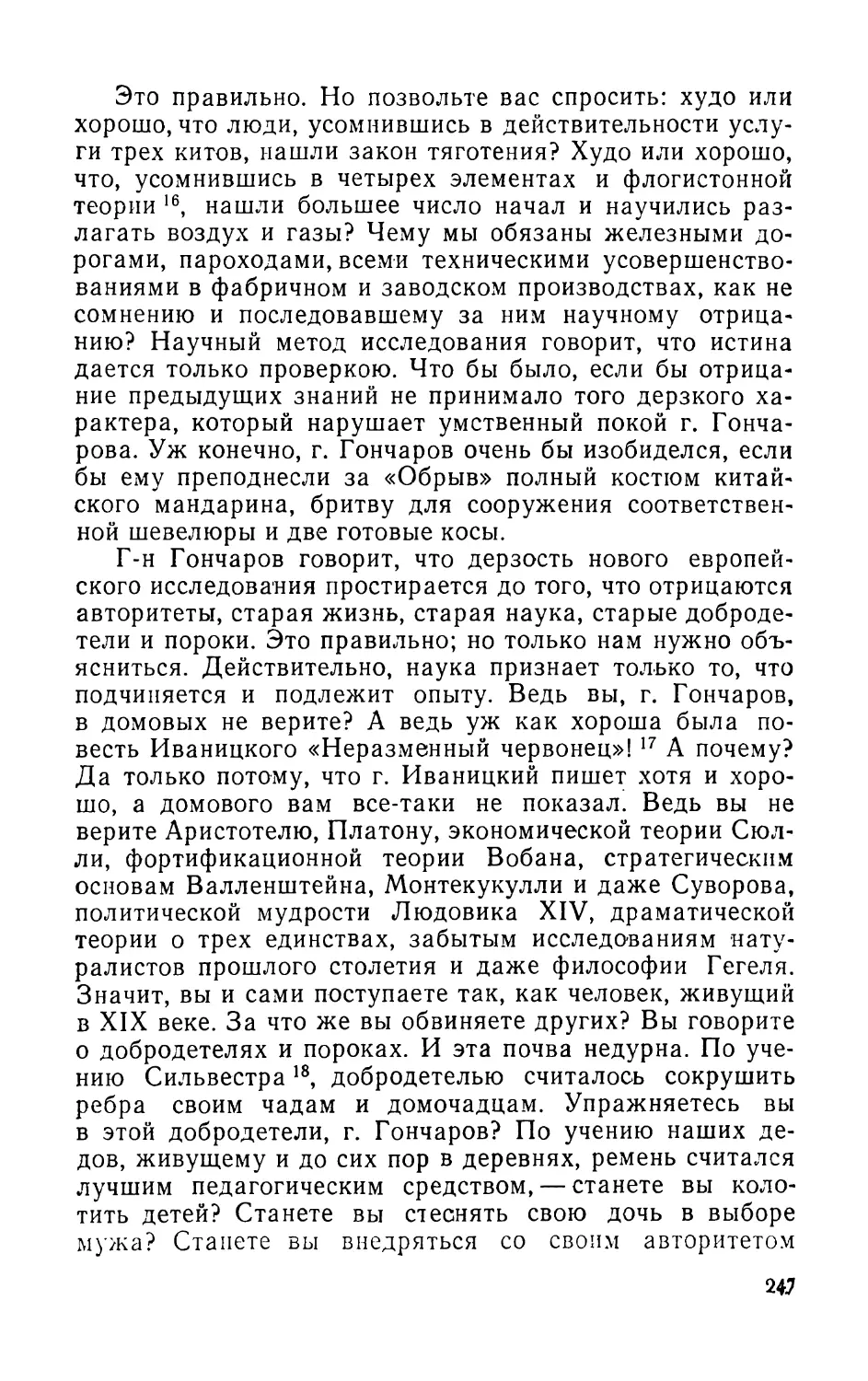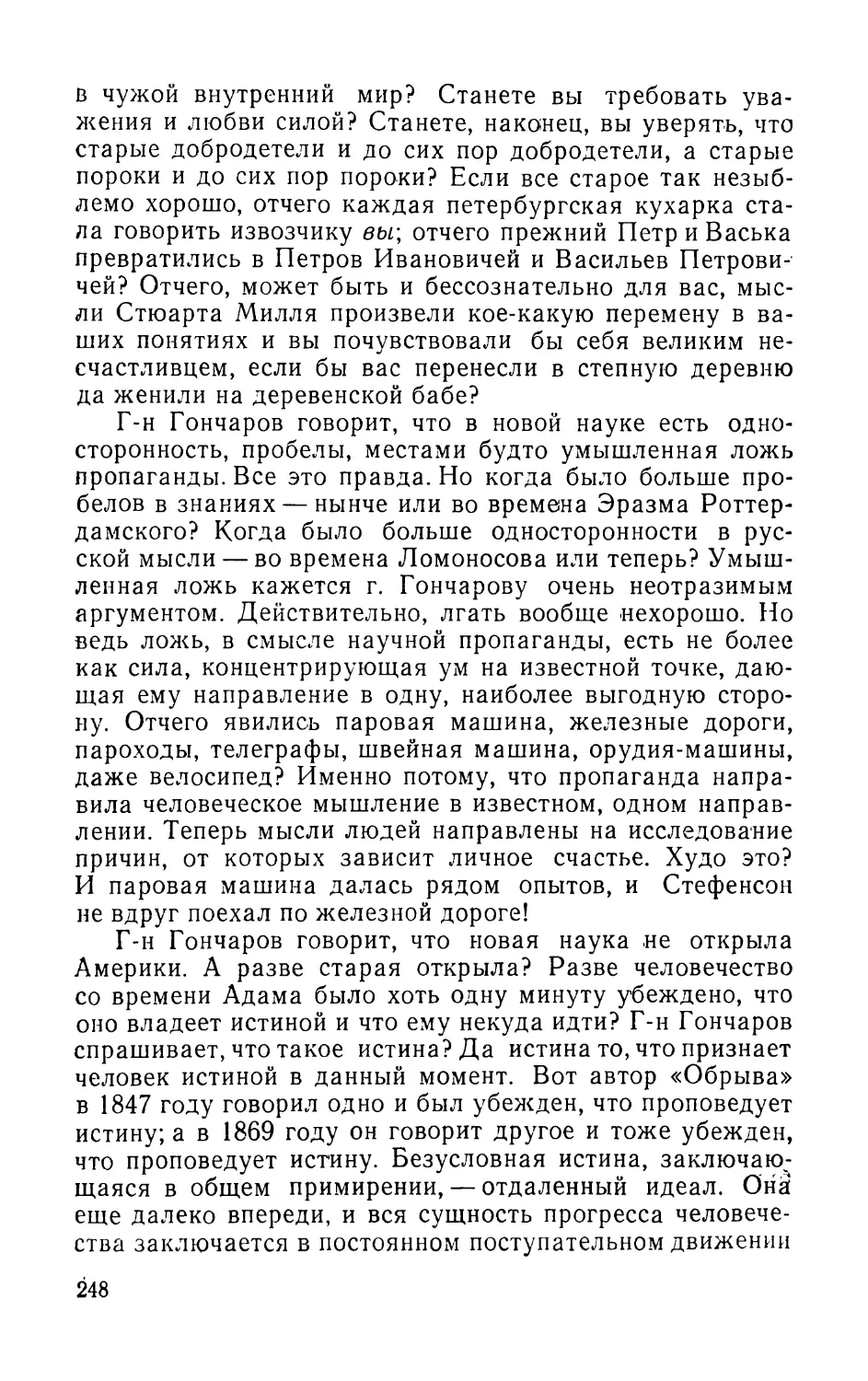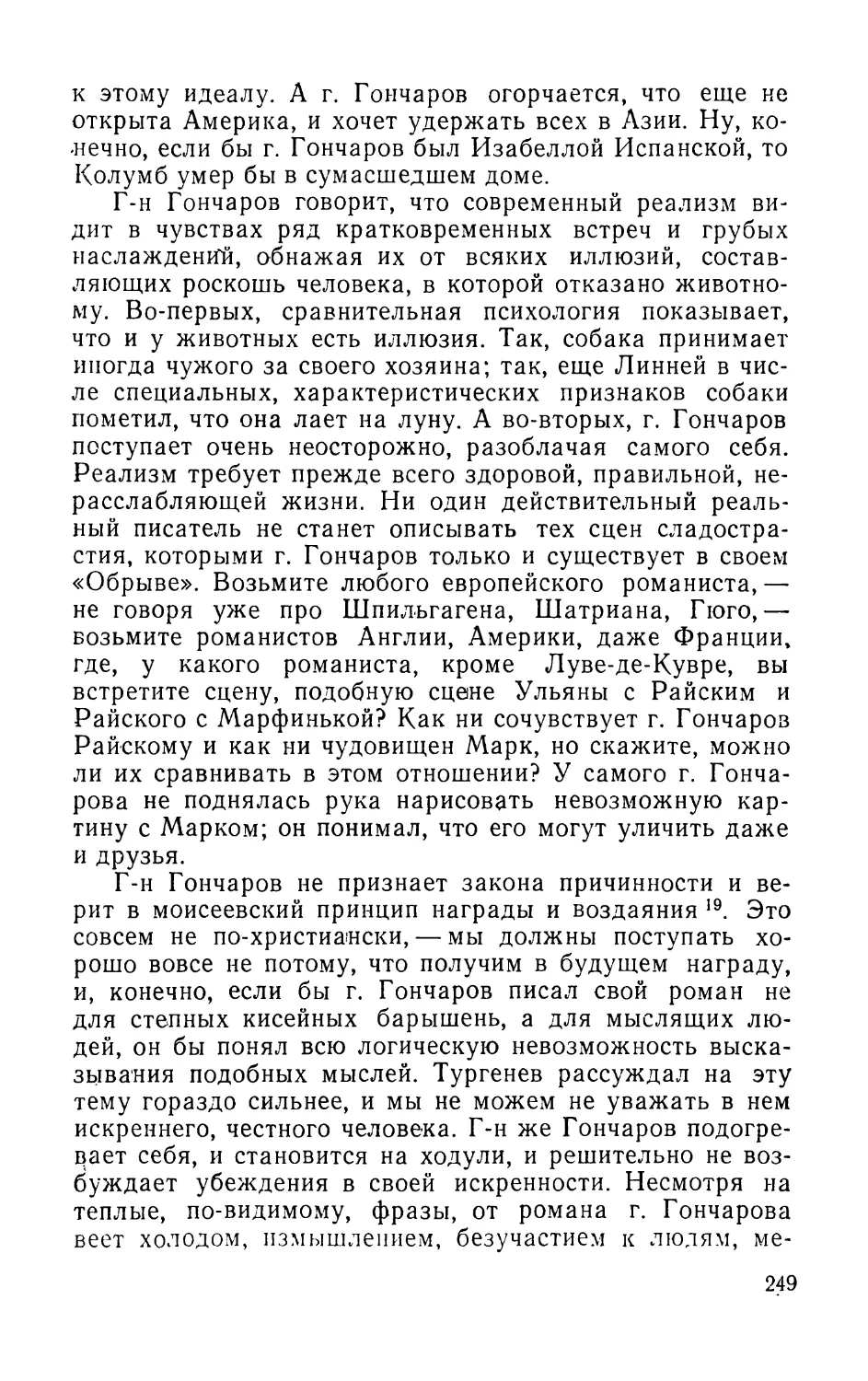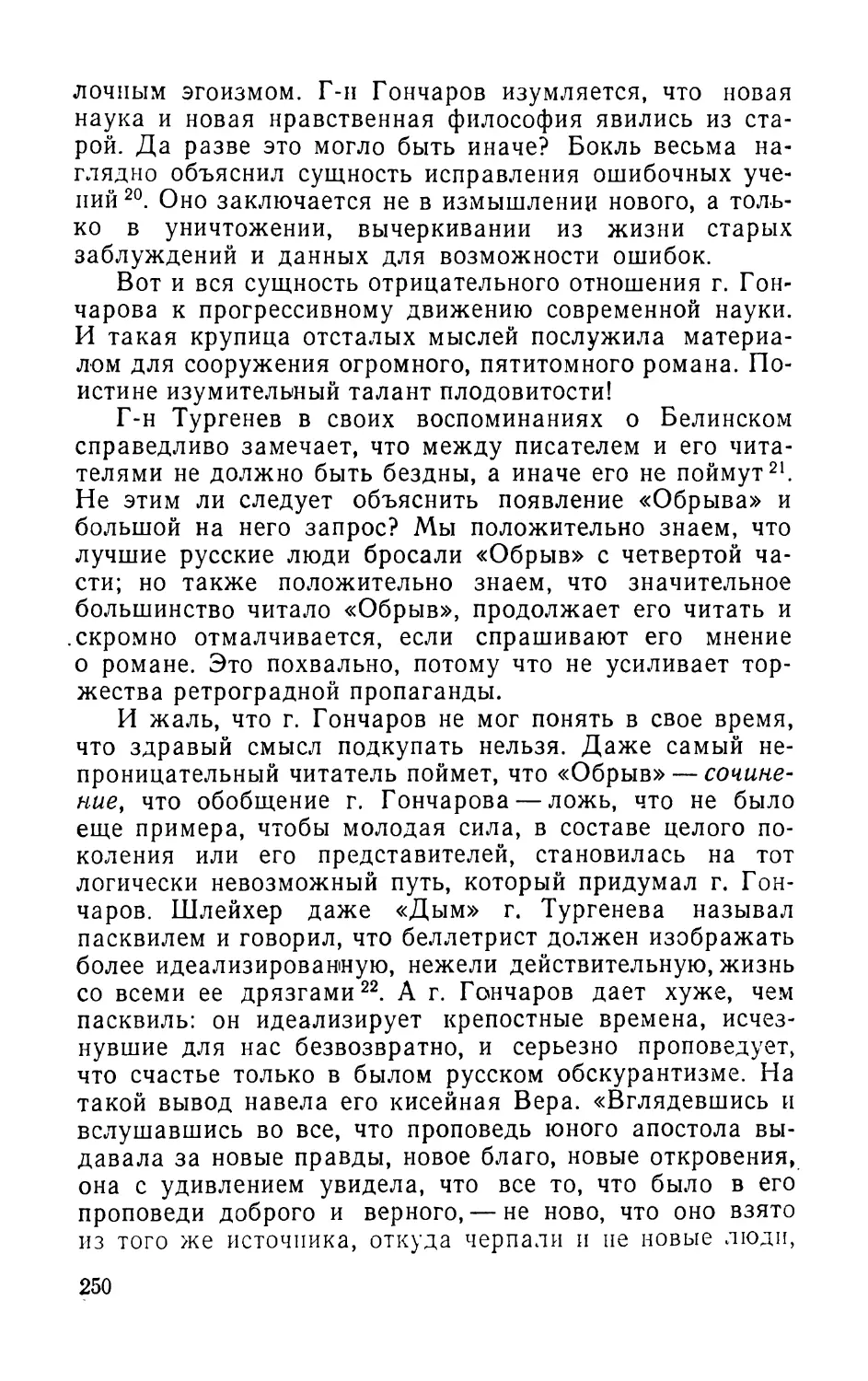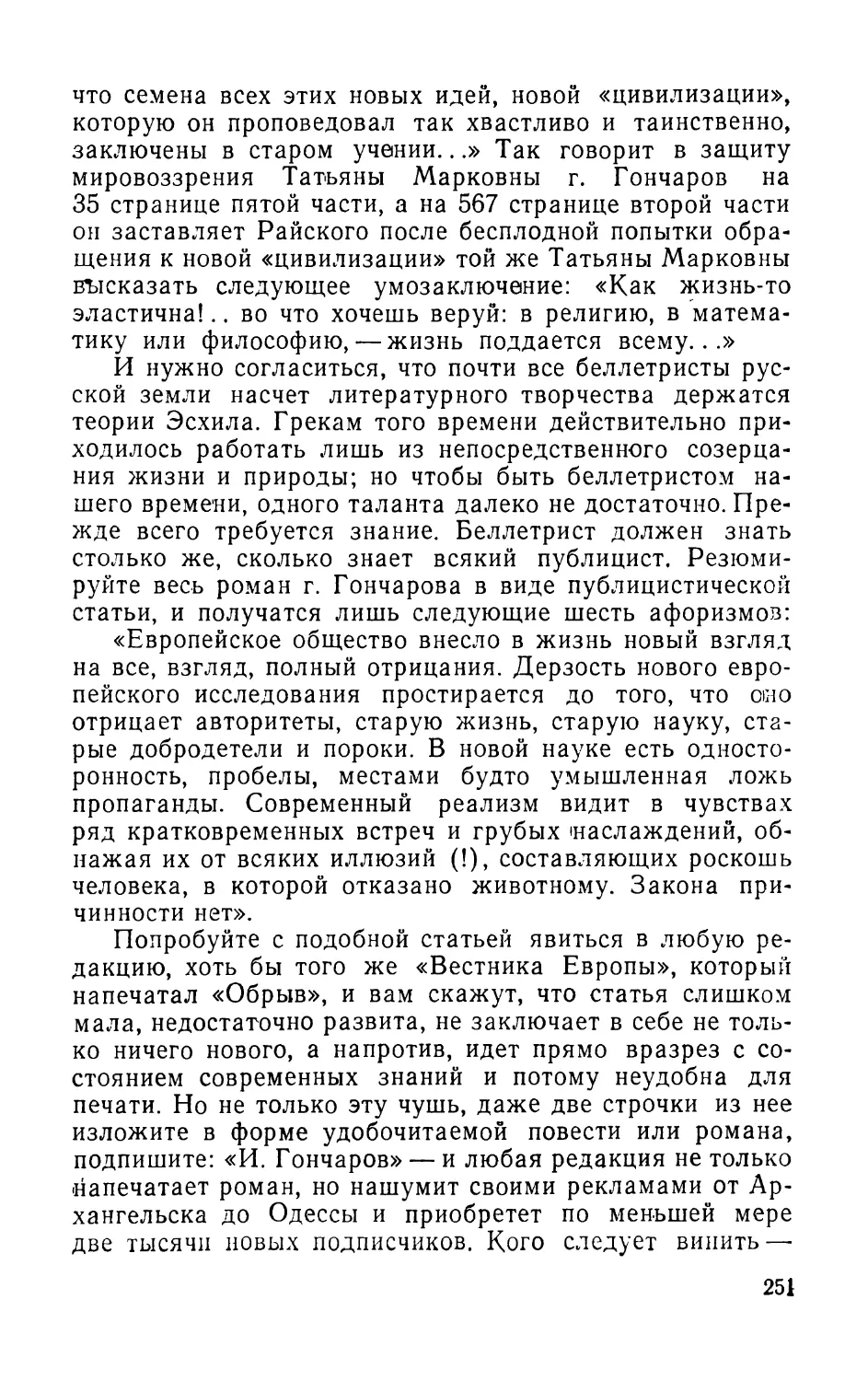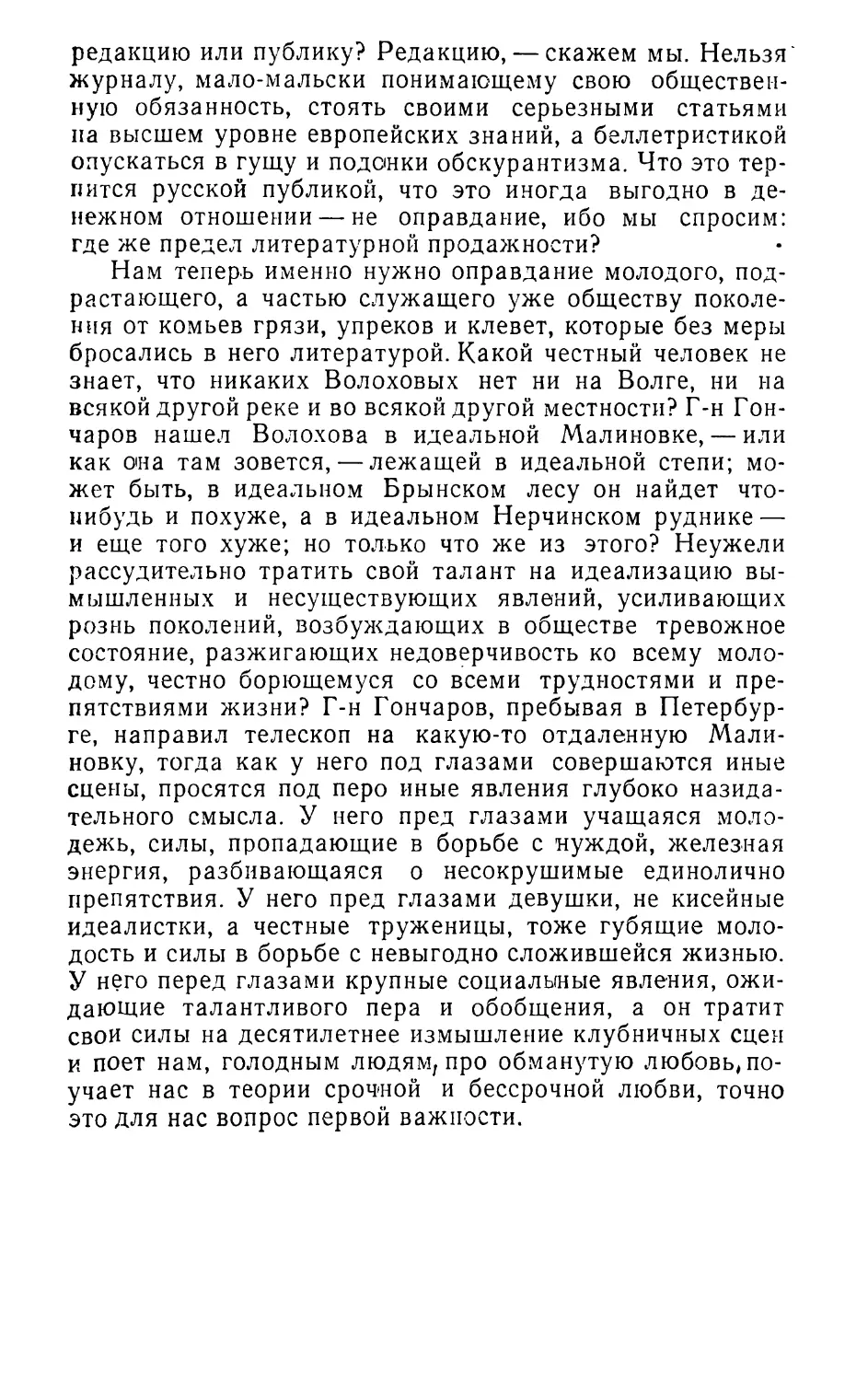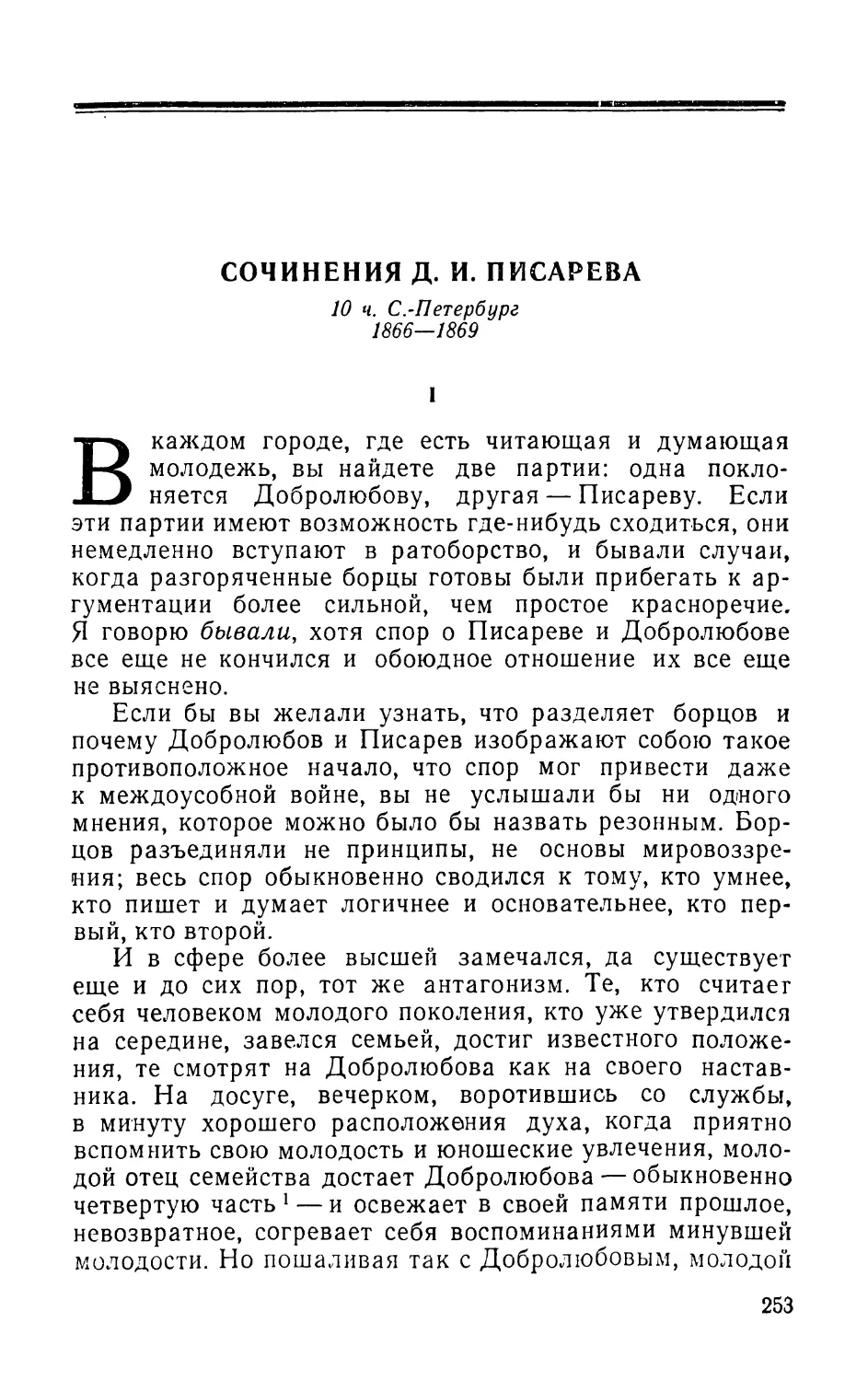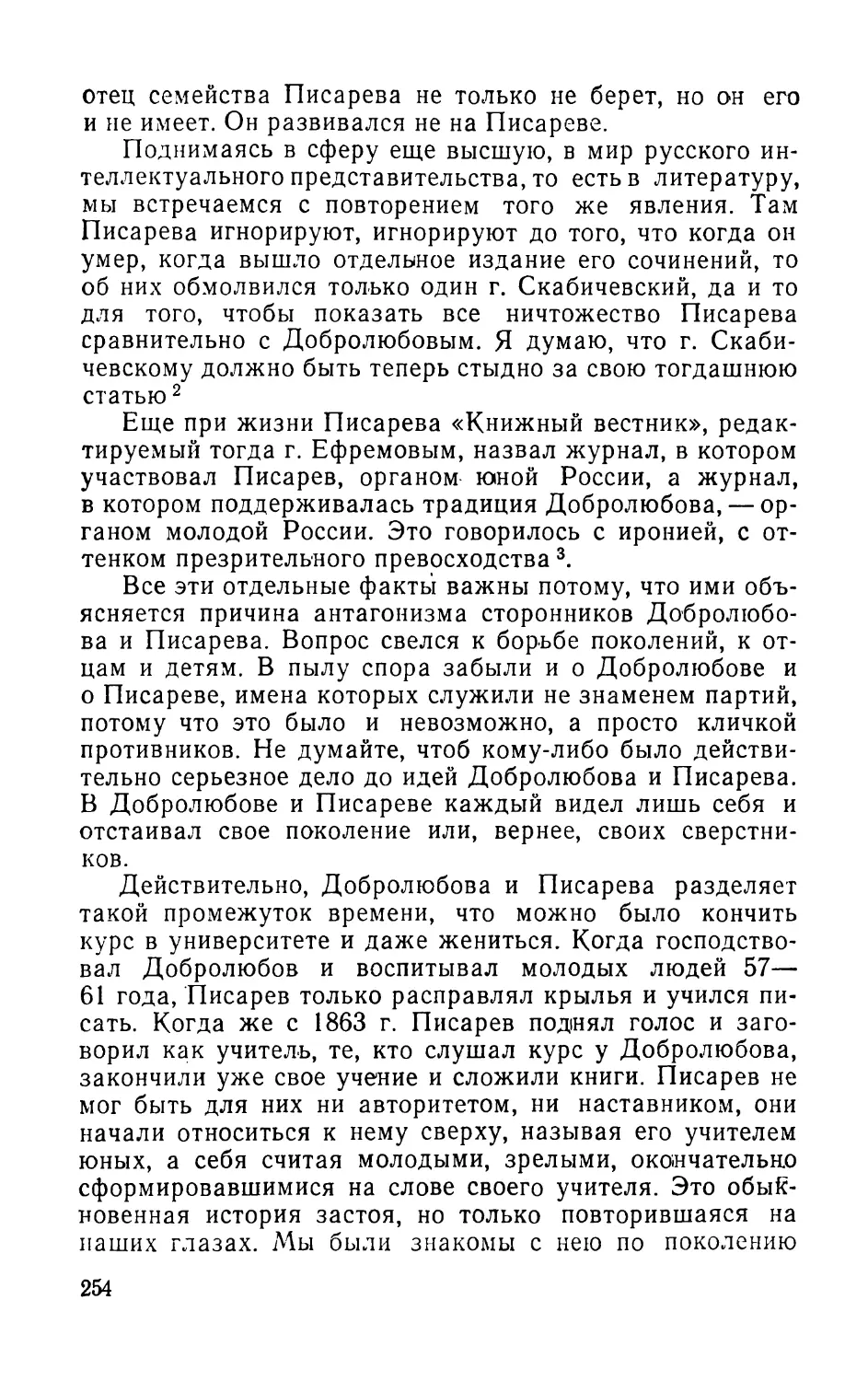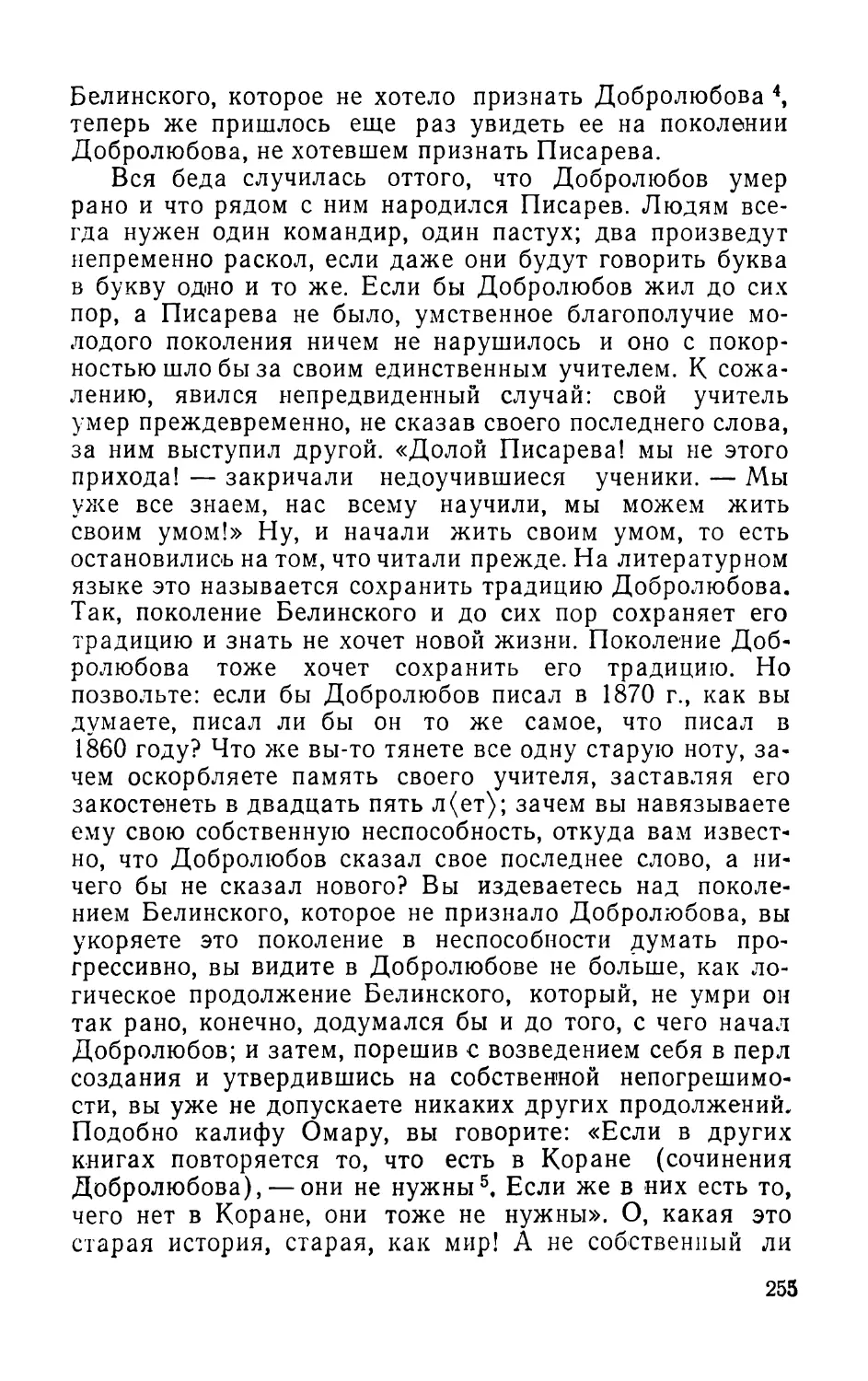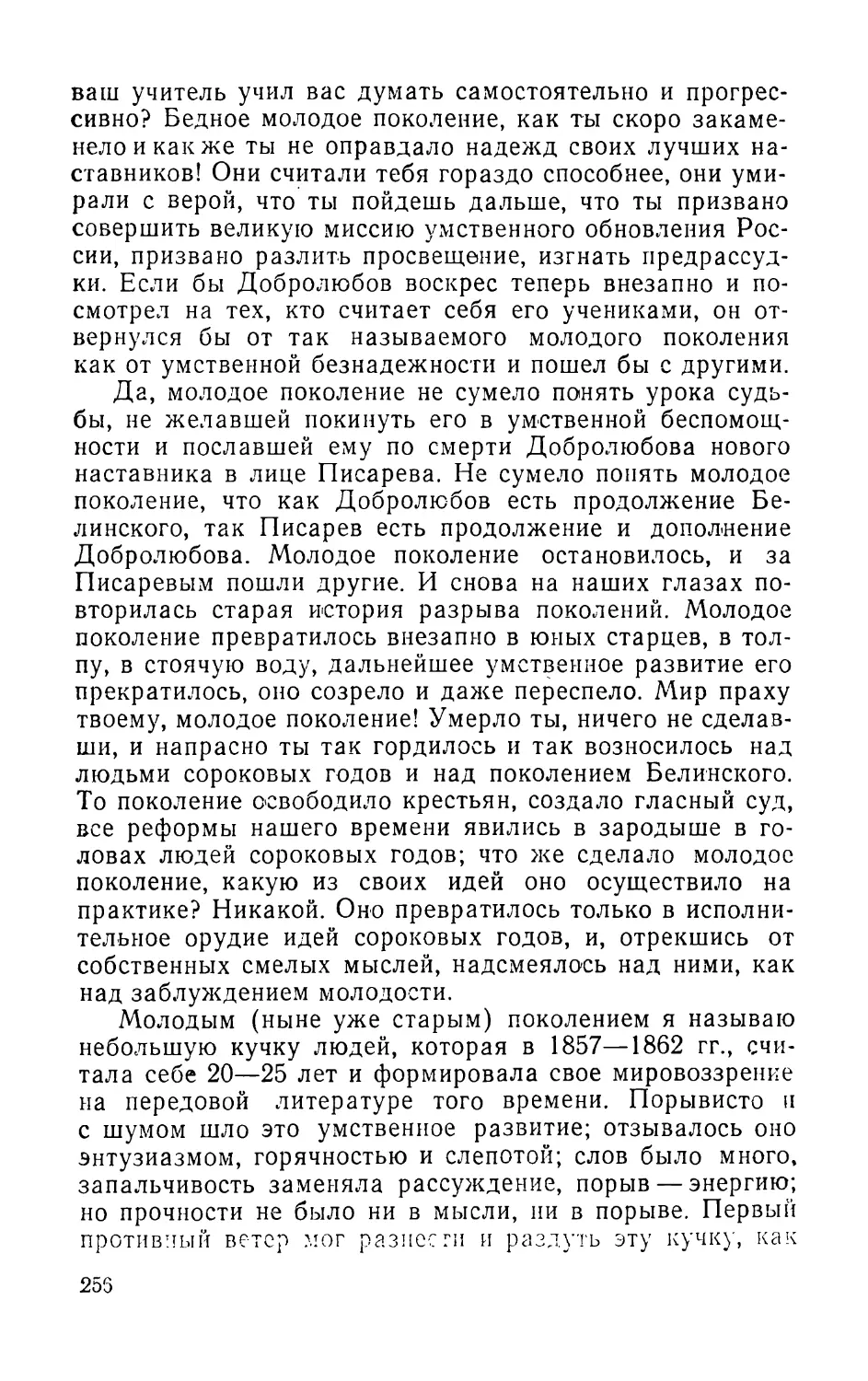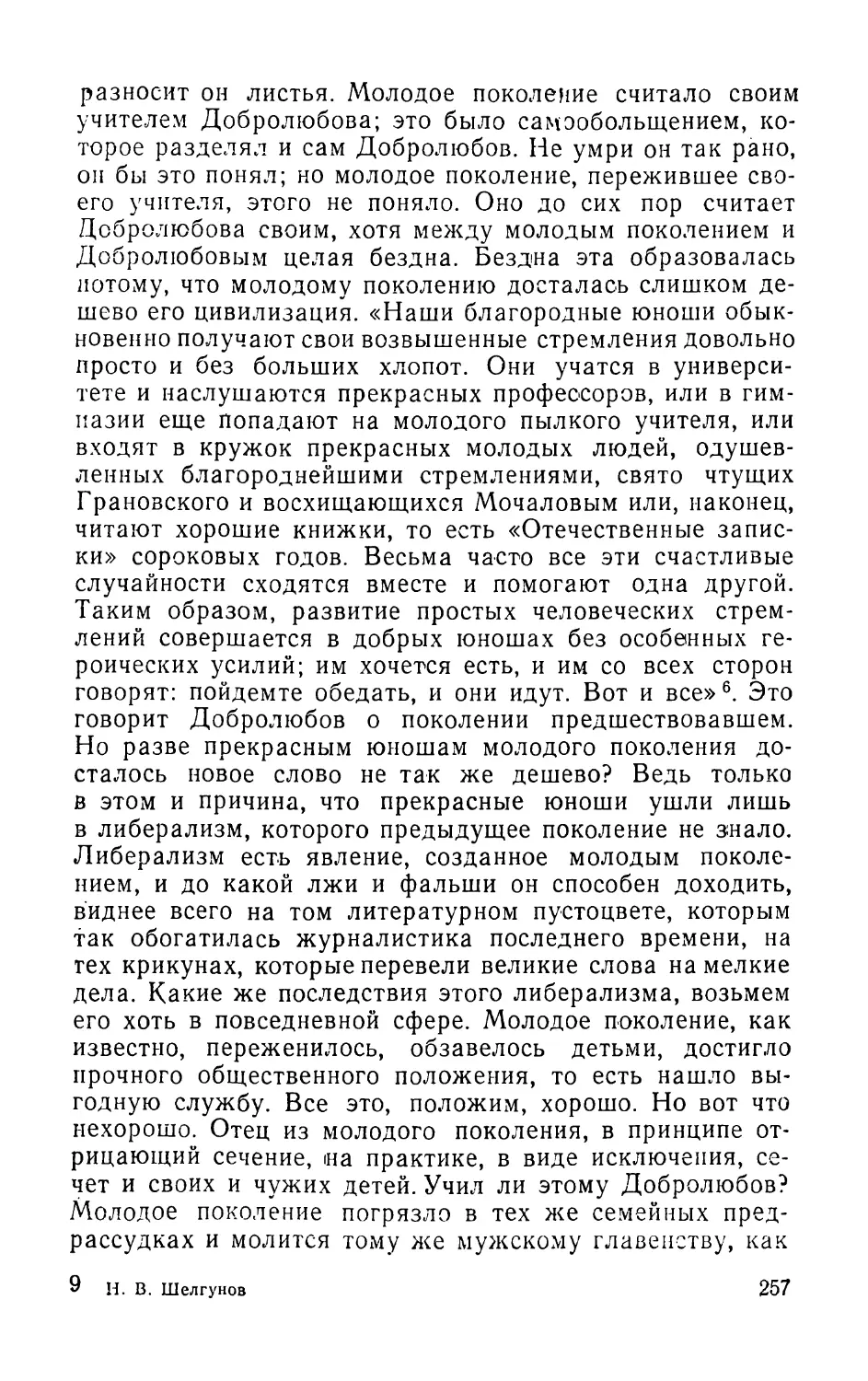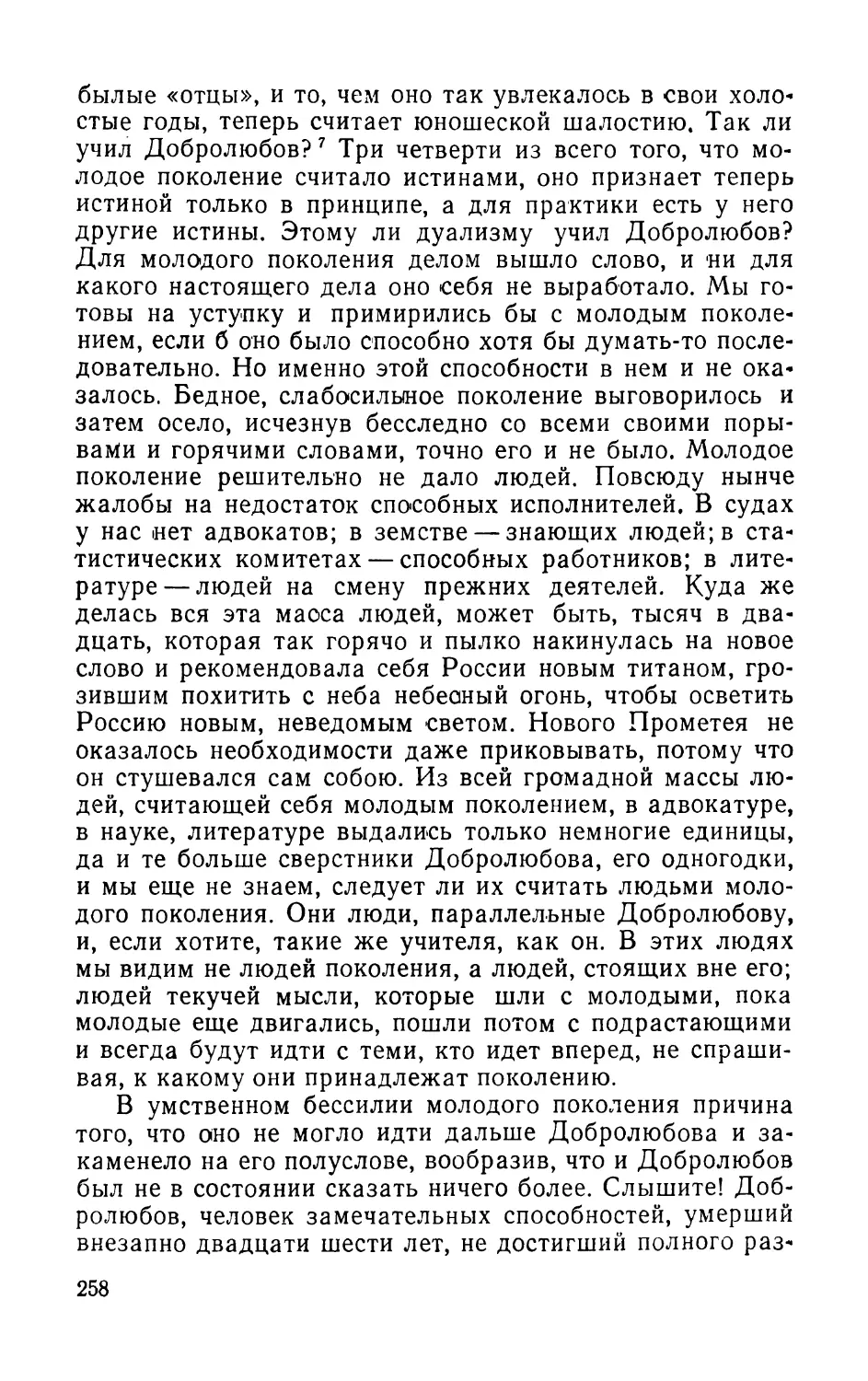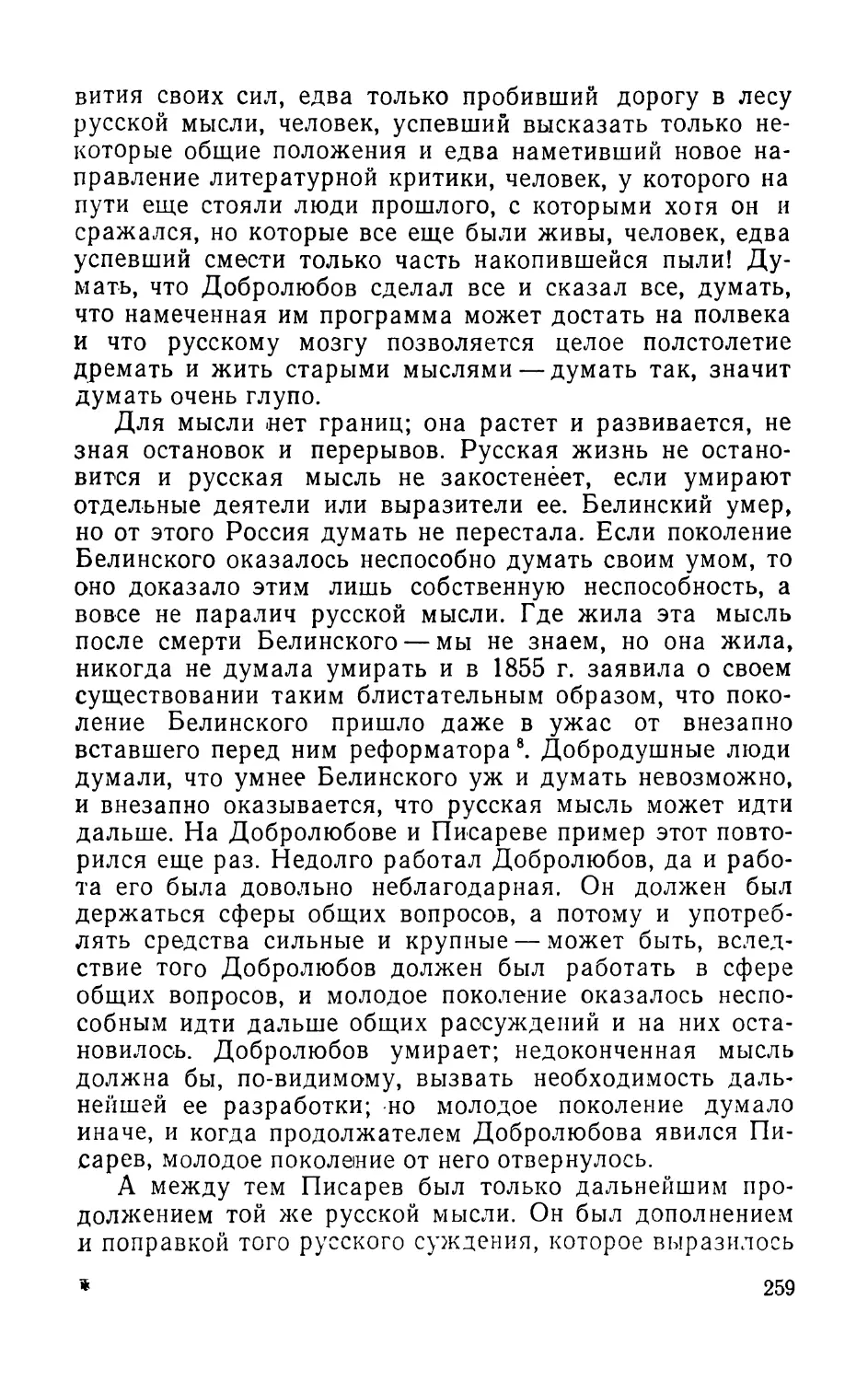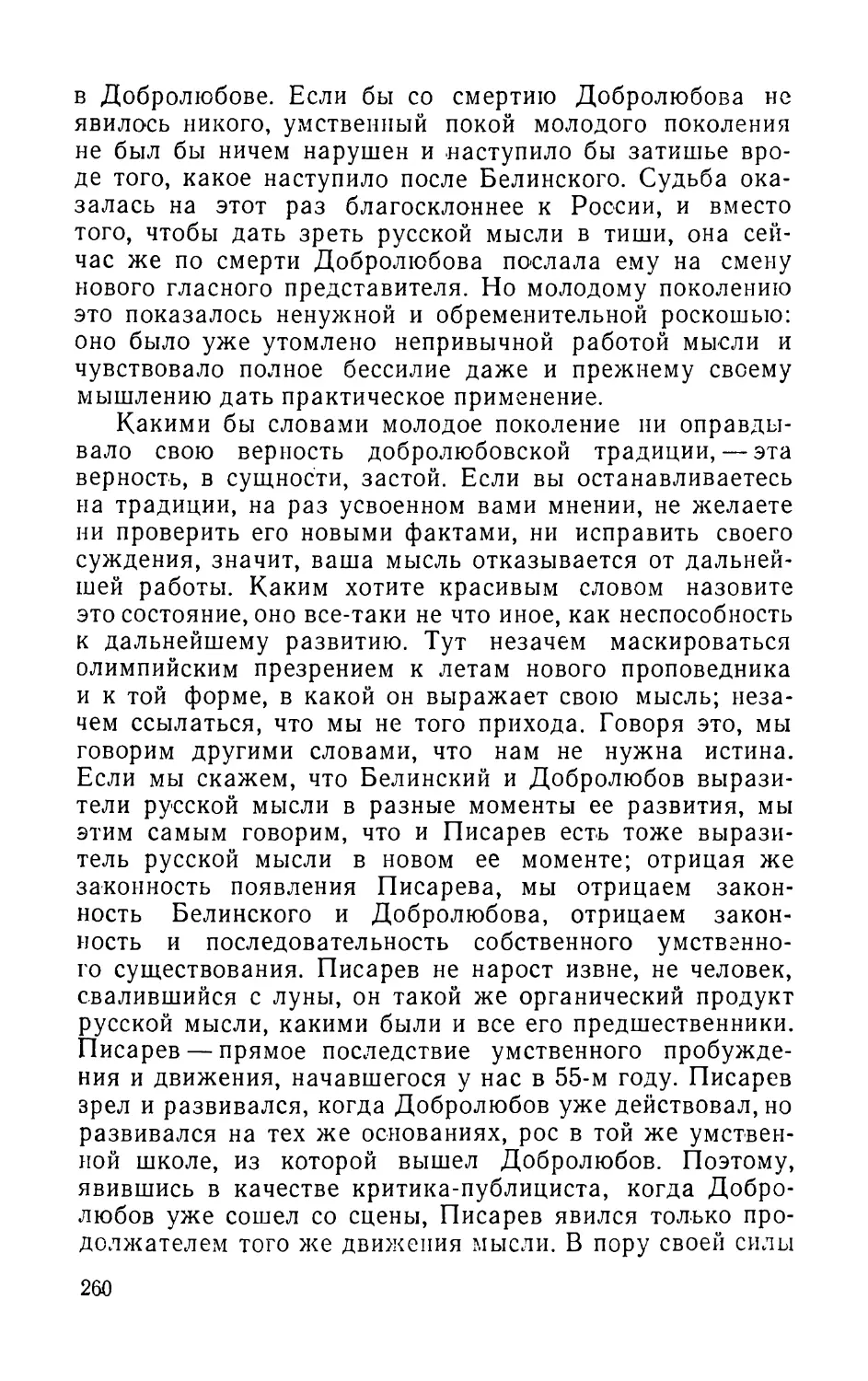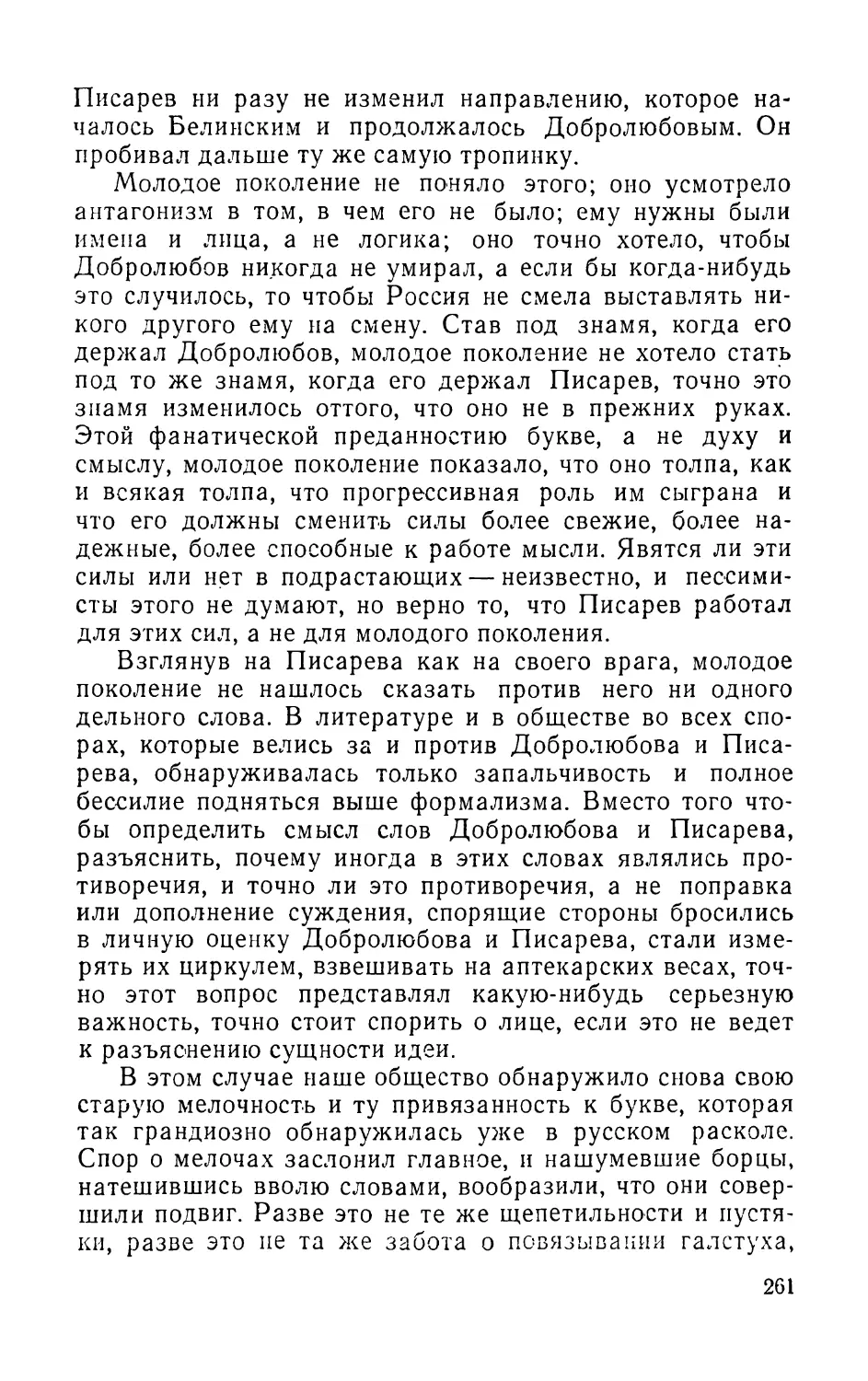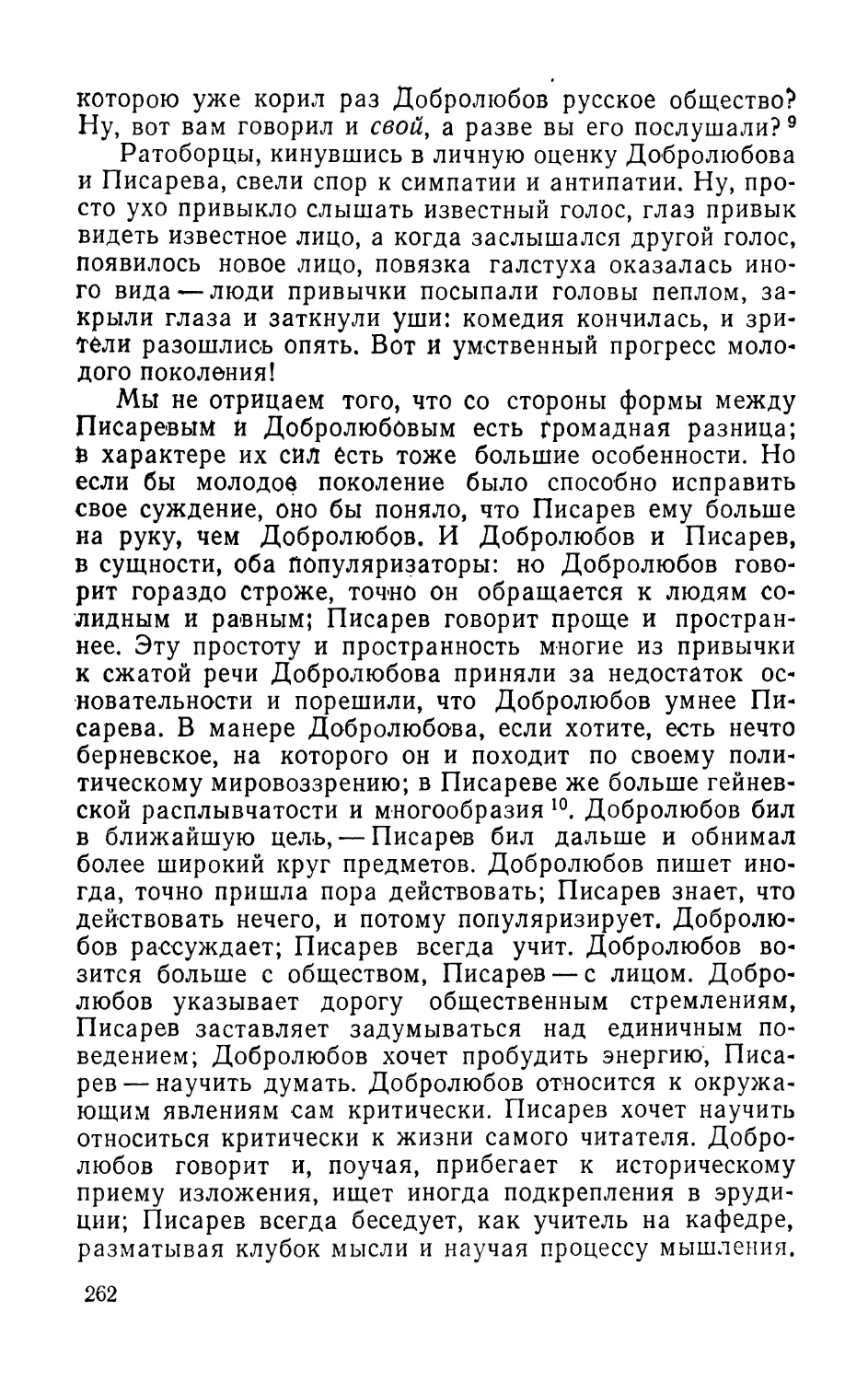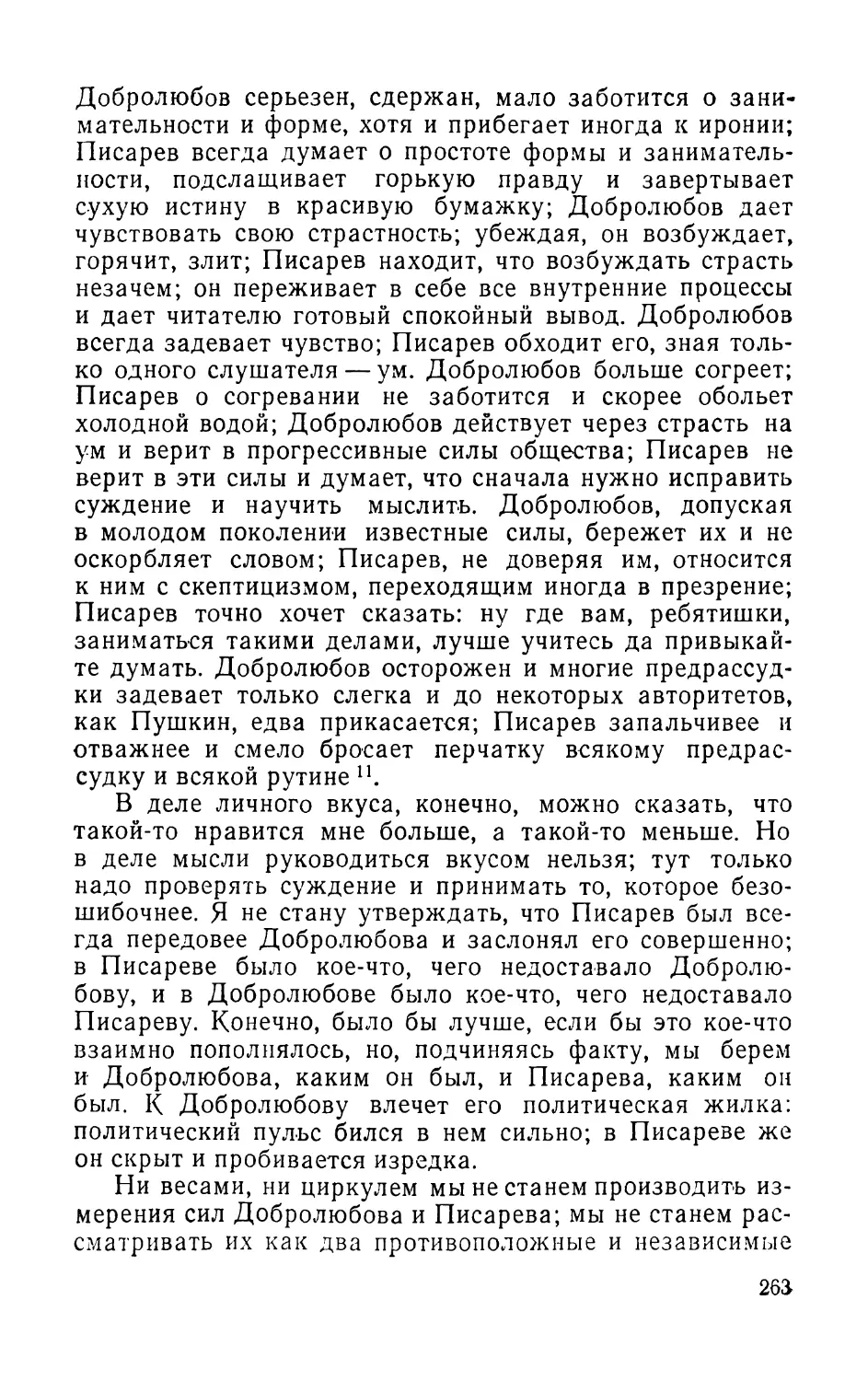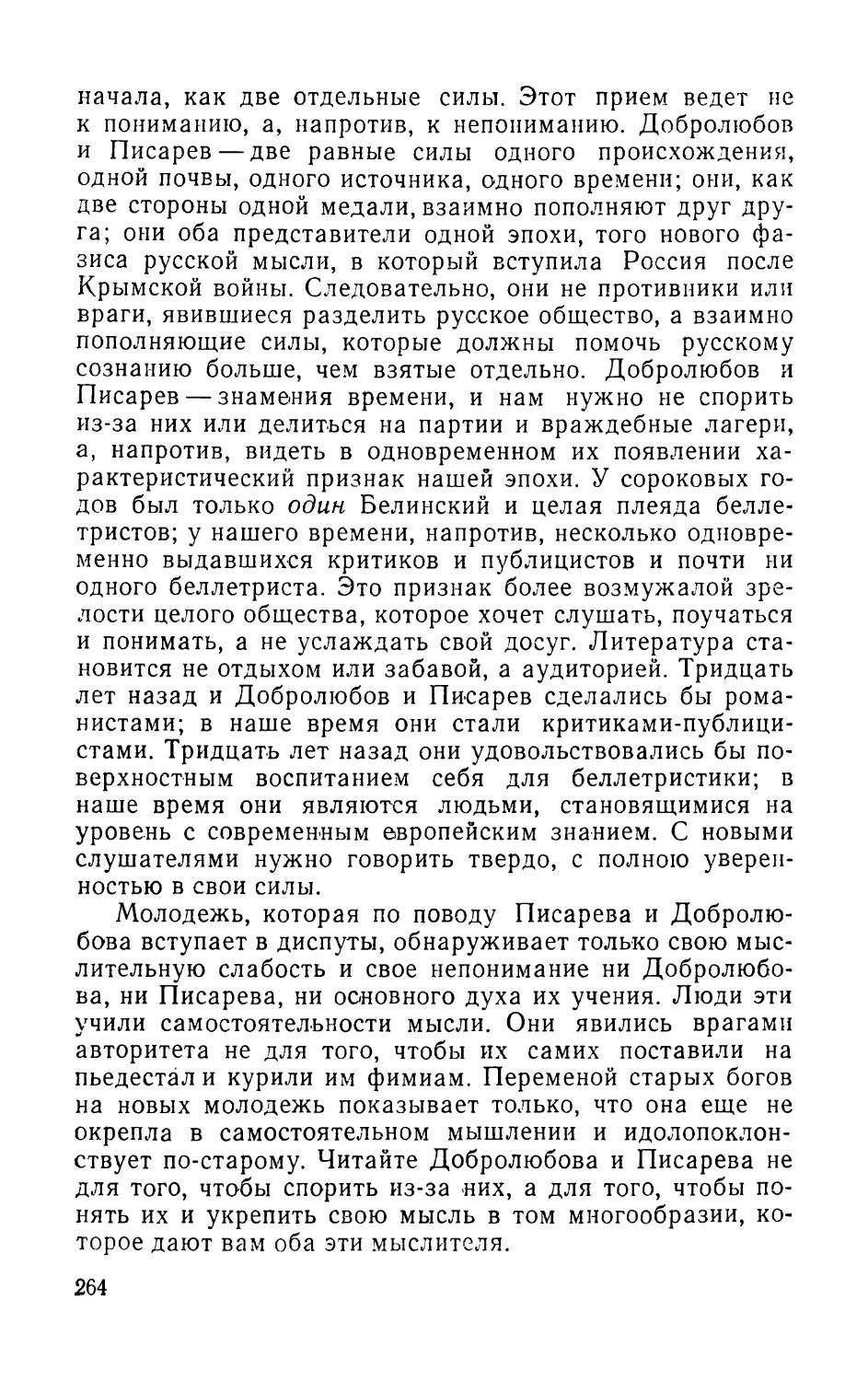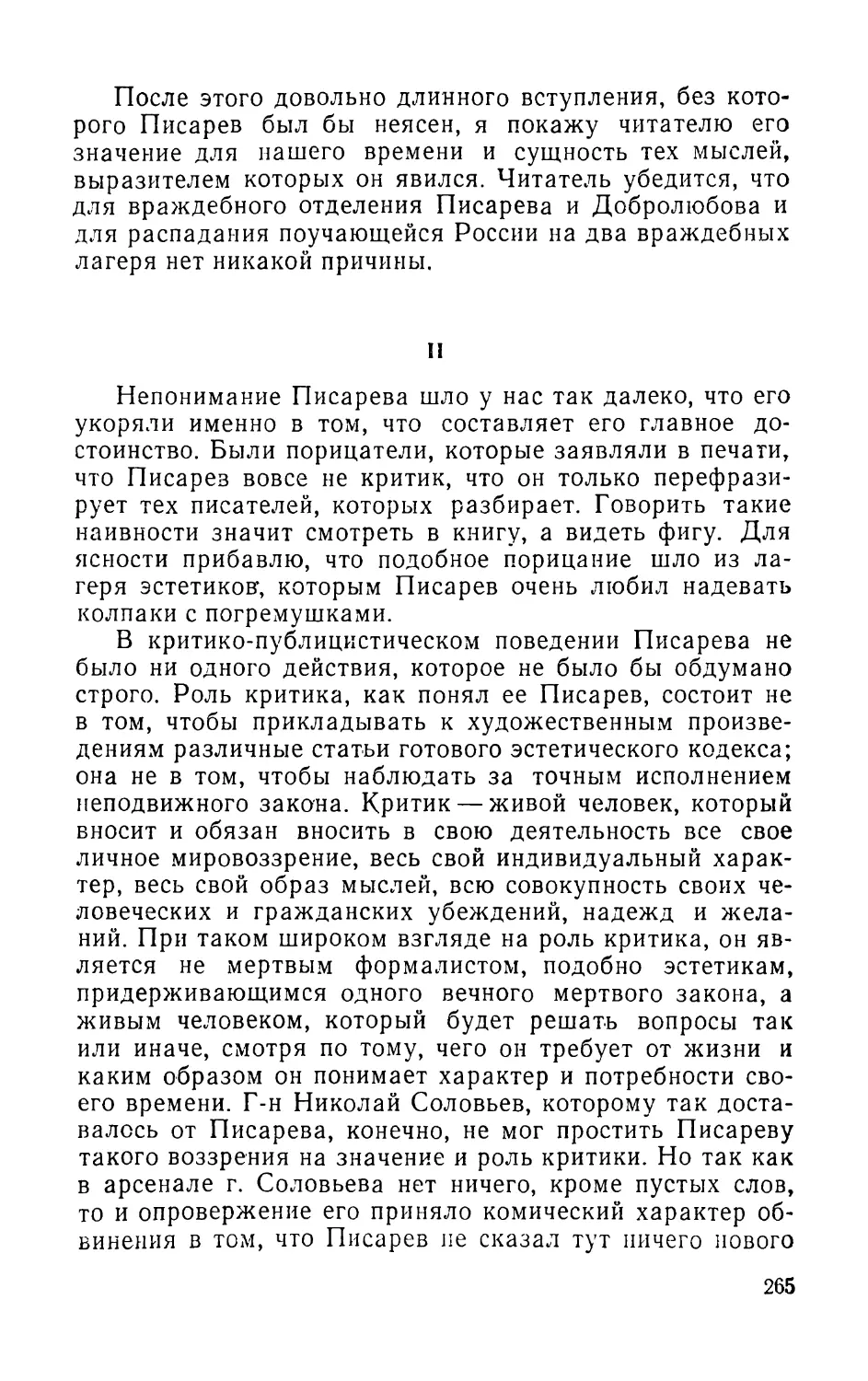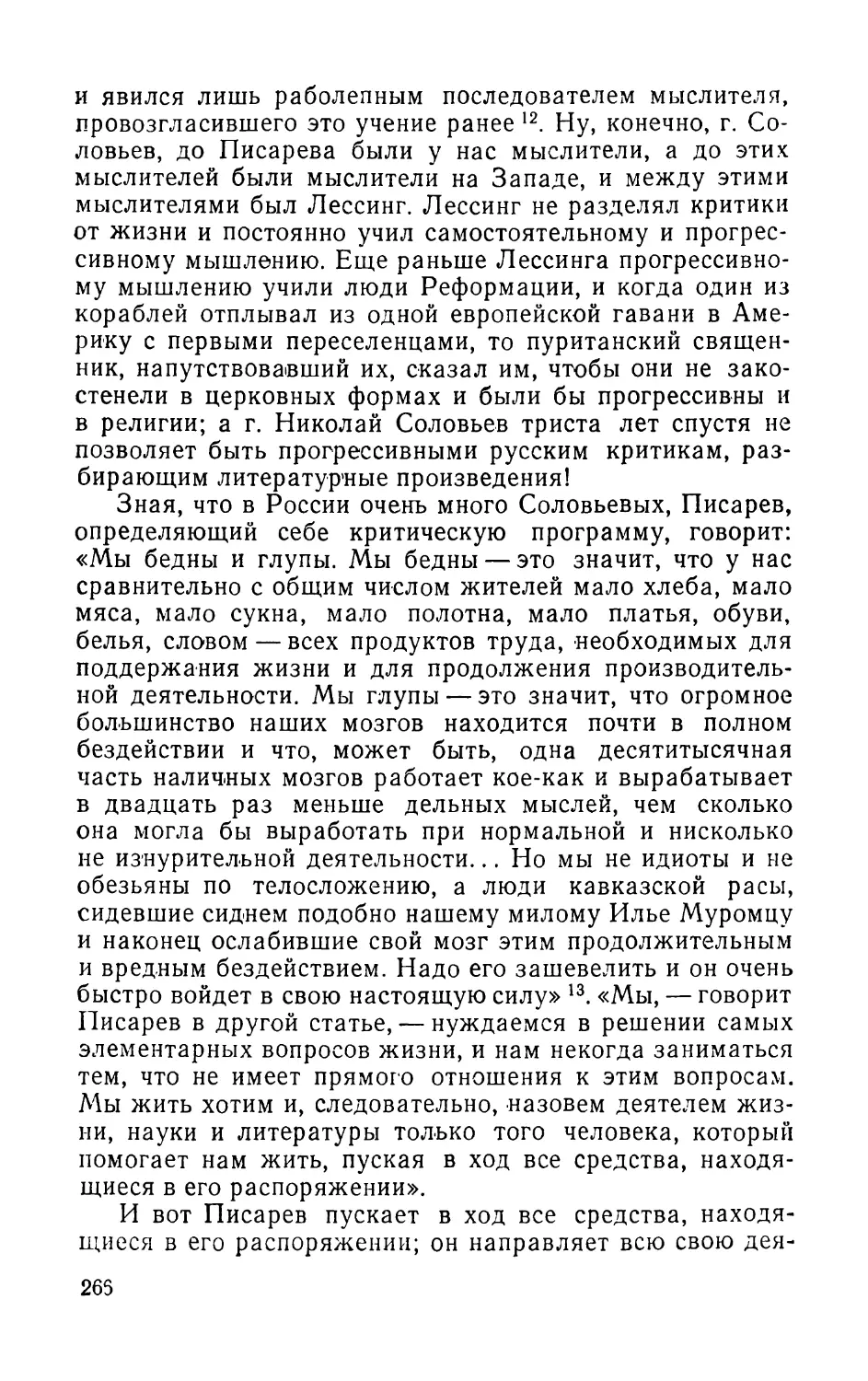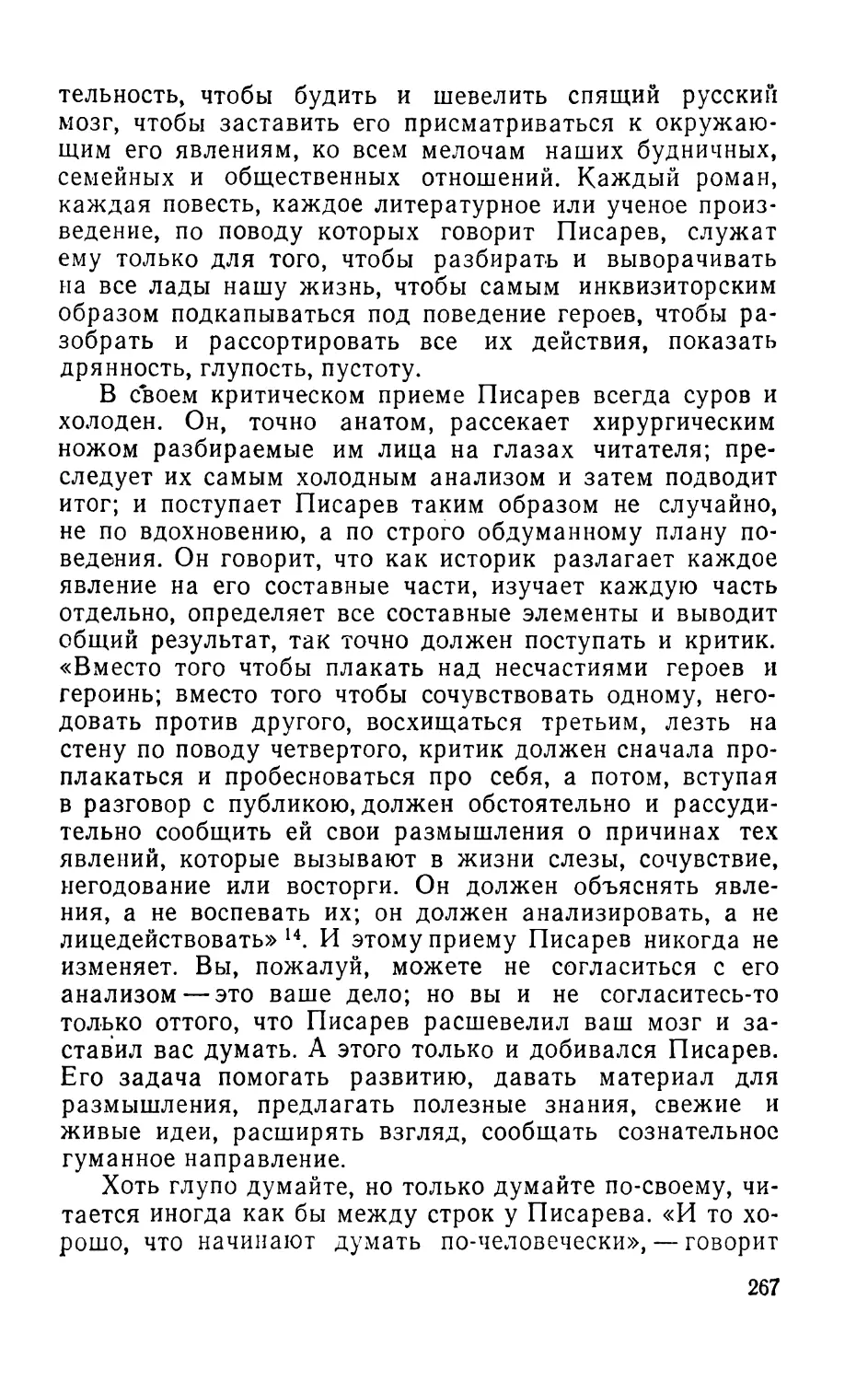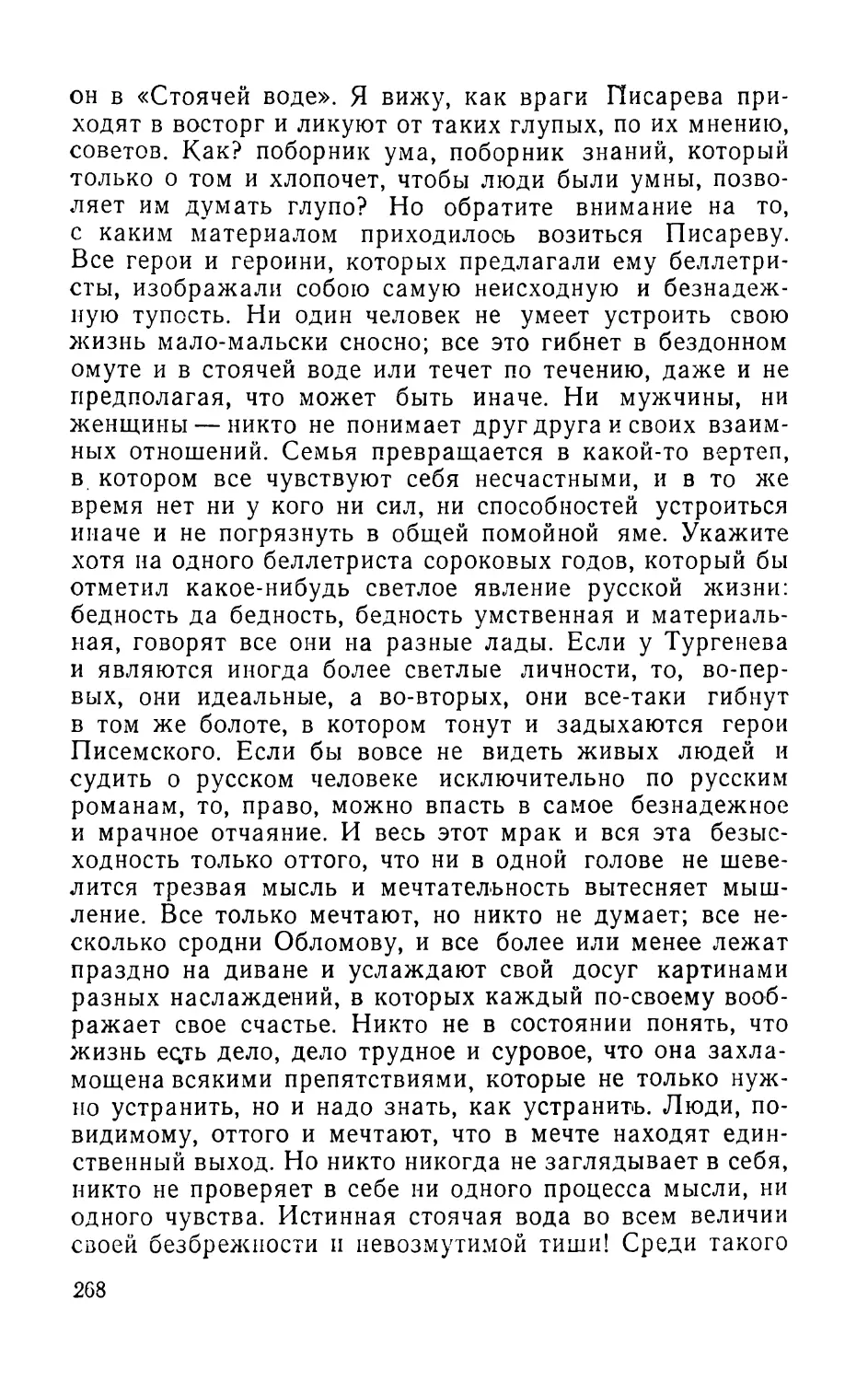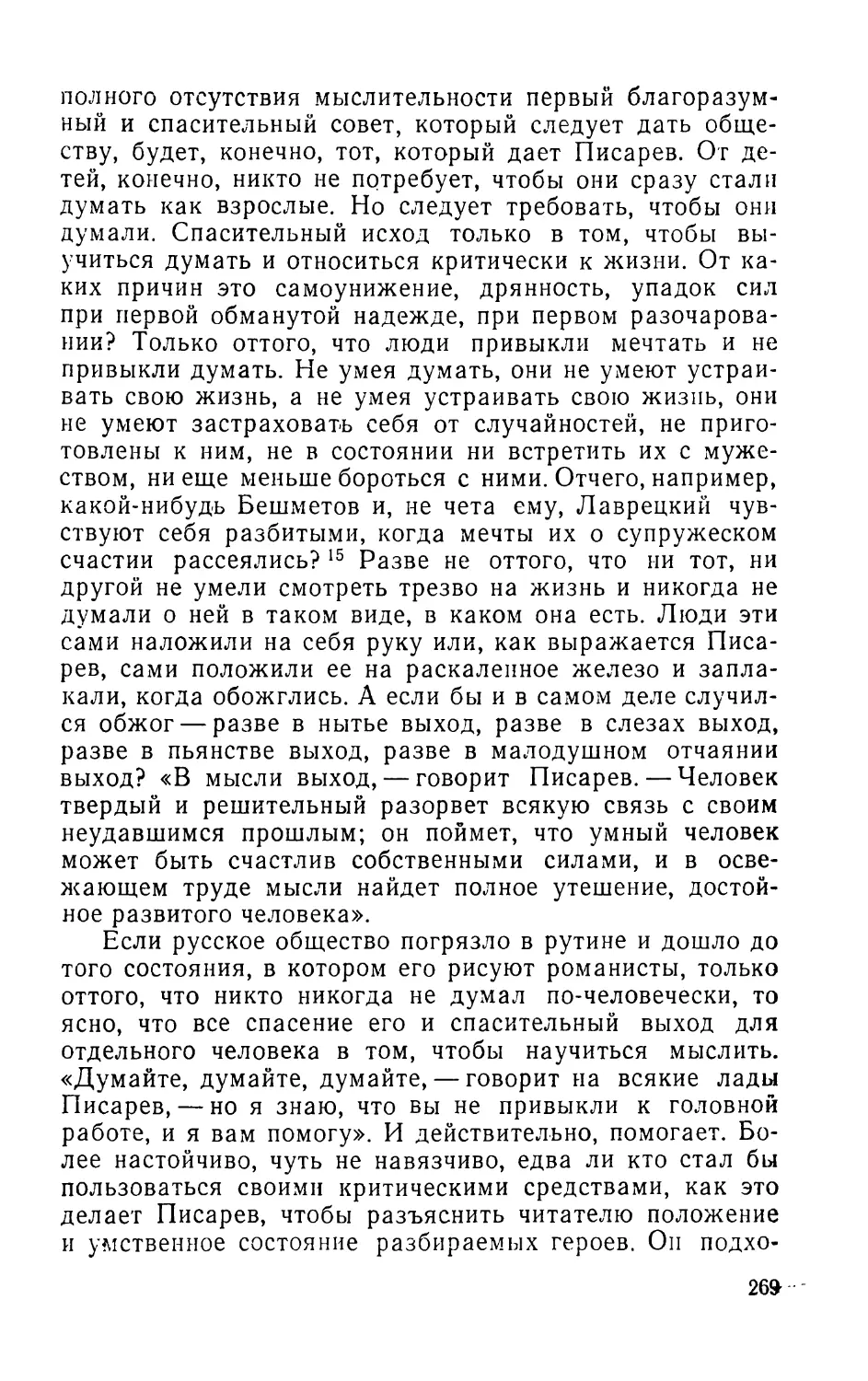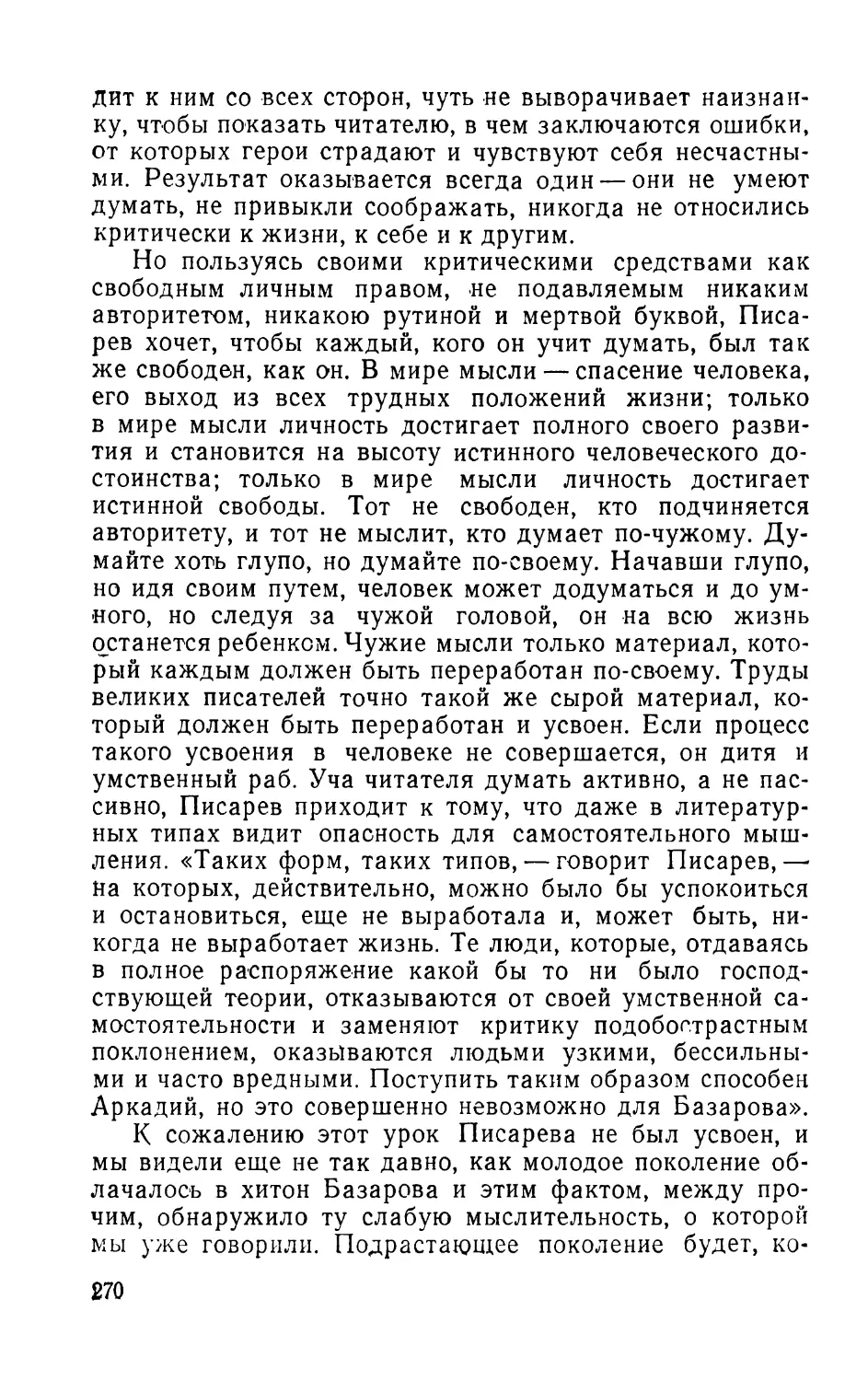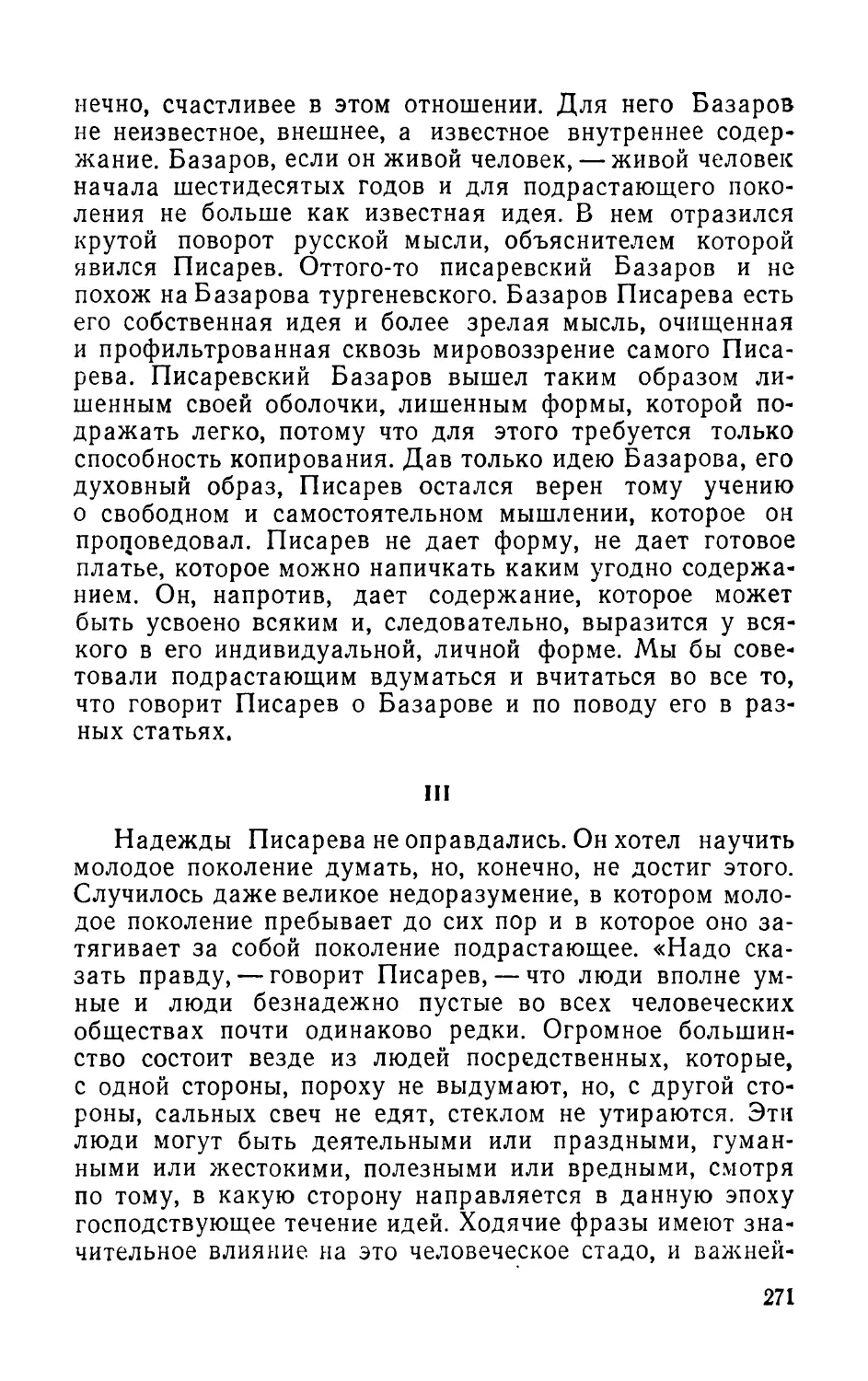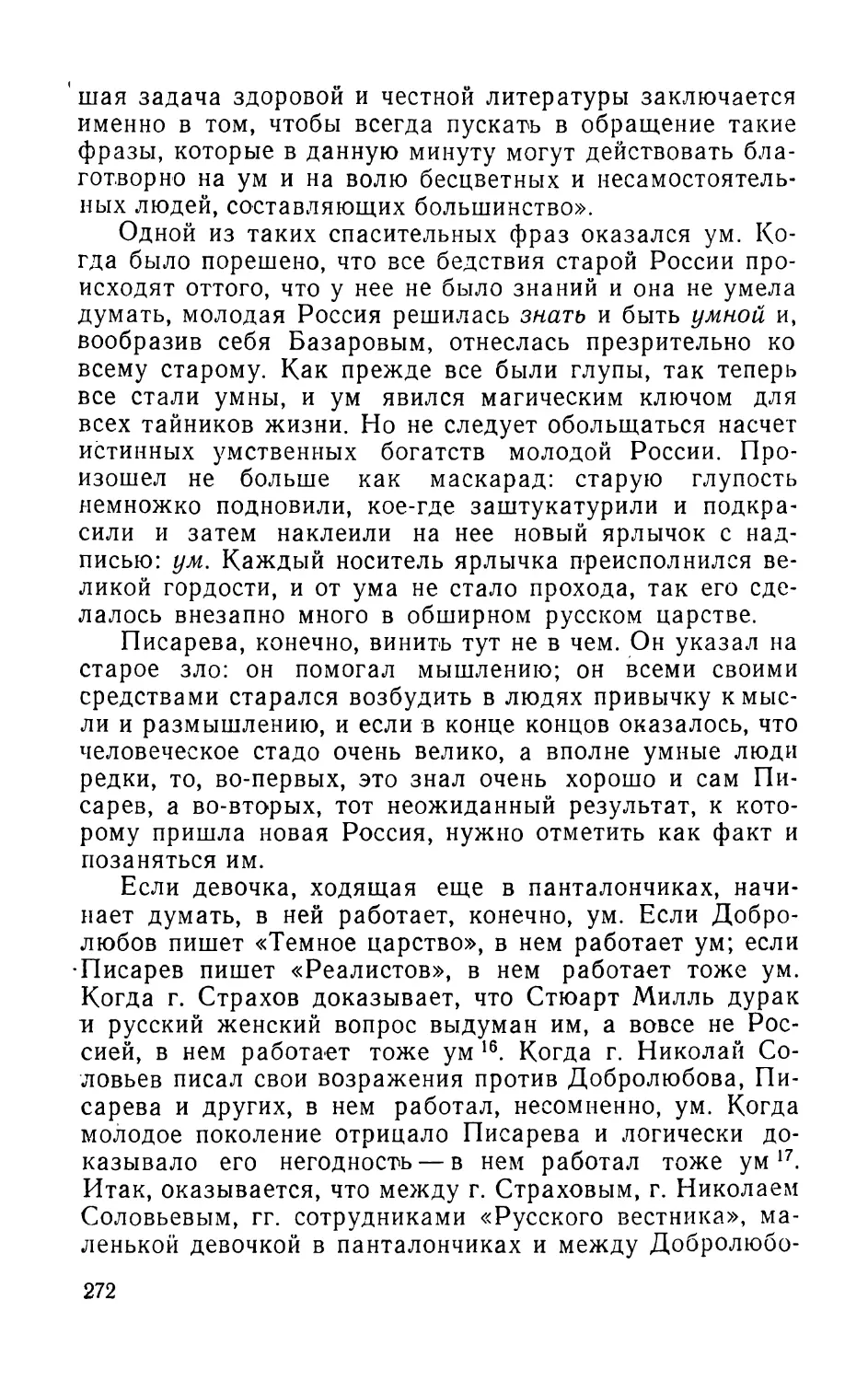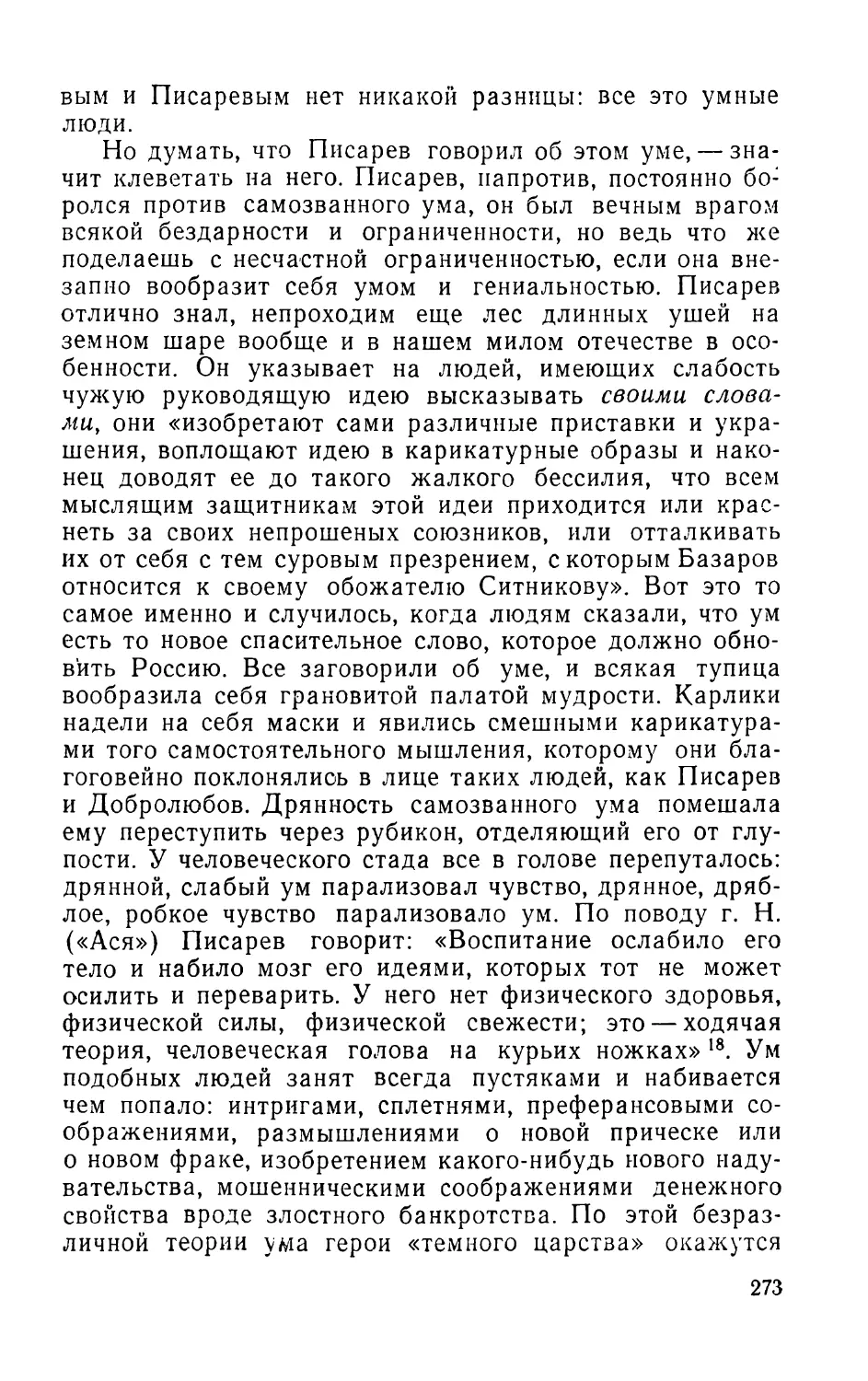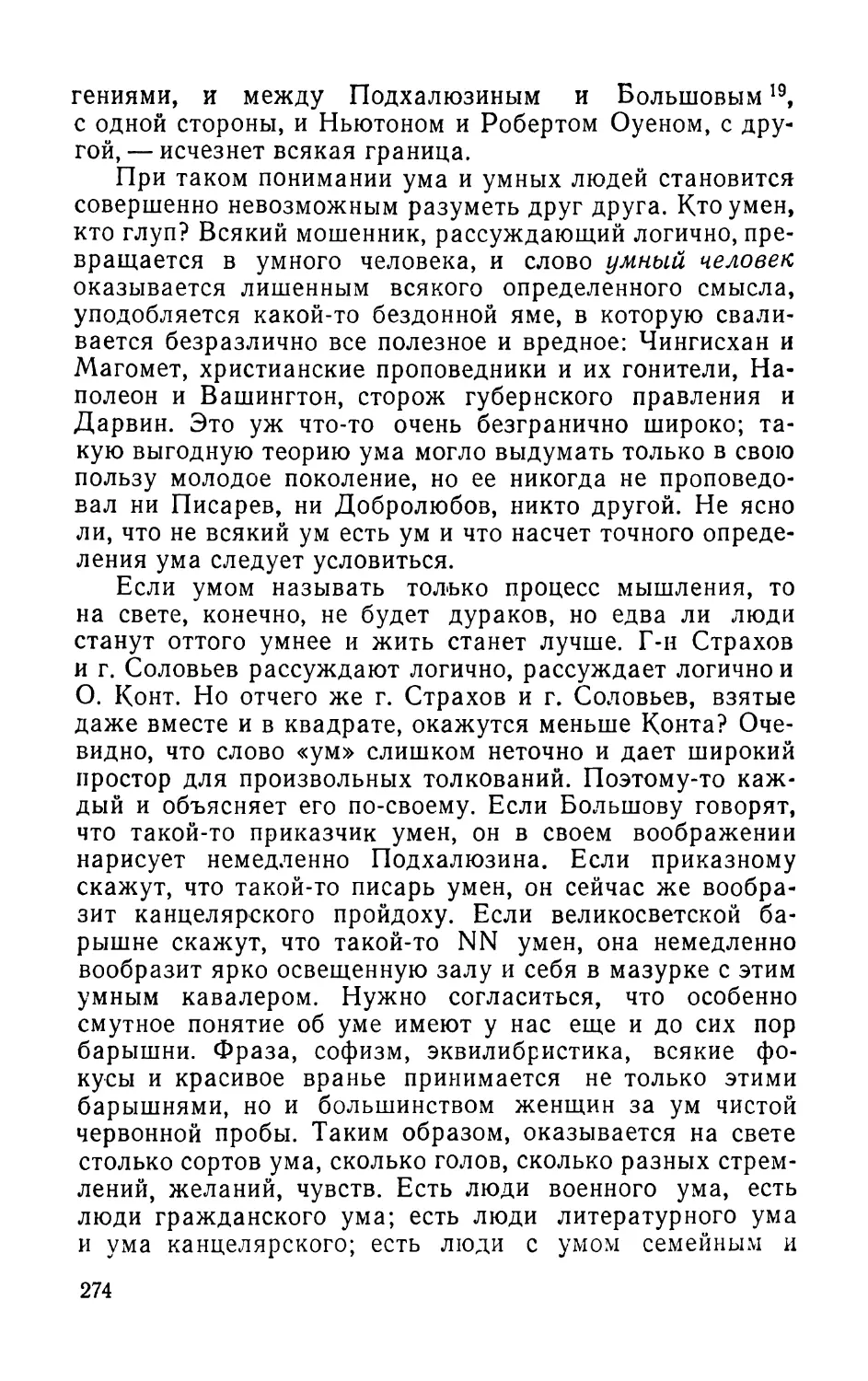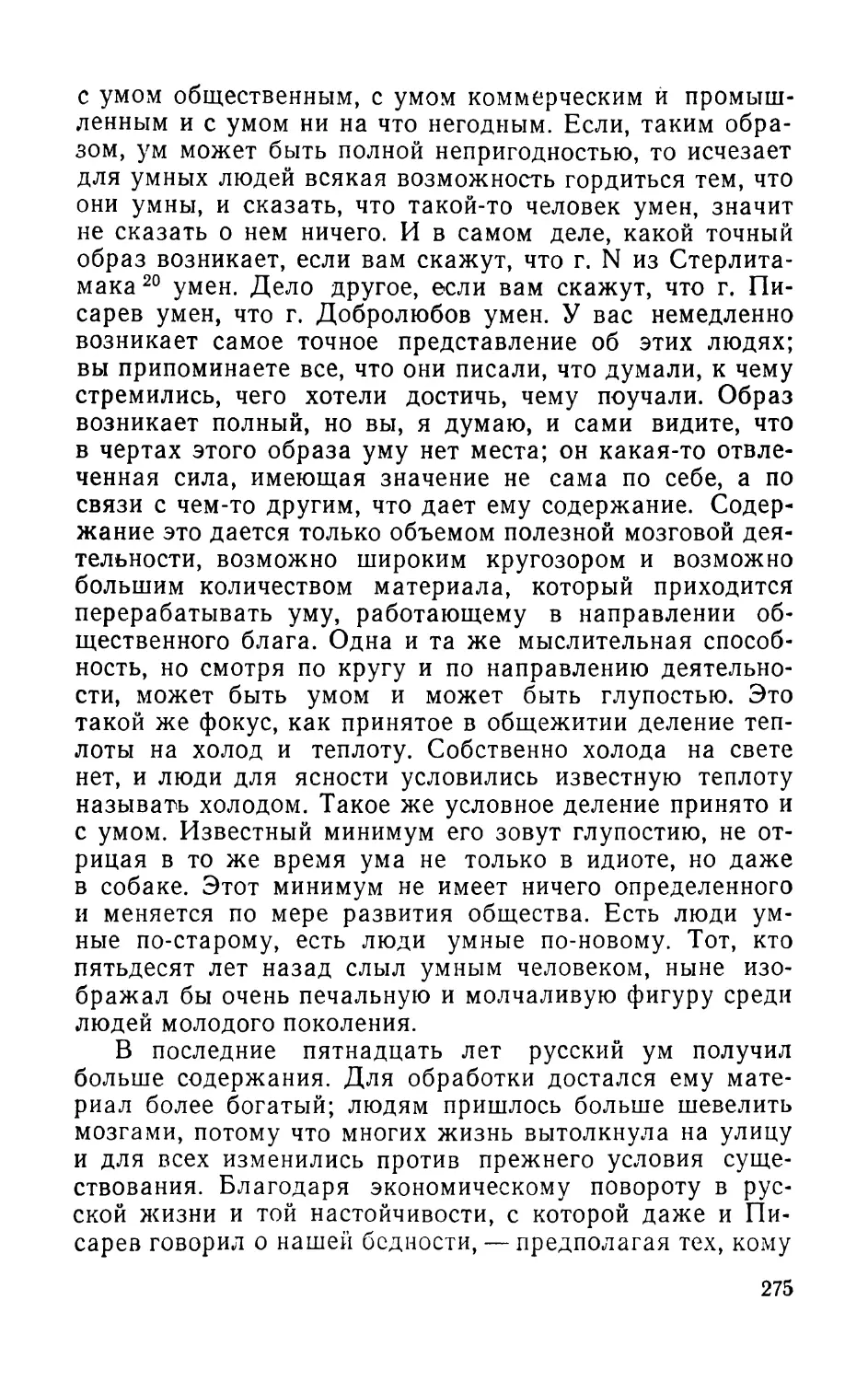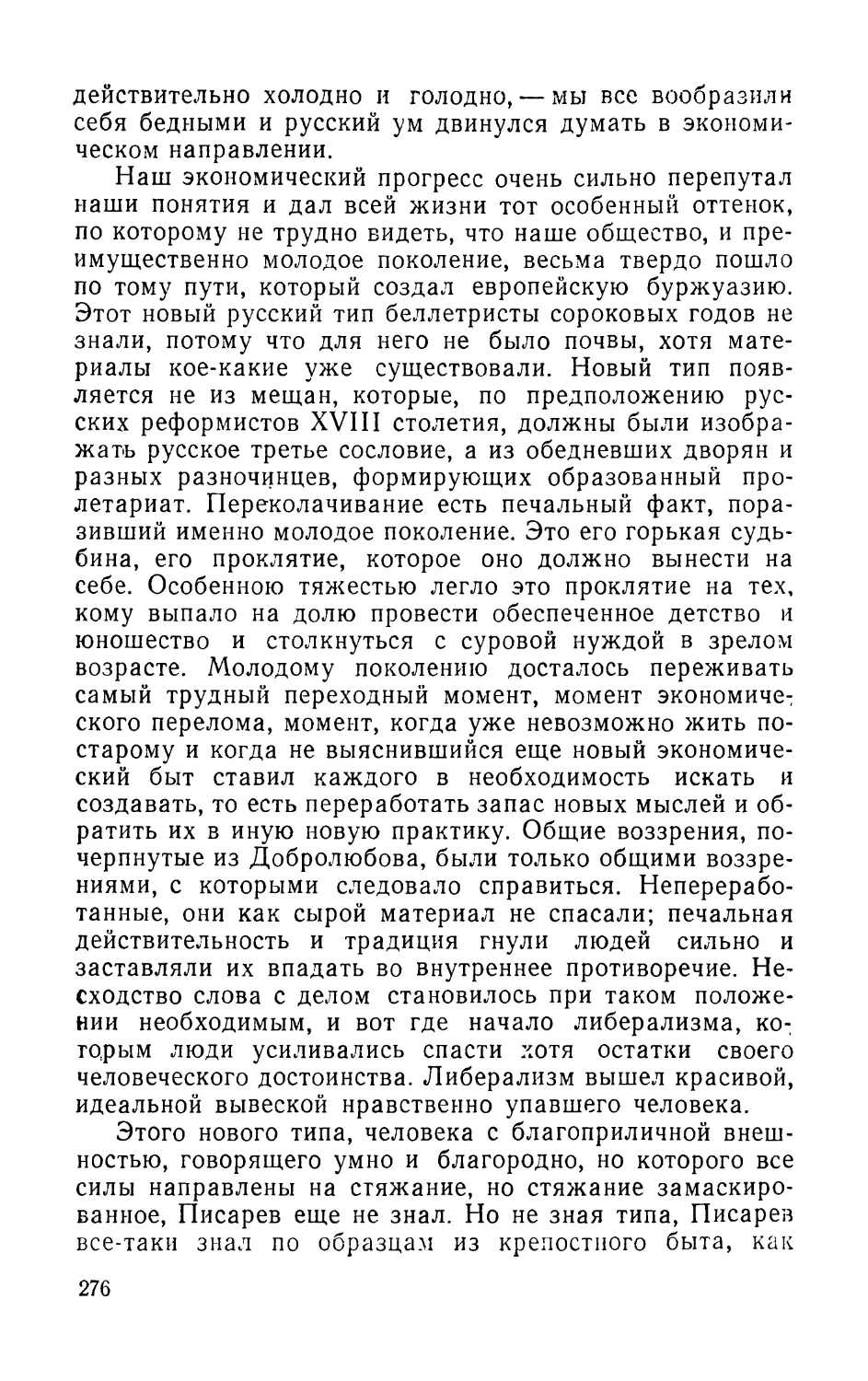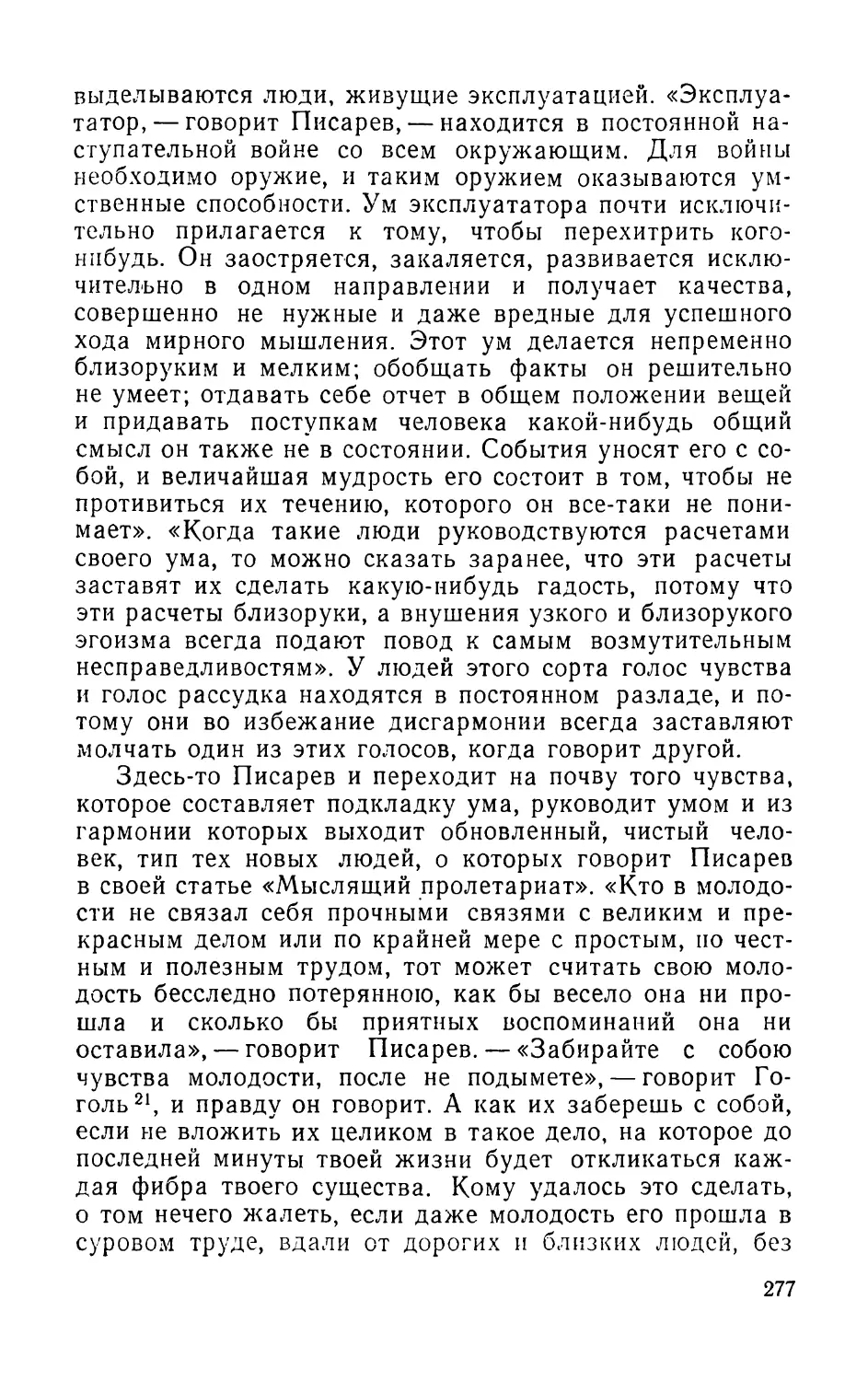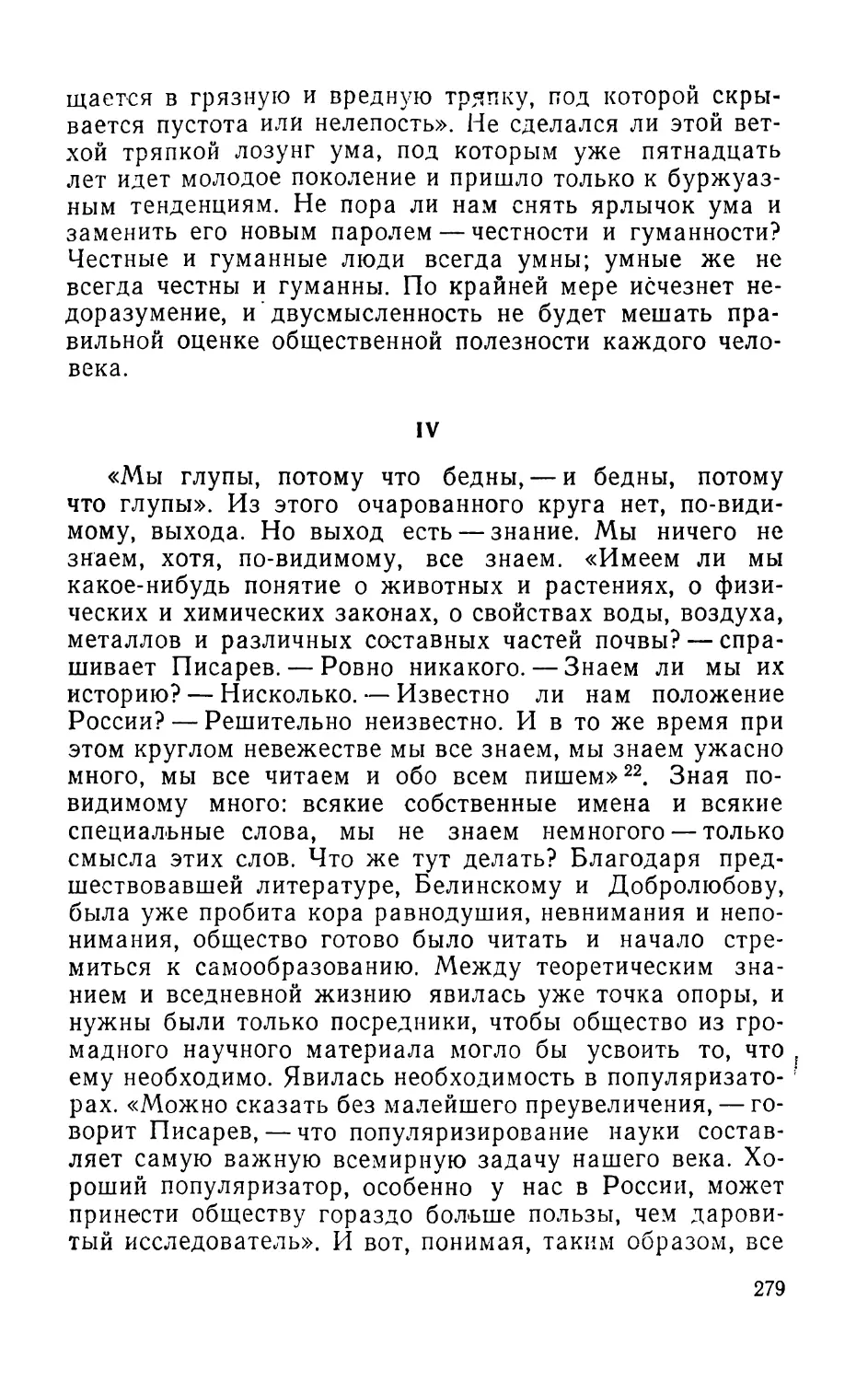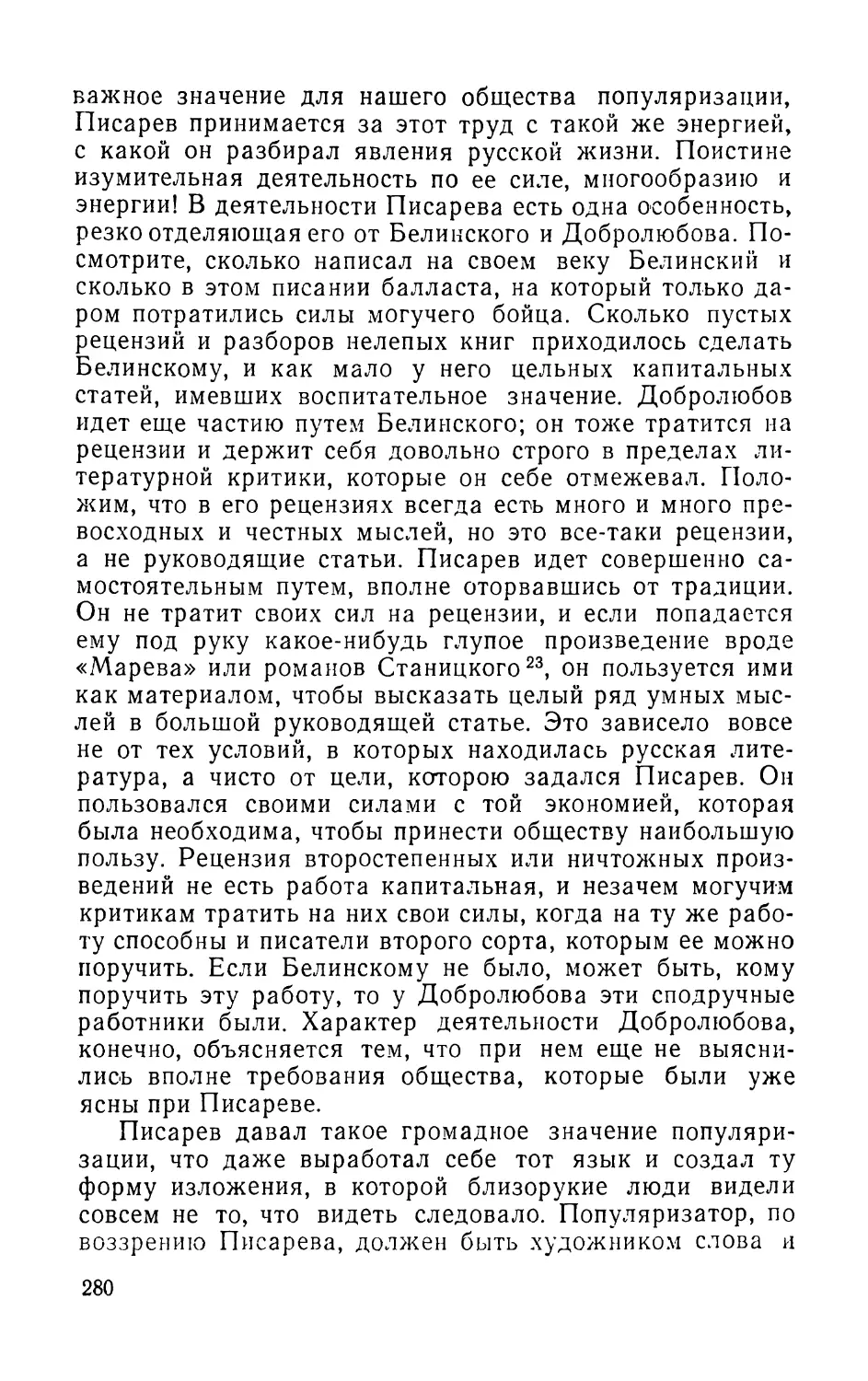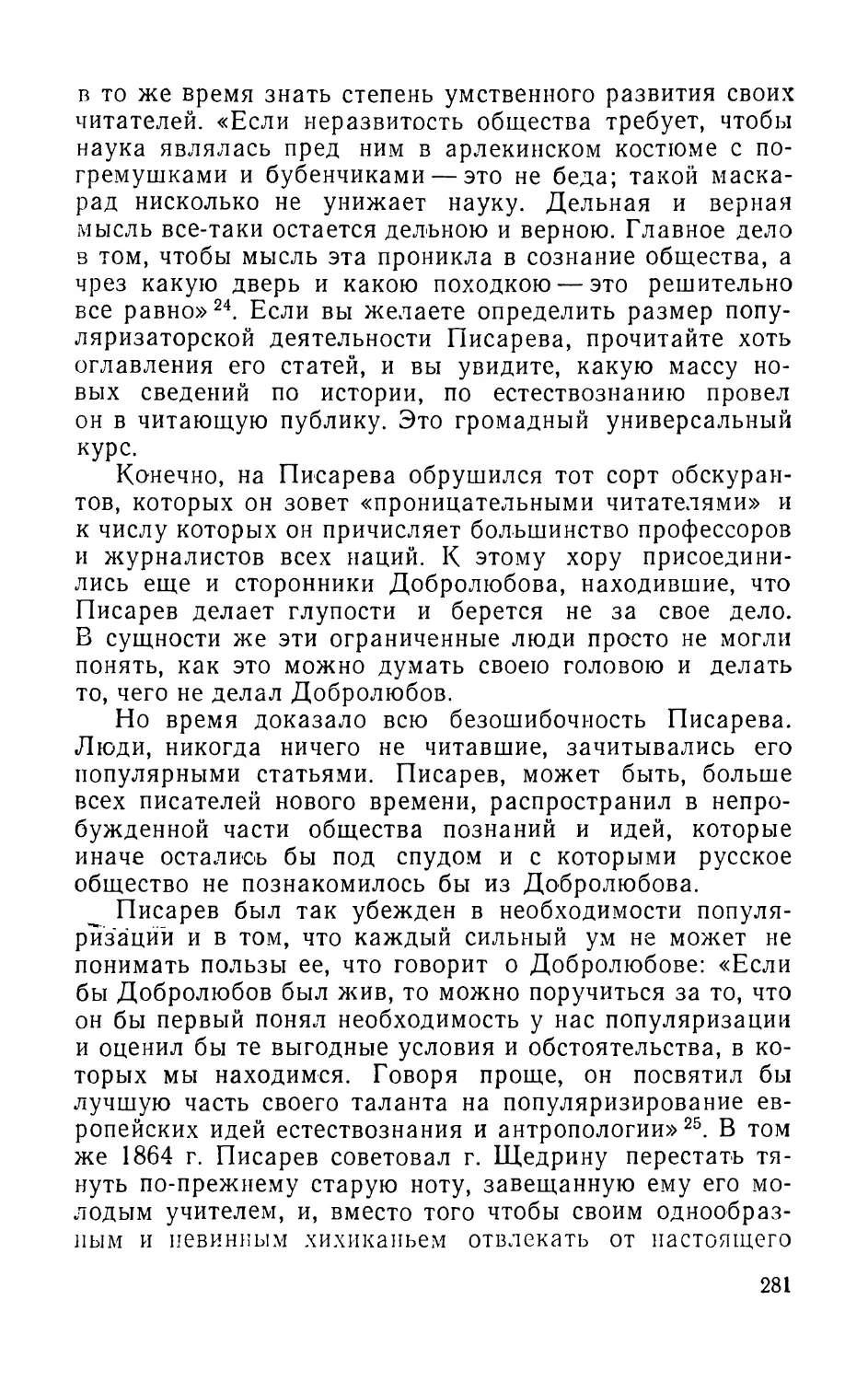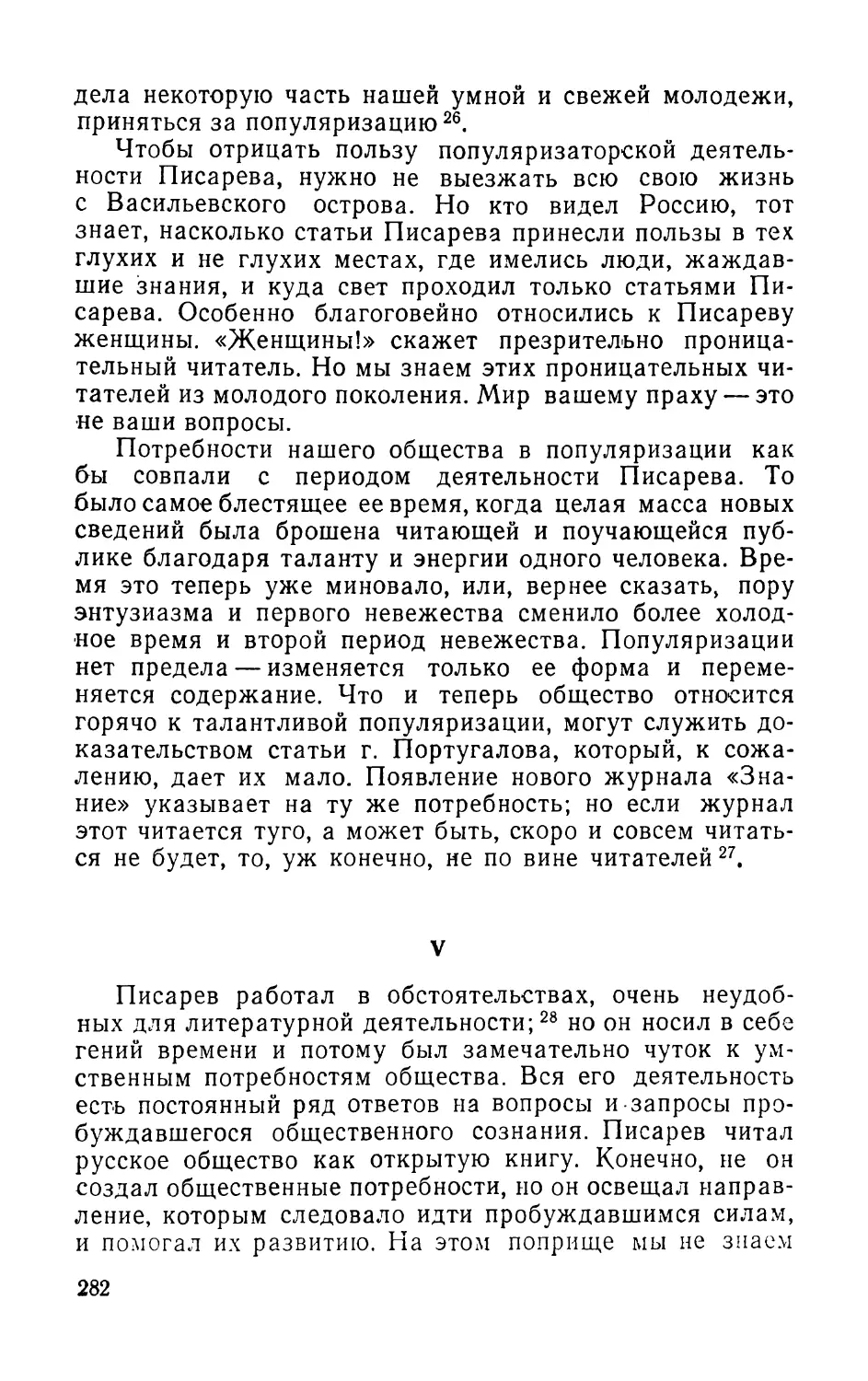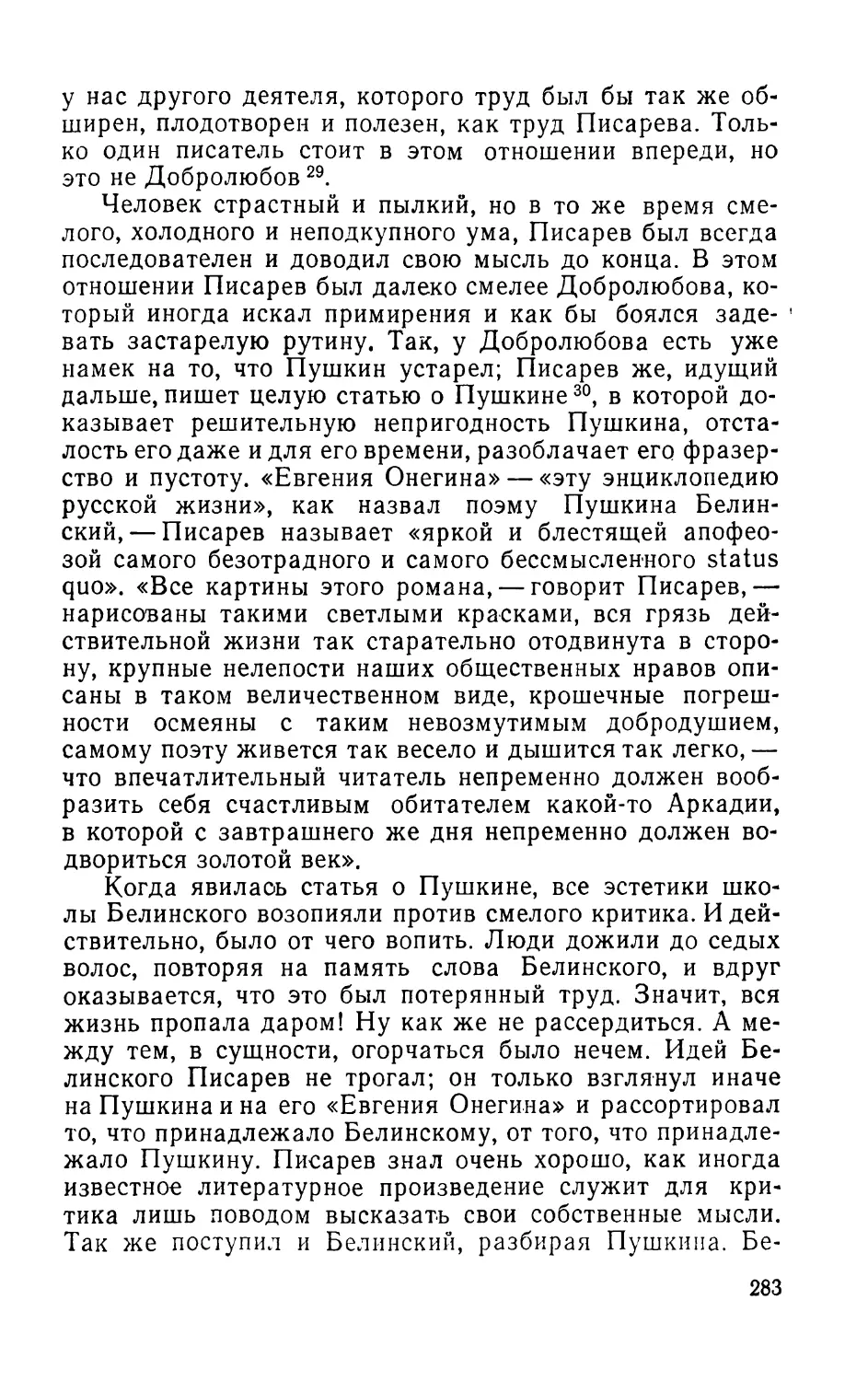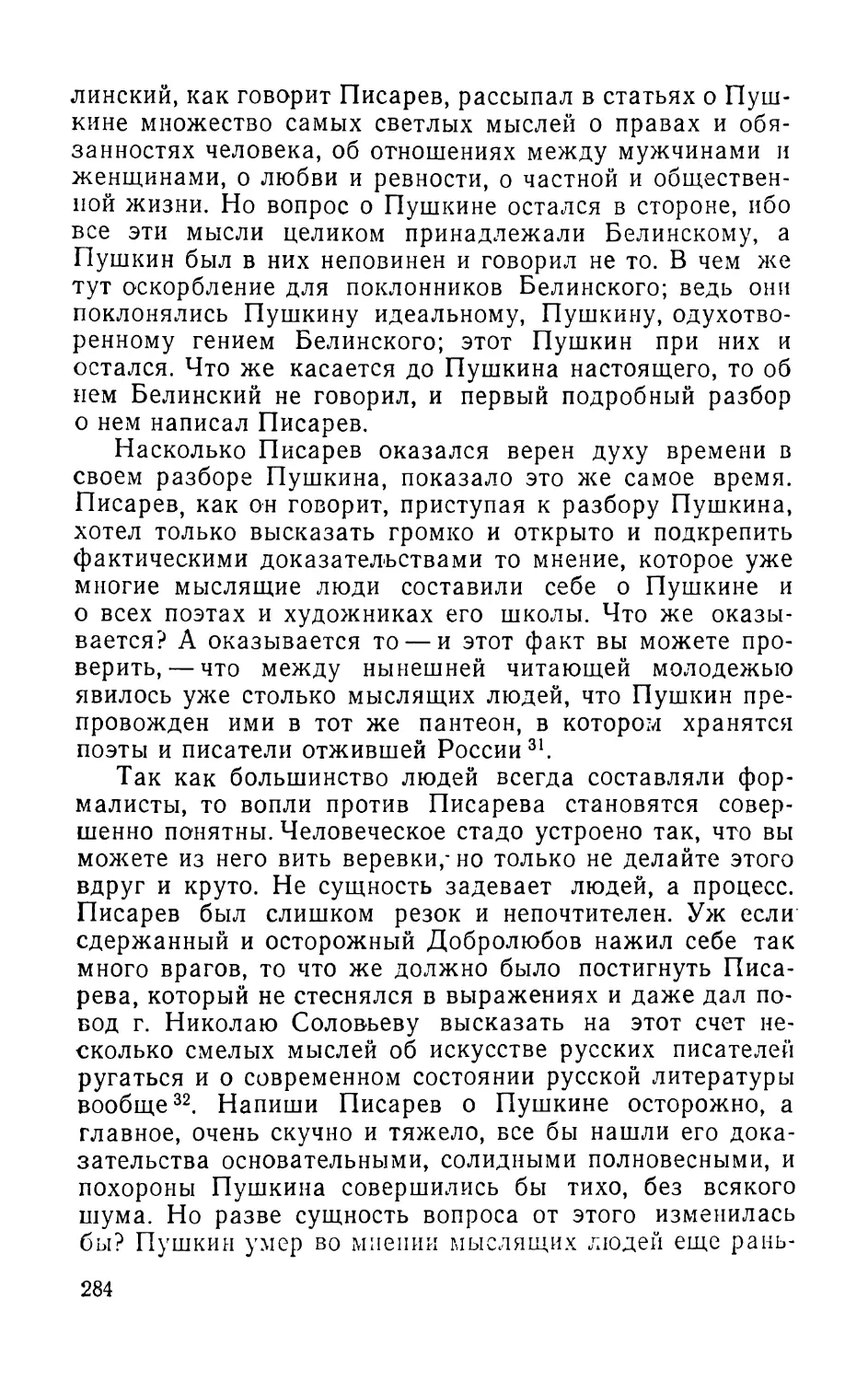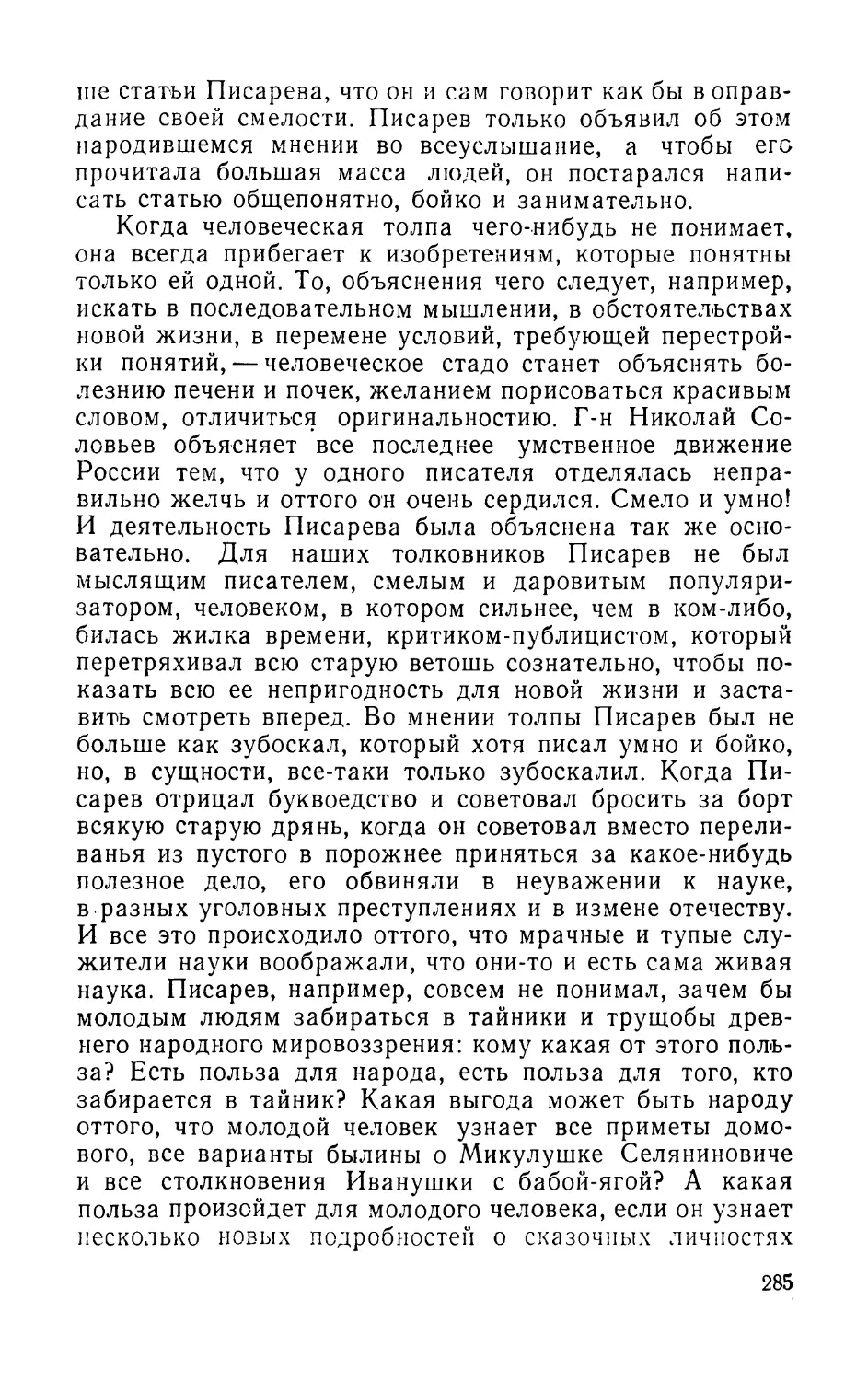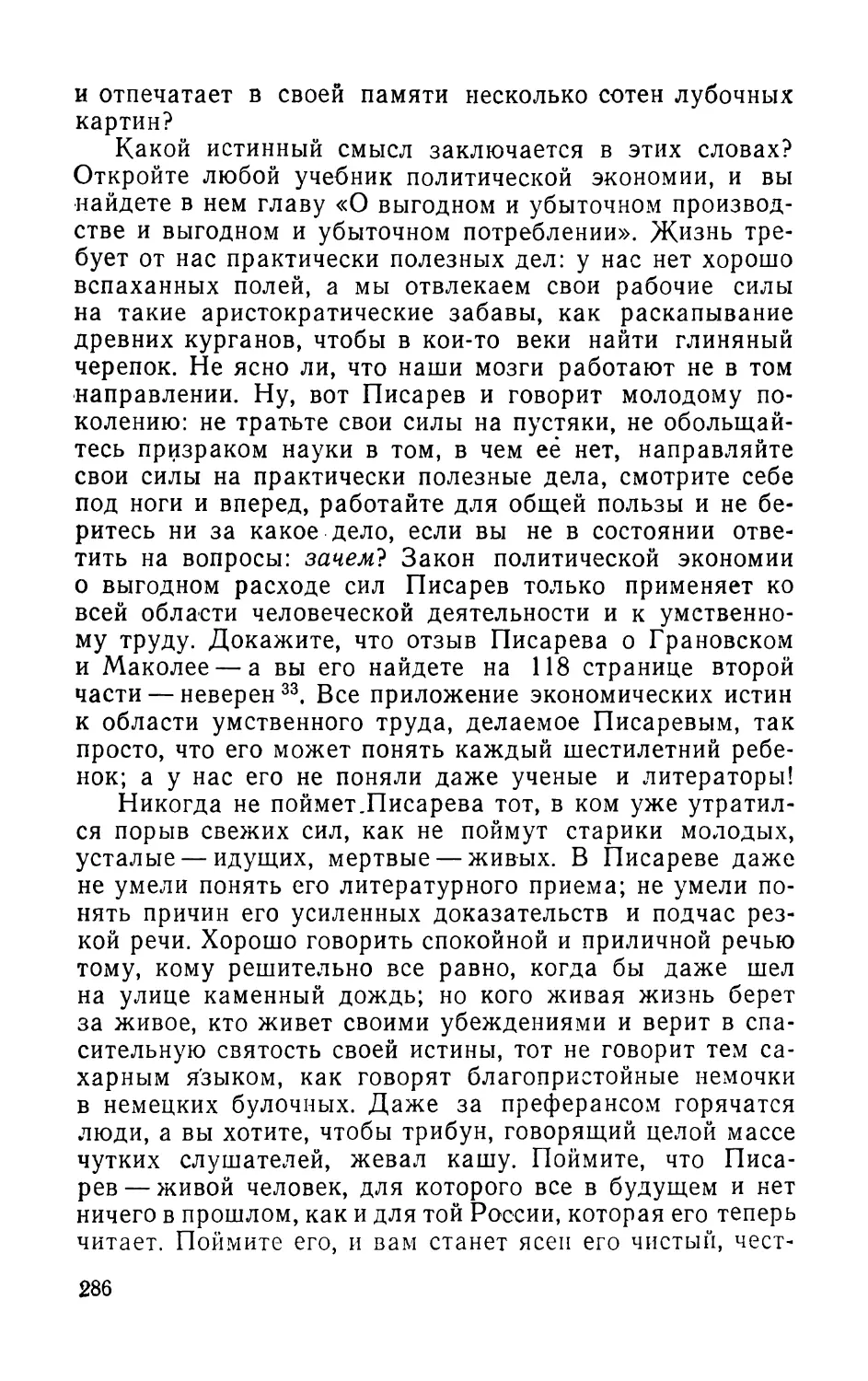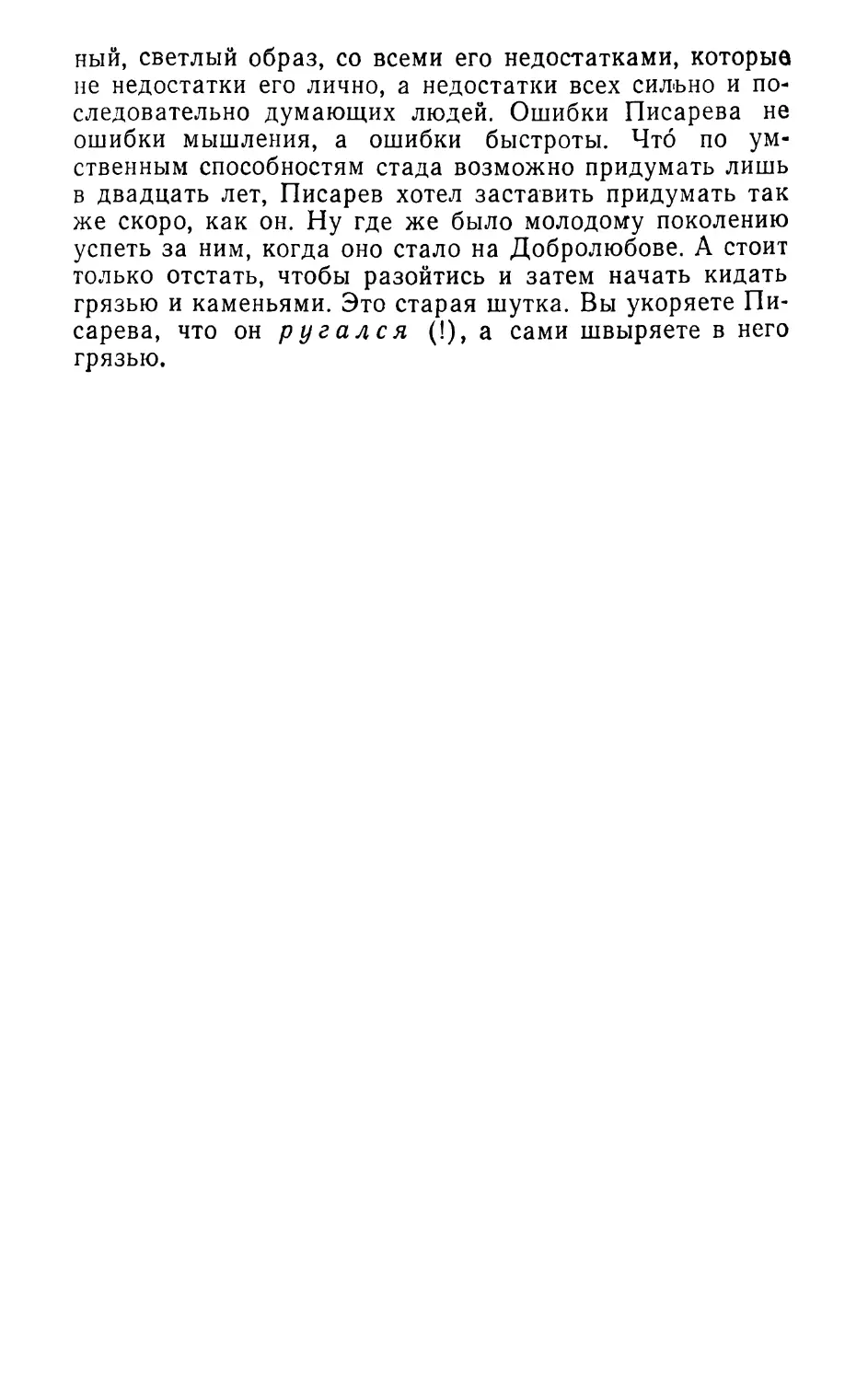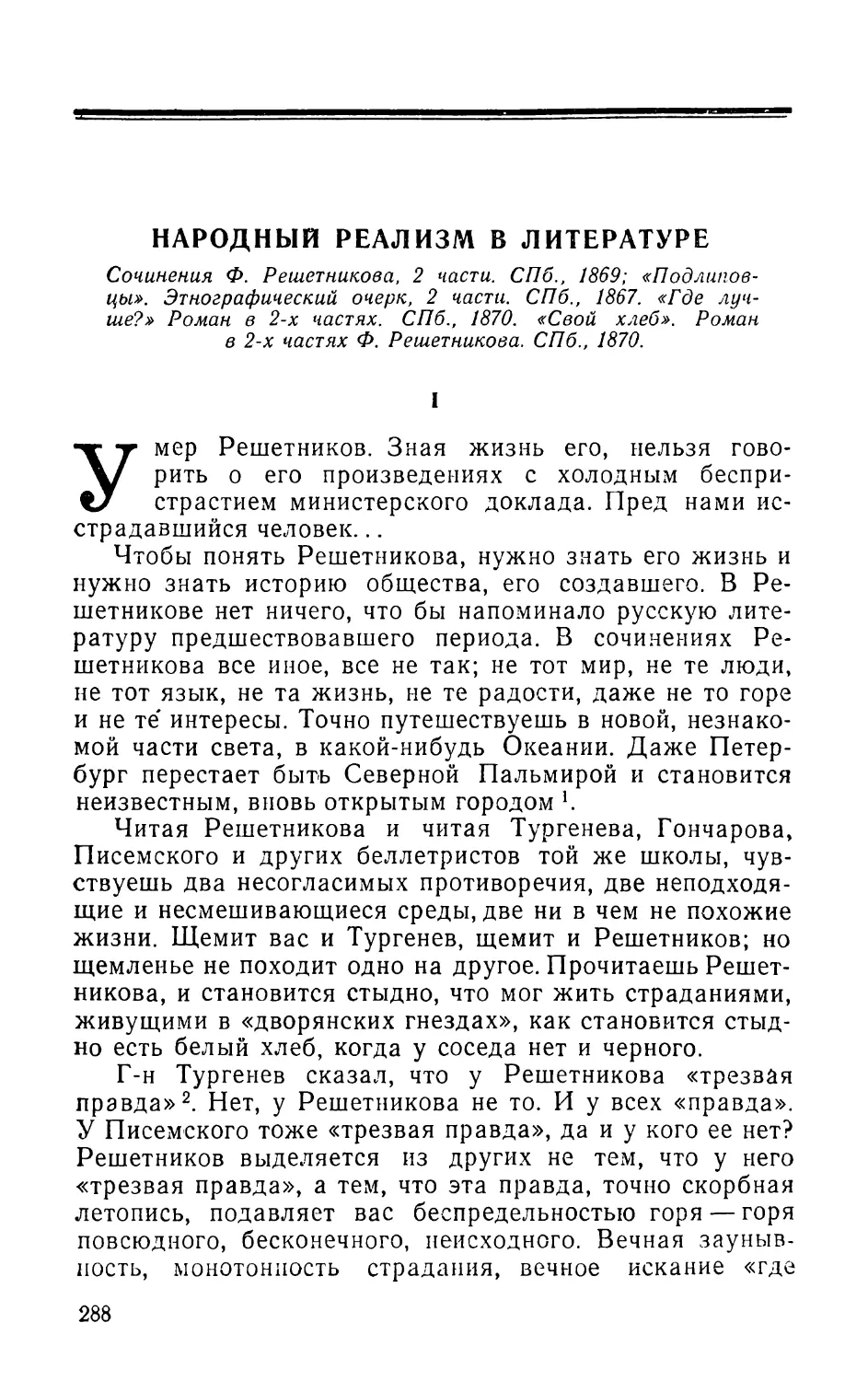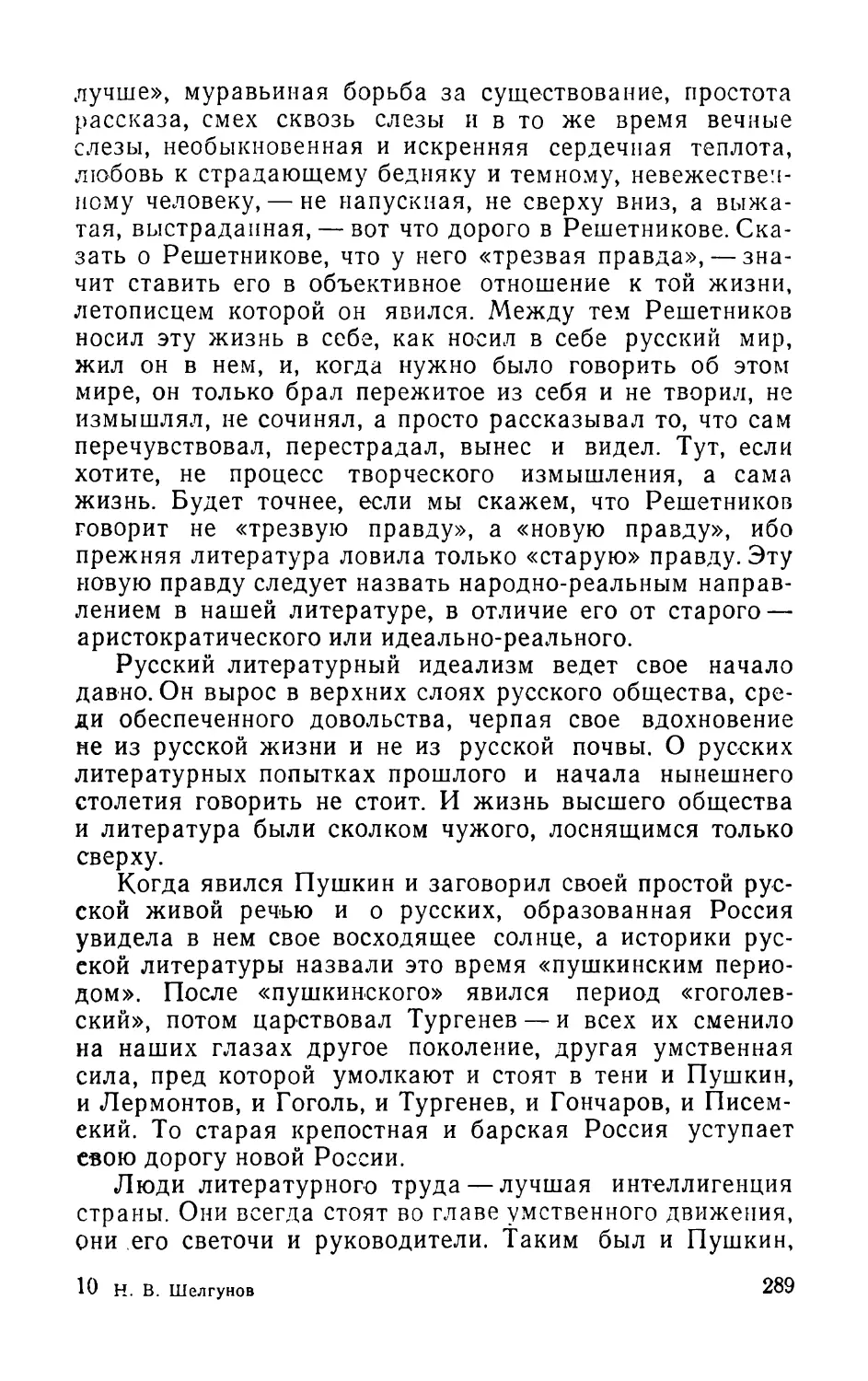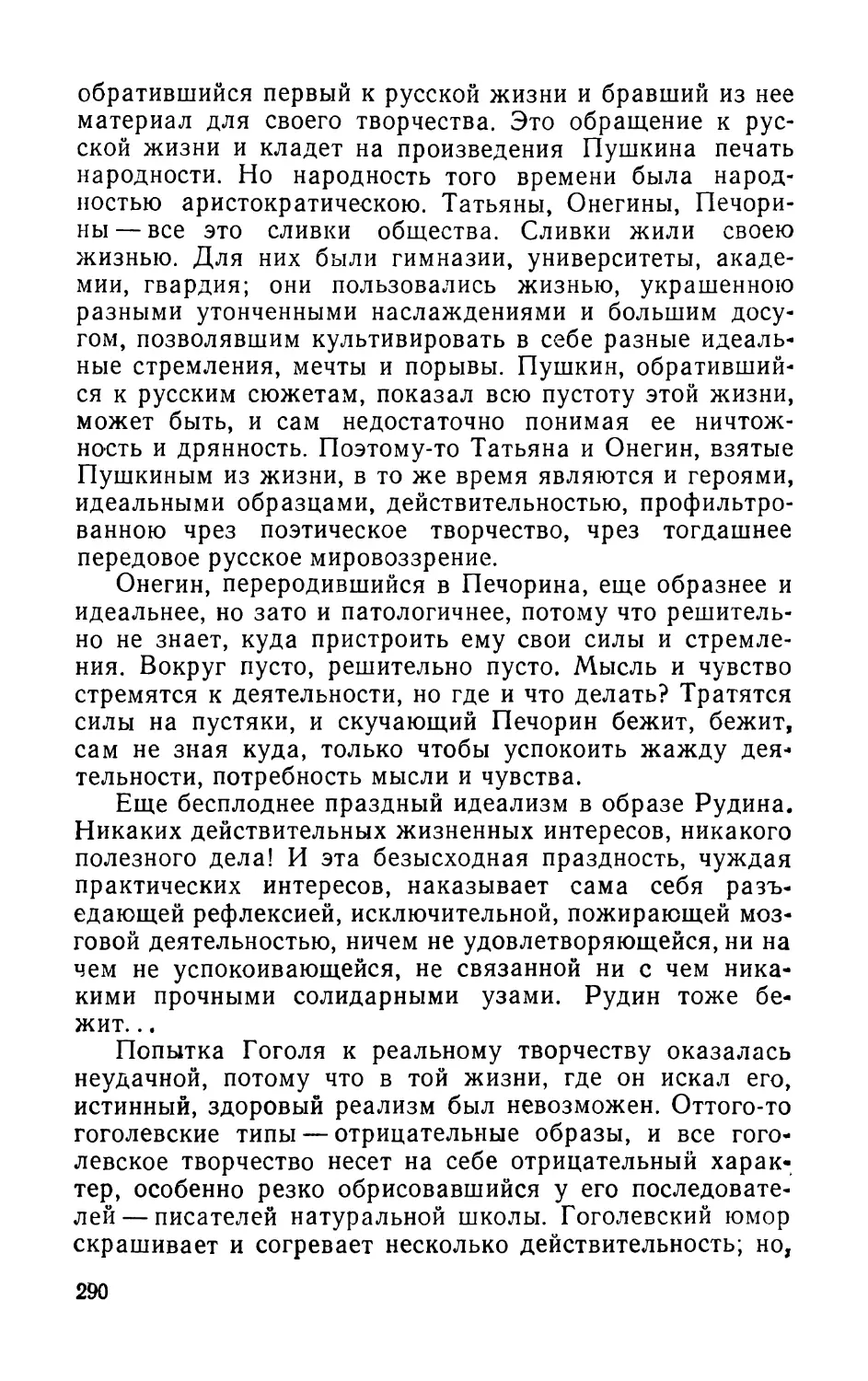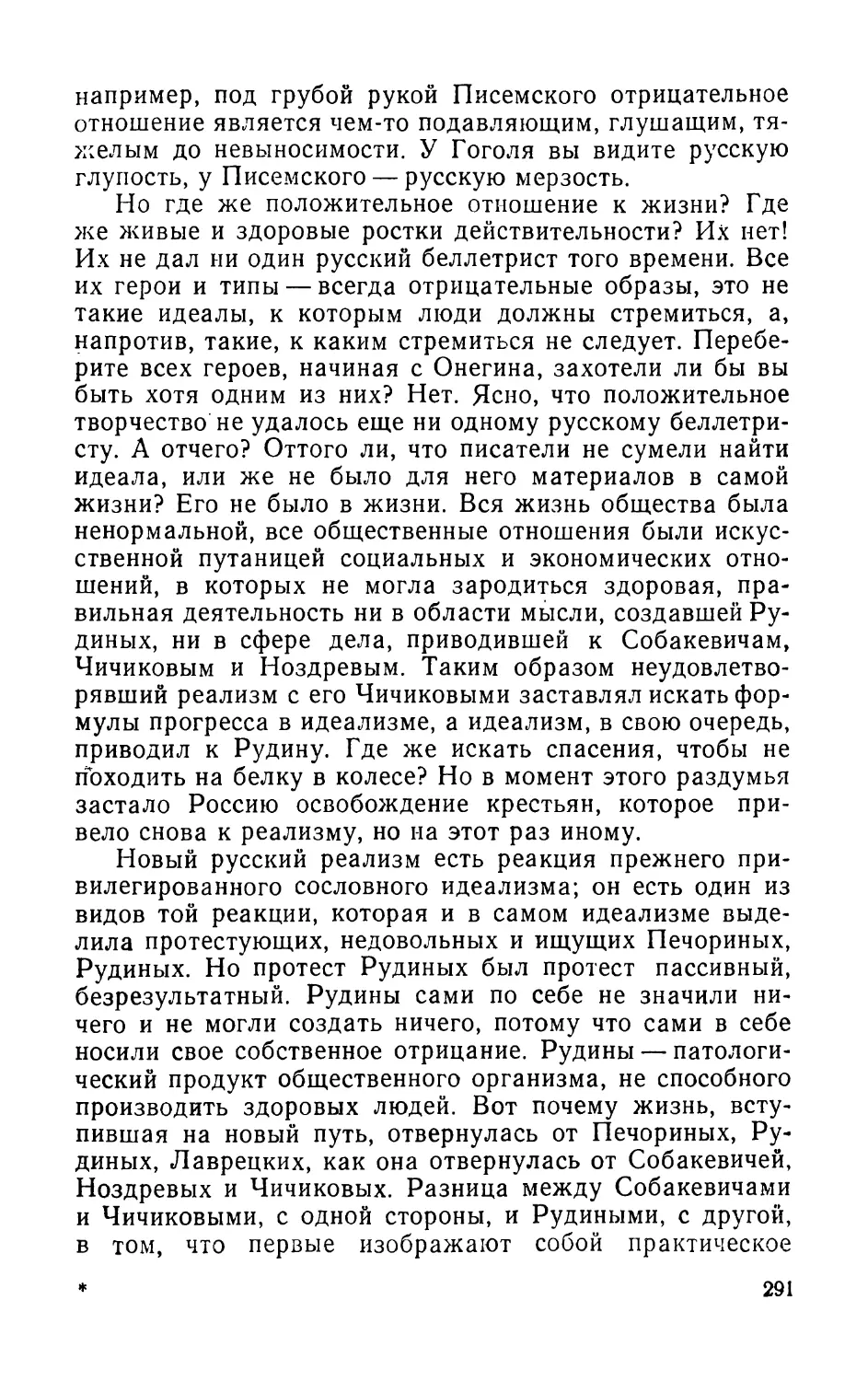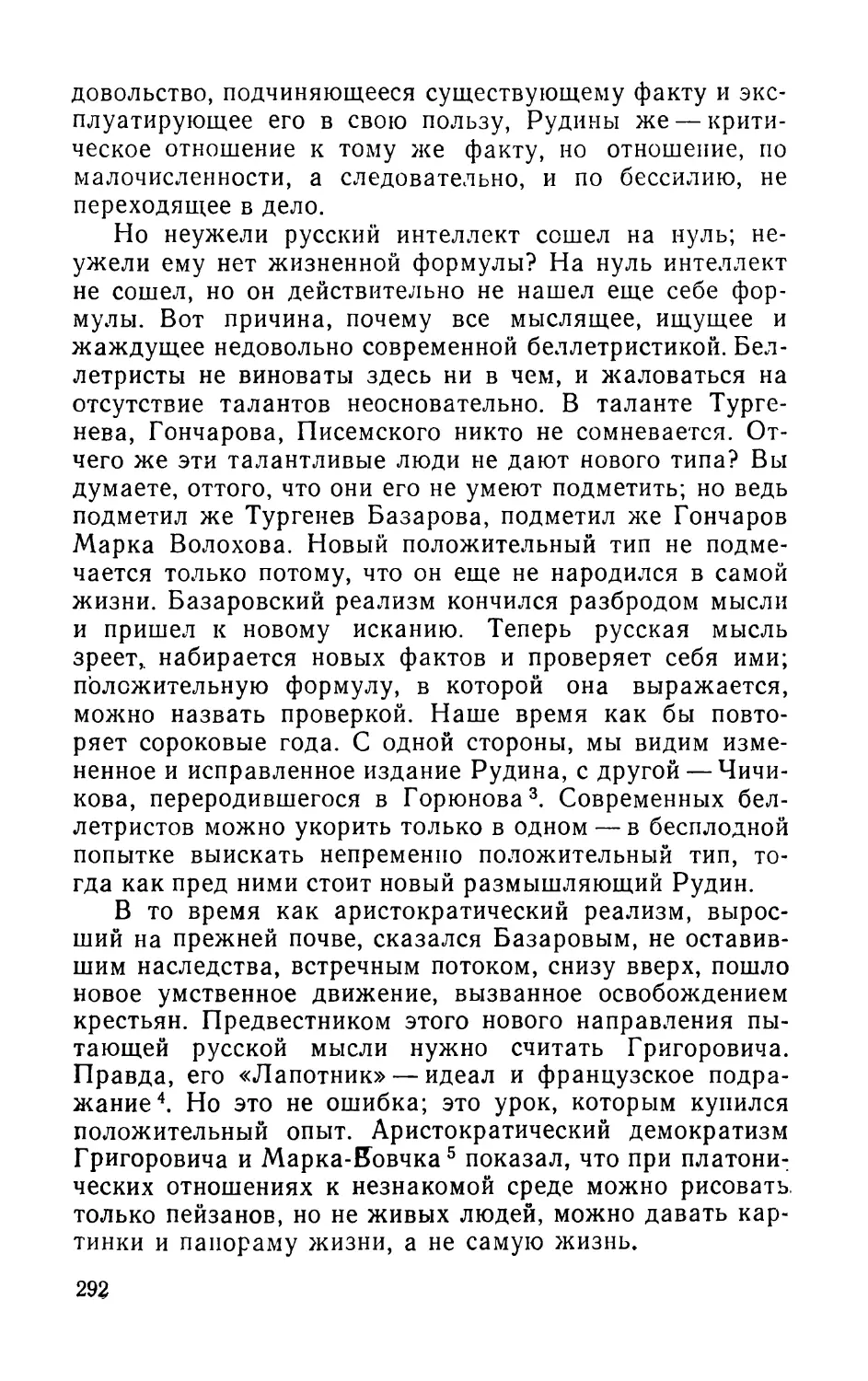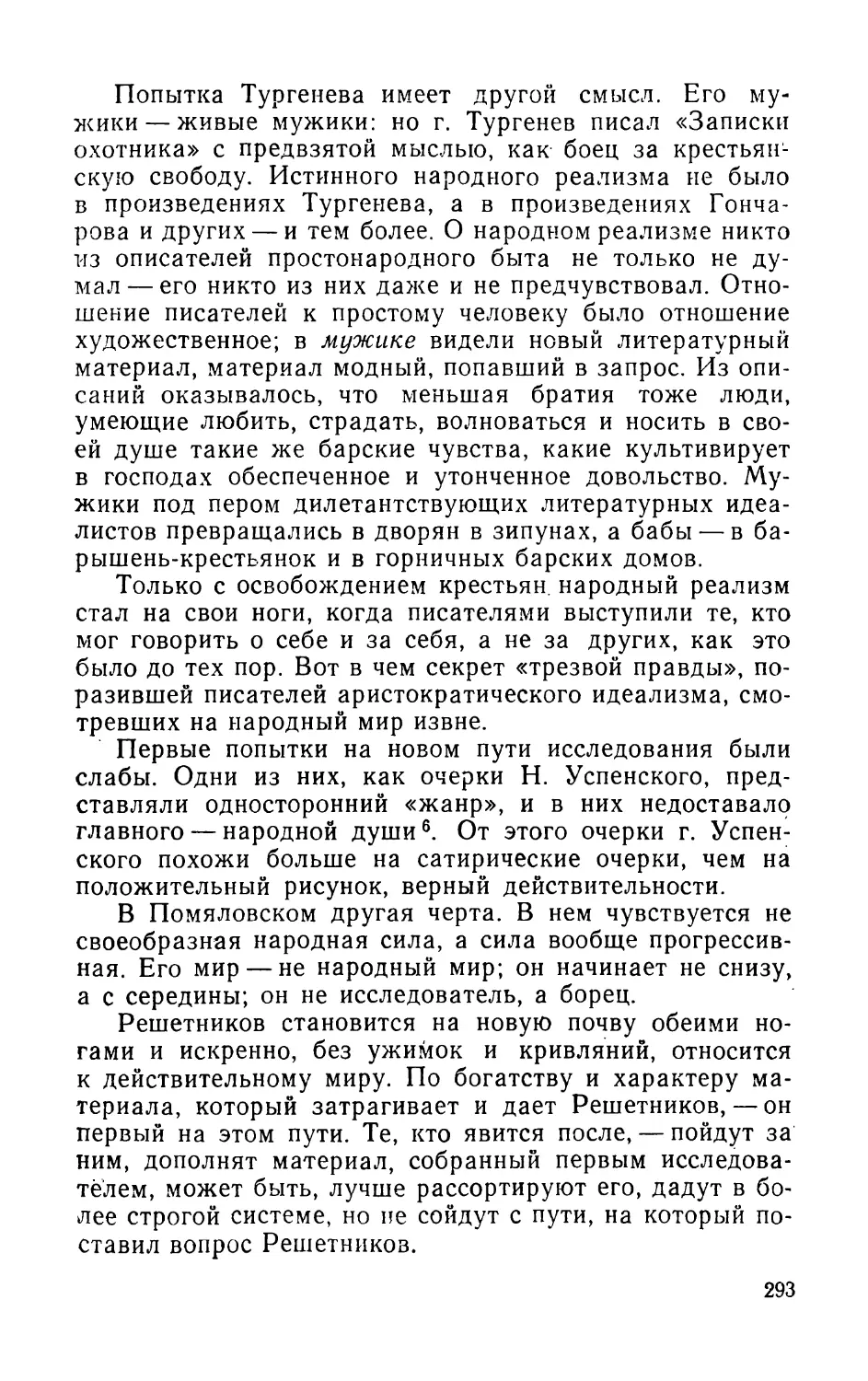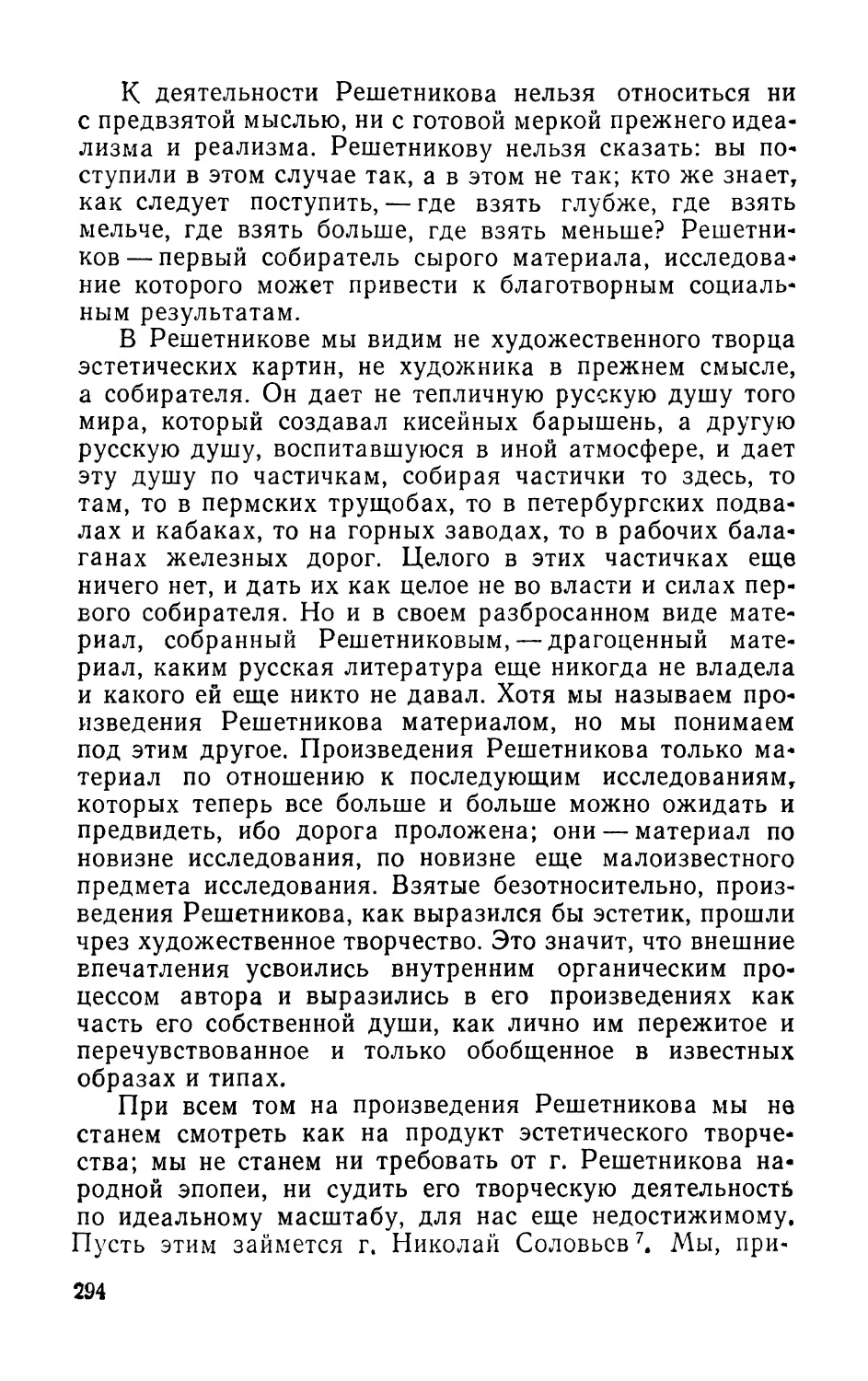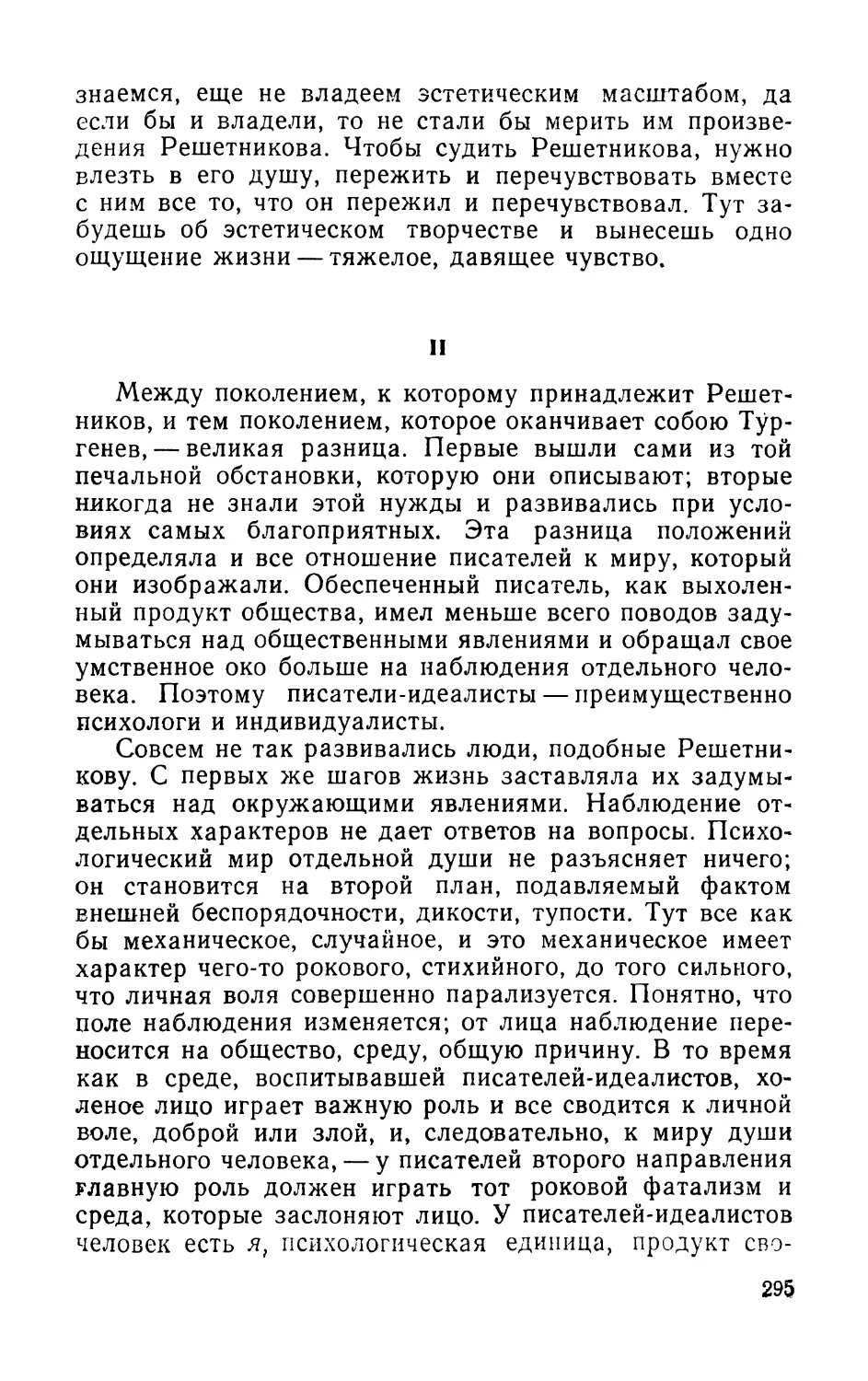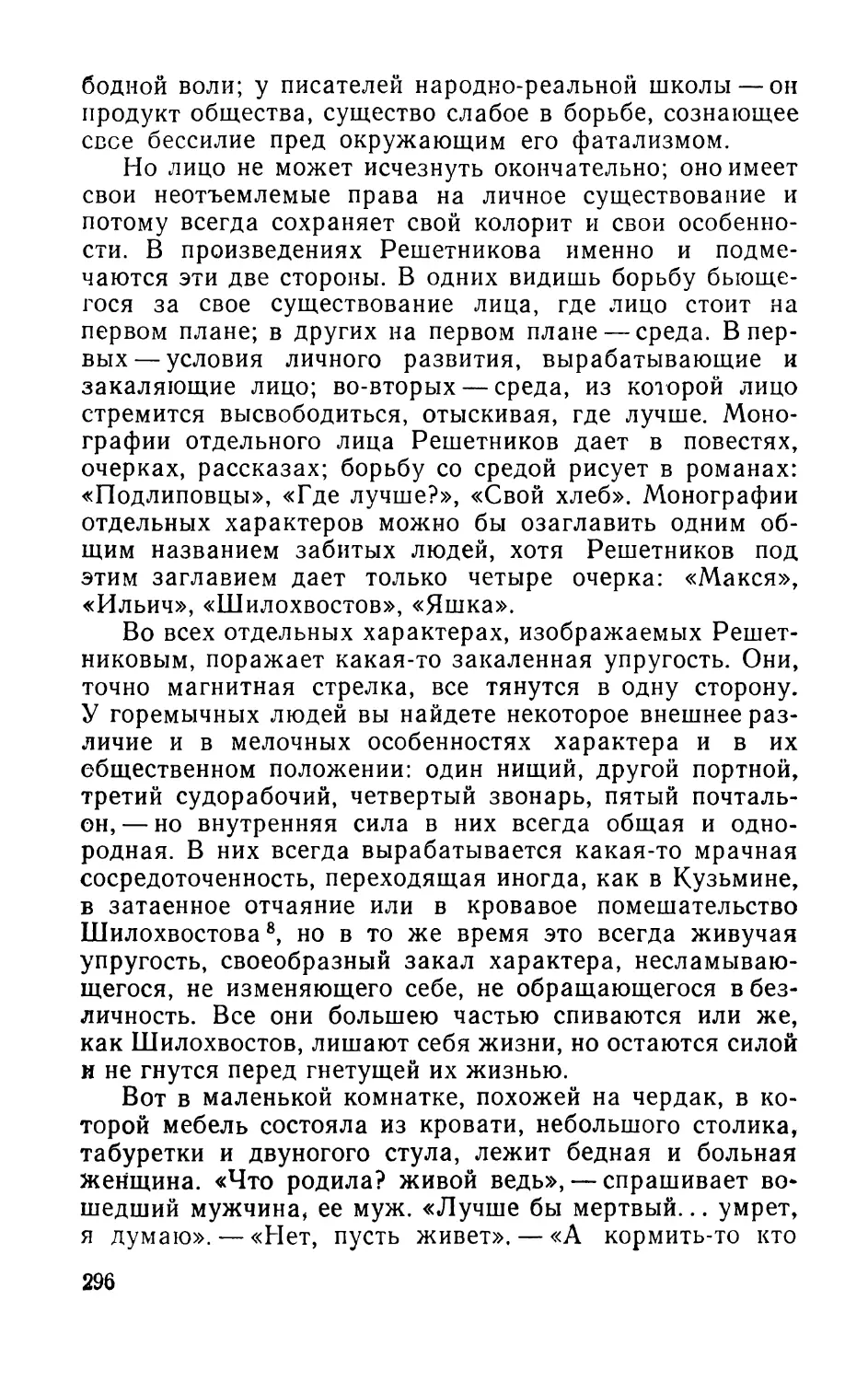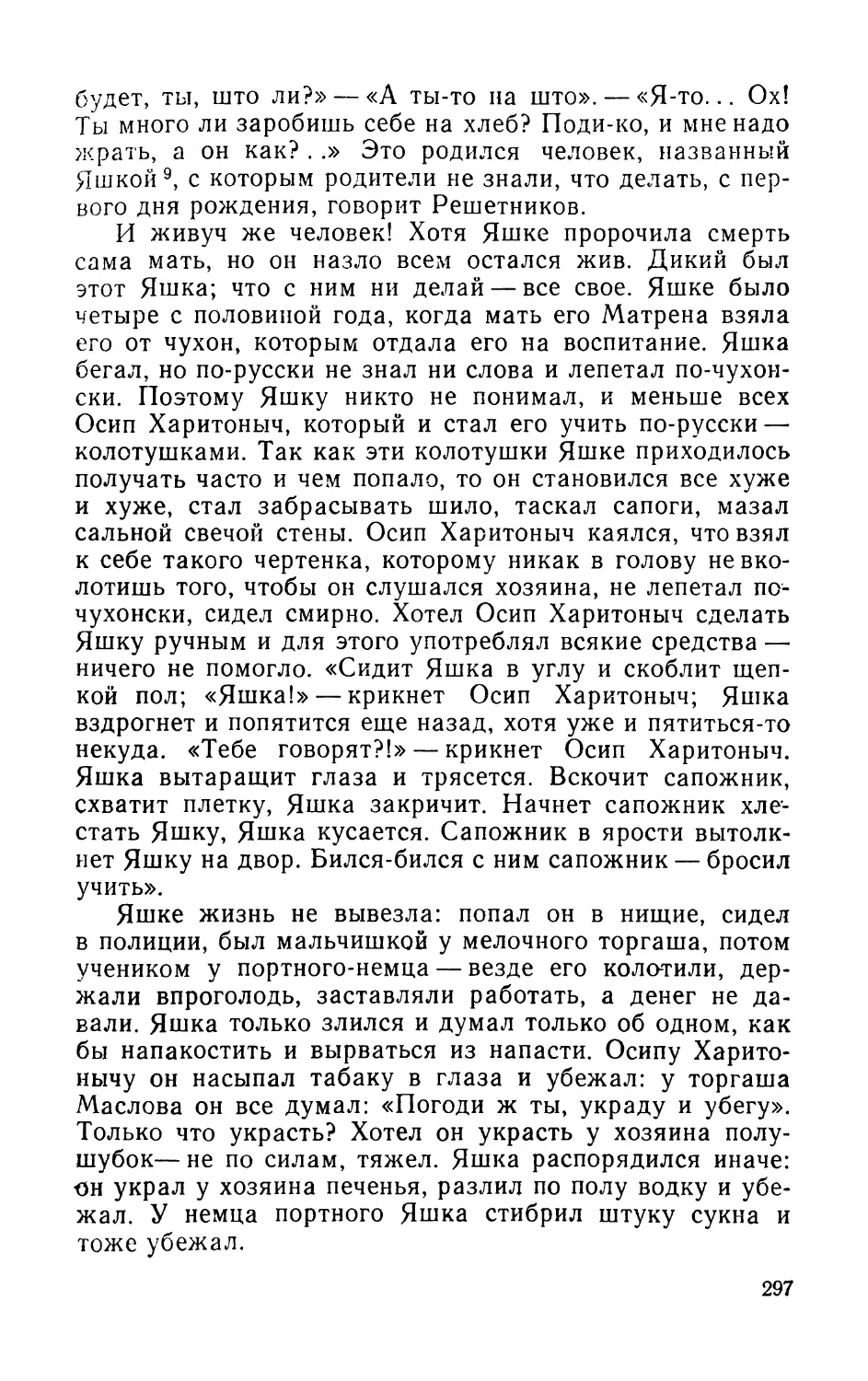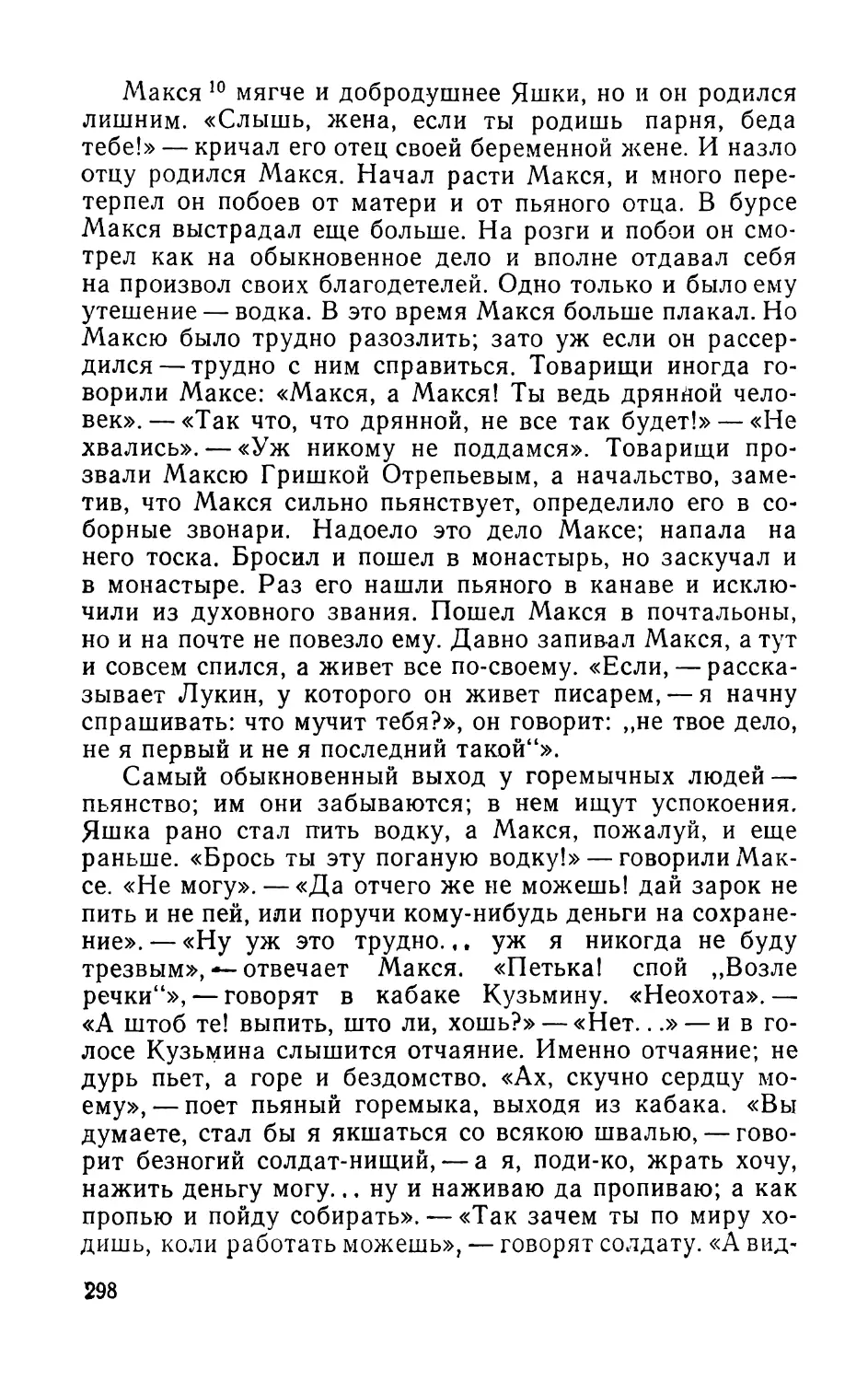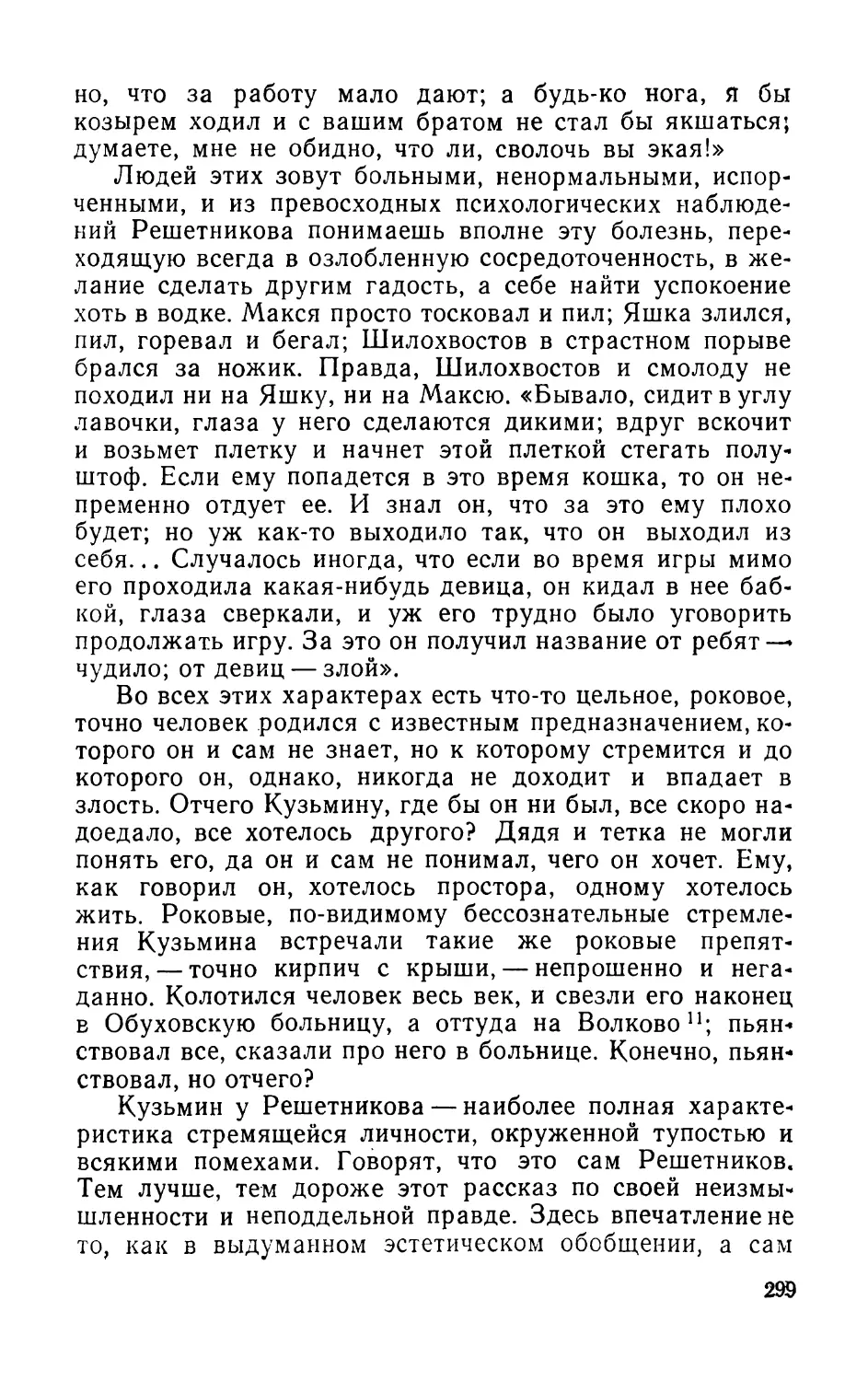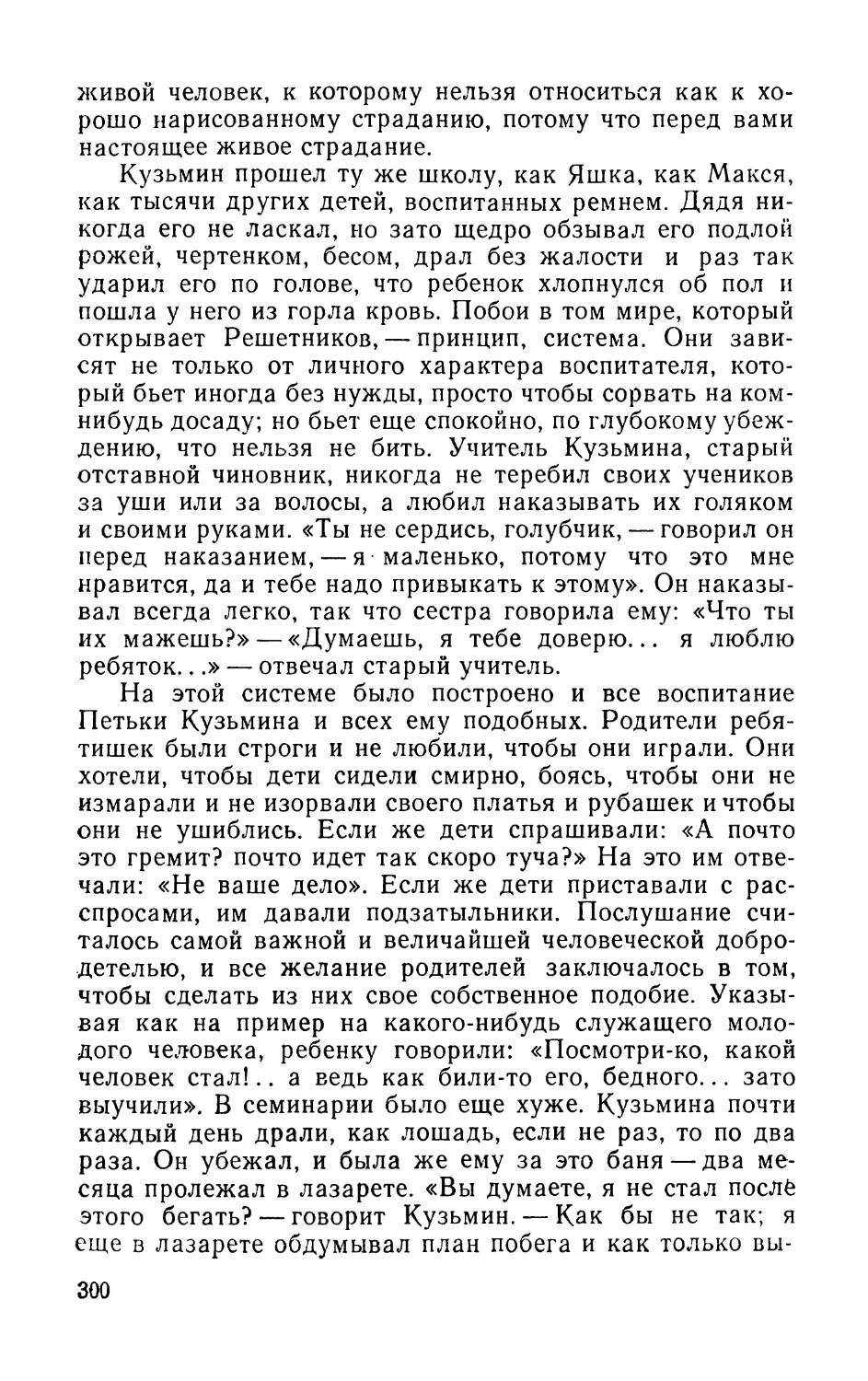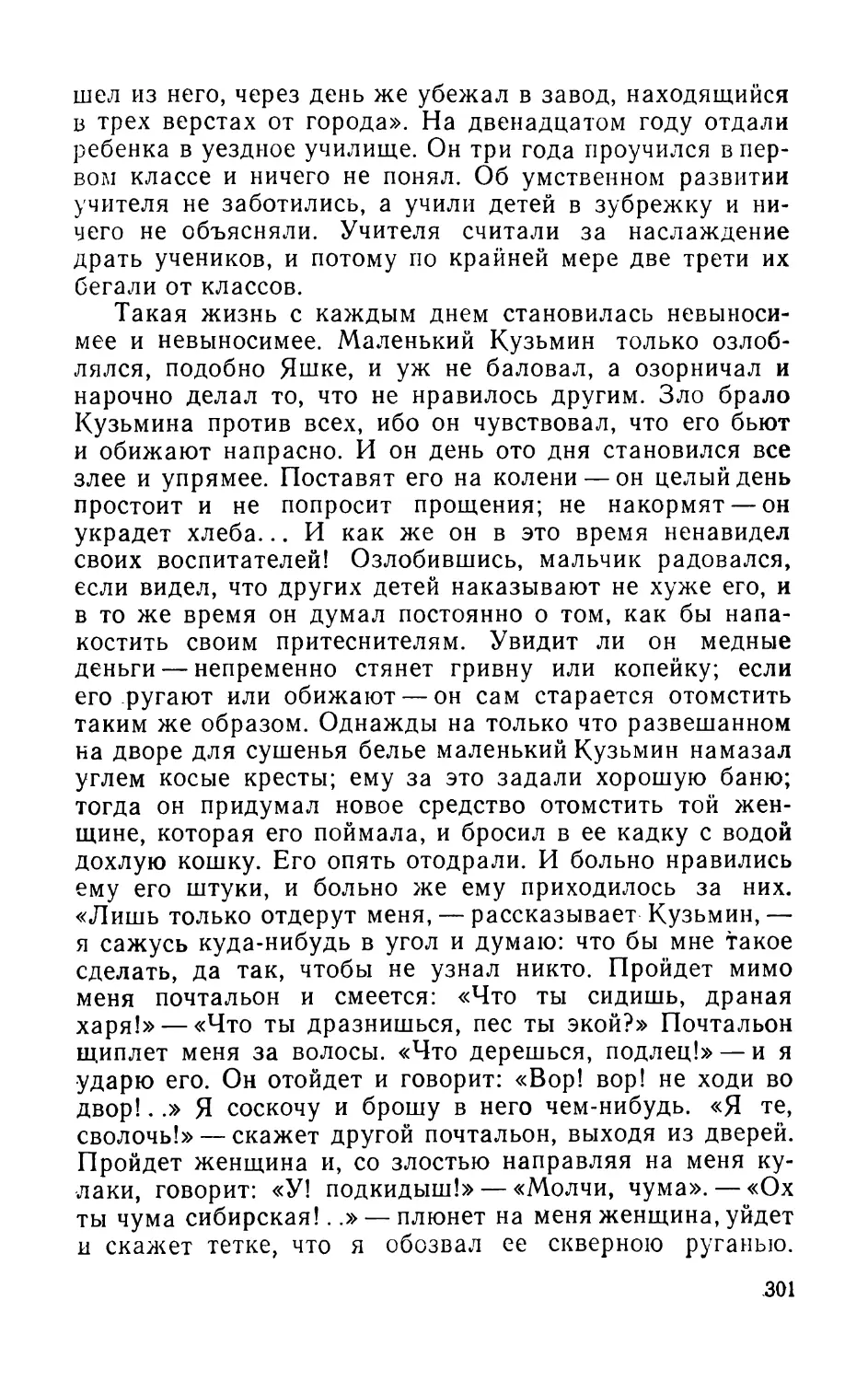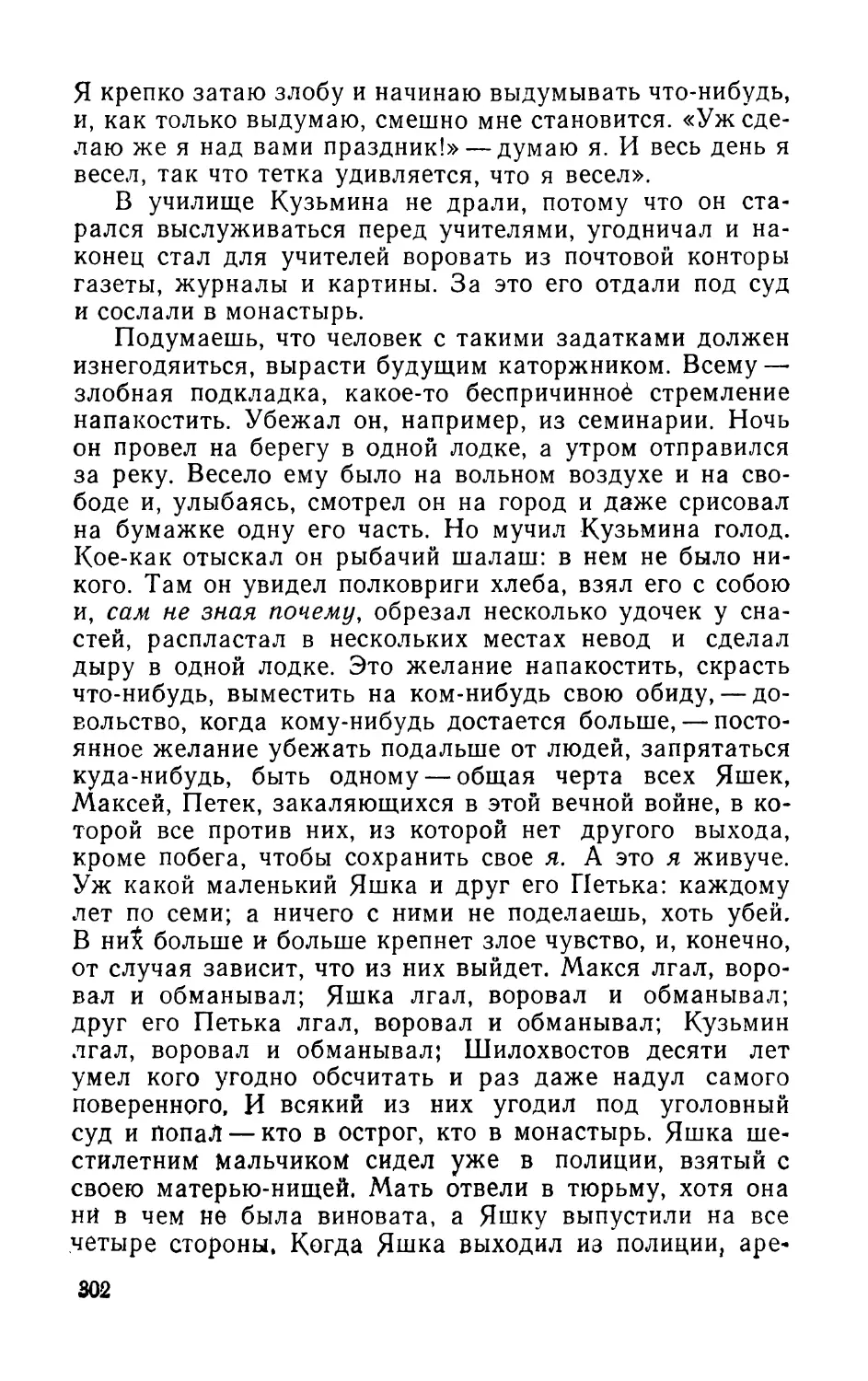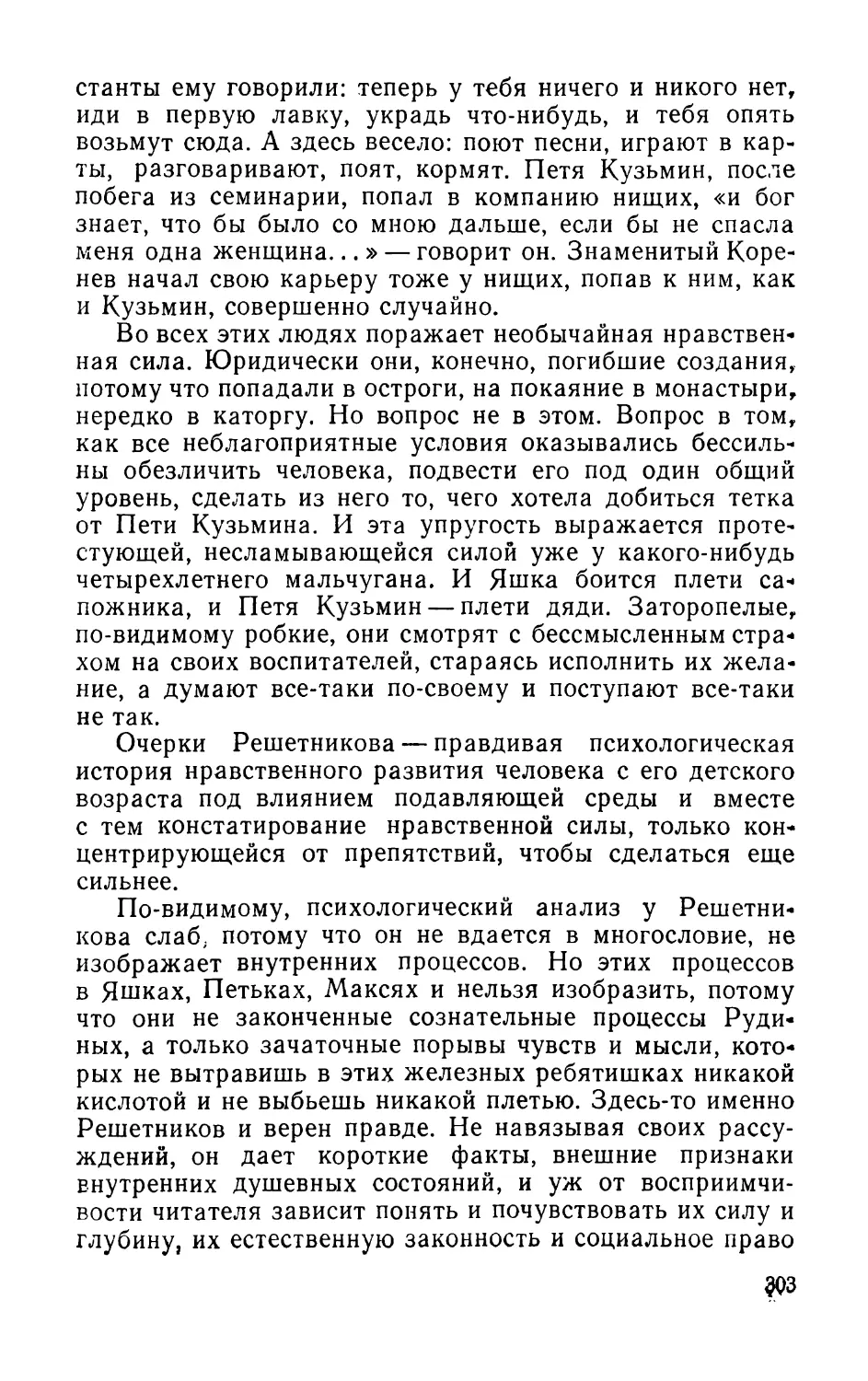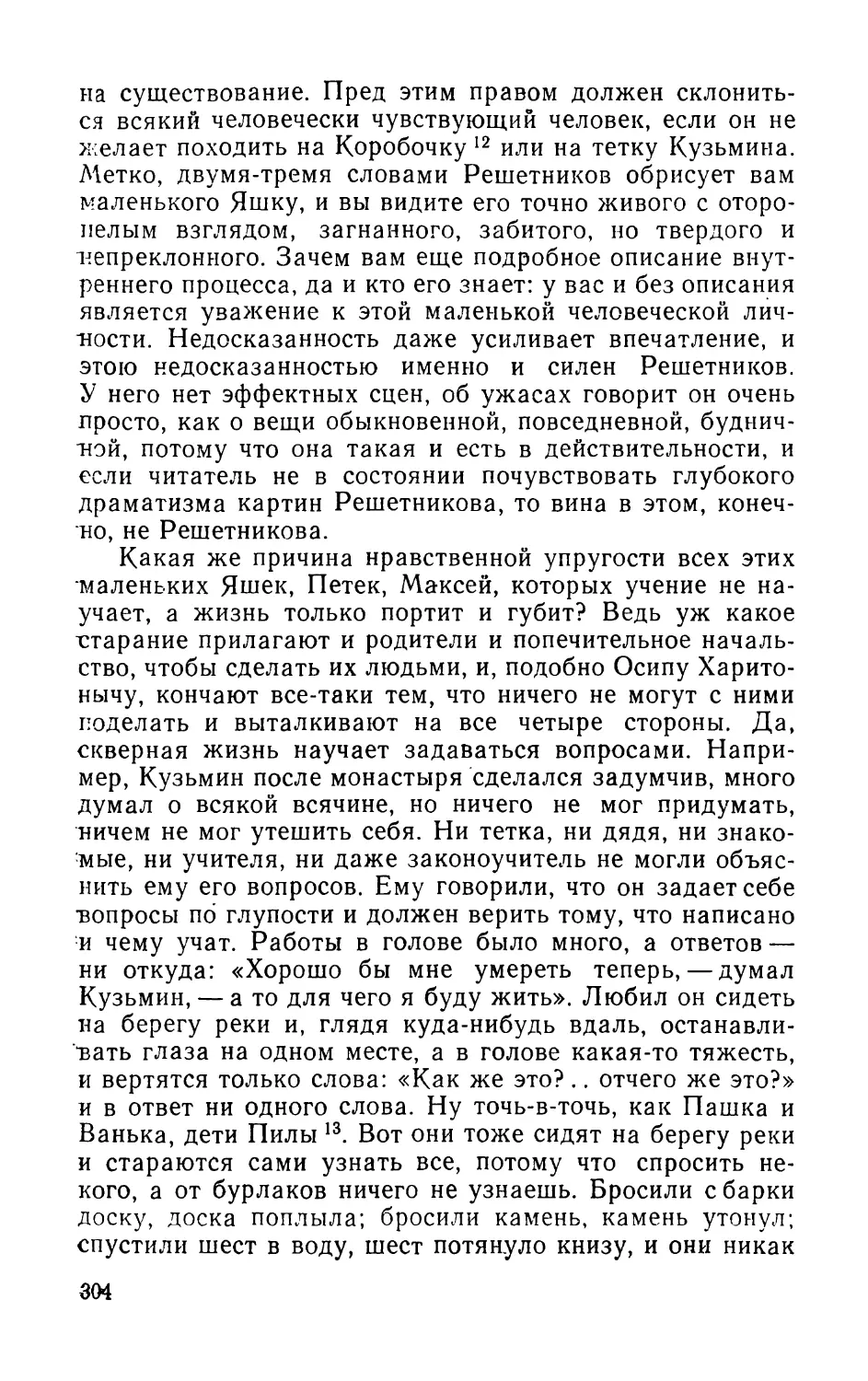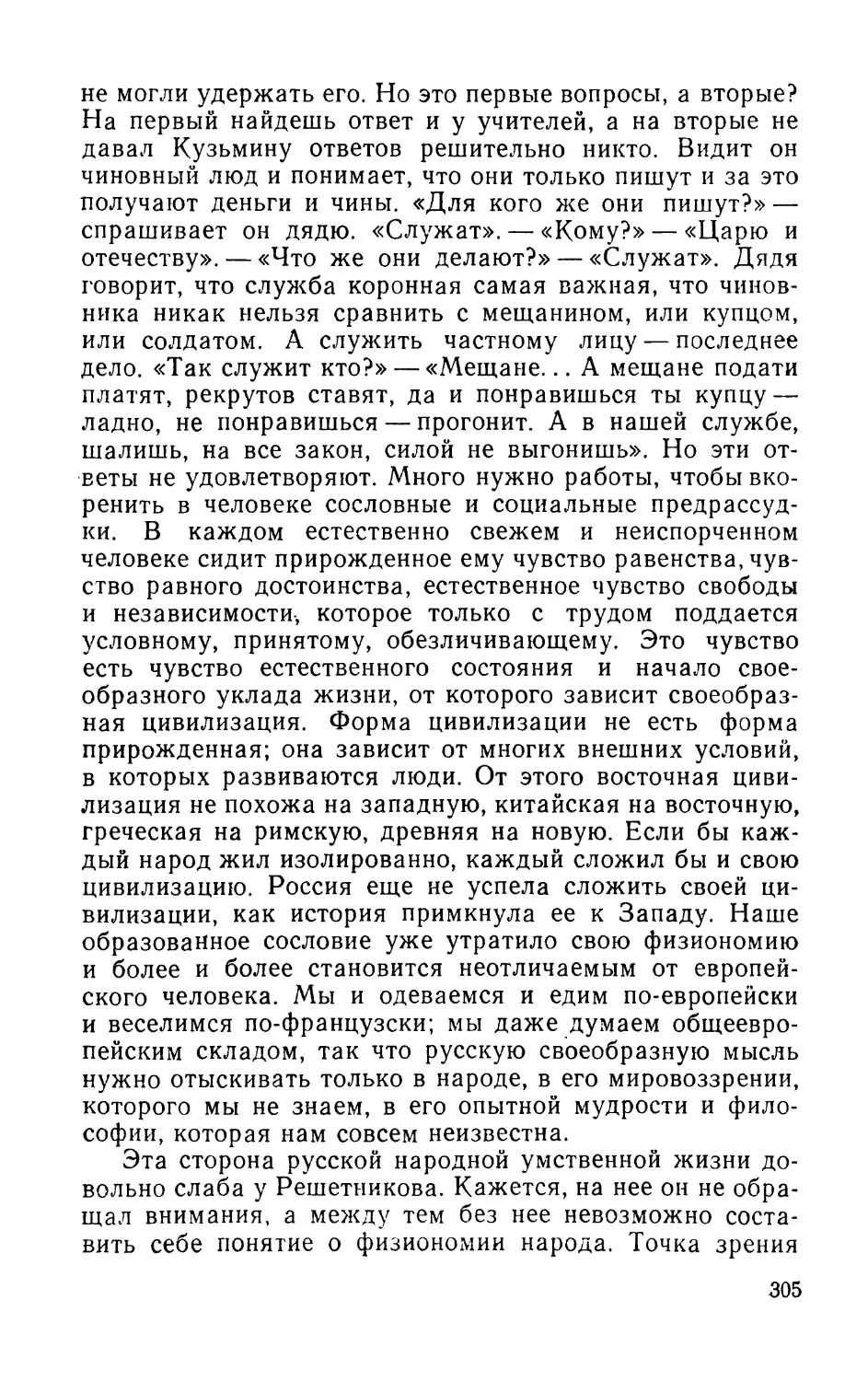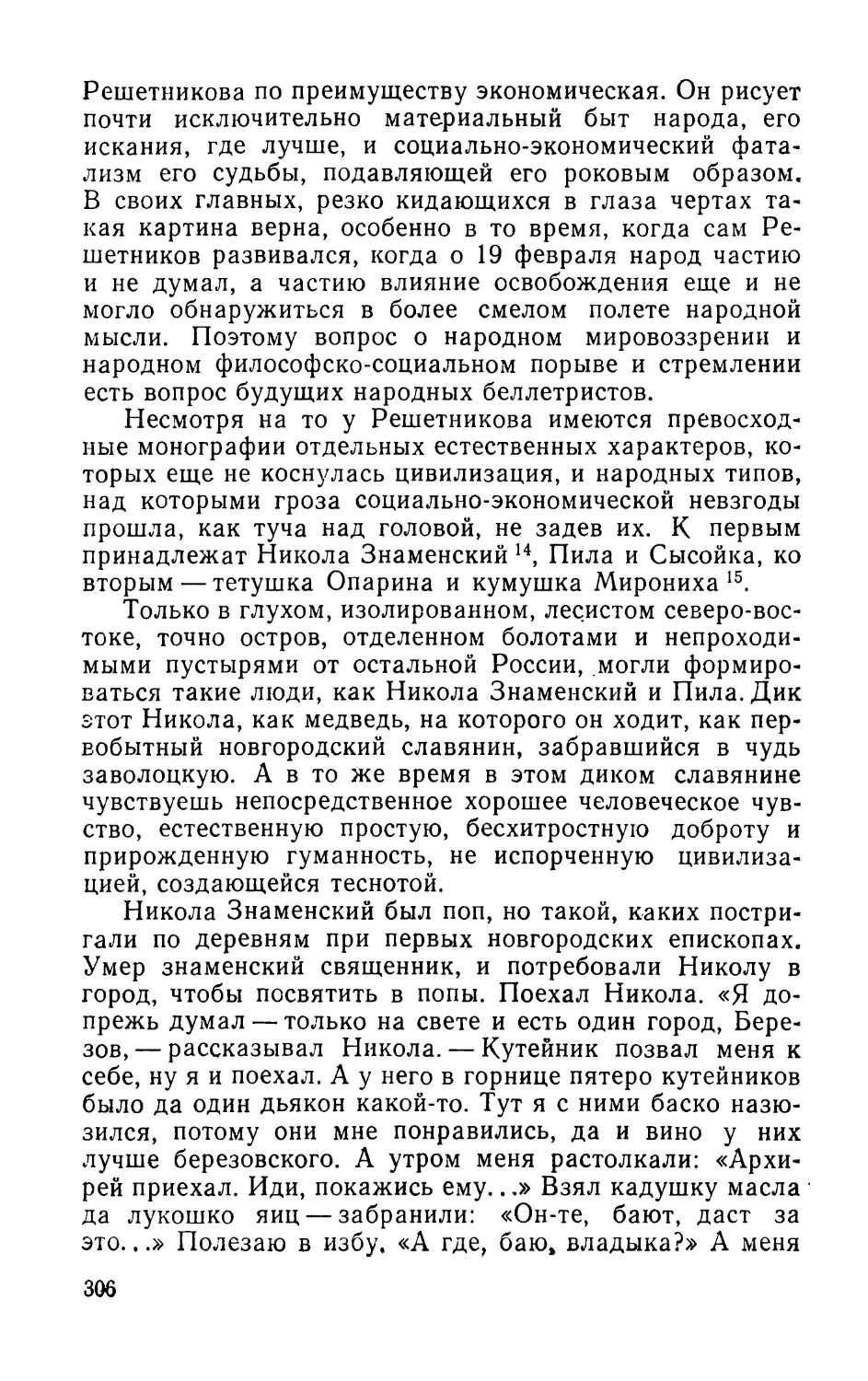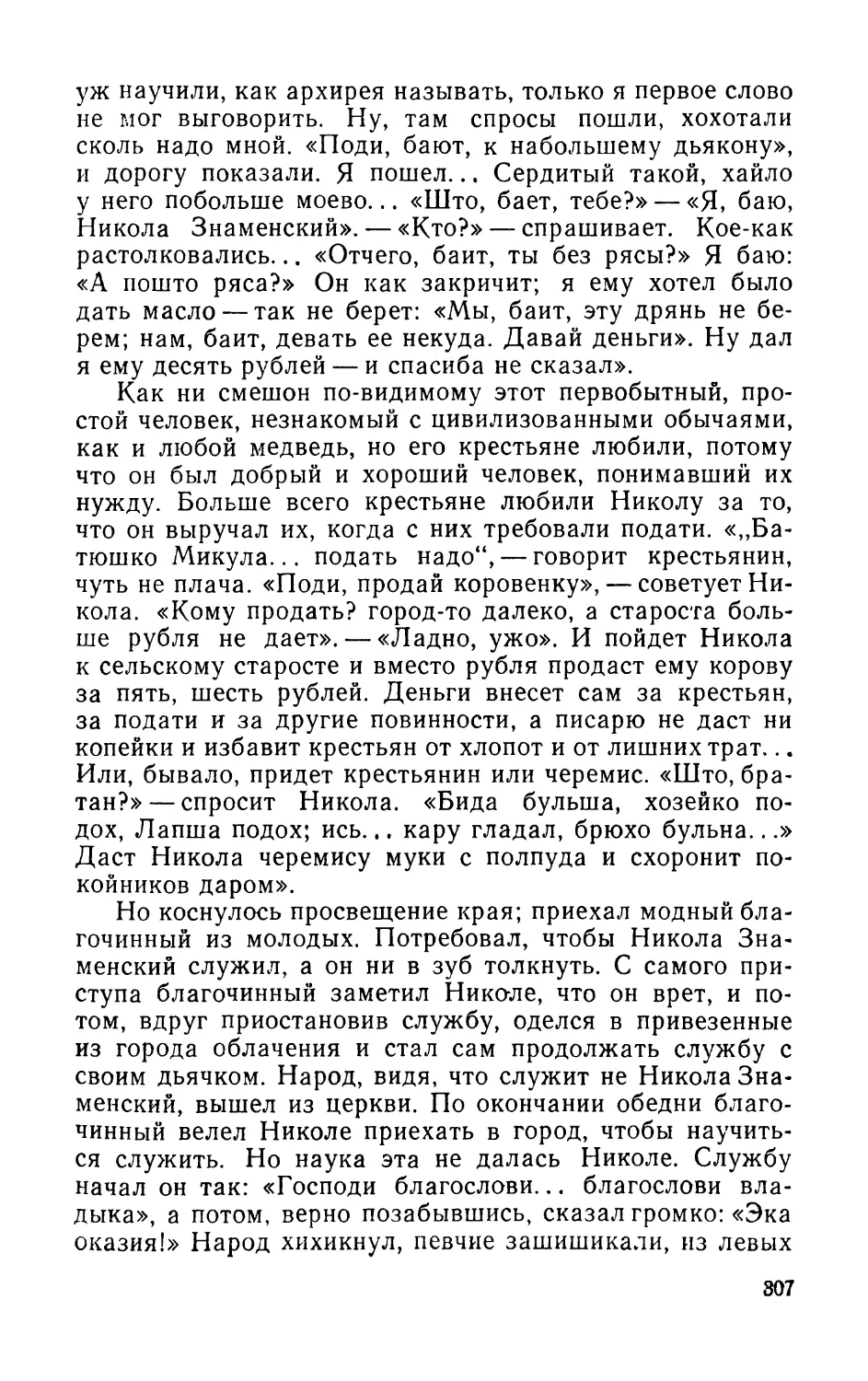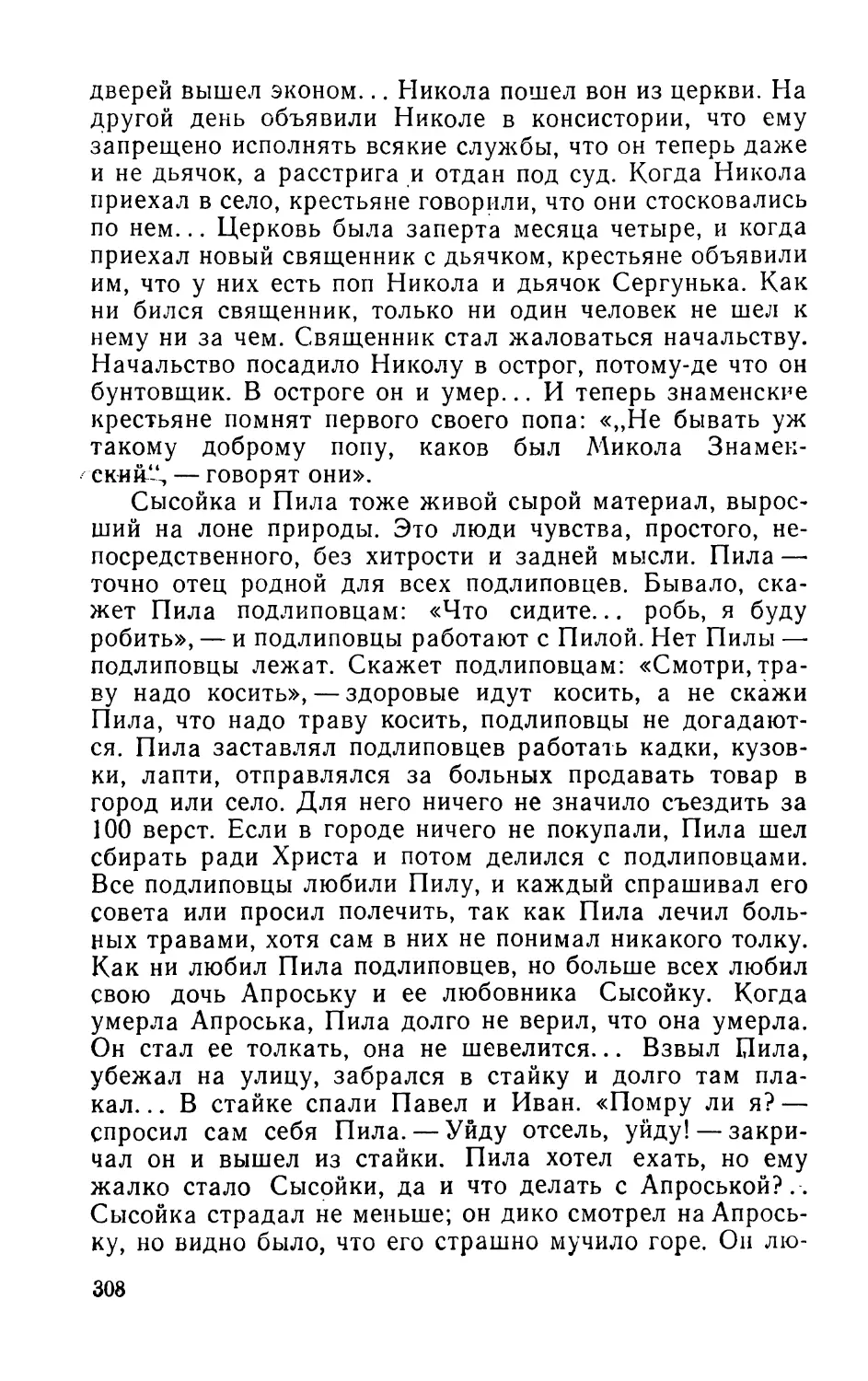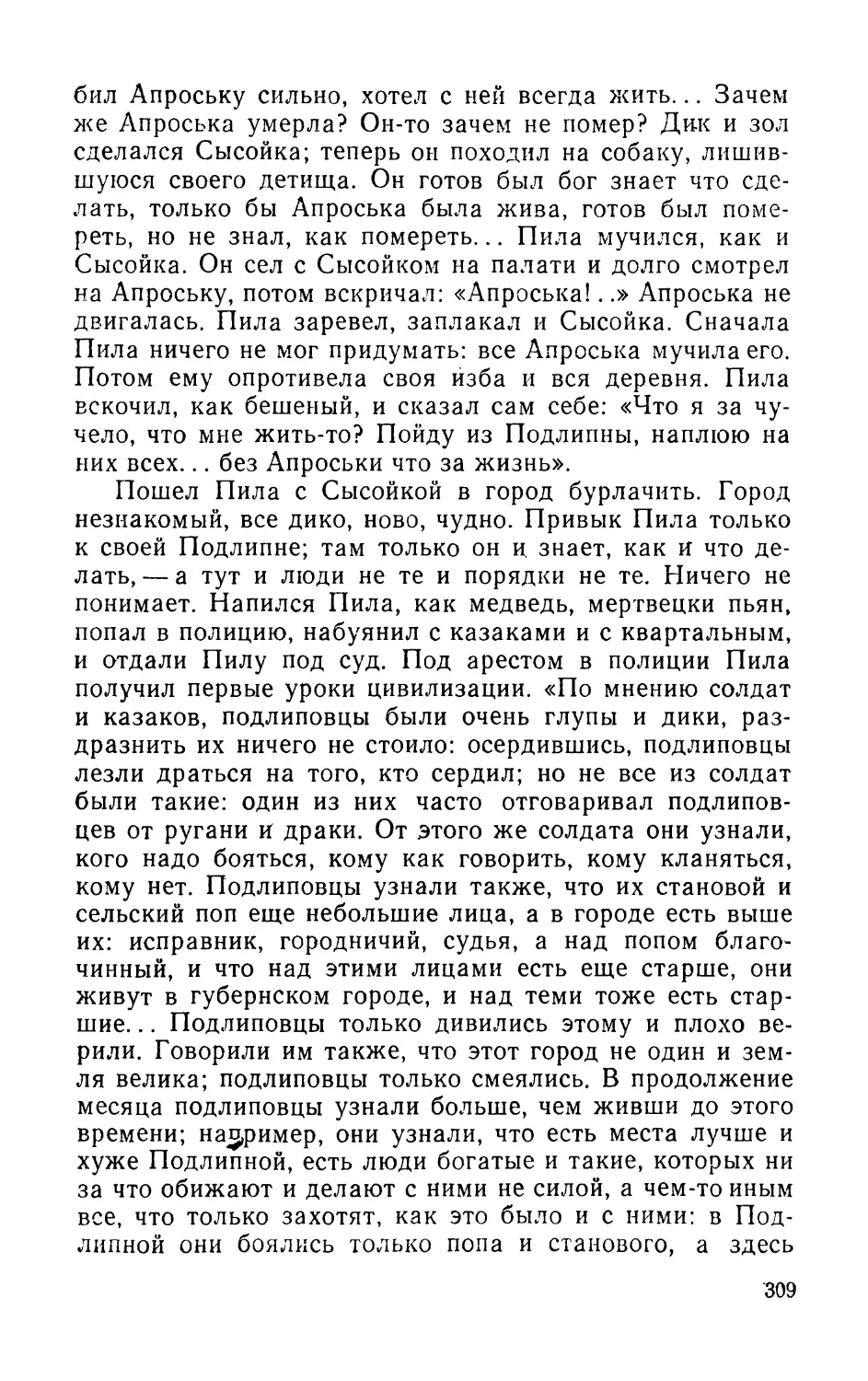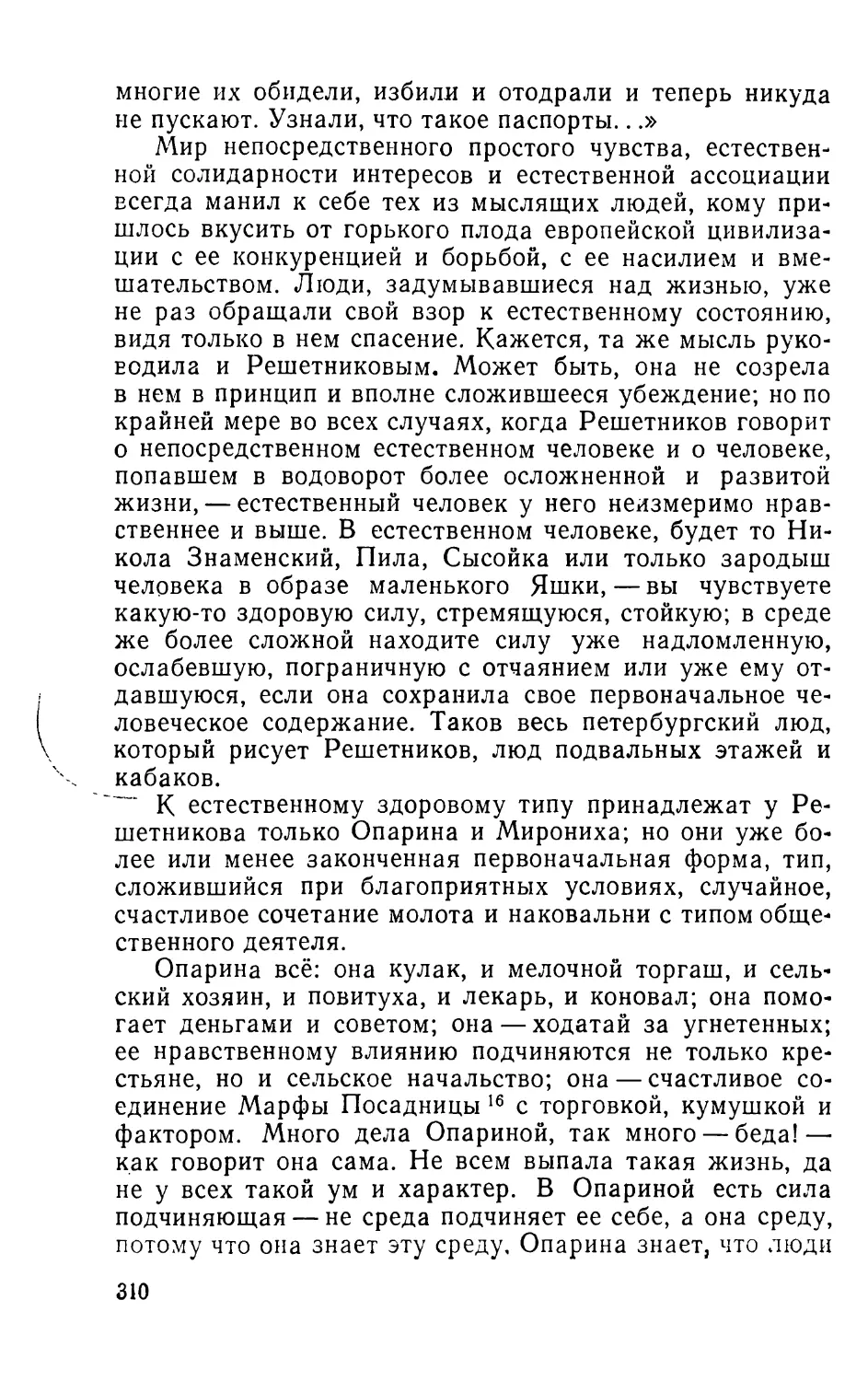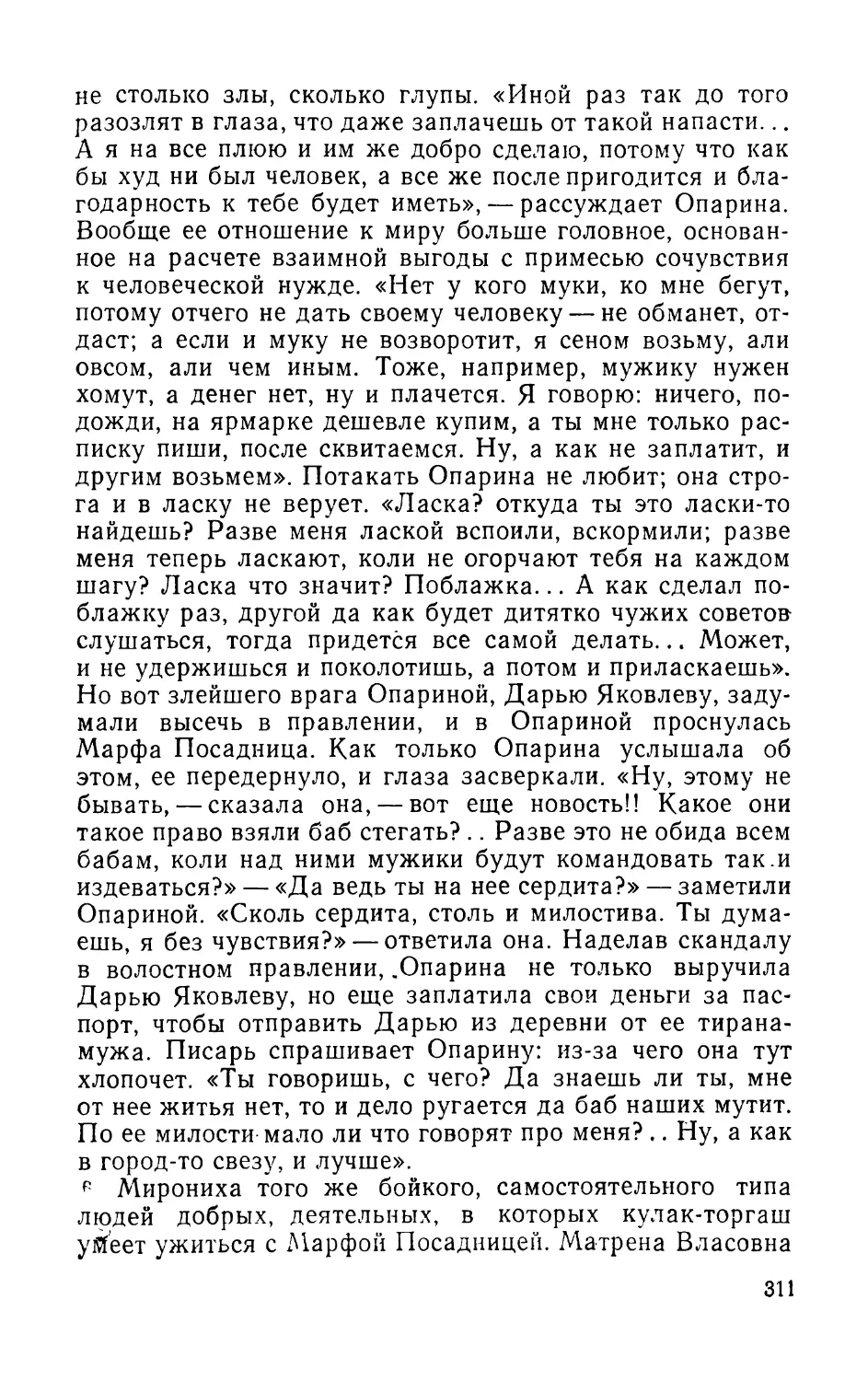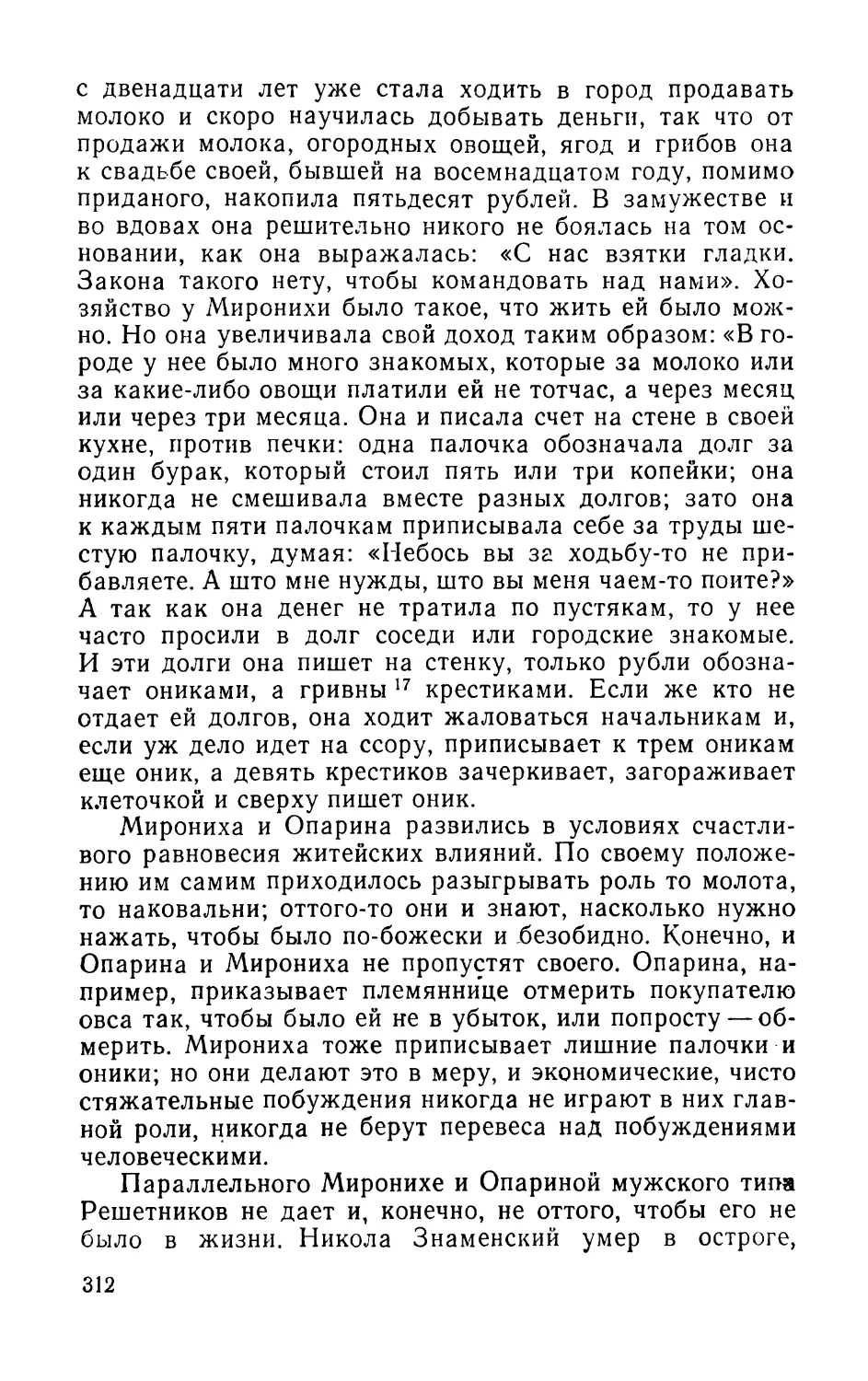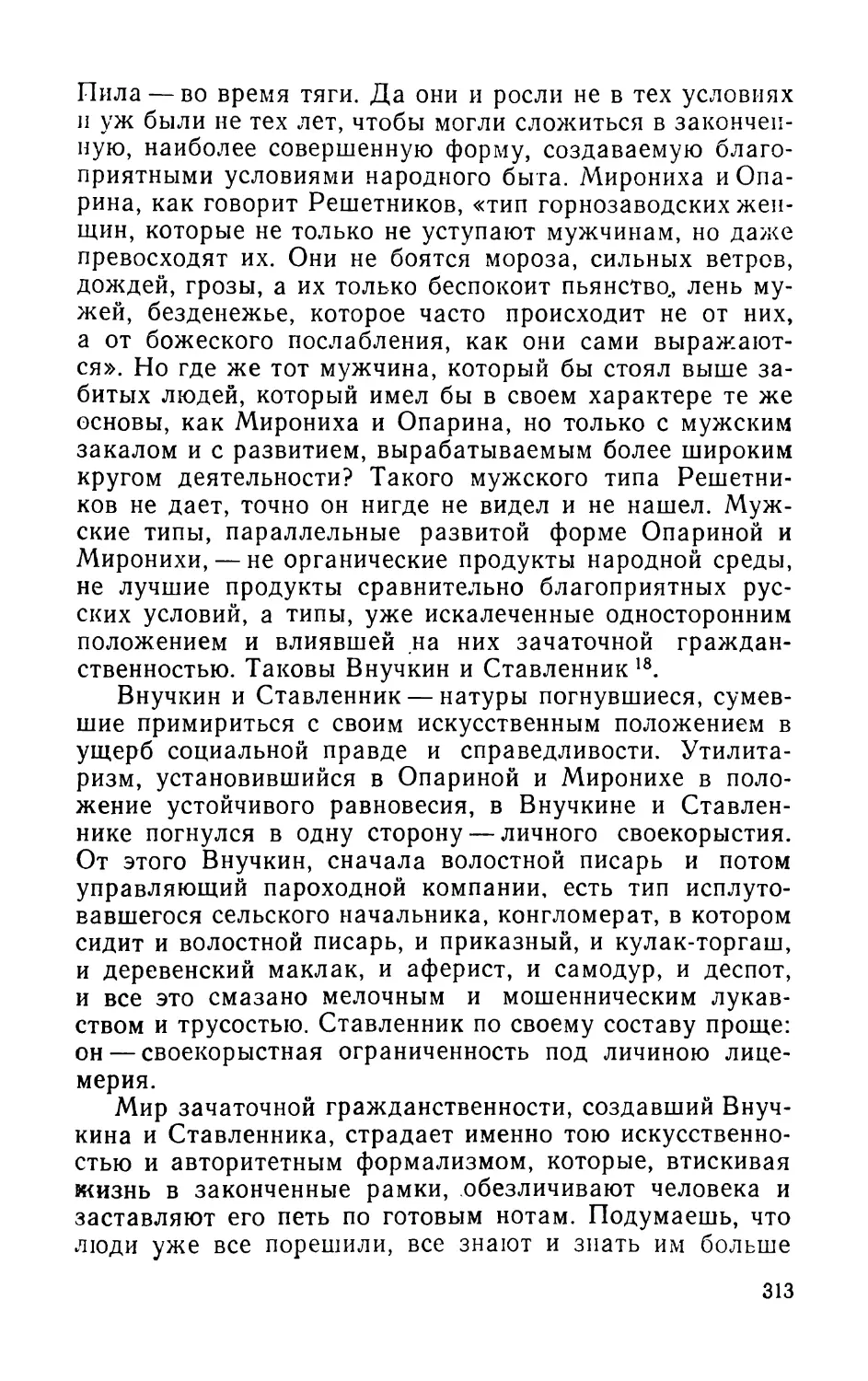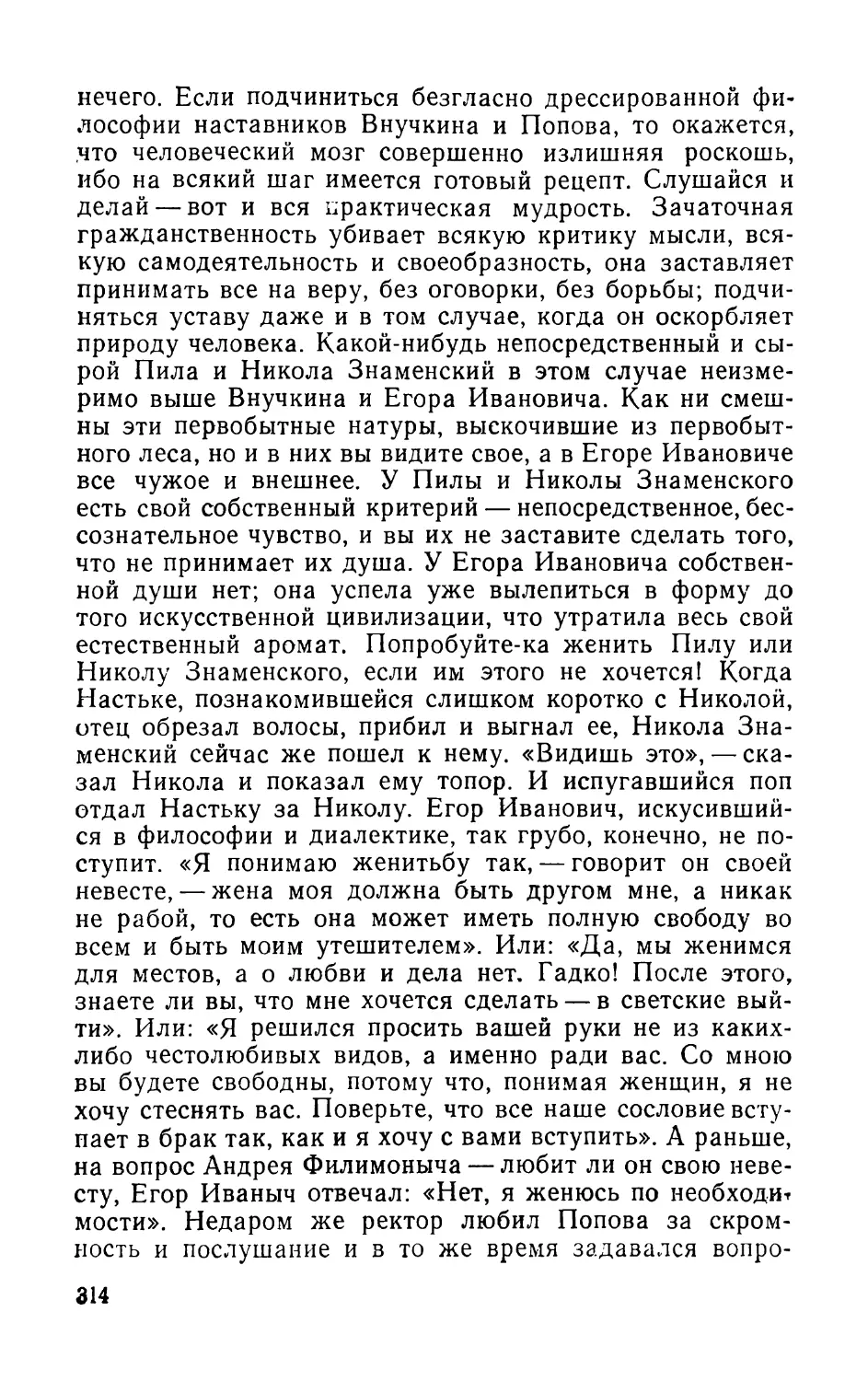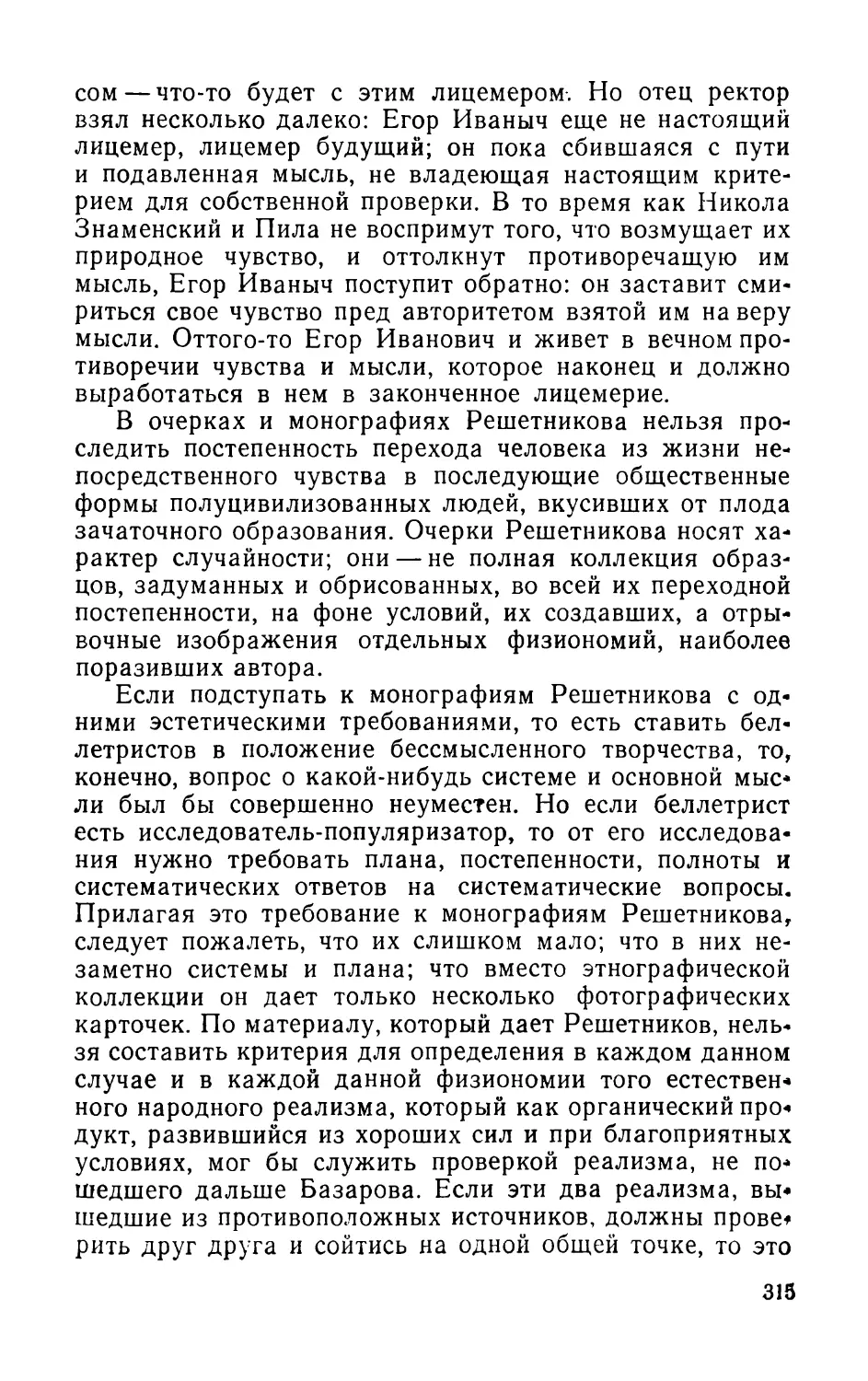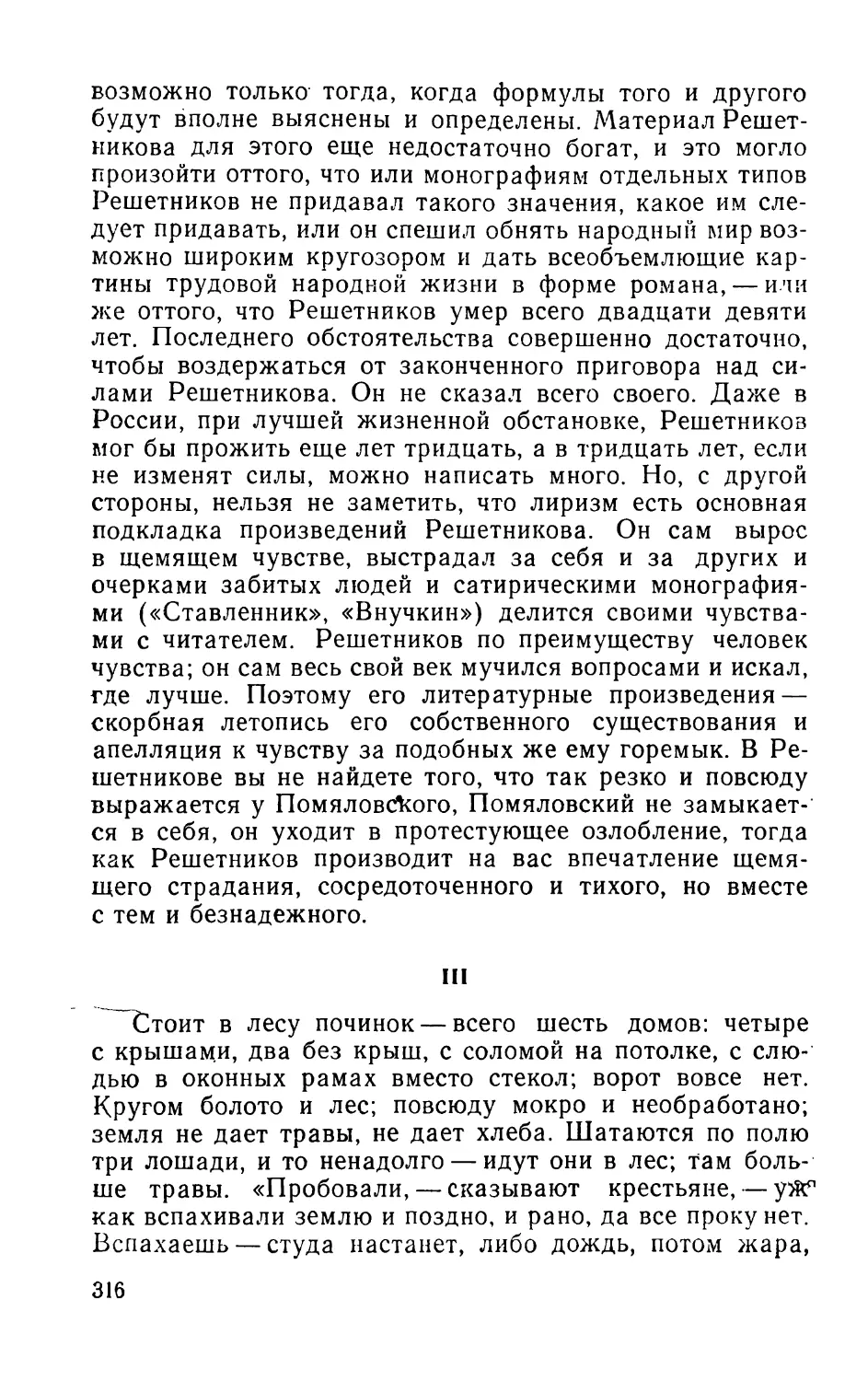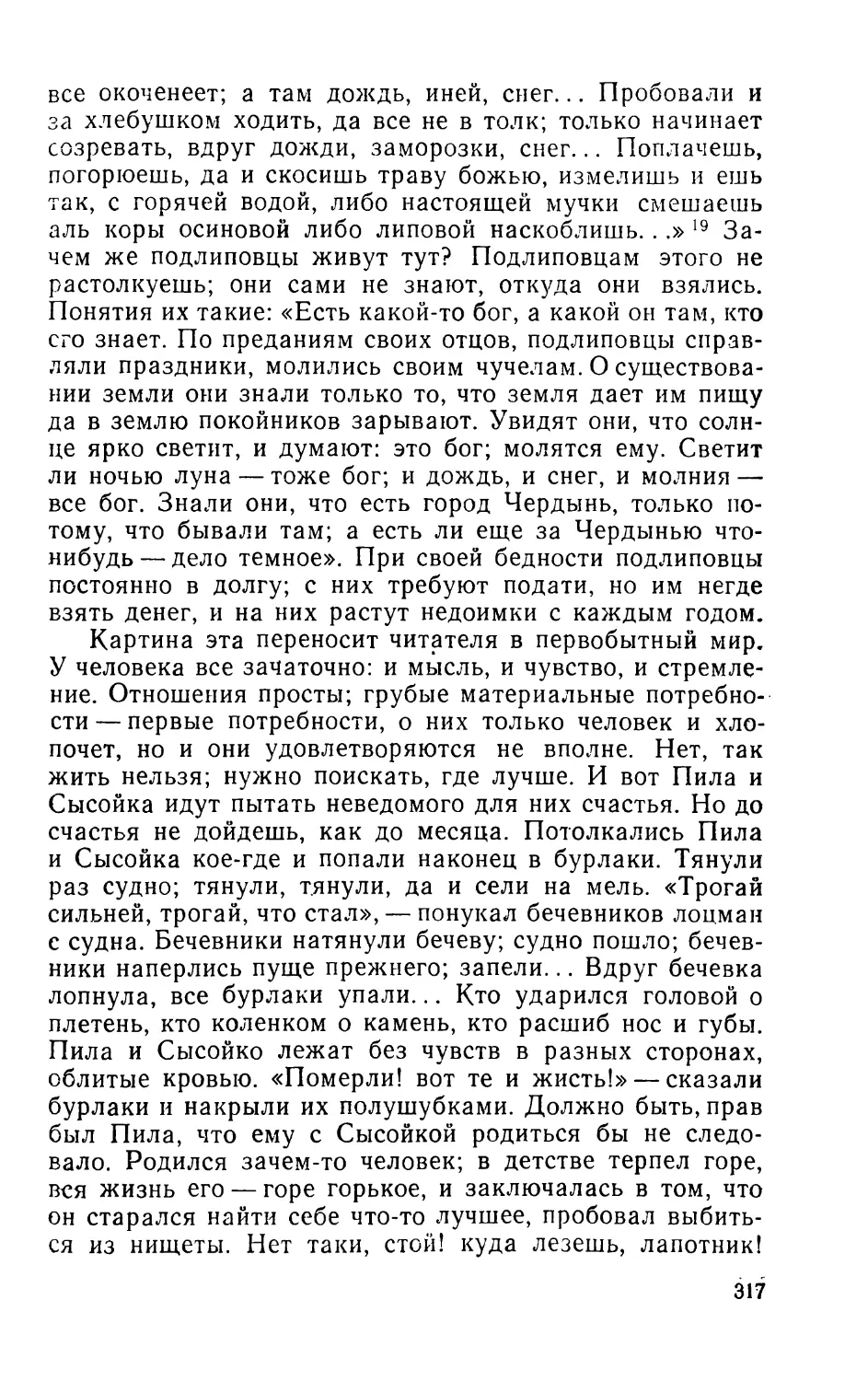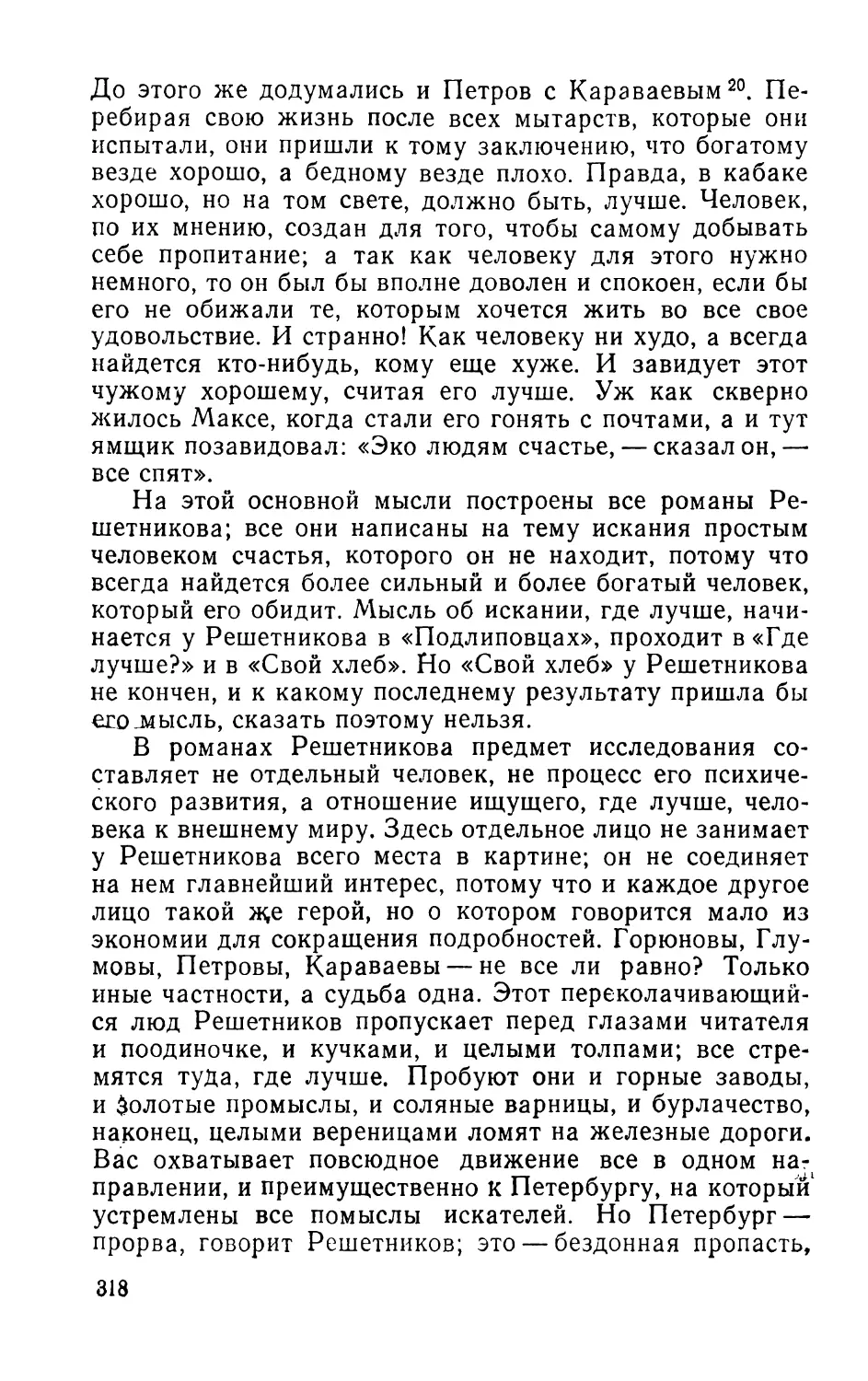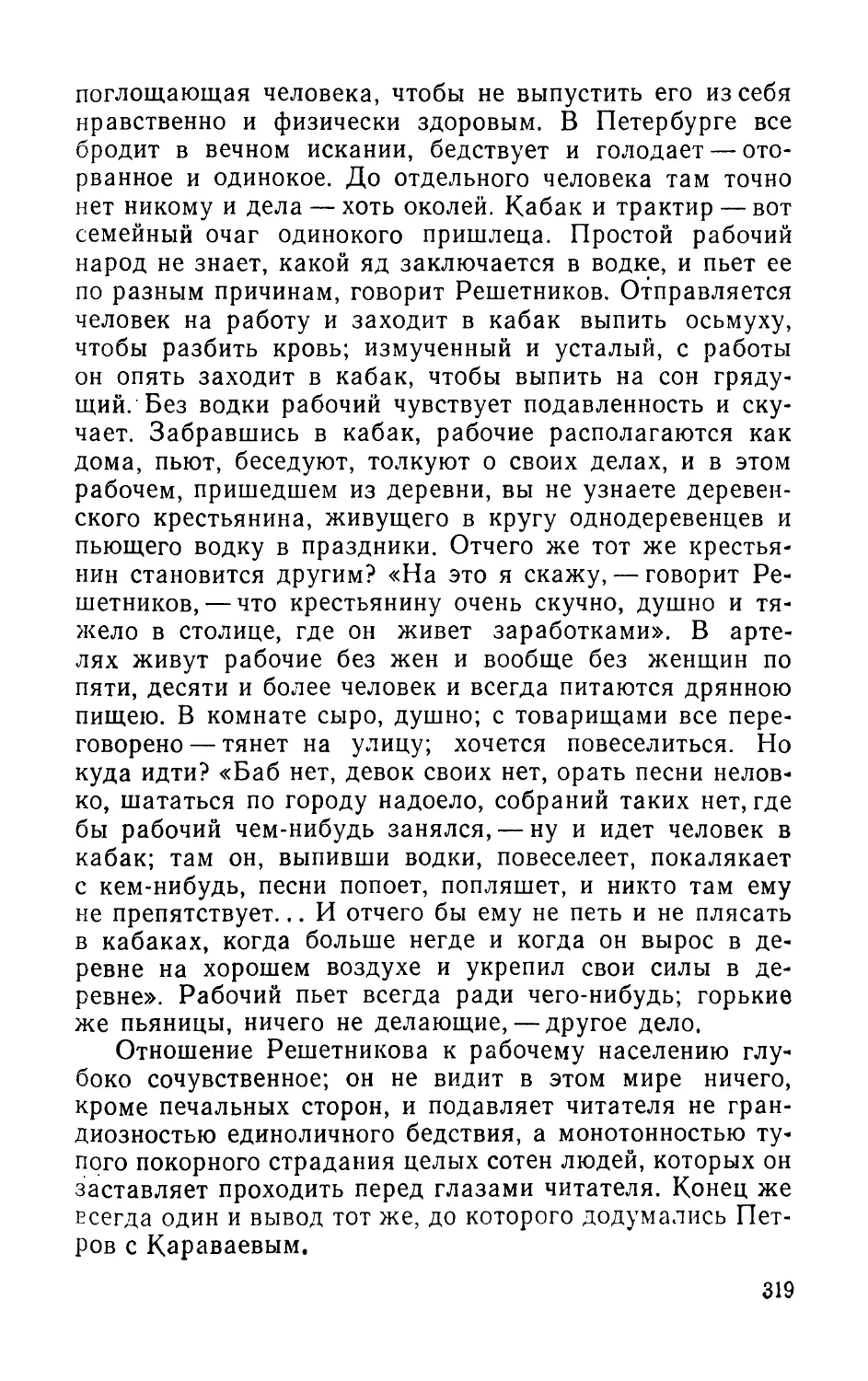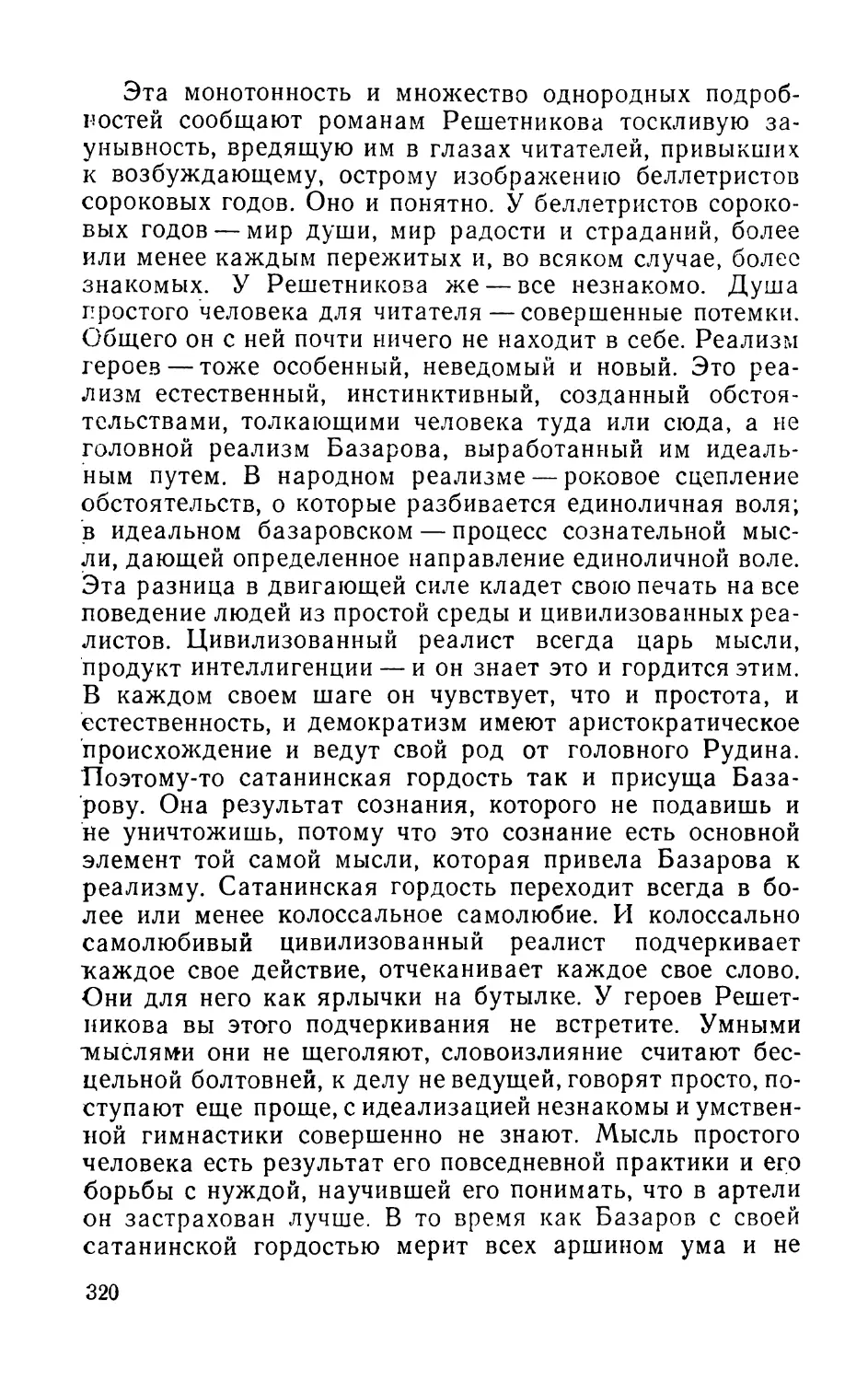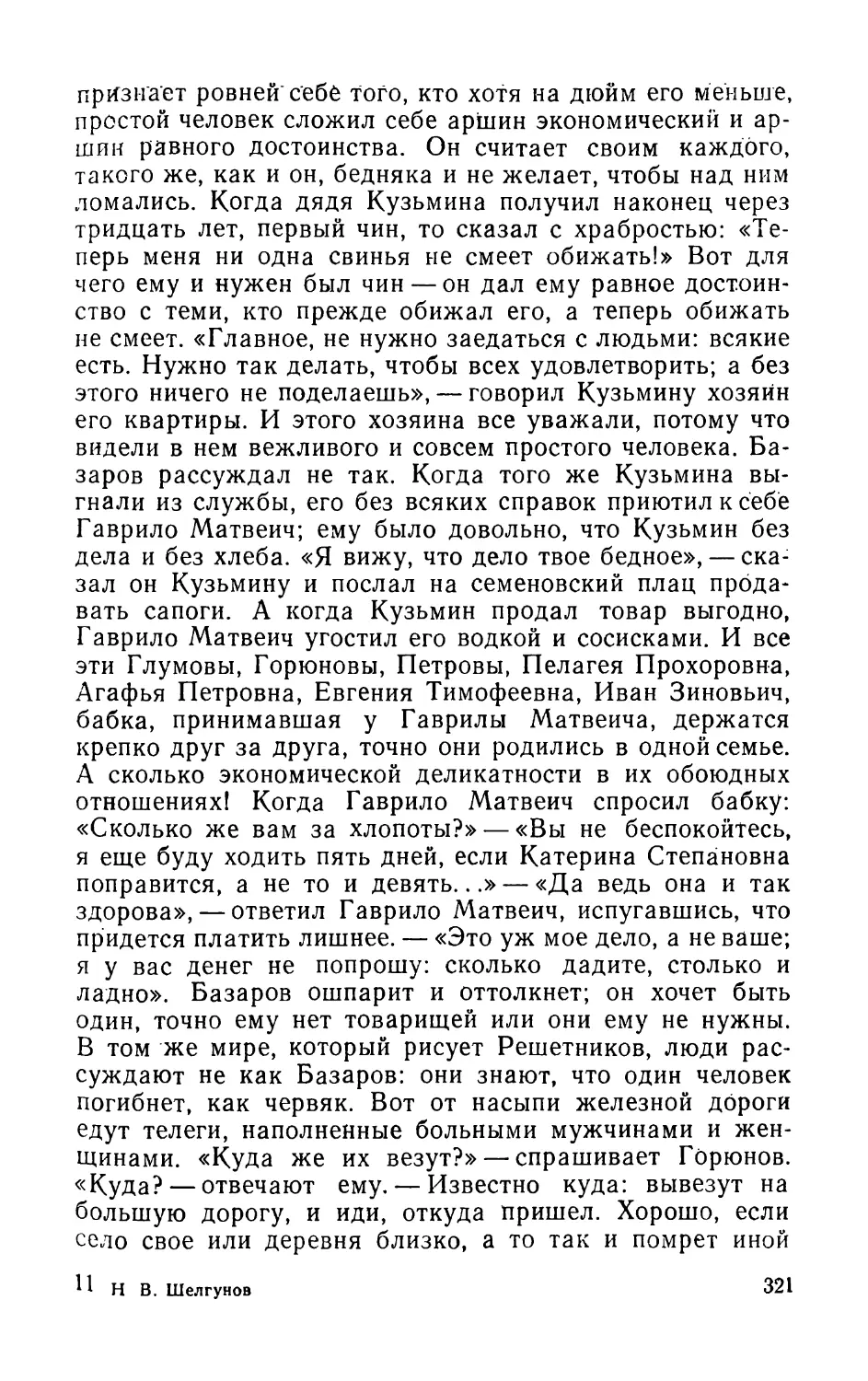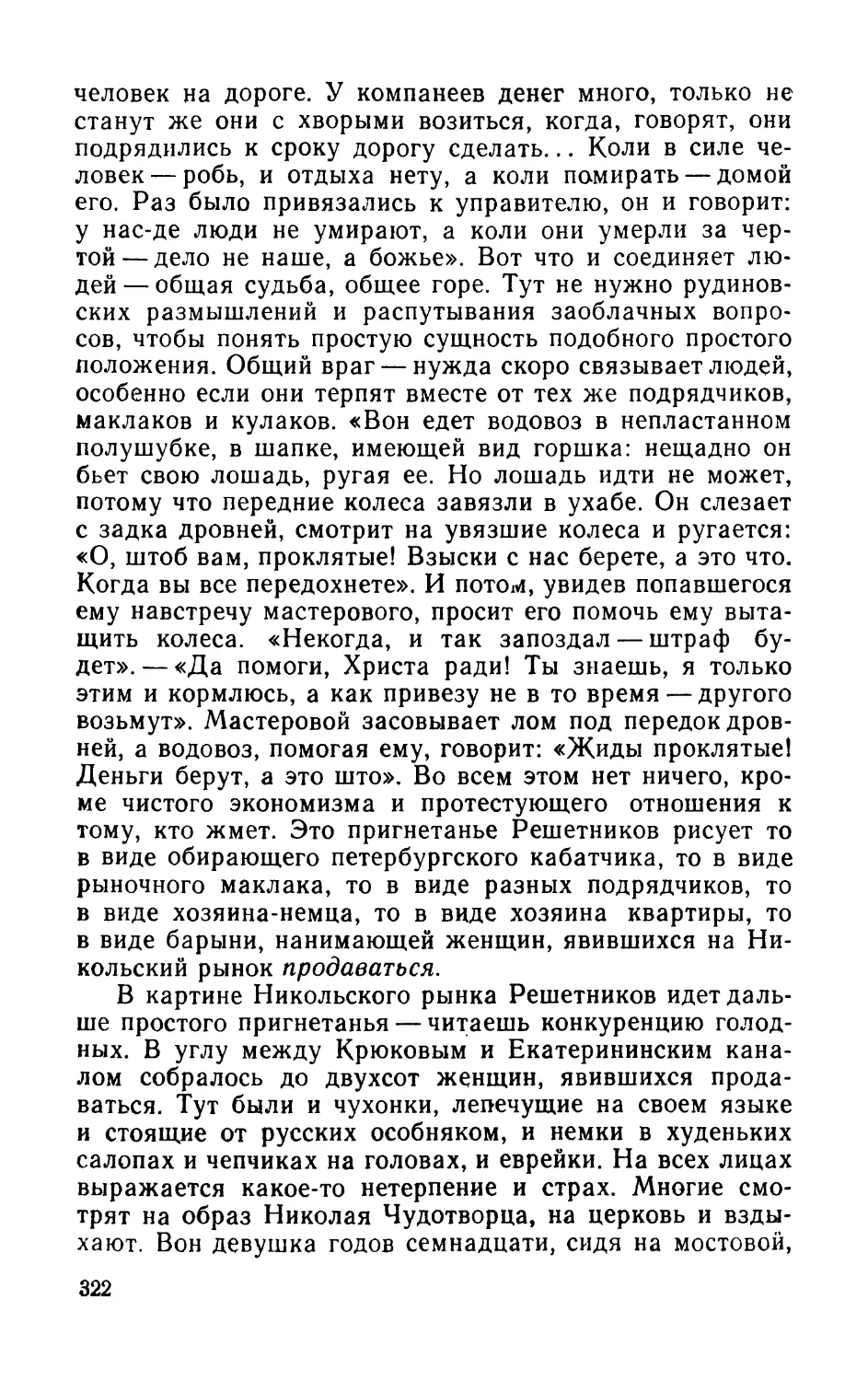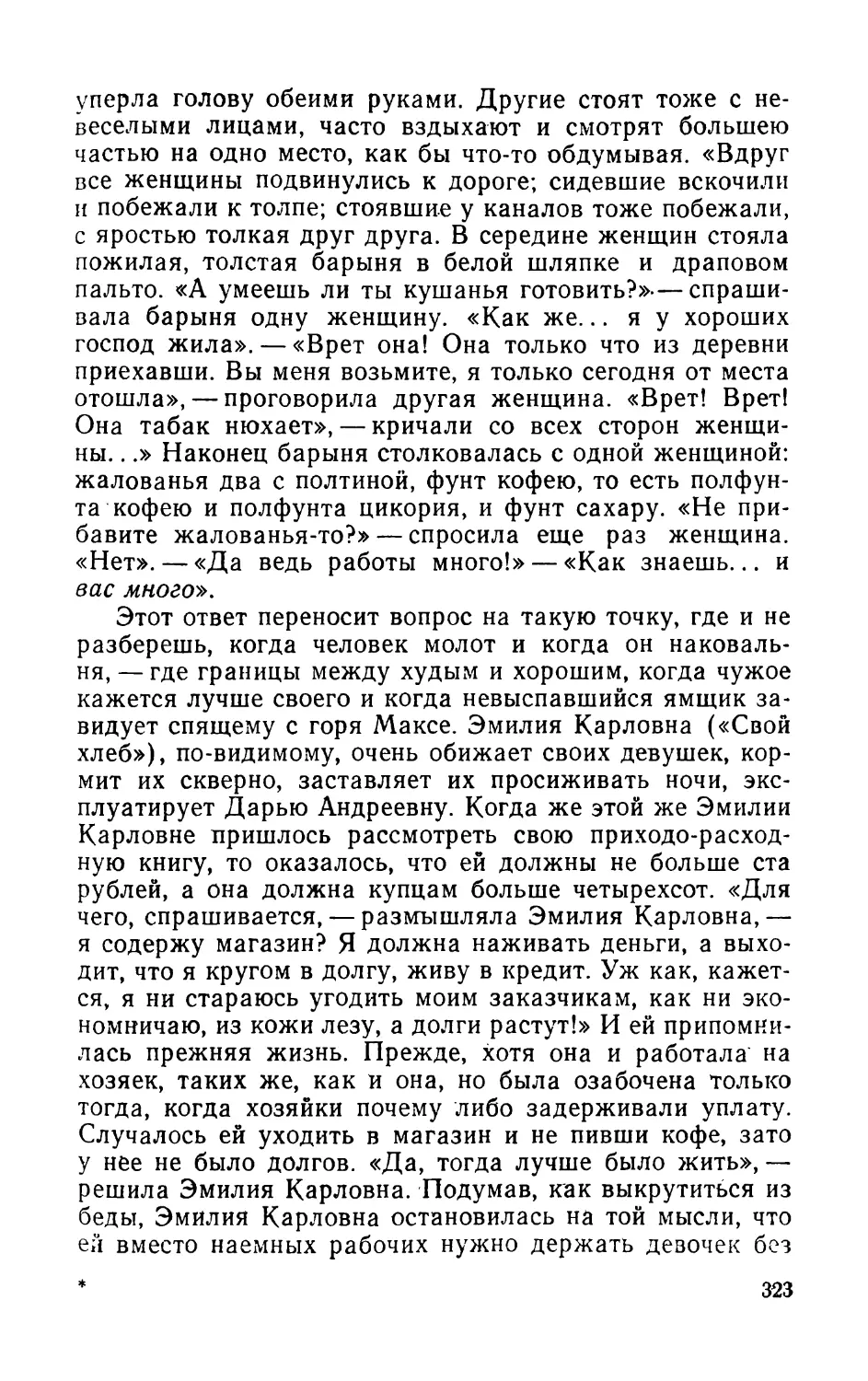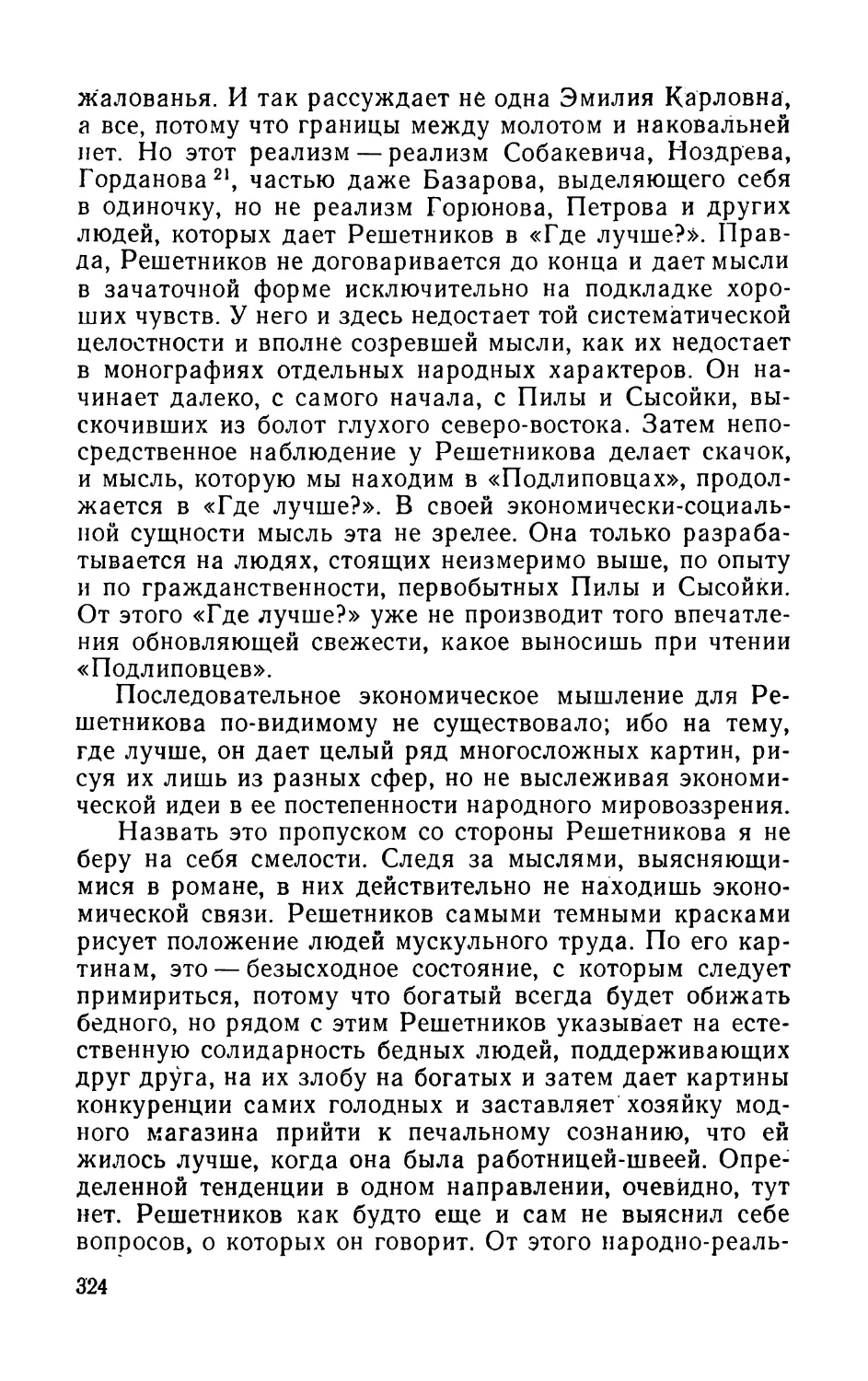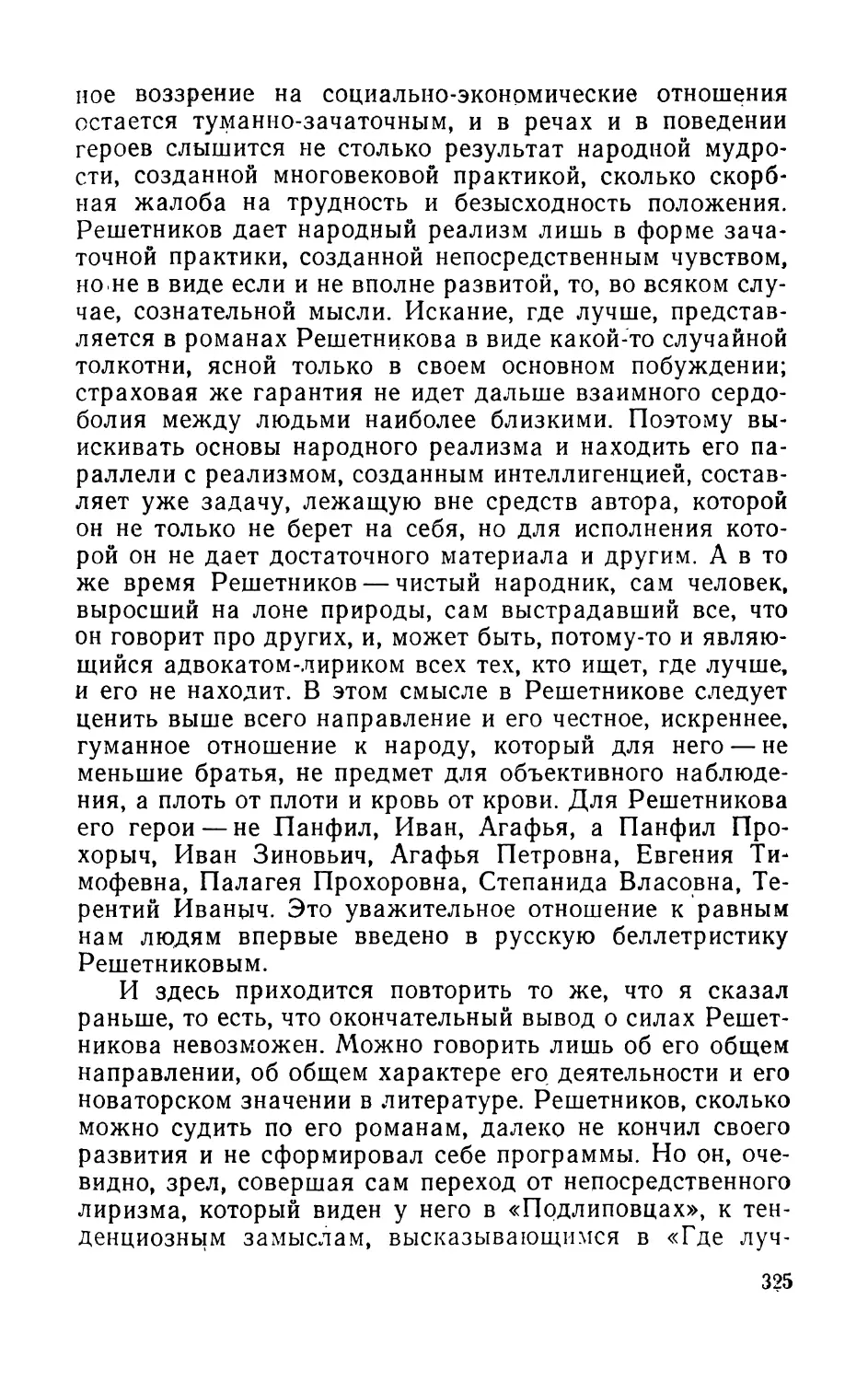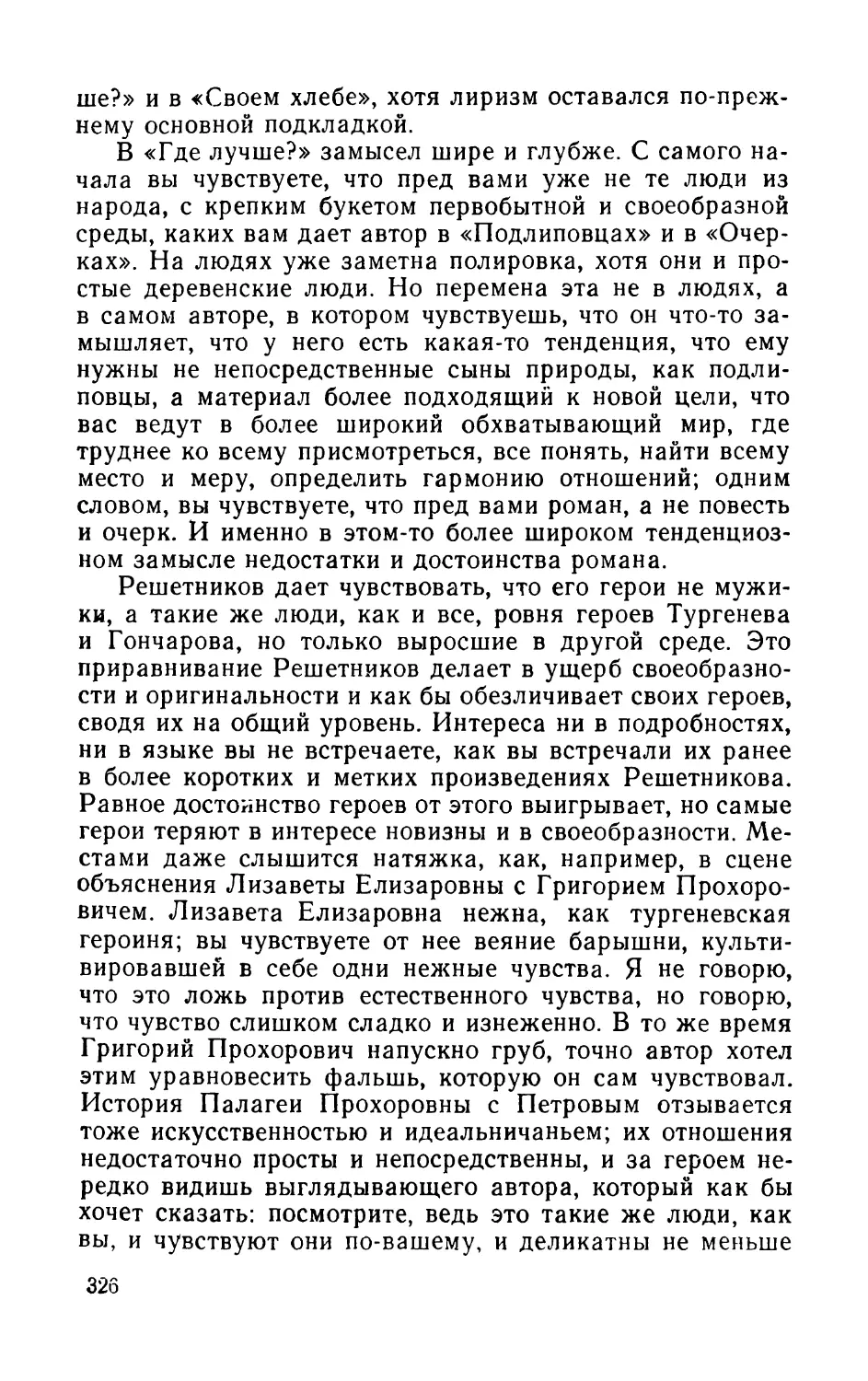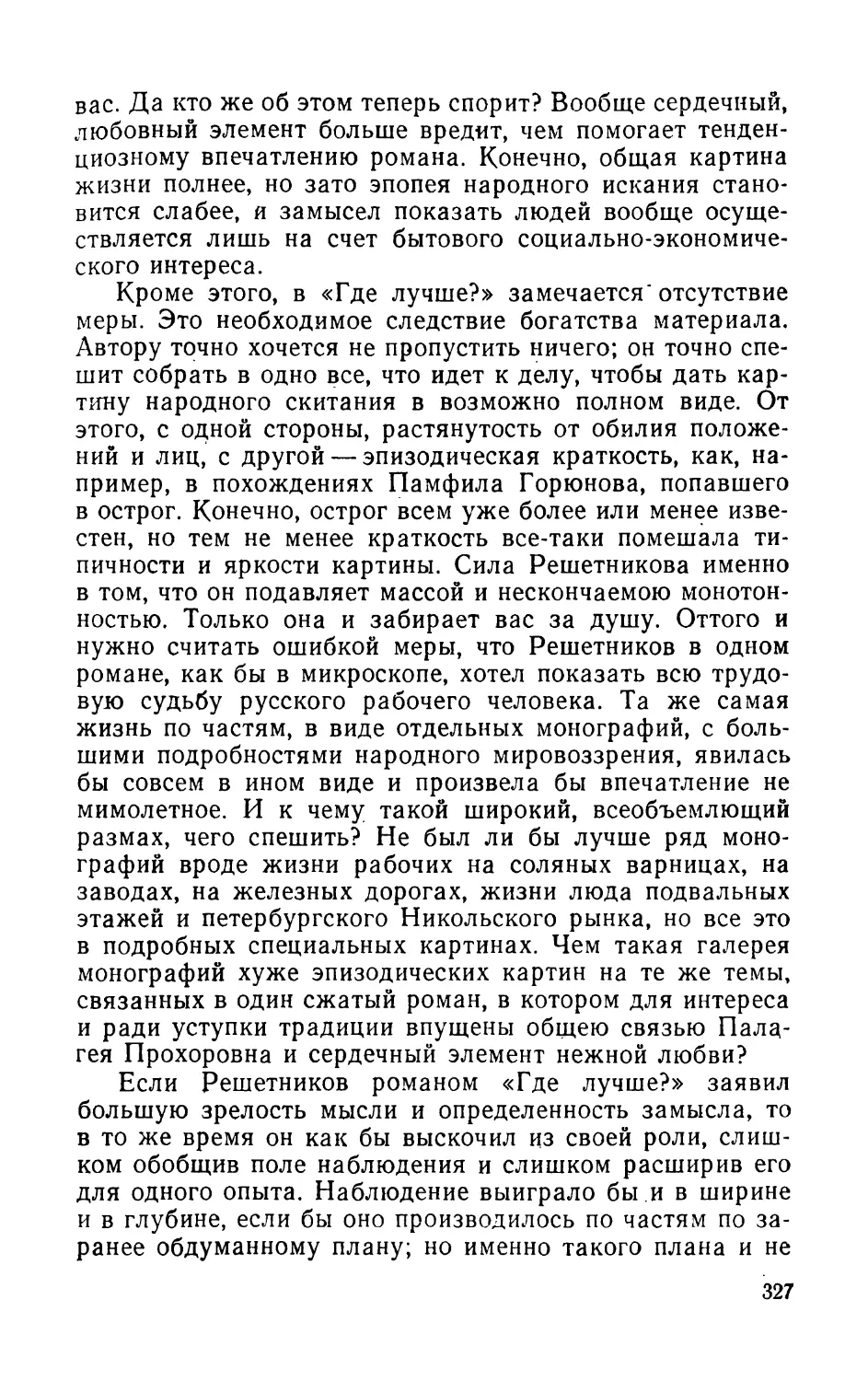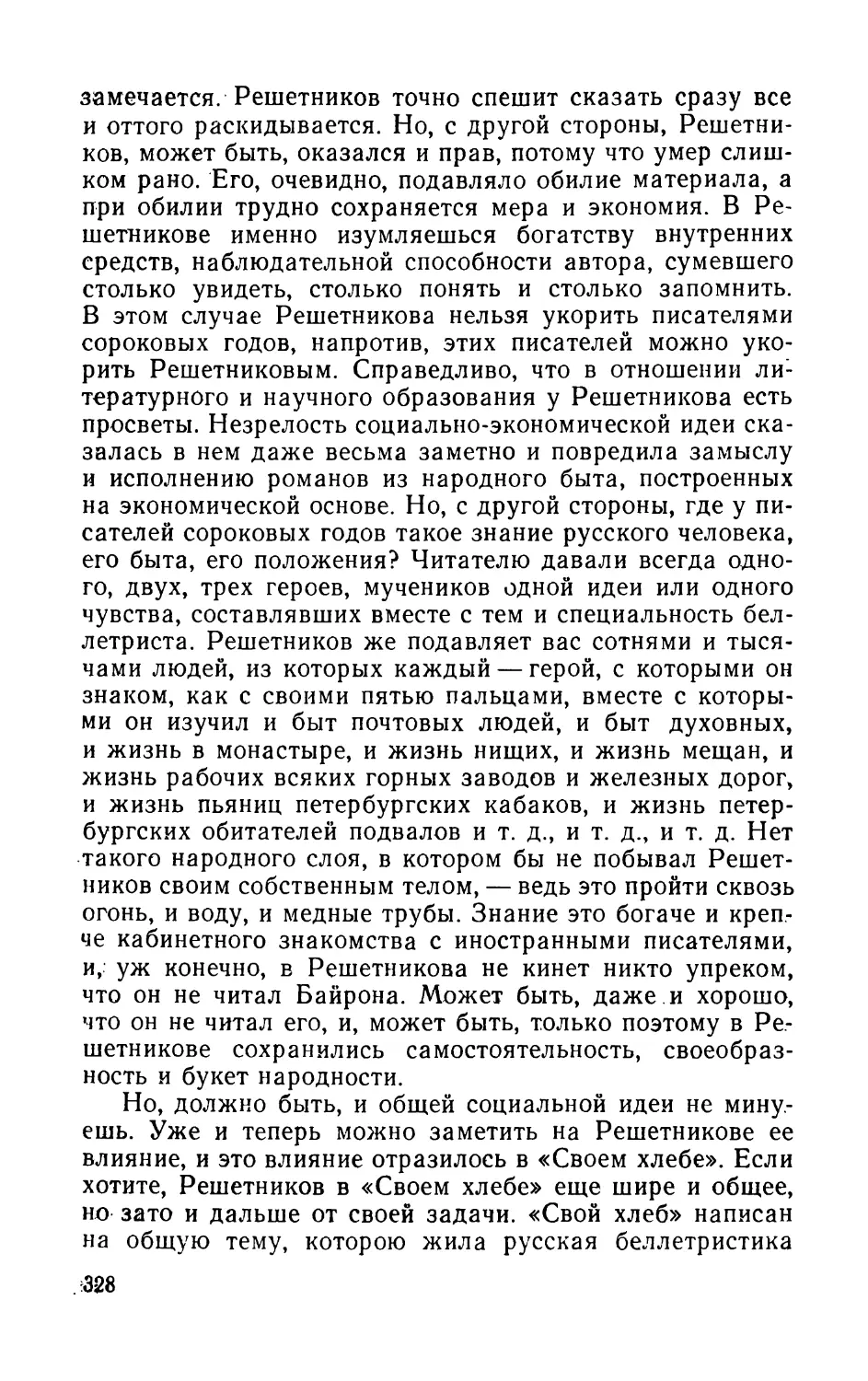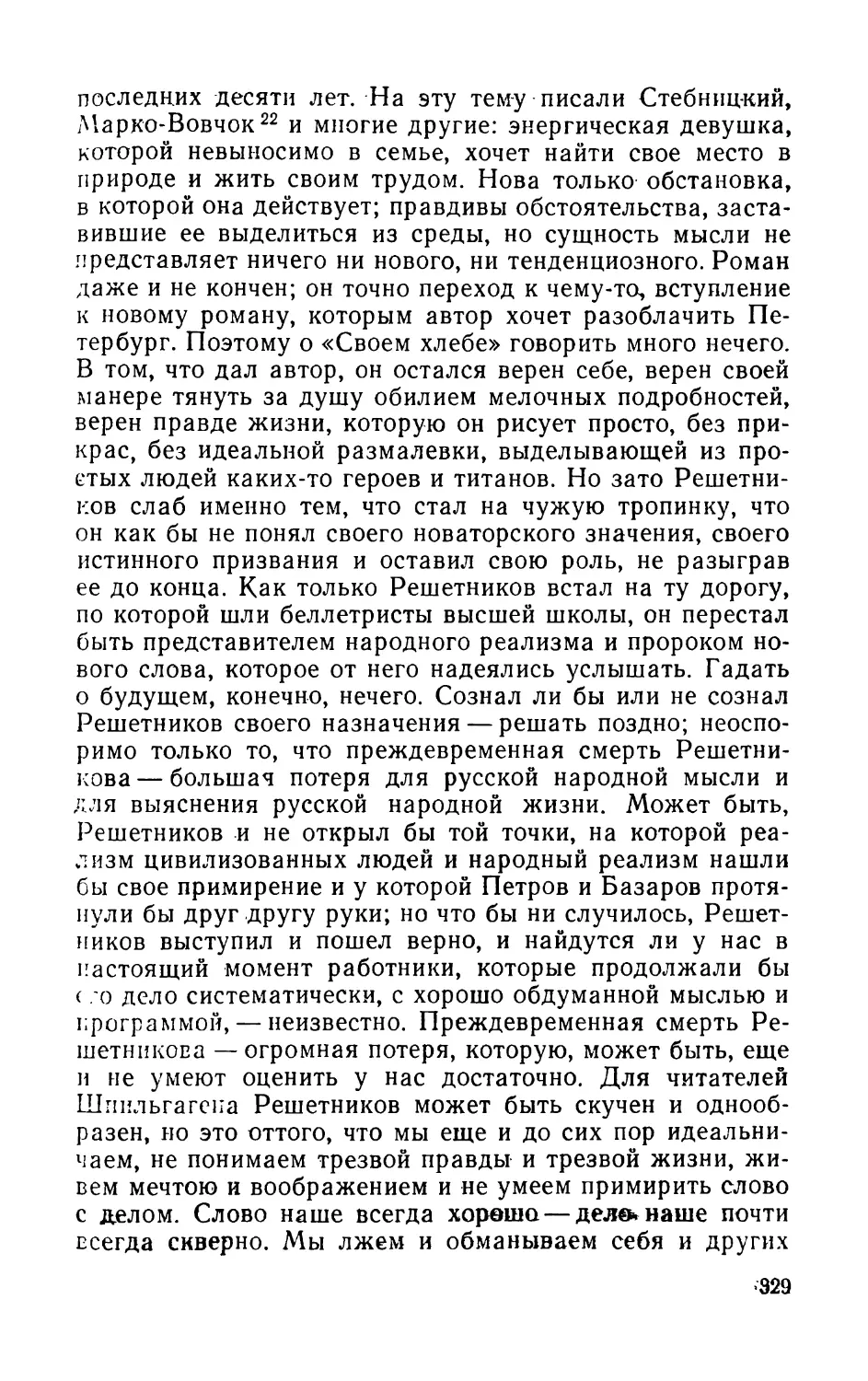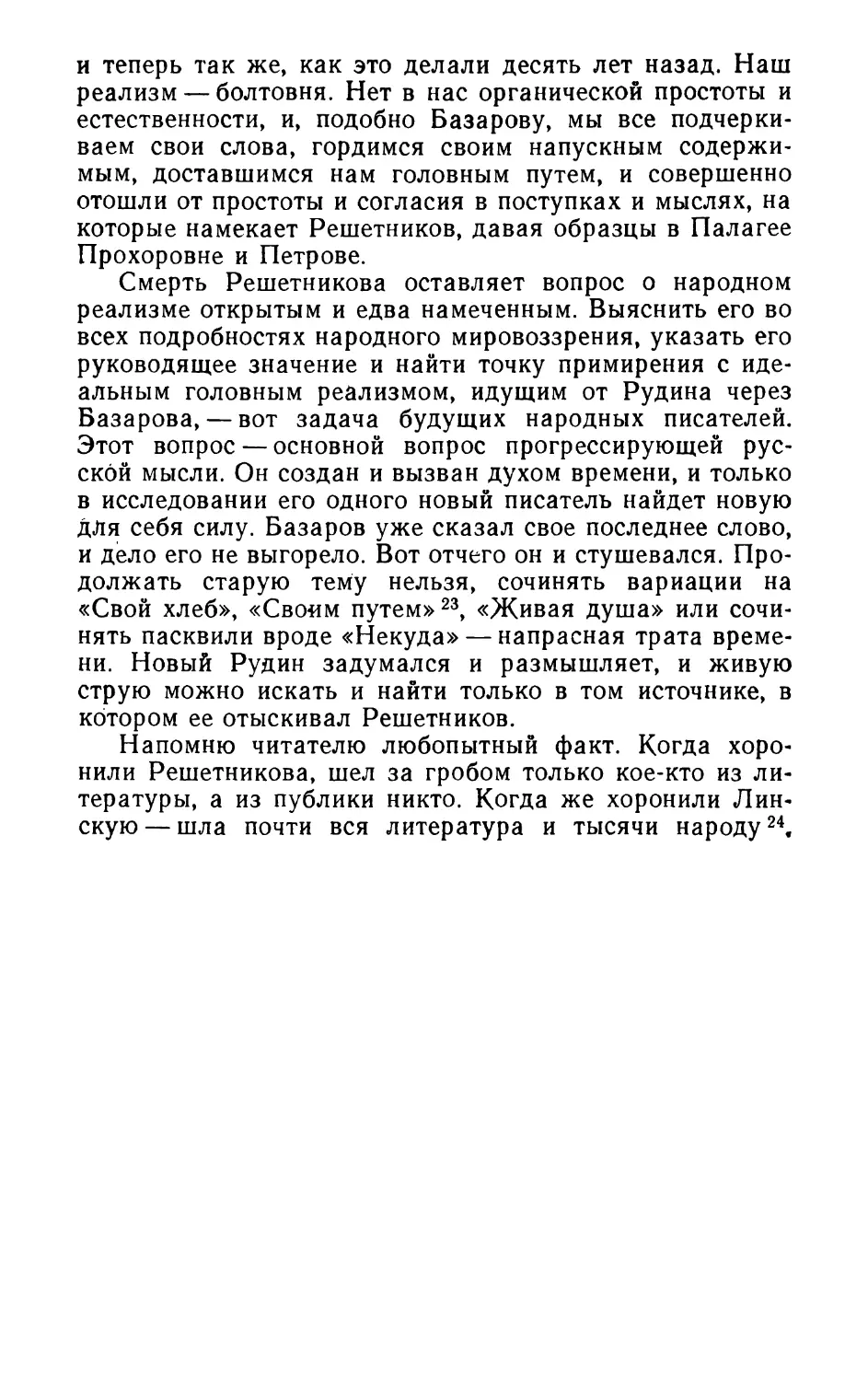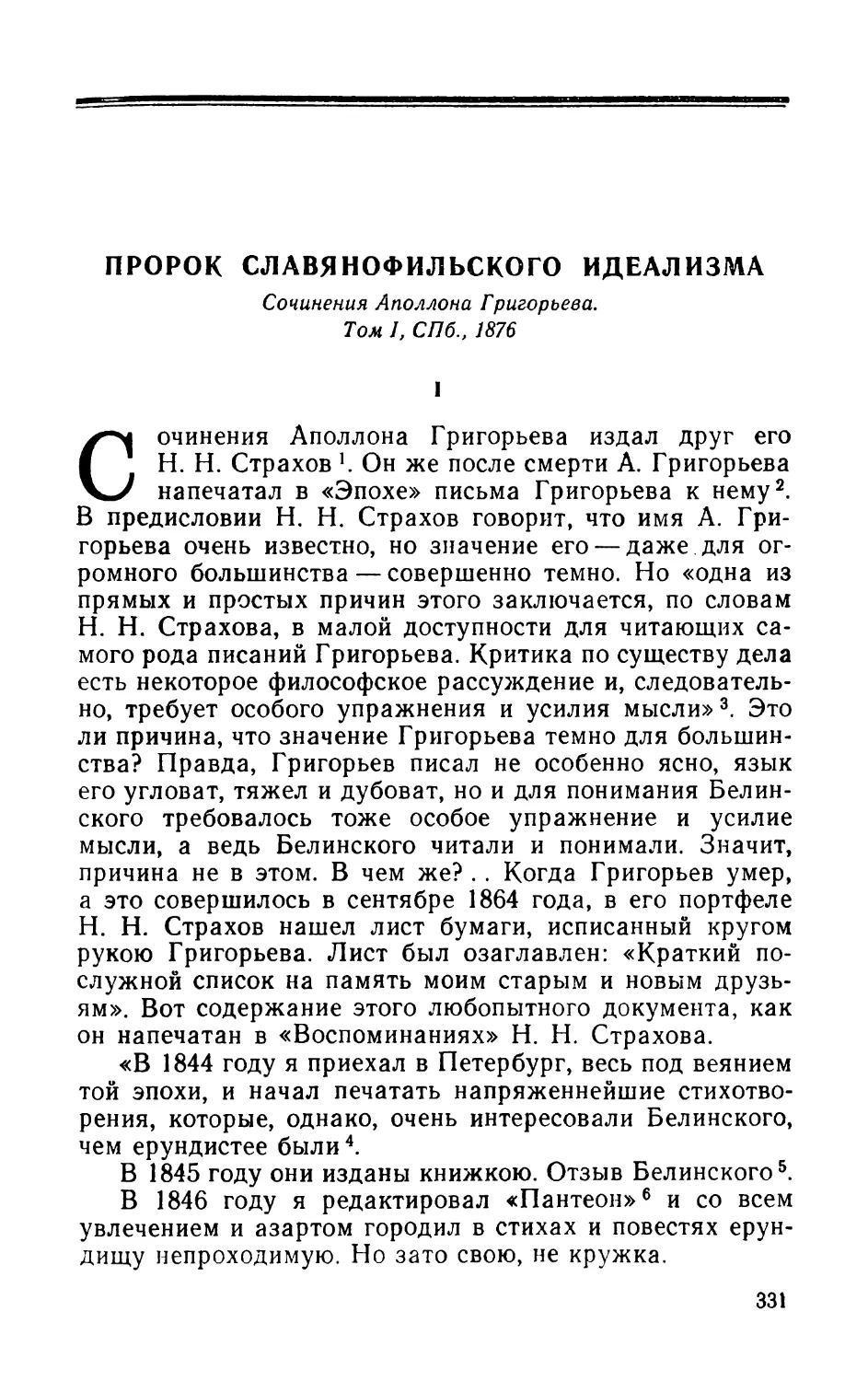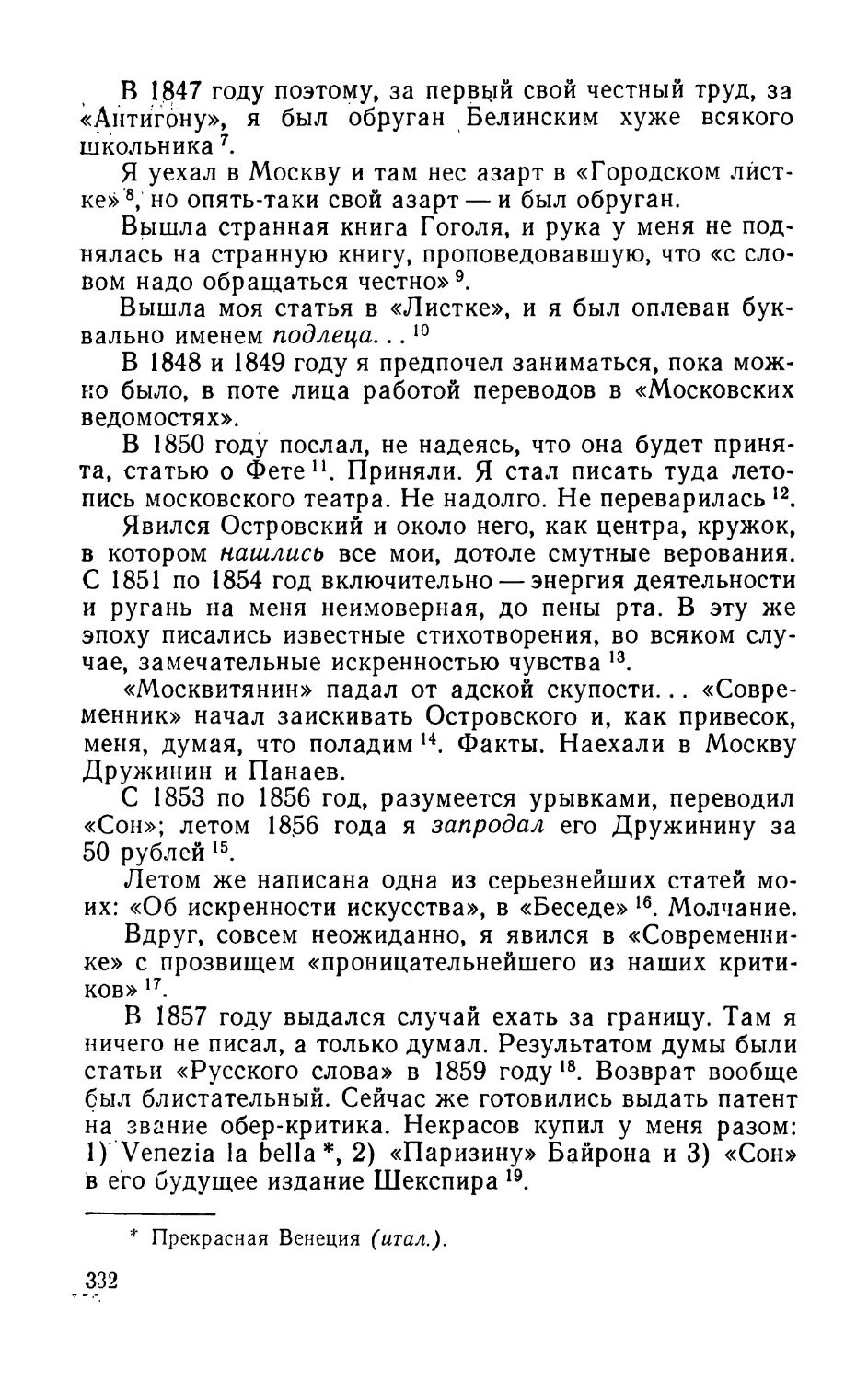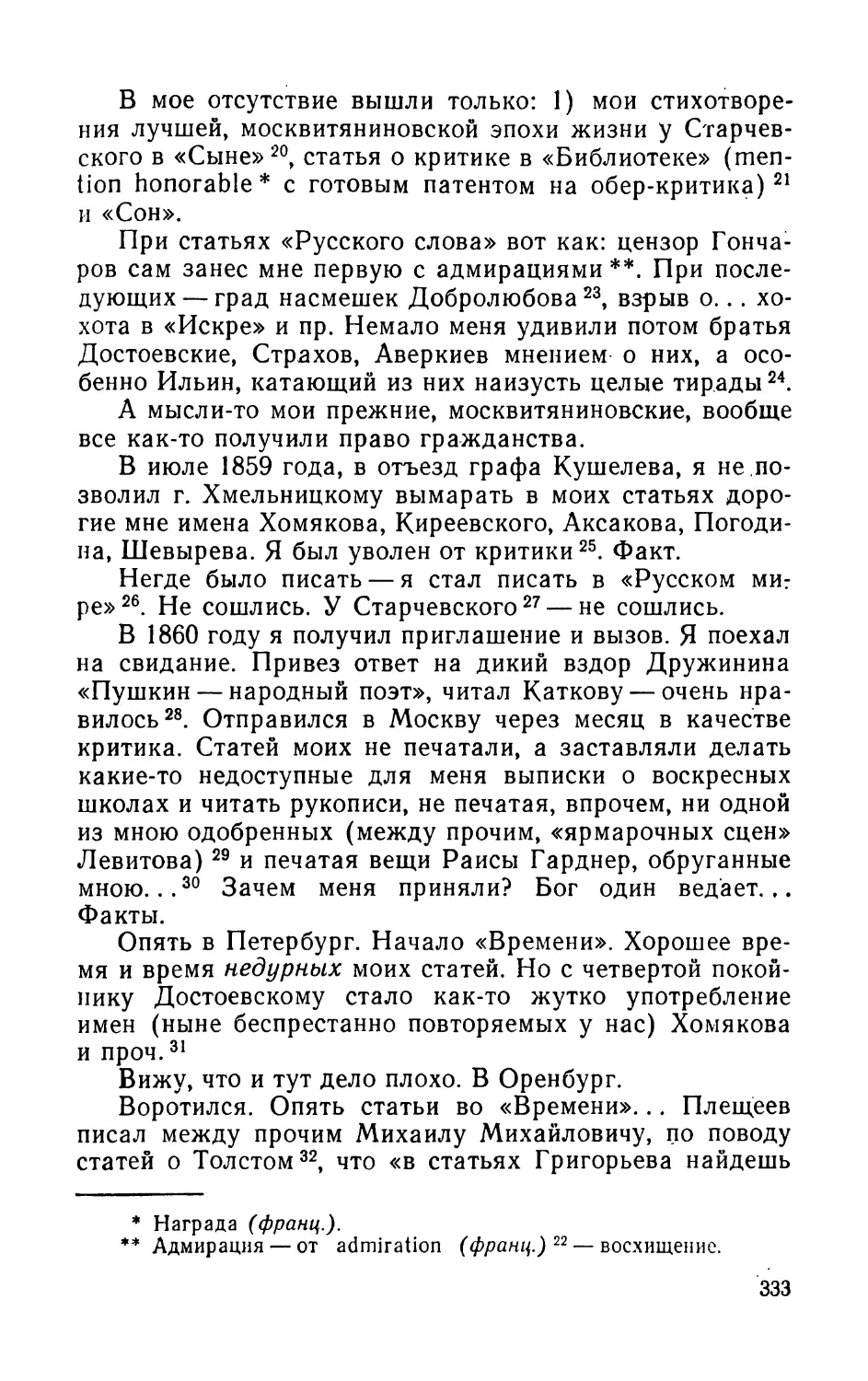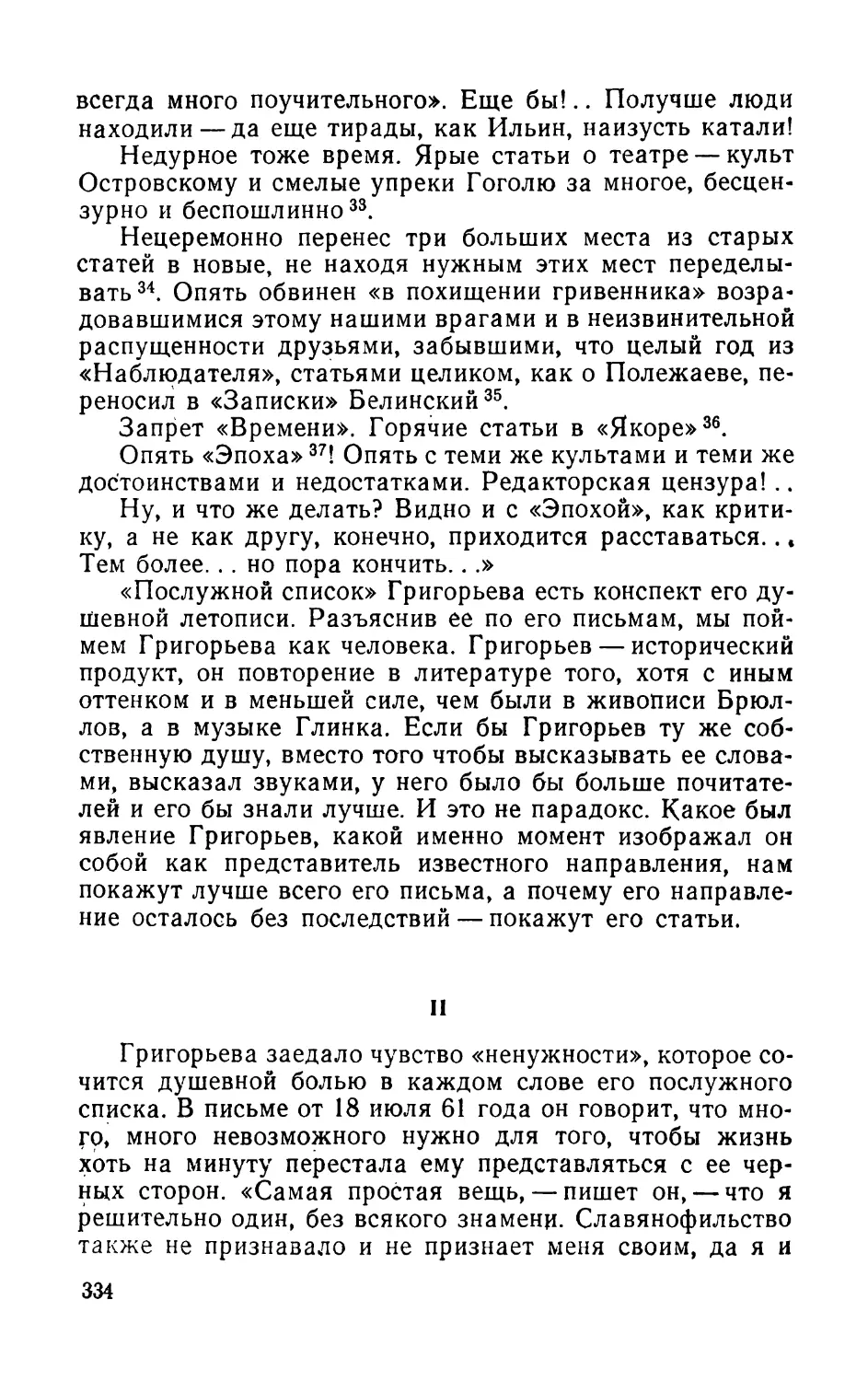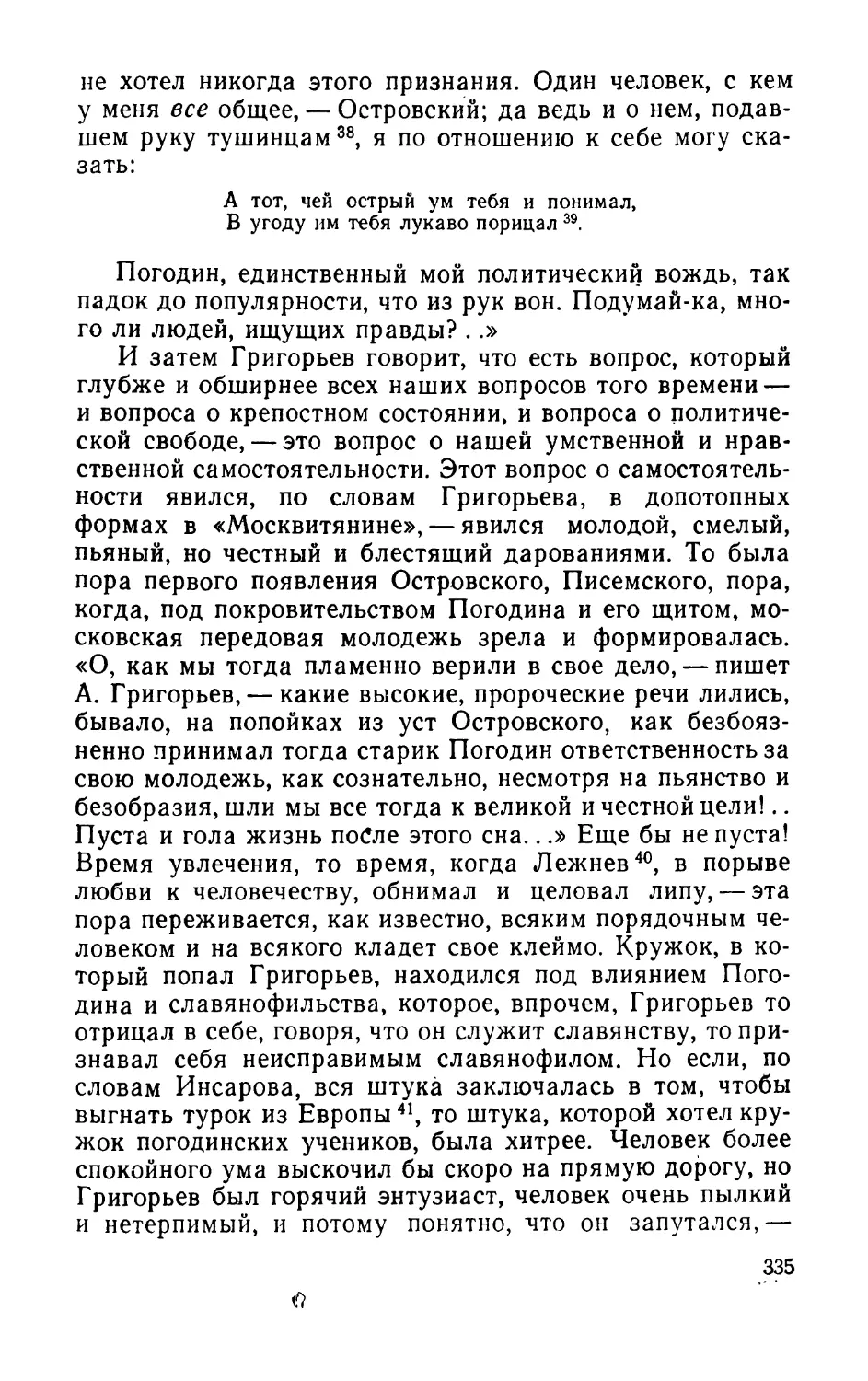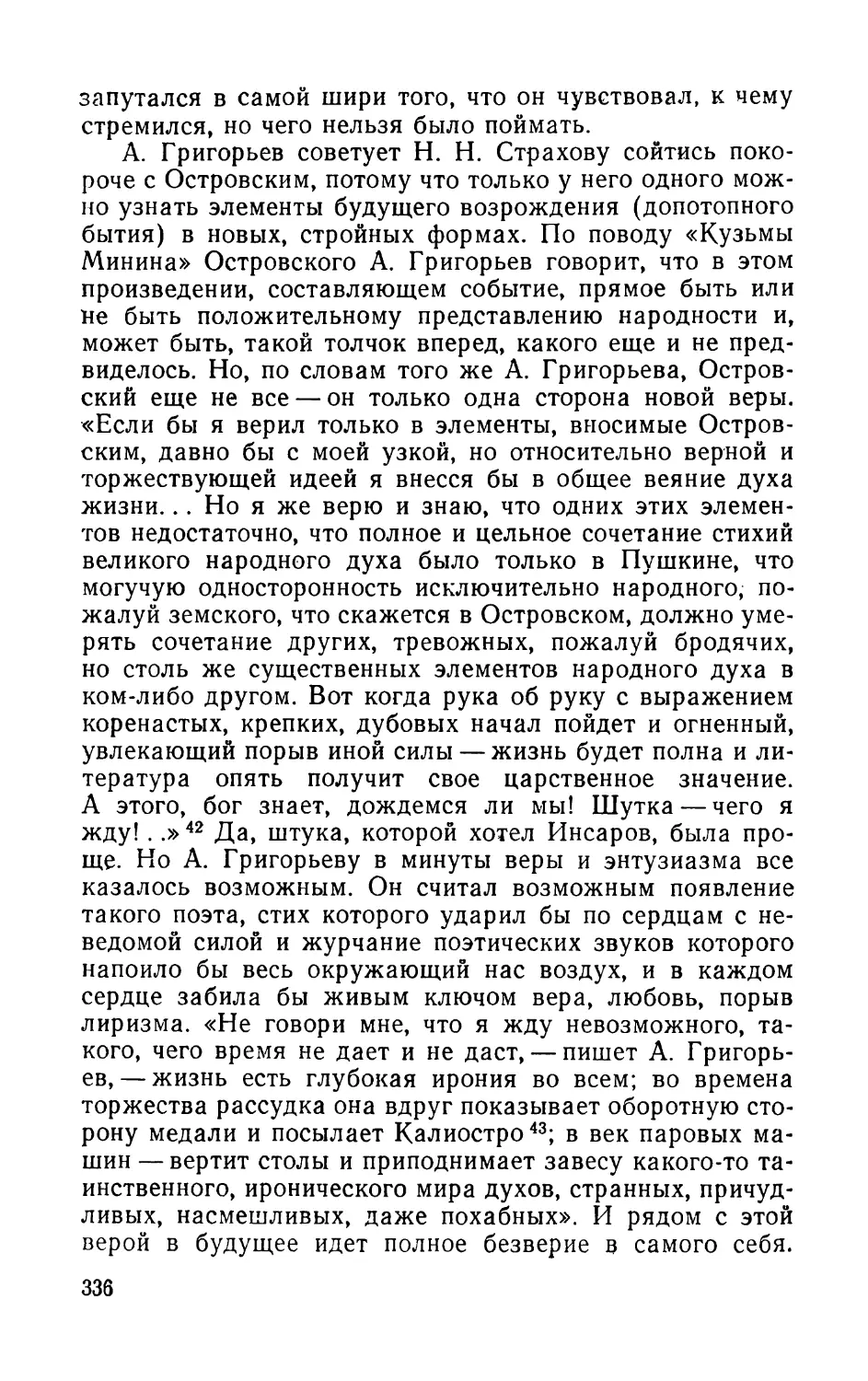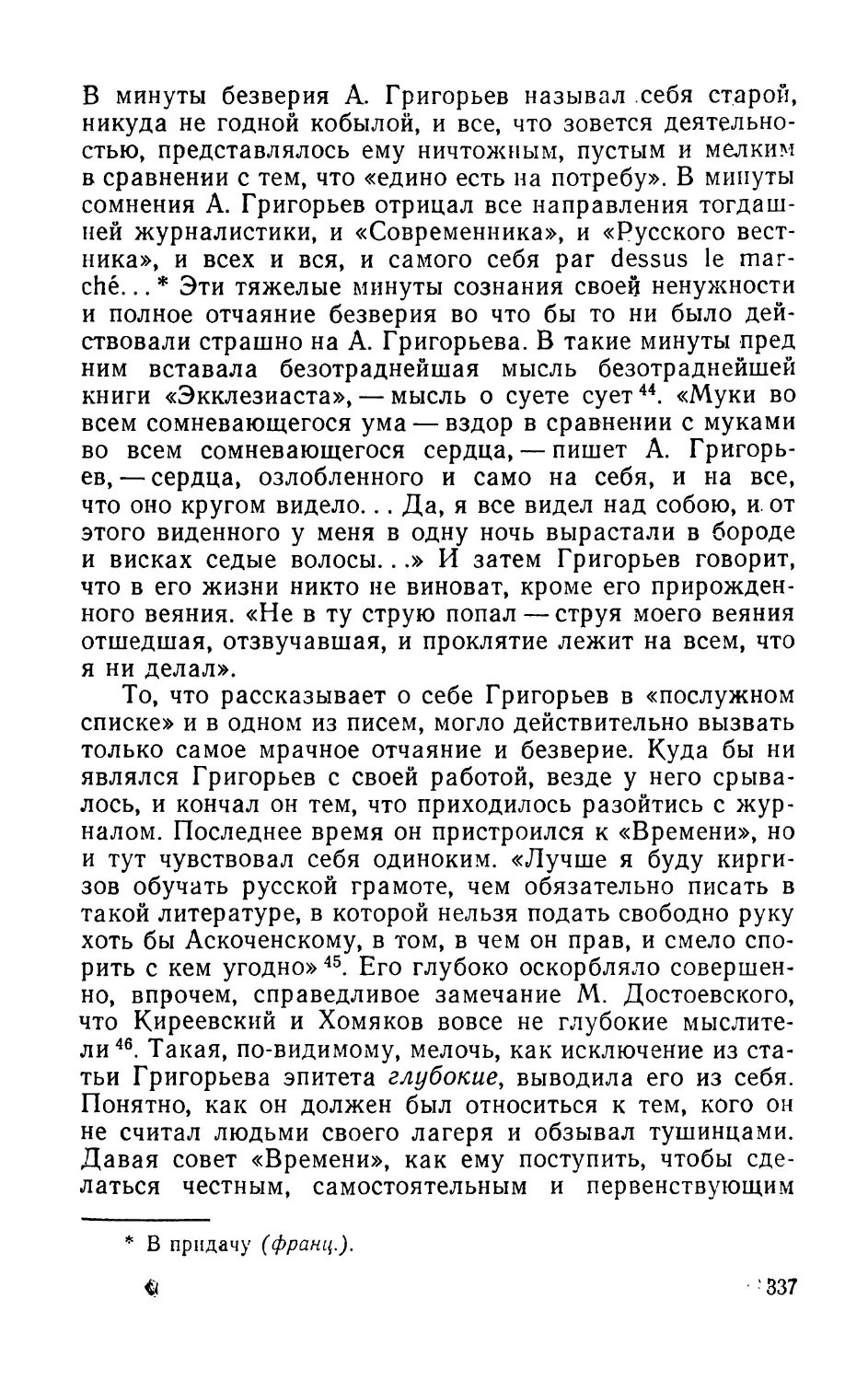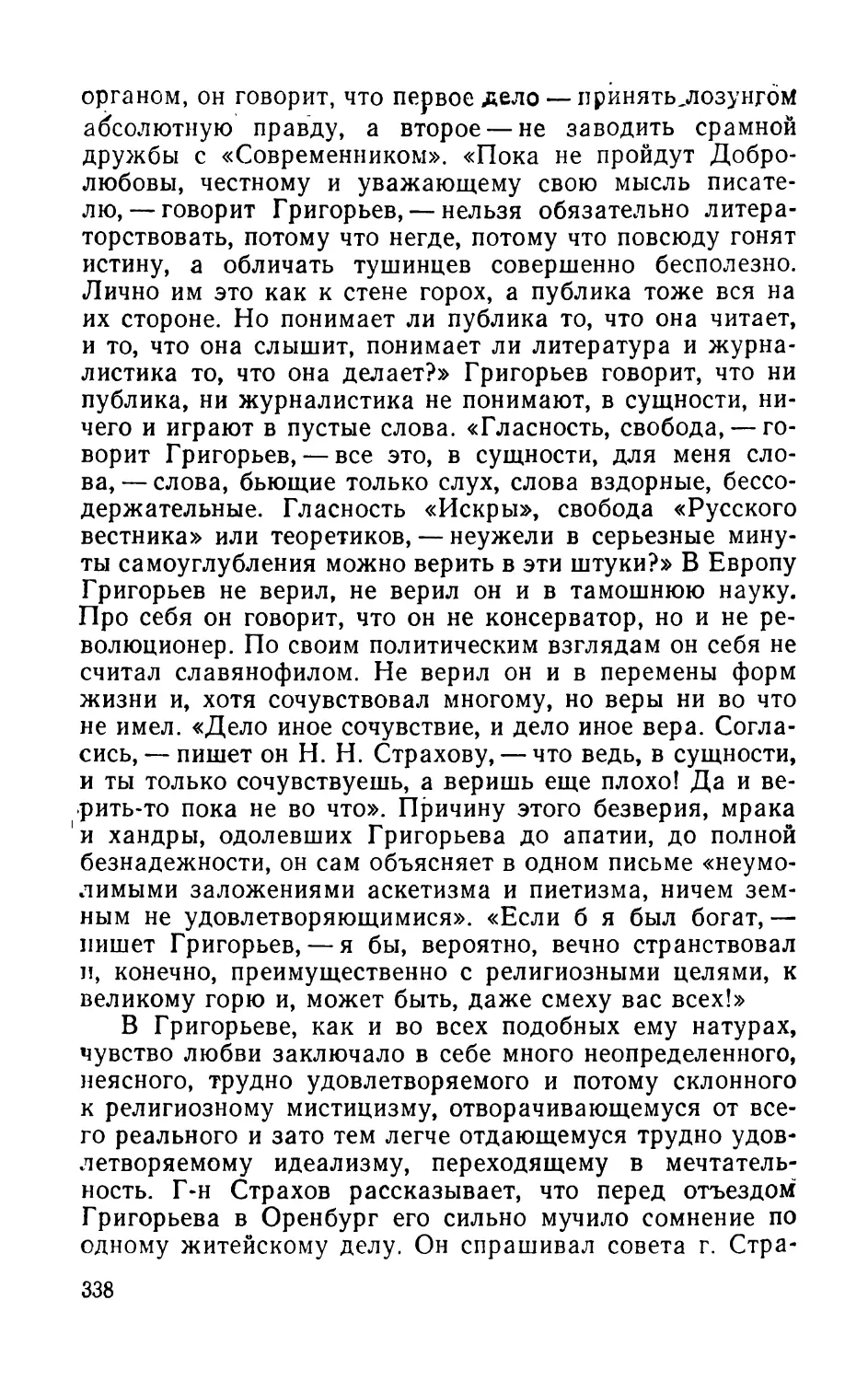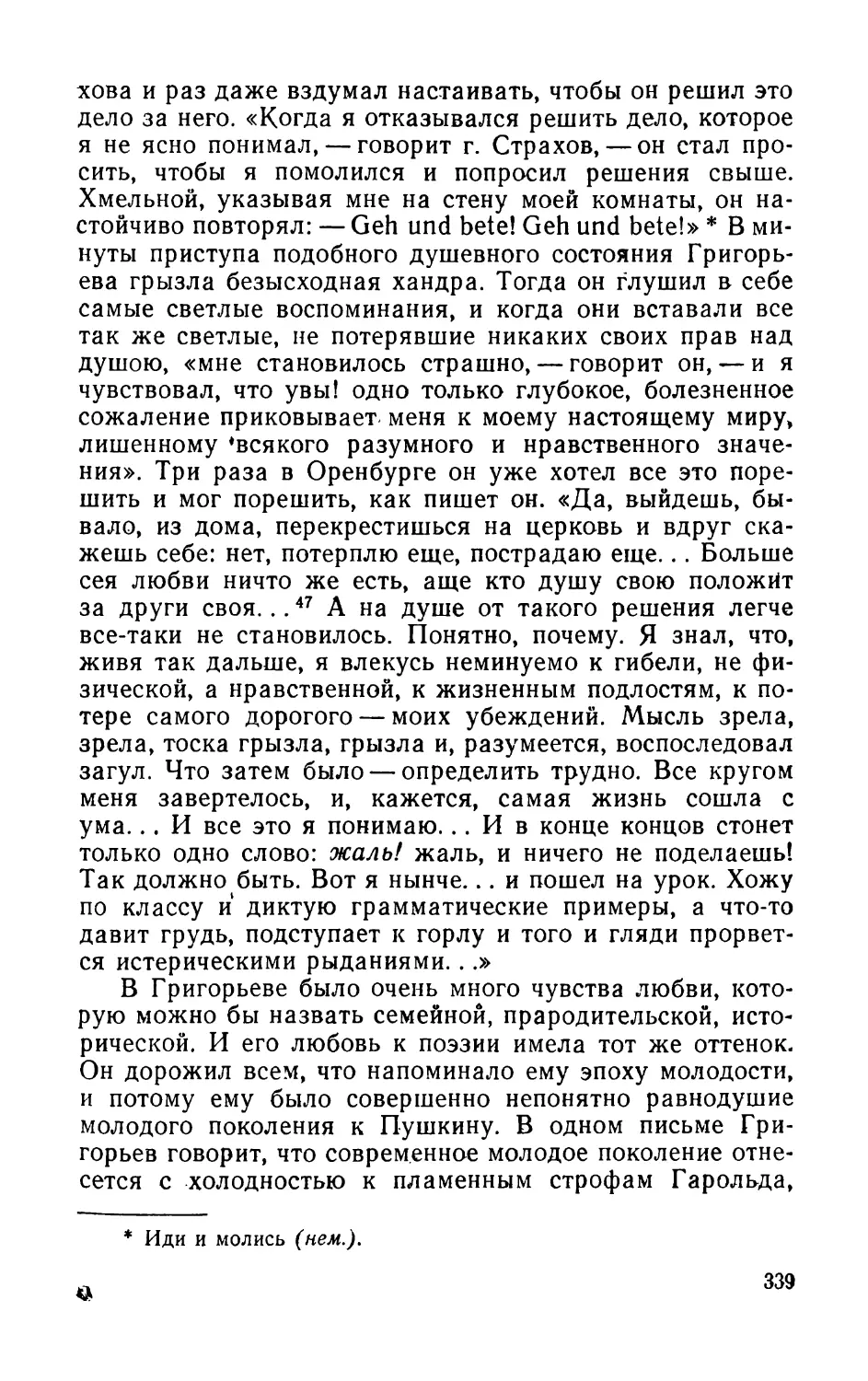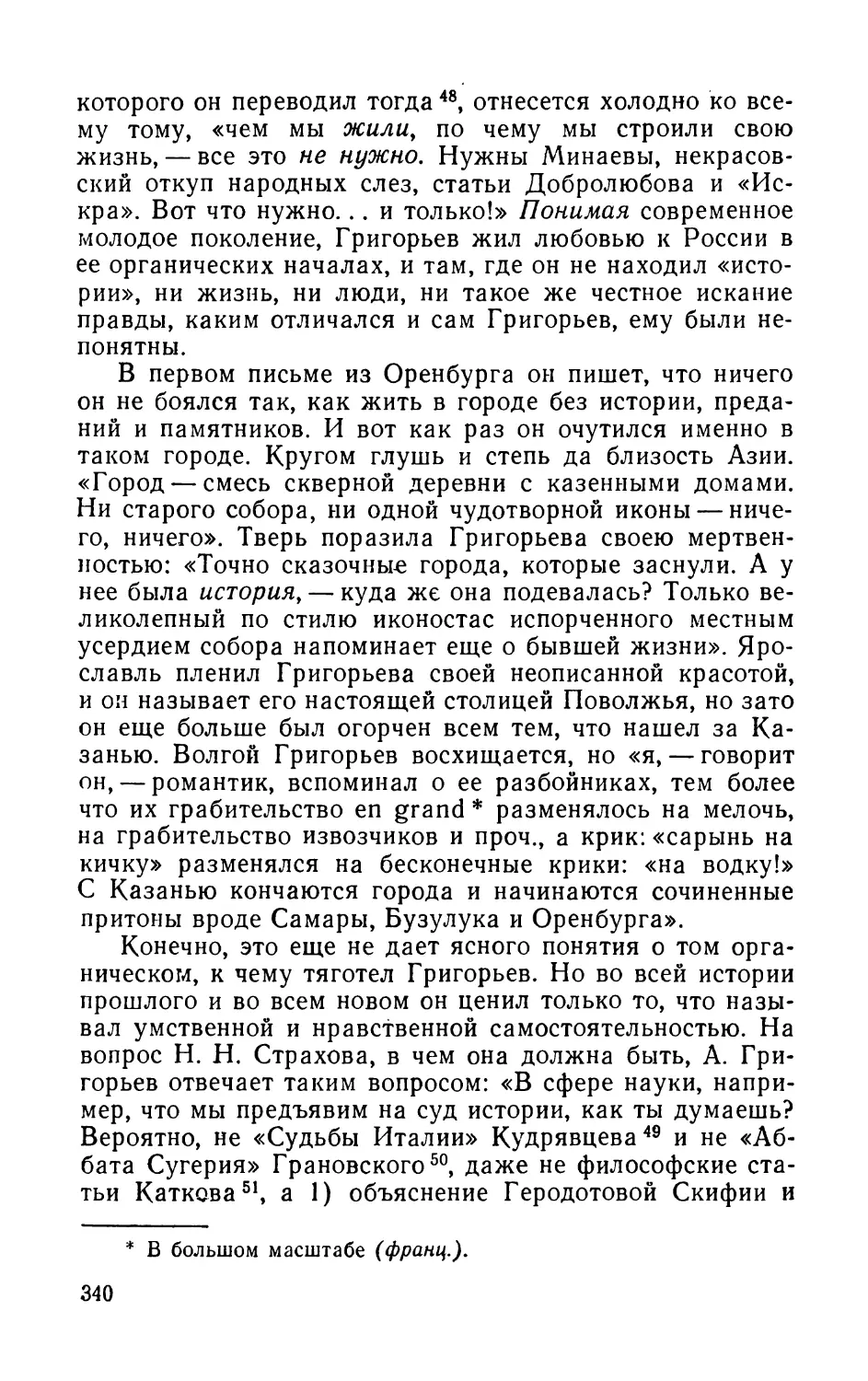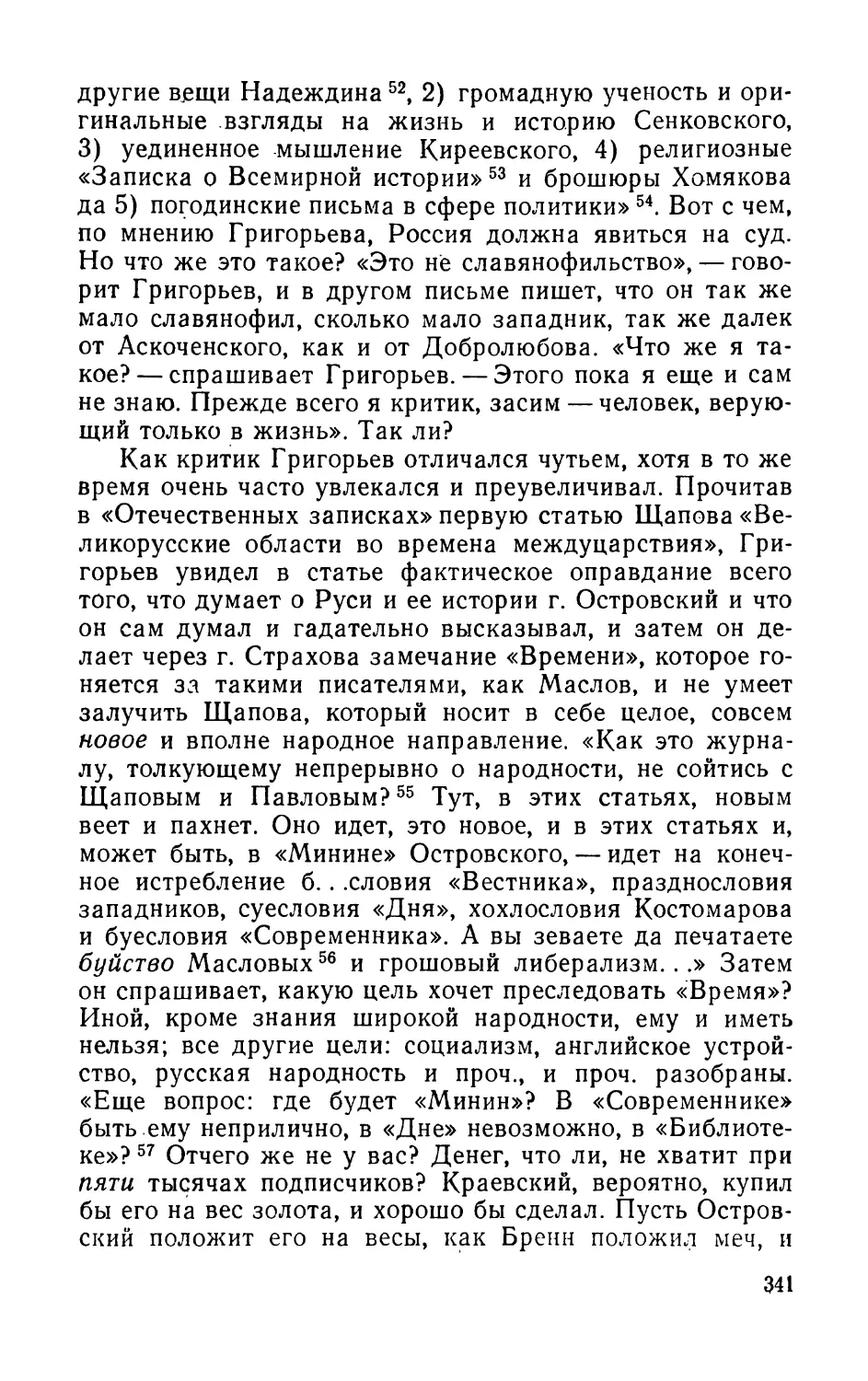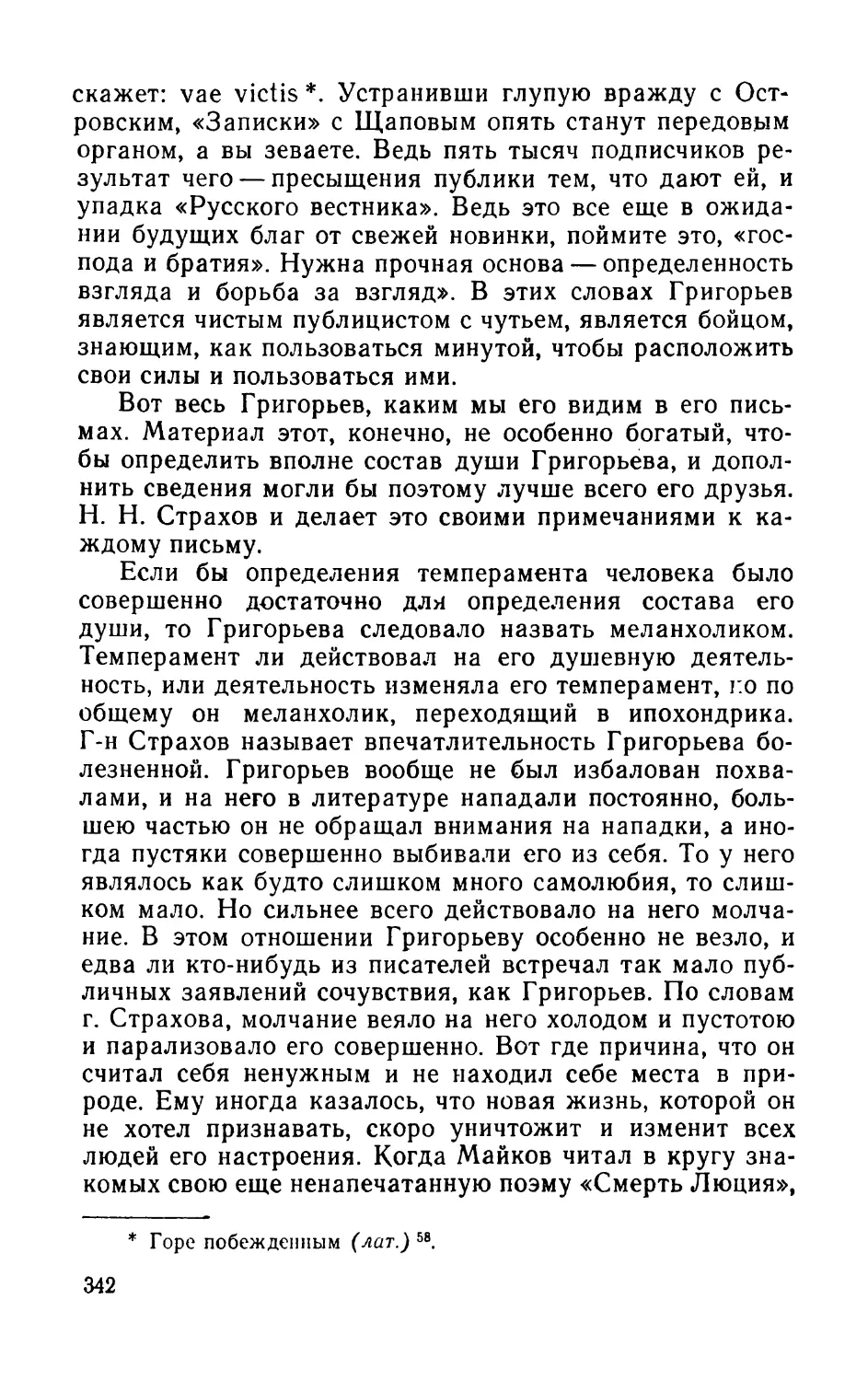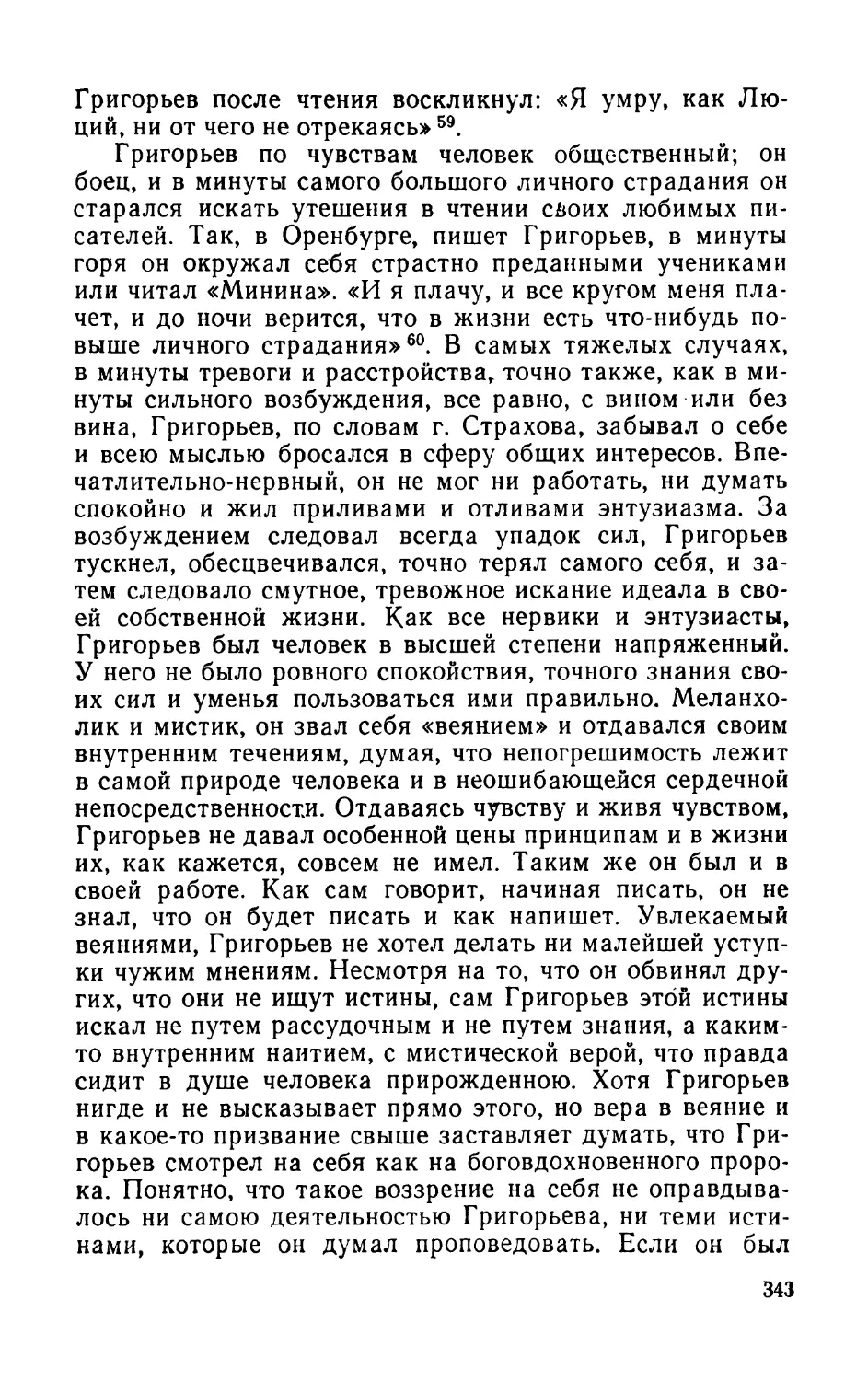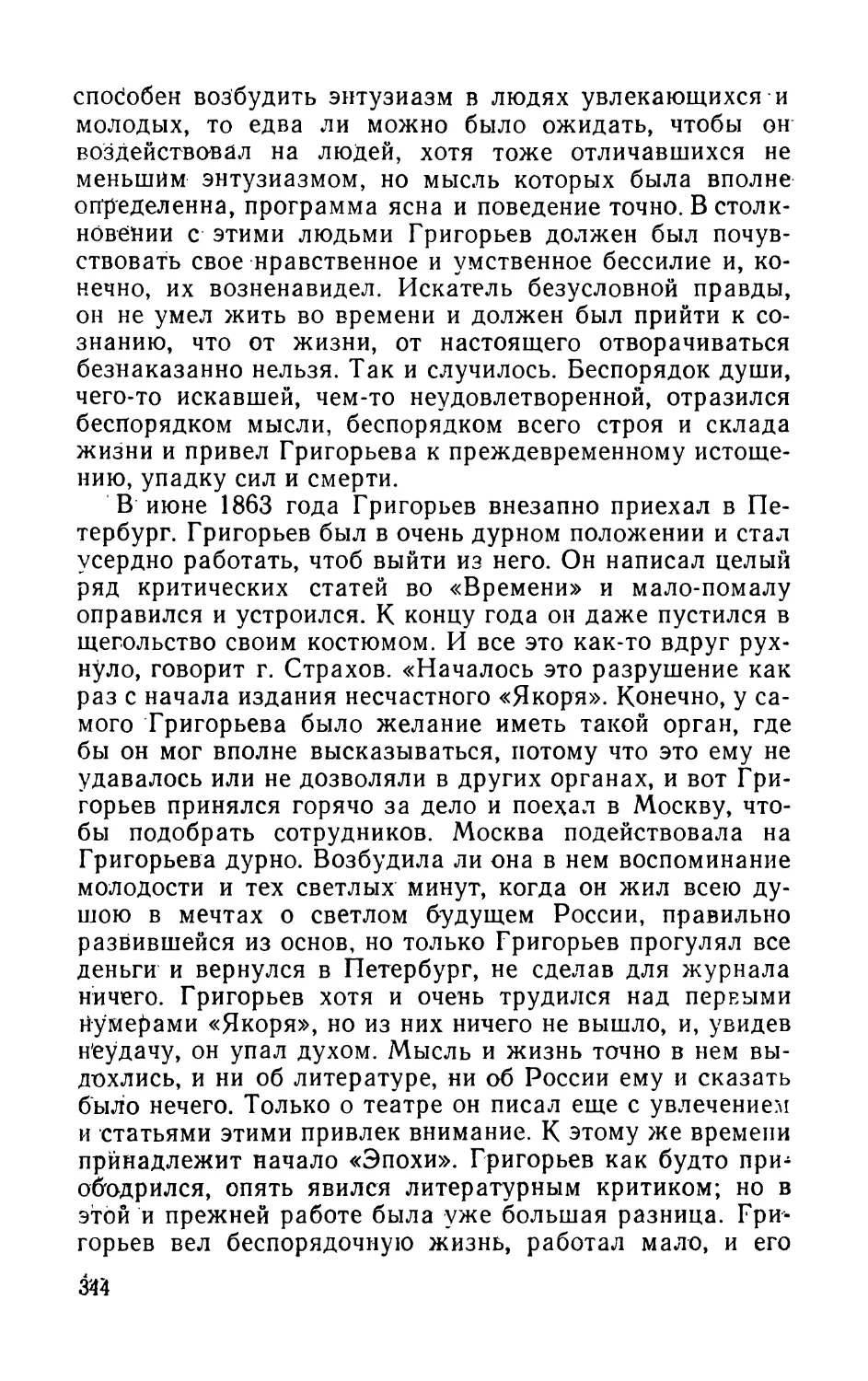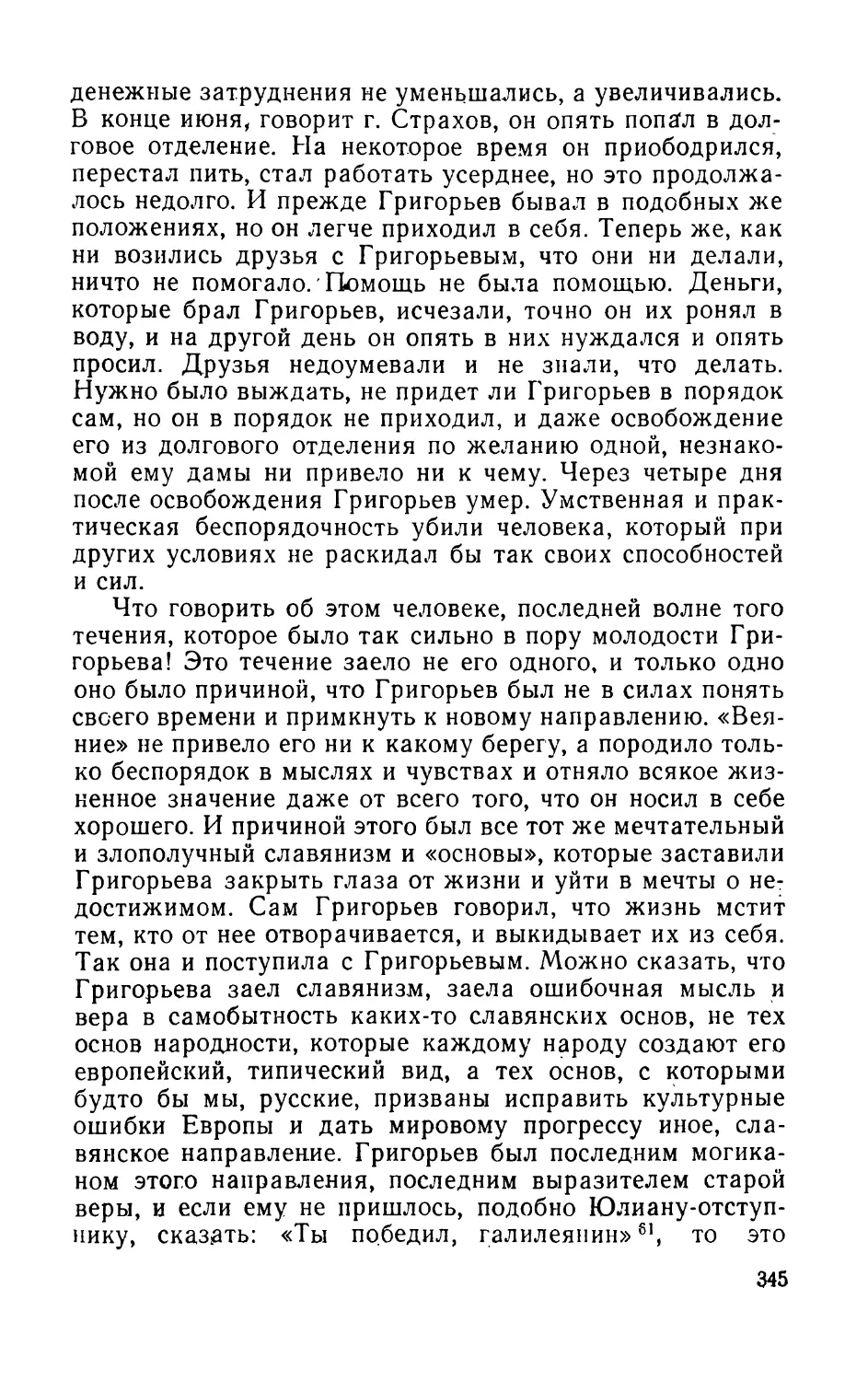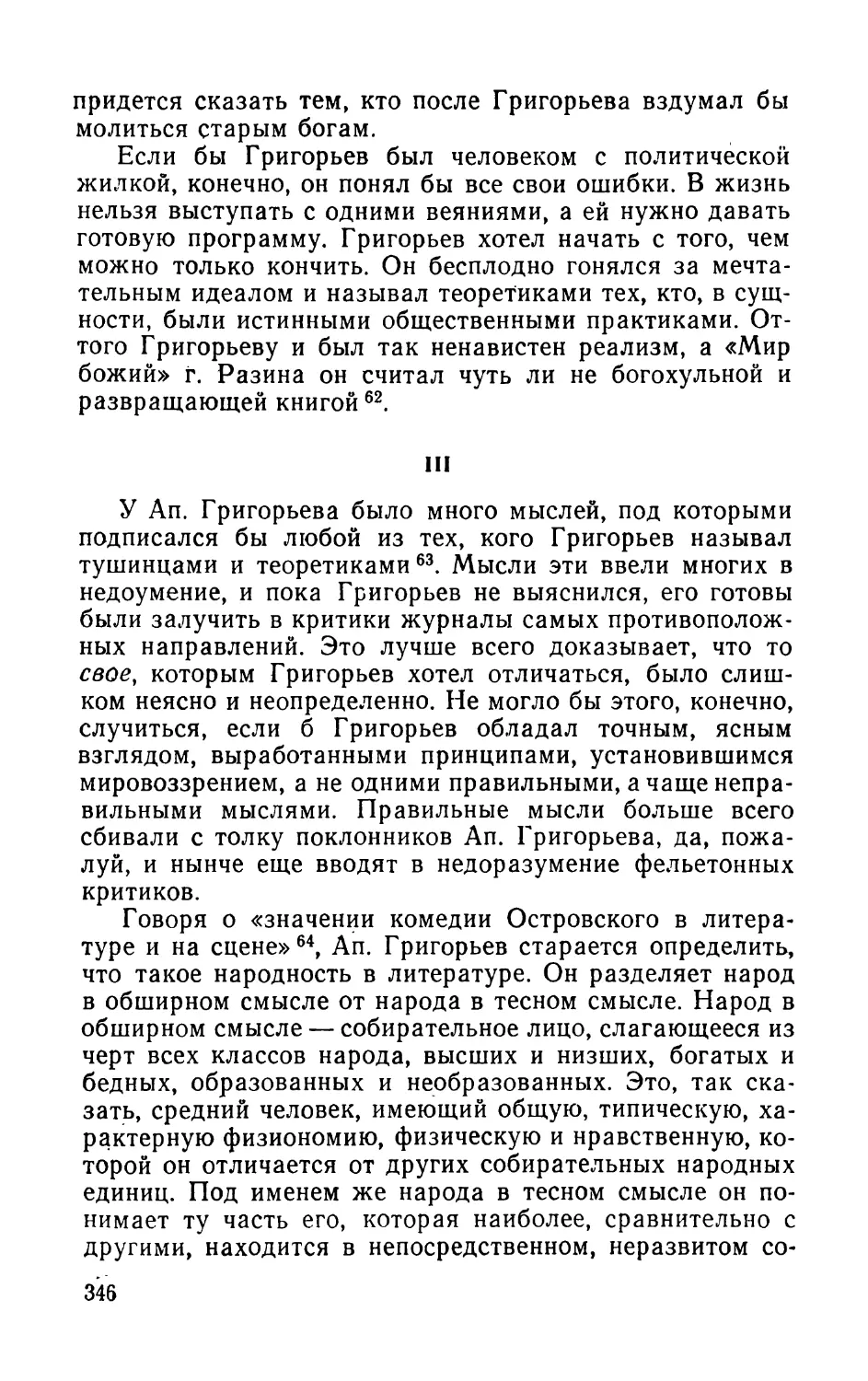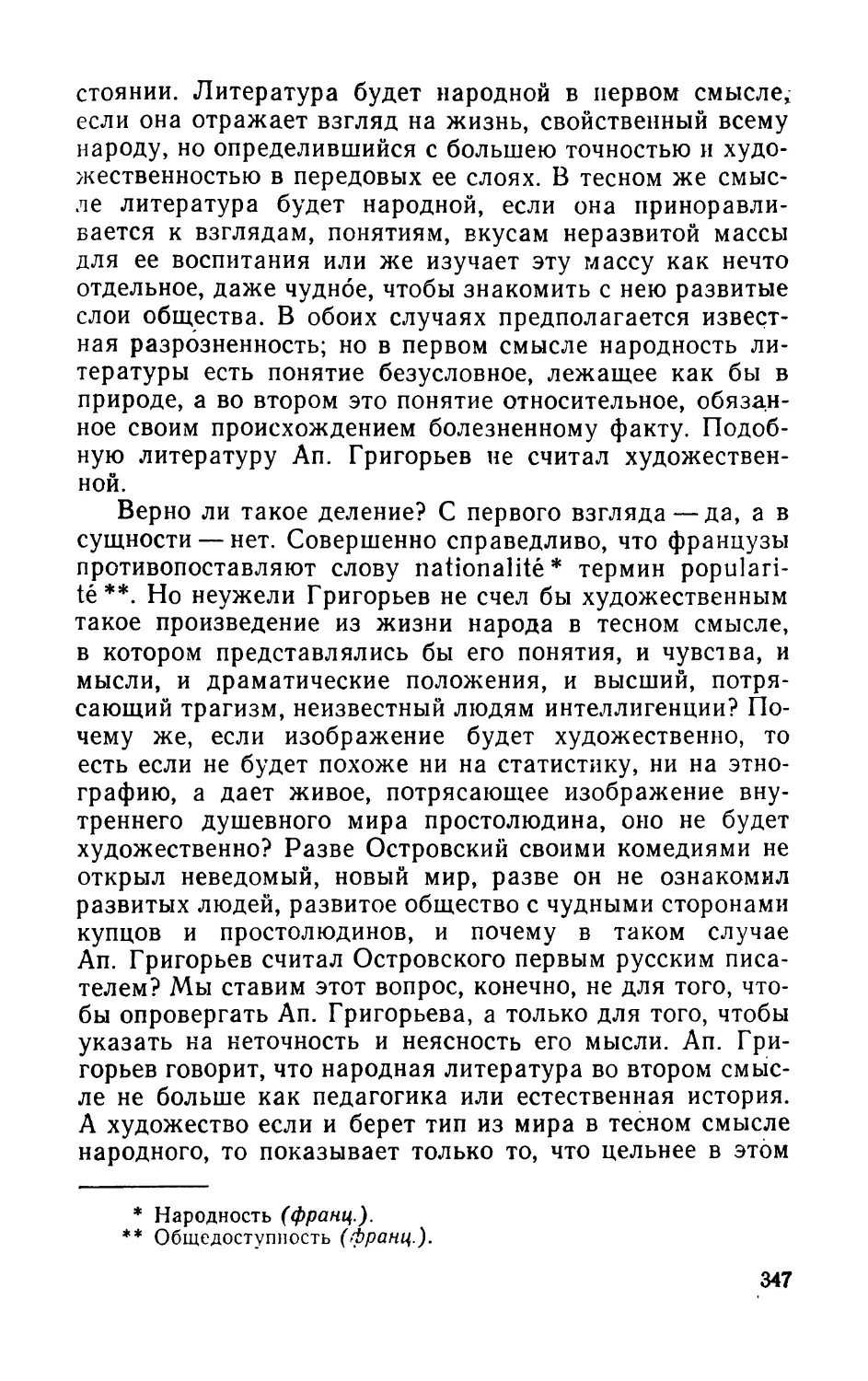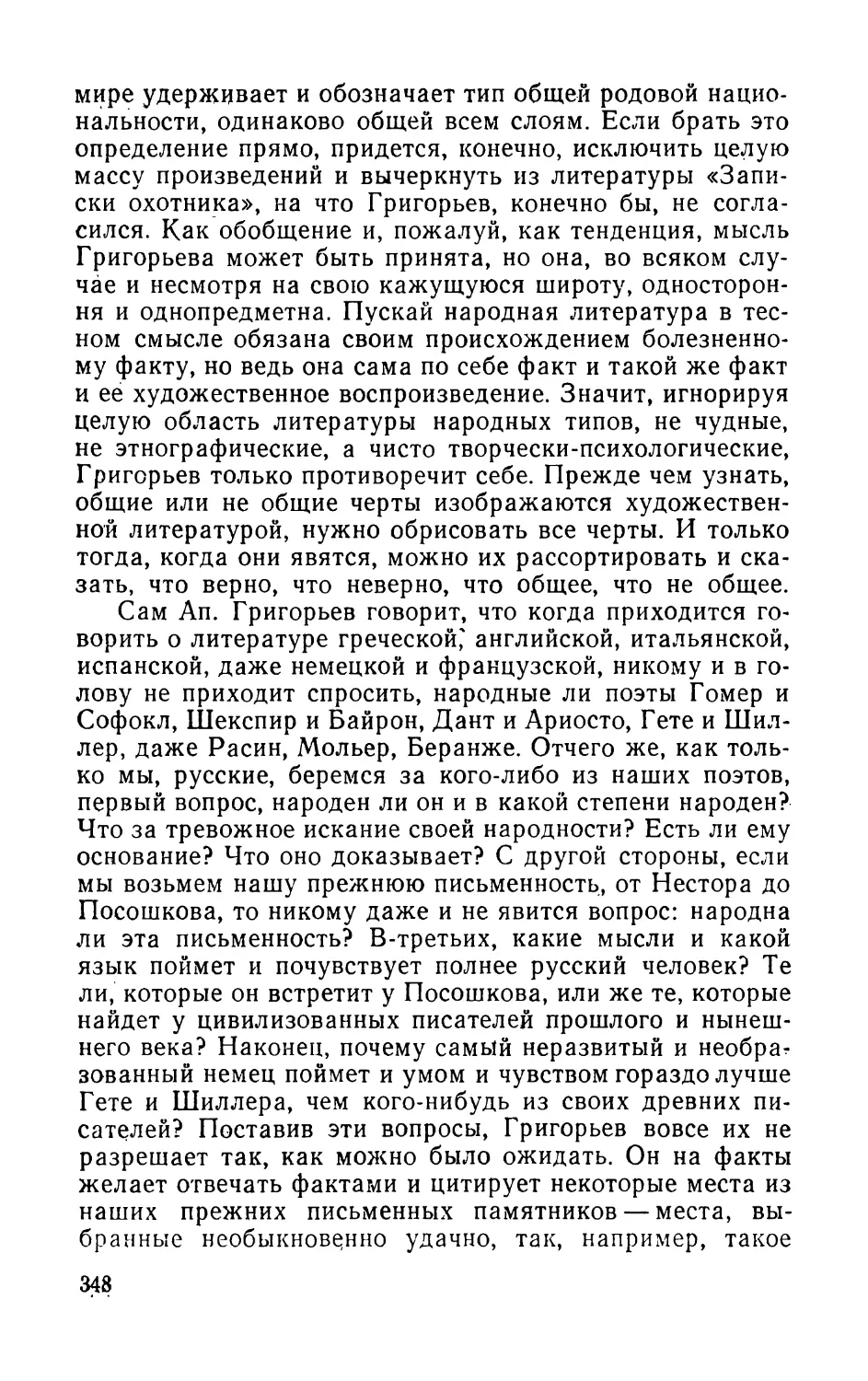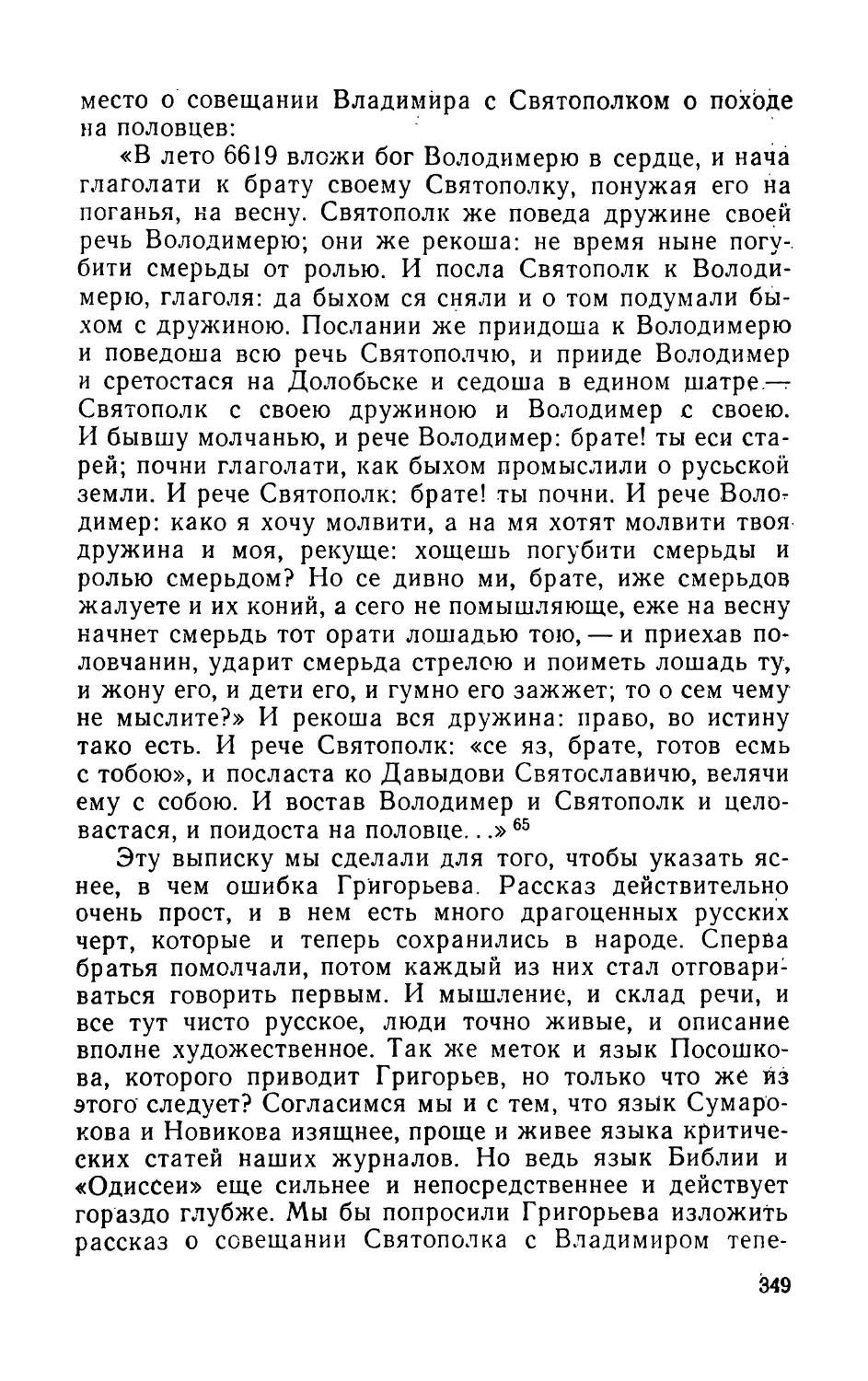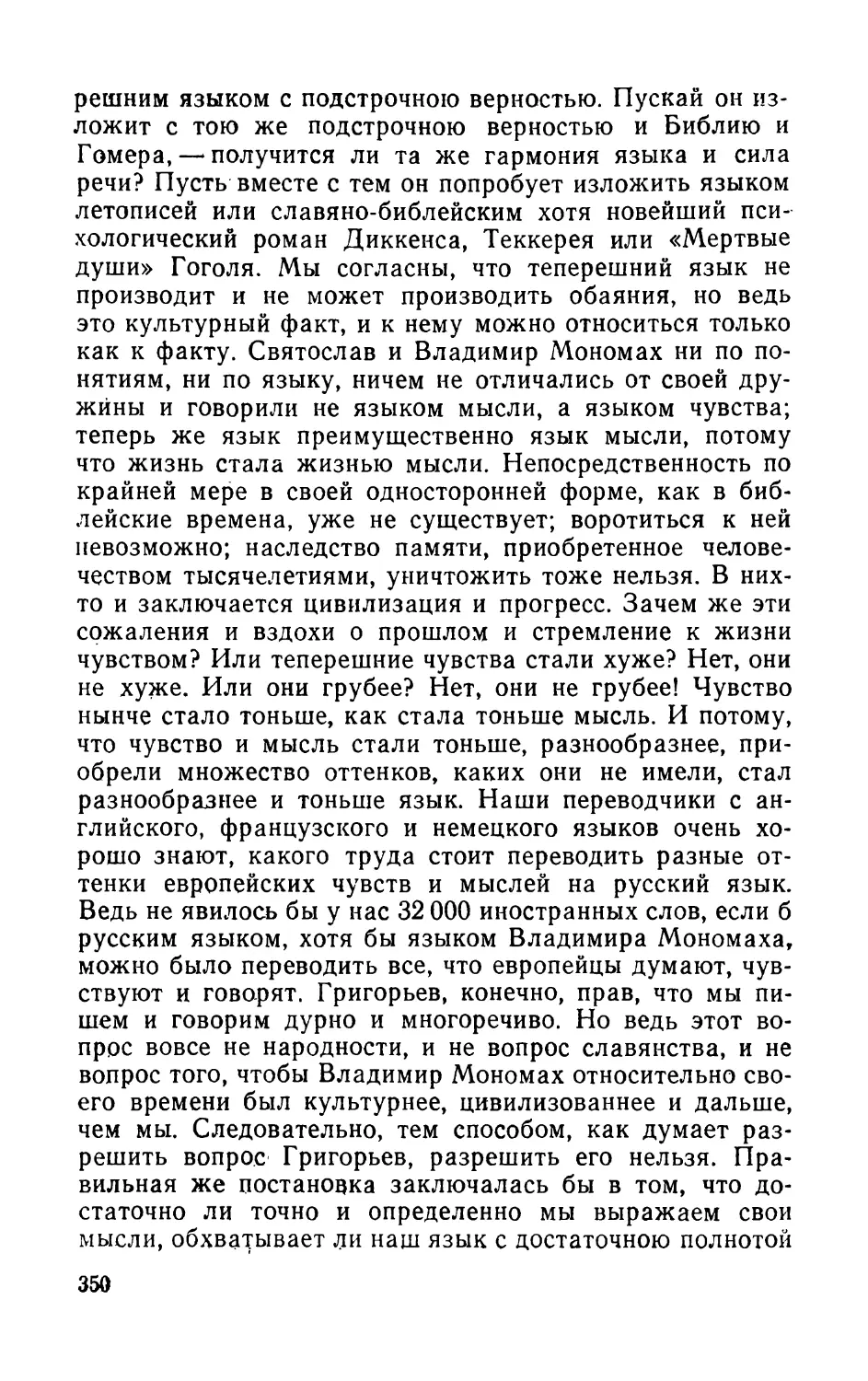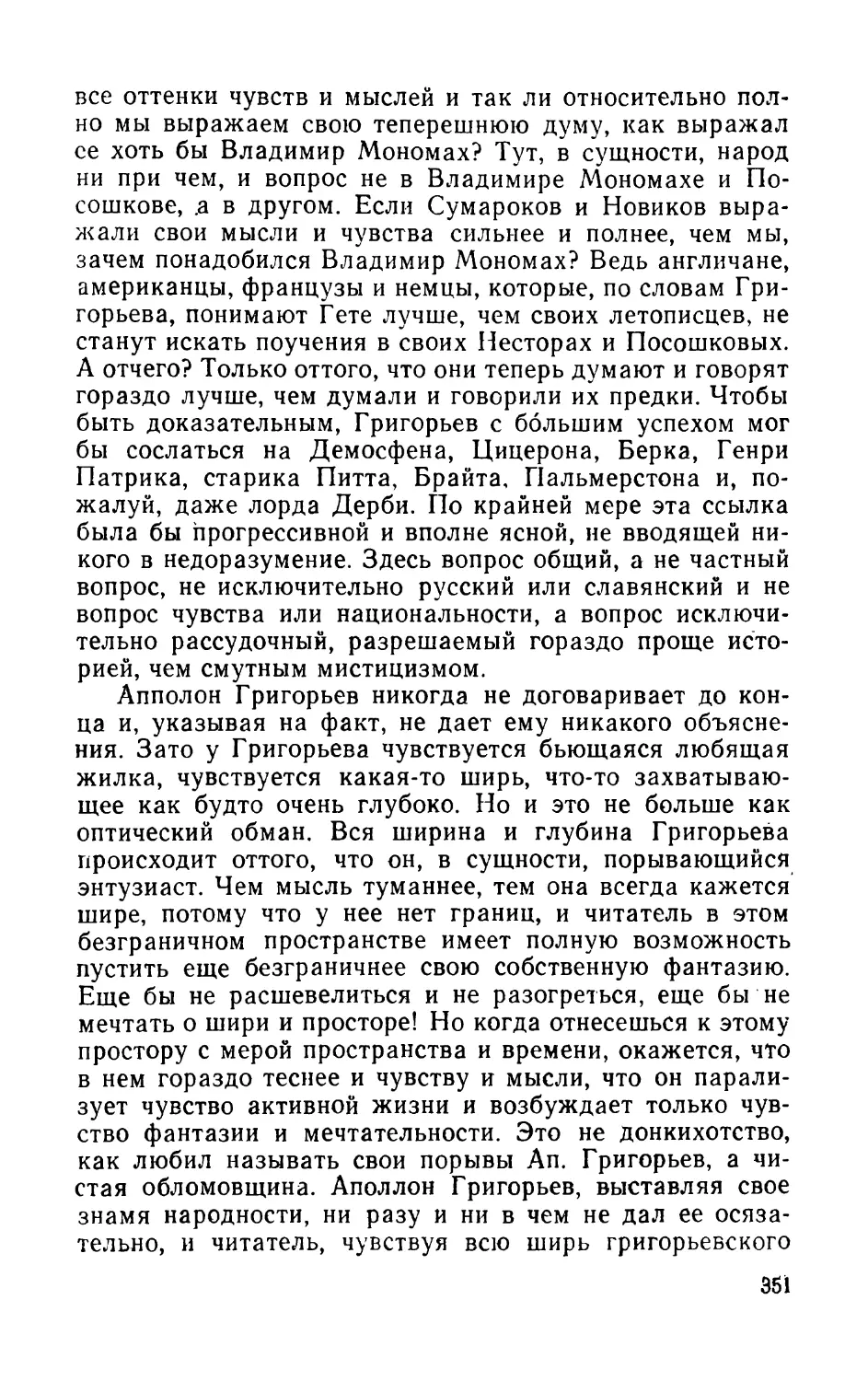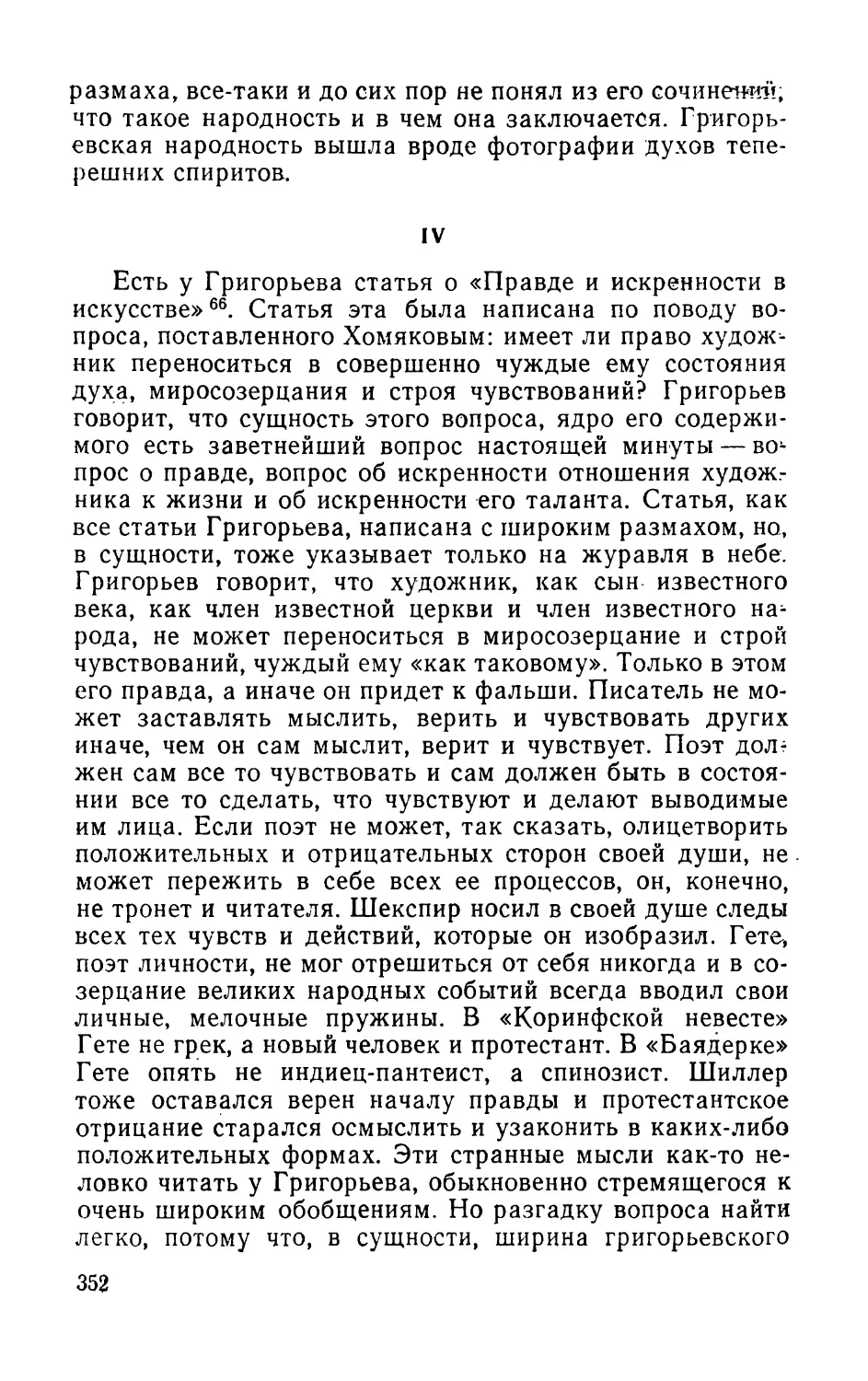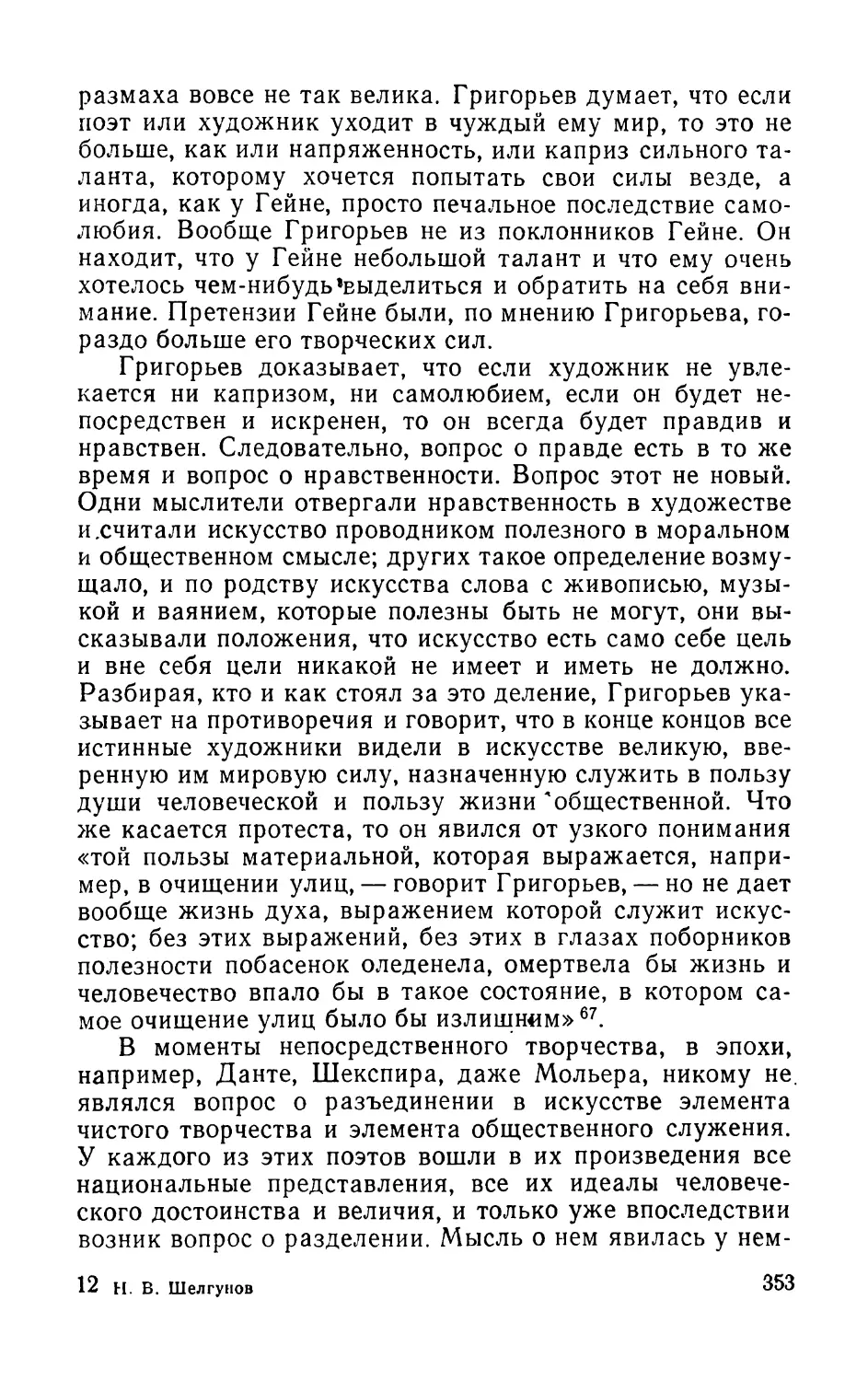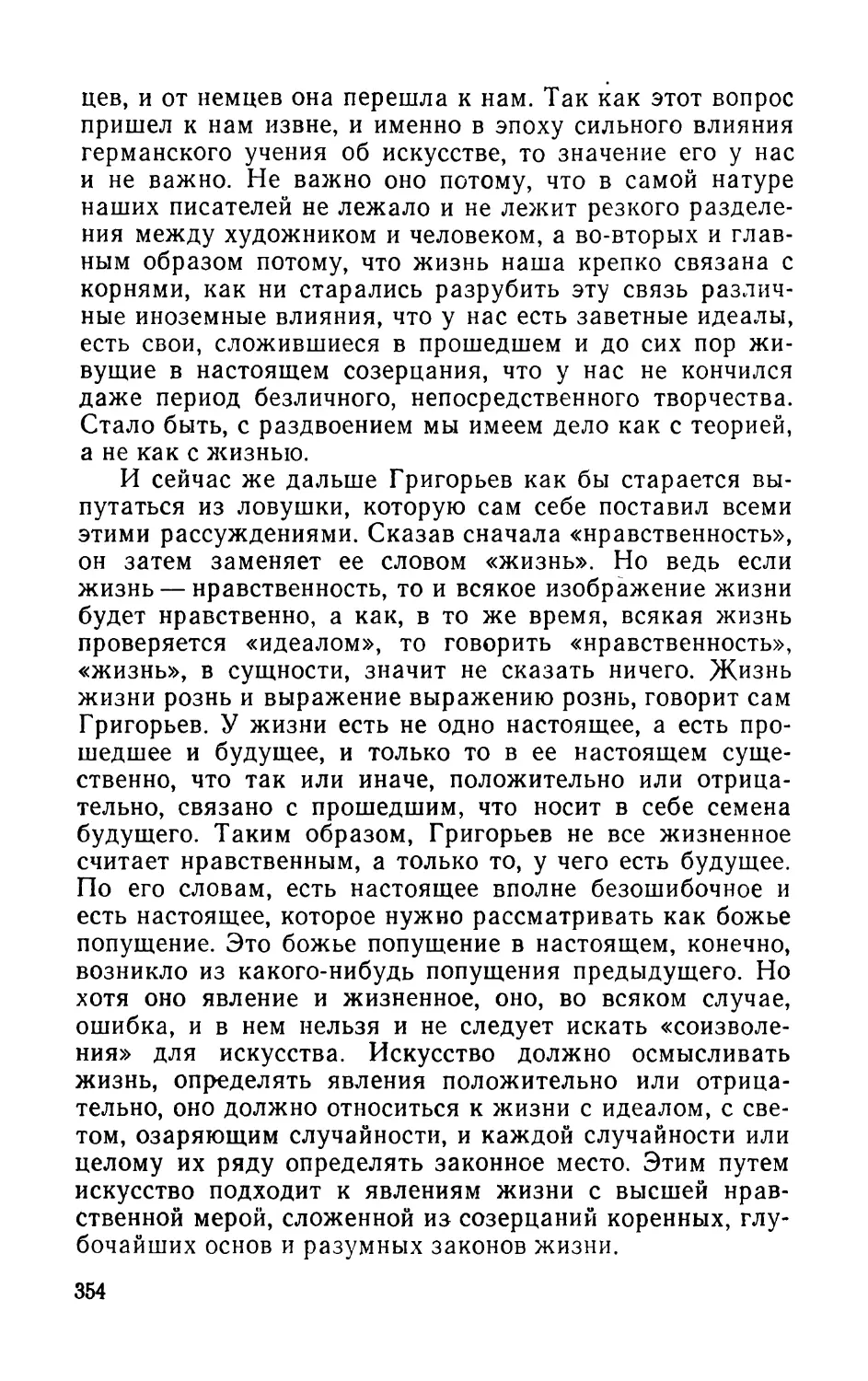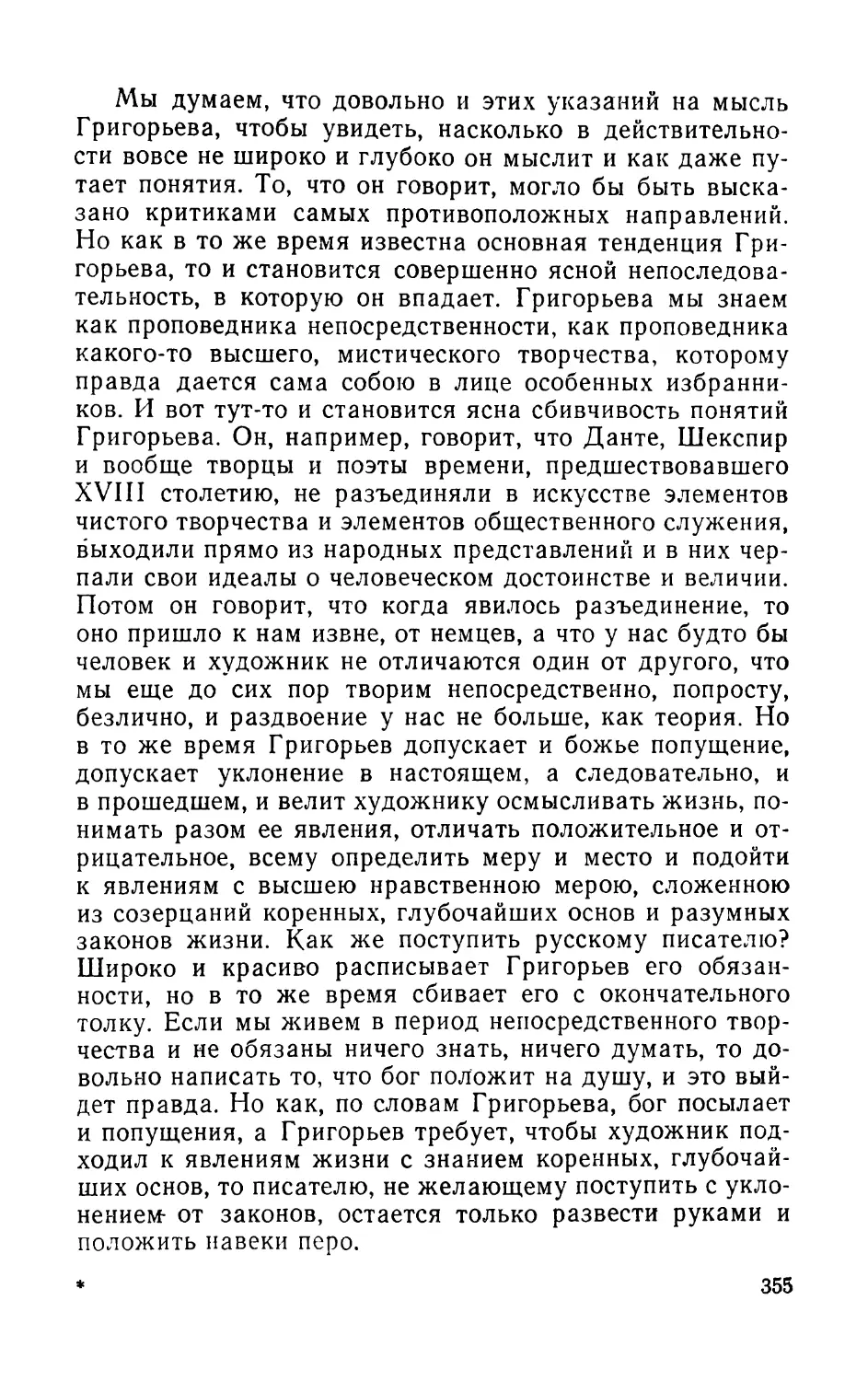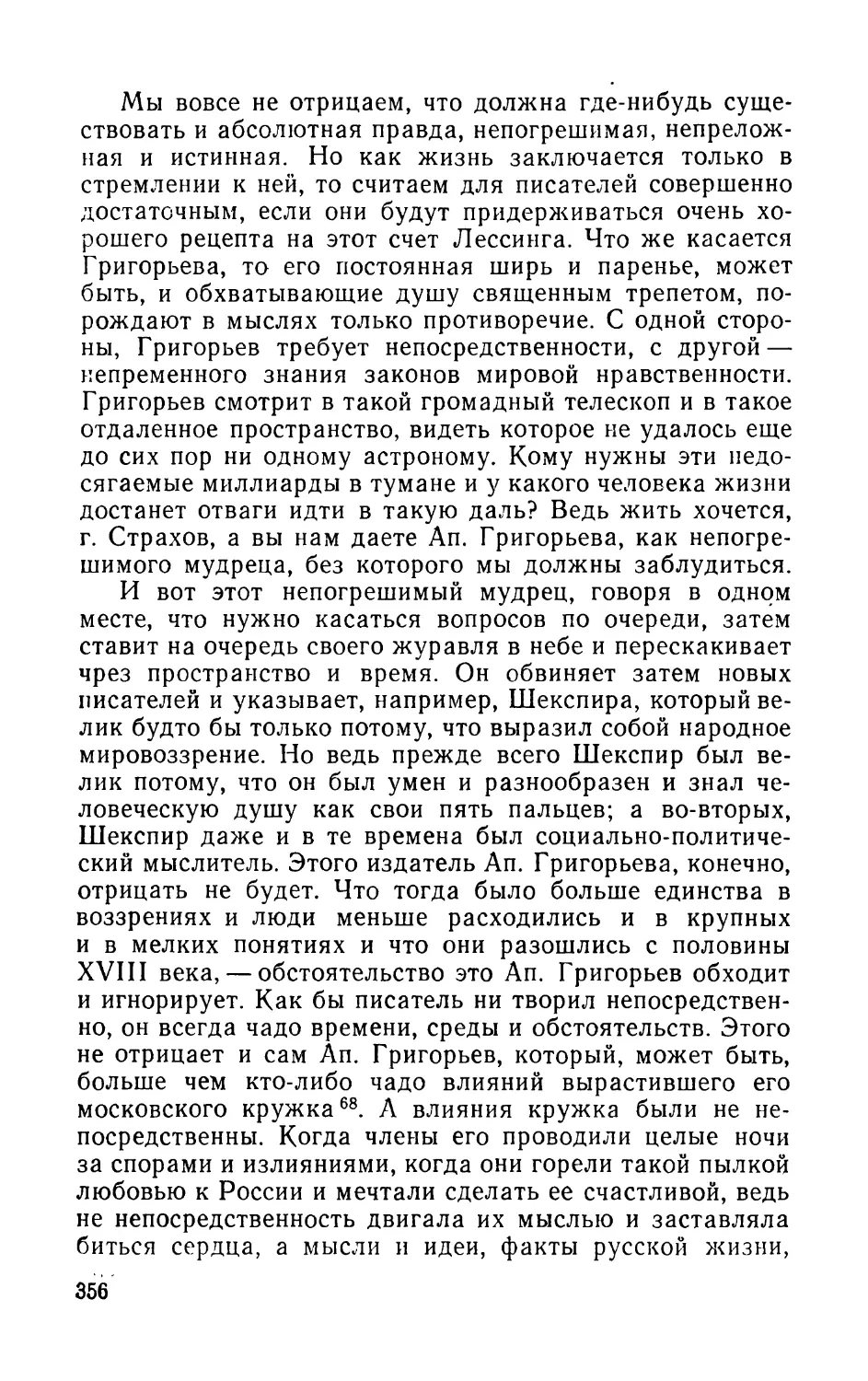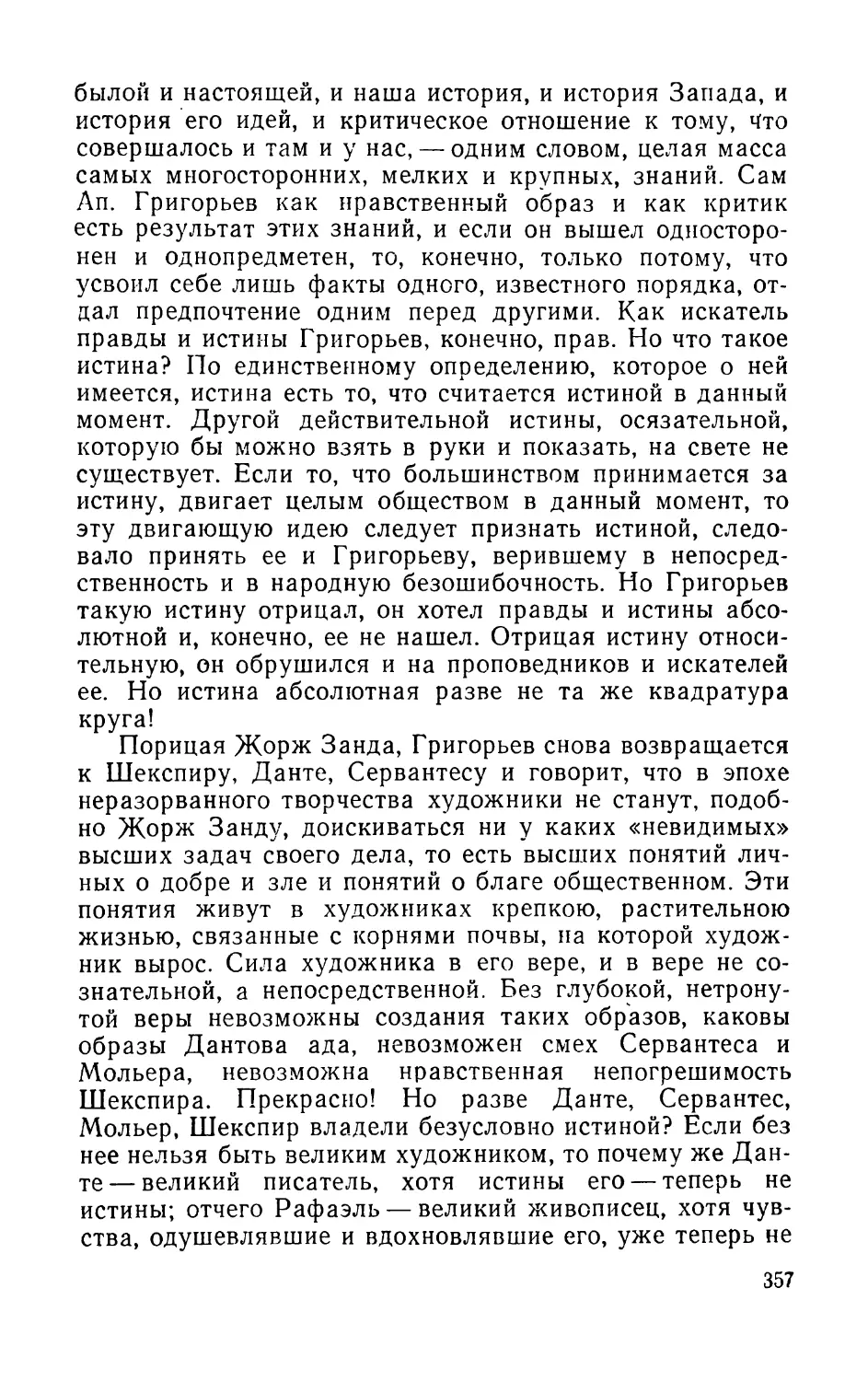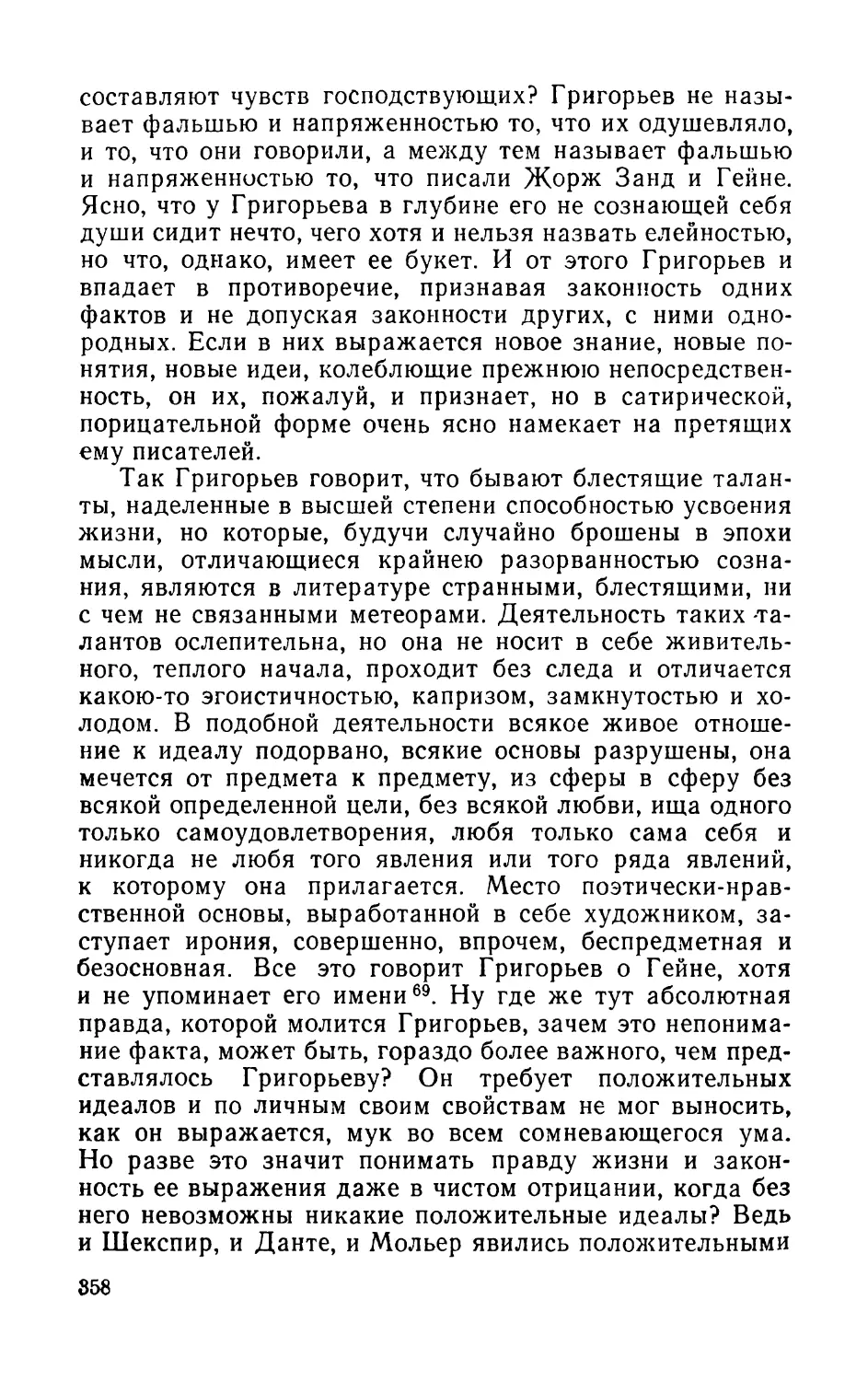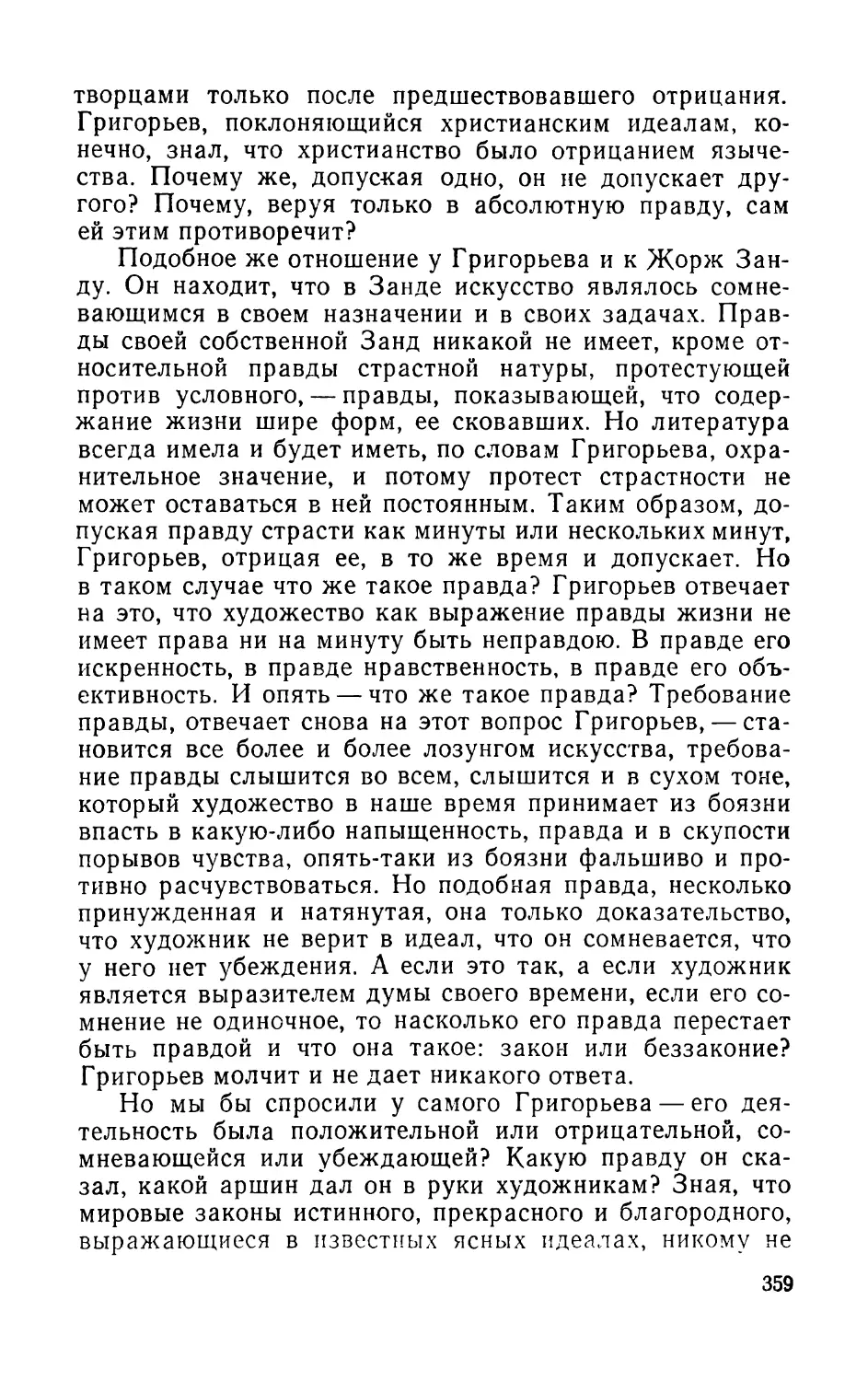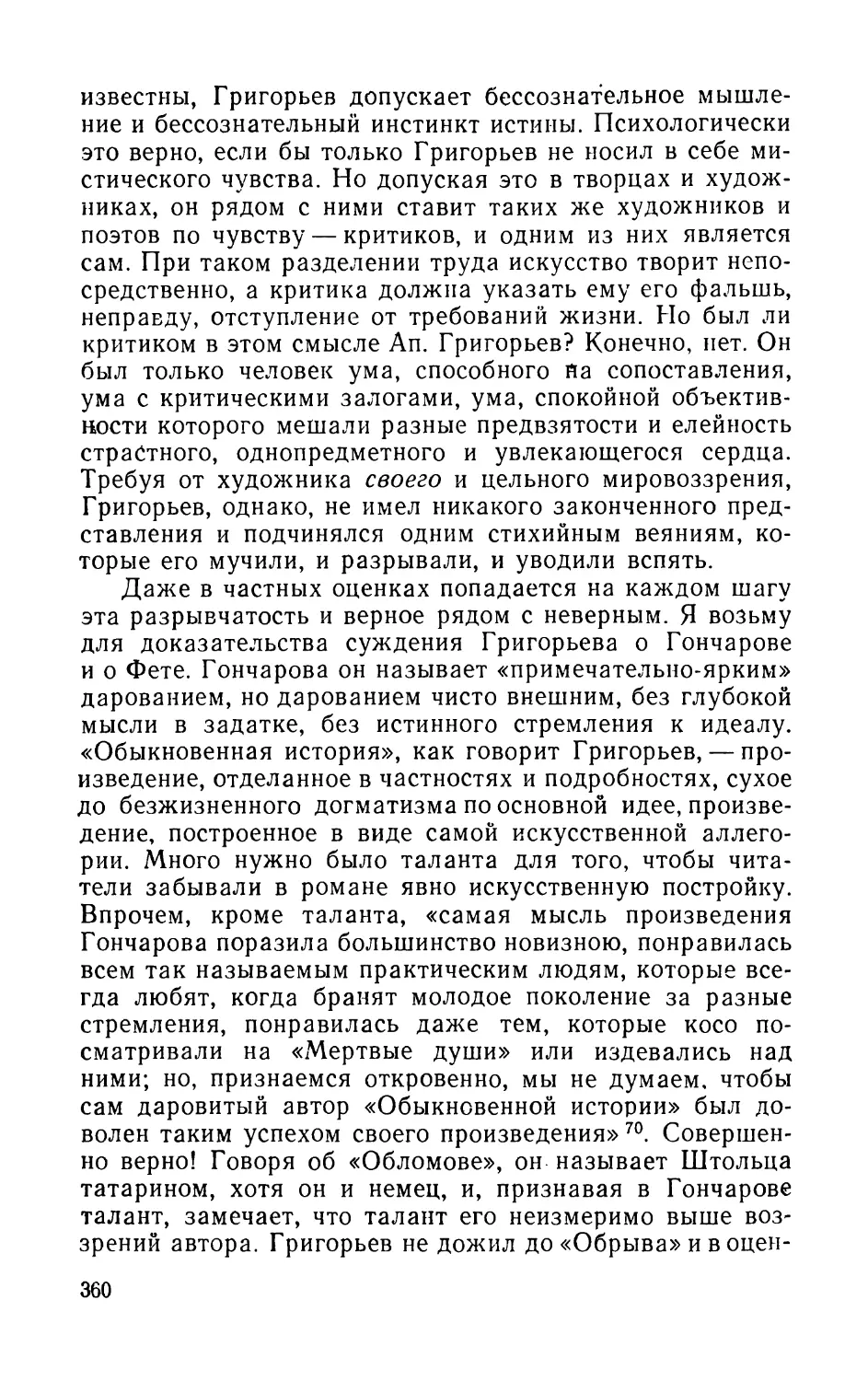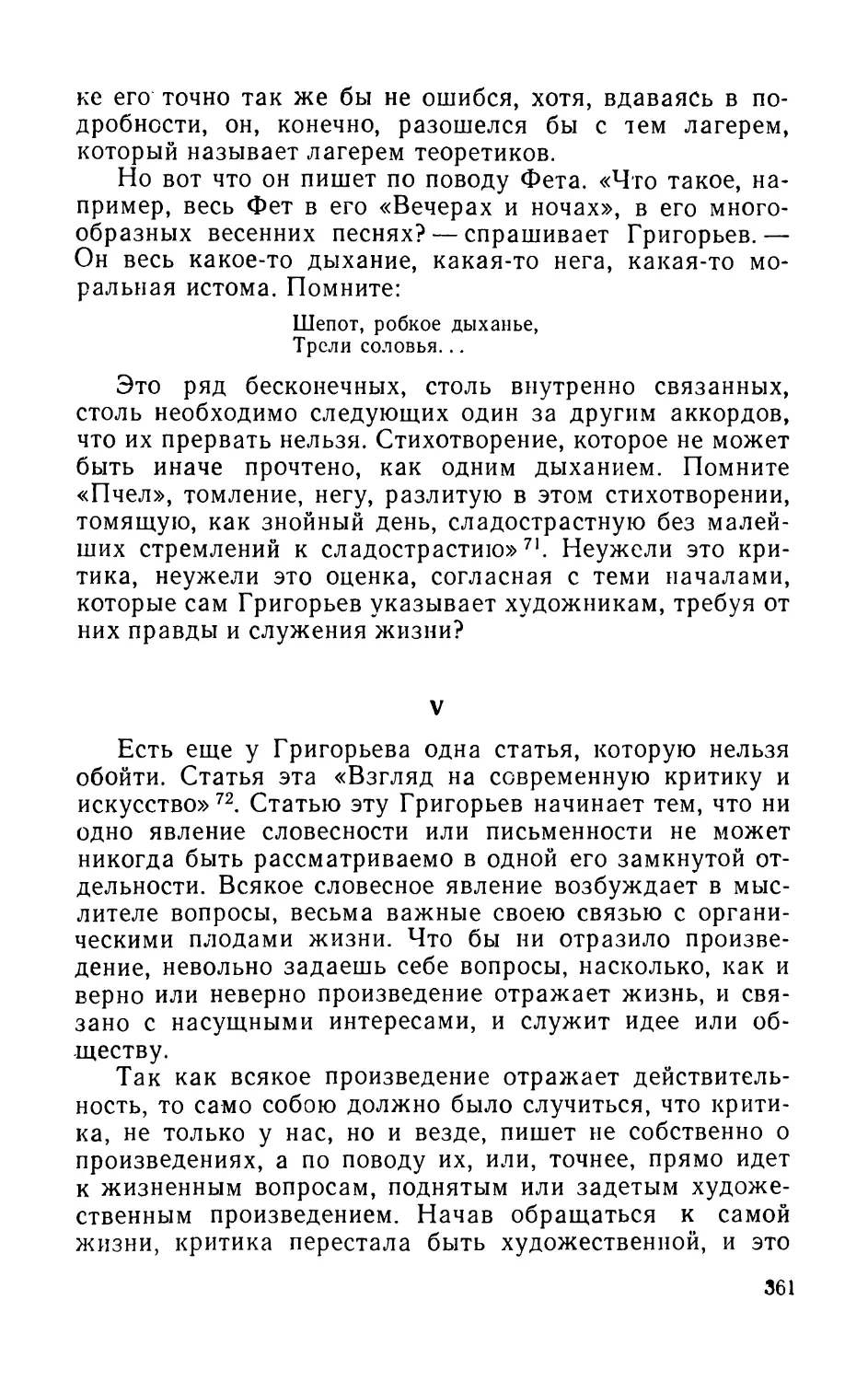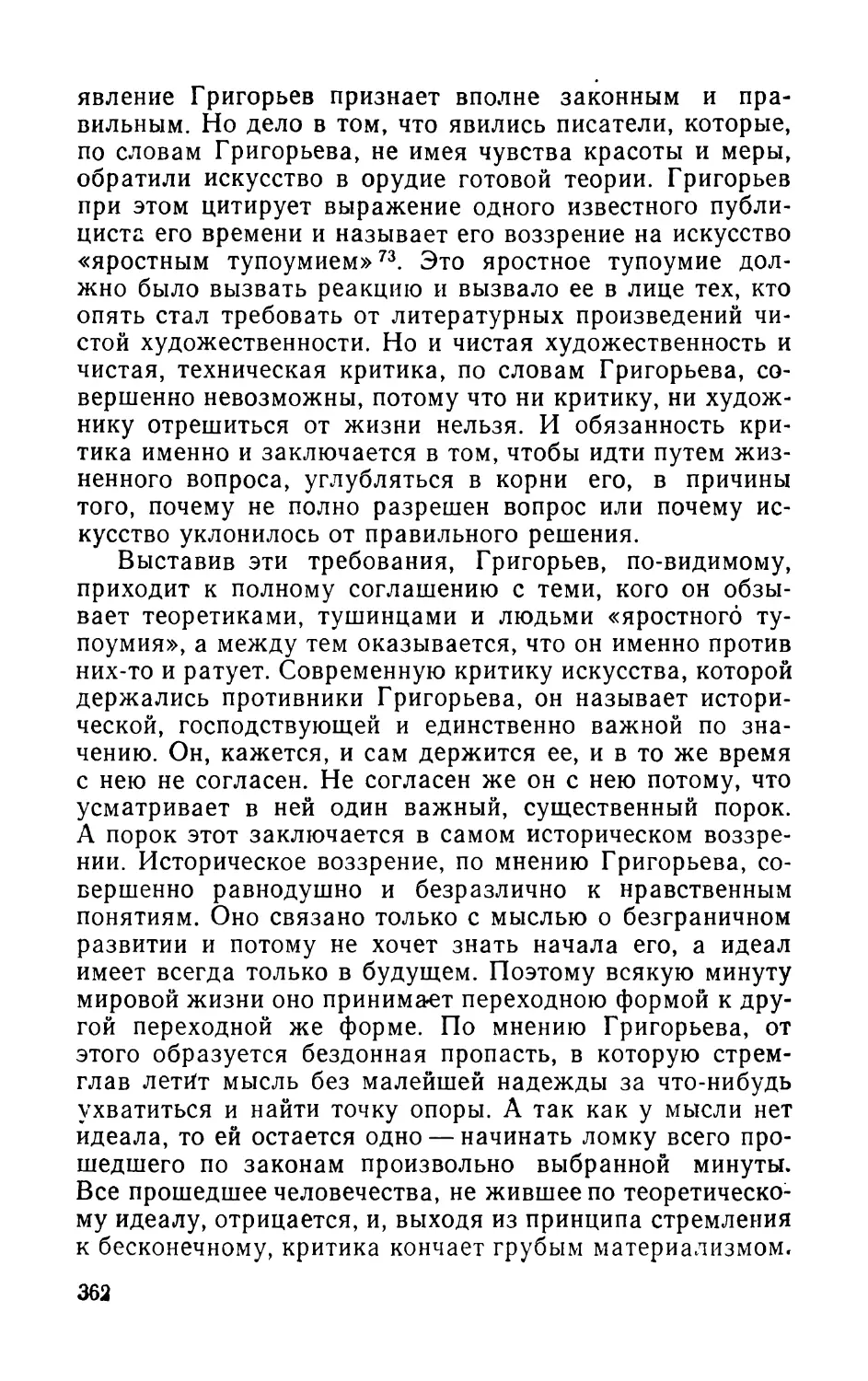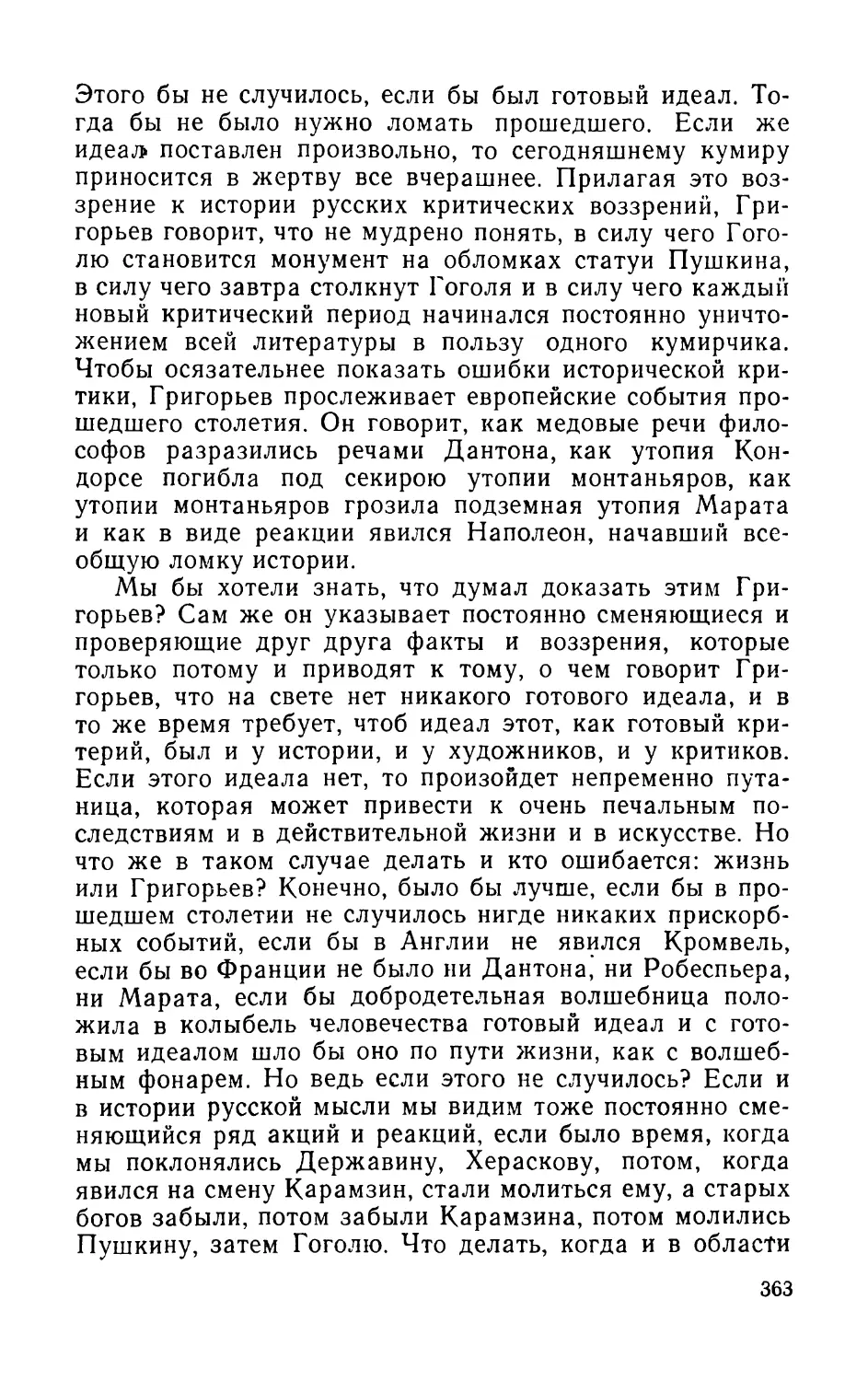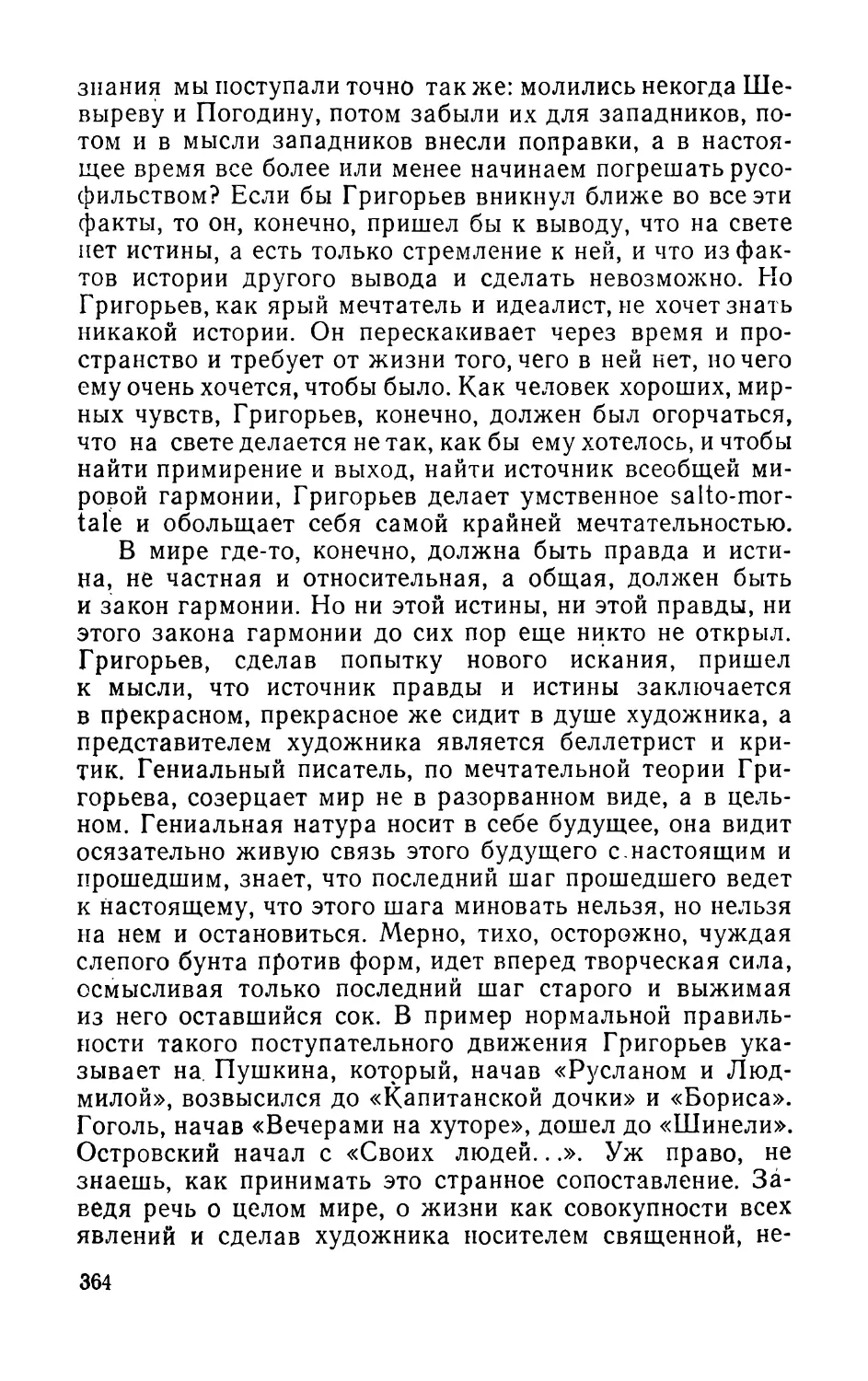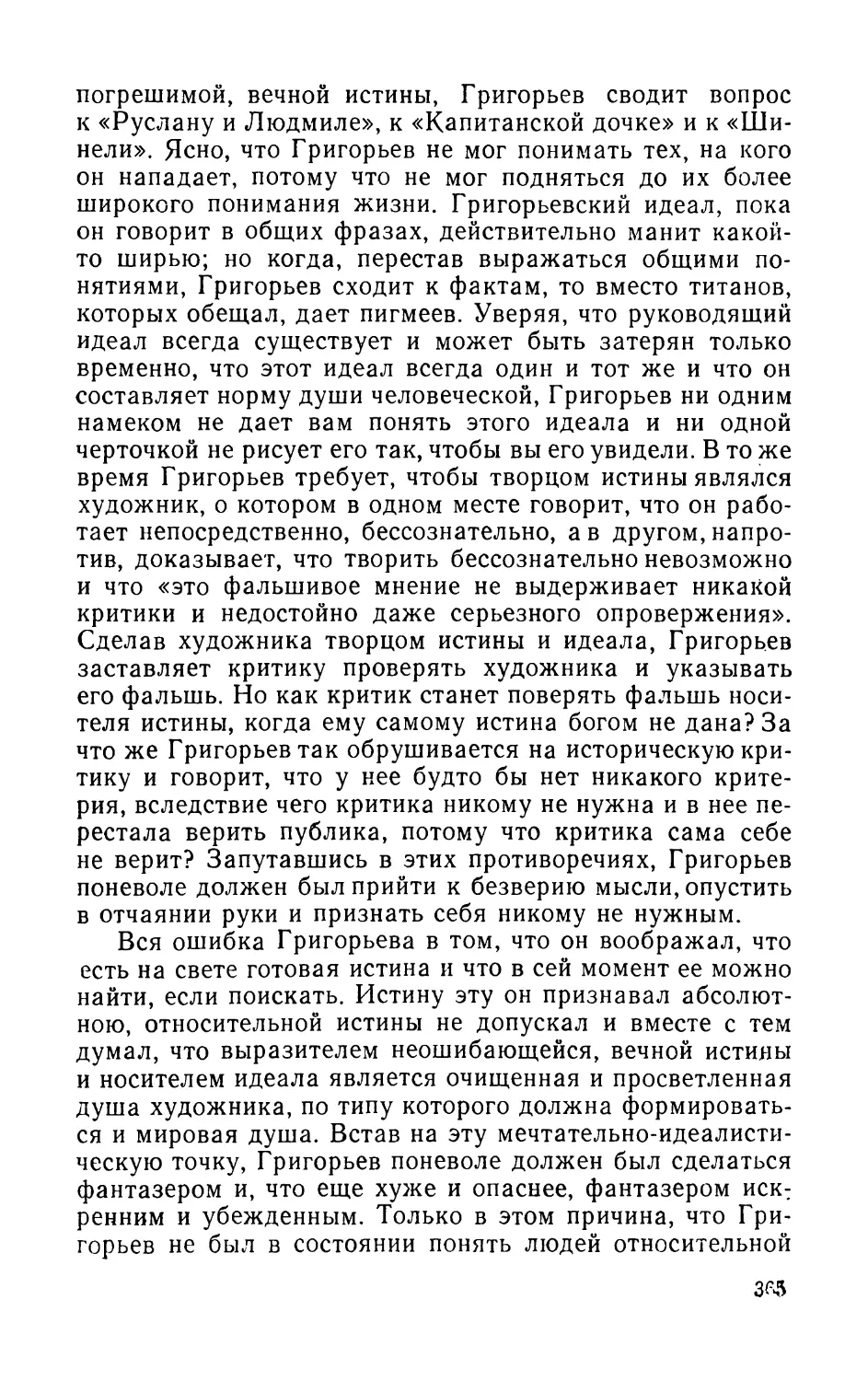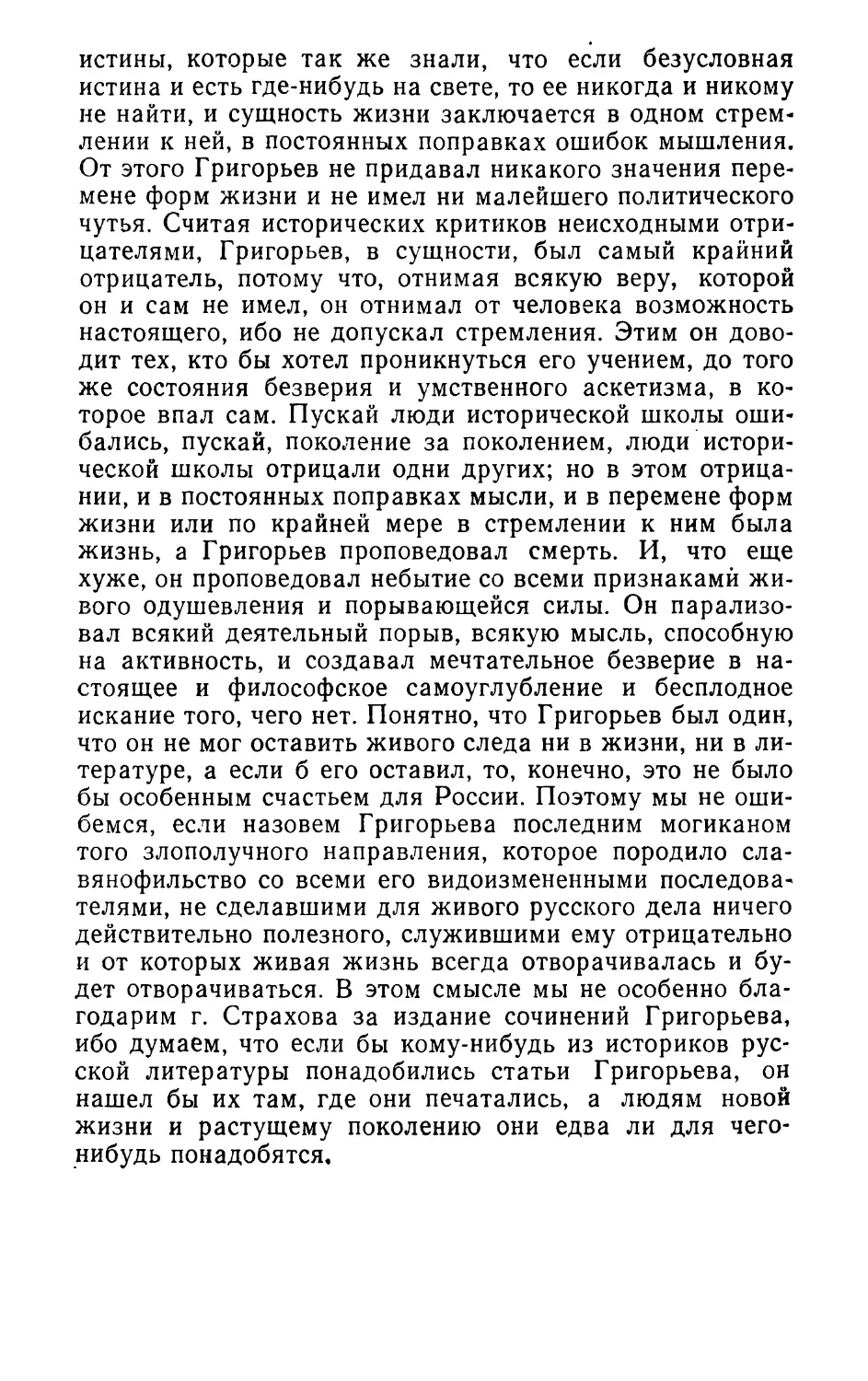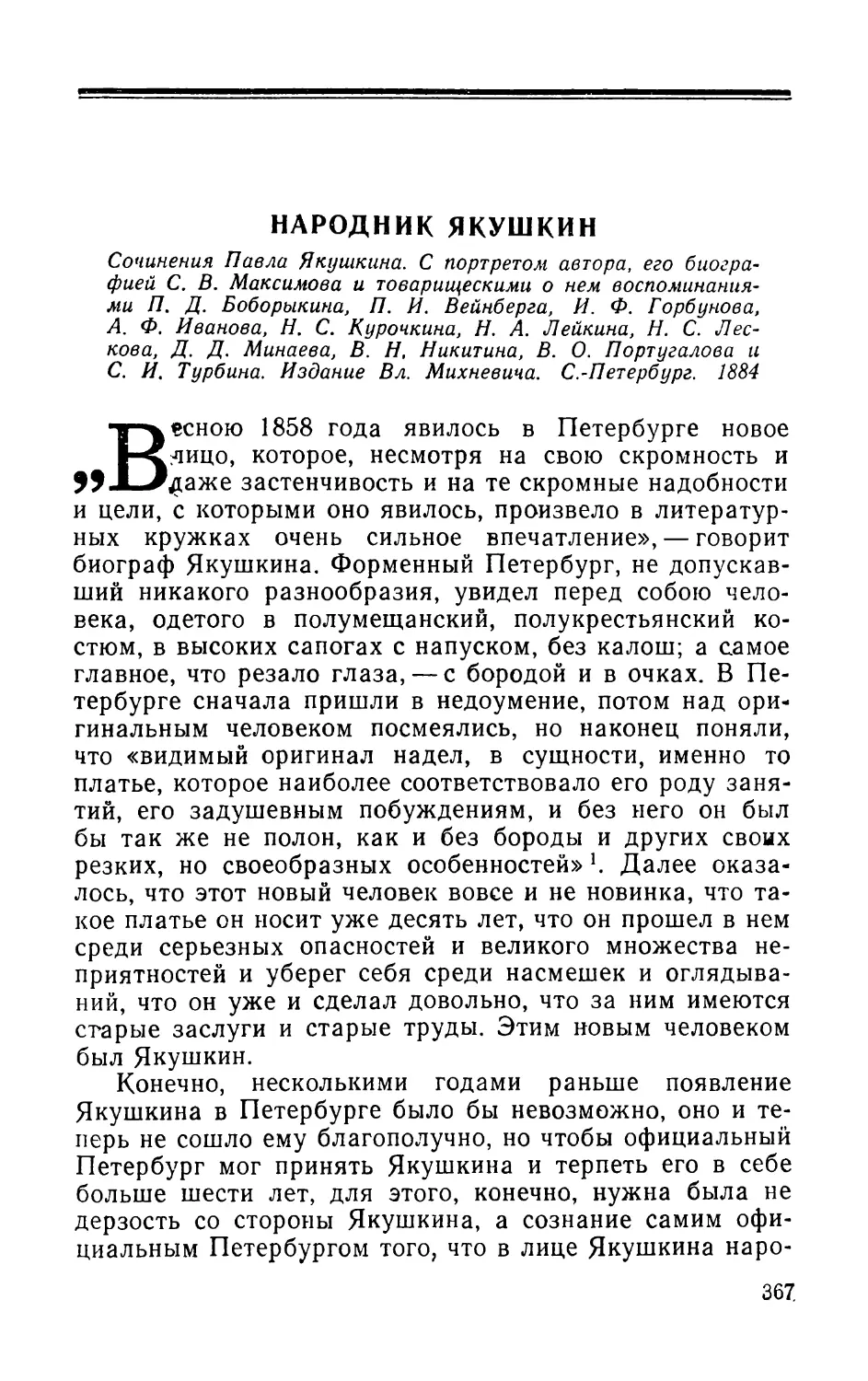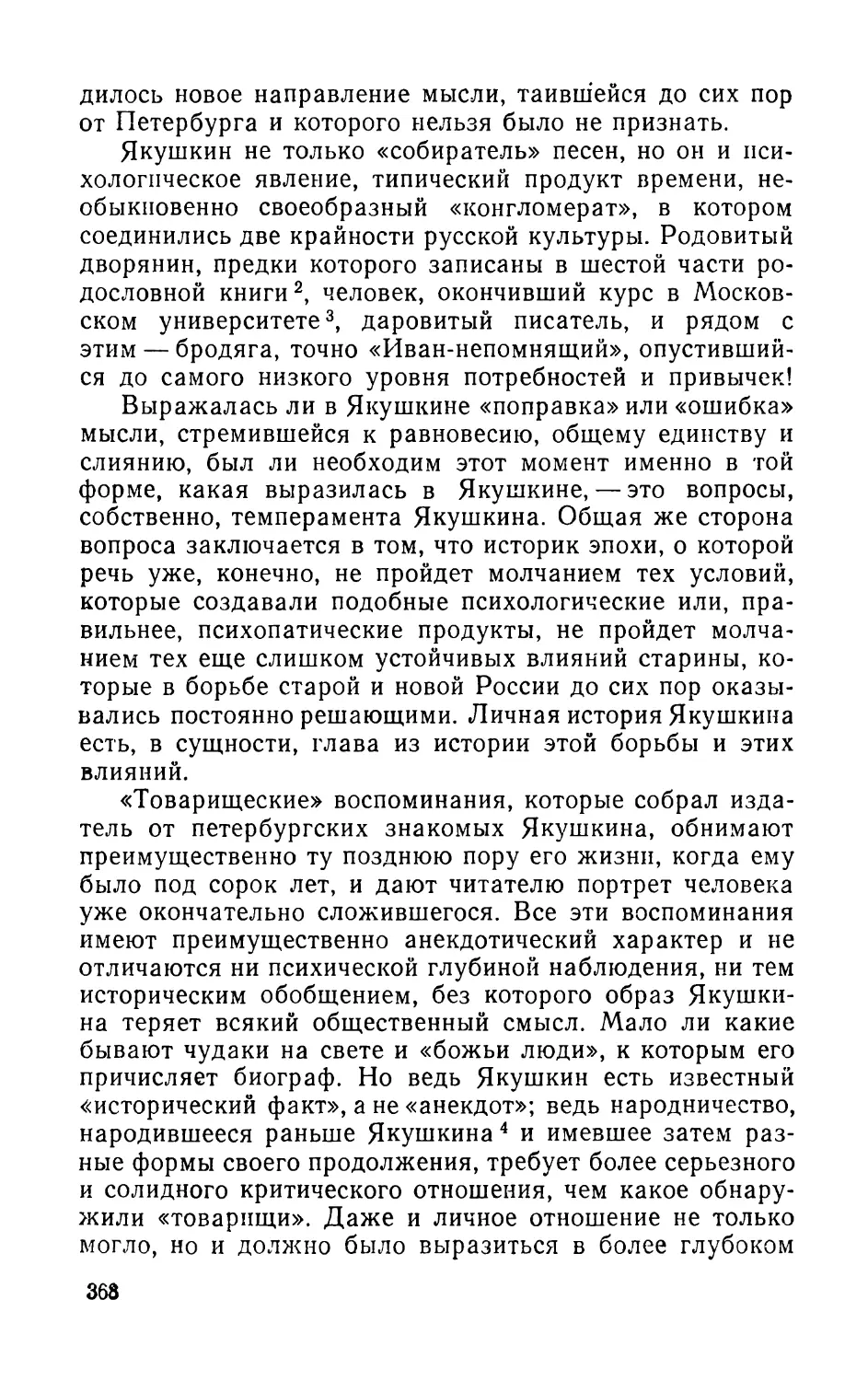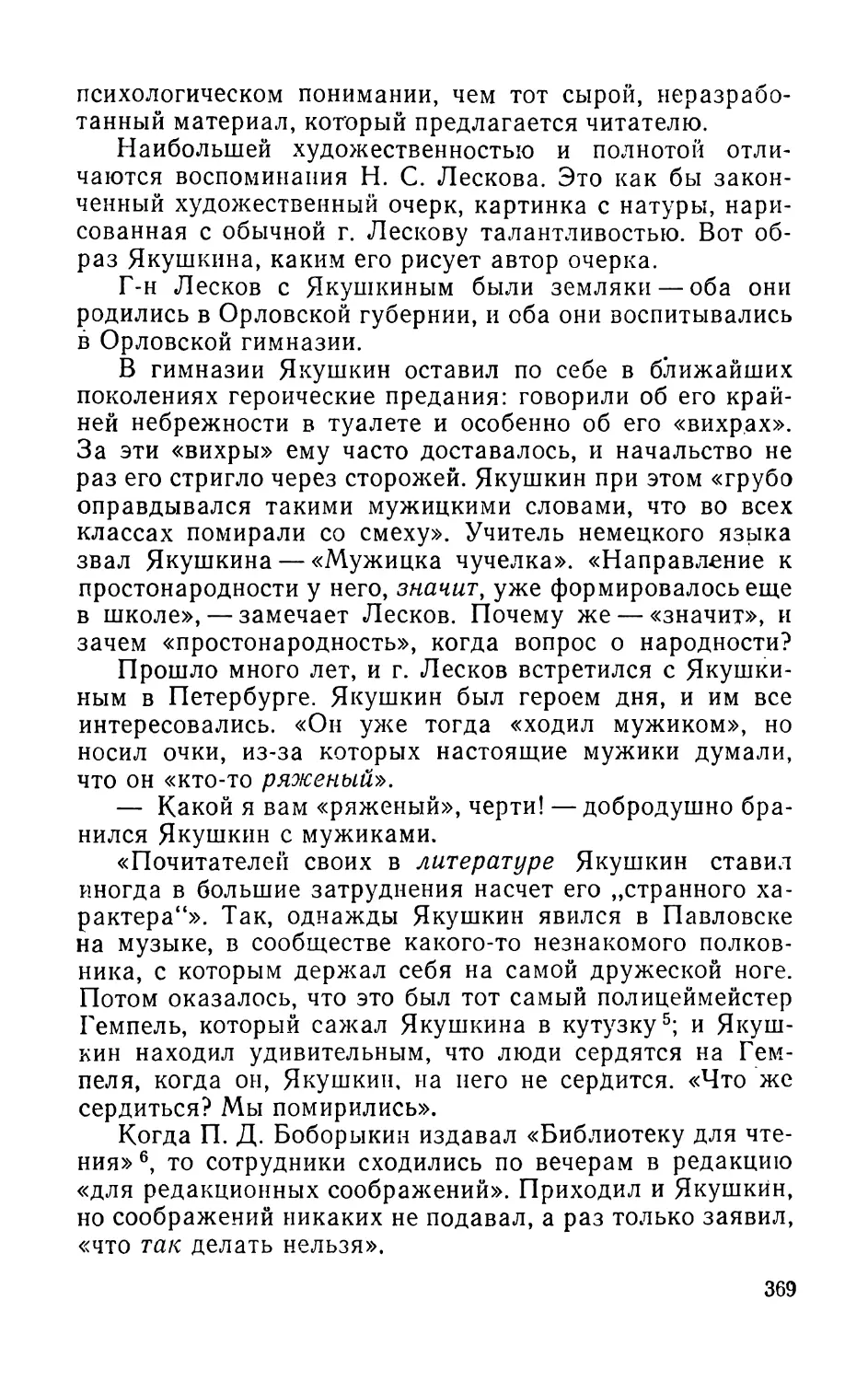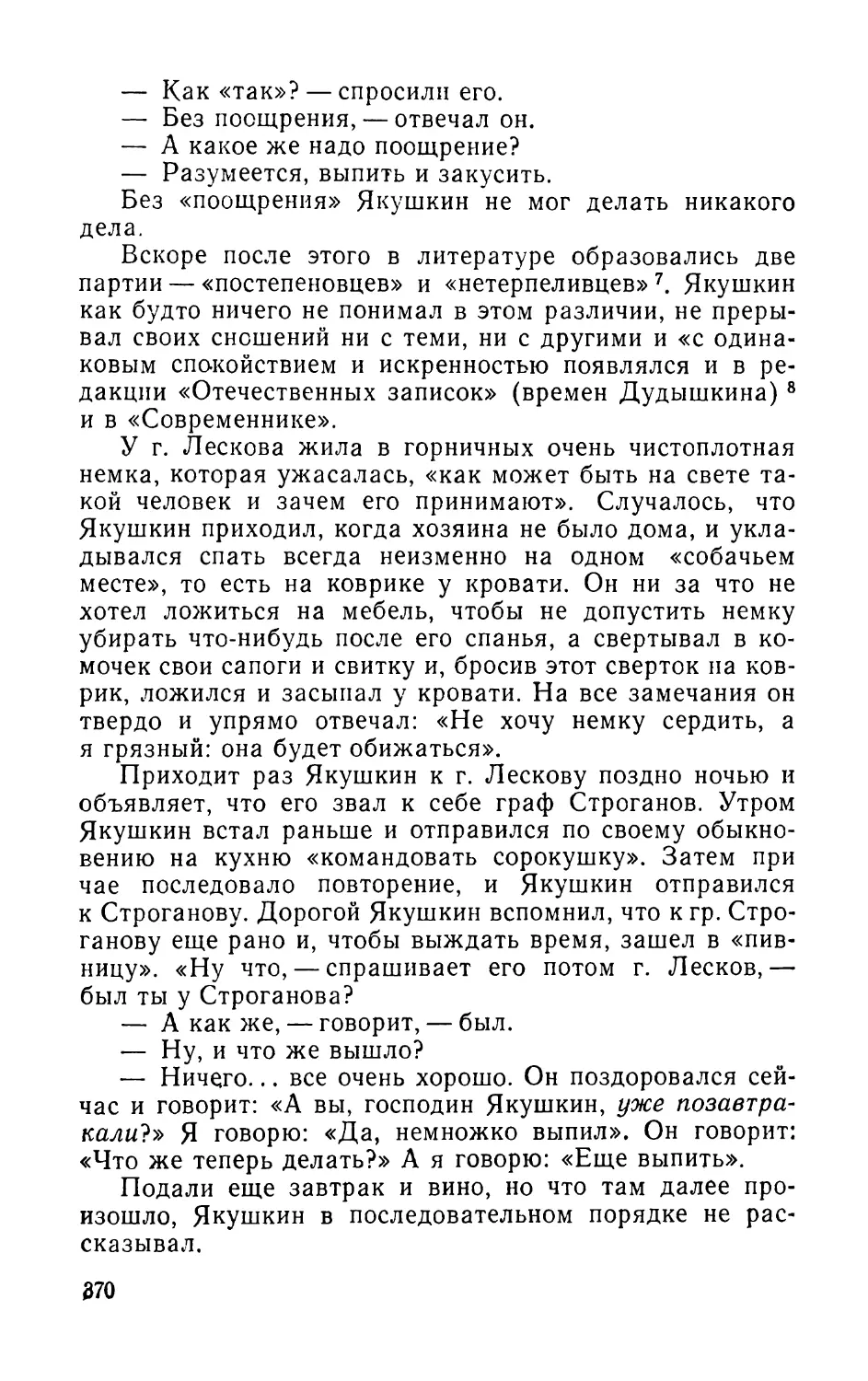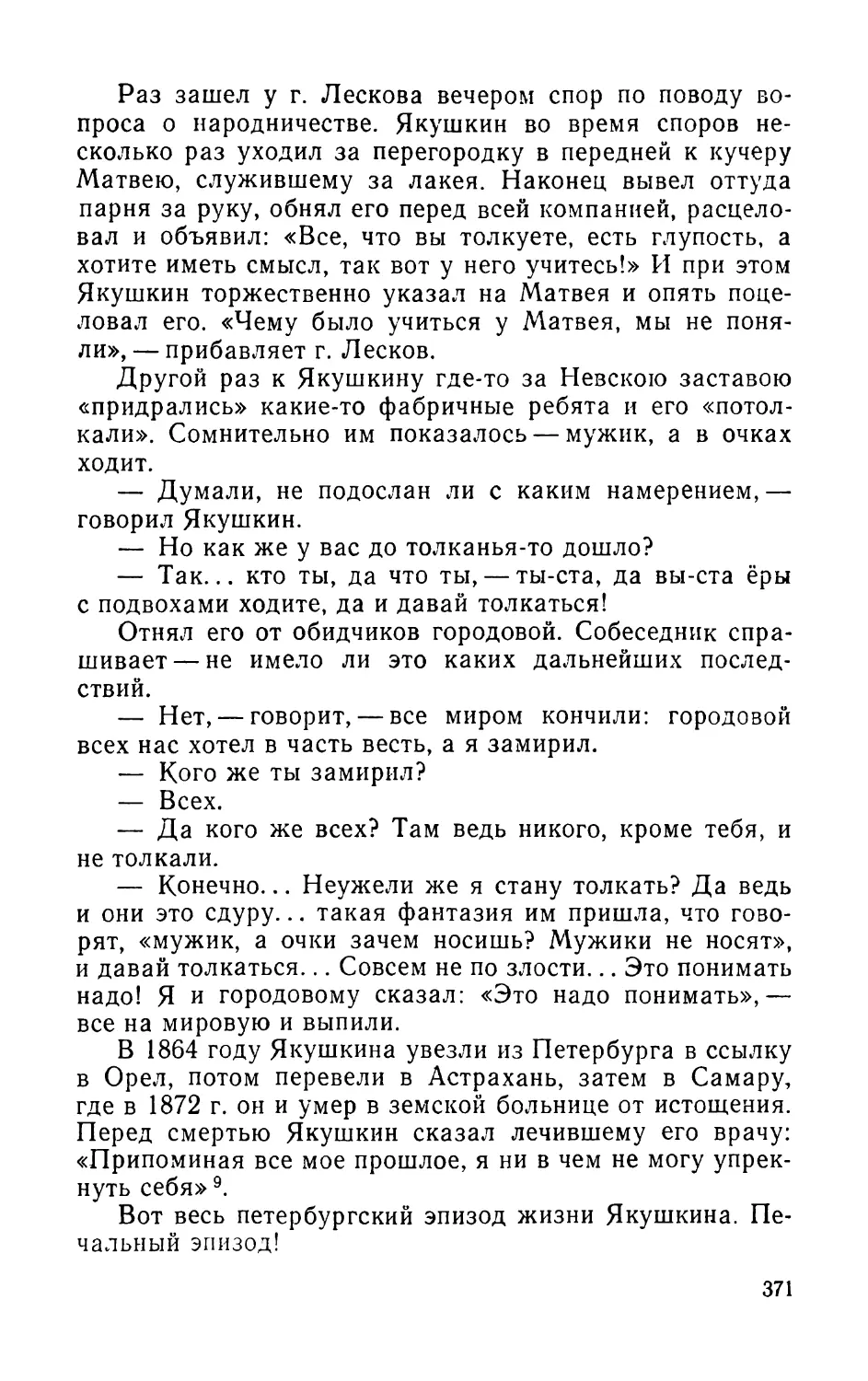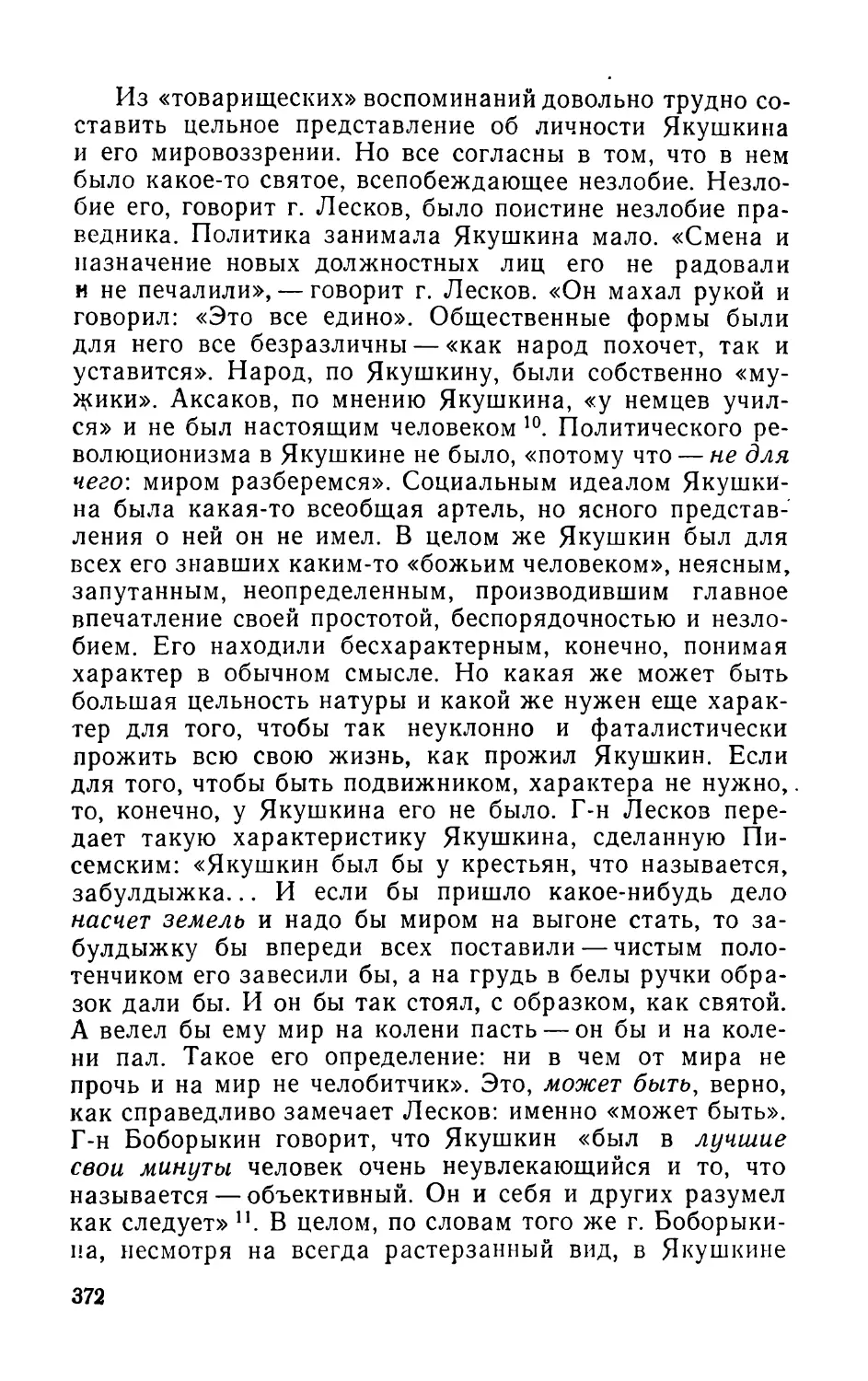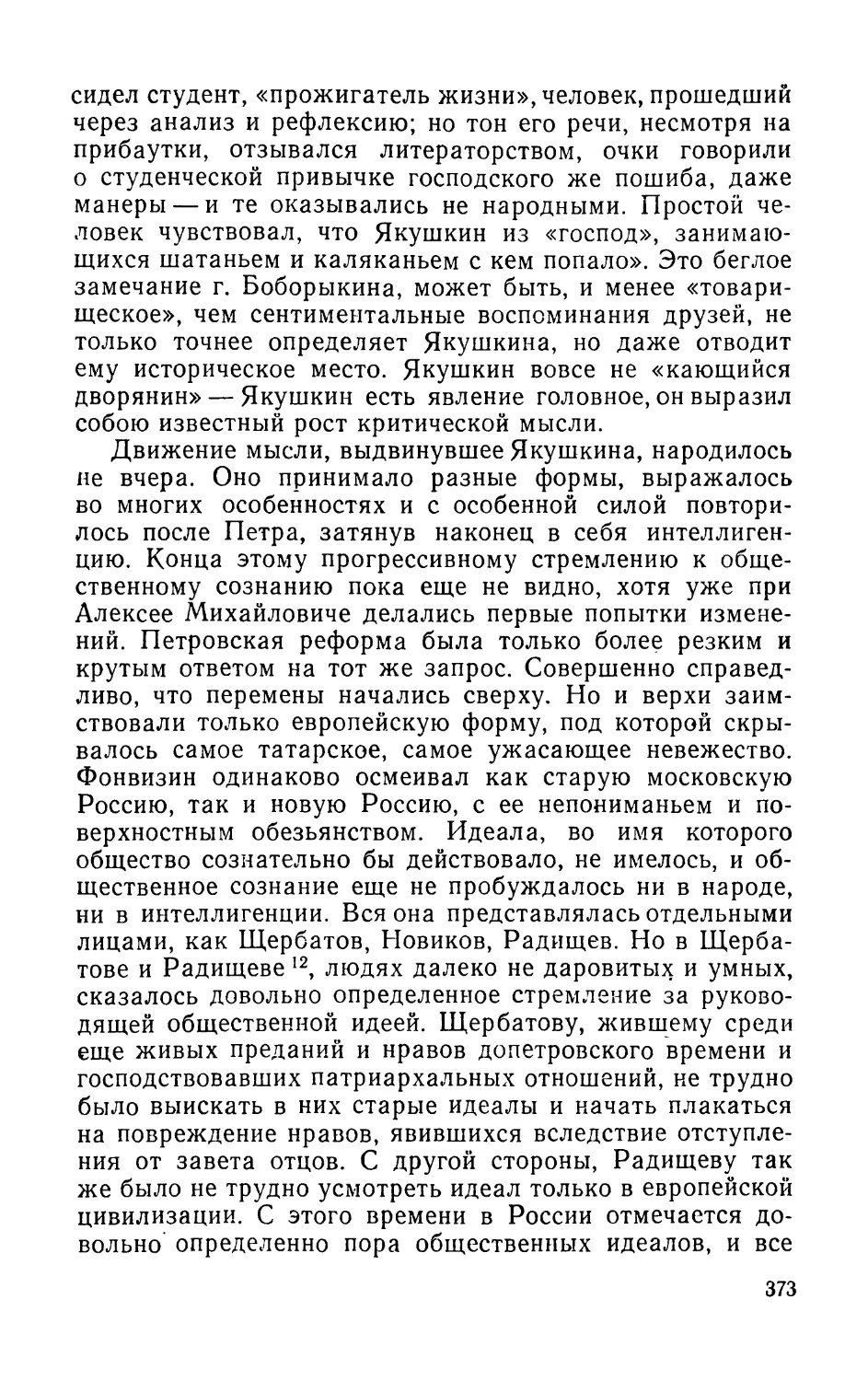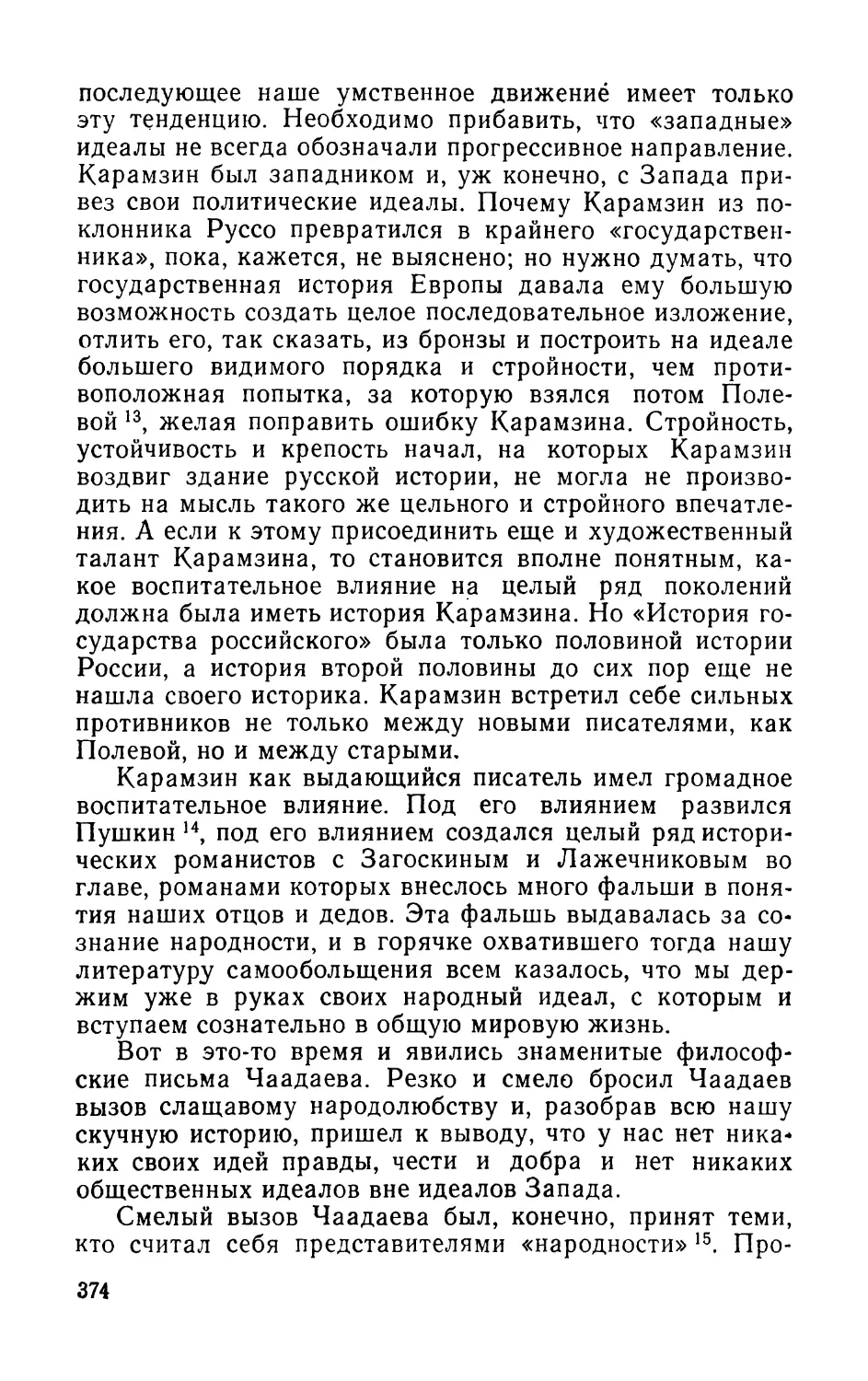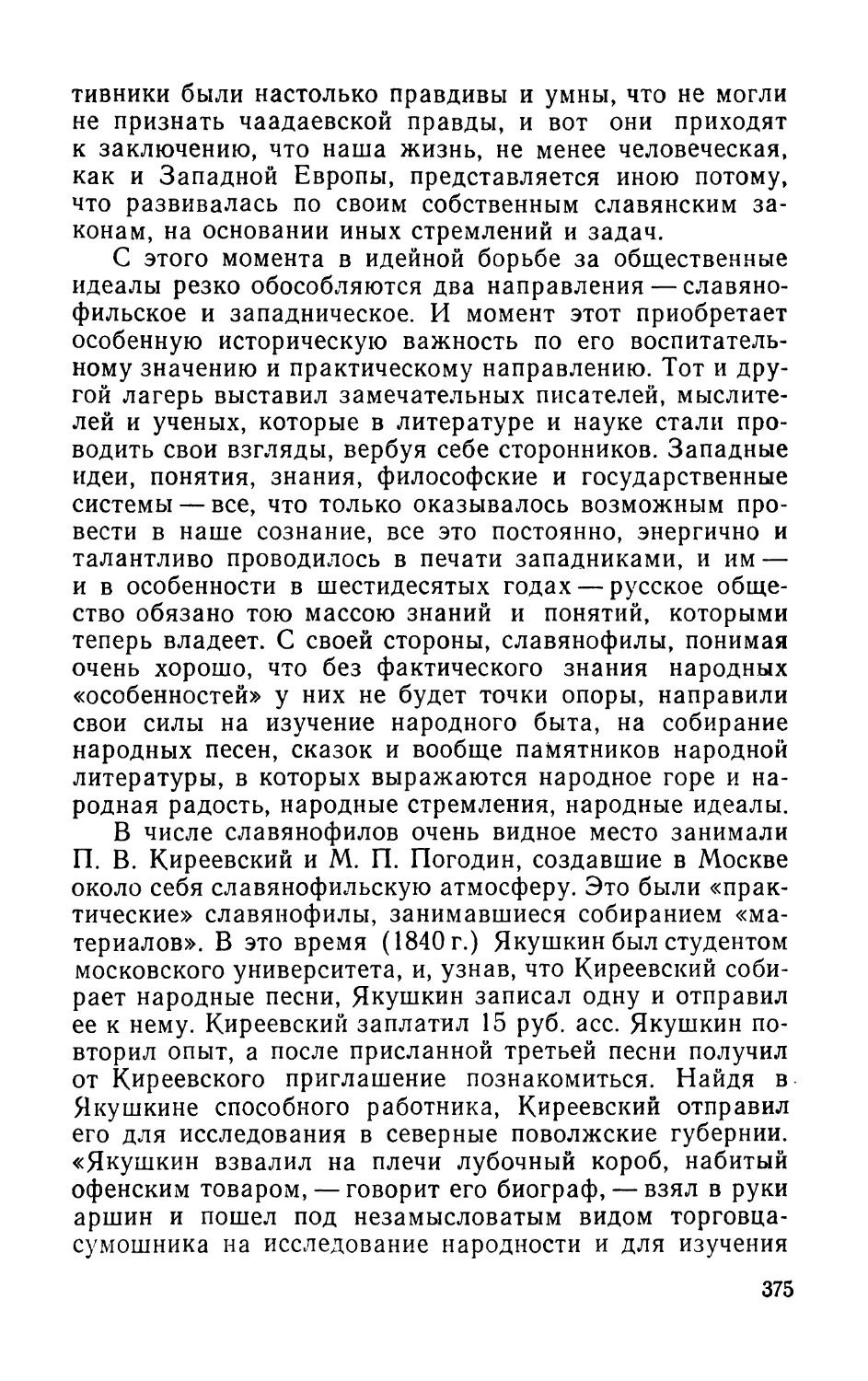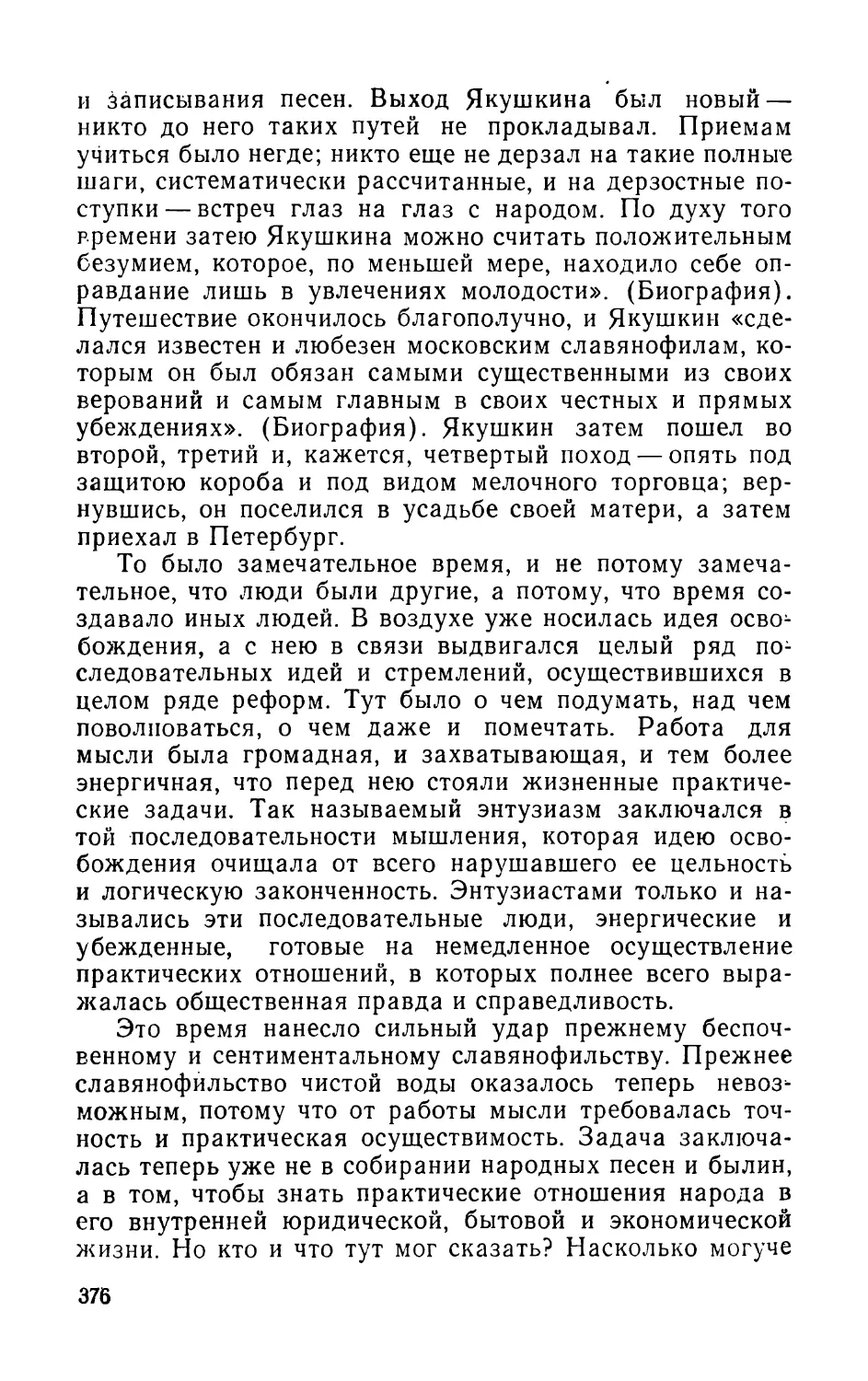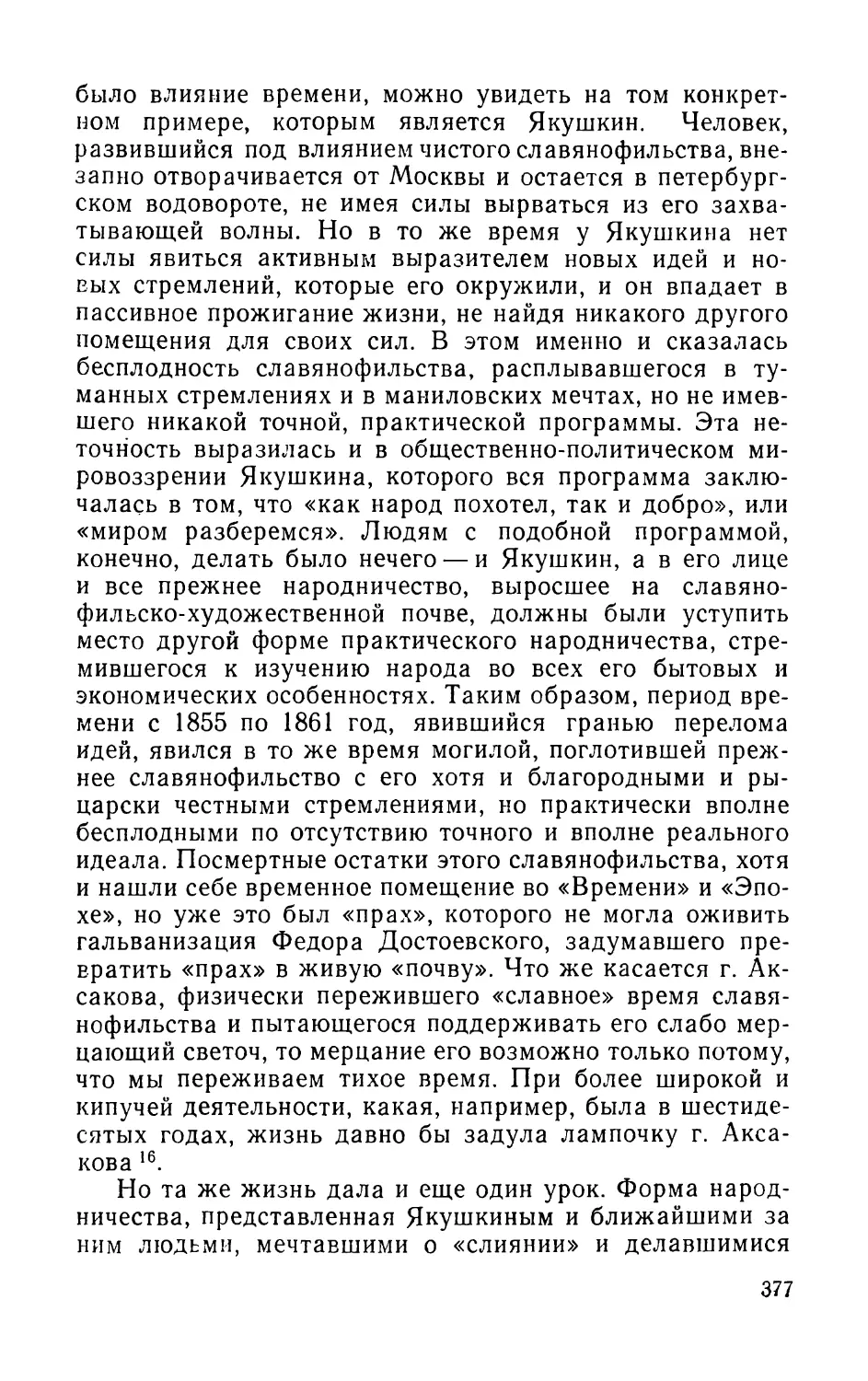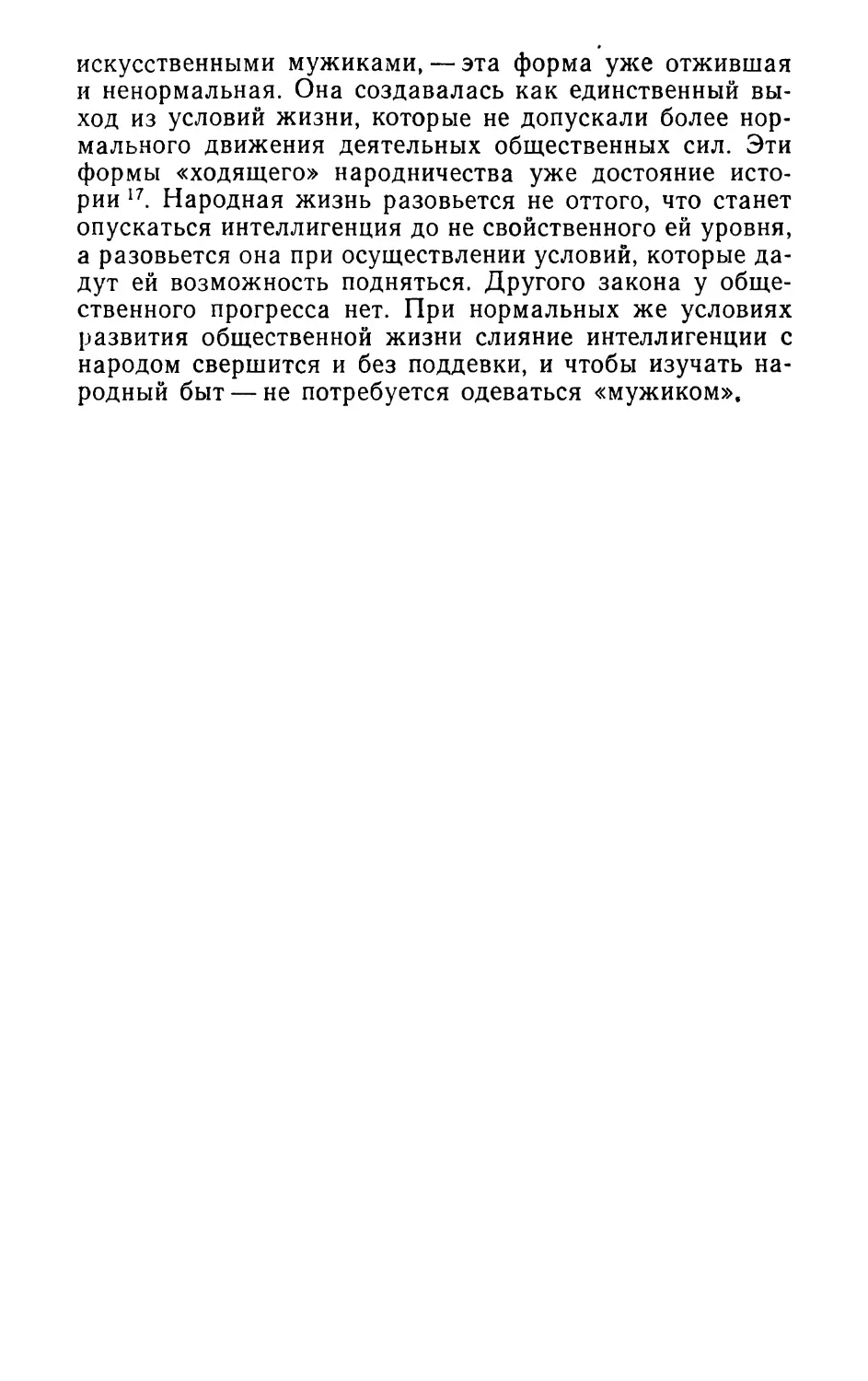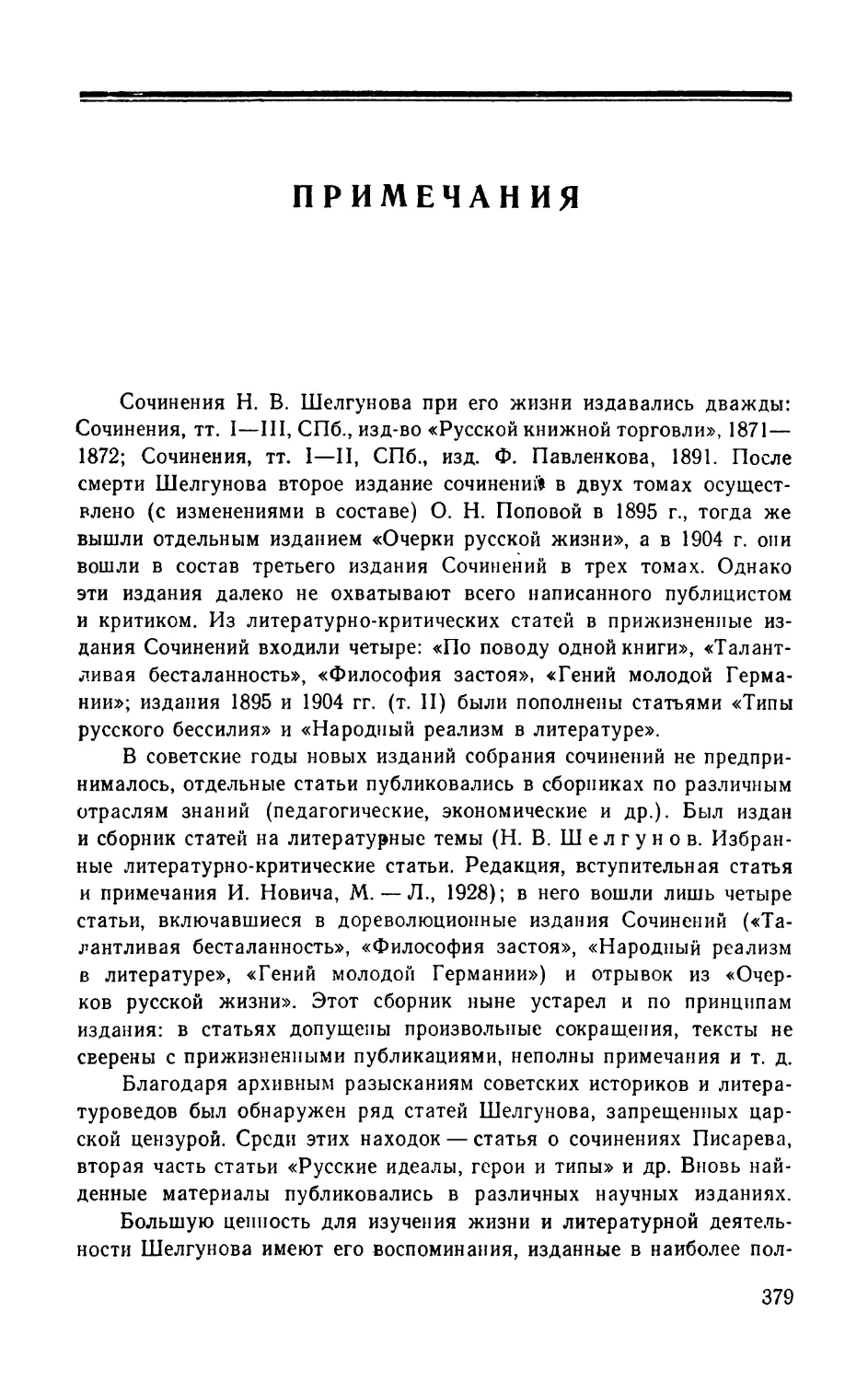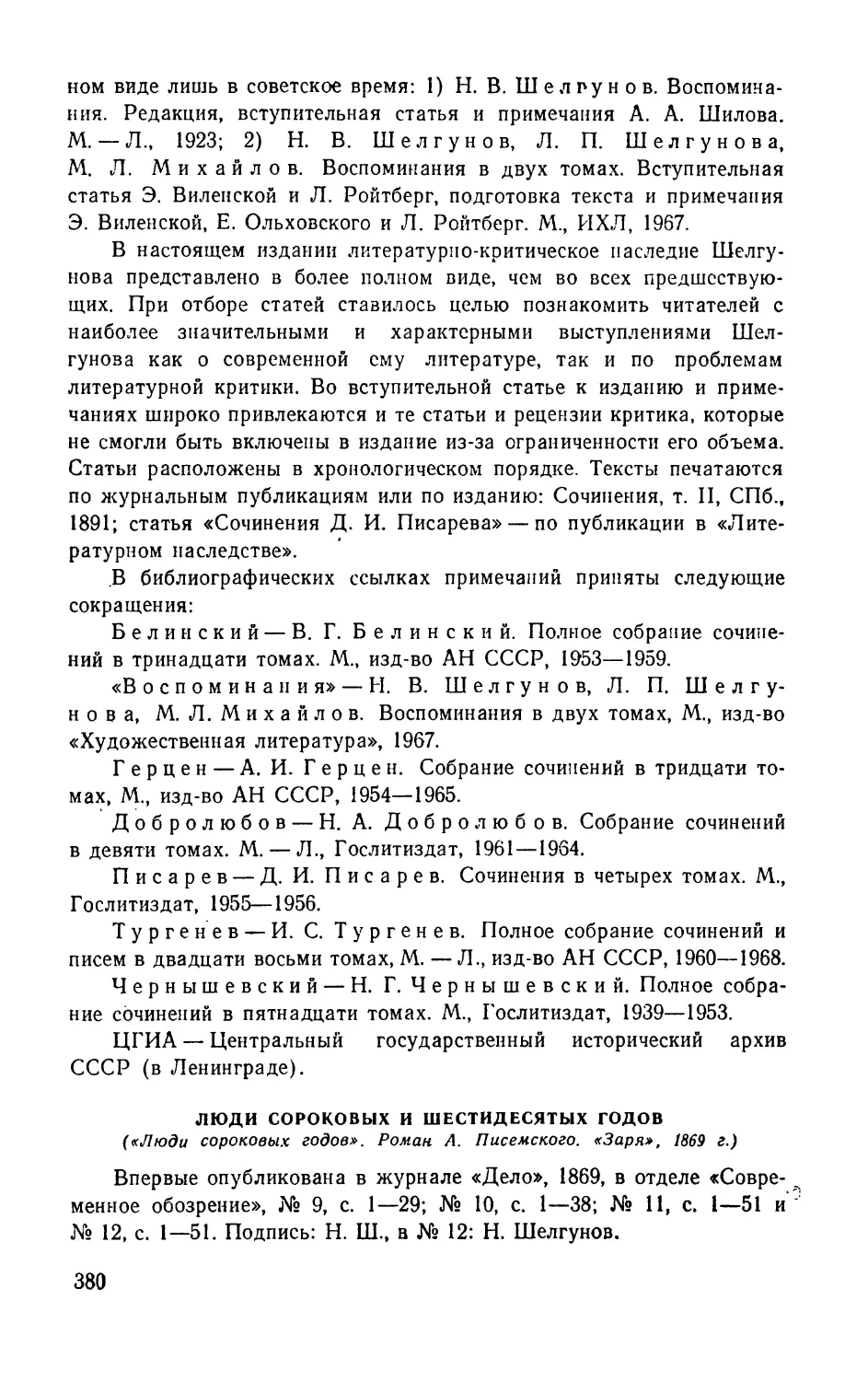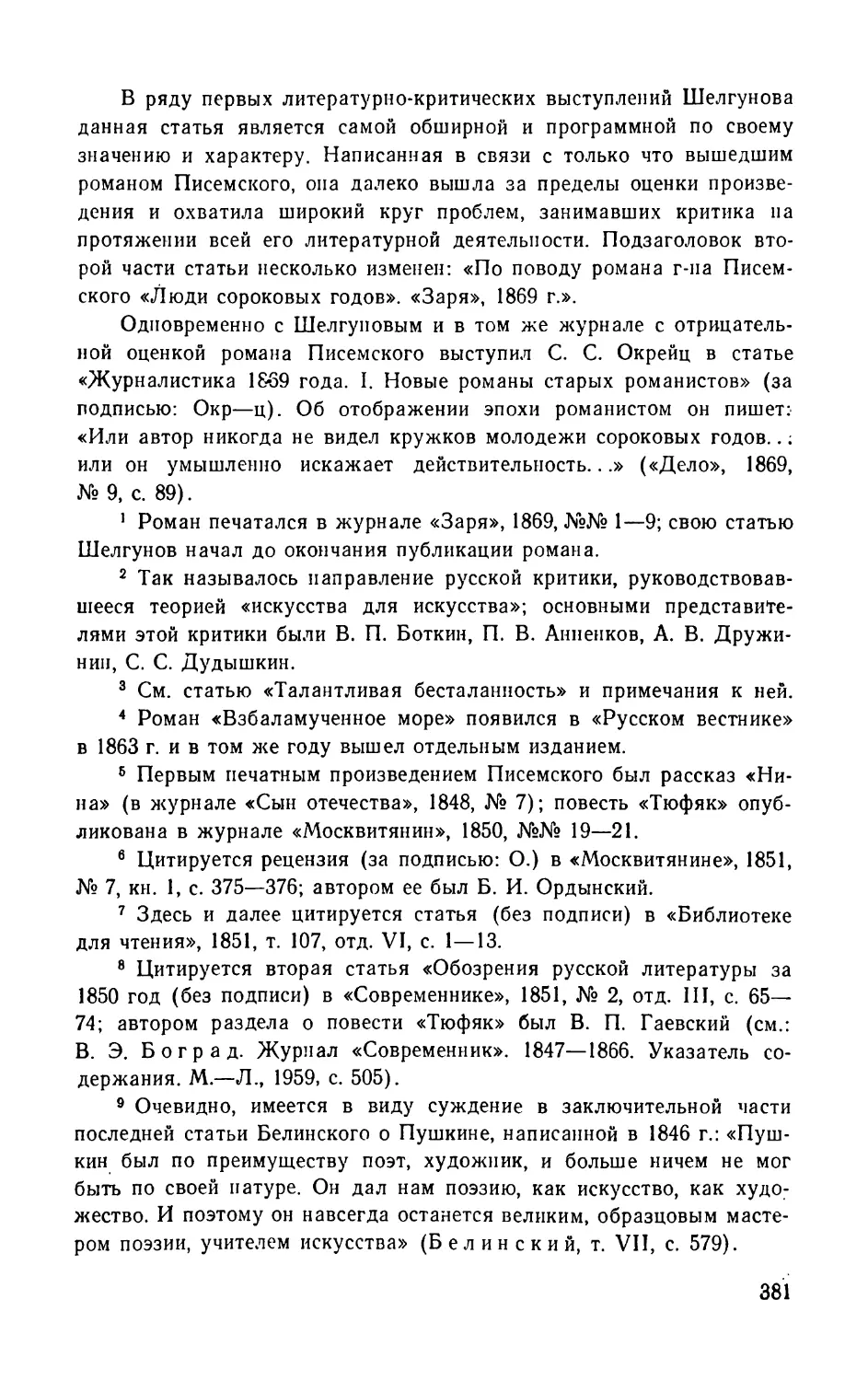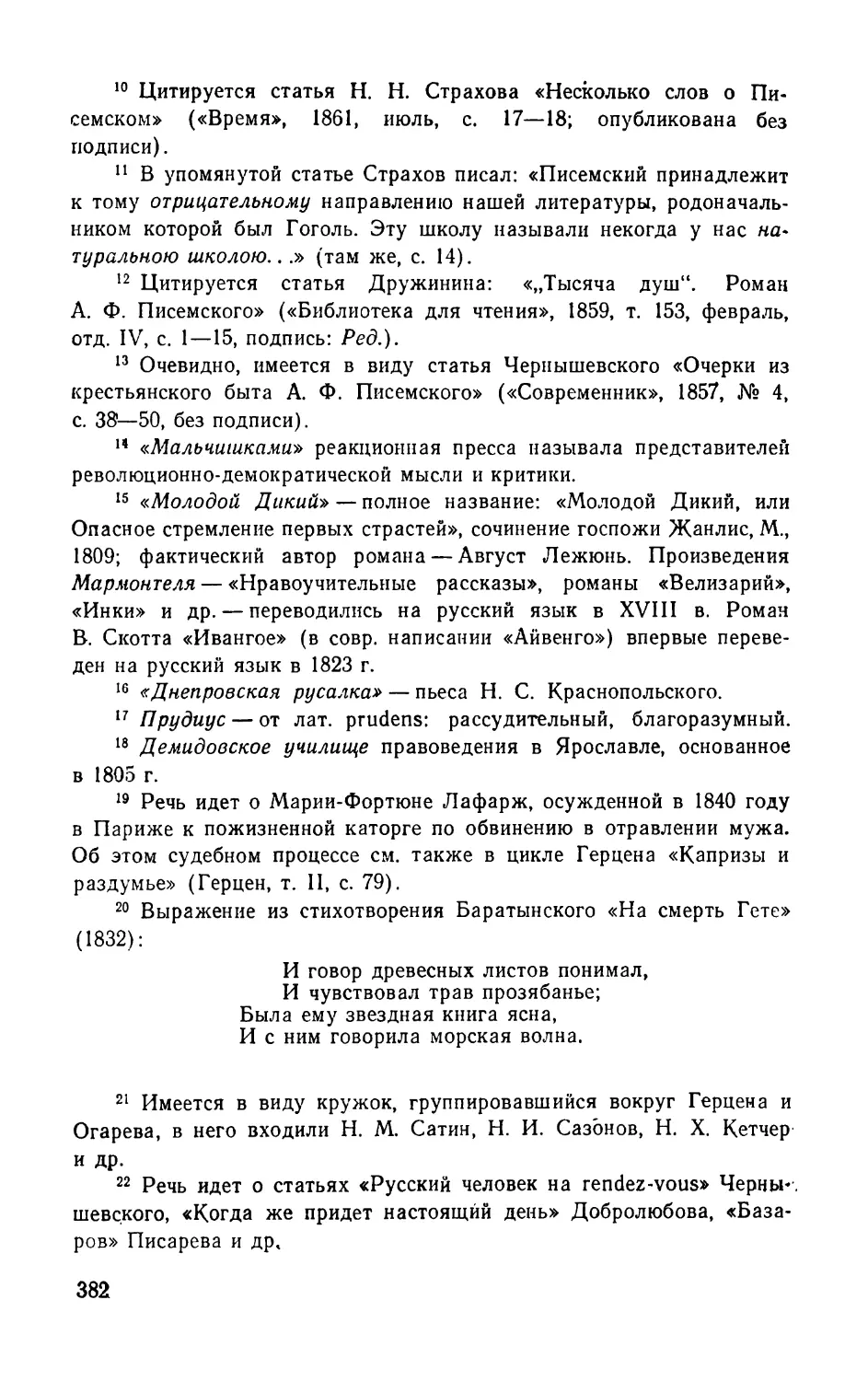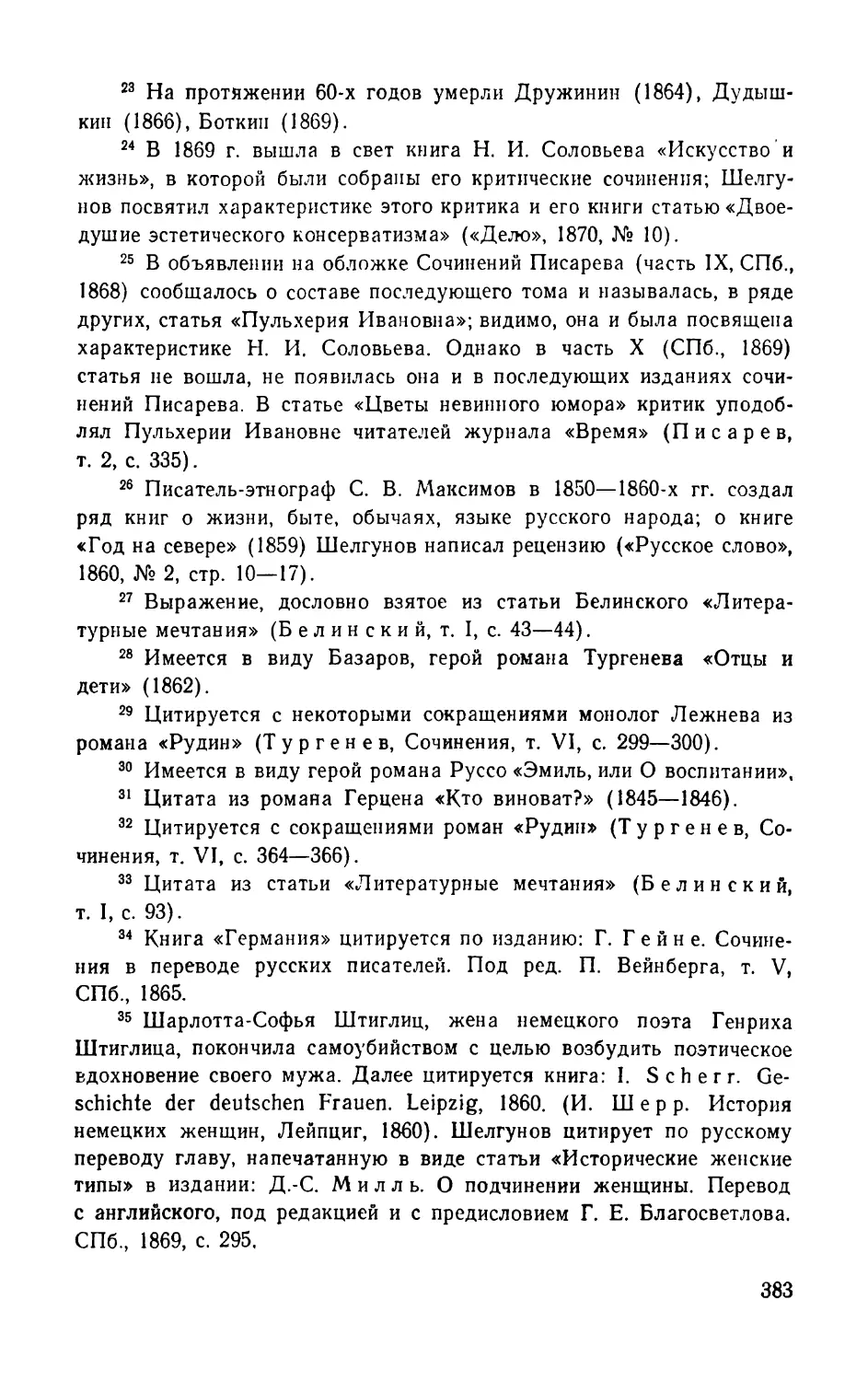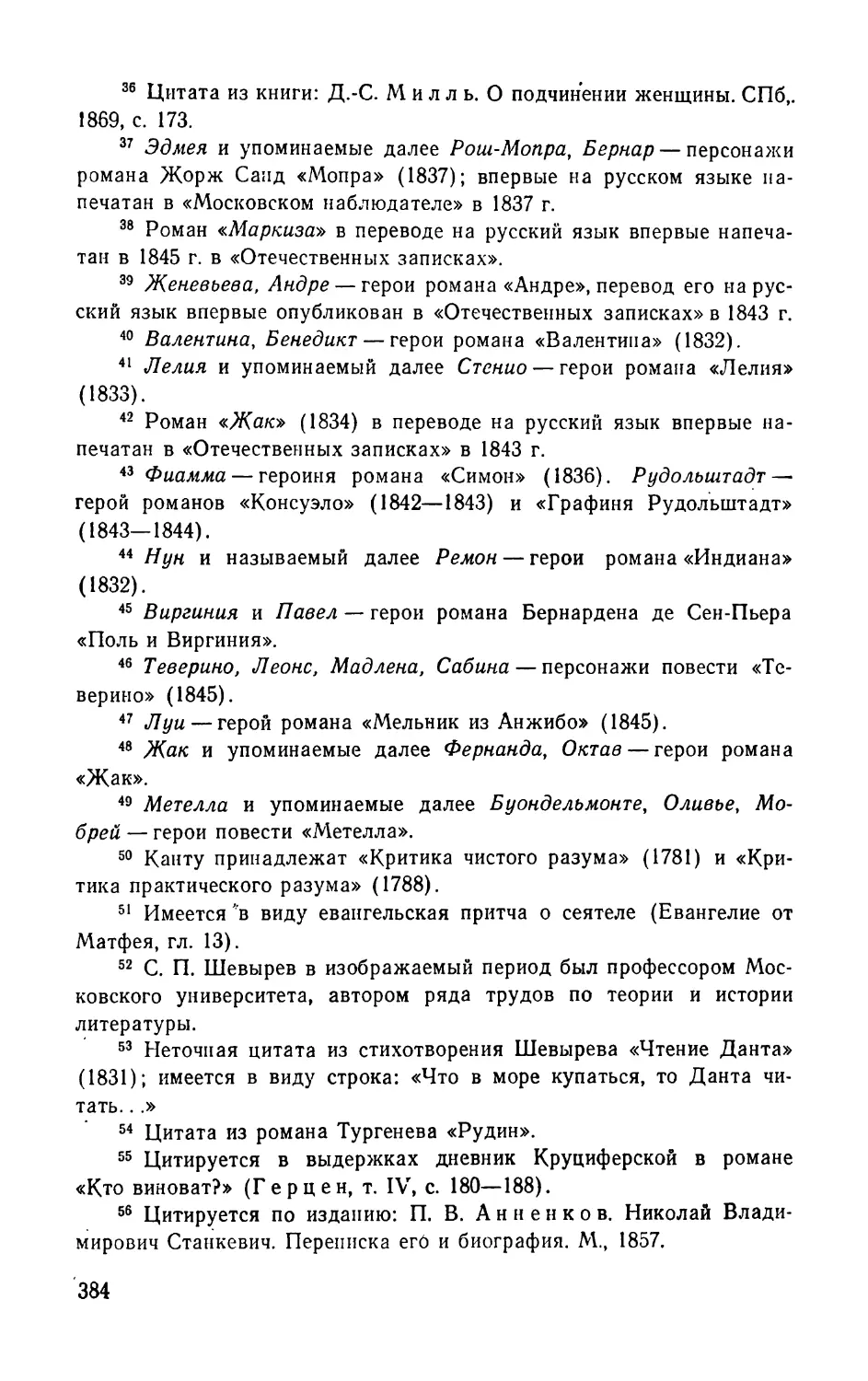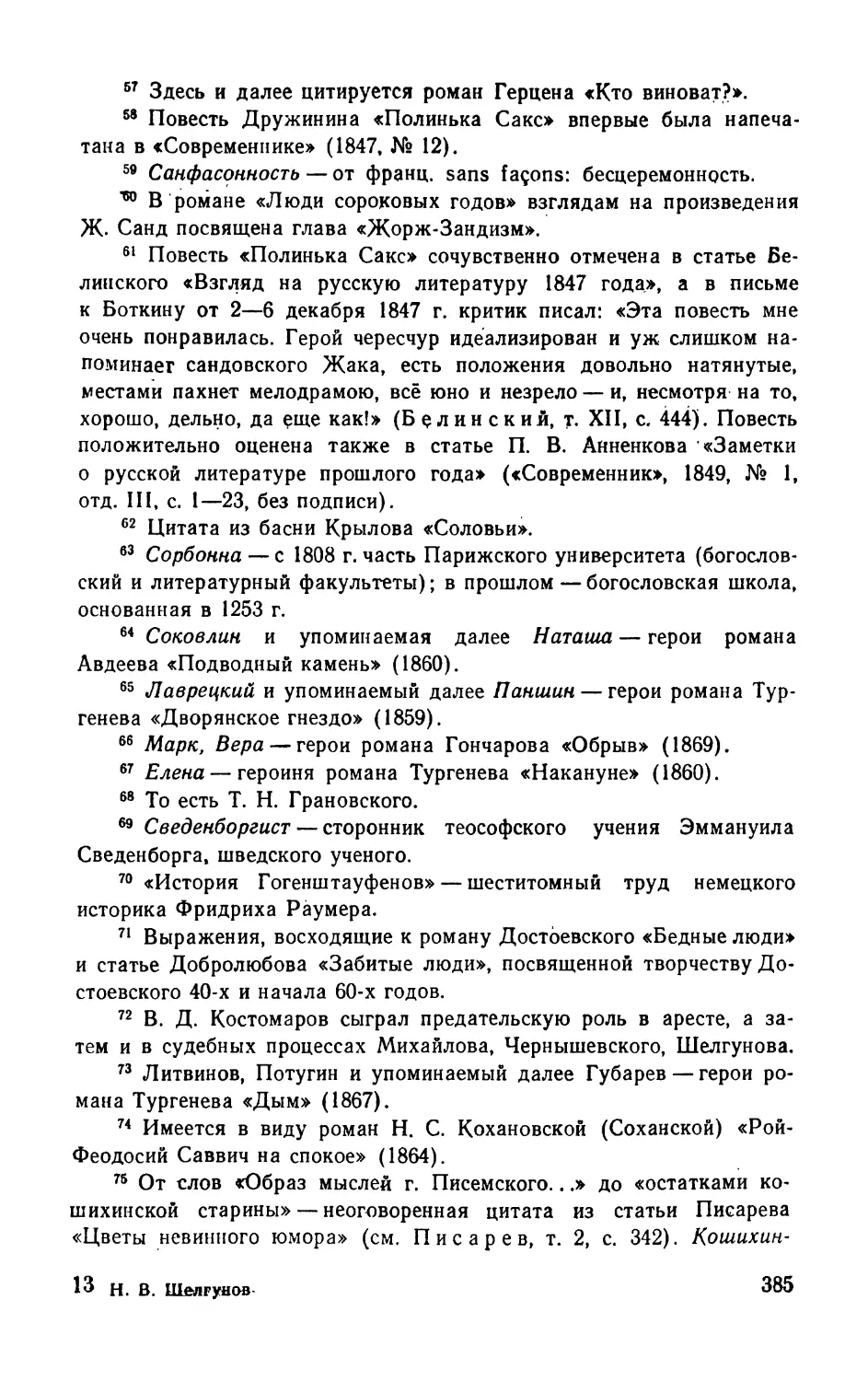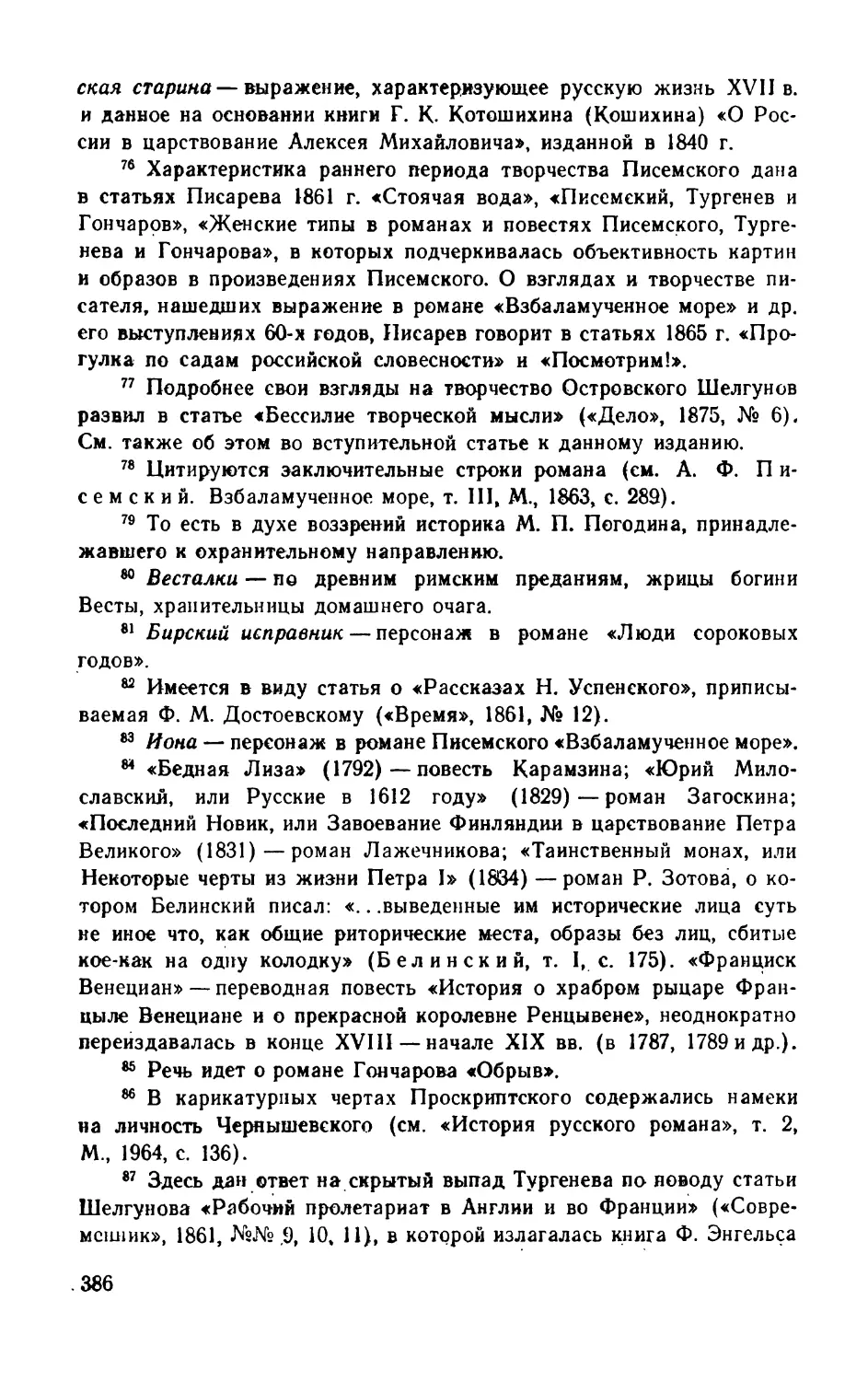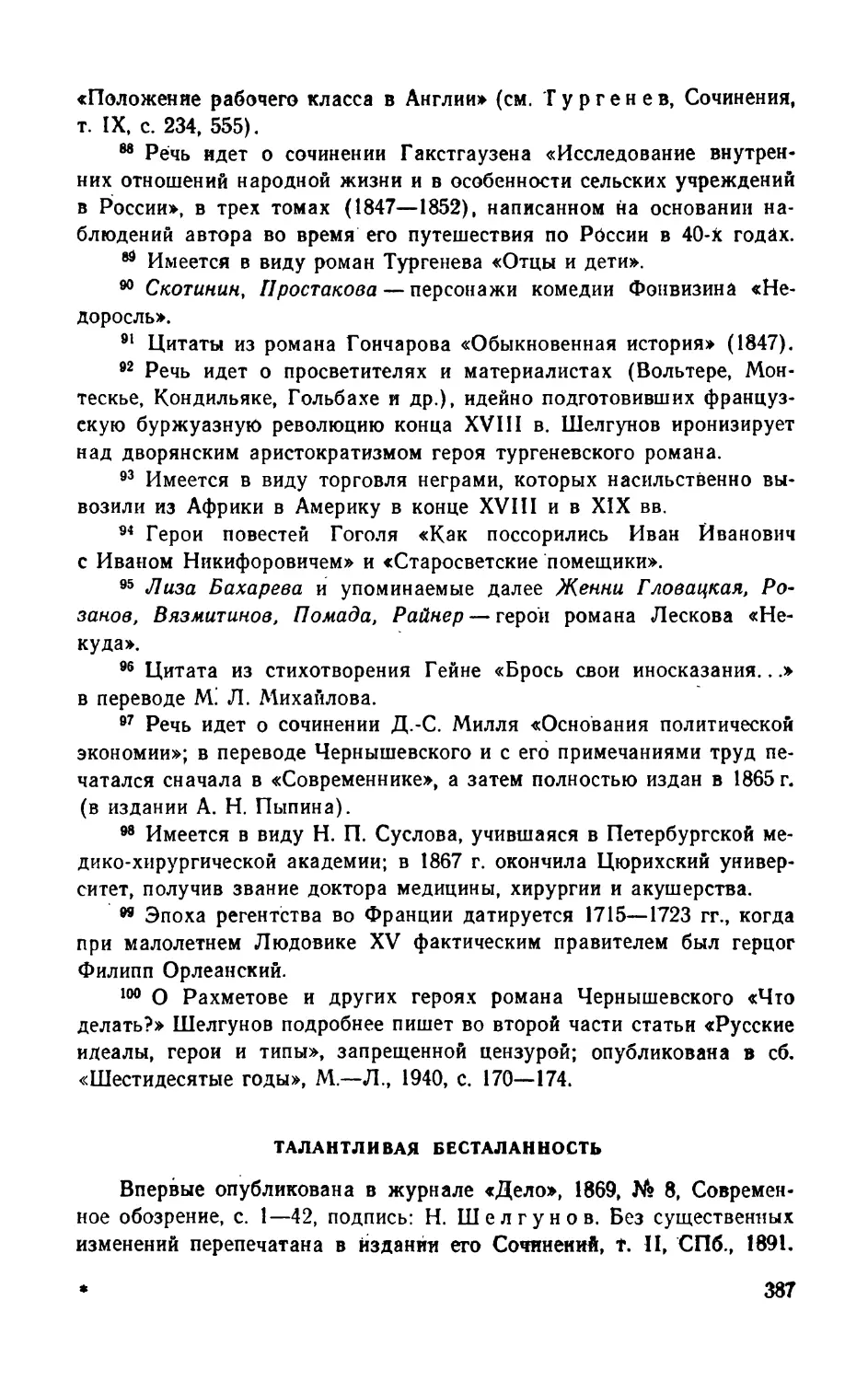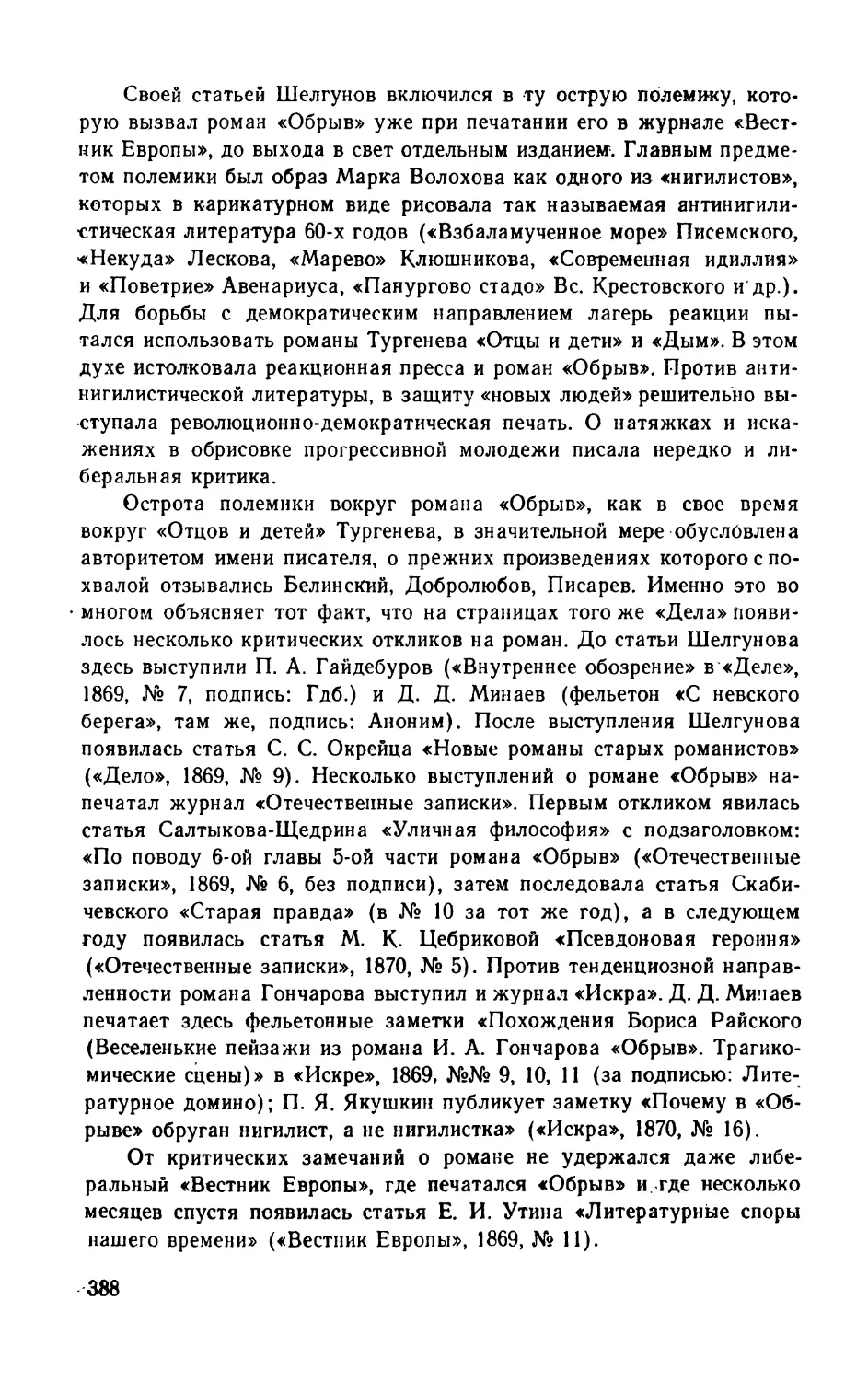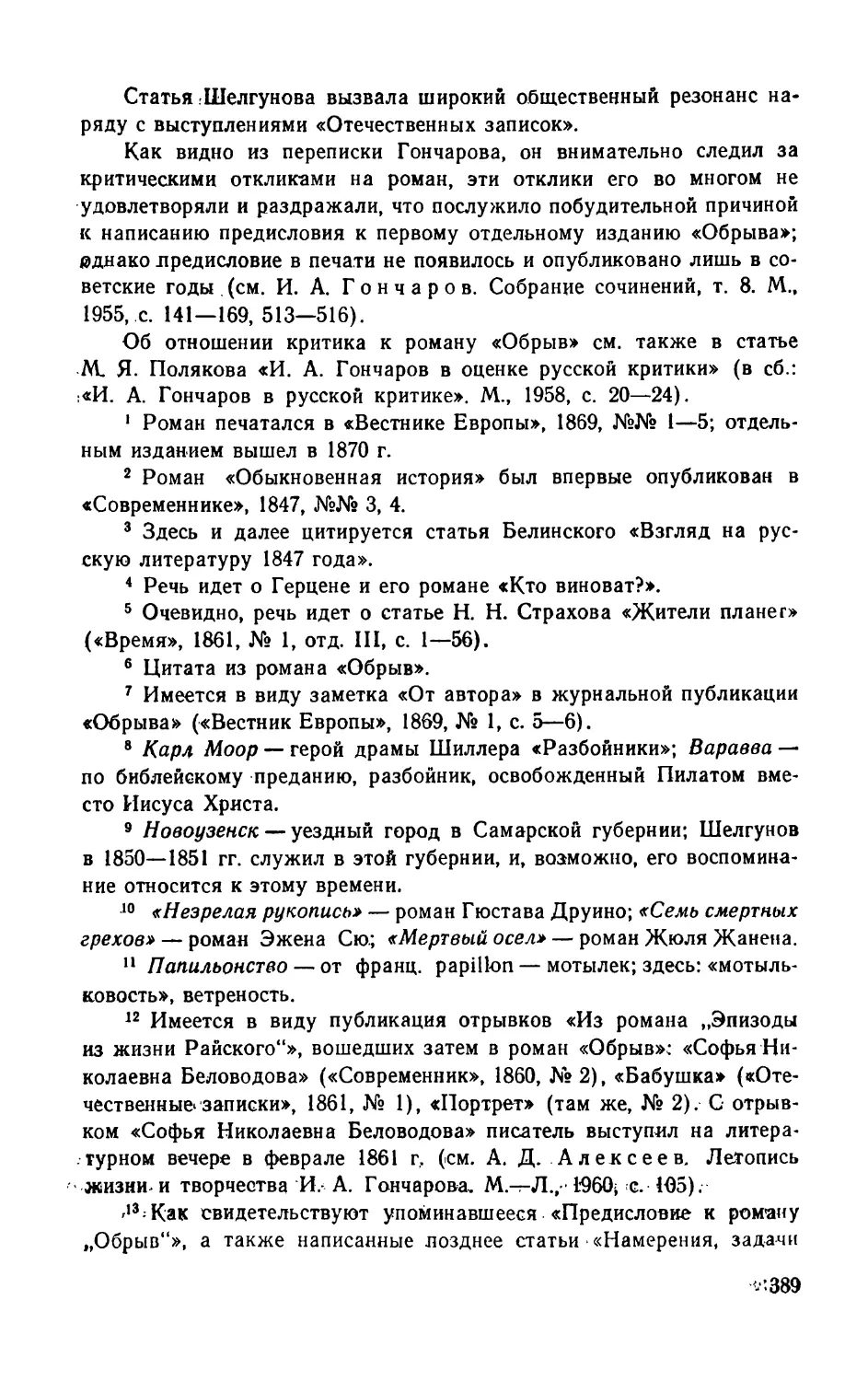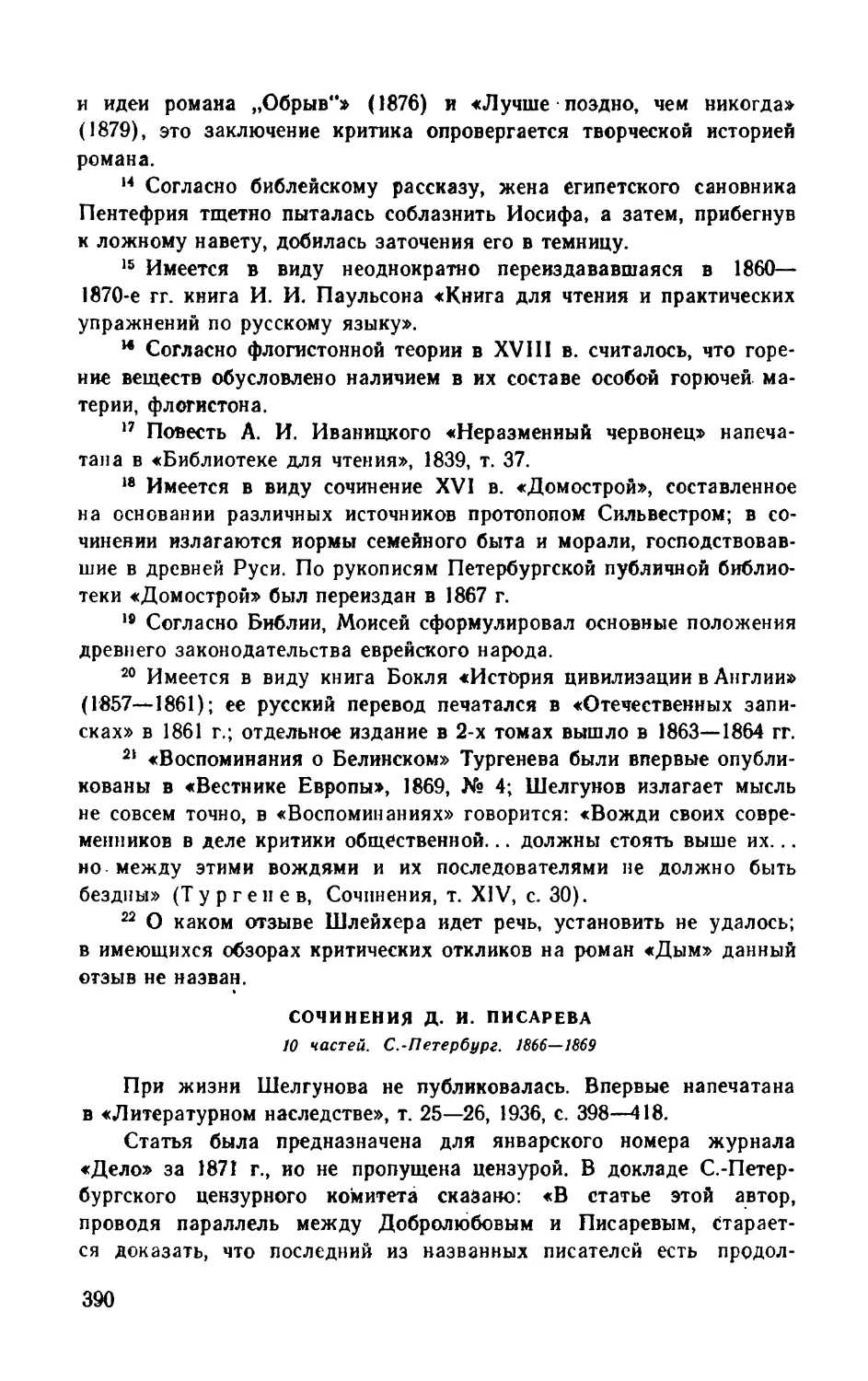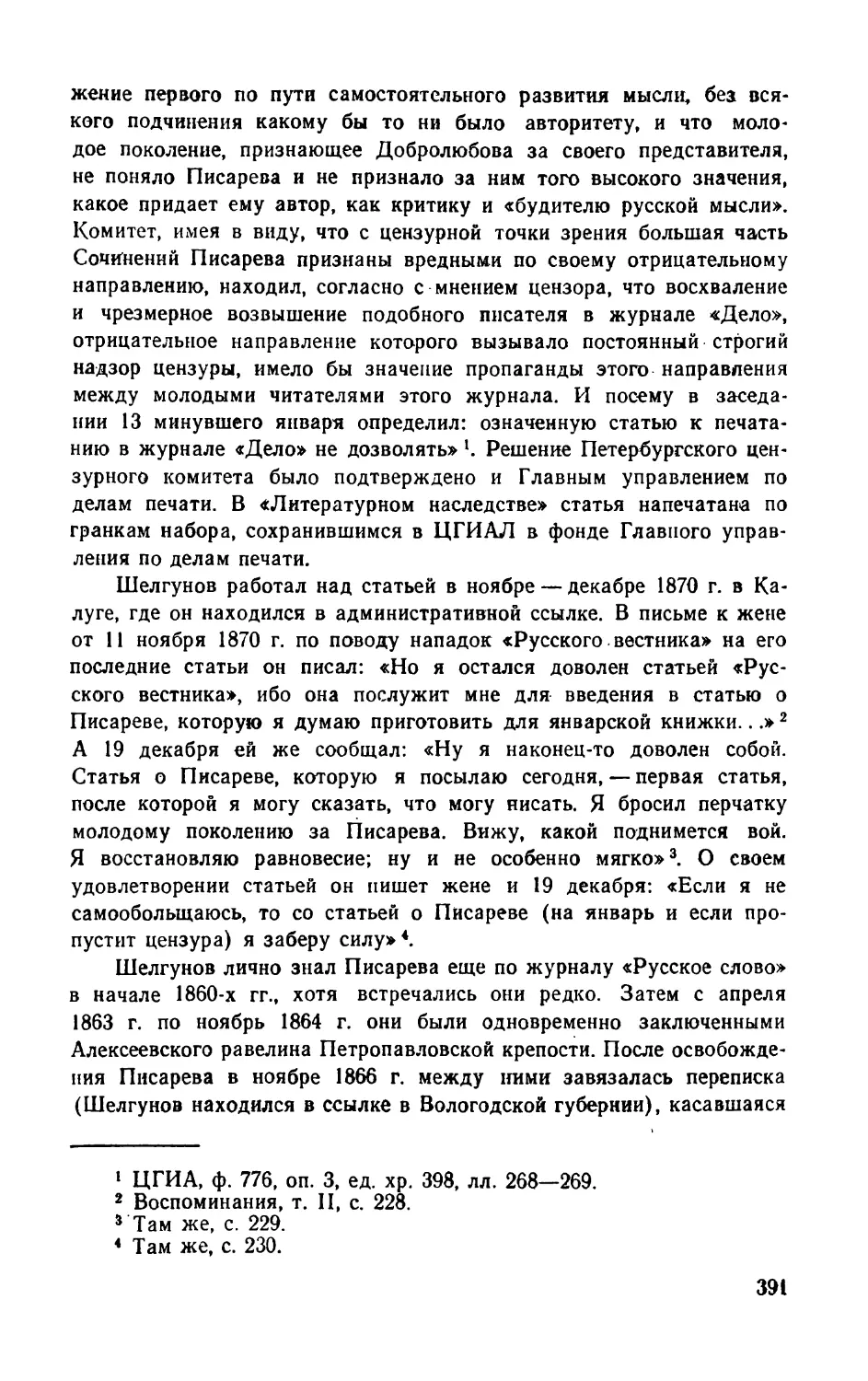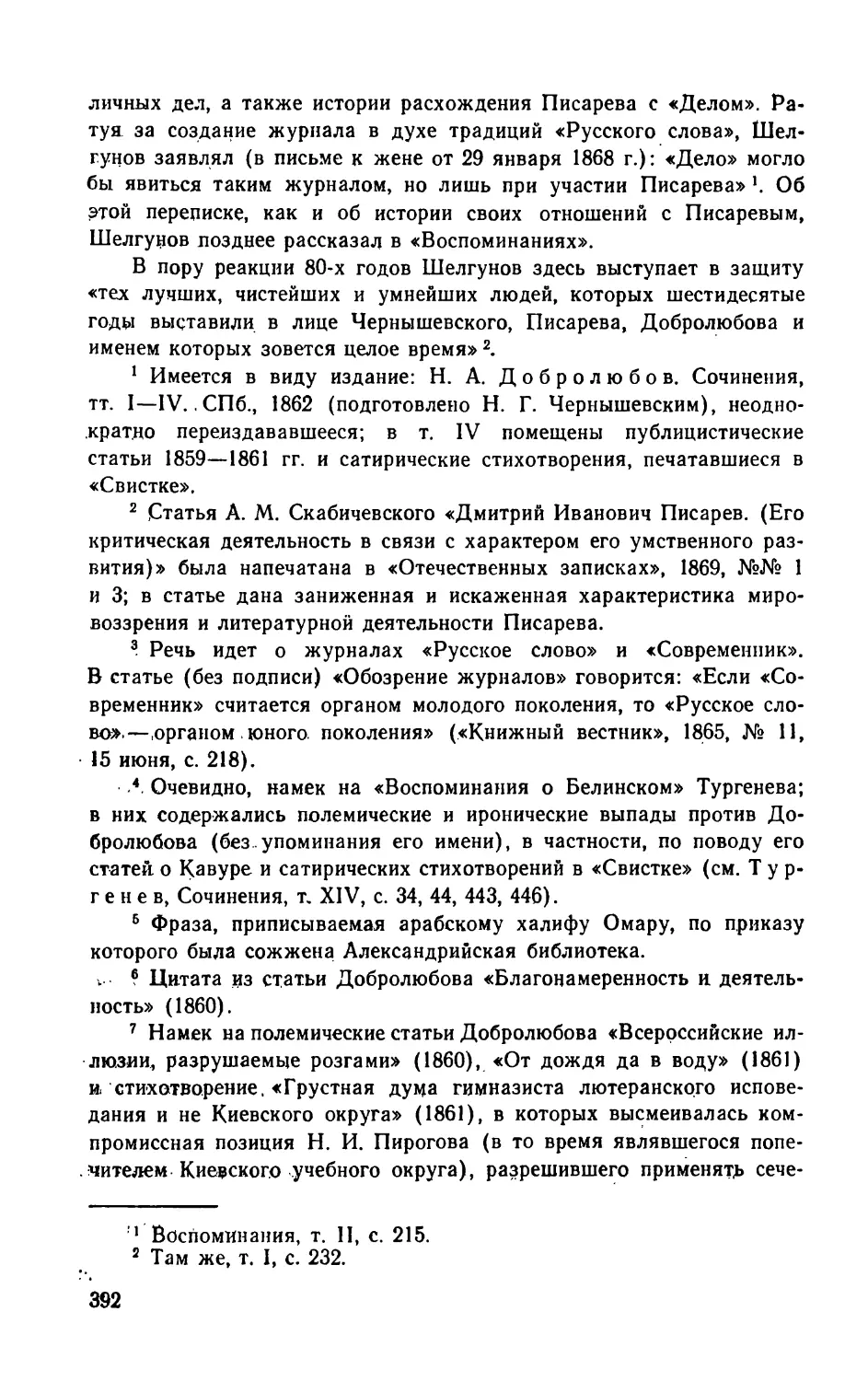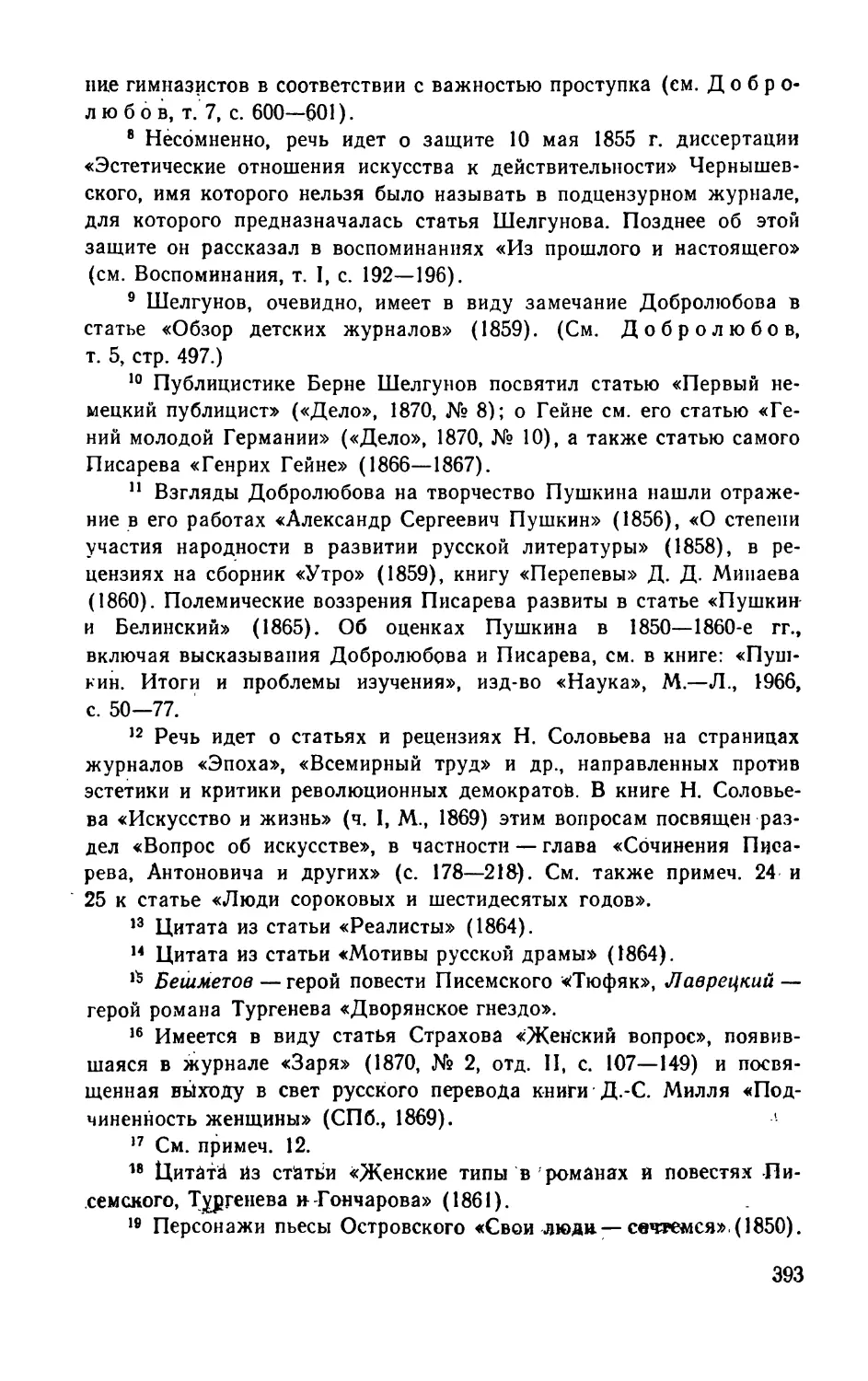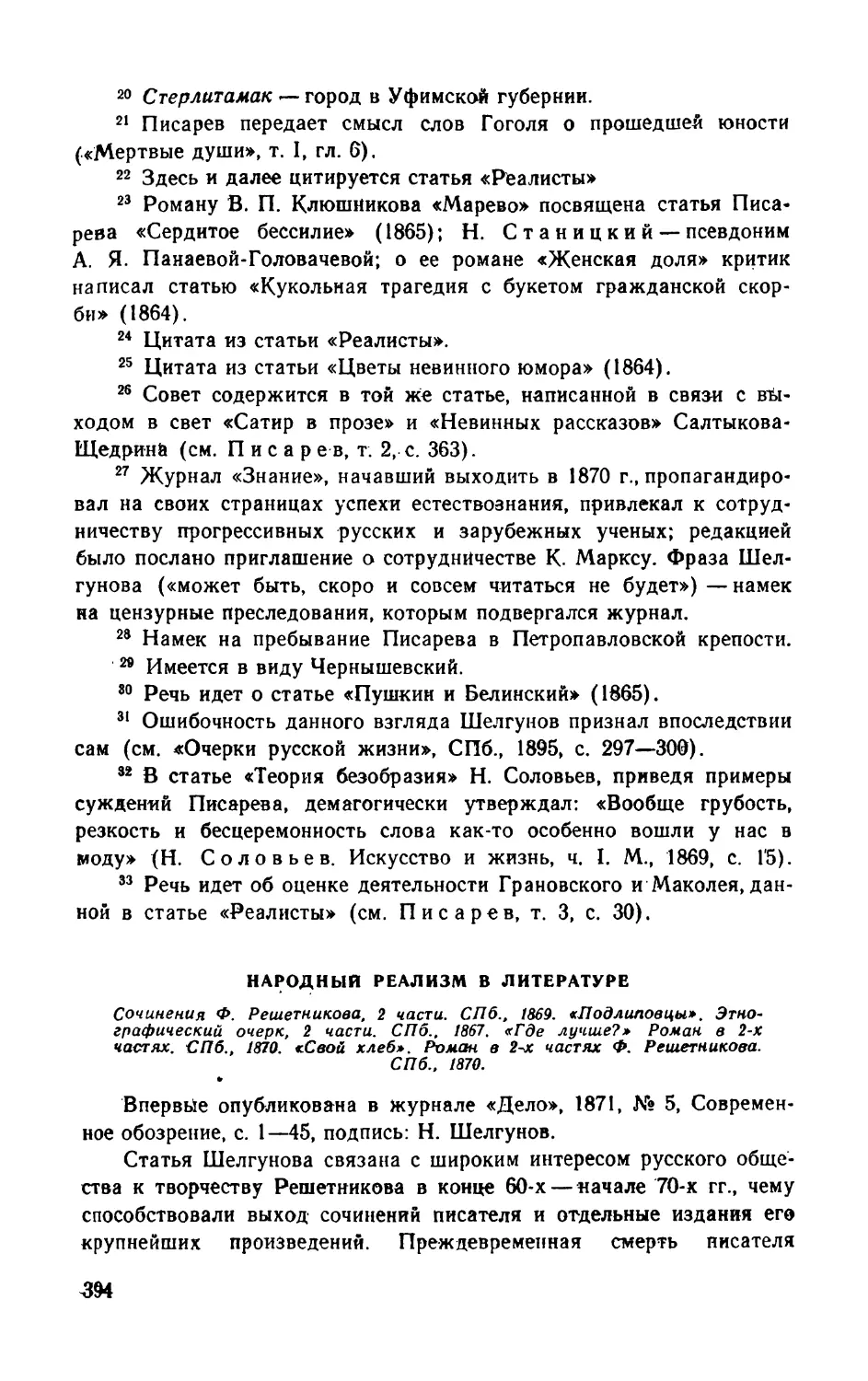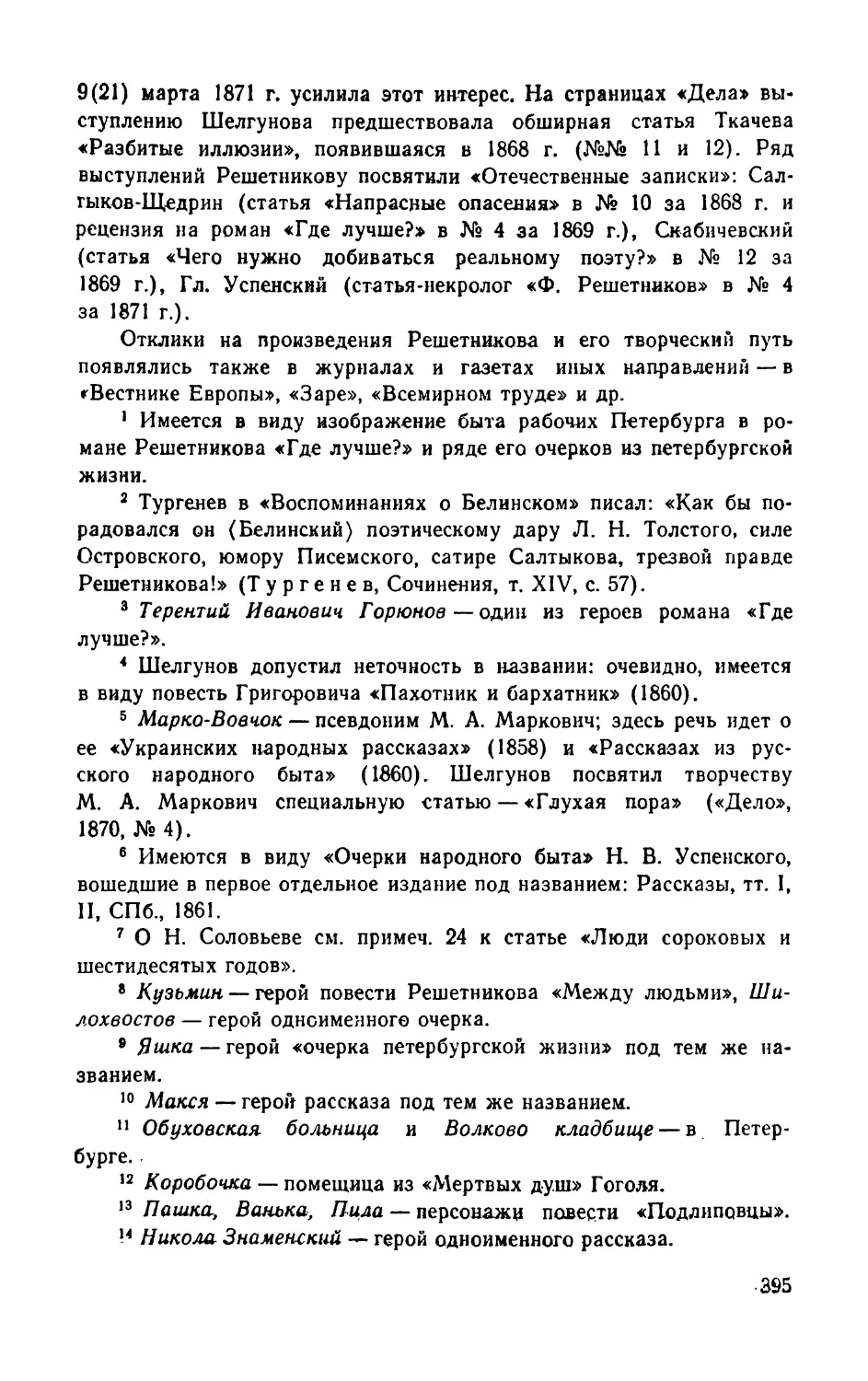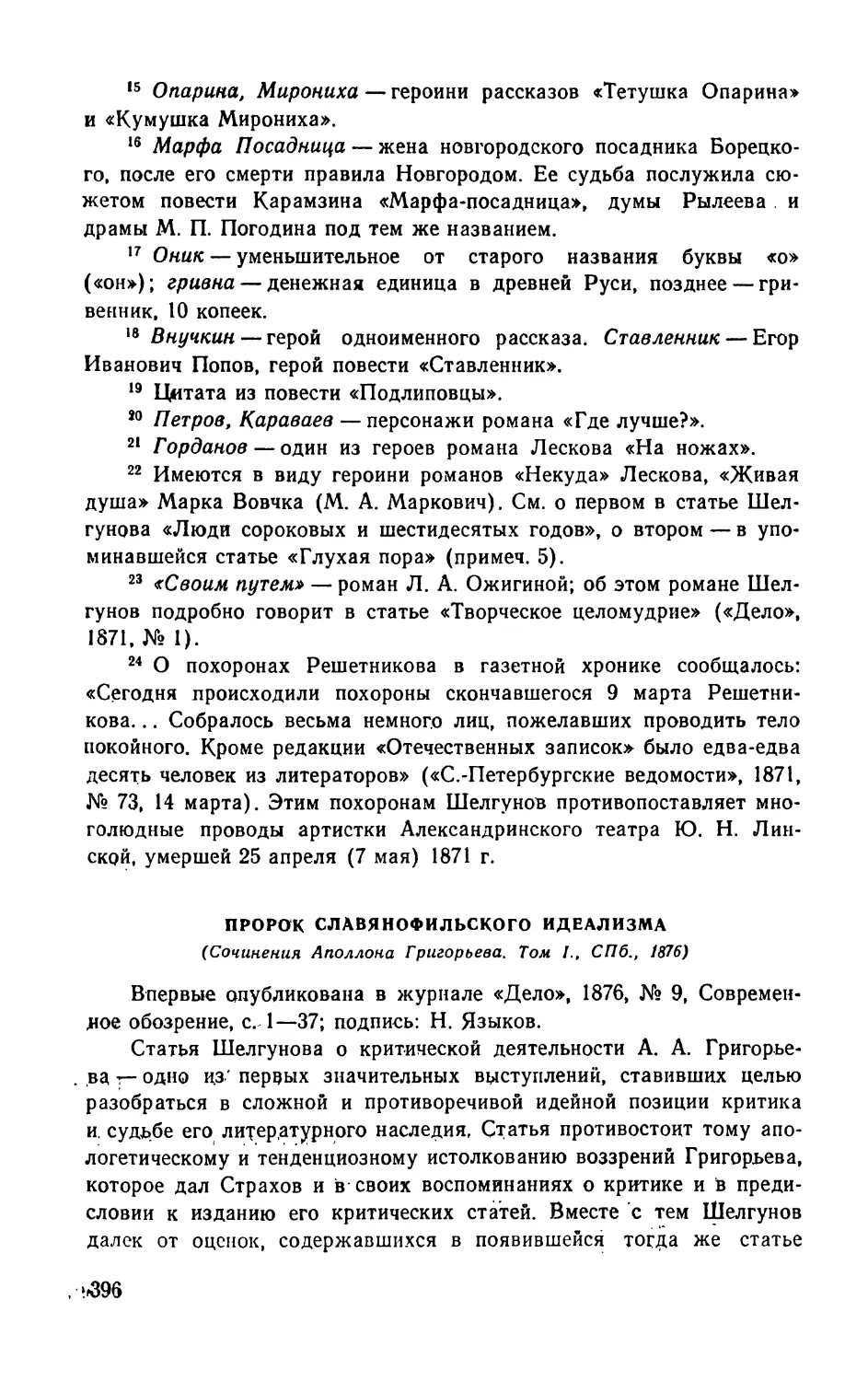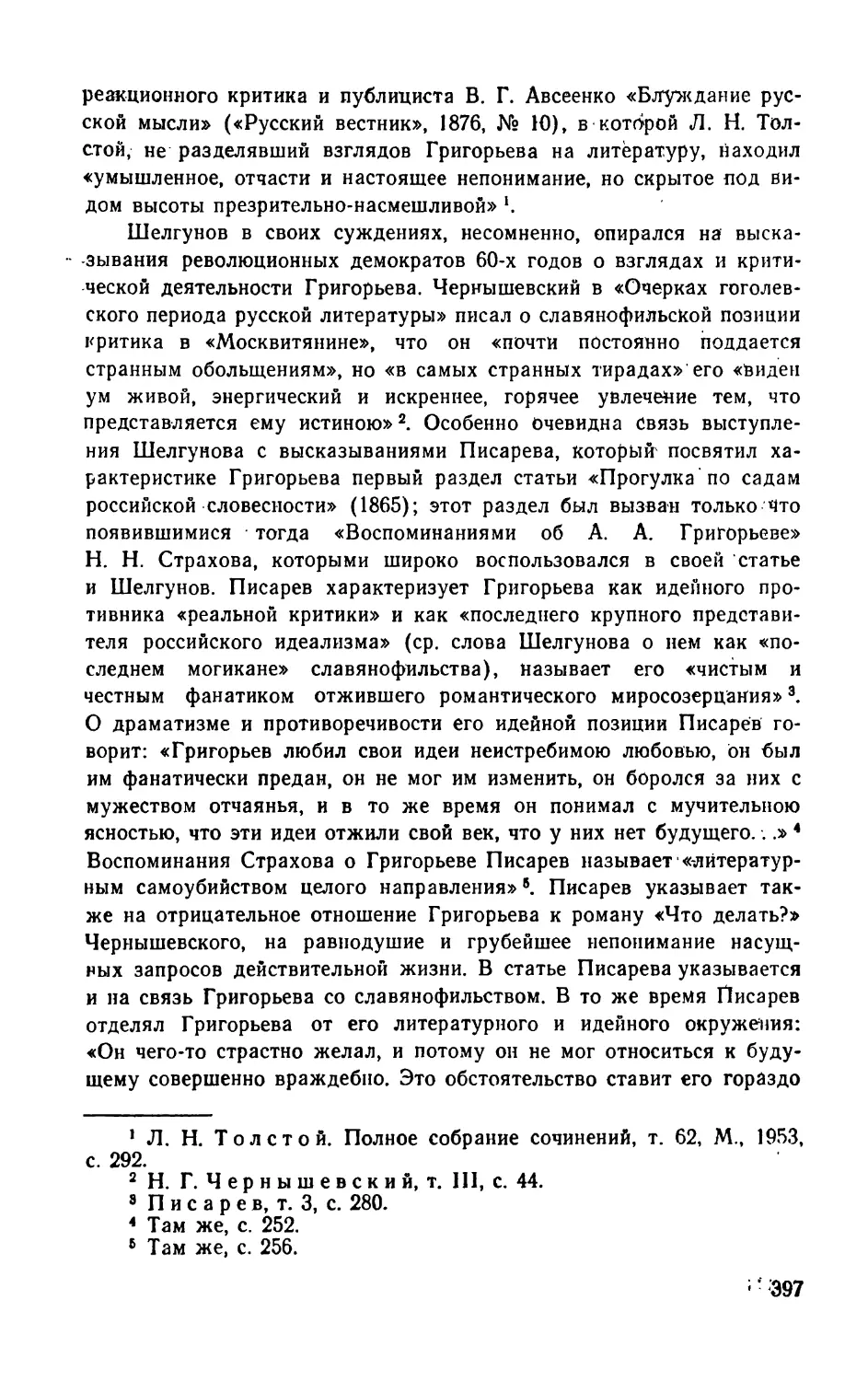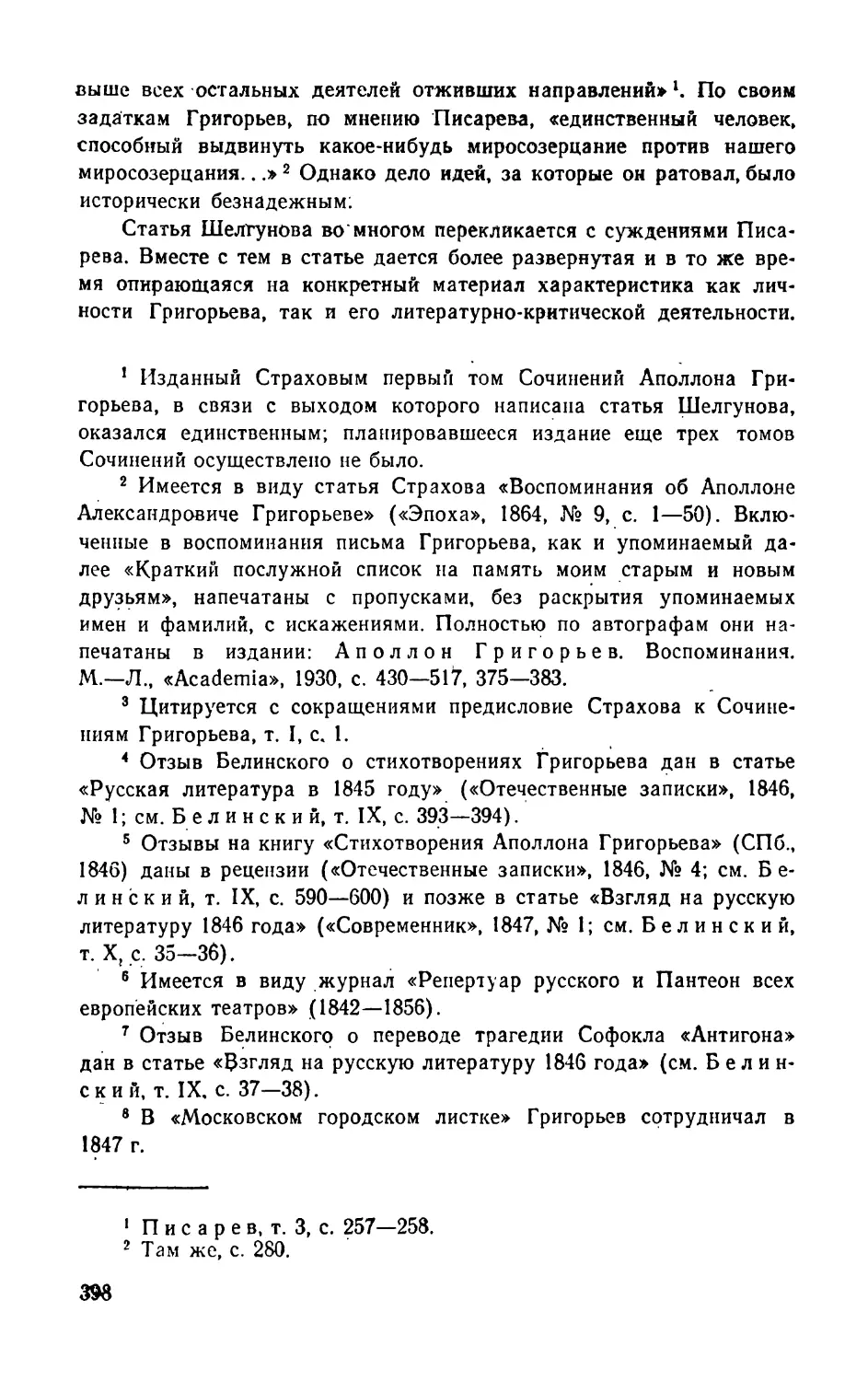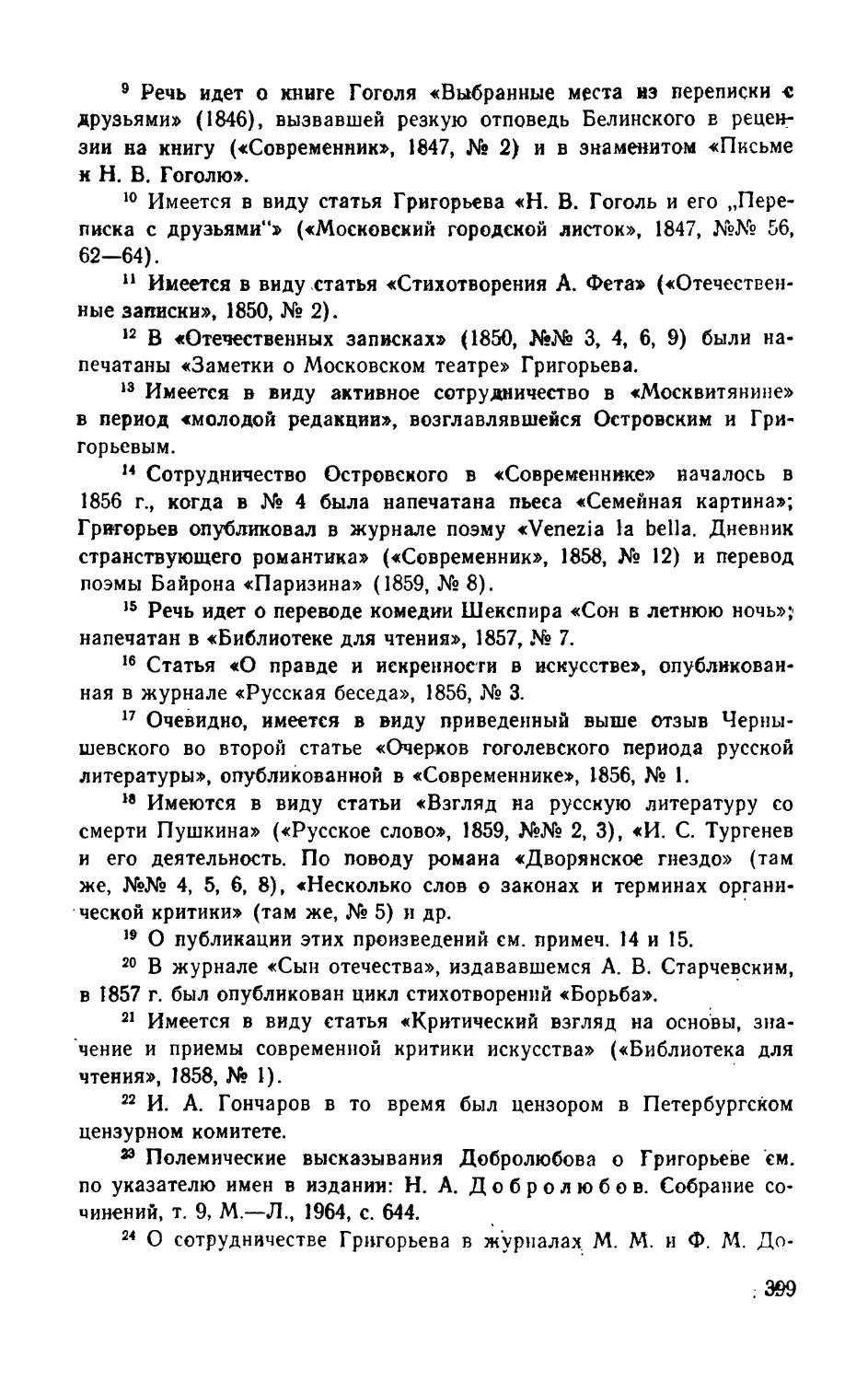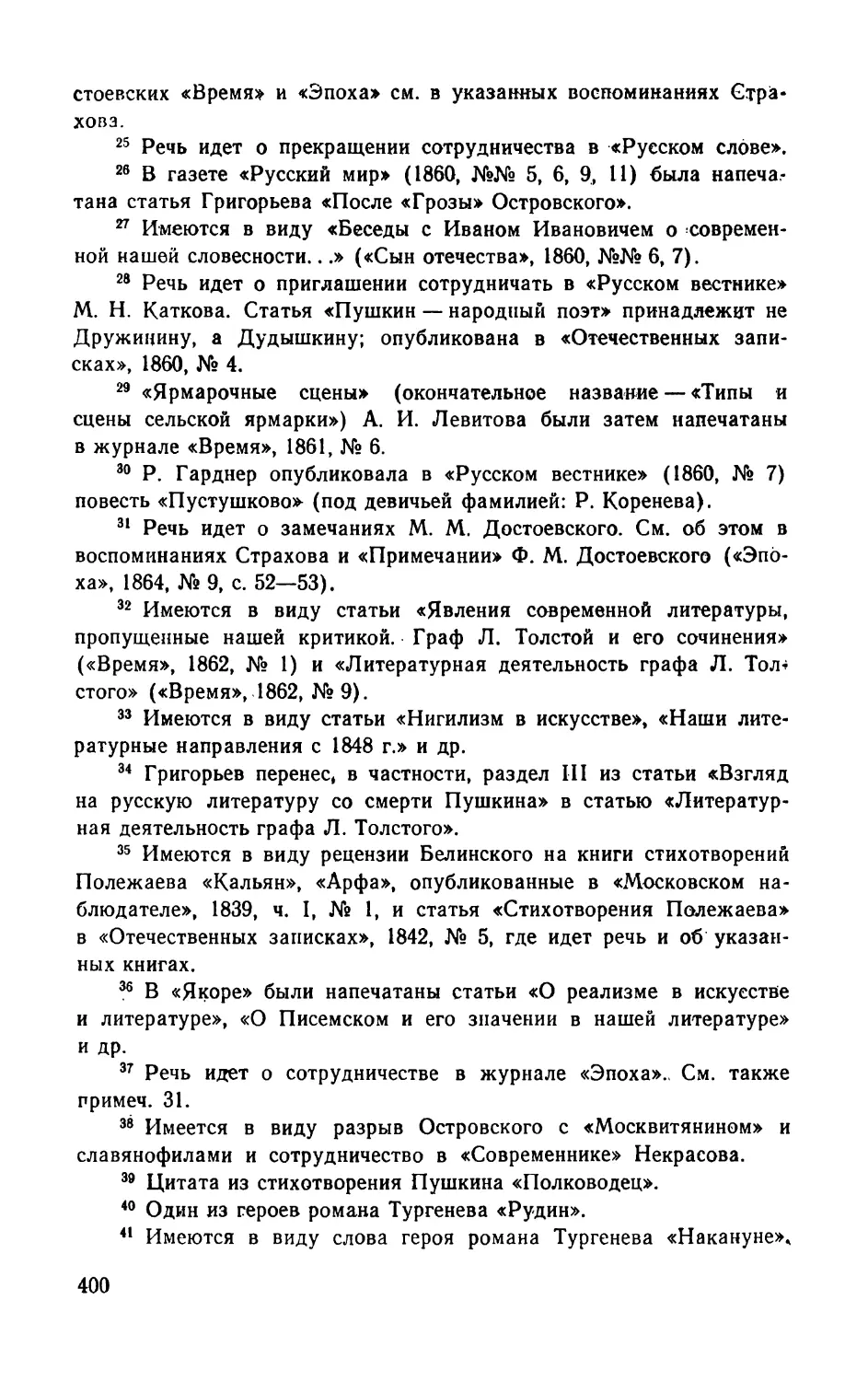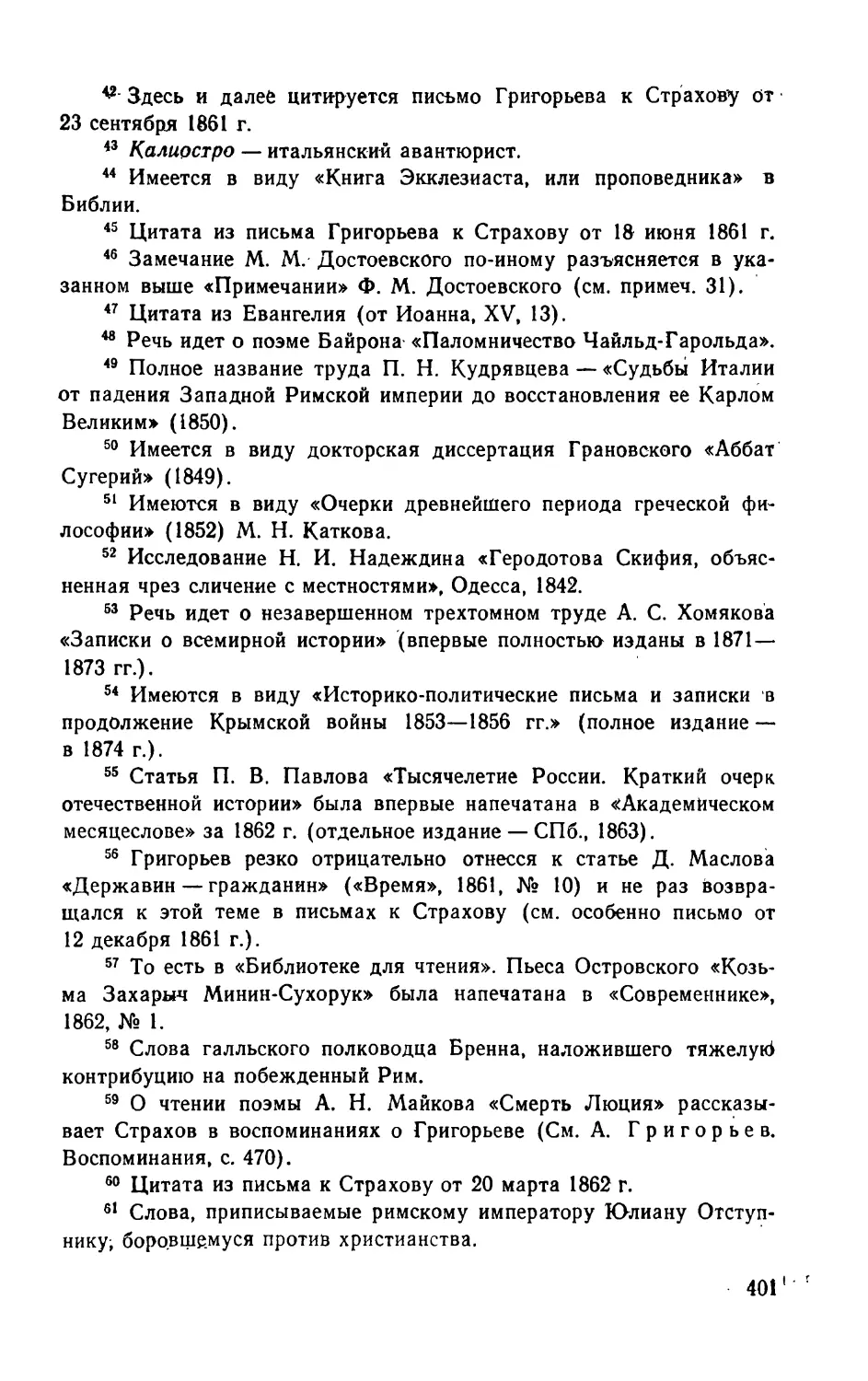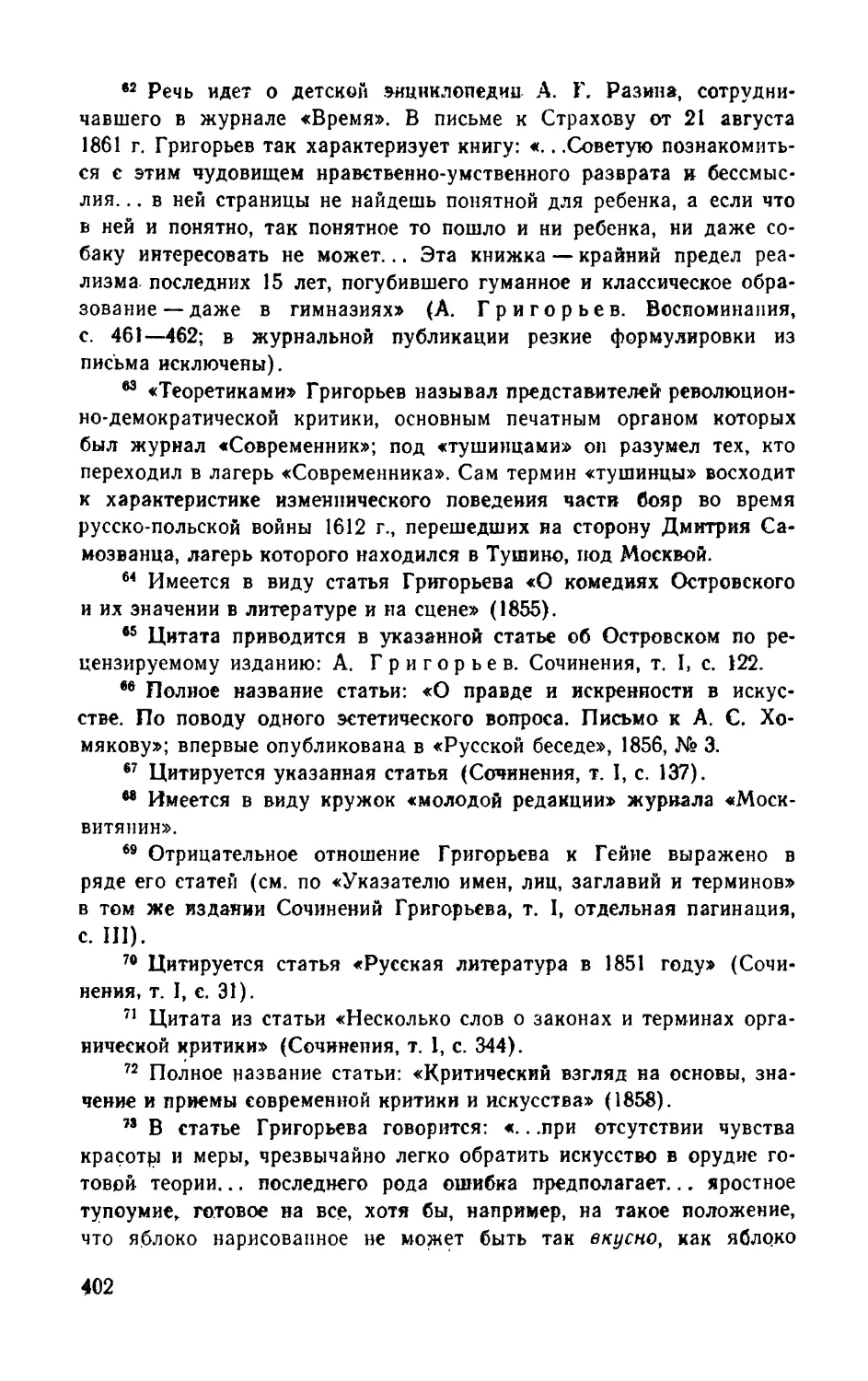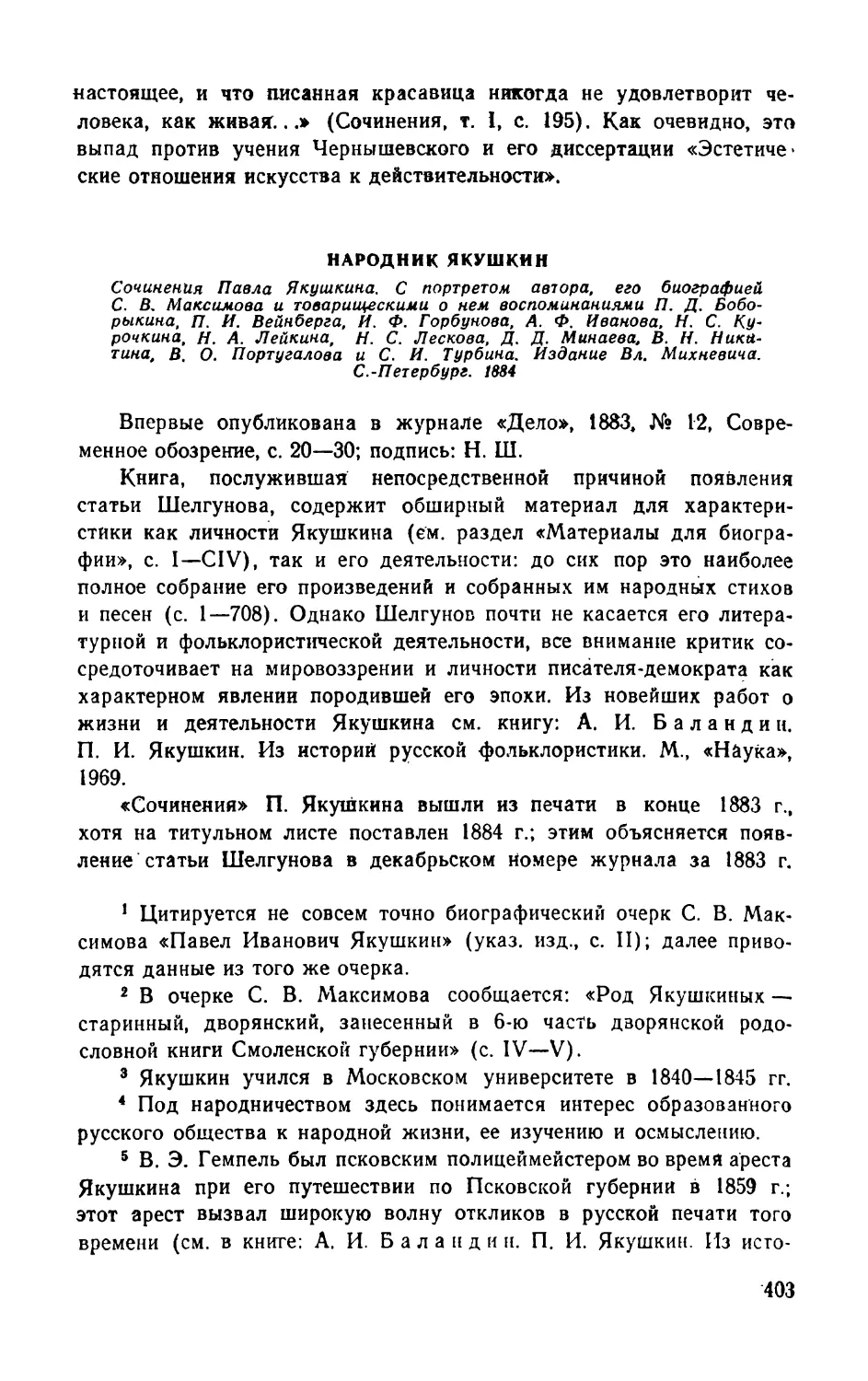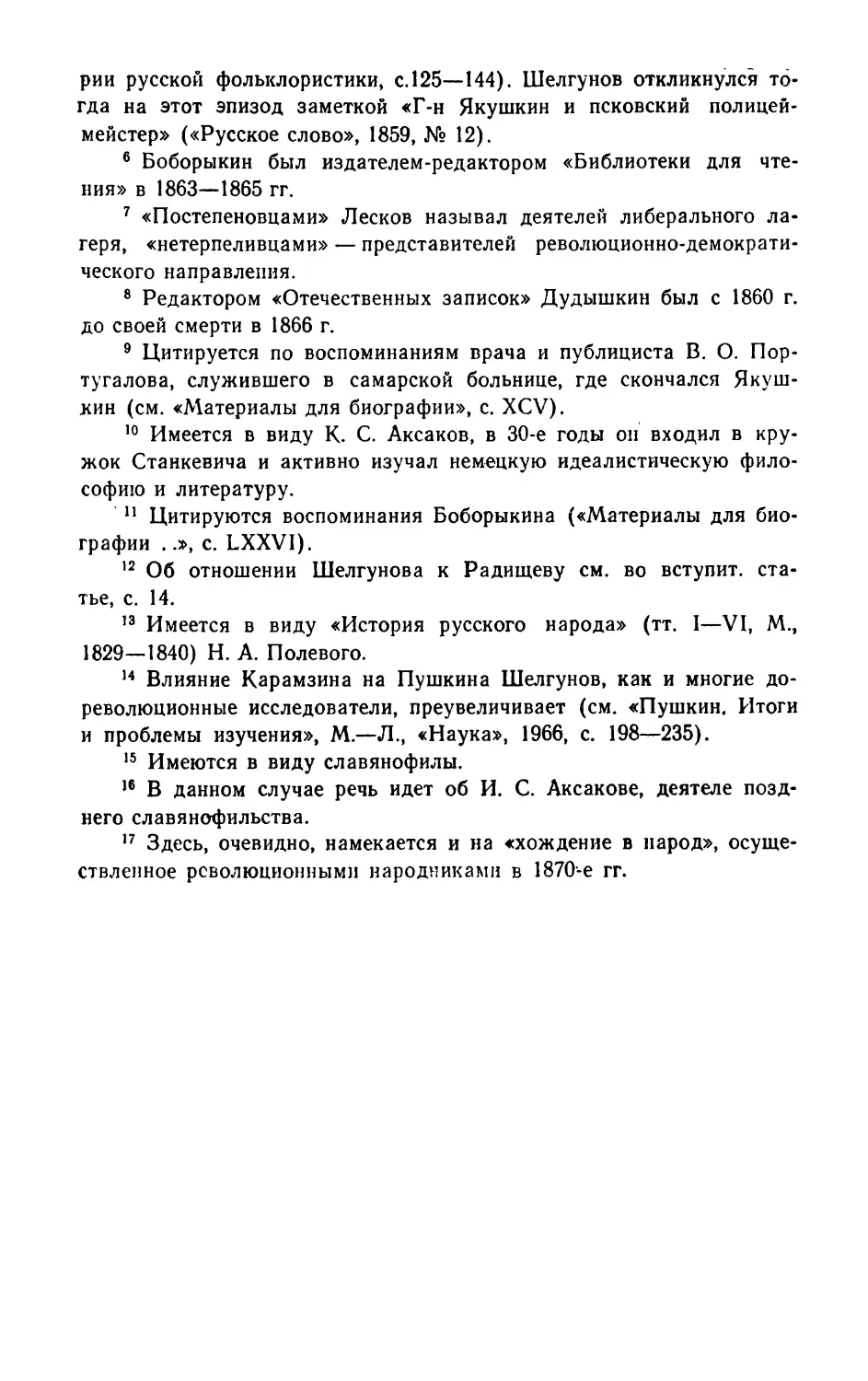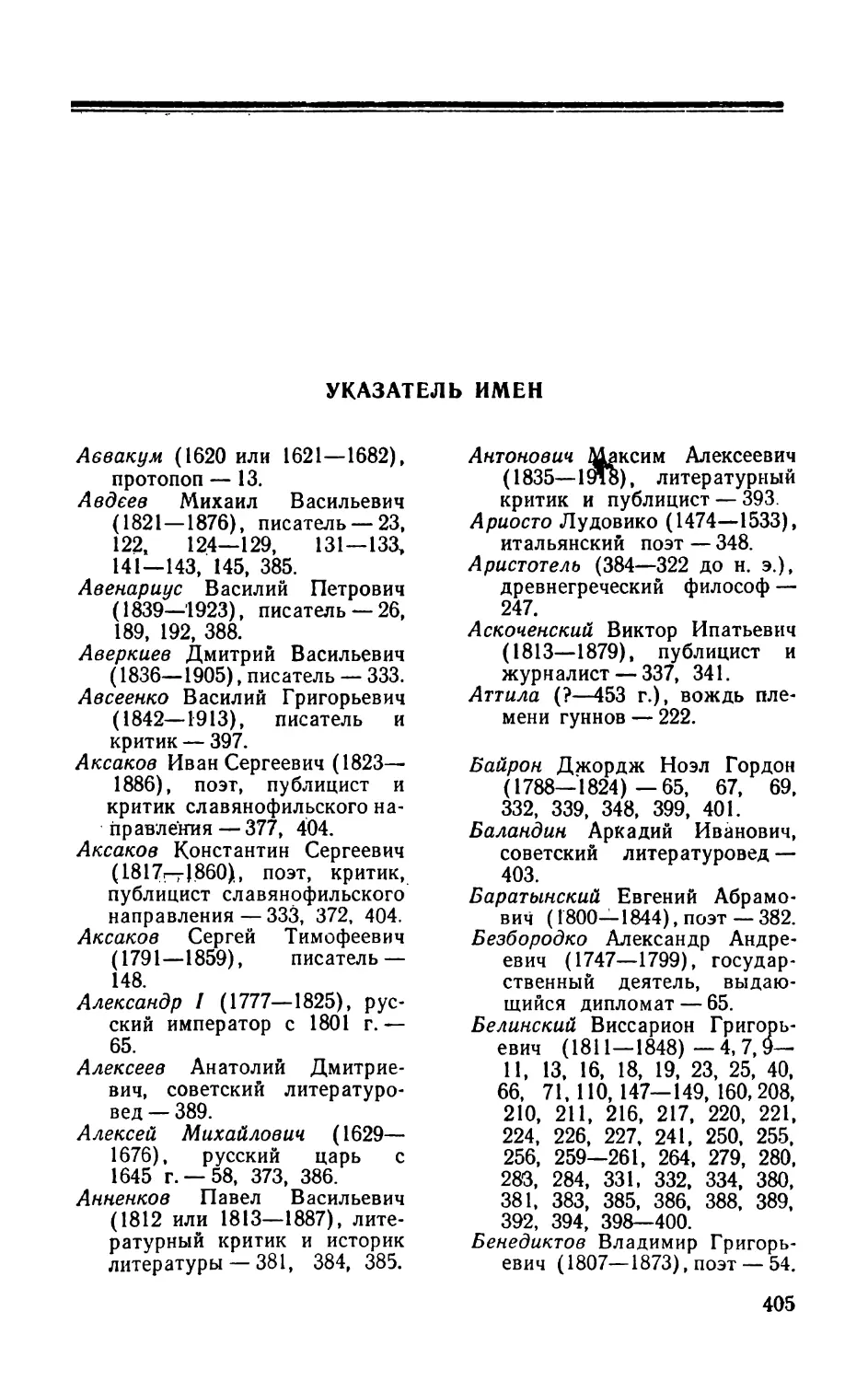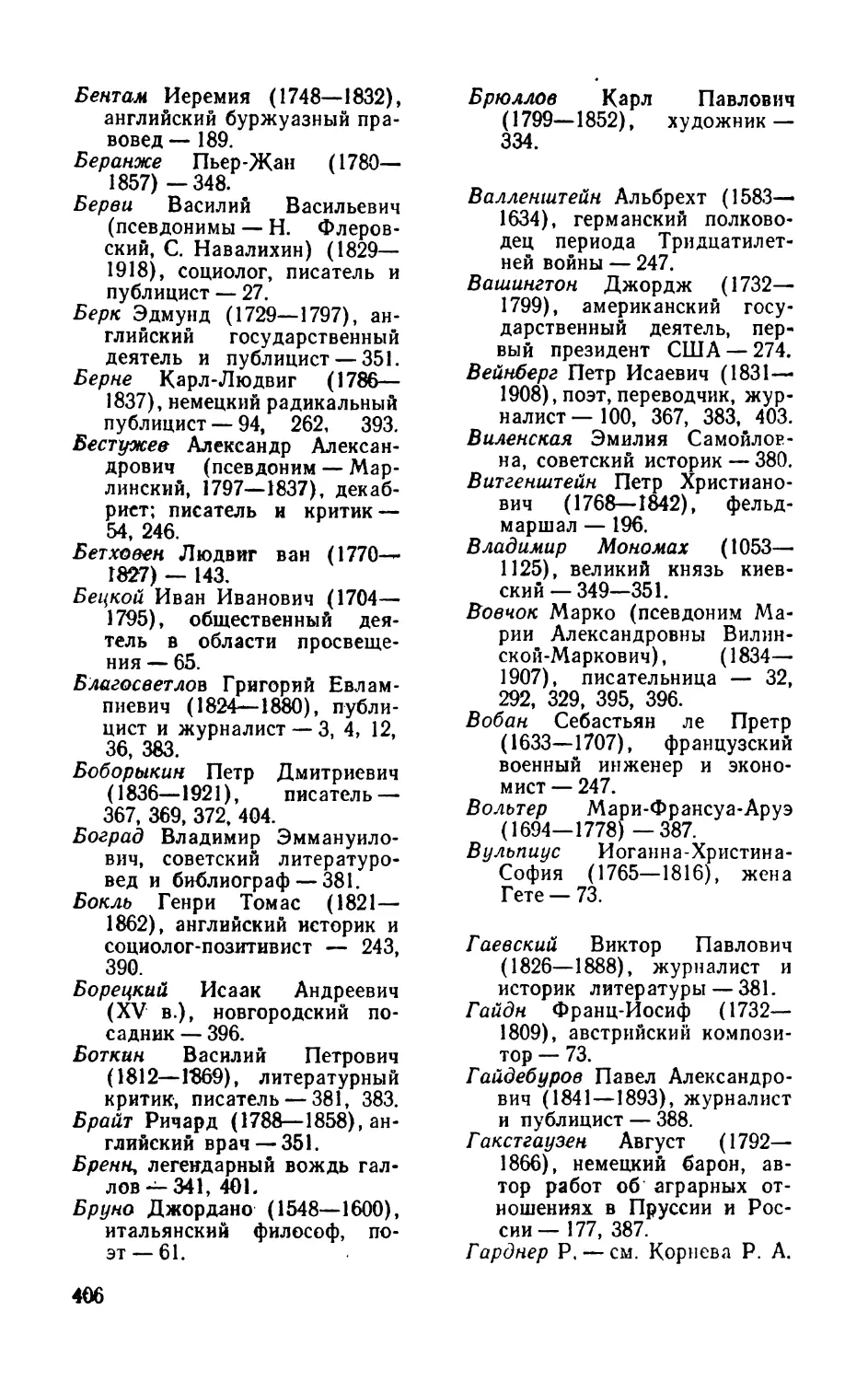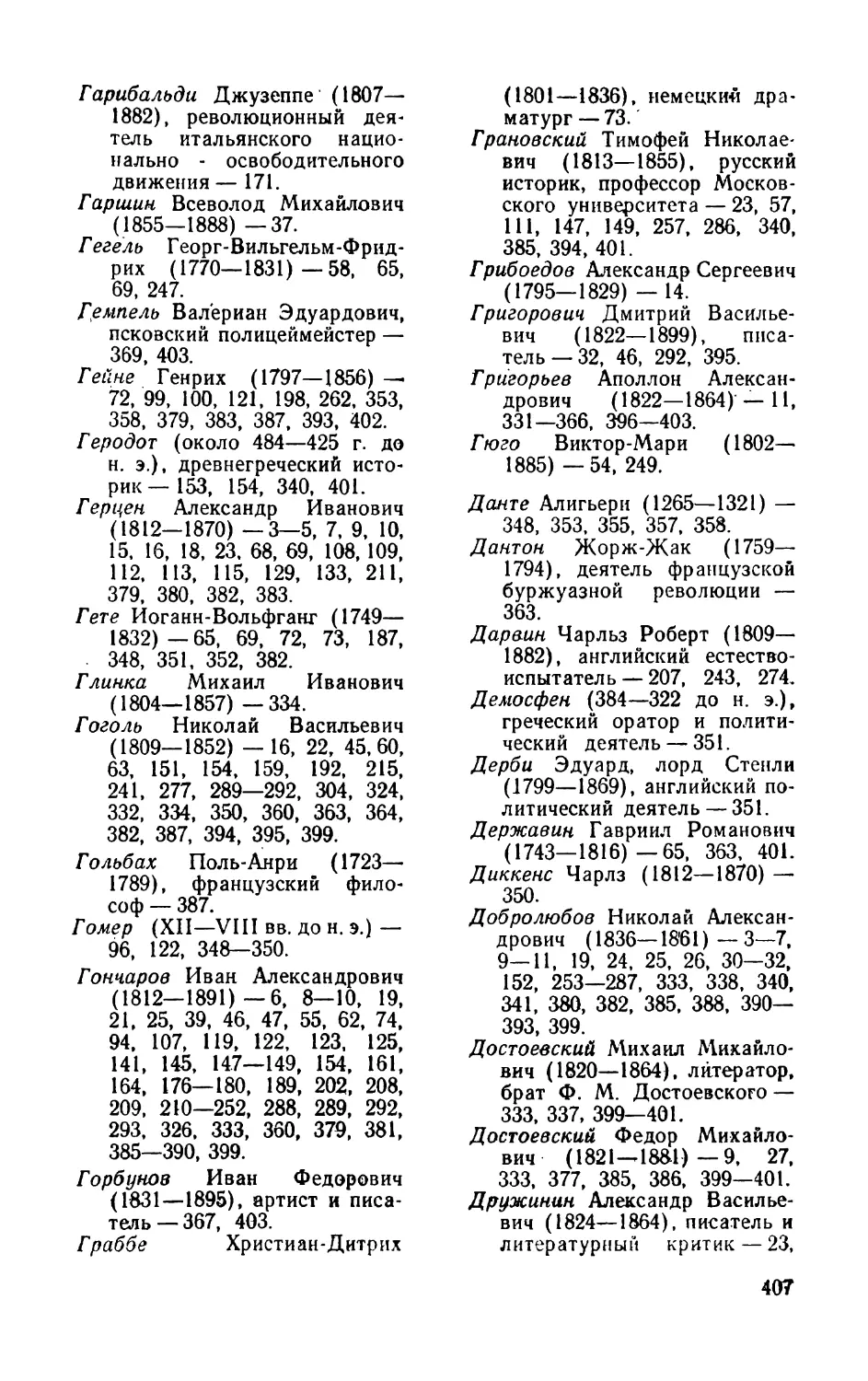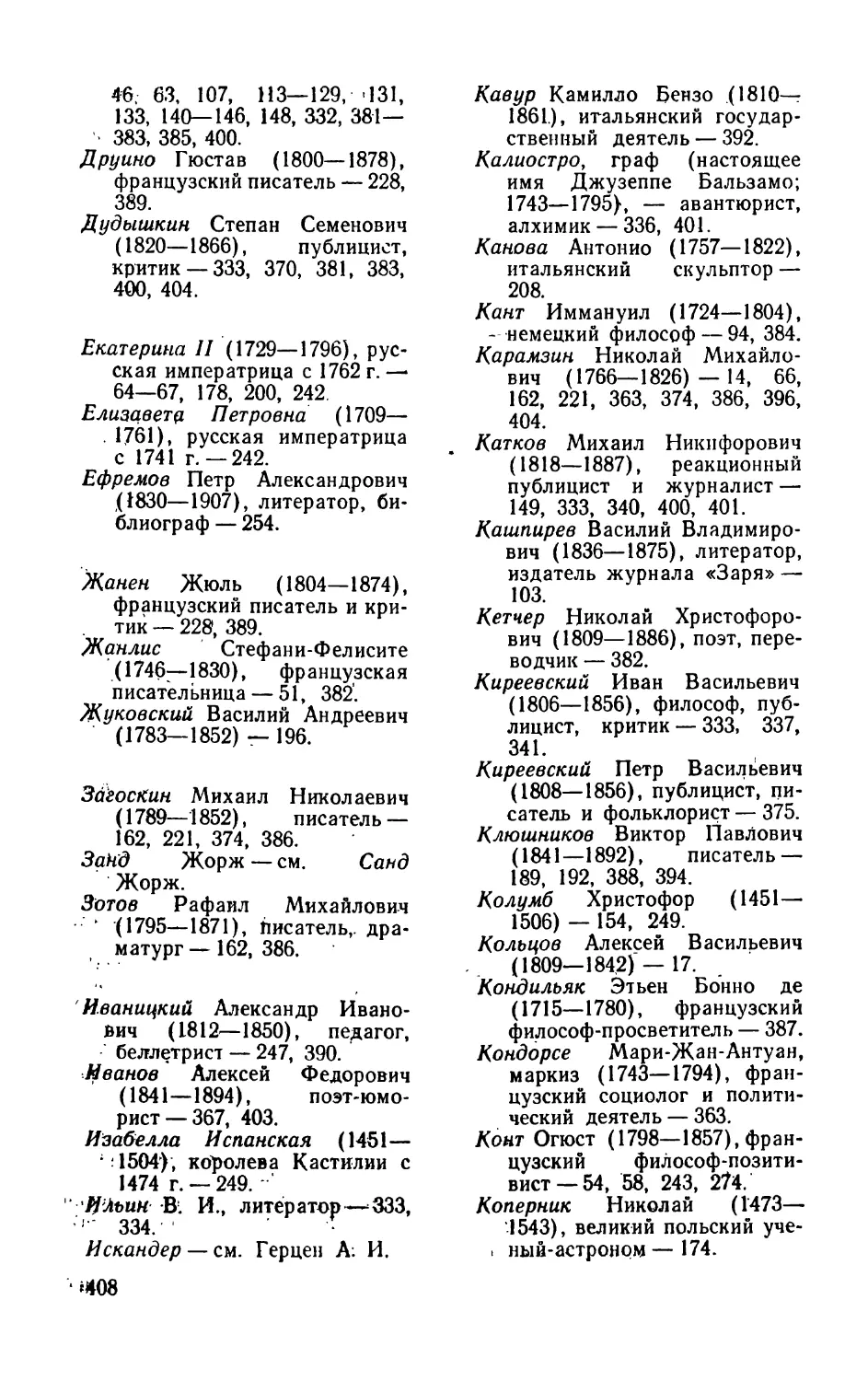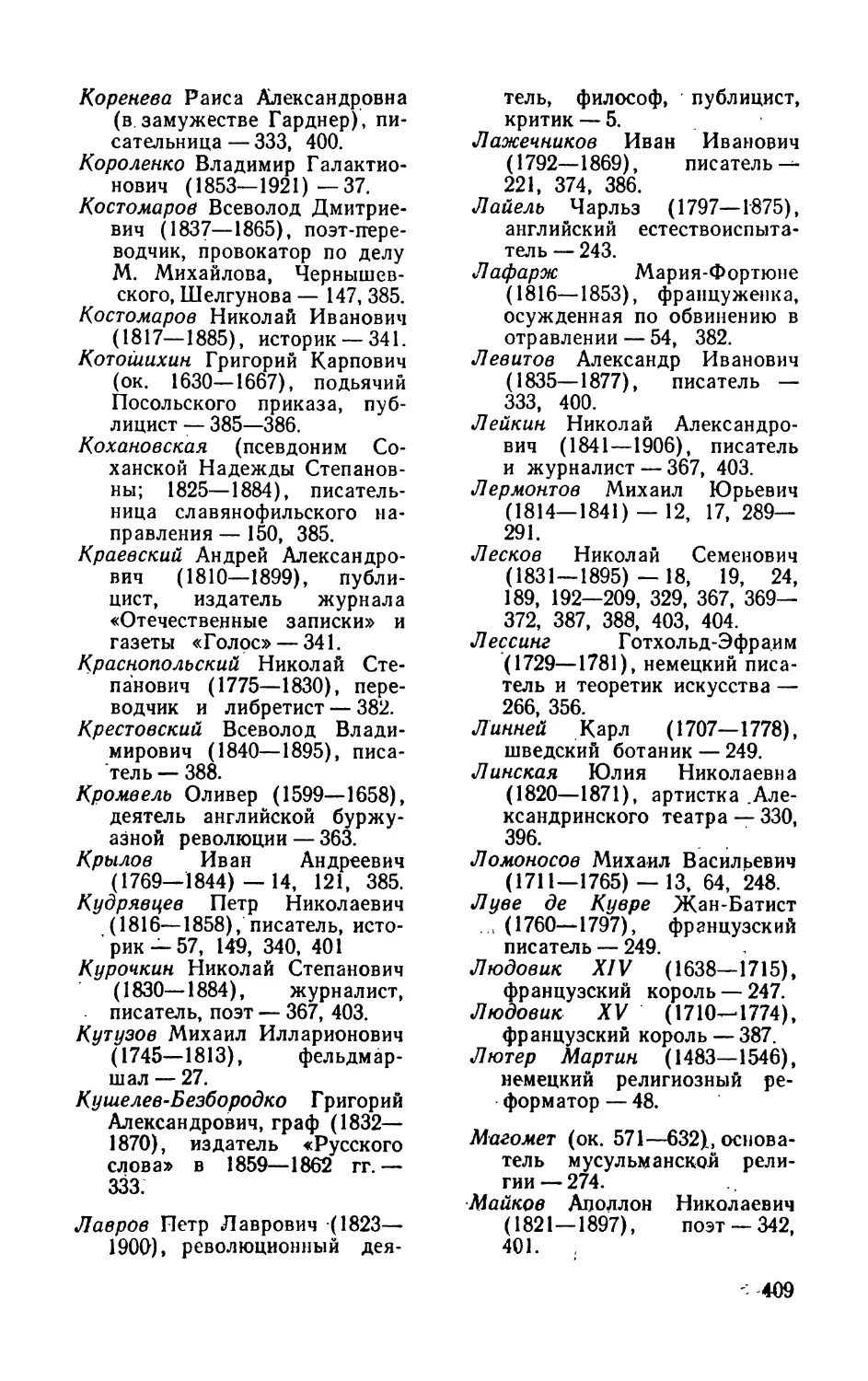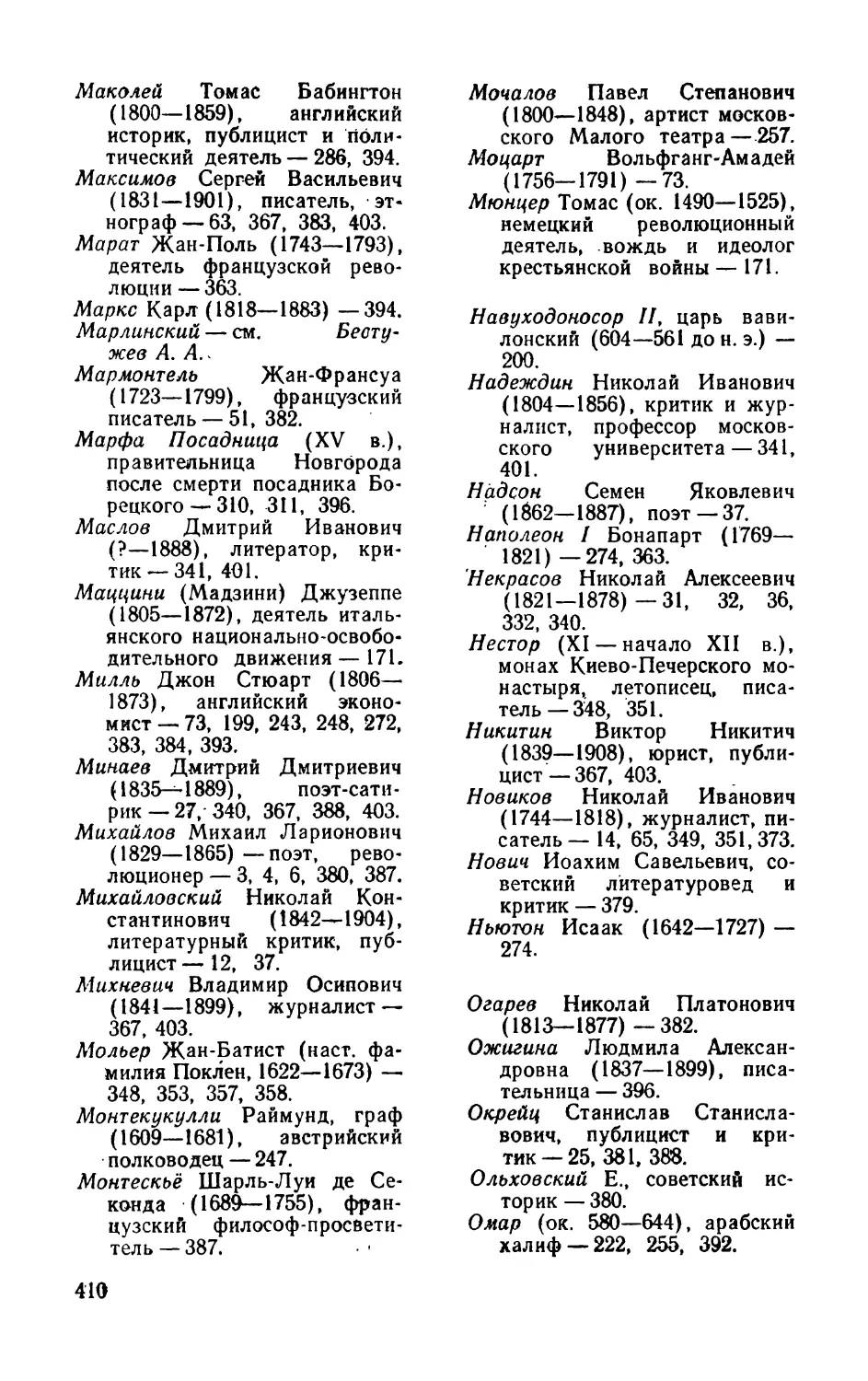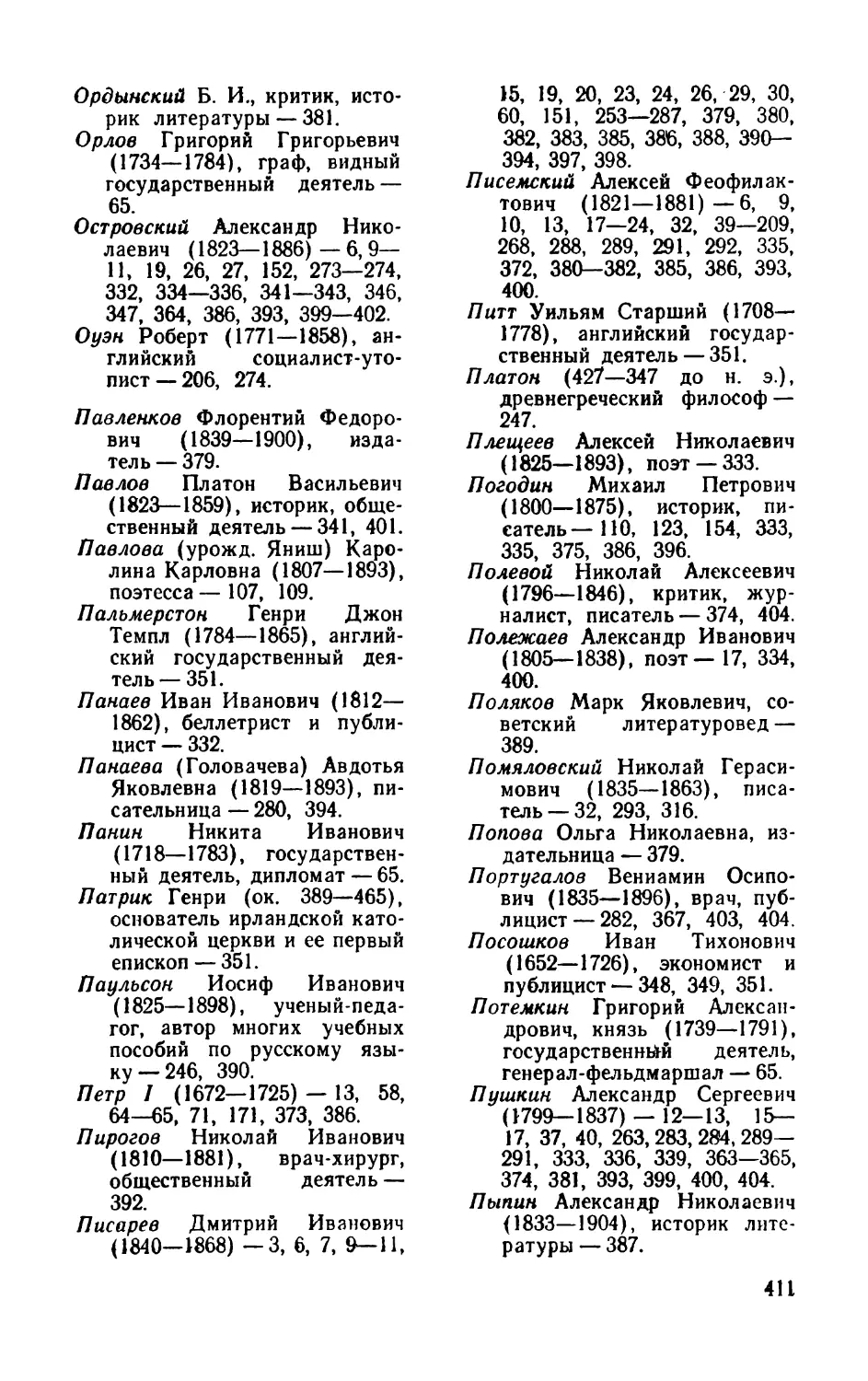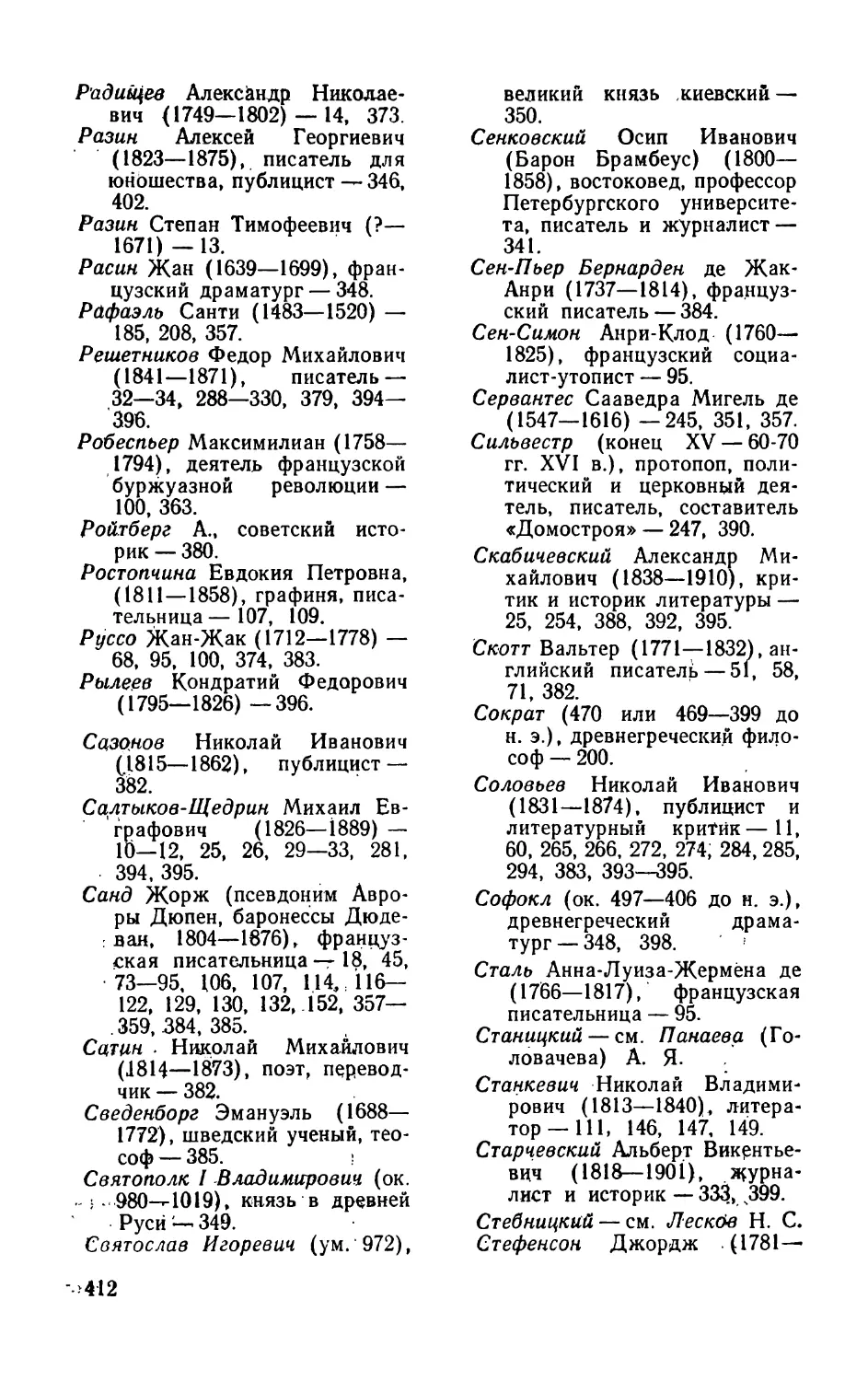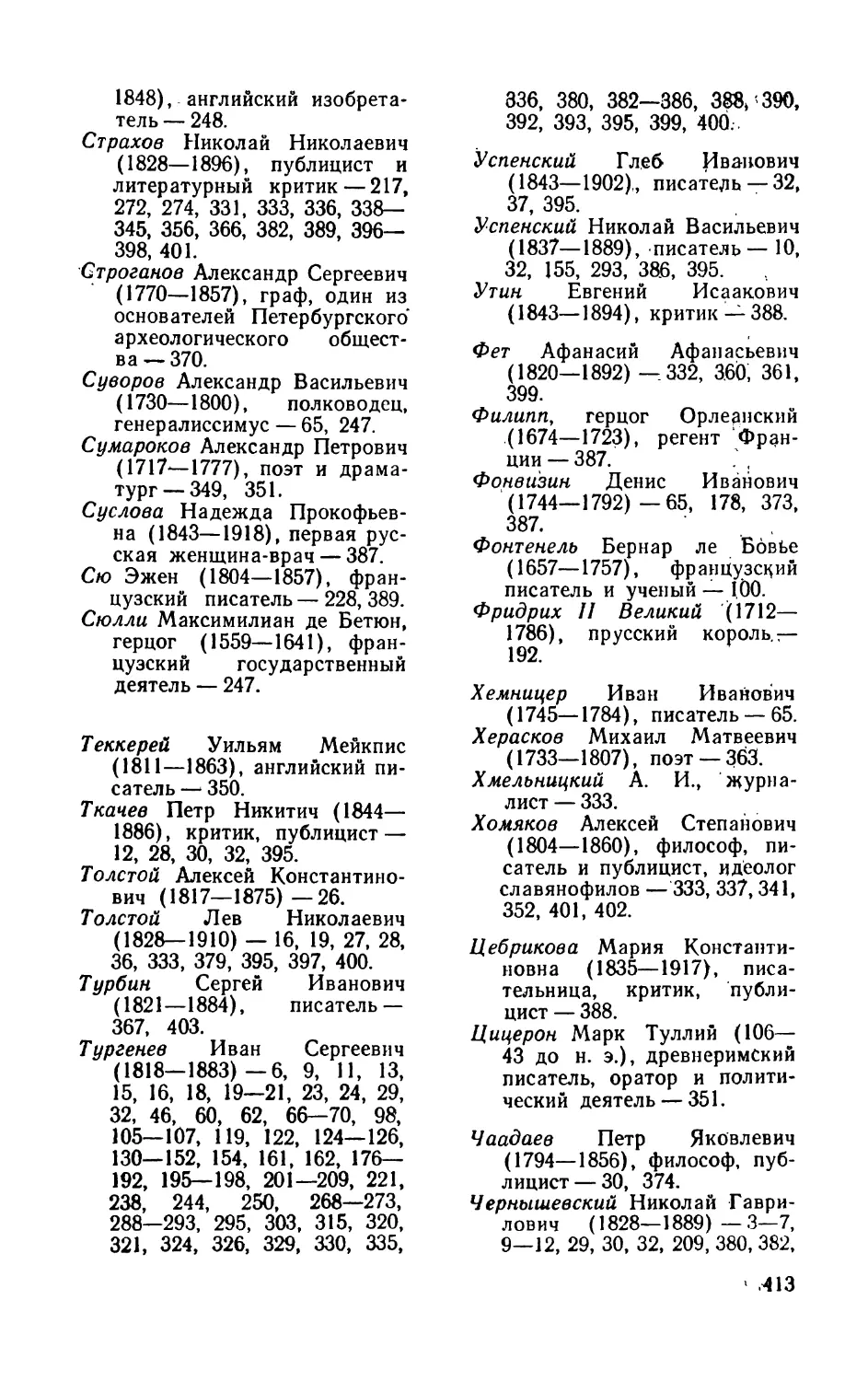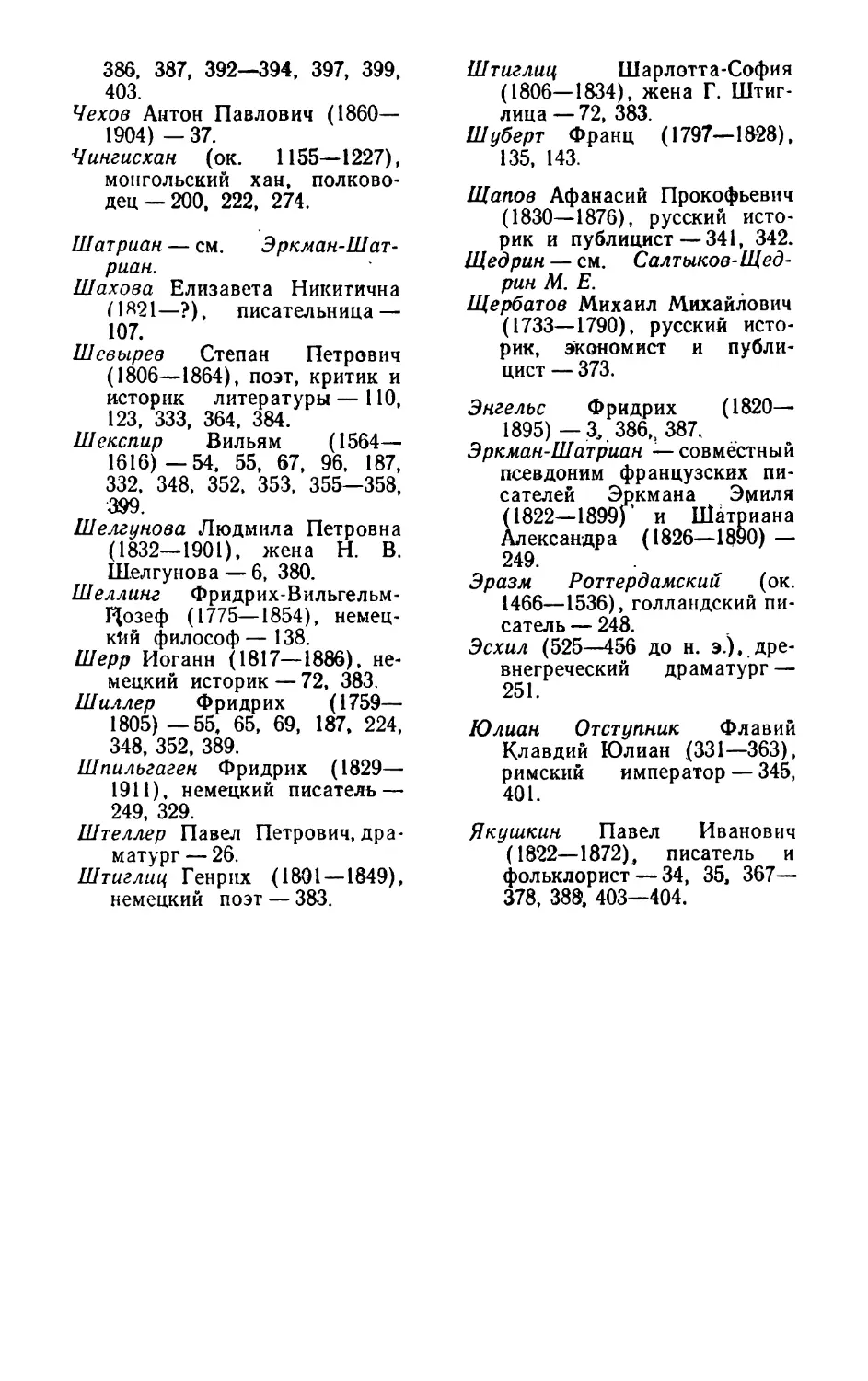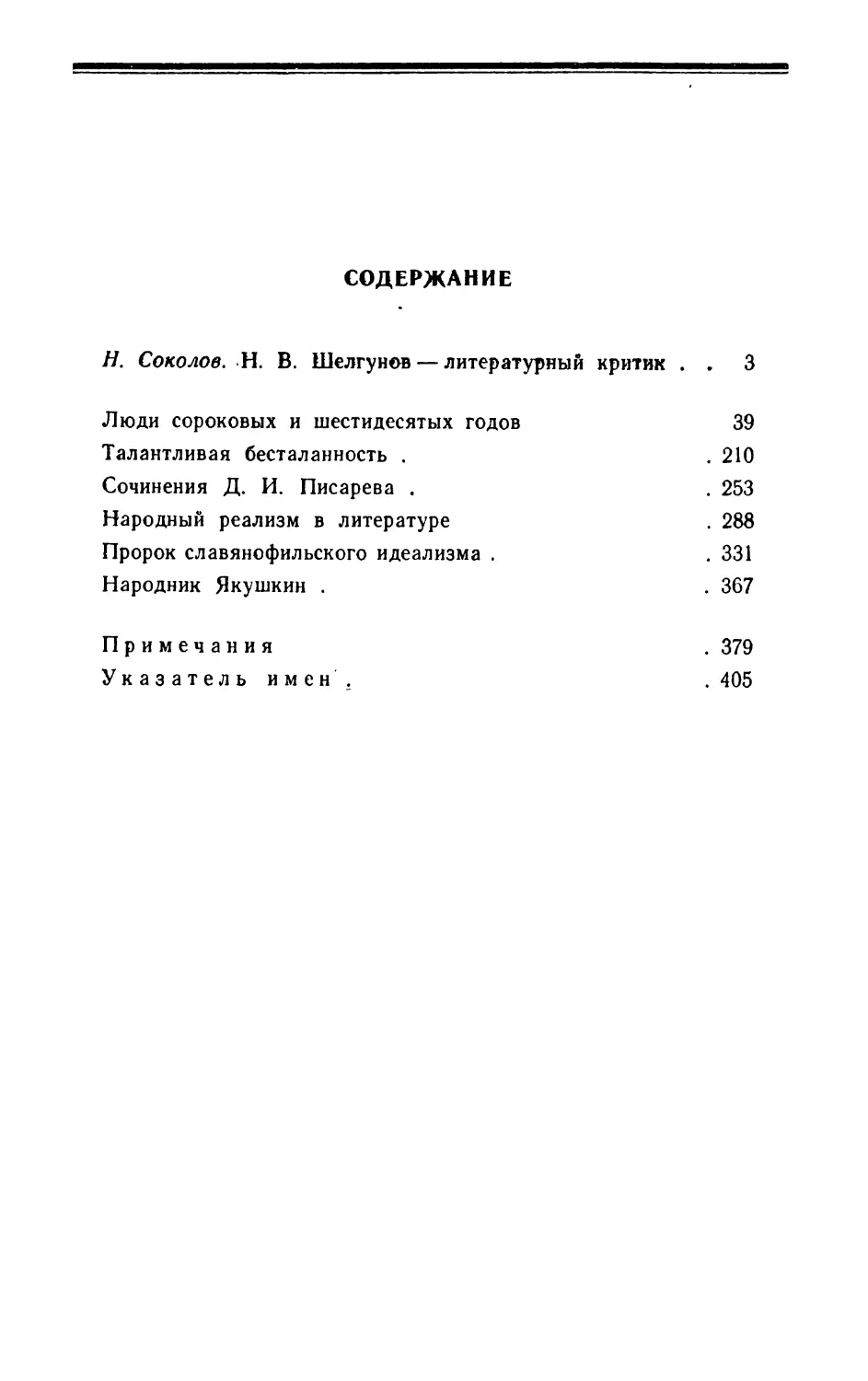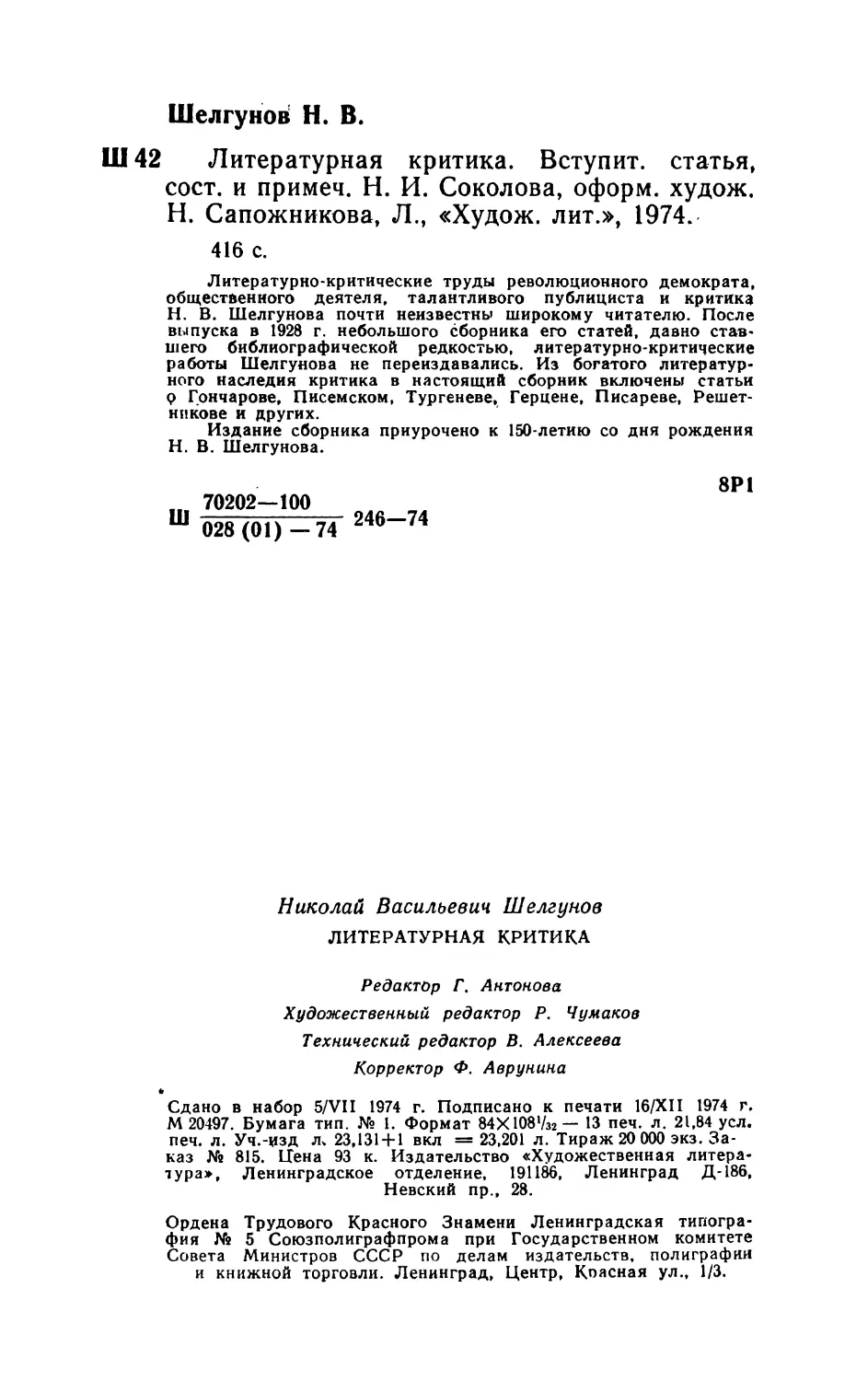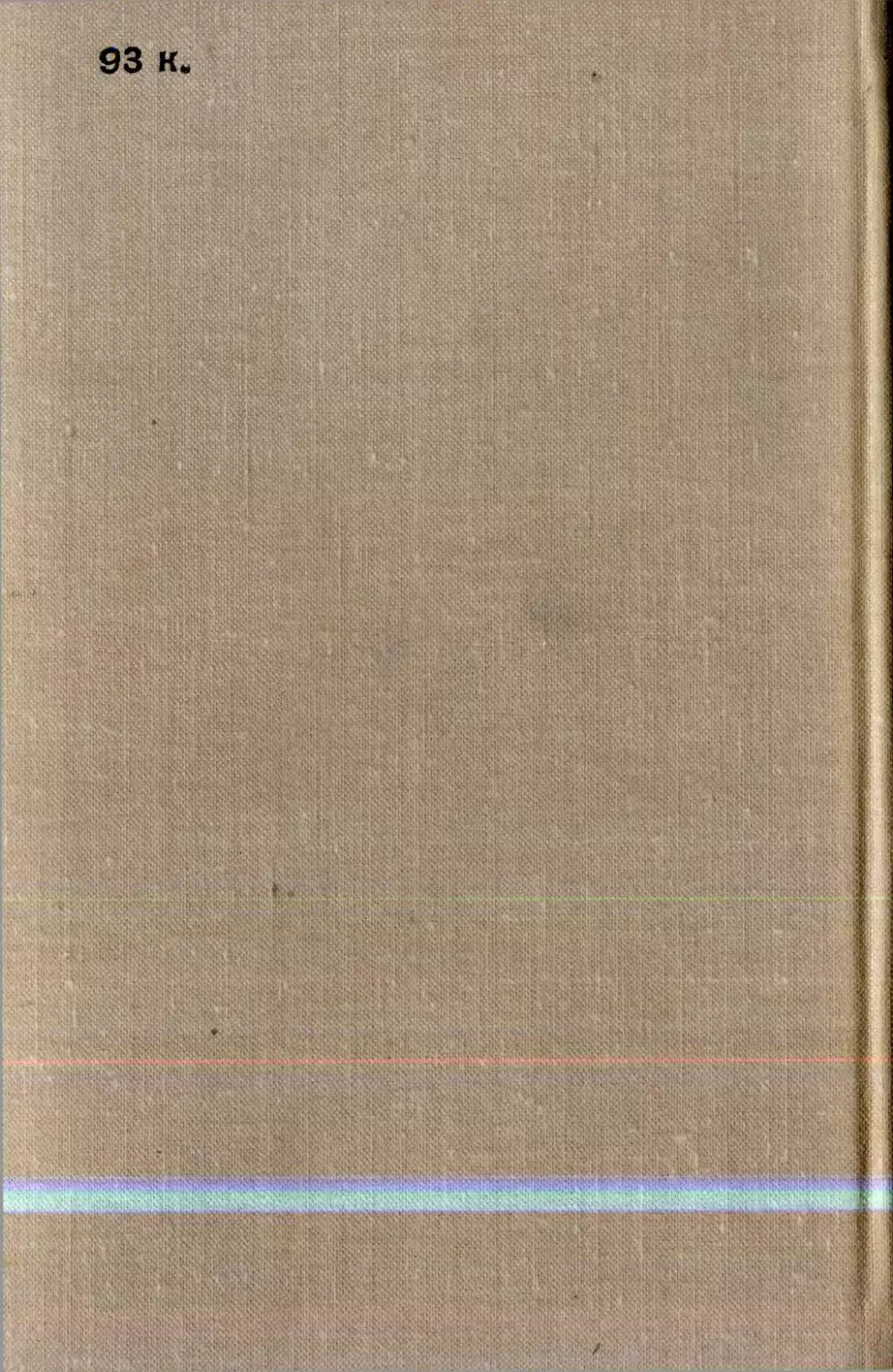Author: Шелгунов Н.В.
Tags: русская литература литературная критика издательство художественная литература литературное обозрение
Year: 1974
Text
ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА
@
Ленинград
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение
1974
8Р1
Ш 42
Вступительная статья,
составление и примечания
Н. Соколова
Оформление художника
Н. Сапожникова
70202—100
028(01)—74
246—74
Ш
© Издательство
«Художественная литература», 1974 г.
Н. В. ШЕЛ ГУНОВ —ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
I
Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891) как видный дея-
тель революционной демократии сформировался и уже во многом
широко, многогранно раскрылся в бурную, но короткую пору рево-
люционно-общественного подъема 60-х годов. Он принадлежал к бле-
стящей плеяде шестидесятников, группировавшихся вокруг Черны-
шевского, Добролюбова, Писарева, вокруг «Современника» и «Рус-
ского слова». В статье о Г. Е. Благосветлове, возглавлявшем жур-
налы «Русское слово» и «Дело», в которых на протяжении многих
лет сотрудничал Шелгунов, он писал: «Благосветлов — чистый про-
дукт 60-х годов; он один из последних могикан этого времени, пол-
ного жизни, блеска и порыва, выставившего массу людей идейных,
талантливых, с характером» \ Эти слова ’в еще большей мере отно-
симы к самому Шелгунову.
Войдя в круг передовых борцов тех лет, Шелгунов с поразитель-
ной смелостью и широтой развернул практическую революционно-
общественную и литературную деятельность. Поездки в 1859 и 1861
годах вместе с поэтом-революционером М. Л. Михайловым в Лондон
к Герцену для налаживания связей, а затем для напечатания рево-
люционных прокламаций «Русским солдатам» и «К молодому поко-
лению»; близость к Чернышевскому и Добролюбову; выступление на
страницах «Современника» со статьей «Рабочий пролетариат в Ан-
глии и во Франции» (1861), в которой широко использовалась книга
Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»; сотрудничество
в «Русском слове»; поездка в Сибирь в связи с арестом и каторгой
Михайлова; собственный арест и затем почти двухлетнее заключение-
в Алексеевском равелине Петропавловской крепости; последующие
годы ссылки под надзор полиции губерний Вологодской, Калужской,
Новгородской. .. Таковы этапы стремительно развертывавшейся био-
графии Шелгунова в 60-е годы. Чернышевский о Шелгунове сказал:
1 Н. В. Шелгунов. Григорий Евлампиевич Благосветлов.—
В изд.: Г. Е. Благосветлов. Сочинения. СПб., 1882, с. I.
3
«Честнейший и благороднейший человек Николай Васильевич, такие
люди редки. Прекрасно держал себя в моем деле» Как известно,
«дело» было не из легких, оно потребовало от Чернышевского огром-
ной выдержки, ума и сил в единоборстве с высокопоставленными
тюремщиками и палачами из Третьего отделения и Зимнего дворца.
Между тем начало жизненного пути Шелгунова, казалось, не
предвещало ничего столь драматического и необычного. Он был пре-
успевающим чиновником, его карьера определилась и сулила полное
благополучие. Воспитанный в дворянской семье и в стенах Алексан-
дровского военно-кадетского корпуса, он успешно кончает в 1841 го-
ду Лесной институт и еще более успешно служит в департаменте
лесных дел, становится видным специалистом, автором капитальных
трудов по лесному хозяйству страны («История русского лесного за-
конодательства», «Лесная технология», «Лесоводство» и др.). Однако
преуспевающий в своей административной и научной карьере зрелый
человек круто порывает с ней и устремляется в полную опасностей
общественную борьбу, на ее самый «передний край».
Этот крутой поворот в жизни и деятельности Шелгунова объяс-
няется, конечно, не только тем, что судьба свела его с Михайловым,
с литературными кругами «Современника» и «Русского слова», а за-
тем и с такими деятелями, как Герцен, Чернышевский, Добролюбов.
Шелгунов к тому времени был широко образованным человеком.
По опыту своей официальной службы он хорошо знал современ-
ное состояние России. Специалисту лесного дела была ясна необ-
ходимость радикальной перестройки не только лесного хозяйства
страны, но и всего ее социально-политического строя. Решительная
проповедь революционных перемен в России в трудах Герцена и
Белинского, Чернышевского и Добролюбова находила горячий от-
клик в молодом поколении 50—60-х годов, захватила она и «не моло-
дого» Шелгунова. Касаясь литературной деятельности людей сходной
с ним судьбы, он писал: «Все мы готовимся к чему-то другому, а лите-
раторами делаемся случайно» 1 2. Как видим, «случайность» здесь была
весьма относительной, опа явилась выражением глубоких историче-
ских закономерностей.
Сформировавшись и начав литературно-публицистическую дея-
тельность в обстановке острой идейной борьбы 60-х годов, Шелгунов
вместе с тем активный участник общественной жизни и борьбы по-
следующей эпохи, которая также не могла не наложить на него сво-
его отпечатка. 1870—1880-е годы — это время народнического движе-
1 «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II.
Саратов, 1959, с. 268—269.
2 В изд.: Г. Е. Благосветло в. Сочинения, с. VII.
4
ния, время самоотверженной борьбы революционеров «Народной
воли» с самодержавием. Как известно, народники в своей теории опи-
рались на утопические идеи крестьянского социализма, видели в дере-
венской общине защиту от капитализма, фактически восторжество-
вавшего к тому времени и в России. В своей революционной деятель-
ности они вдохновлялись идеями Чернышевского и Добролюбова,
рассчитывая поднять народ на крестьянскую революцию. Вместе с
тем в понимании движущих сил истории, закономерностей развития
современного общества народники во многом отступали от идейного
наследия революционной демократии 60-х годов.
Ограниченность народников в понимании путей развития Рос-
сии хорошо видел Шелгунов. «Теперь нам отделиться от Запада не-
возможно, — писал он в статье «Россия и европейская цивилиза-
ция», — цивилизация нас уже поглотила» 1. Об этом же говорит он и
в статье о книге Герцена «Раздумье» в 1870 г. В то же время Шел-
гунов горячо сочувствовал отважной и самоотверженной борьбе
революционеров-народников 70-х годов, временами разделяя их ил-
люзии. В рецензии на «Исторические письма» Лаврова, одного из
идеологов революционного народничества, Шелгунов писал, что в
основных мыслях «мы не находим ничего, в чем бы могли с ним не
согласиться»1 2. С напряженным вниманием и не без горячих надежд
Шелгунов следил за перипетиями борьбы народовольцев с царизмом.
Пережив поражение народников, в период наступившей, реакции он
не отказался, однако, от связей с революционным подпольем и снова
очутился в заточении, а затем в ссылке. Шелгунов остался до
конца верен главным заветам революционной демократии 60-х годов.
Именно это обусловило исторический оптимизм его «Очерков рус-
ской жизни», этой страстной и яркой публицистической летописи
80-х годов.
Литературное наследие Шелгунова велико и многогранно. Жур-
налист по призванию, он интересовался прежде всего современной
общественной жизнью, положением народа, страны, мира. Но сего-
дняшний день для Шелгунова неразрывно связан с днем предшест-
вующим, он подготовляет и день грядущий. Поэтому в статьях, очер-
ках, исследованиях публициста так часто идет речь об историческом
прошлом, о смене действующих поколений, их преемственности, непре-
рывном развитии. Это характерно и для суждений Шелгунова на
литературные темы.
Как литературный критик он начал выступать также в 60-е годы
на страницах «Русского слова», однако основная деятельность Шелгу-
1 «Дело», 1868, № 5, с. 70
2 Там же, 1870, № 11, Современное обозрение, с. 12.
5
нова-критика приходится на 70-е годы. Этому есть свои исторические
причины. В 60-е годы определяющее значение в критике имели высту-
пления Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Положение резко
изменилось к концу 60-х годов. Еще в 1861 г. не стало Добролюбова;
Чернышевский был на каторге; в 1868 г. оборвалась жизнь Писа-
рева. Именно в эту трудную пору и началась активная критическая
деятельность Шелгунова. В меру сил и дарования он стремился быть
продолжателем своих выдающихся предшественников. Как автор
литературно-критических статей и рецензий на страницах демократи-
ческого журнала «Дело» 1870-х годов, унаследовавшего традиции
«Русского слова», Шелгунов и входит в историю русской критики,
II
Среди выступлений Шелгунова о литературе трудно найти такое,
в котором он в той или иной мере не касался бы общих вопросов
понимания роли писателя, назначения литературы в целом. Теорети-
ческие рассуждения о литературе содержатся в его статьях о Турге-
неве и Писемском, о Гончарове и Островском. Особенно подробно он
говорит об этом в тех своих выступлениях, где речь идет о револю-
ционно-демократической критике и эстетике. И это, конечно,’право-
мерно. Революционные демократы были идейными учителями Шелгу-
нова. Их эстетика, критическая деятельность оказали определяющее
воздействие на формирование его литературно-критических взглядов,
хотя в ряде конкретных оценок он с ними и расходился.
Основы революционно-демократической эстетики, по убеждению
Шелгунова, с наибольшей полнотой и доказательностью сформули-
рованы в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искус-
ства к действительности». Шелгунов присутствовал 10 мая 1855 г.
на ее защите. «Это была первая молния, которую он кинул», — гово-
рил Шелгунов позднее об авторе диссертации Ч В 80-е годы, когда
наследие революционных демократов подвергалось яростным напад-
кам со стороны лагеря реакции и оно было мало доступно новому
поколению читателей, Шелгунов счел необходимым в своих воспоми-
наниях напомнить об основных положениях эстетического учения Чер-
нышевского. Эти положения важны для характеристики взглядов и
самого Шелгунова. Разъясняя формулу «прекрасное есть жизнь», он
пишет: «.. .прекрасное виделось не в одном том, что делалось, но и в
1 Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михай-
лов. Воспоминания в двух томах, т. I. М., 1967, с. 237. (В даль-
нейшем ссылки на это издание даются сокращенно: «Воспоминания»).
6
том, что должно было делаться. И такое требование не было ни увлече-
нием, ни мечтой, а простым логическим движением мысли, вставшей на
пути перемен: это было просто лозунгом всех тех, кто видел неизбеж-
ность и логическую необходимость всеобщего обновления русских
условий общественного существования на началах справедливости» L
Помимо эстетических трудов Чернышевского, Шелгунов опирал-
ся и на суждения Белинского, Добролюбова, Писарева. Вслед за ними
он писал о гражданском назначении литературы, ее демократизме,
глубоких связях с действительностью, ее просветительской и гуман-
ной роли.
В понимании задач критики, принципов анализа и оценок художе-
ственных произведений Шелгунов также близок к своим идейным
предшественникам. Он был убежденным поборником реализма в лите-
ратуре, для него это было как бы само собой разумеющимся, хотя,
конечно, он хорошо знал, что литература не всегда была таковой.
В статье «По поводу одной книги» (о книге Герцена «Раздумье»)
критик писал: «Борьба романтизма с классицизмом привела на За-
паде к реализму, и он не только по закону преемственности перешел
к нам, но и так пришелся по плечу, что остается разве жалеть, зачем
мы не начали прямо с него»1 2. Реализм, связь с действительностью,
воспроизведение ее во всей истинности и жизненности, — все это было
определяющим для Шелгунова в суждениях о произведениях лите-
ратуры. «Писатель, — говорится в статье «Люди сороковых и шести-
десятых годов», — ничего не выдумывает, он только рисует то, что
дается самой жизнью» (с. 209) 3. Однако критик в этом случае далек
от натурализма, фактографичности, он лишь подчеркивает жизнен-
ные истоки литературы. Изображение действительности, считает он,
должно быть обдуманным, должно быть обобщением: «.. .Если писа-
тель не в состоянии подняться до обобщений, не имеет способности
отыскивать и группировать родственные черты, не в состоянии воз-
водить человека в тип — он не может быть писателем и пусть лучше
за писательство не берется»4. Талант — безусловно необходимая пред-
посылка творчества, однако талант не является гарантией правиль-
ности художественного обобщения. «Талант есть только та сила,—
заявляет Шелгунов, — которая умеет концентрировать данные для
известного положительного вывода, и непременно вывода высокой
общественной полезности... (с. 218).
1 «Воспоминания», т. I, с. 198.
2 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, СПб., 1891, с. 367.
3 Ссылки на страницы настоящего издания см. в тексте, в скобках.
4 Н. В. Шелгунов, Творческое целомудрие. — «Дело», 1871,
№ 1, Современное обозрение, с. 19.
7
Отсюда огромное значение передового мировоззрения для писа-
теля, и здесь Шелгунов рассуждает, конечно, также в полном согла-
сии с революционно-демократической критикой, порой допуская и
крайности в формулировках. Такова мысль, высказанная в той же
статье, посвященной «Обрыву» Гончарова: «Не силой поэтического
творчества определяется размер таланта, а силой воодушевляющей
его мысли, силой его социальной, прогрессивной полезности (с. 217).
Произведение писателя, по убеждению Шелгунова, непременно целе-
направленно, «тенденциозно», содержит тот «приговор о явлениях
жизни», о котором говорится в диссертации Чернышевского. В этой
тенденциозности, целенаправленности творчества Шелгунов видел
его общественное, общечеловеческое назначение. Реалистической при-
родой литературы, ее связью с действительностью обусловлена и
зависимость писателя от окружающего мира. «Как бы писатель ни
творил непосредственно, — говорит Шелгунов, — он всегда чадо вре-
мени, среды и обстоятельств» (с. 356).
Эти взгляды на искусство, на литературу, на ее общественную
роль, подтверждаемые историческим опытом, определили для Шелгу-
нова высокий идеал современного передового писателя. «Что такое
писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда,
за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не
в состоянии?» (с. 212). Поэтому Шелгунов непримирим к писателям,
придерживающимся реакционных или просто ошибочных взглядов,
хотя бы эти писатели отличались несомненной талантливостью. В та-
ких случаях, считал он, истинная задача критики состоит в том, «что-
бы спасти читателя от губительного обаяния формы, показать, что
у позолоченного ореха гнилое ядро...» (с. 222). В своем идейном
максимализме Шелгунов не избежал крайностей в противопостав-
лении содержания и формы, «художественности» и правды жизни.
Это не могло иногда не приводить критика к крупным просчетам
в оценках ряда произведений. Однако в дальнейшем Шелгунов пре-
одолевал эти противоречия, приходил к признанию единства формы
и содержания в искусстве, значения литературного мастерства писа-
теля. В статье «Нехудожественный роман» критик писал: «Конечно,
было бы лучше, если бы та же самая «правда жизни» являлась в бо-
лее художественной форме, потому что она действовала бы тогда
неизмеримо сильнее» L Он ценил, в частности, искусство писателя
в изображении внутреннего мира героев. «Романист должен жить
жизнью своих героев и смотреть на них не извне. . . — заявлял он, —
а сидеть в их коже, чувствовать то, что они чувствовали, радоваться
их радостью, страдать их страданиями...» (с. 94).
1 «Дело», 1875, ]\[о 7, Современное обозрение, с. 8.
8
Шелгунов придерживался принципов «реальной критики» Добро-
любова, хотя, вслед за Писаревым и не без его воздействия, он не-
редко утилитарно и узко применял эти принципы. Порою он слишком
прямолинейно, отступая от историзма, судил об идейных позициях и
творчестве писателей. Вместе с тем при анализе произведений лите-
ратуры Шелгунов стремился вскрыть их жизненные истоки, дополнить
или поправить писателя своими публицистическими суждениями. Ре-
акционная критика, идеологи «искусства для искусства» иронизиро-
вали над публицистической критикой революционных демократов, —
Шелгунов, сам прирожденный публицист, видел в этом их огромное
достоинство и преимущество.
Шелгунов высоко ценил роль выдающихся критиков в развитии
русской литературы. «Кто вел наших романистов — Тургенева, Досто-
евского, Гончарова, Писемского и писателей нового времени?» —
спрашивал Шелгунов и отвечал: «Их вели Белинский, Добролюбов и
Писарев» L Однако Шелгунов не замечал (или не отмечал) и обрат-
ного процесса: плодотворного воздействия передовой литературы на
критику, на ее развитие и совершенствование. Это приводило нередко
к недооценке роли литературы по сравнению с критикой и публици-
стикой, к неоправданному противопоставлению критиков и публици-
стов писателям. Так, недооценивая силу реализма пьес Островского,
Шелгунов спрашивал: «Да хотел ли, например, г. Островский сказать
в своих сочинениях то, что сказал по поводу их Добролюбов в «Тем-
ном царстве»?» (с. 152).
В своей публицистике, критических статьях, воспоминаниях Шел-
гунов много писал о Белинском и Герцене, о Чернышевском и Доб-
ролюбове, о Писареве и своих соратниках по журналам «Русское
слово» и «Дело». Разумеется, он имел в виду не только их литератур-
ную и критическую деятельность. Он отчетливо представлял и те
исторические сдвиги в русской жизни, которые обусловили выдаю-
щуюся роль социального слоя, к которому принадлежало боль-
шинство революционных демократов. «Разночинец,— писал Шелгу-
нов, — есть поднимающаяся кверху ч.асть народа, имеющая в нем свои
корни...»1 2
В суждениях о деятельности крупнейших представителей рево-
люционно-демократической критики и эстетики Шелгунов стремился
определить исторические заслуги и своеобразие каждого из них.
О Белинском он говорит в ряде статей — «Люди сороковых и шести-
десятых годов», «Попытки русского сознания» и др. Указывая на
1 Н. В. Ш е л г у н о в. Двоедушие эстетического консерватизма. —
«Дело», 1870, № 10, Современное обозрение, с. 55.
2 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни. СПб., 1895, с. 1074.
9
особенности русского общественного развития, Шелгунов писал о роли
великого критика: «Белинскому нужно было перечесть все, что напи-
сала и напечатала Россия в течение ста лет, каждому писателю
определить его место, разъяснить задачи искусства.. . завоевать но-
вому движению мысли то передовое место, которое у него оспаривали
люди старых понятий. Хотя спор шел, по-видимому, исключительно
об искусстве, о его формах и задачах. . . сущность художественной
критики заключалась в том, чтобы задачей искусства сделать пресле-
дование социально-прогрессивных целей, сделать литературу орудием
общественного развития» 1.
В понимании роли Белинского Шелгунов следовал тому истол-
кованию наследия критика, которое давали Герцен, Чернышевский,
Добролюбов. Вместе с тем он не избежал и воздействия взглядов
Писарева, нашедших выражение в его статьях «Пушкин и Белин-
ский». Но это не изменило его отношения к критику. «Белин-
ский, как умственный барометр, — писал Шелгунов, — стоит высоко
во главе своего времени. По Белинскому мы судим о силе и направ-
лении передовой мысли сороковых годов, именем Белинского мы зо-
вем эпоху сороковых годов...» (с. ПО).
В силу цензурных условий о Чернышевском приходилось писать
реже и иносказательно. Лишь в воспоминаниях Шелгунов выска-
зался о нем с полной определенностью: «История русской мысли
назовет шестидесятые годы его именем... для меня лично в Черны-
шевском, как в фокусе, соединяются мои лучшие чувства и стремле-
ния. ..»1 2 Критические статьи Чернышевского не называются в лите-
ратурных выступлениях Шелгунова, но в суждениях о Писемском,
Островском, Н. Успенском и др. писателях содержится несомненная
перекличка с этими статьями.
Огромное значение в развитии литературной критики, усилении
ее общественного звучания Шелгунов придавал деятельности Добро-
любова. Он видел в нем достойного соратника Чернышевского. «Заме-
чательно, какую громадную умственную работу, — писал он, — совер-
шили эти два человека. . . каждый в своей области и как, пополняя
один другого, они составляли одно законченное целое»3. В ряде кри-
тических оценок Шелгунов разошелся с Добролюбовым. Таковы его
суждения об. Островском, Салтыкове-Щедрине, Гончарове и некото-
рые другие. Историческая правда в данном случае не на стороне
Шелгунова. Однако было бы односторонностью только по этим фак-
там судить о его отношениях к Добролюбову-критику. В «Воспоми-
1 Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, т. I, с. 510.
2 «Воспоминания», т. I, с. 237.
3 Там же, с. 200.
10
наниях» дается высокая оценка его программным статьям на стра-
ницах «Современника». «Темное царство» Добролюбова, — свидетель-
ствует Шелгунов, — было не только критикой, «это было целым по-
воротом общественного сознания на новый путь понятий»]. Яркая
характеристика особенностей критической манеры Добролюбова со-
держится в статье Шелгунова о сочинениях Писарева.
Особенно большое и непосредственное воздействие на Шелгу-
нова-критика оказал Писарев. Их сблизило сотрудничество в «Рус-
ском слове», связывали личные дружественные отношения, хотя
встречаться часто им не удавалось. В «Воспоминаниях» Шелгунов
приводит письмо Писарева, присланное им по выходе из Петропав-
ловской крепости: «Я читал вас постоянно года три или четыре
в такой обстановке, когда читается особенно хорошо (имеется в виду
время, проведенное в крепости. — Н. С.) и когда книга составляет
единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хо-
рошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного со-
брата» 1 2 3.
Шелгунов дорожил качествами Писарева-критика, публициста,
пропагандиста, просветителя. Он был убежден, что критическая дея-
тельность Писарева была дальнейшим развитием традиций Белин-
ского, Чернышевского, Добролюбова, хотя в отдельных случаях Писа-
рев расходился с ними в оценке ряда явлений русской литературы
(статьи об Островском, Салтыкове-Щедрине и др.). Шелгунов вос-
принял от Писарева и то сильное и боевое, что содержится в его
статьях об «Отцах и детях» Тургенева, о демократической литера-
туре, что связано с борьбой «Русского слова» против реакционной
литературы. Он был глубоко прав в полемике с теми, кто видел
в Писареве только отрицателя, якобы не дорожившего связями с исто-
рическим прошлым: «.. .И Писарев не рубил всех традиций и часто
пугал и вводил в недоразумение лишь резкостью своих пригово-
ров» 8.
Выступления Шелгунова, посвященные революционно-демократи-
ческой критике, характеризуют не только страстное утверждение ее
традиций, но и постоянная борьба за наследие революционеров-демо-
кратов с силами идейной и литературной реакции. Так было в 70-е
годы, когда Шелгунов выступил против «эстетической критики»
Н. Соловьева («Двоедушие эстетического консерватизма», 1870), про-
тив исторически несостоятельных взглядов Ап. Григорьева, пытавше-
гося оспорить эстетические принципы критики революционно-демокра-
1 «Воспоминания», т. I, с. 199.
2 Там же, с. 202.
3 Там же, с. 215.
И
лического направления («Пророк славянофильского идеализма»,
1876); так было и в 80-е годы, когда Шелгунов на страницах «Рус-
ской мысли» развернул целую кампанию в защиту идей, глубокая
жизненность которых была доказана всем ходом развития русской
общественной мысли.
Говоря об идейно-исторических истоках и теоретических основах
критической деятельности Шелгунова, следует иметь в виду, что эта
деятельность протекала на широком фоне литературного движения
70-х и 80-х годов. Вместе с Шелгуновым, в чем-то с ним сходясь,
о чем-то полемизируя, выступали и другие представители демократи-
ческой критики того времени. На страницах того же «Дела» появля-
лись статьи П. Н. Ткачева и Г. Е. Благосветлова. В «Отечественных
записках» в конце 60-х — начале 70-х годов по вопросам литературы
выступает Салтыков-Щедрин, несколько позже развертывается актив-
ная критическая деятельность Н. К. Михайловского. Статьи Шелгу-
нова были посвящены тем же произведениям, о которых писали его
современники и соратники.
Прежде чем перейти к конкретным критическим выступлениям
Шелгунова, важно остановиться еще на некоторых вопросах, связан-
ных с его отношением к прошлому русской литературы, которое он
справедливо рассматривал в тесной связи с проблемами литератур-
ной современности.
III
Интерес Шелгунова к проблемам истории был чрезвычайно
целенаправленным. «Нам нужно знать прошлое, — говорил он,—
только ради его пользы для нашего настоящего и будущего» L Его
историко-литературная концепция сложилась во многом также под
воздействием трудов и высказываний идеологов революционной
демократии. Взгляды Шелгунова на прошлое русской литературы не
есть нечто навсегда данное и решенное. Они развивались и совершен-
ствовались, в них следует отличать существенное и глубоко проду-
манное от формулировок случайных, временных, для концепции в це-
лом не характерных.
Первой попыткой Шелгунова обратиться к явлениям русской ли-
тературы была статья «Русские идеалы, герои и типы» (1868) 1 2. В ней
автор не избежал ошибочных суждений; так, о Пушкине, Лермон-
1 Н. В. Шелгунов. Новый ответ на старый вопрос. — «Дело»,
1868, № 8, с. 233.
2 Вторая часть статьи, посвященная в основном роману «Что де-
лать?» Чернышевского, была запрещена цензурой и опубликована лишь
в советское время в сб. «Шестидесятые годы». М.—Л., 1940,
с. 175—186.
12
тове, Тургеневе здесь говорится как о писателях чисто «эстетиче-
ской школы»: «Ее типы — пустые и бесполезные типы; ее слово —
пустое, бесполезное слово... Никакая серьезная мысль не руково-
дила этими писателями...»1 Неверные заключения содержатся и
в запрещенной части статьи. От этих формулировок Шелгунов
вскоре откажется, вместе с тем в статье есть и интересные замечания
об исторических героях и типах прошлого (о Степане Разине, Авва-
куме), о значении Пушкина, о «новых людях».
На большом историческом материале освещаются вопросы рус-
ской литературы в обширной статье «Люди сороковых и шестидеся-
тых годов» (1869), программной и для всего литературного наследия
Шелгунова. Это, в сущности, серия статей, написанных в связи с вы-
ходом романа Писемского «Люди сороковых годов», вобравших мно-
гое из задушевных и глубоких раздумий критика. Этапам развития
русской литературы в целом и демократической в особенности отве-
депо много места в проблемной статье «Народный реализм в лите-
ратуре» (1871). Существенна для понимания историко-литературных
воззрений Шелгунова и статья «Попытки русского сознания» (1874).
К осмыслению широкого круга историко-литературных вопросов он
вернется в 80-е годы в своих «Воспоминаниях», в «Очерках русской
жизни».
Какие же этапы развития русской общественной мысли и вместе
с тем истории литературы Шелгунов считал наиболее существенными?
Основным в исторических преобразованиях России он считал путь
преодоления вековой ее отсталости, путь всесторонней европеизации
страны, приобщения самых широких масс народа к культуре, знанию.
В связи с этим Шелгунов высоко, ценил деятельность Петра I. В осмы-
слении русской литературы XVIII века критик во многом следует
Белинскому и не раз ссылается на его т^уды. О Ломоносове он гово-
рит в статье «Новый ответ на старый вопрос» (1868) как о гениальном
ученом й писателе, начавшем «новый период интеллектуальной рус-
ской жизни. «Из образования и просвещения он хотел создать обще-
русское дело, а не аристократическую забаву одних знатных, богатых
и праздных»1 2. В статье «Попытки русского сознания» деятельность
Ломоносова также характеризуется, как «первый момент пробужде-
ния русской мысли»; в его лице, пишет критик, «впервые проснулось
русское сознание собственного достоинства и истинный русский
патриотизм»3. Вместе с тем Шелгунов считает, что деятельность Ло-
моносова не имела больших последствий, объясняя это историческими
обстоятельствами.
1 «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение, с. 163.
2 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 289—290.
3 Там же, с. 468, 469.
13
В понимании русской сатиры XVIII века Шелгунов следует в це-
лом трудам Добролюбова, разделяя с ним и ее известную недооценку.
В то же время он высокого мнения о просветительской деятельности
Новикова, который характеризуется (в статье «Люди сороковых и
шестидесятых годов») как «светлейшая, гениальная личность», «пер-
вый русский гуманист». Шелгунов не сразу понял и должным обра-
зом оценил Радищева. Лишь позднее в «Очерках русской жизни» он
скажет: «Первым известным выразителем идеи освобождения явился
Радищев с наделавшим такого переполоха «Путешествием из Петер-
бурга в Москву» !.
События русской общественной жизни начала XIX века Шелгу-
нов увязывает с «французскими войнами», с идеями французской
буржуазной революции, с Отечественной войной 1812 г. В статье
«Попытки русского сознания» он пишет: «Масса русских солдат и
ополченцев увидела в Европе совсем иные отношения, иные порядки;
входя в сношение с французами и немцами, солдаты усвоили новые
понятия, новые чувства и новые мысли, с которыми воротились домой
и разошлисы по деревням. Еще сильнее было влияние заграничной
жизни на офицеров и военную молодежь»1 2. Контрасты русской и
западноевропейской действительности, говорит Шелгунов, не могли
не поражать эту массу людей, прошедших через победоносную войну.
Рост самосознания русского общества отчетливо отразился в движе-
нии литературы.
Для Шелгунова понятия «классицизм», «сентиментализм», «ро-
мантизм», а затем и «реализм» скорее мировоззренческие, чем твор-
ческие. О скоротечности сентиментального направления он пишет:
«Неудача его в том, что оно обращается только к лицу, к его мелким,
своекорыстным чувствам. . .»3 В соответствии с этим критик невысоко
оценивает литературные заслуги Карамзина.
Внимание Шелгунова привлекли романтические искания в лите-
ратуре и обществе, бунт личности и свободолюбивые устремления ро-
мантиков. Сущность романтизма, пишет он, заключается «во внутрен-
нем неудовлетворении, в стремлении личности освободиться от внеш-
него гнета»4. Соединяя понятие направления прежде всего с миро-
воззрением, Шелгунов не дал достаточно четкой картины литератур-
ного развития того времени. Так, с «прогрессивным романтизмом»
он связывает и басенное творчество Крылова и «Горе от ума» Гри
боедова.
1 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 854.
2 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 492.
3 Там же, с. 488.
4 Там же, с. 498.
14
Вслед за Герценом Шелгунов сумел верно определить идейную
и социально-историческую ограниченность декабристов. «Передовое
меньшинство александровской эпохи было слабо и численностью,
слабо и своим содержанием. При всей честности его убеждений, оно
было сильнее своим романтическим порывом, чем средствами...
Меньшинство, действуя во благо народа, все-таки стояло вне этого
народа» !.
Центральным явлением русской литературы того времени было
творчество Пушкина. Проблема понимания Пушкина занимает важ-
ное место в сознании Шелгунова на протяжении всей его литератур-
ной'деятельности. Его отношение к великому поэту не было неиз-
менным, в нем отразились разные этапы развития литературных
воззрений как самого Шелгунова, так и русского общества в самом
широком смысле этого слова.
Уже в статье «Русские идеалы, герои и типы» мы находим про-
тиворечивые оценки творчества Пушкина. «Пушкин воспитал, — пишет
критик, — целое поколение романистов и повествователей.. <
И. С. Тургенев, кажется, последний из наиболее сильных писателей
этой отжившей школы»1 2. Далее говорится, что «герои писателей этой
школы отличаются великим общественным, светским и домашним
легкомыслием»3. Шелгунов считает, что причина заполнения романов
такими «героями» — в самих писателях, которые «не умели мыс-
лить»4. Глубокая ошибочность всех этих утверждений давно очевид-
на. Важно, однако, понять причины заблуждений критика. Его мето-
дологическая ошибка заключается в том, что он сблизил авторов
с героями их произведений, истолкованными к тому же без учета
породившей их исторической обстановки. На суждениях Шелгунова
о Пушкине сказалось и воздействие взглядов Писарева. Это нашло
прямое отражение в статье о сочинениях критика. «Насколько Пи-
сарев оказался верен духу времени в своем разборе Пушкина, — го-
ворится в статье, — показало это же самое время... между нынешней
читающей молодежью явилось уже столько мыслящих людей, что
Пушкин препровожден ими в тот же пантеон, в котором хранятся
поэты и писатели отжившей России» (с. 284).
Однако Шелгунов, внимательный наблюдатель современной жиз-
ни России, не мог не заметить, что нигилистическое отношение к на-
циональным культурным ценностям было лишь эпизодом в воззрениях
части передового общества, обусловленным определенными историче-
1 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 494.
2 «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение, с. 101.
3 Сб. «Шестидесятые годы», с. 175.
4 «Дело», 1868, № 6, с. 111.
15
скими обстоятельствами. В статье о книге Герцена «Раздумье»
находим иную характеристику Пушкина: «У всякого поколения есть
свои великие учителя; таким был Пушкин для людей тридцатых и
сороковых годов». Как бы оправдываясь за свое поколение, Шелгу-
нов пишет: «Для нас в Пушкине нет лучезарности... Мы развивались
не на нем; для нас Пушкин стоял уже в гимназической программе и
был источником нулей. . . нам читать его приказывали; им — запреща-
ли» \ Существенные сдвиги в оценке Пушкина находим и в статье
«Народный реализм в литературе». Шелгунов все более склоняется
к суждениям Белинского и Добролюбова в противовес недавним вы-
сказываниям «по Писареву». В статье говорится и о «пушкинском
периоде» в развитии русской литературы, и о пушкинской народ-
ности, разумеется, иной, чем народность Решетникова. Люди литера-
турного труда названы «светочами и руководителями» умственного
движения страны. И далее Шелгунов заявляет: «Таким был и Пуш-
кин, обратившийся первый к русской жизни и бравший у нее мате-
риал для своего творчества. Это обращение к русской жизни и кла-
дет на произведения Пушкина печать народности. Но народность того
времени была народностью аристократическою» (с. 289—290). В ста-
тье «Попытки русского сознания» Шелгунов фактически уже полно-
стью разделяет взгляд Белинского на Пушкина: «Это поэт дей-
ствительной жизни во всех ее многообразных проявлениях»; «Пушкин
приобрел... громадное значение в истории русского развития» 1 2.
Итогом раздумий Шелгунова о наследии Пушкина являются
страницы «Очерков русской жизни», написанные в 1887 г. в связи
с 50-летием со дня смерти поэта. Эта годовщина, говорит автор очер-
ков, представляет собой «редкий случай для заявления нашего на-
ционального и общественного сознания. . . Ведь Пушкин для нас
великая идея, в нем выразилось наше первое сознание народности,
в нём мы находим начало всего нашего последующего литературного
развития. Из него мы выводим и Гоголя, и Тургенева и гр. Льва Тол-
стого, и Достоевского, мы ставим его в уровень с величайшими поэта-
ми мира. . .»3 В очерке нашли отражение идейные споры вокруг Пуш-
кина в связи с открытием памятника поэту в Москве в 1880 г. Шел-
гунов подчеркивает гражданское значение деятельности поэта:
«Пушкин дл^ нас — не мистическое имя, способное создать всеобщее
умственное единение какою-то присущею ему чудодейственною силой.
В той жизни, которую устроили Пушкину общественные условия, он
для нас живой образ, живая страдающая мысль, все его мучитель-
ные страдания, как представителя русского слова и русской мысли,
1 Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, т. 11, с. 355.
2 Там же, т. I, с. 504, 506.
3 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 286.
16
так свежи и так иам близки и понятны, точно все это происходило
вчера, а для других это, пожалуй, и „сегодня"»1.
Как видим, Пушкин теперь для Шелгунова — не только великое
прошлое, но и живое настоящее, его имя — олицетворение прогрес-
сивной русской литературы, ее передовой роли в освободительной
борьбе.
В развитии взглядов Шелгунова на творчество Пушкина отра-
зилось не только его понимание исторической роли великого поэта —
здесь нашла отражение и сложная эволюция историко-литературных
взглядов критика, как отразилось и понимание им современной лите-
ратуры.
Шелгунов сравнительно мало говорил о литературе 20—30-х го-
дов. В статье «Попытки русского сознания» содержатся характери-
стики Лермонтова, Полежаева, Кольцова и др. В оценке творчества
Гоголя критик не испытывал значительных колебаний. Критический
реализм творца «Ревизора» и «Мертвых душ» нашел у него глубокое
признание, как и у всего революционно-демократического направления
уритики.
Сороковые годы занимают в историко-литературной концепции
Шелгунова чрезвычайно важное место. Люди и идеи этого времени
во многом формировали его сознание, подготовляя к тому повороту,
который затем определил направление его деятельности. Он хорошо
понимал, что этот период был исключительно важным для всего раз-
вития русской общественной мысли, для развития русской литературы
в особенности. Характеристике 40-х годов и посвящена преимуще-
ственно статья «Люди сороковых и шестидесятых годов».
Историческую связь времен и поколений Шелгунов, начавший
свою активную общественную деятельность в 60-е годы, всего ближе
почувствовал, оглядываясь на недавнее прошлое. Не найдя удовле-
творительной картины этого времени в романе Писемского, он дает
в статье свою характеристику этой эпохи, ее значения для последую-
щего развития русского общества. «Без людей 40-х годов, — заявляет
он, — не было бы людей 60-х годов. Одни вышли из других. Тут пре-
емственность мысли, преемственность прогресса» (с. 60).
Шелгунов вскрывает социальные и идейные истоки мировоззре-
ния деятелей 40-х годов. Они связаны с развитием страны по пути
ее европеизации, необходимость которой была совершенно очевидна
для передовых людей России. Шелгунов разъясняет, почему эти люди
«могли явиться лишь из баричей, то есть из тех, кто имел средства
и возможность научиться иностранным языкам, мог бывать за гра-
ницей. . .» (с. 60). Данное обстоятельство не помешало им правильно
1 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 297—298.
17-
понять интересы родной страны. «Несмотря на свое иностранное и
немецко-философское воспитание, — пишет он далее, — люди 40-х го-
дов были наиболее русские люди, каких только видела до тех пор
Россия в среде своих передовиков» (с. 64). Подлинными идейными
представителями 40-х годов Шелгунов поэтому считает не славяно-
филов, а «западников» — Белинского, Герцена, их многочисленных
учеников, соратников, последователей.
В статье рассматривается общественная жизнь того времени во
всей ее сложности: роль Московского университета, кружки, женский
вопрос, увлечение творчеством Жорж Санд, новые явления в русской
литературе. О роли Белинского для 40-х годов выше уже говори-
лось. В не меньшей мере с 40-ми годами для Шелгунова было свя-
зано и имя Герцена. Оно не могло быть названо, но в статье гово-
рилось о Бельтове, романе «Кто виноват?», а читателю было ясно,
о ком шла речь. Целиком Герцену посвящена статья «По поводу
одной книги» — книги «Раздумье», вышедшей анонимно и включавшей
произведения 40-х годов. Статья вместе с тем являлась фактиче-
ским откликом на смерть Герцена. Шелгунов правильно вскрыл глу-
бокое внутреннее единство книги, несмотря на различия и в содержа-
нии и в жанрах вошедших в нее произведений. В статье подчерки-
вается непреходящее значение деятельности Герцена: «Он всегда наш,
всегда с молодыми, только умейте понимать его. ..» \ Позднее в «Вос-
поминаниях» Шелгунов создал яркий литературный портрет Герцена,
Выразительна и данная там характеристика его как писателя:
«Художник и глубокий психолог, Герцен понимал самые тонкие дви-
жения души и умел с изумительным искусством и меткостью делать
анализ всякого болевого душевного состояния» 1 2.
Об эпохе 60-х годов Шелгунов как критик говорит в статье «Рус-
ские идеалы, герои и типы», а затем и в статье о 40-х годах. «Реформы
нового времени, — пишет он, — составляют границу двух периодов:
старой, законченной эпохи 40-х годов, и новой, начавшейся шести-
десятыми годами» (с. 162). В своих критических статьях, касаясь лите-
ратуры этого времени, рассмотрев романы «Отцы и дети» Тургенева,
антинигилистические произведения Писемского и Лескова, Шелгунов
приходит к выводу, что герой 60-х годов в законченном виде еще
не сформировался и не проявил всех своих особенностей, оттого и
все попытки изобразить его были до сих пор неудачны.
Характеризуя период 60-х годов, Шелгунов особенно много вни-
мания уделяет литературной критике того времени, сумевшей стать
достойной преемницей лучших традиций 40-х годов. В упоминавшейся
1 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, с. 364—365.
2 «Воспоминания», т. I, с. 123.
18
статье о Писареве Шелгунов развивает излюбленную им теорию о пре-
емственной связи в общественном и литературном развитии. Именно
с этой позиции он отстаивает наследие Писарева, которого реакцион-
ная и либеральная критика пыталась противопоставить Белинскому
и Добролюбову. Шелгунов решительно возражает против этого:
«. . .Как Добролюбов есть продолжение Белинского, так Писарев
есть продолжение и дополнение Добролюбова» (с. 256). Шелгунов
безусловно прав, подчеркивая единство идейных основ революционно-
демократической критики. Однако он впадает и в преувеличения,
когда утверждает, что Писарев «в пору своей силы... ни разу не
изменил направлению, которое началось Белинским и продолжалось
Добролюбовым» (с. 260—261). Как уже говорилось, в оценке ряда
произведений русской литературы Писарев серьезно разошелся и с
Белинским и с Добролюбовым.
Историко-литературная концепция Шелгунова охватывает почти
полуторавековой период развития русской литературы—от XVIII
века до 60-х годов XIX века включительно. Он стремился осмыслить
литературный процесс в связи с ходом умственного и социального
развития русского общества. Исторический подход к явлениям лите-
ратуры имел принципиальное значение для революционно-демократи-
ческой критики, хотя он не всегда и не до конца осуществлялся на
практике. С историко-литературными воззрениями Шелгунова тесно
связаны и его оценки современной литературы.
IV
За короткий сравнительно период активной литературно-крити-
ческой деятельности Шелгунов на страницах журнала «Дело» высту-
пил по весьма широкому кругу вопросов литературной жизни 60-х и
70-х годов. Предметом его статей и рецензий явилось творчество ряда
виднейших писателей — Тургенева и Л. Толстого, Гончарова и Ост-
ровского, Писемского и Лескова; выше уже говорилось, как много
места в его литературных выступлениях занимало идейное наследие
революционных демократов 40-х и 60-х годов; Шелгунова кровно ин-
тересуют вопросы развития современной демократической литературы;
он не раз берется за перо, чтобы заклеймить литературную реакцию;
как публицист и просветитель, он выступает по проблемам воспита-
ния и образования, о литературе для детей; в сферу его интересов
входила и зарубежная литература.
В ряду крупнейших писателей-реалистов Тургенев особенно зани-
мал его внимание. Писатель, создавший художественную летопись
идейных исканий передовой русской интеллигенции на протяжении
19
нескольких десятилетий, не мог оставить равнодушным критика-пуб-
лициста, пристально следившего за перипетиями русской обществен-
ной мысли той же эпохи. Оценка творчества писателя, как и отдель-
ных его произведений, данная в статьях Шелгунова, не была неиз-
менной. В ней отразились серьезные колебания критика.
Если в статье «Русские идеалы, герои и типы» Тургенев харак-
теризуется как «поэт голубиной любви», то в статье следующего года
«Люди сороковых и шестидесятых годов» критик дает писателю со-
всем иную характеристику. Хотя данная статья была непосредственно
вызвана романом Писемского, подлинным «героем» ее стал Тургенев
и его творчество. Тургенев, заявлял автор статьи, знал свое время,
и мы не имеем никакого основания сомневаться в верности его на-
блюдений. О людях 40-х годов Шелгунов пишет: «Мы с этими людь-
ми знакомы по героям г. Тургенева. Это вечные мученики самых
благородных и гуманных стремлений, но в то же время лежебоки,
праздные говоруны, мечтатели, идеалисты» (с. 60). Особенно до-
рожит Шелгунов женскими образами в романах, увязывая их харак-
теристику с возникновением и развитием женского вопроса в России
40-х годов. Исключительно важен, по мысли критика, образ Елены
Стаховой («Накануне»), завершивший линию развития, начатую Тур-
геневым в Наталье Ласупской («Рудин»). «Женщина явилась как бы
предтечей новых людей, — говорится в статье. — Она быстро прошла
курс, прочитанный ей людьми сороковых годов, и в какие-нибудь
десять лет выросла... в Елену» (с. 130—131). О героях романа «На-
кануне» критик пишет: «В чертах Елены и Инсарова заключаются
все намеки на новых людей... лаконизм, демократическая грубость,
прямизна отношений без всякого вилянья, дело без красивых слов,
свобода обращения без чопорности и ложного стыда» (с. 142). От-
сюда уже прямой шаг к роману «Отцы и дети», к образу Базарова.
Шелгунов здесь во многом идет вслед за Писаревым. Существенно,
однако, что он еще более определенно связывает героя-разночинца
с социальными переменами, происходящими в России: «Для нас Ба-
заров есть олицетворение практических последствий освобождения
крестьян...» (с. 179). Шелгунов по-своему разъясняет и неполноту
образа разночинца в романе Тургенева: «Как полный тип Базаров не
закончен. Да ему и нельзя быть законченным. Базаров молодая, фор-
мирующаяся сила, как бы только готовящаяся отвечать на вопросы
дня» (с. 178). В то же время критик вполне определенно говорит и
о непоследовательности, двойственности отношения писателя к своему
герою, об отличии писаревского Базарова от тургеневского. «Базаров
Писарева есть его собственная идея и более зрелая мысль...» (с. 271).
Вместе с тем Шелгунов отвергает попытки сблизить роман Тургенева
и его героя с аптинигилистическими карикатурами на «новых людей»:
20
«Не Базаров, — заявляет критик, — а базаровщина явилась злом, и
шутовская копия заслонила в общественном мнении все хорошие
стороны нового типа. .. правда, намеченная в Базарове, жива и не
умрет» (с. 190).
Высоко оценив заслугу писателя в создании образа нового чело-
века, Шелгунов считает, что он владел «сильными задатками, чтобы
быть литературным вождем», однако, добавляет критик, Тургенев сам
уклонился от этого и «стушевался добровольно» (с. 190).
Хотя в статье «Люди сороковых и шестидесятых годов» Турге-
нев, наряду с Писемским, Гончаровым и др., отнесен к писателям,
историческая роль которых уже позади, все же критик убежден
в огромном прогрессивном значении его творчества. Это ясно ска-
залось и в последующей статье о Тургеневе, целиком посвященной
его творчеству. Ее название — «Тяжелая утрата» (вторая часть —
«Неустранимая утрата»), и этим подчеркивается мысль о том, что
лучший период в деятельности писателя закончился. Статья выдер-
жана почти в некрологических тонах. «Самый могучий либеральный
представитель эпохи 40-х годов, г. Тургенев, — говорится о здрав-
ствующем писателе, — кончил свою литературную деятельность»’.
Одпако все его минувшее творчество, до романа «Дым», характери-
зуется в высшей степени положительно. «Тургенев для нас, — пишет
Шелгунов, — лучезарный образ. Это честный, искренний человек, не
становившийся никогда на ходули, переживавший всем существом
своим вопросы, о которых он говорил; страдавший и радовавшийся
вместе со своими героями; пытливо приглядывавшийся к явлениям
жизни и горячо любивший страну, для которой он жил и действо-
вал» 1 2. В связи с выходом Собрания сочинений писателя, критик
подробно останавливается на «Записках охотника». «Если бы русский
крестьянин, — заявляет он, — мог читать «Записки охотника», Тур-
генев сделался бы любимцем народа» 3. С восхищением говорит здесь
критик и о женских образах романов и повестей Тургенева, однако
о Елене и романе «Накануне» он сейчас судит строже. Как бы забы-
вая об «Отцах и детях», он утверждает, что с романа «Накануне.»
«наступает начало конца, и Тургенев идет назад»4. Причины этого
критик видит в том, что «у Тургенева просто недостало веры в новые
силы»5. В дальнейших суждениях о Тургеневе Шелгунов остался
в целом верен этим оценкам; ни «Дыма», ни «Нови» он не признал.
В статье «Люди сороковых и шестидесятых годов», написанной
1 «Дело», 1870, № 2, Современное обозрение, с. 1.
2 Там же, с. 2.
3 Там же, с. 3.
4 Там же, с. 28.
5 Там же, с. 31.
21
в связи с появлением романа Писемского, естественно, много отво-
дится места анализу как этого произведения писателя, так и его
творчества в целом. Роман «Люди сороковых годов» появился в ту
пору, когда авторитет его создателя был сильно подорван романом
«Взбаламученное море» (1863) и выступлениями против демократи-
ческого лагеря на страницах «Библиотеки для чтения». В первый
период своего творчества Писемский, автор повестей «Тюфяк», «Бо-
гатый жених», романа «Тысяча душ», «Очерков из крестьянского
быта», был хорошо принят передовым читателем. Все переменилось
с выходом «Взбаламученного моря» — одного из самых «яростных»
антинигилистических произведений. Не изменил положения, по мне-
нию Шелгунова, и роман «Люди сороковых годов». В свете этих
произведений, считает он, преувеличенной была и прежняя слава
писателя. «Даже реальная критика не проникла в глубь личных
свойств г. Писемского и видела в нем то, что хотелось бы самой
видеть, а не то, что было в действительности» (с. 47).
Характеризуя писателя, Шелгунов не отрицает в нем таланта,
способности наблюдения, воспроизведения картин жизни. С одобре-
нием он отзывается о тех произведениях Писемского, где речь идет
о крестьянском быте: «Истинный конек его — народная жизнь, и
истинная его заслуга — уничтожение псевдопростонародной литера-
туры...» (с. 47). Писателю удались, считает критик, соответствующие
страницы и в романе «Люди сороковых годов»: «Люди из деревни
у него всегда — живые люди. . .» (с. 92). Однако характер изображе-
ния действительности в произведениях Писемского, особенно когда
он выходит в более широкий мир, страдает серьезными недостатка-
ми. Критик находит это изображение холодным, безжизненным
в своей объективности, оно не согрето поэтическим отношением авто-
ра. «Реализм г. Писемского, — пишет Шелгунов, — это какая-то бес-
сердечная, беспощадная инквизиционная сила, отталкивающая от
него... читателя...» (с. 45). Шелгунов не согласен с теми критиками,
которые связывали метод описания у Писемского с методом Гоголя.
В статье «Глухая пора» (1870) он противопоставляет их: в отличие
от Писемского, «Гоголь не поселяет безверия, не заставляет опускать
руки; он, напротив, возбуждает сознание, пробуждает критику» \
Шелгунов считает, что по особенностям своего таланта «Писемский
годится лишь для объективных изображений мелочей — мелочей
скверных, мучительных, мешающих, тупых, — но не более как мело-
чей» (с. 47). Считая талант Писемского «очень маленьким, а кругозор
его очень узким», критик приходит к выводу, что «претензия его
рисовать широкие, всероссийские картины вовсе не соответствует его
1 «Дело», 1870, № 4, Современное обозрение, с. 19.
22
Силе анализа и способности понимать верно исторический смысл
явлений» (с. 49).
К анализу самого романа Шелгунов подошел чрезвычайно от-
ветственно, с широким охватом и творческих и общественно-истори-
ческих вопросов, в духе лучших традиций революционно-демокра-
тической критики. Он дает характеристику 40-х годов, опираясь не
только на литературу этого периода (роман Герцена «Кто виноват?»,
повесть Дружинина «Полинька Сакс» и др.) и не только на те про-
изведения, которые воспроизводили жизнь и быт этой поры позднее
(романы Тургенева, Авдеева), но и стремится напомнить читателю
общественно-историческую атмосферу эпохи. Таков, в частности,
экскурс об увлечении передовых кругов русского общества творче-
ством Жорж Санд, о жизненных истоках так называемого женского
вопроса. Преодолевая трудности публикации статьи в преследуемом
цензурой журнале, Шелгунов сумел достаточно ясно сказать о тех
общественных деятелях, которые представляли эпоху. Таковы строки,
посвященные Белинскому, Грановскому, прозрачные напоминания
о Герцене, о студенческих кружках в Московском университете того
времени.
) В свете этой исторической характеристики критик и рассматри-
вает роман «Люди сороковых годов». О его авторе Шелгунов пишет:
«Он даже и близко не сумел подойти к пониманию времени, которое
взялся рисовать» (с. 62). Истоки этого критик видит в ограничен-
ности мировоззрения писателя, ущербности его идейной позиции,
В новом романе это сказалось, в частности, в отношении к «жорж-
зандизму», который был так характерен для 40-х годов: «Г-н Писем-
ский в жоржзандизме не усматривает ничего больше, как односто-
роннее притязание на право менять свои привязанности» (с. 95).
В женских образах романа, по мнению критика, отсутствует та жиз-
ненная убедительность, которую читатель находил в романах Гер-
цена и Тургенева. Сам роман Писемского, лишенный подлинной
общественно-исторической атмосферы, было бы правильно назвать
лишь именем центрального героя, хотя и в его обрисовке критик на-
ходит немало натянутого, искусственного, неубедительного.
Большой интерес представляют суждения Шелгунова о романе
«Взбаламученное море». С этим произведением критик связывает
общую характеристику творческой манеры Писемского: «Вместо того
чтобы явиться руководящим светочем, г. Писемский взбирается на
свою беспощадную объективность, загребает грязь лопатами и швы-
ряет ее щедрою рукою в правых и виноватых... куда только хватает
у него сил» (с. 168—169). При характеристике образов романа Шел-
гупов воспользовался приемом, которому следовал Писарев при ана-
лизе «Отцов и детей», но учитывая и несомненное различие этих
23
произведений. Как Писарев в Базарове сумел раскрыть определяющие
черты «нового человека», несмотря на элементы отрицательно-тенден-
циозного отношения к своему герою со стороны писателя, так Шелгу-
нов попытался даже в таком одиозном произведении, как «Взбала-
мученное море», в фигуре «нигилиста» Проскриптского увидеть черты
силы и превосходства «новых людей» над «отцами» — либеральными
болтунами типа Бакланова.
Этому же приему с еще более смелым проникновением в объек-
тивный смысл воспроизведенной действительности Шелгунов следует
затем и в оценке романа Лескова «Некуда». К антинигилистической
литературе он подходит по принципу: искать в ней противоположное
тому, что хотел сказать или изобразить автор. Идя этим путем, кри-
тик в романах Писемского и Лескова находит то, что не досказал
о людях 60-х годов в «Отцах и детях» даже Тургенев. В романе
«Некуда» для Шелгунова очень важен образ Лизы Бахаревой. Писа-
тель с большой убедительностью сумел воспроизвести жизненный
уклад, приведший девушку в революционный лагерь, запечатлел
в героине черты изумительной стойкости и непримиримости не только
к деспотизму, но и к тем, кто примиряется с ним, кто не идет дальше
бесплодных жалоб и сетований. Сам писатель, считает Шелгунов,
в этом «необходимом типе... не понял ни одной человеческой чер-
ты. . . Поэтому он не скупится на всякую грязь, чтобы покрыть ею
светлые черты русской девушки. . .» (с. 201—202). Однако пройден-
ный ею путь и ее стремления опрокидывают этот замысел. Критик
видит в героине из «Некуда» тип более высокий, чем героиня романа
«Накануне» Тургенева, и ставит ее в один ряд с Базаровым: «Лиза
и Базаров изображают собою порыв последовательного мышления
к тому, что еще невозможно в осуществлении для большинства. Они
в зародыше люди будущего. . .» (с. 202). В этом разделе статьи Шел-
гунов, однако, не удержался от сближения романа «Отцы и дети»
с антинигилистическими сочинениями. Он говорит об их предвзято-
сти, искажении жизненной правды при обрисовке «новых людей»:
«Романисты просто воспользовались правом жизни и смерти своих
героев и комбинировали то, что подтверждает их личный закулисный
взгляд, а не думали вовсе рисовать правду жизни. . .» (с. 201). Сбли-
жая роман Тургенева с антинигилисгическими тенденциозными произ-
ведениями Писемского, Лескова и других литераторов реакционного
лагеря, критик «Дела» отступал от принципов Добролюбова и Писа-
рева, умевших отделять произведения истинного реализма от «худо-
жественных» подделок.
В ряду произведений, близких к антинигилистической литературе,
Шелгунов рассматривает и роман «Обрыв» Гончарова, которому он
посвятил одну из первых своих критических статей «Талантливая
24
бесталанность». Она была написана, .как и статья «Люди сороковых
и шестидесятых годов», в 1869 г. и непосредственно примыкает к пей
не только хронологически, но и по своему идейному настрою. В этой
статье, как отмечалось выше, сформулированы некоторые существен-
ные положения критической программы Шелгунова.
Роман Гончарова, отразивший существенное поправение взглядов
писателя в период спада общественного движения в России, вызвал
разноречивые отклики в печати конца 60-х — начала 70-х годов. Де-
мократическая критика осудила роман прежде всего за карикатур-
ный образ Марка Волохова, за искажение облика передовой моло-
дежи 60-х годов. Особенно сурово отнесся к этой линии романа
Салтыков-Щедрин, выступив на страницах «Отечественных записок»
со статьей «Уличная философия». Вслед за ней в том же журнале
появилась статья А. М. Скабичевского «Старая правда», где также
осуждается тенденциозность романа. На страницах «Дела» после
Шелгунова с критикой «Обрыва» выступил С. С. Окрейц в статье
«Журналистика 1869 года. Новые романы старых романистов». Все
это показывает, насколько важно было демократическому лагерю
предостеречь читателя от того апологетического истолкования рома-
на и тенденциозного использования образа Марка Волохова, которые
проявила реакционная критика в своих откликах на произведение.
Статья Шелгунова была особенно острой и полемичной. Ее па-
фос и острота подчеркнуты критиком в заключительной части: «Нам
теперь именно нужно оправдание молодого, подрастающего, а частью
служащего уже обществу поколения от комьев грязи, упреков и клевет,
которые без меры бросались в него литературой» (с. 252). И Шелгу-
пов безусловно прав, вскрывая нежизненность и надуманность образа
Марка Волохова. Однако критик впал в другую крайность, не сумев
увидеть глубокого жизненного смысла романа «Обрыв» в целом. Не-
справедливо его утверждение и о том, что «Гончаров еще молодым
не умел стоять в передовом полку Белинского» (с. 221). В произве-
дениях Гончарова Шелгунов не смог увидеть огромной жизненной
правды, которую столь высоко оценил Добролюбов в своей знамени-
той статье «Что такое обломовщина?». Очевидно, не случайно в ста-
тье Шелгунова не упоминается Добролюбов, не называется и роман
«Обломов».
Несмотря на эту односторонность в подходе Шелгунова к твор-
честву Гончарова, его статья привлекала внимание передового чита-
теля своей демократической направленностью, пропагандой идей пе-
редовой критики и эстетики, пафосом заступничества за молодое
поколение.
В своих выступлениях против литературной реакции, как и по
ряду других вопросов литературно-общественной жизни, журналы
.25
«Дело» и «Отечественные запиеки» были солидарны и отстаивали
единую позицию. Статьи Шелгунова о реакционной литературе (ди-
логии В. П. Авенариуса «Бродящие силы», комедии П. П. Штеллера
«Ошибки молодости» и других произведениях) появлялись почти
одновременно с рецензиями Салтыкова-Щедрина на те же произве-
дения (рецензии помещались в разделе «Новые книги» в «Отечествен-
ных записках» без подписи).
К явлениям консервативной литературы Шелгунов относил твор-
чество А. К. Толстого. В статье «Поэт-космополит» критик рассмат-
ривает его поэзию как далекую от насущных нужд народа. «Истинно
народной жизни нет ни в одном произведении гр. Толстого, да и
явиться было ей неоткуда» *. В упрек поэту критик ставит недоста-
ток «сердечной связи» с Россией: «У гр. Толстого как будто нет ро-
дины, нет одного места, к которому бы он прирос всеми своими
силами»1 2. Демократа-публициста, конечно, отталкивали и выпады
Толстого против демократического движения в России. Вместе с тем
общую оценку творчества поэта нельзя признать убедительной. Это
творчество было сложнее, многограннее, в нем несомненны глубин-
ные связи и с прогрессивными традициями русской литературы и
С самой русской действительностью.
В еще большей мере это можно сказать об отношении Шелгу-
нова к творчеству Островского. В статье «Бессилие творческой мыс-
ли» (1875), написанной в связи с выходом нового издания сочинений
драматурга, он следует, как и в ряде других случаев, не за Добро-
любовым, а за Писаревым. Положительно относясь к статьям
о «темном царстве», Шелгунов не придает должного значения тому
факту, что они написаны не только «по поводу» пьес Островского, но
являются одновременно проникновенным анализом и разносторонней
оценкой художественного новаторства, творческого метода, миросо-
зерцания великого драматурга. «Темное царство», — утверждает Шел-
гунов,— принадлежит не Островскому, а Добролюбову»3. И далее:
«Добролюбов, взобравшись на гору, тащил к себе Островского, и
многим показалось, что сам Островский стоит на добролюбовской
высоте»4. Шелгунов не разглядел глубокого жизненного содержания
произведений драматурга. Реализм Островского предстает в его тол-
ковании как нечто стихийное, не освещенное прогрессивной мыслью,
взгляды драматурга порой отождествляются с воззрениями его
героев. Самым плодотворным периодом творчества Островского
Шелгунов считает ранний, когда он изображал купеческий мир.
1 «Дело», 1876, № 1, Современное обозрение, с. 17.
2 Там же, с. 22.
3 Там же, 1875, № 2, Современное обозрение, с. 4.
4 Там же, с. 5.
26
В последующем творчестве, по мнению автора статьи, он не сказал
ничего нового, он теперь лишь «искусный фотограф отживших ти-
пов» Ч Этой оценке он остался верен и в дальнейшем, лишь в «Вос-
поминаниях» признал, что Островский, подобно Достоевскому в «За-
писках из Мертвого дома», «приподнял завесу... немалого уголка
русской жизни, показав, как живут люди в средней купеческой и
чиновничьей семье...», «А ведь тогда это была живая, сочащаяся,
болевая общественная рана...» 1 2
Значительное место в литературных и публицистических выступ-
лениях Шелгунова занимал Л. Н. Толстой, его творчество и его об-
щественная проповедническая деятельность. В 1870 г. критик высту-
пил со статьей «Философия застоя», посвященной выходу отдельного
издания «Войны и мира». В статье мы не найдем полного признания
великой эпопеи, основные образы ее трактуются во многом односто-
ронне и упрощенно. Этим его статья в какой-то мере перекликается
с предшествовавшими отзывами о романе на страницах «Дела»:
Д. Д. Минаева3 и В. В. Верви4. Шелгунов высоко ценил В. В. Верви
(известного также под псевдонимом Н. Флеровского) как народниче-
ского социолога, автора книги «Положение рабочего класса в Рос-
сии», однако он решительно разошелся с его пренебрежительными
суждениями о «Войне и мире». Статья Шелгунова, в отличие от
названных откликов в «Деле», лишена фельетонных выпадов, критик
стремится быть доказательным и объективным в идейной характери-
стике писателя и его романа. Заслугой Шелгунова следует признать
то, что он одним из первых указал на противоречивость той фата-
листической философии истории, которая нашла отражение как в ав-
торских суждениях, так и в некоторых образах эпопеи. В то же время
критик-демократ отмечает народную, «демократическую струйку»
в романе. Критик считает, что в романе «перед вами действительно
возникает какая-то несокрушимая стена величественной стихийной
силы... И гениальность Кутузова выражается именно в том, что
он умеет понять народную душу, народное стремление, народное же-
лание...»5 Шелгунов не соглашается с исторической концепцией Тол-
стого и считает его роман славянофильским.
Шелгунов отрицательно отнесся к роману «Анна Каренина», раз-
1 «Дело», 1875, № 4, Современное обозрение, с. 51.
2 «Воспоминания», т. I, с. 136, 141.
3 См.: Аноним [Д. Д. Минаев]. С невского берега. — «Дело»,
1868, № 4, Современное обозрение, с. 202—207.
4 С. Н а в а л и х и н [В. В. Верви]. Изящный романист и его
изящные критики. — «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение,
с. 1—28.
5 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. II, с. 328.
27
деляя общее заблуждение демократической критики того времени.
В «Заметке о русских литературных идеалах» Шелгунов писал о дол-
ге писателя: «В моменты, когда общественная мысль и общественное
мнение направлены на разрешение общих вопросов, писатель, высту-
пающий с любовным романом, — как бы ни был хорош этот роман,—
успеха иметь не будет». Примером такого романа, по мнению кри-
тика, и была «Анна Каренина». «Не эти вопросы нам нужны, и не
разрешением амурных интересов занята теперь русская мысль»
Шелгунов в своей оценке романа, несомненно, исходил из той же
точки зрения, которая была развита в статье Ткачева «Салонное
художество», напечатанной также в «Деле» (1878, № 2 и 4).
Приведенные суждения Шелгунова не исчерпывают его отноше-
ния к Толстому. Критику-публицисту все более импонировало вме-
шательство писателя в русскую общественную жизнь, хотя с его
идеями он не только не соглашался, но и активно выступал против
них. В статье «Вперед или назад?» о «Новой азбуке» Толстого он
спорит с педагогическими позициями автора и в то же время пишет
о нем: «Имя графа Толстого пользуется полным сочувствием не
за одни его романы; граф Толстой известен как искренний патриот,
как народник, как человек, отдавшийся искренно делу народного
образования, и в общественном отношении имя графа Толстого
является чистым, незапятнанным, даже окруженным ореолом...
Граф Толстой любит народ, он желает ему счастья...»1 2 Имя Тол-
стого часто встречается на страницах «Очерков русской жизни»;
публицист страстно спорит с учением Толстого, в то же время высоко
ценит гражданский пафос его деятельности.
Выступления Шелгунова-критика о крупнейших явлениях рус-
ской литературы того времени показывают, насколько сложна, не-
однозначна, порой противоречива была его литературно-критическая,
позиция.
V
Одной из центральных проблем, решавшихся передовой русской
литературой 60—70-х годов прошлого века, было создание образа
положительного героя. «Новые люди» были, как известно, не теоре-
тической абстракцией, желаемым идеалом — они существовали и
действовали, наиболее полным выражением типа этих людей были
деятели революционной демократии, к которым принадлежал и Шел-
гунов. Создание литературных героев, которые воплощали бы их
характерные черты, было сопряжено с большими трудностями и не
1 «Дело», 1878, № 5, Современное обозрение, с. 300.
2 Там же, 1875, № 9, Современное обозрение, с. 3.
28
только цензурными. Часть писателей (к ним принадлежал Тургенев)
недостаточно знала среду, в которой формировались и действовали
«новые люди». Другая часть литераторов, далеких и даже враждеб-
ных демократическому лагерю, рисовала «новых людей», не стесняясь
малым знанием их среды, в карикатурно-извращенном виде. С появ-
лением романа «Что делать?» Чернышевского положение в литера-
туре о «новых людях» радикально изменилось.
Шелгунов, как литературный критик и деятель демократического
движения, уделял много внимания этой проблеме. О его отношении
к романам Тургенева и антинигилистическим произведениям выше
уже говорилось. Он не находил удовлетворительного решения этой
проблемы и у писателей демократического лагеря, включая и роман
Чернышевского. О героине романа критик писал: «Вера Павловна не
больше как честная, хорошая личность, но натура слабая и потому
вовсе не способная идти во главе какого бы то ни было движения...»
И далее: «Вера Павловна не принадлежала вовсе к тем новым лю-
дям, о которых говорится в заглавии романа» I Даже о Рахметове
сказано, что это «человек принципа, а не цельная натура», оп «все-
таки барин»1 2. Все же об этом герое романа Шелгунов более высо-
кого мнения, чем о других: «А между тем Рахметов все-таки сила;
И в сущности его природы заключалось столько простоты, столько
здоровой активности, что нельзя не питать к этому человеку самого
глубокср уважения и не выставлять его примером, достойным под-
ражания»3. Однако роман в целом не получил у Шелгунова должной
оценки, в этом случае он пошел назад от Писарева, давшего глубо-
кую характеристику произведения в статье «Мыслящий пролетариат».
Чем объяснить позицию Шелгунова? С одной стороны, он апеллиро-
вал к надуманной теории о «коллективном герое», который должен
заменить индивидуальную силу; с другой, он полагал, что сам тип
нового героя «еще не обнаружился в форме, заслуживающей иде-.
ального изображения» (с. 208—209). Шаткость этих точек зрения
очевидна. Ошибка Шелгунова в оценке романа «Что делать?» состояла
в том, что он не увидел действительной глубины и актуальности про-
блематики произведения, ставшего, по определению Писарева, «зна-
менем. .. направления» 4.
Предметом противоречивых суждений в демократической крити-
ке явилось, как известно, и творчество Салтыкова-Щедрина. На
протяжении 60-х годов в ней наметились две линии подхода к его
1 Сб. «Шестидесятые годы», с. 176, 179.
2 Там же, с. 182.
3 Там же.
4 Д. И. Писарев. Сочинения, т. 4, М., 1956, с. 8.
29
творчеству: одна из них нашла выражение в статьях Чернышевского
и Добролюбова о «Губернских очерках», другая — в полемике «Рус-
ского слова» с «Современником», в статьях Писарева «Цветы невин-
ного юмора», точка зрения которого возобладала в целом и в жур-
нале «Дело». Шелгунов-критик 70-х годов не признал, вслед за Пи-
саревым, огромного значения сатиры Щедрина для понимания и
оценки русской действительности, как не увидел этого (с некоторыми
оговорками) и Ткачев в своей статье «Безобидная сатира» («Дело»,
1878, № 1).
Наиболее полно свою точку зрения на творчество Салтыкова-
Щедрина Шелгунов высказал в статье «Горький смех — не легкий
смех» (1876), написанной в связи с выходом в свет отдельным изда-
нием «Благонамеренных речей». Еще в статье «Русская сатира»
(1874) критик самому роду сатиры отводил второстепенную роль.
Невысоко ценит он, за единичными исключениями, и русскую сати-
рическую литературу. Попутно, не называя имени, он дает прене-
брежительную оценку Салтыкову-Щедрину. Перефразируя Писарева,
критик заявляет: «В наше же время... русская сатира благодуше-
ствует своим собственным смехом и... не стоит нисколько выше того
общества, обличить которое явилась» \
Опирается Шелгунов на Писарева и в статье «Горький смех —
не легкий смех». Признавая в сатирике талант, критик в то же время
считает: «Не таланта недостает ему, не наблюдательности, не метко-
сти, не силы и образности выражения; нет, ему недостает ясной
мысли, стройного и последовательного миросозерцания, которые бы
дали содержание его сатире» 1 2. В качестве примера иного «сатирика»,
имевшего руководящую идею, Шелгунов называет Чаадаева: «.. .Ко-
гда он писал о России, он чувствовал, что он сам частица той России,
о которой он скорбел, в которую верил, которую он любил..-. И эта
любовь и солидарность с Россией была идеей Чаадаева» 3. Характе-
ристика автора «Философических писем» безусловно верна, совер-
шенно поразительно, однако, что критик не увидел тех же качеств
в создателе «Истории одного города».
Характеристика, данная Салтыкову-Щедрину в статье Шелгу-
нова-критика, была, конечно, полным анахронизмом в 70-е годы при
всех оговорках относительно наличия у писателя таланта, меткости
наблюдения и т. д. Последующее развитие творчества сатирика, его
все возрастающее значение не могли не убедить Шелгунова-публи-
циста в необходимости пересмотра взгляда на его творчество. Этот
1 «Дело», 1874, № 1, Современное обозрение, с. 49.
2 Там же, 1876, № 10, Современное обозрение, с. 343.
3 Там же, с. 322.
30
пересмотр завершился в 80-е годы. Уже без всяких оговорок призна-
ние заслуг Салтыкова-Щедрина было высказано Шелгуновым в связи
с кончиной писателя. В «Очерках русской жизни» он писал: «Салты-
ков обращался к совести общественного сознания. Он раскрывал те
общие идейные причины, от которых именно и идет человек на
убыль; он говорил о том сознательном развитии, которое творит
умственно-состоятельных и понимающих людей, и о тех общих при-
чинах, которые этому развитию мешают. Никто так не преследовал
ограниченности мысли и чувств, как Салтыков, и никто так не раз-
дражал его, как глуповцы разных цветов, видов и положений. Сал-
тыков был истинный мудрец, которому были ясны все тончайшие
нити и пружины личных и общественных отношений; он только об
этих отношениях и говорил; только о них он и напоминал; только их
закон он и отыскивал в каждой отдельной человеческой душе» \ Этой
характеристикой Шелгунов со всей решительностью как бы отмел
те заблуждения, которые он допускал в отношении Салтыкова-
Щедрина в своей литературно-критической деятельности.
Если к признанию сатиры Салтыкова-Щедрина Шелгунов пришел
с некоторым запозданием, то иной была его оценка сатирического
дарования Добролюбова. Гениальный критик, как известно, был
незаурядным поэтом-сатириком, автором ряда сатирических статей.
В упоминавшейся статье «Русская сатира» Шелгунов в качестве при-
мера действенной силы сатирического слова и называет его творче-
ство. «Сатира Добролюбова, — пишет критик, — всегда ясна, образы
его уегда определенны, ибо ясна его мысль. Даже в самом отрица-
нии Лы находите у него положительную сущность... у него есть
направление и тенденция... Поэтому в сатире Добролюбова чув-
ствуется сосредоточенность и сила, и у него понимаешь и у него
поучаешься, даже когда он смеется, потому что его смех не забава,
не смех для смеха...» И далее: «Только в лице Добролюбова совре-
менная сатира попыталась идти душа в душу с социальной идеей и
стала неизмеримо выше того общества, которым она хотела руково-
дить»1 2. Своей характеристикой Добролюбова-сатирика Шелгунов
фактически отвергал недооценку сатиры, формулировал ее эстети-
ческую и идейную программу. Эта характеристика вместе с тем во
многом предопределяла позднейший пересмотр его взгляда на твор-
чество Салтыкова-Щедрина.
В ряду выступлений Шелгунова о демократической литературе
редко встречается имя Некрасова. Развернутое суждение о поэте
содержится лишь в уже упоминавшейся противоречивой и во многом
1 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 795.
2 «Дело», 1874, № 1, Современное обозрение, с. 48, 49.
31
нечеткой статье «Заметки о русских литературных идеалах» (1878).
Критик говорит о популярности скончавшегося поэта, однако отка-
зывает его творчеству и в искренности и в силе. Известность же
его объясняет лишь популяризацией прогрессивных идей. Эта оценка
отражала общую позицию журнала «Дело» и части демократического
лагеря по отношению к Некрасову.
Демократическая критика 60-х и 70-х годов много уделяла вни-
мания литературе, посвященной народной жизни. Начало этому
положили Добролюбов и Чернышевский. Позднее появляется статья
Салтыкова-Щедрина «Напрасные опасения» (1868), его рецензия на
роман Решетникова «Где лучше?». На страницах журнала «Дело»
о творчестве писателей-демократов, а затем и народников неодно-
кратно писал Ткачев. Живой и кровной была эта тема и для Шел-
гунова.
В статье «Глухая пора» (1870) он разошелся с Добролюбовым
в оценке творчества Марко Вовчка (М. А. Маркович). По мнению
Шелгунова, «повести Вовчка служили Добролюбову лишь канвой
для развития и уяснения читающей публике всего вреда крепостни-
чества и его последствий»Несомненно, критик неправ, отрицая
важную для своего времени заслугу писательницы, выступившей
с рассказами из народного быта. Добролюбов в статье «Черты для
характеристики русского простонародия» имел все основания отме-
тить достоинства ее произведений.
Касаясь народной темы в творчестве Григоровича, Тургенева,
Писемского, критик пишет, что она была неорганична для этих пи-
сателей. «Чтобы говорить о пароде и его жизни, надо было быть
самому из народа»1 2, — заявляет он. Этот тезис стал, в сущности,
для него главным в суждениях о литературе, посвященной народу.
Солидаризируясь с Чернышевским и Писаревым, он особое значение
придает писателям-разночинцам 60-х годов: «Помяловский и П. Ус-
пенский явились первыми провозвестниками нового реального на-
правления русской беллетристики, пытавшейся покончить с извест-
ным и отправиться на поиски неизвестного»3.
Особое и глубоко принципиальное значение Шелгунов придает
творчеству Решетникова. Появление «Подлиповцев» и романа «Где
лучше?» приковало внимание к писателю виднейших деятелей рус-
ской литературы, среди них — Тургенева и Достоевского, Салтыкова-
Щедрина и Глеба Успенского. В разъяснение жизненного и историко-
литературного смысла произведений Решетникова серьезный вклад
1 «Дело», 1870, № 4, Современное обозрение, с. 7—8.
2 Там же, с. 35.
3 Там же, с. 36.
32
BIIec Шелгунов. Уже в статье «Глухая пора», признавая вслед за
другими критиками определенные недостатки произведений Решет-
никова, Шелгунов пишет: «В манере Решетникова есть какая-то сте-
нографичность и отрывочность... Из этой стенографичности и как бы
внешней описательности непременно вытекает кажущееся отсутствие
анализа. А между тем анализ есть, но он проявляется в той форме
объективного отношения, при которой читатель сам из одного лег-
кого намека должен судить о внутреннем процессе описываемого
лица и о социальном смысле рисуемой картины» Г В этом суждении
Шелгунов выступил в полном согласии со статьей Салтыкова-Щед-
рина «Напрасные опасения», где о Решетникове сказано: «.. .Неуме-
нием распорядиться своим материалом он положительно вредит
самому себе; но, в то же время, он чувствует правду, он пишет
правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая
истина русской жизни, что она становится понятною даже и без осо-
бенных усилий со стороны автора»1 2. Конечно, Шелгунов знал об
этой статье, хотя автор ее ему, видимо, не был известен (авторство
Салтыкова-Щедрина установлено лишь в советское время).
Шелгунов в своей статье говорит и о другом недостатке писате-
ля: «Решетникова можно упрекнуть в том, что у пего недостает рез-
ких типов. Но что такое тип, как не обобщение. А разве обобщение
возможно, когда только собираются материалы для вывода? Сна-
чала факты, а уж потом вывод» 3. Салтыков-Щедрин также говорит
об этом: «Главное дело современных литературных деятелей заклю-
чается в подготовлении почвы, в собирании материала и в честной
разработке его, и эта скромная, но нелегкая задача исполняется ими
с полным сознанием и с замечательной добросовестностью»4.
Программным выступлением Шелгунова, посвященным развитию
русской демократической литературы вообще и творчеству Решет-
никова в особенности, является его статья «Народный реализм в ли-
тературе», написанная под впечатлением преждевременной смерти
писателя-разночинца.
В своих суждениях о Решетникове Шелгунов подчеркивает прин-
ципиальную новизну его произведений: «В Решетникове нет ничего,
что бы напоминало русскую литературу предшествующего периода.
В сочинениях Решетникова все иное, все не так; не тот мир, не те
люди, не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже не то горе и не
те интересы» (с. 288). Далее критик говорит и о новизне характера
1 «Дело», 1870, № 4, Современное обозрение, с. 37.
2М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в два-
дцати томах, т. 9, М., ИХЛ, 1970, с. 35.
3 «Дело», 1870, № 4, Современное обозрение, с. 37—38.
4 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Собр. соч., т. 9, с. 34.
Н. В. Шелгунов 33
воспроизведения действительности, вступая в спор с известными сло-
вами Тургенева о «трезвой правде» Решетникова. Не «трезвую
правду», а «новую правду» принес, по мнению критика, автор «Под-
липовцев» и других произведений. Новое отношение к народной
жизни и определило новаторство демократической литературы. «Эту
новую правду, — пишет Шелгунов, — следует назвать народно-реаль-
ным направлением в нашей литературе, в отличие его от старого —
аристократического или идеально-реального» (с. 289). С новым на-
правлением в статье связывается творчество и других писателей-
демократов. Однако автор «Подлиповцев» и в их ряду занимает
особое место: «Решетников становится на новую почву обеими но-
гами и искренно, без ужимок и кривляний относится к действитель-
ному миру... он первый на этом пути» (с. 293). Критик отмечает, что
«точка зрения Решетникова по преимуществу экономическая. Он ри-
сует почти исключительно материальный быт народа, его искания,
где лучше...» (с. 305—306). Характерной чертой Решетникова Шел-
гунов считает лиризм его повествования.
В статье «Народный реализм в литературе» не умалчивается
о недостатках творчества писателя, которые критик отмечал и рань-
ше. С «народно-реальным направлением» Шелгунов связывает даль-
нейшее развитие русской литературы, которая, по его мысли, будет
лишена ограниченности, присущей творчеству как писателей-демо-
кратов, с их недостаточным вниманием к внутреннему миру человека,
с их реализмом «непосредственного чувства», так и тех художников
слова, «народность» которых носила «аристократический», а по дру-
гому определению — «головной» характер. «Вопрос о народном ми-
ровоззрении и народном философско-социальном порыве есть вопрос
будущих народных беллетристов» (с. 306). Решение этого вопроса
Шелгунов мыслит на пути слияния того сильного и плодотворного,
что было в этих обеих линиях развития русской литературы. В дан-
ных рассуждениях, думается, нельзя не видеть тех поисков новых
путей реализма, которыми характеризуется творчество виднейших
писателей второй половины XIX века.
К статье о Решетникове близко примыкает позднейшая статья
Шелгунова «Народник Якушкин», написанная в связи с выходом со-
чинений писателя. Однако в статье речь идет не столько о деятель-
ности и творчестве Якушкина, сколько о личности писателя и фольк-
лориста, облик которого воссоздается в биографии и «товарище-
ских о нем воспоминаниях», открывающих книгу. Шелгунова не удов-
летворили эти воспоминания, в которых сосредоточено внимание на
анекдотических сторонах внешнего облика этого замечательного
искреннего народолюбца. Шелгунов справедливо связывает его жизнь
и деятельность с эпохой 60-х годов, когда он избавляется от опеки
34
славянофилов и все свои силы посвящает всестороннему изучению
современной жизни народа. При всей сложности биографии, идей-
ного пути Якушкина, «он выразил собою известный рост критической
мысли» (с. 373). «Народником» Якушкин назван в ином смысле,чем
определялось политическое движение 70-х годов и последующего
времени. Однако Шелгунов, несомненно, имел в виду и опыт данного
движения, когда писал: «Форма народничества, представленная
Якушкиным и ближайшими за ним людьми... эта форма уже отжив-
шая и ненормальная... При нормальных же условиях развития об-
щественной жизни слияние интеллигенции с народом свершится без
поддевки, и, чтобы изучать народный быт, не потребуется одеваться
,^мужиком"» (с. 377—378). Создание этих «нормальных условий», как
известно, потребовало еще многих лет упорной борьбы с самодер-
жавно-деспотическим строем. К этой борьбе до конца своей жизни не
уставал звать и Шелгунов.
VI
Как литературный критик Шелгунов интенсивно выступал срав-
нительно недолго: он начал в самом конце 60-х годов, а уже с сере-
дины 70-х его выступления по вопросам литературы становятся все
реже; в конце 70-х — начале 80-х годов они единичны. Публицистика
на злобу дня почти целиком поглощает его внимание. К активной
литературно-критической деятельности он уже не вернулся.
Чем это объяснить? Думается, что причины этого связаны с той
сложной общественно-исторической обстановкой, которая складыва-
лась в России к концу 70-х годов и которая завершилась вскоре раз-
громом революционного народничества, торжеством сил реакции.
Смелые ожидания лучшей части русского общества не оправдались.
Все это не могло не вызвать тяжелых переживаний у Шелгунова.
Это рождало сомнения в возможностях литературы, ее влиянии на
развитие общества. Уже в статьях 1875 г. («Нехудожественный ро-
ман», «Иллюзии критического оптимизма») отчетливы ноты скепти-
цизма по отношению к творчеству даже крупнейших писателей. «За
беллетристикой и романом, — писал Шелгунов, — мы не признаем
особенной силы не только у нас, но даже в Западной Европе» С
Правда, ответственность за такое положение он возлагает на обще-
ство, но суть дела от этого не меняется. В данных условиях ничтож-
на и роль критики. Возможна лишь критика чисто художественная,
ограничивающаяся только эстетическими задачами. «Критической
мысли для верных выводов, — заявляет он, — должны быть открыты
1 «Дело», 1875, № 8, Современное обозрение, с. 289.
35
все пути жизни... А если этого нет, критика будет... «любительской»
литературой...»1 Шелгунов возвращается к излюбленной мысли
о превосходстве публицистики: «Публицистика наиболее по плечу
таким практическим моментам, как нынешний...»1 2 Эти и подобные
суждения не были для критика умозрительными, они связаны с опре-
деленными переменами в его практической деятельности.
Скепсис Шелгунова в отношении к литературе особенно ощутимо
сказался в «Заметке о русских литературных идеалах». Выше уже
приводились высказывания критика о Толстом и Некрасове в данной
статье. Не менее пессимистичны здесь высказывания и о других пи-
сателях. Автор «забывает» даже о своих прежних оценках Тургенева
и его героев; теперь он характеризует их лишь отрицательно. Ущерб-
ность и противоречивость этой статьи не подлежит сомнению. В ста-
тье о Благосветлове, написанной в 1882 г., Шелгунов прослеживает
историю журналистики и общественного движения, уровень которых,
по убеждению автора, сильно упал в сравнении с 60-ми годами. При-
мечательно, что это снижение он связывает, с одной стороны, с на-
ступлением реакции («патриотическое направление»), а с другой — и
с народническим движением. «Последующее народническое и патрио-
тическое направление, — говорится в статье, — явившееся в русской
журналистике, очень сузило горизонт мысли; оно понизило умствен-
ные требования до того, что прежним идеалам уже не оказывалось
места и русское общественное сознание от этого очень много про-
играло» 3. Под «прежними идеалами» здесь понимается идейное на-
следие революционных демократов. Шелгунов был прав, заявляя об
этом. Но вместе с тем он заблуждался, отказывая в прогрессивной
роли передовой русской литературе и на новом этапе общественного
развития. Сама историческая действительность скоро убедила его
в этом.
Политическая и общественная реакция 80-х годов, обрушившаяся
и непосредственно на Шелгунова (фактическое прекращение «Дела»,
арест и высылка), не сломила замечательного публициста и критика.
Получив возможность печататься в «Русской мысли», он в ряду неот-
ложных дел считает необходимым написать воспоминания, которые
менее всего имели целью рассказать о себе. Главным для него было
воскресить перед новым читателем общественную атмосферу и об-
становку 60-х годов, рассказать об идейном наследии революционной
демократии, дать этим самым отпор силам реакции. Несмотря на
жестокие цензурные затруднения, Шелгунову удалось во многом
осуществить свой смелый замысел.
1 «Дело», 1875, № 8, Современное обозрение, с. 294.
2 Там же, с. 293.
3 В кн.: Г. Е. Благосветло в. Сочинения, с. XXVI.
36
Вторым его подвигом в условиях реакции 80-х годов явилось
создание «Очерков русской жизни», печатавшихся также на страни-
цах «Русской мысли». Н. К- Михайловский в статье «Памяти Нико-
лая Васильевича Шелгунова» («Русские ведомости», 1891, 18 апре-
ля) писал о Шелгунове: «Его «Очерки русской жизни», полные света
и тепла, читались с жадностью. В них он в необыкновенно живой
форме боролся на старости лет за идеалы своей молодости. Эта
борьба составляет одну из лучших страниц во всей современной рус-
ской литературе». В очерках значительное место заняли и вопросы
литературной жизни, прошлой и современной. Шелгупов-публицист
воочию видел, насколько органично и многогранно передовая русская
литература связана с действительностью, как важны для понимания
этой действительности произведения писателей, следующих принци-
пам реализма. В очерках говорится о Пушкине, Салтыкове-Щедрине
и о многих других деятелях передовой русской литературы. Внима-
тельно следил он и за творчеством новых для того времени писате-
лей. Интересны его раздумья о Гл. Успенском и Короленко, Гаршине
и Надсоне. В ряду писателей-восьмидесятников назван и Чехов.
«Очерки русской жизни» примечательны и тем, что в них с осо-
бенной наглядностью воплотилась органическая слитность в литера-
турной деятельности Шелгунова публициста и критика. Его критиче-
ские статьи, быть может, самое завершенное воплощение той критики,
которую называют публицистической. Его публицистика, совершен-
нейшим образцом которой являются «Очерки русской жизни», в свою
очередь органически включает страницы, посвященные развитию рус-
ской литературы. В этой нераздельности — своеобразие критической
деятельности Шелгунова, являющейся ярким и характерным явле-
нием литературной и общественной борьбы его времени.
Н. Соколов
ЛЮДИ СОРОКОВЫХ И ШЕСТИДЕСЯТЫХ годов
(«Люди сороковых годов».
Роман А Писемского. «Заря», 1869 г.')
1
Если на нашем литературном кладбище является в
последнее время так много заживо погребенных,
то они должны благодарить за это воспитавшую их
эстетическую критику2.
Недавно мы хоронили г. Гончарова3, умершего для
прогресса; теперь приходится делать то же самое с г. Пи-
семским, обрекшим, впрочем, себя на смерть еще «Взба-
ламученным морем» 4.
Г-н Писемский выступил на литературное поприще
в 1850 году. Перед тем он успел уже послужить, женить-
ся и выйти в отставку. Когда появился «Тюфяк», автору
было тридцать лет5. Следовательно, г. Писемский явился
на литературное поприще с готовым, вполне сформиро-
вавшимся мировоззрением.
Появление «Тюфяка» привело русских критиков в та-
кой энтузиазм, как будто бы всероссийский Парнас посе-
тил Юпитер Олимпийский. «Москвитянин», в котором
был напечатан «Тюфяк», нашел, что эта повесть истинно
художественное произведение. «Мы можем сказать это
смело, — утверждал он, — потому что она удовлетворяет
всем условиям художественности. Вы видите, что в осно-
вании произведения лежит глубокая мысль, и вместе
с тем так ясно для вас, что зачалось оно в голове автора
не в отвлеченной форме — в виде сентенции, а в живых
образах, и домысливалось только особенным художе-
ственным процессом до более типичного представления;
С другой стороны, в этих живых образах и, для первого
взгляда, как будто случайно сошедшихся в одном инте-
ресе, эта мысль ясна и прозрачна. Едва ли нужно повто-
рять, что высказанное нами составляет единственное
условие художественности. Под какой бы формой ни яви-
39
лось произведение, отвечающее подобны'м требованиям,
оно будет художественное произведение...»6
«Библиотека для чтения» говорила: «Писемский с
первого шага попал на настоящую дорогу, и потому мы
вправе ожидать многого от его таланта. Писемский вы-
сказался не в тесной рамке какого-нибудь быта, но в вос-
произведении самых разнообразных и противоположных
явлений общественной жизни... В произведении г. Пи-
семского нет пристрастия к тому или другому лицу; он
не увлекается нравственными преимуществами одного
лица перед другими, не возвышает одних в ущерб дру-
гим, но с беспристрастием художника, поставившего себе
целью быть верным природе, воспроизводит каждое из
них ео всею искренностью и чистотою таланта...»7
«Современник» 1851 г. сказал: «В повести г. Писем-
ского на первом плане — характеры. И посмотрите, что
это за живые лица! Каждое из них мы видели, кажется,
где-то; о каждом из них слышали где-то, и с большею
частью из них был знаком каждый читатель в своей жиз-
ни. .. Написана повесть языком бойким и живым, полна
наблюдательности и отличается светлым взглядом авто-
ра на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько
неподдельного, практического здравого смысла, что
автору безусловно во всем веришь и желаешь только
одного — чтобы он писал больше и больше...» 8
Белинского тогда уже не было в живых, и, конечно,
только этому обязан г. Писемский, что никто из эстетиков
его не рассмотрел как следует и не явилась ему надле-
жащая оценка.
Мы не станем на 1851 год переносить теперешний кри-
тический прием. Мы спросим, существовала ли в 1851 го-
ду верная точка отправления для правильной критиче-
ской оценки литературных произведений? Существовала,
ибо Белинский хотя и не вполне, но отшатнулся уже от
своего любимца Пушкина за его отчуждение от обще-
ственных интересов, за отсутствие в нем определенного
направления9. Но взглянул ли хотя один критик на
г. Писемского с этой точки зрения? Ни один.
«Библиотека для чтения», например, ставит в досто-
инство г. Писемскому, что он пишет безразлично, с бес-
пристрастием художника, все, что он видит; «Москвитя-
нин» толкует о художественности, понимая под нею тоже
самое безразличное рисованье; «Современник», наконец,
.40
восхищается характерами и живыми лицами, или — ины-
ми словами — тоже художественностью.
«Москвитянин», правда, покусился было взглянуть
глубже и потребовал отчета в мысли; но так и остался
при одном покушении. «Москвитянину» показалось, буд-
то бы автор хотел сказать, что для жизни нужны извест-
ные житейские способности, которых нельзя заменить ни
благородным сердцем, ни классическим образованием, и
что кому их господь бог не дал, не смей ни плакать, ни
завидовать другому. Это опять эстетическая точка зре-
ния; нечто вроде гамлетовской борьбы с судьбою; тогда
как у г. Писемского дело далеко проще. Бешметов («Тю-
фяк»), неуклюжее, непрактическое, но сердечное суще-
ство, полюбил девушку легкомысленную, и ее выдали за
него замуж силою. Сестра Бешметова, хорошая женщи-
на, замужем за Мансуровым — копией Ноздрева. Жен-
щины эти не любят и не могут любить своих мужей, и вот
является провинциальный . франт — Бахтиаров, человек
глупый и дрянной, в которого обе женщины влюбляются.
Таким образом завязывается борьба страстей с условия-
ми общежития. Но г. Писемский с художественным бес-
пристрастием, которое ставит ему в достоинство «Библио-
тека для чтения», отнесся чрезвычайно мелко к внутрен-
нему миру страдающих людей. Жизнь их — настоящий
ад, но страдания бедняков рисуют вам с такой ледяной
объективностью и так мелко, поверхностно, что житей-
ская суть от вас совершенно ускользает и вы видите лишь
более или менее смешных людей. Вам как бы показыва-
ют уличную панораму: «А вот, изволите видеть, можете
смотреть, как мужья с женами ссорятся...» Например,
такие сцены, как последняя борьба Бешметова с женой:
бедняга, самым глубоким образом оскорбленный в своем
чувстве, бежит без оглядки в поле, бросается на землю и
плачет, плачет потому, что бушуют в нем два противопо-
ложных чувства; вам же страдающий человек вовсе почти
и не кажется страдальцем, вам рисуют такую поверхност-
ную картину, что если читатель — человек не особенно
тонкого чувства и ума обыкновенного, то он назовет Бёш-
метова сумасшедшим или дураком. Неужели это верное
изображение природы? Неужели это талант?
«Время» верно подметило неспособность г. Писемско-
го понимать смысл и значение житейских явлений. «Лица
и события г. Писемского, — говорит оно, — не довольно
41
Д'ЬЛО
ЖУРНАЛ!)
ДИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСК1Й.
> 9
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1869
ТИООГРАФШ А. МОРЦГКРОВСКаГО, ВЪ ТРОИЦКОМ! ПЕРЕУЛКИ, ДО.МЪ ГАССЕ.
СОВРЕМЕННОЕ 0Б03РВН1Е.
ЛЮДИ СОРОНОВЫХЪ И ШЕСТВДЕСЯТЫХЪ годовъ.
(По поводу романа г. Пнсеискаго «Люди сороковыхъ годовъ*. Заря 1869 г.)
V.
В* русском* народном* лексиконЪ н'Ьтъ слова женщина, а есть
баба п дЬвка. Если би русский романистъ вздумал* изобразить
утонченный муки возвышенных* любовныхъ чувствъ русской бабы,
то каждый увидал* бы въ этомъ смЪшную попытку неправдопо-
добной идеализацж. Не то, чтобы русская баба или дЪвка не умЪла
любить — онЬ любить умЪютъ, онЬ и мучатся, и ревнуют*; онЪ
совершают* даже уголовный преступлеп1я, если имъ хочется любить»
ио не удается, и при всем* том*,—драма вышла бы клеветой на
народный бытъ и на народное м1ровоззрЪше, недопускающее за-
конность подобной страсти н сознательной борьбы.
Теперешнее народное, пли, etpute, мужицкое воззрЪше на жен-
щину, до Петра I было обще-русскимъ. Вся Poccin, сверху до низу,
не знала другой женщины, кромЪ бабы. Поэтому-то представитель
людей сороковых* годовъ, ВЪлинсмй, и говорит*, что если русски!
писатель, придерживаясь Вальтеръ-Скотта, захочет* основать на
любви план* своего романа в irLiiio устшй героя поставит* руку
и сердце верной красавицы, то он* покажет* этим* явно, что не
понимает* Руси. „Я знаю, говорит* Б'Ьлинсшй, что наши бояре
лазили через* тыны к* своим* прелестницам*, но это было оскор-
блен ie и искажение величавой, чинной и степенной русской жизни,
«ДЬо»), № 10, 1
смешат, мало трогают, слабо возбуждают негодование.
Его рассказы не увлекают: они только занимательны, то
есть они представляют своего рода реальный интерес,
почти такой же, какой возбуждают в нас действительные
происшествия или встреча с новыми, незнакомыми лица-
ми. И в том и в другом случае, несмотря на все наше
внимание, мы чувствуем недостаток того глубокого света,
которым искусство проницает действительность и озаряет
сущность дела. Пустота, мрак, житейская грязь во всей
ее серой безличности и бледном безобразии... Писатель
как будто не доверяет себе или просто не умеет смело
подняться в область идеала, чтобы ярко и выпукло вы-
ступили пред ним явления. Он смотрит на жизнь скепти-
чески, даже цинически и подозрительно толкует каждое
ее явление: он не приближается к жизни, не озаряет ее,
а скорее отталкивает от себя и покрывает тенью. У Гого-
ля, например, жизнь, как он сам выражается, действи-
тельно щеголяет по-будничному; она тем сильнее и жал-
че, чем сильнее щеголяет собою; у г. Писемского от жизни
веет чем-то мертвым и холодным. Нам кажется, что этот
недостаток примирения с идеалом во взгляде самого
писателя составляет главную причину тяжелого впечат-
ления, возбуждаемого произведениями г. Писемского.
Если взять его произведения в их целом, то нельзя не со-
знаться, что это впечатление доходит до чего-то трагиче-
ского, хотя и не достигает полной силы трагизма... В чем
состоят рассказы г. Писемского? Все это рассказы о пре-
ступлениях или несчастиях, в которых страдают люди,
по-видимому, нимало не повинные. Этих людей губят ка-
кие-то темные силы, враждебные элементы, господствую-
щие в той среде, куда они попадают. Для того, чтобы
привести эти силы к обнаружению, к столкновению,
г. Писемский употребляет даже довольно механический
прием. Часто дело у него начинается тем, что действую-
щие лица приезжают в то место, где они или сами поги-
бают, или других губят... Эти люди, тонущие в непрохо-
димом болоте, очень редко делают даже бессознательные
движения, чтобы вырваться из него, и тотчас опускают
руки, чувствуя свою слабость и бесполезность усилий.
От этого все происшествия получают какой-то нечелове-
ческий характер стихийности, мертвенности, которая по
временам возбуждает ужас. Духовные силы, выводимые
па сцену г. Писемским, действуют как слепые стихии, как
44
огонь и вода. Весьма замечательно то обстоятельство, что
в большей части случаев действующие лица г. Писемско-
го совершенно не понимают друг друга; между ними нет
никакого духовного общения, при котором только и воз-
можно сколько-нибудь разумное, просветленное взаимо-
действие. .. Понятно, что при таком непонимании драмы
быть не может; каждый действует слепо на других и от
столкновения слепых страстей и желаний происходит
какое-то пустое, внешнее бедствие...» («Время», июль
1861 г.) 10.
Но и «Время» попадает не туда, куда бы следовало.
Оно навязывает г. Писемскому глубину, которой у него
совсем нет. Г-н Писемский чисто внешний, рефлективный
ум, холодный к своим героям и ничего с ними не пережи-
вающий. У него нет способности психического анализа и
нет тени сознания той всеобъемлющей стихийной борьбы,
какая совершается в социальной истории человечества.
Автор рисует провинциальные городки, провинциальных
людей, рисует муравьев в их муравейниках; но связи этих
кучек и болот с природой, связи с мировою жизнью вы
у него нигде не видите, потому только, что он ее не пони-
мает и не видит сам. Неужели вы думаете, что если бы
автор болел людским несовершенством, что если бы он
жил сам лучшими стремлениями людей и носил в себе
гуманное чувство, то не заставил бы своих читателей
переживать все эти моменты? Но вы читаете г. Писем-
ского и находите, что он, как выразилось «Время», пишет
занимательно — и только. Отчего Жорж Занд получил
всемирное прогрессивное значение? Только оттого, что он
владеет способностью глубокого, хотя и идеалистическо-
го анализа. Если бы Жорж Занду дать ту же тему, какая
послужила основанием «Тюфяка», неужели вы думаете,
что вышла бы только панорама — «изволите видеть, мо-
жете смотреть, как глупо муж с женою ссорится?» —
Г-н Писемский точно хочет убить в читателе всякое гу-
манное чувство и сказать, стоит ли считать этих скотов
людьми и любить их? Какая разница с гуманным юмо-
ром Гоголя! И были еще критики, которые причисляли их
к одной школе!11 Реализм г. Писемского — это какая-то
бессердечная, беспощадная инквизиционная сила, оттал-
кивающая от него в такой степени читателя, что он чув-
ствует полнейшее отсутствие всякой социальной и личной
45
связи с автором с первых строк любого произведения
его.
Дружинин отчасти объясняет этот холодный, негу-
манный характер мировоззрения г. Писемского. «Г-н Пи-
семский,— говорит он («Библиотека для чтения», февр.
1859 г.), — едва ли много думал об указании обществен-
ных язв или «разведении окружающей нас грязи слезами
покаяния», но он много жил в самом сердце России, жил
и много трудился, много служил, много раз сходился с
самыми разнообразными классами своих соотечественни-
ков и, наконец, тяжелым трудом пробивал себе дорогу
в обществе. Такой жизнью и такой опытностью он во
многом отличается от большинства лучших наших рома-
нистов, людей или обеспеченных с малолетства, или про-
живших свои ученические годы в одной из столиц, посре-
ди жизни условной и неразнообразной. По времени сво-
его появления на арене русской словесности принадлежа
к группе младшего литературного поколения, г. Писем-
ский этим самым был устранен от слишком общих и
несколько туманных теорий, на которых взросли и раз-
вились его старшие товарищи. По всему этому он приоб-
рел практичность и деловую сторону дарования, приоб-
рел ее до такой степени, что она по временам ему самому
становится в тягость и отклоняет его от поэтических сто-
рон искусства... Произведения г. Писемского составляют
как бы противоположный полюс с произведениями Гон-
чарова и Тургенева, по большей части основанными на
Поэтических особенностях нашего существования, заим-
ствованных из жизни меньшинства русских людей, из
жизни, обильной тонкими наслаждениями и страстными
порывами к идеалу... В лучших трудах г. Писемского
напрасно станем мы искать идеальных сторон, тонкого
психологического анализа, поэтического воспроизведения
высоких страданий и высоких радостей...»12 Этими, вы-
ражаясь несколько жестко, грубыми свойствами челове-
ческой природы г. Писемского Дружинин объясняет, по-
чему у него так хороши народные характеры, не требую-
щие тонкой кисти — «Питерщик», «Плотничья артель»,
«Старая барыня». После этих рассказов псевдопростона-
родная литература, представителем которой был до тех
пор г. Григорович, сделалась уже невозможной.
С первого появления г. Писемского на литературном
поприще наши критики смотрели на него преувеличенно
46
и ставили ему в заслугу именно то, что составляет его
коренной недостаток и вследствие которого он никогда
не мог рассчитывать на значение сильного и влиятель-
ного писателя. Писемского, не поняв, захвалили с первого
раза и испортили.
Читающая публика ошибалась в этом случае менее
присяжных критиков. На повести г. Писемского никогда
не накидывались так, как накидывались на повести
г. Тургенева и даже г. Гончарова. С одной стороны, в
Писемском поражало холодное безучастие и расхвален-
ная эстетиками его художественная объективность; а с
другой, тот трудный вывод, который приходилось делать
самому читателю, искавшему мысли и поучения.
Даже реальная критика не проникла в глубь личных
свойств г. Писемского и видела в нем то, что хотелось ей
самой видеть, а не то, что было в действительности 13.
Г-ну Писемскому, замаскировавшемуся объективностью,
приписывали такие идеи, намерения и мысли, каких у
него никогда не бывало.
К счастью и для русской критики и для русской пуб-
лики, сам г. Писемский помог понять себя, разоблачив
себя вполне в «Взбаламученном море».
Мы не знаем, при каких условиях слагались понятия
г. Писемского, и до «Взбаламученного моря» он тщатель-
но скрывал предел, до которого он в состоянии мыслить.
Но после «Взбаламученного моря» сделалось ясно,
что г. Писемский годится лишь для объективных изобра-
жений мелочей жизни, — мелочей скверных, мучитель-
ных, мешающих, тупых, — но не более как мелочей; что
истинный его конек — народная жизнь, и истинная его
заслуга — уничтожение псевдопростонародной литерату-
ры; что по складу ума и по развитию он только живопи-
сец села и русского простолюдина; но лишь чуть требует-
ся подняться мыслью выше и направиться к разрешению
социальных русских вопросов — г. Писемский обнаружи-
вает полнейшее бессилие. Для этой области у него не
было никогда ни тонкого чувства, ни тонкой мысли, ни
знаний, ни образования, и он принимался немедленно
разрушать то, что сам сооружал ранее.
Воспитанный эстетической критикой, г, Писемский
сложил себе очень наивный взгляд на роль и деятель-
ность романиста. Он думал, что достаточно одного объ-
47
ективного рисованья, и принялся писать картинки, очень
схожие с натурой. Но нашлись люди, которые, посмотрев
на изображения художника, призадумались над ними;
попытались взглянуть на жизнь серьезнее, попытались от
самого факта перейти к его причине; захотели перестро-
ить свою жизнь. Тогда те же гг. Писемские начали изре-
кать проклятия, стали уверять, что у них таких зловред-
ных тенденций не было и что все это выдумали мальчиш-
ки 14. Впрочем, гг. Писемские могут утешать себя тем, что
Лютер, во всяком случае, ум и характер более сильный,
тоже клялся всеми святыми, что он не говорил никогда
ничего неблагонамеренного, когда последовательные лю-
ди запотели идти дальше и из теоретического учения вы-
водить практические результаты.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.
Литературное бедствие г. Писемского в том, что он не по-
нял этой простой истины и, слишком понадеявшись на
свои силы, задумал перенести свою деятельность из де-
ревни в город.
Если бы он ограничился созданием народных типов,
он навсегда остался бы прогрессивным писателем. Кру-
гозор русского простолюдина тесен; деревенская жизнь
бедна вопросами, стремлениями и разнообразием явле-
ний. Пересаживая на эту почву свои идеалы, г. Писем-
ский всегда бы удержался на высоте прогрессивного
уровня, ибо он по образованию и по развитию был бы
всегда выше своих героев. Но когда г. Писемский захотел
уйти в глубь вопросов, волнующих новых русских людей,
когда он захотел отнестись критически к тому, что заду-
мало прокладывать новое направление русской мысли,
то он подтвердил лишь еще раз ту старую истину, что
снизу неудобно судить о том, что делается наверху.
Как умен нам кажется волостной старшина, сидящий
на своей председательской скамейке и разрешающий ко-
ротко ему известные волостные вопросы. Но пересадите
этого же самого умного старшину в сенат, в государствен-
ный совет — куда денется его ум в новой, более широкой
области мысли! То же самое случилось и с г. Писемским,
когда он вздумал явиться судьею прогрессивной русской
идеи.
48
II
Как видит читатель, мы считаем талант г. Писемского
очень маленьким, а кругозор его очень узким. Мы не от-
нимаем от г. Писемского способности наблюдения. Он
знает много фактов и явлений жизни, владеет большою
памятью событий, но материал подавляет его своим изо-
билием, и всю свою деятельность он ограничивает лишь
группированием фактов, наклеиванием картинок на одну
бесконечную бумагу, которую и развертывает перед чи-
тателем, как развертывают картины в уличных панора-
мах.
Г-н Писемский при всех своих способностях далеко
не мыслитель, и претензия его рисовать широкие, всерос-
сийские картины вовсе не соответствует его силе анализа
и способности понимать верно исторический смысл явле-
ний.
Задавшись обольстительной мыслью нарисовать что-
нибудь грандиозное и чувствуя в своей памяти богатый
запас материалов, г. Писемский ограничивается лишь
широковещательным заглавием, изобличающим его сме-
лый замысел и в то же время бессилие перед задачей.
Под широковещательным заглавием читатель находит
пуф, нечто вроде газетной зазывающей рекламы, и при-
ходит к тому заключению, что его обманули. Если тут об-
ман заведомо, то это скверно, ибо нужно иметь уважение
к чужим деньгам и к чужому времени, если же он не за-
ведомый— в таком случае г. Писемский страдает неиз-
винительным самомнением и заслуживает сожаления.
По поводу «Взбаламученного моря» мы не будем го-
ворить дальше, и теперь все сказанное выше мы поста-
раемся подтвердить разбором «Людей сороковых годов».
«Люди сороковых годов» — роман социально-полити-
ческий; по заглавию же он обещает обнять целую эпоху
из жизни России, целый умственный момент.
Лет тридцать назад в нашем образованном обществе
наметилось весьма резко небывалое до того времени в
России умственное движение. Люди, стоявшие во главе
его, известны под именем людей сороковых годов. Оче-
видно, что эта лучшая интеллектуальная сила тогдашней
России имеет историческое значение и играет весьма важ-
ную роль в истории нашей цивилизации. К сожалению,
о людях сороковых годов, кроме более или менее отры-
49,
вочных, преимущественно биографическйх сведений, не
сообщалось до сих пор ничего. Поэтому обещание г. Пи-
семского познакомить нас с малоизвестной замечатель-
ной эпохой, показать ее в живых образах, в полной кар-
тине жизни, дать нам роман-летопись, роман — историю
цивилизации рисовало заранее умственное наслаждение,
о котором мы были вправе мечтать, зная прославленный
эстетиками талант г. Писемского и зная, какою сильною
памятью событий и фактов он владеет. Но с первых же
страниц романа вам говорят, чтобы вы не увлекались
слишком воображением и сократили бы свои требования.
Вас переносят в деревню и в уездный город, в маленький
кружок провинциальных людей.
Г-н Писемский знает очень хорошо, что люди форми-
руются под влиянием воспитания и впечатлений молодо-
сти и потому не пропускает с похвальной, деловой обстоя-
тельностью указывать все влияния, имевшие роковой ха-
рактер в судьбе его героя.
От отца Павел Вихров наследовал только безгранич-
ную вспыльчивость да имение. Матери Павлуша не по-
мнит. Следовательно, все воспитательное влияние оказы-
вается вне дома. Семья, значит, не дает ничего, хочет
сказать г. Писемский.
Когда пришло время везти Павла в гимназию, старик
Вихров заехал с ним к двоюродному брату своей жены —
Им плеву.
Имплев — человек художественной, эстетической на-
туры, получивший хорошее воспитание, добрый, умный,
но уж очень нежный и стыдливый, как девушка, хотя и
старик. «Вся жизнь Имплева имела какой-то поэтический
и меланхолический оттенок, — говорит г. Писемский,—
частое погружение в самого себя, чтение, музыка, раз-
мышления о разных ученых предметах и, наконец, благо-
родные и возвышенные отношения к женщине — всегда
составляли лучшую усладу его жизни. Только на обеспе-
ченной всем и ничего не делающей русской дворянской
почве мог вырасти такой прекрасный и в то же время
столь малодействующий плод».
Первый акт влияния, формировавшего душу будуще-
го героя, совершался следующим образом. Имплев с
прямою целью дать поучительный урок своему племян-
нику, обратился к нему с такою речью: «„Вот теперь тебя
повезут в гимназию; тебе надобно учиться хорошо; маль-
50
чик ты умный; в ученье счастье всей твоей жизни бу-
дет".— «Я буду учиться хорошо», — сказал Павел. «Еще
бы!.. Отец вот твой, например, отличный человек: и ум-
ный и добрый; а если имеет какие недостатки, так чисто
как человек необразованный: и скупенек немало и не со-
всем благоразумно строг к людям...» Павел потупился:
тяжелое и неприятное чувство зашевелилось у него в ду-
ше против отца. «Никогда не буду скуп и строг к лю-
дям!»— подумал он. «Ты сам меня как-то спрашивал,—
продолжал Имплев, — отчего это, когда вот помещики и
чиновники съедутся, сейчас же в карты сядут играть?..
Прямо от неученья! Им не об чем между собою говорить;
и чем необразованней общество, тем склонней оно ко
всем этим играм в кости, в карты; все восточные народы,
которые еще необразованнее нас, очень любят все это, и
у них, например, за величайшее блаженство считается
их кейф, то есть когда человек ничего уж и не думает
даже». — «А в чем же, дядя, настоящее блаженство?» —
спросил Павел. „Настоящее блаженство состоит, — отве-
чал Имплев, — в отправлении наших высших душевных
способностей: ума, воображения, чувства. Мне вот хоть
и немного, а все побольше разных здешних господ бог
дал знания, и меня каждая вещь, что ты видишь здесь
в кабинете, занимает...“» «„Читывал ли ты, мой милый
друг, романы?" — спросил дальше Егор Иваныч Павла.
«Читал, дядя». — «Какие же?» — «Молодой Дикий», по-
вести Мармонтеля. — „Ну, все это не то! Я тебе Вальтер
Скотта дам. Прочитаешь — только пальчики обли-
жешь! .."» И Имплев в самом деле дал Павлу перевод
«Ивангое»...15
Второй акт влияния, формировавшего душу Павла —
в губернском городе, в гимназии которого он учился.
Гимназист Плавин, с которым Павел жил вместе, пригла-
сил его идти в театр. Давали «Днепровскую русалку» 16.
После театра Павел был как бы в тумане. «Весь этот
театр со всей обстановкой и все испытанные там удоволь-1
ствия показались ему какими-то необыкновенными, воз-
душными, не на земле существующими — каким-то пирОхМ
гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но
тем не менее очаровательным и обольстительным!» После
этого торжественного дня Плавину пришла мысль сы-
грать театр дома. Павел даже испугался такой смелой
мысли. Но театр был сыгран, и в Павле обнаружился
51
сценический талант. С этих пор Павел совершенно поки-
нул детские игры и «как бы в подражание Имплеву повел
эстетический образ жизни. Он очень много читал (дядя
обыкновенно присылал ему из деревни романы, журналы
и путешествия); часто ходил в театр, наконец, задумал
учиться музыке» и действительно начал учиться.
Третий акт. В гимназии был учителем математики хо-
хол Дрозденко, великий ненавистник России. Павел ока-
зался очень способным к математике, и Дрозденко очень
полюбил его. Еще больше сблизило их то, что они оба
оказались охотниками. Этот-то Дрозденко и задумал за-
ронить в молодую душу яд всякого сомнения. Он старал-
ся показать ему действительную жизнь в том виде, как
она есть; он навел его на размышления о притеснении,
какое терпел крепостной человек от своего помещика, о
взятках чиновника, и зерно сомнения, заброшенное в ду-
шу Павла, не замерло.
Пошли они раз на охоту. «„А что, скажи ты мне, пан
Прудиус17, — начал Дрозденко, обращаясь к Павлу,—
зачем у нас господин директор гимназии нашей суще-
ствует? Может быть, затем, чтобы руководить учениками,
сообщать нам методы, как вас надо учить, — видал ты
это?“ — «Нет, не видал!» — отвечал Павел. «Может
быть, затем, — продолжал Николай Силыч, — чтобы
спрашивать вас на экзаменах и таким манером поверять
ваши знания — видел это, может?» — «И того не ви-
дал»,— отвечал Павел. «Так зачем же он существует?»—•
спросил Николай Силыч. «Для высшего надзора за по-
рядком, полагаю!» — сказал Павел. „Существует он,—
продолжал Николай Силыч, — я полагаю, затем, чтобы
красить полы и паркеты в гимназии...“» «Все эти толко-
вания,— говорит г. Писемский, — сильно запали в моло-
дую душу героя, и одно только врожденное чувство при-
личия останавливало его, что он не делал с начальством
сцен и ограничивался в отношении его глухою и затаен-
ною ненавистью...»
Четвертый акт. У Имплева была дочь от его эконом-
ки, воспитавшаяся в Москве у какой-то княгини. При-
ехала эта дочь к своему отцу, Павел был уже в седьмом
классе. «„Куда вы поступите из гимназии?** — спрашива-
ет Мари Павла. «Ненадолго в Демидовское18, а там и в
военную службу и в свиту», — ответил Павел. «Почему
же в Демидовское, а не в университет?.. Демидовцев я
52
совсем не знаю, но между университетскими студентами
очень много есть прекрасных и умных молодых лю-
дей»,— проговорила девушка каким-то солидным тоном.
«Конечно, — подтвердил Павел, — всего вероятнее и я
поступлю в университет», — прибавил он и тут же при-
нял твердое намерение поступить не в Демидовское, а
в университет.
Пятый акт. Задумав поступить в университет, Павел
стал побаиваться за латинский язык и, чтобы поправить-
ся, решился перейти жить к учителю латинского языка
Крестовникову и брать у него уроки. Наступил великий
пост. Раз вечером Крестовников спросил у Павла, будет
ли он говеть? «Я так, для формы только — буду», — отве-
чал тот. — «Зачем же для формы только?» — спросил
Крестовников несколько даже сконфуженным голосом.
«Некогда решительно! Заниматься надо», — отвечал Па-
вел. «Нет, вы лучше хорошенько поговейте: вам лучше
бог поможет в ученье», — вмешалась в разговор жена
Крестовникова. Павел не согласен был с нею мысленно,
но ничего не возразил. Однако, когда в страстной поне-
дельник Павла разбудили к заутрене, ему стало стыдно,
и он отправился в церковь. Церковное богослужение
вместе с постом, который строжайшим образом наблю-
дался за столом Крестовниковых, распалило почти до
фанатизма воображение Павла, так что к исповеди он
стал готовиться как к страшнейшему и грознейшему акту
жизни. «Никогда еще, — говорит г. Писемский, — юноша
не бывал в столь возвышенном умственном и нравствен-
ном настроении, как в настоящее время. Воображение
его было преисполнено чистыми, грандиозными образа-
ми религии и истории, ум занят был соображением раз-
ных математических и физических истин, а в сердце го-
рела идеальная любовь к Мари...»
Шестой акт. Влияние университета. Первые лекции
профессоров произвели на Вихрова благоговейное впе-
чатление. Профессор словесности задал студентам темы
для сочинений, и Вихрова сочинение оказалось лучше
всех. Из товарищей по университету читателю показыва-
ют Неведомова, способного, но несколько тронувшегося
господина, который ходит в одежде послушника и по
поводу ее высказывает Павлу следующую теорию. «Для
человеческого тела, — говорил он, — существуют две
формы одежды: одна — испанский колет, обтягивающий
53
все тело, а другая — мешок, ряса, которая драпируется
на нем. Я избрал последнюю». Комната этого чудака
имела тоже своеобразное убранство. В ней стоял диван,
очень как бы похожий на гроб и обитый совершенно та-
ким же малиновым сукном, каким обыкновенно обивают
гробы; потом довольно большой стол, покрытый уже чер-
ным сукном, на котором лежали: череп человеческий,
несколько ручных и ножных костей, огромное Евангелие
и еще несколько каких-то больших книг в дорогом пере-
плете, а взади стола, у стены, стояло костяное распятие.
Неведомов благоговел перед Шекспиром, не признавал
значения В. Гюго, а Марлинского и Бенедиктова, пред
которыми преклонялся Павел, называл миниатюрами
В. Гюго. Другой студент — Салов. Это был пустой, лег-
комысленный, сбившийся с пути, замазурившийся госпо-
дин, восторгавшийся позитивизмом Конта, с которым
Неведомов, конечно, был не согласен. Павел, слушая их
спор о Конте, хлопал так же глазами, как хлопал он
раньше, слушая Неведомова о Шекспире. Кандидат
Марьеновский — юрист, тоже непостижимый для Павла.
Когда Павел увидел его в первый раз, Марьеновский
рассказывал с восторгом об осуждении Лафарж19.
«А к чему бы присудили ее по нашим законам? — спросил
Неведомов». Марьеновский пожал плечами. «Самое боль-
шое, что оставили бы в подозрении, — отвечал он с улыб-
кой».— «Значит, уголовные законы наши слабы и непре-
дусмотрительны»,— вмешался в разговор Вихров. «На-
против!— отвечал ему совершенно серьезно Марьенов-
ский, — наши уголовные законы весьма недурны, но что
такое закон?.. Это есть формула, под которую не могут
же подойти все случаи жизни: жизнь слишком разнооб-
разна и извилиста; кроме того, один и тот же факт мо-
жет иметь тысячу оттенков и тысячу разных причин;
поэтому-то и нужно, чтобы всякий случай обсудила об-
щественная совесть или выборные из общества, то есть
присяжные». — «Отчего же у нас не введут присяжных? ..
Кому они могут помешать?» — произнес Павел. «Очень
многому! — отвечал Марьеновский, — покуда существу-
ют другие злоупотребительные учреждения, до тех пор
о суде присяжных и думать нечего: разве может суще-
ствовать гласный суд, когда произвол административных
лиц доходит бог знает до чего, — когда существует кре-
постное право? , , все это на суде, разумеется, будет обли-
54
чаться, обвиняться...». — Наконец, студенты Петин и
Замин, два шута-потешника, вроде Добчинского и Боб-
чинского, и такие же неразлучные. Петин и Замин изо-
бражали, например, как свинью режут, а собака на нее
богу молится, изображали лицами гром и молнию, или
шубу, висящую на вешалке, или как секут мужика, а тот
корчится под розгами.
Об общем влиянии университета на Вихрова г. Пи-
семский говорит следующее: «Естественные науки откры-
ли перед ним целый мир новых сведений: он уразумел и
трав прозябанье, и с ним заговорила морская волна20.
Он узнал жизнь земного шара, — каким образом он об-
разовался, как на нем произошли реки, озера, моря;
узнал, чем люди дышат, почему они на севере питаются
рыбой, а на юге — рисом. Словом, вся эта природа, инте-
ресовавшая его прежде только каким-нибудь очень уж
красивым местоположением, очень хорошей или чрезвы-
чайно дурной погодой, каким-нибудь никогда не видан-
ным животным, стала теперь ему понятна в своих причи-
нах, явилась машиной, в которой все было теснейшим
образом связано одно с другим. Из изящных собственно
предметов он в это время изучил Шекспира, о котором
с ним беспрестанно толковал Неведомов, и еще Шиллера,
за которого он принялся, чтобы выучиться немецкому
языку, столь необходимому для естественных наук, и ко-
торый сразу увлек его, как поэт человечности, цивилиза-
ции и всех юношеских порывов...»
Университетом заканчивается первый период жизни
Вихрова. Он сложился умственно и нравственно, силы его
определились, он человек, готовый для борьбы. Посмо-
трим, однако, поближе на этот период.
Я, может быть, делал уж слишком большие выписки,
но избегнуть их было невозможно. «Заря» читается мало;
роман г. Писемского далеко не пользуется таким внима-
нием, как «Обрыв». Следовательно, чтобы быть доказа-
тельным, нужно было представить факты, служащие
основанием для вывода в возможной полноте и очевид-
ности.
Ходульность построения, конечно, совершенно ясна
читателю из выписок, и мне приходится еще раз повто-
рить справедливое замечание «Времени», что герои
г. Писемского обыкновенно приезжают, чтобы с ними
55
случилось несчастье или счастье, смотря по тому, что
замыслил сказать автор.
Павел, мальчик лет десяти, заехав с отцом по дороге
к Имплеву, понял вдруг, что настоящее блаженство чело-
века в отправлении высших духовных способностей, и
решился учиться хорошо. Неужели потребность знать
влагается в человека таким механическим приемом? От-
чего же в школах так много ленивых, а уж там ли не
говорят, что учиться следует, и за леность даже секут.
В гимназии, увидев «Днепровскую русалку», Павел поки-
нул, тоже вдруг, детские игры и повел эстетический образ
жизни. Когда Дрозденко сказал ему несколько фраз
о крестьянской слезе, о том, что директор гимназии толь-
ко красит полы, в Вихрове явилась немедленно глухая и
затаенная ненависть к начальству. В университет он по-
ступил под влиянием такого же механического, внешнего
толчка. Не приезжай Мари и не скажи Павлу, что между
студентами есть много прекрасных и умных молодых
людей, он поступил бы в Демидовское и в военную
службу.
Неужели от таких ничтожных внешних причин зави-
село появление людей сороковых годов? Где же во всем
этом внутренние, нравственные процессы? Произвел
г. Писемский на свет своего героя в сорочке, дал ему
эстетического, образованного дядю, приставил к нему
учителя-либерала, прислал из Москвы рассудительную
сестрицу, и те на руках перенесли его через всю тину за-
холустной семьи и провинции и поставили борцом на
распутье жизни.
Даже и для нынешних людей не прошла еще пора
пользоваться в первой молодости безошибочными уро-
ками. Где эти люди из более счастливо одаренных, ко-
торым бы не приходилось себя переделывать, не прихо-
дилось бы разрывать с прошлым, не приходилось бы на-
чинать трудный процесс самовоспитания уже далеко
после детского и юношеского возраста!
Мы знаем, что есть натуришки дрянные, люди без-
различных способностей, люди, которые идут туда, куда
их толкают. Но разве этой задачей задался г. Писемский?
Он обещал нам людей сороковых годов; обещал бойцов
за правду; обещал людей, изживших трудный процесс
нравственного перевоспитания, интеллектуальных и силь-
ных передовиков того времени — и вместо нравственного
56
титана г. Писемский лепит какого-то великосветского ли-
берала и далеко не одну из единиц той прогрессивной
силы, которую в лице людей сороковых годов выставила
просыпающаяся Россия.
Еще легкомысленнее относится г. Писемский к уни-
верситету. Мы знаем, что в сороковых годах был профес-
сором Московского университета Грановский, что Гра-
нсвский имел громадное влияние на своих слушателей,
что около него образовался кружок хороших людей. Что
же рассказывает нам г. Писемский о Московском универ-
ситете того времени? Он выставляет четырех представи-
телей— господина, ходящего в монашеской рясе и потом
поселившегося в Троицкой лавре, молодого шулера, кан-
дидата в смирительный дом, и двух шутов. Неужели,
г. Писемский, это все, что вам известно о Московском
университете и о его влиянии на людей сороковых годов?
И кому верить! Московский университет гордится своим
былым прогрессивным значением и до сих пор тщесла-
вится временем Грановского, Кудрявцева и известного
московского кружка21, а г. Писемский рисует номера
немки Гартунг и ни одним словом не знакомит нас с тем
умственным образовательным процессом, который со-
здал людей, давших имя своему времени.
Из слов г. Писемского нужно заключить, что, не будь
на свете Имплева и не заезжай к нему Павел десятилет-
ним мальчиком, люди сороковых годов были бы невоз-
можны. Как это все просто! Но, с другой стороны, как
обидно, что судьба России зависит от таких ничтожных
внешних случайностей.
О г. Писемский, какую ношу не по плечам вы заду-
мали поднять! Вам не дается психический анализ даже
одного человека; вы не в состоянии уяснить читателю,
каким нравственным процессом сложился человек из ре-
бенка, а беретесь нарисовать картину умственного роста
целой страны! Предположите, что я свою настоящую ста-
тью озаглавил бы «Русские романисты XIX века» и го-
ворил бы в ней только о вас одних, да и то лишь по по-
воду «Взбаламученного моря». А назвать роман «Людь-
ми сороковых годов», когда его следовало бы назвать
попросту «Павел Вихров», — еще неосторожнее.
Историческая связь народов заключается в их ум-
ственной солидарности. В ней только причина роста ме-
нее развитых народов. Каким-нибудь Имплевым нельзя
57
объяснять того, корень чего лежит гораздо глубже. По
теории г. Писемского, Вихров стал учиться только пото-
му, что Имплев сказал ему: милый мальчик, пожалуйста,
учись; Россия встала на путь европейской мысли потому,
что у царя Алексея Михайловича родился сын Петр; в
той губернии, куда послали Вихрова, все дела велись
скверно, потому что был губернатором Мохов, а будь гу-
бернатором Благонравов — на улицах росли бы абрико-
сы и не было бы жалких и голодных людей. Вот точка
отправления г. Писемского, по крайней мере как она по-
нимается из объективных механических построек, им
сооружаемых. Где же история, если все делается так про-
сто, одним мановением внешнего случая, одним словом
одного человека? Где же наше отношение к Западу и к
западно-европейской мысли? Московский кружок, Мо-
сковский университет былых времен — не простая слу-
чайность. Это момент русской умственной культуры,
явившийся не потому, что Имплев попросил Павлушу
учиться и дал ему в руки В. Скотта. Нам именно и было
бы желательно постигнуть этот момент в глубине его
сущности; хотелось бы понять, как работал тогда русский
интеллект, какой внутренней борьбой зрела и вырабаты-
валась русская мысль, как формировались люди, кото-
рых назвали потом людьми 40-х годов, ибо они состав-
ляют силу своеобразную и не были похожи ни на пред-
шествующее, ни на последующее поколение. Ни одним
словом не ответил г. Писемский на этот вопрос. Напро-
тив, он прямо говорит, что тогда в Московском универ-
ситете, кроме представителей религиозного чувства, шу-
товства и мошенничества, не было ничего. Спор Неве-
домова с Саловым о Конте — пустая иллюстрация,
приведенная как будто бы для того, чтобы показать, что
порядочные люди Конту не сочувствовали, а накидыва-
лись на него личности вроде Салова. Эта иллюстрация —
анахронизм. По умственному ходу развития Конт —
принадлежность нашего времени, тогда же русская
мысль черпала свою силу из философии Гегеля; а Конт
был почти неизвестен даже Европе. Эта иллюстрация не
помогает, а, напротив, мешает характеристике умствен-
ной московской жизни сороковых годов.
Конечно, от читателя никто не отнимает права дога-
дываться и пополнять автора собственным воображением
и собственными знаниями. Но в таком случае для чего
58
же талант, если читатель должен работать за романиста.
Задача таланта именно в том, чтобы заставить читателя
переживать вместе с изображенными лицами их психиче-
ские процессы, заставить читателя жить их жизнью. Но
разве с героями сороковых годов г. Писемского вы пере-
живаете что-нибудь? Вы стоите вне их мира и смотрите
на них, как смотрите из окна своей квартиры на улицу,
где видите много народу, чем-то занятого и о чем-то го-
ворящего. Вся эта жизнь вне вас, и вам от нее ни тепло,
ни холодно. Глубина психического анализа г. Писемско-
го виднее всего из описания душевного состояния Вих-
рова во время пасхи после говенья. Павел, говорит
г. Писемский, находился в каком-то необычайно возвы-
шенном настроении: «Воображение его было переполнено
чистыми грандиозными образами религии, а ум занят
соображениями разных математических и физических
истин...» Или образное изложение умственных сокро-
вищ, приобретенных Вихровым в университете. Вихров
познакомился с естественными науками — узнал, каким
образом произошли реки, озера, моря, узнал, чем люди
дышат, почему они на севере питаются рыбой, а на
юге — рисом. И после этого изумительного запаса есте-
ствознания Вихрову, по словам г. Писемского, стала по-
нятна природа в своих причинах! !. Теперь мы вполне
понимаем, почему г. Писемский маскируется объектив-
ностью. Чуть он вздумает показать свое лицо из-за зана-
вески объективности — у читателя является немедленно
смешная улыбка, и автор весьма благоразумно спешит
скорее спрятаться снова за занавеску.
Итак, вместо умственной жизни Московского универ-
ситета 40-х годов нас познакомили с номерами г-жи Гар-
тунг, с шутами и бесприютными девушками. Теперь по-
смотрим, в чем заключалась действительная жизнь ге-
роев г. Писемского.
III
Известно, что живые герои сороковых годов были
большею частью люди со средствами и утонченного вос-
питания.
Обыкновенно им ставят в упрек то, что они были ба-
ричами и занимались только красивыми разговорами.
59
Мы с этими людьми знакомы по героям г. Тургенева.
Это вечные мученики самых благородных и гуманных
стремлений; но в то же время лежебоки, праздные гово-
руны, мечтатели, идеалисты.
Еще недавно по поводу героев г. Тургенева русская
прогрессивная критика высказывалась очень резко про-
тив социальной бесполезности праздных разговоров и
ставила их как бы коренной причиной нашего печаль-
ного общественного устройства 22.
Такое направление критики совершенно соответство-
вало общественному моменту, в котором мы тогда нахо-
дились. После экономического поворота, вызванного уни-
чтожением крепостного права, русской жизни дан актив-
ный толчок, и, следовательно, нужны были люди дела;
нужно было покончить с героями тургеневской эпохи и
создавать новые идеалы.
Но, похоронив былых героев, мы можем теперь отно-
ситься к покойникам с большею историческою беспри-
страстностью и без той запальчивости, какая была неиз-
бежна в самый разгар борьбы поколений. Молодое поко-
ление взяло верх. Где писатели былой эпохи? Одни умер-
ли действительно, других схоронили заживо. Эстетиче-
ская критика тоже потеряла своих вождей и умолкла 23.
Последние могикане 40-х годов, седые головы которых
еще можно усмотреть кое-где, благоразумно сошли со
сцены и уступили дорогу молодым. С новыми требования-
ми жизни и новое направление сделалось неизбежным в
литературе. И такой блистательный успех в какие-нибудь
десять лет! Кто теперь читает «Русский вестник», а ка-
кую роль он играл в 1857 году! Единственный эстетиче-
ский критик изображается теперь достопочтенным г. Ни-
колаем Соловьевым24, прозванным Писаревым Пульхе-
рией Ивановной25. Все старое едва брюзжит и читается
только старыми, отжившими.
В момент такого торжества, уж конечно, не прихо-
дится поносить павших бойцов — это будет ослиным ля-
ганием. Боец был героем, и теперь мы можем и должны
воздать ему должное.
Без людей сороковых годов не было бы людей шести-
десятых годов. Одни вышли из других. Тут преемствен-
ность мысли, преемственность прогресса. Люди сороко-
вых годов и могли являться лишь из баричей, то есть из
тех, кто имел средства и возможность научиться ино-
60
странным языкам, мог бывать за границей и делать ум-
ственно живую параллель. Не из деревни же было вы-
ходить таким людям!
Наши люди сороковых годов, конечно, не продукт
русской почвы, а продукт европейской мысли, европей-
ской науки, европейской философии. Изумительная ин-
теллектуальная работа Германии первой половины
XIX столетия не могла миновать лучших людей, где бы
они ни жили, где бы они ни родились. Даже Китай под-
чинился этому закону исторической солидарности, как же
было стать вне его лучшим русским людям? Вот откуда
явилось наше передовое поколение сороковых годов.
Жизнь этих людей была трудная, мучительная. Вос-
питавшись в лучших стремлениях, они, конечно, могли
тяготеть лишь к идеалу, которого вокруг себя не видели;
они должны были болеть желанием переделать все —
освободить мужика от зависимости, спасти Россию от
судебного неправосудия, крючкотворства, ябеды, адми-
нистративно-полицейского произвола и убивающей вся-
кую общественную самостоятельность опеки. Но что же
могла сделать кучка хороших людей, как бы ни были вы-
соки и гуманны их стремления? И вот начались критиче-
ские отношения к действительности, начались красивые
разговоры и платонические стремления к идеалу. Только
потому, что люди не могли сдвинуть с места спящего
Илью Муромца, они сделались идеалистами, и вся их
деятельность от невозможности активного ее проявления
должна была уйти в область мечтаний. Мечтать в те вре-
мена значило действовать и жить практически, потому
что другая, лучшая жизнь и лучшая практика была не-
возможна. Люди сороковых годов — социальное явление,
это исторический продукт. В Джордано Бруно, который
не делал тоже ничего, а лишь писал, не поднимется ника-
кая рука бросить камень. Пришли иные времена — яви-
лись и более счастливые деятели. Вот почему для нас
люди сороковых годов, отошедшие уже в историю, дол-
жны являться честными деятелями, положившими все
свои силы на высокое, благородное дело, какое для них
только было возможно.
Так ли рисует их г. Писемский? Что сделал он из этой
эпохи, если и не выставившей активных деятелей, потому
что это было и невозможно, то оставившей глубокий след
В русской мысли и имевшей широкое, плодотворное влия-
61
ние на наш умственный рост? Г-н Писемский не сделал
ровно ничего. Он даже и близко не сумел подойти к по-
ниманию времени, которое взялся рисовать. Для нас это
был момент теоретической жизни, стремлений к идеалу;
для г. Писемского это просто губернский городок, в ко-
тором действуют шесть его героев — губернатор, проку-
рор, инженерный офицер, Вихров, Юлия и Мари. Инте-
ресы русского умственного развития и попытки пробить
новый путь общественной мысли, дать людям новый
идеал г. Писемский свел к простому внешнему описа-
нию времяпровождения шести губернских обитателей.
Нам уже случилось говорить о нецеремонном обра-
щении с русскими читателями г. Гончарова; но отноше-
ние г. Писемского далеко хуже, это даже и не цинизм,
а просто деревенская неотесанность и жалкое самомне-
ние ничтожной микроскопичности, вообразившей себя
титанической силой. Только при болезненном самомне-
нии можно приходить к таким несчастным замыслам, как
роман «Люди сороковых годов», который мы считаем
решительно патологическим продуктом авторского само-
любия.
Все, что говорит г. Писемский, мы знаем уже далеко
лучше и далеко полнее.
О людях мысли и мучениках прогрессивных стремле-
ний мы знаем тоже гораздо полнее и глубже из романов
г. Тургенева. Герой же г. Писемского какая-то тень. Про-
читав роман, вы не в состоянии даже представить себе
фигуру Вихрова, так он безличен и бесцветен.
Г-н Писемский, конечно, заставляет своего героя де-
лать хорошие вещи; но вы видите лишь внешнее пове-
дение, один механический процесс, и в этом главней-
шее противоречие романа с правдой. Эпоха сороковых
годов есть эпоха теоретической выработки мысли, кото-
рой было невозможно проявиться внешним образом. Дра-
матизм положения именно в этой необходимости уйти
сознательно в себя и жить затаенной жизнью. А этой-то
драмы у г. Писемского и нет.
Его Вихров — литератор, и г. Писемский понял, что
это положение самое пристойное для передовика. Напи-
сав что-то о положении крестьян и высказав какие-то
мысли Ж. Занда, Вихров за такое вольнодумство был
отправлен на службу в провинцию. Вихров, конечно, при-
нялся служить с жаром, с твердым намерением насадить
62
повсюду правду и искоренить зло. Службой Вихрова
г. Писемский пользуется, чтобы, подобно Гоголю, дать
ряд картин из русского быта. Он рассказывает разные
уголовные случаи о раскольниках, бегунах, разбойниках,
убийцах. Но какая все это мизерность сравнительно с Го-
голем! Тому поездки Чичикова дают случай создать типы
и рисовать живую Россию того времени; иллюстрации же
г. Писемского имеют чисто внешний анекдотический ха-
рактер и как будто бы придуманы для того, чтобы сде-
лать роман длиннее на несколько листов. Иллюстрации
эти не дают ни быта народа, ни эпохи сороковых годов,
и все, что говорится о них, известно далеко полнее и
глубже из Максимова 26 и разных других описаний на-
родного быта.
Сделав Вихрова чиновником, г. Писемский превра-
тился в бытописателя чиновной России и в изобразителя
былых провинциальных служебных отношений. Автору
точно хотелось изложить то, что он знает и помнит из
своей службы. Роман вышел служебно-канцелярским,
если хотите — деловым, но он не дал того, что обещало
заглавие. Лица очерчены хорошо — и самодур-губерна-
тор, и прокурор-правовед, и взяточник-инженер, и раз-
ные стряпчие, становые, исправники. Но какое нам дело
до этого мертвого мира? В чем его поучительность? Бьет
он — и уж больше не повторится. Жизнь создала уже
иных людей, и иных чиновников, и иные судебные поряд-
ки. Зачем же понадобились г. Писемскому чиновники
сороковых годов и почему он выдает их за людей 40-х го-
дов? Ответ на это мы находим у Дружинина, который
говорит, что Писемский много жил в провинции; что он
по времени появления на арене русской словесности при-
надлежит к группе младшего литературного поколения;
что по развитию он стоит вне теорий, на которых взросли
и развились его старшие товарищи. Теперь для нас ясно,
что г. Писемский не видел и не знает Россию интеллек-
туальную сороковых годов; он знает только Россию про-
стонародную и чиновную, в сфере которой он жил и лю-
дей которой он только и умеет рисовать. Интеллектуаль-
ная область — не его область, и люди этого мира — не
его мира.
Мне могут сделать упрек, что я отношусь слишком
резко к роману, который не кончен. Я отношусь не к ро-
ману, а к романисту: в четырех частях нет ничего
63
обещанного заглавием; жизнь московской молодежи и
студенческих кружков прошла у г. Писемского туманным
пятном; людей сороковых годов до сих пор нет ни одного,
и в 5-й части им явиться уже некогда; все построение
романа ошибочно, все вводные сцены наклеены снаружи
и не имеют внутренней связи с основным вопросом.
Г-н Писемский писатель безнадежный, как и г. Гончаров,
но у г. Гончарова есть по крайней мере способность за-
глядывать в человеческую душу. Г-н Писемский на своем
месте, когда он не выходит из пределов описания народ-
ных, деревенских характеров, а что вне этого мира, то
уже не под силу г. Писемскому. Вот почему не нужно
быть пророком, чтобы, даже не читая, предугадать, что
из «Людей сороковых годов» у г. Писемского ничего пут-
ного не выйдет, несмотря на то, что отдельные, особенно
простонародные, типы очерчены хорошо и верно. Этого
таланта мы не отрицаем в г. Писемском; мы не признаем
только в нем способности понимать общий ход социаль-
ной жизни и умственные потребности и стремления пере-
довых людей.
IV
Появление людей сороковых годов есть момент истин-
ного умственного пробуждения России и народившегося
патриотизма в благороднейшем смысле этого слова. Не-
смотря на свое иностранное и немецко-философское вос-
питание, люди сороковых годов были наиболее русские
люди, каких только видела до тех пор Россия в среде
своих передовиков. Ничего не значит; что они не знали
русского мужика, как знает его г. Писемский. Но и не
зная мужика, они первые указали, что нужно узнать
этого мужика и что в основе социальных стремлений и
искусства должна лежать народность, без которой не
может быть ничего великого, сильного и прочного. Бе-
линский укорял Ломоносова за то, что, прельщенный
блеском иноземного просвещения, он закрыл глаза для
родного27. Принято говорить, что Петр I дал внешнюю
форму России, а Екатерина II вдохнула в нее душу. Мы
думаем, будет справедливее сказать, что истинную рус-
скую душу вдохнули в Россию люди сороковых годов. От
этих людей собственно ведет свое умственное начало те-
перешняя передовая Россия.
64
Национальное чувство — не то чувство, которое поме-
шало раскольникам обрить при Петре I свои бороды,
было возведено в сознание впервые людьми сороковых
годов. Только эти люди подумали и поняли, что любовь
к отечеству и национальная слава неразлучны с лучшими
стремлениями своего времени, с тем простором, который
необходим русскому уму, с той свободой, которая позво-
лила русскому человеку развернуться и показать себя.
Откуда эти богатыри — Суворовы, Потемкины, Орловы;
откуда эти представители русского ума на всех попри-
щах—Панины, Безбородко, Бецкие, Державины, Фон-
визины, Хемницеры, — этот ряд замечательных лично-
стей, внезапно, как грибы, выросших из земли и создав-
ших век Екатерины? А великий Новиков, эта светлейшая,
гениальная личность, этот первый русский гуманист, пер-
вый русский общественный деятель! Всех их создала сво-
бода, которую до тех пор русскому человеку никогда не
показывали. Мы не обольщаемся насчет истинного значе-
ния екатерининского века, но мы говорим о том, что
люди сороковых годов задались первые вопросом — от-
чего только при Екатерине II явился целый, большой ряд
русских деятелей на всех поприщах, — и разрешили этот
вопрос. Сила страны в свободе развития; нет простора —
нет жизни, слово мрет, мысль стынет, способности народа
подавлены, и нет великих результатов. Теперь этот ответ
кажется прост; но его надо было найти.
Люди сороковых годов поставили целую массу со-
циальных вопросов и дали на них целую массу ответов,
и мы не преувеличиваем значения этих людей, а только
отводим им принадлежащее место. Только люди сороко-
вых годов взглянули первые на внутреннюю русскую
жизнь и на работавшую до того русскую мысль созна-
тельным взглядом; только они первые начали работать
под влиянием просвещенного патриотизма.
Но почему же вся эта честь пала только на их долю?
Очень просто. Западная Европа впервые огляделась
перед тем от погрома французской революции 1789 г.
и наполеоновских войн, пробудивших во всей Европе, и
особенно в Германии, такое сильное национальное чув-
ство. А Гете, Шиллер, Гегель, Байрон и др.! Разве они
были раньше? Разве бранная эпоха императора Алек-
сандра I давала возможность сидеть в кабинете, читать и
думать, зреть мыслью, уходить в сознание? Все русские
о
Н. В. Шелгуков 65
силы шли ранее на борьбу с внешним врагом, и пора
мысли могла наступить лишь тогда, когда страна успо-
коилась и отдохнула от волнений, которые наделала рас-
колыхавшаяся Франция. Таким образом, люди сороковых
годов являются продуктом истории, и даже не истории
России, а истории Европы, ее цивилизации, ее прогресса.
Мыслящим русским людям Европа дала аршин, которым
они и принялись перемеривать свое старое, родное; на-
чали сравнивать свое худое с чужим хорошим.
Только люди сороковых годов сознали первые, что
все наше предыдущее литературное движение было скол-
ком с иностранного, и только с них начинается настоя-
щая русская литература и настоящая русская критика.
В лице людей сороковых годов русский ум проверял свое
прошлое, определял всему меру и место, давал направле-
ние новым стремлениям, толкал Россию к великим ре-
зультатам, выразившимся наконец в свободе крестьян,
в гласном суде, в земстве, этих великих зачатках нашего
будущего развития; а г. Писемский воображает, что лю-
дей сороковых годов изображали губернатор Мохов, про-
курор-лицеист Захаревский, брат его взяточник-инженер
и какой-то бестелесный Павел Вихров. Тут титаны, сила,
а г. Писемский тычет вам в лицо козявками. Мы смотрим
на роман г. Писемского как на пасквиль, не оскорбитель-
ный только по своему крайнему ничтожеству.
Люди сороковых годов, взявшиеся перетряхать все
старое и проверять его, явились первыми русскими отри-
цателями; вот почему г. Тургенев несправедлив к своим,
назвав нигилистами лишь людей шестидесятых годов28.
Петровские отрицатели отрицали только внешнюю форму
и не шли в глубь мысли; от этого они были не в состоянии
понять народности и с жестокосердием принялись резать
русские бороды, без чего можно было бы и обойтись. Век
Екатерины II не отрицал ничего. Это был веселый, доб-
родушный век, насаждавший поэзию, мягкость нравов,
беспечную жизнь. Но люди сороковых годов пошли в
глубь, для предыдущих людей недостижимую. Новых
людей уже не подкупала внешняя обаятельность какого-
нибудь Карамзина и других воображаемых представите-
лей русской мысли. Белинский назвал Карамзина прямо
актером. Вопросы стали круто на почву критики. Богов
и божков принялись сбрасывать с их пьедесталов; людям
66
стали доказывать, что они думают не так, ошибаются,
стали открывать им умственные очи. И вот где корень
того, что люди сороковых годов явились отщепенцами;
что на них неразумные люди смотрели чуть ли не как на
злодеев, губителей России; в них видели ненавистников
своего родного — слышите! ненавистники — они, которые
любили свою страну до фанатизма, до самозабвения.
Это был момент критического отрезвления от про-
шлого чада. Прочитайте «Литературные мечтания» Бе-
линского, и вы увидите, как смело была брошена перчат-
ка вновь нарождавшимися отрицателями; как в том, что
нам кажется аристократизмом в произведениях г. Тур-
генева, возрождался первый шаг нового демократизма и
новой народности. Просвещение, просвещение, просвеще-
ние! вот что нам нужно,— стали провозглашать люди
сороковых годов, как, в свою очередь, начали говорить
и люди шестидесятых годов. Мы гибнем без знания, без
образования, без развития. Русский народ — смышленый,
понятливый народ, но без просвещения Россия застынет
и уйдет назад. Чем велик Запад? — знанием и просвеще-
нием, и нам нужно встать на ту же дорогу, чтобы идти с
ним рядом, чтобы жить своим, а не чужим умом; нам
нужно свое русское, народное просвещение; нам нужно
спастись от западной опеки. Вот что провозгласили отри-
цатели сороковых годов. Те же слова, что и нынче, но
смысл иной, ибо и литература и жизнь интеллектуальных
представителей была до периода сороковых годов скол-
ком и подражанием жизни французов. Людям сороковых
годов открыла умственные очи Германия — туманная, но
умная и патриотическая, и величавая Англия со своим
великим Шекспиром и могучим поборником свободы
Байроном. Люди сороковых годов были ближайшей си-
лой, толкнувшей на путь просвещения среднее дворян-
ство, до того времени тупое и невежественное. Демокра-
тизм заключался тогда только в этом переходе от выс-
шего аристократизма к среднему. Это был второй шаг
после придворной литературы Екатерины II — второй
шаг, за которым последовал третий, сделанный нашим
временем.
Вследствие особенностей исторического роста пора
40-х годов была неизбежной порой общих рассуждений,
уяснения общих оснований.
*
67
Общественная мысль зреет не таким простым процес-
сом, как размышление о постройке какой-нибудь избы в
три окна. Да и русская изба выстроилась не разом. Рас-
суждения же людей сороковых годов имели более глубо-
кий смысл. То был один из моментов роста русского кол-
лективного ума; то был процесс искания истины в крити-
ческом направлении, а не простое говоренье. Пожалуй,
и Белинский был только говорун!
Создать тип человека сороковых годов, показать его
во весь рост, как на портрете, — задача слишком труд-
ная. Да и где для того материалы? Люди сороковых го-
дов, может быть, и оставят о себе записки; но пока этих
записок нет, и об этой эпохе мы можем судить лишь в ее
общих чертах из того очень немногого, что дает литера-
тура и критика того времени.
Но даже и из этого немногого и частью односторон-
него мы узнаем далеко больше, чем рассказывает г. Пи-
семский. Послушайте, что говорит, например, г. Тургенев
устами Лежнева о московской университетской жизни
того времени.. «Попав в кружок, я совсем переродился:
смирился, расспрашивал, радовался, благоговел — одним
словом, точно в храм какой вступил. Да и в самом деле,
как вспомню я наши сходки, ну, ей-богу же, много в них
было хорошего, даже трогательного. Вы представьте,
сошлось человек пять, шесть мальчиков, одна сальная
свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему
старые, престарые; а посмотрели бы на все наши лица,
послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг,
и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге,
о правде, о будущности человечества, о поэзии, — гово-
рим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за
беда!.. А ночь летит, летит тихо и плавно, как на крыль-
ях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся тронутые,
веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда
не было), с какой-то приятной усталостью в душе... Эх!
славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно
пропало Лаже для тех, которых жизнь опошлила по-
том...»29 То ли рассказывает г. Писемский, рисуя своих
пошляков!.. Да, это был порыв силы молодой, свежей,
самоуверенной, хотевшей пересоздать жизнь.
А Бельтов, этот, по-видимому, другой тип, но совер-
шенно той же сущности. Швейцарец гувернер сделал из
него человека вообще, как Руссо из Эмиля30. «Универси-
68
тет продолжал это общее развитие; дружеский кружок
из пяти-шести юношей, полных мечтами, полных наде-
ждами настолько большими, насколько им еще была не-
известна жизнь за стенами аудитории, — более и более
поддерживал Бельтова в кругу идей не свойственных,
чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец
двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и
домогильный, бледнел, бледнел и остался только в вос-
поминаниях. .. открылись другие двери, немного со скри-
пом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совер-
шенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог
приладиться ни к чему; он не сочувствовал ни с одной
действительной стороной около него кипевшей жизни; он
не имел способности быть хорошим помещиком, отлич-
ным офицером, усердным чиновником, — а затем в дей-
ствительности оставалось только место праздношатаю-
щихся, игроков и кутящей братии вообще; к чести Бель-
това должно сказать, что к последнему сословию он имел
побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему
нельзя было распахнуться; он был слишком развит,
а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб...»
Конечно, Бельтов во многом виноват. Я совершенно
с вами согласен, — отвечает автор на это идеальное за-
мечание благоразумного читателя, — а другие думают,
что есть за людьми вины лучше всякой правоты...»31
Что это, как не великая драма борьбы человека с за-
едавшей его средой (теперь это фраза, а в сороковых го-
дах было не так); что это, как не борьба развитого инди-
видуализма с тупой коллективностью? Натура и разви-
тие искали выхода и удовлетворялись в Гете, Шиллере,
Гегеле, Байроне, но что они находили в своей родной
Москве? Ели ее поедом все, и личность гибла в борьбе
с тупой коллективностью. Это один из печальнейших
психологических моментов общерусского развития, кото-
рый достался на долю людей 40-х годов. Нужно наконец
понять этих мучеников прогресса и воздать им должное.
Посмотрите на Рудина, измыкавшего всю свою жизнь,
поседелого, исхудалого, стоявшего уже у могилы. «Не-
ужели я ни на что не был годен, неужели для меня так-
таки нет дела на земле? — спрашивает он себя.—Часто
я ставил себе этот вопрос, и как я ни старался себя уни-
зить в собственных глазах, не мог же я не чувствовать
в себе присутствия сил, не всем людям данных? Отчего
69
же эти силы остаются бесплодными?.. Не фраза, брат,
эти белые волосы, эти морщины, эти прорванные локти —
не фраза, — говорит он Лежневу. — Ты был всегда строг
ко мне, и ты был справедлив; но не до строгости теперь,
когда уже все кончено, и масла в лампаде нет, и сама
лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль...
Смерть, брат, должна примирить наконец... — Лежнев
вскочил. — „Рудин! — воскликнул он, — зачем ты мне это
говоришь? Чем я заслужил это от тебя? Что я за судья
такой и что бы я был за человек, если бы при виде твоих
впалых щек и морщин слово: фраза — могло прийти мне
в голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебе? Изволь!
я думаю: вот человек... с его способностями, чего бы не
мог он достигнуть, какими земными выгодами не обла-
дал бы теперь, если б захотел!.. а я его встречаю голод-
ным, без пристанища... Не червь в тебе живет, не дух
праздного беспокойства: огонь любви к истине в тебе
горит...“»32
И во всех людях сороковых годов билась жилка Ру-
дина. Если бы они могли сделаться стряпчими, прокуро-
рами, исправниками, они не были бы людьми сороковых
годов. Отчего люди этого сорта уходили во все эпохи
в науку, литературу, философию? Только потому, что
лишь в этой сфере являлся простор их прогрессивному
уму и чувству. Они всегда были вехами прогресса и дви-
гателями общества. И каждое время имеет таких людей.
Люди, стремящиеся к идеалу, никогда не изведутся, пока
будет в человечестве стремление к лучшему, пока чело-
вечество не скажет своего последнего слова. А когда оно
его скажет? И разве не этими людьми? Мартирология
этих людей есть история прогресса человечества. Каждый
век имеет своих мучеников, у каждого народа есть такие
времена, есть такие люди. Их нет только у таких народов,
которые спят, и в периоды спячки. Болит душа за этих
людей, за этих мучеников мысли и любви к истине, за
этих вечных бедняков, умирающих или в ранней молодо-
сти от чахотки, или где-нибудь под углом в старости...
Только тупой ум думает, что слово их остается пустым
звуком в пространстве, что оно не изменяет жизни, не
изменяет нравов. К одному из плодотворных влияний лю-
дей сороковых годов, влияний, имевших широкое, прак-
тическое значение, я перехожу теперь.
70
V
В русском народном лексиконе нет слова «женщина»,
а есть «баба» и «девка». Если бы русский романист взду-
мал изобразить утонченные муки возвышенных любов-
ных чувств русской бабы, то каждый увидел бы в этом
смешную попытку неправдоподобной идеализации. Не то
чтобы русская баба или девка не умела любить — они
любить умеют, они и мучатся и ревнуют; они совершают
даже уголовные преступления, если им хочется любить,
но не удается; и при всем том — драма вышла бы клеве-
той на народный быт и на народное мировоззрение, не
допускающее законность подобной страсти и сознатель-
ной борьбы.
Теперешнее народное, или, вернее, мужицкое, воззре-
ние на женщину до Петра I было общерусским. Вся Рос-
сия, сверху донизу, не знала другой женщины, кроме
бабы. Поэтому-то представитель людей сороковых годов,
Белинский, и говорит, что если русский писатель, придер-
живаясь Вальтер Скотта, захочет основать на любви
план своего романа и целью усилий героя поставит руку
и сердце верной красавицы, то он покажет этим явно, что
не понимает Руси. «Я знаю, — говорит Белинский, — что
наши бояре лазили через тыны к своим прелестницам, но
это было оскорбление и искажение величавой, чинной и
степенной русской жизни, а не проявление оной; таких
рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетьми и кольями,
а не разделывались с ними на благородном поединке; та-
кие красавицы почитались беспутными бабами, а не
жертвами страсти, достойными сострадания и участия.
Наши деды занимались любовью с законного дозволения
или мимоходом, из шалости, и не сердце клали к ногам
своих очаровательниц, а показывали им заранее шелко-
вую плетку и неуклонно следовали мудрому правилу:
«люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу» или «бей
ее, как шубу». Вообще сказать, мы еще и теперь любим
не совсем по-рыцарски, а исключения ничего не доказы-
вают» 33.
Вот это-то русское неуменье любить по-рыцарски, не-
уменье видеть в женщине нечто большее, чем бабу, далр
стремлениям людей сороковых годов своеобразный ха«
рактер, особенный цвет, наложило на эпоху такой отли-
чительный признак, по которому ее не смешаешь ни с
71
предыдущим, ни с последующим временем. Я не скажу,
чтобы люди сороковых годов оставались чуждыми и дру-
гих вопросов, но этот — больше всех был вопросом жиз-
ни, больше всех находил сочувствие и был почти един-
ственным, допускавшим попытки практического разре-
шения. В этом существенный признак людей сороковых
годов, являющихся отцами женского вопроса на русской
почве, ближайшими, непосредственными представителя-
ми теперешних стремлений на том же пути.
«Знаете ли вы Китай, отечество крылатых драконов
и фарфоровых чайников?»34 — спрашивает Гейне в одном
месте «Германии». Вся страна есть кабинет редкостей,
окруженный бесчеловечно длинной стеной и ста тысяча-
ми татарских стражей. Но птицы и мысли европейских
ученых перелетают через все это и, насмотревшись на все
вдоволь, возвращаются к нам рассказывать о чудесах
этой любопытной страны и этого любопытного народа...
Такой же Китай изображала и былая Россия, Россия
своеобразная, чудная для европейского человека и тоже
окруженная своей китайской стеной, через которую, од-
нако, перелетали к нам европейские птицы и европейские
мысли. Одна из таких хороших европейских мыслей пе-
релетела из Европы еще раз через русскую стену...
В Германии женщина давно уже перестала быть «ба-
бой». Добродушные, идеальные немцы поняли раньше
других, что у женщины есть одно спасительное призва-
ние— стремиться к нравственному идеалу, держать ски-
петр высокой нравственности, творить прекрасное, бла-
готворное в области высших стремлений. И немецкая
женщина явилась действительно плодотворной, культур-
ной силой, умягчившей нравы, помогшей немецкому ге-
нию подняться на мировую высоту, принимавшей живое
участие в умственной деятельности своего отечества.
У каждого великого немца была своя Лотхен, Грехтен
или Анхен. Эти милейшие немочки вдохновляли своих
мужей или обожателей, они служили их ангелами-храни-
телями в несчастье, они, как Шарлотта Штиглиц35, го-
товы были лишить себя жизни, чтобы пробудить поэтиче-
ский гений мужчин, которых они любили. «История и
поэзия Г ермании, — говорит Шерр, — обязана своим
существованием не одним мужчинам; процесс культуры,
как и воспроизведения человеческого рода, требует уча-
стия женщины. Гете знал, что делал, когда преобразил
72
Фауста посредством преображенной Гретхен. Что могло
бы выйти из Граббе, если бы и в его жизни участвовали
женщины, как они участвовали во всей жизни Гете?
Гретхен, или Анхен были и у Граббе — это его первая
невеста; но не было у него Фредерики, Лотты или Шар-
лотты; не было даже Христины Вульпиус. Его колоссаль-
ная поэзия потому так покинута грациями, что ни одна
благородная женщина не влияла на него магнетическою
силою глубокого сочувствия, красоты и нежности».
Но в России таких женщин не только не бывало в дей-
ствительности, не было даже и женского идеала. И вот
люди сороковых годов замыслили создать его, замыслили
пробудить в русском чувстве небывалую до того культур-
ную силу. Но где взять идеал, из каких элементов его
составить, да и есть ли он еще на русской почве? Задача
оказывалась трудной, а между тем время пришло, жизнь
требовала обновляющей силы, ибо только этой новой
силой было возможно размягчить грубую русскую кору,
только ею можно было гуманизировать русского челове-
ка. Но разве «баба» может гуманизировать, разве в ней
можно искать смягчающего влияния? ..
Итак, русская земля материала не давала. Не суще-
ствовало ни общественного сознания, ни широких гуман-
но-прогрессивных стремлений. Все спало вокруг. Если и
являлась жизнь, выходившая за пределы русских будней,
то эта жизнь была затаенная, глухая, одиночно-исключи-
тельная, умственная, идеальная. Родное болото не про-
изводило ничего, кроме лишенной аромата клюквы, и
никакая сила не создала бы из этого мертвого материала
прогрессивный идеал. Европа и тут, как всегда, протя-
нула нам руку помощи, перепустила через русскую стену
свою живую идею, и — Россия узнала женщину. Эта го-
товая и даже воплощенная в форму идея перешла к нам
с романами Жорж Занда.
Жорж Занд явился в Европе первым сильным, гени-
альным протестом против скотского понятия о женщине.
XVII и XVIII века смотрели на женщину как на орудие
Для удовлетворения животной похоти. Честное слово,
против такого взгляда никогда еще не было высказано
с такой силой и увлекательностью, как Жорж Зандом.
«Ничего не может сравниться с прозой госпожи Занд, ко-
торой слог действует на нервную систему, как симфония
Гайдна или Моцарта», — говорит Стюарт Милль36. Но
73
один слог не произвел бы еще революции в понятиях.
Симфония слога служила формой таких пленительных
идеалов, что после грубой чувственности XVIII века жен-
ские образы, нарисованные Жорж Зандом, должны были
открыть мысли и чувству совершенно новый мир.
Жорж Занда укоряют в идеализации. Но разве ему
можно было действовать иным путем? Разве против скот-
ской грубости можно было выступать с слабой силой?
Идеализация была единственно верным и надежным ору-
жием. Конечно, впоследствии она могла вести и действи-
тельно повела к новым ошибкам; но в тот момент, когда
Жорж Занд выставил ее адвокатом и щитом женщины,
всякое другое оружие оказалось бы недействительным.
В идеализации Жорж Занда нет ни приторной сенти-
ментальности, в которую так легко впадали немецкие
идеалисты, нет и искусственности, которая бы могла об-
личить Жорж Занда в клевете на жизнь, в вымысле не-
возможного. С замечательной силой анализа Жорж Занд
уводит вас в самые глубокие тайники женского сердца,
открывает вам новый мир самых честных, благородных,
возвышенных чувств, которых вы и не подозревали, и ри-
сует вам образ женщины, чистый, светлый, едва не бо-
жественный.
После скотского взгляда, существовавшего на женщи-
ну, этот глубокий психологический анализ, находившийся
всегда в полной гармонии с внешней формой романов,
должен был подействовать неотразимо своею высокой,
новой, глубокой правдой и благородным взглядом на
природу человека. От романов Жорж Занда повеяло но-
вым, здоровым воздухом, не расслабляющим, как поэзия
г. Гончарова, а обновляющим силы, облагораживающим
чувство и мысль, делающим вас лучше и умнее.
Менее сильный талант, конечно, не справился бы с
такою трудной задачей и проиграл бы свое дело. Но тут
на подмогу выступила новая сила — сила не одного твор-
чества, а сила, вынесшая сама на себе все то, на защиту
чего она ополчилась, сила, страдавшая страданиями сво-
их героинь и опытом жизни изведавшая неудовлетворен-
ность честных человеческих стремлений. Мужчина в роли
подобного адвоката был бы менее возможен — нужна
была женщина. Вот двойной секрет поразительного влия-
ния Жорж Занда и социального значения, которое полу-
чил его роман.
74
Жорж Занд не становится на ходули чистой объек-
тивности, как это делает г. Писемский, полагающий толь-
ко в ней секрет художественности. У Жорж Занда вы в
каждом слове видите автора, человека хорошего, чест-
ного, любящего, не обливающего вас грязью жизни, а,
напротив, старающегося извлечь из нее и поставить вас
на высоту облагороженного идеала. Жорж Занд разо-
блачает пред вами все хорошее, что можно найти в че-
ловеческой любви, и этим самым заставляет вас загля-
дывать в самого себя, находить в себе те хорошие черты
и понимать других такими, какими вы их никогда не по-
дозревали.
Определить коротко Жорж Занда, сделать общий вы-
вод из его романов совсем не так легко. Сказать, что
романы Жорж Занда — история женской любви, значит
сказать еще очень мало. Действительно, все его женщи-
ны и мужчины влюблены друг в друга, и влюблены боль-
шею частью необыкновенно, то есть так, как в будничной
жизни или совсем не случается, или случается уж очень
редко. Но не собственно любовь воспевает Жорж Занд,
хотя любовь у него всегда на первом плане. Мысль Жорж
Занда глубже и богаче. Вам дают образы и идеалы во
всем разнообразии их внутреннего мира, каким создала
природа человека. А что такое жизнь? Можно ли опре-
делить ее, как определяют геометрическую теорему, мож-
но ли дать ее в готовой формуле? Так и Жорж Занд. Вы
видите образы во всем их многообразии, вы видите стра-
дание и счастье, вы видите всевозможные положения, и
все эти положения облагораживает и согревает самая
чистая любовь. Вам становится отрадно и легко, потому
что вас вводят в мир хороших, честных женщин, женщин
хотя и исключительных, идеальных, но женщин возмож-
ных, с которыми вы были бы счастливы в несчастье и еще
более счастливы в счастье.
Вот Эдмея 37 — высокая, тонкая, прекрасная, неприну-
жденная в своих движениях девушка. В ее улыбке и
взгляде сияет непостижимое выражение какой-то душев-
ной деликатности. Ей семнадцать лет, она весела и от-
важна; она не знала ни страха, ни недоверчивости, ни
страданий, как ангел, которого не смело коснуться зем-
ное горе.
Во время одной охоты Эдмея сбилась с дороги и по-
пала в замок Рош-Мопра. Этот Рош-Мопра пользуется
75
в народе дурной репутацией, и обитателей его зовут не
иначе, как Мопра-живодеры. Понятно, что Эдмею обуял
ужас, когда она попала в разбойничье гнездо, и ужас ее
имел полное основание, потому что без женской хитрости
и кокетства ей бы пришлось плохо от младшего из пре-
лестной семьи Мопра — Бернара. Бернар полюбил Эд-
мею. И какая противоположность! Прелестная, нежная,
но вместе с тем энергичная Эдмея любила поэзию и фи-
лософию, а Бернар был мастер только на пьянство, охоту
и разные дикие потехи. Молодость свою Бернар провел
в сообществе своих дядей, безнравственных невежд, и
среди попоек и буйных кутежей. Но любовь сделала чудо,
и Бернар, чтобы понравиться Эдмее, вздумал перевоспи-
тать себя. Он стал брать уроки, но дикарь сидел в нем
крепко, потому что он требовал любви Эдмеи с угрозами.
Эдмею это возмутило и вместе с тем испугало; Бернар же
думал, что она его ненавидит и презирает.
Раз вечером Бернар лежал в углу парка, безнадеж-
ная любовь доводила его до отчаяния. В это время Эдмея
прошла мимо него с своим духовником, и Бернар слы-
шал, что произносили его имя. «Его нужно удалить,—
говорил аббат, — иначе вам будет грозить постоянной
опасностью его дикая, разбойничья необузданность».—
«Не бойтесь, — отвечала Эдмея, вынимая из кармана не-
большой нож в перламутровой оправе. — Если Бернар
выведет меня из терпения, не задумавшись ни минуты, я
отделаюсь от него этим ножом. Стоит только пустить ему
кровь, и пылкость его поубавится... Слушайте, аббат, и
не примите моих слов за преувеличение; завтра, может
быть, сегодня вечером, то, о чем я говорю, случится на
деле. Вы видите этот нож, он не слишком страшен, но его
точил Маркас, а Маркас мастер на это. Я уже решилась
и знаю, что мне делать. Рука у меня, правда, не сильна,
но я сумею хватить себя ножом так же, как ударить ло-
шадь хлыстом. Поэтому честь моя в безопасности, но зато
жизнь висит на волоске...» — «Но неужели вы считаете
возможным выйти за Бернара?» — спросил аббат. «Как
же мне считать невозможностью то, что неизбежно? — от-
вечала Эдмея. — Я знаю очень хорошо, что через трое
суток после свадьбы мне останется только зарезаться.
Я не много жалею о жизни...» Этот разговор глубоко
поразил Бернара и сделал в его чувствах внезапный пе-
релом. Бернар начал до того сильно работать над собой.
76
что захворал и едва не умер. Во время болезни Эдмея
ухаживала за ним с нежностью любящей сестры, а когда
Бернару стало очень трудно, видели Эдмею, как она в
своей комнате стояла на коленях, плакала и молилась.
Когда Бернар выздоровел, Эдмея снова стала убегать
его, и бедняга с отчаяния отправился на войну в Амери-
ку. Прошло шесть лет. Бернар воротился, и Эдмея, уви-
дев его, долго и благоговейно прижимала его к своему
сердцу, не говоря ни слова. Бернар почувствовал, что его
любят. Но и Бернар стал новым человеком — под грубой
оболочкой у него скрывалось сердце честное и благород-
ное. .. Не идеализация ли это любви и просветительного
назначения женщины, которой суждено укрощать грубую
силу и воспитать человечество? ..
Женщина, выходившая из роли нежного чувства, раз-
ве не была клеветой на саму себя? И такой клеветой жен-
щина являлась многие века; такой клеветой она являлась
еще и в недавнее прошлое, когда, надев на себя личину
разврата, она вообразила себя действительно разврат-
ной, будучи чиста в душе. Что такое «Маркиза»38, как не
олицетворение этой раздвоенности, созданной средневе-
ковой грубостью нравов?
Маркиза, прелестнейшая женщина, какую только
можно выдумать; правда, она капризна, легкомысленна,
ветрена, но зато добра, простодушна.
Природа не дала маркизе пылкого темперамента, и
потому она не знала страстей; но XVIII век, в котором
она жила, не справлялся с темпераментом и просто тре-
бовал, чтобы каждая женщина имела любовника. Прав-
да, тот же самый XVIII век давал женщине еще и дру-
гое— сделаться ханжой, но ханжество было не в ха-
рактере маркизы, и она решилась выбрать лучше
любовника. Маркиза выбрала виконта де Лорве, чело-
века богатого, знатного, но которого она возненавидела
через три дня и, несмотря на то, прожила с ним шестьде-
сят лет. Это одна сторона, а вот другая.
На театре Французской комедии играл актер, кото-
рым публика вовсе не восхищалась, но которого маркиза
нашла гениальным. В этого актера, немолодого и некра-
сивого, влюбилась маркиза. Чтобы предаваться совер-
шенно свободно сердечным ощущениям, маркиза пере-
одевалась каждый вечер гризеткой, вмешивалась в толпу
и, не замеченная никем, отправлялась в театр, где и пря-
77
талась в уголке маленькой ложи, которую нанимала соб-
ственно для этого. Здесь всеми ее чувствами овладевало
какое-то благоговение; пока занавес не поднимался, она
сидела, погруженная в сладостное, упоительное самозаб-
вение, в ожидании чего-то торжественного. Маркиза го-
рела восторгом, удерживала дыхание, проклинала яркое
освещение, утомлявшее ее глаза и мешавшее следить за
каждым движением, за каждым шагом ее кумира. Мар-
киза переживала высокие минуты наслаждения и стра-
дания, следя за сценической судьбой своего любимца.
Это искусственное одушевление дошло до того, что мар-
киза наконец совершенно не различала сцены от действи-
тельной жизни. Лелио (актер) переставал существовать
для нее; она видела в нем Родрига, Гипполита и т. д.
Маркиза ненавидела его театральных врагов, проливала
целые потоки слез, когда он был несчастлив, и едва удер-
живалась от вопля и отчаяния, если он падал мертвым.
В антрактах маркиза лежала в изнеможении в глубине
ложи, пока не поднимался занавес. И тогда — новая
жизнь, новые слезы, новые страдания. Однажды в одно
время с нею вышел из театра какой-то мужчина, кото-
рому машинист, поклонившись, сказал: «Прощайте, г. Ле-
лио». Маркиза никогда не видела Лелио близко. Она
воспользовалась случаем и вошла за своим любимцем
в кофейню. Здесь она увидела человека лет тридцати
пяти, желтого, истощенного, увядшего, говорившего гру-
бо, пившего страшно водку, жавшего руку всякой сво-
лочи. Маркизе все это показалось сном, сном ужасным,
все ее иллюзии разлетелись одним разом. Чрез несколько
времени ей пришлось увидеть Лелио случайно еще раз
на сцене, и она опять полюбила его страстно. Пять лет
тянулась уже любовь маркизы, и в один вечер она полу-
чила письмо от Лелио, который писал, что угадал ее лю-
бовь, что разделяет эту страсть, но, понимая невозмож-
ность соединения, уезжает навсегда и просит теперь лишь
одной милости — свиданья. Маркиза согласилась. В ус-
ловленный вечер Лелио играл Дон Жуана. Торопясь на
свиданье, он не успел снять свой костюм и показался
маркизе прекраснее чем когда-либо. После взаимного
признания они расстались навсегда такими же целомуд-
ренными, какими встретились.
А Квинтилия, эта гордая владетельница одного из ма-
леньких итальянских княжеств! Тринадцати лет ее вы-
78
дали заочно за одного старого князя. Дворянин, заме-
нявший его при обряде, был молод и хорош собой, и
его-то полюбила Квинтилия. Муж вскоре умер, и Квин-
тилия обвенчалась с Максом тайным браком. И сколько
счастья было в их жизни, сколько восторгов и упоения;
даже давно женатые, они не переставали быть любовни-
ками! Свет не знал ничего; но видя суровую неприступ-
ность и в то же время свободу обращения Квинтилии
с мужчинами, кончил, как и всегда, клеветой. «В ответ
на клеветы света, — писала Квинтилия своему ^мужу, — я
уединяюсь в твоем сердце и, живя среди людей, не имею
ничего с ними общего. Что бы ни говорили обо мне — я
не тревожусь ничем. Я не нагнусь, чтобы посмотреть, нет
ли грязи на дороге, по которой мне приходится идти:
пройду, оботру ноги на пороге твоего дома, и ты примешь
меня в объятия, уверенный, что я чиста и непорочна».
«Квинтилия», как и «Маркиза», отличается несколько
искусственным построением, но Ж. Занд задался зада-
чей извлечь женщину из грязи, в которую ее втоптали
и наверху и внизу, в сливках и в подонках общества, и
показать ту потребность чистого чувства, которая не по-
кидает никогда женщины. Конечно, в маркизе любовь
доходит до экзальтации, до иллюзии, но не этим ли бо-
лезненным процессом доказывается, что природу пода-
вить нельзя, а можно только изуродовать, искалечить?
И как чужды женщины Ж. Занда именно той живот-
ной стороны, которая по преимуществу пленяла мужчин.
Не то чтобы женщины эти были святы и непорочны, как
ангелы. Далеко нет. Но чувства, которыми они жили,
имели иную подкладку. То было нечто, напоминающее
очаровательных немочек, ласковых, нежных, готовых на
самое великодушное чувство, на самую безграничную
привязанность. Какое прелестное создание, например,
Женевьева!39 Когда Андре объявил, что женится на ней,
и, уходя, коснулся губами ее головы, непорочная девуш-
ка сказала, покраснев: «Какой странный! Кто же целует
волосы?» Простая гризетка, она совершенно перевоспи-
тала себя; но этого было еще мало, чтобы маркиз, отец
Андре, согласился на неравный брак. Тогда, с болью в
Душе, Женевьева решилась отказаться от неблагоразум-
ного супружества и уехала. Андре воротил ее. Но недо-
статок средств и нравственные страдания уложили бед-
няжку в постель. В одну из минут отчаяния больная,
79
в забытьи допустила погубить себя. Когда силы и рассу-
док к ней воротились, начались для несчастной новые
страдания. Она молчала, но изнывала душой; она не
могла простить своему любовнику увлечение страсти и
чувствовала, что с каждым днем он становился для нее
менее дорог. Может быть, она любила его более предан-
но, но он уже не был для нее бесценным другом и ува-
жаемым наставником: нежность еще уцелела в сердце,
но энтузиазм исчез. Бледная, задумчивая Женевьева ле-
жала в объятиях своего друга, мечтая о том времени,
когда они учились, не смея взглянуть друг на друга, и
это время, полное тревоги и надежд, было для нее неиз-
меримо приятнее теперешней полной непринужденно-
сти. /. Женевьева ошиблась в Андре; он был ниже ее
идеала; она продолжала его любить, но не как любовни-
ка и мужа — они женились, — а как младшего брата.
Бедная таила свои страдания, но червь неудовлетворен-
ности точил ее, и она скоро умерла.
Другой, такой же целомудренный образ представляет
Валентина. Долго она и Бенедикт40 услаждались невин-
ными беседами; «но дерзок тот, — говорит Ж. Занд,—
кто, видясь ежедневно с предметом своей любви, думает
устоять против страсти». Бенедикт сделался любовником
Валентины. И тогда наступила для Валентины минута
страшного раскаяния. Как ни была страстна их любовь,
но все наслаждение было отравлено угрызениями сове-
сти. Жизнь любовников сделалась вечною борьбой бес-
предельного блаженства и безграничного мученья. «Я не
должна быть счастлива, я недостойна счастья! Я виновна,
я забыла бога! Чем я заглажу свою вину? Я смотрела
на брак строго, я хотела сделать из него священное обя-
зательство, и что же теперь? ..» И так мучилась женщи-
на, выросшая в легкомысленных понятиях большого света,
проповедовавшего ей совсем иную мораль, смеявшегося
над ее простотой!
Но нигде порыв страстной души не доходит до такой
неудовлетворительности и до такой идеальной высоты,
как в Лелии4l.
Лелия — это олицетворение стремлений к несбыточно-
му, к счастью, на земле невозможному. В Лелии всякая
женщина прочитает историю своего собственного сердца,
собственных порывов. Одних жизнь надламливает легко,
и они скоро находят удовлетворение, и тогда былой по-
80
рыв к другому, лучшему, кажется им заблуждением мо-
лодости, девичьей глупостью. Но не все так податливы,
и есть натуры избранные, более сильные и совершенные,
для которых примирение с жизнью трудно, а иногда
и невозможно. К этим-то избранницам принадлежит и
Лелия. Ее пожирает какое-то непонятное ей желание, как
бы беспредметное; вечно тревожная, она все чего-то
жаждет, к чему-то стремится и не может ничего уловить.
Но цель, к которой стремится сердце Лелии, еще не лю-
бовь, а нечто более широкое и возвышенное. «За преде-
лами любви, — говорит Лелия, — есть другой мир, мир
новых желаний, новой нужды, новых надежд, точно так
же неудовлетворимых». И Стенио, не понимая этого за-
гадочного для него существа, думал, что в Лелии есть
все, кроме любви. Но Лелия любит Стенио, только она
иначе понимает любовь. «Любовь не то, что ты дума-
ешь,— говорила она Стенио. — Любовь не есть стремле-
ние всех наших душевных сил к какому-нибудь существу,
нет, — это стремление нашей души к непостижимому, не-
известному. Ведь мы только обманываем свои желания,
отыскивая цели вокруг себя, и украшаем свои кумиры
духовными красотами, созданными нашим воображени-
ем, потому что одних чувственных ощущений для нас
недостаточно. От этого мы и ищем неземного в существе
нам подобном и расточаем на него силу нашей души, на-
поминая язычников, придававших своим кумирам то,
чего в них не было. А потом, когда нами самими создан-
ный покров спадает с кумира и земное существо явится
во всей своей наготе, мы стыдимся его и разбиваем свой
кумир в прах...» Не находя ни в чем удовлетворения и
увлекаемая своими мечтами в какую-то неземную даль,
Лелия дошла лишь только до безнадежности и отчаяния.
Эта идеализация может показаться, пожалуй, натя-
нутой. Людям гораздо понятнее противоположная край-
ность, ибо они знают, что им неизмеримо легче упасть до
самой глубокой безнравственности, чем подняться на
высоту благородного идеала. Личные силы и личная не-
пригодность каждого являются, таким образом, мерилом
идеализации. Но и Жорж Занд держался того же лич-
ного масштаба, и он мерил возвышенное собственными
силами; поэтому в его идеализации следует видеть лето-
пись его собственного сердца. Жорж Занд сам жил душой
81
в том мире прекрасных чувств и исключительных стрем-
лений, который рисовал. Вот почему он, вероятно, и счи-
тал Лелию своим лучшим произведением. «Роман этот, —
говорит Жорж Занд в «Письмах путешественника», —
есть самое смелое и добросовестное произведение в моей
жизни. Но мне досадно, что я написал «Лелию», потому
что не могу написать ее еще раз... Неужели для меня не
наступит никогда период твердого, однажды навсегда
принятого решения? .. Бывали у меня ночи, полные силь-
ных страданий и восторженного смирения; были дни,
полные утрат, гнева и отчаяния; были дни, когда я смеялся
над своими прежними чувствами; были дни, когда кипела
во мне ирония... Только тот, кто мучился подобными же
страданиями, кто попеременно переходил от рыданий
к мрачному хохоту и проклятиям, в состоянии понять и
полюбить «Лелию»... Не знаю, что такое совершается во
мне уже в течение десяти лет? Что значит это отвращение
от всего и эта пожирающая скука, следующая за самыми
живыми наслаждениями? Что это — болезнь мозга или
последствия обстоятельств моей жизни?.. Бывают ми-
нуты, когда мне кажется, что труд, любовь и страдания
истощили меня и что я ни на что не годен. Но вслед за
тем я вижу, что ошибаюсь, что душа моя полна сил,
а тело здоровья. Не сил недостает во мне — во мне нет
веры и воли... Меня не пугает то, что я старею, но мне
не хотелось бы стареть одному, а между тем я не встре-
тил существа, с которым бы желал жить и умереть; если
же и встретил — не сумел удержать его при себе...»
VI
Кроме идеализации, романы Жорж Занда заключают
в себе положительную социально-юридическую сущность.
Начнем хоть с «Индианы», положившей прочное основа-
ние литературной известности Жорж Занда и давшей ему
всего четыреста франков.
Мы видим старого мужа, раздражительного и посто-
янно ревнивого, потому что он стар. Старый наполеонов-
ский воин, он воспитан на поле битвы, груб и жесток.
Этот неспособный муж к довершению всего лишился ноги
на кабаньей охоте. Жена должна была терпеливо ухажи-
вать за больным, изможденным человеком, сносить его
82
солдатскую вспыльчивость и прихоти, свойственные боль-
ным старикам.
Свое военное мировоззрение полковник перенес, ко-
нечно, и в жизнь. «Женщины созданы для того, чтобы
повиноваться, а не для того, чтобы советовать, — говорит
он. —Кто носит юбку — должен знать свое веретено»,—
был другой его афоризм. А бороду полковник считал вы-
соким даром неба, как несомненный внешний признак
мужского превосходства над всем миром.
Раз, в припадке старческой ревности, полковник схва-
тил свою жену за волосы, опрокинул ее и каблуком уда-
рил по лицу.
А между тем полковник не был дурным человеком.
Он был глубоко тверд и глубоко честен в денежных де-
лах; он был верен своему слову и даже любил сильно
свою жену, но только по-старому, по-военному.
Обычай старой любви был, однако, не по душе моло-
дой Индиане. Кроткая, нежная, слабая, она отдыхала
слезами, но в то же время глубоко страдала деспотизмом
своего мужа, ненавидела этот деспотизм и называла его
правительством. Но когда деспотизм ослабевал, Индиа-
на, так твердо умевшая противиться суровым прихотям
своего мужа, всегда уступала, если он говорил тихо и
ласково.
Индиана до сих пор не любила никого; но сердце ее
давно созрело для этого чувства, и она не любила только
потому, что никто из встречавшихся не мог вдохнуть в
нее любви. «Воспитанная строптивым и жестоким отцом,
она была незнакома с нежными впечатлениями; она не
знала, какую прелесть придает жизни человека привя-
занность ему подобного», — говорит Жорж Занд. Выходя
за Дельмара, она только меняла властелина, переезжая
к мужу — меняла тюрьму. Она не любила своего мужа,
может быть, потому только, что обязана была любить
его и что ей было как бы врождено, сделалось ее первен-
ствующим правилом — противиться всякому принужде-
нию.
Индиана думала про себя: «Придет время, когда все
переменится в моей жизни, когда я буду в состоянии
делать добро другим; придет время, когда я буду люби-
ма, когда предамся всем сердцем человеку, который вза-
мен весь предастся мне; в ожидании потерпим, будем
83
молчать и беречь любовь для освободителя». Но Мессия
долго не являлся.
И томилась же бедная Индиана неудовлетворенною
потребностью иной жизни. Неведомая для окружающих
и медика болезнь пожирала ее молодость, изнеможение
и бессонница овладели ею.
Но зато «когда впервые почувствовала она в окру-
жающей ее ледяной атмосфере жгучее дыхание человека
молодого и пылкого, когда нежные слова коснулись ее
слуха и трепещущие уста как бы раскаленным железом
запечатлели ее руку, тогда она не помышляла ни о своих
обязанностях, ни о будущности, которую предрекали ей;
она помнила только ужасное прошедшее, свои продолжи-
тельные страдания, своих властителей-деспотов». Но «об-
щество так мало было ей знакомо, что она представляла
себе жизнь трагическим романом; она, робкая, не смела
любить, боясь подвергнуть опасности жизнь своего лю-
бовника; о себе же, о своей жизни и бедствиях ей не при-
ходило и в голову...»
После долгих нравственных мучений слабая, нервная
Индиана нашла в себе довольно мужества, чтобы порвать
связь с старым мужем. Она бежит к тому, в ком все ее
счастье, и — бедная страдалица обманутого чувства —
находит его женатым, тогда как всего за месяц он звал
ее к себе.
Верный друг является внезапной опорой несчастной,
и так как они оба страдали, то решились лишить себя
жизни. Перед самоубийством открылось, однако, что они
любили друг друга, и измученные жизнью люди задума-
ли поселиться в уединении, дальше, как можно дальше
от страшного, холодного и беспощадного света.
Автору романа, посетившему их раз, выстрадавшие
бедняки дали следующий урок социальной мудрости:
«Общество ничего не должно требовать от человека, ни-
чего не ожидающего от общества. Но надо иметь боль-
шую твердость, чтобы разорвать связи с светом; надобно
вынести много несчастий, чтобы приобрести эту твер-
дость. Идите, молодой человек, по стезе, назначенной вам
судьбой, приобретите друзей, прославьтесь подвигами,
да будет у вас отечество. Не разрывайте цепей, приковы-
вающих вас к обществу, уважайте его законы, если они
вам покровительствуют, дорожите его мнением, если оно
84
справедливо, но если когда-нибудь оно оклевещет вас,
если оно вас отторгнет, сумейте жить в уединении».
Жорж Занд не обвиняет никого. Он знает, что на све-
те нет дурных людей, но есть разные организмы и разные
обстоятельства, обусловливающие людское поведение.
Даже в суровом, по-видимому беспощадном полковнике
вам указывают добрые, человеческие черты.
Но какой же выход к счастью, если жизнь сложилась
неудачно? Ответа нет. Мы узнаем только, что в супруже-
стве люди могут страдать не оттого, что кто-нибудь дурен
или виновен лично, а потому, что в самом общественном
организме, в ложных системах и понятиях заключаются
причины, ведущие неизбежно к подобным последствиям.
Впрочем, в «Жаке»42 мы находим указание на нрав-
ственные обстоятельства, обусловливающие супружеское
благополучие.
Жак женился на Фернанде не только потому, что лю-
бил ее, но еще более потому, что только этим путем мож-
но было спасти ее от мучительств злой матери. В письме
перед свадьбой Жак следующим образом высказывает
Фернанде свой взгляд на супружество: «Не буду гово-
рить тебе о любви. Я не могу ничем доказать, что моя
любовь будет твоим всегдашним счастьем, за это я не
могу ручаться, я скажу только, что люблю тебя сильно и
искренно. Я хочу говорить с тобою о браке, любовь тут
дело постороннее, она не зависит ни от клятвы, ни от за-
кона. Предлагаемые мною условия заключаются в сле-
дующем: жить со мною, принять меня в свои покровители
и защитники, считать меня своим лучшим другом. Для
людей, соединяющих свою жизнь взаимным обещанием,
необходима лишь дружба. Но и дружба может утомить
и домашняя короткость превратиться в пытку. В этом
случае мне нужно твое уважение, нужно, чтобы мы зара-
нее знали, что я не злоупотреблю твоей свободой и не
лишу тебя ее. Можешь ли ты, однако, быть в этом уве-
ренной? .. Даю тебе клятву в том, что буду уважать тебя,
потому что ты слаба, чиста и непорочна, потому что ты
имеешь право пользоваться счастьем или по крайней
мере спокойствием и свободой».
Гораздо сильнее нападает Жорж Занд на социальное
неравенство и показывает, что женское чувство имеет
свои законы, независимые от законов писаных. У него
маркиза влюбляется в цыгана, дочь богача — в бедняка,
85
аристократка Фиамма—в простого адвоката из мужи-
ков, граф Рудольштадт — в уличную певицу43. Постоян-
но изображаются факты нежного чувства, совершенно
независимого от социального положения людей, установ-
ленного юридическим путем. Сила чувства героев Жорж
Занда определяется не их происхождением и воспитани-
ем, а теми естественными свойствами человеческой при-
роды, которым воспитание является лишь внешним укра-
шением.
Трудно представить себе что-нибудь более сильное
чувств и страданий Нун44 и что-нибудь более оскорби-
тельное, как ее социальное положение по отношению
к тому, кому она отдалась. Жена пэра, предавшись та-
ким образом, увеличила бы себе цену, — говорит Жорж
Занд, — но горничная!.. Что считается в одной героиз-
мом, в другой — бесстыдством. Связи с одной вам зави-
дует толпа соперников, а за связь с другой вас осуждает
толпа пошляков. Светская дама приносит вам в жертву
двадцать обожателей, которых она имела; горничная —
жертвует вам только мужем, которого бы могла иметь.
Да и в самом деле: Ремон был человеком лучшего тона,
привыкший к жизни роскошной, изысканной, он был че-
ловеком с чувствами утонченными, с душою поэтическою.
В его глазах горничная была не женщина, и Нун только
своею блистательной красотой увлекла его в любовь низ-
кую, простонародную. Во всем этом Ремон, конечно, ви-
новат не был. Его воспитали для большого света, все его
мысли направили к так называемым возвышенным це-
лям. Против воли и принципа воспитания пылкая кровь
натолкнула его на мещанскую любовь... Мысли велико-
душно-нелепые мелькали иногда в его голове. В такие
минуты и именно когда он был особенно очарован своею
возлюбленною, он думал освятить браком свою связь
с нею... Но любовь постепенно ослабевала: она минова-
ла вместе с опасностями, она улетела в то же время, как
исчезла прелесть тайны; брак был невозможен... Если бы
еще он любил Нун, то, пожертвовав ей своими надежда-
ми, семейством и добрым именем, мог бы еще быть с нею
счастливым и ее осчастливить. Но, охладев, Ремон пони-
мал, какую будущность он мог приготовить своей жене.
Для того ли он возьмет ее, чтобы она читала всякий день
на его лице страдания? Затем ли он женится, чтобы сде-
86
тать ее ненавистной своему семейству, презренной в гла-
зах его друзей и смешной в глазах своей прислуги?
Затем ли, чтобы ввести ее в общество, в котором она бу-
дет не на своем месте, где унижение убьет ее? Затем ли,
наконец, чтобы пробудить в ней угрызения совести, дать
ей почувствовать все страдания, которые она собрала над
головой своего любовника? Нет, — говорит Жорж
Занд, — вы сами согласитесь, что он не должен был де-
лать этого; что это было бы не великодушием, что таким
образом нельзя бороться с общественным мнением, что
подобный героизм был бы донкихотством, войной с мель-
ницами. ..
А между тем Нун плакала и плакала, видя, что лю-
бовник стал к ней холоднее. Наконец она решилась пи-
сать к Ремону. «Бедная девушка! то был последний удар.
Письмо от горничной!.. Впрочем, она взяла атласную
бумагу и благовонный сургуч; слог — из сердца... ио
правописание! Увы! кроткая, полудикая девушка острова
Бурбона не знала даже, что в языке есть правописание.
Она думала, что говорит и пишет так же хорошо, как и
ее госпожа, и рассуждала сама с собою: «А ведь я хоро-
шо сочинила письмо, кажется, оно должно произвести
сильное впечатление». Хорошо!—у Ремона недостало
даже духа дочитать его. Может быть, это было отличное
произведение страсти, простодушной и сильной; может
быть, Виргиния, покинув свою родину, не писала к Пав-
лу45 ничего трогательнее, красноречивее... Но Ремон
поторопился бросить письмо в огонь, боясь покраснеть,
хотя в комнате и никого не было. Что делать! — Предрас-
судок воспитания, но самолюбие есть так же в любви,
как своекорыстие в дружбе».
Но чем же отличалась демократка Нун от своей гос-
пожи и аристократки Индианы? «Нун была выше ростом,
здоровее госпожи своей; но в умении одеваться не было
выбора и тонкости вкуса. Приемы Нун были привлека-
тельнее, но в них не было благородства. Она была пре-
красна как женщина, но не как фея. Она возбуждала
желание, но не сулила сладострастия и упоения». Нера-
венство несомненное... Как же уравновешиваются весы?
Общество нашло практический исход в примиряющей се-
редине. В одном случае любят — и общественное мнение
не преследует; в другом имеют связь — и общественное
мнение тоже покрывает ее своею санкциею. Но общество
87
не прощает, когда связь вздумает занять место любви,
а любовь место связи.
И вот что высказала Нун Ремону, когда наконец уви-
дела, что все порвалось, что чувство, для которого она
жила, обмануло ее. «Я погибла, — сказала она, — я не-
навижу себя потому, что перестала вам нравиться...
Я должна была предвидеть, что вы недолго будете лю-
бить меня, бедную, необразованную девушку... Я знала,
что вы не женитесь на мне; но если бы вы продолжали
любить меня, то я всем бы пожертвовала для вас и не
жаловалась бы на судьбу. Увы! я погибла, я обесчеще-
на... я беременна, и мое дитя будет еще несчастнее меня,
и никто не пожалеет обо мне... все будут меня прези-
рать. .. и все это я перенесла бы даже с восторгом, если
бы вы любили меня...» Долго говорила Нун, говорила
сильно, красноречиво, и Жорж Занд спрашивает: «Где
скрывается тайна того увлекательного красноречия, ко-
торое в момент сильной страсти и глубокого страдания
льется из уст человека простого и необразованного?..
В такие минуты слова получают иную силу, чем во всех
других обстоятельствах жизни; слова и выражения про-
стонародные, площадные делаются высокими по чувству,
которое их подсказывает, по смыслу, с каким они произ-
носятся; женщина из самого низкого общественного слоя,
отдавшись всему пылу страсти, обнаруживает силу, ка-
кой никогда не может иметь женщина образованная».
В настоящем случае нам указывают на факт крайнего
социального неравенства: богатый артистократ и горнич-
ная— красивая, умная, хорошая, а все-таки горничная.
В Симоне, в мельнике из Анжибо, в Консуэло, Теверино,
в Валентине, Маркизе, Квинтилии мы находим повторе-
ние подобных же фактов, хотя и меньшей грандиозности,
однако достаточно сильных, чтобы служить помехою че-
ловеческому счастью и явиться важным социальным во-
просом. Повсюду личное чувство, не справляясь с обще-
ственным мнением, идет против него, насколько хватает
личных сил. Страдающая Нун была слишком сильна
своею страстью, да и пропасть, разделявшая ее от Ремо-
на, была слишком глубока, чтобы могло явиться какое-
либо примирение. Нун лишила себя жизни.
И простой, непосредственный человек рисуется Жорж
Зандом всегда ближе к этому идеалу, чем к идеалу
человека, утонченного цивилизациею. Простой человек
88
крепче желает и неуклоннее идет к своей цели. Это на*
туры более цельные, то есть более подчиняющиеся орга-
ническим требованиям безотносительно к социальным
условиям. Нун неизмеримо сильнее своей госпожи.
И везде, где Жорж Занд делает параллель между про-
стыми и не простыми, перевес на стороне простых.
«О, праводушие золотого века, — говорит Теверино Леон-
су 46, — ты воскресло среди пустыни между цыганом,
разбойником и молодою девушкою! Вот, Леоне, чего ни-
когда не поймет наша благородная леди, так глубоко
презирающая жизнь в нищете и беспорядке. Ей не по-
нять сердца Мадлены, — эту святую простоту, которая
даже не знает, что она сокровище; эту высокую уверен-
ность, которую не могла постигнуть сама Сабина совсем
своим умом и красотою! Не удивляетесь ли вы, Леоне,
безмятежности и скромности этого ребенка, этой девоч-
ки, которая удовольствовалась одним словом, увидев
меня переряженным, и ни одною выходкою глупой рев-
ности не помешала мне разыграть роль льстеца пред
вашей богиней? Если бы вы слышали ее наивные вопро-
сы, когда она сидела возле меня на козлах, ее полные
величия доброты ответы, когда я спрашивал ее, не нахо-
дит ли она вас, с своей стороны, слишком любезным и
прекрасным! Наша любовь не то, что ваша, мой друг
Леоне; мы не подозреваем друг друга; мы знаем, что не
можем друг друга обмануть. Признаться ли вам? Мадле-
на кажется мне еще милее и привлекательнее после того,
как я подышал ароматом знатной дамы...»
«В простом человеке, — говорит Жорж Занд, — мень-
ше уважения к добродетели женщины, нежели в цивили-
зованном; но в то же время больше веры в ее нравствен-
ное достоинство. За минуту слабости он не обвинит в не-
способности любить истинно и долго. Его кодекс добро-
детели не так возвышен, но более человеколюбив. Идеа-
лом его не сила, а нежность и прощение». И это наблю-
дение глубокой психологической верности. Именно, чем
человек проще, тем он более извиняет и менее признает
принцип непогрешимости. В этом-то и заключается со-
циальная сила демократизма и то руководящее влияние,
которое он обнаруживает на движение прогрессивной
мысли. Всепрощаемость есть истинный демократический
принцип, тогда как аристократическая безошибочность
89
ведет к неуступающей неуклонности и бесповоротности
поведения, даже сознанного неверным.
И какие же все это славные люди из простонародья,
которых Жорж Занд делает героями своих романов!
Возьмите хоть мельника Луи47, Неизвестно, умеет ли он
читать и писать; но он чувствует так бесхитростно, неж-
но и великодушно, как не чувствовал никогда ни один из
маркизов и графов Жорж Занда. Причина проста. Ко-
декс основных правил простого человека очень немного-
сложен. Бедность количественная заменяется силою
качественною. От этого простой человек не знает тех
теоретических противоречий, которые сбивают человека
цивилизованного. Поглотив всю умственную мудрость,
цивилизованный человек встал на распутье множества
дорог и впал в рефлексию, которая заедала людей соро-
ковых годов.
Но высший драматизм положения женщины не в уч-
реждениях и заблуждениях людей, а в самом несовер-
шенстве человеческой природы. Нун любит Ремона, а он
Индиану; Индиана любит того же Ремона, а он, бросив
Нун и изменив Индиане, полюбил другую женщину.
Браун любит Индиану, а она любит Ремона. Бонна лю-
бит Симона, а он — Фиамму. Жюльетта — Леон-Леони,
а он волочился бог знает за кем. Консуэло любит Анзо-
летто, а Анзолетто — Кориллу. Вот где поистине роковая
судьба человеческого чувства. Что может быть честнее и
искреннее намерений Жака48; но супружеское счастье
ему не далось, потому что Фернанда полюбила другого.
Причина заключалась в нравственном неравенстве суп-
ругов. Фернанда, при всей своей доброте и кротости, при
всем своем желании находить счастье в супружестве, не
могла подняться на умственную высоту своего мужа; она
не понимала ни порывов его любви, ни увлечений неж-
ности. Для нее требовалась любовь менее поэтическая и
тревожная, а привязанность более простая и обыкновен-
ная. Фернанда начала плакать, докучать упреками без
причины, ревностью без повода. Супруги начали избе-
гать друг друга. В это время явился Октав, молодой, здо-
ровый, краснощекий малый, но полнейшее ничтожество
сравнительно с Жаком. Про Октава Жорж Занд говорит,
что он добр, не будучи добродетельным, ласков, но не
способен к страсти; может любить настолько, чтобы не
делать проступков, но не настолько, чтобы возвыситься
90
до чего-нибудь великого. Жак, угадавший любовь Фер-
панды к Октаву, пытался было противодействовать стра-
сти, но борьба была невозможна. Жак уехал, и Фернан-
да отдалась совершенно Октаву, не заботясь даже о со-
хранении внешних приличий.
Или положение Метеллы49, может быть, самое ужас-
ное из всех положений для женщины. Вот где драматизм
судьбы и бессилие перед роком, иначе я не умею оха-
рактеризовать этого положения. С обществом вы еще
можете бороться, вы можете прямо идти против его при-
говоров и мнений; но когда пред вами враг непобедимый,
как стихия, — старость, поразившая вашу наружность
прежде, чем сердце отказалось от любви, тут нет другого
выхода, кроме самых мучительных страданий.
Метелла любила сначала графа Буондельмонте, но
когда красота ее поблекла, граф бросил ее. Потом судьба
свела ее с одним женевцем, значительно ее моложе. Пять
лет они жили вместе и счастливо. Метелла была любезна,
добра, ровна в обращении, Оливье — всегда нежен и
благороден. Но Метелла взяла к себе племянницу, кон-
чившую образование в монастыре; племянница, увидев
молодого человека, тотчас же порешила, что это ее буду-
щий супруг, и очень изумлялась, что Оливье ею не зани-
мается. А между тем червь сомнения и ревности забрался
в сердце Метеллы, и, как оказалось, не без основания:
молодые люди действительно полюбили страстно друг
друга, к Метелле же Оливье чувствовал лишь дружескую
привязанность. Положение всех трех становилось невы-
носимым, и, чтобы покончить все одним разом, Оливье
решился уехать. «Вы меня больше не увидите, — писал
он Метелле, — разве чрез несколько лет, и то если мисс
Мобрей будет замужем». Два раза любила женщина все-
ми силами души, по своим нравственным качествам она
была вполне достойна любви, — и два раза ее бросили.
Конечно, трогательность этого положения обусловливает-
ся тем значением, какое любовь имеет для женщины.
«Любовь есть добродетель женщины, — говорит Жорж
Занд, — любовь ввергает ее в проступки, которыми она
гордится как добродетелями; любовь дает женщине силу
затушить вопль совести. Чем труднее борьба женщины
с угрызениями совести, чем важнее преступление, тем
сильнее права ее на привязанность любовника. Любовь
91
подобна фанатизму, вооружающему кинжалом руку пра-
воверного».
Вот новый мир вопросов, открытый Жорж Зандом для
России. Как же этим открытием воспользовался г. Пи-
семский?
VII
Мы уже говорили, что г. Писемский — живописец
простонародного быта. Люди из деревни у него всегда —
живые люди: Макар Григорьев, Иван, Симонов. А Гру-
ша, горничная Вихрова? Глазенки у нее блестящие, ли-
чико свеженькое, сама опрятная такая, комната у нее
светленькая, чистенькая. И как же Груша любит Вихро-
ва! Когда он больной собирается ехать в свое Воздви-
женское, Груша говорит ему: «Вы, барин, не вздумайте
меня с обозом отправить», — и при этом побледнела даже
от страха. «Нет, как это можно», — отвечал Вихров.
«Да-с, где вам этакому больному ехать одному, — я за
вами и похожу!» — сказала Груша, вся вспыхнув от ра-
дости. «И походишь!» — говорил Вихров и слегка притя-
нул ее к себе. Груша села на самый краешек кровати и
принялась нежными глазами глядеть на него. .. Дорогой
никакая мать не ухаживала бы так за своим ребенком,
как ухаживала Груша за Вихровым. Чтобы не съел он
чего-нибудь тяжелого, она сама приготовляла ему на
станциях кушанья; сама, своими слабыми ручонками,
стлала ему постель, сторожила его, как аргус, когда он
засыпал в экипаже, — и теперь, приехав в Воздвижен-
ское, она, какая-то гордая, торжествующая, в свеженьком
холстинковом платье, ходила по всему дому и распоря-
жалась». Что за добродушие и простота, и сколько прав-
ды, искренности и нежной, ласковой преданности!
Но как же ценит эту искренность и безыскусственную
привязанность к себе герой сороковых годов, Вихров?
А вот как. Раз возвращается Вихров от умиравшей Клео-
патры Петровны. «Его, по обыкновению, встретила улы-
бающаяся и цветущая счастьем Груша. «Где это, барин,
так долго вы были?» — спросила она. — «У Фатеевой»,—
отвечал Вихров без всякой осторожности. — «Вот у ко-
го!»— произнесла Груша протяжно и затем почти сейчас
же ушла от него из кабинета. Вихров целый вечер после
того не видал ее и невольно обратил на это внимание.
92
«Груша!» — крикнул он. Та что-то не показывалась. «Гру-
ша!» — повторил ' он громче и уж несколько строго.—
«Сейчас!» — ответила та неохотным тоном и затем при-
шла к нему. Вихров очень хорошо видел по ее личику,
что она дулась на него. «Это что такое значит?» — спро-
сил он ее. «Что такое значит?» — спросила Груша в свою
очередь. «А то, что вы гневаетесь, кажется, на меня». —
«Нет-с, — отвечала та. — Что вам гнев-то мой?!» — при-
бавила она, немного помолчав. — «А то, что ты вздор ду-
маешь, я ездил к Клеопатре Петровне чисто по чувству
сострадания. Она скоро, вероятно, умрет». — «Умрет, да,
как же!.. Нет еще, поживет!..» — почти воскликнула
Груша. — «Нет, умрет! — прикрикнул на нее с своей сто-
роны Вихров. — А ты не смей так говорить! Ты оскорбля-
ешь во мне самое святое, самое скорбное чувство, — по-
шла!» Груша струсила и ушла».
Вихров с Грушей всегда барин; она целует ему руку,
а он, сосланный за «французские идеи» и за статьи про-
тив крепостного права, нисколько, по-видимому, и не по-
дозревает, что это очень глупо. А между тем Вихров
жоржзандист, и таким он и должен быть по плану автора.
«Никакое сильное чувство в душе моего героя не могло
оставаться одиночным явлением, — говорит г. Писемский
во 2-й части. — По самой натуре своей он всегда стремил-
ся возвести его к чему-нибудь общему. Оно всегда поро-
ждало в нем целый цикл понятий и, воспринятое в плоть
и кровь, делалось его убеждением. М-me Фатеева, когда
он сблизился с нею, напомнила ему некоторыми чертами
жизни своей героинь из романов Жорж Занда, которые
он, впрочем, и прежде еще читал с большим интересом,
а тут, как бы в самой жизни, своим собственным опытом,
встретил подтверждение им и стал отчаянным жоржзан-
дистом. Со всею горячностью юноши он понял всю спра-
ведливость и законность ее протестов. «„Женщина в на-
шем обществе угнетена, женщина лишена прав, женщина
бог знает за что обвиняется!"— думал он всю дорогу,
возвращаясь из деревни в Москву и припоминая на эту
тему различные случаи из русской жизни». Вправе ли мы
после этого ожидать, что жоржзандизм, или, как пишет
г- Писемский, Жорж-Зандизм, явится одним из суще-
ственных элементов его характеристики людей сороковых
годов?
93
Но для Вихрова в Груше нет ничего, кроме постель-
ной пленительности. Когда Мари спросила его — «если бы
Груша не умерла и пред вами очутились бы две женщи-
ны — вам бы неловко было», — «очень бы, — ответил Вих-
ров, — но что ж делать? с сердцем не совладеешь! нельзя
же было чисто для чувственных отношений побороть в
себе нравственную привязанность». — Где же тут гуман-
ность, где же тот чисто человеческий элемент, где же
нравственная чистота, проповедником которой явился
Жорж Занд? Судьба имела полное право подшутить над
Вихровым; привязанности его могли меняться, пожалуй,
даже очень быстро, за порывами страсти также скоро
наступать полное охлаждение; но тут, как типическую
черту, нам показывают двойственность, то есть именно
то нравственное уродство и искалечение, против которого
восстал всеми силами своего могучего таланта Жорж
Занд. Как же г. Писемский уверяет, что Вихров сделался
отчаянным жоржзандистом? В г. Писемском мы заме-
чаем ту же непоследовательность, которой отличается
г. Гончаров и которая составляет неизбежное условие так
называемых обыкновенных талантов. Писатели этого сор-
та работают так же холодно и безучастно, как кабинет-
ные мыслители, пишущие отвлеченные трактаты. Но Кант
имел право писать таким образом свою «Критику разу-
ма»50, а г. Писемский работать подобным образом права
не имеет, если он хочет быть романистом. Романист дол-
жен жить жизнью своих героев и смотреть на них не из-
вне, списывая их, как картинки или куколки, а сидеть
в их коже, чувствовать то, что они чувствовали, радовать-
ся их радостью, страдать их страданиями, писать соком
своих нервов, как выразился Берне. Только в этом случае
романист силен; только в этом случае он заставит чита-
теля плакать за своих героев и бледнеть за них от страха.
Но господа Писемские и Гончаровы поступают не так,
они измышляют и выдумывают. Оттого их произведения
являются большею частью клеветой на жизнь, оттого они
в тексте, от своего лица, говорят одно, а их герои говорят
другое. Уверив читателя, что Вихров вышел отчаянным
жоржзандистом, г. Писемский вовсе не представляет его
нам таким в самой жизни. Надобно самому чувствовать
«жоржзандизм», г. Писемский, а не чувствуя его, нельзя
рисовать жоржзандистов, и поневоле приходится гово-
рить о жоржзандпзме только в тексте. В лице Неведомо-
94
ва г Писемский высказывает свой взгляд на Жорж Зан-
да. Оказывается, что г-жа Дюдеван начала писать такие
ломаны потому, что сблизилась с разными умными людь-
ми наскоро позаимствовала от них многое и всеми си-
лами души стремилась разнести это по божьему миру.
Действительно, Руссо и Сен-Симон имели на Жорж Зан-
да большое влияние. Не только на великого писателя, и
на всякого человека имеет кто-нибудь влияние; но нужно
иметь собственную внутреннюю силу, чтобы это влияние
принесло великие плоды. Г-ну Писемскому, вероятно, из-
вестна притча о «сеятеле»51. Отчего, например, г. Писем-
ский «Взбаламученным морем» и «Людьми сороковых
годов» похоронил себя безвозвратно? Есть такие камени-
стые почвы, что их не прошибешь и ломом; ну где же
взять на них слово любви! Г-н Писемский в жоржзандиз-
ме не усматривает ничего больше, как одностороннее при-
тязание на право менять свои привязанности, и приводит
слова Сталь, которая сказала, что она много знала жен-
щин, у которых не было ни одного любовника, но не знала
ни одной, у которой был бы всего один любовник. Сузив
до этого предела свое понимание, г. Писемский дает нам
таких женщин, как Фатеева, Мари и Катишь Прыхина.
Посмотрим же на этих людей сороковых годов.
Фатеевой судьба послала мужа, хотя и доброго, но
с ноздревским закалом — взбалмошного, пьяного, буйно-
го и чуть не драчуна. Но по свойствам г-жи Фатеевой ду-
мается, что пошли ей господь бог в мужья самого ангела
небесного, из нее все-таки вышло бы то же самое, что
вышло. Фатеева легкомысленная, пустая женщина без
всякого воспитания, без всяких убеждений, характера
раздражительного, увлекающегося, с явными наклонно-
стями мучить того, кого она полюбит. Уж как был хорош
с ней Вихров, а она мучила, мучила, пилила, пилила его,
и наконец они разошлись, и Клеопатра Петровна взяла
себе нового любовника. Вообще Клеопатра Петровна ме-
няла обожателей, как белье, и уж с кем-то она ни жила!
И г. Писемский уверяет, что Фатеева была очень умна,
не суетна, не пуста по характеру и только невежественна
До последней степени. Опять противоречие текста с объ-
ективным изображением. Всей своею жизнью Фатеева не
обнаруживает ничего, кроме легкомыслия, а автор заве-
ряет, что она умная женщина, и что вся беда оттого, что
Фатеева ничему не научилась. «С учителями мы больше
95
перемигивались и записочки им передавали, — рассказы-
вала Фатеева Вихрову о своем воспитании, — или вот, на-
счет этих статуй, ты мне напомнил: я училась в пансионе,
и у нас длинный эдакой был дортуар. .. нас в первый раз
водили посмотреть кабинет редкостей, где между прочим
были статуи. .. только, когда мы приехали домой и легли
спать, одна из воспитанниц, шалунья она ужасная была,
и говорит: «представимте, mesdames, сами из себя ста-
туй!» И взяли, сняли рубашечки с себя, встали на окна
и начали разные позы принимать. . . Вдруг начальница
входит: «это, говорит, что такое?» Одна маленькая вос-
питанница испугалась и призналась...» Читателя застав-
ляют этим понять, что мысли Клеопатры Петровны полу-
чили сладострастное направление еще в пансионе. Но
ведь Фатеева умна, уверяет г. Писемский. И Шекспир не
получил никакого образования и жил в таком веке, когда
чувственность в Англии доходила до пошлейшего раз-
врата. Конечно, Фатеева не Шекспир, но ведь она и не
шимпанзе. Как бы она ни училась, а все-таки училась и
не может быть сравнена с деревенской бабой, культиви-
ровать мозг которой в двадцать пять лет уже невозмож-
но. Какому же умному человеку не приходилось себя пе-
ревоспитывать и кому же это не удавалось? У Фатеевой
же явился ангелом-хранителем Вихров, горячо приняв-
шийся за ее перевоспитание. Чего уж Вихров не читал ей,
даже «Илиаду»; чего уж он ей не рассказывал — начи-
ная с грамматики, истории, географии! И какой же ре-
зультат? «Нет, душа моя, поздно тебе учиться!» — сказал
раз Вихров Фатеевой, видя бесплодность своих усилий.
«Поздно!» — согласилась с этим и сама Клеопатра Пет-
ровна. Вслед за тем проводить с нею время с глазу на
глаз Павлу (Вихрову) начало делаться и скучновато, —
прибавляет от себя г. Писемский. Похоронив Фатееву,
г. Писемский заставляет Вихрова произнести следующий
монолог. «Я, решительно я, убил эту женщину! Женись я
на ней, она была бы счастлива и здорова», — говорил
он — и это почти была правда. После окончательной раз-
луки с ним Клеопатра Петровна явно не стала уже забо-
титься ни о добром имени своем, ни о здоровье, — ей все
сделалось равно. Г-н Писемский говорит, что это почти
правда; а мы скажем, что тут нет ни на волос правды и
знания природы своих героев. Вихров оправдывался пе-
ред Мари в своей связи с Грушей тем, что он отделяет
96
нравственные отношения от чувственных, охлаждение его
к Фатеевой явилось тоже потому, что между ними не
было нравственного равенства и что поэтому ему с нею
стало делаться скучновато. Каким же образом это нрав-
ственное неравенство уравновесилось бы бракОхМ и Вих-
рову сделалось бы внезапно весело с Фатеевой! Разве
брак сделал бы ее умнее?
Другая «женщина сороковых годов» является в лице
Катишь Прыхиной. Это нечто очень доброе, но немило-
сердно глупое. В Катишь сердце нежное-пренежное, на-
стоящее сахарное; если она не любит никого сама, то
старается помогать другим в их любви. И это понятно!
Над чувствительной Катишь надсмеялись в молодости,
бросили ее, оскорбили ее чувство, и девушка с разбитым
сердцем начала жить беспредметной, платонической лю-
бовью. Не мечтая сама о возможности взаимности, она
была совершенно счастлива, если ей поверяли свои сер-
дечные тайны другие и если она могла помогать чужому
любовному счастью. Такому нежно сентиментальному су-
ществу, не имевшему права рассчитывать на реальную
любовь, оставались два выхода — или идти в монастырь,
или поступить в сестры милосердия. Катишь поступила
в сестры милосердия.
Далее «женщину сороковых годов» изображает Юлия
Захаревская — девушка литературного образования, меч-
тающая выйти замуж за Вихрова и очень настойчиво дей-
ствующая, чтобы уловить его сердце. Юлия действитель-
но любит Вихрова. Может быть, и он полюбил бы ее, но
сердце его было уже в сетях Мари, что Юлия наконец и
узнала от самого Вихрова. Г-н Писемский старается изо-
бразить Юлию поверхностной дурой и холодной, расчет-
ливой девушкой, смотрящей на супружество как на карь-
еру. «Пока она думала и надеялась, что Вихров ответит
ей на ее чувство, она любила его до страсти, сентимен-
тальничала, способна была, пожалуй, наделать глупостей
и неосторожных шагов; но как только услыхала, что он
любит другую, то сейчас же поспешила выкинуть из го-
ловы все мечтания, все надежды, и у нее уже осталась
только маленькая боль и тоска в сердце, как будто бы
там что-то такое грызло и вертело». Этот перелом совер-
шился в какие-нибудь пять минут. Узнав от Вихрова, что
любит и что, следовательно, ей рассчитывать на него
ь тьзя, она тотчас же решила уехать через неделю к отцу.
Н- В. Шелгунов 97
Г-н Писемский относится к Юлии вообще с злорадство^
точно она его личный враг, и даже старается прозрев
в ней будущую Варвару Павловну («Дворянское гнез
до»). Мы не знаем, требуются ли пророчества в художе
ственных произведениях? И еще менее допускаем злорад
ные отношения автора к своим героям. Но у г. Писем
ского был, как нам показалось, некий умысел, и Юли$
послужила хоть средством для ехидной цели. Фатеева —
женщина, совершенно безнадежная и по натуре и по вое
питанию. Юлия напротив. Сам г. Писемский говорит, чт(
в ней сидит сила; есть воля, настойчивость, твердость i
преследовании целей, наконец — литературное образова
н-ие. А между тем г. Писемский относится к Фатеевой
очень тепло и называет ее умной, а Юлию выставляет на
пыщенною дурой, не имеющей своих слов. Не ограничи
ваясь этим, он накидывает на нее еще худшую тень. Oi
заставляет жениться на ней Живина и этого же Живит
вступить с Вихровым в следующий неловкий разговор
«Я тут, братец, рассуждаю таким образом: я—челове!
не блестящий, не богач, а потому Юлии Ардальоновш
идти за меня из-за каких-нибудь целей не для чего, — i
если идет она, так чисто по душевному своему располо
жению». — «Конечно», — подтверждал Вихров, хотя в ду
ше и посмеялся несколько простодушию приятеля. -
«Разные здешние теперь сплетники говорят, — продол
жал Живин, — что она — старая девка и рада за кого
нибудь выйти замуж; ну, и прекрасно, я и на старо!
девке этакой сочту женитьбу для себя за великое сча
стье». — «Что же она за старая!» — возразил Вихров, <
сам с собой продолжал думать: „нет, и не поэтому он<
идет за тебя“». Признаюсь, у меня недостало проница
тельности попять этот намек автора, и мне ясно лишь то
что Юлии приписываются какие-то нехорошие намере
ния.
Если обратить внимание на ее последующий разговор
с Мари о русской литературе, то загадка, пожалуй, 1
разъяснится. Г-н Писемский замечает иронически, чт<
«Юлия единственным мерилом ума и образования жен
щины считала то, что говорит ли она о русских журнала:
и как говорит». «Как ожила нынче литература, узнат!
нельзя,— сказала Юлия». Мари, кажется, удивилась та
кому предмету разговора и ничего не отвечала. «Это та
кой идет протест против всех и всего, и все кресчендо i
98
кпесчендо!..»— продолжала Юлия. Мари на это ничего
не возразила. «Введение этого политического интереса в
литературу — так подняло ее умственный уровень!..» —
«$[ не нахожу, чтобы этот умственный уровень так уж
очень поднялся, — возразила наконец Мари, — он кажет-
ся совершенно такой же, как и был». — «Но где же он
лучше? Он и в европейских литературах, я думаю, не
лучше и не выше». Мари при этом слегка улыбнулась.
«Все-таки он там, я думаю, поопытней и поискусней»,—
возразила она. «Я не знаю этого; но мне в нынешней
пашей литературе по преимуществу дорого то, что в ней
все эти насущные вопросы, которые душили и давили
русскую жизнь, поднимаются и разрабатываются». —
«Что поднимаются, это правда, но чтоб разрабатыва-
лись— этого не видать; скорее же это делается в прави-
тельственных сферах», — продолжала Мари. Юлия захо-
хотала. «Нет уж, позвольте вам сказать: у меня у самой
отец был чиновник и два брата теперь чиновниками — и
я знаю, что это за господа.. .» — «Каковы, я думаю, чи-
новники в стране, таковы и литераторы, — уж нарочно,
кажется, поддразнивала Юлию Мари... — Прежде, когда
вот он только что вступал еще в литературу, — продол-
жала Мари, указывая глазами на Вихрова, — когда зани-
маться ею было не только что не очень выгодно, но даже
не совсем безопасно, — тогда, действительно, являлись в
литературе люди, которые имели истинное к ней призва-
ние и которым было что сказать; но теперь, когда дело
это начинает становиться почти спекуляцией, за него,
конечно, взялось много господ далеко неблаговидного
свойства». — «Но наша литература так еще молода, что
опа не могла предъявить таких грязных явлений, как это
есть, может быть, на Западе». — «То-то и у нас начинает
быть похуже еще западного!» — отвечала Мари; ее, по
преимуществу, возмущал наглый и бездарный тон тогда-
шних петербургских газет. . .»
Я не нахожу ничего лучше, как ответить на все эти
Рассуждения г. Писемского словами Гейне. Г-н Писем-
ский, конечно, признает в Гейне сильный ум и не отрицает
в его владельце прогрессивного служения своей родине.
< Страшное дело, — говорит Гейне, — когда созданные
нами тела требуют от нас душу; но еще ужаснее, страш-
нее создать душу и слышать, как она требует от вас тела
н преследует вас этим требованием. Мысль, порожденная
99
нами в нашем уме, есть одна из таких душ, она не остйи
ляет нас в покое, пока мы не дадим ей тела, пока не осу-
ществим ее в осязаемом явлении. Мысль стремится стать
делом, слово — обратиться в плоть, и — чудная вещь! че-
ловеку стоит лишь выразить свою мысль, чтобы вслед-
ствие того устроился мир, возникли свет и тьма, водбг
отделились от суши и даже появились хищные звери. Мир!
есть внешнее проявление слова. Заметьте себе это вы]
гордые люди дела. Вы не что иное, как бессознательный
руки людей мысли, которые часто в смиреннейшей тиши^
не начертывают вам самый определенный план вашим
действий. Максимильян Робеспьер был не что иное, как
рука Жан-Жака Руссо, кровавая рука, вытащившая из
недр времени тело, которого душу создал Руссо. Тоска!
отравлявшая жизнь Руссо, происходила, может быть, от-
того, что он уже предчувствовал, какой акушер потре-
буется для родов его мысли! Старый Фонтенель был, мо
жет быть, прав, когда говорил: «Если бы я сжимал в мое!
руке все мысли здешнего мира, то ни за что не раскрыл
бы ее». Я думаю совершенно иначе. Если бы я держал
в руке все мысли этого мира, я, может быть, попросил
бы вас немедленно отсечь эту руку; но, во всяком случае
недолго держал бы ее сжатою. Я не рожден тюремщикой
мыслей, — видит бог! я бы освободил их... Я болен силь
нее всех вас и тем более достоин сожаления, что знаю
как дорого здоровье. Но вы этого не знаете, вы, люди, ко
торым я завидую! Вы способны умереть, даже не замети!
того. Да, многие из вас давно уже умерли и утверждают
что именно только теперь вступают в настоящук
жизнь...» Все это говорит Гейне на 110—112 стр. «Герма
нии» (V т. русск. изд. г. Вейнберга). Прочитайте, г. Пи
семский. Мари, которую вы заставили высказывать ваш!
мысли, была далеко не так умна, как Юлия, — справьтес!
у Гейне. Чтобы эффект был полнее, вы заставляете Mapi
и Вихрова найти у Юлии резкий тон, грубые манеры. «Вес
мы, женщины, обыкновенно мыслями страдаем, по край
ней мере держали бы себя несколько поскромней», — за
мечает насчет Юлии Мари. И благодушный русский чита
тель, пожалуй, и в самом деле поверит тому, что говори'
г. Писемский, не догадавшись, что в Юлии г. Писемски]
для контраста с людьми сороковых годов хочет изобра
зить в эмбрионе будущего человека шестидесятых годов
Юлия еще не нигилистка, но почти нигилистка. Автору
100 1
«.Взбаламученного моря», конечно, не должны нравиться
люди и литература шестидесятых годов. Еще бы! Теперь
все хуже, чем прежде; крестьяне получили свободу, яви-
лось земство, гласный суд, заговорили о социальных во-
просах и в старые авторитеты русской беллетристики пе-
рестают верить.
Ну, а Мари, эта любимица г. Писемского, предмет
страсти Вихрова? О воспитании Мари мы можем судить
из ее письма к Есперу Ивановичу. «Дорогой благоде-
тель!— Мари была дочерью Еспера Ивановича от ключ-
ницы его Анны Гавриловны и потому, конечно, не смела
называть его отцом, — пишу к вам это письмо в весьма
трагические минуты нашей жизни: князь Веснев (у него
Мари воспитывалась) кончил жизнь. Tout le grand monde
a ete chez madame la princesse*. Государь ей прислал
милостивый рескрипт. Все удивляются ее доброте: она
самыми искренними слезами оплакивает смерть челове-
ка, отравившего всю жизнь ее и последнее время, более
двух лет не дававшего ей ни минуты покоя своими капри-
зами и страданиями. Занятия мои идут по-прежнему: я
скоро буду брать уроки из итальянского языка и эсте-
тики, которой будет учить меня профессор Шевырев52.
C’est un homme tres interessant **, с длинными волосами
и с прической a 1’enfant. Он был у maman (княгиня —
действительная мать не смела даже назвать свою дочь
дочерью) с визитом и между прочим прочел ей свое сти-
хотворение, в котором ей особенно понравилась одна
мысль. Он говорит: «Данта читать — что в море купать-
ся!»53 Не правда ли, благодетель, как это верно и поэ-
тично? ..»— «Не глупая девочка выходит», — сказал Ес-
иер Иванович, кончив письмо». — «Умница, умница!» —
подтвердил отец Вихрова. Молодой Вихров, герой романа,
всю жизнь свою разделял на этот счет мнение своего
отца. «О, какая это умница! — говорит Павел Вихров
Юлии про Мари. — Главное, образование солидное полу-
чила; в Москве все профессора почти ее учили, знает, на-
конец, языки, музыку и — сверх того — дочь умнейшего
человека». Это восхваление напоминает нам басню про
кукушку и петуха. Мари, конечно, не оставалась в долгу.
«Как тебе не грех и не стыдно считать себя ничтоже-
Весь свет навестил княгиню (франц.).
л"'г' Это очень интересный человек (франц.).
101
ством,— писала она Вихрову, — и видеть в твоих нацэд
знакомых бог знает что: ты говоришь, что они люди, стоя
щие у дела и умеющие дело делать. И задаешь себе во
прос: на что же ты годен? Но ты сам прекрасно ответщ
на это в твоем письме: ты — чувствователъ жизни. Они —
муравьи, трутни, а ты — их наблюдатель и описатель, п
срисуешь с них картину и дашь ее нам и потомству, что
бы научить и вразумить нас тем, — вот мы что такое..
Всякий порядочный человек провалился бы сквозь земли
от такой грандиозной лести. Вихров — ничего, выдержал
он, напротив, обижался, когда его не считали гением.
А какая эта Мари чистая, нравственная, как она лю
бит Вихрова, как целомудренно проводит с ним напроле*
целые ночи, как она ненавидит своего мужа! «Ты будеш!
меня любить вечно, всегда?» — спрашивает Мари Вихро
ва. — «Я никого, кроме тебя, и не любил никогда», — отве
чает Вихров. «Ну, смотри же; я на страшно тяжелый ша;
для тебя решилась: ты, может быть, и не воображаешь
как для меня это трудно и мучительно. . .» Какой же эт1
шаг? — Мари приехала в деревню к Вихрову. «Я недел]
две была как сумасшедшая: отказаться от этого сча
стья — не хватило у меня сил; идти же на него — надобш
было забыть, что я жена живого мужа, мать детей; жен
щинам, хоть сколько-нибудь понимающим свой долг, ж
легко на подобный поступок решиться! . .» Но ведь та ж<
Мари говорит, что почти лучше душить в себе чувстве
Ну, и душите, если лучше. И каким подвигом она щего
ляет? Судите сами, читатель. «Дома влюбленные, — раб
сказывает г. Писемский, — обыкновенно после ужина, ко
гда весь дом укладывался спать, выходили сидеть на бал
кон. Ночи все это время были теплые до духоты. Вихро!
обыкновенно брал с собой сигару и усаживался на мяг
ком диване, а Мари помещалась около него и по больше!
части склоняла к нему на плечо свою голову. Разговора
в этих случаях происходили между ними самые задушев
нейшие». Таких милых, благонравных детей остается
лишь погладить по головкам и сказать им: паиньки
Только благоразумно ли было просиживать целые ноч1
на воздухе? Хорошо еще, что г. Писемский позаботился
насчет теплой погоды, иначе бедненьким пришлось бь
вести задушевные разговоры в комнате.
Мы — на начале пятой части и не знаем, как кончи'
Мари; но мы знаем то, что она не живой человек, а кук
102
лй ходульная героиня. Пусть читателя не обманывает то,
что г. Писемский заставляет ее произносить хорошие сло-
ва и затем объясняет, что слова эти хорошие. Слова эти
все-таки г. Писемского и пришпилены к губам Мари, по-
добно бумажкам с надписями. Но мы готовы даже по-
мириться на том, что за Мари говорит автор, лишь бы
говорилось умно, лишь бы дали нам людей сороковых
годов, указали нам эту историческую эпоху в полной,
отчетливой картине со всеми ее последствиями, из кото-
рых бы мы увидели, какой цвет, характер и направление
должна была принять русская мысль в своем дальнейшем
развитии. В чем же своеобразная печать всех героев и ге-
роинь г. Писемского? Почему они именно люди сороко-
вых, а не пятых или десятых годов? Мужчины — чинов-
ники; женщины — какого хотите времени. Груша, поло-
жим, не в счет. А Фатеева — уж не жоржзандистка ли?
А Юлия, столь ненавистная г. Писемскому? Судя по при-
клеенному к ней ярлыку, нужно думать, что это переход-
ная форма к людям «Взбаламученного моря». Наконец,
Мари.^Конечно, на челе ее сияет какая-то звезда, но зве-
зда маскарадная, из серебряной бумаги, а не печать вре-
мени. Г-н Писемский рисует портреты грубым помелом,
а для анализа человеческой души и пробудившегося жен-
ского сознания нужна кисть тонкая, сознательная, и кра-
сок очень много. Г-н Писемский же маляр, хотя искусный,
а все-таки маляр, немедленно стушевывающийся, когда
приходится рисовать живых людей с печатью мысли и
чувства на лице. «Разговоры в этих случаях происходили
между ними самые задушевные» — вот и догадывайтесь,
что это значит! Ведь теорию такого авторского лакониз-
ма, рассчитанного на сообразительность читателя, можно
довести до истинно гениальной краткости. Я предполагаю
такой случай. Редакция «Зари» получает пакет с надпи-
сью: «От Писемского». Трепещущими от восторга и уми-
ления руками г. Кашпирев срывает печать, извлекает
лист белой бумаги и читает:
«Люди сороковых годов». Роман.
• • • • г • •
А. Писемский.
И только. Конечно, за такой роман тысяч пять не да-
i; но зато какое поле деятельности для сообразитель-
103
ности читателя! Г-н Писемский, будьте гениальны,— по-
жалуйста, пишите только подобные романы!
Вы думаете почему г. Писемский заставил дурака
Ивана застрелить Грушу? Представьте, что Груша жива,
и приезжает Мари; ведь тут возникает целая драма, тут
целая психология. Как Вихров ни глуп и каким знатным
барином он ни держит себя с Грушей, но выпутаться из
затруднительного положения ему будет трудно. Человек
очутился меж двух огней; а душевное состояние Груши
и Мари? Г-н Писемский очень хорошо знал, что ему пред-
стоит провалиться с позором, и потому он заставил дура-
ка Ивана оказать ему спасительную услугу. Хитрый
г. Писемский! И сцена вышла эффектнее. А было бы эф--
фектнее видеть, как проваливался бы г. Писемский; уж
как бы искренно мы перекрестили его! Да, гора родила
мышь, обещание не сдержано, людей сороковых годов
нам не показали.
VIII
Нет, г. Писемский, жоржзандизм, на который вы ука*]
зываете как на знамение времени, вам не по плечу. Жорж]
Занд захватил глубоко женское чувство; тут не толькр
общество с его неразвитостью, предрассудками, но и сама
невыработанная еще природа человека. Человек точно
несет несчастье в самом себе как прирожденный грех.
Писемский же вообразил, что жоржзандизм есть клуб-
ничность. Конечно, не один г. Писемский понял его таким
образом; поняли его так же и многие русские барыни и
многие русские романисты. Но зачем клеветать на дух
времени, зачем клеветать на русский ум, на представите^
лей русской мысли? Неужели из всей России сороковых
годов не нашлось ни одного человека, способного пра-
вильно понять вопрос, поставленный Европой?
Не только молодых людей того времени, но сохранив-
шихся зрелых мужей пожирала мировая любовь; то было
время жизни чувством, время чувства широкого, но раз-
двоившегося, беспредметного, ушедшего в рефлексию.
Какая-то тоска пожирала людей; они чего-то хотели; а
чему-то стремились, но не находили нигде удовлетворе-
ния и страдали. Золотые дни предшествовавшего счаст--
ливого времени улетели, и под внешней позолотой откры-'
лась страшная пустота, которую нужно было чем-нибудь
104
наполнить. Но чем? Жизнь не только не давала содержа-
ния, а, напротив, сама являлась разъедающей силой.
Прежняя любовь — пошлая, грязная, легкомысленная,
великосветская — не могла наполнить пустоты. Чувство
рвалось куда-то, ширилось, но ширилось беспредметно.
«Я в то московское время, — говорит Лежнев, — хаживал
по ночам на свиданье... с кем бы вы думаете? с молодой
липой на конце моего сада. Обниму я тонкий и стройный
ствол, и мне кажется, что я обнимаю всю природу, а
сердце забьется и млеет так, как будто действительно
вся природа в него вливается... Вот-с я был какой! . .»54
При подобном настроении неудовлетворенного чув-
ства отрицание явилось таким разъедающим элементом,
что сомнение закралось во все, оно преследовало челове-
ка в каждом его чувстве, в каждом его порыве. Человек
решительно раздвоился, потому что начал думать. Преж-
де жилось на веру. Чинным старым обычаям подчинялись
без всякого критического к ним отношения. Многое было
тяжело, многое могло не нравиться, но мысль не дерзала
думать о каких-либо переменах в здании, стоявшем твер-
до и выстроенном солидно. А тут вдруг залез в мозг ка-
кой-то беспокойный червь и начал точить его. Чувство го-
ворило одно, ум стал говорить другое; в каждого челове-
ка точно засели два существа, которые вечно между
собою спорили. Одно я толкало куда-то, а другое — оста-
навливало, охлаждало порыв и спрашивало: куда ты,
безумец, что ты делаешь, туда ли ты идешь? Подумай!
И вот чувственное я впадало в нерешительность, останав-
ливалось в раздумье, не зная, что предпринять. Вот от-
куда шаткость, нерешительность человеческого поведе-
ния и это ничегонеделание с сложенными руками, с вдох-
новенным лицом, с сверкающими от внутреннего огня
глазами и в то же время с мучительною болью в душе.
Эта-то раздвоенность, мучительная и тяжелая, есть реф-
лексия. Вот что Лежнев рассказывает о своей первой
любви. «Рудин, вследствие своей проклятой привычки
каждое движение жизни и своей и чужой пришпиливать
словом, как бабочку булавкой, пустился обоим нам объ-
яснять нас самих, наши отношения, как мы должны ве-
сти себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в
наших чувствах и мыслях, хвалил нас, порицал, вступил
Даже в переписку с нами, вообразите!.. ну, сбил нас с
"елку совершенно! ..» Эта же рефлексия была причиной,
105
что Рудин с таким позором отретировался из дома Дарьи-
Михайловны. Рудин был честный человек, он не был Ло-
веласом, но у него, по словам Пигасова, как у китайского
болванчика, перевешивала голова. От этого же Рудин в
своем прощальном письме к Наталье писал: «.. .наши
жизни могли бы слиться, но не сольются никогда. Как до-
казать вам, что я мог бы полюбить вас настоящей любо-
вью, любовью сердца, а не воображения, когда я сам не
знаю, способен ли я на такую любовь!» Цельному чело-
веку такой вопрос не явится.
А разве Жорж Занд не говорит о себе того же, разве
он не жалуется на отсутствие веры и воли? Да, вера!
Люди сороковых годов усомнились во всем своем миро-
воззрении, все старое их не удовлетворяло; они отнеслись
к своему внутреннему я с такой холодной строгостью, что
должны были остановиться в нерешительности на распу-
тье двух дорог. Отчего так сильны люди шестидесятых
годов? Только потому, что для них не было нерешенных
вопросов, что с готовым выводом для них не могло быть
сомнений; в этом секрет всякой смелости и силы. Сила —
в уверенности, в непогрешимости вывода и потому в твер-
дом убеждении. Вот тот всесокрушающий меч, которым
Магомет покорил Восток. Рефлексия — обратная сила,
и результат ее обратный. Момент сороковых годов был
моментом русской рефлексии.
Но могла ли женщина остаться вне этого движения,
если оно охватывало всю жизнь? Возможно ли, чтобы
были только мужчины сороковых годов, а женщин соро-
ковых годов не было? Вопросы женщин могли быть не
так всеобъемлющи, не могли отличаться мировым харак-
тером, каким отличалась любовь Лежнева к липе; но
Жорж Занд писал не для одной Европы, Россия читала
его также и в подлиннике и в переводах. *
На почве царившего тогда еще во всей своей силе
крепостного права Жорж Занд был понят женщинами не
так и потому получил иное практическое приложение.
Для большинства жоржзандизм сделался синонимом по-
ловой распущенности, не стесняющегося поведения, тео-
рией супружеского надуватёльства. Но где же Жорж
Занд ставит женский вопрос таким образом? Индиана
разве не мученица долга? Валентина разве не кающаяся
Магдалина? Жорж Занд справедливо говорит, что его
напрасно обвиняют в покушении расстроить супружеское
106
счастье и в безапелляционном осуждении брака. В свою
защиту он ссылается на «Жака» и на множество других
романов, в которых не говорится ни слова о супружестве.
Не расстроить брак явился Жорж Занд, а, напротив,
устроить, — но брак хороший, честный, равноправный,
который бы наполнял жизнь женщины, делал бы ее до-
вольной и счастливой, удовлетворял бы всем потребно-
стям ее души. Но брак даже и в таком виде не состав-
ляет всей сущности жоржзандизма, а входит в него лишь
как один из элементов женской психологии.
Если женщины делали подчас из жоржзандизма свое-
образное и одностороннее применение, то это и не могло
быть иначе. Когда Рудина, мужчину, заедала невозмож-
ность расправить свои крылья и полететь, куда ему хочет-
ся, то как же было расправить широко свои крылья жен-
щине? Кроме семьи и великосветского поприща ей не
было путей жизни; на семье же лежало клеймо крепост-
ного права, как и на всех тогдашних русских отношениях.
Поэтому и роль женщины, у которой явилось сознание
неудовлетворенности и идеальное стремление к чему-то
лучшему, более счастливому и свободному, на почве
практической могла проявиться лишь в той лукавой, за-
маскированной форме, в какой проявлял свое стремление
к свободе крепостной.
Впрочем, такой форме вопроса мы не придаем важно-
сти. Сущность вопроса в пробуждении женского созна-
ния, а не в том, что бывали Фатеевы или добродетельные,
но безличные Мари; сущность вопроса в стремлении
женщины к счастью. А разве обманывающий человек мо-
жет быть счастлив? Поэтому для нас люди сороковых
годов не лично гг. Тургенев, Писемский, Гончаров, Дру-
жинин, Вихров или Рудин, а женщины сороковых годов
не г-жи Ростопчина, Павлова, Шахова, Эйсмонд, для нас
люди 40-х годов — та беспредметная Россия идеального
образа, которой не дал нам еще ни один писатель того
времени. В этой России копошилось чувство и мысль, в
ней жило стремление, в ней работала прогрессивная сила
независимо от того, показали или нет эту силу романи-
сты. Образ существовал, но его только никто не нарисо-
вал. Черты были, конечно, тонкие, нередко неуловимые,
группировать их было трудно, — но кто же может ска-
зать, что их не было: возьмите теперешнюю Россию и
Россию тридцать лет назад. Разве возможен подобный
107
резкий перелом, если бы тогдашняя Россия не имела ужсу
прогрессивного содержания, если бы в ней не существо-
вало идеала и стремления к нему? Тогдашняя мысль ра-
ботала в смиреннейшей, келейной тишине и чертила план
нашему времени. Конечно, никто не знал, в какой форме
воплотится эта мысль, какой акушер потребуется для ее
рождения. И в то время своеобразного отрицания оно не
могло быть иначе. Круниферская писала в своем журна-
ле: «Неблагодарность ли это к судьбе, или уж человек
так устроен; а я чувствую часто, особенно с некоторого
времени, стремление... очень мудрено это выразить.
Я искренно люблю Дмитрия (мужа); но иногда душа тре-
бует чего-то другого, чего я не нахожу в нем, — он так
кроток, так нежен, что я готова раскрыть ему всякую меч-
ту, всякую детскую мысль, пробегающую по душе; он все
оценит, он не улыбнется с насмешкой, не оскорбит холод-
ным словом или ученым замечанием; но это не все: бы-
вают совсем иные требования, душа ищет силы, отвагу
мысли; отчего у Дмитрия нет этой потребности добивать-
ся до истины, мучиться мыслью? Я, бывало, обращаюсь
к нему с тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успо-
каивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с деть-
ми. . . а мне совсем не того хотелось бы. . . он и себя убаю-
кивает теми же детскими верованиями, а я не могу. . .
Может ли быть что-нибудь преступное полно прелести,
упоения, блаженства?.. Бельтов прав—люди сами себе
выдумывают терзания. . . Я много изменилась, возмужала
после встречи с Вольдемаром; его огненная, деятельная
натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние
струны, касается всех сторон бытия. .. Сколько вещей
простых, обыденных, на которые я прежде вовсе не смо-
трела, заставляют меня теперь думать! Многое, о чем
я едва смела предполагать, теперь ясно. Конечно, при
этом приходится часто жертвовать мечтами, к которым
привыкла, которые так береглись и лелеялись; горька бы-
вает минута расставания с ними, а потом становится лег-
че, вольнее. . , Странно, мне казалось, что жизнь наша
успокоилась, что она пойдет широко, полно, — и вдруг
какая-то пропасть раскрылась под ногами.. . лишь бы
удержаться на краю. . . Тяжело. . . Если б я умела хоро-
шо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы
те звуки из души, которые не умею высказать. . . Я много
говорила сегодня с Дмитрием, были минуты, в которые
108
мне казалось, что он понимает меня, но через минуту я
ясно видела, что мы совершенно разно смотрели на
жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрий и прежде не
вполне понимал меня, не вполне сочувствовал, — это
страшная мысль!..»55 «Предоставляю читателю разре-
шить кто виноват?» — говорит в конце романа автор. Вот
где правда времени, и какой смешной после этого г. Пи-
семский с своими кондуитными списками своих бумаж-
ных героинь!
Но рядом с этим здоровым пробуждением критикую-
щей мысли, рядом с этой рефлексией, неизбежной в раз-
витии каждого мыслящего человека и каждого общества,
усматривается другая форма — форма болезненная, иска-
леченная, которой мы обязаны исключительно крепостно-
му праву. Русская читающая девушка ушла в идеализа-
цию, превратилась в мечтательницу, праздную мученицу
чувства, в кисейную барышню. Рефлексия начавшей ду-
мать русской женщины имела реальную почву; но девуш-
ка эту почву утратила, и ее наивность и простодушие
были лишены органической свежести и здоровья. Против
этих-то искалеченных созданий жоржзандизма на рус-
ской почве и пошла активным протестом девушка нового
времени.
Таким образом, на момент сороковых годов мы смо-
трим как на неизбежное историческое явление, как на
момент русской рефлексии, как на момент пробуждения
русской мысли, наконец, как на момент теоретической
жизни без возможности соответственной практики. Мо-
мент этот охватил и русского мужчину и русскую женщи-
ну. Кто эти мужчины и женщины — перечислить мы не
можем. Мы знаем только, что это не романисты, остав-
ленные нам той эпохой, и не женщины-писательницы, как
г-жи Ростопчина и Павлова. Но люди сороковых годов
были, червячок шевелился во многих, и коллективно они
были людьми своей эпохи, хотя каждый в отдельности и
не мог служить ее идеалом. Знаем мы также, что гг. Тур-
генев, Гончаров, Писемский не дали нам картины своего
времени и что г. Писемский оказался не в состоянии по-
дойти даже издали к эпохе, летописцем которой он заду-
мал явиться. Вместо широкой, всеобъемлющей картины
с грандиозными героями, соответственными русскому по-
рыву, г. Писемский дал формулярные списки шести че-
ловек, кондуитные списки четырех женщин и рассказал
109
несколько случаев из былой полицейской практики. А ме^
жду тем судьба автора была в его собственных руках7
если бы он не задался горделивой мыслью создать типы
эпохи из собственного чрева. Ну, отчего бы вам не про-
честь сочинений Белинского и не воспроизвести все его
мысли в художественном идеале? Если бы герой и не вы-'
шел у вас титаном — все-таки он не был бы Вихровым, и
за героиню вы не выдали бы ученицу Шевырева и Пого-
дина.
IX
Белинский, как умственный барометр, стоит высоко
во главе своего времени. По Белинскому мы судим о силе
и направлении передовой мысли России сороковых годов,
именем Белинского мы зовем эпоху сороковых годов,
именем этого честного человека нам свято и дорого то
трудное для русской мысли время; в лихорадочной дея-
тельности и личных страданиях Белинского мы читаем
мучительную драму, которую приходилось переживать
лучшим людям той эпохи.
Но Белинский умер, и точно что-то порвалось, точно
нашло затмение на русский ум; между ожившей Россией
шестидесятых и Россией сороковых годов видится нам
как бы темный, глухой промежуток; какое-то безличное
время, не оставившее, по-видимому, никакого следа.
О России сороковых годов мы судим по Белинскому; но
по какому признаку мы можем судить, что думала и де-
лала Россия пятидесятых годов? Признака времени, ба-
рометра для определения высоты русской мысли, по-ви-
димому, нет.
Но ведь не вымерла же Россия? Люди шестидесятых
годов не свалились же прямо с неба; у них должны же
быть корни, должна быть почва, на которой они вырос-
ли? Не только должна быть, но и есть, и почвой этой была
безгласная по-видимому темная и глухая, Россия пяти-
десятых годов. Люди шестидесятых годов зародились
тем же процессом, каким и люди сороковых годов, в пред-
шествовавшее им темное время.
Людей сороковых годов заедала рефлексия, мучили
вопросы, им нужно было выработать себе точку зрение,
установить новое мировоззрение, ибо Россия историей
Европы должна была круто повернуть на новый путь, из
ПО
Востока превратиться в Запад. Люди сороковых годов,
первые из русских, почуяли это неизбежно близкое буду-
щее, потянули в себя свежим воздухом и первые встали
на умственную точку Запада. Как же им было не очу-
титься в неустойчивом равновесии, не почувствовать
над собой силы Востока, когда они в нем выросли, когда
им приходилось вести с ним борьбу? А сила у него была
большая! И вот Станкевич пишет Грановскому: «Более
простора уму, более любви сердцу — и все эти сомнения:
как мне быть? что мне делать? что из меня выйдет? —
пойдут к черту...» Но легче было дать совет, чем его ис-
полнить. Сам Станкевич в другом письме разъясняет этот
момент колебания лучших людей своего времени. «На-
добно или делать добро, — говорит он, — или приготов-
лять себя к деланию добра, совершенствовать себя в
нравственном отношении, совершенствовать себя ум-
ственно»56. В этих-то словах и ключ к пониманию людей
сороковых годов. Задача этих людей заключалась не в
том, чтобы что-нибудь делать, а в том, чтобы готовиться
к делу, подготовлять почву, сеять.
В росте народов повторяется тот же процесс, какой
мы наблюдаем в развитии отдельного человека. Не нача-
ли же вы прямо с дела, а сначала, ребенком, расправляли
свои члены, развивали ум и чувство, подготовляли их
к будущему труду. Таким же подготовительным момен-
том была и Россия сороковых годов.
Но как не может пройти жизнь отдельного человека
в одном лишь подготовительном развитии, так же не оста-
навливается и жизнь целого .народа. Здоровый, правиль-
ный физиологический рост требует дела и без дела не-
мыслим. Поэтому за Россией сороковых годов, только
зревшей мыслью, наступило время пятидесятых годов,
время попытки дела, попытки слабой, нетвердой, односто-
ронней, но тем не менее попытки начального момента
активности. Это момент уже не философской рефлексии,
которую переживали люди сороковых годов, а рефлекса
физиологического, выразившегося в слабом импульсе
Движения.
Что же делала Россия пятидесятых годов? Печаль-
ная правда! Наступившая практика далеко не соответ-
ствовала силе предшествовавшего порыва и высоте по-
чета мысли. Каким горячим чувством горели люди соро-
ковых годов — и патриотизм до фанатизма, и мировая
111
любовь до безумия, и порыв к правде и честности! Каж<^
дому лучшему человеку хотелось усовершенствовать себя
лично до того, чтобы сделаться добродетельнее правед-
ника, хотелось весь мир вместить в своем сердце и сде-
лать всех людей беспредельно счастливыми. Кажется,
с такой силой можно бы перенести Кавказ на другое ме-
сто, поднять Русь на небо! Но и Кавказ и Русь остались
там же. На первом плане стал ненавистный г. Писемско-
му жоржзандизм. В пятидесятых годах жоржзандизм по-
глотил все остальные вопросы, и если литература есть
зеркало жизни, то мы в этом зеркале не видим ничего
другого, кроме попыток практического разрешения во-
проса о женском счастье. Худо это или хорошо, спросите
у г. Писемского; мы же скажем, что лучше заниматься
жоржзандизмом, чем не заниматься ничем, ибо России
того времени не было другого выбора. Психология жен-
ского сердца и вопрос о любви оттого и разработан у нас
много лучше других вопросов, что разрешение его встре-
чало сравнительно гораздо меньше препятствий. Когда
выбор предметов для гласной разработки мал и обще-
ственные условия не благоприятствуют умственной жиз-
ни, якорем спасения является всегда женский вопрос.
В этом причина, почему в женском вопросе наше обще-
ство далеко зрелее, чем во всех остальных. Мы даже в
сороковых годах по поводу супружеского счастья могли
задаваться вопросом: «кто виноват?», а разве подобная
постановка была возможна в других сферах знания и осо-
бенно в области общественных наук?
Теоретический жоржзандизм сороковых годов остано-
вился на деле Круциферской и Бельтова. Доктор Крупов,
представитель тогдашнего русского реализма и здраво-
мыслия, пришел в ужас и негодование, когда словами
было уже невозможно воротить прошлое. «Знаете вы или
нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четы-
ре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою
собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом
четырех несчастных, — говорил Крупов Бельтову. — Вас
приняли как родного, вас отогрели там, а вы чем отблаго
дарили? .. Муж не нынче, завтра повесится или утопится,
не знаю, в воде или в вине; она будет в чахотке, за это я
вам отвечаю; ребенок останется сиротою на чужих ру-
ках,— и, в довершение, весь город трубит о вашей побе-
де. .. Если бы вы были человек с душою, вы остановились
112
бы на первой ступени, вы не дали бы заметить своей люб-
ви! Зачем вы не оставили их дом? Зачем?»57 И в самом
деле — зачем Бельтов познакомился с Круциферскими,
ведь не дитя же он, чтобы не знать, что чужую жену лю-
бить не позволяется, что из этого ничего хорошего выйти
не может? Зачем? — спросим мы с доктором Круповым.
Но как эти вопросы, по-видимому, ни логичны, но здра-
вого смысла в них мало. «Вы проще спросите, — отвечал
Бельтов, — зачем я живу вообще? Действительно, не
знаю! может, для того, чтобы сгубить эту семью, чтоб
погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все
это легко спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то
смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь
в воспоминании...» И правда жизни на стороне обвиняе-
мого Бельтова, а не на стороне его обвинителя Крупова.
Крупов любит Круциферскую и желает ей всякого сча-
стья, но разве Бельтов тоже не любит ее и не желает ей
счастья, еще, может быть, и побольше? «Очень часто лю-
дей, живших лет двадцать вместе, в гроб кладут чужими,
а иногда они и любят друг друга, да не знают; а брат-
ственное сочувствие в один миг раскрывает в десять раз
больше», — справедливо заметил Бельтов. Крупов гово-
рит, что Круциферская четыре года жила счастливо; но
она могла бы прожить таким образом двадцать лет, толь-
ко едва ли Дмитрий Яковлевич сделался бы ей от этого
ближе. И Крупов как подумал, так и решил, что Дмит-
рию Яковлевичу не следовало жениться на женщине та-
кой силы. Но ведь об этом толковать уже было поздно.
Что же делать? Благоразумие того времени видело толь-
ко один исход. «Владимир Петрович, — говорил Крупов
Бельтову, — докажите, что вы сильный человек; я верю,
что вам это трудно, ну, все же принесите жертву, большую
жертву... А, мы, может, спасем эту женщину; Владимир
Петрович, уезжайте отсюда!..» Бельтов уехал. Что ж
вышло? Все стали еще несчастнее. Крупов сделался вдвое
угрюмее, мать Бельтова почувствовала полную пустоту
жизни, Круциферская зачахла, Дмитрий Яковлевич спил-
ся. А Бельтов? Ну, конечно, и ему было не легко мыкать
свое горе по свету. Практичен ли оказался рецепт Кру-
пова и точно ли не было иного выхода? «Полинькой Сакс»
Дружинин поправил Крупова58.
Полинька совершенно оранжерейный цветок, взра-
щенный на почве идеализма. Она была хороша, как ан-
113
гел, весела, как птичка, и наивна, как двухлетний ребе
нок. Полинька ни о чем не имеет понятия, кроме велико-
светского формализма, она ничего не читала и никогда
не думала своею головой. Муж ее служит чиновником
особых поручений у какого-то министра; а она думает,
что министерские чиновники, запершись по комнатам, пи-
шут всякую дрянь по своему выбору, а начальство осма-
тривает написанное ими и награждает того, у кого напи-
сано красивее. Полинька в постоянном страхе за своего
мужа, qui ecrit toujours en pattes de mouche *, как она
выражается на неизбежном тогда французском языке.
Полинька находит преуморительным, что ее муж раскла-
нивается всегда с ее горничными, и раз, застав, что он
сам доставал себе платье, потому что лакей его ушел обе-
дать, она пожурила его. Еще страннее ей кажется, что
муж не целует никогда ее руки, никогда не становится
перед нею на колени и является к ней всегда или во фра-
ке, или в сюртуке. Раз Сакс дал Полиньке Жорж Занда
и объяснил ей, что Жорж Занд не мужчина, а женщина.
«Ах, mon ange **, — писала Полинька к своей приятель-
нице,— если это точно женщина, так пребесстыдная и
прескучная (г. Писемский рассуждает совершенно так
же). В одном ее романе мужчина пробирается в спальню
молодой девушки и стоит всю ночь у ее постели!» Конеч-
но, Ж. Занд показался скучен Полиньке, и она его бро-
сила. Когда князь Галицкий, упав в порыве страсти к ее
ногам, стал целовать ее маленькие ножки и судорожные
рыдания рвали его грудь, Полинька начала его ласкать
и успокаивать и просила не любить ее больше, потому
что она вовсе не хорошенькая, что она мала ростом, что
у нее худенькие руки, что она сама тоненькая и что она
совсем не понимает, чем могла понравиться. Все свои на-
ивности и странности Полинька вынесла из пансиона.
Дома ее обожали, смотрели на нее как на очарователь-
ную игрушку, как на бабочку, к которой страшно прикос-
нуться, чтоб не испортить блестящих ее крыльев. В свете
носили ее на руках; старики и молодежь толпами ходили
за ней, чтоб наговорить ей всякой дряни и услышать от
нее какую-нибудь детскую выходку. Это тройное балов-
ство хотя и не испортило ее характера, не дало ей кап-.
* Который всегда пишет каракулями (франц.),
** Мой ангел (франц.).
114
ризов, но сделало еще Хуже — оно решительно останови-
ло развитие ее нравственных способностей, так что, не-
смотря на свои девятнадцать лет, Полинька была не
больше, как самый милый, умный, очаровательный две-
надцатилетний ребенок.
Вот та великолепная игрушка, в которую превратил
женщину русский идеализм, испортивший целый ряд
женских поколений. Девушка росла в праздной неге, не
приучаясь думать, не приучаясь трудиться, не приучаясь
понимать не только окружающую ее жизнь, но и свои
собственные человеческие и гражданские обязанности и
интересы. Такие искалеченные существа представляли
превосходный материал для построения великосветских
романов, но для жизни никуда не годились и решительно
не поддавались реальному, понятному определению. По-
этому-то и было в таком ходу называть идеальных де-
виц— ангелами. Кто же видел ангела! Творческой фан-
тазии представлялось обширное поле, и каждый читатель
рисовал в своем воображении, что ему хотелось. Пора
печальная, — печальная тем более, что ангелы пустили
слишком крепкие корни в русскую почву и до сих пор при-
дают характер отсталости русской, по преимуществу про-
винциальной, семейной жизни. Сакс имел полное право
сердиться на родителей Полиньки. «Чтоб их нелегкая
побрала!» — писал он Залешину. И еще родители не так
виноваты, как общество, которое требованиями своими
заставило обращать женщин в ребятишек. ..Ис какой
гордостью старик отец отпустил Саксу в день свадьбы эту
стереотипную фразу: «Берегите мою Полиньку — она та-
кое дитя!» Но на новое поколение передовых людей по-
добные фразы производили уже не то впечатление,
какого думали они достигать. Сакс озлился и нашел, что
отец говорит чепуху и что название дитяти вовсе не по-
четный титул для женщины.
Когда явилось уже сознание подобного рода, то неиз-
бежен и акт самовоспитания. Одни должны научить дру-
гих. Русский мужчина взялся перевоспитать русскую
женщину. Круциферской открыл глаза на мир божий
Бельтов; множество вещей простых, обыденных, на кото-
рые она прежде не смотрела, заставляли ее теперь ду-
мать, она изменилась, возмужала. Полиньку перевоспи-
тал ее муж. «Я дал клятву воспитать Полиньку по-сво-
с му, — писал Сакс Залешину, — хотя бы для этого потре-
115
бовалось рассориться вконец с обществом. Я поклялсш
развить ее способности вполне, сообщить ее мыслям неза-
висимость и настоящий взгляд на общество и вывесть ее
таким образом из ряда хорошеньких, но пустых женщин.
Я поклялся укрепить ее душевные силы, направить их ко
всему доброму и разогнать облако сентиментальной, бес-
смысленной невинности, которое давит бедного моего ре-
бенка. ..»
В каком же направлении могло совершиться перевос-
питание? У каждого времени есть своя правда, которую
оно преследует; для пятидесятых годов являлась правдой
практика жоржзандизма, конечно, не в том виде, как по-
нимают ее гг. Писемский и Вихров. Жоржзандизм шел
протестом против всякого превращения женщины в ан-
гела, дитятю, игрушку; против всего, что не делало из
женщины просто женщину — мать, жену. Но такую зада-
чу могли брать на себя люди вполне готовые и честные,
ибо сущность возникавших при этом отношений была во-
все не нормальная.
В самом деле, что такое супружество, если муж, впол-
не зрелый человек, превращается в воспитателя и учите-
ля своей малолетней жены? Мужья искони присвоили
себе право перевоспитывать своих жен. Множество му-
жей и до сих пор мечтают вылепливать из своих жен
такие фигурки, какие им нужны. И действуют они так на
основании того татарского предания, что чем жена моло-
же, тем она больше похожа на воск и удобнее для лепки.
Тут муж становится прямо в отношения старшего к млад-
шему, воспитателя к воспитаннице, брак делается урод-
ством, ибо женщина, как Индиана, меняет лишь тюрьму,
переходя из тюрьмы родительской в тюрьму супруже-
скую. Поэтому даже перевоспитательный замысел иде-
ального Сакса можно оправдывать лишь общественным
злополучием того порядка вещей, который делал неустра-
нимо неизбежным подобное поведение. Но разве это
брак, даже и у идеального Сакса? Но, с другой стороны,
только благодаря идеальным Саксам преобразовалась
русская семья из старого, домостроевского на новый, ев-
ропейский лад. Эпоха пятидесятых годов есть именно
эпоха этой перестройки.
Полиньке кажется странным, что ее муж кланяется
горничным, — у г. Писемского Вихров, в тот же период,
дает горничным целовать свое плечо, и кому же? Гру-
116
llie,— сам достает себе платье из шкафа, не стоит перед
Полинькой на коленях, не является к ней в халате, нече-
саный, с заспанными глазами. Двадцать лет назад все
это казалось чудовищно изумительным, и требовалось
быть очень сильным передовиком, чтобы не спать с же-
ной на одной кровати; в этом видели даже зловещее пред-
знаменование. Все эти, по-видимому, ничтожные мелочи
являлись в свое время признаком вольнодумства и опас-
ного нигилизма и в то же время внешним признаком но-
вых людей с прогрессивно-практическим закалом. Вся
жизнь общества точно ушла в эту точку. Улучшение отно-
шений между мужчиной и женщиной составляло предмет
наиболее изысканного и умного кадрильного разговора
и наиболее оживленной и современной салонной беседы.
Внешней благоприличностью супружеских отношений
определялась порядочность человека, степень его передо-
витости. Были даже мужья, которые говорили своим же-
нам вы и в физиологических отношениях усматривали
нехорошую, но, к сожалению, неустранимую материали-
стическую сущность супружества. Опять идеализм, но
только на новой почве; как реакция против старой грязи
отношений. Ведь и до педантизма доведенная внешняя
порядочность Сакса, при которой ему казалось неприлич-
ным явиться к жене в летнем пальто, было тоже крайно-
стью реакции против прежних халатных отношений. Это
была своеобразная форма протеста, которую Полинька,
несмотря на свое воспитание на пансионском француз-
ском языке, понять не могла, ибо дома она привыкла ви-
деть в отношениях своего папеньки к маменьке старинную
русскую супружескую санфасонность59. Вся эта новизна
отношений называлась жоржзандизмом и приписывалась
старыми-людьми ехидному влиянию романов Жорж Зан-
да. Такова уж сила привычки, что нечесаность считается
лучше чесаности, невежливость лучше вежливости, гру-
бость лучше мягкости и крепостные отношения лучше
свободных.
Но жоржзандизм в своей чистой форме не действовал
уже тогда непосредственно из своего источника. Русский
ум, получив толчок, по закону инерции стал думать в
Данном направлении самостоятельно. В этом и причина
практических попыток и начала перестройки супружеских
отношений. Люди либеральничают и болтают только до
Н'х пор, пока они зреют мыслью и пока они не преврати-
117
ли ее в кровь и плоть. Но когда мозг окреп в пониманщр
нового до того, что уж и не может мыслить иначе, тогда
наступает и соответственная практика. Это физиологиче-
ский закон рефлекса. Сакс вводит внешнюю чистоту отно-
шений потому, что он уж и любит иначе; а Полинька,
думающая по-старому, по-родительскому, находит его за’
это холодным и плачет. Было время, когда женщины пла-
кали, если мужья их не били. Вот что писала Полинька
своей подруге Annette Кросинской: «А что за холодный
человек этот Костя! Раз он довел меня до слез. Я как-то |
неловко тронула его пальцем, он вздрогнул весь. «А! ты |
ревнивый!» — сказала я шутя. — «Да и какой еще ревни-
вый!» — отвечал Костя. «Скажи же мне, что бы ты сде-
лал, если б я тебе изменила?» — «Э! кто нынче изме-
няет!»— «Ну, если бы?..» — «Как бы изменила! из при-
хоти?»— «Из прихоти! Разве нельзя представить, что я
влюбилась бы в кого-нибудь из тво*их приятелей?» —
«Очень бы влюбилась? ..» — «Да, на всю жизнь, на век,
без ума и без памяти». — Глаза его сверкнули так страш-
но, что я было струсила. «На что же мне жена без ума и
без памяти? Я бы поцеловал тебя и уехал куда-нибудь
подальше». «Ну, а ему-то что же? Он-то чем виноват?»
Я заплакала, как ребенок: такая холодность хоть кого
взбесит...» Наивной Полиньке хотелось непременно, что-
бы произошла дуэль; прежнее общество не могло никак
представить себе супружескую измену, то есть перемену
чувства, без кровавой развязки. В самом деле, какая же
это любовь, если не бьют окон, не подшибают друг другу
глаз и не производят какой-либо кутерьмы! Но чудак
Сакс, когда Полинька полюбила Галицкого, нашел, что
и она права и он прав. Такое непостижимое поведение
было совершенно равносильно безумию; отсталое обще-
ство не могло ничего сообразить и понять. Как это могут
быть все правы?! Ясно, что все эти вольнодумствующие
Саксы — зловредные модники, потому что начитались
французских книжек. По мнению г. Писемского, выска-
занному им даже в 1869 году, Жорж Занд не больше как
глупая баба, наслушавшаяся разных либеральных мыс-
лей, понабравшаяся кое-чего с ветру, но ничего не поняв-
шая, не переварившая и поспешившая легкомысленно
разнести все эти новости по белу свету60. А ведь г. Писем-
ский человек передовой, мыслящий, поучающий русское
человечество! Как же должны были смотреть на Саксов
118
старые люди 1849 года? К сожалению, г. Писемский
только готовился тогда к литературному поприщу, и по-
этому Сакс оставался в полном неведении относительно
рерного понимания либеральной болтовни Жорж Занда.
Поистине злополучный рок! Нужно же, чтобы г. Писем-
ский установил правильную точку зрения на жоржзан-
дизм, когда из Сакса и Полиньки давно повырос лопух!
Ну почему бы не явиться «Заре» в 1849 году? Может
быть, и вся история русского общества получила бы тогда
другой характер. Бог вам судья, г. Писемский, не хотели
вы нас спасти вовремя! Теперь же говорить поздно.
Итак, благодаря запоздалому появлению г. Писем-
ского жоржзандизм на русской почве климатизуется.
Новые мысли, новые вопросы, новые отношения начи-
нают вырабатываться нами, даже помимо романов Жорж
Занда, собственными нашими салонными беседами, уст-
ной пропагандой, проникающей во всякую голову, не ли-
шенную еще здравого смысла. Сакс идет даже дальше:
«Меня уговаривает более есть, — писала Полинька к An-
nette, — наливает полную рюмку вина и говорит, что обед
его повкуснее мелу и угольев... все это опять на наш счет,
душа моя. Сказать ли тебе, Annette? .. да ты меня выбра-
нишь. .. Когда он бывает особенно весел, он приказывает
вечером подать маленькую бутылочку шампанского и мы
с ним пьем, mon ange, пока всю бутылочку выпьем!..»
Такой реализм даже возмутителен. Ну, как заставлять
ангела не только есть здоровую, питательную пищу, но
еще и пить вино! Вольнодумство Сакса достигает нако-
нец того, что он заботится о положении крестьян, взятых
в приданое за Полинькой и, как видно, не особенно бла-
годенствовавших у прежнего своего барина. «В имении,
которое дали за мною, — говорится в том же письме По-
линьки к Annette, — сделал он такие перемены, что полу-
чать с него мы будем вдвое меньше, чем оно прежде при-
носило. Папа уж добр, а за это рассердился. «Без нужды
уменьшать оброк, — говорит он мужу, — значит давать
вредный пример соседним мужикам, уничтожать весь
страх и повиновение». А что же Сакс? Он только смеется
н делает все по-своему.
Все это черты времени, а не фантазия романиста. Что
в рассказе Дружинина действуют живые люди, а не сочи-
ненные герои, как в «Обрыве» или в последних романах
1 г. Писемского и Тургенева, видно из того, как была при-
119
пята «Полинька Сакс». Все свежее и молодое жадно на-
кинулось читать повесть, каждый нашел в ней что-нибудь
свое, каждый чувствовал себя способным поступать так
же. Конечно, нашлись голоса и против; находили, что
«Полинька Сакс» сколок с «Жака». Но для нас это не-
важно; нам важен тот факт, что «Полинька Сакс» была
принята большинством сочувственно61, а из этого мы за-
ключаем, что общество узнало себя, чего бы никак не
могло случиться, если бы в обществе не было материалов
для подобного идеала.
Главный подвиг Сакса, составляющий основную
мысль рассказа, есть его развод с женой. Полинька, как
все девушки того времени, имела насчет брака самые
смутные понятия. Замуж выходили потому, что так при-
нято, потому, что этим приобретается положение в свете,
потому, наконец, что нельзя же быть вечно в тягость ро-
дителям, ну и т. д. По выходе из пансиона Полинька влю-
билась в ловкого и красивого гусара князя Галицкого;
но когда Галицкий уехал на короткий срок на загранич-
ные воды, в это время как-то подвернулся Сакс, и По-
линька вышла за него. Галицкий возвратился, захотел
возобновить старое знакомство, и дело кончилось паде-
нием ангела. Вот тут-то и наступает момент торжества
новых идей. По старому мировоззрению Саксу следовало
вызвать Галицкого на дуэль, но Сакс нашел, что это глу-
по, и прибегнул к средству менее замысловатому. «Друг
мой, — писал Сакс Залешину, — моя жена не нуждается
в оправдании, скажу тебе более: и Галицкий прав... Если
бы у меня и была решимость мстить — у меня нет средств
для мщения. Что мне делать с этим ребенком, который
сам не понимает, что он настряпал! Не армянин же я,
чтобы похаживать с кинжалом около «злодея» и «измен-
ницы»; я не обладаю тем искусством, с которым иной
важный господин умеет терзать каждую минуту несчаст-
ную свою жену, заставлять ее платить годами мучений за
час заблуждения, да еще заблуждения ли?..» Сакс вы-
хлопотал развод, и Полинька вышла за Галицкого.
Рассказ Дружинина обрисовывает целый ряд нелепых
общественных положений того времени. Никто не вино-
ват, и все страдают. Полиньке бедной досталось больше
всех, что ее воспитали ангелом. В качестве ангела она
болтала всякие наивности; в качестве ангела она влюб-
лялась в ловких и красивых бальных кавалеров, в качс-
120
стве ангела она влюбилась в Галицкого; в качестве
ангела, наконец, она вышла замуж за Сакса и тут толь-
ко впервые увидела, что не умеет ходить по земле. Урок
жизни Полинька купила дорогою ценою: зачахла и пере-
селилась в тот мир, для которого ее воспитывали. А ме-
жду тем Полинька была натура хорошая, честная, любя-
щая, и Сакс, видавший людей, находил в ней все призна-
ки характера. Может быть, оттого-то она и зачахла. Люди
менее сильные находят примирение в уступке и забито-
сти или в обмане. Сакс, конечно, поступил глупо, женив-
шись на Полиньке, прежде чем она сформировалась. Он
хотел идти против общества в воспитании Полиньки; но
общество оказалось сильнее, женив его на ребенке.
А блистательный князь Галицкий? И он жертва того же
общественного недомыслия. Повсюду путаница отноше-
ний, какой-то омут, в котором всякий на чужом месте и
всем скверно. Сакс разрубил круто гордиев узел; но ведь
этот исход, простой в романе, вовсе не был так легок на
практике, и люди практические способом Сакса, конечно,
не удовлетворялись. Но мы напомним практикам еще раз
слова Гейне: «Вы, гордые люди дела, не что иное, как
бессознательные руки людей мысли...» Способ Сакса —
не универсальное лекарство против всяких супружеских
положений, и внутренний смысл его лишь в том, что люди
уже не ограничиваются одним бесплодным вопросом:
«кто виноват?», а в том, что они уже прямо говорят: «ви-
новатых нет», и каждый хочет искать выхода по-своему.
«Безумный плачет лишь от бедства, а умный ищет сред-
ства, как делом горю пособить»62 — вот девиз людей со-
роковых годов во второй момент их развития.
X
В отношениях русского мужчины к русской женщине
в период, о котором мы говорим, есть своеобразность, ре-
шительно не замечаемая у Жорж Занда. У Жорж Занда
мужчины к женщинам стоят в отношениях равенства.
Может случиться, что граф влюбится в уличную певицу
или княгиня в сына крестьянина; но это только социаль-
ное различие, а не нравственное. В конце концов оказы-
вается всегда, что уличная певица образованна, как ко-
ролева, а сын мужика кончил курс в Сорбонне63 или в
какой-нибудь коллегии, что он знаменитый адвокат или
121
что-нибудь вообще выдающееся из ряда. Влюбленные ге?
рои и героини Жорж Занда всегда равны нравственно,
иначе и любовь между ними была бы невозможна. Един-
ственное исключение составляет, как кажется, Мопра-
живодер, в судьбе которого женщина играет роль циви-
лизующей силы.
В русской жизни замечается явление обратное. Все
наши романисты, рисующие эпоху сороковых и пятидеся-
тых годов — Дружинин, Авдеев, Тургенев, Гончаров, Пи-
семский,—постоянно делают своих героев развивателя-
ми; мужчины в умственном отношении стоят всегда
неизмеримо выше женщин, они являются всегда настав-
никами и учителями, нравственного равенства не суще-
ствует. Вихров с первого же знакомства с Клеопатрой
Петровной принялся не только развивать ее «Илиадой»,
но учить даже грамматике, географии и истории; покон-
чив с Клеопатрой, Вихров, подобно Райскому, принялся
за Мари. Взглянув на генерала, Вихров сейчас же по-
нял, что с таким господином нравственное общение невоз-
можно и, следовательно, невозможно и супружеское сча-
стье. Сообразив это, Вихров, как змей-искуситель, начал
пытать Мари вопросами: «„Неужели вы никогда и никого
не любили, кроме вашего мужа?“ — спросил он. «Нико-
го»,— отвечала Мари. «Не верю! чтобы вы, с вашим
умом, с вашим образованием, никого не любили, кроме
Евгения Петровича, который, может быть, и прекрасный
и добрый человек...» — Вихров не договорил. «Никого
не любила», — перебила его Мари. — «И впредь не полю-
бите?»— «Постараюсь». — «И все это для исполнения
священной обязанности матери и супруги?» — спросил
Вихров...» Вихров здесь действовал в личных видах, и
потому он повел атаку против нравственных качеств
мужа Мари, маня ее счастьем, ей еще неведомым. Это
прием Райского. Сакс в тех же личных видах начал вос-
питание Полиньки с эстетического развития — с музыки
и живописи. Для вопросов сердца Полинька была еще
молода, и Жорж Занд оказывался ей не под силу.
И повсюду и всегда наши женщины сороковых и пя-
тидесятых годов оказывались недоученными девушками,
наивными, невинными, приятными, красивыми, плени-
тельными, влекущими — и только. Мужчина признает в
женщине чувство и силу, но силу, еще не пробудившуюся
и не сознающую себя. Иначе и не могло быть. Г-н Писем-
122
ский сообщает, что в пансионе, где училась Клеопатра
Петровна, занимались больше живыми картинами и обо-
жанием учителей. Дружинин говорит, что Полинька вос-
питалась, как оранжерейный цветок, в полном неведении
того, что делается в мире. Мари, благодаря богатству
княгини Весневой, воспитывалась хотя изысканно, но учи-
телями ее были Шевырев и, без сомнения, г. Погодин.
Мужчины развивались при иных условиях. К их услу-
гам были пять университетов, не считая других высших
заведений. Как бы ни были плохи университеты того вре-
мени, но они давали неизмеримо больше того, чему могли
научить женские пансионы, институты и домашнее воспи-
тание маменек, которые, несмотря на это, считали себя
умнее всех русских университетов. Когда Полинька выхо-
дила замуж, мать ей сказала: «Помни, Поля, что умная
женщина может все сделать из своего мужа». Несмотря
на такую обольстительную перспективу, у Полиньки и
у всякой женщины того времени было слишком мало
силы для воспитательного влияния, и не женщина повела
мужчину, а, напротив, мужчина указал женщине здоро-
вый женский идеал, ибо владел далеко большим запасом
средств и способов для умственного развития. У мужчи-
ны явились и, привычка читать, и читать было что; так
что в мало-мальски мыслящей голове могли возникать и
возникали разные полезные параллели. Этим порядком
общественного и домашнего воспитания определились и
установились те воспитательные отношения, на которые
указывают все без исключения романисты того времени.
Герой романа всегда — бывший студент университета, и
иногда — и Московского; героиня же — нечто неясное,
смутное, парообразное, не определившееся, отличающе-
еся полнейшей умственной невинностью. Совершенно
ясно, какие могут возникнуть на первых порах отношения
между героем и героиней. Каждый герой должен сде-
латься развивателем, должен открыть женщине мир, ко-
торого она не знает. Иногда открытие нового мира тре-
бует необычайных усилий.
Так, Райский трудился над Беловодовой всю первую
часть «Обрыва», почти в 10 печатных листов, и все-таки
ни до чего не добился. В этом факте нет ничего смешно-
го; напротив, он очень печален, ибо показывает, до какой
закаменелости была доведена женщина. Сакс бился тоже
123
года полтора и даже впал в отчаяние от безуспешности
своего труда.
Любопытно, что развивателями являлись не молодые
люди, полные страсти, свежих сил, идущие очертя голову
в неизвестное им будущее, а, напротив, люди, помятые
жизнью, — Рудин, Сакс, Соковлин64, Лаврецкий65. Для
них развивание служило процессом, обновляющим их
собственную жизнь, точно, прострадав в сороковых годах
в бесплодном разрешении вопросов, они в пятидесятых
нашли то, чего не могли найти ранее. «Как поживешь и
увидишь много гаденького и надломленного, — говорит
Соковлин Наташе, — то является потребность освежиться
влиянием молодой и ясной жизни. .. и невольно хочется
уберечь ее от всякого сору...» Но это была опасная
игра.
Наташа была девушкой, которую сама мать называла
дикаркой и ребенком. Конечно, Наташа не была такой
чистокровной наивностью, как Полинька, но сущность
положения от того нисколько не меняется. Наташа изо-
бражала из себя тоже нечто очень неясное и неопреде-
ленное, нечто очень молодое, задержанное в своем раз-
витии. Чувство, которое шевелилось в ней, г. Авдеев
сравнивает с «теплотой молодой, начинающейся жизни;
с теплотой, которая заставляет на заре стыдливо раскры-
ваться почку цветка и ждать освежающей росы полуот-
крытыми розовыми губами!»
С первого же раза Наташа почувствовала над собою
нравственное превосходство Соковлина, она была не
рада, что пошла с ним гулять и даже хотела выдумать
предлог, чтобы уйти от него. Но эта натянутость продол-
жалась недолго. «Скоро это были не холостой гость с мо-
лоденькою девицею-хозяйкою, но ученица с любимым
учителем. Соковлин чувствовал это, и ему стало было со-
вестно играть роль педанта и пользоваться своим ум-
ственным превосходством; но Наташа с таким жадным
любопытством его слушала, так застенчиво сознавалась
в своем невежестве, так пытливо хотела вникнуть в его
мысли, высмотреть его взгляды, что Соковлин невольно,
чтобы только ей угодить, начал высказывать некоторые
общие, но новые для нее мысли. Слова Соковлина были
для Наташи как первое мерцание утреннего света, сквозь
который начинают проступать и обрисовываться вещи в
их настоящем виде. До этой поры ее прямая и чистая
124
душа замечала только странные противоречия между за-
конными требованиями правды и ответами, которые да-
вала на них жизнь окружающей ее среды. Она услыхала
первые, простые искренние слова человека, здраво и ясно
смотрящего на вещи, прямо ставящего вопросы и дающе-
го на них положительные ответы. Их разговор или, лучше
сказать, речь Соковлина переходила от предмета к пред-
мету, касалась вскользь того и другого, — но все, до чего
касалась она, как будто задетое солнечным лучом, вы-
ступало ясно и рельефно и поражало своей ясностью и
простотой девушку, учившуюся у плохих учителей, взрос-
шую в пустой и мелкой среде.
Что за общие черты! Романисты, выводящие людей
пятидесятых годов, точно сговорились. У всех одно и то
же. У всех вы видите молодую, честную, неразвитую силу,
напрашивающуюся на жизнь, и рядом стоящего в раз-
думье человека сороковых годов, задающегося вопросом,
подобно Лаврецкому: «Вот новое существо, вступаю-
щее в жизнь — девушка славная, что-то из нее выйдет?»
Потом этот человек начинает проникаться «веянием мо-
лодой, ясной жизни», хочет спасти эту ясную жизнь от
грязи; одушевляется, принимается говорить и говорит хо-
рошо, искренно, горячо. Девушка, выросшая в лоне при-
роды или в четырех стенах института, слушает внима-
тельно новые для нее речи, проникается новым, неведо-
мым еще ей чувством к наставнику, и затем — обоюдная
любовь, но только с разной развязкой. Если и замечается
какая-нибудь разница в действующих лицах, то только
разница темпераментов. Так, иные пропагандируют с спо-
койным достоинством, как Соковлин; другие с оттенками
отческого покровительственного чувства, как Сакс; тре-
тьи с искренно захватывающей, но неясной расплывчиво-
стью Рудина; четвертые с простой, безвычурной задушев-
ностью Лаврецкого; наконец, пятые с бестолковой, фра-
зистой суетливостью Райского. Но, в сущности, все от-
даются однородной пропаганде, все стремятся к тому,
чтобы открыть духовные очи женщине, ввести ее в новый',
неизвестный ей мир, превратить ее из наивного ребенка
в зрелую, мыслящую и чувствующую женщину. Даже
Паншины увлечены общим течением и пропагандируют,
но, конечно, по-своему. Пропаганда в смысле женского
вопроса составляет такую же болезнь России пятидеся-
тых годов, как рефлексия — России сороковых годов.
125
Но нужно отдать справедливость теоретической зрет
лости проповедников. Они иногда хорошо понимали то
неловкое положение, в которое их ставило увлечение.
«Я старик пред вами, — говорил Соковлин Наташе, — я
со всеми добродетелями, которыми вы меня наделяете,
не стою кончика вашей руки! Чем я заплачу за вашу до-
верчивую любовь? .. Ведь вы молоды.:. вы, может быть,
полюбили меня потому, что не видели лучших, потому
что вам хочется любить; вы, может быть, любовь свою
любите, а не меня; я только кстати подвернулся тут. Вы
искренни, я в этом не сомневаюсь; но вы можете и сами
не подозревать этого, а я знаю это все и должен был ду-
мать и за себя и за вас. Подумайте, подумайте серьезно!
Ведь я буду стариком, прежде нежели вы будете вполне
женщиной... ведь я изломан, ведь многое, во что вы еще
верите, как в святыню, давно уже обмануло меня...» Всю
эту красивую речь Соковлин держал вовсе не для того,
чтобы Наташа согласилась с ним и отказала бы ему в
своей руке. Откажи Наташа, и Соковлин стал бы, может
быть, доказывать противное. У Соковлина был другой
замысел; в нем, как и в Саксе, Рудине, Лаврецком, во
всех тех, кто предмету своей страсти мог преподнести
помятое сердце, сидел червячок боязни, не дававший им
покоя. «Во мне есть убеждение, — договорился наконец
Соковлин, — твердое, неизменное, что чувства не зависят
от нас. Я верю, что они могут не изменяться, но могут и
изменяться — все дело случая и обстоятельств, как бо-
лезнь. Дайте мне слово, что если когда-нибудь... хоть
завтра. .. хоть на другой день свадьбы. .. если эти чув-
ства изменятся. .. если вы увидите, что ошиблись в них
или во мне, что я не стою их, или другой лучший заставит
их измениться... тогда — тогда вы мне прямо, как другу,
как брату, скажите об этом, чтобы я мог остаться для
вас только другом и братом. . .» Наташа дала слово. Эту
простую, справедливую мысль Соковлин высказал только
после длинного приступа и высказывал ее с замиранием
сердца, с перерывами, боясь оскорбить Наташу. «Ради
бога, не оскорбляйтесь, не сочтите этого недоверием к ва-
шим чувствам; клянусь, я верю в вашу чистоту и искрен-
ность; но это для меня дело совести...» — оправдывался
Соковлин. Почему же требовалась чуть не очистительная
присяга, чтобы говорить об изменяемости чувств? Новый
герой не стал бы тратить так много красноречия по пово-
126
ду такой вовсе не важной мысли, и если Марк вступал в
несколько пространный разговор на ту же тему, то только
потому, что его вынуждала Вера 66. Дело в том, что Со-
ковлин — герой пятидесятых годов. До вопроса об изме-
няемости чувств люди сороковых годов додумались труд-
ным процессом, а вводить его как вероятную случайность
брака после того, что и в романах и в жизни все влюб-
ляющиеся, женящиеся и т. д. давали всегда клятву лю-
бить вечно, — было почти то же самое, что проповедовать
ложь, воровство, грабеж и убийство. Еще труднее была
практика того же вопроса. Сакс был передовик и человек
с характером; но когда милый ребенок настряпал сам
не понимая что, герой романа чуть не сошел с ума. «Раз-
ве в моем положении идея о справедливости доступна
для меня, разве она может получить практическое приме-
нение? — писал Сакс Залешину. — Я знаю без тебя, и опа
права, и он прав, и я буду прав, если жестоко отомщу им
обоим. Раненый солдат с бешенством лезет на неприя-
тельскую колонну; разве он думает о том, что может
убить не того человека, который его ранил? что даже и
ранивший его не виноват перед ним? Я в отчаянии, я хочу
мстить, и придет ли мне в голову думать о результате
моего отчаяния? ..» И это положение героя в романе
было совершенно верно жизни. Додуматься до теорети-
ческой возможности своего собственного подобного поло-
жения давалось не всякому, а чтобы оказаться последо-
вательными на деле — требовалось во времена Сакса
быть героем. Но Сакс с собою справился; результат его
внутренней борьбы читателю известен. Конечно, дело не
обошлось без театральности; то было время героев, и по-
этому самые простые вещи делались с треском и картоп-
ностью. Простоту надо выработать тоже зрелою мыслью
и опытом, до нее надо дожить, и потому мы не поставим
в упрек людям сороковых годов, что они еще не умели
делать просто простых вещей. Простота явилась призна-
ком лишь людей шестидесятых годов.
В отношениях Соковлина к Наташе мы находим уже
больше простоты и почти полное отсутствие рисовки и
театральности. Видно, что общество уже думало больше
и было готово идти дальше Сакса. «Наташа, ты не откро-
венна со мною, друг мой, — сказал Соковлин, уже дога-
давшийся о ее любви к Комлеву, — разве я не заслужи-
ваю твоей доверенности? .. Я знаю, есть вещи, про кото-
127
рые тяжело говорить. Но молчание тяжелее и хуже. ..
И ты давно любишь его?» — «Не знаю», — чуть слышно
проговорила Наташа. «И очень?» — снова спросил Со-
ковлин. .. и ему стало совестно своего вопроса... «Ты ни
в чем не виновата. .. Мы не свободны в чувствах. Ты зна-
ешь, я этого боялся сначала, но потом отдался течению
беззаботно... и слава богу! мы долго были счастливы. . .
что же делать, если случилось! .. я подозревал, что начи-
налось,— но ничего не делал, чтобы остановить, да и не
остановишь... Нельзя останавливать жизнь. ..» Уж это
какая-то тихая жалоба на неизбежность и несокруши-
мость рока, с которым бороться невозможно. Отеллов-
ский элемент, который так слышится в Саксе, здесь уже
не выступает с своею попыткой к разрушению. Соков-
лин — мученик, понимающий бесплодность дикого, разру-
шительного порыва. Он чуть не плачет, потому что знает,
что теряет невозвратно и неизбежно свой мир и счастье,
которых нельзя забрать назад никакой земной силой.
Положение его действительно мучительное; потеряв все
лучшее, чем красилась его жизнь, он остается ни при чем,
ему приходится перестраивать всю свою жизнь сызнова.
Но ведь это хорошо молодому! Молодой может взбирать-
ся на вершину горы житейского счастья десятки раз, де-
сятки раз сваливаться и снова взбираться; но у кого сил
немного, у кого на плечах лежит уже тяжесть лет, тому
с помятыми боками и слабеющими руками идти на при-
ступ трудно. А общественное мнение? Соковлин видит,
что против него все, и руки его опускаются, и чувствует
он, что у него нет сил бороться с своим глупым, страда-
тельным положением. Соковлин начинает просить мило-
сти и пощады: «Пока есть силы, не уступай и того, что
нам еще осталось... сын есть у нас!» — говорит он, ду-
мая хоть этим обращением к другому чувству, всегда
сильному в женщине, удержать свое положение. В этом
приеме мы видим чрезвычайно важный момент обще-
ственного развития. Где то гордое право, с которым вы-
ступал прежний муж, когда находил, что его баба заша-
лила? Из деспота с ремнем в руке он является скромным
просителем, чуть не вымаливающим милости. Но прошлое
невозвратимо. Сакс заставил Галицкого жениться на По-
линьке; Соковлин думает то же, но Комлев оказывается
человеком иных понятий. «Я на Наталье Дмитриевне не
128
женюсь, — говорит он твердо Соковлину, — не женюсь по-
тому, что женитьба и любовь, по-моему, две вещи разные,
у меня есть свои убеждения о браке. Я жениться не рас-
полагал и теперь не вижу причин изменять свои намере-
ния. . .» Крупов упросил Бельтова уехать; но вышло ли
лучше? «Я готов уехать, — говорит и Комлев, — но
она? ..» Вопрос о ней не представлялся ни Крупову, ни
Бельтову... Комлев уехал, но за ним уехала и Соковли-
на. «Если ты вздумаешь возвратиться, помни, что здесь
у тебя дом и сын», — сказал Соковлин, прощаясь с же-
ной. Какая огромная разница в этом новом положении
лиц и тем, защемляющем сердце, какое мы встречаем в
романе «Кто виноват?», написанном какими-нибудь деся-
тью годами ранее!
Может быть, я вдаюсь в слишком большие подробно-
сти о вопросе, по-видимому, пережитом и сданном в ар-
хив; говорю слишком подробно о романах, написанных
десять, двадцать лет назад. Но мы имеем дело с историей,
мы имеем дело с вопросом о постепенной зрелости рус-
ских понятий, мы имеем, наконец, дело с романом, печа-
тающимся в 1869 году. «Люди сороковых годов» охваты-
вают эпоху 1830 года и до освобождения крестьян. В этот
период времени явились мысли и положения, высказан-
ные в «Кто виноват?», высказанные в «Полиньке Сакс»,
высказанные, наконец, в «Подводном камне». Но «Люди
сороковых годов» г. Писемского, жившие в тот же пе-
риод, совсем и не намекают на эти положения. Мы не чи-
таем в них историю постепенной зрелости русской мысли
и те фазисы ее развития, в которых сказалось направле-
ние, известное у нас под именем «жоржзандизма» и ко-
торрму г. Писемский посвятил даже целую главу, с спе-
циальной целью обозвать m-me Дюдеван бабой, толкую-
щей с ветра то, чего она наслышалась от умных людей,
да только, не переварила своим умом. Область громад-
ная, необъятная; интеллектуальная жизнь целого народа
в его лучших представителях; и вместо всего этого дают
русскому читателю какой-то урезанный конспект романа!
Не полемическим задором, а доказательствами хочется
убедить мне читателя в том, что г. Писемский не показал
людей сороковых годов и что они были не такими, какими
представлены у него.
5
Н. В. Шелгунов
129
XI
Но отчего развивателями являлись все люди пожи-
лые, надломленные, люди сороковых годов? Возьмите лю-
бой роман, рисующий ту эпоху, и вы найдете людей толь-
ко двух типов — развиваемую девушку, молодую, краси-
вую, обаятельную, с внутренней, не сказавшейся еще
силой, и развивателя — человека сороковых годов. Если
в романе и является иногда мужчина молодой, то он ока-
зывается каким-нибудь Басистовым, благоговеющим пе-
ред Рудиным и ловящим на лету каждое его слово. На
этих юношей люди сороковых годов не обращают вни-
мания. Как-то раз Рудин, например, провел все утро
с Басистовым, толковал с ним о самых важных мировых
вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг;
но потом его бросил... «Видно, — замечает автор, — он
только на словах искал чистых и преданных душ». Да,
та пора, когда Лежнев обнимал по ночам липу в саду
или когда студентами они просиживали до утра, разре-
шая мировые вопросы, — эта счастливая пора молодости
людей сороковых годов прошла. О чем можно было гово-
рить— все переговорилось; за периодом разговоров соро-
ковых годов наступила пора любви пятидесятых годов,
пора практического жоржзандизма. Это была пора оче-
видной усталости, стремления уже к отдыху, к мирному
семейному покою. То был закат старого светила пред
восходом нового. Но новая, грядущая сила еще не вы-
ступила с своей программой, и потому понятно, что рома-
нисты не могли рисовать того, чего они не видели? Отто-
го-то так и изумились люди сороковых годов, когда вне-
запно предстали пред ними другие, свежие люди, полные
энергии и силы. Люди сороковых годов привыкли видеть
и слышать только себя. Они держались высоко на своем
пьедестале, все, что было вокруг них, было ниже их, они
никогда не видели никого, кто бы мог равняться с ни- '
ми, — Басистовы, что ли? И вдруг, как грибы после дож- J
дя, точно из земли выросшие молодые люди заговорили
с зрелостью и силой пожилых. Было от чего прийти в ]
изумление. 1
И по отношению к женщине замечается подобная же
внезапность.
Женщина явилась как бы предтечей новых людей.
Она быстро прошла курс, прочитанный ей людьми соро-
130 f
ковых годов, и в какие-нибудь десять лет выросла из на-
ивной Полиньки в Елену67. Причиной этого была одно-
сторонность воспитания. Люди сороковых годов были
люди чувства, их пожирала мировая любовь, их пресле-
довали широкие идеалы, расплывающиеся стремления,
они жили точно в чаду, не выяснив себе никакой точной
программы общественного и частного поведения. Они
даже не любили никакой точности и положительности,
охлаждающей чувство. Рудин, например, начав у Дарьи
Михайловны рассказ о своих заграничных похождениях,
сейчас же свернул на общие рассуждения о значении
просвещения и науки, об университетах и жизни универ-
ситетской вообще. Широкими и смелыми чертами набро-
сал он громадную картину, говорил мастерски, увлека-
тельно, но не совсем ясно. Образы сменялись образами;
сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно вер-
ные, возникали за сравнениями. «Рудин владел едва ли
не высшей тайной — музыкой красноречия, — говорил ав-
тор. — Он умел, ударяя по одним струнам сердец, застав-
лять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слуша-
тель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь;
но грудь его высоко поднималась, какие-то занавесы раз-
верзались перед его глазами, что-то лучезарное загора-
лось впереди...» Соковлин принадлежал к той же породе
людей, у которых голова в сердце. «Их понятия, идеи,
воззрения, не проверяемые на самой жизни и не вытекаю-
щие из нее, носили на себе печать их личных влечений,
их логика была страстна; в жизни они часто путались и
спотыкались, они жили в обществе преимущественно
жизнью сердца», — говорит автор. От этой односторон-
ности и вечной жизни чувством они даже с седыми воло-
сами не могли видеть равнодушно молодую красивую
женщину. «Что же это такое? — думал Соковлин, влю-
бившийся в Наташу, — опять любовь, что ли? Мало разве
я любил, и обманывал, и обманывался? Боже мой! к чему
же все уроки прошедшего, все передряги, от которых при-
ходилось так тяжело, что я думал и желал навек отде-
латься от них? Что за живучесть сердца, что за странная
потребность любви! К чему вся жажда спокойствия, и что
это за жалкое благоразумие, когда с сединой в голове
нельзя сойтись с шестнадцатилетней девочкой, чтобы не
влюбиться в нее...» Человек такого склада должен был
влиять, действуя на чувство других, поэтому мы и в Со-
131
ковлине встречаем родственную черту с Рудиным. Когда
т-11е Кадо отозвалась было дурно о русской природе,
Соковлин вступился за свою родину. Он стал доказы-
вать, что те из людей севера, которые горячо любят при-
воду, в состоянии лучше ценить ее, тоньше умеют подме-
чать ее красоты, чем избалованные ею жители юга...
Соковлин начал спокойно; но, увлекшись, одушевился и
говорил с жаром; потом, дойдя до русской природы, речь
его под стать предмету приняла какой-то тихий и груст-
ный, задевающий за душу строй, и когда он кончил, ска-
зав: «Да лучше посмотрите кругом», — все оглянулись
на пышный закат — и, среди глубокой тишины, все недо-
сказанное договорил осенний вечер. Рассказ Соковлина
даже на менее восприимчивых произвел впечатление. Но
Наташа, слушая его, не спускала глаз с рассказчика.
В душе ее рисовались яркие картины далеких и не ви-
данных ею стран; но, переносясь туда, она слышала возле
речь Соковлина, как будто и он переносился с нею; вспо-
минались ей и ее прошедшие беседы с ним, и когда потом
взглянула она вокруг, она не видала ни облаков, горящих
в алом огне на небе, ни розовых теней и полутонов по
изгибам полей и перелесья, — словом, не видала никаких
частностей картины; но весь вечер, вся поэзия его все-
цельно отразилась в ее душе, и среди этого глубокого
поэтического настроения, как туманы, стали подниматься
воспоминания всего от него слышанного, всего вместе чи-
танного. ..»
Характер воспитания, которое могли дать эти люди
женщине, совершенно ясен из приведенных примеров. Раз-
виватели владели талантом ударять по струнам сердца,
как выражается г. Тургенев, а у слушательниц разверза-
лись перед глазами какие-то занавесы. У Наташи после
речи Соковлина исчезли все частности картины, явилось
глубокое поэтическое настроение, и, как туманы, стали
подниматься воспоминания. И так всегда. Ни один автор
не даст вам точного понятия о том, что именно говорил
его герой, какое положительное знание он сообщил, в чем
именно заключается интеллектуальный образ развивате?
ля. Вы узнаете только, что общее впечатление красноре-
чия было умягчающее и отрадное и что центром, около
которого вы вертелись, было чувство, сердце, любовь.
Так как люди сороковых годов были жоржзандисты, то
мы можем составить себе приблизительное понятие о том,
132
что они могли говорить, когда из сферы общих, широких
понятий о природе и мировой любви они опускались на
землю. Свобода и изменяемость чувства, женское сча-
стье— вот, конечно, главная тема. Да еще бы им не го-
ворить об изменяемости чувства, когда каждый из них
понимал, что поступает нерассудительно и негуманно,
предлагая себя, уже помятого жизнью человека, свежей,
ничего не ведающей юности!
Но на вопросах сердца женщина зреет скоро. Что же
затем, когда вопрос этот разъяснен уже вполне? Женщи-
на и по воспитанию и по наследственности не имеет охоты
и наклонности к отвлеченному мышлению и всегда отли-
чалась большею практичностью, чем мужчины. Поэтому
мы уже в Наталье Алексеевне встречаем попытки при-
менить к делу красивые речи Рудина, говорившего ей так
много о призвании женщины, о том, что одна Жанна
д’Арк могла спасти Францию. .. Оттого Наталью Алек-
сеевну так и поразило, когда на ее готовность сломить
все препятствия Рудин ответил своим знаменитым —
нужно покориться.
Елена вышла прямо из Натальи Алексеевны. В Елене
выразилось, насколько женщина уже переросла своего
развивателя.
Бельтов, Сакс, Соковлин, Рудин, Лаврецкий — немыс-
лимы рядом с Еленой, она не станет их слушать, как не
слушает Шубина, потому что знает уже все, что они мо-
гут ей рассказать о мировой любви, об идеальной при-
роде, о широких чувствах, увлекающих в какую-то ту-
манную, неясную, но приятно манящую даль. И у ней,
пожалуй, разверзаются перед глазами какие-то занаве-
сы— да за ними уж видится иное.
Росту Елена была высокого, лицо имела бледное и
смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями,
окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совер-
шенно прямые, сжатый рот и довольно острый подборо-
док. Во всем ее существе, в выражении лица, вниматель-
ном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре,
в улыбке, как будто напряженной, в голосе тихом и не-
ровном было что-то нервическое, электрическое, что-то
порывистое и торопливое, словом, что-то, что не могло
всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у нее
были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже
узкие, она ходила быстро, почти стремительно, немного
133
наклоняясь вперед. Так описывает Елену автор, а Шубин
говорит, что от ее лица можно в отчаяние прийти. «По-
смотрите: линии чистые, строгие, прямые, кажется, не
трудно схватить сходство! Не тут-то было... Не дается,
как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? — обра-
щается Шубин к Берсеневу. — Ни одна черта не тро-
нется, только выражение взгляда беспрестанно меняется,
а от него меняется вся фигура... Удивительное суще-
ство. .. странное существо, — прибавил он после коротко-
го молчания». Это уже не кисейная барышня, не парооб-
разные Полиньки, Наташеньки и т. д., которых нужно
кормить розовым вареньем и миндальными пряниками;
это какая-то стальная девушка, решительно не желаю-
щая изображать из себя облака.
Ей, по-видимому, было очень удобно настроиться в
нежно-сердечный тон, потому что ее гувернанткой была
институтка, очень чувствительное, доброе и ленивое су-
щество, влюблявшаяся каждый день и кончившая тем,
что в пятидесятом году, когда Елене минуло семнадцать
лет, вышла замуж за какого-то офицера, который тут же
ее и бросил. Но вместе с тем гувернантка очень любила
литературу и сама пописывала стишки. Она приохотила
Елену к чтению. Чтение, однако, не удовлетворяло вполне
Елену, она была натура активная, жаждавшая деятель-
ности и деятельного добра; одна платоническая любовь
к несчастным и страдающим, которой отличались барыш-
ни предыдущего периода, была для Елены недостаточна.
Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, му-
чили; она видела их во сне, расспрашивала о них всех
своих знакомых и подавала заботливо милостыню. «Все
притесненные животные, худые дворовые собаки, осуж-
денные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи,
даже насекомые и гады находили в Елене покровитель-
ство и защиту; она сама кормила их, не гнушалась ими.
Мать не мешала Елене в этом, но отец сердился, называл
это пошлым нежничаньем и уверял, что от собак да от
кошек в доме ступить негде. «Леночка, — кричал он ей
бывало, — иди скорей, паук муху сосет, освобождай не-
счастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала,
освобождала муху, расклеивала ей лапки...»
На десятом году Елена познакомилась с нищей девоч-
кой Катей и тайком ходила к ней на свиданье в сад, при-
носила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички.
134
Елена садилась с Катей рядом на сухую землю, с чув-
ством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слуша-
ла ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая
ее часто била. Катя ее ненавидела и все говорила о том,
как она убежит от тетки, как будет жить на всей божьей
воле. С тайным уважением и страхом внимала Елена
этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на
Катю, и все в ней тогда — ее черные, быстрые, почти зве-
риные глаза, ее загорелые руки, глухой голос, даже ее
изорванное платье — казалось Елене чем-то особенным,
чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго
потом думала о нищих, о божьей воле, думала о том, как
она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и
убежит с Катей.
Елена росла и развивалась не тепличным образом в
четырех стенах оранжереи, а среди живой природы, — но
не той природы, которая учит восхищаться восходом и
закатом солнца и млеть в лунную ночь под звуки соловья,
а природы близкой, земной; природы, выражающейся в
страдающей от паука мухе, в околевающем котенке, в го-
лодной собаке, в нищей Кате, которой дороже всего бо-
жья воля. Девушку, выраставшую в такой школе, не мог-
ли удовлетворять ходячие ответы на ее смутные, но серь-
езные вопросы, и теории бабушкиных приличий и панси-
онской морали. От этого подруг у нее не было, и из всех
девиц, посещавших дом ее родителей, она не сошлась ни
с одной. Она охладела даже и к своим родителям. Она
сперва обожала отца, но потом разлюбила; а к слезли-
вой матери начала относиться с покровительственным
чувством, обращаясь с ней, как с больной бабушкой. Бес-
сознательно, но Елена чувствовала, что она сильнее всех
ее окружающих и что они не то, что ей нужно. Но что же
ей нужно, чего она искала? «Слабость возмущала ее, —
говорит автор, — глупость сердила, ложь она не проща-
ла «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отсту-
пали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило
человеку потерять ее уважение, а суд она произносила
скоро, часто слишком скоро, и уж он переставал суще-
ствовать для нее». Шубин недаром называл Елену стран-
ным, удивительным существом.
Сакс начал воспитание Полиньки с показывания ей
картин и разыгрывания мелодий Шуберта, что было со-
вершенно в духе тепличной идеальности того времени,
135
когда эстетический вкус развивали не на самой природе,
а в благоухающих будуарах, при ярком освещении кар-
сельской лампы с матовым шаром, среди бронзы и на
художественном изображении бедности и людского стра-
дания масляными красками и глиняными статуэтками.
Елена взяла первые уроки у самой природы, и художе-
ственными произведениями или порывом художнической
души поймать ее было невозможно. Мог ли значить для
нее что-нибудь Шубин, так настойчиво добивавшийся ее
любви! Художническая натура, он поглощен весь собой;
он малый славный, честный, неглупый; но его интересов
Елена понимать не может. Бродит в нем какая-то неуста-
новившаяся сила, кидается он на все и не достигает ни-
чего. «Он трудился усердно, но урывками, скитался по
окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты кресть-
янских девок, сходился с разными лицами, молодыми и
старыми, высокого и низкого полета, итальянскими фор-
мовщиками и русскими художниками, слышать не хотел
об академии и не признавал ни одного профессора. Та-
лантом он обладал положительным», — говорит о Шуби-
не автор. Когда Шубин убедился, что Елена его не лю-
бит, то впал в отчаяние. «Что я? — говорит он Берсене-
ву.— Горемыка, нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр;
но какие бы безмолвные восторги пил бы я в этих ноч-
ных струях, под этими звездами, под этими алмазами,
если б я знал, что меня любят». В это время выходила
из мелочной лавки какая-то девушка. Шубин крикнул —
«Аннушка!» «Это... это, вот видите... тут есть у меня
знакомое семейство... так это у них... ты не подумай», —
оправдывался с расстановками только что приходивший
в отчаяние художник и, не докончив речи, побежал за
уходившей девушкой. В этом художническом маятнике не
могло быть ничего под одну мерку с Еленой. На нее мог-
ла влиять только сила, человек с стальными нервами, ну,
а какая сила была в Шубине! «Мне кажется, самое ваше
раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже», — сказала
раз Елена Шубину, вздумавшему открывать ей свою ду-
шу. А когда Шубин спросил ее: «Вы никогда, ни за что,
ни в коем случае не полюбили бы художника?», Елена
посмотрела ему прямо в глаза и ответила: «Не думаю,
Павел Яковлевич, нет».
Елена—девушка, пережившая момент художествен-
ности еще в пеленках. С тех пор как она начала ходить,
136
она уже жила живою жизнью, и в восемнадцать лет ее
нервы и мозг требовали таких впечатлений, которым не
могла удовлетворить эстетика академии художеств.
В Берсеневе ей было показалось, что она находит себе
удовлетворение, но это только показалось. Берсенев был
вымирающий тип человека сороковых годов; неопреде-
лившаяся переходная форма, в которой смешались черты
сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов. Это ка-
кой-то конгломерат, заключающий в себе много хороших
элементов, но лишенный главного, что дает силу и зна-
чение человеку, — способности что-нибудь сделать.
Нервный Берсенев любил природу каким-то слезли-
вым образом, совершенно на манер людей сороковых го-
дов. «Заметил ли ты, — говорил он раз Шубину, когда
они валялись в поле на траве, — какое странное чувство
возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно,
я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это пони-
маем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней
мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство,
какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее
ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом всю нашу не-
полноту, нашу неясность, или же нам мало того удовле-
творения, каким она довольствуется, а другого, то есть,
я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет? .. А по-
том,— продолжал Берсенев, — когда я, например, стою
весною в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся роман-
тические звуки Оберонова рога...» и т. д. Если бы с Бер-
сеневым беседовал не Шубин, а Марк Волохов, то он бы
ему сказал, что он городит чепуху, и посоветовал бы при-
ложить к голове холодные компрессы. Справедливость,
однако, велит прибавить, что Берсеневу стало немножко
совестно, когда он сказал об Обероновом роге. Это хоро-
ший признак, показывающий, что время брало свое, и
если люди сороковых годов еще верили в духов, то по
крайней мере стыдились говорить об этом громко. Поко-
ление сходило уже с своей дороги и лишилось своей бы-
лой самоуверенности.
Рядом с этой чертой людей сороковых годов мы нахо-
дим в Берсеневе другую и того же времени — робость,
неуверенность в свои силы. «Поставить себя номером вто-
рым— все назначение нашей жизни», — говорит он Шу-
бину. Или, мечтая сделаться профессором, он говорит
Елене: «Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне
137
недостает для того, чтобы быть достойным такого высо-
кого. .. Я хочу сказать, что я слишком малоподготовлен,
но я надеюсь получить позволение съездить за границу;
пробуду там три-четыре года, если нужно, а тогда...» —
«Вы хотите быть профессором истории?» — спросила Еле-
на. «Да, — отвечал Берсенев. — Какое же может быть
лучше призвание? Подумайте, пойти по следам Тимофея
Николаевича...68 Одна мысль о подобной деятельности
наполняет меня радостью и смущением... Покойный ба-
тюшка благословил меня на это дело... Я никогда не за-
буду его последних слов». Во всем этом нет ни одного
слова, которое бы изобличало в Берсеневе здоровый по-
рыв к активной энергии. Он непременно хочет зарыться
в книги и затем начать говорить с кафедры. Берсенев
даже думает, что он окажет великую услугу своему оте-
честву, если никогда не забудет последних слов своего
отца. А именно забыть-то их ему и следовало, потому что
его отец, шеллингианец и сведенборгист69, написал сочи-
нение о «Преступлениях или преобразованиях духа в
мире» и, следовательно, уж никак не мог дать своему сыну
полезного практического совета. До чего папенька испор-
тил своего сына, можно видеть из того, что когда Берсе-
нева, влюбленного в Елену, начала мучить ревность к Ин-
сарову и тайное, темное чувство нехорошей грусти стало
грызть его, «эта грусть не помешала ему, однако, взяться
за «Историю Гогенштауфенов»70 и начать читать ее с са-
мой той страницы, на которой он остановился накануне».
Какой же это живой человек? Или людям, зревшим в пя-
тидесятых годах, не было другого исхода, как окунуться
в созерцательную жизнь и любить людей в книгах, а не
в действительности? Но отчего же явилась Елена, отчего
же вслед за ней выступает на свет божий Базаров?
Ясно, что было еще и другое течение, — Берсеневых же
создавал старый источник и выносила в мир старая
струя.
Елена сначала не поняла Берсенева. Что Шубин не по
ней — это было ей ясно; но она думала, что в умном Бер-
сеневе найдет источник той мудрости, которая осветит ей
ее смутные стремления к чему-то. Берсенев казался ей
очень ученым, наконец, она слышала, что его отец оста-
вил замечательное сочинение. И вот она хочет узнать со-
держание этого сочинения и сущность философской си-
стемы Шеллинга. Ее сердит неуместное вмешательство
138
Шубина, который нашел, что в хорошую погоду о фило-
софии говорить не следует, а нужно толковать о соловьях,
о розах, о молодых глазах и улыбках. «Да и о француз-
ских романах, о женских тряпках», — продолжала Еле-
на. Ведь уж это целая пропасть, разделяющая Елену от
ее предшественниц!
Но скоро Елена выжала Берсенева, как лимон. Соку
в нем оказалось очень мало, и сам он, Берсенев, помог ей
перерасти его рассказом о своем товарище Инсарове. Тут
только впервые поняла Елена, что достоинство человека
в нравственной силе. Елена нашла чего искала.
Как Берсенева испортило наследственное воспитание,
так то же наследственное воспитание создало силу Инса-
рова. Берсенев вырос в расслабляющей традиции; отец,
умирая, благословил его на служение науке: «Передаю
тебе светоч, — сказал он, — я держал его покамест мог,
не выпускай и ты сей светоч до конца». И со светочем
кабинетного буквоедства в руке Берсенев вообразил, что
не может быть ничего выше мистического понимания при-
роды и говоренья с кафедры. Инсаров получил иное на-
следство. Мать его зарезали турки, а отца те же турки
расстреляли, и Инсаров стал учиться не для того, чтобы
говорить с кафедры, а чтобы освободить свою родину,
В самом деле, есть чему изумиться в человеке, который
задался такою мыслью восьмилетним ребенком! Елена
пожелала познакомиться с Инсаровым.
Шубин при всем своем легкомыслии превосходно об-
рисовал Инсарова. Он назвал его героем, а. герой, по
определению Шубина, не должен уметь говорить: герой
мычит, как бык; зато двинет рогами — стены валятся.
Именно подобные черты и были в Инсарове. Он был че-
ловеком дела, и в этом его главное отличие от Шубина,
Берсенева и всех людей сороковых годов. Как человек
дела, говорил он мало и даром тратить слов не любил.
Когда Берсенев стал приглашать его переехать к нему
на дачу, то Инсаров на его робкую, расплывающуюся
болтовню отвечал с лаконизмом, достойным Марка Воло-
хова, и Берсенев знал, что Инсаров не сдастся. В этой
твердости принципов — сила Инсарова и всех ему подоб-
ных. Такой человек должен был покорить Елену. Инсаров
смотрел прямо и открыто, был правдив, как Елена; прав-
да, он. не владел внешними талантами и красноречием
людей сороковых годов, но у него был свой талант получ-
139
me — сила для дела без ненужных слов. Когда пьяные
немцы вздумали задеть компанию, в которой участвова-
ли Елена и Инсаров, он кинул немца-зачинщика в пруд
так, что только пошли из воды пузЫри, и мало заботясь
о том, утонет ли немец, Инсаров пошел дальше. С такими
людьми шутить нельзя. Человек дела, он не умел опреде-
лить себя, и потому, когда Елена спросила его: «Вы очень
любите свою родину?», он ответил ей: «Это еще неизвест-
но. Вот, когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда мож-
но будет сказать, что он ее любил»... «Я уверен, вы полю-
бите нас: вы всех притесненных любите, — говорил даль-
ше Инсаров... — Вы сейчас спрашивали меня — люблю ли
я свою родину? Что же другое можно любить на земле?
Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя
не верить после бога? И когда эта родина нуждается
в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий
в Болгарии ия, — мы желаем одного и того же...» Когда
Инсаров ушел, Елена долго смотрела ему вслед. Он в
этот день стал для нее другим человеком. Со времени
знакомства с Инсаровым Елену начали мучить еще боль-
ше вопросы. «К чему молодость, к чему я живу, зачем у
меня душа, зачем все это?» — спрашивает себя Елена.
Она знает, что нужно делать добро, что это главное в
жизни, но как его делать? Покровительственная любовь
к собакам, котятам и воробьям не удовлетворяет. Жить
личной любовью по примеру Полинек, Талинек? На муж-
скую любовь уже нет запроса. Чувство более широкое
шевелится в груди Елены, и мировая, расплывчатая, бес-
предметная любовь, которою болели люди сороковых го-
дов в молодости, воплощается в Елене в ясно сознанную
любовь к людям. Это уж начало политической струйки
в русской женщине. Понятно, какими маленькими долж-
ны казаться ей все те, в ком нет подобных стремлений.
Шубин, Берсенев и все, все, кто ее окружает, кто с ней
живет, представляются ей карликами, а Инсаров? — ко-
гда он говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо
его хорошеет, и голос как сталь — и нет, кажется, тогда
на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил.
Ну как не плениться такою силою? И вот Елена соеди-
няет свою судьбу с судьбою Инсарова. «„И ты пойдешь
за мною повсюду?"— спрашивает он ее. — «Всюду, на
край земли. Где ты будешь, там я буду». — «Так ты себя
не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не
140
согласятся на наш брак?» — «Я себя не обманываю; я это
знаю». — «Ты знаешь, что я беден, почти нищий?» —
«Знаю». — «Что я не русский, что мне не суждено жить
в России, что тебе придется разорвать все твои связи
с отечеством, с родными?» — «Знаю, знаю». — «Ты зна-
ешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблаго-
дарному, что мне... что нам придется подвергаться нг
одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть мо-
жет?»— «Знаю, все знаю». — «Что ты должна будешь
отстать от всех твоих привычек, что там одна, между чу-
жими, ты, может быть, принуждена будешь работать. . .“»
Елена положила ему руку на губы... Наконец Инсаров
получает письма из Болгарии; друзья зовут его. «„Ведь
ты меня возьмешь с собою?"— спрашивает его Елена.—
«О, моя милая девушка, о моя героиня, — отвечал он,—
не грешно ли, не безумно ли мне, бездомному, одинокому,
увлекать тебя с собою... И куда же!» — Елена зажала
ему рот. — «Тссс... Разве не все решено, не все кончено
между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстает-
ся с мужем?» — «Жены не идут на войну». — «Да, когда
они могут остаться», — ответила Елена...» Былая любовь
к страдающим, от пауков мухам, к голодающим котятам
и щенкам, уроки нищей Кати, хотевшей жить на всей бо-
жьей воле, выросли в чувство любви к страдающим наро-
дам, в стремление к самопожертвованию для спасения
их. И Берсенев рассуждал о том, что есть слова соеди-
няющие, и причислял к ним родину, науку, свободу, спра-
ведливость, любовь, но не любовь-наслаждение, а лю-
бовь-жертву, да только словами и кончил. И Мари, герои-
ня романа г. Писемского, вышла замуж потому, что муж
ее был герой и проливал свою кровь за отечество на Кав-
казе.
Елена для нас новая женская форма, выработавшаяся
постепенно из формы предыдущей. Она продукт того же
жоржзандизма, который первый указал на нравственную
силу женщины. Конечно, это не совсем тот тип, который
усиливались создать Сакс, Соковлин, Рудин, Райский, и
для русского мужчины может показаться обидным, что
для окончательного перевоспитания русской женщины
явился болгар. Но пока вопрос не в этом; вопрос в том,
что явилась новая форма и ни одна русская женщина не
нашла, что Елена — выдуманная кукла. Ясно, что силы
141
Елены сказались и в других. Рудин увидел бы в Елене
Жанну д’Арк, о которой он пророчествовал.
Эта новая форма могла явиться лишь за счет отри-
цания всего того из предыдущей формы, что оказывалось
несовместным. И действительно, в Елене мы находим осо-
бенности, которые очень скоро сделались существенным
признаком поколения, сменившего людей сороковых го-
дов. Елена говорит с сознанием, что человеку нужно не-
счастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазна-
ешься. Только несчастье поучает человека счастью, если
злой рок помог ему родиться, подобно Елене, в хлопчатой
бумаге. У Елены уж и вкус другой. Она, как Инсаров, не
любит стихов и ничего не смыслит в художестве, в том
великом знании, на котором Сакс построил свой велико-
лепный план о перевоспитании Полиньки. А потом, когда
Инсаров спустил пьяного немца в воду, Елена писала в
своем дневнике: «Какие странные, новые, страшные впе-
чатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул
его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня
испугал. И потом какое лицо зловещее, почти жестокое!
Как он сказал: выплывет!.. Да, с ним шутить нельзя, и
заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дро-
жащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе
нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться крот-
ким и мягким? «Жизнь — дело грубое», — сказал он мне
недавно. Я повторила эти слова Андрею Петровичу; он
не согласился с Инсаровым...» Еще бы Берсенев мог
согласиться с этим! Ни Берсенев, ни Соковлин, ни Ру-
дин, ни Лаврецкий, ни Райский не могли переносить
грубости. Но зато они бы и не защитили, а постарались
бы стушеваться.
В чертах Елены и Инсарова заключаются все намеки
на новых людей, которым так досталось потом от того же
самого Тургенева: лаконизм, демократическая грубость,
прямизна отношений без всякого вилянья, дело без кра-
сивых слов, свобода обращения без чопорности и ложного
стыда. Г-н Тургенев, сам человек сороковых годов, как бы
вырыл собственными руками могилу для своего поколе-
ния и точно хочет сказать ему — ложись! твоя роль кон-
чена, твои идеалы не нужны, вот новая выступающая
сила, за которою пойдет жизнь. Но в своей земле никто
пророком не бывал.
142
XII
Г-н Тургенев остался верен правде своего времени,
дав Елене воспитателем болгара. Разве то развитие, на
путь которого встала Елена еще с ранней молодости, мог-
ли ей дать герои сороковых годов? Мы знаем их всех.
Сакс, умный и энергический, начал бы показывать Елене
картины, писанные масляными красками, играть с ней
сонаты Бетховена и петь романсы Шуберта. Рудин — но
он раскрывал только занавесы, за которыми являлись
расплывающиеся лучезарные круги и только. Соковлин,
Лаврецкий учили бы наслаждению любви и домоседству
на теплой лежанке. «А уж как бы мы были счастливы на
лежанке!» — сказал бы с глубоким вздохом Лаврецкий.
Но могли ли эти люди дать Елене то счастье, которого
она искала? Кого же могли отрядить из себя люди соро-
ковых годов, чтобы воспитать и развить Елену? Реши-
тельно никого не было. Г-н Писемский выкопал какого-то
Вихрова, но ведь Вихров не больше, как либеральный ис-
правник, пописывающий что-то из дилетантизма; не Вих-
ров тянет время, а время его, и мы были бы очень бла-
годарны г. Писемскому, если бы он нам объяснил, какая
существенная разница между прокурором Захаревским
и Вихровым. Для Вихрова идеал женщины — Мари, и
г. Писемский совершенно серьезно думает, что изобразил
очень тонкий идеал и женскую прогрессивность, заставив
Мари разлюбить своего старого, израненного мужа и по-
тянуться к более свежему и молодому Вихрову.
Кончавшее свой век поколение сороковых годов могло
переродиться лишь в Берсеневых, нежных, любящих, ча-
стью идеально мистических, преданных науке, в которой,
по их мнению, все спасение, но не могло создать актив-
ной силы, ибо жизнь — дело грубое, как сказал Инсаров.
Откуда же было явиться воспитателю, кого мог назна-
чить г. Тургенев в учителя Елены? И тут обнаруживается
снова своеобразность людей сороковых годов. Они вырос-
ли на общих понятиях и общих беспредметных чувствах,
на общей правде и общем сочувствии человечеству, стра-
дающему вообще. Г-н Тургенев и сам развился на своих
собственных «Записках охотника»; в те времена толкова-
ли и писали «о бедных людях», «о забитых людях»71. Еле-
на, конечно, читала эти описания, благодаря тому что ее
гувернанткой была сентиментальная институтка, любив-
143
шая литературу. И вот сердце Елены подготовилось со-
чувствовать всем страдающим и угнетенным, и от стра-
дающих котят Елена, по мере зрелости, перенесла свое
сочувствие на страдающих людей. Мог ли поэтому г. Тур-
генев поставить вопрос на реальную почву социального
движения? Автор мог его прозревать, мог даже знать
о его существовании, но страдание людей представлялось
ему явлением не социально-экономическим, а отвлеченно-
нравственным.
Поэтому г. Тургенев и придал Елене огромную долю
мечтательного элемента. В Елене мы видим неудовлетво-
ренность жизнью, окружающей пустотой, легкомыслием,
тупостью. «Для чего они живут?» — спрашивает Елена,
глядя на своего отца, на свою мать, на Увара Ивановича.
В самом деле, для чего живут эти люди? Вопрос этот не
новый, им могла задаться даже Мари г. Писемского. Но
дело не в вопросе, а в ответе. А какой ответ был у Рудина,
Сакса, Лаврецкого? Как бы они научили Увара Ивано-
вича жить иначе, чему бы они научили Елену? Они могли
воспитать только Полинек, Леночек, Танечек; но пора Ле-
ночек и Танечек проходила, их дряблость становилась
ясной, следовательно, и для активной, энергической Еле-
ны требовались иные учителя и воспитатели. И вот г. Тур-
генев изобретает Инсарова, на которого он переносит
русские черты, да только заставляет его делать нерусское
дело. Инсаров задуман путем того же творческого про-
цесса, как и Елена. Если хотите, Инсаров — Рудин, выво-
роченный наизнанку. Рудин носится с своею мировою лю-
бовью по свету и ничего не делает, но поняв наконец, что
это и в самом деле уж очень глупо, преображается в Ин-
сарова и отправляется спасать болгар. Впрочем, и настоя-
щий Рудин сделал почти то же самое, хотя из другого
побуждения — он пошел спасать французов и погиб на
баррикаде. Героическую Елену, конечно, мог удовлетво-
рить лишь какой-нибудь Инсаров, а кто бы мог удовле-
творить ее еще полнее и из русских — г. Тургенев сам не
знал, потому что никогда не стоял на реальной почве и
не мог даже представить себе людей другого закала.
В этом смысле и Елена является плодом оранжерей-
ным, хотя и из другой оранжереи, чем Полиньки и Лизы.
Для этих милых девиц вся жизнь заключалась в нежных
чувствах к мужчинам и в пленительном эгоизме вдвоем.
144
Лиза, когда ей не удалось выйти замуж за Лаврецкого,
пошла в монастырь. Катишь Прыхина у г. Писемского
отправилась по тому же побуждению в сестры милосер-
дия, Клеопатра Петровна излюбилась до того, что умерла
в чахотке. В той же единственной цели жизни причина
бедствий Лаврецкого, Соковлина, Сакса, а уж, кажется,
им-то можно бы найти себе дело. Оттого-то они так и бо-
ятся, чтобы их не разлюбили; оттого-то они и превосход-
ные мужья.
Но Елена даже и на пути любви стоит неизмеримо впе-
реди своих предшественниц. Ее любовь — из двух элемен-
тов; исчезнет один, останется другой, и примеру Лизы уж
ни в каком случае следовать не придется. И несмотря на
то, жаль, что судьба послала ей в развиватели Инсарова.
Инсаров неоспоримо человек хороший, сильный, стремле-
ния его превосходные, но тем не менее жаль, что Елена
не могла додуматься своим умом до таких требований,
более близких к родной почве, на которой она выросла.
И что это за злополучный рок, что судьба русской жен-
щины зависит так рабски от мужчины, на которого на-
толкнет ее случай. Ведь нужно же, чтобы Инсаров был
приятелем Берсенева! Ну, а если бы его приятелем был
Базаров или Марк Волохов? И не было ли бы это лучше?
Отчего же Елена не могла сама додуматься до того, на
что ее так хорошо наводила жизнь? Чего могли значить
уж одни уроки нищей Кати! Тут и бедность, тут и стре-
мление пожить на всей божьей воле. Кажется, вывод
прямой. Он не дался потому, что идеализация, переходив-
шая из поколения в поколение, наложила свою печать и
на Елену. Скверность окружающего научила ее мечтать,
а неуменье создать дело под руками заставило искать его
в искусственном, далеком мире, за разверзавшимися за-
навесами.
Но, несмотря на все это, русская женщина, созданная
эпохой жоржзандизма, вышла далеко выше мужчины
сороковых годов, выродившегося в Берсенева. Это факт,
констатируемый г. Тургеневым, знавшим свое время, и мы
не имеем никакого основания сомневаться в его верности.
Новая женская форма, несмотря на свою здоровую сущ-
ность, не могла служить, однако, руководящим идеалом,
хотя г. Тургенев, как кажется, усиливался придать такое
значение Елене. Правда, Елена выразила великую готов-
145
ность нести все тягости жизни Инсарова — и лишения, и
опасности, и унижение, и даже работать своими руками;
но мы из всего того, что говорит автор о ее воспитании,
не видим доказательств, чтобы она имела хоть какую-
нибудь подготовку для жизни труда и лишений. Действи-
тельно, она иногда ела с Катей черствый хлеб, да ведь
этого еще мало. Елена росла мечтательной девушкой, она
слишком работала воображением, постоянно уходила
в себя, удалялась от людей и никогда не спускалась
с идеально-мечтательной высоты, которая худо выделы-
вает человека для практической жизни. Умела ли Елена
даже шить?
Елена — последний продукт идеала людей сороковых
годов. И действительно, между Полинькой Сакс и Еле-
ной расстояние громадно. Но зато Еленой г. Тургенев
похоронил и себя и все свое поколение. Елена была лебе-
диной песнью г. Тургенева, его последним прогрессивным
словом. Выше Елены люди сороковых годов выдумать
ничего не могли; но это им не укор — нельзя же им было
выдумывать и после смерти. На почве русского жоржзан-
дизма они сделали много, и русская женщина помянет их
таким же добрым словом, каким поминают Станкевича,
Грановского, Белинского и всех честных людей того вре-
мени.
Я знаю, что моя похвала людям сороковых годов по-
нравится не всем, и считаю это не больше как недоразу-
мением, происходящим оттого, что мы до сих пор еще не
условились, кого называть людьми сороковых годов. Объ-
ясним примером. В обыкновенной речи деньги называют-
ся капиталом; но на языке экономической науки одни и
те же сто рублей могут быть, а могут и не быть капита-
лом. Капитал только то, что может быть элементом про-
изводства, а если сто рублей лежат неподвижно в сун-
дуке— они не капитал, а экономический нуль. Не та ли
же неясность обыденной речи создает и наше недоразу-
мение по поводу людей сороковых годов? Если вы меня
спросите: г. Тургенев — человек сороковых годов? — я,
в свою очередь, спрошу вас, о каком Тургеневе вы гово-
рите, о том ли, который написал «Записки охотника»,
или о том, который написал «Дым»? Если вы меня спро-
сите: Писемский — человек сороковых годов? — я вас
тоже спрошу, о каком Писемском вы говорите, о том ли,
146
который написал «Плотничью артель», или об авторе
«Взбаламученного моря»? Если вы меня спросите: Гон-
чаров — человек сороковых годов? — я снова спрошу вас,
о каком Гончарове вы заводите речь, о том ли, который
написал «Обыкновенную историю», или о том, который
напечатал «Обрыв»? Если вы меня спросите: Станкевич,
Белинский, Грановский — люди сороковых годов? — я
скажу: «Да, люди сороковых годов, к которым принадле-
жали некогда Тургенев и в некоторой степени гг. Писем-
ский и Гончаров, но уже нынче не принадлежат». У каж-
дого времени есть свое прогрессивное слово, которое оно
высказывает; прогрессивное дело, которое оно делает.
У людей сороковых годов было тоже свое слово и свое
дело, которые они сказали и сделали честно; у них была
и большая теоретическая работа, в чем вы можете убе-
диться из сочинений Белинского, и сильная пропаганда
жоржзандизма, в чем вы можете убедиться из романов
и повестей людей сороковых годов. Но это поколение
хороших людей вымерло с тех пор, как перестало гово-
рить прогрессивным языком. Гг. Тургенев, Писемский,
Гончаров, которые изредка напоминают о себе и теперь,
совсем не те люди, которых бы Белинский признал людь-
ми своего поколения. Чтобы быть человеком сороковых
годов, мало родиться в 1820 году и в 1840 году кончить
курс в Московском университете. Пожалуй, и Вихров сде-
лал такую же штуку, но кто же признает его человеком
сороковых годов, кроме г. Писемского? Чтобы иметь пра-
во на название человека сороковых годов, нужно было
сослужить службу своему времени, помочь ему в его деле.
Раскройте народную перепись 1820 года, вы найдете
в ней 15 миллионов новых имен, — неужели это все люди
сороковых годов? Наше недоразумение происходит от-
того, что, сказав «люди сороковых годов», вы представ-
ляете себе сейчас же Тургенева с «Дымом», Писемского
с «Взбаламученным морем», Гончарова с «Обрывом»,—
а зачем же не Белинского, Станкевича, Грановского и
других прогрессивных писателей той эпохи, выразивших
собою дух и стремления времени? Каждой эпохе дают
название прогрессивные люди, их только именем она и
зовется. Разве придет кому-нибудь в голову назвать ше-
стидесятые годы временем Всеволода Костомарова?72
Людей сороковых годов нет с тех пор, как нет России
сороковых годов. Где ее школы, чиновники, суды, ее кре-
147
постное право? Вызовите из могилы тень Белинского,
покажите ему теперешнюю Россию и спросите — та ли это
Россия, что тридцать лет назад? Ныне Белинского позво-
ляется читать уж и гимназистам, а тогда не смели читать
его генералы. Мы знаем, что живи Белинский в наше вре-
мя, он страдал бы и теперь, как страдали тогда, он стре-
мился бы и теперь горячо к чему-то, потому что Белин-
ские — всегда чудаки и никогда не умеют быть доволь-
ными настоящим, — но это что-то было бы уже совсем
иным, нисколько не похожим на его тогдашний идеал.
Уж одна отмена крепостного права сломила весь строй
жизни сороковых годов в такой степени, что романы
г. Тургенева, в которых мы еще в 1860 году находили
вопросы времени, теперь для нас область исторического
прошлого, как «Семейная хроника» Аксакова; немножко
поближе к нам — только в этом и разница. Покажите, где
Саксы, Лаврецкие, Рудины, Райские? Может быть, вы
их найдете в Николаевске-на-Амуре, может быть, оты-
щете и в Петербурге; но в том же Петербурге можно най-
ти и людей IX века; только что же из этого? Мы все-таки
утверждаем, что Саксы, Лаврецкие, Рудины, Райские,
Наташи и Елены умерли вместе с их авторами. Да, и
Елена умерла! Никого нет в живых из того времени. Вы
думаете, что провинция, читая так жадно «Обрыв», ве-
рила в существование Марков, Райских, Марфинек, Вер?
Ничуть не бывало. Она только оглядывалась с недоуме-
нием, и если молчала, то лишь по неспособности форму-
лировать свое недоумение. Не отнимайте от общества
здравого смысла, которым не всегда владеют всегда гото-
вые поучать его русские романисты. Думать, что гг. Тур-
генев, Гончаров, Писемский могут повернуть Россию хоть
на йоту назад — значит приписывать им тринадцатый по-
двиг Геркулеса, а себя превращать в умственного пигмея.
Ведь вы на это не согласитесь? Я вовсе не хочу сказать,
что у нашего времени нет врагов — тупости, рутины, от-
сталости, бедности и вообще всякой нищеты, умственной
и материальной, — всему этому имя легион. Вот эта-то
умственная нищета и завербовала в свои ряды гг. Турге-
нева, Гончарова, Писемского и многих других и стерла
с них все признаки прогрессивности; но она завербовала
их не как представителей сороковых годов — Белинского
она бы не завербовала.
148
XIII
Умственный прогресс идет преемственно из поколения
в поколение. Каждое поколение кладет свой камень в ос-
нову того здания, которое воздвигается веками. Тут сво-
его рода геологическое наслоение. Люди сороковых годов
положили свой кирпич и умерли; умерла их идея, умерли
их стремления, и на старый, уже каменеющий слой новая
жизнь осаждает слой новый. Пытаться воскрешать по-
койников больше чем бесполезно; это пустая трата сил,
отрываемых от живого дела.
Да и какие же это люди сороковых годов, когда от
каждого их теперешнего слова веет оскорбленным само-
любием, бессильным раздражением и усталостью! Для
нас люди сороковых годов — образ идеальный, соединяю-
щий в себе, как бы в фокусе, лучшие стремления своего
времени. Если вы спросите, кто же человек сороковых
годов — Белинский, Станкевич, Грановский, Кудрявцев,
Катков, Тургенев, Гончаров? — мы ответим, что никто из
них в отдельности; но если из каждого из них взять луч-
шее, то можно создать идеальный тип своего времени;
этот искусственно созданный образ и будет представите-
лем тех хороших мыслей, той прогрессивной идеи, из
которой люди дела создали новый русский общественный
порядок. Но разве гг. Тургенев, Писемский, Гончаров,
если мы станем судить их по их последним произведе-
ниям, являются представителями хотя какой-либо про-
грессивности?
Не обманывайтесь тем, что г. Тургенев заставляет го-
ворить за себя Литвинова и Потугина73. Мы знаем, что
это говорит сам автор. Если бы Литвинов и Потугин гово-
рили против личных убеждений г. Тургенева — он бы их
опровергнул. Не опроверг — значит говорит сам. «Дым,
дым, дым, все дым и пар, вся русская жизнь, все людское
и особенно все русское — дым», — говорит г. Тургенев.
Все как будто беспрестанно меняется, всюду новые обра-
зы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же
да то же; все торопится, спешит куда-то, и все исчезает
бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и
бросилось все на противоположную сторону, и там опять
та же безустанная, тревожная и ненужная игра». И то,
что еще так недавно совершалось с треском и громом —
дым, и все эти горячие споры и толки молодежи, мечтаю-
149
щей о преобразовании мира, — дым; и суждения и речи
государственных людей — дым; и все на свете — дым и
пар. Эту мысль, конечно, не по-русски, высказал много
ранее г. Тургенева еще царь Соломон.
И где эти люди, гордые, самонадеянные, стремив-
шиеся к чему-то? — продолжает г. Тургенев, уже не в ви-
де монолога, а в лицах. Опошлились или подломились;
либералы стали крепостниками, люди свободолюбивые
превратились в лакеев. Даже Губарев, божественный
Губарев, несокрушимый, как скала, сокрушился и стал
ругать мужиков скотами и свиньями и грозил им побоя-
ми: «Бить их надо, вот что, по мордам бить...» — гово-
рит он.
Да и какого ждать толку от России! Кто мы? На что
способны, где наша сила? «Мы, славяне, — говорит автор
«Дыма», — вообще, как известно, силой воли не богаты.
Что прикажете делать? Правительство освободило нас от
крепостной зависимости, спасибо ему; но привычка раб-
ства слишком глубоко в нас внедрилась: не скоро мы от
нее отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; бари-
ном этим бывает большею частью живой субъект; иногда
какое-нибудь так называемое направление над нами
власть возымеет... теперь, например, мы все к естествен-
ным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких
резонов записываемся в кабалу — это дело темное; такая
уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас
барин. Ну вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все
остальное мы наплевать! Чистые холопы! И гордость хо-
лопская и холопское уничижение. Новый барин народит-
ся— старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо
Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде у нас
происходили проделки! Мы толкуем об отрицании как об
отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не
так, как свободный человек, разящий шпагой, а как ла-
кей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по
господскому приказу». Крепко выражается г. Тургенев,
уж видно, очень рассердился.
Отделав образованных, г. Тургенев обращается к рус-
скому мужику. «Русский народ... о! это великий народ.
Видите этот армяк? вот откуда все пойдет. Все другие
идолы разрушены; будем же веровать в армяк. Ну, а коли
армяк выдаст? Нет, он не выдаст, прочтите Коханов-
скую74 — и очи в потолки! Право, если бы я был живо-
150
писцем, — все это за г. Тургенева говорит Потугин, —
вот бы я какую картину написал: образованный человек
стоит перед мужиком и кланяется ему низко: вылечи,
мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести,
а мужик, в свою очередь, низко кланяется образованному
человеку: научи, мол, меня, батюшка-барин, я пропадаю
от темноты. Ну, и разумеется, оба ни с места...»
А внутренний социально-экономический быт — уж и
не говорите! «Хозяйничать Литвинову в своем имении
оказывалось невозможным, нужда заставляла переби-
ваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки —
и вещественные, и нравственные. Новое принималось
плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый столко-
вался с добросовестным; весь поколебленный быт ходил
ходуном, как трясина болотная...»
Что же это такое, как не рефлексия, погубившая Ру-
дина? Все разъедает она в человеке, даже самую мысль.
Если писатель доходит до такого нравственного состоя-
ния — он умер, сколько бы лет он ни влачил потом свое
земное существование. Писание его делается уже патоло-
гическим продуктом, как у Гоголя его исповедь и перепис-
ка с друзьями. Человек мысли умирает с того момента,
когда он перестает служить лучшим стремлениям своего
поколения, когда он поет прежнюю песню, не чуя, что
наступили другие времена и нужны другие песни...
Отсталость г. Писемского другого характера. Он не
может впасть в рефлексию, потому что слишком убежден
в своей непогрешимости. Из всякого слова г. Писемского
видно, что он принадлежит к породе русских самородков,
против которых так яро говорит Потугин. «Наш брат са-
мородок «трень-брень» вальсик или романсик, и, смо-
тришь, уже руки в панталоны и рот презрительно скрив-
лен: я, мол, гений. И в живописи то же самое, и везде...
Нет; будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись с аз-
буки! Не то молчи, да сиди, поджавши хвост!» Писарев
справедливо говорит, что образ мыслей г. Писемского
загроможден предрассудками, противоречиями и разла-
гающимися остатками кошихинской старины75. Но Писа-
рев несправедлив, когда он видит в г. Писемском худож-
ника и объективного писателя76. Именно той чистой худо-
жественности, в основе которой, как у Тургенева, лежит
теплое человеческое чувство, у г. Писемского решительно
нет и никогда не было. Он запутывается в собственных
151
противоречиях, его подавляет масса житейских фактов,
которых он никак не в состоянии обобщить до идеала или
типа. У г. Писемского никак не поймешь, что он хочет
сказать, и на ваш вопрос, что же делать? — вы видите,
что автор только молча разводит руками. Оттого-то так
и жалка мелкая, всеразрушающая объективность г. Пи-
семского. Нарисует он вам дурака, или взяточника, или
самодура, нарисует он вам семейную драму, подавляю-
щую вас своею духотой, — и думайте, что себе хотите.
Мы знаем, что критике открыто широкое поле говорить
по поводу подобных произведений. Но ведь это только по
поводу. Да хотел ли, например, г. Островский сказать
в своих сочинениях то, что сказал по поводу их Добро-
любов в «Темном царстве»?77
В г. Писемском была своего рода сила, но сила коло-
бродящая, неустановившаяся; вы видите писателя, ничем
не довольного, ничем не удовлетворенного, но в то же
время лишенного всякого гуманно-общественного чувства,
лишенного ясно сознанного стремления. У Тургенева вы
встретите идеальные типы, по которым можете просле-
дить историю развития некоторых русских мыслей и не-
которых лучших русских стремлений. Тургенева можно
признать русским Жорж Зандом, ибо никто лучше его не
анализировал женского чувства, никто лучше его не со-
здал разнообразных женских идеалов, не изобразил
страданий известных душевных состояний. Г-н Тургенев
в этом отношении имеет важное воспитательное значение.
А г. Писемский хватит вас точно обухом по лбу, задушит
вас каким-то смрадным воздухом и ни одним намеком
не укажет, где спастись от обуха, где найти свежий воз-
дух. И мы понимали бы подобное направление таланта
г. Писемского, если бы в этой затхлости была последо-
вательность. Мы пришли бы к выводу, если бы нас вели
к нему. Г-н Писемский не ведет никуда, да он и сам не
знает, куда идти, и потому постоянно себе противоречит.
Вы наконец теряете в него всякую веру и отворачиваетесь
от него, как от человека, который не в состоянии сказать
вам ничего гуманного, полезного и определенного. Указы-
вают на то, что г. Писемский рисует всю мерзость жизни,
всю ее духоту и как бы является отрицателем. Но ведь
и Потугин г. Тургенева все и всех отрицает, потому что
страдает геморроем и какою-то болезнью печени. От та-
кого отрицания никому ни тепло ни холодно.
152
А между тем какая неизмеримая гордость. С скром-
ностью истинного самородка, г. Писемский вообразил
себя Геродотом и говорит... ну, как вы думаете, что он
говорит? — «Пусть будущий историк со вниманием и до-
верием прочтет наше сказание («Взбаламученное мо-
ре»), мы представляем ему верную, хотя и неполную
картину нравов нашего времени, и если в ней не отрази-
лась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее
ложь»78. Господи, господи! до чего может дописаться
бессознательное творчество.
И считая своих читателей совсем мальчиками, г. Пи-
семский поучает их уму-разуму устами своих героев. Мы
не против назидательного элемента литературных произ-
ведений. В назидании их сила. Но назидание должно
заключаться в тех ощущениях, которые переживает чита-
тель, и в тех выводах, которые он сам делает. Г-н Писем-
ский поступает навыворот. Весь роман «Люди сороковых
годов», и особенно пятая, последняя часть, непрерывный
«разговор о добре и зле», разговор, в котором вы видите
худо спрятавшегося за занавесками автора, суфлирую-
щего своим героям. Главным резонером является, конеч-
но, герой романа Вихров, резюмирующий наконец всю
мудрость г. Писемского в следующем монологе. «Гений
нашего народа, — рассуждает Вихров, — пока выразился
только в необыкновенно здравом уме и вследствие этого
в сильной устойчивости; в нас нет ни французской галан-
терейности, ни глубокомыслия немецкого, ни предприим-
чивости английской, но мы очень благоразумны и рассу-
дительны'. нас ничем нельзя очень порадовать, но зато
ничем и не запугать. Мы строим наше государство мед-
ленно, но из хорошего материала; удерживаем только
настоящее, а все ложное и фальшивое выкидываем. Что
наш аристократизм и демократизм совершенно мираж-
ные явления — в этом сомневаться нечего; сколько вот
я ни ездил по России и ни прислушивался к коренным и
любимым понятиям народа, по моему мнению, в ней не
должно быть никакого деления на сословия — и она дол-
жна быть, если можно так выразиться, по преимуществу
государством хоровым, где каждый пел бы во весь свой
полный, естественный голос и в совокупности выходило
бы все это согласно... Этому свойству русского народа
мы видим беспрестанное подтверждение в жизни: у нас
есть хоровые песни, хоровые пляски, хоровые гулянья...
153
У нас нет, например, единичных хороших голосов, но зато
у нас хор русской оперы, я думаю, первый в мире. У нас —
превосходная придворная капелла; у каждого архиерея
отличный хор певчих». Благодушная, но глупенькая Мари
слушает с благоговением эту детскую болтовню, эту па-
родию на погодинские афоризмы Вихрова79, и думает, что
он и в самом деле Колумб, открывший Америку.
А между тем наш Колумб, в сущности, не ушел даль-
ше гоголевского Манилова. Г-н Писемский серьезно по-
лагает, что здравый смысл есть сокровище, которого нет
ни у кого, кроме русских, вовсе не подозревая того, что
здравый смысл есть и у готтентотов. Здравый смысл не
больше как практическая способность выбрать из двух
очевидностей одну, более выгодную. Ну, у кого же нет
этой способности? Всякий народ усваивает то, что ему
годится, и не принимает того, чего ему не нужно. Вопрос
вовсе не в этом, а в том, что г. Писемский считает себя
весталкой80, хранящей неугасимый огонь русского здра-
вого смысла. Но ведь то же самое думает о себе и г. Тур-
генев, и г. Гончаров, и все те, кто не согласен с ними.
Кто же тот истинный представитель русского здравого
смысла, которому суждено создать русский согласный
хор? Г-н Писемский говорит — народ, а г. Тургенев
смеется над народом и над верой в спасительный армяк.
Но и г. Писемский вовсе не так искренно верит в русский
здравый смысл, как он ораторствует в «Заре». Превознося
русский здравый смысл и указывая на него как на един-
ственный якорь спасения, г. Писемский в то же время
говорит, что «все у нас живут по какому-то точно навсегда
уже установившемуся для русского царства механизму.
Разумеется, всем, кто поумнее и почестнее, как-то не-
ловко; но все в то же время располагают свою жизнь по
тем правилам, которые скорей пришли к нам через ухо,
чем выработались из собственного сердца и пониманья».
И неужели и это здравый смысл? Г-н Писемский скажет,
что он говорит это не о народе, что образованные довели
Россию до такого состояния; зачем же вы говорите в та-
ком случае о способности русского человека к хору и
залог русской общественной и политической мудрости
видите в том, что у каждого архиерея есть певчие и что
хор русской оперы лучший в мире. Русскому Геродоту
подобные младенческие доказательства приводить непри-
лично. Да и ссылкой на народ г. Писемский тоже себя
154
не защитит. Конечно, он усиливается изобразить из себя
друга народа и сторонника его здравого смысла; но в то
же время он трактует излюбленный для него народ не-
многим лучше бирского исправника81. По теории г. Пи-
семского, стремления русского народа следует объяснять
лишь его хороватостью, а двигающей силой должен быть
здравый смысл. Но тот же г. Писемский в «Взбаламучен-
ном море» выставляет русского простого человека таким
олицетворением тупоумия, что больно читать. Некогда
«Время» обрушилось на г. Н. Успенского за его рассказы
из народного быта82; но мужики Успенского не бывали
никогда так глупы, как мужики г. Писемского. Все, что
шевелилось на дне души русского человека, все его соци-
ально-экономические теории и стремления г. Писемский
свел к простому наущению бежавшего кучера Михайлы,
разбойника, вора и убийцы. Ну, какой же тут здравый
смысл, какое же это адвокатство за народ! Какой же вы
русский! И г. Писемский всегда таков: в монологе он про-
читает вам лекцию о хоре, а в лицах изобразит какого-
нибудь Михайлу, за которым, как стадо баранов, тянется
мир.
Или, может быть, это объективность? Действительно,
кого бы ни рисовал г. Писемский — это всегда какое-ни-
будь нравственное уродство и искалечение. И чем чело-
век больше изуродован, тем он лучше в изображении г. Пи-
семского. Оттого-то у него так и хороши какой-нибудь
циник Иона83, мужик-негодяй, расходившаяся чернозем-
ная сила. Но чуть г. Писемскому приходится изображать
людскую порядочность — у него выходят китайские тени
вроде Вихрова, Мари, Марьеновского и Евпраксии. Пре-
словутая же русская хороватость оказывается лишь тогда,
когда нужно совершить какие-либо пакости. Г-н Писем-
ский точно не видел ни одного живого человека, который
бы пришелся ему по вкусу; его живые люди всегда раз-
бойники, негодяи или дураки; его идеалы — всегда тени.
А в то же время он льстит русскому здравому смыслу и
уверяет читателя, что у него болит душа за всех стра-
дающих. Какой, право, добрый! Впрочем, Писарев весьма
верно сказал, что когда г. Писемский примется рассу-
ждать, то хоть святых вон выноси.
Нигде бессилие г. Писемского не обнаруживается
в такой несчастной наготе, как в «Людях сороковых го-
дов». Мы нисколько не сомневаемся, что ему хотелось
155
весьма искренно похвалить этих людей; но как г. Писем-
скому приходилось в этом случае иметь дело с людьми
порядочными, даже идеальными, а он мастер рисовать
лишь кучеров, да и то только дурного поведения, то люди
сороковых годов изобразились у г. Писемского очень
маленькими карликами, немножко смешными, а больше
жалкими.
Чтобы понять эпоху и людей, нужно быть способным
проникнуться их чувствами и мыслями. Если нет ни того
ни другого, не может быть и создано ничего сильного. Вот
на чем мы основываем свое мнение о полной непрогрес-
сивности г. Писемского и о том, что, укоряя других в ме-
лочной лжи, он не замечает в своем глазу бревна. Пусть
молодые лгали, но они лгали искренно.
Способность создавать героев есть не больше как спо-
собность проникнуться величием данной идеи. Герой есть
идея коллективная. Из отдельных небольших людей бе-
рутся отдельные черты, отдельные силы, которые кон-
центрируются в одном идеале, в вымышленном лице,
в герое. Оттого-то герой — идеал, оттого он и сила, в ко-
тором каждый найдет частичку самого себя. В герое оли-
цетворяются народные страдания, народные стремления,
народная дума или стремления и идеи образованного
общества или части его. Таким образом, в лице героя
соединяются силы тысячей, сотен тысяч людей, смотря
по размеру и большей или меньшей всеобщности стре-
мления. Чем сильнее в авторе способность выразить эту
силу, сконцентрированную в идеальном герое, тем выше
талант автора; чем слабее — тем и талант слабее. Выра-
зить стремления страны в данную минуту в идеальном
герое величайшая задача и заслуга писателя. Выразит
ли он житейскую мерзость, выразит ли он благородные,
прогрессивные порывы — все равно, лишь бы в герое ска-
зались сила и правда. Размером этой силы и правды, как
масштабом, мерится авторский талант. Наболевшее на-
родное чувство под крепостной неволей, вредное влияние
крепостной системы на все стороны общественной жизни,
горячий порыв лучших русских людей спасти свою страну
от крепостной язвы и устроить порядочные общественные
и частные отношения, наконец, осуществление этого стре-
мления в отмене крепостного права и в гласном суде —
вот картина, которую задумал г. Писемский нарисовать
в своем последнем романе. Картина не маленькая; захва-
156
чена целая четверть столетия; есть над чем подумать и
погрызть перо! Что же нарисовал г. Писемский в дей-
ствительности?
Всех своих героев он показал сначала в эмбрионе, все
мальчики и девочки, фигурировавшие в первых частях
в панталончиках и манишечках, оказались потом государ-
ственными людьми и теми людьми дела, которые осуще-
ствили общественный идеал людей сороковых годов.
Красивый мальчик Абреев вышел красивым флигель-адъ-
ютантом, потом молодым генералом; наконец г. Писем-
ский сделал его губернатором. Вихров определяет Абре-
ева так: он военный и с состоянием и потому консерватор;
Абреев — человек добрый, благородный, деликатный.
Он — олицетворенное бессилие; он везде очень благоро-
ден, очень обидчив, но никакого дела подвинуть вперед не
в состоянии.
Плавин, тот Плавин, который вдохнул в Вихрова
страсть к театру, вышел тоже каким-то очень важным ад-
министратором. По определению Вихрова, Плавин —
статский и еще добивающийся состояния, а потому ради-
кал. Плавин дерзок, нахал, как все выскочки, но он сила,
хотя и внешняя, а все-таки сила. У него нет никаких
убеждений, но раз усвоив себе что-нибудь чужое, он уже
будет работать как вол и ни перед чем не остановится.
Марьеновский смотрит на Плавина еще хуже. По его сло-
вам, Плавин, в сущности, ничего; господин, очень любя-
щий комфорт и удобства жизни и вызнавший способ пока-
зывать в себе человека весьма способного. Способности
его заключаются в том, что все новые предположения,
которые одних пугают и смущают, а другими не совсем
сразу понимаются, он так сумеет показать и объяснить,
что их сейчас же уразумевают и перестают пугаться.
«Неужели же этот господин никогда не обличится, — раз-
мышляет Вихров о Плавине, — и общество не поймет, что
он вовсе не высокодаровитая личность, а только нахал
и человек энергический?»
Генерал Эйсмонд, севастопольский герой, человек глу-
пый, невежественный, но очень храбрый. После падения
Севастополя петербургское общество приняло Эйсмонда
с энтузиазмом, давало ему обеды, говорило спичи и затем
он был назначен на покойное и почетное место.
Правовед Захаревский, по определению Марьенов-
ского, вышел внешним, неглубоким юристом. Но он
157
тайный советник с анненской звездой и мученик служеб-
ного честолюбия до того, что даже похудел.
Инженер Захаревский вышел в отставку. «Стоит, го-
ворит, руки в грошах марать, да еще попреки получать;
хватать, так хватать миллиончики», и стал заниматься
железнодорожными подрядами.
Один Марьеновский оказывается хорошим человеком.
Это уже совсем седой, несколько даже сгорбленный ста-
рик, тайный советник и со звездой. Марьеновский зани-
мается по устройству новых судебных учреждений и, по
словам Вихрова, человек наиболее достойный для этого
дела. В чем заключаются достоинства Марьеновского,
какими заслугами он дошел до своего теперешнего поло-
жения, г. Писемский не говорит ни слова. Он показал его
всего два раза: только что окончившим курс студентом
и затем в последней части романа седым тайным совет-
ником. Где затем пропадал г. Марьеновский — неизвест-
но, почему он достойный человек — тоже нигде не объ-
яснено. Вообще Марьеновский какое-то вводное, случай-
ное лицо. Уж не для того ли г. Писемский показал его
в пятой части, чтобы не огорчать слишком русских адми-
нистраторов, среди которых он не усмотрел ни одного по-
рядочного человека?
Относительно высшей администрации г. Писемский
заставляет Абреева высказать такое мнение: «Можно
иметь какую угодно систему — самую строгую, тираниче-
скую, потом самую гуманную, широкую: всегда найдутся
люди весьма честные, которые часто из своих убеждений
будут выполнять ту и другую; но когда вам сегодня гово-
рят: «крути!», завтра: «послабляй!», послезавтра опять
«крути!»... — «Как же, так прямо и пишут: «крути и по-
слабляй!»,— вмешалась Мари. — «О нет, — отвечал Аб-
реев, — но это вы сейчас чувствуете по тону получаемых
бумаг, над которыми, ей-богу, иногда приходилось целые
дни просиживать, чтобы понять, что в них сказано! На
каждой строчке: но, впрочем, хотя.,. а что именно —
этого-то и не договорено, и из всего этого вы могли вы-
вести одно только заключение, что вы должны были иметь
железную руку, но мягкую перчатку».
Изобразив в таком виде своих героев, г. Писемский
заставляет неизмеримо самолюбивого Вихрова проник-
нуться нижеследующею несчастною мыслью, которую он
и высказывает Марьеновскому. «Мне иногда приходит
158
в голову нестерпимое желание, — говорит Вихров, —
чтобы всем нам, сверстникам, собраться и отпраздновать
наше общее душевное настроение. Общество, бог знает,
будет ли еще вспоминать нас, будет ли благодарно нам;
но по крайней мере мы сами похвалим и поблагодарим
друга друга». Тайный советник Марьеновский, отличав-
шийся, по словам г. Писемского, большою скромностью,
ответил: «Мысль недурна!» Такого ответа мы от вас,
г. тайный советник, не ожидали, и нам очень обидно за
проницательность г. Писемского, которого вы так лукаво
провели за нос. Он вас рекомендует всем как человека
скромного, а вы хотите дать себе торжественный обед за
заслуги и похвалить себя за этим обедом! А с другой сто-
роны, не спохватился ли сам г. Писемский и не захотел
ли он поправиться по примеру Собакевича, который хотя
и нашел прокурора человеком хорошим, но потом все-
таки выругал свиньей?
Обед, конечно, состоялся, и оратор торжества, Вихров,
сказал, перед шампанским, следующую речь: «Мм. гг.
Все мы, здесь собравшиеся на наше скромное праздне-
ство, проходили в жизни совершенно разные пути — и все
мы имеем одну только общую черту, что в большей или
меньшей степени принадлежим к эпохе нынешних пре-
образований. Конечно, в этой громадной перестройке при-
нимали участие сотни гораздо более сильнейших и заме-
чательных деятелей; но и мы, смею думать, имеем право
сопричислить себя к сонму их, потому что всегда, во все
минуты нашей жизни были искренними и бескорыстными
хранителями того маленького огонька русской мысли,
который в пору нашей молодости чуть-чуть и то воровски
тлел, — того огонька, который в настоящее время разго-
релся в великое пламя всеобщего государственного пере-
устройства. Да, милостивые государи, эти реформы обду-
мывались и облюбились не в палатах тогдашних госу-
дарственных мужей, а на вышках и в подвалах, в бедных
студенческих квартирах и по скромным гостиным литера-
торов и ученых. Я помню, например, как наш почтенный
Виктор Петрович Замин, сам бедняк и почти без приста-
нища, всей душой своей только и болел, что о русском
крестьянине; как Николай Петрович Живин, служа стряп-
чим, ничего в мире не произносил с таким ожесточением,
как известную фразу в студенческой песне: «Pereat justi-
159
Па!»*, как Всеволод Никандрыч (Плавин), компромети-
руя себя, вероятно, на своем служебном посту, ненавидел
и возмущался крепостным правом! Не забыть мне, мило-
стивые государи, и того, как некогда блестящий и свет-
ский полковник (Абреев) обласкал и заступился за меня,
бедного и гонимого литератора; как меня потом в целом
городе только и приветствовали именно за то, что я был
гонимый литератор, — это два брата Захаревские: один
из них был прокурор и бился до последних сил с деспотом
губернатором, а другой — инженер, который давно уже
бросил мелкое поприще чиновника и даровито принялся
за дело предпринимателя. А вас каким словом опривет-
ствовать, — обратился Вихров к Марьеновскому, — я уже
не знаю: вашей высокополезной, высокоскромной и чест-
ной деятельности мы можем только удивляться и завидо-
вать в лучшем значении этого слова! .. Все эти черты,
которые я перечислил из нашей прошедшей жизни, дают
нам, кажется, право стать в число людей сороковых го-
дов! ..» Все, конечно, обрадовались, что они так легко по-
пали в люди сороковых годов, и стали кричать Вихрову:
браво, прекрасно, прекрасно!
Самый злейший враг не поступил бы с таким ехидным
лукавством, с каким поступил г. Писемский с героями
своего романа, и преимущественно с Вихровым. Ну как
во всех пяти частях уверять, что Вихров герой, что он
человек сороковых годов, и затем перед самым концом
романа заставить героя так позорно провалиться! Г-ну
Тургеневу ничего не стоило заставить Базарова перед
смертью причаститься, однако он этого не сделал. Как,
Замин, Петин, Абреев, Захаревский, Плавин — люди со-
роковых годов! Да ведь вы сами говорите, что они пош-
ляки. Плавин даже имел положительный талант пони7
жать всякую порядочную мысль; а инженер Захаревский,
этот казнокрад и грабитель, про которого Вихров не на-
шел сказать ничего более, как то, что он поприще чинов-
ника променял на дело подрядчика железных дорог?
Бедный Белинский, если бы он знал, что его поставят на
одну доску с Захаревским! И кто же? Литератор, считаю-
щий себя не только человеком сороковых годов, но и вер-
ным летописцем своего времени, летописцем, требующим,
чтобы будущий историк России читал его романы со вни-
* Да погибнет справедливость (лат.).
160
манием и доверием. И почему бы Вихрову не пригласить
на обед всех своих однокашников по гимназии и универ-
ситету, почему бы ему не пригласить и станового пристава
Огаркина с женой?
Вихров говорит, что свершившиеся реформы обдумы-
вались не в палатах тогдашних государственных мужей,
а на вышках и в подвалах, в бедных студенческих квар-
тирах и по скромным гостиным литераторов и ученых.
Правда, но только в этом деле не повинны ни Замин, ни
Петин, ни Захаревский, ни Абреев, ни Плавин, никто из
тех, кого Вихров собрал обедать у Донона. Сам Вихров
же говорит, что все это пошляки, недоучки, честолюбивые
чиновники, и только. Тех, кто вырабатывал идею, разре-
шившуюся реформами, г. Писемский нам не показал и
Вихров на обед не пригласил. Вихров даже совсем и не
подозревает разницы между людьми прогрессивной идеи
и людьми дела. Люди сороковых годов были людьми идеи,
и больше ничего. Они страдали за окружающее их обще-
ство, они уясняли причины его страданий, но, воплощая
в себе идею, они не знали, да и не могли знать, какой
потребуется акушер для ее рождения и какие употребит
он инструменты. Люди дела могли явиться из того же
поколения людей, могли явиться и из другого; у нас они
явились из поколения сороковых годов. Но в то время,
когда жили люди идеи, людей дела еще не было. Дело
следует за идеей, и люди дела следуют за людьми идеи,
когда она вполне созрела и сделалась возможной для
практического осуществления. С воплощением идеи лю-
дей сороковых годов начинается период новой русской
истории; идея, лежащая по ту сторону границы перио-
да,— идея уже умершая, у нее не может быть живых
представителей, потому что ее самой нет. По сю же сто-
рону границы начинается новая жизнь, возникает новая
идея, воплощение которой еще в будущем. Да и что такое
роман г. Писемского, как не тризна по умершей идее и
по умершим людям. Хочешь быть человеком нового пе-
риода— живи его идеей; не хочешь — ты умерший.
Но печальную тризну отпраздновал г. Писемский и
убого похоронил свой собственный талант. Та же печаль-
ная участь постигла г. Гончарова и г. Тургенева. Люди
идеи, они пережили свою идею, и нового слова у них нет,
и сказать им больше нечего. Те, кто живет задами, могут
б В. В. Шелгунов
161
еще долго восхищаться «Рудиным», «Дворянским гнез-
дом», «Обломовым», «Обыкновенной историей», «Тюфя-
ком», но этим любителям исторических памятников никто
не мешает восхищаться «Бедной Лизой», «Юрием Мило-
славским», «Последним Новиком» и даже «Таинствен-
ным монахом» г. Зотова. В обширном русском государ-
стве есть любители, восхищающиеся даже «Франциском
Венецианом»84. Мало ли чего нет на свете! Но если чело-
век понимает свое время, если он в состоянии понять, что
идея сороковых годов уже воплотилась и уступила свое
место новой идее, то он не может не согласиться, что
литературные произведения, которые еще так недавно
нас волновали, потому что затрагивали живые вопросы,
волновать нас теперь не могут, ибо вопросы эти сданы
в архив. Нам говорят, что новые таланты неизмеримо сла-
бее старых, предположим даже, что новых талантов и
совсем нет, как будто от этого старое сделается новым?
Воздадимте живым и умершим покойникам по их заслу-
гам и перестанемте об них спорить и шуметь. Есть у нас
свое дело, как и у людей сороковых годов: будемте людь-
ми шестидесятых годов.
Так как статья моя растянулась, то я считаю необхо-
димым резюмировать то, что я хотел доказать.
Люди сороковых годов для нас идеальные представи-
тели прогрессивной идеи, воплотившейся в современных
реформах и в тех улучшениях общественных и частных
отношений, которые уж мы переживаем.
Реформы нового времени составляют границу двух
периодов: старой, законченной эпохи сороковых годов, и
новой, начавшейся шестидесятыми годами.
Люди сороковых годов, как представители известной
прогрессивной идеи, уже не существуют. Врагами людей
шестидесятых годов являются не они.
Сохранившиеся в живых писатели предыдущей эпохи,
тоже покойники, хотя они и живы. Прогрессивное значе-
ние их кончилось. Современное бессилие их вполне дока-
зано их последними произведениями. Писемский ослабел
до того, что был даже не в состоянии обрисовать верно
и сильно людей своего времени. Он опошлил эпоху, кото-
рой гордится.
Со следующей главы я перейду к людям шестидесятых
годов.
162
XIV
Идеальный образ человека сороковых годов предста-
вить себе не трудно. Писатели предыдущего периода на-
рисовали целую массу характеров своего времени. Конеч-
но, изображения эти не отличаются полнотой и закончен-
ностью и не дают человека цельного, в котором, как в
фокусе, соединялись бы все черты, характеризующие
стремления эпохи. Героя-титана нет. Но тем не менее из
отдельных характеров и из практических результатов,
которыми закончился предыдущий период нашей исто-
рии, мы можем составить себе весьма точное представле-
ние об основных чертах человека сороковых годов.
С человеком шестидесятых годов задача труднее. В за-
конченном виде он еще не сформировался и не проявил
всех своих специальных особенностей настолько, чтобы
их можно было подвести под общий итог. Оттого и все
попытки изобразить человека шестидесятых годов были
до сих пор неудачны. Человек сороковых годов лет два-
дцать пять думал свою думу, поправлял свое суждение,
формировал свое мировоззрение, прежде чем его идея
стала делом. Человек же шестидесятых годов вступает
только во второй момент своего развития и еще продол-
жает вырабатывать свою идею.
Этого простого закона коллективного мышления це-
лыми поколениями писатели сороковых годов, кажется,
вовсе и не подозревали; иначе они не поспешили бы выпу-
стить целую массу романов, которых им было бы лучше
не писать. Но дело сделано; старички опростоволосились,
и ошибки своей им не поправить: будущий беспристраст-
ный историк, которого г. Писемский просит читать «Взба-
ламученное море» со вниманием и доверием, усмотрит
в этом произведении лишь печальное подтверждение
справедливости басни о лягушке и воле, и самолюбивая
уверенность г. Писемского останется неудовлетворенной.
Мы этому радуемся.
Но если поспешность писателей сороковых годов не
стяжала им права на историческую проницательность,
зато она послужила несомненным признаком того, что
прогрессивное литературное поприще этих людей уже
Кончилось, а вместе с тем помогло самоопределению лю-
дей шестидесятых годов. Конечно, это случилось бы и
Помимо вмешательства гг. Писемского, Тургенева и запо-
. 163
здалого предостережения г. Гончарова85; но зато теперь
резче и с большим шумом «отцы» отделились от «детей»
и гораздо ярче обнаружили весь комизм своей обидчи-
вости, которую они напрасно усиливались выдавать за
опытную мудрость. «Отцы» сами подали в отставку, а
«дети» только ее подписывают.
Г-н Писемский, тщательно собравший в «Взбаламу-
ченном море» «всю русскую современную ложь», глав-
ными героями русского тупоумия делает Бакланова и
Софью.
Бакланов еще юношей обнаруживал великую наклон-
ность быть истинным сыном своего времени. Раз к Бак-
ланову приходит его приятель Венявин. Оба они были еще
студентами первого курса. «Ну, скажи, давно ли сюда
прибыть изволил?» — спросил Венявин Бакланова.
«Дня три», — отвечал Бакланов. — «С нею, значит, уж
виделся?» — «Разумеется», — отвечал Бакланов и заки-
нул, как бы в утомлении, голову назад. «В таком слу-
чае извольте рассказывать, как и что было», — продол-
жал Венявин. «А было, — отвечал Бакланов, — что я
стал к ней в такие отношения, при которых уже пятиться
нельзя!» Венявин даже побледнел. «Как так?» — спросил
он. «Так! — И Бакланов еще дальше закинул голову на-
зад.— Она была, — продолжал он, закрывая глаза,—
грустна, как падший ангел... Только и молила! «что вы
со мною делаете? ..» Но я был бешеный!» — прибавил он,
сжимая кулаки». И все это Бакланов налгал, хотя г. Пи-
семский и уверяет, что это была не ложь, а скорее черес-
чур разыгравшаяся мечта. Отношения, при которых не-
возможно уже пятиться, заключались просто в том, что
Бакланов поцеловал у Сони воровски, под столом, руку;
а Соня сказала: «Перестаньте».
Бакланов — барич и баловень. Благодаря порядочным
денежным средствам он ведет в Москве трактирную
жизнь, играет между своими товарищами некоторую
роль, ломается, корчит либерала, делает в театре скан-
далы, а раз даже устроил целый заговор против танцов-
щицы Андрияновой и ей бросил на сцену кошку. Сам
Бакланов говорит про себя, что в гимназии он решитель-
но ничего не делал и не знал. Что дома французскому
языку только выучили, и то было забыл. В университете.,
тоже... все больше каким-то туманом осталось в голове.
На первом курсе был занят глупою любовью к кокетке
164
девушке (Соня). Потом с горя, от неудачи в этой любви,
на втором и третьем курсах пьянствовал и, наконец, на
четвертый год — глупей ничего и вообразить нельзя,—
говорит Бакланов, — клакером был! «У меня, бывало,
матушка только и говорит: Сашенька, батюшка, не учись,
болен будешь! . . Сашенька, батюшка, покушай. Сашень-
ка, поколоти дворового мальчишку, как это он тебе гру-
биянит».
Окончив так блистательно свое образование, Бакла-
нов отправился к себе в деревню и там принялся охо-
титься на красивых девок и посещать посиделки. Сред-
ства для любовных побед не отличались особенной раз-
борчивостью. Бакланову понравилась девушка Маша. Но
переговоры не удавались. Наконец Петр, ходивший за
Баклановым, решил, что «попугать ее хорошенько надо»,
и, должно быть, действительно попугал хорошо, потому
что Маша явилась на свиданье. Вторым наставником
Бакланова по этой части был Иона Мокеич. Подвиги
Ионы Мокеича, прозванного циником, отличались на по-
прище деревенского волокитства такой виртуозностью,
что оказывалось необходимым брать на подмогу кучера
Гаврилу, владевшего геркулесовской силой. К чести Ба-
кланова нужно, однако, заметить, что для совместных
подвигов с Ионой Мокеичем он не чувствовал в себе до-
статочного присутствия духа в трезвом виде и напивался
пьян. В похвалу Бакланову можно привести и другой
факт. После одного ночного похождения, в котором Иону
Мокеича чуть не убили деревенские парни, является
к Бакланову Петр и докладывает, что его желает видеть
Маша. «Где же она?» — спрашивает Бакланов. «В ови-
не, на гумне дожидается», — отвечает Петр. «Пожалуй,
еще чувствительность выражать будет! На что глупа, а
это уж понимать начинает», — подумал Бакланов, от-
правляясь в овин. В овине, совсем почти темном, Маша
сидела на кучке дров и плакала. «Что это такое? Об
чем?» — спросил ее Бакланов. «Маменька ваша-с, — от-
вечала Маша, — призывала меня вчера к себе-с».—
«Н-ну?» — «По щекам прибила-с... «Мерзкая, говорит,
ты...» Замуж приказывает идти-с за Антипова сына».—
«Но ведь ты не хочешь?» — «Нет-с, что хотеть-то-с!» —
<<Ну и не ходи, если не хочешь!» — «Выхлестать хочет,
коли, говорит, не пойдешь; а я, помилуйте, чем виновата?
Не своей охотой тоже шла-с (то есть на первое свиданье
165
с Баклановым)». Затем последовала у сына с матерью
сцена. Сын грозил отъездом, но мать не сдалась. При-
глашен был в качестве посредника Иона Мокеич, который
и объяснил Бакланову, что Маша хвасталась, что Алек-
сандр, то есть Бакланов, на ней женится. «Да, я точно го-
ворил ей,—отвечал Александр. — Вообразите: девушку
к вам приводят почти силой... надобно же было чем-
нибудь утешить ее, ну я и говорю: „я женюсь на тебе!“»
В тот же день Машу было назначено обвенчать. «Как,
сегодня! — воскликнул Александр, узнав об этом. — Ведь
это уже прямо значит надругаться, о-то скотство ка-
кое! ..» — «Не сокрушайся, друг сердечный», — утешал
Иона. «Да ведь пойми же всю мерзость моего положе-
ния! — говорил Александр, колотя себя в грудь. — Во-
первых, я ее люблю немножко, во-вторых, мне ее жаль,
совестно, стыдно против нее, и в то же время я ничего
не могу сделать... Ну, что я сделаю? Словами матери
не внушишь; она не поймет их. Не бить же мне ее... Ско-
ты мы, подлецы, мерзавцы!» — закончил Александр свою
беседу с Ионой Мокеичем. Что же во всем этом заслужи-
вает похвалы, думает читатель? Конечно, Бакланов не
проявил особенного величия души и силы характера, но
Иона Мокеич был неспособен даже и на подобные по-
рывы.
Бакланов уехал в Петербург; там попытался посту-
пить на службу; не понравилось, перешел на службу
в провинцию; обнаружил много благородного негодова-
ния против чиновных злоупотреблений до того, что даже
наговорил дерзостей губернатору; вышел в отставку, же-
нился и заскучал. Наступило время реформ. «На героя
моего, — говорит г. Писемский, — ужасно влияла литера-
тура; с каждым смелым и откровенным словом ее миро-
созерцание его менялось: сначала опротивела ему служ-
ба, а теперь стала казаться ненавистна и семейная жизнь.
Поэтический и высокохудожественный протест против
брака Жорж Занда казался ему последним словом чело-
веческой мудрости — только жертвой в этом случае он
находил не женщину, а мужчину, то есть себя». «Ведь
камень и тот не живет, как мы живем! — говорит Бакла-
нов, желая доказать своей жене ее непригодность для
семейного счастья. — И тот что-нибудь, хоть пыль, да дает
в воздухе, и сам наконец притягивает песчинки, а мы —
ничего! Что, если бы у нас состояния не было? Куда бы
166
и на что бы мы годились? — есть, спать, родить детей,
кормить их на убой! По-моему, человек без темперамента,
без этого прометеевского огонька, который один только
и заставляет нас беспокоиться и волноваться, хуже тряп-
ки, хуже всякого животного». И в воображении Бакла-
нова рисовалась Софи: она одна могла бы доставить ему
море блаженства, и всего этого он лишил себя тем, что
был женат! Бакланов бросил жену и уехал к Софи. Нако-
нец наступило 19 февраля 1861 г., и прежний помещик
сказался в модном либерале. Бакланов пригласил к себе
г. Писемского. Как г. Писемского!? — спрашивает чи-
татель. — Да, г. Писемского; автор был знаком лично не
только с Баклановым, но и с Софи и даже читал у нее
по вечерам свои сочинения. Г-ну Писемскому Бакланов
высказал свое неудовольствие на освобождение крестьян.
«За два года пред сим, — говорит Бакланов, — у меня со-
стояние было: двести пятьдесят душ моих, двести пять-
десят жениных, семьдесят пять тысяч чистыми деньга-
ми. .. Деньги все ухнули на акциях.., Кредитные места
были закрыты; чтобы жить, я занимал в частных руках,
черт знает под какие проценты... Теперь дают сто два-
дцать рублей за душу; а за вычетом частных и казенных
долгов — рублей по пятидесяти, да бумаги эти, вероятно,
еще упадут на бирже, и так двухсоттысячное состояние
превращается в десятитысячное. .. Обработывать землю!
Да я не умею, не приучен — ни моим воспитанием, ни тем
правом, с которым я владел моим состоянием: и так разо-
рен не я один, а и Сидор, и Кузьма, и Петр, целое сосло-
вие! ..» Конечно, г. Писемский мог бы сказать многое
в опровержение этого сетования Бакланова, но г. Писем-
ский не сказал ничего; значит, он вполне разделяет
взгляд Бакланова на реформы. Зачем же, в таком слу-
чае, г. Писемский изображает Бакланова полным ничто-
жеством и говорит о нем с холодным безучастием? Г-н
Писемский характеризует Бакланова так: «Он праздно
вырос, недурно поучился, поступил по протекции на служ-
бу, благородно и лениво послужил, выгодно женился,
совершенно не умел распоряжаться своими делами и
больше мечтал, как бы пошалить, порезвиться и попри-
ятнее провести время. Он — представитель того разряда
людей, которые до 55 года замирали от восторга в италь-
янской опере и считали, что это высшая точка человече-
ского познания на земле, а потом сейчас же стали, с увле-
167
чением и верою школьников, читать потихоньку «Коло-
кол». Внутри, в душе у этих господ нет, я думаю, ника-
кого самоделания (?); но зато натираться чем вам угодно
снаружи — величайшая способность!»
Близорукость г. Писемского можно сравнить только
с его непоследовательностью. Бакланов — человек от при-
роды не сильный, искалеченный крепостным правом,
испорченный воспитанием; но человек, которому хочется
быть счастливым, человек, недовольный окружающей его
жизнью, человек, стремящийся к переменам. Кажется, это
такие данные, с которыми всякий талантливый автор
сумел бы создать что-нибудь порядочное. Но г. Писем-
ский, рисуя болото и его обитателей, их же и обвиняет,
что они в грязи и хотят счистить ее с себя. Г-н Писемский
говорит, что его герой вовсе не пустой и не дрянной чело-
век, «а обыкновенный смертный из нашей так называе-
мой образованной среды». Тем лучше, тем сочувственнее,
значит, нужно отнестись к этому сорту людей средних
сил, когда в них проснулось пониманье собственного по-
ложения и явилось желание из него освободиться. Но
г. Писемский рассуждает не так. Он вывел целый ряд
личностей, нисколько не повинных в том, что они никуда
не годятся, и их же клеймит позорным клеймом за то,
что они делают глупости, точно они обязаны были изо-
брести порох и книгопечатание или уподобиться в фило-
софском мышлении Огюсту Конту. Бакланов, Софья, Ев-
праксия, Иродиада, Иона Мокеич и решительно все, кого
выводит г. Писемский в «Взбаламученном море», разве
это не тот сорт людей, о которых сам же г. Писемский
говорит, «что они живут по какому-то точно навсегда
установленному для русского царства механизму?» Ну,
вот механизм меняется, несчастным людям объясняют,
что они несчастны, они это понимают, хотят устроиться
лучше; тогда г. Писемский опять накидывается на них
с неукротимой злобой, обвиняя их во лжи, и пишет свою
летопись, которую приказывает будущему историку Рос-
сии читать со вниманием и доверием. Странный этот
г. Писемский! Все ему не так, все глупы! А между тем
сам же пишет такой роман, из которого видно, что всем
душно, все несчастны, все ищут выхода. Вместо того что-
бы явиться руководящим светочем, г. Писемский взби-
рается на свою беспощадную объективность, загребает
грязь лопатами и швыряет ее щедрою рукою в правых
168
и виноватых, в угнетающих и в угнетенных, в бедных и
в богатых, на всех, куда только хватает у него сил.
Но ложь г. Писемского заключается не в этом одном.
Капитальное его преступление в том недовольстве всеми
реформами, которое проглядывает в каждом слове «Взба-
ламученного моря». В «Тюфяке», первом произведении
г. Писемского, удушающая атмосфера семьи и провинции
ставит как вопрос требование выхода; а в «Взбаламучен-
ном море» г. Писемский нападает именно на попытку к
выходу! Г-н Писемский точно хочет сказать: вот затеяли
вы свои реформы — разорили целое сословие, пошли вся-
кие мальчишества, вся Россия расколыхалась, повсюду
чепуха и глупости. Но позвольте, г. Писемский, каким
образом Бакланов или Софья, при тех обстоятельствах,
в которых они находились, могли бы поступить иначе?
Оттого-то ваша обязанность как романиста заключалась
не в том, чтобы бранить все наповал, а в том, чтобы дать
беспристрастное и глубокое по психическому анализу
изображение тех частных и общественных положений,
которые вели неизбежно к данному результату. Вы в
своей личной непоследовательности ищете оружия про-
тив исторической последовательности. Но это оружие
только деспотов, самодуров и детей.
В «Взбаламученном море» люди предыдущего периода
усмотрели лишь стрелу, направленную на молодых; да
и молодым показалось, что г. Писемский целит только
в них. Это не больше как недоразумение, которое необ-
ходимо наконец разъяснить. Г-н Писемский меньше всего
попадает в молодых, а бьет почти исключительно людей
своего времени. Г-н Писемский рисует ту глухую эпоху,
когда помещицы секли своих девок, когда студенты Мос-
ковского университета занимались кутежами и театраль-
ными демонстрациями, когда к молодым помещикам во-
дили по наряду красивых деревенских девок и когда для
той же цели молодые барчата посещали посиделки; когда
винные откупа находились в полном цвету и когда откуп-
щики производили те уголовные ужасы, о которых г. Пи-
семский так хорошо рассказывает в «Взбаламученном
море». Об этой эпохе сохранилось лишь темное предание.
Герои г. Писемского — люди этой отжившей эпохи. Ба-
кланов, о развитии которого я говорил подробно, чистый
тип той эпохи. Он человек младшего поколения людей
сороковых годов, то есть того самого, к которому при-
169
надлежит и г. Писемский. Они, пожалуй, в одном году и
кончили курс в университете. Иона-циник — антик даже
для Бакланова. Евпраксия, София — одного периода с
Баклановым и цветки, выросшие на одной с ним почве.
Генерал Ливанов, или, как называет его г. Писемский, из
крепкого лесу вырубленная кочерга, человек чуть не ека-
терининского века. Компания жидов-откупщиков с их
либеральными чадами и ужасными домочадцами — тоже
отжившие люди. В чем же тенденционная соль г. Писем-
ского, если нет никого из новых? Все, у кого случилось
головокружение, все, кто делает глупости, — все это свер-
стники г. Писемского, получившие воспитание в его время,
сформировавшиеся на старых порядках. Мне могут воз-
разить, что г. Писемский говорит о прокламациях, о пожа-
рах, об арестах молодых людей. Но ведь все это он гово-
рит как-то вскользь, на последних страницах романа, а
шесть частей целиком посвящает подвигам своих знако-
мых Бакланова и Софьи. Г-н Писемский и здесь, как
в других случаях, оправдал справедливость поговорки,
что русский человек задним умом крепок. «Взбаламучен-
ное море» следовало назвать «Людьми пятидесятых го-
дов» и написать после романа «Люди сороковых годов».
Тогда бы вышла историческая связь и последовательность
и явились бы две картины, изображающие период соро-
ковых годов в двух главных его моментах. Теперь же
г. Писемский вместо романа-летописи написал такую
вещь, которой на приличном литературном языке нет на-
звания. В порыве личного неудовольствия на реформы он
не подсмотрел у своих сверстников никаких хороших
стремлений, не показал того прогрессивного дела, кото-
рое делали люди пятидесятых годов; а вместо того выхва-
тил людей из самых подонков жизни, точно русская земля
сошлась клином и замерла для всего хорошего. Перед
молодыми г. Писемский виноват меньше всего, но он ви-
новат пред людьми своего времени и пред Россией пяти-
десятых годов, составляющей эпоху практического жорж-
зандизма на русской почве. Скажу больше, г. Писемский
является даже, — хотя и не вполне, — панегиристом лю-
дей шестидесятых годов; он определяет некоторые их при-
знаки, он сопоставляет новую силу с бессилием люДей
баклановского пошиба. Этого мало; г. Писемский застав-
ляет Бакланова даже сознаться в своей дрянности, срав-
нительно с Проскриптским.
170
Писатели сороковых годов, изображая героев своего
времени, непременно давали им одну общую черту —
красивую говорливость и болезненное стремление к делу
без дела. Но герои — лучшие люди; они тот сорт рус-
ского человечества, который является представителем
прогрессивной идеи; уж поэтому они имеют полное исто-
рическое право не быть активными исполнителями того,
на что указывают как на цель стремлений. Тут система
разделения труда, перенесенная в область истории.
Исполнительною властью представителей идеи является
другой сорт людей. Думают одни; делают другие. Мац-
цини не мог быть Гарибальди, Гарибальди не мог быть
Маццини. От незнания этого простого закона случались
иногда довольно печальные недоразумения, и Фома Мюн-
цер поплатился головою. Но как бывают разные сорты
людей идеи или слова, то есть более или менее умные,
более или менее верно понимающие смысл известных
общественных комбинаций и их последствий, так бывают
разные сорты людей дела. Русская история представляет
гениальный образчик людей дела в лице Петра I. Это
была сила протеста и разрушения,—сила, созданная це-
лыми веками нашей косности и раболепия и разрушав-
шая для того, чтобы создать новую жизнь, новые поколе-
ния людей. Таких людей, как Петр I, история формирует
долго, кует их из стали и гранита, потому что готовит их
для великого дела, для упорной борьбы. Но прежде чем
явиться Петру I, проходит целый ряд других людей дела,
не менее энергических и гениальных, но менее счастли-
вых в исполнении своих целей и потому оканчивающих
свою карьеру где-нибудь в тюремном застенке или в си-
бирской тайге. И тут есть сила протеста, но бессознатель-
ная и темная, только предчувствующая появление новой
жизни и новых идей. Вот почему Гейне и говорит, что
неизвестно, какой акушер потребуется для рождения из-
вестной идеи. Чтобы быть безошибочным человеком дела,
требуется такая же гениальность, как и для того, чтобы
быть безошибочным человеком идеи. Но масса людей
дела вовсе не обладает подобной гениальностью; оттого-
то ее и называют образованною чернью. В ней смеши-
вается теория с практикою, слово с делом в гармониче-
ском несовершенстве, и образованная чернь составляет
именно тот основной жизненный слой, с которым прихо-
дится бороться и представителям народной идеи и пред-
171
ставителям народного дела. Она мешает тем и другим.
Против этой массы восставали и люди сороковых годов,
против нее же пошли и люди шестидесятых годов.
Но люди сороковых годов имели дело как бы сами
с собой. Выделившись из утонченного дворянского слоя,
они шли протестом против этого самого слоя. Например,
г. Писемский постоянно укоряет дворянскую почву в том,
что она производит пустоцвет, создает образованную
чернь, непригодную ни для какого дела.
Резкий поворот в мышлении, созданный оглашением
правительством намерения дать свободу крестьянам, со-
здал немедленно целый ряд новых общественных комби-
наций, соответствовавших этому повороту. Если дворян-
ская почва создавала только Баклановых, а они для но-
вого дела не годятся, то ясно, что должны были явиться
другие люди, с более соответственными способностями
для новых порядков. Такого нового человека намечает
г. Писемский в Проскриптском.
Г-н Писемский, кажется, увлекся скабрезным намере-
нием намекнуть на живого человека86; но этот намек,
если только мы не ошибаемся, падет позором лишь на
г. Писемского. От будущего историка России, для кото-
рого г. Писемский и писал свое «Взбаламученное море»,
мы скроем этот грех автора. Пусть г. Писемский пока-
жется ему лучше, чем был.
Г-н Писемский знакомит читателя с Проскриптским
в «Британии» — кухмистерской, которую посещали сту-
денты Московского университета начала 50-х годов и ра-
нее. В этой «Британии» Бакланов составлял театральные
заговоры, ломался перед теми, кто ел и пил на его счет,
а в настоящем случае был занят организацией заговора
против Андрияновой. Конец сцены описан г. Писемским
так: «Финкель, портной, приходил, — вмешался в разго-
вор половой, — он говорит, если, говорит, господам угод-
но, я пришлю в театр своих подмастерьев. Один, говорит,
так у меня свистит, что лошади на колени падают, и те-
перь, если ему — старого, говорит, платья у меня мно-
го— дать фрак и взять только, значит, ему надо билет
в кресла». — «Это можно, но главное вот что, — ответил
Бакланов, одушевляясь,—этой нашей госпоже надобно
у них, канальев, под носом подарить венок или колье ка-
кое-нибудь бриллиантовое... У меня моих сто целковых
готовы — нарочно выпустил мужика на волю... Вы, Бирх-
172
ман, сколько дадите?» — «Я дам столько, сколько у меня
в то время в кармане будет», — отвечал Бирхман.
«Я дам тоже сколько у меня будет», — подхватил Коваль-
ский. «Превосходно! — воскликнул Бакланов. — Веня-
вина я послал с подписным листом... Там, на первом
курсе, пропасть аристократишков поступило... посмо-
трим, сколько отвалят и поддержат ли университет!» На
эти слова его в комнату, как бы походкой гиены, вошел
сутуловатый студент с несколько старческим лицом и
в очках. Кивнув слегка нашим приятелям головой, он
прошел и сел у другого столика. «Дай мне «Отечествен-
ные записки», — проговорил он пискливым голосом». По-
ловой молча подал ему. Между тем у Бакланова с при-
ходом этого лица как бы язык прилип к гортани... При-
шел Венявин. «Как нельзя лучше все устроил», — говорил
он, подходя прямо к Бакланову. «Ну умница, паинь-
ка,— сказал Бакланов, — дай ему за это чаю!» — обра-
тился он к половому. «Нет, лучше водочки дайте!» —
говорил Венявин и сел рядом с Проскриптским. Тот ядо-
вито на него посмотрел. «Что это вы так хлопочете?» —
проговорил он своим обычным дискантом. Венявин сейчас
же сконфузился. «Что делать, нельзя», — отвечал он. «Вы
бы уж лучше в гусары шли», — сказал Проскриптский
Венявину. «А вы думаете, что нас и гусаров одно чувство
одушевляет?» — перебил его Бакланов. «У тех оно есте-
ственнее, потому что оно — чувственность», — возразил
Проскриптский. «Искусством актера, значит, наслаждать-
ся нельзя?» — сказал Бакланов. «Хи, хи, хи! — засмеялся
Проскриптский. — Что же такое искусство актера? ..
искуснее сделать то, что другие делают... искусство не
быть самим собою — хи, хи, хи!» — «В балете даже и это-
го нет!» — возразил Бакланов. «Балет я еще люблю;
в нем, по крайней мере, насчет клубнички кое-что есть», —
продолжал насмехаться Проскриптский. «В балете есть
грация, которая живет в рафаэлевских мадоннах, в Ве-
нере Милосской», — говорил Бакланов, и голос его дро-
жал от гнева. «Хи, хи, хи! — продолжал Проскриптский,—
в реториках тоже сказано, что прекрасное разделяется
на возвышенное, грациозное, милое и наивное». — «Ну,
пошел», — проговорил Бакланов, стараясь придать себе
тон пренебрежения... Вошел студент Варегин. «В гра-
цию уж не верим!» — сказал Бакланов, показывая Варе-
гипу головой на Проскриптского. «Во вздор верим, а в то.
173
что перед глазами, — нет!» — отвечал Варегин, спокойно
усаживаясь на стул. «Что такое верить? Я не знаю, что
такое значит верить; или, и в самом деле, вера есть упо-
ваемых вещей извещение, невидимых вещей обличение!
Хи, хи, хи!» — «Мы говорим про веру в мысль, в исти-
ну!»— подхватил Бакланов. «А что такое мысль, истина?
Что сегодня истина, завтра может быть пустая фраза.
Ведь считали же люди землю плоскостью!» — «Стало
быть, и Коперник врет?» — спросил Варегин. «Вероят-
но! . .»
В этой сцене нужно отличать памфлетический задор
автора, вызванный диким чувством, от истинной стороны
факта, имеющего исторический смысл. Злое чувство за-
ставило г. Писемского уснастить речь Проскриптского
многочисленными хи, хи, хи!, к сущности дела не иду-
щими, но как бы рисующими Проскриптского в невыгод-
ном свете. То же злое чувство заставило автора навязать
Проскриптскому отрицание Коперника и точности астро-
номических исчислений, чем предполагалось довести от-
рицание до абсурда и тем окончательно сделать Про-
скриптского смешным в глазах образованной черни, в
назидание которой писалось «Взбаламученное море». Но
для нас важно не это и не тот тон пренебрежения, кото-
рым Бакланов усиливается удержаться в своей слабой
позиции. Мы все-таки знаем, что при появлении Про-
скриптского у Бакланова прилип язык к гортани и что
из всего хора студентов, бывших в «Британии» и тратив-
ших свое время на театральные заговоры, один Про-
скриптский и два его последователя не принимали уча-
стия в этом заговоре; что один Проскриптский спросил
«Отечественные записки», лучший журнал того времени.
Откинув все несущественное и назначенное исключитель-
но для принижения Проскриптского, мы находим в нем
следующие две новые и свежие черты, которых нет в его
товарищах. Он живет мыслью, посвящает свое время чте-
нию и относится критически к окружающим его явлениям.
Бакланов и его сообщники не в состоянии понять иронию
Проскриптского, который только из деликатности, щадя
их барскую щекотливость, говорит с ними намеками и
притчами. Но истинный смысл насмешек Проскриптского
ясен. «Вы не гусары, чтобы тратить свое время и силы
на такой вздор, как поощрение театральных талантов и
преподнесение танцовщицам бриллиантовых ожерелий;
174
вы студенты, то есть люди, готовящиеся на служение
мысли; если вы для этого неспособны, не тратьте даром
время в университете — идите в кавалеристы». Вот что
хочет сказать Проскриптский. На другую черту указывает
сам Бакланов, уже ясно сознававший превосходство лю-
дей нового направления. На сетования Бакланова о том,
что он даром убил время в университете, Казимира ему
ответила: «Впрочем, что ж? ведь не вы одни: все так!» —
«Нет, не все! — воскликнул Бакланов. — Вот Проскрипт-
ского видели вы у меня?» Казимира с гримасой (отчего
это, г. Писемский, вы не можете говорить о Проскрипт-
ском без гримас?) покачала головой. «Нечего гримаски-то
делать, — продолжал Бакланов. — Он идет куда следует;
знает до пяти языков; пропасть научных сведений имеет,
и отчего? Оттого, что семинарист: его и дома, может быть,
и в ихней там семинарии в дугу гнули, характер по край-
ней мере в человеке выработали и трудиться приучили.
Или Варегин вон у нас, — совсем настоящий человек-
умен, трудолюбив, добр, куда хочешь поверни, а тоже
ничего? уличным мальчишкой вырос, семьи не имел».
Итак, г. Писемский констатирует тот факт, что сама
старая жизнь расступилась и дала дорогу новым, небы-
валым до того времени людям. Баклановы — эта золотая
середина русской теории и практики эпохи сороковых
годов — не могут уже удержаться на своей почве. Крепо-
стное право готовится рухнуть, эксплуатация чужого
труда становится в прежнем размере невозможной, двух-
соттысячные состояния Баклановых превращаются благо-
даря мотовству и неумелости их в десятитысячные, тру-
диться они не могут ни на каком поприще. Вообразите
какую-нибудь идеальную страну, в которой все Бакла-
новы, а между тем жизнь требует работников. Какой же
выход, кто станет делать дело? И вот г. Писемский объ-;
ясняет, что в то время, когда Баклановы, не заглядывая
вперед, убивали легкомысленно свое время и последние
средства, выступали другие люди, более дальновидные,
созданные и воспитанные суровой практической средой,
которых уже не удовлетворяла трактирная жизнь, кото-
рые критически посматривали вокруг себя да читали и
учились. «Мы от жизни немного требуем, — сказал раз
Проскриптский Бакланову, — отчего нам не служить!» —
«Что ж, это все так и пойдет?» — заметил Бакланов.
«Нет-с, когда можно будет, так мы потребуем, только
175
не того, что вы!» Это уже разные полюсы людей, готовя-
щихся для жизни: одни развивают в себе разнообразные
утонченные потребности и затем превращают жизнь в на-
слаждение; другие учатся и готовятся для дела. Они еще
не знают, какого дела потребует от них жизнь, но чего бы
она ни потребовала, это, во всяком случае, будет уже не
то, на что способны Баклановы. Баклановых жизнь выжи-
вает, Проскриптским она открывает дорогу; одни — люди
прошлого, другие — люди будущего.
XV
Люди шестидесятых годов вышли прямо из того ум-
ственного движения, которое явилось после падения Сева-
стополя, и из той практики, в которой воплотилась идея
людей сороковых годов.
Как в эпоху людей сороковых годов перелетели через
русскую стену жоржзандизм и немецкая гуманная фило-
софия, давшие цвет русскому прогрессивному направле-
нию того времени, так в начале эпохи шестидесятых го-
дов Западная Европа перепустила через русскую стену
свои новые социально-экономические знания и естество-
ведение. Русские люди посмотрели, подумали и нашли,
что это знания хорошие и полезные; что они-то именно и
помогут разрешению тех социально-экономических во-
просов, которые поставила Россия после Крымской вой-
ны. И вот люди, явившиеся сменять Баклановых, отда-
ются всеми силами изучению положительных, реальных
знаний, составляющих крайнюю противоположность с
идеализмом людей сороковых годов.
Новый реализм есть, таким образом, прямой продукт
идеализма предыдущей эпохи. Мечтательный идеализм
болел гуманным стремлением к освобождению крестьян
и к другим улучшениям общественного быта. Явилась на-
конец практика этого стремления — дело последовало за
словом. Могло ли идеальное краснобайство Рудина или
пустомели Райского годиться к чему-нибудь, когда нужна
была практическая работа, когда вопрос об освобожде-
нии крестьян требовал разнообразных специальных эко-
номических познаний и исследования условий народного
экономического быта. Чтобы мечтать и стремиться к сча-
стью вообще, Рудину было за глаза довольно немецкой
176
гуманной философии и классического образования; но
чтобы возвести идею в практику, требовалось социально-
экономическое знание и реальное образование. Вот где
начало современного реализма и борьба трезвых прак-
тических «детей» с расплывающимися идеалистами «от-
цами». Кстати, замечу, что г. Тургенев совершенно не-
прав, когда он укоряет Ворошилова или кого-то другого
из молодых в том, что он писал о пролетариате француз-
ских городов. Ну, конечно, нам приходилось знакомиться
с этими вопросами по чужим исследованиям87. Рудин,
рассуждая вообще, не потрудился заняться изучением
русского экономического быта; дав идею, он не подгото-
вил ничего для практического ее осуществления, и если
Россия шестидесятых годов знала что-нибудь о русском
народном экономическом быте, то благодаря только
немцу Гакстгаузену88. Было бы справедливее кинуть
упреком в своих.
Борьбу реалистов «детей» с идеалистами «отцами»
раньше всех подметил г. Тургенев89.
Г-ну Тургеневу очень досталось за Базарова. Но вре-
мя страстных отношений к этому типу для нас уже мино-
вало, и мы можем смотреть на него с тем объективным
спокойствием, с каким каждый человек смотрит на свое
минувшее.
Для нас в Базарове дороги многие черты, ибо они
черты живого человека, черты не измышленные, а создан-
ные логикой жизни и только несколько карикатурно
изображенные г. Тургеневым. Карикатурность в этом слу-
чае, может быть, даже не больше как технический прием:
автор прибегает к резким чертам, чтобы образ героя вы-
шел рельефнее; ведь и с Инсаровым он прибегал к тому
же приему. А Рудин? Разве рефлексия не доведена в нем
до карикатурности? Но в Рудине автор имел дело с идеа-
листом, и потому даже самое крайнее преувеличение яв-
лялось в мягких, закругленных очертаниях; с реализмом
этого сделать нельзя; он груб по самому своему существу,
груб, как действительная жизнь, и потоку малейшее
неосторожное преувеличение ведет к угловатости и рез-
кости контур; а если автор слаб сознанием, как г. Гон-
чаров, и не владеет чувством меры, то преувеличение пе-
реходит в отталкивающее уродство. Что и случилось
с Марком.
177
Как полный тип Базаров не закончен. Да ему и нельзя
быть законченным. Базаров молодая, формирующаяся
сила, как бы только готовящаяся отвечать на вопросы
дня. Но в этой молодой силе вы уже видите зачатки
целого нового мировоззрения и направления; зачатки со-
всем иной теории и совсем иной практики, резко разде-
ляющих отцов от детей.
Г-н Тургенев, как и г. Писемский, не признает за дво-
рянской почвой способности создавать людей для новой
эпохи. Вместо прежних героев из обеспеченного дворян-
ского быта г. Тургенев дает героя бедняка, дед которого
был дьячком, а отец полковым лекарем.
Такое происхождение героя весьма важный признак
в истории русской цивилизации. При Екатерине II лите-
ратура была придворным занятием, образование жило
лишь между графами и князьями; все, что ниже, были
Дубинины, Скотинины да Простаковы90. Люди сороковых
годов уже не графы и князья, а помещики, правда, более
или менее богатые, но все-таки помещики. В людях же
шестидесятых годов выдвигается, как бы внезапно, вся-
кая голь; место героев дворян, изучавших цивилизацию
практически, путешествиями за границу, занимают семи-
наристы да разночинцы, народ бедный, знакомящийся
с передовыми идеями теоретически, из иностранной лите-
ратуры. Вот откуда тот укор, который делают гг. Турге-
нев, Гончаров, Писемский людям шестидесятых годов за
французские книжки. Но научите, господа, как бы это
могло быть иначе? Скажите, какие книжки написали
«отцы»? Не стал бы Проскриптский изучать пять языков,
если бы литература «отцов» давала ответы на все вопросы
«детей».
Новый слой, внезапно вызванный на дело новой прак-
тикой жизни, обнаружил такие размеры и такую заме-
чательную силу, что отцы пришли в недоумение, задума-
лись, а потом и испугались. Но новый тип, созданный
г. Тургеневым в Базарове, разве не олицетворение реа-
лизма, того именно реализма, который заключился в са-
мом существе внезапно возникшего крестьянского вопро-
са? Люди сороковых годов, мечтая, как представители
прогрессивной идеи, о разных общественных переменах,
никогда не задавались вопросом, какую форму и физио-
номию получит практическое ее осуществление. И когда
жизнь, для которой и мечтали люди сороковых годов,
178
выставила и людей жизни, они огорчились, что у их идеа-
лизма явился такой некрасивый помощник и исполни-
тель.
Для нас Базаров есть олицетворение практических по-
следствий освобождения крестьян. Крестьянская свобода
есть отрицание прежнего крепостного быта со всеми его
последствиями; ясно, что и Базаров должен был явиться
силой, совершенно противоположной Баклановым, Рай-
ским, Лаврецким и всему тому, что выросло на старой
почве и самим Тургеневым не признавалось годным для
новой практики. Оставалось только говорить обратное
тому, что говорилось при жизнеописании Баклановых,
Райских и Лаврецких, чтобы получился Базаров. Вот
происхождение типа шестидесятых годов, непосредствен-
но вышедшего из типа предыдущего. Конечно, если бы
русская жизнь текла по-старому, без всяких перемен и
перестроек, то отцы видели бы в своих детях более блед-
ную копию самих себя и их родительское сердце билось
бы чувством умиления при созерцании такой благонаме-
ренной и деликатной порядочности. Многие века это ро-
дительское умиление переходило из поколения в поколе-
ние. Но что же делать, если вечного нет ничего на земле!
Современным «отцам» позволяется задаваться только
одним вопросом, да и то совершенно бесплодным, — по-
чему оборвалось именно на них, а не прежде или после?
Г-н Писемский, насколько он высказался в «Взбаламучен-
ном море», желал бы, чтобы это случилось после.
От Базарова так и брызжет силой, к которой нас не
приучили Баклановы и Райские. «С вами говорить ве-
село, — говорит Одинцова Базарову, — точно по краю
пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда сме-
лость возьмется». И Одинцова права. Действительно,
здоровая, трезвая сила, изобличающая непригодность
идеализма для настоящего практически полезного дела,
сначала пугает. Но когда всмотришься в нее, то находишь
в ней столько истинной житейской теплоты, столько дей-
ствительной любви, активной, а не фразерской, что опи-
райся смело на руку такого человека на самом краю про-
пасти, и тебе стоять весело рядом даже с самой очевид-
ной опасностью. Опасность тут подле тебя, но подле же
тебя и надежная рука, которая переведет тебя через вся-
кую опасность. Этой совершенно новой чертой заявили
себя только идеальные люди шестидесятых годов. Тип
179
сороковых годов ее не имел. Рудин убежал от опасности,
только заслышав о ней; Лаврецкий засадил Лизу в мона7
стырь; Бакланов струсил немедленно, когда столкнулся
с практической жизнью; Райский был храбр только на
словах. И сила людей нового типа побивает вас на вся-
ком шагу. Базаров послал Аркадию такую сигару, что
Николай Петрович, никогда не куривший, поневоле, хотя
незаметно, чтобы не обидеть сына, отворотил нос. За
ужином, по приезде в деревню к Аркадию, Базаров почти
ничего не говорил, но ел много. Это уж не утонченные нер-
вы, создающие обмороки и истерики от ничтожного дви-
жения против шерсти, а медная проволока, изобличаю-
щая громадную силу сопротивления. «Мой дед землю
пахал, — говорил Базаров с надменною гордостью англо-
ману Павлу Петровичу. — Спросите любого из ваших же
мужиков, в ком из нас, — в вас или во мне, — он скорее
признает соотечественника». И эта гордость Базарова по-
нятна. Он знает, что его создала практическая почва того
самого крестьянского мира, для которого, с освобожде-
нием от крепостной зависимости, открылось поприще гра-
жданской деятельности. Уж, конечно, мужик протянет
руку Базарову, а не Павлу Петровичу, отделившемуся от
русской почвы и среди русской природы и в русской де-
ревне ухитрившемуся вообразить себя в Англии! Люди
нового типа не мечтатели; они знают, что жизнь — дело
грубое и что на работу нельзя выходить в бархатном
пиджаке и в лайковых перчатках, и вот Базаров, про-
щаясь с Аркадием, таким же нежным и выродившимся
пустоцветом, как Бакланов, говорит ему: «А теперь по-
вторяю тебе на прощанье, потому что обманываться не-
чего— мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувству-
ешь. .. ты поступаешь умно (Аркадий задумал жениться
и поселиться у себя в деревне); для нашей горькой, терп-
кой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дер-
зости, ни злости; а есть молодая смелость да молодой
задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат, дво-
рянин, дальше благородного смирения или благородного
кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например,
не деретесь — и уже воображаете себя молодцами, — а мы
драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест,
наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты
невольно любуешься собой, тебе приятно самого себя
бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам
180
других ломать надо! Ты славный малый, но все-таки мя-
кенький, либеральный барич...»
В Базарове сидит бес гордыни, но не той гордыни,
которая сосала Павла Петровича или Рудина. Та горды-
ня была какая-то нервная раздражительность, вскипячен-
ное самолюбие, при случае не отказывавшееся от подачки
и милостыни; но в новом типе не то. «Настоящий человек
тот, о котором думать нечего, а которого надобно или
слушаться, или ненавидеть, — говорит Базаров. — Когда
я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,
тогда я изменю свое мнение о самом себе». Прощаясь
с Одинцовой, Базаров сказал ей: «Я нахожу, что уж слиш-
ком долго вращался в чужой для меня сфере. Летучие
рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе,
но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и
мне плюхнуть в мою стихию». — «Этот меня любил!» —
подумала Одинцова, и жалко ей стало его, и с участием
протянула она ему руку. Но и он ее понял. «Нет! — ска-
зал он и отступил на шаг назад. — Человек я бедный, но
милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с, и
будьте здоровы». Это протест резкий, крайний, но есте-
ственный. Крепостное право слишком испортило нас; по-
дачка в разных видах и 'формах явилась существенной,
составной частью наших общественных и частных отно-
шений. Милость должна была возмущать свежего чело-
века, созданного свежей житейской струей. В былые годы
можно было пригласить знакомого в трактир и накормить
его обедом на свой счет, и отказ пошел бы за обиду; но
нынче — обидят человека, заплатив за его обед. Дове-
денная крепостным правом до последнего предела, зави-
симость проявилась при новых порядках реакцией неза-
висимости. Каждый захотел стоять на своих ногах, не
желая чувствовать над собою барина в какой бы форме,
в каком бы виде он ни проявлялся. Базаров довел свою
независимость до того, что даже в воспитании не хотел
зависеть от средств своего отца. «Другой бы на его ме-
сте, — говорит Василий Иванович Аркадию, — тянул бы
да тянул со своих родителей; а у нас, — поверите ли? он
отроду лишней копейки не взял, ей-богу!» Какая неиз-
меримая разница с Баклановым, которому мало того, что
^чился и жил на счет своих родителей, но даже отпускал
на волю мужиков, чтобы преподносить бриллиантовые
браслеты танцовщицам! Вы скажете, что родители
181
Бакланова были богаты, а отец Базарова бедняк; но сущ*
ность вопроса вовсе не в этом, а в новом общественном
принципе. Крепостное право было основано на начале
эксплуатации, выразившейся в чрезвычайно разнообраз-
ных, а нередко замаскированных и неуловимых формах.
Эксплуатация сложилась в утонченную, запутанную, за-
конченную систему, в которой только вполне независимый
и свежий человек мог распознать недостойные роли, кото-
рые разыгрывали друг перед другом люди. До какой
уродливости и нравственного падения доводили они лю-
дей дрянных, указывает лучше всего Басардин в «Взба-
ламученном море». Людей этого сорта можно было бить
за двугривенный, но если не предвиделось получения, они
вызывали вас на дуэль за косой взгляд.
Крепостная эксплуатация совершенно спутала нрав-
ственные границы между людьми. Каждый запускал ла-
пу в чужой мир насколько было можно. Базаров делает
попытку размежевания и отхлопывает всякую непроше*
ную руку, покушающуюся залезть в его душу. Из этого
стремления сохранить независимость своего особняка
является целый ряд разнообразных последствий, которые
могли казаться чем-то уродливым только потому, что они
явились внезапно и выражались слишком резко и без-
уступочно. Но, в сущности, они были вполне здоровым
явлением, ибо в основе их лежало истинное чувство до-
стоинства в сознании своей независимости, в ощущении
почвы под ногами. Это то же чувство, которое заставляет
американца смотреть прямо в глаза не только всякой зем-
ной, но, пожалуй, даже и неземной силе. Базаров не хочет
быть одолжен никому, кроме самого себя, потому что
Баклановы довели уже до безобразия систему обратных
отношений. Базаров не хочет даже зависеть от кого-ни-
будь в воспитании: «Всякий человек сам себя воспитать
должен», — говорит он Аркадию, и, конечно, это один из
наиболее здравых принципов, если только человек доста-
точно силен, чтобы осуществить его на практике. На не-
зависимость воспитания, конечно, способны только силь-
ные люди. И мы видим, что в то время когда Бакланов,
воспитываясь под влиянием семейной традиции и отста-
лых влияний, формируется в бесполезного человека,
Проскриптский в той же среде изучает пять языков, чи^
тает книги, приобретает бездну научных знаний и гото-
вится для дела, которое наконец должно для него насту-
182
пить и которое, уже конечно, не будет похоже на то дело,
которое ожидает Бакланова. По этому же чувству неза-
висимости, Базаров не ладит и не допускает никаких
сердечных излияний. Он скорее сгрубит, чем скажет неж-
ность. Когда, прощаясь навсегда с Аркадием, он нагово-
рил ему вещей, которые уже никак нельзя назвать ком-
плиментами, Аркадий печально молвил: «И у тебя нет
других слов для меня?» — «Есть, Аркадий, есть у меня
другие слова, — ответил Базаров, — только я их не вы-
скажу, потому что это романтизм, — это значит рассыро-
питься». Василий Иванович говорит про Базарова: «Он
враг всяких излияний; многие даже осуждают его за
таковую твердость его нрава и видят в ней признак гор-
дости или бесчувствия; но подобных ему людей не при-
ходится мерить обыкновенным аршином». Может быть,
Василий Иванович в порыве родительского чувства слиш-
ком высоко ценил своего сына, хотя и Аркадий находил
тоже, что Базаров будет непременно знаменит; но отец
был прав, что Базарова не понимали. Гордыня точно гнез-
дилась в нем; но ведь мы уж знаем, что эта гордость
была прошлой реакцией против всякого отсутствия чув-
ства достоинства, которым отличались Баклановы, Ба-
сардины и т. д. Что же касается воображаемого бесчув-
ствия, то его не было. Напротив, люди такой организации,
как Базаров, способны к более тонкому и прочному чув-
ству, чем сентименталисты предыдущего периода.
Сентименталисты, о которых мы говорим, вследствие
исторических обстоятельств, не позволявших им посту-
пать иначе, помогали страдающим людям больше сочув-
ствием, чем делом; оттого они и сентименталисты; но
когда сентиментализм разрешился таким актом, как осво-
бождение крестьян, любовь-слово должно было превра-
титься в любовь-дело: сердечные излияния без дела сме-
нились делом без сердечных излияний. Оттого-то Базаров
и говорит Павлу Петровичу: «Вы вот уважаете себя и
сидите сложа руки; какая же от этого польза для bien
public? * Вы бы не уважали себя и то же бы делали..,
Аристократизм, либерализм, прогресс, принцип — поду-
маешь, сколько иностранных и бесполезных слов! Рус-
скому человеку они даром не нужны». На вопрос Павла
Петровича: «Что же ew-то делаете?» Базаров отвечает:
’• Общественного блага (франц.).
183
«А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы
говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет
ни дорог, ни торговли, ни правильного суда. А потом мы
догадались, что болтать, все только болтать о наших
язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и
доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так назы-
ваемые передовые люди и обличители, покуда не годятся,
что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искус-
стве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об
адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущ-
ном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда
все наши акционерные общества лопаются единственно
оттого, что оказывается недостаток в честных людях, ко-
гда сама свобода, о которой хлопочет правительство, едва
ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад сам себя
обокрасть, чтобы только напиться дурману в каба-
ке. . .» — «Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обли-
чителей, честите? Не также ли вы болтаете, как и все?» —
«Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес
сквозь зубы Базаров». И действительно, меньше всего-
можно было укорить Базаровых и Проскриптских празд-
ными разговорами. Конечно, люди эти еще ничего не де-
лали, потому что учились, но зато учились они так хоро-
шо, что у Бакланова прилипал язык к гортани, когда он
встречал Проскриптского, а Аркадий был глубоко убе-
жден, что из Базарова выйдет знаменитость. «Природа не
храм, а мастерская, — говорил Базаров, — и человек в.
ней работник». В эти-то работники он и готовился, не
зная еще, какое именно дело придется ему делать. Но и
Базаров и Проскриптский уже не смотрят на жизнь как
на наслаждение; поэтому все принадлежности эстетиче-
ского воспитания, без которых немыслима жизнь для
Павла Петровича, Бакланова, Имплева и т. д., они счи-
тают пустяками и вздором. Оттого-то Базаров и разра-
зился таким хохотом, когда узнал, что Николай Петрович*
имевший от роду сорок четыре года, учится на виолон-
чели. Человеку, готовящемуся для дела и видевшему, ка-
кого грубого и элементарного дела требует практическая
почва, человеку, считавшему природу мастерской, а не
храмом, виолончельные упражнения для самоуслаждения
не могли казаться делом, достойным здравомыслящего»
гражданина. Поэтому совершенно понятно, что Базаров.
184
мог сказать: «И Рафаэль гроша медного не стоит; да и
наши художники не лучше его».
Становясь на почву практической помощи своему
ближнему, Базарову было не к чему драпироваться в де-
ликатность отношений к меньшим братиям и в безрезуль-
татный сентиментализм. Как Павел Петрович ни делика-
тен в обращении с мужиками и бабами, а те все-таки его
боятся и сторонятся его. Базаров ведет себя обратно и
совершенно справедливо корит Павла Петровича, что он
с мужиками даже и говорить не умеет. Базаров не мин-
дальничает с мужиками и не говорит им вы, а подступает
к ним прямо и искренно, и те понимают эту искренность,
эту истинную гуманность, эту истинную человеческую
равноправность. Павел Петрович, Бакланов и кто хотите
из них всегда снисходят к мужику, они всегда помещики
и господа; Базаров же держит себя как человек, для ко-
торого не существует крепостных, которому вовсе и не-
известно барское чувство. Посмотрите, на какой тонкой
деликатности держит себя с Феничкой Павел Петрович,
который уже знает ее давно, и как просто и прямо ведет
себя Базаров, увидевший ту же самую Феню в первый
раз. Про Базарова г. Тургенев говорит, «что он владел
особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях
низших, хотя он никогда не потакал им и обходился
с ними небрежно». Это искусство не больше как гуман-
ная равноправность, которой и не могло быть у людей
предыдущего периода и которая сделалась признаком
людей свободной России, отрешившейся от крепостного
права. «Слуги Кирсановых привязались скоро к База-
рову, хотя он над ними подтрунивал; они чувствовали,
что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно
с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на
него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до
крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряжен-
ными морщинами на лбу.. . и тот ухмылялся и светлел,
как только Базаров обращал на него внимание; дворо-
вые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки».
И когда этот «дохтур», прогостивший у Кирсановых ка-
кой-нибудь месяц, уезжал, вся прислуга в доме приуныла:
Дуняша даже убежала в рощу, чтобы скрыть свое вол-
нение, и Петр расчувствовался до того, что плакал у Ба-
зарова на плече. Вот это-то и есть слияние, о котором так
мечтали московские славянофилы и которое им никак не
185
давалось, да и не могло даться, потому что они были
те же благонамеренные помещики, как и Павел Петрович.
Для слияния требовалось прежде всего уничтожение кре-
постного права. В Базарове это прямое органическое
дело; он даже и не подозревает, что сливается, тогда как
славянофилы разыгрывали сентиментальные сцены и му-
жик очень хорошо понимал, что это ложь и фразы.
Когда писателю прежнего времени требовалось олице-
творить здравый и реальный взгляд на жизнь, то выво-
дился на сцену доктор, и г. Тургенев заставляет База-
рова быть студентом медицины. Едва ли, впрочем, для
г. Тургенева была непременная необходимость поступить
таким образом. В эпоху идеализма, когда все развива-
лись на метафизике и уже много-много на какой-нибудь
натурфилософии, конечно, наиболее компетентным судь-
ей в вопросах, для разрешения которых требовалось
стоять на реальной почве, мог быть доктор. Но когда рус-
ская жизнь дала крутой экономический поворот, естество-
ведение должно было явиться признаком всякого чело-
века нового времени. Общее сознание уже высказало, что
у нас нет ни порядочных медиков, ни техников, ни других
специалистов, что у нас нет общественной гигиены, что
мы не умеем растить здоровых детей, что мы и свое соб-
ственное здоровье только разрушаем от невежества. Куда
ни повернись, повсюду оказывалось полнейшее отсутст-
вие сведений о природе вообще и о природе человека
в особенности. Понятно, что новый человек должен был
отнестись презрительно к метафизике и классицизму,
принесшим такие печальные плоды, и обратился к есте-
ствоведению. Но естествоведение, к которому он обратил-
ся, естествоведение в том виде, как его выработала За-
падная Европа, могло сообщить лишь то мировоззрение,
какое являлось неизбежным логическим выводом нового
научного метода и вновь открытых фактов. Конечно,
опытные выводы научных исследований последнего вре-
мени должны были расходиться во многом с априористи-
ческими умозаключениями, на которых выросли отцы.
Поэтому полного согласия между отцами и детьми ожи-
дать было невозможно. Если оно иногда и являлось, то
в виде исключения. Так отец Базарова расходился с своим
сыном в мелочах настолько, насколько новая медицина
опередила старую; но в существе воззрений у них непри-
миримой разницы быть не могло, ибо отец Базарова был
186
тоже медик. Совсем иное — дядя и отец Аркадия, особен-
но Павел Петрович, считавший себя человеком очень об-
разованным. Павлу Петровичу не нравились немцы по-
тому, что прежде у них были — «ну, там Шиллер, что ли,
Гете, а теперь все пошли какие-то химики и материали-
сты». На это естественник Базаров счел необходимым
ответить, что порядочный химик в двадцать раз полезнее
всякого поэта. И, конечно, Базаров, с точки зрения тех
насущных нужд России, которым требовалось удовлетво-
рить немедленно, был далеко справедливее Павла Петро-
вича. Если вы собираетесь строить железную дорогу и
к вам приведут поэтов, то будь эти поэты выше самого
Шекспира, вы все-таки предпочтете им инженеров и зем-
лекопов. Павел Петрович никак не мог понять этой про-
стой вещи. Но дело приняло более печальный оборот, ко-
гда вопрос коснулся нервов и ощущений. Базаров реши-
тельно не был виноват в том, что исследования европей-
ских натуралистов не сходились с умозаключениями
Павла Петровича. Базаров читал то, что писалось в луч-
ших сочинениях последнего времени, и слушал то, что
говорили ему с кафедры профессора. Поэтому весьма на-
турально, что на рассуждение Аркадия о таинственных
отношениях между мужчиной и женщиной он отвечал
в том же роде, как ответил Адуеву его дядя. «Мы, физио-
логи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь,
загадочному взгляду? Это все чепуха, романтизм»91. Но
подобные вещи можно было высказывать безнаказанно
только Аркадию, а не Павлу Петровичу. И потому, когда
Базаров в качестве естественника и противника всякой
метафизики, спросил Павла Петровича: «Да на что нам
эта логика: вы, я думаю, не нуждаетесь в логике для того,
чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы го-
лодны», то Павел Петрович только взмахнул руками.
Идеалист Павел Петрович наконец совсем разошелся
с реалистом Базаровым и даже раз сказал ему с холод-
ной вежливостью: «Впрочем, мы друг друга понять не
можем; я, по крайней мере, не имею чести вас пони-
мать». На что Базаров ему ответил: «Еще бы! человек
все в состоянии понять — и как трепещет эфир, и что на
солнце происходит; а как другой человек может иначе
сморкаться, чем он сам сморкается, этого они понять
187
не в состоянии». Умнее и справедливее нельзя было
ответить.
Тот Базаров, черты которого мы указали, есть пря-
мой, непосредственный продукт нового русского мышле-
ния в направлении последних реформ. Он такое неизбеж-
ное дитя истории, как сами реформы, и без крестьянского
вопроса невозможен. Базаров отлично понимал, что он
исторический продукт, и потому сказал Павлу Петро-
вичу: «Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал,
что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым
народным духом, во имя которого вы так ратуете?» Ко-
нечно, Базаров г. Тургенева не совсем тот, о котором мы
говорили; в тургеневском Базарове намешано много не-
существенных, внешних особенностей, заслоняющих его
простую, здравую сущность и потому-то более резко бро-
сающихся в глаза людей менее проницательных. Наме-
ренно или не намеренно пошутил таким образом г. Турге-
нев — вопроса этого касаться теперь мы не станем.
Несущественные черты Базарова повредили новому
типу больше всего в глазах благонамеренных и деликат-
ных отцов. Павла Петровича возмущала не столько сущ-
ность мировоззрения Базарова, сколько его резкость и
непочтительность. «Павел Петрович всеми силами души
своей возненавидел Базарова, — говорит г. Тургенев, —
он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он
подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли
не презирает его — его, Павла Кирсанова!» Очевидно, что
будь Базаров менее честный, прямой и последователь-
ный человек, Павел Петрович протянул бы ему дружески
руку. Павла Петровича, видавшего виды, конечно, не мог
смутить никакой материализм, нигилизм и цинизм, если
бы он проявлялся в мягкой, великосветской форме и если
бы он не чувствовал, что его познания, ум и развитие
подвергнуты сомнению — и еще кем? — мальчишкой и
плебеем. Как вы хотите — обидно! Мы знаем, что мате-
риализм и нигилизм, проявлявшийся самым циническим
и безнравственным образом в конце XVIII столетия, не
возмущал никого, потому что представителями его были
графы, князья и маркизы92. Блонды, кружева и бархат
прикрывали всякую грязь, всякую гадость, как флаН3
Англии, например, покрывал торговлю человеческим мя-
сом 93.
188
Базарову, для привлечения к себе расположения ста-
риков Кирсановых, стоило только говорить мягче и не
обнаруживать, что он считает их людьми отжившими и
для нового дела непригодными. В этой ненужной искрен-
ности ошибка нового типа. Базаров должен был знагь
Бентама; а если он знал его, то должен был знать и то,
что утилитаризм считает безнравственными действия,
ведущие к вредному результату. Своим неосторожным
высокомерием Базаров не выигрывал своего дела; если
бы он даже сказал Павлу Петровичу прямо, наотрез, что
он глуп и бесполезен, разве Павел Петрович стал бы от
этого умнее и полезнее? Но новый тип всякую сделку счи-
тает бесчестностью; из истории предыдущего поколения
он вынес убеждение, что ложь, уступка, непоследователь-
ность точно гангрена разъела наш общественный орга-
низм, и не захотел идти путем отцов. Порыв, хотя и чест-
ный, оказался нерасчетливым. Но не детей обвиняем мы
в этом. Честность и искренность Базарова стоит вне вся-
кого сомнения, только не Кирсановым было понять их.
А Базарову приходилось иметь дело именно с Кирсано-
выми. Против такой стихии ничего не поделаешь: тут
история.
К сожалению для нового типа, на сторону стихийной
силы Кирсановых встали гг. Тургеневы, Писемские, Гон-
чаровы, Стебницкие, Клюшниковы, Авенариусы, восполь-
зовавшиеся глупо своим правом говорить. Отнесись
г. Тургенев менее отрицательно к Базарову, пойми он,
что Базаров сила молодая, формирующаяся сила, кото-
рой не суждено пропасть в ничтожестве, как какому-ни-
будь Павлу Петровичу, Бакланову или Басардину, и
часть печальных последствий, вызванных г. Тургеневым,
не верящим ни в какую силу, конечно, миновала бы нас.
Г-н Тургенев смеется над «отцами» и изображает их в
жалком виде. Но в то же время, увидев молодую силу,
вызванную на арену истории самою жизнью, он, с реф-
лексиею человека сороковых годов, заколебался и испу-
гался ей ввериться. Худо старое, говорит он, да и бог
ведает, хорошо ли новое? И вот, под влиянием этой жал-
кой рефлексии, он навязывает Базарову разные несуще-
ственные черты, которые замазывают грязью его чистую,
честную фигуру, и тип едва возникающего человека ше-
стидесятых годов является в уродливом изображении.
Мы приписываем это исключительно неспособности
189
г. Тургенева понять правду жизни и отсутствию в нем
критической проницательности. Если он отрицает крепо-
стное право со всеми его уродливыми последствиями, он
должен был признать благотворность освобождения кре-
стьян тоже со всеми его последствиями. Он должен был
увидеть в новом явлении реакцию старому и, в качестве
летописца, не имел права примешивать своих личных ин-
тересов, личных симпатий и антипатий. Посмотрите, как
тепло относится Тургенев к своим женским типам. Или
вы думаете, что он не знает недостатков Одинцовой, Еле-
ны и т. д.? Знает он их очень хорошо, но он считает их
мелочами, только мешающими ясности и идеальной чи-
стоте образа. Но с типом мужчины он поступает всегда
иначе, точно боится, чтобы человек уже не вышел слиш-
ком пленительным. Владея сильными задатками, чтобы
быть литературным вождем, г. Тургенев стушевывается
добровольно, он отделяется от мужчин, примыкает к жен-
скому лагерю и желает стоять лишь во главе амазонок.
Конечно, это приятнее, но зачем же портить мужчин!
А г. Тургенев своим Базаровым попортил немало. С од-
ной стороны, он возбудил против возникающего типа не-
годование всех Кирсановых, которым так настойчиво
старался втолковать, что «дети» ни в грош не ставят
«отцов». Это корень антагонизма. С другой — несуще-
ственными чертами Базарова он создал базаровщину.
Базаров, даже и в том виде, как у г. Тургенева, — сила,
большая и исключительная. Таких сильных натур счи-
тают не сотнями, а единицами. У г. Писемского, в «Взба-
ламученном море», целый полк действующих лиц, а Про-
скриптский один, в «Отцах и детях» на десяток только
один Базаров. В действительной жизни отношение это
еще неблагоприятнее. Поэтому понятно, что все несиль-
ное, несамостоятельное, способное более понимать фор-
му, чем сущность, должно было облачиться в маскарад-
ный костюм, полагая, что достаточно быть резким и угло-
ватым, чтобы сделаться представителем типа шестидеся-
тых годов. Это именно и случилось. Не Базаров, а база-
ровщина явилась злом, и шутовская копия заслонила в
общественном мнении все хорошие стороны нового типа.
Теперь базаровщины вы уже не встретите, за очень ред*
кими исключениями, попадающимися в провинции; но
правда, намеченная в Базарове, жива и не умрет, Эта
190
правда заключается в сущности тех новых исторических
требований, которые создались освобождением крестьян,
в том реализме, без которого немыслим социально-эконо-
мический прогресс в России.
XVI
Специальная особенность таланта отживших писате-
лей в том, что они никогда не обнаруживали особенно
широкого размаха мысли. От этого их герои очень ти-
пичны, скопированы верно с натуры, являлись как бы
монографами в беллетристической форме. То же самое
случилось и с Базаровым. Он личность сильная, но одно-
сторонняя, далеко не отвечающая на вопросы времени и
не дающая идеального образа человека шестидесятых
годов. Г-н Тургенев заставил Базарова умереть как раз
в тот момент, когда Базарову следовало жить. «Отцы и
дети» — точно первая часть недоконченного романа. Ко-
нечно, Базарову в 1859 году и не в чем было проявить
свою деятельность; но, пожалуй, нам этой деятельности
и не нужно; нам важнее было бы проследить дальнейшее
развитие Базарова, узнать, в чем и как он исправлял свое
еще не вполне установившееся мировоззрение и как он
примирил свои противоречия, которых в нем было не-
мало, наконец, какой стороной и в каком размере вошли
в него и другие вопросы русской жизни. Из Базарова мы
узнаем только две вещи: что люди шестидесятых годов
отнеслись отрицательно к деятельности своих отцов и
усвоили себе реальное мировоззрение. И что у Базарова
способ обращения с людьми и манеры не отличались
светской деликатностью. Что же касается души Базаро-
ва, то читателю показали только один ее уголок. Такую
способность автора мы объясняем просто трудностью
предмета, за обработку которого он взялся.
В односторонности и незаконченности типа заклю-
чается, между прочим, более вредное влияние базаров-
щины, которая, при вполне выработавшемся типе, конеч-
но, исчезла бы, а вместе с ней исчез бы и благовидный
повод к ожесточению «отцов». Таким образом, если бы
талант г. Тургенева был выше и он не ограничился бы
только первою частию недоконченного романа, то, может
быть, русская литература избавилась бы от необходи-
191
мести принять в свои недра произведения гг. Стебниц-
кого, Клюшникова, Авенариуса, ибо этим господам после
г. Тургенева сказать было бы уже нечего. Теперь же для
пополнения того, что не договорил г. Тургенев, прихо-
дится обращаться к этим подьячим русской беллетри-
стики и в их произведениях отыскивать типические черты
формирующегося человека шестидесятых годов. Это пе-
чально, но нет другого выхода. Впрочем, для успокоения
читателя я напомню ему о том прусском кузнеце, который
предсказывал перемену погоды лучше придворного астро-
нома. Когда Фридрих Великий потребовал к себе этого
кузнеца, спросив его, как он узнает погоду, кузнец отве-
чал: «При дворе вашего величества состоит астрономом
мой родной брат: я говорю всегда противное тому, что
говорит он, и выходит правда». Совершенно тот же прием
нужно употреблять и с произведениями отсталых писа-
телей. С помощью этого метода, спасшего нас в «Взбала-
мученном море», мы надеемся найти выход и из «Не-
куда».
Г-ну Стебницкому достался материал далеко высшего
качества, чем г. Тургеневу. Г-н Тургенев имел дело с едва
обозначившимися чертами, тогда как перед автором «Не-
куда» ходило взбаламученное море. Даже не опускаясь
на дно этого моря, а прогуливаясь лишь по берегу, можно
было усмотреть множество сокровищ, множество пред-
метов, прежде невиданных и неведомых; но на крючок
г. Стебницкого попадали лишь водоросли, да и в них он
рассмотрел не то, что увидел бы ботаник; на просвещен-
ный глаз г. Стебницкого, все это была тина.
Г-н Тургенев в «Отцах и детях» изобразил родителей
красками самыми привлекательными. Благодушие отца
и матери Базарова можно сравнить разве только с бла-
годушием Ивана Никифоровича и Пульхерии Иванов-
ны94. Павел Петрович и Николай Петрович истинные
джентльмены, держащие себя с Аркадием как равные.
Но подобное обобщение было бы неосторожно, и г. Стеб-
ницкий показывает обратную сторону медали. Лизе, на-
пример, не было житья дома, хоть в петлю полезай: и
сестры, и тетки, и няньки, и мать следят за каждым ее
шагом, точно инквизиторы, — чуть позволяют ей дышать
свежим воздухом. Выплывает, например, из-за меревско-
го сада луна: «Ах, луна!» — восклицает Лиза. «Что это,
Лиза! точно вы не видали луны», — замечает ей Зинаида
192
Егоровна. «И этого нельзя?» — сухо спрашивает Лиза.
«Не нельзя, а смешно. Тебя прозовут мечтательницей.
Зачем же быть смешною?» Женни Гловацкая95 садится
в экипаж, чтобы ехать домой: «Какая ты счастливица, —
говорит ей Лиза, — ехать ночью одной по лесу. Ах, как
это хорошо!» — «Боже мой, что это в самом деле у тебя,
Лиза, то ночь, то луна, дружба... тебя просто никуда
взять нельзя, с тобою засмеют», — произносит по-фран-
цузски Зинаида Егоровна. Лиза вздумала уехать на час
в гости к своей подруге Женни, и это нашли до такой
степени неприличным, что перевернули весь дом: мать
в этом простом поступке усмотрела неуважение к себе и
чуть не разврат, другие еще хуже. Бахарев, отец Лизы,
оказался единственным рассудительным человеком:
«,,Пойдут дуть да раздувать и надуют и себе всякие бо-
лести, и другим беспокойство. Ох ты господи! господи!
ты ищешь только покоя, а они знай истории разводят.
И из-за чего, за что девочку разогорчили!" — добавил он,
входя в кабинет, и так хлопнул дверью, что в зале задро-
жали стены». Лизу наконец так измучил семейный над-
зор и шпильки, которые ей вставляли на каждом шагу,
что она, рыдая, обратилась к Женни с просьбой взять
ее из дому: «Возьми. . . возьми к себе, друг мой! ангел
мой хранитель... сохрани меня!» — «Что ты болтаешь,
смешная! — отвечала Женни, — как я тебя возьму? Здесь
у тебя семья: отец, мать, сестры». — «Я их буду любить,
я их еще. .. больше буду любить. Тут я их скорей пере-
стану любить. Они, может быть, и добрые, но все они
так странно со мною обращаются. Они не хотят понять,
что мне так нельзя жить. Они ничего не хотят понять». —
«Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнают,
какая ты добрая, и поймут, как с тобою нужно обра-
щаться».— «Нет, они не поймут; они никогда, никогда не
поймут. Тетка Агния правду говорила. Есть, верно, в са-
мом деле семьи, где еще меньше понимают, чем в инсти-
туте». Лиза, расстроенная до последней степени, неожи-
данно бросилась на колени перед Женни и в каком-то
исступлении проговорила: «Ангел мой, возьми! Я здесь их
возненавижу, я стану злая, я стану демоном, чудовищем,
зверем... или я... черт знает чего наделаю». Но, может
быть, Лиза действительно делает такие вещи, что за ней
необходим чрезвычайный надзор. Ничего не бывало. Она
только что взята из института, дома всего один месяц
7 Н. В Шелгунов
193
и девушка как все девушки. От обыкновенных девушек
она отличается только тем, что лучше их — умнее, само-
стоятельнее, своеобразнее и энергичнее. Будь она такая
же дрянь, как ее сестры, ей жилось бы дома хорошо. На
Лизу уж пахнуло свежим воздухом: вопрос о свободе она
перенесла из крестьянской области на себя; тут не боль-
ше как последовательность. Сам даже г. Стебницкий го-
ворит, что «первым шагом в этом периоде был сепаратизм
со всем, что симпатизировало заветам прошедшего. На
стороне старых интересов оставалась масса людей, кото-
рых по их способностям Эдуард Уитти справедливо назы-
вает разрядом плутов или дураков. Это было большин-
ство. Мать и сестры Лизы оставались в большинстве и
жили его жизнью. Женни и Лиза вовсе не принадлежали
к прошлому и не имели с ним никакой связи... Подобные
кружки сепаратистов встречались довольно нередко и
составляли совершенно новое явление в уездной жизни.
Людей, входивших в состав этих кружков, связывала не
солидарность материальных интересов, а единственно со-
чувствие совершающемуся пробуждению, общая радость
каждому шагу общественного преуспеяния и искреннее
желание всех зол прошедшему». Если последние слова
г. Стебницкого перенести из области чувств в область
сознания, то обнаружится, что логика жизни заставила
людей думать о том, о чем они прежде не думали, и заме-
чать то, чего прежде не замечалось. «Доктор пойдет в го-
род, щ куда бы он ни шел, все ему смотрительский дом
по дороге выйдет. Забежит на минуту, все, говорит, не-
когда, все торопится да и просидит битый час против
работающей Женни, рассказывая ей, как многим худо
живется на белом свете и как им могло бы житься совсем
иначе, гораздо лучше, гораздо свободней». Да, момент
улучшения быта крестьян был именно моментом стремле-
ния всех более умных и добрых людей к улучшению по-
ложения истинных несчастных и страдающих. И почему
же улучшение положения одних должно было исключить
улучшение положения других? Думать так думать! Вот
почему, когда Лиза узнала, в какой омут погрузила док-
тора его семейная жизнь, она обратилась к нему с вопро-
сом, отчего он не вырвется из своего положения? «Уез-
жайте отсюда в столицу, ищите кафедры». — «А се-
мья?»— ответил доктор. «Да, брак — ужасное дело»,—
194
проговорила тихо Лиза. По личному опыту она знала, что
значит поедом едущая семья.
Отцам, твердо стоявшим на почве несокрушимой тра-
диции, семья и не могла казаться тем, чем она показалась
детям. Когда после одного спора с Базаровым Павел
Петрович воскликнул: «Вот вам нынешняя молодежь! вот
они наши наследники!» — Николай Петрович ему на это
ответил: «Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с по-
койницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела
меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня
понять не можете, мы, мол, принадлежим к двум различ-
ным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал:
что делать? Пилюля горька, а проглотить ее нужно. Вот
теперь настала наша очередь, и наши наследники могут
сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте
пилюли». Но ведь новая пилюля была не той крепости,
какую преподнес Николай Петрович своей покойной ма-
тушке. Мы не знаем, из-за чего поспорил Николай Петро-
вич; но думаем, что это был какой-нибудь вздор, на кото-
рый Базаров не обратил бы внимания. В самом деле,
в чем существенном могли расходиться тогда отцы и дети!
Семья во всех своих преданиях стояла несокрушимой
твердыней; традиционная связь была крепка, как желез-
ная цепь. Большего мучителя, как жена 'Розанова, ка-
жется, уж и придумать нельзя, а живи вместе: стерпит-
ся — слюбится, — гласила опытная мудрость уездного
города, в котором обитал мученик доктор, хотя Вязми-
тинов совершенно справедливо заметил, что русский чело-
век зачастую сапоги покупает осмотрительнее, чем же-
нится. У Розанова оказался уж очень тесный сапог: сил
нет — нет, говорят, носи. Бахарев, когда истерические
фокусы Ольги Сергеевны уж очень ему докучали, когда
визг и стоны Ольги Сергеевны и суетливая беготня при-
слуги выводили его из терпения, громко хлопнув дверью,
уходил в свою комнату и порывисто бегал по ней из угла
в угол. Если же еще с полчаса история в доме не пре-
кращалась, Егор Николаевич выбегал оттуда дрожащий
и с растрепанными волосами. Он стремительно достигал
комнаты, где истеричничала Ольга Сергеевна, громовым
голосом и многознаменательным движением чубука вы-
гонял из этой комнаты всякую живую душу и затем дер-
жал корчившей ноги больной такую речь: «Вам мешают
успокоиться, и я вас запру на ключ, пока вы не пере-
*
195
станете». Затем экс-гусар выходил за дверь, оставляя
больную одну-одинешеньку. Больная, конечно, выздорав-
ливала. Но превратить свою семейную жизнь в ряд подоб-
ных сцен уж очень глупо. А между тем подобную жизнь
вело почти большинство; милые семейные сцены на ту же
тему, но с другими подробностями составляли не исклю-
чение, а правило; на них смотрели даже как на нечто
неизбежное, как на выпавшую житейскую линию, точно
такая жизнь указана русскому человеку в самой книге
судеб. Вольнодумничать о каких-либо переменах Нико-
лаям Петровичам и в голову не приходило, а Бахаревы
в энергическом хлопанье дверьми видели единственный
спасительный исход. Скромность умственных и нравствен-
ных требований была доведена до такой кроткой благо-
намеренности, что Василий Иванович даже в 1859 году
боялся произнести слово «декабристы». «Я, тот самый
я, — говорил он Аркадию, — которого вы изволите видеть
теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуков-
ского пульс щупал. Тех-то в Южной армии, по четырна-
дцатому, вы понимаете — и тут Василий Иванович значи-
тельно сжал губы — всех знал наперечет. Ну, да ведь мое
дело сторона, знал свой ланцет, и баста». Петр Лукич,
отец Женни, еще яснее обрисовал умственный героизм
людей своего* времени. «Нет, господа, уж как там ни
храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю от ва-
ших-то понятий, — говорил он собравшимся у него сепа-
ратистам. — Бывало, что ни читаешь, все это находишь
так, в порядке вещей, и сам понимаешь и с другими ста-
нешь говорить, и другой одинаково понимает; а теперь
иной раз читаешь этакую там статейку или практическую
заметку какую и чувствуешь и сознаешь, что давно бы
должна быть такая заметка, а как-то, бог его знает. ..
Просто иной раз глазам не веришь. Чувствуешь, что прав-
да это все, а рука-то своя ни за что не написала бы это-
го. .. Точно, я сам знаю, что в Европе существует глас-
ность, и понимаю, что она должна существовать, даже...
между нами говоря... (смотритель оглянулся на обе сто-
роны и добавил, понизив голос), я сам несколько раз «Ко-
локол» читал, и не без удовольствия, скажу вам, читал;
но у нас-то, на родной-то земле, как же это, думаю? Что ж
это, о всем, стало быть, люди смеют говорить? А мы не
смели об этом подумать. Подумать, а не то что говорить!..
Я другой школы, нас учили классически; мы литературу
196
не принимали гражданским орудием; мы не приучены
действовать, и не по силам нам действовать».
И подобных-то людей видела Лиза повсюду и всякий
день. Ей ли, при ее натуре, можно было успокоиться на
подобных требованиях, на такой жизни. Да еще хорошо,
если на такой; но ее мать и сестры были вовсе не похожи
на Петра Лукича. В душе Лизы не было мира, говорит
г. Стебницкий. «Рвалась она на волю, томилась предчув-
ствиями, изнывала в темных шарадах своего и чужого
разума. Мертва казалась ей книга природы; на ее во-
просы не давали ответа темные люди темного царства.
Она страдала и искала повсюду разгадки для живых,
ноющих вопросов, неумолчно взывающих о скорейшем
решении. Ей тоже хотелось правды. Но этой правды она
искала не так, как искала ее Женни. Она искала мира,
когда мира не было в ее костях. Семья не поняла чистых
порывов; люди их перетолковывали; друзья старались их
усыпить; мать кошек чесала; отец младенчествовал. Все
обрывалось; некуда было деться. Женни не взяла ее
к себе, «нельзя». Мать Агния тоже говорила «опомнись»,
а опомниться нужно было там же, в том же вертепе, где
кошек чешут и злят регулярными приемами через час по
ложке. Нельзя в таких местах опомниться. Лиза, от при-
роды нежная, пытливая и впечатлительная, не нашла
дома ничего. Таки ровно ничего. Кроме странной, почти
детской ласки отца, аристократического внимания тетки
и мягкого бичевания от всех прочих членов своей семьи.
Врожденные симпатии еще влекли в семью Гловацких,
но куда же годились эти мечтания? Ей хотелось много
понимать, учиться. Ее повезли на балы. Все это шло на-
против ее желаний. Она искала сочувствия и нашла это
сочувствие в книгах, где личность отвергалась во имя
общества и во имя общества освобождалась личность.
И стали смешны ей и прежние плачевные сцены и сен-
тиментально глупа показалась собственная просьба к
Женни увезти ее из дому». Привязанности сменились
стремлениями, и все живые связи с неудовлетворявшим
мелким окружавшим мельчали и порывались. Удовлетво-
рить такой порыв мог только параллельный подобный же
порыв. Но Лиза не находила в окружавших ее людях
ничего, а Базарова подле нее не было. Эти два сильные
человека, искавшие истины, искавшие дела, были назна-
чены самой логикой жизни пополнять друг друга и исправ-
197
лять взаимное суждение. Поставленные во взаимодей*
ствие, они дали бы превосходный полный тип человека
шестидесятых годов. Но г. Тургенев обжег Базарова на
Одинцовой, а г. Стебницкий не нашел для Лизы Базарова
и выбросил ее одинокую на распутье жизни, не указав
ей никакого выхода, заставив умереть.
• * Но ответ ли это, полно? 96
«С ними (то есть с общиной) у меня общего.., хоть
ненависть... хоть неуменье мириться с тем обществом,
с которым вы миритесь. А свами... ничего», — были по-
следние слова Лизы. Вот где сила; Базаров умер тоже,
не изменив себе.
Обидно, что романисты присвоили себе почти боже-
скую власть над жизнью и смертью своих героев и ни-
спосылают по своему усмотрению смерть на тех, кого им
нужно. Этим искусным маневром они маскируют от не-
опытного читателя свое творческое бессилие. Г-н Писем-
ский заставил Ивана застрелить Грушу. Г-н Тургенев
уложил Базарова в тифозную горячку и уморил его,
хотя, по всем признакам сложения, Базарову следовало
выздороветь. Г-н Стебницкий воспользовался своим ав-
торским правом с подобным же великодушным либера-
лизмом.
Базаров не считал любовь главным делом жизни.
Любовь, в смысле идеальном или, как он выражался,
в романическом, он называл белибердой, непроститель-
ной дурью, рыцарские чувства он считал чем-то вроде
уродства или болезни и не однажды выражал свое удив-
ление, почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга
со всеми миннезингерами и трубадурами. Подобному
взгляду на любовь Одинцова ответить не могла. Она
была женщина предыдущего периода, воспитавшаяся
в жоржзандизме сороковых годов. «По-моему, — сказала
она Базарову, — или все, или ничего. Жизнь за жизнь.
Взял мою, отдай свою и тогда уж без сожаления и без
возврата. А то лучше и не надо». Следовательно, ее
взгляд на отношения мужчины к женщине не шел даль-
ше эгоизма вдвоем.
В Лизе мы находим совсем другие черты. Она точно и
не нуждается в этой любви. Ее ум занимают другие во-
просы. Она заглядывает глубже в жизнь и не может
уложиться в узкие границы семейного эгоизма. Ее пыт-
ливый ум, направившийся уже на наблюдение окружаю-
198
щей ее общественной жизни, не может сузиться до раз-
мера мышления Одинцовой. Жоржзандизм, ставши во-
просом русской женщины, мог в своем практическом
приложении обнимать лишь сферу вопросов женщины.
А сфера этих вопросов была далеко мизернее сферы во-
просов девушки. «Отдай мне жизнь за жизнь, люби меня
равноправно», — вот все, чего требовала Одинцова. И ей
других требований нельзя было иметь, потому что она
женщина русская. Жизнь женщины строго определялась
ее семейным положением. Никакой деятельности вне
этого круга, все в нем — хозяйство, дети, муж. Ясно, что
эгоизм вдвоем сжимался в весьма тесный круг и счастье
заключалось в полном удовлетворении потребностей и
стремлений личного чувства. Положение девушки много
выгоднее. Ее уму лежит впереди широкая дорога. Опа
еще не мать и не жена; вопросов семьи для нее еще нет,
и разрешать в этом направлении ей ничего не приходит-
ся. От г. Стебницкого мы узнаем, что Лиза читала много.
Что именно читала она, до сведения читателя не доводят;
но из некоторых указаний мы можем догадываться, что
ее занимали вопросы социально-экономические. Так, раз
приходит к Лизе Помада и говорит ей, что он читал Мил-
ля97. «Вот место замечательное, — сказал Помада, поло-
жив перед Лизой книжку и указывая костяным ножом
на открытую страницу: «В каждой цивилизованной стра-
не число людей, занятых убыточными производствами
или ничем не занятых, составляет, конечно, пропорцию
более чем в двадцать процентов сравнительно с числом
хлебопашцев». А тут вот, — сказал Помада, указывая на
«Русский вестник», — драгоценный вывод в одной статье».
Вывод был уголовно-статистический. Лиза, выслушав
Помаду, сказала: отложите эти книги, я буду читать.
В книгах Лиза искала ответов на свои вопросы, иска-
ла руководящего указания для своего частного и обще-
ственного поведения. Если ее не удовлетворяло то, что
она находила в книгах, она обращалась к тем, кто, по ее
мнению, мог разрешить ее сомнения. Таким человеком был
для нее сначала доктор Розанов. Молодость требует гото-
вых выводов и решенных вопросов; ей давай ответы пря-
мые, потому что она хочет дела и чувствует в себе силу
на все. Поэтому же и Лиза искала готовых выводов и
спрашивала их от Розанова. «Да какие же дам я вам
выводы, Лизавета Егоровна, — отвечал доктор. — Если
199
бы я знал, как людям выйти из ужасных положений бес-
кровной драмы, мое имя поставили бы на челе челове-
чества».— «Да, но у вас же есть какая-нибудь теория
жизни». — «Нету, Лизавета Егоровна, и не хочу ее иметь.
Теории-то эти, по моему мнению, и погубили и губят
людей». — «Как же, ведь есть же теории правильные,
верные?» — «Не знаю таких и смею дерзостно думать,
что до сих пор нет их». Лиза задумалась. «Нынешняя
теория не гарантирует счастья?» — «Не гарантирует, Ли-
завета Егоровна». — «А есть другие?» — «И те не гаран-
тируют». — «Значит, теории не верны?» — «Выходит,
так». — «А, может быть, только люди слишком неспособ-
ны жить умнее?» — «Вот это всего вернее. Кто умеет
жить, тот уставится во всякой рамке, а если б побольше
было умелых, так и неумелые бы поняли, что им делать».
В Розанове автор олицетворяет житейскую мудрость.
И мудрость эта гласит — живи без теорий, или, что тоже
самое, живи без правил, без оснований, без руководящих
принципов. Ведь и дикий камень, лежащий в поле, под-
чиняется окружающим обстоятельствам, и у него есть
правила, по которым он существует так, а не иначе.
А г. Стебницкий хочет, чтобы человек, царь природы,
жил вне закона, которому подчиняется всякий дождевой
червяк, всякий комар, всякая песчинка. Ну, а зачем у че-
ловека голова на плечах, г. Стебницкий? Конечно, вы
хотите сказать не то, что говорит Розанов. Тем оно и
хуже. Вы хотите доказать всем тем, кто думает и стре-
мится к переменам, что они хлопочут напрасно, напрасно
ищут неведомого нового, когда есть готовое старое. Ко-
нечно, в XVIII столетии жилось лучше, чем в XIX; в XVII
лучше, чем в XVIII, а в XVI еще лучше, чем в XVII; во
времена Чингисхана лучше, чем во времена Екатери-
ны II; а при Навуходоносоре лучше, чем при Чингисхане.
Далее Розанов доказывает, что вся штука в уменье жить;
приобретать же это уменье он запрещает, точно человек
прямо из утробы матери должен выходить Сократом.
И умей жить — и не держись никаких правил, никаких
теорий! Послушаешь Розанова — говорит гладко, сердеч-
но, даже красиво; а как подумаешь — и видишь, что он
несет самую бессовестную чушь. Такой советник был,
конечно, не по плечу Лизе. Лиза, впрочем, убедилась
скоро и сама, что, несмотря на разницу лет и житейского
опыта, а может быть, именно поэтому, она целей головой
2С0
выше своего советника. «Так жить нельзя, как вы жи-
вете,— сказала она раз Розанову. — Вам нужно уехать,
работать. Другой мир, другие люди, другая обстановка,
все это вас оживит. Стыдитесь, Дмитрий Петрович, вы
хуже Помады, которого вы распекаете. Вместо того
чтобы выбиваться — вы грязнете, тонете, пьете водку —
фуй!» В товарищи Лизе был нужен не надломленный и
слабый человек, как Розанов, а свежий, сильный, как
она сама, как Базаров. Две такие силы вместе перенесли
бы шар земной на другое место, если бы были убежде-
ны, что от этого людям и им самим будет житься лучше.
Но и г. Тургенев и г. Стебницкий, задавшиеся пред-
взятою мыслью доказать, что все дым и пар, поставили
своих героев в такие обстоятельства, что сила героев
должна была неизбежно разбиться. Почему же с Лизой
не столкнулся Базаров? Почему вместо резонера Роза-
нова судьба не могла послать Лизе Базарова? Конечно,
могла. Романисты просто воспользовались правом жизни
и смерти своих героев и комбинировали то, что подтвер-
ждает их личный закулисный взгляд, а не думали вовсе
рисовать правду жизни, какой она была, есть и должна
быть в идеальном изображении. Следовательно, все об-
винение падает не на героев, выставленных на позор,
а на авторов, ставших далеко ниже своей задачи.
Лиза, по своей силе и средствам, много выше Елены,
до которой г. Тургенев довел идеальный тип женщины
своего периода. В Елене много расплывающейся мечта-
тельности, отсутствие ясной тенденции, мало сконцентри-
рованной силы, тогда как Лиза, точно комок стали, бьет
себе в одну точку, да и только. Елена без Инсарова не-
мыслима. Без его активной помощи она или зачахнет,
или уйдет в монастырь. Лиза же рвет все путы и имеет
такой громадный запас активной силы, что будет проби-
ваться одна через все препятствия жизни, если не ока-
жется охотников идти с нею вместе. Это истинный тип
девушки шестидесятых годов, рядом с которым богатыри
предыдущего периода — Елены — не больше как невин-
ные институтки.
В этом естественном и логически необходимом типе
девушки, отыскивающей выхода к независимой и трудо-
вой жизни, г. Стебницкий не понял ни одной человече-
ской черты. Стремление Лизы устроиться самостоятельно
в экономическом отношении показалось г. Стебницкому
201
простою прихотью утопистки и желанием прикрыть раз-
врат благовидными теориями модного либерализма. По-
этому он не скупится на всякую грязь, чтобы покрыть ею
светлые черты русской девушки, выбивающейся из-под
старой опеки времен Домостроя. Это понятно.
В г. Стебницком и во всех людях его склада мыслей
мы видим решительное неуменье понимать разницу ме-
жду идеей и делом. Став на неверную точку, г. Стебниц-
кий запутался совершенно в своем собственном непони-
мании. Он смешал два разные понятия, которые не по-
зволяется смешивать не только современному романисту,
но и современному гимназисту, В порядке исторических
судеб человечества идея стоит раньше дела. Люди шести-
десятых годов такие же представители идеи, какими
были люди сороковых годов. Современная практика,
то есть дело предыдущей идеи, дала новый толчок совре-
менному мышлению, но сама стоит ниже его. Лиза и Ба-
заров изображают собою порыв последовательного мыш-
ления к тому, что еще невозможно в осуществлении для
большинства. Они в зародыше люди будущего, а гг. Тур-
генев и Стебницкий вообразили, что это увлекающиеся
глупцы, которых нужно обмазать дегтем, обсыпать пухом
и в таком виде выставить на позорище, чтобы и другим
неповадно было. Некоторые из идей этих людей, конеч-
но, осуществимы и теперь, как оказался осуществимым
жоржзандизм пятидесятых годов, но другие стремления,
захватывающие дальше, ждут своего будущего, как жда-
ло его освобождение крестьян.
Г-н Стебницкий подметил факт, но только его не по-
нял. После кисейных барышень и жоржзандизма про-
шедшего периода Лиза — вовсе не мечтательница и не
безумная, порывистая сила. Она истинный тип современ-
ной, живой девушки. О русской девушке (говорю вооб-
ще), своим настойчивым трудом добившейся звания док-
тора медицины, знает даже Западная Европа98. Но
сколько кроме подобных, резко огласившихся примеров
есть других, безгласных, требовавших не меньше силы и
неуклонной энергии? Сколько в одном Петербурге есть
бедных тружениц, ведущих каторжную жизнь, чтобы
встать самостоятельно на ноги?
Уж одно то, что ни г. Тургенев, ни г. Писемский, ни
г. Гончаров, ни г. Стебницкий не сумели подойти даже
близко к женщине шестидесятых годов, показывает, как
202
неизмеримо выше стоит она женщины сороковых годов.
Жоржзандизм сороковых годов стоял на той почве, кото-
рую Базаров называет сахарным сиропом. Девушка ше-
стидесятых годов точно отрубила. Не женщина, а девуш-
ка— тип нового времени и дает ему цвет. Но вовсе не
любовь составляет для современной девушки вопрос
жизни, а та полная экономическая независимость, кото-
рая вовсе не стояла идеалом стремлений женщины пре-
дыдущего периода и составляет новое слово новой рус-
ской жизни. Тут целая пропасть отделяет два периода —•
нынешний от предыдущего. Тут такое же несходство, как
между бытом умершей крепостной России и бытом тепе-
решней, свободной. Тогда жоржзандизм — теперь жен-
ский вопрос.
XVII
В Базарове выдается с особенной настойчивостью
одна черта нового типа — чувство личной независимости,
порыв к личной свободе. В лице Базарова г. Тургенев
заставляет новое поколение выразить свой протест про-
тив всякого крепостничества, в какой бы форме, в какой
бы сфере, в каком бы притязании оно ни выражалось.
«Да вот, например, — говорит Базаров Аркадию, — ты
сегодня сказал, проходя мимо избы вашего старосты Фи-
липпа— она такая славная, белая, — вот, сказал ты,—
Россия тогда достигнет совершенства, когда у послед-
него мужика будет такое же помещение, и всякий из нас
должен этому способствовать... А я и возненавидел этого
последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого
я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не
скажет... Да и на что мне его спасибо? — Ну, будет он
жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну,
а дальше?» Но Базаров, когда отпускал этот монолог,
хандрил и потому частию был злее, чем он есть, а частию
и рисовался. Базаров вообще не прочь порисоваться,
хотя, как умный человек, он делает это искуснее само-
любивых дураков. Правильность своего рассуждения
Базаров доказывает Аркадию теорией ощущений. «На-
пример, я: я придерживаюсь отрицательного направле-
ния— в силу ощущений, — говорит Базаров. — Мне при-
ятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего
мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже
203
в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди ни-
когда не проникнут, да и я в другой раз тебе этого не
скажу». Аркадию было не под силу бороться с Базаро-
вым, иначе он уличил бы его в противоречии. Базаров
умен и хочет быть первым, следовательно, и его ощуще-
ния должны быть первого сорта, а следовательно, он не
может и возненавидеть последнего мужика, который не
скажет ему даже и спасибо. Да за что и благодарить?
В силу тех же ощущений Базаров не может поступать
во вред ни Сидора, ни Филиппа; он будет поступать хо-
рошо, потому что не может поступать дурно. Ясно, что
благодарить не за что, и поступать дурно невозможно.
Но как мы уже говорили, Базаров — тип едва возникаю-
щий, тип в зародыше, форма, не доведенная до своего
полного развития в силу того, что г. Тургенев и не владел
достаточными материалами для сооружения более совер-
шенного, а пророчествовать было бы нерасчетливо для
его авторской репутации. И потому продолжение База-
рова нужно искать в следующих литературных типах,
то есть таких, для которых миновал момент самоопреде-
ления и теоретической выработки и которые являются
уже не говорунами, как юный Базаров, а активными дея-
телями действительной жизни. Мы укажем на тип Рай-
нера, переживший уже момент базаровской незакончен-
ности.
В этом типе вы уже не находите индивидуальной изо-
лированности, которая так неприятно поражает в База-
рове. Базаров — неоспоримо добрый человек: за ним не
стали бы деревенские мальчишки бегать, как собачонки,
да и мрачный Петр не разревелся бы, как баба, если бы
Базаров был бесчувственный эгоист подобно англоману
Павлу Петровичу. Но Базаров еще не дорос до более
широкого кругозора, и, готовясь для деятельности, он
как будто и не подозревает, что ему придется работать
для пользы других, хотя он, по-видимому, будет делать
все для себя. В типах, служащих продолжением Базаро-
ву, эта черта обнаруживается гораздо шире; для них
личного я точно и не существует. И этот второй момент
в развитии типа не больше, как логическая последова-
тельность.
Как только мысль, как у Базарова, оперлась на кри-
тику окружающих явлений, социально-экономическое по-
ложение русского человека должно было явиться немед-
204
ленно одним из главных вопросов жизни, вопросом са-
мого грандиозного размера. Г-н Стебницкий расписывает
подробно, как слагался интеллектуально Райнер и поче-
му он стал мыслить в социальном направлении. Вот один
случай: «Райнер встречает в горах швейцарку. «Дай мне
напиться», — говорит он крестьянке, сгибающейся под
тяжелыми кувшинами и тянущей за собою четырехлетнее
дитя. «Странное дело!—думает он, глотая свежую во-
ду.— Этот ребенок так тощ и бледен, как мучной чер-
вяк, посаженный на пробку. И его мать... Эта яркая
юбка ветха и покрыта прорехами; этот спензер висит на
ее тощей груди, как на палке, ноги ее босы и исцарапа-
ны, — а издали это было так хорошо и живописно». «От-
чего так худ твой ребенок?» — спрашивает Райнер.—
«Плохая пища. У меня нет дома. Я вдова, я работаю
людям из хлеба. Мне некуда идти с моим дитятей,
я кормлю его тем, чего не съедят хозяйские дети».—
«Плохая пища!—думает Райнер. — Этот мучной червяк
скоро умрет, сидя на пробке. Зачем люди не умеют жить
иначе? Как же иначе? .. Пусть хоть не так тесно межуют
землю. Зачем они теснятся? Затем, чтобы расходиться
на поиск хлеба. Твои свободные сыны, Швейцария, слу-
жили наемными солдатами у деспотов; твои дочери едут
в Петербург, Париж, Вену за таким хлебом, который ста-
новится поперек горла, пока его не смочат горячие слезы.
Тесно людям! Мало им места на широком свете...» И вот
Райнеру рисуется просто, необъятный простор, не за-
громожденный скалами, не угрожаемый лавинами. По
этому широкому раздолью тянутся широкие голубые
ленты рек, стоят местами дремучие леса, колышутся буй-
ные нивы и в воздухе носится сильный, немножко удуш-
ливый запах головастой конопли. Изредка только по
этому простору сидят убогие деревеньки, в которых жи-
вут люди, не знакомые почти ни с какими удобствами
жизни, еще реже видим бедные церкви, куда народ вно-
сит свое горе, свою радость. Все здесь делается неспеш-
но, тихо, опустя голову. Протяжно и уныло звучит из-за
горки караульный колокол ближайшей церкви, и еще
протяжнее, еще унылее замирает в воздухе песня, весь
смысл которой меньше заключается в словах, чем в над-
рывающих душу аханьях и оханьях, которыми эти слова
пересыпаны». И недаром в воображении Райнера нари-
совалась Россия. На Запад он не надеялся, о России же,
205
о русской общине он слышал много; на Россию он при-
вык смотреть как на страну, в которой легче всего поре-
шить социально-экономические вопросы, создать спаси-
тельный опыт и этим опытом спасти мир от голода. Для
человека, не смотревшего на людей тощих и бледных,
как мучные червяки, для человека, узнавшего, отчего эти
люди бледны и тощи, наконец, для человека, чувствую-
щего в себе силу и отвагу сделать все, лишь бы не было
голодных и недовольных людей, Россия, в момент осво-
бождения крестьян, должна была казаться единственной
страной, в которой еще можно жить для дела и для
практической пользы ближнему, — и Райнер поехал в
Петербург.
Таким образом, Райнер не останавливается на одной
мысли, но ищет практической деятельности. От теории
он переходит к самой жизни, от убеждения к его осуще-
ствлению. И это совершенно понятное явление в разви-
тии современного социального типа. За моментом крити-
ческого отношения к окружающей нас жизни наступает
момент практического применения идей к действитель-
ному миру. После слова начинается дело, и та пропасть,
которая разделяет мир утопии и мечты от мира фактов
и живых явлений, уничтожается именно теми людьми,
которые не двоятся, не качаются между убеждением и
практикой жизни. Это люди принципа.
Базаров говорит, что принципов нет и его поведение
подчиняется лишь ощущениям. Но Базаров — еще недо-
учившийся юнец, и неосновательные рассуждения ему
прощаются. Ощущения не больше, как двигающая сила,
качество же поведения зависит не от них. И самодур, и
гуманный человек действуют по ощущениям, однако
между самодуром или каким-нибудь Оуеном — великая
разница. Базаров стоит пока на чисто физиологической
почве, и теорией рефлексов он пользуется как орудием
для отрицания того, что он зовет идеализмом и роман-
тизмом. Но уж в споре его с Павлом Петровичем мы
усматриваем те строгие черты, которые должны вырабо-
таться в стоические принципы. Базаров готовит себя
серьезно для дела, считая природу и жизнь не храмами,
а мастерской; Рафаэль, по его мнению, и гроша медного
не стоит. «Как посмотришь эдак сбоку, да издали на
глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется, чего
лучше? — говорит Базаров Аркадию, — ешь, пей и знай,
206
что поступаешь самым правильным, самым разумным
манером.'Ан нет: тоска одолеет. Хочешь с людьми во*
зиться, хоть ругать их, да возиться с ними». Этим База-
ров выясняет ту точку отправления, на которой он если
еще и не утвердился, то готовится стоять. Он хочет во-
зиться с людьми, конечно, не для того, чтобы заставлять
их страдать более; он не может сидеть с сложенными
руками, ему нужно дело, а делом, как он объяснил Павлу
Петровичу, он признает то, что полезно. Но что же по*
лезно? «В теперешнее время полезнее всего отрицание—•
и мы отрицаем», — отвечает Базаров. Но Базаров уже по
личному опыту знает, что нельзя стоять неподвижно на
одной точке и заниматься одними разговорами, «когда
дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие
нас душит». Если к этим намекам, уже определяющим
будущее направление мыслей Базарова, мы присоединим
еще его плебейскую гордость тем, что дед его землю па-
хал, и его плебейский, простой образ жизни, то у нас
имеются все данные, необходимые для развития из база-
ровского типа типа стоика. Для появления такой новой
типической формы требуется способность таких ощуще-
ний, которою Базаров вполне владеет, и способность по-
сле изучения физиологии перейти к изучению законов
окружающих его экономических явлений. Увидев муч-
ного червяка на пробке, Базаров не обойдет его мимо и,
как медик, поймет, конечно, лучше других, отчего он так
тощ и бледен. Тогда наступит в Базарове новый момент
развития, который и даст его теории ощущений такой
цвет и характер, что в голову Базарова не залезет уже
ни одна противосоциальная мысль. Социально-экономи-
ческое мировоззрение и явится кодексом той умственной
дисциплины, которая будет регулировать его ощущения
и его частное и общественное поведение.,Вот это-то и бу-
дет принципами.
Тип человека принципа выше типа человека ощуще-
ний. Он выше и по своей законченности и по влиянию на
социальную нравственность. /Может быть, когда-нибудь
и наступит пора такого торжества Дарвиновой теории,
что одним наследственным накоплением кротких и гу-
манных ощущений вытеснится возможность ощущений
дурных и злые люди исчезнут с лица земли. Но пока по*
добное благополучие еще не наступило, теория принципа,
•а не ощущений должна служить руководящим началом
207
большинства. Теория ощущений страдает отсутствием
точной определительности, и потому неразвитым людям
она служит лишь оправданием их узкого, тупого своеко-
рыстия и ведет непосредственно к самодурству. Базаров,
ио теории ощущений, не сделает никакой гадости, но
дайте ее как руководящее начало Басардину иди Ионе
Мокеичу, тот же самый Базаров убежит с омерзением
от непрошеных подражателей. Людям слабым и легко-
мысленным нельзя давать в руки такой опасной игруш-
ки: они оправдают в себе все и внесут в общественный
организм такую отраву, от которой не скоро его выле-
чишь. Вот почему в строгом, даже суровом типе гуман-
ного принципа мы видим последнее слово человека ше-
стидесятых годов. Теория ощущения ведет к эпикуреизму,
теория принципа к стоицизму. Одна создает легкие нра-
вы Франции времен регентства", другая — строгие до-
бродетели древнего Рима. Что лучше и что нам нужнее?
Тип человека принципа, кроме того, современнее и по
своей исторической последовательности. Мы переживаем
теперь время новых экономических комбинаций. Следо-
вательно, строгий экономический принцип должен слу-
жить руководящим началом не только частного образа
жизни, но и определять характер экономической деятель-
ности каждого. Базаров прав, когда говорит, что Ра-
фаэль не стоит медного гроша; на что Рафаэль или Ка-
нова тому, кто, как сам Базаров или Лиза, бьются из-за
куска насущного хлеба?
Но положительного результата деятельности людей
шестидесятых годов нам романисты также не показали,
как не показал нам Белинский положительной деятель-
ности людей сороковых годов. В чем искать причину
этого? В аналогии читатель найдет ответ на этот вопрос.
Человек шестидесятых годов есть теоретический чело-
век, каким в свое время был и человек сороковых годов.
Человек шестидесятых годов даже еще и не определился
вполне. Он только подводит итог своему предыдущему
мышлению и в настоящее время находится в моменте
собственной проверки. Отчего г. Гончаров, которому
очень хотелось нарисовать новый тип, не усмотрел ни-
чего, кроме туманного образа базаровщины, искалечен-
ной им в изуродованном Марке Волохове? Отчего новые
беллетристы не дают тоже свежего типа? А только по-
тому, что этот тип еще не обнаружился в форме, заслу-
208
живающей идеального изображения. Уж не рисовать ли
человека, сложившего руки за спину и в раздумье ходя-
щего взад и вперед по своей комнате! Писатель ничего
не выдумывает, он только рисует то, что дается самой
жизнью. Человек шестидесятых годов теперь не Про-
скриптский, не Базаров, не Рахметов 10°, не Райнер, не
Лиза. Этими героями олицетворился первый момент
мышления человека шестидесятых годов; но этим мыш-
лением и формой своего внешнего поведения он еще не
сказал своего последнего слова. В подобном же положе-
нии находились люди сороковых годов в момент пяти-
десятых годов. Их активность была мелочною и одно-
стороннею. Тип как бы утратил все свои характеристиче-
ские черты. Настоящее дело лежало впереди. Но людям
пятидесятых годов не было необходимости проверять себя,
как это приходится сделать людям шестидесятых годов.
Тогда не было такой путаницы, какая теперь, и такой
неясности пониманья своего настоящего и своей исто-
рической задачи. Теперь старее писатели спутались с но-
выми, г. Гончаров и г. Писемский пишут, когда им уж
давно пора умолкнуть, а молодые их читают, когда им
читать их не следует. Теперь люди шестидесятых годов
не умеют найти своей границы с людьми сороковых го-
дов и не в состоянии отличать людей своего лагеря от
людей лагеря Стебницкого. Теперь те, кто еще недавно
верил в свою силу и в свое прогрессивное значение, впа-
ли в рефлексию и уподобились Вере в «Обрыве». Теперь
и на писателей своего времени люди рефлексии смотрят
чуть не с мучительным раскаянием, видя в них легко-
мысленных энтузиастов, в мечты которых имели неосто-
рожность поверить. Что же это такое? А больше ничего,
как момент самоопределения и проверки. Из всех этих
признаков следует именно то, что нам необходимо про-
верить недавнее былое с настоящим и точнее установить
и определить то мировоззрение, которое должно указать
историческую разницу между людьми сороковых и людь-
ми шестидесятых годов.
ТАЛАНТЛИВАЯ БЕСТАЛАННОСТЬ
(«Обрыв». Роман И. А. Гончарова. 1869 г. ])
I
Читатель, вероятно, помнит, что, когда явилась
«Обыкновенная история» Гончарова2, — русская
публика пришла в восторг неописанный, и роман
молодого автора читался наперерыв. Но вот чего, ко-
нечно, не помнит читатель. Он не помнит отзыва о Гон-
чарове Белинского. Часто ошибался Белинский в живых
авторах, но в настоящем случае не ошибся. Разбирая
«Обыкновенную историю», Белинский сказал о Гонча-
рове: «Он поэт, художник и больше ничего. У него нет
ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его
не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных
уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто
в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона. Из всех ны-
нешних писателей он один, только он один приближается
к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли
от него на неизмеримое пространство — и тем самым успе-
вают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме
таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и состав-
ляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта;
он, больше чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант
его не первостепенный, но сильный, замечательный. К осо-
бенностям его таланта принадлежит необыкновенное
мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не
повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает со-
бою другой, и все, как портреты, превосходны...»3 Го-
воря об эпилоге, Белинский замечает, что его хоть бы не
читать. «Как такой сильный талант мог впасть в такую
странную ошибку? — пишет Белинский. — Или он не со-
владал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор
увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему
почве — на почве сознательной мысли — и перестал быть
210
поэтом. Здесь все яснее открывается различие его талан-
та с талантом Искандера:4 тот и в сфере, чуждой для его
таланта действительности, умел выпутаться из своего
положения силою мысли; автор «Обыкновенной исто-
рии» впал в важную ошибку именно оттого, что оставил
на минуту руководство непосредственного таланта. У Ис-
кандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и
для чего пишет; он изображает с поразительною верно-
стью сцену действительности для того только, чтобы ска-
зать о ней свое слово, произнести суд. Г-н Гончаров ри-
сует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для
того, чтобы удовлетворить своей потребности и насла-
диться своею способностью рисовать; говорить и судить,
и извлекать из них нравственные следствия ему надо
предоставить своим читателям... Главная сила таланта
г. Гончарова — всегда в изящности и тонкости кисти,
верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже
в изображении мелочных и посторонних обстоятельств,
как, например, в поэтическом описании процесса горения
в камине сочинений молодого Адуева... в таланте г. Гон-
чарова поэзия — агент первый и единственный...»
Эта характеристика так верна в своих общих основа-
ниях, что прибавлять к ней нечего. Но для более полной
и точной оценки г. Гончарова ее нужно разъяснить в по-
дробностях.
Со времени «Обыкновенной истории» в мыслительных
способностях г. Гончарова никаких существенных пере-
мен не произошло. Оно и понятно — способности эти в го-
стином дворе не продаются. Г-н Гончаров остался по-
прежнему поэтом, талантом, живописцем, с тою только
разницею против 1847 года, когда появилась «Обыкно-
венная история», что в двадцать с лишком лет он еще
больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на
почве сознательной мысли.
Но уже и во времена Белинского чувствовалось, что
писателю, кроме таланта, нужно иметь еще нечто, и что
это нечто важнее самого таланта и составляет его силу.
Уже во времена Белинского у всех писателей явилось это
нечто, и только один г. Гончаров стремился к идеалу
чистого искусства и пел как птица божия, потому, что
хотелось петь.
Что это такое за нечто и почему только в нем сила
писателя, только в нем сила его таланта? Это нечто есть
211
понимание жизни, понимание общественных потребно-
стей и социальных стремлений. Это нечто есть смысл ру-
ководящий; это нечто есть ум. Если у автора нет свет-
лого, прогрессивного ума, — его не спасет никакой та-
лант.
Что такое писатель, как не общественный деятель?
что такое писатель, как не интеллектуальная сила, как
не путеводная звезда, за которой идут те, кто понимать
и рассуждать безошибочно не в состоянии?
Чему же служит в этом случае талант, и для чего он
нужен?
В сцене отъезда Адуева из деревни («Обыкновенная
история») мы читаем: «Коренная беспрестанно подни-
мала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз
при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а при-
стяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто
понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и
изредка обмахивались хвостами или протягивали ниж-
нюю губу к коренной лошади... Антон Иваныч потрепал
одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс
в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна,
потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула». Не-
дурно. В вашем воображении рисуются знакомые сцены,
у вас как бы перед глазами ямская тройка, вы видите,
что автор нарисовал сцену мастерски, и говорите — та-
лант.
В «Обрыве» талант наблюдательности и изображения
мелочей является еще сильнее. Описание теток Белово-
довой, например, превосходно: «Это были две высокие,
седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых
шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со
многими перстнями. Надежда Васильевна страдала ти-
ком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах
бархатную, подбитую горностаем, кацавейку, а Анна
Васильевна — сырцовые букли и большую шаль. У обеих
было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны — высокая
золотая табакерка, около нее несколько носовых плат-
ков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от
старости не узнающая никого из домашних, кроме своей
хозяйки. Дом у теток был старый, длинный, в два этажа,
с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами,
с глубокими окошками и длинными темными простен-
ками... Швейцар походил па Нептуна; лакеи пожилые и
212
молчаливые; женщины в темных платьях и чепцах. Эки-
паж высокий, козлы с шелковой бахромой, лошади ста-
рые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побе-
левшими от старости губами, при езде крупно кивающие
головой...» Когда Райский и Аянов вошли, «моська на
них захрипела, но не смогла полаять и, повертевшись
около себя, опять улеглась... Надежда Васильевна ла-
сково поглядела на вошедших, с удовольствием высмор-
калась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у нее бу-
дет партия...» Когда бабушка повезла Райского в город,
«их везла пара малых лошадей, ехавших медленной
рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота.
Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на
коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любо-
пытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы
по сторонам... Доехали они до деревянных рядов. Купец
встретил их с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на
отлете и голову наклонив немного в сторону... В одной
из лавок, у которой остановилась бабушка, были сукна
и материи, в другой комнате — сыр, и леденцы, и пряно-
сти, и даже бронза.Бабушка пересмотрела все материи;
приценилась и к сыру и к карандашам, поговорила о цепе
на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, на-
конец проехала через базар и купила только веревку,
чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору.
Он долго ее рассматривал, все потягивая в руках каж-
дый вершок, потом посмотрел оба конца и спрятал
в шапку...» Когда Райский приехал к бабушке из Пе-
тербурга, его глазам представилась неожиданно следую-
щая картина: «На крыльце, вроде веранды, установлен-
ной большими кадками с лимонными, померанцевыми
деревьями, кактусами, алоэ и розовыми цветами, отго-
роженной от двора большой решеткой и обращенной
к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух
тарелок, которые держала перед ней девочка лет двена-
дцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пше-
но и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки,
утки, голуби, наконец воробьи и галки. «Цып, цып, ти,
ти. ти! гуль, гуль, гуль!» — ласковым голосом пригла-
шала девушка птиц к завтраку. Куры, петухи, голуби
торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь еже-
минутного предательства, и опять совались. А когда тут
же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила во-
213
ровски клюнуть пшено, девушка топала ногой, «прочь,
прочь: ты зачем?» — кричала она, замахиваясь, и вся
пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через
минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо
клевать, как будто воруя зерно. «Ах ты жадный! —гово-
рила девушка, замахиваясь на большого петуха, — ни-
кому не даешь — кому ни брошу, везде схватит...» Рай-
ский, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота,
бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг
очутился перед девушкой. «Сестрица!» — воскликнул он,
протягивая руки. В одну минуту, как будто по волшеб-
ству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда про-
пали девушка и девчонка: воробьи, мимо его, носа, про-
ворно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крылья-
ми, точно ладонями, врассыпную кружились над его
головой, как слепые. Куры с отчаянным кудахтаньем бро-
сились по углахМ и даже пробовали с испуга бросаться на
стену. Индейский петух поднял лапу и, озираясь вокруг,
неистово ругался по-своему, точно сердитый командир
оборвал всю команду на ученье за беспорядок. Все люди
на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами, гля-
дели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на
пустое место: перед ним по земле были только одни рас-
сыпанные зерна...» Но наибольшую силу своего рисо-
вального таланта обнаружил г. Гончаров в описании
степного города; так, кажется, и видишь Симбирск.
«Было за полдень давно; над городом лежало оцепенение
покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль ши-
рокой, степной, сельской и городской русской жизни. Это
не город, а кладбище, как все эти города. Он ме то умер,
не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли,
как разверстые, но не говорящие уста, нет дыхания, не
бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык
у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит.
Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит.
Пыль, уже третий день нетронутая, одним узором от про-
ехавших колес лежит по улицам; в тени забора отдыхает
козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый
петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то
другой ногой кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по
четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе,
бросаясь по временам, от праздности, с лаем на редкого
прохожего, до которого им никакого дела нет. Простор и
214
пустота — как в пустыне. Кое-где высунется из окна го-
лова, с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зе-
вая, на обе стороны, плюнет и спрячется. В другое окно,
с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване чело-
века в халате: подле него на столике лежат «ведомости»,
очки и стоит графин квасу. Другой сидит по целым пасам
у ворот в картузе и в мирном бездействии смотрит на ка-
наву с крапивой и на забор на противоположной стороне.
Давно уже мнет носовой платок в руках — и все не ре-
шается высморкаться: лень. Там кто-то бездействует
у окна с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел
мимо, — всегда сидит он с довольным, ничего не желаю-
щим и не скучающим взглядом...»
Талант, большой талант! С замечательной наблюда-
тельностью г. Гончаров изучал внешнюю природу, при-
вычки и поведение животных и человека. Он подметил,
что лошадь никогда не фыркает, не оскалив зубов, и не
обойдет молчанием этого обстоятельства. Он знает, что
у породистых лошадей спины и шеи длинные и на езде
они крупно кивают головами, и вот читателю указывает
и на это. Он знает, что собака, прежде чем ляжет, пово-
ротится около себя несколько раз. Он подметил, что
галка прыгает боком и отличается воровскими привыч-
ками, что голуби хлопают крыльями, точно ладонями,
что куры в испуге скачут на стену, а простонародье вы-
ражает свое изумление разинутыми ртами. Нет такой
мелочи, на которую бы г. Гончаров не обратил внимания.
Он вам объясняет, что у дяди Адуева («Обыкновенная
история») ногти были длинные и прозрачные; что На-
дежда Васильевна («Обрыв») сморкалась иногда от удо-
вольствия и затем нюхала табак; что купец, почтительно
кланявшийся бабушке Райского, держал шляпу на от-
лете, а голову наклонив немного в сторону; что какой-то
прохожий, когда Райский спросил его, где живет Козлов,
сначала подумал немного, потом оглядел Райского с ног
до головы, затем отвернулся в сторону, высморкался
в пальцы и только тогда отвечал.
Но эта мелочная отделка подробностей вас не подку-
пает. Вы видите за нею пружины, известный, заученный
механизм, резко бросающееся в глаза подражание Го-
голю. Тут, пожалуй, даже нет таланта в смысле старой
творческой силы, а просто известный, терпеливо выра-
ботанный прием, сделавшийся признаком гоголевской
215
школы. Что такое заключение верно, читатель убедится
из следующего рассуждения.
Белинский относился к автору «Обыкновенной исто-
рии» слишком мягко, точно он хотел пощадить молодого
писателя и, не слишком задевая, навести его на истинный
путь. Уж и тогда г. Гончаров пускался в подробное, не
подходящее к делу описание несущественного, не имею-
щего ровно никакого отношения к основному вопросу.
Белинский указывал ему на это; Белинский говорил, что,
ему недостает нечто, что он отстал неизмеримо от со-
временных ему писателей. Но г. Гончаров не понял этого
предостережения. Вместо того чтобы поработать над со-
бою, он усилил в себе свои старые недостатки, не приба-
вив ни одного из тех существенных достоинств, без кото-
рых невозможно быть писателем с плодотворным, про-
грессивным значением.
Как будто бы талант только в том, чтобы изображать
с поразительной верностью кудахтанье кур, рысь старых
породистых лошадей, прием кучера, державшего вожжи
в кулаках, или те клубничные сцены, которые делают
«Обрыв» романом, назначенным преимущественно для
старых холостяков? Неужели, чтобы прослыть талантли-
вым, достаточно одной способности копировать до ме-
лочных подробностей все, что подвернется под руку, не
справляясь, вяжется ли это с главной идеей, или нет?
Белински?! был неправ в своей деликатности, если толь-
ко он ясно сознавал сам, что он говорил. Белинский как
будто отделял талант от идеи, строго разграничивая по-
этическое творчество от сознательной мысли. Но суще-
ствует ли такая черта? Можно ли быть талантом без:
мысли? Не будет ли это бессвязным, хотя и красивым
бредом сумасшедшего?
Никто не живет в пространстве. У всякого человека
есть свое место на земле, свои мысли, свой опыт, свое
мировоззрение, свой круг деятельности. У каждого чело-
века есть, что он любит, и есть, что он ненавидит, и эта
ненависть и любовь скажутся в каждом его действии,
в каждом его произведении, если он талант. Подборами
сцен, характеров, обстоятельств талант выразит непре-
менно себя, выкажет свою душу, постарается передать
вам свои симпатии и антипатии, поставит вас на свою
точку зрения, и это-то будет идеей его труда, его произ-
ведения. Поэтому чисто объективное, поэтическое твор-
216
чество, в котором бы не высказался писатель, как чело-
век, как член общества, совершенно немыслимо; ибо ка-
ждый писатель, как бы он ни был силен как поэт и
художник, прежде всего человек, существо, привязанное
к земле, к людям, стремящееся к личному счастью. Ду-
рак, как бы он ни был талантлив, обнаружит немедленно
свою дураковатость социальной бесполезностью своего
произведения, и эта бесполезность будет опять его идеей.
Без идеи, без мысли никакое произведение невозможно.
И эта социальная мысль или нечто, как выражается Бе-
линский, есть единственное мерило таланта, есть основ-
ная его сила. Не силой поэтического творчества опреде-
ляется размер таланта, а силой воодушевляющей его
мысли, силой ее социальной, прогрессивной полезности.
Неужели талант и искусство нужны только для того,
чтобы рисовать необычайно живописно всякие житейские
бесполезности? Поэт рисует вам необычно верно завы-
вание ветра в пустыне или ночной вой шакалов. Если
при описании этих сцен у вас в уме не возникает никакой
полезной параллели, к чему служит такое описание?
Станете ли вы читать книгу, не возбуждающую у вас ни-
какого интереса? А что такое интерес, как не ваше бли-
жайшее отношение к жизни? Во всем вы ищете себя, во
всем вы ищете ответов на свои вопросы.
Описание природы имеет смысл настолько, насколько
рисует ум или глупость коллективной жизни человека,
силу и власть человека над этой природой. Почему весь-
ма хитро измышленная статья г. Страхова «О жителях
луны» осталась незамеченной, не смотря на всю ловкость
ее логического построения? 5 А только потому, что вам
нет никакого дела до жителей луны, пока к ним не будет
проведена железная дорога. Описание природы вам важ-
но лишь в прогрессивно-историческом смысле, то есть
насколько человек в борьбе с природой торжествует или
падает в бессилии. Природа важна для нас настолько,
насколько человек зависит от нее. Безотносительной при-
роды нет, и как бы ни были велики ураганы у жителей
луны г. Страхова, вам нет до них никакого дела, пока
лунный ураган не заденет вас, пока он не заставит вас
справиться о целости крыши вашего дома или не заста-
вит вас подумать о более теплом одеяле.
Степной город г. Гончарова важен для вас не потому,
чю в вашем воображении возникнет картина знойной
217
пустыни с собаками, лежащими ленивыми кучами, и
с людьми, истомленными жаром до того, что им трудно
высморкаться; важен он вам потому, что возбуждает
узкую ассоциацию идей социального характера, рисует
гам спячку мозга, покой могилы, отсутствие активности,
дичь, невежество, отсталость. Вам хочется понять, по-
чему эти люди так жалки, так глупы и бедны, почему
для них счастье в том, в чем каждый умственно развитый
человек увидел бы свое несчастье? Но вот тут-то и воз-
никает истинная задача таланта. Пусть он стоит за за-
навесом, и вы не замечаете его приемов. Но талант дол-
жен представить вам именно все те данные, которые
должны возбудить в вас правильное, прогрессивно-со-
циальное мышление. Талант должен подобрать все фак-
ты, все обстоятельства, все особенности, чтобы сконцен-
трировать ваши мысли в известном, точно определенном
направлении и привести вас к правильному логическому
выводу. Все постороннее, мешающее быстроте и силе ва-
шего мышления в данном направлении, будет уже не за-
дачей таланта, а признаком бесталанности. Для чего вам
нужно знать, что собака, прежде чем легла, повернулась
несколько раз вокруг себя, или что куры прыгали в ис-
пуге на стену, если эти факты не помогают вашему мыш-
лению в известном данном направлении и не усилива-
ют вашего социального вывода? Пропустите их — проиг-
раете или выиграете вы в своем знании? Если умственное
безразличие несомненно, то к чему приводить факты,
только мешающие вашему мышлению, только затемняю-
щие его своею постороннею примесью?
Талант есть только та сила, которая умеет концентри-
ровать данные для известного положительного вывода, и
непременно вывода высокой общественной полезности,
вывода, очищающего понятия и имеющего руководящее
значение. Талант есть сила образного изображения в ши-
роко захватывающих картинах, сильнее действующих на
воображение, борьбы и умственного торжества человека
над мраком и невежеством. Борьба может быть с приро-
дой, борьба может быть социальная, но все ради этой
борьбы, все ради торжества света над тьмою. В иной
форме, в ином значении талант немыслим, ибо он иначе
талантливая бесталанность, красивое пустословие, по-
этическая безделка. Если обыкновенному человеку рас-
сказать обыкновенным, простым языком о пытке и ее
218
гнусности, рассказ может пропасть холостым зарядом; но
вот талант, поэт, живописец, изобразит вам пытку с та-
кими подробностями, физиологически верными и скон-
центрированными, что у вас захватывает дух, точно вас
самого жарят на огне или распинают на кресте, и вы про-
никаетесь негодованием против изуверства и глубоким со-
чувствием к страдающим, — вот в чем талант, вот в чем
его задача. Если талант не имеет подобной прогрессивной,
просвещающей тенденции, — он не талант, а неудавшаяся
сила. Бывали даже неудавшиеся гении, почему жег. Гон-
чарову не быть неудавшимся талантом? А неудавшимся
талантом будет всякий писатель, который не в силах иметь
воспитательного значения, который не в состоянии про-
буждать хороших, благородных чувств и гуманных мыс-
лей.
Сам г. Гончаров произнес себе приговор, конечно, не
подозревая того, что можно вывести из его слов. Он го-
ворит: «Глупая красота — не красота. Вглядись в тупую
красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в
улыбку ее, взгляд — красота ее мало-помалу превратит-
ся в поразительное безобразие: воображение может на
минуту увлечься, но ум и чувство не удовлетворятся такой
красотой: ее место в гареме. Красота, исполненная ума, —
необычайная сила: она движет миром, она делает исто-
рию, строит судьбы; она явно или тайно присутствует
в каждом событии. Красота и грация — это своего рода
воплощение ума. От этого дура никогда не может быть
красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто
блестит красотой. Красота, про которую я говорю, пре-
жде всего будит в человеке человека, шевелит мысль,
поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, не
тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту.. .»6
О какой красоте говорите вы, г. Гончаров? Уж конеч-
но, не о красоте смазливого женского личика. Вы при-
знаете, что красота есть какая-то таинственная сила,
двигающая человека на все хорошее, честное и благород-
ное, делающая его гуманным, доброжелательным и по-
тому великим. Что же это такое, как не ум, выводящий
человека из лабиринта житейской запутанности, создан-
ной человеческой глупостью, на светлый и прямой путь
к благополучию? Вы не признаете красоты без ума; по-
верьте, что нет без ума и таланта.
Г-н Гончаров предпослал своему роману весьма наив-
219
ное объяснение7. Он говорит, что программа этого ро-
мана была набросана им еще в 1856 и 1857 годах, то есть
двенадцать лет назад. Все характеры были им обдуманы,
кроме Марка Волохова, которому под конец романа он
придал более современный оттенок; что задача, которой
он задался, казалась ему не по силам. Но лестное уча-
стие к его прежним трудам возлагало на него обязан-
ность или сознаться в своей несостоятельности и уни-
чтожить рукопись, или напечатать то, что написалось, и
таким образом представить публике запоздалый труд.
Поистине печальная судьба являться постоянно пред
публикой с запоздалыми трудами! Когда появилось пер-
вое произведение г. Гончарова, его преследовал тот же
рок. «Говорят, — писал Белинский, — тип молодого Аду-
ева— устарелый; говорят, что такие характеры уже не
существуют...» И хотя Белинский пытается уверить чи-
тателя, что подобные типы на Руси еще не вывелись, но
Белинский в этом случае был подкуплен красотою изло-
жения, то есть техМ самым, что заставляет и теперь еще
всю Россию читать «Обрыв», не подозревая всей талант-
ливой бесталанности этого произведения.
Уже в сороковых годах г. Гончаров стоял особняком
и неизмеримо позади литературных деятелей того вре-
мени. Это было почти тридцать лет назад. И вот этот
уже в молодости отставший писатель снова привлекает
внимание русской читающей публики. Снова носятся с его
«Обрывом», как некогда с его «Обыкновенной истори-
ей». Так ли мы незрелы, как были тогда; так ли нас лег-
ко подкупить теперь одной красивой формой и бессодер-
жательной внешностью; даром ли пропали для нас по-
следние пятнадцать лет; нужны ли нашему обществу
подобные писатели, или время требует других талантов,
не заставляющих нас думать бесполезно? Посмотрим.
II
Есть разные способы мышления. Можно думать обра-
зами и картинами, как думают романисты, художники,
поэты; можно думать афоризмами, как думает боль-
шинство женщин; можно думать последовательным ло-
гическим мышлением. Сила всех этих родов мышления
бывает различная, прямо выходящая из качества челове-
ческого мозга. От этого бывают слабые и сильные рома-
220
нисты, поэты, художники, слабые или сильные мысли-
тели. Логичность мышления, в какой бы форме она ни
выражалась, есть сила неотразимая, всесокрушающая,
влекущая, против нее устоять невозможно. Где же нет
этой неотразимой силы, там нет логики, там нет прогрес-
сивного мышления.
Вся соль романа г. Гончарова заключается в его ге-
рое Марке. Вычеркните Марка — и романа нет, нет жиз-
ни, нет страстей, нет интереса, «Обрыв» невозможен.
Марк — это сосуд, вмещающий в себе всю сумму русских
заблуждений. Это черное пятно на светлом горизонте
патриархальной добродетели; это темная сила, идущая
по ложному пути и губящая все, к чему она ни прика-
сается. Г-н Гончаров, рисуя Марка, хотел сказать буду-
щей России: вот чем ты можешь быть — спасайся!
Прототипом Марка служит Базаров. Но Базаров лу-
чезарнее, чище, светлее. Для изображения же Марка
г. Гончаров опустил кисть в сажу и сплеча, вершковыми
полосами, нарисовал всклокоченную фигуру, вроде бе-
жавшего из рудников каторжного.
Люди, считающие себя представителями новых поня-
тий, при появлении в литературе типов, подобных Марку,
обнаруживали постоянно непростительную запальчи-
вость. Базаров чуть не произвел междоусобной войны.
Карикатуру и глумление каждый принимал за портрет.
Один лагерь вламывался в амбицию; другой тыкал в ка-
рикатуру пальцем, с злобной укоризной поглядывая на
всякого молодого человека.
По отношению к г. Гончарову обидчивость менее всего
простительна. Г-н Гончаров еще молодым не умел стоять
в передовом полку Белинского, неужели мы будем на-
столько нерассудительны, чтобы требовать от него пере-
дового человека через тридцать лет? Предположите, что
современная критика воспылала бы негодованием против
направления Карамзина, Загоскина, Лажечникова. Разве
к деятелям карамзинского и пушкинского периода может
быть другое отношение, кроме рассудочного, спокойного,
исторического? Из-за чего негодование к этим призра-
кам? Вы скажете, что есть из них и не призраки, а жи-
вые люди, которые сердятся, пишут, бранятся. Ну, и
йусть себе. Оттого они и бранятся, что чувствуют свое
бессилие; оттого они и сердятся, что не понимают. За-
дача современной критики вовсе не в запальчивой лич-
221
ной борьбе с отжившими писателями. По отношению
к ним ей следует лишь произнести надгробное слово и
отпустить их с миром. Истинная задача критики в том,
чтобы спасти читателя от губительного обаяния формы,
показать, что у позолоченного ореха гнилое ядро, что за
красивыми словами скрываются полнейший обскуран-
тизм и маломыслие, этот самый ужаснейший яд, от ко-
торого нужно спасать современное русское общество.
«Обрыв» читают все, но многие ли в состоянии отличить
в нем форму от сущности, указать разницу между Мар-
ком и Райским, увидеть скверность под позолотой.
Как только г. Гончарову впервые пришлось сказать
к слову о Марке, читатель узнает, что Марк Волохов не-
что более ужасное, чем Аттила, Чингисхан и Омар, взя-
тые вместе; что для него нет ничего святого, что из са-
мых драгоценных книг он, по прочтении, выдирает листы
и закуривает ими сигары или, скатав трубочку, чистит
ею ногти или уши. Этот Волохов — чудо степного города.
Его никто не любит и все боятся. Он сослан под надзор
полиции, и с тех пор город нельзя сказать, чтоб был
в безопасности. Так писал о Марке Леонтий Козлов Рай-
скому.
Рекомендация, сделанная Татьяной Марковной, была
несколько определительнее, но зато и хуже. Райский
узнал, что Волохов — Маркушка, да еще и бездомный;
что, где бы его ни увидеть, следует бежать от него, как
от сатаны, потому что он собьет с пути; что он груб и
невежа; что он чуть не застрелил Нила Андреевича; что
на Крицкую напустил собак, которые оборвали ей шлейф,
и что вообще он человек пропащий.
Но портрет, рисуемый самим автором романа, еще
грандиознее. «Марк был лет двадцати семи, среднего ро-
ста, сложенный крепко, точно из металла, и пропорцио-
нально. Он был не блондин, а бледный лицом; волосы
бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на за-
тылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода
жидкие. Открытое, как будто дерзкое лицо далеко вы-
ходило вперед. Черты лица не совсем правильные, до-
вольно крупные. Руки у него длинные, кисти рук боль-
шие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или
смелый, вызывающий, или по большей части холодный й
ко всему небрежный. Сжавшись в комок, он сидел непо-
движен; ноги, руки не шевелились, точно замерли; глаза
222
смотрели на все спокойно или холодно. Но под этой не-
подвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность,
какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно
и беззаботно собаке...» Затем идет подробное описание
собаки, лежащей, по-видимому, спокойно, а между тем
готовой каждую минуту вскочить и залаять. Маркушка-
бездомный, как называла Волохова Татьяна Марковна,
оказывается прозвищем весьма деликатного свойства
пред букетом, преподнесенным герою романа самим ав-
тором. И вот что значит сила таланта: вполне от автора
зависело обозвать Марка львом, тигром, крокодилом,
змеей, свиньей, кошкой, смотря по тому, какое представ-
ление требовалось возбудить в уме читателя. Автор на-
шел, что лучше и пристойнее всего сравнить Марка с со-
бакой, несмотря на то, что грива, большой лоб и смелые
серые глаза давали ему некоторое и, как кажется, нема-
лое право на сходство со львом. Если бы автор задался
мыслью похвалить Марка и выставить его образцом жи-
тейских добродетелей, то, конечно, он сравнил бы его
со львом; но как имелось в виду выругать, то и большая
соответственность была найдена в сравнении с собакой.
Отделяется ли талант от идеи? Сознательно или бессо-
знательно подбираются сравнения?
Из дальнейшего жизнеописания Марка мы узнаем,
что он ничего не делает по-людски. Подступит ли к нему
голод ночью, он, нисколько не соображая, что весь город
спит и нигде ничего достать невозможно, предполагает
поднять тревогу, крикнуть «пожар» и ворваться в трак-
тир. Когда на такое смелое предложение ему отвечают,
что его могут из трактира выгнать, Марк отвечает: «Нет,
уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда
я войду, так уж не выгонишь!» Для Марка не существует
ни дверей, ни ворот, — он лазит в окна и через заборы;
ест он за четверых, пьет, как медведь; живет на конце
города в клетушке у огородника, спит в телеге, под ро-
гожей, хоть и владеет тоненьким старым тюфяком, то-
щим ваточным одеялом и маленькой подушкой; средств
для существования у него нет никаких, и чем он живет —
неизвестно; увидев в первый раз человека, у которого он
знает, что есть деньги, Марк немедленно просит в долг
рублей триста, не менее, и объявляет, что он долга пла-
тить не будет; так прямо и говорит: «Я вам... никогда не
отдам, разве только будете в моем положении, а я в
223
вашем...» Износится ли его платье, — а у вас он видит
платье хорошее, — он поступает с такою же нецеремон-
ностыо и чуть не силой отнимает ваше платье и дает вам
свое. Собственность, сколько видно, он не особенно ува-
жает. Когда Вера поймала его на краже яблоков и
упрекнула в том, что он берет тихонько чужие яблоки,
Марк ответил ей: «Они — мои, а не чужие, — вы воруете
их у меня!» Образованное население степного города на-
зывало его отщепенцем, отверженцем, Карлом Моором,
Вараввой8. Хозяйка дома — огородница — говорила, что
он — благой, какой-то чудной, и что без мужа ей жутко
с ним одной.
Остановимся пока на этих внешних чертах, изобра-
жаемых г. Гончаровым с такой талантливостью, что вами
овладевает решительное недоумение, о ком тут речь —
о Горкине или Кореневе в юности, о букеевской орде или
о государстве, сложившем известный внешний порядок?
Идите вперед последовательно, без лукавства, в ко-
торое ма-скируется г. Гончаров, и скажите, возможны ли
у нас такие типы? Предположим, что возможны отдель-
ные люди, но ведь г. Гончаров ставит «вопрос»; он обоб-
щает, он создает тип, он пророчествует. Нам прежде все-
го объясняют, что Марк живет под надзором полиции.
Вы знаете, что это значит; положим, вы, как читатель,
можете этого и не знать, но г. Гончаров, как писатель,
знать это должен. Лет двадцать назад в Новоузенске9
жил молодой доктор, который, подобно Марку, лазил
вечно в окна, а когда отправлялся купаться, то, раздев-
шись дома, шел нагишом через весь город до реки и в та-
ком же костюме возвращался домой. Предположите, что
подобную особенность какой-нибудь автор вздумал бы
изобразить как типический признак всего молодого по-
коления того времени. Что бы вы подумали о наблю-
дательной способности и о сообразительности автора?
И в чем пикантность этой особенности, в чем ее внутрен-
няя суть? Белинский говорит, что г. Гончаров, как заме-
чательный талант, только рисует то, что он видит; а до-
бираться до сути, делать вывод обязан уже сам чита-
тель. Мы задаемся вопросом: повсюду и ко всем Марк
путешествует этим прямым, кратчайшим путем или нет?
И как он посещает своих знакомых, живущих во втором
или третьем этаже, и как он минует ворота, если двор
окружен высоким забором? Г-н Гончаров молчит. Сокра-
224
щение труда руководит Марком или другие соображе-
ния? Г-н Гончаров опять молчит: он — талант, — делайте
вывод сами. Или имелось в виду нарисовать картину
грандиозного отрицания, не признающего даже архитек-
туры и попирающего решительно все. Но ведь прежде
всего всякое отрицание есть логическое построение; оно
есть стремление к замене худшего лучшим. Конечно, от-
рицатель может ошибаться, и такую ошибку г. Гончаров,
вероятно, и хотел изобразить. Но можно ли ошибаться
до того, чтобы отрицать ворота и двери? При той бедно-
сти, в которой обретался Марк, это было уже совсем не-
рассудительно, ибо он рисковал оставить на заборе свои
последние штаны. А г. Гончаров уверяет, что Марк смо-
трел умно и говорил логически!
Г-н Гончаров говорит, что Марк стрелял в Нила Ан-
дреевича, что он напустил собак на Крицкую, что он вры-
вался силой в трактиры. Во-первых, нужно ли это? Нил
Андреевич был председатель какой-то палаты, генерал,
лицо почетное и всеми уважаемое; Крицкая принадле-
жала тоже к губернской аристократии. И вы думаете,
что человек, находящийся под надзором полиции, мог бы
оставаться прежним Вараввой после таких пассажей и
посмел бы думать о штурмовании трактиров? Не рус-
ским читателям рассказывайте, г. Гончаров, подобные
небывальщины. Кисейная барышня, увидев Марка в ва-
шей картине на базаре, с чужими яблоками, скажет: «Фи,
какой противный!» Но мы знаем, что г. Гончаров — та-
лант и что он измыслил эту сцену для эффекта, что в дей-
ствительности она никогда не бывала, да и невозможна.
Тип не должен уважать ничьих заборов и ничьих ябло-
ков. И вы думаете, что местные мещане не переломали бы
Марку все ребра? Дело другое, если Марк взлез на забор
Татьяны Марковны, чтобы порисоваться перед Верой и
завести с нею знакомство. Но разве это типическая чер-
та, разве обобщение возможно? А отрицание собственно-
сти! Марк прямо объявляет, что долгов не отдает,—•
и находятся все-таки люди, которые дают ему деньги.
Г-н Гончаров, подумайте! Предположите, что какой-ни-
будь господин приходит к вам и просит у вас триста руб-
лей на условии никогда не отдавать долга. Дадите вы
ему или нет? За кого же вы принимаете своих читателей?
Наконец, помимо всего этого, обратимся к личной на-
блюдательности читателя. Скажите, случалось ли вам
8
Н. В. Шелгунов
225
встречать молодых людей, отрицающих двери и ворота,
штурмующих трактиры, напускающих собак на элегант-
ных барынь, стреляющих в почетных лиц, ворующих
яблоки и овощи, занимающих деньги без отдачи и при-
сваивающих себе чужое платье, если оно лучше соб-
ственного? И когда Марк колобродит у г. Гончарова?
Когда об освобождении крестьян в русском обществе
толковали еще шепотом, — это значит около 1859 года.
Видели ли вы в этом году не только законченный тип, но
даже и отдельных людей Маркова пошиба?
Белинский был прав, когда предостерегал г. Гонча-
рова не забираться в неподлежащую ему область созна-
тельной мысли. Как хорош, неподражаемо хорош г. Гон-
чаров, когда рисует старых мосек, старых лошадей, ки-
вающих крупно головами, собак, лежащих от жара
ленивыми кучами, кур, прыгающих на стены, и голубей,
хлопающих в ладоши. В животном мире нам все загадка.
Нас пленяет верно схваченная внешность, и мы с упое-
нием говорим: о, какой талант г. Гончаров! Но с челове-
ком иное. Нам мало знать фасон и качество его платья,
бесцеремонность обращения и вольное поведение вооб-
ще,— мы хотим забраться непременно в душу человека
и распластать ее так, чтобы причина каждого его побу-
ждения, каждого его поступка лежала перед нами, как
на тарелке. Что же сделал г. Гончаров с добродушным
и доверчивым русским читателем? Он просто над ним
насмеялся. Г-ну Гончарову кто-то наговорил, что заве-
лись в России злодеи, и попросил его принять против них
литературные меры. И вот г. Гончаров уподобился моло-
дому неразумному петуху, прыгающему со страха на
стену. Страх большой, но действительной опасности не
имеется. Данных нет, факта нет, типа не существует.
Г-н Гончаров отправился в неподлежащую ему область
и там начал измышлять. Но ведь сила не во внешно-
сти— сила во внутреннем содержании. Как человек ис-
ключительно формы, г. Гончаров придумал внешние не-
сообразности, но вложить в них душу был не в состоянии
потому, что ее не выдумаешь. Для такого поверхностного
таланта, как г. Гончаров, нужно, чтобы перед его гла-
зами стояла готовая картина, и он ее опишет действи-
тельно мастерски и во всех малейших подробностях.
Но чтобы прозреть в будущее, чтобы заглянуть в са-
мую глубь того, что шевелится на дне человеческой ду-
226
ши, что происходит в его уме, что управляет его жела-
ниями и стремлениями, у г. Гончарова никогда небывало
силы. Посмотрите, как хорош Гончаров, когда он ри-
сует знатных тетушек и их мосек, старых беспутных во-
локит, камелий и простых распутных женщин. В этом
мире он как рыба в воде. Ему известно все, все до по-
следней мелочи. Пред вами стоят живые люди. Но чуть
человек выходит из пределов существующей действи-
тельности— и вы видите ложь, выдумку, инсинуацию.
Если внешними фактами отрицания собственности г. Гон-
чаров хотел изобличить несостоятельность известного
экономического учения или пока доктрины, то он трудил-
ся даже не менее напрасно, чем молодой петух, пры-
гающий со страха на стену. Во-первых, русское общество
знает на этот счет гораздо больше того, что сообщил ему
г. Гончаров; а во-вторых, выводить на сцену приемы наг-
лой беззастенчивости вовсе не значит опровергать логи-
ческие построения. Неловкость г. Гончарова в неподле-
жащей ему области обнаружилась в настоящем случае
гораздо резче, чем когда еще Белинский предостерег его
не садиться не в свои сани.
Впрочем, г. Гончаров, изображая внешние подвиги
Марка, не относится к ним, по-видимому, с особенной
настойчивостью. Конечно, это можно объяснить, пожа-
луй, и тем, что г. Гончаров вовсе не мыслитель и недо-
статочно знаком с теоретическою сущностью того, о чем
он взялся трактовать.
Но иначе относится автор к вопросу, когда выводит
на сцену Веру. До сих пор кидались какие-то крупные и
хотя очень черные, но тем не менее все-таки неясные
черты. Но с появлением Веры и с изложением истории ее
любви и падения начинается, собственно, роман, крими-
нальное обвинение Марка, — вот где вся его чудовищ-
ность. До сих пор о Марке говорилось как бы вскользь.
Читатель подготовлялся к тому, что на сцену должно
выступить нечто очень ужасное, невозможное, порази-
тельное, вроде мастодонта или ихтиозавра. Теперь же
этот ихтиозавр рисуется во всей своей страшной красе.
Почему Юлия («Обыкновенная история») вышла та-
кой нежной, чувствительной особой, помешанной на веч-
ной любви, автор дал нам некоторую возможность дога-
дываться. Ее воспитывал француз на романах, наделав-
ших в то время большого шуму: «Le manuscrit vert»,
*
227
«Les sept peches capitaux», «L’ane mort» * и т. д. и т. п.
Венера, похождения которой были очень хорошо извест-
ны Юлии от того же француза, оказывалась агнцем не-
винности сравнительно с героинями этих романов. Юлия
жадно читала новую школу. С эмбриологией Веры нас
почти не знакомят: заставляют догадываться, как бы на-
меренно накидывают на нее вуаль таинственности.
С заученной талантливостью, прежде чем показать
Веру, нам показывают ее комнату. Но в комнате реши-
тельно нет ничего, что бы указывало на вкус и склонно-
сти хозяйки. Загадка осталась загадкой. Интерес воз-
буждается.
Потом нам показывают очень красивую девушку,
в чертах которой не видно ни чистосердечия, ни детского,
херувимского дыхания свежести, но на которой лежит
какая-то тайна, мелькает не высказывающаяся сразу
прелесть в луче взгляда, в внезапном повороте головы,
в сдержанной грации движений, что-то неудержимо про-
крадывающееся в душу во всей фигуре.
Прочитав такое художественное, но в то же время со-
вершенно непонятное описание наружности героини, про-
ницательный читатель сейчас же догадывается, что он
имеет дело с талантом очень опытным, но очень, очень
старой школы, когда каждая дева была неземной, таин-
ственной, непостижимой тайной природы, когда для ура-
зумения женского сердца писались целые томы и все-
таки ничего не уразумевалось. Читатель немедленно
соображает, что ему предстоит очень трудная задача по-
стигнуть непостижимое и понять непонятное даже для
самого автора. И читатель прав.
Вера с первого же раза осадила Райского, показав
ему всю неуместность его экзаменов. В то же время Рай-
ский заметил, что Вера держит себя со строгой недоступ-
ностью и ее как бы побаивается даже и сама Татьяна
Марковна. Бабушка щедро наделяла Марфиньку заме-
чаниями и предостережениями на каждом шагу, но Веру
обходила с осторожностью. «Были случаи, что Вера
вдруг охватывалась какой-то лихорадочной деятельно-
стью, и тогда она кипела изумительною быстротою и об-
наруживала тьму мелких способностей, каких в ней нель-
* «Незрелая рукопись», «Семь смертных грехов», «Мертвый
осел» 10 (франк,.).
22В
зя было подозревать. Так, она однажды из куска кисеи
часа в полтора сделала два чепца: один бабушке, дру-
гой— Крицкой, с тончайшим вкусом, работая над ними
со страстью, с адским (?) проворством и одушевлением,
потом через пять минут забыла об этом и сидела опять
праздно. Иногда она как будто прочтет упрек в глазах
бабушки, и тогда особенно одолевает ее дикая, порыви-
стая деятельность: она примется помогать Марфиньке
по хозяйству и в пять, десять минут, все порывами, пере-
делает бездну; возьмет что-нибудь в руки, быстро сде-
лает, оставит, забудет, примется за другое, опять сделает
и выйдет из этого так же внезапно, как войдет». Кроме
этой порывистости и неровности, в Вере замечалась сдер-
жанность, сосредоточенность, стремление к независимо-
сти и полнейшая таинственность в поведении. Татьяна
Марковна говорила про Веру, что для нее свой ум и
своя воля выше всего. «И бабушка не смей спросить ни
о чем: «нет да нет ничего, не знаю да не ведаю». На ру-
ках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у нее
на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не
узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства' не спросит,
а только пуще молчит. Не ленива, а ничего не делает; ни
шить по канве, ни музыки не любит, ни в гости не ез-
дит,— так, уродилась такая! Я не видала, чтобы она за-
смеялась от души или заплакала бы». И сам автор, ко-
торому бы следовало знать Веру лучше, чем бабушке,
не выводит читателя из недоразумения, а, напротив, сби-
вает его еще больше. «Да, — говорит он, — это не просто-
душный ребенок, как Марфинька, и не «барышня». Ей
тесно и неловко в этой устаревшей, искусственной фор-
ме, в которую так долго отливались склад ума, нравы,
образование и все воспитание девушки до замужества.
Она чувствовала условную ложь этой формы и отдела-
лась от нее, добиваясь правды. В ней много спирта, за-
датков, самобытности, своеобразия ума, характера,—•
всех тех сил, из которых должна сложиться самостоя-
тельная, настоящая женщина и дать направление своей
и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть це-
лый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец,
но с титанической силой...»
Если верить всему тому, что говорится о Вере в тек-
сте романа, а не судить о ней по ее собственным поступ-
кам, то она действительно сила. Но какая же это сила,
229
в чем ее задатки, к чему она должна прийти по суще-
ству своих душевных элементов, по своему органическо-
му составу, по основным свойствам своего ума? Г-н Гон-
чаров, как видно, принадлежит к числу тех мыслителей,
которые полагают, что воспитанием достигается все. Изо-
бражая Веру не только цельной натурой, но и титаниче-
ской силой, он в то же время говорит, что «надо только,
чтобы сила эта правильно развилась и разумно напра-
вилась». Вот где завязка всех противоречий в характере
Веры. С одной стороны — это титаническая сила, с дру-
гой— все зависит от воспитания. И, согласно этой непо-
следовательности в самом замысле автора, Вера распа-
дается на две Веры. Одна Вера, какою ее видит читатель
в портрете, рисуемом автором, и в туманных очерках пу-
стомели Райского, та Вера, которую никто не понимает,
ни даже бабушка, живущая с нею двадцать два года,—
Вера порыва, сосредоточенности, быстрых способностей,
Вера сильного, самостоятельного характера, свободолю-
бивая и независимая; другая Вера — робкая, нереши-
тельная, ищущая внешней поддержки и покровительства,
спасающаяся в религиозном чувстве, боящаяся обще-
ственного мнения, условных форм и установившегося
обычая. Откуда же является эта раздвоенность? Если
нам говорят, что в человеке сидит титаническая сила, мы
знаем, что он двоиться и качаться не станет; если же он
двоится и качается, то очевидно, что в нем титанической
силы нет. Где же ключ к уразумению Веры и для про-
верки непоследовательностей автора? Ключ от загадки—
опять в том же свойстве таланта г. Гончарова, по кото-
рому ему следует уклоняться всеми силами от чуждой
ему области и не браться за разрешение современных
вопросов.
Г-н Гончаров соткал Веру из газа, облаков, ароматов
цветов, красок радуги, облек ее в невысказывающуюся
прелесть, нашел в ее глазах лучи и нечто неудержимо
прокрадывающееся в мужскую душу, и рядом с таким
вербным херувимом поставил чудище — ихтиозавра Мар-
ка! Вера — это голубиная чистота всех душевных преле-
стей, начало добра и счастья; Марк — исчадие всеотри-
цающего сомнения, исковерканный человек. Одно — доб-
ро, другое — зло. В борьбе добра со злом— сущность
романа. Зло одолевает; но добро не гибнет, а напротив,
подобно золоту, выходит из огня еще чище; восторже-
230
ствовавшее по-видимому зло, в сущности, искупило свой
грех покаянием и таким образом тоже очистилось. Вот
ходули старой морали, на которые взобрался г. Гончаров
ради спасения России.
Но неблагодарная Россия в лице более рассудитель-
ных людей не внемлет пророчеству автора «Обрыва».
Она очень хорошо видит, что «Обрыв» — не больше как
театр марионеток. Все в нем — пружины и красиво раз-
малеванные куклы; но русских людей и русских типов
в нем нет ни одного, ни одной живой души, ни одного
нового, своеобразного характера. Разве благоухающая
Вера — новый тип? Разве Марка мы не видели, но толь-
ко в более точном и определительном изображении?
Разве борьбу старого и нового не излагали уже с далеко
большею ясностью?
У г. Гончарова же, прочитав всю историю любви,
вплоть до катастрофы, никак не поймешь, в чем заклю-
чалась сущность препирательства, какие начала отстаи-
ваются с одной стороны и какие проводятся с другой.
Автор уверяет, будто бы происходит борьба разруши-
тельных принципов, навеянных кем-то и откуда-то, с при-
рожденной человеку правдой. Но ни одним словом он не
обмолвился — какие это разрушительные принципы и
какая правда, и у читателя, одолевшего роман до конца,
удерживается в памяти лишь спор о вечной и невечной
любви.
Марк Волохов в своих отношениях к Вере, конечно,
если не очень глуп, то, во всяком случае, очень непосле-
дователен. Будто он не заметил с самого начала, что
Вера вовсе не умна, что в ней преобладает в сильнейшей
степени сердечный элемент, сентиментализм и въелись до
мозга костей законы и правила степного провинциаль-
ного мира, в котором Вера родилась и прожила двадцать
два года. На множестве страниц Вера и Марк занима-
ются пустыми препирательствами, точно они и в самом
деле решают вопросы и могут убедить друг друга. Даже
на последнем свидании, когда сила и рассудительность
доводов должны были получить наибольшую взаимную
неотразимость, мы встречаем ту же болтовню, ту же игру
в красивые слова. «АМы разойдемся навсегда, — говорит
Марк, — если... бабушкины убеждения разведут нас..»
Или уж сойдемся и не разойдемся больше...» — «Нико-
гда?» — спросила Вера. — «Никогда!» — повторил Марк
231
с досадой. — Какая ложь в этих словах: «никогда», «все-
гда». .. Конечно, «никогда»: год, может быть, два...
три... Разве это не «никогда»? Вы хотите бессрочного
чувства? Разве оно есть?..» — «Довольно, Марк: я тоже
утомлена этой историей о любви на срок!.. Я думала,
что мы наконец выскажемся, объявим друг другу свои
мысли, ну, надежды... и... потом я пойду к бабушке и
скажу ей: вот кого я выбрала... на всю жизнь...» И эта
канитель с вопросительными и восклицательными зна-
ками разводится на десятках страниц и занимает боль-
ше половины всего романа. Марк и Вера только и дела
делают, что взаимно убеждают друг друга. Марк гово-
рит: я любить вечно не могу, — обещать это было бы
ложью. Вера, напротив, настаивает на счастье вечном:
я хочу, чтобы ты любил меня всегда! Райский юлит и
хлопочет на ту же тему, мечтает тоже о вечном счастье
под розовым кустом, млеет перед Верой и очень оби-
жается, что ни Вера, ни Марк не хотят избрать его ар-
битром. Бабушка, кажется, лучше всех поняла, почему
можно изнывать в течение целого романа над таким
пустым словопрением: «Я с доктором говорила, — сооб-
щала она Райскому, — тот опять о нервах поет. Девичьи
припадки, что ли? ..» Ну, конечно, Вера, должно быть,
начиталась «Обыкновенной истории», хотя г. Гончаров
об этом нигде не упоминает. Есть там две сахарные ку-
колки — Юлия и Александр Адуев. «После пяти лет за-
мужества без любви, — поэтизирует г. Гончаров, — вдруг
явились для Юлии свобода и любовь. Она улыбнулась и
простерла к ним горячие объятия и предалась своей
страсти, как человек предается быстрому бегу на коне.
Он несется с могучим животным, забывая пространство.
Дух замирает; предметы бегут назад; в лицо веет све-
жесть, грудь едва выносит ощущение неги... или как че-
ловек, предающийся беспечно в челноке течению волн:
солнце греет его, зеленые берега мелькают в глазах, иг-
ривая волна ласкает корму и так сладко шепчет, забе-
гает вперед и манит все дальше, дальше, показывая путь
бесконечной струей... И он влечется. Некогда смотреть и
думать тогда, чем кончится путь: мчит ли конь в про-
пасть, влечет ли волна на скалу? .. Мысли уносит ветер,
глаза закрываются, обаяние непреодолимо... так и она
не преодолевала его, а все влеклась, влеклась... Для нее
наконец настали поэтические мгновения жизни: она по-
232
любила эту, то сладостную, то мучительную, тревожность
души, искала сама волнений, выдумывала себе и муку
и счастье. Она пристрастилась к своей любви, как при-
стращаются к опиуму, и жадно пила сердечную отра-
ву. ..» А молодой Адуев, этот второй экземпляр Веры,
только в мужских панталонах, те же самые сладостраст-
ные побуждения выражал еще, пожалуй, в более смут-
ной форме, более безумной речью. «Любовь, — говорит
он, — это — чистое, святое чувство, поэзия; не любить —
прозябать, прозябать без вдохновения, без слез, без
жизни. Любовь — святые волнения!» — «Знаю я эту свя-
тую любовь, — отвечал дядя, — в твои лета только уви-
дят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки — так
по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь,
а дай-ка волю, так и того...» В письме, которое дядя
диктовал молодому Адуеву, высказывались следующие
рассудительные мысли: «Дядя не верит в неизменную и
вечную любовь, как не верит в домовых, — и нам не со-
ветует верить. Жизнь не в одном только этом состоит:
для этого, как для всего прочего, бывает свое время,
а целый век мечтать об одной любви — глупо. Те, кото-
рые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, жи-
вут сердцем и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя
любит заниматься делом, что советует и мне. Мы при-
надлежим обществу, которое нуждается в нас: зани-
маясь, он не забывает и себя».
Двадцать два года назад, то есть когда Вера только
что родилась, г. Гончаров изображал в лице дяди Адуева
реалиста, осмеивающего всю романическую дичь и не-
пригодный для жизни идеализм. Г-н Гончаров стоял
тогда на реальной почве и усиливался показать тогдаш-
нему молодому поколению всю бесплодность и практи-
ческую нелепость мышления в сладострастном направ-
лении, убивающем всякие силы и способности для полез-
ной практической деятельности.
Стоило ли жить двадцать лет, чтобы повернуть на
отсталый путь, чтобы отстаивать в 1869 году то, что
осмеивалось и признавалось старым в 1847 году? А имен-
но такой задний ход и обнаружился в мышлении г. Гон-
чарова. Дядя Адуева, не признающий вечной любви и
‘сладострастного, платонического изнывания, выставлял-
ся русскому обществу как образец прогрессивного мыш-
ления; теперь же отсталым образцом сердечной непогре-
233
шимости выставляют нам туманную, облачную Веру.
Если бы сердечные излияния Веры услышал дядя Аду-
ева, то он, конечно, повторил бы ей то же, что сказал не-
когда своему беснующемуся племяннику: «Ему говорят,
чю начало — в рассудительности, — соображай поэтому
конец; а он закрывает глаза, мотает головой, как при
виде пугала какого-нибудь, и живет по-детски. По-тво-
ему, живи день за днем, как живется, сидя у порога
своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, лю-
бовью да неизменной дружбой. Все хотят золотого века!
Уж я сказал тебе, что с твоими идеями хорошо сидеть
в деревне с бабой да с полдюжиной ребят, а здесь надо
дело делать... Да что с тобою толковать, — заключил
дядя, — ты теперь в бреду...» «С твоими детскими по-
нятиями,— сказал бы еще дядя Адуева, — жизнь хороша
там, в провинции, где ее не ведают, — там и не люди
живут, а ангелы, а как посмотришь, так все дуры и ду-
раки. ..»
Эта параллель должна убедить читателя, что сила
мысли идет в г. Гончарове обратно пропорционально
силе его таланта; что несколько прогрессивное вначале
мышление превратилось в отступательное, — ум получил
задний ход, и что, наконец, Вера измышлена г. Гонча-
ровым на свою собственную авторскую пагубу.
Нам говорят в тексте, что Вера — сила, и в то же
время рисуют зрелую девушку, изнывающую в любовном
мистицизме. Нам говорят, что ее мучают вопросы, что
она рвется пересоздать свою" жизнь, и в то же время не
показывают ни одного вопроса, кроме вопроса вечной
любви, и просят верить на слово. Нам говорят, что она —
титаническая сила, натура цельная, своеобразная, само-
бытная, независимая, и в то же время мы видим, что
после всякого свидания с Марком Вера укрывается в ча-
совне или ищет ласк бабушки, жмется к ней и чуть не
ложится с нею под одно одеяло. Внутреннее противоре-
чие автора не может выразиться в более резкой, обличи-
тельной форме. Влияние напускных идей и труд под гне-
том чужих мыслей так очевидны во всем романе г. Гон-
чарова, что автору было бы гораздо расчетливее его не
печатать.
Резкий перелом, наступивший в Вере после катастро-
фы, лучше всего оправдывает физиологическую дально-
зоркость Татьяны ?Ларковны. Вера, как бы выразились
234
психиатры, находилась в аффектированном моменте не-
преодолимого намерения, вызванного физиологическими
требованиями организма. Возбуждение кончилось немед-
ленно, как немедленно наступает светлый момент за аф-
фектом, вызвавшим преступление. Нервы упали, вре-
менно возбужденную силу сменило бессилие, отвагу и
смелость — боязнь общественного мнения. Вере, как всем
слабым людям, стало легче, когда она узнала, что она
не одна такая, что даже и с бабушкой случился грех
в молодости. На людях и смерть красна — поговорка лю-
дей бессильных. Вера увидела, что нет ничего нового,
что бы могло быть лучше мирного старого, в котором
она родилась и выросла, и снова стало тепло в ее груди,
легче на сердце. «Она внутренне встала на ноги, чув-
ствуя, что в ней льется волнами опять жизнь, что тихо,
как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как тем-
ный, запущенный храм, осветили огнями и наполнили
молитвами и надеждами...» Марк, конечно, был глуп,
не сумев предвидеть подобного конца.
III
По плану романиста, Марк должен был производить
на читателя омерзительное впечатление, подобное волку,
похищающему ягненка. Все слова подобраны автором
так искусно, что задуманное впечатление действительно
пробуждается. Но возбуждающие слова только форма,
внешняя оболочка; надобно, чтобы внешность вполне
гармонировала с внутренним смыслом, скрывающимся
за словами, и только тогда возможен полный эффект,,
только тогда литературное произведение будет действи-
тельно талантливым.
Мы уже говорили, что у г. Гончарова нет способности
последовательности и что форма стоит у него на первом
плане, не служа отражением содержания. Г-н Гончаров
держит перед читателем зеркало, в зеркале показывает
ему какое-то размалеванное чучело и в то же время
рассказывает: посмотрите, что это за небесное существо,
сколько неги и аромата в этой душе, сколько глубокой
страсти, титанических сил и ума в этих глазах и т. д<
Добродушный читатель смотрит и верит.., Нигде этот
235
недостаток автора пе обнаруживается так резко, как
в изображении Райского.
Семь смертных грехов Марка заключались в том, что:
1. Он не признает дверей и калиток.
Райский когда шел с первым визитом к Марку, то
вошел к нему не в калитку, а перелез через плетень.
К Козлову он забрался в окно. Дело происходило так.
Марк, не желая, как он говорил, будить собак, посту-
чался к Леонтию в окно. Тот отворил, и Марк влез в ком-
нату. «Это кто еще за тобой лезет. Кого ты привел?» —
с испугом говорил Козлов, заметив, что лезет еще кто-
то. — «Никого я не привел — что тебе чудится... Ах,
в самом деле, лезет кто-то...» Райский в это время вско-
чил в комнату. Когда Райский пригласил Марка к себе
ужинать, они тоже перелезли через забор, хотя калитка
была рядом.
2. Марк прицелился в Нила Андреевича. Райский
на именинном завтраке, при гостях, выругал его вором,
взяточником, и если бы его не удержала Татьяна Мар-
ковна, то, конечно, его бы и поколотил.
3. Марк напустил собак на Крицкую, а Райский так
круто повернул ее за плечи на краю обрыва, что подоб-
ной шутки не позволил бы себе ни один пьяный деревен-
ский мужик.
4. Марк отличался непочтением к старшим и даже
откармливал двух бульдогов, чтобы напустить их на
полицеймейстера. Райский бульдогов не откармливал,
это правда, но он проявлял большую непочтительность
к более высоким местным властям, чем полицеймейстер,
а над устарелыми понятиями своей бабушки подсмеи-
вался с полным отсутствием того понимания, которое де-
лает подтрунивание совершенно ненужным.
5. Марк ел чужие яблоки. Райский не делал этого,
конечно, потому, что для хода романа это не было нужно.
6. Марк рвал чужие книги, чтобы ковырять у себя
в зубах. В Райском этой поразительной черты мы не на-
ходим.
7. Но величайший смертный грех Марка — «обрыв».
Как волк тащит в лес ягненка, чтобы сожрать его, так
утащил Марк Веру в беседку. Затем последовали разди-3
рательные сцены раскаяния, муки, отчаяния, с одной
стороны, и утешения, великодушия, самоотвержения —
с другой. Г-н Гончаров положил всего себя на отделку
236
пятой части. А Райский, этот великодушный друг и уте-
шитель! Только здесь обнаружилась вся нравственная
мизерность этого человека. Не он ли, не подозревая ни-
чего о любви Веры и считая ее свободной, усиливался
всеми средствами влюбить ее в себя! С какой беззастен-
чивой настойчивостью он преследовал ее в то время, как
она прямо отталкивала его от себя. И когда его тактика
не удалась, когда его пошлая болтовня о вечном счастье,
о страсти, о клубничном наслаждении пропала холостым
зарядом, — он начинает говорить против себя; он говорит
«угасшим голосом» — трагедия! и, раскиснув оконча-
тельно, едет ни с того ни с сего в Рим лепить из глины.
Этот Райский, как и молодой Адуев, не мог видеть рав-
нодушно ни одного смазливого женского личика. Сна-
чала он развивал Беловодову и тоже на множестве
страниц толковал с нею до приторности о блаженстве и
счастье страсти и вечной любви. В то же время он успел
развить Наташу и забыл ее, бедную, умиравшую в ча-
хотке. Приехав к бабушке, он немедленно принялся за
развитие Марфиньки и раз подсел к ней так близко, что
у нее сделалось головокружение, причины которого наив-
ная Марфинька, конечно, не поняла. Бросив Марфиньку,
он стал разжигать Веру, причем, потерпев неудачу, пре-
вратился в друга. А Ульяна? Если бы Райский был по-
рядочный человек в смысле проповедей г. Гончарова,
он мог бы сейчас положить предел ее натиску. Но в том-
то и дело, что Райский всем женщинам, начиная с Бело-
водовой, проповедовал свободную любовь. В этом же
смысле он поучал и Марфиньку; та сдуру разболтала
Верочке, и Верочка поймала его на непоследовательно-
сти, когда ему очень хотелось, чтобы Вера сказала, что
любит его. Ну, занимайся всем этим Марк, то-то гонение
поднял бы против него г. Гончаров! Повествуя же о Рай-
ском, г. Гончаров выражается так приятно, что выходит
даже и хорошо.
Райский — вообще любимец г. Гончарова, и из него
он, как кажется, хотел создать новый тип, но как г. Гон-
чаров пишет свои романы десятки лет, то рамки перво-
начально задуманного плана пришлось раздвинуть и
втиснуть в серединку Марка. Иначе, без сомнения, геро-
ем романа, хотя и менее пикантным, оказался бы Рай-
ский, а героиней по-нынешнему — Вера. Конечно, роман
тогда бы выиграл, если не по новизне своей основной
237
мысли, — ибо г. Тургенев давно уже возделал эту поч-
ву,— то в последовательности, и г. Гончарову не при-
шлось бы выслушивать упреков в умственной отсталости
и в непонимании своего времени. Тот роман был бы про-
сто искусством для искусства, без претензии на тенден-
циозность, и лучше!
Райский изображает собою подготовительную пере-
ходную форму к Марку. Райский — герой благоприлич-
ный: он знает языки, искусство, говорит довольно кра-
сиво; одевается по моде и может быть принят в любом
столичном салоне, не то что бездомный Маркушка. Но-
вые теории Райский развивает если и не совсем ясно и
удовлетворительно, то по крайней мере с такою красо-
тою, какой решительно не усматривается в дерзком ла-
конизме Волохова. Видно по всему, что Райских г. Гон-
чаров видел, изучал, знает, тогда как с Марком он на
чуждой почве и должен черпать все данные лишь в соб-
ственном творчестве, выдумывать, сочинять. От этого
портрет Марка есть только грубо, крупными чертами на-
бросанный общий очерк, а в Райском вы видите такую
тщательную отделку мелочей, что у вас рябит в глазах и
общая идея совершенно расплывается под невообрази-
мым множеством частностей, собранных в одну кучу. Но
Райский превращается в переходную форму к Марку и
становится подставным героем только в третьей части.
До появления на сцене Марка Райский — новый человек
и лишь при Марке является элементом качающегося бла-
горазумия.
Так, с первого знакомства с Райским вы слышите из
уст его социальную проповедь. «У меня все есть, и ни-
чего мне не надо!» говорите вы, — поучал Райский Бело-
водову. — А спросили ли вы себя хоть раз о том, сколько
есть на свете людей, у которых ничего нет и которым
все надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк, бар-
хат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является
готовый обед, у крыльца ждет экипаж и везет вас на бал
и в оперу. Десять слуг не дадут вам времени пожелать
и исполняют почти все ваши мысли... Не делайте знаков
нетерпения. А думаете ли вы иногда, откуда это все бе-
рется и кем доставляется вам?.. А если бы вы знали, что
там, в тамбовских или орловских ваших полях, в зной;
жнет беременная баба...» — «Cousin!» — с ужасом про-
изнесла Беловодова. — «Да, — продолжал он, — а ребя-
238
тишек бросила дома, — они ползают с курами, порося-
тами; жизнь их каждую минуту висит на волоске: от
злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи...
Я не проповедую коммунизма, будьте покойны... На-
учить, «что делать», — я тоже не могу, не умею. Другие
научат. Мне хотелось бы разбудить вас; вы спите, а не
живете.., Со временем вы постараетесь узнать, нет ли и
за вами какого-нибудь дела, кроме визитов. Представьте,
например, себе, если б вам пришлось идти пешком в зим-
ний вечер, одной взбираться на пятый этаж, давать уро-
ки? Если бы вы не знали, будет ли у вас топлена ком-
ната и выработаете ли вы себе на башмаки и на салоп, —
да еще не себе, а детям? И потом убиваться неотступною
мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы?.,
И жить под этой мыслью, как под тучей, десять, два*
дцать лет». — «C’est assez, cousin!* — нетерпеливо отве-
тила Беловодова. — Возьмите деньги и дайте туда... —•»
И она указала на улицу. — Так вот те principes... **
А что дальше?» — спросила она. «Дальше... любить...
и быть любимой...» — «И что же потом?» — «Потом... —
ответил Райский, — плодиться, множиться и населять
землю...» «Воскресните, кузина, от сна, — проповедовал
тот же Райский той же Беловодовой в другой раз,—•
бросьте ваших Катрин, ваши выезды — и узнайте другую
жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь,
что скажет кузина, — смело бросьтесь в жизнь страстей,
в незнакомую вам сторону... Страсть — гроза жизни,
а зачем гроза в природе?.. Не к раскаянию поведет вас
страсть, — она очистит воздух, прогонит миазмы, пред-
рассудки и даст вам дохнуть настоящей жизнью. Страсть
поднимет вас высоко, вы черпнете познания добра и зла,
упьетесь счастьем и потом задумаетесь на всю жизнь,—
не этой красивой, сонной задумчивостью... И когда я вас
встречу потом, может быть, измученную горем, но бога*
тую и счастьем и опытом, вы скажете, что вы недаром
жили, и не будете отговариваться неведением жизни. Вот
тогда выглянете и туда, на улицу, захотите узнать, что
делают ваши мужики, захотите кормить, учйть, лечить
их... Пожив в тишине, наедине, где-нибудь в чухонской
деревне, вы ужаснетесь вашего света. Париж и Вена по-
* Довольно, кузен (франц.),
** Принципы (франц.),
239
бледнеют перед той деревней. Прочь prince Pierre, comte
Serge *, тетушки, эти портьеры, драпри, с глаз долой
фамильные портреты!.. Вы возненавидите и Пашу с Да-
шей, и швейцара, и все выезды, — все вам опротивит то-
гда. ..» Марк, конечно, не говорил бы так многоречиво и с
таким пафосом, но по части отрицания и радикального
реализма он едва ли был бы в состоянии идти дальше.
Не говоря уже про Марфиньку и Веру, Райский не
оставил в покое даже бабушки, которую наставлять на
путь истины было уже совершенно бесплодно. Райский
вздумал преподавать Татьяне Марковне теорию утили-
таризма, доказывая ей, что она грубо ошибается, если
в желании делать другим приятное видит что-нибудь
другое, кроме личного удовольствия, личной пользы. Ба-
бушка, конечно, пришла в ужас, но Райский остался не-
преклонен и даже прибавил, что он ходит по трактирам,
играет на бильярде и курит. Совсем радикал.
Вообще повсюду и везде, где только ни является Рай-
ский, он вносит новый, разъедающий элемент и тяго-
теет ко всякой перемене, ко всему новому. Оттого же он
потянулся немедленно к Марку и, несмотря на предосте-
режение бабушки, свел тотчас же знакомство с этим
бездомным искусителем. Но искуситель прозрел немед-
ленно, что пред ним — второстепенный герой и что роль
первого героя отмежевал г. Гончаров ему, Марку. Пре-
зрительно отнесся Марк к Райскому и, как говорится,
раскусил его с первого раза. Марк видел, что это человек
сердечный, добрый, способный на короткое увлечение,
но решительно не способный ни к какой выдержке, ни
к какому прочному делу. Когда Райский вздумал го-
ворить ему о своих намерениях, — «Знаю, — ответил
Марк, — ими, говорят, вымощен ад. Нет, вы ничего не
сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что
вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и
есть: все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь,
что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончают
этим. Это все неудачники!..»
Для нас важно не то — удачник или неудачник Рай-
ский,— нам важно то, что русский литературный интел-
лект стоит на таком низком уровне и Райского, в таком
смутном, противоречивом виде, можно предлагать пуб-
Князь Петр, граф Сергеи (фра;щ.)<
240
лике. По первоначальному замыслу, то есть судя по пер-
вой части романа, Райский должен был явиться загадоч-
ной, титанической натурой. Но вы видите преждевре-
менное развитие, слабость работающих нервов, половую
раздражительность, разброд мыслей, упадок, дегенера-
цию расы. Ходит в этом человеке что-то смутное, коло-
бродит какая-то сила: чувствительность, живость, пере-
менчивость впечатлений не дают человеку сосредоточить
своих сил на одном предмете. Посмотрите на бездомного
Марка: он изображен, правда, чудовищем, но вы видите,
что этот железно сложенный организм владеет желуд-
ком, переваривающим каменья; что он не заплачет, ко-
гда Васюк начнет драть квинту, потому что у него про-
волочные нервы; что он может спать на гвоздях, покры-
ваться вместо шелкового одеяла рогожей, — и в вас воз-
буждается уважение к силе, возбуждается уверенность,
что сила эта перетащит вас и через пропасть и через
бесплодную степь, что она выручит вас из всякой беды.
Что же это такое? Торжество реализма над идеализмом?
Но разве так думает Гончаров? ..
Конечно, мы не имеем права простирать своих пре-
тензий до того, чтобы обвинить лично Райского. Нам ва-
жен не Райский, а сам г. Гончаров. Нам обидно за гра-
мотную Россию: обидно за то, что можно так свысока
относиться к коллективному русскому уму и печатать
такие вещи, как «Обрыв». Что такое Марк, Райский, ба-
бушка, Вера, Мироновна и т. д. Все это степной хлам,
все это тени, покойники, призраки. Нам в 1869 году ри-
суют людей, живших в 1837 году. К чему эти китайские
тени? Детям они не нужны; взрослым еще менее. Ника-
кой связи с современной действительностью; ни одного
живого человека. Мы понимаем, что в наше время мо-
жет явиться даже двадцатое издание «Мертвых душ»,
как сочинение, имеющее историческое значение; но если
бы Гоголь продержал свой роман у себя в столе три-
дцать лет и вздумал бы напечатать его, когда ни одной
Коробочки не осталось на свете, и стал бы выдавать свой
труд за картину современности, мы, и не отрицая талан-
та в авторе, ни одной минуты не усомнились бы, что он
сумасшедший и что он страдает той формой, которую
психиатры зовут помешательством величия.
Белинский несомненно ошибался, когда отделял идею
ст таланта; но даже и тогда, когда г. Гончаров стоял
241
еще на реальной почве, он заметил, что этот автор не
способен к глубокому анализу, не способен к пониманию
жизни и пружин, ею управляющих, не способен к после-
довательному мышлению и владеет исключительно та-
лантом внешнего рисования. В каждом слове г. Гонча-
рова вы видите измышление; вы видите, что этот человек
грызет перо, чиркает и вычеркивает, подбирая красивые
слова, как бусы на нитку, что весь его расчет в том, как
его писанье выходит красиво со стороны. Что же касает-
ся идеи, мысли, логики, — выражаются ли они рисунком,
постепенным подбором картин, или строгим логическим
изложением, — их нет. «Обрыв» — это сшивки разноцвет-
ных лоскутков, нарисованных в разное время, в период
двенадцати лет, человеком, думавшим в каждый после-
дующий год иначе, чем он думал в предыдущий. От этого
в первой части вы видите один замысел: старая чопорная
Россия, разъезжающая в колясках с высокими козла-
ми,— вы, читатель, тогда еще не родились, — воспиты-
вает молодое поколение в строгих мертвящих приличиях.
Аристократия, французский язык, легкомысленное па-
пильонство11 старых шалунов, воображающих себя мар-
кизами. Скажите, кому это нужно и когда? А между тем
г. Гончаров измышляет целую часть в 137 страниц, и эту
часть печатает не московское археологическое общество,
а петербургский журнал, «истории, политики, литера*
туры», конечно, современной. Во второй части вас вне-
запно переносят на полстолетия вперед. Почему понадо-
бился такой внезапный скачок? Какая связь между те-
тушками Беловодовой и Татьяной Марковной, между
Софьей, и Мироновной, и Верой? Никакой. Что же это?
История цивилизации России, изображение картины по-
следовательного происхождения и развития новых лю-
дей времен Елизаветы Петровны и Екатерины II или что
другое? Понять невозможно, да едва ли и сам г. Гонча-
ров понимает, почему к «Обрыву» приклеилась Белово-
дова с ее. бабушками и екатерининским проказником
Пахотиным.
Во второй части вы видите новый замысел, и этот за-
мысел продолжается до конца. Новая местность, новые
люди, новая жизнь. Степь с ее удушливой жарой и
спячкой мозга, деревенская жизнь с едой от утра до ве-
чера, крепостной быт с Савельями и Мишками и с по-
мещичьей придурью. Но кому же все это нужно спустя
242
восемь лет после освобождения крестьян? Какую новую
мысль хочет высказать и высказывает автор? Опять ни-
какой. Читаешь и ждешь, чего наделает Райский, этот
герой, с которым автор давно уже познакомил публику
и на литературных вечерах и «Эпизодами из жизни Рай-
ского» 12. Но герой стушевывается; его сменяет герой но-
вый, а Райский, превратившись из силы в несостоятель-
ность и опозорившись, сходит со сцены.
Но вы боитесь доверить собственному суждению: не
может быть, чтобы такой известный талант, как г. Гонча-
ров, не имел тонкого замысла и не изобразил бы его еще
тоньше? Однако напрасны ваши усилия понять тонкий
замысел, ибо способность писать красиво далеко еще
не способность анализа и последовательного мышления.
Весь недостаток «Обрыва» именно в том и заключает-
ся, что автор не выяснил себе, что он хочет сказать, и
работал случайно, под влиянием поверхностных впечат-
лений 13. От этого ни один его герой не выдержал до кон-
ца, и как г. Гончаров не успел сберечь молодого Адуева
от резкого перелома, так не сохранил он в последователь-
ной чистоте ни Райского, ни Веры, ни Марка. Все они
сломились, все они раскаялись, все они изменили себе.
Эта непоследовательность героев заключается в самом
существе логической непоследовательности автора, в шат-
кости его понятий, в мимолетности его убеждений.
Обратимся опять к «Обыкновенной истории». Сила
этого романа — в резком протесте против идеализма и
сентиментализма. Роман читался потому, что вздохи
и мечтания о деве, луне и другом романтическом вздоре
всем уже надоели и общество почувствовало, что на него
повеяло новым духом. Сила романа заключалась именно
в его реализме: масса публики услышала новое слово и
благоговейно взглянула на нового пророка. Вот корень
известности г. Гончарова.
Но г. Гончаров не понял причины своего успеха, не
понял, что его выдвинул не талант, то есть способность
рисовать картинки, а мысль, идея, тенденция.
И вот двадцать два года спустя он выступает с новым
романом. Чего вправе ожидать публика, пережившая
в это время освобождение крестьян, гласный суд, зем-
ство, вступившая на совершенно новую экономическую
почву, перечитавшая Стюарта Милля, Дарвина, Ляйеля,
Бокля, Ко*нта, от автора, который так ловко и кстати
243
еще двадцать лет назад кинул новое слово, обобщил
прогрессивную мысль? Ей описывают каких-то тетушек
XVIII века, каких-то провинциальных дур, дают ей сла-
бую копию Лаврецкого, изуродованного Базарова и зре-
лых дев, мечтающих о луне и о вечной любви. Вместо
реализма, знамя которого г. Гончаров поднимал в
1847 году, он в 1869 году проповедует снова сентимента-
лизм и идеализм; он отрекается от самого себя, он от-
казывается от последовательности. Как же было не над-
ломиться его героям?
Неправда, что г. Гончаров относится безучастно к сво-
им героям, что он держит себя объективно. Это невоз-
можно и психологически. Литературное и всякое другое
произведение творчества есть результат субъективности.
Нельзя отделить своего «я» от своего произведения. Ав-
тор может не уметь думать последовательным мышле-
нием, но тем не менее его думы, его симпатии и антипа-
тии олицетворяются в его героях. Одним словом, автор
весь в своем произведении. Сила проявится силой, бес-
силие— бессилием. Роман, не возбуждающий в читателе
прогрессивного мышления и прогрессивного вывода, мо-
жет быть написан только отсталым и слабо мыслящим
автором. Не было примера, чтобы умный человек, рабо-
тающий десять лет, написал глупость.
В «Обрыве» г. Гончаров похоронил себя: мир его праху!
Если сам автор не был в состоянии понять, что сила со-
временного писателя — в реализме, а не в идеализме,—
нам не научить его. Еще одна свежая могила над писате-
лем, умершим для прогресса! Но по крайней мере мы те-
перь знаем, что если г. Гончаров через пятнадцать лет
напечатает еще роман, — роман этот будут читать наши
бабушки, да и то по воспоминанию и по той любовной пи-
кантности, которая так приятна для старух и стариков.
В русской литературе еще не было такого могучего
таланта для изображения картин сладострастия. Что за
мерзость сцены Райского с Марфинькой, а еще хуже —
с Ульяной. Пред вами живая жена Пентефрия и. Чтобы
писать такие сцены, надо слишком глубоко направить
свой ум на их изучение и думать очень напряженно
в сладострастном направлении. Те, кто, обратив все свое
внимание на тенденциозные намеки, обойдут эту сторону
таланта г. Гончарова, сделают большую ошибку, осо-
бенно если они — солидные отцы семейства. Юлия рас-
244
палила свое воображение только чтением французских
романов с подобными бесстыдными, но изящно описан-
ными сценами. И снова нас наводят на этот вредный
путь; рисуют нам, под благоухающим покровом, расслаб-
ляющие нервы картины. И что выигрывает или проигры-
вает главная мысль романа, если бы у Райского от из-
лишне близкого сиденья к Марфиньке не закружилась
голова и если бы не только любовной сцены с Ульяной,
но и самой Ульяны не было вовсе? Зачем же они? Такой
вопрос был бы, конечно, рассудителен по отношению ко
всякому другому автору, но не автору «Обрыва». Что
такое этот роман с начала и до конца, как не любовная
песнь, как не скандалезная хроника какого-то медвежье-
го угла? Бабушка в молодости согрешила и до глубокой
старости млеет рядком с Ватутиным; Крицкая только и
думает о любви, ограничиваясь, впрочем, поддразнива-
нием своего воображения; Ульяна — реальность и прак-
тик, подобно жене Савелья, платонизмом не удовлетво-
ряется, а любит всякого мужчину, как следует; Райский
не дает прохода ни своим сестрам, ни племянницам и
с первой до последней части романа усиливается сбивать
с толку всех смазливых женщин и девушек; Марк, глав-
ное лицо романа, совершает грех при самой чудовищной
обстановке. А второстепенные лица? Пахотин, Тушин?
Любовь, любовь, любовь! Г-н Гончаров, кажется, серьез-
но убежден, что любовь — архимедов рычаг. И силен же
он с этим рычагом! Роман г. Гончарова мы считаем про-
изведением недомысленным, вредным, безнравственным
и, уж конечно, не дали бы его в руки девушек и мальчи-
ков, которым еще нужно учиться.
IV
Переносить разбор «Обрыва» на научную почву —
значит подвергнуть себя обидному неудобству, ибо при-
ходится превращаться в Дон Кихота, а г. Гончарова пре-
вращать в ветряную мельницу. Можно ли вступать в
серьезное научное состязательство с человеком, совер-
шенно незнакомым с последними успехами точных зна-
ний и их методом? Можно ли серьезно опровергать чело-
века, который даже науку хочет превратить в простой
подбор красивых слов и в трескучую риторику, возбуж-
дающую чувство? Г-п Гончаров в интеллектуальном от-
245
ношении всегда верен себе: есть у него микроскопическая
крупица знаний и собственной умственной силы, и раз-
водит он эту крупицу в бочках розовой воды, приобретен-
ной по наследству от романтиков и идеалистов. А что
же читающая публика? О, русская публика всегда была
снисходительна в своей недальнозоркости; она всегда
любила розовую воду; она серьезно признает г. Гонча-
рова за великого мыслителя и поучается у него.
Если бы г. Гончаров повествовал без всякой тенден-
циозности о том, что где-то на берегу Волги жила мечта-
тельная кисейная барышня, что этой барышне подвер-
нулся на глаза дикий, некультивированный человек и,
сбив ее с толку, сделал с нею то, что ему делать не сле-
довало, — мы бы так и знали, что дикий человек посту-
пил по-дикому, пожалели бы бедную девочку, а г. Пауль-
сон занес бы этот нравоучительный факт в свою книжку
для чтения 15. Но г. Гончаров думает не так. Он во что бы
то ни стало желает уподобиться московскому купцу, ©ко-
тором рассказывает где-то покойный Марлинский. Купец,
усиливаясь доказать вред нового образования, привел
следующий факт: «Был у нас молодой купчик, — расска-
зывал купец, — захотелось ему непременно учиться, вы-
учился, и что же? Отправился на службу на Кавказ, а
там — в первом сражении его и убили». Пусть г. Гончаров
и все его поклонники докажут, что его логика отличается
хотя чем-нибудь от логики этого московского купца.
Местами вы действительно видите, что Марк — лично
ошибающаяся натура, недоразвившийся человек; но ко-
гда г. Гончаров, гоняющийся только за красивыми сло-
вами, забыв о том, что он говорил в четвертой части,
в пятой, сосредоточив все свои умственные силы, обру-
шивается на новое знание, вы видите, что перчатка бро-
сается не одному заблуждающемуся человеку, а всему
цивилизованному человечеству, всему коллективному пе-
редовому уму всех пяти частей света. Может быть, и най-
дутся такие патриоты, которые умилятся, что в России
нашелся подобный смелый ум. Мы не из их числа. Нам
стыдно за возможность подобного тиранизма, и нам
больно за г. Гончарова. Мы постараемся перевести фи-
лософию г. Гончарова на простой, понятливый язык, и
пусть читатель судит, на чьей стороне правда.
Г-н Гончаров говорит, что европейское общество внес-
ло новый взгляд на все, взгляд, полный отрицания,
246
Это правильно. Но позвольте вас спросить: худо или
хорошо, что люди, усомнившись в действительности услу-
ги трех китов, нашли закон тяготения? Худо или хорошо,
что, усомнившись в четырех элементах и флогистонной
теории 16, нашли большее число начал и научились раз-
лагать воздух и газы? Чему мы обязаны железными до-
рогами, пароходами, всеми техническими усовершенство-
ваниями в фабричном и заводском производствах, как не
сомнению и последовавшему за ним научному отрица-
нию? Научный метод исследования говорит, что истина
дается только проверкою. Что бы было, если бы отрица-
ние предыдущих знаний не принимало того дерзкого ха-
рактера, который нарушает умственный покой г. Гонча-
рова. Уж конечно, г. Гончаров очень бы изобиделся, если
бы ему преподнесли за «Обрыв» полный костюм китай-
ского мандарина, бритву для сооружения соответствен-
ной шевелюры и две готовые косы.
Г-н Гончаров говорит, что дерзость нового европей-
ского исследования простирается до того, что отрицаются
авторитеты, старая жизнь, старая наука, старые доброде-
тели и пороки. Это правильно; но только нам нужно объ-
ясниться. Действительно, наука признает только то, что
подчиняется и подлежит опыту. Ведь вы, г. Гончаров,
в домовых не верите? А ведь уж как хороша была по-
весть Иваницкого «Неразменный червонец»! 17 А почему?
Да только потому, что г. Иваницкий пишет хотя и хоро-
шо, а домового вам все-таки не показал. Ведь вы не
верите Аристотелю, Платону, экономической теории Сюл-
ли, фортификационной теории Вобана, стратегическим
основам Валленштейна, Монтекукулли и даже Суворова,
политической мудрости Людовика XIV, драматической
теории о трех единствах, забытым исследованиям нату-
ралистов прошлого столетия и даже философии Гегеля.
Значит, вы и сами поступаете так, как человек, живущий
в XIX веке. За что же вы обвиняете других? Вы говорите
о добродетелях и пороках. И эта почва недурна. По уче-
нию Сильвестра18, добродетелью считалось сокрушить
ребра своим чадам и домочадцам. Упражняетесь вы
в этой добродетели, г. Гончаров? По учению наших де-
дов, живущему и до сих пор в деревнях, ремень считался
лучшим педагогическим средством, — станете вы коло-
тить детей? Станете вы стеснять свою дочь в выборе
мужа? Станете вы внедряться со своим авторитетом
247
в чужой внутренний мир? Станете вы требовать ува-
жения и любви силой? Станете, наконец, вы уверять, что
старые добродетели и до сих пор добродетели, а старые
пороки и до сих пор пороки? Если все старое так незыб-
лемо хорошо, отчего каждая петербургская кухарка ста-
ла говорить извозчику вы\ отчего прежний Петр и Васька
превратились в Петров Ивановичей и Васильев Петрови-
чей? Отчего, может быть и бессознательно для вас, мыс-
ли Стюарта Милля произвели кое-какую перемену в ва-
ших понятиях и вы почувствовали бы себя великим не-
счастливцем, если бы вас перенесли в степную деревню
да женили на деревенской бабе?
Г-н Гончаров говорит, что в новой науке есть одно-
сторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь
пропаганды. Все это правда. Но когда было больше про-
белов в знаниях — нынче или во времена Эразма Роттер-
дамского? Когда было больше односторонности в рус-
ской мысли — во времена Ломоносова или теперь? Умыш-
ленная ложь кажется г. Гончарову очень неотразимым
аргументом. Действительно, лгать вообще нехорошо. Но
ведь ложь, в смысле научной пропаганды, есть не более
как сила, концентрирующая ум на известной точке, даю-
щая ему направление в одну, наиболее выгодную сторо-
ну. Отчего явились паровая машина, железные дороги,
пароходы, телеграфы, швейная машина, орудия-машины,
даже велосипед? Именно потому, что пропаганда напра-
вила человеческое мышление в известном, одном направ-
лении. Теперь мысли людей направлены на исследование
причин, от которых зависит личное счастье. Худо это?
И паровая машина далась рядом опытов, и Стефенсон
не вдруг поехал по железной дороге!
Г-н Гончаров говорит, что новая наука не открыла
Америки. А разве старая открыла? Разве человечество
со времени Адама было хоть одну минуту убеждено, что
оно владеет истиной и что ему некуда идти? Г-н Гончаров
спрашивает, что такое истина? Да истина то, что признает
человек истиной в данный момент. Вот автор «Обрыва»
в 1847 году говорил одно и был убежден, что проповедует
истину; а в 1869 году он говорит другое и тоже убежден,
что проповедует истину. Безусловная истина, заключаю-
щаяся в общем примирении, — отдаленный идеал. Она
еще далеко впереди, и вся сущность прогресса человече-
ства заключается в постоянном поступательном движении
248
к этому идеалу. А г. Гончаров огорчается, что еще не
открыта Америка, и хочет удержать всех в Азии. Ну, ко-
нечно, если бы г. Гончаров был Изабеллой Испанской, то
Колумб умер бы в сумасшедшем доме.
Г-н Гончаров говорит, что современный реализм ви-
дит в чувствах ряд кратковременных встреч и грубых
наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий, состав-
ляющих роскошь человека, в которой отказано животно-
му. Во-первых, сравнительная психология показывает,
что и у животных есть иллюзия. Так, собака принимает
иногда чужого за своего хозяина; так, еще Линней в чис-
ле специальных, характеристических признаков собаки
пометил, что она лает на луну. А во-вторых, г. Гончаров
поступает очень неосторожно, разоблачая самого себя.
Реализм требует прежде всего здоровой, правильной, не-
расслабляющей жизни. Ни один действительный реаль-
ный писатель не станет описывать тех сцен сладостра-
стия, которыми г. Гончаров только и существует в своем
«Обрыве». Возьмите любого европейского романиста,—
не говоря уже про Шпильгагена, Шатриана, Гюго,—
возьмите романистов Англии, Америки, даже Франции,
где, у какого романиста, кроме Луве-де-Кувре, вы
встретите сцену, подобную сцене Ульяны с Райским и
Райского с Марфинькой? Как ни сочувствует г. Гончаров
Райскому и как ни чудовищен Марк, но скажите, можно
ли их сравнивать в этом отношении? У самого г. Гонча-
рова не поднялась рука нарисовать невозможную кар-
тину с Марком; он понимал, что его могут уличить даже
и друзья.
Г-н Гончаров не признает закона причинности и ве-
рит в моисеевский принцип награды и воздаяния 19. Это
совсем не по-христиански, — мы должны поступать хо-
рошо вовсе не потому, что получим в будущем награду,
и, конечно, если бы г. Гончаров писал свой роман не
для степных кисейных барышень, а для мыслящих лю-
дей, он бы понял всю логическую невозможность выска-
зывания подобных мыслей. Тургенев рассуждал на эту
тему гораздо сильнее, и мы не можем не уважать в нем
искреннего, честного человека. Г-н же Гончаров подогре-
вает себя, и становится на ходули, и решительно не воз-
буждает убеждения в своей искренности. Несмотря на
теплые, по-видимому, фразы, от романа г. Гончарова
веет холодом, измышлением, безучастием к людям, ме-
249
лочным эгоизмом. Г-н Гончаров изумляется, что новая
наука и новая нравственная философия явились из ста-
рой. Да разве это могло быть иначе? Бокль весьма на-
глядно объяснил сущность исправления ошибочных уче-
ний20. Оно заключается не в измышлении нового, а толь-
ко в уничтожении, вычеркивании из жизни старых
заблуждений и данных для возможности ошибок.
Вот и вся сущность отрицательного отношения г. Гон-
чарова к прогрессивному движению современной науки.
И такая крупица отсталых мыслей послужила материа-
лом для сооружения огромного, пятитомного романа. По-
истине изумительный талант плодовитости!
Г-н Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском
справедливо замечает, что между писателем и его чита-
телями не должно быть бездны, а иначе его не поймут21.
Не этим ли следует объяснить появление «Обрыва» и
большой на него запрос? Мы положительно знаем, что
лучшие русские люди бросали «Обрыв» с четвертой ча-
сти; но также положительно знаем, что значительное
большинство читало «Обрыв», продолжает его читать и
.скромно отмалчивается, если спрашивают его мнение
о романе. Это похвально, потому что не усиливает тор-
жества ретроградной пропаганды.
И жаль, что г. Гончаров не мог понять в свое время,
что здравый смысл подкупать нельзя. Даже самый не-
проницательный читатель поймет, что «Обрыв» — сочине-
ние, что обобщение г. Гончарова — ложь, что не было
еще примера, чтобы молодая сила, в составе целого по-
коления или его представителей, становилась на тот
логически невозможный путь, который придумал г. Гон-
чаров. Шлейхер даже «Дым» г. Тургенева называл
пасквилем и говорил, что беллетрист должен изображать
более идеализированную, нежели действительную, жизнь
со всеми ее дрязгами22. А г. Гончаров дает хуже, чем
пасквиль: он идеализирует крепостные времена, исчез-
нувшие для нас безвозвратно, и серьезно проповедует,
что счастье только в былом русском обскурантизме. На
такой вывод навела его кисейная Вера. «Вглядевшись и
вслушавшись во все, что проповедь юного апостола вы-
давала за новые правды, новое благо, новые откровения,
она с удивлением увидела, что все то, что было в его
проповеди доброго и верного, — не ново, что оно взято
из того же источника, откуда черпали и не новые люди,
250
что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации»,
которую он проповедовал так хвастливо и таинственно,
заключены в старом учении...» Так говорит в защиту
мировоззрения Татьяны Марковны г. Гончаров на
35 странице пятой части, а на 567 странице второй части
он заставляет Райского после бесплодной попытки обра-
щения к новой «цивилизации» той же Татьяны Марковны
высказать следующее умозаключение: «Как жизнь-то
эластична!.. во что хочешь веруй: в религию, в матема-
тику или философию, — жизнь поддается всему...»
И нужно согласиться, что почти все беллетристы рус-
ской земли насчет литературного творчества держатся
теории Эсхила. Грекам того времени действительно при-
ходилось работать лишь из непосредственного созерца-
ния жизни и природы; но чтобы быть беллетристом на-
шего времени, одного таланта далеко не достаточно. Пре-
жде всего требуется знание. Беллетрист должен знать
столько же, сколько знает всякий публицист. Резюми-
руйте весь роман г. Гончарова в виде публицистической
статьи, и получатся лишь следующие шесть афоризмов:
«Европейское общество внесло в жизнь новый взгляд
на все, взгляд, полный отрицания. Дерзость нового евро-
пейского исследования простирается до того, что оно
отрицает авторитеты, старую жизнь, старую науку, ста-
рые добродетели и пороки. В новой науке есть односто-
ронность, пробелы, местами будто умышленная ложь
пропаганды. Современный реализм видит в чувствах
ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, об-
нажая их от всяких иллюзий (!), составляющих роскошь
человека, в которой отказано животному. Закона при-
чинности нет».
Попробуйте с подобной статьей явиться в любую ре-
дакцию, хоть бы того же «Вестника Европы», который
напечатал «Обрыв», и вам скажут, что статья слишком
мала, недостаточно развита, не заключает в себе не толь-
ко ничего нового, а напротив, идет прямо вразрез с со-
стоянием современных знаний и потому неудобна для
печати. Но не только эту чушь, даже две строчки из нее
изложите в форме удобочитаемой повести или романа,
подпишите: «И. Гончаров» — и любая редакция не только
напечатает роман, но нашумит своими рекламами от Ар-
хангельска до Одессы и приобретет по меньшей мере
две тысячи новых подписчиков. Кого следует винить —
251
редакцию или публику? Редакцию, — скажем мы. Нельзя
журналу, мало-мальски понимающему свою обществен-
ную обязанность, стоять своими серьезными статьями
па высшем уровне европейских знаний, а беллетристикой
опускаться в гущу и подонки обскурантизма. Что это тер-
пится русской публикой, что это иногда выгодно в де-
нежном отношении — не оправдание, ибо мы спросим:
где же предел литературной продажности?
Нам теперь именно нужно оправдание молодого, под-
растающего, а частью служащего уже обществу поколе-
ния от комьев грязи, упреков и клевет, которые без меры
бросались в него литературой. Какой честный человек не
знает, что никаких Волоховых нет ни на Волге, ни на
всякой другой реке и во всякой другой местности? Г-н Гон-
чаров нашел Волохова в идеальной Малиновке, — или
как она там зовется, — лежащей в идеальной степи; мо-
жет быть, в идеальном Брынском лесу он найдет что-
нибудь и похуже, а в идеальном Нерчинском руднике —
и еще того хуже; но только что же из этого? Неужели
рассудительно тратить свой талант на идеализацию вы-
мышленных и несуществующих явлений, усиливающих
рознь поколений, возбуждающих в обществе тревожное
состояние, разжигающих недоверчивость ко всему моло-
дому, честно борющемуся со всеми трудностями и пре-
пятствиями жизни? Г-н Гончаров, пребывая в Петербур-
ге, направил телескоп на какую-то отдаленную Мали-
новку, тогда как у него под глазами совершаются иные
сцены, просятся под перо иные явления глубоко назида-
тельного смысла. У него пред глазами учащаяся моло-
дежь, силы, пропадающие в борьбе с нуждой, железная
энергия, разбивающаяся о несокрушимые единолично
препятствия. У него пред глазами девушки, не кисейные
идеалистки, а честные труженицы, тоже губящие моло-
дость и силы в борьбе с невыгодно сложившейся жизнью.
У него перед глазами крупные социальные явления, ожи-
дающие талантливого пера и обобщения, а он тратит
свои силы на десятилетнее измышление клубничных сцен
и поет нам, голодным людям, про обманутую любовь, по-
учает нас в теории срочной и бессрочной любви, точно
это для нас вопрос первой важности.
СОЧИНЕНИЯ Д. и. ПИСАРЕВА
10 ч. С.-Петербург
1866—1869
I
В каждом городе, где есть читающая и думающая
молодежь, вы найдете две партии: одна покло-
няется Добролюбову, другая — Писареву. Если
эти партии имеют возможность где-нибудь сходиться, они
немедленно вступают в ратоборство, и бывали случаи,
когда разгоряченные борцы готовы были прибегать к ар-
гументации более сильной, чем простое красноречие.
Я говорю бывали, хотя спор о Писареве и Добролюбове
все еще не кончился и обоюдное отношение их все еще
не выяснено.
Если бы вы желали узнать, что разделяет борцов и
почему Добролюбов и Писарев изображают собою такое
противоположное начало, что спор мог привести даже
к междоусобной войне, вы не услышали бы ни одного
мнения, которое можно было бы назвать резонным. Бор-
цов разъединяли не принципы, не основы мировоззре-
ния; весь спор обыкновенно сводился к тому, кто умнее,
кто пишет и думает логичнее и основательнее, кто пер-
вый, кто второй.
И в сфере более высшей замечался, да существует
еще и до сих пор, тот же антагонизм. Те, кто считает
себя человеком молодого поколения, кто уже утвердился
на середине, завелся семьей, достиг известного положе-
ния, те смотрят на Добролюбова как на своего настав-
ника. На досуге, вечерком, воротившись со службы,
в минуту хорошего расположения духа, когда приятно
вспомнить свою молодость и юношеские увлечения, моло-
дой отец семейства достает Добролюбова — обыкновенно
четвертую часть1 — и освежает в своей памяти прошлое,
невозвратное, согревает себя воспоминаниями минувшей
молодости. Но пошаливая так с Добролюбовым, молодой
253
отец семейства Писарева не только не берет, но он его
и не имеет. Он развивался не на Писареве.
Поднимаясь в сферу еще высшую, в мир русского ин-
теллектуального представительства, то есть в литературу,
мы встречаемся с повторением того же явления. Там
Писарева игнорируют, игнорируют до того, что когда он
умер, когда вышло отдельное издание его сочинений, то
об них обмолвился только один г. Скабичевский, да и то
для того, чтобы показать все ничтожество Писарева
сравнительно с Добролюбовым. Я думаю, что г. Скаби-
чевскому должно быть теперь стыдно за свою тогдашнюю
статью2
Еще при жизни Писарева «Книжный вестник», редак-
тируемый тогда г. Ефремовым, назвал журнал, в котором
участвовал Писарев, органом юной России, а журнал,
в котором поддерживалась традиция Добролюбова, — ор-
ганом молодой России. Это говорилось с иронией, с от-
тенком презрительного превосходства 3.
Все эти отдельные факты важны потому, что ими объ-
ясняется причина антагонизма сторонников Добролюбо-
ва и Писарева. Вопрос свелся к борьбе поколений, к от-
цам и детям. В пылу спора забыли и о Добролюбове и
о Писареве, имена которых служили не знаменем партий,
потому что это было и невозможно, а просто кличкой
противников. Не думайте, чтоб кому-либо было действи-
тельно серьезное дело до идей Добролюбова и Писарева.
В Добролюбове и Писареве каждый видел лишь себя и
отстаивал свое поколение или, вернее, своих сверстни-
ков.
Действительно, Добролюбова и Писарева разделяет
такой промежуток времени, что можно было кончить
курс в университете и даже жениться. Когда господство-
вал Добролюбов и воспитывал молодых людей 57—
61 года, Писарев только расправлял крылья и учился пи-
сать. Когда же с 1863 г. Писарев поднял голос и заго-
ворил как учитель, те, кто слушал курс у Добролюбова,
закончили уже свое учение и сложили книги. Писарев не
мог быть для них ни авторитетом, ни наставником, они
начали относиться к нему сверху, называя его учителем
юных, а себя считая молодыми, зрелыми, окончательно
сформировавшимися на слове своего учителя. Это обык-
новенная история застоя, но только повторившаяся на
наших глазах. Мы были знакомы с нею по поколению
254
Белинского, которое не хотело признать Добролюбова 4,
теперь же пришлось еще раз увидеть ее на поколении
Добролюбова, не хотевшем признать Писарева.
Вся беда случилась оттого, что Добролюбов умер
рано и что рядом с ним народился Писарев. Людям все-
гда нужен один командир, один пастух; два произведут
непременно раскол, если даже они будут говорить буква
в букву одно и то же. Если бы Добролюбов жил до сих
пор, а Писарева не было, умственное благополучие мо-
лодого поколения ничем не нарушилось и оно с покор-
ностью шло бы за своим единственным учителем. К сожа-
лению, явился непредвиденный случай: свой учитель
умер преждевременно, не сказав своего последнего слова,
за ним выступил другой. «Долой Писарева! мы не этого
прихода! — закричали недоучившиеся ученики. — Мы
уже все знаем, нас всему научили, мы можем жить
своим умом!» Ну, и начали жить своим умом, то есть
остановились на том, что читали прежде. На литературном
языке это называется сохранить традицию Добролюбова.
Так, поколение Белинского и до сих пор сохраняет его
традицию и знать не хочет новой жизни. Поколение Доб-
ролюбова тоже хочет сохранить его традицию. Но
позвольте: если бы Добролюбов писал в 1870 г., как вы
думаете, писал ли бы он то же самое, что писал в
1860 году? Что же вы-то тянете все одну старую ноту, за-
чем оскорбляете память своего учителя, заставляя его
закостенеть в двадцать пять л(ет); зачем вы навязываете
ему свою собственную неспособность, откуда вам извест-
но, что Добролюбов сказал свое последнее слово, а ни-
чего бы не сказал нового? Вы издеваетесь над поколе-
нием Белинского, которое не признало Добролюбова, вы
укоряете это поколение в неспособности думать про-
грессивно, вы видите в Добролюбове не больше, как ло-
гическое продолжение Белинского, который, не умри он
так рано, конечно, додумался бы и до того, с чего начал
Добролюбов; и затем, порешив с возведением себя в перл
создания и утвердившись на собственной непогрешимо-
сти, вы уже не допускаете никаких других продолжений.
Подобно калифу Омару, вы говорите: «Если в других
книгах повторяется то, что есть в Коране (сочинения
Добролюбова), — они не нужны5. Если же в них есть то,
чего нет в Коране, они тоже не нужны». О, какая это
старая история, старая, как мир! А не собственный ли
255
ваш учитель учил вас думать самостоятельно и прогрес-
сивно? Бедное молодое поколение, как ты скоро закаме-
нело и как же ты не оправдало надежд своих лучших на-
ставников! Они считали тебя гораздо способнее, они уми-
рали с верой, что ты пойдешь дальше, что ты призвано
совершить великую миссию умственного обновления Рос-
сии, призвано разлить просвещение, изгнать предрассуд-
ки. Если бы Добролюбов воскрес теперь внезапно и по-
смотрел на тех, кто считает себя его учениками, он от-
вернулся бы от так называемого молодого поколения
как от умственной безнадежности и пошел бы с другими.
Да, молодое поколение не сумело понять урока судь-
бы, не желавшей покинуть его в умственной беспомощ-
ности и пославшей ему по смерти Добролюбова нового
наставника в лице Писарева. Не сумело понять молодое
поколение, что как Добролюбов есть продолжение Бе-
линского, так Писарев есть продолжение и дополнение
Добролюбова. Молодое поколение остановилось, и за
Писаревым пошли другие. И снова на наших глазах по-
вторилась старая история разрыва поколений. Молодое
поколение превратилось внезапно в юных старцев, в тол-
пу, в стоячую воду, дальнейшее умственное развитие его
прекратилось, оно созрело и даже переспело. Мир праху
твоему, молодое поколение! Умерло ты, ничего не сделав-
ши, и напрасно ты так гордилось и так возносилось над
людьми сороковых годов и над поколением Белинского.
То поколение освободило крестьян, создало гласный суд,
все реформы нашего времени явились в зародыше в го-
ловах людей сороковых годов; что же сделало молодое
поколение, какую из своих идей оно осуществило на
практике? Никакой. Оно превратилось только в исполни-
тельное орудие идей сороковых годов, и, отрекшись от
собственных смелых мыслей, надсмеялось над ними, как
над заблуждением молодости.
Молодым (ныне уже старым) поколением я называю
небольшую кучку людей, которая в 1857—1862 гг., счи-
тала себе 20—25 лет и формировала свое мировоззрение
на передовой литературе того времени. Порывисто и
с шумом шло это умственное развитие; отзывалось оно
энтузиазмом, горячностью и слепотой; слов было много,
запальчивость заменяла рассуждение, порыв — энергию;
но прочности не было ни в мысли, ни в порыве. Первый
противный ветер мог разнести и раздуть эту кучку, как
255
разносит он листья. Молодое поколение считало своим
учителем Добролюбова; это было самообольщением, ко-
торое разделял и сам Добролюбов. Не умри он так рано,
он бы это понял; но молодое поколение, пережившее сво-
его учителя, этого не поняло. Оно до сих пор считает
Добролюбова своим, хотя между молодььм поколением и
Добролюбовым целая бездна. Бездна эта образовалась
потому, что молодому поколению досталась слишком де-
шево его цивилизация. «Наши благородные юноши обык-
новенно получают свои возвышенные стремления довольно
просто и без больших хлопот. Они учатся в универси-
тете и наслушаются прекрасных профессоров, или в гим-
назии еще попадают на молодого пылкого учителя, или
входят в кружок прекрасных молодых людей, одушев-
ленных благороднейшими стремлениями, свято чтущих
Грановского и восхищающихся Мочаловым или, наконец,
читают хорошие книжки, то есть «Отечественные запис-
ки» сороковых годов. Весьма часто все эти счастливые
случайности сходятся вместе и помогают одна другой.
Таким образом, развитие простых человеческих стрем-
лений совершается в добрых юношах без особенных ге-
роических усилий; им хочется есть, и им со всех сторон
говорят: пойдемте обедать, и они идут. Вот и все»6. Это
говорит Добролюбов о поколении предшествовавшем.
Но разве прекрасным юношам молодого поколения до-
сталось новое слово не так же дешево? Ведь только
в этом и причина, что прекрасные юноши ушли лишь
в либерализм, которого предыдущее поколение не знало.
Либерализм есть явление, созданное молодым поколе-
нием, и до какой лжи и фальши он способен доходить,
виднее всего на том литературном пустоцвете, которым
так обогатилась журналистика последнего времени, на
тех крикунах, которые перевели великие слова на мелкие
дела. Какие же последствия этого либерализма, возьмем
его хоть в повседневной сфере. Молодое поколение, как
известно, переженилось, обзавелось детьми, достигло
прочного общественного положения, то есть нашло вы-
годную службу. Все это, положим, хорошо. Но вот что
нехорошо. Отец из молодого поколения, в принципе от-
рицающий сечение, на практике, в виде исключения, се-
чет и своих и чужих детей. Учил ли этому Добролюбов?
Молодое поколение погрязло в тех же семейных пред-
рассудках и молится тому же мужскому главенству, как
9 Н. В. Шелгунов
257
былые «отцы», и то, чем оно так увлекалось в свои холо-
стые годы, теперь считает юношеской шалостию. Так ли
учил Добролюбов?7 Три четверти из всего того, что мо-
лодое поколение считало истинами, оно признает теперь
истиной только в принципе, а для практики есть у него
другие истины. Этому ли дуализму учил Добролюбов?
Для молодого поколения делом вышло слово, и ни для
какого настоящего дела оно себя не выработало. Мы го-
товы на уступку и примирились бы с молодым поколе-
нием, если б оно было способно хотя бы думать-то после-
довательно. Но именно этой способности в нем и не ока-
залось. Бедное, слабосильное поколение выговорилось и
затем осело, исчезнув бесследно со всеми своими поры-
вами и горячими словами, точно его и не было. Молодое
поколение решительно не дало людей. Повсюду нынче
жалобы на недостаток способных исполнителей. В судах
у нас нет адвокатов; в земстве — знающих людей; в ста-
тистических комитетах — способных работников; в лите-
ратуре— людей на смену прежних деятелей. Куда же
делась вся эта масса людей, может быть, тысяч в два-
дцать, которая так горячо и пылко накинулась на новое
слово и рекомендовала себя России новым титаном, гро-
зившим похитить с неба небесный огонь, чтобы осветить
Россию новым, неведомым светом. Нового Прометея не
оказалось необходимости даже приковывать, потому что
он стушевался сам собою. Из всей громадной массы лю-
дей, считающей себя молодым поколением, в адвокатуре,
в науке, литературе выдались только немногие единицы,
да и те больше сверстники Добролюбова, его одногодки,
и мы еще не знаем, следует ли их считать людьми моло-
дого поколения. Они люди, параллельные Добролюбову,
и, если хотите, такие же учителя, как он. В этих людях
мы видим не людей поколения, а людей, стоящих вне его;
людей текучей мысли, которые шли с молодыми, пока
молодые еще двигались, пошли потом с подрастающими
и всегда будут идти с теми, кто идет вперед, не спраши-
вая, к какому они принадлежат поколению.
В умственном бессилии молодого поколения причина
того, что oiho не могло идти дальше Добролюбова и за-
каменело на его полуслове, вообразив, что и Добролюбов
был не в состоянии сказать ничего более. Слышите! Доб-
ролюбов, человек замечательных способностей, умерший
внезапно двадцати шести лет, не достигший полного раз-
258
вития своих сил, едва только пробивший дорогу в лесу
русской мысли, человек, успевший высказать только не-
которые общие положения и едва наметивший новое на-
правление литературной критики, человек, у которого на
пути еще стояли люди прошлого, с которыми хотя он и
сражался, но которые все еще были живы, человек, едва
успевший смести только часть накопившейся пыли! Ду-
мать, что Добролюбов сделал все и сказал все, думать,
что намеченная им программа может достать на полвека
и что русскому мозгу позволяется целое полстолетие
дремать и жить старыми мыслями — думать так, значит
думать очень глупо.
Для мысли нет границ; она растет и развивается, не
зная остановок и перерывов. Русская жизнь не остано-
вится и русская мысль не закостенеет, если умирают
отдельные деятели или выразители ее. Белинский умер,
но от этого Россия думать не перестала. Если поколение
Белинского оказалось неспособно думать своим умом, то
оно доказало этим лишь собственную неспособность, а
вовсе не паралич русской мысли. Где жила эта мысль
после смерти Белинского — мы не знаем, но она жила,
никогда не думала умирать и в 1855 г. заявила о своем
существовании таким блистательным образом, что поко-
ление Белинского пришло даже в ужас от внезапно
вставшего перед ним реформатора8. Добродушные люди
думали, что умнее Белинского уж и думать невозможно,
и внезапно оказывается, что русская мысль может идти
дальше. На Добролюбове и Писареве пример этот повто-
рился еще раз. Недолго работал Добролюбов, да и рабо-
та его была довольно неблагодарная. Он должен был
держаться сферы общих вопросов, а потому и употреб-
лять средства сильные и крупные — может быть, вслед-
ствие того Добролюбов должен был работать в сфере
общих вопросов, и молодое поколение оказалось неспо-
собным идти дальше общих рассуждений и на них оста-
новилось. Добролюбов умирает; недоконченная мысль
должна бы, по-видимому, вызвать необходимость даль-
нейшей ее разработки; но молодое поколение думало
иначе, и когда продолжателем Добролюбова явился Пи-
сарев, молодое поколение от него отвернулось.
А между тем Писарев был только дальнейшим про-
должением той же русской мысли. Он был дополнением
и поправкой того русского суждения, которое выразилось
*
259
в Добролюбове. Если бы со смертию Добролюбова не
явилось никого, умственный покой молодого поколения
не был бы ничем нарушен и наступило бы затишье вро-
де того, какое наступило после Белинского. Судьба ока-
залась на этот раз благосклоннее к России, и вместо
того, чтобы дать зреть русской мысли в тиши, она сей-
час же по смерти Добролюбова по-слала ему на смену
нового гласного представителя. Но молодому поколению
это показалось ненужной и обременительной роскошью:
оно было уже утомлено непривычной работой мысли и
чувствовало полное бессилие даже и прежнему своему
мышлению дать практическое применение.
Какими бы словами молодое поколение ни оправды-
вало свою верность добролюбовской традиции, — эта
верность, в сущности, застой. Если вы останавливаетесь
на традиции, на раз усвоенном вами мнении, не желаете
ни проверить его новыми фактами, ни исправить своего
суждения, значит, ваша мысль отказывается от дальней-
шей работы. Каким хотите красивым словом назовите
это состояние, оно все-таки не что иное, как неспособность
к дальнейшему развитию. Тут незачем маскироваться
олимпийским презрением к летам нового проповедника
и к той форме, в какой он выражает свою мысль; неза-
чем ссылаться, что мы не того прихода. Говоря это, мы
говорим другими словами, что нам не нужна истина.
Если мы скажем, что Белинский и Добролюбов вырази-
тели русской мысли в разные моменты ее развития, мы
этим самым говорим, что и Писарев есть тоже вырази-
тель русской мысли в новом ее моменте; отрицая же
законность появления Писарева, мы отрицаем закон-
ность Белинского и Добролюбова, отрицаем закон-
ность и последовательность собственного умственно-
го существования. Писарев не нарост извне, не человек,
свалившийся с луны, он такой же органический продукт
русской мысли, какими были и все его предшественники.
Писарев — прямое последствие умственного пробужде-
ния и движения, начавшегося у нас в 55-м году. Писарев
зрел и развивался, когда Добролюбов уже действовал, но
развивался на тех же основаниях, рос в той же умствен-
ной школе, из которой вышел Добролюбов. Поэтому,
явившись в качестве критика-публициста, когда Добро-
любов уже сошел со сцены, Писарев явился только про-
должателем того же движения мысли. В пору своей силы
260
Писарев ни разу не изменил направлению, которое на-
чалось Белинским и продолжалось Добролюбовым. Он
пробивал дальше ту же самую тропинку.
Молодое поколение не поняло этого; оно усмотрело
антагонизм в том, в чем его не было; ему нужны были
имена и лица, а не логика; оно точно хотело, чтобы
Добролюбов никогда не умирал, а если бы когда-нибудь
это случилось, то чтобы Россия не смела выставлять ни-
кого другого ему на смену. Став под знамя, когда его
держал Добролюбов, молодое поколение не хотело стать
под то же знамя, когда его держал Писарев, точно это
знамя изменилось оттого, что оно не в прежних руках.
Этой фанатической преданностию букве, а не духу и
смыслу, молодое поколение показало, что оно толпа, как
и всякая толпа, что прогрессивная роль им сыграна и
что его должны сменить силы более свежие, более на-
дежные, более способные к работе мысли. Явятся ли эти
силы или нет в подрастающих — неизвестно, и пессими-
сты этого не думают, но верно то, что Писарев работал
для этих сил, а не для молодого поколения.
Взглянув на Писарева как на своего врага, молодое
поколение не нашлось сказать против него ни одного
дельного слова. В литературе и в обществе во всех спо-
рах, которые велись за и против Добролюбова и Писа-
рева, обнаруживалась только запальчивость и полное
бессилие подняться выше формализма. Вместо того что-
бы определить смысл слов Добролюбова и Писарева,
разъяснить, почему иногда в этих словах являлись про-
тиворечия, и точно ли это противоречия, а не поправка
или дополнение суждения, спорящие стороны бросились
в личную оценку Добролюбова и Писарева, стали изме-
рять их циркулем, взвешивать на аптекарских весах, точ-
но этот вопрос представлял какую-нибудь серьезную
важность, точно стоит спорить о лице, если это не ведет
к разъяснению сущности идеи.
В этом случае наше общество обнаружило снова свою
старую мелочность и ту привязанность к букве, которая
так грандиозно обнаружилась уже в русском расколе.
Спор о мелочах заслонил главное, и нашумевшие борцы,
натешившись вволю словами, вообразили, что они совер-
шили подвиг. Разве это не те же щепетильности и пустя-
ки, разве это не та же забота о повязывании галстуха,
261
которою уже корил раз Добролюбов русское общество?
Ну, вот вам говорил и свой, а разве вы его послушали?9
Ратоборцы, кинувшись в личную оценку Добролюбова
и Писарева, свели спор к симпатии и антипатии. Ну, про-
сто ухо привыкло слышать известный голос, глаз привык
видеть известное лицо, а когда заслышался другой голос,
появилось новое лицо, повязка галстуха оказалась ино-
го вида — люди привычки посыпали головы пеплом, за-
крыли глаза и заткнули уши: комедия кончилась, и зри-
тели разошлись опять. Вот и умственный прогресс моло-
дого поколения!
Мы не отрицаем того, что со стороны формы между
Писаревым И Добролюбовым есть громадная разница;
В характере их сил есть тоже большие особенности. Но
если бы молодое поколение было способно исправить
свое суждение, оно бы поняло, что Писарев ему больше
на руку, чем Добролюбов. И Добролюбов и Писарев,
в сущности, оба популяризаторы: но Добролюбов гово-
рит гораздо строже, точно он обращается к людям со-
лидным и равным; Писарев говорит проще и простран-
нее. Эту простоту и пространность многие из привычки
к сжатой речи Добролюбова приняли за недостаток ос-
новательности и порешили, что Добролюбов умнее Пи-
сарева. В манере Добролюбова, если хотите, есть нечто
бериевское, на которого он и походит по своему поли-
тическому мировоззрению; в Писареве же больше гейнев-
ской расплывчатости и многообразия 10. Добролюбов бил
в ближайшую цель, — Писарев бил дальше и обнимал
более широкий круг предметов. Добролюбов пишет ино-
гда, точно пришла пора действовать; Писарев знает, что
действовать нечего, и потому популяризирует. Добролю-
бов рассуждает; Писарев всегда учит. Добролюбов во-
зится больше с обществом, Писарев — с лицом. Добро-
любов указывает дорогу общественным стремлениям,
Писарев заставляет задумываться над единичным по-
ведением; Добролюбов хочет пробудить энергию, Писа-
рев— научить думать. Добролюбов относится к окружа-
ющим явлениям сам критически. Писарев хочет научить
относиться критически к жизни самого читателя. Добро-
любов говорит и, поучая, прибегает к историческому
приему изложения, ищет иногда подкрепления в эруди-
ции; Писарев всегда беседует, как учитель на кафедре,
разматывая клубок мысли и научая процессу мышления.
262
Добролюбов серьезен, сдержан, мало заботится о зани-
мательности и форме, хотя и прибегает иногда к иронии;
Писарев всегда думает о простоте формы и заниматель-
ности, подслащивает горькую правду и завертывает
сухую истину в красивую бумажку; Добролюбов дает
чувствовать свою страстность; убеждая, он возбуждает,
горячит, злит; Писарев находит, что возбуждать страсть
незачем; он переживает в себе все внутренние процессы
и дает читателю готовый спокойный вывод. Добролюбов
всегда задевает чувство; Писарев обходит его, зная толь-
ко одного слушателя — ум. Добролюбов больше согреет;
Писарев о согревании не заботится и скорее обольет
холодной водой; Добролюбов действует через страсть на
ум и верит в прогрессивные силы общества; Писарев не
верит в эти силы и думает, что сначала нужно исправить
суждение и научить мыслить. Добролюбов, допуская
в молодом поколении известные силы, бережет их и не
оскорбляет словом; Писарев, не доверяя им, относится
к ним с скептицизмом, переходящим иногда в презрение;
Писарев точно хочет сказать: ну где вам, ребятишки,
заниматься такими делами, лучше учитесь да привыкай-
те думать. Добролюбов осторожен и многие предрассуд-
ки задевает только слегка и до некоторых авторитетов,
как Пушкин, едва прикасается; Писарев запальчивее и
отважнее и смело бросает перчатку всякому предрас-
судку и всякой рутине н.
В деле личного вкуса, конечно, можно сказать, что
такой-то нравится мне больше, а такой-то меньше. Но
в деле мысли руководиться вкусом нельзя; тут только
надо проверять суждение и принимать то, которое безо-
шибочнее. Я не стану утверждать, что Писарев был все-
гда передовее Добролюбова и заслонял его совершенно;
в Писареве было кое-что, чего недоставало Добролю-
бову, и в Добролюбове было кое-что, чего недоставало
Писареву. Конечно, было бы лучше, если бы это кое-что
взаимно пополнялось, но, подчиняясь факту, мы берем
и Добролюбова, каким он был, и Писарева, каким он
был. К Добролюбову влечет его политическая жилка:
политический пульс бился в нем сильно; в Писареве же
он скрыт и пробивается изредка.
Ни весами, ни циркулем мы не станем производить из-
мерения сил Добролюбова и Писарева; мы не станем рас-
сматривать их как два противоположные и независимые
2ба
начала, как две отдельные силы. Этот прием ведет не
к пониманию, а, напротив, к непониманию. Добролюбов
и Писарев — две равные силы одного происхождения,
одной почвы, одного источника, одного времени; они, как
две стороны одной медали, взаимно пополняют друг дру-
га; они оба представители одной эпохи, того нового фа-
зиса русской мысли, в который вступила Россия после
Крымской войны. Следовательно, они не противники или
враги, явившиеся разделить русское общество, а взаимно
пополняющие силы, которые должны помочь русскому
сознанию больше, чем взятые отдельно. Добролюбов и
Писарев — знамения времени, и нам нужно не спорить
из-за них или делиться на партии и враждебные лагери,
а, напротив, видеть в одновременном их появлении ха-
рактеристический признак нашей эпохи. У сороковых го-
дов был только один Белинский и целая плеяда белле-
тристов; у нашего времени, напротив, несколько одновре-
менно выдавшихся критиков и публицистов и почти ни
одного беллетриста. Это признак более возмужалой зре-
лости целого общества, которое хочет слушать, поучаться
и понимать, а не услаждать свой досуг. Литература ста-
новится не отдыхом или забавой, а аудиторией. Тридцать
лет назад и Добролюбов и Писарев сделались бы рома-
нистами; в наше время они стали критиками-публици-
стами. Тридцать лет назад они удовольствовались бы по-
верхностным воспитанием себя для беллетристики; в
наше время они являются людьми, становящимися на
уровень с современным европейским знанием. С новыми
слушателями нужно говорить твердо, с полною уверен-
ностью в свои силы.
Молодежь, которая по поводу Писарева и Добролю-
бова вступает в диспуты, обнаруживает только свою мыс-
лительную слабость и свое непонимание ни Добролюбо-
ва, ни Писарева, ни основного духа их учения. Люди эти
учили самостоятельности мысли. Они явились врагами
авторитета не для того, чтобы их самих поставили на
пьедестал и курили им фимиам. Переменой старых богов
на новых молодежь показывает только, что она еще не
окрепла в самостоятельном мышлении и идолопоклон-
ствует по-старому. Читайте Добролюбова и Писарева не
для того, чтобы спорить из-за них, а для того, чтобы по-
нять их и укрепить свою мысль в том многообразии, ко-
торое дают вам оба эти мыслителя.
264
После этого довольно длинного вступления, без кото-
рого Писарев был бы неясен, я покажу читателю его
значение для нашего времени и сущность тех мыслей,
выразителем которых он явился. Читатель убедится, что
для враждебного отделения Писарева и Добролюбова и
для распадания поучающейся России на два враждебных
лагеря нет никакой причины.
и
Непонимание Писарева шло у нас так далеко, что его
укоряли именно в том, что составляет его главное до-
стоинство. Были порицатели, которые заявляли в печати,
что Писарев вовсе не критик, что он только перефрази-
рует тех писателей, которых разбирает. Говорить такие
наивности значит смотреть в книгу, а видеть фигу. Для
ясности прибавлю, что подобное порицание шло из ла-
геря эстетиковг, которым Писарев очень любил надевать
колпаки с погремушками.
В критико-публицистическом поведении Писарева не
было ни одного действия, которое не было бы обдумано
строго. Роль критика, как понял ее Писарев, состоит не
в том, чтобы прикладывать к художественным произве-
дениям различные статьи готового эстетического кодекса;
она не в том, чтобы наблюдать за точным исполнением
неподвижного закона. Критик — живой человек, который
вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое
личное мировоззрение, весь свой индивидуальный харак-
тер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих че-
ловеческих и гражданских убеждений, надежд и жела-
ний. При таком широком взгляде на роль критика, он яв-
ляется не мертвым формалистом, подобно эстетикам,
придерживающимся одного вечного мертвого закона, а
живым человеком, который будет решать вопросы так
или иначе, смотря по тому, чего он требует от жизни и
каким образом он понимает характер и потребности сво-
его времени. Г-н Николай Соловьев, которому так доста-
валось от Писарева, конечно, не мог простить Писареву
такого воззрения на значение и роль критики. Но так как
в арсенале г. Соловьева нет ничего, кроме пустых слов,
то и опровержение его приняло комический характер об-
винения в том, что Писарев не сказал тут ничего нового
265
и явился лишь раболепным последователем мыслителя,
провозгласившего это учение ранее 12. Ну, конечно, г. Со-
ловьев, до Писарева были у нас мыслители, а до этих
мыслителей были мыслители на Западе, и между этими
мыслителями был Лессинг. Лессинг не разделял критики
от жизни и постоянно учил самостоятельному и прогрес-
сивному мышлению. Еще раньше Лессинга прогрессивно-
му мышлению учили люди Реформации, и когда один из
кораблей отплывал из одной европейской гавани в Аме-
рику с первыми переселенцами, то пуританский священ-
ник, напутствовавший их, сказал им, чтобы они не зако-
стенели в церковных формах и были бы прогрессивны и
в религии; а г. Николай Соловьев триста лет спустя не
позволяет быть прогрессивными русским критикам, раз-
бирающим литературные произведения!
Зная, что в России очень много Соловьевых, Писарев,
определяющий себе критическую программу, говорит:
«Мы бедны и глупы. Мы бедны — это значит, что у нас
сравнительно с общим числом жителей мало хлеба, мало
мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви,
белья, словом — всех продуктов труда, необходимых для
поддержания жизни и для продолжения производитель-
ной деятельности. Мы глупы — это значит, что огромное
большинство наших мозгов находится почти в полном
бездействии и что, может быть, одна десятитысячная
часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает
в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько
она могла бы выработать при нормальной и нисколько
не изнурительной деятельности... Но мы не идиоты и не
обезьяны по телосложению, а люди кавказской расы,
сидевшие сиднем подобно нашему милому Илье Муромцу
и наконец ослабившие свой мозг этим продолжительным
и вредным бездействием. Надо его зашевелить и он очень
быстро войдет в свою настоящую силу» 13. «Мы, — говорит
Писарев в другой статье, — нуждаемся в решении самых
элементарных вопросов жизни, и нам некогда заниматься
тем, что не имеет прямого отношения к этим вопросам.
Мы жить хотим и, следовательно, назовем деятелем жиз-
ни, науки и литературы только того человека, который
помогает нам жить, пуская в ход все средства, находя-
щиеся в его распоряжении».
И вот Писарев пускает в ход все средства, находя-
щиеся в его распоряжении; он направляет всю свою дея-
265
тельность, чтобы будить и шевелить спящий русский
мозг, чтобы заставить его присматриваться к окружаю-
щим его явлениям, ко всем мелочам наших будничных,
семейных и общественных отношений. Каждый роман,
каждая повесть, каждое литературное или ученое произ-
ведение, по поводу которых говорит Писарев, служат
ему только для того, чтобы разбирать и выворачивать
на все лады нашу жизнь, чтобы самым инквизиторским
образом подкапываться под поведение героев, чтобы ра-
зобрать и рассортировать все их действия, показать
дрянность, глупость, пустоту.
В своем критическом приеме Писарев всегда суров и
холоден. Он, точно анатом, рассекает хирургическим
ножом разбираемые им лица на глазах читателя; пре-
следует их самым холодным анализом и затем подводит
итог; и поступает Писарев таким образом не случайно,
не по вдохновению, а по строго обдуманному плану по-
ведения. Он говорит, что как историк разлагает каждое
явление на его составные части, изучает каждую часть
отдельно, определяет все составные элементы и выводит
общий результат, так точно должен поступать и критик.
«Вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и
героинь; вместо того чтобы сочувствовать одному, него-
довать против другого, восхищаться третьим, лезть на
стену по поводу четвертого, критик должен сначала про-
плакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая
в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассуди-
тельно сообщить ей свои размышления о причинах тех
явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие,
негодование или восторги. Он должен объяснять явле-
ния, а не воспевать их; он должен анализировать, а не
лицедействовать»14. И этому приему Писарев никогда не
изменяет. Вы, пожалуй, можете не согласиться с его
анализом — это ваше дело; но вы и не согласитесь-то
только оттого, что Писарев расшевелил ваш мозг и за-
ставил вас думать. А этого только и добивался Писарев.
Его задача помогать развитию, давать материал для
размышления, предлагать полезные знания, свежие и
живые идеи, расширять взгляд, сообщать сознательное
гуманное направление.
Хоть глупо думайте, но только думайте по-своему, чи-
тается иногда как бы между строк у Писарева. «И то хо-
рошо, что начинают думать по-человечески», — говорит
267
он в «Стоячей воде». Я вижу, как враги Писарева при-
ходят в восторг и ликуют от таких глупых, по их мнению,
советов. Как? поборник ума, поборник знаний, который
только о том и хлопочет, чтобы люди были умны, позво-
ляет им думать глупо? Но обратите внимание на то,
с каким материалом приходилось возиться Писареву.
Все герои и героини, которых предлагали ему беллетри-
сты, изображали собою самую неисходную и безнадеж-
ную тупость. Ни один человек не умеет устроить свою
жизнь мало-мальски сносно; все это гибнет в бездонном
омуте и в стоячей воде или течет по течению, даже и не
предполагая, что может быть иначе. Ни мужчины, ни
женщины — никто не понимает друг друга и своих взаим-
ных отношений. Семья превращается в какой-то вертеп,
в котором все чувствуют себя несчастными, и в то же
время нет ни у кого ни сил, ни способностей устроиться
иначе и не погрязнуть в общей помойной яме. Укажите
хотя на одного беллетриста сороковых годов, который бы
отметил какое-нибудь светлое явление русской жизни:
бедность да бедность, бедность умственная и материаль-
ная, говорят все они на разные лады. Если у Тургенева
и являются иногда более светлые личности, то, во-пер-
вых, они идеальные, а во-вторых, они все-таки гибнут
в том же болоте, в котором тонут и задыхаются герои
Писемского. Если бы вовсе не видеть живых людей и
судить о русском человеке исключительно по русским
романам, то, право, можно впасть в самое безнадежное
и мрачное отчаяние. И весь этот мрак и вся эта безыс-
ходность только оттого, что ни в одной голове не шеве-
лится трезвая мысль и мечтательность вытесняет мыш-
ление. Все только мечтают, но никто не думает; все не-
сколько сродни Обломову, и все более или менее лежат
праздно на диване и услаждают свой досуг картинами
разных наслаждений, в которых каждый по-своему вооб-
ражает свое счастье. Никто не в состоянии понять, что
жизнь есдъ дело, дело трудное и суровое, что она захла-
мощена всякими препятствиями, которые не только нуж-
но устранить, но и надо знать, как устранить. Люди, по-
видимому, оттого и мечтают, что в мечте находят един-
ственный выход. Но никто никогда не заглядывает в себя,
никто не проверяет в себе ни одного процесса мысли, ни
одного чувства. Истинная стоячая вода во всем величии
своей безбрежности и невозмутимой тиши! Среди такого
268
полного отсутствия мыслительности первый благоразум-
ный и спасительный совет, который следует дать обще-
ству, будет, конечно, тот, который дает Писарев. От де-
тей, конечно, никто не потребует, чтобы они сразу стали
думать как взрослые. Но следует требовать, чтобы они
думали. Спасительный исход только в том, чтобы вы-
учиться думать и относиться критически к жизни. От ка-
ких причин это самоунижение, дрянность, упадок сил
при первой обманутой надежде, при первом разочарова-
нии? Только оттого, что люди привыкли мечтать и не
привыкли думать. Не умея думать, они не умеют устраи-
вать свою жизнь, а не умея устраивать свою жизнь, они
не умеют застраховать себя от случайностей, не приго-
товлены к ним, не в состоянии ни встретить их с муже-
ством, ни еще меньше бороться с ними. Отчего, например,
какой-нибудь Бешметов и, не чета ему, Лаврецкий чув-
ствуют себя разбитыми, когда мечты их о супружеском
счастии рассеялись? 15 Разве не оттого, что ни тот, ни
другой не умели смотреть трезво на жизнь и никогда не
думали о ней в таком виде, в каком она есть. Люди эти
сами наложили на себя руку или, как выражается Писа-
рев, сами положили ее на раскаленное железо и запла-
кали, когда обожглись. А если бы и в самОхМ деле случил-
ся обжог — разве в нытье выход, разве в слезах выход,
разве в пьянстве выход, разве в малодушном отчаянии
выход? «В мысли выход, — говорит Писарев. — Человек
твердый и решительный разорвет всякую связь с своим
неудавшимся прошлым; он поймет, что умный человек
может быть счастлив собственными силами, и в осве-
жающем труде мысли найдет полное утешение, достой-
ное развитого человека».
Если русское общество погрязло в рутине и дошло до
того состояния, в котором его рисуют романисты, только
оттого, что никто никогда не думал по-человечески, то
ясно, что все спасение его и спасительный выход для
отдельного человека в том, чтобы научиться мыслить.
«Думайте, думайте, думайте, — говорит на всякие лады
Писарев, — но я знаю, что вы не привыкли к головной
работе, и я вам помогу». И действительно, помогает. Бо-
лее настойчиво, чуть не навязчиво, едва ли кто стал бы
пользоваться своими критическими средствами, как это
делает Писарев, чтобы разъяснить читателю положение
и умственное состояние разбираемых героев. Оп подхо-
26&
дит к ним со всех сторон, чуть не выворачивает наизнан-
ку, чтобы показать читателю, в чем заключаются ошибки,
от которых герои страдают и чувствуют себя несчастны-
ми. Результат оказывается всегда один — они не умеют
думать, не привыкли соображать, никогда не относились
критически к жизни, к себе и к другим.
Но пользуясь своими критическими средствами как
свободным личным правом, не подавляемым никаким
авторитетом, никакою рутиной и мертвой буквой, Писа-
рев хочет, чтобы каждый, кого он учит думать, был так
же свободен, как он. В мире мысли — спасение человека,
его выход из всех трудных положений жизни; только
в мире мысли личность достигает полного своего разви-
тия и становится на высоту истинного человеческого до-
стоинства; только в мире мысли личность достигает
истинной свободы. Тот не свободен, кто подчиняется
авторитету, и тот не мыслит, кто думает по-чужому. Ду-
майте хоть глупо, но думайте по-своему. Начавши глупо,
но идя своим путем, человек может додуматься и до ум-
ного, но следуя за чужой головой, он на всю жизнь
останется ребенком. Чужие мысли только материал, кото-
рый каждым должен быть переработан по-своему. Труды
великих писателей точно такой же сырой материал, ко-
торый должен быть переработан и усвоен. Если процесс
такого усвоения в человеке не совершается, он дитя и
умственный раб. Уча читателя думать активно, а не пас-
сивно, Писарев приходит к тому, что даже в литератур-
ных типах видит опасность для самостоятельного мыш-
ления. «Таких форм, таких типов, — говорит Писарев,—-
На которых, действительно, можно было бы успокоиться
и остановиться, еще не выработала и, может быть, ни-
когда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь
в полное распоряжение какой бы то ни было господ-
ствующей теории, отказываются от своей умственной са-
мостоятельности и заменяют критику подобострастным
поклонением, оказываются людьми узкими, бессильны-
ми и часто вредными. Поступить таким образом способен
Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова».
К сожалению этот урок Писарева не был усвоен, и
мы видели еще не так давно, как молодое поколение об-
лачалось в хитон Базарова и этим фактом, между про-
чим, обнаружило ту слабую мыслительность, о которой
мы уже говорили. Подрастающее поколение будет, ко-
270
нечно, счастливее в этом отношении. Для него Базаров
не неизвестное, внешнее, а известное внутреннее содер-
жание. Базаров, если он живой человек, — живой человек
начала шестидесятых годов и для подрастающего поко-
ления не больше как известная идея. В нем отразился
крутой поворот русской мысли, объяснителем которой
явился Писарев. Оттого-то писаревский Базаров и не
похож на Базарова тургеневского. Базаров Писарева есть
его собственная идея и более зрелая мысль, очищенная
и профильтрованная сквозь мировоззрение самого Писа-
рева. Писаревский Базаров вышел таким образом ли-
шенным своей оболочки, лишенным формы, которой по-
дражать легко, потому что для этого требуется только
способность копирования. Дав только идею Базарова, его
духовный образ, Писарев остался верен тому учению
о свободном и самостоятельном мышлении, которое он
проповедовал. Писарев не дает форму, не дает готовое
платье, которое можно напичкать каким угодно содержа-
нием. Он, напротив, дает содержание, которое может
быть усвоено всяким и, следовательно, выразится у вся-
кого в его индивидуальной, личной форме. Мы бы сове-
товали подрастающим вдуматься и вчитаться во все то,
что говорит Писарев о Базарове и по поводу его в раз-
ных статьях.
III
Надежды Писарева не оправдались. Он хотел научить
молодое поколение думать, но, конечно, не достиг этого.
Случилось даже великое недоразумение, в котором моло-
дое поколение пребывает до сих пор и в которое оно за-
тягивает за собой поколение подрастающее. «Надо ска-
зать правду, — говорит Писарев, — что люди вполне ум-
ные и люди безнадежно пустые во всех человеческих
обществах почти одинаково редки. Огромное большин-
ство состоит везде из людей посредственных, которые,
с одной стороны, пороху не выдумают, но, с другой сто-
роны, сальных свеч не едят, стеклом не утираются. Эти
люди могут быть деятельными или праздными, гуман-
ными или жестокими, полезными или вредными, смотря
по тому, в какую сторону направляется в данную эпоху
господствующее течение идей. Ходячие фразы имеют зна-
чительное влияние, на это человеческое стадо, и важней-
271
шая задача здоровой и честной литературы заключается
именно в том, чтобы всегда пускать в обращение такие
фразы, которые в данную минуту могут действовать бла-
готворно на ум и на волю бесцветных и несамостоятель-
ных людей, составляющих большинство».
Одной из таких спасительных фраз оказался ум. Ко-
гда было порешено, что все бедствия старой России про-
исходят оттого, что у нее не было знаний и она не умела
думать, молодая Россия решилась знать и быть умной и,
вообразив себя Базаровым, отнеслась презрительно ко
всему старому. Как прежде все были глупы, так теперь
все стали умны, и ум явился магическим ключом для
всех тайников жизни. Но не следует обольщаться насчет
истинных умственных богатств молодой России. Про-
изошел не больше как маскарад: старую глупость
немножко подновили, кое-где заштукатурили и подкра-
сили и затем наклеили на нее новый ярлычок с над-
писью: ум. Каждый носитель ярлычка преисполнился ве-
ликой гордости, и от ума не стало прохода, так его сде-
лалось внезапно много в обширном русском царстве.
Писарева, конечно, винить тут не в чем. Он указал на
старое зло: он помогал мышлению; он всеми своими
средствами старался возбудить в людях привычку к мыс-
ли и размышлению, и если в конце концов оказалось, что
человеческое стадо очень велико, а вполне умные люди
редки, то, во-первых, это знал очень хорошо и сам Пи-
сарев, а во-вторых, тот неожиданный результат, к кото-
рому пришла новая Россия, нужно отметить как факт и
позаняться им.
Если девочка, ходящая еще в панталончиках, начи-
нает думать, в ней работает, конечно, ум. Если Добро-
любов пишет «Темное царство», в нем работает ум; если
•Писарев пишет «Реалистов», в нем работает тоже ум.
Когда г. Страхов доказывает, что Стюарт Милль дурак
и русский женский вопрос выдуман им, а вовсе не Рос-
сией, в нем работает тоже ум 16. Когда г. Николай Со-
ловьев писал свои возражения против Добролюбова, Пи-
сарева и других, в нем работал, несомненно, ум. Когда
молодое поколение отрицало Писарева и логически до-
казывало его негодность — в нем работал тоже ум17.
Итак, оказывается, что между г. Страховым, г. Николаем
Соловьевым, гг. сотрудниками «Русского вестника», ма-
ленькой девочкой в панталончиках и между Добролюбо-
272
вым и Писаревым нет никакой разницы: все это умные
люди.
Но думать, что Писарев говорил об этом уме, — зна-
чит клеветать на него. Писарев, напротив, постоянно бо:
ролся против самозванного ума, он был вечным врагом
всякой бездарности и ограниченности, но ведь что же
поделаешь с несчастной ограниченностью, если она вне-
запно вообразит себя умом и гениальностью. Писарев
отлично знал, непроходим еще лес длинных ушей на
земном шаре вообще и в нашем милом отечестве в осо-
бенности. Он указывает на людей, имеющих слабость
чужую руководящую идею высказывать своими слова-
ми, они «изобретают сами различные приставки и укра-
шения, воплощают идею в карикатурные образы и нако-
нец доводят ее до такого жалкого бессилия, что всем
мыслящим защитникам этой идеи приходится или крас-
неть за своих непрошеных союзников, или отталкивать
их от себя с тем суровым презрением, с которым Базаров
относится к своему обожателю Ситникову». Вот это то
самое именно и случилось, когда людям сказали, что ум
есть то новое спасительное слово, которое должно обно-
вить Россию. Все заговорили об уме, и всякая тупица
вообразила себя грановитой палатой мудрости. Карлики
надели на себя маски и явились смешными карикатура-
ми того самостоятельного мышления, которому они бла-
гоговейно поклонялись в лице таких людей, как Писарев
и Добролюбов. Дрянность самозванного ума помешала
ему переступить через рубикон, отделяющий его от глу-
пости. У человеческого стада все в голове перепуталось:
дрянной, слабый ум парализовал чувство, дрянное, дряб-
лое, робкое чувство парализовало ум. По поводу г. Н.
(«Ася») Писарев говорит: «Воспитание ослабило его
тело и набило мозг его идеями, которых тот не может
осилить и переварить. У него нет физического здоровья,
физической силы, физической свежести; это — ходячая
теория, человеческая голова на курьих ножках»18. Ум
подобных людей занят всегда пустяками и набивается
чем попало: интригами, сплетнями, преферансовыми со-
ображениями, размышлениями о новой прическе или
о новом фраке, изобретением какого-нибудь нового наду-
вательства, мошенническими соображениями денежного
свойства вроде злостного банкротства. По этой безраз-
личной теории ума герои «темного царства» окажутся
273
гениями, и между Подхалюзиным и Большовым19,
с одной стороны, и Ньютоном и Робертом Оуеном, с дру-
гой,— исчезнет всякая граница.
При таком понимании ума и умных людей становится
совершенно невозможным разуметь друг друга. Кто умен,
кто глуп? Всякий мошенник, рассуждающий логично, пре-
вращается в умного человека, и слово умный человек
оказывается лишенным всякого определенного смысла,
уподобляется какой-то бездонной яме, в которую свали-
вается безразлично все полезное и вредное: Чингисхан и
Магомет, христианские проповедники и их гонители, На-
полеон и Вашингтон, сторож губернского правления и
Дарвин. Это уж что-то очень безгранично широко; та-
кую выгодную теорию ума могло выдумать только в свою
пользу молодое поколение, но ее никогда не проповедо-
вал ни Писарев, ни Добролюбов, никто другой. Не ясно
ли, что не всякий ум есть ум и что насчет точного опреде-
ления ума следует условиться.
Если умом называть только процесс мышления, то
на свете, конечно, не будет дураков, но едва ли люди
станут оттого умнее и жить станет лучше. Г-н Страхов
и г. Соловьев рассуждают логично, рассуждает логичной
О. Конт. Но отчего же г. Страхов и г. Соловьев, взятые
даже вместе и в квадрате, окажутся меньше Конта? Оче-
видно, что слово «ум» слишком неточно и дает широкий
простор для произвольных толкований. Поэтому-то каж-
дый и объясняет его по-своему. Если Большову говорят,
что такой-то приказчик умен, он в своем воображении
нарисует немедленно Подхалюзина. Если приказному
скажут, что такой-то писарь умен, он сейчас же вообра-
зит канцелярского пройдоху. Если великосветской ба-
рышне скажут, что такой-то NN умен, она немедленно
вообразит ярко освещенную залу и себя в мазурке с этим
умным кавалером. Нужно согласиться, что особенно
смутное понятие об уме имеют у нас еще и до сих пор
барышни. Фраза, софизм, эквилибристика, всякие фо-
кусы и красивое вранье принимается не только этими
барышнями, но и большинством женщин за ум чистой
червонной пробы. Таким образом, оказывается на свете
столько сортов ума, сколько голов, сколько разных стрем-
лений, желаний, чувств. Есть люди военного ума, есть
люди гражданского ума; есть люди литературного ума
и ума канцелярского; есть люди с умом семейным и
274
с умом общественным, с умом коммерческим й промыш-
ленным и с умом ни на что негодным. Если, таким обра-
зом, ум может быть полной непригодностью, то исчезает
для умных людей всякая возможность гордиться тем, что
они умны, и сказать, что такой-то человек умен, значит
не сказать о нем ничего. И в самом деле, какой точный
образ возникает, если вам скажут, что г. N из Стерлита-
мака20 умен. Дело другое, если вам скажут, что г. Пи-
сарев умен, что г. Добролюбов умен. У вас немедленно
возникает самое точное представление об этих людях;
вы припоминаете все, что они писали, что думали, к чему
стремились, чего хотели достичь, чему поучали. Образ
возникает полный, но вы, я думаю, и сами видите, что
в чертах этого образа уму нет места; он какая-то отвле-
ченная сила, имеющая значение не сама по себе, а по
связи с чем-то другим, что дает ему содержание. Содер-
жание это дается только объемом полезной мозговой дея-
тельности, возможно широким кругозором и возможно
большим количеством материала, который приходится
перерабатывать уму, работающему в направлении об-
щественного блага. Одна и та же мыслительная способ-
ность, но смотря по кругу и по направлению деятельно-
сти, может быть умом и может быть глупостью. Это
такой же фокус, как принятое в общежитии деление теп-
лоты на холод и теплоту. Собственно холода на свете
нет, и люди для ясности условились известную теплоту
называть холодом. Такое же условное деление принято и
с умом. Известный минимум его зовут глупостию, не от-
рицая в то же время ума не только в идиоте, но даже
в собаке. Этот минимум не имеет ничего определенного
и меняется по мере развития общества. Есть люди ум-
ные по-старому, есть люди умные по-новому. Тот, кто
пятьдесят лет назад слыл умным человеком, ныне изо-
бражал бы очень печальную и молчаливую фигуру среди
людей молодого поколения.
В последние пятнадцать лет русский ум получил
больше содержания. Для обработки достался ему мате-
риал более богатый; людям пришлось больше шевелить
мозгами, потому что многих жизнь вытолкнула на улицу
и для всех изменились против прежнего условия суще-
ствования. Благодаря экономическому повороту в рус-
ской жизни и той настойчивости, с которой даже и Пи-
сарев говорил о нашей бедности, — предполагая тех, кому
275
действительно холодно и голодно, — мы все вообразили
себя бедными и русский ум двинулся думать в экономи-
ческом направлении.
Наш экономический прогресс очень сильно перепутал
наши понятия и дал всей жизни тот особенный оттенок,
по которому не трудно видеть, что наше общество, и пре-
имущественно молодое поколение, весьма твердо пошло
по тому пути, который создал европейскую буржуазию.
Этот новый русский тип беллетристы сороковых годов не
знали, потому что для него не было почвы, хотя мате-
риалы кое-какие уже существовали. Новый тип появ-
ляется не из мещан, которые, по предположению рус-
ских реформистов XVIII столетия, должны были изобра-
жать русское третье сословие, а из обедневших дворян и
разных разночинцев, формирующих образованный про-
летариат. Переколачивание есть печальный факт, пора-
зивший именно молодое поколение. Это его горькая судь-
бина, его проклятие, которое оно должно вынести на
себе. Особенною тяжестью легло это проклятие на тех,
кому выпало на долю провести обеспеченное детство и
юношество и столкнуться с суровой нуждой в зрелом
возрасте. Молодому поколению досталось переживать
самый трудный переходный момент, момент экономичен
ского перелома, момент, когда уже невозможно жить по-
старому и когда не выяснившийся еще новый экономиче-
ский быт ставил каждого в необходимость искать и
создавать, то есть переработать запас новых мыслей и об-
ратить их в иную новую практику. Общие воззрения, по-
черпнутые из Добролюбова, были только общими воззре-
ниями, с которыми следовало справиться. Неперерабо-
танные, они как сырой материал не спасали; печальная
действительность и традиция гнули людей сильно и
заставляли их впадать во внутреннее противоречие. Не-
сходство слова с делом становилось при таком положе-
нии необходимым, и вот где начало либерализма, ко-,
то:рым люди усиливались спасти хотя остатки своего
человеческого достоинства. Либерализм вышел красивой,
идеальной вывеской нравственно упавшего человека.
Этого нового типа, человека с благоприличной внеш-
ностью, говорящего умно и благородно, но которого все
силы направлены на стяжание, но стяжание замаскиро-
ванное, Писарев еще не знал. Но не зная типа, Писарев
все-таки знал по образцам из крепостного быта, как
276
выделываются люди, живущие эксплуатацией. «Эксплуа-
татор,— говорит Писарев, — находится в постоянной на-
ступательной войне со всем окружающим. Для войны
необходимо оружие, и таким оружием оказываются ум-
ственные способности. Ум эксплуататора почти исключи-
тельно прилагается к тому, чтобы перехитрить кого-
нибудь. Он заостряется, закаляется, развивается исклю-
чительно в одном направлении и получает качества,
совершенно не нужные и даже вредные для успешного
хода мирного мышления. Этот ум делается непременно
близоруким и мелким; обобщать факты он решительно
не умеет; отдавать себе отчет в общем положении вещей
и придавать поступкам человека какой-нибудь общий
смысл он также не в состоянии. События уносят его с со-
бой, и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не
противиться их течению, которого он все-таки не пони-
мает». «Когда такие люди руководствуются расчетами
своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты
заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что
эти расчеты близоруки, а внушения узкого и близорукого
эгоизма всегда подают повод к самым возмутительным
несправедливостям». У людей этого сорта голос чувства
и голос рассудка находятся в постоянном разладе, и по-
тому они во избежание дисгармонии всегда заставляют
молчать один из этих голосов, когда говорит другой.
Здесь-то Писарев и переходит на почву того чувства,
которое составляет подкладку ума, руководит умом и из
гармонии которых выходит обновленный, чистый чело-
век, тип тех новых людей, о которых говорит Писарев
в своей статье «Мыслящий пролетариат». «Кто в молодо-
сти не связал себя прочными связями с великим и пре-
красным делом или по крайней мере с простым, по чест-
ным и полезным трудом, тот может считать свою моло-
дость бесследно потерянною, как бы весело она ни про-
шла и сколько бы приятных воспоминаний она ни
оставила», — говорит Писарев. — «Забирайте с собою
чувства молодости, после не подымете», — говорит Го-
голь21, и правду он говорит. А как их заберешь с собой,
если не вложить их целиком в такое дело, на которое до
последней минуты твоей жизни будет откликаться каж-
дая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать,
о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в
суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без
277
наслаждения, без объятий любимой женщины... Если
ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости,
ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и
сознательно уважать самого себя, право унести с собою
на край света и удержать за собою во всех испытаниях
неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то не-
нельзя сказать: он заплатил слишком дорого. Он отдал
кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь:
он лишился двух-трех радостей, но взамен их получил
высшее наслаждение, которое служит украшением для
жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил пра-
во знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не
мала». Вот где начало того благородного эгоизма, кото-
рый проповедует Писарев. Этот эгоизм лежит в любви
к ближнему, в хороших и великодушных чувствах, в спо-
собности проникаться чужими страданиями и жертво-
вать им своими наслаждениями и своими выгодами.
Только ту способность назовем мы умом, которая помо-
гает человеку думать в этом направлении. Новые обще-
ственные идеалы подняли значение ума и расширили его
пределы. Истинно умным человеком можно назвать толь-
ко того, который думает в направлении общего блага.
Как бы ни была сильна логика отсталости, эта логика
все-таки не ум, и пора развенчать этого самозванца. Пре-
красный идеал доброго и честного человека никогда не
исчезал с земли, но он только окрашивался разными цве-
тами под влиянием направления времени. Нашему вре-
мени выпала на долю большая работа с сырьъм материа-
лом, накопленным в течение веков мыслящими умами, пы-
тавшимися понять и осветить жизнь. Для этой работы
требуется, конечно, большая энергия мыслительных спо-
собностей, и в какую бы односторонность они ни удари-
лись, это будет всегда ограниченность, умственное бес-
силие и недостаток честных чувств. Писарев говорит в
одном месте, что задача честной литературы в том, чтобы
всегда пускать в обращение такие фразы, которые в дан-
ную минуту могут действовать благотворно на ум, волю
и чувство несамостоятельных людей, составляющих че-
ловеческое стадо. «Не смущайтесь, — говорит он, — сло-
вом фраза. Каждая фраза появляется на свет как фор-
мула или вывеска какой-нибудь идеи, имеющей более или
менее серьезное значение; только впоследствии под ру-
ками бесцветных личностей фраза опошляется и превра-
278
щается в грязную и вредную тряпку, под которой скры-
вается пустота или нелепость». Не сделался ли этой вет-
хой тряпкой лозунг ума, под которым уже пятнадцать
лет идет молодое поколение и пришло только к буржуаз-
ным тенденциям. Не пора ли нам снять ярлычок ума и
заменить его новым паролем — честности и гуманности?
Честные и гуманные люди всегда умны; умные же не
всегда честны и гуманны. По крайней мере исчезнет не-
доразумение, и’двусмысленность не будет мешать пра-
вильной оценке общественной полезности каждого чело-
века.
IV
«Мы глупы, потому что бедны, — и бедны, потому
что глупы». Из этого очарованного круга нет, по-види-
мому, выхода. Но выход есть — знание. Мы ничего не
знаем, хотя, по-видимому, все знаем. «Имеем ли мы
какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физи-
ческих и химических законах, о свойствах воды, воздуха,
металлов и различных составных частей почвы? — спра-
шивает Писарев. — Ровно никакого. — Знаем ли мы их
историю? — Нисколько. — Известно ли нам положение
России? — Решительно неизвестно. И в то же время при
этом круглом невежестве мы все знаем, мы знаем ужасно
много, мы все читаем и обо всем пишем»22. Зная по-
видимому много: всякие собственные имена и всякие
специальные слова, мы не знаем немногого — только
смысла этих слов. Что же тут делать? Благодаря пред-
шествовавшей литературе, Белинскому и Добролюбову,
была уже пробита кора равнодушия, невнимания и непо-
нимания, общество готово было читать и начало стре-
миться к самообразованию. Между теоретическим зна-
нием и вседневной жизнию явилась уже точка опоры, и
нужны были только посредники, чтобы общество из гро-
мадного научного материала могло бы усвоить то, что f
ему необходимо. Явилась необходимость в популяризато- ?
рах. «Можно сказать без малейшего преувеличения, — го-
ворит Писарев, — что популяризирование науки состав-
ляет самую важную всемирную задачу нашего века. Хо-
роший популяризатор, особенно у нас в России, может
принести обществу гораздо больше пользы, чем дарови-
тый исследователь». И вот, понимая, таким образом, все
279
важное значение для нашего общества популяризации,
Писарев принимается за этот труд с такой же энергией,
с какой он разбирал явления русской жизни. Поистине
изумительная деятельность по ее силе, многообразию и
энергии! В деятельности Писарева есть одна особенность,
резко отделяющая его от Белинского и Добролюбова. По-
смотрите, сколько написал на своем веку Белинский и
сколько в этом писании балласта, на который только да-
ром потратились силы могучего бойца. Сколько пустых
рецензий и разборов нелепых книг приходилось сделать
Белинскому, и как мало у него цельных капитальных
статей, имевших воспитательное значение. Добролюбов
идет еще частию путем Белинского; он тоже тратится на
рецензии и держит себя довольно строго в пределах ли-
тературной критики, которые он себе отмежевал. Поло-
жим, что в его рецензиях всегда есть много и много пре-
восходных и честных мыслей, но это все-таки рецензии,
а не руководящие статьи. Писарев идет совершенно са-
мостоятельным путем, вполне оторвавшись от традиции.
Он не тратит своих сил на рецензии, и если попадается
ему под руку какое-нибудь глупое произведение вроде
«Марева» или романов Станицкого23, он пользуется ими
как материалом, чтобы высказать целый ряд умных мыс-
лей в большой руководящей статье. Это зависело вовсе
не от тех условий, в которых находилась русская лите-
ратура, а чисто от цели, которою задался Писарев. Он
пользовался своими силами с той экономией, которая
была необходима, чтобы принести обществу наибольшую
пользу. Рецензия второстепенных или ничтожных произ-
ведений не есть работа капитальная, и незачем могучим
критикам тратить на них свои силы, когда на ту же рабо-
ту способны и писатели второго сорта, которым ее можно
поручить. Если Белинскому не было, может быть, кому
поручить эту работу, то у Добролюбова эти сподручные
работники были. Характер деятельности Добролюбова,
конечно, объясняется тем, что при нем еще не выясни-
лись вполне требования общества, которые были уже
ясны при Писареве.
Писарев давал такое громадное значение популяри-
зации, что даже выработал себе тот язык и создал ту
форму изложения, в которой близорукие люди видели
совсем не то, что видеть следовало. Популяризатор, по
воззрению Писарева, должен быть художником слова и
280
в то же время знать степень умственного развития своих
читателей. «Если неразвитость общества требует, чтобы
наука являлась пред ним в арлекинском костюме с по-
гремушками и бубенчиками — это не беда; такой маска-
рад нисколько не унижает науку. Дельная и верная
мысль все-таки остается дельною и верною. Главное дело
в том, чтобы мысль эта проникла в сознание общества, а
чрез какую дверь и какою походкою — это решительно
все равно»24. Если вы желаете определить размер попу-
ляризаторской деятельности Писарева, прочитайте хоть
оглавления его статей, и вы увидите, какую массу но-
вых сведений по истории, по естествознанию провел
он в читающую публику. Это громадный универсальный
курс.
Конечно, на Писарева обрушился тот сорт обскуран-
тов, которых он зовет «проницательными читателями» и
к числу которых он причисляет большинство профессоров
и журналистов всех наций. К этому хору присоедини-
лись еще и сторонники Добролюбова, находившие, что
Писарев делает глупости и берется не за свое дело.
В сущности же эти ограниченные люди просто не могли
понять, как это можно думать своею головою и делать
то, чего не делал Добролюбов.
Но время доказало всю безошибочность Писарева.
Люди, никогда ничего не читавшие, зачитывались его
популярными статьями. Писарев, может быть, больше
всех писателей нового времени, распространил в непро-
бужденной части общества познаний и идей, которые
иначе остались бы под спудом и с которыми русское
общество не познакомилось бы из Добролюбова.
Писарев был так убежден в необходимости популя-
ризаций и в том, что каждый сильный ум не может не
понимать пользы ее, что говорит о Добролюбове: «Если
бы Добролюбов был жив, то можно поручиться за то, что
он бы первый понял необходимость у нас популяризации
и оценил бы те выгодные условия и обстоятельства, в ко-
торых мы находимся. Говоря проще, он посвятил бы
лучшую часть своего таланта на популяризирование ев-
ропейских идей естествознания и антропологии»25. В том
же 1864 г. Писарев советовал г. Щедрину перестать тя-
нуть по-прежнему старую ноту, завещанную ему его мо-
лодым учителем, и, вместо того чтобы своим однообраз-
ным и невинным хихиканьем отвлекать от настоящего
281
дела некоторую часть нашей умной и свежей молодежи,
приняться за популяризацию26.
Чтобы отрицать пользу популяризаторской деятель-
ности Писарева, нужно не выезжать всю свою жизнь
с Васильевского острова. Но кто видел Россию, тот
знает, насколько статьи Писарева принесли пользы в тех
глухих и не глухих местах, где имелись люди, жаждав-
шие знания, и куда свет проходил только статьями Пи-
сарева. Особенно благоговейно относились к Писареву
женщины. «Женщины!» скажет презрительно проница-
тельный читатель. Но мы знаем этих проницательных чи-
тателей из молодого поколения. Мир вашему праху — это
не ваши вопросы.
Потребности нашего общества в популяризации как
бы совпали с периодом деятельности Писарева. То
было самое блестящее ее время, когда целая масса новых
сведений была брошена читающей и поучающейся пуб-
лике благодаря таланту и энергии одного человека. Вре-
мя это теперь уже миновало, или, вернее сказать, пору
энтузиазма и первого невежества сменило более холод-
ное время и второй период невежества. Популяризации
нет предела — изменяется только ее форма и переме-
няется содержание. Что и теперь общество относится
горячо к талантливой популяризации, могут служить до-
казательством статьи г. Португалова, который, к сожа-
лению, дает их мало. Появление нового журнала «Зна-
ние» указывает на ту же потребность; но если журнал
этот читается туго, а может быть, скоро и совсем читать-
ся не будет, то, уж конечно, не по вине читателей27.
V
Писарев работал в обстоятельствах, очень неудоб-
ных для литературной деятельности;28 но он носил в себе
гений времени и потому был замечательно чуток к ум-
ственным потребностям общества. Вся его деятельность
есть постоянный ряд ответов на вопросы и-запросы про-
буждавшегося общественного сознания. Писарев читал
русское общество как открытую книгу. Конечно, не он
создал общественные потребности, но он освещал направ-
ление, которым следовало идти пробуждавшимся силам,
и помогал их развитию. На этом поприще мы не знаем
282
у нас другого деятеля, которого труд был бы так же об-
ширен, плодотворен и полезен, как труд Писарева. Толь-
ко один писатель стоит в этом отношении впереди, но
это не Добролюбов29.
Человек страстный и пылкий, но в то же время сме-
лого, холодного и неподкупного ума, Писарев был всегда
последователен и доводил свою мысль до конца. В этом
отношении Писарев был далеко смелее Добролюбова, ко-
торый иногда искал примирения и как бы боялся заде-
вать застарелую рутину. Так, у Добролюбова есть уже
намек на то, что Пушкин устарел; Писарев же, идущий
дальше, пишет целую статью о Пушкине30, в которой до-
казывает решительную непригодность Пушкина, отста-
лость его даже и для его времени, разоблачает его фразер-
ство и пустоту. «Евгения Онегина» — «эту энциклопедию
русской жизни», как назвал поэму Пушкина Белин-
ский,— Писарев называет «яркой и блестящей апофео-
зой самого безотрадного и самого бессмысленного status
quo». «Все картины этого романа, — говорит Писарев,—
нарисованы такими светлыми красками, вся грязь дей-
ствительной жизни так старательно отодвинута в сторо-
ну, крупные нелепости наших общественных нравов опи-
саны в таком величественном виде, крошечные погреш-
ности осмеяны с таким невозмутимым добродушием,
самому поэту живется так весело и дышится так легко, —
что впечатлительный читатель непременно должен вооб-
разить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии,
в которой с завтрашнего же дня непременно должен во-
двориться золотой век».
Когда явилась статья о Пушкине, все эстетики шко-
лы Белинского возопияли против смелого критика. И дей-
ствительно, было от чего вопить. Люди дожили до седых
волос, повторяя на память слова Белинского, и вдруг
оказывается, что это был потерянный труд. Значит, вся
жизнь пропала даром! Ну как же не рассердиться. А ме-
жду тем, в сущности, огорчаться было нечем. Идей Бе-
линского Писарев не трогал; он только взглянул иначе
на Пушкина и на его «Евгения Онегина» и рассортировал
то, что принадлежало Белинскому, от того, что принадле-
жало Пушкину. Писарев знал очень хорошо, как иногда
известное литературное произведение служит для кри-
тика лишь поводом высказать свои собственные мысли.
Так же поступил и Белинский, разбирая Пушкина. Бе-
283
линский, как говорит Писарев, рассыпал в статьях о Пуш-
кине множество самых светлых мыслей о правах и обя-
занностях человека, об отношениях между мужчинами и
женщинами, о любви и ревности, о частной и обществен-
ной жизни. Но вопрос о Пушкине остался в стороне, ибо
все эти мысли целиком принадлежали Белинскому, а
Пушкин был в них неповинен и говорил не то. В чем же
тут оскорбление для поклонников Белинского; ведь они
поклонялись Пушкину идеальному, Пушкину, одухотво-
ренному гением Белинского; этот Пушкин при них и
остался. Что же касается до Пушкина настоящего, то об
нем Белинский не говорил, и первый подробный разбор
о нем написал Писарев.
Насколько Писарев оказался верен духу времени в
своем разборе Пушкина, показало это же самое время.
Писарев, как он говорит, приступая к разбору Пушкина,
хотел только высказать громко и открыто и подкрепить
фактическими доказательствами то мнение, которое уже
многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и
о всех поэтах и художниках его школы. Что же оказы-
вается? А оказывается то — и этот факт вы можете про-
верить,— что между нынешней читающей молодежью
явилось уже столько мыслящих людей, что Пушкин пре-
провожден ими в тот же пантеон, в котором хранятся
поэты и писатели отжившей России31.
Так как большинство людей всегда составляли фор-
малисты, то вопли против Писарева становятся совер-
шенно понятны. Человеческое стадо устроено так, что вы
можете из него вить веревки,-но только не делайте этого
вдруг и круто. Не сущность задевает людей, а процесс.
Писарев был слишком резок и непочтителен. Уж если
сдержанный и осторожный Добролюбов нажил себе так
много врагов, то что же должно было постигнуть Писа-
рева, который не стеснялся в выражениях и даже дал по-
вод г. Николаю Соловьеву высказать на этот счет не-
сколько смелых мыслей об искусстве русских писателей
ругаться и о современном состоянии русской литературы
вообще32. Напиши Писарев о Пушкине осторожно, а
главное, очень скучно и тяжело, все бы нашли его дока-
зательства основательными, солидными полновесными, и
похороны Пушкина совершились бы тихо, без всякого
шума. Но разве сущность вопроса от этого изменилась
бы? Пушкин умер во мнении мыслящих людей еще рань-
284
ше статьи Писарева, что он и сам говорит как бы в оправ-
дание своей смелости. Писарев только объявил об этом
народившемся мнении во всеуслышание, а чтобы его
прочитала большая масса людей, он постарался напи-
сать статью общепонятно, бойко и занимательно.
Когда человеческая толпа чего-нибудь не понимает,
она всегда прибегает к изобретениям, которые понятны
только ей одной. То, объяснения чего следует, например,
искать в последовательном мышлении, в обстоятельствах
новой жизни, в перемене условий, требующей перестрой-
ки понятий, — человеческое стадо станет объяснять бо-
лезнию печени и почек, желанием порисоваться красивым
словом, отличиться оригинальностию. Г-н Николай Со-
ловьев объясняет все последнее умственное движение
России тем, что у одного писателя отделялась непра-
вильно желчь и оттого он очень сердился. Смело и умно!
И деятельность Писарева была объяснена так же осно-
вательно. Для наших толковников Писарев не был
мыслящим писателем, смелым и даровитым популяри-
затором, человеком, в котором сильнее, чем в ком-либо,
билась жилка времени, критиком-публицистом, который
перетряхивал всю старую ветошь сознательно, чтобы по-
казать всю ее непригодность для новой жизни и заста-
вить смотреть вперед. Во мнении толпы Писарев был не
больше как зубоскал, который хотя писал умно и бойко,
но, в сущности, все-таки только зубоскалил. Когда Пи-
сарев отрицал буквоедство и советовал бросить за борт
всякую старую дрянь, когда он советовал вместо перели-
ванья из пустого в порожнее приняться за какое-нибудь
полезное дело, его обвиняли в неуважении к науке,
в разных уголовных преступлениях и в измене отечеству.
И все это происходило оттого, что мрачные и тупые слу-
жители науки воображали, что они-то и есть сама живая
наука. Писарев, например, совсем не понимал, зачем бы
молодым людям забираться в тайники и трущобы древ-
него народного мировоззрения: кому какая от этого поль-
за? Есть польза для народа, есть польза для того, кто
забирается в тайник? Какая выгода может быть народу
оттого, что молодой человек узнает все приметы домо-
вого, все варианты былины о Микулушке Селяниновиче
и все столкновения Иванушки с бабой-ягой? А какая
польза произойдет для молодого человека, если он узнает
несколько новых подробностей о сказочных личностях
285
и отпечатает в своей памяти несколько сотен лубочных
картин?
Какой истинный смысл заключается в этих словах?
Откройте любой учебник политической экономии, и вы
найдете в нем главу «О выгодном и убыточном производ-
стве и выгодном и убыточном потреблении». Жизнь тре-
бует от нас практически полезных дел: у нас нет хорошо
вспаханных полей, а мы отвлекаем свои рабочие силы
на такие аристократические забавы, как раскапывание
древних курганов, чтобы в кои-то веки найти глиняный
черепок. Не ясно ли, что наши мозги работают не в том
направлении. Ну, вот Писарев и говорит молодому по-
колению: не тратьте свои силы на пустяки, не обольщай-
тесь призраком науки в том, в чем её нет, направляйте
свои силы на практически полезные дела, смотрите себе
под ноги и вперед, работайте для общей пользы и не бе-
ритесь ни за какое дело, если вы не в состоянии отве-
тить на вопросы: зачем? Закон политической экономии
о выгодном расходе сил Писарев только применяет ко
всей области человеческой деятельности и к умственно-
му труду. Докажите, что отзыв Писарева о Грановском
и Маколее — а вы его найдете на 118 странице второй
части — неверен33. Все приложение экономических истин
к области умственного труда, делаемое Писаревым, так
просто, что его может понять каждый шестилетний ребе-
нок; а у нас его не поняли даже ученые и литераторы!
Никогда не поймет.Писарева тот, в ком уже утратил-
ся порыв свежих сил, как не поймут старики молодых,
усталые — идущих, мертвые — живых. В Писареве даже
не умели понять его литературного приема; не умели по-
нять причин его усиленных доказательств и подчас рез-
кой речи. Хорошо говорить спокойной и приличной речью
тому, кому решительно все равно, когда бы даже шел
на улице каменный дождь; но кого живая жизнь берет
за живое, кто живет своими убеждениями и верит в спа-
сительную святость своей истины, тот не говорит тем са-
харным языком, как говорят благопристойные немочки
в немецких булочных. Даже за преферансом горячатся
люди, а вы хотите, чтобы трибун, говорящий целой массе
чутких слушателей, жевал кашу. Поймите, что Писа-
рев— живой человек, для которого все в будущем и нет
ничего в прошлом, как и для той России, которая его теперь
читает. Поймите его, и вам станет ясен его чистый, чест-
286
ный, светлый образ, со всеми его недостатками, которые
не недостатки его лично, а недостатки всех сильно и по-
следовательно думающих людей. Ошибки Писарева не
ошибки мышления, а ошибки быстроты. Что по ум-
ственным способностям стада возможно придумать лишь
в двадцать лет, Писарев хотел заставить придумать так
же скоро, как он. Ну где же было молодому поколению
успеть за ним, когда оно стало на Добролюбове. А стоит
только отстать, чтобы разойтись и затем начать кидать
грязью и каменьями. Это старая шутка. Вы укоряете Пи-
сарева, что он ругался (!), а сами швыряете в него
грязью.
НАРОДНЫЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ
Сочинения Ф. Решетникова, 2 части. СПб., 1869; «Подлипов-
цы». Этнографический очерк, 2 части. СПб., 1867. «Где луч-
ше?» Роман в 2-х частях. СПб., 1870. «Свой хлеб». Роман
в 2-х частях Ф. Решетникова. СПб., 1870.
I
Умер Решетников. Зная жизнь его, нельзя гово-
рить о его произведениях с холодным беспри-
страстием министерского доклада. Пред нами ис-
страдавшийся человек...
Чтобы понять Решетникова, нужно знать его жизнь и
нужно знать историю общества, его создавшего. В Ре-
шетникове нет ничего, что бы напоминало русскую лите-
ратуру предшествовавшего периода. В сочинениях Ре-
шетникова все иное, все не так; не тот мир, не те люди,
не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже не то горе
и не те' интересы. Точно путешествуешь в новой, незнако-
мой части света, в какой-нибудь Океании. Даже Петер-
бург перестает быть Северной Пальмирой и становится
неизвестным, вновь открытым городом L
Читая Решетникова и читая Тургенева, Гончарова,
Писемского и других беллетристов той же школы, чув-
ствуешь два несогласимых противоречия, две неподходя-
щие и несмешивающиеся среды, две ни в чем не похожие
жизни. Щемит вас и Тургенев, щемит и Решетников; но
щемленье не походит одно на другое. Прочитаешь Решет-
никова, и становится стыдно, что мог жить страданиями,
живущими в «дворянских гнездах», как становится стыд-
но есть белый хлеб, когда у соседа нет и черного.
Г-н Тургенев сказал, что у Решетникова «трезвая
правда»2. Нет, у Решетникова не то. И у всех «правда».
У Писемского тоже «трезвая правда», да и у кого ее нет?
Решетников выделяется из других не тем, что у него
«трезвая правда», а тем, что эта правда, точно скорбная
летопись, подавляет вас беспредельностью горя — горя
повсюдного, бесконечного, неисходного. Вечная зауныв-
ность, монотонность страдания, вечное искание «где
288
лучше», муравьиная борьба за существование, простота
рассказа, сме,х сквозь слезы и в то же время вечные
слезы, необыкновенная и искренняя сердечная теплота,
любовь к страдающему бедняку и темному, невежествен-
ному человеку, — не напускная, не сверху вниз, а выжа-
тая, выстраданная, — вот что дорого в Решетникове. Ска-
зать о Решетникове, что у него «трезвая правда», — зна-
чит ставить его в объективное отношение к той жизни,
летописцем которой он явился. Между тем Решетников
носил эту жизнь в себе, как носил в себе русский мир,
жил он в нем, и, когда нужно было говорить об этом
мире, он только брал пережитое из себя и не творил, не
измышлял, не сочинял, а просто рассказывал то, что сам
перечувствовал, перестрадал, вынес и видел. Тут, если
хотите, не процесс творческого измышления, а сама
жизнь. Будет точнее, если мы скажем, что Решетников
говорит не «трезвую правду», а «новую правду», ибо
прежняя литература ловила только «старую» правду. Эту
новую правду следует назвать народно-реальным направ-
лением в нашей литературе, в отличие его от старого —
аристократического или идеально-реального.
Русский литературный идеализм ведет свое начало
давно. Он вырос в верхних слоях русского общества, сре-
ди обеспеченного довольства, черпая свое вдохновение
не из русской жизни и не из русской почвы. О русских
литературных попытках прошлого и начала нынешнего
столетия говорить не стоит. И жизнь высшего общества
и литература были сколком чужого, лоснящимся только
сверху.
Когда явился Пушкин и заговорил своей простой рус-
ской живой речью и о русских, образованная Россия
увидела в нем свое восходящее солнце, а историки рус-
ской литературы назвали это время «пушкинским перио-
дом». После «пушкинского» явился период «гоголев-
ский», потом царствовал Тургенев — и всех их сменило
на наших глазах другое поколение, другая умственная
сила, пред которой умолкают и стоят в тени и Пушкин,
и Лермонтов, и Гоголь, и Тургенев, и Гончаров, и Писем-
ский. То старая крепостная и барская Россия уступает
свою дорогу новой России.
Люди литературного труда — лучшая интеллигенция
страны. Они всегда стоят во главе умственного движения,
они его светочи и руководители. Таким был и Пушкин,
Ю Н. В. Шелгунов
289
обратившийся первый к русской жизни и бравший из нее
материал для своего творчества. Это обращение к рус-
ской жизни и кладет на произведения Пушкина печать
народности. Но народность того времени была народ-
ностью аристократическою. Татьяны, Онегины, Печори-
ны— все это сливки общества. Сливки жили своею
жизнью. Для них были гимназии, университеты, акаде-
мии, гвардия; они пользовались жизнью, украшенною
разными утонченными наслаждениями и большим досу-
гом, позволявшим культивировать в себе разные идеаль-
ные стремления, мечты и порывы. Пушкин, обративший-
ся к русским сюжетам, показал всю пустоту этой жизни,
может быть, и сам недостаточно понимая ее ничтож-
ность и дрянность. Поэтому-то Татьяна и Онегин, взятые
Пушкиным из жизни, в то же время являются и героями,
идеальными образцами, действительностью, профильтро-
ванною чрез поэтическое творчество, чрез тогдашнее
передовое русское мировоззрение.
Онегин, переродившийся в Печорина, еще образнее и
идеальнее, но зато и патологичнее, потому что решитель-
но не знает, куда пристроить ему свои силы и стремле-
ния. Вокруг пусто, решительно пусто. Мысль и чувство
стремятся к деятельности, но где и что делать? Тратятся
силы на пустяки, и скучающий Печорин бежит, бежит,
сам не зная куда, только чтобы успокоить жажду дея-
тельности, потребность мысли и чувства.
Еще бесплоднее праздный идеализм в образе Рудина.
Никаких действительных жизненных интересов, никакого
полезного дела! И эта безысходная праздность, чуждая
практических интересов, наказывает сама себя разъ-
едающей рефлексией, исключительной, пожирающей моз-
говой деятельностью, ничем не удовлетворяющейся, ни на
чем не успокоивающейся, не связанной ни с чем ника-
кими прочными солидарными узами. Рудин тоже бе-
жит. ..
Попытка Гоголя к реальному творчеству оказалась
неудачной, потому что в той жизни, где он искал его,
истинный, здоровый реализм был невозможен. Оттого-то
гоголевские типы — отрицательные образы, и все гого-
левское творчество несет на себе отрицательный харак-
тер, особенно резко обрисовавшийся у его последовате-
лей— писателей натуральной школы. Гоголевский юмор
скрашивает и согревает несколько действительность; но.
290
например, под грубой рукой Писемского отрицательное
отношение является чем-то подавляющим, глушащим, тя-
желым до невыносимости. У Гоголя вы видите русскую
глупость, у Писемского — русскую мерзость.
Но где же положительное отношение к жизни? Где
же живые и здоровые ростки действительности? Их нет!
Их не дал ни один русский беллетрист того времени. Все
их герои и типы — всегда отрицательные образы, это не
такие идеалы, к которым люди должны стремиться, а,
напротив, такие, к каким стремиться не следует. Перебе-
рите всех героев, начиная с Онегина, захотели ли бы вы
быть хотя одним из них? Нет. Ясно, что положительное
творчество не удалось еще ни одному русскому беллетри-
сту. А отчего? Оттого ли, что писатели не сумели найти
идеала, или же не было для него материалов в самой
жизни? Его не было в жизни. Вся жизнь общества была
ненормальной, все общественные отношения были искус-
ственной путаницей социальных и экономических отно-
шений, в которых не могла зародиться здоровая, пра-
вильная деятельность ни в области мысли, создавшей Ру-
диных, ни в сфере дела, приводившей к Собакевичам,
Чичиковым и Ноздревым. Таким образом неудовлетво-
рявший реализм с его Чичиковыми заставлял искать фор-
мулы прогресса в идеализме, а идеализм, в свою очередь,
приводил к Рудину. Где же искать спасения, чтобы не
походить на белку в колесе? Но в момент этого раздумья
застало Россию освобождение крестьян, которое при-
вело снова к реализму, но на этот раз иному.
Новый русский реализм есть реакция прежнего при-
вилегированного сословного идеализма; он есть один из
видов той реакции, которая и в самом идеализме выде-
лила протестующих, недовольных и ищущих Печориных,
Рудиных. Но протест Рудиных был протест пассивный,
безрезультатный. Рудины сами по себе не значили ни-
чего и не могли создать ничего, потому что сами в себе
носили свое собственное отрицание. Рудины — патологи-
ческий продукт общественного организма, не способного
производить здоровых людей. Вот почему жизнь, всту-
пившая на новый путь, отвернулась от Печориных, Ру-
диных, Лаврецких, как она отвернулась от Собакевичей,
Ноздревых и Чичиковых. Разница между Собакевичами
и Чичиковыми, с одной стороны, и Рудиными, с другой,
в том, что первые изображают собой практическое
291
довольство, подчиняющееся существующему факту и экс-
плуатирующее его в свою пользу, Рудины же — крити-
ческое отношение к тому же факту, но отношение, по
малочисленности, а следовательно, и по бессилию, не
переходящее в дело.
Но неужели русский интеллект сошел на нуль; не-
ужели ему нет жизненной формулы? На нуль интеллект
не сошел, но он действительно не нашел еще себе фор-
мулы. Вот причина, почему все мыслящее, ищущее и
жаждущее недовольно современной беллетристикой. Бел-
летристы не виноваты здесь ни в чем, и жаловаться на
отсутствие талантов неосновательно. В таланте Турге-
нева, Гончарова, Писемского никто не сомневается. От-
чего же эти талантливые люди не дают нового типа? Вы
думаете, оттого, что они его не умеют подметить; но ведь
подметил же Тургенев Базарова, подметил же Гончаров
Марка Волохова. Новый положительный тип не подме-
чается только потому, что он еще не народился в самой
жизни. Базаровский реализм кончился разбродом мысли
и пришел к новому исканию. Теперь русская мысль
зреет,, набирается новых фактов и проверяет себя ими;
положительную формулу, в которой она выражается,
можно назвать проверкой. Наше время как бы повто-
ряет сороковые года. С одной стороны, мы видим изме-
ненное и исправленное издание Рудина, с другой — Чичи-
кова, переродившегося в Горюнова3. Современных бел-
летристов можно укорить только в одном — в бесплодной
попытке выискать непременно положительный тип, то-
гда как пред ними стоит новый размышляющий Рудин.
В то время как аристократический реализм, вырос-
ший на прежней почве, сказался Базаровым, не оставив-
шим наследства, встречным потоком, снизу вверх, пошло
новое умственное движение, вызванное освобождением
крестьян. Предвестником этого нового направления пы-
тающей русской мысли нужно считать Григоровича.
Правда, его «Лапотник» — идеал и французское подра-
жание4. Но это не ошибка; это урок, которым купился
положительный опыт. Аристократический демократизм
Григоровича и Марка-Вовчка5 показал, что при платони-
ческих отношениях к незнакомой среде можно рисовать,
только пейзанов, но не живых людей, можно давать кар-
тинки и панораму жизни, а не самую жизнь.
292
Попытка Тургенева имеет другой смысл. Его му-
жики— живые мужики: но г. Тургенев писал «Записки
охотника» с предвзятой мыслью, как боец за крестьян-
скую свободу. Истинного народного реализма не было
в произведениях Тургенева, а в произведениях Гонча-
рова и других — и тем более. О народном реализме никто
из описателей простонародного быта не только не ду-
мал— его никто из них даже и не предчувствовал. Отно-
шение писателей к простому человеку было отношение
художественное; в мужике видели новый литературный
материал, материал модный, попавший в запрос. Из опи-
саний оказывалось, что меньшая братия тоже люди,
умеющие любить, страдать, волноваться и носить в сво-
ей душе такие же барские чувства, какие культивирует
в господах обеспеченное и утонченное довольство. Му-
жики под пером дилетантствующих литературных идеа-
листов превращались в дворян в зипунах, а бабы — в ба-
рышень-крестьянок и в горничных барских домов.
Только с освобождением крестьян, народный реализм
стал на свои ноги, когда писателями выступили те, кто
мог говорить о себе и за себя, а не за других, как это
было до тех пор. Вот в чем секрет «трезвой правды», по-
разившей писателей аристократического идеализма, смо-
тревших на народный мир извне.
Первые попытки на новом пути исследования были
слабы. Одни из них, как очерки Н. Успенского, пред-
ставляли односторонний «жанр», и в них недоставало
главного — народной души6. От этого очерки г. Успен-
ского похожи больше на сатирические очерки, чем на
положительный рисунок, верный действительности.
В Помяловском другая черта. В нем чувствуется не
своеобразная народная сила, а сила вообще прогрессив-
ная. Его мир — не народный мир; он начинает не снизу,
а с середины; он не исследователь, а борец.
Решетников становится на новую почву обеими но-
гами и искренно, без ужимок и кривляний, относится
к действительному миру. По богатству и характеру ма-
териала, который затрагивает и дает Решетников, — он
первый на этом пути. Те, кто явится после, — пойдут за
ним, дополнят материал, собранный первым исследова-
телем, может быть, лучше рассортируют его, дадут в бо-
лее строгой системе, но не сойдут с пути, на который по-
ставил вопрос Решетников.
293
К деятельности Решетникова нельзя относиться ни
с предвзятой мыслью, ни с готовой меркой прежнего идеа-
лизма и реализма. Решетникову нельзя сказать: вы по-
ступили в этом случае так, а в этом не так; кто же знает,
как следует поступить, — где взять глубже, где взять
мельче, где взять больше, где взять меньше? Решетни-
ков— первый собиратель сырого материала, исследова-
ние которого может привести к благотворным социаль-
ным результатам.
В Решетникове мы видим не художественного творца
эстетических картин, не художника в прежнем смысле,
а собирателя. Он дает не тепличную русскую душу того
мира, который создавал кисейных барышень, а другую
русскую душу, воспитавшуюся в иной атмосфере, и дает
эту душу по частичкам, собирая частички то здесь, то
там, то в пермских трущобах, то в петербургских подва-
лах и кабаках, то на горных заводах, то в рабочих бала-
ганах железных дорог. Целого в этих частичках еще
ничего нет, и дать их как целое не во власти и силах пер-
вого собирателя. Но и в своем разбросанном виде мате-
риал, собранный Решетниковым, — драгоценный мате-
риал, каким русская литература еще никогда не владела
и какого ей еще никто не давал. Хотя мы называем про-
изведения Решетникова материалом, но мы понимаем
под этим другое. Произведения Решетникова только ма-
териал по отношению к последующим исследованиям,
которых теперь все больше и больше можно ожидать и
предвидеть, ибо дорога проложена; они — материал по
новизне исследования, по новизне еще малоизвестного
предмета исследования. Взятые безотносительно, произ-
ведения Решетникова, как выразился бы эстетик, прошли
чрез художественное творчество. Это значит, что внешние
впечатления усвоились внутренним органическим про-
цессом автора и выразились в его произведениях как
часть его собственной души, как лично им пережитое и
перечувствованное и только обобщенное в известных
образах и типах.
При всем том на произведения Решетникова мы не
станем смотреть как на продукт эстетического творче-
ства; мы не станем ни требовать от г. Решетникова на-
родной эпопеи, ни судить его творческую деятельность
по идеальному масштабу, для нас еще недостижимому.
Пусть этим займется г. Николай Соловьев7. Мы, при-
294
знаемся, еще не владеем эстетическим масштабом, да
если бы и владели, то не стали бы мерить им произве-
дения Решетникова. Чтобы судить Решетникова, нужно
влезть в его душу, пережить и перечувствовать вместе
с нИхМ все то, что он пережил и перечувствовал. Тут за-
будешь об эстетическом творчестве и вынесешь одно
ощущение жизни — тяжелое, давящее чувство.
п
Между поколением, к которому принадлежит Решет-
ников, и тем поколением, которое оканчивает собою Тур-
генев,— великая разница. Первые вышли сами из той
печальной обстановки, которую они описывают; вторые
никогда не знали этой нужды и развивались при усло-
виях самых благоприятных. Эта разница положений
определяла и все отношение писателей к миру, который
они изображали. Обеспеченный писатель, как выхолен-
ный продукт общества, имел меньше всего поводов заду-
мываться над общественными явлениями и обращал свое
умственное око больше на наблюдения отдельного чело-
века. Поэтому писатели-идеалисты — преимущественно
психологи и индивидуалисты.
Совсем не так развивались люди, подобные Решетни-
кову. С первых же шагов жизнь заставляла их задумы-
ваться над окружающими явлениями. Наблюдение от-
дельных характеров не дает ответов на вопросы. Психо-
логический мир отдельной души не разъясняет ничего;
он становится на второй план, подавляемый фактом
внешней беспорядочности, дикости, тупости. Тут все как
бы механическое, случайное, и это механическое имеет
характер чего-то рокового, стихийного, до того сильного,
что личная воля совершенно парализуется. Понятно, что
поле наблюдения изменяется; от лица наблюдение пере-
носится на общество, среду, общую причину. В то время
как в среде, воспитывавшей писателей-идеалистов, хо-
леное лицо играет важную роль и все сводится к личной
воле, доброй или злой, и, следовательно, к миру души
отдельного человека, — у писателей второго направления
главную роль должен играть тот роковой фатализм и
среда, которые заслоняют лицо. У писателей-идеалистов
человек есть я} психологическая единица, продукт сво-
295
бодной воли; у писателей народно-реальной школы — он
продукт общества, существо слабое в борьбе, сознающее
свое бессилие пред окружающим его фатализмом.
Но лицо не может исчезнуть окончательно; оно имеет
свои неотъемлемые права на личное существование и
потому всегда сохраняет свой колорит и свои особенно-
сти. В произведениях Решетникова именно и подме-
чаются эти две стороны. В одних видишь борьбу бьюще-
гося за свое существование лица, где лицо стоит на
первом плане; в других на первом плане — среда. В пер-
вых— условия личного развития, вырабатывающие и
закаляющие лицо; во-вторых — среда, из которой лицо
стремится высвободиться, отыскивая, где лучше. Моно-
графии отдельного лица Решетников дает в повестях,
очерках, рассказах; борьбу со средой рисует в романах:
«Подлиповцы», «Где лучше?», «Свой хлеб». Монографии
отдельных характеров можно бы озаглавить одним об-
щим названием забитых людей, хотя Решетников под
этим заглавием дает только четыре очерка: «Макея»,
«Ильич», «Шилохвостов», «Яшка».
Во всех отдельных характерах, изображаемых Решет-
никовым, поражает какая-то закаленная упругость. Они,
точно магнитная стрелка, все тянутся в одну сторону.
У горемычных людей вы найдете некоторое внешнее раз-
личие и в мелочных особенностях характера и в их
общественном положении: один нищий, другой портной,
третий судорабочий, четвертый звонарь, пятый почталь-
он,— но внутренняя сила в них всегда общая и одно-
родная. В них всегда вырабатывается какая-то мрачная
сосредоточенность, переходящая иногда, как в Кузьмине,
в затаенное отчаяние или в кровавое помешательство
Шилохвостова8, но в то же время это всегда живучая
упругость, своеобразный закал характера, несламываю-
щегося, не изменяющего себе, не обращающегося в без-
личность. Все они большею частью спиваются или же,
как Шилохвостов, лишают себя жизни, но остаются силой
и не гнутся перед гнетущей их жизнью.
Вот в маленькой комнатке, похожей на чердак, в ко-
торой мебель состояла из кровати, небольшого столика,
табуретки и двуногого стула, лежит бедная и больная
женщина. «Что родила? живой ведь», — спрашивает во-
шедший мужчина, ее муж. «Лучше бы мертвый... умрет,
я думаю». — «Нет, пусть живет». — «А кормить-то кто
296
будет, ты, што ли?» — «А ты-то на што». — «Я-то... Ох!
Ты много ли заробишь себе на хлеб? Поди-ко, и мне надо
жрать, а он как? . .» Это родился человек, названный
Яшкой9, с которым родители не знали, что делать, с пер-
вого дня рождения, говорит Решетников.
И живуч же человек! Хотя Яшке пророчила смерть
сама мать, но он назло всем остался жив. Дикий был
этот Яшка; что с ним ни делай — все свое. Яшке было
четыре с половиной года, когда мать его Матрена взяла
его от чухон, которым отдала его на воспитание. Яшка
бегал, но по-русски не знал ни слова и лепетал по-чухон-
ски. Поэтому Яшку никто не понимал, и меньше всех
Осип Харитоныч, который и стал его учить по-русски —
колотушками. Так как эти колотушки Яшке приходилось
получать часто и чем попало, то он становился все хуже
и хуже, стал забрасывать шило, таскал сапоги, мазал
сальной свечой стены. Осип Харитоныч каялся, что взял
к себе такого чертенка, которому никак в голову не вко-
лотишь того, чтобы он слушался хозяина, не лепетал по-
чухонски, сидел смирно. Хотел Осип Харитоныч сделать
Яшку ручным и для этого употреблял всякие средства —
ничего не помогло. «Сидит Яшка в углу и скоблит щеп-
кой пол; «Яшка!» — крикнет Осип Харитоныч; Яшка
вздрогнет и попятится еще назад, хотя уже и пятиться-то
некуда. «Тебе говорят?!» — крикнет Осип Харитоныч.
Яшка вытаращит глаза и трясется. Вскочит сапожник,
схватит плетку, Яшка закричит. Начнет сапожник хле-
стать Яшку, Яшка кусается. Сапожник в ярости вытолк-
нет Яшку на двор. Бился-бился с ним сапожник — бросил
учить».
Яшке жизнь не вывезла: попал он в нищие, сидел
в полиции, был мальчишкой у мелочного торгаша, потом
учеником у портного-немца — везде его колотили, дер-
жали впроголодь, заставляли работать, а денег не да-
вали. Яшка только злился и думал только об одном, как
бы напакостить и вырваться из напасти. Осипу Харито-
нычу он насыпал табаку в глаза и убежал: у торгаша
Маслова он все думал: «Погоди ж ты, украду и убегу».
Только что украсть? Хотел он украсть у хозяина полу-
шубок— не по силам, тяжел. Яшка распорядился иначе:
он украл у хозяина печенья, разлил по полу водку и убе-
жал. У немца портного Яшка стибрил штуку сукна и
тоже убежал.
297
Макея 10 мягче и добродушнее Яшки, но и он родился
лишним. «Слышь, жена, если ты родишь парня, беда
тебе!» — кричал его отец своей беременной жене. И назло
отцу родился Макея. Начал расти Макея, и много пере-
терпел он побоев от матери и от пьяного отца. В бурсе
Макея выстрадал еще больше. На розги и побои он смо-
трел как на обыкновенное дело к вполне отдавал себя
на произвол своих благодетелей. Одно только и было ему
утешение — водка. В это время Макея больше плакал. Но
Макею было трудно разозлить; зато уж если он рассер-
дился— трудно с ним справиться. Товарищи иногда го-
ворили Максе: «Макея, а Макея! Ты ведь дрянной чело-
век».— «Так что, что дрянной, не все так будет!» — «Не
хвались». — «Уж никому не поддамся». Товарищи про-
звали Макею Гришкой Отрепьевым, а начальство, заме-
тив, что Макея сильно пьянствует, определило его в со-
борные звонари. Надоело это дело Максе; напала на
него тоска. Бросил и пошел в монастырь, но заскучал и
в монастыре. Раз его нашли пьяного в канаве и исклю-
чили из духовного звания. Пошел Макея в почтальоны,
но и на почте не повезло ему. Давно запивал Макея, а тут
и совсем спился, а живет все по-своему. «Если, — расска-
зывает Лукин, у которого он живет писарем, — я начну
спрашивать: что мучит тебя?», он говорит: „не твое дело,
не я первый и не я последний такой“».
Самый обыкновенный выход у горемычных людей —
пьянство; им они забываются; в нем ищут успокоения.
Яшка рано стал пить водку, а Макея, пожалуй, и еще
раньше. «Брось ты эту поганую водку!» — говорили Мак-
се. «Не могу». — «Да отчего же не можешь! дай зарок не
пить и не пей, или поручи кому-нибудь деньги на сохране-
ние». — «Ну уж это трудно.,, уж я никогда не буду
трезвым», отвечает Макея. «Петька! спой „Возле
речки“», — говорят в кабаке Кузьмину. «Неохота».—
«А штоб те! выпить, што ли, хошь?» — «Нет...» — и в го-
лосе Кузьмина слышится отчаяние. Именно отчаяние; не
дурь пьет, а горе и бездомство. «Ах, скучно сердцу мо-
ему»,— поет пьяный горемыка, выходя из кабака. «Вы
думаете, стал бы я якшаться со всякою швалью, — гово-
рит безногий солдат-нищий, — а я, поди-ко, жрать хочу,
нажить деньгу могу... ну и наживаю да пропиваю; а как
пропью и пойду собирать». — «Так зачем ты по миру хо-
дишь, коли работать можешь», — говорят солдату. «А вид-
298
но, что за работу мало дают; а будь-ко нога, я бы
козырем ходил и с вашим братом не стал бы якшаться;
думаете, мне не обидно, что ли, сволочь вы экая!»
Людей этих зовут больными, ненормальными, испор-
ченными, и из превосходных психологических наблюде-
ний Решетникова понимаешь вполне эту болезнь, пере-
ходящую всегда в озлобленную сосредоточенность, в же-
лание сделать другим гадость, а себе найти успокоение
хоть в водке. Макея просто тосковал и пил; Яшка злился,
пил, горевал и бегал; Шилохвостов в страстном порыве
брался за ножик. Правда, Шилохвостов и смолоду не
походил ни на Яшку, ни на Макею. «Бывало, сидит в углу
лавочки, глаза у него сделаются дикими; вдруг вскочит
и возьмет плетку и начнет этой плеткой стегать полу-
штоф. Если ему попадется в это время кошка, то он не-
пременно отдует ее. И знал он, что за это ему плохо
будет; но уж как-то выходило так, что он выходил из
себя... Случалось иногда, что если во время игры мимо
его проходила какая-нибудь девица, он кидал в нее баб-
кой, глаза сверкали, и уж его трудно было уговорить
продолжать игру. За это он получил название от ребят —
чудило; от девиц — злой».
Во всех этих характерах есть что-то цельное, роковое,
точно человек родился с известным предназначением, ко-
торого он и сам не знает, но к которому стремится и до
которого он, однако, никогда не доходит и впадает в
злость. Отчего Кузьмину, где бы он ни был, все скоро на-
доедало, все хотелось другого? Дядя и тетка не могли
понять его, да он и сам не понимал, чего он хочет. Ему,
как говорил он, хотелось простора, одному хотелось
жить. Роковые, по-видимому бессознательные стремле-
ния Кузьмина встречали такие же роковые препят-
ствия,— точно кирпич с крыши, — непрошенно и нега-
данно. Колотился человек весь век, и свезли его наконец
в Обуховскую больницу, а оттуда на Волково11; пьян-
ствовал все, сказали про него в больнице. Конечно, пьян-
ствовал, но отчего?
Кузьмин у Решетникова — наиболее полная характе-
ристика стремящейся личности, окруженной тупостью и
всякими помехами. Говорят, что это сам Решетников.
Тем лучше, тем дороже этот рассказ по своей неизмы-
шленности и неподдельной правде. Здесь впечатление не
то, как в выдуманном эстетическом обобщении, а сам
29Э
живой человек, к которому нельзя относиться как к хо-
рошо нарисованному страданию, потому что перед вами
настоящее живое страдание.
Кузьмин прошел ту же школу, как Яшка, как Макея,
как тысячи других детей, воспитанных ремнем. Дядя ни-
когда его не ласкал, но зато щедро обзывал его подлой
рожей, чертенком, бесом, драл без жалости и раз так
ударил его по голове, что ребенок хлопнулся об пол и
пошла у него из горла кровь. Побои в том мире, который
открывает Решетников, — принцип, система. Они зави-
сят не только от личного характера воспитателя, кото-
рый бьет иногда без нужды, просто чтобы сорвать на ком-
нибудь досаду; но бьет еще спокойно, по глубокому убеж-
дению, что нельзя не бить. Учитель Кузьмина, старый
отставной чиновник, никогда не теребил своих учеников
за уши или за волосы, а любил наказывать их голяком
и своими руками. «Ты не сердись, голубчик, — говорил он
перед наказанием, — я маленько, потому что это мне
нравится, да и тебе надо привыкать к этому». Он наказы-
вал всегда легко, так что сестра говорила ему: «Что ты
их мажешь?» — «Думаешь, я тебе доверю... я люблю
ребяток...» — отвечал старый учитель.
На этой системе было построено и все воспитание
Петьки Кузьмина и всех ему подобных. Родители ребя-
тишек были строги и не любили, чтобы они играли. Они
хотели, чтобы дети сидели смирно, боясь, чтобы они не
измарали и не изорвали своего платья и рубашек и чтобы
они не ушиблись. Если же дети спрашивали: «А почто
это гремит? почто идет так скоро туча?» На это им отве-
чали: «Не ваше дело». Если же дети приставали с рас-
спросами, им давали подзатыльники. Послушание счи-
талось самой важной и величайшей человеческой добро-
детелью, и все желание родителей заключалось в том,
чтобы сделать из них свое собственное подобие. Указы-
вая как на пример на какого-нибудь служащего моло-
дого человека, ребенку говорили: «Посмотри-ко, какой
человек стал!.. а ведь как били-то его, бедного... зато
выучили». В семинарии было еще хуже. Кузьмина почти
каждый день драли, как лошадь, если не раз, то по два
раза. Он убежал, и была же ему за это баня — два ме-
сяца пролежал в лазарете. «Вы думаете, я не стал послё
этого бегать? — говорит Кузьмин. — Как бы не так; я
еще в лазарете обдумывал план побега и как только вы-
300
шел из него, через день же убежал в завод, находящийся
в трех верстах от города». На двенадцатом году отдали
ребенка в уездное училище. Он три года проучился в пер-
вом классе и ничего не понял. Об умственном развитии
учителя не заботились, а учили детей в зубрежку и ни-
чего не объясняли. Учителя считали за наслаждение
драть учеников, и потому по крайней мере две трети их
бегали от классов.
Такая жизнь с каждым днем становилась невыноси-
мее и невыносимее. Маленький Кузьмин только озлоб-
лялся, подобно Яшке, и уж не баловал, а озорничал и
нарочно делал то, что не нравилось другим. Зло брало
Кузьмина против всех, ибо он чувствовал, что его бьют
и обижают напрасно. И он день ото дня становился все
злее и упрямее. Поставят его на колени — он целый день
простоит и не попросит прощения; не накормят — он
украдет хлеба... И как же он в это время ненавидел
своих воспитателей! Озлобившись, мальчик радовался,
если видел, что других детей наказывают не хуже его, и
в то же время он думал постоянно о том, как бы напа-
костить своим притеснителям. Увидит ли он медные
деньги — непременно стянет гривну или копейку; если
его ругают или обижают — он сам старается отомстить
таким же образом. Однажды на только что развешанном
на дворе для сушенья белье маленький Кузьмин намазал
углем косые кресты; ему за это задали хорошую баню;
тогда он придумал новое средство отомстить той жен-
щине, которая его поймала, и бросил в ее кадку с водой
дохлую кошку. Его опять отодрали. И больно нравились
ему его штуки, и больно же ему приходилось за них.
«Лишь только отдерут меня, — рассказывает Кузьмин,—
я сажусь куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне такое
сделать, да так, чтобы не узнал никто. Пройдет мимо
меня почтальон и смеется: «Что ты сидишь, драная
харя!» — «Что ты дразнишься, пес ты экой?» Почтальон
щиплет меня за волосы. «Что дерешься, подлец!» — и я
ударю его. Он отойдет и говорит: «Вор! вор! не ходи во
двор!..» Я соскочу и брошу в него чем-нибудь. «Я те,
сволочь!» — скажет другой почтальон, выходя из дверей.
Пройдет женщина и, со злостью направляя на меня ку-
лаки, говорит: «У! подкидыш!» — «Молчи, чума». — «Ох
ты чума сибирская!..» — плюнет на меня женщина, уйдет
и скажет тетке, что я обозвал ее скверною руганью.
301
Я крепко затаю злобу и начинаю выдумывать что-нибудь,
и, как только выдумаю, смешно мне становится. «Уж сде-
лаю же я над вами праздник!» — думаю я. И весь день я
весел, так что тетка удивляется, что я весел».
В училище Кузьмина не драли, потому что он ста-
рался выслуживаться перед учителями, угодничал и на-
конец стал для учителей воровать из почтовой конторы
газеты, журналы и картины. За это его отдали под суд
и сослали в монастырь.
Подумаешь, что человек с такими задатками должен
изнегодяиться, вырасти будущим каторжником. Всему —
злобная подкладка, какое-то беспричинноё стремление
напакостить. Убежал он, например, из семинарии. Ночь
он провел на берегу в одной лодке, а утром отправился
за реку. Весело ему было на вольном воздухе и на сво-
боде и, улыбаясь, смотрел он на город и даже срисовал
на бумажке одну его часть. Но мучил Кузьмина голод.
Кое-как отыскал он рыбачий шалаш: в нем не было ни-
кого. Там он увидел полковриги хлеба, взял его с собою
и, сам не зная почему, обрезал несколько удочек у сна-
стей, распластал в нескольких местах невод и сделал
дыру в одной лодке. Это желание напакостить, скрасть
что-нибудь, выместить на ком-нибудь свою обиду, — до-
вольство, когда кому-нибудь достается больше, — посто-
янное желание убежать подальше от людей, запрятаться
куда-нибудь, быть одному — общая черта всех Яшек,
Максей, Петек, закаляющихся в этой вечной войне, в ко-
торой все против них, из которой нет другого выхода,
кроме побега, чтобы сохранить свое я. А это я живуче.
Уж какой маленький Яшка и друг его Петька: каждому
лет по семи; а ничего с ними не поделаешь, хоть убей,
В ни£ больше и больше крепнет злое чувство, и, конечно,
от случая зависит, что из них выйдет. Макея лгал, воро-
вал и обманывал; Яшка лгал, воровал и обманывал;
друг его Петька лгал, воровал и обманывал; Кузьмин
лгал, воровал и обманывал* Шилохвостов десяти лет
умел кого угодно обсчитать и раз даже надул самого
поверенного, И всякий из них угодил под уголовный
суд и попаЛ — кто в острог, кто в монастырь. Яшка ше-
стилетним мальчиком сидел уже в полиции, взятый с
своею матерью-нищей. Мать отвели в тюрьму, хотя она
нй в чем не была виновата, а Яшку выпустили на все
четыре стороны. Когда Яшка выходил из полиции, аре-
302
станты ему говорили: теперь у тебя ничего и никого нет,
иди в первую лавку, украдь что-нибудь, и тебя опять
возьмут сюда. А здесь весело: поют песни, играют в кар-
ты, разговаривают, поят, кормят. Петя Кузьмин, после
побега из семинарии, попал в компанию нищих, «и бог
знает, что бы было со мною дальше, если бы не спасла
меня одна женщина... » — говорит он. Знаменитый Коре-
нев начал свою карьеру тоже у нищих, попав к ним, как
и Кузьмин, совершенно случайно.
Во всех этих людях поражает необычайная нравствен-
ная сила. Юридически они, конечно, погибшие создания,
потому что попадали в остроги, на покаяние в монастыри,
нередко в каторгу. Но вопрос не в этом. Вопрос в том,
как все неблагоприятные условия оказывались бессиль-
ны обезличить человека, подвести его под один общий
уровень, сделать из него то, чего хотела добиться тетка
от Пети Кузьмина. И эта упругость выражается проте-
стующей, несламывающейся силой уже у какого-нибудь
четырехлетнего мальчугана. И Яшка боится плети са-
пожника, и Петя Кузьмин — плети дяди. Заторопелые,
по-видимому робкие, они смотрят с бессмысленным стра-
хом на своих воспитателей, стараясь исполнить их жела-
ние, а думают все-таки по-своему и поступают все-таки
не так.
Очерки Решетникова — правдивая психологическая
история нравственного развития человека с его детского
возраста под влиянием подавляющей среды и вместе
с тем констатирование нравственной силы, только кон-
центрирующейся от препятствий, чтобы сделаться еще
сильнее.
По-видимому, психологический анализ у Решетни-
кова слаб; потому что он не вдается в многословие, не
изображает внутренних процессов. Но этих процессов
в Яшках, Петьках, Макеях и нельзя изобразить, потому
что они не законченные сознательные процессы Руди-
ных, а только зачаточные порывы чувств и мысли, кото-
рых не вытравишь в этих железных ребятишках никакой
кислотой и не выбьешь никакой плетью. Здесь-то именно
Решетников и верен правде. Не навязывая своих рассу-
ждений, он дает короткие факты, внешние признаки
внутренних душевных состояний, и уж от восприимчи-
вости читателя зависит понять и почувствовать их силу и
глубину, их естественную законность и социальное право
3Q3
на существование. Пред этим правом должен склонить-
ся всякий человечески чувствующий человек, если он не
желает походить на Коробочку 12 или на тетку Кузьмина.
Метко, двумя-тремя словами Решетников обрисует вам
маленького Яшку, и вы видите его точно живого с оторо-
пелым взглядом, загнанного, забитого, но твердого и
непреклонного. Зачем вам еще подробное описание внут-
реннего процесса, да и кто его знает: у вас и без описания
является уважение к этой маленькой человеческой лич-
ности. Недосказанность даже усиливает впечатление, и
этою недосказанностью именно и силен Решетников.
У него нет эффектных сцен, об ужасах говорит он очень
просто, как о вещи обыкновенной, повседневной, буднич-
ной, потому что она такая и есть в действительности, и
если читатель не в состоянии почувствовать глубокого
драматизма картин Решетникова, то вина в этом, конеч-
но, не Решетникова.
Какая же причина нравственной упругости всех этих
маленьких Яшек, Петек, Максей, которых учение не на-
учает, а жизнь только портит и губит? Ведь уж какое
гтарание прилагают и родители и попечительное началь-
ство, чтобы сделать их людьми, и, подобно Осипу Харито-
нычу, кончают все-таки тем, что ничего не могут с ними
поделать и выталкивают на все четыре стороны. Да,
скверная жизнь научает задаваться вопросами. Напри-
мер, Кузьмин после монастыря сделался задумчив, много
думал о всякой всячине, но ничего не мог придумать,
ничем не мог утешить себя. Ни тетка, ни дядя, ни знако-
мые, ни учителя, ни даже законоучитель не могли объяс-
нить ему его вопросов. Ему говорили, что он задает себе
•вопросы по глупости и должен верить тому, что написано
и чему учат. Работы в голове было много, а ответов —
ни откуда: «Хорошо бы мне умереть теперь, — думал
Кузьмин, — а то для чего я буду жить». Любил он сидеть
на берегу реки и, глядя куда-нибудь вдаль, останавли-
вать глаза на одном месте, а в голове какая-то тяжесть,
и вертятся только слова: «Как же это?.. отчего же это?»
и в ответ ни одного слова. Ну точь-в-точь, как Пашка и
Ванька, дети Пилы 13. Вот они тоже сидят на берегу реки
и стараются сами узнать все, потому что спросить не-
кого, а от бурлаков ничего не узнаешь. Бросили с барки
доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул;
спустили шест в воду, шест потянуло книзу, и они никак
304
не могли удержать его. Но это первые вопросы, а вторые?
На первый найдешь ответ и у учителей, а на вторые не
давал Кузьмину ответов решительно никто. Видит он
чиновный люд и понимает, что они только пишут и за это
получают деньги и чины. «Для кого же они пишут?» —
спрашивает он дядю. «Служат». — «Кому?» — «Царю и
отечеству». — «Что же они делают?» — «Служат». Дядя
говорит, что служба коронная самая важная, что чинов-
ника никак нельзя сравнить с мещанином, или купцом,
или солдатом. А служить частному лицу — последнее
дело. «Так служит кто?» — «Мещане... А мещане подати
платят, рекрутов ставят, да и понравишься ты купцу —
ладно, не понравишься — прогонит. А в нашей службе,
шалишь, на все закон, силой не выгонишь». Но эти от-
веты не удовлетворяют. Много нужно работы, чтобы вко-
ренить в человеке сословные и социальные предрассуд-
ки. В каждом естественно свежем и неиспорченном
человеке сидит прирожденное ему чувство равенства, чув-
ство равного достоинства, естественное чувство свободы
и независимости, которое только с трудом поддается
условному, принятому, обезличивающему. Это чувство
есть чувство естественного состояния и начало свое-
образного уклада жизни, от которого зависит своеобраз-
ная цивилизация. Форма цивилизации не есть форма
прирожденная; она зависит от многих внешних условий,
в которых развиваются люди. От этого восточная циви-
лизация не похожа на западную, китайская на восточную,
греческая на римскую, древняя на новую. Если бы каж-
дый народ жил изолированно, каждый сложил бы и свою
цивилизацию. Россия еще не успела сложить своей ци-
вилизации, как история примкнула ее к Западу. Наше
образованное сословие уже утратило свою физиономию
и более и более становится неотличаемым от европей-
ского человека. Мы и одеваемся и едим по-европейски
и веселимся по-французски; мы даже думаем общеевро-
пейским складом, так что русскую своеобразную мысль
нужно отыскивать только в народе, в его мировоззрении,
которого мы не знаем, в его опытной мудрости и фило-
софии, которая нам совсем неизвестна.
Эта сторона русской народной умственной жизни до-
вольно слаба у Решетникова. Кажется, на нее он не обра-
щал внимания, а между тем без нее невозможно соста-
вить себе понятие о физиономии народа. Точка зрения
305
Решетникова по преимуществу экономическая. Он рисует
почти исключительно материальный быт народа, его
искания, где лучше, и социально-экономический фата-
лизм его судьбы, подавляющей его роковым образом.
В своих главных, резко кидающихся в глаза чертах та-
кая картина верна, особенно в то время, когда сам Ре-
шетников развивался, когда о 19 февраля народ частию
и не думал, а частию влияние освобождения еще и не
могло обнаружиться в более смелом полете народной
мысли. Поэтому вопрос о народном мировоззрении и
народном философско-социальном порыве и стремлении
есть вопрос будущих народных беллетристов.
Несмотря на то у Решетникова имеются превосход-
ные монографии отдельных естественных характеров, ко-
торых еще не коснулась цивилизация, и народных типов,
над которыми гроза социально-экономической невзгоды
прошла, как туча над головой, не задев их. К первым
принадлежат Никола Знаменский 14, Пила и Сысойка, ко
вторым — тетушка Опарина и кумушка Мирониха 15.
Только в глухом, изолированном, лесистом северо-вос-
токе, точно остров, отделенном болотами и непроходи-
мыми пустырями от остальной России, могли формиро-
ваться такие люди, как Никола Знаменский и Пила. Дик
этот Никола, как медведь, на которого он ходит, как пер-
вобытный новгородский славянин, забравшийся в чудь
заволоцкую. А в то же время в этом диком славянине
чувствуешь непосредственное хорошее человеческое чув-
ство, естественную простую, бесхитростную доброту и
прирожденную гуманность, не испорченную цивилиза-
цией, создающейся теснотой.
Никола Знаменский был поп, но такой, каких постри-
гали по деревням при первых новгородских епископах.
Умер знаменский священник, и потребовали Николу в
город, чтобы посвятить в попы. Поехал Никола. «Я до-
прежь думал — только на свете и есть один город, Бере-
зов,— рассказывал Никола. — Кутейник позвал меня к
себе, ну я и поехал. А у него в горнице пятеро кутейников
было да один дьякон какой-то. Тут я с ними баско назю-
зился, потому они мне понравились, да и вино у них
лучше березовского. А утром меня растолкали: «Архи-
рей приехал. Иди, покажись ему...» Взял кадушку масла
да лукошко яиц — забранили: «Он-те, бают, даст за
это...» Полезаю в избу. «А где, баю» владыка?» А меня
306
уж научили, как архирея называть, только я первое слово
не мог выговорить. Ну, там опросы пошли, хохотали
сколь надо мной. «Поди, бают, к набольшему дьякону»,
и дорогу показали. Я пошел... Сердитый такой, хайло
у него побольше моево... «Што, бает, тебе?» — «Я, баю,
Никола Знаменский». — «Кто?» — спрашивает. Кое-как
растолковались... «Отчего, байт, ты без рясы?» Я баю:
«А пошто ряса?» Он как закричит; я ему хотел было
дать масло — так не берет: «Мы, байт, эту дрянь не бе-
рем; нам, байт, девать ее некуда. Давай деньги». Ну дал
я ему десять рублей — и спасиба не сказал».
Как ни смешон по-видимому этот первобытный, про-
стой человек, незнакомый с цивилизованными обычаями,
как и любой медведь, но его крестьяне любили, потому
что он был добрый и хороший человек, понимавший их
нужду. Больше всего крестьяне любили Николу за то,
что он выручал их, когда с них требовали подати. «,,Ба-
тюшко Микула... подать надо“, — говорит крестьянин,
чуть не плача. «Поди, продай коровенку», — советует Ни-
кола. «Кому продать? город-то далеко, а староста боль-
ше рубля не дает». — «Ладно, ужо». И пойдет Никола
к сельскому старосте и вместо рубля продаст ему корову
за пять, шесть рублей. Деньги внесет сам за крестьян,
за подати и за другие повинности, а писарю не даст ни
копейки и избавит крестьян от хлопот и от лишних трат...
Или, бывало, придет крестьянин или черемис. «Што, бра-
тан?»— спросит Никола. «Вида булыиа, хозейко по-
дох, Лапша подох; ись.., кару гладал, брюхо бульна...»
Даст Никола черемису муки с полпуда и схоронит по-
койников даром».
Но коснулось просвещение края; приехал модный бла-
гочинный из молодых. Потребовал, чтобы Никола Зна-
менский служил, а он ни в зуб толкнуть. С самого при-
ступа благочинный заметил Николе, что он врет, и по-
том, вдруг приостановив службу, оделся в привезенные
из города облачения и стал сам продолжать службу с
своим дьячком. Народ, видя, что служит не Никола Зна-
менский, вышел из церкви. По окончании обедни благо-
чинный велел Николе приехать в город, чтобы научить-
ся служить. Но наука эта не далась Николе. Службу
начал он так: «Господи благослови... благослови вла-
дыка», а потом, верно позабывшись, сказал громко: «Эка
оказия!» Народ хихикнул, певчие зашишикали, из левых
807
дверей вышел эконом... Никола пошел вон из церкви. На
другой день объявили Николе в консистории, что ему
запрещено исполнять всякие службы, что он теперь даже
и не дьячок, а расстрига и отдан под суд. Когда Никола
приехал в село, крестьяне говорили, что они стосковались
по нем... Церковь была заперта месяца четыре, и когда
приехал новый священник с дьячком, крестьяне объявили
им, что у них есть поп Никола и дьячок Сергунька. Как
ни бился священник, только ни один человек не шел к
нему ни за чем. Священник стал жаловаться начальству.
Начальство посадило Николу в острог, потому-де что он
бунтовщик. В остроге он и умер... И теперь знаменские
крестьяне помнят первого своего попа: «„Не бывать уж
такому доброму попу, каков был Л1икола Знамек-
ский‘Д — говорят они».
Сысойка и Пила тоже живой сырой материал, вырос-
ший на лоне природы. Это люди чувства, простого, не-
посредственного, без хитрости и задней мысли. Пила —
точно отец родной для всех подлиповцев. Бывало, ска-
жет Пила подлиповцам: «Что сидите... робь, я буду
робить», — и подлиповцы работают с Пилой. Нет Пилы —
подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри, тра-
ву надо косить», — здоровые идут косить, а не скажи
Пила, что надо траву косить, подлиповцы не догадают-
ся. Пила заставлял подлиповцев работать кадки, кузов-
ки, лапти, отправлялся за больных продавать товар в
город или село. Для него ничего не значило съездить за
100 верст. Если в городе ничего не покупали, Пила шел
сбирать ради Христа и потом делился с подлиповцами.
Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его
совета или просил полечить, так как Пила лечил боль-
ных травами, хотя сам в них не понимал никакого толку.
Как ни любил Пила подлиповцев, но больше всех любил
свою дочь Апроську и ее любовника Сысойку. Когда
умерла Апроська, Пила долго не верил, что она умерла.
Он стал ее толкать, она не шевелится... Взвыл Пила,
убежал на улицу, забрался в стайку и долго там пла-
кал... В стайке спали Павел и Иван. «Помру ли я? —
спросил сам себя Пила. — Уйду отсель, уйду! — закри-
чал он и вышел из стайки. Пила хотел ехать, но ему
жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой?..
Сысойка страдал не меньше; он дико смотрел на Апрось-
ку, но видно было, что его страшно мучило горе. Он лю-
308
бил Апроську сильно, хотел с ней всегда жить... Зачем
же Апроська умерла? Он-то зачем не помер? Дик и зол
сделался Сысойка; теперь он походил на собаку, лишив-
шуюся своего детища. Он готов был бог знает что сде-
лать, только бы Апроська была жива, готов был поме-
реть, но не знал, как помереть... Пила мучился, как и
Сысойка. Он сел с Сысойком на палати и долго смотрел
на Апроську, потом вскричал: «Апроська!..» Апроська не
двигалась. Пила заревел, заплакал и Сысойка. Сначала
Пила ничего не мог придумать: все Апроська мучила его.
Потом ему опротивела своя изба и вся деревня. Пила
вскочил, как бешеный, и сказал сам себе: «Что я за чу-
чело, что мне жить-то? Пойду из Подлипни, наплюю на
них всех... без Апроськи что за жизнь».
Пошел Пила с Сысойкой в город бурлачить. Город
незнакомый, все дико, ново, чудно. Привык Пила только
к своей Подлипне; там только он и. знает, как и что де-
лать,— а тут и люди не те и порядки не те. Ничего не
понимает. Напился Пила, как медведь, мертвецки пьян,
попал в полицию, набуянил с казаками и с квартальным,
и отдали Пилу под суд. Под арестом в полиции Пила
получил первые уроки цивилизации. «По мнению солдат
и казаков, подлиповцы были очень глупы и дики, раз-
дразнить их ничего не стоило: осердившись, подлиповцы
лезли драться на того, кто сердил; но не все из солдат
были такие: один из них часто отговаривал подлипов-
цев от ругани и драки. От этого же солдата они узнали,
кого надо бояться, кому как говорить, кому кланяться,
кому нет. Подлиповцы узнали также, что их становой и
сельский поп еще небольшие лица, а в городе есть выше
их: исправник, городничий, судья, а над попом благо-
чинный, и что над этими лицами есть еще старше, они
живут в губернском городе, и над теми тоже есть стар-
шие. .. Подлиповцы только дивились этому и плохо ве-
рили. Говорили им также, что этот город не один и зем-
ля велика; подлиповцы только смеялись. В продолжение
месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого
времени; например, они узнали, что есть места лучше и
хуже Подлинной, есть люди богатые и такие, которых ни
за что обижают и делают с ними не силой, а чем-то иным
все, что только захотят, как это было и с ними: в Под-
линной они боялись только попа и станового, а здесь
309
многие их обидели, избили и отодрали и теперь никуда
не пускают. Узнали, что такое паспорты...»
Мир непосредственного простого чувства, естествен-
ной солидарности интересов и естественной ассоциации
всегда манил к себе тех из мыслящих людей, кому при-
шлось вкусить от горького плода европейской цивилиза-
ции с ее конкуренцией и борьбой, с ее насилием и вме-
шательством. Люди, задумывавшиеся над жизнью, уже
не раз обращали свой взор к естественному состоянию,
видя только в нем спасение. Кажется, та же мысль руко-
водила и Решетниковым. Может быть, она не созрела
в нем в принцип и вполне сложившееся убеждение; но по
крайней мере во всех случаях, когда Решетников говорит
о непосредственном естественном человеке и о человеке,
попавшем в водоворот более осложненной и развитой
жизни, — естественный человек у него неизмеримо нрав-
ственнее и выше. В естественном человеке, будет то Ни-
кола Знаменский, Пила, Сысойка или только зародыш
человека в образе маленького Яшки,—вы чувствуете
какую-то здоровую силу, стремящуюся, стойкую; в среде
же более сложной находите силу уже надломленную,
ослабевшую, пограничную с отчаянием или уже ему от-
давшуюся, если она сохранила свое первоначальное че-
ловеческое содержание. Таков весь петербургский люд,
который рисует Решетников, люд подвальных этажей и
кабаков.
К естественному здоровому типу принадлежат у Ре-
шетникова только Опарина и Мирониха; но они уже бо-
лее или менее законченная первоначальная форма, тип,
сложившийся при благоприятных условиях, случайное,
счастливое сочетание молота и наковальни с типом обще-
ственного деятеля.
Опарина всё: она кулак, и мелочной торгаш, и сель-
ский хозяин, и повитуха, и лекарь, и коновал; она помо-
гает деньгами и советом; она — ходатай за угнетенных;
ее нравственному влиянию подчиняются не только кре-
стьяне, но и сельское начальство; она — счастливое со-
единение Марфы Посадницы 16 с торговкой, кумушкой и
фактором. Много дела Опариной, так много — беда! —
как говорит она сама. Не всем выпала такая жизнь, да
не у всех такой ум и характер. В Опариной есть сила
подчиняющая — не среда подчиняет ее себе, а она среду,
потому что она знает эту среду, Опарина знает, что люди
310
не столько злы, сколько глупы. «Иной раз так до того
разозлят в глаза, что даже заплачешь от такой напасти...
А я на все плюю и им же добро сделаю, потому что как
бы худ ни был человек, а все же после пригодится и бла-
годарность к тебе будет иметь», — рассуждает Опарина.
Вообще ее отношение к миру больше головное, основан-
ное на расчете взаимной выгоды с примесью сочувствия
к человеческой нужде. «Нет у кого муки, ко мне бегут,
потому отчего не дать своему человеку — не обманет, от-
даст; а если и муку не возворотит, я сеном возьму, али
овсом, али чем иным. Тоже, например, мужику нужен
хомут, а денег нет, ну и плачется. Я говорю: ничего, по-
дожди, на ярмарке дешевле купим, а ты мне только рас-
писку пиши, после сквитаемся. Ну, а как не заплатит, и
другим возьмем». Потакать Опарина не любит; она стро-
га и в ласку не верует. «Ласка? откуда ты это ласки-то
найдешь? Разве меня лаской вспоили, вскормили; разве
меня теперь ласкают, коли не огорчают тебя на каждом
шагу? Ласка что значит? Поблажка... А как сделал по-
блажку раз, другой да как будет дитятко чужих советов
слушаться, тогда придется все самой делать... Может,
и не удержишься и поколотишь, а потом и приласкаешь».
Но вот злейшего врага Опариной, Дарью Яковлеву, заду-
мали высечь в правлении, и в Опариной проснулась
Марфа Посадница. Как только Опарина услышала об
этом, ее передернуло, и глаза засверкали. «Ну, этому не
бывать, — сказала она, — вот еще новость!! Какое они
такое право взяли баб стегать? .. Разве это не обида всем
бабам, коли над ними мужики будут командовать так.и
издеваться?» — «Да ведь ты на нее сердита?» — заметили
Опариной. «Сколь сердита, столь и милостива. Ты дума-
ешь, я без чувствия?» — ответила она. Наделав скандалу
в волостном правлении, .Опарина не только выручила
Дарью Яковлеву, но еще заплатила свои деньги за пас-
порт, чтобы отправить Дарью из деревни от ее тирана-
мужа. Писарь спрашивает Опарину: из-за чего она тут
хлопочет. «Ты говоришь, с чего? Да знаешь ли ты, мне
от нее житья нет, то и дело ругается да баб наших мутит.
По ее милости мало ли что говорят про меня?.. Ну, а как
в город-то свезу, и лучше».
г Мирониха того же бойкого, самостоятельного типа
людей добрых, деятельных, в которых кулак-торгаш
уйеет ужиться с Марфой Посадницей. Матрена Власовна
311
с двенадцати лет уже стала ходить в город продавать
молоко и скоро научилась добывать деньги, так что от
продажи молока, огородных овощей, ягод и грибов она
к свадьбе своей, бывшей на восемнадцатом году, помимо
приданого, накопила пятьдесят рублей. В замужестве и
во вдовах она решительно никого не боялась на том ос-
новании, как она выражалась: «С нас взятки гладки.
Закона такого нету, чтобы командовать над нами». Хо-
зяйство у Миронихи было такое, что жить ей было мож-
но. Но она увеличивала свой доход таким образом: «В го-
роде у нее было много знакомых, которые за молоко или
за какие-либо овощи платили ей не тотчас, а через месяц
или через три месяца. Она и писала счет на стене в своей
кухне, против печки: одна палочка обозначала долг за
один бурак, который стоил пять или три копейки; она
никогда не смешивала вместе разных долгов; зато она
к каждым пяти палочкам приписывала себе за труды ше-
стую палочку, думая: «Небось вы за ходьбу-то не при-
бавляете. А што мне нужды, што вы меня чаем-то поите?»
А так как она денег не тратила по пустякам, то у нее
часто просили в долг соседи или городские знакомые.
И эти долги она пишет на стенку, только рубли обозна-
чает ониками, а гривны 17 крестиками. Если же кто не
отдает ей долгов, она ходит жаловаться начальникам и,
если уж дело идет на ссору, приписывает к трем оникам
еще оник, а девять крестиков зачеркивает, загораживает
клеточкой и сверху пишет оник.
Мирониха и Опарина развились в условиях счастли-
вого равновесия житейских влияний. По своему положе-
нию им самим приходилось разыгрывать роль то молота,
то наковальни; оттого-то они и знают, насколько нужно
нажать, чтобы было по-божески и безобидно. Конечно, и
Опарина и Мирониха не пропустят своего. Опарина, на-
пример, приказывает племяннице отмерить покупателю
овса так, чтобы было ей не в убыток, или попросту — об-
мерить. Мирониха тоже приписывает лишние палочки и
оники; но они делают это в меру, и экономические, чисто
стяжательные побуждения никогда не играют в них глав-
ной роли, никогда не берут перевеса над побуждениями
человеческими.
Параллельного Миронихе и Опариной мужского типа
Решетников не дает и, конечно, не оттого, чтобы его не
было в жизни. Никола Знаменский умер в остроге,
312
Пила — во время тяги. Да они и росли не в тех условиях
и уж были не тех лет, чтобы могли сложиться в закончен-
ную, наиболее совершенную форму, создаваемую благо-
приятными условиями народного быта. Мирониха и Опа-
рина, как говорит Решетников, «тип горнозаводских жен-
щин, которые не только не уступают мужчинам, но даже
превосходят их. Они не боятся мороза, сильных ветров,
дождей, грозы, а их только беспокоит пьянство., лень му-
жей, безденежье, которое часто происходит не от них,
а от божеского послабления, как они сами выражают-
ся». Но где же тот мужчина, который бы стоял выше за-
битых людей, который имел бы в своем характере те же
основы, как Мирониха и Опарина, но только с мужским
закалом и с развитием, вырабатываемым более широким
кругом деятельности? Такого мужского типа Решетни-
ков не дает, точно он нигде не видел и не нашел. Муж-
ские типы, параллельные развитой форме Опариной и
Миронихи, — не органические продукты народной среды,
не лучшие продукты сравнительно благоприятных рус-
ских условий, а типы, уже искалеченные односторонним
положением и влиявшей на них зачаточной граждан-
ственностью. Таковы Внучкин и Ставленник 18.
Внучкин и Ставленник — натуры погнувшиеся, сумев-
шие примириться с своим искусственным положением в
ущерб социальной правде и справедливости. Утилита-
ризм, установившийся в Опариной и Миронихе в поло-
жение устойчивого равновесия, в Внучкине и Ставлен-
нике погнулся в одну сторону — личного своекорыстия.
От этого Внучкин, сначала волостной писарь и потом
управляющий пароходной компании, есть тип исплуто-
вавшегося сельского начальника, конгломерат, в котором
сидит и волостной писарь, и приказный, и кулак-торгаш,
и деревенский маклак, и аферист, и самодур, и деспот,
и все это смазано мелочным и мошенническим лукав-
ством и трусостью. Ставленник по своему составу проще:
он — своекорыстная ограниченность под личиною лице-
мерия.
Мир зачаточной гражданственности, создавший Внуч-
кина и Ставленника, страдает именно тою искусственно-
стью и авторитетным формализмом, которые, втискивая
жизнь в законченные рамки, обезличивают человека и
заставляют его петь по готовым нотам. Подумаешь, что
люди уже все порешили, все знают и знать им больше
313
нечего. Если подчиниться безгласно дрессированной фи-
лософии наставников Внучкина и Попова, то окажется,
.что человеческий мозг совершенно излишняя роскошь,
ибо на всякий шаг имеется готовый рецепт. Слушайся и
делай — вот и вся практическая мудрость. Зачаточная
гражданственность убивает всякую критику мысли, вся-
кую самодеятельность и своеобразность, она заставляет
принимать все на веру, без оговорки, без борьбы; подчи-
няться уставу даже и в том случае, когда он оскорбляет
природу человека. Какой-нибудь непосредственный и сы-
рой Пила и Никола Знаменский в этом случае неизме-
римо выше Внучкина и Егора Ивановича. Как ни смеш-
ны эти первобытные натуры, выскочившие из первобыт-
ного леса, но и в них вы видите свое, а в Егоре Ивановиче
все чужое и внешнее. У Пилы и Николы Знаменского
есть свой собственный критерий — непосредственное, бес-
сознательное чувство, и вы их не заставите сделать того,
что не принимает их душа. У Егора Ивановича собствен-
ной души нет; она успела уже вылепиться в форму до
того искусственной цивилизации, что утратила весь свой
естественный аромат. Попробуйте-ка женить Пилу или
Николу Знаменского, если им этого не хочется! Когда
Настьке, познакомившейся слишком коротко с Николой,
отец обрезал волосы, прибил и выгнал ее, Никола Зна-
менский сейчас же пошел к нему. «Видишь это», — ска-
зал Никола и показал ему топор. И испугавшийся поп
отдал Настьку за Николу. Егор Иванович, искусивший-
ся в философии и диалектике, так грубо, конечно, не по-
ступит. «Я понимаю женитьбу так, — говорит он своей
невесте, — жена моя должна быть другом мне, а никак
не рабой, то есть она может иметь полную свободу во
всем и быть моим утешителем». Или: «Да, мы женимся
для местов, а о любви и дела нет. Гадко! После этого,
знаете ли вы, что мне хочется сделать — в светские вый-
ти». Или: «Я решился просить вашей руки не из каких-
либо честолюбивых видов, а именно ради вас. Со мною
вы будете свободны, потому что, понимая женщин, я не
хочу стеснять вас. Поверьте, что все наше сословие всту-
пает в брак так, как и я хочу с вами вступить». А раньше,
на вопрос Андрея Филимоныча — любит ли он свою неве-
сту, Егор Иваныч отвечал: «Нет, я женюсь по необходим
мости». Недаром же ректор любил Попова за скром-
ность и послушание и в то же время задавался вопро-
314
сом — что-то будет с этим лицемером. Но отец ректор
взял несколько далеко: Егор Иваныч еще не настоящий
лицемер, лицемер будущий; он пока сбившаяся с пути
и подавленная мысль, не владеющая настоящим крите-
рием для собственной проверки. В то время как Никола
Знаменский и Пила не воспримут того, что возмущает их
природное чувство, и оттолкнут противоречащую им
мысль, Егор Иваныч поступит обратно: он заставит сми-
риться свое чувство пред авторитетом взятой им на веру
мысли. Оттого-то Егор Иванович и живет в вечном про-
тиворечии чувства и мысли, которое наконец и должно
выработаться в нем в законченное лицемерие.
В очерках и монографиях Решетникова нельзя про-
следить постепенность перехода человека из жизни не-
посредственного чувства в последующие общественные
формы полуцивилизованных людей, вкусивших от плода
зачаточного образования. Очерки Решетникова носят ха-
рактер случайности; они — не полная коллекция образ-
цов, задуманных и обрисованных, во всей их переходной
постепенности, на фоне условий, их создавших, а отры-
вочные изображения отдельных физиономий, наиболее
поразивших автора.
Если подступать к монографиям Решетникова с од-
ними эстетическими требованиями, то есть ставить бел-
летристов в положение бессмысленного творчества, то,
конечно, вопрос о какой-нибудь системе и основной мыс-
ли был бы совершенно неуместен. Но если беллетрист
есть исследователь-популяризатор, то от его исследова-
ния нужно требовать плана, постепенности, полноты и
систематических ответов на систематические вопросы.
Прилагая это требование к монографиям Решетникова,
следует пожалеть, что их слишком мало; что в них не-
заметно системы и плана; что вместо этнографической
коллекции он дает только несколько фотографических
карточек. По материалу, который дает Решетников, нель-
зя составить критерия для определения в каждом данном
случае и в каждой данной физиономии того естествен-
ного народного реализма, который как органический про*
дукт, развившийся из хороших сил и при благоприятных
условиях, мог бы служить проверкой реализма, не по*
шедшего дальше Базарова. Если эти два реализма, вы-
шедшие из противоположных источников, должны прове*
рить друг друга и сойтись на одной общей точке, то это
315
возможно только тогда, когда формулы того и другого
будут вполне выяснены и определены. Материал Решет-
никова для этого еще недостаточно богат, и это могло
произойти оттого, что или монографиям отдельных типов
Решетников не придавал такого значения, какое им сле-
дует придавать, или он спешил обнять народный мир воз-
можно широким кругозором и дать всеобъемлющие кар-
тины трудовой народной жизни в форме романа, — или
же оттого, что Решетников умер всего двадцати девяти
лет. Последнего обстоятельства совершенно достаточно,
чтобы воздержаться от законченного приговора над си-
лами Решетникова. Он не сказал всего своего. Даже в
России, при лучшей жизненной обстановке, Решетников
мог бы прожить еще лет тридцать, а в тридцать лет, если
не изменят силы, можно написать много. Но, с другой
стороны, нельзя не заметить, что лиризм есть основная
подкладка произведений Решетникова. Он сам вырос
в щемящем чувстве, выстрадал за себя и за других и
очерками забитых людей и сатирическими монография-
ми («Ставленник», «Внучкин») делится своими чувства-
ми с читателем. Решетников по преимуществу человек
чувства; он сам весь свой век мучился вопросами и искал,
где лучше. Поэтому его литературные произведения —
скорбная летопись его собственного существования и
апелляция к чувству за подобных же ему горемык. В Ре-
шетникове вы не найдете того, что так резко и повсюду
выражается у Помяловского, Помяловский не замыкает-
ся в себя, он уходит в протестующее озлобление, тогда
как Решетников производит на вас впечатление щемя-
щего страдания, сосредоточенного и тихого, но вместе
с тем и безнадежного.
Ill
Стоит в лесу починок — всего шесть домов: четыре
с крышами, два без крыш, с соломой на потолке, с слю-
дью в оконных рамах вместо стекол; ворот вовсе нет.
Кругом болото и лес; повсюду мокро и необработано;
земля не дает травы, не дает хлеба. Шатаются по полю
три лошади, и то ненадолго — идут они в лес; там боль-
ше травы. «Пробовали, — сказывают крестьяне, — уЖ"
как вспахивали землю и поздно, и рано, да все проку нет.
Вспахаешь — студа настанет, либо дождь, потом жара,
316
все окоченеет; а там дождь, иней, снег... Пробовали и
за хлебушком ходить, да все не в толк; только начинает
созревать, вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь,
погорюешь, да и скосишь траву божью, измелишь и ешь
так, с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь
аль коры осиновой либо липовой наскоблишь. . .» 19 За-
чем же подлиповцы живут тут? Подлиповцам этого не
растолкуешь; они сами не знают, откуда они взялись.
Понятия их такие: «Есть какой-то бог, а какой он там, кто
его знает. По преданиям своих отцов, подлиповцы справ-
ляли праздники, молились своим чучелам. О существова-
нии земли они знали только то, что земля дает им пищу
да в землю покойников зарывают. Увидят они, что солн-
це ярко светит, и думают: это бог; молятся ему. Светит
ли ночью луна — тоже бог; и дождь, и снег, и молния —
все бог. Знали они, что есть город Чердынь, только по-
тому, что бывали там; а есть ли еще за Чердынью что-
нибудь— дело темное». При своей бедности подлиповцы
постоянно в долгу; с них требуют подати, но им негде
взять денег, и на них растут недоимки с каждым годом.
Картина эта переносит читателя в первобытный мир.
У человека все зачаточно: и мысль, и чувство, и стремле-
ние. Отношения просты; грубые материальные потребно-
сти — первые потребности, о них только человек и хло-
почет, но и они удовлетворяются не вполне. Нет, так
жить нельзя; нужно поискать, где лучше. И вот Пила и
Сысойка идут пытать неведомого для них счастья. Но до
счастья не дойдешь, как до месяца. Потолкались Пила
и Сысойка кое-где и попали наконец в бурлаки. Тянули
раз судно; тянули, тянули, да и сели на мель. «Трогай
сильней, трогай, что стал», — понукал бечевников лоцман
с судна. Бечевники натянули бечеву; судно пошло; бечев-
ники наперлись пуще прежнего; запели... Вдруг бечевка
лопнула, все бурлаки упали... Кто ударился головой о
плетень, кто коленком о камень, кто расшиб нос и губы.
Пила и Сысойко лежат без чувств в разных сторонах,
облитые кровью. «Померли! вот те и жисть!» — сказали
бурлаки и накрыли их полушубками. Должно быть, прав
был Пила, что ему с Сысойкой родиться бы не следо-
вало. Родился зачем-то человек; в детстве терпел горе,
вся жизнь его — горе горькое, и заключалась в том, что
он старался найти себе что-то лучшее, пробовал выбить-
ся из нищеты. Нет таки, стой! куда лезешь, лапотник!
317
До этого же додумались и Петров с Караваевым20. Пе-
ребирая свою жизнь после всех мытарств, которые они
испытали, они пришли к тому заключению, что богатому
везде хорошо, а бедному везде плохо. Правда, в кабаке
хорошо, но на том свете, должно быть, лучше. Человек,
по их мнению, создан для того, чтобы самому добывать
себе пропитание; а так как человеку для этого нужно
немного, то он был бы вполне доволен и спокоен, если бы
его не обижали те, которым хочется жить во все свое
удовольствие. И странно! Как человеку ни худо, а всегда
найдется кто-нибудь, кому еще хуже. И завидует этот
чужому хорошему, считая его лучше. Уж как скверно
жилось Максе, когда стали его гонять с почтами, а и тут
ямщик позавидовал: «Эко людям счастье, — сказал он,—
все спят».
На этой основной мысли построены все романы Ре-
шетникова; все они написаны на тему искания простым
человеком счастья, которого он не находит, потому что
всегда найдется более сильный и более богатый человек,
который его обидит. Мысль об искании, где лучше, начи-
нается у Решетникова в «Подлиповцах», проходит в «Где
лучше?» и в «Свой хлеб». Но «Свой хлеб» у Решетникова
не кончен, и к какому последнему результату пришла бы
его_мысль, сказать поэтому нельзя.
В романах Решетникова предмет исследования со-
ставляет не отдельный человек, не процесс его психиче-
ского развития, а отношение ищущего, где лучше, чело-
века к внешнему миру. Здесь отдельное лицо не занимает
у Решетникова всего места в картине; он не соединяет
на нем главнейший интерес, потому что и каждое другое
лицо такой ж,е герой, но о котором говорится мало из
экономии для сокращения подробностей. Горюновы, Глу-
мовы, Петровы, Караваевы — не все ли равно? Только
иные частности, а судьба одна. Этот переколачивающий-
ся люд Решетников пропускает перед глазами читателя
и поодиночке, и кучками, и целыми толпами; все стре-
мятся туда, где лучше. Пробуют они и горные заводы,
и Золотые промыслы, и соляные варницы, и бурлачество,
наконец, целыми вереницами ломят на железные дороги.
Вас охватывает повсюдное движение все в одном на-
правлении, и преимущественно к Петербургу, на который
устремлены все помыслы искателей. Но Петербург —
прорва, говорит Решетников; это — бездонная пропасть,
318
поглощающая человека, чтобы не выпустить его из себя
нравственно и физически здоровым. В Петербурге все
бродит в вечном искании, бедствует и голодает — ото-
рванное и одинокое. До отдельного человека там точно
нет никому и дела — хоть околей. Кабак и трактир — вот
семейный очаг одинокого пришлеца. Простой рабочий
народ не знает, какой яд заключается в водке, и пьет ее
по разным причинам, говорит Решетников, Отправляется
человек на работу и заходит в кабак выпить осьмуху,
чтобы разбить кровь; измученный и усталый, с работы
он опять заходит в кабак, чтобы выпить на сон гряду-
щий. Без водки рабочий чувствует подавленность и ску-
чает. Забравшись в кабак, рабочие располагаются как
дома, пьют, беседуют, толкуют о своих делах, и в этом
рабочем, пришедшем из деревни, вы не узнаете деревен-
ского крестьянина, живущего в кругу однодеревенцев и
пьющего водку в праздники. Отчего же тот же крестья-
нин становится другим? «На это я скажу, — говорит Ре-
шетников,— что крестьянину очень скучно, душно и тя-
жело в столице, где он живет заработками». В арте-
лях живут рабочие без жен и вообще без женщин по
пяти, десяти и более человек и всегда питаются дрянною
пищею. В комнате сыро, душно; с товарищами все пере-
говорено— тянет на улицу; хочется повеселиться. Но
куда идти? «Баб нет, девок своих нет, орать песни нелов-
ко, шататься по городу надоело, собраний таких нет, где
бы рабочий чем-нибудь занялся, — ну и идет человек в
кабак; там он, выпивши водки, повеселеет, покалякает
с кем-нибудь, песни попоет, попляшет, и никто там ему
не препятствует.,. И отчего бы ему не петь и не плясать
в кабаках, когда больше негде и когда он вырос в де-
ревне на хорошем воздухе и укрепил свои силы в де-
ревне». Рабочий пьет всегда ради чего-нибудь; горькие
же пьяницы, ничего не делающие, — другое дело.
Отношение Решетникова к рабочему населению глу-
боко сочувственное; он не видит в этом мире ничего,
кроме печальных сторон, и подавляет читателя не гран-
диозностью единоличного бедствия, а монотонностью ту-
пого покорного страдания целых сотен людей, которых он
заставляет проходить перед глазами читателя. Конец же
гсегда один и вывод тот же, до которого додумались Пет-
ров с Караваевым.
319
Эта монотонность и множество однородных подроб-
ностей сообщают романам Решетникова тоскливую за-
унывность, вредящую им в глазах читателей, привыкших
к возбуждающему, острому изображению беллетристов
сороковых годов. Оно и понятно. У беллетристов сороко-
вых годов — мир души, мир радости и страданий, более
или менее каждым пережитых и, во всяком случае, более
знакомых. У Решетникова же — все незнакомо. Душа
простого человека для читателя — совершенные потемки.
Общего он с ней почти ничего не находит в себе. Реализм
героев — тоже особенный, неведомый и новый. Это реа-
лизм естественный, инстинктивный, созданный обстоя-
тельствами, толкающими человека туда или сюда, а не
головной реализм Базарова, выработанный им идеаль-
ным путем. В народном реализме — роковое сцепление
обстоятельств, о которые разбивается единоличная воля;
в идеальном базаровском — процесс сознательной мыс-
ли, дающей определенное направление единоличной воле.
Эта разница в двигающей силе кладет свою печать на все
поведение людей из простой среды и цивилизованных реа-
листов. Цивилизованный реалист всегда царь мысли,
продукт интеллигенции — и он знает это и гордится этим.
В каждом своем шаге он чувствует, что и простота, и
естественность, и демократизм имеют аристократическое
происхождение и ведут свой род от головного Рудина.
Поэтому-то сатанинская гордость так и присуща База-
рову. Она результат сознания, которого не подавишь и
не уничтожишь, потому что это сознание есть основной
элемент той самой мысли, которая привела Базарова к
реализму. Сатанинская гордость переходит всегда в бо-
лее или менее колоссальное самолюбие. И колоссально
самолюбивый цивилизованный реалист подчеркивает
каждое свое действие, отчеканивает каждое свое слово.
Они для него как ярлычки на бутылке. У героев Решет-
никова вы этого подчеркивания не встретите. Умными
•мыслями они не щеголяют, словоизлияние считают бес-
цельной болтовней, к делу не ведущей, говорят просто, по-
ступают еще проще, с идеализацией незнакомы и умствен-
ной гимнастики совершенно не знают. Мысль простого
человека есть результат его повседневной практики и его
борьбы с нуждой, научившей его понимать, что в артели
он застрахован лучше. В то время как Базаров с своей
сатанинской гордостью мерит всех аршином ума и не
320
признает ровней’себе того, кто хотя на дюйм его меньше,
простой человек сложил себе аршин экономический и ар-
шин равного достоинства. Он считает своим каждого,
такого же, как и он, бедняка и не желает, чтобы над ним
ломались. Когда дядя Кузьмина получил наконец через
тридцать лет, первый чин, то сказал с храбростью: «Те-
перь меня ни одна свинья не смеет обижать!» Вот для
чего ему и нужен был чин — он дал ему равное достоин-
ство с теми, кто прежде обижал его, а теперь обижать
не смеет. «Главное, не нужно заедаться с людьми: всякие
есть. Нужно так делать, чтобы всех удовлетворить; а без
этого ничего не поделаешь», — говорил Кузьмину хозяин
его квартиры. И этого хозяина все уважали, потому что
видели в нем вежливого и совсем простого человека. Ба-
заров рассуждал не так. Когда того же Кузьмина вы-
гнали из службы, его без всяких справок приютил к себе
Таврило Матвеич; ему было довольно, что Кузьмин без
дела и без хлеба. «Я вижу, что дело твое бедное», — ска-
зал он Кузьмину и послал на семеновский плац прода-
вать сапоги. А когда Кузьмин продал товар выгодно,
Таврило Матвеич угостил его водкой и сосисками. И все
эти Глумовы, Горюновы, Петровы, Пелагея Прохоровна,
Агафья Петровна, Евгения Тимофеевна, Иван Зиновьич,
бабка, принимавшая у Гаврилы Матвеича, держатся
крепко друг за друга, точно они родились в одной семье.
А сколько экономической деликатности в их обоюдных
отношениях! Когда Таврило Матвеич спросил бабку:
«Сколько же вам за хлопоты?» — «Вы не беспокойтесь,
я еще буду ходить пять дней, если Катерина Степановна
поправится, а не то и девять...» — «Да ведь она и так
здорова», — ответил Таврило Матвеич, испугавшись, что
придется платить лишнее. — «Это уж мое дело, а не ваше;
я у вас денег не попрошу: сколько дадите, столько и
ладно». Базаров ошпарит и оттолкнет; он хочет быть
один, точно ему нет товарищей или они ему не нужны.
В том же мире, который рисует Решетников, люди рас-
суждают не как Базаров: они знают, что один человек
погибнет, как червяк. Вот от насыпи железной дороги
едут телеги, наполненные больными мужчинами и жен-
щинами. «Куда же их везут?» — спрашивает Горюнов.
«Куда? — отвечают ему. — Известно куда: вывезут на
большую дорогу, и иди, откуда пришел. Хорошо, если
село свое или деревня близко, а то так и помрет иной
11
Н В. Шелгунов
321
человек на дороге. У компанеев денег много, только не
станут же они с хворыми возиться, когда, говорят, они
подрядились к сроку дорогу сделать... Коли в силе че-
ловек— робь, и отдыха нету, а коли помирать — домой
его. Раз было привязались к управителю, он и говорит:
у нас-де люди не умирают, а коли они умерли за чер-
той— дело не наше, а божье». Вот что и соединяет лю-
дей— общая судьба, общее горе. Тут не нужно рудинов-
ских размышлений и распутывания заоблачных вопро-
сов, чтобы понять простую сущность подобного простого
положения. Общий враг — нужда скоро связывает людей,
особенно если они терпят вместе от тех же подрядчиков,
маклаков и кулаков. «Вон едет водовоз в непластанном
полушубке, в шапке, имеющей вид горшка: нещадно он
бьет свою лошадь, ругая ее. Но лошадь идти не может,
потому что передние колеса завязли в ухабе. Он слезает
с задка дровней, смотрит на увязшие колеса и ругается:
«О, штоб вам, проклятые! Взыски с нас берете, а это что.
Когда вы все передохнете». И потом, увидев попавшегося
ему навстречу мастерового, просит его помочь ему выта-
щить колеса. «Некогда, и так запоздал — штраф бу-
дет».— «Да помоги, Христа ради! Ты знаешь, я только
этим и кормлюсь, а как привезу не в то время — другого
возьмут». Мастеровой засовывает лом под передок дров-
ней, а водовоз, помогая ему, говорит: «Жиды проклятые!
Деньги берут, а это што». Во всем этом нет ничего, кро-
ме чистого экономизма и протестующего отношения к
тому, кто жмет. Это пригнетанье Решетников рисует то
в виде обирающего петербургского кабатчика, то в виде
рыночного маклака, то в виде разных подрядчиков, то
в виде хозяина-немца, то в виде хозяина квартиры, то
в виде барыни, нанимающей женщин, явившихся на Ни-
кольский рынок продаваться.
В картине Никольского рынка Решетников идет даль-
ше простого пригнетанья — читаешь конкуренцию голод-
ных. В углу между Крюковым и Екатерининским кана-
лом собралось до двухсот женщин, явившихся прода-
ваться. Тут были и чухонки, лепечущие на своем языке
и стоящие от русских особняком, и немки в худеньких
салопах и чепчиках на головах, и еврейки. На всех лицах
выражается какое-то нетерпение и страх. Многие смо-
трят на образ Николая Чудотворца, на церковь и взды-
хают. Вон девушка годов семнадцати, сидя на мостовой,
322
уперла голову обеими руками. Другие стоят тоже с не-
веселыми лицами, часто вздыхают и смотрят большею
частью на одно место, как бы что-то обдумывая. «Вдруг
все женщины подвинулись к дороге; сидевшие вскочили
и побежали к толпе; стоявшие у каналов тоже побежали,
с яростью толкая друг друга. В середине женщин стояла
пожилая, толстая барыня в белой шляпке и драповом
пальто. «А умеешь ли ты кушанья готовить?»—спраши-
вала барыня одну женщину. «Как же... я у хороших
господ жила». — «Врет она! Она только что из деревни
приехавши. Вы меня возьмите, я только сегодня от места
отошла», — проговорила другая женщина. «Врет! Врет!
Она табак нюхает», — кричали со всех сторон женщи-
ны. ..» Наконец барыня столковалась с одной женщиной:
жалованья два с полтиной, фунт кофею, то есть полфун-
та кофею и полфунта цикория, и фунт сахару. «Не при-
бавите жалованья-то?» — спросила еще раз женщина.
«Нет». — «Да ведь работы много!» — «Как знаешь... и
вас много».
Этот ответ переносит вопрос на такую точку, где и не
разберешь, когда человек молот и когда он наковаль-
ня, — где границы между худым и хорошим, когда чужое
кажется лучше своего и когда невыспавшийся ямщик за-
видует спящему с горя Максе. Эмилия Карловна («Свой
хлеб»), по-видимому, очень обижает своих девушек, кор-
мит их скверно, заставляет их просиживать ночи, экс-
плуатирует Дарью Андреевну. Когда же этой же Эмилии
Карловне пришлось рассмотреть свою приходо-расход-
ную книгу, то оказалось, что ей должны не больше ста
рублей, а она должна купцам больше четырехсот. «Для
чего, спрашивается, — размышляла Эмилия Карловна,—
я содержу магазин? Я должна наживать деньги, а выхо-
дит, что я кругом в долгу, живу в кредит. Уж как, кажет-
ся, я ни стараюсь угодить моим заказчикам, как ни эко-
номничаю, из кожи лезу, а долги растут!» И ей припомни-
лась прежняя жизнь. Прежде, хотя она и работала на
хозяек, таких же, как и она, но была озабочена только
тогда, когда хозяйки почему либо задерживали уплату.
Случалось ей уходить в магазин и не пивши кофе, зато
у нее не было долгов. «Да, тогда лучше было жить», —
решила Эмилия Карловна. Подумав, как выкрутиться из
беды, Эмилия Карловна остановилась на той мысли, что
ей вместо наемных рабочих нужно держать девочек без
323
жалованья. И так рассуждает не одна Эмилия Карловна,
а все, потому что границы между молотом и наковальней
нет. Но этот реализм — реализм Собакевича, Ноздрева,
Горданова21, частью даже Базарова, выделяющего себя
в одиночку, но не реализм Горюнова, Петрова и других
людей, которых дает Решетников в «Где лучше?». Прав-
да, Решетников не договаривается до конца и дает мысли
в зачаточной форме исключительно на подкладке хоро-
ших чувств. У него и здесь недостает той систематической
целостности и вполне созревшей мысли, как их недостает
в монографиях отдельных народных характеров. Он на-
чинает далеко, с самого начала, с Пилы и Сысойки, вы-
скочивших из болот глухого северо-востока. Затем непо-
средственное наблюдение у Решетникова делает скачок,
и мысль, которую мы находим в «Подлиповцах», продол-
жается в «Где лучше?». В своей экономически-социаль-
ной сущности мысль эта не зрелее. Она только разраба-
тывается на людях, стоящих неизмеримо выше, по опыту
и по гражданственности, первобытных Пилы и Сысойки.
От этого «Где лучше?» уже не производит того впечатле-
ния обновляющей свежести, какое выносишь при чтении
«Подлиповцев».
Последовательное экономическое мышление для Ре-
шетникова по-видимому не существовало; ибо на тему,
где лучше, он дает целый ряд многосложных картин, ри-
суя их лишь из разных сфер, но не выслеживая экономи-
ческой идеи в ее постепенности народного мировоззрения.
Назвать это пропуском со стороны Решетникова я не
беру на себя смелости. Следя за мыслями, выясняющи-
мися в романе, в них действительно не находишь эконо-
мической связи. Решетников самыми темными красками
рисует положение людей мускульного труда. По его кар-
тинам, это — безысходное состояние, с которым следует
примириться, потому что богатый всегда будет обижать
бедного, но рядом с этим Решетников указывает на есте-
ственную солидарность бедных людей, поддерживающих
друг друга, на их злобу на богатых и затем дает картины
конкуренции самих голодных и заставляет хозяйку мод-
ного магазина прийти к печальному сознанию, что ей
жилось лучше, когда она была работницей-швеей. Опре-
деленной тенденции в одном направлении, очевидно, тут
нет. Решетников как будто еще и сам не выяснил себе
вопросов, о которых он говорит. От этого народно-реаль-
324
ное воззрение на социально-экономические отношения
остается туманно-зачаточным, и в речах и в поведении
героев слышится не столько результат народной мудро-
сти, созданной многовековой практикой, сколько скорб-
ная жалоба на трудность и безысходность положения.
Решетников дает народный реализм лишь в форме зача-
точной практики, созданной непосредственным чувством,
но не в виде если и не вполне развитой, то, во всяком слу-
чае, сознательной мысли. Искание, где лучше, представ-
ляется в романах Решетникова в виде какой-то случайной
толкотни, ясной только в своем основном побуждении;
страховая же гарантия не идет дальше взаимного сердо-
болия между людьми наиболее близкими. Поэтому вы-
искивать основы народного реализма и находить его па-
раллели с реализмом, созданным интеллигенцией, состав-
ляет уже задачу, лежащую вне средств автора, которой
он не только не берет на себя, но для исполнения кото-
рой он не дает достаточного материала и другим. А в то
же время Решетников — чистый народник, сам человек,
выросший на лоне природы, сам выстрадавший все, что
он говорит про других, и, может быть, потому-то и являю-
щийся адвокатом-лириком всех тех, кто ищет, где лучше,
и его не находит. В этом смысле в Решетникове следует
ценить выше всего направление и его честное, искреннее,
гуманное отношение к народу, который для него — не
меньшие братья, не предмет для объективного наблюде-
ния, а плоть от плоти и кровь от крови. Для Решетникова
его герои — не Панфил, Иван, Агафья, а Панфил Про-
хорыч, Иван Зиновьич, Агафья Петровна, Евгения Ти-
мофевна, Палагея Прохоровна, Степанида Власовна, Те-
рентий Иваныч. Это уважительное отношение к равным
нам людям впервые введено в русскую беллетристику
Решетниковым.
И здесь приходится повторить то же, что я сказал
раньше, то есть, что окончательный вывод о силах Решет-
никова невозможен. Можно говорить лишь об его общем
направлении, об общем характере его деятельности и его
новаторском значении в литературе. Решетников, сколько
можно судить по его романам, далеко не кончил своего
развития и не сформировал себе программы. Но он, оче-
видно, зрел, совершая сам переход от непосредственного
лиризма, который виден у него в «Подлиповцах», к тен-
денциозным замыслам, высказывающимся в «Где луч-
325
ше?» и в «Своем хлебе», хотя лиризм оставался по-преж-
нему основной подкладкой.
В «Где лучше?» замысел шире и глубже. С самого на-
чала вы чувствуете, что пред вами уже не те люди из
народа, с крепким букетом первобытной и своеобразной
среды, каких вам дает автор в «Подлиповцах» и в «Очер-
ках». На людях уже заметна полировка, хотя они и про-
стые деревенские люди. Но перемена эта не в людях, а
в самом авторе, в котором чувствуешь, что он что-то за-
мышляет, что у него есть какая-то тенденция, что ему
нужны не непосредственные сыны природы, как подли-
повцы, а материал более подходящий к новой цели, что
вас ведут в более широкий обхватывающий мир, где
труднее ко всему присмотреться, все понять, найти всему
место и меру, определить гармонию отношений; одним
словом, вы чувствуете, что пред вами роман, а не повесть
и очерк. И именно в этом-то более широком тенденциоз-
ном замысле недостатки и достоинства романа.
Решетников дает чувствовать, что его герои не мужи-
ки, а такие же люди, как и все, ровня героев Тургенева
и Гончарова, но только выросшие в другой среде. Это
приравнивание Решетников делает в ущерб своеобразно-
сти и оригинальности и как бы обезличивает своих героев,
сводя их на общий уровень. Интереса ни в подробностях,
ни в языке вы не встречаете, как вы встречали их ранее
в более коротких и метких произведениях Решетникова.
Равное достоинство героев от этого выигрывает, но самые
герои теряют в интересе новизны и в своеобразности. Ме-
стами даже слышится натяжка, как, например, в сцене
объяснения Лизаветы Елизаровны с Григорием Прохоро-
вичем. Лизавета Елизаровна нежна, как тургеневская
героиня; вы чувствуете от нее веяние барышни, культи-
вировавшей в себе одни нежные чувства. Я не говорю,
что это ложь против естественного чувства, но говорю,
что чувство слишком сладко и изнеженно. В то же время
Григорий Прохорович напускно груб, точно автор хотел
этим уравновесить фальшь, которую он сам чувствовал.
История Палагеи Прохоровны с Петровым отзывается
тоже искусственностью и идеальничаньем; их отношения
недостаточно просты и непосредственны, и за героем не-
редко видишь выглядывающего автора, который как бы
хочет сказать: посмотрите, ведь это такие же люди, как
вы, и чувствуют они по-вашему, и деликатны не меньше
326
вас. Да кто же об этом теперь спорит? Вообще сердечный,
любовный элемент больше вредит, чем помогает тенден-
циозному впечатлению романа. Конечно, общая картина
жизни полнее, но зато эпопея народного искания стано-
вится слабее, и замысел показать людей вообще осуще-
ствляется лишь на счет бытового социально-экономиче-
ского интереса.
Кроме этого, в «Где лучше?» замечается* отсутствие
меры. Это необходимое следствие богатства материала.
Автору точно хочется не пропустить ничего; он точно спе-
шит собрать в одно все, что идет к делу, чтобы дать кар-
тину народного скитания в возможно полном виде. От
этого, с одной стороны, растянутость от обилия положе-
ний и лиц, с другой — эпизодическая краткость, как, на-
пример, в похождениях Памфила Горюнова, попавшего
в острог. Конечно, острог всем уже более или менее изве-
стен, но тем не менее краткость все-таки помешала ти-
пичности и яркости картины. Сила Решетникова именно
в том, что он подавляет массой и нескончаемою монотон-
ностью. Только она и забирает вас за душу. Оттого и
нужно считать ошибкой меры, что Решетников в одном
романе, как бы в микроскопе, хотел показать всю трудо-
вую судьбу русского рабочего человека. Та же самая
жизнь по частям, в виде отдельных монографий, с боль-
шими подробностями народного мировоззрения, явилась
бы совсем в ином виде и произвела бы впечатление не
мимолетное. И к чему такой широкий, всеобъемлющий
размах, чего спешить? Не был ли бы лучше ряд моно-
графий вроде жизни рабочих на соляных варницах, на
заводах, на железных дорогах, жизни люда подвальных
этажей и петербургского Никольского рынка, но все это
в подробных специальных картинах. Чем такая галерея
монографий хуже эпизодических картин на те же темы,
связанных в один сжатый роман, в котором для интереса
и ради уступки традиции впущены общею связью Пала-
гея Прохоровна и сердечный элемент нежной любви?
Если Решетников романом «Где лучше?» заявил
большую зрелость мысли и определенность замысла, то
в то же время он как бы выскочил из своей роли, слиш-
ком обобщив поле наблюдения и слишком расширив его
для одного опыта. Наблюдение выиграло бы и в ширине
и в глубине, если бы оно производилось по частям по за-
ранее обдуманному плану; но именно такого плана и не
327
замечается. Решетников точно спешит сказать сразу все
и оттого раскидывается. Но, с другой стороны, Решетни-
ков, может быть, оказался и прав, потому что умер слиш-
ком рано. Его, очевидно, подавляло обилие материала, а
при обилии трудно сохраняется мера и экономия. В Ре-
шетникове именно изумляешься богатству внутренних
средств, наблюдательной способности автора, сумевшего
столько увидеть, столько понять и столько запомнить.
В этом случае Решетникова нельзя укорить писателями
сороковых годов, напротив, этих писателей можно уко-
рить Решетниковым. Справедливо, что в отношении ли-
тературного и научного образования у Решетникова есть
просветы. Незрелость социально-экономической идеи ска-
залась в нем даже весьма заметно и повредила замыслу
и исполнению романов из народного быта, построенных
на экономической основе. Но, с другой стороны, где у пи-
сателей сороковых годов такое знание русского человека,
его быта, его положения? Читателю давали всегда одно-
го, двух, трех героев, мучеников одной идеи или одного
чувства, составлявших вместе с тем и специальность бел-
летриста. Решетников же подавляет вас сотнями и тыся-
чами людей, из которых каждый — герой, с которыми он
знаком, как с своими пятью пальцами, вместе с которы-
ми он изучил и быт почтовых людей, и быт духовных,
и жизнь в монастыре, и жизнь нищих, и жизнь мещан, и
жизнь рабочих всяких горных заводов и железных дорог,
и жизнь пьяниц петербургских кабаков, и жизнь петер-
бургских обитателей подвалов и т. д., и т. д., и т. д. Нет
такого народного слоя, в котором бы не побывал Решет-
ников своим собственным телом, — ведь это пройти сквозь
огонь, и воду, и медные трубы. Знание это богаче и креп-
че кабинетного знакомства с иностранными писателями,
и, уж конечно, в Решетникова не кинет никто упреком,
что он не читал Байрона. Может быть, даже и хорошо,
что он не читал его, и, может быть, только поэтому в Ре-
шетникове сохранились самостоятельность, своеобраз-
ность и букет народности.
Но, должно быть, и общей социальной идеи не мину-
ешь. Уже и теперь можно заметить на Решетникове ее
влияние, и это влияние отразилось в «Своем хлебе». Если
хотите, Решетников в «Своем хлебе» еще шире и общее,
но зато и дальше от своей задачи. «Свой хлеб» написан
на общую тему, которою жила русская беллетристика
.328
последних десяти лет. На эту тему писали Стебницкий,
Марко-Вовчок22 и многие другие: энергическая девушка,
которой невыносимо в семье, хочет найти свое место в
природе и жить своим трудом. Нова только обстановка,
в которой она действует; правдивы обстоятельства, заста-
вившие ее выделиться из среды, но сущность мысли не
представляет ничего ни нового, ни тенденциозного. Роман
даже и не кончен; он точно переход к чему-то, вступление
к новому роману, которым автор хочет разоблачить Пе-
тербург. Поэтому о «Своем хлебе» говорить много нечего.
В том, что дал автор, он остался верен себе, верен своей
манере тянуть за душу обилием мелочных подробностей,
верен правде жизни, которую он рисует просто, без при-
крас, без идеальной размалевки, выделывающей из про-
стых людей каких-то героев и титанов. Но зато Решетни-
ков слаб именно тем, что стал на чужую тропинку, что
он как бы не понял своего новаторского значения, своего
истинного призвания и оставил свою роль, не разыграв
ее до конца. Как только Решетников встал на ту дорогу,
по которой шли беллетристы высшей школы, он перестал
быть представителем народного реализма и пророком но-
вого слова, которое от него надеялись услышать. Гадать
о будущем, конечно, нечего. Сознал ли бы или не сознал
Решетников своего назначения — решать поздно; неоспо-
римо только то, что преждевременная смерть Решетни-
кова— большая потеря для русской народной мысли и
для выяснения русской народной жизни. Может быть,
Решетников и не открыл бы той точки, на которой реа-
лизм цивилизованных людей и народный реализм нашли
бы свое примирение и у которой Петров и Базаров протя-
нули бы друг другу руки; но что бы ни случилось, Решет-
ников выступил и пошел верно, и найдутся ли у нас в
настоящий момент работники, которые продолжали бы
(. о дело систематически, с хорошо обдуманной мыслью и
программой, — неизвестно. Преждевременная смерть Ре-
шетникова — огромная потеря, которую, может быть, еще
и не умеют оценить у нас достаточно. Для читателей
Шпильгагена Решетников может быть скучен и однооб-
разен, но это оттого, что мы еще и до сих пор идеальни-
чаем, не понимаем трезвой правды и трезвой жизни, жи-
вем мечтою и воображением и не умеем примирить слово
с делом. Слово наше всегда хорошо — дело* наше почти
всегда скверно. Мы лжем и обманываем себя и других
329
и теперь так же, как это делали десять лет назад. Наш
реализм — болтовня. Нет в нас органической простоты и
естественности, и, подобно Базарову, мы все подчерки-
ваем свои слова, гордимся своим напускным содержи-
мым, доставшимся нам головным путем, и совершенно
отошли от простоты и согласия в поступках и мыслях, на
которые намекает Решетников, давая образцы в Палагее
Прохоровне и Петрове.
Смерть Решетникова оставляет вопрос о народном
реализме открытым и едва намеченным. Выяснить его во
всех подробностях народного мировоззрения, указать его
руководящее значение и найти точку примирения с иде-
альным головным реализмом, идущим от Рудина через
Базарова, — вот задача будущих народных писателей.
Этот вопрос — основной вопрос прогрессирующей рус-
ской мысли. Он создан и вызван духом времени, и только
в исследовании его одного новый писатель найдет новую
для себя силу. Базаров уже сказал свое последнее слово,
и дело его не выгорело. Вот отчего он и стушевался. Про-
должать старую тему нельзя, сочинять вариации на
«Свой хлеб», «Своим путем»23, «Живая душа» или сочи-
нять пасквили вроде «Некуда» — напрасная трата време-
ни. Новый Рудин задумался и размышляет, и живую
струю можно искать и найти только в том источнике, в
котором ее отыскивал Решетников.
Напомню читателю любопытный факт. Когда хоро-
нили Решетникова, шел за гробом только кое-кто из ли-
тературы, а из публики никто. Когда же хоронили Лин-
скую — шла почти вся литература и тысячи народу24.
ПРОРОК СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО ИДЕАЛИЗМА
Сочинения Аполлона Григорьева.
Том I, СПб., 1876
1
Сочинения Аполлона Григорьева издал друг его
Н. Н. Страхов Г Он же после смерти А. Григорьева
напечатал в «Эпохе» письма Григорьева к нему2.
В предисловии Н. Н. Страхов говорит, что имя А. Гри-
горьева очень известно, но значение его — даже для ог-
ромного большинства — совершенно темно. Но «одна из
прямых и простых причин этого заключается, по словам
Н. Н. Страхова, в малой доступности для читающих са-
мого рода писаний Григорьева. Критика по существу дела
есть некоторое философское рассуждение и, следователь-
но, требует особого упражнения и усилия мысли»3. Это
ли причина, что значение Григорьева темно для большин-
ства? Правда, Григорьев писал не особенно ясно, язык
его угловат, тяжел и дубоват, но и для понимания Белин-
ского требовалось тоже особое упражнение и усилие
мысли, а ведь Белинского читали и понимали. Значит,
причина не в этом. В чем же? . . Когда Григорьев умер,
а это совершилось в сентябре 1864 года, в его портфеле
Н. Н. Страхов нашел лист бумаги, исписанный кругом
рукою Григорьева. Лист был озаглавлен: «Краткий по-
служной список на память моим старым и новым друзь-
ям». Вот содержание этого любопытного документа, как
он напечатан в «Воспоминаниях» Н. Н. Страхова.
«В 1844 году я приехал в Петербург, весь под веянием
той эпохи, и начал печатать напряженнейшие стихотво-
рения, которые, однако, очень интересовали Белинского,
чем ерундистее были4.
В 1845 году они изданы книжкою. Отзыв Белинского5.
В 1846 году я редактировал «Пантеон»6 и со всем
увлечением и азартом городил в стихах и повестях ерун-
дищу непроходимую. Но зато свою, не кружка.
331
В 1847 году поэтому, за первой свой честный труд, за
«Антигону», я был обруган Белинским хуже всякого
школьника 1.
Я уехал в Москву и там нес азарт в «Городском лист-
ке»8, но опять-таки свой азарт — и был обруган.
Вышла странная книга Гоголя, и рука у меня не под-
нялась на странную книгу, проповедовавшую, что «с сло-
вом надо обращаться честно»9.
Вышла моя статья в «Листке», и я был оплеван бук-
вально именем подлеца...10
В 1848 и 1849 году я предпочел заниматься, пока мож-
но было, в поте лица работой переводов в «Московских
ведомостях».
В 1850 году послал, не надеясь, что она будет приня-
та, статью о Фете11. Приняли. Я стал писать туда лето-
пись московского театра. Не надолго. Не переварилась 12.
Явился Островский и около него, как центра, кружок,
в котором нашлись все мои, дотоле смутные верования.
С 1851 по 1854 год включительно — энергия деятельности
и ругань на меня неимоверная, до пены рта. В эту же
эпоху писались известные стихотворения, во всяком слу-
чае, замечательные искренностью чувства 13.
«Москвитянин» падал от адской скупости... «Совре-
менник» начал заискивать Островского и, как привесок,
меня, думая, что поладим 14. Факты. Наехали в Москву
Дружинин и Панаев.
С 1853 по 1856 год, разумеется урывками, переводил
«Сон»; летом 18J56 года я запродал его Дружинину за
50 рублей 15.
Летом же написана одна из серьезнейших статей мо-
их: «Об искренности искусства», в «Беседе» 16. Молчание.
Вдруг, совсем неожиданно, я явился в «Современни-
ке» с прозвищем «проницательнейшего из наших крити-
ков» 17.
В 1857 году выдался случай ехать за границу. Там я
ничего не писал, а только думал. Результатом думы были
статьи «Русского слова» в 1859 году18. Возврат вообще
был блистательный. Сейчас же готовились выдать патент
на звание обер-критика. Некрасов купил у меня разом:
1) Venezia la bella *, 2) «Паризину» Байрона и 3) «Сон»
в его будущее издание Шекспира 19.
* Прекрасная Венеция (итал.).
332
В мое отсутствие вышли только: 1) мои стихотворе-
ния лучшей, москвитяниновской эпохи жизни у Старчев-
ского в «Сыне»20, статья о критике в «Библиотеке» (men-
tion honorable* с готовым патентом на обер-критика)21
и «Сон».
При статьях «Русского слова» вот как: цензор Гонча-
ров сам занес мне первую с адмирациями **. При после-
дующих— град насмешек Добролюбова23, взрыв о... хо-
хота в «Искре» и пр. Немало меня удивили потом братья
Достоевские, Страхов, Аверкиев мнением о них, а осо-
бенно Ильин, катающий из них наизусть целые тирады24.
А мысли-то мои прежние, москвитяниновские, вообще
все как-то получили право гражданства.
В июле 1859 года, в отъезд графа Кушелева, я не по-
зволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях доро-
гие мне имена Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погоди-
на, Шевырева. Я был уволен от критики25. Факт.
Негде было писать — я стал писать в «Русском ми7
ре»26. Не сошлись. У Старчевского27 — не сошлись.
В 1860 году я получил приглашение и вызов. Я поехал
на свидание. Привез ответ на дикий вздор Дружинина
«Пушкин — народный поэт», читал Каткову — очень нра-
вилось28. Отправился в Москву через месяц в качестве
критика. Статей моих не печатали, а заставляли делать
какие-то недоступные для меня выписки о воскресных
школах и читать рукописи, не печатая, впрочем, ни одной
из мною одобренных (между прочим, «ярмарочных сцен»
Левитова)29 и печатая вещи Раисы Гарднер, обруганные
мною...30 Зачем меня приняли? Бог один ведает...
Факты.
Опять в Петербург. Начало «Времени». Хорошее вре-
мя и время недурных моих статей. Но с четвертой покой-
нику Достоевскому стало как-то жутко употребление
имен (ныне беспрестанно повторяемых у нас) Хомякова
и проч.31
Вижу, что и тут дело плохо. В Оренбург.
Воротился. Опять статьи во «Времени»... Плещеев
писал между прочим Михаилу Михайловичу, по поводу
статей о Толстом32, что «в статьях Григорьева найдешь
* Награда (франц.).
** Адмирация — от admiration (франц.) 22 — восхищение.
333
всегда много поучительного». Еще бы!.. Получше люди
находили — да еще тирады, как Ильин, наизусть катали!
Недурное тоже время. Ярые статьи о театре — культ
Островскому и смелые упреки Гоголю за многое, бесцен-
зурно и беспошлинно33.
Нецеремонно перенес три больших места из старых
статей в новые, не находя нужным этих мест переделы-
вать34. Опять обвинен «в похищении гривенника» возра-
довавшимися этому нашими врагами и в неизвинительной
распущенности друзьями, забывшими, что целый год из
«Наблюдателя», статьями целиком, как о Полежаеве, пе-
реносил в «Записки» Белинский35.
Запрет «Времени». Горячие статьи в «Якоре»36.
Опять «Эпоха»37! Опять с теми же культами и теми же
достоинствами и недостатками. Редакторская цензура! ..
Ну, и что же делать? Видно и с «Эпохой», как крити-
ку, а не как другу, конечно, приходится расставаться.. *
Тем более... но пора кончить...»
«Послужной список» Григорьева есть конспект его ду-
шевной летописи. Разъяснив ее по его письмам, мы пой-
мем Григорьева как человека. Григорьев — исторический
продукт, он повторение в литературе того, хотя с иным
оттенком и в меньшей силе, чем были в живописи Брюл-
лов, а в музыке Глинка. Если бы Григорьев ту же соб-
ственную душу, вместо того чтобы высказывать ее слова-
ми, высказал звуками, у него было бы больше почитате-
лей и его бы знали лучше. И это не парадокс. Какое был
явление Григорьев, какой именно момент изображал он
собой как представитель известного направления, нам
покажут лучше всего его письма, а почему его направле-
ние осталось без последствий — покажут его статьи.
п
Григорьева заедало чувство «ненужности», которое со-
чится душевной болью в каждом слове его послужного
списка. В письме от 18 июля 61 года он говорит, что мно-
го, много невозможного нужно для того, чтобы жизнь
хоть на минуту перестала ему представляться с ее чер-
ных сторон. «Самая простая вещь, — пишет он, — что я
решительно один, без всякого знамени. Славянофильство
также не признавало и не признает меня своим, да я и
334
не хотел никогда этого признания. Один человек, с кем
у меня все общее, — Островский; да ведь и о нем, подав-
шем руку тушинцам38, я по отношению к себе могу ска-
зать:
А тот, чей острый ум тебя и понимал,
В угоду им тебя лукаво порицал 39.
Погодин, единственный мой политический вождь, так
падок до популярности, что из рук вон. Подумай-ка, мно-
го ли людей, ищущих правды? ..»
И затем Григорьев говорит, что есть вопрос, который
глубже и обширнее всех наших вопросов того времени —
и вопроса о крепостном состоянии, и вопроса о политиче-
ской свободе, — это вопрос о нашей умственной и нрав-
ственной самостоятельности. Этот вопрос о самостоятель-
ности явился, по словам Григорьева, в допотопных
формах в «Москвитянине», — явился молодой, смелый,
пьяный, но честный и блестящий дарованиями. То была
пора первого появления Островского, Писемского, пора,
когда, под покровительством Погодина и его щитом, мо-
сковская передовая молодежь зрела и формировалась.
«О, как мы тогда пламенно верили в свое дело, — пишет
А. Григорьев, — какие высокие, пророческие речи лились,
бывало, на попойках из уст Островского, как безбояз-
ненно принимал тогда старик Погодин ответственность за
свою молодежь, как сознательно, несмотря на пьянство и
безобразия, шли мы все тогда к великой и честной цели!..
Пуста и гола жизнь после этого сна...» Еще бы не пуста!
Время увлечения, то время, когда Лежнев40, в порыве
любви к человечеству, обнимал и целовал липу, — эта
пора переживается, как известно, всяким порядочным че-
ловеком и на всякого кладет свое клеймо. Кружок, в ко-
торый попал Григорьев, находился под влиянием Пого-
дина и славянофильства, которое, впрочем, Григорьев то
отрицал в себе, говоря, что он служит славянству, то при-
знавал себя неисправимым славянофилом. Но если, по
словам Инсарова, вся штука заключалась в том, чтобы
выгнать турок из Европы41, то штука, которой хотел кру-
жок погодинских учеников, была хитрее. Человек более
спокойного ума выскочил бы скоро на прямую дорогу, но
Григорьев был горячий энтузиаст, человек очень пылкий
и нетерпимый, и потому понятно, что он запутался,—
335
О
запутался в самой шири того, что он чувствовал, к чему
стремился, но чего нельзя было поймать.
А. Григорьев советует Н. Н. Страхову сойтись поко-
роче с Островским, потому что только у него одного мож-
но узнать элементы будущего возрождения (допотопного
бытия) в новых, стройных формах. По поводу «Кузьмы
Минина» Островского А. Григорьев говорит, что в этом
произведении, составляющем событие, прямое быть или
не быть положительному представлению народности и,
может быть, такой толчок вперед, какого еще и не пред-
виделось. Но, по словам того же А. Григорьева, Остров-
ский еще не все — он только одна сторона новой веры.
«Если бы я верил только в элементы, вносимые Остров-
ским, давно бы с моей узкой, но относительно верной и
торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние духа
жизни... Но я же верю и знаю, что одних этих элемен-
тов недостаточно, что полное и цельное сочетание стихий
великого народного духа было только в Пушкине, что
могучую односторонность исключительно народного, по-
жалуй земского, что скажется в Островском, должно уме-
рять сочетание других, тревожных, пожалуй бродячих,
но столь же существенных элементов народного духа в
ком-либо другом. Вот когда рука об руку с выражением
коренастых, крепких, дубовых начал пойдет и огненный,
увлекающий порыв иной силы — жизнь будет полна и ли-
тература опять получит свое царственное значение.
А этого, бог знает, дождемся ли мы! Шутка — чего я
жду! . .»42 Да, штука, которой хотел Инсаров, была про-
ще. Но А. Григорьеву в минуты веры и энтузиазма все
казалось возможным. Он считал возможным появление
такого поэта, стих которого ударил бы по сердцам с не-
ведомой силой и журчание поэтических звуков которого
напоило бы весь окружающий нас воздух, и в каждом
сердце забила бы живым ключом вера, любовь, порыв
лиризма. «Не говори мне, что я жду невозможного, та-
кого, чего время не дает и не даст, — пишет А. Григорь-
ев,— жизнь есть глубокая ирония во всем; во времена
торжества рассудка она вдруг показывает оборотную сто-
рону медали и посылает Калиостро43; в век паровых ма-
шин — вертит столы и приподнимает завесу какого-то та-
инственного, иронического мира духов, странных, причуд-
ливых, насмешливых, даже похабных». И рядом с этой
верой в будущее идет полное безверие в самого себя.
336
В минуты безверия А. Григорьев называл себя старой,
никуда не годной кобылой, и все, что зовется деятельно-
стью, представлялось ему ничтожным, пустым и мелким
в сравнении с тем, что «едино есть на потребу». В минуты
сомнения А. Григорьев отрицал все направления тогдаш-
ней журналистики, и «Современника», и «Русского вест-
ника», и всех и вся, и самого себя par dessus le mar-
che... * Эти тяжелые минуты сознания своей ненужности
и полное отчаяние безверия во что бы то ни было дей-
ствовали страшно на А. Григорьева. В такие минуты пред
ним вставала безотраднейшая мысль безотраднейшей
книги «Экклезиаста», — мысль о суете сует44. «Муки во
всем сомневающегося ума — вздор в сравнении с муками
во всем сомневающегося сердца, — пишет А. Григорь-
ев,— сердца, озлобленного и само на себя, и на все,
что оно кругом видело... Да, я все видел над собою, и. от
этого виденного у меня в одну ночь вырастали в бороде
и висках седые волосы...» И затем Григорьев говорит,
что в его жизни никто не виноват, кроме его прирожден-
ного веяния. «Не в ту струю попал — струя моего веяния
отшедшая, отзвучавшая, и проклятие лежит на всем, что
я ни делал».
То, что рассказывает о себе Григорьев в «послужном
списке» и в одном из писем, могло действительно вызвать
только самое мрачное отчаяние и безверие. Куда бы ни
являлся Григорьев с своей работой, везде у него срыва-
лось, и кончал он тем, что приходилось разойтись с жур-
налом. Последнее время он пристроился к «Времени», но
и тут чувствовал себя одиноким. «Лучше я буду кирги-
зов обучать русской грамоте, чем обязательно писать в
такой литературе, в которой нельзя подать свободно руку
хоть бы Аскоченскому, в том, в чем он прав, и смело спо-
рить с кем угодно»45. Его глубоко оскорбляло совершен-
но, впрочем, справедливое замечание М. Достоевского,
что Киреевский и Хомяков вовсе не глубокие мыслите-
ли46. Такая, по-видимому, мелочь, как исключение из ста-
тьи Григорьева эпитета глубокие, выводила его из себя.
Понятно, как он должен был относиться к тем, кого он
не считал людьми своего лагеря и обзывал тушинцами.
Давая совет «Времени», как ему поступить, чтобы сде-
латься честным, самостоятельным и первенствующим
В придачу (франц.).
€
• 337
органом, он говорит, что первое дело — принять^лозунгом
абсолютную правду, а второе — не заводить срамной
дружбы с «Современником». «Пока не пройдут Добро-
любовы, честному и уважающему свою мысль писате-
лю,— говорит Григорьев, — нельзя обязательно литера-
торствовать, потому что негде, потому что повсюду гонят
истину, а обличать тушинцев совершенно бесполезно.
Лично им это как к стене горох, а публика тоже вся на
их стороне. Но понимает ли публика то, что она читает,
и то, что она слышит, понимает ли литература и журна-
листика то, что она делает?» Григорьев говорит, что ни
публика, ни журналистика не понимают, в сущности, ни-
чего и играют в пустые слова. «Гласность, свобода, — го-
ворит Григорьев, — все это, в сущности, для меня сло-
ва, — слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессо-
держательные. Гласность «Искры», свобода «Русского
вестника» или теоретиков, — неужели в серьезные мину-
ты самоуглубления можно верить в эти штуки?» В Европу
Григорьев не верил, не верил он и в тамошнюю науку.
Про себя он говорит, что он не консерватор, но и не ре-
волюционер. По своим политическим взглядам он себя не
считал славянофилом. Не верил он и в перемены форм
жизни и, хотя сочувствовал многому, но веры ни во что
не имел. «Дело иное сочувствие, и дело иное вера. Согла-
сись, — пишет он Н. Н. Страхову, — что ведь, в сущности,
и ты только сочувствуешь, а веришь еще плохо! Да и ве-
рить-то пока не во что». Причину этого безверия, мрака
и хандры, одолевших Григорьева до апатии, до полной
безнадежности, он сам объясняет в одном письме «неумо-
лимыми заложениями аскетизма и пиетизма, ничем зем-
ным не удовлетворяющимися». «Если б я был богат, —
пишет Григорьев, — я бы, вероятно, вечно странствовал
и, конечно, преимущественно с религиозными целями, к
великому горю и, может быть, даже смеху вас всех!»
В Григорьеве, как и во всех подобных ему натурах,
чувство любви заключало в себе много неопределенного,
неясного, трудно удовлетворяемого и потому склонного
к религиозному мистицизму, отворачивающемуся от все-
го реального и зато тем легче отдающемуся трудно удов-
летворяемому идеализму, переходящему в мечтатель-
ность. Г-н Страхов рассказывает, что перед отъездом
Григорьева в Оренбург его сильно мучило сомнение по
одному житейскому делу. Он спрашивал совета г. Стра-
338
хова и раз даже вздумал настаивать, чтобы он решил это
дело за него. «Когда я отказывался решить дело, которое
я не ясно понимал, — говорит г. Страхов, — он стал про-
сить, чтобы я помолился и попросил решения свыше.
Хмельной, указывая мне на стену моей комнаты, он на-
стойчиво повторял: —Geh und bete! Geh und bete!» * В ми-
нуты приступа подобного душевного состояния Григорь-
ева грызла безысходная хандра. Тогда он глушил в себе
самые светлые воспоминания, и когда они вставали все
так же светлые, не потерявшие никаких своих прав над
душою, «мне становилось страшно, — говорит он, — и я
чувствовал, что увы! одно только глубокое, болезненное
сожаление приковывает меня к моему настоящему миру»
лишенному ♦всякого разумного и нравственного значе-
ния». Три раза в Оренбурге он уже хотел все это поре-
шить и мог порешить, как пишет он. «Да, выйдешь, бы-
вало, из дома, перекрестишься на церковь и вдруг ска-
жешь себе: нет, потерплю еще, пострадаю еще... Больше
сея любви ничто же есть, аще кто душу свою положит
за други своя...47 А на душе от такого решения легче
все-таки не становилось. Понятно, почему. Я знал, что,
живя так дальше, я влекусь неминуемо к гибели, не фи-
зической, а нравственной, к жизненным подлостям, к по-
тере самого дорогого — моих убеждений. Мысль зрела,
зрела, тоска грызла, грызла и, разумеется, воспоследовал
загул. Что затем было — определить трудно. Все кругом
меня завертелось, и, кажется, самая жизнь сошла с
ума... И все это я понимаю. ..Ив конце концов стонет
только одно слово: жаль! жаль, и ничего не поделаешь!
Так должно быть. Вот я нынче... и пошел на урок. Хожу
по классу и диктую грамматические примеры, а что-то
давит грудь, подступает к горлу и того и гляди прорвет-
ся истерическими рыданиями...»
В Григорьеве было очень много чувства любви, кото-
рую можно бы назвать семейной, прародительской, исто-
рической. И его любовь к поэзии имела тот же оттенок.
Он дорожил всем, что напоминало ему эпоху молодости,
и потому ему было совершенно непонятно равнодушие
молодого поколения к Пушкину. В одном письме Гри-
горьев говорит, что современное молодое поколение отне-
сется с холодностью к пламенным строфам Гарольда,
* Иди и молись (нем.).
339
которого он переводил тогда48, отнесется холодно ко все-
му тому, «чем мы жили, по чему мы строили свою
жизнь, — все это не нужно. Нужны Минаевы, некрасов-
ский откуп народных слез, статьи Добролюбова и «Ис-
кра». Вот что нужно... и только!» Понимая современное
молодое поколение, Григорьев жил любовью к России в
ее органических началах, и там, где он не находил «исто-
рии», ни жизнь, ни люди, ни такое же честное искание
правды, каким отличался и сам Григорьев, ему были не-
понятны.
В первом письме из Оренбурга он пишет, что ничего
он не боялся так, как жить в городе без истории, преда-
ний и памятников. И вот как раз он очутился именно в
таком городе. Кругом глушь и степь да близость Азии.
«Город — смесь скверной деревни с казенными домами.
Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ниче-
го, ничего». Тверь поразила Григорьева своею мертвен-
ностью: «Точно сказочные города, которые заснули. А у
нее была история, — куда же она подевалась? Только ве-
ликолепный по стилю иконостас испорченного местным
усердием собора напоминает еще о бывшей жизни». Яро-
славль пленил Григорьева своей неописанной красотой,
и он называет его настоящей столицей Поволжья, но зато
он еще больше был огорчен всем тем, что нашел за Ка-
занью. Волгой Григорьев восхищается, но «я, — говорит
он, — романтик, вспоминал о ее разбойниках, тем более
что их грабительство en grand * разменялось на мелочь,
на грабительство извозчиков и проч., а крик: «сарынь на
кичку» разменялся на бесконечные крики: «на водку!»
С Казанью кончаются города и начинаются сочиненные
притоны вроде Самары, Бузулука и Оренбурга».
Конечно, это еще не дает ясного понятия о том орга-
ническом, к чему тяготел Григорьев. Но во всей истории
прошлого и во всем новом он ценил только то, что назы-
вал умственной и нравственной самостоятельностью. На
вопрос Н. Н. Страхова, в чем она должна быть, А. Гри-
горьев отвечает таким вопросом: «В сфере науки, напри-
мер, что мы предъявим на суд истории, как ты думаешь?
Вероятно, не «Судьбы Италии» Кудрявцева49 и не «Аб-
бата Сугерия» Грановского50, даже не философские ста-
тьи Каткова51, а 1) объяснение Геродотовой Скифии и
* В большом масштабе (франц.).
340
другие в£щи Надеждина52, 2) громадную ученость и ори-
гинальные взгляды на жизнь и историю Сенковского,
3) уединенное мышление Киреевского, 4) религиозные
«Записка о Всемирной истории»53 и брошюры Хомякова
да 5) погодинские письма в сфере политики»54. Вот с чем,
по мнению Григорьева, Россия должна явиться на суд.
Но что же это такое? «Это не славянофильство», — гово-
рит Григорьев, и в другом письме пишет, что он так же
мало славянофил, сколько мало западник, так же далек
от Аскоченского, как и от Добролюбова. «Что же я та-
кое?— спрашивает Григорьев. — Этого пока я еще и сам
не знаю. Прежде всего я критик, засим — человек, верую-
щий только в жизнь». Так ли?
Как критик Григорьев отличался чутьем, хотя в то же
время очень часто увлекался и преувеличивал. Прочитав
в «Отечественных записках» первую статью Щапова «Ве-
ликорусские области во времена междуцарствия», Гри-
горьев увидел в статье фактическое оправдание всего
того, что думает о Руси и ее истории г. Островский и что
он сам думал и гадательно высказывал, и затем он де-
лает через г. Страхова замечание «Времени», которое го-
няется за такими писателями, как Маслов, и не умеет
залучить Щапова, который носит в себе целое, совсем
новое и вполне народное направление. «Как это журна-
лу, толкующему непрерывно о народности, не сойтись с
Щаповым и Павловым?55 Тут, в этих статьях, новым
веет и пахнет. Оно идет, это новое, и в этих статьях и,
может быть, в «Минине» Островского, — идет на конеч-
ное истребление б.. .словия «Вестника», празднословия
западников, суесловия «Дня», хохлословия Костомарова
и буесловия «Современника». А вы зеваете да печатаете
буйство Масловых56 и грошовый либерализм...» Затем
он спрашивает, какую цель хочет преследовать «Время»?
Иной, кроме знания широкой народности, ему и иметь
нельзя; все другие цели: социализм, английское устрой-
ство, русская народность и проч., и проч, разобраны.
«Еще вопрос: где будет «Минин»? В «Современнике»
быть ему неприлично, в «Дне» невозможно, в «Библиоте-
ке»? 57 Отчего же не у вас? Денег, что ли, не хватит при
пяти тысячах подписчиков? Краевский, вероятно, купил
бы его на вес золота, и хорошо бы сделал. Пусть Остров-
ский положит его на весы, как Бренн положил меч, и
341
скажет: vae victis *. Устранивши глупую вражду с Ост-
ровским, «Записки» с Щаповым опять станут передовым
органом, а вы зеваете. Ведь пять тысяч подписчиков ре-
зультат чего — пресыщения публики тем, что дают ей, и
упадка «Русского вестника». Ведь это все еще в ожида-
нии будущих благ от свежей новинки, поймите это, «гос-
пода и братия». Нужна прочная основа — определенность
взгляда и борьба за взгляд». В этих словах Григорьев
является чистым публицистом с чутьем, является бойцом,
знающим, как пользоваться минутой, чтобы расположить
свои силы и пользоваться ими.
Вот весь Григорьев, каким мы его видим в его пись-
мах. Материал этот, конечно, не особенно богатый, что-
бы определить вполне состав души Григорьева, и допол-
нить сведения могли бы поэтому лучше всего его друзья.
Н. Н. Страхов и делает это своими примечаниями к ка-
ждому письму.
Если бы определения темперамента человека было
совершенно достаточно для определения состава его
души, то Григорьева следовало назвать меланхоликом.
Темперамент ли действовал на его душевную деятель-
ность, или деятельность изменяла его темперамент, ео по
общему он меланхолик, переходящий в ипохондрика.
Г-н Страхов называет впечатлительность Григорьева бо-
лезненной. Григорьев вообще не был избалован похва-
лами, и на него в литературе нападали постоянно, боль-
шею частью он не обращал внимания на нападки, а ино-
гда пустяки совершенно выбивали его из себя. То у него
являлось как будто слишком много самолюбия, то слиш-
ком мало. Но сильнее всего действовало на него молча-
ние. В этом отношении Григорьеву особенно не везло, и
едва ли кто-нибудь из писателей встречал так мало пуб-
личных заявлений сочувствия, как Григорьев. По словам
г. Страхова, молчание веяло на него холодом и пустотою
и парализовало его совершенно. Вот где причина, что он
считал себя ненужным и не находил себе места в при-
роде. Ему иногда казалось, что новая жизнь, которой он
не хотел признавать, скоро уничтожит и изменит всех
людей его настроения. Когда Майков читал в кругу зна-
комых свою еще ненапечатанную поэму «Смерть Люция»,
* Горе побежденным (лат.) 58.
342
Григорьев после чтения воскликнул: «Я умру, как Лю-
ций, ни от чего не отрекаясь» 5д.
Григорьев по чувствам человек общественный; он
боец, и в минуты самого большого личного страдания он
старался искать утешения в чтении с&оих любимых пи-
сателей. Так, в Оренбурге, пишет Григорьев, в минуты
горя он окружал себя страстно преданными учениками
или читал «Минина». «И я плачу, и все кругом меня пла-
чет, и до ночи верится, что в жизни есть что-нибудь по-
выше личного страдания»60. В самых тяжелых случаях,
в минуты тревоги и расстройства^ точно также, как в ми-
нуты сильного возбуждения, все равно, с вином или без
вина, Григорьев, по словам г. Страхова, забывал о себе
и всею мыслью бросался в сферу общих интересов. Впе-
чатлительно-нервный, он не мог ни работать, ни думать
спокойно и жил приливами и отливами энтузиазма. За
возбуждением следовал всегда упадок сил, Григорьев
тускнел, обесцвечивался, точно терял самого себя, и за-
тем следовало смутное, тревожное искание идеала в сво-
ей собственной жизни. Как все нервики и энтузиасты,
Григорьев был человек в высшей степени напряженный.
У него не было ровного спокойствия, точного знания сво-
их сил и уменья пользоваться ими правильно. Меланхо-
лик и мистик, он звал себя «веянием» и отдавался своим
внутренним течениям, думая, что непогрешимость лежит
в самой природе человека и в неошибающейся сердечной
непосредственности. Отдаваясь чувству и живя чувством,
Григорьев не давал особенной цены принципам и в жизни
их, как кажется, совсем не имел. Таким же он был и в
своей работе. Как сам говорит, начиная писать, он не
знал, что он будет писать и как напишет. Увлекаемый
веяниями, Григорьев не хотел делать ни малейшей уступ-
ки чужим мнениям. Несмотря на то, что он обвинял дру-
гих, что они не ищут истины, сам Григорьев этой истины
искал не путем рассудочным и не путем знания, а каким-
то внутренним наитием, с мистической верой, что правда
сидит в душе человека прирожденною. Хотя Григорьев
нигде и не высказывает прямо этого, но вера в веяние и
в какое-то призвание свыше заставляет думать, что Гри-
горьев смотрел на себя как на боговдохновенного проро-
ка. Понятно, что такое воззрение на себя не оправдыва-
лось ни самою деятельностью Григорьева, ни теми исти-
нами, которые он думал проповедовать. Если он был
343
способен возбудить энтузиазм в людях увлекающихся и
молодых, то едва ли можно было ожидать, чтобы он
воздействовал на людей, хотя тоже отличавшихся не
меньшим энтузиазмом, но мысль которых была вполне
определенна, программа ясна и поведение точно. В столк-
новении с этими людьми Григорьев должен был почув-
ствовать свое нравственное и умственное бессилие и, ко-
нечно, их возненавидел. Искатель безусловной правды,
он не умел жить во времени и должен был прийти к со-
знанию, что от жизни, от настоящего отворачиваться
безнаказанно нельзя. Так и случилось. Беспорядок души,
чего-то искавшей, чем-то неудовлетворенной, отразился
беспорядком мысли, беспорядком всего строя и склада
жизни и привел Григорьева к преждевременному истоще-
нию, упадку сил и смерти.
В июне 1863 года Григорьев внезапно приехал в Пе-
тербург. Григорьев был в очень дурном положении и стал
усердно работать, чтоб выйти из него. Он написал целый
ряд критических статей во «Времени» и мало-помалу
оправился и устроился. К концу года он даже пустился в
щегольство своим костюмом. И все это как-то вдруг рух-
нуло, говорит г. Страхов. «Началось это разрушение как
раз с начала издания несчастного «Якоря». Конечно, у са-
мого Григорьева было желание иметь такой орган, где
бы он мог вполне высказываться, потому что это ему не
удавалось или не дозволяли в других органах, и вот Гри-
горьев принялся горячо за дело и поехал в Москву, что-
бы подобрать сотрудников. Москва подействовала на
Григорьева дурно. Возбудила ли она в нем воспоминание
молодости и тех светлых минут, когда он жил всею ду-
шою в мечтах о светлом будущем России, правильно
развившейся из основ, но только Григорьев прогулял все
деньги и вернулся в Петербург, не сделав для журнала
ничего. Григорьев хотя и очень трудился над первыми
нумерами «Якоря», но из них ничего не вышло, и, увидев
н'еудачу, он упал духом. Мысль и жизнь точно в нем вы-
дохлись, и ни об литературе, ни об России ему и сказать
было нечего. Только о театре он писал еще с увлечением
и статьями этими привлек внимание. К этому же времени
принадлежит начало «Эпохи». Григорьев как будто при-
ободрился, опять явился литературным критиком; но в
этой и прежней работе была уже большая разница. Гри-
горьев вел беспорядочную жизнь, работал мало, и его
344
денежные затруднения не уменьшались, а увеличивались.
В конце июня, говорит г. Страхов, он опять попал в дол-
говое отделение. На некоторое время он приободрился,
перестал пить, стал работать усерднее, но это продолжа-
лось недолго. И прежде Григорьев бывал в подобных же
положениях, но он легче приходил в себя. Теперь же, как
ни возились друзья с Григорьевым, что они ни делали,
ничто не помогало. Помощь не была помощью. Деньги,
которые брал Григорьев, исчезали, точно он их ронял в
воду, и на другой день он опять в них нуждался и опять
просил. Друзья недоумевали и не знали, что делать.
Нужно было выждать, не придет ли Григорьев в порядок
сам, но он в порядок не приходил, и даже освобождение
его из долгового отделения по желанию одной, незнако-
мой ему дамы ни привело ни к чему. Через четыре дня
после освобождения Григорьев умер. Умственная и прак-
тическая беспорядочность убили человека, который при
других условиях не раскидал бы так своих способностей
и сил.
Что говорить об этом человеке, последней волне того
течения, которое было так сильно в пору молодости Гри-
горьева! Это течение заело не его одного, и только одно
оно было причиной, что Григорьев был не в силах понять
своего времени и примкнуть к новому направлению. «Вея-
ние» не привело его ни к какому берегу, а породило толь-
ко беспорядок в мыслях и чувствах и отняло всякое жиз-
ненное значение даже от всего того, что он носил в себе
хорошего. И причиной этого был все тот же мечтательный
и злополучный славянизм и «основы», которые заставили
Григорьева закрыть глаза от жизни и уйти в мечты о не-
достижимом. Сам Григорьев говорил, что жизнь мстит
тем, кто от нее отворачивается, и выкидывает их из себя.
Так она и поступила с Григорьевым. Можно сказать, что
Григорьева заел славянизм, заела ошибочная мысль и
вера в самобытность каких-то славянских основ, не тех
основ народности, которые каждому народу создают его
европейский, типический вид, а тех основ, с которыми
будто бы мы, русские, призваны исправить культурные
ошибки Европы и дать мировому прогрессу иное, сла-
вянское направление. Григорьев был последним могика-
ном этого направления, последним выразителем старой
веры, и если ему не пришлось, подобно Юлиану-отступ-
нику, сказать: «Ты победил, галилеянин»61, то это
345
придется сказать тем, кто после Григорьева вздумал бы
молиться старым богам.
Если бы Григорьев был человеком с политической
жилкой, конечно, он понял бы все свои ошибки. В жизнь
нельзя выступать с одними веяниями, а ей нужно давать
готовую программу. Григорьев хотел начать с того, чем
можно только кончить. Он бесплодно гонялся за мечта-
тельным идеалом и называл теоретиками тех, кто, в сущ-
ности, были истинными общественными практиками. От-
того Григорьеву и был так ненавистен реализм, а «Мир
божий» г. Разина он считал чуть ли не богохульной и
развращающей книгой62.
Ш
У Ап. Григорьева было много мыслей, под которыми
подписался бы любой из тех, кого Григорьев называл
тушинцами и теоретиками63. Мысли эти ввели многих в
недоумение, и пока Григорьев не выяснился, его готовы
были залучить в критики журналы самых противополож-
ных направлений. Это лучше всего доказывает, что то
свое, которым Григорьев хотел отличаться, было слиш-
ком неясно и неопределенно. Не могло бы этого, конечно,
случиться, если б Григорьев обладал точным, ясным
взглядом, выработанными принципами, установившимся
мировоззрением, а не одними правильными, а чаще непра-
вильными мыслями. Правильные мысли больше всего
сбивали с толку поклонников Ап. Григорьева, да, пожа-
луй, и нынче еще вводят в недоразумение фельетонных
критиков.
Говоря о «значении комедии Островского в литера-
туре и на сцене»64, Ап. Григорьев старается определить,
что такое народность в литературе. Он разделяет народ
в обширном смысле от народа в тесном смысле. Народ в
обширном смысле — собирательное лицо, слагающееся из
черт всех классов народа, высших и низших, богатых и
бедных, образованных и необразованных. Это, так ска-
зать, средний человек, имеющий общую, типическую, ха-
рактерную физиономию, физическую и нравственную, ко-
торой он отличается от других собирательных народных
единиц. Под именем же народа в тесном смысле он по-
нимает ту часть его, которая наиболее, сравнительно с
другими, находится в непосредственном, неразвитом со-
346
стоянии. Литература будет народной в первом смысле^
если она отражает взгляд на жизнь, свойственный всему
народу, но определившийся с большею точностью и худо-
жественностью в передовых ее слоях. В тесном же смыс-
ле литература будет народной, если она приноравли-
вается к взглядам, понятиям, вкусам неразвитой массы
для ее воспитания или же изучает эту массу как нечто
отдельное, даже чудное, чтобы знакомить с нею развитые
слои общества. В обоих случаях предполагается извест-
ная разрозненность; но в первом смысле народность ли-
тературы есть понятие безусловное, лежащее как бы в
природе, а во втором это понятие относительное, обязан-
ное своим происхождением болезненному факту. Подоб-
ную литературу Ап. Григорьев не считал художествен-
ной.
Верно ли такое деление? С первого взгляда — да, а в
сущности — нет. Совершенно справедливо, что французы
противопоставляют слову nationalite* термин populari-
te**. Но неужели Григорьев не счел бы художественным
такое произведение из жизни народа в тесном смысле,
в котором представлялись бы его понятия, и чувства, и
мысли, и драматические положения, и высший, потря-
сающий трагизм, неизвестный людям интеллигенции? По-
чему же, если изображение будет художественно, то
есть если не будет похоже ни на статистику, ни на этно-
графию, а дает живое, потрясающее изображение вну-
треннего душевного мира простолюдина, оно не будет
художественно? Разве Островский своими комедиями не
открыл неведомый, новый мир, разве он не ознакомил
развитых людей, развитое общество с чудными сторонами
купцов и простолюдинов, и почему в таком случае
Ап. Григорьев считал Островского первым русским писа-
телем? Мы ставим этот вопрос, конечно, не для того, что-
бы опровергать Ап. Григорьева, а только для того, чтобы
указать на неточность и неясность его мысли. Ап. Гри-
горьев говорит, что народная литература во втором смыс-
ле не больше как педагогика или естественная история.
А художество если и берет тип из мира в тесном смысле
народного, то показывает только то, что цельнее в этом
* Народность (франц.).
** Общедоступность (франц.).
347
мире удерживает и обозначает тип общей родовой нацио-
нальности, одинаково общей всем слоям. Если брать это
определение прямо, придется, конечно, исключить целую
массу произведений и вычеркнуть из литературы «Запи-
ски охотника», на что Григорьев, конечно бы, не согла-
сился. Как обобщение и, пожалуй, как тенденция, мысль
Григорьева может быть принята, но она, во всяком слу-
чае и несмотря на свою кажущуюся широту, односторон-
ня и однопредметна. Пускай народная литература в тес-
ном смысле обязана своим происхождением болезненно-
му факту, но ведь она сама по себе факт и такой же факт
и ее художественное воспроизведение. Значит, игнорируя
целую область литературы народных типов, не чудные,
не этнографические, а чисто творчески-психологические,
Григорьев только противоречит себе. Прежде чем узнать,
общие или не общие черты изображаются художествен-
ной литературой, нужно обрисовать все черты. И только
тогда, когда они явятся, можно их рассортировать и ска-
зать, что верно, что неверно, что общее, что не общее.
Сам Ап. Григорьев говорит, что когда приходится го-
ворить о литературе греческой^ английской, итальянской,
испанской, даже немецкой и французской, никому и в го-
лову не приходит спросить, народные ли поэты Гомер и
Софокл, Шекспир и Байрон, Дант и Ариосто, Гете и Шил-
лер, даже Расин, Мольер, Беранже. Отчего же, как толь-
ко мы, русские, беремся за кого-либо из наших поэтов,
первый вопрос, народен ли он и в какой степени народен?
Что за тревожное искание своей народности? Есть ли ему
основание? Что оно доказывает? С другой стороны, если
мы возьмем нашу прежнюю письменность, от Нестора до
Посошкова, то никому даже и не явится вопрос: народна
ли эта письменность? В-третьих, какие мысли и какой
язык поймет и почувствует полнее русский человек? Те
ли, которые он встретит у Посошкова, или же те, которые
найдет у цивилизованных писателей прошлого и нынеш-
него века? Наконец, почему самый неразвитый и необра?
зованный немец поймет и умом и чувством гораздо лучше
Гете и Шиллера, чем кого-нибудь из своих древних пи-
сателей? Поставив эти вопросы, Григорьев вовсе их не
разрешает так, как можно было ожидать. Он на факты
желает отвечать фактами и цитирует некоторые места из
наших прежних письменных памятников — места, вы-
бранные необыкновенно удачно, так, например, такое
348
место о совещании Владимира с Святополком о похбде
на половцев:
«В лето 6619 вложи бог Володимерю в сердце, и нача
глаголати к брату своему Святополку, понужая его на
поганья, на весну. Святополк же поведа дружине своей
речь Володимерю; они же рекоша: не время ныне погу-.
бити смерьды от ролью. И посла Святополк к Володи-
мерю, глаголя: да быхом ся сняли и о том подумали бы-
хом с дружиною. Послании же приидоша к Володимерю
и поведоша всю речь Святополчю, и прииде Володимер
и сретостася на Долобьске и седоша в едином шатре —
Святополк с своею дружиною и Володимер с своею.
И бывшу молчанью, и рече Володимер: брате! ты еси ста-
рей; почни глаголати, как быхом промыслили о русьской
земли. И рече Святополк: брате! ты почни. И рече Воло^
димер: како я хочу молвити, а на мя хотят молвити твоя
дружина и моя, рекуще: хощешь погубити смерьды и
ролью смерьдом? Но се дивно ми, брате, иже смерьдов
жалуете и их коний, а сего не помышляюще, еже на весну
начнет смерьдь тот орати лошадью тою, — и приехав по-
ловчанин, ударит смерьда стрелою и поиметь лошадь ту,
и жону его, и дети его, и гумно его зажжет; то о сем чему
не мыслите?» И рекоша вся дружина: право, во истину
тако есть. И рече Святополк: «се яз, брате, готов есмь
с тобою», и посласта ко Давыдови Святославичю, велячи
ему с собою. И востав Володимер и Святополк и цело-
вастася, и поидоста на половце.. .»65
Эту выписку мы сделали для того, чтобы указать яс-
нее, в чем ошибка Григорьева. Рассказ действительно
очень прост, и в нем есть много драгоценных русских
черт, которые и теперь сохранились в народе. Сперва
братья помолчали, потом каждый из них стал отговари-
ваться говорить первым. И мышление, и склад речи, и
все тут чисто русское, люди точно живые, и описание
вполне художественное. Так же меток и язык Посошко-
ва, которого приводит Григорьев, но только что же из
этого следует? Согласимся мы и с тем, что язык Сумаро-
кова и Новикова изящнее, проще и живее языка критиче-
ских статей наших журналов. Но ведь язык Библии и
«Одиссеи» еще сильнее и непосредственнее и действует
гораздо глубже. Мы бы попросили Григорьева изложить
рассказ о совещании Святополка с Владимиром тепе-
349
решним языком с подстрочною верностью. Пускай он из-
ложит с тою же подстрочною верностью и Библию и
Гомера,—^получится ли та же гармония языка и сила
речи? Пусть вместе с тем он попробует изложить языком
летописей или славяно-библейским хотя новейший пси-
хологический роман Диккенса, Теккерея или «Мертвые
души» Гоголя. Мы согласны, что теперешний язык не
производит и не может производить обаяния, но ведь
это культурный факт, и к нему можно относиться только
как к факту. Святослав и Владимир Мономах ни по по-
нятиям, ни по языку, ничем не отличались от своей дру-
жины и говорили не языком мысли, а языком чувства;
теперь же язык преимущественно язык мысли, потому
что жизнь стала жизнью мысли. Непосредственность по
крайней мере в своей односторонней форме, как в биб-
лейские времена, уже не существует; воротиться к ней
невозможно; наследство памяти, приобретенное челове-
чеством тысячелетиями, уничтожить тоже нельзя. В них-
то и заключается цивилизация и прогресс. Зачем же эти
сожаления и вздохи о прошлом и стремление к жизни
чувством? Или теперешние чувства стали хуже? Нет, они
не хуже. Или они грубее? Нет, они не грубее! Чувство
нынче стало тоньше, как стала тоньше мысль. И потому,
что чувство и мысль стали тоньше, разнообразнее, при-
обрели множество оттенков, каких они не имели, стал
разнообразнее и тоньше язык. Наши переводчики с ан-
глийского, французского и немецкого языков очень хо-
рошо знают, какого труда стоит переводить разные от-
тенки европейских чувств и мыслей на русский язык.
Ведь не явилось бы у нас 32 000 иностранных слов, если б
русским языком, хотя бы языком Владимира Мономаха,
можно было переводить все, что европейцы думают, чув-
ствуют и говорят. Григорьев, конечно, прав, что мы пи-
шем и говорим дурно и многоречиво. Но ведь этот во-
прос вовсе не народности, и не вопрос славянства, и не
вопрос того, чтобы Владимир Мономах относительно сво-
его времени был культурнее, цивилизованнее и дальше,
чем мы. Следовательно, тем способом, как думает раз-
решить вопрос Григорьев, разрешить его нельзя. Пра-
вильная же постановка заключалась бы в том, что до-
статочно ли точно и определенно мы выражаем свои
мысли, обхватывает ли наш язык с достаточною полнотой
350
все оттенки чувств и мыслей и так ли относительно пол-
но мы выражаем свою теперешнюю думу, как выражал
се хоть бы Владимир Мономах? Тут, в сущности, народ
ни при чем, и вопрос не в Владимире ЛАономахе и По-
сошкове, .а в другом. Если Сумароков и Новиков выра-
жали свои мысли и чувства сильнее и полнее, чем мы,
зачем понадобился Владимир Мономах? Ведь англичане,
американцы, французы и немцы, которые, по словам Гри-
горьева, понимают Гете лучше, чем своих летописцев, не
станут искать поучения в своих Несторах и Посошковых.
А отчего? Только оттого, что они теперь думают и говорят
гораздо лучше, чем думали и говорили их предки. Чтобы
быть доказательным, Григорьев с большим успехом мог
бы сослаться на Демосфена, Цицерона, Берка, Генри
Патрика, старика Питта, Брайта, Пальмерстона и, по-
жалуй, даже лорда Дерби. По крайней мере эта ссылка
была бы прогрессивной и вполне ясной, не вводящей ни-
кого в недоразумение. Здесь вопрос общий, а не частный
вопрос, не исключительно русский или славянский и не
вопрос чувства или национальности, а вопрос исключи-
тельно рассудочный, разрешаемый гораздо проще исто-
рией, чем смутным мистицизмом.
Апполон Григорьев никогда не договаривает до кон-
ца и, указывая на факт, не дает ему никакого объясне-
ния. Зато у Григорьева чувствуется бьющаяся любящая
жилка, чувствуется какая-то ширь, что-то захватываю-
щее как будто очень глубоко. Но и это не больше как
оптический обман. Вся ширина и глубина Григорьева
происходит оттого, что он, в сущности, порывающийся
энтузиаст. Чем мысль туманнее, тем она всегда кажется
шире, потому что у нее нет границ, и читатель в этом
безграничном пространстве имеет полную возможность
пустить еще безграничнее свою собственную фантазию.
Еще бы не расшевелиться и не разогреться, еще бы не
мечтать о шири и просторе! Но когда отнесешься к этому
простору с мерой пространства и времени, окажется, что
в нем гораздо теснее и чувству и мысли, что он парали-
зует чувство активной жизни и возбуждает только чув-
ство фантазии и мечтательности. Это не донкихотство,
как любил называть свои порывы Ап. Григорьев, а чи-
стая обломовщина. Аполлон Григорьев, выставляя свое
знамя народности, ни разу и ни в чем не дал ее осяза-
тельно, и читатель, чувствуя всю ширь григорьевского
361
размаха, все-таки и до сих пор не понял из его сочинений;
что такое народность и в чем она заключается. Григорь-
евская народность вышла вроде фотографии духов тепе-
решних спиритов.
IV
Есть у Григорьева статья о «Правде и искренности в
искусстве»66. Статья эта была написана по поводу во-
проса, поставленного Хомяковым: имеет ли право худож-
ник переноситься в совершенно чуждые ему состояния
духа, миросозерцания и строя чувствований? Григорьев
говорит, что сущность этого вопроса, ядро его содержи-
мого есть заветнейший вопрос настоящей минуты — во-
прос о правде, вопрос об искренности отношения худож-
ника к жизни и об искренности его таланта. Статья, как
все статьи Григорьева, написана с широким размахом, но,
в сущности, тоже указывает только на журавля в небе.
Григорьев говорит, что художник, как сын известного
века, как член известной церкви и член известного на^
рода, не может переноситься в миросозерцание и строй
чувствований, чуждый ему «как таковому». Только в этом
его правда, а иначе он придет к фальши. Писатель не мо-
жет заставлять мыслить, верить и чувствовать других
иначе, чем он сам мыслит, верит и чувствует. Поэт дол-
жен сам все то чувствовать и сам должен быть в состоя-
нии все то сделать, что чувствуют и делают выводимые
им лица. Если поэт не может, так сказать, олицетворить
положительных и отрицательных сторон своей души, не
может пережить в себе всех ее процессов, он, конечно,
не тронет и читателя. Шекспир носил в своей душе следы
всех тех чувств и действий, которые он изобразил. Гете,
поэт личности, не мог отрешиться от себя никогда и в со-
зерцание великих народных событий всегда вводил свои
личные, мелочные пружины. В «Коринфской невесте»
Гете не грек, а новый человек и протестант. В «Баядерке»
Гете опять не индиец-пантеист, а спинозист. Шиллер
тоже оставался верен началу правды и протестантское
отрицание старался осмыслить и узаконить в каких-либо
положительных формах. Эти странные мысли как-то не-
ловко читать у Григорьева, обыкновенно стремящегося к
очень широким обобщениям. Но разгадку вопроса найти
легко, потому что, в сущности, ширина григорьевского
352
размаха вовсе не так велика. Григорьев думает, что если
поэт или художник уходит в чуждый ему мир, то это не
больше, как или напряженность, или каприз сильного та-
ланта, которому хочется попытать свои силы везде, а
иногда, как у Гейне, просто печальное последствие само-
любия. Вообще Григорьев не из поклонников Гейне. Он
находит, что у Гейне небольшой талант и что ему очень
хотелось чем-нибудь’выделиться и обратить на себя вни-
мание. Претензии Гейне были, по мнению Григорьева, го-
раздо больше его творческих сил.
Григорьев доказывает, что если художник не увле-
кается ни капризом, ни самолюбием, если он будет не-
посредствен и искренен, то он всегда будет правдив и
нравствен. Следовательно, вопрос о правде есть в то же
время и вопрос о нравственности. Вопрос этот не новый.
Одни мыслители отвергали нравственность в художестве
и,считали искусство проводником полезного в моральном
и общественном смысле; других такое определение возму-
щало, и по родству искусства слова с живописью, музы-
кой и ваянием, которые полезны быть не могут, они вы-
сказывали положения, что искусство есть само себе цель
и вне себя цели никакой не имеет и иметь не должно.
Разбирая, кто и как стоял за это деление, Григорьев ука-
зывает на противоречия и говорит, что в конце концов все
истинные художники видели в искусстве великую, вве-
ренную им мировую силу, назначенную служить в пользу
души человеческой и пользу жизни "общественной. Что
же касается протеста, то он явился от узкого понимания
«той пользы материальной, которая выражается, напри-
мер, в очищении улиц, — говорит Григорьев, — но не дает
вообще жизнь духа, выражением которой служит искус-
ство; без этих выражений, без этих в глазах поборников
полезности побасенок оледенела, омертвела бы жизнь и
человечество впало бы в такое состояние, в котором са-
мое очищение улиц было бы излишним»67.
В моменты непосредственного творчества, в эпохи,
например, Данте, Шекспира, даже Мольера, никому не.
являлся вопрос о разъединении в искусстве элемента
чистого творчества и элемента общественного служения.
У каждого из этих поэтов вошли в их произведения все
национальные представления, все их идеалы человече-
ского достоинства и величия, и только уже впоследствии
возник вопрос о разделении. Мысль о нем явилась у нем-
12 н. В. Шелгунов
353
цев, и от немцев она перешла к нам. Так как этот вопрос
пришел к нам извне, и именно в эпоху сильного влияния
германского учения об искусстве, то значение его у нас
и не важно. Не важно оно потому, что в самой натуре
наших писателей не лежало и не лежит резкого разделе-
ния между художником и человеком, а во-вторых и глав-
ным образом потому, что жизнь наша крепко связана с
корнями, как ни старались разрубить эту связь различ-
ные иноземные влияния, что у нас есть заветные идеалы,
есть свои, сложившиеся в прошедшем и до сих пор жи-
вущие в настоящем созерцания, что у нас не кончился
даже период безличного, непосредственного творчества.
Стало быть, с раздвоением мы имеем дело как с теорией,
а не как с жизнью.
И сейчас же дальше Григорьев как бы старается вы-
путаться из ловушки, которую сам себе поставил всеми
этими рассуждениями. Сказав сначала «нравственность»,
он затем заменяет ее словом «жизнь». Но ведь если
жизнь — нравственность, то и всякое изображение жизни
будет нравственно, а как, в то же время, всякая жизнь
проверяется «идеалом», то говорить «нравственность»,
«жизнь», в сущности, значит не сказать ничего. Жизнь
жизни рознь и выражение выражению рознь, говорит сам
Григорьев. У жизни есть не одно настоящее, а есть про-
шедшее и будущее, и только то в ее настоящем суще-
ственно, что так или иначе, положительно или отрица-
тельно, связано с прошедшим, что носит в себе семена
будущего. Таким образом, Григорьев не все жизненное
считает нравственным, а только то, у чего есть будущее.
По его словам, есть настоящее вполне безошибочное и
есть настоящее, которое нужно рассматривать как божье
попущение. Это божье попущение в настоящем, конечно,
возникло из какого-нибудь попущения предыдущего. Но
хотя оно явление и жизненное, оно, во всяком случае,
ошибка, и в нем нельзя и не следует искать «соизволе-
ния» для искусства. Искусство должно осмысливать
жизнь, определять явления положительно или отрица-
тельно, оно должно относиться к жизни с идеалом, с све-
том, озаряющим случайности, и каждой случайности или
целому их ряду определять законное место. Этим путем
искусство подходит к явлениям жизни с высшей нрав-
ственной мерой, сложенной из созерцаний коренных, глу-
бочайших основ и разумных законов жизни.
354
Мы думаем, что довольно и этих указаний на мысль
Григорьева, чтобы увидеть, насколько в действительно-
сти вовсе не широко и глубоко он мыслит и как даже пу-
тает понятия. То, что он говорит, могло бы быть выска-
зано критиками самых противоположных направлений.
Но как в то же время известна основная тенденция Гри-
горьева, то и становится совершенно ясной непоследова-
тельность, в которую он впадает. Григорьева мы знаем
как проповедника непосредственности, как проповедника
какого-то высшего, мистического творчества, которому
правда дается сама собою в лице особенных избранни-
ков. И вот тут-то и становится ясна сбивчивость понятий
Григорьева. Он, например, говорит, что Данте, Шекспир
и вообще творцы и поэты времени, предшествовавшего
XVIII столетию, не разъединяли в искусстве элементов
чистого творчества и элементов общественного служения,
выходили прямо из народных представлений и в них чер-
пали свои идеалы о человеческом достоинстве и величии.
Потом он говорит, что когда явилось разъединение, то
оно пришло к нам извне, от немцев, а что у нас будто бы
человек и художник не отличаются один от другого, что
мы еще до сих пор творим непосредственно, попросту,
безлично, и раздвоение у нас не больше, как теория. Но
в то же время Григорьев допускает и божье попущение,
допускает уклонение в настоящем, а следовательно, и
в прошедшем, и велит художнику осмысливать жизнь, по-
нимать разом ее явления, отличать положительное и от-
рицательное, всему определить меру и место и подойти
к явлениям с высшею нравственною мерою, сложенною
из созерцаний коренных, глубочайших основ и разумных
законов жизни. Как же поступить русскому писателю?
Широко и красиво расписывает Григорьев его обязан-
ности, но в то же время сбивает его с окончательного
толку. Если мы живем в период непосредственного твор-
чества и не обязаны ничего знать, ничего думать, то до-
вольно написать то, что бог положит на душу, и это вый-
дет правда. Но как, по словам Григорьева, бог посылает
и попущения, а Григорьев требует, чтобы художник под-
ходил к явлениям жизни с знанием коренных, глубочай-
ших основ, то писателю, не желающему поступить с укло-
нением- от законов, остается только развести руками и
положить навеки перо.
355
Мы вовсе не отрицаем, что должна где-нибудь суще-
ствовать и абсолютная правда, непогрешимая, непрелож-
ная и истинная. Но как жизнь заключается только в
стремлении к ней, то считаем для писателей совершенно
достаточным, если они будут придерживаться очень хо-
рошего рецепта на этот счет Лессинга. Что же касается
Григорьева, то его постоянная ширь и паренье, может
быть, и обхватывающие душу священным трепетом, по-
рождают в мыслях только противоречие. С одной сторо-
ны, Григорьев требует непосредственности, с другой —
непременного знания законов мировой нравственности.
Григорьев смотрит в такой громадный телескоп и в такое
отдаленное пространство, видеть которое не удалось еще
до сих пор ни одному астроному. Кому нужны эти недо-
сягаемые миллиарды в тумане и у какого человека жизни
достанет отваги идти в такую даль? Ведь жить хочется,
г. Страхов, а вы нам даете Ап. Григорьева, как непогре-
шимого мудреца, без которого мы должны заблудиться.
И вот этот непогрешимый мудрец, говоря в одном
месте, что нужно касаться вопросов по очереди, затем
ставит на очередь своего журавля в небе и перескакивает
чрез пространство и время. Он обвиняет затем новых
писателей и указывает, например, Шекспира, который ве-
лик будто бы только потому, что выразил собой народное
мировоззрение. Но ведь прежде всего Шекспир был ве-
лик потому, что он был умен и разнообразен и знал че-
ловеческую душу как свои пять пальцев; а во-вторых,
Шекспир даже и в те времена был социально-политиче-
ский мыслитель. Этого издатель Ап. Григорьева, конечно,
отрицать не будет. Что тогда было больше единства в
воззрениях и люди меньше расходились и в крупных
и в мелких понятиях и что они разошлись с половины
XVIII века, — обстоятельство это Ап. Григорьев обходит
и игнорирует. Как бы писатель ни творил непосредствен-
но, он всегда чадо времени, среды и обстоятельств. Этого
не отрицает и сам Ап. Григорьев, который, может быть,
больше чем кто-либо чадо влияний вырастившего его
московского кружка68. А влияния кружка были не не-
посредственны. Когда члены его проводили целые ночи
за спорами и излияниями, когда они горели такой пылкой
любовью к России и мечтали сделать ее счастливой, ведь
не непосредственность двигала их мыслью и заставляла
биться сердца, а мысли и идеи, факты русской жизни,
356
былой и настоящей, и наша история, и история Запада, и
история его идей, и критическое отношение к тому, Что
совершалось и там и у нас, — одним словом, целая масса
самых многосторонних, мелких и крупных, знаний. Сам
Ап. Григорьев как нравственный образ и как критик
есть результат этих знаний, и если он вышел односторо-
нен и однопредметен, то, конечно, только потому, что
усвоил себе лишь факты одного, известного порядка, от-
дал предпочтение одним перед другими. Как искатель
правды и истины Григорьев, конечно, прав. Но что такое
истина? По единственному определению, которое о ней
имеется, истина есть то, что считается истиной в данный
момент. Другой действительной истины, осязательной,
которую бы можно взять в руки и показать, на свете не
существует. Если то, что большинством принимается за
истину, двигает целым обществом в данный момент, то
эту двигающую идею следует признать истиной, следо-
вало принять ее и Григорьеву, верившему в непосред-
ственность и в народную безошибочность. Но Григорьев
такую истину отрицал, он хотел правды и истины абсо-
лютной и, конечно, ее не нашел. Отрицая истину относи-
тельную, он обрушился и на проповедников и искателей
ее. Но истина абсолютная разве не та же квадратура
круга!
Порицая Жорж Занда, Григорьев снова возвращается
к Шекспиру, Данте, Сервантесу и говорит, что в эпохе
неразорванного творчества художники не станут, подоб-
но Жорж Занду, доискиваться ни у каких «невидимых»
высших задач своего дела, то есть высших понятий лич-
ных о добре и зле и понятий о благе общественном. Эти
понятия живут в художниках крепкою, растительною
жизнью, связанные с корнями почвы, па которой худож-
ник вырос. Сила художника в его вере, и в вере не со-
знательной, а непосредственной. Без глубокой, нетрону-
той веры невозможны создания таких образов, каковы
образы Дантова ада, невозможен смех Сервантеса и
Мольера, невозможна нравственная непогрешимость
Шекспира. Прекрасно! Но разве Данте, Сервантес,
Мольер, Шекспир владели безусловно истиной? Если без
нее нельзя быть великим художником, то почему же Дан-
те— великий писатель, хотя истины его — теперь не
истины; отчего Рафаэль — великий живописец, хотя чув-
ства, одушевлявшие и вдохновлявшие его, уже теперь не
357
составляют чувств господствующих? Григорьев не назы-
вает фальшью и напряженностью то, что их одушевляло,
и то, что они говорили, а между тем называет фальшью
и напряженностью то, что писали Жорж Занд и Гейне.
Ясно, что у Григорьева в глубине его не сознающей себя
души сидит нечто, чего хотя и нельзя назвать елейностью,
но что, однако, имеет ее букет. И от этого Григорьев и
впадает в противоречие, признавая законность одних
фактов и не допуская законности других, с ними одно-
родных. Если в них выражается новое знание, новые по-
нятия, новые идеи, колеблющие прежнюю непосредствен-
ность, он их, пожалуй, и признает, но в сатирической,
порицательной форме очень ясно намекает на претящих
ему писателей.
Так Григорьев говорит, что бывают блестящие талан-
ты, наделенные в высшей степени способностью усвоения
жизни, но которые, будучи случайно брошены в эпохи
мысли, отличающиеся крайнею разорванностью созна-
ния, являются в литературе странными, блестящими, ни
с чем не связанными метеорами. Деятельность таких та-
лантов ослепительна, но она не носит в себе живитель-
ного, теплого начала, проходит без следа и отличается
какою-то эгоистичностью, капризом, замкнутостью и хо-
лодом. В подобной деятельности всякое живое отноше-
ние к идеалу подорвано, всякие основы разрушены, она
мечется от предмета к предмету, из сферы в сферу без
всякой определенной цели, без всякой любви, ища одного
только самоудовлетворения, любя только сама себя и
никогда не любя того явления или того ряда явлений,
к которому она прилагается. Место поэтически-нрав-
ственной основы, выработанной в себе художником, за-
ступает ирония, совершенно, впрочем, беспредметная и
безосновная. Все это говорит Григорьев о Гейне, хотя
и не упоминает его имени69. Ну где же тут абсолютная
правда, которой молится Григорьев, зачем это непонима-
ние факта, может быть, гораздо более важного, чем пред-
ставлялось Григорьеву? Он требует положительных
идеалов и по личным своим свойствам не мог выносить,
как он выражается, мук во всем сомневающегося ума.
Но разве это значит понимать правду жизни и закон-
ность ее выражения даже в чистом отрицании, когда без
него невозможны никакие положительные идеалы? Ведь
и Шекспир, и Данте, и Мольер явились положительными
358
творцами только после предшествовавшего отрицания.
Григорьев, поклоняющийся христианским идеалам, ко-
нечно, знал, что христианство было отрицанием языче-
ства. Почему же, допуская одно, он не допускает дру-
гого? Почему, веруя только в абсолютную правду, сам
ей этим противоречит?
Подобное же отношение у Григорьева и к Жорж Зан-
ду. Он находит, что в Занде искусство являлось сомне-
вающимся в своем назначении и в своих задачах. Прав-
ды своей собственной Занд никакой не имеет, кроме от-
носительной правды страстной натуры, протестующей
против условного, — правды, показывающей, что содер-
жание жизни шире форм, ее сковавших. Но литература
всегда имела и будет иметь, по словам Григорьева, охра-
нительное значение, и потому протест страстности не
может оставаться в ней постоянным. Таким образом, до-
пуская правду страсти как минуты или нескольких минут,
Григорьев, отрицая ее, в то же время и допускает. Но
в таком случае что же такое правда? Григорьев отвечает
на это, что художество как выражение правды жизни не
имеет права ни на минуту быть неправдою. В правде его
искренность, в правде нравственность, в правде его объ-
ективность. И опять — что же такое правда? Требование
правды, отвечает снова на этот вопрос Григорьев, — ста-
новится все более и более лозунгом искусства, требова-
ние правды слышится во всем, слышится и в сухом тоне,
который художество в наше время принимает из боязни
впасть в какую-либо напыщенность, правда и в скупости
порывов чувства, опять-таки из боязни фальшиво и про-
тивно расчувствоваться. Но подобная правда, несколько
принужденная и натянутая, она только доказательство,
что художник не верит в идеал, что он сомневается, что
у него нет убеждения. А если это так, а если художник
является выразителем думы своего времени, если его со-
мнение не одиночное, то насколько его правда перестает
быть правдой и что она такое: закон или беззаконие?
Григорьев молчит и не дает никакого ответа.
Но мы бы спросили у самого Григорьева — его дея-
тельность была положительной или отрицательной, со-
мневающейся или убеждающей? Какую правду он ска-
зал, какой аршин дал он в руки художникам? Зная, что
мировые законы истинного, прекрасного и благородного,
выражающиеся в известных ясных идеалах, никому не
359
известны, Григорьев допускает бессознательное мышле-
ние и бессознательный инстинкт истины. Психологически
это верно, если бы только Григорьев не носил в себе ми-
стического чувства. Но допуская это в творцах и худож-
никах, он рядом с ними ставит таких же художников и
поэтов по чувству — критиков, и одним из них является
сам. При таком разделении труда искусство творит непо-
средственно, а критика должна указать ему его фальшь,
неправду, отступление от требований жизни. Но был ли
критиком в этом смысле Ап. Григорьев? Конечно, нет. Он
был только человек ума, способного на сопоставления,
ума с критическими залогами, ума, спокойной объектив-
ности которого мешали разные предвзятости и елейность
страстного, однопредметного и увлекающегося сердца.
Требуя от художника своего и цельного мировоззрения,
Григорьев, однако, не имел никакого законченного пред-
ставления и подчинялся одним стихийным веяниям, ко-
торые его мучили, и разрывали, и уводили вспять.
Даже в частных оценках попадается на каждом шагу
эта разрывчатость и верное рядом с неверным. Я возьму
для доказательства суждения Григорьева о Гончарове
и о Фете. Гончарова он называет «примечательно-ярким»
дарованием, но дарованием чисто внешним, без глубокой
мысли в задатке, без истинного стремления к идеалу.
«Обыкновенная история», как говорит Григорьев, — про-
изведение, отделанное в частностях и подробностях, сухое
до безжизненного догматизма по основной идее, произве-
дение, построенное в виде самой искусственной аллего-
рии. Много нужно было таланта для того, чтобы чита-
тели забывали в романе явно искусственную постройку.
Впрочем, кроме таланта, «самая мысль произведения
Гончарова поразила большинство новизною, понравилась
всем так называемым практическим людям, которые все-
гда любят, когда бранят молодое поколение за разные
стремления, понравилась даже тем, которые косо по-
сматривали на «Мертвые души» или издевались над
ними; но, признаемся откровенно, мы не думаем, чтобы
сам даровитый автор «Обыкновенной истории» был до-
волен таким успехом своего произведения»70. Совершен-
но верно! Говоря об «Обломове», он называет Штольца
татарином, хотя он и немец, и, признавая в Гончарове
талант, замечает, что талант его неизмеримо выше воз-
зрений автора. Григорьев не дожил до «Обрыва» и в оцен-
360
ке его точно так же бы не ошибся, хотя, вдаваясь в по-
дробности, он, конечно, разошелся бы с тем лагерем,
который называет лагерем теоретиков.
Но вот что он пишет по поводу Фета. «Что такое, на-
пример, весь Фет в его «Вечерах и ночах», в его много-
образных весенних песнях? — спрашивает Григорьев.—
Он весь какое-то дыхание, какая-то нега, какая-то мо-
ральная истома. Помните:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...
Это ряд бесконечных, столь внутренне связанных,
столь необходимо следующих один за другим аккордов,
что их прервать нельзя. Стихотворение, которое не может
быть иначе прочтено, как одним дыханием. Помните
«Пчел», томление, негу, разлитую в этом стихотворении,
томящую, как знойный день, сладострастную без малей-
ших стремлений к сладострастию»71. Неужели это кри-
тика, неужели это оценка, согласная с теми началами,
которые сам Григорьев указывает художникам, требуя от
них правды и служения жизни?
V
Есть еще у Григорьева одна статья, которую нельзя
обойти. Статья эта «Взгляд на современную критику и
искусство»72. Статью эту Григорьев начинает тем, что ни
одно явление словесности или письменности не может
никогда быть рассматриваемо в одной его замкнутой от-
дельности. Всякое словесное явление возбуждает в мыс-
лителе вопросы, весьма важные своею связью с органи-
ческими плодами жизни. Что бы ни отразило произве-
дение, невольно задаешь себе вопросы, насколько, как и
верно или неверно произведение отражает жизнь, и свя-
зано с насущными интересами, и служит идее или об-
ществу.
Так как всякое произведение отражает действитель-
ность, то само собою должно было случиться, что крити-
ка, не только у нас, но и везде, пишет не собственно о
произведениях, а по поводу их, или, точнее, прямо идет
к жизненным вопросам, поднятым или задетым художе-
ственным произведением. Начав обращаться к самой
жизни, критика перестала быть художественной, и это
361
явление Григорьев признает вполне законным и пра-
вильным. Но дело в том, что явились писатели, которые,
по словам Григорьева, не имея чувства красоты и меры,
обратили искусство в орудие готовой теории. Григорьев
при этом цитирует выражение одного известного публи-
циста его времени и называет его воззрение на искусство
«яростным тупоумием»73. Это яростное тупоумие дол-
жно было вызвать реакцию и вызвало ее в лице тех, кто
опять стал требовать от литературных произведений чи-
стой художественности. Но и чистая художественность и
чистая, техническая критика, по словам Григорьева, со-
вершенно невозможны, потому что ни критику, ни худож-
нику отрешиться от жизни нельзя. И обязанность кри-
тика именно и заключается в том, чтобы идти путем жиз-
ненного вопроса, углубляться в корни его, в причины
того, почему не полно разрешен вопрос или почему ис-
кусство уклонилось от правильного решения.
Выставив эти требования, Григорьев, по-видимому,
приходит к полному соглашению с теми, кого он обзы-
вает теоретиками, тушинцами и людьми «яростного ту-
поумия», а между тем оказывается, что он именно против
них-то и ратует. Современную критику искусства, которой
держались противники Григорьева, он называет истори-
ческой, господствующей и единственно важной по зна-
чению. Он, кажется, и сам держится ее, и в то же время
с нею не согласен. Не согласен же он с нею потому, что
усматривает в ней один важный, существенный порок.
А порок этот заключается в самом историческом воззре-
нии. Историческое воззрение, по мнению Григорьева, со-
вершенно равнодушно и безразлично к нравственным
понятиям. Оно связано только с мыслью о безграничном
развитии и потому не хочет знать начала его, а идеал
имеет всегда только в будущем. Поэтому всякую минуту
мировой жизни оно принимает переходною формой к дру-
гой переходной же форме. По мнению Григорьева, от
этого образуется бездонная пропасть, в которую стрем-
глав летИт мысль без малейшей надежды за что-нибудь
ухватиться и найти точку опоры. А так как у мысли нет
идеала, то ей остается одно — начинать ломку всего про-
шедшего по законам произвольно выбранной минуты.
Все прошедшее человечества, не жившее по теоретическо-
му идеалу, отрицается, и, выходя из принципа стремления
к бесконечному, критика кончает грубым материализмом»
362
Этого бы не случилось, если бы был готовый идеал. То-
гда бы не было нужно ломать прошедшего. Если же
идеал» поставлен произвольно, то сегодняшнему кумиру
приносится в жертву все вчерашнее. Прилагая это воз-
зрение к истории русских критических воззрений, Гри-
горьев говорит, что не мудрено понять, в силу чего Гого-
лю становится монумент на обломках статуи Пушкина,
в силу чего завтра столкнут Гоголя и в силу чего каждый
новый критический период начинался постоянно уничто-
жением всей литературы в пользу одного кумирчика.
Чтобы осязательнее показать ошибки исторической кри-
тики, Григорьев прослеживает европейские события про-
шедшего столетия. Он говорит, как медовые речи фило-
софов разразились речами Дантона, как утопия Кон-
дорсе погибла под секирою утопии монтаньяров, как
утопии монтаньяров грозила подземная утопия Марата
и как в виде реакции явился Наполеон, начавший все-
общую ломку истории.
Мы бы хотели знать, что думал доказать этим Гри-
горьев? Сам же он указывает постоянно сменяющиеся и
проверяющие друг друга факты и воззрения, которые
только потому и приводят к тому, о чем говорит Гри-
горьев, что на свете нет никакого готового идеала, и в
то же время требует, чтоб идеал этот, как готовый кри-
терий, был и у истории, и у художников, и у критиков.
Если этого идеала нет, то произойдет непременно пута-
ница, которая может привести к очень печальным по-
следствиям и в действительной жизни и в искусстве. Но
что же в таком случае делать и кто ошибается: жизнь
или Григорьев? Конечно, было бы лучше, если бы в про-
шедшем столетии не случилось нигде никаких прискорб-
ных событий, если бы в Англии не явился Кромвель,
если бы во Франции не было ни Дантона," ни Робеспьера,
ни Марата, если бы добродетельная волшебница поло-
жила в колыбель человечества готовый идеал и с гото-
вым идеалом шло бы оно по пути жизни, как с волшеб-
ным фонарем. Но ведь если этого не случилось? Если и
в истории русской мысли мы видим тоже постоянно сме-
няющийся ряд акций и реакций, если было время, когда
мы поклонялись Державину, Хераскову, потом, когда
явился на смену Карамзин, стали молиться ему, а старых
богов забыли, потом забыли Карамзина, потом молились
Пушкину, затем Гоголю. Что делать, когда и в области
363
знания мы поступали точно также: молились некогда Ше-
выреву и Погодину, потом забыли их для западников, по-
том и в мысли западников внесли поправки, а в настоя-
щее время все более или менее начинаем погрешать русо-
фильством? Если бы Григорьев вникнул ближе во все эти
факты, то он, конечно, пришел бы к выводу, что на свете
нет истины, а есть только стремление к ней, и что из фак-
тов истории другого вывода и сделать невозможно. Но
Григорьев, как ярый мечтатель и идеалист, не хочет знать
никакой истории. Он перескакивает через время и про-
странство и требует от жизни того, чего в ней нет, но чего
ему очень хочется, чтобы было. Как человек хороших, мир-
ных чувств, Григорьев, конечно, должен был огорчаться,
что на свете делается не так, как бы ему хотелось, и чтобы
найти примирение и выход, найти источник всеобщей ми-
ровой гармонии, Григорьев делает умственное salto-mor-
tale и обольщает себя самой крайней мечтательностью.
В мире где-то, конечно, должна быть правда и исти-
на, не частная и относительная, а общая, должен быть
и закон гармонии. Но ни этой истины, ни этой правды, ни
этого закона гармонии до сих пор еще никто не открыл.
Григорьев, сделав попытку нового искания, пришел
к мысли, что источник правды и истины заключается
в прекрасном, прекрасное же сидит в душе художника, а
представителем художника является беллетрист и кри-
тик. Гениальный писатель, по мечтательной теории Гри-
горьева, созерцает мир не в разорванном виде, а в цель-
ном. Гениальная натура носит в себе будущее, она видит
осязательно живую связь этого будущего с.настоящим и
прошедшим, знает, что последний шаг прошедшего ведет
к настоящему, что этого шага миновать нельзя, но нельзя
на нем и остановиться. Мерно, тихо, осторожно, чуждая
слепого бунта против форм, идет вперед творческая сила,
осмысливая только последний шаг старого и выжимая
из него оставшийся сок. В пример нормальной правиль-
ности такого поступательного движения Григорьев ука-
зывает на Пушкина, который, начав «Русланом и Люд-
милой», возвысился до «Капитанской дочки» и «Бориса».
Гоголь, начав «Вечерами на хуторе», дошел до «Шинели».
Островский начал с «Своих людей...». Уж право, не
знаешь, как принимать это странное сопоставление. За-
ведя речь о целом мире, о жизни как совокупности всех
явлений и сделав художника носителем священной, не-
364
погрешимой, вечной истины, Григорьев сводит вопрос
к «Руслану и Людмиле», к «Капитанской дочке» и к «Ши-
нели». Ясно, что Григорьев не мог понимать тех, на кого
он нападает, потому что не мог подняться до их более
широкого понимания жизни. Григорьевский идеал, пока
он говорит в общих фразах, действительно манит какой-
то ширью; но когда, перестав выражаться общими по-
нятиями, Григорьев сходит к фактам, то вместо титанов,
которых обещал, дает пигмеев. Уверяя, что руководящий
идеал всегда существует и может быть затерян только
временно, что этот идеал всегда один и тот же и что он
составляет норму души человеческой, Григорьев ни одним
намеком не дает вам понять этого идеала и ни одной
черточкой не рисует его так, чтобы вы его увидели. В то же
время Григорьев требует, чтобы творцом истины являлся
художник, о котором в одном месте говорит, что он рабо-
тает непосредственно, бессознательно, а в другом, напро-
тив, доказывает, что творить бессознательно невозможно
и что «это фальшивое мнение не выдерживает никакой
критики и недостойно даже серьезного опровержения».
Сделав художника творцом истины и идеала, Григорьев
заставляет критику проверять художника и указывать
его фальшь. Но как критик станет поверять фальшь носи-
теля истины, когда ему самому истина богом не дана? За
что же Григорьев так обрушивается на историческую кри-
тику и говорит, что у нее будто бы нет никакого крите-
рия, вследствие чего критика никому не нужна и в нее пе-
рестала верить публика, потому что критика сама себе
не верит? Запутавшись в этих противоречиях, Григорьев
поневоле должен был прийти к безверию мысли, опустить
в отчаянии руки и признать себя никому не нужным.
Вся ошибка Григорьева в том, что он воображал, что
есть на свете готовая истина и что в сей момент ее можно
найти, если поискать. Истину эту он признавал абсолют-
ною, относительной истины не допускал и вместе с тем
думал, что выразителем неошибающейся, вечной истины
и носителем идеала является очищенная и просветленная
душа художника, по типу которого должна формировать-
ся и мировая душа. Встав на эту мечтательно-идеалисти-
ческую точку, Григорьев поневоле должен был сделаться
фантазером и, что еще хуже и опаснее, фантазером иск:
ренним и убежденным. Только в этом причина, что Гри-
горьев не был в состоянии понять людей относительной
365
истины, которые так же знали, что если безусловная
истина и есть где-нибудь на свете, то ее никогда и никому
не найти, и сущность жизни заключается в одном стрем-
лении к ней, в постоянных поправках ошибок мышления.
От этого Григорьев не придавал никакого значения пере-
мене форм жизни и не имел ни малейшего политического
чутья. Считая исторических критиков неисходными отри-
цателями, Григорьев, в сущности, был самый крайний
отрицатель, потому что, отнимая всякую веру, которой
он и сам не имел, он отнимал от человека возможность
настоящего, ибо не допускал стремления. Этим он дово-
дит тех, кто бы хотел проникнуться его учением, до того
же состояния безверия и умственного аскетизма, в ко-
торое впал сам. Пускай люди исторической школы оши-
бались, пускай, поколение за поколением, люди истори-
ческой школы отрицали одни других; но в этом отрица-
нии, и в постоянных поправках мысли, и в перемене форм
жизни или по крайней мере в стремлении к ним была
жизнь, а Григорьев проповедовал смерть. И, что еще
хуже, он проповедовал небытие со всеми признаками жи-
вого одушевления и порывающейся силы. Он парализо-
вал всякий деятельный порыв, всякую мысль, способную
на активность, и создавал мечтательное безверие в на-
стоящее и философское самоуглубление и бесплодное
искание того, чего нет. Понятно, что Григорьев был один,
что он не мог оставить живого следа ни в жизни, ни в ли-
тературе, а если б его оставил, то, конечно, это не было
бы особенным счастьем для России. Поэтому мы не оши-
бемся, если назовем Григорьева последним могиканом
того злополучного направления, которое породило сла-
вянофильство со всеми его видоизмененными последова-
телями, не сделавшими для живого русского дела ничего
действительно полезного, служившими ему отрицательно
и от которых живая жизнь всегда отворачивалась и бу-
дет отворачиваться. В этом смысле мы не особенно бла-
годарим г. Страхова за издание сочинений Григорьева,
ибо думаем, что если бы кому-нибудь из историков рус-
ской литературы понадобились статьи Григорьева, он
нашел бы их там, где они печатались, а людям новой
жизни и растущему поколению они едва ли для чего-
нибудь понадобятся.
НАРОДНИК ЯКУШКИН
Сочинения Павла Якушкина. С портретом автора, его биогра-
фией С. В. Максимова и товарищескими о нем воспоминания-
ми П. Д. Боборыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. Горбунова,
А. Ф. Иванова, И. С. Курочкина, И. А. Лейкина, Н. С. Лес-
кова, Д. Д. Минаева, В. Н, Никитина, В. О. Португалова и
С. И. Турбина. Издание Вл. Михневича. С.-Петербург. 1884
Весною 1858 года явилось в Петербурге новое
дицо, которое, несмотря на свою скромность и
даже застенчивость и на те скромные надобности
и цели, с которыми оно явилось, произвело в литератур-
ных кружках очень сильное впечатление», — говорит
биограф Якушкина. Форменный Петербург, не допускав-
ший никакого разнообразия, увидел перед собою чело-
века, одетого в полумещанский, полукрестьянский ко-
стюм, в высоких сапогах с напуском, без калош; а самое
главное, что резало глаза, — с бородой и в очках. В Пе-
тербурге сначала пришли в недоумение, потом над ори-
гинальным человеком посмеялись, но наконец поняли,
что «видимый оригинал надел, в сущности, именно то
платье, которое наиболее соответствовало его роду заня-
тий, его задушевным побуждениям, и без него он был
бы так же не полон, как и без бороды и других своих
резких, но своеобразных особенностей» L Далее оказа-
лось, что этот новый человек вовсе и не новинка, что та-
кое платье он носит уже десять лет, что он прошел в нем
среди серьезных опасностей и великого множества не-
приятностей и уберег себя среди насмешек и оглядыва-
ний, что он уже и сделал довольно, что за ним имеются
старые заслуги и старые труды. Этим новым человеком
был Якушкин.
Конечно, несколькими годами раньше появление
Якушкина в Петербурге было бы невозможно, оно и те-
перь не сошло ему благополучно, но чтобы официальный
Петербург мог принять Якушкина и терпеть его в себе
больше шести лет, для этого, конечно, нужна была не
дерзость со стороны Якушкина, а сознание самим офи-
циальным Петербургом того, что в лице Якушкина наро-
367
дилось новое направление мысли, таившейся до сих пор
от Петербурга и которого нельзя было не признать.
Якушкин не только «собиратель» песен, но он и пси-
хологическое явление, типический продукт времени, не-
обыкновенно своеобразный «конгломерат», в котором
соединились две крайности русской культуры. Родовитый
дворянин, предки которого записаны в шестой части ро-
дословной книги2, человек, окончивший курс в Москов-
ском университете3, даровитый писатель, и рядом с
этим — бродяга, точно «Иван-непомнящий», опустивший-
ся до самого низкого уровня потребностей и привычек!
Выражалась ли в Якушкине «поправка» или «ошибка»
мысли, стремившейся к равновесию, общему единству и
слиянию, был ли необходим этот момент именно в той
форме, какая выразилась в Якушкине, — это вопросы,
собственно, темперамента Якушкина. Общая же сторона
вопроса заключается в том, что историк эпохи, о которой
речь уже, конечно, не пройдет молчанием тех условий,
которые создавали подобные психологические или, пра-
вильнее, психопатические продукты, не пройдет молча-
нием тех еще слишком устойчивых влияний старины, ко-
торые в борьбе старой и новой России до сих пор оказы-
вались постоянно решающими. Личная история Якушкина
есть, в сущности, глава из истории этой борьбы и этих
влияний.
«Товарищеские» воспоминания, которые собрал изда-
тель от петербургских знакомых Якушкина, обнимают
преимущественно ту позднюю пору его жизни, когда ему
было под сорок лет, и дают читателю портрет человека
уже окончательно сложившегося. Все эти воспоминания
имеют преимущественно анекдотический характер и не
отличаются ни психической глубиной наблюдения, ни тем
историческим обобщением, без которого образ Якушки-
на теряет всякий общественный смысл. Мало ли какие
бывают чудаки на свете и «божьи люди», к которым его
причисляет биограф. Но ведь Якушкин есть известный
«исторический факт», а не «анекдот»; ведь народничество,
народившееся раньше Якушкина4 и имевшее затехМ раз-
ные формы своего продолжения, требует более серьезного
и солидного критического отношения, чем какое обнару-
жили «товарищи». Даже и личное отношение не только
могло, но и должно было выразиться в более глубоком
368
психологическом понимании, чем тот сырой, неразрабо-
танный материал, который предлагается читателю.
Наибольшей художественностью и полнотой отли-
чаются воспоминания Н. С. Лескова. Это как бы закон-
ченный художественный очерк, картинка с натуры, нари-
сованная с обычной г. Лескову талантливостью. Вот об-
раз Якушкина, каким его рисует автор очерка.
Г-н Лесков с Якушкиным были земляки — оба они
родились в Орловской губернии, и оба они воспитывались
в Орловской гимназии.
В гимназии Якушкин оставил по себе в ближайших
поколениях героические предания: говорили об его край-
ней небрежности в туалете и особенно об его «вихрах».
За эти «вихры» ему часто доставалось, и начальство не
раз его стригло через сторожей. Якушкин при этом «грубо
оправдывался такими мужицкими словами, что во всех
классах помирали со смеху». Учитель немецкого языка
звал Якушкина — «Мужицка чучелка». «Направление к
простонародности у него, значит, уже формировалось еще
в школе», — замечает Лесков. Почему же — «значит», и
зачем «простонародность», когда вопрос о народности?
Прошло много лет, и г. Лесков встретился с Якушки-
ным в Петербурге. Якушкин был героем дня, и им все
интересовались. «Он уже тогда «ходил мужиком», но
носил очки, из-за которых настоящие мужики думали,
что он «кто-то ряженый».
— Какой я вам «ряженый», черти! —добродушно бра-
нился Якушкин с мужиками.
«Почитателей своих в литературе Якушкин ставил
иногда в большие затруднения насчет его „странного ха-
рактера"». Так, однажды Якушкин явился в Павловске
на музыке, в сообществе какого-то незнакомого полков-
ника, с которым держал себя на самой дружеской ноге.
Потом оказалось, что это был тот самый полицеймейстер
Гемпель, который сажал Якушкина в кутузку5; и Якуш-
кин находил удивительным, что люди сердятся на Гем-
пеля, когда он, Якушкин, на него не сердится. «Что же
сердиться? Мы помирились».
Когда П. Д. Боборыкин издавал «Библиотеку для чте-
ния» 6, то сотрудники сходились по вечерам в редакцию
«для редакционных соображений». Приходил и Якушкин,
но соображений никаких не подавал, а раз только заявил,
«что так делать нельзя».
369
— Как «так»? — спросили его.
— Без поощрения, — отвечал он.
— А какое же надо поощрение?
— Разумеется, выпить и закусить.
Без «поощрения» Якушкин не мог делать никакого
дела.
Вскоре после этого в литературе образовались две
партии — «постепеновцев» и «нетерпеливцев» 7. Якушкин
как будто ничего не понимал в этом различии, не преры-
вал своих сношений ни с теми, ни с другими и «с одина-
ковым спокойствием и искренностью появлялся и в ре-
дакции «Отечественных записок» (времен Дудышкина) 8
и в «Современнике».
У г. Лескова жила в горничных очень чистоплотная
немка, которая ужасалась, «как может быть на свете та-
кой человек и зачем его принимают». Случалось, что
Якушкин приходил, когда хозяина не было дома, и укла-
дывался спать всегда неизменно на одном «собачьем
месте», то есть на коврике у кровати. Он ни за что не
хотел ложиться на мебель, чтобы не допустить немку
убирать что-нибудь после его спанья, а свертывал в ко-
мочек свои сапоги и свитку и, бросив этот сверток на ков-
рик, ложился и засыпал у кровати. На все замечания он
твердо и упрямо отвечал: «Не хочу немку сердить, а
я грязный: она будет обижаться».
Приходит раз Якушкин к г. Лескову поздно ночью и
объявляет, что его звал к себе граф Строганов. Утром
Якушкин встал раньше и отправился по своему обыкно-
вению на кухню «командовать сорокушку». Затем при
чае последовало повторение, и Якушкин отправился
к Строганову. Дорогой Якушкин вспомнил, что к гр. Стро-
ганову еще рано и, чтобы выждать время, зашел в «пив-
ницу». «Ну что, — спрашивает его потом г. Лесков,—
был ты у Строганова?
— А как же, — говорит, — был.
— Ну, и что же вышло?
— Ничего... все очень хорошо. Он поздоровался сей-
час и говорит: «А вы, господин Якушкин, уже позавтра-
кали?» Я говорю: «Да, немножко выпил». Он говорит:
«Что же теперь делать?» А я говорю: «Еще выпить».
Подали еще завтрак и вино, но что там далее про-
изошло, Якушкин в последовательном порядке не рас-
сказывал.
370
Раз зашел у г. Лескова вечером спор по поводу во-
проса о народничестве. Якушкин во время споров не-
сколько раз уходил за перегородку в передней к кучеру
Матвею, служившему за лакея. Наконец вывел оттуда
парня за руку, обнял его перед всей компанией, расцело-
вал и объявил: «Все, что вы толкуете, есть глупость, а
хотите иметь смысл, так вот у него учитесь!» И при этом
Якушкин торжественно указал на Матвея и опять поце-
ловал его. «Чему было учиться у Матвея, мы не поня-
ли»,— прибавляет г. Лесков.
Другой раз к Якушкину где-то за Невскою заставою
«придрались» какие-то фабричные ребята и его «потол-
кали». Сомнительно им показалось — мужик, а в очках
ходит.
— Думали, не подослан ли с каким намерением,—
говорил Якушкин.
— Но как же у вас до толканья-то дошло?
— Так... кто ты, да что ты, — ты-ста, да вы-ста ёры
с подвохами ходите, да и давай толкаться!
Отнял его от обидчиков городовой. Собеседник спра-
шивает— не имело ли это каких дальнейших послед-
ствий.
— Нет, — говорит, — все миром кончили: городовой
всех нас хотел в часть весть, а я замирил.
— Кого же ты замирил?
— Всех.
— Да кого же всех? Там ведь никого, кроме тебя, и
не толкали.
— Конечно... Неужели же я стану толкать? Да ведь
и они это сдуру... такая фантазия им пришла, что гово-
рят, «мужик, а очки зачем носишь? Мужики не носят»,
и давай толкаться... Совсем не по злости... Это понимать
надо! Я и городовому сказал: «Это надо понимать»,—
все на мировую и выпили.
В 1864 году Якушкина увезли из Петербурга в ссылку
в Орел, потом перевели в Астрахань, затем в Самару,
где в 1872 г. он и умер в земской больнице от истощения.
Перед смертью Якушкин сказал лечившему его врачу:
«Припоминая все мое прошлое, я ни в чем не могу упрек-
нуть себя»9.
Вот весь петербургский эпизод жизни Якушкина. Пе-
чальный эпизод!
371
Из «товарищеских» воспоминаний довольно трудно со-
ставить цельное представление об личности Якушкина
и его мировоззрении. Но все согласны в том, что в нем
было какое-то святое, всепобеждающее незлобие. Незло-
бие его, говорит г. Лесков, было поистине незлобие пра-
ведника. Политика занимала Якушкина мало. «Смена и
назначение новых должностных лиц его не радовали
и не печалили», — говорит г. Лесков. «Он махал рукой и
говорил: «Это все едино». Общественные формы были
для него все безразличны — «как народ похочет, так и
уставится». Народ, по Якушкину, были собственно «му-
жики». Аксаков, по мнению Якушкина, «у немцев учил-
ся» и не был настоящим человеком 10. Политического ре-
волюционизма в Якушкине не было, «потому что — не для
чего: миром разберемся». Социальным идеалом Якушки-
на была какая-то всеобщая артель, но ясного представ-
ления о ней он не имел. В целом же Якушкин был для
всех его знавших каким-то «божьим человеком», неясным,
запутанным, неопределенным, производившим главное
впечатление своей простотой, беспорядочностью и незло-
бием. Его находили бесхарактерным, конечно, понимая
характер в обычном смысле. Но какая же может быть
большая цельность натуры и какой же нужен еще харак-
тер для того, чтобы так неуклонно и фаталистически
прожить всю свою жизнь, как прожил Якушкин. Если
для того, чтобы быть подвижником, характера не нужно,
то, конечно, у Якушкина его не было. Г-н Лесков пере-
дает такую характеристику Якушкина, сделанную Пи-
семским: «Якушкин был бы у крестьян, что называется,
забулдыжка... И если бы пришло какое-нибудь дело
насчет земель и надо бы миром на выгоне стать, то за-
булдыжку бы впереди всех поставили — чистым поло-
тенчиком его завесили бы, а на грудь в белы ручки обра-
зок дали бы. И он бы так стоял, с образком, как святой.
А велел бы ему мир на колени пасть — он бы и на коле-
ни пал. Такое его определение: ни в чем от мира не
прочь и на мир не челобитчик». Это, может быть, верно,
как справедливо замечает Лесков: именно «может быть».
Г-н Боборыкин говорит, что Якушкин «был в лучшие
свои минуты человек очень неувлекающийся и то, что
называется — объективный. Он и себя и других разумел
как следует» и. В целом, по словам того же г. Боборыки-
на, несмотря на всегда растерзанный вид, в Якушкине
372
сидел студент, «прожигатель жизни», человек, прошедший
через анализ и рефлексию; но тон его речи, несмотря на
прибаутки, отзывался литераторством, очки говорили
о студенческой привычке господского же пошиба, даже
манеры — и те оказывались не народными. Простой че-
ловек чувствовал, что Якушкин из «господ», занимаю-
щихся шатаньем и каляканьем с кем попало». Это беглое
замечание г. Боборыкина, может быть, и менее «товари-
щеское», чем сентиментальные воспоминания друзей, не
только точнее определяет Якушкина, но даже отводит
ему историческое место. Якушкин вовсе не «кающийся
дворянин» — Якушкин есть явление головное, он выразил
собою известный рост критической мысли.
Движение мысли, выдвинувшее Якушкина, народилось
не вчера. Оно принимало разные формы, выражалось
во многих особенностях и с особенной силой повтори-
лось после Петра, затянув наконец в себя интеллиген-
цию. Конца этому прогрессивному стремлению к обще-
ственному сознанию пока еще не видно, хотя уже при
Алексее Михайловиче делались первые попытки измене-
ний. Петровская реформа была только более резким и
крутым ответом на тот же запрос. Совершенно справед-
ливо, что перемены начались сверху. Но и верхи заим-
ствовали только европейскую форму, под которой скры-
валось самое татарское, самое ужасающее невежество.
Фонвизин одинаково осмеивал как старую московскую
Россию, так и новую Россию, с ее непониманьем и по-
верхностным обезьянством. Идеала, во имя которого
общество сознательно бы действовало, не имелось, и об-
щественное сознание еще не пробуждалось ни в народе,
ни в интеллигенции. Вся она представлялась отдельными
лицами, как Щербатов, Новиков, Радищев. Но в Щерба-
тове и Радищеве 12, людях далеко не даровитых и умных,
сказалось довольно определенное стремление за руково-
дящей общественной идеей. Щербатову, жившему среди
еще живых преданий и нравов допетровского времени и
господствовавших патриархальных отношений, не трудно
было выискать в них старые идеалы и начать плакаться
на повреждение нравов, явившихся вследствие отступле-
ния от завета отцов. С другой стороны, Радищеву так
же было не трудно усмотреть идеал только в европейской
цивилизации. С этого времени в России отмечается до-
вольно определенно пора общественных идеалов, и все
373
последующее наше умственное движение имеет только
эту тенденцию. Необходимо прибавить, что «западные»
идеалы не всегда обозначали прогрессивное направление.
Карамзин был западником и, уж конечно, с Запада при-
вез свои политические идеалы. Почему Карамзин из по-
клонника Руссо превратился в крайнего «государствен-
ника», пока, кажется, не выяснено; но нужно думать, что
государственная история Европы давала ему большую
возможность создать целое последовательное изложение,
отлить его, так сказать, из бронзы и построить на идеале
большего видимого порядка и стройности, чем проти-
воположная попытка, за которую взялся потом Поле-
вой 13, желая поправить ошибку Карамзина. Стройность,
устойчивость и крепость начал, на которых Карамзин
воздвиг здание русской истории, не могла не произво-
дить на мысль такого же цельного и стройного впечатле-
ния. А если к этому присоединить еще и художественный
талант Карамзина, то становится вполне понятным, ка-
кое воспитательное влияние на целый ряд поколений
должна была иметь история Карамзина. Но «История го-
сударства российского» была только половиной истории
России, а история второй половины до сих пор еще не
нашла своего историка. Карамзин встретил себе сильных
противников не только между новыми писателями, как
Полевой, но и между старыми.
Карамзин как выдающийся писатель имел громадное
воспитательное влияние. Под его влиянием развился
Пушкин 14, под его влиянием создался целый ряд истори-
ческих романистов с Загоскиным и Лажечниковым во
главе, романами которых внеслось много фальши в поня-
тия наших отцов и дедов. Эта фальшь выдавалась за со-
знание народности, и в горячке охватившего тогда нашу
литературу самообольщения всем казалось, что мы дер-
жим уже в руках своих народный идеал, с которым и
вступаем сознательно в общую мировую жизнь.
Вот в это-то время и явились знаменитые философ-
ские письма Чаадаева. Резко и смело бросил Чаадаев
вызов слащавому народолюбству и, разобрав всю нашу
скучную историю, пришел к выводу, что у нас нет ника*
ких своих идей правды, чести и добра и нет никаких
общественных идеалов вне идеалов Запада.
Смелый вызов Чаадаева был, конечно, принят теми,
кто считал себя представителями «народности» 15. Про-
374
тивники были настолько правдивы и умны, что не могли
не признать чаадаевской правды, и вот они приходят
к заключению, что наша жизнь, не менее человеческая,
как и Западной Европы, представляется иною потому,
что развивалась по своим собственным славянским за-
конам, на основании иных стремлений и задач.
С этого момента в идейной борьбе за общественные
идеалы резко обособляются два направления — славяно-
фильское и западническое. И момент этот приобретает
особенную историческую важность по его воспитатель-
ному значению и практическому направлению. Тот и дру-
гой лагерь выставил замечательных писателей, мыслите-
лей и ученых, которые в литературе и науке стали про-
водить свои взгляды, вербуя себе сторонников. Западные
идеи, понятия, знания, философские и государственные
системы — все, что только оказывалось возможным про-
вести в наше сознание, все это постоянно, энергично и
талантливо проводилось в печати западниками, и им —
и в особенности в шестидесятых годах — русское обще-
ство обязано тою массою знаний и понятий, которыми
теперь владеет. С своей стороны, славянофилы, понимая
очень хорошо, что без фактического знания народных
«особенностей» у них не будет точки опоры, направили
свои силы на изучение народного быта, на собирание
народных песен, сказок и вообще памятников народной
литературы, в которых выражаются народное горе и на-
родная радость, народные стремления, народные идеалы.
В числе славянофилов очень видное место занимали
П. В. Киреевский и М. П. Погодин, создавшие в Москве
около себя славянофильскую атмосферу. Это были «прак-
тические» славянофилы, занимавшиеся собиранием «ма-
териалов». В это время (1840 г.) Якушкин был студентом
московского университета, и, узнав, что Киреевский соби-
рает народные песни, Якушкин записал одну и отправил
ее к нему. Киреевский заплатил 15 руб. асе. Якушкин по-
вторил опыт, а после присланной третьей песни получил
от Киреевского приглашение познакомиться. Найдя в
Якушкине способного работника, Киреевский отправил
его для исследования в северные поволжские губернии.
«Якушкин взвалил на плечи лубочный короб, набитый
офенским товаром, — говорит его биограф, — взял в руки
аршин и пошел под незамысловатым видом торговца-
сумошника на исследование народности и для изучения
375
и записывания песен. Выход Якушкина был новый —
никто до него таких путей не прокладывал. Приемам
учиться было негде; никто еще не дерзал на такие полные
шаги, систематически рассчитанные, и на дерзостные по-
ступки— встреч глаз на глаз с народом. По духу того
времени затею Якушкина можно считать положительным
безумием, которое, по меньшей мере, находило себе оп-
равдание лишь в увлечениях молодости». (Биография).
Путешествие окончилось благополучно, и Якушкин «сде-
лался известен и любезен московским славянофилам, ко-
торым он был обязан самыми существенными из своих
верований и самым главным в своих честных и прямых
убеждениях». (Биография). Якушкин затем пошел во
второй, третий и, кажется, четвертый поход — опять под
защитою короба и под видом мелочного торговца; вер-
нувшись, он поселился в усадьбе своей матери, а затем
приехал в Петербург.
То было замечательное время, и не потому замеча-
тельное, что люди были другие, а потому, что время со-
здавало иных людей. В воздухе уже носилась идея осво-
бождения, а с нею в связи выдвигался целый ряд по-
следовательных идей и стремлений, осуществившихся в
целом ряде реформ. Тут было о чем подумать, над чем
поволноваться, о чем даже и помечтать. Работа для
мысли была громадная, и захватывающая, и тем более
энергичная, что перед нею стояли жизненные практиче-
ские задачи. Так называемый энтузиазм заключался в
той последовательности мышления, которая идею осво-
бождения очищала от всего нарушавшего ее цельность
и логическую законченность. Энтузиастами только и на-
зывались эти последовательные люди, энергические и
убежденные, готовые на немедленное осуществление
практических отношений, в которых полнее всего выра-
жалась общественная правда и справедливость.
Это время нанесло сильный удар прежнему беспоч-
венному и сентиментальному славянофильству. Прежнее
славянофильство чистой воды оказалось теперь невоз^
можным, потому что от работы мысли требовалась точ-
ность и практическая осуществимость. Задача заключа-
лась теперь уже не в собирании народных песен и былин,
а в том, чтобы знать практические отношения народа в
его внутренней юридической, бытовой и экономической
жизни. Но кто и что тут мог сказать? Насколько могуче
376
было влияние времени, можно увидеть на том конкрет-
ном примере, которым является Якушкин. Человек,
развившийся под влиянием чистого славянофильства, вне-
запно отворачивается от Москвы и остается в петербург-
ском водовороте, не имея силы вырваться из его захва-
тывающей волны. Но в то же время у Якушкина нет
силы явиться активным выразителем новых идей и но-
вых стремлений, которые его окружили, и он впадает в
пассивное прожигание жизни, не найдя никакого другого
помещения для своих сил. В этом именно и сказалась
бесплодность славянофильства, расплывавшегося в ту-
манных стремлениях и в маниловских мечтах, но не имев-
шего никакой точной, практической программы. Эта не-
точность выразилась и в общественно-политическом ми-
ровоззрении Якушкина, которого вся программа заклю-
чалась в том, что «как народ похотел, так и добро», или
«миром разберемся». Людям с подобной программой,
конечно, делать было нечего — и Якушкин, а в его лице
и все прежнее народничество, выросшее на славяно-
фильско-художественной почве, должны были уступить
место другой форме практического народничества, стре-
мившегося к изучению народа во всех его бытовых и
экономических особенностях. Таким образом, период вре-
мени с 1855 по 1861 год, явившийся гранью перелома
идей, явился в то же время могилой, поглотившей преж-
нее славянофильство с его хотя и благородными и ры-
царски честными стремлениями, но практически вполне
бесплодными по отсутствию точного и вполне реального
идеала. Посмертные остатки этого славянофильства, хотя
и нашли себе временное помещение во «Времени» и «Эпо-
хе», но уже это был «прах», которого не могла оживить
гальванизация Федора Достоевского, задумавшего пре-
вратить «прах» в живую «почву». Что же касается г. Ак-
сакова, физически пережившего «славное» время славя-
нофильства и пытающегося поддерживать его слабо мер-
цающий светоч, то мерцание его возможно только потому,
что мы переживаем тихое время. При более широкой и
кипучей деятельности, какая, например, была в шестиде-
сятых годах, жизнь давно бы задула лампочку г. Акса-
кова 16.
Но та же жизнь дала и еще один урок. Форма народ-
ничества, представленная Якушкиным и ближайшими за
ним людьми, мечтавшими о «слиянии» и делавшимися
377
искусственными мужиками, — эта форма уже отжившая
и ненормальная. Она создавалась как единственный вы-
ход из условий жизни, которые не допускали более нор-
мального движения деятельных общественных сил. Эти
формы «ходящего» народничества уже достояние исто-
рии 17. Народная жизнь разовьется не оттого, что станет
опускаться интеллигенция до не свойственного ей уровня,
а разовьется она при осуществлении условий, которые да-
дут ей возможность подняться. Другого закона у обще-
ственного прогресса нет. При нормальных же условиях
развития общественной жизни слияние интеллигенции с
народом свершится и без поддевки, и чтобы изучать на-
родный быт — не потребуется одеваться «мужиком».
ПРИМЕЧАНИЯ
Сочинения Н. В. Шелгунова при его жизни издавались дважды:
Сочинения, тт. I—III, СПб., изд-во «Русской книжной торговли», 1871 —
1872; Сочинения, тт. I—II, СПб., изд. Ф. Павленкова, 1891. После
смерти Шелгунова второе издание сочинений в двух томах осущест-
влено (с изменениями в составе) О. Н. Поповой в 1895 г., тогда же
вышли отдельным изданием «Очерки русской жизни», а в 1904 г. они
вошли в состав третьего издания Сочинений в трех томах. Однако
эти издания далеко не охватывают всего написанного публицистом
и критиком. Из литературно-критических статей в прижизненные из-
дания Сочинений входили четыре: «По поводу одной книги», «Талант-
ливая бесталанность», «Философия застоя», «Гений молодой Герма-
нии»; издания 1895 и 1904 гг. (т. II) были пополнены статьями «Типы
русского бессилия» и «Народный реализм в литературе».
В советские годы новых изданий собрания сочинений не предпри-
нималось, отдельные статьи публиковались в сборниках по различным
отраслям знаний (педагогические, экономические и др.). Был издан
и сборник статей на литературные темы (Н. В. Шелгунов. Избран-
ные литературно-критические статьи. Редакция, вступительная статья
и примечания И. Новича, М. — Л., 1928); в него вошли лишь четыре
статьи, включавшиеся в дореволюционные издания Сочинений («Та-
лантливая бесталанность», «Философия застоя», «Народный реализм
в литературе», «Гений молодой Германии») и отрывок из «Очер-
ков русской жизни». Этот сборник ныне устарел и по принципам
издания: в статьях допущены произвольные сокращения, тексты не
сверены с прижизненными публикациями, неполны примечания и т. д.
Благодаря архивным разысканиям советских историков и литера-
туроведов был обнаружен ряд статей Шелгунова, запрещенных цар-
ской цензурой. Среди этих находок — статья о сочинениях Писарева,
вторая часть статьи «Русские идеалы, герои и типы» и др. Вновь най-
денные материалы публиковались в различных научных изданиях.
Большую ценность для изучения жизни и литературной деятель-
ности Шелгунова имеют его воспоминания, изданные в наиболее пол-
379
ном виде лишь в советское время: 1) Н. В. Шел пун о в. Воспомина-
ния. Редакция, вступительная статья и примечания А. А. Шилова.
М. — Л., 1923; 2) Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова,
М. Л. Михайлов. Воспоминания в двух томах. Вступительная
статья Э. Виленской и Л. Ройтберг, подготовка текста и примечания
Э. Виленской, Е. Ольховского и Л. Ройтберг. М., ИХЛ, 1967.
В настоящем издании литературно-критическое наследие Шелгу-
нова представлено в более полном виде, чем во всех предшествую-
щих. При отборе статей ставилось целью познакомить читателей с
наиболее значительными и характерными выступлениями Шел-
гунова как о современной ему литературе, так и по проблемам
литературной критики. Во вступительной статье к изданию и приме-
чаниях широко привлекаются и те статьи и рецензии критика, которые
не смогли быть включены в издание из-за ограниченности его объема.
Статьи расположены в хронологическом порядке. Тексты печатаются
по журнальным публикациям или по изданию: Сочинения, т. II, СПб.,
1891; статья «Сочинения Д. И. Писарева» — по публикации в «Лите-
ратурном наследстве».
В библиографических ссылках примечаний приняты следующие
сокращения:
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочине-
ний в тринадцати томах. М., изд-во АН СССР, 1953—1959.
«Воспоминания» — Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгу-
нова, М. Л. М и х а й л о в. Воспоминания в двух томах, М., изд-во
«Художественная литература», 1967.
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати то-
мах, М., изд-во АН СССР, 1954—1965.
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений
в девяти томах. М. — Л., Гослитиздат, 1961 —1964.
Писарев — Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах. М.,
Гослитиздат, 1955—1956.
Тургенев — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и
писем в двадцати восьми томах, М. — Л., изд-во АН СССР, 1960—1968.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собра-
ние сочинений в пятнадцати томах. М., Гослитиздат, 1939—1953.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
СССР (в Ленинграде).
ЛЮДИ СОРОКОВЫХ И ШЕСТИДЕСЯТЫХ годов
(«Люди сороковых годов». Роман А. Писемского. «Заря», 1869 г.)
Впервые опубликована в журнале «Дело», 1869, в отделе «Совре-
менное обозрение», № 9, с. 1—29; № 10, с. 1—38; № 11, с. 1—51 и '
№ 12, с. 1—51. Подпись: Н. Ш., в № 12: Н. Шелгунов.
380
В ряду первых литературно-критических выступлений Шелгунова
данная статья является самой обширной и программной по своему
значению и характеру. Написанная в связи с только что вышедшим
романом Писемского, опа далеко вышла за пределы оценки произве-
дения и охватила широкий круг проблем, занимавших критика на
протяжении всей его литературной деятельности. Подзаголовок вто-
рой части статьи несколько изменен: «По поводу романа г-на Писем-
ского «Люди сороковых годов». «Заря», 1869 г.».
Одновременно с Шелгуповым и в том же журнале с отрицатель-
ной оценкой романа Писемского выступил С. С. Окрейц в статье
«Журналистика 18-39 года. I. Новые романы старых романистов» (за
подписью: Окр—ц). Об отображении эпохи романистом он пишет:
«Или автор никогда не видел кружков молодежи сороковых годов..;
или он умышленно искажает действительность...» («Дело», 1869,
№ 9, с. 89).
1 Роман печатался в журнале «Заря», 1869, №№ 1—9; свою статью
Шелгунов начал до окончания публикации романа.
2 Так называлось направление русской критики, руководствовав-
шееся теорией «искусства для искусства»; основными представите-
лями этой критики были В. П. Боткин, П. В. Анненков, А. В. Дружи-
нин, С. С. Дудышкин.
3 См. статью «Талантливая бесталанность» и примечания к ней.
4 Роман «Взбаламученное море» появился в «Русском вестнике»
в 1863 г. и в том же году вышел отдельным изданием.
6 Первым печатным произведением Писемского был рассказ «Ни-
на» (в журнале «Сын отечества», 1848, № 7); повесть «Тюфяк» опуб-
ликована в журнале «Москвитянин», 1850, №№ 19—21.
6 Цитируется рецензия (за подписью: О.) в «Москвитянине», 1851,
№ 7, кн. 1, с. 375—376; автором ее был Б. И. Ордынский.
7 Здесь и далее цитируется статья (без подписи) в «Библиотеке
для чтения», 1851, т. 107, отд. VI, с. 1—13.
8 Цитируется вторая статья «Обозрения русской литературы за
1850 год (без подписи) в «Современнике», 1851, № 2, отд. III, с. 65—
74; автором раздела о повести «Тюфяк» был В. П. Гаевский (см.:
В. Э. Б огр ад. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель со-
держания. М.—Л., 1959, с. 505).
9 Очевидно, имеется в виду суждение в заключительной части
последней статьи Белинского о Пушкине, написанной в 1846 г.: «Пуш-
кин был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог
быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, как искусство, как худо7
жество. И поэтому он навсегда останется великим, образцовым масте-
ром поэзии, учителем искусства» (Белинский, т. VII, с. 579).
381
10 Цитируется статья Н. Н. Страхова «Несколько слов о Пи-
семском» («Время», 1861, июль, с. 17—18; опубликована без
подписи).
11 В упомянутой статье Страхов писал: «Писемский принадлежит
к тому отрицательному направлению нашей литературы, родоначаль-
ником которой был Гоголь. Эту школу называли некогда у нас на*
туральною школою...» (там же, с. 14).
12 Цитируется статья Дружинина: «„Тысяча душ“. Роман
А. Ф. Писемского» («Библиотека для чтения», 1859, т. 153, февраль,
отд. IV, с. 1—15, подпись: Ред.).
13 Очевидно, имеется в виду статья Чернышевского «Очерки из
крестьянского быта А. Ф. Писемского» («Современник», 1857, № 4,
с. 38—50, без подписи).
14 «Мальчишками» реакционная пресса называла представителей
революционно-демократической мысли и критики.
15 «Молодой Дикий» — полное название: «Молодой Дикий, или
Опасное стремление первых страстей», сочинение госпожи Жанлис, М.,
1809; фактический автор романа — Август Лежюнь. Произведения
Мар монте ля — «Нравоучительные рассказы», романы «Велизарий»,
«Инки» и др. — переводились на русский язык в XVIII в. Роман
В. Скотта «Ивангое» (в совр. написании «Айвенго») впервые переве-
ден на русский язык в 1823 г.
16 «Днепровская русалка» — пьеса Н. С. Краснопольского.
17 Прудиус — от лат. prudens: рассудительный, благоразумный.
18 Демидовское училище правоведения в Ярославле, основанное
в 1805 г.
19 Речь идет о Марии-Фортюне Лафарж, осужденной в 1840 году
в Париже к пожизненной каторге по обвинению в отравлении мужа.
Об этом судебном процессе см. также в цикле Герцена «Капризы и
раздумье» (Герцен, т. II, с. 79).
20 Выражение из стихотворения Баратынского «На смерть Гете»
(1832):
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
21 Имеется в виду кружок, группировавшийся вокруг Герцена и
Огарева, в него входили Н. М. Сатин, Н. И. Сазонов, Н. X. Кетчер
и др.
22 Речь идет о статьях «Русский человек на rendez-vous» Черны*,
шевского, «Когда же придет настоящий день» Добролюбова, «База-
ров» Писарева и др<
382
23 На протяжении 60-х годов умерли Дружинин (1864), Дудыш-
кин (1866), Боткин (1869).
24 В 1869 г. вышла в свет книга Н. И. Соловьева «Искусство и
жизнь», в которой были собраны его критические сочинения; Шелгу-
нов посвятил характеристике этого критика и его книги статью «Двое-
душие эстетического консерватизма» («Дело», 1870, № 10).
25 В объявлении на обложке Сочинений Писарева (часть IX, СПб.,
1868) сообщалось о составе последующего тома и называлась, в ряде
других, статья «Пульхерия Ивановна»; видимо, она и была посвящена
характеристике Н. И. Соловьева. Однако в часть X (СПб., 1869)
статья не вошла, не появилась она и в последующих изданиях сочи-
нений Писарева. В статье «Цветы невинного юмора» критик уподоб-
лял Пульхерии Ивановне читателей журнала «Время» (Писарев,
т. 2, с. 335).
26 Писатель-этнограф С. В. Максимов в 1850—1860-х гг. создал
ряд книг о жизни, быте, обычаях, языке русского народа; о книге
«Год на севере» (1859) Шелгунов написал рецензию («Русское слово»,
1860, № 2, стр. 10—17).
27 Выражение, дословно взятое из статьи Белинского «Литера-
турные мечтания» (Б е л и н с к и й, т. I, с. 43—44).
28 Имеется в виду Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и
дети» (1862).
29 Цитируется с некоторыми сокращениями монолог Лежнева из
романа «Рудин» (Тургенев, Сочинения, т. VI, с. 299—300).
30 Имеется в виду герой романа Руссо «Эмиль, или О воспитании».
31 Цитата из романа Герцена «Кто виноват?» (1845—1846).
32 Цитируется с сокращениями роман «Рудин» (Тургенев, Со-
чинения, т. VI, с. 364—366).
33 Цитата из статьи «Литературные мечтания» (Белинский,
т. I, с. 93).
34 Книга «Германия» цитируется по изданию: Г. Гейне. Сочине-
ния в переводе русских писателей. Под ред. П. Вейнберга, т. V,
СПб., 1865.
35 Шарлотта-Софья Штиглиц, жена немецкого поэта Генриха
Штиглица, покончила самоубийством с целью возбудить поэтическое
вдохновение своего мужа. Далее цитируется книга: I. S с h е г г. Ge-
schichte der deutschen Frauen. Leipzig, 1860. (И. Ш e p p. История
немецких женщин, Лейпциг, 1860). Шелгунов цитирует по русскому
переводу главу, напечатанную в виде статьи «Исторические женские
типы» в издании: Д.-С. Милль. О подчинении женщины. Перевод
с английского, под редакцией и с предисловием Г. Е. Благосветлова.
СПб., 1869, с. 295,
383
36 Цитата из книги: Д.-С. Милль. О подчинении женщины. СПб,.
1869, с. 173.
37 Эдмея и упоминаемые далее Рош-Мопра, Бернар — персонажи
романа Жорж Саид «Мопра» (1837); впервые на русском языке на-
печатан в «Московском наблюдателе» в 1837 г.
38 Роман «Маркиза» в переводе на русский язык впервые напеча-
тан в 1845 г. в «Отечественных записках».
39 Женевьева, Андре — герои романа «Андре», перевод его на рус-
ский язык впервые опубликован в «Отечественных записках» в 1843 г.
40 Валентина, Бенедикт — герои романа «Валентина» (1832).
41 Лелия и упоминаемый далее Стенио — герои романа «Лелия»
(1833).
42 Роман «Жак» (1834) в переводе на русский язык впервые на-
печатан в «Отечественных записках» в 1843 г.
43 Фиамма — героиня романа «Симон» (1836). Рудольштадт —
герой романов «Консуэло» (1842—1843) и «Графиня Рудольштадт»
(1843—1844).
44 Нун и называемый далее Ремон — герои романа «Индиана»
(1832).
45 Виргиния и Павел — герои романа Бернардена де Сен-Пьера
«Поль и Виргиния».
46 Теверино, Леоне, Мадлена, Сабина — персонажи повести «Те-
верино» (1845).
47 Луи — герой романа «Мельник из Анжибо» (1845).
48 Жак и упоминаемые далее Фернанда, Октав — герои романа
«Жак».
49 Метелла и упоминаемые далее Буонделъмонте, Оливье, Мо-
брей — герои повести «Метелла».
50 Канту принадлежат «Критика чистого разума» (1781) и «Кри-
тика практического разума» (1788).
51 Имеется "в виду евангельская притча о сеятеле (Евангелие от
Матфея, гл. 13).
52 С. П. Шевырев в изображаемый период был профессором Мос-
ковского университета, автором ряда трудов по теории и истории
литературы.
53 Неточная цитата из стихотворения Шевырева «Чтение Данта»
(1831); имеется в виду строка: «Что в море купаться, то Данта чи-
тать. ..»
54 Цитата из романа Тургенева «Рудин».
55 Цитируется в выдержках дневник Круциферской в романе
«Кто виноват?» (Герцен, т. IV, с. 180—188).
56 Цитируется по изданию: П. В. Анненков. Николай Влади-
мирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857.
384
67 Здесь и далее цитируется роман Герцена «Кто виноват?».
58 Повесть Дружинина «Полинька Сакс» впервые была напеча-
тана в «Современнике» (1847, № 12).
59 Санфасонность — от франц, sans fa^ons: бесцеремонность.
'то В романе «Люди сороковых годов» взглядам на произведения
Ж. Санд посвящена глава «Жорж-Зандизм».
61 Повесть «Полинька Сакс» сочувственно отмечена в статье Бе-
линского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», а в письме
к Боткину от 2—6 декабря 1847 г. критик писал: «Эта повесть мне
очень понравилась. Герой чересчур идеализирован и уж слишком на-
поминает сандовского Жака, есть положения довольно натянутые,
местами пахнет мелодрамою, всё юно и незрело — и, несмотря на то,
хорошо, дельно, да еще как!» (Белинский, т. XII, с. 444). Повесть
положительно оценена также в статье П. В. Анненкова «Заметки
о русской литературе прошлого года» («Современник», 1849, № 1,
отд. III, с. 1—23, без подписи).
62 Цитата из басни Крылова «Соловьи».
63 Сорбонна — с 1808 г. часть Парижского университета (богослов-
ский и литературный факультеты); в прошлом — богословская школа,
основанная в 1253 г.
64 Соковлин и упоминаемая далее Наташа — герои романа
Авдеева «Подводный камень» (1860).
65 Лаврецкий и упоминаемый далее Паншин — герои романа Тур-
генева «Дворянское гнездо» (1859).
66 Марк, Вера — герои романа Гончарова «Обрыв» (1869).
67 Елена — героиня романа Тургенева «Накануне» (1860).
68 То есть Т. Н. Грановского.
69 Сведенборгист — сторонник теософского учения Эммануила
Сведенборга, шведского ученого.
70 «История Гогенштауфенов» — шеститомный труд немецкого
историка Фридриха Раумера.
71 Выражения, восходящие к роману Достоевского «Бедные люди»
и статье Добролюбова «Забитые люди», посвященной творчеству До-
стоевского 40-х и начала 60-х годов.
72 В. Д. Костомаров сыграл предательскую роль в аресте, а за-
тем и в судебных процессах Михайлова, Чернышевского, Шелгунова.
73 Литвинов, Потугин и упоминаемый далее Губарев — герои ро-
мана Тургенева «Дым» (1867).
74 Имеется в виду роман Н. С. Кохановской (Соханской) «Рой-
Феодосий Саввич на спокое» (1864).
76 От слов «Образ мыслей г. Писемского...» до «остатками ко-
шихинской старины» — неоговоренная цитата из статьи Писарева
«Цветы невинного юмора» (см. Писарев, т. 2, с. 342). Кошихин-
н. В. Шелгунов
385
ская старина—выражение, характеризующее русскую жизнь XVII в.
и данное на основании книги Г. К. Котошихина (Кошихина) «О Рос-
сии в царствование Алексея Михайловича», изданной в 1840 г.
76 Характеристика раннего периода творчества Писемского дана
в статьях Писарева 1861 г. «Стоячая вода», «Писемский, Тургенев и
Гончаров», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Турге-
нева и Гончарова», в которых подчеркивалась объективность картин
и образов в произведениях Писемского. О взглядах и творчестве пи-
сателя, нашедших выражение в романе «Взбаламученное море» и др.
его выступлениях 60-х годов, Писарев говорит в статьях 1865 г. «Про-
гулка по садам российской словесности» и «Посмотрим!».
77 Подробнее свои взгляды на творчество Островского Шелгунов
развил в статье «Бессилие творческой мысли» («Дело», 1875, № 6),
См. также об этом во вступительной статье к данному изданию.
78 Цитируются заключительные строки романа (см. А. Ф. П и-
с е м с к и й. Взбаламученное море, т. Ill, М., 1863, с. 289).
79 То есть в духе воззрений историка М. П. Погодина, принадле-
жавшего к охранительному направлению.
80 Весталки — по древним римским преданиям, жрицы богини
Весты, хранительницы домашнего очага.
81 Бирский исправник — персонаж в романе «Люди сороковых
годов».
82 Имеется в виду статья о «Рассказах Н. Успенского», приписы-
ваемая Ф. М. Достоевскому («Время», 1861, № 12).
83 Иона — персонаж в романе Писемского «Взбаламученное море».
84 «Бедная Лиза» (1792)—повесть Карамзина; «Юрий Мило-
славский, или Русские в 1612 году» (1829)—роман Загоскина;
«Последний Новик, или Завоевание Финляндии в царствование Петра
Великого» (1831)—роман Лажечникова; «Таинственный монах, или
Некоторые черты из жизни Петра I» (18134) — роман Р. Зотова, о ко-
тором Белинский писал: «.. .выведенные им исторические лица суть
не иное что, как общие риторические места, образы без лиц, сбитые
кое-как на одну колодку» (Белинский, т. I, с. 175). «Франциск
Венециан» — переводная повесть «История о храбром рыцаре Фран-
цыле Венециане и о прекрасной королевне Ренцывене», неоднократно
переиздавалась в конце XVIII — начале XIX вв. (в 1787, 1789 и др.).
85 Речь идет о романе Гончарова «Обрыв».
86 В карикатурных чертах Проскриптского содержались намеки
на личность Чернышевского (см. «История русского романа», т. 2,
М., 1964, с. 136).
87 Здесь дан ответ на скрытый выпад Тургенева по поводу статьи
Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» («Совре-
менник», 1861, №№ ,9, 10, 11), в которой излагалась книга Ф. Энгельса
.386
сПоложение рабочего класса в Англии» (см. Тургенев, Сочинения,
т. IX, с. 234, 555).
88 Речь идет о сочинении Гакстгаузена «Исследование внутрен-
них отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений
в России», в трех томах (1847—1852), написанном на основании на-
блюдений автора во время его путешествия по России в 40-х годах.
88 Имеется в виду роман Тургенева «Отцы и дети».
90 Скотинин, Простакова — персонажи комедии Фонвизина «Не-
доросль».
91 Цитаты из романа Гончарова «Обыкновенная история» (1847).
92 Речь идет о просветителях и материалистах (Вольтере, Мон-
тескье, Кондильяке, Гольбахе и др.), идейно подготовивших француз-
скую буржуазную революцию конца XVIII в. Шелгунов иронизирует
над дворянским аристократизмом героя тургеневского романа.
93 Имеется в виду торговля неграми, которых насильственно вы-
возили из Африки в Америку в конце XVIII и в XIX вв.
94 Герои повестей Гоголя «Как поссорились Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» и «Старосветские помещики».
95 Лиза Бахарева и упоминаемые далее Женни Гловацкая, Ро-
занов, Вязмитинов, Помада, Райнер — герой романа Лескова «Не-
куда».
96 Цитата из стихотворения Гейне «Брось свои иносказания...»
в переводе М’ Л. Михайлова.
97 Речь идет о сочинении Д.-С. Милля «Основания политической
экономии»; в переводе Чернышевского и с его примечаниями труд пе-
чатался сначала в «Современнике», а затем полностью издан в 1865 г.
(в издании А. Н. Пыпина).
98 Имеется в виду Н. П. Суслова, учившаяся в Петербургской ме-
дико-хирургической академии; в 1867 г. окончила Цюрихский универ-
ситет, получив звание доктора медицины, хирургии и акушерства.
99 Эпоха регентства во Франции датируется 1715—1723 гг., когда
при малолетнем Людовике XV фактическим правителем был герцог
Филипп Орлеанский.
100 О Рахметове и других героях романа Чернышевского «Что
делать?» Шелгунов подробнее пишет во второй части статьи «Русские
идеалы, герои и типы», запрещенной цензурой; опубликована в сб.
«Шестидесятые годы», М.—Л., 1940, с. 170—174.
ТАЛАНТЛИВАЯ БЕСТАЛАННОСТЬ
Впервые опубликована в журнале «Дело», 1869, № 8, Современ-
ное обозрение, с. 1—42, подпись: Н. Шелгунов. Без существенных
изменений перепечатана в Издании его Сочинений, Т. II, СПб., 1891.
387
Своей статьей Шелгунов включился в ту острую полемику, кото-
рую вызвал роман «Обрыв» уже при печатании его в журнале «Вест-
ник Европы», до выхода в свет отдельным изданием. Главным предме-
том полемики был образ Марка Волохова как одного из «нигилистов»,
которых в карикатурном виде рисовала так называемая антинигили-
стическая литература 60-х годов («Взбаламученное море» Писемского,
«Некуда» Лескова, «Марево» Клюшникова, «Современная идиллия»
и «Поветрие» Авенариуса, «Панургово стадо» Вс. Крестовского и др.).
Для борьбы с демократическим направлением лагерь реакции пы-
тался использовать романы Тургенева «Отцы и дети» и «Дым». В этом
духе истолковала реакционная пресса и роман «Обрыв». Против анти-
нигилистической литературы, в защиту «новых людей» решительно вы-
ступала революционно-демократическая печать. О натяжках и иска-
жениях в обрисовке прогрессивной молодежи писала нередко и ли-
беральная критика.
Острота полемики вокруг романа «Обрыв», как в свое время
вокруг «Отцов и детей» Тургенева, в значительной мере обусловлена
авторитетом имени писателя, о прежних произведениях которого с по-
хвалой отзывались Белинский, Добролюбов, Писарев. Именно это во
многом объясняет тот факт, что на страницах того же «Дела» появи-
лось несколько критических откликов на роман. До статьи Шелгунова
здесь выступили П. А. Гайдебуров («Внутреннее обозрение» в «Деле»,
1869, № 7, подпись: Гдб.) и Д. Д. Минаев (фельетон «С невского
берега», там же, подпись: Аноним). После выступления Шелгунова
появилась статья С. С. Окрейца «Новые романы старых романистов»
(«Дело», 1869, № 9). Несколько выступлений о романе «Обрыв» на-
печатал журнал «Отечественные записки». Первым откликом явилась
статья Салтыкова-Щедрина «Уличная философия» с подзаголовком:
«По поводу 6-ой главы 5-ой части романа «Обрыв» («Отечественные
записки», 1869, № 6, без подписи), затем последовала статья Скаби-
чевского «Старая правда» (в № 10 за тот же год), а в следующем
году появилась статья М. К. Цебриковой «Псевдоновая героиня»
(«Отечественные записки», 1870, № 5). Против тенденциозной направ-
ленности романа Гончарова выступил и журнал «Искра». Д. Д. Минаев
печатает здесь фельетонные заметки «Похождения Бориса Райского
(Веселенькие пейзажи из романа И. А. Гончарова «Обрыв». Трагико-
мические сцены)» в «Искре», 1869, №№ 9, 10, 11 (за подписью: Лите-
ратурное домино); П. Я. Якушкин публикует заметку «Почему в «Об-
рыве» обруган нигилист, а не нигилистка» («Искра», 1870, № 16).
От критических замечаний о романе не удержался даже либе-
ральный «Вестник Европы», где печатался «Обрыв» и где несколько
месяцев спустя появилась статья Е. И. Утина «Литературные споры
нашего времени» («Вестник Европы», 1869, № 11).
388
Статья Шелгунова вызвала широкий общественный резонанс на-
ряду с выступлениями «Отечественных записок».
Как видно из переписки Гончарова, он внимательно следил за
критическими откликами на роман, эти отклики его во многом не
удовлетворяли и раздражали, что послужило побудительной причиной
к написанию предисловия к первому отдельному изданию «Обрыва»;
йднако предисловие в печати не появилось и опубликовано лишь в со-
ветские годы (см. И. А. Гончаров. Собрание сочинений, т. 8. М.,
1955, с. 141—169, 513—516).
Об отношении критика к роману «Обрыв» см. также в статье
М. Я. Полякова «И. А. Гончаров в оценке русской критики» (в сб.:
:«И. А. Гончаров в русской критике». М., 1958, с. 20—24).
1 Роман печатался в «Вестнике Европы», 1869, №№ 1—5; отдель-
ным изданием вышел в 1870 г.
2 Роман «Обыкновенная история» был впервые опубликован в
«Современнике», 1847, №№ 3, 4.
3 Здесь и далее цитируется статья Белинского «Взгляд на рус-
скую литературу 1847 года».
4 Речь идет о Герцене и его романе «Кто виноват?».
5 Очевидно, речь идет о статье Н. Н. Страхова «Жители планег»
(«Время», 1861, № 1, отд. Ill, с. 1—56).
6 Цитата из романа «Обрыв».
7 Имеется в виду заметка «От автора» в журнальной публикации
«Обрыва» («Вестник Европы», 1869, № 1, с. 5—6).
8 Карл Моор — герой драмы Шиллера «Разбойники»; Варавва —
по библейскому преданию, разбойник, освобожденный Пилатом вме-
сто Иисуса Христа.
9 Новоузенск — уездный город в Самарской губернии; Шелгунов
в 1850—1851 гг. служил в этой губернии, и, возможно, его воспомина-
ние относится к этому времени.
10 «Незрелая рукопись» — роман Гюстава Друино; «Семь смертных
грехов» — роман Эжена Сю; «Мертвый осел» — роман Жюля Жанена.
11 Папильонство — от франц, papillon — мотылек; здесь: «мотыль-
ковость», ветреность.
12 Имеется в виду публикация отрывков «Из романа „Эпизоды
из жизни Райского*4», вошедших затем в роман «Обрыв»: «Софья Ни-
колаевна Беловодова» («Современник», 1860, № 2), «Бабушка» («Оте-
чественные записки», 1861, № 1), «Портрет» (там же, № 2). С отрыв-
ком «Софья Николаевна Беловодова» писатель выступил на литера-
турном вечере в феврале 1861 г. (см. А. Д. Алексеев. Летопись
жизни и творчества И. А. Гончарова. М — Л., 1960, с. 105).
г13-Как свидетельствуют упоминавшееся «Предисловие к роману
„Обрыв44», а также написанные позднее статьи «Намерения, задачи
v:389
и идеи романа „Обрыв"» (1876) и «Лучше поздно, чем никогда»
(1879), это заключение критика опровергается творческой историей
романа.
14 Согласно библейскому рассказу, жена египетского сановника
Пентефрия тщетно пыталась соблазнить Иосифа, а затем, прибегнув
к ложному навету, добилась заточения его в темницу.
15 Имеется в виду неоднократно переиздававшаяся в 1860—
1870-е гг. книга И. И. Паульсона «Книга для чтения и практических
упражнений по русскому языку».
и Согласно флогистонной теории в XVIII в. считалось, что горе-
ние веществ обусловлено наличием в их составе особой горючей ма-
терии, флогистона.
17 Повесть А. И. Иваницкого «Неразменный червонец» напеча-
тана в «Библиотеке для чтения», 1839, т. 37.
18 Имеется в виду сочинение XVI в. «Домострой», составленное
на основании различных источников протопопом Сильвестром; в со-
чинении излагаются нормы семейного быта и морали, господствовав-
шие в древней Руси. По рукописям Петербургской публичной библио-
теки «Домострой» был переиздан в 1867 г.
19 Согласно Библии, Моисей сформулировал основные положения
древнего законодательства еврейского народа.
20 Имеется в виду книга Бокля «История цивилизации в Англии»
(1857—1861); ее русский перевод печатался в «Отечественных запи-
сках» в 1861 г.; отдельное издание в 2-х томах вышло в 1863—1864 гг.
21 «Воспоминания о Белинском» Тургенева были впервые опубли-
кованы в «Вестнике Европы», 1869, № 4; Шелгунов излагает мысль
не совсем точно, в «Воспоминаниях» говорится: «Вожди своих совре-
менников в деле критики общественной... должны стоять выше их...
но между этими вождями и их последователями не должно быть
бездны» (Тургенев, Сочинения, т. XIV, с. 30).
22 О каком отзыве Шлейхера идет речь, установить не удалось;
в имеющихся обзорах критических откликов на роман «Дым» данный
отзыв не назван.
СОЧИНЕНИЯ д. и. ПИСАРЕВА
10 частей. С.-Петербург. 1866—1869
При жизни Шелгунова не публиковалась. Впервые напечатана
в «Литературном наследстве», т. 25—26, 1936, с. 398—418.
Статья была предназначена для январского номера журнала
«Дело» за 1871 г., ио не пропущена цензурой. В докладе С.-Петер-
бургского цензурного комитета сказано: «В статье этой автор,
проводя параллель между Добролюбовым и Писаревым, старает-
ся доказать, что последний из названных писателей есть продол-
390
жение первого по пути самостоятельного развития мысли, без вся-
кого подчинения какому бы то ни было авторитету, и что моло-
дое поколение, признающее Добролюбова за своего представителя,
не поняло Писарева и не признало за ним того высокого значения,
какое придает ему автор, как критику и «будителю русской мысли».
Комитет, имея в виду, что с цензурной точки зрения большая часть
Сочинений Писарева признаны вредными по своему отрицательному
направлению, находил, согласно с мнением цензора, что восхваление
и чрезмерное возвышение подобного писателя в журнале «Дело»,
отрицательное направление которого вызывало постоянный строгий
надзор цензуры, имело бы значение пропаганды этого направления
между молодыми читателями этого журнала. И посему в заседа-
нии 13 минувшего января определил: означенную статью к печата-
нию в журнале «Дело» не дозволять» L Решение Петербургского цен-
зурного комитета было подтверждено и Главным управлением по
делам печати. В «Литературном наследстве» статья напечатана по
гранкам набора, сохранившимся в ЦГИАЛ в фонде Главного управ-
ления по делам печати.
Шелгунов работал над статьей в ноябре — декабре 1870 г. в Ка-
луге, где он находился в административной ссылке. В письме к жене
от 11 ноября 1870 г. по поводу нападок «Русского вестника» на его
последние статьи он писал: «Но я остался доволен статьей «Рус-
ского вестника», ибо она послужит мне для введения в статью о
Писареве, которую я думаю приготовить для январской книжки...»1 2
А 19 декабря ей же сообщал: «Ну я наконец-то доволен собой.
Статья о Писареве, которую я посылаю сегодня, — первая статья,
после которой я могу сказать, что могу писать. Я бросил перчатку
молодому поколению за Писарева. Вижу, какой поднимется вой.
Я восстановляю равновесие; ну и не особенно мягко»3. О своем
удовлетворении статьей он пишет жене и 19 декабря: «Если я не
самообольщаюсь, то со статьей о Писареве (на январь и если про-
пустит цензура) я заберу силу»4.
Шелгунов лично знал Писарева еще по журналу «Русское слово»
в начале 1860-х гг., хотя встречались они редко. Затем с апреля
1863 г. по ноябрь 1864 г. они были одновременно заключенными
Алексеевского равелина Петропавловской крепости. После освобожде-
ния Писарева в ноябре 1866 г. между ними завязалась переписка
(Шелгунов находился в ссылке в Вологодской губернии), касавшаяся
1 ЦГИА, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 398, лл. 268—269.
2 Воспоминания, т. II, с. 228.
3 Там же, с. 229.
4 Там же, с. 230.
391
личных дел, а также истории расхождения Писарева с «Делом». Ра-
туя за создание журнала в духе традиций «Русского слова», Шел-
гунов заявлял (в письме к жене от 29 января 1868 г.): «Дело» могло
бы явиться таким журналом, но лишь при участии Писарева» \ Об
этой переписке, как и об истории своих отношений с Писаревым,
Шелгунов позднее рассказал в «Воспоминаниях».
В пору реакции 80-х годов Шелгунов здесь выступает в защиту
«тех лучших, чистейших и умнейших людей, которых шестидесятые
годы выставили в лице Чернышевского, Писарева, Добролюбова и
именем которых зовется целое время»1 2.
1 Имеется в виду издание: Н. А. Добролюбов. Сочинения,
тт. I—IV.. СПб., 1862 (подготовлено Н. Г. Чернышевским), неодно-
кратно переиздававшееся; в т. IV помещены публицистические
статьи 1859—1861 гг. и сатирические стихотворения, печатавшиеся в
«Свистке».
2 Статья А. М. Скабичевского «Дмитрий Иванович Писарев. (Его
критическая деятельность в связи с характером его умственного раз-
вития)» была напечатана в «Отечественных записках», 1869, №№ 1
и 3; в статье дана заниженная и искаженная характеристика миро-
воззрения и литературной деятельности Писарева.
з Речь идет о журналах «Русское слово» и «Современник».
В статье (без подписи) «Обозрение журналов» говорится: «Если «Со-
временник» считается органом молодого поколения, то «Русское сло-
во».—.органом. юного поколения» («Книжный вестник», 1865, № 11,
15 июня, с. 218).
А Очевидно, намек на «Воспоминания о Белинском» Тургенева;
в них содержались полемические и иронические выпады против До-
бролюбова (без упоминания его имени), в частности, по поводу его
статей о Кавуре и сатирических стихотворений в «Свистке» (см. Тур-
генев, Сочинения, т. XIV, с. 34, 44, 443, 446).
6 Фраза, приписываемая арабскому халифу Омару, по приказу
которого была сожжена Александрийская библиотека.
. • Цитата из статьи Добролюбова «Благонамеренность и деятель-
ность» (1860).
7 Намек на полемические статьи Добролюбова «Всероссийские ил-
люзии, разрушаемые розгами» (1860), «От дождя да в воду» (1861)
и стихотворение, «Грустная дума гимназиста лютеранского испове-
дания и не Киевского округа» (1861), в которых высмеивалась ком-
промиссная позиция Н. И. Пирогова (в то время являвшегося попе-
чителем Киевского учебного округа), разрешившего применять сече-
1 Воспоминания, т. II, с. 215.
2 Там же, т. I, с. 232.
392
ние гимназистов в соответствии с важностью проступка (ем. Д о б ро-
лю б о в, т. 7, с. 600—601).
8 Несомненно, речь идет о защите 10 мая 1855 г. диссертации
«Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышев-
ского, имя которого нельзя было называть в подцензурном журнале,
для которого предназначалась статья Шелгунова. Позднее об этой
защите он рассказал в воспоминаниях «Из прошлого и настоящего»
(см. Воспоминания, т. I, с. 192—196).
9 Шелгунов, очевидно, имеет в виду замечание Добролюбова в
статье «Обзор детских журналов» (1859). (См. Добролюбов,
т. 5, стр. 497.)
10 Публицистике Берне Шелгунов посвятил статью «Первый не-
мецкий публицист» («Дело», 1870, № 8); о Гейне см. его статью «Ге-
ний молодой Германии» («Дело», 1870, № 10), а также статью самого
Писарева «Генрих Гейне» (1866—1867).
11 Взгляды Добролюбова на творчество Пушкина нашли отраже-
ние в его работах «Александр Сергеевич Пушкин» (1856), «О степени
участия народности в развитии русской литературы» (1858), в ре-
цензиях на сборник «Утро» (1859), книгу «Перепевы» Д. Д. Минаева
(1860). Полемические воззрения Писарева развиты в статье «Пушкин
и Белинский» (1865). Об оценках Пушкина в 1850—1860-е гг.,
включая высказывания Добролюбова и Писарева, см. в книге: «Пуш-
кин. Итоги и проблемы изучения», изд-во «Наука», М.—Л., 1966,
с. 50—77.
12 Речь идет о статьях и рецензиях Н. Соловьева на страницах
журналов «Эпоха», «Всемирный труд» и др., направленных против
эстетики и критики революционных демократов. В книге Н. Соловье-
ва «Искусство и жизнь» (ч. I, М., 1869) этим вопросам посвящен раз-
дел «Вопрос об искусстве», в частности — глава «Сочинения Писа-
рева, Антоновича и других» (с. 178—218). См. также примеч. 24 и
25 к статье «Люди сороковых и шестидесятых годов».
13 Цитата из статьи «Реалисты» (1864).
14 Цитата из статьи «Мотивы русской драмы» (1864).
Бешметов — герой повести Писемского «Тюфяк», Лаврецкий —
герой романа Тургенева «Дворянское гнездо».
16 Имеется в виду статья Страхова «Женский вопрос», появив-
шаяся в журнале «Заря» (1870, № 2, отд. П, с. 107—149) и посвя-
щенная выходу в свет русского перевода книги Д.-С. Милля «Под-
чиненность женщины» (СПб., 1869).
17 См. примеч. 12.
18 Цитата Из статьи «Женские типы в романах и повестях Пи-
семского, Тургенева и-Гончарова» (1861).
18 Персонажи пьесы Островского «Свои люди.—сочтемся».(1850).
393
20 Стерлитамак — город в Уфимской губернии.
21 Писарев передает смысл слов Гоголя о прошедшей юности
(«Мертвые души», т. I, гл. 6).
22 Здесь и далее цитируется статья «Реалисты»
23 Роману В. П. Клюшникова «Марево» посвящена статья Писа-
рева «Сердитое бессилие» (1865); Н. Станицкий -псевдоним
А. Я. Панаевой-Головачевой; о ее романе «Женская доля» критик
написал статью «Кукольная трагедия с букетом гражданской скор-
би» (1864).
24 Цитата из статьи «Реалисты».
25 Цитата из статьи «Цветы невинного юмора» (1864).
26 Совет содержится в той же статье, написанной в связи с вы-
ходом в свет «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов» Салтыкова-
Щедринй (см. П и с а р е в, т. 2, с. 363).
27 Журнал «Знание», начавший выходить в 1870 г., пропагандиро-
вал на своих страницах успехи естествознания, привлекал к сотруд-
ничеству прогрессивных русских и зарубежных ученых; редакцией
было послано приглашение о сотрудничестве К. Марксу. Фраза Шел-
гунова («может быть, скоро и совсем читаться не будет») —намек
на цензурные преследования, которым подвергался журнал.
28 Намек на пребывание Писарева в Петропавловской крепости.
29 Имеется в виду Чернышевский.
80 Речь идет о статье «Пушкин и Белинский» (1865).
31 Ошибочность данного взгляда Шелгунов признал впоследствии
сам (см. «Очерки русской жизни», СПб., 1895, с. 297—300).
32 В статье «Теория безобразия» Н. Соловьев, приведя примеры
суждений Писарева, демагогически утверждал: «Вообще грубость,
резкость и бесцеремонность слова как-то особенно вошли у нас в
моду» (Н. Соловьев. Искусство и жизнь, ч. I. М., 1869, с. 15).
33 Речь идет об оценке деятельности Грановского и Маколея, дан-
ной в статье «Реалисты» (см. Писарев, т. 3, с. 30).
НАРОДНЫЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ
Сочинения Ф. Решетникова, 2 части. СПб., 1869. «Подлиповцы». Этно-
графический очерк, 2 части. СПб., 1867. «Где лучше?» Роман в 2-х
частях. СПб., 1870. «Свой хлеб». Роман в 2-х частях Ф. Решетникова.
СПб., 1870.
Впервые опубликована в журнале «Дело», 1871, № 5, Современ-
ное обозрение, с. 1—45, подпись: Н. Шелгунов.
Статья Шелгунова связана с широким интересом русского обще-
ства к творчеству Решетникова в конце 60-х — начале 70-к гг., чему
способствовали выход сочинений писателя и отдельные издания его
крупнейших произведений. Преждевременная смерть писателя
394
9(21) марта 1871 г. усилила этот интерес. На страницах «Дела» вы-
ступлению Шелгунова предшествовала обширная статья Ткачева
«Разбитые иллюзии», появившаяся в 1868 г. (№№ 11 и 12). Ряд
выступлений Решетникову посвятили «Отечественные записки»: Сал-
гыков-Щедрин (статья «Напрасные опасения» в № 10 за 1868 г. и
рецензия на роман «Где лучше?» в № 4 за 1869 г.), Скабичевский
(статья «Чего нужно добиваться реальному поэту?» в № 12 за
1869 г.), Гл. Успенский (статья-некролог «Ф. Решетников» в № 4
за 1871 г.).
Отклики на произведения Решетникова и его творческий путь
появлялись также в журналах и газетах иных направлений — в
гВестнике Европы», «Заре», «Всемирном труде» и др.
1 Имеется в виду изображение быта рабочих Петербурга в ро-
мане Решетникова «Где лучше?» и ряде его очерков из петербургской
жизни.
2 Тургенев в «Воспоминаниях о Белинском» писал: «Как бы по-
радовался он (Белинский) поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе
Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде
Решетникова!» (Тургенев, Сочинения, т. XIV, с. 57).
3 Терентий Иванович Горюнов—один из героев романа «Где
лучше?».
4 Шелгунов допустил неточность в названии: очевидно, имеется
в виду повесть Григоровича «Пахотник и бархатник» (1860).
5 Марка-Вовчок — псевдоним М. А. Маркович; здесь речь идет о
ее «Украинских народных рассказах» (1858) и «Рассказах из рус-
ского народного быта» (1860). Шелгунов посвятил творчеству
М. А. Маркович специальную статью — «Глухая пора» («Дело»,
1870, № 4).
6 Имеются в виду «Очерки народного быта» Н. В. Успенского,
вошедшие в первое отдельное издание под названием: Рассказы, тт. I,
II, СПб., 1861.
7 О Н. Соловьеве см. примеч. 24 к статье «Люди сороковых и
шестидесятых годов».
8 Кузьмин — герой повести Решетникова «Между людьми», Ши-
лохвостое — герой одноименного очерка.
9 Яшка — герой «очерка петербургской жизни» под тем же на-
званием.
10 Макея — герой рассказа под тем же названием.
11 Обуховская больница и Волково кладбище — в Петер-
бурге.
12 Коробочка — помещица из «Мертвых душ» Гоголя.
13 Пашка, Ванька, Пила — персонажи повести «Подлиповцы».
н Никола Знаменский —- герой одноименного рассказа.
• 395
15 Опарина, Мирониха — героини рассказов «Тетушка Опарина*
и «Кумушка Мирониха».
16 Марфа Посадница — жена новгородского посадника Борецко-
го, после его смерти правила Новгородом. Ее судьба послужила сю-
жетом повести Карамзина «Марфа-посадница», думы Рылеева . и
драмы М. П. Погодина под тем же названием.
17 Оник — уменьшительное от старого названия буквы «о»
(«он»); гривна — денежная единица в древней Руси, позднее — гри-
венник, 10 копеек.
18 Внучкин — герой одноименного рассказа. Ставленник — Егор
Иванович Попов, герой повести «Ставленник».
19 Цитата из повести «Подлиповцы».
20 Петров, Караваев — персонажи романа «Где лучше?».
21 Горданов — один из героев романа Лескова «На ножах».
22 Имеются в виду героини романов «Некуда» Лескова, «Живая
душа» Марка Вовчка (М. А. Маркович). См. о первом в статье Шел-
гунова «Люди сороковых и шестидесятых годов», о втором — в упо-
минавшейся статье «Глухая пора» (примеч. 5).
23 «Своим путем» — роман Л. А. Ожигиной; об этом романе Шел-
гунов подробно говорит в статье «Творческое целомудрие» («Дело»,
1871, № 1).
24 О похоронах Решетникова в газетной хронике сообщалось:
«Сегодня происходили похороны скончавшегося 9 марта Решетни-
кова. .. Собралось весьма немного лиц, пожелавших проводить тело
покойного. Кроме редакции «Отечественных записок» было едва-едва
десять человек из литераторов» («С.-Петербургские ведомости», 1871,
№ 73, 14 марта). Этим похоронам Шелгунов противопоставляет мно-
голюдные проводы артистки Александрийского театра Ю. Н. Лин-
ской, умершей 25 апреля (7 мая) 1871 г.
ПРОРОК СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО ИДЕАЛИЗМА
(Сочинения Аполлона Григорьева. Том I., СПб., 1976)
Впервые опубликована в журнале «Дело», 1876, № 9, Современ-
ное обозрение, с. 1—37; подпись: Н. Языков.
Статья Шелгунова о критической деятельности А. А. Григорье-
ва т- одно из' первых значительных выступлений, ставивших целью
разобраться в сложной и противоречивой идейной позиции критика
и. судьбе его литературного наследия, Статья противостоит тому апо-
логетическому и тенденциозному истолкованию воззрений Григорьева,
которое дал Страхов и в своих воспоминаниях о критике и в преди-
словии к изданию его критических статей. Вместе с тем Шелгунов
далек от оценок, содержавшихся в появившейся тогда же статье
>396
реакционного критика и публициста В. Г. Авсеенко «Блуждание рус-
ской мысли» («Русский вестник», 1876, № 10), в которой Л. Н. Тол-
стой, не разделявший взглядов Григорьева на литературу, находил
«умышленное, отчасти и настоящее непонимание, но скрытое под ви-
дом высоты презрительно-насмешливой»
Шелгунов в своих суждениях, несомненно, опирался на выска-
зывания революционных демократов 60-х годов о взглядах и крити-
ческой деятельности Григорьева. Чернышевский в «Очерках гоголев-
ского периода русской литературы» писал о славянофильской позиции
критика в «Москвитянине», что он «почти постоянно поддается
странным обольщениям», но «в самых странных тирадах» его «виден
ум живой, энергический и искреннее, горячее увлечение тем, что
представляется ему истиною»1 2. Особенно Очевидна связь выступле-
ния Шелгунова с высказываниями Писарева, который посвятил ха-
рактеристике Григорьева первый раздел статьи «Прогулка по садам
российской словесности» (1865); этот раздел был вызван только Что
появившимися тогда «Воспоминаниями об А. А. Григорьеве»
Н. Н. Страхова, которыми широко воспользовался в своей статье
и Шелгунов. Писарев характеризует Григорьева как идейного про-
тивника «реальной критики» и как «последнего крупного представи-
теля российского идеализма» (ср. слова Шелгунова о нем как «по-
следнем могикане» славянофильства), называет его «чистым и
честным фанатиком отжившего романтического миросозерцания»э.
О драматизме и противоречивости его идейной позиции Писарев го-
ворит: «Григорьев любил свои идеи неистребимою любовью, он был
им фанатически предан, он не мог им изменить, он боролся за них с
мужеством отчаянья, и в то же время он понимал с мучительною
ясностью, что эти идеи отжили свой век, что у них нет будущего...»4
Воспоминания Страхова о Григорьеве Писарев называет «литератур-
ным самоубийством целого направления»5. Писарев указывает так-
же на отрицательное отношение Григорьева к роману «Что делать?»
Чернышевского, на равнодушие и грубейшее непонимание насущ-
ных запросов действительной жизни. В статье Писарева указывается
и на связь Григорьева со славянофильством. В то же время Писарев
отделял Григорьева от его литературного и идейного окружения:
«Он чего-то страстно желал, и потому он не мог относиться к буду-
щему совершенно враждебно. Это обстоятельство ставит его гораздо
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, М., 1953,
с. 292.
2 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й, т. III, с. 44.
8 П и с а р е в, т. 3, с. 280.
4 Там же, с. 252.
6 Там же, с. 256.
1 • 397
выше всех остальных деятелей отживших направлений»1. По своим
задаткам Григорьев» по мнению Писарева, «единственный человек,
способный выдвинуть какое-нибудь миросозерцание против нашего
миросозерцания...»1 2 Однако дело идей, за которые он ратовал, было
исторически безнадежным:
Статья Шелгунова во многом перекликается с суждениями Писа-
рева. Вместе с тем в статье дается более развернутая и в то же вре-
мя опирающаяся на конкретный материал характеристика как лич-
ности Григорьева, так и его литературно-критической деятельности.
1 Изданный Страховым первый том Сочинений Аполлона Гри-
горьева, в связи с выходом которого написана статья Шелгунова,
оказался единственным; планировавшееся издание еще трех томов
Сочинений осуществлено не было.
2 Имеется в виду статья Страхова «Воспоминания об Аполлоне
Александровиче Григорьеве» («Эпоха», 1864, № 9, с. 1—50). Вклю-
ченные в воспоминания письма Григорьева, как и упоминаемый да-
лее «Краткий послужной список на память моим старым и новым
друзьям», напечатаны с пропусками, без раскрытия упоминаемых
имен и фамилий, с искажениями. Полностью по автографам они на-
печатаны в издании: Аполлон Григорьев. Воспоминания.
М.—Л., «Academia», 1930, с. 430—517, 375—383.
3 Цитируется с сокращениями предисловие Страхова к Сочине-
ниям Григорьева, т. I, с. 1.
4 Отзыв Белинского о стихотворениях Григорьева дан в статье
«Русская литература в 1845 году» («Отечественные записки», 1846,
№ 1; см. Б е л и н с к и й, т. IX, с. 393—394).
5 Отзывы на книгу «Стихотворения Аполлона Григорьева» (СПб.,
1846) даны в рецензии («Отечественные записки», 1846, № 4; см. Бе-
линский, т. IX, с. 590—600) и позже в статье «Взгляд на русскую
литературу 1846 года» («Современник», 1847, № 1; см. Б е л и н с к и й,
т. Хг с. 35-36).
6 Имеется в виду журнал «Репертуар русского и Пантеон всех
европейских театров» (1842—1856).
7 Отзыв Белинского о переводе трагедии Софокла «Антигона»
дан в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (см. Белин-
с к и й, т. IX. с. 37—38).
8 В «Московском городском листке» Григорьев сотрудничал в
1847 г.
1 П и с а р е в, т. 3, с. 257—258.
2 Там же, с. 280.
398
9 Речь идет о книге Гоголя «Выбранные места из переписки €
друзьями» (1846), вызвавшей резкую отповедь Белинского в рецен-
зии на книгу («Современник», 1847, № 2) и в знаменитом «Письме
к Н. В. Гоголю».
10 Имеется в виду статья Григорьева «Н. В. Гоголь и его „Пере-
писка с друзьями"» («Московский городской листок», 1847, №№ 56,
62-64).
11 Имеется в виду статья «Стихотворения А. Фета» («Отечествен-
ные записки», 1850, № 2).
12 В «Отечественных записках» (1850, №№ 3, 4, 6, 9) были на-
печатаны «Заметки о Московском театре» Григорьева.
13 Имеется в виду активное сотрудничество в «Москвитянине»
в период «молодой редакции», возглавлявшейся Островским и Гри-
горьевым.
14 Сотрудничество Островского в «Современнике» началось в
1856 г., когда в № 4 была напечатана пьеса «Семейная картина»;
Григорьев опубликовал в журнале поэму «Venezia la bella. Дневник
странствующего романтика» («Современник», 1858, № 12) и перевод
поэмы Байрона «Паризина» (1859, № 8).
15 Речь идет о переводе комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»;
напечатан в «Библиотеке для чтения», 1857, № 7.
16 Статья «О правде и искренности в искусстве», опубликован-
ная в журнале «Русская беседа», 1856, № 3.
17 Очевидно, имеется в виду приведенный выше отзыв Черны-
шевского во второй статье «Очерков гоголевского периода русской
литературы», опубликованной в «Современнике», 1856, № 1.
18 Имеются в виду статьи «Взгляд на русскую литературу со
смерти Пушкина» («Русское слово», 1859, №№ 2, 3), «И. С. Тургенев
и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» (там
же, №№ 4, 5, 6, 8), «Несколько слов о законах и терминах органи-
ческой критики» (там же, № 5) и др.
19 О публикации этих произведений ем. примеч. 14 и 15.
20 В журнале «Сын отечества», издававшемся А. В. Старчевским,
в 1857 г. был опубликован цикл стихотворений «Борьба».
21 Имеется в виду статья «Критический взгляд на основы, зна-
чение и приемы современной критики искусства» («Библиотека для
чтения», 1858, № 1).
22 И. А. Гончаров в то время был цензором в Петербургском
цензурном комитете.
23 Полемические высказывания Добролюбова о Григорьеве см.
по указателю имен в издании: Н. А. Добролюбов. Собрание со-
чинений, т. 9, М.—Л., 1964, с. 644.
24 О сотрудничестве Григорьева в журналах М. М. и Ф. М. До-
; 399
стоевских «Время» и «Эпоха» см. в указанных воспоминаниях Стра-
хова.
25 Речь идет о прекращении сотрудничества в «Русском слове».
26 В газете «Русский мир» (1860, №№ 5, 6, 9, 11) была напеча-
тана статья Григорьева «После «Грозы» Островского».
27 Имеются в виду «Беседы с Иваном Ивановичем о современ-
ной нашей словесности...» («Сын отечества», 1860, №№ 6, 7).
28 Речь идет о приглашении сотрудничать в «Русском вестнике»
М. Н. Каткова. Статья «Пушкин — народный поэт» принадлежит не
Дружинину, а Дудышкину; опубликована в «Отечественных запи-
сках», 1860, № 4.
29 «Ярмарочные сцены» (окончательное название — «Типы и
сцены сельской ярмарки») А. И. Левитова были затем напечатаны
в журнале «Время», 1861, № 6.
30 Р. Гарднер опубликовала в «Русском вестнике» (1860, № 7)
повесть «Пустушково» (под девичьей фамилией: Р. Коренева).
31 Речь идет о замечаниях М. М. Достоевского. См. об этом в
воспоминаниях Страхова и «Примечании» Ф. М. Достоевского («Эпо-
ха», 1864, № 9, с. 52—53).
32 Имеются в виду статьи «Явления современной литературы,
пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения»
(«Время», 1862, № 1) и «Литературная деятельность графа Л. Тол+
стого» («Время», 1862, № 9).
33 Имеются в виду статьи «Нигилизм в искусстве», «Наши лите-
ратурные направления с 1848 г.» и др.
34 Григорьев перенес, в частности, раздел III из статьи «Взгляд
на русскую литературу со смерти Пушкина» в статью «Литератур-
ная деятельность графа Л. Толстого».
35 Имеются в виду рецензии Белинского на книги стихотворений
Полежаева «Кальян», «Арфа», опубликованные в «Московском на-
блюдателе», 1839, ч. I, № 1, и статья «Стихотворения Полежаева»
в «Отечественных записках», 1842, № 5, где идет речь и об указан-
ных книгах.
36 В «Якоре» были напечатаны статьи «О реализме в искусстве
и литературе», «О Писемском и его значении в нашей литературе»
и др.
37 Речь идет о сотрудничестве в журнале «Эпоха».. См. также
примеч. 31.
38 Имеется в виду разрыв Островского с «Москвитянином» и
славянофилами и сотрудничество в «Современнике» Некрасова.
39 Цитата из стихотворения Пушкина «Полководец».
40 Один из героев романа Тургенева «Рудин».
41 Имеются в виду слова героя романа Тургенева «Накануне»^
400
Здесь и далее цитируется письмо Григорьева к Страхову от
23 сентября 1861 г.
43 Калиостро — итальянский авантюрист.
44 Имеется в виду «Книга Экклезиаста, или проповедника» в
Библии.
45 Цитата из письма Григорьева к Страхову от 18 июня 1861 г.
46 Замечание М. М. Достоевского по-иному разъясняется в ука-
занном выше «Примечании» Ф. М. Достоевского (см. примеч. 31).
47 Цитата из Евангелия (от Иоанна, XV, 13).
48 Речь идет о поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».
49 Полное название труда П. Н. Кудрявцева — «Судьбы Италии
от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом
Великим» (1850).
50 Имеется в виду докторская диссертация Грановского «Аббат
Сугерий» (1849).
51 Имеются в виду «Очерки древнейшего периода греческой фи-
лософии» (1852) М. Н. Каткова.
52 Исследование Н. И. Надеждина «Геродотова Скифия, объяс-
ненная чрез сличение с местностями», Одесса, 1842.
63 Речь идет о незавершенном трехтомном труде А. С. Хомякова
«Записки о всемирной истории» (впервые полностью изданы в 1871—
1873 гг.).
54 Имеются в виду «Историко-политические письма и записки в
продолжение Крымской войны 1853—1856 гг.» (полное издание —
в 1874 г.).
55 Статья П. В. Павлова «Тысячелетие России. Краткий очерк
отечественной истории» была впервые напечатана в «Академическом
месяцеслове» за 1862 г. (отдельное издание — СПб., 1863).
56 Григорьев резко отрицательно отнесся к статье Д. Маслова
«Державин — гражданин» («Время», 1861, № 10) и не раз возвра-
щался к этой теме в письмах к Страхову (см. особенно письмо от
12 декабря 1861 г.).
57 То есть в «Библиотеке для чтения». Пьеса Островского «Козь-
ма Захарыч Минин-Сухорук» была напечатана в «Современнике»,
1862, № 1.
58 Слова галльского полководца Бренна, наложившего тяжелу^
контрибуцию на побежденный Рим.
59 О чтении поэмы А. Н. Майкова «Смерть Люция» рассказы-
вает Страхов в воспоминаниях о Григорьеве (См. А. Григорьев.
Воспоминания, с. 470).
60 Цитата из письма к Страхову от 20 марта 1862 г.
61 Слова, приписываемые римскому императору Юлиану Отступ-
нику, боровшемуся против христианства.
401'' '
w Речь идет о детской энциклопедии A. F. Разина, сотрудни-
чавшего в журнале «Время». В письме к Страхову от 21 августа
1861 г. Григорьев так характеризует книгу: «.. .Советую познакомить-
ся с этим чудовищем нравственно-умственного разврата и бессмыс-
лия. .. в ней страницы не найдешь понятной для ребенка, а если что
в ней и понятно, так понятное то пошло и ни ребенка, ни даже со-
баку интересовать не может... Эта книжка — крайний предел реа-
лизма последних 15 лет, погубившего гуманное и классическое обра-
зование—даже в гимназиях» (А. Григорьев. Воспоминания,
с. 461—462; в журнальной публикации резкие формулировки из
письма исключены).
63 «Теоретиками» Григорьев называл представителей революцион-
но-демократической критики, основным печатным органом которых
был журнал «Современник»; под «тушинцами» он разумел тех, кто
переходил в лагерь «Современника». Сам термин «тушинцы» восходит
к характеристике изменнического поведения части бояр во время
русско-польской войны 1612 г., перешедших на сторону Дмитрия Са-
мозванца, лагерь которого находился в Тушино, под Москвой.
64 Имеется в виду статья Григорьева «О комедиях Островского
и их значении в литературе и на сцене» (1855).
®5 Цитата приводится в указанной статье об Островском по ре-
цензируемому изданию: А. Григорьев. Сочинения, т. I, с. 122.
вв Полное название статьи: «О правде и искренности в искус-
стве. По поводу одного эстетического вопроса. Письмо к А. С. Хо-
мякову»; впервые опубликована в «Русской беседе», 1856, № 3.
67 Цитируется указанная статья (Сочинения, т. I, с. 137).
w Имеется в виду кружок «молодой редакции» журнала «Моск-
витянин».
69 Отрицательное отношение Григорьева к Гейне выражено в
ряде его статей (см. по «Указателю имен, лиц, заглавий и терминов»
в том же издании Сочинений Григорьева, т. I, отдельная пагинация,
с. III).
70 Цитируется статья «Русская литература в 1851 году» (Сочи-
нения, т. I, с. 31).
71 Цитата из статьи «Несколько слов о законах и терминах орга-
нической критики» (Сочинения, т. 1, с. 344).
72 Полное название статьи: «Критический взгляд на основы, зна-
чение и приемы современной критики и искусства» (1858).
73 В статье Григорьева говорится: «...при отсутствии чувства
красоту и меры, чрезвычайно легко обратить искусство в орудие го-
товой теории... последнего рода ошибка предполагает... яростное
тупоумие, готовое на все, хотя бы, например, на такое положение,
что яблоко нарисованное не может быть так вкусно, как яблоко
402
настоящее, и что писанная красавица никогда не удовлетворит че-
ловека, как живая...» (Сочинения, т. I, с. 195). Как очевидно, это
выпад против учения Чернышевского и его диссертации «Эстетиче*
ские отношения искусства к действительности».
НАРОДНИК ЯКУШКИН
Сочинения Павла Якушкина. С портретом автора, его биографией
С. В. Максимова и товарищескими о нем воспоминаниями П. Д. Бобо-
рыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. Горбунова, А. Ф. Иванова, Н. С. Ку-
рочкина, И. А. Лейкина, Н. С. Лескова, Д. Д. Минаева, В. И. Ники-
тина, В. О. Португалова и С. И. Турбина. Издание Вл. Михневича.
С.-Петербург. 1884
Впервые опубликована в журнале «Дело», 1883, № 12, Совре-
менное обозрение, с. 20—30; подпись: Н. Ш.
Книга, послужившая непосредственной причиной появления
статьи Шелгунова, содержит обширный материал для характери-
стики как личности Якушкина (ем. раздел «Материалы для биогра-
фии», с. I—CIV), так и его деятельности: до сих пор это наиболее
полное собрание его произведений и собранных им народных стихов
и песен (с. 1—708). Однако Шелгунов почти не касается его литера-
турной и фольклористической деятельности, все внимание критик со-
средоточивает на мировоззрении и личности писателя-демократа как
характерном явлении породившей его эпохи. Из новейших работ о
жизни и деятельности Якушкина см. книгу: А. И. Баландин.
П. И. Якушкин. Из историй русской фольклористики. М., «Наука»,
1969.
«Сочинения» П. Якушкина вышли из печати в конце 1883 г.,
хотя на титульном листе поставлен 1884 г.; этим объясняется появ-
ление статьи Шелгунова в декабрьском Номере журнала за 1883 г.
1 Цитируется не совсем точно биографический очерк С. В. Мак-
симова «Павел Иванович Якушкин» (указ, изд., с. II); далее приво-
дятся данные из того же очерка.
2 В очерке С. В. Максимова сообщается: «Род Якушкиных —
старинный, дворянский, занесенный в 6-ю часть дворянской родо-
словной книги Смоленской губернии» (с. IV—V).
3 Якушкин учился в Московском университете в 1840—1845 гг.
4 Под народничеством здесь понимается интерес образованного
русского общества к народной жизни, ее изучению и осмыслению.
5 В. Э. Гемпель был псковским полицеймейстером во время ареста
Якушкина при его путешествии по Псковской губернии в 1859 г.;
этот арест вызвал широкую волну откликов в русской печати того
времени (см. в книге: А. И. Б а л а иди н. П. И. Якушкин. Из исто-
403
рии русской фольклористики, с. 125—144). Шелгунов откликнулся то-
гда на этот эпизод заметкой «Г-н Якушкин и псковский полицей-
мейстер» («Русское слово», 1859, № 12).
6 Боборыкин был издателем-редактором «Библиотеки для чте-
ния» в 1863—1865 гг.
7 «Постепеновцами» Лесков называл деятелей либерального ла-
геря, «нетерпеливцами» — представителей революционно-демократи-
ческого направления.
8 Редактором «Отечественных записок» Дудышкин был с 1860 г.
до своей смерти в 1866 г.
9 Цитируется по воспоминаниям врача и публициста В. О. Пор-
тугалова, служившего в самарской больнице, где скончался Якуш-
кин (см. «Материалы для биографии», с. XCV).
10 Имеется в виду К. С. Аксаков, в 30-е годы он входил в кру-
жок Станкевича и активно изучал немецкую идеалистическую фило-
софию и литературу.
11 Цитируются воспоминания Боборыкина («Материалы для био-
графии ..», с. LXXVI).
12 Об отношении Шелгунова к Радищеву см. во вступит, ста-
тье, с. 14.
13 Имеется в виду «История русского народа» (тт. I—VI, М.,
1829—1840) Н. А. Полевого.
14 Влияние Карамзина на Пушкина Шелгунов, как и многие до-
революционные исследователи, преувеличивает (см. «Пушкин. Итоги
и проблемы изучения», М.—Л., «Наука», 1966, с. 198—235).
15 Имеются в виду славянофилы.
,6 В данном случае речь идет об И. С. Аксакове, деятеле позд-
него славянофильства.
17 Здесь, очевидно, намекается и на «хождение в народ», осуще-
ствленное революционными народниками в 1870-е гг.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аввакум (1620 или 1621—1682),
протопоп — 13.
Авдеев Михаил Васильевич
(1821—1876), писатель — 23,
122, 124—129, 131—133,
141—143, 145, 385.
Авенариус Василий Петрович
(1839—1923), писатель — 26,
189, 192, 388.
Аверкиев Дмитрий Васильевич
(1836—1905), писатель — 333.
Авсеенко Василий Григорьевич
(1842—1913), писатель и
критик — 397.
Аксаков Иван Сергеевич (1823—
1886), поэт, публицист и
критик славянофильского на-
правления — 377, 404.
Аксаков Константин Сергеевич
(1817r-7j860), поэт, критик,
публицист славянофильского
направления — 333, 372, 404.
Аксаков Сергей Тимофеевич
(1791—1859), писатель —
148.
Александр / (1777—1825), рус-
ский император с 1801 г.—
65.
Алексеев Анатолий Дмитрие-
вич, советский литературо-
вед — 389.
Алексей Михайлович (1629—
1676), русский царь с
1645 г. —58, 373, 386.
Анненков Павел Васильевич
(1812 или 1813—1887), лите-
ратурный критик и историк
литературы — 381, 384, 385.
Антонович Максим Алексеевич
(1835—1918), литературный
критик и публицист — 393.
Ариосто Лудовико (1474—1533),
итальянский поэт — 348.
Аристотель (384—322 до н. э.),
древнегреческий философ —
247.
Аскоченский Виктор Ипатьевич
(1813—1879), публицист и
журналист — 337, 341.
Аттила (?—453 г.), вождь пле-
мени гуннов — 222.
Байрон Джордж Ноэл Гордон
(1788—1824)—65, 67, 69,
332, 339, 348, 399, 401.
Баландин Аркадий Иванович,
советский литературовед —
403.
Баратынский Евгений Абрамо-
вич (1800—1844), поэт — 382.
Безбородко Александр Андре-
евич (1747—1799), государ-
ственный деятель, выдаю-
щийся дипломат — 65.
Белинский Виссарион Григорь-
евич (1811—1848)—4,7,9—
11, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 40,
66, 71,110,147—149,160,208,
210, 211, 216, 217, 220, 221,
224, 226, 227, 241, 250, 255,
256, 259—261, 264, 279, 280,
283, 284, 331, 332, 334, 380,
381, 383, 385, 386, 388, 389,
392, 394, 398—400.
Бенедиктов Владимир Григорь-
евич (1807—1873), поэт — 54.
405
Бентам Иеремия (1748—1832),
английский буржуазный пра-
вовед — 189.
Беранже Пьер-Жан (1780—
1857) —348.
Берви Василий Васильевич
(псевдонимы — Н. Флеров-
ский, С. Навалихин) (1829—
1918), социолог, писатель и
публицист — 27.
Берк Эдмунд (1729—1797), ан-
глийский государственный
деятель и публицист — 351.
Берне Карл-Людвиг (1786—
1837), немецкий радикальный
публицист — 94, 262, 393.
Бестужев Александр Алексан-
дрович (псевдоним — Мар-
линский, 1797—1837), декаб-
рист; писатель и критик —
54, 246.
Бетховен Людвиг ван (1770—
1827) — 143.
Бецкой Иван Иванович (1704—
1795), общественный дея-
тель в области просвеще-
ния — 65.
Благосветлов Григорий Евлам-
пиевич (1824—1880), публи-
цист и журналист —3, 4, 12,
36, 383.
Боборыкин Петр Дмитриевич
(1836—1921), писатель —
367, 369, 372, 404.
Боград Владимир Эммануило-
вич, советский литературо-
вед и библиограф — 381.
Бокль Генри Томас (1821—
1862), английский историк и
социолог-позитивист — 243,
390.
Борецкий Исаак Андреевич
(XV в.), новгородский по-
садник — 396.
Боткин Василий Петрович
(1812—1869), литературный
критик, писатель — 381, 383.
Брайт Ричард (1788—1858), ан-
глийский врач — 351.
Бренн, легендарный вождь гал-
лов — 341, 401.
Бруно Джордано (1548—1600),
итальянский философ, по-
эт—61.
Брюллов Карл Павлович
(1799—1852), художник —
334.
Валленштейн Альбрехт (1583—
1634), германский полково-
дец периода Тридцатилет-
ней войны — 247.
Вашингтон Джордж (1732—
1799), американский госу-
дарственный деятель, пер-
вый президент США — 274.
Вейнберг Петр Исаевич (1831—
1908),поэт,переводчик, жур-
налист—100, 367, 383, 403.
Виленская Эмилия Самойлов-
на, советский историк — 380.
Витгенштейн Петр Христиано-
вич (1768—1842), фельд-
маршал — 196.
Владимир Мономах (1053—
1125), великий князь киев-
ский — 349—351.
Вовчок Марко (псевдоним Ма-
рии Александровны Вилин-
ской-Маркович), (1834—
1907), писательница — 32,
292, 329, 395, 396.
Вобан Себастьян ле Претр
(1633—1707), французский
военный инженер и эконо-
мист — 247.
Вольтер Мари-Франсуа-Аруэ
(1694—1778) —387.
Вульпиус Иоганна-Христина-
София (1765—1816), жена
Гете — 73.
Гаевский Виктор Павлович
(1826—1888), журналист и
историк литературы — 381.
Гайдн Франц-Иосиф (1732—
1809), австрийский компози-
тор — 73.
Гайдебуров Павел Александро-
вич (1841—1893), журналист
и публицист — 388.
Гакстгаузен Август (1792—
1866), немецкий барон, ав-
тор работ об аграрных от-
ношениях в Пруссии и Рос-
сии — 177, 387.
Гарднер Р. — см. Корнева Р. А.
406
Гарибальди Джузеппе (1807—
1882), революционный дея-
тель итальянского нацио-
нально - освободительного
движения — 171.
Гаришн Всеволод Михайлович
(1855—1888) —37.
Г егель Георг-Вильгельм-Фрид-
рих (1770—1831) — 58, 65,
69, 247.
Грмпель Валериан Эдуардович,
псковский полицеймейстер —
369, 403.
Гейне Генрих (1797—1856) —
72, 99, 100, 121, 198, 262, 353,
358, 379, 383, 387, 393, 402.
Геродот (около 484—425 г. до
н. э.), древнегреческий исто-
рик—153, 154, 340, 401.
Герцен Александр Иванович
(1812—1870) —3—5, 7, 9, 10,
15, 16, 18, 23, 68, 69, 108, 109,
112, 113, 115, 129, 133, 211,
379, 380, 382, 383.
Гете Иоганн-Вольфганг (1749—
1832)—65, 69, 72, 73, 187,
348, 351, 352, 382.
Глинка Михаил Иванович
(1804—1857) —334.
Гоголь Николай Васильевич
(1809—1852) — 16, 22, 45,60,
63, 151, 154, 159, 192, 215,
241, 277, 289—292, 304, 324,
332, 334, 350, 360, 363, 364,
382, 387, 394, 395, 399.
Гольбах Поль-Анри (1723—
1789), французский фило-
соф — 387.
Гомер (XII—VIII вв. до н. э.)—
96, 122, 348-350.
Гончаров Иван Александрович
(1812—1891)—6, 8—10, 19,
21, 25, 39, 46, 47, 55, 62, 74,
94, 107, 119, 122, 123, 125,
141, 145, 147—149, 154, 161,
164, 176—180, 189, 202, 208,
209, 210—252, 288, 289, 292,
293, 326, 333, 360, 379, 381,
385—390, 399.
Горбунов Иван Федорович
(1831—1895), артист и писа-
тель— 367, 403.
Граббе Христиан-Дитрих
(1801—1836), немецкий дра-
матург — 73.
Грановский Тимофей Николае-
вич (1813—1855), русский
историк, профессор Москов-
ского университета — 23, 57,
111, 147, 149, 257, 286, 340,
385, 394, 401.
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795—1829) — 14.
Григорович Дмитрий Василье-
вич (1822—1899), писа-
тель — 32, 46, 292, 395.
Григорьев Аполлон Алексан-
дрович (1822—1864) — 11,
331—366, 396—403.
Гюго Виктор-Мари (1802—
1885) —54, 249.
Данте Алигьери (1265—1321) —
348, 353, 355, 357, 358.
Дантон Жорж-Жак (1759—
1794), деятель французской
буржуазной революции —
363.
Дарвин Чарльз Роберт (1809—
1882), английский естество-
испытатель — 207, 243, 274.
Демосфен (384—322 до н. э.),
греческий оратор и полити-
ческий деятель — 351.
Дерби Эдуард, лорд Стенли
(1799—1869), английский по-
литический деятель — 351.
Державин Гавриил Романович
(1743—1816)—65, 363, 401.
Диккенс Чарлз (1812—1870) —
350.
Добролюбов Николай Алексан-
дрович (1836—18'61)—3—7,
9—11, 19, 24, 25, 26, 30—32,
152, 253—287, 333, 338, 340,
341, 380, 382, 385, 388, 390—
393, 399.
Достоевский Михаил Михайло-
вич (1820—1864), литератор,
брат Ф. М. Достоевского —
333, 337, 399—401.
Достоевский Федор Михайло-
вич (1821—1881) —9, 27,
333, 377, 385, 386, 399—401.
Дружинин Александр Василье-
вич (1824—1864), писатель и
литературный критик — 23,
407
46. 63, 107, 113—129, -131,
133, 140—146, 148, 332, 381—
383, 385, 400.
Друино Гюстав (1800—1878),
французский писатель — 228,
389.
Дудышкин Степан Семенович
(1820— 1866), публицист,
критик —333, 370, 381, 383,
400, 404.
Екатерина II (1729—1796), рус-
ская императрица с 1762 г. —
64—67, 178, 200, 242.
Елизавету Петровна (1709—
. 1761), русская императрица
с 1741 г.—242.
Ефремов Петр Александрович
,(1830—1907), литератор, би-
блиограф — 254.
Жанен Жюль (1804—1874),
французский писатель и кри-
тик — 228, 389.
Жанлис Стефани-Фелисите
(1746—1830), французская
писательница — 51, 382.
Жуковский Василий Андреевич
(1783—1852) — 196.
ЗйгосКин Михаил Николаевич
(1789—1852), писатель —
162, 221, 374, 386.
ЗаНд Жорж — см. Санд
Жорж.
Зотов Рафаил Михайлович
' (1795—1871), писатель,, дра-
матург — 162, 386.
Иваницкий Александр Ивано-
вич (1812—1850), педагог,
беллетрист — 247, 390.
Иванов Алексей Федорович
(1841—1894), поэт-юмо-
рист— 367, 403.
Изабелла Испанская (1451—
‘; 1504), королева Кастилии с
1474 г. —249.
' 'ИАьин В!. И., литератор—=333,
334.
Искандер — см. Герцен А; И.
‘ 408
Кавур Камилло Бензо (1810—
1861), итальянский государ-
ственный деятель — 392.
Калиостро, граф (настоящее
имя Джузеппе Бальзамо;
1743—1795), — авантюрист,
алхимик — 336, 401.
Канова Антонио (1757—1822),
итальянский скульптор —
208.
Кант Иммануил (1724—1804),
- немецкий философ — 94, 384.
Карамзин Николай Михайло-
вич (1766—1826) — 14, 66,
162, 221, 363, 374, 386, 396,
404.
Катков Михаил Никифорович
(1818—1887), реакционный
публицист и журналист —
149, 333, 340, 400, 401.
Кашпирев Василий Владимиро-
вич (1836—1875), литератор,
издатель журнала «Заря» —
103.
Кетчер Николай Христофоро-
вич (1809—1886), поэт, пере-
водчик — 382.
Киреевский Иван Васильевич
(1806—1856), философ, пуб-
лицист, критик — 333, 337,
341.
Киреевский Петр Васильевич
(1808—1856), публицист, пи-
сатель и фольклорист — 375.
Клюшников Виктор Павлович
(1841—1892), писатель —
189, 192, 388, 394.
Колумб Христофор (1451—
1506) — 154, 249.
Кольцов Алексей Васильевич
(1809—1842) — 17.
Кондильяк Этьен Бонно де
(1715—1780), французский
философ-просветитель — 387.
Кондорсе Мари-Жан-Антуан,
маркиз (1743—1794), фран-
цузский социолог и полити-
ческий деятель — 363.
Конт Огюст (1798—1857), фран-
цузский философ-позити-
вист—54, 58, 243, 274.
Коперник Николай (1473—
1543), великий польский уче-
. ный-астроном — 174.
Коренева Раиса Александровна
(в замужестве Гарднер), пи-
сательница — 333, 400.
Короленко Владимир Галактио-
нович (1853—1921) — 37.
Костомаров Всеволод Дмитрие-
вич (1837—1865), поэт-пере-
водчик, провокатор по делу
М. Михайлова, Чернышев-
ского, Шелгунова — 147, 385.
Костомаров Николай Иванович
(1817—1885), историк — 341.
Котошихин Григорий Карпович
(ок. 1630—1667), подьячий
Посольского приказа, пуб-
лицист — 385—386.
Кохановская (псевдоним Со-
ханской Надежды Степанов-
ны; 1825—1884), писатель-
ница славянофильского на-
правления — 150, 385.
Краевский Андрей Александро-
вич (1810—1899), публи-
цист, издатель журнала
«Отечественные записки» и
газеты «Голос» — 341.
Краснопольский Николай Сте-
панович (1775—1830), пере-
водчик и либретист — 382.
Крестовский Всеволод Влади-
мирович (1840—1895), писа-
тель — 388.
Кромвель Оливер (1599—1658),
деятель английской буржу-
азной революции — 363.
Крылов Иван Андреевич
(1769—1844) — 14, 121, 385.
Кудрявцев Петр Николаевич
(1816—1858), писатель, исто-
рик—57, 149, 340, 401
Курочкин Николай Степанович
(1830—1884), журналист,
писатель, поэт — 367, 403.
Кутузов Михаил Илларионович
(1745—1813), фельдмар-
шал — 27.
Кушелев-Безбородко Григорий
Александрович, граф (1832—
1870), издатель «Русского
слова» в 1859—1862 гг.—
333.
Лавров Петр Лаврович (1823—
1900), революционный дея-
тель, философ, публицист,
критик — 5.
Лажечников Иван Иванович
(1792—1869), писатель —
221, 374, 386.
Лайель Чарльз (1797—1875),
английский естествоиспыта-
тель — 243.
Лафарж Мария-Фортюне
(1816—1853), француженка,
осужденная по обвинению в
отравлении — 54, 382.
Левитов Александр Иванович
(1835—1877), писатель —
333, 400.
Лейкин Николай Александро-
вич (1841—1906), писатель
и журналист — 367, 403.
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814—1841) — 12, 17, 289—
291.
Лесков Николай Семенович
(1831—1895)— 18, 19, 24,
189, 192—209, 329, 367, 369—
372, 387, 388, 403, 404.
Лессинг Готхольд-Эфраим
(1729—1781), немецкий писа-
тель и теоретик искусства —
266, 356.
Линней Карл (1707—1778),
шведский ботаник — 249.
Линская Юлия Николаевна
(1820—1871), артистка .Але-
ксандрийского театра — 330,
396.
Ломоносов Михаил Васильевич
(1711—1765) — 13, 64, 248.
Луве де Кувре Жан-Батист
(1760—1797), французский
писатель — 249.
Людовик XIV (1638—1715),
французский король — 247.
Людовик XV (1710—1774),
французский король — 387.
Лютер Мартин (1483—1546),
немецкий религиозный ре-
форматор — 48.
Магомет (ок. 571—632)., основа-
тель мусульманской рели-
гии — 274.
Майков Аполлон Николаевич
(1821—1897), поэт —342,
401. ,
<409
Маколей Томас Бабингтон
(1800—1859), английский
историк, публицист и поли-
тический деятель — 286, 394.
Максимов Сергей Васильевич
(1831—1901), писатель, эт-
нограф—63, 367, 383, 403.
Марат Жан-Поль (1743—1793),
деятель французской рево-
люции — 363.
Маркс Карл (1818—1883) —394.
Марлинский — см. Бесту-
жев А. А..
Мармонтель Жан-Франсуа
(1723—1799), французский
писатель — 51,382.
Марфа Посадница (XV в.),
правительница Новгорода
после смерти посадника Бо-
рецкого — 310, 311, 396.
Маслов Дмитрий Иванович
(?—1888), литератор, кри-
тик — 341, 401.
Маццини (Мадзини) Джузеппе
(1805—1872), деятель италь-
янского национально-освобо-
дительного движения — 171-
Милль Джон Стюарт (1806—
1873), английский эконо-
мист— 73, 199, 243, 248, 272,
383, 384, 393.
Минаев Дмитрий Дмитриевич
(1835-4889), поэт-сати-
рик—27, 340, 367, 388, 403.
Михайлов Михаил Ларионович
(1829—1865) — поэт, рево-
люционер — 3, 4, 6, 380, 387.
Михайловский Николай Кон-
стантинович (1842—1904),
литературный критик, пуб-
лицист— 12, 37.
Михневич Владимир Осипович
(1841—1899), журналист —
367, 403.
Мольер Жан-Батист (наст, фа-
милия Поклен, 1622—1673) —
348, 353, 357, 358.
Монтекукулли Раймунд, граф
(1609—1681), австрийский
полководец — 247.
Монтескьё Шарль-Луи де Се-
конда (1689—1755), фран-
цузский философ-просвети-
тель — 387.
Мочалов Павел Степанович
(1800—1848), артист москов-
ского Малого театра — 257.
Моцарт Вольфганг-Амадей
(1756—1791) —73.
Мюнцер Томас (ок. 1490—1525),
немецкий революционный
деятель, вождь и идеолог
крестьянской войны — 171.
Навуходоносор II, царь вави-
лонский (604—561 до н. э.) —
200.
Надеждин Николай Иванович
(1804—1856), критик и жур-
налист, профессор москов-
ского университета — 341,
401.
Надсон Семен Яковлевич
(1862—1887), поэт—37.
Наполеон I Бонапарт (1769—
1821)—274, 363.
Некрасов Николай Алексеевич
(1821—1878)—31, 32, 36,
332, 340.
Нестор (XI — начало XII в.),
монах Киево-Печерского мо-
настыря, летописец, писа-
тель— 348, 351.
Никитин Виктор Никитич
(1839—1908), юрист, публи-
цист — 367, 403.
Новиков Николай Иванович
(1744—1818), журналист, пи-
сатель— 14, 65, 349, 351,373.
Нович Иоахим Савельевич, со-
ветский литературовед и
критик — 379.
Ньютон Исаак (1642—1727) —
274.
Огарев Николай Платонович
(1813—1877) —382.
Ожигина Людмила Алексан-
дровна (1837—1899), писа-
тельница — 396.
Окрейц Станислав Станисла-
вович, публицист и кри-
тик— 25, 381, 388.
Ольховский Е., советский ис-
торик — 380.
Омар (ок. 580—644), арабский
халиф — 222, 255, 392.
410
Ордынский Б. И., критик, исто-
рик литературы — 381.
Орлов Григорий Григорьевич
(1734—1784), граф, видный
государственный деятель —
65.
Островский Александр Нико-
лаевич (1823—1886)—6,9—
И, 19, 26, 27, 152, 273—274,
332, 334—336, 341—343, 346,
347, 364, 386, 393, 399—402.
Оуэн Роберт (1771—1858), ан-
глийский социалист-уто-
пист—206, 274.
Павленков Флорентин Федоро-
вич (1839—1900), изда-
тель — 379.
Павлов Платон Васильевич
(1823—1859), историк, обще-
ственный деятель — 341, 401.
Павлова (урожд. Яниш) Каро-
лина Карловна (1807—1893),
поэтесса — 107, 109.
Пальмерстон Генри Джон
Темпл (1784—1865), англий-
ский государственный дея-
тель — 351.
Панаев Иван Иванович (1812—
1862), беллетрист и публи-
цист — 332.
Панаева (Головачева) Авдотья
Яковлевна (1819—1893), пи-
сательница — 280, 394.
Панин Никита Иванович
(1718—1783), государствен-
ный деятель, дипломат — 65.
Патрик Генри (ок. 389—465),
основатель ирландской като-
лической церкви и ее первый
епископ — 351.
Паульсон Иосиф Иванович
(1825—1898), ученый-педа-
гог, автор многих учебных
пособий по русскому язы-
ку— 246, 390.
Петр / (1672—1725) — 13, 58,
64—85, 71, 171, 373, 386.
Пирогов Николай Иванович
(1810—1881), врач-хирург,
общественный деятель —
392.
Писарев Дмитрий Иванович
(1840—1868) —3, 6, 7, 9—11,
15, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30,
60, 151, 253—287, 379, 380,
382, 383, 385, 386, 388, 390—
394, 397, 398.
Писемский Алексей Феофилак-
тович (1821—1881)—6, 9,
10, 13, 17—24, 32, 39—209,
268, 288, 289, 291, 292, 335,
372, 380-382, 385, 386, 393,
400.
Питт Уильям Старший (1708—
1778), английский государ-
ственный деятель — 351.
Платон (427—347 до н. э.),
древнегреческий философ —
247.
Плещеев Алексей Николаевич
(1825—1893), поэт —333.
Погодин Михаил Петрович
(1800—1875), историк, пи-
сатель— ПО, 123, 154, 333,
335, 375, 386, 396.
Полевой Николай Алексеевич
(1796—1846), критик, жур-
налист, писатель — 374, 404.
Полежаев Александр Иванович
(1805—1838), поэт— 17, 334,
400.
Поляков Марк Яковлевич, со-
ветский литературовед—
389.
Помяловский Николай Гераси-
мович (1835—1863), писа-
тель— 32, 293, 316.
Попова Ольга Николаевна, из-
дательница — 379.
Португалов Вениамин Осипо-
вич (1835—1896), врач, пуб-
лицист — 282, 367, 403, 404.
Посошков Иван Тихонович
(1652—1726), экономист и
публицист — 348, 349, 351.
Потемкин Григорий Алексан-
дрович, князь (1739—1791),
государственный деятель,
генерал-фельдмаршал — 65.
Пушкин Александр Сергеевич
(1799—1837) — 12—13, 15—
17, 37, 40, 263,283,284,289—
291, 333, 336, 339, 363—365,
374, 381, 393, 399, 400, 404.
Пыпин Александр Николаевич
(1833—1904), историк лите-
ратуры — 387.
411
Радищев Александр Николае-
вич (1749—1802)— 14, 373.
Разин Алексей Георгиевич
(1823—1875), писатель для
юношества, публицист — 346,
402.
Разин Степан Тимофеевич (?—
1671)—13.
Расин Жан (1639—1699), фран-
цузский драматург — 348.
Рафаэль Санти (1483—1520) —
185, 208, 357.
Решетников Федор Михайлович
(1841—1871), писатель —
32—34, 288—330, 379, 394—
396.
Робеспьер Максимилиан (1758—
1794), деятель французской
буржуазной революции —
100, 363.
Ройтберг К., советский исто-
рик — 380.
Ростопчина Евдокия Петровна,
(1811—1858), графиня, писа-
тельница — 107, 109.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) —
68, 95, 100, 374, 383.
Рылеев Кондратий Федорович
(1795—1826) —396.
Сазонов Николай Иванович
(1815— 1862), публицист —
382.
Салтыков-Щедрин Михаил Ев-
графович (1826—1889) —
10—12, 25, 26, 29—33, 281,
394,395.
Санд Жорж (псевдоним Авро-
ры Дюпен, баронессы Дюде-
: ван, 1804—1876), француз-
ская писательница — 18, 45,
73—95, 106, 107, 114, 116—
122, 129, 130, 132, 152, 357—
.359,384,385.
Сатин Николай Михайлович
(1814—1873), поэт, перевод-
чик — 382.
Сведенборг Эмануэль (1688—
1772), шведский ученый, тео-
соф — 385. ?
Святополк I Владимирович (ок.
} 980--1019), князь в древней
Руси — 349.
Святослав Игоревич (ум. 972),
великий князь киевский —
350.
Сенковский Осип Иванович
(Барон Брамбеус) (1800—
1858), востоковед, профессор
Петербургского университе-
та, писатель и журналист —
341.
Сен-Пьер Бернарден де Жак-
Анри (1737—1814), француз-
ский писатель — 384.
Сен-Симон Анри-Клод (1760—
1825), французский социа-
лист-утопист — 95.
Сервантес Сааведра Мигель де
(1547—1616) —245, 351, 357.
Сильвестр (конец XV — 60-70
гг. XVI в.), протопоп, поли-
тический и церковный дея-
тель, писатель, составитель
«Домостроя» — 247, 390.
Скабичевский Александр Ми-
хайлович (1838—1910), кри-
тик и историк литературы —
25, 254, 388, 392, 395.
Скотт Вальтер (1771—1832), ан-
глийский писатель — 51, 58,
71, 382.
Сократ (470 или 469—399 до
н. э.), древнегреческий фило-
соф — 200.
Соловьев Николай Иванович
(1831—1874), публицист и
литературный критик—11,
60, 265, 266, 272, 274, 284, 285,
294, 383, 393—395.
Софокл (ок. 497—406 до н. э.),
древнегреческий драма-
тург — 348, 398.
Сталь Анна-Луиза-Жермёна де
(1766—1817), французская
писательница — 95.
Станицкий — см. Панаева (Го-
ловачева) А. Я.
Станкевич Николай Владими-
рович (1813—1840), литера-
тор— 111, 146, 147, 149.
Старч,евский Альберт Викентье-
вич (1818—1901), журна-
лист и историк — 333, 399.
Стебницкий — см. Лесков Н. С.
Стефенсон Джордж (1781—
>412
1848), английский изобрета-
тель — 248.
Страхов Николай Николаевич
(1828—1896), публицист и
литературный критик — 217,
272, 274, 331, 333, 336, 338—
345, 356, 366, 382, 389, 396—
398, 401.
Строганов Александр Сергеевич
(1770—1857), граф, один из
основателей Петербургского
археологического общест-
ва — 370.
Суворов Александр Васильевич
(1730—1800), полководец,
генералиссимус — 65, 247.
Сумароков Александр Петрович
(1717—1777), поэт и драма-
тург— 349, 351.
Суслова Надежда Прокофьев-
на (1843—1918), первая рус-
ская женщина-врач — 387.
Сю Эжен (1804—1857), фран-
цузский писатель — 228, 389.
Сюлли Максимилиан де Бетюн,
герцог (1559—1641), фран-
цузский государственный
деятель — 247.
Теккерей Уильям Мейкпис
(1811—1863), английский пи-
сатель — 350.
Ткачев Петр Никитич (1844—
1886), критик, публицист —
12, 28, 30, 32, 395.
Толстой Алексей Константино-
вич (1817—1875)—26.
Толстой Лев Николаевич
(1828—1910) — 16, 19, 27, 28,
36, 333, 379, 395, 397, 400.
Турбин Сергей Иванович
(1821—1884), писатель —
367, 403.
Тургенев Иван Сергеевич
(1818—1883)—6, 9, 11, 13,
15, 16, 18, 19—21, 23, 24, 29,
32, 46, 60, 62, 66—70, 98,
105—107, 119, 122, 124—126,
130—152, 154, 161, 162, 176—
192, 195—198, 201—209, 221,
238, 244, 250, 268—273,
288—293, 295, 303, 315, 320,
321, 324, 326, 329, 330, 335,
336, 380, 382—386, 388/ 390,
392, 393, 395, 399, 400. .
Успенский Глеб Иванович
(1843—1902),, писатель — 32,
37, 395.
Успенский Николай Васильевич
(1837—1889), писатель— 10,
32, 155, 293, 386, 395.
Утин Евгений Исаакович
(1843— 1894), критик — 388.
Фет Афанасий Афанасьевич
(1820—1892) —332, 360, 361,
399.
Филипп, герцог Орлеанский
(1674—1723), регент Фран-
ции — 387.
Фонвизин Денис Иванович
(1744—1792)—65, 178, 373,
387.
Фонтенель Бернар ле БовЬе
(1657—1757), французский
писатель и ученый — 1,00.
Фридрих 11 Великий (1712—
1786), прусский король,—
192.
Хемницер Иван Иванович
(1745—1784), писатель — 65.
Херасков Михаил Матвеевич
(1733—1807), поэт —363.
Хмельницкий А. И., журна-
лист— 333.
Хомяков Алексей Степанович
(1804—1860), философ, пи-
сатель и публицист, идеолог
славянофилов — 333, 337,341,
352, 401, 402.
Цебрикова Мария Константи-
новна (1835—1917J, писа-
тельница, критик, публи-
цист — 388.
Цицерон Марк Туллий (106—
43 до н. э.), древнеримский
писатель, оратор и полити-
ческий деятель — 351.
Чаадаев Петр Яковлевич
(1794—1856), философ, пуб-
лицист— 30, 374.
Чернышевский Николай Гаври-
лович (1828—1889)—3—7,
9—12, 29, 30, 32, 209, 380, 382,
’ .413
386, 387, 392—394, 397, 399,
403.
Чехов Антон Павлович (1860—
1904) — 37.
Чингисхан (ок. 1155—1227),
монгольский хан, полково-
дец— 200, 222, 274.
Шатриан — см. Эркман-Шат-
риан.
Шахова Елизавета Никитична
(1Я21—?), писательница —
107.
Шевырев Степан Петрович
(1806—1864), поэт, критик и
историк литературы — 110,
123, 333, 364, 384.
Шекспир Вильям (1564—
1616)—54, 55, 67, 96, 187,
332, 348, 352, 353, 355—358,
399.
Шелгунова Людмила Петровна
(1832—1901), жена Н. В.
Шелгунова — 6, 380.
Шеллинг Фридрих-Вильгельм-
Иозеф (1775—1854), немец-
кий философ — 138.
Шерр Иоганн (1817—1886), не-
мецкий историк — 72, 383.
Шиллер Фридрих (1759—
1805) —55, 65, 69, 187, 224,
348, 352, 389.
Шпильгаген Фридрих (1829—
1911), немецкий писатель —
249, 329.
Штеллер Павел Петрович, дра-
матург — 26.
Штиглиц Генрих (1801 — 1849),
немецкий поэт — 383.
Штиглиц Шарлотта-София
(1806—1834), жена Г. Штиг-
лица — 72, 383.
Шуберт Франц (1797—1828),
135, 143.
Щапов Афанасий Прокофьевич
(1830—1876), русский исто-
рик и публицист — 341, 342.
Щедрин — см. Салтыков-Щед-
рин М. Е.
Щербатов Михаил Михайлович
(1733—1790), русский исто-
рик, экономист и публи-
цист — 373.
Энгельс Фридрих (1820—
1895) — 3, 386,, 387.
Эркман-Шатриан — совместный
псевдоним французских пи-
сателей Эркмана Эмиля
(1822—1899)’ и Шатриана
Александра (1826—1890) —
249.
Эразм Роттердамский (ок.
1466—1536), голландский пи-
сатель — 248.
Эсхил (525—456 до н. э.), дре-
внегреческий драматург —
251.
Юлиан Отступник Флавий
Клавдий Юлиан (331—363),
римский император — 345,
401.
Якушкин Павел Иванович
(1822—1872), писатель и
фольклорист — 34, 35, 367—
378, 388, 403—404.
СОДЕРЖАНИЕ
Н. Соколов. Н. В. Шелгунов — литературный критик . , 3
Люди сороковых и шестидесятых годов 39
Талантливая бесталанность . . 210
Сочинения Д. И. Писарева . . 253
Народный реализм в литературе . 288
Пророк славянофильского идеализма . . 331
Народник Якушкин . . 367
Примечания . 379
Указатель имен. . 405
Шелгунов Н. В.
Ш42 Литературная критика. Вступит, статья,
сост. и примеч. Н. И. Соколова, оформ. худож.
Н. Сапожникова, Л., «Худож. лит.», 1974.
416 с.
Литературно-критические труды революционного демократа,
общественного деятеля, талантливого публициста и критика
Н. В. Шелгунова почти неизвестны широкому читателю. После
выпуска в 1928 г. небольшого сборника его статей, давно став-
шего библиографической редкостью, литературно-критические
работы Шелгунова не переиздавались. Из богатого литератур-
ного наследия критика в настоящий сборник включены статьи
р Гончарове, Писемском, Тургеневе, Герцене, Писареве, Решет-
никове и других.
Издание сборника приурочено к 150-летию со дня рождения
Н. В. Шелгунова.
70202—100
028 (01)—74
246—74
8Р1
Николай Васильевич Шелгунов
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Редактор Г. Антонова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор В. Алексеева
Корректор Ф. Аврунина
Сдано в набор 5/VII 1974 г. Подписано к печати 16/XII 1974 г.
М 20497. Бумага тип. № 1. Формат 84ХЮ8Уз2— 13 печ. л. 21,84 усл.
печ. л. Уч.-изд Лч 23,131 + 1 вкл = 23,201 л. Тираж 20 000 экз. За-
каз № 815. Цена 93 к. Издательство «Художественная литера-
тура», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград Д-186,
Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типогра-
фия № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Ленинград, Центр, Коасная ул., 1/3.
93 к