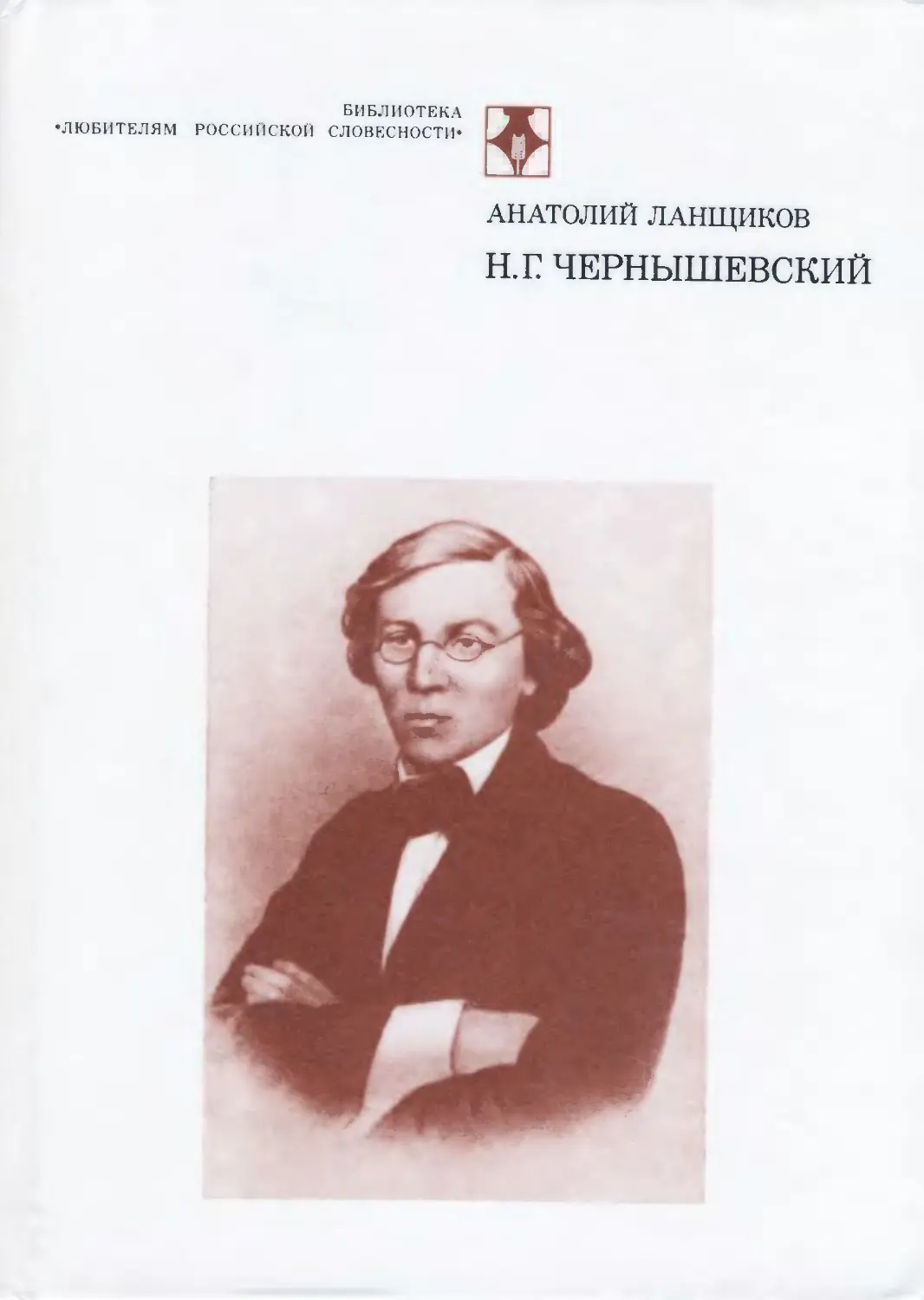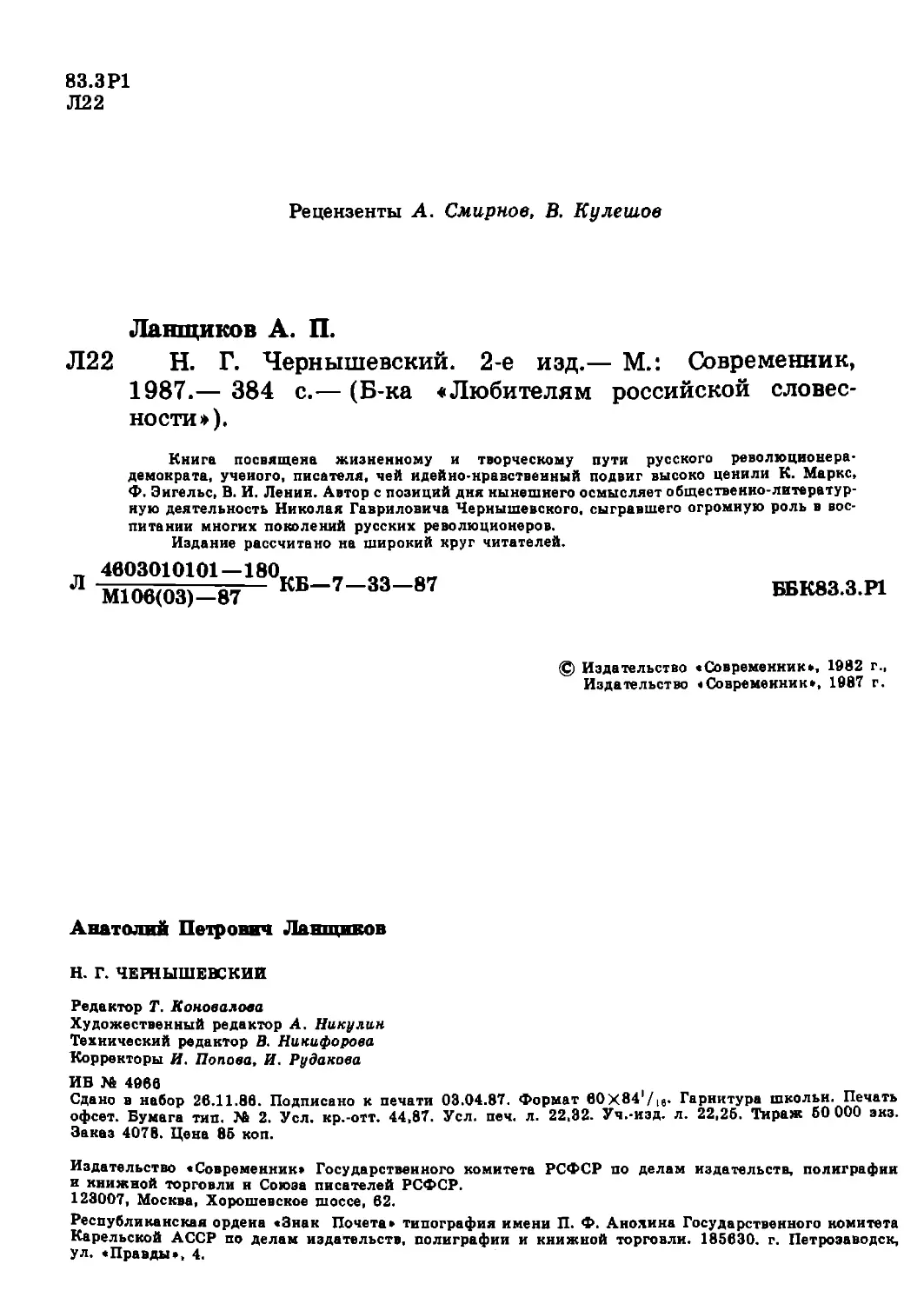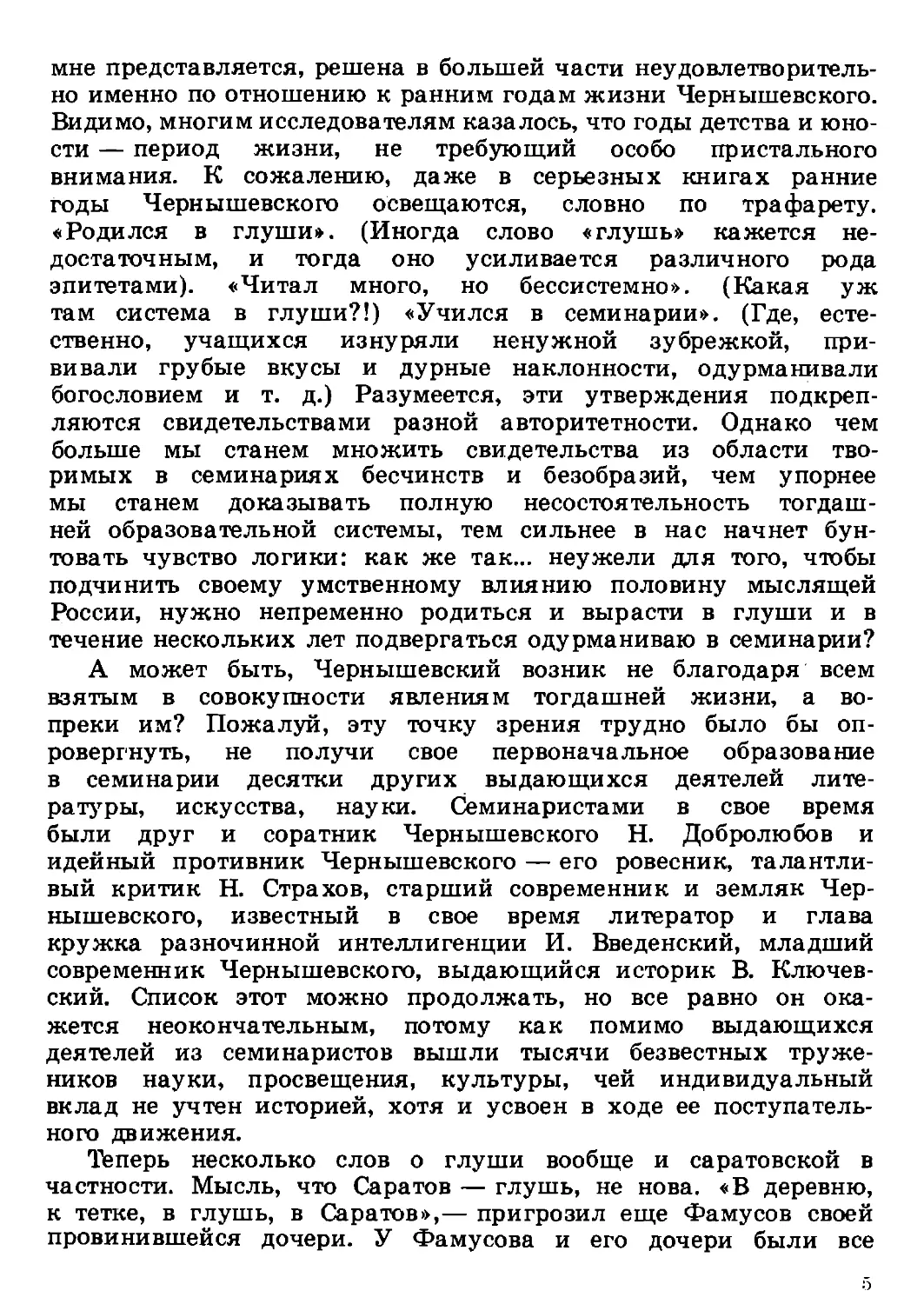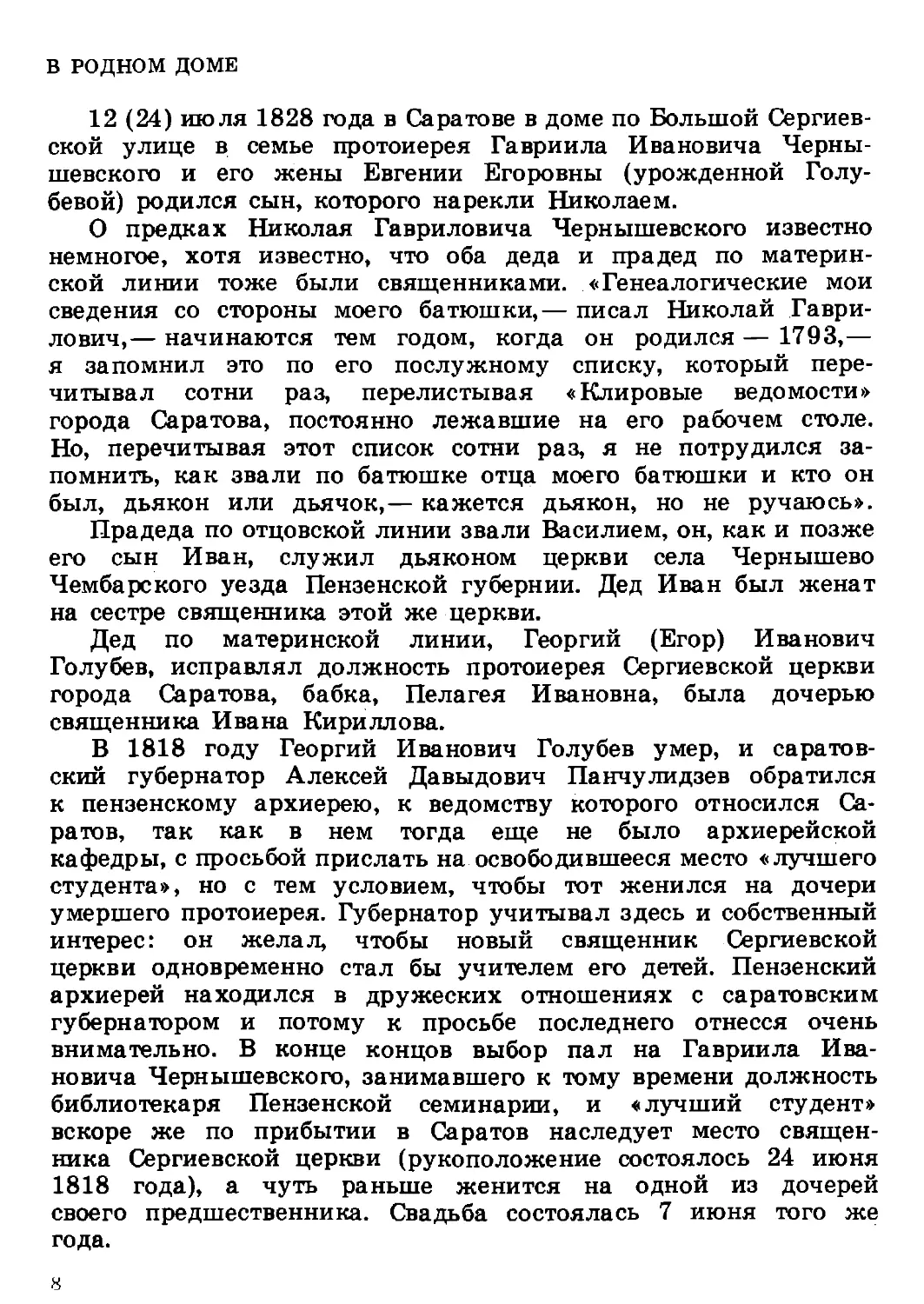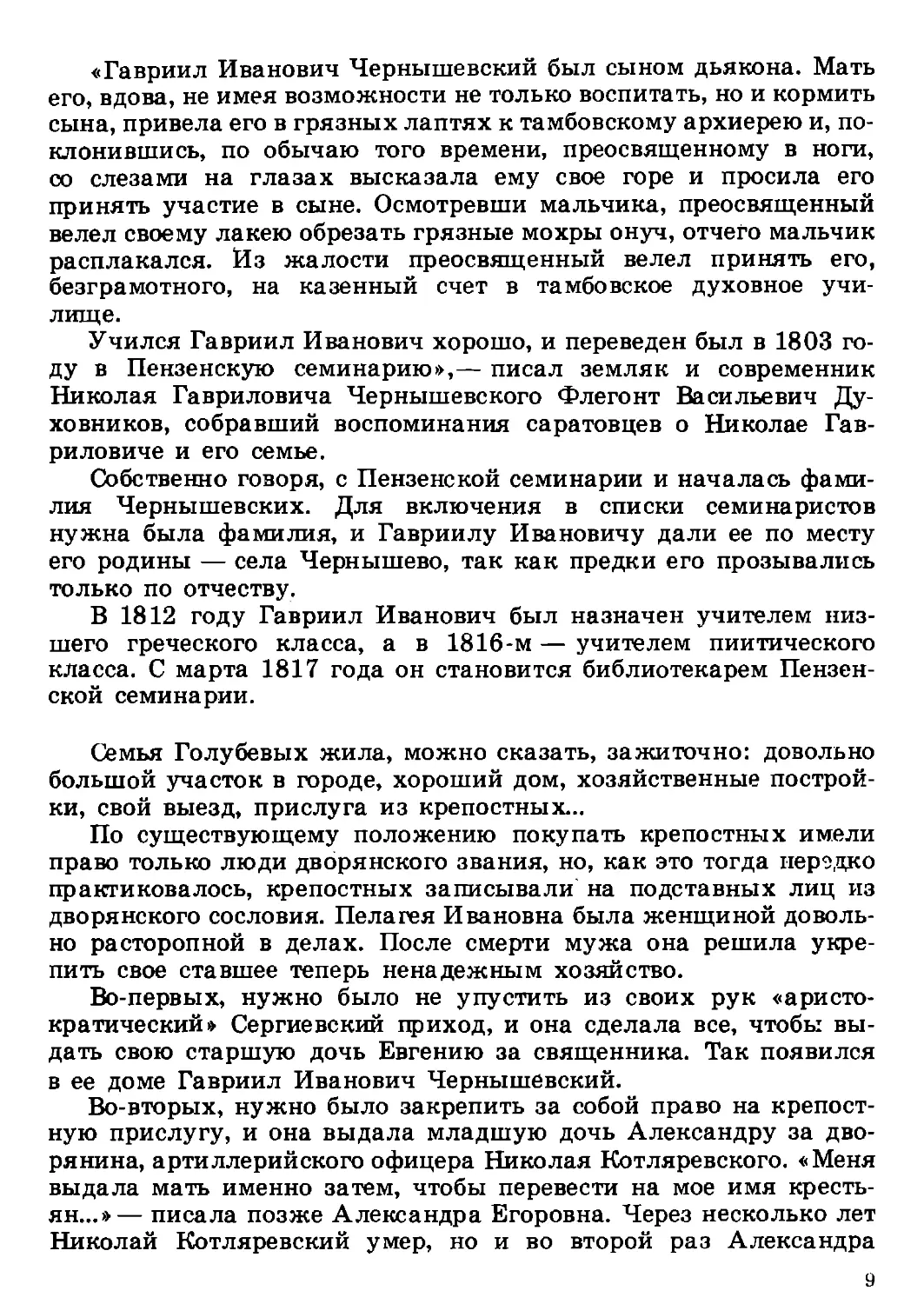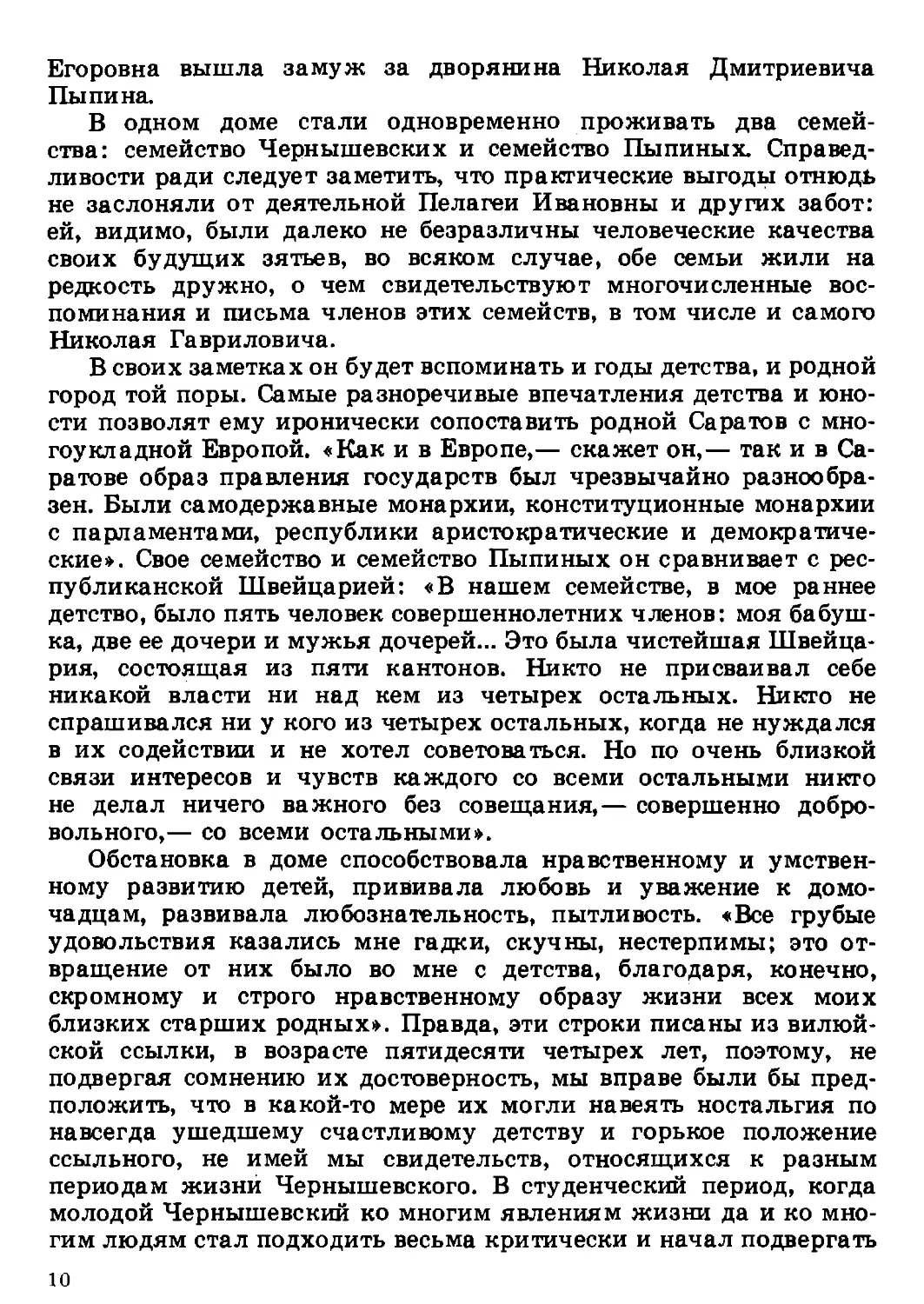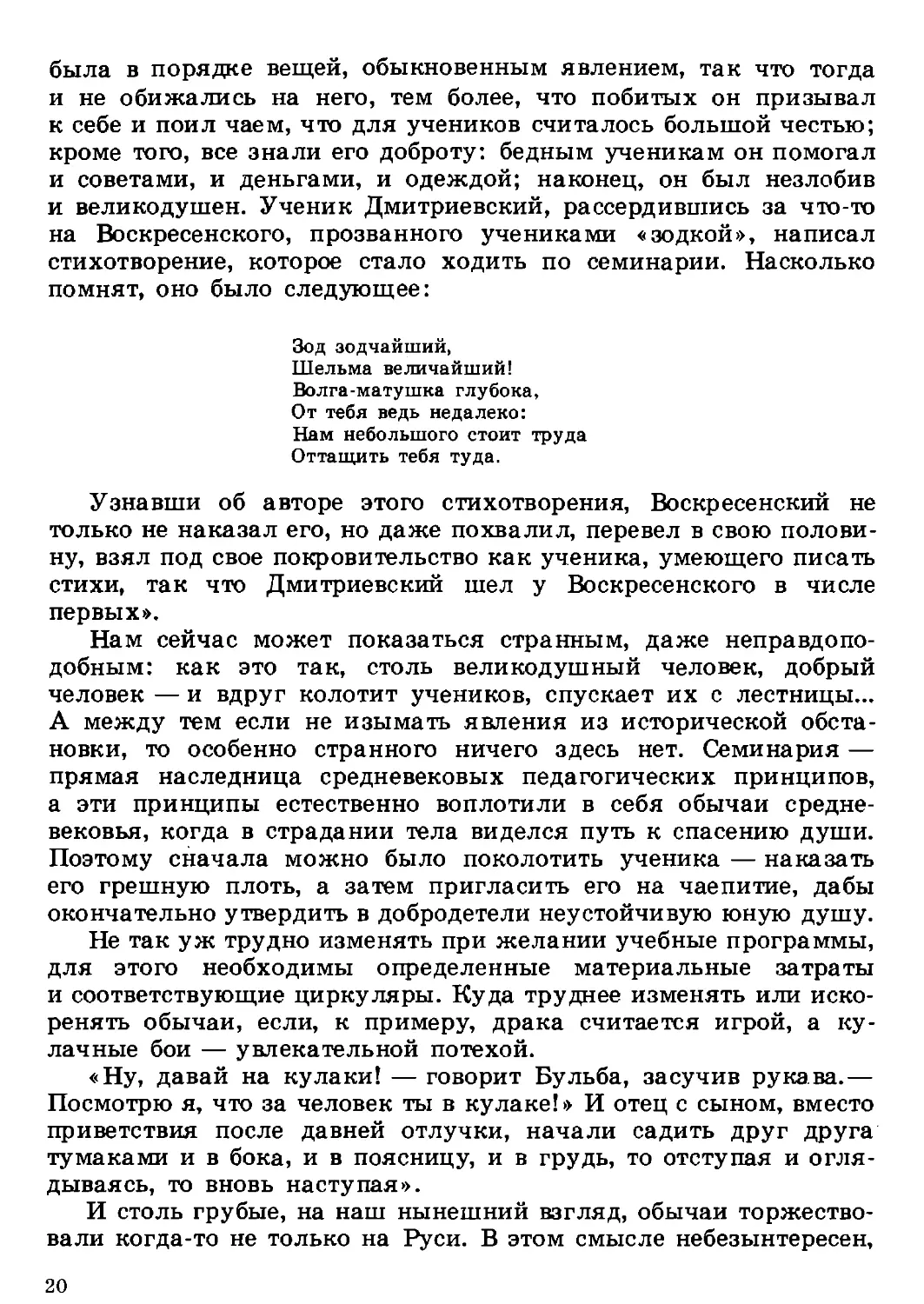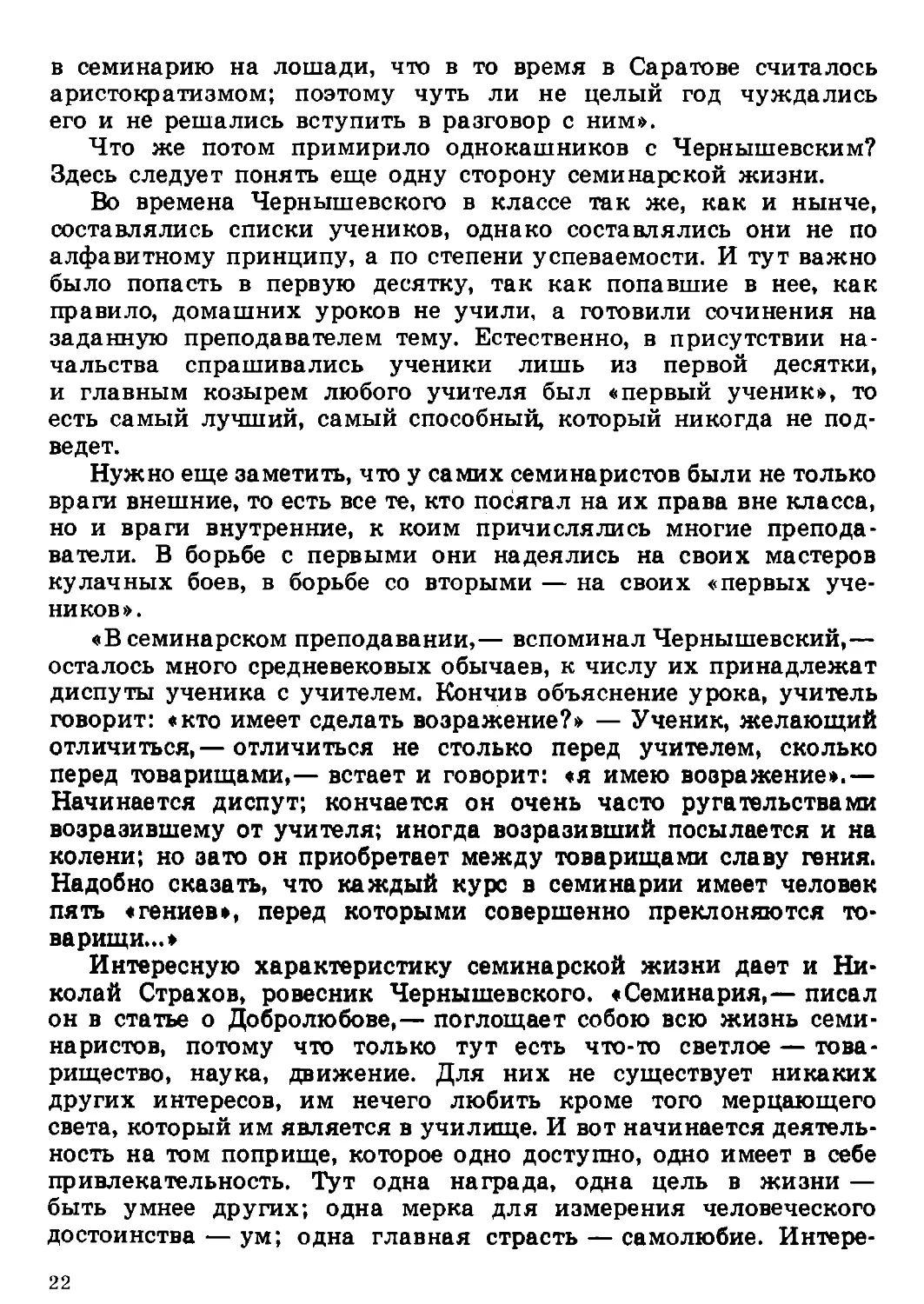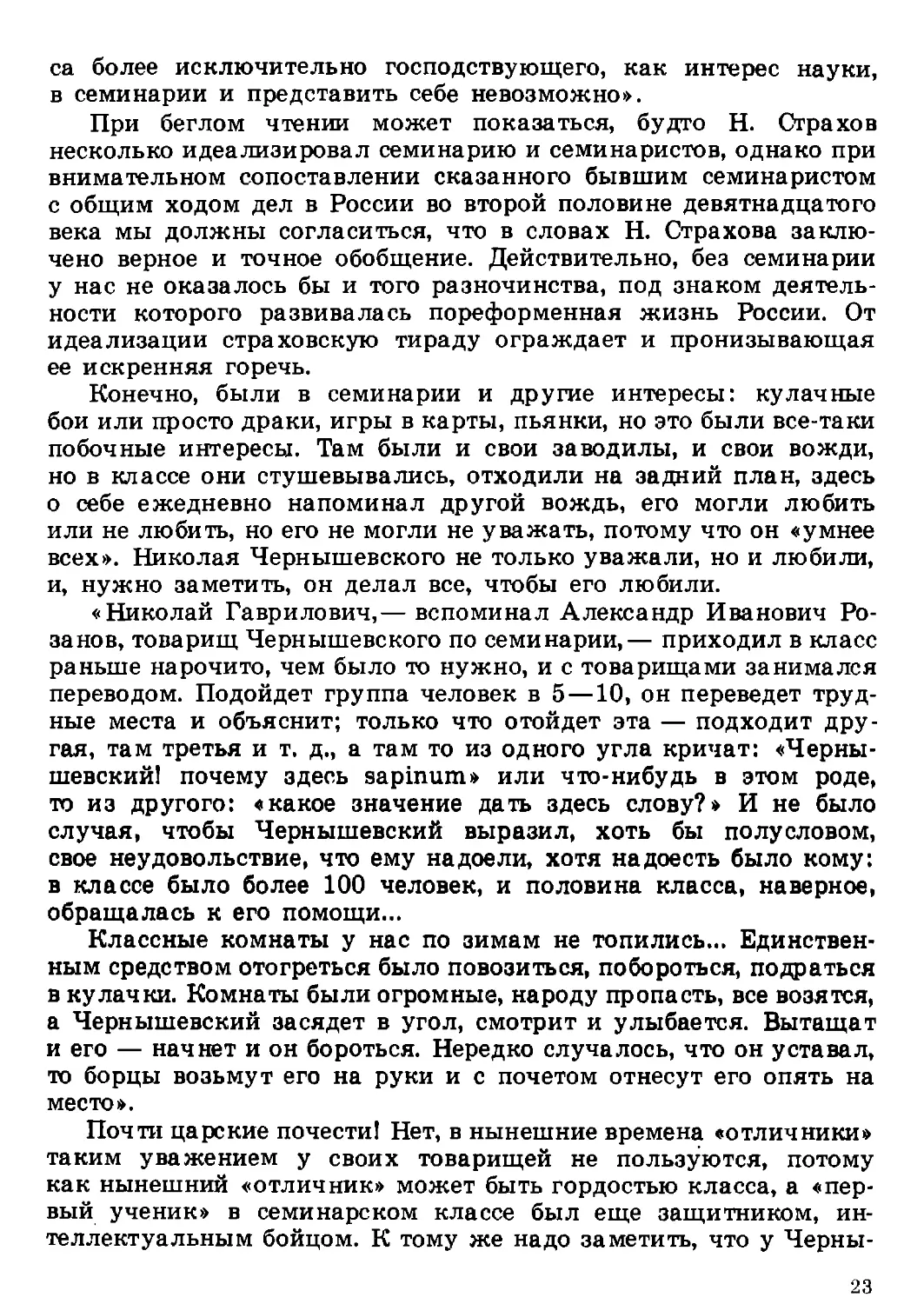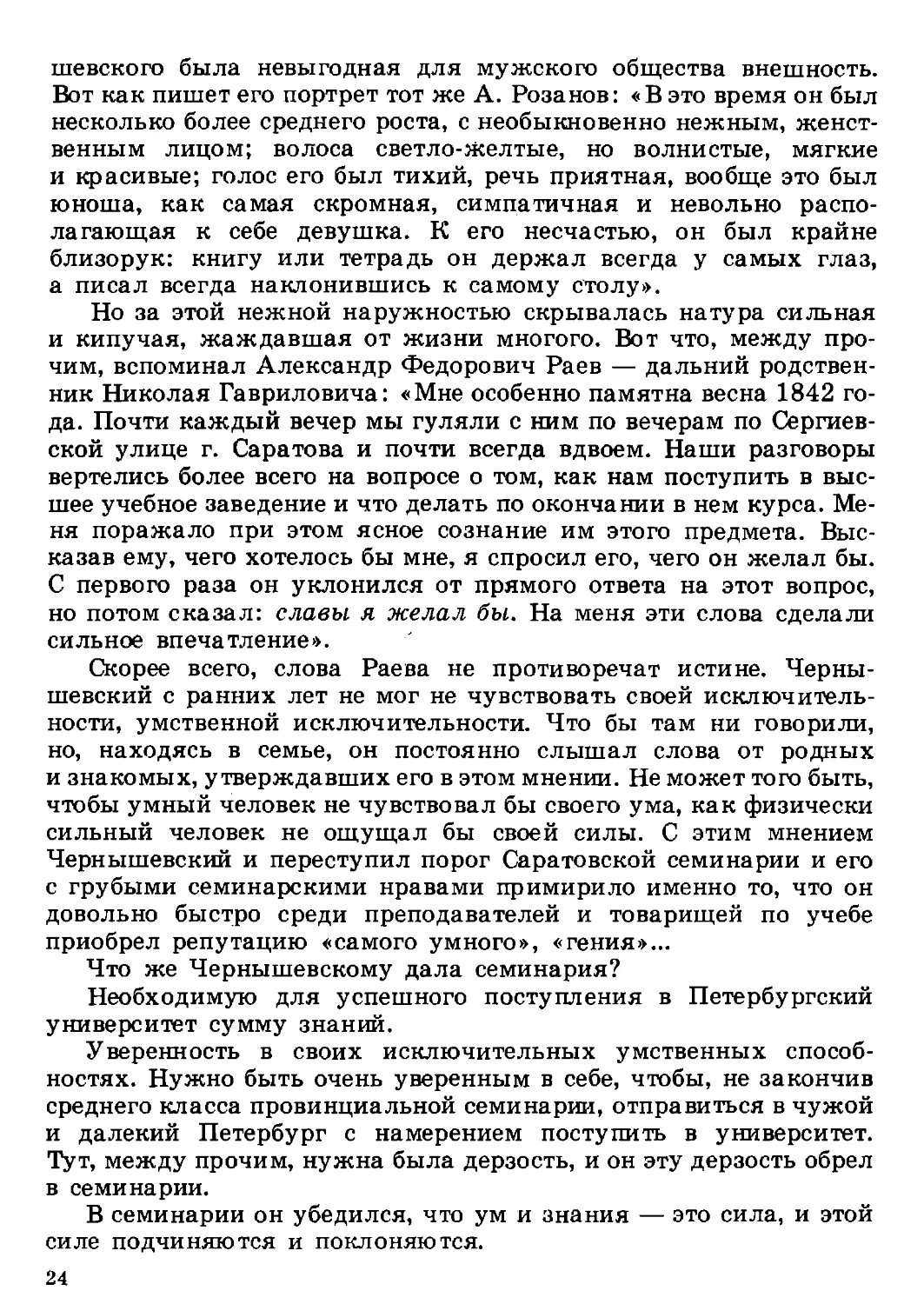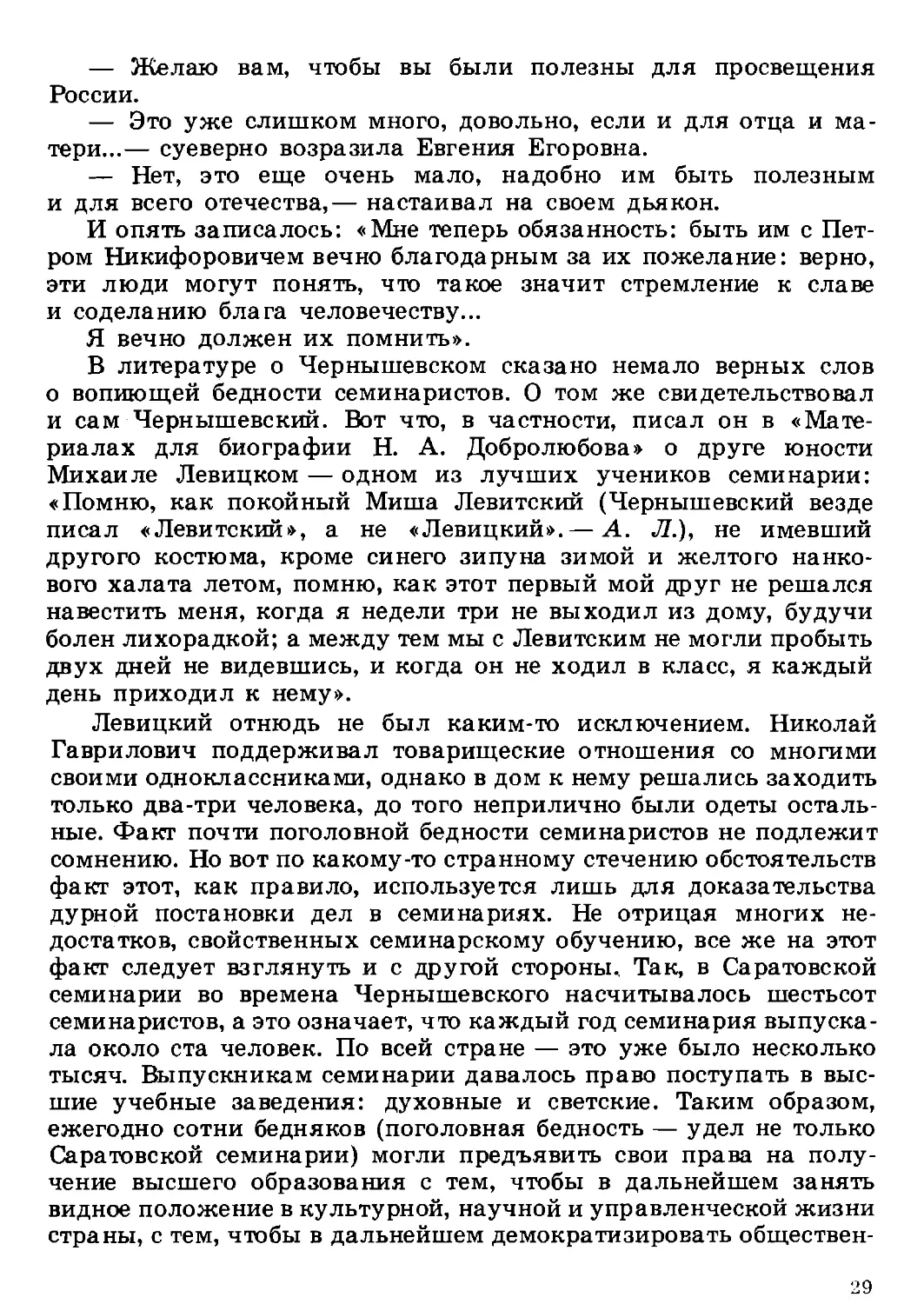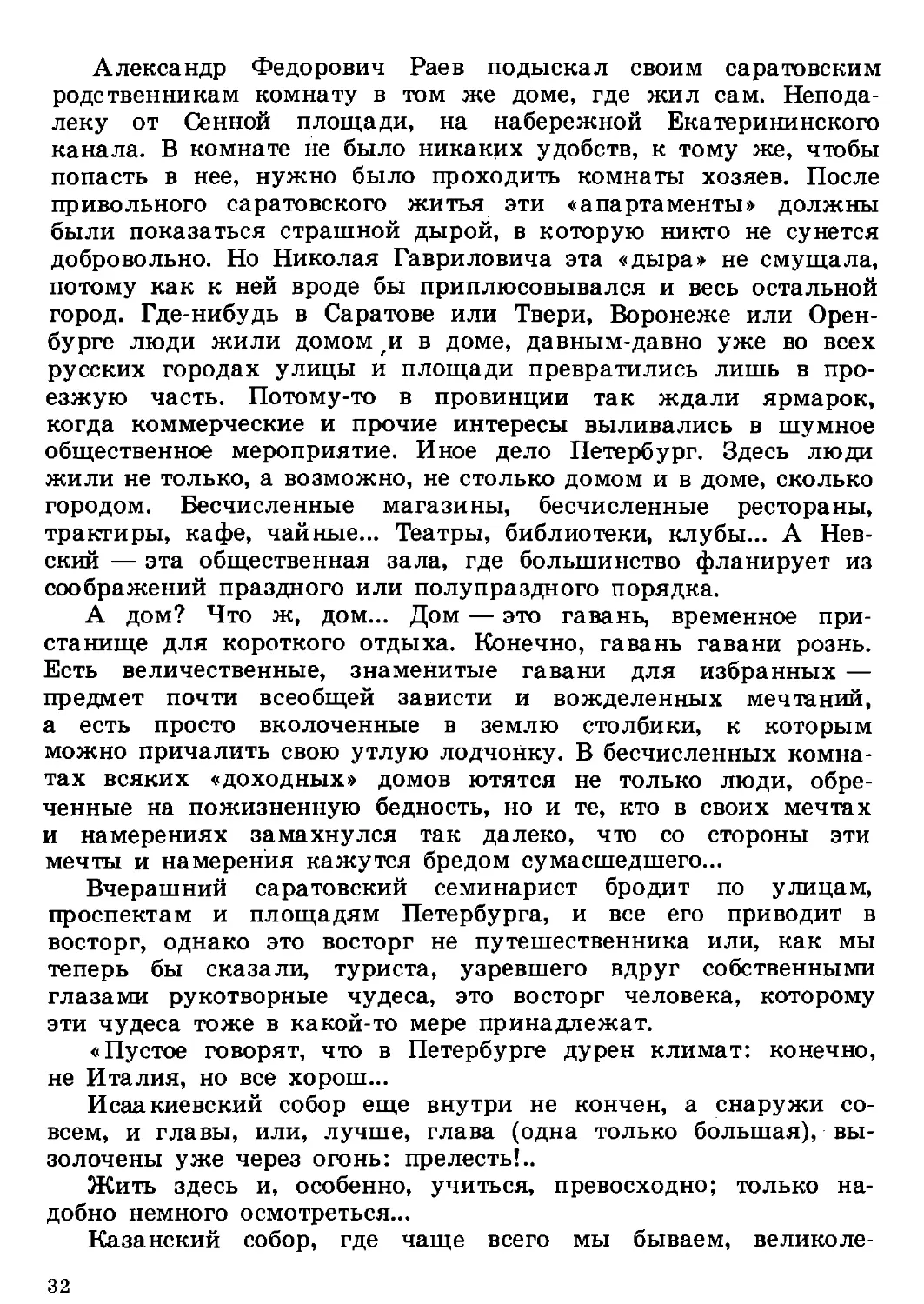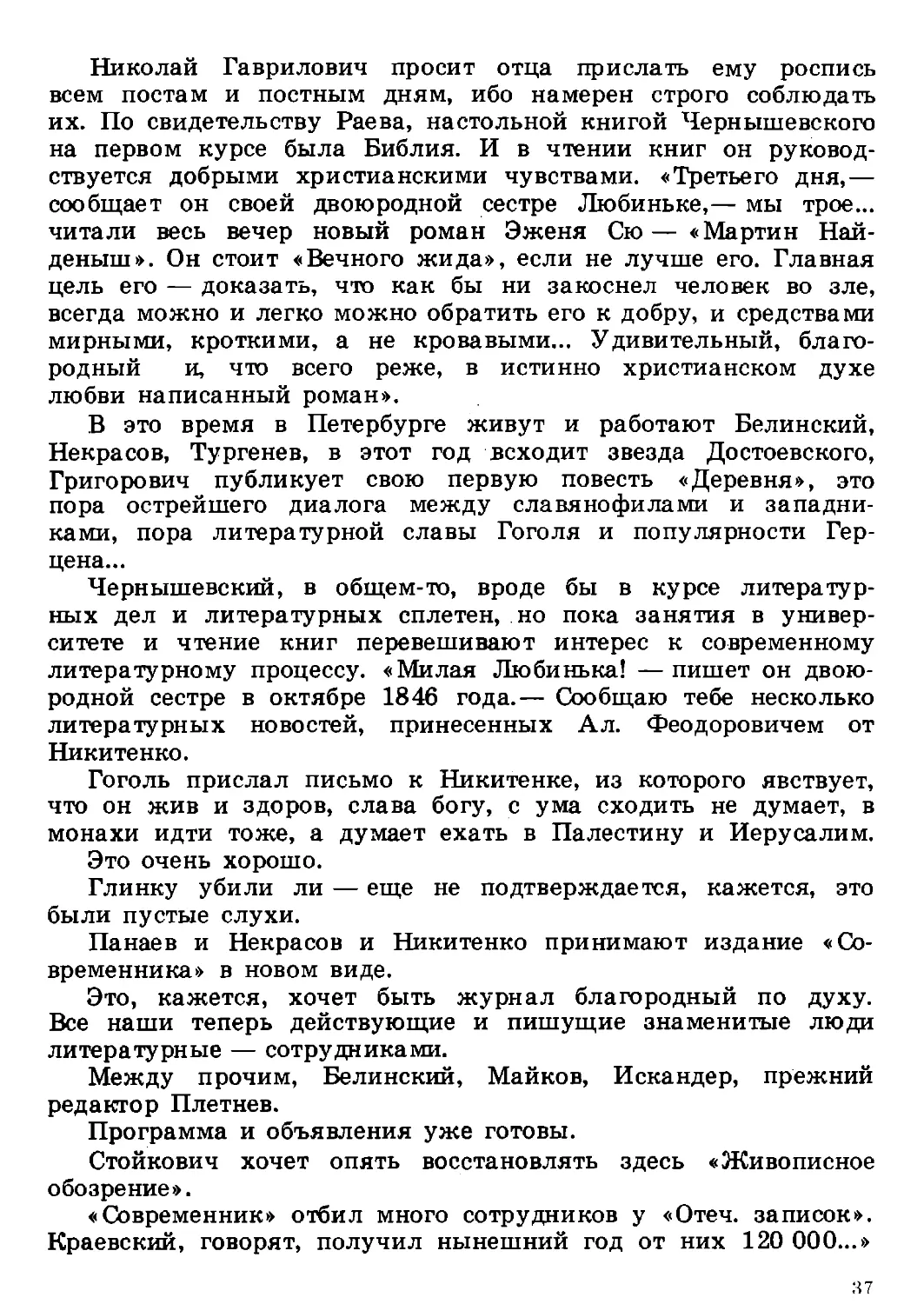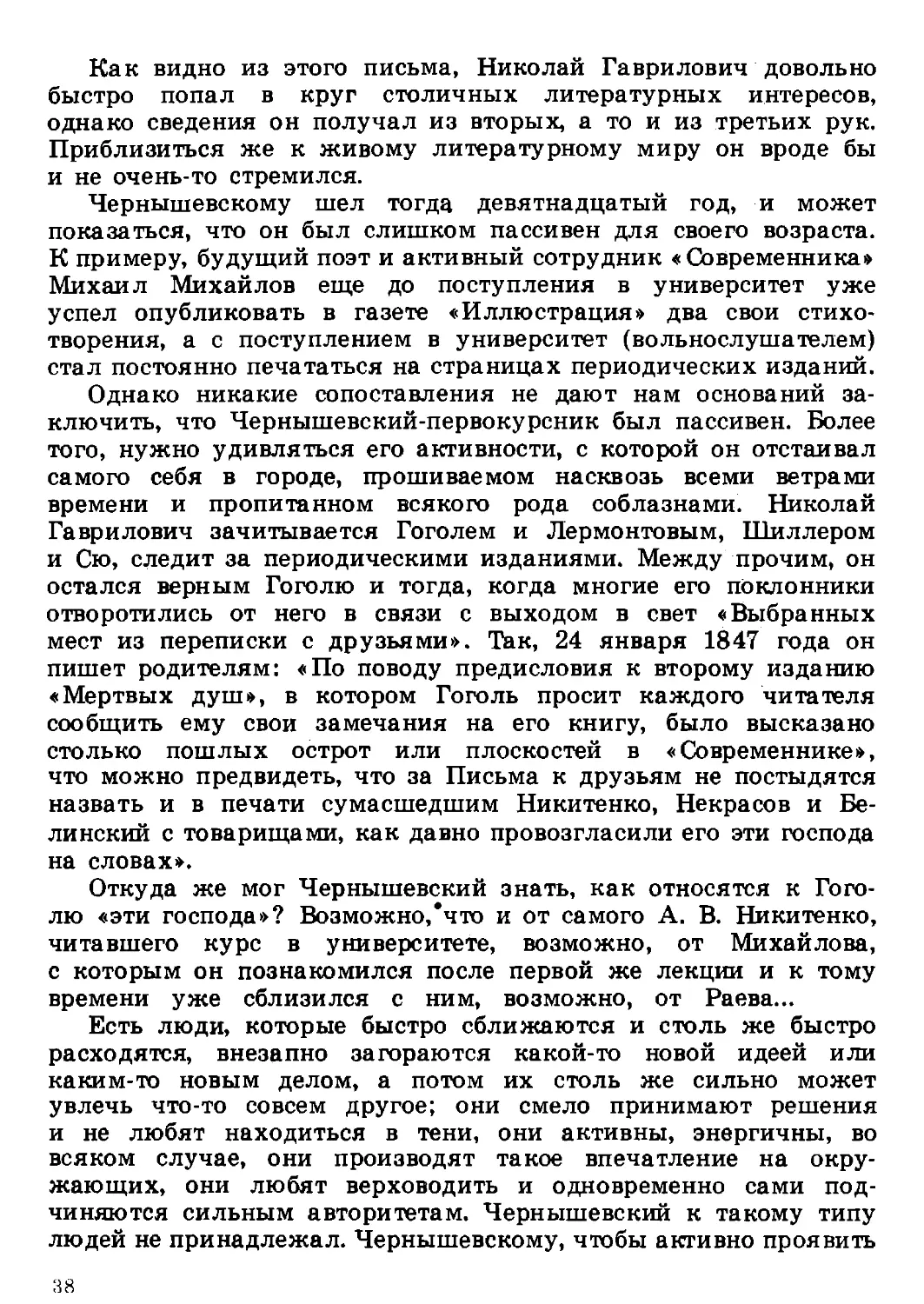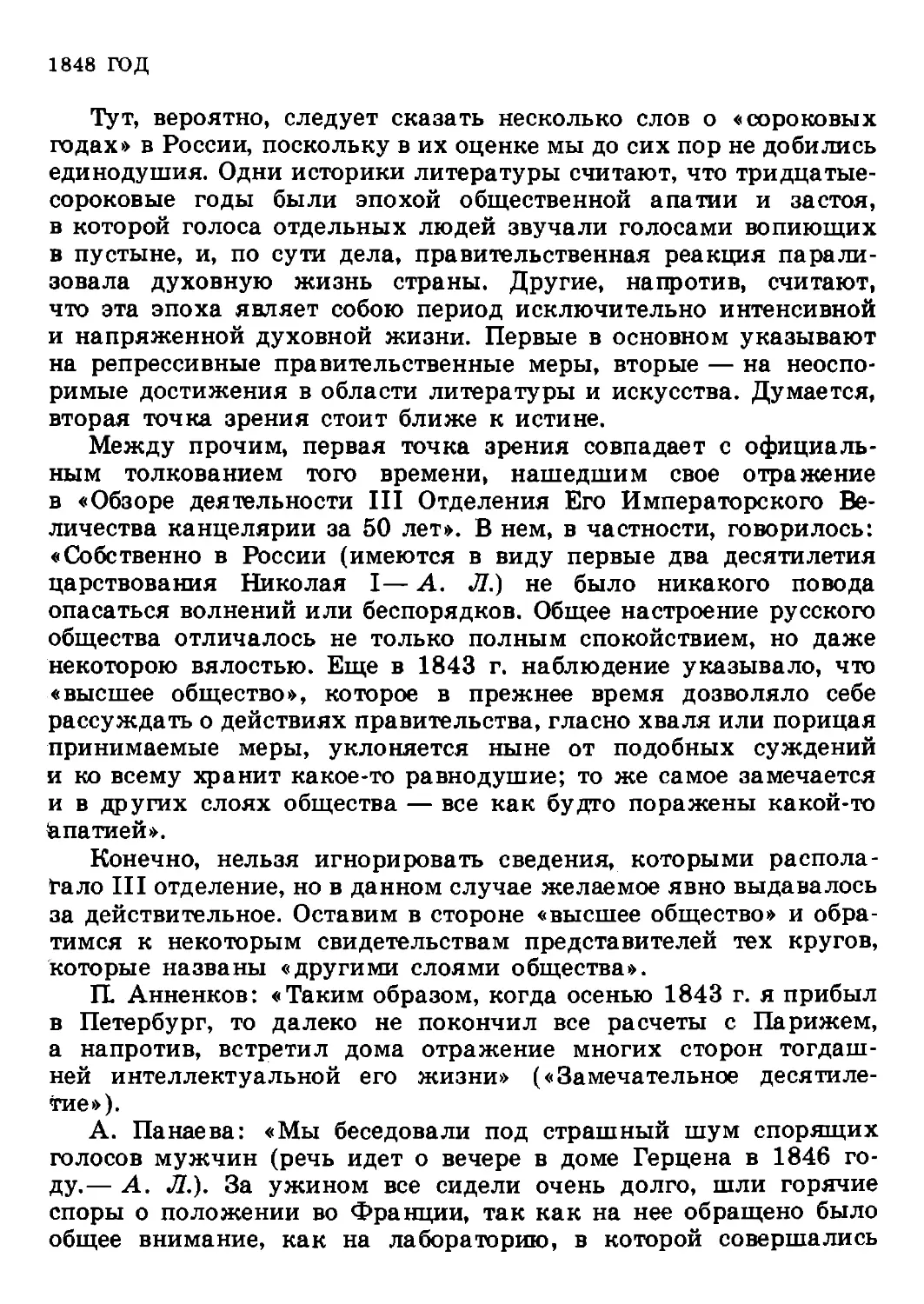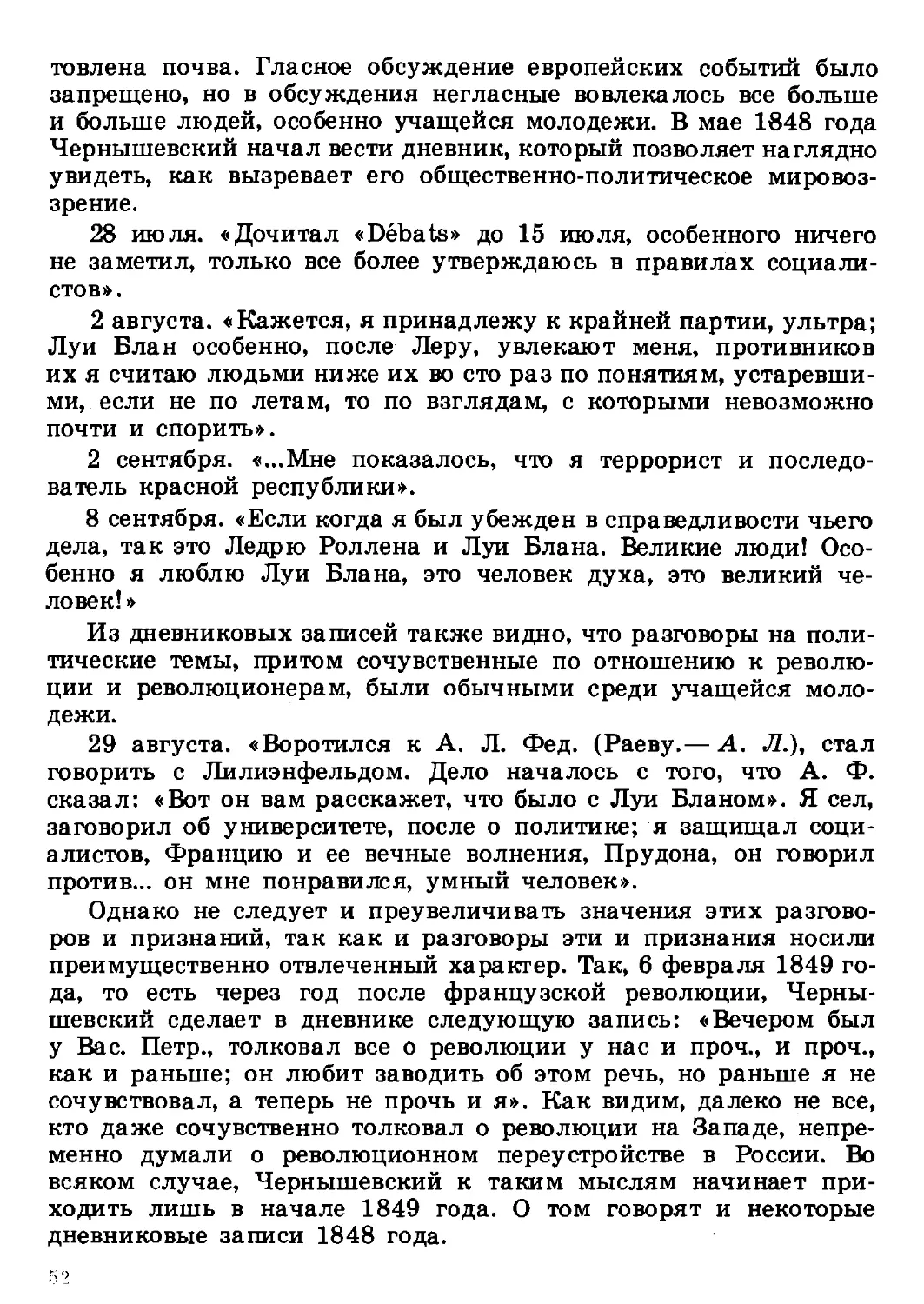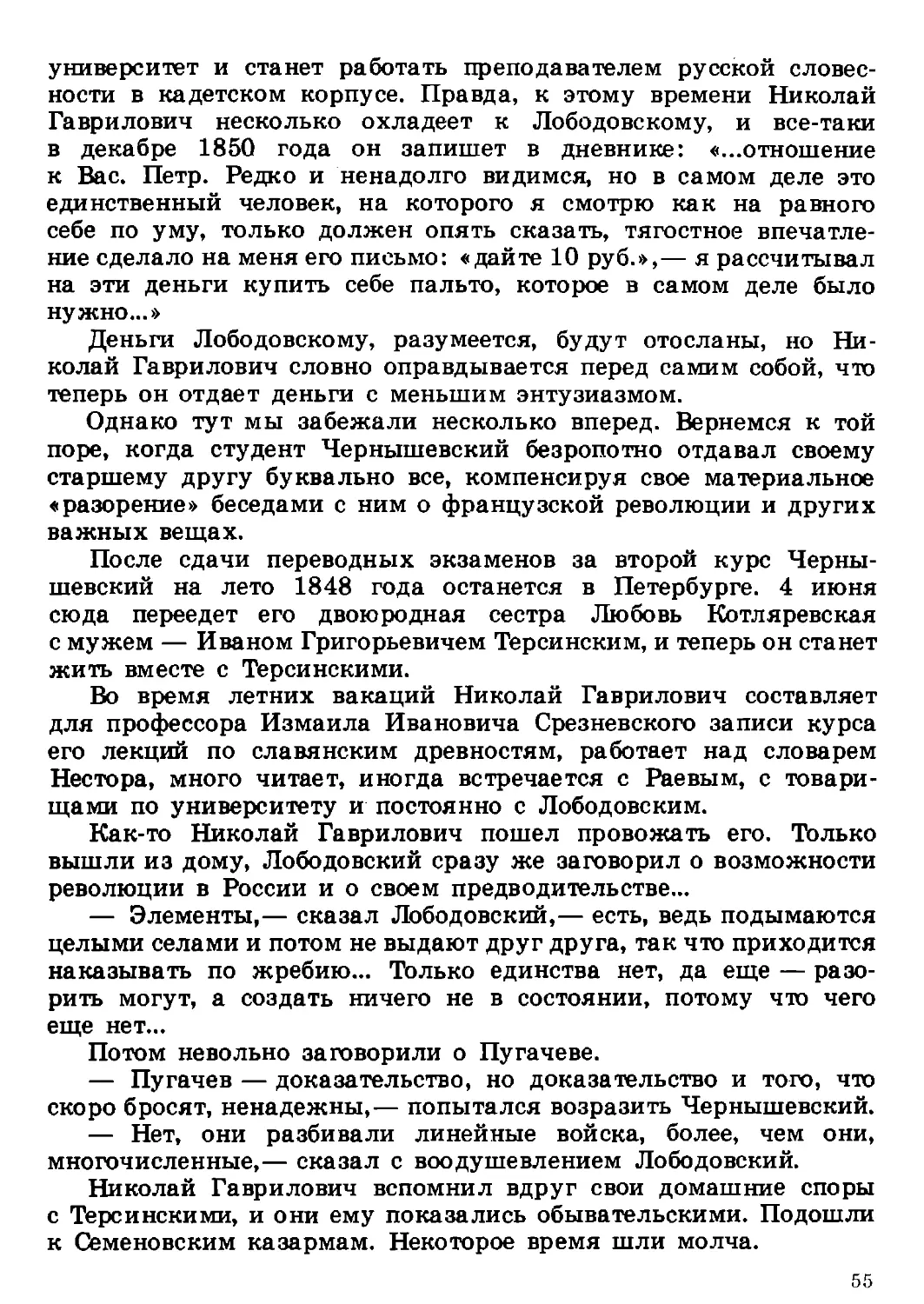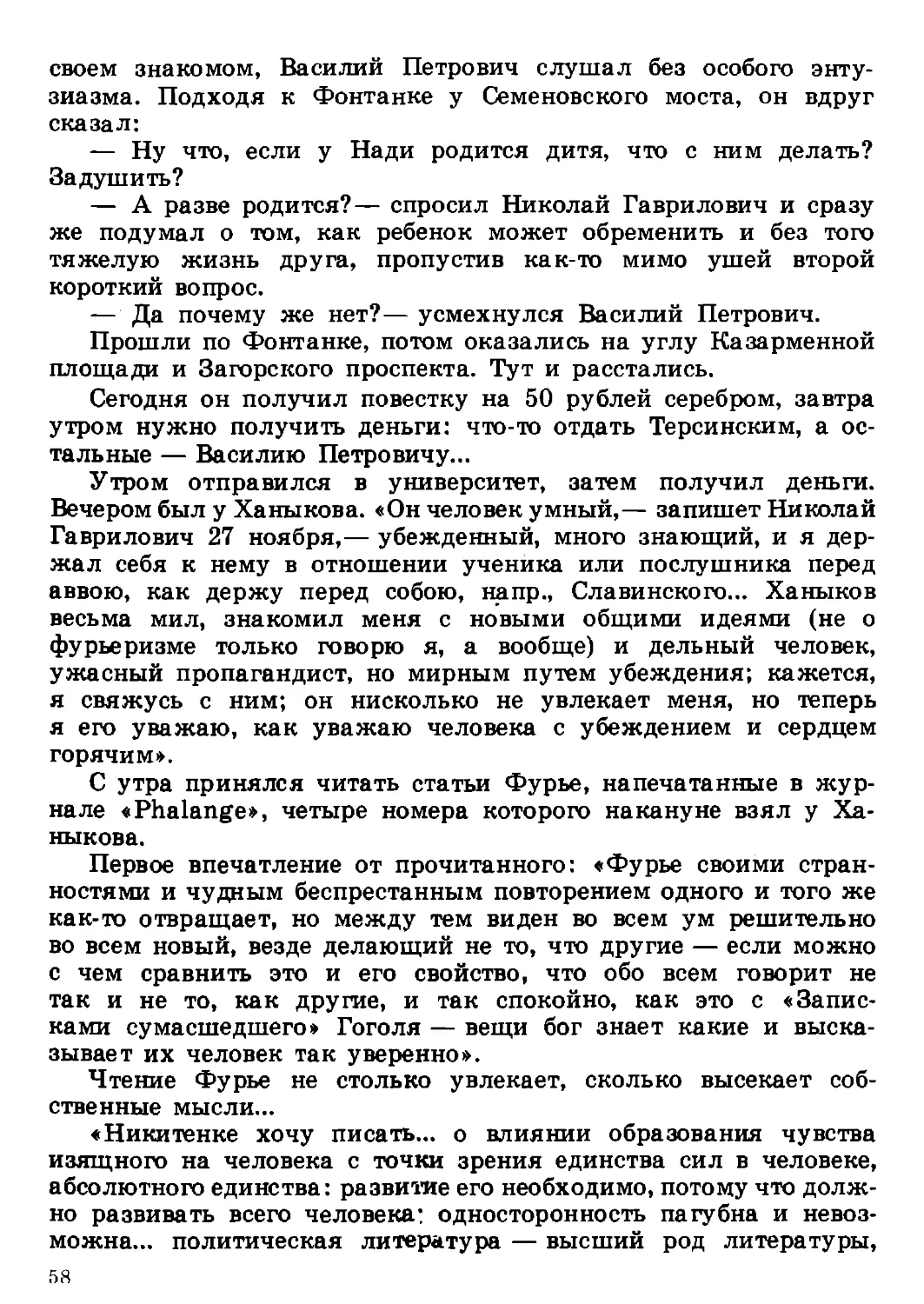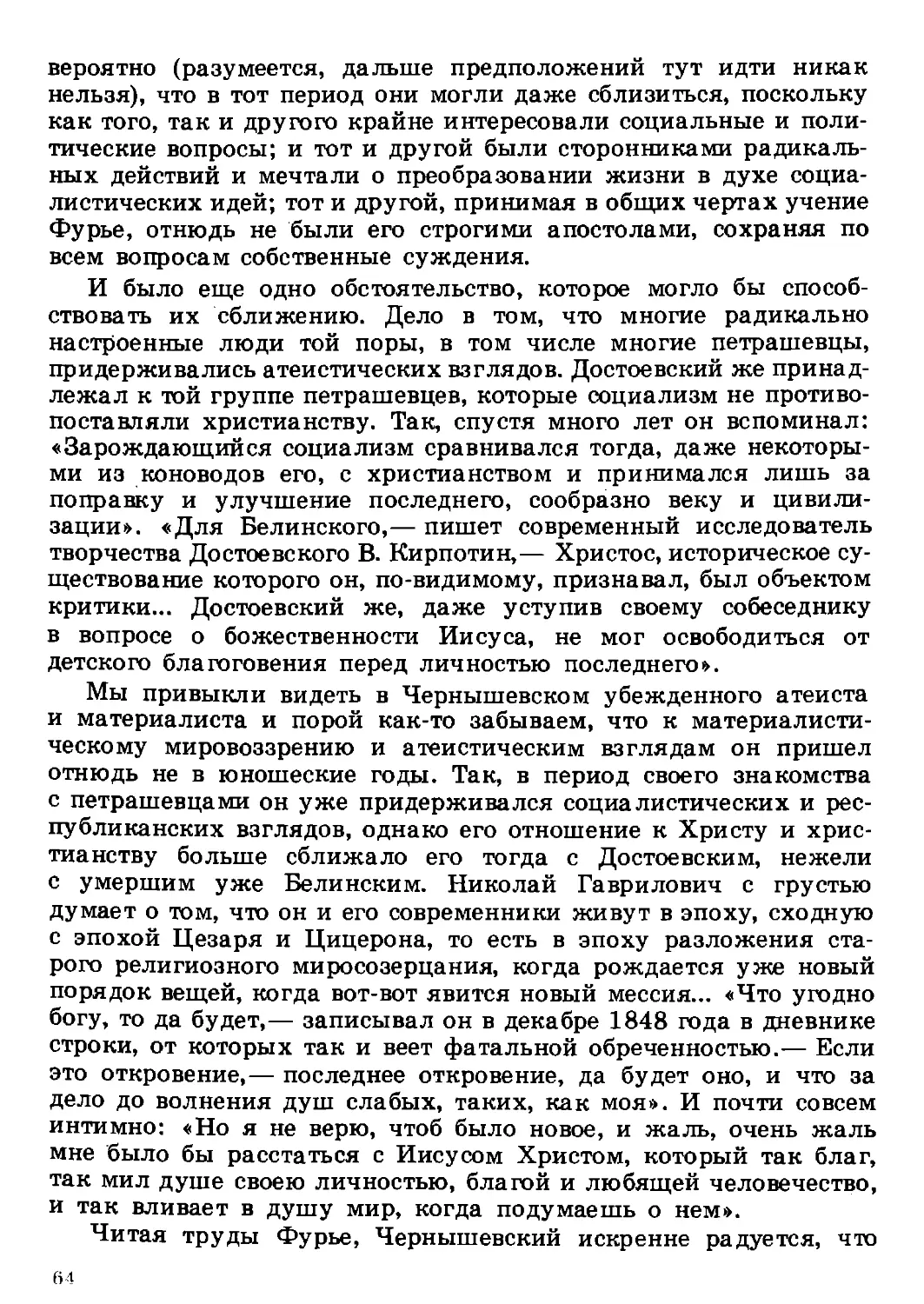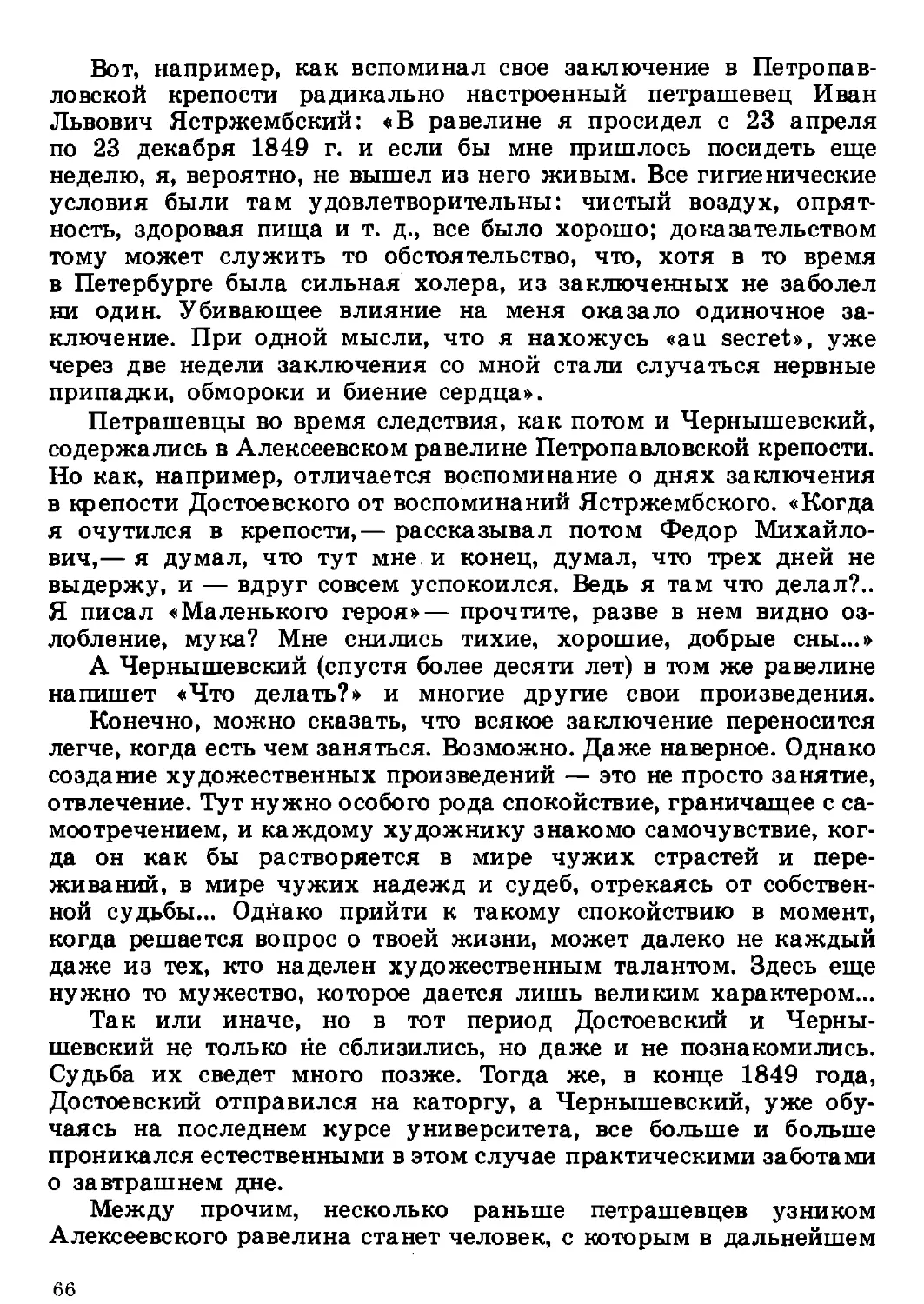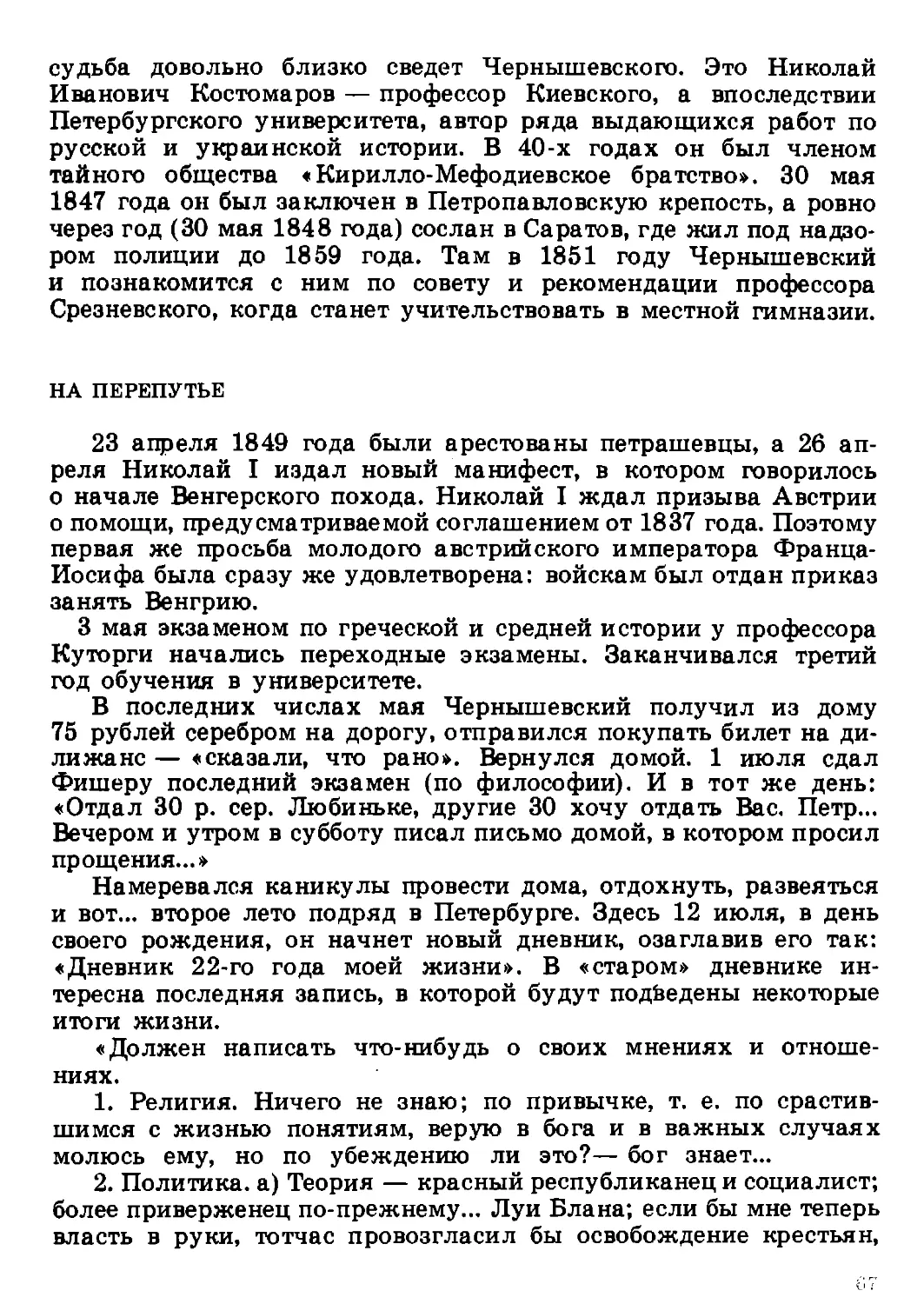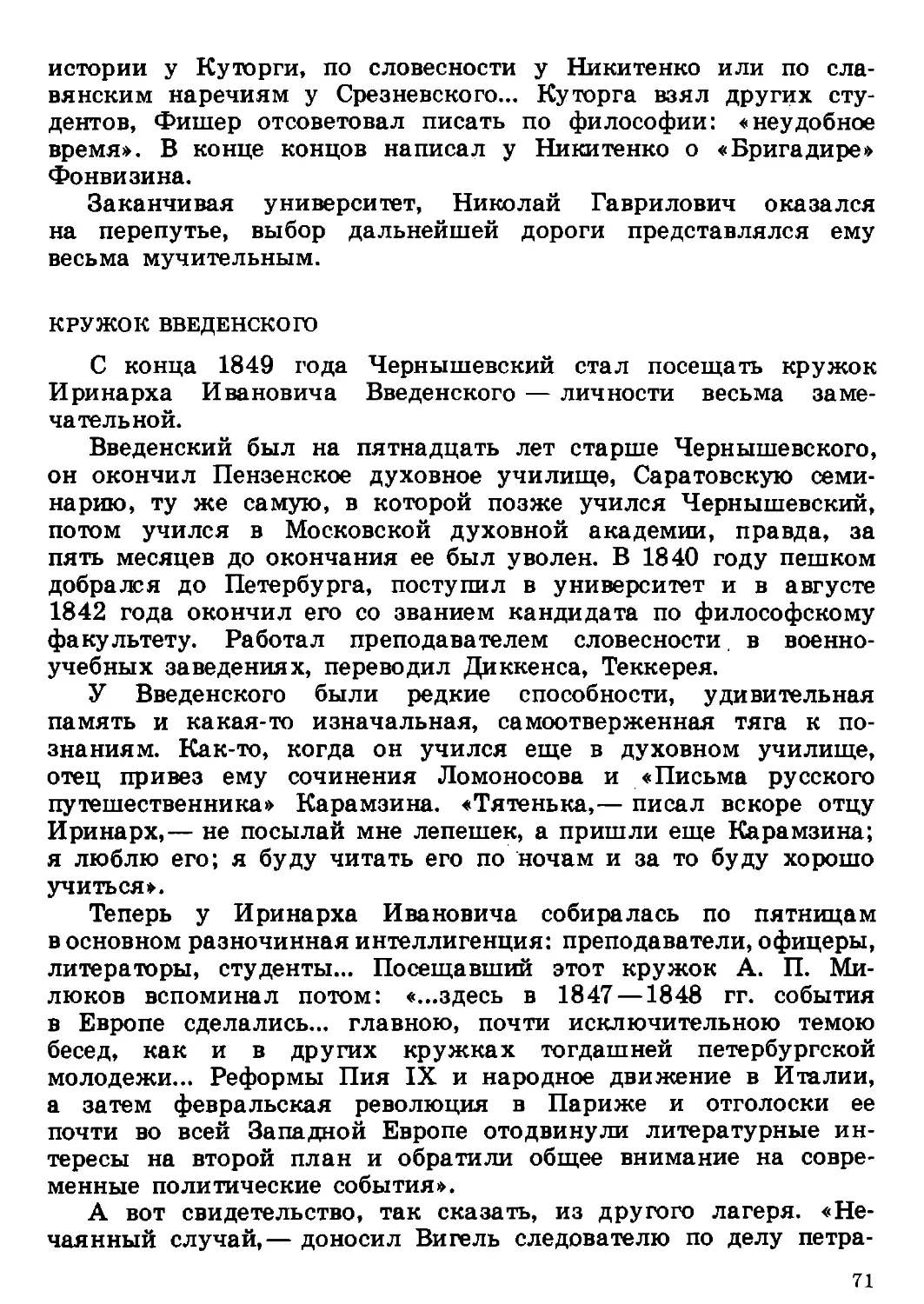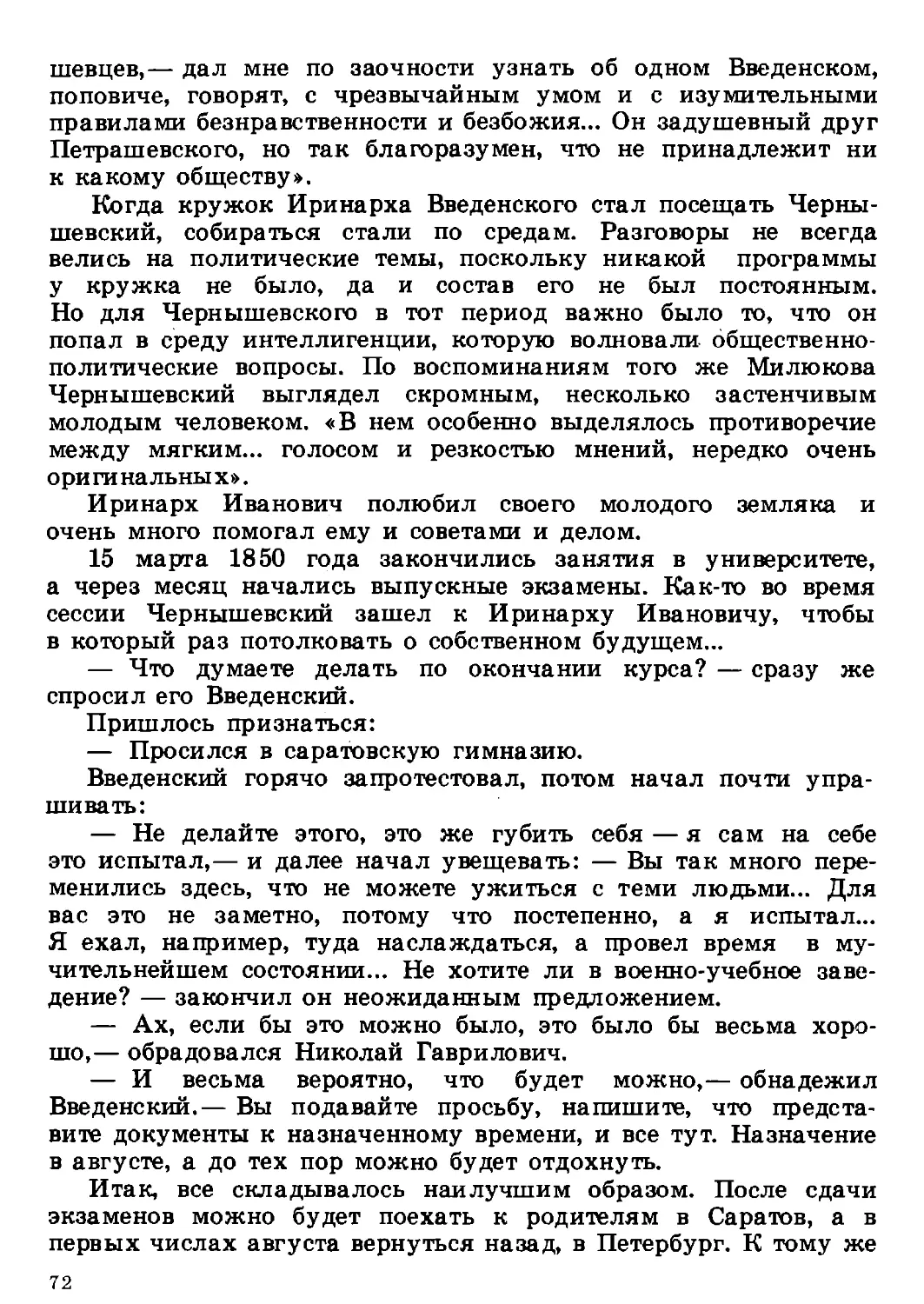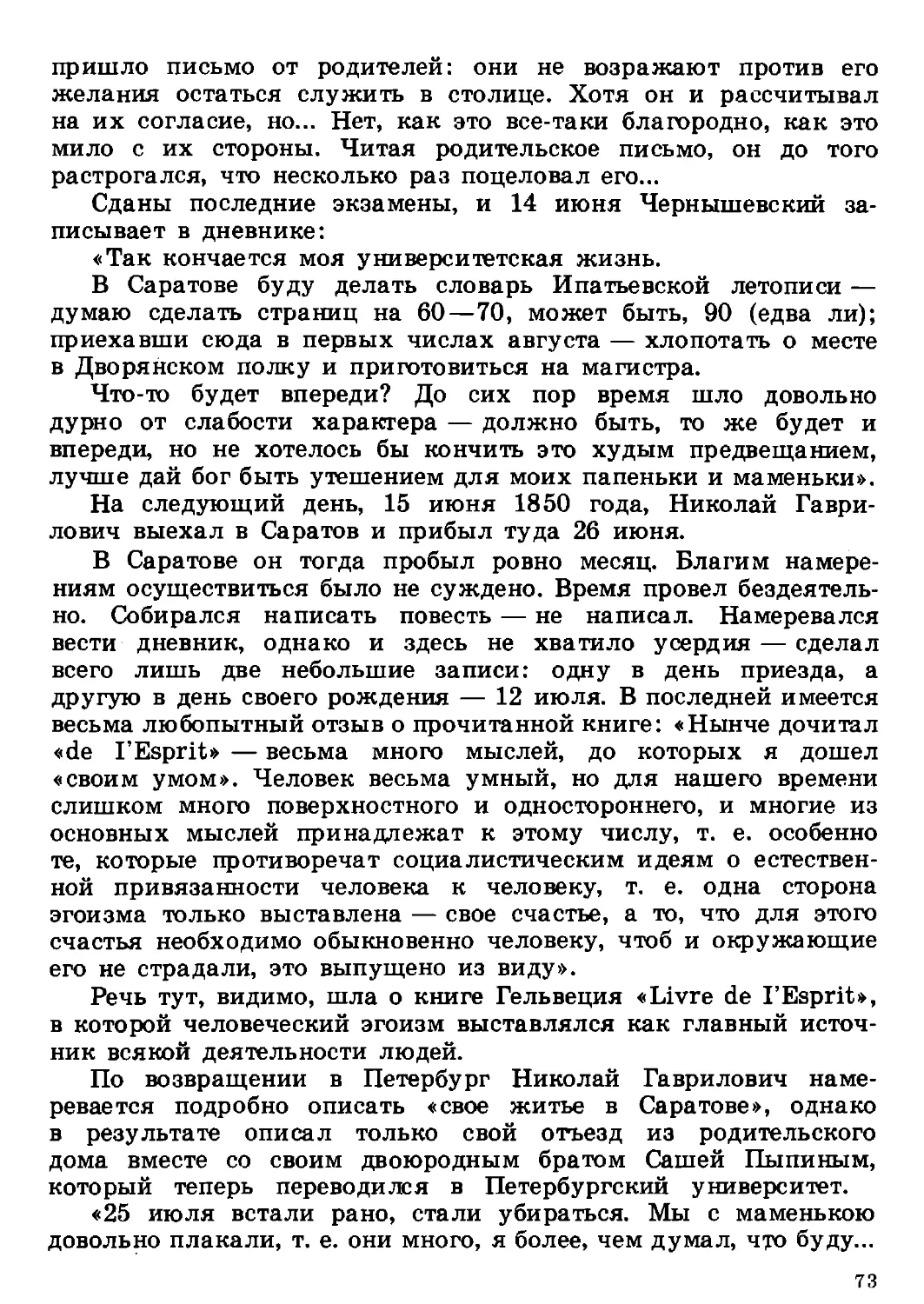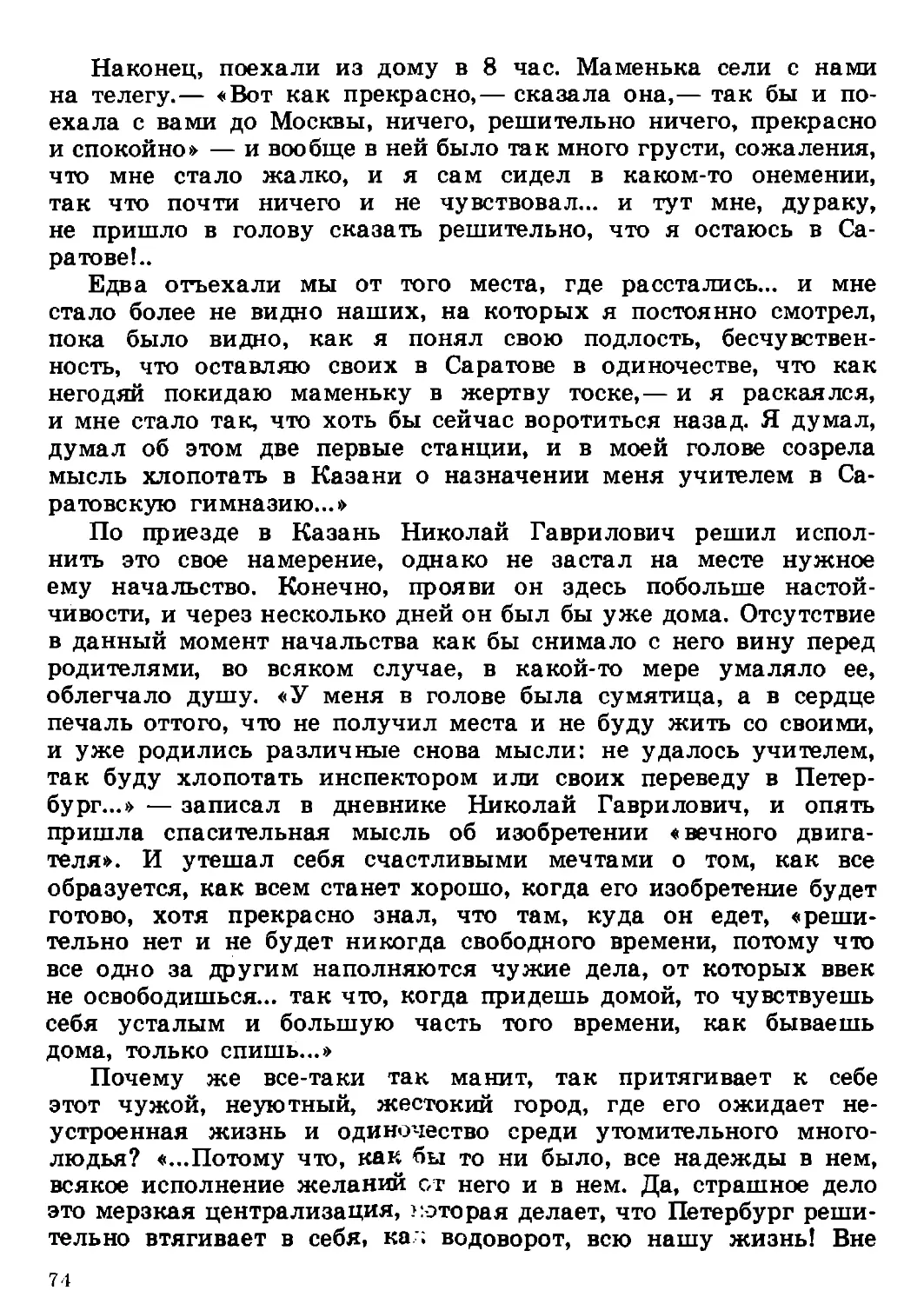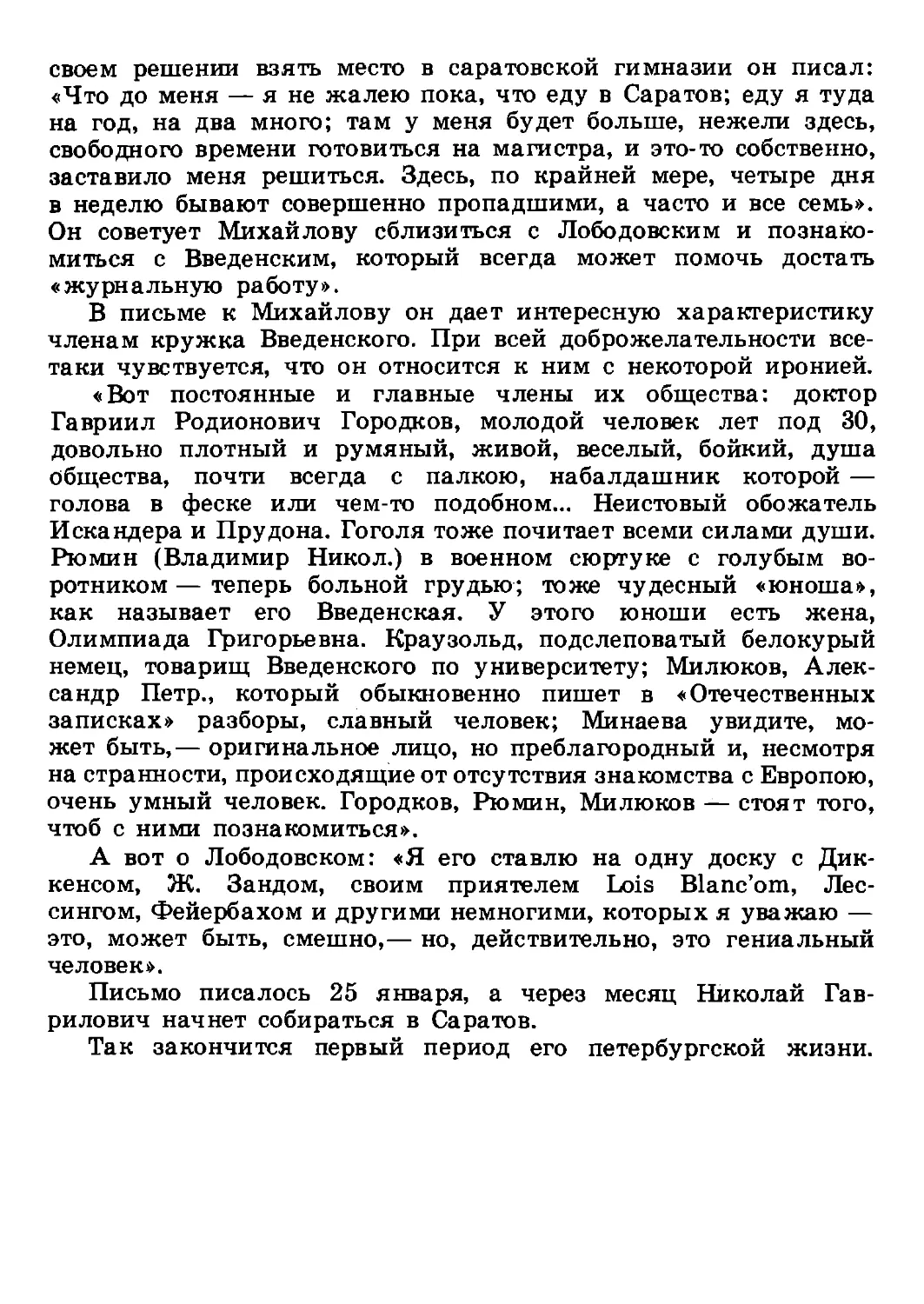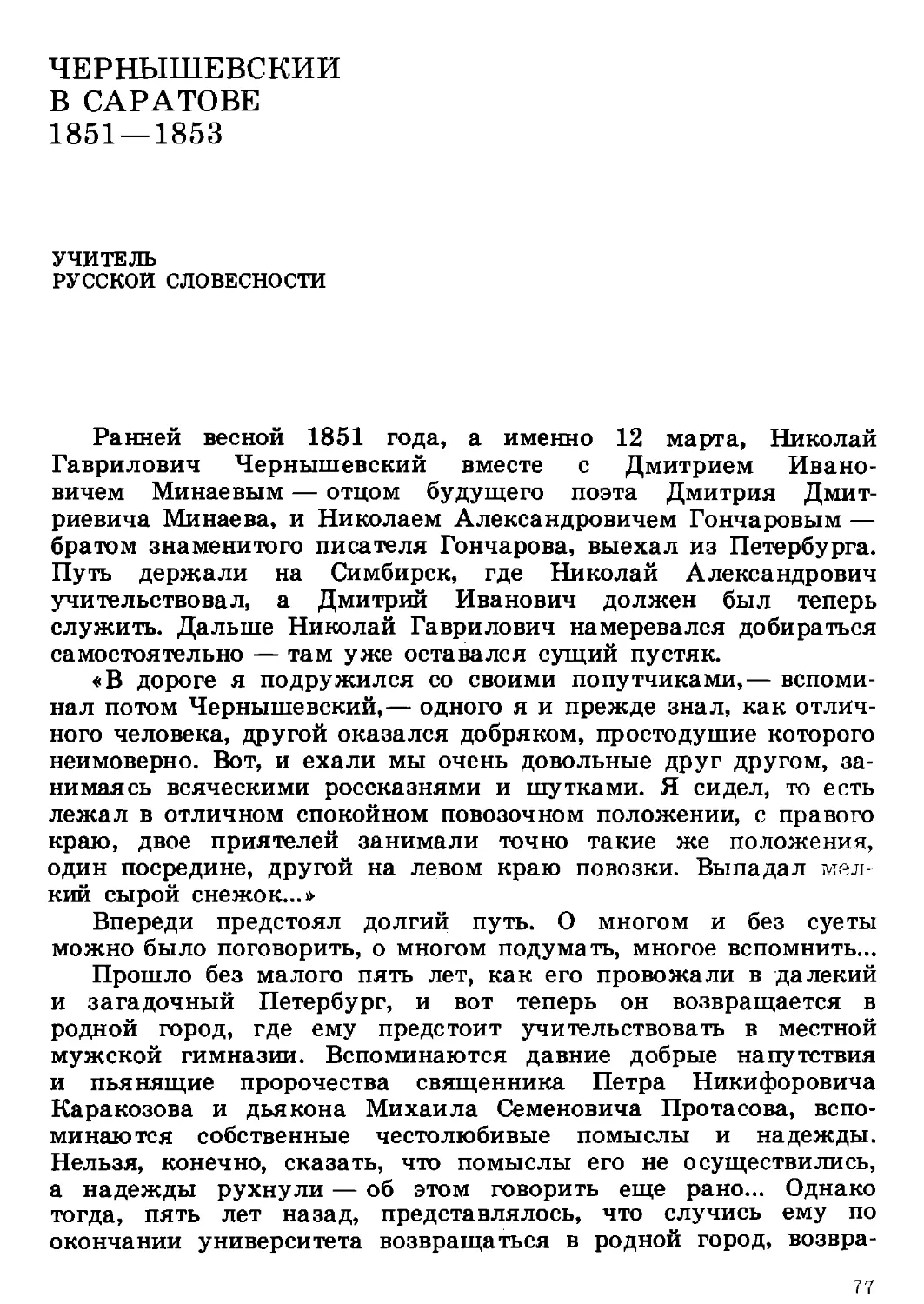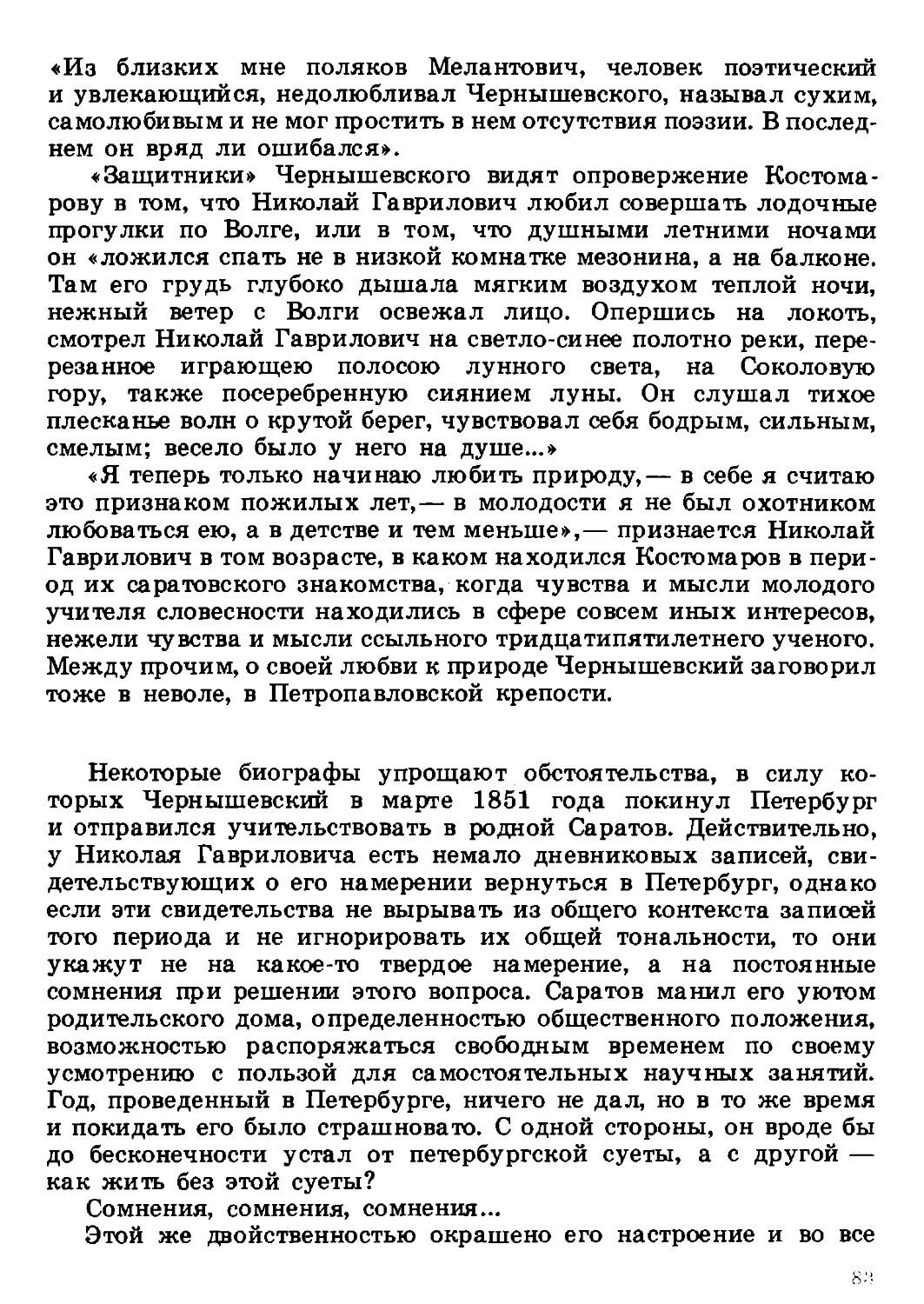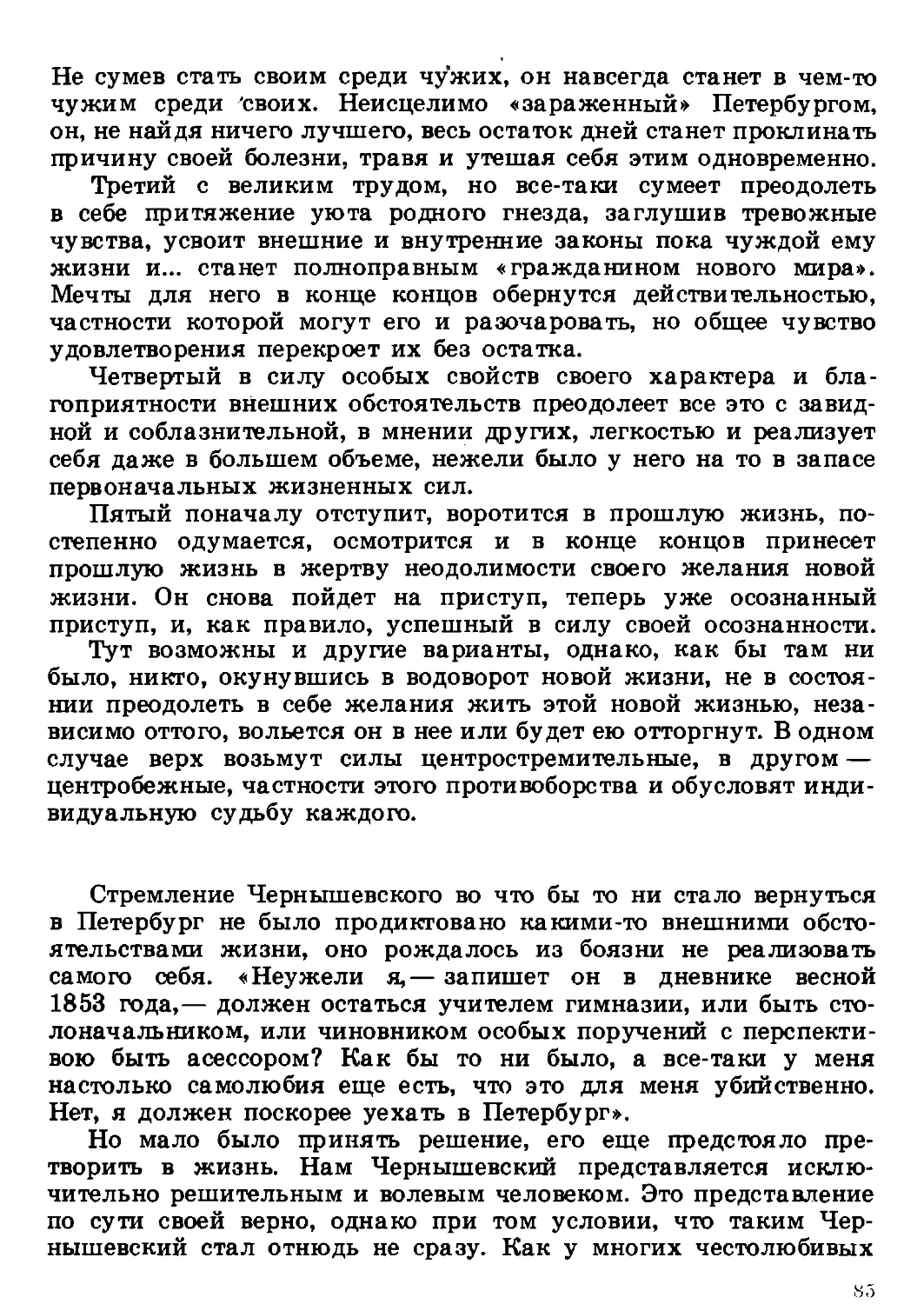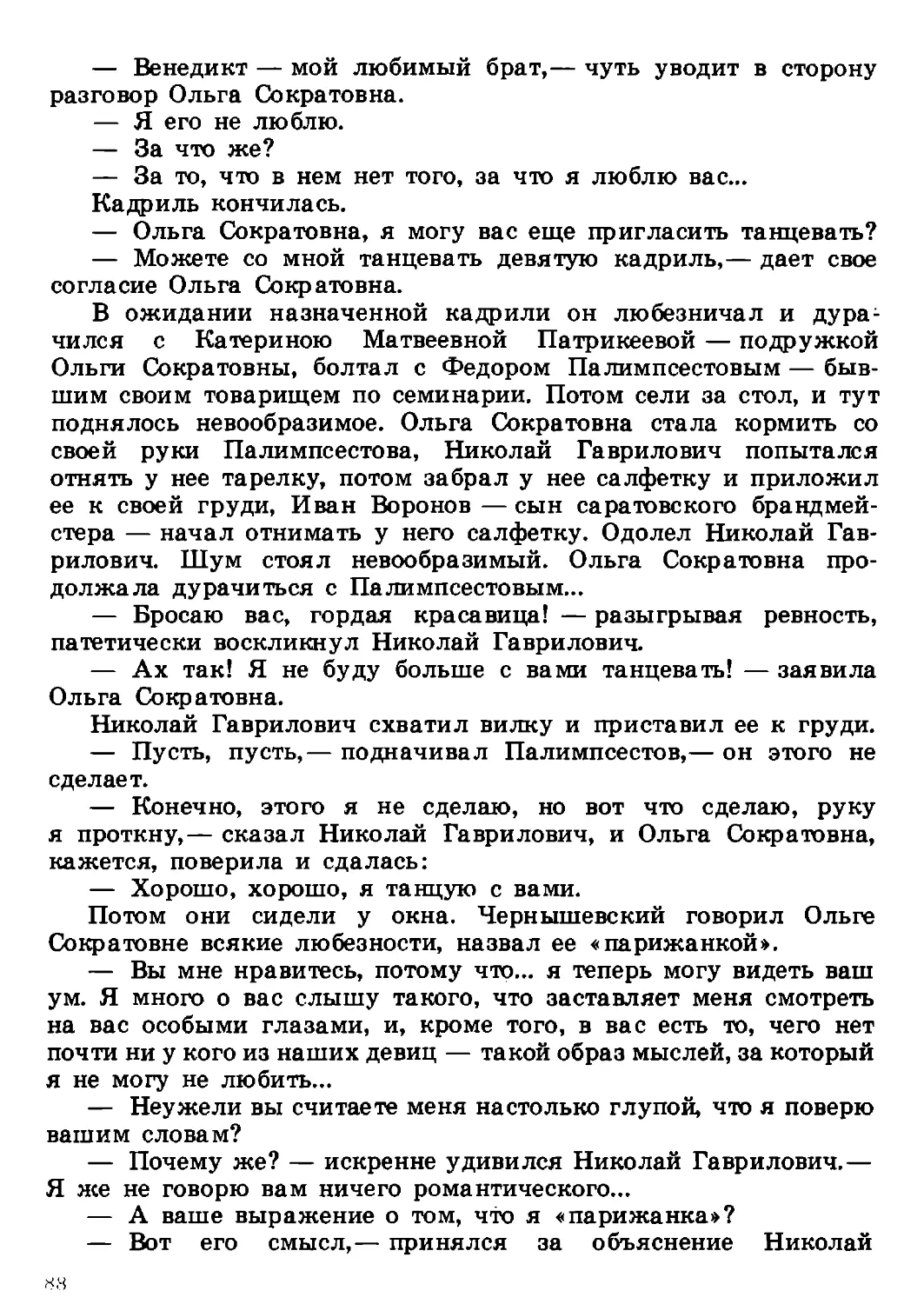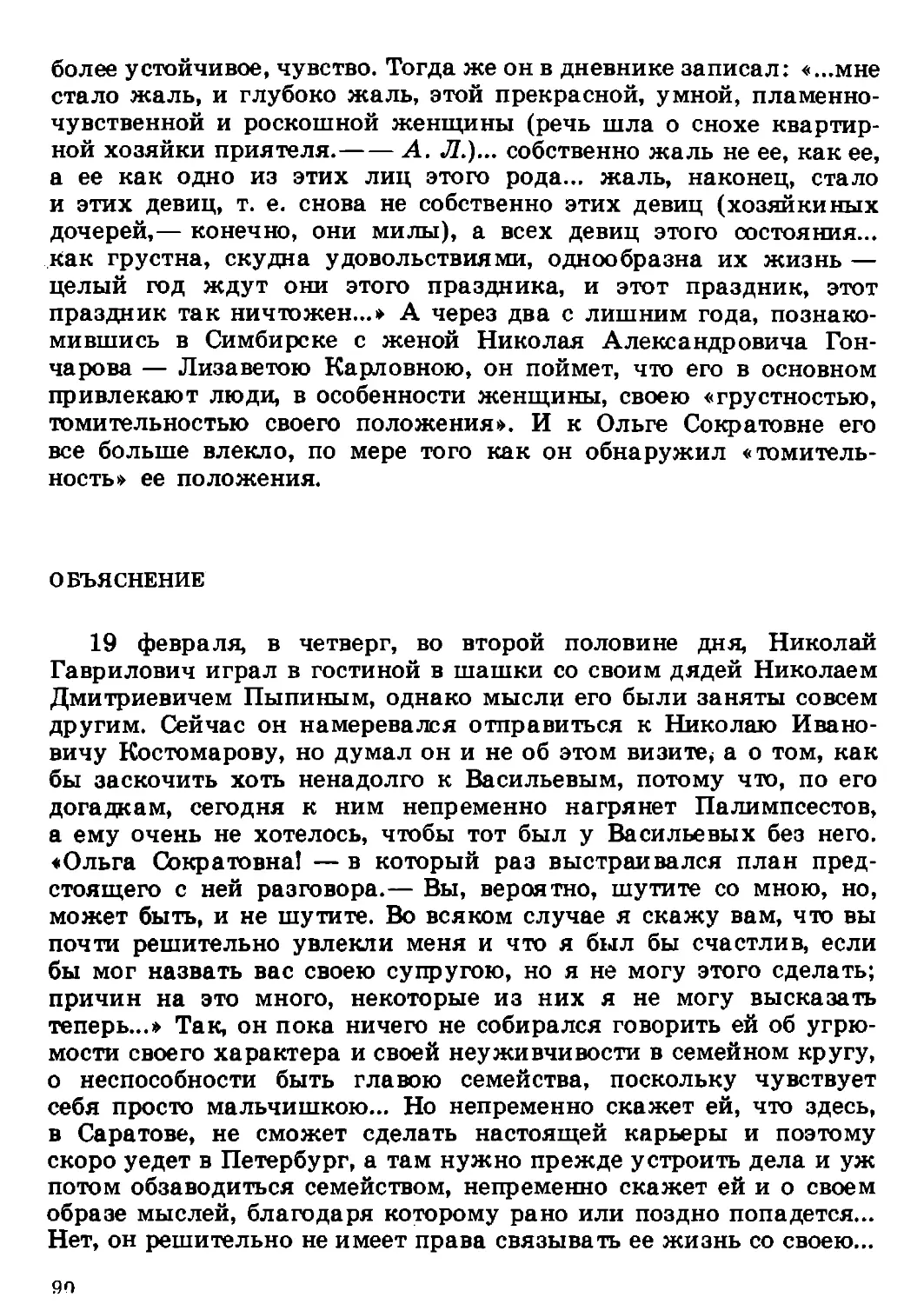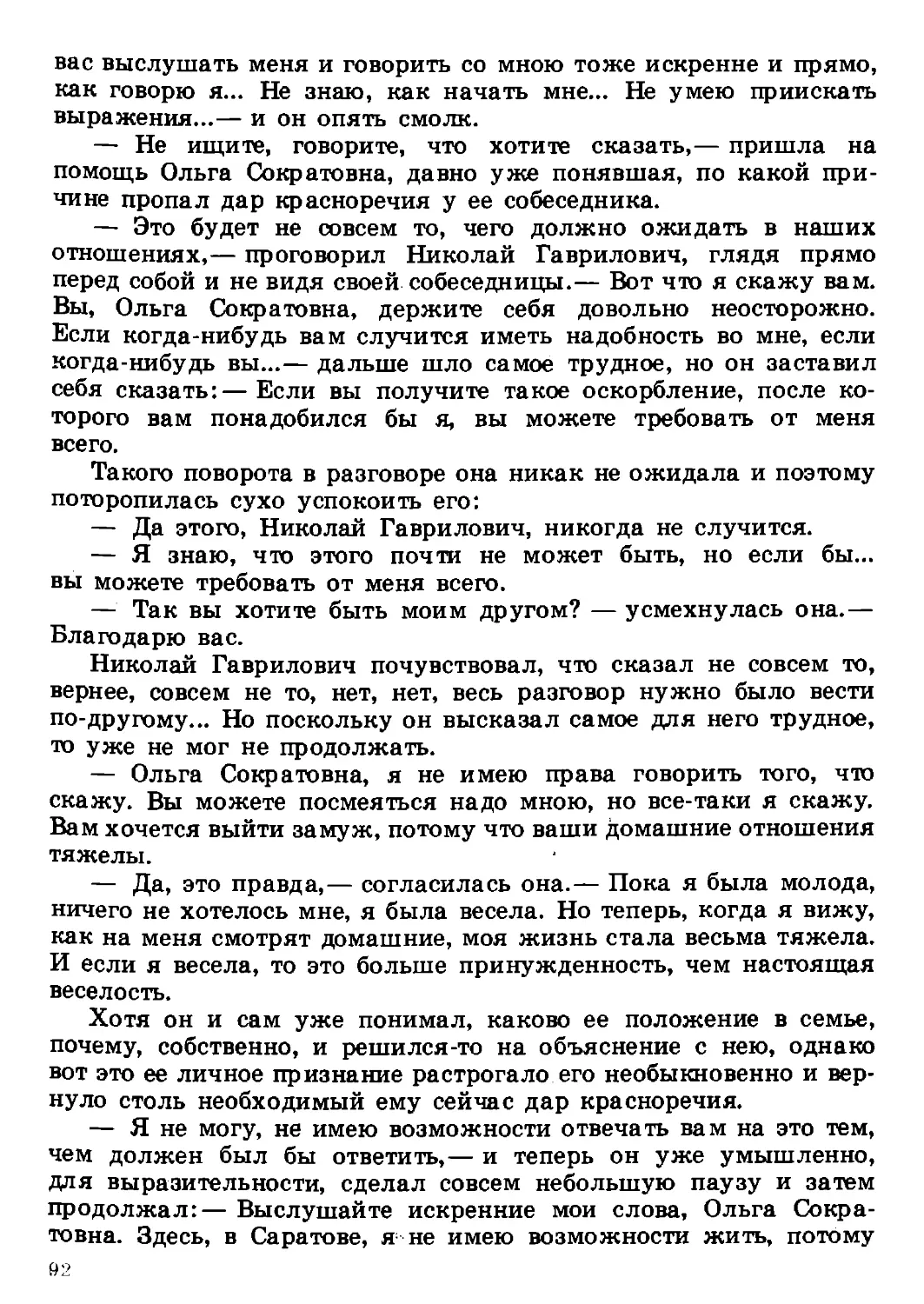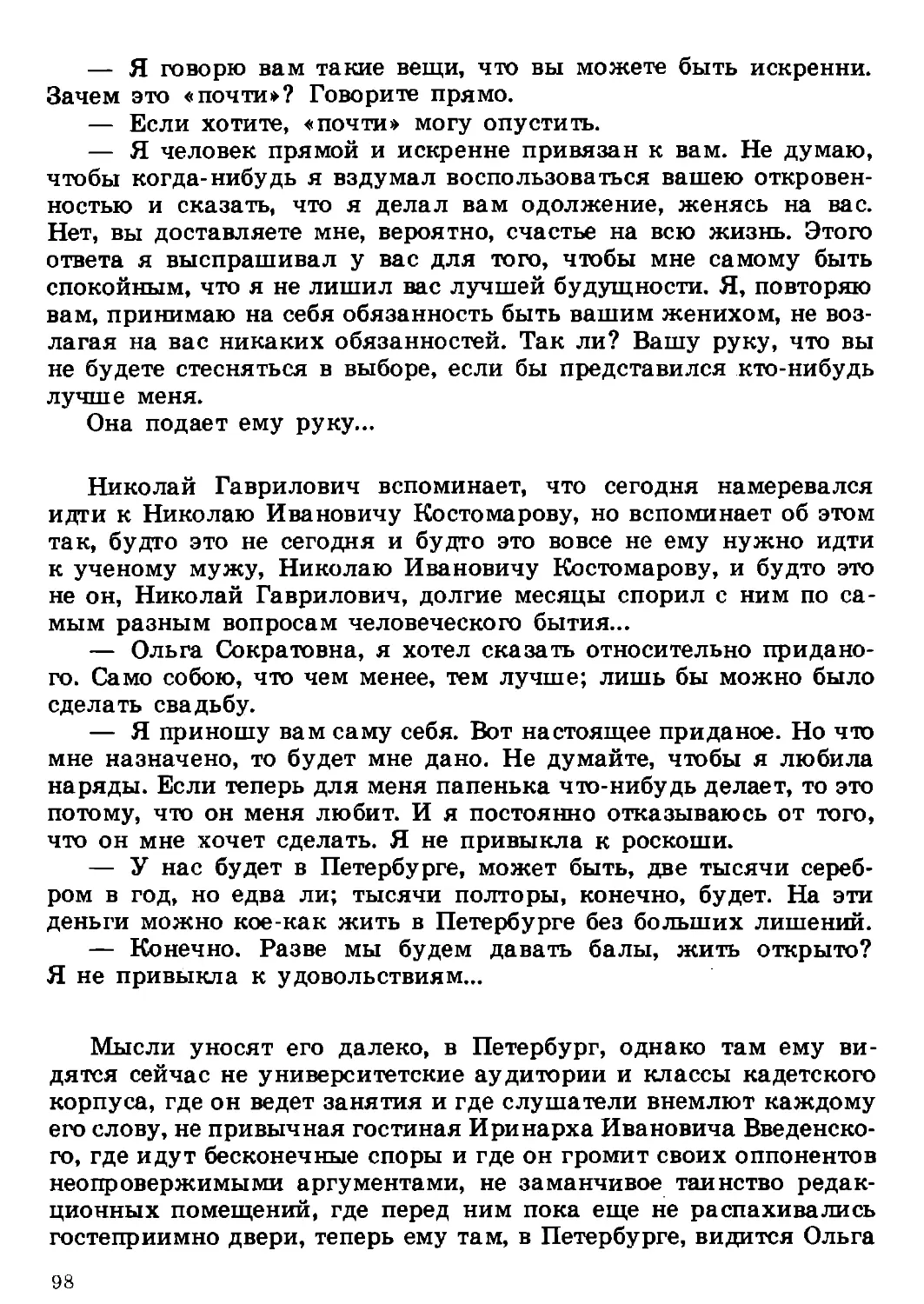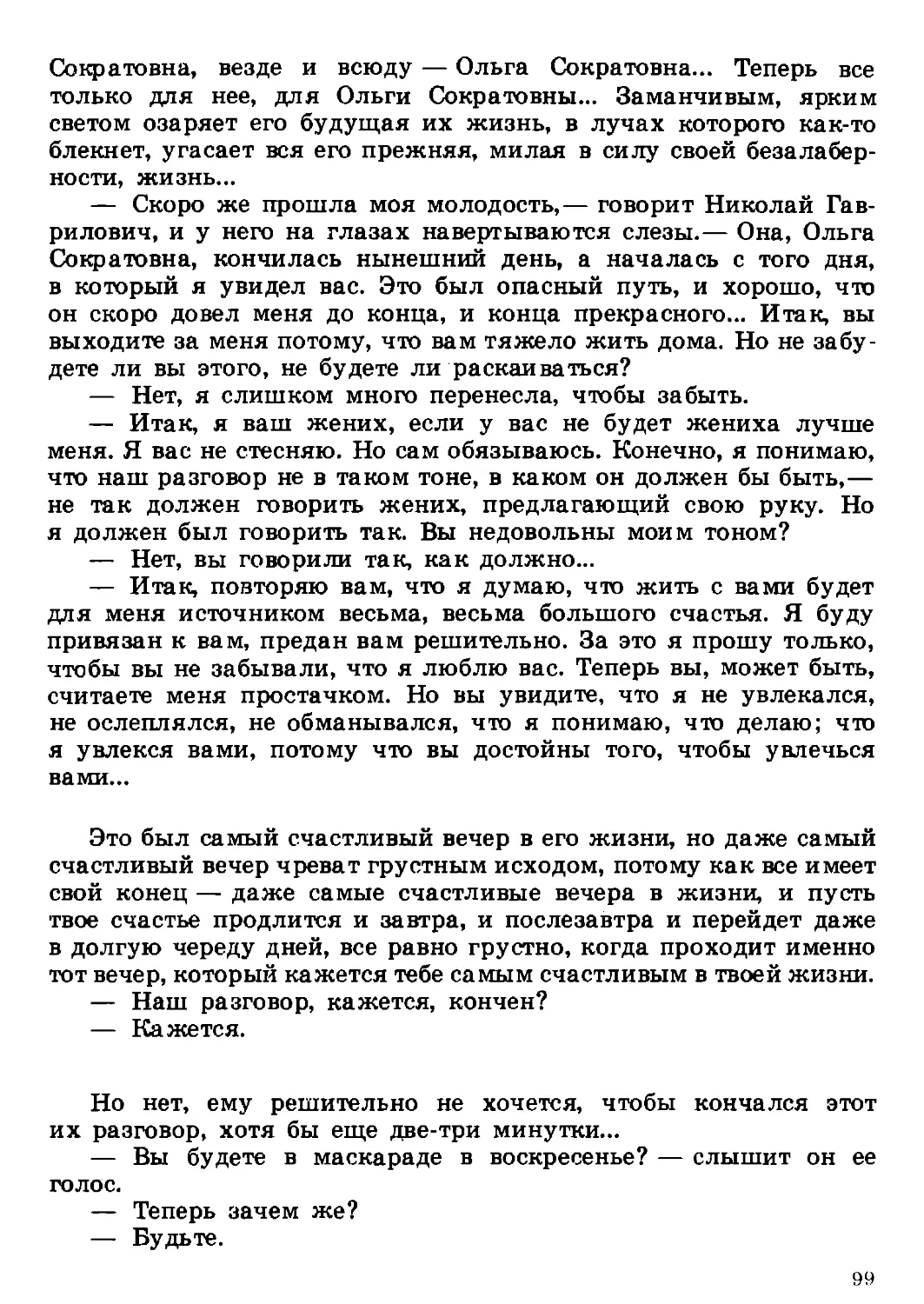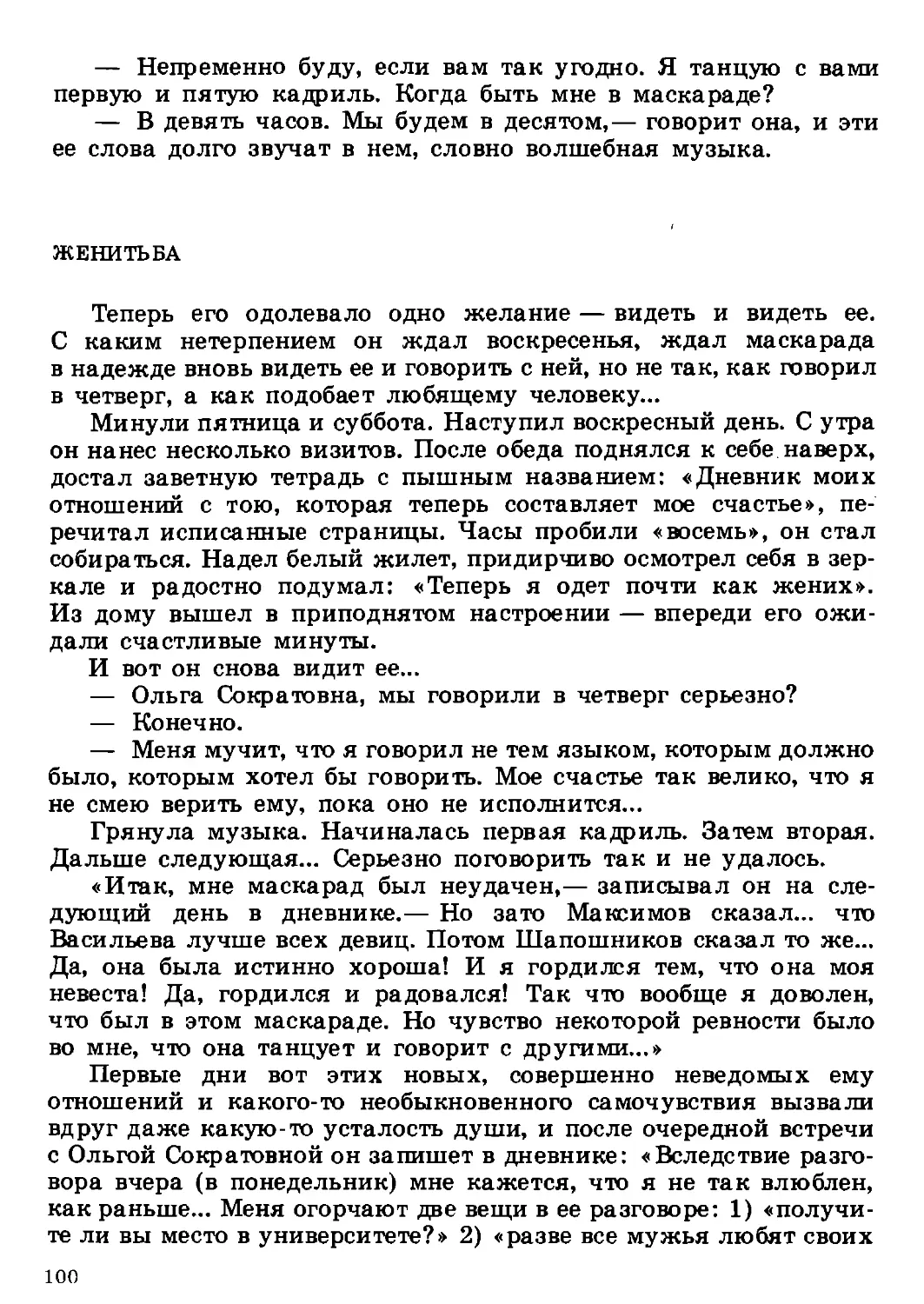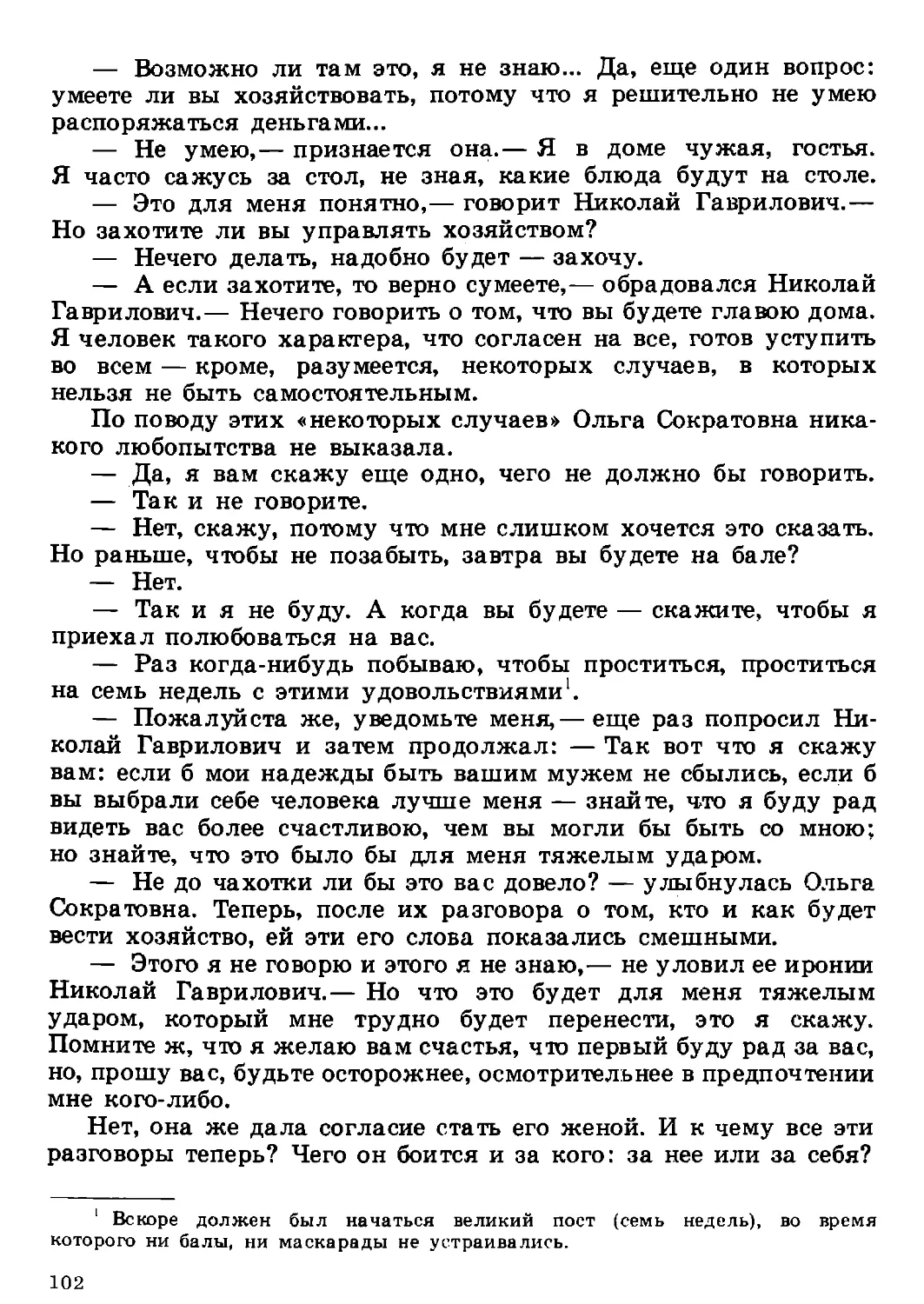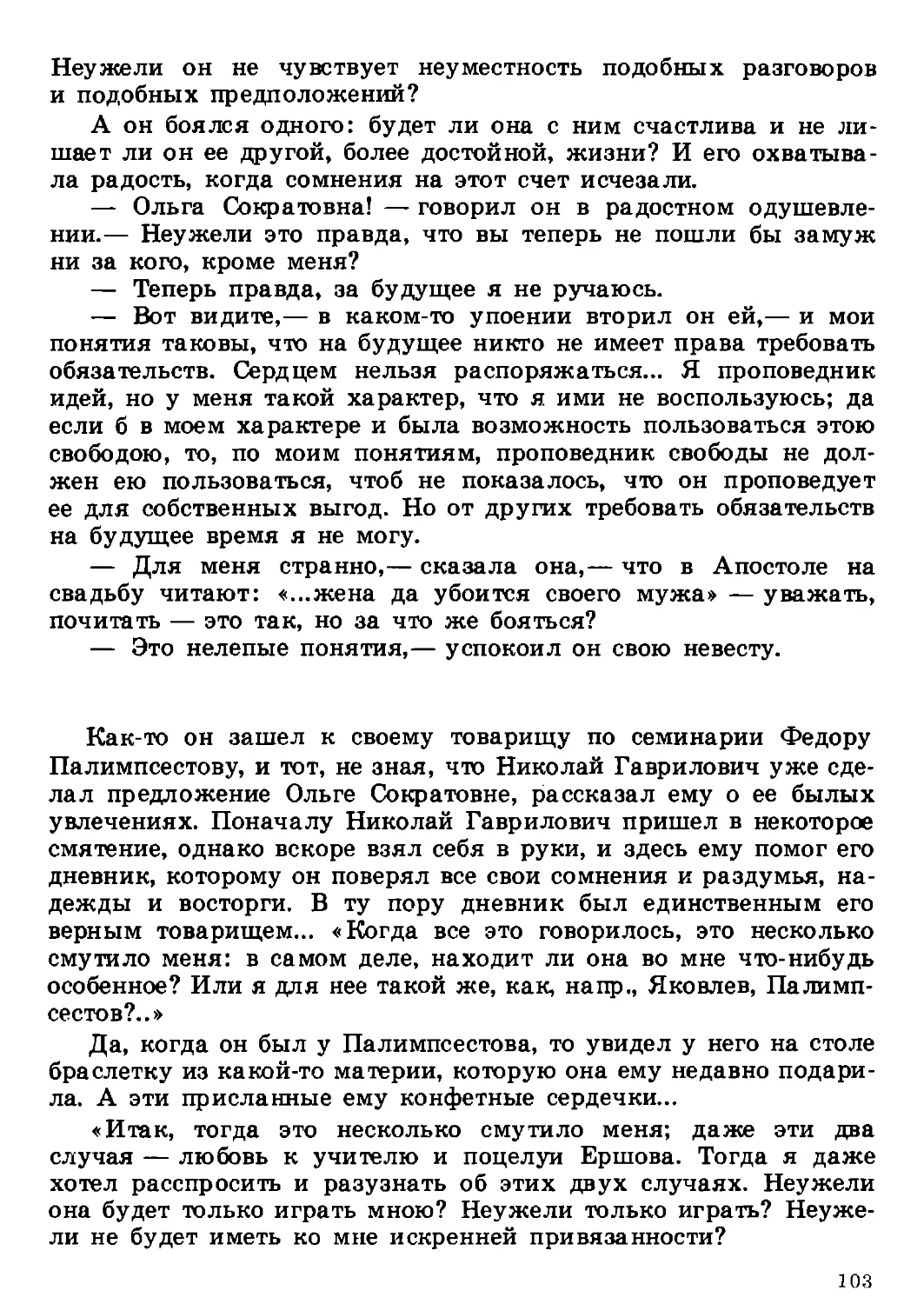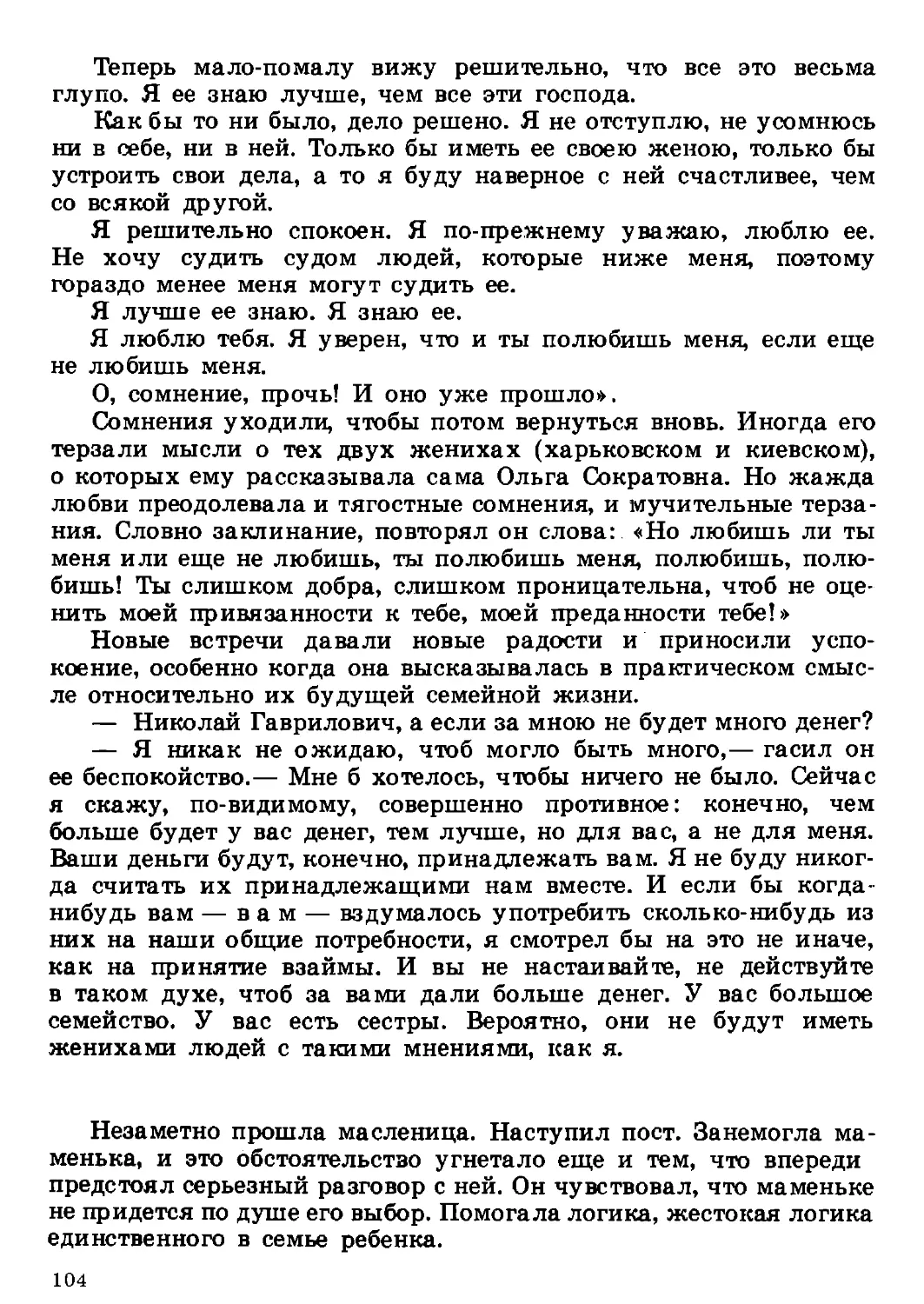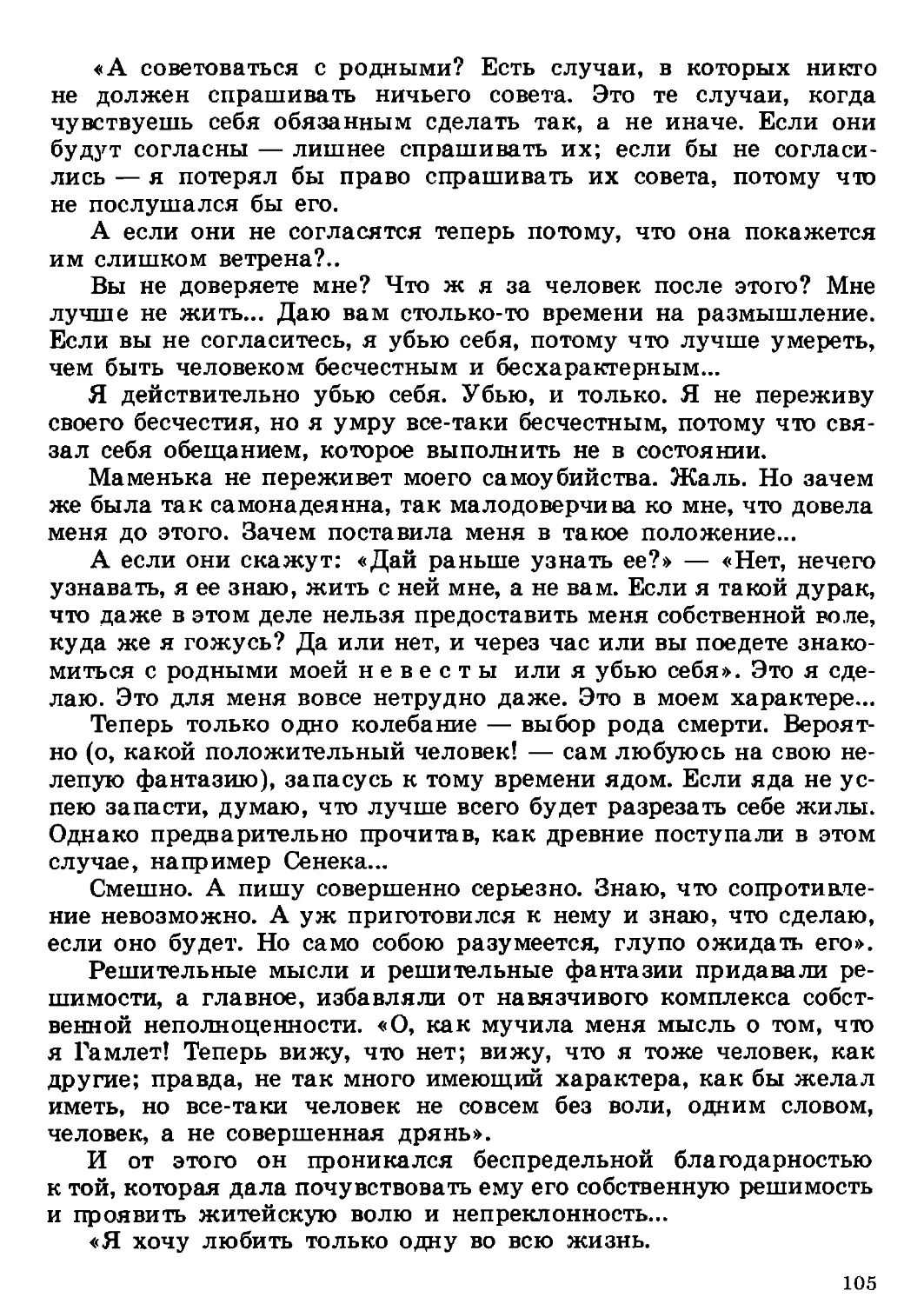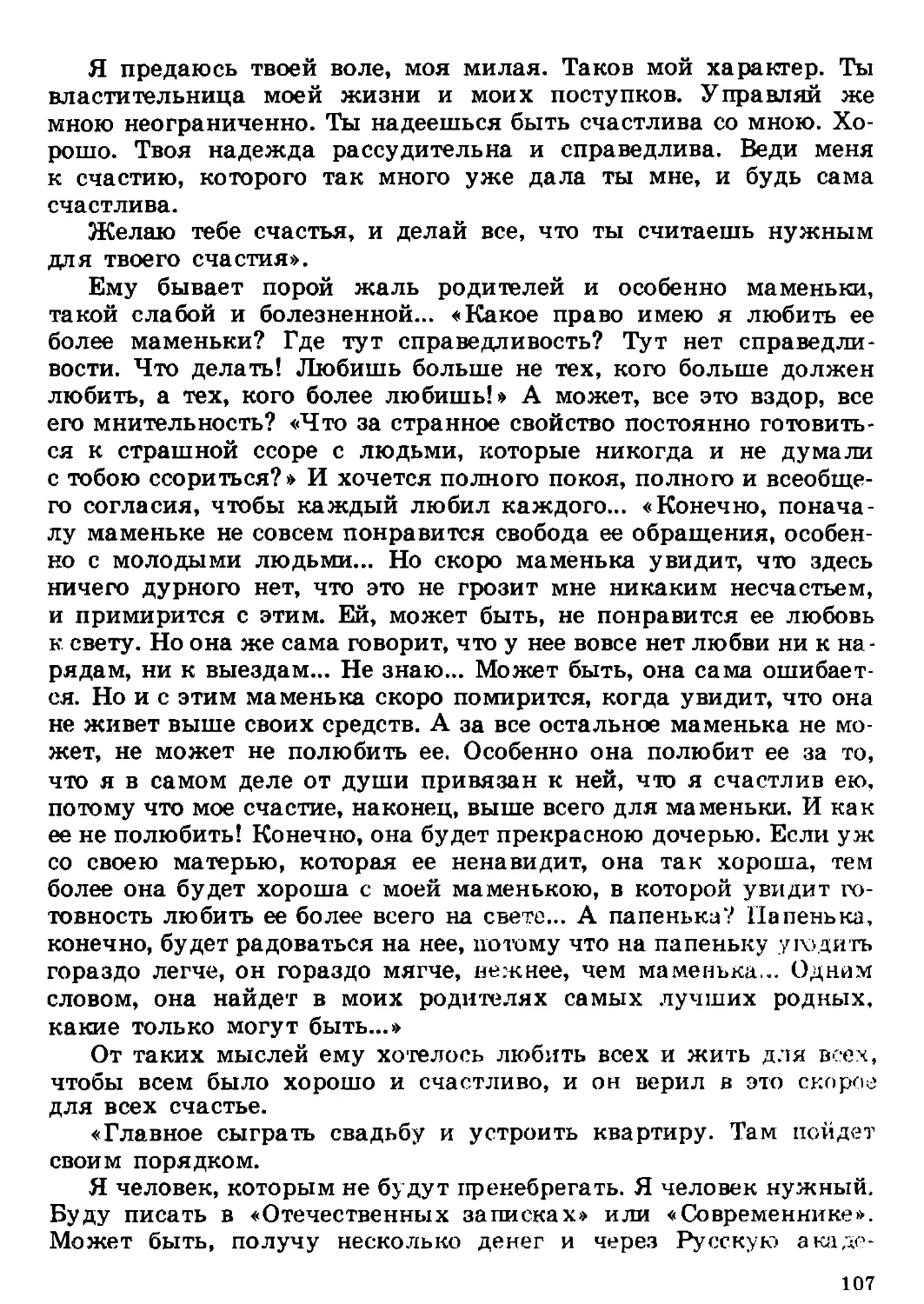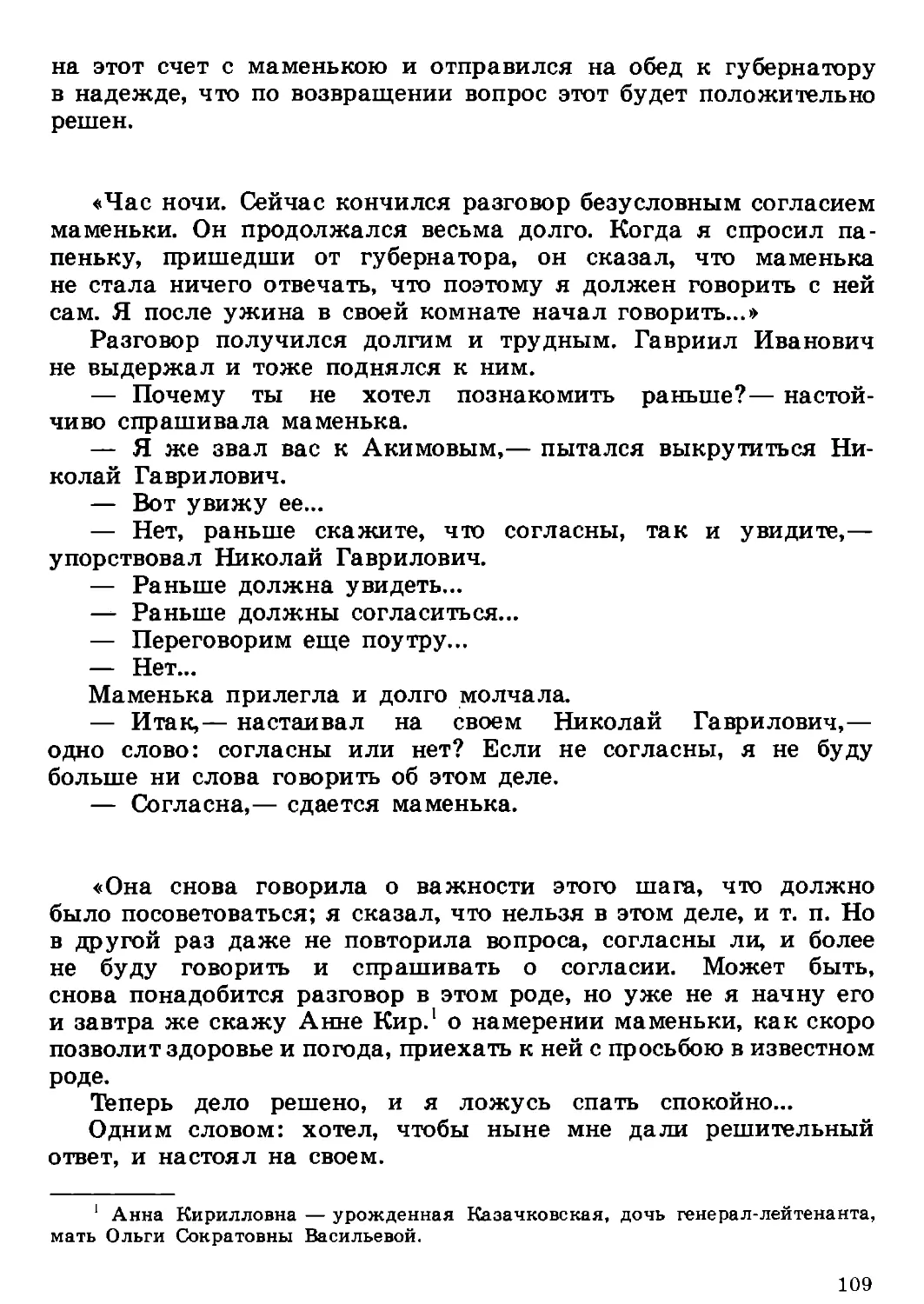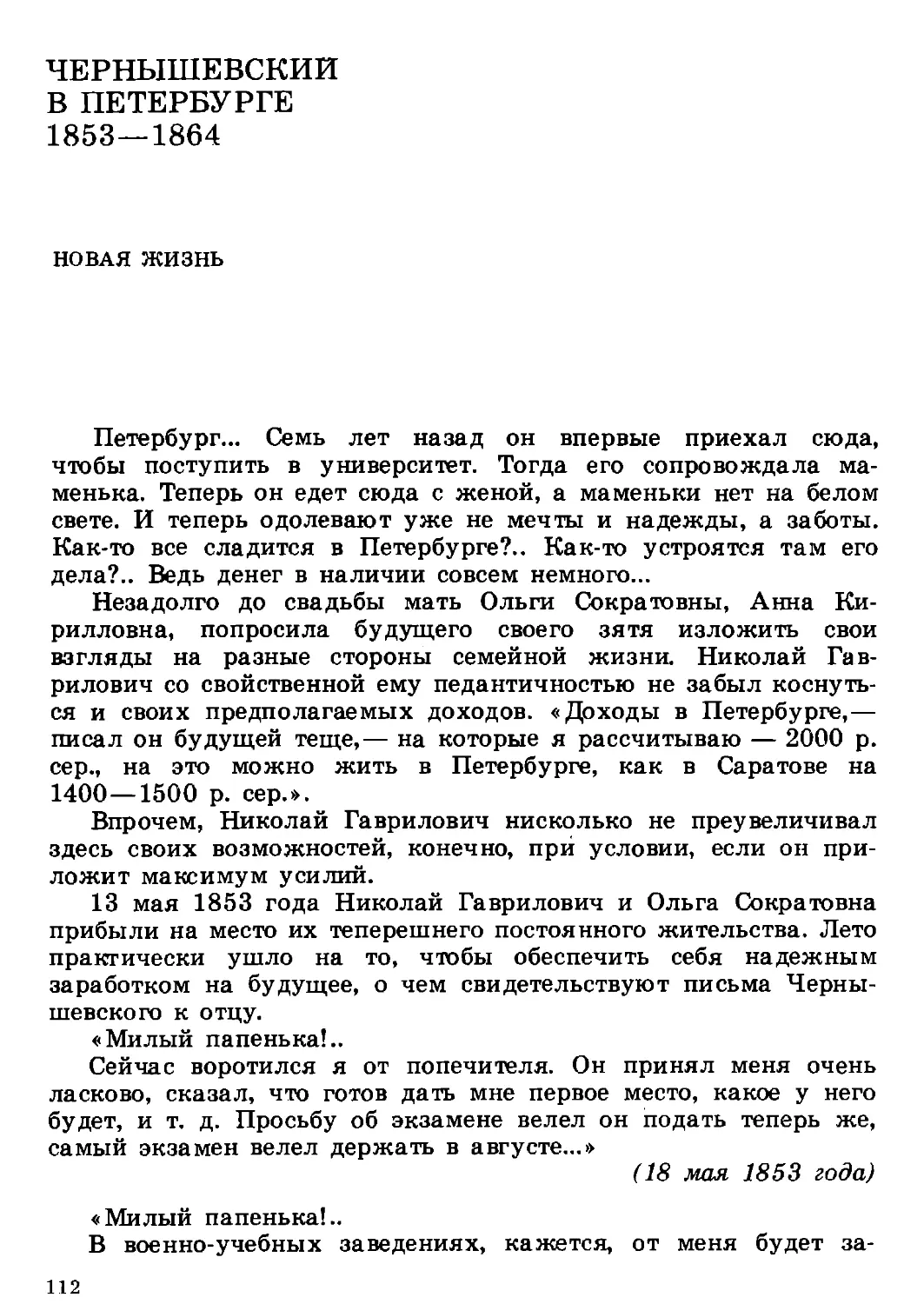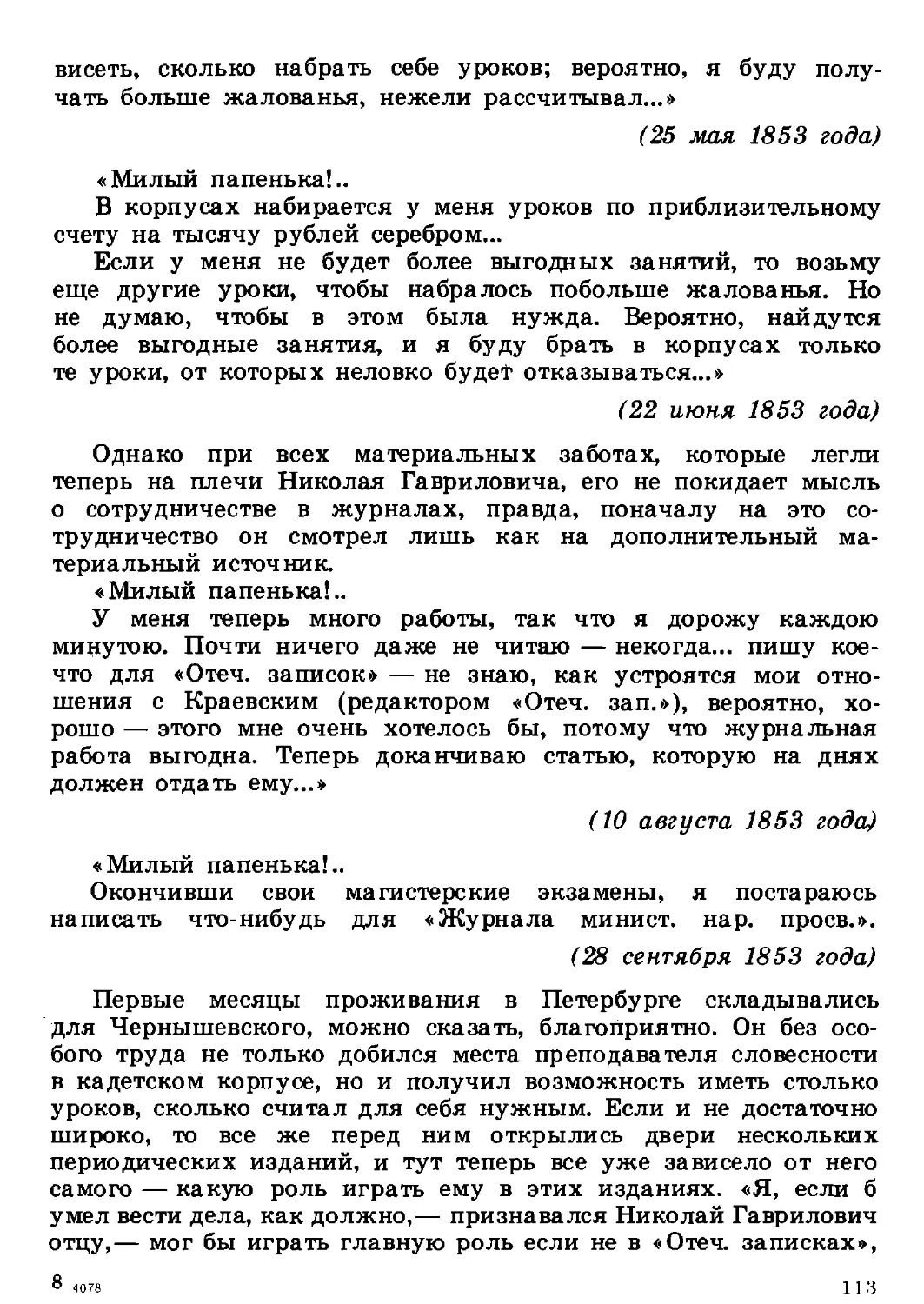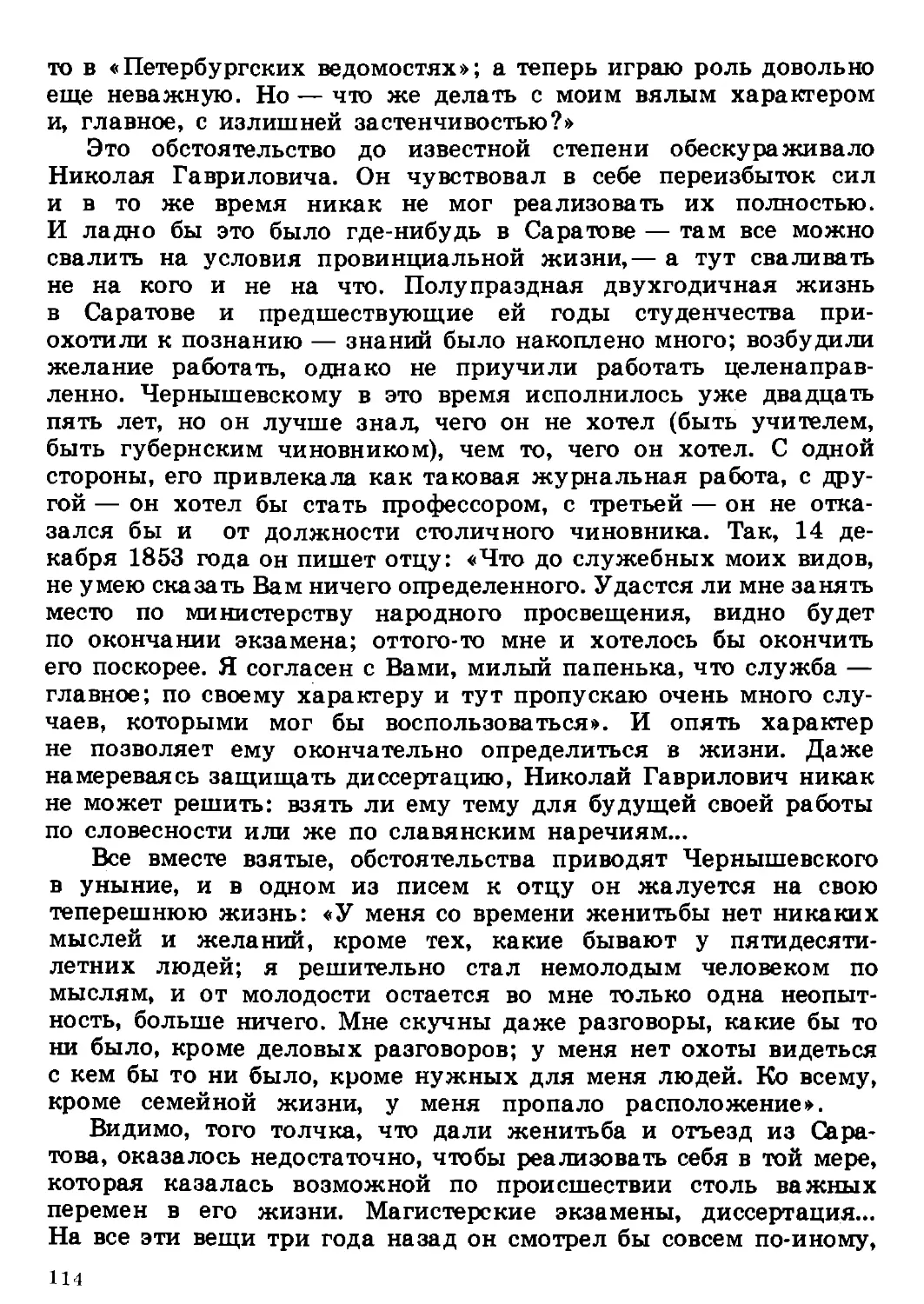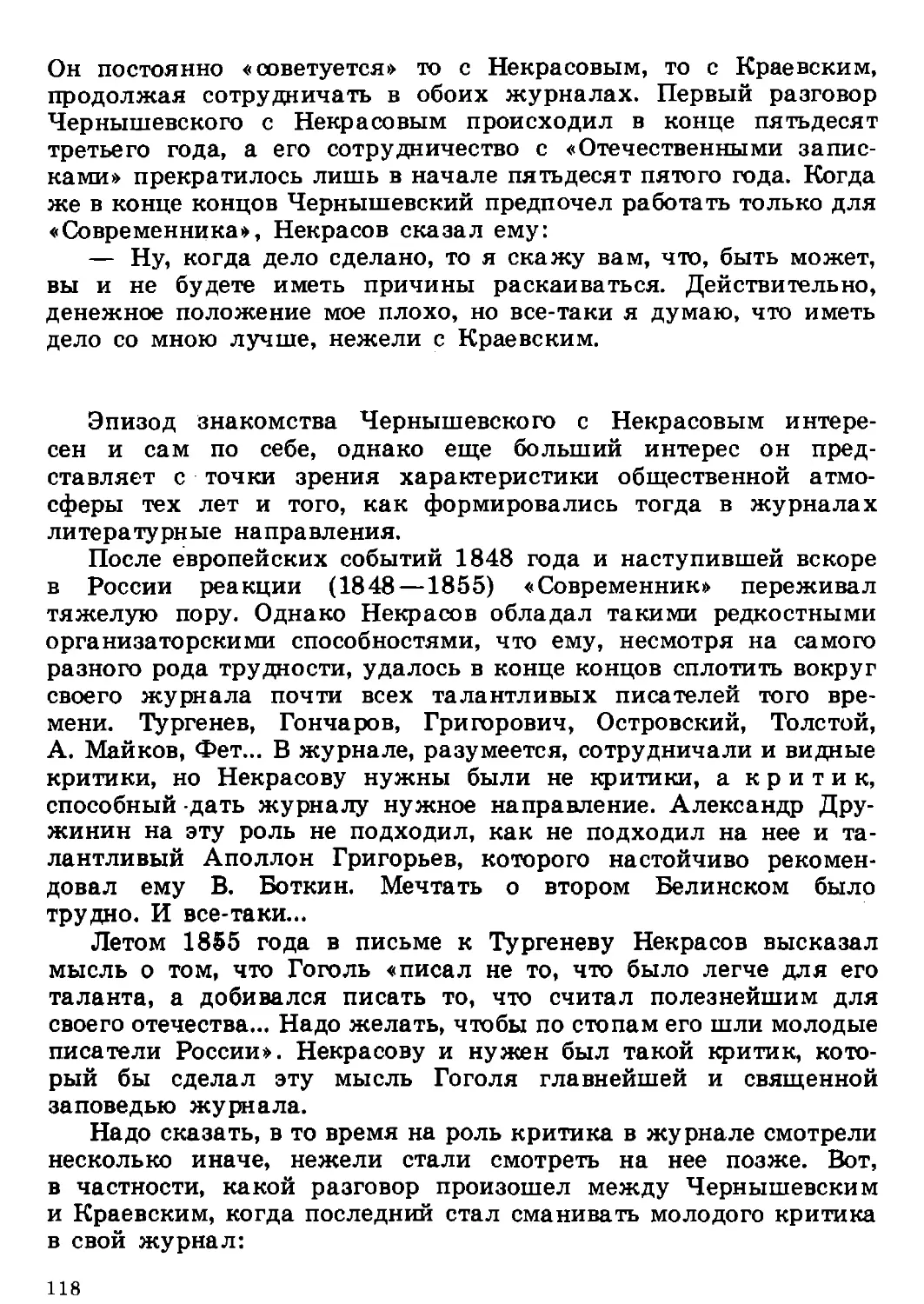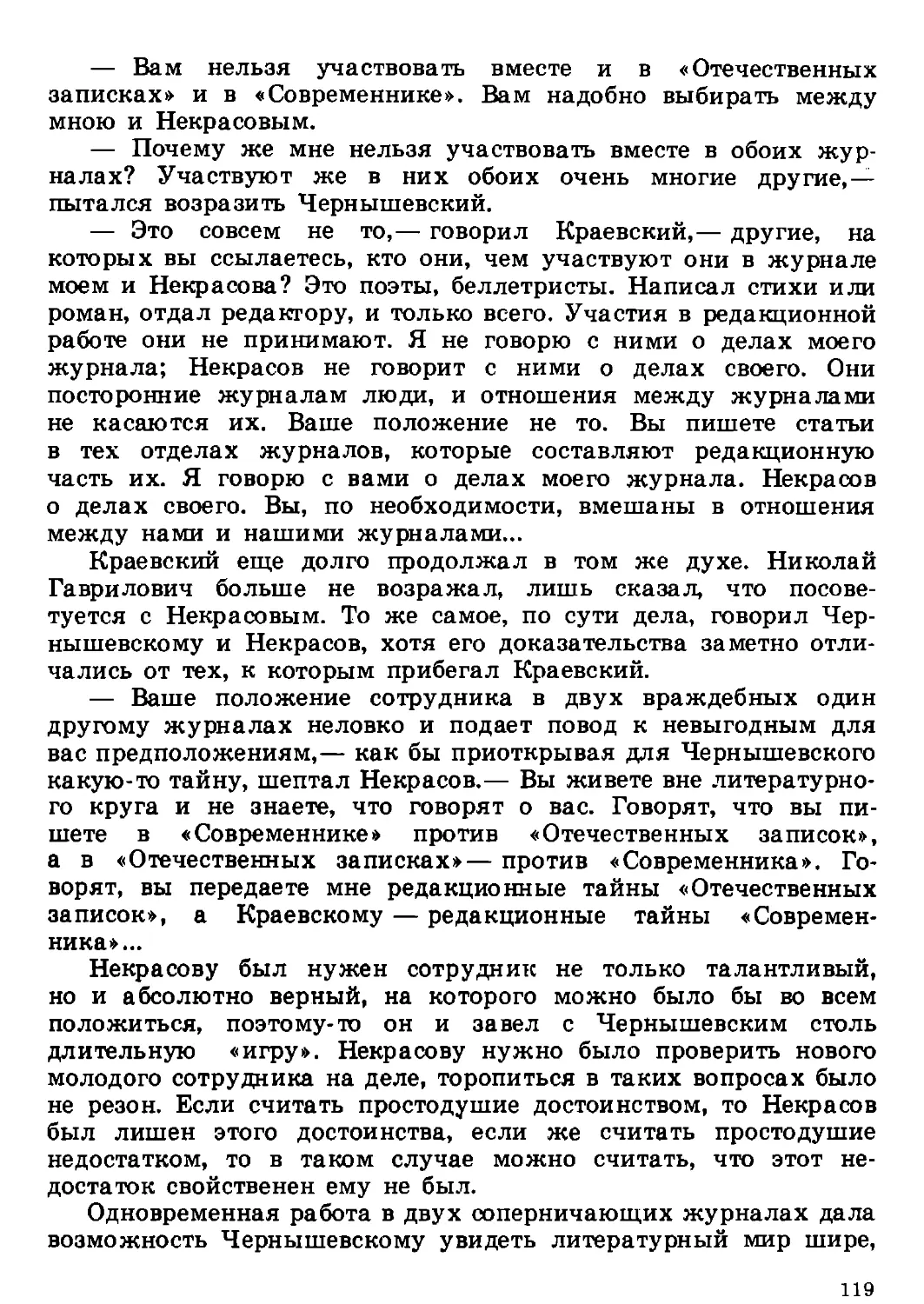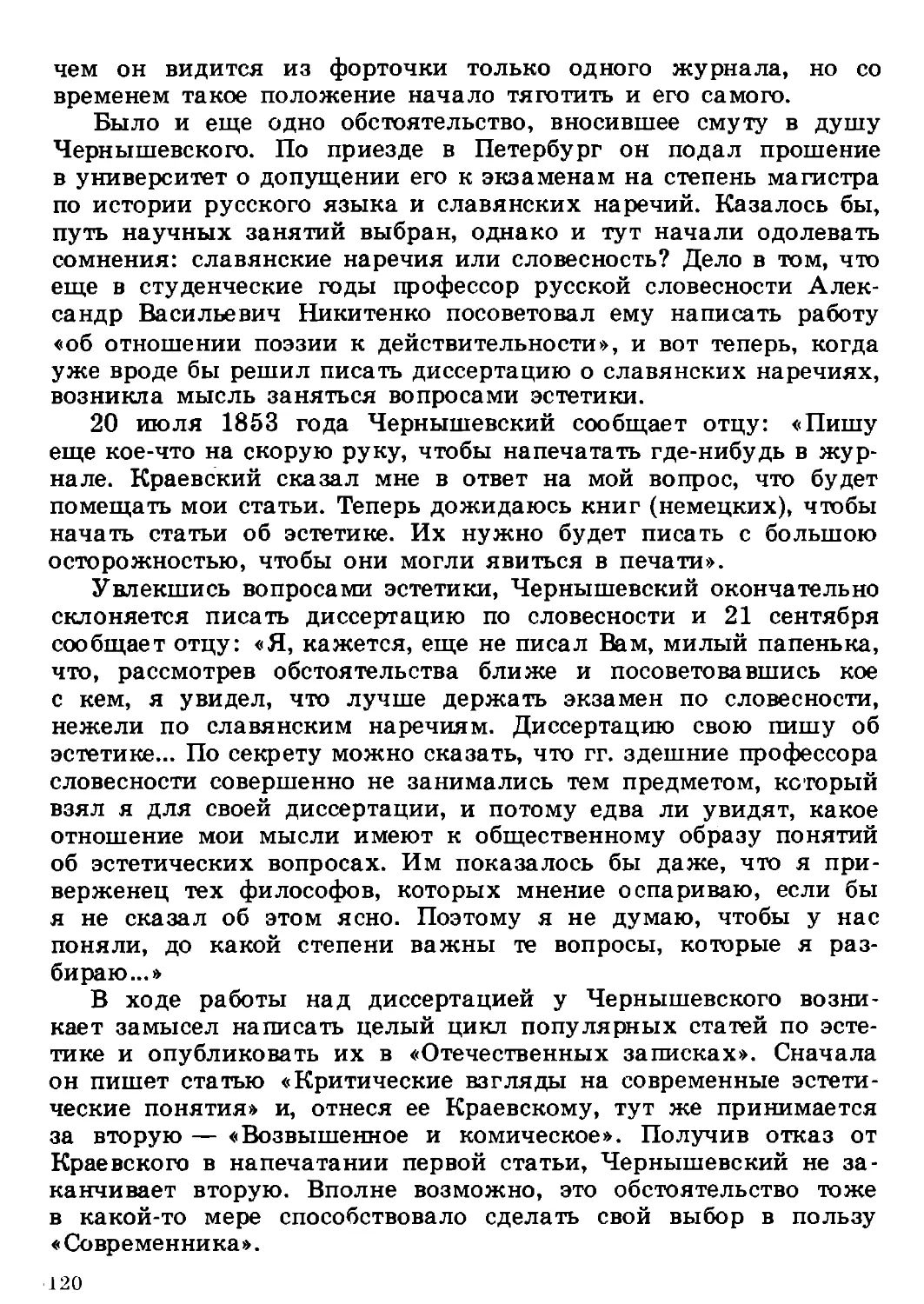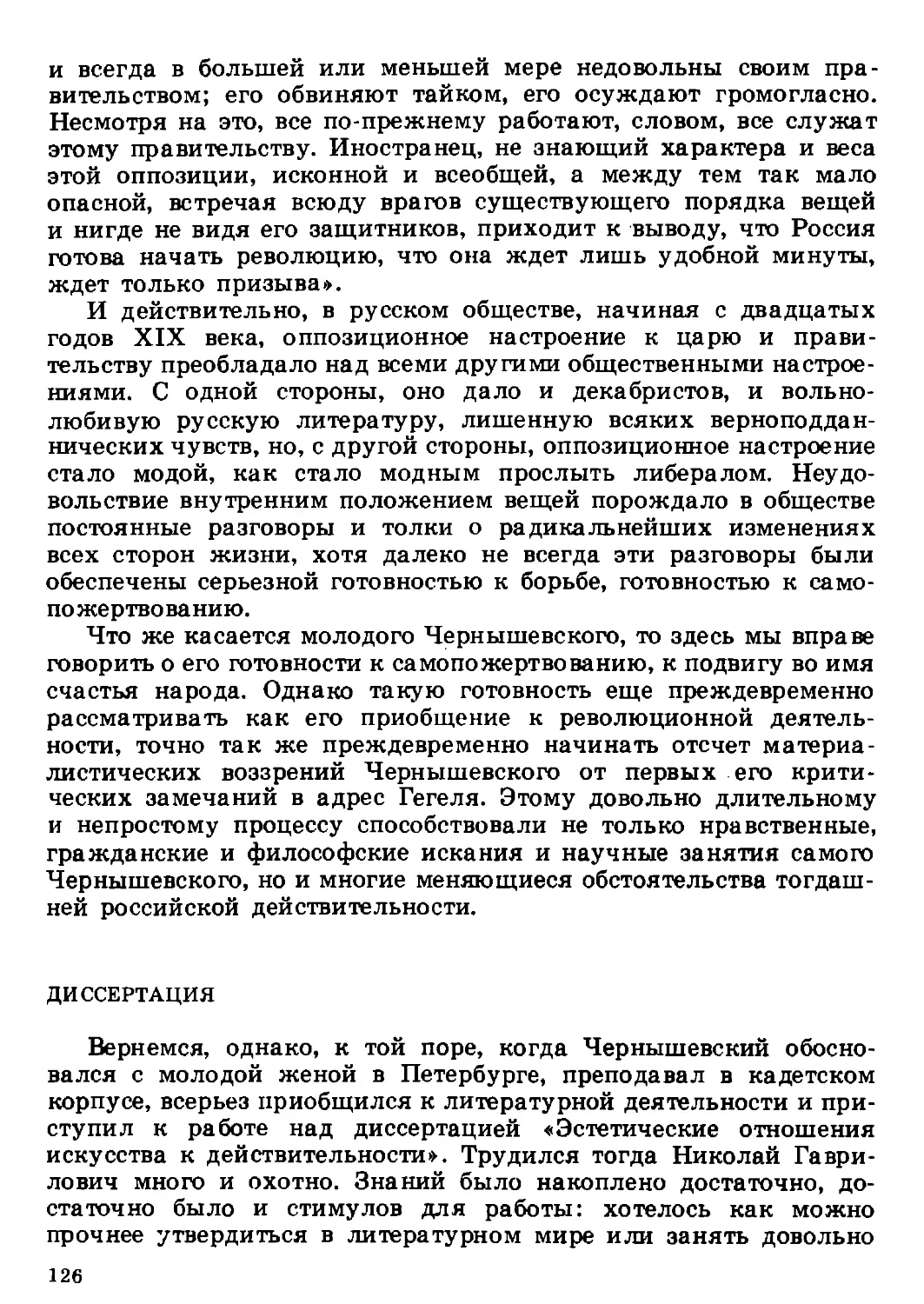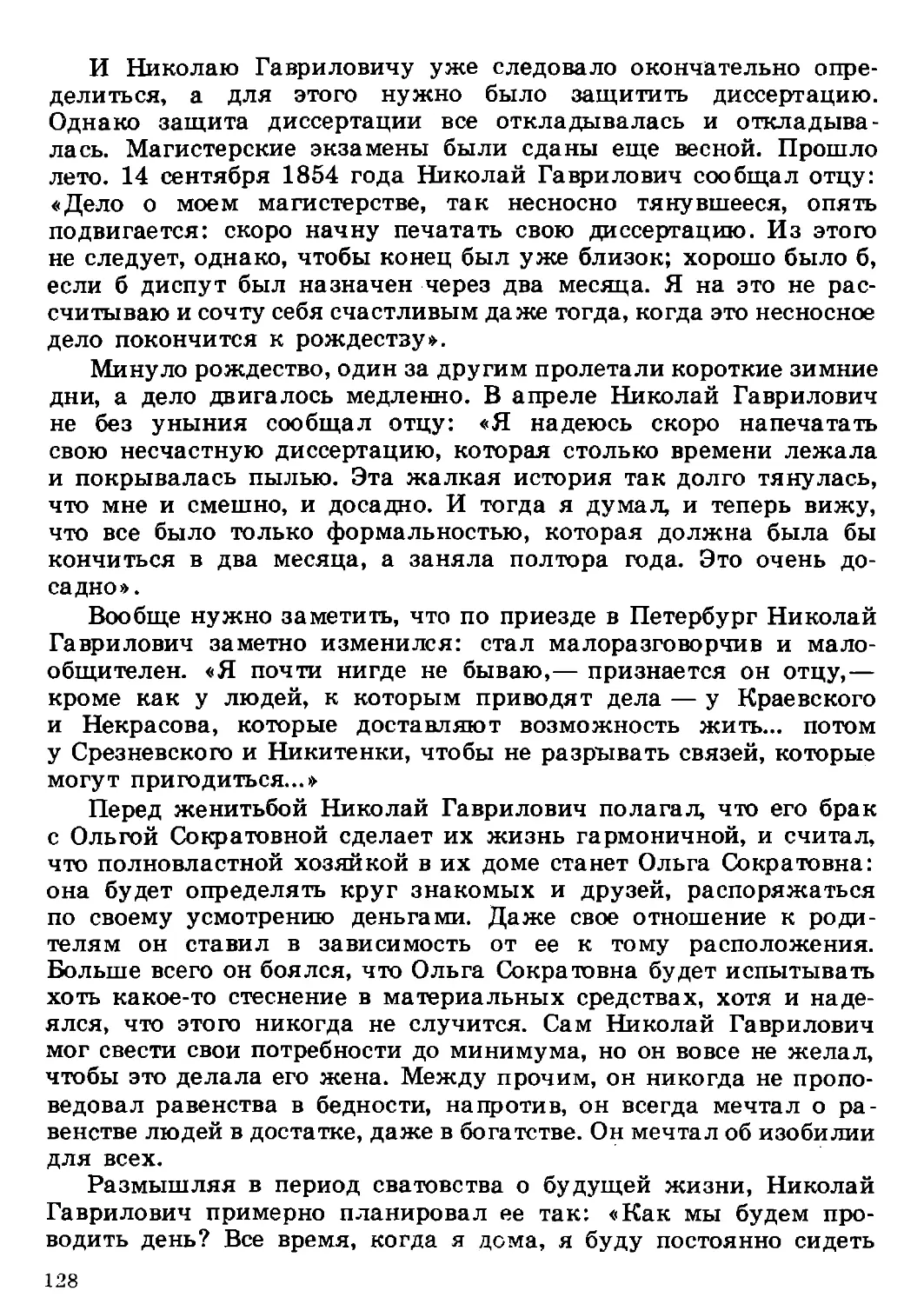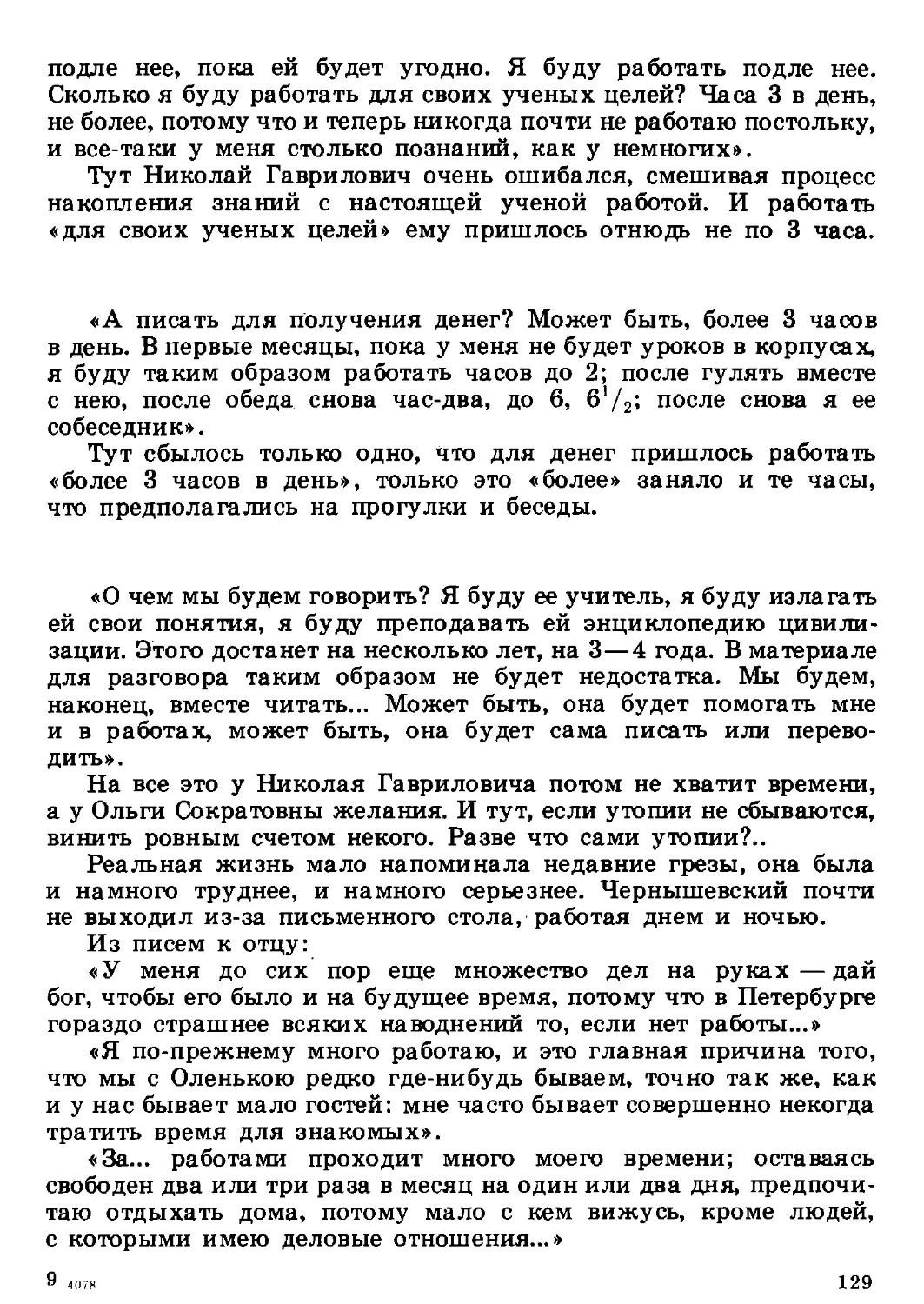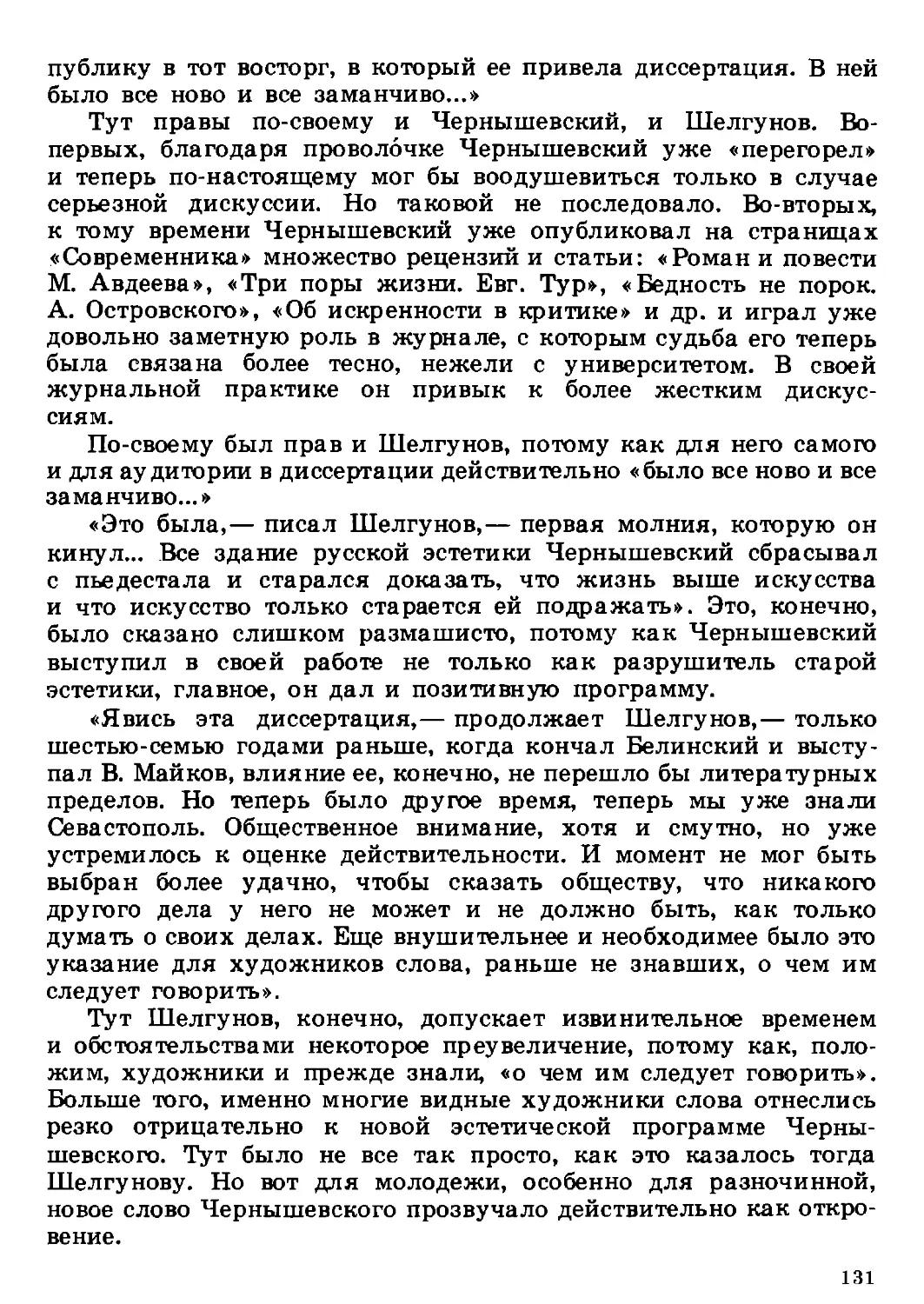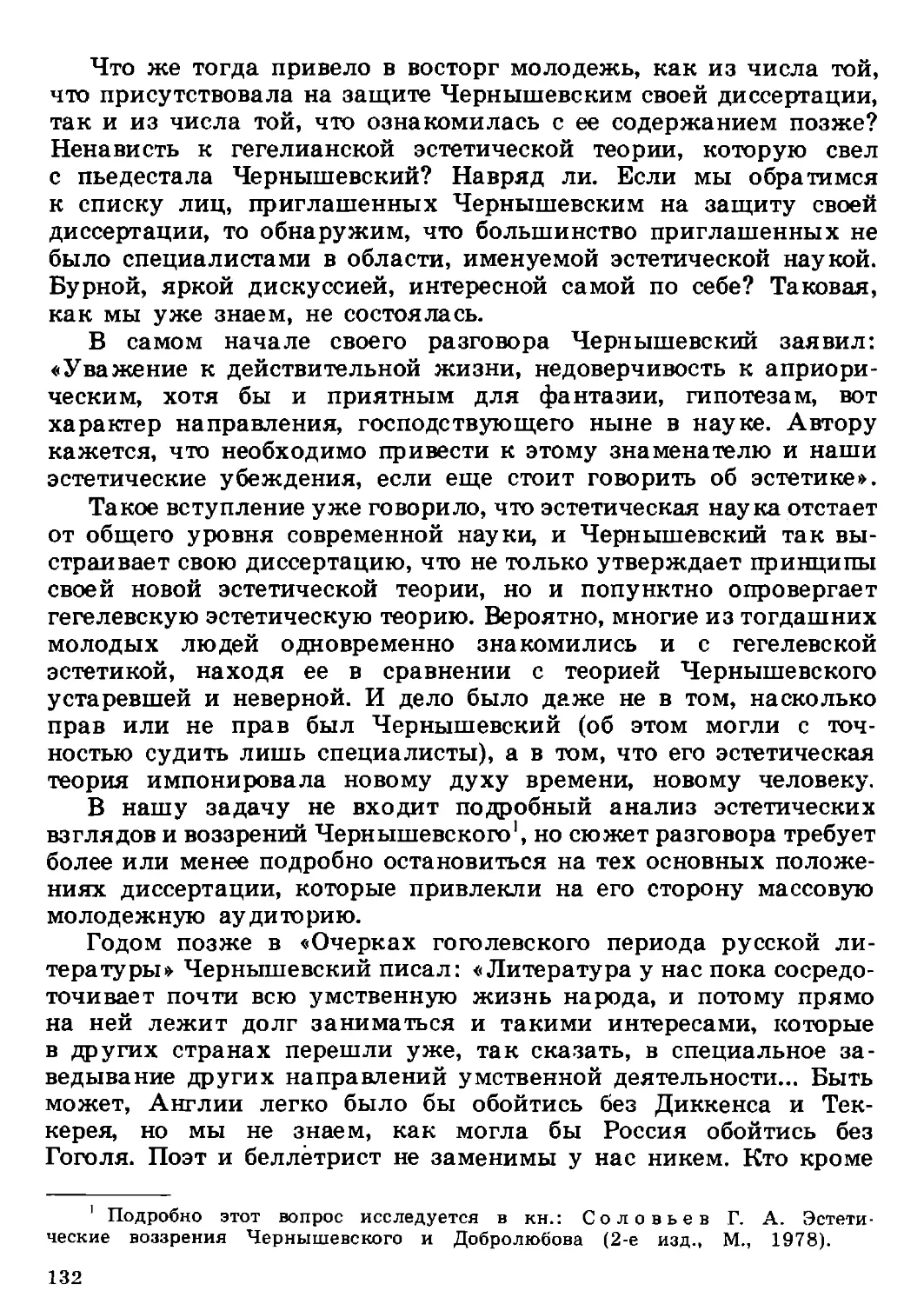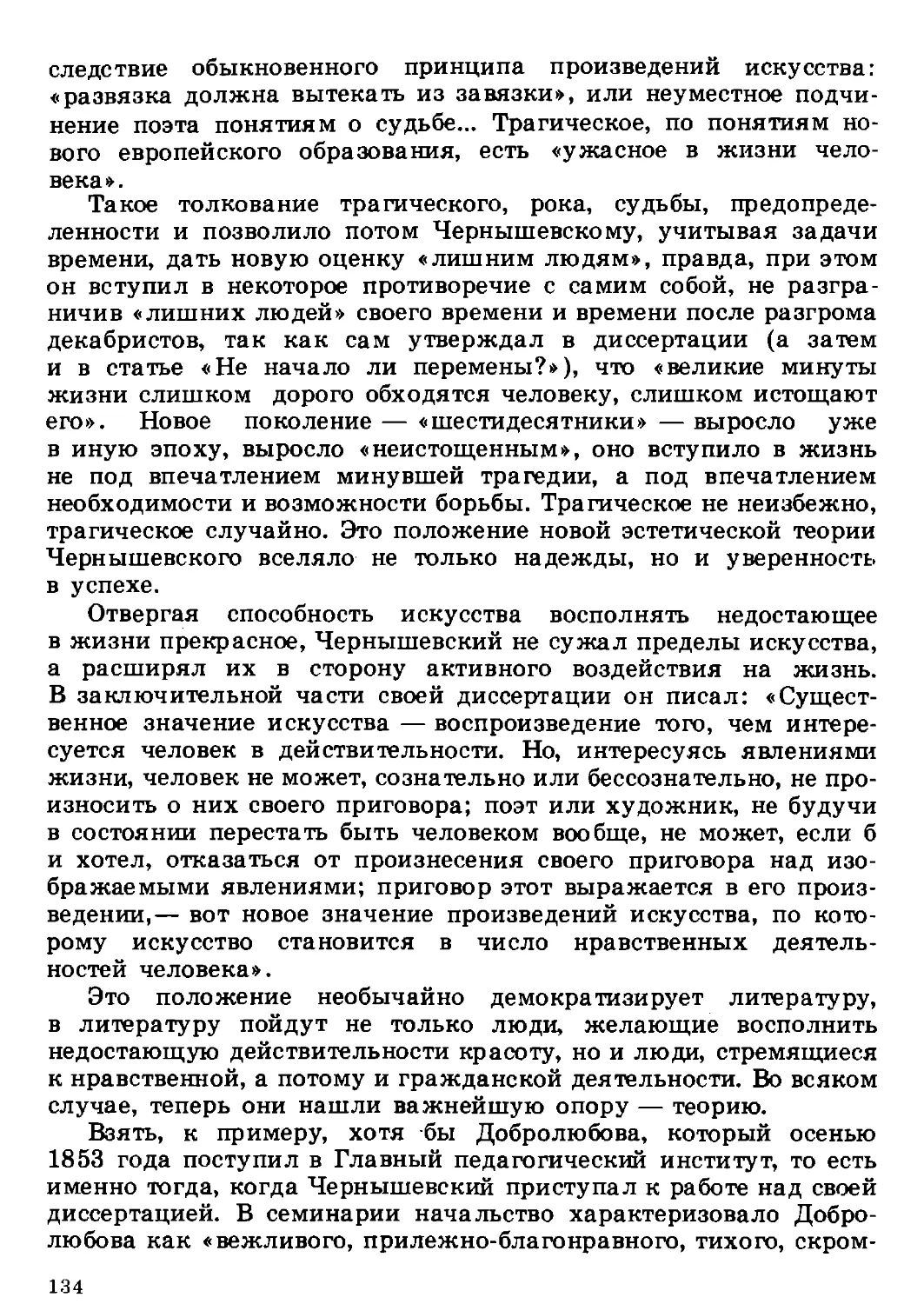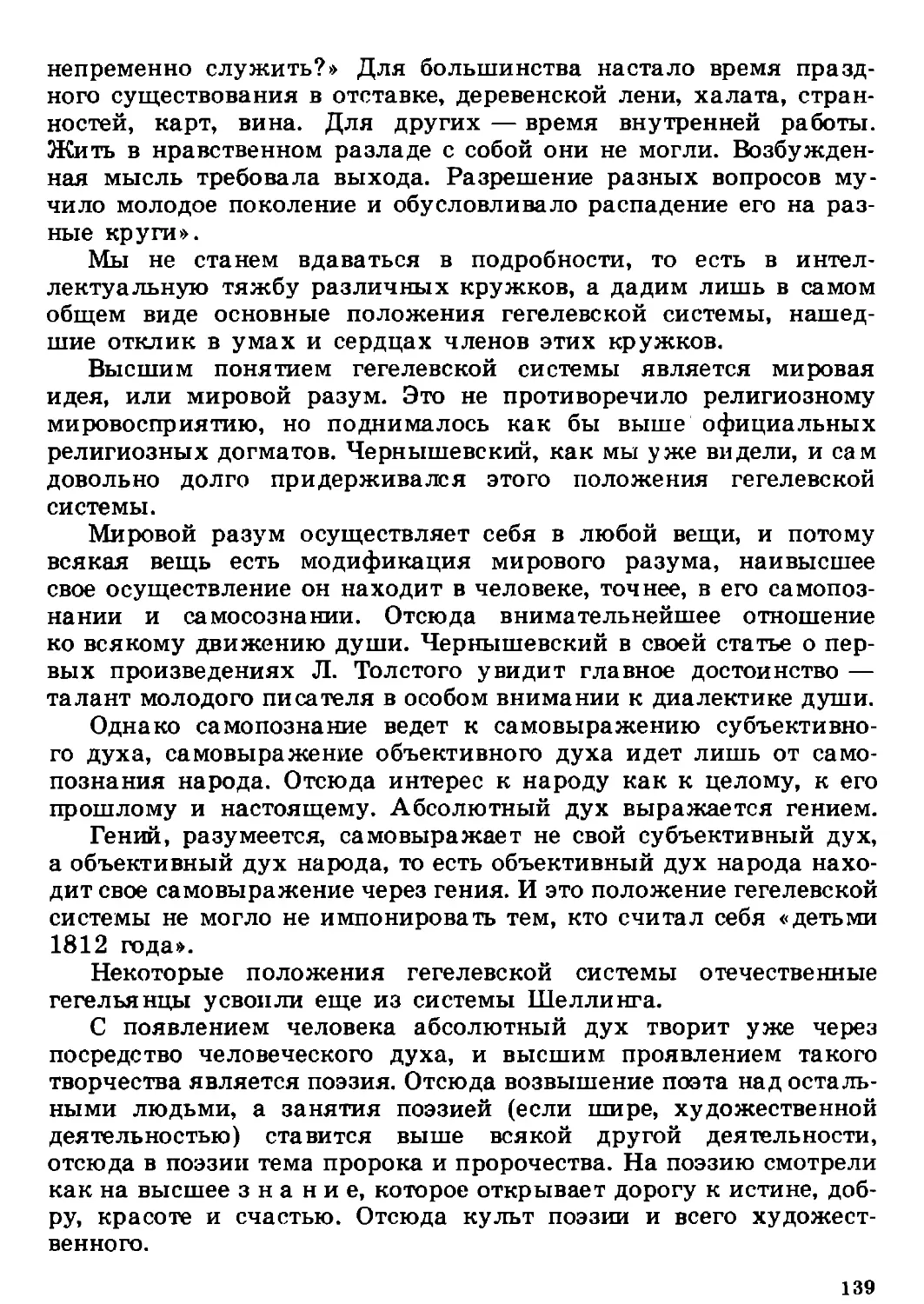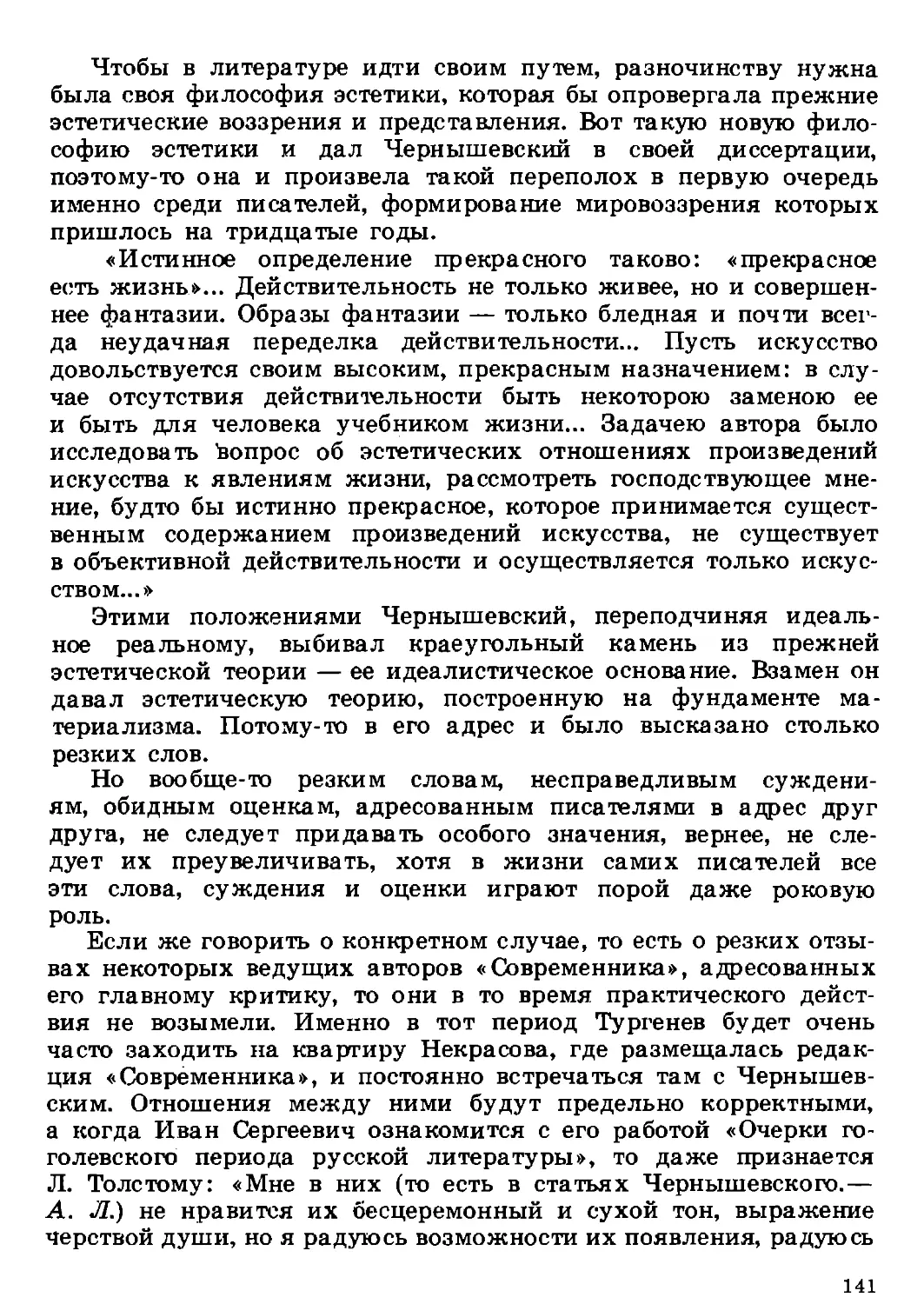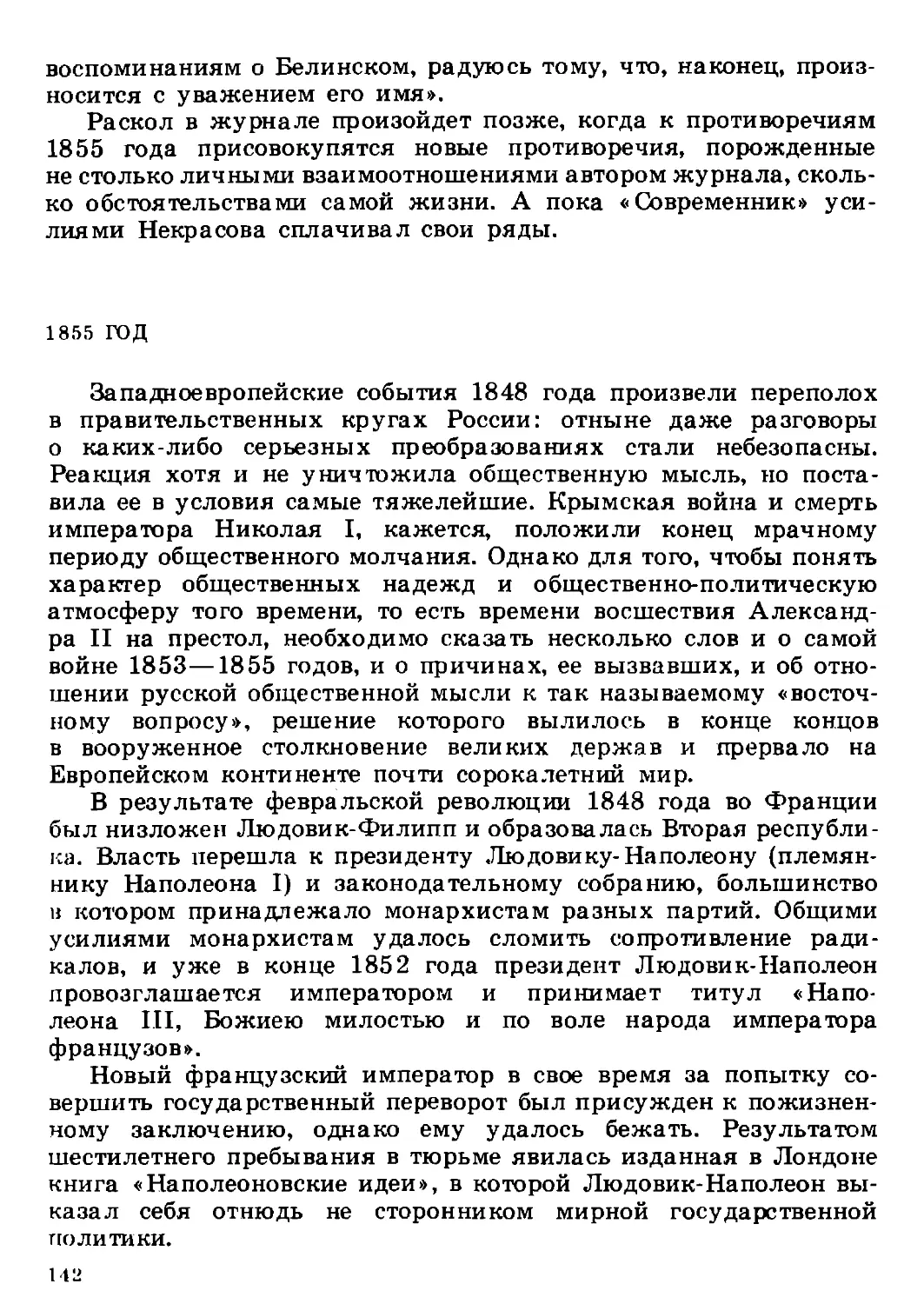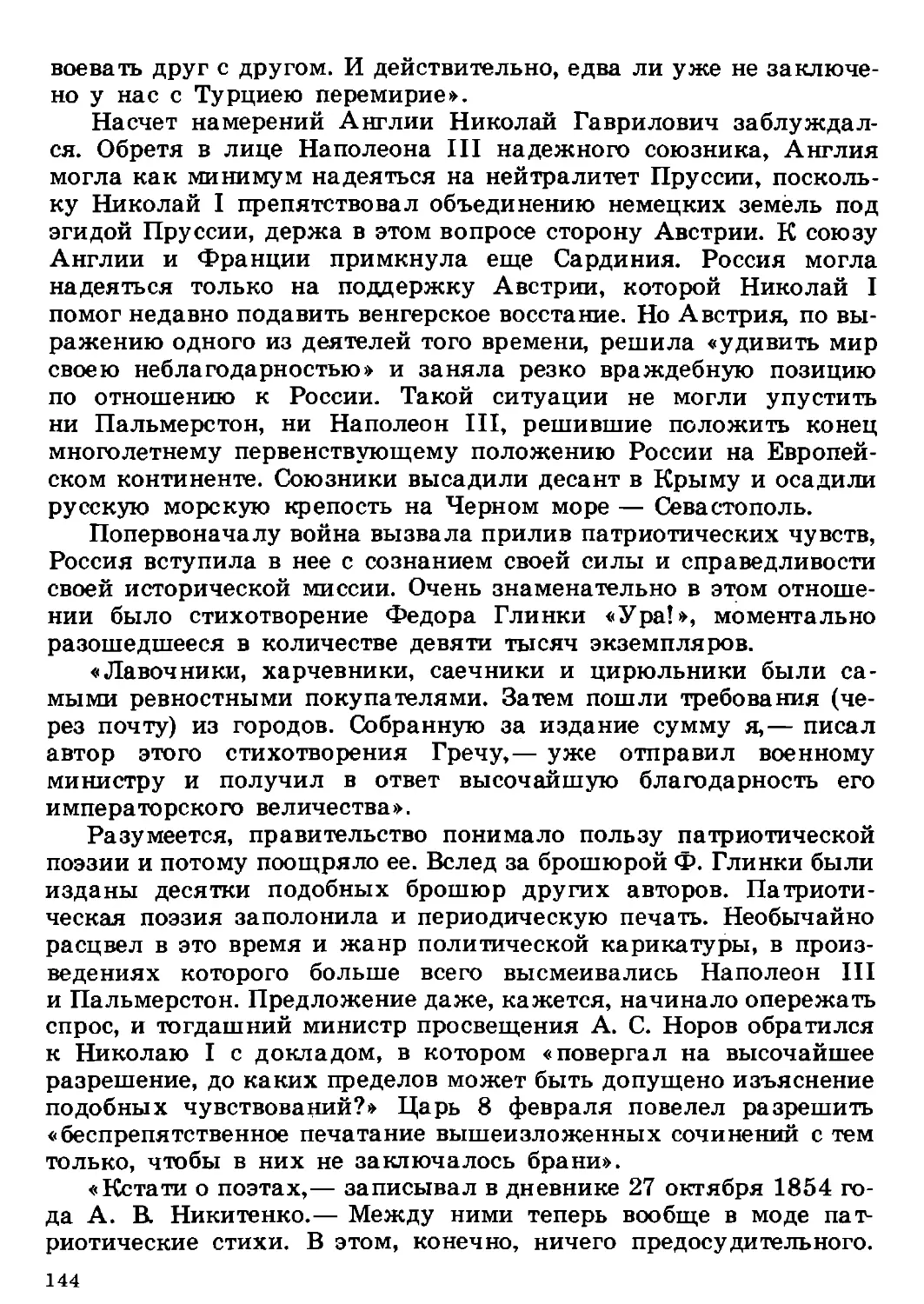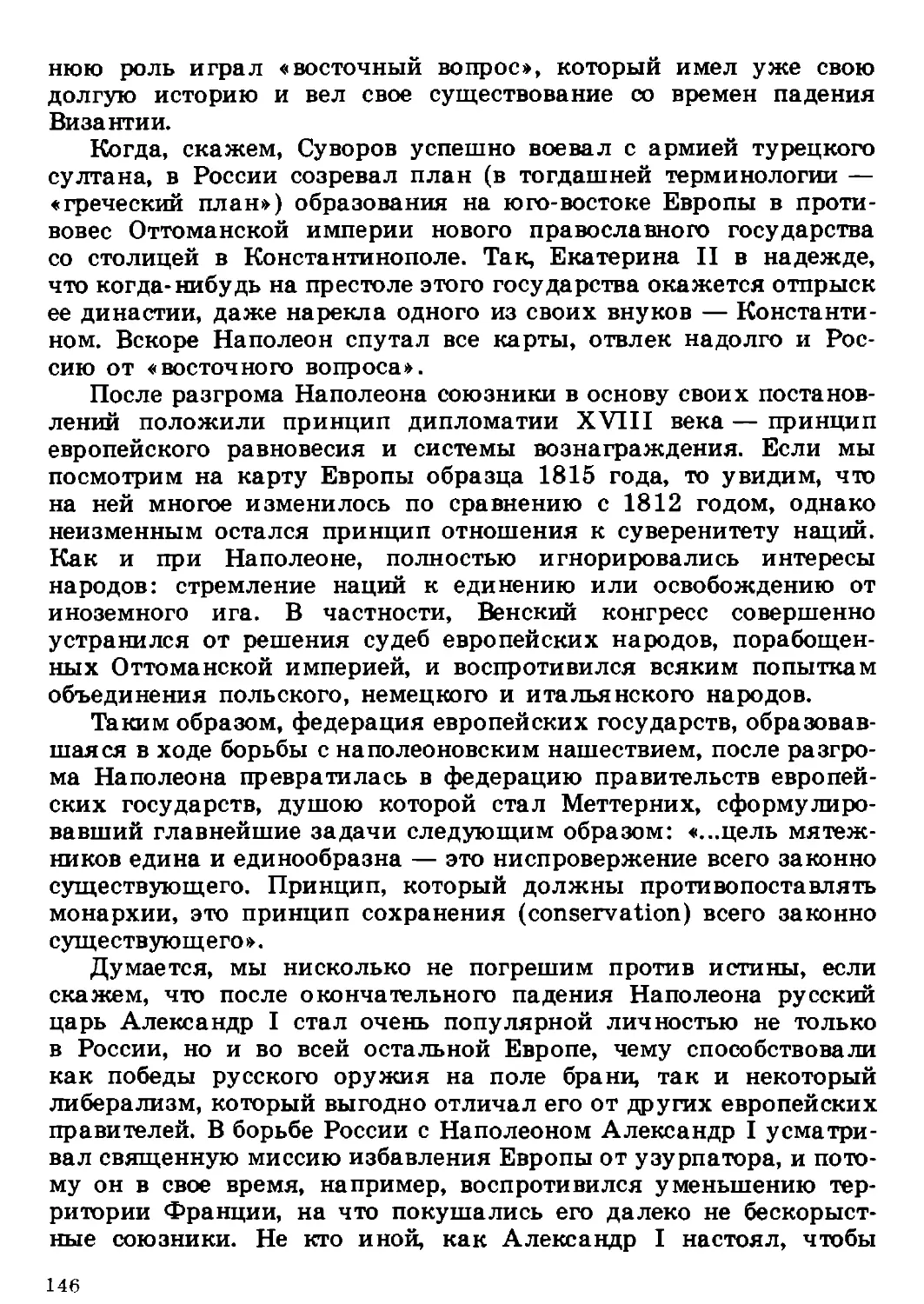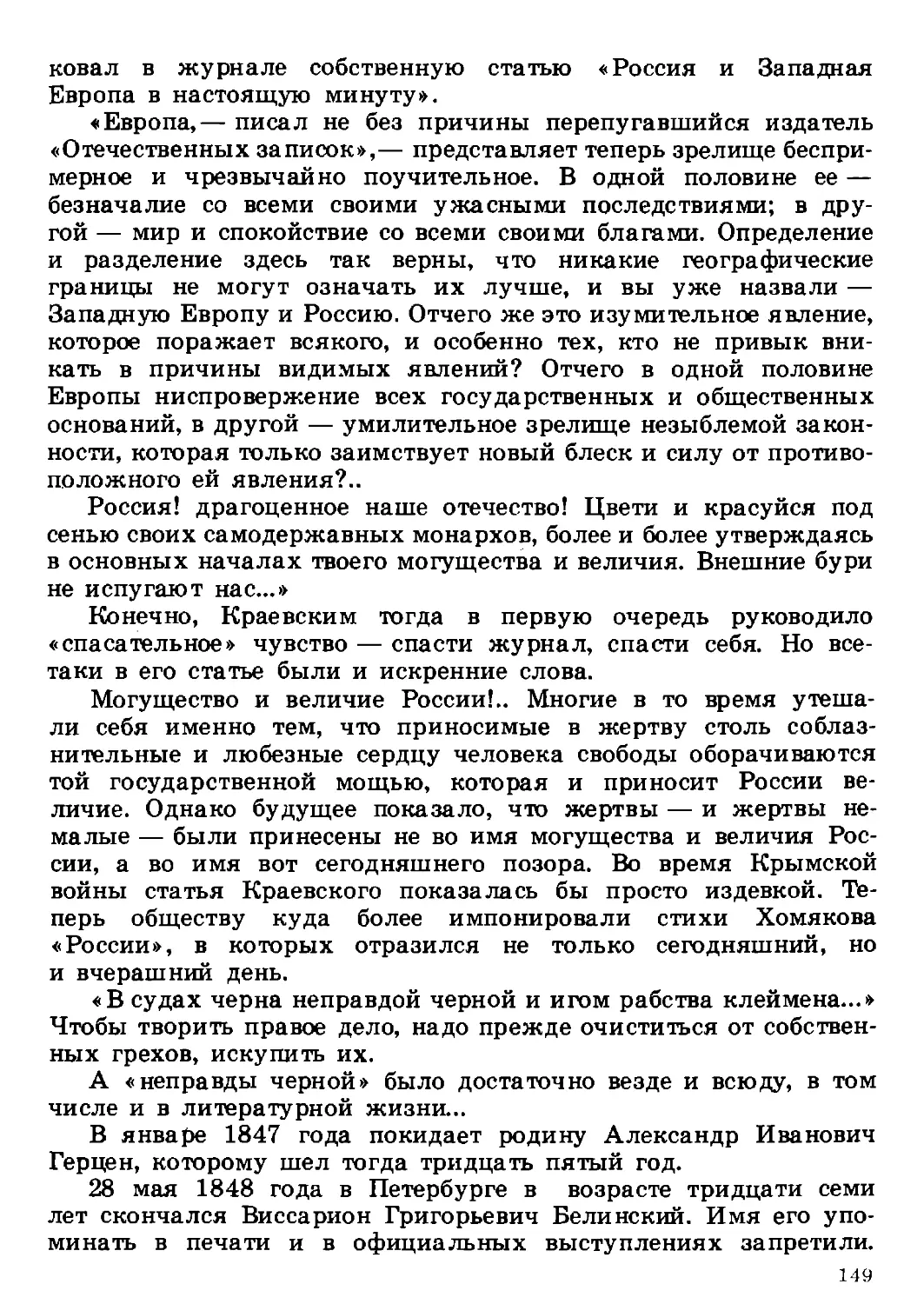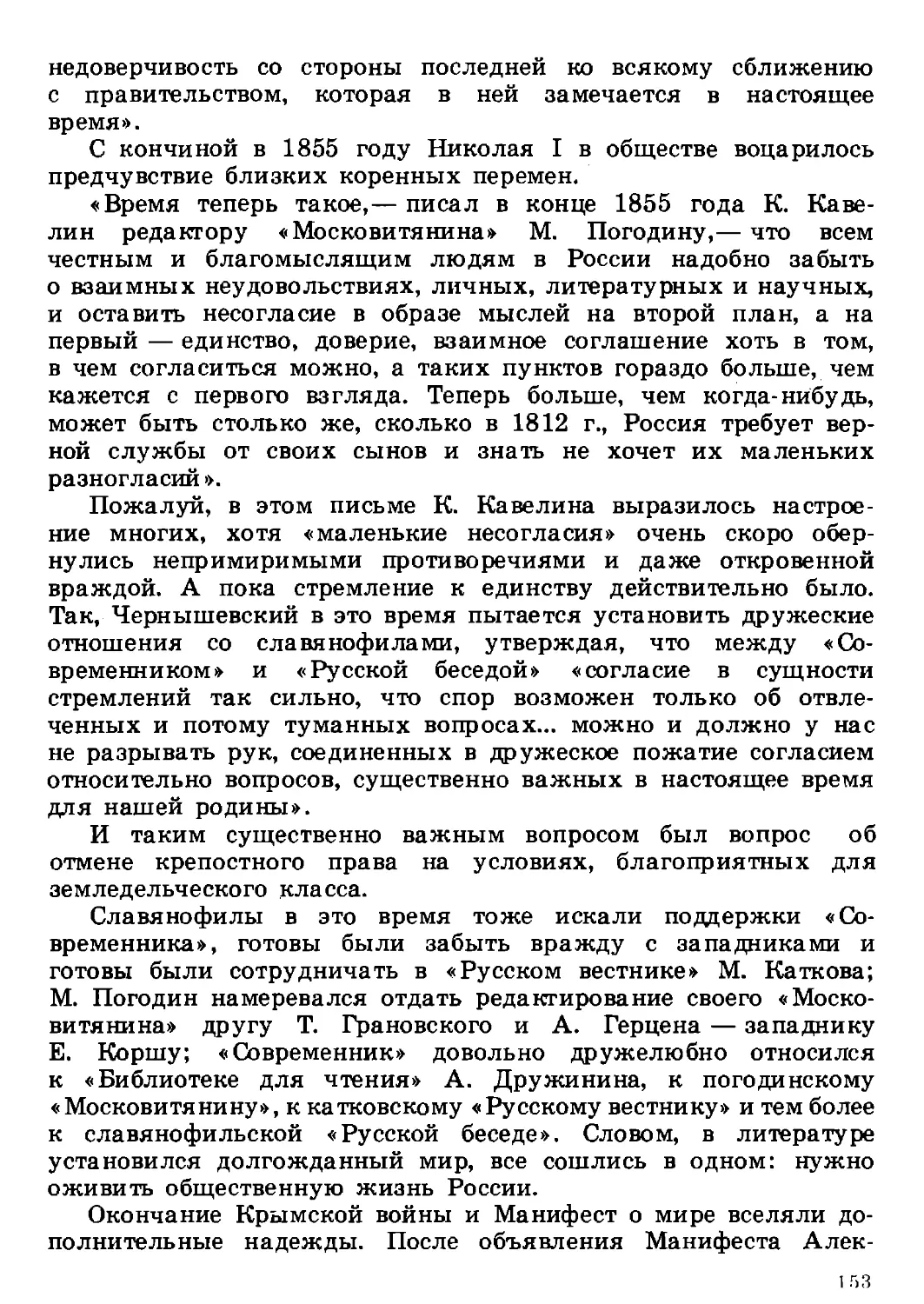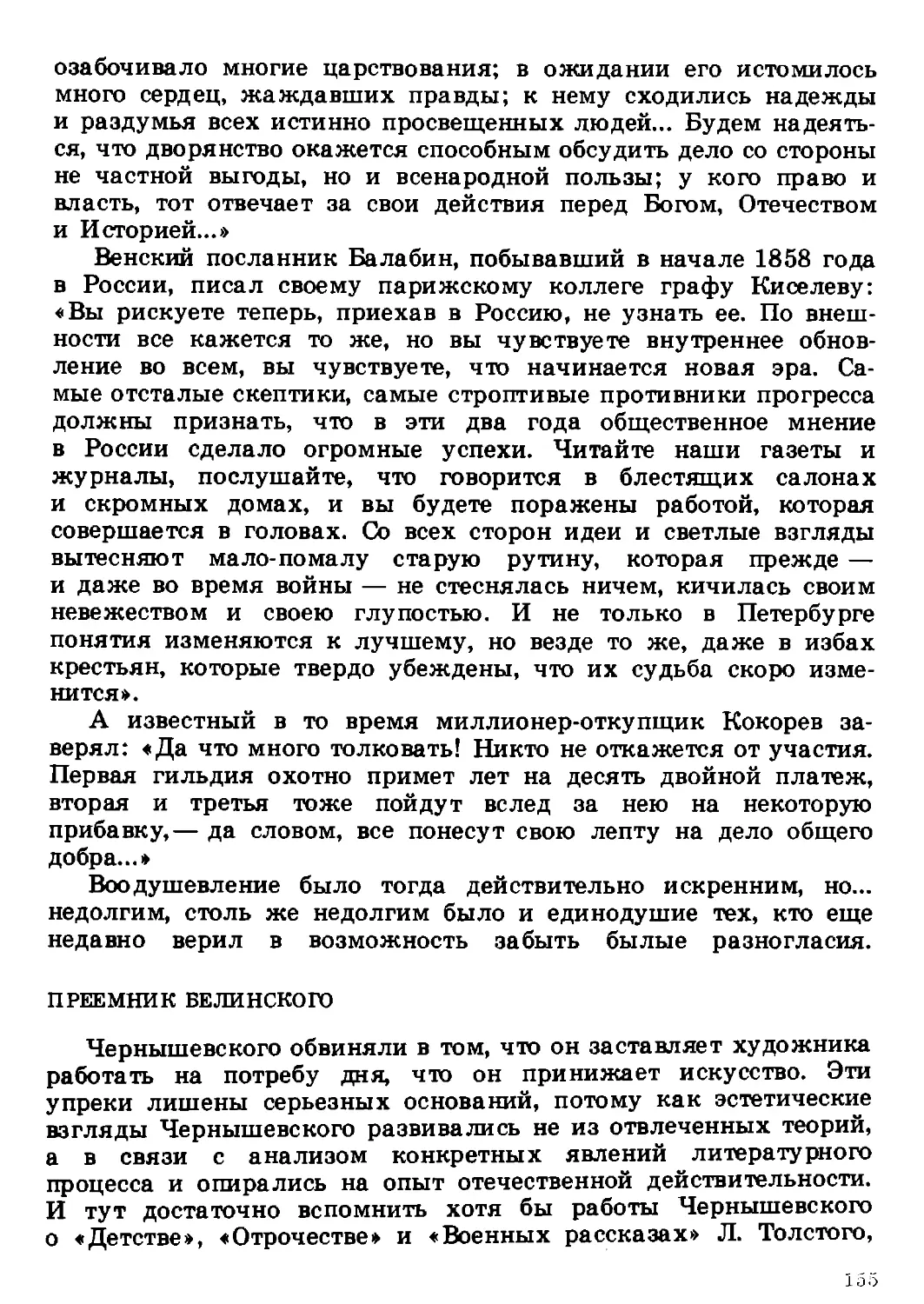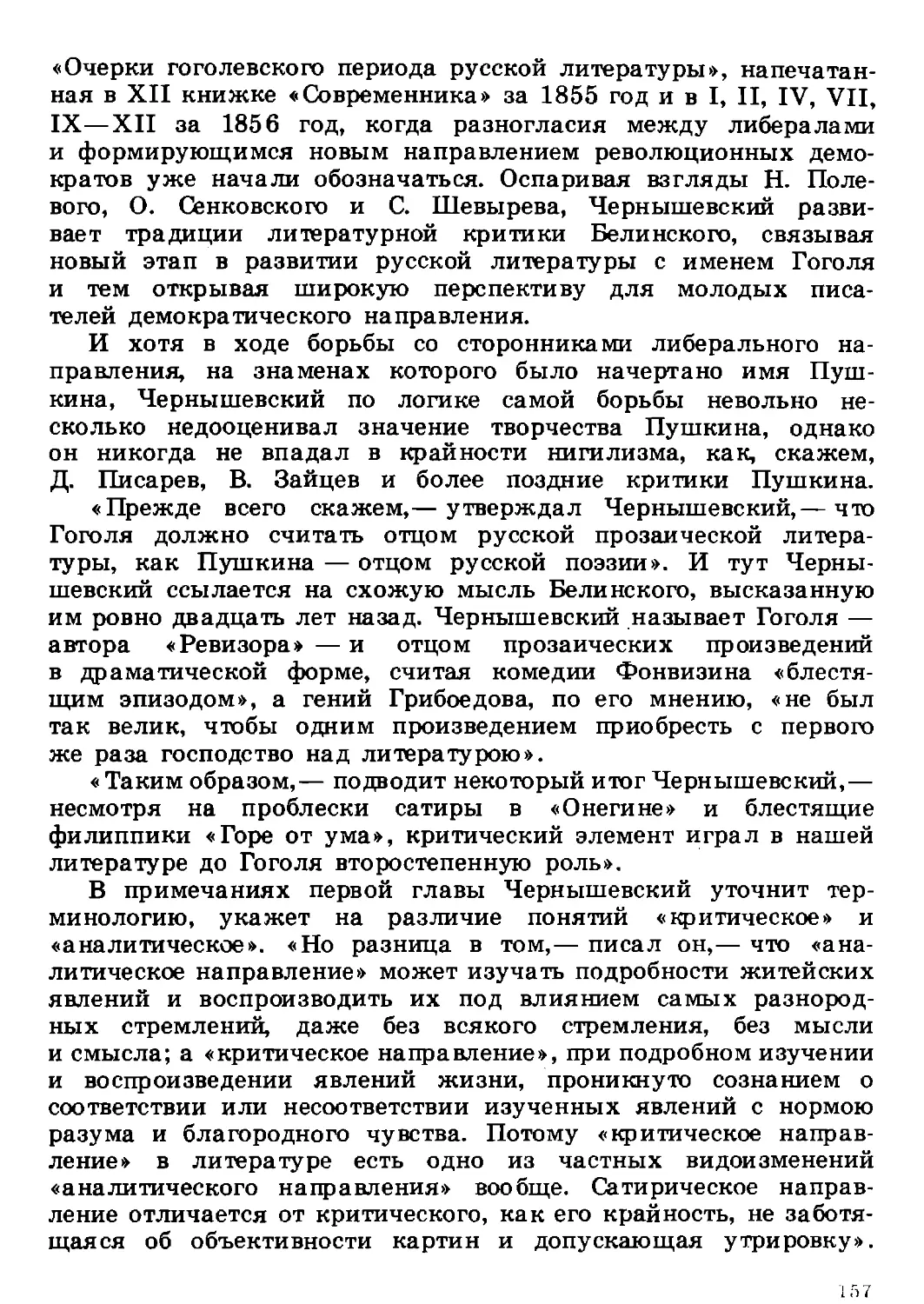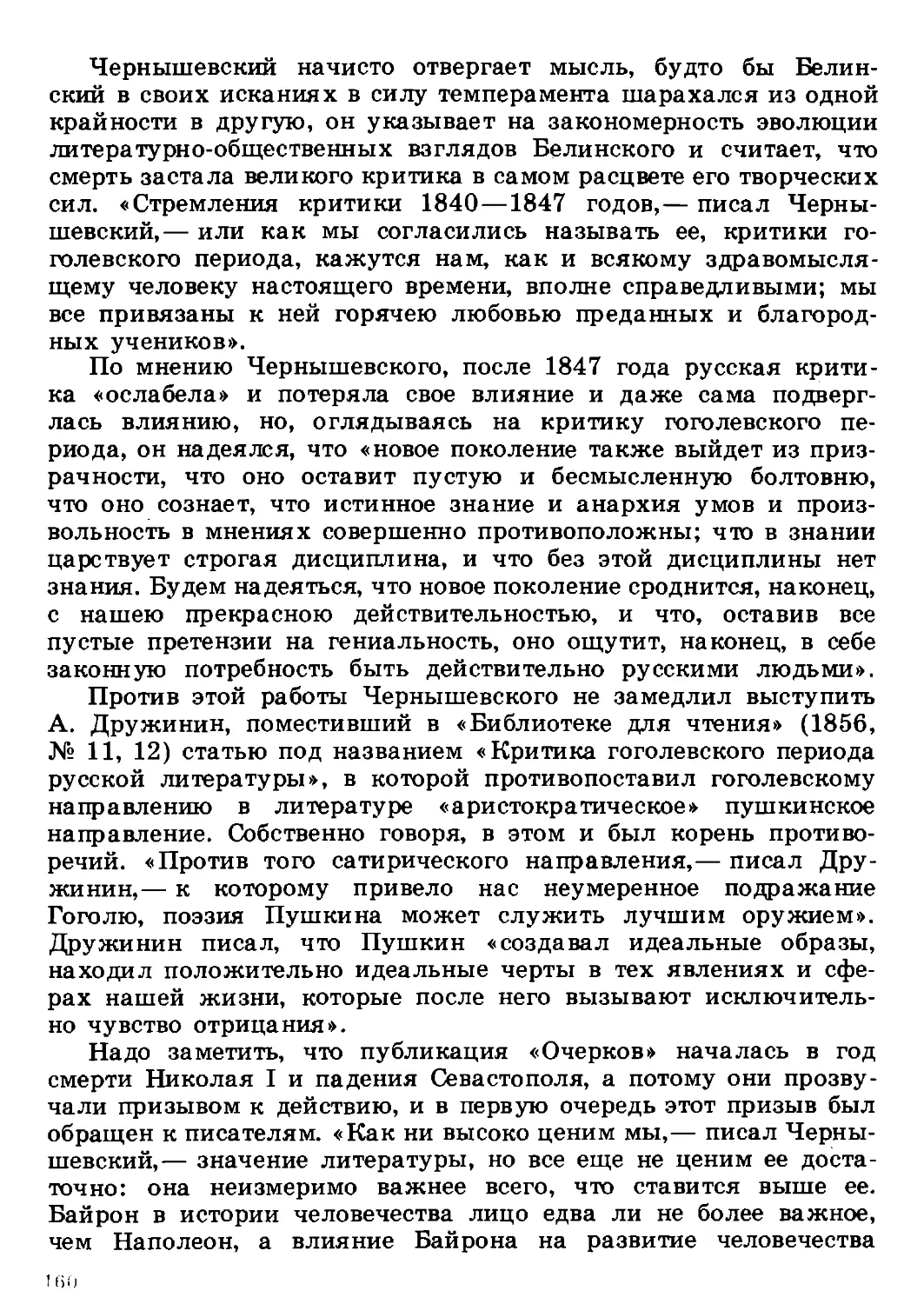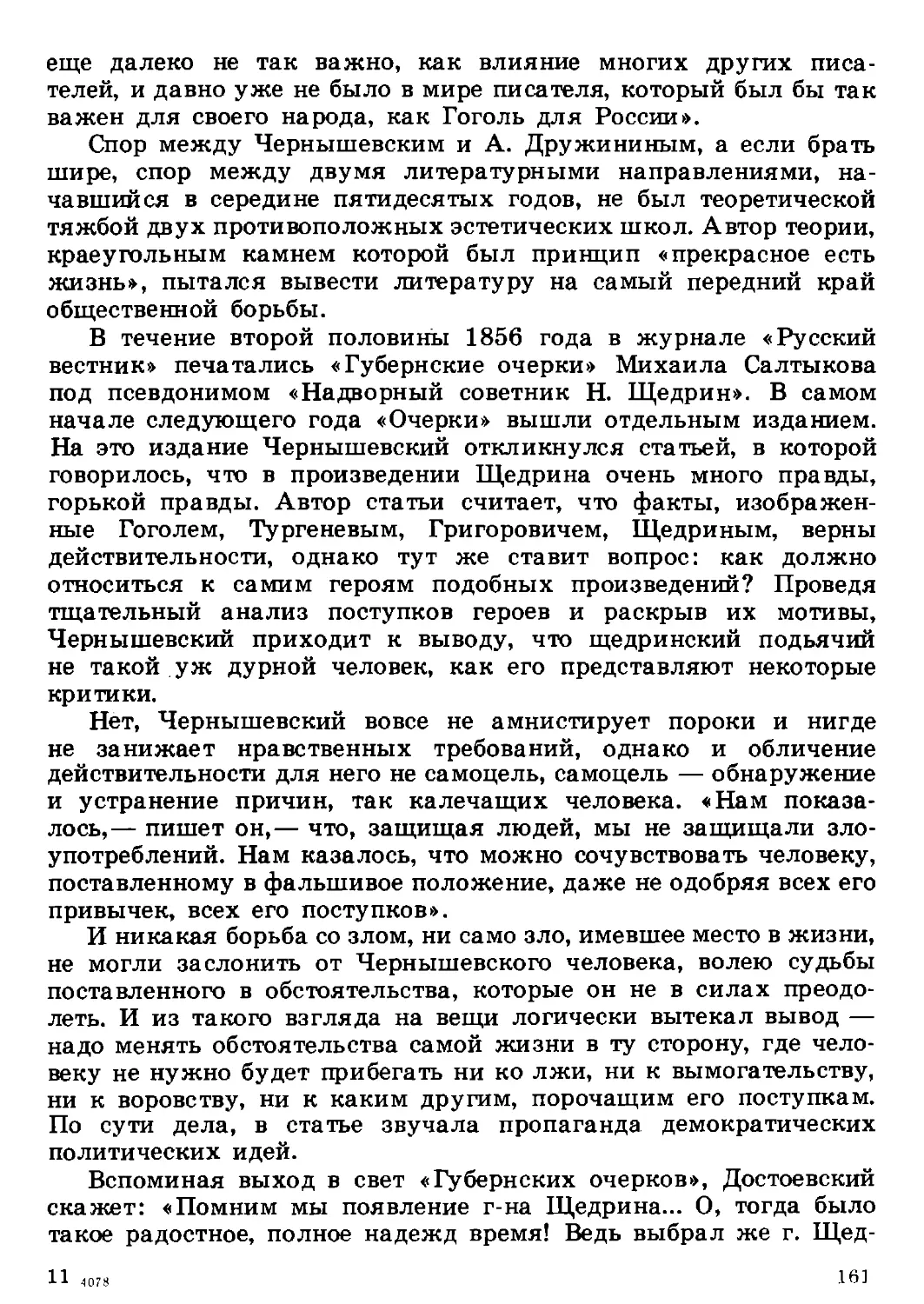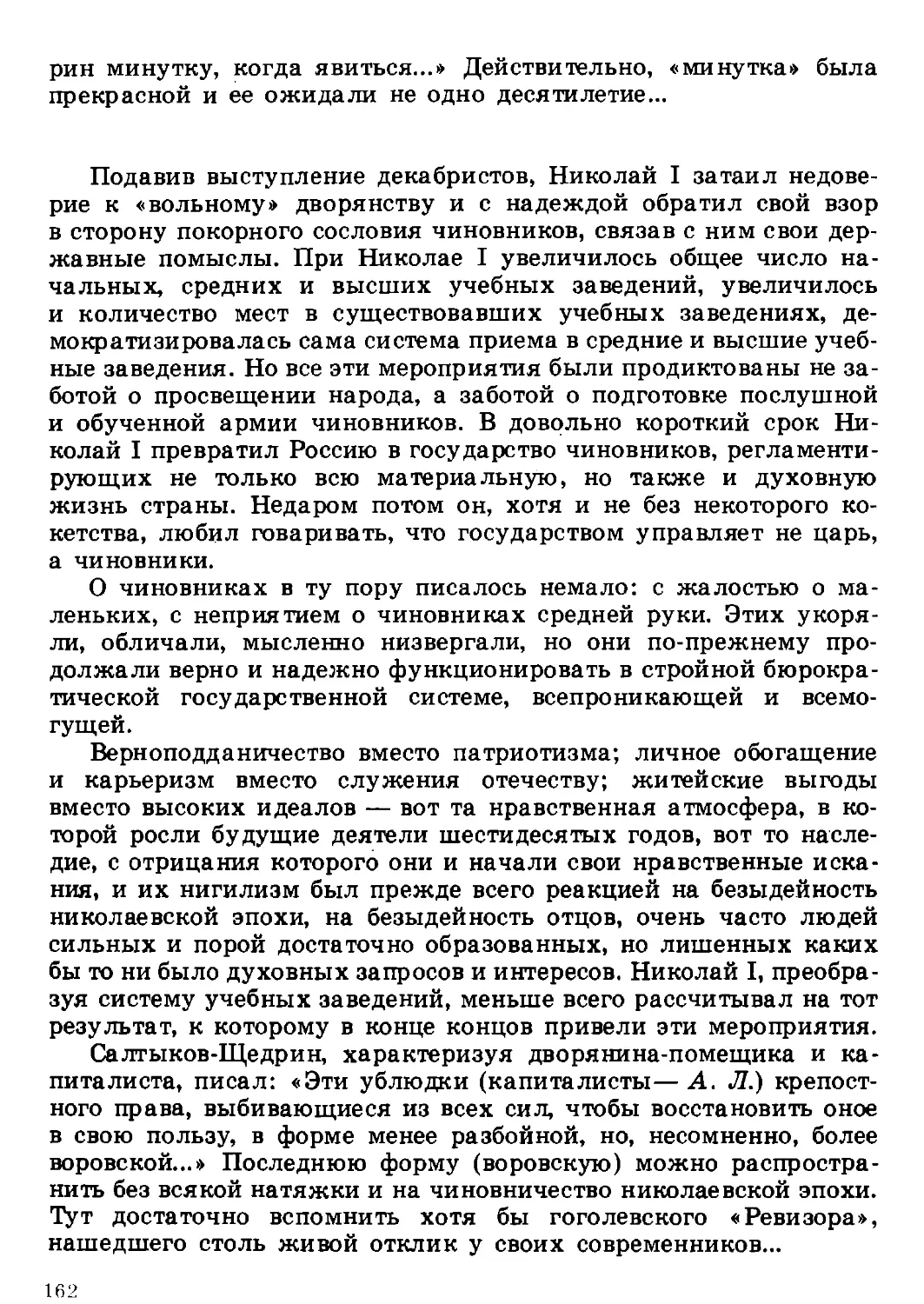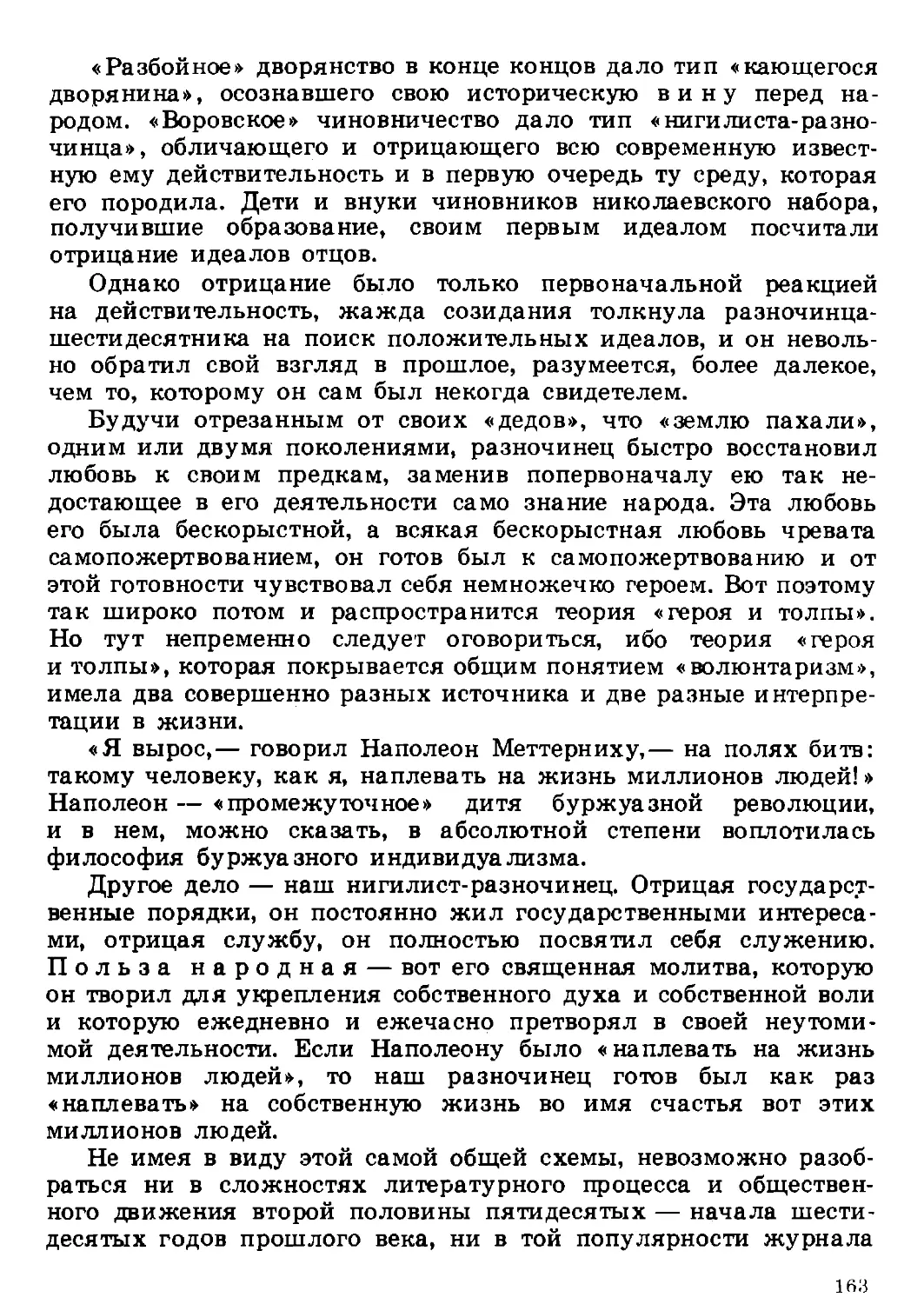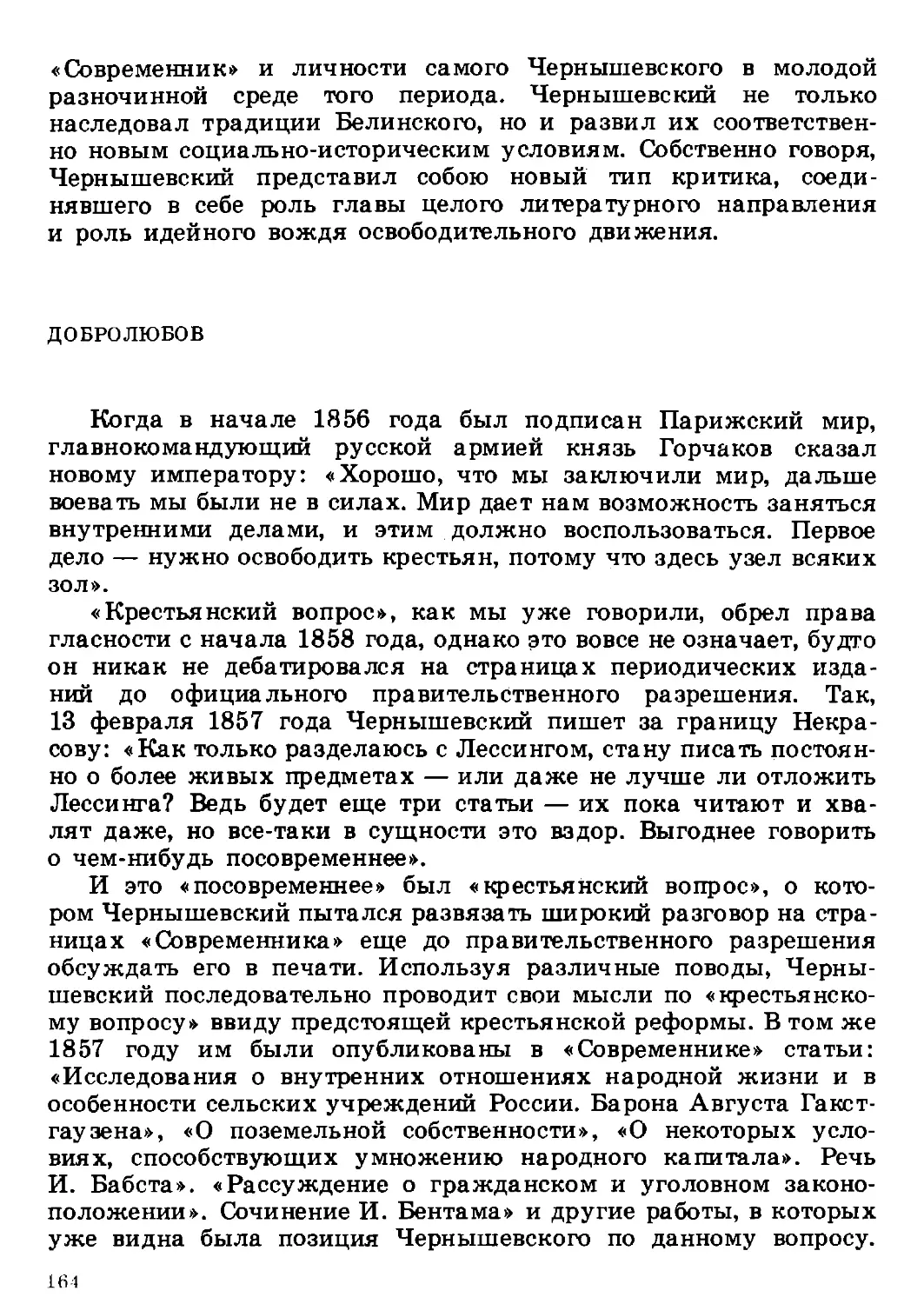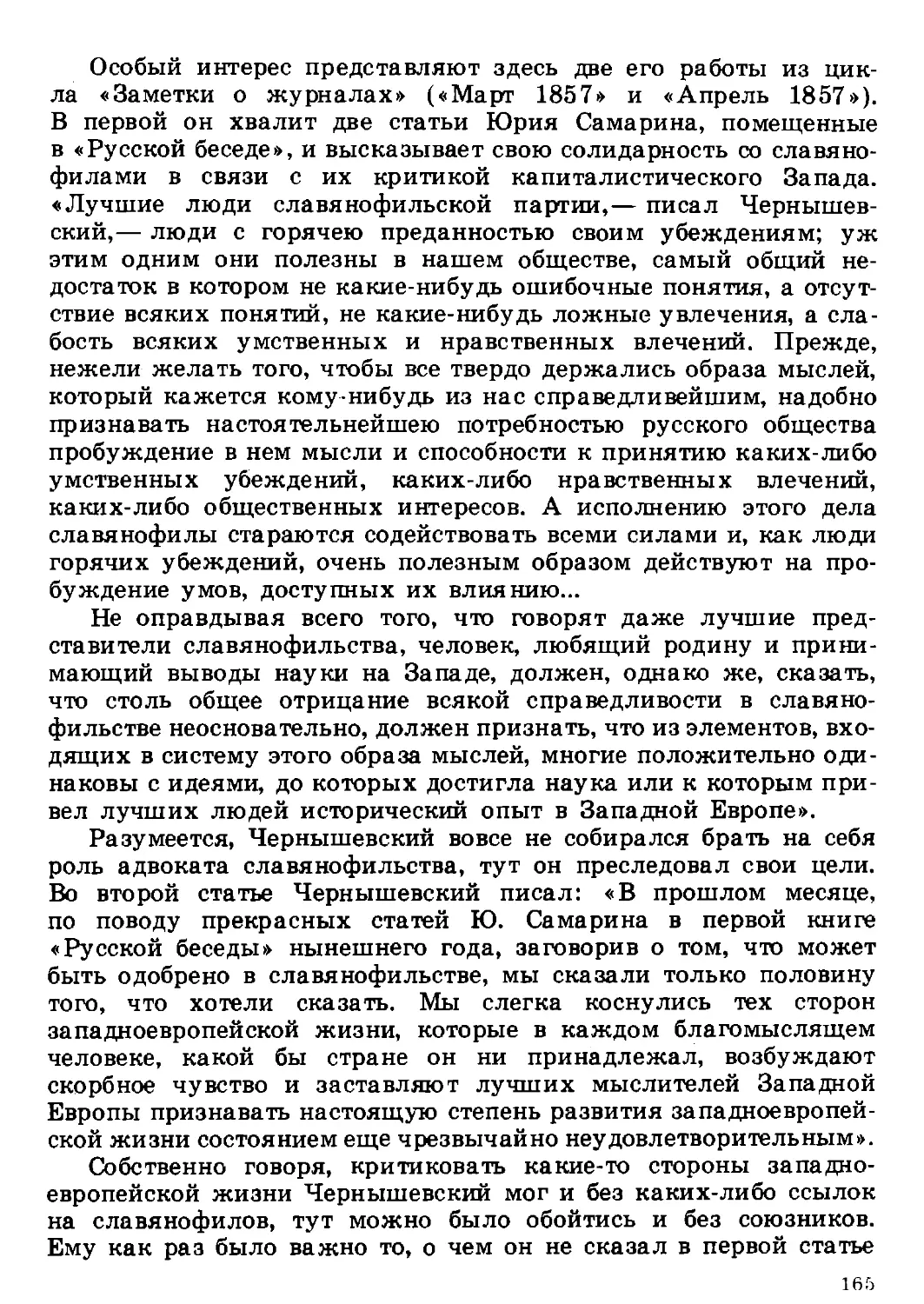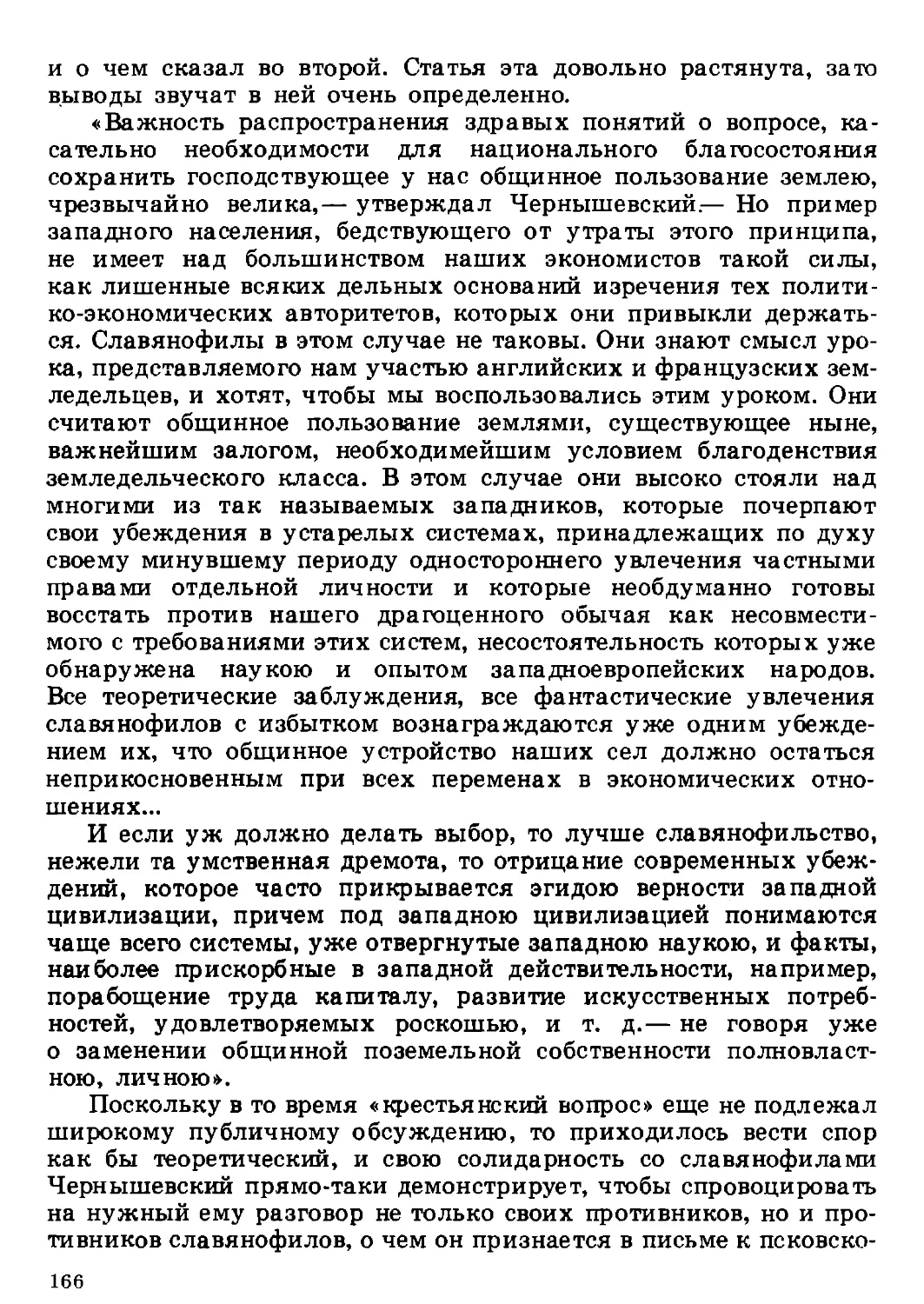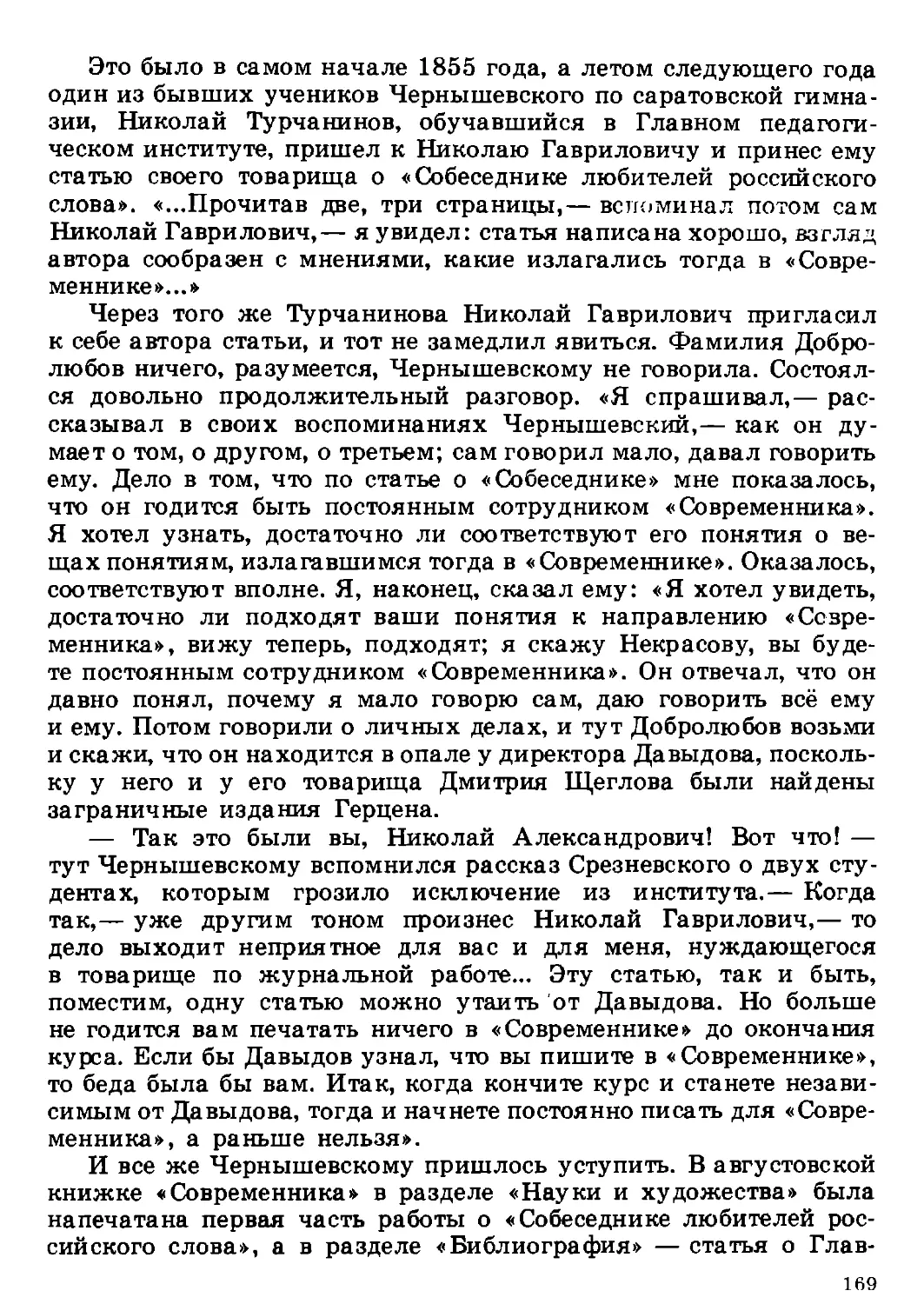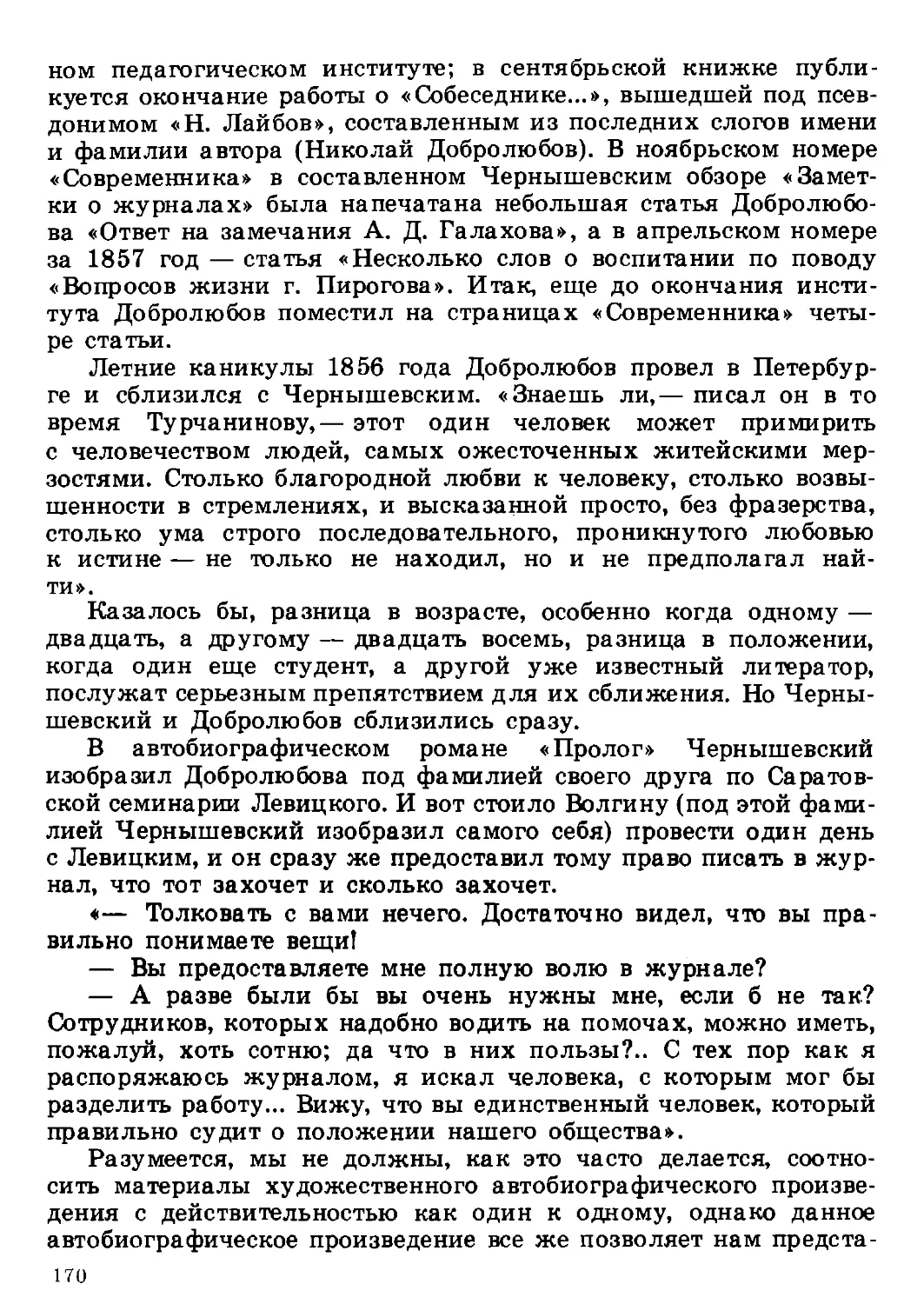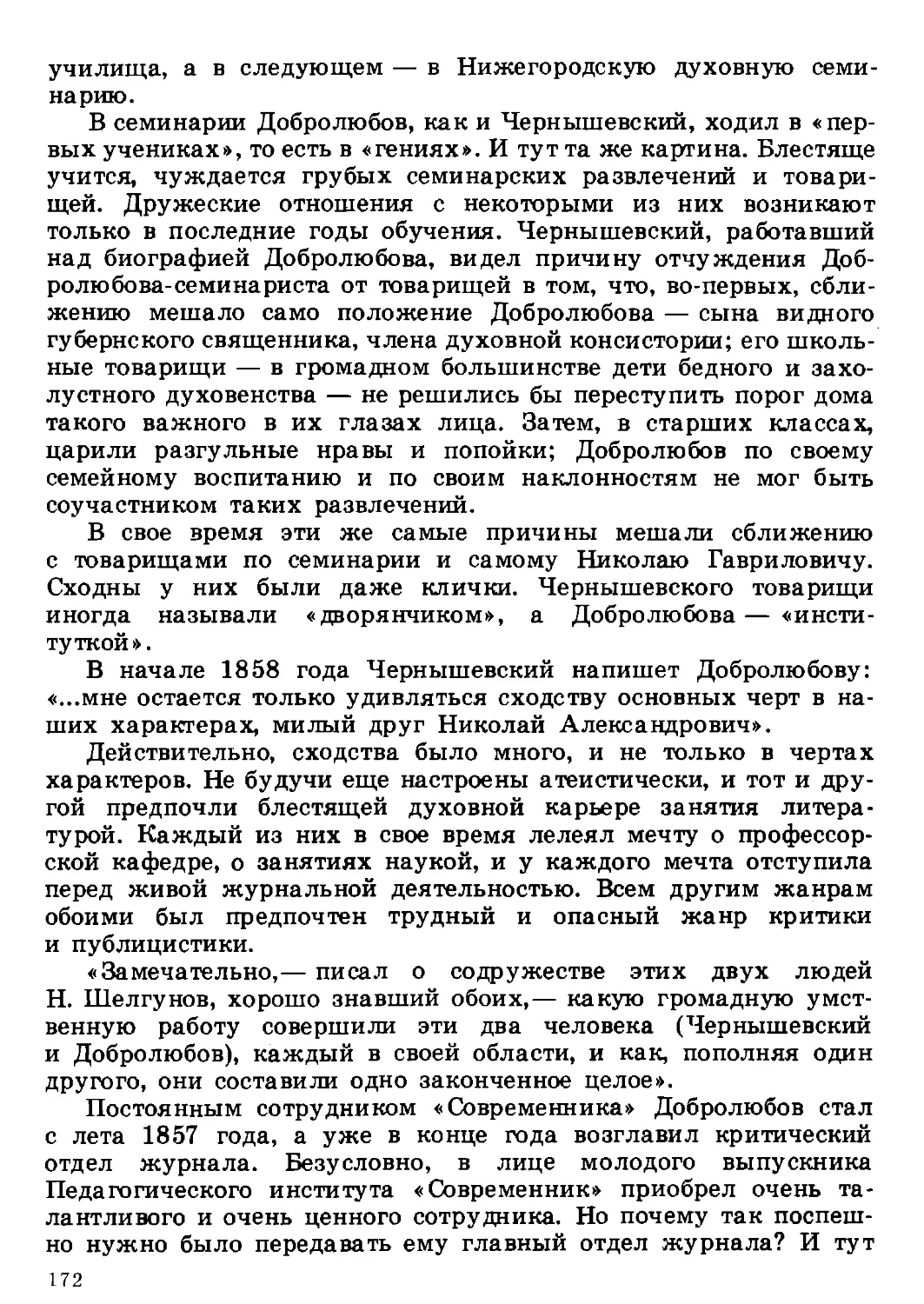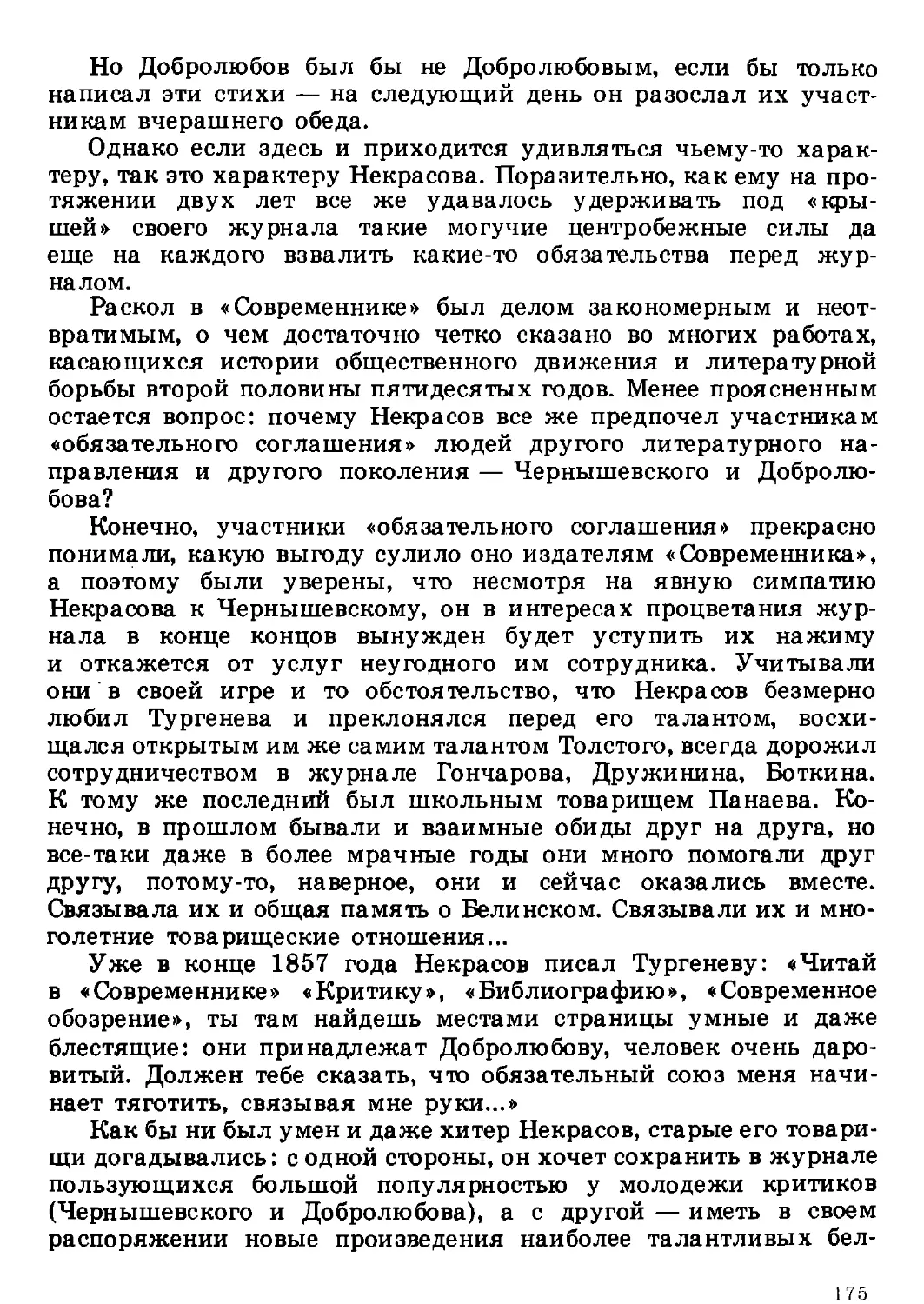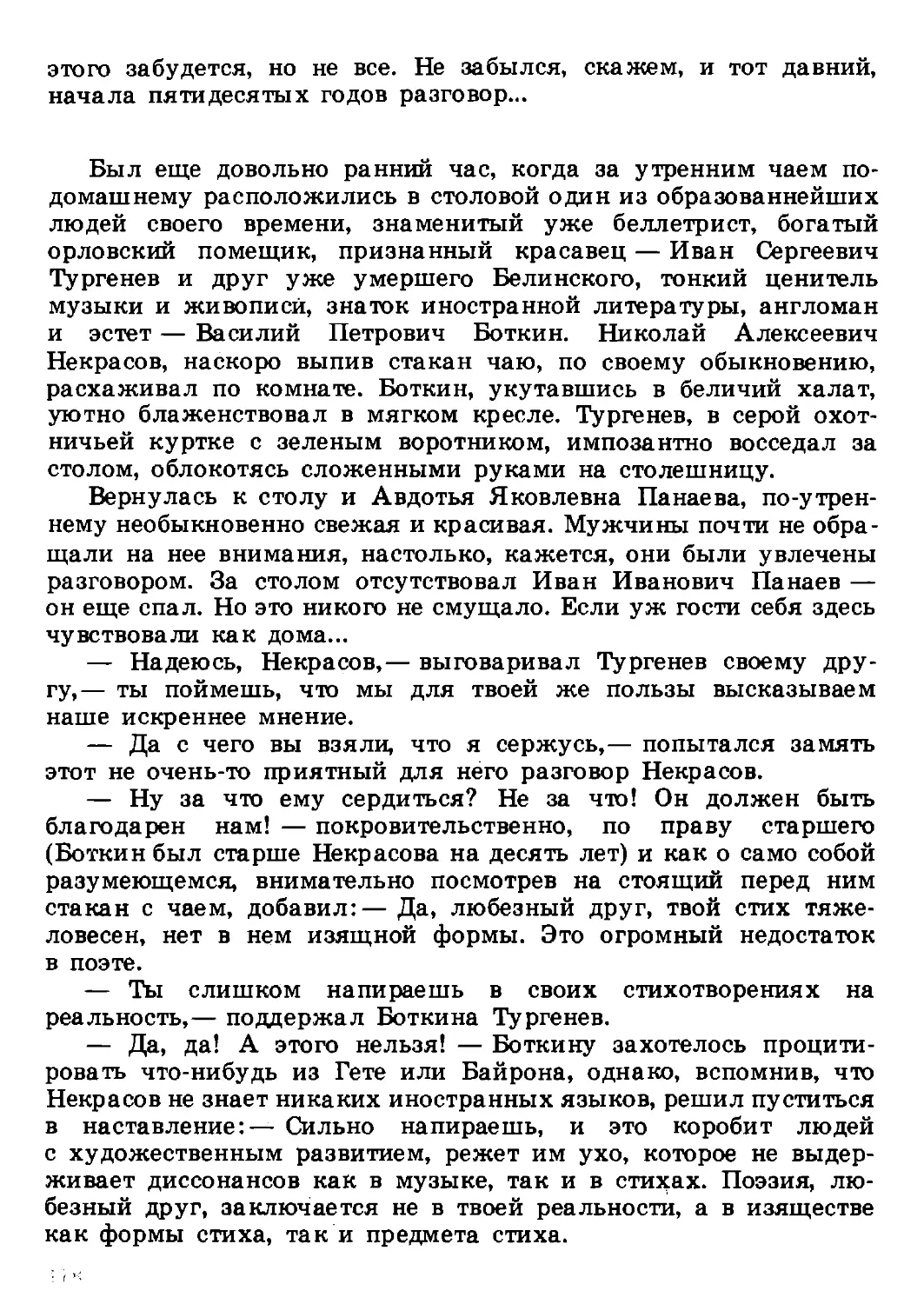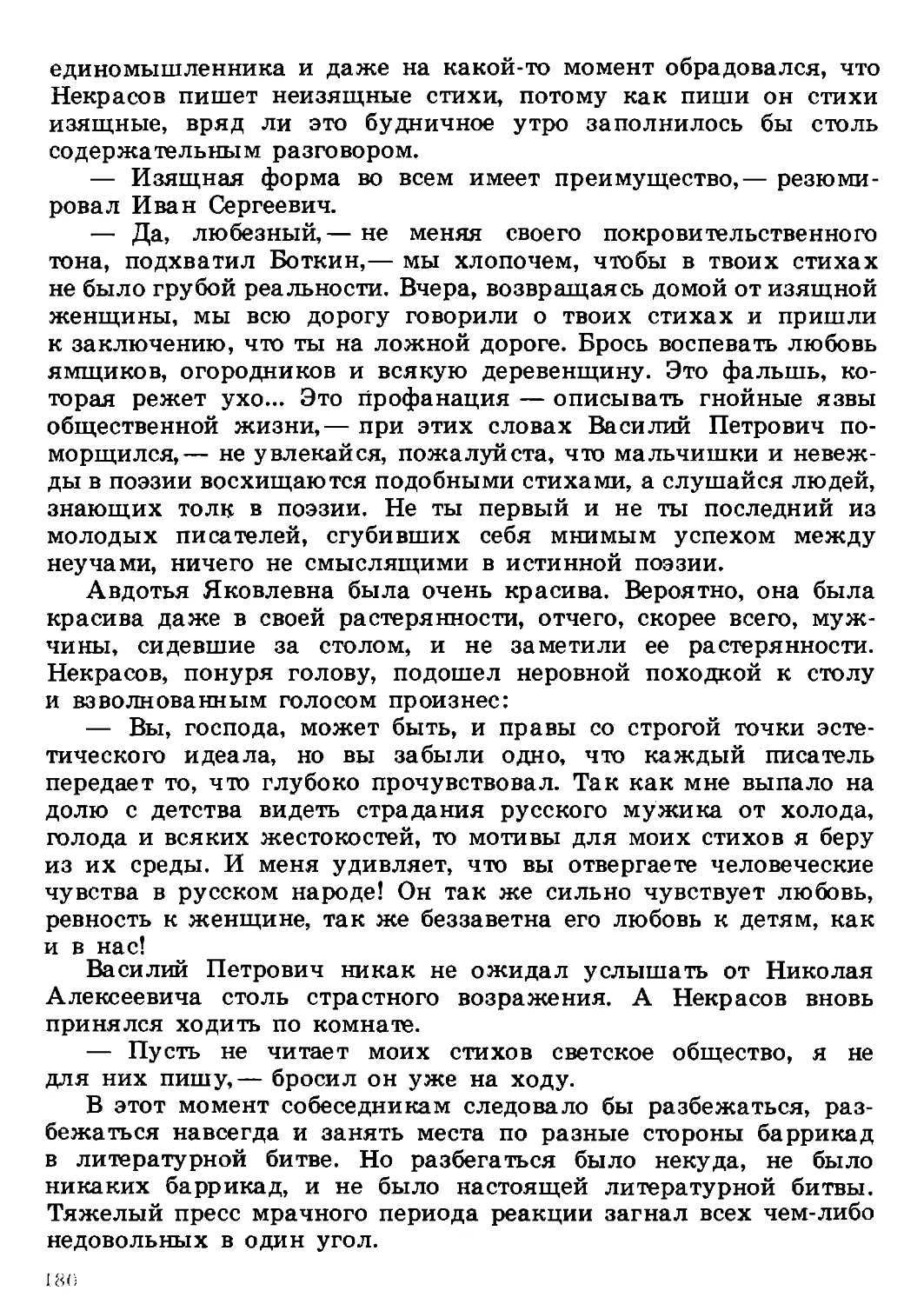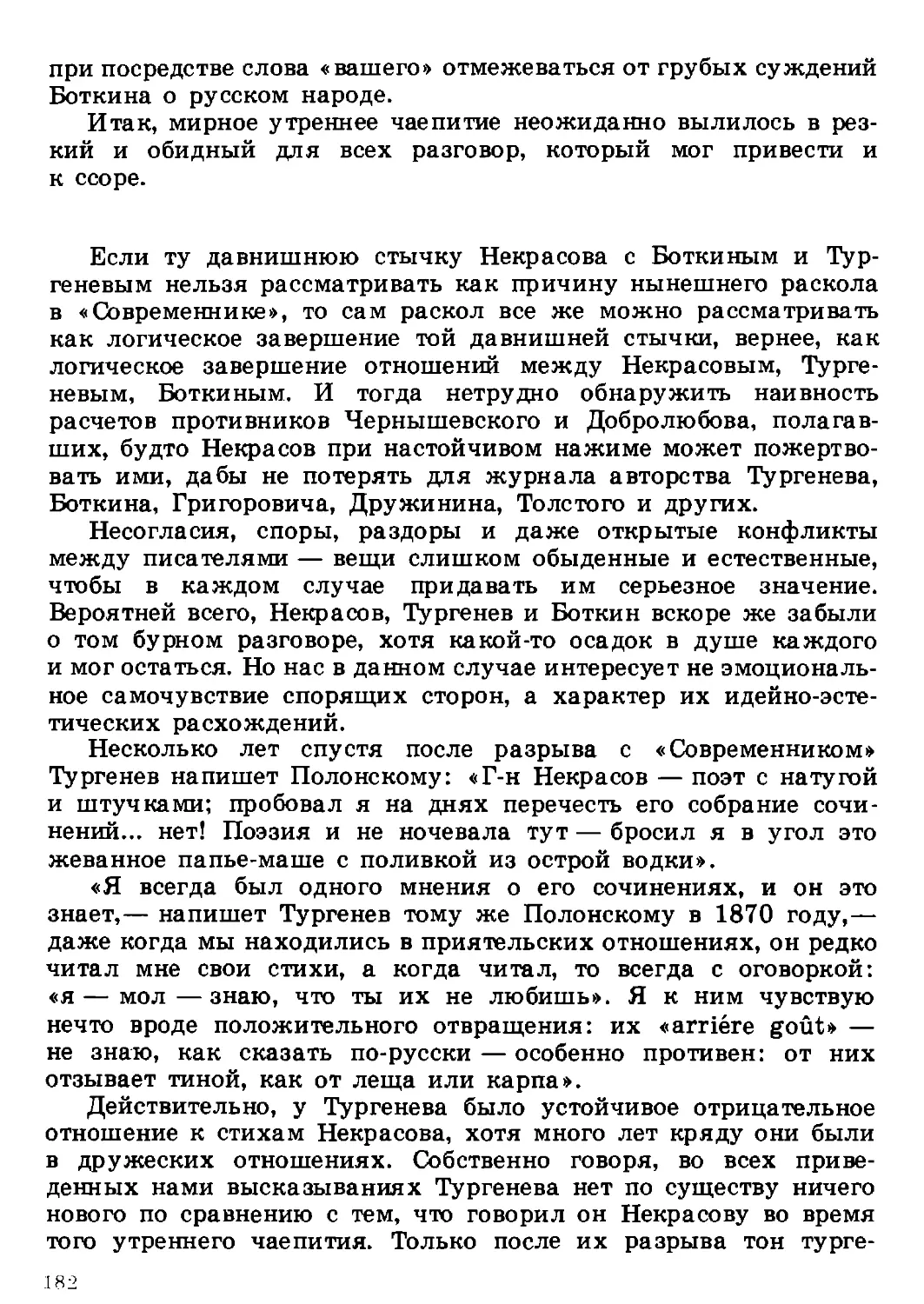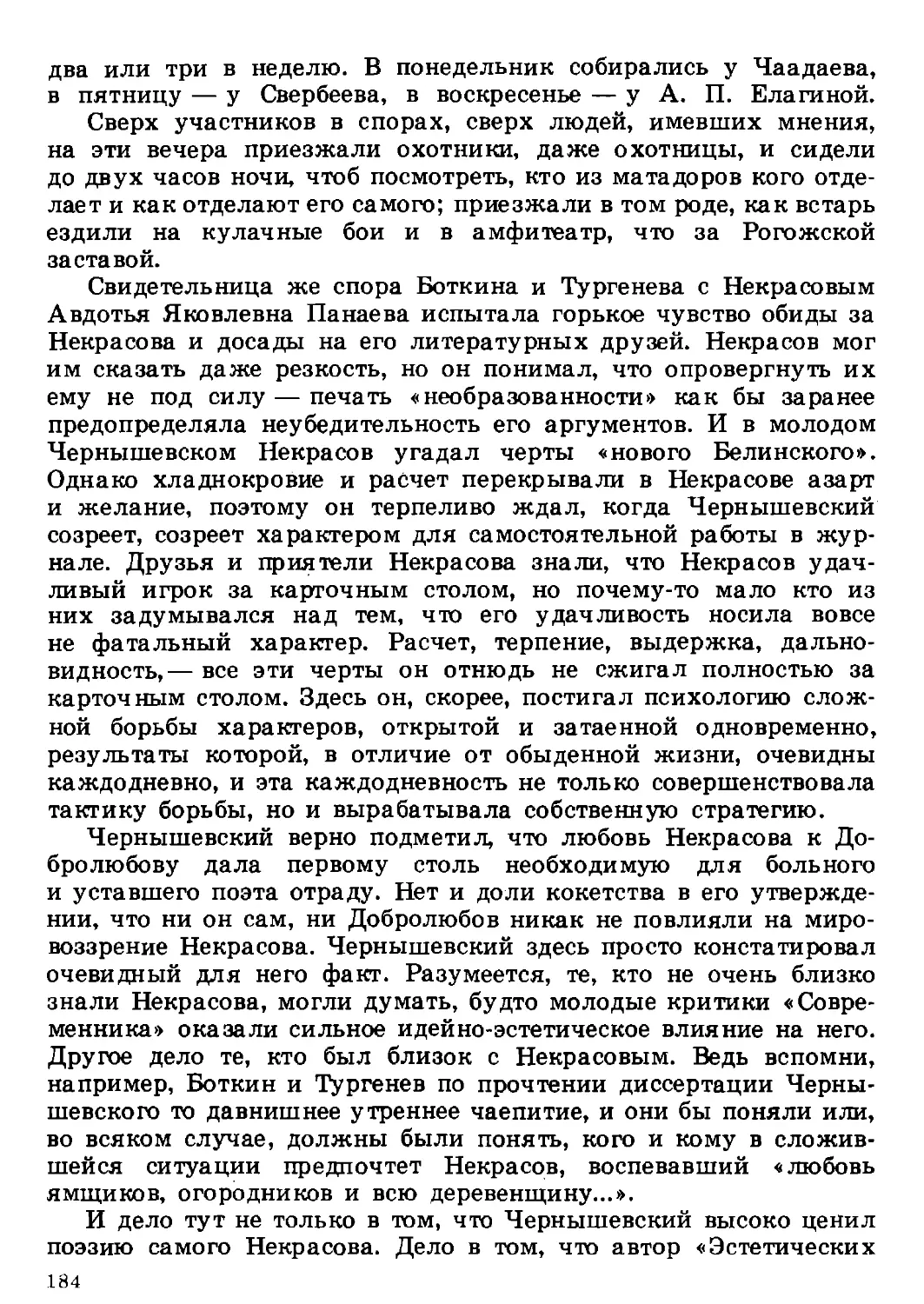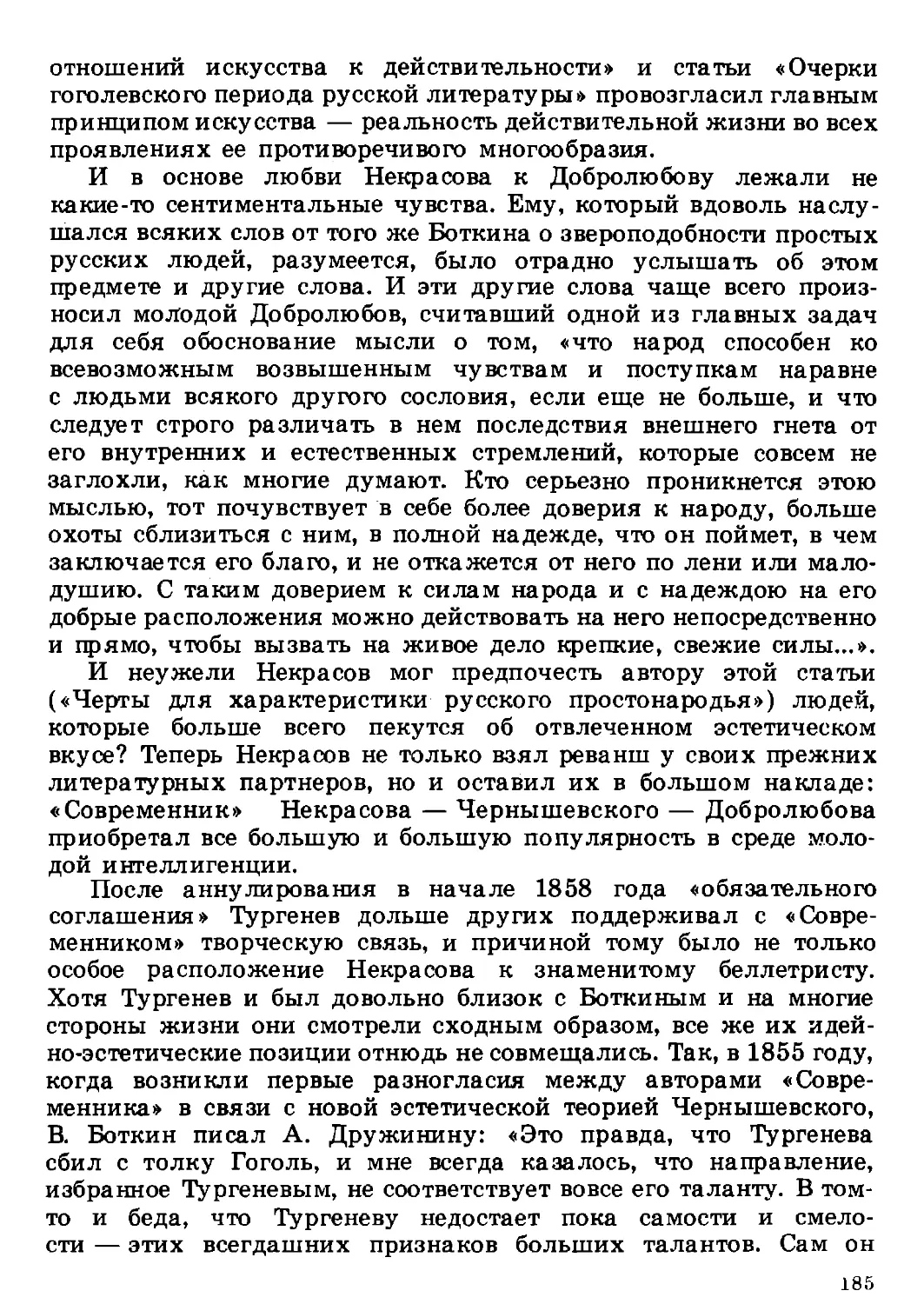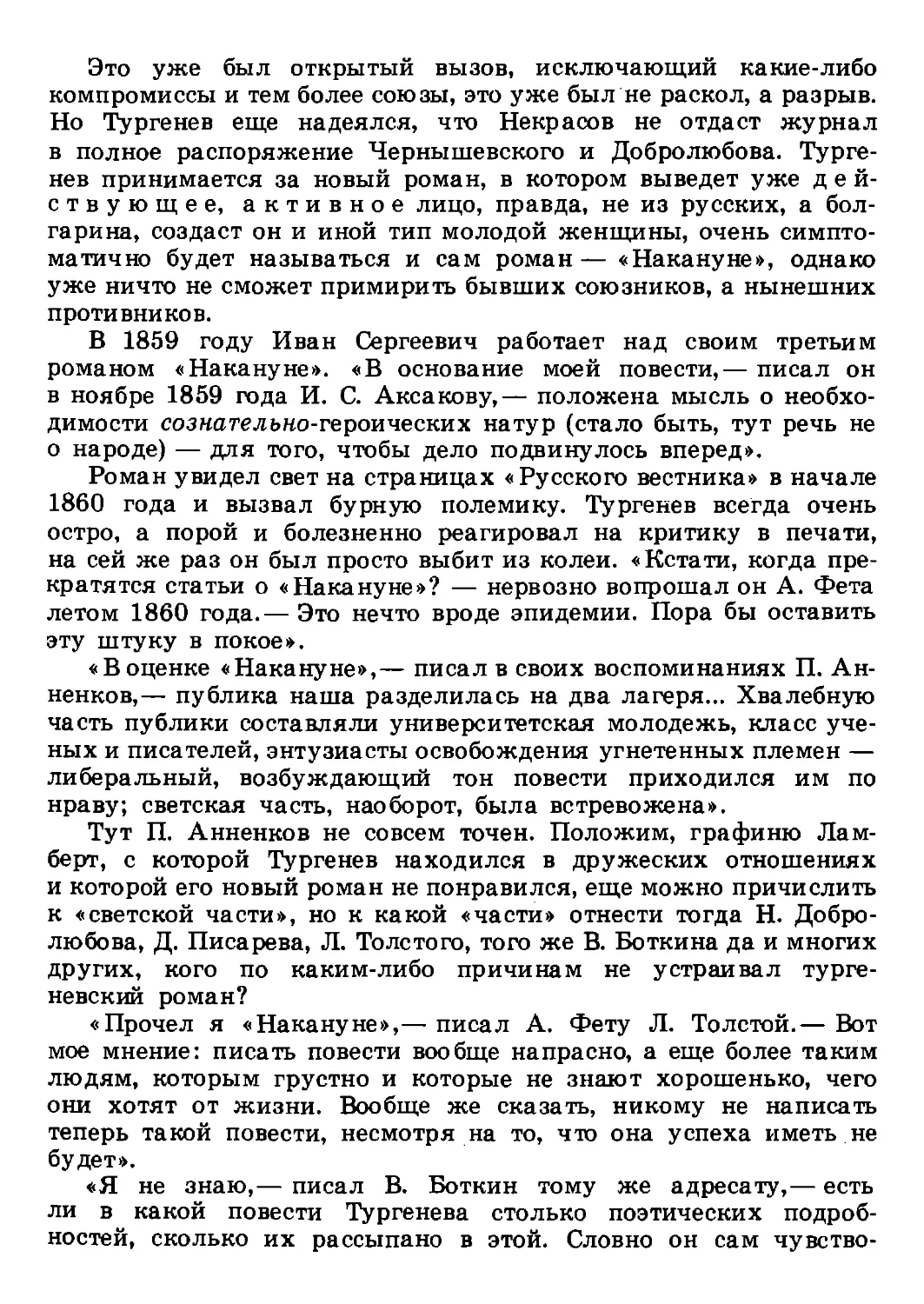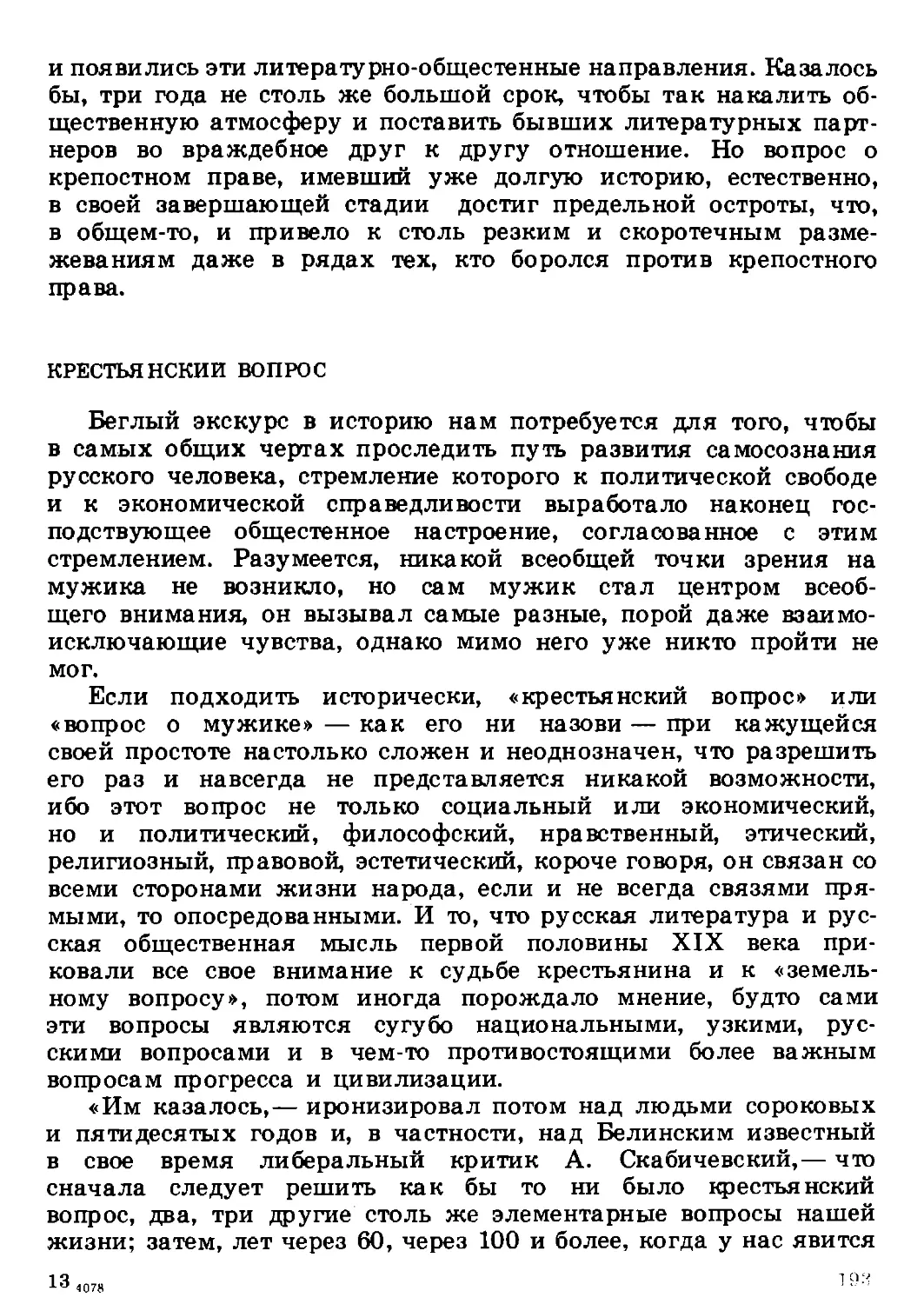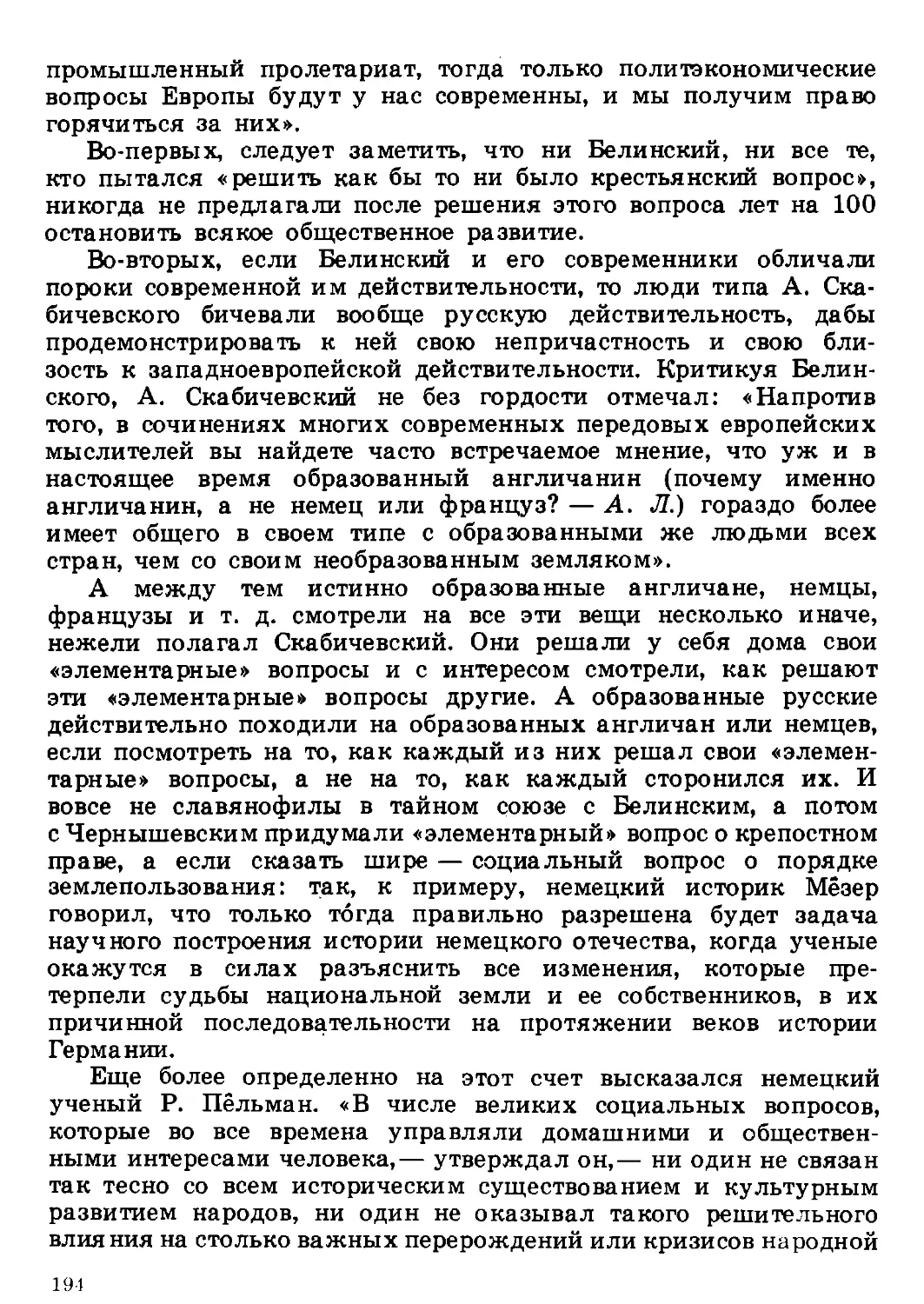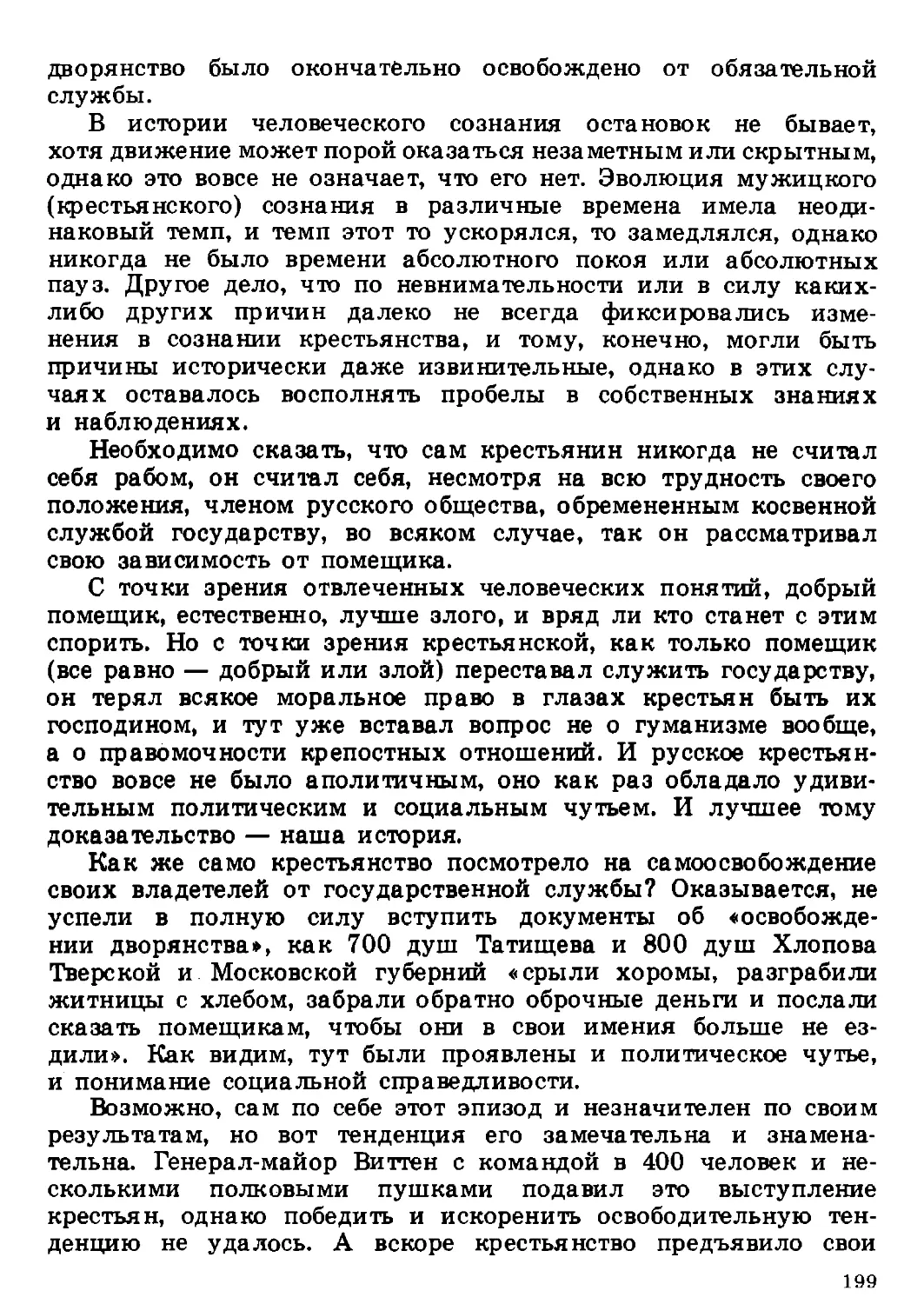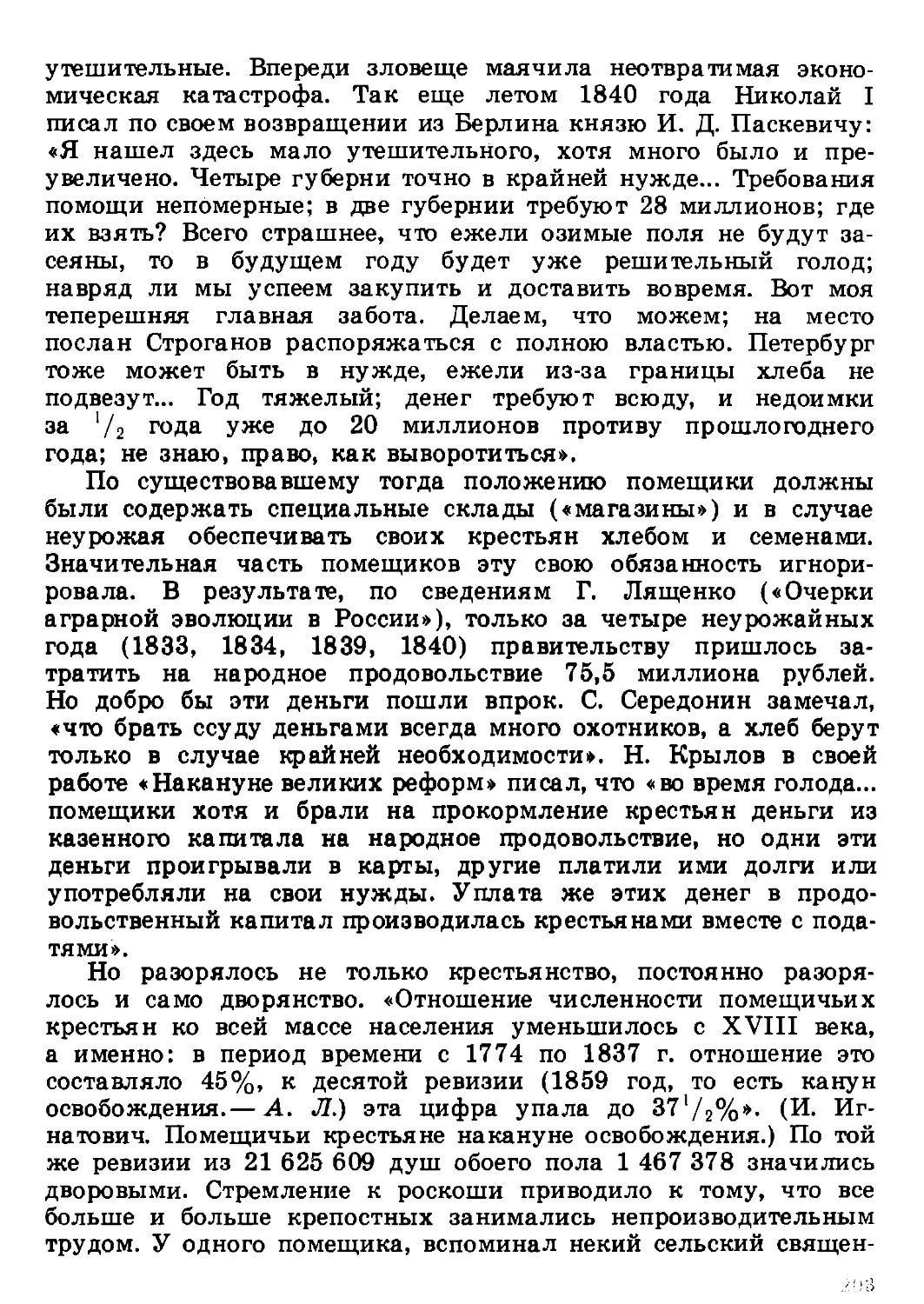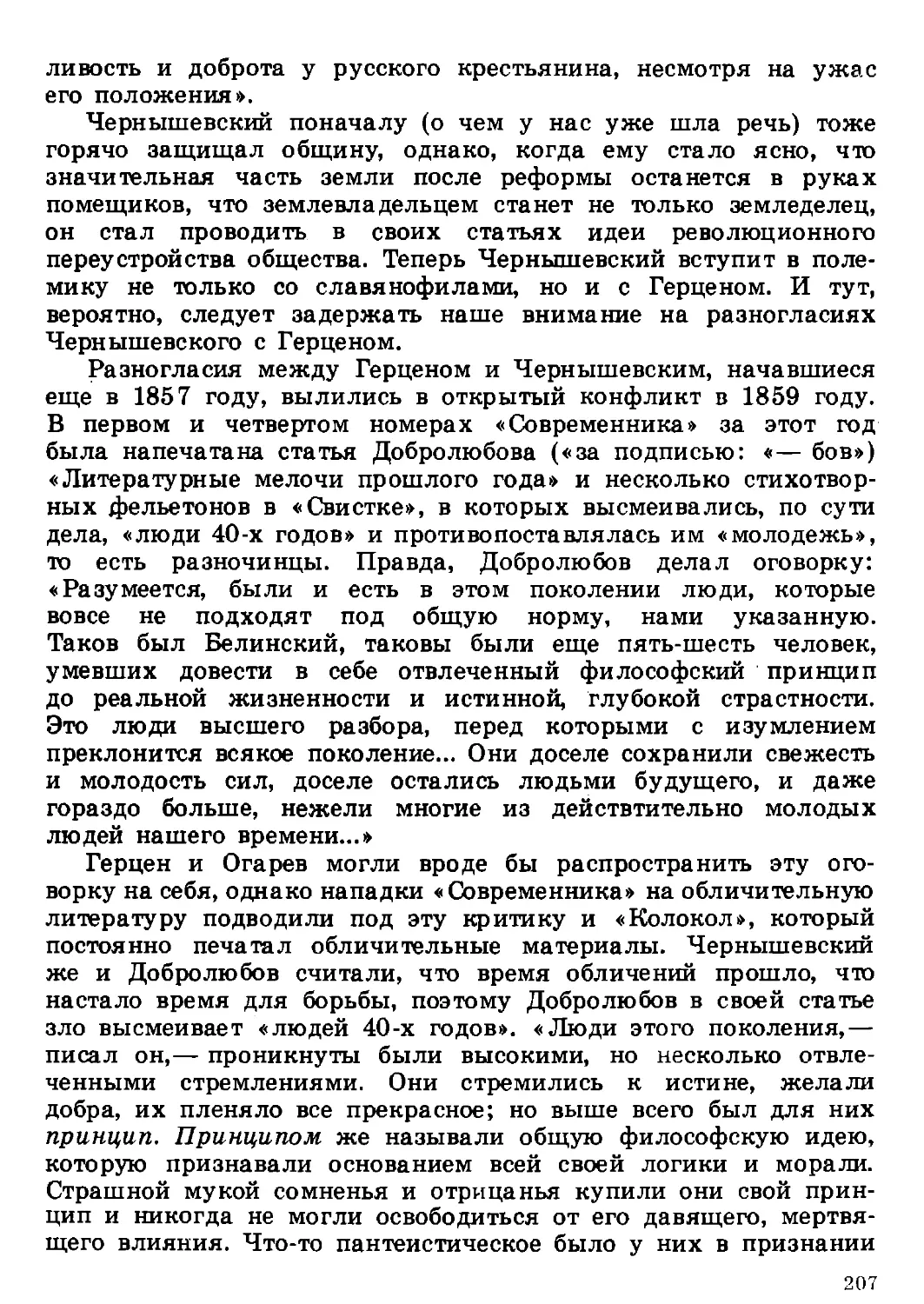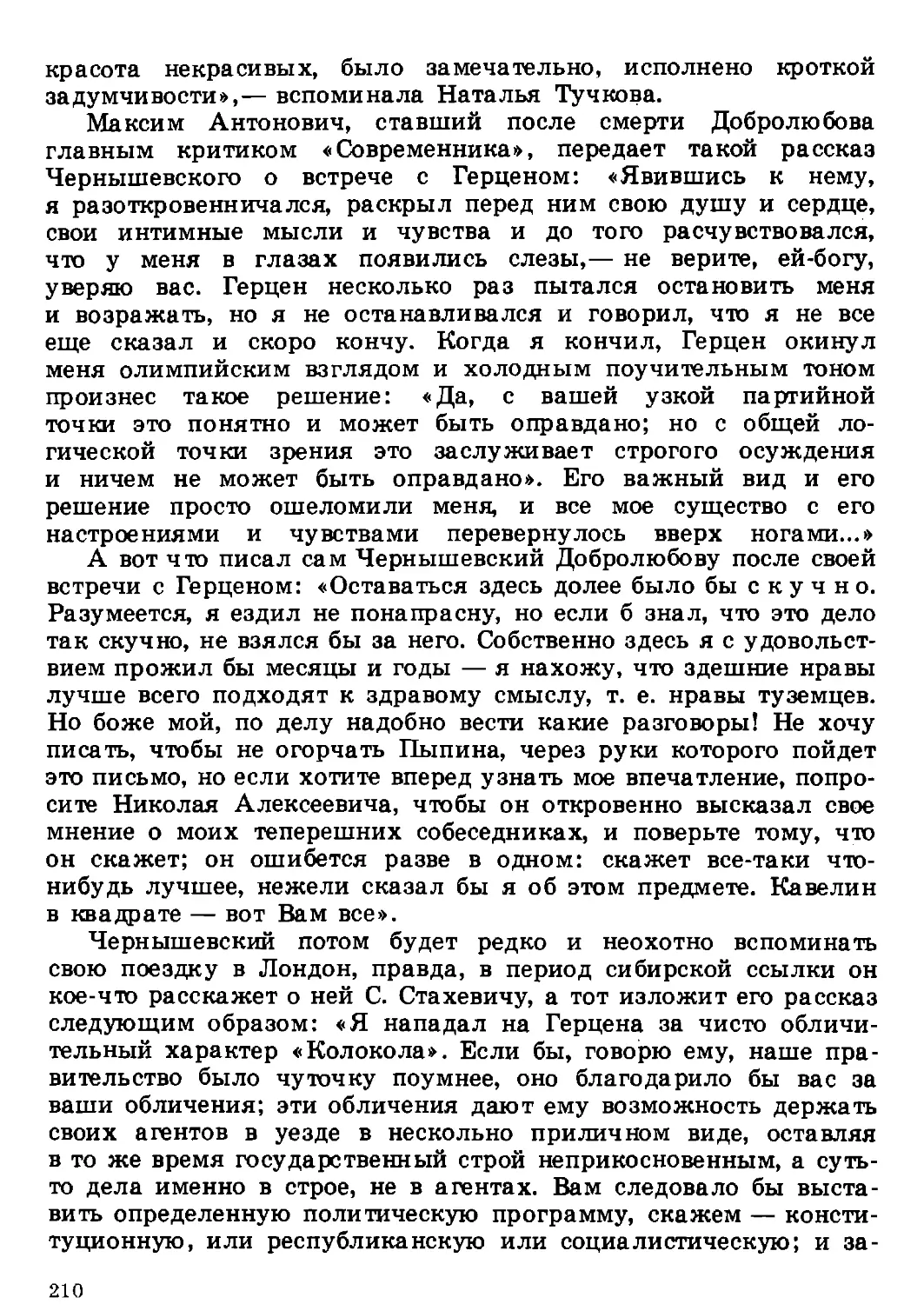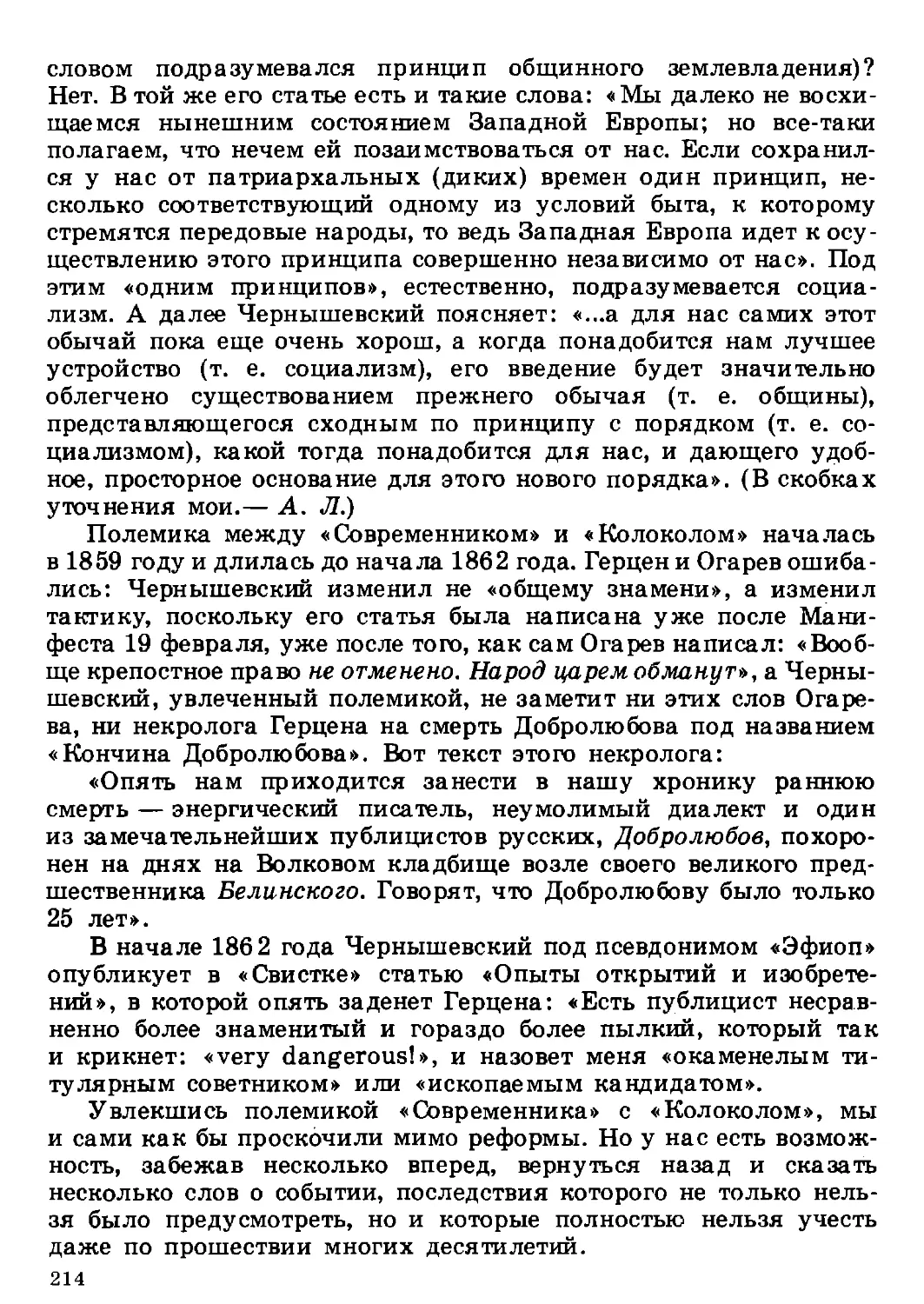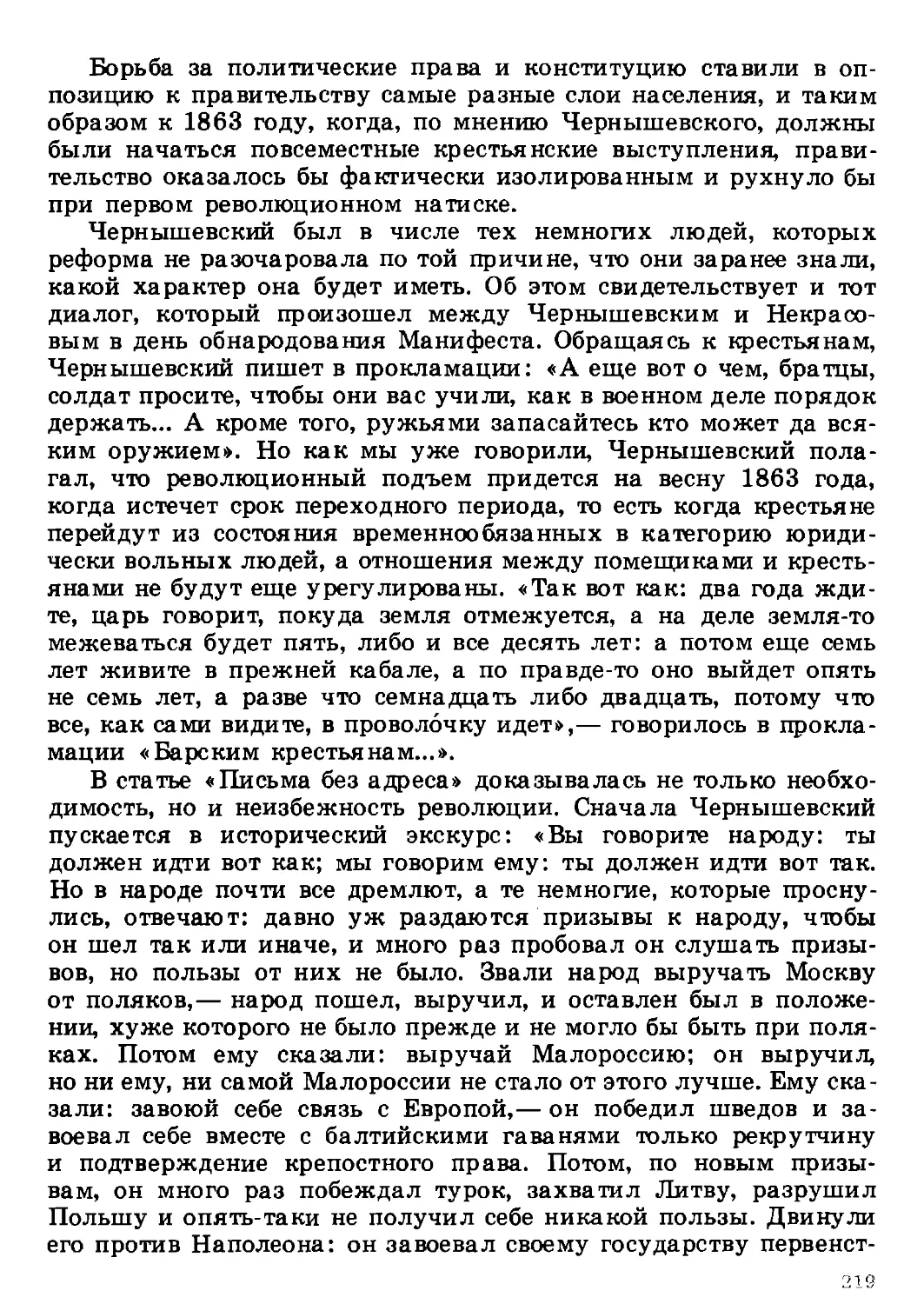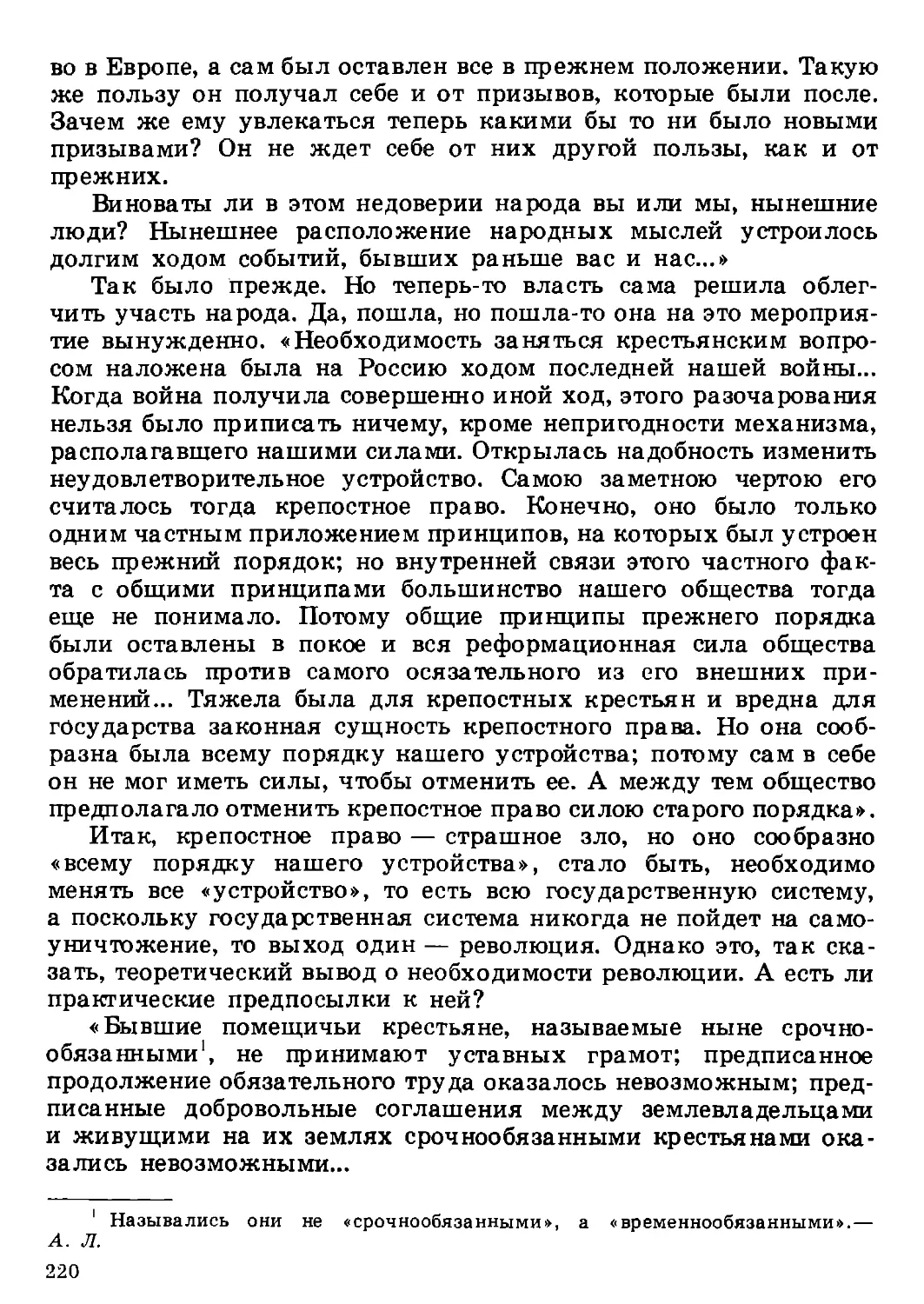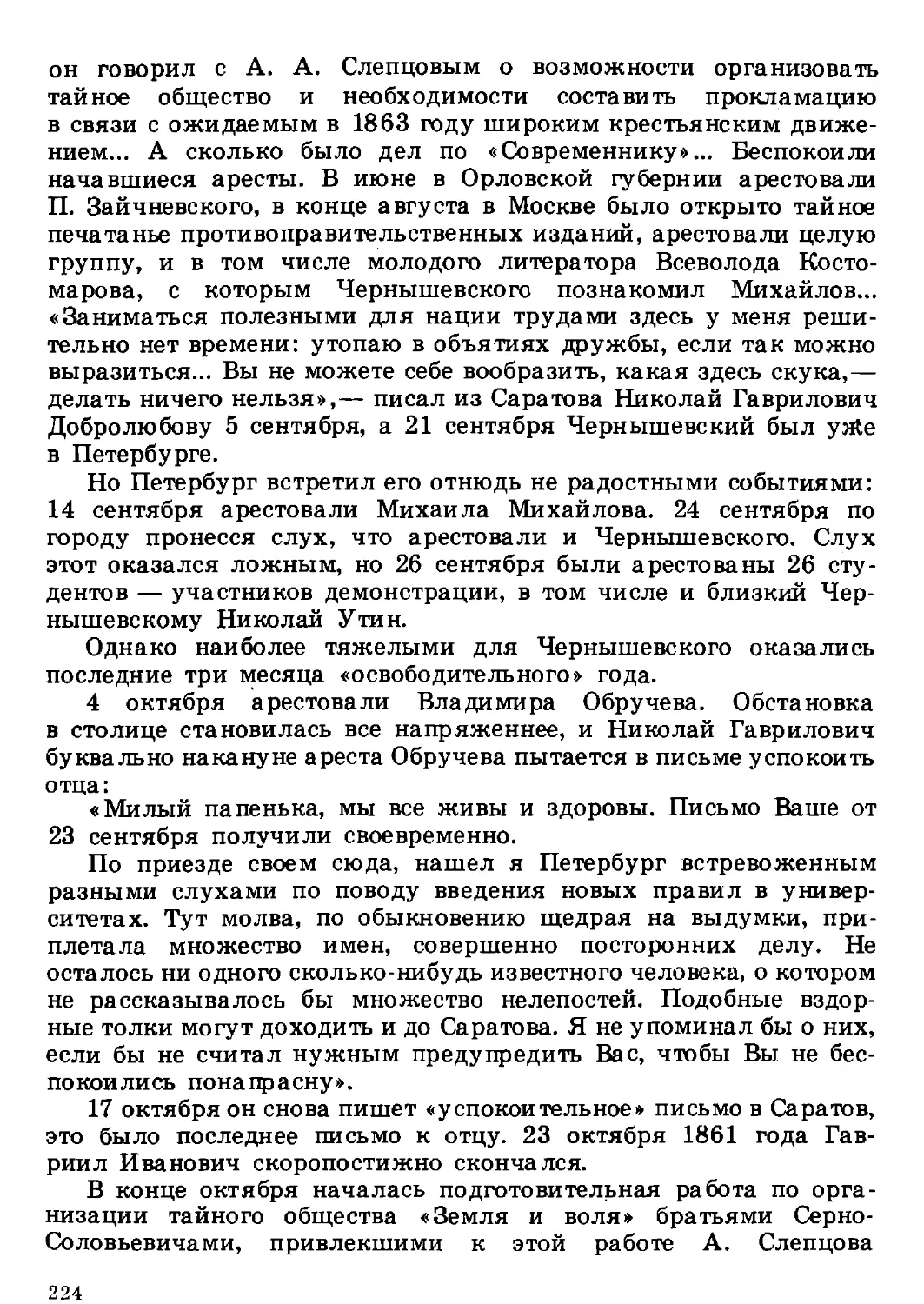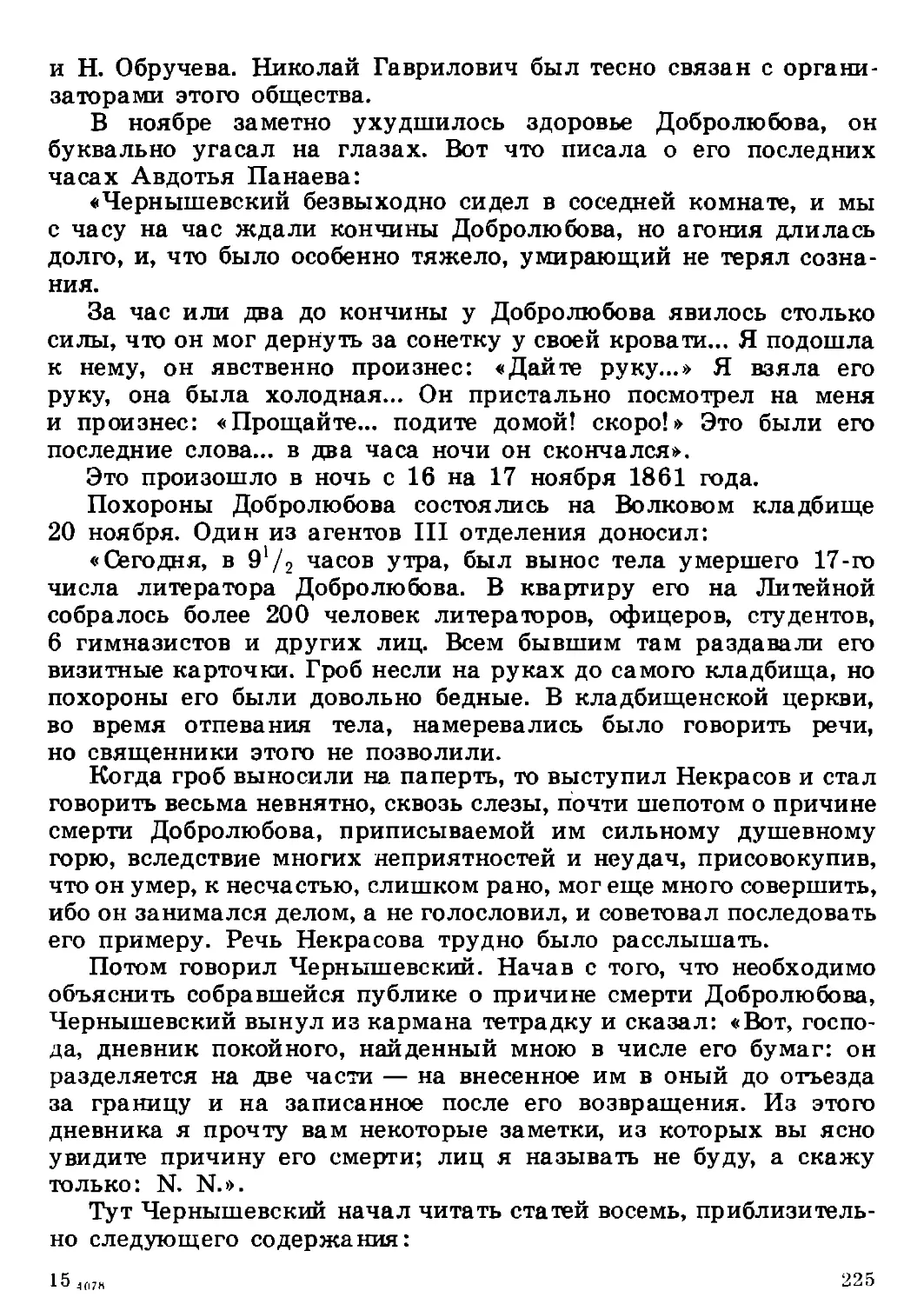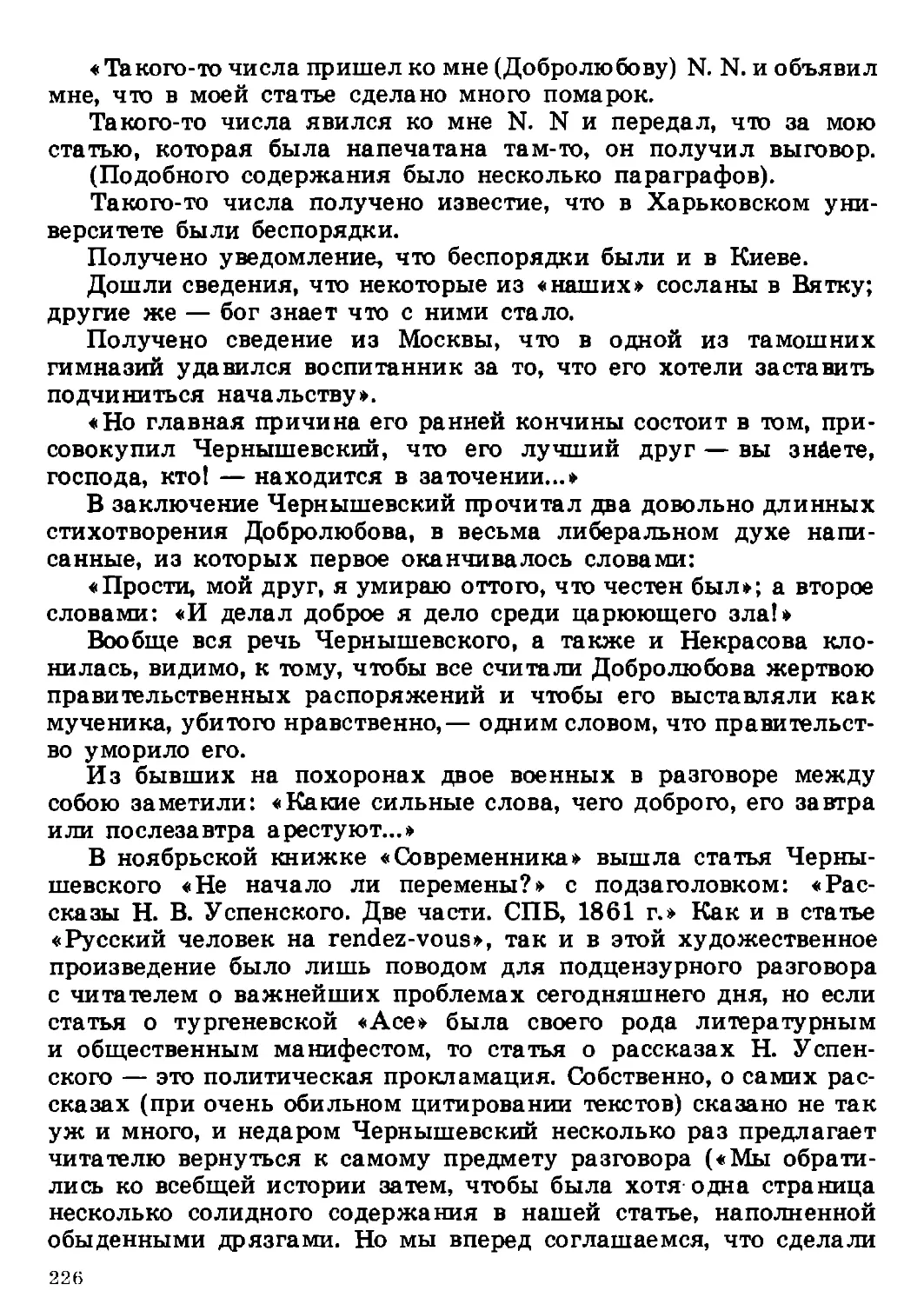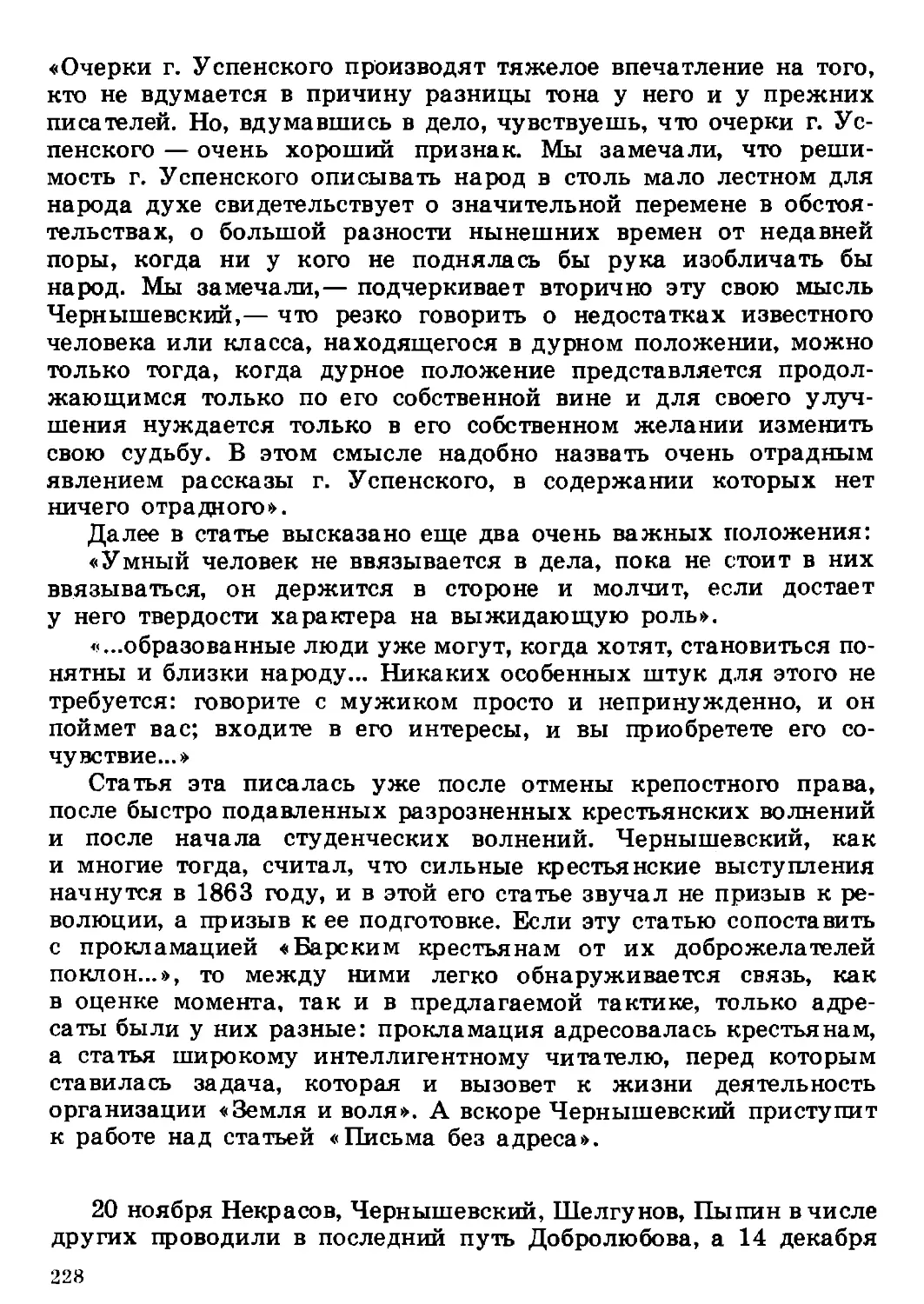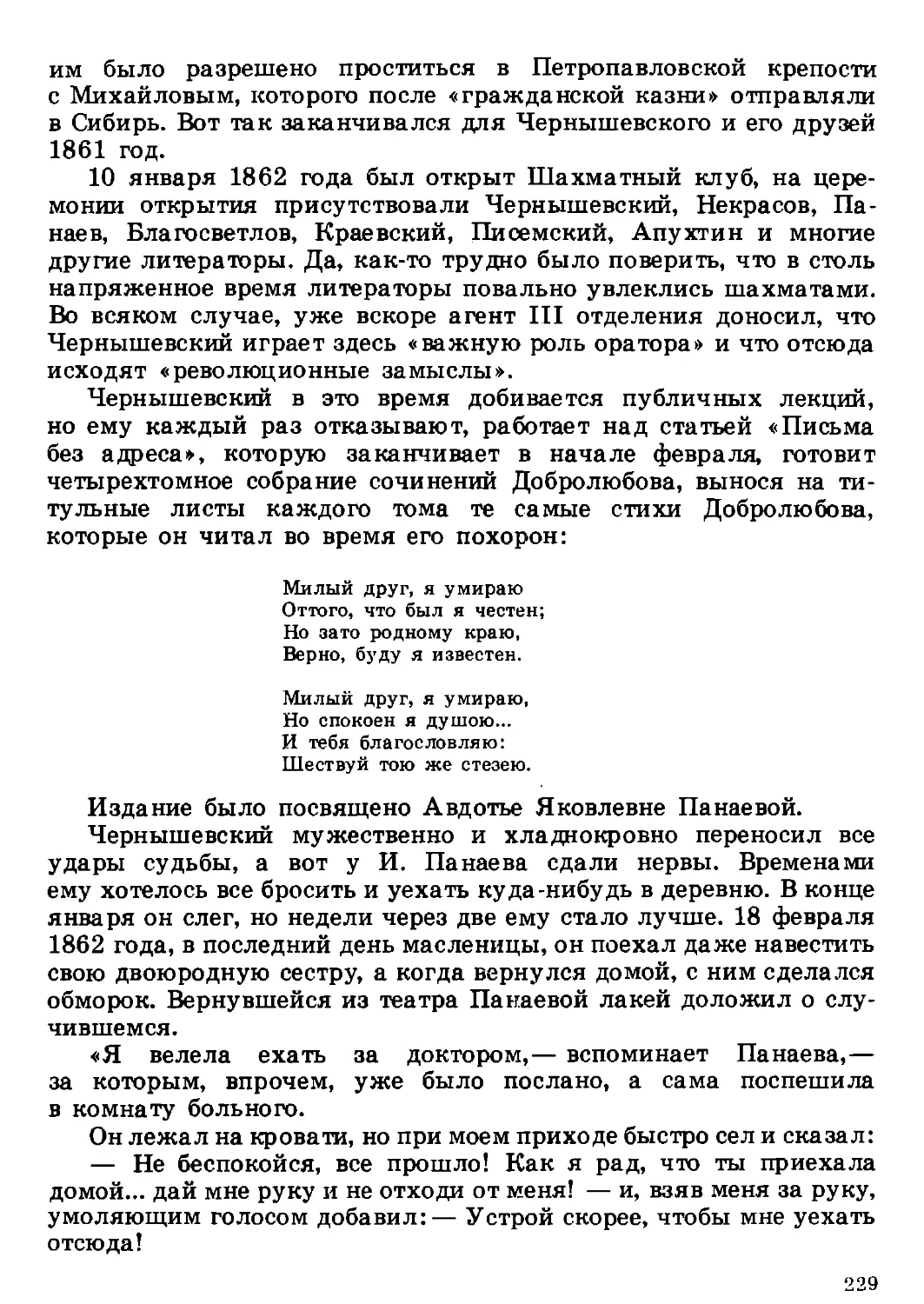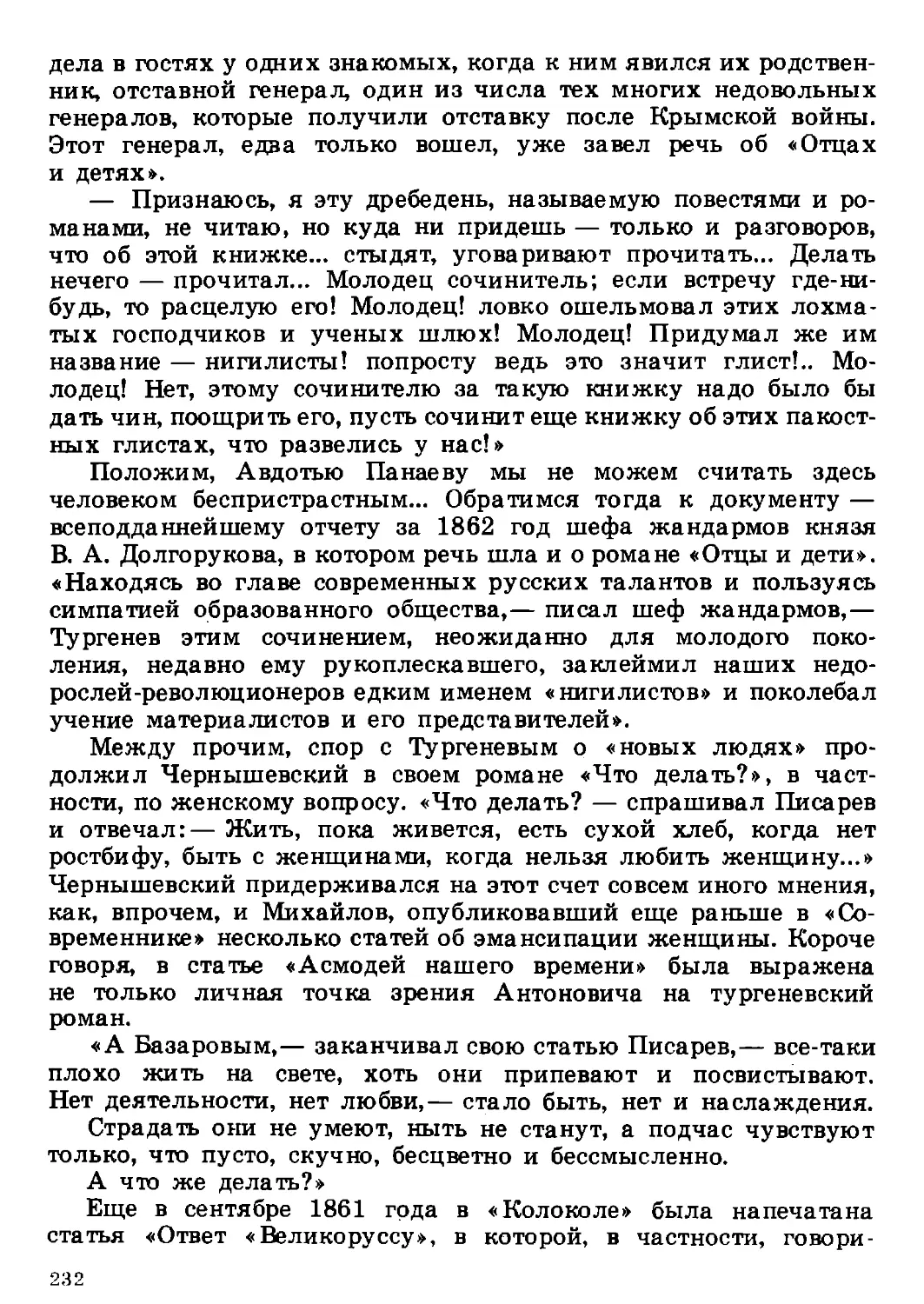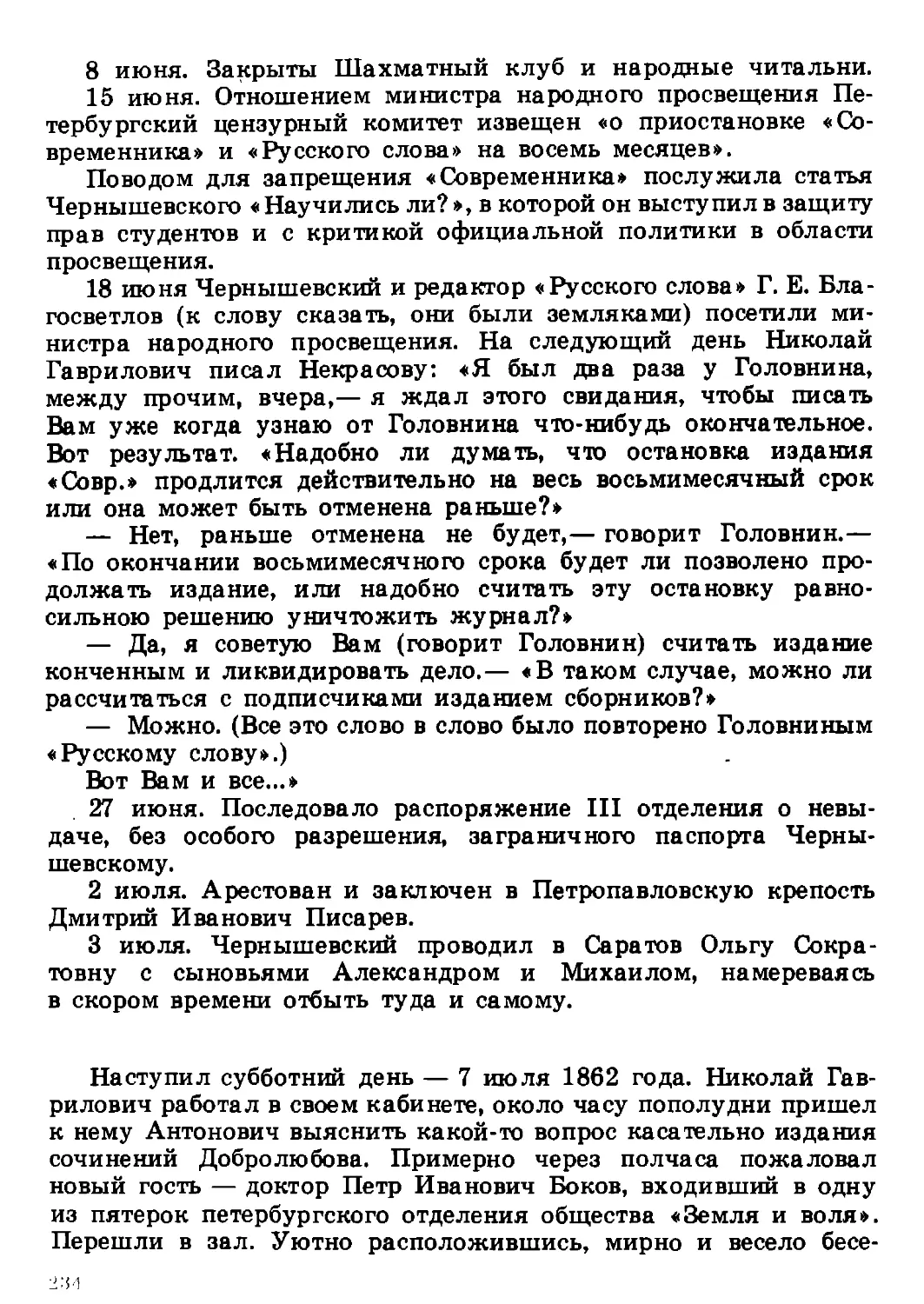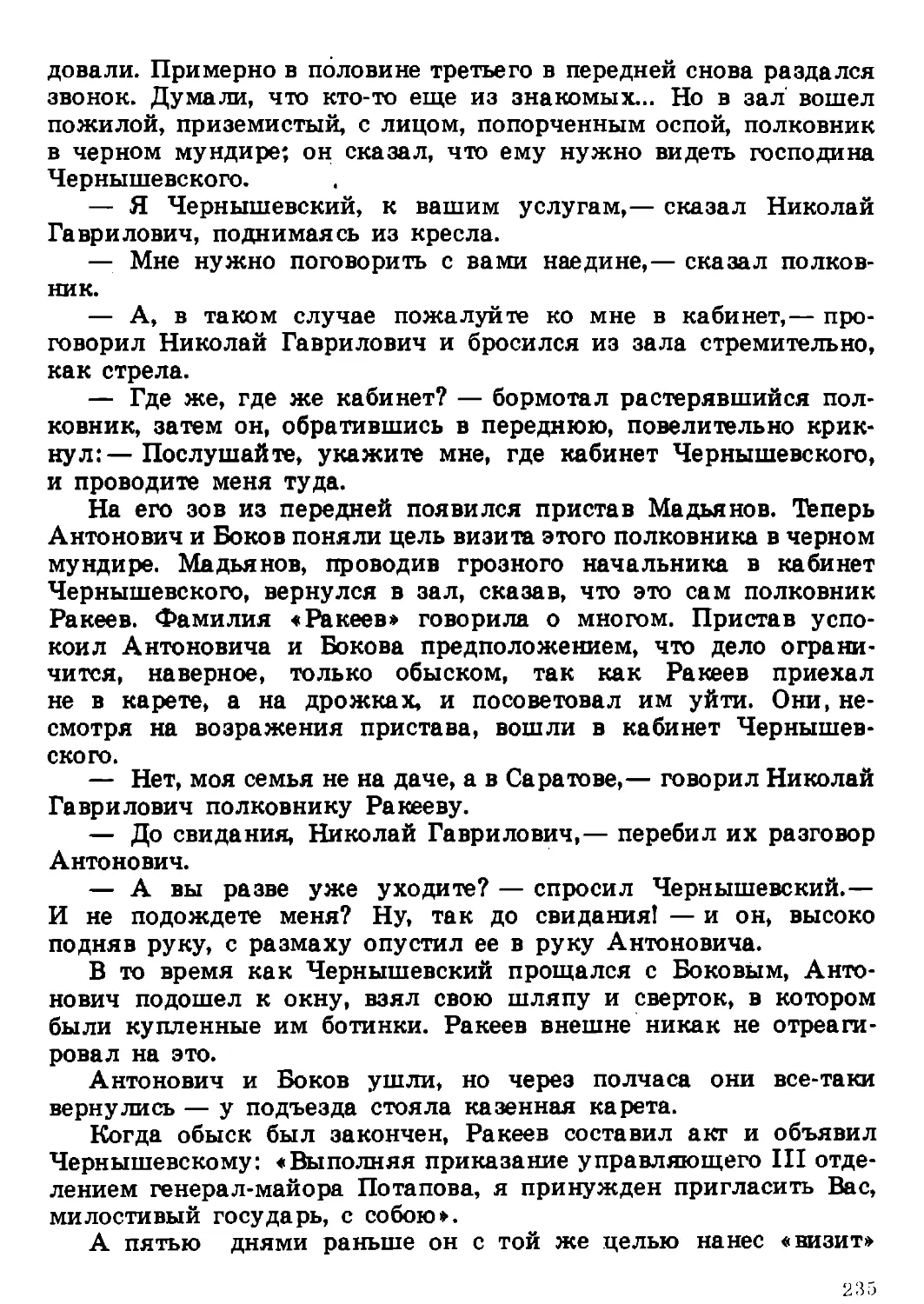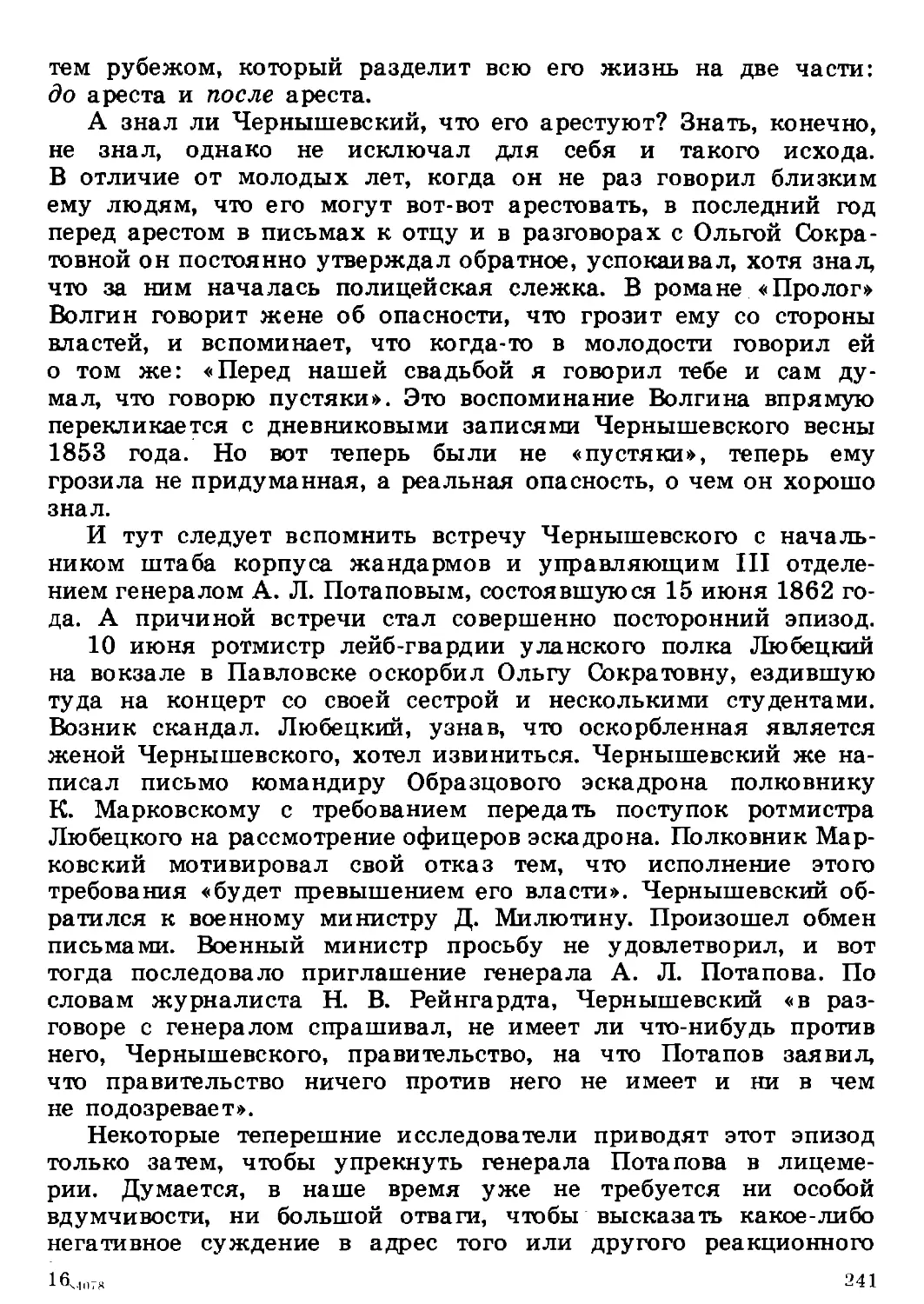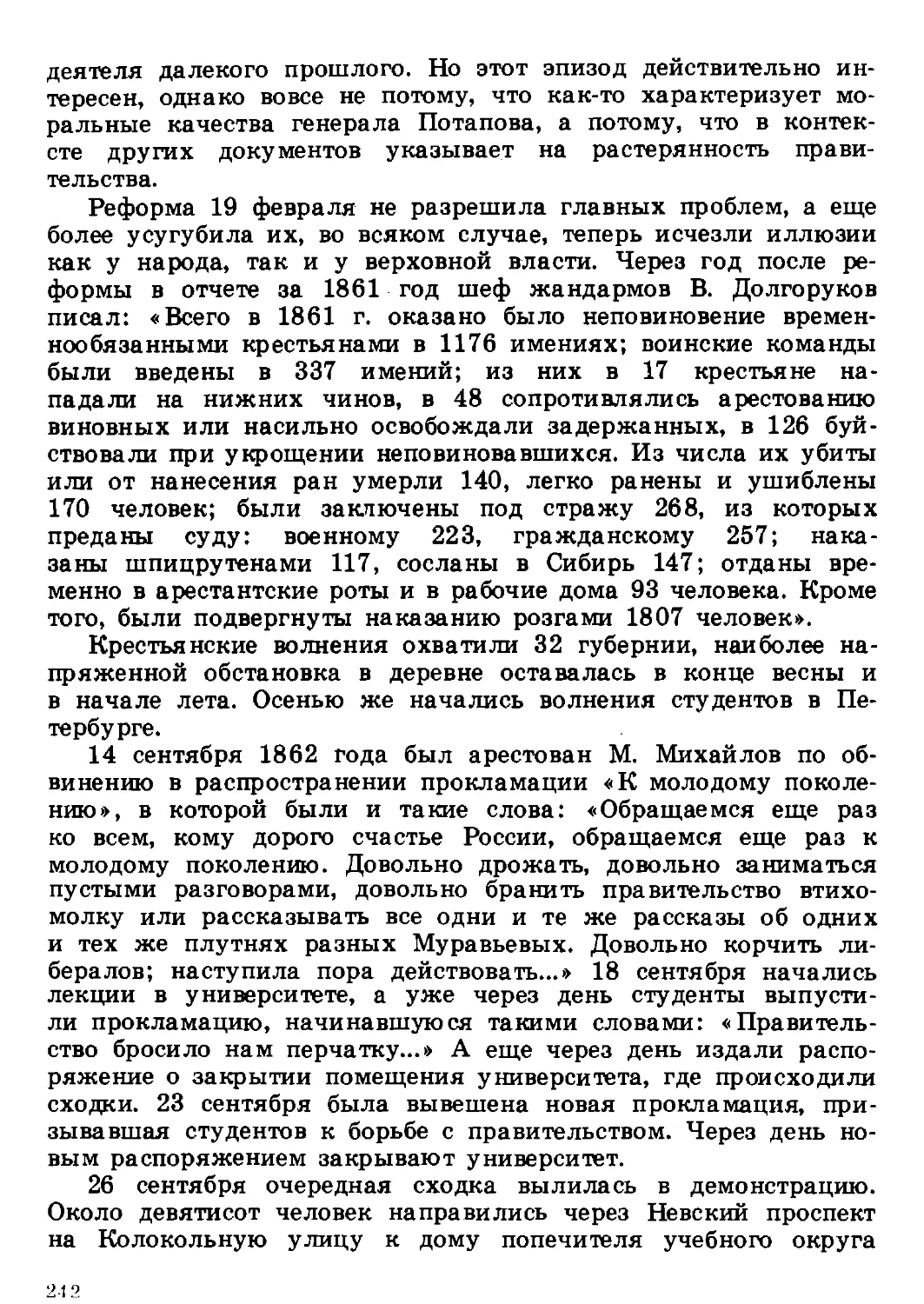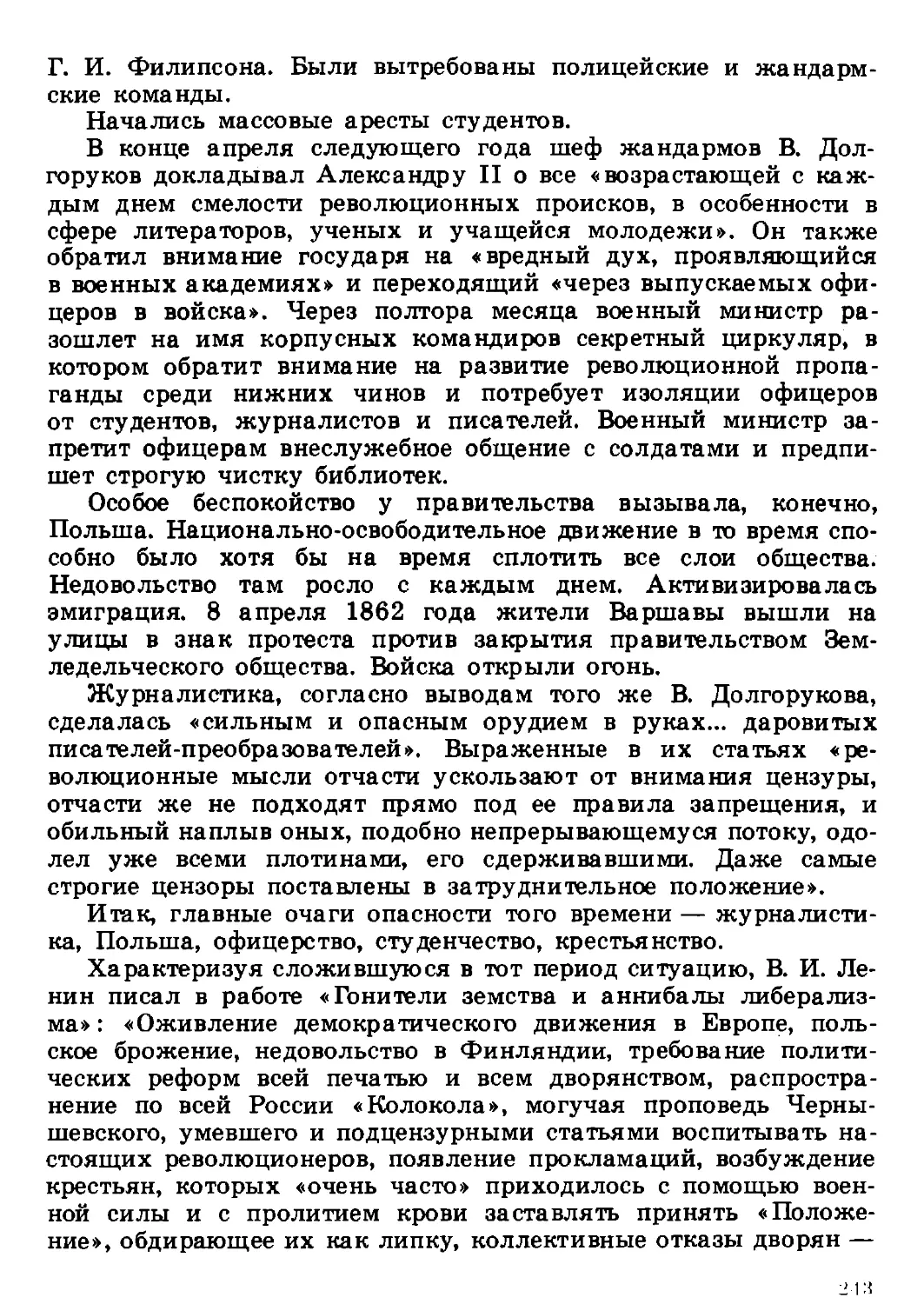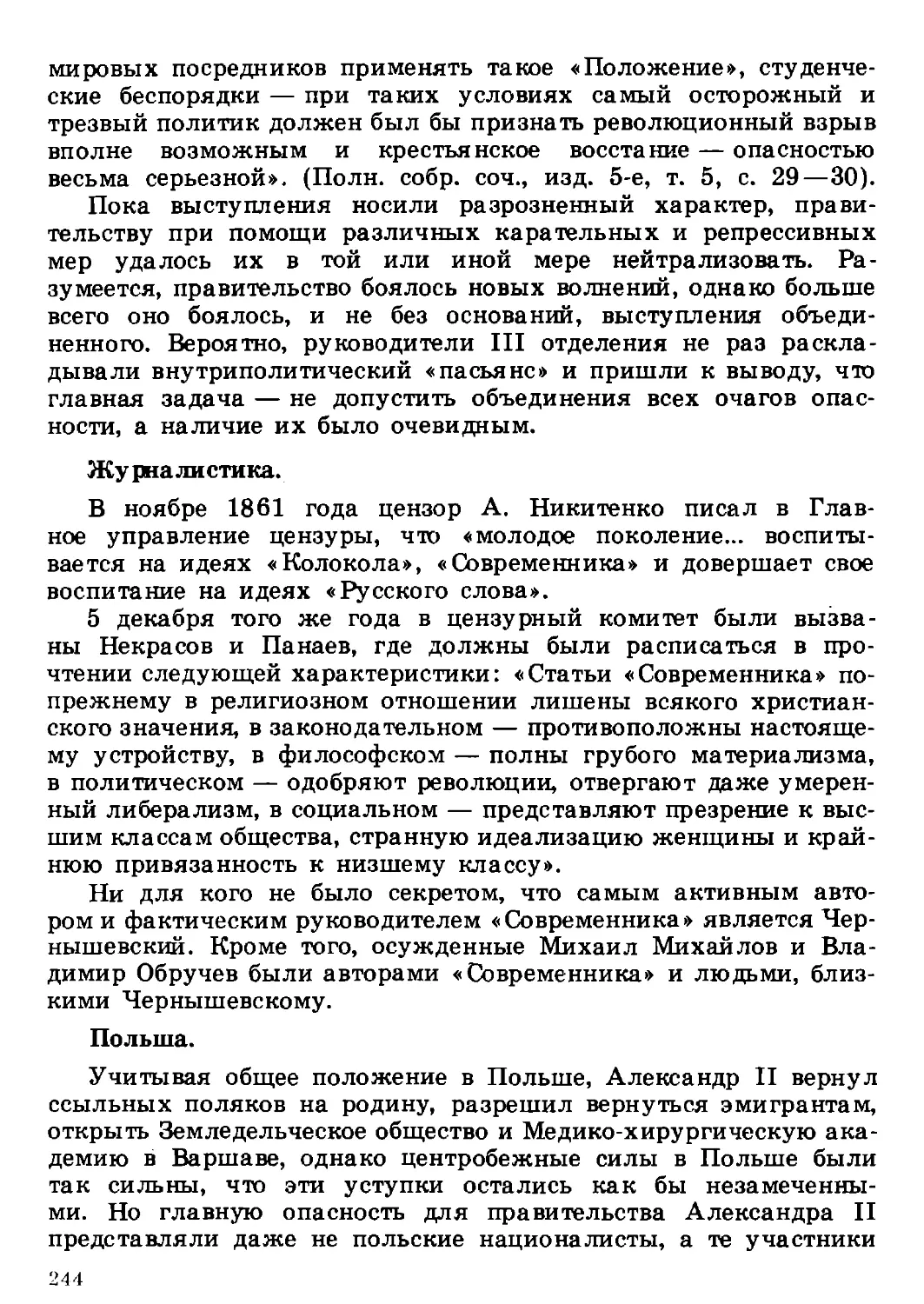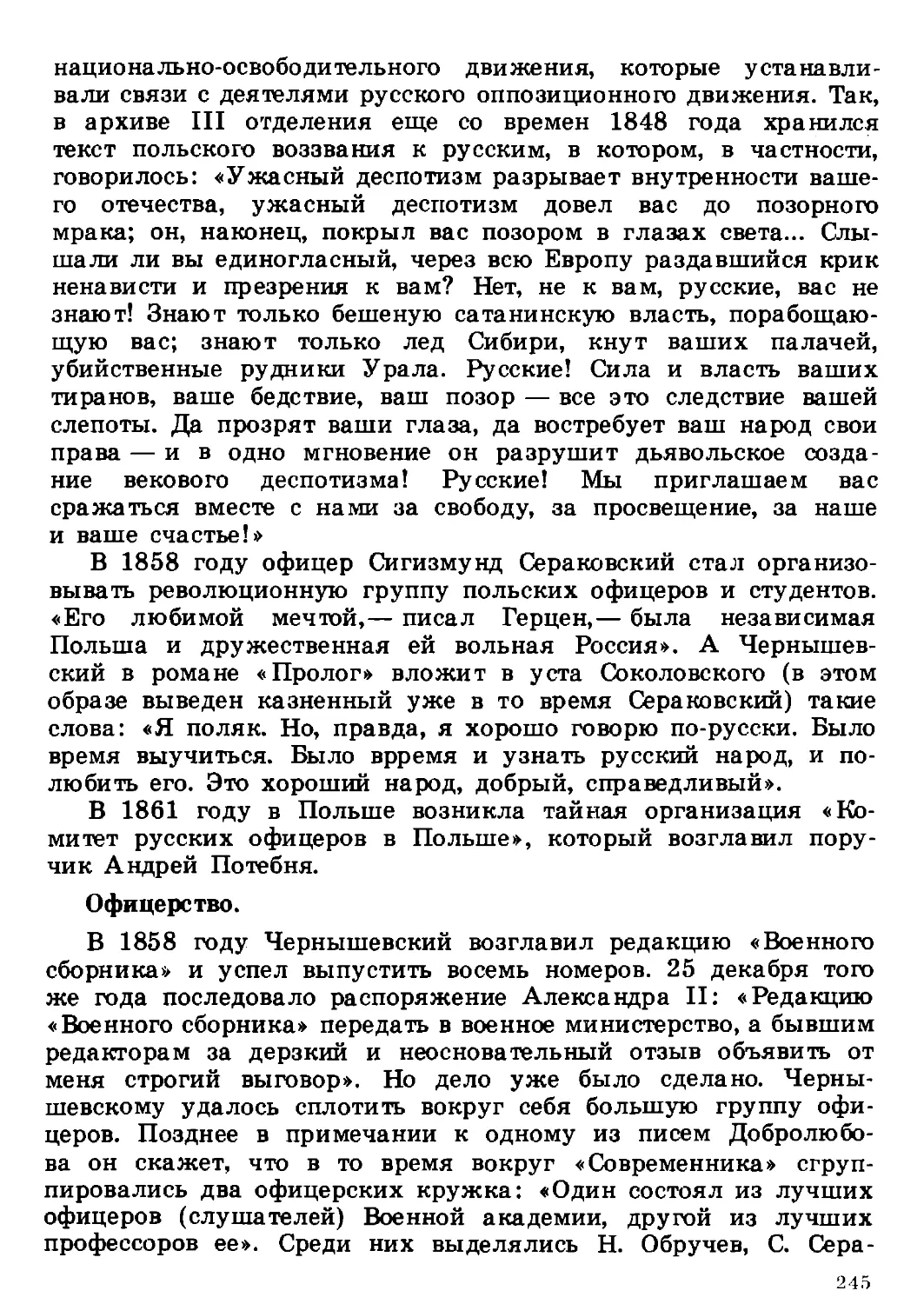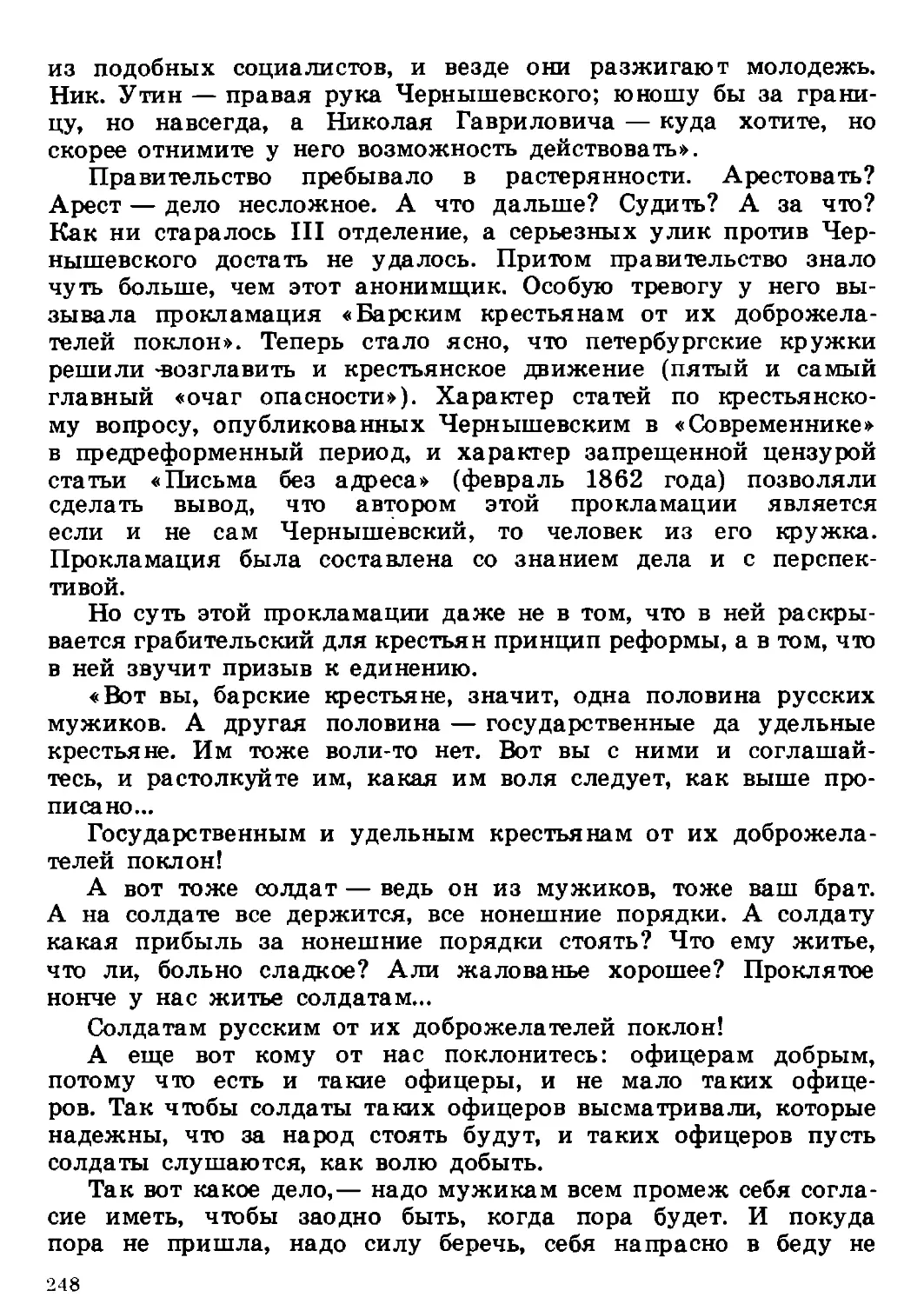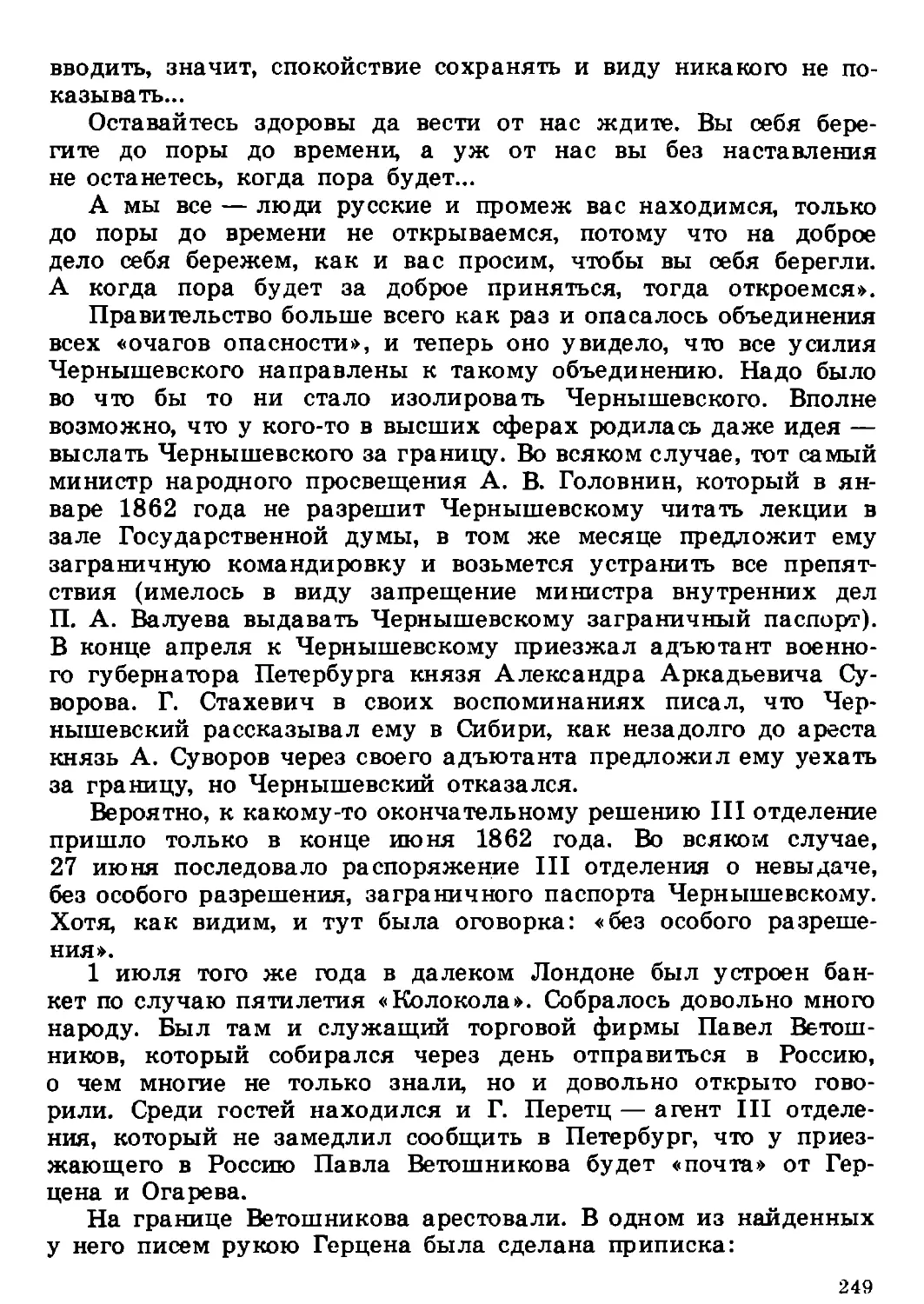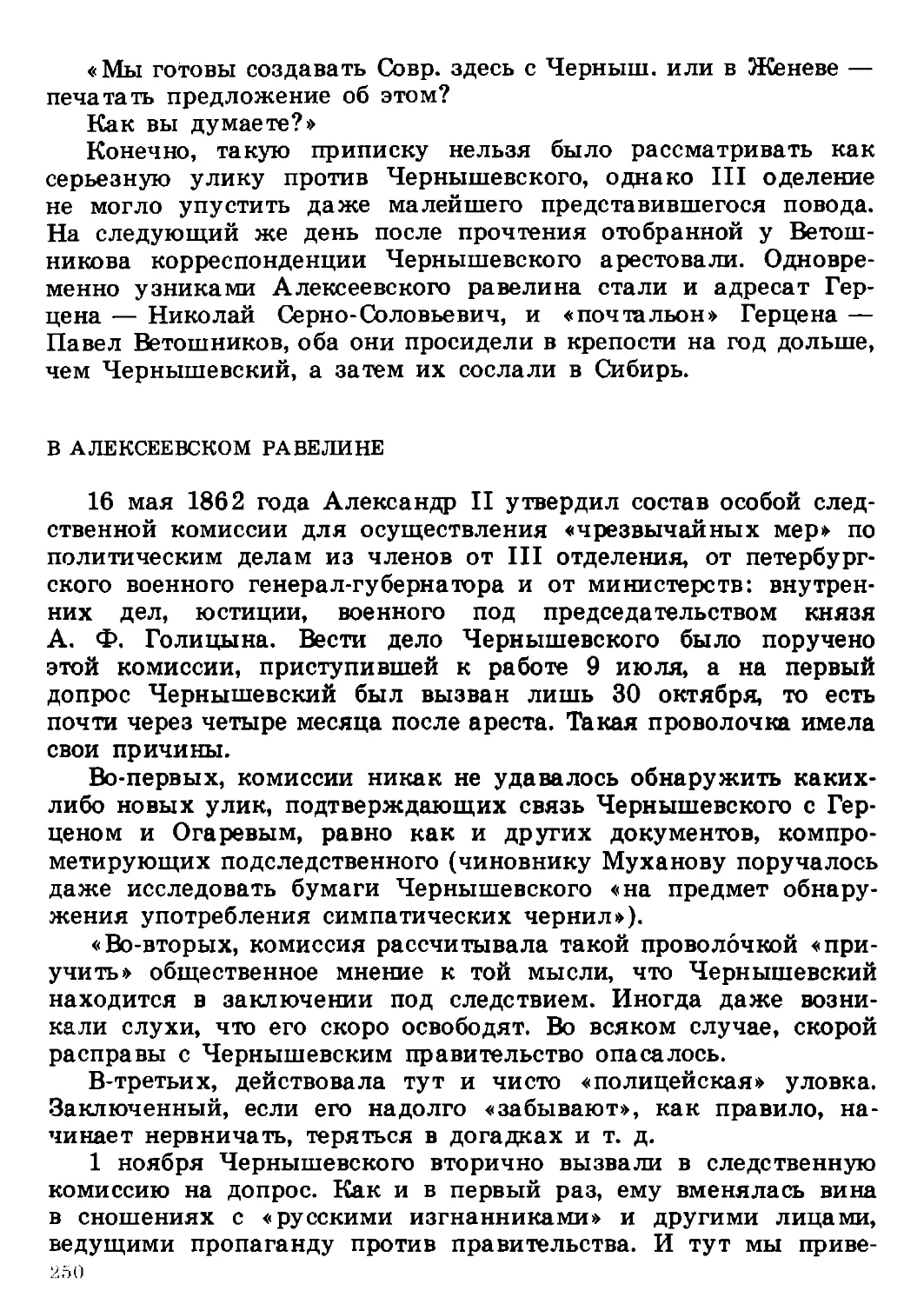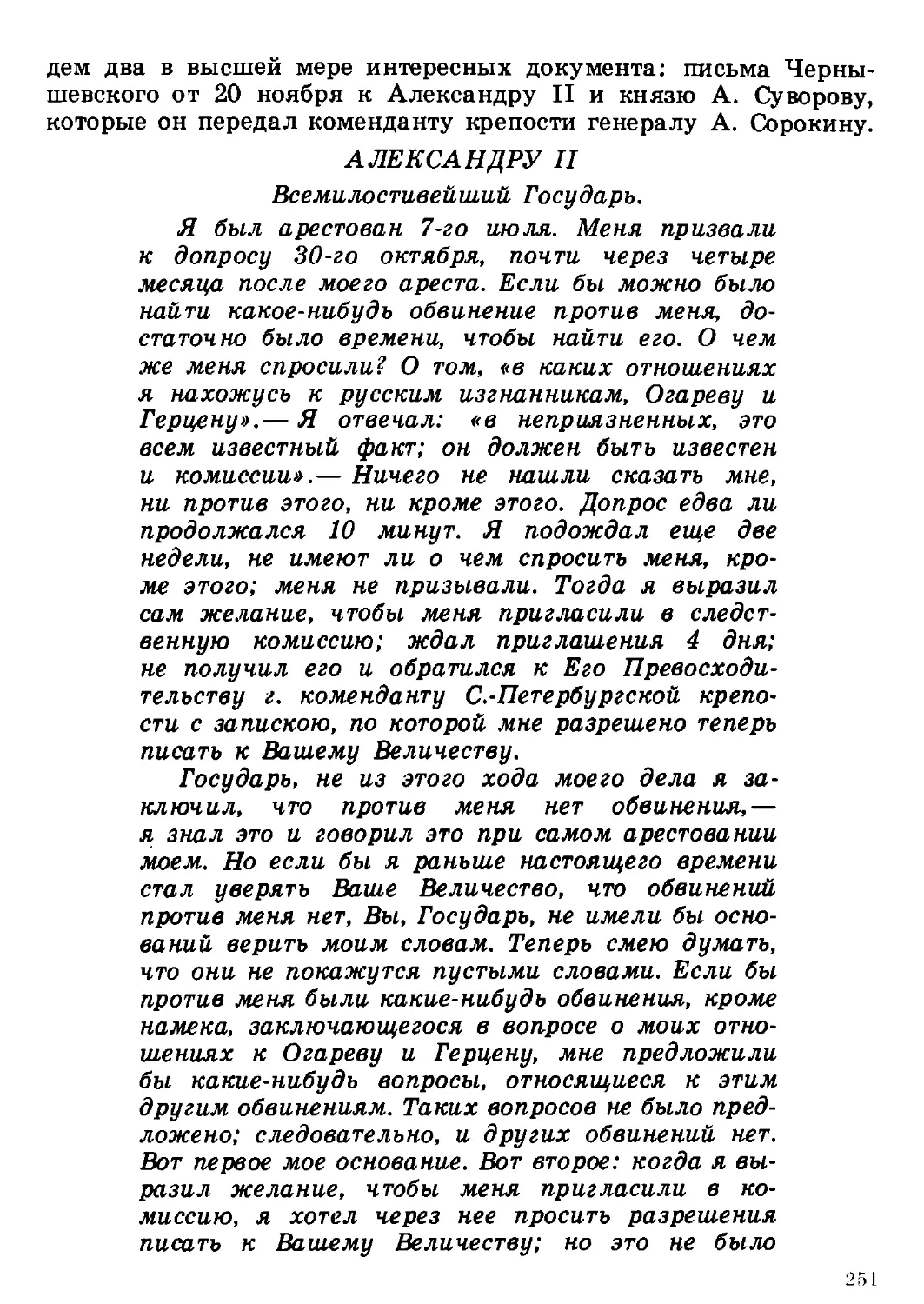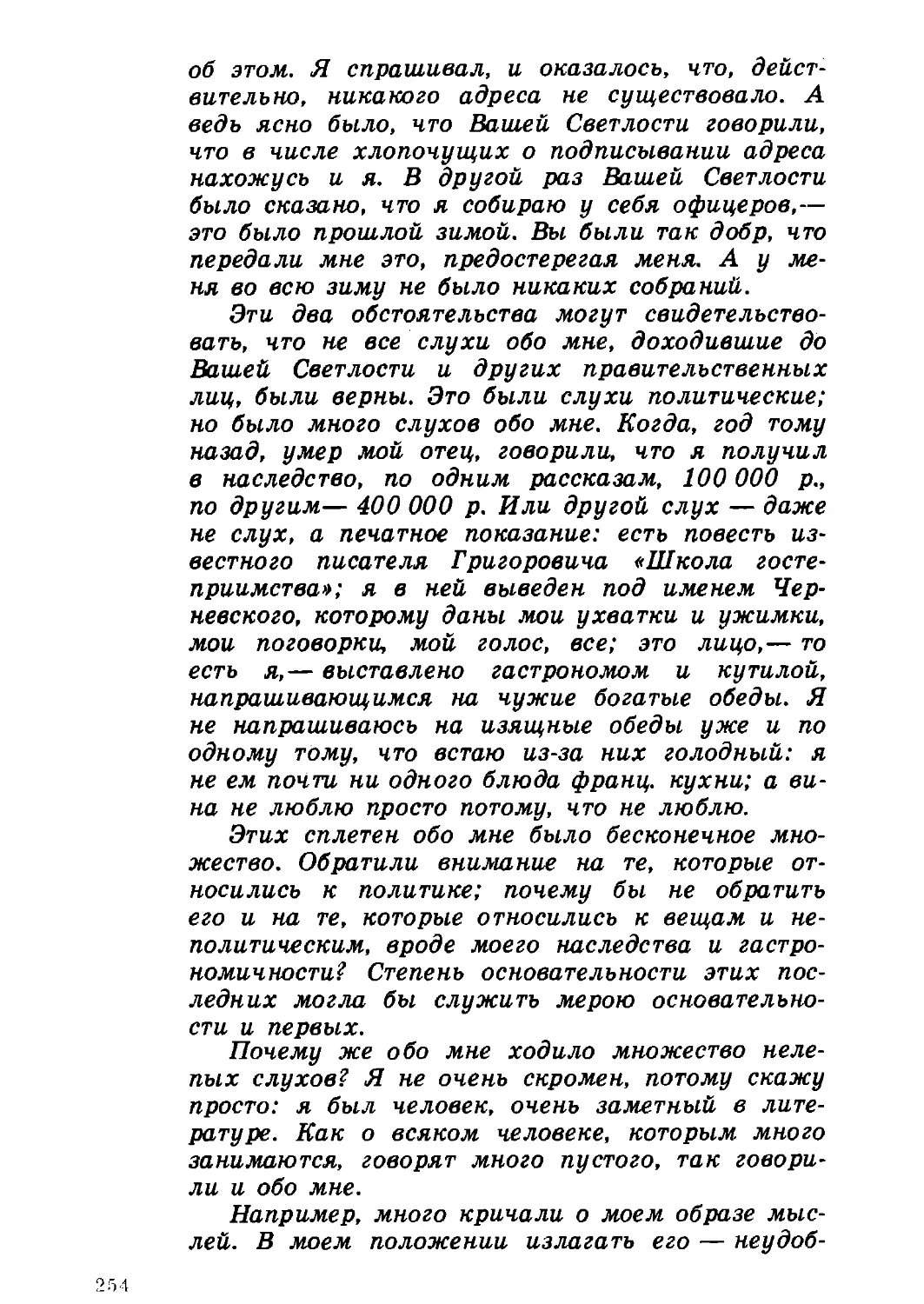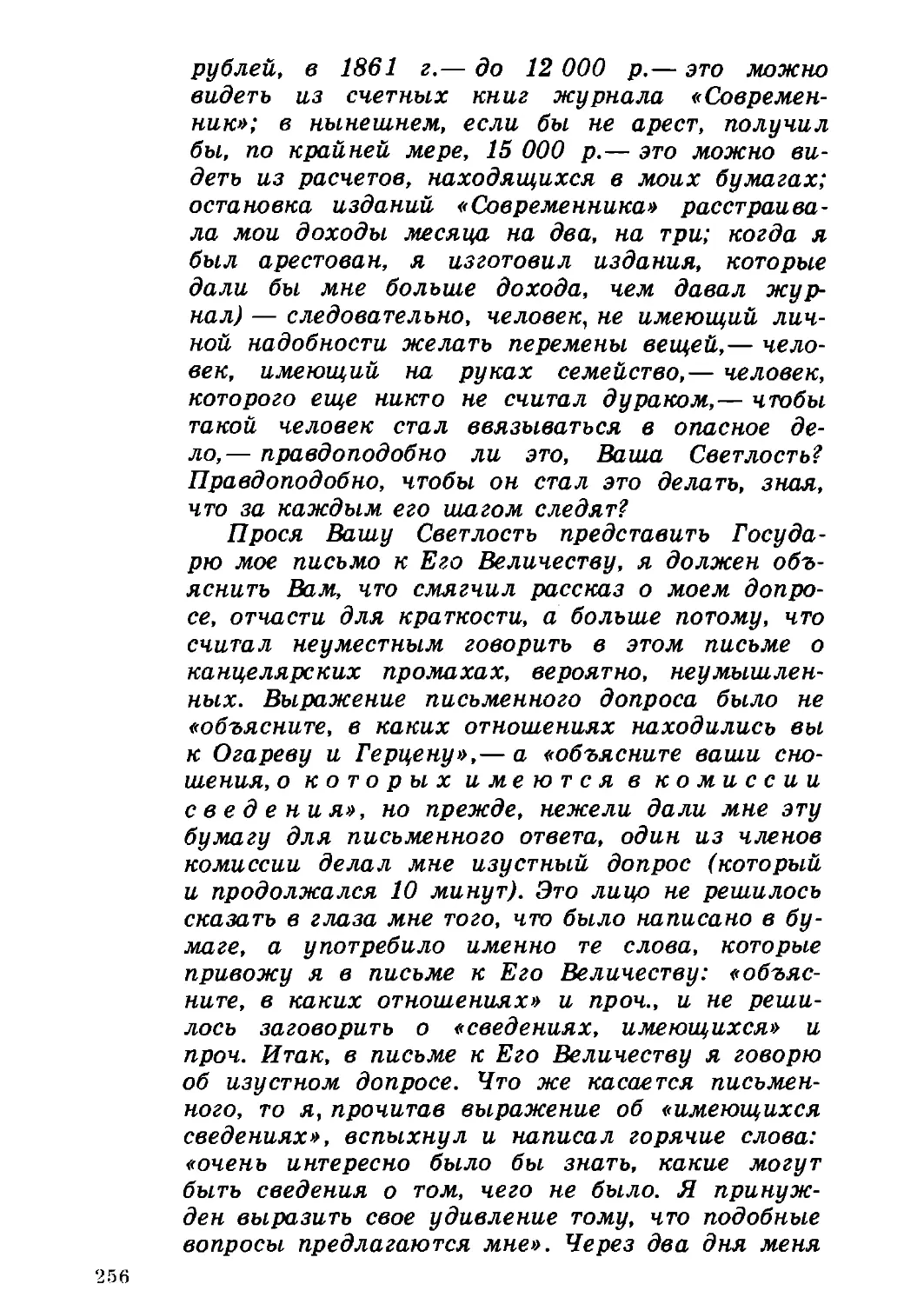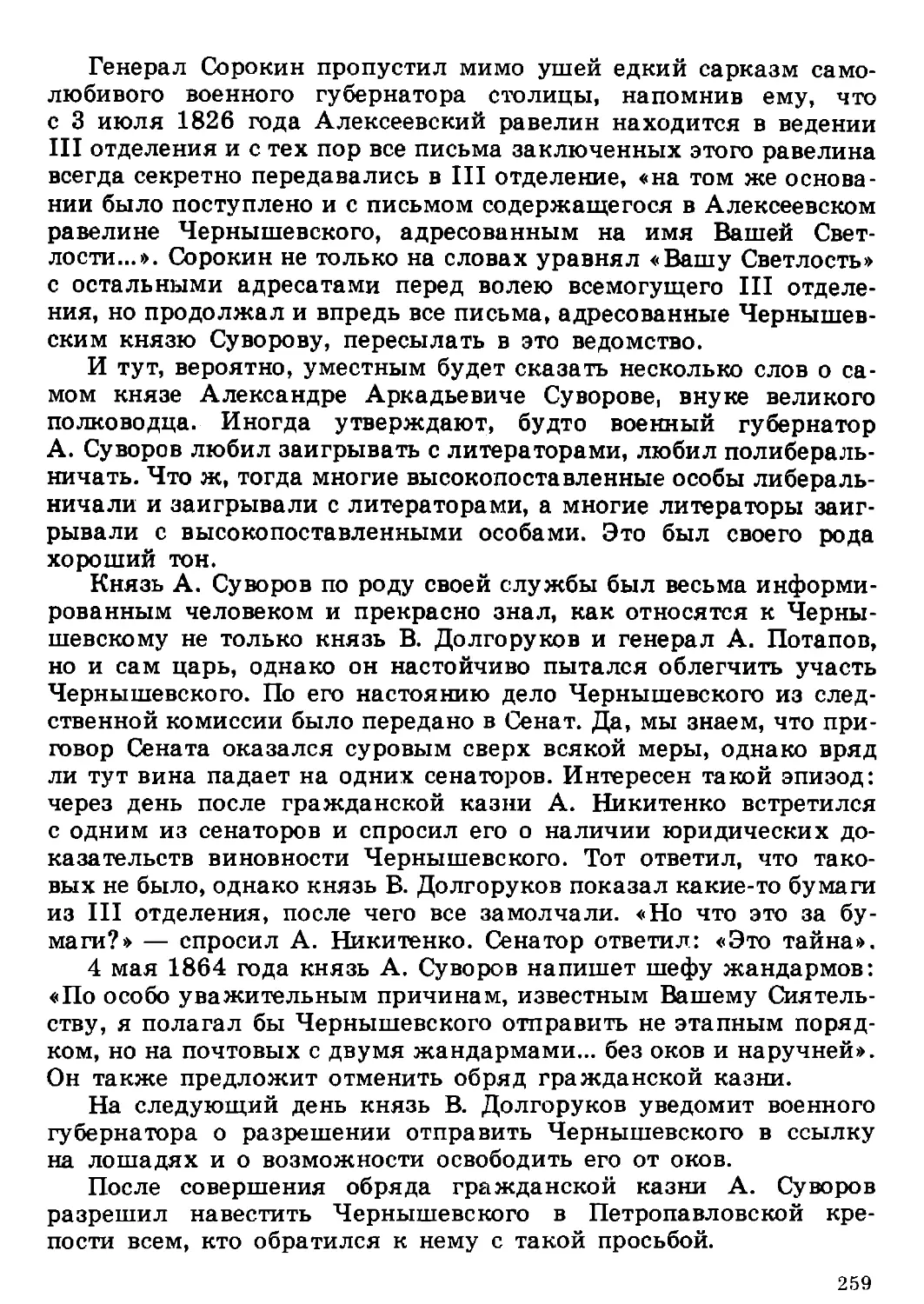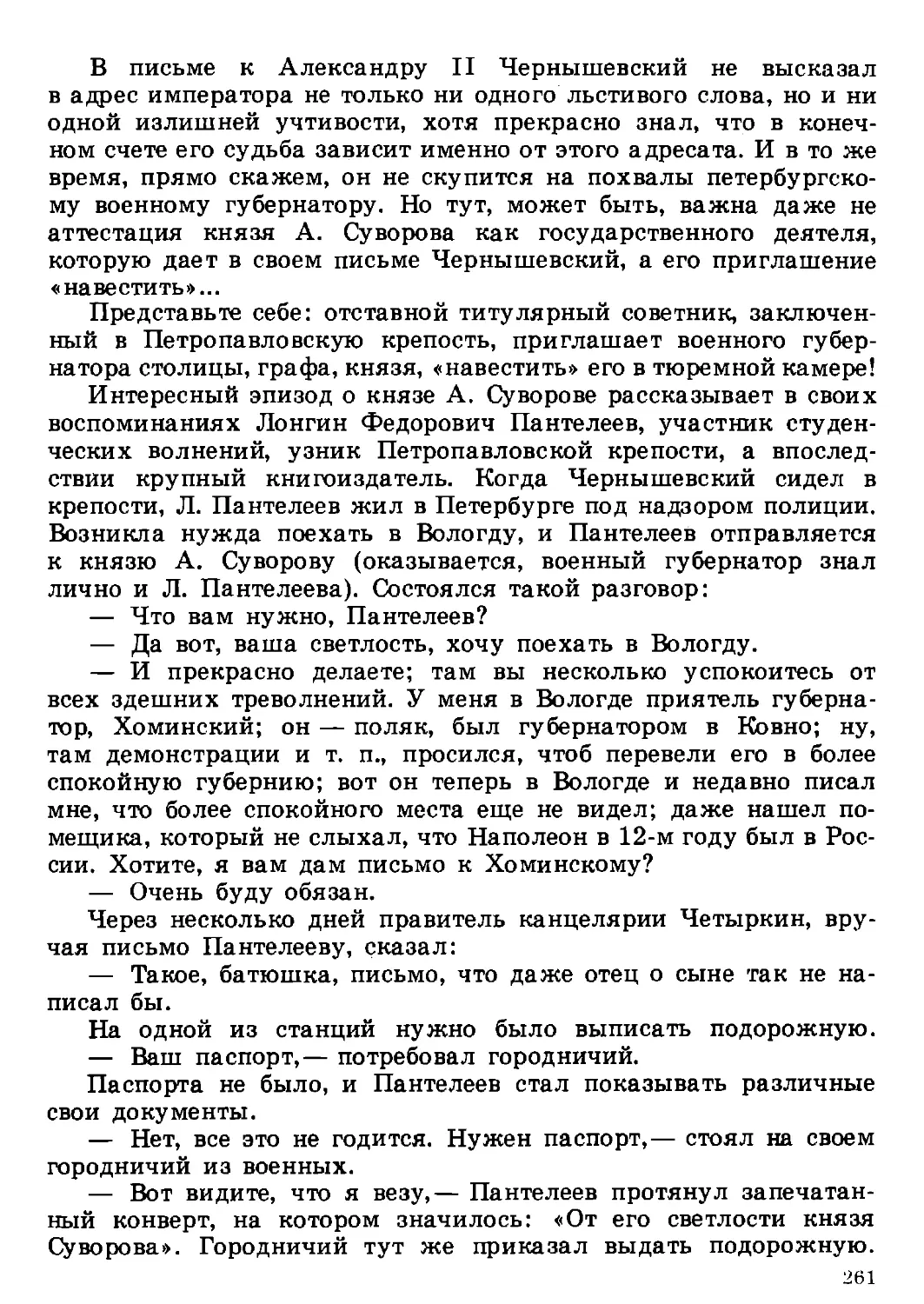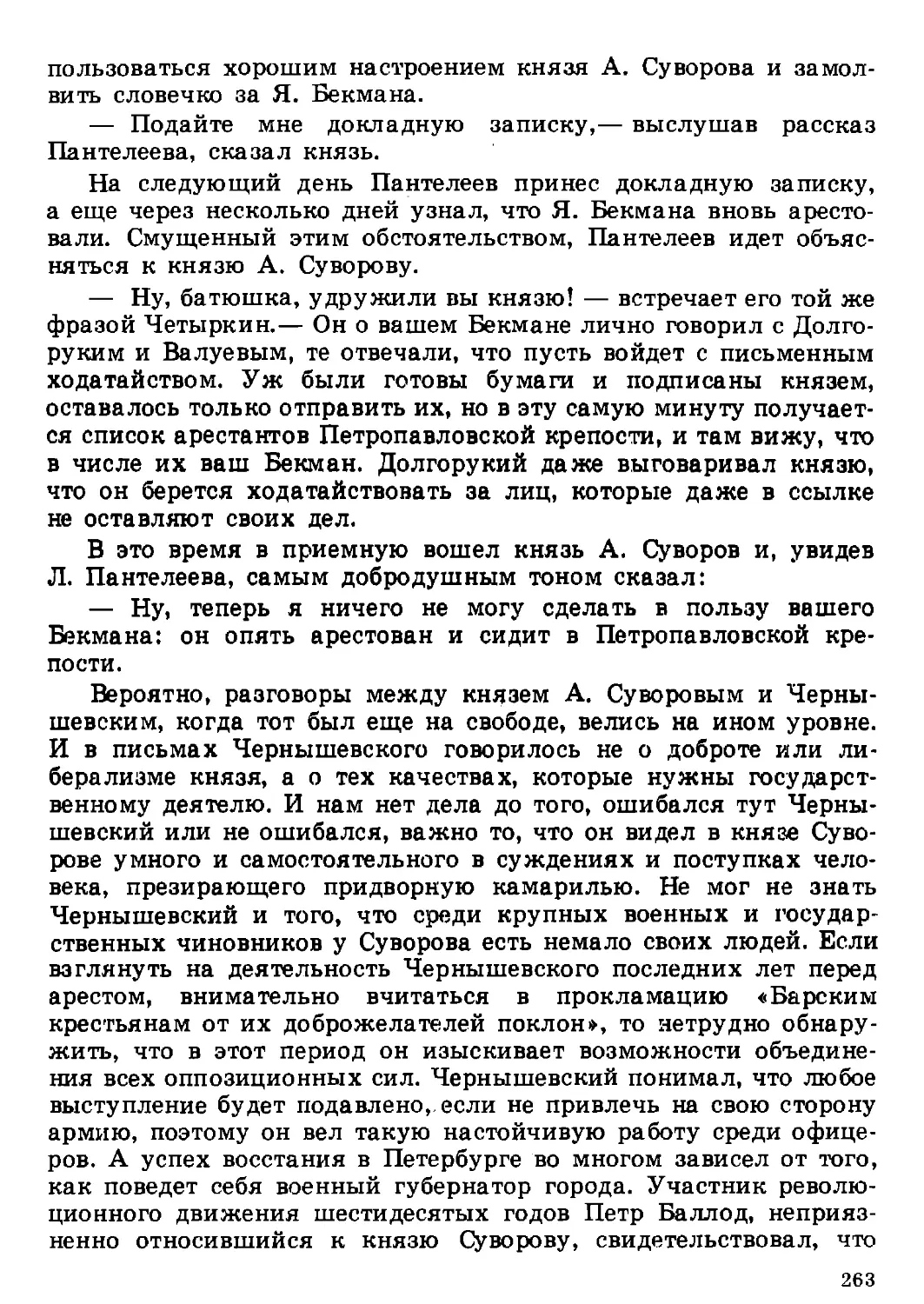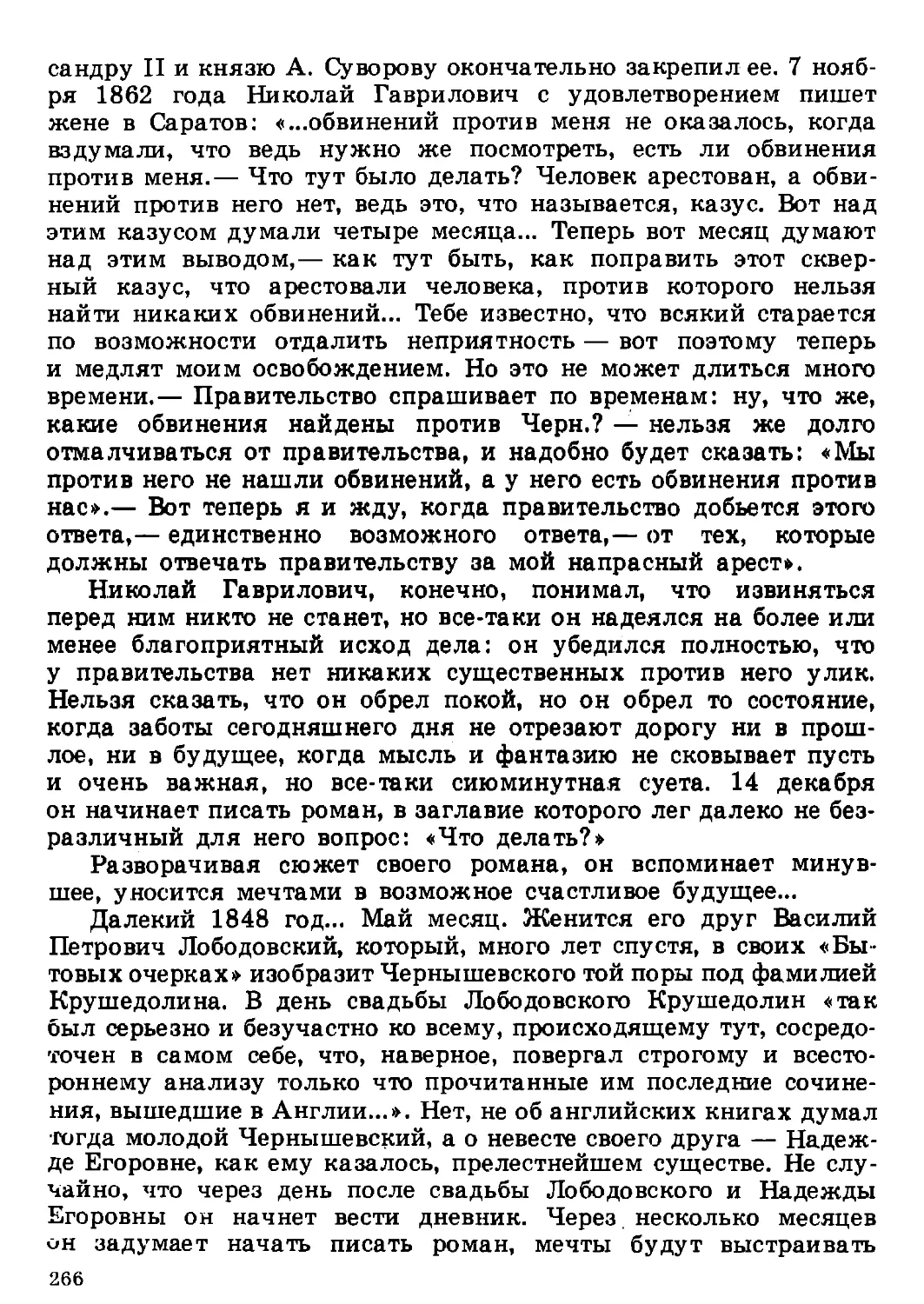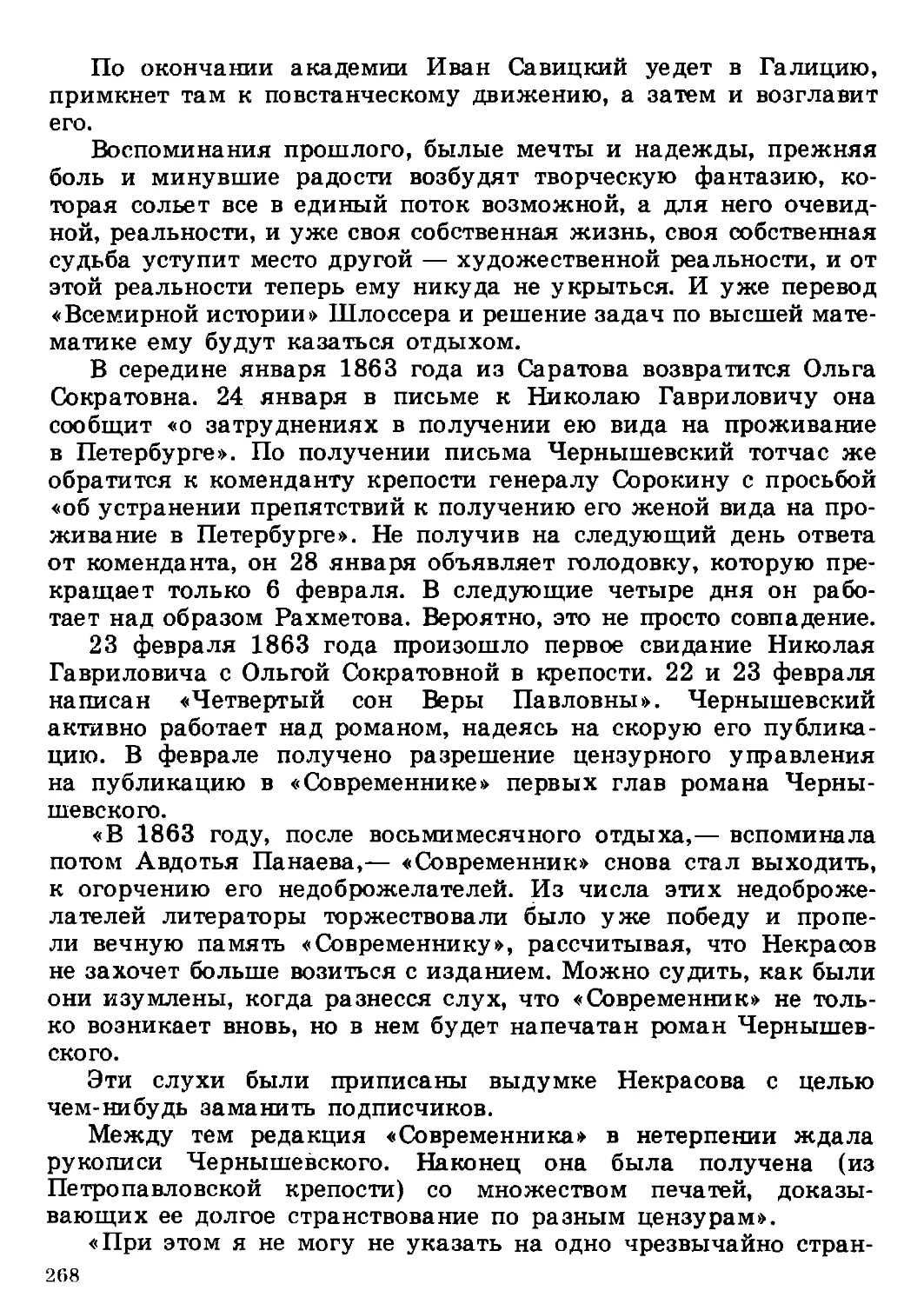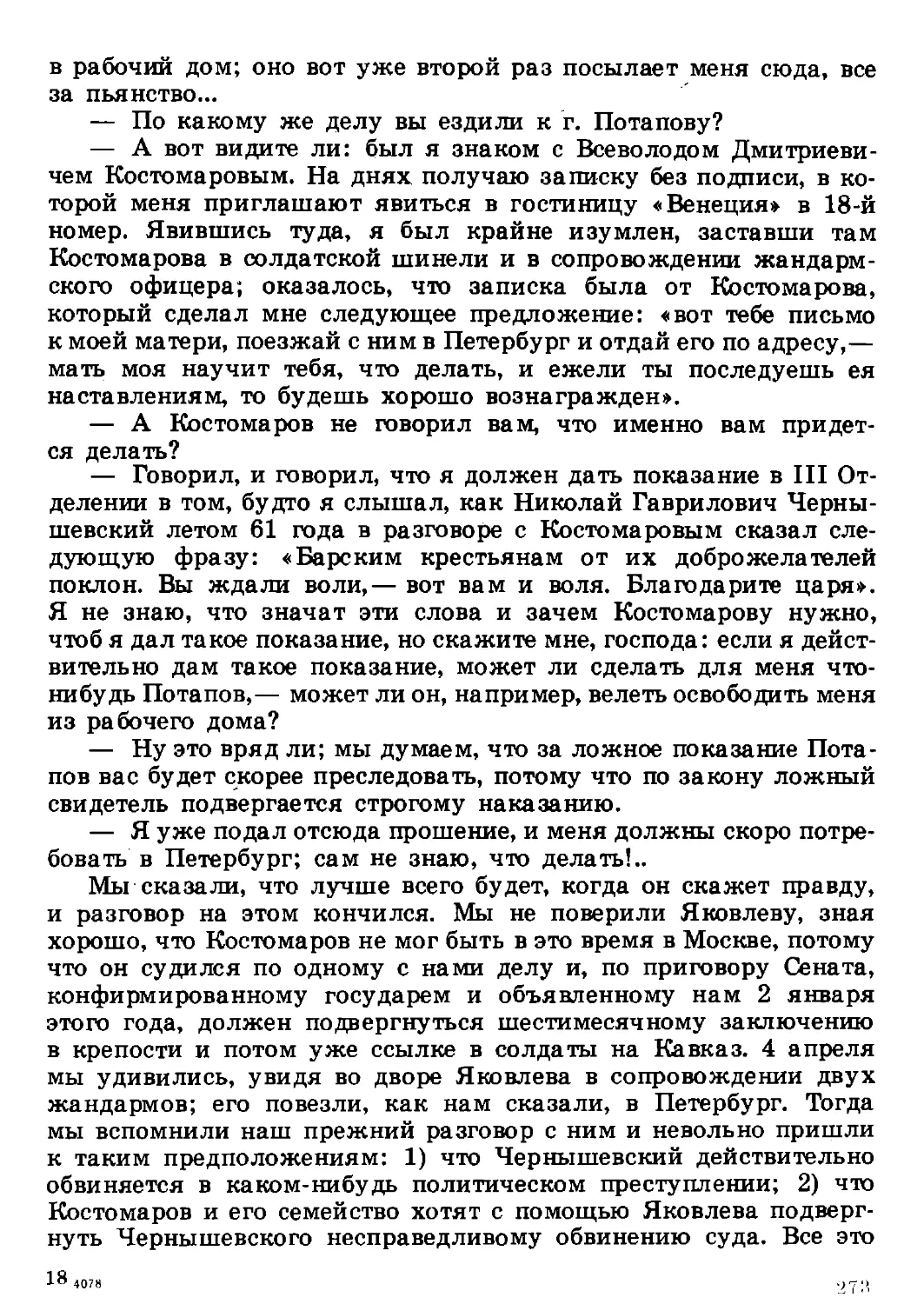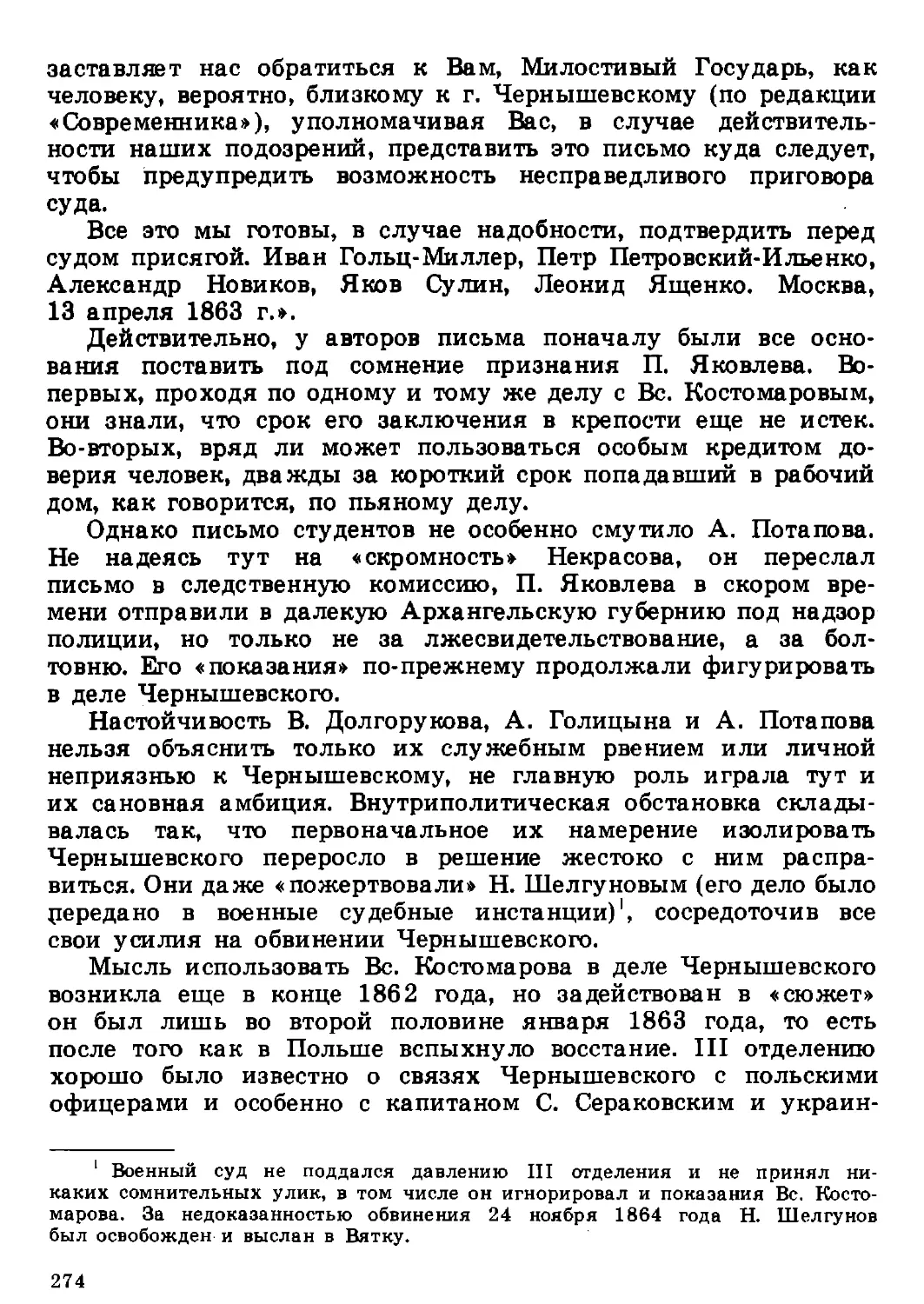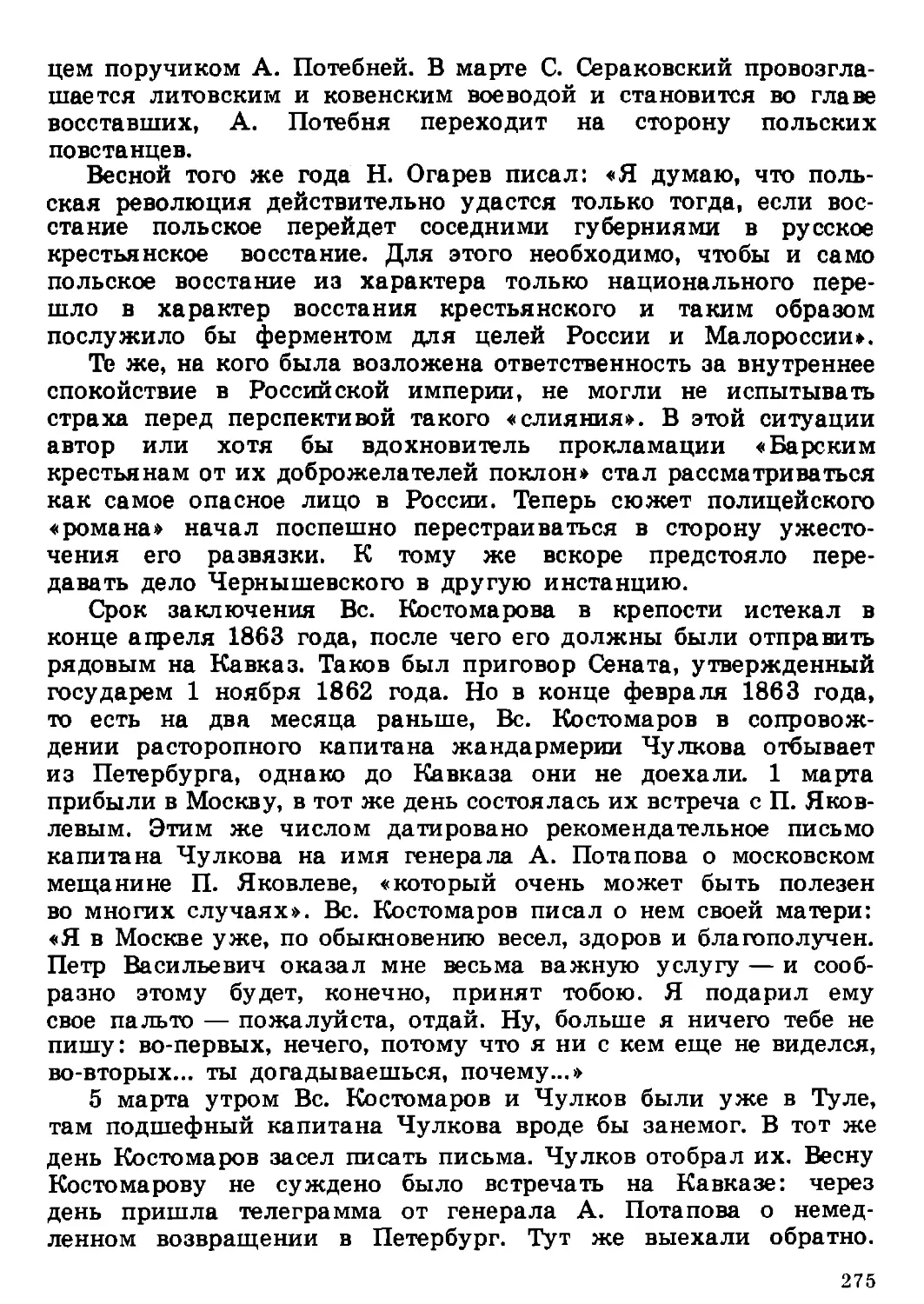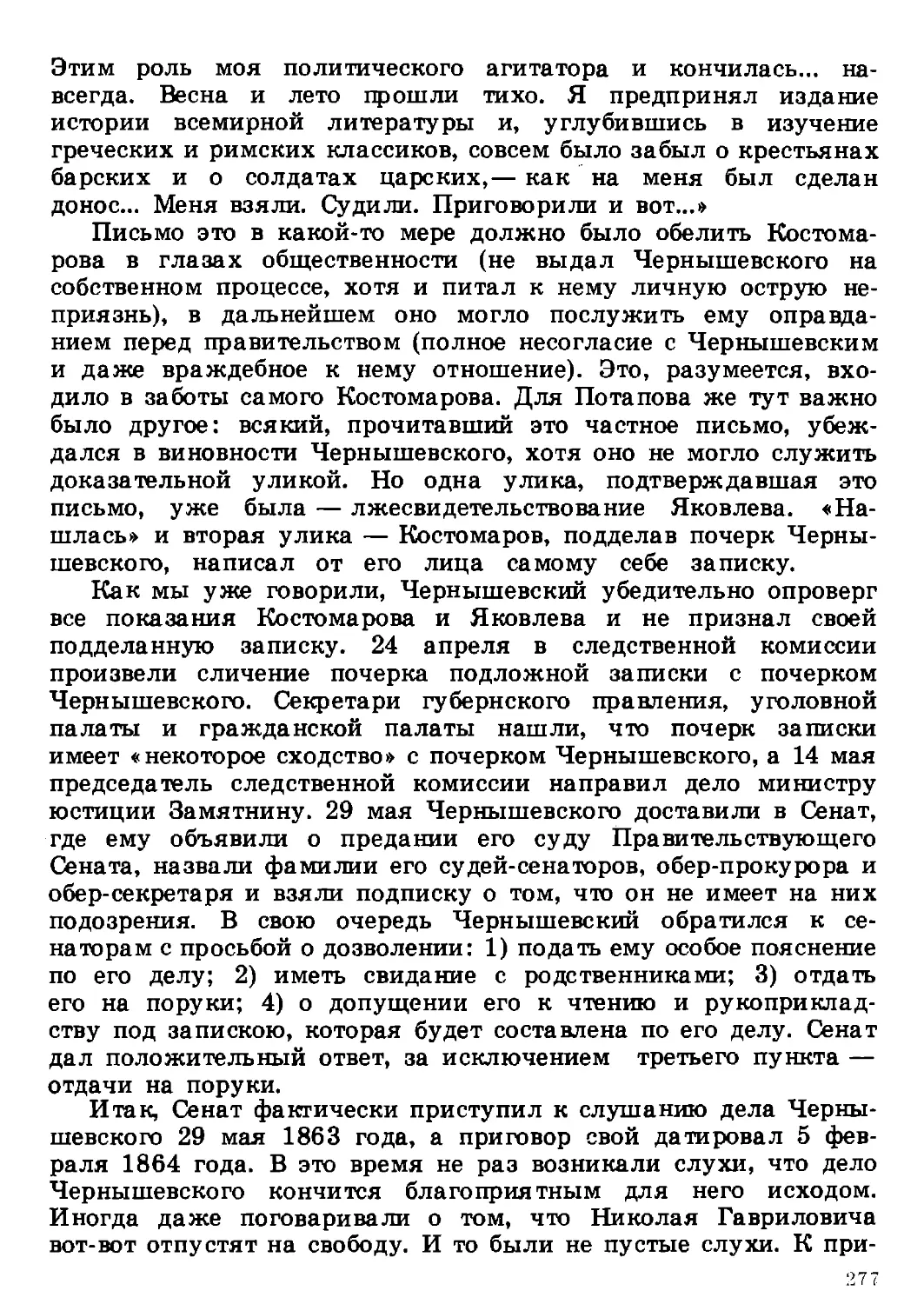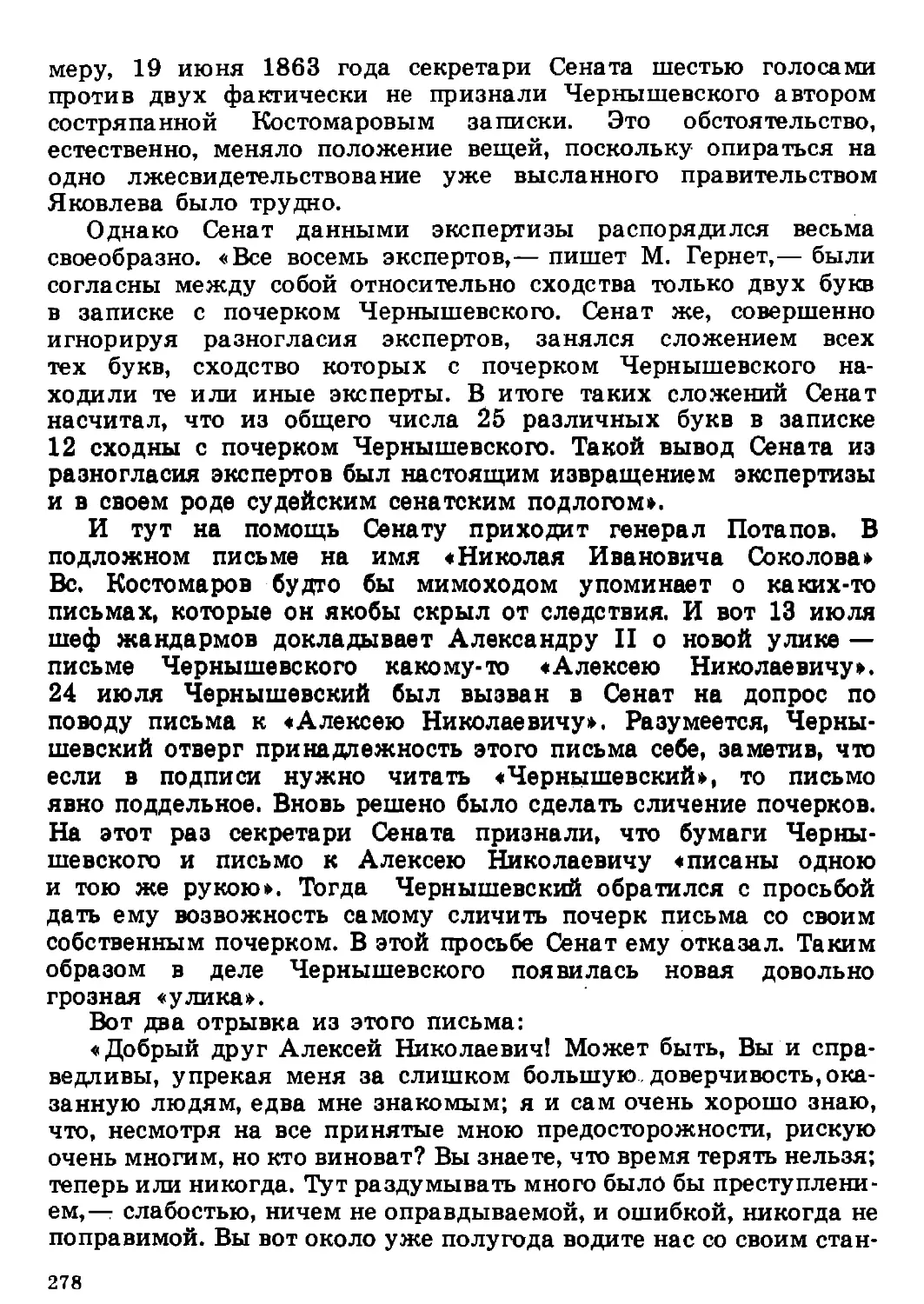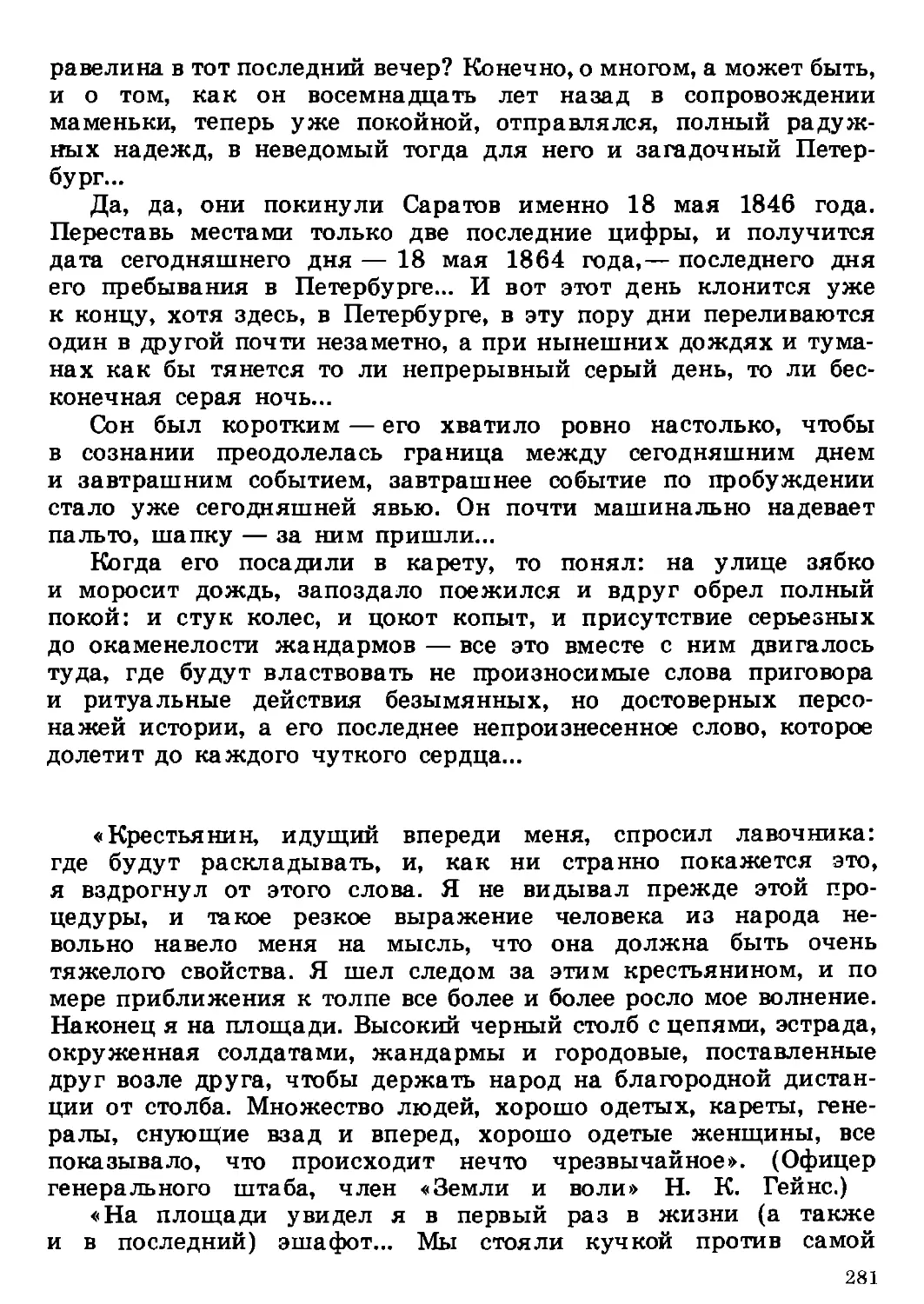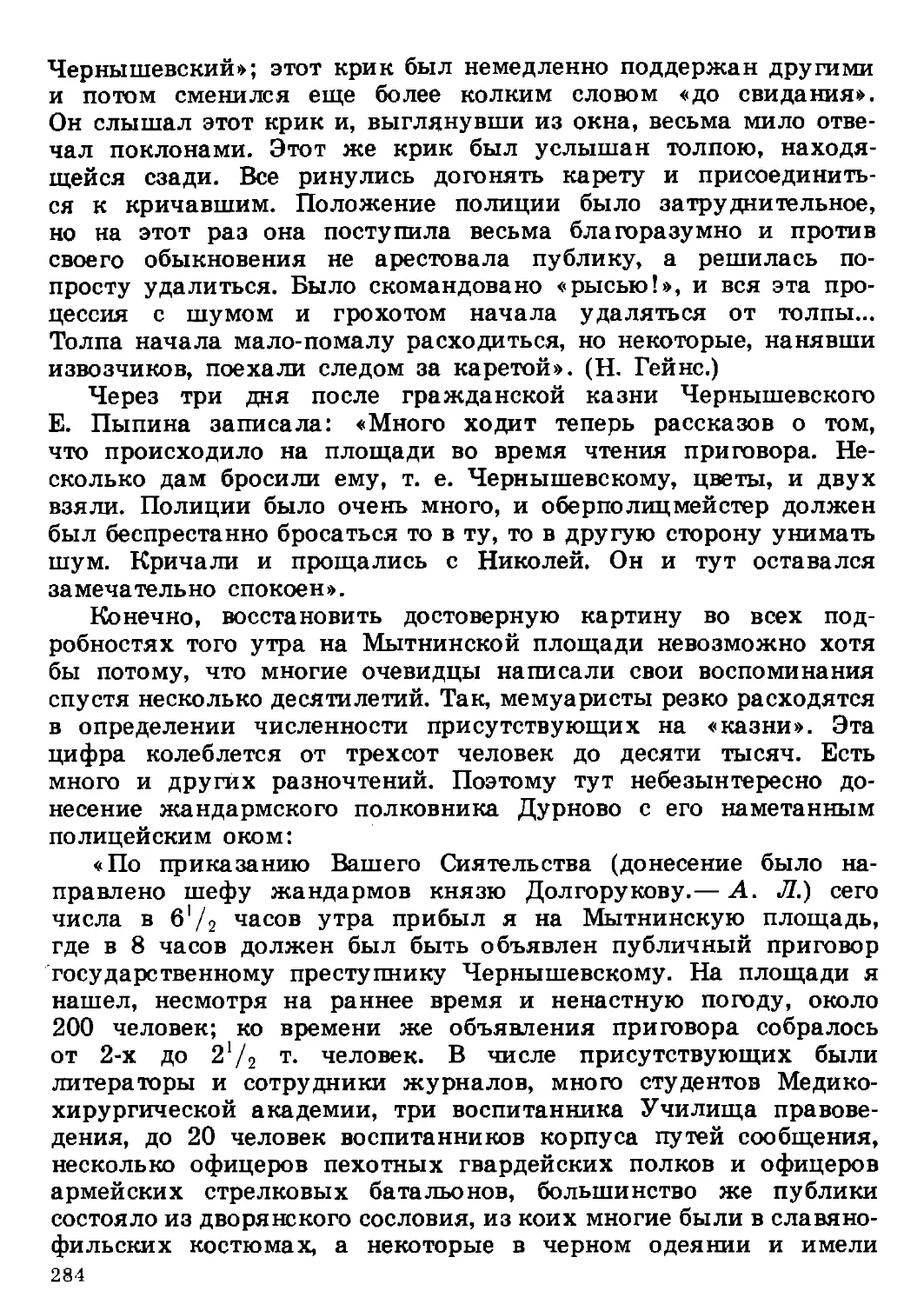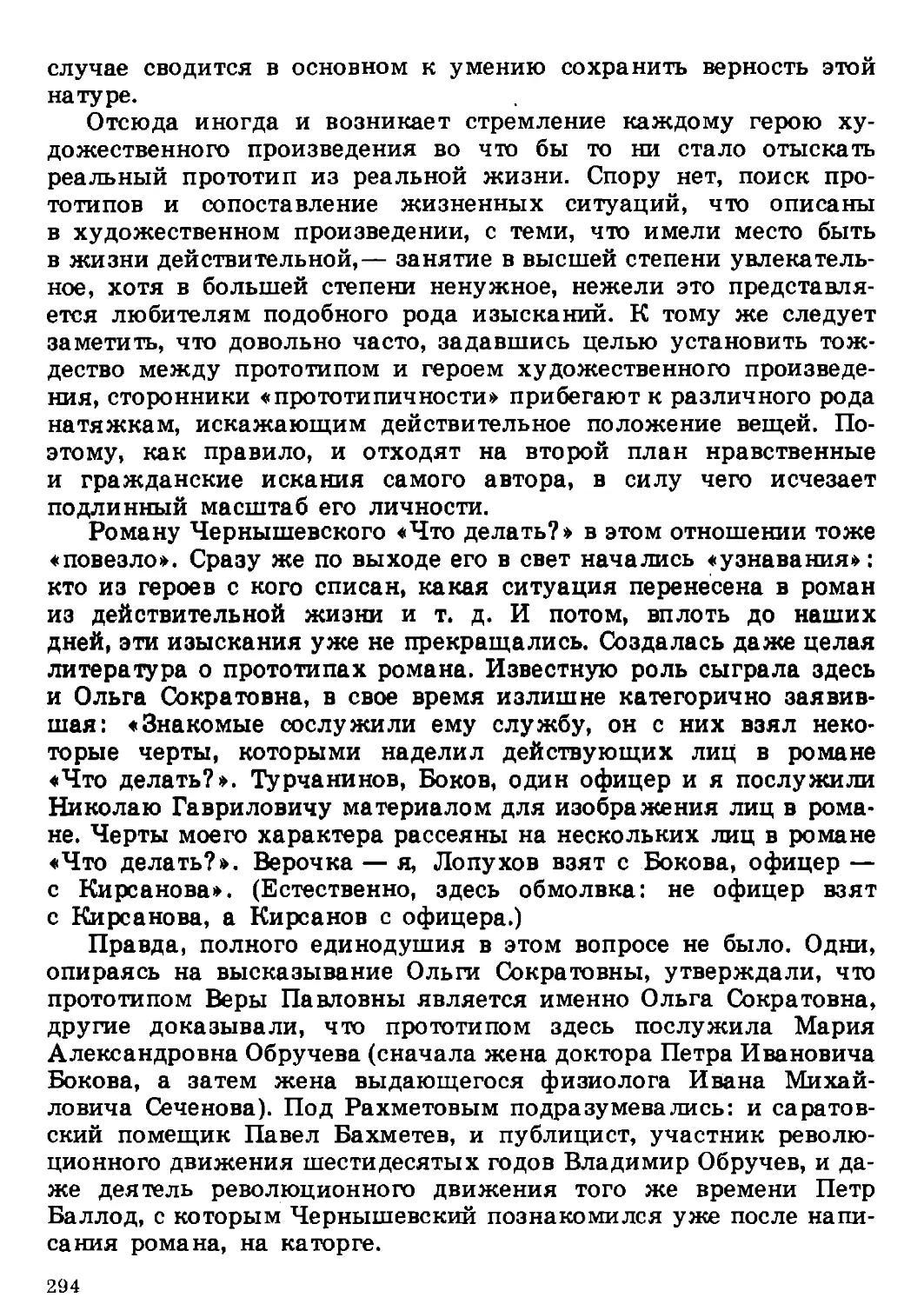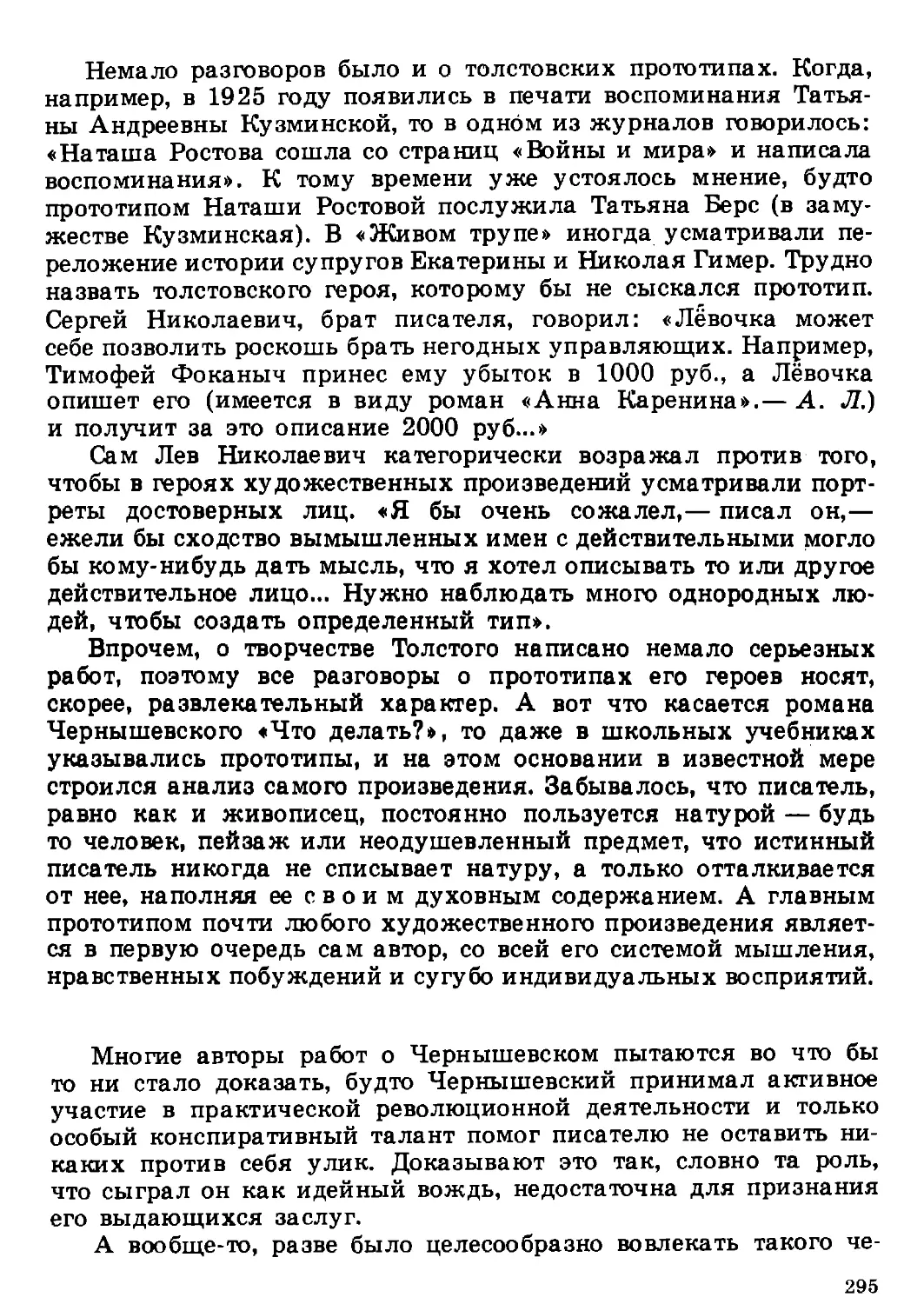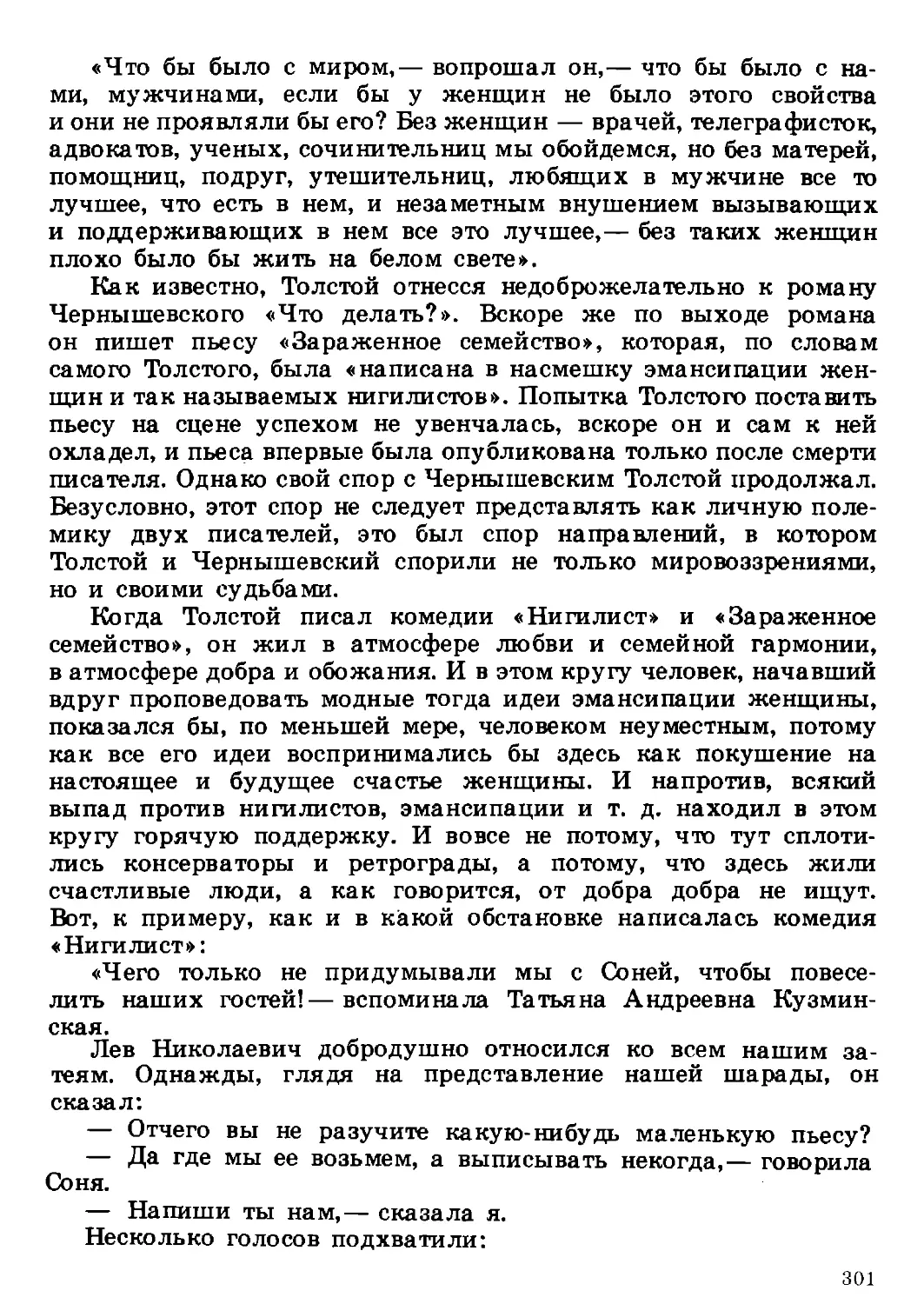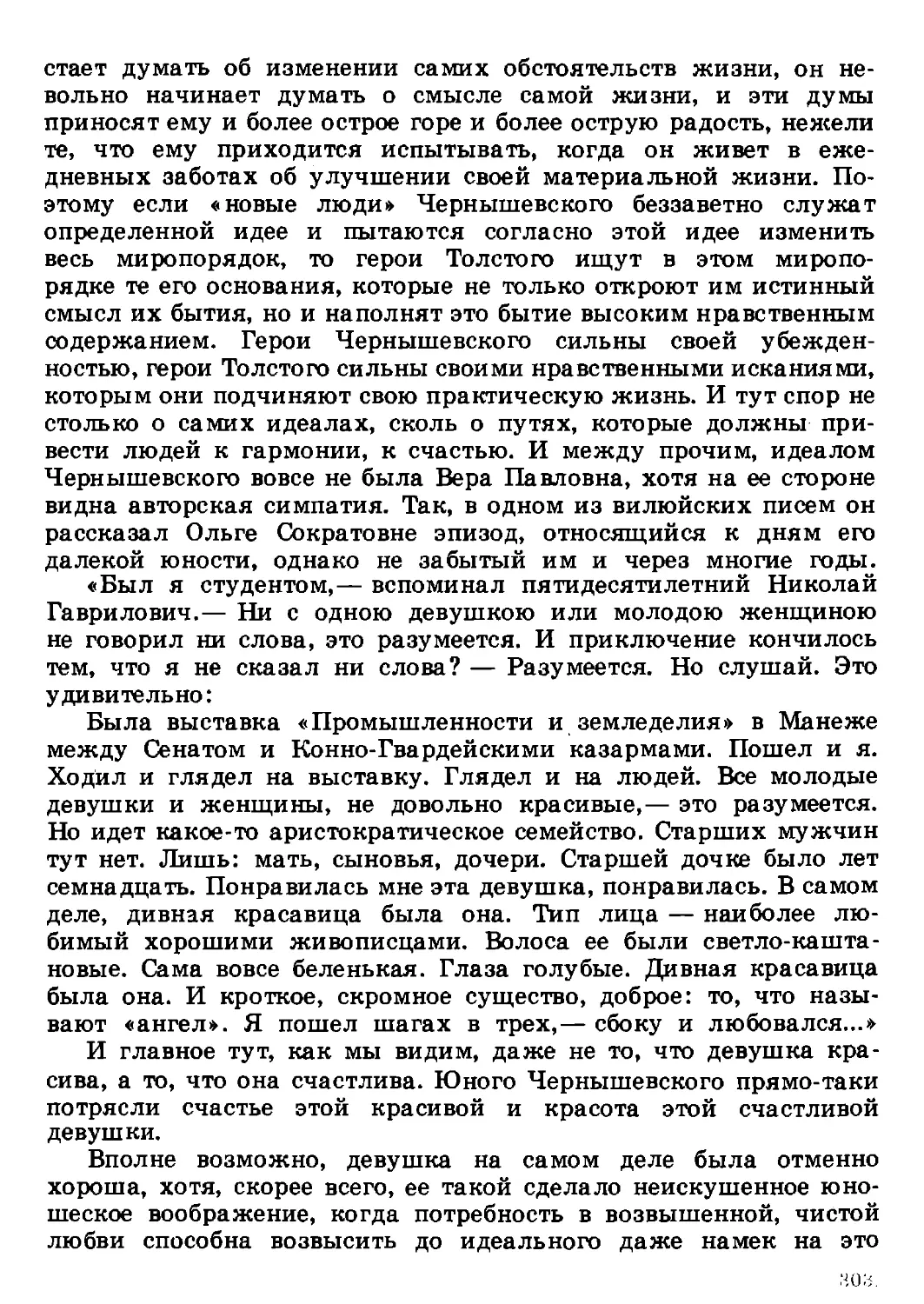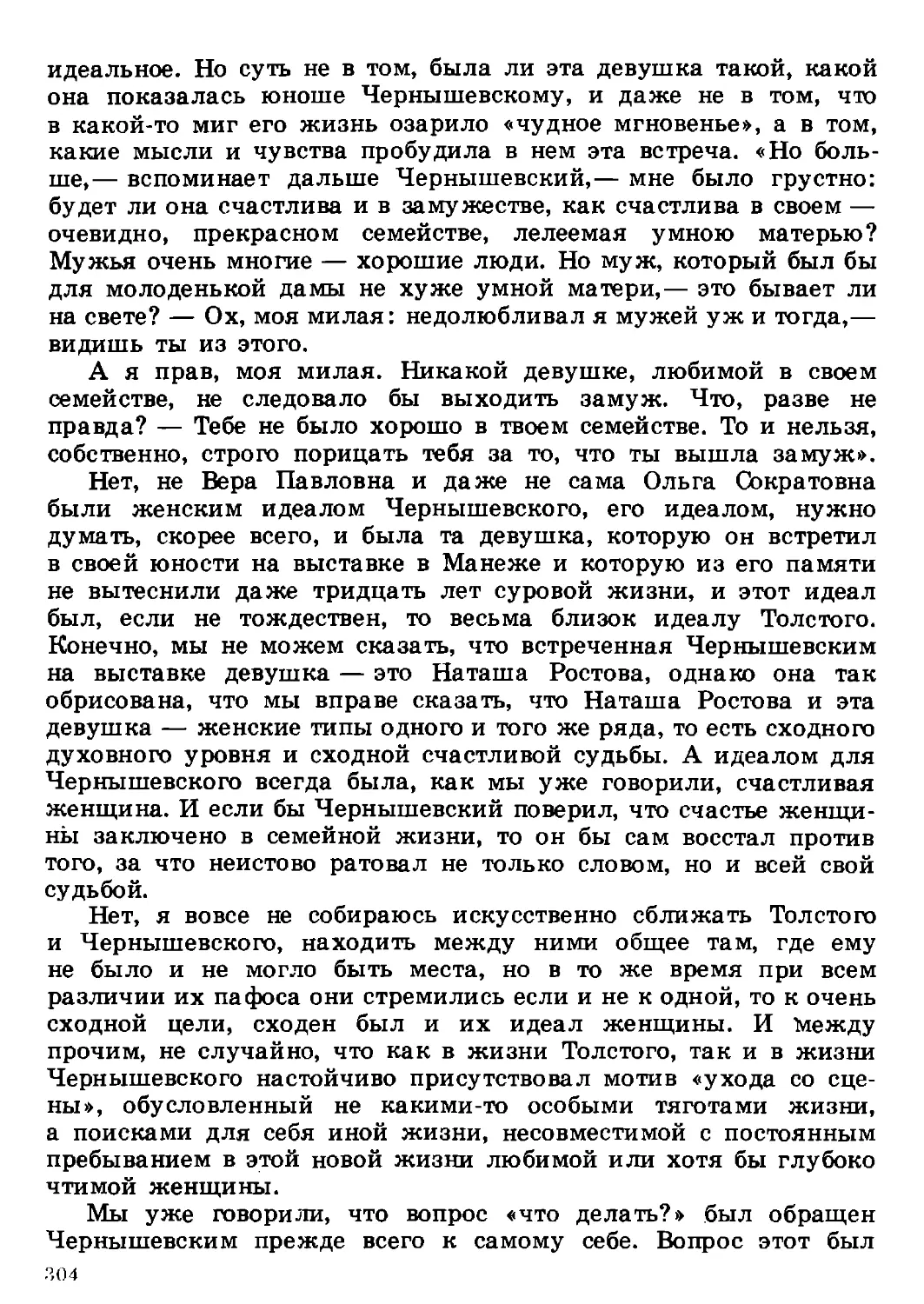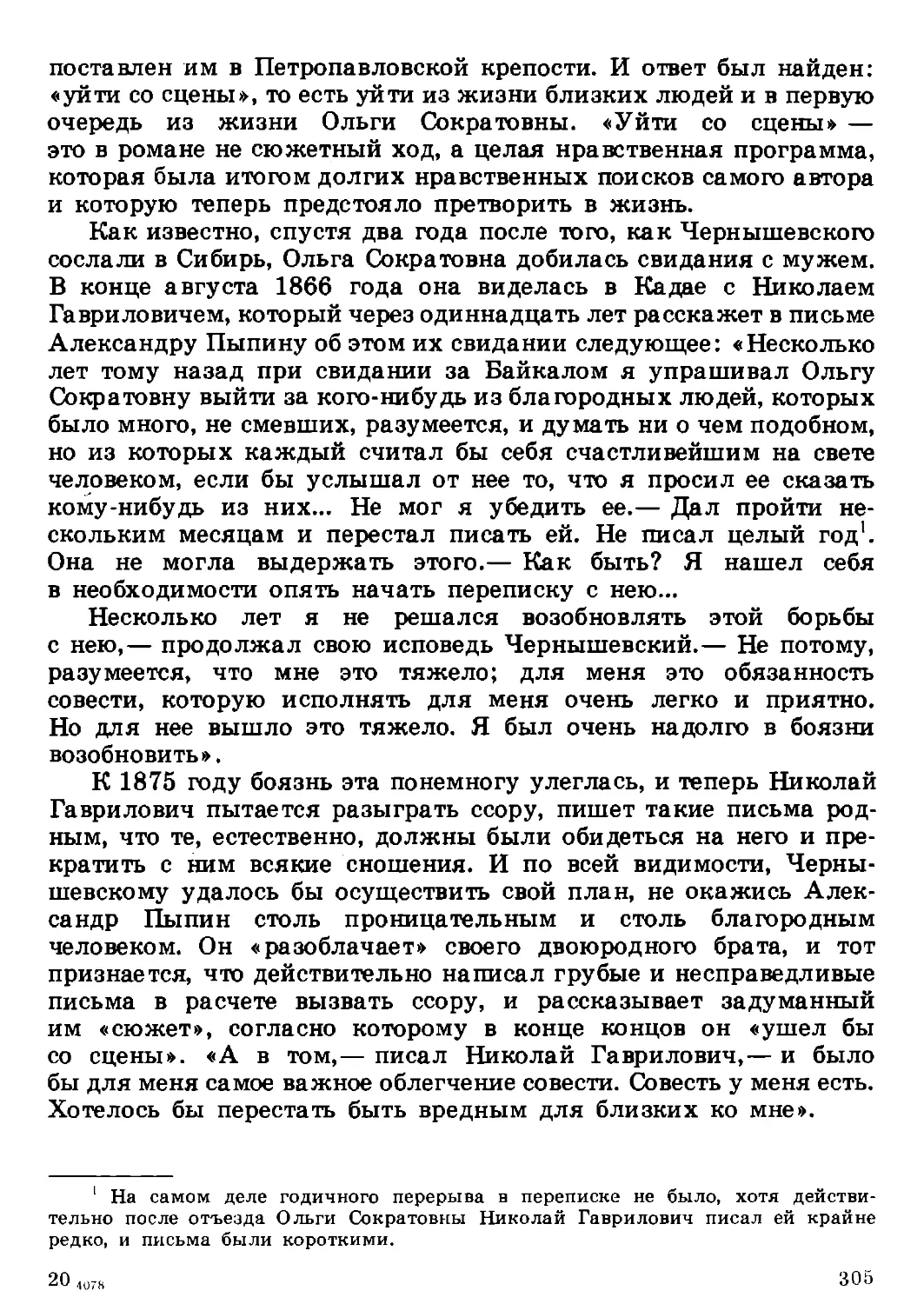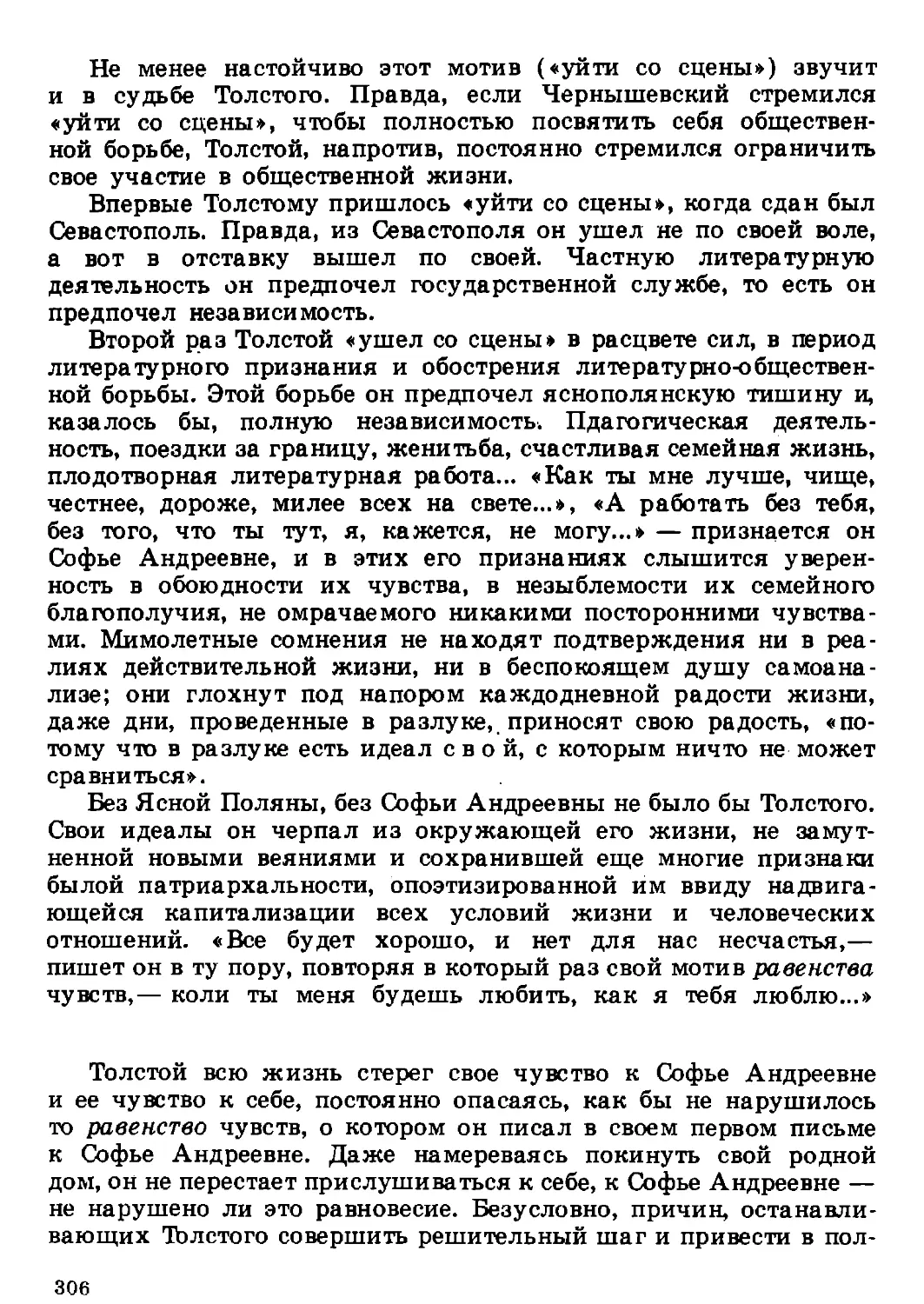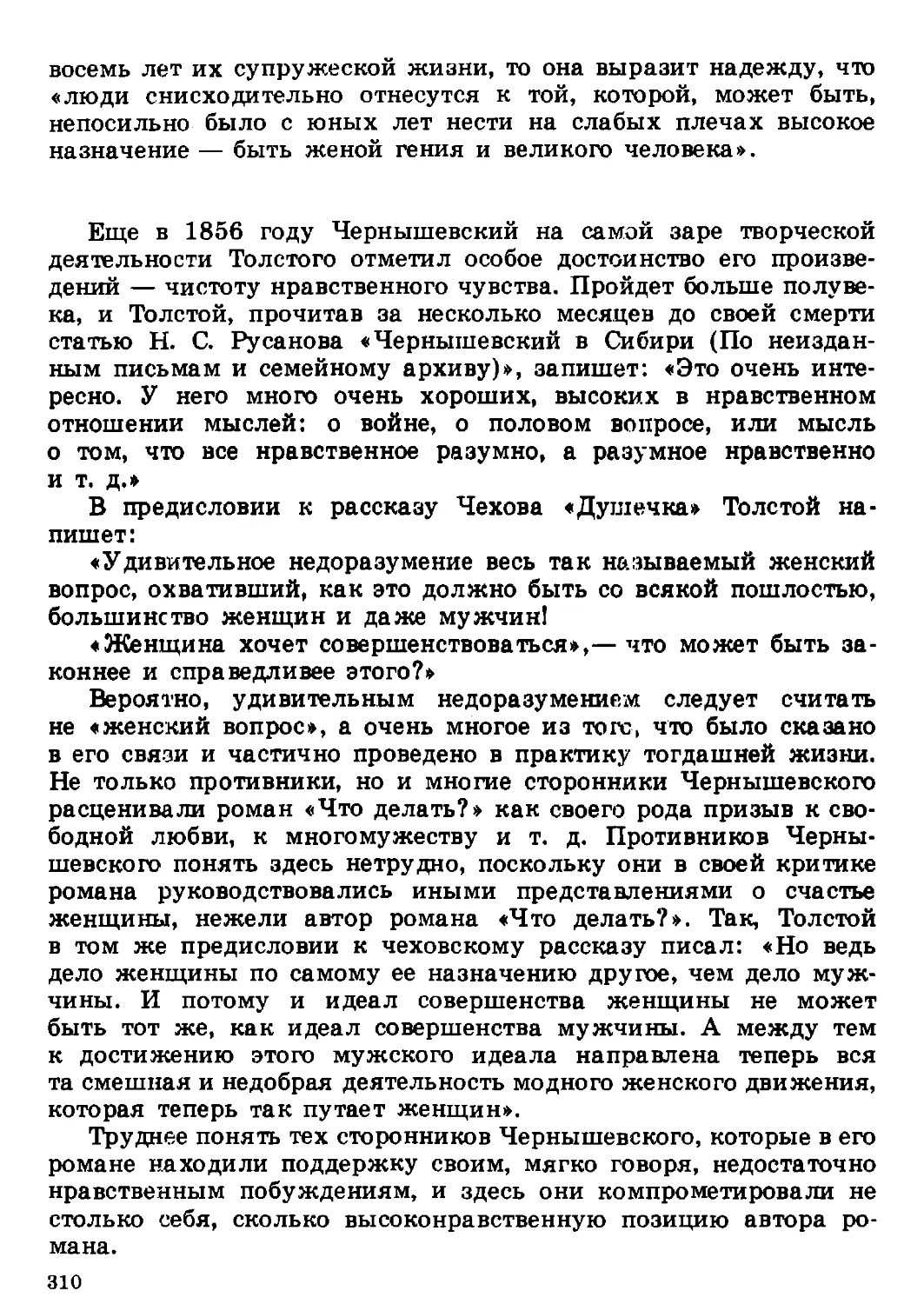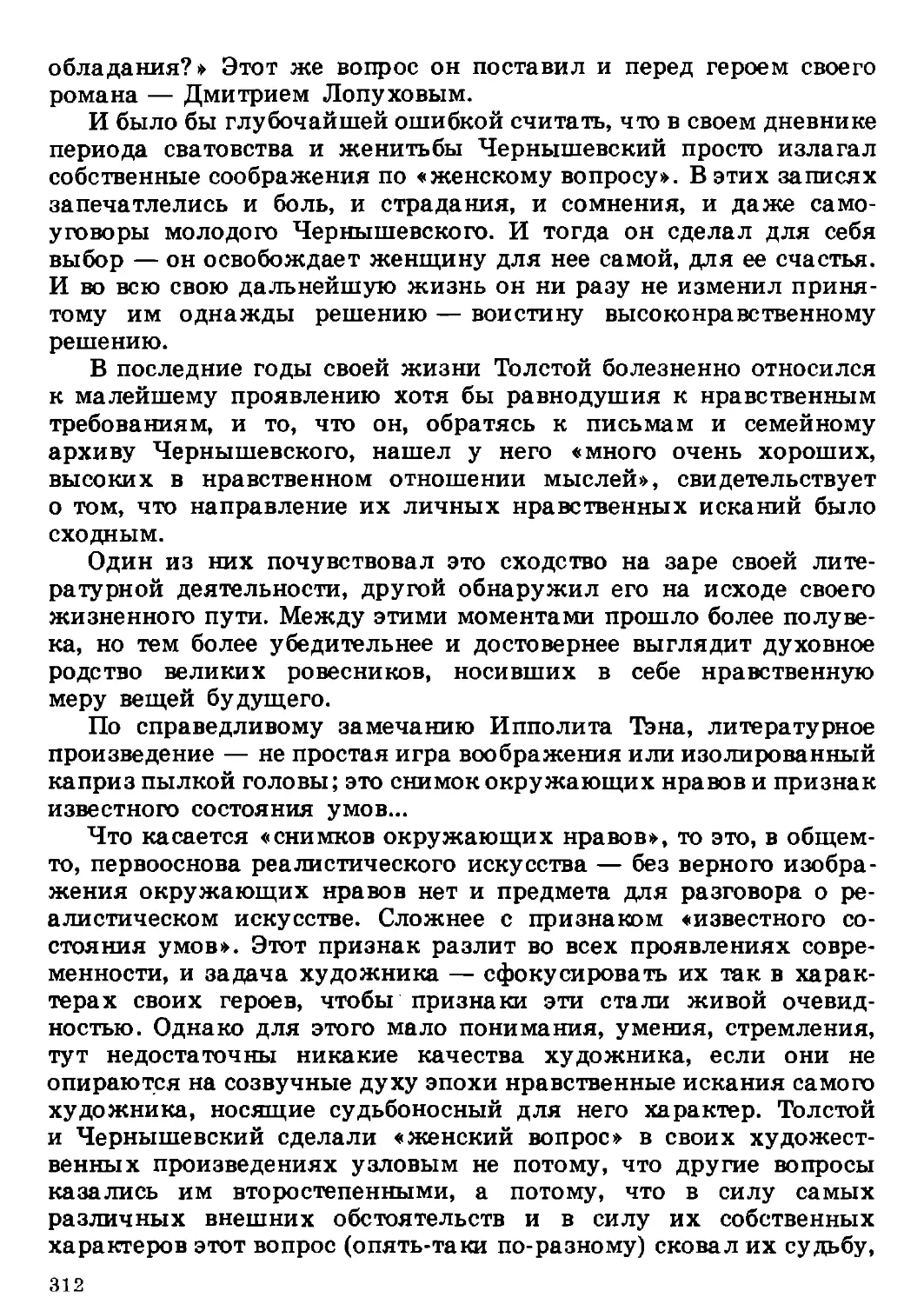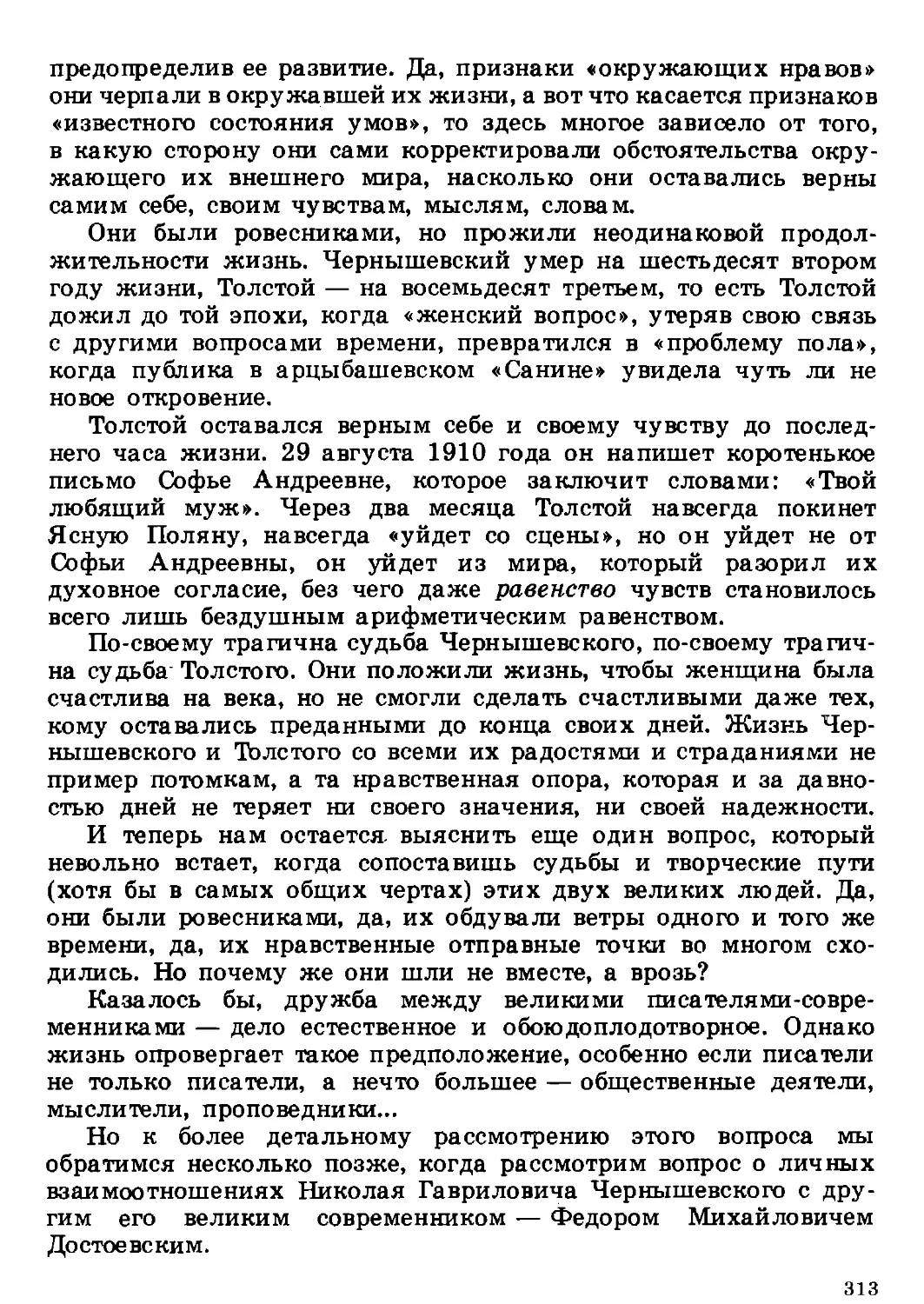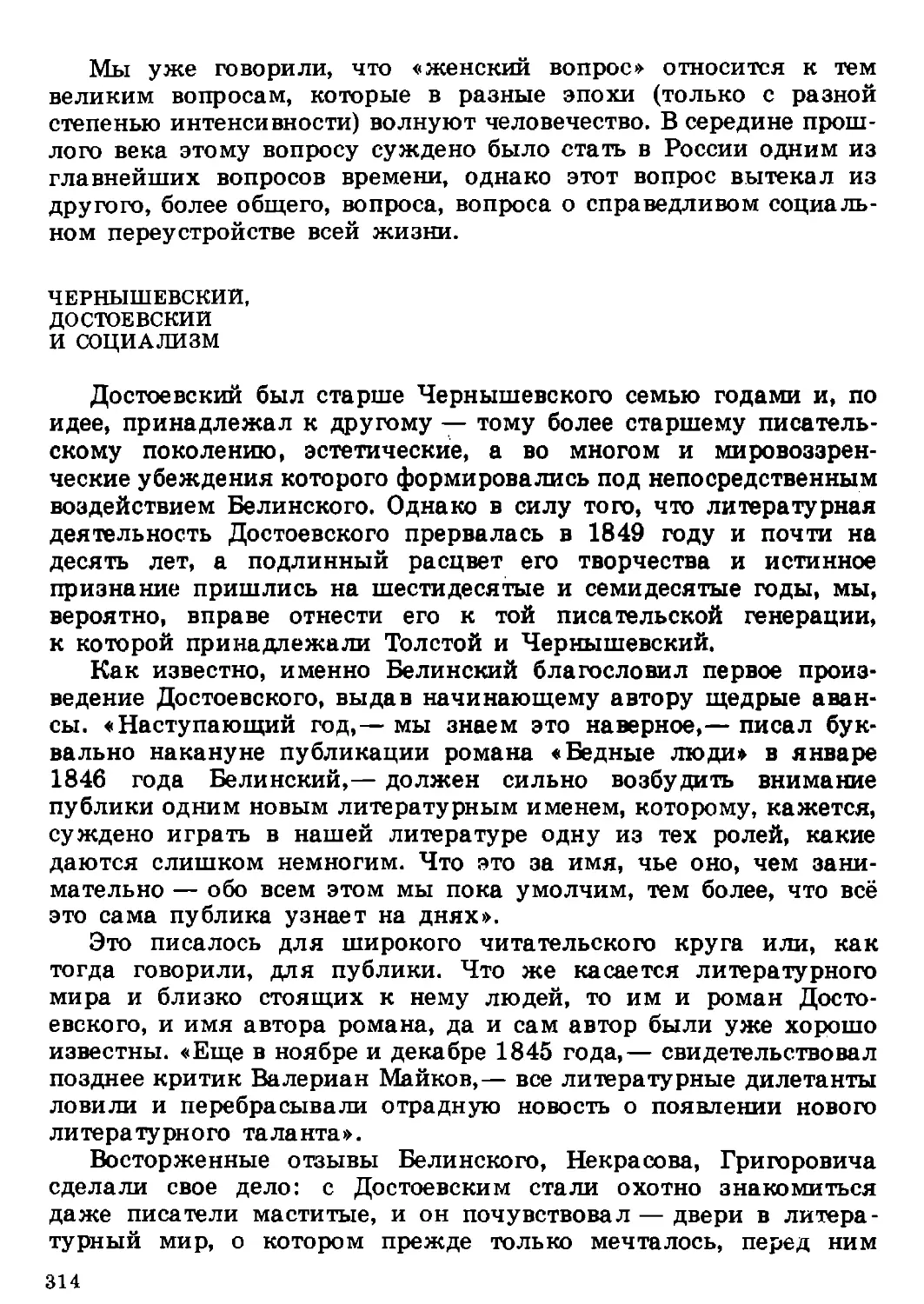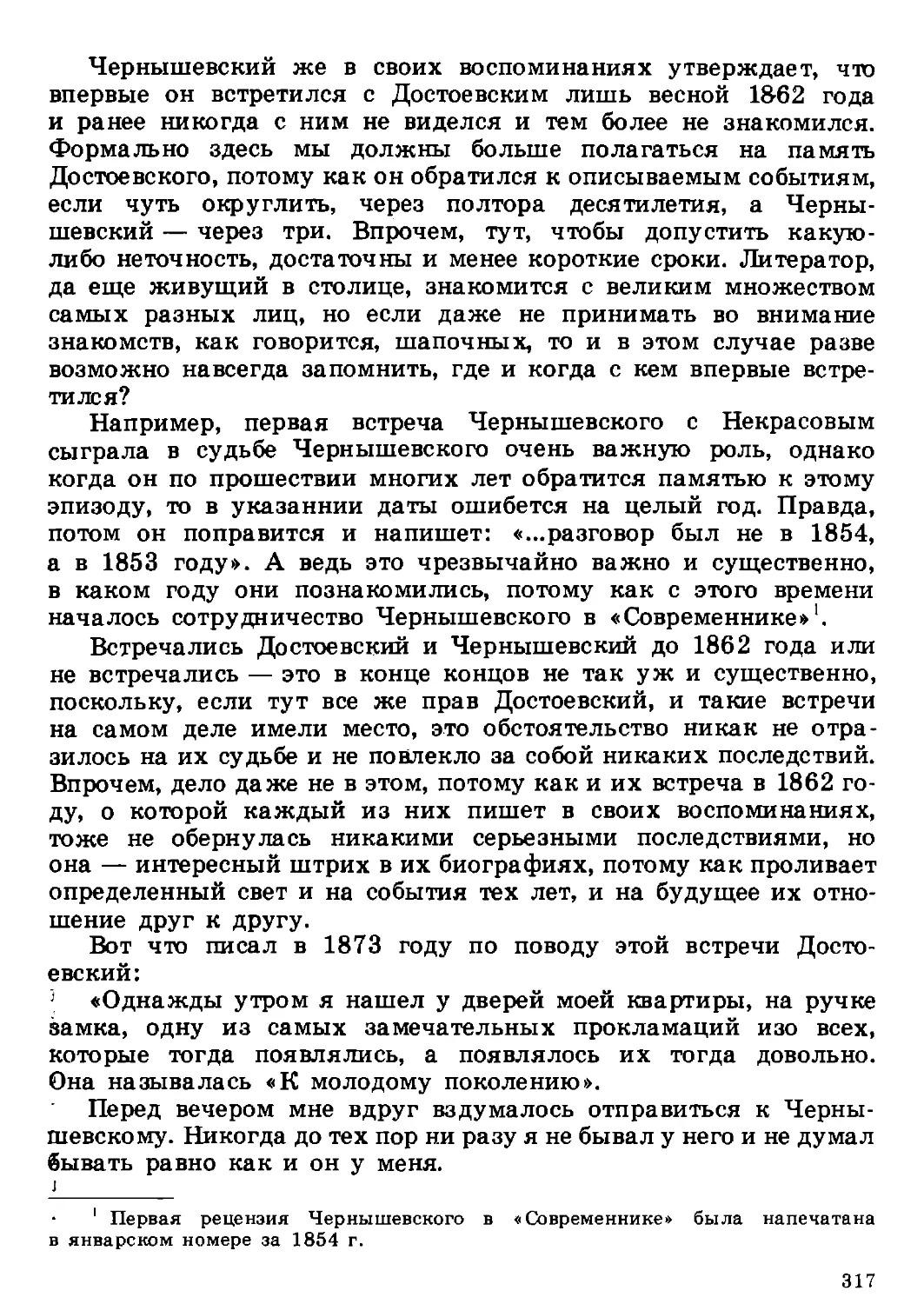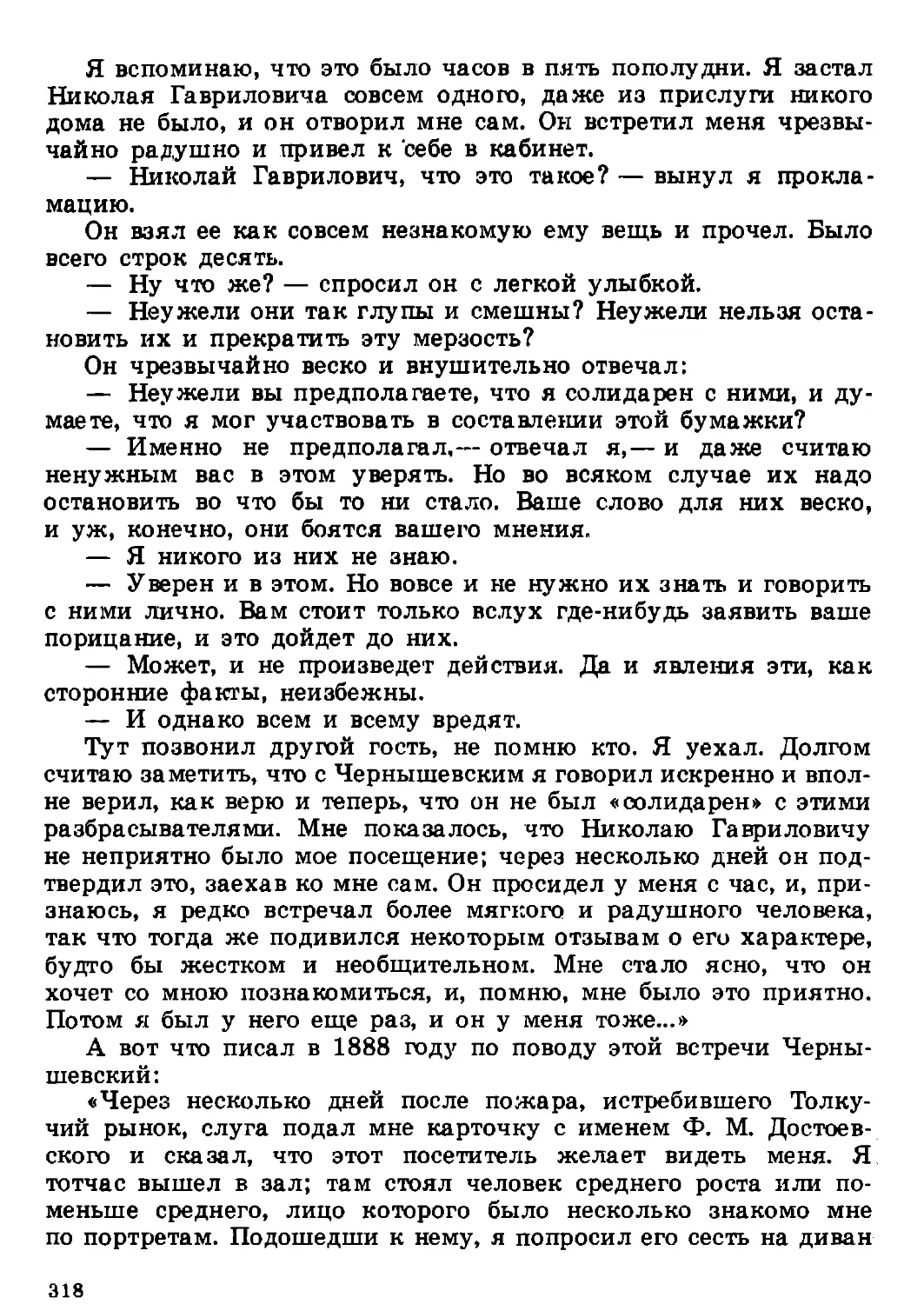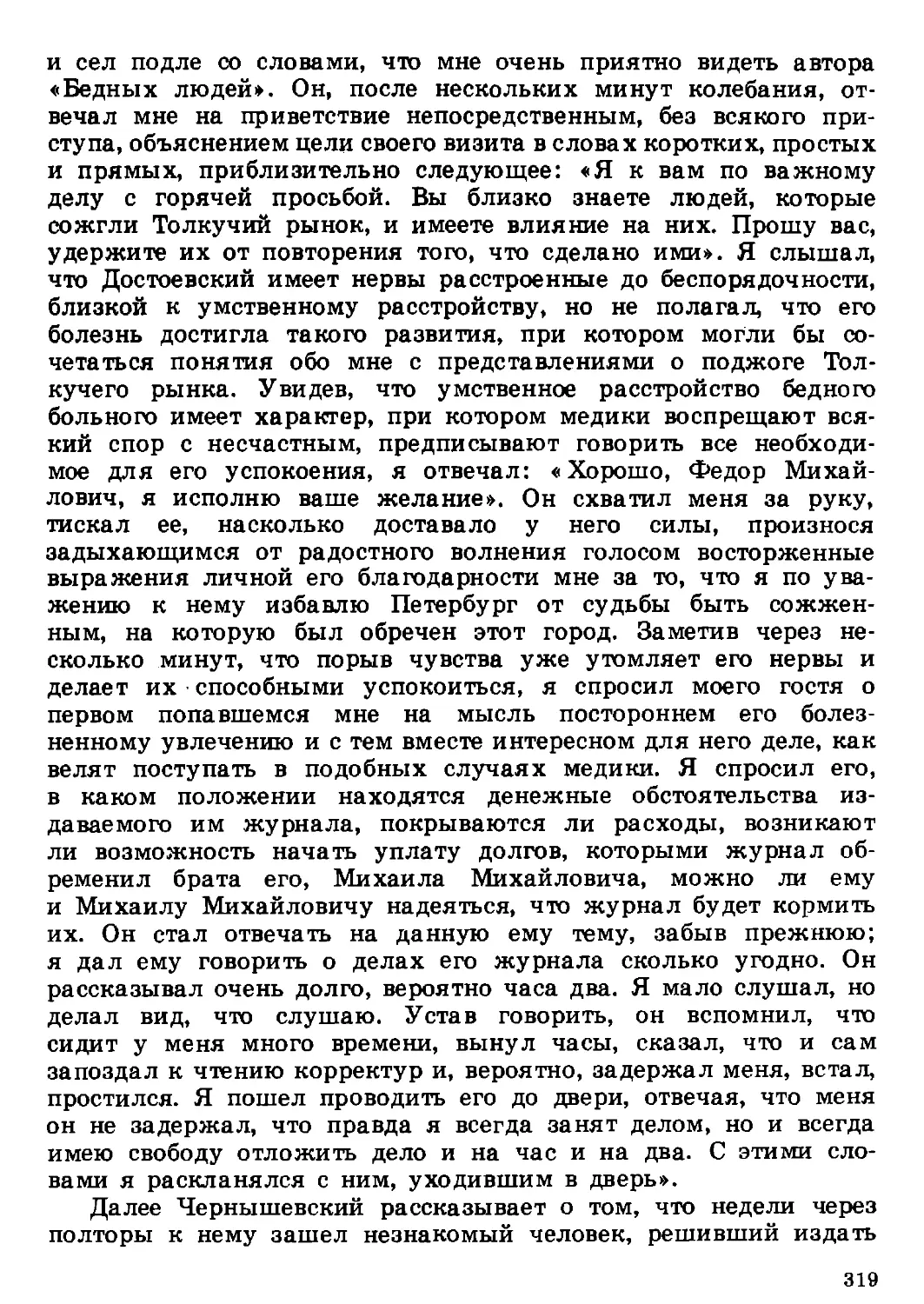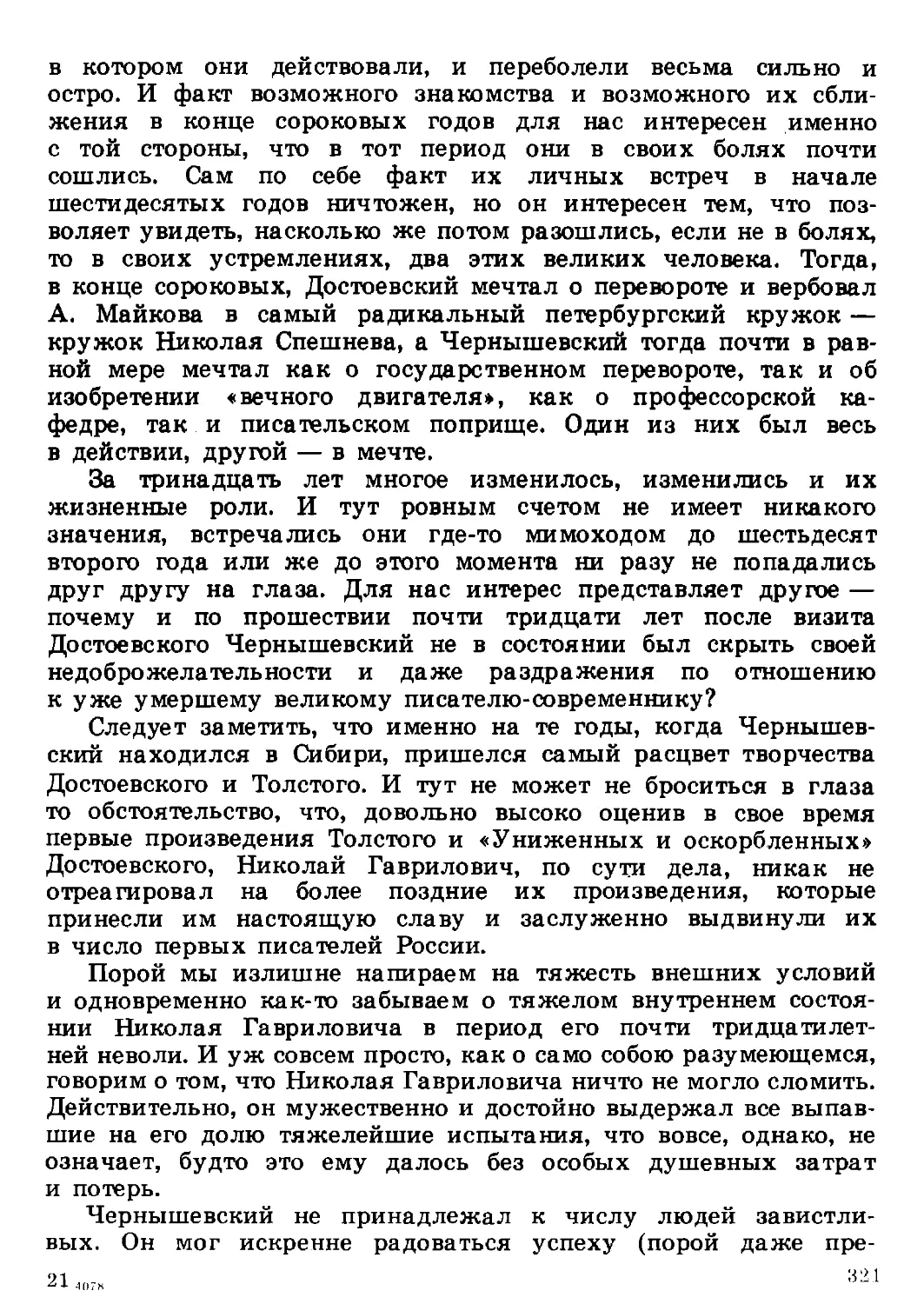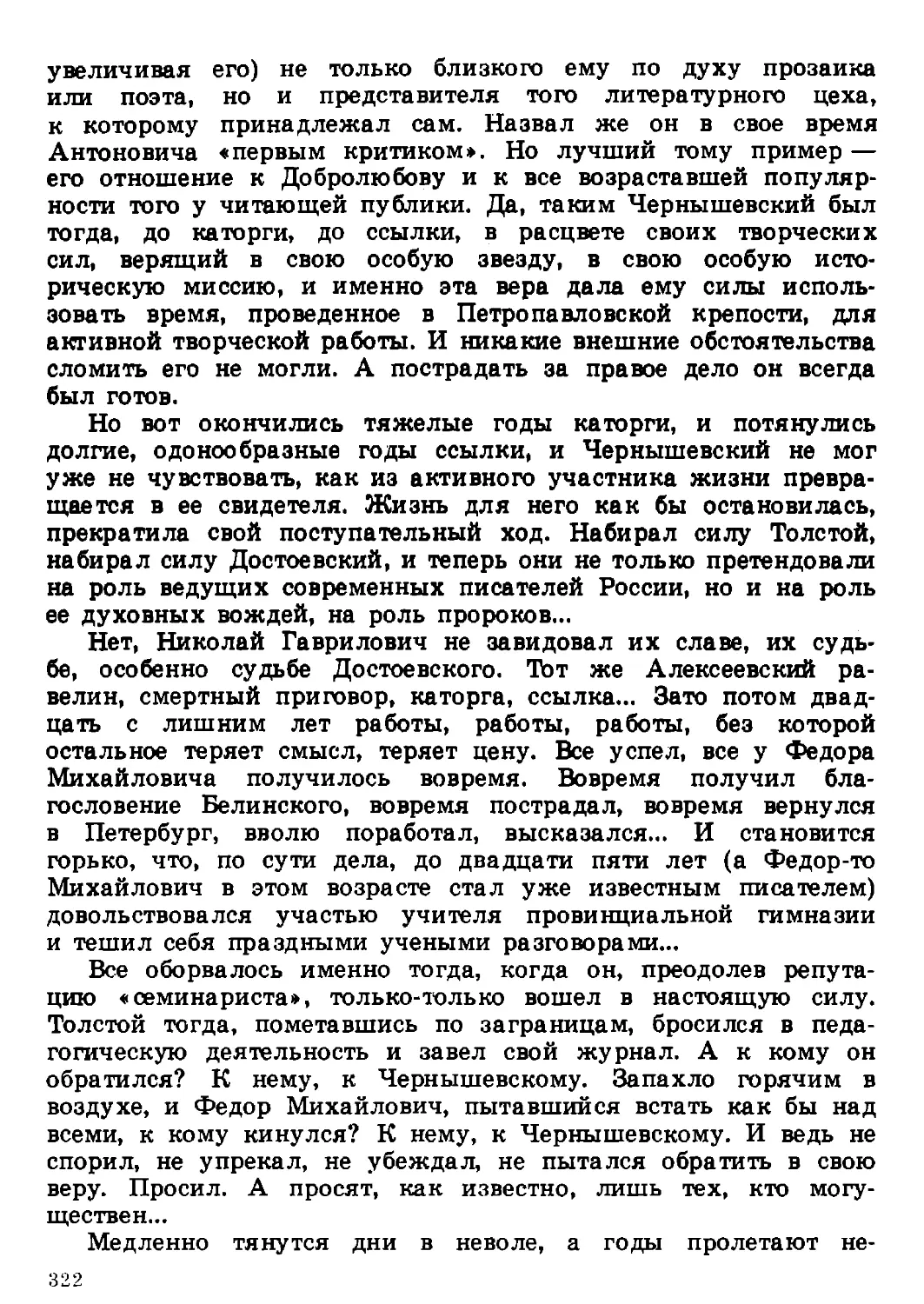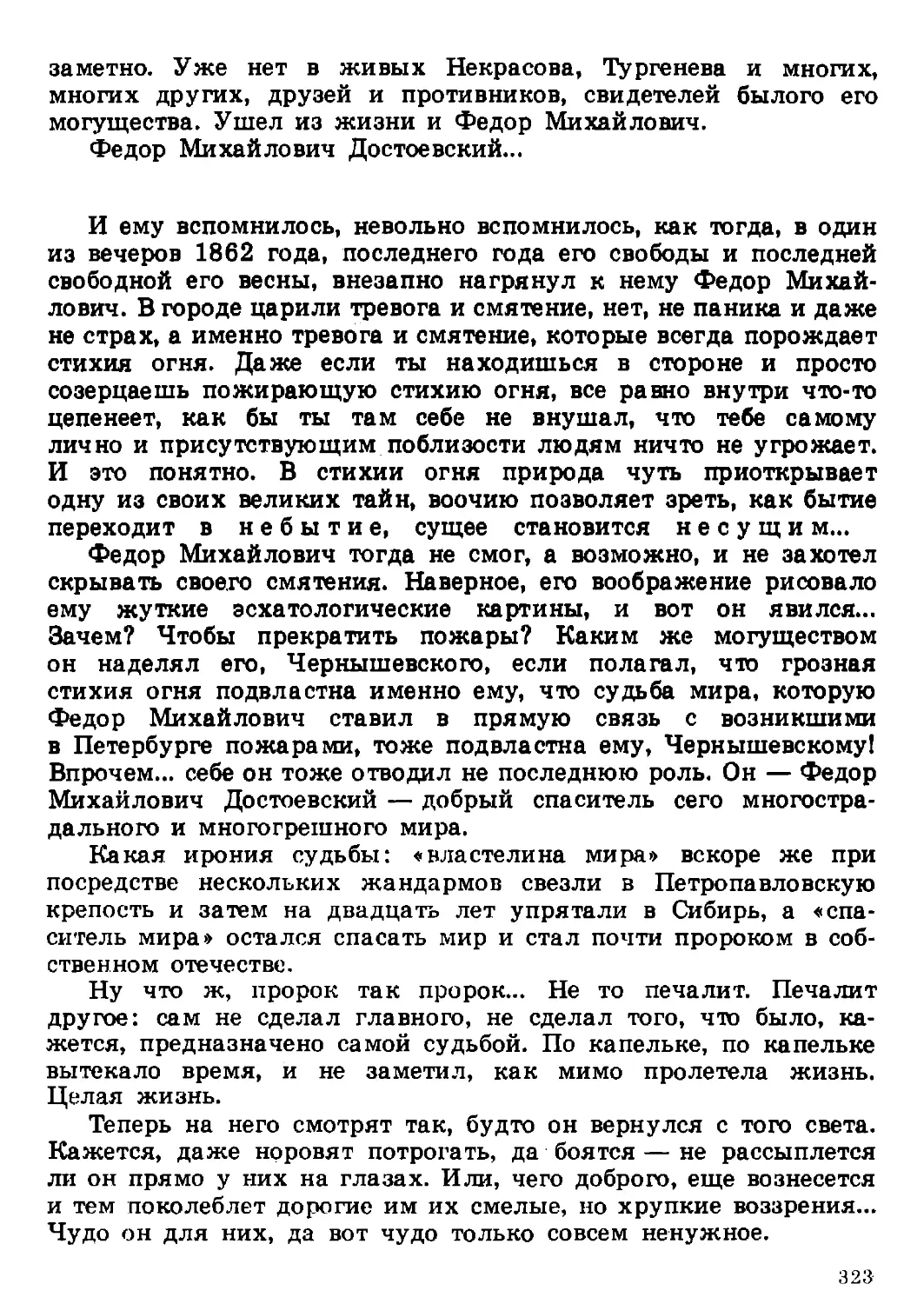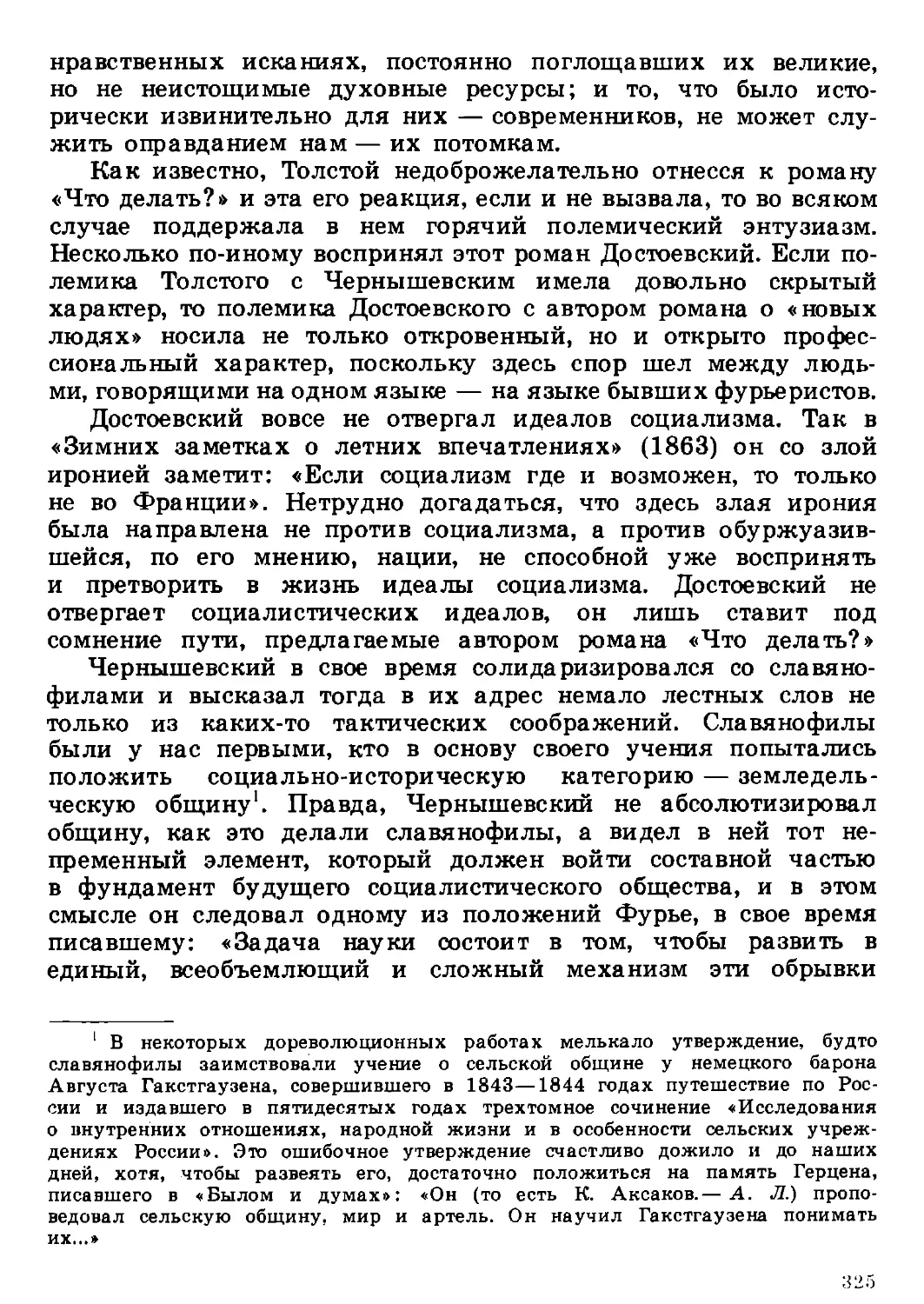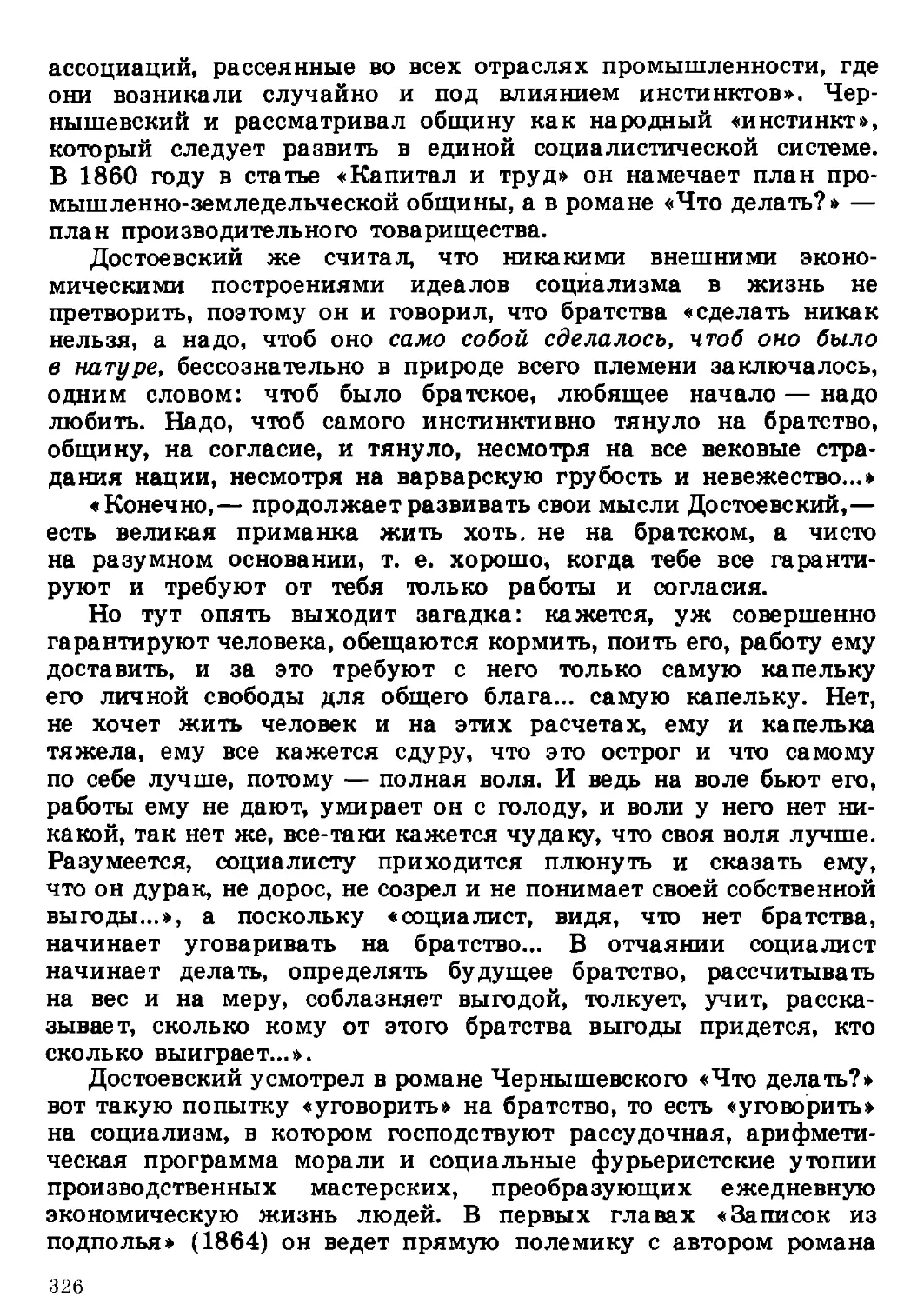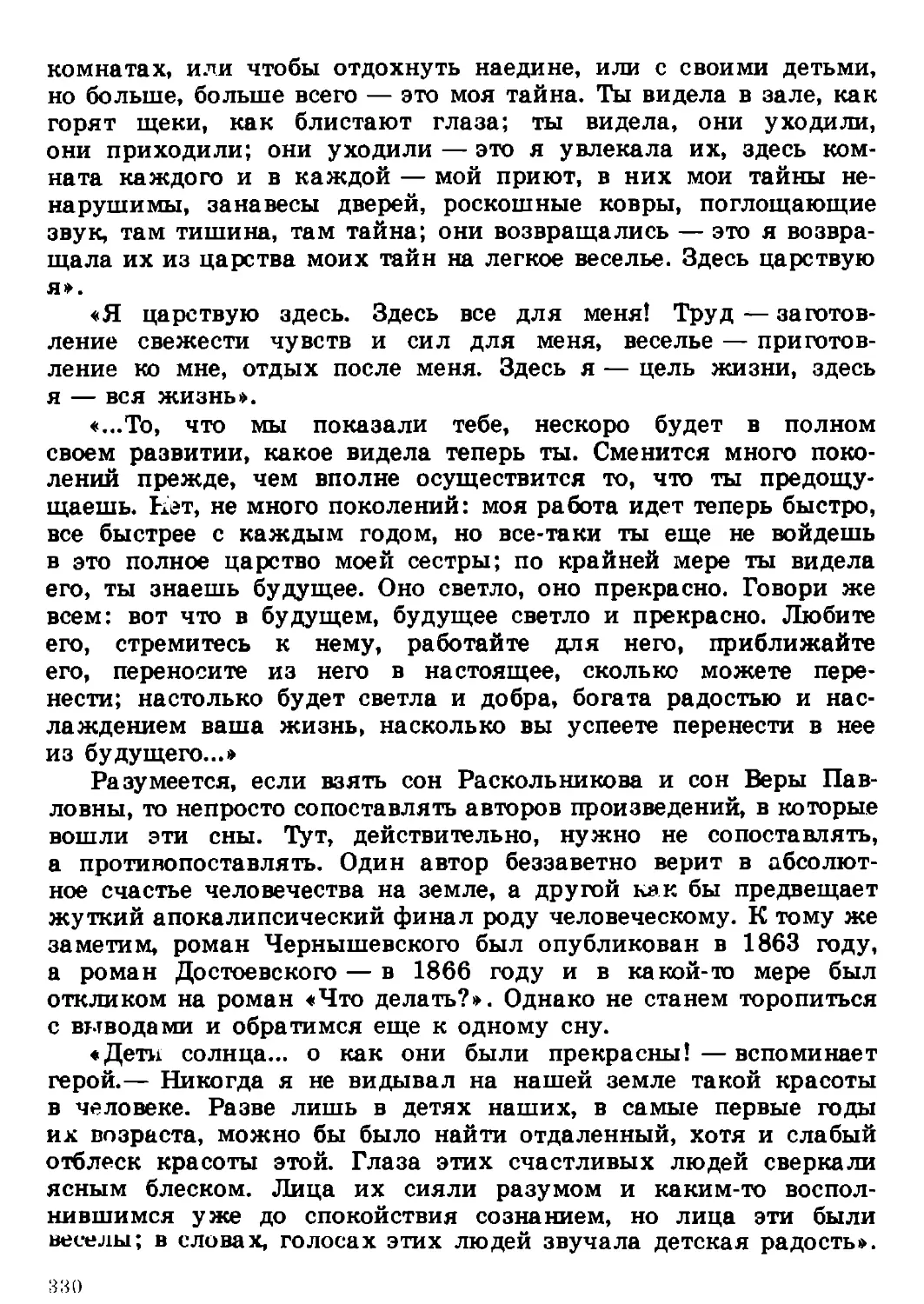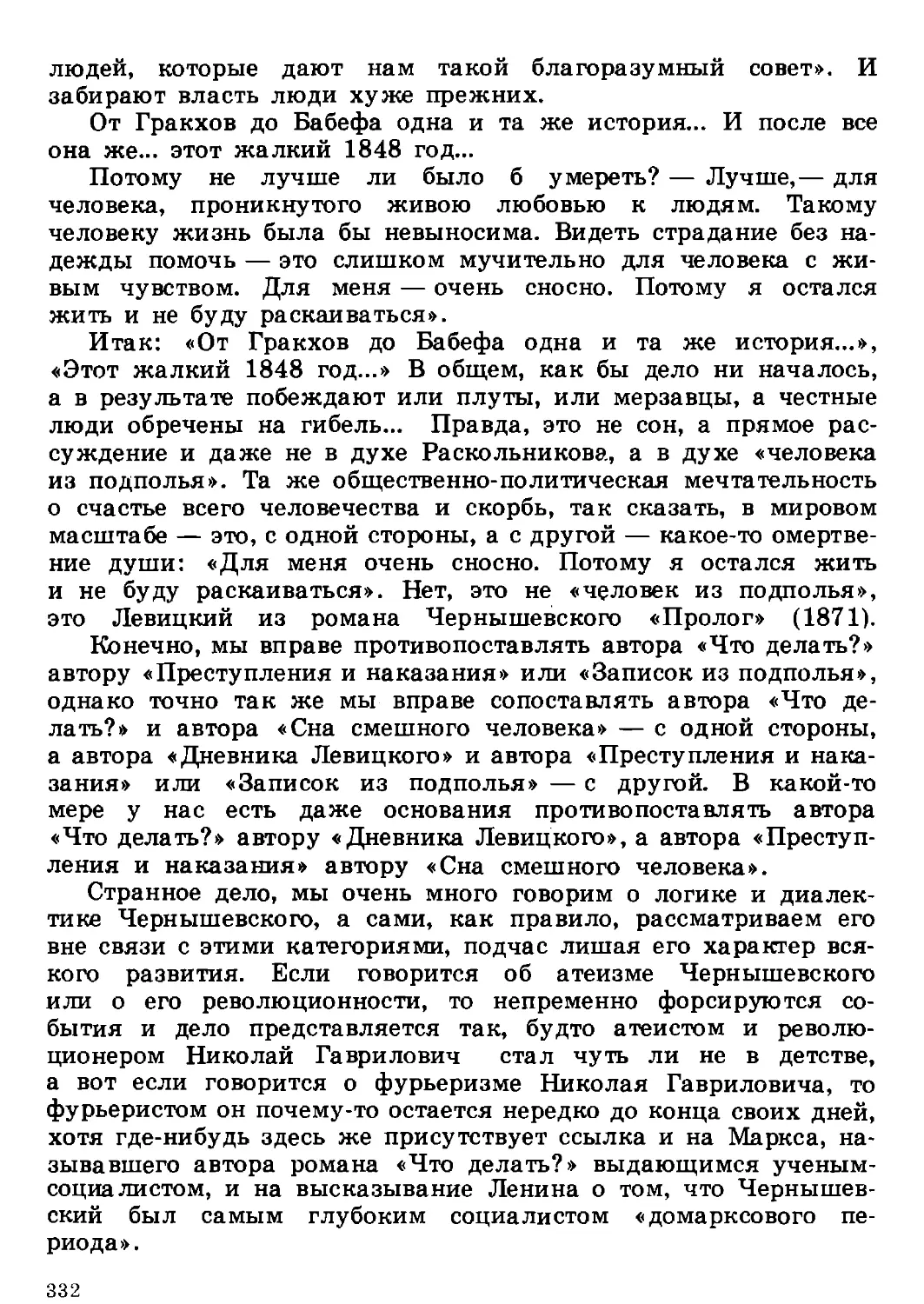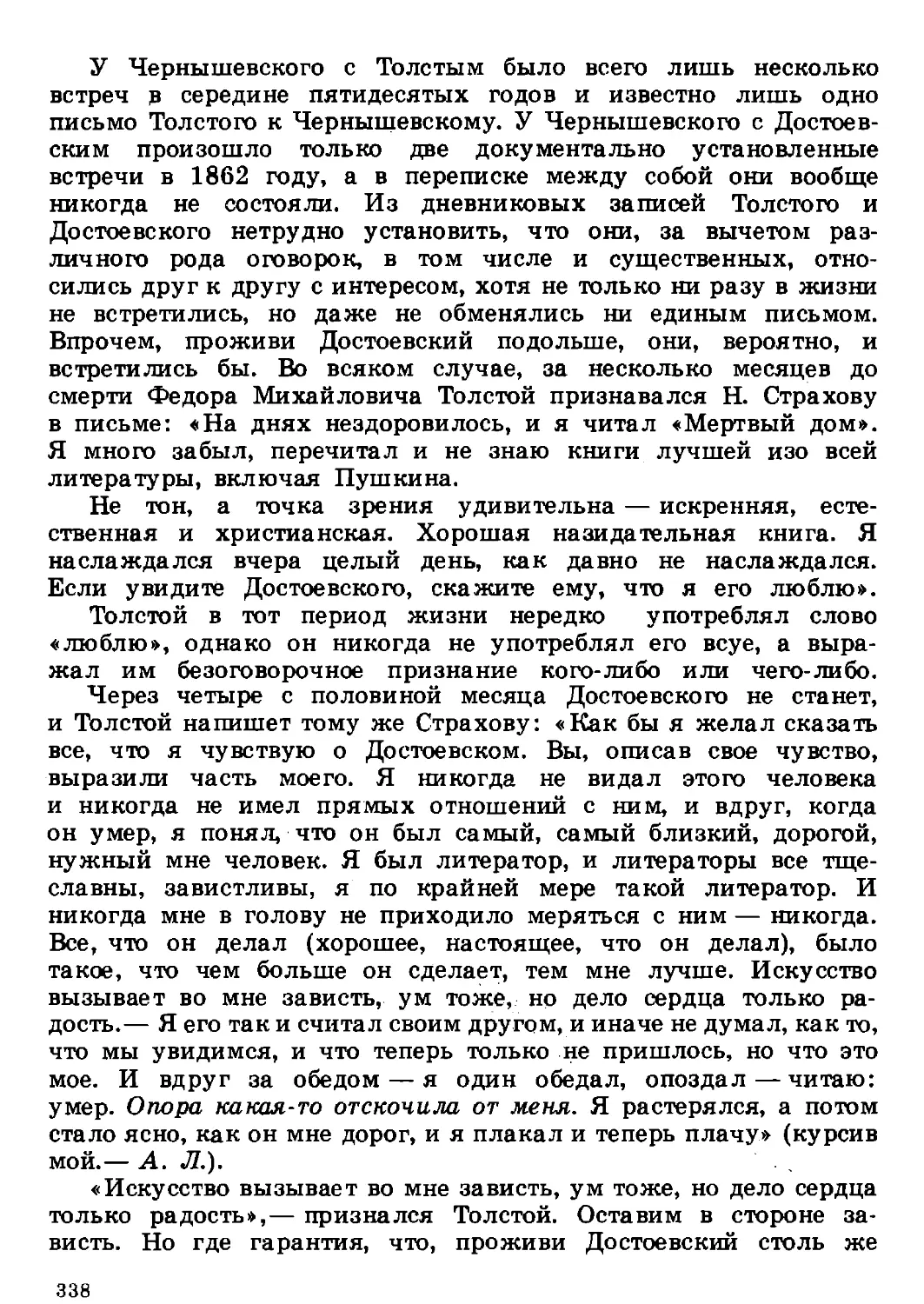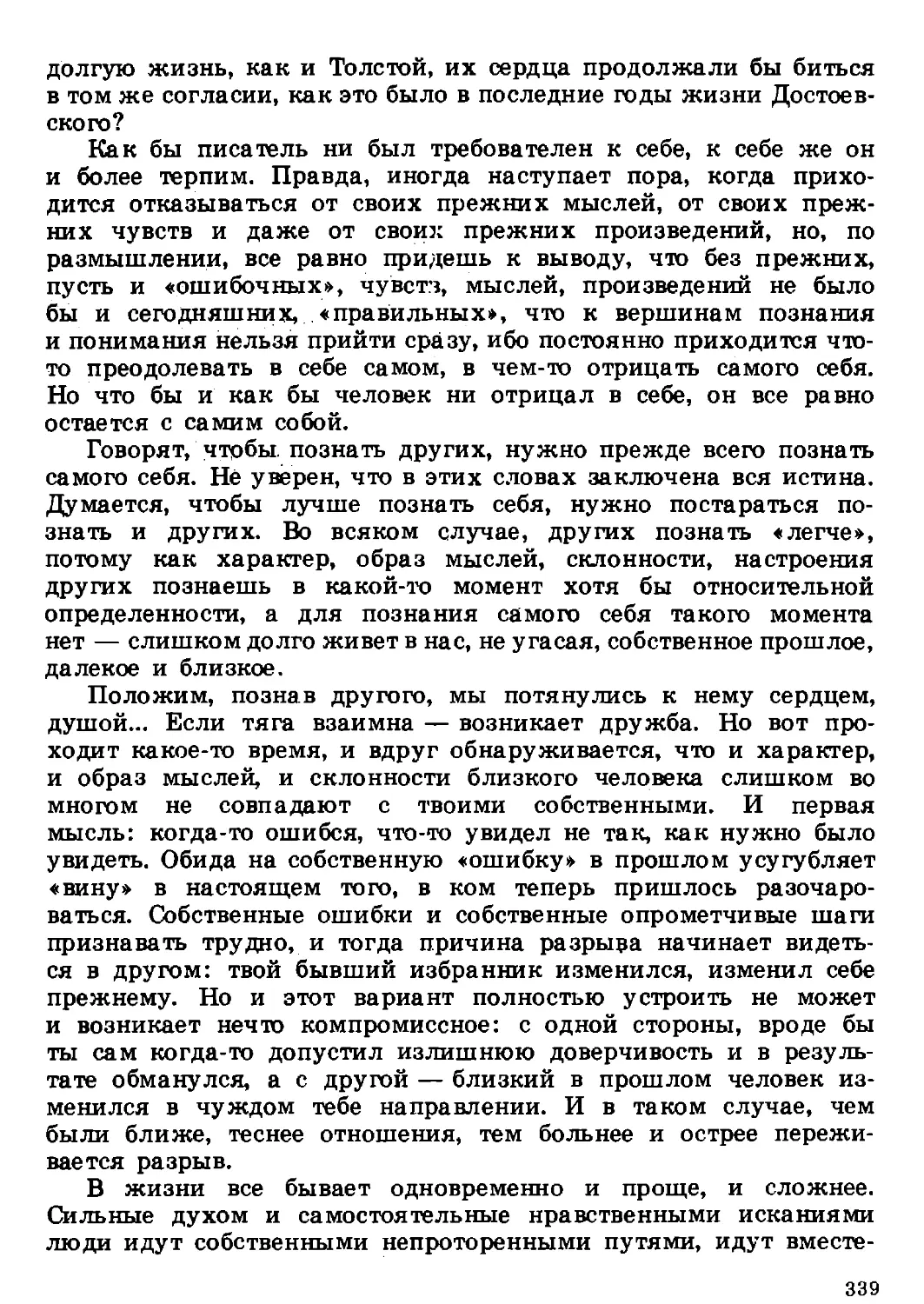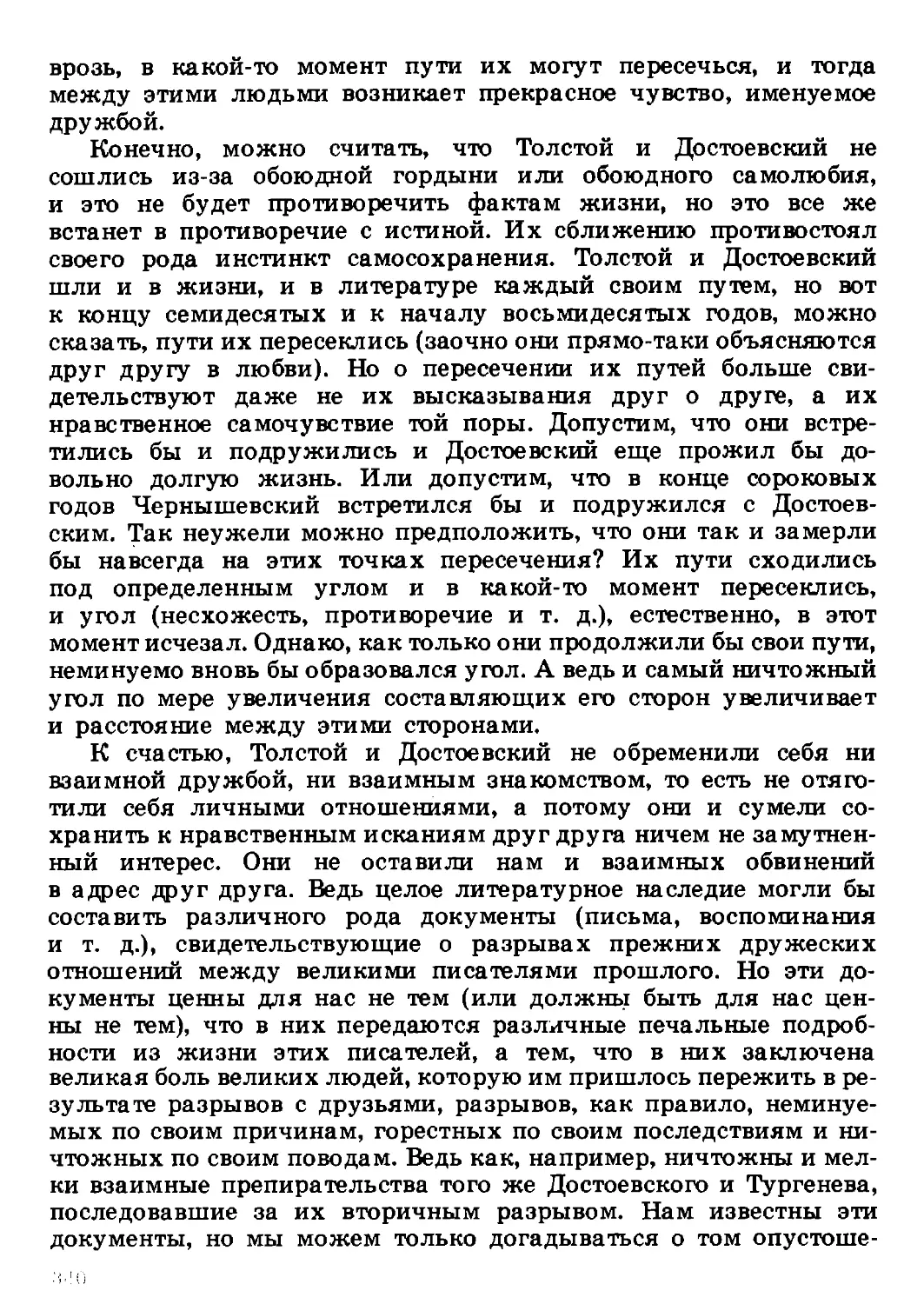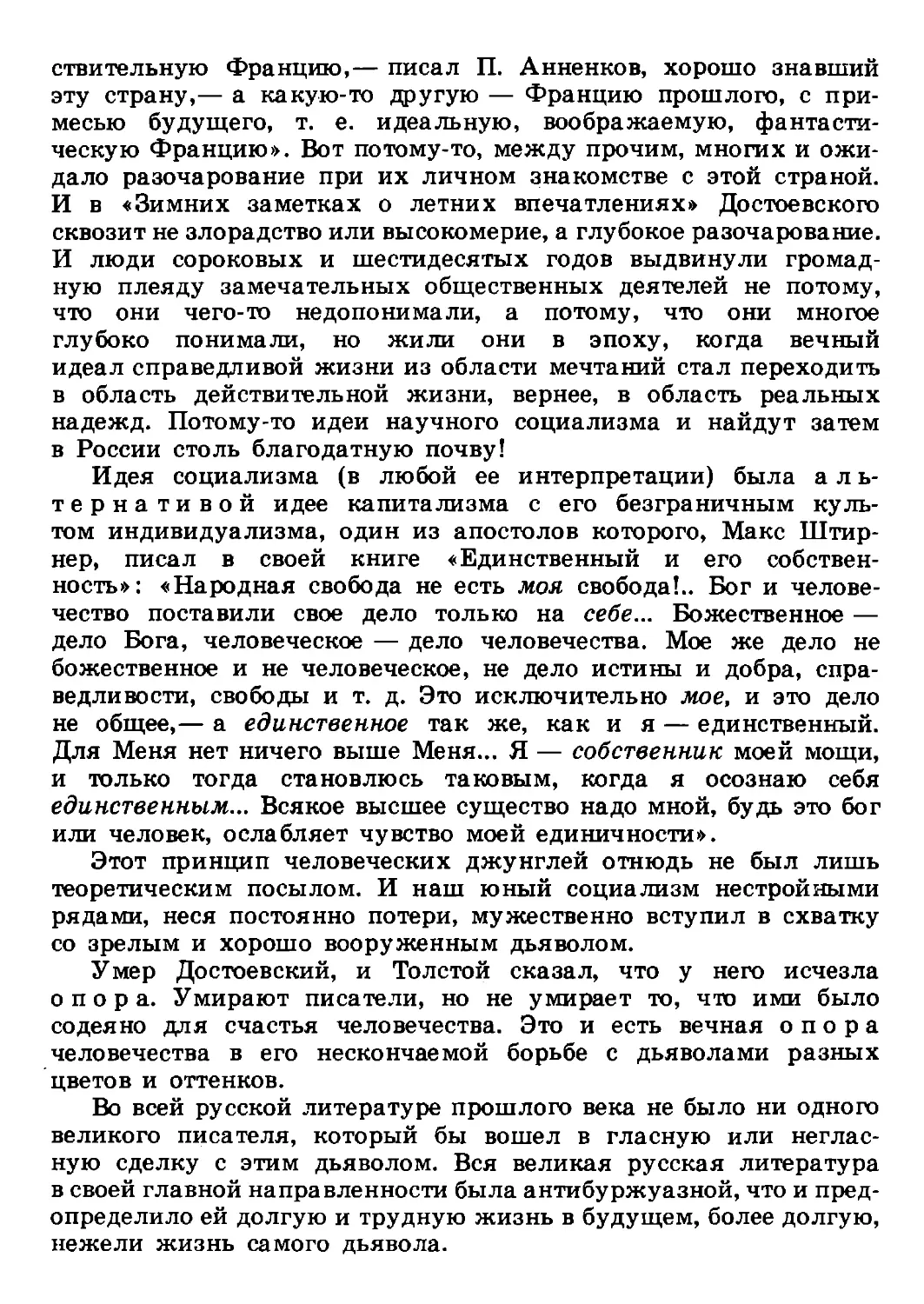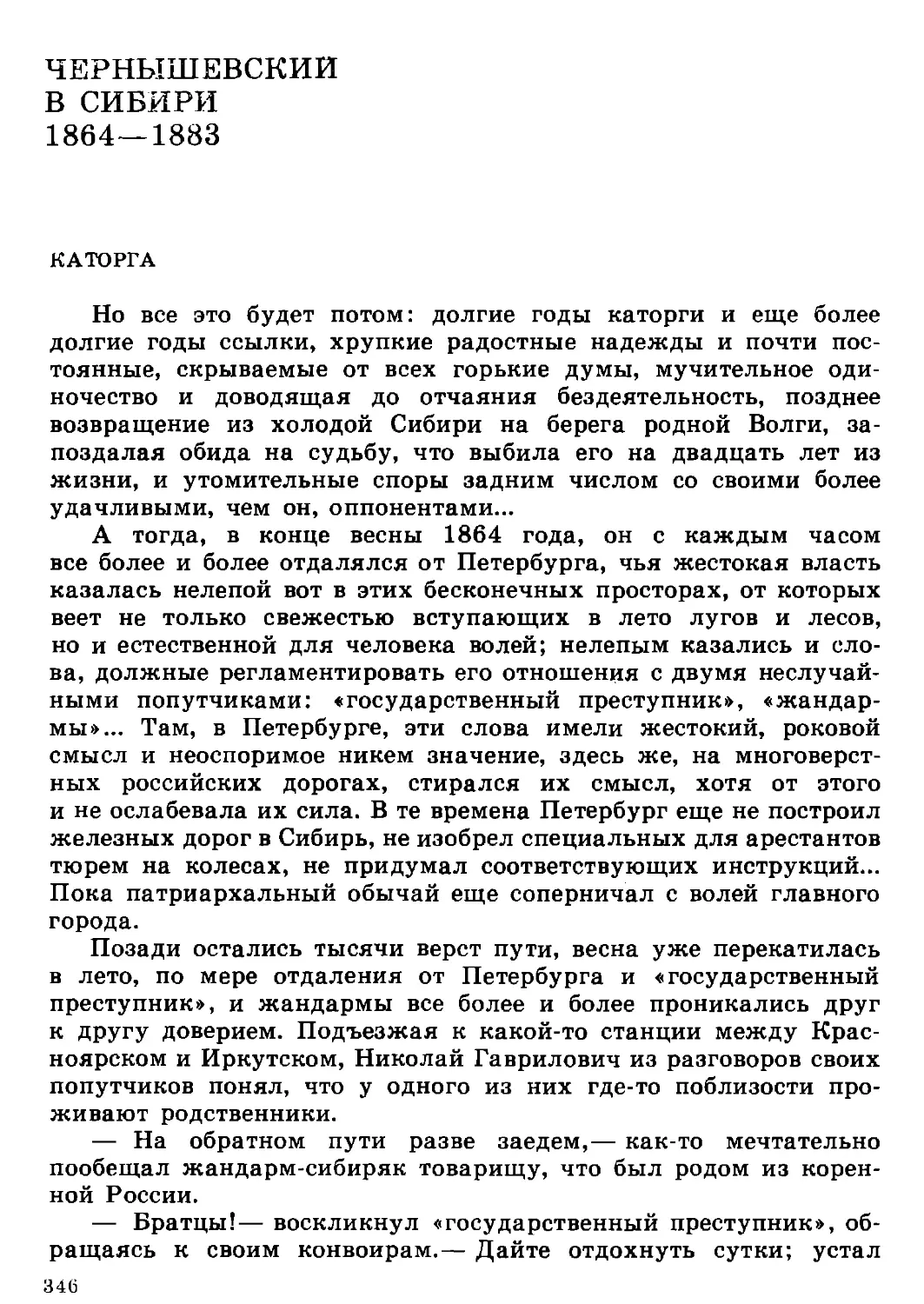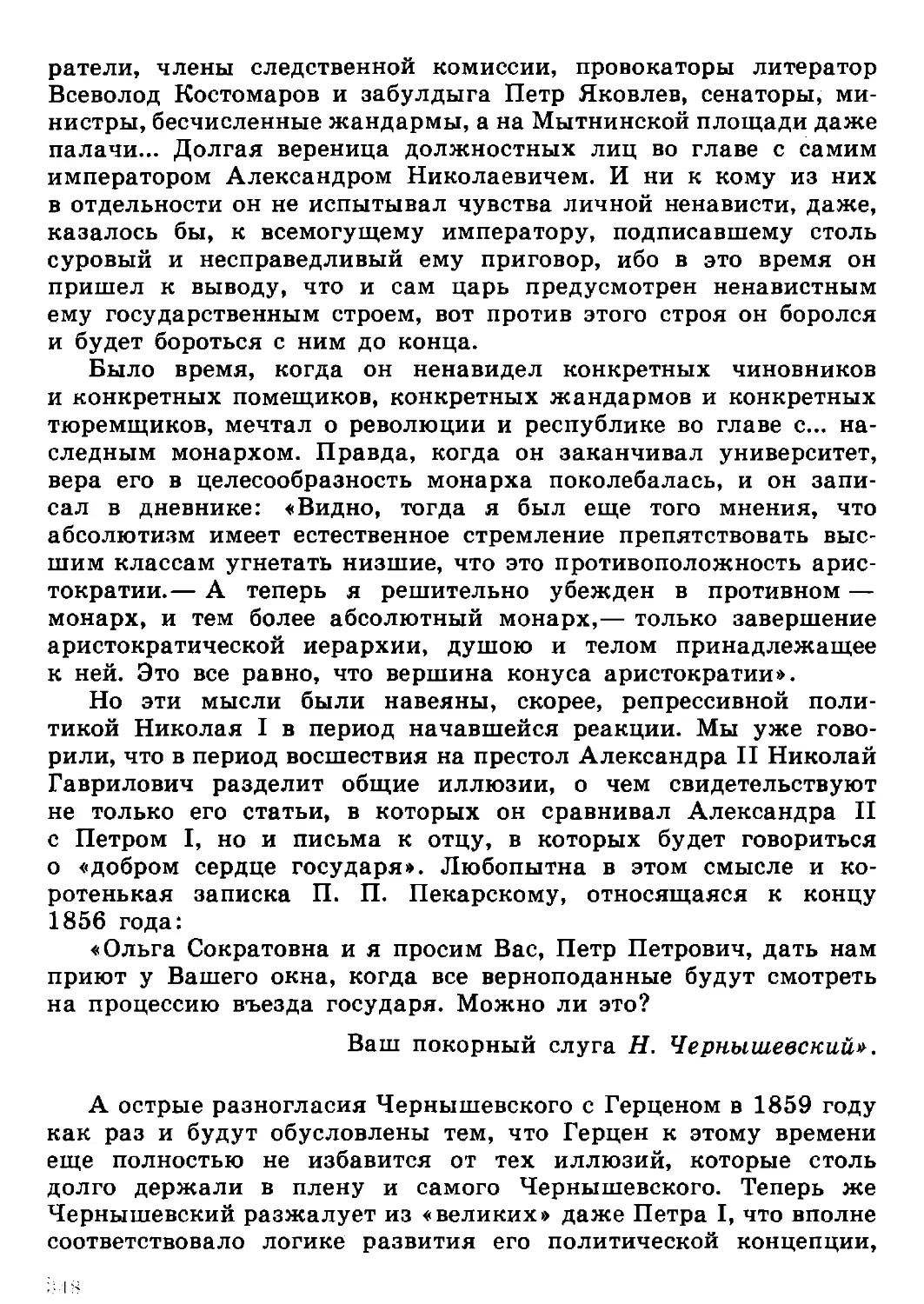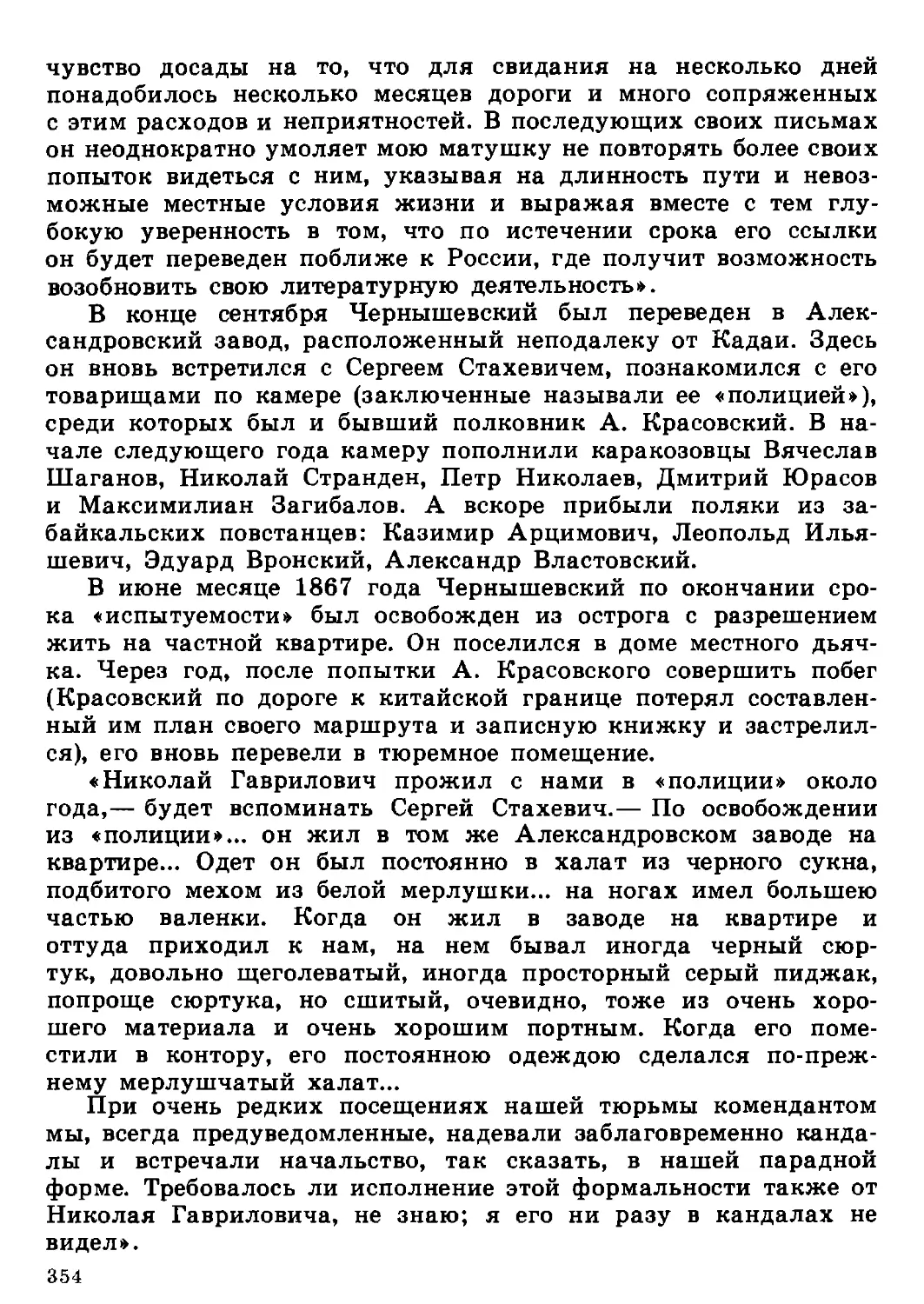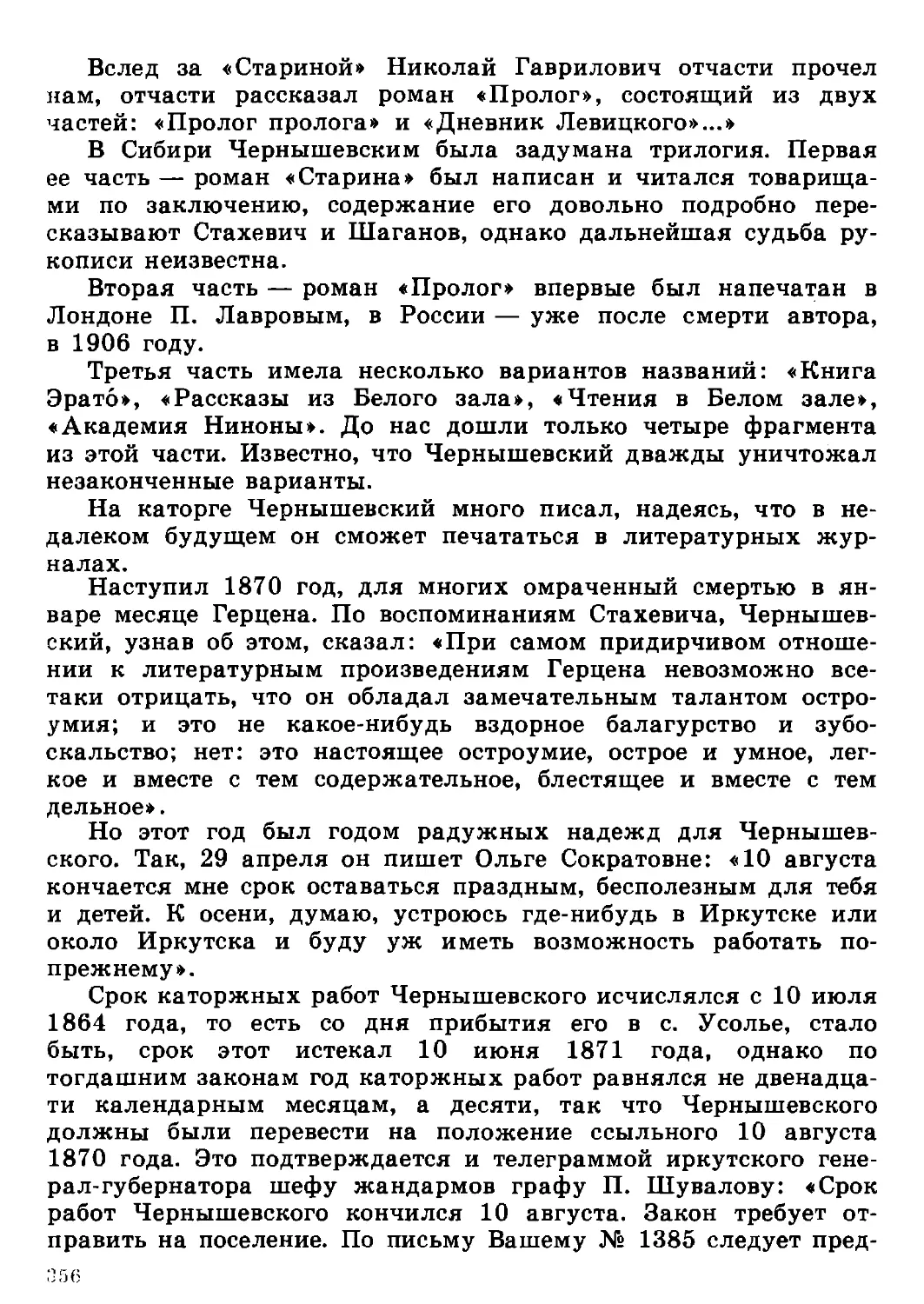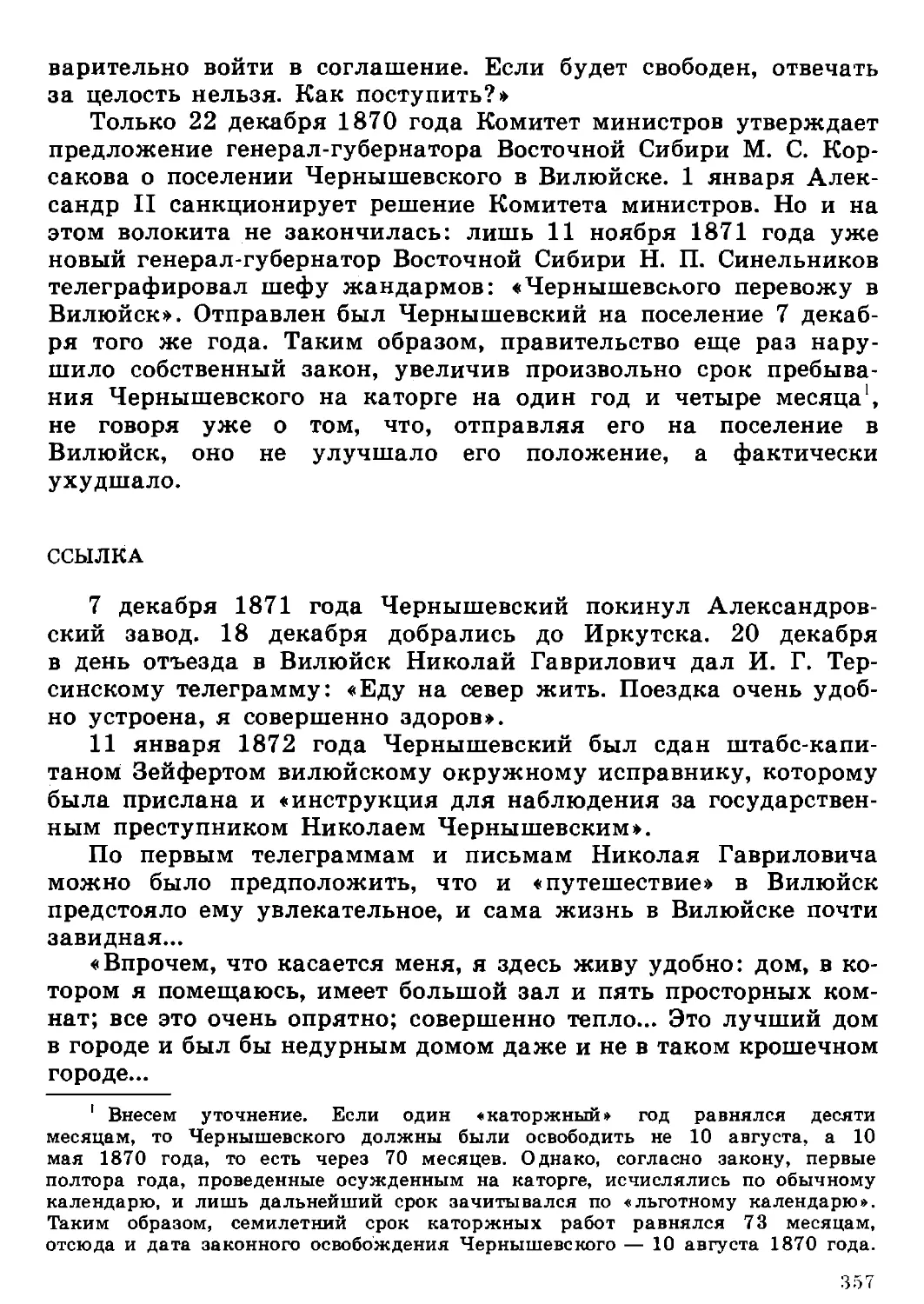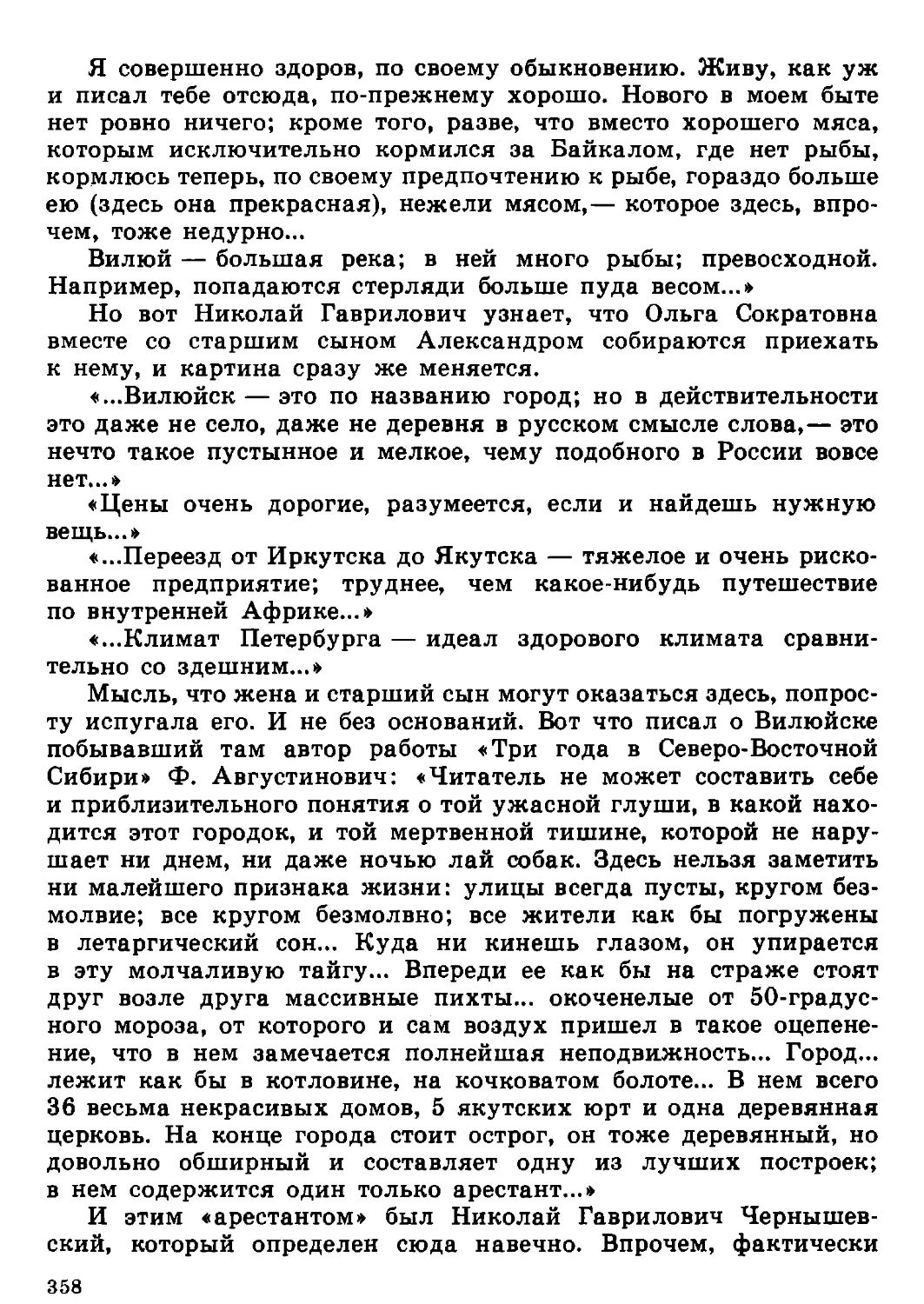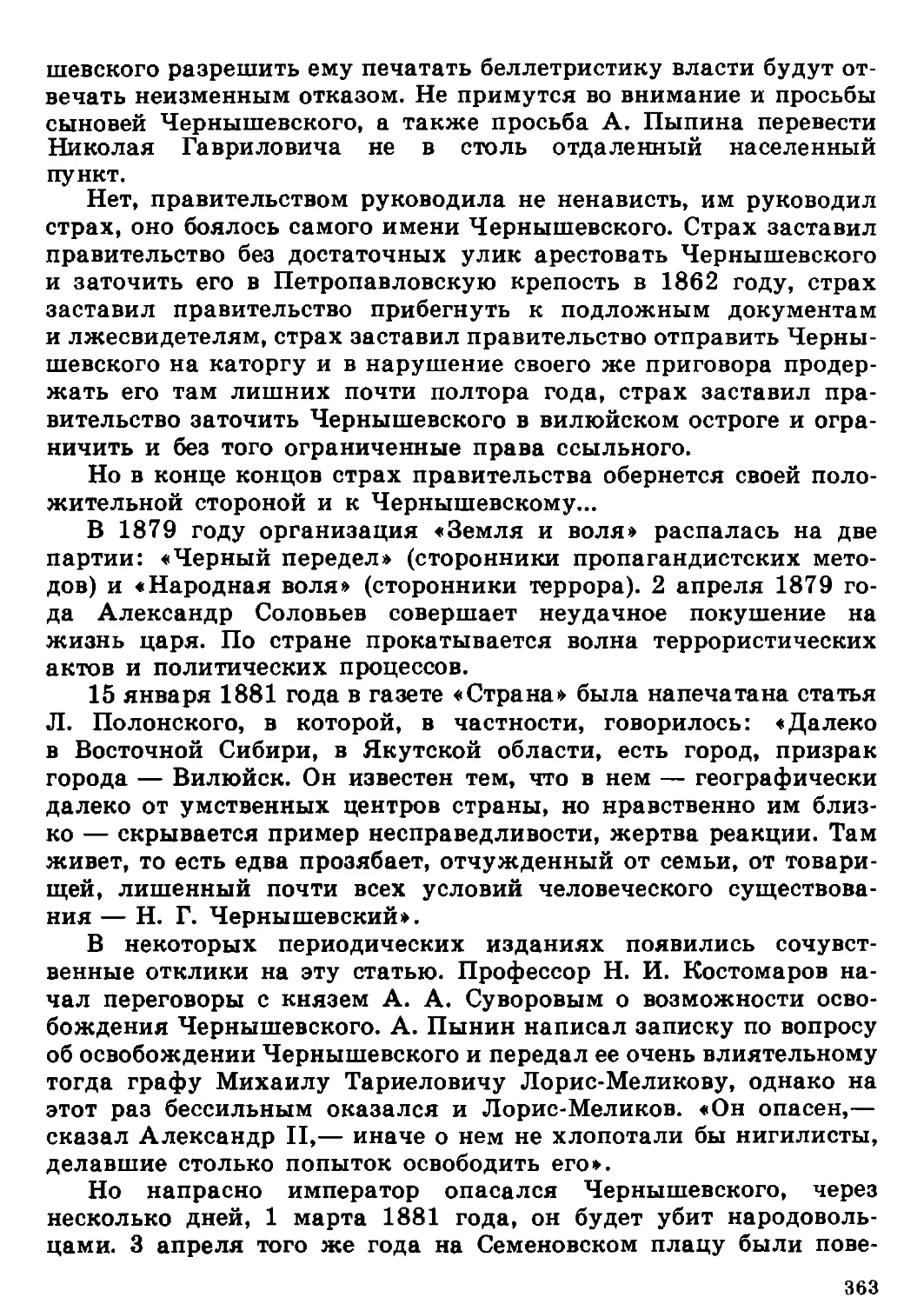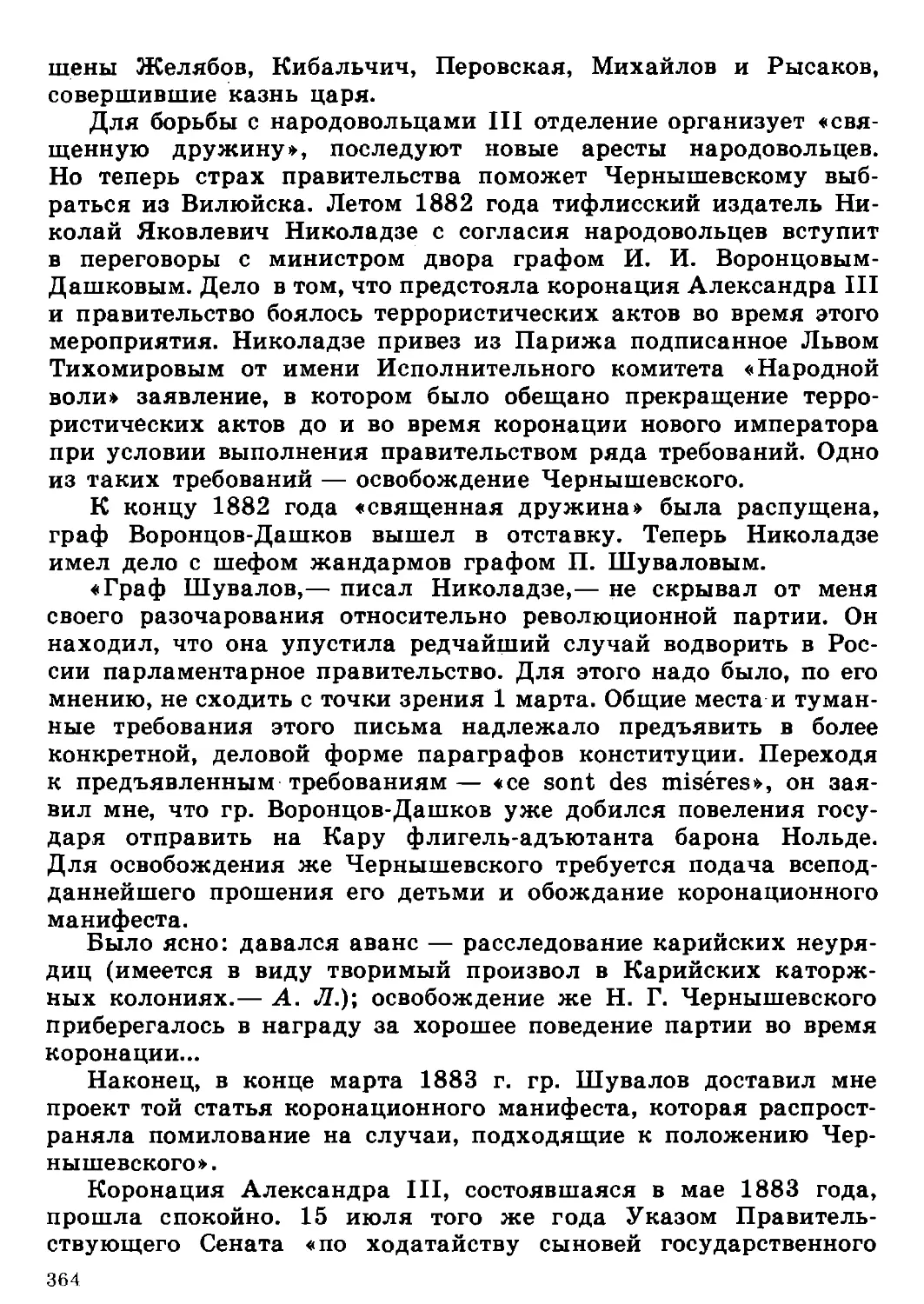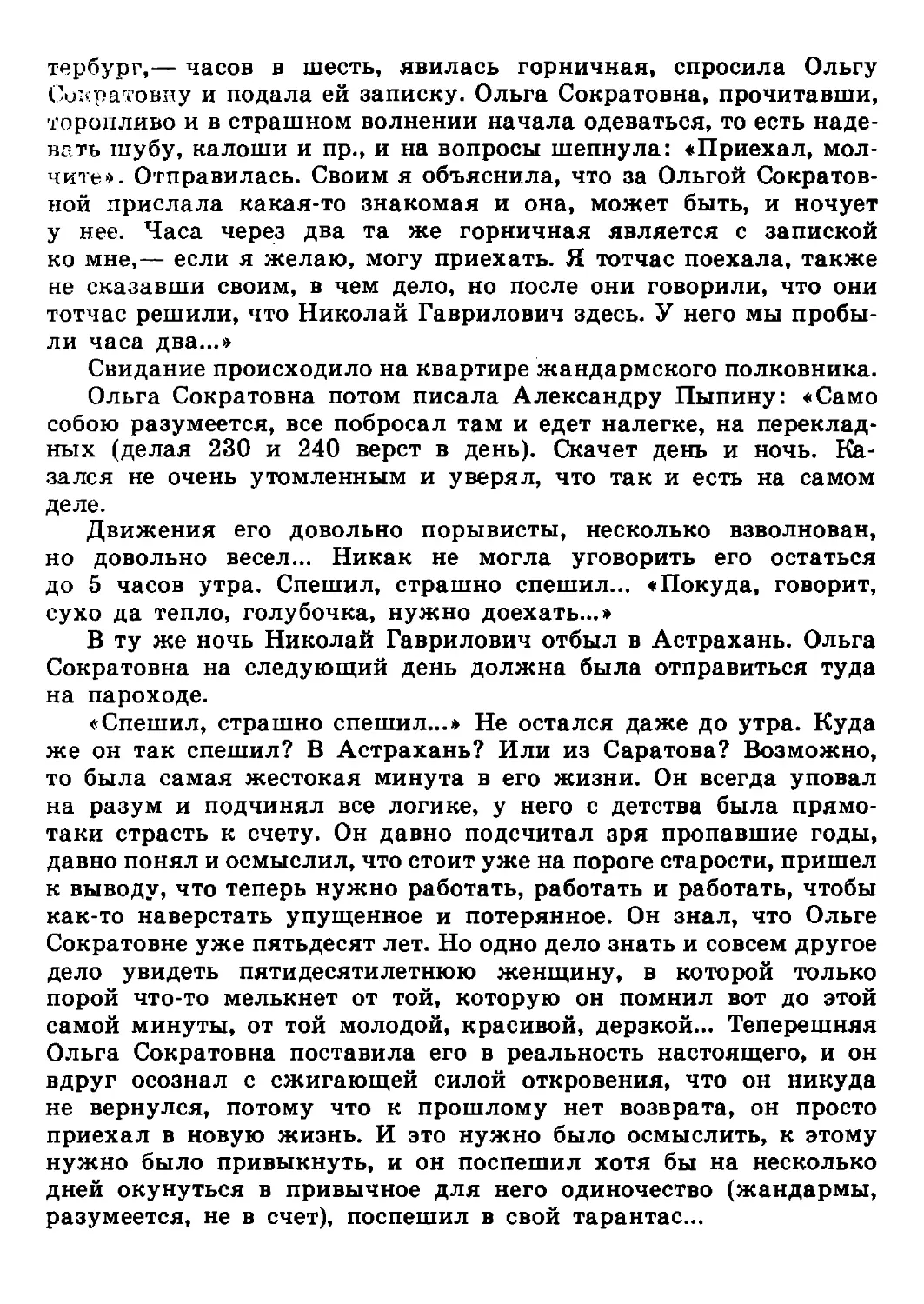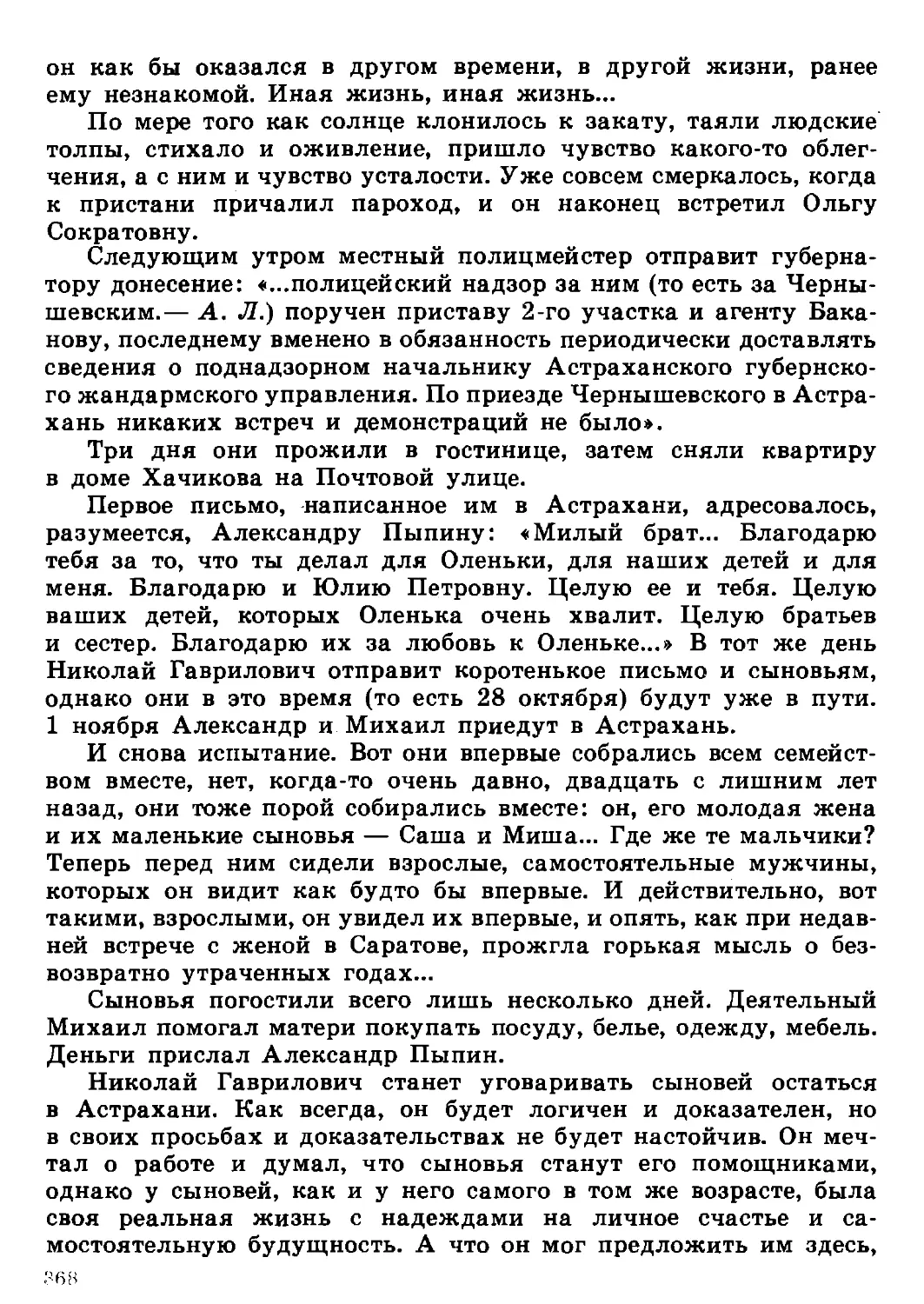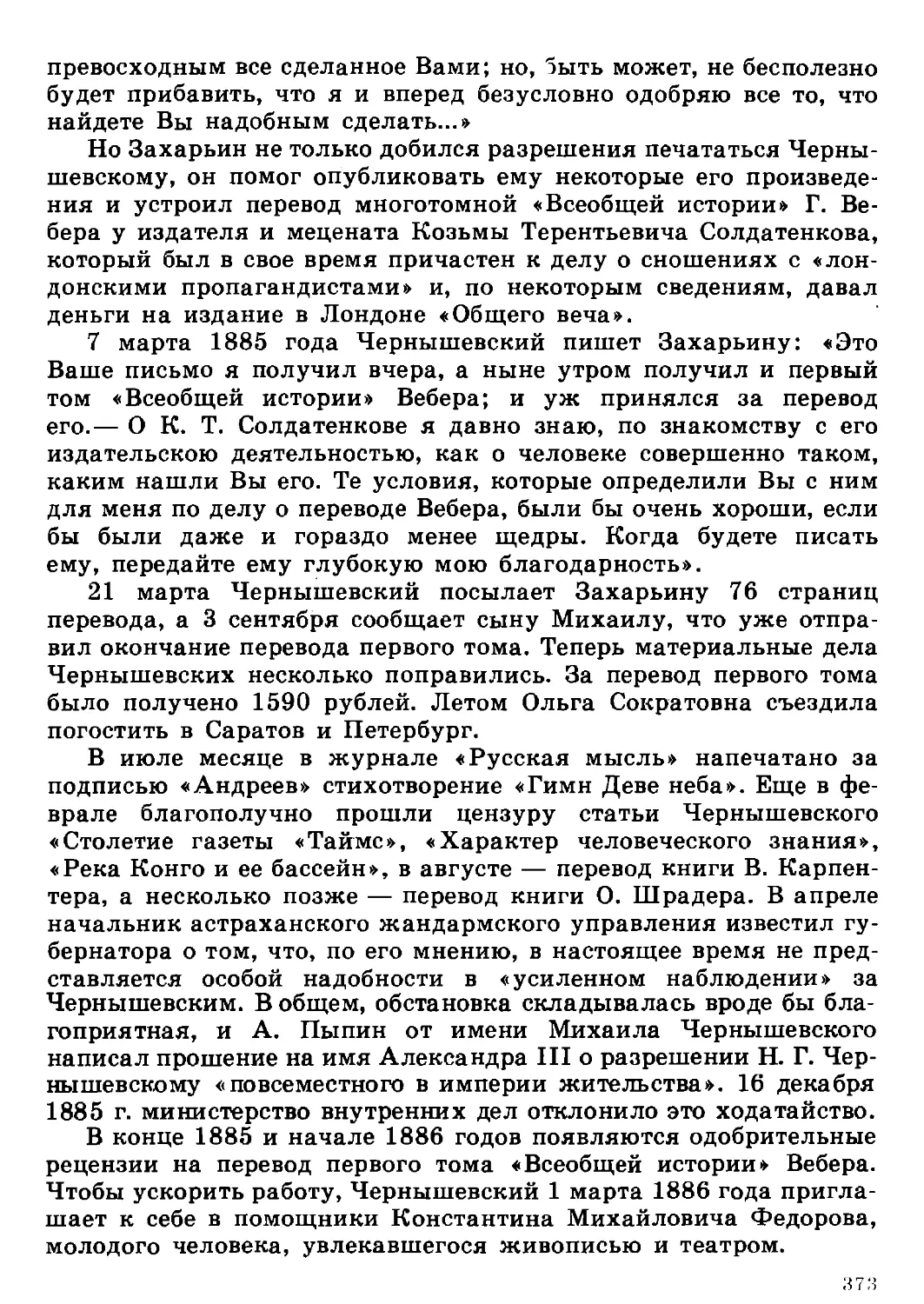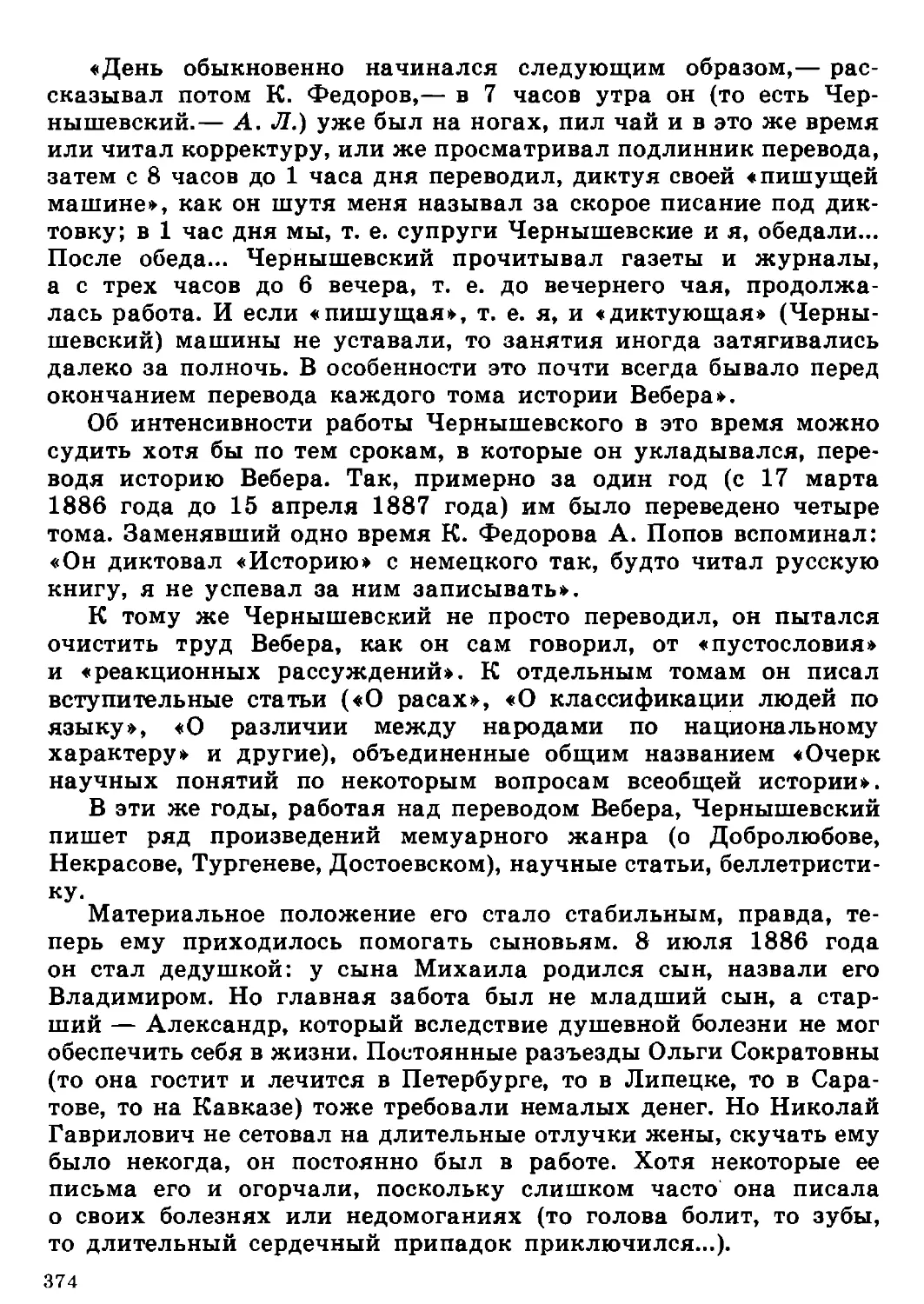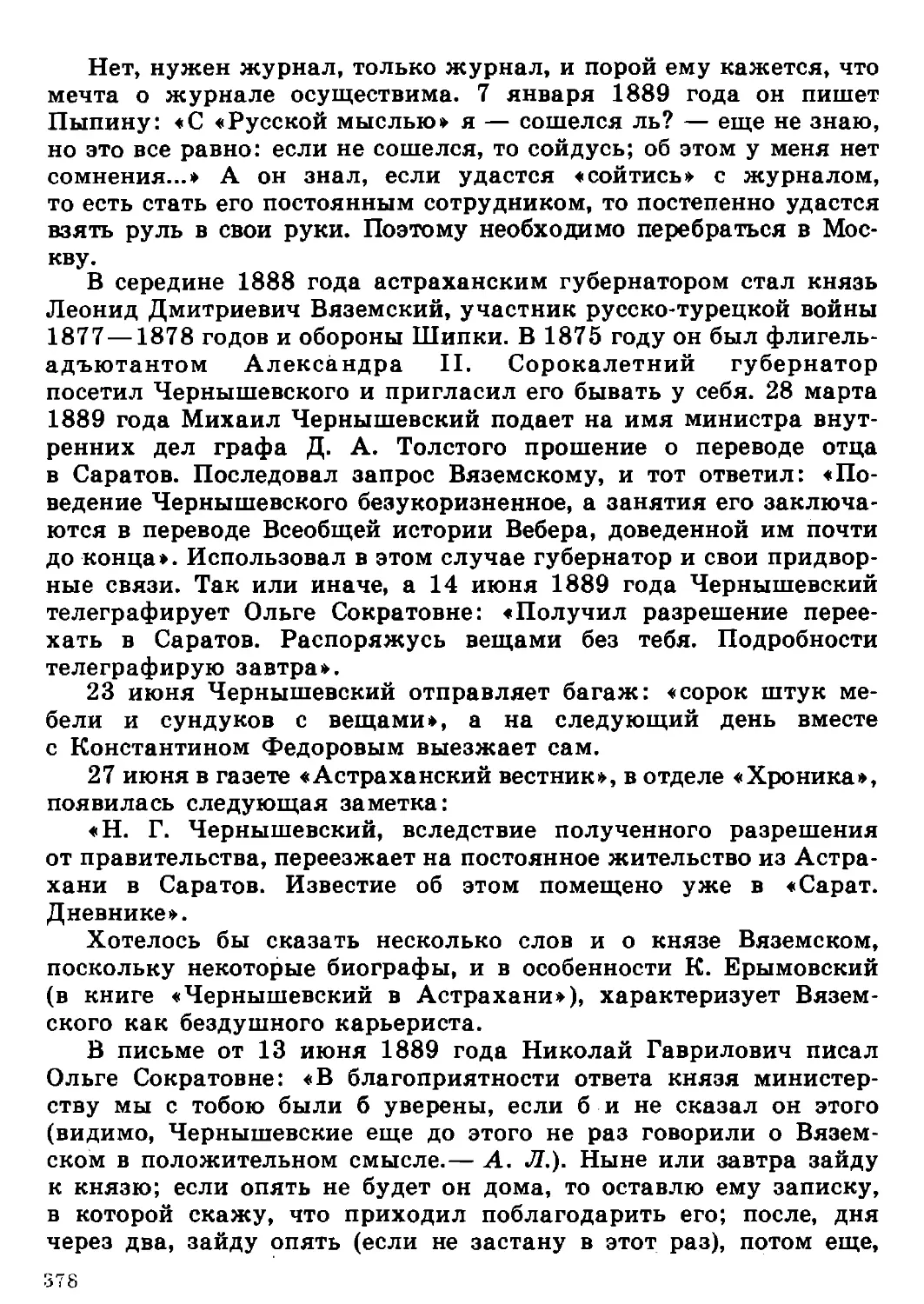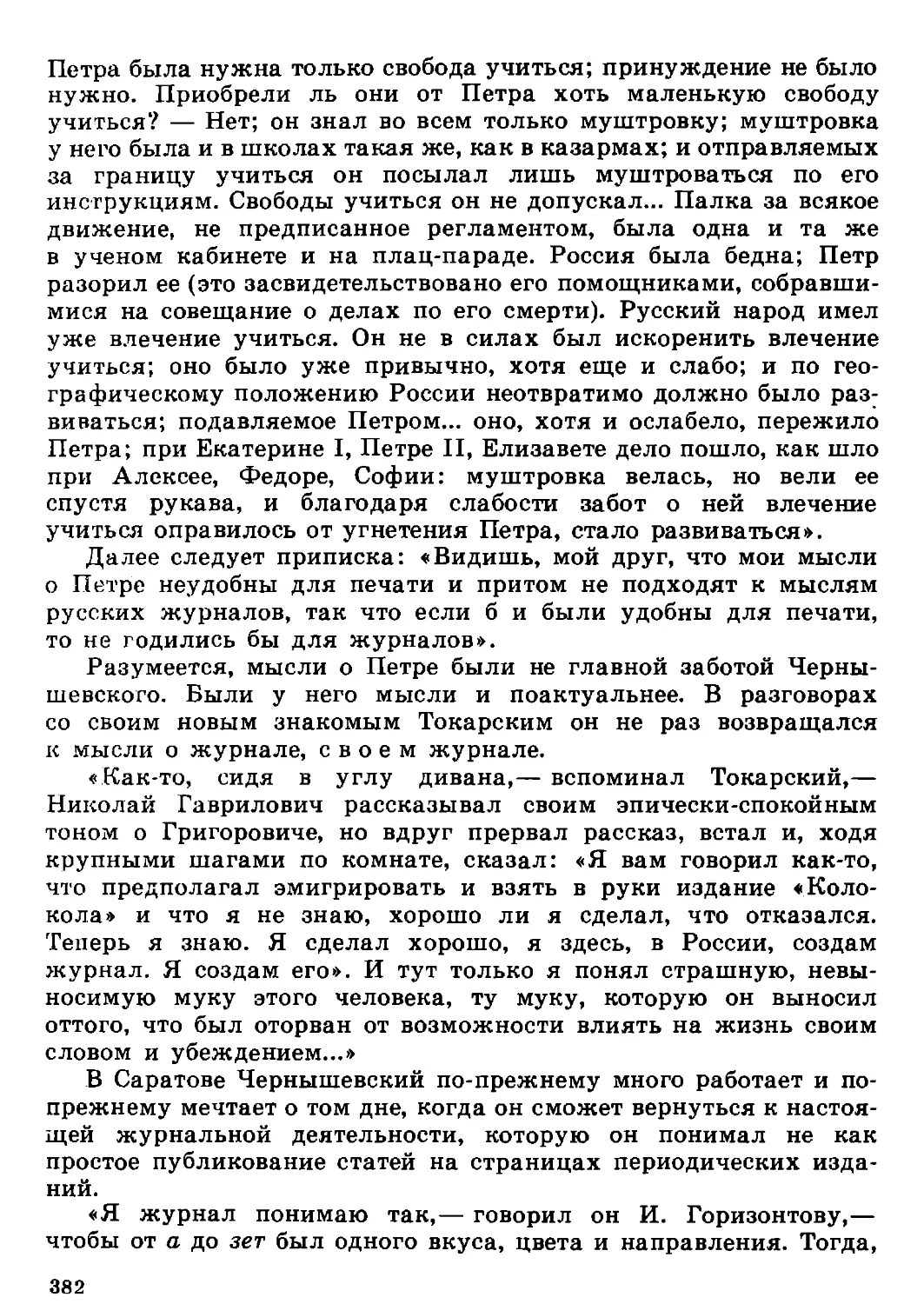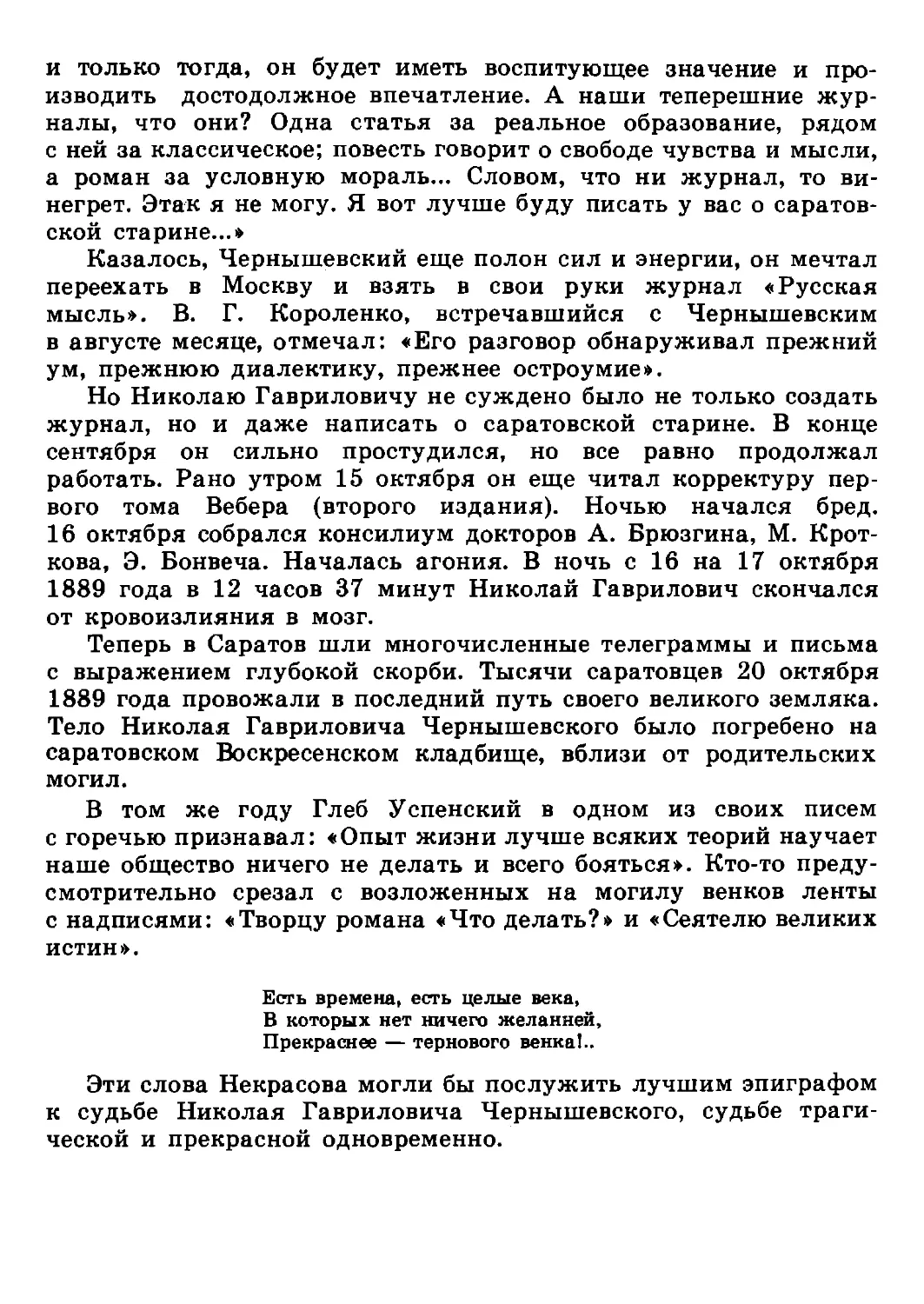Text
БИБЛИОТЕКА
♦ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»
АНАТОЛИЙ ЛАНЩИКОВ
Н.Г ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
БИБЛИОТЕКА
■ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»
АНАТОЛИЙ ЛАНЩИКОВ
Н.Г ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ИЗДАНИЕ 2-Е
МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987
83.3Р1
Л22
Рецензенты А. Смирнов, В. Кулешов
Ланщиков А. П.
Л22 Н. Г. Чернышевский. 2-е изд.— М.: Современник,
1987.— 384 с.— (Б-ка «Любителям российской словес¬
ности»).
Книга посвящена жизненному и творческому пути русского революционера*
демократа, ученого, писателя, чей идейно*нравственный подвиг высоко ценили К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Автор с позиций дня нынешнего осмысляет общественно-литератур¬
ную деятельность Николая Гавриловича Чернышевского, сыгравшего огромную роль в вос¬
питании многих поколений русских революционеров.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Л
4603010101—180„ю „
М106(03)—87 КБ 7
33—87
ББК83.3.Р1
© Издательство «Современник», 1982 г.,
Издательство «Современник», 1987 г.
Анатолий Петрович Ланщиков
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Редактор Т. Коновалова
Художественный редактор А. Никулин
Технический редактор В. Никифорова
Корректоры И. Попова, И. Рудакова
ИВ № 4966
Сдано в набор 26.11.86. Подписано к печати 03.04.87. Формат 60x84’/ie* Гарнитура школьн. Печать
офсет. Бумага тип. № 2. Усл. кр.-отт. 44,87. Усл. печ. л. 22,32. Уч.*иэд. л. 22,25. Тираж 50 000 экз.
Заказ 4078. Цена 85 коп.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.
Республиканская ордена «Знак Почета» типография имени П. Ф. Анохина Государственного комитета
Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 185630. г. Петрозаводск,
ул. «Правды», 4.
Моим однокашникам
по Ленинградскому суворовскому
военному училищу —
посвящаю
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В САРАТОВЕ
1828—1846
истоки
Детство, отрочество, юность...
Ранние годы всякого выдающегося деятеля интересны
тем, что именно в этот период жизни складываются пер¬
воначальные воззрения и характер, обозначается направ¬
ление нравственных исканий. Если даже ранние годы вро¬
де бы и не насыщены никакими яркими событиями, они
играют в судьбе человека предопределяющую роль, пото¬
му как в этот период жизни происходит самое важное и
самое яркое событие — личное открытие мира — и
предопределяющую роль будет играть именно то, какими»
своими признаками этот внешний мир вошел в формирую¬
щееся индивидуальное сознание, какие отложились в нем
впечатления и в какую систему, называемую мировоспри¬
ятием, они выстроились. Открывая мир, человек устанав¬
ливает с ним вечную связь и сам становится частью этого
мира, абсолютно неповторимой и необходимой в силу этой
своей неповторимости. Потом многое может измениться:
как отдельные взгляды, так и мировоззрение в целом, од¬
нако всякое такое изменение интересно будет не только
с точки зрения обретения новых представлений, но и с точки
зрения тех, которые пришлось для этого преодолеть.
Это и есть история духовной жизни человека, от обще¬
ственной значимости которой и зависит историческая зна¬
чимость данной индивидуальности.
Исследователи жизненного и творческого пути Н. Г. Чер¬
нышевского располагают немалым материалом о ранних
годах его жизни. Дневники, автобиография, письма, нема¬
лочисленные свидетельства его родных и современников,
различного рода документы, характеризующие духовную
атмосферу и материальные условия жизни той поры... Однако
сам по себе документальный материал дает лишь общее
представление. Что же касается организации материала, то
есть приведения его в определенную систему, то эта задача, как
4
мне представляется, решена в большей части неудовлетворитель¬
но именно по отношению к ранним годам жизни Чернышевского.
Видимо, многим исследователям казалось, что годы детства и юно¬
сти — период жизни, не требующий особо пристального
внимания. К сожалению, даже в серьезных книгах ранние
годы Чернышевского освещаются, словно по трафарету.
«Родился в глуши». (Иногда слово «глушь» кажется не¬
достаточным, и тогда оно усиливается различного рода
эпитетами). «Читал много, но бессистемно». (Какая уж
там система в глуши?!) «Учился в семинарии». (Где, есте¬
ственно, учащихся изнуряли ненужной зубрежкой, при¬
вивали грубые вкусы и дурные наклонности, одурманивали
богословием и т. д.) Разумеется, эти утверждения подкреп¬
ляются свидетельствами разной авторитетности. Однако чем
больше мы станем множить свидетельства из области тво¬
римых в семинариях бесчинств и безобразий, чем упорнее
мы станем доказывать полную несостоятельность тогдаш¬
ней образовательной системы, тем сильнее в нас начнет бун¬
товать чувство логики: как же так... неужели для того, чтобы
подчинить своему умственному влиянию половину мыслящей
России, нужно непременно родиться и вырасти в глуши и в
течение нескольких лет подвергаться одурманиваю в семинарии?
А может быть, Чернышевский возник не благодаря всем
взятым в совокупности явлениям тогдашней жизни, а во¬
преки им? Пожалуй, эту точку зрения трудно было бы оп¬
ровергнуть, не получи свое первоначальное образование
в семинарии десятки других выдающихся деятелей лите¬
ратуры, искусства, науки. Семинаристами в свое время
были друг и соратник Чернышевского Н. Добролюбов и
идейный противник Чернышевского — его ровесник, талантли¬
вый критик Н. Страхов, старший современник и земляк Чер¬
нышевского, известный в свое время литератор и глава
кружка разночинной интеллигенции И. Введенский, младший
современник Чернышевского, выдающийся историк В. Ключев¬
ский. Список этот можно продолжать, но все равно он ока¬
жется неокончательным, потому как помимо выдающихся
деятелей из семинаристов вышли тысячи безвестных труже¬
ников науки, просвещения, культуры, чей индивидуальный
вклад не учтен историей, хотя и усвоен в ходе ее поступатель¬
ного движения.
Теперь несколько слов о глуши вообще и саратовской в
частности. Мысль, что Саратов — глушь, не нова. «В деревню,
к тетке, в глушь, в Саратов»,— пригрозил еще Фамусов своей
провинившейся дочери. У Фамусова и его дочери были все
основания, с одной стороны, грозить Саратовом, а с другой —
пугаться его, поскольку их взгляды на этот далекий волжский
город отличались достаточной житейской трезвостью. Дей¬
ствительно, разве сравнимы возможности столичного чиновника
с возможностями его саратовского коллеги или разве срав¬
нимы московские балы с саратовскими? Нет, не выдерживает
Саратов сравнения со столицей (пусть это даже и вторая сто¬
лица)... Глушь, она и есть глушь.
Разумеется, мысль о том, что в провинции меньше воз¬
можностей реализовать себя, нежели в столице, не лишена
справедливости. Однако от утверждения, будто всякая на¬
стоящая жизнь, в том числе и духовная, прекращается за
столичными заставами, веет какой-то безнадежной уныло¬
стью. «Дух дышит, где он хочет»,— сказал один из мысли¬
телей прошлого, и в этих словах нетрудно найти объясне¬
ние тому, что подавляющее большинство видных деятелей
минувшего века родилось и выросло в «глуши» — саратов¬
ской, нижегородской, орловской, тульской, воронежской и прочей
чуть ли не по общему числу российских губерний.
«...Цель... первой части моей автобиографии,— писал Чер¬
нышевский, находясь в Петропавловской крепости,— дать
читателю понять о том, как и что влагала жизнь в голову и в
сердце мне в молодости,— а это понятие я хочу дать затем,
чтобы можно было по мне приблизительно заключить о том,
под какими впечатлениями и с какими понятиями вырастало
то поколение среднего сословия, которое родилось на белый
свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых,
в тридцатых годах XIX века».
Как видим, сам Чернышевский утверждал, что он вовсе
не из ряда вон выходящее явление, а скорее, наоборот, яв¬
ление для своего времени характерное, типическое. Но тут, ве¬
роятно, следует сделать оговорку. Типическое и характер¬
ное я не рассматриваю как нечто ординарное, усредненное,
стандартное, более того, я полагаю, что типическое может
быть и исключительным, но только в силу концентрации ти¬
пических черт и признаков, а не в силу своей ни на что не¬
похожести.
И это не сторонний спор о словах, понятиях, терминах.
Это даже не столько методологический спор, сколько — фи¬
лософский, и здесь я не соглашаюсь со своими современ¬
никами только в той мере, в какой они некритически унасле¬
довали от некоторых современников Чернышевского (но не от
самого Чернышевского) взгляд на роль личности в истории,
согласно которому выдающейся личности приписываются черты
6
мессии, и в этом случае происхождение и появление этой
личности никак не согласуются со всеми обстоятельствами
современной и предшествующей ей жизни, а непременно про¬
тивопоставляются ей. И потому вполне естественно,
чем беспросветнее рисуется окружающая жизнь, тем ярче
сверкает ореол избранной личности, тем вроде бы значимей
и исключительней ее историческая роль. Отсюда и появляется
стремление рассматривать не духовную эволюцию личности,
а искать признаки предварительного или конечного резуль¬
тата этой эволюции даже там, где они ни при каких обстоятель¬
ствах обозначиться еще не могли. Естественно, опускаются
многие свидетельства о противоречиях личности, ибо согласно
этому взгляду выдающимися личностями не становятся, а
рождаются и как бы сразу же неотвратимо нависают над всеми
обстоятельствами неподвижной жизни — будущей арены их
неукротимой деятельности.
И тут особо произвольно интерпретируются именно ран¬
ние годы, когда малейший намек раздувается до очевидности,
малейшее сомнение — до категорического отрицания, частное
возражение — до всеобщего протеста. Порой бывает невозможно
понять, когда же, например, Чернышевский стал революцио¬
нером: в период обострения борьбы за освобождение крестьян
от крепостной зависимости и назревания в стране первой ре¬
волюционной ситуации или в период своего жениховства?
Или и того раньше, когда он изобретал «вечный двигатель»
или вел диспуты в стенах саратовской семинарии? Еще труд¬
нее разобраться в том, как сын священника стал убежденней¬
шим атеистом. Порой создается впечатление, будто все догматы
христианского учения он отверг еще в церковной купели во вре¬
мя обряда крещения. И сжимаются, словно пружина, дол¬
гие шесть десятилетий жизни, насыщенной сложными нрав¬
ственными исканиями и мужественными гражданскими по¬
ступками, свершениями и сомнениями, надеждами и разоча¬
рованиями. Так схематизм подчас вытесняет признаки живой
жизни, и сама жизнь уступает место своему скучному подобию
с его мертвой окаменелой «правильностью».
Действительно, выдающиеся личности как бы изначально
предчувствуют скрытый ход истории, но оттого их жизнь не
становится ни более простой, ни более «правильной». Напротив,
в постоянных попытках согласовать со своими предчувствиями
практику жизни они испытывают больше чем кто-либо другой
и житейских неудобств, и жизненных осложнений, потому
как они острее чувствуют несовершенство мира и свое собственное
несовершенство.
В РОДНОМ ДОМЕ
12 (24) июля 1828 года в Саратове в доме по Большой Сергиев¬
ской улице в семье протоиерея Гавриила Ивановича Черны¬
шевского и его жены Евгении Егоровны (урожденной Голу¬
бевой) родился сын, которого нарекли Николаем.
О предках Николая Гавриловича Чернышевского известно
немногое, хотя известно, что оба деда и прадед по материн¬
ской линии тоже были священниками. «Генеалогические мои
сведения со стороны моего батюшки,— писал Николай Гаври¬
лович,— начинаются тем годом, когда он родился— 1793,—
я запомнил это по его послужному списку, который пере¬
читывал сотни раз, перелистывая «Клировые ведомости»
города Саратова, постоянно лежавшие на его рабочем столе.
Но, перечитывая этот список сотни раз, я не потрудился за¬
помнить, как звали по батюшке отца моего батюшки и кто он
был, дьякон или дьячок,— кажется дьякон, но не ручаюсь».
Прадеда по отцовской линии звали Василием, он, как и позже
его сын Иван, служил дьяконом церкви села Чернышево
Чембарского уезда Пензенской губернии. Дед Иван был женат
на сестре священника этой же церкви.
Дед по материнской линии, Георгий (Егор) Иванович
Голубев, исправлял должность протоиерея Сергиевской церкви
города Саратова, бабка, Пелагея Ивановна, была дочерью
священника Ивана Кириллова.
В 1818 году Георгий Иванович Голубев умер, и саратов¬
ский губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев обратился
к пензенскому архиерею, к ведомству которого относился Са¬
ратов, так как в нем тогда еще не было архиерейской
кафедры, с просьбой прислать на освободившееся место «лучшего
студента», но с тем условием, чтобы тот женился на дочери
умершего протоиерея. Губернатор учитывал здесь и собственный
интерес: он желал, чтобы новый священник Сергиевской
церкви одновременно стал бы учителем его детей. Пензенский
архиерей находился в дружеских отношениях с саратовским
губернатором и потому к просьбе последнего отнесся очень
внимательно. В конце концов выбор пал на Гавриила Ива¬
новича Чернышевского, занимавшего к тому времени должность
библиотекаря Пензенской семинарии, и «лучший студент»
вскоре же по прибытии в Саратов наследует место священ¬
ника Сергиевской церкви (рукоположение состоялось 24 июня
1818 года), а чуть раньше женится на одной из дочерей
своего предшественника. Свадьба состоялась 7 июня того же
года.
8
«Гавриил Иванович Чернышевский был сыном дьякона. Мать
его, вдова, не имея возможности не только воспитать, но и кормить
сына, привела его в грязных лаптях к тамбовскому архиерею и, по¬
клонившись, по обычаю того времени, преосвященному в ноги,
со слезами на глазах высказала ему свое горе и просила его
принять участие в сыне. Осмотревши мальчика, преосвященный
велел своему лакею обрезать грязные мохры онуч, отчего мальчик
расплакался. Из жалости преосвященный велел принять его,
безграмотного, на казенный счет в тамбовское духовное учи¬
лище.
Учился Гавриил Иванович хорошо, и переведен был в 1803 го¬
ду в Пензенскую семинарию»,— писал земляк и современник
Николая Гавриловича Чернышевского Флегонт Васильевич Ду¬
ховников, собравший воспоминания саратовцев о Николае Гав¬
риловиче и его семье.
Собственно говоря, с Пензенской семинарии и началась фами¬
лия Чернышевских. Для включения в списки семинаристов
нужна была фамилия, и Гавриилу Ивановичу дали ее по месту
его родины — села Чернышево, так как предки его прозывались
только по отчеству.
В 1812 году Гавриил Иванович был назначен учителем низ¬
шего греческого класса, а в 1816-м — учителем пиитического
класса. С марта 1817 года он становится библиотекарем Пензен¬
ской семинарии.
Семья Голубевых жила, можно сказать, зажиточно: довольно
большой участок в городе, хороший дом, хозяйственные построй¬
ки, свой выезд, прислуга из крепостных...
По существующему положению покупать крепостных имели
право только люди дворянского звания, но, как это тогда нередко
практиковалось, крепостных записывали на подставных лиц из
дворянского сословия. Пелагея Ивановна была женщиной доволь¬
но расторопной в делах. После смерти мужа она решила укре¬
пить свое ставшее теперь ненадежным хозяйство.
Во-первых, нужно было не упустить из своих рук «аристо¬
кратический» Сергиевский приход, и она сделала все, чтобы вы¬
дать свою старшую дочь Евгению за священника. Так появился
в ее доме Гавриил Иванович Чернышевский.
Во-вторых, нужно было закрепить за собой право на крепост¬
ную прислугу, и она выдала младшую дочь Александру за дво¬
рянина, артиллерийского офицера Николая Котляревского. «Меня
выдала мать именно затем, чтобы перевести на мое имя кресть¬
ян...»— писала позже Александра Егоровна. Через несколько лет
Николай Котляревский умер, но и во второй раз Александра
9
Егоровна вышла замуж за дворянина Николая Дмитриевича
Пыпина.
В одном доме стали одновременно проживать два семей¬
ства: семейство Чернышевских и семейство Пыпиных. Справед¬
ливости ради следует заметить, что практические выгоды отнюдь
не заслоняли от деятельной Пелагеи Ивановны и других забот:
ей, видимо, были далеко не безразличны человеческие качества
своих будущих зятьев, во всяком случае, обе семьи жили на
редкость дружно, о чем свидетельствуют многочисленные вос¬
поминания и письма членов этих семейств, в том числе и самого
Николая Гавриловича.
В своих заметках он будет вспоминать и годы детства, и родной
город той поры. Самые разноречивые впечатления детства и юно¬
сти позволят ему иронически сопоставить родной Саратов с мно¬
гоукладной Европой. «Как и в Европе,— скажет он,— так и в Са¬
ратове образ правления государств был чрезвычайно разнообра¬
зен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии
с парламентами, республики аристократические и демократиче¬
ские». Свое семейство и семейство Пыпиных он сравнивает с рес¬
публиканской Швейцарией: «В нашем семействе, в мое раннее
детство, было пять человек совершеннолетних членов: моя бабуш¬
ка, две ее дочери и мужья дочерей... Это была чистейшая Швейца¬
рия, состоящая из пяти кантонов. Никто не присваивал себе
никакой власти ни над кем из четырех остальных. Никто не
спрашивался ни у кого из четырех остальных, когда не нуждался
в их содействии и не хотел советоваться. Но по очень близкой
связи интересов и чувств каждого со всеми остальными никто
не делал ничего важного без совещания,— совершенно добро¬
вольного,— со всеми остальными».
Обстановка в доме способствовала нравственному и умствен¬
ному развитию детей, прививала любовь и уважение к домо¬
чадцам, развивала любознательность, пытливость. «Все грубые
удовольствия казались мне гадки, скучны, нестерпимы; это от¬
вращение от них было во мне с детства, благодаря, конечно,
скромному и строго нравственному образу жизни всех моих
близких старших родных». Правда, эти строки писаны из вилюй -
ской ссылки, в возрасте пятидесяти четырех лет, поэтому, не
подвергая сомнению их достоверность, мы вправе были бы пред¬
положить, что в какой-то мере их могли навеять ностальгия по
навсегда ушедшему счастливому детству и горькое положение
ссыльного, не имей мы свидетельств, относящихся к разным
периодам жизни Чернышевского. В студенческий период, когда
молодой Чернышевский ко многим явлениям жизни да и ко мно¬
гим людям стал подходить весьма критически и начал подвергать
10
строгой переоценке свои прежние взгляды и мнения, он по-преж¬
нему с большой теплотой отзывается о родителях. «Мнение мое
о папеньке,— записывает он в дневнике 1 августа 1848 года,—
понемногу, но постоянно все поднимается, все более и более...
сознаю сходство между им и мною в хорошие моменты моей
жизни или во всяком случае между тем, что я сам считаю
за хорошее в человеке. Маменька между тем едва ли, бог знает,
не сходит на степень обыкновенных женщин: необыкновенная,
решительно материнская, только в высшей степени, привязанность
ко мне, большая, сильная любовь к папеньке — это вещи необык¬
новенные».
Мальчик Чернышевский рос окруженный родительской лю¬
бовью, однако эта любовь была лишена слепого умиления и тем
более потакания детским капризам. Отец постоянно, хотя и не¬
заметно руководил воспитанием и образованием сына, не обре¬
меняя его ни назиданиями, ни строгим контролем. Будучи уже
студентом, а затем известным литератором, Чернышевский посто¬
янно делился с отцом своими заботами и планами, несмотря на,
казалось бы, увеличивавшуюся и с годами разделявшую их ми¬
ровоззренческую пропасть. А в детстве не было и этого разномыс¬
лия.
В доме Чернышевских — Пыпиных царило то счастливое
согласие между всеми домочадцами, которое только возможно
между людьми единых нравственных принципов, строящих свои
отношения с другими на основе искреннего взаимного уважения.
И это было тем более удивительно, что взрослые члены семьи
имели далеко не одинаковые сословные и юридические права.
Сам Николай Гаврилович по этому поводу писал: «В нашем
государстве, имевшем... пять человек полноправных граждан...
были следующие сословия: 1) помещики — сословие, соответст¬
вующее потомственному дворянству русского законодательства,—
мой дядюшка и по нем моя тетушка; 2) духовенство — моя
бабушка, мои батюшка и матушка; 3) домовладельцы — мои
бабушка и матушка; 4) лица, не имеющие недвижимой соб¬
ственности в своей резиденции,— батюшка, тетушка и дядюшка;
5) сословие, получающее доход,— мои бабушка, матушка и те¬
тушка; 6) сословие, отдающее все свои деньги лицам сословия,
получающего доход, и не имеющее никакой движимой собствен¬
ности кроме платья,— мои батюшка и дядюшка...»
Из этого полуиронического анализа сословно-юридических
прав взрослых членов семьи Чернышевских—Пыпиных следует,
что фундамент материального благополучия составляют юриди¬
ческие и имущественные права женщин (бабушка, мать, тетка),
мужчины же были своего рода пролетариями — они постоянно
И
работали и получали за свой труд жалованье, других доходов
они не имели. У Чернышевского были все основания родитель¬
скую семью считать идеальной, а стало быть, считать идеальным
такое положение, когда женщина материально независима от
мужчины и фактически главенствует в доме.
Однако впечатления детства питала не только семья. На
вопрос, какие убеждения давала окружающая жизнь, Черны¬
шевский отвечал:
«Я вам скажу, какие:
Будь честен; пьянствуй; будь добр; воруй; люди все подлецы;
будь справедлив; все на свете продажно; молись богу; не пей вина;
бога нет; будь трудолюбив; бей всех по зубам; кланяйся всем;
от ученья один вред; бездельничай; от науки все полезное для
людей; законы надобно уважать; плутуй; люби людей; дуракам
счастье; смелому удача; говори всегда правду; без ума плохо
жить; будь тише воды, ниже травы; закон никогда не исполняет¬
ся; закон всегда исполняется...
Эта путаница невообразимая, неудобомыслимая,— это как то,
если бы в одно время слышали крики сумасшедших, чтение
умной лекции, пение Марио, лаяние собаки и все другие речи
и звуки, могущие раздаваться на земном шаре. Ахинея».
Чернышевский с детства как бы живет одновременно в двух
измерениях: одно из них — это родительский дом и все, что с ним
тесно связано; другое — многоликая, пестрая жизнь родного го¬
рода. Иные авторы пытаются навязать Чернышевскому-под¬
ростку роль заводилы, коновода, вожака; другие, напротив,
рисуют его застенчивым и смирным, ни на минуту не отрываю¬
щимся от книги, постоянно углубленным в серьезные раздумья.
С точки зрения фактов те и другие правы, как не правы те
и другие с точки зрения существа.
В автобиографических заметках Чернышевский писал, что во
времена его детства и юности в Саратове в широком ходу были
кулачные бои, принимали в них участие люди разных возрастов
и разных сословий, в том числе многие товарищи Черны¬
шевского по семинарии, а вот сам он всегда оставался лишь
в роли зрителя. «Мне нельзя было и подумать,— писал он,—
принять участие в битве: синяк на лице моем опечалил бы
семейство,— я не вмешивался даже в полюбовные, дружеские
кулачные бои в классе,— я так привык думать о себе, что мысль
вмешаться в кулачный бой была так же чужда мне, когда я
смотрел на него, как мысль быть муравьем, когда я, любуясь на
них, сиживал у муравейника,— да если б и пришло мне в мысль
пойти в бой, мои приятели, небьющиеся и бьющиеся, не пустили
бы меня,— итак, я стоял одним из тех немногих зрителей, которые
12
смотрят на бой как на дело, которое никак не касается их...»
Сравнение с муравейником здесь явно хромает, потому что
на муравейник Чернышевский смотрел как бы сверху вниз, из
любопытства, смешанного с любознательностью, а тут: «...но в
какой экстаз все-таки постепенно приходил я! Это опьянение,
это восторг! И сердце бьется, и кровь кипит, и сам чувствуешь,
что твои глаза сверкают.
Это чистая битва,— но только самая горячая битва, когда
дело идет в штыки или рубится кавалерия,— такое же одуряющее,
упояющее действие. Бывали ль вы в порывах экстаза от чего-
нибудь,— от пения, концерта, оперы,— я бывал и плакал от вос¬
торга,— но это все не то, все слабо перед впечатлением моим
от кулачных боев».
По натуре своей Чернышевский был боец, а по воспитанию —
зритель, и это понимал не только он сам, это понимали даже его
«небьющиеся» и «бьющиеся» товарищи, однако в этой роли он
оказался не вдруг, а приуготовлен был к ней исподволь, постепен¬
но...
С самого детства росли как бы два Чернышевских: один из
них действительно заводила, коновод, вожак, но только, так
сказать, в домашнем масштабе. В своем кругу он чувствовал
себя раскованно, потому как здесь исповедовались единые принци¬
пы: будь честен, будь добр, будь справедлив и так далее. В чужой
среде он становился застенчив и робок, потому как здесь испове¬
довались и другие принципы, чуждые и непонятные ему.
К примеру, Чернышевский был близорук. Это обстоятель¬
ство могло его огорчать, но не настолько, чтобы отразилось на
общем самочувствии или повлияло бы на манеру поведения,
поскольку дома он в каждом находил понимание и доброе со¬
чувствие. За пределами же своего «государства» (своего дома)
реакция на его неловкость могла быть и оскорбительной — так
лучше никак не проявляться, замкнуться. Не будучи замкнутым
от природы, он часто вне дома замыкался, не будучи робким —
робел, не будучи угрюмым — отчуждался и сторонился непривыч¬
ных ему детских забав. «В детстве,— вспоминал Чернышевский,—
я не мог выучиться ни одному из ребячьих искусств, которыми
занимались мои приятели-дети, ни вырезать какую-нибудь фигур¬
ку перочинным ножом, ни вылепить что-нибудь из глины, даже
сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучил¬
ся: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не
сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную».
Таких в закрытых или полузакрытых учебных заведениях
обычно не любят, но Николая Чернышевского любили, любили
за простоту и справедливость и невольно чувствовали: отчуждает¬
13
ся он не из высокомерия, а из нежелания навязывать себя
там, где он не силен, а там, где он силен, он необыкновенно
щедр и общителен, и тут его не надо звать на помощь — сам
всегда почувствует и придет. Он был чист душой, но не был
чистюлей, а то, чего он не принимал, больно задевало его душу,
и боль эта долго не проходила.
Было еще одно обстоятельство, которое не позволяло ему
слиться со средой: он много, поразительно много читал. «Я сде¬
лался библиофагом, пожирателем книг, очень рано,— вспоминал
Чернышевский.— В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймии,
и о Петавии, и о Гревии, и об ученой госпоже Даснер,— в 12 лет
к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди
вроде Корнелиуса а Лапиде, Буддея, Адама Зерникава... Не умею
сказать в точности, 12 или 11, или уж и 13 лет было мне, когда
я принялся читать Минеи-Четиих...» У отца была довольно бо¬
гатая по тому времени библиотека. Здесь были и «История
государства Российского» Карамзина, и «История римского наро¬
да» Роллена в переводе Тредиаковского, и «История» в 12 частях
аббата Милота, «Энциклопедический лексикон» Плюшара и «Кар¬
тины света» Вельтмана. Гавриил Иванович выписывал и периоди¬
ческие издания: «Христианское чтение», «Воскресное чтение»,
«Живописное обозрение», «Московские ведомости». В доме были
сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, ежемесячные толстые
журналы: «Отечественные записки», «Библиотека для чтения»,
«Современник».
Раннее и обильное чтение открыло ему какой-то особый
фантастический мир, в котором причудливо переплеталось
прошлое и настоящее самых разных народов, где между вымы¬
слом и достоверностью не было четкой границы; этот мир был
изменчив, подвижен, порождая мечты, он оставался все же реаль¬
ностью от постоянного собственного своего в нем участия. Мечты
не только развивали фантазию, но и пробуждали честолюбие,
тягу к самостоятельности.
Да, пожалуй, в бессистемном чтении есть свои отрицательные
стороны, но есть в нем и положительное, что невозможно строго
учесть. Так или иначе, но вряд ли в детском возрасте следует
строго регламентировать открытие мира, будь то окружающая
действительность или реальность творческого вдохновения чело¬
века — искусство, литература.
А о системе Гавриил Иванович думал и потому с ранних
лет занимался с сыном латинским и греческим языками. У немца-
колониста Грефа, который брал у Гавриила Ивановича уроки
русского языка, Николай Гаврилович обучался немецкому. Фран¬
цузским языком он занимался самостоятельно.
14
Хотя Николай Гаврилович и стал с сентября 1836 года числить¬
ся в списках Саратовского духовно-приходе кого училища, по
сути дела, первоначальное образование он получил дома. В «Ве¬
домости об учениках саратовских духовно-приходских училищ,
обучавшихся в домах родителей за 1842/43 учебный год» зна¬
чится, что Н. Г. Чернышевский был записан в Саратовское
духовное училище 15 сентября 1836 года. И у Гавриила Ива¬
новича были все основания, с одной стороны, не отдавать сына
в приходское училище, а с другой — внести его в списки уче¬
ников училища. Вот что, в частности, писал по этому поводу
Флегонт Духовников:
«Испытав на себе всю тяжесть суровой школьной жизни и зная
ее как инспектор духовного училища... Гавриил Иванович рассу¬
дил, что незачем отдавать сына в училище, где все дело обучения
почти ограничивалось задаванием и спрашиванием уроков и на¬
казанием неисправных учеников... между тем тогда было в обычае
только записывать детей в училищные ведомости, которые отсы¬
лались в семинарское правление и Казанскую духовную ака¬
демию и в которых ученики, обучавшиеся в домах родителей,
отмечались так: «находится на домовом образовании», и Гавриил
Иванович, подобно другим, счел необходимым записать сына в
училищные ведомости, на что имел основательную причину. В то
время бывали распоряжения правительства брать детей духовного
звания, исключенных из учебных заведений за дурное поведение,
или нигде не учившихся, или вышедших из семинарии и нигде
не нашедших себе места, в солдаты, или же, особенно неспособных
к военной службе, ссылать на поселение...»
В обучении сына Гавриилу Ивановичу много помогала его
племянница — дочь от первого брака Александры Егоровны Пы-
пиной — Любовь Николаевна Котляревская, двоюродная сестра
Николая Гавриловича, которая была старше его на семь лет
и с которой он долгие годы сохранял дружеские отноше¬
ния.
Евгения Егоровна, более строгая в своей любви к сыну и во
всем любившая порядок, порой сетовала на то, что сына не опре¬
делили в училище. Интересный эпизод той поры припом¬
нил родственник Чернышевских — Иван Николаевич Виноградов,
преподаватель, а затем смотритель Саратовского духовного учи¬
лища:
«— А где Коля?— спрашиваю я мать Николая Гавриловича,
зашедши раз к Чернышевским.
— На дворе или на улице играет,— отвечает она,— сколько
раз говорила отцу, чтобы он отдал его в училище. Что баловаться
ему дома? Нет, и слушать не хочет; только и говорит, что
15
Коля знает больше, чем все ученики второго класса. У вас ведь
в училище учатся до обеда и после обеда, а он уроки, что задает
ему отец, недолго учит: больше читает или играет. Когда ему
учить Колю? Пришел Гавриил Иванович нынче из церкви, стал
пить чай и говорить с Колей; так с полчаса поговорил с ним,
велел ему написать по-гречески и ушел в консисторию, а Коля
сел за книгу, очень скоро написал и ушел играть».
Во всем соглашавшийся с женой, тут Гавриил Иванович был
непреклонен, и причиной тому была не только неудовлетвори¬
тельная, с его точки зрения, постановка учебного процесса в при¬
ходских училищах. Слишком горячо и нежно любил своего един¬
ственного ребенка Гавриил Иванович, чтобы отказать себе в удо¬
вольствии учить его самому, к тому же способности сына были
таковы, что не отнимали слишком много времени.
Может показаться странным, что, при всем своем влиянии
на сына, Гавриил Иванович не сумел направить его по соб¬
ственной дороге. Причин тому несколько, однако вряд ли тут
нужно преувеличивать склонность молодого Чернышевского к
атеистическому «вольнодумству». Родственник Чернышевских —
Александр Федорович Раев, тесно общавшийся с Чернышевским
в первый год его обучения в университете, вспоминал: «Лекции
в университете Чернышевский посещал неопустительно, строго
соблюдал посты, ходил в церковь, настольною книгою его была
Библия. Так было во время пребывания Н. Г. Чернышевского
в первом курсе университета, когда мы жили вместе». Так,
вероятно, и было на самом деле, потому что в дневниковой
записи от 13 сентября 1848 года (это уже было на втором
курсе) мы читаем: «Особенно ничего не почувствовал в церкви,
хотя шел и думал, что с усердием помолюсь». А вот запись
от 21 июня 1850 года: «При взгляде на Пензу перекрестил¬
ся, потому что был в умилении, потому что это родной папеньке
город...»
Но это, так сказать, внешняя, обрядовая сторона, а вот содержа¬
ние, которое за ней стояло: «Напишу что-нибудь о моих рели¬
гиозных убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, реши¬
тельно христианин, если под этим должно понимать верование
в божественное достоинство Иисуса Христа, т. е. как это веруют
православные в то, что он был бог и пострадал, и воскрес,
и творил чудеса, вообще, во все это я верю... Мне кажется,
что главная мысль христианства есть любовь, и что эта идея
вечная, и что теперь далеко еще не вполне поняли и развили и при¬
ложили ее в теории даже к частным наукам и вопросам, а не то,
что в практике,— в практике, конечно, усовершенствование в этом,
как и во всех отношениях, бесконечно, а через это бесконечное
16
усовершенствование и в теории, потому что теория, совершен¬
ствуясь, совершенствует практику, и наоборот.
Что касается до другого, по моему мнению, коренного догмата
христианства — помощи божьей, сверхъестественного освящения,
что и составляет собственно то, что есть сверхъестественного
в христианской религии... так, что касается до этого догмата
благодати, освящающей человека, я решительно нисколько не
отвергаю его и готов даже по теории защищать его, но сам
по опыту я не убежден в этом так твердо, как в других вещах,
т. е. я говорю по внутреннему опыту, по которому знаю, напр.,
господство и достоинство и божественное назначение любви и це¬
ню ближнего наравне с собою».
Эту запись Чернышевский сделал в дневнике, учась на втором
курсе университета.
Безусловно, разговоры о сущности христианства имели место
и в семейном кругу, однако для того, чтобы, в понимании
родителей, быть истинным христианином, вовсе не обязательно
становиться священником, для этого достаточно было иметь лич¬
ное целостное религиозное сознание; в основе же священнической
деятельности должна лежать потребность в утверждении и укреп¬
лении христианского верования среди других, а такой потреб¬
ности у сына Гавриил Иванович, скорее всего, не наблюдал,
а как-то насаждать, прививать ее он, вероятно, не умел да и не
хотел. Одно дело, когда, например, отец-музыкант приобщает свое¬
го ребенка к музыкальной культуре, и совсем иное дело, когда
он начинает из ребенка «делать» музыканта.
Есть еще и другая сторона дела. В семейной среде духовен¬
ства служба невольно обытовляется. «Церковь,— вспоминал Чер¬
нышевский,— это было у нас преимущественно «наша церковь»,
то есть Сергиевская, в которой служил мой батюшка... «белить
церковь»— вероятно, наша семья столько же толковала об этом
вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю
на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом желе¬
зом. «Священник»— это был у нас чаще всего Яков Яковлевич,
товарищ моего батюшки по «нашей церкви», прекрасный человек,
которого обидели, отставив от должности эконома в семинарии...
и все другие священники, и дьяконы, и дьячки, и пономари за¬
нимали нас с таких же сторон... Архиерей (покойный) Иаков
занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то
есть законов и форм, и поэтому Федор Степанович и батюшка
часто видели, что все их усилия направить «дело» по правде
расстроены докладчиком NN и что такой-то священник от этого
пострадал,— переведен из «хорошего» прихода в «дурной», по
проискам другого священника...»
2
4078
17
Вряд ли подобные разговоры, ведущиеся в доме изо дня в день,
могли способствовать тому, чтобы мальчик, у которого был свой
необычайно богатый мир представлений о жизни — заманчивый
своей таинственностью и безграничностью,— предпочел бы всем
другим поприщам деятельность священника. Одно дело — вера,
и совсем другое дело — служба священника, известная тебе с ма¬
лых лет во всех ее бытовых подробностях.
Прошло детство, наступили годы отрочества, и Николай
Чернышевский переступил порог Саратовской семинарии.
СЕМИНАРИЯ
Духовным регламентом 1721 года в России было положено
начало созданию массовых низших и средних учебных заведений,
а в начале девятнадцатого века (1807) издан первый устав,
согласно которому образовалась преемственно связанная система
общеобразовательных духовных учебных заведений: церковно¬
приходское училище с четырехлетней программой обучения —
семинария с шестилетней программой обучения — духовная ака¬
демия. Однако выпускники семинарии могли продолжать свое
образование и в светских высших учебных заведениях (уни¬
верситеты, институты).
Семинарский шестилетний курс делился на три двухго¬
дичных отделения: низшее называлось классом риторики, сред¬
нее — классом философии, высшее — классом богословия.
Слово «семинария» происходит от латинского слова semi-
narium, что в переводе означает — рассадник. По несправед¬
ливости утвердилось мнение, будто семинарии были лишь рас¬
садником невежества. Так, например, во многих работах о Чер¬
нышевском говорится, что семинария, по сути дела, ничего не
дала ему ввиду отсутствия там хороших учителей и дурной
постановки всего учебного процесса. Эти соображения нередко
подкрепляются высказываниями самого Чернышевского, в част¬
ности тем, которое он сделал в работе о Добролюбове. «Даже
те воспитанники,— замечал Чернышевский,— которые по своим
умственным силам не превышали уровня обыкновенной дарови¬
тости... не могли не досадовать на пустоту ее преподавания.
Тем тяжелее было тратить в ней время юноше такой силы
ума, такой пламенной любви к науке, таких обширных знаний,
как Добролюбов. Он презирал семинарскую программу и свои
школьные занятия в ней».
Вероятно, тут Чернышевский прав в своей аттестации До¬
1S
бролюбова, но вряд ли он прав в своей характеристике тогдашней
семинарской программы. Дело в том, что любое среднее обще¬
образовательное учебное заведение массового типа в своей педа¬
гогической практике ориентируется не на Добролюбовых и Чер¬
нышевских, а на учеников средних способностей и средней под¬
готовки. Если слабый ученик изнемогает от непосильной для него
нагрузки и потом проклинает годы своего учения как самые
тяжелые и одновременно самые пустые годы своей жизни, то
ученик, прекрасно подготовленный, даровитый, тоже изнемогает,
только уже от недостатка этой нагрузки, и потом, случается,
сожалеет о зря, как ему кажется, потраченных годах. Черны¬
шевский получил дома превосходное первоначальное образование,
и при его выдающихся природных способностях он был обречен
постоянно ощущать недостаток учебной нагрузки. Однако это вов¬
се не означает, что семинария ничего ему не дала.
Вероятно, не следует сетовать и на то, что учителя в семинарии
в своей массе были весьма ординарными людьми и ординарными
преподавателями. Что ж, это вполне закономерно. Учебное заве¬
дение массового типа никогда не имеет такой возможности: пол¬
ностью укомплектовать штат первоклассными преподавателями.
Осенью 1842 года Чернышевский был зачислен в низший
класс Саратовской семинарии. Учение ему давалось легко, и он
сразу же попал в число лучших учеников. Гораздо труднее ему,
не прошедшему суровой школы приходского училища, было осво¬
иться с царившими в семинарии нравами. А нравы эти, надо
сказать, были весьма жесткими. Учителя считали себя вправе по
любому поводу пускать в ход кулаки. Это как бы считалось
нормой педагогического воздействия.
«Во время объяснения или перевода Лактанция,— свиде¬
тельствовал один из бывших семинаристов,— многие ученики,
которых в классе было до семидесяти, не слушали, что говорят,
или неприлично держали себя. Большинство преподавателей с по¬
добными учениками разделывалось по-своему — били их.
Воскресенский (преподаватель словесности и латинского
языка.— А. Л.), как вспыльчивый человек, проявлял на таких
учеников свой гнев энергичнее и сильнее других: он бил учени¬
ков и книгами, и кулаками, трепал их за волосы и за уши; в по¬
рыве сильного гнева на одного ученика за какую-то очень грубую
и дерзкую шалость он даже столкнул его с лестницы, так что
ученик получил сильные ушибы».
Воскресенский вовсе не был каким-то садистом. Вот что,
например, пишется о нем дальше: «Как преподаватель, он был
лучший, и его до сих пор помнят с хорошей стороны; о его же
кулачной расправе с учениками многие даже забыли: она тогда
была в порядке вещей, обыкновенным явлением, так что тогда
и не обижались на него, тем более, что побитых он призывал
к себе и поил чаем, что для учеников считалось большой честью;
кроме того, все знали его доброту: бедным ученикам он помогал
и советами, и деньгами, и одеждой; наконец, он был незлобив
и великодушен. Ученик Дмитриевский, рассердившись за что-то
на Воскресенского, прозванного учениками «зодкой», написал
стихотворение, которое стало ходить по семинарии. Насколько
помнят, оно было следующее:
Зод зодчайший,
Шельма величайший!
Волга-матушка глубока,
От тебя ведь недалеко:
Нам небольшого стоит труда
Оттащить тебя туда.
Узнавши об авторе этого стихотворения, Воскресенский не
только не наказал его, но даже похвалил, перевел в свою полови¬
ну, взял под свое покровительство как ученика, умеющего писать
стихи, так что Дмитриевский шел у Воскресенского в числе
первых».
Нам сейчас может показаться странным, даже неправдопо¬
добным: как это так, столь великодушный человек, добрый
человек — и вдруг колотит учеников, спускает их с лестницы...
А между тем если не изымать явления из исторической обста¬
новки, то особенно странного ничего здесь нет. Семинария —
прямая наследница средневековых педагогических принципов,
а эти принципы естественно воплотили в себя обычаи средне¬
вековья, когда в страдании тела виделся путь к спасению души.
Поэтому сначала можно было поколотить ученика — наказать
его грешную плоть, а затем пригласить его на чаепитие, дабы
окончательно утвердить в добродетели неустойчивую юную душу.
Не так уж трудно изменять при желании учебные программы,
для этого необходимы определенные материальные затраты
и соответствующие циркуляры. Куда труднее изменять или иско¬
ренять обычаи, если, к примеру, драка считается игрой, а ку¬
лачные бои — увлекательной потехой.
«Ну, давай на кулаки! — говорит Бульба, засучив рукава.—
Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!» И отец с сыном, вместо
приветствия после давней отлучки, начали садить друг друга
тумаками и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и огля¬
дываясь, то вновь наступая».
И столь грубые, на наш нынешний взгляд, обычаи торжество¬
вали когда-то не только на Руси. В этом смысле небезынтересен.
20
к примеру, роман А. Стриндберга «Чандала», в котором описы¬
ваются нравы шведского университета.
«Однажды в апреле — это было в конце царствования
Карла XI — ученый магистр Андреас Тернер сидел в своем каби¬
нете на Малой улице Серых братьев, в Лунде. Он был сильно
не в духе. Студенты недавно основанного университета, большей
частью датчане, изучавшие здесь шведский язык и шведскую
жизнь, буянили и проказничали на лекциях...
В те времена профессорствовать было не легко. Обыкновенно
для чтения лекций ректор подбирал рослых и сильных людей,
которые должны были внушать студентам почтение к себе и в слу¬
чае надобности могли бы вступить в рукопашную с аудиторией.
Магистр Андреас начал свою академическую карьеру воору¬
женный дубиной, при помощи которой он в течение полутора часа
успешно отбивал приступы к кафедре, в результате чего шесть
студентов пришлось отправить на излечение в больницу. Он был
храбрый человек, в молодости сражался на войне и участвовал
в битве при Лунде, и на его лице был виден не один шрам. Его
специальность была политика и экономия, к которой позже
присоединились ботаника и зоология, домоводство и физика».
Молодому Николаю Чернышевскому, выросшему в уютном
домашнем гнезде, непросто было в четырнадцатилетием возрасте
приладиться к нравам полузакрытого учебного заведения, не
полностью еще изжившего обычаи стародавних времен. Черны¬
шевский относился к числу «своекоштных» учеников, то есть
тех, которые в семинарию приходили лишь на занятия. Большая
же часть учеников («казеннокоштных») обитала в семинарском
общежитии, где, естественно, царил культ силы и удальства,
законом была круговая порука, а общим уделом — бедность.
«Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов,—
писал Чернышевский.— Помню, что в мое время из 600 человек
в семинарии только у одного была волчья шуба — и эта необы¬
чайная шуба представлялась чем-то даже не совсем приличным
ученику семинарии, вроде того, как если бы мужик надел брильян¬
товый перстень».
В этой бедной обстановке Чернышевский не мог сразу же
почувствовать себя своим. «В семинарии Николай Гаврилович,—
отмечал Ф. Духовников,— был крайне застенчивый, тихий
и смирный; он казался вялым и ни с кем не решался заговорить
первым. Товарищи называли его между собой дворянчиком, так
как он и одет был лучше других, и был сын известного протоиерея,
которого уважало не только семинарское начальство, но даже
архиереи, к которым он имел более доступа, чем прочее духо¬
венство... кроме того, Николай Гаврилович очень часто ездил
21
в семинарию на лошади, что в то время в Саратове считалось
аристократизмом; поэтому чуть ли не целый год чуждались
его и не решались вступить в разговор с ним».
Что же потом примирило однокашников с Чернышевским?
Здесь следует понять еще одну сторону семинарской жизни.
Во времена Чернышевского в классе так же, как и нынче,
составлялись списки учеников, однако составлялись они не по
алфавитному принципу, а по степени успеваемости. И тут важно
было попасть в первую десятку, так как попавшие в нее, как
правило, домашних уроков не учили, а готовили сочинения на
заданную преподавателем тему. Естественно, в присутствии на¬
чальства спрашивались ученики лишь из первой десятки,
и главным козырем любого учителя был «первый ученик», то
есть самый лучший, самый способный, который никогда не под¬
ведет.
Нужно еще заметить, что у самих семинаристов были не только
враги внешние, то есть все те, кто посягал на их права вне класса,
но и враги внутренние, к коим причислялись многие препода¬
ватели. В борьбе с первыми они надеялись на своих мастеров
кулачных боев, в борьбе со вторыми — на своих «первых уче¬
ников».
«В семинарском преподавании,— вспоминал Чернышевский,—
осталось много средневековых обычаев, к числу их принадлежат
диспуты ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель
говорит: «кто имеет сделать возражение?» — Ученик, желающий
отличиться,— отличиться не столько перед учителем, сколько
перед товарищами,— встает и говорит: «я имею возражение*.—
Начинается диспут; кончается он очень часто ругательствами
возразившему от учителя; иногда возразивший посылается и на
колени; но зато он приобретает между товарищами славу гения.
Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет человек
пять «гениев*, перед которыми совершенно преклоняются то¬
варищи...»
Интересную характеристику семинарской жизни дает и Ни¬
колай Страхов, ровесник Чернышевского. «Семинария,— писал
он в статье о Добролюбове,— поглощает собою всю жизнь семи¬
наристов, потому что только тут есть что-то светлое — това¬
рищество, наука, движение. Для них не существует никаких
других интересов, им нечего любить кроме того мерцающего
света, который им является в училище. И вот начинается деятель¬
ность на том поприще, которое одно доступно, одно имеет в себе
привлекательность. Тут одна награда, одна цель в жизни —
быть умнее других; одна мерка для измерения человеческого
достоинства — ум; одна главная страсть — самолюбие. Интере¬
22
са более исключительно господствующего, как интерес науки,
в семинарии и представить себе невозможно».
При беглом чтении может показаться, будто Н. Страхов
несколько идеализировал семинарию и семинаристов, однако при
внимательном сопоставлении сказанного бывшим семинаристом
с общим ходом дел в России во второй половине девятнадцатого
века мы должны согласиться, что в словах Н. Страхова заклю¬
чено верное и точное обобщение. Действительно, без семинарии
у нас не оказалось бы и того разночинства, под знаком деятель¬
ности которого развивалась пореформенная жизнь России. От
идеализации страховскую тираду ограждает и пронизывающая
ее искренняя горечь.
Конечно, были в семинарии и другие интересы: кулачные
бои или просто драки, игры в карты, пьянки, но это были все-таки
побочные интересы. Там были и свои заводилы, и свои вожди,
но в классе они стушевывались, отходили на задний план, здесь
о себе ежедневно напоминал другой вождь, его могли любить
или не любить, но его не могли не уважать, потому что он «умнее
всех». Николая Чернышевского не только уважали, но и любили,
и, нужно заметить, он делал все, чтобы его любили.
«Николай Гаврилович,— вспоминал Александр Иванович Ро¬
занов, товарищ Чернышевского по семинарии,— приходил в класс
раньше нарочито, чем было то нужно, и с товарищами занимался
переводом. Подойдет группа человек в 5—10, он переведет труд¬
ные места и объяснит; только что отойдет эта — подходит дру¬
гая, там третья и т. д., а там то из одного угла кричат: «Черны¬
шевский! почему здесь sapinum» или что-нибудь в этом роде,
то из другого: «какое значение дать здесь слову?» И не было
случая, чтобы Чернышевский выразил, хоть бы полусловом,
свое неудовольствие, что ему надоели, хотя надоесть было кому:
в классе было более 100 человек, и половина класса, наверное,
обращалась к его помощи...
Классные комнаты у нас по зимам не топились... Единствен¬
ным средством отогреться было повозиться, побороться, подраться
в кулачки. Комнаты были огромные, народу пропасть, все возятся,
а Чернышевский засядет в угол, смотрит и улыбается. Вытащат
и его — начнет и он бороться. Нередко случалось, что он уставал,
то борцы возьмут его на руки и с почетом отнесут его опять на
место».
Почти царские почести! Нет, в нынешние времена «отличники»
таким уважением у своих товарищей не пользуются, потому
как нынешний «отличник» может быть гордостью класса, а «пер¬
вый ученик» в семинарском классе был еще защитником, ин¬
теллектуальным бойцом. К тому же надо заметить, что у Черны¬
23
шевского была невыгодная для мужского общества внешность.
Вот как пишет его портрет тот же А. Розанов: «В это время он был
несколько более среднего роста, с необыкновенно нежным, женст¬
венным лицом; волоса светло-желтые, но волнистые, мягкие
и красивые; голос его был тихий, речь приятная, вообще это был
юноша, как самая скромная, симпатичная и невольно распо¬
лагающая к себе девушка. К его несчастью, он был крайне
близорук: книгу или тетрадь он держал всегда у самых глаз,
а писал всегда наклонившись к самому столу».
Но за этой нежной наружностью скрывалась натура сильная
и кипучая, жаждавшая от жизни многого. Вот что, между про¬
чим, вспоминал Александр Федорович Раев — дальний родствен¬
ник Николая Гавриловича: «Мне особенно памятна весна 1842 го¬
да. Почти каждый вечер мы гуляли с ним по вечерам по Сергиев¬
ской улице г. Саратова и почти всегда вдвоем. Наши разговоры
вертелись более всего на вопросе о том, как нам поступить в выс¬
шее учебное заведение и что делать по окончании в нем курса. Ме¬
ня поражало при этом ясное сознание им этого предмета. Выс¬
казав ему, чего хотелось бы мне, я спросил его, чего он желал бы.
С первого раза он уклонился от прямого ответа на этот вопрос,
но потом сказал: славы я желал бы. На меня эти слова сделали
сильное впечатление».
Скорее всего, слова Раева не противоречат истине. Черны¬
шевский с ранних лет не мог не чувствовать своей исключитель¬
ности, умственной исключительности. Что бы там ни говорили,
но, находясь в семье, он постоянно слышал слова от родных
и знакомых, утверждавших его в этом мнении. Не может того быть,
чтобы умный человек не чувствовал бы своего ума, как физически
сильный человек не ощущал бы своей силы. С этим мнением
Чернышевский и переступил порог Саратовской семинарии и его
с грубыми семинарскими нравами примирило именно то, что он
довольно быстро среди преподавателей и товарищей по учебе
приобрел репутацию «самого умного», «гения»...
Что же Чернышевскому дала семинария?
Необходимую для успешного поступления в Петербургский
университет сумму знаний.
Уверенность в своих исключительных умственных способ¬
ностях. Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы, не закончив
среднего класса провинциальной семинарии, отправиться в чужой
и далекий Петербург с намерением поступить в университет.
Тут, между прочим, нужна была дерзость, и он эту дерзость обрел
в семинарии.
В семинарии он убедился, что ум и знания — это сила, и этой
силе подчиняются и поклоняются.
24
Из семинарии он вынес умение стройно развивать и излагать
свои мысли как устно, так и письменно. Именно здесь в диспутах
с преподавателями («кто имеет сделать возражение?») он развил
полемические способности и овладел многими приемами ведения
научного спора. Здесь же он написал и свою первую научную
работу под руководством профессора Гордея Семеновича Саблу-
кова: «Обзор топографических названий в Саратовской губернии
татарского происхождения».
Наконец, роль интеллектуального вожака, лидера, столь есте¬
ственная для него в семинарии, развила в нем стремление к ум¬
ственной независимости.
Семинария дала Чернышевскому немало, в том числе и то,
от чего ему вскоре пришлось отказываться, однако и для этого
будущего преодоления оружие он приобрел в той же семинарии.
Интересную характеристику мировоззренческой ломки дал в свое
время В. Е. Чешихин-Ветринский. «Мировоззрение, воспитываемое
семинарским образованием,— справедливо писал он,— было
стройно и законченно. Истинным его носителям оно всегда дает
завидную уверенность на жизненном пути и полное спокойствие,
ибо все и навсегда разрешено «отцами», на всякий случай жизни
имеется готовая формула, магически устраняющая сомнения
и колебания, пока сохранена вера в основное, в традицию и ав¬
торитет «отцов»...
Форма семинарского образования, с ее схоластицизмом, не
могла не отразиться и на тех питомцах русских семинарий,
кто разрывал узы традиции, им налагаемые...
В этом отрицательном отношении к основам традиционным,
однако, и было все значение поворота во взглядах Чернышевского
как лично для него, так и для истории нашего общества.
Никакого примирения с этой традицией не могло быть. В его
спокойной уверенности в правильности его сокрушительных для
традиции взглядов было нечто, напоминавшее достоверность веры
его родителя в эту самую традицию. У сына и отца мы видим
ничем не возмутимую ясность спокойной души, для которой
неразрешенных, неразрешимых вопросов не существует; это дала
отцу вера и семинарская наука, а сыну — тоже вера, только не
в то, что указывала традиция, а в то, о чем говорила новая
философия и новые социальные учения той эпохи, в курс которых
он вошел, как увидим, будучи студентом Петербургского универ¬
ситета».
Трудно сказать, когда в семье Чернышевских пришли к мысли
о том, что Николаю Гавриловичу следует продолжить свое обра¬
зование в университете, то есть отказаться от духовной карьеры.
Вполне возможно, определенную роль тут сыграла случившаяся
25
неприятность по службе у отца. 18 ноября 1843 года Гавриил
Иванович «был уволен от присутствования в саратовской духов¬
ной консистории за неправильную записку незаконнорожденного
сына майора Протопопова Якова, родившегося через месяц после
брака; при сем увольнении представлено ему от епархиального
архиерея занимать при церковном богослужении то же место, ко¬
торое он занимал, будучи членом консистории». (Из послужного
списка Г. И. Чернышевского.)
Некто Рыжкин написал на Гавриила Ивановича донос. Сек¬
ретарь консистории (учреждение при архиерее по управлению
епархией) — человек не совсем чистый на руку — так дал делу
ход, что ему наконец удалось избавиться от непокладистого
члена консистории. Рассказывают, что когда Гавриил Иванович
прочитал предписание святейшего синода, то заплакал. «Я, бед¬
ная, много, много, очень много скорблю, тем более, что часто
вижу его (мужа) задумчивым, невеселым. В течение сего неприят¬
ного времени поседел»,— писала Евгения Егоровна по этому
поводу Александру Раеву 7 января 1844 года.
В том же письме Евгения Егоровна сообщала: «Николай
учится прилежно по-прежнему, по-немецкому в вакацию брал
уроки, по-французски тоже занимается. Мое желание было и
есть — его оставить в духовном звании, но согрешила, настоящие
неприятности поколебали мою твердость. Всякий бедный священ¬
ник работай, трудись, терпи бедность, а вот награда самому
лучшему из них. Господь да простит им несправедливость».
Видимо, вопрос о будущем сына теперь не давал покоя роди¬
телям. Ровно через год, когда Николай Гаврилович учился уже
в среднем классе, вопрос этот начинает обретать уже практическую
форму. «В письме от 2 января 1845 года протоиерей Чернышев¬
ский,— вспоминал Александр Раев,— просил меня сообщить ему
самые точные сведения о том, может ли сын его поступить
в Петербургский университет прежде окончания курса семинар¬
ских наук и даже не окончив учения в среднем отделении
семинарии... Вместе с тем я прошен был прислать программу
для приемных экзаменов в Петербургский университет. В краткой
приписке к этому письму Николай Чернышевский просил меня
сообщить ему: какие учебники приняты в гимназиях С.-Петер¬
бургского учебного округа».
Возможно, это решение еще не было окончательным, так как
в апреле того же года Гавриил Иванович предупреждает Раева:
«О намерении моем перевести Николая. В Университете никто
не знает, кроме Вас; впрочем, при разговорах со светскими
учителями, когда завязывалась речь о моем сыне, куда я его
готовлю, были советы поместить его в Казанский университет,
где якобы метода учения идет лучше, но те же самые люди
говорили, что для службы будущей лучше Ваш (Петербургский)
университет».
Так или иначе, но к концу 1845 года решение было принято
окончательно. По существующим тогда правилам подавать про¬
шение об исключении из семинарии можно было лишь два раза
в год: перед рождеством и перед летними каникулами. Николай
Гаврилович подал такое прошение 29 декабря 1845 года, а 9 ян¬
варя 1846 года получил увольнительное свидетельство с аттес¬
татом из семинарии со следующей оценкой успехов: по филосо¬
фии, словесности, церковно-библейской и российской истории —
«отлично хорошо»; по православному исповеданию, священному
писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому
языкам — «очень хорошо, при способностях отличных, прилежа¬
нии неутомимом и поведении очень хорошем».
18 февраля того же года Саратовская духовная консистория
выдала Николаю Гавриловичу увольнительный билет и метри¬
ческое свидетельство о рождении.
Уход Чернышевского из семинарии, говоря современным
языком, произвел сенсацию. В будущем перед ним — первым
учеником — гостеприимно открылись бы двери духовной акаде¬
мии, но он определенности духовной карьеры предпочел сомни¬
тельное счастье неопределенного рода деятельности.
Как-то инспектор семинарии Тихон, встретив Евгению Его¬
ровну, спросил ее:
— Что вы вздумали взять вашего сына из семинарии? Разве
вы не расположены к духовному званию?
— Сами знаете,— отвечала ему мать Николая Гавриловича,—
как унижено духовное звание: мы с мужем и порешили отдать
его в университет.
— Напрасно,— сказал ей инспектор,— вы лишаете духовен¬
ство такого светила.
Безусловно, здесь заговорила обида, но была ли эта обида
главной причиной, обусловившей столь смелый шаг, сказать
трудно. Вполне возможно, что сам Гавриил Иванович, ставший
священником только в силу стечения обстоятельств, хотел реали¬
зовать в сыне свои собственные далекие мечты, в единственном сы¬
не и единственном ребенке. (В двадцать пятом году у Чернышев¬
ских родилась дочь Пелагея, но через три недели она скончалась.)
А почему далекий Петербург? Ведь в Казанском университете
«метода учения идет лучше...». Да, но зато Петербургский уни¬
верситет «для службы будущей лучше...».
О многом, наверное, думалось и мечталось Гавриилу Ива¬
новичу, когда в доме шла тревожная подготовка к далекому
27
путешествию в Петербург. Не только для Николая Гавриловича, но
и для всех домочадцев это была неведомая страна. «В нашем бли¬
жайшем кругу,— вспоминает его двоюродный брат Александр
Пыпин,— не было человека, имевшего какое-нибудь понятие
о Петербурге. Это была неведомая отдаленная страна, пребы¬
вание всех властей, с особенными нравами и великими житей¬
скими трудностями, особенно для людей с очень небольшими
средствами, без знакомств и связей... Наконец, Петербург был
город очень далекий: железных дорог не существовало; ехать
на почтовых надо было целую неделю (если ехать без всякого
отдыха) и считалось дорого: поэтому обдумывался план путе¬
шествия на долгих. У меня осталось воспоминание об этом отъезде
Н. Г., как об очень важном событии, в глазах не только моих, но
и всех старших. Само собой разумеется, что Н. Г. не решились
пустить одного: с ним поехала его мать и одна старинная наша
знакомая средних лет, жившая в одном из наших домиков
на квартире. Путь из Саратова в Москву шел обыкновенно на
Пензу или Тамбов; в этот раз он был взят на Воронеж, так как
по дороге желали поклониться мощам св. Митрофания».
Как видим, во всех смыслах собирались основательно: взяли
с собой старинную знакомую, решили сделать крюк, чтобы по¬
клониться мощам, вероятно, хотя все и было решено твердо насчет
Петербурга, на душе Евгении Егоровны было все-таки неспо¬
койно: единственный сын сворачивал с дороги отца и дедов...
18 мая 1846 года на пороге своего восемнадцатилетия Николай
Гаврилович покинул Саратов.
Впереди предстоял долгий путь. О многом тогда думалось
вчерашнему семинаристу и будущему студенту Петербургского
университета, а еще больше верилось, верилось во многое...
Об их предстоящем отъезде знали все родные и знакомые,
толков было великое множество. Вспоминается священник церкви
при Александровской больнице Петр Никифорович Каракозов.
— Дай бог нам с вами свидеться,— сказал он на прощанье,—
приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже
в то время поседеем.
И в тот же день, 13 мая, записались слова: «Как душа моя
вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который
хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал
то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь
и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких
летах, как я, и положении».
А в день отъезда дьякон села Баланды Михаил Семенович
Протасов после всяческих добрых пожеланий добавил, обращаясь
к Николаю Гавриловичу:
28
— Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения
России.
— Это уже слишком много, довольно, если и для отца и ма¬
тери...— суеверно возразила Евгения Егоровна.
— Нет, это еще очень мало, надобно им быть полезным
и для всего отечества,— настаивал на своем дьякон.
И опять записалось: «Мне теперь обязанность: быть им с Пет¬
ром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно,
эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе
и соделанию блага человечеству...
Я вечно должен их помнить».
В литературе о Чернышевском сказано немало верных слов
о вопиющей бедности семинаристов. О том же свидетельствовал
и сам Чернышевский. Вот что, в частности, писал он в «Мате¬
риалах для биографии Н. А. Добролюбова» о друге юности
Михаиле Левицком — одном из лучших учеников семинарии:
«Помню, как покойный Миша Левитский (Чернышевский везде
писал «Левитский», а не «Левицкий».— А. Л.), не имевший
другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанко¬
вого халата летом, помню, как этот первый мой друг не решался
навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи
болен лихорадкой; а между тем мы с Левитским не могли пробыть
двух дней не видевшись, и когда он не ходил в класс, я каждый
день приходил к нему».
Левицкий отнюдь не был каким-то исключением. Николай
Гаврилович поддерживал товарищеские отношения со многими
своими одноклассниками, однако в дом к нему решались заходить
только два-три человека, до того неприлично были одеты осталь¬
ные. Факт почти поголовной бедности семинаристов не подлежит
сомнению. Но вот по какому-то странному стечению обстоятельств
факт этот, как правило, используется лишь для доказательства
дурной постановки дел в семинариях. Не отрицая многих не¬
достатков, свойственных семинарскому обучению, все же на этот
факт следует взглянуть и с другой стороны. Так, в Саратовской
семинарии во времена Чернышевского насчитывалось шестьсот
семинаристов, а это означает, что каждый год семинария выпуска¬
ла около ста человек. По всей стране — это уже было несколько
тысяч. Выпускникам семинарии давалось право поступать в выс¬
шие учебные заведения: духовные и светские. Таким образом,
ежегодно сотни бедняков (поголовная бедность — удел не только
Саратовской семинарии) могли предъявить свои права на полу¬
чение высшего образования с тем, чтобы в дальнейшем занять
видное положение в культурной, научной и управленческой жизни
страны, с тем, чтобы в дальнейшем демократизировать обществен¬
29
ное сознание. Поэтому-то в пятидесятых — шестидесятых годах
мысли Чернышевского и Добролюбова находили столь живой
отклик в читательской аудитории — демократизировалась сама
аудитория.
А пока честолюбивые мечты юного Чернышевского уносили
его вперед, опережая события и время; услужливая фантазия
рисовала радужные перспективы, в забвение до поры до времени
уходила прошлая жизнь в родном доме, в родном городе, вытес¬
няемая все новыми и новыми впечатлениями. 12 июня Черны¬
шевские прибудут в Москву, а через три дня уже выедут в Петер¬
бург, а еще через четыре, 19 июня 1846 года, достигнут цели.
С этого дня и начнется новый период в жизни Николая Гав¬
риловича Чернышевского — петербургский период.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ
1846—1851
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Ранним утром 19 июня 1846 года дилижанс, среди пас¬
сажиров которого находились юный Чернышевский и его ма¬
менька, преодолев за трое с лишним суток 680 разъединяв¬
ших столицы верст и миновав городскую заставу, пересек
границу, отделявшую Петербург от всей остальной России.
Путешествие, длившееся целый месяц, закончилось на набереж¬
ной Мойки возле Двора почтовых карет и брик. Здесь Черны¬
шевский впервые ступил на петербургскую землю.
«Милый папенька! Решительно некогда ничего более пи¬
сать к Вам, кроме того, что мы живы и здоровы и теперь до
смерти рады своему приезду в Петербург и тому, что нашли
Александра Федоровича, который так очень радушно нас
принял. Он Вам кланяется. Прощайте, милый папенька, целую
Вашу ручку. Сын Ваш Николай».
Это первое короткое и торопливое письмо из Петербурга
писалось «19 июня 1846 г., 2 часа пополудни», то есть всего
лишь через несколько часов по прибытии в Петербург.
Петербург...
Скольких молодых людей той поры он манил своей зага¬
дочной неприступностью и таинственной красотой, скольким
молодым людям он вселял радужные надежды и рисовал
картины их будущей — и непременно удачливой — жизни, и
сколько благородных надежд, сладостных мечтаний и често¬
любивых планов разрушил этот холодный и неприветливый
город. Город, вселяющий восхищение и отчаяние. Город, опья¬
няющий жизнью и порождающий страх перед ней одно¬
временно.
Но понимание роли этого города в судьбе народа и в судь¬
бе каждого человека в отдельности придет, разумеется, позже,
а пока... юношеский восторг, подогреваемый сладостными
мечтами.
31
Александр Федорович Раев подыскал своим саратовским
родственникам комнату в том же доме, где жил сам. Непода¬
леку от Сенной площади, на набережной Екатерининского
канала. В комнате не было никаких удобств, к тому же, чтобы
попасть в нее, нужно было проходить комнаты хозяев. После
привольного саратовского житья эти «апартаменты» должны
были показаться страшной дырой, в которую никто не сунется
добровольно. Но Николая Гавриловича эта «дыра» не смущала,
потому как к ней вроде бы приплюсовывался и весь остальной
город. Где-нибудь в Саратове или Твери, Воронеже или Орен¬
бурге люди жили домом и в доме, давным-давно уже во всех
русских городах улицы и площади превратились лишь в про¬
езжую часть. Потому-то в провинции так ждали ярмарок,
когда коммерческие и прочие интересы выливались в шумное
общественное мероприятие. Иное дело Петербург. Здесь люди
жили не только, а возможно, не столько домом и в доме, сколько
городом. Бесчисленные магазины, бесчисленные рестораны,
трактиры, кафе, чайные... Театры, библиотеки, клубы... А Нев¬
ский — эта общественная зала, где большинство фланирует из
соображений праздного или полупраздного порядка.
А дом? Что ж, дом... Дом — это гавань, временное при¬
станище для короткого отдыха. Конечно, гавань гавани рознь.
Есть величественные, знаменитые гавани для избранных —
предмет почти всеобщей зависти и вожделенных мечтаний,
а есть просто вколоченные в землю столбики, к которым
можно причалить свою утлую лодчонку. В бесчисленных комна¬
тах всяких «доходных» домов ютятся не только люди, обре¬
ченные на пожизненную бедность, но и те, кто в своих мечтах
и намерениях замахнулся так далеко, что со стороны эти
мечты и намерения кажутся бредом сумасшедшего...
Вчерашний саратовский семинарист бродит по улицам,
проспектам и площадям Петербурга, и все его приводит в
восторг, однако это восторг не путешественника или, как мы
теперь бы сказали, туриста, узревшего вдруг собственными
глазами рукотворные чудеса, это восторг человека, которому
эти чудеса тоже в какой-то мере принадлежат.
«Пустое говорят, что в Петербурге дурен климат: конечно,
не Италия, но все хорош...
Исаакиевский собор еще внутри не кончен, а снаружи со¬
всем, и главы, или, лучше, глава (одна только большая), вы¬
золочены уже через огонь: прелесть!..
Жить здесь и, особенно, учиться, превосходно; только на¬
добно немного осмотреться...
Казанский собор, где чаще всего мы бываем, великоле-
32
пен; к нему ведет с Невского такая же колоннада полукругом,
как, помнится, в «Живоп. обозрении» у храма Петра в Риме.
Перед нею стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли...
Нева, нечего сказать, достойная того, чтобы стоять на ней
Петербургу: довольно того, что и после Волги можно смотреть
на нее, любоваться ею и удивляться широте ее. А вода, так
уж нечего сказать, мы и понятия не имели в Саратове о такой
воде: так чиста, что нельзя и вообразить...
Самая река и проведенные по улицам каналы обделаны
гранитною чудеснейшею набережною; потом на ней чугунная
решетка в аршин. Спуски со ступенями, все гранитное...»
Словом, все здесь хорошо, прекрасно, даже климат, за¬
ключение о котором делается на третий день по приезде. А через
месяц в письмах к родным уже зазвучит гордость петербуржца
за свой город: «При нынешнем государе особенно много
строят. Через Неву делают великолепный постоянный мост:
быки (их 7) и арки будут гранитные. Несколько быков уже
выведено: удивительно, говорят. Колонны Каз. собора, например,
из гранита, огромные, из одного куска, разумеется; иностранцы
не хотели верить, что это из камня: думали, обклеены бумагою
и подделаны, а теперь пришлось верить, когда на их глазах
обделывают колонны для Исаакиевского собора, еще вдвое боль¬
ше. Знаете, во Франции с год только и слов и шуму и крику
на всю Европу было об ужасной величине, колоссальности
Лукзорского обелиска, который привезли в 30-х годах в Париж;
а колонны Исаак, соб. много выше его... А Париж носился три
года с обелиском, который в подметки ни одной не годится ни
по величине, ни по красоте камня и отделки...»
Сто с лишним лет назад Петр заложил на Неве этот великий
город, и город рос и хорошел с каждым десятилетием, но тут
развивалась не градостроительная идея основоположника новой
столицы Российской империи, а его государственная идея.
Петр оставил своим наследникам и потомкам много вели¬
чественных архитектурных сооружений в новой столице, но
сами по себе они остались бы всего лишь памятниками воле¬
вых усилий великого российского самодержца, не сотвори он
другого, незримого «сооружения» — знаменитой «Табели о
рангах», которая, по сути дела, и обеспечивала рост и жизнь
«умышленному городу».
«При нынешнем государе особенно много строят»,— писал
Николай Гаврилович. И это действительно было так. Во времена
бабки «нынешнего государя» новая столица заметно похорошела,
был в ту пору воздвигнут, в частности, й знаменитый памят¬
ник преобразователю России. Однако главные заботы импе-
3
4078
33
ратрицы все же были направлены на другое — на расширение
пределов империи. Отец «нынешнего государя» не успел еще
толком расположиться на престоле, как был задушен нетер¬
пеливыми претендентами на верховную власть. Старший брат
«нынешнего государя» тоже неравнодушно относился к свой
столице, но сначала его поглотила многолетняя историческая
тяжба с Бонапартом, а затем он завяз в общеевропейских
делах.
Дорога к престолу «нынешнего государя» прошла через
трагедию Сенатской площади, когда цвет свободолюбивого мо¬
лодого дворянства хотя и безуспешно, но гордо попытался
смести его. Этого обстоятельства Николай I, естественно, за¬
быть не мог. И опору своей державной власти он стал искать
в верноподданном чиновничестве и тех, из кого можно было
рекрутировать все новых и новых чиновников. Петровская
«табель о рангах» станет для Николая I своего рода палочкой-
выручалочкой, посредством которой он придаст всей жизни
особый ритм и особый стиль. Как никогда оживится возня
на иерархической лестнице, где беспощадно станет царствовать
закон всеобщей конкуренции. Сыновья чиновников, священников,
купцов, вольноотпущенников и других свободных людей, по¬
лучившие образование в семинариях и гимназиях, ринутся
в город Петра на штурм высших учебных заведений, депар¬
таментов и прочих государственных служб с неменьшим энту¬
зиазмом, чем солдаты и офицеры Суворова штурмовали в свое
время неприятельские редуты и крепости. Сравнительно легко
шло восхождение от четырнадцатой до девятой ступеньки
иерархической лестницы — до чина титулярного советника. Но
этот чин — лишь своего рода трамплин, с которого можно
перескочить на следующую восьмую ступеньку, где ожидал
заветный чин коллежского асессора. Асессор — это не просто
очередной чин и очередная прибавка к жалованью. Асессор —
это наследственное дворянство, это поворот всей судьбы. Асес¬
сор — это новая жизнь!
В те времена было уже немало зажиточных и даже очень
богатых людей, не имевших дворянского звания и дворянских
привилегий. Предприимчивые, оборотистые люди, наживая
всеми правдами, а чаще неправдами, солидный капитал, не
торопились пускать его на ветер, а потому на брак своих детей
смотрели и с коммерческой точки зрения. Богатый человек,
естественно, стремился выдать дочь за богатого человека,
чтобы родовой капитал увеличивался. Но в то время богатство
исчислялось не только в рублях. Например, богатое приданое
дочери можно было совместить с дворянским чином зятя,
34
пусть этот зять будет дворянином и новоиспеченным. Так
или иначе, но теперь твой род может купить землю, приобрести
крепостных, то есть заделаться господами, благородными...
Чин асессора не только открывал путь в благородное об¬
щество и сулил в дальнейшем при известных, конечно, уси¬
лиях высокую карьеру, он открывал путь к женитьбе, к бо¬
гатству, к полнокровной семейной жизни...
Однако между девятой и восьмой ступеньками лежала
целая пропасть, благополучно перескочить которую удавалось
далеко не всякому. Легче было преодолеть путь от четырнад¬
цатой ступеньки до девятой, нежели от девятой до восьмой.
И наводняли столицу многочисленные пожизненные титулярные
советники, которые с потерей надежды вскарабкаться на сле¬
дующую ступеньку теряли надежду, помимо всего прочего,
и на женитьбу, и на любовь, и на семейную жизнь (что они
могли предложить будущим женам и будущим детям?), и на
собственную уютную гавань. Иные из них быстро прекращали
борьбу, но все равно не могли заглушить сладких надежд,
и тогда они становились в своих сумасшедших мечтах испан¬
скими королями или орденами Владимира III степени. Мечты
эти были странны и дики по своим масштабам и в своих обра¬
зах, но не в своем направлении. Орден Владимира, как и чин
коллежского асессора, давал право на получение дворянского
наследного звания; король — это тоже дворянин, первый дво¬
рянин.
Пожилые одинокие титулярные советники, потертые и обез¬
доленные, возбуждали в каждом молодом человеке добавочный
служебный энтузиазм, ибо каждый боялся превратиться со
временем вот в такую человеческую труху.
В Петербурге все жило напоказ, скрытно, но напоказ. Тут
за версту чуяли, к кому повернулась фортуна, а от кого она
безжалостно отворотилась, тут не прощались бедность и невезение
и вызывали восторг удача и богатство. Тут всех интересовал
результат и исключение делалось разве что для молодости.
Молодой человек имел право и на бедность, но только как вре¬
менное состояние, только как на первичную точку отсчета
в своей биографии. Поначалу он мог жить, вернее, ночевать
и в каморке, потому как вся остальная его жизнь проходит
в Петербурге. Радужные сны могут сниться и в каморках, важ¬
но, чтобы сны эти превращались в явь.
Юному Чернышевскому в его «каморке», вероятно, снились
радужные сны, во всяком случае, его письма родным дышали
в ту пору бодростью и даже веселостью, хотя впереди еще
предстояли вступительные экзамены. Правда, на горизонте
появилась темная туча: кто-то сообщил, что с нынешнего
года в университет будут принимать только тех, кто окончил
полный курс семинарии. Но туча эта вскоре рассеялась. Слух
не подтвердился.
В УНИВЕРСИТЕТЕ
В день своего восемнадцатилетия, 12 июля 1846 года, Ни¬
колай Гаврилович подал просьбу о принятии его в университет,
2 августа начались вступительные экзамены, а 14 августа он
был зачислен на историко-филологическое отделение философ¬
ского факультета Петербургского университета. Экзамены были
сданы успешно: физика — 5, математика — 4, словесность — 5,
латинский язык — 4, немецкий язык — 5, французский язык — 3,
логика — 5, география — 3, закон божий — 5, всеобщая исто¬
рия — 5, русская история — 5.
Через неделю маменька отбыла в Саратов, а еще спустя
два дня, 23 августа, начались занятия в университете. В неделю
читалась двадцать одна лекция, и Николай Гаврилович при¬
лежно посещает все, хотя подлинный интерес проявляет
лишь к лекциям по всеобщей истории М. Куторги, по психо¬
логии Фишера и по славянским наречиям Касторского. Юного
Чернышевского не все устраивало в Саратовской семинарии,
не все его устраивает и в Петербургском университете. В частности,
его здесь не удовлетворяли лекции профессора богословия
Андрея Ивановича Райковского. «Может ли умный человек,—
писал Николай Гаврилович отцу,— понимающий настоящее
положение христианства и православия, в особенности пони¬
мающий, что ему... теперь должно бороться не с греческим
и римским язычеством, не с Юпитером и братиею его, а с
деизмом, не с папизмом, который давно уже пал, а с геге-
лианизмом и неологизмом, знающий, что большая часть его
слушателей слишком нетверда в христианстве от этого же
превратного воспитания, страшно выговорить, может ли он терять
время все на пустые толки и бестолково пышные фразы о том,
что говорится в предисловии к требнику Феогноста... Жалко
и страшно, когда подумаешь, что эти сотни молодых людей,
не слыша ни дельного слова в защиту религии своей, не имея
силы и охоты сами изучать источники, должны остаться при
своих прежних мыслях, при своей формальной вере и сер¬
дечном неверии или, лучше, скептицизме на всю жизнь!..
Я жалею его, как законоучителя, еще более сожалею уни¬
верситет, в котором он законоучителем, и молодых людей,
которых оставляет он в добычу неверию...»
36
Николай Гаврилович просит отца прислать ему роспись
всем постам и постным дням, ибо намерен строго соблюдать
их. По свидетельству Раева, настольной книгой Чернышевского
на первом курсе была Библия. И в чтении книг он руковод¬
ствуется добрыми христианскими чувствами. «Третьего дня,—
сообщает он своей двоюродной сестре Любиньке,— мы трое...
читали весь вечер новый роман Эженя Сю— «Мартин Най¬
деныш». Он стоит «Вечного жида», если не лучше его. Главная
цель его — доказать, что как бы ни закоснел человек во зле,
всегда можно и легко можно обратить его к добру, и средствами
мирными, кроткими, а не кровавыми... Удивительный, благо¬
родный и, что всего реже, в истинно христианском духе
любви написанный роман».
В это время в Петербурге живут и работают Белинский,
Некрасов, Тургенев, в этот год всходит звезда Достоевского,
Григорович публикует свою первую повесть «Деревня», это
пора острейшего диалога между славянофилами и западни¬
ками, пора литературной славы Гоголя и популярности Гер¬
цена...
Чернышевский, в общем-то, вроде бы в курсе литератур¬
ных дел и литературных сплетен, но пока занятия в универ¬
ситете и чтение книг перевешивают интерес к современному
литературному процессу. «Милая Любинька! —пишет он двою¬
родной сестре в октябре 1846 года.— Сообщаю тебе несколько
литературных новостей, принесенных Ал. Феодоровичем от
Никитенко.
Гоголь прислал письмо к Никитенке, из которого явствует,
что он жив и здоров, слава богу, с ума сходить не думает, в
монахи идти тоже, а думает ехать в Палестину и Иерусалим.
Это очень хорошо.
Глинку убили ли — еще не подтверждается, кажется, это
были пустые слухи.
Панаев и Некрасов и Никитенко принимают издание «Со¬
временника» в новом виде.
Это, кажется, хочет быть журнал благородный по духу.
Все наши теперь действующие и пишущие знаменитые люди
литературные — сотрудниками.
Между прочим, Белинский, Майков, Искандер, прежний
редактор Плетнев.
Программа и объявления уже готовы.
Стойкович хочет опять восстановлять здесь «Живописное
обозрение».
«Современник» отбил много сотрудников у «Отеч. записок».
Краевский, говорят, получил нынешний год от них 120 000...»
37
Как видно из этого письма, Николай Гаврилович довольно
быстро попал в круг столичных литературных интересов,
однако сведения он получал из вторых, а то и из третьих рук.
Приблизиться же к живому литературному миру он вроде бы
и не очень-то стремился.
Чернышевскому шел тогда девятнадцатый год, и может
показаться, что он был слишком пассивен для своего возраста.
К примеру, будущий поэт и активный сотрудник «Современника»
Михаил Михайлов еще до поступления в университет уже
успел опубликовать в газете «Иллюстрация» два свои стихо¬
творения, а с поступлением в университет (вольнослушателем)
стал постоянно печататься на страницах периодических изданий.
Однако никакие сопоставления не дают нам оснований за¬
ключить, что Чернышевский-первокурсник был пассивен. Более
того, нужно удивляться его активности, с которой он отстаивал
самого себя в городе, прошиваемом насквозь всеми ветрами
времени и пропитанном всякого рода соблазнами. Николай
Гаврилович зачитывается Гоголем и Лермонтовым, Шиллером
и Сю, следит за периодическими изданиями. Между прочим, он
остался верным Гоголю и тогда, когда многие его поклонники
отворотились от него в связи с выходом в свет «Выбранных
мест из переписки с друзьями». Так, 24 января 1847 года он
пишет родителям: «По поводу предисловия к второму изданию
«Мертвых душ», в котором Гоголь просит каждого читателя
сообщить ему свои замечания на его книгу, было высказано
столько пошлых острот или плоскостей в «Современнике»,
что можно предвидеть, что за Письма к друзьям не постыдятся
назвать и в печати сумасшедшим Никитенко, Некрасов и Бе¬
линский с товарищами, как давно провозгласили его эти господа
на словах».
Откуда же мог Чернышевский знать, как относятся к Гого¬
лю «эти господа»? Возможно,*что и от самого А. В. Никитенко,
читавшего курс в университете, возможно, от Михайлова,
с которым он познакомился после первой же лекции и к тому
времени уже сблизился с ним, возможно, от Раева...
Есть люди, которые быстро сближаются и столь же быстро
расходятся, внезапно загораются какой-то новой идеей или
каким-то новым делом, а потом их столь же сильно может
увлечь что-то совсем другое; они смело принимают решения
и не любят находиться в тени, они активны, энергичны, во
всяком случае, они производят такое впечатление на окру¬
жающих, они любят верховодить и одновременно сами под¬
чиняются сильным авторитетам. Чернышевский к такому типу
людей не принадлежал. Чернышевскому, чтобы активно проявить
38
себя, нужно было сначала вжиться в среду, привыкнуть к ней,
а до той поры он находился в тени, не торопился с возражени¬
ями, а потому мог показаться податливым; сокровенным
делился только с очень близкими, а потому редко кто дога¬
дывался о его истинных помыслах. Внешне он был очень от¬
зывчив и несколько сентиментален, всегда готов был помочь
товарищу, однако он искал с людьми связей более крепких, чем
корпоративное товарищество. Но пока для него самыми близ¬
кими оставались его домашние.
«Будущее филолога? В самом худшем случае — это участь
всегдашняя юриста — идти в помощники столоначальника пока,
а там, что бог даст. Но я надеюсь, что не буду доведен до это¬
го»,— признается он осторожно отцу. Более откровенен он со
своим двоюродным братом Александром Пыпиным: «Спасите¬
лями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и
веры. Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь
духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую,
выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества
и на другом великом поприще жизни — науке, как сделала она
это уже в одном — жизни государственной и политической.
И да свершится через нас хоть частию это великое событие!..
Попросим у бога, чтобы он судил нам этот жребий».
Да. Петербург есть Петербург. Близость монарха и двора,
близость правительства и государственных учреждений, то есть
всего того, что делает политику и проводит ее в жизнь, сни¬
мает с политики ореол таинственной отвлеченности, позволяет
судить о ней здесь каждому. «Неужели наше призвание,—
ставит риторический вопрос студент-первокурсник Чернышевский
своему двоюродному брату-гимназисту,— ограничивается тем,
что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы,
завоевать Европу, если захочем?» И сам же отвечает: «Бу¬
дем надеяться, что нет; нет, не завоевателями и грабителями
выступают в истории политической русские, как гунны и
монголы, а спасителями — спасителями и от ига монголов,
которое сдержали они на мощной вые своей, не допустив его
до Европы, быв стеной ей, правда, подвергавшеюся всем
выстрелам, стеною, которую наполовину было разбили враги,
и другого ига — французов и Наполеона».
Здесь пока нет ничего крамольного, но нет ничего и верно¬
подданнического. Однако политические вопросы еще не стали для
Чернышевского главным; главное для него наука, ей-то он и соби¬
рается посвятить всю свою жизнь. Правда, точки отсчета пока
у него остаются прежние — христианские добродетели,— но
масштабы самих дум и мечтаний стали уже иными. Конечно,
39
читая сейчас письма Чернышевского той поры, находишь в них
много наивного, незрелого, просто мечтательного (например, его
мечта построить крытую железную дорогу), однако и в этих
письмах иногда можно обнаружить суждения, так сказать,
судьбоносного характера. Так, всего лишь через несколько ме¬
сяцев петербургской жизни он напишет Александру Пыпину:
«Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы
прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни
духовной нашей, чтобы она перестала быть чужим кафтаном,
печальным безличьем обезьянства у нас... И тогда не даром
проживем мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную
жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содей¬
ствовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и
благу человечества — что может быть выше и вожделеннее
этого?»
Это не просто красивые отвлеченные слова. Это настоящая
программа жизни, так как рождена она была самой жизнью.
«В самом деле, Саша,— продолжал Чернышевский,— посмотри,
кто до сих пор из России явился гением в науке? Кончим
курс и бросим, а любви к науке для науки, а не для аттестата,
ни в ком почти нет. Неужели же это должно остаться так?
Неужели в самом деле то только уже, что не годно в Европе,
должно привозиться нам и то чужими? Посмотри список членов
Академии, профессоров университетов: больше половины ино¬
странцев».
Первый студенческий год, первый год проживания в Пе¬
тербурге принес Чернышевскому немало впечатлений, ввел его
в круг новых людей, обремененных не столько повседневными
заботами, сколько мечтами о будущем. И все-таки главной для
него была не внешняя жизнь со всеми ее радостями и огор¬
чениями, а жизнь внутренняя с ее сомнениями и открытиями,
с ее постоянным самоанализом. «Разумеется, в твоей жизни
внешней, так же, как и в моей, нет ничего замечательного,
никакого разнообразия,— размышляет он в письме к Александру
Пыпину.— О ней нельзя написать ничего, это точно... Но раз¬
ве э т о жизнь в существенности?.. Есть жизнь другая, жизнь
внутренняя, душевная. Это-то и есть истинная жизнь. В ком
есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней
только настолько и поскольку, чтобы она не мешала внут¬
ренней жизни... Одним словом, жизнь, внутренняя — это главное,
единственное, можно сказать. Внешняя — ее достоинство может
быть одно: пусть она не мешает своими хлопотами и горестями
внутренней».
Вероятно, это обстоятельство больше всего и мешало юному
40
Чернышевскому сблизиться с кем-то из товарищей по-настоящему.
Кстати сказать, иногда дело представляется так, будто Черны¬
шевского и Михаила Михайлова связывают полтора года
дружбы (в начале 1848 года Михайлов оставит университет,
уедет в Нижний Новгород и поступит там писцом в канце¬
лярию соляных управлений). Действительно, после первой же
лекции Михайлов подошел к Чернышевскому и обратился к нему
с вопросом:
— Вы, вероятно, второгодник?
— Нет, а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку? —
несколько задетый, спросил в свою очередь Николай Гаври¬
лович.
— Да,— признался откровенно Михайлов.
— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке,—
пояснил Николай Гаврилович.
Михайлов был человеком активным и ярким, он быстро
перезнакомился со всеми однокурсниками, быстро снискал ува¬
жение товарищей, и те за немалые его познания в русской
и иностранной литературе прозвали его «ходячей библио¬
графией». Естественно, что Николай Гаврилович к нему потянул¬
ся, однако сблизился с ним далеко не сразу. В первый год
обучения он очень подробно описывал свое петербургское житье
в письмах к домашним, но о Михайлове впервые упомянул
19 октября 1846 года, то есть спустя два месяца после зна¬
комства с ним. Второе упоминание о Михайлове относится
лишь к 6 декабря того же года: «Милый папенька и милая ма¬
менька! Вот первый день моего ангела, который провожу я вне
круга моего семейства.
Разумеется, мне было сначала грустно, очень грустно, до
самой обедни. У обедни (поздней) я был в Казанском соборе.
Пришедши от обедни, я встречаю у себя (Алекс. Феод, был
дома) Гаврила Григорьевича Виноградова и Михайлова, моего
здешнего нового знакомца. Это обрадовало меня. Потом пришел
еще один из моих новых товарищей, г. Корелкин, еще ни разу
не бывший у меня. Ему еще больше обрадовался. Михай¬
лов (вольнослушатель здешнего университета) мне очень нра¬
вится: чрезвычайно умная голова. Из него выйдет человек очень
замечательный ».
Николай Гаврилович признает достоинства Михайлова,
но пока называет его лишь «новым знакомцем», к тому же он
даже больше рад приходу однокурсника Николая Корелкина.
Видимо, сближение с Михайловым началось именно вот в эту пору,
в конце декабря 1846 года. Во всяком случае, 24 декабря они
вместе пойдут в церковь коммерческого училища, а затем
отправятся к Чернышевскому. 1 января 1848 года он напишет
родным о Михайлове: «Правда, мы очень часто бываем друг
у друга с Михайловым, но все еще я не так дружен с ним, чтобы
говорить от души о том, что лежит на сердце». Еще через
месяц с небольшим признается: «Впрочем, и я с ним гораздо
более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, по¬
тому что у него слишком доброе сердце. Но все я еще не столько
знаю его, чтобы совершенно сказать, что считаю себя его
другом».
Ни в это время, ни после Чернышевский не будет назы¬
вать свои отношения с Михайловым дружбой. И тут, с одной
стороны, «повинен» юношеский максимализм Чернышевского,
жаждавшего каких-то идеальных отношений, для которых и берег
это высокое слово, а с другой — некоторые внешние обстоятель¬
ства жизни.
Думается, отдельные исследователи все-таки излишне напи¬
рают на то, будто в первый петербургский период Николай
Гаврилович испытывал нужду и вообще учился, как говорится,
на медные деньги. В качестве аргументов обычно вспоминаются
дырявые сапоги и купленный на толкучке потрепанный сюртук.
Да, действительно, и то, и другое имели место в жизни
Чернышевского-студента, но как это ни странно, даже такие
прозаические вещи, как дырявые сапоги или потертый сюртук,
тоже требуют своей хронологии.
Итак, потертый сюртук. Мы уже знаем, что на первой лек¬
ции Чернышевский появился в потертом сюртуке, благодаря
чему Михайлов и заподозрил в нем второгодника. Но тут су¬
ществует и другая хронология.
Естественно, до зачисления в университет экипировываться
было неразумно, поскольку студенческая амуниция в те времена
стоила немалых денег. Нельзя тут также сбрасывать со счета
рачительность да и суеверность Евгении Егоровны. Как из¬
вестно, вступительные экзамены окончились 8 августа, зачис¬
ление в университет произошло 14 августа. Через день Николай
Гаврилович сообщает отцу: «Шляпу и шпагу заказали; они
будут готовы во вторник (20). За ту и другую вместе 10 рубл. сер.
В Гостином дворе есть подешевле, шпаги рубля в 3, шляпы
рубля в 4 сер., но гораздо хуже, и эти вдвое прочнее. Тех шляп
надобно две в год, а эту одну. Сюртук закажем ныне после
обеда. Здесь по большей части не берут сукна сами, а зака¬
зывают положить во столько-то рублей портному. Тот, у кото¬
рого мы были (Брунст), берется сшить к 1 сент. (Вот, оказы¬
вается, почему появился сюртук с толкучего рынка.— А. Л.),
но зато он известен своею честностью и искусством. Сюртук из
42
сукна в 12 рублей стоит у него рублей 95. У него и закажем...
Шинель из 10-рублевого сукна, теплая, на байке, стоит 138 руб.
Кажется, надобно будет заказать ему же холодную сшить
к весне, если будут деньги».
Нет, тут, кажется, нет и намека на нужду или бедность.
Не столько берется в расчет цена, сколько добротность. Конечно,
легко говорить, что мы не настолько богаты, чтобы покупать
дешевые вещи, когда есть деньги. А если их нет? У Чернышевских
они были, хотя Чернышевские не привыкли швырять их на ветер.
Из того же письма к папеньке: «В университет не пишите:
там швейцару совестно давать за письмо менее 10 коп. сер.,
а здесь платим 3». Нет, это не мелочность, это экономия. В те
времена даже в зажиточных семьях наличных денег много не
водилось и небрежение к деньгам считалось не щедростью, а
легкомыслием.
Через два дня после отъезда маменьки Николай Гаври¬
лович даст отцу подробный финансовый отчет: «С собою ма¬
менька взяли около 250 рублей. В Москве останется у них около
200 или 180. Я говорил, взять больше, но они не хотели. У меня
оставили 385. Портному, который шьет сюртук и шинель, надобно
будет отдать 271 (всего следует ему 292, но 21 отданы в задаток),
еще 14 руб. асе. другому, который перешивает старую шинель.
У меня остается около 10 руб.; за квартиру должно будет
до 5 октября (за полтора месяца) отдать 7’/2 рублей серебром
и только. Остается у меня еще на другие расходы (пищу и
и проч.) до 5 октября, на полтора месяца, около 70 или 65 рублей
асе.; этого довольно, а полтора месяца дело теперь для меня вели¬
кое».
Дадим некоторую хронологию финансовых и некоторых
материальных дел Чернышевского-первокурсника.
30 августа. «Вы все пишете о том, чтобы я, не запинаясь,
писал, если что нужно. Пока еще, кажется, ничего. У меня остается
около 65 рублей денег...»
6 сентября. « Сюртук ныне взяли. Разумеется, он очень хорош.
Портной не отдаст, если выйдет дурной, чтобы не повредить
своей репутации. Шинель готова будет завтра».
Как видим, потертый сюртук с толкучего рынка, из кото¬
рого создали целый аргумент в пользу затруднительного матери¬
ального положения Чернышевского-студента, был в употреблении
ровно две недели.
19 октября. «Шинели давно уже получены. Новая вышла
очень хороша. Правда, удивительно и дорого: 140 рублей».
В начале октября Николай Гаврилович спрашивал совета
у родителей: шить ли ему мундир? Дорого. «Впрочем,— писал
43
он,— не мешало бы, может быть, к акту, который бывает в февра¬
ле».
21 января. «Мундир, наконец, взят. Вышел превеликолеп¬
нейший: особенно петлицы, по всеобщему признанию (т. е. при¬
знанию Ал. Федоровича и Михайлова), ослепляют неслыханным
блеском. Хорош он в самом деле, но стоит вместе с брюками
48 р. 50 к. сер. Ужас!»
Вполне естественна и уместна юношеская радость видеть
себя красиво одетым. Вполне естествен и ужас провинциала
от дороговизны петербургской жизни.
Возможно, сама по себе вся эта бухгалтерия не так уж и ин¬
тересна, но она проливает свет на некоторые стороны жизни
Чернышевского-первокурсника. Чернышевский не относился
к числу богатых студентов, но он отнюдь и не бедствовал. Во
всяком случае, его материальное положение не шло ни в какое
сравнение с материальным положением Михайлова, вынужден¬
ного постоянно зарабатывать себе на жизнь. Сближали их лите¬
ратурные интересы, а отдаляли разные образы жизни, потому-
то, вероятно, между ними и не возникло настоящей дружбы.
Бедность не позволила Михайлову закончить и университет.
Проучился он всего полтора курса.
И это, разумеется, не упрек Чернышевскому, это всего лишь
констатация факта. И этот факт очень важен, так как в дальней¬
шем судьба сведет их еще дважды: сначала во второй половине
пятидесятых годов, когда Михайлов станет активным автором,
«Современника», а потом в 1864 году на каторге. О последней?
встрече говорить не приходится (Михайлов вскоре умер), а вот.
что касается пятидесятых годов, то здесь по логике вещей друзья?
должны были бы восстановить дружбу, тем более что теперь их,
еще связывало общее дело. Но дружба не восстановилась по той
простой причине, что нельзя восстановить того, чего никогда
не было. Как прежде, так и теперь, были хорошие товарищеские
отношения и взаимное расположение друг к другу.
Интересна приведенная ранее бухгалтерия и еще с одной
стороны. В то же самое время, когда Николай Гаврилович радует-;
ся своим обновкам и делится этой радостью с родителями, его
не покидают угрызения совести: столько денег тратится на него
одного! И вот он пишет тетушке Александре Егоровне Пыпиной;
«Сделайте же милость, милая тетенька, напишите мне правду,,
не отяготительно ли для наших содержать меня, не стесняются
ли они от этого в чем-нибудь таком, в чем прежде не нужно им
было стесняться; им уже поздно отказывать себе и подвергаться
лишениям, они уже не в таких летах, что все равно, на чем ни
уснул, чего ни поел. Только сделайте милость, милая тетенька,
44
не передавайте им, что я это у Вас спрашиваю... Лучше всего
сожгите или изорвите это письмо, а то оно может когда-нибудь
попасть папеньке или маменьке в руки».
Успокоившись на этот счет, Чернышевский находит новую
заботу, узнав, что его двоюродного брата, Сашу Пыпина, хотят
после гимназии отдать на казенное содержание в Казанский
университет. Он умоляет и своих родителей, и родителей Саши
не делать этого.
«Я не хотел говорить Вам,— пишет он отцу,— что я не поехал
бы сюда, если б не уверен был, что скоро буду в состоянии не
обременять Вас ужасными расходами, которые нужны здесь.
Вы хотели же содержать меня здесь 4 года; рассчитывайте
теперь, что Вы будете содержать только год, если не меньше,
а остальное употребите на Сашеньку! Сделайте милость».
И не от бедности станет искать Николай Гаврилович част¬
ные уроки, а из желания помочь своему двоюродному брату
поступить в университет и не на казенный счет. Вот так, за быто¬
выми финансовыми подсчетами (сколько стоит шляпа и сколько
стоит сюртук), проступают доминирующие черты его характера —
жертвенность и активнейшее нежелание обременять кого бы то
ни было (в том числе и родителей) заботами о его персоне.
Второй учебный год начался уже в привычной обстановке.
Особых изменений в жизни Николая Гавриловича не произошло.
Правда, теперь он жил один, так как Раев, окончив юридический
факультет университета, получил место младшего помощника
столоначальника в министерстве внутренних дел. Они и теперь
иногда встречались, но разговоры их по большей части крутились
вокруг саратовских дел.
В декабре 1847 года Николай Гаврилович начал давать уроки
сыну богатого петербургского чиновника С. Д. Воронина, о чем
незамедлительно сообщил Пыпиным: «Я получаю теперь 70—
80 р. асе. в месяц... Таким образом у меня есть верные 950—
1 000 рубл. в год... Это пока, но со временем я надеюсь получать
больше, потому что я принимаюсь пробовать путь к деньгам
через свою, такую громадную ученость; зачем скрывать светиль¬
ник под спудом и лишать человечество света?.. До сих пор я все
мечтал, ждал вот не иначе — завтра шагнуть прямо за облака,
без дальних околичностей получить тысяч сто серебром пенсио-
йу и Андрея Первозванного, да того, что мне отведут квартиру
йо дворце... Потому до сих пор я все ждал да ждал; за обыкно¬
венные средства доставать деньги десятками и сотнями толь¬
ко рублей не хотел приниматься, теперь — нет, увидел, что
45
должно прибегнуть к тем же средствам, к каким прибегают
и все...»
За вычетом некоторой самоиронии это письмо серьезно и ин¬
тересно в том отношении, что в нем засвидетельствован неко¬
торый поворот Чернышевского в сторону реального восприятия
жизни. Нет, мечты его все равно не оставят, но мечтать хорошо
о собственном будущем, а вот когда от тебя зависит будущее
близкого человека, то тут уже мечта перестает быть доброде¬
телью, и Николай Гаврилович готов действовать. Конкретные
заботы о конкретном человеке позволили ему несколько по-
обуздать излишнюю мечтательность. В том же письме к Пыпи-
ным он выскажет и такое свое намерение: «Некоторые из моих
приятелей подвизаются на литературном поприще, на котором
скоро, может быть, явлюсь и я... Это я говорю к тому, что Сашень¬
ка,^ по окончании курса в гимназии... должен поступить в здеш¬
ний университет... у меня уже и теперь есть средства, а тем
более будут они через полтора года, без отягощения себе, содер¬
жать его здесь, пока он будет в университете, и то время, какое
будет нужно ему для того, чтобы держать экзамены на высшие
степени... У Сашеньки такая голова, что он обещает мно¬
гое...»
И действительно, постепенно Чернышевский начинает пере¬
ходить от слов к делу: дает частные уроки, предпринимает
попытки стать автором «Современника» и «Отечественных
записок», наконец, увлекается изобретением «вечного двигателя».
И тут его увлечет не техническая идея, а результат изобрете-
ния — облагодетельствовать человечество, облагодетельствовать
всех своих ближних, удовлетворить собственное честолюбие...
Конечно, изобрести «вечный двигатель» ему помешали не
какие-то внешние обстоятельства, а законы природы, к сотруд¬
ничеству в журналах он окажется еще не готовым, и все-таки
наступивший 1848 год во многом станет для него переломным.
И тому причиной будут два обстоятельства.
Первое обстоятельство, которое очень сильно отразится на его
жизни,— это знакомство и сближение со студентом-вольнослу¬
шателем Василием Петровичем Лобо до веки м.
Второе обстоятельство — историческое. Революционные собы¬
тия 1848 года настолько увлекут молодого студента-филолога,
что они перекроют все остальные его интересы. Да, он станет
писать для литературных журналов и интенсивно работать в науч¬
ной области, однако все его помыслы будут теперь принадлежать
другому — политике. И в оценках преподавателей, и в оценках
товарищей или знакомых, и в оценках всех споров и разгово¬
ров критерий станет один — политика.
46
1848 ГОД
Тут, вероятно, следует сказать несколько слов о «сороковых
годах» в России, поскольку в их оценке мы до сих пор не добились
единодушия. Одни историки литературы считают, что тридцатые-
сороковые годы были эпохой общественной апатии и застоя,
в которой голоса отдельных людей звучали голосами вопиющих
в пустыне, и, по сути дела, правительственная реакция парали¬
зовала духовную жизнь страны. Другие, напротив, считают,
что эта эпоха являет собою период исключительно интенсивной
и напряженной духовной жизни. Первые в основном указывают
на репрессивные правительственные меры, вторые — на неоспо¬
римые достижения в области литературы и искусства. Думается,
вторая точка зрения стоит ближе к истине.
Между прочим, первая точка зрения совпадает с официаль¬
ным толкованием того времени, нашедшим свое отражение
в «Обзоре деятельности III Отделения Его Императорского Ве¬
личества канцелярии за 50 лет». В нем, в частности, говорилось:
«Собственно в России (имеются в виду первые два десятилетия
царствования Николая I— А. Л.) не было никакого повода
опасаться волнений или беспорядков. Общее настроение русского
общества отличалось не только полным спокойствием, но даже
некоторою вялостью. Еще в 1843 г. наблюдение указывало, что
«высшее общество», которое в прежнее время дозволяло себе
рассуждать о действиях правительства, гласно хваля или порицая
принимаемые меры, уклоняется ныне от подобных суждений
и ко всему хранит какое-то равнодушие; то же самое замечается
и в других слоях общества — все как будто поражены какой-то
^апатией».
Конечно, нельзя игнорировать сведения, которыми распола¬
гало III отделение, но в данном случае желаемое явно выдавалось
за действительное. Оставим в стороне «высшее общество» и обра¬
тимся к некоторым свидетельствам представителей тех кругов,
которые названы «другими слоями общества».
П. Анненков: «Таким образом, когда осенью 1843 г. я прибыл
в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем,
а напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдаш¬
ней интеллектуальной его жизни» («Замечательное десятиле¬
тие»).
А. Панаева: «Мы беседовали под страшный шум спорящих
голосов мужчин (речь идет о вечере в доме Герцена в 1846 го¬
ду.— А. Л.). За ужином все сидели очень долго, шли горячие
споры о положении во Франции, так как на нее обращено было
общее внимание, как на лабораторию, в которой совершались
химические опыты над разными современными общественными
и политическими вопросами» («Воспоминания»).
Ф. Достоевский: «Мы еще задолго до парижской революции
1848 г. были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже
в 1846 г. был посвящен во всю правду этого грядущего «обнов¬
ленного мира» и во всю святость будущего коммунистического
общества Белинским... Все эти тогдашние идеи нам в Петербурге
ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и
нравственными и главное общечеловеческим, будущим законом
всего без исключения человечества» («Дневник писателя» за
1873 год).
Эти свидетельства современников-литераторов подтверждают¬
ся, между прочим, и некоторыми архивными документами са¬
мого III отделения, которые противоречат выводам юбилейного
«Обзора...». События 1848 года побудили правительство провести
досмотр книжных магазинов. В соответствующем документе
III отделения после проведения досмотра отмечалось: «Распро¬
странение в нашем отечестве иностранных книг, исполненных
лжеучений, особенно ныне, оказывает самое губительное действие.
Открытия, сделанные в последнее время по случаю производства
следствия над Петрашевским и его соумышленниками, показали,
как велика нравственная зараза, внесенная вредными произве¬
дениями иностранной словесности в умы и сердца молодых
людей. Недавно найдено у петербургского книгопродавца Лури
2 581 том запрещенных книг, и притом было обнаружено, что
и в прежние годы такие книги им продавались. В рижских
книжных лавках и библиотеках для чтения ныне оказалось
налицо 2 035 томов книг, не одобренных цензурой, а в дерпт-
ских — 1 105 томов. Еще прежде были открыты следы, что во
многих городах империи (в С.-Петербурге, Москве, Риге, Дерпте,
Митаве, Либаве, Киеве, Харькове, Вильне и Одессе) книгопро¬
давцы также торговали запрещенными иностранными сочинения¬
ми и что подобные книги нередко обращались в руках нашей
читающей публики».
В документе III отделения также говорится: «В высших
учебных заведениях и у профессоров запрещенные книги не
составляют редкости. Один профессор (Костомаров) на вопрос,
почему он хранит у себя запрещенную книгу, отвечал, что про-
фессоры имеют на это право по закону. Другой профессор при
частном разговоре, удивляясь, что молодых людей подвергают
взысканию за чтение запрещенных книг, сказал: «У нас имеются
все запрещенные книги, и их читают, кто бы ни пожелал».
Этим профессором был Плетнев, которого трудно было заподо¬
зрить в радикализме.
48
Когда по делу Петрашевского арестовали поэта Аполлона
Майкова, ему был задан вопрос: «Есть ли у вас запрещенные
книги?» На что тот ответил: «Вероятно».
И в этом ответе не было особого вызова, просто Майков
сохранил хладнокровие во время ареста. И правительство,
и III отделение прекрасно знали, что в образованном обществе
запрещенная литература вошла в самый широкий обиход. Когда
после распоряжения правительства провести досмотр книжных
магазинов московский генерал-губернатор А. А. Закревский
письменно сообщил, что в московских магазинах запрещенных
книг не обнаружено, на это его извещение легла резолюция:
«Не верю!» Вероятно, автором резолюции был сам Л. В. Ду¬
бельт.
Возможно, эти обстоятельства могут навести на мысль, что
все разговоры о жестокой николаевской реакции в 30—40-х годах
сильно преувеличены. Нет, не преувеличены. Цензура свиреп¬
ствовала сверх меры. В 1842 году Герцен, окончив статью «К ха¬
рактеристике неоромантизма», записал в дневнике: «Да поми¬
луйте, этого цензура не пропустит, это будет обидно для пиэ-
тистов, надо там изменить, там скрыть мысль. Боже праведный!
В образованных государствах каждый, чувствующий призвание
писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант
свой; у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб
закрыть свою мысль под рабски вымышленными условными
словами...»
На то же сетует в том же году и Боткин: «Вот, например,
теперь читаю я немецкое сочинение чрезвычайно умного немца
Штейна о социализме и коммунизме нынешней Франции. Книга
во всех отношениях превосходная, с удивительным вниманием
наблюдает он биение внутреннего пульса нового французского
общества, анализирует и излагает его с глубиною и тактом
человека, стоящего на вершине современной цивилизации, и,
несмотря на все мое желание, на новость предмета для русской
публики, нельзя сказать ничего об этой книге. Поневоле надо
переливать из пустого в порожнее».
И тут, между прочим, нет никакого противоречия. С одной
стороны, страна наводнена запрещенными иностранными кни¬
гами, повсюду идет живейшее обсуждение современных эко¬
номических и политических проблем, а с другой — цензурный
террор. Николай I ухитрился создать такую бюрократическую
машину, при которой даже верноподданничество носило откро¬
венно бюрократический характер. Не дозволено печатать то-то
и то-то — и не печатают. Не запрещено печатать — печатают.
Пока кто-то схватится, запретит, смотришь, проскочило... Все
4
4078
19
доводилось до какого-то предела, а затем уж следовала реакция.
Бюрократическая машина была мощной, но удивительно непо¬
воротливой. А в деле петрашевцев это сыграло даже свою поло¬
жительную роль: ведь не возникни бюрократической тяжбы
между двумя ведомствами (министерством внутренних дел
и III отделением)1, возможно, и докопались бы до радикального
кружка Николая Спешнева, а вот тогда навряд ли в творчестве
Достоевского оказался бы второй период.
Своеобразной была реакция на французскую революцию.
«У нас провозглашение республики в Париже,— свидетельствует
о своих воспоминаниях литератор В. Р. Зотов,— произвело оше¬
ломляющее действие, выразившееся, конечно, прежде всего в са¬
мых странных мерах. Газеты наши, имевшие право говорить
о политике, несколько дней не сообщали ничего о происшествиях
в Париже. В Петербурге о них узнали, однако, раньше получения
немецких газет. Когда уже пришли из-за границы и печатные
сведения, я вздумал также в театре обратиться с вопросом об
них к моему близкому соседу по креслам — полицмейстеру Тру-
бачееву, очень любезному и обязательному господину, всегда
чрезвычайно внимательно относящемумя к журналистам и теат¬
ралам. Подойдя к нему в антракте, я сказал ему совершенно
спокойно, никак не воображая, что слова мои произведут сильное
впечатление: «А- каковы французы-то! Что они натворили!»
Трубачеев заметно изменился в лице и отвечал почти шепотом:
«Прошу вас не говорить об этом ни слова ни мне, ни кому-либо
из ваших знакомых, в которых вы не уверены, а тем более —
лицам посторонним. Полиция имеет приказание сообщать
в III отделение о тех, кто будет разговаривать о революции.
Велено даже брать тех, кто будет рассказывать подробности.
Мне, как вашему хорошему знакомому, неприятно было бы отнес¬
ти и вас к числу лиц, распространяющих дурные слухи».
Но революцию нельзя было замолчать, и вот в печати начали
появляться скупые сведения, потом этих сведений стало появлять¬
ся все больше и больше. Помимо официальной информации,
хлынул поток информации неофициальной: частные письма, при¬
везенные из-за границы, иностранные газеты, рассказы приехав¬
ших из-за рубежа... Наконец, 14 марта 1848 года Николай I
издал свой знаменитый манифест, между строк которого легко
прочитывались растерянность правительства и неготовность его
к происшедшим событиям.
1 Раскрыв «заговор» петрашевцев, министерство внутренних дел как бы
исполнило функцию Ш отделения и тем самым ударило по его престижу.
Поэтому в данном случае III отделение не было заинтересовано в разду¬
вании «дела» петрашевцев.
50
Вот текст этого манифеста:
«После благословений долголетнего мира запад Европы вне¬
запно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением
законных властей и всякого общественного устройства. Возник¬
нув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились
сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью,
возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушитель¬
ный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи
Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более
пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей Богом
вверенной России. Но да не будет так! По заветному примеру
наших православных предков, призвав на помощь Бога всемо¬
гущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни пред¬
стали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со Святою
нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновен¬
ность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский,
всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего
Государя, что древний наш возглас: за Веру, Царя и Отечество,
и ныне предукажет нам путь к победе, и тогда в чувствах бла¬
гоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него
упования, мы все вместе воскликнем: «С нами Бог! разумейте
языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!»
Этот высокопарный, но вялый документ не достиг той цели,
на которую рассчитывали царь и правительство. Последовали
разъяснения, инструкции, но и они ничего не прибавили к ска¬
занному. Больше того, по свидетельству некоторых современ¬
ников, манифест произвел даже отрицательный эффект. Опре¬
деленные слои общества, которые никогда не интересовались
политикой, никак не реагировали и на европейские события
1848 года, теперь же, после монаршего обращения, встрепену¬
лись. Однако, поскольку не было ничего сказано толком, они обра¬
тились к слухам, а слухи в этой среде пробуждают самую
необузданную фантазию.
Но образованный читатель был в какой-то мере подготов¬
лен к этим событиям. Так, например, В. П. Боткин накануне
февральской революции писал П. В. Анненкову из Петербурга:
«В счастливое время, друг мой, живете вы в Париже, я хочу
сказать — в интересное время. Мы здесь с нетерпением ждем
журналов: чем разрешится этот знаменитый обед оппозиций?
В первый раз после 1830 г. вопрос поставлен так твердо и консти¬
туционно...»
Революционные события 1848 года в передовой части рус¬
ского общества вызвали не только живой отклик, но и откровен¬
ное сочувствие — слишком хорошо для того была уже подго¬
51
товлена почва. Гласное обсуждение европейских событий было
запрещено, но в обсуждения негласные вовлекалось все больше
и больше людей, особенно учащейся молодежи. В мае 1848 года
Чернышевский начал вести дневник, который позволяет наглядно
увидеть, как вызревает его общественно-политическое мировоз¬
зрение.
28 июля. «Дочитал «Debate» до 15 июля, особенного ничего
не заметил, только все более утверждаюсь в правилах социали¬
стов».
2 августа. «Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра;
Луи Блан особенно, после Леру, увлекают меня, противников
их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревши¬
ми, если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно
почти и спорить».
2 сентября. «...Мне показалось, что я террорист и последо¬
ватель красной республики».
8 сентября. «Если когда я был убежден в справедливости чьего
дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Осо¬
бенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий че¬
ловек! »
Из дневниковых записей также видно, что разговоры на поли¬
тические темы, притом сочувственные по отношению к револю¬
ции и революционерам, были обычными среди учащейся моло¬
дежи.
29 августа. «Воротился к А. Л. Фед. (Раеву.— А. Л.), стал
говорить с Лилиэнфельдом. Дело началось с того, что А. Ф.
сказал: «Вот он вам расскажет, что было с Луи Бланом». Я сел,
заговорил об университете, после о политике; я защищал соци¬
алистов, Францию и ее вечные волнения, Прудона, он говорил
против... он мне понравился, умный человек».
Однако не следует и преувеличивать значения этих разгово¬
ров и признаний, так как и разговоры эти и признания носили
преимущественно отвлеченный характер. Так, 6 февраля 1849 го¬
да, то есть через год после французской революции, Черны¬
шевский сделает в дневнике следующую запись: «Вечером был
у Вас. Петр., толковал все о революции у нас и проч., и проч.,
как и раньше; он любит заводить об этом речь, но раньше я не
сочувствовал, а теперь не прочь и я». Как видим, далеко не все,
кто даже сочувственно толковал о революции на Западе, непре¬
менно думали о революционном переустройстве в России. Во
всяком случае, Чернышевский к таким мыслям начинает при¬
ходить лишь в начале 1849 года. О том говорят и некоторые
дневниковые записи 1848 года.
23 сентября 1848 г. «Если писать откровенно, что я думаю
о себе,— не знаю, ведь это странно,— мне кажется, что мне
суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено
внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравствен¬
ный и практический мир, или просто двинуть вперед челове¬
чество по дороге несколько новой...
И если я хочу думать о себе честно, то, конечно, я не придаю
себе бог знает какого величия, но просто считаю себя одним из
таких людей, как, напр., Грим, Гизо и проч, или Гумбольдты;
но если спросить мое самолюбие, то я, может, отвечу себе: бог
знает, может быть, из меня выйдет что-нибудь вроде Гегеля или
Платона, или Коперника, одним словом, человека, который при¬
дает решительно новое направление, которое никогда не погиб¬
нет...»
Как видим, все-таки не Прудон или Луи Блан, а Платон, Ге¬
гель, Коперник...
Европейские события 1848 года показали, что история твори¬
лась не только в прошлом. А. Панаева назвала Францию лабо¬
раторией, «в которой совершались химические опыты над раз¬
ными современными общественными и политическими вопроса¬
ми». Эстет Боткин позавидовал Анненкову, находившемуся
в Париже в момент нарастания там революционных событий:
для него Франция той поры была как бы театром, на подмостках
которого разыгрываются сюжеты живой истории. Для Черны¬
шевского эта страна была исторической ареной, на которой шла
открытая борьба за справедливость.
«Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан —
не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты,
а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расши¬
рились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она»,—
почти заклинает Николай Гаврилович.
Живое движение истории помогает понять ее смысл и зако¬
номерности... Можно открыть самые общие, непреложные зако¬
ны... И в мечтах он видит себя именно тем человеком, который
дает «решительно новое направление... который один откроет
столько, что нужны сотни талантов или гениев, чтоб идеи, выра¬
женные этим великим человеком, переложить на все, к чему
могут быть они приложены, в котором выражается цивилизация
нескольких предшествующих веков, как огромная посылка, из
которой он извлекает умозаключение, которое задаст работы
целым векам, составит начало нового направления человече¬
ства...»
Петербург... Как можно высоко здесь вознестись в мечтах
и надеждах! Но сколь бы ты ни парил в облаках, этот город все
равно напомнит о живой действительности. Разговоры с Лобо-
довским давали мечте полет, а отношения с ним заставляли
читать прозу жизни.
ЛОБОДОВСКИИ И ХАНЫКОВ
Василий Петрович Лободовский был сначала студентом Харь¬
ковского университета, затем Петербургского. Курса не кончил.
Отличался резкостью и независимостью суждений, чем и привлек
Николая Гавриловича. Но их связывала не только общность
взглядов. 16 мая 1848 года Лободовский женился, у Николая
Гавриловича пробудилось к молодой жене друга, Надежде Его¬
ровне, какое-то сложное чувство: влечение, жалость, участие,
сострадание... Материальное положение молодоженов было весьма
затруднительным, и теперь Чернышевскому придется экономить
буквально на всем, чтобы отдать лишний рубль Лобо до веко му.
А после третьего курса он, получив от родителей деньги на
дорогу домой, останется в Петербурге, так как почти все полу¬
ченные деньги отдаст Лободовскому. Появятся и дырявые сапоги...
И тут, вероятно, больше причин говорить не о «проклятой бед¬
ности», если говорить о Чернышевском, а о чем-то более возвы¬
шенном.
«Теперь у меня нет денег, а между тем одежда начинает
изнашиваться, а главное — грозит ненастье, а у меня одни са¬
поги, и к тем нет калош, и мне как-то не то что страшно, а немного
неприятно думать о том, чтоб мне скоро сделать это все, тем
более что мне хотелось бы все, что можно, передать Вас. Петр.,
и теперь я несколько понимаю, что должны чувствовать бедные
при приближении зимы...»
Нет денег... А пятью днями раньше Николай Гаврилович
получил из дому десять рублей серебром, из них семь он отдаст
Василию Петровичу, а остальные три уйдут на погашение долга
того же Василия Петровича.
«Получил повестку от своих на 40 р. сер.— Конечно, что
мне — все отдам Вас. Петр., потому что у меня и так остается
3 р. 75 к. сер.»
Лободовскому он попытается передать свои частные уроки
у Воронина, за него он готов выполнять любую работу. Николай
Гаврилович попытается даже достать в полиции свидетельство
о несостоятельности, чтобы получать в университете пособие и,
естественно, отдавать его Лободовскому.
А деньги из дому Николай Гаврилович получал регулярно,
родители не перестанут ему помогать даже тогда, когда он окончит
54
университет и станет работать преподавателем русской словес¬
ности в кадетском корпусе. Правда, к этому времени Николай
Гаврилович несколько охладеет к Лободовскому, и все-таки
в декабре 1850 года он запишет в дневнике: «...отношение
к Вас. Петр. Редко и ненадолго видимся, но в самом деле это
единственный человек, на которого я смотрю как на равного
себе по уму, только должен опять сказать, тягостное впечатле¬
ние сделало на меня его письмо: «дайте 10 руб.»,— я рассчитывал
на эти деньги купить себе пальто, которое в самом деле было
нужно...»
Деньги Лободовскому, разумеется, будут отосланы, но Ни¬
колай Гаврилович словно оправдывается перед самим собой, что
теперь он отдает деньги с меньшим энтузиазмом.
Однако тут мы забежали несколько вперед. Вернемся к той
поре, когда студент Чернышевский безропотно отдавал своему
старшему другу буквально все, компенсируя свое материальное
«разорение» беседами с ним о французской революции и других
важных вещах.
После сдачи переводных экзаменов за второй курс Черны¬
шевский на лето 1848 года останется в Петербурге. 4 июня
сюда переедет его двоюродная сестра Любовь Котляревская
с мужем — Иваном Григорьевичем Терсинским, и теперь он станет
жить вместе с Терсинскими.
Во время летних вакаций Николай Гаврилович составляет
для профессора Измаила Ивановича Срезневского записи курса
его лекций по славянским древностям, работает над словарем
Нестора, много читает, иногда встречается с Раевым, с товари¬
щами по университету и постоянно с Лободовским.
Как-то Николай Гаврилович пошел провожать его. Только
вышли из дому, Лободовский сразу же заговорил о возможности
революции в России и о своем предводительстве...
— Элементы,— сказал Лободовский,— есть, ведь подымаются
целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится
наказывать по жребию... Только единства нет, да еще — разо¬
рить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что чего
еще нет...
Потом невольно заговорили о Пугачеве.
— Пугачев — доказательство, но доказательство и того, что
скоро бросят, ненадежны,— попытался возразить Чернышевский.
— Нет, они разбивали линейные войска, более, чем они,
многочисленные,— сказал с воодушевлением Лободовский.
Николай Гаврилович вспомнил вдруг свои домашние споры
с Терсинскими, и они ему показались обывательскими. Подошли
к Семеновским казармам. Некоторое время шли молча.
55
— Единственное, что мне доставляет наслаждение, кроме
книг,— смущаясь, признался Николай Гаврилович,— это свида¬
ния с вами.
— Но я отнимаю у вас много времени...
— Раньше я думал бы так, теперь я знаю, что время, про¬
веденное с вами, для меня, чтобы говорить без гипербол, в семь-
восемь раз полезнее, чем за Нестором,— убежденно сказал Ни¬
колай Гаврилович.— Если вы не будете ходить...
— Хорошо, лучше буду ходить, но я могу повредить мнению
о вас Терсинеких...
— Мнение их обо мне меня не интересует,— отрезал Николай
Гаврилович. А вернувшись домой, записал в дневнике: «Люблю
Василия Петр., люблю».
2 сентября начались лекции. Все было привычно и знакомо.
Пошел третий год пребывания Чернышевского в университете.
А вскоре у него состоялось знакомство, которое чуть не пере¬
вернуло всю его жизнь. Как-то после очередного занятия у Ни¬
китенко, на котором Чернышевский прочитал свою работу «Об
эгоизме Гете», к нему в «шинельной» подошел студент-вольно¬
слушатель Александр Ханыков, также присутствовавший на
занятиях Никитенко.
— Вы, кажется, читали у Никитенки? — спросил подошед¬
ший Ханыков.
— Я-
— Так вас сильно интересует разгадка характера Гете? —
снова задал вопрос Ханыков.
— Да, конечно, сильно,— почти машинально ответил Николай
Гаврилович.
— Ну, так это сделано в науке,— уверенно заявил Ханыков.
— Вы разумеете Гегеля...
— Нет, Фурье, который нашел гамму страстей. Двенадцать
первоначальных и их сложение, которое составляет основу
всякого характера...
Из университета вышли вместе. Николаю Гавриловичу нужно
было идти в сторону Невского, но он вместе с Ханыковым
пошел в сторону Фонтанки.
— Если хотите, я дам вам Фурье,— предложил Ханыков
и с жаром, даже, как показалось Чернышевскому, излишним,
заговорил о Фурье, о его жизни, о том, как он пришел к мысли
о фаланстере...— И не мечта!.. Не утопия!..— воскликнул увле¬
ченный Ханыков.— Прочтите об этом в его «Теории всеобщего
единства», там все это доказано математически. Прочтите, и вы
согласитесь, что самый последний из работников фаланстера
будет счастливее сильнейшего из владык.
56
Они остановились на углу Конюшенной. Чернышевский вспом¬
нил, что намеревался идти к однокурснику Владимиру Залеману
за книгой.
— Отечество наше в цепях, деспотизм и невежество заглу¬
шили его натуральные влечения, но преображение близко...—
с необычайным воодушевлением сказал Ханыков и замолчал.
Прощаясь, добавил:—Я живу в доме Мельцера, в Кирочной.
Приходите в субботу вечером.
Чернышевский пошел к Залеману, взял у него книгу, оттуда
отправился к портному, от портного — к Лободовскому. Просиде¬
ли около часа, затем Василий Петрович пошел его прово¬
жать...
— Жизнь для меня весьма тяжела, весьма тяжело это поло¬
жение, сам не умею сказать — отчего. Надя мне почти в тягость,
и сам, признаюсь, ей в тягость,— жаловался Василий Петро¬
вич.
Чернышевский после встречи с Ханыковым был все время
воодушевлен, а теперь его воодушевление пропало.
— Не знаю,— продолжал Василий Петрович,— как теперь
разделаться с нею. Продал кольцо свое и ее подвески и теперь
не знаю, как выпутаться, сказал, что отдал поправить... Хорошо,
что она мало на это обращает внимания...
Николай Гаврилович принялся казнить себя. Он знал, что
Василий Петрович не любит Терсинских, а Терсинские не любят
Василия Петровича. Он обещал Василию Петровичу съехать
от них, а вот до сих пор не исполнил своего обещания.
Правда, Любинька сейчас больна... Проклятая деликатность, про¬
клятая нерешительность. Теперь, с приездом Терсинских, ему ста¬
ло намного труднее давать деньги Василию Петровичу...
Вернулся домой усталым. Попил чаю и лег спать. Вспом¬
нились слова Александра Ханыкова: «Страсти обыкновенно за¬
конны и привести только в гармонию...»
С Ханыковым Николай Гаврилович случайно встретился через
два дня в университете, после лекции профессора Куторги,
на которой присутствовал и Василий Петрович. Вышли из универ¬
ситета. Василий Петрович сразу же отстал и шел сзади. Ханыков
снова повторил свое приглашение на субботу и попросил у Ни¬
колая Гавриловича прочитать на очередных занятиях у Ники¬
тенко написанную им, Ханыковым, статью о страстях «из Фурье».
Тем временем Василий Петрович повернул к Гороховой. Тут же,
на Адмиралтейском бульваре, пришлось распрощаться с Ханы¬
ковым, он пошел на Невский, а Николай Гаврилович пустился
догонять Василия Петровича. Зашли к портному, в лавку, а затем
отправились гулять. Николай Гаврилович рассказывал о новом
57
своем знакомом, Василий Петрович слушал без особого энту¬
зиазма. Подходя к Фонтанке у Семеновского моста, он вдруг
сказал:
— Ну что, если у Нади родится дитя, что с ним делать?
Задушить?
— А разве родится?— спросил Николай Гаврилович и сразу
же подумал о том, как ребенок может обременить и без того
тяжелую жизнь друга, пропустив как-то мимо ушей второй
короткий вопрос.
— Да почему же нет?— усмехнулся Василий Петрович.
Прошли по Фонтанке, потом оказались на углу Казарменной
площади и Загорского проспекта. Тут и расстались.
Сегодня он получил повестку на 50 рублей серебром, завтра
утром нужно получить деньги: что-то отдать Терсинским, а ос¬
тальные — Василию Петровичу...
Утром отправился в университет, затем получил деньги.
Вечером был у Ханыкова. «Он человек умный,— запишет Николай
Гаврилович 27 ноября,— убежденный, много знающий, и я дер¬
жал себя к нему в отношении ученика или послушника перед
аввою, как держу перед собою, напр., Славинского... Ханыков
весьма мил, знакомил меня с новыми общими идеями (не о
фурьеризме только говорю я, а вообще) и дельный человек,
ужасный пропагандист, но мирным путем убеждения; кажется,
я свяжусь с ним; он нисколько не увлекает меня, но теперь
я его уважаю, как уважаю человека с убеждением и сердцем
горячим».
С утра принялся читать статьи Фурье, напечатанные в жур¬
нале «Phalange», четыре номера которого накануне взял у Ха¬
ныкова.
Первое впечатление от прочитанного: «Фурье своими стран¬
ностями и чудным беспрестанным повторением одного и того же
как-то отвращает, но между тем виден во всем ум решительно
во всем новый, везде делающий не то, что другие — если можно
с чем сравнить это и его свойство, что обо всем говорит не
так и не то, как другие, и так спокойно, как это с «Запис¬
ками сумасшедшего» Гоголя — вещи бог знает какие и выска¬
зывает их человек так уверенно».
Чтение Фурье не столько увлекает, сколько высекает соб¬
ственные мысли...
«Никитенке хочу писать... о влиянии образования чувства
изящного на человека с точки зрения единства сил в человеке,
абсолютного единства: развитие его необходимо, потому что долж¬
но развивать всего человека: односторонность пагубна и невоз¬
можна... политическая литература — высший род литературы,
58
и писатель раньше всего должен быть человек с мнением о настоя¬
щем и прошедшем...»
«...Если мы должны ждать новой религии, которая ввергнет
меч между отца и сына, между мужа и жены, как христианство,
и если я приму ее? но это — желание повторения, а повторения
редки, и скорее вместо христианства, если оно должно пасть,
не явится уж такая религия, которая объявляла бы себя не¬
посредственным откровением, а по системе Гегеля — вечно разви¬
вающеюся идеею...»
«Дочитал ныне утром Фурье... теперь вижу, что он соб¬
ственно не опасен для моих христианских убеждений: стран¬
ное дело, для меня кажется, что человек с такими странностями
и ограниченный в своих толкованиях, умствованиях должен
быть поставлен главою школы, которая неоспоримо занимает
великое место в истории, что он первый провозгласил новый
принцип — удовлетворения инстинктов, хотя может быть (я это
еще не знаю) и придал ему странный вид, так что вышло
что-то похожее на смешное; притязания его так ограничены,
и ясно случайное и не самостоятельное, напр., вознаграждение
эмигрантов и проч., и весь этот II том так отзывается рассуж¬
дениями сумасшедшего у Гоголя, а между тем он провозгласил
первый нам несколько новых мыслей, которые называют нелепы¬
ми, а я нахожу решительно разумными и убежден, что будущее
принадлежит этим мыслям,— напр., о вреде торговли в тепереш¬
нем виде...»
Шарль Фурье был сыном торговца и еще мальчиком увидел
обман, творимый во всех торговых операциях (отец сам наставлял
его в этом направлении), что и послужило толчком к отрица¬
нию Фурье всего существующего буржуазного миропорядка и всей
цивилизации как причины этого миропорядка. Свободные и раз¬
машистые теоретические толкования Фурье невольно возбуждали
и собственные фантастические теории и намерения, невольно
разыгрывалось честолюбие...
«Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один
миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что
другой не может прочитать. (Чернышевский писал свой дневник
изобретенным им самим методом скорописи.— А. Л.) Если я умру,
не перечитавши хорошенько их и не переписавши на общечи¬
таемый язык, то ведь это пропадет для биографов, которых
я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным
человеком».
Но этот полет мыслей обуздывает мысль о Лободовском.
«Чувствую превосходство Вас. Петр, в проницательности передо
мною... все деньги должны идти к нему, и я в неприятном
59
положении перед Терсинскими... не могу разойтись с Терсински-
ми... (однако это все ничего: я человек пустой,— он главное)».
Год клонился к своему концу, трудный и очень важный
год в жизни Николая Гавриловича.
5 декабря. «Когда вышли, я отдал Вас. Петр, деньги, который
вышел в сени...»
6 декабря. «День моих именин. Как встал, помолился не¬
сколько минут, стоя на коленях. Мысли были: дай, боже, чтобы
в этот год решительно поправились дела Василия Петровича...»
11 декабря. «Не знаю, что будет с Вас. Петр., дай бог ему
освободиться от своих тесных обстоятельств, потому что, как же
это можно ему! Это нечто противоестественное и странно, что
такой человек находится в таком положении, но нет, правда,
это не должно бы быть так!»
28 декабря. «Утром писал письмо, читал «Отеч. записки»
(«Гордость»); вчера прочитал «Ревнивый муж» Ф. Достоевско¬
го...»
31 декабря. «Прости, тетрадь! Дай бог в наступающем году
записывать более радостные, более счастливые, особенно для Ва¬
силия Петровича, события!
Дай, боже!
11 час. 10 мин.
Дай боже!»
1 января. «Встал как бы ничего, перекрестился и поклонился
несколько раз, прося бога (в которого, бог знает, верю или нет)
о счастье Вас. Петровичу и себе...»
Так начался для Николая Гавриловича новый, 1849 год.
ПЕТРАШЕВЦЫ
Когда Чернышевский познакомился с Ханыковым, то поду¬
мал: «Что-то будет из этого начала знакомства с Ханыковым?
Рассохнется оно или превратится в обращение меня в фурьерис¬
та — что-то бог даст?»
Нет, знакомство это не рассохнется, но и обращение его
в фурьеристы не состоится, жизнь распорядится совсем иначе.
Как мы уже говорили, в конце ноября 1848 года Чернышев¬
ский познакомился с вольнослушателем Александром Ханыко¬
вым, и тот в свою очередь познакомил его с чиновником мини¬
стерства иностранных дел Ипполитом Дебу и студентом универ¬
ситета Павлом Филипповым. Дебу был на четыре, а Филиппов,
как и Ханыков, на три года старше Чернышевского — разница
в летах не столь значительная, чтобы препятствовала их сбли¬
жению, однако сближения не произошло.
60
23 апреля наступившего 1849 года в Петербурге было аре¬
стовано тридцать четыре человека по обвинению в «злоумыш¬
ленном намерении произвести переворот в общественном быте
России». Среди арестованных оказались и новые товарищи Чер¬
нышевского, принадлежавшие, как выяснилось, к числу наиболее
активных членов кружка Михаила Петрашевского. И вот когда,
спустя восемь месяцев, двадцать одного приговоренного к смерт¬
ной казни петрашевца привезут на Семеновский плац, то в их
числе окажутся все трое знакомых Чернышевского: Ипполит
Дебу, Павел Филиппов, Александр Ханыков. Будет среди них и
еще один человек, которого Чернышевский знал заочно, по ли¬
тературе,— писатель Федор Михайлович Достоевский.
А ведь случись Чернышевскому познакомиться с Ханыковым
несколько раньше, и он наверняка попал бы в кружок Петра¬
шевского, ибо он уже тянулся к более активной политической
среде. Однако в силу особых черт своего характера он не решился
проявить инициативу в отношениях с Ханыковым, Дебу и Филип¬
повым, поскольку не считал себя достаточно подготовленным
именно в тех вопросах, которые теперь больше всего его занимали.
Самолюбие, застенчивость и излишне придирчивое, до мнитель¬
ности, отношение к себе делали его робким в общении с людьми,
которых он уважал, но с которыми еще не сошелся коротко.
«Как легко попасть в историю,— записывает в дневнике Черны¬
шевский сразу же после ареста петрашевцев,— я, напр., сам
никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем,
конечно, вмешался бы».
Разумеется, у нас нет никаких оснований утверждать,
что «вмешайся» Николай Гаврилович в кружок Петрашевского,
и он в роковой день оказался бы рядом с теми, кому был
зачитан смертный приговор, но то, что он со временем «вмешался»
бы, не должно вызывать никаких сомнений.
Сам Чернышевский не форсировал отношений с новыми то¬
варищами, они в свою очередь тоже не торопились сойтись
с ним поближе. И вот почему. Кружок Петрашевского начал
функционировать с 1846 года, однако до осени 1848-го он не
отличался ни постоянством состава, ни однородностью взглядов
и политических намерений.
Петрашевский так определял характер кружка того периода:
«С 1846 по 1848-й речей никто не говорил, а был обыкновенный
простой разговор; разговоры сии особого характера не имели,
а определялись личностью говорящего». Это в какой-то мере
соответствовало действительности. Однако с осени 1848 года
кружок Петрашевского как бы распадается на более узкие круж¬
ки, то есть по пятницам, как и прежде, собирались на квартире
у Петрашевского, а в другие дни собирались еще небольшими
группами у Н. Спешнева, С. Дурова, А. Пальма, А. Плещеева,
Н. Кашкина. Достоевский состоял членом кружков Спешнева
и Дурова, Ханыков был членом кружка Кашкина. И конечно же
не случайно именно в конце ноября Ханыков сам подошел
к Чернышевскому и познакомился с ним. Во всяком случае, в это
время у Ханыкова было слишком много дел, чтобы заводить
«пустые» знакомства. И в этом смысле небезынтересен рассказ
поэта Аполлона Майкова о том, как его в тот период вербовал
в «спешневский» кружок Федор Михайлович Достоевский.
Аполлон Майков был арестован по делу Петрашевского
2 августа 1849 года. Допрашивал его сам Дубельт. Майков
своими ответами, непринужденными и довольно остроумными,
сумел расположить к себе следственную комиссию и даже рас¬
смешил ее суровых членов. Майков боялся только одного вопро¬
са — вопроса о его январской встрече с Достоевским.
Действительно, о Достоевском его спросили, но по характеру
самих вопросов он понял, что Федор Михайлович сумел утаить
от следственной комиссии не только подробности, но и сам факт
своего январского визита. Сняв допрос, следственная комиссия
сочла возможным освободить Майкова, и тот лишь много лет
спустя поведал своему другу поэту Арсению Аркадьевичу Го¬
ленищеву-Кутузову о той далекой теперь уже встрече и ночном
разговоре с Федором Михайловичем. Голенищев-Ку тузов записал
рассказ Аполлона Николаевича и убрал его так надежно, что
впервые он был опубликован лишь в 1956 году1.
Сначала Майков вспомнил, как был арестован и привезен
в знаменитое III отделение, как его допрашивали, а потом уже
перешел к рассказу о визите Достоевского:
«Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою
квартиру в дом Аничкова — приходит в возбужденном состоя¬
нии и говорит, что имеет ко мне важное поручение.
— Вы, конечно, понимаете,— говорит он,— что Петрашевский
болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка
выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных
людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не
сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типо¬
графией для печатания разных книг и даже журналов, если это
будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком само¬
любивы... (это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)
' Записанный А. Голенищевым-Кутузовым рассказ А. Майкова напечатан
в журнале «Исторический архив» (1956, № 3). Ранее этот эпизод в менее
подробном изложении был известен по неоконченному письму А. Майкова
к П. Висковатову.
62
— Как так?
— А вы не признаете авторитетов, вы, например, не согла¬
шаетесь со Спешневым...
— Но, действительно, мне кажется, что Спешнее говорит
вздор; но что же из этого?
— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас
семь человек: Спешнее, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов,
Григорьев, Владимир Милютин и я — мы осьмым выбрали вас;
хотите ли вступить в общество?
— Но с какой целью?
— Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы
уже имеем типографский станок; его заказывали по частям
в разных местах, по рисункам Мордвинова (правда, в письме
к П. Висковатову Майков называл автором рисунков П. Филип¬
пова.— А. Л.); все готово.
— Я не только не желаю вступать в общество, но и вам
советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы
поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся
в революционеры?
Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая
руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.
Мы спорили долго, наконец устали и легли спать.
Поутру Достоевский спрашивал:
— Ну, что же?
— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся
и думал, сам не вступлю, и повторяю — если есть возмож¬
ность — бросьте их и уходите.
— Ну это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера ска¬
занном знают только семь человек. Вы осьмой,— девятого не
должно быть!
— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду
молчать.
Вот какой у нас был разговор, и вот почему мне трудно
было отвечать».
Естественно, что Павел Филиппов, входивший в эту семерку
и сам принимавший участие в подготовке к печатанию нелегальной
литературы, не мог пригласить в «свой» кружок студента Черны¬
шевского, которого знал недостаточно близко. Теперь и Филиппов,
и Дебу, и Ханыков были в большей мере поглощены заботами
«своих» кружков, нежели общими собраниями у Петрашевского.
А познакомься Чернышевский с Ханыковым несколькими меся¬
цами раньше, то есть до образования узких кружков, и без
сомнения Чернышевский оказался бы в обществе петрашевцев
и наверняка повстречался бы там с Достоевским. Вполне
вероятно (разумеется, дальше предположений тут идти никак
нельзя), что в тот период они могли даже сблизиться, поскольку
как того, так и другого крайне интересовали социальные и поли¬
тические вопросы; и тот и другой были сторонниками радикаль¬
ных действий и мечтали о преобразовании жизни в духе социа¬
листических идей; тот и другой, принимая в общих чертах учение
Фурье, отнюдь не были его строгими апостолами, сохраняя по
всем вопросам собственные суждения.
И было еще одно обстоятельство, которое могло бы способ¬
ствовать их сближению. Дело в том, что многие радикально
настроенные люди той поры, в том числе многие петрашевцы,
придерживались атеистических взглядов. Достоевский же принад¬
лежал к той группе петрашевцев, которые социализм не противо¬
поставляли христианству. Так, спустя много лет он вспоминал:
«Зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторы¬
ми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за
поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивили¬
зации». «Для Белинского,— пишет современный исследователь
творчества Достоевского В. Кирпотин,— Христос, историческое су¬
ществование которого он, по-видимому, признавал, был объектом
критики... Достоевский же, даже уступив своему собеседнику
в вопросе о божественности Иисуса, не мог освободиться от
детского благоговения перед личностью последнего».
Мы привыкли видеть в Чернышевском убежденного атеиста
и материалиста и порой как-то забываем, что к материалисти¬
ческому мировоззрению и атеистическим взглядам он пришел
отнюдь не в юношеские годы. Так, в период своего знакомства
с петрашевцами он уже придерживался социалистических и рес¬
публиканских взглядов, однако его отношение к Христу и хрис¬
тианству больше сближало его тогда с Достоевским, нежели
с умершим уже Белинским. Николай Гаврилович с грустью
думает о том, что он и его современники живут в эпоху, сходную
с эпохой Цезаря и Цицерона, то есть в эпоху разложения ста¬
рого религиозного миросозерцания, когда рождается уже новый
порядок вещей, когда вот-вот явится новый мессия... «Что угодно
богу, то да будет,— записывал он в декабре 1848 года в дневнике
строки, от которых так и веет фатальной обреченностью.— Если
это откровение,— последнее откровение, да будет оно, и что за
дело до волнения душ слабых, таких, как моя». И почти совсем
интимно: «Но я не верю, чтоб было новое, и жаль, очень жаль
мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ,
так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество,
и так вливает в душу мир, когда подумаешь о нем».
Читая труды Фурье, Чернышевский искренне радуется, что
64
учение Фурье не опасно для его христианских убеждений. И по
прошествии полутора лет, когда он уже заканчивает универси¬
тет, он по-прежнему еще чужд атеизму. 17 мая 1850 года после
очередного посещения кружка Введенского Николай Гаврилович
запишет в дневнике: «...слабость характера высказывается тем,
что в этом обществе говорят против религии, и меня это застав¬
ляет говорить против нее, поддакивая, между тем как я занят
не этими вопросами, а политико-социальными и, собственно, ни¬
сколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно,
веры весьма мало».
И еще одно обстоятельство, которое могло бы способствовать
сближению Достоевского и Чернышевского, хотя вряд ли в силу
этого же обстоятельства, возникни близость, она оказалась бы
прочной. И тот и другой были крайне честолюбивы, и это често¬
любие опиралось на великую силу их характеров, характеров
мужественных и несгибаемых, последовательных в своих противо¬
речиях и противоречивых в своей последовательности, то есть
характеров, всегда обращенных в сторону поисков истины и само¬
стоятельных в этих своих исканиях. «Я нисколько не подорожу
жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы,
равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока,
если б только был убежден, что мои убеждения справедливы
и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они,
даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их,
и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом
убежден»,— записывает в дневнике Чернышевский как раз в пери¬
од своего знакомства с Ханыковым. И это не было всего лишь
красивой фразой, подтверждением тому может служить вся по¬
следующая жизнь Николая Гавриловича.
Как известно, и Чернышевский, и Достоевский во время след¬
ствия (один — в конце сороковых годов, другой — в начале шести¬
десятых) вели себя мужественно, всячески выгораживали това¬
рищей, столь же мужественно выслушали суровые приговоры
и мужественно отправились на каторгу, и не их пришлось уте¬
шать близким и родным, а они при расставании утешали близких
и родных. Но у них нашлось еще и другое мужество, которое
дается лишь немногим.
Политические процессы прошлого столетия оставили нам сви¬
детельства, что даже очень отчаянные люди, бросавшие бомбы,
стрелявшие, печатавшие и распространявшие нелегальную лите¬
ратуру, то есть не раз совершавшие мужественные поступки, порой
не выдерживали одиночного заключения: кончали жизнь само¬
убийством, сходили с ума, а некоторые даже изменяли своему
делу и своим товарищам по борьбе.
5
4078
65
Вот, например, как вспоминал свое заключение в Петропав¬
ловской крепости радикально настроенный петрашевец Иван
Львович Ястржембский: «В равелине я просидел с 23 апреля
по 23 декабря 1849 г. и если бы мне пришлось посидеть еще
неделю, я, вероятно, не вышел из него живым. Все гигиенические
условия были там удовлетворительны: чистый воздух, опрят¬
ность, здоровая пища и т. д., все было хорошо; доказательством
тому может служить то обстоятельство, что, хотя в то время
в Петербурге была сильная холера, из заключенных не заболел
ни один. Убивающее влияние на меня оказало одиночное за¬
ключение. При одной мысли, что я нахожусь «аи secret», уже
через две недели заключения со мной стали случаться нервные
припадки, обмороки и биение сердца».
Петрашевцы во время следствия, как потом и Чернышевский,
содержались в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
Но как, например, отличается воспоминание о днях заключения
в крепости Достоевского от воспоминаний Ястржембского. «Когда
я очутился в крепости,— рассказывал потом Федор Михайло¬
вич,— я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не
выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?..
Я писал «Маленького героя»— прочтите, разве в нем видно оз¬
лобление, мука? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны...»
А Чернышевский (спустя более десяти лет) в том же равелине
напишет «Что делать?» и многие другие свои произведения.
Конечно, можно сказать, что всякое заключение переносится
легче, когда есть чем заняться. Возможно. Даже наверное. Однако
создание художественных произведений — это не просто занятие,
отвлечение. Тут нужно особого рода спокойствие, граничащее с са¬
моотречением, и каждому художнику знакомо самочувствие, ког¬
да он как бы растворяется в мире чужих страстей и пере¬
живаний, в мире чужих надежд и судеб, отрекаясь от собствен¬
ной судьбы... Однако прийти к такому спокойствию в момент,
когда решается вопрос о твоей жизни, может далеко не каждый
даже из тех, кто наделен художественным талантом. Здесь еще
нужно то мужество, которое дается лишь великим характером...
Так или иначе, но в тот период Достоевский и Черны¬
шевский не только не сблизились, но даже и не познакомились.
Судьба их сведет много позже. Тогда же, в конце 1849 года,
Достоевский отправился на каторгу, а Чернышевский, уже обу¬
чаясь на последнем курсе университета, все больше и больше
проникался естественными в этом случае практическими заботами
о завтрашнем дне.
Между прочим, несколько раньше петрашевцев узником
Алексеевского равелина станет человек, с которым в дальнейшем
66
судьба довольно близко сведет Чернышевского. Это Николай
Иванович Костомаров — профессор Киевского, а впоследствии
Петербургского университета, автор ряда выдающихся работ по
русской и украинской истории. В 40-х годах он был членом
тайного общества «Кирилло-Мефодиевское братство». 30 мая
1847 года он был заключен в Петропавловскую крепость, а ровно
через год (30 мая 1848 года) сослан в Саратов, где жил под надзо¬
ром полиции до 1859 года. Там в 1851 году Чернышевский
и познакомится с ним по совету и рекомендации профессора
Срезневского, когда станет учительствовать в местной гимназии.
НА ПЕРЕПУТЬЕ
23 апреля 1849 года были арестованы петрашевцы, а 26 ап¬
реля Николай I издал новый манифест, в котором говорилось
о начале Венгерского похода. Николай I ждал призыва Австрии
о помощи, предусматриваемой соглашением от 1837 года. Поэтому
первая же просьба молодого австрийского императора Франца-
Иосифа была сразу же удовлетворена: войскам был отдан приказ
занять Венгрию.
3 мая экзаменом по греческой и средней истории у профессора
Куторги начались переходные экзамены. Заканчивался третий
год обучения в университете.
В последних числах мая Чернышевский получил из дому
75 рублей серебром на дорогу, отправился покупать билет на ди¬
лижанс — «сказали, что рано». Вернулся домой. 1 июля сдал
Фишеру последний экзамен (по философии). И в тот же день:
«Отдал 30 р. сер. Любиньке, другие 30 хочу отдать Вас. Петр...
Вечером и утром в субботу писал письмо домой, в котором просил
прощения...»
Намеревался каникулы провести дома, отдохнуть, развеяться
и вот... второе лето подряд в Петербурге. Здесь 12 июля, в день
своего рождения, он начнет новый дневник, озаглавив его так:
«Дневник 22-го года моей жизни». В «старом» дневнике ин¬
тересна последняя запись, в которой будут подЬедены некоторые
итоги жизни.
«Должен написать что-нибудь о своих мнениях и отноше¬
ниях.
1. Религия. Ничего не знаю; по привычке, т. е. по срастав¬
шимся с жизнью понятиям, верую в бога и в важных случаях
молюсь ему, но по убеждению ли это?— бог знает...
2. Политика, а) Теория — красный республиканец и социалист;
более приверженец по-прежнему... Луи Блана; если бы мне теперь
власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян,
распустил более половины войска, если не сейчас, то скоро,
ограничил бы как можно более власть административную и вооб¬
ще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциаль¬
ных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ.
Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.
б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских
и для этого готов был бы многим пожертвовать.
3. Наука.— Занимаюсь Нестором, более ничего не делаю; ма¬
шину свою хочу пробовать в искаженном, т. е. в упрощенном,
виде.
4. Литература. Теперь ничего нет в голове; поклоняюсь Лер¬
монтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего...
Отношения: к Вас. Петр, все прежние. На Над. Ег. смотрю
как на обыкновенную, добрую, простую женщину, которая в иных
случаях, т. е. почти постоянно, слишком мало образована и слиш¬
ком не в образованном обществе жила. К Терсинским решительно
миролюбив, кроток, нет и тени прежней вражды; Ивана Гри¬
горьевича жаль, что так мало имеет денег; совестно, что обкра¬
дываю их, как и раньше было совестно.
Мысли: машина; переворот. Что касается собственно до
меня — более всего, несравненно более всего, женитьба, любовь,
иначе сказать — я хотел бы, чтоб у меня любовь была единствен¬
ная, чтоб ни одна девушка и не нравилась мне до той самой,
на которой предназначено мне жениться, чтоб и не сближался
я до того времени ни с одной и не думал ни об одной; об
этом я думаю постоянно. Надежда на Нестора, т. е. словарь
к нему — следовало бы, чтоб его напечатала Академия. О сара¬
товских думаю несколько более прежнего, но все не столько,
сколько заслуживает их любовь ко мне, решительно не столько; а
много виноват перед ними, и мне их тоже совестно.
Итак, надежды или желания: а) сейчас — пусть поправится
Вас. Петр., он выйдет из своего затруднительного положения,
образует Надежду Егоровну; я также выйду, поеду на следующий
год в Саратов; б) через несколько лет я журналист и пред¬
водитель или одно из главных лиц крайней левой стороны,
нечто вроде Луи Блана, и женат, и люблю жену, как душу
свою; в) надежды вообще: уничтожение пролетариатства и вообще
всякой материальной нужды,— все будут жить по крайней мере
как теперь живут люди, получающие в год 15—20 000 р. дохода,
и это будет осуществлено через мои машины.
Аминь. Аминь».
А между тем Саша Пыпин закончил гимназию и готовится
к поступлению в Казанский университет. Кажется, совсем еще
68
недавно Николай Гаврилович готов был пожертвовать очень
многим, чтобы его двоюродный брат учился в Петербургском
университете, однако дружба с Лободовским вытеснила если не
все, то всех остальных, теперь даже в разделе «надежды или
желания» ничего не говорится о дальнейшей судьбе Сащи. Но
это не была простая забывчивость, Николай Гаврилович намере¬
вался помогать брату материально, но о какой помощи могла
сейчас идти речь, если у него самого не было денег даже на
самое необходимое? В это лето он довел себя до того, что чуть
не попал в больницу. И причиной тому был Лободовский. Да,
он иногда отказывал себе в булке, продавал книги, больной
и уставший издалека тащился пешком домой. Но причиной тому
была не бедность. Родители по-прежнему присылали ему деньги,
кое-что он зарабатывал уроками, но ведь его друг, которого
он считал гениальным человеком, находился в стесненном мате¬
риальном положении.
В самом конце мая Николай Гаврилович получил из дому
75 рублей на дорогу. Как мы уже знаем, домой он не поехал.
Из этой суммы он 30 рублей отдал Любиньке (за стол и квар¬
тиру) и 30 рублей Лободовскому. Родители, вероятно, обиделись
на сына, но все же к дню рождения прислали ему 25 рублей.
«В университете 25 р. денег и письмо от Сашеньки... Так как
деньги, то должен был к Вас. Петр. Если только мне прислано,
думал я, утаю от Терсинских это письмо; деньги — Вас. Петр.».
Любиньке пришлось отдать 15 рублей, а из остальных десяти
девять отдал Лободовскому. И вот мы читаем в записи от 25 июля:
«Пошел за письмом и взял на случай, если будет без денег,
с собою свою столовую ложку, чтобы заложить ее... Денег нет,
ложку не решился заложить». Письмо с деньгами пришло через
четыре дня. Из 45 рублей 25 — Любиньке, 10 — Лободовскому.
Поэтому потом и придется продавать книги.
Видимо, родители все-таки прознают, что сын их порядком
пообносился, и станут присылать денег еще больше. «Милые
мои папенька и маменька! Покорно благодарю Вас за присланные
с последним письмом деньги. Часть их в самом деле употреблю
на сапоги и брюки. Не беспокойтесь о моей одежде: она неплоха
и не в лохмотьях. В одеяле мне пока слишком скоро нет боль¬
шой надобности...» Вскоре родители пришлют и одеяло, и деньги...
12 декабря он напишет родителям: «Только позвольте просить
Вас, милые мои папенька и маменька, не присылать мне столько
денег: они для меня почти лишние или, лучше сказать, вовсе
лишние, и я даже трачу их на пустяки иногда; позвольте же
просить вас не присылать их так много».
Но дело не в том, сколько было отдано денег Лободовскому
69
и в чем ему приходилось себе отказывать. Летом Николай
Гаврилович работает над словарем к летописи Нестора, состав¬
ляет словарь к Ипатьевской летописи, работает над статьями
и повестью для журналов. 8 июля 1849 года собирался зайти
к Панаеву, «однако не пошел... знаю почти наверное, что или нет
ответа, или получу назад статью», изобретает свой «вечный
двигатель»... Но все делалось урывками, без нужного сосредо¬
точения и даже без вдохновения. Словарь к первой половине ле¬
тописи Нестора будет составлять его товарищ Николай Ко-
релкин, и Чернышевский сам признает, что у Корелкина словарь
получается лучше. К тому же и работа будет продвигаться
медленно. Не только деньги, но и все свои силы, все свое время
он будет отдавать Лободовскому.
У Николая Гавриловича был на редкость самостоятельный
ум, читал ли он Гегеля или Фурье, Шекспира или Гете, ко всему
подходил критически: что-то принимал, что-то подвергал со¬
мнению, что-то отвергал. Оценки же и взгляды Лободовского
были для него почти что непререкаемы. «Разговор сначала
был о Лермонтове, которого я защищал, хотя не вдавался в
жаркие тирады, потому что разговор был спокойным, после
несколько слов о Гоголе, которых Срезневский не хотел считать
людьми одной величины с Пушкиным (а я по голосу Вас. Петр,
ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на
свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно)».
В октябре он закончил повесть «Теория и практика» и отнес
ее Никитенко. Когда задумал писать новую повесть, первое,
что пришло на ум,— сделать «главным лицом Вас. Петр.».
Из четырех лет студенческой жизни два с половиной года
Николай Гаврилович, по сути дела, посвятит Лободовскому
и потому очень многое не сделает из того, что будет намереваться
сделать. Он не напишет работу по истории и сочинения на
медаль (медаль эту получит его товарищ — Корелкин), он не
продвинется в изучении новых языков, на выпускных экза¬
менах не окажется первым, не останется при университете,
ни разу не опубликует своих работ в журналах, профессора
Никитенко и Срезневский оценят его способности и во многом ему
помогут, но он все-таки не совсем оправдает их надежды.
Все это Николай Гаврилович будет чувствовать и сам, поэтому
с самого начала нового, последнего года обучения в универ¬
ситете им овладеет смятение. Теперь он вновь станет часто
писать родителям, испрашивая у них совета и даже решения:
просить ли ему места учителя в Саратове или остаться в Пе¬
тербурге. Нужно было писать кандидатскую диссертацию —
и опять сомнения: писать ли ее по философии у Фишера, по
70
истории у Куторги, по словесности у Никитенко или по сла¬
вянским наречиям у Срезневского... Куторга взял других сту¬
дентов, Фишер отсоветовал писать по философии: «неудобное
время». В конце концов написал у Никитенко о «Бригадире»
Фонвизина.
Заканчивая университет, Николай Гаврилович оказался
на перепутье, выбор дальнейшей дороги представлялся ему
весьма мучительным.
КРУЖОК ВВЕДЕНСКОГО
С конца 1849 года Чернышевский стал посещать кружок
Иринарха Ивановича Введенского — личности весьма заме¬
чательной.
Введенский был на пятнадцать лет старше Чернышевского,
он окончил Пензенское духовное училище, Саратовскую семи¬
нарию, ту же самую, в которой позже учился Чернышевский,
потом учился в Московской духовной академии, правда, за
пять месяцев до окончания ее был уволен. В 1840 году пешком
добрался до Петербурга, поступил в университет и в августе
1842 года окончил его со званием кандидата по философскому
факультету. Работал преподавателем словесности в военно¬
учебных заведениях, переводил Диккенса, Теккерея.
У Введенского были редкие способности, удивительная
память и какая-то изначальная, самоотверженная тяга к по¬
знаниям. Как-то, когда он учился еще в духовном училище,
отец привез ему сочинения Ломоносова и «Письма русского
путешественника» Карамзина. «Тятенька,— писал вскоре отцу
Иринарх,— не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина;
я люблю его; я буду читать его по ночам и за то буду хорошо
учиться».
Теперь у Иринарха Ивановича собиралась по пятницам
в основном разночинная интеллигенция: преподаватели, офицеры,
литераторы, студенты... Посещавший этот кружок А. П. Ми¬
люков вспоминал потом: «...здесь в 1847 —1848 гг. события
в Европе сделались... главною, почти исключительною темою
бесед, как и в других кружках тогдашней петербургской
молодежи... Реформы Пия IX и народное движение в Италии,
а затем февральская революция в Париже и отголоски ее
почти во всей Западной Европе отодвинули литературные ин¬
тересы на второй план и обратили общее внимание на совре¬
менные политические события».
А вот свидетельство, так сказать, из другого лагеря. «Не¬
чаянный случай,— доносил Вигель следователю по делу петра¬
71
шевцев,— дал мне по заочности узнать об одном Введенском,
поповиче, говорят, с чрезвычайным умом и с изумительными
правилами безнравственности и безбожия... Он задушевный друг
Петрашевского, но так благоразумен, что не принадлежит ни
к какому обществу».
Когда кружок Иринарха Введенского стал посещать Черны¬
шевский, собираться стали по средам. Разговоры не всегда
велись на политические темы, поскольку никакой программы
у кружка не было, да и состав его не был постоянным.
Но для Чернышевского в тот период важно было то, что он
попал в среду интеллигенции, которую волновали общественно-
политические вопросы. По воспоминаниям того же Милюкова
Чернышевский выглядел скромным, несколько застенчивым
молодым человеком. «В нем особенно выделялось противоречие
между мягким... голосом и резкостью мнений, нередко очень
оригинальных».
Иринарх Иванович полюбил своего молодого земляка и
очень много помогал ему и советами и делом.
15 марта 1850 года закончились занятия в университете,
а через месяц начались выпускные экзамены. Как-то во время
сессии Чернышевский зашел к Иринарху Ивановичу, чтобы
в который раз потолковать о собственном будущем...
— Что думаете делать по окончании курса? — сразу же
спросил его Введенский.
Пришлось признаться:
— Просился в саратовскую гимназию.
Введенский горячо запротестовал, потом начал почти упра¬
шивать:
— Не делайте этого, это же губить себя — я сам на себе
это испытал,— и далее начал увещевать: — Вы так много пере¬
менились здесь, что не можете ужиться с теми людьми... Для
вас это не заметно, потому что постепенно, а я испытал...
Я ехал, например, туда наслаждаться, а провел время в му¬
чительнейшем состоянии... Не хотите ли в военно-учебное заве¬
дение? — закончил он неожиданным предложением.
— Ах, если бы это можно было, это было бы весьма хоро¬
шо,— обрадовался Николай Гаврилович.
— И весьма вероятно, что будет можно,— обнадежил
Введенский.— Вы подавайте просьбу, напишите, что предста¬
вите документы к назначенному времени, и все тут. Назначение
в августе, а до тех пор можно будет отдохнуть.
Итак, все складывалось наилучшим образом. После сдачи
экзаменов можно будет поехать к родителям в Саратов, а в
первых числах августа вернуться назад, в Петербург. К тому же
пришло письмо от родителей: они не возражают против его
желания остаться служить в столице. Хотя он и рассчитывал
на их согласие, но... Нет, как это все-таки благородно, как это
мило с их стороны. Читая родительское письмо, он до того
растрогался, что несколько раз поцеловал его...
Сданы последние экзамены, и 14 июня Чернышевский за¬
писывает в дневнике:
«Так кончается моя университетская жизнь.
В Саратове буду делать словарь Ипатьевской летописи —
думаю сделать страниц на 60—70, может быть, 90 (едва ли);
приехавши сюда в первых числах августа — хлопотать о месте
в Дворянском полку и приготовиться на магистра.
Что-то будет впереди? До сих пор время шло довольно
дурно от слабости характера — должно быть, то же будет и
впереди, но не хотелось бы кончить это худым предвещанием,
лучше дай бог быть утешением для моих папеньки и маменьки».
На следующий день, 15 июня 1850 года, Николай Гаври¬
лович выехал в Саратов и прибыл туда 26 июня.
В Саратове он тогда пробыл ровно месяц. Благим намере¬
ниям осуществиться было не суждено. Время провел бездеятель¬
но. Собирался написать повесть — не написал. Намеревался
вести дневник, однако и здесь не хватило усердия — сделал
всего лишь две небольшие записи: одну в день приезда, а
другую в день своего рождения — 12 июля. В последней имеется
весьма любопытный отзыв о прочитанной книге: «Нынче дочитал
«de I’Esprit» — весьма много мыслей, до которых я дошел
«своим умом». Человек весьма умный, но для нашего времени
слишком много поверхностного и одностороннего, и многие из
основных мыслей принадлежат к этому числу, т. е. особенно
те, которые противоречат социалистическим идеям о естествен¬
ной привязанности человека к человеку, т. е. одна сторона
эгоизма только выставлена — свое счастье, а то, что для этого
счастья необходимо обыкновенно человеку, чтоб и окружающие
его не страдали, это выпущено из виду».
Речь тут, видимо, шла о книге Гельвеция «Livre de I’Esprit»,
в которой человеческий эгоизм выставлялся как главный источ¬
ник всякой деятельности людей.
По возвращении в Петербург Николай Гаврилович наме¬
ревается подробно описать «свое житье в Саратове», однако
в результате описал только свой отъезд из родительского
дома вместе со своим двоюродным братом Сашей Пыпиным,
который теперь переводился в Петербургский университет.
«25 июля встали рано, стали убираться. Мы с маменькою
довольно плакали, т. е. они много, я более, чем думал, что буду...
73
Наконец, поехали из дому в 8 час. Маменька сели с нами
на телегу.— «Вот как прекрасно,— сказала она,— так бы и по¬
ехала с вами до Москвы, ничего, решительно ничего, прекрасно
и спокойно» — и вообще в ней было так много грусти, сожаления,
что мне стало жалко, и я сам сидел в каком-то онемении,
так что почти ничего и не чувствовал... и тут мне, дураку,
не пришло в голову сказать решительно, что я остаюсь в Са¬
ратове!..
Едва отъехали мы от того места, где расстались... и мне
стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел,
пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувствен¬
ность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что как
негодяй покидаю маменьку в жертву тоске,— и я раскаялся,
и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад. Я думал,
думал об этом две первые станции, и в моей голове созрела
мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Са¬
ратовскую гимназию...»
По приезде в Казань Николай Гаврилович решил испол¬
нить это свое намерение, однако не застал на месте нужное
ему начальство. Конечно, прояви он здесь побольше настой¬
чивости, и через несколько дней он был бы уже дома. Отсутствие
в данный момент начальства как бы снимало с него вину перед
родителями, во всяком случае, в какой-то мере умаляло ее,
облегчало душу. «У меня в голове была сумятица, а в сердце
печаль оттого, что не получил места и не буду жить со своими,
и уже родились различные снова мысли: не удалось учителем,
так буду хлопотать инспектором или своих переведу в Петер¬
бург...» — записал в дневнике Николай Гаврилович, и опять
пришла спасительная мысль об изобретении «вечного двига¬
теля». И утешал себя счастливыми мечтами о том, как все
образуется, как всем станет хорошо, когда его изобретение будет
готово, хотя прекрасно знал, что там, куда он едет, «реши¬
тельно нет и не будет никогда свободного времени, потому что
все одно за другим наполняются чужие дела, от которых ввек
не освободишься... так что, когда придешь домой, то чувствуешь
себя усталым и большую часть того времени, как бываешь
дома, только спишь...»
Почему же все-таки так манит, так притягивает к себе
этот чужой, неуютный, жестокий город, где его ожидает не¬
устроенная жизнь и одиночество среди утомительного много¬
людья? «...Потому что, как бы то ни было, все надежды в нем,
всякое исполнение желаний ст него и в нем. Да, страшное дело
это мерзкая централизация, которая делает, что Петербург реши¬
тельно втягивает в себя, ка. водоворот, всю нашу жизнь! Вне
74
его нет надежд, вне его нет движения ни в чинах, ни в местах,
ни в умственном и политическом мире...»
С невеселыми думами возвратился тогда Николай Гаврилович
в Петербург.
По приезде сразу же начались хлопоты. Оказывается, Сашу
зачислили только кандидатом на свободное место. В конце
концов все устроилось. 11 сентября 1850 года Николай Гаври¬
лович получил диплом об окончании историко-филологического
факультета Петербургского университета со степенью кандидата.
В дипломе отмечены следующие познания: в богословии,
философии, римской словесности и древностях, русской сло¬
весности, всеобщей и русской истории, истории и литературе
славянских наречий и истории российского законодательства —
отличные; в греческой словесности и древностях — хорошие;
в немецком языке — достаточные. Через несколько дней Чер¬
нышевский был утвержден в степени кандидата с предостав¬
лением чина десятого класса и права считаться в первом раз¬
ряде чиновников, а при вступлении на военную службу —
права производства в офицеры.
13 сентября 1850 года Чернышевский успешно прочел проб¬
ную лекцию, а 4 октября начал работать учителем словесности
во 2-м кадетском корпусе. Но тут вдруг неожиданно всплыло
дело, о котором он уже и забыл. Чернышевский был вызван
к попечителю округа, где его уведомили о том, что его просьба
может быть удовлетворена — есть место учителя словесности
в саратовской гимназии. Это сообщение его ошеломило. От¬
казаться напрямую он не решился, но сказал, что не имеет
средств для переезда в Саратов, и поставил непременным усло¬
вием своего перехода на службу в Саратов освобождение от
вторичного экзамена.
Нет, у Николая Гавриловича и на сей раз не было твер¬
дого нежелания ехать в Саратов. Вот как он сам рассказывает
о своем состоянии: «Пошел к попечителю с некоторым вол¬
нением, но не весьма большим. Чего мне собственно хотелось:
того ли, чтобы отказал Молоствов, или чтобы согласился на
мои условия — не знаю. Решительно не мог я решить, что для
меня лучше...»
Надо сказать, педагогическая деятельность в кадетском
корпусе его не удовлетворяла, других видов пока не было, с
Лободовским вречался гораздо реже, чем прежде. Возобновил
после прошлогодней встречи в Нижнем Новгороде с Михай¬
ловым переписку с ним, звал его в Петербург. Но между ними
не было тех отношений, которые можно было бы принимать
в расчет при решении столь важного вопроса. Михайлову о
75
своем решении взять место в саратовской гимназии он писал:
«Что до меня — я не жалею пока, что еду в Саратов; еду я туда
на год, на два много; там у меня будет больше, нежели здесь,
свободного времени готовиться на магистра, и это-то собственно,
заставило меня решиться. Здесь, по крайней мере, четыре дня
в неделю бывают совершенно пропадшими, а часто и все семь».
Он советует Михайлову сблизиться с Лободовским и познако¬
миться с Введенским, который всегда может помочь достать
«журнальную работу».
В письме к Михайлову он дает интересную характеристику
членам кружка Введенского. При всей доброжелательности все-
таки чувствуется, что он относится к ним с некоторой иронией.
«Вот постоянные и главные члены их общества: доктор
Гавриил Родионович Городков, молодой человек лет под 30,
довольно плотный и румяный, живой, веселый, бойкий, душа
общества, почти всегда с палкою, набалдашник которой —
голова в феске или чем-то подобном... Неистовый обожатель
Искандера и Прудона. Гоголя тоже почитает всеми силами души.
Рюмин (Владимир Никол.) в военном сюртуке с голубым во¬
ротником— теперь больной грудью; тоже чудесный «юноша»,
как называет его Введенская. У этого юноши есть жена,
Олимпиада Григорьевна. Краузольд, подслеповатый белокурый
немец, товарищ Введенского по университету; Милюков, Алек¬
сандр Петр., который обыкновенно пишет в «Отечественных
записках» разборы, славный человек; Минаева увидите, мо¬
жет быть,— оригинальное лицо, но преблагородный и, несмотря
на странности, происходящие от отсутствия знакомства с Европою,
очень умный человек. Городков, Рюмин, Милюков — стоят того,
чтоб с ними познакомиться».
А вот о Лободовском: «Я его ставлю на одну доску с Дик¬
кенсом, Ж. Зандом, своим приятелем Lois Blanc’om, Лес¬
сингом, Фейербахом и другими немногими, которых я уважаю —
это, может быть, смешно,— но, действительно, это гениальный
человек».
Письмо писалось 25 января, а через месяц Николай Гав¬
рилович начнет собираться в Саратов.
Так закончится первый период его петербургской жизни.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В САРАТОВЕ
1851 — 1853
УЧИТЕЛЬ
РУССКОЙ словесности
Ранней весной 1851 года, а именно 12 марта, Николай
Гаврилович Чернышевский вместе с Дмитрием Ивано¬
вичем Минаевым — отцом будущего поэта Дмитрия Дмит¬
риевича Минаева, и Николаем Александровичем Гончаровым —
братом знаменитого писателя Гончарова, выехал из Петербурга.
Путь держали на Симбирск, где Николай Александрович
учительствовал, а Дмитрий Иванович должен был теперь
служить. Дальше Николай Гаврилович намеревался добираться
самостоятельно — там уже оставался сущий пустяк.
«В дороге я подружился со своими попутчиками,— вспоми¬
нал потом Чернышевский,— одного я и прежде знал, как отлич¬
ного человека, другой оказался добряком, простодушие которого
неимоверно. Вот, и ехали мы очень довольные друг другом, за¬
нимаясь всяческими россказнями и шутками. Я сидел, то есть
лежал в отличном спокойном повозочном положении, с правого
краю, двое приятелей занимали точно такие же положения,
один посредине, другой на левом краю повозки. Выпадал мел
кий сырой снежок...»
Впереди предстоял долгий путь. О многом и без суеты
можно было поговорить, о многом подумать, многое вспомнить...
Прошло без малого пять лет, как его провожали в далекий
и загадочный Петербург, и вот теперь он возвращается в
родной город, где ему предстоит учительствовать в местной
мужской гимназии. Вспоминаются давние добрые напутствия
и пьянящие пророчества священника Петра Никифоровича
Каракозова и дьякона Михаила Семеновича Протасова, вспо¬
минаются собственные честолюбивые помыслы и надежды.
Нельзя, конечно, сказать, что помыслы его не осуществились,
а надежды рухнули — об этом говорить еще рано... Однако
тогда, пять лет назад, представлялось, что случись ему по
окончании университета возвращаться в родной город, возвра¬
77
щение это будет все же несколько иным, ну, более, что ли...
триумфальным.
С тех пор утекло много воды. Успешно окончен универ¬
ситет. Прочитано множество книг и написано немало различного
рода учебных работ. Пытался сотрудничать в петербургских
литературных журналах и давал частные уроки. Изобретал
«вечный двигатель» и преподавал русскую словесность в кадет¬
ском корпусе. А сколько было всяких волнующих споров-
разговоров... Теперь все это позади. И вновь возникает со¬
мнение: «А правильно ли поступил, правильный ли сделал
выбор?..»
Летом прошлого года этой дорогой он вот так же ехал в
родной и уютный Саратов, а через месяц возвращался по ней
в Петербург... Зимний пейзаж придает дороге новизну, но все
равно в этой новизне проглядывают черты привычного, зна¬
комого, и оттого возникает ощущение, будто целый год про¬
топтался на месте: время пролетело, а ничего не произошло,
по-прежнему живется надеждами, а все главное, что надлежит
совершить в жизни, ради чего, наверное, и да на-то жизнь,
откладывается на потом, и сама жизнь как бы откладывается
на потом, словно ей нет ни конца ни края... А ведь истекает
уже двадцать третий год жизни. Конечно, в Саратове он про¬
будет год-два, никак не больше, а затем снова вернется в
Петербург — и тогда...
Попутчики перебивают ход его мыслей, вовлекают в свой
разговор, увлекшись которым он не замечает времени...
С Минаевым Николай Гаврилович познакомился у Иринарха
Ивановича Введенского в последние месяцы своего пребывания
в Петербурге. Несмотря на разницу в летах,— Минаев был
старше Николая Гавриловича на двадцать лет,— в дороге между
ними установились дружеские отношения, и теперь они рас¬
суждали и о революции, и о религии, и о коммунизме, и о вол¬
нениях в Западной Европе, короче, петербургский кружок
Введенского как бы продолжал функционировать и здесь,
в дороге, хотя здесь и не было той привычной, петербургской,
возбужденности... В бескрайних белых просторах, во всей этой
неодолимой бесконечности слова, сохраняя за собой свои значения,
как бы теряли свою магическую силу, и уже не слово воз¬
буждало мысль, а сама мысль руководила словами, под¬
чиняя их своей неукротимой воле, а оттого спорилось, легко,
весело, и спор этот порождал удивительный дух согласия
и дружелюбия.
Проезжали знакомые города, но подолгу нигде не задер¬
живались — торопились ввиду приближения ледохода.
78
В Москве Николай Гаврилович вновь встретился с Алек¬
сандрой Григорьевной Клиентовой, о которой прошлым летом
намеревался начать писать повесть. «От этого посещения,—
запишет он в дневнике,— осталось у меня чувство такое же,
как оставалось раньше; я глубоко расположен к ней».
В Нижнем задержались всего на полтора часа. Здесь Ни¬
колай Гаврилович намеревался повидаться со своим универ¬
ситетским товарищем — поэтом Михаилом Михайловым, но того
не оказалось дома. Отправились дальше в путь.
23 марта добрались до Симбирска, а следующим утром
Николай Гаврилович распрощался со своими попутчиками.
Сильное впечатление произвела на него жена Николая Алек¬
сандровича Гончарова — Лизавета Карловна. «Вот уже сколько
людей,— отметит он в своем дневнике,— привлекали меня к себе
грустностью, томительностью своего положения. Василий Петро¬
вич (Лободовский.— А. Л.), Александра Григорьевна (Клиен-
това.— А. Л.) — два человека, к которым я чувствовал истин¬
ную привязанность,— конечно, эта привязанность много обуслав¬
ливалась их положением, а не одними их личными достоин¬
ствами. Вот если бы дольше с Лизаветою Карловною — и к
ней мог бы я привязаться до некоторой степени именно
оттого же».
В первых числах апреля Чернышевский был уже в Саратове.
Хотя саратовская гимназия и считалась одной из лучших
в учебном округе и окончившие ее имели право поступать
без экзаменов в Казанский университет, вряд ли ее можно было
отнести к образцовым учебным заведениям. Однако моло¬
дого учителя русской словесности не столько смутил внешний
вид гимназии (по словам А. Пыпина, гимназия «отличалась
необыкновенною ветхостью и грязным наружным видом»),
сколько царившие в ней порядки и утвердившиеся методы
преподавания. И надо сказать, двухгодичное пребывание Чер¬
нышевского в гимназии в качестве преподавателя во многом
изменило общую атмосферу. Один из его учеников, Михаил
Воронов, вспоминал впоследствии: «До какой степени было силь¬
но влияние учителя словесности на всех окружающих, мож¬
но судить уже по тому, что учитель греческого языка пере¬
стал бранить Пушкина и Лермонтова, а учитель истории
отказался от римских оленей и, кроме того, начал спрашивать
хронологию различных исторических событий... Математики,
прежде занятые разговорами о различных пирушках и попойках,
в которых принимали живейшее участие, тоже бросились
79
в науку... Инспектор смотрел искоса на новатора и по-преж¬
нему продолжал сечь ленивцев, уводя, впрочем, их в нижний
этаж, откуда не слышны были уже вопли...»
«Суммируя воспоминания мои и моих товарищей по гим¬
назии о Николае Гавриловиче,— писал другой его ученик,
Григорий Шапошников,— скажу, что он и за свою короткую
службу внес новую жизнь в сухую, бездушную выучку,
кое-чему и кое-как, успел оставить после себя уже, хотя и ма¬
ленькую, группу педагогов, это во-первых; а во-вторых, по¬
служил ученикам без красных слов, без малейшей рисовки таким
высоким идеалом по могучему уму, обширнейшим и глубоким
знаниям, по гуманности, что почти у каждого его ученика
загорелось настойчивое желание учиться и учиться, чтобы со
временем послужить ближнему».
В гимназии, конечно, были и способные педагоги, например
Евгений Александрович Белов — впоследствии довольно из¬
вестный историк, автор учебника по русской истории; или
учителя словесности Варенцов и Миловидов. И если говорить
о влиянии Чернышевского и о том вкладе, который он внес
в педагогические принципы, то здесь в первую очередь нужно
говорить о его нравственном влиянии.
«Ежедневно возвращаясь после классов домой,— свидетель¬
ствовал тот же Михаил Воронов,— Чернышевский был сопро¬
вождаем множеством учеников, с которыми он, как отец с детьми,
дружески беседовал, узнавал о здоровье их домочадцев, где
они живут, шутил и смеялся и пожимал руки тех, кому при¬
ходилось, приближаясь к своему дому, прощаться с учителем.
Летом, по вечерам, Чернышевский делал прогулку, и если видел,
что в каком-нибудь дворе идет игра гимназистов, то он заходил
во двор и принимал участие в забавах. Тут Чернышевский до
того оживлялся и увлекался развлечением игрою, что от чрез¬
мерной усталости усаживался для отдыха на каком-нибудь
обрубке или доске, ведя разговор с мальчиками. Все это сви¬
детельствовало о его любви к ученикам, которые в свою оче¬
редь чтили и уважали Чернышевского, как добрейшего че¬
ловека и полезного учителя. День его отъезда из Саратова
был скорбным для всех гимназистов, которые теснились, окружая
его квартиру, и со слезами напутствовали его отбытие».
Чернышевского уважали не только в гимназии. Вскоре по
прибытии он становится весьма популярной личностью в городе.
Он получает частые приглашения к обеду от губернатора Матвея
Львовича Кожевникова, председатель саратовской казенной
палаты Николай Михайлович Кобылин просил его давать част¬
ные уроки сыну. Как выразился один из его недоброжелателей:
80
«Саратовское общество, по тогдашней моде, сочувствовало Чер¬
нышевскому, а светское начальство даже покровительствовало».
Среди людей, с которыми Николай Гаврилович проводил большую
часть времени, были его сослуживец, историк Евгений Алексан¬
дрович Белов, врач Стефани, одна из первых собирательниц
народных песен Поволжья Анна Никаноровна Пасхалова, буду¬
щая жена историка и литератора Даниила Мордовцева — автора
неоконченного романа «Профессор Ратмиров», в котором под
своей фамилией выведен и Чернышевский. Но ближе всех Ни¬
колай Гаврилович сошелся с Николаем Ивановичем Костомаро¬
вым, проводившим в своих трудах по отечественной истории
идею демократической федерации всех славян.
Еще в Петербурге профессор Измаил Иванович Срезневский,
узнав, что Николай Гаврилович уезжает работать в Саратов,
настойчиво рекомендовал ему поближе сойтись с Костомаровым,
человеком большого ума и замечательных дарований.
О своем знакомстве и сближении с Костомаровым Черны¬
шевский писал Срезневскому: «...Вы, Измаил Иванович, в таких
выражениях говорили мне об уме и характере Николая Ивано¬
вича, что я тотчас же по приезде своем в Саратов поспешил быть
у него; я нашел в нем человека, к которому не мог не привязаться;
он, естественно, в Саратове очень тоскует, и я поэтому иногда
служу для него развлечением. Таким образом я бываю у него
часто».
А через три с лишним десятилетия Чернышевский напишет
о своей былой дружбе-вражде с Костомаровым: «Мое знакомство
с ним было знакомство человека, любящего говорить об ученых
и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком
ученым и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей
был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно устано¬
вившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уж твердым.
Потому если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково,
то спор мог идти бесконечно, не приводя к соглашению. Были
вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена
в России было между учеными мало людей, в образ мыслей
которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе
мыслей Костомарова они были. На этом было основано мое
расположение к нему».
А вот что писал о своем знакомстве с Чернышевским Ни¬
колай Иванович Костомаров: «Круг моих знакомств по преиму¬
ществу составляли ссыльные поляки, из которых многие были
люди очень образованные. Было у меня и несколько знакомых
семейных домов. Чиновничество избегало меня, но помещики,
напротив, заискивали во мне, особливо получившие образование
6 4079 !
в высших учебных заведениях, а таких было немало; но все они
скоро дичали, и даже на многих не заметно было и следов обра¬
зования.
Вначале 1851 года я познакомился с Чернышевским, который
сам ко мне приехал. Это был благообразный белокурый юноша
(Чернышевский был моложе Костомарова на одиннадцать лет.—
А. Л.), с тонкими чертами лица и крайне бурсацкими манерами,
от которых он, по-видимому, и не хотел отвыкать...
Я виделся с Чернышевским очень часто и сошелся с ним.
Мы играли с ним в шахматы (он играл мастерски), толковали,
читали вместе. Чернышевский был тогда учителем словесности;
его занимало тогда славянство, и он изучал сербские песни».
Правда, потом Чернышевский в своей работе «По поводу
«Автобиографии» Н. И. Костомарова» опровергнет некоторые
детали. Так он заметит, что Костомаров считал его игру в шахматы
мастерской лишь потому, что сам плохо играл в шахматы.
И в собственном смысле слова «вместе» они никогда не читали,
хотя, конечно, иногда и могли прочитать вместе какую-нибудь
страницу. И «славянством» увлекался не Чернышевский, а сам
Костомаров...
«Мы «толковали», как выражается он (то есть Костомаров.—
А. Л.)', вот это действительно так; собственно в этом и состоял
главный элемент наших отношений с ним: мы «толковали»...»
Действительно, тогда они много «толковали», несмотря на то
что для одного из них главными казались вопросы социально-
политические, а для другого — национально-исторические, один
из них был подчеркнуто рационалистичен и абсолютизировал
разум в силу молодости и последних веяний времени, а другой,
не отрицая значения разума, был поэтичен в силу своей натуры,
возраста (Костомарову в момент знакомства с Чернышевским
было тридцать четыре года) и некоторых обстоятельств личной
жизни, один из них был свободен и его одолевали сомнения
насчет своей будущности, другого тяготила несвобода, несвобода
в прошлом, настоящем и будущем...
Майский теплый вечер. Николай Иванович сидит у окна,
из которого открывается прекрасный вид на Волгу, за ней тем¬
неют горы, а кругом сады, беспредельное море зелени. Угасает
еще один день...
— Смотрите, Николай Гаврилович, какая прелесть. Не на¬
любуюсь.
— Я не способен наслаждаться красотами природы,—
категорически заявляет молодой собеседник и подтверждает свое
заявление смехом.
Костомарову запомнится этот эпизод, и он потом напищет:
82
«Из близких мне поляков Мелантович, человек поэтический
и увлекающийся, недолюбливал Чернышевского, называл сухим,
самолюбивым и не мог простить в нем отсутствия поэзии. В послед¬
нем он вряд ли ошибался».
«Защитники» Чернышевского видят опровержение Костома¬
рову в том, что Николай Гаврилович любил совершать лодочные
прогулки по Волге, или в том, что душными летними ночами
он «ложился спать не в низкой комнатке мезонина, а на балконе.
Там его грудь глубоко дышала мягким воздухом теплой ночи,
нежный ветер с Волги освежал лицо. Опершись на локоть,
смотрел Николай Гаврилович на светло-синее полотно реки, пере¬
резанное играющею полосою лунного света, на Соколовую
гору, также посеребренную сиянием луны. Он слушал тихое
плесканье волн о крутой берег, чувствовал себя бодрым, сильным,
смелым; весело было у него на душе...»
«Я теперь только начинаю любить природу,— в себе я считаю
это признаком пожилых лет,— в молодости я не был охотником
любоваться ею, а в детстве и тем меньше»,— признается Николай
Гаврилович в том возрасте, в каком находился Костомаров в пери¬
од их саратовского знакомства, когда чувства и мысли молодого
учителя словесности находились в сфере совсем иных интересов,
нежели чувства и мысли ссыльного тридцатипятилетнего ученого.
Между прочим, о своей любви к природе Чернышевский заговорил
тоже в неволе, в Петропавловской крепости.
Некоторые биографы упрощают обстоятельства, в силу ко¬
торых Чернышевский в марте 1851 года покинул Петербург
и отправился учительствовать в родной Саратов. Действительно,
у Николая Гавриловича есть немало дневниковых записей, сви¬
детельствующих о его намерении вернуться в Петербург, однако
если эти свидетельства не вырывать из общего контекста записей
того периода и не игнорировать их общей тональности, то они
укажут не на какое-то твердое намерение, а на постоянные
сомнения при решении этого вопроса. Саратов манил его уютом
родительского дома, определенностью общественного положения,
возможностью распоряжаться свободным временем по своему
усмотрению с пользой для самостоятельных научных занятий.
Год, проведенный в Петербурге, ничего не дал, но в то же время
и покидать его было страшновато. С одной стороны, он вроде бы
до бесконечности устал от петербургской суеты, а с другой —
как жить без этой суеты?
Сомнения, сомнения, сомнения...
Этой же двойственностью окрашено его настроение и во все
8'•
время пребывания в Саратове. Уезжая из Петербурга, он говорит,
что через год-два вернется назад. Так, вскоре по приезде в Са¬
ратов Николай Гаврилович напишет М. Михайлову: «В Саратове
я нашел еще большую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор
я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей,
тем менее развлечений, следов. Тем скорее кончу свои дела,
а окончивши их, потащусь в Петербург».
Характерно вот это слово «потащусь». В нем есть что-то от
принуждения или хотя бы от самопринуждения.
А ведь если разобраться, Чернышевскому вроде бы трудно
сетовать на свою саратовскую жизнь. В гимназии его многие
любили и уважали, вряд ли придирки директора Майера могли
его всерьез огорчать, напротив, они скорее приносили ему удов¬
летворение, поскольку давали возможность чувствовать себя
участником борьбы за правое дело. Как уже было сказано,
его не только привечали самые знатные люди города, но и сам
губернатор. Дружбой или знакомством с ним дорожили многие.
А о домашней обстановке и напоминать не надо. Никогда еще
Николай Гаврилович не вел столь разнообразный и свободный
образ жизни...
Но где-то далеко-далеко жил своей жизнью неприветливый
Петербург, и жизнь его не давала покоя. И вот Чернышевский
пишет письмо Измаилу Ивановичу Срезневскому с просьбой
похлопотать для него место учителя словесности в одной из
петербургских гимназий. «Может быть, Ваше покровительство
будет снова причиною счастливой перемены моего положе¬
ния»,— выражает он свою надежду.
А через некоторое время Николай Гаврилович справляется
у Иринарха Ивановича Введенского о возможности вновь занять
место учителя словесности в Петербургском кадетском корпусе...
Нет, его соблазняло не место учителя в петербургской гимназии
или кадетском корпусе, его соблазнял сам Петербург, город,
который никого не отпускает от себя насовсем.
Один покрутится-покрутится в этом бушующем водовороте
человеческих страстей и намерений, не выдержит, вырвется на
заветный простор и не заметно ни для кого с облегчением
воротится в родное гнездо, чтобы затем до скончания своего
века жить воспоминаниями о «петербургской» жизни, которые
по мере отдаления от этого эпизода его биографии станут при¬
обретать все более и более элегически-романтический характер.
Другой тоже воротится, но, воротившись, вдруг обнаружит,
что, сбившись с трудной дороги в будущее, он навсегда потерял
единственную дорогу к своему прошлому. Сил хватит, чтобы
все это понять, но уже недостанет сил, чтобы что-то изменить.
Не сумев стать своим среди чужих, он навсегда станет в чем-то
чужим среди 'своих. Неисцелимо «зараженный» Петербургом,
он, не найдя ничего лучшего, весь остаток дней станет проклинать
причину своей болезни, травя и утешая себя этим одновременно.
Третий с великим трудом, но все-таки сумеет преодолеть
в себе притяжение уюта родного гнезда, заглушив тревожные
чувства, усвоит внешние и внутренние законы пока чуждой ему
жизни и... станет полноправным «гражданином нового мира».
Мечты для него в конце концов обернутся действительностью,
частности которой могут его и разочаровать, но общее чувство
удовлетворения перекроет их без остатка.
Четвертый в силу особых свойств своего характера и бла¬
гоприятности внешних обстоятельств преодолеет все это с завид¬
ной и соблазнительной, в мнении других, легкостью и реализует
себя даже в большем объеме, нежели было у него на то в запасе
первоначальных жизненных сил.
Пятый поначалу отступит, воротится в прошлую жизнь, по¬
степенно одумается, осмотрится и в конце концов принесет
прошлую жизнь в жертву неодолимости своего желания новой
жизни. Он снова пойдет на приступ, теперь уже осознанный
приступ, и, как правило, успешный в силу своей осознанности.
Тут возможны и другие варианты, однако, как бы там ни
было, никто, окунувшись в водоворот новой жизни, не в состоя¬
нии преодолеть в себе желания жить этой новой жизнью, неза¬
висимо оттого, вольется он в нее или будет ею отторгнут. В одном
случае верх возьмут силы центростремительные, в другом —
центробежные, частности этого противоборства и обусловят инди¬
видуальную судьбу каждого.
Стремление Чернышевского во что бы то ни стало вернуться
в Петербург не было продиктовано какими-то внешними обсто¬
ятельствами жизни, оно рождалось из боязни не реализовать
самого себя. «Неужели я,— запишет он в дневнике весной
1853 года,— должен остаться учителем гимназии, или быть сто¬
лоначальником, или чиновником особых поручений с перспекти¬
вою быть асессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня
настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно.
Нет, я должен поскорее уехать в Петербург».
Но мало было принять решение, его еще предстояло пре¬
творить в жизнь. Нам Чернышевский представляется исклю¬
чительно решительным и волевым человеком. Это представление
по сути своей верно, однако при том условии, что таким Чер¬
нышевский стал отнюдь не сразу. Как у многих честолюбивых
85
людей, не наделенных от природы железной волей и неукроти¬
мой решительностью, Чернышевскому была присуща праздная
мечтательность. Так, еще в студенческие годы он увлекся изо¬
бретением «вечного двигателя» и возлагал на свое изобретение
большие надежды в личном плане. Не оставил он этой мечты
и в более поздние годы, и характерно то, что он возвращался
к ней именно в те моменты, когда приходил в замешательство
от тех или других обстоятельств реальной жизни. Так было
в пятидесятом году, когда он возвращался из Саратова в Петер¬
бург и мучился оттого, что не остался в родном городе. Тогда
на выручку пришла спасительная мысль о «машине», изобре¬
тение которой дало бы ему возможность «жить как и где угодно».
Так было и в Саратове в пятьдесят первом — пятьдесят третьем
годах, когда он почувствовал, что научные его занятия почти
не продвигаются и перед ним маячит перспектива остаться на
всю жизнь учителем гимназии или губернским чиновником.
И трудно сказать, как бы сложилась в дальнейшем судьба
Чернышевского, не получи он толчок извне, то есть не встреть он
на своем пути Ольгу Сократовну Васильеву.
ЗНАКОМСТВО
Саратовская жизнь с ее беспечной радостью и ученой празд¬
ностью все более и более засасывала. Правда, в иные минуты
хотелось все это бросить, убежать в петербургскую неприютность
и неизвестность и там начать совершенно иную жизнь, испол¬
ненную лишений и опасностей, но непременно чреватую все¬
общим признанием. И тогда наступали минуты моральной само-
казни: желалось сделать самому себе больно и хоть тем возбудить
решимость; когда же, как казалось, появлялась долгожданная
решимость, вновь одолевали сомнения, сомнения не в том, следует
или не следует начинать эту иную жизнь — таких сомнений
не возникало, а в том, надо ли начинать ее именно сейчас или
все же дождаться более благоприятного момента. И опять текли
дни и месяцы... Бесконечные ученые споры с Костомаровым
подменяли серьезные научные занятия, тешили самолюбие и соз¬
давали в местном обществе репутацию очень умного человека;
стычки с директором гимназии Майером порождали иллюзию
бескомпромиссной борьбы; необременительность домашних отно¬
шений с их атмосферой любви и доверия погружала в состояние
житейской уверенности, а вся общая череда дней давала само¬
чувствие бесконечности жизни...
86
Но вот жизнь повернулась еще одной гранью: кажется, озарило
светом возвышенного чувства.
— Катерина Николаевна,— говорил Николай Гаврилович
своей партнерше по кадрили,— прежде всего, я должен сказать,
что я говорю серьезно и совершенно искренно. Для меня чрез¬
вычайно трудно сказать то, что я решился наконец сказать. Но
я все-таки скажу...
Но сказать ему не удалось.
— С кем вы танцуете следующую кадриль? Танцуйте
с Софьею Юрасовой. Полюбезничайте с нею...— умело уклонилась
от объяснения дочь председателя саратовской казенной палаты
Екатерина Николаевна Кобылина.
«Вам приходит время любить, может быть, вы в опасности
выбрать недостойного; выберите же меня, потому что я люблю вас
искренно, и эта любовь во всяком случае не будет для вас
опасна...» Жаль. Пропало заранее приготовленное объяснение.
Но отказ не обескуражил и даже не поверг его в уныние,
напротив, он почувствовал вкус к такого рода общению с молоды¬
ми девицами. Ровно через десять дней после неудачного объяс¬
нения с Екатериной Кобылиной, а именно 26 января 1853 года,
он едет в дом к родственникам, чтобы поздравить двоюродную
сестру матери Марию Евдокимовну Акимову с днем ангела.
«И поехал. Меня пригласили на вечер. Этого мне и хотелось,
потому что я было начал любить волочиться...»
Среди гостей была и дочь местного врача Сократа Евгеньевича
Васильева — Ольга. Она обратила на себя внимание своей
живостью и бойкостью, и Николай Гаврилович решил полюбез¬
ничать с ней. Только вот о чем говорить, чтобы получилось
сразу же легко и непринужденно?
«Начну откровенно и прямо: я пылаю к вам страстной лю¬
бовью...»
Шутки, смех, танцы. Молодежь веселится, развлекается...
Очередная кадриль.
— Ольга Сократовна, вы не верите искренности моих слов —
дайте мне возможность доказать, что я говорю искренно. Требуйте
от меня доказательства моей любви.
— Да какого же? — Ольга Сократовна даже смутилась от
такого напора.
— Какого угодно,— не задумываясь, ответил ей молодой
учитель словесности.
— Так поставьте моему брату «пятерку»,— входит в игру
Ольга Сократовна.
— Это я делаю и без того. Требуйте чего-нибудь более
важного,— настаивает партнер по кадрили.
87
— Венедикт — мой любимый брат,— чуть уводит в сторону
разговор Ольга Сократовна.
— Я его не люблю.
— За что же?
— За то, что в нем нет того, за что я люблю вас...
Кадриль кончилась.
— Ольга Сократовна, я могу вас еще пригласить танцевать?
— Можете со мной танцевать девятую кадриль,— дает свое
согласие Ольга Сократовна.
В ожидании назначенной кадрили он любезничал и дура¬
чился с Катериною Матвеевной Патрикеевой — подружкой
Ольги Сократовны, болтал с Федором Палимпсестовым — быв¬
шим своим товарищем по семинарии. Потом сели за стол, и тут
поднялось невообразимое. Ольга Сократовна стала кормить со
своей руки Палимпсестова, Николай Гаврилович попытался
отнять у нее тарелку, потом забрал у нее салфетку и приложил
ее к своей груди, Иван Воронов — сын саратовского брандмей¬
стера — начал отнимать у него салфетку. Одолел Николай Гав¬
рилович. Шум стоял невообразимый. Ольга Сократовна про¬
должала дурачиться с Палимпсестовым...
— Бросаю вас, гордая красавица! — разыгрывая ревность,
патетически воскликнул Николай Гаврилович.
— Ах так! Я не буду больше с вами танцевать! — заявила
Ольга Сократовна.
Николай Гаврилович схватил вилку и приставил ее к груди.
— Пусть, пусть,— подначивал Палимпсестов,— он этого не
сделает.
— Конечно, этого я не сделаю, но вот что сделаю, руку
я проткну,— сказал Николай Гаврилович, и Ольга Сократовна,
кажется, поверила и сдалась:
— Хорошо, хорошо, я танцую с вами.
Потом они сидели у окна. Чернышевский говорил Ольге
Сократовне всякие любезности, назвал ее «парижанкой».
— Вы мне нравитесь, потому что... я теперь могу видеть ваш
ум. Я много о вас слышу такого, что заставляет меня смотреть
на вас особыми глазами, и, кроме того, в вас есть то, чего нет
почти ни у кого из наших девиц — такой образ мыслей, за который
я не могу не любить...
— Неужели вы считаете меня настолько глупой, что я поверю
вашим словам?
— Почему же? — искренне удивился Николай Гаврилович.—
Я ясе не говорю вам ничего романтического...
— А ваше выражение о том, что я «парижанка»?
— Вот его смысл,— принялся за объяснение Николай
S.4
Гаврилович.— В вас столько ума, что вы должны бы играть роль,
какой еще не играли женщины в нашем обществе, но какая
отчасти уже принадлежит им в Европе, особенно в Париже, где
женщина, правда, не равна еще мужчине, но гораздо более, чем
у нас, имеет прав, значения и влияния...
Потом опять веселились, танцевали, и никогда еще Николай
Гаврилович не чувствовал себя так хорошо, как в сегодняшний
вечер, он даже прежде не подозревал, что может так веселиться
и веселить других.
Расходились поздно. Николай Гаврилович проводил Ольгу
Сократовну до саней.
Через несколько дней снова встретились. «Все это было пока
только обыкновенное желание полюбезничать с кем-нибудь, для
того, чтобы иметь случай узнать общество и женщин».
Впрочем, потребность в этом возникла у Николая Гавриловича
еще в студенческие годы. Как-то в самом конце декабря 1848 года
один из петербургских приятелей пригласил его на домашний
вечер по случаю святок. На следующий после празднества день
Николай Гаврилович записывал в дневнике: «Я заметил в себе
различные результаты этого вечера. Во-первых, сердце как-то
волнуется и неприятно, потому что я недоволен ролью, которую
играл вчера — столб и больше ничего». Отсутствие светскости
или простой непринужденности в поведении не отвратило его
ни от вечеров, ни от женского общества, а породило в нем стрем¬
ление к личному совершенствованию. «...Этот вечер,— продолжал
он свою запись,— будет иметь большое влияние на меня, и кажет¬
ся, что он двинет меня намного вперед: мне сильно хочется
и танцевать, и бывать на вечерах, и проч., хотелось бы также
и рисовать, и говорить по-французски и немецки для этого
необходимо — итак, вот новый источник недовольства собою».
Теперь он умел и танцевать, и научился говорить любезности
девицам, во всяком случае, в более или менее привычном для
себя обществе он уже не был «столбом». А недавний отказ только
придал ему уверенности в том, что подобного рода отказы имеют
даже свою прелесть, поскольку, с одной стороны, удовлетворяют
потребность в смелом любезничанье с девицами, а с другой
стороны, не обременяют никакими последствиями. Правда, тут
Николай Гаврилович не учел одного обстоятельства: между
Екатериной Кобылиной и Ольгой Васильевой существовала не¬
которая разница, и это касалось не каких-то объективных
достоинств одной или, напротив, объективных недостатков другой.
Дело тут было в самом Николае Гавриловиче.
В тот святочный вечер, когда он остался решительно недо¬
волен самим собою, его одновременно посетило и другое, куда
89
более устойчивое, чувство. Тогда же он в дневнике записал: «...мне
стало жаль, и глубоко жаль, этой прекрасной, умной, пламенно¬
чувственной и роскошной женщины (речь шла о снохе квартир¬
ной хозяйки приятеля. А. Л.)... собственно жаль не ее, как ее,
а ее как одно из этих лиц этого рода... жаль, наконец, стало
и этих девиц, т. е. снова не собственно этих девиц (хозяйкиных
дочерей,— конечно, они милы), а всех девиц этого состояния...
Как грустна, скудна удовольствиями, однообразна их жизнь —
целый год ждут они этого праздника, и этот праздник, этот
праздник так ничтожен...» А через два с лишним года, познако¬
мившись в Симбирске с женой Николая Александровича Гон¬
чарова — Лизаветою Карловною, он поймет, что его в основном
привлекают люди, в особенности женщины, своею «грустностью,
томительностью своего положения». И к Ольге Сократовне его
все больше влекло, по мере того как он обнаружил «томитель¬
ность» ее положения.
ОБЪЯСНЕНИЕ
19 февраля, в четверг, во второй половине дня, Николай
Гаврилович играл в гостиной в шашки со своим дядей Николаем
Дмитриевичем Пыпиным, однако мысли его были заняты совсем
другим. Сейчас он намеревался отправиться к Николаю Ивано¬
вичу Костомарову, но думал он и не об этом визите* а о том, как
бы заскочить хоть ненадолго к Васильевым, потому что, по его
догадкам, сегодня к ним непременно нагрянет Палимпсестов,
а ему очень не хотелось, чтобы тот был у Васильевых без него.
♦Ольга Сократовна! — в который раз выстраивался план пред¬
стоящего с ней разговора.— Вы, вероятно, шутите со мною, но,
может быть, и не шутите. Во всяком случае я скажу вам, что вы
почти решительно увлекли меня и что я был бы счастлив, если
бы мог назвать вас своею супругою, но я не могу этого сделать;
причин на это много, некоторые из них я не могу высказать
теперь...» Так, он пока ничего не собирался говорить ей об угрю¬
мости своего характера и своей неуживчивости в семейном кругу,
о неспособности быть главою семейства, поскольку чувствует
себя просто мальчишкою... Но непременно скажет ей, что здесь,
в Саратове, не сможет сделать настоящей карьеры и поэтому
скоро уедет в Петербург, а там нужно прежде устроить дела и уж
потом обзаводиться семейством, непременно скажет ей и о своем
образе мыслей, благодаря которому рано или поздно попадется...
Нет, он решительно не имеет права связывать ее жизнь со своею...
90
Николай Гаврилович все больше и больше увлекался пред¬
стоящим разговором с Ольгой Сократовной, продолжая механи¬
чески передвигать по доске шашки. Николай Дмитриевич играл
сосредоточенно и тоже молчал, а может, он сосредоточенно думал
о чем-то своем, относящемся к его службе или семейным делам.
В это время в гостиную вошел Василий Дмитриевич Чесноков,
поздоровавшись и улучив подходящий тому момент, отозвал
Николая Гавриловича к окну.
— Вот вам высочайший приказ отправляться со мною,—
торжественно произнес Чесноков и протянул записку.
«Василий Дмитриевич! Приходите к нам в З'/г часа и при¬
водите с собою Чернышевского. Мне весьма нужно его видеть».
Николай Гаврилович сразу же догадался, чей это почерк,
и его охватило радостное чувство решимости. Быстро поднялся
к себе наверх — там сейчас спала маменька,— чтобы не разбудить
ее и избежать расспросов, бесшумно оделся и спустился вниз, где
его дожидался Чесноков.
Встретила их сама Ольга Сократовна. Пригласила в столовую.
Из-за ширмы, дурачась, появилась Екатерина Патрикеевна.
По обыкновению, начали шутить, смеяться, подтрунивать друг
над другом. Но сейчас ни смех, ни шутки, ни даже любезничанье
с Ольгой Сократовной не занимали его так, как в прошлые разы,
потому что еще с воскресенья он детально обдумывал и много¬
кратно мысленно провертывал в голове свое объяснение с ней,
и теперь, естественно, ему не терпелось высказаться.
— Ольга Сократовна,— наконец решился он,— я имею сказать
вам несколько слов серьезно.
— Говорите,— не теряя веселого настроения, согласилась
Ольга Сократовна.
— Здесь нельзя. Пойдемте со мной,— он взял ее под руку,
и они прошли в другую комнату.
— Ольга Сократовна,— начал он решительно, и вдруг в голове
его все перепуталось.— Ольга Сократовна, прошу выслушать меня
серьезно,— приступил он сызнова, но нужные мысли и нужные
слова не приходили. «Господи! Как все было логично и убеди¬
тельно, когда он дома готовил свое объяснение... Куда только
делись все фразы, все слова?..»
Ольга Сократовна, чтобы чем-то заполнить ненужную паузу,
села на край кровати и жестом руки предложила сесть ему
подле, и так получилось, будто пауза возникла не из-за отсут¬
ствия у него нужных слов, а из их желания разместиться
поудобнее.
— Я буду говорить решительно серьезно и прямо,— поче¬
му-то строго заговорил Николай Гаврилович.— Но только прошу
91
вас выслушать меня и говорить со мною тоже искренне и прямо,
как говорю я... Не знаю, как начать мне... Не умею приискать
выражения...— и он опять смолк.
— Не ищите, говорите, что хотите сказать,— пришла на
помощь Ольга Сократовна, давно уже понявшая, по какой при¬
чине пропал дар красноречия у ее собеседника.
— Это будет не совсем то, чего должно ожидать в наших
отношениях,— проговорил Николай Гаврилович, глядя прямо
перед собой и не видя своей собеседницы.— Вот что я скажу вам.
Вы, Ольга Сократовна, держите себя довольно неосторожно.
Если когда-нибудь вам случится иметь надобность во мне, если
когда-нибудь вы...— дальше шло самое трудное, но он заставил
себя сказать:—Если вы получите такое оскорбление, после ко¬
торого вам понадобился бы я, вы можете требовать от меня
всего.
Такого поворота в разговоре она никак не ожидала и поэтому
поторопилась сухо успокоить его:
— Да этого, Николай Гаврилович, никогда не случится.
— Я знаю, что этого почти не может быть, но если бы...
вы можете требовать от меня всего.
— Так вы хотите быть моим другом? — усмехнулась она.—
Благодарю вас.
Николай Гаврилович почувствовал, что сказал не совсем то,
вернее, совсем не то, нет, нет, весь разговор нужно было вести
по-другому... Но поскольку он высказал самое для него трудное,
то уже не мог не продолжать.
— Ольга Сократовна, я не имею права говорить того, что
скажу. Вы можете посмеяться надо мною, но все-таки я скажу.
Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения
тяжелы.
— Да, это правда,— согласилась она.— Пока я была молода,
ничего не хотелось мне, я была весела. Но теперь, когда я вижу,
как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела.
И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая
веселость.
Хотя он и сам уже понимал, каково ее положение в семье,
почему, собственно, и решился-то на объяснение с нею, однако
вот это ее личное признание растрогало его необыкновенно и вер¬
нуло столь необходимый ему сейчас дар красноречия.
— Я не могу, не имею возможности отвечать вам на это тем,
чем должен был бы ответить,— и теперь он уже умышленно,
для выразительности, сделал совсем небольшую паузу и затем
продолжал:— Выслушайте искренние мои слова, Ольга Сокра¬
товна. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому
92
что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно.
Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это
еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь
никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить
свою семейную жизнь так, как бы мне хотелось. Правда, ма¬
менька чрезвычайно любит меня и еще больше полюбит мою
жену... Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым бы
я мог ужиться... Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши
туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы
устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда:
как же я могу явиться туда женатым?
Николай Гаврилович по-настоящему вдохновился и обрел
необходимую для такого разговора уверенность. Если бы Ольга
Сократовна сейчас остановила его, оборвала, попросив все осталь¬
ное досказать по возвращении из Петербурга, когда он устроит
там все свои дела, он и в этом случае, вероятно, остался бы
удовлетворенным, ибо самое трудное он уже сказал. Но Ольга
Сократовна не оборвала и не остановила его, хотя ей было
обидно, что не в любви ей объясняются, а объясняют, почему
не могут на ней жениться. Николай Гаврилович не видел ни
лица, ни глаз той, которой, как ему казалось, он объяснялся
в любви, и потому продолжал с еще большим вдохнове¬
нием:
— С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать
с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен
в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня
такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать,
что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят
меня в крепость бог знает на сколько времени. Я делаю здесь
такие вещи, которые пахнут каторгою,— я такие вещи говорю
в классе.
— Да, я слышала это.
— И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может,
с летами я несколько поохладею, но едва ли.
— Почему же? Неужели в самом деле не можете вы пере¬
мениться к лучшему?
Николай Гаврилович даже не заметил, что она сказала не
«перемениться», а «перемениться к лучшему», поэтому он тут же
принялся говорить ей о причинах, не позволяющих ему «пере¬
мениться»:
— Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что
он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем,
что я вижу вокруг себя. И я не знаю, охладею ли я когда-
нибудь в этом отношении. Во всяком случае, до сих пор это
направление во мне все более и более усиливается, делается
резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак,
я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый
христианин каждую минуту ждет трубы Страшного суда. Кроме
того, у нас будет скоро бунт,— высказал неожиданную мысль
Николай Гаврилович и тут же добавил:—Я буду непременно
участвовать в нем.
— Каким же образом? — искренне удивилась Ольга Сокра¬
товна.
— Вы об этом мало думали или вовсе не думали? — как-то
резко спросил Николай Гаврилович, видимо, на минуту забыв
основную цель теперешнего его разговора с Ольгой Сократовной,
и та только бросила короткую фразу:
— Вовсе не думала.
— Это непременно будет,— категорически, словно возражая
ей, заявил Николай Гаврилович.— Неудовольствие народа против
правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нуж¬
но только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем
растет и число людей из образованного кружка, враждебных
против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая
должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет?
Может быть, лет через десять, но я думаю — скорее. А если
вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии
удержаться. Я приму участие.
Николай Гаврилович говорил настолько оживленно и убеж¬
денно, что Ольга Сократовна невольно на минуту оказалась
под властью его слов, она вспомнила, что Николай Гаврилович
дружен с высланным в Саратов Костомаровым, и у нее вырвался
вопрос:
— Вместе с Костомаровым?
— Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает
грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики
с дубьем, ни резня.
— Не испугает и меня,— серьезно сказала Ольга Сократовна.
Николай Гаврилович вдруг представил нарисованные им же
самим картины и тут же Ольгу Сократовну. «О боже мой! —
подумал он.— Если б эти слова были сказаны с сознанием их
значения!» Его одушевление прошло.
— А чем кончится это? — спросил он упавшим голосом,
и сам же себе твердо ответил:— Каторгою или виселицею. Вот
видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей... Довольно
и того уже, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая
не переживет подобных событий...
А Ольга Сократовна подумала: «Оказывается, все эти тирады
9-1
нужны были ему, чтобы еще раз доказать, что он не может
на мне жениться...»
— Вот видите,— тут же заметил Николай Гаврилович,—
вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут
продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого,
я не могу говорить...
Она молчала.
— Вот видите, наши отношения не должны кончиться тем,
чем следовало бы им кончиться, нам следовало бы их прекра¬
тить,— как бы подвел он итог разговору.
— Правда,— спокойно согласилась с ним Ольга Сократовна.
И он вдруг понял, что пришел к результату, которого вовсе
не добивался; сказав самое для себя трудное, он не сказал самое
главное, не сказал, что почел бы за счастье жениться на ней,
что если он на ней не женится, то его молодость пройдет в сухом
одиночестве, что если он не женится на ней, то он вообще никогда
ни на ком не женится, и только робость и неуверенность в себе
не позволяют ему ее добиваться. И еще он ждал ее возражений,
опровержений, при помощи которых он и хотел преодолеть, по¬
бедить свои сомнения. И тогда он нарушил затянувшееся молча¬
ние:
— Вы недовольны окончанием моего разговора. Хорошо,
если вам угодно, я скажу то, что не должен бы говорить, что
не имею права говорить: вы всегда можете обратиться ко
мне.
— Да вы же уедете,— напомнила Ольга Сократовна.
— Известите меня в Петербурге все равно, и я по первому
вашему слову скажу все, что вы от меня потребуете,— но он опять
почувствовал, что говорит не то.— Вы недовольны этим? Хорошо,
я скажу больше: я поеду весною в Петербург, к рождеству я
устрою там свои дела и приеду в Саратов. Если у вас не будет
другого жениха лучше, я буду просить вас быть моей женою.
Но только с тем условием говорю я это, чтобы вы считали себя
решительно не связанной никакими обязанностями в отношении
ко мне, только с этим условием, не иначе. Хорошо? Итак, я го¬
ворю вам: считайте меня своим женихом, не давая мне права
считать вас своею невестой. Довольны ли вы?
— Довольна.
— Дайте же мне вашу руку в знак согласия,— и с этими
словами он взял ее руку. Ему стало хорошо и просто.— Дайте
мне что-нибудь на память этого вечера... Какую-нибудь бездели¬
цу, вроде тех, которые вы давали...
— Что же? — почему-то растерялась она.
Он вынул папиросницу и закурил.
95
— Вы сами их набивали? — вытаскивая другую папиросу,
спросила Ольга Сократовна.— Она останется у меня на память.
— Нет, нет, не берите, они гадкие,— запротестовал он.—
Я лучше дам вам что-нибудь другое.
— Да с вами нет ничего такого, что бы вы могли дать,— улыб¬
нулась Ольга Сократовна, а Николай Гаврилович принялся
с усердием ощупывать карманы своего жилета.
— Вот! — победоносно сказал он.— Возьмите этот ключ.
— Ключ? Это, говорят, дурная примета.
— О, все равно...
— Так вы не верите приметам?
Он отрицательно покачал головой.
— Хорошо. А чем же вы тогда отопрете ящик?..
— У меня есть другой,— успокоил ее Николай Гаврилович
и протянул ключ. Она взяла его, повертела в руках, потом вытащи¬
ла связку ключей и вдруг вышла в другую комнату, но вскоре
вернулась со словами:
— Я хотела б дать вам этот перстенек, но он не хорош, лучше
что-нибудь другое. Я взяла ключ от вашего сердца, а вот вам ключ
от моего,— и она протянула ему маленький красивый ключик.
— Я не требую непременно вполне один владеть им, я прошу
только чтобы в нем,— он не решился сказать: « в вашем сердце»,—
было место для памяти о том, что я искренно привязан и предан
вам, что я люблю вас... Теперь мы с вами почти жених и невеста,—
окончательно объяснился Николай Гаврилович, хотя и не сумел
обойтись без слова «почти».— Конечно,— продолжал он,— все
это должно остаться тайною. Вы пока никому не будете этого
говорить?
— Конечно,— согласилась Ольга Сократовна.
— И теперь мы должны видеться реже?
— Конечно. Если хотите, я не буду выходить к вам, когда
вы будете бывать.
Нет, этого он не хотел и стал обдумывать, что лучше на это
сказать. К счастью, ворвалась Катерина Матвеевна.
— Что вы здесь уединились? Танцевать! Танцевать! — щебе¬
тала она.
— Катерина Матвеевна,— сказал, вставая, Николай Гаври¬
лович,— если вы нам будете мешать, то я вас поцелую.
— Как? При мне? Какой бессовестный! — не стерпела Ольга
Сократовна.
Катерина Матвеевна, смеясь, выскочила из комнаты.
— Так вы в самом деле ревнивы, Ольга Сократовна? —
в умилении спросил Николай Гаврилович.
— В самом деле ревнива,— ответила она; он не понял,
96
говорит ли это она всерьез или шутит, но все равно поторопился
заверить:
— Ревновать вам не будет повода...
— Любили ли вы кого-нибудь уже? — перебила она его.
— Нет, никогда, никого. Только раз в жизни интересовался
я одной девицею, чего теперь сам стыжусь. Правда, она хороша,
добра, умна, но интересоваться ею было решительно глупо...
Да, я никого еще не любил...— но тут он подумал, что так,
вероятно, говорят все влюбленные или, вернее, все, кто объясняет¬
ся в любви, и ему захотелось не просто заверить, что он никогда
прежде никого не любил, но и доказать это, и он пустился в до¬
казательство: — Люблю ли я вас, Ольга Сократовна, этого я тоже
не знаю, потому что не испытывал никогда любви. Я не знаю,
то ли это чувство, которое я имею к вам. Но я могу сказать, и это
будет правда, что с тех пор, как увидел я вас, единственною моею
мыслью были вы. Составляет ли это любовь, или для того, чтобы
была любовь, нужно еще что-нибудь, не знаю, но, что с тех пор,
как увидел вас, я думаю только о вас, это правда.
Пожалуй, он действительно доказал, что не любил никого
прежде, однако сделал он это не совсем ловко, потому как своим
доказательством он как бы поставил под сомнение и свое тепереш¬
нее чувство. Ольга Сократовна пригласила Николая Гаврилови¬
ча в столовую. Здесь, как всегда, было весело и шумно, наступил
миг облегчения, но потом для него все как бы погасло, и он видел
и слышал теперь только ее, хотя вокруг не умолкали голоса,
звучала музыка, раздавались дружные раскаты смеха...
— Ольга Сократовна, я всегда позабываю вовремя сказать
то, что должно сказать: религиозны ли вы?
— Нет.
— Я должен сказать вам, что я не верю всем этим вещам.
— Я и сама почти не верю.
— Я это сказал потому, что это могло бы в противном случае
быть источником огорчений для вас...
Нет, не верится, что нужно так мало слов и таких простых
слов, чтобы вот он и она были всегда, всегда вместе, и он вдруг
проникается недоверием к этим простым словам...
— Ольга Сократовна, я должен сказать вам, что я делаю вам
предложение только потому, что думаю, что этим оказываю вам...
оказываю вам услугу. Так ли?
— Почти так.
7
407В
97
— Я говорю вам такие вещи, что вы можете быть искренни.
Зачем это «почти»? Говорите прямо.
— Если хотите, «почти» могу опустить.
— Я человек прямой и искренне привязан к вам. Не думаю,
чтобы когда-нибудь я вздумал воспользоваться вашею откровен¬
ностью и сказать, что я делал вам одолжение, женясь на вас.
Нет, вы доставляете мне, вероятно, счастье на всю жизнь. Этого
ответа я выспрашивал у вас для того, чтобы мне самому быть
спокойным, что я не лишил вас лучшей будущности. Я, повторяю
вам, принимаю на себя обязанность быть вашим женихом, не воз¬
лагая на вас никаких обязанностей. Так ли? Вашу руку, что вы
не будете стесняться в выборе, если бы представился кто-нибудь
лучше меня.
Она подает ему руку...
Николай Гаврилович вспоминает, что сегодня намеревался
идти к Николаю Ивановичу Костомарову, но вспоминает об этом
так, будто это не сегодня и будто это вовсе не ему нужно идти
к ученому мужу, Николаю Ивановичу Костомарову, и будто это
не он, Николай Гаврилович, долгие месяцы спорил с ним по са¬
мым разным вопросам человеческого бытия...
— Ольга Сократовна, я хотел сказать относительно придано¬
го. Само собою, что чем менее, тем лучше; лишь бы можно было
сделать свадьбу.
— Я приношу вам саму себя. Вот настоящее приданое. Но что
мне назначено, то будет мне дано. Не думайте, чтобы я любила
наряды. Если теперь для меня папенька что-нибудь делает, то это
потому, что он меня любит. И я постоянно отказываюсь от того,
что он мне хочет сделать. Я не привыкла к роскоши.
— У нас будет в Петербурге, может быть, две тысячи сереб¬
ром в год, но едва ли; тысячи полторы, конечно, будет. На эти
деньги можно кое-как жить в Петербурге без больших лишений.
— Конечно. Разве мы будем давать балы, жить открыто?
Я не привыкла к удовольствиям...
Мысли уносят его далеко, в Петербург, однако там ему ви¬
дятся сейчас не университетские аудитории и классы кадетского
корпуса, где он ведет занятия и где слушатели внемлют каждому
его слову, не привычная гостиная Иринарха Ивановича Введенско¬
го, где идут бесконечные споры и где он громит своих оппонентов
неопровержимыми аргументами, не заманчивое таинство редак¬
ционных помещений, где перед ним пока еще не распахивались
гостеприимно двери, теперь ему там, в Петербурге, видится Ольга
98
Сократовна, везде и всюду — Ольга Сократовна... Теперь все
только для нее, для Ольги Сократовны... Заманчивым, ярким
светом озаряет его будущая их жизнь, в лучах которого как-то
блекнет, угасает вся его прежняя, милая в силу своей безалабер¬
ности, жизнь...
— Скоро же прошла моя молодость,— говорит Николай Гав¬
рилович, и у него на глазах навертываются слезы.— Она, Ольга
Сократовна, кончилась нынешний день, а началась с того дня,
в который я увидел вас. Это был опасный путь, и хорошо, что
он скоро довел меня до конца, и конца прекрасного... Итак, вы
выходите за меня потому, что вам тяжело жить дома. Но не забу¬
дете ли вы этого, не будете ли раскаиваться?
— Нет, я слишком много перенесла, чтобы забыть.
— Итак, я ваш жених, если у вас не будет жениха лучше
меня. Я вас не стесняю. Но сам обязываюсь. Конечно, я понимаю,
что наш разговор не в таком тоне, в каком он должен бы быть,—
не так должен говорить жених, предлагающий свою руку. Но
я должен был говорить так. Вы недовольны моим тоном?
— Нет, вы говорили так, как должно...
— Итак, повторяю вам, что я думаю, что жить с вами будет
для меня источником весьма, весьма большого счастья. Я буду
привязан к вам, предан вам решительно. За это я прошу только,
чтобы вы не забывали, что я люблю вас. Теперь вы, может быть,
считаете меня простачком. Но вы увидите, что я не увлекался,
не ослеплялся, не обманывался, что я понимаю, что делаю; что
я увлекся вами, потому что вы достойны того, чтобы увлечься
вами...
Это был самый счастливый вечер в его жизни, но даже самый
счастливый вечер чреват грустным исходом, потому как все имеет
свой конец — даже самые счастливые вечера в жизни, и пусть
твое счастье продлится и завтра, и послезавтра и перейдет даже
в долгую череду дней, все равно грустно, когда проходит именно
тот вечер, который кажется тебе самым счастливым в твоей жизни.
— Наш разговор, кажется, кончен?
— Кажется.
Но нет, ему решительно не хочется, чтобы кончался этот
их разговор, хотя бы еще две-три минутки...
— Вы будете в маскараде в воскресенье? — слышит он ее
голос.
— Теперь зачем же?
— Будьте.
99
— Непременно буду, если вам так угодно. Я танцую с вами
первую и пятую кадриль. Когда быть мне в маскараде?
— В девять часов. Мы будем в десятом,— говорит она, и эти
ее слова долго звучат в нем, словно волшебная музыка.
ЖЕНИТЬБА
Теперь его одолевало одно желание — видеть и видеть ее.
С каким нетерпением он ждал воскресенья, ждал маскарада
в надежде вновь видеть ее и говорить с ней, но не так, как говорил
в четверг, а как подобает любящему человеку...
Минули пятница и суббота. Наступил воскресный день. С утра
он нанес несколько визитов. После обеда поднялся к себе наверх,
достал заветную тетрадь с пышным названием: «Дневник моих
отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье», пе¬
речитал исписанные страницы. Часы пробили «восемь», он стал
собираться. Надел белый жилет, придирчиво осмотрел себя в зер¬
кале и радостно подумал: «Теперь я одет почти как жених».
Из дому вышел в приподнятом настроении — впереди его ожи¬
дали счастливые минуты.
И вот он снова видит ее...
— Ольга Сократовна, мы говорили в четверг серьезно?
— Конечно.
— Меня мучит, что я говорил не тем языком, которым должно
было, которым хотел бы говорить. Мое счастье так велико, что я
не смею верить ему, пока оно не исполнится...
Грянула музыка. Начиналась первая кадриль. Затем вторая.
Дальше следующая... Серьезно поговорить так и не удалось.
«Итак, мне маскарад был неудачен,— записывал он на сле¬
дующий день в дневнике.— Но зато Максимов сказал... что
Васильева лучше всех девиц. Потом Шапошников сказал то же...
Да, она была истинно хороша! И я гордился тем, что она моя
невеста! Да, гордился и радовался! Так что вообще я доволен,
что был в этом маскараде. Но чувство некоторой ревности было
во мне, что она танцует и говорит с другими...»
Первые дни вот этих новых, совершенно неведомых ему
отношений и какого-то необыкновенного самочувствия вызвали
вдруг даже какую-то усталость души, и после очередной встречи
с Ольгой Сократовной он запишет в дневнике: «Вследствие разго¬
вора вчера (в понедельник) мне кажется, что я не так влюблен,
как раньше... Меня огорчают две вещи в ее разговоре: 1) «получи¬
те ли вы место в университете?» 2) «разве все мужья любят своих
100
жен, а жены мужей? довольно привязанности».— Это меня огор¬
чает: теперь я вижу, что мне нужно любви... А вопрос о месте
в университете как-то огорчил меня тем, что в нем виден какой-то
расчет...
Неужели ж уже мое увлечение начинает уменьшаться,
и неужели же я скоро увижу, что. поступил слишком необду¬
манно? Я стал бы упрекать себя, если бы поступил противным
образом. Тогда я стал бы считать себя еще более неспособным
на что-нибудь важное и смелое...»
Но эти сомнения мимолетны. Теперь он постоянно думает
о женитьбе, о будущей их совместной жизни: только он и только
Ольга Сократовна... И как бы он ни любил свою маменьку, он
не хочет, чтобы кто-то обременял их счастливую семейную жизнь
своими советами или даже своей помощью. Ольга Сократовна
должна быть и будет полной и единственной хозяйкой в их
доме.
Порой он находит необыкновенное удовольствие в том, что
начинает подробнейшим образом расписывать бюджет их бу¬
дущей петербургской жизни: за столбиками цифр, за наимено¬
ванием статей расходов, за всеми этими бухгалтерскими опера¬
циями он видит черты их будущего быта. «...Если буду получать
1 800 р. сер.,— 450 р. на ее наряды и удовольствия. О, если б так!
Конечно, так, потому что я считал все слишком не экономически.
Можно все это делать гораздо выгоднее и вместо 1 350 р., верно,
понадобится только 100 р. в месяц. 1 200 р. в год. Остальное,
собственно, ее расходы. Но само собою и эти расходы совершенно
зависят от ее воли».
— Я надеюсь получать в Петербурге целковых 700 или 800
жалованья,— говорит он Ольге Сократовне при следующей их
встрече.— Кроме того, я буду писать. Одним словом, я надеюсь,
что не доведу вас до того, чтоб вы нуждались в том, к чему при¬
выкли.
— Я, Николай Гаврилович, не аристократка, я демократка.
Я не хочу бывать в собраниях в Петербурге, я не хочу ни выез¬
жать, ни танцевать, потому что все это не имеет для меня особен¬
ной приятности,— пытается умалить свои претензии к жизни
Ольга Сократовна, видя, что этот вопрос чрезвычайно беспокоит
Николая Гавриловича.
— Я так мало знаю петербургскую жизнь с этой стороны,
что не знаю, возможно ли будет это — кажется, возможно...
— Я сама не захочу, если бы даже вы этого захотели,— пре¬
рывает она его.
101
— Возможно ли там это, я не знаю... Да, еще один вопрос:
умеете ли вы хозяйствовать, потому что я решительно не умею
распоряжаться деньгами...
— Не умею,— признается она.— Я в доме чужая, гостья.
Я часто сажусь за стол, не зная, какие блюда будут на столе.
— Это для меня понятно,— говорит Николай Гаврилович.—
Но захотите ли вы управлять хозяйством?
— Нечего делать, надобно будет — захочу.
— А если захотите, то верно сумеете,— обрадовался Николай
Гаврилович.— Нечего говорить о том, что вы будете главою дома.
Я человек такого характера, что согласен на все, готов уступить
во всем — кроме, разумеется, некоторых случаев, в которых
нельзя не быть самостоятельным.
По поводу этих «некоторых случаев» Ольга Сократовна ника¬
кого любопытства не выказала.
— Да, я вам скажу еще одно, чего не должно бы говорить.
— Так и не говорите.
— Нет, скажу, потому что мне слишком хочется это сказать.
Но раньше, чтобы не позабыть, завтра вы будете на бале?
— Нет.
— Так и я не буду. А когда вы будете — скажите, чтобы я
приехал полюбоваться на вас.
— Раз когда-нибудь побываю, чтобы проститься, проститься
на семь недель с этими удовольствиями1.
— Пожалуйста же, уведомьте меня,— еще раз попросил Ни¬
колай Гаврилович и затем продолжал: — Так вот что я скажу
вам: если б мои надежды быть вашим мужем не сбылись, если б
вы выбрали себе человека лучше меня — знайте, что я буду рад
видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть со мною:
но знайте, что это было бы для меня тяжелым ударом.
— Не до чахотки ли бы это вас довело? — улыбнулась Ольга
Сократовна. Теперь, после их разговора о том, кто и как будет
вести хозяйство, ей эти его слова показались смешными.
— Этого я не говорю и этого я не знаю,— не уловил ее иронии
Николай Гаврилович.— Но что это будет для меня тяжелым
ударом, который мне трудно будет перенести, это я скажу.
Помните ж, что я желаю вам счастья, что первый буду рад за вас,
но, прошу вас, будьте осторожнее, осмотрительнее в предпочтении
мне кого-либо.
Нет, она же дала согласие стать его женой. И к чему все эти
разговоры теперь? Чего он боится и за кого: за нее или за себя?
' Вскоре должен был начаться великий пост (семь недель), во время
которого ни балы, ни маскарады не устраивались.
102
Неужели он не чувствует неуместность подобных разговоров
и подобных предположений?
А он боялся одного: будет ли она с ним счастлива и не ли¬
шает ли он ее другой, более достойной, жизни? И его охватыва¬
ла радость, когда сомнения на этот счет исчезали.
— Ольга Сократовна! — говорил он в радостном одушевле¬
нии.— Неужели это правда, что вы теперь не пошли бы замуж
ни за кого, кроме меня?
— Теперь правда, за будущее я не ручаюсь.
— Вот видите,— в каком-то упоении вторил он ей,— и мои
понятия таковы, что на будущее никто не имеет права требовать
обязательств. Сердцем нельзя распоряжаться... Я проповедник
идей, но у меня такой характер, что я ими не воспользуюсь; да
если б в моем характере и была возможность пользоваться этою
свободою, то, по моим понятиям, проповедник свободы не дол¬
жен ею пользоваться, чтоб не показалось, что он проповедует
ее для собственных выгод. Но от других требовать обязательств
на будущее время я не могу.
— Для меня странно,— сказала она,— что в Апостоле на
свадьбу читают: «...жена да убоится своего мужа» — уважать,
почитать — это так, но за что же бояться?
— Это нелепые понятия,— успокоил он свою невесту.
Как-то он зашел к своему товарищу по семинарии Федору
Палимпсестову, и тот, не зная, что Николай Гаврилович уже сде¬
лал предложение Ольге Сократовне, рассказал ему о ее былых
увлечениях. Поначалу Николай Гаврилович пришел в некоторое
смятение, однако вскоре взял себя в руки, и здесь ему помог его
дневник, которому он поверял все свои сомнения и раздумья, на¬
дежды и восторги. В ту пору дневник был единственным его
верным товарищем... «Когда все это говорилось, это несколько
смутило меня: в самом деле, находит ли она во мне что-нибудь
особенное? Или я для нее такой же, как, напр., Яковлев, Палимп¬
сестов?..»
Да, когда он был у Палимпсестова, то увидел у него на столе
браслетку из какой-то материи, которую она ему недавно подари¬
ла. А эти присланные ему конфетные сердечки...
«Итак, тогда это несколько смутило меня; даже эти два
случая — любовь к учителю и поцелуи Ершова. Тогда я даже
хотел расспросить и разузнать об этих двух случаях. Неужели
она будет только играть мною? Неужели только играть? Неуже¬
ли не будет иметь ко мне искренней привязанности?
103
Теперь мало-помалу вижу решительно, что все это весьма
глупо. Я ее знаю лучше, чем все эти господа.
Как бы то ни было, дело решено. Я не отступлю, не усомнюсь
ни в себе, ни в ней. Только бы иметь ее своею женою, только бы
устроить свои дела, а то я буду наверное с ней счастливее, чем
со всякой другой.
Я решительно спокоен. Я по-прежнему уважаю, люблю ее.
Не хочу судить судом людей, которые ниже меня, поэтому
гораздо менее меня могут судить ее.
Я лучше ее знаю. Я знаю ее.
Я люблю тебя. Я уверен, что и ты полюбишь меня, если еще
не любишь меня.
О, сомнение, прочь! И оно уже прошло».
Сомнения уходили, чтобы потом вернуться вновь. Иногда его
терзали мысли о тех двух женихах (харьковском и киевском),
о которых ему рассказывала сама Ольга Сократовна. Но жажда
любви преодолевала и тягостные сомнения, и мучительные терза¬
ния. Словно заклинание, повторял он слова: «Но любишь ли ты
меня или еще не любишь, ты полюбишь меня, полюбишь, полю¬
бишь! Ты слишком добра, слишком проницательна, чтоб не оце¬
нить моей привязанности к тебе, моей преданности тебе!»
Новые встречи давали новые радости и приносили успо¬
коение, особенно когда она высказывалась в практическом смыс¬
ле относительно их будущей семейной жизни.
— Николай Гаврилович, а если за мною не будет много денег?
— Я никак не ожидаю, чтоб могло быть много,— гасил он
ее беспокойство.— Мне б хотелось, чтобы ничего не было. Сейчас
я скажу, по-видимому, совершенно противное: конечно, чем
больше будет у вас денег, тем лучше, но для вас, а не для меня.
Ваши деньги будут, конечно, принадлежать вам. Я не буду никог¬
да считать их принадлежащими нам вместе. И если бы когда-
нибудь вам — вам — вздумалось употребить сколько-нибудь из
них на наши общие потребности, я смотрел бы на это не иначе,
как на принятие взаймы. И вы не настаивайте, не действуйте
в таком духе, чтоб за вами дали больше денег. У вас большое
семейство. У вас есть сестры. Вероятно, они не будут иметь
женихами людей с такими мнениями, как я.
Незаметно прошла масленица. Наступил пост. Занемогла ма¬
менька, и это обстоятельство угнетало еще и тем, что впереди
предстоял серьезный разговор с ней. Он чувствовал, что маменьке
не придется по душе его выбор. Помогала логика, жестокая логика
единственного в семье ребенка.
104
«А советоваться с родными? Есть случаи, в которых никто
не должен спрашивать ничьего совета. Это те случаи, когда
чувствуешь себя обязанным сделать так, а не иначе. Если они
будут согласны — лишнее спрашивать их; если бы не согласи¬
лись — я потерял бы право спрашивать их совета, потому что
не послушался бы его.
А если они не согласятся теперь потому, что она покажется
им слишком ветрена?..
Вы не доверяете мне? Что ж я за человек после этого? Мне
лучше не жить... Даю вам столько-то времени на размышление.
Если вы не согласитесь, я убью себя, потому что лучше умереть,
чем быть человеком бесчестным и бесхарактерным...
Я действительно убью себя. Убью, и только. Я не переживу
своего бесчестия, но я умру все-таки бесчестным, потому что свя¬
зал себя обещанием, которое выполнить не в состоянии.
Маменька не переживет моего самоубийства. Жаль. Но зачем
же была так самонадеянна, так малодоверчива ко мне, что довела
меня до этого. Зачем поставила меня в такое положение...
А если они скажут: «Дай раньше узнать ее?» — «Нет, нечего
узнавать, я ее знаю, жить с ней мне, а не вам. Если я такой дурак,
что даже в этом деле нельзя предоставить меня собственной воле,
куда же я гожусь? Да или нет, и через час или вы поедете знако¬
миться с родными моей невесты или я убью себя». Это я сде¬
лаю. Это для меня вовсе нетрудно даже. Это в моем характере...
Теперь только одно колебание — выбор рода смерти. Вероят¬
но (о, какой положительный человек! — сам любуюсь на свою не¬
лепую фантазию), запасусь к тому времени ядом. Если яда не ус¬
пею запасти, думаю, что лучше всего будет разрезать себе жилы.
Однако предварительно прочитав, как древние поступали в этом
случае, например Сенека...
Смешно. А пишу совершенно серьезно. Знаю, что сопротиаче-
ние невозможно. А уж приготовился к нему и знаю, что сделаю,
если оно будет. Но само собою разумеется, глупо ожидать его».
Решительные мысли и решительные фантазии придавали ре¬
шимости, а главное, избавляли от навязчивого комплекса собст¬
венной неполноценности. «О, как мучила меня мысль о том, что
я Гамлет! Теперь вижу, что нет; вижу, что я тоже человек, как
другие; правда, не так много имеющий характера, как бы желал
иметь, но все-таки человек не совсем без воли, одним словом,
человек, а не совершенная дрянь».
И от этого он проникался беспредельной благодарностью
к той, которая дала почувствовать ему его собственную решимость
и проявить житейскую волю и непреклонность...
«Я хочу любить только одну во всю жизнь.
105
Я не хочу, чтобы у меня были о ком-нибудь какие-нибудь
воспоминания, кроме как о моей жене.
Я хочу, чтобы мое сердце не только после брака, но и раньше
брака не принадлежало никому, кроме той, которая будет моей
женой...
Поэтому я должен не медлить женитьбою...
Итак, я люблю ее. Я не надеюсь найти другую, к которой бы
я мог так сильно привязаться; я даже не могу представить себе,
никак не могу представить себе, чтобы могло быть существо более
по моему характеру, более по моему сердцу, чтобы какой бы то
ни было идеал был выше ее...
Это женщина, с которою я буду счастлив, как только могу
быть счастлив от женщины. В ней мое счастье, в ней.
Она выбирает меня — значит она думает найти во мне свое
счастье. Это всего важнее, без этого я никогда бы не решился
для своего счастия рисковать ее счастием. Она думает быть
счастлива со мною — хорошо; если так, я не колеблюсь».
Но временами эта счастливая уверенность покидала его,
и тогда его вновь и вновь одолевали сомнения. Порой ему начи¬
нало казаться, что она выходит за него замуж лишь потому,
что ей тяжело жить в семье, и сделай ей предложение тот же
Палимпсестов, она приняла бы его не с меньшим воодушевлением.
«Ей хочется выйти замуж. Она имеет надежды, что, может
быть, посватает ее кто-нибудь... Но, как девушка весьма умная,
видит, что это нелегко; может быть, это будет, может быть, это
и не будет. А ей хочется выйти замуж поскорее. Ну вот она и взя¬
ла тебя про запас...
Итак, я игрушка ее, я запасной дворянин, я лицо, о котором
говорится в пословице: «За неимением маркитанта служит и бу¬
лочник»...
Не хитрит ли она со мною? Не завлекает ли она меня обду¬
манно...»
И тут возникает другое сомнение: прав ли он в своих отноше¬
ниях к родителям?
«Пусть огорчатся, это будет прискорбно для меня. Но что ж
делать? Это такой случай, что слишком большая деликатность
вовсе тут не у места. Не об огорчении дело, а о том, прав ли буду
перед ними, вправе ли я не слушаться их?»
Эти сомнения терзали, мучили, но они же и заставляли его
искать все новые и новые аргументы в пользу правильности своего
выбора и основанного на нем решения.
«Вот приближается новый решительный момент наших отно¬
шений, и я встречаю его с таким же полным спокойствием, с каким
встретил объяснение девятнадцатого февраля.
106
Я предаюсь твоей воле, моя милая. Таков мой характер. Ты
властительница моей жизни и моих поступков. Управляй же
мною неограниченно. Ты надеешься быть счастлива со мною. Хо¬
рошо. Твоя надежда рассудительна и справедлива. Веди меня
к счастию, которого так много уже дала ты мне, и будь сама
счастлива.
Желаю тебе счастья, и делай все, что ты считаешь нужным
для твоего счастия».
Ему бывает порой жаль родителей и особенно маменьки,
такой слабой и болезненной... «Какое право имею я любить ее
более маменьки? Где тут справедливость? Тут нет справедли¬
вости. Что делать! Любишь больше не тех, кого больше должен
любить, а тех, кого более любишь!» А может, все это вздор, все
его мнительность? «Что за странное свойство постоянно готовить¬
ся к страшной ссоре с людьми, которые никогда и не думали
с тобою ссориться?» И хочется полного покоя, полного и всеобще¬
го согласия, чтобы каждый любил каждого... «Конечно, понача¬
лу маменьке не совсем понравится свобода ее обращения, особен¬
но с молодыми людьми... Но скоро маменька увидит, что здесь
ничего дурного нет, что это не грозит мне никаким несчастьем,
и примирится с этим. Ей, может быть, не понравится ее любовь
к свету. Но она же сама говорит, что у нее вовсе нет любви ни к на¬
рядам, ни к выездам... Не знаю... Может быть, она сама ошибает¬
ся. Но и с этим маменька скоро помирится, когда увидит, что она
не живет выше своих средств. А за все остальное маменька не мо¬
жет, не может не полюбить ее. Особенно она полюбит ее за то,
что я в самом деле от души привязан к ней, что я счастлив ею,
потому что мое счастие, наконец, выше всего для маменьки. И как
ее не полюбить! Конечно, она будет прекрасною дочерью. Если уж
со своею матерью, которая ее ненавидит, она так хороша, тем
более она будет хороша с моей маменькою, в которой увидит го¬
товность любить ее более всего на свете... А папенька? Папенька,
конечно, будет радоваться на нее, потому что на папеньку угодить
гораздо легче, он гораздо мягче, нежнее, чем маменька... Одним
словом, она найдет в моих родителях самых лучших родных,
какие только могут быть...»
От таких мыслей ему хотелось любить всех и жить для всех,
чтобы всем было хорошо и счастливо, и он верил в это скорое
для всех счастье.
«Главное сыграть свадьбу и устроить квартиру. Там пойдет
своим порядком.
Я человек, которым не будут пренебрегать. Я человек нужный.
Буду писать в «Отечественных записках» или «Современнике».
Может быть, получу несколько денег и через Русскую а каде-
107
мию. Буду писать все, что угодно. Главным образом, если на мой
выбор, критические исследования о различного рода литературе
и теории словесности. Может быть даже составлю учебник вместе
с Введенским. Ему отдам всю честь, себе приму только участие
в денежных выгодах».
В такие минуты ему не терпелось скорее выехать в Петер¬
бург, устроить там свои дела и вернуться в Саратов, сыграть
свадьбу и вместе с Ольгой Сократовной покинуть родной город.
Там, в Петербурге, их ждала новая, счастливая жизнь...
— Ольга Сократовна, чем же доказать, что я совершенно
искренен в моей к вам любви? — в который уже раз задает этот
вопрос Николай Гаврилович своей невесте.
— Вот чем,— отвечает она,— поезжайте з апреле, возвращай¬
тесь в июле, потому что мне, может быть, будет слишком тяжело,
и отчаяние может заставить выйти за человека немилого.
Нет, это решительно невозможно устроить в Петербурге свои
дела до начала учебного года, то есть до осени...
— Вы мне сказали,— возобновляет разговор Николай Гаври¬
лович,— чтоб я уезжал в апреле, приезжал в июле; я думал,
думал об этом, наконец решил: мой ранний отъезд может несколь¬
ко, весьма немного, ускорить мое возвращение, и я поеду в са¬
мом начале мая или даже в конце апреля. Но только в таком
случае, если до тех пор я успею убедить вас, что я решительно
искренен. Верите ли вы мне или нет?
— И верю и нет.
— Итак, я еду в апреле или мае...
Дальше оттягивать было нельзя. «Я буду говорить с папень¬
кою, потому что его легче склонить и его согласие будет иметь
влияние на маменьку. Не думаю, чтобы было такое сопротивле¬
ние от него, чтобы заставил меня высказать мое намерение
не пережить этого. Маменька согласится с папенькою...»
Папенька действительно не выказал никакого «сопротивле¬
ния», и разговор получился короткий.
— Да хорошо ли ты ее узнал? — спросил Гавриил Иванович.
— Очень хорошо, потому что такие были разговоры и, главное,
я смотрел, как и что она делает,— горячо ответил Николай Гаври¬
лович.
— А достанет ли у тебя средств содержать ее? — задал
вопрос отец.
— Я уже думал об этом. Будут,— решительно ответил Ни¬
колай Гаврилович. Еще он попросил папеньку переговорить
108
на этот счет с маменькою и отправился на обед к губернатору
в надежде, что по возвращении вопрос этот будет положительно
решен.
«Час ночи. Сейчас кончился разговор безусловным согласием
маменьки. Он продолжался весьма долго. Когда я спросил па¬
пеньку, пришедши от губернатора, он сказал, что маменька
не стала ничего отвечать, что поэтому я должен говорить с ней
сам. Я после ужина в своей комнате начал говорить...»
Разговор получился долгим и трудным. Гавриил Иванович
не выдержал и тоже поднялся к ним.
— Почему ты не хотел познакомить раньше?— настой¬
чиво спрашивала маменька.
— Я же звал вас к Акимовым,— пытался выкрутиться Ни¬
колай Гаврилович.
— Вот увижу ее...
— Нет, раньше скажите, что согласны, так и увидите,—
упорствовал Николай Гаврилович.
— Раньше должна увидеть...
— Раньше должны согласиться...
— Переговорим еще поутру...
— Нет...
Маменька прилегла и долго молчала.
— Итак,— настаивал на своем Николай Гаврилович,—
одно слово: согласны или нет? Если не согласны, я не буду
больше ни слова говорить об этом деле.
— Согласна,— сдается маменька.
«Она снова говорила о важности этого шага, что должно
было посоветоваться; я сказал, что нельзя в этом деле, и т. п. Но
в другой раз даже не повторила вопроса, согласны ли, и более
не буду говорить и спрашивать о согласии. Может быть,
снова понадобится разговор в этом роде, но уже не я начну его
и завтра же скажу Анне Кир.1 о намерении маменьки, как скоро
позволит здоровье и погода, приехать к ней с просьбою в известном
роде.
Теперь дело решено, и я ложусь спать спокойно...
Одним словом: хотел, чтобы ныне мне дали решительный
ответ, и настоял на своем.
1 Анна Кирилловна — урожденная Казачковская, дочь генерал-лейтенанта,
мать Ольги Сократовны Васильевой.
109
Я могу быть тверд и неотступен в своих требованиях, когда
захочу...
Теперь нет препятствий ни с чьей стороны, моя милая не¬
веста.
Мне теперь никто не может препятствовать. Теперь ты моя
невеста, невеста перед моими родными...»
Насчет своей твердости и неотступности Николай Гаври¬
лович несколько преувеличивал. Разговор с родителями про¬
исходил у него 28 марта, а 2 апреля он запишет в дневнике:
«Она хочет, чтобы свадьба была 29 апреля поутру, чтоб на
ней никого не было и чтоб мы уехали в тот же день». Ольге
Сократовне ему пришлось уступить, несмотря на все ранее
высказанные ей доводы в пользу его поездки в Петербург до
свадьбы.
3 апреля состоялось обручение.
— Как вам моя маменька? — тихо спросил Николай Гав¬
рилович свою невесту.
— Ничего... Я боюсь вашей маменьки. Она, должно быть,
очень строгая,— ответила та.
Когда вернулись домой, маменька сразу же отправилась
спать. Николай Гаврилович спросил папеньку, как ему понра¬
вилась Ольга Сократовна.
— Слишком резва,— коротко ответил Гавриил Иванович.
Желаемого разговора не произошло. «Кто не любит ее, тот
и не может вмешиваться в наши отношения с ней»,— не очень
добро подумал Николай Гаврилович. У него не укладывалось
в голове, как это кому-то может не нравиться Ольга Сокра¬
товна.
Все, кажется, теперь складывалось так, как он хотел, все
препятствия позади: через три с половиной недели они станут
мужем и женой... Совестно, что так вынуждал маменьку, но
что делать? Так было нужно. Ольга Сократовна вознаградит
ее своею любовью и ласковостью за минутную скорбь. «О, ты
будешь наилучшею дочерью, мой милый друг...»
Но он не знал, что беда стоит совсем рядом. Свадебные
приготовления в доме были нарушены горестными обстоятель¬
ствами: через шестнадцать дней после обручения и ровно за
десять дней до их свадьбы, то есть 19 апреля 1853 года, ма¬
меньки не стало.
Пройдет много-много лет, и Николай Гаврилович напишет
из далекого Вилюйска:
110
«Милый мой дружочек, Оленька,
Готовлюсь праздновать Твой день рождения. Это и день Твоих
именин, два самые главные мои праздника. А день нашей
свадьбы? — Милая моя Радость, да Ты припомни: разве я одобрял
Тебя за то, что Ты рассудила принять мое предложение?..
Едем из церкви, я опять за то же самое, только с приличною
перемене обстоятельств моей проповеди, переменою: «— Вот,
Ольга Сократовна, не послушались-таки вы моего совета. По¬
корно благодарю вас. Жаль, разумеется, что не послушались.
Но, впрочем, ошибка ваша не важна. Это все пустяки, Ольга
Сократовна: свадьба, жена, муж,— это все пустяки. Теперь
разумеется, вы полагаете иначе. Но поживете на свете, то увиди¬
те: все это пустяки»,— и так дальше, без конца... Смешные,
были мы с Тобой, жена и муж. Смешные, моя милая Радость...»
А свадьба, как и было намечено, состоялась 29 апреля.
Николай Гаврилович и Ольга Сократовна обвенчались и букваль¬
но через несколько дней выехали в Петербург. Столь поспешный
отъезд из Саратова был вызван несколькими причинами, но
в первую очередь тем горестным событием, что постигло Ни¬
колая Гавриловича незадолго до свадьбы,— смертью горячо
любимой им маменьки. Саратовские кумушки связали смерть
Евгении Егоровны с предстоящей женитьбой сына, поскольку
той, дескать, не пришлась по вкусу его невеста; вызывало
осуждение и то, что не была отложена после кончины матери
на приличествующий этому обстоятельству срок свадьба.
Слухи, разговоры, сплетни... И Николай Гаврилович, дабы
не терзать ни Ольгу Сократовну, ни себя, решил поступиться
всеми условностями и как можно скорее покинуть родной
город и окончательно связать свою дальнейшую судьбу с Пе¬
тербургом.
Гавриил Иванович благословил сына и невестку в путь.
Он свое горе не хотел делить ни с кем.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ
1853—1864
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Петербург... Семь лет назад он впервые приехал сюда,
чтобы поступить в университет. Тогда его сопровождала ма¬
менька. Теперь он едет сюда с женой, а маменьки нет на белом
свете. И теперь одолевают уже не мечты и надежды, а заботы.
Как-то все сладится в Петербурге?.. Как-то устроятся там его
дела?.. Ведь денег в наличии совсем немного...
Незадолго до свадьбы мать Ольги Сократовны, Анна Ки¬
рилловна, попросила будущего своего зятя изложить свои
взгляды на разные стороны семейной жизни. Николай Гав¬
рилович со свойственной ему педантичностью не забыл коснуть¬
ся и своих предполагаемых доходов. «Доходы в Петербурге,—
писал он будущей теще,— на которые я рассчитываю — 2000 р.
сер., на это можно жить в Петербурге, как в Саратове на
1400—1500 р. сер.».
Впрочем, Николай Гаврилович нисколько не преувеличивал
здесь своих возможностей, конечно, прй условии, если он при¬
ложит максимум усилий.
13 мая 1853 года Николай Гаврилович и Ольга Сократовна
прибыли на место их теперешнего постоянного жительства. Лето
практически ушло на то, чтобы обеспечить себя надежным
заработком на будущее, о чем свидетельствуют письма Черны¬
шевского к отцу.
«Милый папенька!..
Сейчас воротился я от попечителя. Он принял меня очень
ласково, сказал, что готов дать мне первое место, какое у него
будет, и т. д. Просьбу об экзамене велел он подать теперь же,
самый экзамен велел держать в августе...»
(18 мая 1853 года)
«Милый папенька!..
В военно-учебных заведениях, кажется, от меня будет за¬
112
висеть, сколько набрать себе уроков; вероятно, я буду полу¬
чать больше жалованья, нежели рассчитывал...»
(25 мая 1853 года)
«Милый папенька!..
В корпусах набирается у меня уроков по приблизительному
счету на тысячу рублей серебром...
Если у меня не будет более выгодных занятий, то возьму
еще другие уроки, чтобы набралось побольше жалованья. Но
не думаю, чтобы в этом была нужда. Вероятно, найдутся
более выгодные занятия, и я буду брать в корпусах только
те уроки, от которых неловко буде! отказываться...»
(22 июня 1853 года)
Однако при всех материальных заботах, которые легли
теперь на плечи Николая Гавриловича, его не покидает мысль
о сотрудничестве в журналах, правда, поначалу на это со¬
трудничество он смотрел лишь как на дополнительный ма¬
териальный источник.
«Милый папенька!..
У меня теперь много работы, так что я дорожу каждою
минутою. Почти ничего даже не читаю — некогда... пишу кое-
что для «Отеч. записок» — не знаю, как устроятся мои отно¬
шения с Краевским (редактором «Отеч. зап.»), вероятно, хо¬
рошо — этого мне очень хотелось бы, потому что журнальная
работа выгодна. Теперь доканчиваю статью, которую на днях
должен отдать ему...»
(10 августа 1853 года)
«Милый папенька!..
Окончивши свои магистерские экзамены, я постараюсь
написать что-нибудь для «Журнала минист. нар. проев.».
(28 сентября 1853 года)
Первые месяцы проживания в Петербурге складывались
для Чернышевского, можно сказать, благоприятно. Он без осо¬
бого труда не только добился места преподавателя словесности
в кадетском корпусе, но и получил возможность иметь столько
уроков, сколько считал для себя нужным. Если и не достаточно
широко, то все же перед ним открылись двери нескольких
периодических изданий, и тут теперь все уже зависело от него
самого — какую роль играть ему в этих изданиях. «Я, если б
умел вести дела, как должно,— признавался Николай Гаврилович
отцу,— мог бы играть главную роль если не в «Отеч. записках»,
8
4078
113
то в «Петербургских ведомостях»; а теперь играю роль довольно
еще неважную. Но — что же делать с моим вялым характером
и, главное, с излишней застенчивостью?»
Это обстоятельство до известной степени обескураживало
Николая Гавриловича. Он чувствовал в себе переизбыток сил
и в то же время никак не мог реализовать их полностью.
И ладно бы это было где-нибудь в Саратове — там все можно
свалить на условия провинциальной жизни,— а тут сваливать
не на кого и не на что. Полупраздная двухгодичная жизнь
в Саратове и предшествующие ей годы студенчества при¬
охотили к познанию — знаний было накоплено много; возбудили
желание работать, однако не приучили работать целенаправ¬
ленно. Чернышевскому в это время исполнилось уже двадцать
пять лет, но он лучше знал, чего он не хотел (быть учителем,
быть губернским чиновником), чем то, чего он хотел. С одной
стороны, его привлекала как таковая журнальная работа, с дру¬
гой — он хотел бы стать профессором, с третьей — он не отка¬
зался бы и от должности столичного чиновника. Так, 14 де¬
кабря 1853 года он пишет отцу: «Что до служебных моих видов,
не умею сказать Вам ничего определенного. Удастся ли мне занять
место по министерству народного просвещения, видно будет
по окончании экзамена; оттого-то мне и хотелось бы окончить
его поскорее. Я согласен с Вами, милый папенька, что служба —
главное; по своему характеру и тут пропускаю очень много слу¬
чаев, которыми мог бы воспользоваться». И опять характер
не позволяет ему окончательно определиться в жизни. Даже
намереваясь защищать диссертацию, Николай Гаврилович никак
не может решить: взять ли ему тему для будущей своей работы
по словесности или же по славянским наречиям...
Все вместе взятые, обстоятельства приводят Чернышевского
в уныние, и в одном из писем к отцу он жалуется на свою
теперешнюю жизнь: «У меня со времени женитьбы нет никаких
мыслей и желаний, кроме тех, какие бывают у пятидесяти¬
летних людей; я решительно стал немолодым человеком по
мыслям, и от молодости остается во мне только одна неопыт¬
ность, больше ничего. Мне скучны даже разговоры, какие бы то
ни было, кроме деловых разговоров; у меня нет охоты видеться
с кем бы то ни было, кроме нужных для меня людей. Ко всему,
кроме семейной жизни, у меня пропало расположение».
Видимо, того толчка, что дали женитьба и отъезд из Сара¬
това, оказалось недостаточно, чтобы реализовать себя в той мере,
которая казалась возможной по происшествии столь важных
перемен в его жизни. Магистерские экзамены, диссертация...
На все эти вещи три года назад он смотрел бы совсем по-иному,
114
в русле той жизни, которая длилась долгих четыре студен¬
ческих года, когда преодоление всякого очередного рубежа на
пути к цели дает ощущение полноты жизни. Теперь же, через
три года по окончании университета и после трех лет педаго¬
гической деятельности, он видел в преодолении подобных ру¬
бежей лишь жизненные неудобства. Положение главы семьи —
Чернышевские в это время уже ждали ребенка — обязывало
Николая Гавриловича больше думать о стабильности своего
нынешнего положения, нежели уноситься мечтами в будущее.
И тут важную роль в его судьбе сыграла встреча с Некра¬
совым.
Работы в «Отечественных записках» было недостаточно,
а вернее, Краевский недостаточно щедро обеспечивал молодого
сотрудника работой, и тогда Чернышевский решил попытать
счастья в «Современнике», которым тогда руководили Панаев
и Некрасов. Николай Гаврилович пришел к Панаеву и пред¬
ложил свои услуги, тот дал ему несколько книжек для рецен¬
зирования. Панаев остался доволен рецензиями и завел с моло¬
дым автором разговор...
«Через несколько времени,— через полчаса, быть может,
вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый,
опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это
Некрасов1 (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым).
Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и как
поэта любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня
поразило его увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом
поклонившись мне в ответ на мой поклон и оставляя после того
меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев...»
Я был поражен и опечален еще больше первого впечатления,
произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый
шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева».
Таково было первое впечатление, которое произвел Некрасов
на Чернышевского.
Поговорив о деле, Некрасов стал расспрашивать Панаева
о разного рода новостях, тот, прежде чем отвечать, представил
ему Николая Гавриловича.
— Здравствуйте,— прошептал Некрасов и, не переставая
ходить по комнате, продолжал столь же тихим голосом раз¬
говор с Панаевым. Затем, когда разговор о новостях иссяк,
он обратился к Николаю Гавриловичу:
1 Некрасову тогда было всего лишь 32 года.— А. Л.
115
— Пойдемте ко мне.
Они прошли в кабинет, подошли к креслам, и Некрасов
предложил:
— Садитесь.
Некрасов остался стоять.
— Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? — задал
он неожиданный вопрос и, видя, что его молодой собеседник
затрудняется с ответом, продолжал: — Через это у вас пропало
два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал
мне, что вот есть молодой человек, быть может, пригодный для
сотрудничества.
Николай Гаврилович, конечно, не мог знать всех этих тон¬
костей, да и к Панаеву у него не было никаких претензий.
— Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется
журнал мною, а не им? — задал новый вопрос Некрасов, на
который Чернышевский коротко ответил:
— Да, я не знал.
— Он добрый человек,— мягко сказал Некрасов,— поэтому
обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком: не
обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь
дело только со мною. Вы, должно быть, не любите разговоров
о том, что вы пишете, и вообще о том, что относится к вам?
Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого...
— Да, я такой,— признался Чернышевский.
— Панаев говорил, вы беден,— осторожно заметил Некра¬
сов,— и говорил, что вы в Петербурге уж несколько месяцев;
как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно
тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике».
Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?
И Чернышевскому ничего не оставалось, как опять согла¬
ситься с предположением своего собеседника.
— Жаль, что вы пропустили столько времени,— сочув¬
ственно продолжал Некрасов.— Если бы вы познакомились
со мною пораньше, хоть месяц раньше, вам не пришлось бы
нуждаться...
«Что ж, месяцем раньше, месяцем позже...» Но эти сообра¬
жения перебили слова Некрасова:
— Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет... Вы не можете
ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления.
Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько ра¬
боты, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет не¬
много. Впрочем,— обнадежил он,— до времени подписки не¬
далеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько
будете успевать...
ив
Поняв в общих чертах характер нового сотрудника жур¬
нала и несколько расположив его к себе, Некрасов заговорил
о главном:
— Панаев говорил, вы уже работаете для Краевского. Он
враг нам, то есть мне. Панаева он понимает правильно и потому
не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный
сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него
вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами.
Казалось, что сейчас Некрасов упредит своего литературного
соперника и предложит сделать выбор в пользу «Современ¬
ника», однако человек, «редижировавший» этот журнал, был
не так-то прост.
— Краевский — человек в денежном отношении надежный.
Держитесь его,— вдруг посоветовал Некрасов.— Но пока можно,
вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы
Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях
о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю
вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим со¬
трудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор,
как найдете лучше для вас...
«Мне казалось,— вспоминал Чернышевский,— что человек,
говорящий так просто и прямодушно, заслуживает полного
доверия. Само собою разумеется, что это оказалось справед¬
ливым. Я постоянно видел, что Некрасов держит себя относитель¬
но меня совершенно так, как обещал».
Насчет прямодушия и простоты Некрасова Чернышевский
все-таки несколько заблуждался. Некрасов был человеком
чрезвычайно умным, прозорливым и осторожным, хотя порой
не боялся сыграть и ва-банк, а в этом разговоре с молодым
автором он прежде всего хотел расположить его к себе. Краев¬
ский надежный человек, но... только в денежном отношении.
Краевский ценит талантливых людей, но... руководствуется в
своих оценках людей мнением Некрасова. Панаев добрый, хоро¬
ший человек, но... руководит «Современником» не он. В «Со¬
временнике» сейчас денег нет, но... скоро будут.
Действительно, дальше все пошло так, как и предполагал
Некрасов. «Когда Краевский увидел,— вспоминал потом Черны¬
шевский,— что Некрасов считает меня полезным сотрудником,
стал и сам считать меня таким... Краевский стал говорить
мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы
мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что
мне не хотелось бы перестать работать для «Современника»
и что я посоветуюсь с Некрасовым...»
И тут опять проявилась нерешительность Чернышевского.
Он постоянно «советуется» то с Некрасовым, то с Краевским,
продолжая сотрудничать в обоих журналах. Первый разговор
Чернышевского с Некрасовым происходил в конце пятьдесят
третьего года, а его сотрудничество с «Отечественными запис¬
ками» прекратилось лишь в начале пятьдесят пятого года. Когда
же в конце концов Чернышевский предпочел работать только для
«Современника», Некрасов сказал ему:
— Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может,
вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно,
денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь
дело со мною лучше, нежели с Краевским.
Эпизод знакомства Чернышевского с Некрасовым интере¬
сен и сам по себе, однако еще больший интерес он пред¬
ставляет с точки зрения характеристики общественной атмо¬
сферы тех лет и того, как формировались тогда в журналах
литературные направления.
После европейских событий 1848 года и наступившей вскоре
в России реакции (1848—1855) «Современник» переживал
тяжелую пору. Однако Некрасов обладал такими редкостными
организаторскими способностями, что ему, несмотря на самого
разного рода трудности, удалось в конце концов сплотить вокруг
своего журнала почти всех талантливых писателей того вре¬
мени. Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский, Толстой,
А. Майков, Фет... В журнале, разумеется, сотрудничали и видные
критики, но Некрасову нужны были не критики, а критик,
способный -дать журналу нужное направление. Александр Дру¬
жинин на эту роль не подходил, как не подходил на нее и та¬
лантливый Аполлон Григорьев, которого настойчиво рекомен¬
довал ему В. Боткин. Мечтать о втором Белинском было
трудно. И все-таки...
Летом 1855 года в письме к Тургеневу Некрасов высказал
мысль о том, что Гоголь «писал не то, что было легче для его
таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для
своего отечества... Надо желать, чтобы по стопам его шли молодые
писатели России». Некрасову и нужен был такой критик, кото¬
рый бы сделал эту мысль Гоголя главнейшей и священной
заповедью журнала.
Надо сказать, в то время на роль критика в журнале смотрели
несколько иначе, нежели стали смотреть на нее позже. Вот,
в частности, какой разговор произошел между Чернышевским
и Краевским, когда последний стал сманивать молодого критика
в свой журнал:
118
— Вам нельзя участвовать вместе и в «Отечественных
записках» и в «Современнике». Вам надобно выбирать между
мною и Некрасовым.
— Почему же мне нельзя участвовать вместе в обоих жур¬
налах? Участвуют же в них обоих очень многие другие,—
пытался возразить Чернышевский.
— Это совсем не то,— говорил Краевский,— другие, на
которых вы ссылаетесь, кто они, чем участвуют они в журнале
моем и Некрасова? Это поэты, беллетристы. Написал стихи или
роман, отдал редактору, и только всего. Участия в редакционной
работе они не принимают. Я не говорю с ними о делах моего
журнала; Некрасов не говорит с ними о делах своего. Они
посторонние журналам люди, и отношения между журналами
не касаются их. Ваше положение не то. Вы пишете статьи
в тех отделах журналов, которые составляют редакционную
часть их. Я говорю с вами о делах моего журнала. Некрасов
о делах своего. Вы, по необходимости, вмешаны в отношения
между нами и нашими журналами...
Краевский еще долго продолжал в том же духе. Николай
Гаврилович больше не возражал, лишь сказал, что посове¬
туется с Некрасовым. То же самое, по сути дела, говорил Чер¬
нышевскому и Некрасов, хотя его доказательства заметно отли¬
чались от тех, к которым прибегал Краевский.
— Ваше положение сотрудника в двух враждебных один
другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для
вас предположениям,— как бы приоткрывая для Чернышевского
какую-то тайну, шептал Некрасов.— Вы живете вне литературно¬
го круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пи¬
шете в «Современнике» против «Отечественных записок»,
а в «Отечественных записках»— против «Современника». Го¬
ворят, вы передаете мне редакционные тайны «Отечественных
записок», а Краевскому — редакционные тайны «Современ¬
ника»...
Некрасову был нужен сотрудник не только талантливый,
но и абсолютно верный, на которого можно было бы во всем
положиться, поэтому-го он и завел с Чернышевским столь
длительную «игру». Некрасову нужно было проверить нового
молодого сотрудника на деле, торопиться в таких вопросах было
не резон. Если считать простодушие достоинством, то Некрасов
был лишен этого достоинства, если же считать простодушие
недостатком, то в таком случае можно считать, что этот не¬
достаток свойственен ему не был.
Одновременная работа в двух соперничающих журналах дала
возможность Чернышевскому увидеть литературный мир шире,
119
чем он видится из форточки только одного журнала, но со
временем такое положение начало тяготить и его самого.
Было и еще одно обстоятельство, вносившее смуту в душу
Чернышевского. По приезде в Петербург он подал прошение
в университет о допущении его к экзаменам на степень магистра
по истории русского языка и славянских наречий. Казалось бы,
путь научных занятий выбран, однако и тут начали одолевать
сомнения: славянские наречия или словесность? Дело в том, что
еще в студенческие годы профессор русской словесности Алек¬
сандр Васильевич Никитенко посоветовал ему написать работу
«об отношении поэзии к действительности», и вот теперь, когда
уже вроде бы решил писать диссертацию о славянских наречиях,
возникла мысль заняться вопросами эстетики.
20 июля 1853 года Чернышевский сообщает отцу: «Пишу
еще кое-что на скорую руку, чтобы напечатать где-нибудь в жур¬
нале. Краевский сказал мне в ответ на мой вопрос, что будет
помещать мои статьи. Теперь дожидаюсь книг (немецких), чтобы
начать статьи об эстетике. Их нужно будет писать с большою
осторожностью, чтобы они могли явиться в печати».
Увлекшись вопросами эстетики, Чернышевский окончательно
склоняется писать диссертацию по словесности и 21 сентября
сообщает отцу: «Я, кажется, еще не писал Вам, милый папенька,
что, рассмотрев обстоятельства ближе и посоветовавшись кое
с кем, я увидел, что лучше держать экзамен по словесности,
нежели по славянским наречиям. Диссертацию свою пишу об
эстетике... По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора
словесности совершенно не занимались тем предметом, который
взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое
отношение мои мысли имеют к общественному образу понятий
об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я при¬
верженец тех философов, которых мнение оспариваю, если бы
я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас
поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я раз¬
бираю...»
В ходе работы над диссертацией у Чернышевского возни¬
кает замысел написать целый цикл популярных статей по эсте¬
тике и опубликовать их в «Отечественных записках». Сначала
он пишет статью «Критические взгляды на современные эстети¬
ческие понятия» и, отнеся ее Краевскому, тут же принимается
за вторую — «Возвышенное и комическое». Получив отказ от
Краевского в напечатании первой статьи, Чернышевский не за¬
канчивает вторую. Вполне возможно, это обстоятельство тоже
в какой-то мере способствовало сделать свой выбор в пользу
«Современника».
120
Работа Чернышевского «Эстетические отношения искусства
к действительности» не только имела важное значение в развитии
русской общественной мысли, но и помогла самому Чернышевско¬
му выработать в себе материалистическое мировоззрение. И тут
хотелось бы сказать несколько слов о том, как зачастую упро¬
щается вопрос становления Чернышевского-материалиста, Чер¬
нышевского-революционера.
Когда в 1888 году издатель Л. Ф. Пантелеев попытался
переиздать «Эстетические отношения искусства к действитель¬
ности» с авторским предисловием, то Чернышевский счел
необходимым написать в этом предисловии: «Он (то есть сам
Чернышевский.— А. Л.) был знаком с русскими изложениями
системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него воз¬
можность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать
эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо
меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина
состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его
систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлин¬
нике Гегель оказывался более похож на философов XVII века
и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он
в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно
по своей явной бесполезности для сформирования научного
образа мыслей. В это время случайным образом попалась же¬
лавшему сформировать себе такой образ мыслей одно из главных
сочинений Фейербаха («Сущность христианства».— А. Л.). Он
стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда
житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он
усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха.
Лет через шесть после начала его знакомства с Фейербахом
предоставилась ему житейская надобность написать ученый
трактат. Ему показалось, что он может применять основные
идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям
знаний, не входившим в круг исследований его учителя...»
В комментариях к Полному собранию сочинений Н. Г. Чер¬
нышевского по этому поводу делается такая оговорка: «Эти
признания Чернышевского грешат неточностями. По записям
«Дневника» Чернышевского можно установить, что окончатель¬
ный разрыв с идеализмом Гегеля произошел у него в 1849 году»
(«Литературное наследие», т. 1, с. 380).
Короче говоря, здесь видится такая последовательность: как
только Чернышевский в 1849 году познакомился с одним из
главных трудов Фейербаха, он сразу же порвал с идеализмом
5.21
Гегеля, и произошло это в 1849 году. А вот та дневниковая
запись, на основании которой делается это умозаключение:
«Всего теперь прочитал я до 2-го отдела у Гегеля, до Moralitat.
Особенного ничего не вижу, т. е. что в подробностях везде, мне
кажется, он раб настоящего положения вещей, настоящего устрой¬
ства общества, так что даже не решается отвергнуть смертные
казни и проч.; так или выводы его робки, или в самом деле
вообще начало как-то плохо объясняет нам, что и как должно
быть вместо того, что теперь есть...»
Да, здесь есть несогласие с какими-то положениями геге¬
левской философии, чувствуется и некоторая неудовлетворен¬
ность самим Гегелем, однако при чем тут «окончательный разрыв
с идеализмом Гегеля»? Ведь одно дело усомниться в каких-то
положениях философской системы, даже усомниться во всей
системе, и совсем другое дело — преодолеть ее в себе, опро¬
вергнуть ее какой-то иной положительной системой. К тому же
в этой записи говорится, что работа Гегеля прочитана только
«до 2-го отдела».
Впрочем, убедительнее всего опровергает эту ссылку на днев¬
никовую запись сам Чернышевский. Запись, о которой у нас шла
речь, датирована 28-м числом января 1849 года, а вот что писал
он полгода спустя (11 июля 1849 года): «...я даже не могу сказать,
убежден я или нет в существовании личного бога, или скорее
принимаю его, как пантеисты, как Гегель, или лучше — Фей¬
ербах. В бессмертие личное снова трудно сказать, верю ли,—
скорее нет, а скорее, как Гегель, верю в слияние моего я с абсо¬
лютною субстанциею, из которой оно вышло, сознание тождества
я моего и ее останется более или менее ясно, смотря по достоинству
моего я».
И дело тут не в каких-то точностях биографического по¬
рядка ради самой точности. Если мы примем то положение,
что Чернышевский еще в 1849 году отринул идеалистическую
систему Гегеля и твердо встал на позиции материализма Фейер¬
баха, то мы ничем не объясним, почему он, обладая немалой
суммой знаний, только после двадцати пяти лет начал писать
серьезные литературные работы. Да, в кругу друзей у Черны¬
шевского довольно рано сложилась репутация и материалиста,
и республиканца, ибо в спорах и беседах с друзьями он выска¬
зывал мысли, способные создать такую репутацию. Так, напри¬
мер, в Саратове многие были свидетелями споров Чернышев¬
ского с Костомаровым, и по городу про них даже ходил такой
анекдот. В одну из пасхальных ночей после раннего богослужения
религиозный Костомаров пришел к своему молодому другу,
когда тот еще спал, и разбудил его словами: «Христос вос-
122
кресе, Николай!» Недовольный столь ранним визитом Косто¬
марова, проснувшийся Чернышевский ответил: «Это еще надо
доказать».
Этот анекдот, впрочем, как и многие высказывания самого
Чернышевского, может указать лишь на то, в каком направле¬
нии шли его нравственные и духовные искания, однако они
никоим образом еще не подтверждают, что у него в студенческие
или в первые послеуниверситетские годы уже сложилось какое-то
цельное миросозерцание.
Здесь же хочется сказать несколько слов и об искусственном
форсировании некоторыми исследователями развития революци¬
онных взглядов Чернышевского. Обычно в пользу мнения, что
Чернышевский стал революционером еще в студенческие годы,
приводятся следующие его дневниковые записи:
«Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели
человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов
и крайних республиканцев, монтаньяр решительно...»
(18 сентября 1848 г.)
Разумеется, нередко говорится о том, что Чернышевский
намеревался приобрести печатный станок, чтобы печатать анти¬
правительственные прокламации. Здесь ссылка делается на днев¬
никовую запись от 15 мая 1850 года. И уж, конечно, почти
ни одна работа о Чернышевском не обходится без того, чтобы
в ней не был бы приведен знаменитый диалог Николая Гаври¬
ловича и Ольги Сократовны во время их объяснения 19 февраля
1853 года.
Да, все эти цитаты и ссылки звучат убедительно, однако,
будучи вырванными из общего контекста, они все же искажают
подлинную картину развития взглядов и воззрений Чернышев¬
ского.
Так, например, в той же дневниковой записи, где Черны¬
шевский говорит, что стал «решительно партизаном социалистов
и коммунистов и крайних республиканцев», есть и такие слова:
«Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма
правления есть диктатура или лучше наследственная неогра¬
ниченная монархия, но которая понимает свое назначение,—
что она должна стоять выше всех классов и собственно создана
для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший
класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна
искренно стоять за них, поставить себя главою и защитницею
их интересов».
«Неограниченная монархия...» Это как-то не совсем согла¬
123
суется с республиканским устройством государства. Монархия —
о то одно, а республика — это совсем другое.
В той же записи, где говорится о приверженности и после¬
довательности Луи Блану, обычно опускаются слова: «...которого
почти не читал», то есть почти не читал Луи Блана.
А вот запись о печатном станке:
«Уже идя туда (Чернышевский шел к Лободовскому.—
.4. Л.), думал о тайном печатном станке. Когда сел в карету, опре¬
делились больше мысли и вздумал так, что если доживет
теперешнее положение общества до того времени, когда я буду
жить в отдельной квартире и будет у меня несколько денег, то едва
ли я не буду исполнять своих планов, которые, между прочим,
были и такие: если напечатать манифест, в котором провозгласить
свободу крестьян, освобождение от рекрутчины (сбавку в поло¬
вину налогов сейчас вздумал) и т. д., и разослать его по всем
консисториям и т. д. в пакетах от святейшего синода и велеть
тотчас исполнить, не объявляя никому до времени исполнения
и не смущаясь противоречием, и объяснить, что в газетах появится,
в тех, которые будут напечатаны в день по отправке почты, чтобы
дворяне не подняли бунта здесь преждевременного, когда народ
еще не успел узнать, и не задавили государя... И когда думал,
что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, которое
везде может быть подавлено и может быть сделает многих
несчастными на время, но разовьет-таки и так расколышет народ,
что уже нельзя будет и на несколько лет удержать его, и даст
широкую опору всем восстаниям,— когда подумал об этом, почув¬
ствовал какую-то силу в себе решиться на это и не пожалеть
об этом тогда, когда стану погибать за это дело. Когда слез
с кареты и пошел, пробудилась и та мысль, что ложь, во всяком
случае, приносит всегда вред в окончательном результате, по¬
этому не лучше ли написать просто воззвание к восстанию,
а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим
языком описать положение и то, что только сила и только они
сами через эту силу могут освободиться от этого. И когда поду¬
мал,— да как же ложь здесь принесет вред, а не пользу,—
тотчас подумал, что так, что убьет доверие народа к воззваниям
его приверженцев впоследствии времени...
Этот ток мыслей и эта перемена вся произошла в 8-м часу
вечера, 15 мая 1850 года».
Здесь есть две действительно интересные и характерные для
Чернышевского мысли. Первая: народ только сам может осво¬
бодить себя. Вторая: борьба за счастье народа и одновременно
обман его — несовместимы.
Что же касается диалога между Николаем Гавриловичем
124
и Ольгой Сократовной, то, учитывая особенности момента —
объяснение в любви, можно предположить, что в данном случае
Николай Гаврилович несколько преувеличивал опасность своего
положения в настоящем и ближайшем будущем. Однако мы не
станем вдаваться в психологические домыслы и лучше сошлемся
еще на одну запись в дневнике, которую он сделал ровно через
две недели после своего знаменитого объяснения с Ольгой Со¬
кратовной, то есть 5 марта 1853 года:
«Мне должно жениться уже и потому, что через это я из
ребенка, каков я теперь, сделаюсь человеком. Исчезнет тогда
моя робость, застенчивость и т. д.
Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее.
Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу
попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не
принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою. Иначе почем
знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против
демократического, против революционного направления, и этою
защитою ничто не может быть, кроме мысли о жене.
Итак, я должен необходимо жениться».
Через два месяца, как была сделана эта запись, Чернышевский
вместе с женой выехал в Петербург.
Революционные фразы могут говорить о революционной
настроенности человека, но далеко не каждому дано преодолеть
дистанцию от революционной настроенности до революционного
деяния. А революция — это прежде всего деяние, действие.
В студенческие годы Чернышевский дружил с Василием
Петровичем Лободовским. Лободовский отличался в то время
радикальностью своих взглядов и имел большое влияние на
Чернышевского, однако впоследствии никакого участия в рево¬
люционном движении не принимал, занимаясь преподавательской
деятельностью.
Тот самый Дмитрий Иванович Минаев, с которым Черны¬
шевский в 1851 году ехал вместе от Петербурга до Симбирска,
как-то на вечере у Введенского, где собралось человек двадцать
народу, «рассказывал о жестокости и грубости царя и т. д.
и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-
нибудь смельчак, который решился бы пожертвовать своей
жизнью, чтобы прекратить его». А между прочим, и Дмитрий
Иванович Минаев в свободное от службы время занимался не
революционной деятельностью, а литературной. Перевел «Слово
о полку Игореве», написал несколько повестей, поэм, стихотворе¬
ний.
«Надо знать,— писал в статье «Пушкин и литературное
движение в России» Адам Мицкевич,— что в этой стране все
125
и всегда в большей или меньшей мере недовольны своим пра¬
вительством; его обвиняют тайком, его осуждают громогласно.
Несмотря на это, все по-прежнему работают, словом, все служат
этому правительству. Иностранец, не знающий характера и веса
этой оппозиции, исконной и всеобщей, а между тем так мало
опасной, встречая всюду врагов существующего порядка вещей
и нигде не видя его защитников, приходит к выводу, что Россия
готова начать революцию, что она ждет лишь удобной минуты,
ждет только призыва».
И действительно, в русском обществе, начиная с двадцатых
годов XIX века, оппозиционное настроение к царю и прави¬
тельству преобладало над всеми другими общественными настрое¬
ниями. С одной стороны, оно дало и декабристов, и вольно¬
любивую русскую литературу, лишенную всяких верноподдан¬
нических чувств, но, с другой стороны, оппозиционное настроение
стало модой, как стало модным прослыть либералом. Неудо¬
вольствие внутренним положением вещей порождало в обществе
постоянные разговоры и толки о радикальнейших изменениях
всех сторон жизни, хотя далеко не всегда эти разговоры были
обеспечены серьезной готовностью к борьбе, готовностью к само¬
пожертвованию.
Что же касается молодого Чернышевского, то здесь мы вправе
говорить о его готовности к самопожертвованию, к подвигу во имя
счастья народа. Однако такую готовность еще преждевременно
рассматривать как его приобщение к революционной деятель¬
ности, точно так же преждевременно начинать отсчет материа¬
листических воззрений Чернышевского от первых его крити¬
ческих замечаний в адрес Гегеля. Этому довольно длительному
и непростому процессу способствовали не только нравственные,
гражданские и философские искания и научные занятия самого
Чернышевского, но и многие меняющиеся обстоятельства тогдаш¬
ней российской действительности.
ДИССЕРТАЦИЯ
Вернемся, однако, к той поре, когда Чернышевский обосно¬
вался с молодой женой в Петербурге, преподавал в кадетском
корпусе, всерьез приобщился к литературной деятельности и при¬
ступил к работе над диссертацией «Эстетические отношения
искусства к действительности». Трудился тогда Николай Гаври¬
лович много и охотно. Знаний было накоплено достаточно, до¬
статочно было и стимулов для работы: хотелось как можно
прочнее утвердиться в литературном мире или занять довольно
126
высокое положение в ученом мире, хотелось, чтобы Ольга Сокра¬
товна не испытывала материальных стеснений. К тому же в мар¬
те у них рождается сын Александр. Николай Гаврилович посто¬
янно извещает отца о своих делах, а тот, несмотря на явные
литературные успехи сына, настойчиво советует избрать казенную
службу.
«Частная служба,— пишет Гавриил Иванович,— не полезна
в будущем. Пожалуй, пристройся где-нибудь на казенное место,
чтобы лета и силы не истощились даром». «Только об одном
прошу, чтобы служба была не частная, а казенная. Вам, милая,
бесценная Оленька, поручаю это...» — пишет он своей невестке.
Эти весьма настойчивые просьбы Гавриила Ивановича чаще
всего истолковываются как желание отца видеть сына обеспе¬
ченным и устроенным. Однако если принять этот вывод, то
как-то трудно представить, что отношения между отцом и сыном
до самой смерти отца были близкими и доверительными.
Пожалуй, переписку отца и сына можно истолковать именно
так, если не учитывать одного эпизода из жизни самого Гавриила
Ивановича, о котором говорилось в семейном предании.
В 1816 году знаменитый, но опальный тогда М. М. Сперанский
был назначен пензенским губернатором, и вот он каким-то
образом приметил толкового молодого человека, исполнявшего
должность библиотекаря семинарии, и сделал ему предложение
поехать с ним в Петербург. Этим молодым человеком был
Гавриил Иванович Чернышевский, который принял предложение
Сперанского. Однако мать решительно тому воспротивилась,
и Гавриил Иванович был вынужден отказаться от столь лестного
и перспективного для его карьеры предложения, отрекомендовав
вместо себя своего товарища — Кузьму Григорьевича Репинского,
сделавшего затем неплохую карьеру.
Трудно утверждать, но вполне можно предположить, что
потом Гавриил Иванович не раз сожалел об отказе от предложения
Сперанского, и, зная необычайные способности сына, он навер¬
няка думал не о том, чтобы его Николай сделался простым госу¬
дарственным чиновником. Оттого он никогда не препятствовал
сыну ни в чем, что хоть в какой-то мере открывало бы тому
подобную перспективу. Потому-то он, наверное, и «уволил» сына
из семинарии, потому-то он, наверное, и предпочел близкому
Казанскому университету далекий Петербургский. Теперь отец
и сын на многие вещи смотрели неодинаково, однако дружбу
они сохранили на всю жизнь, и вряд ли решающую роль играла
тут кровная связь, их связывала не одинаковость, а равновели¬
кость помыслов о будущем Николая Гавриловича. Скажем прямо,
весьма честолюбивых помыслов.
127
И Николаю Гавриловичу уже следовало окончательно опре¬
делиться, а для этого нужно было защитить диссертацию.
Однако защита диссертации все откладывалась и откладыва¬
лась. Магистерские экзамены были сданы еще весной. Прошло
лето. 14 сентября 1854 года Николай Гаврилович сообщал отцу:
«Дело о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять
подвигается: скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого
не следует, однако, чтобы конец был уже близок; хорошо было б,
если б диспут был назначен через два месяца. Я на это не рас¬
считываю и сочту себя счастливым даже тогда, когда это несносное
дело покончится к рождеству».
Минуло рождество, один за другим пролетали короткие зимние
дни, а дело двигалось медленно. В апреле Николай Гаврилович
не без уныния сообщал отцу: «Я надеюсь скоро напечатать
свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала
и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась,
что мне и смешно, и досадно. И тогда я думал, и теперь вижу,
что все было только формальностью, которая должна была бы
кончиться в два месяца, а заняла полтора года. Это очень до¬
садно».
Вообще нужно заметить, что по приезде в Петербург Николай
Гаврилович заметно изменился: стал малоразговорчив и мало¬
общителен. «Я почти нигде не бываю,— признается он отцу,—
кроме как у людей, к которым приводят дела — у Краевского
и Некрасова, которые доставляют возможность жить... потом
у Срезневского и Никитенки, чтобы не разрывать связей, которые
могут пригодиться...»
Перед женитьбой Николай Гаврилович полагал, что его брак
с Ольгой Сократовной сделает их жизнь гармоничной, и считал,
что полновластной хозяйкой в их доме станет Ольга Сократовна:
она будет определять круг знакомых и друзей, распоряжаться
по своему усмотрению деньгами. Даже свое отношение к роди¬
телям он ставил в зависимость от ее к тому расположения.
Больше всего он боялся, что Ольга Сократовна будет испытывать
хоть какое-то стеснение в материальных средствах, хотя и наде¬
ялся, что этого никогда не случится. Сам Николай Гаврилович
мог свести свои потребности до минимума, но он вовсе не желал,
чтобы это делала его жена. Между прочим, он никогда не пропо¬
ведовал равенства в бедности, напротив, он всегда мечтал о ра¬
венстве людей в достатке, даже в богатстве. Он мечтал об изобилии
для всех.
Размышляя в период сватовства о будущей жизни, Николай
Гаврилович примерно планировал ее так: «Как мы будем про¬
водить день? Все время, когда я дома, я буду постоянно сидеть
128
подле нее, пока ей будет угодно. Я буду работать подле нее.
Сколько я буду работать для своих ученых целей? Часа 3 в день,
не более, потому что и теперь никогда почти не работаю постольку,
и все-таки у меня столько познаний, как у немногих».
Тут Николай Гаврилович очень ошибался, смешивая процесс
накопления знаний с настоящей ученой работой. И работать
«для своих ученых целей» ему пришлось отнюдь не по 3 часа.
«А писать для получения денег? Может быть, более 3 часов
в день. В первые месяцы, пока у меня не будет уроков в корпусах,
я буду таким образом работать часов до 2; после гулять вместе
с нею, после обеда снова час-два, до 6, б’/г! после снова я ее
собеседник».
Тут сбылось только одно, что для денег пришлось работать
«более 3 часов в день», только это «более» заняло и те часы,
что предполагались на прогулки и беседы.
«О чем мы будем говорить? Я буду ее учитель, я буду излагать
ей свои понятия, я буду преподавать ей энциклопедию цивили¬
зации. Этого достанет на несколько лет, на 3—4 года. В материале
для разговора таким образом не будет недостатка. Мы будем,
наконец, вместе читать... Может быть, она будет помогать мне
и в работах, может быть, она будет сама писать или перево¬
дить».
На все это у Николая Гавриловича потом не хватит времени,
а у Ольги Сократовны желания. И тут, если утопии не сбываются,
винить ровным счетом некого. Разве что сами утопии?..
Реальная жизнь мало напоминала недавние грезы, она была
и намного труднее, и намного серьезнее. Чернышевский почти
не выходил из-за письменного стола, работая днем и ночью.
Из писем к отцу:
«У меня до сих пор еще множество дел на руках — дай
бог, чтобы его было и на будущее время, потому что в Петербурге
гораздо страшнее всяких наводнений то, если нет работы...»
«Я по-прежнему много работаю, и это главная причина того,
что мы с Оленькою редко где-нибудь бываем, точно так же, как
и у нас бывает мало гостей: мне часто бывает совершенно некогда
тратить время для знакомых».
«За... работами проходит много моего времени; оставаясь
свободен два или три раза в месяц на один или два дня, предпочи¬
таю отдыхать дома, потому мало с кем вижусь, кроме людей,
с которыми имею деловые отношения...»
9
4078
129
Это из писем первых двух лет пребывания Чернышевского
в Петербурге, когда он преподавал в кадетском корпусе, сдавал
магистерские экзамены, писал статьи и рецензии в журналы,
готовился к защите диссертации.
10 мая 1855 года в Петербургском университете на историко-
филологическом факультете состоялась защита Н. Г. Чернышев¬
ским диссертации «Эстетические отношения искусства к действи¬
тельности». Оппонентами были профессор А. В. Никитенко
и адъюнкт М. И. Сухомлинов. На защите присутствовали при¬
глашенные Николаем Гавриловичем Ольга Сократовна, А. Н. Пы-
пин, П. В. Анненков, И. И. Введенский, Ф. Е. Корш, А. А. Кра-
евский, В. И. Ламанский, Л. А. Мей, И. И. Панаев, П. П. Пекар¬
ский, И. В. Писарев, А. Ф. Раев, А. Н. Струговщиков, И. Г. Тер-
синский, Н. В. Шелгунов...
Несмотря на похвалы и поздравления, сам Николай Гаври¬
лович останется недоволен диспутом, о чем и напишет отцу:
«Диспут был во вторник, 10 мая, как я Вам и писал поутру
в этот день. Заключился он обыкновенным концом, т. е. поздрав¬
лениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал
мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень
глупо... Одним словом, диспут мог для некоторых показаться
оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал.
Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени».
В этом же письме Николай Гаврилович признавался отцу, что
намеревается «мало-помалу» готовить докторскую диссертацию,
«о чем, однако, не намерен распускать здесь слухов, пока она
будет готова».
Противоположное мнение о том, как проходил диспут, потом
высказал присутствовавший на нем Николай Васильевич Шел¬
гунов. «Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была
битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется,
было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно
было очень, так что слушатели стояли на окнах1... Чернышевский
защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твер¬
достью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев обра¬
тился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на
лекциях читал вам совсем не это!» И действительно, Плетнев
читал не это, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести
1 Нами здесь опущено упоминание о С. Сераковском, т. к., по мнению
исследователя А. Смирнова, С. Сераковский вернулся из Оренбурга в столицу
несколько позже.
130
публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней
было все ново и все заманчиво...»
Тут правы по-своему и Чернышевский, и Шелгунов. Во-
первых, благодаря проволочке Чернышевский уже «перегорел»
и теперь по-настоящему мог бы воодушевиться только в случае
серьезной дискуссии. Но таковой не последовало. Во-вторых,
к тому времени Чернышевский уже опубликовал на страницах
«Современника» множество рецензий и статьи: «Роман и повести
М. Авдеева», «Три поры жизни. Евг. Тур», «Бедность не порок.
А. Островского», «Об искренности в критике» и др. и играл уже
довольно заметную роль в журнале, с которым судьба его теперь
была связана более тесно, нежели с университетом. В своей
журнальной практике он привык к более жестким дискус¬
сиям.
По-своему был прав и Шелгунов, потому как для него самого
и для аудитории в диссертации действительно «было все ново и все
заманчиво...»
«Это была,— писал Шелгунов,— первая молния, которую он
кинул... Все здание русской эстетики Чернышевский сбрасывал
с пьедестала и старался доказать, что жизнь выше искусства
и что искусство только старается ей подражать». Это, конечно,
было сказано слишком размашисто, потому как Чернышевский
выступил в своей работе не только как разрушитель старой
эстетики, главное, он дал и позитивную программу.
«Явись эта диссертация,— продолжает Шелгунов,— только
шестью-семью годами раньше, когда кончал Белинский и высту¬
пал В. Майков, влияние ее, конечно, не перешло бы литературных
пределов. Но теперь было другое время, теперь мы уже знали
Севастополь. Общественное внимание, хотя и смутно, но уже
устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть
выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого
другого дела у него не может и не должно быть, как только
думать о своих делах. Еще внушительнее и необходимее было это
указание для художников слова, раньше не знавших, о чем им
следует говорить».
Тут Шелгунов, конечно, допускает извинительное временем
и обстоятельствами некоторое преувеличение, потому как, поло¬
жим, художники и прежде знали, «о чем им следует говорить».
Больше того, именно многие видные художники слова отнеслись
резко отрицательно к новой эстетической программе Черны¬
шевского. Тут было не все так просто, как это казалось тогда
Шелгунову. Но вот для молодежи, особенно для разночинной,
новое слово Чернышевского прозвучало действительно как откро¬
вение.
131
Что же тогда привело в восторг молодежь, как из числа той,
что присутствовала на защите Чернышевским своей диссертации,
так и из числа той, что ознакомилась с ее содержанием позже?
Ненависть к гегелианской эстетической теории, которую свел
с пьедестала Чернышевский? Навряд ли. Если мы обратимся
к списку лиц, приглашенных Чернышевским на защиту своей
диссертации, то обнаружим, что большинство приглашенных не
было специалистами в области, именуемой эстетической наукой.
Бурной, яркой дискуссией, интересной самой по себе? Таковая,
как мы уже знаем, не состоялась.
В самом начале своего разговора Чернышевский заявил:
«Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априори-
ческим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот
характер направления, господствующего ныне в науке. Автору
кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши
эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике».
Такое вступление уже говорило, что эстетическая наука отстает
от общего уровня современной науки, и Чернышевский так вы¬
страивает свою диссертацию, что не только утверждает принципы
своей новой эстетической теории, но и попунктно опровергает
гегелевскую эстетическую теорию. Вероятно, многие из тогдашних
молодых людей одновременно знакомились и с гегелевской
эстетикой, находя ее в сравнении с теорией Чернышевского
устаревшей и неверной. И дело было даже не в том, насколько
прав или не прав был Чернышевский (об этом могли с точ¬
ностью судить лишь специалисты), а в том, что его эстетическая
теория импонировала новому духу времени, новому человеку.
В нашу задачу не входит подробный анализ эстетических
взглядов и воззрений Чернышевского1, но сюжет разговора требует
более или менее подробно остановиться на тех основных положе¬
ниях диссертации, которые привлекли на его сторону массовую
молодежную аудиторию.
Годом позже в «Очерках гоголевского периода русской ли¬
тературы» Чернышевский писал: «Литература у нас пока сосредо¬
точивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо
на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые
в других странах перешли уже, так сказать, в специальное за-
ведывание других направлений умственной деятельности... Быть
может, Англии легко было бы обойтись без Диккенса и Тек-
керея, но мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без
Гоголя. Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме
1 Подробно этот вопрос исследуется в кн.: Соловьев Г. А. Эстети¬
ческие воззрения Чернышевского и Добролюбова (2-е изд., М., 1978).
132
поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина?
Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она
от Гоголя?»
Свою эстетическую теорию Чернышевский выводил не из фи¬
лософских отвлеченностей, а из задачи самой литературы, стало
быть, он не мог, имея в виду отечественную литературу в выс¬
ших ее проявлениях, согласиться с главным гегелевским прин¬
ципом: примата искусства над действительностью, когда искус¬
ство призвано восполнять недостающее действительности пре¬
красное.
И Чернышевский скажет: «Из того, что в природе нет истинно
прекрасного», будет следовать, что «искусство имеет своим источ¬
ником стремление человека восполнить недостатки прекрасного
в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое
искусством, выше прекрасного в объективной действительнос¬
ти»,— все эти мысли составляют сущность гегелевской эстетики
и являются в ней не случайно, а по строгому логическому
развитию основного понятия о прекрасном.
Напротив того, что из определения «прекрасное есть жизнь»
будет следовать, что истинная, высочайшая красота, встречаемая
человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая
искусством...»
Одно из доказательств гегелевской эстетики в пользу примата
искусства было то, что прекрасное в действительности мимо¬
летно, а в искусстве вечно. Чернышевский только мимоходом
оспорил вечность прекрасного в искусстве, главное же, он увидел
преимущество мимолетного над вечным в развитии. И не
случайно, что в статье о ранних произведениях Л. Толстого
он потом отметит особый дар молодого писателя изображать
диалектику души.
Новым людям, преисполненным жажды деятельности, борьбы,
не могло не импонировать теоретическое обоснование закона
диалектического развития жизни и необходимости борьбы. И тут
особую важность приобретал разговор о трагическом, «...пре¬
красное то, в чем мы видим жизнь так, как мы понимаем и же¬
лаем ее, как она радует нас....» И далее Чернышевский говорит:
«Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бывает не¬
счастна». Старая же эстетика не отрицала в жизни борьбы, но она
предрекала борющемуся неминуемую погибель. В конце своей
диссертации Чернышевский делает такой вывод: «Трагическое
не имеет существенно связи с идеею судьбы или необходи¬
мости. В действительной жизни трагическое большею частью
случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов.
Форма необходимости, в которую облекается оно искусством,—
133
следствие обыкновенного принципа произведений искусства:
«развязка должна вытекать из завязки», или неуместное подчи¬
нение поэта понятиям о судьбе... Трагическое, по понятиям но¬
вого европейского образования, есть «ужасное в жизни чело¬
века».
Такое толкование трагического, рока, судьбы, предопреде¬
ленности и позволило потом Чернышевскому, учитывая задачи
времени, дать новую оценку «лишним людям», правда, при этом
он вступил в некоторое противоречие с самим собой, не разгра¬
ничив «лишних людей» своего времени и времени после разгрома
декабристов, так как сам утверждал в диссертации (а затем
и в статье «Не начало ли перемены?»), что «великие минуты
жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают
его». Новое поколение — «шестидесятники» — выросло уже
в иную эпоху, выросло «неистощенным», оно вступило в жизнь
не под впечатлением минувшей трагедии, а под впечатлением
необходимости и возможности борьбы. Трагическое не неизбежно,
трагическое случайно. Это положение новой эстетической теории
Чернышевского вселяло не только надежды, но и уверенность
в успехе.
Отвергая способность искусства восполнять недостающее
в жизни прекрасное, Чернышевский не сужал пределы искусства,
а расширял их в сторону активного воздействия на жизнь.
В заключительной части своей диссертации он писал: «Сущест¬
венное значение искусства — воспроизведение того, чем интере¬
суется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями
жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не про¬
износить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи
в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б
и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изо¬
бражаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произ¬
ведении,— вот новое значение произведений искусства, по кото¬
рому искусство становится в число нравственных деятель¬
ностей человека».
Это положение необычайно демократизирует литературу,
в литературу пойдут не только люди, желающие восполнить
недостающую действительности красоту, но и люди, стремящиеся
к нравственной, а потому и гражданской деятельности. Во всяком
случае, теперь они нашли важнейшую опору — теорию.
Взять, к примеру, хотя бы Добролюбова, который осенью
1853 года поступил в Главный педагогический институт, то есть
именно тогда, когда Чернышевский приступал к работе над своей
диссертацией. В семинарии начальство характеризовало Добро¬
любова как «вежливого, прилежно-благонравного, тихого, скром¬
134
ного, послушного, усердного в занятиях» и «отличающимся
добротой и честным поведением и усердием в церкви» воспи¬
танника. А сам Добролюбов незадолго до окончания семинарии
записывал в своем «Психотриуме» (углубление в душу): «Ныне
сподобился я причащения пречистых тайн Христовых и принял
намерение с этого времени строго наблюдать за собой... Боже
мой! Как мало еще прошло времени, и как много уже лежит
на моей совести!..' Потому суетные помышления самолюбия и
гордости, рассеянность во время молитвы, леность к бого¬
служению, осуждение других— увеличивали число грехов
моих...»
Да и в Петербурге, будучи уже студентом, Добролюбов далеко
не сразу растерял свою религиозность. В марте 1854 года умерла
его мать, и в неутешном своем горе он писал: «Нет, нет, нет, если
это правда, если она видит меня, мою тоску, мои терзания, мои
сомнения,— она умолит бога, чтобы он послал ее вразумить
бедного, жалкого сына... Иначе ей будет рай не в рай, если только
она не разлюбила меня. Мать моя! Милая, дорогая моя!.. Помолись
за меня, чтобы бог остановил меня на краю гибели!..»
Верующему человеку трудно преодолеть в себе религиозное
мировоззрение, дающее утешение в тяжелые минуты жизни,
а преодолев это мировоззрение или хотя бы разрушив его, он
встречается с пустотой. И каждый по-своему начинает «запол¬
нять» эту пустоту. Добролюбову, как и многим его сверстникам,
работа Чернышевского «Эстетические отношения искусства к дей¬
ствительности» дала толчок к выработке нового, материалисти¬
ческого мировоззрения.
Анализируя понятие о прекрасном, Чернышевский’ говорит,
что принятое им определение этого понятия является «выводом
из таких общих воззрений на отношения действительного мира
к воображаемому, которые совершенно различны от господ¬
ствовавших прежде в науке». А господствовавшие прежде
воззрения основывались на том, что действительный мир есть
порождение или отражение мира идеального.
Девятнадцатый век был эпохой кризиса и ломки прежнего
целостного религиозного миросозерцания, и вся практика русской
словесности проходила под знаком поисков нового мировоззре¬
ния. «Чернышевский,— писал В. И. Ленин,— единственный дей¬
ствительно великий русский писатель, который сумел с 50-х
годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного фило¬
софского материализма». (В. И. Лени н, Поли. собр. соч., т. 18,
с. 384).
Выход диссертации в свет отдельным изданием в мае 1855 го¬
135
да особой полемики в журналах не вызвал1, однако в литера¬
турной среде, где Чернышевский в это время был уже хорошо
известен, реакция на его работу оказалась чрезвычайно бурной.
Тургенев, например, пришел просто в бешенство и в течение
только двух дней написал письма В. Боткину, Д. Григоровичу,
А. Краевскому, И. Панаеву и Н. Некрасову.
«Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину,
которую «Современник» не устыдился разбирать серьезно...»
(Из письма к Д. Григоровичу)
«Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, это порож¬
дение злобной тупости и слепости не так бы следовало разбирать,
как это сделал г-н Пыпин1 2. Подобное направление гибельно —
и «Современнику», больше чем кому-нибудь следовало восстать
против него...»
(Из письма к И. Панаеву)
«Спасибо вам, что у вас отделали гадкую книгу Чернышевско¬
го3. Давно я не читал ничего, что бы меня так возмутило. Это
хуже, чем дурная книга,— это дурной поступок...»
(Из письма А. Краевскому)
Примерно через год Л. Толстой, имея в виду Чернышевского,
напишет Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что
упустили Дружинина из вашего союза. Тогда бы можно было
надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам с этим
клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький,
неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разго¬
рающийся еще более оттого, что говорить не умеет и голос
скверный».
Если принять во внимание, что для людей, воспитанных
в атмосфере 30-х годов, предметом горячих споров были тончай¬
шие и порой весьма туманнейшие вопросы отвлеченной филосо¬
фии в русле идей Гегеля и Шеллинга и что друзья могли разой¬
1 Появилась рецензия С. Дудышкина в «Отечественных записках» (1855,
июнь), в которой был дан довольно подробный разбор диссертации с резко
отрицательной оценкой ее. «Лучше повторять,— писал рецензент,— избитую
фразу, что предмет эстетики — прекрасное. Это объяснение, как ни одно¬
сторонне оно, имеет, по крайней мере, то преимущество, что указывает на
форму как на главное условие эстетических произведений». В «Библиотеке
для чтения» анонимный автор (по-видимому, А. Дружинин) поддержал С. Ду¬
дышкина.
2 Авторецензию на свою диссертацию Чернышевский подписал буквами:
Н. П-ъ. Тургенев же ошибочно полагал, что написал ее А. Пыпин.
3 Имелась в виду рецензия С. Дудышкина в «Отечественных записках».
136
тись на недели, не согласившись в определении «перехватывающе¬
го духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности
и о ея по себе бытии» (Герцен), то станет понятным, почему мно¬
гие писатели (особенно те, что были старше автора «Эстетических
отношений...») так лично и болезненно восприняли критику
Чернышевского в адрес Гегеля. Можно было не упоминать ни
имени Фейербаха, ни имени Гегеля, образованные люди того вре¬
мени превосходно понимали язык философии. И спор теперь шел
не об именах, а о мировоззрениях.
Н. Шелгунов точно заметил, что, явись диссертация Черны¬
шевского «шестью-семью годами раньше... влияние ее, конечно,
не перешло бы литературных пределов». И это верно, поскольку
тогда русское образованное общество было еще по преимущест¬
ву дворянским. Теперь же, к середине пятидесятых годов, на сце¬
ну русской интеллектуальной жизни выступил разночинец.
Впрочем, разночинец в русской литературной жизни — явле¬
ние отнюдь не новое. Достаточно назвать такие имена, как
Феофан Прокопович, Михаил Ломоносов, Василий Тредиаковский,
Иван Хемницер, Петр Плавильщиков, Василий Петров, Михаил
Попов, Михаил Чулков, Федор Эмин, Николай Надеждин,
братья Николай и Ксенофонт Полевые, Михаил Погодин, Алек¬
сей Кольцов и т. д., чтобы увидеть, как активно участвовали
в литературной жизни писатели недворянского происхождения
на протяжении XVIII и первой половины XIX веков. Естествен¬
но, писатели-недворяне привнесли в литературу и свой особый
жизненный опыт, и свое умонастроение, однако до середины
XIX века они или вливались в общее русло культурной жизни
высшего сословия, или, как, например, Кольцов, заставивший
отечественную поэзию сверкнуть еще одной новой гранью, внесли
свой самобытный вклад, но все равно не представили в литерату¬
ре особого направления и не изменили ее общего хода развития.
Другое дело — разночинцы пятидесятых-шестидесятых го¬
дов, не только давшие литературе много новых ярких имен,
но и давшие особое направление развитию общественной мысли
и литературному процессу, в частности.
Сейчас даже трудно сразу уяснить, почему диссертационная
работа Чернышевского, который высоко ценил и Жуковского,
и Пушкина, и Лермонтова, и Герцена, и Гончарова, и Тургенева,
вызвала бурю негодования у его многих старших по возрасту
писателей-современников, как трудно, скажем, уяснить, почему
несколько позже так безжалостно стреляла фраза знаменито¬
го тургеневского героя о том, что природа не храм, а мастерская
и человек в ней — работник. Нас, например, этот афоризм, вло¬
женный Тургеневым в уста Базарова, нисколько не эпатирует;
137
во всяком случае, нам не кажется, что он каким-либо образом
опровергает творчество Пушкина, Лермонтова, Гончарова или
самого Тургенева... Мало что проясняют и резкие, порой даже
грубые высказывания оппонентов Чернышевского, в которых
хотя и запечатлелось их живое восприятие работы «Эстетические
отношения искусства к действительности», но никак не раскры¬
лось содержание самого конфликта.
Вероятно, чтобы понять суть дела, необходимо вернуться во
времена, когда вырабатывалось мировоззрение тех художников
слова, которые столь болезненно восприняли эстетическую теорию
Чернышевского, и их уже почивших товарищей, то есть вернуться
в тридцатые годы XIX века.
После расправы с декабристами и последовавшими за ней
репрессиями центр русской общественной мысли постепенно пе¬
ремещается из Петербурга в Москву и с начала тридцатых годов
сосредоточивается в Московском университете, который менее
других научных и учебных учреждений был задет реакцией.
Здесь в этот период почти безраздельно царствовала немецкая
философия, а властителями дум были Кант, Фихте, Шеллинг,
Гегель, особенно последний. «Станкевич был первый последо¬
ватель Гегеля в кругу московской молодежи,— вспоминал Гер¬
цен,— он изучил немецкую философию глубоко и эстетически;
одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой
круг друзей в свое любимое занятие». Однако увлечение немец¬
кой философией не было самоцелью, не было и слепого поклоне¬
ния великим философам. Г. Гервинус справедливо утверждал,
что гегелевская система обещала дать людям все: истинное искус¬
ство, истинную науку, истинную церковь, истинное государство.
Хотя Герцен и говорил, что в этот период в московских кружках
вместе «с итальянской музыкой делила опалу французская
литература и вообще все французское, а по дороге и все полити¬
ческое», он был не совсем прав, поскольку в самом этом поиске
истинного уже обнаруживалось отрицательное или крити¬
ческое отношение к существующей действительности. И увле¬
чение немецкой философией не было уходом молодого поколения
от жизни, а было отходом от нее ради ее осознания, ради буду¬
щего действия.
«Число воспитывавшихся было мало,— пишет Герцен о Мос¬
ковском университете той поры и общественной атмосфере тех
лет,— но и те получали не то чтобы объемистое воспитание, а до¬
вольно общее и гуманное: оно очеловечивало учеников всякий
раз, когда принималось. А человека-то именно было не нужно.
Приходилось или снова раочеловечиваться — так толпа и дела¬
ла,— или приостановиться и спросить себя: «Да надобно ли
138
непременно служить?» Для большинства настало время празд¬
ного существования в отставке, деревенской лени, халата, стран¬
ностей, карт, вина. Для других — время внутренней работы.
Жить в нравственном разладе с собой они не могли. Возбужден¬
ная мысль требовала выхода. Разрешение разных вопросов му¬
чило молодое поколение и обусловливало распадение его на раз¬
ные круги».
Мы не станем вдаваться в подробности, то есть в интел¬
лектуальную тяжбу различных кружков, а дадим лишь в самом
общем виде основные положения гегелевской системы, нашед¬
шие отклик в умах и сердцах членов этих кружков.
Высшим понятием гегелевской системы является мировая
идея, или мировой разум. Это не противоречило религиозному
мировосприятию, но поднималось как бы выше официальных
религиозных догматов. Чернышевский, как мы уже видели, и сам
довольно долго придерживался этого положения гегелевской
системы.
Мировой разум осуществляет себя в любой вещи, и потому
всякая вещь есть модификация мирового разума, наивысшее
свое осуществление он находит в человеке, точнее, в его самопоз¬
нании и самосознании. Отсюда внимательнейшее отношение
ко всякому движению души. Чернышевский в своей статье о пер¬
вых произведениях Л. Толстого увидит главное достоинство —
талант молодого писателя в особом внимании к диалектике души.
Однако самопознание ведет к самовыражению субъективно¬
го духа, самовыражение объективного духа идет лишь от само¬
познания народа. Отсюда интерес к народу как к целому, к его
прошлому и настоящему. Абсолютный дух выражается гением.
Гений, разумеется, самовыражает не свой субъективный дух,
а объективный дух народа, то есть объективный дух народа нахо¬
дит свое самовыражение через гения. И это положение гегелевской
системы не могло не импонировать тем, кто считал себя «детьми
1812 года».
Некоторые положения гегелевской системы отечественные
гегельянцы усвоили еще из системы Шеллинга.
С появлением человека абсолютный дух творит уже через
посредство человеческого духа, и высшим проявлением такого
творчества является поэзия. Отсюда возвышение поэта над осталь¬
ными людьми, а занятия поэзией (если шире, художественной
деятельностью) ставится выше всякой другой деятельности,
отсюда в поэзии тема пророка и пророчества. На поэзию смотрели
как на высшее знание, которое открывает дорогу к истине, доб¬
ру, красоте и счастью. Отсюда культ поэзии и всего художест¬
венного.
139
Большинство московских молодых гегельянцев выросло в по¬
мещичьих усадьбах и с детских лет впитывало в себя красоту
родной природы, природа возбуждала поэтические чувства
и мысль о земной гармонии. Шеллинг стремился одухотворить
природу, представив ее многоступенчатой вещью, по которой дух
поднимается к самому себе. Отсюда в поэзии природа — дейст¬
вующее лицо, с которым поэт приходит к согласию или входит
с ним в конфликт. Потому-то Тургенев и вложит в уста Базарова
кощунственную для себя мысль, что природа — мастерская.
Гегель подчиняет реальное идеальному, природа — инобытие
идеального, и весь внешний мир лишь побуждает человека к поис¬
ку в нем абсолютной идеи. Отсюда искание идеального в любви,
в дружбе, во всех человеческих взаимоотношениях...
Сам Гегель говорил: «Герои, создавая своею деятельностью
новый мир, приходят в противоречие со старым порядком и раз¬
рушают его: они являются нарушителями существующих зако¬
нов. Поэтому они гибнут, но гибнут, как отдельные лица; их
наказание не уничтожает представляемого ими принципа...
принцип торжествует впоследствии, хотя бы и в другой форме...»
Что и говорить, в условиях жесткой полицейско-бюрократи¬
ческой государственной системы немецкая философия, и в пер¬
вую очередь Гегель, спасала, с одной стороны, от исторического
пессимизма, а с другой — от «халата». Однако не следует и пре¬
увеличивать влияния на передовую молодежь тридцатых годов
немецкой философии, поскольку на чужой философии невозмож¬
но взрастить собственной великой литературы, а ведь через круж¬
ки Московского университета тридцатых годов прошли: В. Бе¬
линский (год рождения —1811), А. Герцен (1812), И. Гончаров
(1812), Н. Огарев (1813), М. Лермонтов (1814), К. Аксаков (1817),
И. Тургенев (1818). А если к этим именам еще добавить: Н. Стан¬
кевич (1813), Т. Грановский (1813), М. Бакунин (1814)... Такого
феномена не знала и не знает история.
Но к 1855 году эта когорта заметно поредела. Не было в жи¬
вых ни Н. Станкевича, ни В. Белинского, ни М. Лермонтова,
в 1855 году умер Т. Грановский. Покинули родину А. Герцен,
Н. Огарев, М. Бакунин... На смену шли свежие, крепкие силы,
не отягощенные грузом несбывшихся надежд, разочарований
и потерь. И появись новая эстетическая теория Чернышевского
годами десятью раньше, она бы осталась незамеченной. Теперь
было другое дело, теперь разночинец не то что бы не принимал
дворянской культуры или тем более растворялся в ней, теперь
он ей противостоял, претендуя на главенствующее положение
в общекультурной жизни страны. Вот на эту благодатную почву
и пали слова Чернышевского.
140
Чтобы в литературе идти своим путем, разночинству нужна
была своя философия эстетики, которая бы опровергала прежние
эстетические воззрения и представления. Вот такую новую фило¬
софию эстетики и дал Чернышевский в своей диссертации,
поэтому-то она и произвела такой переполох в первую очередь
именно среди писателей, формирование мировоззрения которых
пришлось на тридцатые годы.
«Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное
есть жизнь»... Действительность не только живее, но и совершен¬
нее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всег¬
да неудачная переделка действительности... Пусть искусство
довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в слу¬
чае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее
и быть для человека учебником жизни... Задачею автора было
исследовать ’вопрос об эстетических отношениях произведений
искусства к явлениям жизни, рассмотреть господствующее мне¬
ние, будто бы истинно прекрасное, которое принимается сущест¬
венным содержанием произведений искусства, не существует
в объективной действительности и осуществляется только искус¬
ством...»
Этими положениями Чернышевский, переподчиняя идеаль¬
ное реальному, выбивал краеугольный камень из прежней
эстетической теории — ее идеалистическое основание. Взамен он
давал эстетическую теорию, построенную на фундаменте ма¬
териализма. Потому-то в его адрес и было высказано столько
резких слов.
Но вообще-то резким словам, несправедливым суждени¬
ям, обидным оценкам, адресованным писателями в адрес друг
друга, не следует придавать особого значения, вернее, не сле¬
дует их преувеличивать, хотя в жизни самих писателей все
эти слова, суждения и оценки играют порой даже роковую
роль.
Если же говорить о конкретном случае, то есть о резких отзы¬
вах некоторых ведущих авторов «Современника», адресованных
его главному критику, то они в то время практического дейст¬
вия не возымели. Именно в тот период Тургенев будет очень
часто заходить на квартиру Некрасова, где размещалась редак¬
ция «Современника», и постоянно встречаться там с Чернышев¬
ским. Отношения между ними будут предельно корректными,
а когда Иван Сергеевич ознакомится с его работой «Очерки го¬
голевского периода русской литературы», то даже признается
Л. Толстому: «Мне в них (то есть в статьях Чернышевского.—
А. Л.) не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение
черствой души, но я радуюсь возможности их появления, радуюсь
141
воспоминаниям о Белинском, радуюсь тому, что, наконец, произ¬
носится с уважением его имя».
Раскол в журнале произойдет позже, когда к противоречиям
1855 года присовокупятся новые противоречия, порожденные
не столько личными взаимоотношениями автором журнала, сколь¬
ко обстоятельствами самой жизни. А пока «Современник» уси¬
лиями Некрасова сплачивал свои ряды.
1855 ГОД
Западноевропейские события 1848 года произвели переполох
в правительственных кругах России: отныне даже разговоры
о каких-либо серьезных преобразованиях стали небезопасны.
Реакция хотя и не уничтожила общественную мысль, но поста¬
вила ее в условия самые тяжелейшие. Крымская война и смерть
императора Николая I, кажется, положили конец мрачному
периоду общественного молчания. Однако для того, чтобы понять
характер общественных надежд и общественно-политическую
атмосферу того времени, то есть времени восшествия Александ¬
ра II на престол, необходимо сказать несколько слов и о самой
войне 1853—1855 годов, и о причинах, ее вызвавших, и об отно¬
шении русской общественной мысли к так называемому «восточ¬
ному вопросу», решение которого вылилось в конце концов
в вооруженное столкновение великих держав и прервало на
Европейском континенте почти сорокалетний мир.
В результате февральской революции 1848 года во Франции
был низложен Людовик-Филипп и образовалась Вторая республи¬
ка. Власть перешла к президенту .Людовику-Наполеону (племян¬
нику Наполеона I) и законодательному собранию, большинство
в котором принадлежало монархистам разных партий. Общими
усилиями монархистам удалось сломить сопротивление ради¬
калов, и уже в конце 1852 года президент Людовик-Наполеон
провозглашается императором и принимает титул «Напо¬
леона III, Божиею милостью и по воле народа императора
французов».
Новый французский император в свое время за попытку со¬
вершить государственный переворот был присужден к пожизнен¬
ному заключению, однако ему удалось бежать. Результатом
шестилетнего пребывания в тюрьме явилась изданная в Лондоне
книга «Наполеоновские идеи», в которой Людовик-Наполеон вы¬
казал себя отнюдь не сторонником мирной государственной
политики.
112
Взойдя на престол, Наполеон III возмечтал о том, чтобы расши¬
рить территорию Франции до ее «естественных границ», каковы¬
ми считал, по крайней мере, Альпы и Рейн, и вернуть стране ее
первенствующее положение на континенте. Он отдавал себе отчет
в том, что никакая дипломатическая игра ощутимых результа¬
тов не даст — слишком уж чувствительными к различного рода
территориальным притязаниям были его партнеры по этим играм.
Оставалось только одно действенное средство — война. К тому же
успешная война (а автор книги «Наполеоновские идеи» в успехе
не сомневался) могла отвлечь от внутренних дел внимание наро¬
да, который, хотя и высказался на плебисците в его пользу, вряд
ли надолго сохранил бы свои верноподданнические чувства.
С момента венских трактатов (1815) на Европейском конти¬
ненте не раз возникали острые конфликтные ситуации, но каж¬
дый раз их удавалось притушить. Когда президент Людовик-
Наполеон стал императором Наполеоном III, обострился так
называемый «восточный вопрос». Англия, боясь усиления влия¬
ния России на Балканах, начала подстрекать турецкого султа¬
на, и тот отказался признать за Россией право покровительство¬
вать православным в Турецкой империи.
В лице Наполеона III английское правительство нашло актив¬
ного союзника, и вскоре эти державы выслали свои военные
эскадры во все моря, омывающие берега России. В предшест¬
вующие четыре десятилетия не раз складывались различные
коалиции европейских государств, потом эти коалиции распада¬
лись, возникали новые... Многие надеялись, что и на сей раз война
дипломатов приведет к новой перегруппировке сил, и только.
Николай Гаврилович Чернышевский в это время находился
в Петербурге и в одном из писем (6 июля 1853 года) сообщал
отцу: «Но всего более занимают Петербург толки о предстоящей
турецкой войне. Иностранные газеты уверены, что война будет
и обратится из войны между Россией и Турцией в войну между
Россиею и Англиею. У нас, по слухам, делаются очень большие
приготовления».
Минуло лето, и уже поздней осенью (25 октября) Николай
Гаврилович пишет отцу: «У нас в Петербурге только и толков, что
о турецкой войне, разыграется ли она или кончится, не начи¬
навшись? Я считаю вероятнейшим последнее; но большею частью
ожидают серьезной войны. Если Турция будет в опасности разру¬
шиться окончательно (в чем не может быть сомнения, если будет
серьезная война), то Англия без всякого сомнения примет в войне
деятельное участие, и тогда дело станет гораздо важнее. Но едва
ли не уладится все довольно мирным образом, потому что ни
Россия, ни Англия не хотели бы без крайней необходимости
1 13
воевать друг с другом. И действительно, едва ли уже не заключе¬
но у нас с Турциею перемирие».
Насчет намерений Англии Николай Гаврилович заблуждал¬
ся. Обретя в лице Наполеона III надежного союзника, Англия
могла как минимум надеяться на нейтралитет Пруссии, посколь¬
ку Николай I препятствовал объединению немецких земёль под
эгидой Пруссии, держа в этом вопросе сторону Австрии. К союзу
Англии и Франции примкнула еще Сардиния. Россия могла
надеяться только на поддержку Австрии, которой Николай I
помог недавно подавить венгерское восстание. Но Австрия, по вы¬
ражению одного из деятелей того времени, решила «удивить мир
своею неблагодарностью» и заняла резко враждебную позицию
по отношению к России. Такой ситуации не могли упустить
ни Пальмерстон, ни Наполеон III, решившие положить конец
многолетнему первенствующему положению России на Европей¬
ском континенте. Союзники высадили десант в Крыму и осадили
русскую морскую крепость на Черном море — Севастополь.
Попервоначалу война вызвала прилив патриотических чувств,
Россия вступила в нее с сознанием своей силы и справедливости
своей исторической миссии. Очень знаменательно в этом отноше¬
нии было стихотворение Федора Глинки «Ура!», моментально
разошедшееся в количестве девяти тысяч экземпляров.
«Лавочники, харчевники, саечники и цирюльники были са¬
мыми ревностными покупателями. Затем пошли требования (че¬
рез почту) из городов. Собранную за издание сумму я,— писал
автор этого стихотворения Гречу,— уже отправил военному
министру и получил в ответ высочайшую благодарность его
императорского величества».
Разумеется, правительство понимало пользу патриотической
поэзии и потому поощряло ее. Вслед за брошюрой Ф. Глинки были
изданы десятки подобных брошюр других авторов. Патриоти¬
ческая поэзия заполонила и периодическую печать. Необычайно
расцвел в это время и жанр политической карикатуры, в произ¬
ведениях которого больше всего высмеивались Наполеон III
и Пальмерстон. Предложение даже, кажется, начинало опережать
спрос, и тогдашний министр просвещения А. С. Норов обратился
к Николаю I с докладом, в котором «повергал на высочайшее
разрешение, до каких пределов может быть допущено изъяснение
подобных чувствований?» Царь 8 февраля повелел разрешить
«беспрепятственное печатание вышеизложенных сочинений с тем
только, чтобы в них не заключалось брани».
«Кстати о поэтах,— записывал в дневнике 27 октября 1854 го¬
да А. В. Никитенко.— Между ними теперь вообще в моде пат¬
риотические стихи. В этом, конечно, ничего предосудительного.
144
Но беда в том, что все эти признанные и непризнанные поэты —
особенно последние — вдохновляются не столько действительным
патриотизмом, сколько вожделениями к перстням, табакер¬
кам и т. д.»
Конечно, не все поэты вдохновлялись вожделением к перст¬
ням и табакеркам. Например, Алексею Хомякову пришлось даже
объясняться с московским генерал-губернатором А. А. Закрев-
ским по поводу своего стихотворения «России», в котором выра¬
жались отнюдь не верноподданнические чувства. И тут достаточ¬
но привести несколько строф, чтобы понять умонастроение автора.
...Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,—
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной, '
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!..
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!
И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыль кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом — то божий меч!
Эти стихи А. Хомякова говорят о том, что вызванные крым¬
ской войной чувства не укладывались в тесные рамки военно-
патриотического возбуждения и были чреваты тем граждан¬
ским протестом против внутреннего деспотизма и внутренней
неустроенности («А на тебя, увы! как много грехов ужасных
налегло!..»), который после войны с Наполеоном I привел в кон¬
це концов к декабрьскому восстанию 1825 года. И между прочим,
как для оппозиционного настроения первой половины двадца¬
тых годов, так и для середины годов шестидесятых не послед¬
10
4078
нюю роль играл «восточный вопрос», который имел уже свою
долгую историю и вел свое существование со времен падения
Византии.
Когда, скажем, Суворов успешно воевал с армией турецкого
султана, в России созревал план (в тогдашней терминологии —
«греческий план») образования на юго-востоке Европы в проти¬
вовес Оттоманской империи нового православного государства
со столицей в Константинополе. Так, Екатерина II в надежде,
что когда-нибудь на престоле этого государства окажется отпрыск
ее династии, даже нарекла одного из своих внуков — Константи¬
ном. Вскоре Наполеон спутал все карты, отвлек надолго и Рос¬
сию от «восточного вопроса».
После разгрома Наполеона союзники в основу своих постанов¬
лений положили принцип дипломатии XVIII века — принцип
европейского равновесия и системы вознаграждения. Если мы
посмотрим на карту Европы образца 1815 года, то увидим, что
на ней многое изменилось по сравнению с 1812 годом, однако
неизменным остался принцип отношения к суверенитету наций.
Как и при Наполеоне, полностью игнорировались интересы
народов: стремление наций к единению или освобождению от
иноземного ига. В частности, Венский конгресс совершенно
устранился от решения судеб европейских народов, порабощен¬
ных Оттоманской империей, и воспротивился всяким попыткам
объединения польского, немецкого и итальянского народов.
Таким образом, федерация европейских государств, образовав¬
шаяся в ходе борьбы с наполеоновским нашествием, после разгро¬
ма Наполеона превратилась в федерацию правительств европей¬
ских государств, душою которой стал Меттерних, сформулиро¬
вавший главнейшие задачи следующим образом: «...цель мятеж¬
ников едина и единообразна — это ниспровержение всего законно
существующего. Принцип, который должны противопоставлять
монархии, это принцип сохранения (conservation) всего законно
существующего ».
Думается, мы нисколько не погрешим против истины, если
скажем, что после окончательного падения Наполеона русский
царь Александр I стал очень популярной личностью не только
в России, но и во всей остальной Европе, чему способствовали
как победы русского оружия на поле брани, так и некоторый
либерализм, который выгодно отличал его от других европейских
правителей. В борьбе России с Наполеоном Александр I усматри¬
вал священную миссию избавления Европы от узурпатора, и пото¬
му он в свое время, например, воспротивился уменьшению тер¬
ритории Франции, на что покушались его далеко не бескорыст¬
ные союзники. Не кто иной, как Александр I настоял, чтобы
146
Людовик XVIII дал конституционную хартию французскому на¬
роду, а сам он даровал конституцию Польше с мыслью распро¬
странить ее на все государство Российское, наконец, сохранил
присоединенной в 1809 году Финляндии шведское государствен¬
ное устройство. И недаром Меттерних смотрел тогда на русского
царя да еще на прусского министра Штейна как на якобинцев.
Вполне понятно, что первые либеральные акции Александра I
поначалу должны были вызвать и вызвали в русском обществе
надежду на скорую демократизацию российских порядков. Но
время шло, и надежды стали уступать место законным сомнениям.
В 1820 году начались волнения в Греции, а в октябре вожди
гетерии1 уже решали вопрос о начале восстания против турецкого
ига. Министром иностранных дел России в то время был грек
по национальности — Каподистрия, горячо сочувствовавший гре¬
ческому народу, так что греческие патриоты рассчитывали на
всестороннюю поддержку России. Во главе восстания встал быв¬
ший офицер русской армии Александр Ипсиланти, внук казнен¬
ного турками валахского господаря. В феврале 1821 года вос¬
стание началось. Турки ответили на него неслыханной резней
христианского населения в своей империи. Султан объявил
константинопольского патриарха Григория IV изменником и при¬
казал казнить его. Патриарх был повешен, а затем тело его после
надругательств было брошено в море. Труп патриарха был вы¬
ловлен и доставлен в Одессу на одном из греческих кораблей.
Надо сказать, роль освободителей европейских народов от
наполеоновского нашествия льстила национальному самолюбию
русских и развивала его. И теперь симпатии русского передового
общества постоянно были на стороне народов, борющихся за свое
национальное освобождение. И не только симпатии, главное,
всегда было желание прийти на помощь порабощенным. «Только
страх войны с Россией,— писал английский историк Чарльз
Файф,— заставил султана Махмуда прекратить эти насилия. Рус¬
ская армия и русский народ отомстили бы за казнь патриарха
немедленно войною, если бы русский государь поступил согласно
их желанию».
Николай I в первое десятилетие своего правления проявил
достаточную активность в «восточном вопросе», в результате
которой, согласно Адрианопольскому миру 1829 года, Россия
заняла на Балканском полуострове положение покровительницы
христианского населения Турецкой империи, а в 1833 году до¬
1 Тайное общество Hetaeria Philike возникло в Греции после того,
как на Венском конгрессе отвернулись от народов, порабощенных Портой.
147
говором в Ункиар Скелесси за помощь, оказанную Россией султа¬
ну в борьбе с египетским пашой, Турция обязывалась закрыть
проливы для военных судов западных стран по первому требо¬
ванию России.
Англии путем долгих интриг в конце концов удалось скло¬
нить Турцию на свою сторону и образовать сильную анти¬
русскую коалицию. Сочувствие к порабощенным Турцией наро¬
дам и возмущение политикой Англии и Франции были в русском
обществе искренними, и тем сильнее было разочарование,
когда ход военных действий начал складываться не в пользу
России. По словам С. Т. Аксакова, оборонительная война вы¬
зывала «оскорбление, негодование всей Москвы, следовательно,
всей России».
В феврале 1855 года умер император Николай I, а в ав¬
густе был сдан Севастополь.
«Как неумолимо правосудна судьба! Как жестока в своей
логике! Признаюсь — я не очень негодую на Горчакова; Се¬
вастополь пал не случайно, не по его милости; я жалею, что не
было тут искуснейшего генерала, чтобы отнять всякий повод
к искажению истины; он должен был пасть, чтобы явилось на
нем дело Божие, т. е. обличение всей гнили правительственной
системы, всех последствий удушающего принципа. Видно —
еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки; нигде сквозь
окружающую нас мглу не пробивается луч новой мысли, но¬
вого начала» — эти слова писал Иван Аксаков в середине
октября 1855 года.
Позднее Н. Шелгунов об этих днях скажет так: «Неожи¬
данно началась война, неожиданно пал Севастополь. Но когда
эта громада пала, когда оказалось, что Россия не имеет ни
денег, ни людей, чтобы продолжать борьбу, когда две такие
неожиданности, как смерть императора и павший Севастополь,
точно два громадных удара, повторились один за другим,
Россия точно проснулась от летаргического сна... В том, что
после Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми
овладело критическое настроение, и заключается разгадка мисти¬
ческого секрета шестидесятых годов».
Вернемся к делам литературным.
10 апреля 1848 года А. Краевскому за публикацию на стра¬
ницах «Отечественных записок» повести Михаила Салтыкова
«Запутанное дело» был вынесен выговор, санкционированный
самим императором. Краевский, чтобы как-то загладить «вину»
и произвести выгодное для себя впечатление, сразу же опубли¬
148
ковал в журнале собственную статью «Россия и Западная
Европа в настоящую минуту».
«Европа,— писал не без причины перепугавшийся издатель
«Отечественных записок»,— представляет теперь зрелище беспри¬
мерное и чрезвычайно поучительное. В одной половине ее —
безначалие со всеми своими ужасными последствиями; в дру¬
гой — мир и спокойствие со всеми своими благами. Определение
и разделение здесь так верны, что никакие географические
границы не могут означать их лучше, и вы уже назвали —
Западную Европу и Россию. Отчего же это изумительное явление,
которое поражает всякого, и особенно тех, кто не привык вни¬
кать в причины видимых явлений? Отчего в одной половине
Европы ниспровержение всех государственных и общественных
оснований, в другой — умилительное зрелище незыблемой закон¬
ности, которая только заимствует новый блеск и силу от противо¬
положного ей явления?..
Россия! драгоценное наше отечество! Цвети и красуйся под
сенью своих самодержавных монархов, более и более утверждаясь
в основных началах твоего могущества и величия. Внешние бури
не испугают нас...»
Конечно, Краевским тогда в первую очередь руководило
«спасательное» чувство — спасти журнал, спасти себя. Но все-
таки в его статье были и искренние слова.
Могущество и величие России!.. Многие в то время утеша¬
ли себя именно тем, что приносимые в жертву столь соблаз¬
нительные и любезные сердцу человека свободы оборачиваются
той государственной мощью, которая и приносит России ве¬
личие. Однако будущее показало, что жертвы — и жертвы не¬
малые — были принесены не во имя могущества и величия Рос¬
сии, а во имя вот сегодняшнего позора. Во время Крымской
войны статья Краевского показалась бы просто издевкой. Те¬
перь обществу куда более импонировали стихи Хомякова
«России», в которых отразился не только сегодняшний, но
и вчерашний день.
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена...»
Чтобы творить правое дело, надо прежде очиститься от собствен¬
ных грехов, искупить их.
А «неправды черной» было достаточно везде и всюду, в том
числе и в литературной жизни...
В январе 1847 года покидает родину Александр Иванович
Герцен, которому шел тогда тридцать пятый год.
28 мая 1848 года в Петербурге в возрасте тридцати семи
лет скончался Виссарион Григорьевич Белинский. Имя его упо¬
минать в печати и в официальных выступлениях запретили.
149
21 апреля того же года двадцатидвухлетний автор повести
«Запутанное дело» Михаил Евграфович Салтыков был арестован,
а через две с небольшим недели выслан в сопровождении жан¬
дармов в Вятку.
В декабре 1849 года двадцативосьми летний Федор Михай¬
лович Достоевский приговаривается к смертной казни, замененной
четырьмя годами каторжных работ с последующим определением
в армию рядовым.
В 1852 году отечественная литература понесла тяжелую
утрату — на сорок третьем году жизни в Москве скончался
Николай Васильевич Гоголь.
Иван Сергеевич Тургенев написал некролог на смерть вели¬
кого писателя. Петербургская цензура печатать некролог
воспретила. Тургенев опубликовал его в Москве, в «Московских
ведомостях», результатом чего явилась высылка Ивана Сергееви¬
ча в его родовое имение Спасское-Лутовиново.
У молодого драматурга Александра Николаевича Островского
в 1847, 1849, 1850 годах цензура соответственно запрещает
к постановке пьесы: «Картины семейного счастья», «Свои люди —
сочтемся» и перевод шекспировской пьесы «Укрощение злой
жены».
21 апреля 1852 года вышел первый том «Московского
сборника» (предполагалось выпустить четыре). В результате
совместных усилий «Комитета 2 апреля»1, III отделения и
министра народного просвещения 3 марта следующего года было
принято такое решение:
«1) второй том «Московского сборника» вполне запретить,
2) прекратить вообще издание «Сборника», 3) редактора Ивана
Аксакова лишить права быть редактором каких бы то ни было
изданий, 4) Ивану Аксакову, Константину Аксакову, Хомякову,
Ив. Киреевскому и князю Черкасскому, сделав наистрожайшее
внушение за желание распространять нелепые и вредные по¬
нятия, приказать представлять свои рукописи впредь прямо в
главное управление цензуры».
М. Лемке пишет по этому поводу, что министр народного
просвещения П. А. Ширинский-Шахматов хотел вообще лишить
их права печататься, но от этой кары их спасло только заступ¬
ничество графа А. Ф. Орлова. «Впрочем,— пишет М. Лемке,—
гр. Орлову принадлежит честь и слава установления над этими
1 «Комитет 2 апреля 1848 года» осуществлял безгласный надзор за
действиями цензуры. Первоначально возглавил его действительный статский
советник Д. П. Бутурлин.
150
пятью славянофилами — «как людьми открыто неблагонадеж¬
ными» — явного полицейского надзора».
Этим перечень имен литераторов, подвергшихся репрессиям
в тот период, далеко не исчерпывается.
Пусто и неуютно становилось в мире отечественной ли¬
тературы.
В 1852 году покидает казенный Петербург Иван Александро¬
вич Гончаров. Он уходит в кругосветное путешествие в должности
секретаря вице-адмирала Евфимпия Васильевича Путятина,
возглавившего это путешествие.
Разумеется, кругосветное путешествие Гончарова, ссылку
Тургенева или даже Салтыкова нельзя сравнивать с каторгою
Достоевского. Ивана Сергеевича в ссылке навещали друзья, он
вдоволь поохотился, отвел что называется душу... Потом он
писал: «Но все к лучшему: пребывание под арестом, а потом
в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня
с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном
ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания».
Салтыков в Вятке тоже многое повидал и даже сделал там
неплохую карьеру.
Но суть не в том, как в дальнейшем отразились репрессии
на творческих исканиях и обретениях того или другого писа¬
теля, а в том, какую атмосферу они создавали в тогдашней
повседневной жизни писателей и издателей. Смелость зачастую
делалась осторожной. Осторожность порой становилась без¬
деятельной...
И вот наступил 1855 год.
Герцен выпускает в Лондоне первый номер альманаха
«Полярная звезда».
Достоевский по ходатайству героя обороны Севастополя
генерала Э. Тотлебена производится в офицеры и получает
возможность вернуться к литературной деятельности.
Салтыкову по повелению Александра II разрешается отныне
«проживать и служить, где пожелает».
Правда, Тургенев возвращается из ссылки несколько рань¬
ше, еще во время царствования прежнего императора.
151
В самом начале года из кругосветного путешествия возвра¬
щается Гончаров.
Чернышевский в мае защищает свою знаменитую диссер¬
тацию. Двадцатисемилетний критик «Современника» становится
в литературе весьма заметной фигурой.'
После падения Севастополя приезжает в столицу Толстой,
снискавший уже себе литературное признание повестями
«Детство» и «Отрочество». Теперь Петербург читает его «Се¬
вастопольские рассказы».
Смерть Николая I в передовом русском обществе вызвала
естественный вздох облегчения, сдача Севастополя вызвала
скорбь, но скорбь эта быстро пошла на убыль, потому как весь
позор Крымской кампании справедливо лег на память усопшего
монарха, а желание деятельности и возможности деятельности
смыли остатки первоначальных тягостных настроений.
Предчувствовался не только расцвет русской литературы,
но и обновление самой жизни.
Новый российский император хотя и не был по своему
характеру решительным преобразователем, но жизнь заставила
его поспешно искать выхода из кризисного положения. Первые
месяцы царствования Александра II отмечены целым рядом
распоряжений, отменявших различные запретительные и ограни¬
чительные меры в отношении печати, литературы, просвещения
и т. д., введенные при его суровом родителе. Были возвращены
из ссылки декабристы и многие поляки-повстанцы, упразднен
учрежденный в 1848 году «Комитет 2 апреля», почти целое
восьмилетие висевший над русской литературой словно дамоклов
меч. Позже о деятельности этого «комитета» в одном из офи¬
циальных документов будет сказано:
«Господство над цензурою комитета 2 апреля было крайним
напряжением системы запрещения и предупреждения. Время это
получило в литературных кругах наименование «эпохи цен¬
зурного террора». Но, как всякий террор, он не мог быть слиш¬
ком продолжительным и пророчил поворот идей в другую сто¬
рону. В самом деле, новое направление, обнаружившееся
через несколько лет по всем частям государственного управления,
не замедлило коснуться и цензуры, а ожидание общественной
мысли отразилось и на литературе. Цензурный террор мино¬
вал; но не оставил ли он по себе следа? Есть люди, кото¬
рые уверены, что продолжительное стремление цензуры под¬
чинить себе литературу и вести ее на помочах произвело ту
152
недоверчивость со стороны последней ко всякому сближению
с правительством, которая в ней замечается в настоящее
время».
С кончиной в 1855 году Николая I в обществе воцарилось
предчувствие близких коренных перемен.
«Время теперь такое,— писал в конце 1855 года К. Каве¬
лин редактору «Моско витянина» М. Погодину,— что всем
честным и благомыслящим людям в России надобно забыть
о взаимных неудовольствиях, личных, литературных и научных,
и оставить несогласие в образе мыслей на второй план, а на
первый — единство, доверие, взаимное соглашение хоть в том,
в чем согласиться можно, а таких пунктов гораздо больше, чем
кажется с первого взгляда. Теперь больше, чем когда-нибудь,
может быть столько же, сколько в 1812 г., Россия требует вер¬
ной службы от своих сынов и знать не хочет их маленьких
разногласий ».
Пожалуй, в этом письме К. Кавелина выразилось настрое¬
ние многих, хотя «маленькие несогласия» очень скоро обер¬
нулись непримиримыми противоречиями и даже откровенной
враждой. А пока стремление к единству действительно было.
Так, Чернышевский в это время пытается установить дружеские
отношения со славянофилами, утверждая, что между «Со¬
временником» и «Русской беседой» «согласие в сущности
стремлений так сильно, что спор возможен только об отвле¬
ченных и потому туманных вопросах... можно и должно у нас
не разрывать рук, соединенных в дружеское пожатие согласием
относительно вопросов, существенно важных в настоящее время
для нашей родины».
И таким существенно важным вопросом был вопрос об
отмене крепостного права на условиях, благоприятных для
земледельческого класса.
Славянофилы в это время тоже искали поддержки «Со¬
временника», готовы были забыть вражду с западниками и
готовы были сотрудничать в «Русском вестнике» М. Каткова;
М. Погодин намеревался отдать редактирование своего «Моско-
витянина» другу Т. Грановского и А. Герцена — западнику
Е. Коршу; «Современник» довольно дружелюбно относился
к «Библиотеке для чтения» А. Дружинина, к погодинскому
«Московитянину», к катковскому «Русскому вестнику» и тем более
к славянофильской «Русской беседе». Словом, в литературе
установился долгожданный мир, все сошлись в одном: нужно
оживить общественную жизнь России.
Окончание Крымской войны и Манифест о мире вселяли до¬
полнительные надежды. После объявления Манифеста Алек¬
1 53
сандр II приехал в Москву, где сказал в своей речи: «Лучше
отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того
времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу.
Прошу вас, господа, подумать о том, как бы привести это в ис¬
полнение. Передайте слова мои дворянству для соображений».
Естественно, что эти слова императора быстро облетели
всю страну, и всем стало ясно, что вопрос о крепостном праве
в принципе уже предрешен и теперь как бы вынесен на
обсуждение общественности. Впрочем, почти все дворяне по¬
нимали необходимость реформы, но многие из них боялись, как
сказал тогда известный славянофил Ю. Самарин, «одинаково
народной расправы и внезапного, неподготовленного распоряже¬
ния правительства».
У правительства и царя не было тогда никакой своей про¬
граммы, и они обратились к дворянству, чтобы те указали
способ улучшения положения крестьян, «не стесняясь прежними
постановлениями и инструкциями». Был создан негласный
комитет, которому вменялось в обязанность заниматься вопро¬
сами подготовки реформы.
В комитет посыпались различного рода «записки», но мы
не станем вдаваться в их суть за многочисленностью выска¬
занных в них самого разного рода предложений. Дело сдви¬
нулось с мертвой точки тогда, когда в октябре 1857 года
в Петербург приехал виленский генерал-губернатор Назимов
с проектом, выработанным литовским дворянством, на основании
которого и составили Рескрипт, подписанный Александром II
20 ноября 1857 года. Рескрипт опубликовали, а негласный
комитет переименовали в Главный комитет, то есть комитет
перестал быть секретным, а с начала 1858 года разрешили
обсуждать крестьянский вопрос в печати. Впервые в России
вопрос о крепостном праве обрел статус гласности, и это в
обществе вызвало бурю восторгов.
Нужно было пережить мрачное семилетие последних лет
царствования Николая I, чтобы искренне обрадоваться той от¬
тепели, которая пришла с восшествием на престол Алексан¬
дра II. К тому же все знали, в том числе и Чернышевский,
что воспитанием наследника занимался в свое время Василий
Андреевич Жуковский, между прочим, отсюда и вера в «пре¬
красное сердце нового... государя». Разочарование в новом мо¬
нархе началось не сразу. К тому же вопрос о будущей реформе
находился еще в стадии обсуждения.
«Этого 20 ноября,— писал К. Кавелин,— чаяли многие
поколения, уже сошедшие в могилу; его издавна провидели
и предсказывали лучшие умы и благороднейшие сердца; оно
I 51
озабочивало многие царствования; в ожидании его истомилось
много сердец, жаждавших правды; к нему сходились надежды
и раздумья всех истинно просвещенных людей... Будем надеять¬
ся, что дворянство окажется способным обсудить дело со стороны
не частной выгоды, но и всенародной пользы; у кого право и
власть, тот отвечает за свои действия перед Богом, Отечеством
и Историей...»
Венский посланник Балабин, побывавший в начале 1858 года
в России, писал своему парижскому коллеге графу Киселеву:
«Вы рискуете теперь, приехав в Россию, не узнать ее. По внеш¬
ности все кажется то же, но вы чувствуете внутреннее обнов¬
ление во всем, вы чувствуете, что начинается новая эра. Са¬
мые отсталые скептики, самые строптивые противники прогресса
должны признать, что в эти два года общественное мнение
в России сделало огромные успехи. Читайте наши газеты и
журналы, послушайте, что говорится в блестящих салонах
и скромных домах, и вы будете поражены работой, которая
совершается в головах. Со всех сторон идеи и светлые взгляды
вытесняют мало-помалу старую рутину, которая прежде —
и даже во время войны — не стеснялась ничем, кичилась своим
невежеством и своею глупостью. И не только в Петербурге
понятия изменяются к лучшему, но везде то же, даже в избах
крестьян, которые твердо убеждены, что их судьба скоро изме¬
нится».
А известный в то время миллионер-откупщик Кокорев за¬
верял: «Да что много толковать! Никто не откажется от участия.
Первая гильдия охотно примет лет на десять двойной платеж,
вторая и третья тоже пойдут вслед за нею на некоторую
прибавку,— да словом, все понесут свою лепту на дело общего
добра...»
Воодушевление было тогда действительно искренним, но...
недолгим, столь же недолгим было и единодушие тех, кто еще
недавно верил в возможность забыть былые разногласия.
ПРЕЕМНИК БЕЛИНСКОГО
Чернышевского обвиняли в том, что он заставляет художника
работать на потребу дня, что он принижает искусство. Эти
упреки лишены серьезных оснований, потому как эстетические
взгляды Чернышевского развивались не из отвлеченных теорий,
а в связи с анализом конкретных явлений литературного
процесса и опирались на опыт отечественной действительности.
И тут достаточно вспомнить хотя бы работы Чернышевского
о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Л. Толстого,
15 5
о «Губернских очерках» М. Салтыкова-Щедрина, рассказах
Н. Успенского, а также «Очерки гоголевского периода рус¬
ской литературы», созданные им уже после публикации и защиты
своей диссертации.
Например, анализируя произведения Толстого, Чернышевский
отстаивал истинные достоинства и спорил как раз с теми, кто
пытался втиснуть талант молодого писателя в прокрустово
ложе эстетических представлений, обусловленных не живым
развитием литературного процесса и современной действитель¬
ности, а мертвыми догмами мертвых теорий.
«Мы где-то читали недоумение относительно того,— писал
в своей работе о первых произведениях Толстого критик «Со¬
временника»,— почему в «Детстве» и «Отрочестве» нет на первом
плане какой-нибудь прекрасной девушки... Далее, там же мы
нашли нечто вроде намека на то, что граф Толстой ошибся,
не выставив картин общественной жизни... Мы любим не мень¬
ше кого другого, чтобы в повестях изображалась обществен¬
ная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэти¬
ческая идея допускает внесения общественных вопросов в про¬
изведение; не должно забывать, что первый закон художествен¬
ности — единство произведения, и что потому, изображая
«Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо
другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра
Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя
с его чувствами и понятиями».
И вот в чем видит Чернышевский главное достоинство
повестей Толстого: «Особенность таланта графа Толстого со¬
стоит в том, что он не ограничивается изображением резуль¬
татов психического процесса; его интересует самый процесс,—
и едва уловимые явления внутренней жизни, сменяющиеся
одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разно¬
образием... Психологический анализ может принимать различные
направления: одного поэта занимают всего более очертания
характеров; другого — влияние общественных отношений и жи¬
тейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с
действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего
более — сам психический процесс, его формы, его законы,
диалектика души, чтобы выразиться определенным термином».
Вряд ли автора этих строк, разбиравшего в своей статье
первые произведения Льва Толстого, можно упрекнуть в прене¬
брежении к художественности или в стремлении навязать ху¬
дожнику какие-то, хотя бы и новые, эстетические каноны.
Особое место в развитии общественной мысли и литера¬
турного процесса «пятидесятых» имела фундаментальная работа
156
«Очерки гоголевского периода русской литературы», напечатан¬
ная в XII книжке «Современника» за 1855 год и в I, II, IV, VII,
IX—XII за 1856 год, когда разногласия между либералами
и формирующимся новым направлением революционных демо¬
кратов уже начали обозначаться. Оспаривая взгляды Н. Поле¬
вого, О. Сенковского и С. Шевырева, Чернышевский разви¬
вает традиции литературной критики Белинского, связывая
новый этап в развитии русской литературы с именем Гоголя
и тем открывая широкую перспективу для молодых писа¬
телей демократического направления.
И хотя в ходе борьбы со сторонниками либерального на¬
правления, на знаменах которого было начертано имя Пуш¬
кина, Чернышевский по логике самой борьбы невольно не¬
сколько недооценивал значение творчества Пушкина, однако
он никогда не впадал в крайности нигилизма, как, скажем,
Д. Писарев, В. Зайцев и более поздние критики Пушкина.
«Прежде всего скажем,— утверждал Чернышевский,— что
Гоголя должно считать отцом русской прозаической литера¬
туры, как Пушкина — отцом русской поэзии». И тут Черны¬
шевский ссылается на схожую мысль Белинского, высказанную
им ровно двадцать лет назад. Чернышевский называет Гоголя —
автора «Ревизора» — и отцом прозаических произведений
в драматической форме, считая комедии Фонвизина «блестя¬
щим эпизодом», а гений Грибоедова, по его мнению, «не был
так велик, чтобы одним произведением приобресть с первого
же раза господство над литературою».
« Таким образом,— подводит некоторый итог Чернышевский,—
несмотря на проблески сатиры в «Онегине» и блестящие
филиппики «Горе от ума», критический элемент играл в нашей
литературе до Гоголя второстепенную роль».
В примечаниях первой главы Чернышевский уточнит тер¬
минологию, укажет на различие понятий «критическое» и
«аналитическое». «Но разница в том,— писал он,— что «ана¬
литическое направление» может изучать подробности житейских
явлений и воспроизводить их под влиянием самых разнород¬
ных стремлений, даже без всякого стремления, без мысли
и смысла; а «критическое направление», при подробном изучении
и воспроизведении явлений жизни, проникнуто сознанием о
соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою
разума и благородного чувства. Потому «критическое направ¬
ление» в литературе есть одно из частных видоизменений
«аналитического направления» вообще. Сатирическое направ¬
ление отличается от критического, как его крайность, не заботя¬
щаяся об объективности картин и допускающая утрировку».
157
Чернышевский не противопоставлял творчеству Гоголя
предшествовавшей ему литературе, он считал Гоголя вершиной
развития отечественной литературы за последние десятилетия:
«...за Жуковским явился Пушкин, за Пушкиным Гоголь, и...
каждый из этих людей вносил новый элемент в русскую
литературу, расширял ее содержание, изменял ее направление;
но что нового внесено в литературу после Гоголя? И ответом
будет: гоголевское направление до сих пор остается в нашей
литературе единственным сильным и плодотворным».
В «Очерках» впервые дан был подробный и убедительный
анализ литературно-общественных взглядов Белинского, деятель¬
ность которого, по мнению Чернышевского, «занимает в истории
нашей литературы столь же важное место, как произведения
самого Гоголя». В пятой и шестой главах исследуется история
русской общественно-политической мысли тридцатых — соро¬
ковых годов. Хотя ввиду цензурных условий Чернышевский
не мог упоминать имени Герцена, а имя Белинского впервые
им было упомянуто лишь в четвертом «очерке», ему все же
удалось показать читателю, какую роль эти мыслители сы¬
грали в развитии общественной мысли анализируемого им
периода.
Однако при всей своей бескомпромиссности в идейной
борьбе, при всех крайностях суждений и беспощадности оце¬
нок Чернышевский ценил биение самостоятельной мысли.
Так, в первой главе «Очерков» он буквально разгромил Н. По¬
левого, однако в конце главы все же счел необходимым
сказать и об объективных заслугах этого талантливого кри¬
тика перед отечественной литературой.
«...Пора снять пятно,— писал Чернышеский,— с памяти
человека, который, действуя в последние годы ошибочно, мог
быть противником литературного развития и подвергаться за то
в свое время справедливым укоризнам,— но теперь миновалась
опасность, которую представляло тогда его влияние на лите¬
ратуру,— и потому теперь должно признаться: он справедливо
говорил о себе, что всегда был человеком честным и желавшим
добра литературе, и что за ним остаются неотъемлемо важные
заслуги в истории нашей литературы...»
Приведя далее автохарактеристику уже умершего в 1846 г.
Николая Алексеевича Полевого, Чернышевский заключает:
«Сколько благородства в этих словах, и какою правдою веет
от них! Кто так говорит, тот не лжет, и действительно, не бесплодно
протекла жизнь этого человека, и не с осуждением, а с признатель¬
ностью должны мы вспоминать его».
Чернышевский спорил с Полевым, Сенковским, Шевыревым
158
и другими потому, что они отрицали сатирический пафос твор¬
чества Гоголя, противопоставляя Гоголя-романтика Гоголю-сати¬
рику, и не двусмысленно заявлял теперешним своим литератур¬
ным противникам: «Поэзия есть жизнь, действие, борьба,
страсть; эпикуризм в наше время возможен только для людей
бездейственных, чуждых исторической жизни... Литература
не может не быть не служительницей того или другого направле¬
ния идей: это назначение, лежащее в ее натуре,— назначение,
от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отка¬
заться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам
за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманы¬
ваются или притворяются; слова: «искусство должно быть
независимо от жизни» всегда служили только прикрытием
для борьбы против не нравившихся этим людям направ¬
лений литературы, с целью сделать ее служительницею дру¬
гого направления, которое более приходилось этим людям по
вкусу».
Нет, Чернышевский вовсе не стремился сравнением с Белин¬
ским перечеркнуть заслуги всех остальных критиков. Так, он
очень высоко оценил заслуги перед литературой и наукой Ни¬
колая Ивановича Надеждина (1804—1856). «До последнего вре¬
мени люди, писавшие о нашей литературе, не отдавали должной
справедливости заслугам Надеждина... Богословие и церковная
история, философия, эстетика, политическая история, литературы
всех народов, русская история, классическая и славянская фи¬
лология, археология,— десятки других отраслей знания были глу¬
боко изучены им. По многим из этих наук мы не имеем равного
ему специалиста, по всем другим он был равен первым нашим
специалистам обширностью и глубиною знаний, по каждой из них
он оставил труды, которые или подвинули вперед ее знание
в России, или подвинули вперед самую науку — последнее долж¬
но сказать почти о всех отраслях науки, касающихся России»
(из вариантов «Очерков гоголевского периода...»). Когда публико¬
вались очерки, Надеждин скончался, и Чернышевский счел долгом
сказать про него: «...покойный Надеждин, один из замечатель¬
нейших людей в истории нашей литературы, человек замеча¬
тельного ума и честности».
Но все-таки в понимании творчества Гоголя и развития го¬
голевского периода русской литературы Чернышевский выше
всех ставил Белинского. Он считал, что русская критика гого¬
левского периода (и в первую очередь Белинский и Герцен) впер¬
вые вышла на самостоятельную дорогу: «Тут в первый раз
русский ум показал свою способность быть участником в разви¬
тии общечеловеческой науки».
Чернышевский начисто отвергает мысль, будто бы Белин¬
ский в своих исканиях в силу темперамента шарахался из одной
крайности в другую, он указывает на закономерность эволюции
литературно-общественных взглядов Белинского и считает, что
смерть застала великого критика в самом расцвете его творческих
сил. «Стремления критики 1840—1847 годов,— писал Черны¬
шевский,— или как мы согласились называть ее, критики го¬
голевского периода, кажутся нам, как и всякому здравомысля¬
щему человеку настоящего времени, вполне справедливыми; мы
все привязаны к ней горячею любовью преданных и благород¬
ных учеников».
По мнению Чернышевского, после 1847 года русская крити¬
ка «ослабела» и потеряла свое влияние и даже сама подверг¬
лась влиянию, но, оглядываясь на критику гоголевского пе¬
риода, он надеялся, что «новое поколение также выйдет из приз¬
рачности, что оно оставит пустую и бесмысленную болтовню,
что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произ¬
вольность в мнениях совершенно противоположны; что в знании
царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет
знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец,
с нашею прекрасною действительностью, и что, оставив все
пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе
законную потребность быть действительно русскими людьми».
Против этой работы Чернышевского не замедлил выступить
А. Дружинин, поместивший в «Библиотеке для чтения» (1856,
№ 11, 12) статью под названием «Критика гоголевского периода
русской литературы», в которой противопоставил гоголевскому
направлению в литературе «аристократическое» пушкинское
направление. Собственно говоря, в этом и был корень противо¬
речий. «Против того сатирического направления,— писал Дру¬
жинин,— к которому привело нас неумеренное подражание
Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим оружием».
Дружинин писал, что Пушкин «создавал идеальные образы,
находил положительно идеальные черты в тех явлениях и сфе¬
рах нашей жизни, которые после него вызывают исключитель¬
но чувство отрицания».
Надо заметить, что публикация «Очерков» началась в год
смерти Николая I и падения Севастополя, а потому они прозву¬
чали призывом к действию, и в первую очередь этот призыв был
обращен к писателям. «Как ни высоко ценим мы,— писал Черны¬
шевский,— значение литературы, но все еще не ценим ее доста¬
точно: она неизмеримо важнее всего, что ставится выше ее.
Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное,
чем Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества
еще далеко не так важно, как влияние многих других писа¬
телей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так
важен для своего народа, как Гоголь для России».
Спор между Чернышевским и А. Дружининым, а если брать
шире, спор между двумя литературными направлениями, на¬
чавшийся в середине пятидесятых годов, не был теоретической
тяжбой двух противоположных эстетических школ. Автор теории,
краеугольным камнем которой был принцип «прекрасное есть
жизнь», пытался вывести литературу на самый передний край
общественной борьбы.
В течение второй половины 1856 года в журнале «Русский
вестник» печатались «Губернские очерки» Михаила Салтыкова
под псевдонимом «Надворный советник Н. Щедрин». В самом
начале следующего года «Очерки» вышли отдельным изданием.
На это издание Чернышевский откликнулся статьей, в которой
говорилось, что в произведении Щедрина очень много правды,
горькой правды. Автор статьи считает, что факты, изображен¬
ные Гоголем, Тургеневым, Григоровичем, Щедриным, верны
действительности, однако тут же ставит вопрос: как должно
относиться к самим героям подобных произведений? Проведя
тщательный анализ поступков героев и раскрыв их мотивы,
Чернышевский приходит к выводу, что щедринский подьячий
не такой уж дурной человек, как его представляют некоторые
критики.
Нет, Чернышевский вовсе не амнистирует пороки и нигде
не занижает нравственных требований, однако и обличение
действительности для него не самоцель, самоцель — обнаружение
и устранение причин, так калечащих человека. «Нам показа¬
лось,— пишет он,— что, защищая людей, мы не защищали зло¬
употреблений. Нам казалось, что можно сочувствовать человеку,
поставленному в фальшивое положение, даже не одобряя всех его
привычек, всех его поступков».
И никакая борьба со злом, ни само зло, имевшее место в жизни,
не могли заслонить от Чернышевского человека, волею судьбы
поставленного в обстоятельства, которые он не в силах преодо¬
леть. И из такого взгляда на вещи логически вытекал вывод —
надо менять обстоятельства самой жизни в ту сторону, где чело¬
веку не нужно будет прибегать ни ко лжи, ни к вымогательству,
ни к воровству, ни к каким другим, порочащим его поступкам.
По сути дела, в статье звучала пропаганда демократических
политических идей.
Вспоминая выход в свет «Губернских очерков», Достоевский
скажет: «Помним мы появление г-на Щедрина... О, тогда было
такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г. Щед¬
11
4078
16J
рин минутку, когда явиться...» Действительно, «минутка» была
прекрасной и ее ожидали не одно десятилетие...
Подавив выступление декабристов, Николай I затаил недове¬
рие к «вольному» дворянству и с надеждой обратил свой взор
в сторону покорного сословия чиновников, связав с ним свои дер¬
жавные помыслы. При Николае I увеличилось общее число на¬
чальных, средних и высших учебных заведений, увеличилось
и количество мест в существовавших учебных заведениях, де¬
мократизировалась сама система приема в средние и высшие учеб¬
ные заведения. Но все эти мероприятия были продиктованы не за¬
ботой о просвещении народа, а заботой о подготовке послушной
и обученной армии чиновников. В довольно короткий срок Ни¬
колай I превратил Россию в государство чиновников, регламенти¬
рующих не только всю материальную, но также и духовную
жизнь страны. Недаром потом он, хотя и не без некоторого ко¬
кетства, любил говаривать, что государством управляет не царь,
а чиновники.
О чиновниках в ту пору писалось немало: с жалостью о ма¬
леньких, с неприятием о чиновниках средней руки. Этих укоря¬
ли, обличали, мысленно низвергали, но они по-прежнему про¬
должали верно и надежно функционировать в стройной бюрокра¬
тической государственной системе, всепроникающей и всемо¬
гущей.
Верноподданичество вместо патриотизма; личное обогащение
и карьеризм вместо служения отечеству; житейские выгоды
вместо высоких идеалов — вот та нравственная атмосфера, в ко¬
торой росли будущие деятели шестидесятых годов, вот то насле¬
дие, с отрицания которого они и начали свои нравственные иска¬
ния, и их нигилизм был прежде всего реакцией на безыдейность
николаевской эпохи, на безыдейность отцов, очень часто людей
сильных и порой достаточно образованных, но лишенных каких
бы то ни было духовных запросов и интересов. Николай I, преобра¬
зуя систему учебных заведений, меньше всего рассчитывал на тот
результат, к которому в конце концов привели эти мероприятия.
Салтыков-Щедрин, характеризуя дворянина-помещика и ка¬
питалиста, писал: «Эти ублюдки (капиталисты—А. Л.) крепост¬
ного права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное
в свою пользу, в форме менее разбойной, но, несомненно, более
воровской...» Последнюю форму (воровскую) можно распростра¬
нить без всякой натяжки и на чиновничество николаевской эпохи.
Тут достаточно вспомнить хотя бы гоголевского «Ревизора»,
нашедшего столь живой отклик у своих современников...
162
«Разбойное» дворянство в конце концов дало тип «кающегося
дворянина», осознавшего свою историческую вину перед на¬
родом. «Воровское» чиновничество дало тип «нигилиста-разно¬
чинца», обличающего и отрицающего всю современную извест¬
ную ему действительность и в первую очередь ту среду, которая
его породила. Дети и внуки чиновников николаевского набора,
получившие образование, своим первым идеалом посчитали
отрицание идеалов отцов.
Однако отрицание было только первоначальной реакцией
на действительность, жажда созидания толкнула разночинца-
шестидесятника на поиск положительных идеалов, и он неволь¬
но обратил свой взгляд в прошлое, разумеется, более далекое,
чем то, которому он сам был некогда свидетелем.
Будучи отрезанным от своих «дедов», что «землю пахали»,
одним или двумя поколениями, разночинец быстро восстановил
любовь к своим предкам, заменив попервоначалу ею так не¬
достающее в его деятельности само знание народа. Эта любовь
его была бескорыстной, а всякая бескорыстная любовь чревата
самопожертвованием, он готов был к самопожертвованию и от
этой готовности чувствовал себя немножечко героем. Вот поэтому
так широко потом и распространится теория «героя и толпы».
Но тут непременно следует оговориться, ибо теория «героя
и толпы», которая покрывается общим понятием «волюнтаризм»,
имела два совершенно разных источника и две разные интерпре¬
тации в жизни.
«Я вырос,— говорил Наполеон Меттерниху,— на полях битв:
такому человеку, как я, наплевать на жизнь миллионов людей!»
Наполеон — «промежуточное» дитя буржуазной революции,
и в нем, можно сказать, в абсолютной степени воплотилась
философия буржуазного индивидуализма.
Другое дело — наш нигилист-разночинец. Отрицая государст¬
венные порядки, он постоянно жил государственными интереса¬
ми, отрицая службу, он полностью посвятил себя служению.
Польза народная — вот его священная молитва, которую
он творил для укрепления собственного духа и собственной воли
и которую ежедневно и ежечасно претворял в своей неутоми¬
мой деятельности. Если Наполеону было «наплевать на жизнь
миллионов людей», то наш разночинец готов был как раз
«наплевать» на собственную жизнь во имя счастья вот этих
миллионов людей.
Не имея в виду этой самой общей схемы, невозможно разоб¬
раться ни в сложностях литературного процесса и обществен¬
ного движения второй половины пятидесятых — начала шести¬
десятых годов прошлого века, ни в той популярности журнала
163
«Современник» и личности самого Чернышевского в молодой
разночинной среде того периода. Чернышевский не только
наследовал традиции Белинского, но и развил их соответствен¬
но новым социально-историческим условиям. Собственно говоря,
Чернышевский представил собою новый тип критика, соеди¬
нявшего в себе роль главы целого литературного направления
и роль идейного вождя освободительного движения.
ДОБРОЛЮБОВ
Когда в начале 1856 года был подписан Парижский мир,
главнокомандующий русской армией князь Горчаков сказал
новому императору: «Хорошо, что мы заключили мир, дальше
воевать мы были не в силах. Мир дает нам возможность заняться
внутренними делами, и этим должно воспользоваться. Первое
дело — нужно освободить крестьян, потому что здесь узел всяких
зол».
«Крестьянский вопрос», как мы уже говорили, обрел права
гласности с начала 1858 года, однако это вовсе не означает, будто
он никак не дебатировался на страницах периодических изда¬
ний до официального правительственного разрешения. Так,
13 февраля 1857 года Чернышевский пишет за границу Некра¬
сову: «Как только разделаюсь с Лессингом, стану писать постоян¬
но о более живых предметах — или даже не лучше ли отложить
Лессинга? Ведь будет еще три статьи — их пока читают и хва¬
лят даже, но все-таки в сущности это вздор. Выгоднее говорить
о чем-нибудь посовременнее».
И это «посовременнее» был «крестьянский вопрос», о кото¬
ром Чернышевский пытался развязать широкий разговор на стра¬
ницах «Современника» еще до правительственного разрешения
обсуждать его в печати. Используя различные поводы, Черны¬
шевский последовательно проводит свои мысли по «крестьянско¬
му вопросу» ввиду предстоящей крестьянской реформы. В том же
1857 году им были опубликованы в «Современнике» статьи:
«Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в
особенности сельских учреждений России. Барона Августа Гакст-
гаузена», «О поземельной собственности», «О некоторых усло¬
виях, способствующих умножению народного капитала». Речь
И. Бабста». «Рассуждение о гражданском и уголовном законо¬
положении». Сочинение И. Бентама» и другие работы, в которых
уже видна была позиция Чернышевского по данному вопросу.
164
Особый интерес представляют здесь две его работы из цик¬
ла «Заметки о журналах» («Март 1857» и «Апрель 1857»).
В первой он хвалит две статьи Юрия Самарина, помещенные
в «Русской беседе», и высказывает свою солидарность со славяно¬
филами в связи с их критикой капиталистического Запада.
«Лучшие люди славянофильской партии,— писал Чернышев¬
ский,— люди с горячею преданностью своим убеждениям; уж
этим одним они полезны в нашем обществе, самый общий не¬
достаток в котором не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсут¬
ствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а сла¬
бость всяких умственных и нравственных влечений. Прежде,
нежели желать того, чтобы все твердо держались образа мыслей,
который кажется кому-нибудь из нас справедливейшим, надобно
признавать настоятельнейшею потребностью русского общества
пробуждение в нем мысли и способности к принятию каких-либо
умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений,
каких-либо общественных интересов. А исполнению этого дела
славянофилы стараются содействовать всеми силами и, как люди
горячих убеждений, очень полезным образом действуют на про¬
буждение умов, доступных их влиянию...
Не оправдывая всего того, что говорят даже лучшие пред¬
ставители славянофильства, человек, любящий родину и прини¬
мающий выводы науки на Западе, должен, однако же, сказать,
что столь общее отрицание всякой справедливости в славяно¬
фильстве неосновательно, должен признать, что из элементов, вхо¬
дящих в систему этого образа мыслей, многие положительно оди¬
наковы с идеями, до которых достигла наука или к которым при¬
вел лучших людей исторический опыт в Западной Европе».
Разумеется, Чернышевский вовсе не собирался брать на себя
роль адвоката славянофильства, тут он преследовал свои цели.
Во второй статье Чернышевский писал: «В прошлом месяце,
по поводу прекрасных статей Ю. Самарина в первой книге
«Русской беседы» нынешнего года, заговорив о том, что может
быть одобрено в славянофильстве, мы сказали только половину
того, что хотели сказать. Мы слегка коснулись тех сторон
западноевропейской жизни, которые в каждом благомыслящем
человеке, какой бы стране он ни принадлежал, возбуждают
скорбное чувство и заставляют лучших мыслителей Западной
Европы признавать настоящую степень развития западноевропей¬
ской жизни состоянием еще чрезвычайно неудовлетворительным».
Собственно говоря, критиковать какие-то стороны западно¬
европейской жизни Чернышевский мог и без каких-либо ссылок
на славянофилов, тут можно было обойтись и без союзников.
Ему как раз было важно то, о чем он не сказал в первой статье
165
и о чем сказал во второй. Статья эта довольно растянута, зато
выводы звучат в ней очень определенно.
«Важность распространения здравых понятий о вопросе, ка¬
сательно необходимости для национального благосостояния
сохранить господствующее у нас общинное пользование землею,
чрезвычайно велика,— утверждал Чернышевский.— Но пример
западного населения, бедствующего от утраты этого принципа,
не имеет над большинством наших экономистов такой силы,
как лишенные всяких дельных оснований изречения тех полити¬
ко-экономических авторитетов, которых они привыкли держать¬
ся. Славянофилы в этом случае не таковы. Они знают смысл уро¬
ка, представляемого нам участью английских и французских зем¬
ледельцев, и хотят, чтобы мы воспользовались этим уроком. Они
считают общинное пользование землями, существующее ныне,
важнейшим залогом, необходимейшим условием благоденствия
земледельческого класса. В этом случае они высоко стояли над
многими из так называемых западников, которые почерпают
свои убеждения в устарелых системах, принадлежащих по духу
своему минувшему периоду одностороннего увлечения частными
правами отдельной личности и которые необдуманно готовы
восстать против нашего драгоценного обычая как несовмести¬
мого с требованиями этих систем, несостоятельность которых уже
обнаружена наукою и опытом западноевропейских народов.
Все теоретические заблуждения, все фантастические увлечения
славянофилов с избытком вознаграждаются уже одним убежде¬
нием их, что общинное устройство наших сел должно остаться
неприкосновенным при всех переменах в экономических отно¬
шениях...
И если уж должно делать выбор, то лучше славянофильство,
нежели та умственная дремота, то отрицание современных убеж¬
дений, которое часто прикрывается эгидою верности западной
цивилизации, причем под западною цивилизацией понимаются
чаще всего системы, уже отвергнутые западною наукою, и факты,
наиболее прискорбные в западной действительности, например,
порабощение труда капиталу, развитие искусственных потреб¬
ностей, удовлетворяемых роскошью, и т. д.— не говоря уже
о заменении общинной поземельной собственности полновласт¬
ною, личною».
Поскольку в то время «крестьянский вопрос» еще не подлежал
широкому публичному обсуждению, то приходилось вести спор
как бы теоретический, и свою солидарность со славянофилами
Чернышевский прямо-таки демонстрирует, чтобы спровоцировать
на нужный ему разговор не только своих противников, но и про¬
тивников славянофилов, о чем он признается в письме к псковско¬
166
му помещику, сотруднику «Земледельческой газеты» и «Современ¬
ника» Александру Сергеевичу Зеленому, с мнениями которого он
очень считался.
«Когда я начинал это дело,— тут Чернышевский имел в виду
споры об общинном землевладении,— наглым тоном требуя отве¬
та у «Эконом, указ.», мне хотелось вызвать во что бы то ни стало
положительный ответ.— «Эк. у к.» отвечает не совсем добросо¬
вестно, ну, да это так и быть. Я все-таки буду возражать самым
деликатным образом, с учтивостями и т. д., чтобы только продлить
охоту «Эк. у к.» к прению, начатому ими против воли. У меня
тут есть разные цели — между прочим, и те, которыми заняты
Вы. Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о преобразо¬
вании сельских отношений... Вмешивайтесь в это дело и обсуди¬
те вопрос с практической точки... Не стесняйтесь в возраже¬
ниях, тут дело вовсе не о том, безошибочен ли я... Но скажите,
неужели невозможно сохранить принцип: «Каждый земледе¬
лец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам
на себя, а не на арендатора или помещика работать?»
В этом же письме Чернышевский четко формулирует постав¬
ленную перед собой цель: «Как скоро допустим, что при эманси¬
пации земля дается в полную собственность не общине, а отдель¬
ным семействам с правом продажи, они продадут свои участки,
и большинство сделается бобылями. Освобождение будет, когда,
я не знаю, но будет; мне хотелось бы, чтобы оно не влекло за
собою превращения большинства крестьян в безземельных бо¬
былей! К этому я хотел бы приготовить мысль образованных
людей, давно приготовленных к эмансипации».
И Чернышевский добился своей цели — полемика состоялась.
В 21-м номере «Экономического указателя» появилось «Письмо
к редактору» К. А. с примечанием, в котором говорилось, что
газета принимает вызов «Современника», а в последующих но¬
мерах были опубликованы статья редактора И. В. Вернадского
«О поземельной собственности (Критику «Современника»)* и за¬
метка В. Пр-кова «К вопросу о поземельной собственности».
Чернышевский ответил Вернадскому двумя статьями, в которых
горячо отстаивал общинный способ землевладения. Первая статья
была напечатана в сентябрьской книжке «Современника»,
а вторая — в декабрьской. Статьи эти объединены общим наз¬
ванием «О поземельной собственности».
Когда летом 1856 года Некрасов уехал за границу, он пере¬
дал свои редакторские права и обязанности Чернышевскому,
и теперь тому требовался в работе надежный помощник. И такой
помощник вскоре нашелся.
По своем возвращении из Саратова в 1852 году Николай
167
Гаврилович довольно часто бывал у Измаила Ивановича Срез¬
невского, читавшего тогда в Главном педагогическом институте
курс лекций по славянским наречиям. Однажды Измаил Ива¬
нович рассказал о том, что у двоих студентов найдены загранич¬
ные издания Герцена и директор института И. И. Давыдов наме¬
ревается дать делу официальный ход. Через некоторое время
Срезневский сообщил, что ему и еще нескольким профессорам
удалось уговорить Давыдова не губить молодых людей, то есть
прекратить дело. Срезневский назвал и фамилии студентов,
которым грозило исключение из института.
А дело было так. 27 декабря 1854 года должно было состоять¬
ся празднование юбилея редактора «Сына Отечества» Николая
Ивановича Греча, пользовавшегося в литературной среде весьма
дурной репутацией. Добролюбов пишет стихотворение «На 50-лет¬
ний юбилей его превосходительства Николая Ивановича Греча»,
которое быстро расходится по Петербургу. О характере этого
юбилейного стихотворения можно судить хотя бы по его концовке:
...Пусть будешь ты кричать, беситься,
Начнешь бессмысленную речь...
Но даже мщеньем насладиться
Не можешь ты, бедняжка Греч!..
Презрение других — безмолвных —
Легко отсюда ты поймешь,
И у друзей своих чиновных
Ты утешенья не найдешь.
И даже твой державный барин
Отвергнет твой молящий стон...
Лишь твой достойный друг Булгарин
Напишет громкий фельетон!..
Давыдову стало известно, что автором этого стихотворения
является питомец его института, и он распорядился произвести
обыск, в результате которого у Добролюбова и его товарища
Дмитрия Щеглова были обнаружены герценовские издания.
Сам Добролюбов в письме к двоюродному брату Михаилу Бла-
гообразову излагал финал этой истории следующим образом:
«Много было возни и хлопот. Я мог поплатиться за мое легко¬
мыслие целою карьерой; но, к счастию, имел довольно благора¬
зумия, чтобы не запираться перед директором, и, признавшись
в либеральности своего направления, показал вид чистосердеч¬
ного раскаяния. Профессора заступились за меня; поведение мое
было всегда весьма скромно; Сергей Павлович Галахов просил
за меня директора... и заблуждения юности были оставлены без
дальнейших последствий».
168
Это было в самом начале 1855 года, а летом следующего года
один из бывших учеников Чернышевского по саратовской гимна¬
зии, Николай Турчанинов, обучавшийся в Главном педагоги¬
ческом институте, пришел к Николаю Гавриловичу и принес ему
статью своего товарища о «Собеседнике любителей российского
слова». «...Прочитав две, три страницы,— вспоминал потом сам
Николай Гаврилович,— я увидел: статья написана хорошо, взгляд
автора сообразен с мнениями, какие излагались тогда в «Совре¬
меннике»...»
Через того же Турчанинова Николай Гаврилович пригласил
к себе автора статьи, и тот не замедлил явиться. Фамилия Добро¬
любов ничего, разумеется, Чернышевскому не говорила. Состоял¬
ся довольно продолжительный разговор. «Я спрашивал,— рас¬
сказывал в своих воспоминаниях Чернышевский,— как он ду¬
мает о том, о другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить
ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось,
что он годится быть постоянным сотрудником «Современника».
Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о ве¬
щах понятиям, излагавшимся тогда в «Современнике». Оказалось,
соответствуют вполне. Я, наконец, сказал ему: «Я хотел увидеть,
достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Совре¬
менника», вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы буде¬
те постоянным сотрудником «Современника». Он отвечал, что он
давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить всё ему
и ему. Потом говорили о личных делах, и тут Добролюбов возьми
и скажи, что он находится в опале у директора Давыдова, посколь¬
ку у него и у его товарища Дмитрия Щеглова были найдены
заграничные издания Герцена.
— Так это были вы, Николай Александрович! Вот что! —
тут Чернышевскому вспомнился рассказ Срезневского о двух сту¬
дентах, которым грозило исключение из института.— Когда
так,— уже другим тоном произнес Николай Гаврилович,— то
дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося
в товарище по журнальной работе... Эту статью, так и быть,
поместим, одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше
не годится вам печатать ничего в «Современнике» до окончания
курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишите в «Современнике»,
то беда была бы вам. Итак, когда кончите курс и станете незави¬
симым от Давыдова, тогда и начнете постоянно писать для «Совре¬
менника», а раньше нельзя».
И все же Чернышевскому пришлось уступить. В августовской
книжке «Современника» в разделе «Науки и художества» была
напечатана первая часть работы о «Собеседнике любителей рос¬
сийского слова», а в разделе «Библиография» — статья о Глав¬
169
ном педагогическом институте; в сентябрьской книжке публи¬
куется окончание работы о «Собеседнике...», вышедшей под псев¬
донимом «Н. Лайбов», составленным из последних слогов имени
и фамилии автора (Николай Добролюбов). В ноябрьском номере
«Современника» в составленном Чернышевским обзоре «Замет¬
ки о журналах» была напечатана небольшая статья Добролюбо¬
ва «Ответ на замечания А. Д. Галахова», а в апрельском номере
за 1857 год — статья «Несколько слов о воспитании по поводу
«Вопросов жизни г. Пирогова». Итак, еще до окончания инсти¬
тута Добролюбов поместил на страницах «Современника» четы¬
ре статьи.
Летние каникулы 1856 года Добролюбов провел в Петербур¬
ге и сблизился с Чернышевским. «Знаешь ли,— писал он в то
время Турчанинову,— этот один человек может примирить
с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мер¬
зостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвы¬
шенности в стремлениях, и высказанной просто, без фразерства,
столько ума строго последовательного, проникнутого любовью
к истине — не только не находил, но и не предполагал най¬
ти».
Казалось бы, разница в возрасте, особенно когда одному —
двадцать, а другому — двадцать восемь, разница в положении,
когда один еще студент, а другой уже известный литератор,
послужат серьезным препятствием для их сближения. Но Черны¬
шевский и Добролюбов сблизились сразу.
В автобиографическом романе «Пролог» Чернышевский
изобразил Добролюбова под фамилией своего друга по Саратов¬
ской семинарии Левицкого. И вот стоило Волгину (под этой фами¬
лией Чернышевский изобразил самого себя) провести один день
с Левицким, и он сразу же предоставил тому право писать в жур¬
нал, что тот захочет и сколько захочет.
«— Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы пра¬
вильно понимаете вещи)
— Вы предоставляете мне полную волю в журнале?
— А разве были бы вы очень нужны мне, если б не так?
Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь,
пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы?.. С тех пор как я
распоряжаюсь журналом, я искал человека, с которым мог бы
разделить работу... Вижу, что вы единственный человек, который
правильно судит о положении нашего общества».
Разумеется, мы не должны, как это часто делается, соотно¬
сить материалы художественного автобиографического произве¬
дения с действительностью как один к одному, однако данное
автобиографическое произведение все же позволяет нам предста¬
ло
вить истинный характер отношений тех людей, которых без
всяких натяжек можно назвать прототипами действующих лиц
романа. Есть на этот счет и прямые свидетельства Чернышевско¬
го. Так в одном из писем к А. Пыпину из вилюйской ссылки Нико¬
лай Гаврилович писал: «Статей его я никогда не читал. Я всегда
только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И толко¬
вать об этом нечего». Скоро, впрочем, Некрасов подружился
с Добролюбовым...»
Надо заметить, Чернышевский, хотя и производил на многих
весьма приятное впечатление, сходился с людьми довольно труд¬
но. В семинарии он дружил с Левицким. В годы студенчества
одно время был близок с Михайловым и довольно долго дружил
с Лободовским. С Некрасовым у Чернышевского были прекрасные
отношения, однако эти отношения никак нельзя назвать дружбой.
И вот только любовь к Добролюбову он пронес через всю свою
жизнь.
Безусловно, их сближала работа в журнале, но вряд ли это
обстоятельство можно считать единственной причиной возник¬
ших между ними отношений. Вероятней всего, причин тому
много, и вот на одной из них хотелось бы остановиться чуть под¬
робнее. Я имею в виду родственность их натур, не сходство ха¬
рактеров, а родственность натур, которые развивались хотя и в
разное время, но в весьма схожих условиях.
Добролюбов родился в 1836 году в Нижнем Новгороде
в семье священника Верхнепосадской Николаевской церкви
Александра Ивановича Добролюбова, который еще в молодые
годы, как и отец Чернышевского, стал членом духовной консисто¬
рии и был в городе лицом заметным и уважаемым. Александр
Иванович был человеком достаточно образованным, располагал
довольно по тем временам приличной библиотекой, насчиты¬
вавшей более 650 томов. Правда, в отличие от Гавриила Ивано¬
вича, Александр Иванович имел несколько крутой нрав и далеко
не всегда выражал свои чувства самым деликатным образом.
Но он горячо любил своего первенца, гордился его успехами
в учении и возлагал на него немалые надежды в будущем. Зато
мать Добролюбова — Зинаида Васильевна (дочь протоиерея
Покровского) — была человеком чрезвычайно мягким и безгра¬
нично любящим детей, и тут она больше походила, пожалуй,
на отца Николая Гавриловича, нежели на его мать. Добролю¬
бовы, как и Чернышевские, принадлежали к числу семей обеспе¬
ченных.
Первоначальное образование Добролюбов тоже получил
дома (сначала с ним занималась мать, а потом — семинарист
Костров), в 1847 году он поступил в последний класс духовного
171
училища, а в следующем — в Нижегородскую духовную семи¬
нарию.
В семинарии Добролюбов, как и Чернышевский, ходил в «пер¬
вых учениках», то есть в «гениях». И тут та же картина. Блестяще
учится, чуждается грубых семинарских развлечений и товари¬
щей. Дружеские отношения с некоторыми из них возникают
только в последние годы обучения. Чернышевский, работавший
над биографией Добролюбова, видел причину отчуждения Доб¬
ролюбова-семинариста от товарищей в том, что, во-первых, сбли¬
жению мешало само положение Добролюбова — сына видного
губернского священника, члена духовной консистории; его школь¬
ные товарищи — в громадном большинстве дети бедного и захо¬
лустного духовенства — не решились бы переступить порог дома
такого важного в их глазах лица. Затем, в старших классах,
царили разгульные нравы и попойки; Добролюбов по своему
семейному воспитанию и по своим наклонностям не мог быть
соучастником таких развлечений.
В свое время эти же самые причины мешали сближению
с товарищами по семинарии и самому Николаю Гавриловичу.
Сходны у них были даже клички. Чернышевского товарищи
иногда называли «дворянчиком», а Добролюбова— «инсти¬
туткой».
В начале 1858 года Чернышевский напишет Добролюбову:
«...мне остается только удивляться сходству основных черт в на¬
ших характерах, милый друг Николай Александрович».
Действительно, сходства было много, и не только в чертах
характеров. Не будучи еще настроены атеистически, и тот и дру¬
гой предпочли блестящей духовной карьере занятия литера¬
турой. Каждый из них в свое время лелеял мечту о профессор¬
ской кафедре, о занятиях наукой, и у каждого мечта отступила
перед живой журнальной деятельностью. Всем другим жанрам
обоими был предпочтен трудный и опасный жанр критики
и публицистики.
«Замечательно,— писал о содружестве этих двух людей
Н. Шелгунов, хорошо знавший обоих,— какую громадную умст¬
венную работу совершили эти два человека (Чернышевский
и Добролюбов), каждый в своей области, и как, пополняя один
другого, они составили одно законченное целое».
Постоянным сотрудником «Современника» Добролюбов стал
с лета 1857 года, а уже в конце года возглавил критический
отдел журнала. Безусловно, в лице молодого выпускника
Педагогического института «Современник» приобрел очень та¬
лантливого и очень ценного сотрудника. Но почему так поспеш¬
но нужно было передавать ему главный отдел журнала? И тут
172
невольно создается впечатление, будто Чернышевского начала
тяготить его прежняя роль в журнале. В общем, так оно и было
на самом деле. В какой-то мере самоуничижение Чернышевско¬
го, постоянно говорившего, что Добролюбов лучше разбирается
в литературе, чем он, было вызвано желанием склонить Некрасо¬
ва к мысли, что журнал только выиграет, если критический отдел
будет передан Добролюбову.
Для самого же Чернышевского «крестьянский вопрос»
представлял теперь куда больший интерес, нежели текущий ли¬
тературный процесс. «Освободившись» от критического отдела,
он полностью посвящает себя той борьбе, которая развернулась
вокруг предстоящего освобождения крестьян от крепостной за¬
висимости.
Добролюбов, приняв отдел от Чернышевского, получил полную
свободу действий и вскоре стал одним из популярнейших кри¬
тиков. В самом же «Современнике» еще резче обозначилась борь¬
ба между писателями-разночинцами и писателями-дворянами.
РАСКОЛ
Когда Некрасов заключил «обязательное соглашение» с Тур¬
геневым, Григоровичем, Гончаровым, Островским и Толстым,
многие его коллеги-издатели пришли в замешательство, ведь по
сути дела издатели «Современника» прибрали к рукам почти
всех наиболее талантливых и перспективных беллетристов. «Го¬
ворят, Корш ругает меня за известный контракт с участниками...
Все уверяют, что мы стремимся к подрыву других журналов,—
если заботиться о себе значит вредить другим, так, пожалуй,
это и так... Но кто мешал или мешает им заботиться о себе?» —
писал не без некоторой доли самодовольства Некрасов Боткину.
К сожалению, ловкий издательский ход Некрасова не имел
тех последствий, на которые он рассчитывал. Трения между
Чернышевским и Добролюбовым — с одной стороны, и участ¬
никами «соглашения» — с другой, привели к тому, что уже
в начале пятьдесят восьмого года это «соглашение» было рас¬
торгнуто. Некрасову еще какое-то время удавалось сохранить
для «Современника» Тургенева, но потом и тот порвал с журна¬
лом. В эпистолярном и мемуарном наследии мы найдем немало
свидетельств тому, как неприязненно, а потом и враждебно были
настроены друг к другу эти группировки, однако к расколу при¬
вело не личное отношение одних сотрудников журнала к другим,
а те идейно-эстетические расхождения, что имели место уже и тог¬
173
да, когда у Некрасова только возникла мысль о заключении
«обязательного соглашения ».
Правда, тогда каждый в душе надеялся обратить других
в свою «веру» или в конце концов избавиться от несговорчивых
оппонентов.
Тургенев, бывая в Петербурге, почти каждодневно посещал
квартиру-редакцию «Современника» и постоянно пытался вызвать
на разговор Чернышевского, а позже и Добролюбова, дабы как-
то поколебать их ошибочные, по его мнению, взгляды. В. Боткин
был сторонником «хирургических» мер и потому настойчиво
пытался внушить Некрасову мысль, что Чернышевский загубит
журнал, и поочередно предлагал ему на место Чернышевского
сначала Александра Дружинина, а потом Аполлона Григорьева.
Толстой тоже высказывался в пользу Дружинина. Чернышевский,
в свою очередь, в письмах к Тургеневу противопоставлял его
громадный художественный талант дарованию остальных его со¬
юзников, что несколько смягчало небезразличного к похвалам
Тургенева. Пожалуй, один только Добролюбов был бескомпромис¬
сен. Если мягкий в отношениях с людьми Николай Гаврилович
нередко вступал в разговоры с Иваном Сергеевичем, то неприми¬
римый Добролюбов демонстративно избегал всякого с ним обще¬
ния, говоря, что ему жаль попусту тратить время. Иван Сергеевич,
привыкший к всеобщему обожанию и немало о том заботящийся,
естественно, раздражался, однако потом свое раздражение гасил
и при каждой новой встрече вновь пытался «разговорить»
неприступного «семинариста». И таким непреклонным Добролю¬
бов был не только в отношениях с Иваном Сергеевичем.
В 1858 году исполнялось десять лет со дня смерти Белинского.
В одном из петербургских ресторанов собрались литераторы
почтить память великого критика. Был приглашен и Добролюбов.
Поскольку среди участников обеда находилось немало тех, кто
лично хорошо знал Белинского, то Добролюбов надеялся услы¬
шать что-то серьезное, проникновенное, в общем, достойное
великого имени. А все, как показалось Добролюбову, свелось
к пустой банкетной болтовне. Вернувшись домой с этого празд¬
нества, он написал такое стихотворение:
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: Только! Только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!..
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени.
Но Добролюбов был бы не Добролюбовым, если бы только
написал эти стихи — на следующий день он разослал их участ¬
никам вчерашнего обеда.
Однако если здесь и приходится удивляться чьему-то харак¬
теру, так это характеру Некрасова. Поразительно, как ему на про¬
тяжении двух лет все же удавалось удерживать под «кры¬
шей» своего журнала такие могучие центробежные силы да
еще на каждого взвалить какие-то обязательства перед жур¬
налом.
Раскол в «Современнике» был делом закономерным и неот¬
вратимым, о чем достаточно четко сказано во многих работах,
касающихся истории общественного движения и литературной
борьбы второй половины пятидесятых годов. Менее проясненным
остается вопрос: почему Некрасов все же предпочел участникам
«обязательного соглашения» людей другого литературного на¬
правления и другого поколения — Чернышевского и Добролю¬
бова?
Конечно, участники «обязательного соглашения» прекрасно
понимали, какую выгоду сулило оно издателям «Современника»,
а поэтому были уверены, что несмотря на явную симпатию
Некрасова к Чернышевскому, он в интересах процветания жур¬
нала в конце концов вынужден будет уступить их нажиму
и откажется от услуг неугодного им сотрудника. Учитывали
они в своей игре и то обстоятельство, что Некрасов безмерно
любил Тургенева и преклонялся перед его талантом, восхи¬
щался открытым им же самим талантом Толстого, всегда дорожил
сотрудничеством в журнале Гончарова, Дружинина, Боткина.
К тому же последний был школьным товарищем Панаева. Ко¬
нечно, в прошлом бывали и взаимные обиды друг на друга, но
все-таки даже в более мрачные годы они много помогали друг
ДРУГУ, потому-то, наверное, они и сейчас оказались вместе.
Связывала их и общая память о Белинском. Связывали их и мно¬
голетние товарищеские отношения...
Уже в конце 1857 года Некрасов писал Тургеневу: «Читай
в «Современнике» «Критику», «Библиографию», «Современное
обозрение», ты там найдешь местами страницы умные и даже
блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даро¬
витый. Должен тебе сказать, что обязательный союз меня начи¬
нает тяготить, связывая мне руки...»
Как бы ни был умен и даже хитер Некрасов, старые его товари¬
щи догадывались: с одной стороны, он хочет сохранить в журнале
пользующихся большой популярностью у молодежи критиков
(Чернышевского и Добролюбова), а с другой — иметь в своем
распоряжении новые произведения наиболее талантливых бел¬
175
летристов (участников «обязательного соглашения»). И тогда
был поставлен вопрос: или — или?
Некрасов решил возникшую альтернативу в пользу Черны¬
шевского и Добролюбова. Многим показалось, что это решение
продиктовано тем, что самого Некрасова теперь интересует только
коммерческая сторона дела, то есть получаемая от журнала
прибыль, сам же он заниматься журналом не хочет, а потому
и не пожелал расстаться со столь трудолюбивыми и плодовитыми
сотрудниками, какими были Чернышевский и Добролюбов. Некра¬
сов не пытался опровергать этого мнения. Другие говорили, что
«ученые семинаристы» сумели подчинить своему влиянию мало¬
образованного руководителя «Современника». Некрасов не пы¬
тался опровергать и этого мнения.
Впрочем, второе мнение (а оно принципиально) много лет
спустя опроверг Чернышевский. В связи с выходом первого тома
посмертного издания «Стихотворения Н. А. Некрасова» Черны¬
шевский писал, имея в виду вступительную статью: «В характе¬
ристике начинающегося 1856 годом «второго периода журналь¬
ной деятельности» Некрасова говорится, между прочим, что
«умственный и нравственный горизонт поэта значительно раз¬
двинулся под влиянием того сильного движения, какое началось
в обществе, и тех новых людей, которые окружили его»...
Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто
бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно
ошибочно. Правда, у меня было по некоторым отделам знания
больше сведений, нежели у него. Но если он раньше знакомства
со мной не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог
бы получить от меня, то лишь потому, что для него, как для
поэта, они были не нужны: это были сведения и решения, более
специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для пере¬
дачи в поэтических произведениях...
Имел ли какое-нибудь влияние на образ мыслей Некрасова
Добролюбов?.. Его сближение с Некрасовым началось только по
возвращении Некрасова из-за границы, в 1857 году; гораздо
позднее моего сближения... все, что мог бы узнать Некрасов от
Добролюбова, он более трех лет слышал от меня...
Любовь к Добролюбову могла освежить сердце Некрасова;
и я полагаю, освежила. Но это совсем иное дело, не расширение
«умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады.
Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы».
Конечно, зная склонность Николая Гавриловича к преуве¬
личению достоинств и заслуг других и к преуменьшению заслуг
и достоинств собственных, мы в какой-то мере можем поставить
под сомнение это его свидетельство, хотя, при учете даже этих
176
обстоятельств, мы не вправе данное свидетельство игнориро¬
вать полностью. Так что будем считать его достоверным, но
недостаточным и потому обратимся к фактам несколько иного
ряда.
Как известно, Некрасов получил неважное домашнее образо¬
вание. По приезде в Петербург дважды и безуспешно пытался
поступить в университет (1839 и 1840 годы). Недолгое время
был вольнослушателем. Тем и закончилось его образование.
Но Некрасов был от природы очень умным человеком, и не
только в практических делах. Да, он не знал иностранных языков,
не был эрудитом, но, пройдя суровую школу жизни и трудную
школу интенсивной литературной работы, поднялся куда более
верного понимания жизни и многих общественных вопросов,
нежели некоторые из весьма образованных его друзей. И все же
на Некрасове всю жизнь лежала печать «необразованного
человека».
«Я дам голову на отсечение,— доказывал когда-то Белинский
В. Боткину,— что у Некрасова есть талант и, главное, знание
русского народа, непониманием которого мы все отличаемся...
Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение
в литературе...»
Однажды Белинский попросил Боткина прочитать рецензию
на какую-то книгу. Боткин тут же прочитал рецензию и стал
расхваливать Белинского за тонкость и остроумие анализа.
— Находите, тонко и остроумно я написал? — спросил Вис¬
сарион Григорьевич.
— Прелестно, изящно! — воскликнул с пафосом Василий
Петрович Боткин.
— Передам вашу похвалу Некрасову,— сказал Белинский и,
смеясь, добавил:—Это, между прочим, он написал.
Прошли годы. Белинского уже не было в живых. Некрасов
и Панаев стали редакторами «Современника», а Боткин и Тур¬
генев близкими сотрудниками их журнала. Некрасов как поэт
приобретал все большую и большую популярность. Но время было
трудное, глухое. Однако люди все равно думали, работали, писали,
хотя печатались редко. Общая беда сближала тех, кто не сло¬
мился. Квартира Некрасова и Панаева стала не только редак¬
цией журнала, но и для многих уютным пристанищем. В начале
пятидесятых годов здесь нередко останавливались приезжавшие
в Петербург Боткин и Тургенев.
А сколько здесь было переговорено всяческих разговоров,
сколько возникло замыслов и сколько рухнуло надежд, сколько
написалось и прочиталось страниц; сюда врывались общие для
всех радости и общие для всех печали... Многое потом из всего
1 7 7
12
4O7S
этого забудется, но не все. Не забылся, скажем, и тот давний,
начала пятидесятых годов разговор...
Был еще довольно ранний час, когда за утренним чаем по-
домашнему расположились в столовой один из образованнейших
людей своего времени, знаменитый уже беллетрист, богатый
орловский помещик, признанный красавец — Иван Сергеевич
Тургенев и друг уже умершего Белинского, тонкий ценитель
музыки и живописи, знаток иностранной литературы, англоман
и эстет — Василий Петрович Боткин. Николай Алексеевич
Некрасов, наскоро выпив стакан чаю, по своему обыкновению,
расхаживал по комнате. Боткин, укутавшись в беличий халат,
уютно блаженствовал в мягком кресле. Тургенев, в серой охот¬
ничьей куртке с зеленым воротником, импозантно восседал за
столом, облокотясь сложенными руками на столешницу.
Вернулась к столу и Авдотья Яковлевна Панаева, по-утрен-
нему необыкновенно свежая и красивая. Мужчины почти не обра¬
щали на нее внимания, настолько, кажется, они были увлечены
разговором. За столом отсутствовал Иван Иванович Панаев —
он еще спал. Но это никого не смущало. Если уж гости себя здесь
чувствовали как дома...
— Надеюсь, Некрасов,— выговаривал Тургенев своему дру¬
гу,— ты поймешь, что мы для твоей же пользы высказываем
наше искреннее мнение.
— Да с чего вы взяли, что я сержусь,— попытался замять
этот не очень-то приятный для него разговор Некрасов.
— Ну за что ему сердиться? Не за что! Он должен быть
благодарен нам! — покровительственно, по праву старшего
(Боткин был старше Некрасова на десять лет) и как о само собой
разумеющемся, внимательно посмотрев на стоящий перед ним
стакан с чаем, добавил:— Да, любезный друг, твой стих тяже¬
ловесен, нет в нем изящной формы. Это огромный недостаток
в поэте.
— Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на
реальность,— поддержал Боткина Тургенев.
— Да, да! А этого нельзя! — Боткину захотелось процити¬
ровать что-нибудь из Гете или Байрона, однако, вспомнив, что
Некрасов не знает никаких иностранных языков, решил пуститься
в наставление:— Сильно напираешь, и это коробит людей
с художественным развитием, режет им ухо, которое не выдер¬
живает диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, лю¬
безный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе
как формы стиха, так и предмета стиха.
Высказавшись столь умно и прямо да еще в присутствии
Авдотьи Яковлевны, Василий Петрович почувствовал удовлет¬
ворение и с явным наслаждением принялся за свой чай. Будучи
сыном богатого чаеторговца, он понимал толк и в этом напитке.
— Вчера мы с Боткиным,— с приятной мягкостью в голосе
и красивой небрежностью заметил Иван Сергеевич,— провели
вечер у одной изящной женщины с тонким поэтическим чутьем.
Она перечитала, между прочим, в оригинале все стихи Гете,
Шиллера и Байрона...— Иван Сергеевич сделал небольшую пау¬
зу.— Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей
«Еду ли ночью по улице темной». Она слушала с большим
вниманием, и, когда я закончил, знаешь ли, что она воскликну¬
ла? — и опять короткая пауза.— «Это не поэзия! Это не поэт!»
— Да, да,— ставя на стол опорожненный стакан, автори¬
тетно подтвердил Василий Петрович.
Ах, как приятно быть строгим апостолом изящного... Во
всем: и в поэзии, и в жизни. Можно ведь прямо сказать: «Ты
не образован, за твоей спиной не стоит ничего, кроме учителя-
семинариста и нескольких случайных лекций в университете,
ты ведь даже не знаешь ни одного европейского языка...» А можно
это же самое выразить и иначе: «Очень изящная дама перечитала
Гете, Шиллера и Байрона в оригинале...» Можно ведь прямо
сказать, что ты не поэт и все, что ты пишешь, не есть поэзия.
А можно — того же изящества ради — вложить эти слова в уста
анонимной, может быть, и придуманной, но безоговорочно авто¬
ритетной в силу своей изящности дамы, читающей мировые
шедевры в оригинале...
— Я знаю, мои стихотворения не могут нравиться светским
женщинам,— коротко ответил гостеприимный хозяин дома, про¬
должая ходить своей не очень изящной, перевалистой по¬
ходкой.
— Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению
светских женщин,— укоряюще сказал Василий Петрович и тут же
воодушевился, найдя нужный аргумент:— Пушкин, Лермонтов
и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде,
чем их печатать.
— До Пушкина и Лермонтова мне далеко,— смиренно
произнес Некрасов, но тут же твердо добавил:—Если я стану
подражать им, то никуда не буду годен. У каждого писателя
своя своеобразность. У меня — реальность.
Иван Сергеевич наконец-то допил свой чай и пустился в про¬
странное и красивое рассуждение о преимуществе изящного
перед неизящным, приводя разнообразные аналогии из жизни.
Василий Петрович пришел в восторг от прекрасной тирады своего
единомышленника и даже на какой-то момент обрадовался, что
Некрасов пишет неизящные стихи, потому как пиши он стихи
изящные, вряд ли это будничное утро заполнилось бы столь
содержательным разговором.
— Изящная форма во всем имеет преимущество,— резюми¬
ровал Иван Сергеевич.
— Да, любезный,— не меняя своего покровительственного
тона, подхватил Боткин,— мы хлопочем, чтобы в твоих стихах
не было грубой реальности. Вчера, возвращаясь домой от изящной
женщины, мы всю дорогу говорили о твоих стихах и пришли
к заключению, что ты на ложной дороге. Брось воспевать любовь
ямщиков, огородников и всякую деревенщину. Это фальшь, ко¬
торая режет ухо... Это профанация — описывать гнойные язвы
общественной жизни,— при этих словах Василий Петрович по¬
морщился,— не увлекайся, пожалуйста, что мальчишки и невеж¬
ды в поэзии восхищаются подобными стихами, а слушайся людей,
знающих толк в поэзии. Не ты первый и не ты последний из
молодых писателей, сгубивших себя мнимым успехом между
неучами, ничего не смыслящими в истинной поэзии.
Авдотья Яковлевна была очень красива. Вероятно, она была
красива даже в своей растерянности, отчего, скорее всего, муж¬
чины, сидевшие за столом, и не заметили ее растерянности.
Некрасов, понуря голову, подошел неровной походкой к столу
и взволнованным голосом произнес:
— Вы, господа, может быть, и правы со строгой точки эсте¬
тического идеала, но вы забыли одно, что каждый писатель
передает то, что глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на
долю с детства видеть страдания русского мужика от холода,
голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру
из их среды. И меня удивляет, что вы отвергаете человеческие
чувства в русском народе! Он так же сильно чувствует любовь,
ревность к женщине, так же беззаветна его любовь к детям, как
и в нас!
Василий Петрович никак не ожидал услышать от Николая
Алексеевича столь страстного возражения. А Некрасов вновь
принялся ходить по комнате.
— Пусть не читает моих стихов светское общество, я не
для них пишу,— бросил он уже на ходу.
В этот момент собеседникам следовало бы разбежаться, раз¬
бежаться навсегда и занять места по разные стороны баррикад
в литературной битве. Но разбегаться было некуда, не было
никаких баррикад, и не было настоящей литературной битвы.
Тяжелый пресс мрачного периода реакции загнал всех чем-либо
недовольных в один угол.
188
— Значит, ты, любезный друг, пишешь для русского наро¬
да? — язвительно спросил Василий Петрович и вдруг радостно
возвестил:— Но ведь он безграмотен!
— Мне лучше известно, что есть много грамотных мужиков,
да и скоро русский народ поголовно будет грамотен, несмотря
на то что у него нет учителей,— последнее замечание Некрасов
адресовал чуткому уху Тургенева.
— И станет тогда русский мужик поголовно выписывать
«Современник»,— решил перевести все на шутку Иван Серге¬
евич, чувствуя, что спор об изящном начинает приобретать все
менее и менее изящную форму.
— Браво, браво, Тургенев! — воскликнул Василий Петрович
и, изображая сожаление, обратился к Николаю Алексеевичу: —
Любезный Некрасов, поразил ты нас: такой практический
человек — и вдруг такая маниловщина в тебе.
— Имеете право потешаться надо мной! — мрачно заговорил
Некрасов.— Я вас еще более потешу и удивлю, если выскажу вам
свою откровенную мысль, что мое авторское самолюбие вполне
было бы удовлетворено, если бы, хотя после моей смерти, русский
мужик читал бы мои стихи.
Василий Петрович театрально схватился за голову.
— Боже, упаси нас,— взмолился он,— видеть в тебе конку¬
рента «Бовы-королевича»... Нет, ты сегодня, мой любезный друг,
говоришь чистейший абсурд,— и иронически добавил:— Хочешь
быть русским Беранже, но ведь ты, мой любезный, не сообразил,
что во Франции народ цивилизованный, а наш русский — это
эскимосы, готтентоты!
— Ты бы, Василий Петрович, лучше молчал о русском народе,
о котором не имеешь понятия! — с раздражением ответил Не¬
красов.
— И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю
для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве.
Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не
как на людоеда. Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней
жили и не раз испытывали стыд, что принадлежим к дикой
нации.
— Если ты нашел, что я говорю сегодня абсурд, то ты сейчас
перещеголял меня, Василий Петрович,— резко ответил Некрасов,
хотя и понимал, что этот их утренний разговор может в конце
концов обернуться ненужной ссорой.
— Да, я европеец, а не русский дикарь,— вскочил Боткин,
чуть не выпрыгнув из своего беличьего халата.
— Вы оба горячитесь и уклонились в сторону от предмета
вашего разговора,— спокойно сказал Иван Сергеевич, не забыв
181
при посредстве слова «вашего» отмежеваться от грубых суждений
Боткина о русском народе.
Итак, мирное утреннее чаепитие неожиданно вылилось в рез¬
кий и обидный для всех разговор, который мог привести и
к ссоре.
Если ту давнишнюю стычку Некрасова с Боткиным и Тур¬
геневым нельзя рассматривать как причину нынешнего раскола
в «Современнике», то сам раскол все же можно рассматривать
как логическое завершение той давнишней стычки, вернее, как
логическое завершение отношений между Некрасовым, Турге¬
невым, Боткиным. И тогда нетрудно обнаружить наивность
расчетов противников Чернышевского и Добролюбова, полагав¬
ших, будто Некрасов при настойчивом нажиме может пожертво¬
вать ими, дабы не потерять для журнала авторства Тургенева,
Боткина, Григоровича, Дружинина, Толстого и других.
Несогласия, споры, раздоры и даже открытые конфликты
между писателями — вещи слишком обыденные и естественные,
чтобы в каждом случае придавать им серьезное значение.
Вероятней всего, Некрасов, Тургенев и Боткин вскоре же забыли
о том бурном разговоре, хотя какой-то осадок в душе каждого
и мог остаться. Но нас в данном случае интересует не эмоциональ¬
ное самочувствие спорящих сторон, а характер их идейно-эсте¬
тических расхождений.
Несколько лет спустя после разрыва с «Современником»
Тургенев напишет Полонскому: «Г-н Некрасов — поэт с натугой
и штучками; пробовал я на днях перечесть его собрание сочи¬
нений... нет! Поэзия и не ночевала тут — бросил я в угол это
жеванное папье-маше с поливкой из острой водки».
«Я всегда был одного мнения о его сочинениях, и он это
знает,— напишет Тургенев тому же Полонскому в 1870 году,—
даже когда мы находились в приятельских отношениях, он редко
читал мне свои стихи, а когда читал, то всегда с оговоркой:
«я — мол — знаю, что ты их не любишь». Я к ним чувствую
нечто вроде положительного отвращения: их «arriere gout» —
не знаю, как сказать по-русски — особенно противен: от них
отзывает тиной, как от леща или карпа».
Действительно, у Тургенева было устойчивое отрицательное
отношение к стихам Некрасова, хотя много лет кряду они были
в дружеских отношениях. Собственно говоря, во всех приве¬
денных нами высказываниях Тургенева нет по существу ничего
нового по сравнению с тем, что говорил он Некрасову во время
того утреннего чаепития. Только после их разрыва тон турге¬
182
невских высказываний стал язвительным, если не сказать изде¬
вательским.
Конечно, образование Некрасова не шло ни в какое сравнение
с образованием Тургенева или того же Василия Петровича Бот¬
кина. Это Некрасов хорошо знал, а потому и не старался пускаться
с ними в ученые споры, хотя в литературной среде таких споров
избежать невозможно, пусть они по своей форме и не всегда
будут выглядеть научными. И в те минуты, когда друзья начинали
бесцеремонно давить его даже не аргументами, а своей эруди¬
цией, он, вероятно, особенно остро ощущал, как недостает ему
Белинского, которого, по словам К. Кавелина, «не только нежно
любили, но и побаивались». «Белинский,— писала в своих воспо¬
минаниях Авдотья Яковлевна Панаева,— был нравственной уз¬
дой, так что после его смерти все, как школьники, освободились
от надзора своего наставника, почувствовали свободу. Им более
не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки,
которые на деле были далеки от идеальности...»
Слово, особенно для писателя,— это почти всегда и поступок.
И будь сейчас рядом Белинский — Тургенев и Боткин куда осто¬
рожнее распоряжались бы своими словами...
Общеизвестны и общепризнаны выдающиеся полемические
способности В. Белинского и А. Хомякова. И тот и другой могли
часами вести яростные споры со своими оппонентами, и свиде¬
тели этих споров получали высочайшее интеллектуальное на¬
слаждение и то духовное возбуждение, что всегда чревато, по
меньшей мере, возвышенными помыслами и намерениями. «Го¬
воря о московских гостиных и столовых,— вспоминал в «Былом
и думах» Герцен,— я говорю о тех, в которых некогда царил
А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся
Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский
привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков
спорил до четырех часов утра, начавши в девять... куда, наконец,
иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кру¬
гом все, что попадало... Хомяков был действительно опасный
противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользо¬
вался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно
даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как
средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал воору¬
женный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутан-
нейший спор и употреблял для торжества своего славянского
воззрения все на свете — от казуистики византийских богосло¬
вов до тонкостей изворотливого легиста...
Споры возобновлялись на всех литературных и нелитера¬
турных вечерах, на которых мы встречались,— а это было раза
183
два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева,
в пятницу — у Свербеева, в воскресенье — у А. П. Елагиной.
Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения,
на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели
до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отде¬
лает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь
ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской
заставой.
Свидетельница же спора Боткина и Тургенева с Некрасовым
Авдотья Яковлевна Панаева испытала горькое чувство обиды за
Некрасова и досады на его литературных друзей. Некрасов мог
им сказать даже резкость, но он понимал, что опровергнуть их
ему не под силу — печать «необразованности» как бы заранее
предопределяла неубедительность его аргументов. И в молодом
Чернышевском Некрасов угадал черты «нового Белинского».
Однако хладнокровие и расчет перекрывали в Некрасове азарт
и желание, поэтому он терпеливо ждал, когда Чернышевский
созреет, созреет характером для самостоятельной работы в жур¬
нале. Друзья и приятели Некрасова знали, что Некрасов удач¬
ливый игрок за карточным столом, но почему-то мало кто из
них задумывался над тем, что его удачливость носила вовсе
не фатальный характер. Расчет, терпение, выдержка, дально¬
видность,— все эти черты он отнюдь не сжигал полностью за
карточным столом. Здесь он, скорее, постигал психологию слож¬
ной борьбы характеров, открытой и затаенной одновременно,
результаты которой, в отличие от обыденной жизни, очевидны
каждодневно, и эта каждодневность не только совершенствовала
тактику борьбы, но и вырабатывала собственную стратегию.
Чернышевский верно подметил, что любовь Некрасова к До¬
бролюбову дала первому столь необходимую для больного
и уставшего поэта отраду. Нет и доли кокетства в его утвержде¬
нии, что ни он сам, ни Добролюбов никак не повлияли на миро¬
воззрение Некрасова. Чернышевский здесь просто констатировал
очевидный для него факт. Разумеется, те, кто не очень близко
знали Некрасова, могли думать, будто молодые критики «Совре¬
менника» оказали сильное идейно-эстетическое влияние на него.
Другое дело те, кто был близок с Некрасовым. Ведь вспомни,
например, Боткин и Тургенев по прочтении диссертации Черны¬
шевского то давнишнее утреннее чаепитие, и они бы поняли или,
во всяком случае, должны были понять, кого и кому в сложив¬
шейся ситуации предпочтет Некрасов, воспевавший «любовь
ямщиков, огородников и всю деревенщину...».
И дело тут не только в том, что Чернышевский высоко ценил
поэзию самого Некрасова. Дело в том, что автор «Эстетических
184
отношений искусства к действительности» и статьи «Очерки
гоголевского периода русской литературы» провозгласил главным
принципом искусства — реальность действительной жизни во всех
проявлениях ее противоречивого многообразия.
И в основе любви Некрасова к Добролюбову лежали не
какие-то сентиментальные чувства. Ему, который вдоволь наслу¬
шался всяких слов от того же Боткина о звероподобности простых
русских людей, разумеется, было отрадно услышать об этом
предмете и другие слова. И эти другие слова чаще всего произ¬
носил молодой Добролюбов, считавший одной из главных задач
для себя обоснование мысли о том, «что народ способен ко
всевозможным возвышенным чувствам и поступкам наравне
с людьми всякого другого сословия, если еще не больше, и что
следует строго различать в нем последствия внешнего гнета от
его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не
заглохли, как многие думают. Кто серьезно проникнется этою
мыслью, тот почувствует в себе более доверия к народу, больше
охоты сблизиться с ним, в полной надежде, что он поймет, в чем
заключается его благо, и не откажется от него по лени или мало¬
душию. С таким доверием к силам народа и с надеждою на его
добрые расположения можно действовать на него непосредственно
и прямо, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы...».
И неужели Некрасов мог предпочесть автору этой статьи
(«Черты для характеристики русского простонародья») людей,
которые больше всего пекутся об отвлеченном эстетическом
вкусе? Теперь Некрасов не только взял реванш у своих прежних
литературных партнеров, но и оставил их в большом накладе:
«Современник» Некрасова — Чернышевского — Добролюбова
приобретал все большую и большую популярность в среде моло¬
дой интеллигенции.
После аннулирования в начале 1858 года «обязательного
соглашения» Тургенев дольше других поддерживал с «Совре¬
менником» творческую связь, и причиной тому было не только
особое расположение Некрасова к знаменитому беллетристу.
Хотя Тургенев и был довольно близок с Боткиным и на многие
стороны жизни они смотрели сходным образом, все же их идей¬
но-эстетические позиции отнюдь не совмещались. Так, в 1855 году,
когда возникли первые разногласия между авторами «Совре¬
менника» в связи с новой эстетической теорией Чернышевского,
В. Боткин писал А. Дружинину: «Это правда, что Тургенева
сбил с толку Гоголь, и мне всегда казалось, что направление,
избранное Тургеневым, не соответствует вовсе его таланту. В том-
то и беда, что Тургеневу недостает пока самости и смело¬
сти — этих всегдашних признаков больших талантов. Сам он
185
несравненно выше и лучше всего, что до сих пор он написал». Тур¬
генев же не противопоставлял «гоголевское» направление «пуш¬
кинскому». «Оба влияния,— писал он тому же А. Дружинину
в том же 1855 году,— по-моему, необходимы в нашей литерату¬
ре,— пушкинское отступило было на второй план,— пусть оно
опять выступит вперед, но не с тем, чтобы сменить гоголевское.
Гоголевское влияние и в жизни, и в литературе нам еще крайне
нужно». Не случайно и в том споре Тургенев сразу же постарался
отмежеваться от Боткина, как только тот начал говорить оскорби¬
тельные вещи в адрес русского народа, в адрес русского мужика.
Именно в то самое время Иван Сергеевич запишет: «Русский на¬
род — самый странный и самый удивительный народ».
Автор «Записок охотника» расходился с В. Боткиным и по
другим важным вопросам. Во всяком случае, уже к концу пяти¬
десятых годов его всерьез станет раздражать эстетство В. Бот¬
кина. В 1857 году Тургенев, находясь вместе с В. Боткиным
в Риме, напишет оттуда П. Анненкову: «В его характере есть
какая-то старческая раздражительность — эпикуреец в нем то
и дело пищит и киснет; очень уж он заразился художеством».
Эпикуризм В. Боткина примет с годами уродливую форму,
и в 1868 году Иван Сергеевич напишет тому же П. Анненкову:
«Коли Боткина не будет в Петербурге, я на его квартире оста¬
новлюсь, а то уж в прошлом году отзывало от него трупом, да еще
ядовитым».
А вот как, между прочим, описывал последние годы жизни
Василия Петровича близкий ему Афанасий Фет: «Я не встречал
человека, в котором стремление к земным наслаждениям вы¬
сказывалось с такой беззаветной откровенностью, как у Боткина.
Но нигде стремление это не проявлялось в такой полноте, как
в клубе перед превосходною закускою. «Ведь это все прекрасно,—
восклицал Боткин с сверкающими глазами,— ведь это все надо
есть! » Последние дни жизни Василия Петровича были достойным
концом такого сибарита. Заняв одну из лучших квартир Петер¬
бурга, обставив ее со всемозможной роскошью, он устроил себе
прекрасный квартет из мастерских исполнителей и нанял повара
из кухни цесаревича... «Митя,— говорил он брату,— вот меня
осуждали за бережливость. Зато ты видишь, как я обставил свою
жизнь перед концом. Ты не можешь себе представить, до ка¬
кой степени мне это приятно. Райские птицы поют у меня на
душе».
Личные отношения Тургенева и Боткина возникли еще в круж¬
ке Белинского. Естественно, за долгие годы между ними было
сказано много слов об искусстве, и о литературе, и о жизни
вообще, так что даже при желании им было невозможно утаить
друг от друга своих истинных взглядов. Во всяком случае,
теперь их больше сближало прошлое, нежели настоящее.
Раскол в «Современнике» окончательно размежевал писате¬
лей-разночинцев и писателей-дворян. Но если теперь «Современ¬
ник» стал своего рода организационным и идейным центром
нового направления, то противника Чернышевского и Добро¬
любова такого объединяющего органа создать не удалось. С «Со¬
временником» полемизировали многие, однако единства в рядах
его оппонентов не было. О том свидетельствует и тот факт, что
раскол произошел в 1858 году, а Тургенев порвал отношения
с некрасовским изданием лишь два года спустя, хотя, казалось,
у него-то как раз были все основания порвать отношения с журна¬
лом незамедлительно. Дело в том, что в январском номере
«Современника» увидела свет его повесть «Ася». Чернышевский
откликнулся на нее в журнале «Атеней» статьей «Русский человек
на rendez-vous», но по сути дела, то была не статья, то был лите¬
ратурный манифест писателей-разночинцев, в котором не только
отрицались заслуги «людей 40-х годов» в настоящем, но и в прош¬
лом. Если до 1858 года Чернышевский зачастую брал под защиту
так называемых «лишних людей», то теперь он им вынес от
лица своего направления и своего поколения беспощадный при¬
говор, а тургеневская повесть в данном случае послужила лишь
удобным случаем в завуалированном виде (но для современ¬
ников совершенно понятном) высказать свое мнение по самым
актуальным вопросам, и отнюдь не только литературным.
Поначалу автор статьи «Русский человек на rendez-vous»
заводит разговор будто бы о героях повести «Ася», говорит
даже о том, что характер героя, которого он ввиду его безымян¬
ности называет «нашим Ромео», вроде бы до конца не выдержан,
но затем перебивает свои размышления вот таким неожиданным
выводом: «Очень утешительно было бы думать, что автор в самом
деле ошибся, но в том и состоит достоинство повести, что характер
героя верен нашему обществу». А далее продолжает: «Вспомните
любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынеш¬
них наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона,
будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны посту¬
пает точно так же, как лица г. Тургенева». Оказывается, как
и «наш Ромео», поступает Рудин, точно так же поступает и Бель¬
тов, короче сказать, точно так же поступают все «лишние лю¬
ди»... И далее следует такой пассаж:
«Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же
действовать, а мы вас поддержим»,— при такой реплике одна
половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают
очень грубо упрекать за то, что вы поставили их в неловкое
положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких
предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего
сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «притом
же они — честные люди», но не только честные, но очень смирные
и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве
можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от
нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься,
потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хоро¬
шего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано,
они «никак не ждали и не ожидали» и проч.
Таковы наши «лучшие люди» — все они похожи на «нашего
Ромео».
Чего же требовал Чернышевский от лучших людей своего
времени?
«Без приобретения привычки к самобытному участию в граж¬
данских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок
мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола
средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится
или по крайней мере не становится мужчиной благородного
характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться
без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств,
пробуждаемых участием в них».
Далее Чернышевский как будто бы несколько смягчает свои
обвинения «лишним людям» (читай: «людям 40-х годов»), го¬
воря, «что все люди существенно одинаковы», и переносит обви¬
нения на обстоятельства жизни. «Но и тут понятно всякому,
что разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах».
Но обличением действительной жизни занимаются теперь все
кому не лень. А воз, как говорится, и поныне там. И тут критик
«лишних людей» ставит новый вопрос: «Если все люди существен¬
но одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках?»
И тут же отвечает на поставленный вопрос: «Для нас теперь
ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстоя¬
тельств, то есть в окончательном результате все зависит исклю¬
чительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки
произошли в свою очередь также из обстоятельств».
Итак, «все люди существенно одинаковы», однако обстоятель¬
ства жизни отнюдь не для всех одинаковы, отсюда и «привычки
произошли» разные... Каковы же «привычки» так называемых
«лишних людей», которые жили в сходных условиях?
«Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заме¬
тили, под тридцать лет, очень много испытавший в жизни,
богатый запасом наблюдений над самим собой и другими. Откуда
же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоя-
188
тельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого,
так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего
великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была
его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к ко¬
торым он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно
отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благо¬
родный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только
к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который
всю жизнь играл по половине копейки серебром...»
Обвинение в нерешительности, в бездействии, в еловогово-
рении «люди 40-х годов» еще могли принять, они и сами любили
повторять: «суждены нам благие порывы, но свершить ничего
не дано...» А вот то, что они не понимали «ничего великого»
и что приучены только к «бледной мелочности» и «всю жизнь
играли по половине копейки серебром — этого они не только при¬
нять, но и простить не могли. Но автор статьи «Русский человек на
rendez-vous» не останавливается и далее продолжает: «Все про¬
шлое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не по¬
нимает ничего, потому что ничего не видал и не испытал. Он мог
бог знает каких прекрасных вещей начитаться в книгах, он может
находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных ве¬
щах; быть может, он даже верит тому, что они существуют или до¬
лжны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хо¬
тите, чтоб он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его не¬
приготовленному взгляду, опытному только в классификации
вздора и пошлости?»
А чтобы все эти обвинения не выглядели личной или местной
обидой, Чернышевский подводит под свои выводы историческую
базу:
«Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что прини¬
маем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть
его родственниками; между нашими семьями (читай: сословия¬
ми.— А. Л.) существовала даже нелюбовь, потому что его семья
презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться
от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг
и уроков... нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотрази¬
мая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему
обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он
лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все
сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение
о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже останется
нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его,
именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше
жить...»
Это уже был открытый вызов, исключающий какие-либо
компромиссы и тем более союзы, это уже был не раскол, а разрыв.
Но Тургенев еще надеялся, что Некрасов не отдаст журнал
в полное распоряжение Чернышевского и Добролюбова. Турге¬
нев принимается за новый роман, в котором выведет уже дей¬
ствующее, активное лицо, правда, не из русских, а бол¬
гарина, создаст он и иной тип молодой женщины, очень симпто¬
матично будет называться и сам роман— «Накануне», однако
уже ничто не сможет примирить бывших союзников, а нынешних
противников.
В 1859 году Иван Сергеевич работает над своим третьим
романом «Накануне». «В основание моей повести,— писал он
в ноябре 1859 года И. С. Аксакову,— положена мысль о необхо¬
димости сознательно-героических натур (стало быть, тут речь не
о народе) — для того, чтобы дело подвинулось вперед».
Роман увидел свет на страницах «Русского вестника» в начале
1860 года и вызвал бурную полемику. Тургенев всегда очень
остро, а порой и болезненно реагировал на критику в печати,
на сей же раз он был просто выбит из колеи. «Кстати, когда пре¬
кратятся статьи о «Накануне»? — нервозно вопрошал он А. Фета
летом 1860 года.— Это нечто вроде эпидемии. Пора бы оставить
эту штуку в покое».
«Воценке «Накануне»,— писал в своих воспоминаниях П. Ан¬
ненков,— публика наша разделилась на два лагеря... Хвалебную
часть публики составляли университетская молодежь, класс уче¬
ных и писателей, энтузиасты освобождения угнетенных племен —
либеральный, возбуждающий тон повести приходился им по
нраву, светская часть, наоборот, была встревожена».
Тут П. Анненков не совсем точен. Положим, графиню Лам¬
берт, с которой Тургенев находился в дружеских отношениях
и которой его новый роман не понравился, еще можно причислить
к «светской части», но к какой «части» отнести тогда Н. Добро¬
любова, Д. Писарева, Л. Толстого, того же В. Боткина да и многих
других, кого по каким-либо причинам не устраивал турге¬
невский роман?
«Прочел я «Накануне»,— писал А. Фету Л. Толстой.— Вот
мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким
людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего
они хотят от жизни. Вообще же сказать, никому не написать
теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не
будет».
«Я не знаю,— писал В. Боткин тому же адресату,— есть
ли в какой повести Тургенева столько поэтических подроб¬
ностей, сколько их рассыпано в этой. Словно он сам чувство¬
вал небрежность, а может быть, и неопределенность фунда¬
ментальных линий, он обогатил их превосходнейшими деталями,
как иногда делали строители готических церквей. Для меня эти
поэтические, истинно художественные подробности заставляют
забывать о неясности целого... Да, я заранее согласен со всем,
что можно сказать о недостатках этой повести, и все-таки
я считаю ее прелестью. Правда, что она не тронет, не зас¬
тавит задуматься, но она повеет ароматом лучших цветов
жизни».
Скорее всего, Тургеневу не было известно содержание писем
Л. Толстого и В. Боткина А. Фету, однако это не меняет
существа дела, поскольку в периодической печати появлялись
статья за статьей, в которых высказывались различные пре¬
тензии автору романа «Накануне». Добролюбов тоже написал
статью, цензор «Современника» В. Н. Бекетов ознакомил Тур¬
генева с ее содержанием. Тургенев попытался воспрепятствовать
публикации статьи и написал Некрасову: «Убедительно тебя
прошу, милый Н[екрасов], не печатать этой статьи: она кроме
неприятностей ничего мне наделать не может, она несправед¬
лива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напе¬
чатается». Некрасов поехал объясняться, но, не застав Турге¬
нева дома, оставил ему письмо, на которое получил ульти¬
матум: «Выбирай: я или Добролюбов».
В мартовском номере «Современника» статья Добролюбова
«Когда же придет настоящий день?» (журнальное название —
«Новая повесть г. Тургенева») была напечатана — тем самым
Некрасов сделал свой выбор. Правда, окончательной датой раз¬
рыва, вероятно, следует считать 1 октября 1860 года, когда
Тургенев написал И. Панаеву письмо с отказом от сотрудничества
с «Современником», причиной чему явилась рецензия Черны¬
шевского на книгу Н. Готорна «Собрание чудес», в которой на-
мекалось, будто в «Рудине» дана карикатура на М. Бакунина.
Мы сейчас не можем в точности сказать, что так возмутило
Тургенева в добролюбовской статье, поскольку первоначальный
ее вариант не сохранился. Чернышевский в своих воспомина¬
ниях писал: «Тургенев нашел эту статью Добролюбова обид¬
ной для себя: Добролюбов третирует его, как писателя без
таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без
ясного понимания вещей. Я сказал Некрасову, что просматри¬
вал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отве¬
чал, что если так, то я читал статью без внимания». А. Па¬
наева в своих воспоминаниях писала, что, по словам Некра¬
сова, Тургенев увидел в статье Добролюбова глумление «над
его литературным авторитетом».
Но и в том варианте статьи Добролюбова, который был
опубликован, есть личные выпады против автора романа
«Накануне», однако вряд ли только личные выпады заставили
Тургенева выдвинуть Некрасову ультиматум.
Еще в статье «Что такое обломовщина?» (1859) Добролю¬
бов, развивая оценку Чернышевского «лишним людям», вы¬
сказанную им в рецензии на «Стихотворения» Н. Огарева
(1856) и в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858),
писал: «Они (то есть «лишние люди».— А. Л.) только говорят
о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о
проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что
все это — слова и слова. Самое искреннее задушевное их стремле¬
ние есть стремление к покою, к халату, и самая их деятельность
есть не что иное, как «почетный халат...» В статье «Когда же
придет настоящий день?» Добролюбов вновь изничтожает
«лишних людей», относя Лаврецкого к «тому же роду без¬
дельных типов, на которые мы смотрим с усмешкой». Не мог
теперь Тургенев не учитывать и разрыв Чернышевского и Добро¬
любова с Герценом. Когда же Герцен 15 октября 1860 года
опубликует статью «Лишние люди и желчевики», Тургенев
выскажет ему благодарность в письме: «...За нас, лишних, за¬
ступился. Спасибо».
Одновременно с романом «Накануне» Тургенев опубликует
свою речь «Гамлет и Дон-Кихот», в которой, имея в виду Дон-
Кихотов, выскажет такую мысль: «Когда переведутся такие
люди, пускай навсегда закроется книга истории. В ней нечего
будет читать». Недаром и в цитированном нами письме к И. Ак¬
сакову он подчеркнет в словах «о необходимости сознательно¬
героических натур» слово «сознательно».
Тургенев уповает на представителей передового дворянства.
Добролюбов призывает к революции, полагая, что общество
и вся страна стоят накануне настоящего дня. «И недолго нам
ждать его,— пишет он,— за это ручается то лихорадочное
мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления
в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь
идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по
себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он,
наконец, этот день! И во всяком случае, канун недалек от сле¬
дующего за ним дня: всего какая-нибудь ночь разделяет их!..»
И если говорить об образовании двух лагерей, то причиной
тому послужил не раскол в «Современнике», а обострение
борьбы вокруг «крестьянекого вопроса», в результате которой
192
и появились эти литературно-общестенные направления. Казалось
бы, три года не столь же большой срок, чтобы так накалить об¬
щественную атмосферу и поставить бывших литературных парт¬
неров во враждебное друг к другу отношение. Но вопрос о
крепостном праве, имевший уже долгую историю, естественно,
в своей завершающей стадии достиг предельной остроты, что,
в общем-то, и привело к столь резким и скоротечным разме¬
жеваниям даже в рядах тех, кто боролся против крепостного
права.
крестьянский вопрос
Беглый экскурс в историю нам потребуется для того, чтобы
в самых общих чертах проследить путь развития самосознания
русского человека, стремление которого к политической свободе
и к экономической справедливости выработало наконец гос¬
подствующее общестенное настроение, согласованное с этим
стремлением. Разумеется, никакой всеобщей точки зрения на
мужика не возникло, но сам мужик стал центром всеоб¬
щего внимания, он вызывал самые разные, порой даже взаимо¬
исключающие чувства, однако мимо него уже никто пройти не
мог.
Если подходить исторически, «крестьянский вопрос» или
«вопрос о мужике» — как его ни назови — при кажущейся
своей простоте настолько сложен и неоднозначен, что разрешить
его раз и навсегда не представляется никакой возможности,
ибо этот вопрос не только социальный или экономический,
но и политический, философский, нравственный, этический,
религиозный, правовой, эстетический, короче говоря, он связан со
всеми сторонами жизни народа, если и не всегда связями пря¬
мыми, то опосредованными. И то, что русская литература и рус¬
ская общественная мысль первой половины XIX века при¬
ковали все свое внимание к судьбе крестьянина и к «земель¬
ному вопросу», потом иногда порождало мнение, будто сами
эти вопросы являются сугубо национальными, узкими, рус¬
скими вопросами и в чем-то противостоящими более важным
вопросам прогресса и цивилизации.
«Им казалось,— иронизировал потом над людьми сороковых
и пятидесятых годов и, в частности, над Белинским известный
в свое время либеральный критик А. Скабичевский,— что
сначала следует решить как бы то ни было крестьянекий
вопрос, два, три другие столь же элементарные вопросы нашей
жизни; затем, лет через 60, через 100 и более, когда у нас явится
13
4 078
19 И
промышленный пролетариат, тогда только политэкономические
вопросы Европы будут у нас современны, и мы получим право
горячиться за них».
Во-первых, следует заметить, что ни Белинский, ни все те,
кто пытался «решить как бы то ни было крестьянский вопрос»,
никогда не предлагали после решения этого вопроса лет на 100
остановить всякое общественное развитие.
Во-вторых, если Белинский и его современники обличали
пороки современной им действительности, то люди типа А. Ска¬
бичевского бичевали вообще русскую действительность, дабы
продемонстрировать к ней свою непричастность и свою бли¬
зость к западноевропейской действительности. Критикуя Белин¬
ского, А. Скабичевский не без гордости отмечал: «Напротив
того, в сочинениях многих современных передовых европейских
мыслителей вы найдете часто встречаемое мнение, что уж и в
настоящее время образованный англичанин (почему именно
англичанин, а не немец или француз? — А. Л.) гораздо более
имеет общего в своем типе с образованными же людьми всех
стран, чем со своим необразованным земляком».
А между тем истинно образованные англичане, немцы,
французы и т. д. смотрели на все эти вещи несколько иначе,
нежели полагал Скабичевский. Они решали у себя дома свои
«элементарные» вопросы и с интересом смотрели, как решают
эти «элементарные» вопросы другие. А образованные русские
действительно походили на образованных англичан или немцев,
если посмотреть на то, как каждый из них решал свои «элемен¬
тарные» вопросы, а не на то, как каждый сторонился их. И
вовсе не славянофилы в тайном союзе с Белинским, а потом
с Чернышевским придумали «элементарный» вопрос о крепостном
праве, а если сказать шире — социальный вопрос о порядке
землепользования: так, к примеру, немецкий историк Мёзер
говорил, что только тогда правильно разрешена будет задача
научного построения истории немецкого отечества, когда ученые
окажутся в силах разъяснить все изменения, которые пре¬
терпели судьбы национальной земли и ее собственников, в их
причинной последовательности на протяжении веков истории
Германии.
Еще более определенно на этот счет высказался немецкий
ученый Р. Пёльман. «В числе великих социальных вопросов,
которые во все времена управляли домашними и обществен¬
ными интересами человека,— утверждал он,— ни один не связан
так тесно со всем историческим существованием и культурным
развитием народов, ни один не оказывал такого решительного
влияния на столько важных перерождений или кризисов народной
194
жизни, как именно вопрос о социальном порядке землевла¬
дения».
«...Вопрос о земельной собственности есть основание всей
истории Европы, и земля является в ней самым могуществен¬
ным фактором цивилизации»,— вопреки мнению Скабичевских
говорил немецкий ученый Лоренц Штейн.
Нелишним будет заметить, что эту точку зрения исповедовали
не в одной лишь Европе. Так, прогрессивный общественный
американский деятель, которого, в частности, весьма ценил
Лев Толстой, Генри Джордж в работе «Прогресс и бедность»
говорил: «Существует лишь один путь к удалению зла—это
устранение причин его. Заработная плата падает, тогда как
производительные силы растут, потому что земля, источник всех
благи поле всякой работы, монополизирована. Путь к исцелению:
отдать всю землю в распоряжение общин».
Теперь несколько слов об элементарности «крестьянекого
вопроса» и элементарности вообще. Так, Ипполит ТЪн изволил
заметить: «Чем элементарнее, первичнее характер, тем шире его
влияние. А чем шире его влияние, тем он более устойчив».
Видимо, мы вправе распространить эту закономерность не только
на человеческие характеры, но и на решаемые человечеством
проблемы, в том числе и на проблему землевладения и земле¬
пользования. Во всяком случае, у нас есть все основания считать
последнюю элементарной и универсальной одновременно, потому
как проблема эта обременяла умы образованнейших людей не
только всех народов, но и всех времен.
Примем ли мы во внимание земельные реформы Солона
в Афинах или Лициния в Риме, учение Платона или Аристо¬
теля, мы повсюду увидим, что прочная свобода граждан и
благоденствие государства в целом ставились в прямую зави¬
симость от справедливого распределения земельной собственности.
И даже древнейшие религиозные учения выводили многие
социальные и нравственные положения из отношений к земле
и землевладению. Взять хотя бы поучение Моисея о пяти¬
десятом юбилейном годе: «И чтите пятидесятый год, и призы¬
вайте в страну вашу свободу для каждого ее обитателя, лико¬
ванием должно это быть для вас, и возвращайтесь каждый
к своему роду». (Юбель — тромбон. В каждый пятидесятый
год собственник имел право вернуться на свою землю. Звуки
тромбона — юбеля — выражали ликование по этому поводу.)
Итак, юбилейный год фактически запрещал или, лучше
сказать, исключал продажу земли, а допускал лишь ее аренду,
что препятствовало узакониванию рабства.
195
Как известно, в Древней Руси крепостного права не было,
а прикрепление крестьян к земле, начавшееся в XVI и в начале
XVII веков, получило свое окончательное завершение и дало
российскому государству крепостническую структуру лишь в
начале XVIII столетия.
Вот что по этому поводу писал Карл Маркс: «Это утвержде¬
ние,— заметил он, имея в виду утверждение, Ьудто «крепостная
зависимость была введена в России Борисом Годуновым»,—
далеко не соответствует истине. Борис Годунов (указом 2 нояб¬
ря 1601 года) отнял у крестьян право переходить с места
на место по территории государства и прикрепил их к поместьям,
к которым они уже принадлежали в силу рождения или
жительства. При его преемниках власть дворянства над крестья¬
нами стала быстро возрастать, и со временем все они сде¬
лались действительно крепостными. Однако это оставалось не¬
законной узурпацией со стороны бояр до тех пор, пока Петр
Великий в 1723 году не легализировал ее. Крестьяне, не бу¬
дучи освобожденными от оков, прикреплявших их к поместьям,
были превращены теперь также в личную собственность дворя¬
нина-помещика...»
Как известно, со времен первой ревизии Петра с крестьян
была снята фискальная обязанность и перенесена на помещика.
Одновременно помещику вручались все права крестьянина как
члена общества, и, таким образом, личность крестьянина как
члена общества полностью поглощалась властью помещика.
Между тем в обязанность помещика одновременно вменялась
также и забота о крестьянине. Однако вот как она выглядела
в реальной действительности:
«Здесь свобода крестьянина доведена до такого стеснения,—
писал в прошлом веке известный знаток крестьянского
вопроса профессор Московского университета И. Д. Беляев,—
что крестьянин помимо помещика ничего не мог ни продать,
ни купить, ни даже в свободное время идти в работники на
сторону или заниматься какими-либо отхожими промыслами.
Мало того, помещик строит ему дом по своему образцу и при¬
знает его только жильцом в этом доме, а не хозяином, и даже
вмешивается в его семейные дела... Ни один помещичий приказ
прежнего времени, даже самый строгий, как безобразовский, где
зачастую встречаются кнут и плети, нельзя и сравнить с эко¬
номическими записками Татищева; ибо в прежних помещичьих
приказах при всей их грубости и жестокости еще видна лич¬
ность крестьянина, еще заметны крестьянские права, на кото¬
рые помещик посягать не решается... В записках же Татищева,
кротких и человеколюбивых, крестьянин связан по рукам и по
19*3
ногам властью помещика; помещик морит его трехдневным
голодом за то, что он осмелился продать лишние и ненужные
ему курицу или поросенка, помещик требует, чтобы у крестьянина
на дворе было столько-то коров, лошадей, овец, оловянных
ложек и проч., а в противном случае отдает его в батраки,
даже без платежа денег за работу. Подобные посягательства
прежним помещикам и в голову не приходили».
Опираясь на экономические записки В. Н. Татищева, отно¬
сящиеся к 1742 году, И. Беляев нарисовал картину утраты
крестьянством не только свободы, но и элементарной чело¬
веческой самостоятельности после указа 1723 года. Именно
с этих пор, как писал К. Маркс, помещик «получил право
продавать их (крестьян.— А. Л.) в одиночку или гуртом, с
землей или без земли, и ввиду этого стал лично ответственным
перед правительством за крестьян и их подати».
Разумеется, не следует представлять дело так, будто до
Петра у нас не было крепостного права, а Петр ввел его тем
же волевым методом, как, скажем, перелил колокола на пушки,
это слишком разномасштабные акции, чтобы ставить их в один
ряд, хотя и в том и в другом случаях он проявил завидную
решительность. И тут интерес для нас должна представлять
не только классовая борьба в ту эпоху, но и те внутриклас¬
совые противоречия, что были в свое время характерны почти
для всех европейский стран.
Дело в том, что в России земля не имела той ценности,
какую она имела, скажем, в Англии, поэтому платить за госу¬
дарственную службу только земельными наделами означало бы
введение почти фиктивной платы. Истинную ценность в России
(в большинстве губерний) представляли только земли с «креп¬
кими ей земледельцами», то есть крестьянами. И в XVII веке
шла ожесточенная борьба между крупными и мелкими земле¬
владельцами. Колонизация степных районов Поволжья в
XVI веке оставила в наследство XVII веку усугубленную
этой колонизацией проблему «рабочих рук», которую новый
век, отягощенный петровскими войнами, и пытался разрешить.
Вполне достаточно взглянуть на историю аграрных реформ
XVII века, чтобы понять, в чьих интересах и как шло закре¬
пощение крестьянства. Сначала просто ограничивался «уход»
крестьян, и последним становилось все труднее и труднее вы¬
полнять условия «отказа», но зато стала процветать система
«вызова», когда новый владетель брал на себя обязательст¬
ва погасить всю неустойку. Естественно, в этой конкурен¬
ции победа, как правило, оказывалась на стороне крупных
землевладельцев. Однако в конце концов борьба между
1 97
крупными и мелкими землевладельцами за право владения
крестьянами привела все же к победе последних. И вот по¬
чему.
Для Петра I, впрочем, как и для любого другого монарха,
закрепление крестьян за помещиками не было и не могло быть
самоцелью. У Петра не было иного выхода: или он должен был
опереться на крупную земельную аристократию и в этом случае
фактически разделить с ней власть, или он должен был
опереться на служилое сословие и абсолютизировать
власть. Петр сделал свой выбор в пользу служилого дворян¬
ства, и окончательность его выбора должна была неминуемо
привести к «окончательному» решению судьбы крестьянства.
Петр не мог одновременно привести в состояние всеобщей
«служилости» класс дворянства, не гарантировав ему истин¬
ной платы за службу, а это в то время можно было сделать
только превратив земледельца в личную собственность земле¬
владельца, то есть дворянина-помещика, ибо, как мы уже го¬
ворили, сама земля в большинстве губерний России не пред¬
ставляла большой самостоятельной ценности.
И Петр создал очень четкую государственную структуру:
крестьянство служит дворянству, находясь в состоянии его полной
собственности. Дворянство, материально обеспеченное государ¬
ством, служит монарху. Монарх, опираясь на дворянство, слу¬
жит государственным интересам в целом. И крестьянин пред¬
ставлял свою службу дворянину-помещику как косвенную
службу государству. «...Право дворян,— писал И. Беляев,—
владеть недвижимыми имениями и иметь крепостных людей
по закону покупалось их личною службою государству... Если
же которые из них укрывались от службы, у тех описывалось
в казну недвижимое имение или налагались другие штрафы...
но само владение непременно было связано с государственною
службою дворянина; без службы он не только лишался права
на приобретение, но и терял то, что уже приобрел, чем владел
по покупке или другой частной сделке».
Естественно, при таком положении дел надо было ожидать,
что дворянство рано или поздно, тяготясь неотложной госу¬
дарственной службой, сделает все, чтобы, при сохранении прав
на крестьян, собственная их служба стала бы необязательной.
И уже Петр III в свое краткое царствование успел 18 февраля
1762 года издать манифест, освобождавший дворян от обязатель¬
ной службы. Взошедшая вскоре на престол Екатерина II
указом от 3 июля 1762 года повторила слова манифеста. Правда,
вскоре действие этого указа было приостановлено, но в грамоте,
пожалованной российскому дворянству от 21 апреля 1785 года,
198
дворянство было окончательно освобождено от обязательной
службы.
В истории человеческого сознания остановок не бывает,
хотя движение может порой оказаться незаметным или скрытным,
однако это вовсе не означает, что его нет. Эволюция мужицкого
(крестьянского) сознания в различные времена имела неоди¬
наковый темп, и темп этот то ускорялся, то замедлялся, однако
никогда не было времени абсолютного покоя или абсолютных
пауз. Другое дело, что по невнимательности или в силу каких-
либо других причин далеко не всегда фиксировались изме¬
нения в сознании крестьянства, и тому, конечно, могли быть
причины исторически даже извинительные, однако в этих слу¬
чаях оставалось восполнять пробелы в собственных знаниях
и наблюдениях.
Необходимо сказать, что сам крестьянин никогда не считал
себя рабом, он считал себя, несмотря на всю трудность своего
положения, членом русского общества, обремененным косвенной
службой государству, во всяком случае, так он рассматривал
свою зависимость от помещика.
С точки зрения отвлеченных человеческих понятий, добрый
помещик, естественно, лучше злого, и вряд ли кто станет с этим
спорить. Но с точки зрения крестьянской, как только помещик
(все равно — добрый или злой) переставал служить государству,
он терял всякое моральное право в глазах крестьян быть их
господином, и тут уже вставал вопрос не о гуманизме вообще,
а о правомочности крепостных отношений. И русское крестьян¬
ство вовсе не было аполитичным, оно как раз обладало удиви¬
тельным политическим и социальным чутьем. И лучшее тому
доказательство — наша история.
Как же само крестьянство посмотрело на самоосвобождение
своих владетелей от государственной службы? Оказывается, не
успели в полную силу вступить документы об «освобожде¬
нии дворянства», как 700 душ Татищева и 800 душ Хлопова
Тверской и Московской губерний «срыли хоромы, разграбили
житницы с хлебом, забрали обратно оброчные деньги и послали
сказать помещикам, чтобы они в свои имения больше не ез¬
дили». Как видим, тут были проявлены и политическое чутье,
и понимание социальной справедливости.
Возможно, сам по себе этот эпизод и незначителен по своим
результатам, но вот тенденция его замечательна и знамена¬
тельна. Генерал-майор Виттен с командой в 400 человек и не¬
сколькими полковыми пушками подавил это выступление
крестьян, однако победить и искоренить освободительную тен¬
денцию не удалось. А вскоре крестьянство предъявило свои
199
права более определенно и более грозно. Пугачевское восстание
развеяло легенду о врожденном смирении и долготерпении
мужика и на многие десятилетия перепугало крепостников.
Пугачевское восстание не уничтожило крепостного права, но
оно дало общее направление общественной мысли. Больше того,
с этого времени в царствовании каждого последующего импе¬
ратора стали проводиться мероприятия, частично смягчающие
крепостнические отношения.
Да, русский крестьянин был весьма терпелив, однако терпения
его хватало лишь до тех пор, пока он свою «службу» расценивал
как службу государству, но, как только его «служба» превра¬
тилась в службу частному лицу, терпению его приходил конец.
Разумеется, неудача Пугачевского восстания, равно каки других,
менее значимых по своему масштабу выступлений, на какое-то
время могла ослабить волю, однако никаких пауз или остановок
в развитии сознания крестьянина не было. Если же мы обра¬
тимся к истории крестьянского освободительного движения, то
увидим, что большинство выступлений было продиктовано
соображениями более высокого порядка, нежели частный произ¬
вол помещика, хотя таковой и мог послужить поводом. Инте¬
ресна в этом отношении и статистика крестьянских выступ¬
лений: как только назначались какие-нибудь комиссии по вы¬
работке рекомендаций по ограничению крепостного права или
отмене его, число выступлений сразу же сокращалось. И вряд
ли тут можно предполагать, что помещики добрели синхронно
образованию таких комиссий.
Краткая история «крестьянского вопроса» нам потребуется
для того, чтобы лучше понять содержание той борьбы, что
развернулась в ходе подготовки реформы, когда речь уже шла
не о том, будет или не будет отменено крепостное право, а о
том, как оно будет отменено. Теперь даже самые яростные
крепостники вынуждены были маскировать свои истинные наме¬
рения. Ведь трудно же было возражать против отмены кре¬
постного права, когда сам монарх заявил перед Государственным
советом, что «крепостное право установлено самодержавною
властью и только самодержавная власть может его уничтожить,—
и на это есть моя прямая воля».
Правда, следует заметить, что одной воли, даже если это
и воля монарха, как показывает история, не всегда бывает до¬
статочно, чтобы провести в жизнь важное для государства реше¬
ние. Так, об отмене крепостного права, между прочим, поду¬
мывала еще Екатерина II, предложившая в 1766 году Петербург¬
скому Вольно-Экономическому обществу для разработки тему:
насколько полезно для общества предоставление крестьянам
прав собственности на землю и насколько должно простираться
это право. Она же сделала, хотя и довольно робкую, попытку
отменить крепостное право в остзейских землях. Ее сын, Павел I,
строго ограничил барщину тремя днями; ее внук, Алек¬
сандр I, в 1803 году издал указ «о вольных хлебопашцах»,
согласно которому крестьянская община имела право за опреде¬
ленную плату помещику освободиться от его власти и при¬
обрести право на землю. Николаем I был подписан указ «об
обязанных крестьянах и выкупе помещичьих имений с публич¬
ного торга самими крестьянами». При нем издали еще целый
ряд указов, ограничивающих власть помещиков, отменено кре¬
постное право в остзейских землях и расширены права госу¬
дарственных крестьян.
Если говорить о государственной политике по крестьянскому
вопросу в целом, то следует признать, что в ней прослежи¬
вается постоянная тенденция к ограничению абсолютной власти
помещиков над крепостными крестьянами. Отсюда, вероятно,
и возникла вера в «хорошего царя» и «плохих помещиков»,
и, надо сказать, эта вера имела широкое распространение не
только среди крестьян, но и среди передовой части общества
(тут достаточно вспомнить хотя бы некоторые высказывания
Герцена или Чернышевского по поводу «доброго сердца»
Александра II).
Было известно, что наследник не отличается ни деспотиз¬
мом, ни крутым нравом, поэтому с его восшествием на престол
и связывались немалые надежды, и по-человечески эти надежды
понять нетрудно. Но тут забывались два обстоятельства. Во-
первых, одно дело быть наследником и совсем другое дело быть
царем, ибо сама система абсолютной власти требует порой
проявления таких качеств, которые могут и не согласовываться
с характером и натурой самодержца. Во-вторых, и об этом, ра¬
зумеется, догадывались далеко не все современники, наследник
вовсе не был противником крепостного права. А сторонником
отмены крепостного права он, в общем-то, стал только со вступле¬
нием на престол.
Но тут сразу же следует сделать оговорку в том духе, что
русские цари, начиная с Екатерины II, в том числе и Николай I,
руководствовались в своих «освободительных планах» (Нико¬
лай I называл графа П. Д. Киселева «единственным человеком,
сочувствовавшим ему в его освободительных планах») вовсе не
какими-то гуманными соображениями, а имперскими интересами.
«Если не согласимся на уменьшение жестокости и умерение
человеческому роду нестерпимого наказания,— то и против
воли сами оную возьмут рано или поздно»,— писала Екате¬
20
рина II. «Лучше нам отдать добровольно, чем допустить, что¬
бы от нас отняли»,— говорил Николай I. «Лучше, чтобы ос¬
вобождение произошло сверху, нежели снизу»,— заявлял Алек¬
сандр II.
Безусловнч, призрак Пугачевского восстания витал не толь¬
ко в разбросанных по обширным просторам Руси и, по сути дела,
беззащитных перед народным гневом помещичьих усадьбах, он
витал и в надежно охраняемых дворцовых покоях всесильных
монархов. «Призрак пугачевщины,— писал известный исследо¬
ватель крестьянского вопроса В. И. Семевский,— вечно стоял
в глазах нашего дворянства и, как грозное memento mori, напо¬
минал о необходимости покончить с крепостным правом в
интересах самих помещиков». Однако это только одна сторона
дела, и не главная. Страх не был да и не мог быть причиной
отмены крепостного права, но он всегда был веским аргумен¬
том в пользу отмены оного. Что же тогда толкало Николая I
отменить крепостное право? Мы уже говорили, что сама система
абсолютной власти требует проявления таких качеств, которые
могут совсем не согласовываться с характером и натурой монар¬
ха, поэтому совершенно бесполезно докапываться до мотивов,
так сказать, личного порядка. Тут следует взглянуть на этот
вопрос с другой стороны, а именно со стороны государственных
дел и потребностей времени.
Как это ни парадоксально, но мир, который царил на Ев¬
ропейском континенте после низвержения Наполеона, требовал
все больших расходов на содержание армии. Так, в период
царствования Николая I численность русской армии увеличилась
на 40%, а расходы на ее содержание — на 70%. Однако уве¬
личивать численность армии в то время было не таким-то простым
делом, поскольку за каждого рекрута государственная казна
выплачивала помещику 300 рублей. И это не считая затрат на
обучение, экипировку, содержание и так далее... Низкая про¬
изводительность крепостного труда на фабриках приводила
к тому, что отечественное оружие было не только дорогим,
но и пдохим по качеству. Николай I пытался различными
мерами оживить промышленность, но это ни к чему не приводи¬
ло — все опять-таки упиралось в крепостное право. В общем, когда
Николай I вступил на престол, государственный доход составлял
110 миллионов рублей, а расход — 115 миллионов рублей. Де¬
фицит составлял всего 5 миллионов рублей. К концу же его
царствования доход увеличился до 260 миллионов рублей,
а расход — до 313 миллионов рублей. Теперь дефицит равнялся
уже 53 миллионам рублей.
Каковы же были экономические перспективы? Самые не¬
202
утешительные. Впереди зловеще маячила неотвратимая эконо¬
мическая катастрофа. Так еще летом 1840 года Николай I
писал по своем возвращении из Берлина князю И. Д. Паскевичу:
«Я нашел здесь мало утешительного, хотя много было и пре¬
увеличено. Четыре губерни точно в крайней нужде... Требования
помощи непомерные; в две губернии требуют 28 миллионов; где
их взять? Всего страшнее, что ежели озимые поля не будут за¬
сеяны, то в будущем году будет уже решительный голод;
навряд ли мы успеем закупить и доставить вовремя. Вот моя
теперешняя главная забота. Делаем, что можем; на место
послан Строганов распоряжаться с полною властью. Петербург
тоже может быть в нужде, ежели из-за границы хлеба не
подвезут... Год тяжелый; денег требуют всюду, и недоимки
за ’/2 года уже до 20 миллионов противу прошлогоднего
года; не знаю, право, как выворотиться».
По существовавшему тогда положению помещики должны
были содержать специальные склады («магазины») и в случае
неурожая обеспечивать своих крестьян хлебом и семенами.
Значительная часть помещиков эту свою обязанность игнори¬
ровала. В результате, по сведениям Г. Лященко («Очерки
аграрной эволюции в России»), только за четыре неурожайных
года (1833, 1834, 1839, 1840) правительству пришлось за¬
тратить на народное продовольствие 75,5 миллиона рублей.
Но добро бы эти деньги пошли впрок. С. Середонин замечал,
«что брать ссуду деньгами всегда много охотников, а хлеб берут
только в случае крайней необходимости». Н. Крылов в своей
работе «Накануне великих реформ» писал, что «во время голода...
помещики хотя и брали на прокормление крестьян деньги из
казенного капитала на народное продовольствие, но одни эти
деньги проигрывали в карты, другие платили ими долги или
употребляли на свои нужды. Уплата же этих денег в продо¬
вольственный капитал производилась крестьянами вместе с пода¬
тями».
Но разорялось не только крестьянство, постоянно разоря¬
лось и само дворянство. «Отношение численности помещичьих
крестьян ко всей массе населения уменьшилось с XVIII века,
а именно: в период времени с 1774 по 1837 г. отношение это
составляло 45%, к десятой ревизии (1859 год, то есть канун
освобождения.— А. Л.) эта цифра упала до 37*/2%*- (И. Иг¬
натович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения.) По той
же ревизии из 21 625 609 душ обоего пола 1 467 378 значились
дворовыми. Стремление к роскоши приводило к тому, что все
больше и больше крепостных занимались непроизводительным
трудом. У одного помещика, вспоминал некий сельский священ¬
ник, «дворни было человек 100. Сколько бы ни было гостей,
за обедом непременно стояло по лакею за каждым стулом».
Попытки помещиков поднять производительность крепостного
труда мало к чему приводили, и они искали любых других
статей дохода. Некоторые даже рекрутчину превратили в до¬
ходное дело. Как мы уже говорили, казна выплачивала поме¬
щику за рекрута 300 рублей. Иные сдавали рекрутов больше,
чем полагалось, а потом полученные лишние квитанции прода¬
вали богатым крестьянам или купцам (иногда цена такой
квитанции доходила до 2 тыс. рублей).
Источником дохода был и выкуп крестьян на волю. Тут
помещичий произвол не знал никаких границ. Так, граф Ше¬
реметьев весьма неохотно соглашался на выкуп, но иногда и он
входил в выкупную сделку со своими крепостными. Средняя
цена выкупа за семейство равнялась у него 20 тыс. рублям,
а Савва Морозов выкупил у него свою личную свободу за 17 тыс.
рублей. Один очень богатый крепостной князя Салтыкова
предлагал за себя и семерых сыновей 160 тыс. рублей, но князь
не согласился и на такую сумму.
Правительство Николая I выпустило массу всякого рода
ограничительных указов, а для исполнения их набрало целую
армию государственных чиновников, однако чиновничество,
исправно получая жалованье от государства, вошло в массовую
доходную для себя сделку с помещиками. Взяточничество
и лихоимство стало неписаным, но самым жизнестойким за¬
коном николаевской эпохи.
Но разорение крестьянства неуклонно влекло за собой
разорение всего помещичьего класса. По сведениям, имевшимся
в распоряжении Редакционной комиссии, в 1855 году было за¬
ложено более шести миллионов душ мужского пола, а в 1859 году
уже более семи миллионов, что составляло 66,46% всех ревиз¬
ских душ мужского пола по X ревизии. В 1859 году на одну
ревизскую душу в заложенных имениях приходилось долгу
по 59 рублей 87 копеек. Таким образом, задолжность дворян¬
ства государству составляла свыше 400 миллионов рублей.
«Уплата процентов по этим долгам,— писал В. Семевский,—
лежала тяжелым бременем на помещичьих хозяйствах и наводила
многих дворян на мысль, что было бы не дурно разделаться
с этими долгами, хотя бы посредством освобождения крестьян».
Крымская война обнажила все признаки экономической
катастрофы, которая неумолимо надвигалась на Россию изнутри,
и причины ее лежали в структуре самого государственного
уклада. Странная получалась картина: правительство во главе
с царем объективно, пусть даже не всегда осознанно, стремилось
204
к отмене крепостного права; дворянство фактически почти не
владело 70% крепостных и уже само тяготилось крепостным
правом; крестьяне после манифеста 1762 года о вольности дво¬
рянства считали свою крепостную зависимость незаконной;
у других сословий крепостное право стесняло всякую инициа¬
тиву,— а крепостное право продолжало существовать...
Александру II не нужно было решать: отменять или не
отменять крепостное право, этот вопрос за него решила исто¬
рия, а он лишь собрал дружные аплодисменты. Но утихли
аплодисменты, и возник новый вопрос: как освобождать?
Отменой крепостного права подводилась черта под прошлым,
Александр II ее подвел и удостоился звания «царя-освободи¬
теля». Но вот перед будущим он несколько растерялся и потому
предоставил решать важнейший вопрос о том, как отменять
крепостное право, равнодушному к государственным интересам
бюрократическому правительству и небескорыстному здесь дво¬
рянству. Потом Александр II подпишет Манифест, дарующий
волю самому многочисленному в стране крестьянскому сословию.
Однако, подписывая Манифест, царь одновременно подпишет
смертный приговор себе и всей своей династии, поскольку в этом
документе не будут учтены исторические интересы крестьянства,
а стало быть, исторические интересы государства.
«колокол»
И «СОВРЕМЕННИК»
Мы уже говорили о расколе в «Современнике» и об образовании
двух лагерей. Нетрудно заметить, что к разночинно-демокрэти¬
ческому лагерю, или, как мы теперь его называем, револю¬
ционно-демократическому, принадлежали, как правило, люди по
возрасту более молодые, нежели к лагерю либеральному. По¬
следние вошли в историю литературы и общественного движения
еще под именем «людей 40-х годов», а первые — под именем
«шестидесятников». Для «шестидесятников» (или «детей») ока¬
залась неприемлемой умеренность «людей 40-х годов» (или
«отцов»), а для «людей 40-х годов» оказался неприемлем
радикализм «шестидесятников».
Для «отцов» сам факт отмены крепостного права был уже
победой их исторических чаяний и надежд, ведь на протяжении
почти что полутора десятилетий их деятельности мысль об отмене
крепостного права считалась крамольной, а проповедь ее, даже
косвенная, каралась по всей строгости существующих законов.
Как бы там ни было, а ведь пострадали же от правительственных
репрессий Герцен, Огарев, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоев¬
ский и многие другие из тех, кто начинал свою литературную
и общественную деятельность именно в сороковые годы.
Деятельность же «шестидесятников» началась с второй поло¬
вины пятидесятых годов, когда вопрос об отмене крепостного
права уже обрел статут легальности. «Отцы» по праву праздно¬
вали свою первую победу, и их поначалу не столько раздражал
радикализм «детей», сколько непризнание «детьми» исторических
заслуг «отцов». Отсюда и возникла первоначальная личная
взаимная неприязнь. И будь крепостное право отменено без
проволочек, конфликт между «отцами» и «детьми» не зашел
бы так далеко.
Что ж, не станем искать правду только на одной стороне:
«люди 40-х годов» честно послужили своему народу и приуго¬
товили общество в целом и новое поколение («детей») к той
борьбе, на которую у них самих же недостало сил, в чем,
конечно, им было трудно признаться даже самим себе. Ход
исторического развития вызвал к жизни новые идеи, лежащие
за пределами исторического опыта и гражданских намерений
«людей 40-х годов»: теперь вопросы политической эмансипа¬
ции стояли в тесной связи с вопросами рационального эконо¬
мического переустройства общества. Потому-то Чернышевский
и солидаризировался на определенном этапе со славянофилами
(хотя они тоже принадлежали к поколению «отцов»), что в
основе их теорий лежала экономическая концепция крестьянской
общины. По той же причине качнулся в сторону славяно¬
филов и Герцен после подавления революционного движения
в Европе в 1848 —1849 годах.
«По-видимому,— писал Герцен,— сельская Россия покорилась
совершенно, но в действительности она ничего не приняла из
реформ Петра I. Петр чувствовал это пассивное сопротивление,
никогда не любил русского крестьянина и совершенно не
справлялся с его жизнью. С преступной легкостью он увели¬
чил права дворянства и еще сильнее затянул цепь рабства.
С этого времени крестьянин еще глубже ушел в свою общину
и выходит из нее, только подозрительно озираясь вокруг...
Русский крестьянин много перенес, много выстрадал. Он
страдает и поднесь, но остается все-таки сам собою. Он изоли¬
рован в своей маленькой общине. Разбросанность по этой
огромной обширной стране лишила его связи со своими. Ока¬
зывая пассивное сопротивление, так соответствующее его харак¬
теру, он, тем не менее, бережет силы для себя. Он глубоко¬
мысленно наклоняет голову, и несчастья часто проходят над
ним, не задевая его. Отсюда — такая ловкость, такая смет¬
206
ливость и доброта у русского крестьянина, несмотря на ужас
его положения».
Чернышевский поначалу (о чем у нас уже шла речь) тоже
горячо защищал общину, однако, когда ему стало ясно, что
значительная часть земли после реформы останется в руках
помещиков, что землевладельцем станет не только земледелец,
он стал проводить в своих статьях идеи революционного
переустройства общества. Теперь Чернышевский вступит в поле¬
мику не только со славянофилами, но и с Герценом. И тут,
вероятно, следует задержать наше внимание на разногласиях
Чернышевского с Герценом.
Разногласия между Герценом и Чернышевским, начавшиеся
еще в 1857 году, вылились в открытый конфликт в 1859 году.
В первом и четвертом номерах «Современника» за этот год
была напечатана статья Добролюбова («за подписью: «— бов»)
«Литературные мелочи прошлого года» и несколько стихотвор¬
ных фельетонов в «Свистке», в которых высмеивались, по сути
дела, «люди 40-х годов» и противопоставлялась им «молодежь»,
то есть разночинцы. Правда, Добролюбов делал оговорку:
«Разумеется, были и есть в этом поколении люди, которые
вовсе не подходят под общую норму, нами указанную.
Таков был Белинский, таковы были еще пять-шесть человек,
умевших довести в себе отвлеченный философский принцип
до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности.
Это люди высшего разбора, перед которыми с изумлением
преклонится всякое поколение... Они доселе сохранили свежесть
и молодость сил, доселе остались людьми будущего, и даже
гораздо больше, нежели многие из действтительно молодых
людей нашего времени...»
Герцен и Огарев могли вроде бы распространить эту ого¬
ворку на себя, однако нападки «Современника» на обличительную
литературу подводили под эту критику и «Колокол», который
постоянно печатал обличительные материалы. Чернышевский
же и Добролюбов считали, что время обличений прошло, что
настало время для борьбы, поэтому Добролюбов в своей статье
зло высмеивает «людей 40-х годов». «Люди этого поколения,—
писал он,— проникнуты были высокими, но несколько отвле¬
ченными стремлениями. Они стремились к истине, желали
добра, их пленяло все прекрасное; но выше всего был для них
принцип. Принципом же называли общую философскую идею,
которую признавали основанием всей своей логики и морали.
Страшной мукой сомненья и отрицанья купили они свой прин¬
цип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвя¬
щего влияния. Что-то пантеистическое было у них в признании
207
принципа; всякий поступок, не соображенный с принципом,
считался преступлением. Отвлекаясь, таким образом, от действи¬
тельной жизни и обрекая себя на служение принципу, они не
умели верно рассчитывать свои силы и взяли на себя гораздо
больше, чем сколько могли сделать».
1 июня 1859 года вышел 44-й лист «Колокола» со статьей
Герцена «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), прямо направ¬
ленной против «Современника» и «Свистка».
«В последнее время,— писал Герцен,— в нашем журнализме
стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом
мысли...
Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных него¬
дований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страж¬
дущими, катаются со смеху над обличительной литературой,
над неудачными опытами гласности. И это не то чтоб случайно,
но при большом театре ставят особые балаганчики для освисты¬
вания первых опытов свободного слова литературы, у которой
еще не заросли волосы на полголове, так она недавно сидела
в остроге...
Это сущий вздор, что у нас нет общественного мнения, как
говорил недавно один ученый публицист, доказывая, что у нас
гласность не нужна, потому что нет общественного мнения,
а общественного мнения нет потому, что нет буржуазии!
У нас общественное мнение показало и свой такт, и свои
симпатии, и свою неумолимую строгость даже во времена
общественного молчания. Откуда этот шум о чаадаевском пись¬
ме, отчего этот фурор от «Ревизора» и «Мертвых душ», от
рассказов Охотника, от статей Белинского, от лекций Гранов¬
ского?..»
А заканчивалась статья так: «Не лучше ли в сто раз,
господа, вместо освистываний неловких опытов вывести на торную
дорогу — самим на деле помочь и показать, как надо поль¬
зоваться гласностью?
Мало ли на что вам есть точить желчь — от ценсурной
троицы до покровительства кабаков, от плантаторских коми¬
тетов до полицейских побоев. Истощая свой смех на обли¬
чительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по
этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Бул¬
гарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на
шею!
Может, они об этом и не думали — пусть подумают теперь!»
Ранним утром 5 июня Некрасов нагрянул к Добролюбову
с новостью, которую он накануне услыхал в клубе, где уже
говорилось о герценовской статье, содержащей намек, будто бы
208
«Современник» подкуплен властями. В тот день экземпляр
«Колокола» достать не удалось, Добролюбов тешил себя тем,
что все пустые сплетни... Вечером он записал в дневнике:
«Если это правда, то Герцен человек вовсе не серьезный: так
легкомысленно судить о людях в печати ужасно дико. Но чем
более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что
Некрасову только так показалось и что в сущности намека этого
нет». Но все-таки беспокойство его не оставляет, и он про¬
должает: «Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью,
а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать
Герцену письмо с объяснением дела... Однако хороши наши
передовые люди. Успели уж пришибить в себе чутье, которым
прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался
и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный
прогресс, при инициативе сверху, под покровом законности...
Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым
могу помериться, если на то пойдет; но Некрасов обеспокоен,
говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как зна¬
чение Герцена для лучшей части нашего общества очень силь¬
но».
Чернышевский в это время собирался вместе с женой и детьми
ехать в Саратов, теперь ему пришлось резко изменить свой
маршрут. В газетах «Ведомости Санкт-Петербургской городской
полиции» и «Санкт-Петербургские ведомости» сообщалось, что
«Чернышевский Николай Гаврилович, отст. тит. сов., уехал
17 июня в Любек на пароходе «Нева».
Добролюбов порывался ехать в Лондон сам, но по просьбе
Некрасова туда отправился Чернышевский, правда, всем окру¬
жающим говорили, что он едет не в Лондон, а в Париж к за¬
болевшему там Александру Пыпину. Добролюбов же срочно
поместил в «Современнике» ответ, в котором, в частности,
говорилось: «Мы никому не уступим в горячей любви к обли¬
чению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы
придать им более широкие размеры, чем мы желаем... Мы
хотим более цельного и основательного образа действий...»
26 июня Чернышевский прибыл в Лондон, пробыл там
до 30 июня и дважды встречался с Герценом. Сведений об
этих встречах сохранилось очень мало, так как говорили они
наедине.
«Как теперь вижу этого человека: я шла в сад через залу.
Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем;
последний остановил меня и познакомил с своим собесед¬
ником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было не¬
красиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная
14 ,„7-
209
красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой
задумчивости»,— вспоминала Наталья Тучкова.
Максим Антонович, ставший после смерти Добролюбова
главным критиком «Современника», передает такой рассказ
Чернышевского о встрече с Герценом: «Явившись к нему,
я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце,
свои интимные мысли и чувства и до того расчувствовался,
что у меня в глазах появились слезы,— не верите, ей-богу,
уверяю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня
и возражать, но я не останавливался и говорил, что я не все
еще сказал и скоро кончу. Когда я кончил, Герцен окинул
меня олимпийским взглядом и холодным поучительным тоном
произнес такое решение: «Да, с вашей узкой партийной
точки это понятно и может быть оправдано; но с общей ло¬
гической точки зрения это заслуживает строгого осуждения
и ничем не может быть оправдано». Его важный вид и его
решение просто ошеломили меня, и все мое существо с его
настроениями и чувствами перевернулось вверх ногами...»
А вот что писал сам Чернышевский Добролюбову после своей
встречи с Герценом: «Оставаться здесь долее было бы с к у ч н о.
Разумеется, я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело
так скучно, не взялся бы за него. Собственно здесь я с удовольст¬
вием прожил бы месяцы и годы — я нахожу, что здешние нравы
лучше всего подходят к здравому смыслу, т. е. нравы туземцев.
Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу
писать, чтобы не огорчать Пыпина, через руки которого пойдет
это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попро¬
сите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое
мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что
он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-
нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин
в квадрате — вот Вам все».
Чернышевский потом будет редко и неохотно вспоминать
свою поездку в Лондон, правда, в период сибирской ссылки он
кое-что расскажет о ней С. Стахевичу, а тот изложит его рассказ
следующим образом: «Я нападал на Герцена за чисто обличи¬
тельный характер «Колокола». Если бы, говорю ему, наше пра¬
вительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за
ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать
своих агентов в уезде в нескольно приличном виде, оставляя
в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-
то дела именно в строе, не в агентах. Вам следовало бы выста¬
вить определенную политическую программу, скажем — консти¬
туционную, или республиканскую или социалистическую; и за¬
210
тем всякое обличение являлось бы подтверждением основных
требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое:
ceterum censeo Carthaginem delendam esse» (Карфаген должен
быть разрушен.— Ред.).
Разумеется, во всех этих свидетельствах Чернышевского
«присутствует» его настроение. Письмо Добролюбову было на¬
писано, так сказать, по горячим следам, в нем чувствуется явное
раздражение. Видимо, даже слова о том, что он мог бы прожить
в Лондоне «месяцы и годы», должны были говорить о том, что
Герцен весьма хорошо устроился. В несохранившемся письме
к отцу из Любека от 20 июня он писал нечто противоположное,
так как в ответном письме отца есть такие слова: «Если действи¬
тельно незанятно пребывание за границей, что же тянет туда
наших земляков, полками за границу едущих?» Вероятно, Черны¬
шевский, отправляясь в Лондон, полагал, что ему удастся пе¬
реубедить Герцена. Надежды его (а также Некрасова и Добролю¬
бова) не оправдались, тут уже было задето и самолюбие — отсю¬
да «Кавелин в квадрате» и прочее. Сближение Чернышевского
с М. Антоновичем произошло несколько позже, поэтому рассказ
Чернышевского о встрече с Герценом носит более исповедальный
характер. Николай Гаврилович настолько был уверен в правоте
своей позиции, что решил «раскрыть перед ним свою душу и серд¬
це...». Встретив со стороны Герцена отпор и непонимание, Черны¬
шевский, видимо, действительно был «ошеломлен». В этом рас¬
сказе не столько сквозит раздражение, сколько обида и недоволь¬
ство задним числом собою, не сумевшим взять с Герценом нужный
тон. В разговоре со Стахевичем Чернышевский, по сути дела,
изложил в общих чертах тогдашние разногласия между «Совре¬
менником» и «Колоколом» в вопросах тактики. Каких-либо
других подробностей о той встрече Стахевичу узнать не удалось.
Хотя Чернышевский и писал Добролюбову, что ездил в Лон¬
дон «не понапрасну», добиться согласованных действий не уда¬
лось, более того, полемика между «Современником» и «Колоко¬
лом» продолжалась, правда в 49-м листе «Колокола» от 1 августа
1859 года появилось «Объяснение статьи» «Very dangerous!»,
в заключении которого говорилось: «Мы не имели в виду ни одно¬
го литератора, мы вовсе не знаем, кто писал статьи, против кото¬
рых мы сочли себя вправе сказать несколько слов, искренно
желая, чтоб наш совет обратил на себя внимание». Но это своего
рода извинение перед «Современником» мало меняло положе¬
ние дел.
В начале 1860 года в «Колоколе» было напечатано за под¬
писью «Русский человек» «Письмо из провинции», автор кото¬
рого в заключение обращался к Герцену: «Вы все сделали, что
211
могли, чтобы содействовать мирному решению дела,— переме¬
ните же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну,
а звонит в набат! К топору зовите Русь!» Но в ответе на «Письмо»
Герцен еще раз дал понять, что он не станет этого делать «до тех
пор, пока останется хоть одна радужная надежда на развязку
без топора».
Дальнейшим поводом для полемики послужила опублико¬
ванная в июльском номере «Современника» статья Добролю¬
бова «Благонамеренность и деятельность». 15 октября 1860 года
в «Колоколе» появилась статья Герцена «Лишние люди и жел-
чевики», в которой он защищал передовую дворянскую интел¬
лигенцию 30—40-х годов. «Лишние люди,— писал Герцен,—
сошли со сцены, за ними сойдут и желчевики, наиболее сердя¬
щиеся на лишних людей. Они даже сойдут очень скоро, они слиш¬
ком угрюмы, слишком действуют на нервы, чтобы долго дер¬
жаться». В этой статье был сделан и весьма неприличный намек
в адрес Некрасова, без упоминания его имени.
Еще в 1853 году в прокламации «Юрьев день! Юрьев день!»
Герцен писал: «Горячее дыхание больной, выбившейся из сил
Европы веет на Русь переворотом. Царь отгородил вас забором,
но в казенном заборе его есть щели и сквозной ветер сильнее
вольного.
Наступающий переворот не так чужд русскому сердцу, как
прежние. Слово социализм неизвестно нашему народу, но смысл
его близок душе русского человека, изживающего век свой в сель¬
ской общине и в работнической артели».
Теперь в статье «Русский народ и социализм» Герцен разовьет
эту мысль и, придерживаясь точки зрения многих западноевро¬
пейских историков, станет сравнивать современную ему Запад¬
ную Европу с Древним Римом накануне его падения. О западно¬
европейских народах он скажет: «...они совершили великие дела,
но не исполнили своей задачи... они зажгли в сердцах желания,
которых они не в силах исполнить». Далее Герцен приходит
к выводу, что счастье русского народа состоит в том, что «он
остался вне всех политических движений, вне и европей¬
ской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общи¬
ну и которая сама ныне дошла в социализме до самоотрица¬
ния».
В майской книжке «Современника» Чернышевский печа¬
тает статью «О причинах падения Рима», в которой его меньше
всего будут интересовать причины падения Древнего Рима. Пово¬
дом к написанию этой статьи послужило сочинение Гизо «Исто¬
рия цивилизации во Франции от падения Западной Римской
империи», причиной — те взгляды на перспективы обществен¬
212
ного развития, которые, в частности, нашли свое отражение
в статье Герцена «Русский народ и социализм».
Хотя в подзаголовке статьи «О причинах падения Рима»
и стоят выходные данные сочинения Гизо, автор в первой же
фразе признается: «Разбирать знаменитую книгу Гизо, издание
которой в русском переводе — дело очень похвальное и полез¬
ное, мы не будем». Порассуждав немного о разных материях,
Чернышевский прямо говорит: «Если бы толковали только
о древней Римской империи, то мало было бы нам огорчения
и вреда. Но беда в том, что точно так же трактуют о вопросах,
важных для нынешней практической жизни народов, в особен¬
ности народов полуварварских».
Отринув мысль о саморазложении Римской империи, а стало
быть, и по аналогии выстроенный вывод о дряхлости Европы
(«Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных
народов: они еще только начинают жить»), Чернышевский делает
свой вывод: «Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживля-
телей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими
силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней
на все, что ей нужно делать».
Что в противовес европейской цивилизации противопоставля¬
ли Герцен, славянофилы, а ранее и сам Чернышевский? Сель¬
скую общину. Нет, он и теперь не отвергает общину, но он уже
и не абсолютизирует ее как исторически перспективный фак¬
тор. «Они (то есть славянофилы и Герцен.— А. Л.) кроме общин¬
ного землевладения не видят у себя ничего такого, чему полезно
было бы распространиться от нас на передовые страны и чем бы
могли мы содействовать их оживлению». Чернышевский по¬
нимал, что слово «кроме» не может поколебать аргументацию
его оппонентов, поэтому он идет дальше: «А этому обычаю Евро¬
пе поздно научиться от нас, да и не нужно учиться, потому что
сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей
нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит,
оживлять нам ее ровно уж нечем».
В частном письме Огарев отреагирует на статью Чернышевско¬
го так: «...по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в
«Современнике» (уже прежде смекнувши из довольно плохой
критики в «Петерб. Ведом.») статью прямо против нас, т. е. что
напрасно говорить, мол, что в России есть возродительное общин¬
ное начало, которого в Европе нет, что общинное начало — вздор...
и что те, кто это говорит, дураки и лжецы, с намеком, что речь
идет о нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим зна¬
менем».
Отказался ли Чернышевский от общего «знамени» (под этим
213
словом подразумевался принцип общинного землевладения)?
Нет. В той же его статье есть и такие слова: «Мы далеко не восхи¬
щаемся нынешним состоянием Западной Европы; но все-таки
полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранил¬
ся у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, не¬
сколько соответствующий одному из условий быта, к которому
стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осу¬
ществлению этого принципа совершенно независимо от нас». Под
этим «одним принципов», естественно, подразумевается социа¬
лизм. А далее Чернышевский поясняет: «...а для нас самих этот
обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее
устройство (т. е. социализм), его введение будет значительно
облегчено существованием прежнего обычая (т. е. общины),
представляющегося сходным по принципу с порядком (т. е. со¬
циализмом), какой тогда понадобится для нас, и дающего удоб¬
ное, просторное основание для этого нового порядка». (В скобках
уточнения мои.— А. Л.)
Полемика между «Современником» и «Колоколом» началась
в 1859 году и длилась до начала 1862 года. Герцен и Огарев ошиба¬
лись: Чернышевский изменил не «общему знамени», а изменил
тактику, поскольку его статья была написана уже после Мани¬
феста 19 февраля, уже после того, как сам Огарев написал: «Вооб¬
ще крепостное право не отменено. Народ царем обмануть, а Черны¬
шевский, увлеченный полемикой, не заметит ни этих слов Огаре¬
ва, ни некролога Герцена на смерть Добролюбова под названием
«Кончина Добролюбова». Вот текст этого некролога:
«Опять нам приходится занести в нашу хронику раннюю
смерть — энергический писатель, неумолимый диалект и один
из замечательнейших публицистов русских, Добролюбов, похоро¬
нен на днях на Волковой кладбище возле своего великого пред¬
шественника Белинского. Говорят, что Добролюбову было только
25 лет».
В начале 1862 года Чернышевский под псевдонимом «Эфиоп»
опубликует в «Свистке» статью «Опыты открытий и изобрете¬
ний», в которой опять заденет Герцена: «Есть публицист несрав¬
ненно более знаменитый и гораздо более пылкий, который так
и крикнет: «very dangerous!», и назовет меня «окаменелым ти¬
тулярным советником» или «ископаемым кандидатом».
Увлекшись полемикой «Современника» с «Колоколом», мы
и сами как бы проскочили мимо реформы. Но у нас есть возмож¬
ность, забежав несколько вперед, вернуться назад и сказать
несколько слов о событии, последствия которого не только нель¬
зя было предусмотреть, но и которые полностью нельзя учесть
даже по прошествии многих десятилетий.
214
Но в заключение этой главы все-таки хотелось бы сказать,
что об отношении Чернышевского к Герцену и Герцена к Черны¬
шевскому не следует судить только по их полемическим статьям.
Они шли к одной цели, но каждый торил свою тропу, и каждый
в этом случае считал, что только его тропа и ведет-то к цели.
«Какой умница, какой умница... и как отстал,— говорил
в ту пору Чернышевский о Герцене.— Ведь он до сих пор думает,
что продолжает остроумничать в московских салонах и препи¬
рается с Хомяковым. А время идет теперь с страшной быстро¬
той: один месяц стоит прежних десяти лет. Присмотришься —
у него все еще в нутре московский барин сидит».
«Удивительно умный человек,— говорил в ту пору Герцен
о Чернышевском,— и тем более при таком уме поразительно
его самомнение. Ведь он уверен, что «Современник» представляет
из себя пуп России. Нас, грешных, они совсем похоронили. Ну,
только, кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной —
мы еще поживем».
Итак, 1860 год, последний год крепостного права. 31 октября
Николай Гаврилович пишет отцу: «Особенных новостей в Петер¬
бурге нет. Говорят только, что дело по освобождению крепост¬
ных крестьян приближается к концу,— манифеста и указа
об этом ждут к новому году». В конце ноября Ольга Сократовна
выезжает в Саратов повидаться со своим умирающим отцом.
Вскоре Николай Гаврилович получает из Саратова горестную
весть: заболел и умер его любимый сын Виктор, не дожив полто¬
ра месяца до четырех лет.
РЕФОРМА
Наступивший 1861 год должен был стать годом отмены в Рос¬
сии крепостного права. Еще в октябре месяце минувшего года
закончили свою долгую работу Редакционные комиссии, пере¬
давшие выработанные ими проекты в Главный комитет, который
после внезапной кончины генерала Я. Ростовцева возглавил
заинтересованный в скорейшем решении крестьянского вопроса
великий князь Константин Николаевич. Проекты Редакционных
комиссий, представленные в виде «Положений о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости», одобренные Государ¬
ственным советом, в начале года были утверждены Александ¬
ром II, а 19 февраля государь подписал Манифест, Указ Сенату
и Положения, однако с объявлением воли вышла некоторая
задержка. В столицах Манифест обнародовали лишь 5 марта,
215
а в провинции на то потребовалась еще целая неделя. Тяжелый
слог Манифеста (Манифест был написан московским митрополи¬
том Филаретом) с трудом доходил до слушателей. Положения
пришли в провинцию только несколько недель спустя.
По свидетельству очевидцев, в день объявления воли в Моск¬
ве и в Петербурге многие, встречаясь со знакомыми, христосова¬
лись, как в светлый праздник. Однако в газетах не только воспре¬
щалось хоть как-то критиковать Положения 19 февраля, но и вы¬
казывать особое ликование. Чувствовалось, что правительство
не особенно надеется на общий благоприятный исход дела при
проведении реформы в жизнь, а потому и предпочитает не воз¬
буждать вокруг реформы никаких толков.
Среди тех литераторов, которые после рескрипта 20 ноября
1857 года готовы были протянуть друг другу руки, забыв все
прежние свои разногласия, теперь никакого единомыслия не
наблюдалось.
«Великое, величайшее слово в русской истории произнесено! —
писал по поводу объявления воли в «Современной летописи»
М. Катков.— Последствия этого слова будут неизмеримо благо¬
детельны, и память народная сохранит имя того, кто решился
произнести это слово и снять узы, которые были наложены на
русский народ историческою необходимостию государственного
начала.
Вспомним с благодарностию о тех многочисленных официаль¬
ных и неофициальных деятелях, которые своими трудами подго¬
товляли разрешение трудного вопроса и способствовали скорому
и справедливому разрешению его».
Восторг Каткова разделяли далеко не все. Вот что, к примеру,
писал в частном письме Иван Аксаков: «Это дурацкое положение
на первой странице объявляет, что земля составляет неотъемле¬
мую собственность помещика, и таким образом идет прямо напе¬
рекор народным понятиям, выработанным его историческою
жизнью. Тут очень важен провозглашенный принцип. Скажите
крестьянину, что земля его, но что помещика следует вознагра¬
дить за эту землю,— вознаградить обязано государство (а не
крестьянин — выкупать!). Государству для этого нужны деньги,
и участвовать в этом вознаграждении, наравне с другими, гото¬
вы и крестьяне. Я это слышал от мужичков. Вот теперь велено
распространить на государственных крестьян это же положение,
и заставят, пожалуй, и их выкупать землю. Это все равно, что
заставить дерево выкупать ту землю, на которой оно растет. При¬
знаюсь, чем больше я читаю положение, тем мне грустнее стано¬
вится, грустнее именно потому, что в составлении его участвовали
близкие мне люди».
216
«В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу
утром в спальню Некрасова,— вспоминал потом Чернышевский
в своих «Заметках о Некрасове».— Он, по обыкновению, пил чай
в постели... Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв
о чае, который стоит на столике подле него. Рука лежит вдоль
тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародова¬
но решение крестьянского дела. На лице выражение печали.
Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, под¬
нялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волне¬
нием проговорил: «Так вот что такое эта воля. Вот что такое
она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда
он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали?
Давно было ясно, что будет именно это».— «Нет, этого я не ожи¬
дал»,— отвечал он и стал говорить, что, разумеется, ничего осо¬
бенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его
предположения».
В июне того же года Н. Серно-Соловьевич напечатал в Берли¬
не под собственным именем брошюру «Окончательное решение
крестьянского вопроса», в которой излагал свой проект немед¬
ленного выкупа земли. «Я публикую проект потому,— писал
он в предисловии,— что крестьянский вопрос, нерешенный, или
правильнее, искаженный положениями 19 февраля, разрешим
только двумя способами: или общею выкупною мерою, или топо¬
рами; третьего исхода нет, а нерешенным вопрос оставаться не
может; стало быть, люди, не желающие насилия, должны упот¬
реблять все, что только в их власти, для содействия выкупу».
В своих предположениях Н. Серно-Соловьевич исходил не
только из умозрительных заключений, но и из практики прове¬
дения реформы в жизнь. Согласно Положениям, несмотря на
объявление воли, крестьяне должны были еще два года, находясь
на положении временнообязанных, отбывать прежние повинности
(барщина или оброк), а дворовые нести рабскую службу госпо¬
дам. Предполагалось, что в течение двух лет будут составлены
уставные грамоты, которые определят как поземельное устройст¬
во крестьян, так и размер возложенных на крестьян повинностей.
Причем уставные грамоты сначала составлялись помещиками
(на это им давался целый год), затем грамоты переходили к ми¬
ровым посредникам, которыми проверялись и удостоверялись
заключенные между помещиками и крестьянами сделки. Состав¬
ление и утверждение уставных грамот должно было быть окон¬
чено к весне 1863 года. Вот эти два года крестьяне и числи¬
лись временнообязанными. Вся эта сложная процедура факти¬
чески оттягивала действие Манифеста еще на два года, что не
могло не вызвать возмущения крестьян. Во многих губерниях
217
начались волнения. Особенно сильные волнения произошли
в Казанской губернии. В действие были приведены войска. В селе
Бездна Казанской губернии под предводительством крестьянина
Антона Петрова 12 апреля 1861 года вспыхнуло настоящее вос¬
стание. В результате столкновения с войсками было убито 55 че¬
ловек и ранено 77. Антона Петрова по приговору полевого суда
тут же расстреляли.
Говоря в своей брошюре «Окончательное решение крестьян¬
ского вопроса» о «топоре», Н. Серно-Соловьевич опирался на
факты народного возмущения и протеста, уже имевшие место
в самой действительности, в том числе и на кровавые события
в Бездне.
Осенью того же года в Петербурге комитет «Великорусе»,
который был тесно связан с «Современником», выпустил три
прокламации под названием, одноименным комитету, в которых
заявлялось, что если правительство не введет обязательного вы¬
купа наделов и притом с уплатой вознаграждения помещикам
не одними крестьянами, а всеми платежеспособными классами,
то в 1863 году вспыхнет крестьянское восстание.
Современные исследователи — М. В. Нечкина, Н. Н. Новико¬
ва, А. Ф. Смирнов1 и некоторые другие придерживаются той
точки зрения, что Чернышевский принимал самое активное
участие в деятельности комитета «Великорусе» и был автором
трех его прокламаций. Такая точка зрения нисколько не противо¬
речит политической тактике автора прокламации «Барским
крестьянам...», содержащей в себе призыв к подготовке всерос¬
сийского крестьянского революционного выступления, поскольку
в ней ясно говорится, что момент такого выступления еще не
настал. И вот на этот подготовительный период Чернышевский
в прокламациях «Великорусе» развертывает программу легаль¬
ных и нелегальных действий. «Сам замысел «Великорусов»,—
пишет А. Смирнов,— его тактика, поэтапное обсуждение важней¬
ших проблем, удивительно согласуются со всем направлением
деятельности Чернышевского по политическому воспитанию
нации... В «Великоруссе» было обрисовано два возможных пути
разрешения назревших проблем: первый путь — это крестьян¬
ская революция, но не исключался и другой путь, осуществление
своего рода программы-минимума — пересмотр «крестьянской
реформы и безотлагательное провозглашение политических сво¬
бод, их конституционное закрепление».
1 А. Смирнов в составленном им сборнике статей Н. Чернышевского
«Письма без адреса» (М., «Современник», 1979) впервые включил про¬
кламацию «Великорусе» в авторские тексты Чернышевского.
Борьба за политические права и конституцию ставили в оп¬
позицию к правительству самые разные слои населения, и таким
образом к 1863 году, когда, по мнению Чернышевского, должны
были начаться повсеместные крестьянские выступления, прави¬
тельство оказалось бы фактически изолированным и рухнуло бы
при первом революционном натиске.
Чернышевский был в числе тех немногих людей, которых
реформа не разочаровала по той причине, что они заранее знали,
какой характер она будет иметь. Об этом свидетельствует и тот
диалог, который произошел между Чернышевским и Некрасо¬
вым в день обнародования Манифеста. Обращаясь к крестьянам,
Чернышевский пишет в прокламации: «А еще вот о чем, братцы,
солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок
держать... А кроме того, ружьями запасайтесь кто может да вся¬
ким оружием». Но как мы уже говорили, Чернышевский пола¬
гал, что революционный подъем придется на весну 1863 года,
когда истечет срок переходного периода, то есть когда крестьяне
перейдут из состояния временнообязанных в категорию юриди¬
чески вольных людей, а отношения между помещиками и кресть¬
янами не будут еще урегулированы. «Так вот как: два года жди¬
те, царь говорит, покуда земля отмежуется, а на деле земля-то
межеваться будет пять, либо и все десять лет: а потом еще семь
лет живите в прежней кабале, а по правде-то оно выйдет опять
не семь лет, а разве что семнадцать либо двадцать, потому что
все, как сами видите, в проволочку идет»,— говорилось в прокла¬
мации «Барским крестьянам...».
В статье «Письма без адреса» доказывалась не только необхо¬
димость, но и неизбежность революции. Сначала Чернышевский
пускается в исторический экскурс: «Вы говорите народу: ты
должен идти вот как; мы говорим ему: ты должен идти вот так.
Но в народе почти все дремлют, а те немногие, которые просну¬
лись, отвечают: давно уж раздаются призывы к народу, чтобы
он шел так или иначе, и много раз пробовал он слушать призы¬
вов, но пользы от них не было. Звали народ выручать Москву
от поляков,— народ пошел, выручил, и оставлен был в положе¬
нии, хуже которого не было прежде и не могло бы быть при поля¬
ках. Потом ему сказали: выручай Малороссию; он выручил,
но ни ему, ни самой Малороссии не стало от этого лучше. Ему ска¬
зали: завоюй себе связь с Европой,— он победил шведов и за¬
воевал себе вместе с балтийскими гаванями только рекрутчину
и подтверждение крепостного права. Потом, по новым призы¬
вам, он много раз побеждал турок, захватил Литву, разрушил
Польшу и опять-таки не получил себе никакой пользы. Двинули
его против Наполеона: он завоевал своему государству первенст¬
219
во в Европе, а сам был оставлен все в прежнем положении. Такую
же пользу он получал себе и от призывов, которые были после.
Зачем же ему увлекаться теперь какими бы то ни было новыми
призывами? Он не ждет себе от них другой пользы, как и от
прежних.
Виноваты ли в этом недоверии народа вы или мы, нынешние
люди? Нынешнее расположение народных мыслей устроилось
долгим ходом событий, бывших раньше вас и нас...»
Так было Прежде. Но теперь-то власть сама решила облег¬
чить участь народа. Да, пошла, но пошла-то она на это мероприя¬
тие вынужденно. «Необходимость заняться крестьянским вопро¬
сом наложена была на Россию ходом последней нашей войны...
Когда война получила совершенно иной ход, этого разочарования
нельзя было приписать ничему, кроме непригодности механизма,
располагавшего нашими силами. Открылась надобность изменить
неудовлетворительное устройство. Самою заметною чертою его
считалось тогда крепостное право. Конечно, оно было только
одним частным приложением принципов, на которых был устроен
весь прежний порядок; но внутренней связи этого частного фак¬
та с общими принципами большинство нашего общества тогда
еще не понимало. Потому общие принципы прежнего порядка
были оставлены в покое и вся реформационная сила общества
обратилась против самого осязательного из его внешних при¬
менений... Тяжела была для крепостных крестьян и вредна для
государства законная сущность крепостного права. Но она сооб¬
разна была всему порядку нашего устройства; потому сам в себе
он не мог иметь силы, чтобы отменить ее. А между тем общество
предполагало отменить крепостное право силою старого порядка».
Итак, крепостное право — страшное зло, но оно сообразно
«всему порядку нашего устройства», стало быть, необходимо
менять все «устройство», то есть всю государственную систему,
а поскольку государственная система никогда не пойдет на само¬
уничтожение, то выход один — революция. Однако это, так ска¬
зать, теоретический вывод о необходимости революции. А есть ли
практические предпосылки к ней?
«Бывшие помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно¬
обязанными1, не принимают уставных грамот; предписанное
продолжение обязательного труда оказалось невозможным; пред¬
писанные добровольные соглашения между землевладельцами
и живущими на их землях срочнообязанными крестьянами ока¬
зались невозможными...
А. Л.
220
Назывались они не «срочнообязанными», а «временнообязанными».—
Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я
ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают
вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все
лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой
ожидаемой развязки».
В крестьянстве Чернышевский видел главную движущую силу
будущей революции, однако, называя Чернышевского идеологом
крестьянской революции, порой приходят к неверному выводу,
будто Чернышевский «звал к топору» только ограбленное ре¬
формой крестьянство. «Вам известно, м. г. (то есть «милости¬
вый государь».— А. Л.), каких общих перемен стали желать все
сословия, которых прямо не касался частный вопрос о крепост¬
ном праве. (Тут имелись в виду купечество, духовенство, мещане,
определенная часть чиновничества и офицерства, люди свобод¬
ных профессий.— А. Л.) Все они чувствовали обременение от
произвольной администрации, от неудовлетворительности судеб¬
ного устройства и от многосложной формалистичности законов.
Дворянство точно так же страдало от этих недостатков, как
и другие сословия. Таким образом, само собою открывался ему
способ найти нужную для него опору. Оно сделалось предста¬
вителем стремления к реформам, нужным для всех сословий».
Говоря о дворянстве, Чернышевский, видимо, намекал в пер¬
вую очередь на требования тверского дворянства от 3 февраля
1862 года. В составленном на имя государя адресе, в частности,
говорилось: «Дворяне, в силу сословных преимуществ, избавля¬
лись до сих пор от исполнения важнейших общественных повин¬
ностей. Государь! Мы считаем кровным грехом жить и пользо¬
ваться благами общественного порядка вещей, при котором бед¬
ный платит рубль, а богатый не платит и копейки. Это могло быть
терпимо только при крепостном праве, но теперь ставит нас в по¬
ложение тунеядцев, совершенно бесполезных родине. Мы не же¬
лаем пользоваться таким позорным преимуществом и дальнейшее
существование его не принимаем на свою ответственность. Мы
всеподданнейше просим Ваше Императорское Величество разре¬
шить нам принять на себя часть государственных податей и по¬
винностей соответственно состоянию каждого.
Кроме имущественных привилегий мы пользуемся исключи¬
тельным правом поставлять людей для управления народом,
в настоящее время мы считаем беззаконием исключительность
этого права и просим распространить его на все сословия...»
Далее в адресе говорилось о взаимном непонимании между
правительством и дворянством, а заканчивался он так:
«Этот всеобщий разлад служит лучшим доказательством,
что преобразования, требующиеся ныне крайнею необходимостью,
221
не могут быть совершены бюрократическим порядком. Мы сами
не беремся говорить за весь народ, несмотря на то, что стоим
к нему ближе, и твердо уверены, что недостаточно одной благо¬
желательности не только для удовлетворения, но и для указания
народных потребностей. Мы уверены, что все преобразования
остаются безуспешными, потому что принимаются без спроса
и без ведома народа.
Созвание выборных от всей земли русской представляет
единственное средство к удовлетворительному разрешению вопро¬
сов, возбужденных, но не разрешенных Положением 19 февраля».
Инициаторами и авторами этого адреса были десять мировых
посредников во главе с Алексеем Бакуниным. Все они были
арестованы, отвезены в Петербург и посажены в Петропавловскую
крепость. Сенат присудил всех их к заключению в смиритель¬
ном доме на сроки от двух лет до двух лет и четырех месяцев
и к лишению права участия в дальнейшем в общественных вы¬
борах. Заступничество петербургского военного губернатора князя
А. Суворова освободило их от заключения в смирительном доме,
но некоторые из них в правах не были восстановлены до самой
смерти.
Большие надежды в будущей революции Чернышевский возла¬
гал на армию, в том числе и на офицерство. Обычно когда речь
заходит о разночинцах шестидесятых годов, то имеются в виду
учителя, врачи, мелкие чиновники, люди свободных профессий,
репетиторы и т. д. Но в это время разночинцами были и многие
офицеры. При Николае I резко увеличилась численность армии
и увеличился бюрократический аппарат, возросшая потребность
в офицерах и чиновниках привела к тому, что с каждым годом
увеличивалось число новоиспеченных наследных дворян. Чтобы
как-то затормозить этот процесс, Николай I поднял ценз «слу-
жилости» ’. Теперь в армии, чтобы получить наследное дворянство,
нужно было дослужиться до звания полковника. Все нижестоящие
офицеры недворянского происхождения были только личными
дворянами, то есть они своего сословного звания не могли пере¬
дать детям. Между прочим, и Чернышевский был личным дворя¬
нином, так как по окончании университета получил гражданский
чин десятого класса и право получения офицерского звания
в случае поступления на военную службу. Возьмем ли мы «Совре-
1 Указом Николая I от 1846 года наследное дворянство стали получать
лица, дослужившиеся до статского советника по гражданской линии, а по
военной — штабс-офицера, т. е. до звания старшего офицера. В 1856 году
Александр I еще более повысил этот ценз. В период его царствования на¬
следными дворянами становились уже лица, дослужившиеся до чина дей¬
ствительного статского советника или до звания полковника.
222
менник» или «Русское слово», комитет «Великорусса» или орга¬
низацию «Земля и воля», мы всюду обнаружим присутствие
офицеров, не говоря уже о журнале «Военный сборник», который
поначалу возглавлял Чернышевский. Правительство само неволь¬
но демократизировало армию, вернее, ее офицерский корпус.
В 1861 году Чернышевский правильно оценил внутриполити¬
ческую обстановку: после реформы все сословия оказались недо¬
вольными. Чернышевский ошибся только в прогнозе, полагая, что
в 1863 году поднимется волна всеобщего крестьянского недо¬
вольства. Все шло, казалось, своим чередом: все больше и больше
людей вовлекалось в революционную борьбу, правительство же
нервничало и постоянно разоблачало себя перед общественным
мнением. В то время Чернышевского очень беспокоила болезнь
Добролюбова. В мае 1860 года Добролюбов уехал за границу.
Сначал он жил в Германии, затем — в Швейцарии, осень провел
во Франции, а на зиму уехал в Италию. Вернулся Добролюбов
из-за границы только в августе 1861 года.
15 августа Чернышевский пишет отцу: «Теперь я почти покон¬
чил свои сборы к отъезду и надеюсь отправиться послезавтра,
в четверг. По дороге мне надобно остановиться в Твери, в Москве,
в Нижнем... Словом сказать, очень вероятно, что я пробуду
в дороге дней 9 или 10. Теперь я отправлюсь один. На следующую
весну думает ехать в Саратов и провести там лето Олинька
с детьми, и я тоже приеду. Теперь я должен буду возвратиться
числу к 28 сентября, то есть жить у Вас, милый папенька, могу
я около четырех недель».
17 августа Николай Гаврилович выехал в Саратов, а уже
недели через две писал Добролюбову: «Я поеду назад, как только
получу деньги. Полагаю, что Вы горите желанием поскорее
возобновить наслаждение сжимать меня в своих объятиях. Если
так, поскорее высылайте деньги,— вижу, что письмо имеет ха¬
рактер известной цидулы: «душа моя, очень люблю тебя. Дай
три целковых, а то не приду к тебе ночевать. Любящая тебя
Матреха».
Так и закончу, что очень люблю Вас, только присылайте
деньги.
Ваш Н. Ч.»
Николай Гаврилович действительно жаждал скорейшей встре¬
чи с Добролюбовым, но помимо этого его властно тянул к себе
Петербург, от которого он неимоверно устал, но и без которого
не мог жить... Незадолго до его отъезда в Саратов вернулся
из-за границы М. Михайлов с отпечатанными в Лондоне прокла¬
мациями «К молодому поколению...» Несколькими днями раньше
он говорил с А. А. Слепцовым о возможности организовать
тайное общество и необходимости составить прокламацию
в связи с ожидаемым в 1863 году широким крестьянским движе¬
нием... А сколько было дел по «Современнику»... Беспокоили
начавшиеся аресты. В июне в Орловской губернии арестовали
П. Зайчневского, в конце августа в Москве было открыто тайное
печатанье противоправительственных изданий, арестовали целую
группу, и в том числе молодого литератора Всеволода Косто¬
марова, с которым Чернышевского познакомил Михайлов...
«Заниматься полезными для нации трудами здесь у меня реши¬
тельно нет времени: утопаю в объятиях дружбы, если так можно
выразиться... Вы не можете себе вообразить, какая здесь скука,—
делать ничего нельзя»,— писал из Саратова Николай Гаврилович
Добролюбову 5 сентября, а 21 сентября Чернышевский был yirte
в Петербурге.
Но Петербург встретил его отнюдь не радостными событиями:
14 сентября арестовали Михаила Михайлова. 24 сентября по
городу пронесся слух, что арестовали и Чернышевского. Слух
этот оказался ложным, но 26 сентября были арестованы 26 сту¬
дентов — участников демонстрации, в том числе и близкий Чер¬
нышевскому Николай У тин.
Однако наиболее тяжелыми для Чернышевского оказались
последние три месяца «освободительного» года.
4 октября арестовали Владимира Обручева. Обстановка
в столице становилась все напряженнее, и Николай Гаврилович
буквально накануне ареста Обручева пытается в письме успокоить
отца:
«Милый папенька, мы все живы и здоровы. Письмо Ваше от
23 сентября получили своевременно.
По приезде своем сюда, нашел я Петербург встревоженным
разными слухами по поводу введения новых правил в универ¬
ситетах. Тут молва, по обыкновению щедрая на выдумки, при¬
плетала множество имен, совершенно посторонних делу. Не
осталось ни одного сколько-нибудь известного человека, о котором
не рассказывалось бы множество нелепостей. Подобные вздор¬
ные толки могут доходить и до Саратова. Я не упоминал бы о них,
если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не бес¬
покоились понапрасну».
17 октября он снова пишет «успокоительное» письмо в Саратов,
это было последнее письмо к отцу. 23 октября 1861 года Гав¬
риил Иванович скоропостижно скончался.
В конце октября началась подготовительная работа по орга¬
низации тайного общества «Земля и воля» братьями Серно-
Соловьевичами, привлекшими к этой работе А. Слепцова
224
и Н. Обручева. Николай Гаврилович был тесно связан с органи¬
заторами этого общества.
В ноябре заметно ухудшилось здоровье Добролюбова, он
буквально угасал на глазах. Вот что писала о его последних
часах Авдотья Панаева:
«Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы
с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась
долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял созна¬
ния.
За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько
силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати... Я подошла
к нему, он явственно произнес: «Дайте руку...» Я взяла его
руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня
и произнес: «Прощайте... подите домой! скоро!» Это были его
последние слова... в два часа ночи он скончался».
Это произошло в ночь с 16 на 17 ноября 1861 года.
Похороны Добролюбова состоялись на Волховом кладбище
20 ноября. Один из агентов III отделения доносил:
«Сегодня, в 9*/2 часов утра, был вынос тела умершего 17-го
числа литератора Добролюбова. В квартиру его на Литейной
собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов,
6 гимназистов и других лиц. Всем бывшим там раздавали его
визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища, но
похороны его были довольно бедные. В кладбищенской церкви,
во время отпевания тела, намеревались было говорить речи,
но священники этого не позволили.
Когда гроб выносили на. паперть, то выступил Некрасов и стал
говорить весьма невнятно, сквозь слезы, почти шепотом о причине
смерти Добролюбова, приписываемой им сильному душевному
горю, вследствие многих неприятностей и неудач, присовокупив,
что он умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить,
ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать
его примеру. Речь Некрасова трудно было расслышать.
Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо
объяснить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова,
Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, госпо¬
да, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг: он
разделяется на две части — на внесенное им в оный до отъезда
за границу и на записанное после его возвращения. Из этого
дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно
увидите причину его смерти; лиц я называть не буду, а скажу
только: N. N.».
Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизитель¬
но следующего содержания:
15
4О7Я
225
«Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) N. N. и объявил
мне, что в моей статье сделано много помарок.
Такого-то числа явился ко мне N. N и передал, что за мою
статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор.
(Подобного содержания было несколько параграфов).
Такого-то числа получено известие, что в Харьковском уни¬
верситете были беспорядки.
Получено уведомление, что беспорядки были и в Киеве.
Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку;
другие же — бог знает что с ними стало.
Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних
гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить
подчиниться начальству».
«Но главная причина его ранней кончины состоит в том, при¬
совокупил Чернышевский, что его лучший друг — вы знАете,
господа, кто! — находится в заточении...»
В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинных
стихотворения Добролюбова, в весьма либеральном духе напи¬
санные, из которых первое оканчивалось словами:
«Прости, мой друг, я умираю оттого, что честен был»; а второе
словами: «И делал доброе я дело среди царюющего зла!»
Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова кло¬
нилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою
правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как
мученика, убитого нравственно,— одним словом, что правительст¬
во уморило его.
Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между
собою заметили: «Какие сильные слова, чего доброго, его завтра
или послезавтра арестуют...»
В ноябрьской книжке «Современника» вышла статья Черны¬
шевского «Не начало ли перемены?» с подзаголовком: «Рас¬
сказы Н. В. Успенского. Две части. СПБ, 1861 г.» Как и в статье
«Русский человек на rendez-vous», так и в этой художественное
произведение было лишь поводом для подцензурного разговора
с читателем о важнейших проблемах сегодняшнего дня, но если
статья о тургеневской «Асе» была своего рода литературным
и общественным манифестом, то статья о рассказах Н. Успен¬
ского — это политическая прокламация. Собственно, о самих рас¬
сказах (при очень обильном цитировании текстов) сказано не так
уж и много, и недаром Чернышевский несколько раз предлагает
читателю вернуться к самому предмету разговора («Мы обрати¬
лись ко всебщей истории затем, чтобы была хотя одна страница
несколько солидного содержания в нашей статье, наполненной
обыденными дрязгами. Но мы вперед соглашаемся, что сделали
226
эту вставку совершенно некстати и что она не имеет ровно
ничего общего с рассказами г. Успенского, главным предметом
которых служат совершенно вздорные вещи...»). Но ради этих
«вздорных» вещей и написана была статья.
Хотя Чернышевский и противопоставляет Н. Успенского
Тургеневу, Григоровичу и другим писателям этого направления
в пользу первого, делает он это не из-за каких-то эстетических
соображений, а лишь потому, что молодой писатель-разночинец
«пишет о народе правду без всяких прикрас». Вспоминая преж¬
ние произведения о народе, Чернышевский констатирует: «По
нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашива¬
нию народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвы¬
чайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях
о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение
о том, можно или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого
положения, внушающего вам сострадание к нему? Если поло¬
жение представляется безнадежным, вы толкуете только о том,
какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно
он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его
самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить
о его недостатках — пошлою бесчувственностью».
Далее Чернышевский вспоминает гоголевского Акакия Ака¬
киевича и дает ему объективную характеристику, не отягощенную
заботами и задачами времени, когда был написан о нем рассказ:
«...Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при
которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер.
Он был круглый невежда и идиот, ни к чему не способный.
Это видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с этой
целью. Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды
об Акакии Акакиевиче,— на эту невыгодную для Акакия Ака¬
киевича часть правды, выставленную нами?
Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакии Акакие¬
виче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда при¬
нести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убо¬
гости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуж¬
дения симпатии к нему... Будем же молчать о его недостатках.
Таково было отношение прежних наших писателей к народу...
Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Турге¬
нева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано
запахом «шинели» Акакия Акакиевича».
После различного рода размышлений по разным поводам,
экскурсам в историческое прошлое, цитирования текстов расска¬
зов и даже анекдота Чернышевский подводит читателя к главной
своей мысли, ради которой и зашел разговор о самих рассказах.
227
«Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того,
кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних
писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Ус¬
пенского — очень хороший признак. Мы замечали, что реши¬
мость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для
народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоя¬
тельствах, о большой разности нынешних времен от недавней
поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать бы
народ. Мы замечали,— подчеркивает вторично эту свою мысль
Чернышевский,— что резко говорить о недостатках известного
человека или класса, находящегося в дурном положении, можно
только тогда, когда дурное положение представляется продол¬
жающимся только по его собственной вине и для своего улуч¬
шения нуждается только в его собственном желании изменить
свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным
явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет
ничего отрадного».
Далее в статье высказано еще два очень важных положения:
«Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них
ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает
у него твердости характера на выжидающую роль».
«...образованные люди уже могут, когда хотят, становиться по¬
нятны и близки народу... Никаких особенных штук для этого не
требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он
поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его со¬
чувствие...»
Статья эта писалась уже после отмены крепостного права,
после быстро подавленных разрозненных крестьянских волнений
и после начала студенческих волнений. Чернышевский, как
и многие тогда, считал, что сильные крестьянские выступления
начнутся в 1863 году, и в этой его статье звучал не призыв к ре¬
волюции, а призыв к ее подготовке. Если эту статью сопоставить
с прокламацией «Барским крестьянам от их доброжелателей
поклон...», то между ними легко обнаруживается связь, как
в оценке момента, так и в предлагаемой тактике, только адре¬
саты были у них разные: прокламация адресовалась крестьянам,
а статья широкому интеллигентному читателю, перед которым
ставилась задача, которая и вызовет к жизни деятельность
организации «Земля и воля». А вскоре Чернышевский приступит
к работе над статьей «Письма без адреса».
20 ноября Некрасов, Чернышевский, Шелгунов, Пыпин в числе
других проводили в последний путь Добролюбова, а 14 декабря
228
им было разрешено проститься в Петропавловской крепости
с Михайловым, которого после «гражданской казни» отправляли
в Сибирь. Вот так заканчивался для Чернышевского и его друзей
1861 год.
10 января 1862 года был открыт Шахматный клуб, на цере¬
монии открытия присутствовали Чернышевский, Некрасов, Па¬
наев, Благосветлов, Краевский, Писемский, Апухтин и многие
другие литераторы. Да, как-то трудно было поверить, что в столь
напряженное время литераторы повально увлеклись шахматами.
Во всяком случае, уже вскоре агент III отделения доносил, что
Чернышевский играет здесь «важную роль оратора» и что отсюда
исходят «революционные замыслы».
Чернышевский в это время добивается публичных лекций,
но ему каждый раз отказывают, работает над статьей «Письма
без адреса», которую заканчивает в начале февраля, готовит
четырехтомное собрание сочинений Добролюбова, вынося на ти¬
тульные листы каждого тома те самые стихи Добролюбова,
которые он читал во время его похорон:
Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.
Издание было посвящено Авдотье Яковлевне Панаевой.
Чернышевский мужественно и хладнокровно переносил все
удары судьбы, а вот у И. Панаева сдали нервы. Временами
ему хотелось все бросить и уехать куда-нибудь в деревню. В конце
января он слег, но недели через две ему стало лучше. 18 февраля
1862 года, в последний день масленицы, он поехал даже навестить
свою двоюродную сестру, а когда вернулся домой, с ним сделался
обморок. Вернувшейся из театра Панаевой лакей доложил о слу¬
чившемся.
«Я велела ехать за доктором,— вспоминает Панаева,—
за которым, впрочем, уже было послано, а сама поспешила
в комнату больного.
Он лежал на кровати, но при моем приходе быстро сел и сказал:
— Не беспокойся, все прошло! Как я рад, что ты приехала
домой... дай мне руку и не отходи от меня! — и, взяв меня за руку,
умоляющим голосом добавил:— Устрой скорее, чтобы мне уехать
отсюда!
229
Я обещала все сделать, лишь бы он успокоился. Панаев
положил голову ко мне на плечо и проговорил:
— Мне так легче дышать.
Я поддерживала его рукой; вдруг он, подняв голову и посмот¬
рев на меня, сказал:
— Прости, я во мно...
И голова его опять склонилась ко мне на плечо.
Я окликнула его, он молчал; мне вообразилось, что с ним
опять обморок; я стала звать человека, который прибежал и по¬
мог мне положить Панаева на подушки; я старалась привести его в
чувство. В эту минуту явился доктор. Он пощупал пульс, прило¬
жил ухо к сердцу и произнес:
— Он скончался».
В течение трех месяцев у А. Панаевой буквально на руках
умерли два близких ей человека.
На следующий день пришло сообщение, что цензура запре¬
тила публикацию статьи «Письма без адреса». Впервые статья
была напечатана П. Лавровым за границей в 1874 году.
Хоронили Ивана Ивановича Панаева 22 февраля. По доне¬
сению агента III отделения, Чернышевский и Некрасов «приго¬
товили речи, но не сказали их на могиле, заметив еще при
выносе в церкви много для них подозрительных лиц». Черны¬
шевский в некрологе, напечатанном в «Современнике», писал:
«Панаева любили все, кто только знал его: столько было в нем
доброты, мягкости и той привлекательности, которая сообщается
человеку преобладанием в нем хороших душевных свойств...
Как литератор он... постоянно работал над собою, стараясь
о собственном совершенствовании... Убеждения его не застревали
в неподвижную форму с приближением старости; симпатии
его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения».
Некролог был напечатан без подписи.
В феврале 1862 года произошло литературное событие, которое
и до сих пор еще возбуждает споры. В журнале «Русский вестник»
был опубликован роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». В мар¬
товской книжке «Современника» появилась статья молодого
критика Максима Антоновича «Асмодей нашего времени», в ко¬
торой автор «Отцов и детей» обвинялся в клевете на молодое
поколение, а неделей раньше вышло «Русское слово» со статьей
Д. Писарева «Базаров», в которой высказывалось прямо противо¬
положное мнение. В тот период «Современник» и «Русское слово»
были близки по духу и направлению, и вот на романе Тургенева
они вдруг разошлись. Давно уже принято считать, что в этом
споре прав был Писарев, а ошибался Антонович. Разумеется,
такая трактовка удобнее, поскольку Писарев и Тургенев — клас¬
230
сики отечественной литературы, а Антонович к последним не при¬
числен. Мы здесь не станем вдаваться в подробности, но ради
справедливости заметим, что Антонович высказал в своей статье
не только собственную точку зрения.
Так, А. Панаева вспоминала: «Вскоре после появления «Отцов
и детей» Тургенев приехал из-за границы пожинать лавры...
В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недоста¬
точных студентов, были всегда полны; даже аристократическая
публика посещала их.
...Распорядители-студенты сами являлись к некоторым лите¬
раторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить
им уважение от лица всей студенческой корпорации.
Но после напечатания «Отцов и детей» Тургенев не получил
билета. Это произвело сенсацию в кругу его друзей-литераторов.
С их стороны посыпались обвинения, что все это произошло
по интригам Некрасова и семинаристов, сотрудников «Совре¬
менника», которые вооружают молодежь, распространяя о Тур¬
геневе сплетни».
Но сплетни были тут ни при чем. Если мы вспомним студен¬
ческие выступления осени 1861-го, массовые аресты студентов,
закрытие университета и т. д., то вряд ли можно представить,
что борющимся студентам мог прийтись по душе тургеневский
главный герой. В момент выхода статей Писарева и Антоновича
было назначено начало занятий в университете. Университет
был пуст. И снова арест 150 студентов. В знак протеста про¬
фессора А. Н. Пыпин, В. И. У тин, В. Д. Спасович подают
в отставку.
«Я не могу действовать теперь,— думает про себя каждый из
этих новых людей,— не стану и пробовать; я презираю все, что
меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу
со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До
тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господ¬
ствующим злом и не давая ему над собою никакой власти.
Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне нет до
него никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю —
что хочу, и высказываю — что можно высказать».
Неужели от такой философии Базарова в переложении ее
Писаревым могли прийти в восторг те молодые люди, которые
уже полгода открыто бунтовали против «существующего по¬
рядка вещей»? Конечно, Писарев очень логичен и доказателен
в своей статье, вне контекста конкретной исторической эпохи. Та
же Панаева свидетельствует: «Я не запомню, чтобы какое-нибудь
литературное произведение наделало столько шуму и возбудило
столько разговоров, как повесть Тургенева «Отцы и дети»... Я си¬
231
дела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родствен¬
ник, отставной генерал, один из числа тех многих недовольных
генералов, которые получили отставку после Крымской войны.
Этот генерал, едва только вошел, уже завел речь об «Отцах
и детях».
— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и ро¬
манами, не читаю, но куда ни придешь — только и разговоров,
что об этой книжке... стыдят, уговаривают прочитать... Делать
нечего — прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-ни¬
будь, то расцелую его! Молодец! ловко ошельмовал этих лохма¬
тых господчиков и ученых шлюх! Молодец! Придумал же им
название — нигилисты! попросту ведь это значит глист!.. Мо¬
лодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы
дать чин, поощрить его, пусть сочинит еще книжку об этих пакост¬
ных глистах, что развелись у нас!»
Положим, Авдотью Панаеву мы не можем считать здесь
человеком беспристрастным... Обратимся тогда к документу —
всеподданнейшему отчету за 1862 год шефа жандармов князя
В. А. Долгорукова, в котором речь шла и о романе «Отцы и дети».
«Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь
симпатией образованного общества,— писал шеф жандармов,—
Тургенев этим сочинением, неожиданно для молодого поко¬
ления, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недо¬
рослей-революционеров едким именем «нигилистов» и поколебал
учение материалистов и его представителей».
Между прочим, спор с Тургеневым о «новых людях» про¬
должил Чернышевский в своем романе «Что делать?», в част¬
ности, по женскому вопросу. «Что делать? — спрашивал Писарев
и отвечал:— Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет
ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину...»
Чернышевский придерживался на этот счет совсем иного мнения,
как, впрочем, и Михайлов, опубликовавший еще раньше в «Со¬
временнике» несколько статей об эмансипации женщины. Короче
говоря, в статье «Асмодей нашего времени» была выражена
не только личная точка зрения Антоновича на тургеневский
роман.
«А Базаровым,— заканчивал свою статью Писарев,— все-таки
плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают.
Нет деятельности, нет любви,— стало быть, нет и наслаждения.
Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют
только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.
А что же делать?»
Еще в сентябре 1861 года в «Колоколе» была напечатана
статья «Ответ «Великоруссу», в которой, в частности, говори -
232
лось: «Элементы, враждебные бездарному правительству, на¬
копляются с каждым днем, но они еще не опасны, пока у них
нет ни связи, ни единства; ни доверия к себе. Соединить их
и возбудить к совокупному действию — вот предстоящее нам
дело... Время надежд и ожиданий прошло... Теперь наступила
пора борьбы непрерывной, беспощадной, до последнего изды¬
хания враждебной силы».
А для Базарова «нет деятельности», «пусто, скучно и бес¬
смысленно»...
Нет, «интриги Некрасова» и «семинаристов» были тут ни при
чем, когда вокруг кипела борьба, в которой молодежь шла
в первых рядах.
16 мая 1862 года в Петербурге вспыхнули пожары. Заго¬
релись дома на Большой и Малой Охте, затем пожары переки¬
нулись на Ямскую улицу, Апраксин и Щукин дворы, Толкучий
рынок, загорелся дом министерства внутренних дел... Петербург
охватила настоящая паника, тысячи людей остались без крова.
«Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие
заранее обдуманного плана»,— писала московская газета «Наше
время». По городу носились самые нелепые слухи. «Знаменитый
а пр а кс и некий пожар, происшедший, как после, образумившись,
утвердительно говорили, от мошеннического поджога лавочника,
дикая молва приписывала нигилистам, а Чернышевского про¬
возглашали их главой»,— писал позже А. Пыпин.
«Из отдельных партий по преимуществу высказались край¬
ними более других партия литераторов и партия студентов,—
доносил в III отделение 23 мая петербургский обер-полиц
мейстер Анненков.— Главным руководителем и действователем
первой есть литератор Чернышевский... Представителями второй
партии считают профессора У тина и студента Ник. Утина.
Вероятность относительно Чернышевского и его компании не под¬
лежит сомнению».
16 мая. Александром II утвержден состав следственной ко¬
миссии для осуществления «чрезвычайных мер» по политическим
делам под’ предводительством статс-секретаря князя А. Ф. Голи¬
цына.
3 июня. Арестован руководитель Сампсониевской воскресной
школы С. С. Рымаренко.
7 июня. Министр внутренних дел П. А. Валуев пишет началь¬
нику корпуса жандармов генералу А. Л. Потапову: «Сегодня
решено, что университет не будет открыт, кроме математического
факультета, воскресные школы закрыты по всей империи... от¬
делы помощи студентам будут закрыты, и журналы «Совре¬
менник» и «Руское слово» приостановлены на 8 месяцев».
233
8 июня. Закрыты Шахматный клуб и народные читальни.
15 июня. Отношением министра народного просвещения Пе¬
тербургский цензурный комитет извещен «о приостановке «Со¬
временника» и «Русского слова» на восемь месяцев».
Поводом для запрещения «Современника» послужила статья
Чернышевского «Научились ли? », в которой он выступил в защиту
прав студентов и с критикой официальной политики в области
просвещения.
18 июня Чернышевский и редактор «Русского слова» Г. Е. Бла-
госветлов (к слову сказать, они были земляками) посетили ми¬
нистра народного просвещения. На следующий день Николай
Гаврилович писал Некрасову: «Я был два раза у Головнина,
между прочим, вчера,— я ждал этого свидания, чтобы писать
Вам уже когда узнаю от Головнина что-нибудь окончательное.
Вот результат. «Надобно ли думать, что остановка издания
«Совр.» продлится действительно на весь восьмимесячный срок
или она может быть отменена раньше?»
— Нет, раньше отменена не будет,— говорит Головнин.—
«По окончании восьмимесячного срока будет ли позволено про¬
должать издание, или надобно считать эту остановку равно¬
сильною решению уничтожить журнал?»
— Да, я советую Вам (говорит Головнин) считать издание
конченным и ликвидировать дело.— «В таком случае, можно ли
рассчитаться с подписчиками изданием сборников?»
— Можно. (Все это слово в слово было повторено Головниным
«Русскому слову».)
Вот Вам и все...»
27 июня. Последовало распоряжение III отделения о невы¬
даче, без особого разрешения, заграничного паспорта Черны¬
шевскому.
2 июля. Арестован и заключен в Петропавловскую крепость
Дмитрий Иванович Писарев.
3 июля. Чернышевский проводил в Саратов Ольгу Сокра¬
товну с сыновьями Александром и Михаилом, намереваясь
в скором времени отбыть туда и самому.
Наступил субботний день — 7 июля 1862 года. Николай Гав¬
рилович работал в своем кабинете, около часу пополудни пришел
к нему Антонович выяснить какой-то вопрос касательно издания
сочинений Добролюбова. Примерно через полчаса пожаловал
новый гость — доктор Петр Иванович Боков, входивший в одну
из пятерок петербургского отделения общества «Земля и воля».
Перешли в зал. Уютно расположившись, мирно и весело бесе¬
23-1
довали. Примерно в половине третьего в передней снова раздался
звонок. Думали, что кто-то еще из знакомых... Но в зал вошел
пожилой, приземистый, с лицом, попорченным оспой, полковник
в черном мундире; он сказал, что ему нужно видеть господина
Чернышевского.
— Я Чернышевский, к вашим услугам,— сказал Николай
Гаврилович, поднимаясь из кресла.
— Мне нужно поговорить с вами наедине,— сказал полков¬
ник.
— А, в таком случае пожалуйте ко мне в кабинет,— про¬
говорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно,
как стрела.
— Где же, где же кабинет? — бормотал растерявшийся пол¬
ковник, затем он, обратившись в переднюю, повелительно крик¬
нул:— Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского,
и проводите меня туда.
На его зов из передней появился пристав Мадьянов. Теперь
Антонович и Боков поняли цель визита этого полковника в черном
мундире. Мадьянов, проводив грозного начальника в кабинет
Чернышевского, вернулся в зал, сказав, что это сам полковник
Ракеев. Фамилия «Ракеев» говорила о многом. Пристав успо¬
коил Антоновича и Бокова предположением, что дело ограни¬
чится, наверное, только обыском, так как Ракеев приехал
не в карете, а на дрожках, и посоветовал им уйти. Они, не¬
смотря на возражения пристава, вошли в кабинет Чернышев¬
ского.
— Нет, моя семья не на даче, а в Саратове,— говорил Николай
Гаврилович полковнику Ракееву.
— До свидания, Николай Гаврилович,— перебил их разговор
Антонович.
— А вы разве уже уходите? — спросил Чернышевский.—
И не подождете меня? Ну, так до свидания! — и он, высоко
подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича.
В то время как Чернышевский прощался с Боковым, Анто¬
нович подошел к окну, взял свою шляпу и сверток, в котором
были купленные им ботинки. Ракеев внешне никак не отреаги¬
ровал на это.
Антонович и Боков ушли, но через полчаса они все-таки
вернулись — у подъезда стояла казенная карета.
Когда обыск был закончен, Ракеев составил акт и объявил
Чернышевскому: «Выполняя приказание управляющего III отде¬
лением генерал-майора Потапова, я принужден пригласить Вас,
милостивый государь, с собою».
А пятью днями раньше он с той же целью нанес «визит»
235
Писареву, просматривая бумаги которого он почти весело го¬
ворил:
— А знаете-с, молодой человек, ведь я тоже-с в некотором
смысле причастен к литературе... Тело Пушкина препровождал-с...
Один я, можно сказать, и хоронил его... Да-с, великий поэт был
Пушкин, великий!.. И я теперь попаду в историю... Да-с!.. Опять
же у сочинителя Михайлова бывал-с... с обыском... и у дру-
гих-с... Вот с вашими писаниями знакомлюсь... Будут-с и еще
литературные знакомства... Не сомневайтесь, молодой чело¬
век.
И вот теперь жандармский полковник Ракеев «познакомился»
еще с одним русским писателем — Николаем Гавриловичем Чер¬
нышевским...
Давным-давно, шестнадцать лет назад, ранним утром 19 июня
сорок шестого года на набережной Мойки, возле Двора
почтовых карет и брик, юный Чернышевский впервые сту¬
пил, как ему тогда казалось, на обетованную землю Петербур¬
га...
Сейчас, во второй половине дня 7 июля 1862 года, возле дома
Есауловой, что по Большой Московской улице, он сел в казенную
карету и никогда уже не ступал на петербургскую землю сво¬
бодным человеком.
В тот же день ретивый комендант Петропавловской крепости
генерал-лейтенант А. Ф. Сорокин доносил по начальству: «До¬
ставленный коллежский секретарь Павел Ветошников и чи¬
новники Чернышевский и Серно-Соловьевич сего числа в С.-Петер¬
бургской крепости приняты и заключены в доме Алексеевского ра¬
велина в покоях, первый под № 9, второй под № 11 и третий под
№ 16».
Петербург даже в тюремных делах не мог обойтись без
иерархии. Так, у Алексеевского равелина был своего рода чин —
его называли «Секретным домом». Все, что находилось тогда
в столице, в определенной мере подпадало под ведение воен¬
ного губернатора (в то время им был князь А. Суворов), под
его ведение подпадала, естественно, и Петропавловская крепость,
но вот Алексеевский равелин — часть самой Петропавловской
крепости,— словно он был выстроен на какой-то особой земле,
был исключен из «владений» военного губернатора и отмеже¬
ван в исключительное ведение только III отделения. И это об¬
стоятельство, как мы потом увидим, сыграет немаловажную
роль в судьбе Чернышевского.
236
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
Восемнадцати летним юношей Чернышевский впервые попал
в Петербург и, как мы знаем, пришел в неописуемый восторг
от нашей северной столицы. Его приводила в восхищение не¬
обычайно чистая вода Невы, поначалу даже климат показался
ему превосходным, но более всего он дивился рукотворным чу¬
десам; храмам, дворцам, памятникам, площадям, проспектам,
набережным, мостам... Гранит, мрамор и даже простой камень
фантазией, волею и трудом человека превратились в сказку,
которая не исчезает и с утренним пробуждением. Вероятно,
юношеский взор скользнул тогда и по крепким стенам Петро¬
павловской крепости, однако общий восторг не поддался ни
скептическому искушению ума, ни уместному наплыву памя¬
ти, отягощенной некоторыми печальными сведениями из недале¬
кого прошлого.
Строительство крепостей предполагает в истории серьезные
моменты: навалится враг страшной силой, вроде бы уж и одо¬
леет, но укроются защитники города за надежными стенами
крепости и все силы употребят на то, чтобы враг в нее не
прорвался, ибо это их последний оплот. А сколько раз слу¬
чалось и так, что внушительные крепостные стены одним своим
видом укрощали алчные мечты и намерения охочих до легкой
поживы недругов.
Новую столицу выстроили на краю государства, а потому
на всякий случай взяли в расчет и исторический опыт — была
воздвигнута крепость, которую отдали под покровительство двух
святых — Петра и Павла. Однако у крепости этой сложилась
какая-то извращенная судьба: ее никогда никто не пытался
штурмовать извне, зато изнутри напор шел постоянно. Во вся¬
ком случае, попасть в крепость всегда было легче, нежели вы¬
браться из нее.
Тогда, шестнадцать лет назад, юноша Чернышевский сооб¬
щал отцу, что при «нынешнем государе много строят». Между
тем, не желая отставать от века, «строилась» и Петропавлов¬
ская крепость. Так, в 1838 году на ее ремонт и перестройку
правительство ассигновало 61 025 рублей 62,5 копейки.
Удивительно нерусская точность! «Созидательные» работы в кре¬
пости не прекращались и в последующие годы. Но вот умер
государь-«строитель», на смену ему пришел государь-«освободи¬
тель», и на несколько лет заросла травой забвения дорога из
Петропавловской крепости в Сибирь. В 1857 году в ее главном
равелине, Алексеевском, содержался всего лишь один узник —
губернский секретарь Лаврентий Ипатьевич Каменский, аресто¬
237
ванный в 1856 году за пропаганду среди крестьян. В те годы
почти всеобщего ликования, когда всяк всякому готов был про¬
тянуть руку, когда обольстительные надежды породили небы¬
валый прилив общественного энтузиазма, единственного узника
перевели в Шлиссельбургскую крепость, а Петропавловскую при¬
нялись... ремонтировать. Александр II тогда купался в лучах
славы — даже крамольный изгнанник Герцен и тот присовоку¬
пил небольшой лучик к его сияющей короне. Правда, слава
оказалась непрочной, поскольку порождена была всего лишь
обманчивыми обещаниями.
Петропавловская крепость вошла в сознание современников
как символ абсолютной несвободы. Но в то же время она была
заведением весьма «нерентабельным». Если вести отсчет от де¬
кабристов (конец 1825 года), то Чернышевский (середина 1862 го¬
да) оказался сто пятнадцатым узником Алексеевского равелина.
В среднем за этот период в равелин заключалось по три че¬
ловека в год, а в течение тринадцати лет в него вообще не
поступило ни одного человека. Расходы на содержание заклю¬
ченных были, конечно, копеечными, но вот содержание большой
тюремной команды, коменданта в генеральском чине, ремонт
крепости и ее перестройки — это уже составляло многие тыся¬
чи. А ведь были же в Петербурге и Шлиссельбургская кре¬
пость, и III отделение, да и другие места заключения...
И все-таки накануне реформы Петропавловская крепость опять
обновилась, приободрилась, словно предчувствовала свою нуж¬
ность.
Кому же, однако, в 1857 году пришла мысль ремонтиро¬
вать Петропавловку? Мы бы слишком польстили Александру II,
усмотрев тут его государственную дальновидность или личную
хитрость. Скорее всего, крепость ремонтировалась, так сказать,
имманентно.
Трудно себе представить образ Петербурга тех времен без
Зимнего дворца и памятника Петру, Исаакиевского собора и
Летнего сада, Сенатской площади и набережной Невы, Адми¬
ралтейства и... Петропавловской крепости. Но внешний образ
города жил не сам по себе. Существовала какая-то незримая
связь между прелестью Летнего сада, четко организованной кра¬
сотой Зимнего дворца, духовным величием Исаакиевского собо¬
ра, строгой изящностью Адмиралтейства, подчеркнутыми про¬
сторами центральных площадей, продуманной аллегорией памят¬
ников Петру и Суворову, гранитной красотой набережных, ско¬
вавших вольный бег Невы, и мрачной приземистостью Петро¬
павловской крепости. Все это в совокупности составляло еди¬
ный и непростой образ Петербурга — столицы Российской им¬
238
перии. И тут дыханию нового времени сопротивлялось не
какое-то отдельное лицо, будь то даже сам царь, ему сопро¬
тивлялся весь самодержавный город, в котором каждое
строение, как прилежный чиновник, строго исполняло свои
функции.
Конечно, задним числом не сложно быть и умным, и наблю¬
дательным. Глядя в прошлое, не так уж трудно и догадаться,
что ремонт Петропавловки в 1857 году предвещал современ¬
никам не столь уж добрую перспективу, но одновременно можно
увидеть и другое: что-то все-таки надломилось в самой Петро¬
павловке, а стало быть, и в общей структуре города. «В начале
60-х годов,— писал автор многотомного труда «История царской
тюрьмы» М. Гернет,— режим Петропавловской крепости был
исключительным по своей «мягкости». Такого не было ни ра¬
нее, ни позже в этой государственной тюрьме. Политические
настроения в России за эти годы не позволяли отягощать режим
и заставляли вносить в него смягчения в виде дозволения пе¬
реписки, свиданий и разрешения писателям литературной рабо¬
ты для печати».
Таким образом Петропавловская крепость теряла главное —
ореол зловещей таинственности.
Как известно, в начале июня 1862 года было приостанов¬
лено на восемь месяцев издание журналов «Современник» и
«Русское слово», а в начале июля арестовали Писарева и Черны¬
шевского. И вот главный критик и соредактор «Русского сло¬
ва» и фактический руководитель «Современника», а с апреля
следующего года и активный сотрудник «Современника» Ни¬
колай Шелгунов превращают Петропавловскую крепость в свой
«рабочий кабинет». Теперь из крепости шли не только письма,
но и литературные произведения, многие из которых тут же
попадали на страницы печатных изданий. Писарев написал в
крепости двадцать пять лучших своих статей. Шелгунов напи¬
сал около двадцати статей и занимался переводом «Всеобщей
истории» Шлоссера. Чернышевский за 678 дней заточения в
крепости проделал колоссальную работу. Историк П. Щеголев
составил следующую хронологическую таблицу:
12 декабря 1862 г. Чернышевский закончил отделку пере¬
водов XV и XVI томов «Всеобщей истории» Шлоссера.
14 зекабря 1862 г. начал и 4 апреля 1863 г. кончил роман
«Что делать?»
5 апреля 1863 г. начал писать повесть «Алферьев — из
воспоминаний о новых людях».
8 апреля 1863 г. отослал в «Современник» перевод в 20 лис¬
тов «Истории XIX века» Гервинуса.
2 39
9 и 24 июля 1863 г. отослал перевод VII и VIII томов
«Истории Англии» Маколея.
С 5 по 18 сентября и со 2 по 16 октября 1863 г. напи¬
сал объемистую статью о Крымской войне.
21—27 ноября 1863 г. было сделано начало перевода
Г. Л. Клике «Племена и народы».
8 июня 1863 г. начал писать автобиографию под заголов¬
ком «Воспоминание слышанного в старине». По замыслу, это
была огромная работа, но 28 октября он начал перечитывать
написанное и в промежуток до 6 ноября написал новую, сокра¬
щенную редакцию автобиографии.
С 7 сентября по 20 ноября 1863 г. он писал беллетри¬
стическую вещь — «Повести в повести», переслал в III отделе¬
ние 122 полулиста и позднее, между 28 ноября и 1 января
1864 г., еще 53 полулиста; кроме того, сохранилось чернови¬
ков 128 полулистов.
С 14 декабря 1863 г. по 4 января 1864 г. Чернышевский
переводил «Историю Соединенных Штатов» Неймана и 22 января
представил перевод в III отделение.
С ноября 1863 г. по 16 февраля 1864 г. переводил Руссо.
Сохранились отрывки перевода на 43 полулистах и «Заметки
для биографии Руссо» на 46 листах.
С 29 декабря 1863 г. по 11 марта 1864 г. Чернышевский
писал «Введение к трактату политической экономии» Милля.
В 1864 году были выполнены следующие работы: 16 ян¬
варя— отрывки из «Мемуаров С. Симона»; с 29 января по
11 марта — отрывки из «Биографии Беранже»; с 21 февраля
по 21 марта — 29 мелких рассказов; с 31 января по 14 апреля —
«Заметки о состоянии наук», «Очерки истории элементов нашей
цивилизации»; 30 марта — «Наша улица», «Корнилин дом»
(отрывки из автобиографии).
Подсчитано, что Чернышевским в Петропавловской крепости
написано около 205 печатных листов, из них — 68 листов бел¬
летристики, 12 листов — научные работы, 100 листов — перево¬
ды, 10 листов — автобиография, 4 листа — судебные показания
и объяснения, 11 листов — различные другие работы.
Но, мало того что крамольные авторы писали в крепости,
они, будучи ее узниками, продолжали печататься. Это уже было
поражением самой идеи Петропавловской крепости.
Но это произойдет все потом, а тогда, 7 июля 1862 года,
только начался отсчет времени пребывания Николая Гаврило¬
вича в знаменитом Алексеевском равелине, этот день станет
240
тем рубежом, который разделит всю его жизнь на две части:
до ареста и после ареста.
А знал ли Чернышевский, что его арестуют? Знать, конечно,
не знал, однако не исключал для себя и такого исхода.
В отличие от молодых лет, когда он не раз говорил близким
ему людям, что его могут вот-вот арестовать, в последний год
перед арестом в письмах к отцу и в разговорах с Ольгой Сокра¬
товной он постоянно утверждал обратное, успокаивал, хотя знал,
что за ним началась полицейская слежка. В романе «Пролог»
Волгин говорит жене об опасности, что грозит ему со стороны
властей, и вспоминает, что когда-то в молодости говорил ей
о том же: «Перед нашей свадьбой я говорил тебе и сам ду¬
мал, что говорю пустяки». Это воспоминание Волгина впрямую
перекликается с дневниковыми записями Чернышевского весны
1853 года. Но вот теперь были не «пустяки», теперь ему
грозила не придуманная, а реальная опасность, о чем он хорошо
знал.
И тут следует вспомнить встречу Чернышевского с началь¬
ником штаба корпуса жандармов и управляющим III отделе¬
нием генералом А. Л. Потаповым, состоявшуюся 15 июня 1862 го¬
да. А причиной встречи стал совершенно посторонний эпизод.
10 июня ротмистр лейб-гвардии уланского полка Любецкий
на вокзале в Павловске оскорбил Ольгу Сократовну, ездившую
туда на концерт со своей сестрой и несколькими студентами.
Возник скандал. Любецкий, узнав, что оскорбленная является
женой Чернышевского, хотел извиниться. Чернышевский же на¬
писал письмо командиру Образцового эскадрона полковнику
К. Марковскому с требованием передать поступок ротмистра
Любецкого на рассмотрение офицеров эскадрона. Полковник Мар¬
ковский мотивировал свой отказ тем, что исполнение этого
требования «будет превышением его власти». Чернышевский об¬
ратился к военному министру Д. Милютину. Произошел обмен
письмами. Военный министр просьбу не удовлетворил, и вот
тогда последовало приглашение генерала А. Л. Потапова. По
словам журналиста Н. В. Рейнгардта, Чернышевский «в раз¬
говоре с генералом спрашивал, не имеет ли что-нибудь против
него, Чернышевского, правительство, на что Потапов заявил,
что правительство ничего против него не имеет и ни в чем
не подозревает».
Некоторые теперешние исследователи приводят этот эпизод
только затем, чтобы упрекнуть генерала Потапова в лицеме¬
рии. Думается, в наше время уже не требуется ни особой
вдумчивости, ни большой отваги, чтобы высказать какое-либо
негативное суждение в адрес того или другого реакционного
16Ч.„,7Я 241
деятеля далекого прошлого. Но этот эпизод действительно ин¬
тересен, однако вовсе не потому, что как-то характеризует мо¬
ральные качества генерала Потапова, а потому, что в контек¬
сте других документов указывает на растерянность прави¬
тельства.
Реформа 19 февраля не разрешила главных проблем, а еще
более усугубила их, во всяком случае, теперь исчезли иллюзии
как у народа, так и у верховной власти. Через год после ре¬
формы в отчете за 1861 год шеф жандармов В. Долгоруков
писал: «Всего в 1861 г. оказано было неповиновение времен¬
нообязанными крестьянами в 1176 имениях; воинские команды
были введены в 337 имений; из них в 17 крестьяне на¬
падали на нижних чинов, в 48 сопротивлялись арестованию
виновных или насильно освобождали задержанных, в 126 буй¬
ствовали при укрощении неповиновавшихся. Из числа их убиты
или от нанесения ран умерли 140, легко ранены и ушиблены
170 человек; были заключены под стражу 268, из которых
преданы суду: военному 223, гражданскому 257; нака¬
заны шпицрутенами 117, сосланы в Сибирь 147; отданы вре¬
менно в арестантские роты и в рабочие дома 93 человека. Кроме
того, были подвергнуты наказанию розгами 1807 человек».
Крестьянские волнения охватили 32 губернии, наиболее на¬
пряженной обстановка в деревне оставалась в конце весны и
в начале лета. Осенью же начались волнения студентов в Пе¬
тербурге.
14 сентября 1862 года был арестован М. Михайлов по об¬
винению в распространении прокламации «К молодому поколе¬
нию», в которой были и такие слова: «Обращаемся еще раз
ко всем, кому дорого счастье России, обращаемся еще раз к
молодому поколению. Довольно дрожать, довольно заниматься
пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихо¬
молку или рассказывать все одни и те же рассказы об одних
и тех же плутнях разных Муравьевых. Довольно корчить ли¬
бералов; наступила пора действовать...» 18 сентября начались
лекции в университете, а уже через день студенты выпусти¬
ли прокламацию, начинавшуюся такими словами: «Правитель¬
ство бросило нам перчатку...» А еще через день издали распо¬
ряжение о закрытии помещения университета, где происходили
сходки. 23 сентября была вывешена новая прокламация, при¬
зывавшая студентов к борьбе с правительством. Через день но¬
вым распоряжением закрывают университет.
26 сентября очередная сходка вылилась в демонстрацию.
Около девятисот человек направились через Невский проспект
на Колокольную улицу к дому попечителя учебного округа
212
Г. И. Филипсона. Были вытребованы полицейские и жандарм¬
ские команды.
Начались массовые аресты студентов.
В конце апреля следующего года шеф жандармов В. Дол¬
горуков докладывал Александру II о все «возрастающей с каж¬
дым днем смелости революционных происков, в особенности в
сфере литераторов, ученых и учащейся молодежи». Он также
обратил внимание государя на «вредный дух, проявляющийся
в военных академиях» и переходящий «через выпускаемых офи¬
церов в войска». Через полтора месяца военный министр ра¬
зошлет на имя корпусных командиров секретный циркуляр, в
котором обратит внимание на развитие революционной пропа¬
ганды среди нижних чинов и потребует изоляции офицеров
от студентов, журналистов и писателей. Военный министр за¬
претит офицерам внеслужебное общение с солдатами и предпи¬
шет строгую чистку библиотек.
Особое беспокойство у правительства вызывала, конечно,
Польша. Национально-освободительное движение в то время спо¬
собно было хотя бы на время сплотить все слои общества.
Недовольство там росло с каждым днем. Активизировалась
эмиграция. 8 апреля 1862 года жители Варшавы вышли на
улицы в знак протеста против закрытия правительством Зем¬
ледельческого общества. Войска открыли огонь.
Журналистика, согласно выводам того же В. Долгорукова,
сделалась «сильным и опасным орудием в руках... даровитых
писателей-преобразователей». Выраженные в их статьях «ре¬
волюционные мысли отчасти ускользают от внимания цензуры,
отчасти же не подходят прямо под ее правила запрещения, и
обильный наплыв оных, подобно непрерывающемуся потоку, одо¬
лел уже всеми плотинами, его сдерживавшими. Даже самые
строгие цензоры поставлены в затруднительное положение».
Итак, главные очаги опасности того времени — журналисти¬
ка, Польша, офицерство, студенчество, крестьянство.
Характеризуя сложившуюся в тот период ситуацию, В. И. Ле¬
нин писал в работе «Гонители земства и аннибалы либерализ¬
ма» : «Оживление демократического движения в Европе, поль¬
ское брожение, недовольство в Финляндии, требование полити¬
ческих реформ всей печатью и всем дворянством, распростра¬
нение по всей России «Колокола», могучая проповедь Черны¬
шевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать на¬
стоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение
крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью воен¬
ной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положе¬
ние», обдирающее их как липку, коллективные отказы дворян —
2 13
мировых посредников применять такое «Положение», студенче¬
ские беспорядки — при таких условиях самый осторожный и
трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв
вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью
весьма серьезной». (Поли. собр. соч., изд. 5-е, т. 5, с. 29—30).
Пока выступления носили разрозненный характер, прави¬
тельству при помощи различных карательных и репрессивных
мер удалось их в той или иной мере нейтрализовать. Ра¬
зумеется, правительство боялось новых волнений, однако больше
всего оно боялось, и не без оснований, выступления объеди¬
ненного. Вероятно, руководители III отделения не раз раскла¬
дывали внутриполитический «пасьянс» и пришли к выводу, что
главная задача — не допустить объединения всех очагов опас¬
ности, а наличие их было очевидным.
Журналистика.
В ноябре 1861 года цензор А. Никитенко писал в Глав¬
ное управление цензуры, что «молодое поколение... воспиты¬
вается на идеях «Колокола», «Современника» и довершает свое
воспитание на идеях «Русского слова».
5 декабря того же года в цензурный комитет были вызва¬
ны Некрасов и Панаев, где должны были расписаться в про¬
чтении следующей характеристики: «Статьи «Современника» по-
прежнему в религиозном отношении лишены всякого христиан¬
ского значения, в законодательном — противоположны настояще¬
му устройству, в философском — полны грубого материализма,
в политическом — одобряют революции, отвергают даже умерен¬
ный либерализм, в социальном — представляют презрение к выс¬
шим классам общества, странную идеализацию женщины и край¬
нюю привязанность к низшему классу».
Ни для кого не было секретом, что самым активным авто¬
ром и фактическим руководителем «Современника» является Чер¬
нышевский. Кроме того, осужденные Михаил Михайлов и Вла¬
димир Обручев были авторами «Современника» и людьми, близ¬
кими Чернышевскому.
Польша.
Учитывая общее положение в Польше, Александр II вернул
ссыльных поляков на родину, разрешил вернуться эмигрантам,
открыть Земледельческое общество и Медико-хирургическую ака¬
демию в Варшаве, однако центробежные силы в Польше были
так сильны, что эти уступки остались как бы незамеченны¬
ми. Но главную опасность для правительства Александра II
представляли даже не польские националисты, а те участники
244
национально-освободительного движения, которые устанавли¬
вали связи с деятелями русского оппозиционного движения. Так,
в архиве III отделения еще со времен 1848 года хранился
текст польского воззвания к русским, в котором, в частности,
говорилось: «Ужасный деспотизм разрывает внутренности ваше¬
го отечества, ужасный деспотизм довел вас до позорного
мрака; он, наконец, покрыл вас позором в глазах света... Слы¬
шали ли вы единогласный, через всю Европу раздавшийся крик
ненависти и презрения к вам? Нет, не к вам, русские, вас не
знают! Знают только бешеную сатанинскую власть, порабощаю¬
щую вас; знают только лед Сибири, кнут ваших палачей,
убийственные рудники Урала. Русские! Сила и власть ваших
тиранов, ваше бедствие, ваш позор — все это следствие вашей
слепоты. Да прозрят ваши глаза, да востребует ваш народ свои
права — ив одно мгновение он разрушит дьявольское созда¬
ние векового деспотизма! Русские! Мы приглашаем вас
сражаться вместе с нами за свободу, за просвещение, за наше
и ваше счастье!»
В 1858 году офицер Сигизмунд Сераковский стал организо¬
вывать революционную группу польских офицеров и студентов.
«Его любимой мечтой,— писал Герцен,— была независимая
Польша и дружественная ей вольная Россия». А Чернышев¬
ский в романе «Пролог» вложит в уста Соколовского (в этом
образе выведен казненный уже в то время Сераковский) такие
слова: «Я поляк. Но, правда, я хорошо говорю по-русски. Было
время выучиться. Было врремя и узнать русский народ, и по¬
любить его. Это хороший народ, добрый, справедливый».
В 1861 году в Польше возникла тайная организация «Ко¬
митет русских офицеров в Польше», который возглавил пору¬
чик Андрей Потебня.
Офицерство.
В 1858 году Чернышевский возглавил редакцию «Военного
сборника» и успел выпустить восемь номеров. 25 декабря того
же года последовало распоряжение Александра II: «Редакцию
«Военного сборника» передать в военное министерство, а бывшим
редакторам за дерзкий и неосновательный отзыв объявить от
меня строгий выговор». Но дело уже было сделано. Черны¬
шевскому удалось сплотить вокруг себя большую группу офи¬
церов. Позднее в примечании к одному из писем Добролюбо¬
ва он скажет, что в то время вокруг «Современника» сгруп¬
пировались два офицерских кружка: «Один состоял из лучших
офицеров (слушателей) Военной академии, другой из лучших
профессоров ее». Среди них выделялись Н. Обручев, С. Сера-
245
ковский, В. Добровольский, Н. Новицкий (с последним Николай
Гаврилович познакомился еще у Иринарха Введенского), О. Ста-
невич, В. Аничков и многие другие. «Военный сборник» времен
Чернышевского станет настолько популярным среди офицеров,
что через три года сто шесть офицеров подпишут письмо, в
котором укажут, что после ухода Чернышевского это издание
приняло реакционное направление. В 1861 —1862 годах действо¬
вали офицерские кружки Н. Н. Обручева, П. Л. Лаврова, А. А. По¬
тебни и других. Через эти кружки велась революционная
пропагандистская работа среди офицеров — слушателей военных
академий (Академии генерального штаба, Николаевской инже¬
нерной академии) и военных училищ.
В июне месяце 1862 года, когда обстановка накалится до
предела, Чернышевский, воспользовавшись удобным предлогом
(инцидент с ротмистром Любецким), сделает попытку лично встре¬
титься с офицерами Образцового уланского эскадрона. Воен¬
ный министр Д. Милютин достаточно хорошо знал деятельность
Чернышевского по «Военному сборнику» (он сам стоял когда-то
у истоков его создания), знал о письме ста шести офицеров,
знал, что авторами сборника Чернышевского стали 15 гвардей¬
ских и 24 армейских офицера. Это обстоятельство и застави¬
ло Д. Милютина воспрепятствовать встрече Чернышевского с
офицерами Образцового эскадрона.
По агентурным донесениям от 17 ноября 1861 года, Черны¬
шевский был в казармах стрелкового батальона у полковни¬
ка Н. Обручева, а вечером того же числа Н. Обручев нахо¬
дился вместе с Некрасовым на квартире у Чернышевского.
Студенчество.
После декабрьского восстания 1825 года в учебных заведе¬
ниях почти постоянно существовали оппозиционные студенче¬
ские кружки; теперь же, после реформы, прокатилась волна
открытых студенческих антиправительственных выступлений.
И тут организующее начало внесла пресса: легальная (в пер¬
вую очередь журналы «Современник» и «Русское слово») и
нелегальная — герценовские издания и прокламации. Чернышев¬
ский, Герцен, Добролюбов, Михайлов, Писарев стали кумирами
и властителями дум учащейся молодежи. После смерти Добро¬
любова и ссылки в Сибирь Михайлова Чернышевский активи¬
зирует свою практическую деятельность, и в первую очередь он
добивается личного контакта со студенческой аудиторией.
2 марта 1862 года был устроен благотворительный вечер в поль¬
зу студентов, на котором Чернышевский выступил с воспоми¬
наниями о Добролюбове. Еще раньше он просит министра народ¬
246
ного просвещения А. В. Головнина разрешить читать ему лек¬
ции по политической экономии в зале городской думы, но полу¬
чает отказ. 10 января 1862 года по инициативе писателей был
открыт Шахматный клуб, через который многие студенты и офи¬
церы вовлекались в общество «Земля и воля». Чернышевский
играл там активную роль. 8 июля Шахматный клуб, «в кото¬
ром происходят и из коего распространяются неосновательные
суждения», был закрыт.
По агентурным данным, к Чернышевскому на квартиру по¬
стоянно приходят студенты, и по большей части те, что были
замешаны в студенческих волнениях.
Крестьянство.
Крестьянские выступления 1861 года, хотя и охватили 32 гу¬
бернии, носили все-таки стихийный характер, какой-либо серь¬
езной связи с петербургскими кружками установить здесь не
удалось, что в какой-то мере успокаивало правительство.
Итак, в четырех из пяти «очагах опасности» главную роль
(журналистика и студенчество) и заметную роль (офицерство
и Польша) играл один и тот же человек — отставной титуляр¬
ный советник, популярный литератор Николай Гаврилович Чер¬
нышевский.
Сыпались в III отделение и доносы. Так, в одном из
анонимных писем, отрывки из которого приводились даже в
сенатской записке, прямо говорилось:
«Что вы делаете? Пожалейте Россию, пожалейте Царя! Вот
разговор, слышанный мной вчера в обществе профессоров. Пра¬
вительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, ка¬
кие идеи проводит Чернышевский; это коновод юношей... это
хитрый социалист... За пустяки сослали Павлова и много дру¬
гих промахов делаете, а этого вредного агитатора терпите. Неуже¬
ли не найдете средств спасти нас от такого зловредного чело¬
века!.. ежели вы не удалите его, то быть беде — будет кровь;
ему нет места в России — везде он опасен, разве в Березове
или Гижинске; не я говорю это,— говорили ученые, дельные
люди, от всей души желающие конституции, но путем закона —
земской думы, но по призыву Царя. Не даст Царь
ни того ни другого — Господь ему судья. А крови не минуете
и нас всех сгубите — это шайка бешеных демагогов, отчаян-
ныя головы,— это «Молодая Россия» выказала вам в своем
проспекте все зверские ее наклонности; быть может, их перебьют,
и сколько невинной крови из-за них прольется! Тут же слышал,
что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове, везде есть комитеты
247
из подобных социалистов, и везде они разжигают молодежь.
Ник. Утин — правая рука Чернышевского; юношу бы за грани¬
цу, но навсегда, а Николая Гавриловича — куда хотите, но
скорее отнимите у него возможность действовать».
Правительство пребывало в растерянности. Арестовать?
Арест — дело несложное. А что дальше? Судить? А за что?
Как ни старалось III отделение, а серьезных улик против Чер¬
нышевского достать не удалось. Притом правительство знало
чуть больше, чем этот анонимщик. Особую тревогу у него вы¬
зывала прокламация «Барским крестьянам от их доброжела¬
телей поклон». Теперь стало ясно, что петербургские кружки
решили -возглавить и крестьянское движение (пятый и самый
главный «очаг опасности»). Характер статей по крестьянско¬
му вопросу, опубликованных Чернышевским в «Современнике»
в предреформенный период, и характер запрещенной цензурой
статьи «Письма без адреса» (февраль 1862 года) позволяли
сделать вывод, что автором этой прокламации является
если и не сам Чернышевский, то человек из его кружка.
Прокламация была составлена со знанием дела и с перспек¬
тивой.
Но суть этой прокламации даже не в том, что в ней раскры¬
вается грабительский для крестьян принцип реформы, а в том, что
в ней звучит призыв к единению.
«Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских
мужиков. А другая половина — государственные да удельные
крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашай¬
тесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше про¬
писано...
Государственным и удельным крестьянам от их доброжела¬
телей поклон!
А вот тоже солдат — ведь он из мужиков, тоже ваш брат.
А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату
какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему житье,
что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое
нонче у нас житье солдатам...
Солдатам русским от их доброжелателей поклон!
А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым,
потому что есть и такие офицеры, и не мало таких офице¬
ров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые
надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть
солдаты слушаются, как волю добыть.
Так вот какое дело,— надо мужикам всем промеж себя согла¬
сие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. И покуда
пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не
248
вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не по¬
казывать...
Оставайтесь здоровы да вести от нас ждите. Вы себя бере¬
гите до поры до времени, а уж от нас вы без наставления
не останетесь, когда пора будет...
А мы все — люди русские и промеж вас находимся, только
до поры до времени не открываемся, потому что на доброе
дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли.
А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся».
Правительство больше всего как раз и опасалось объединения
всех «очагов опасности», и теперь оно увидело, что все усилия
Чернышевского направлены к такому объединению. Надо было
во что бы то ни стало изолировать Чернышевского. Вполне
возможно, что у кого-то в высших сферах родилась даже идея —
выслать Чернышевского за границу. Во всяком случае, тот самый
министр народного просвещения А. В. Головнин, который в ян¬
варе 1862 года не разрешит Чернышевскому читать лекции в
зале Государственной думы, в том же месяце предложит ему
заграничную командировку и возьмется устранить все препят¬
ствия (имелось в виду запрещение министра внутренних дел
П. А. Валуева выдавать Чернышевскому заграничный паспорт).
В конце апреля к Чернышевскому приезжал адъютант военно¬
го губернатора Петербурга князя Александра Аркадьевича Су¬
ворова. Г. Стахевич в своих воспоминаниях писал, что Чер¬
нышевский рассказывал ему в Сибири, как незадолго до ареста
князь А. Суворов через своего адъютанта предложил ему уехать
за границу, но Чернышевский отказался.
Вероятно, к какому-то окончательному решению III отделение
пришло только в конце июня 1862 года. Во всяком случае,
27 июня последовало распоряжение III отделения о невыдаче,
без особого разрешения, заграничного паспорта Чернышевскому.
Хотя, как видим, и тут была оговорка: «без особого разреше¬
ния».
1 июля того же года в далеком Лондоне был устроен бан¬
кет по случаю пятилетия «Колокола». Собралось довольно много
народу. Был там и служащий торговой фирмы Павел Ветош¬
ников, который собирался через день отправиться в Россию,
о чем многие не только знали, но и довольно открыто гово¬
рили. Среди гостей находился и Г. Перетц — агент III отделе¬
ния, который не замедлил сообщить в Петербург, что у приез¬
жающего в Россию Павла Ветошникова будет «почта» от Гер¬
цена и Огарева.
На границе Ветошникова арестовали. В одном из найденных
у него писем рукою Герцена была сделана приписка:
249
«Мы готовы создавать Совр. здесь с Черныш, или в Женеве —
печатать предложение об этом?
Как вы думаете?»
Конечно, такую приписку нельзя было рассматривать как
серьезную улику против Чернышевского, однако III оделение
не могло упустить даже малейшего представившегося повода.
На следующий же день после прочтения отобранной у Ветош-
никова корреспонденции Чернышевского арестовали. Одновре¬
менно узниками Алексеевского равелина стали и адресат Гер¬
цена — Николай Серно-Соловьевич, и «почтальон» Герцена —
Павел Ветошников, оба они просидели в крепости на год дольше,
чем Чернышевский, а затем их сослали в Сибирь.
В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ
16 мая 1862 года Александр II утвердил состав особой след¬
ственной комиссии для осуществления «чрезвычайных мер» по
политическим делам из членов от III отделения, от петербург¬
ского военного генерал-губернатора и от министерств: внутрен¬
них дел, юстиции, военного под председательством князя
А. Ф. Голицына. Вести дело Чернышевского было поручено
этой комиссии, приступившей к работе 9 июля, а на первый
допрос Чернышевский был вызван лишь 30 октября, то есть
почти через четыре месяца после ареста. Такая проволочка имела
свои причины.
Во-первых, комиссии никак не удавалось обнаружить каких-
либо новых улик, подтверждающих связь Чернышевского с Гер¬
ценом и Огаревым, равно как и других документов, компро¬
метирующих подследственного (чиновнику Муханову поручалось
даже исследовать бумаги Чернышевского «на предмет обнару¬
жения употребления симпатических чернил»).
«Во-вторых, комиссия рассчитывала такой проволочкой «при¬
учить» общественное мнение к той мысли, что Чернышевский
находится в заключении под следствием. Иногда даже возни¬
кали слухи, что его скоро освободят. Во всяком случае, скорой
расправы с Чернышевским правительство опасалось.
В-третьих, действовала тут и чисто «полицейская» уловка.
Заключенный, если его надолго «забывают», как правило, на¬
чинает нервничать, теряться в догадках и т. д.
1 ноября Чернышевского вторично вызвали в следственную
комиссию на допрос. Как и в первый раз, ему вменялась вина
в сношениях с «русскими изгнанниками» и другими лицами,
ведущими пропаганду против правительства. И тут мы приве-
250
дем два в высшей мере интересных документа: письма Черны¬
шевского от 20 ноября к Александру II и князю А. Суворову,
которые он передал коменданту крепости генералу А. Сорокину.
АЛЕКСАНДРУ II
Всемилостивейший Государь.
Я был арестован 7-го июля. Меня призвали
к допросу 30-го октября, почти через четыре
месяца после моего ареста. Если бы можно было
найти какое-нибудь обвинение против меня, до¬
статочно было времени, чтобы найти его. О чем
же меня спросили? О том, «в каких отношениях
я нахожусь к русским изгнанникам, Огареву и
Герцену».— Я отвечал: «в неприязненных, это
всем известный факт; он должен быть известен
и комиссии».— Ничего не нашли сказать мне,
ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва ли
продолжался 10 минут. Я подождал еще две
недели, не имеют ли о чем спросить меня, кро¬
ме этого; меня не призывали. Тогда я выразил
сам желание, чтобы меня пригласили в следст¬
венную комиссию; ждал приглашения 4 дня;
не получил его и обратился к Его Превосходи¬
тельству г. коменданту С.-Петербургской крепо¬
сти с запискою, по которой мне разрешено теперь
писать к Вашему Величеству.
Государь, не из этого хода моего дела я за¬
ключил, что против меня нет обвинения,—
я знал это и говорил это при самом арестовании
моем. Но если бы я раньше настоящего времени
стал уверять Ваше Величество, что обвинений
против меня нет, Вы, Государь, не имели бы осно¬
ваний верить моим словам. Теперь смею думать,
что они не покажутся пустыми словами. Если бы
против меня были какие-нибудь обвинения, кроме
намека, заключающегося в вопросе о моих отно¬
шениях к Огареву и Герцену, мне предложили
бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим
другим обвинениям. Таких вопросов не было пред¬
ложено; следовательно, и других обвинений нет.
Вот первое мое основание. Вот второе: когда я вы¬
разил желание, чтобы меня пригласили в ко¬
миссию, я хотел через нее просить разрешения
писать к Вашему Величеству; но это не было
251
известно комиссии, она не могла знать, зачем я
желаю быть приглашен. В подобных случаях са¬
мое естественное предположение всякого следова¬
теля то, что арестованный желает сделать призна¬
ние или показание, открывающее какую-нибудь
тайну. Если бы комиссия имела это предполо¬
жение, она поспешила бы пригласить меня. Но
она не пригласила; следовательно, она не имела
такого предположения. А не иметь его она могла
потому только, что из самого дела ей было оче¬
видно, что мне не в чем признаваться и нечего
скрывать.
Но, Государь, самое главное доказательство,
что не нашлось возможности оставить на мне
какое-нибудь обвинение, заключается именно
в том единственном вопросе, который был мне сде¬
лан. Спрашивать меня о моих отношениях к Ога¬
реву и Герцену — значит показывать, что спра¬
шивать меня решительно не о чем. Всему пе¬
тербургскому обществу, интересующемуся лите¬
ратурою, известна та неприязнь между мною
и ими, о которой я говорил; известны также и при¬
чины ее. Их две. Первая заключается в денежной
тяжбе, которую имел Огарев с одним из знако¬
мых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочислен¬
ных разговорах, которые она возбуждала в об¬
ществе, я громко порицал действия Герцена
и Огарева по этому делу. В моем положении не¬
удобно мне говорить о другой причине непри¬
язни между нами. Но Ваше Величество может
увидеть эту причину из письма Огарева и Герце¬
на, которое сохранилось у меня в бумагах. Не¬
известное мне лицо, получившее это письмо,
прислало его мне по городской почте в очевид¬
ном желании сделать мне неприятность, потому
что в этом письме Огарев советует своему кор¬
респонденту побить меня, а Герцен говорит, что
я поступаю с ним a la baron Vidil (указание на
известный английский процесс: Видиль был
приговорен к смерти за покушение на убийство).
Почему Герцен так отзывается и почему Огарев
желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит
Вашему Величеству самое письмо их.
Государь, имею ли я теперь основание обра-
252
щатъся к Вашему Величеству, как человек, очи¬
щенный от обвинений,— если Вы находите, что
имею, то благоволите, прошу Вас, оказать мне
справедливость повелением об освобождении
меня от ареста.
Вашего Величества подданный
Н. Чернышевский
20 ноября 1862.
Это письмо Николай Гаврилович посылает генерал-губернато¬
ру А. Суворову одновременно с письмом к самому А. Суворову,
которое также заслуживает того, чтобы привести его полностью.
КН. А. А. СУВОРОВУ
20 ноября 1862.
Ваша Светлость.
В письме к Его Величеству я не употребляю
ни одного из принятых в обыкновенных пись¬
мах к государю выражений чувства; это оттого,
что, по моему мнению, человек в моем положе¬
нии, употребляющий подобные обороты речи,
оскорбляет того, к кому обращается,— обнару¬
живает мысль, что лицу, с которым он говорит,
приятна или нужна лесть.
Потому и к Вашей Светлости я пишу совер¬
шенно сухо. Когда я имел честь говорить с Ва¬
ми в прежнее время, я иногда употреблял теп¬
лые слова, которые можно было принимать как
угодно: или за выражение действительного мо¬
его уважения и доверия к Вашей Светлости, или
за лесть. Я не стеснялся возможностью послед¬
него, потому что тогда не нуждался в помощи
Вашей Светлости. Теперь другое дело.
Осмеливаюсь напомнить Вашей Светлости два
случая. Однажды вы сказали мне, чтобы я по¬
старался остановить подписывание адреса о Ми¬
хайлове. Я сказал, что не слышал о таком адре¬
се и что едва ли он существует, но что спрошу
об этом. Я спрашивал, и оказалось, что, дейст¬
вительно, никакого адреса не существовало. А
ведь ясно было, что Вашей Светлости говорили,
что в числе хлопочущих о подписывании адреса
нахожусь и я. В другой раз Вашей Светлости
было сказано, что я собираю у себя офицеров,—
это было прошлой зимой. Вы были так добр, что
передали мне это, предостерегая меня. А у ме¬
ня во всю зиму не было никаких собраний.
Эти два обстоятельства могут свидетельство¬
вать, что не все слухи обо мне, доходившие до
Вашей Светлости и других правительственных
лиц, были верны. Это были слухи политические;
но было много слухов обо мне. Когда, год тому
назад, умер мой отец, говорили, что я получил
в наследство, по одним рассказам, 100 000 р.,
по другим— 400 000 р. Или другой слух — даже
не слух, а печатное показание: есть повесть из¬
вестного писателя Григоровича «Школа госте¬
приимства»; я в ней выведен под именем Чер-
невского, которому даны мои ухватки и ужимки,
мои поговорки, мой голос, все; это лицо,— то
есть я,— выставлено гастрономом и кутилой,
напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я
не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по
одному тому, что встаю из-за них голодный: я
не ем почти ни одного блюда франц, кухни; а ви¬
на не люблю просто потому, что не люблю.
Этих сплетен обо мне было бесконечное мно¬
жество. Обратили внимание на те, которые от¬
носились к политике; почему бы не обратить
его и на те, которые относились к вещам и не¬
политическим, вроде моего наследства и гастро-
номичности? Степень основательности этих пос¬
ледних могла бы служить мерою основательно¬
сти и первых.
Почему же обо мне ходило множество неле¬
пых слухов? Я не очень скромен, потому скажу
просто: я был человек, очень заметный в лите¬
ратуре. Как о всяком человеке, которым много
занимаются, говорят много пустого, так говори¬
ли и обо мне.
Например, много кричали о моем образе мыс¬
лей. В моем положении излагать его — неудоб¬
254
но: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал
его Вашей Светлости, излагал без всякой надоб¬
ности, просто потому, что не имел причин скры¬
вать его,— излагал с такими оговорками, кото¬
рые могли доказывать, что я не хотел лгать или
утаивать что-нибудь из него. Это главное. А при¬
том Ваша Светлость не раз говорили мне совер¬
шенно справедливо, что закону и правительству
нет дела до образа мыслей, что закон судит, а
правительство принимает в соображение только
поступки и замыслы. Я смело утверждаю, что
не существует ине может существовать ни¬
каких улик в поступках или замыслах, враж¬
дебных правительству.
Должен ли я доказать, что не только говорю
я это, но что это и действительно так, что их
не может существовать? Доказательство тому:
я оставался в Петербурге последний год. С лета
прошлого года носились слухи, что я ныне-за¬
втра буду арестован. С начала нынешнего года
я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-
нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать
за границу, с чужим паспортом или без паспор¬
та? Всем известно, что это дело легкое, не толь¬
ко у нас, но и везде. Да мне не было и надобно¬
сти прибегать к такому средству: г. министр
народного просвещения предлагал мне казенное
поручение за границу, говоря, что устранить за¬
прещение о выдаче мне паспорта он берет уже
на себя. Почему же я не уехал? И почему, при
всей мнительности моего характера, я не трево¬
жился слухами о моем аресте? А что я не тре¬
вожился ими, известно всему литературному
кругу и доказывается состоянием, в каком были
найдены мои бумаги при моем аресте: опытный
следователь, разбирая их, может убедиться, что
они не были пересматриваемы мною, по крайней
мере, полтора года.
Или нужно доказывать, что я знал очень
давно, что за мною следят? Теперь: правдопо¬
добно ли, чтобы человек, уже не молодой (мне
далеко за тридцать лет), заваленный работой,
живущий в изобилии, с каждым годом имеющий
больше дохода (в 1860 г. я получил до 10 000
рублей, в 1861 г.— до 12 000 р.— это можно
видеть из счетных книг журнала «Современ¬
ник»; в нынешнем, если бы не арест, получил
бы, по крайней мере, 15 000 р.— это можно ви¬
деть из расчетов, находящихся в моих бумагах;
остановка изданий «Современника» расстраива¬
ла мои доходы месяца на два, на три; когда я
был арестован, я изготовил издания, которые
дали бы мне больше дохода, чем давал жур¬
нал) — следовательно, человек, не имеющий лич¬
ной надобности желать перемены вещей,— чело¬
век, имеющий на руках семейство,— человек,
которого еще никто не считал дураком,— чтобы
такой человек стал ввязываться в опасное де¬
ло,— правдоподобно ли это, Ваша Светлость?
Правдоподобно, чтобы он стал это делать, зная,
что за каждым его шагом следят?
Прося Вашу Светлость представить Госуда¬
рю мое письмо к Его Величеству, я должен объ¬
яснить Вам, что смягчил рассказ о моем допро¬
се, отчасти для краткости, а больше потому, что
считал неуместным говорить в этом письме о
канцелярских промахах, вероятно, неумышлен¬
ных. Выражение письменного допроса было не
«объясните, в каких отношениях находились вы
к Огареву и Герцену»,— а «объясните ваши сно¬
шения, о которых имеются в комиссии
сведения», но прежде, нежели дали мне эту
бумагу для письменного ответа, один из членов
комиссии делал мне изустный допрос (который
и продолжался 10 минут). Это лицо не решилось
сказать в глаза мне того, что было написано в бу¬
маге, а употребило именно те слова, которые
привожу я в письме к Его Величеству: «объяс¬
ните, в каких отношениях» и проч., и не реши¬
лось заговорить о «сведениях, имеющихся» и
проч. Итак, в письме к Его Величеству я говорю
об изустном допросе. Что же касается письмен¬
ного, то я, прочитав выражение об «имеющихся
сведениях», вспыхнул и написал горячие слова:
«очень интересно было бы знать, какие могут
быть сведения о том, чего не было. Я принуж¬
ден выразить свое удивление тому, что подобные
вопросы предлагаются мне». Через два дня меня
256
призвали в комиссию, сказали, что по закону
нельзя допустить таких резких выражений, по¬
просили на другом листе повторить прежний
ответ без этих выражений,— я согласился, потому
что не люблю тягаться из пустяков. Но и тут мне
не отважились ничего сказать о каких-то «имею¬
щихся сведениях» о небывалых «сношениях».
А тут ведь уже нельзя, кажется, было бы не
сказать о них, если бы было, что сказать. Напро¬
тив, тут уже были со мною любезны, мы даже
обменялись несколькими шутками,— почему
же и не шутить? Я это люблю. Словом ска¬
зать, очевидно, что и «имеющиеся сведения»
просто была канцелярская фраза, употребленная,
вероятно, и не по злому умыслу, а только
по машинальной привычке. Не стоило бы и го¬
ворить о ней, но на всякий случай говорю, сожа¬
лея о том, что утруждаю Вашу Светлость таки¬
ми дрязгами.
В письме к Его Величеству упоминаю я о
тяжбе Огарева с «одним из знакомых мне лиц»;
это лицо — г-жа Панаева. Тяжба кончилась года
два тому назад. Я не имею к ней никакого отно¬
шения.
Я упоминаю также о лицах, которым во вре¬
мя моего арестования выражал, что обвинений
против меня быть не может и что все дело со¬
стоит, без сомнения, в недоразумении или ошиб¬
ке. Эти лица, по порядку времени: г-н полицей¬
ский чиновник, находившийся при моем аресто¬
вании; чиновник, с которым я ехал из дома
III Отделения собственной Его Величества канце¬
лярии в С.-Петербургскую крепость, и, наконец.
Его Превосходительство, господин комендант
крепости.
Следовало бы мне благодарить Вашу Свет¬
лость за то, что Вы приняли на себя ходатай¬
ство по моему делу; но не хочу теперь делать
и этого, чтобы не могло быть ничего могуще¬
го заставить Вашу Светлость думать, что в
моих словах не все говорится для правды, а хо¬
тя что-нибудь и для одного вида. Отлагаю вы¬
ражение моей правдивой благодарности к Ва¬
шей Светлости и за это ходатайство и прежнюю
17 ,|07Н
257
Вашу благосклонность ко мне до того времени,
когда опять буду вне прямой зависимости от
Вас.
С глубоким уважением и искреннейшею пре¬
данностью имею честь быть Вашей Светлости
покорнейший слуга Н. Чернышевский.
Разумеется, Николай Гаврилович рассчитывал, что к царю
попадет и второе письмо, и тут он не ошибся — оба письма были
доставлены Александру II, только вот самого князя А. Суво¬
рова они миновали. Комендант крепости генерал А. Сорокин
сразу же отправил их в III отделение, оттуда они попали в Зим¬
ний дворец, из Зимнего вернулись к шефу жандармов князю
В. Долгорукову, тот передал их в следственную комиссию князю
А. Голицыну, который положил оставить письма «без послед¬
ствий». Больше того, князь В. Долгоруков запретил говорить о них
что-либо князю А. Суворову. Правда, тот месяца через два все-
таки о них прознал и выразил резкий протест генералу А. Соро¬
кину. «...Считаю долгом заявить Вашему Превосходительству,—
писал разгневанный петербургский военный губернатор,— что
адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю
и прочитываю сам и никому еще не давал права вскрывать
и читать подобный письма прежде меня; поэтому и письмо ли¬
тератора Чернышевского следовало доставить ко мне нераспе¬
чатанным.
С.-Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице,
Высочайше вверенных моему управлению, состоит и в моем
ведении, как здешнего военного генерал-губернатора; посем^,
если Ваше Превосходительство имеет особую инструкцию, на
основании которой письма, адресованный на имя князя Суворова,
от лиц, содержащихся в С.-Петербургской крепости, должны
быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае
Вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому пи¬
сать ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения,
и тогда я испросил бы предварительно у Государя Императора
разрешение, могу ли принять письмо от этого арестованного.
Если бы Высочайшего соизволения на это не последовало, в та¬
ком случае литератору Чернышевскому не представлялось бы
и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему
писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть
доставлено по адресу, по моему убеждению, значит злоупот¬
реблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши
такое предупреждение, без сомнения, отказался бы от намере¬
ния обращаться ко мне с письмом...»
258
Генерал Сорокин пропустил мимо ушей едкий сарказм само¬
любивого военного губернатора столицы, напомнив ему, что
с 3 июля 1826 года Алексеевский равелин находится в ведении
III отделения и с тех пор все письма заключенных этого равелина
всегда секретно передавались в III отделение, «на том же основа¬
нии было поступлено и с письмом содержащегося в Алексеевском
равелине Чернышевского, адресованным на имя Вашей Свет¬
лости...». Сорокин не только на словах уравнял «Вашу Светлость»
с остальными адресатами перед волею всемогущего III отделе¬
ния, но продолжал и впредь все письма, адресованные Чернышев¬
ским князю Суворову, пересылать в это ведомство.
И тут, вероятно, уместным будет сказать несколько слов о са¬
мом князе Александре Аркадьевиче Суворове, внуке великого
полководца. Иногда утверждают, будто военный губернатор
А. Суворов любил заигрывать с литераторами, любил полибераль¬
ничать. Что ж, тогда многие высокопоставленные особы либераль¬
ничали и заигрывали с литераторами, а многие литераторы заиг¬
рывали с высокопоставленными особами. Это был своего рода
хороший тон.
Князь А. Суворов по роду своей службы был весьма информи¬
рованным человеком и прекрасно знал, как относятся к Черны¬
шевскому не только князь В. Долгоруков и генерал А. Потапов,
но и сам царь, однако он настойчиво пытался облегчить участь
Чернышевского. По его настоянию дело Чернышевского из след¬
ственной комиссии было передано в Сенат. Да, мы знаем, что при¬
говор Сената оказался суровым сверх всякой меры, однако вряд
ли тут вина падает на одних сенаторов. Интересен такой эпизод:
через день после гражданской казни А. Никитенко встретился
с одним из сенаторов и спросил его о наличии юридических до¬
казательств виновности Чернышевского. Тот ответил, что тако¬
вых не было, однако князь В. Долгоруков показал какие-то бумаги
из III отделения, после чего все замолчали. «Но что это за бу¬
маги?» — спросил А. Никитенко. Сенатор ответил: «Это тайна».
4 мая 1864 года князь А. Суворов напишет шефу жандармов:
«По особо уважительным причинам, известным Вашему Сиятель¬
ству, я полагал бы Чернышевского отправить не этапным поряд¬
ком, но на почтовых с двумя жандармами... без оков и наручней».
Он также предложит отменить обряд гражданской казни.
На следующий день князь В. Долгоруков уведомит военного
губернатора о разрешении отправить Чернышевского в ссылку
на лошадях и о возможности освободить его от оков.
После совершения обряда гражданской казни А. Суворов
разрешил навестить Чернышевского в Петропавловской кре¬
пости всем, кто обратился к нему с такой просьбой.
259
И тут нельзя не привести еще одного письма Чернышевского
к князю А. Суворову, которое, естественно, оказалось не у истин¬
ного адресата, а в III отделении.
КН. А. А. СУВОРОВУ
7 февраля 1863.
Ваша Светлость. Я обращаюсь к Вам, как
человеку, в котором соединяются два качества
очень редкие между нашими правительственны¬
ми лицами: здравый смысл и знание правитель¬
ственных интересов. Моя судьба имеет некото¬
рую важность для репутации правительства. Она
поручена людям (членам следственной комиссии),
действия которых показывают — тупость ума всех
их или большинства их,— говорю прямо, потому
что это мое письмо ведь не для печати. Для меня
жизненный вопрос, а для репутации правитель¬
ства не ничтожное дело, чтобы на мою судьбу
обратил внимание человек, могущий здраво
судить о правительственных интересах, каким
я знаю Вашу Светлость.
Мои желания очень умеренны. Я могу указать
средства, которыми правительство может испол¬
нить их с честью для себя, нисколько не принимая
вида, что делает мне уступку,— нет, вид будет
только тот, что оно узнало ошибку некоторых
мелких чиновников и, как скоро узнало, благо¬
родно исправило ее.
Это объяснение гораздо удобнее было бы
сделать изустно, чем письменно: в разговоре
всякие недоумения с той или другой стороны
тотчас же могут быть устранены. Потому я про¬
шу Вашу Светлость навестить меня. Но если Вы
не имеете времени исполнить эту просьбу, я про¬
шу у Вас разрешения писать к Вам, но лично
к Вам и только к Вам,— потому что, как я ска¬
зал, я только в Вас вижу качества, какие нуж¬
ны государственному человеку для здравого по¬
нимания государственных интересов и выгод
правительства.
С истинным уважением имею честь быть Ва¬
шей Светлости покорнейшим слугою, Н. Г. Че р-
нышевский.
260
В письме к Александру II Чернышевский не высказал
в адрес императора не только ни одного льстивого слова, но и ни
одной излишней учтивости, хотя прекрасно знал, что в конеч¬
ном счете его судьба зависит именно от этого адресата. И в то же
время, прямо скажем, он не скупится на похвалы петербургско¬
му военному губернатору. Но тут, может быть, важна даже не
аттестация князя А. Суворова как государственного деятеля,
которую дает в своем письме Чернышевский, а его приглашение
«навестить»...
Представьте себе: отставной титулярный советник, заключен¬
ный в Петропавловскую крепость, приглашает военного губер¬
натора столицы, графа, князя, «навестить» его в тюремной камере!
Интересный эпизод о князе А. Суворове рассказывает в своих
воспоминаниях Лонгин Федорович Пантелеев, участник студен¬
ческих волнений, узник Петропавловской крепости, а впослед¬
ствии крупный книгоиздатель. Когда Чернышевский сидел в
крепости, Л. Пантелеев жил в Петербурге под надзором полиции.
Возникла нужда поехать в Вологду, и Пантелеев отправляется
к князю А. Суворову (оказывается, военный губернатор знал
лично и Л. Пантелеева). Состоялся такой разговор:
— Что вам нужно, Пантелеев?
— Да вот, ваша светлость, хочу поехать в Вологду.
— И прекрасно делаете; там вы несколько успокоитесь от
всех здешних треволнений. У меня в Вологде приятель губерна¬
тор, Хоминский; он — поляк, был губернатором в Ковно; ну,
там демонстрации и т. п., просился, чтоб перевели его в более
спокойную губернию; вот он теперь в Вологде и недавно писал
мне, что более спокойного места еще не видел; даже нашел по¬
мещика, который не слыхал, что Наполеон в 12-м году был в Рос¬
сии. Хотите, я вам дам письмо к Хоминскому?
— Очень буду обязан.
Через несколько дней правитель канцелярии Четыркин, вру¬
чая письмо Пантелееву, сказал:
— Такое, батюшка, письмо, что даже отец о сыне так не на¬
писал бы.
На одной из станций нужно было выписать подорожную.
— Ваш паспорт,— потребовал городничий.
Паспорта не было, и Пантелеев стал показывать различные
свои документы.
— Нет, все это не годится. Нужен паспорт,— стоял на своем
городничий из военных.
— Вот видите, что я везу,— Пантелеев протянул запечатан¬
ный конверт, на котором значилось: «От его светлости князя
Суворова». Городничий тут же приказал выдать подорожную.
261
Нет, этот городничий нисколько не походил на гоголевского,
он не лишен был и чувства юмора. Узнав, что его собеседник
бывший студент, он закатился гомерическим хохотом:
— Так это вы с тросточками-то бунтовать выходили! Да я бы
вас из пожарной кишки окатил, вот и все. А теперь пойдемте
ко мне, жена давно за самоваром ждет; лошадей же велим подать
прямо ко мне.
В Вологде Пантелеева встретили с распростертыми объятиями.
— Чем могу быть вам полезен? Не желаете ли поступить на
службу? — предложил учтивый губернатор Хоминский.
Пантелееву осталось только поблагодарить.
— Не имеете ли здесь какого дела, в котором может быть
необходимо содействие администрации?
— Нет, я просто приехал провести часть лета и отдохнуть,—
ошарашенный таким вниманием, ответил Пантелеев.
В Петербурге служил губернатор А. Суворов, но там же слу¬
жил и обер-полицмейстер Анненков, который вскоре прислал
бумагу о розыске сбежавшего из-под надзора Л. Пантелеева,
которого следовало выслать в дальний уезд или отдать в Вологде
на поручительство. Хоминский дал частным образом знать об
этом Пантелееву, тот нашел поручителя и остался в Вологде.
Но в тихой и далекой Вологде служил не только губернатор Хо¬
минский, но и жандармский полковник Зарин. Когда Л. Панте¬
леев вернулся в Петербург, там уже лежал донос.
«По приезде в Петербург,— вспоминал Пантелеев,— узнаю,
что Суворов за что-то сердится на меня; иду к Суворову (прямо
как к приятелю.— А. Л.), прежде всего встречаю Четыркина.
«Ну, батюшка, отблагодарили же вы князя за письмо!»— «Да
уверяю вас, что это, должно быть, сплетня жандармского пол¬
ковника Зарина». Но вот и сам Суворов. «А, Пантелеев, вы и в
Вологде не усидели спокойно».
Тогда Пантелеев объяснил, что в Вологде жандармский пол¬
ковник Зарин распространял о нем всякие нелепые слухи. Пред¬
водитель дворянства Грязовецкого уезда А. Левашов ходил спе¬
циально к вице-губернатору и опроверг все эти слухи.
— Это так было? — спросил князь Суворов.
— Совершенно так,— ответил Пантелеев.
— Ну, хорошо, я и скажу Долгорукому, что сам наводил
справки в Вологде и что все сообщенное о вас Зариным — чистая
вы ду мка.
В Вологде проживал высланный туда бывший студент Я. Бек¬
ман. Губернатор ходатайствовал за него, чтобы ему ввиду плохо¬
го здоровья разрешили поехать на юг. На пути встал тот же жан¬
дармский полковник Зарин. И вот теперь Пантелеев решил вос¬
262
пользоваться хорошим настроением князя А. Суворова и замол¬
вить словечко за Я. Бекмана.
— Подайте мне докладную записку,— выслушав рассказ
Пантелеева, сказал князь.
На следующий день Пантелеев принес докладную записку,
а еще через несколько дней узнал, что Я. Бекмана вновь аресто¬
вали. Смущенный этим обстоятельством, Пантелеев идет объяс¬
няться к князю А. Суворову.
— Ну, батюшка, удружили вы князю! — встречает его той же
фразой Четыркин.— Он о вашем Бекмане лично говорил с Долго¬
руким и Валуевым, те отвечали, что пусть войдет с письменным
ходатайством. Уж были готовы бумаги и подписаны князем,
оставалось только отправить их, но в эту самую минуту получает¬
ся список арестантов Петропавловской крепости, и там вижу, что
в числе их ваш Бекман. Долгорукий даже выговаривал князю,
что он берется ходатайствовать за лиц, которые даже в ссылке
не оставляют своих дел.
В это время в приемную вошел князь А. Суворов и, увидев
Л. Пантелеева, самым добродушным тоном сказал:
— Ну, теперь я ничего не могу сделать в пользу вашего
Бекмана: он опять арестован и сидит в Петропавловской кре¬
пости.
Вероятно, разговоры между князем А. Суворовым и Черны¬
шевским, когда тот был еще на свободе, велись на ином уровне.
И в письмах Чернышевского говорилось не о доброте или ли¬
берализме князя, а о тех качествах, которые нужны государст¬
венному деятелю. И нам нет дела до того, ошибался тут Черны¬
шевский или не ошибался, важно то, что он видел в князе Суво¬
рове умного и самостоятельного в суждениях и поступках чело¬
века, презирающего придворную камарилью. Не мог не знать
Чернышевский и того, что среди крупных военных и государ¬
ственных чиновников у Суворова есть немало своих людей. Если
взглянуть на деятельность Чернышевского последних лет перед
арестом, внимательно вчитаться в прокламацию «Барским
крестьянам от их доброжелателей поклон», то нетрудно обнару¬
жить, что в этот период он изыскивает возможности объедине¬
ния всех оппозиционных сил. Чернышевский понимал, что любое
выступление будет подавлено, если не привлечь на свою сторону
армию, поэтому он вел такую настойчивую работу среди офице¬
ров. А успех восстания в Петербурге во многом зависел от того,
как поведет себя военный губернатор города. Участник револю¬
ционного движения шестидесятых годов Петр Баллод, неприяз¬
ненно относившийся к князю Суворову, свидетельствовал, что
263
некоторые члены организации «Великорусе» прочили в «главари»
своей организации генерал-губернатора А. Суворова.
Так или иначе, но в предполагаемом деле князь А. Суворов
представлялся Чернышевскому да и многим его единомышлен¬
никам человеком отнюдь не бесполезным.
А почему князь А. Суворов так пекся о судьбе Чернышев¬
ского? Видимо, не случайно и то, что он в свое время предупредил
Чернышевского о «слухах» относительно собиравшихся у того
офицеров, а затем о предполагаемом аресте самого Чернышев¬
ского. А эпизод с Л. Пантелеевым? Причем этот эпизод позво¬
ляет предположить, что у влиятельного князя в провинции было
немало своих людей. Сюда же можно приобщить и факт, что все
тот же князь А. Суворов добился разрешения для Д. И. Писарева
заниматься в Петропавловской крепости литературным трудом.
Во всяком случае, одними чудачествами князя тут мало чего
объяснишь.
Александр Аркадьевич Суворов вроде бы сделал неплохую
карьеру, однако если учесть, что начал он ее, как говорится, не от
нуля, а от графского и княжеского титулов, то ее не назовешь
головокружительной. К тому же, видимо, он унаследовал от
своего великого деда презрительное отношение к придворной
«челяди», льстивой, алчной и одновременно трусливой. Так или
иначе, но в полицейских инстанциях он снискал репутацию «крас¬
ного», хотя на самом деле не был ни «красным», ни либералом:
«красным» ему мешала стать сановитость, либералом — смелость.
И тут, вероятно, Чернышевский был прав, когда аттестовал князя
А. Суворова как государственно мыслящего человека, а государ¬
ственно мыслящий человек думает не о том, как спасти изжив¬
ший себя режим, а как обеспечить государству нормальный ход
развития.
О слабости тогдашнего режима может свидетельствовать,
к примеру, такая переписка:
«Из Петербурга ничего особенного не получал, но в самый
день моего отъезда, по сведениям, сообщенным из Лондона, долж¬
но было сделать несколько новых арестаций, между прочим
Серно-Соловьевича и Чернышевского...»
«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и,
особенно, Чернышевского. Давно бы пора с ними разделаться...»
Тон этих писем таков, будто новостями обмениваются два
чиновных сплетника. А ведь первым процитировано письмо
самого императора Александра II, а вторым — великого князя
Константина Николаевича.
Общая атмосфера того момента точно была уловлена в прокла¬
мации 1861 года «К молодому поколению».
26-1
«Освобождение крестьян и последние четыре года показали,
что новое правительство, при своем настоящем составе и при тех
правах, которыми оно пользуется, решительно никуда не годит¬
ся,— писалось в ней.— Момент освобождения велик потому, что
им посажено первое зерно всеобщего неудовольствия прави¬
тельством... Недовольство везде; все ждут чего-то... Император¬
ская Россия разлагается... мы должны помнить, что имеем дело
с правительством, которое временными уступками будет успока¬
ивать нас, из личных, временных выгод готово испортить все
будущее страны...»
И существующий режим удержался тогда не потому, что
оказался более сильным, нежели предполагалось, а потому,
что оппозиционно настроенные к нему общественные слои оказа¬
лись слабее, нежели думалось очень многим.
И князь А. Суворов хорошо знал, что отставной титулярный
советник Чернышевский не только пользуется самым большим
авторитетом у революционно настроенной молодежи, но и вселяет
страх в самые высокие правительственные сферы. Уж об этом-то
военный губернатор столицы осведомлен был хорошо. Не случай¬
но же только в последние полгода Чернышевский встречался
с министром народного просвещения, с управляющим III отде¬
лением, обменивался письмами с военным министром... Нет, что
и говорить, Чернышевский теперь — важная фигура. С ним
считается сам император. Вынужден считаться...
Конечно, тут дальше предположений идти нельзя, но ясно
одно: Чернышевский тоже зачем-то был нужен внуку великого
полководца.
СЮЖЕТ
полицейского «романа»
24 ноября 1862 года состоялось первое заседание тайного
общества «Земля и воля». Перед собравшимися встал вопрос:
что делать?
Этот же вопрос встал и перед правящими кругами. 12 декабря
того же года шеф жандармов князь В. Долгоруков передал госу¬
дарю записку управляющего III отделением генерала А. Потапо¬
ва, в которой говорилось «о необходимости повременить с обнаро¬
дованием действий следственной комиссии...» Ведь обнародуй их,
и самое большее, что грозило бы Чернышевскому,— высылка
из Петербурга.
В первом туре Чернышевский одержал блестящую и неоспо¬
римую победу над следственной комиссией, а письмами к Алек¬
26 5
сандру II и князю А. Суворову окончательно закрепил ее. 7 нояб¬
ря 1862 года Николай Гаврилович с удовлетворением пишет
жене в Саратов: «...обвинений против меня не оказалось, когда
вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинения
против меня.— Что тут было делать? Человек арестован, а обви¬
нений против него нет, ведь это, что называется, казус. Вот над
этим казусом думали четыре месяца... Теперь вот месяц думают
над этим выводом,— как тут быть, как поправить этот сквер¬
ный казус, что арестовали человека, против которого нельзя
найти никаких обвинений... Тебе известно, что всякий старается
по возможности отдалить неприятность — вот поэтому теперь
и медлят моим освобождением. Но это не может длиться много
времени.— Правительство спрашивает по временам: ну, что же,
какие обвинения найдены против Черн.? — нельзя же долго
отмалчиваться от правительства, и надобно будет сказать: «Мы
против него не нашли обвинений, а у него есть обвинения против
нас».— Вот теперь я и жду, когда правительство добьется этого
ответа,— единственно возможного ответа,— от тех, которые
должны отвечать правительству за мой напрасный арест».
Николай Гаврилович, конечно, понимал, что извиняться
перед ним никто не станет, но все-таки он надеялся на более или
менее благоприятный исход дела: он убедился полностью, что
у правительства нет никаких существенных против него улик.
Нельзя сказать, что он обрел покой, но он обрел то состояние,
когда заботы сегодняшнего дня не отрезают дорогу ни в прош¬
лое, ни в будущее, когда мысль и фантазию не сковывает пусть
и очень важная, но все-таки сиюминутная суета. 14 декабря
он начинает писать роман, в заглавие которого лег далеко не без¬
различный для него вопрос: «Что делать?»
Разворачивая сюжет своего романа, он вспоминает минув¬
шее, уносится мечтами в возможное счастливое будущее...
Далекий 1848 год... Май месяц. Женится его друг Василий
Петрович Лободовский, который, много лет спустя, в своих «Бы¬
товых очерках» изобразит Чернышевского той поры под фамилией
Крушедолина. В день свадьбы Лободовского Крушедолин «так
был серьезно и безучастно ко всему, происходящему тут, сосредо¬
точен в самом себе, что, наверное, повергал строгому и всесто¬
роннему анализу только что прочитанные им последние сочине¬
ния, вышедшие в Англии...». Нет, не об английских книгах думал
■тогда молодой Чернышевский, а о невесте своего друга — Надеж¬
де Егоровне, как ему казалось, прелестнейшем существе. Не слу¬
чайно, что через день после свадьбы Лободовского и Надежды
Егоровны он начнет вести дневник. Через несколько месяцев
он задумает начать писать роман, мечты будут выстраивать
266
из настоящей жизни сюжет... «Итак, вот роман, как он пред¬
ставляется в моей голове: человек, какие редко бывают на земле,
пропадает; у него остаются жена и друг; я пока в университете...»
То есть романный друг — это «я», которое дальше не уступает
своего гражданского права. «Когда я кончу курс, устраиваю
все свои дела, решаюсь на бракосочетание». Воспоминание о ро¬
дителях рождает готовую строку из диалога с ними: «Если вы не
хотите, конечно, я не женюсь на ней, но, само собою, я не могу
жениться и ни на ком другом,— как угодно». Но вот действи¬
тельность совсем уж вытесняет мысли о романном сюжете: «Кро¬
ме этого, я должен сказать, что если б это было за три месяца,
я стал бы думать о том времени, когда буду ее мужем, с наслажде¬
нием... а теперь думаю о том, буду ли счастлив: ее необразован¬
ность смущает меня...»
Через два года он будет проездом в Москве и зайдет к Клиен-
товым, у которых вместе с маменькой останавливались в 1846 го¬
ду. Он увидит, что Александра Григорьевна несчастна, судьба
девушки так его тронет, что у него возникнет мысль о женитьбе
на ней. «Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая
доказать на деле то, что я говорю вам,— скажет ей перед проща¬
нием Николай Гаврилович,— но вы всегда можете требовать
от меня всего — я все готов для вас сделать; я не знаю, почему
это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного распо¬
ложения, как к вам». И он задумает написать повесть об Алек¬
сандре Клиентовой.
Пройдет без малого три года:
Н. Г. Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домаш¬
ние отношения тяжелы.
О. С. Да, это правда...
Н. Г. Я, может быть, кажется вам, поступил безрассудно,
неосмотрительно, прося вашей руки...
О. С. Да ведь вы женитесь на мне из сострадания.
Н. Г. Боже мой, к чему говорить такие вещи?
О. С. Ведь говорили же, что хотели жениться на какой-то
девушке из сожаления к ее положению?
Н. Г. В самом деле, как скоро я узнавал, что положение че¬
ловека, к которому я чувствовал расположение, тяжело, моя
привязанность к нему тотчас усиливалась...
Пройдут годы совместной жизни, и Ольга Сократовна влюбит¬
ся в полковника генерального штаба Ивана Савицкого, в чем
и признается Николаю Гавриловичу. «Ты совершенно свободна
в своем выборе. Я никогда не буду оказывать на тебя давления
в этом вопросе. Поступай, как сама хочешь»,— скажет он тогда
своей жене.
267
По окончании академии Иван Савицкий уедет в Галицию,
примкнет там к повстанческому движению, а затем и возглавит
его.
Воспоминания прошлого, былые мечты и надежды, прежняя
боль и минувшие радости возбудят творческую фантазию, ко¬
торая сольет все в единый поток возможной, а для него очевид¬
ной, реальности, и уже своя собственная жизнь, своя собственная
судьба уступит место другой — художественной реальности, и от
этой реальности теперь ему никуда не укрыться. И уже перевод
«Всемирной истории» Шлоссера и решение задач по высшей мате¬
матике ему будут казаться отдыхом.
В середине января 1863 года из Саратова возвратится Ольга
Сократовна. 24 января в письме к Николаю Гавриловичу она
сообщит «о затруднениях в получении ею вида на проживание
в Петербурге». По получении письма Чернышевский тотчас же
обратится к коменданту крепости генералу Сорокину с просьбой
«об устранении препятствий к получению его женой вида на про¬
живание в Петербурге». Не получив на следующий день ответа
от коменданта, он 28 января объявляет голодовку, которую пре¬
кращает только 6 февраля. В следующие четыре дня он рабо¬
тает над образом Рахметова. Вероятно, это не просто совпадение.
23 февраля 1863 года произошло первое свидание Николая
Гавриловича с Ольгой Сократовной в крепости. 22 и 23 февраля
написан «Четвертый сон Веры Павловны». Чернышевский
активно работает над романом, надеясь на скорую его публика¬
цию. В феврале получено разрешение цензурного управления
на публикацию в «Современнике» первых глав романа Черны¬
шевского.
«В 1863 году, после восьмимесячного отдыха,— вспоминала
потом Авдотья Панаева,— «Современник» снова стал выходить,
к огорчению его недоброжелателей. Из числа этих недоброже¬
лателей литераторы торжествовали было уже победу и пропе¬
ли вечную память «Современнику», рассчитывая, что Некрасов
не захочет больше возиться с изданием. Можно судить, как были
они изумлены, когда разнесся слух, что «Современник» не толь¬
ко возникает вновь, но в нем будет напечатан роман Чернышев¬
ского.
Эти слухи были приписаны выдумке Некрасова с целью
чем-нибудь заманить подписчиков.
Между тем редакция «Современника» в нетерпении ждала
рукописи Чернышевского. Наконец она была получена (из
Петропавловской крепости) со множеством печатей, доказы¬
вающих ее долгое странствование по разным цензурам».
«При этом я не могу не указать на одно чрезвычайно стран¬
268
ное обстоятельство,— писал в своих воспоминаниях литератур¬
ный противник Чернышевского А. В. Эвальд, выступавший в пе¬
чати под псевдонимами «Ленивцев» и «Прогрессистов».— Свой
знаменитый роман «Что делать?» Чернышевский писал, уже
будучи арестованным. Роман этот печатался в «Современнике»,
когда над автором его производилось следствие и суд! Как объяс¬
нить это странное явление?.. Во всяком случае мы присутство¬
вали тогда при необычайном явлении: антигосударственной
проповеди, исходившей из арестантской камеры! Проповедь
эта передавалась в редакцию журнала чинами администрации,
обязанными охранять существующий строй! А между тем этот
роман, проходивший через строгую жандармскую цензуру,
поднял, так сказать, на ноги всю тогдашнюю молодежь...»
Действительно, странный случай. Тут, как и в деле петра¬
шевцев, дала осечку бюрократическая машина. Чернышевский
отправлял главы романа в следственную комиссию. Следствен¬
ная комиссия и III отделение не желали брать на себя инициати¬
ву «запретителей» романа, полагая, что с этой задачей может
справиться хорошо поднаторевшее в этих вопросах цензурное
управление. Цензурное же управление под невольным давле¬
нием авторитета следственной комиссии и III отделения не ре¬
шилось запретить роман, ибо, примени такую санкцию, оно мог¬
ло поставить себя в положение более бдительной инстанции,
нежели грозное III отделение и авторитетная следственная ко¬
миссия. Сработал бюрократический принцип: «Начальству вид¬
нее».
Роман «Что делать?» был напечатан в мартовском, апрель¬
ском и майском номерах «Современника» (это была последняя
публикация Чернышевского в «Современнике»), а уже 21 июня
цензор В. Бекетов сообщал Некрасову: «...я мертв для Вашего
«Современника» и для службы. Мне велено подать в отставку».
Теперь сработал другой бюрократический принцип: виноват
«стрелочник».
Когда Чернышевский писал свой роман, следственная ко¬
миссия и III отделение его не беспокоили, но, разумеется, не по¬
тому, что не решались отвлекать автора-узника от самозабвен¬
ной творческой работы. Просто в это время шеф жандармов князь
Долгоруков, председатель следственной комиссии князь Голи¬
цын и управляющий III отделением генерал Потапов были весьма
заняты: они тоже писали «роман», в котором их коллективная,
но согласованная фантазия должна была обрести черты реаль¬
ности.
Прочитав письмо Чернышевского к жене от 7 декабря 1862 го¬
да, генерал Потапов уверенно начертал: «Он ошибается: изви¬
няться никому не придется». Стало быть, полицейское трио уже
знало развязку своего «произведения». Однако «соавторам»
предстояло еще тщательно разработать сюжет, продумать реп¬
лики персонажей, дабы подвести все действие к у ясе оговорен¬
ному ими финалу.
Вероятно, тут не последнюю роль сыграли письма Черны¬
шевского к Александру II и князю Суворову, окончательно
похоронившие «улику», извлеченную из герценовского письма.
Забегая вперед, скажем, что эта «улика» никак не будет фигури¬
ровать в окончательном обвинительном документе. Теперь нуж¬
но было начинать все сначала. И вот 30 ноября (вскоре же после
упомянутых писем Чернышевского) князь Голицын объясняет
«замедление» в деле Чернышевского тем, что «комиссия, для
большей улики, ожидает показаний Костомарова», а 12 декабря
князь Долгоруков, докладывая царю, говорит уже о предпола¬
гаемых «открытиях» в деле Чернышевского. И тут ясе Всеволоду
Костомарову1 обещают отменить «содержание в крепости», если
он сумеет оказать «важную услугу». По запискам Вс. Костомаро¬
ва и М. Косторского, который на страницах «Библиотеки для
чтения» упрекал М. Каткова за «недостаточно глубокую» поле¬
мику с Чернышевским, Главный цензурный комитет составил
обзор литературной деятельности Чернышевского, озаглавив его
почти по-научному: «Литературные тенденции г-на Черны¬
шевского».
Пока шли только поиски «сюжета». Но вот 16 января 1863 го¬
да следственная комиссия поручает генералу А. Потапову войти
в «личные объяснения» с Вс. Костомаровым: тут-то и начинает
разворачиваться сюжет полицейского «романа». В действие Вс.
Костомаров вводится через день после «личных объяснений»
с А. Потаповым. Следственной комиссии он показывает, что
прокламации «К молодому поколению» и «Барским крестья¬
нам...» составлены М. Михайловым, а прокламация «К солда¬
там» — Н. Шелгуновым. (Н. Шелгунов был арестован 28 ноября
1862 года и теперь содержался в Петропавловской крепости).
Далее Вс. Костомаров сказал, что Чернышевский находился
в сношениях с раскольником Дорофеем, и упомянул о письме
Чернышевского к А. Плещееву, которое хранится в Москве у не¬
коего Ши по валова.
1 Всеволод Дмитриевич Костомаров не состоял ни в каком родстве
с историком и писателем профессором Николаем Ивановичем Костомаровым,
с которым был близко знаком и труды которого высоко ценил Черны¬
шевский.
270
Тут не все сходилось с намеченным сюжетом, поэтому кое-что
пришлось скорректировать. Естественно, прокламацию «К солда¬
там» следовало «пристегнуть» Н. Шелгунову — он все-таки был
полковником. В деле Чернышевского она выглядела бы не очень
убедительной. Чернышевский, в общем-то, из поповичей, раскол
ему дело известное, так что раскольника Дорофея можно к его де¬
лу и приобщить. Только одного этого маловато... К тому же зачем
опять ворошить дело Михайлова, который уже второй год нахо¬
дится на каторге? Да и потом Михайлов в основном апеллировал
к темам, близким молодежи, например к теме эмансипации жен¬
щины. Для сурового наказания поборника эмансипации женщин
вполне хватило прокламации «К молодому поколению». Кресть¬
янский же вопрос — это по «ведомству» Чернышевского,тут двух
мнений быть не может, так что по логике вещей Чернышевский
должен стать автором прокламации «Барским крестьянам от их
доброжелателей поклон».
Йа корректировку сюжета ушел месяц. 21 февраля князь
А. Голицын доложил Александру II о готовности Всеволода
Костомарова обнаружить известные ему «преступные замыслы
и действия» Чернышевского. Получив высочайшее «добро», поли¬
цейское трио принимается за свою работу с еще большим энту¬
зиазмом. В то время когда Чернышевскому разрешают свида¬
ние с женой, когда из Петропавловской крепости уйдут в цен¬
зурный комитет главы его романа, под руководством «соавто¬
ров» Всеволод Костомаров изготовляет (подделывая почерк
Чернышевского) подложные документы, приобщает к действию
лжесвидетеля — московского мещанина Петра Яковлева, и уже
11 марта III отделение пересылает в следственную комиссию
донос Яковлева «о приезде в Москву летом 1861 г. литератора
Чернышевского и о сношениях его с Всеволодом Костомаровым,
которого он просил о скорейшем напечатании статьи его, Черны¬
шевского, «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»,
а также два письма Чернышевского к Всеволоду Костомарову
и поддельную записку с просьбой об исправлении текста прокла¬
мации.
14 марта следственная комиссия вызвала Костомарова
и провела последнюю «репетицию», а через день вызвала Чер¬
нышевского, которому было задано одиннадцать вопросов:
об отношении Чернышевского к Герцену и Огареву, о найденном
у него при обыске алфавитном ключе, об отношениях к М. Ми¬
хайлову, Н. Шелгунову, Вс. Костомарову, о поездках в Москву
и московских знакомствах, о составлении прокламации «Барским
крестьянам от их доброжелателей поклон», об участии в напи¬
сании прокламации «К солдатам», о проектировании воззвания
271
к раскольникам, о сношениях с раскольником Дорофеем, об
А. Котляревском и М. Свириденко, о записке к Вс. Костомарову
по поводу исправления текста прокламации.
Чернышевский категорически отрицал все выдвинутые про¬
тив него обвинения: письма к Вс. Костомарову от 20 апреля
и 2 июля 1861 года признал своими, а по поводу подложной
записки написал: «Эта записка была мне предъявлена комис¬
сией), и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее
моего».
19 марта 1862 года состоялась очная ставка Чернышевского
с Вс. Костомаровым, 12 апреля она была повторена, во время
последней Чернышевский сказал: «Сколько бы меня ни держа¬
ли, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».
Потом состоялась очная ставка с П. Яковлевым, который утверж¬
дал, что предъявленную ему комиссией записку Чернышевский
оставил, находясь в Москве, Всеволоду Костомарову и в разго¬
воре с Костомаровым упоминал о прокламации «Барским
крестьянам...».
Чернышевский опроверг показания П. Яковлева, а когда
того увели, сказал: «Предостерегаю комиссию против этого
свидетеля».
На следующий день Некрасов принес генералу А. Потапову
коллективное письмо группы студентов, в котором излагался
рассказ некоего П. Яковлева о том, как его заставили стать в де¬
ле Чернышевского лжесвидетелем. Потапов вынужден был отпра¬
вить это письмо в следственную комиссию.
Вот текст этого письма:
«Милостивый Государь, недели две тому назад с нами
произошел случай, о котором считаем долгом довести до Вашего
сведения.
Мы находимся арестованными в смирительном доме с конца
февраля; на страстной неделе к нам явился какой-то арестант,
мещанин Петр Васильевич Яковлев (как сказал нам) и начал речь
с того, что он содержится тоже за политическое преступление
(как было заметно, он считал нас арестованными за универси¬
тетские беспорядки 61 г.) и потому решил обратиться к нам за
советом. В чем должен был состоять этот совет, Вы увидите из
нашего с ним разговора, который мы постараемся передать Вам
возможно точнее.
— Я, господа, ездил по очень важному делу в Петербург,
к начальнику III Отделения, но на тверской станции подвыпил
немного и забуянил; тверская станция представила меня обрат¬
но в Москву, к обер-полицмейстеру, передав меня в распоряжение
мещанского общества, которое и послало меня за дурное поведение
272
в рабочий дом; оно вот уже второй раз посылает меня сюда, все
за пьянство...
— По какому же делу вы ездили к г. Потапову?
— А вот видите ли: был я знаком с Всеволодом Дмитриеви¬
чем Костомаровым. На днях получаю записку без подписи, в ко¬
торой меня приглашают явиться в гостиницу «Венеция» в 18-й
номер. Явившись туда, я был крайне изумлен, заставши там
Костомарова в солдатской шинели и в сопровождении жандарм¬
ского офицера; оказалось, что записка была от Костомарова,
который сделал мне следующее предложение: «вот тебе письмо
к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу,—
мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ея
наставлениям, то будешь хорошо вознагражден».
— А Костомаров не говорил вам, что именно вам придет¬
ся делать?
— Говорил, и говорил, что я должен дать показание в III От¬
делении в том, будто я слышал, как Николай Гаврилович Черны¬
шевский летом 61 года в разговоре с Костомаровым сказал сле¬
дующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей
поклон. Вы ждали воли,— вот вам и воля. Благодарите царя».
Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно,
чтоб я дал такое показание, но скажите мне, господа: если я дейст¬
вительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-
нибудь Потапов,— может ли он, например, велеть освободить меня
из рабочего дома?
— Ну это вряд ли; мы думаем, что за ложное показание Пота¬
пов вас будет скорее преследовать, потому что по закону ложный
свидетель подвергается строгому наказанию.
— Я уже подал отсюда прошение, и меня должны скоро потре¬
бовать в Петербург; сам не знаю, что делать!..
Мы сказали, что лучше всего будет, когда он скажет правду,
и разговор на этом кончился. Мы не поверили Яковлеву, зная
хорошо, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому
что он судился по одному с нами делу и, по приговору Сената,
конфирмированному государем и объявленному нам 2 января
этого года, должен подвергнуться шестимесячному заключению
в крепости и потом уже ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля
мы удивились, увидя во дворе Яковлева в сопровождении двух
жандармов; его повезли, как нам сказали, в Петербург. Тогда
мы вспомнили наш прежний разговор с ним и невольно пришли
к таким предположениям: 1) что Чернышевский действительно
обвиняется в каком-нибудь политическом преступлении; 2) что
Костомаров и его семейство хотят с помощью Яковлева подверг¬
нуть Чернышевского несправедливому обвинению суда. Все это
18
4078
заставляет нас обратиться к Вам, Милостивый Государь, как
человеку, вероятно, близкому к г. Чернышевскому (по редакции
«Современника»), уполномачивая Вас, в случае действитель¬
ности наших подозрений, представить это письмо куда следует,
чтобы предупредить возможность несправедливого приговора
суда.
Все это мы готовы, в случае надобности, подтвердить перед
судом присягой. Иван Гольц-Миллер, Петр Петро вс кий-Ильенко,
Александр Новиков, Яков Сулин, Леонид Ященко. Москва,
13 апреля 1863 г.».
Действительно, у авторов письма поначалу были все осно¬
вания поставить под сомнение признания П. Яковлева. Во-
первых, проходя по одному и тому же делу с Вс. Костомаровым,
они знали, что срок его заключения в крепости еще не истек.
Во-вторых, вряд ли может пользоваться особым кредитом до¬
верия человек, дважды за короткий срок попадавший в рабочий
дом, как говорится, по пьяному делу.
Однако письмо студентов не особенно смутило А. Потапова.
Не надеясь тут на «скромность» Некрасова, он переслал
письмо в следственную комиссию, П. Яковлева в скором вре¬
мени отправили в далекую Архангельскую губернию под надзор
полиции, но только не за лжесвидетельствование, а за бол¬
товню. Его «показания» по-прежнему продолжали фигурировать
в деле Чернышевского.
Настойчивость В. Долгорукова, А. Голицына и А. Потапова
нельзя объяснить только их служебным рвением или личной
неприязнью к Чернышевскому, не главную роль играла тут и
их сановная амбиция. Внутриполитическая обстановка склады¬
валась так, что первоначальное их намерение изолировать
Чернышевского переросло в решение жестоко с ним распра¬
виться. Они даже «пожертвовали» Н. Шелгуновым (его дело было
цередано в военные судебные инстанции)1, сосредоточив все
свои усилия на обвинении Чернышевского.
Мысль использовать Вс. Костомарова в деле Чернышевского
возникла еще в конце 1862 года, но задействован в «сюжет»
он был лишь во второй половине января 1863 года, то есть
после того как в Польше вспыхнуло восстание. III отделению
хорошо было известно о связях Чернышевского с польскими
офицерами и особенно с капитаном С. Сераковским и украин¬
1 Военный суд не поддался давлению III отделения и не принял ни¬
каких сомнительных улик, в том числе он игнорировал и показания Вс. Косто¬
марова. За недоказанностью обвинения 24 ноября 1864 года Н. Шелгунов
был освобожден и выслан в Вятку.
274
цем поручиком А. Потебней. В марте С. Сераковский провозгла¬
шается литовским и ковенским воеводой и становится во главе
восставших, А. Потебня переходит на сторону польских
повстанцев.
Весной того же года Н. Огарев писал: «Я думаю, что поль¬
ская революция действительно удастся только тогда, если вос¬
стание польское перейдет соседними губерниями в русское
крестьянское восстание. Для этого необходимо, чтобы и само
польское восстание из характера только национального пере¬
шло в характер восстания крестьянского и таким образом
послужило бы ферментом для целей России и Малороссии».
Те же, на кого была возложена ответственность за внутреннее
спокойствие в Российской империи, не могли не испытывать
страха перед перспективой такого «слияния». В этой ситуации
автор или хотя бы вдохновитель прокламации «Барским
крестьянам от их доброжелателей поклон» стал рассматриваться
как самое опасное лицо в России. Теперь сюжет полицейского
«романа» начал поспешно перестраиваться в сторону ужесто¬
чения его развязки. К тому же вскоре предстояло пере¬
давать дело Чернышевского в другую инстанцию.
Срок заключения Вс. Костомарова в крепости истекал в
конце апреля 1863 года, после чего его должны были отправить
рядовым на Кавказ. Таков был приговор Сената, утвержденный
государем 1 ноября 1862 года. Но в конце февраля 1863 года,
то есть на два месяца раньше, Вс. Костомаров в сопровож¬
дении расторопного капитана жандармерии Чулкова отбывает
из Петербурга, однако до Кавказа они не доехали. 1 марта
прибыли в Москву, в тот же день состоялась их встреча с П. Яков¬
левым. Этим же числом датировано рекомендательное письмо
капитана Чулкова на имя генерала А. Потапова о московском
мещанине П. Яковлеве, «который очень может быть полезен
во многих случаях». Вс. Костомаров писал о нем своей матери:
«Я в Москве уже, по обыкновению весел, здоров и благополучен.
Петр Васильевич оказал мне весьма важную услугу — и сооб¬
разно этому будет, конечно, принят тобою. Я подарил ему
свое пальто — пожалуйста, отдай. Ну, больше я ничего тебе не
пишу: во-первых, нечего, потому что я ни с кем еще не виделся,
во-вторых... ты догадываешься, почему...»
5 марта утром Вс. Костомаров и Чулков были уже в Туле,
там подшефный капитана Чулкова вроде бы занемог. В тот же
день Костомаров засел писать письма. Чулков отобрал их. Весну
Костомарову не суждено было встречать на Кавказе: через
день пришла телеграмма от генерала А. Потапова о немед¬
ленном возвращении в Петербург. Тут же выехали обратно.
275
Одно из писем адресовалось: «Петербург, Николаю Ивановичу
Соколову, оставить на почте впредь до востребования».
Письмо это начиналось так:
«Тула, 5 марта.
Ну вот, наконец, я и дождался возможности говорить с Вами
на свободе, без разных цензурных стеснений со стороны
агентов — хранителей души и тела наших. И я долждался этого,
как видите, гораздо скорее, чем предполагал. Уезжая, я обещал
писать к Вам с места, до которого, Вы знаете, не рукой подать:
вышло так, что в Туле приключилась мне болезнь некая, так
что, не имея никакой возможности продолжать свое странствие,
мы остановились здесь на несколько дней...»
Итак, в общий сюжет вплетается целая эпистолярная глава.
В очень доверительном тоне Николаю Ивановичу Соколову
(этот персонаж выдуман, потому-что письмо отправлялось «до
востребования») рассказывается далее во всех подробностях
о знакомстве с Чернышевским, о составлении последним про¬
кламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»
и попытке напечатать ее в Москве. В опровержение своего
предательства Костомаров приводит такой довод: «У меня были
письма, которые в моих руках служили мне оправданием
перед теми, кто меня обвинял в предательстве, а в руках пра¬
вительства могли служить мне полным оправданием перед ли¬
цом закона... Знаю я, что, загораживая собою Ч[ернышевского]
и ему подобных, я глубоко виноват—не говорю: перед пра¬
вительством — потому что я не связан с ним ничем,— но
перед обществом, для которого деятельность кружка, создан¬
ного учением Чскаго, принесла и приносит такие горькие,
такие отравленные плоды...»
Письмо Костомарова написано искусно, оно носит все следы
частной переписки, например, Чернышевского он называет
или одной буквой «Ч» или «Чским», Шелгунова — «Шновым»,
несколько раз обращается к доверительным скобкам: «(ради
Бога, да останется это между нами), (Я знаю, вы, старый ханжа,
любите читать свою старую книгу в темном кожаном пере¬
плете с уродливыми медными застежками), (которую, помните,
зубрили мы когда-то в грамматике Кюнера), (признаюсь в своей
трусости)» и т. д.
Костомаров уверяет своего адресата, что он разошелся с
Чернышевским по идейным соображениям. «Потом,— пишет
он,— как вы уже знаете, я бросил печатание брошюры, не
кончив ее. (Речь идет о прокламации «Барским крестьянам».—
А. Л.) Мих. (Михаил Михайлов.— А. Л.) уехал за границу.
276
Этим роль моя политического агитатора и кончилась... на¬
всегда. Весна и лето прошли тихо. Я предпринял издание
истории всемирной литературы и, углубившись в изучение
греческих и римских классиков, совсем было забыл о крестьянах
барских и о солдатах царских,— как на меня был сделан
донос... Меня взяли. Судили. Приговорили и вот...»
Письмо это в какой-то мере должно было обелить Костома¬
рова в глазах общественности (не выдал Чернышевского на
собственном процессе, хотя и питал к нему личную острую не¬
приязнь), в дальнейшем оно могло послужить ему оправда¬
нием перед правительством (полное несогласие с Чернышевским
и даже враждебное к нему отношение). Это, разумеется, вхо¬
дило в заботы самого Костомарова. Для Потапова же тут важно
было другое: всякий, прочитавший это частное письмо, убеж¬
дался в виновности Чернышевского, хотя оно не могло служить
доказательной уликой. Но одна улика, подтверждавшая это
письмо, уже была — лжесвидетельствование Яковлева. «На¬
шлась» и вторая улика — Костомаров, подделав почерк Черны¬
шевского, написал от его лица самому себе записку.
Как мы уже говорили, Чернышевский убедительно опроверг
все показания Костомарова и Яковлева и не признал своей
подделанную записку. 24 апреля в следственной комиссии
произвели сличение почерка подложной записки с почерком
Чернышевского. Секретари губернского правления, уголовной
палаты и гражданской палаты нашли, что почерк записки
имеет «некоторое сходство» с почерком Чернышевского, а 14 мая
председатель следственной комиссии направил дело министру
юстиции Замятнину. 29 мая Чернышевского доставили в Сенат,
где ему объявили о предании его суду Правительствующего
Сената, назвали фамилии его судей-сенаторов, обер-прокурора и
обер-секретаря и взяли подписку о том, что он не имеет на них
подозрения. В свою очередь Чернышевский обратился к се¬
наторам с просьбой о дозволении: 1) подать ему особое пояснение
по его делу; 2) иметь свидание с родственниками; 3) отдать
его на поруки; 4) о допущении его к чтению и рукоприклад¬
ству под запискою, которая будет составлена по его делу. Сенат
дал положительный ответ, за исключением третьего пункта —
отдачи на поруки.
Итак, Сенат фактически приступил к слушанию дела Черны¬
шевского 29 мая 1863 года, а приговор свой датировал 5 фев¬
раля 1864 года. В это время не раз возникали слухи, что дело
Чернышевского кончится благоприятным для него исходом.
Иногда даже поговаривали о том, что Николая Гавриловича
вот-вот отпустят на свободу. И то были не пустые слухи. К при¬
277
меру, 19 июня 1863 года секретари Сената шестью голосами
против двух фактически не признали Чернышевского автором
состряпанной Костомаровым записки. Это обстоятельство,
естественно, меняло положение вещей, поскольку опираться на
одно лжесвидетельствование уже высланного правительством
Яковлева было трудно.
Однако Сенат данными экспертизы распорядился весьма
своеобразно. «Все восемь экспертов,— пишет М. Гернет,— были
согласны между собой относительно сходства только двух букв
в записке с почерком Чернышевского. Сенат же, совершенно
игнорируя разногласия экспертов, занялся сложением всех
тех букв, сходство которых с почерком Чернышевского на¬
ходили те или иные эксперты. В итоге таких сложений Сенат
насчитал, что из общего числа 25 различных букв в записке
12 сходны с почерком Чернышевского. Такой вывод Сената из
разногласия экспертов был настоящим извращением экспертизы
и в своем роде судейским сенатским подлогом».
И тут на помощь Сенату приходит генерал Потапов. В
подложном письме на имя «Николая Ивановича Соколова»
Вс. Костомаров будто бы мимоходом упоминает о каких-то
письмах, которые он якобы скрыл от следствия. И вот 13 июля
шеф жандармов докладывает Александру II о новой улике —
письме Чернышевского какому-то «Алексею Николаевичу».
24 июля Чернышевский был вызван в Сенат на допрос по
поводу письма к «Алексею Николаевичу». Разумеется, Черны¬
шевский отверг принадлежность этого письма себе, заметив, что
если в подписи нужно читать «Чернышевский», то письмо
явно поддельное. Вновь решено было сделать сличение почерков.
На этот раз секретари Сената признали, что бумаги Черны¬
шевского и письмо к Алексею Николаевичу «писаны одною
и тою же рукою». Тогда Чернышевский обратился с просьбой
дать ему возвожность самому сличить почерк письма со своим
собственным почерком. В этой просьбе Сенат ему отказал. Таким
образом в деле Чернышевского появилась новая довольно
грозная «улика».
Вот два отрывка из этого письма:
«Добрый друг Алексей Николаевич! Может быть, Вы и спра¬
ведливы, упрекая меня за слишком большую, доверчивость, ока¬
занную людям, едва мне знакомым; я и сам очень хорошо знаю,
что, несмотря на все принятые мною предосторожности, рискую
очень многим, но кто виноват? Вы знаете, что время терять нельзя;
теперь или никогда. Тут раздумывать много было бы преступлени¬
ем,—г слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкой, никогда не
поправимой. Вы вот около уже полугода водите нас со своим стан¬
278
ком и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы
не можем, если хотим, чтоб дело наше было выиграно. В то
время, как Вы откладываете со дня на день, нам подвернулись
под руку люди, хотя сами по себе и весьма, как видно, пустень¬
кие, но все-таки энергичные и более года занимавшиеся тай¬
ным печатанием, стало быть, вести свое дело умеющие...
Что касается до К., то на него, кажется, можно положиться,
хотя, конечно, и с ним нельзя чересчур откровенничать...
не испытав предварительно верности его на деле. Впрочем,
он мне кажется человеком дельным и полезным, и я во всяком
случае весьма благодарен Вам за знакомство с ним...»
Из первого отрывка следует, что автор письма деятельно
занимается поиском возможности печатать нелегальные прокла¬
мации и ищет надежных людей.
Из второго отрывка следует, что Костомаров (в письме
обозначенный одной буквой «К») пришелся по душе автору
письма, а стало быть, ему что-то доверено или поручено. В
письме об этом ничего не говорится, но этот пробел восполняют
устные показания Всеволода Костомарова. Все вроде бы сходи¬
лось...
24 октября 1863 года состоялась очная ставка Чернышевского
и Костомарова «по случаю разноречия в их показаниях». Чер¬
нышевский не только убедительно опровергает все показания
Костомарова, но и уличает его в противоречии с прежними
показаниями. Еще раньше в обращении к Александру II он
подробно описал ход своего дела с раэбором возведенных на
него обвинений и поставил вопрос о своем освобождении.
27 октября IL Пыпина сообщает родителям в Саратов:
«Он (то есть Чернышевский.— А. Л.) здоров, и дело в очень хоро¬
шем положении». Через день о том же сообщает родителям
А. Пыпин. И только 25 ноября Е. Пыпина написала родителям,
что ходят слухи о дурном исходе дела Николая Гавриловича.
31 октября в Сенате были составлены «Вопросы по делу
об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском,
обвиняемом в государственном преступлении». Этот документ
был, по сути дела, проектом приговора. Весь ноябрь месяц
составлялось и переписывалось определение Сената по делу
Чернышевского. 2 октября Е. Пыпина в письме к родителям
впервые говорит, что приговор предполагает каторжные работы,
а после свидания с Николаем Гавриловичем 20 декабря она
сообщает родителям, что Сенат приговорил Чернышевского
к 14 годам каторги. В первых числах января нового 1864 года
появляется небольшая надежда: прошел слух, что министерство
юстиции, не согласно с решением Сената. «Это не странно,—
279
писала 6 января Е. Пыпина родным в Саратов.— Весь город
говорит против этого решения». Вскоре на неделю приехала
Ольга Сократовна и навестила Николая Гавриловича в крепости.
В конце января 1864 года прошел последний обнадеживаю¬
щий слух. Говорили, будто бы министерство юстиции нашло
решение Сената не совсем правильным: одни высказываются
за два с половиной года заключения с зачетом времени, про¬
веденного в крепости, а другие — против наказания вообще.
Скорее всего, поводом к таким слухам послужили кулуарные
разговоры, а не какие-то серьезные разногласия в ходе об¬
суждения сенатского приговора. Так или иначе, но 27 января
министр юстиции Замятнин возвратил в Сенат приговор, сделав
в нем всего лишь небольшие редакционные поправки. 5 фев¬
раля Сенат окончательно датировал свой приговор, в заклю¬
чительной части которого говорилось: Чернышевского «за зло¬
умышление к ниспровержению существующего порядка, за при¬
нятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного
воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напе¬
чатания в видах распространения — лишить всех прав состояния
и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать
лет и затем поселить в Сибири навсегда».
Теперь приговор Сената должен был утвердить Государ¬
ственный совет. 16 марта Е. Пыпина сообщает родителям
о слухе, будто Государственный совет затребовал подлинное
дело Чернышевского. А. Пыпин обращается с письмом к князю
Суворову, в котором указывает на юридические неправильности
в деле. Суворов, хорошо осведомленный о намерении верхов,
ответил Пыпину, что уже ничего нельзя сделать в пользу
Чернышевского.
7 апреля 1864 года Государственный совет утвердил при¬
говор Сената по делу Чернышевского. Александр II наложил
свою резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной
работы был сокращен наполовину». Это уже была ритуальная
монаршая «милость».
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Вот и окончились долгие месяцы его пребывания в Петро¬
павловской крепости, долгие месяцы самозабвенной работы
и мужественной борьбы. Завтра на рассвете его свезут к месту
гражданской казни, а затем ему предстоит (разумеется, в со¬
провождении жандармов) дальняя дорога в Сибирь. О чем
ему думалось в уже обжитой одиночной камере Алексеевского
280
равелина в тот последний вечер? Конечно, о многом, а может быть,
и о том, как он восемнадцать лет назад в сопровождении
маменьки, теперь уже покойной, отправлялся, полный радуж¬
ных надежд, в неведомый тогда для него и загадочный Петер¬
бург...
Да, да, они покинули Саратов именно 18 мая 1846 года.
Переставь местами только две последние цифры, и получится
дата сегодняшнего дня — 18 мая 1864 года,— последнего дня
его пребывания в Петербурге... И вот этот день клонится уже
к концу, хотя здесь, в Петербурге, в эту пору дни переливаются
один в другой почти незаметно, а при нынешних дождях и тума¬
нах как бы тянется то ли непрерывный серый день, то ли бес¬
конечная серая ночь...
Сон был коротким — его хватило ровно настолько, чтобы
в сознании преодолелась граница между сегодняшним днем
и завтрашним событием, завтрашнее событие по пробуждении
стало уже сегодняшней явью. Он почти машинально надевает
пальто, шапку — за ним пришли...
Когда его посадили в карету, то понял: на улице зябко
и моросит дождь, запоздало поежился и вдруг обрел полный
покой: и стук колес, и цокот копыт, и присутствие серьезных
до окаменелости жандармов — все это вместе с ним двигалось
туда, где будут властвовать не произносимые слова приговора
и ритуальные действия безымянных, но достоверных персо¬
нажей истории, а его последнее непроизнесенное слово, которое
долетит до каждого чуткого сердца...
«Крестьянин, идущий впереди меня, спросил лавочника:
где будут раскладывать, и, как ни странно покажется это,
я вздрогнул от этого слова. Я не видывал прежде этой про¬
цедуры, и такое резкое выражение человека из народа не¬
вольно навело меня на мысль, что она должна быть очень
тяжелого свойства. Я шел следом за этим крестьянином, и по
мере приближения к толпе все более и более росло мое волнение.
Наконец я на площади. Высокий черный столб с цепями, эстрада,
окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные
друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистан¬
ции от столба. Множество людей, хорошо одетых, кареты, гене¬
ралы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины, все
показывало, что происходит нечто чрезвычайное». (Офицер
генерального штаба, член «Земли и воли» Н. К. Гейнс.)
«На площади увидел я в первый раз в жизни (а также
и в последний) эшафот... Мы стояли кучкой против самой
281
середины переднего фасада эшафота. Слева я увидел брюнета
лет 35 в древнем русском костюме (в таком, какой носят мужики
в «Жизни за царя»). То был Якушкин Павел Иванович, из¬
вестный собиратель былин и народных песен.
В ожидании привоза Чернышевского слушал разговоры ок¬
ружающей меня публики...» (А. Тверитинов.)
Начали вспоминать гражданскую казнь Михаила Михай¬
лова:
— Его два года назад на колеснице привезли. Сидел он на
скамейке спиной к лошадям, в сером халате с бубновым
тузом, с обритой наполовину головой...
— Ив кандалах!
— Палач давал ему пощечину...
Какая-то старуха предлагала за гривенник скамейки:
— Надо сиротам хлеб заработать...
«После довольно долгого ожидания появилась карета,
въехавшая внутрь каре к эшафоту. В публике произошло
легкое движение: думали, что это Н. Г. Чернышевский, но
из кареты вышли и поднялись на эшафот два палача. Прошло
еще несколько минут. Показалась другая карета, окруженная
конными жандармами с офицером впереди. Карета эта также
въехала в каре, и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся
Н. Г. Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой
шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке
и в мундире, в сопровождении, сколько помнится, двух лиц
в штатском платье». (М. Сажин.)
«Чиновник громко стал читать приговор среди мертвой
тишины. Читал он плохо, с передышками, заикался, а в одном
месте поперхнулся и едва выговорил «сацалических идей». Чер¬
нышевский улыбнулся». (В. Никитин.)
«Николай Гаврилович был одет в темное пальто, с при¬
гнутым теплым воротником, и черные брюки... Мне казалось,
что он смотрел именно на то место, где мы стояли. Раза
два он поднимал левую руку к лицу, проводя ладонью по
щекам и бороде, как бы обтирая дождевую воду, и при этом
кисть руки казалась очень белой, при резкой разнице с темным
рукавом пальто. Форменный человек читал или, лучше, бормотал
бумагу так торопливо-скоро, таким невнятным голосом, что не
только нельзя было уловить смысл читанного, но даже и от¬
дельных слов. Закончилось чтение сразу, и читавший как бы
юркнул с эшафота — так быстро он скрылся из наших глаз».
(В. Кокосов.)
«Палачи опустили его на колени. Сломали над головой
саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней,
282
взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время
пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку. Чер¬
нышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько
позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку в руку, спокойно
ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое мол¬
чание». (Н. Гейнс.)
«В этот промежуток времени около нас разыгрался сле¬
дующий эпизод. Павел Иванович Якушкин, по своему обыкно¬
вению, в красной кумачной рубахе, в плисовых шароварах,
заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском ар¬
мяке с плисовой оторочкой из грубого коричневого сукна
и в золотых очках,— вдруг быстро проскочил мимо городовых
и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конный
жандарм бросились за ним и остановили его. Он стал горячо
объяснять им, что Чернышевский близкий ему человек и что он
желает с ним проститься. Жандарм, оставив Якушкина с горо¬
довыми, поскакал к полицейскому начальству, стоявшему
у эшафота. Навстречу ему уже шел жандармский офицер, ко¬
торый, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: «Павел Ива¬
нович, Павел Иванович, это невозможно!» Он обещал ему дать
свидание с Николаем Гавриловичем после». (М. Сажин.)
«Но вот преступника освобождают от железных колец,
он поднимается. Вдруг из толпы кто-то крикнул:
— Прощайте, прощайте!
— Кто сказал «прощайте!»?
Все молчат и оглядываются друг на друга. Летит букет,
другой.
— Кто бросил букет?
Опять молчание. Начинается разборка.
— Это вы бросили? — говорят, обращаясь к молодой де¬
вушке.
— Я. Он мой хороший знакомый — я и бросила.
Девушку сажают в фиакр и увозят». (А. Суворин.)
«Чернышевский был сведен с эшафота и посажен в карету.
В эту минуту из среды интеллигентной публики полетели
букеты цветов; часть их попала в карету, а большая часть
мимо. Произошло легкое движение публики вперед». (А. Вен¬
ский.)
«Карета повернула назад и по обыкновению всех поездок
с арестантами пошла шагом. Этим воспользовались многие,
желавшие видеть его вблизи; кучки людей человек в 10 до¬
гнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь
сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал
один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: «прощай,
283
Чернышевский»; этот крик был немедленно поддержан другими
и потом сменился еще более колким словом «до свидания».
Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отве¬
чал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находя¬
щейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединить¬
ся к кричавшим. Положение полиции было затруднительное,
но на этот раз она поступила весьма благоразумно и против
своего обыкновения не арестовала публику, а решилась по¬
просту удалиться. Было скомандовано «рысью!», и вся эта про¬
цессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы...
Толпа начала мало-помалу расходиться, но некоторые, нанявши
извозчиков, поехали следом за каретой». (Н. Гейнс.)
Через три дня после гражданской казни Чернышевского
Е. Пыпина записала: «Много ходит теперь рассказов о том,
что происходило на площади во время чтения приговора. Не¬
сколько дам бросили ему, т. е. Чернышевскому, цветы, и двух
взяли. Полиции было очень много, и оберполицмейстер должен
был беспрестанно бросаться то в ту, то в другую сторону унимать
шум. Кричали и прощались с Николей. Он и тут оставался
замечательно спокоен».
Конечно, восстановить достоверную картину во всех под¬
робностях того утра на Мытнинской площади невозможно хотя
бы потому, что многие очевидцы написали свои воспоминания
спустя несколько десятилетий. Так, мемуаристы резко расходятся
в определении численности присутствующих на «казни». Эта
цифра колеблется от трехсот человек до десяти тысяч. Есть
много и других разночтений. Поэтому тут небезынтересно до¬
несение жандармского полковника Дурново с его наметанным
полицейским оком:
«По приказанию Вашего Сиятельства (донесение было на¬
правлено шефу жандармов князю Долгорукову.— А. Л.) сего
числа в б'/2 часов утра прибыл я на Мытнинскую площадь,
где в 8 часов должен был быть объявлен публичный приговор
государственному преступнику Чернышевскому. На площади я
нашел, несмотря на раннее время и ненастную погоду, около
200 человек; ко времени же объявления приговора собралось
от 2-х до 2‘/2 т. человек. В числе присутствующих были
литераторы и сотрудники журналов, много студентов Медико¬
хирургической академии, три воспитанника Училища правове¬
дения, до 20 человек воспитанников корпуса путей сообщения,
несколько офицеров пехотных гвардейских полков и офицеров
армейских стрелковых батальонов, большинство же публики
состояло из дворянского сословия, из коих многие были в славяно¬
фильских костюмах, а некоторые в черном одеянии и имели
284
таковые же башлыки. Перед приводом Чернышевского находив¬
шийся в числе зрителей г. Якушкин изъявил желание про¬
ститься с преступником, и когда к нему подошел полицмейстер
полковник Ваннаш и спросил, он ли желает проститься, г. Якуш¬
кин сказал, что желает не он один, а желают все. На что
получил в ответ, что теперь желание это несвоевременно и что
об этому нужно было заявить ранее г. военному генерал-
губернатору. Чернышевский привезен был в 8 ч. и 3/4, а не ровно
в 8-мь, как было назначено. Во время приведения приговора
в исполнение должен был присутствовать священник, но его не
было, ибо, как говорят, Чернышевский не изъявил на то своего
желания. При чтении приговора преступник стоял надменно,
обращая взгляды на публику; в это время из толпы был брошен
девицею Михаэлис (М. П. Михаэлис — сестра жены Н. В. Шел-
гунова.— А. Л.) букет цветов в недальнем расстоянии от пуб¬
лики, но она тотчас же была замечена и отправлена к г. обер-
полицмейстеру. Единовременно с этим обстоятельством некто
приблизился к каре солдат и на просьбы полиции отойти и стать
вместе с прочими отзывался, что он гражданин и исполнить
просьбы не желает. По взятии его и опросе об его звании, он
оказался мещанином Герасимовым, живущим на Песках. (Когда
произошел этот инцидент, по толпе прошел слух, что это по¬
явился мещанин Яковлев, пожелавший публично признаться
в своем лжесвидетельствовании.— А. Л.) По окончании приговора
должна была быть надета на преступника арестантская одежда,
но, по словам генерал-майора Чебыкина, одежда эта была за¬
быта и не привезена. Когда Чернышевский сходил с эшафота,
то товарищ по лавке книгопродавца Кожанчикова Свири-
денко приглашал публику снять шляпы. В числе присутствующих
была одна личность, которая выражалась неуважительно о
князе Суворове, что будто бы князь обещал что-то сделать
в пользу Чернышевского, но не исполнил обещанного. Личность
эта неизвестна».
Позади остались эшафот и черный столб с железными
цепями, молчание и крики многолюдной толпы, суета жандар¬
мов и полицейских, букеты цветов и холодный дождь... По¬
зади остались почти тридцать шесть лет жизни и из них почти
два года, проведенных в крепости... А впереди ждали каторга
и вечная Сибирь... Но теперь об этом думать не хотелось,
казалось, что главная беда уже позади, одни надежды сме¬
нились другими, не верилось, что приговор верховной власти —
это приговор судьбы...
По возвращении в крепость к нему были допущены при¬
ехавшая накануне в Петербург жена и старший сын Александр,
285
А. Н. Пыпин, С. Н. Пыпин, Е. Н. Пыпина, П. Н. Пыпина, В. И. Пы-
пина, Г. 3. Елисеев, П. И. Боков, М. А. Антонович и И. Г. Тер-
синский.
— Это еще хорошо для меня, такое событие, как вся эта
история,— говорил Николай Гаврилович,— теперь, во всяком
случае, я имею полное сознание несправедливости и пристрастия
господ, решавших мое дело. Не будь этого, очень вероятно,
что я не выдержал бы, и тогда эти господа были бы в своем
праве.
Прощаясь с Антоновичем, он говорил, что «на каторге
будет писать много и постарается присылать... свои статьи для
помещения в «Современнике»... если их нельзя будет печатать
с его именем, то нужно попробовать подписывать... псевдо¬
нимом или через подставное лицо...»
«Мы проводили Николю без слез,— писала родным в Саратов
Евгения Николаевна Пыпина.— Поплакать нам не случилось
потому, что он сам был довольно весел, потом нужно было слиш¬
ком много сказать друг другу...»
Постоянная забота Пыпиных во многом облегчила пребы¬
вание Николая Гавриловича в крепости. Вот и сейчас они при¬
готовили ему на дорогу все необходимые вещи, выхлопотали
разрешение на покупку экипажа. Приобретенный ими экипаж
стоял у ворот крепости.
Вечером Чернышевский должен был в сопровождении
жандармов отбыть в Сибирь, но отправку почему-то задержали
еще на один день. Утром 20 мая Ольга Сократовна уехала
в Саратов. Последний свой день пребывания в Петербурге
Николай Гаврилович провел с Пыпиными. 16 июня Сергей
Николаевич Пыпин напишет в Саратов родным: «О деле Николи
вам написано все, кажется, сестрами, прибавлять мне нечего,
кроме разве того, что до последней минуты (я видел его именно
до последней минуты, до 10 часов вечера 20 мая) Николя был
совершенно спокоен, что, конечно, должно успокоить до известной
степени и нас. Это не малодушный человек, за которого можно
было бояться: нравственной силы у него достаточно».
Итак, 20 мая 1864 года Николай Гаврилович у одной из
городских застав пересек черту, отделяющую Петербруг от
всей остальной России. Ему будет суждено прожить еще до¬
вольно долгую жизнь — четверть века, но он уже никогда не
вернется в город своей юности и молодости, в город, принесший
ему много радости и много горя, в город своей славы и город
своей гибели... Потом ему удастся свидеться лишь с немногими
из тех, кого он оставлял теперь здесь, да и то это произойдет
вдали от надменной северной столицы.
286
Поскольку в этой главе мы говорили о несправедливости
тех, кто решал в эти годы судьбу Чернышевского, то мы —
справедливости ради — должны сделать некоторые уточнения,
чтобы тоже не оказаться несправедливыми по отношению к тем,
кто помогал Чернышевскому в годы его неволи.
Во-первых, следует сказать, что Александр Николаевич
Пыпин, видный ученый — историк литературы, профессор Пе¬
тербургского университета, сотрудник «Современника», впослед¬
ствии академик, во время заключения Чернышевского в Петро¬
павловской крепости и во время сибирской ссылки взял на себя
всю заботу как о самом Чернышевском, так и о его сыновьях.
Не раз вступал он с ходатайством о смягчении приговора
и даже освобождении Чернышевского. Во время студенческих
волнений в знак протеста против правительственных реп¬
рессий вместе с профессорами Б. Утиным и В. Спасовичем
11 марта 1862 года подал в отставку. После ареста Чернышев¬
ского делал все, чтобы сохранить его рукописи, письма и прочие
документы. Все это не могло не сказаться на его ученой карьере.
Так, в 1871 году А. Пыпина забаллотировали при избрании
в академики. Академиком он стал уже после смерти Николая
Гавриловича — в 1898 году.
Во-вторых, несколько слов и об Иване Григорьевиче Тер-
синском, муже двоюродной сестры Чернышевского Л. Котля-
ревской, с которыми в студенческие годы Николай Гаврилович
проживал совместно. В некоторых биографических работах
говорится о мелочности и крохоборстве Терсинского, эконо¬
мившего даже на свечах, о его обывательских суждениях
и т. д. И. Г. Терсинский, действительно, никогда не разделял
революционных взглядов Чернышевского, однако это не мешало
ему быть честным и даже мужественным человеком. Поначалу
Терсинские жили крайне бедно (о чем не раз отмечал в своем
дневнике Чернышевский), действительно от нужды экономили на
всем. В 1855 году Любовь Терсинская (Котляревская) умерла,
так что с этого времени И. Г. Терсинский перестал быть связан¬
ным с Чернышевским каким-либо родством; однако в мае
1864 года он, занимая уже пост секретаря Синода, подаст
личное прошение на имя князя А. Суворова о разрешении ему
проститься с Чернышевским в Петропавловской крепости. В
дальнейшем он будет принимать участие в судьбе Николая
Гавриловича, через него же пройдет и часть переписки Чер¬
нышевского с родными.
ВЕЛИКИЕ
СОВРЕМЕННИКИ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
И «ЖЕНСКИИ ВОПРОС»
Чернышевский и Толстой жили в эпоху небывалой истори¬
ческой ломки. Акт от 19 февраля 1861 года об отмене в России
крепостного права никого толком не удовлетворил и поставил
перед обществом новые вопросы, породив, с одной стороны, ши¬
рокий простор надеждам, а с другой — жажду деятельности.
На глазах рушился многовековой уклад жизни, а новое пред¬
ставление о новой жизни было настолько бесконтурным, что
давало право каждому дорисовывать этот контур по своему
усмотрению, исходя из собственных надежд или выгод. Стрем¬
ление к освобождению от любой формы принуждения должно
было не только изменить многие стороны жизни, но и радикаль¬
нейшим образом изменить исторический взгляд на эти стороны
жизни. И между вопросами, занимавшими тогдашнее общество,
«женский вопрос» хотя и не стал главным, но в то же время был
узловым, потому как от него расходились или, напротив, к нему
сходились многие важнейшие проблемы времени: социальные,
нравственные, правовые, религиозные, что, естественно, не могло
не найти своего отражения в литературе.
Минувший восемнадцатый век был своего рода исключе¬
нием из долгой череды столетий самодержавного правления.
Это был единственный в истории Российского государства век,
когда на престол взошла женщина. Больше того, это был по
преимуществу век женского правления. Достаточно сказать, что
из ста лет более шестидесяти пришлись на долю женского
правления. И даже первым президентом образованной в 1783 году
Российской академии тоже была женщина — Екатерина Ро¬
мановна Дашкова (одновременно она была и директором Пе¬
тербургской академии наук). Однако ни личный авторитет само¬
державных правительниц, ни личный авторитет главы русской
науки никоим образом не отозвались на общем положении
женщины и почти не поколебали устоявшегося на нее взгляда.
Поэтому и литература восемнадцатого века осталась, в общем-
то, глуха к проблеме, которая в следующем веке определилась
даже особым термином «женский вопрос».
Конечно, «женский вопрос» не есть проблема, порожденная
русскими условиями девятнадцатого века, этот вопрос относит¬
ся к тем вечным вопросам, которые человечество решает всегда
и везде, хотя, разумеется, в разные времена звучание его в об¬
щественной жизни неодинаково. «Вообще теперь замечается
стремление сблизить и сопоставить древность и современность,
так сказать — модернизировать античную историю,— писал один
из исследователей античности В. Бузескул.— Стремление это
ведет иногда к крайностям, к натяжкам... Но совершенно
отвергать существование аналогии в историческом развитии
древнего и нового мира при тех данных, которыми располагает
современная наука, никоим образом нельзя. До известной сте¬
пени оказывается верным давно уже высказанное положение,
что многие из тех жизненных жгучих вопросов, которые —
нерешенные еще и теперь — занимают каждого мыслящего че¬
ловека, волновали уже древний мир; уже он пытался дать им
свое посильное решение.
К числу таких вопросов отчасти может быть отнесен и
вопрос женский».
В то же время нельзя считать, что «женский вопрос» воз¬
бужден был обращением к античной истории или возник¬
шим вниманием к общественной жизни некоторых западно¬
европейских государств. (Отсюда иногда преувеличивается,
например, влияние Жорж Санд на творчество многих русских
писателей девятнадцатого века.) Научный интерес может пи¬
тать любая проблема, в том числе и привнесенная извне; общест¬
венный же интерес всегда тесно связан с проблемами современ¬
ной отечественной действительности. А в различного рода
ссылках на исторические примеры или на иноземные автори¬
теты следует усматривать стремление авторов утвердить себя
и своих читателей в важности и неслучайности поднимаемых
ими вопросов.
Во второй половине девятнадцатого века «женский вопрос»
дебатировался на страницах многих изданий, ему были посвя¬
щены полностью или частично сотни статей — научных, пуб¬
лицистических, литературно-критических и т. д. Изучение этих
статей может дать довольно верное представление о глубине
и характере поднимаемых в связи с этим вопросом проблем,
однако истинное соотношение между этими проблемами и ходом
действительной жизни позволяют увидеть лишь художественные
произведения, в характерах героев которых верно запечатлелся
19
407*
289
дух времени в своем историческом развитии. И к творениям
великих художников прошлого мы обращаемся не только за¬
тем, чтобы получить эстетическое наслаждение, но и затем,
чтобы стать «современниками» предшествующих нам поколений,
обогатить себя их духовным опытом.
«Любит ли она меня, т. е. я говорю не про романтическую
любовь — этого нет, про то, что кажусь ли я ей человеком,
в самом деле стоящим особой привязанности, человеком, с кото¬
рым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных
средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так».
«Скажите, как честный человек, хотите ли вы стать
моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете
сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень со¬
мнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно
будет услыхать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести.
Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю,
это будет ужасно».
Нетрудно догадаться, что это писано разными людьми и
адресовано разным людям, но в обоих случаях речь идет о наме¬
рении жениться. В первом случае приведена выдержка из
дневника Николая Гавриловича Чернышевского, сделавшего
предложение Ольге Сократовне Васильевой.
Во втором случае процитировано письмо Льва Николаевича
Толстого к Софье Андреевне Берс, в котором он сделал ей пред¬
ложение.
Если мы попытаемся из дневниковой записи Чернышевского
выделить главное условие, при исполнении которого только
и возможен брак, брак Николая Гавриловича и Ольги Сократовны,
то таким условием следует считать безграничную жертвен¬
ность одного и безграничное желание принимать жертвы дру¬
гого. И в этом безусловном неравенстве чувств Чернышевский
видит залог будущего счастья для обоих.
Если мы попытаемся из письма Толстого выделить главное
условие, при обоюдном исполнении которого только и возмо¬
жен брак, брак Льва Николаевича и Софьи Андреевны, то
этим условием следует считать равенство чувств. И в этом
равенстве чувств Толстой видит залог их будущего обоюдного
счастья.
В период влюбленности, в период сватовства пишется и гово¬
рится столько всякой чепухи, пусть святой, но все же чепухи,
что потом, даже через немногие годы, авторам писем и дневни-
290
новых записей (устные слова легко забываются) порой бывает
неловко читать свои былые уверения, обещания, клятвы или
угрозы. Впрочем, как знать, может статься, вся эта чепуха и
была-то единственной в жизни нечепухой, хотя в этом и трудно
себе признаться: куда легче с напускно-веселым цинизмом от¬
махнуться от несбывшихся надежд.
Вряд ли здесь уместно настаивать, но все же можно пред¬
положить, что ни Толстой, ни Чернышевский и по прошествии
многих лет не считали чепухой те слова, что написались в пору
их сватовства, и если они даже не понимали, то не могли потом не
чувствовать, что оказались пророками собственных судеб, и
дальнейшая жизнь вроде бы была им дана для того, чтобы
подтвердить верность когда-то сказанным словам. При всем
разногласии условий, которыми Толстой и Чернышевский
оговаривали свой будущий брак, их сближало единство цели —
счастье женщины, пусть это счастье и понималось ими весьма
неодинаково: одному оно виделось в безграничной свободе
женщины, другому — в обоюдной любви и духовном согласии.
Надо заметить, великие люди, в отличие от людей орди¬
нарных, при всей подвижности их взглядов и настоятельности
духовных исканий, оборачивающихся постоянными сомнениями,
остаются поразительно верными самим себе; они, являясь
причиной многих изменений обстоятельств внешнего мира, чутко
реагируют на эти изменения и настойчиво их корректируют,
но вовсе не потому, что способны своей волей направлять
мировое движение, а потому, что изначально несут в себе
нравственную меру будущего.
Они были ровесниками. Пожалуй, их жизненные дороги
никогда бы не пересеклись, не посвяти они себя литературе.
Шли они в литературу разными путями, а пришли в нее почти
одновременно, причем пришли в один и тот же литературный
«пункт». Как известно, Чернышевский начал сотрудничать
в «Современнике» в 1853 году, а годом раньше на страницах
этого журнала появилось первое произведение Толстого —
повесть «Детство».
В ноябре 1855 года, после того как пал Севастополь, Толстой
приезжает в Петербург, и здесь происходит его личное зна¬
комство с Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Островским
и Чернышевским, а в следующем году Чернышевский публикует
статью о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах»
Толстого. «Мы предсказываем,— писал критик «Современ¬
ника»,— что все, доныне данное графом Толстым нашей лите¬
291
ратуре, только залоги того, что совершит он впоследствии;
но как богаты и прекрасны эти залоги!»
Некоторые исследователи считают или склонны считать
эти слова Чернышевского гениальным предвидением. Думается,
тут есть известная доля преувеличения, поскольку при написа¬
нии статьи Чернышевский в какой-то мере руководствовался
и интересами журнала. Так, в письме к Некрасову от 5 ноября
1856 года он сообщал: «В «Критике» — конец моих «Очерков»
и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве», и «Военных рас¬
сказах» Толстого, написанная так, что, конечно, понравится
ему, не слишком нарушая в то же время и истину».
А через два месяца в письме к Тургеневу он заявит: «Вы не
какой-нибудь Островский или Толстой,— Вы наша честь».
Кстати заметить, в то же время и Толстой высказывает
немало нелестных слов в адрес Чернышевского. Вполне вероятно,
и даже наверняка, Толстому стали известны кое-какие неосто¬
рожные высказывания о нем Чернышевского, а для Черны¬
шевского, в свою очередь, не остались секретом нелестные
о нем мнения Толстого. Так или иначе, но симпатий между
двумя великими сверстниками не возникло, хотя, впрочем,
между ними и не возникло откровенной вражды. Что-то их
постоянно притягивало, а что-то постоянно отталкивало. Двум
очень цельным и очень крупным натурам трудно было найти
во всем согласие, но еще труднее было полностью игнорировать
друг друга.
Когда в «Современнике» произошел «раскол», Толстой
примкнул к лагерю П. Анненкова, В. Боткина, А. Дружинина.
Но вот прошло несколько лет, он отвлекся от групповой борьбы,
приступил к изданию журнала «Ясная Поляна» и занялся
педагогической деятельностью. Групповые интересы и заботы
отошли на второй план, стушевались. В феврале 1862 года
Толстой пишет Чернышевскому:
«Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел
первый номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно
прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение
в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика,
не читая, будет говорить: «Да... «Детство» очень мило, но жур¬
нал?..»
А журнал и все дело составляют для меня все.
Ответьте мне в Тулу.
Л. Толстой»
Результатом этого письма явилась статья Чернышевского
во 2-м и 3-м номерах «Современника». И тут дело не в том,
что Чернышевский одобрил педагогические методы Толстого
(хотя отнесся отрицательно к его педагогической теории), а в том,
что он моментально отреагировал на просьбу Толстого, и в том,
что, приступив к новому и серьезному для него делу, Толстой
обратился за оценкой своей деятельности именно к Чернышев¬
скому.
И если мы захотим уяснить, что же притягивало этих людей,
нам следует обратиться к первой статье Чернышевского о Тол¬
стом, в которой есть чрезвычайно важное замечание. «Есть в та¬
ланте г. Толстого,— писал в ней Чернышевский,— еще другая
сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное дос¬
тоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чисто¬
та нравственного чувства...»
Можно отметить мастерство, уменье писателя, согласиться
с его мыслями или опровергнуть их, оценить новые идеи — для
этого критику достаточно быть талантливым. Но вот чтобы как
одну из главнейших особенностей таланта писателя отметить
чистоту его нравственного чувства, для этого, помимо таланта,
нужно еще иметь сходное направление личных нравственных
исканий.
О мыслях договориться нетрудно, если мысли одного созвучны
мыслям другого. То же самое можно сказать и об эстетических
позициях. По этим параметрам в основном и формируются
литературные направления и даже личные привязанности, ибо
рассуждают обычно об этих категориях или по их поводу.
И общность взглядов, безусловно, не может не сближать
людей.
Нравственные же чувства куда более неуловимы, и о них
рассуждают гораздо реже, хотя постоянно руководствуются ими
в жизни, руководствуются в своих поступках. Поступки как та¬
ковые очевидны или могут быть очевидны и для других, однако
этим другим крайне редко известны истинные мотивы совершен¬
ных поступков, в силу чего так нечасто возникают союзы на
почве схожести нравственных чувств, а если они возникают,
то оборачиваются самой бескорыстной и самой прочной связью
между людьми, именуемой дружбой.
Как мы уже говорили, между Толстым и Чернышевским
дружбы не возникло, однако в продолжение всей жизни каждый
как бы чувствовал присутствие в мире другого и не мог не
считаться с этим обстоятельством, и причина тому — схожесть
нравственных исканий.
При упрощении процесса художественного исследования дей¬
ствительности создание характера представляется как по возмож¬
ности более точное перенесение на страницы художественного
произведения живой натуры, и задача художника в данном
293
случае сводится в основном к умению сохранить верность этой
натуре.
Отсюда иногда и возникает стремление каждому герою ху¬
дожественного произведения во что бы то ни стало отыскать
реальный прототип из реальной жизни. Спору нет, поиск про¬
тотипов и сопоставление жизненных ситуаций, что описаны
в художественном произведении, с теми, что имели место быть
в жизни действительной,— занятие в высшей степени увлекатель¬
ное, хотя в большей степени ненужное, нежели это представля¬
ется любителям подобного рода изысканий. К тому же следует
заметить, что довольно часто, задавшись целью установить тож¬
дество между прототипом и героем художественного произведе¬
ния, сторонники «прототипичности» прибегают к различного рода
натяжкам, искажающим действительное положение вещей. По¬
этому, как правило, и отходят на второй план нравственные
и гражданские искания самого автора, в силу чего исчезает
подлинный масштаб его личности.
Роману Чернышевского «Что делать?» в этом отношении тоже
♦ повезло». Сразу же по выходе его в свет начались «узнавания»:
кто из героев с кого списан, какая ситуация перенесена в роман
из действительной жизни и т. д. И потом, вплоть до наших
дней, эти изыскания уже не прекращались. Создалась даже целая
литература о прототипах романа. Известную роль сыграла здесь
и Ольга Сократовна, в свое время излишне категорично заявив¬
шая: «Знакомые сослужили ему службу, он с них взял неко¬
торые черты, которыми наделил действующих лиц в романе
«Что делать?». Турчанинов, Боков, один офицер и я послужили
Николаю Гавриловичу материалом для изображения лиц в рома¬
не. Черты моего характера рассеяны на нескольких лиц в романе
«Что делать?». Верочка — я, Лопухов взят с Бокова, офицер —
с Кирсанова». (Естественно, здесь обмолвка: не офицер взят
с Кирсанова, а Кирсанов с офицера.)
Правда, полного единодушия в этом вопросе не было. Одни,
опираясь на высказывание Ольги Сократовны, утверждали, что
прототипом Веры Павловны является именно Ольга Сократовна,
другие доказывали, что прототипом здесь послужила Мария
Александровна Обручева (сначала жена доктора Петра Ивановича
Бокова, а затем жена выдающегося физиолога Ивана Михай¬
ловича Сеченова). Под Рахметовым подразумевались: и саратов¬
ский помещик Павел Бахметев, и публицист, участник револю¬
ционного движения шестидесятых годов Владимир Обручев, и да¬
же деятель революционного движения того же времени Петр
Баллод, с которым Чернышевский познакомился уже после напи¬
сания романа, на каторге.
294
Немало разговоров было и о толстовских прототипах. Когда,
например, в 1925 году появились в печати воспоминания Татья¬
ны Андреевны Кузминской, то в одном из журналов говорилось:
«Наташа Ростова сошла со страниц «Войны и мира» и написала
воспоминания». К тому времени уже устоялось мнение, будто
прототипом Наташи Ростовой послужила Татьяна Берс (в заму¬
жестве Кузминская). В «Живом трупе» иногда усматривали пе¬
реложение истории супругов Екатерины и Николая Гимер. Трудно
назвать толстовского героя, которому бы не сыскался прототип.
Сергей Николаевич, брат писателя, говорил: «Лёвочка может
себе позволить роскошь брать негодных управляющих. Например,
Тимофей Фоканыч принес ему убыток в 1000 руб., а Лёвочка
опишет его (имеется в виду роман «Анна Каренина».— А. Л.)
и получит за это описание 2000 руб...»
Сам Лев Николаевич категорически возражал против того,
чтобы в героях художественных произведений усматривали порт¬
реты достоверных лиц. «Я бы очень сожалел,— писал он,—
ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло
бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описывать то или другое
действительное лицо... Нужно наблюдать много однородных лю¬
дей, чтобы создать определенный тип».
Впрочем, о творчестве Толстого написано немало серьезных
работ, поэтому все разговоры о прототипах его героев носят,
скорее, развлекательный характер. А вот что касается романа
Чернышевского «Что делать?», то даже в школьных учебниках
указывались прототипы, и на этом основании в известной мере
строился анализ самого произведения. Забывалось, что писатель,
равно как и живописец, постоянно пользуется натурой — будь
то человек, пейзаж или неодушевленный предмет, что истинный
писатель никогда не списывает натуру, а только отталкивается
от нее, наполняя ее своим духовным содержанием. А главным
прототипом почти любого художественного произведения являет¬
ся в первую очередь сам автор, со всей его системой мышления,
нравственных побуждений и сугубо индивидуальных восприятий.
Многие авторы работ о Чернышевском пытаются во что бы
то ни стало доказать, будто Чернышевский принимал активное
участие в практической революционной деятельности и только
особый конспиративный талант помог писателю не оставить ни¬
каких против себя улик. Доказывают это так, словно та роль,
что сыграл он как идейный вождь, недостаточна для признания
его выдающихся заслуг.
А вообще-то, разве было целесообразно вовлекать такого че¬
295
ловека, как Чернышевский, в революционную организацию в ка¬
честве рядового ее члена?1 А если не рядового члена, если в ка¬
честве руководителя, одного из руководителей?
На этот вопрос Чернышевский дает исчерпывающий ответ
своим романом. Безусловно, в романе нашли свое яркое отражение
и социально-экономические, и политические, и семейно-бытовые
вопросы. Однако главное в произведении — содержание нравст¬
венных исканий самого автора, решение собственной судьбы
в тесной связи с актуальными задачами своего времени, и вопрос
«что делать?» обращен в романе не только к читателю, но
и к самому себе, даже в первую очередь к самому себе.
Один из героев романа Льва Толстого «Анна Каренина»
молодой генерал князь Серпуховской, соблазняя Вронского об¬
щественной деятельностью, говорил тому: «И вот тебе мое мне¬
ние. Женщины — это главный камень преткновения в деятель¬
ности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь.
Для этого есть только одно средство с удобством без помехи
любить — это женитьба».
Так по Толстому. А по Чернышевскому — общественный
деятель, руководитель обязан отказаться от всякой личной жизни,
в том числе и от семьи, от всех личных соображений и притя¬
заний, ибо тут не может и не должно быть никакого совмещения
деятельности или интересов. Вопрос стоит жестко: или — или.
Конечно, Чернышевского не мог не восхитить поступок его
земляка, помещика Бахметева, отдавшего 20 тыс. франков Гер¬
цену на дела пропаганды и уехавшего на Маркизские острова,
чтобы там «завести колонию на совершенно новых социальных
основаниях». В честь его он и назвал одного из главных героев
романа сходной фамилией: Бахметев — Рахметов. Но назвать
героя в честь «кого-то» — это еще вовсе не означает поставить
этого «кого-то» в положение прототипа данного героя. И пожа¬
луй, наиболее достоверным прототипом Рахметова все же следует
считать самого Чернышевского.
Рахметов — это идеал самого Чернышевского. Таким он хотел
бы быть, таким он мог бы стать, если бы... Если бы его жизнь
сложилась иначе. В этом образе Чернышевский выявляет воз¬
можный, но не свершенный итог своих нравственных
исканий. И думать, будто Чернышевский мог удовлетвориться
1 На этот счет интересное свидетельство привел активный участник
революционного движения того времени П. Баллод. «Я знаю случаи,—
писал он,— когда людей, которых почему-либо нужно было особенно при¬
берегать, удерживали от деятельности, где бы они могли быть заметны».
296
ролью рядового участника революционной организации — значит
перечеркивать этот могучий характер в угоду узкопонимаемой
революционности. И тут дело не в честолюбии или каком-то
вождизме Чернышевского, а в его максималистских требова¬
ниях к себе. Он видел вокруг немало горячих голов, желавших
возглавлять революционное движение, однако он хорошо пони¬
мал, что тут одного желания, одних претензий недостаточно.
А мог ли Чернышевский прикидывать и прикидывал ли он
на себя мерку вождя революционного движения? Вряд ли. Во
всяком случае,— в настоящем.
В своей личной ситуации он, обремененный посторонними
для революции заботами и интересами (работа в журнале, семья),
искал выход, ибо верил во всемогущий разум человека и во
всепреодолевающую волю человека. И в этом смысле для Чер¬
нышевского принципиально важен образ Лопухова, в чьей судь¬
бе во многих подробностях отразилась его собственная судьба,
а судьба Веры Павловны в известной степени внешне напоминает
судьбу Ольги Сократовны, что подтверждают многие дневниковые
записи, сделанные Чернышевским накануне свадьбы.
Вот, например, какой диалог состоялся между Николаем
Гавриловичем и Ольгой Сократовной 19 февраля 1853 года:
— Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние
отношения тяжелы,— высказал свою догадку Николай Гаври¬
лович.
— Да, это правда,— призналась Ольга Сократовна.— Пока
я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но
теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь
стала совсем тяжела. И если я весела, то это больше принуж¬
денность.
— Скажите, у вас есть женихи?
— Есть, два.
— Но они дурны? Линдгрен?— робко поинтересовался Ни¬
колай Гаврилович.
— Нет,— коротко ответила Ольга Сократовна.
— Яковлев?— Николаю Гавриловичу вспомнился другой мо¬
лодой человек, которого он несколько раз видел в обществе
Ольги Сократовны.— Он не дурной человек?..
— Поэтому-то я не могу выйти за него,— загадочно сказала
Ольга Сократовна и перевела разговор.— Другой мой жених,—
продолжала она,— старинный знакомец папеньки. Когда мы ез¬
дили в Киев, мы заезжали в Харьков... Там меня сватал один
помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик...
И Вера Павловна говорит Дмитрию Лопухову: «У меня есть
богатый жених. Он мне не нравится...»
297
Время действия — одно и то же — начало пятидесятых годов.
«...В 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Кон¬
стантинович Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с же¬
ною Марьею Алексеевной, худощавою, крепкою, высокого роста
дамою, с дочерью, взрослою девицею,— она-то и есть Вера Пав¬
ловна,— и с 9-летним сыном Федею». («Что делать?»)
В это время и Ольга Сократовна жила с отцом, матерью,
братьями и сестрами. И в том и в другом случаях матери
пытались повыгоднее сбыть с рук своих старших дочерей.
Как мы знаем, Вера Павловна, выйдя замуж, влюбилась
потом в друга своего мужа. Ольга Сократовна тоже, выйдя
замуж, влюбилась в человека (офицера Ивана Савицкого), близ¬
кого кругу Чернышевского, в чем и призналась мужу. Правда,
развязки романов получились неодинаковы.
Но дело не только в этом. Николай Гаврилович еще до
свадьбы неоднократно говорил Ольге Сократовне, что она в любой
момент вправе отказаться от своего слова, если у нее появится
более удачная, с ее точки зрения, партия. В этот период жизни
в дневнике появляется, например, такая запись: «Женюсь ли я на
ней? вероятно, т. е. я говорю не о том, сдержу ли я свои
обязательства, а о том, что, вероятно, она не найдет до тех пор
человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она
предпочла мне...» А накануне самой свадьбы он размышляет так:
«А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду
покинут ею, но я буду рад за нее, если предмет этой страсти
будет человек достойный...»
Вот эти размышления молодого Николая Гавриловича и лягут
затем в основу переживаний Лопухова, который, инсценировав
самоубийство, оставит Вере Павловне такое письмо: «Я смущал
ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас
обоих (то есть предметом страсти Веры Павловны оказался достой¬
ный человек.— А. Л.), что очень счастлив (Чернышевский писал:
«...я буду рад за нее...» — А. Л.) своею решимостью. Про¬
щайте».
Так при чем тут Боков, Обручева и Сеченов, если задолго до
знакомства с этими людьми автор будущего романа не только
продумал, но и глубоко прочувствовал, пережил ту ситуацию, ко¬
торая впоследствии воспроизведена была им в романе. Не бо-
ковскими, а собственными нравственными исканиями наделил он
Лопухова и дал ему силу оказаться на высоте нравственных
требований своего времени, во всяком случае, тех требований,
которые он предъявлял к себе сам. И во всей этой сложной
коллизии носителем новой морали в романе в первую очередь
следует считать именно Лопухова.
Если даже пренебречь хронологией (выстраивая в хроно¬
логический ряд историю отношений П. И. Бокова, М. А. Обру¬
чевой и И. М. Сеченова, нетрудно установить, что написание
романа Чернышевским предшествовало развязке этих отношений,
а не следовало за ними)1, то и в этом случае «прототипичность»
П. И. Бокова выглядит, мягко говоря, неосновательной. Так,
очень близкий к Марье Александровне Обручевой Л. Ф. Пан¬
телеев писал в свое время: «Семейная жизнь М. А. (урожденной
Обручевой) и П. И. (то есть Бокова.— А. Л.) потерпела крушение
от очень обыденной причины — увлечений П. И. своими прекрас¬
ными пациентками. Так говорила мне сама М. А. Ее близкие
отношения к И. Мих. Сеченову, который помог ей своими сред¬
ствами на поездку за границу для довершения медицинского
образования, относятся к значительно более позднему времени,
чем фабула романа «Что делать?».
Общеизвестно, Толстой, как и многие другие писатели-дво¬
ряне, чувствовал свою сословную вину перед мужиком и поэтому
в какой-то мере был предрасположен идеализировать мужика.
У Чернышевского, естественно, такой вины перед мужиком
не было, но он нашел свою историческую вину — вину перед
женщиной. Еще в период своего сватовства он запишет: «По
моим понятиям, женщина занимает недостойное место в семей¬
стве. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть
равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на
одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть
ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин.
Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить
свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для
будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который
создан для того, чтобы подчиняться».
Думается, слово «подчиняться» здесь не совсем точно, умест¬
нее в данном случае было бы употребить слово «жертвовать».
И в основу любви мужчины к женщине Чернышевский полагал
именно чувство жертвенности мужчины. Таким был у него в ро¬
мане Лопухов, таким в жизни был он сам, и таким никогда
в жизни не был Петр Иванович Боков. Во всяком случае,
интересы Ольги Сократовны Чернышевский ставил выше всего на
свете. И мы не случайно вели разговор об участии Чернышевского
в практической революционной деятельности. И дело тут не в ха¬
рактере Чернышевского и не в его склонностях, он никого не
стал бы спрашивать, привлекать его к практической деятельности
1 Об этом см., в частности, работу: Рей сер С. А. Некоторые проблемы
изучения романа «Что делать?».
299
или оставлять в роли идейного вождя, он сам бы возглавил
эту деятельность. И не любовь к женщине остановила его на
этом пути, а долг перед женщиной.
Читая многочисленные письма Николая Гавриловича к Ольге
Сократовне, можно увериться в том, что он до последнего своего
часа не изменил своему чувству. И это действительно так. А ка¬
ково же было содержание его чувства? Вот что он пишет, между
прочим, Александру Пыпину в феврале 1878 года, то есть на
пятидесятом году своей жизни: «Влюблен в Ольгу Сократовну
я был — несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был
разговор в гостях, длился с обеда до конца вечера; как обык¬
новенно в обществе, с длинными перерывами... Разговор мой
с нею был урывками, по нескольку минут. И, в продолжение
нескольких часов, я был влюбленным. Но задолго до конца вече¬
ра это исчезло. Это нимало не похоже на мое чувство к Ольге
Сократовне.— Всего больше в моем чувстве к ней силен элемент
уважения».
Это единственное в своем роде признание Чернышевского дает
нам возможность определить главное направление его нравствен¬
ных исканий, раскрыть нравственный смысл многих его поступков
и общественно-литературной деятельности, наконец, понять его
судьбу.
«Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы
ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует ее ко
мне! Итак, я не заменю ей того, что раньше испытала она!»
(«Дневник» Н. Г. Чернышевского за 1853 год.)
Преодолимо и чувство ревности к прошлому, потому что
в основе собственного чувства лежит жертвенность.
«Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только:
«Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне,
пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько». (Там же.)
Преодолимо и чувство ревности в будущем. Никакого препят¬
ствия женщине... Это уже своего рода непротивленчество.
Жертвенность. Жертвенность возведена в абсолютный закон,
и причина тому — историческая вина мужчины перед жрншиной
Идеал женщины по Чернышевскому — счастливая жен¬
щина.
И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Чернышевский,
если в самой широкой эмансипации женщины он видел залог
ее будущего неслучайного счастья?
И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Толстой,
если в эмансипации женщины он видел грядущие беды и для
мужчины и для самой женщины.
300
«Что бы было с миром,— вопрошал он,— что бы было с на¬
ми, мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства
и они не проявляли бы его? Без женщин — врачей, телеграфисток,
адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей,
помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то
лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих
и поддерживающих в нем все это лучшее,— без таких женщин
плохо было бы жить на белом свете».
Как известно, Толстой отнесся недоброжелательно к роману
Чернышевского «Что делать?». Вскоре же по выходе романа
он пишет пьесу «Зараженное семейство», которая, по словам
самого Толстого, была «написана в насмешку эмансипации жен¬
щин и так называемых нигилистов». Попытка Толстого поставить
пьесу на сцене успехом не увенчалась, вскоре он и сам к ней
охладел, и пьеса впервые была опубликована только после смерти
писателя. Однако свой спор с Чернышевским Толстой продолжал.
Безусловно, этот спор не следует представлять как личную поле¬
мику двух писателей, это был спор направлений, в котором
Толстой и Чернышевский спорили не только мировоззрениями,
но и своими судьбами.
Когда Толстой писал комедии «Нигилист» и «Зараженное
семейство», он жил в атмосфере любви и семейной гармонии,
в атмосфере добра и обожания. И в этом кругу человек, начавший
вдруг проповедовать модные тогда идеи эмансипации женщины,
показался бы, по меньшей мере, человеком неуместным, потому
как все его идеи воспринимались бы здесь как покушение на
настоящее и будущее счастье женщины. И напротив, всякий
выпад против нигилистов, эмансипации и т. д. находил в этом
кругу горячую поддержку. И вовсе не потому, что тут сплоти¬
лись консерваторы и ретрограды, а потому, что здесь жили
счастливые люди, а как говорится, от добра добра не ищут.
Вот, к примеру, как и в какой обстановке написалась комедия
«Нигилист»:
«Чего только не придумывали мы с Соней, чтобы повесе¬
лить наших гостей!— вспоминала Татьяна Андреевна Кузмин-
ская.
Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим за¬
теям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он
сказал:
— Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?
— Да где мы ее возьмем, а выписывать некогда,— говорила
Соня.
— Напиши ты нам,— сказала я.
Несколько голосов подхватили:
301
— Да, да, Лев Николаевич, дядя Левочка,— кричали все.—
Напишите нам!
— Хорошо, попробую,— сказал он.
Через три дня он принес нам написанную комедию «Нигилист»,
не помню, кажется, в одном действии. Мы разобрали роли и стали
разучивать.
В те времена «нигилизм» только что стал проявлять себя.
Повесть Тургенева «Отцы и дети» цаделала много шума. Ниги¬
лизм, как плохая трава, размножался и пускал корни».
Как видим, пьесу ставили в счастливом упоении; впрочем,
в этом доме в тот период многое делалось и многое говорилось
в счастливом упоении.
«Переписанные роли были брошены,— вспоминает дальше
Кузминская,— как ненужная бумага. Так мало придавалось зна¬
чения в те годы тому, что писал Лев Николаевич. Да и жилось
тогда не будущим, а настоящим—молодым и эгоистичным».
Да и сам Лев Николаевич жил тогда настоящим — счастливым
настоящим, дававшим ему силу, если и небезмятежно, то уверенно
смотреть в будущее. В такой атмосфере и создавалась эпопея
«Война и мир».
Если в «Нигилисте» и «Зараженном семействе» делались
открытые выпады против «новых людей» и их взглядов на
женщину, то в «Войне и мире» Толстой, споря с «новыми людьми»
по всем главнейшим проблемам времени, утверждал уже свою
собственную концепцию жизни и свои нравственные идеалы,
в основе которых покоился итог собственных нравственных иска¬
ний, пусть пока только предварительный итог. Толстой спорил
даже выбором своих героев. «Я буду писать историю людей,—
говорил он,— более свободных, чем государственные люди, исто¬
рию людей, живущих в самых выгодных условиях жизни для
борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших
все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей
таких же, как мы, могущих выбирать между рабством и свободой,
между образованием и невежеством, между славой и неизвест¬
ностью, между властью и ничтожеством, между любовью и не¬
навистью, людей, свободных от бедности, от невежества и неза¬
висимых».
То есть Толстой как бы говорил: вот перед вами люди, не
обремененные материальными заботами, люди, пользующиеся все¬
ми достижениями культуры и образования, условия их жизни
таковы, что вряд ли их нужно менять к лучшему, однако
сами обстоятельства жизни, даже самые благоприятные, не дела¬
ют еще человека счастливым и не обеспечивают гармониче¬
ских отношений между людьми; и как только человек пере¬
стает думать об изменении самих обстоятельств жизни, он не¬
вольно начинает думать о смысле самой жизни, и эти думы
приносят ему и более острое горе и более острую радость, нежели
те, что ему приходится испытывать, когда он живет в еже¬
дневных заботах об улучшении своей материальной жизни. По¬
этому если «новые люди» Чернышевского беззаветно служат
определенной идее и пытаются согласно этой идее изменить
весь миропорядок, то герои Толстого ищут в этом миропо¬
рядке те его основания, которые не только откроют им истинный
смысл их бытия, но и наполнят это бытие высоким нравственным
содержанием. Герои Чернышевского сильны своей убежден¬
ностью, герои Толстого сильны своими нравственными исканиями,
которым они подчиняют свою практическую жизнь. И тут спор не
столько о самих идеалах, сколь о путях, которые должны при¬
вести людей к гармонии, к счастью. И между прочим, идеалом
Чернышевского вовсе не была Вера Павловна, хотя на ее стороне
видна авторская симпатия. Так, в одном из вилюйских писем он
рассказал Ольге Сократовне эпизод, относящийся к дням его
далекой юности, однако не забытый им и через многие годы.
«Был я студентом,— вспоминал пятидесятилетний Николай
Гаврилович.— Ни с одною девушкою или молодою женщиною
не говорил ни слова, это разумеется. И приключение кончилось
тем, что я не сказал ни слова? — Разумеется. Но слушай. Это
удивительно:
Была выставка «Промышленности и земледелия» в Манеже
между Сенатом и Конно-Гвардейскими казармами. Пошел и я.
Ходил и глядел на выставку. Глядел и на людей. Все молодые
девушки и женщины, не довольно красивые,— это разумеется.
Но идет какое-то аристократическое семейство. Старших мужчин
тут нет. Лишь: мать, сыновья, дочери. Старшей дочке было лет
семнадцать. Понравилась мне эта девушка, понравилась. В самом
деле, дивная красавица была она. Тип лица — наиболее лю¬
бимый хорошими живописцами. Волоса ее были светло-кашта¬
новые. Сама вовсе беленькая. Глаза голубые. Дивная красавица
была она. И кроткое, скромное существо, доброе: то, что назы¬
вают «ангел». Я пошел шагах в трех,— сбоку и любовался...»
И главное тут, как мы видим, даже не то, что девушка кра¬
сива, а то, что она счастлива. Юного Чернышевского прямо-таки
потрясли счастье этой красивой и красота этой счастливой
девушки.
Вполне возможно, девушка на самом деле была отменно
хороша, хотя, скорее всего, ее такой сделало неискушенное юно¬
шеское воображение, когда потребность в возвышенной, чистой
любви способна возвысить до идеального даже намек на это
идеальное. Но суть не в том, была ли эта девушка такой, какой
она показалась юноше Чернышевскому, и даже не в том, что
в какой-то миг его жизнь озарило «чудное мгновенье», а в том,
какие мысли и чувства пробудила в нем эта встреча. «Но боль¬
ше,— вспоминает дальше Чернышевский,— мне было грустно:
будет ли она счастлива и в замужестве, как счастлива в своем —
очевидно, прекрасном семействе, лелеемая умною матерью?
Мужья очень многие — хорошие люди. Но муж, который был бы
для молоденькой дамы не хуже умной матери,— это бывает ли
на свете? — Ох, моя милая: недолюбливал я мужей уж и тогда,—
видишь ты из этого.
А я прав, моя милая. Никакой девушке, любимой в своем
семействе, не следовало бы выходить замуж. Что, разве не
правда? — Тебе не было хорошо в твоем семействе. То и нельзя,
собственно, строго порицать тебя за то, что ты вышла замуж».
Нет, не Вера Павловна и даже не сама Ольга Сократовна
были женским идеалом Чернышевского, его идеалом, нужно
думать, скорее всего, и была та девушка, которую он встретил
в своей юности на выставке в Манеже и которую из его памяти
не вытеснили даже тридцать лет суровой жизни, и этот идеал
был, если не тождествен, то весьма близок идеалу Толстого.
Конечно, мы не можем сказать, что встреченная Чернышевским
на выставке девушка — это Наташа Ростова, однако она так
обрисована, что мы вправе сказать, что Наташа Ростова и эта
девушка — женские типы одного и того же ряда, то есть сходного
духовного уровня и сходной счастливой судьбы. А идеалом для
Чернышевского всегда была, как мы уже говорили, счастливая
женщина. И если бы Чернышевский поверил, что счастье женщи¬
ны заключено в семейной жизни, то он бы сам восстал против
того, за что неистово ратовал не только словом, но и всей свой
судьбой.
Нет, я вовсе не собираюсь искусственно сближать Толстого
и Чернышевского, находить между ними общее там, где ему
не было и не могло быть места, но в то же время при всем
различии их пафоса они стремились если и не к одной, то к очень
сходной цели, сходен был и их идеал женщины. И Между
прочим, не случайно, что как в жизни Толстого, так и в жизни
Чернышевского настойчиво присутствовал мотив «ухода со сце¬
ны», обусловленный не какими-то особыми тяготами жизни,
а поисками для себя иной жизни, несовместимой с постоянным
пребыванием в этой новой жизни любимой или хотя бы глубоко
чтимой женщины.
Мы уже говорили, что вопрос «что делать?» был обращен
Чернышевским прежде всего к самому себе. Вопрос этот был
304
поставлен им в Петропавловской крепости. И ответ был найден:
«уйти со сцены», то есть уйти из жизни близких людей и в первую
очередь из жизни Ольги Сократовны. «Уйти со сцены» —
это в романе не сюжетный ход, а целая нравственная программа,
которая была итогом долгих нравственных поисков самого автора
и которую теперь предстояло претворить в жизнь.
Как известно, спустя два года после того, как Чернышевского
сослали в Сибирь, Ольга Сократовна добилась свидания с мужем.
В конце августа 1866 года она виделась в Кадае с Николаем
Гавриловичем, который через одиннадцать лет расскажет в письме
Александру Пыпину об этом их свидании следующее: «Несколько
лет тому назад при свидании за Байкалом я упрашивал Ольгу
Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых
было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном,
но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете
человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать
кому-нибудь из них... Не мог я убедить ее.— Дал пройти не¬
скольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год1.
Она не могла выдержать этого.— Как быть? Я нашел себя
в необходимости опять начать переписку с нею...
Несколько лет я не решался возобновлять этой борьбы
с нею,— продолжал свою исповедь Чернышевский.— Не потому,
разумеется, что мне это тяжело; для меня это обязанность
совести, которую исполнять для меня очень легко и приятно.
Но для нее вышло это тяжело. Я был очень надолго в боязни
возобновить».
К 1875 году боязнь эта понемногу улеглась, и теперь Николай
Гаврилович пытается разыграть ссору, пишет такие письма род¬
ным, что те, естественно, должны были обидеться на него и пре¬
кратить с ним всякие сношения. И по всей видимости, Черны¬
шевскому удалось бы осуществить свой план, не окажись Алек¬
сандр Пыпин столь проницательным и столь благородным
человеком. Он «разоблачает» своего двоюродного брата, и тот
признается, что действительно написал грубые и несправедливые
письма в расчете вызвать ссору, и рассказывает задуманный
им «сюжет», согласно которому в конце концов он «ушел бы
со сцены». «А в том,— писал Николай Гаврилович,— и было
бы для меня самое важное облегчение совести. Совесть у меня есть.
Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне».
1 На самом деле годичного перерыва в переписке не было, хотя действи¬
тельно после отъезда Ольги Сократовны Николай Гаврилович писал ей крайне
редко, и письма были короткими.
20
4O7S
305
Не менее настойчиво этот мотив («уйти со сцены») звучит
и в судьбе Толстого. Правда, если Чернышевский стремился
«уйти со сцены», чтобы полностью посвятить себя обществен¬
ной борьбе, Толстой, напротив, постоянно стремился ограничить
свое участие в общественной жизни.
Впервые Толстому пришлось «уйти со сцены», когда сдан был
Севастополь. Правда, из Севастополя он ушел не по своей воле,
а вот в отставку вышел по своей. Частную литературную
деятельность он предпочел государственной службе, то есть он
предпочел независимость.
Второй раз Толстой «ушел со сцены» в расцвете сил, в период
литературного признания и обострения литературно-обществен¬
ной борьбы. Этой борьбе он предпочел яснополянскую тишину и,
казалось бы, полную независимость. Пдагогическая деятель¬
ность, поездки за границу, женитьба, счастливая семейная жизнь,
плодотворная литературная работа... «Как ты мне лучше, чище,
честнее, дороже, милее всех на свете...», «А работать без тебя,
без того, что ты тут, я, кажется, не могу...» — признается он
Софье Андреевне, и в этих его признаниях слышится уверен¬
ность в обоюдности их чувства, в незыблемости их семейного
благополучия, не омрачаемого никакими посторонними чувства¬
ми. Мимолетные сомнения не находят подтверждения ни в реа¬
лиях действительной жизни, ни в беспокоящем душу самоана¬
лизе; они глохнут под напором каждодневной радости жизни,
даже дни, проведенные в разлуке,, приносят свою радость, «по¬
тому что в разлуке есть идеал свой, с которым ничто не может
сравниться».
Без Ясной Поляны, без Софьи Андреевны не было бы Толстого.
Свои идеалы он черпал из окружающей его жизни, не замут¬
ненной новыми веяниями и сохранившей еще многие признаки
былой патриархальности, опоэтизированной им ввиду надвига¬
ющейся капитализации всех условий жизни и человеческих
отношений. «Все будет хорошо, и нет для нас несчастья,—
пишет он в ту пору, повторяя в который раз свой мотив равенства
чувств,— коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю...»
Толстой всю жизнь стерег свое чувство к Софье Андреевне
и ее чувство к себе, постоянно опасаясь, как бы не нарушилось
то равенство чувств, о котором он писал в своем первом письме
к Софье Андреевне. Даже намереваясь покинуть свой родной
дом, он не перестает прислушиваться к себе, к Софье Андреевне —
не нарушено ли это равновесие. Безусловно, причин, останавли¬
вающих ТЬлстого совершить решительный шаг и привести в пол¬
306
ное согласие свою жизнь со своими верованиями, было немало,
однако одной из главных все же следует считать его боязнь
самолично, односторонне разрушить еще возможное и в будущем
равенство чувстй.
Пройдут долгие годы совместной жизни, разрушится цельность
чувства, в душе найдут постоянный приют и чувство ревности,
и чувство одиночества. Наступит 1897 год. 8 июля Толстой,
мучимый глубоким духовным кризисом, напишет прощальное
письмо...
«Дорогая Соня! Уже давно меня мучает несоответствие моей
жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь,
ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог... про¬
должать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая
вас, то сам попадая под те соблазны, к которым я привык
и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь
сделать то, что я давно хотел сделать,— уйти...»
А всего лишь за два года до этого Лев Николаевич напишет
Софье Андреевне: «Ты спрашиваешь: люблю ли я тебя? Мои
чувства к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут
измениться... Связывает и прошедшее, и дети, и сознание своих
вин, и жалость, и влечение непреодолимое. Одним словом, завя¬
зано, зашнуровано плотно. И я рад*. А всего лишь за два месяца
до своего прощального письма Лев Николаевич напишет (13 мая
1897 года) из Ясной Поляны в Москву Софье Андреевне такие
слова: «Как ты доехала и как теперь живешь, милый друг? Оста¬
вила ты своим приездом (Софья Андреевна приезжала на два
дня из Москвы в Ясную Поляну.— А. Л.) такое сильное, бодрое,
хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому
что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появле¬
ние — одно из самых сильных, испытанных мною, радостных
впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!»
Однако прощальное письмо не было строгим рубежом, разор¬
вавшим отношение Льва Николаевича к Софье Андреевне на
две несходные между собой части. Так, через десять месяцев
после этого письма Толстой напишет Софье Андреевне: «Вчера
писал тебе... но сейчас пишу еще словечко, чтобы сказать, что
я работаю, здоров и тебя люблю», хотя за два года до прощального
письма он скажет: «Мы живем вместе-врозь». Между прочим,
даже в самом прощальном письме у Толстого найдутся слова
в защиту Софьи Андреевны. «Я знаю,— напишет он,— что ты
не м о г л а, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать,
как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь
и приносить жертвы ради того, чего не осознаешь. И потому я не
осуждаю тебя, а напротив, с благодарностью вспоминаю длинные
307
35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого
времени. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много
материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя
за это».
Начиная с восьмидесятых годов между Львом Николаевичем
и Софьей Андреевной возникает то идейное и нравственное
расхождение, которое в конце концов обернется кризисом их
отношений, преодолеть который они так и не сумеют. «Обо мне
и о том, что составляет мою жизнь,— не без обиды констати¬
рует Лев Николаевич в период начала их расхождений,— ты
пишешь как про слабость, от которой ты надеешься, что я по¬
правлюсь посредством кумыса». В 1884 году Толстой пытается
несколько изменить порядок в Ясной Поляне, о чем сообщает
Софье Андреевне: «Я отпустил Андриана, и сам убрался и на¬
пилил дров, что мне доставило большое удовлетворение». В ответ
он получает упрек: «Я вижу, что ты остался в Ясной Поляне
не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего
в жизни, а для какой-то игры в Робинзоны».
Но это было только началом несогласий, расхождений, раз¬
молвок, свои отчетливые черты кризис обнаружил только к ис¬
ходу века, когда Толстой и написал свое прощальное письмо.
В тот же год он приступил к работе над пьесой «Живой
труп». Вспомнится тут Толстому и его давний, теперь уже умер¬
ший оппонент — Николай Гаврилович Чернышевский. По сути
дела, Протасов у Толстого сделает то, что в свое время сделал
Лопухов у Чернышевского, более того, тут есть даже прямое
обращение к названию романа «Что делать?».
«Маша (вырывает письмо). Писал, что убил себя? Не писал
про пистолет? Писал, что убил?
Федя. Да, что меня не будет.
Маша. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?».
Федя. Читал, кажется.
Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо.
Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился.
И ты вот не умеешь плавать?
Федя. Нет.
Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.
Федя. Да как же?
Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.
Федя. Да ведь это обман.
Маша. И прекрасно. Пошел купаться. Платье осталось на
берегу. В кармане бумажник и это письмо.
Федя. Ну, а потом?
Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу».
308
Как известно, «во славу» Федору Протасову пожить не уда¬
лось, и в конце концов мнимое самоубийство обернулось само¬
убийством натуральным. Толстой и здесь спорит с Чернышевским,
хотя и не по главному вопросу. В главном теперь они сошлись.
Чернышевский обличал существующие условия жизни и призывал
к изменению заведенного миропорядка. Толстой хотя ни к чему
и не призывал (в данном случае), но обличал более сурово,
нежели когда-то это делал Чернышевский. А возражает Толстой
по такому поводу: нет, не так-то просто человеку «уйти со
сцены», не так-то просто освободить от себя женщину, если да¬
же на то и есть желание. В пьесе закон так опутывает человека,
что любой шаг, даже благородный, пресекается законом. Закон как
бы действует одновременно во вред всем. И здесь мотив «ухода со
сцены», вытесняя мотив «равенства чувств», приобретает глубоко
личный характер.
В пору своей молодости Толстой мужественно сражался в осаж¬
денном Севастополе. С не меньшим мужеством он защищал
свою Ясную Поляну со всем ее укладом, однако в том и в другом
случаях слишком неравны были силы, чтобы оказаться в роли
победителя. Сам Толстой ни в чем не уступил претензиям
новой жизни, но в уклад «обороняемой» им теперь крепости
постоянно проникали (через подросших детей, через жену) тре¬
бования этой новой жизни, так противоречащие верованиям са¬
мого Толстого.
Толстой пережил глубокий духовный кризис, перевернувший
как всю его личную жизнь, так и его представление о смысле
самой жизни. Этот кризис в конце концов заставил его «уйти со
сцены» той жизни, которая многие годы вдохновляла его на
борьбу и творчество. И все-таки даже в преддверии своего ухода
из дому Толстой признается в письме к Софье Андреевне: «Мое
отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил
тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаж¬
дения, любил и люблю тебя... Дело в том, что я, несмотря
на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить
тебя».
На протяжении почти пятидесяти лет Толстой хранил свое
чувство к Софье Андреевне, оно дало ему в жизни и самую
большую радость и причинило самую большую боль. И этими
радостью и болью он писал «Войну и мир» и «Крейцерову
сонату», «Анну Каренину» и «Живой труп» и все то, что вышло
у него из-под пера с тех пор, как он сделал предложение восем¬
надцатилетней Соне Берс, потребовав только одного — равен¬
ства чувств. И когда через три года после смерти Льва Нико¬
лаевича Софья Андреевна издаст письма своего мужа за сорок
309
восемь лет их супружеской жизни, то она выразит надежду, что
«люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть,
непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое
назначение — быть женой гения и великого человека».
Еще в 1856 году Чернышевский на самой заре творческой
деятельности Толстого отметил особое достоинство его произве¬
дений — чистоту нравственного чувства. Пройдет больше полуве¬
ка, и Толстой, прочитав за несколько месяцев до своей смерти
статью Н. С. Русанова «Чернышевский в Сибири (По неиздан¬
ным письмам и семейному архиву)», запишет: «Это очень инте¬
ресно. У него много очень хороших, высоких в нравственном
отношении мыслей: о войне, о половом вопросе, или мысль
о том, что все нравственное разумно, а разумное нравственно
и т. д.»
В предисловии к рассказу Чехова «Душечка» Толстой на¬
пишет:
«Удивительное недоразумение весь так называемый женский
вопрос, охвативший, как это должно быть со всякой пошлостью,
большинство женщин и даже мужчин!
«Женщина хочет совершенствоваться»,— что может быть за¬
коннее и справедливее этого?»
Вероятно, удивительным недоразумением следует считать
не «женский вопрос», а очень многое из тоге, что было сказано
в его связи и частично проведено в практику тогдашней жизни.
Не только противники, но и многие сторонники Чернышевского
расценивали роман «Что делать?» как своего рода призыв к сво¬
бодной любви, к многомужеству и т. д. Противников Черны¬
шевского понять здесь нетрудно, поскольку они в своей критике
романа руководствовались иными представлениями о счастье
женщины, нежели автор романа «Что делать?». Так, Толстой
в том же предисловии к чеховскому рассказу писал: «Но ведь
дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело муж¬
чины. И потому и идеал совершенства женщины не может
быть тот же, как идеал совершенства мужчины. А между тем
к достижению этого мужского идеала направлена теперь вся
та смешная и недобрая деятельность модного женского движения,
которая теперь так путает женщин».
Труднее понять тех сторонников Чернышевского, которые в его
романе находили поддержку своим, мягко говоря, недостаточно
нравственным побуждениям, и здесь они компрометировали не
столько себя, сколько высоконравственную позицию автора ро¬
мана.
310
Чернышевский не испытал того семейного счастья, которое
испытал Толстой, но зато Чернышевский испытал другое
счастье — счастье освободителя женщины. Своей женитьбой он
совершил первый в своей жизни гражданский поступок —
освободил женщину от гнета семьи. И этот поступок возбудил
в нем глубочайший нравственный поиск. Многие дневниковые
записи Чернышевского вызывают недоумение: какое-то трудно¬
объяснимое желание оправдать в будущем возможные увлечения
и даже возможные измены Ольги Сократовны...
«Она (то есть Ольга Сократовна.— А. Л.) будет вести себя
так, как ей вздумается. Окружит себя в Петербурге самою блестя¬
щею молодежью, какая только будет доступна ей по моему
положению и по ее знакомствам, и будет себе с ними любезни¬
чать, кокетничать; наконец, найдутся и такие люди, которые
заставят ее перейти границы простого кокетства. Сначала она
будет остерегаться меня, не доверять мне, но потом, когда увидит
мой характер, будет делать все, не скрываясь. Сначала я сильно
погорюю о том, что она любит не меня, потом привыкну к этому
положению... И у меня общего с ней будет только то, что мы будем
жить в одной квартире и она будет располагать моими доходами.
...Что будет после? Может быть, ей надоест волокитство, и она
возвратится к соблюдению того, что называется супружескими
обязанностями, и мы будем жить без взаимной холодности,
может быть даже, когда ей надоедят легкомысленные привя¬
занности, она почувствует некоторую привязанность ко мне,
и тогда я снова буду любить ее, как люблю теперь».
«Нов сущности она будет весьма верною женою, как немногие.
А если в ее жизни явится страсть? Это будет скорбью, но не
оскорблением. А какую радость даст мне ее возвращение’. Потому
что она увидит, что как бы ни любил ее другой, но что никто
не будет любить ее так, как я. Я буду любить ее, как отец любит
свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит
свою милую. А если предмет ее страсти будет недостоин ее?
Тем скорее кончится эта связь, тем более она будет привязана
ко мне».
Эти записи в дневнике Чернышевский сделал буквально нака¬
нуне своей свадьбы.
Чернышевский знал, что Ольга Сократовна не питает к нему
страстной любви, хотя и испытывает к нему чувство искреннего
уважения. Он никогда не отказывал в праве женщине на любовь,
не мог он отказывать в этом праве и Ольге Сократовне. На свой
брак он смотрел прежде всего как на акт освобождения женщины.
И вот тут для него вставал высоконравственный вопрос: «Осво¬
бождает он женщину для нее самой или для собственного ею
311
обладания?» Этот же вопрос он поставил и перед героем своего
романа — Дмитрием Лопуховым.
И было бы глубочайшей ошибкой считать, что в своем дневнике
периода сватовства и женитьбы Чернышевский просто излагал
собственные соображения по «женскому вопросу». В этих записях
запечатлелись и боль, и страдания, и сомнения, и даже само-
уговоры молодого Чернышевского. И тогда он сделал для себя
выбор — он освобождает женщину для нее самой, для ее счастья.
И во всю свою дальнейшую жизнь он ни разу не изменил приня¬
тому им однажды решению — воистину высоконравственному
решению.
В последние годы своей жизни Толстой болезненно относился
к малейшему проявлению хотя бы равнодушия к нравственным
требованиям, и то, что он, обратясь к письмам и семейному
архиву Чернышевского, нашел у него «много очень хороших,
высоких в нравственном отношении мыслей», свидетельствует
о том, что направление их личных нравственных исканий было
сходным.
Один из них почувствовал это сходство на заре своей лите¬
ратурной деятельности, другой обнаружил его на исходе своего
жизненного пути. Между этими моментами прошло более полуве¬
ка, но тем более убедительнее и достовернее выглядит духовное
родство великих ровесников, носивших в себе нравственную
меру вещей будущего.
По справедливому замечанию Ипполита Тэна, литературное
произведение — не простая игра воображения или изолированный
каприз пылкой головы; это снимок окружающих нравов и признак
известного состояния умов...
Что касается «снимков окружающих нравов», то это, в общем-
то, первооснова реалистического искусства — без верного изобра¬
жения окружающих нравов нет и предмета для разговора о ре¬
алистическом искусстве. Сложнее с признаком «известного со¬
стояния умов». Этот признак разлит во всех проявлениях совре¬
менности, и задача художника — сфокусировать их так в харак¬
терах своих героев, чтобы признаки эти стали живой очевид¬
ностью. Однако для этого мало понимания, умения, стремления,
тут недостаточны никакие качества художника, если они не
опираются на созвучные духу эпохи нравственные искания самого
художника, носящие судьбоносный для него характер. Толстой
и Чернышевский сделали «женский вопрос» в своих художест¬
венных произведениях узловым не потому, что другие вопросы
казались им второстепенными, а потому, что в силу самых
различных внешних обстоятельств и в силу их собственных
характеров этот вопрос (опять-таки по-разному) сковал их судьбу,
312
предопределив ее развитие. Да, признаки «окружающих нравов»
они черпали в окружавшей их жизни, а вот что касается признаков
«известного состояния умов», то здесь многое зависело от того,
в какую сторону они сами корректировали обстоятельства окру¬
жающего их внешнего мира, насколько они оставались верны
самим себе, своим чувствам, мыслям, словам.
Они были ровесниками, но прожили неодинаковой продол¬
жительности жизнь. Чернышевский умер на шестьдесят втором
году жизни, Толстой — на восемьдесят третьем, то есть Толстой
дожил до той эпохи, когда «женский вопрос», утеряв свою связь
с другими вопросами времени, превратился в «проблему пола»,
когда публика в арцыбашевском «Санине» увидела чуть ли не
новое откровение.
Толстой оставался верным себе и своему чувству до послед¬
него часа жизни. 29 августа 1910 года он напишет коротенькое
письмо Софье Андреевне, которое заключит словами: «Твой
любящий муж». Через два месяца Толстой навсегда покинет
Ясную Поляну, навсегда «уйдет со сцены», но он уйдет не от
Софьи Андреевны, он уйдет из мира, который разорил их
духовное согласие, без чего даже равенство чувств становилось
всего лишь бездушным арифметическим равенством.
По-своему трагична судьба Чернышевского, по-своему трагич¬
на судьба Толстого. Они положили жизнь, чтобы женщина была
счастлива на века, но не смогли сделать счастливыми даже тех,
кому оставались преданными до конца своих дней. Жизнь Чер¬
нышевского и Толстого со всеми их радостями и страданиями не
пример потомкам, а та нравственная опора, которая и за давно¬
стью дней не теряет ни своего значения, ни своей надежности.
И теперь нам остается, выяснить еще один вопрос, который
невольно встает, когда сопоставишь судьбы и творческие пути
(хотя бы в самых общих чертах) этих двух великих людей. Да,
они были ровесниками, да, их обдували ветры одного и того же
времени, да, их нравственные отправные точки во многом схо¬
дились. Но почему же они шли не вместе, а врозь?
Казалось бы, дружба между великими писателями-совре¬
менниками — дело естественное и обоюдоплодотворное. Однако
жизнь опровергает такое предположение, особенно если писатели
не только писатели, а нечто большее — общественные деятели,
мыслители, проповедники...
Но к более детальному рассмотрению этого вопроса мы
обратимся несколько позже, когда рассмотрим вопрос о личных
взаимоотношениях Николая Гавриловича Чернышевского с дру¬
гим его великим современником — Федором Михайловичем
Достоевским.
313
Мы уже говорили, что «женский вопрос» относится к тем
великим вопросам, которые в разные эпохи (только с разной
степенью интенсивности) волнуют человечество. В середине прош¬
лого века этому вопросу суждено было стать в России одним из
главнейших вопросов времени, однако этот вопрос вытекал из
другого, более общего, вопроса, вопроса о справедливом социаль¬
ном переустройстве всей жизни.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
ДОСТОЕВСКИЙ
И СОЦИАЛИЗМ
Достоевский был старше Чернышевского семью годами и, по
идее, принадлежал к другому — тому более старшему писатель¬
скому поколению, эстетические, а во многом и мировоззрен¬
ческие убеждения которого формировались под непосредственным
воздействием Белинского. Однако в силу того, что литературная
деятельность Достоевского прервалась в 1849 году и почти на
десять лет, а подлинный расцвет его творчества и истинное
признание пришлись на шестидесятые и семидесятые годы, мы,
вероятно, вправе отнести его к той писательской генерации,
к которой принадлежали Толстой и Чернышевский.
Как известно, именно Белинский благословил первое произ¬
ведение Достоевского, выдав начинающему автору щедрые аван¬
сы. «Наступающий год,— мы знаем это наверное,— писал бук¬
вально накануне публикации романа «Бедные люди» в январе
1846 года Белинский,— должен сильно возбудить внимание
публики одним новым литературным именем, которому, кажется,
суждено играть в нашей литературе одну из тех ролей, какие
даются слишком немногим. Что это за имя, чье оно, чем зани¬
мательно — обо всем этом мы пока умолчим, тем более, что всё
это сама публика узнает на днях».
Это писалось для широкого читательского круга или, как
тогда говорили, для публики. Что же касается литературного
мира и близко стоящих к нему людей, то им и роман Досто¬
евского, и имя автора романа, да и сам автор были уже хорошо
известны. «Еще в ноябре и декабре 1845 года,— свидетельствовал
позднее критик Валериан Майков,— все литературные дилетанты
ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового
литературного таланта».
Восторженные отзывы Белинского, Некрасова, Григоровича
сделали свое дело: с Достоевским стали охотно знакомиться
даже писатели маститые, и он почувствовал — двери в литера¬
турный мир, о котором прежде только мечталось, перед ним
314
распахнулись. Находясь в счастливейшем настроении, Федор
Михайлович писал брату Михаилу 16 ноября 1845 года: «На
днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал)
и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью,
такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев
влюбился в меня. Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не
влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен,
образован, 25 лет1,— я не знаю, в чем природа отказала ему?
Наконец, характер неистощимо прямой, прекрасный, выработан¬
ный в доброй школе». Правда, очень скоро «влюбленность»
Тургенева уступит свое место совсем другому чувству, а востор¬
женное мнение Достоевского о «поэте Тургеневе» окажется необы¬
чайно хрупким, но в ту пору Достоевский не скрывал охватившей
его радости. «...Никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой
апогеи, как теперь,— писал он брату.— Всюду почтение неимо¬
верное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился
с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просил
меня осчастливить его своим посещением... Все меня принимают,
как чудо... У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-
нибудь из них хоть Тургеневу, например, чтобы назавтра почти
во всех углах Петербурга не знали, что Достоевский пишет
вот то-то и то-то. Ну, брат, если бы я стал исчислять тебе все
успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько».
По выходе романа в свет слава Достоевского растет и ширится,
и он верит, что его счастливая звезда не померкнет на рос¬
сийском литературном небосклоне. «Явилась целая тьма новых
писателей,— сообщает он брату 1 апреля 1846 года,— иные
мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен и Гончаров.
Первый — печатался, второй — начинающий и не печатавшийся
нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест,
и надеюсь, что навсегда».
Но следующая повесть Достоевского, «Двойник», вызвала
отрицательную оценку Белинского и его кружка, и в самом
начале 1847 года Достоевский порвал все отношения с кружком
Белинского. Тургенев и Некрасов, увлеченные общим для их
группы течением, сочинили даже большую эпиграмму, начинав¬
шуюся весьма обидными для молодого автора строками:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...
1 Тургеневу тогда было не 25, а 27 лет.
315
Григорович, бывший в курсе всех этих событий, писал потом:
«Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора
«Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному
отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить
и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким
был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского,
.;;i мкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражи¬
тельным до последней степени».
Григорович тут несколько ошибался. Во-первых, рассорившись
с кружком Белинского, Достоевский замкнулся в себе только
отчасти, поскольку именно в это время он начинает посещать
собрания Петрашевского. Во-вторых, теперь «впечатлительного
и самолюбивого» Достоевского никто уже сокрушить не мог.
Но как бы там ни было, литературный дебют Федора Михайловича
был бурным во всех отношениях.
А Чернышевский в это время «увольняется» из семинарии,
приезжает в Петербург, поступает в университет. В годы сту¬
денчества он знакомится и с произведениями Достоевского. Так,
28 декабря 1848 года у него в дневнике появляется запись:
«...вчера прочитал «Ревнивый муж» Ф. Достоевского, много хо¬
хотал над этим...» А через десять дней последует другая запись:
«Когда начал читать «Белые ночи» вечером, боялся влияния
Вас. Петровича (Лободовского.— А. Л.) похвал... но нет, кажется,
сам увидел, что в самом деле хорошо...».
Естественно, что Достоевский в это время ничего не знал
и даже не подозревал о существовании студента Николая Чер¬
нышевского, хотя, как мы уже говорили, если бы судьбе оказалось
угодно, они могли познакомиться в конце 1848 года или в начале
1849 года. Но судьба сведет их много позже.
В Петербург Достоевский вернулся лишь в конце декабря
1859 года, то есть ровно через десять лет, когда Чернышевский
стал уже известным критиком и признанным вождем разночин-,
но-демократического направления в литературе, самого тогда)
активного. «С Николаем Гавриловичем Чернышевским,— вспо¬
минал почти через полтора десятилетия Достоевский,— я ветре-;
тился в первый раз в пятьдесят девятом год, в первый же год
по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда
встречались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало.
Всегда, впрочем, подавали друг другу руку». ₽
316
Чернышевский же в своих воспоминаниях утверждает, что
впервые он встретился с Достоевским лишь весной 18-62 года
и ранее никогда с ним не виделся и тем более не знакомился.
Формально здесь мы должны больше полагаться на память
Достоевского, потому как он обратился к описываемым событиям,
если чуть округлить, через полтора десятилетия, а Черны¬
шевский — через три. Впрочем, тут, чтобы допустить какую-
либо неточность, достаточны и менее короткие сроки. Литератор,
да еще живущий в столице, знакомится с великим множеством
самых разных лиц, но если даже не принимать во внимание
знакомств, как говорится, шапочных, то и в этом случае разве
возможно навсегда запомнить, где и когда с кем впервые встре¬
тился?
Например, первая встреча Чернышевского с Некрасовым
сыграла в судьбе Чернышевского очень важную роль, однако
когда он по прошествии многих лет обратится памятью к этому
эпизоду, то в указаннии даты ошибется на целый год. Правда,
потом он поправится и напишет: «...разговор был не в 1854,
а в 1853 году». А ведь это чрезвычайно важно и существенно,
в каком году они познакомились, потому как с этого времени
началось сотрудничество Чернышевского в «Современнике»1.
Встречались Достоевский и Чернышевский до 1862 года или
не встречались — это в конце концов не так уж и существенно,
поскольку, если тут все же прав Достоевский, и такие встречи
на самом деле имели место, это обстоятельство никак не отра¬
зилось на их судьбе и не повлекло за собой никаких последствий.
Впрочем, дело даже не в этом, потому как и их встреча в 1862 го¬
ду, о которой каждый из них пишет в своих воспоминаниях,
тоже не обернулась никакими серьезными последствиями, но
она — интересный штрих в их биографиях, потому как проливает
определенный свет и на события тех лет, и на будущее их отно¬
шение друг к другу.
Вот что писал в 1873 году по поводу этой встречи Досто¬
евский:
3 «Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке
замка, одну из самых замечательных прокламаций изо всех,
которые тогда появлялись, а появлялось их тогда довольно.
Она называлась «К молодому поколению».
Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Черны¬
шевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал
бывать равно как и он у меня.
j
1 Первая рецензия Чернышевского в «Современнике» была напечатана
в январском номере за 1854 г.
317
Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал
Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого
дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвы¬
чайно радушно и привел к себе в кабинет.
— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокла¬
мацию.
Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было
всего строк десять.
— Ну что же? — спросил он с легкой улыбкой.
— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя оста¬
новить их и прекратить эту мерзость?
Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:
— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и ду¬
маете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?
— Именно не предполагал,— отвечал я,— и даже считаю
ненужным вас в этом уверять. Но во всяком случае их надо
остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско,
и уж, конечно, они боятся вашего мнения.
— Я никого из них не знаю.
— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить
с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше
порицание, и это дойдет до них.
— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как
сторонние факты, неизбежны.
— И однако всем и всему вредят.
Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом
считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и впол¬
не верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими
разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу
не неприятно было мое посещение; через несколько дней он под¬
твердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, при¬
знаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека,
так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере,
будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он
хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно.
Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже...»
А вот что писал в 1888 году по поводу этой встречи Черны¬
шевский:
«Через несколько дней после пожара, истребившего Толку¬
чий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоев¬
ского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я
тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или по¬
меньше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне
по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван
318
и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора
«Бедных людей». Он, после нескольких минут колебания, от¬
вечал мне на приветствие непосредственным, без всякого при¬
ступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых
и прямых, приблизительно следующее: «Я к вам по важному
делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые
сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас,
удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал,
что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности,
близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его
болезнь достигла такого развития, при котором могли бы со¬
четаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Тол¬
кучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного
больного имеет характер, при котором медики воспрещают вся¬
кий спор с несчастным, предписывают говорить все необходи¬
мое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михай¬
лович, я исполню ваше желание». Он схватил меня за руку,
тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося
задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные
выражения личной его благодарности мне за то, что я по ува¬
жению к нему избавлю Петербург от судьбы быть сожжен¬
ным, на которую был обречен этот город. Заметив через не¬
сколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и
делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о
первом попавшемся мне на мысль постороннем его болез¬
ненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как
велят поступать в подобных случаях медики. Я спросил его,
в каком положении находятся денежные обстоятельства из¬
даваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникают
ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал об¬
ременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему
и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить
их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю;
я дал ему говорить о делах его журнала сколько угодно. Он
рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но
делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что
сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам
запоздал к чтению корректур и, вероятно, задержал меня, встал,
простился. Я пошел проводить его до двери, отвечая, что меня
он не задержал, что правда я всегда занят делом, но и всегда
имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими сло¬
вами я раскланялся с ним, уходившим в дверь».
Далее Чернышевский рассказывает о том, что недели через
полторы к нему зашел незнакомый человек, решивший издать
319
доступный по цене для широкого круга читателей сборник
произведений современных беллетристов, своего рода хрестома¬
тию. Чернышевский просмотрел оглавление и от своего имени
дал согласие за всех авторов, сказав, что такого согласия он
не может дать только от имени Достоевского, но пообещал
поговорить с ним лично. «Я выписал из оглавления книги, какие
отрывки его рассказов предполагается взять, и на следующее
утро отправился к нему с этой запиской, рассказал ему, в чем
дело, попросил его согласия. Он охотно дал. Просидев у него,
сколько требовала учтивость, вероятно больше пяти минут и
наверное меньше четверти часа, я простился. Разговор в эти
минуты, по получении его согласия, был ничтожный; кажется,
он хвалил своего брата Михаила Михайловича и своего сотруд¬
ника г. Страхова; наверное, он говорил что-то в этом роде; я слу¬
шал, не противоречил, не выражал одобрения. Дав хозяину
кончить начатую тему разговора, я пожелал его журналу успеха,
простился и ушел.
Это были два единственных случая, когда я виделся с
Ф. М. Достоевским».
Удивительное дело: два писателя и так поразительно субъек¬
тивны в воспроизведении одного и того же почти бытового
факта. Конечно, какие-то нюансы могли и забыться, а какие-то
и «придуматься». Неужели, например, Чернышевский и через
три десятилетия помнил, как и в какой момент Достоевский
вынул часы и т. д.? Но допустим, что Чернышевский обладал
исключительно надежной памятью на факты и в жизни все было
именно так, как рассказывает он, а не Достоевский. Однако
факты, рассказанные Чернышевским, почти не противоречат
фактам, рассказанным Достоевским, противоречат здесь их отно¬
шения к самому факту встречи. Когда читаешь воспоминания
Достоевского, то невольно чувствуешь, как он постоянно и чуть
даже навязчиво подчеркивает свое тогдашнее расположение
к Чернышевскому. Когда же читаешь воспоминание Чернышев¬
ского, то не можешь избавиться от ощущения, что писавший
их человек, уносясь памятью в прошлое, приходил в раздра¬
жение. Чернышевский писал свои воспоминания спустя семь лет
после смерти Достоевского, то есть в 1888 году, а ощущение
такое, будто только вчера они где-то схлестнулись по важнейшим
для них вопросам.
«Писатель,— утверждал Салтыков-Щедрин,— которого
сердце не переболело всеми болями того общества, в котором
он действует, едва ли может претендовать на значение выше
посредственного и очень скоропреходящего». Достоевский и
Чернышевский переболели многими болями того общества,
320
в котором они действовали, и переболели весьма сильно и
остро. И факт возможного знакомства и возможного их сбли¬
жения в конце сороковых годов для нас интересен именно
с той стороны, что в тот период они в своих болях почти
сошлись. Сам по себе факт их личных встреч в начале
шестидесятых годов ничтожен, но он интересен тем, что поз¬
воляет увидеть, насколько же потом разошлись, если не в болях,
то в своих устремлениях, два этих великих человека. Тогда,
в конце сороковых, Достоевский мечтал о перевороте и вербовал
А. Майкова в самый радикальный петербургский кружок —
кружок Николая Спешнева, а Чернышевский тогда почти в рав¬
ной мере мечтал как о государственном перевороте, так и об
изобретении «вечного двигателя», как о профессорской ка¬
федре, так и писательском поприще. Один из них был весь
в действии, другой — в мечте.
За тринадцать лет многое изменилось, изменились и их
жизненные роли. И тут ровным счетом не имеет никакого
значения, встречались они где-то мимоходом до шестьдесят
второго года или же до этого момента ни разу не попадались
друг другу на глаза. Для нас интерес представляет другое —
почему и по прошествии почти тридцати лет после визита
Достоевского Чернышевский не в состоянии был скрыть своей
недоброжелательности и даже раздражения по отношению
к уже умершему великому писателю-современнику?
Следует заметить, что именно на те годы, когда Чернышев¬
ский находился в Сибири, пришелся самый расцвет творчества
Достоевского и Толстого. И тут не может не броситься в глаза
то обстоятельство, что, довольно высоко оценив в свое время
первые произведения Толстого и «Униженных и оскорбленных»
Достоевского, Николай Гаврилович, по сути дела, никак не
отреагировал на более поздние их произведения, которые
принесли им настоящую славу и заслуженно выдвинули их
в число первых писателей России.
Порой мы излишне напираем на тяжесть внешних условий
и одновременно как-то забываем о тяжелом внутреннем состоя¬
нии Николая Гавриловича в период его почти тридцатилет¬
ней неволи. И уж совсем просто, как о само собою разумеющемся,
говорим о том, что Николая Гавриловича ничто не могло сломить.
Действительно, он мужественно и достойно выдержал все выпав¬
шие на его долю тяжелейшие испытания, что вовсе, однако, не
означает, будто это ему далось без особых душевных затрат
и потерь.
Чернышевский не принадлежал к числу людей завистли¬
вых. Он мог искренне радоваться успеху (порой даже пре¬
321
21
4 О 7К
увеличивая его) не только близкого ему по духу прозаика
или поэта, но и представителя того литературного цеха,
к которому принадлежал сам. Назвал же он в свое время
Антоновича «первым критиком». Но лучший тому пример —
его отношение к Добролюбову и к все возраставшей популяр¬
ности того у читающей публики. Да, таким Чернышевский был
тогда, до каторги, до ссылки, в расцвете своих творческих
сил, верящий в свою особую звезду, в свою особую исто¬
рическую миссию, и именно эта вера дала ему силы исполь¬
зовать время, проведенное в Петропавловской крепости, для
активной творческой работы. И никакие внешние обстоятельства
сломить его не могли. А пострадать за правое дело он всегда
был готов.
Но вот окончились тяжелые годы каторги, и потянулись
долгие, одонообразные годы ссылки, и Чернышевский не мог
уже не чувствовать, как из активного участника жизни превра¬
щается в ее свидетеля. Жизнь для него как бы остановилась,
прекратила свой поступательный ход. Набирал силу Толстой,
набирал силу Достоевский, и теперь они не только претендовали
на роль ведущих современных писателей России, но и на роль
ее духовных вождей, на роль пророков...
Нет, Николай Гаврилович не завидовал их славе, их судь¬
бе, особенно судьбе Достоевского. Тот же Алексеевский ра¬
велин, смертный приговор, каторга, ссылка... Зато потом двад¬
цать с лишним лет работы, работы, работы, без которой
остальное теряет смысл, теряет цену. Все успел, все у Федора
Михайловича получилось вовремя. Вовремя получил бла¬
гословение Белинского, вовремя пострадал, вовремя вернулся
в Петербург, вволю поработал, высказался... И становится
горько, что, по сути дела, до двадцати пяти лет (а Федор-то
Михайлович в этом возрасте стал уже известным писателем)
довольствовался участью учителя провинциальной гимназии
и тешил себя праздными учеными разговорами...
Все оборвалось именно тогда, когда он, преодолев репута¬
цию «семинариста», только-только вошел в настоящую силу.
Толстой тогда, пометавшись по заграницам, бросился в педа¬
гогическую деятельность и завел свой журнал. А к кому он
обратился? К нему, к Чернышевскому. Запахло горячим в
воздухе, и Федор Михайлович, пытавшийся встать как бы над
всеми, к кому кинулся? К нему, к Чернышевскому. И ведь не
спорил, не упрекал, не убеждал, не пытался обратить в свою
веру. Просил. А просят, как известно, лишь тех, кто могу¬
ществен...
Медленно тянутся дни в неволе, а годы пролетают не¬
322
заметно. Уже нет в живых Некрасова, Тургенева и многих,
многих других, друзей и противников, свидетелей былого его
могущества. Ушел из жизни и Федор Михайлович.
Федор Михайлович Достоевский...
И ему вспомнилось, невольно вспомнилось, как тогда, в один
из вечеров 1862 года, последнего года его свободы и последней
свободной его весны, внезапно нагрянул к нему Федор Михай¬
лович. В городе царили тревога и смятение, нет, не паника и даже
не страх, а именно тревога и смятение, которые всегда порождает
стихия огня. Даже если ты находишься в стороне и просто
созерцаешь пожирающую стихию огня, все равно внутри что-то
цепенеет, как бы ты там себе не внушал, что тебе самому
лично и присутствующим поблизости людям ничто не угрожает.
И это понятно. В стихии огня природа чуть приоткрывает
одну из своих великих тайн, воочию позволяет зреть, как бытие
переходит в небытие, сущее становится несущи м...
Федор Михайлович тогда не смог, а возможно, и не захотел
скрывать своего смятения. Наверное, его воображение рисовало
ему жуткие эсхатологические картины, и вот он явился...
Зачем? Чтобы прекратить пожары? Каким же могуществом
он наделял его, Чернышевского, если полагал, что грозная
стихия огня подвластна именно ему, что судьба мира, которую
Федор Михайлович ставил в прямую связь с возникшими
в Петербурге пожарами, тоже подвластна ему, Чернышевскому!
Впрочем... себе он тоже отводил не последнюю роль. Он — Федор
Михайлович Достоевский — добрый спаситель сего многостра¬
дального и многогрешного мира.
Какая ирония судьбы: «властелина мира» вскоре же при
посредстве нескольких жандармов свезли в Петропавловскую
крепость и затем на двадцать лет упрятали в Сибирь, а «спа¬
ситель мира» остался спасать мир и стал почти пророком в соб¬
ственном отечестве.
Ну что ж, пророк так пророк... Не то печалит. Печалит
другое: сам не сделал главного, не сделал того, что было, ка¬
жется, предназначено самой судьбой. По капельке, по капельке
вытекало время, и не заметил, как мимо пролетела жизнь.
Целая жизнь.
Теперь на него смотрят так, будто он вернулся с того света.
Кажется, даже норовят потрогать, да боятся — не рассыплется
ли он прямо у них на глазах. Или, чего доброго, еще вознесется
и тем поколеблет дорогие им их смелые, но хрупкие воззрения...
Чудо он для них, да вот чудо только совсем ненужное.
323
А ведь он действительно чудо: взял да и выпрыгнул к ним
из двадцати летней давности... Он для них, так сказать, велико¬
мученик, живой символ, героическая веха их исторического
прошлого...
Шестьдесят лет. И все нужно начинать сначала. Ведь он
еще не сказал своего главного слова. Работать, работать,
работать... Но для этого необходим журнал. Свой журнал.
А хватит ли на то сил?
Конечно, можно и возразить. Дескать, с конца пятидесятых
годов Чернышевский стал меньше уделять внимания изящной
словесности и почти полностью переключился на политико-
экономические вопросы. Вполне возможно, что изящная сло¬
весность занимала Чернышевского теперь все меньше и меньше,
однако Толстой и Достоевский — не только изящная словесность,
Чернышевский понимал это лучше, чем кто-либо другой. Бу¬
дучи человеком исключительной интеллектуальной честности,
он не мог писать о них в полную силу, не преодолев в себе
чувство ревности к их судьбам. И с годами это чувство только
усиливалось, потому как все меньше оставалось надежд реали¬
зовать самого себя. Отсюда и то раздражение, которое не по¬
кидало его, когда он писал коротенькое воспоминание о Достоев¬
ском.
И тут следует сказать, что зачастую слишком уж преуве¬
личивались расхождения между Чернышевским и Достоевским.
А между тем точек соприкосновения у них было не так уж
и мало, несмотря на очевидное различие их общественно-
политических настроений.
Мы уже говорили о том, как близки были взгляды Чер¬
нышевского и Достоевского в конце сороковых годов, когда
они прошли одну и ту же умственную школу — учение
Фурье. Мы уже говорили и о том, что в начале шести¬
десятых годов пути их разошлись, однако и потом плыли они
отнюдь не в противоположные стороны. И тот и другой свято
верили в возможность счастья человечества на основах любви
и братства. Счастье человека — вот цель, к которой они стреми¬
лись всю жизнь. В какой-то период пути их сошлись, затем
разошлись, но стремились они все равно к сходной цели.
В конце концов дело не в том, какие любезности или, на¬
против, нелюбезности они высказали или могли высказать
в адрес друг друга, нельзя им ставить в вину и взаимное не¬
понимание — слишком уж каждому из них были дороги свои,
собственные мысли и чувства, выстраданные в мучительных
3 24
нравственных исканиях, постоянно поглощавших их великие,
но не неистощимые духовные ресурсы; и то, что было исто¬
рически извинительно для них — современников, не может слу¬
жить оправданием нам — их потомкам.
Как известно, Толстой недоброжелательно отнесся к роману
«Что делать?» и эта его реакция, если и не вызвала, то во всяком
случае поддержала в нем горячий полемический энтузиазм.
Несколько по-иному воспринял этот роман Достоевский. Если по¬
лемика Толстого с Чернышевским имела довольно скрытый
характер, то полемика Достоевского с автором романа о «новых
людях» носила не только откровенный, но и открыто профес¬
сиональный характер, поскольку здесь спор шел между людь¬
ми, говорящими на одном языке — на языке бывших фурьеристов.
Достоевский вовсе не отвергал идеалов социализма. Так в
«Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) он со злой
иронией заметит: «Если социализм где и возможен, то только
не во Франции». Нетрудно догадаться, что здесь злая ирония
была направлена не против социализма, а против обуржуазив¬
шейся, по его мнению, нации, не способной уже воспринять
и претворить в жизнь идеалы социализма. Достоевский не
отвергает социалистических идеалов, он лишь ставит под
сомнение пути, предлагаемые автором романа «Что делать?»
Чернышевский в свое время солидаризировался со славяно¬
филами и высказал тогда в их адрес немало лестных слов не
только из каких-то тактических соображений. Славянофилы
были у нас первыми, кто в основу своего учения попытались
положить социально-историческую категорию — земледель¬
ческую общину1. Правда, Чернышевский не абсолютизировал
общину, как это делали славянофилы, а видел в ней тот не¬
пременный элемент, который должен войти составной частью
в фундамент будущего социалистического общества, и в этом
смысле он следовал одному из положений Фурье, в свое время
писавшему: «Задача науки состоит в том, чтобы развить в
единый, всеобъемлющий и сложный механизм эти обрывки
1 В некоторых дореволюционных работах мелькало утверждение, будто
славянофилы заимствовали учение о сельской общине у немецкого барона
Августа Гакстгаузена, совершившего в 1843—1844 годах путешествие по Рос¬
сии и издавшего в пятидесятых годах трехтомное сочинение «Исследования
о внутренних отношениях, народной жизни и в особенности сельских учреж¬
дениях России». Это ошибочное утверждение счастливо дожило и до наших
дней, хотя, чтобы развеять его, достаточно положиться на память Герцена,
писавшего в «Былом и думах»: «Он (то есть К. Аксаков.— А. Л.) пропо¬
ведовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать
их...»
325
ассоциаций, рассеянные во всех отраслях промышленности, где
они возникали случайно и под влиянием инстинктов». Чер¬
нышевский и рассматривал общину как народный «инстинкт»,
который следует развить в единой социалистической системе.
В 1860 году в статье «Капитал и труд» он намечает план про¬
мышленно-земледельческой общины, а в романе «Что делать?» —
план производительного товарищества.
Достоевский же считал, что никакими внешними эконо¬
мическими построениями идеалов социализма в жизнь не
претворить, поэтому он и говорил, что братства «сделать никак
нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было
в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось,
одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо
любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство,
общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые стра¬
дания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество...»
«Конечно,— продолжает развивать свои мысли Достоевский,—
есть великая приманка жить хоть, не на братском, а чисто
на разумном основании, т. е. хорошо, когда тебе все гаранти¬
руют и требуют от тебя только работы и согласия.
Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно
гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему
доставить, и за это требуют с него только самую капельку
его личной свободы для общего блага... самую капельку. Нет,
не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька
тяжела, ему все кажется сдуру, что это острог и что самому
по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его,
работы ему не дают, умирает он с голоду, и воли у него нет ни¬
какой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше.
Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему,
что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной
выгоды...», а поскольку «социалист, видя, что нет братства,
начинает уговаривать на братство... В отчаянии социалист
начинает делать, определять будущее братство, рассчитывать
на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, расска¬
зывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто
сколько выиграет...».
Достоевский усмотрел в романе Чернышевского «Что делать?»
вот такую попытку «уговорить» на братство, то есть «уговорить»
на социализм, в котором господствуют рассудочная, арифмети¬
ческая программа морали и социальные фурьеристские утопии
производственных мастерских, преобразующих ежедневную
экономическую жизнь людей. В первых главах «Записок из
подполья» (1864) он ведет прямую полемику с автором романа
326
«Что делать?». Выступая против упрощенной писхологии «новых
людей», он говорит, что «рассудок есть только рассудок и
удовлетворяет только рассудочной способности человека», а глав¬
ное в человеке есть все-таки хотение, потому как «хотенье
есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни,
и с рассудком, и со всеми почесываниями».
Хорошо, как бы рассуждает Достоевский, в конце концов
можно игнорировать все противоречия человеческой натуры
и всё свести на один-единственный рассудок, можно придумать
план прекрасной будущей жизни и уговорить людей жить по
этому самому плану, то есть жить в строгих рамках придуман¬
ного братства. «Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда...
Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, ни¬
как нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что и тогда
не будет, например, ужасно скучно... зато все будет чрезвы¬
чайно благоразумно...» Достоевский высказывает сомнение не
только в том, что люди будут счастливы в подобном братстве,
но и в прочности самого такого братства. «Ведь я, например,—
продолжает он,— нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того
ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет
какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать,
с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки
и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это
благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою
целью, чтоб все эти логарифмы отправить к черту и чтоб нам
опять по своей глупой воле пожить!»
Нетрудно догадаться, что это — выпад против знаменитого
«четвертого сна» Веры Павловны. Хотя, надо сказать, к роману
в целом и к его автору редактор «Эпохи» отнесся весьма со¬
чувственно. Впрочем, тогда «четвертый сон» Веры Павловны
вызвал возражение не только у Достоевского. Именно этот
эпизод (при общей положительной оценке произведения) поз¬
волил Салтыкову-Щедрину упрекнуть автора романа в «некоторой
произвольной регламентации подробностей, и именно тех под¬
робностей, для предугадания и изображения которых действи¬
тельность не предоставила еще достаточных данных». Автор
книги «Чернышевский в годы каторги и ссылки» Н. Травушкин
говорит о современнике Чернышевского и активнейшем про¬
пагандисте его произведений за границей Алексее Николаевиче
Тверитинове следующее: «Можно поражаться тому, как много
он сделал за два с половиной года жизни за границей для
распространения идей Чернышевского. Ведь опубликованные
Твери ти новым статьи, переводы и предисловия послужили
материалом для авторов, писавших потом о Чернышевском
во Франции, Италии и других странах. И упрекнуть его можно
лишь за то, что, переводя «Что делать?», он исключил «Четвертый
сон Веры Павловны».
Как видим, «четвертый сон» Веры Павловны смутил многих
и даже из числа тех, кто принял роман сочувственно и даже
восторженно. Чернышевский в своем романе противопоставил
капитализму с его конкуренцией и игрой частных интересов
«экономическую теорию трудящихся», воплощенную в практи¬
ческую деятельность своих современников (мастерские). В «чет¬
вертом сне» Веры Павловны он дал если не конечный, то весьма
отдаленный результат развития (в том числе и революционного)
принципа производительного товарищества. «Экономическая
история,— утверждал Чернышевский,— движется к развитию
принципа товарищества».
Многих сторонников романа «Что делать?», в том числе
и его переводчика А. Тверитинова, вероятно, не устраивало
именно то, что счастливое будущее людей изображается в
строгом соответствии с уже устаревшим учением Фурье. Скорее
всего, это обстоятельство и побудило А. Тверитинова «улучшить»
роман за счет произвольного усечения главы «Четвертый сон
Веры Павловны». Достоевского же нисколько не смутили ни
недостоверные подробности, что смутили Салтыкова-Щедрина,
ни сама система Фурье, превратившаяся в явь в сне Веры Пав¬
ловны, поскольку он и сам любил погружать своих героев
в состояние сновидений.
К примеру, в «Преступлении и наказании» (1866) Рас¬
кольников дважды погружается в состояние тех сновидений,
которые автор счел необходимым довести до сведения чита¬
телей. Второй сон Раскольникова (в эпилоге романа) отягощен
еще его тяжелой болезнью.
«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву
какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве,
идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были по¬
гибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. По¬
явились какие-то новые трихины, существа микроскопические,
вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи,
одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, стано¬
вились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда,
никогда люди не считали себя так умными и неколебимыми
в истине, как считали зараженные. Никогда не считали не¬
поколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих
нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые
города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тре¬
воге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в од¬
328
ном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил
себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как
судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.
Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали
друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг
на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг
начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бро¬
сались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг
друга. В городах целый день били в набат: созывали всех,
но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тре¬
воге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что вся¬
кий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли со¬
гласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в
кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расста¬
ваться,— но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое,
чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг
друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод.
Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и даль¬
ше...»
Совсем иное виделось во сне Вере Павловне.
«Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь
по нескольку в самых больших столицах,— или нет теперь ни
одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ...
Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой рабо¬
тою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет
у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им!
Почти всё делают за них машины...
Но вот работа кончена, все идут к зданию...
Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, вели¬
колепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло
уже три часа после заката солнца: самая пора веселья...
Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье,
потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет
таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться
и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем
и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выра¬
зительны их черты! Все они — счастливые красавцы и краса¬
вицы, ведущие вольную жизнь труда и наслажденья,— счастлив¬
цы, счастливцы!
Шумно веселится в громадном зале половина их, а где другая
половина? «Где другие? — говорит светлая царица,— они везде;
многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи
зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям,
музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих
329
комнатах, или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми,
но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как
горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили,
они приходили; они уходили — это я увлекала их, здесь ком¬
ната каждого и в каждой — мой приют, в них мои тайны не¬
нарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие
звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвра¬
щала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую
я».
«Я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд — заготов¬
ление свежести чувств и сил для меня, веселье — приготов¬
ление ко мне, отдых после меня. Здесь я — цель жизни, здесь
я — вся жизнь».
«...То, что мы показали тебе, нескоро будет в полном
своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поко¬
лений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощу¬
щаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро,
все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь
в это полное царство моей сестры; по крайней мере ты видела
его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же
всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите
его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте
его, переносите из него в настоящее, сколько можете пере¬
нести; настолько будет светла и добра, богата радостью и нас¬
лаждением ваша жизнь, насколько вы успеете перенести в нее
из будущего...»
Разумеется, если взять сон Раскольникова и сон Веры Пав¬
ловны, то непросто сопоставлять авторов произведений, в которые
вошли эти сны. Тут, действительно, нужно не сопоставлять,
а противопоставлять. Один автор беззаветно верит в абсолют¬
ное счастье человечества на земле, а другой как бы предвещает
жуткий апокалипсический финал роду человеческому. К тому же
заметим, роман Чернышевского был опубликован в 1863 году,
а роман Достоевского — в 1866 году и в какой-то мере был
откликом на роман «Что делать?». Однако не станем торопиться
с выводами и обратимся еще к одному сну.
♦ Дети солнца... о как они были прекрасны! — вспоминает
герой.— Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты
в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы
их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый
отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали
ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то воспол¬
нившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были
веселы; в словах, голосах этих людей звучала детская радость».
330
Герой, увидев во сне счастливое человечество, обрел душевный
покой. «...Потому что,— говорит он,— я видел истину, я видел
и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не
потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить,
чтобы зло было нормальным состоянием людей... Но как мне не
веровать: я видел истину... Я видел ее в такой восполненной
целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у лю¬
дей».
Если не очень внимательно отнестись к стилю и интонации
этого отрывка, то его можно принять за фрагмент из романа
Чернышевского: столько прочного счастья в увиденных во сне
героем ликах людей. Но это не Чернышевский, это Достоев¬
ский и герой его рассказа «Сон смешного человека» (1877).
Впрочем, когда речь заходит о Достоевском, то непременно
говорят о его сложности и противоречивости. Другое дело
Чернышевский, которого еще при жизни называли «великим
упростителем». Хотя сейчас этот термин, как не совсем учтивый,
и вышел из оборота наших суждений о нем, а между тем он
заключал в себе и некий положительный смысл, поскольку
понятие «упроститель» определялось словом «великий». Термин-
то из оборота нашего разговора вышел, но само отношение
к Чернышевскому по-прежнему как-то продолжает согласовы¬
ваться с ним, причем акцент ставится на определяемом слове
и все более стушевывается слово определяющее. А Черны¬
шевский не так уж прост и однозначен, как его обычно интерпре¬
тируют. Но об этом мы поговорим чуть позже, а пока предо¬
ставим слово еще одному герою.
«Вечная история: выходит работник, набирает помощников.
Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса,
готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриго¬
вать,—разинули рты, слушают,— и пошла толпа за ним. Он
ведет их в болото — они тонут в грязи, восклицая: «Сердца
наши чисты!» Сердца их чисты; жаль только, что они со
своими чистыми сердцами потонут в болоте.
А у работников осталось мало товарищей: труд не под силу
немногим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук
чрезмерными усилиями, надорвутся и пропадут...
И не только жаль, что пропадут они, а того, что дело оста¬
нется не сделано...
И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того:
стало скомпрометировано. Выходят мерзавцы и кричат: «Вот,
они хотели, но не смогли; значит нельзя».— «Нельзя,— по¬
вторяет нация.— Правда, очевидно, нельзя. Только пропадешь.
Лучше же будем смирны, останемся жить по-прежнему, слушаясь
331
людей, которые дают нам такой благоразумный совет». И
забирают власть люди хуже прежних.
От Гракхов до Бабефа одна и та же история... И после все
она же... этот жалкий 1848 год...
Потому не лучше ли было б умереть? — Лучше,— для
человека, проникнутого живою любовью к людям. Такому
человеку жизнь была бы невыносима. Видеть страдание без на¬
дежды помочь — это слишком мучительно для человека с жи¬
вым чувством. Для меня — очень сносно. Потому я остался
жить и не буду раскаиваться».
Итак: «От Гракхов до Бабефа одна и та же история...»,
«Этот жалкий 1848 год...» В общем, как бы дело ни началось,
а в результате побеждают или плуты, или мерзавцы, а честные
люди обречены на гибель... Правда, это не сон, а прямое рас¬
суждение и даже не в духе Раскольникова, а в духе «человека
из подполья». Та же общественно-политическая мечтательность
о счастье всего человечества и скорбь, так сказать, в мировом
масштабе — это, с одной стороны, а с другой — какое-то омертве¬
ние души: «Для меня очень сносно. Потому я остался жить
и не буду раскаиваться». Нет, это не «человек из подполья»,
это Левицкий из романа Чернышевского «Пролог» (1871).
Конечно, мы вправе противопоставлять автора «Что делать?»
автору «Преступления и наказания» или «Записок из подполья»,
однако точно так же мы вправе сопоставлять автора «Что де¬
лать?» и автора «Сна смешного человека» — с одной стороны,
а автора «Дневника Левицкого» и автора «Преступления и нака¬
зания» или «Записок из подполья» — с другой. В какой-то
мере у нас есть даже основания противопоставлять автора
«Что делать?» автору «Дневника Левицкого», а автора «Преступ¬
ления и наказания» автору «Сна смешного человека».
Странное дело, мы очень много говорим о логике и диалек¬
тике Чернышевского, а сами, как правило, рассматриваем его
вне связи с этими категориями, подчас лишая его характер вся¬
кого развития. Если говорится об атеизме Чернышевского
или о его революционности, то непременно форсируются со¬
бытия и дело представляется так, будто атеистом и револю¬
ционером Николай Гаврилович стал чуть ли не в детстве,
а вот если говорится о фурьеризме Николая Гавриловича, то
фурьеристом он почему-то остается нередко до конца своих дней,
хотя где-нибудь здесь же присутствует ссылка и на Маркса, на¬
зывавшего автора романа «Что делать?» выдающимся ученым-
социалистом, и на высказывание Ленина о том, что Чернышев¬
ский был самым глубоким социалистом «до марксово го пе¬
риода».
332
Кажется, мы отказались от той вульгарной точки зрения,
согласно которой Чернышевский написал свой роман лишь в силу
того, что в условиях заключения не имел возможности писать
статьи, и, по сути дела, «Что делать?» — это вовсе и не роман,
то есть не художественное произведение, а завуалированные
в художественную форму политические и экономические трак¬
таты. И опять: от точки зрения вроде бы отреклись, однако
сам анализ произведения никак не корректируется в сторону этого
отречения, поскольку по-прежнему утверждается, будто в
«четвертом сне» Веры Павловны автор отразил собственные
представления о счастливом будущем человечества. Действитель¬
но, в этом сне изображается блаженное состояние России,
перерожденной фалангами и фаланстерами, т. е. человечество
пришло к своему счастью, к общественной гармонии вроде бы
согласно учению Фурье.
Однако при чем здесь Чернышевский, если сон-то снился
Вере Павловне? Да, Вера Павловна — любимый образ Николая
Гавриловича, во многом даже идеализированный. Но любить
своего героя — вовсе еще не значит отождествлять его с самим
собою. Если мы считаем роман «Что делать?» все-таки худо¬
жественным произведением, то у нас нет никаких оснований
без риска разрушить логику характера главной героини видеть
в ее снах зашифрованные предвидения самого автора.
Сон в художественном произведении — условность, но та
условность, которая не должна противоречить ни логике харак¬
теров героев, ни логике общего смысла произведения. Ведь сон
пушкинской Татьяны — это сон Татьяны, и он никак не мог
присниться, скажем, Онегину или Ольге, а сон Раскольникова,
о котором у нас уже шла речь,— это сон Раскольникова, а не
Сонечки или какого-нибудь другого героя, к примеру, той же
ростовщицы, перед убийством которой Раскольникову снился сон
о зверски забитой лошади. И даже два сна, принадлежащих
одному и тому же герою, никак нельзя поменять местами
без явного ущерба для произведения, хотя это всего-навсего
сны, то есть не подвластные, казалось бы, ничьей воле, сдвинутые
в сторону ирреальности картины жизни.
У нас еще были бы какие-то основания подверстывать к
«четвертому сну» авторское представление о контурах буду¬
щей счастливой жизни людей, приснись сей сон не Вере Пав¬
ловне, а, скажем, Рахметову или на худой конец Лопухову.
Но отождествлять уровни только что приобщившейся к об¬
щественной деятельности молодой героини и автора романа —
одного из серьезнейших для своего времени ученых-эконо¬
мистов социалистического толка — дело в любом направлении
333
бесперспективное. Не следует здесь игнорировать и того об¬
стоятельства, что сам Николай Гаврилович весьма заботился
о логике развития характера своей героини и о соблюдении
верности жизненной правде и по этой причине «знакомят»
Веру Павловну с учением социалистов-утопистов, между прочим,
не по Фурье, а по Консидерану.
Виктор Консидеран (1808—1893) — один из самых верных
учеников и последователей Шарля Фурье — стремился в своих
работах придать стройность и доказательность основным поло¬
жениям учения Фурье, освобождая последнее от всей той пу¬
таницы и тех несообразностей, которые вызывали законные
насмешки у многих современников. Достаточно сказать, что
сам Чернышевский при первом же знакомстве с системой
Фурье обнаружил в ней немало и такого, что, по его мнению,
противоречило элементарной научной методологии1.
В своем сочинении «Destlnee soclale» Консидеран дал до¬
вольно систематическое и довольно полное изложение системы
Фурье, исключив те подробности, которые были больше всего
уязвимы для оппонентов; другие подробности он изложил таким
образом, чтобы они могли удовлетворять настроению той части
публики, в среде которой он мог рассчитывать на успех своей
пропаганды. Отсюда же его стремление изложить систему
Фурье эффективно и увлекательно. Поэтому-то автор романа
«Что делать?» и дает своей героине — молодой девице —
читать сочинение Консидерана, а не Фурье, которому собствен¬
ное «открытие» закрыло многие стороны современной ему
действительности и который не столько заботился о пропаганде
своей системы, сколько невозмутимо дожидался неминуемого
исхода из ненавистной ему цивилизации.
Конечно, в мелочах Николаю Гавриловичу иногда мог из¬
менить художественный вкус, и тогда он в порыве умиления
принимался (как это подметил Н. Шелгунов) укладывать свою
любимую героиню не в кровать, что он проделывал по отно¬
шению к другим героям, а в кроватку. Это, разумеется, ме¬
лочи. Но вот если бы Чернышевский начал поднимать уровень
1 Самого Фурье научная методология нисколько не беспокоила, поскольку
он считал, что все науки, кроме точных, есть ложь, посредством которой
г. точение 25 веков морочили людям головы, отвращая человечество в целом
от еетсетпенлого пути гармонического развития страстей. На этом же основа¬
нии он отвергал и всю цивилизацию, извратившую, по его мнению, не
только естественную природу человека, но и сами понятия о естествен¬
ности человека. Собственно говоря, свое учение он называл учением лишь
условно, считан его откровением, снизошедшим к нему в результате опро¬
вержения всех научных положений современной цивилизации и пристального
'|ссл(»довапня ы-ех взаимосвязей человека и природы в космическом масштабе.
334
Веры Павловны до собственного уровня понимания социально-
политических проблем, тогда бы у нас возникли все основания
отказать роману в художественных достоинствах. Видеть же
в авторе романа «Что делать?» неисправимого фурьериста только
на том основании, что главная героиня строит свои представ¬
ления о будущем в образах доступных ее пониманию сочи¬
нений фурьеристского толка,— значит игнорировать сложный
полутора десятилетний путь научных исканий и открытий
Чернышевского-мыслителя.
Нет, мы не случайно и уж, конечно, не ради праздной за¬
нимательности привели отрывки «Из дневника Левицкого...»
и из «Сна смешного человека». Мы хотели еще раз конкрет¬
ными примерами из произведений этих писателей подтвердить
мысль об их неоднозначности и особенно в данном разговоре
о неоднозначности Чернышевского, которого нередко пытаются
представить человеком, лишенным каких-либо противоречий.
Чернышевский — автор целого ряда глубоких статей о фран¬
цузской революции 1848 года,— вероятно, как никто другой,
понимал всю сложность революционного переустройства мира
в духе социалистических идей и не строил на этот счет ни¬
каких иллюзий. Общеизвестно, роман «Что делать?» вызвал
большой резонанс в среде читающей публики. Собственно,
именно эту цель и преследовал Чернышевский, когда так по¬
спешно его писал. Между прочим, в романе мало нового по
сравнению с тем, что им было прежде высказано в статьях,
но Чернышевский хорошо понимал, что статьи его читаются
довольно узким кругом людей, а романы доступны каждому
грамотному человеку. Чернышевскому было важно увлечь много¬
численного читателя социалистическими идеями и предста¬
вить эти идеи в живых образах, пусть в весьма условных
и символических, но все равно более доступных, нежели сухие,
строго научные доказательства. Далее. Поскольку роман писался
и с пропагандистской целью, в нем не должно было оставаться
места тем, скажем, сомнениям, что потом Чернышевский вы¬
скажет во второй части «Пролога». А мысли, которые выска¬
зывает Левицкий о плутах и мерзавцах, губящих всякое об¬
щественное движение, посещали Чернышевского еще тогда, когда
он писал статьи о революции 1848 года. Именно мысль о
вечной победе плутов и мерзавцев и послужила толчком к созда¬
нию такого образа, который мог бы противостоять этим плутам
и мерзавцам. Так появился в романе образ Рахметова,— если
и не главная, то центральная фигура произведения, потому
как никакие мастерские и никакие другие благие начинания
ничего не дадут, если не появятся люди, способные беско¬
рыстно, со знанием дела, с абсолютной убежденностью возгла¬
вить освободительное движение народа. Чернышевский знал,
что если не будет Рахметовых, то повторится «жалкий 1848 год».
Иногда Чернышевского упрекали в том, будто он воспевал
сильную личность и, в частности, наделил своего Рахметова
чертами такой личности. Это мнение, на мой взгляд, покоится
на недоразумении. То есть действительно Чернышевский отдавал
предпочтение людям волевым, энергичным, а не вечно сомне¬
вающимся и кающимся, о чем недвусмысленно высказался
еще в статье «Русский человек на rendez-vous». Но он никогда
не связывал свое понимание сильной личности с тем расхожим
пониманием, которое опиралось на достоверный исторический
прототип,— Наполеона. Еще в мае 1850 года, после длитель¬
ного спора с Лободовским, Николай Гаврилович запишет
в дневнике: «...долго и с ненавистью, т. е. лучше сказать с желчью,
говорил о Наполеоне, так что даже в самом деле в душе было
чувство враждебное к нему, которое особенно усилилось и опре¬
делилось, когда сказал я: «Ну да, поклоняетесь ему, он идол,
все равно, что Молох, которому приносили дочерей своих
в жертву, так и вы приносите ему людей в жертву».
Полное и активное неприятие Наполеона Чернышевским
(как, впрочем, Толстым и Достоевским) носило характер лич¬
ной враждебности к новому идолу, вобравшему в себя, как
в фокусе, рассыпанные черты буржуазного мироощущения.
Этот идол лопнул, однако не исчез бесследно. Он распылился
по миру и заразил миллионы людей «трихинами» буржуазной
психологии, теми самыми «трихинами», от которых гибли
люди в кошмарном сне Раскольникова. В неприятии буржуаз¬
ного миропорядка, буржуазного мировоззрения, буржуазной
психологии рождались идеи братства, товарищества, социальной
справедливости. И тут Чернышевский, Достоевский и Толстой
шли в одном направлении, хотя каждый из них торил свой
собственный, отличный от других путь.
Абсолютно чужда была Чернышевскому и философия
«героя и толпы», он не отрицал, как, скажем, Толстой, роли
«героев» в истории и фактически отрицал активную роль
«толпы». Действительно, пока «толпа» остается всего лишь
навсего «толпой», ее роль в истории ничтожна, а судьба
кошмарна. Но вот когда «толпа» начинает осознавать себя
народом, тогда она и становится главным действующим лицом
истории, и тогда уже не она служит «героям», а «герои»
служат ей. И свой исторический оптимизм Чернышевский черпал
в вере, что «толпа» станет народом и «герои» станут служить
интересам народа.
Как известно, Чернышевский стоял в резкой и активной
оппозиции к теории «искусство для искусства», не была ему
близка и теория «наука для науки» (поэтому он, между прочим,
и поддержал статью Антоновича «Асмодей нового времени»,
опубликованную в мартовской книжке «Современника» за 1862
год и направленную против романа Тургенева «Отцы и дети»).
Наука и искусство, по мысли самого Чернышевского, должны
служить делу просвещения людей, то есть делу преобразования
«толпы» в народ. И тут точек соприкосновения у Черны¬
шевского с Толстым и Достоевским не так уж мало, хотя, ко¬
нечно, не следует преуменьшать и тех расхождений, что были
между ними в действительности.
...Теперь о другом. Не случайно, что самые значительные
литературно-критические работы Чернышевского появились
после его диссертации, в которой он создал свою собственную
эстетическую теорию. В конце пятидесятых — начале шести¬
десятых годов Чернышевский пишет целый ряд статей политико¬
социального характера, в которых опирается как на опыт
революционного движения в европейских государствах и освобо¬
дительного движения в России, так и на различные социальные
и философские концепции своего времени. Видимо, в начале
шестидесятых годов Чернышевский уже был готов сделать все
те выводы, которые позволили бы создать ему собственную,
теперь уже социальную теорию, свободную от влияния
утопических теорий и учений, опровергнутых самой деятель¬
ностью.
Естественно, далеко не всякий писатель и даже мысли¬
тель вырабатывает собственное учение, но Чернышевский был
как раз тем писателем и тем мыслителем, который стремился
выработать таковое. Как известно, Чернышевский к двадцати
семи годам создал собственное эстетическое учение. Создай он
свое законченное социальное учение, и мы, вероятно, на все
остальные его работы смотрели бы только как на подступы
к этому учению...
* * *
Мы уже говорили, что в конце сороковых годов могли возник¬
нуть близкие отношения между Чернышевским и Достоевским.
Вполне вероятно, что в конце семидесятых такие отношения
могли возникнуть между Достоевским и Толстым, однако вряд
ли эти отношения, возникни они, оказались бы прочными —
слишком уж самобытны и крупны были эти люди, чтобы жить
в долгом искреннем согласии.
22
<1078
У Чернышевского с Толстым было всего лишь несколько
встреч р середине пятидесятых годов и известно лишь одно
письмо Толстого к Чернышевскому. У Чернышевского с Достоев¬
ским произошло только две документально установленные
встречи в 1862 году, а в переписке между собой они вообще
никогда не состояли. Из дневниковых записей Толстого и
Достоевского нетрудно установить, что они, за вычетом раз¬
личного рода оговорок, в том числе и существенных, отно¬
сились друг к другу с интересом, хотя не только ни разу в жизни
не встретились, но даже не обменялись ни единым письмом.
Впрочем, проживи Достоевский подольше, они, вероятно, и
встретились бы. Во всяком случае, за несколько месяцев до
смерти Федора Михайловича Толстой признавался Н. Страхову
в письме: «На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом».
Я много забыл, перечитал и не знаю книги лучшей изо всей
литературы, включая Пушкина.
Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, есте¬
ственная и христианская. Хорошая назидательная книга. Я
наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался.
Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».
Толстой в тот период жизни нередко употреблял слово
«люблю», однако он никогда не употреблял его всуе, а выра¬
жал им безоговорочное признание кого-либо или чего-либо.
Через четыре с половиной месяца Достоевского не станет,
и Толстой напишет тому же Страхову: «Как бы я желал сказать
все, что я чувствую о Достоевском. Вы, описав свое чувство,
выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека
и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда
он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой,
нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тще¬
славны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И
никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда.
Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было
такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство
вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только ра¬
дость.— Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то,
что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это
мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю:
умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом
стало ясно, как он мне дорог, и я плакал и теперь плачу» (курсив
мой.— А. Л.).
«Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца
только радость»,— признался Толстой. Оставим в стороне за¬
висть. Но где гарантия, что, проживи Достоевский столь же
338
долгую жизнь, как и Толстой, их сердца продолжали бы биться
в том же согласии, как это было в последние годы жизни Достоев¬
ского?
Как бы писатель ни был требователен к себе, к себе же он
и более терпим. Правда, иногда наступает пора, когда прихо¬
дится отказываться от своих прежних мыслей, от своих преж¬
них чувств и даже от своих прежних произведений, но, по
размышлении, все равно придешь к выводу, что без прежних,
пусть и «ошибочных», чувстч, мыслей, произведений не было
бы и сегодняшних, «правильных», что к вершинам познания
и понимания нельзя прийти сразу, ибо постоянно приходится что-
то преодолевать в себе самом, в чем-то отрицать самого себя.
Но что бы и как бы человек ни отрицал в себе, он все равно
остается с самим собой.
Говорят, чтобы, познать других, нужно прежде всего познать
самого себя. Не уверен, что в этих словах заключена вся истина.
Думается, чтобы лучше познать себя, нужно постараться по¬
знать и других. Во всяком случае, других познать «легче»,
потому как характер, образ мыслей, склонности, настроения
других познаешь в какой-то момент хотя бы относительной
определенности, а для познания самого себя такого момента
нет — слишком долго живет в нас, не угасая, собственное прошлое,
далекое и близкое.
Положим, познав другого, мы потянулись к нему сердцем,
душой... Если тяга взаимна — возникает дружба. Но вот про¬
ходит какое-то время, и вдруг обнаруживается, что и характер,
и образ мыслей, и склонности близкого человека слишком во
многом не совпадают с твоими собственными. И первая
мысль: когда-то ошибся, что-то увидел не так, как нужно было
увидеть. Обида на собственную «ошибку» в прошлом усугубляет
«вину» в настоящем того, в ком теперь пришлось разочаро¬
ваться. Собственные ошибки и собственные опрометчивые шаги
признавать трудно, и тогда причина разрыва начинает видеть¬
ся в другом: твой бывший избранник изменился, изменил себе
прежнему. Но и этот вариант полностью устроить не может
и возникает нечто компромиссное: с одной стороны, вроде бы
ты сам когда-то допустил излишнюю доверчивость и в резуль¬
тате обманулся, а с другой — близкий в прошлом человек из¬
менился в чуждом тебе направлении. И в таком случае, чем
были ближе, теснее отношения, тем больнее и острее пережи¬
вается разрыв.
В жизни все бывает одновременно и проще, и сложнее.
Сильные духом и самостоятельные нравственными исканиями
люди идут собственными непроторенными путями, идут вместе-
339
врозь, в какой-то момент пути их могут пересечься, и тогда
между этими людьми возникает прекрасное чувство, именуемое
дружбой.
Конечно, можно считать, что Толстой и Достоевский не
сошлись из-за обоюдной гордыни или обоюдного самолюбия,
и это не будет противоречить фактам жизни, но это все же
встанет в противоречие с истиной. Их сближению противостоял
своего рода инстинкт самосохранения. Толстой и Достоевский
шли и в жизни, и в литературе каждый своим путем, но вот
к концу семидесятых и к началу восьмидесятых годов, можно
сказать, пути их пересеклись (заочно они прямо-таки объясняются
друг другу в любви). Но о пересечении их путей больше сви¬
детельствуют даже не их высказывания друг о друге, а их
нравственное самочувствие той поры. Допустим, что они встре¬
тились бы и подружились и Достоевский еще прожил бы до¬
вольно долгую жизнь. Или допустим, что в конце сороковых
годов Чернышевский встретился бы и подружился с Достоев¬
ским. Так неужели можно предположить, что они так и замерли
бы навсегда на этих точках пересечения? Их пути сходились
под определенным углом и в какой-то момент пересеклись,
и угол (несхожесть, противоречие и т. д.), естественно, в этот
момент исчезал. Однако, как только они продолжили бы свои пути,
неминуемо вновь бы образовался угол. А ведь и самый ничтожный
угол по мере увеличения составляющих его сторон увеличивает
и расстояние между этими сторонами.
К счастью, Толстой и Достоевский не обременили себя ни
взаимной дружбой, ни взаимным знакомством, то есть не отяго¬
тили себя личными отношениями, а потому они и сумели со¬
хранить к нравственным исканиям друг друга ничем не замутнен¬
ный интерес. Они не оставили нам и взаимных обвинений
в адрес друг друга. Ведь целое литературное наследие могли бы
составить различного рода документы (письма, воспоминания
и т. д.), свидетельствующие о разрывах прежних дружеских
отношений между великими писателями прошлого. Но эти до¬
кументы ценны для нас не тем (или должны быть для нас цен¬
ны не тем), что в них передаются различные печальные подроб¬
ности из жизни этих писателей, а тем, что в них заключена
великая боль великих людей, которую им пришлось пережить в ре¬
зультате разрывов с друзьями, разрывов, как правило, неминуе¬
мых по своим причинам, горестных по своим последствиям и ни¬
чтожных по своим поводам. Ведь как, например, ничтожны и мел¬
ки взаимные препирательства того же Достоевского и Тургенева,
последовавшие за их вторичным разрывом. Нам известны эти
документы, но мы можем только догадываться о том опустоше¬
нии, которое произвели этот разрыв и его последствия в их
чутких до болезненности душах.
Сейчас, когда мы ставим в один ряд Достоевского, Черны¬
шевского и Толстого, это нам кажется естественным и законо¬
мерным, хотя мы прекрасно знаем о существовавших между
ними противоречиях и различиях во взглядах, однако если
учесть, что каждый из них был и сам по себе достаточно про¬
тиворечив, и эти противоречия внутри себя были порой серьез¬
нее и глубже тех противоречий, что разъединяли их между
собой, то мы должны принять наше их нынешнее восприятие
более истинным, чем то, которое можно вывести, если опираться
только на факты их личных взаимоотношений.
И все-таки, чтобы воспринять как нечто единое все то, что
зовется великой русской литературой XIX века, недостаточно
ограничить себя психологическими построениями и догадками,
потому как роднит их и объединяет нечто более значимое,
нежели талантливость в области изящной словесности. Если
говорить коротко, их объединяет, несмотря на всю их исклю¬
чительную индивидуальность, общее стремление сделать человека
и человечество счастливыми.
История оставляет имена как вехи, но жизнь заполняет
все пространство, вехи нас приближают к этой жизни, прибли¬
зившись же к жизни и изучив ее во многих подробностях,
мы только тогда начинаем правильно понимать истинное зна¬
чение и самих вех.
Наша великая литература нам досталась не даром, ее
великий нравственный смысл оплачен многими годами кре¬
постничества, когда исторические судьбы его уже были пред¬
решены. Через ссылки и казни, отчаяние и неверие, непонима¬
ние и сомнения, мистицизм и ошибки прошли лучшие сыны
нашего народа. Они жаждали любви и братства, счастья и сво¬
боды, они пристально всматривались в прошлое или с той же
пристальностью смотрели по «сторонам», и каждый из них
беспощадно вглядывался в глубь самого себя, и тут ими руко¬
водила не простая любознательность, они во имя будущего искали
ответы на те вопросы, которые ставила перед ними близкая им,
но загадочная современность.
А вопросы эти были непростые. Казалось бы, отмена кре-
крепостного права должна была вывести нашу литературу в более
спокойное русло, поскольку главным ее пафосом в предреформен-
ный период была борьба с крепостническими отношениями, ковер¬
кавшими на протяжении долгих десятилетий души людей. И со
страниц лучших творений предреформенного периода вставали
бесчисленные жертвы крепостного права: с одной стороны, не¬
341
развитые в силу своих крепостных обязанностей крестьяне и
прочий крепостной люд, с другой — опустошенные и искалечен¬
ные крепостными правами помещики... Однако великая русская
литература была в своей основе не только антикрепостнической,
не в меньшей мере она была и антибуржуазной. И эта ее тен¬
денция отчетливо просматривается уже в творениях Пушкина
и Лермонтова, Белинского и Гоголя, то есть даже тех писате¬
лей, которые могли только предчувствовать появление на арене
жизни сноровистых апостолов «господина Купона».
Хозяином положения становился «человек, который может
дать рупь», в котором было что-то элементарно простое и одно¬
временно что-то непостижимое. Его заклинали словами: «госпо¬
дин Купон», «хам», «чумазый», «хищник» и т. д. Но он не
реагировал ни на какие слова, больше того, он умудрялся извле¬
кать барыши даже из этих слов. Да что слова! Рушились
абсолютные монархии, но от этого только укреплялась аб¬
солютная власть денег. Падали республики, и от этого тоже
укреплялась абсолютная власть денег. Возникали войны, заклю¬
чались перемирия, и в любом случае укреплялась абсолют¬
ная власть денег. Власть денег казалась неотвратимой, и в этой
ее неотвратимости угадывалось что-то от неотвратимости са¬
мой смерти... Тайну нового дьявола пытались вычислить спо¬
койные рационалисты, и их охватывало беспокойство; его тайну
пытались разгадать нервные мистики, и их охватывал ужас,
а дьявол, посмеиваясь, сталкивал каждого с каждым, в атмосфере
междоусобиц он дышал полной грудью. И не с отчаяния ли
перешагнувший в двадцатый век мудрый Лев Толстой возопил
о непротивлении злу насилием и призывал к опрощению мате¬
риальной жизни, дабы хоть при помощи этих кустарных мер
выпутаться из сетей многоликого и всемогущего дьявола.
Пусть сейчас могут показаться кому-то наивными счастливые
сны Веры Павловны, или кошмарные сны Раскольникова,
или отчаянные призывы яснополянского старца, пусть мы не
найдем тождества между представлениями о будущем, которое
предрекали наши писатели, и сегодняшним днем, пусть мы не
найдем тождества между действительным отдаленным нашим
прошлым и той его идеализацией, которой соблазняли писатели-
идеалисты, пусть между самими писателями было больше
распрей, нежели согласия,— все равно их частные и совокупные
усилия не пропали даром: они завещали нам великое духовное
наследие. Амплитуда выстрадывания ими справедливых социаль¬
ных идеалов простиралась от русской крестьянской общины
в прошлом до всечеловеческой фаланги в будущем. И если мы по¬
пытаемся «расшифровать» амплитуду этих колебаний, перед нами
342
предстанут долгие и напряженные искания справедливого со¬
циального идеала, который бы не замыкался на собственно
социальную теорию, а обнимал бы все стороны бытия и выстраи¬
вал бы цельную философскую систему. В нашу задачу
не входило сколько-нибудь широкое обсуждение этой важнейшей
проблемы, но считаю необходимым оговориться в том духе, что
в данном разговоре были взяты как раз фигуры в интерпретации
одной и той же социальной идеи крайне несхожие.
Сложность идейной борьбы в прошлом веке как раз и за¬
ключалась в том, что предлагалось множество самых различных
путей, ведущих к схожей цели. Мы говорили об интерпретации
сущности социализма только Чернышевским и Достоевским,
а возьмите русский социализм Герцена и Огарева, мисти¬
ческий социализм Чаадаева, анархический социализм Бакунина,
социализм петрашевцев или членов Кирилло-Мефодиевского
общества (Н. Костомаров, Т. Шевченко, П. Кулиш и др.) и даже
некоторых славянофилов...
Чтобы не вызывать ненужных словопрений, еще раз оговорюсь:
сами славянофилы отнюдь не проявляли энтузиазма, когда их
приобщали к числу тех, кто видел в социализме благоприят¬
ную перспективу развития общественных отношений. Более того,
они не раз открыто открещивались от социализма, однако
тут мы не должны считаться только с их собственным само¬
определением (хотя, вероятно, и не должны его в полной мере
игнорировать), иначе мы рискуем упростить или даже исказить
борьбу идей рассматриваемой эпохи.
«Не удивляйтесь сближению,— писал незадолго до своей
смерти Белинский к Анненкову,— лучшие из славянофилов
смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг (имелся
в виду М. Бакунин.— А. Л.); они всосали эти понятия из со¬
циалистов, и в статьях своих цитируют Жорж Занд и Луи
Блана».
«Социализм,— писал в 1851 году Герцен,— который так ре¬
шительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных
лагеря, не принимается ли он славянофилами так же, как нами?
Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку».
Но вот Аполлона Григорьева эта встреча на «мосту» как
раз и не устраивала, он отчаянно ругал славянофилов, говоря,
что он не может примириться ни со «слепым и отвергаю¬
щим все артистическое социализмом Чернышевского», ни с
«таким же тупым и безносым, да вдобавок еще начиненным
всякой поповщиной социализмом славянофилов». Как видим,
А. Григорьев сближал на почве не принимаемого им социализ¬
ма славянофилов даже с Чернышевским.
343
Так или иначе, но эти свидетельства современников мы
игнорировать не можем, к тому же и в последующем не раз
указывалось на связь между их учением и социалистическим
движением, в частности народнического социализма и анархи¬
ческого. В. Богучарский в книге «Активное народничество
семидесятых годов» замечал: «Ими (то есть славянофилами.—
А. Л.) только выработаны те социально-экономические идеи,
которые вошли полностью в направление народническое (зна¬
чение «общины, мира, артели», т. е. тех «основ», которые
проповедовал Аксаков еще в начале 40-х годов), но в их среде
уже намечалось, не получившее, правда, впоследствии развития,
и стремление к «слиянию с народом».
Если мы не ограничили бы себя ни временем, ни простран¬
ством, то нам, наверное, пришлось бы потревожить имена
и Платона, и Аристотеля, и Сократа, и Сенеки, и Эпиктета,
и Марка Аврелия, и многих, многих других; а если мы не
ограничили бы себя только пространством, то нам пришлось
бы говорить и о Сен-Симоне, и об Оуэне, и о Фурье, и о Прудоне...
А между тем Фурье всех остальных считал шарлатанами,
а эти остальные находили единения больше всего в том, что
считали таковым его самого. Как метко заметил В. Одоевский:
в ту пору не было двух социалистов, «которые были бы и даже
могли быть между собою согласны не только в приложениях
своих начал, но даже в главных основаниях». Следует сказать,
что сам В. Одоевский пытался положить начало «Новой Рус¬
ской Политической экономии», главным принципом которой
была бы «вековая мысль наших предков» о том, чтобы
осуществить в жизнь «счастье всех и каждого».
Что же тогда такое для того времени само понятие «со¬
циализм» — фантом, простое собирательное слово, под которое
можно подвести всех и каждого? Нет, это идеал справед¬
ливой жизни, а общечеловеческие идеалы не выдвигаются,
не придумываются и даже не открываются... Они выстрадываются
человечеством, всем человечеством и для всего человечества,
эти идеалы имеют эпическую природу — они взрастают из
вечности и служат вечности. Но почему же тогда именно на Фран¬
цию одни смотрели как на источник света, а другие — как на очаг
заразы? А потому, что именно во Франции в ту пору можно было
громко говорить о социальной справедливости и открыто призы¬
вать к социальным экспериментам. Русские социалисты самых
разных направлений и оттенков со вниманием слушали Францию
и с восторгом смотрели на нее из своего далека. Но какая Франция
имелась в виду?
«Русская интеллигенция полюбила не современную, дей¬
ствительную Францию,— писал П. Анненков, хорошо знавший
эту страну,— а какую-то другую — Францию прошлого, с при¬
месью будущего, т. е. идеальную, воображаемую, фантасти¬
ческую Францию». Вот потому-то, между прочим, многих и ожи¬
дало разочарование при их личном знакомстве с этой страной.
И в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского
сквозит не злорадство или высокомерие, а глубокое разочарование.
И люди сороковых и шестидесятых годов выдвинули громад¬
ную плеяду замечательных общественных деятелей не потому,
что они чего-то недопонимали, а потому, что они многое
глубоко понимали, но жили они в эпоху, когда вечный
идеал справедливой жизни из области мечтаний стал переходить
в область действительной жизни, вернее, в область реальных
надежд. Потому-то идеи научного социализма и найдут затем
в России столь благодатную почву!
Идея социализма (в любой ее интерпретации) была аль¬
тернативой идее капитализма с его безграничным куль¬
том индивидуализма, один из апостолов которого, Макс Штир-
нер, писал в своей книге «Единственный и его собствен¬
ность»: «Народная свобода не есть моя свобода!.. Бог и челове¬
чество поставили свое дело только на себе... Божественное —
дело Бога, человеческое — дело человечества. Мое же дело не
божественное и не человеческое, не дело истины и добра, спра¬
ведливости, свободы и т. д. Это исключительно мое, и это дело
не общее,— а единственное так же, как и я — единственный.
Для Меня нет ничего выше Меня... Я — собственник моей мощи,
и только тогда становлюсь таковым, когда я осознаю себя
единственным... Всякое высшее существо надо мной, будь это бог
или человек, ослабляет чувство моей единичности».
Этот принцип человеческих джунглей отнюдь не был лишь
теоретическим посылом. И наш юный социализм нестройными
рядами, неся постоянно потери, мужественно вступил в схватку
со зрелым и хорошо вооруженным дьяволом.
Умер Достоевский, и Толстой сказал, что у него исчезла
опора. Умирают писатели, но не умирает то, что ими было
содеяно для счастья человечества. Это и есть вечная опора
человечества в его нескончаемой борьбе с дьяволами разных
цветов и оттенков.
Во всей русской литературе прошлого века не было ни одного
великого писателя, который бы вошел в гласную или неглас¬
ную сделку с этим дьяволом. Вся великая русская литература
в своей главной направленности была антибуржуазной, что и пред¬
определило ей долгую и трудную жизнь в будущем, более долгую,
нежели жизнь самого дьявола.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В СИБИРИ
1864—1883
КАТОРГА
Но все это будет потом: долгие годы каторги и еще более
долгие годы ссылки, хрупкие радостные надежды и почти пос¬
тоянные, скрываемые от всех горькие думы, мучительное оди¬
ночество и доводящая до отчаяния бездеятельность, позднее
возвращение из холодой Сибири на берега родной Волги, за¬
поздалая обида на судьбу, что выбила его на двадцать лет из
жизни, и утомительные споры задним числом со своими более
удачливыми, чем он, оппонентами...
А тогда, в конце весны 1864 года, он с каждым часом
все более и более отдалялся от Петербурга, чья жестокая власть
казалась нелепой вот в этих бесконечных просторах, от которых
веет не только свежестью вступающих в лето лугов и лесов,
но и естественной для человека волей; нелепым казались и сло¬
ва, должные регламентировать его отношения с двумя неслучай¬
ными попутчиками: «государственный преступник», «жандар¬
мы»... Там, в Петербурге, эти слова имели жестокий, роковой
смысл и неоспоримое никем значение, здесь же, на многоверст¬
ных российских дорогах, стирался их смысл, хотя от этого
и не ослабевала их сила. В те времена Петербург еще не построил
железных дорог в Сибирь, не изобрел специальных для арестантов
тюрем на колесах, не придумал соответствующих инструкций...
Пока патриархальный обычай еще соперничал с волей главного
города.
Позади остались тысячи верст пути, весна уже перекатилась
в лето, по мере отдаления от Петербурга и «государственный
преступник», и жандармы все более и более проникались друг
к другу доверием. Подъезжая к какой-то станции между Крас¬
ноярском и Иркутском, Николай Гаврилович из разговоров своих
попутчиков понял, что у одного из них где-то поблизости про¬
живают родственники.
— На обратном пути разве заедем,— как-то мечтательно
пообещал жандарм-сибиряк товарищу, что был родом из корен¬
ной России.
— Братцы!— воскликнул «государственный преступник», об¬
ращаясь к своим конвоирам.— Дайте отдохнуть сутки; устал
346
я очень, разбило; а вы себе идите, если хотите, в вашу деревню.
Посадите меня на станции в комнату: верьте мне — никуда
не уйду, из комнаты не выйду.
Патриархальная доверчивость и живые человеческие желания
на сей раз одолели казенные петербургские предписания, и гроз¬
ные в своем звании «попутчики», влекомые интересами житейско¬
го характера, попросив смотрителя станции приглядывать за
«государственным преступником», отправились погостить к род¬
ственникам сибиряка-жандарма. А станционный смотритель, раз¬
бираемый любопытством, вскоре же отправился в комнату, где
определили «государственного преступника».
— Чайку не желаете ли?— завел разговор смотритель.
— Благодарю,— мягко отвечал худой человек в очках,—
если найдется молоко — выпью... Устал я с дороги, очень устал,
отдыхать надо...
Нашлось и молоко.
— Из каких же вы будете?— как бы ненароком спросил
любопытный станционный смотритель.
— Как из каких?
— Рукомеслом каким занимались у себя в России?—
уточнил он свой вопрос.
Николай Гаврилович на несколько секунд задумался, улыб¬
нулся и отвечал:
— По писарской части маялся... По писарской, по писарской!
«Ему бы монахом быть, а он в каторгу!»— подумал добрый
смотритель и не стал больше докучать вопросами усталому
путнику. Через сутки вернулись в сопровождении гурьбы то ли
родственников, то ли приятелей не остывшие еще от хмеля
веселые жандармы. Смотритель выписал им подорожную, и вскоре
тарантас запылил на восток. Недели через две-три жандармы
ехали обратно. «Такого человека,— говорил один из жандармов
смотрителю, вспоминая Николая Гавриловича,— одного, без нас,
караульных, в каторгу без опаски посылать можно: посади
одного в повозку, скажи: «поезжай в каторгу!»— беспременно
доедет, никуда в сторону не заглянет...»
И жандарм был почти прав. Разве что из самолюбия один
не поехал бы: положено «государственных преступников» (а вы
меня таковым публично назвали) отправлять в каторгу под кон¬
воем, вот и конвоируйте. И еще добавил бы что-нибудь характер¬
ное для себя, к примеру, так бы сказал: «Решительно не поеду
в каторгу один!»
Все началось два года назад в тот субботний день 7 июля,
когда в его квартиру пожаловал жандармский полковник Ракеев...
Потом будут комендант Петропавловки генерал Сорокин, надзи¬
347
ратели, члены следственной комиссии, провокаторы литератор
Всеволод Костомаров и забулдыга Петр Яковлев, сенаторы, ми¬
нистры, бесчисленные жандармы, а на Мытнинской площади даже
палачи... Долгая вереница должностных лиц во главе с самим
императором Александром Николаевичем. И ни к кому из них
в отдельности он не испытывал чувства личной ненависти, даже,
казалось бы, к всемогущему императору, подписавшему столь
суровый и несправедливый ему приговор, ибо в это время он
пришел к выводу, что и сам царь предусмотрен ненавистным
ему государственным строем, вот против этого строя он боролся
и будет бороться с ним до конца.
Было время, когда он ненавидел конкретных чиновников
и конкретных помещиков, конкретных жандармов и конкретных
тюремщиков, мечтал о революции и республике во главе с... на¬
следным монархом. Правда, когда он заканчивал университет,
вера его в целесообразность монарха поколебалась, и он запи¬
сал в дневнике: «Видно, тогда я был еще того мнения, что
абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать выс¬
шим классам угнетать низшие, что это противоположность арис¬
тократии.— А теперь я решительно убежден в противном —
монарх, и тем более абсолютный монарх,— только завершение
аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее
к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии».
Но эти мысли были навеяны, скорее, репрессивной поли¬
тикой Николая I в период начавшейся реакции. Мы уже гово¬
рили, что в период восшествия на престол Александра II Николай
Гаврилович разделит общие иллюзии, о чем свидетельствуют
не только его статьи, в которых он сравнивал Александра II
с Петром I, но и письма к отцу, в которых будет говориться
о «добром сердце государя». Любопытна в этом смысле и ко¬
ротенькая записка П. П. Пекарскому, относящаяся к концу
1856 года:
«Ольга Сократовна и я просим Вас, Петр Петрович, дать нам
приют у Вашего окна, когда все верноподанные будут смотреть
на процессию въезда государя. Можно ли это?
Ваш покорный слуга Н. Чернышевский».
А острые разногласия Чернышевского с Герценом в 1859 году
как раз и будут обусловлены тем, что Герцен к этому времени
еще полностью не избавится от тех иллюзий, которые столь
долго держали в плену и самого Чернышевского. Теперь же
Чернышевский разжалует из «великих» даже Петра I, что вполне
соответствовало логике развития его политической концепции,
теперь для него нет «плохих» и «хороших» монархов, теперь
для него враги не монархи, а монархии, которым он последова¬
тельно стал противопоставлять идею народовластия, теперь для
него было: или — или.
Мы знаем, как спокоен был Чернышевский во время след¬
ствия, не оставит его это спокойствие ни на каторге, ни в ссылке,
но то не было спокойствие смирившегося или тем более сло¬
мившегося человека, обреченно ждущего от жизни самого худ¬
шего. То было спокойствие человека, глубоко убежденного и по¬
нимающего логику политических событий. Еще в 1859 году в мар¬
товской книжке «Современника» (раздел «Политика») Чернышев¬
ский, во многом предопределяя свою собственную судьбу, писал
по поводу освобождения из тюрьмы и изгнания неаполитанского
политического деятеля Поэрио и его сорока трех товарищей
больным неаполитанским королем Фердинандом II: «Изгнанники
были встречены в Ирландии и в Англии с энтузиазмом... Поэрио
и его товарищи были брошены в темницы вследствие события
1848 года; но ни Поэрио, ни Сеттембрини, ни большая часть
других изгнанников, прибывших теперь в Англию, нимало не
участвовали в революционных движениях, вынудивших у Фер¬
динанда II согласие на конституцию. Они только пользовались
популярностью, и потому сам король почел нужным обратиться
к ним, когда вследствие разных обстоятельств исчезло доверие
к нему и он почел себя находящимся в опасности. Он сам про¬
сил Поэрио и других принять управление делами, чтобы спасти
ему жизнь и престол. Вскоре потом обстоятельства изменились.
Фердинанд II почел возможным обойтись без их помощи и унич¬
тожить конституцию. Если бы Поэрио и его товарищи могли
полагать, что чем-нибудь заслужили его гнев, они имели довольно
времени уехать из Неаполя. Но они полагали, что Фердинанд II,
хотя и нашел полезным возвратиться к прежнему принципу
управления, смотрит на них, своих бывших министров, как на
людей, которым должен быть признателен за помощь в трудные
для него времена. Такая мысль была заблуждением излишней
самонадеянности. Фердинанд II думал о них совершенно иначе,
и нельзя не согласиться, что с своей точки зрения он поступил
совершенно основательно, решившись наказать их за либераль¬
ные мнения. Правда, они не сделали ничего преступного; но
самый образ их понятий был преступен по неаполитанским
законам, восстановленным по усмирении революции. Правда, они
не были революционерами; но революционеры доверяли им,
когда они были призваны к управлению делами. Безнаказан¬
ность таких людей, конечно, была бы противна прочности вос¬
становленной системы...»
:м<>
Это было предупреждение Чернышевского всем либералам,
это было предупреждение и Герцену, верившим, что абсолю¬
тистские режимы можно укротить мирным путем. Да, как бы
говорил Чернышевский, и у нас может создаться ситуация, что
монарх вынужден будет призвать к решению государственных
вопросов популярных либеральных деятелей, и у нас может
создаться ситуация, что монарх «дарует» конституцию. Но из¬
менится ситуация, и тот же монарх резко изменит полити¬
ческий курс, а либеральные деятели окажутся в роли Поэрио
и его товарищей.
Далее Чернышевский как бы защищает действия неаполи¬
танского монарха: «Нам кажется, что Фердинанд II никак не
мог оставить Поэрио и его товарищей безнаказанными. Они
были преданы суду; юридических доказательств против них
не нашлось... главным документом обвинения служило подлож¬
ное письмо, написанное по распоряжению обвинителей каким-
то господином, получившим за это денежное вознаграждение...
Либералы чрезвычайно громко кричат... о незаконности осужде¬
ния при таких обстоятельствах; но мы думаем, что в этом,
как и во многих других случаях, либералы, останавливаясь
на пустых подробностях, упускают из виду сущность дела. Раз¬
ве не бывает таких процессов, в которых убеждение судей о
виновности или невиновности подсудимого составляется на осно¬
вании впечатления, производимого всею его жизнью, его лич¬
ностью и совокупностью тысячи мелочных фактов, из которых
каждый сам по себе не составляет юридического доказатель¬
ства, но которые все вместе производят нравственное убеждение
о его виновности или невиновности. Притом нам кажется, что
требовать улик против Поэрио значило быть слишком щепе¬
тильным формалистом. Каждому было известно, что он не
одобряет правительственную систему, которой следовал Ферди¬
нанд II до революции и по укрощении революции; следова¬
тельно, он имел образ мыслей, враждебный господствующему
порядку; следовательно, он был врагом правительства; следова¬
тельно, правительство было бы виновато перед самим собою
и перед государством, порядок в котором должно было охра¬
нять, если бы оставило безнаказанным своего врага и такою без¬
наказанностью ободрило бы людей, имеющих вредный образ
мыслей. Поэрио и его товарищи могут быть, как частные люди,
достойны всякого уважения по благородству характера, по та¬
лантам и т. д.; но как враги правительства они основатель¬
но могли быть подвергнуты смертной казни. Но правительство
смягчило это наказание, заменив его заключением в крепость...
Мы грустим о тяжести этих страданий, мы высоко уважаем
350
личные достоинства и благородство характера несчастных стра¬
дальцев, но, повторяем, они сами были виноваты в том, чему
подверглись».
Нет, Чернышевский вовсе не защищает Фердинанда II, но
он разрушает иллюзии, показывая логику политической борьбы,
которая никак не соответствует либеральным воззрениям на
действительное положение дел. И дальнейшее подтвердит право¬
ту Чернышевского. Потому-то он и был спокоен во время след¬
ствия, потому-то его не удивили и не возмутили ни подлож¬
ные письма, ни лжесвидетели, ни суровость приговора при от¬
сутствии юридических доказательств, ни сам обряд унизитель¬
ной «гражданской казни». У правительства были «нравственные
убеждения о его виновности», «он имел образ мыслей, враж¬
дебный государственному порядку», «следовательно, он был
врагом правительства; следовательно, правительство было бы
виновато перед самим собою и перед государством, порядок
в котором должно было охранять, если бы оставило безна¬
казанным своего врага и такою безнаказанностью ободрило бы
людей, имеющих вредный образ мыслей». Это была логика рево¬
люционера, который знал, что в случае победы революции ее
враги тоже будут судимы не по существовавшим законам, а по
«нравственным убеждениям». По законам должно судить лишь
тех, кто принимает тот строй, который установил эти законы.
Чернышевский во время следствия доказывал, что он не нару¬
шал законов, но он ни разу не высказался в пользу суще¬
ствующего государственного строя. В ходе процесса Чернышев¬
ский вынудил своих судей пойти на преступление, которое со¬
стояло не в том, что ему вынесли суровый приговор, а в том,
что судьям пришлось прибегнуть к подложным письмам и
лжесвидетелям, что противоречило закону, от имени которого
они его судили. Скажи ему сразу, что у правительства нет
притив него никаких юридических улик, но у правительства
есть «нравственные убеждения в его виновности», и он не стал
бы протестовать в этом случае даже против самого сурового
приговора. Когда он писал статью о Поэрио и его товари¬
щах, он думал не только о неаполитанских страдальцах, он за¬
глядывал и в свое возможное будущее.
И вот теперь это возможное будущее превратилось в реаль¬
ность настоящего, 5 июня 1864 года Чернышевский прибыл
в Тобольск, где был определен в местную тюрьму. Здесь он
познакомился со многими повстанцами-поляками и с бывшим
студентом Медико-хирургической академии Сергеем Стахевичем,
написавшим много лет спустя воспоминания под названием «Сре¬
ди политических преступников», в которых немало страниц пос¬
вящено Чернышевскому.
Хотя Чернышевского поместили в отдельную камеру, Ста-
хевичу разрешали заходить к нему. «...В то время, в июне
1864 года,— вспоминал Стахевич,— Николай Гаврилович был
той уверенности, что в ссылке он пробудет недолго, в скором
времени будет освобожден, восстановлен в правах, тотчас вер¬
нется в Петербург и примется за свою прежнюю работу — за
журналистику». Как-то Николай Гаврилович сказал Стахе-
вичу:
— Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки
полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит —
особого рода реклама.
В Тобольске Чернышевский пробыл недолго: через несколь¬
ко дней его отправили в Иркутск, куда он прибыл 2 июля,
затем его направляют в село Усолье на солеваренный завод,
но вскоре опять возвращают в Иркутск. 23 июля следует «опре¬
деление» Иркутского губернского правления: «Государственного
преступника Николая Чернышевского назначить в работу в
Нерчинские рудники».
И снова впереди дорога, теперь по Амурскому тракту. 3 ав¬
густа Чернышевский был доставлен в Читу и сдан в Нерчин¬
ское горное правление, решением которого он был определен в
Кадаинский рудник. В тот же день помощник горного началь¬
ника штабс-капитан Герасимов доносил в Иркутск, что «Чер¬
нышевский в Нерчинский завод был доставлен 3 августа и
того же числа по освидетельствовании... был отправлен... для
помещения в Кадаинское лазаретное отделение и по выздоров¬
лении для употребления в рудничные работы». В лазарете Чер¬
нышевский пробыл почти полгода. Здесь он встретился со своим
старым товарищем — Михаилом Михайловым, который через год
скончается в том же лазарете.
На Кадаинский рудник прибывали все новые и новые пар¬
тии заключенных, особенно много было поляков. После лаза¬
рета Чернышевского поместили в небольшом ветхом домике.
«По правде говоря,— вспоминал потом Николай Гаврило¬
вич,— мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время
здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего до¬
мика».
В эту же зиму Александр II как-то выехал на охоту в
Новгородскую область, среди его сопровождавших был и поэт
Алексей Константинович Толстой. Царь стал расспрашивать Тол¬
стого о литературных делах.
з;>?
— Русская литература,— сказал Алексей Константинович,—
надела траур по поводу несправедливого осуждения Черны¬
шевского...
Царь не дал ему окончить фразы:
— Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о
Чернышевском,— непривычно-строгим голосом проговорил он.
Но через год с небольшим ему снова «напомнили» о Чер¬
нышевском. 4 апреля 1866 года на него было совершено по¬
кушение. Царь подумал, что стрелял в него поляк. Оказалось,
что стрелял русский — дворянин Дмитрий Каракозов. Следствие
установило, что среди других задач, которые ставили перед
собой каракозовцы, было и «освобождение из каторжных работ
государственного преступника Чернышевского для руководства
предполагавшеюся революциею и для издания журнала...».
Много лет спустя бывший каракозовец Петр Николаев вспоми¬
нал: «Естественно... первой своей задачей после организации
кружка в тайное общество поставили освобождение Чернышев¬
ского. Зимой 65 года многие из членов кружка усердно за¬
нимались изучением Сибири по имеющимся скудным источни¬
кам. Летом 66 года Странден (в приговоре говорилось, что Ни¬
колай Странден «готовился ехать в Сибирь за Чернышев¬
ским».— А. Л.), взявшийся за это дело, должен был отправить¬
ся в Иркутск, где надеялся завязать связи с Щаповым (из¬
вестный историк Афанасий Щапов был сослан в Сибирь за
участие в демонстративной панихиде по крестьянам, убитым
в селе Бездна.—А. Л.), а также кое с кем из поляков...»
Когда велось следствие по делу каракозовцев, Ольга Сок¬
ратовна добивалась разрешения на поездку к мужу в Кадаю.
В начале мая она вместе с семилетним сыном Михаилом и
доктором Е. М. Павлиновым выехала в Сибирь. «До Нижнего
Новгорода ехали по железной дороге, от Нижнего до Пер¬
ми — на пароходе, а от Перми до самого конца — на лоша¬
дях».
В Иркутск Ольга Сократовна приехала 18 июня, а разреше¬
ние на свидание с мужем получила только 23 августа.
«23 августа,— будет потом вспоминать Михаил Николаевич
Чернышевский,— прибыли мы в Кадаю. Это маленький поселок
из нескольких деревянных домиков, верстах в 15 от китайской
границы. В одном из этих домиков обитал и отец... Две ма¬
ленькие комнаты. На полу груды книг... Свидание наше про¬
должалось всего пять дней (уехали 27 августа), так как для
отца было невыносимо постоянное присутствие жандармов... Отец,
конечно, был обрадован встречею с горячо любимой матушкою,
но к чувству радости не могло не примешиваться и горькое
23
4078
353
чувство досады на то, что для свидания на несколько дней
понадобилось несколько месяцев дороги и много сопряженных
с этим расходов и неприятностей. В последующих своих письмах
он неоднократно умоляет мою матушку не повторять более своих
попыток видеться с ним, указывая на длинность пути и невоз¬
можные местные условия жизни и выражая вместе с тем глу¬
бокую уверенность в том, что по истечении срока его ссылки
он будет переведен поближе к России, где получит возможность
возобновить свою литературную деятельность».
В конце сентября Чернышевский был переведен в Алек¬
сандровский завод, расположенный неподалеку от Кадаи. Здесь
он вновь встретился с Сергеем Стахевичем, познакомился с его
товарищами по камере (заключенные называли ее «полицией»),
среди которых был и бывший полковник А. Красовский. В на¬
чале следующего года камеру пополнили каракозовцы Вячеслав
Шаганов, Николай Странден, Петр Николаев, Дмитрий Юрасов
и Максимилиан Загибалов. А вскоре прибыли поляки из за¬
байкальских повстанцев: Казимир Арцимович, Леопольд Илья-
шевич, Эдуард Вронский, Александр Властовский.
В июне месяце 1867 года Чернышевский по окончании сро¬
ка «испытуемости» был освобожден из острога с разрешением
жить на частной квартире. Он поселился в доме местного дьяч¬
ка. Через год, после попытки А. Красовского совершить побег
(Красовский по дороге к китайской границе потерял составлен¬
ный им план своего маршрута и записную книжку и застрелил¬
ся), его вновь перевели в тюремное помещение.
«Николай Гаврилович прожил с нами в «полиции» около
года,— будет вспоминать Сергей Стахевич.— По освобождении
из «полиции»... он жил в том же Александровском заводе на
квартире... Одет он был постоянно в халат из черного сукна,
подбитого мехом из белой мерлушки... на ногах имел большею
частью валенки. Когда он жил в заводе на квартире и
оттуда приходил к нам, на нем бывал иногда черный сюр¬
тук, довольно щеголеватый, иногда просторный серый пиджак,
попроще сюртука, но сшитый, очевидно, тоже из очень хоро¬
шего материала и очень хорошим портным. Когда его поме¬
стили в контору, его постоянною одеждою сделался по-преж¬
нему мерлушчатый халат...
При очень редких посещениях нашей тюрьмы комендантом
мы, всегда предуведомленные, надевали заблаговременно канда¬
лы и встречали начальство, так сказать, в нашей парадной
форме. Требовалось ли исполнение этой формальности также от
Николая Гавриловича, не знаю; я его ни разу в кандалах не
видел».
354
Потом сам Николай Гаврилович скажет корреспонденту
английской газеты «Daily News»: «Я никогда не был на ка¬
торжных работах и не был каторжанином ни в каком смысле
слова. Совершенно верно, что я был в официальном органе
правительства назван каторжником, но это была чистая фор¬
мальность и ничего больше... Эти каторжные работы были для
меня, так же, как и для многих русских и польских поли¬
тических ссыльных, в среду которых меня бросила судьба,
чисто-номинальными,— существовали на бумаге, но не в дей¬
ствительности».
«К принудительным работам,— продолжал Стахевич,— на¬
чальство привлекало нас очень редко, самые работы были
совершенно пустяковые и кратковременные. Николая Гаври¬
ловича начальство не требовало никогда ни к каким рабо¬
там.
Домашних работ у нас было немного... Все эти работы мы
исполняли по очереди; но Николая Гавриловича не включали
в очередные списки, выражая этим способом, хотя и очень
слабым, наше уважение к знаменитому литератору, к настав¬
нику радикальной молодежи, к патриарху нашей тюремной ко¬
лонии...
Курил он много, табак употреблял картузный, кажется, до¬
вольно высокого сорта... Если считать картузный табак пред¬
метом роскоши, то вот это и была единственная роскошь в его
тогдашней материальной обстановке. Во всем он жил так, как
каждый из нас...
Когда Николай Гаврилович находился в «полиции», он при¬
близительно в каждую неделю раз (обыкновенно в воскресенье),
а иногда и чаще, приходил вечером из своей камеры в нашу...
извещенные нами о его приходе, сюда же собирались обита¬
тели прочих камер, и он читал нам свою беллетристику, сколь¬
ко успел написать за неделю или вообще за предыдущие дни.
Иногда написанного ничего не было, он рассказывал то, что
предполагал написать; рассказывание шло так гладко, что слу¬
шающий, закрывши глаза, мог бы подумать, что Николай Гаври¬
лович читает по тетради...
Первое беллетристическое произведение, которое он отчасти
прочел, отчасти рассказал нам, называлось «Старина». Это был
роман, в котором изображалось наше провинциальное общество
времен, непосредственно предшествующих Крымской войне... До¬
вольно обширным эпизодом в романе являлся крестьянский бунт.
Для автора чрезвычайно характерна относящаяся к этому эпи¬
зоду заключительная сцена: бунт усмирен силою оружия, но
предводитель бунтовщиков скрылся...
355
Вслед за «Стариной» Николай Гаврилович отчасти прочел
нам, отчасти рассказал роман «Пролог», состоящий из двух
частей: «Пролог пролога» и «Дневник Левицкого»...»
В Сибири Чернышевским была задумана трилогия. Первая
ее часть — роман «Старина» был написан и читался товарища¬
ми по заключению, содержание его довольно подробно пере¬
сказывают Стахевич и Шаганов, однако дальнейшая судьба ру¬
кописи неизвестна.
Вторая часть — роман «Пролог» впервые был напечатан в
Лондоне П. Лавровым, в России — уже после смерти автора,
в 1906 году.
Третья часть имела несколько вариантов названий: «Книга
Эрато», «Рассказы из Белого зала», «Чтения в Белом зале»,
«Академия Ниноны». До нас дошли только четыре фрагмента
из этой части. Известно, что Чернышевский дважды уничтожал
незаконченные варианты.
На каторге Чернышевский много писал, надеясь, что в не¬
далеком будущем он сможет печататься в литературных жур¬
налах.
Наступил 1870 год, для многих омраченный смертью в ян¬
варе месяце Герцена. По воспоминаниям Стахевича, Чернышев¬
ский, узнав об этом, сказал: «При самом придирчивом отноше¬
нии к литературным произведениям Герцена невозможно все-
таки отрицать, что он обладал замечательным талантом остро¬
умия; и это не какое-нибудь вздорное балагурство и зубо¬
скальство; нет: это настоящее остроумие, острое и умное, лег¬
кое и вместе с тем содержательное, блестящее и вместе с тем
дельное».
Но этот год был годом радужных надежд для Чернышев¬
ского. Так, 29 апреля он пишет Ольге Сократовне: «10 августа
кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя
и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или
около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-
прежнему».
Срок каторжных работ Чернышевского исчислялся с 10 июля
1864 года, то есть со дня прибытия его в с. Усолье, стало
быть, срок этот истекал 10 июня 1871 года, однако по
тогдашним законам год каторжных работ равнялся не двенадца¬
ти календарным месяцам, а десяти, так что Чернышевского
должны были перевести на положение ссыльного 10 августа
1870 года. Это подтверждается и телеграммой иркутского гене¬
рал-губернатора шефу жандармов графу П. Шувалову: «Срок
работ Чернышевского кончился 10 августа. Закон требует от¬
править на поселение. По письму Вашему № 1385 следует пред¬
356
варительно войти в соглашение. Если будет свободен, отвечать
за целость нельзя. Как поступить?»
Только 22 декабря 1870 года Комитет министров утверждает
предложение генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Кор¬
сакова о поселении Чернышевского в Вилюйске. 1 января Алек¬
сандр II санкционирует решение Комитета министров. Но и на
этом волокита не закончилась: лишь 11 ноября 1871 года уже
новый генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников
телеграфировал шефу жандармов: «Чернышевского перевожу в
Вилюйск». Отправлен был Чернышевский на поселение 7 декаб¬
ря того же года. Таким образом, правительство еще раз нару¬
шило собственный закон, увеличив произвольно срок пребыва¬
ния Чернышевского на каторге на один год и четыре месяца1,
не говоря уже о том, что, отправляя его на поселение в
Вилюйск, оно не улучшало его положение, а фактически
ухудшало.
ССЫЛКА
7 декабря 1871 года Чернышевский покинул Александров¬
ский завод. 18 декабря добрались до Иркутска. 20 декабря
в день отъезда в Вилюйск Николай Гаврилович дал И. Г. Тер-
синскому телеграмму: «Еду на север жить. Поездка очень удоб¬
но устроена, я совершенно здоров».
11 января 1872 года Чернышевский был сдан штабс-капи¬
таном Зейфертом вилюйскому окружному исправнику, которому
была прислана и «инструкция для наблюдения за государствен¬
ным преступником Николаем Чернышевским».
По первым телеграммам и письмам Николая Гавриловича
можно было предположить, что и «путешествие» в Вилюйск
предстояло ему увлекательное, и сама жизнь в Вилюйске почти
завидная...
«Впрочем, что касается меня, я здесь живу удобно: дом, в ко¬
тором я помещаюсь, имеет большой зал и пять просторных ком¬
нат; все это очень опрятно; совершенно тепло... Это лучший дом
в городе и был бы недурным домом даже и не в таком крошечном
городе...
1 Внесем уточнение. Если один «каторжный» год равнялся десяти
месяцам, то Чернышевского должны были освободить не 10 августа, а 10
мая 1870 года, то есть через 70 месяцев. Однако, согласно закону, первые
полтора года, проведенные осужденным на каторге, исчислялись по обычному
календарю, и лишь дальнейший срок зачитывался по «льготному календарю».
Таким образом, семилетний срок каторжных работ равнялся 73 месяцам,
отсюда и дата законного освобождения Чернышевского — 10 августа 1870 года.
357
Я совершенно здоров, по своему обыкновению. Живу, как уж
и писал тебе отсюда, по-прежнему хорошо. Нового в моем быте
нет ровно ничего; кроме того, разве, что вместо хорошего мяса,
которым исключительно кормился за Байкалом, где нет рыбы,
кормлюсь теперь, по своему предпочтению к рыбе, гораздо больше
ею (здесь она прекрасная), нежели мясом,— которое здесь, впро¬
чем, тоже недурно...
Вилюй — большая река; в ней много рыбы; превосходной.
Например, попадаются стерляди больше пуда весом...»
Но вот Николай Гаврилович узнает, что Ольга Сократовна
вместе со старшим сыном Александром собираются приехать
к нему, и картина сразу же меняется.
«...Вилюйск— это по названию город; но в действительности
это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова,— это
нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе
нет...»
«Цены очень дорогие, разумеется, если и найдешь нужную
вещь...»
♦ ...Переезд от Иркутска до Якутска — тяжелое и очень риско¬
ванное предприятие; труднее, чем какое-нибудь путешествие
по внутренней Африке...»
♦ ...Климат Петербурга — идеал здорового климата сравни¬
тельно со здешним...»
Мысль, что жена и старший сын могут оказаться здесь, попрос¬
ту испугала его. И не без оснований. Вот что писал о Вилюйске
побывавший там автор работы «Три года в Северо-Восточной
Сибири» Ф. Августинович: «Читатель не может составить себе
и приблизительного понятия о той ужасной глуши, в какой нахо¬
дится этот городок, и той мертвенной тишине, которой не нару¬
шает ни днем, ни даже ночью лай собак. Здесь нельзя заметить
ни малейшего признака жизни: улицы всегда пусты, кругом без¬
молвие; все кругом безмолвно; все жители как бы погружены
в летаргический сон... Куда ни кинешь глазом, он упирается
в эту молчаливую тайгу... Впереди ее как бы на страже стоят
друг возле друга массивные пихты... окоченелые от 50-градус-
ного мороза, от которого и сам воздух пришел в такое оцепене¬
ние, что в нем замечается полнейшая неподвижность... Город...
лежит как бы в котловине, на кочковатом болоте... В нем всего
36 весьма некрасивых домов, 5 якутских юрт и одна деревянная
церковь. На конце города стоит острог, он тоже деревянный, но
довольно обширный и составляет одну из лучших построек;
в нем содержится один только арестант...»
И этим «арестантом» был Николай Гаврилович Чернышев¬
ский, который определен сюда навечно. Впрочем, фактически
358
он продолжал оставаться арестантом, так как постоянно находил¬
ся под надзором жандармского унтер-офицера и нескольких ка¬
заков, один из таких казаков расскажет потом: «Гулял Черны¬
шевский по городу без всякой охраны, но только это одна види¬
мость была, а на деле постоянная за ним слежка велась... Служи¬
ло при нем нас семеро казаков, один жандарм и два урядника.
Ночью мы посменно окарауливали его...»
Нет, конечно, никто не думал, что Чернышевский сможет сам
совершить побег — из такого места самому сбежать практически
невозможно, потому-то его сюда и упрятали. «В географическом
смысле Вилюйск,— писал Герман Лопатин,— есть не что иное,
как большой секретный номер, устроенный самою природою
и усовершенствованный благопопечительным начальством». И вот
автор этих строк, отважный русский революционер Герман Ло¬
патин в конце 1870 года, когда все еще решался вопрос о месте
поселения Чернышевского, приезжает из Лондона в Петербург
с паспортом турецкого подданного Сакича, превращается здесь
в Николая Любавина (паспорт ему дал его близкий друг Н. Н. Лю¬
бавин, будущий профессор химии Московского университета)
и выезжает в Иркутск. К этому времени заграничные агенты
уведомили III отделение о выехавшем в Иркутск русском эмиг¬
ранте, который намеревается освободить Чернышевского. 1 февра¬
ля 1871 года Лопатин был арестован, 3 июня он совершил побег
из особой камеры при жандармских казармах, однако был настиг¬
нут верховыми жандармами.
В конце сентября иркутский суд за неимением улик освобо¬
дил его от обвинения в намерении освободить Чернышевского
и приговорил к сторублевому штрафу «за проживание по
чужому паспорту», оставив под надзором полиции. 7 августа
1872 года (Чернышевский находился уже в Вилюйске) он сно¬
ва совершает побег, но через месяц его задерживают в Том¬
ске.
15 февраля 1873 года Лопатин пишет пространное письмо
генерал-губернатору Н. Синельникову, в котором признается
в своем намерении освободить вилюйского узника и объясняет
причины, к тому побудившие его.
Лопатин был удивительным человеком. Будучи в админист¬
ративной ссылке в Ставрополе, он бежит в Петербург, освобож¬
дает из Кадникова Петра Лаврова, а затем уже сам пробирается
в Париж. Им восхищались Маркс и Энгельс, Плеханов и Огарев,
Тургенев и Салтыков-Щедрин, Михайловский и Г. Успенский.
Последний, в частности, писал о Лопатине: «Он знает в совер¬
шенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с част¬
ным приставом, умеет сам притворяться и частным приставом,
359
и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на ка¬
федру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию».
Умный и решительный генерал-губернатор Синельников
проникся искренней симпатией к Герману Лопатину и обратился
в III отделение с ходатайством, в котором говорилось: «Не могу
не сознаться, что Лопатин возбуждает сочувствие к своей учас¬
ти,— его твердая честная натура, к сожалению, сбившаяся в нап¬
равлении еще в юности, пройдя через горький опыт жизни, дает
надежду к исправлению, а по уму и образованию можно ожи¬
дать и пользы. Я бы желал просить о прекращении дела о побеге
из Иркутска с чужим видом, за что он может быть приговорен
к лишению прав состояния, и, кроме того, я бы просил о дозволе¬
нии ему проживать в Иркутске, пользуясь пособием от казны».
В этом же ходатайстве Синельников просил «облегчить несколь¬
ко участь Чернышевского, переведя его на жительство в Якутск
под особый надзор полиции».
Это ходатайство отправлено в Петербург 27 февраля 1873 года.
10 апреля последовал «высочайший отказ».
12 июля того же года Лопатин бежит из здания окружного
суда. И на этот раз удачно.
В апреле 1872 года III отделение получает сообщение, что
бывший участник польского мятежа, революционный деятель
Швейцарии Бонгар, хорошо знакомый Чернышевскому по ка¬
торжным работам, отправляется через Америку в Сибирь. Даже
заточенный в Вилюйске Чернышевский приносит много хлопот
не только иркутским и якутским жандармам, но и III отделению,
что, естественно, отражалось на участи самого Чернышевского.
Это понял и сам Лопатин, писавший Синельникову: «Могу уве¬
рить Вас честью, что эта мысль о вреде, принесенном мною тому
человеку, за которого я охотно готов был бы рискнуть собствен¬
ной жизнью, была самым тяжким наказанием и самым мучи¬
тельным испытанием изо всех тех невзгод, которые я вынес и вы¬
ношу еще теперь, как последствия моей неудачной затеи».
И все-таки «затеи» Лопатина принесли не только один вред.
Военный врач и бытописатель Забайкалья Владимир Кокосов
передал интересный рассказ полковника Григория Васильевича
Винникова о его поездке к Чернышевскому в Вилюйск в 1874 году.
Кокосов в 1873 году два месяца служил под началом Виннико¬
ва в Каре, а потом в 1894 году служил в полку, командиром кото¬
рого стал Винников, и отзывался о своем командире самым луч¬
шим образом: «Прямой по натуре, своеобразный во многом чело¬
век, бывший мировой посредник первого призыва 60-х годов,
он был любим искренно нижними чинами».
Вот некоторые отрывки из рассказа полковника Винникова:
360
«Состоя адъютантом генерал-губернатора Синельникова
с 1871 года, я исполнял разные поручения и кое-что могу расска¬
зать вам и о Чернышевском. По правде сказать, замечательней¬
шая, выдающаяся личность погибла... Впрочем, для нас, россиян,
это дело привычно: лучшее ссылаем, худшее оставляем на раз¬
вод... В 1874 году генерал-губернатором была получена из Пе¬
тербурга бумага приблизительно такого содержания: «Если го¬
сударственный преступник Чернышевский подаст прошение о по¬
миловании, то он может надеяться на освобождение его из Ви-
люйска, а со временем и на возвращение на родину». На меня,
как на адъютанта, пал выбор для исполнения поручения... Пере¬
живая сам освобождение крестьян и подготовительный освободи¬
тельный период после Севастопольского погрома, я был большой
поклонник направления «Современника», а в особенности пора¬
жался статьями Чернышевского по крестьянскому вопросу,
его здравым смыслом в понимании вопроса и той проникновен¬
ностью в будущее, которая в них сквозила в каждом слове. По мое¬
му мнению, он один обнаруживал вполне верное понимание
капитальнейшего государственного вопроса...
Вы поймете, с каким настроением я прибыл в Вилюйск... Я уви¬
дел Чернышевского, сидевшего на скамеечке, лицом к озерку,
в сером одеянии, с открытой головой. Я подошел к нему и пред¬
ставился, проговорив, что мне, между прочим, поручено генерал-
губернатором спросить вас: «Всем ли вы довольны? Не имеете
ли претензий?» Он встал со скамейки, быстро оглядел меня сквозь
очки с ног до головы, оглядел, не торопясь, самого себя, на¬
гнув при этом голову. Затем, подняв ее, он проговорил: «Бла¬
годарю вас! Кажется, всем доволен и претензий не имею».
Я попросил его сесть, сел и сам рядом, проговорив, что мне еще
нужно поговорить с ним по одному важному обстоятельству...
Я приступил прямо к делу: «Николай Гаврилович! Я послан
в Вилюйск с специальным поручением от генерал-губернатора
именно к вам... Вот, не угодно ли прочесть и дать мне положитель¬
ный ответ в ту или другую сторону». И я подал ему бумагу. Он
молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке,
может быть, с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая
на ноги, сказал: «Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен
просить помилования?! Это вопрос... Мне кажется, что я сослан
только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шува¬
лова устроены на разный манер,— а об этом разве можно просить
помилования?! Благодарю вас за труды... От подачи прошения
я положительно отказываюсь»...
По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три
стоял настоящим болваном.
361
— Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?!
— Положительно отказываюсь! — и он смотрел на меня
просто и спокойно.
— Буду просить вас, Николай Гаврилович,— начал я снова,—
дать мне доказательство, что я вам предъявил поручение генерал-
губернатора...
— Расписаться в прочтении? — докончил он вопросом.
— Да, да, расписаться...
— С готовностью! — и мы пошли в его камеру, в которой
стоял стол с книгами, кровать и, кажется, кое-что из мебели.
Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: «Читал,
от подачи прошения отказываюсь, Николай Чернышевский».
— Да, голубчик! — увидеть-то я тогда Чернышевского уви¬
дел и говорил с ним с глазу на глаз, а уезжая от него, мне сде¬
лалось стыдно за себя, а может быть, и другое... А знаете ли,—
подумав, закончил полковник свой рассказ,— попытка Мышкина
к его увозу, от которой, как говорят, он отказался наотрез, на мно¬
го лет затормозила его возвращение в Россию...»
Попытку освободить Чернышевского Ипполит Мышкин пред¬
принял примерно через год после визита Винникова к Черны¬
шевскому. Он под видом жандармского поручика Мещеринова
12 июля 1875 года добрался даже до Вилюйска с документами
о выдаче ему Чернышевского, но в конце концов был разоблачен
и арестован.
Попытки Лопатина и Мышкина, а также намерения других
лиц и групп освободить Чернышевского, ставшие известными
III отделению, оборачивались каждый раз «усилием надзора»,
хотя сам Чернышевский не давал к тому никаких поводов. По су¬
ти дела, на протяжении всей его жизни в Вилюйске властями
постоянно нарушался устав о положении ссыльных, не говоря
уже о том, что сама ссылка в Вилюйск противоречила законо¬
дательству, так как ссылка предполагала возвращение осужден¬
ного в общество, а Чернышевского фактически изолировали
навечно от общества. Над ссыльными устанавливался надзор,
а Чернышевский жил под охраной.
Без малого двадцать лет проведет Чернышевский в Сибири,
стойко и мужественно перенесет все удары судьбы. Когда чи¬
таешь его «сибирские» письма, то видишь, что ничто не могло
сломить этого человека, он мог вынести любые лишения, но он
не в силах был преодолеть трагичности своей судьбы. «Пишу
и рву. Беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз
было написано, сообщает он А. Пыпину в 1877 году.— И как
я услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по
двадцать печатного счета в месяц...» Но на все просьбы Черны¬
362
шевского разрешить ему печатать беллетристику власти будут от¬
вечать неизменным отказом. Не примутся во внимание и просьбы
сыновей Чернышевского, а также просьба А. Пыпина перевести
Николая Гавриловича не в столь отдаленный населенный
пункт.
Нет, правительством руководила не ненависть, им руководил
страх, оно боялось самого имени Чернышевского. Страх заставил
правительство без достаточных улик арестовать Чернышевского
и заточить его в Петропавловскую крепость в 1862 году, страх
заставил правительство прибегнуть к подложным документам
и лжесвидетелям, страх заставил правительство отправить Черны¬
шевского на каторгу и в нарушение своего же приговора продер¬
жать его там лишних почти полтора года, страх заставил пра¬
вительство заточить Чернышевского в вилюйском остроге и огра¬
ничить и без того ограниченные права ссыльного.
Но в конце концов страх правительства обернется своей поло¬
жительной стороной и к Чернышевскому...
В 1879 году организация «Земля и воля» распалась на две
партии: «Черный передел» (сторонники пропагандистских мето¬
дов) и «Народная воля» (сторонники террора). 2 апреля 1879 го¬
да Александр Соловьев совершает неудачное покушение на
жизнь царя. По стране прокатывается волна террористических
актов и политических процессов.
15 января 1881 года в газете «Страна» была напечатана статья
Л. Полонского, в которой, в частности, говорилось: «Далеко
в Восточной Сибири, в Якутской области, есть город, призрак
города — Вилюйск. Он известен тем, что в нем — географически
далеко от умственных центров страны, но нравственно им близ¬
ко — скрывается пример несправедливости, жертва реакции. Там
живет, то есть едва прозябает, отчужденный от семьи, от товари¬
щей, лишенный почти всех условий человеческого существова¬
ния — Н. Г. Чернышевский*.
В некоторых периодических изданиях появились сочувст¬
венные отклики на эту статью. Профессор Н. И. Костомаров на¬
чал переговоры с князем А. А. Суворовым о возможности осво¬
бождения Чернышевского. А. Пынин написал записку по вопросу
об освобождении Чернышевского и передал ее очень влиятельному
тогда графу Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову, однако на
этот раз бессильным оказался и Лорис-Меликов. «Он опасен,—
сказал Александр II,— иначе о нем не хлопотали бы нигилисты,
делавшие столько попыток освободить его».
Но напрасно император опасался Чернышевского, через
несколько дней, 1 марта 1881 года, он будет убит народоволь¬
цами. 3 апреля того же года на Семеновском плацу были пове¬
363
шены Желябов, Кибальчич, Перовская, Михайлов и Рысаков,
совершившие казнь царя.
Для борьбы с народовольцами III отделение организует «свя¬
щенную дружину», последуют новые аресты народовольцев.
Но теперь страх правительства поможет Чернышевскому выб¬
раться из Вилюйска. Летом 1882 года тифлисский издатель Ни¬
колай Яковлевич Николадзе с согласия народовольцев вступит
в переговоры с министром двора графом И. И. Воронцовым-
Дашковым. Дело в том, что предстояла коронация Александра III
и правительство боялось террористических актов во время этого
мероприятия. Николадзе привез из Парижа подписанное Львом
Тихомировым от имени Исполнительного комитета «Народной
воли» заявление, в котором было обещано прекращение терро¬
ристических актов до и во время коронации нового императора
при условии выполнения правительством ряда требований. Одно
из таких требований — освобождение Чернышевского.
К концу 1882 года «священная дружина» была распущена,
граф Воронцов-Дашков вышел в отставку. Теперь Николадзе
имел дело с шефом жандармов графом П. Шуваловым.
«Граф Шувалов,— писал Николадзе,— не скрывал от меня
своего разочарования относительно революционной партии. Он
находил, что она упустила редчайший случай водворить в Рос¬
сии парламентарное правительство. Для этого надо было, по его
мнению, не сходить с точки зрения 1 марта. Общие места и туман¬
ные требования этого письма надлежало предъявить в более
конкретной, деловой форме параграфов конституции. Переходя
к предъявленным требованиям— «се sont des miseres», он зая¬
вил мне, что гр. Воронцов-Дашков уже добился повеления госу¬
даря отправить на Кару флигель-адъютанта барона Нольде.
Для освобождения же Чернышевского требуется подача всепод¬
даннейшего прошения его детьми и обождание коронационного
манифеста.
Было ясно: давался аванс — расследование карийских неуря¬
диц (имеется в виду творимый произвол в Карийских каторж¬
ных колониях.— А. Л.); освобождение же Н. Г. Чернышевского
приберегалось в награду за хорошее поведение партии во время
коронации...
Наконец, в конце марта 1883 г. гр. Шувалов доставил мне
проект той статья коронационного манифеста, которая распрост¬
раняла помилование на случаи, подходящие к положению Чер¬
нышевского».
Коронация Александра III, состоявшаяся в мае 1883 года,
прошла спокойно. 15 июля того же года Указом Правитель¬
ствующего Сената «по ходатайству сыновей государственного
364
преступника Николая Чернышевского о помиловании их отца
было в 6 день июля 1883 года высочайше повелено: разрешить
Николаю Чернышевскому перемещение на жительство под надзор
полиции в г. Астрахань». Предварительно сыновьям предостави¬
ли на выбор два города: Архангельск и Астрахань. Выбрана была
Астрахань — все поближе к Саратову. 24 августа 1883 года
Чернышевский покидает Вилюйск в сопровождении двух жандар¬
мов. Ночью 28 сентября прибыли в Иркутск, 3 октября были
в Красноярске, 19 октября — в Оренбурге...
Позади остались два месяца пути, позади остались двадцать
лет жизни и страна его горя и бед — Сибирь. Он сейчас как бы
находился между прошлым и будущим, будущее — неизвестно,
а о прошлом не хотелось думать, но коварная память все время
отбрасывала назад... 1866 год. Приезд в Кадаю Ольги Сократовны
и семилетнего сына Михаила. С тех пор минуло уже семнад¬
цать лет... Оленька. Нет, она по-прежнему молода и красива,
решительно молода и красива... А вот Михаил? Ему ведь уже
двадцать четыре года... Когда он женился на Ольге Сократовне,
ему тоже было двадцать четыре года. А Александру пошел уже
тридцатый... Какие они теперь? Совсем взрослые. А оставил он
их совсем детьми... Петропавловская крепость, каторга —
это тоже уже где-то далеко-далеко... Вернуться бы к семье тогда,
после каторги, в семьдесят первом, когда еще было столько
сил и времени... Но на пути встал Вилюйск, он высосал почти две¬
надцать лет жизни, этот крошечный городок холодной Якутии...
Шесть лет назад туда пришла весть о смерти Некрасова. Тогда
это его чуть не доканало: он почти целый месяц плакал и плакал,
и слезы эти уносили не только его боль и горе, но и последние
надежды. Со смертью Некрасова прошлое, то далекое дорогое
прошлое будто рухнуло в холодные воды Вилюя, и те безжалост¬
но унесли его в небытие...
Когда он собирался покидать Вилюйск, в Париже умер Иван
Сергеевич Тургенев. Боже! Какая даль: Париж и... Вилюйск.
Как далеко их разбросало. А хоронили Ивана Сергеевича
в Петербурге... Петербург! Вот оно! Нет. не Кадая и Вилюйск,
его давила, двадцать лет давила беспощадная воля Петербурга,
она доставала его везде, от нее не укрывали никакие расстояния,
она регламентировала его каждый шаг, она сокрушала все его
надежды. Никто и ничто не могло противостоять воле этого жесто¬
кого, прикрытого внешней красотой города...
Но упрямая память уступила место другим, живым чувст¬
вам: он приближался к родному городу...
22 октября он прибыл в Саратов.
«Вчера вечером,— сообщала Варвара Пыпина сестре в Пе¬
365
тербург,— часов в шесть, явилась горничная, спросила Ольгу
Сикратовну и подала ей записку. Ольга Сократовна, прочитавши,
торопливо и в страшном волнении начала одеваться, то есть наде¬
вать шубу, калоши и пр., и на вопросы шепнула: «Приехал, мол¬
чите». Отправилась. Своим я объяснила, что за Ольгой Сократов¬
ной прислала какая-то знакомая и она, может быть, и ночует
у нее. Часа через два та же горничная является с запиской
ко мне,— если я желаю, могу приехать. Я тотчас поехала, также
не сказавши своим, в чем дело, но после они говорили, что они
тотчас решили, что Николай Гаврилович здесь. У него мы пробы¬
ли часа два...»
Свидание происходило на квартире жандармского полковника.
Ольга Сократовна потом писала Александру Пыпину: «Само
собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на переклад¬
ных (делая 230 и 240 верст в день). Скачет день и ночь. Ка¬
зался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом
деле.
Движения его довольно порывисты, несколько взволнован,
но довольно весел... Никак не могла уговорить его остаться
до 5 часов утра. Спешил, страшно спешил... «Покуда, говорит,
сухо да тепло, голубочка, нужно доехать...»
В ту же ночь Николай Гаврилович отбыл в Астрахань. Ольга
Сократовна на следующий день должна была отправиться туда
на пароходе.
«Спешил, страшно спешил...» Не остался даже до утра. Куда
же он так спешил? В Астрахань? Или из Саратова? Возможно,
то была самая жестокая минута в его жизни. Он всегда уповал
на разум и подчинял все логике, у него с детства была прямо-
таки страсть к счету. Он давно подсчитал зря пропавшие годы,
давно понял и осмыслил, что стоит уже на пороге старости, пришел
к выводу, что теперь нужно работать, работать и работать, чтобы
как-то наверстать упущенное и потерянное. Он знал, что Ольге
Сократовне уже пятьдесят лет. Но одно дело знать и совсем другое
дело увидеть пятидесятилетнюю женщину, в которой только
порой что-то мелькнет от той, которую он помнил вот до этой
самой минуты, от той молодой, красивой, дерзкой... Теперешняя
Ольга Сократовна поставила его в реальность настоящего, и он
вдруг осознал с сжигающей силой откровения, что он никуда
не вернулся, потому что к прошлому нет возврата, он просто
приехал в новую жизнь. И это нужно было осмыслить, к этому
нужно было привыкнуть, и он поспешил хотя бы на несколько
дней окунуться в привычное для него одиночество (жандармы,
разумеется, не в счет), поспешил в свой тарантас...
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В АСТРАХАНИ
И САРАТОВЕ
1883—1889
ИНАЯ ЖИЗНЬ...
27 октября 1883 года в 10 часов утра Чернышевский
прибыл в Астрахань и навсегда расстался со своими «телохра¬
нителями».
Вот она, свобода, первые часы свободы... Он хорошо знал:
за ним установят постоянную слежку, но что слежка по сравне¬
нию с тем, что ему пришлось выносить на протяжении двадцати
лет?! Теперь он сможет жить в кругу близких ему людей! Теперь
он сможет работать!.. Вечером пароходом должна приехать
Ольга Сократовна...
Он остановился в одном из номеров гостиницы Смирнова,
известного в те времена торговца и домовладельца. Гостиница
находилась на площади, напротив кремля, из окон ее видны
были и кремль, и собор, и торговая площадь, гудящая, словно
улей. Он плотно прикрыл окно, разделся и лег в постель. После
двухмесячной бесконечной тряски постель казалась неправдопо¬
добно удобной.
Днем он вышел из гостиницы...
На площади по-прежнему гудела толпа, но то была не демон¬
страция в его честь, то были торговые люди и те, кого называли
покупателями или клиентами. Разумеется, были здесь и зеваки,
и прочие праздные люди. Вот и он как праздный человек прошел¬
ся по площади... Разноязычный говор, смех, крики, брань, грохот
телег, ржание лошадей, разномастные и разнофасонные одежды,
какой-то Вавилон, да и только! Коммерческие интересы стянули
сюда людей самых разных национальностей и исповеданий,
и каждый тут хочет непременно что-то выиграть, иначе зачем
проделывать тысячи верст пути, чтобы одновременно оказаться
и на краю Азии и на краю Европы?
Потом он бродил по каким-то улицам и наконец оказался
на пристани: и тут тоже оживленное многолюдье. Нет, он не
просто оказался в городе, в котором никогда не бывал прежде,
367
он как бы оказался в другом времени, в другой жизни, ранее
ему незнакомой. Иная жизнь, иная жизнь...
По мере того как солнце клонилось к закату, таяли людские
толпы, стихало и оживление, пришло чувство какого-то облег¬
чения, а с ним и чувство усталости. Уже совсем смеркалось, когда
к пристани причалил пароход, и он наконец встретил Ольгу
Сократовну.
Следующим утром местный полицмейстер отправит губерна¬
тору донесение: «...полицейский надзор за ним (то есть за Черны¬
шевским.— А. Л.) поручен приставу 2-го участка и агенту Бака¬
нову, последнему вменено в обязанность периодически доставлять
сведения о поднадзорном начальнику Астраханского губернско¬
го жандармского управления. По приезде Чернышевского в Астра¬
хань никаких встреч и демонстраций не было».
Три дня они прожили в гостинице, затем сняли квартиру
в доме Хачикова на Почтовой улице.
Первое письмо, написанное им в Астрахани, адресовалось,
разумеется, Александру Пыпину: «Милый брат... Благодарю
тебя за то, что ты делал для Оленьки, для наших детей и для
меня. Благодарю и Юлию Петровну. Целую ее и тебя. Целую
ваших детей, которых Оленька очень хвалит. Целую братьев
и сестер. Благодарю их за любовь к Оленьке...» В тот же день
Николай Гаврилович отправит коротенькое письмо и сыновьям,
однако они в это время (то есть 28 октября) будут уже в пути.
1 ноября Александр и Михаил приедут в Астрахань.
И снова испытание. Вот они впервые собрались всем семейст¬
вом вместе, нет, когда-то очень давно, двадцать с лишним лет
назад, они тоже порой собирались вместе: он, его молодая жена
и их маленькие сыновья — Саша и Миша... Где же те мальчики?
Теперь перед ним сидели взрослые, самостоятельные мужчины,
которых он видит как будто бы впервые. И действительно, вот
такими, взрослыми, он увидел их впервые, и опять, как при недав¬
ней встрече с женой в Саратове, прожгла горькая мысль о без¬
возвратно утраченных годах...
Сыновья погостили всего лишь несколько дней. Деятельный
Михаил помогал матери покупать посуду, белье, одежду, мебель.
Деньги прислал Александр Пыпин.
Николай Гаврилович станет уговаривать сыновей остаться
в Астрахани. Как всегда, он будет логичен и доказателен, но
в своих просьбах и доказательствах не будет настойчив. Он меч¬
тал о работе и думал, что сыновья станут его помощниками,
однако у сыновей, как и у него самого в том же возрасте, была
своя реальная жизнь с надеждами на личное счастье и са¬
мостоятельную будущность. А что он мог предложить им здесь,
в Астрахани? Свои мечты о работе? Пока он толком даже не знал:
разрешат ли ему печататься.
В то время когда сыновья гостили у него в Астрахани, ди¬
ректор департамента полиции Плеве писал астраханскому губер¬
натору Петрову: «Ввиду особого значения Чернышевского в среде
лиц неправительственного направления признавалось бы необхо¬
димым установить совершенно негласное и особо бдительное
наблюдение за сношениями и образом жизни Чернышевского,
для своевременного предупреждения побега, а также и каких-
либо посторонних попыток к нарушению порядка по поводу
возвращения или пребывания Чернышевского в Астрахани».
Вскоре Чернышевского сфотографировали в жандармском
управлении и разослали 24 его фотокарточки различным поли¬
цейским чинам как в Астрахани, так и в уездах. Но Чернышев¬
ский думает не о жандармах, не о полицейском надзоре, не о побе¬
ге, он постоянно думает о работе. Вспоминая свой переезд из
далекого Вилюйска, он пишет Пыпину: «Мой путь был столько
же изнурительным, как был бы переезд из Малой Морской
в Большую Морскую... Вообще, я физически сохранился очень
хорошо и не замечаю в себе важной умственной или нравствен¬
ной перемены с той давней поры, как ты видывал меня лично...
труд пойдет у меня быстро, потому что будет состоять только
в машинальном повторении готового рассказа, который был
уже написан мною и помнится мне наизусть сплошь целыми
страницами... изнурительно мне жить без работы. Я прожил
здесь так до отъезда детей. И после того еще не начал работать,
как надобно мне для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Мудре¬
но работать, как следует мне для хорошего физического и нрав¬
ственного состояния, то есть работать очень по многу часов
в день, когда не имеешь тех ответов, которых ждешь... пока не
знаешь, в чем задача настоящего: в том ли, чтобы работать, или
в том, чтобы заботиться о предварительном устранении препят¬
ствий работе, мысли не могут быть нераздельно сосредоточены
на работе, и она идет с перерывами раздумья о предметах, посто¬
ронних содержанию предпринятого труда...»
Моральное состояние Николая Гавриловича в первые месяцы
его астраханской жизни было очень тяжелое. Почти не остава¬
лось средств к существованию. Угнетала мысль о долгах. Сыновья
уехали, по-настоящему не сблизившись с ним. «Мое знакомство
с моими детьми,— писал Чернышевский Пыпину,— еще очень
слабо. Они приехали сюда людьми совершенно «незнакомыми»
мне. В неделю или восемь дней, которые провели они со мною,
мог ли я хорошо узнать их способности? В особенности Миша,
бывший все это время непрерывно занят житейскими хлопота¬
24
•I07S
369
ми, едва имел досуг раза два, три в день поговорить со мною
по нескольку минут. Приехал он незнакомый к незнакомому
и уехал почти незнакомый от почти незнакомого».
Мучительно складывались отношения и с женой. В письмах
к сыновьям Ольга Сократовна писала, что ей трудно привыкать
к Николаю Гавриловичу, в Сибири он даже «есть по-человечески»
разучился, оставаясь один, читает наизусть стихи, поет, рас¬
суждает сам с собой. К тому же почти полное затворничество.
«Мы с папашей здесь положительно заживо погребенные,—
писала Ольга Сократовна.— Жить в таком уединении, ни с кем
не видеться, ни с кем не поговорить...»
Николай Гаврилович в письмах к сыновьям постоянно зовет
их в Астрахань...
Александр'Пыпин хорошо понимал состояние Николая Гаври¬
ловича. Во-первых, он пишет, что просит Чернышевского оста¬
вить всякую мысль о долгах ему, во-вторых, советует написать
воспоминания о Некрасове, Тургеневе, Добролюбове, которые
можно будет напечатать в журналах, в-третьих, он посылает
ему для перевода несколько книг иностранных авторов. Черны¬
шевский прямо-таки набрасывается на работу. 20 декабря он
уже отсылает А. Пыпину начало перевода книги О. Шрадера
«Сравнительное языкознание», посылает часть своих воспоми¬
наний о Некрасове, правда, тут он оговаривается: «Я о Некра¬
сове знаю почти только то, что относилось в его жизни к моему
сотрудничеству. И говорить о нем почти нечего мне, кроме того,
что, по-настоящему, составляет часть не его биографии, а моей».
31 января 1884 года Ольга Сократовна писала сыну Александ¬
ру: «Здоровье папаши теперь вообще лучше, чем прежде, и спит
лучше и питается... Он сам как-то сказал: «Научаюсь есть по-
человечески». Но остается, разумеется, известная нервная впе¬
чатлительность в усиленной степени».
23 февраля 1884 года Чернышевский отправляет рукопись
перевода книги В. Карпентера «Энергия в природе». И перевод
книги Шрадера, и перевод книги Карпентера были напечатаны
без имени переводчика, о чем сам Чернышевский нисколько
не жалел. «Это не такие труды, чтобы мне могло быть приятно
хвалиться ими... мне совестно и думать об этих моих работах,
особенно о второй, о работе над Шрадером, которую сделал я лишь
по праву нищего получать деньги задаром...»
Николай Гаврилович просит А. Пыпина прислать ему для пе¬
ревода какую-нибудь очень крупную, то есть многотомную, ра¬
боту, он мечтает перевести «Conversation Lexicon» Брокгауза...
Чернышевский пока еще не совсем понимал, какие трудности
приходится преодолевать А. Пыпину, чтобы обеспечить его ра¬
370
ботой. И дело упиралось не только в отсутствие официального
разрешения печататься. Иной стала жизнь, иной стала общая
атмосфера в литературном мире. Вот как, например, характери¬
зовал издателей той поры Глеб Успенский: «Они не писатели,
а умеют забирать в руки писательские барыши, именно потому,
что к ним лезут за рублем, что им выпадает на долю репутация
благодетелей. Меня это и убило. Я всегда хотел без благодетелей
жить и мог, заставив их моими работами платить мне большие
деньги, и вот почему за последнее время, когда нельзя было все-
таки стать на ноги, а опять идти ко всякой дряни просить руб¬
ля,— я пришел в отчаяние... Когда они узнают подробности моей
жизни,— они увидят, как мало во мне силы для деятельности
теперь и отлично изгонят из числа таких писателей, которых
нельзя бросать на улицу... в последнее время мне показалось,
что все пропало: долгов тысячи, и уж не любезности я слышу,
а прямую вражду со стороны издателей...» (из письма к А. В. Ус¬
пенской, 1883 г.).
Николай Гаврилович полагал, будто все дело только в офи¬
циальном разрешении печататься, поэтому 29 марта 1884 года
он пишет короткое, но категорическое письмо Пыпину:
«Милый друг Сашенька.
Прошу тебя отправить в редакцию наиболее распространен¬
ных газет следующее извещение:
«Мы слышали, что Н. Г. Чернышевский приготовляет к изда¬
нию собрание своих сочинений».
Будь здоров, мой милый. Целую тебя и твоих. Жму твою руку.
Твой Н. Чернышевский.
Р. S. Сделай одолжение, не бери на себя судить о том, благо¬
разумна ли моя просьба, а исполни ее; исполни, и только
всего. О том, исполнишь ли, напиши мне просто и ясно. Целую
тебя. Твой Н. Ч.»
А. Пыпин просьбу эту исполнил, но цензура объявления в га¬
зетах не пропустила. Теперь стало ясно: необходимо ходатайст¬
вовать об официальном разрешении печататься.
8 мая 1884 года А. Пыпин на несколько дней приезжает
в Астрахань, в это же время у Чернышевских гостил их старший
сын Александр. «Препровождение времени почти одно — немного
я гуляю по городу с Ольгой Сократовной, или Николаем Гаври¬
ловичем, или Сашею, а затем сидим дома, беседуем и иногда
играем в шахматы»,— писал жене в Петербург Александр Пы¬
пин. Вероятно, Пыпин всесторонне познакомился с положением
дел Чернышевских, недаром он совершал прогулки с кем-то
одним из членов семьи. Вскоре Чернышевские переедут в другую,
более удобную квартиру в доме Абхарова на Канаве. 10 июля
371
к ним приедет погостить сын Михаил, а 20 июля — старый
их друг Петр Иванович Боков, тот самый доктор Боков, который
вместе с Антоновичем присутствовал в 1862 году при аресте
Чернышевского. Дело в том, что после сибирской ссылки Николай
Гаврилович врачей не признавал, лечился сам. Бокову же он
всегда доверял не только как человеку, но и как врачу.
В начале июня Чернышевский начинает перевод книги
Г. Спенсера «Основные начала». «Он (Чернышевский.— А. Л.)
вообще недоволен тем, чем занят в настоящее время,— сообщала
Ольга Сократовна сыну Михаилу 5 мая 1884 года.— Ему нужна
серьезная умственная работа, а не какие-нибудь вздорные пере¬
воды». Хотя та же Ольга Сократовна через год напишет В. Н. Пы-
пиной: «...так занялся своим переводом, что решительно все
и всех забыл на свете». Но то уже будет перевод многотомной
работы немецкого историка Г. Вебера. Его увлечет не сам перевод,
а возможность заработать довольно большие деньги, а это теперь
было сделать не так-то просто. К тому же Николай Гаврилович
был человеком крайне щепетильным. Так, почти сразу же по
приезде в Астрахань он напишет письмо астраханскому губер¬
натору Н. И. Петрову с просьбой сообщить цифру его долга
казне за путевые издержки из Сибири в Астрахань, в котором
напомнит, что в Иркутске ему выдали 100 рублей и предоста¬
вили новый тарантас.
В конце августа 1884 года в Астрахань приедет близкий
знакомый Пыпиных и Чернышевских Александр Васильевич
Захарьин, который в начале шестидесятых годов был близок
революционным кругам Петербурга.
Теперь Пыпин в лице Захарьина обрел верного и очень полез¬
ного союзника. Вернувшись в Петербург, Захарьин посещает
главного начальника по делам печати Е. М. Феоктистова,
а затем и директора департамента полиции П. Н. Дурново.
27 ноября 1884 года Захарьин сообщает Чернышевскому: «Вопрос
о праве Ваших занятий в печати вчера выяснился. Работать
можете, присылая все написанное ко мне намое имя, ая уж
от себя буду представлять присланное в цензуру. Статьи Ваши
будут появляться под псевдонимом, а под каким — сейчас сказать
не могу, боясь, что настоящее письмо может как-нибудь зате¬
ряться и быть прочтено посторонним лицом, не склонным к мол¬
чанию. Как Вы желали сами, чтобы была выбрана самая простая
фамилия,— так и будет...»
2 декабря 1884 года Николай Гаврилович пишет Захарьину:
«Добрый друг Александр Васильевич. От всей души благодарю
Вас за Ваши хлопоты по делу о разрешении мне отдавать в печать
мои литературные работы. Напрасно и говорить, что я нахожу
372
превосходным все сделанное Вами; но, быть может, не бесполезно
будет прибавить, что я и вперед безусловно одобряю все то, что
найдете Вы надобным сделать...»
Но Захарьин не только добился разрешения печататься Черны¬
шевскому, он помог опубликовать ему некоторые его произведе¬
ния и устроил перевод многотомной «Всеобщей истории» Г. Ве¬
бера у издателя и мецената Козьмы Терентьевича Солдатенкова,
который был в свое время причастен к делу о сношениях с «лон¬
донскими пропагандистами» и, по некоторым сведениям, давал
деньги на издание в Лондоне «Общего веча».
7 марта 1885 года Чернышевский пишет Захарьину: «Это
Ваше письмо я получил вчера, а ныне утром получил и первый
том «Всеобщей истории» Вебера; и уж принялся за перевод
его.— О К. Т. Солдатенкове я давно знаю, по знакомству с его
издательскою деятельностью, как о человеке совершенно таком,
каким нашли Вы его. Те условия, которые определили Вы с ним
для меня по делу о переводе Вебера, были бы очень хороши, если
бы были даже и гораздо менее щедры. Когда будете писать
ему, передайте ему глубокую мою благодарность».
21 марта Чернышевский посылает Захарьину 76 страниц
перевода, а 3 сентября сообщает сыну Михаилу, что уже отпра¬
вил окончание перевода первого тома. Теперь материальные дела
Чернышевских несколько поправились. За перевод первого тома
было получено 1590 рублей. Летом Ольга Сократовна съездила
погостить в Саратов и Петербург.
В июле месяце в журнале «Русская мысль» напечатано за
подписью «Андреев» стихотворение «Гимн Деве неба». Еще в фе¬
врале благополучно прошли цензуру статьи Чернышевского
«Столетие газеты «Таймс», «Характер человеческого знания»,
«Река Конго и ее бассейн», в августе — перевод книги В. Карпен¬
тера, а несколько позже — перевод книги О. Шрадера. В апреле
начальник астраханского жандармского управления известил гу¬
бернатора о том, что, по его мнению, в настоящее время не пред¬
ставляется особой надобности в «усиленном наблюдении» за
Чернышевским. В общем, обстановка складывалась вроде бы бла¬
гоприятная, и А. Пыпин от имени Михаила Чернышевского
написал прошение на имя Александра III о разрешении Н. Г. Чер¬
нышевскому «повсеместного в империи жительства». 16 декабря
1885 г. министерство внутренних дел отклонило это ходатайство.
В конце 1885 и начале 1886 годов появляются одобрительные
рецензии на перевод первого тома «Всеобщей истории» Вебера.
Чтобы ускорить работу, Чернышевский 1 марта 1886 года пригла¬
шает к себе в помощники Константина Михайловича Федорова,
молодого человека, увлекавшегося живописью и театром.
з 7
«День обыкновенно начинался следующим образом,— рас¬
сказывал потом К. Федоров,— в 7 часов утра он (то есть Чер¬
нышевский.— А. Л.) уже был на ногах, пил чай и в это же время
или читал корректуру, или же просматривал подлинник перевода,
затем с 8 часов до 1 часа дня переводил, диктуя своей «пишущей
машине», как он шутя меня называл за скорое писание под дик¬
товку; в 1 час дня мы, т. е. супруги Чернышевские и я, обедали...
После обеда... Чернышевский прочитывал газеты и журналы,
а с трех часов до 6 вечера, т. е. до вечернего чая, продолжа¬
лась работа. И если «пишущая», т. е. я, и «диктующая» (Черны¬
шевский) машины не уставали, то занятия иногда затягивались
далеко за полночь. В особенности это почти всегда бывало перед
окончанием перевода каждого тома истории Вебера».
Об интенсивности работы Чернышевского в это время можно
судить хотя бы по тем срокам, в которые он укладывался, пере¬
водя историю Вебера. Так, примерно за один год (с 17 марта
1886 года до 15 апреля 1887 года) им было переведено четыре
тома. Заменявший одно время К. Федорова А. Попов вспоминал:
«Он диктовал «Историю» с немецкого так, будто читал русскую
книгу, я не успевал за ним записывать».
К тому же Чернышевский не просто переводил, он пытался
очистить труд Вебера, как он сам говорил, от «пустословия»
и «реакционных рассуждений». К отдельным томам он писал
вступительные статьи («О расах», «О классификации людей по
языку», «О различии между народами по национальному
характеру» и другие), объединенные общим названием «Очерк
научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории».
В эти же годы, работая над переводом Вебера, Чернышевский
пишет ряд произведений мемуарного жанра (о Добролюбове,
Некрасове, Тургеневе, Достоевском), научные статьи, беллетристи¬
ку.
Материальное положение его стало стабильным, правда, те¬
перь ему приходилось помогать сыновьям. 8 июля 1886 года
он стал дедушкой: у сына Михаила родился сын, назвали его
Владимиром. Но главная забота был не младший сын, а стар¬
ший — Александр, который вследствие душевной болезни не мог
обеспечить себя в жизни. Постоянные разъезды Ольги Сократовны
(то она гостит и лечится в Петербурге, то в Липецке, то в Сара¬
тове, то на Кавказе) тоже требовали немалых денег. Но Николай
Гаврилович не сетовал на длительные отлучки жены, скучать ему
было некогда, он постоянно был в работе. Хотя некоторые ее
письма его и огорчали, поскольку слишком часто она писала
о своих болезнях или недомоганиях (то голова болит, то зубы,
то длительный сердечный припадок приключился...).
374
«Сегодня приняла 1-ю ванну,— пишет она из Липецка 6 июня
1888 года.— Доктор прописал только 5 ванн. Говорит: «по¬
смотрим, что будет». Смеется — говорит, что мое сердце пошали¬
вает и что оно не на своем месте. Еще бы моему сердцу да быть
на месте. Мудрено было уцелеть ему! Да и за то спасибо, что
бог продлил век до 55 лет. Отец умер 63 лет, мать почти тоже
этих лет умерла. Посмотрим, доживу ли я до этого времени.
Навряд ли? Да и Бог с нею, с жизнью-то этой!..»
Правда, чувство уныния не всегда одолевало Ольгу Сократовну,
часто она писала о том, как хорошо развлекается, а иногда
и просто о хорошем настроении. Так, 16 мая 1889 года она пишет
Николаю Гавриловичу из Нижнего Новгорода: «Наш пароход
будет стоять здесь 3 суток. Осталась на нем, потому что не люблю
беспокоить собою никого, а больше всего свою персону... Мои
сверстницы все такие стали старушенции, что страх! От меня все
в восторге. Вот говорят: «счастливица! и талья-то у тебя какая
еще хорошая. Да совсем молода». Вот так жена у тебя молодец!
Меня смех разбирает, глядя на всех!»
Менее через месяц она пишет уже из Саратова: «Я чувствую,
что скоро умру. Слишком мрачно стала смотреть на жизнь. День,
другой как будто и ничего себе, а потом неделя за неделей
тоска гложет, нигде покоя не нахожу...»
Между прочим, это писалось в те дни, когда она получила
от сына Михаила известие о том, что Николаю Гавриловичу
разрешено переехать на постоянное место жительства в Саратов.
Да и насчет болезней своих она несколько преувеличивала: она
после смерти Николая Гавриловича проживет еще двадцать девять
лет и умрет в возрасте восьмидесяти пяти лет, в 1918 году.
Нет, после двадцати одного года разлуки Ольга Сократовна
так и не «привыкнет» к Николаю Гавриловичу. Как-то она
напишет ему: «Ни для тебя, ни для детей я совсем теперь не
нужна. Может быть, без меня вам всем лучше будет». Это было
жестокое, но в чем-то справедливое признание, ибо даже на склоне
лет она не смогла жить ни интересами мужа, ни интересами
сыновей. И дело тут не только в многолетней разлуке. Их совмест¬
ная девятилетняя жизнь в Петербурге, когда они были молодыми
и во многом удачливыми, не могла лечь прочным фундаментом
в их будущее...
«У меня,— вспоминала Ольга Сократовна петербургский пе¬
риод их совместной жизни,— бывали свои гости, у Николая
Гавриловича — свои. Мои гости, как люди большей частью пу¬
стые, его не интересовали: он не принимал участия в тех удо¬
вольствиях, которые я устраивала, к тому же ему было и некогда.
Со своей стороны, и я не могла присутствовать в то время,
375
когда к Николаю Гавриловичу собирались его гости. Я не понима¬
ла их ученых разговоров, да и, кроме того, от их курения у меня
разбаливалась голова. Этот дым заставлял меня бежать из дома
(между прочим, от «этого дыма» нетрудно было укрыться
и в квартире.— А. Л). Поэтому, напоив гостей чаем и отдав
распоряжение, как подавать закуску, я отправлялась в театр...»
Но в театры Ольга Сократовна ездила значительно чаще, чем
у Николая Гавриловича собирались гости. Она же сама и призна¬
ется: «Жизнь Чернышевского в Петербурге была лихорадочная:
руки тряслись, мозги усиленно работали. Он никогда не мог
спать после обеда, да и ночью иногда спал по два, по три часа.
Бывало, и ночью проснется, вскочит и начнет писать. Дома он
все сидел в кабинете».
Он и теперь все время сидел в кабинете, правда, приучив
себя в Сибири к прогулкам, он теперь иногда гулял по городу.
Когда же стал прилично зарабатывать, в доме появились при¬
слуга и даже помощники в работе. Что же касается чувства
одиночества, то оно не покидало его и в присутствии Ольги
Сократовны. В 1888 году Ольга Сократовна надолго покинула
Астрахань, но в тот год у него гостили: в мае месяце Александр
Пыпин, в июне брат писателя В. Короленко Илларион Коро¬
ленко и друг издателя К. Солдатенкова Василий Грачев, предло¬
живший ему после окончания работы над Вебером выбирать
для перевода любое произведение, в июле приезжал редактор-
издатель «Русской мысли» Вукол Лавров с предложением стать
сотрудником этого журнала, 19 августа приехал сын Михаил,
а в конце сентября — Александр Захарьин. В мае следующего
года, когда Ольга Сократовна уехала в Нижний, Чернышевского
навестил крупный издатель Лонгин Пантелеев, тот самый Панте¬
леев, который участвовал в студенческом движении 1861 года,
сидел в Петропавловке, был членом общества «Земля и воля»
и который пользовался в свое время расположением князя
А. А. Суворова...
И все-таки Чернышевский был очень одинок, но вовсе не по¬
тому, что жил не в Петербурге, а в Астрахани, одинок он был
не в пространстве, а во времени, одиночество его носило не внеш¬
ний, но внутренний характер, поэтому преодолеть его было не¬
возможно. В некоторых работах, чтобы проиллюстрировать
одиночество Чернышевского в астраханский период его жизни,
приводят фразы из письма к А. Панаеву от 10 августа 1888 года,
в котором Чернышевский называет себя Робинзоном, а своих
знакомых Пятницами, с которыми приходится говорить только
об уловах рыбы, ценах, сделках местных купцов и т. д. Цитируется
это письмо обычно так, что полностью искажается мысль Чер¬
376
нышевского, а сам он невольно выставляется неким интеллек¬
туальным снобом. А между тем Чернышевский в это время
с большой симпатией относится именно к простому люду и даже
выступает в защиту купеческого сословия от разного рода
огульных обвинений.
Чернышевский в письме к Пыпину говорит о пошлости
современной литературной жизни, к которой он сам лично абсо¬
лютно равнодушен, и в конце письма заключает: «Есть люди
похуже и повреднее Суворина с Булгариным; но и к их деяни¬
ям я равнодушен. Иное дело было бы, если б я жил в литератур¬
ном кругу; я разделял бы чувства честных литераторов; но
я житель того самого острова, на котором благодушествовал
некогда Робинзон Крузо с своим другом Пятницею. Я не лишен
нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои —
Пятницы; благодаря тому мое душевное спокойствие не возму¬
щается никакими литературными пошлостями ли, делами ли
хуже пошлостей; мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы,
выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее; сколько
привезено хлопка и фруктов из Персии; уплатит ли по своим
векселям Сурабеков или Усейнов (т. е. Гусейнов),— какое ж нам
дело до пошлостей Суворина или хотя бы тех трактирщиков,
половыми у которых служат Суворин и компания?»
В это время Чернышевский уже понимал, что в Петербурге
он был бы сейчас не менее одинок, чем в Астрахани или еще
где-нибудь. Наступила иная жизнь, чем та, которую он оставил,
отправляясь в Сибирь четверть века назад. Тогда ловили всякую
живую мысль, теперь все ловят момент удачи, литература ста¬
новится делом почти коммерческим, журналы подделываются
под вкусы публики, писатели жаждут публичности и пышных
торжеств, будь то собственный юбилей или чужие похороны,
банкетная эпидемия захлестнула общественную жизнь, слового-
ворение заменило борьбу, в нытье стали усматривать форму
протеста. Пошлость, пошлость, пошлость... Нет, он лучше будет
говорить с простым людом об уловах рыбы или ценах на нее,
нежели толковать с литераторами о всякого рода пошлостях.
Разумеется, есть и в Петербурге, и в других местах порядочные
люди и порядочные писатели, но они все рассеяны, и каждый
из них страдает в одиночку. «Ведь Вы, Николай Гаврилович,
и он (то есть Добролюбов.— А. Л.) — те две светлые точки, кото¬
рые еще ярко мерцают нам на далеком и все более завола¬
кивающемся фоне этих лет»,— писал в это время заочный зна¬
комый Чернышевского, приятель А. Захарьина, присяжный
поверенный Александр Михайлов, вспоминая шестидесятые
годы.
377
Нет, нужен журнал, только журнал, и порой ему кажется, что
мечта о журнале осуществима. 7 января 1889 года он пишет
Пыпину: «С «Русской мыслью» я — сошелся ль? — еще не знаю,
но это все равно: если не сошелся, то сойдусь; об этом у меня нет
сомнения...» А он знал, если удастся «сойтись» с журналом,
то есть стать его постоянным сотрудником, то постепенно удастся
взять руль в свои руки. Поэтому необходимо перебраться в Мос¬
кву.
В середине 1888 года астраханским губернатором стал князь
Леонид Дмитриевич Вяземский, участник русско-турецкой войны
1877—1878 годов и обороны Шипки. В 1875 году он был флигель-
адъютантом Александра II. Сорокалетний губернатор
посетил Чернышевского и пригласил его бывать у себя. 28 марта
1889 года Михаил Чернышевский подает на имя министра внут¬
ренних дел графа Д. А. Толстого прошение о переводе отца
в Саратов. Последовал запрос Вяземскому, и тот ответил: «По¬
ведение Чернышевского безукоризненное, а занятия его заключа¬
ются в переводе Всеобщей истории Вебера, доведенной им почти
до конца*. Использовал в этом случае губернатор и свои придвор¬
ные связи. Так или иначе, а 14 июня 1889 года Чернышевский
телеграфирует Ольге Сократовне: «Получил разрешение перее¬
хать в Саратов. Распоряжусь вещами без тебя. Подробности
телеграфирую завтра».
23 июня Чернышевский отправляет багаж: «сорок штук ме¬
бели и сундуков с вещами», а на следующий день вместе
с Константином Федоровым выезжает сам.
27 июня в газете «Астраханский вестник», в отделе «Хроника»,
появилась следующая заметка:
«Н. Г. Чернышевский, вследствие полученного разрешения
от правительства, переезжает на постоянное жительство из Астра¬
хани в Саратов. Известие об этом помещено уже в «Сарат.
Дневнике».
Хотелось бы сказать несколько слов и о князе Вяземском,
поскольку некоторые биографы, и в особенности К. Ерымовский
(в книге «Чернышевский в Астрахани»), характеризует Вязем¬
ского как бездушного карьериста.
В письме от 13 июня 1889 года Николай Гаврилович писал
Ольге Сократовне: «В благоприятности ответа князя министер¬
ству мы с тобою были б уверены, если б и не сказал он этого
(видимо, Чернышевские еще до этого не раз говорили о Вязем¬
ском в положительном смысле.— А. Л.)- Ныне или завтра зайду
к князю; если опять не будет он дома, то оставлю ему записку,
в которой скажу, что приходил поблагодарить его; после, дня
через два, зайду опять (если не застану в этот раз), потом еще,
378
и еще, пока не застану и к письменной благодарности присоединю
личную».
Навряд ли Чернышевский стал бы проявлять здесь столько
настойчивости, если бы не знал, какую положительную роль
сыграл князь в его деле.
Да, князь Вяземский довольно успешно будет продвигаться
по служебной лестнице. В 1890 году он станет начальником
Главного управления уделов, а в 1898 году членом Государствен¬
ного совета. Занимая столь высокий пост, пятидесятитрехлетний
князь Вяземский 4 марта 1901 года вмешается в действия поли¬
ции, разгонявшей демонстрацию на Казанской площади в Петер¬
бурге, за что будет лишен Николаем II звания члена Госу¬
дарственного совета и выслан за границу.
Между прочим, «Искра» (№ 3, апрель 1901) писала по этому
поводу: «Князь Вяземский на самом месте побоища мужествен¬
но протестовал против полицейских безобразий, за что удостоился
высочайшего выговора. Пусть утешится князь Вяземский —
перед судом истории и общественного мнения это царское обру¬
гание почетнее, чем все знаки царской милости, заработанные
им на службе самодержавию».
Ольга Сократовна после смерти Николая Гавриловича, вспо¬
миная о муже, будет говорить, что он «не знал ни жизни, ни
людей...». Возможно, что это и так, только вот почему-то Черны¬
шевский редко ошибался в людях. М. Михайлов, Некрасов,
Добролюбов, Шелгунов, Сераковский, В. Обручев, Н. Обручев,
Антонович, князь А. Суворов, который, как и его великий дед,
гордился тем, что не утвердил ни одного смертного приговора,
и который сделал так много для Чернышевского и Писарева,
Н. Костомаров... Вот этих людей Чернышевский как-то сразу
«узнал» и не ошибся в своем к ним доверии.
А вот рекомендованный ему Михайловым и Плещеевым
Вс. Костомаров при первом же знакомстве вызвал недоверие.
Как мы уже знаем, Чернышевский не ошибся и тут.
Будущее показало, что не ошибся Чернышевский и в своих
чувствах к князю Вяземскому.
В РОДНОМ ГОРОДЕ
В Саратов Николай Гаврилович приехал 27 июня 1889 года.
Поселились они в доме Никольского по Соборной улице. Дом
Чернышевских был сдан внаем присяжному поверенному Са¬
ратовского окружного суда Александру Ардальоновичу Токар-
скому, который потом напишет воспоминания о Чернышевском.
379
На следующий день по приезде Николай Гаврилович навестит
Пыпиных (еще был жив его дядя — Николай Дмитриевич
Пыпин), потом зайдет в «свой» дом, познакомится с Токарским,
в дальнейшем они станут часто посещать друг друга. В тот же
день он отправит в Москву продолжение перевода первого тома
Вебера, переработанного для второго издания. Отправляя еще
в Астрахани начало перевода, Чернышевский писал Барышеву:
«Переработка... имеет, как увидите, вовсе не такой пустой
характер, как Вы воображали: я сильно переделываю текст.
Буду прибавлять свои дополнения».
Этот том выйдет в 1890 году, уже после смерти Чернышев¬
ского.
По приезде в Саратов Николай Гаврилович почти не изменил
своего распорядка дня: по-прежнему встает рано, по-прежнему
много работает: сам держит корректуру первого тома «Материа¬
лов для биографии Н. А. Добролюбова», переводит двенадцатый
том Вебера и перерабатывает первый том для второго издания,
правда, прогулки его стали продолжительнее: он жадно вгляды¬
вается в черты родного города, так изменившиеся за те двадцать
восемь лет, что он провел вдали от него. Появилось много новых
зданий, главные улицы вымостили, по городу бегают конки,
по берегу Волги вытянулись пристани пароходных компаний,
река то и дело оглашается гудками пароходов. Но главное,
теперь Саратов как бы приблизился к столицам: между Сара¬
товом и Москвой пролегла железная дорога... Все эти изменения
были зримы и очевидны, но были и какие-то неуловимые изме¬
нения, при общем оживлении из жизни исчезало что-то очень
важное...
В. И. Ленин позже писал: «Город давал деревне при капи¬
тализме то, что ее развращало политически, экономически,
нравственно, физически и т. п.» (Поли. собр. соч., т. 45, с. 367).
Для того чтобы развращать деревню, город должен был снача¬
ла развратиться сам.
«Министерство путей сообщения,— писал князь В. П. Ме¬
щерский,— в начале 70-х годов представляло главный пункт,
где тогда сосредотачивалась вся вакханалия железнодорожной
горячки во всем ее разгаре. Тогда уже произносились имена
железнодорожных Монтекристо, вчера нищих, а сегодня миллио¬
неров; никто не мог понять, почему такие люди, как Мекк,
Дервиз, Губонин, Башмаков и проч., которые не имели, во-
первых, ни гроша денег, а во-вторых, никаких инженерных
познаний, брались за концессии как ни в чем не бывало и в два-
три года делались миллионерами. Средним числом концессии
выдавались по такой цене за версту, что в карман входило
около 50 тысяч с версты. А 500—600 верст концессии составляло
капиталы в 25 — 30 млн. рублей. Для сужения района конку¬
рентов концессионеры прибегали, разумеется, к крупным взяткам,
и эти-то взятки и были главною причиною крупных, басно¬
словных нажив».
Когда Чернышевский приехал в Саратов, железнодорожная
горячка перекинулась уже в другие, более отдаленные районы
страны, но мекки, дервизы, губонины, башмаковы разных калиб¬
ров и разных «специальностей» с их непременными взятками
во все отрасли хозяйства и культурной жизни уже пустили
свои корни...
Как-то Николай Гаврилович, гуляя с поэтом Н. А. Пановым,
забрел в Барыкинский сад, что раскинулся по берегу Волги.
Устроились за чайным столиком, разговорились о прошлом.
«Когда зашла речь о «Современнике»,— вспоминал Н. А. Па¬
нов,— он глубоко вздохнул и несколько минут сидел молча, как
будто в это время воскресало его славное былое. Про Некрасова,
как поэта и человека, он сказал следующее: «Его не все из нас
понимали и любили, но он-то видел нас насквозь и, ох, как пони¬
мал. Зоркое око имел покойный и был подчас немножко строп¬
тив; да ведь надо знать — что пережил... не легче, пожалуй,
моей каторги. А поэт был большой, как Пушкин, как Лермон¬
тов. Только жаль, не пройти ему теперь в народ, не пройти...»
18 июля в Саратов приехал известный поэт Яков Полонский,
с которым Чернышевские во второй половине пятидесятых годов
поддерживали отношения. В тот же день Чернышевский на¬
вестил Полонского, у которого познакомился с сотрудником
«Саратовского листка» Иваном Парфеновичем Горизонтовым.
«Дня через два после первой встречи,— вспоминал Гори¬
зонтов,— я столкнулся с Н. Г. на проводах Полонского, на
волжской пристани одного из пароходов. Распрощались мы
с поэтом и его дочкой (барышней лет 15), и когда пароход
огибал близ стоящую баржу, а Полонский, монументом стоявший
среди отъезжавшей публики (он очень высок был ростом),
махал нам своею круглой шапочкою, Н. Г., беря меня под руку,
произнес, кивая в сторону поэта: «хороша птичка канареечка,
да жаль, что поет с чужого голоса».
Конечно, в какой-то оценке того или другого человека Николай
Гаврилович мог быть и несправедлив, но дух нового времени он
понимал хорошо. Когда ему, скажем, возвращали статьи из
журналов, он не удивлялся и не возмущался и не раз по этому
поводу писал А. Пыпину, что нынешние журналы и газеты
не станут его печатать, потому что он не так думает, как они того
хотят. В одном из таких писем он писал: «...русским времен
381
Петра была нужна только свобода учиться; принуждение не было
нужно. Приобрели ль они от Петра хоть маленькую свободу
учиться? — Нет; он знал во всем только муштровку; муштровка
у него была и в школах такая же, как в казармах; и отправляемых
за границу учиться он посылал лишь муштроваться по его
инструкциям. Свободы учиться он не допускал... Палка за всякое
движение, не предписанное регламентом, была одна и та же
в ученом кабинете и на плац-параде. Россия была бедна; Петр
разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравши¬
мися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел
уже влечение учиться. Он не в силах был искоренить влечение
учиться; оно было уже привычно, хотя еще и слабо; и по гео¬
графическому положению России неотвратимо должно было раз¬
виваться; подавляемое Петром... оно, хотя и ослабело, пережило
Петра; при Екатерине I, Петре II, Елизавете дело пошло, как шло
при Алексее, Федоре, Софии: муштровка велась, но вели ее
спустя рукава, и благодаря слабости забот о ней влечение
учиться оправилось от угнетения Петра, стало развиваться».
Далее следует приписка: «Видишь, мой друг, что мои мысли
о Петре неудобны для печати и притом не подходят к мыслям
русских журналов, так что если б и были удобны для печати,
то не годились бы для журналов».
Разумеется, мысли о Петре были не главной заботой Черны¬
шевского. Были у него мысли и поактуальнее. В разговорах
со своим новым знакомым Токарским он не раз возвращался
к мысли о журнале, своем журнале.
«Как-то, сидя в углу дивана,— вспоминал Токарский,—
Николай Гаврилович рассказывал своим эпически-спокойным
тоном о Григоровиче, но вдруг прервал рассказ, встал и, ходя
крупными шагами по комнате, сказал: «Я вам говорил как-то,
что предполагал эмигрировать и взять в руки издание «Коло¬
кола» и что я не знаю, хорошо ли я сделал, что отказался.
Теперь я знаю. Я сделал хорошо, я здесь, в России, создам
журнал. Я создам его». И тут только я понял страшную, невы¬
носимую муку этого человека, ту муку, которую он выносил
оттого, что был оторван от возможности влиять на жизнь своим
словом и убеждением...»
В Саратове Чернышевский по-прежнему много работает и по-
прежнему мечтает о том дне, когда он сможет вернуться к настоя¬
щей журнальной деятельности, которую он понимал не как
простое публикование статей на страницах периодических изда¬
ний.
«Я журнал понимаю так,— говорил он И. Горизонтову,—
чтобы от а до зет был одного вкуса, цвета и направления. Тогда,
382
и только тогда, он будет иметь воспитующее значение и про¬
изводить достодолжное впечатление. А наши теперешние жур¬
налы, что они? Одна статья за реальное образование, рядом
с ней за классическое; повесть говорит о свободе чувства и мысли,
а роман за условную мораль... Словом, что ни журнал, то ви¬
негрет. Этак я не могу. Я вот лучше буду писать у вас о саратов¬
ской старине...»
Казалось, Чернышевский еще полон сил и энергии, он мечтал
переехать в Москву и взять в свои руки журнал «Русская
мысль». В. Г. Короленко, встречавшийся с Чернышевским
в августе месяце, отмечал: «Его разговор обнаруживал прежний
ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие».
Но Николаю Гавриловичу не суждено было не только создать
журнал, но и даже написать о саратовской старине. В конце
сентября он сильно простудился, но все равно продолжал
работать. Рано утром 15 октября он еще читал корректуру пер¬
вого тома Вебера (второго издания). Ночью начался бред.
16 октября собрался консилиум докторов А. Брюзгина, М. Крот-
кова, Э. Бонвеча. Началась агония. В ночь с 16 на 17 октября
1889 года в 12 часов 37 минут Николай Гаврилович скончался
от кровоизлияния в мозг.
Теперь в Саратов шли многочисленные телеграммы и письма
с выражением глубокой скорби. Тысячи саратовцев 20 октября
1889 года провожали в последний путь своего великого земляка.
Тело Николая Гавриловича Чернышевского было погребено на
саратовском Воскресенском кладбище, вблизи от родительских
могил.
В том же году Глеб Успенский в одном из своих писем
с горечью признавал: «Опыт жизни лучше всяких теорий научает
наше общество ничего не делать и всего бояться». Кто-то преду¬
смотрительно срезал с возложенных на могилу венков ленты
с надписями: «Творцу романа «Что делать?» и «Сеятелю великих
истин».
Есть времена, есть целые века,
В которых нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка!..
Эти слова Некрасова могли бы послужить лучшим эпиграфом
к судьбе Николая Гавриловича Чернышевского, судьбе траги¬
ческой и прекрасной одновременно.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В САРАТОВЕ. 1828—1846
ИСТОКИ 4
В РОДНОМ ДОМЕ 8
СЕМИНАРИЯ 18
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ. 1846—1851
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ 31
В УНИВЕРСИТЕТЕ 36
1848 ГОД 47
ЛОБОДОВСКИИ И ХАНЫКОВ 54
ПЕТРАШЕВЦЫ 60
НА ПЕРЕПУТЬЕ 67
КРУЖОК ВВЕДЕНСКОГО 71
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В САРАТОВЕ. 1851—1853
УЧИТЕЛЬ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 77
ЗНАКОМСТВО 86
ОБЪЯСНЕНИЕ 90
ЖЕНИТЬБА 100
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ. 1853—1864
НОВАЯ ЖИЗНЬ 112
ДИССЕРТАЦИЯ 126
1855 ГОД 142
ПРЕЕМНИК БЕЛИНСКОГО 155
ДОБРОЛЮБОВ 164
РАСКОЛ 173
КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС 193
«КОЛОКОЛ* И «СОВРЕМЕННИК» 205
РЕФОРМА 215
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ . 237
В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ 250
СЮЖЕТ ПОЛИЦЕЙСКОГО «РОМАНА» 265
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ 280
ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ЛЕВ ТОЛСТОЙ И «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» 288
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ДОСТОЕВСКИЙ И СОЦИАЛИЗМ 314
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В СИБИРИ. 1864—1883
КАТОРГА 346
ССЫЛКА 357
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В АСТРАХАНИ И САРАТОВЕ. 1883—1889
ИНАЯ ЖИЗНЬ 367
В РОДНОМ ГОРОДЕ 379
85 коп.
АНАТОЛИЙ ЛАНЩИКОВ
Н.Г ЧЕРНЫШЕВСКИЙ