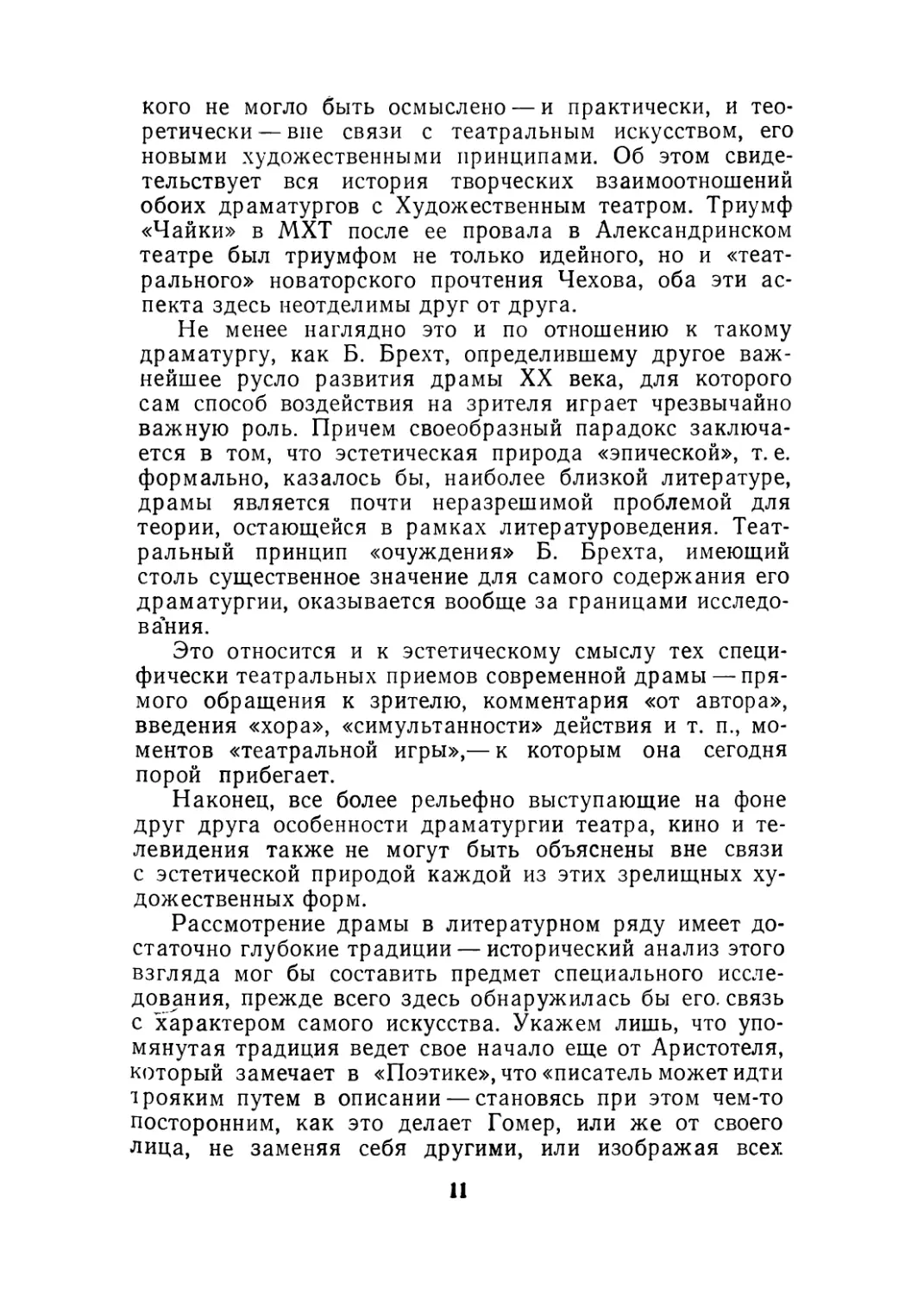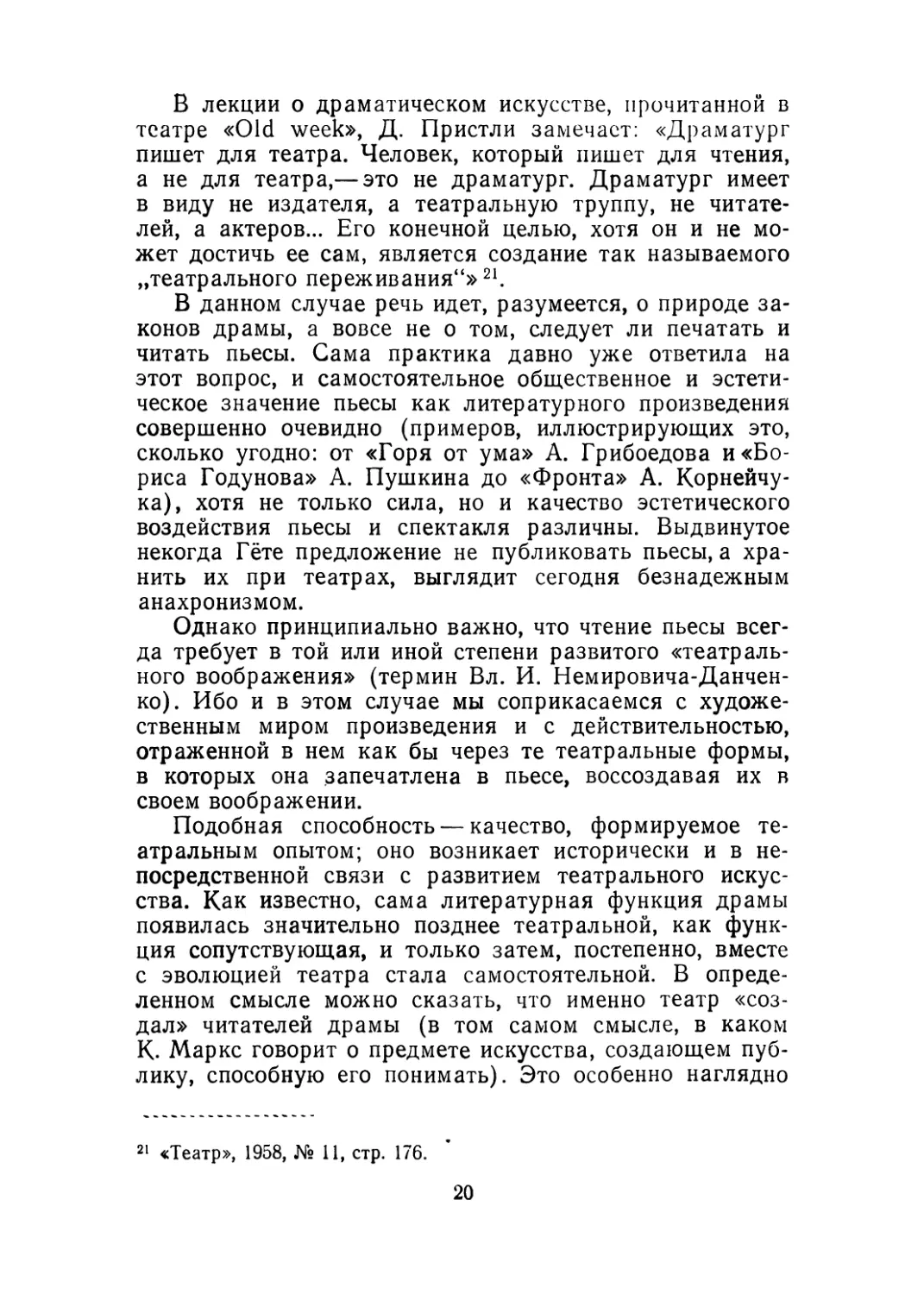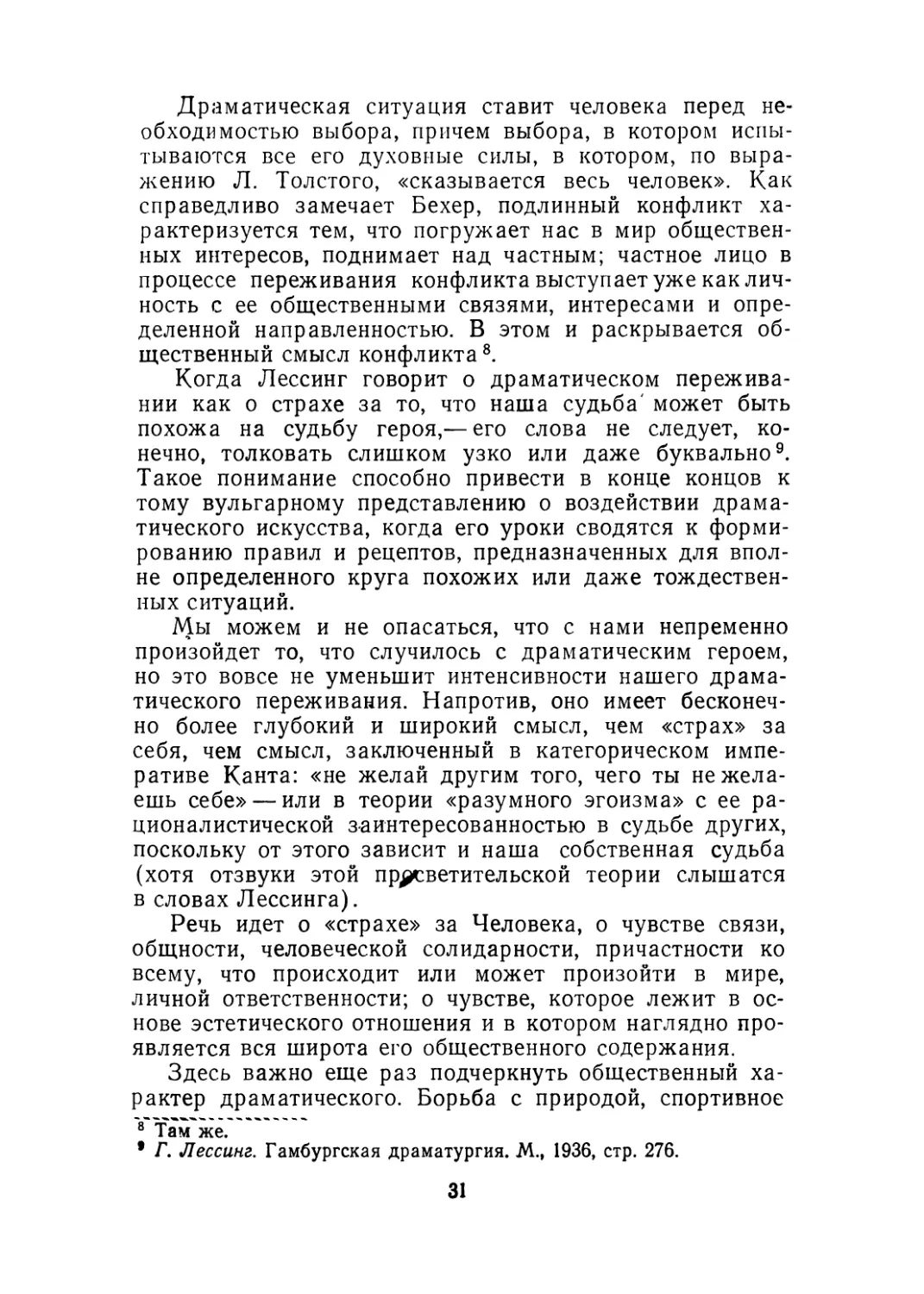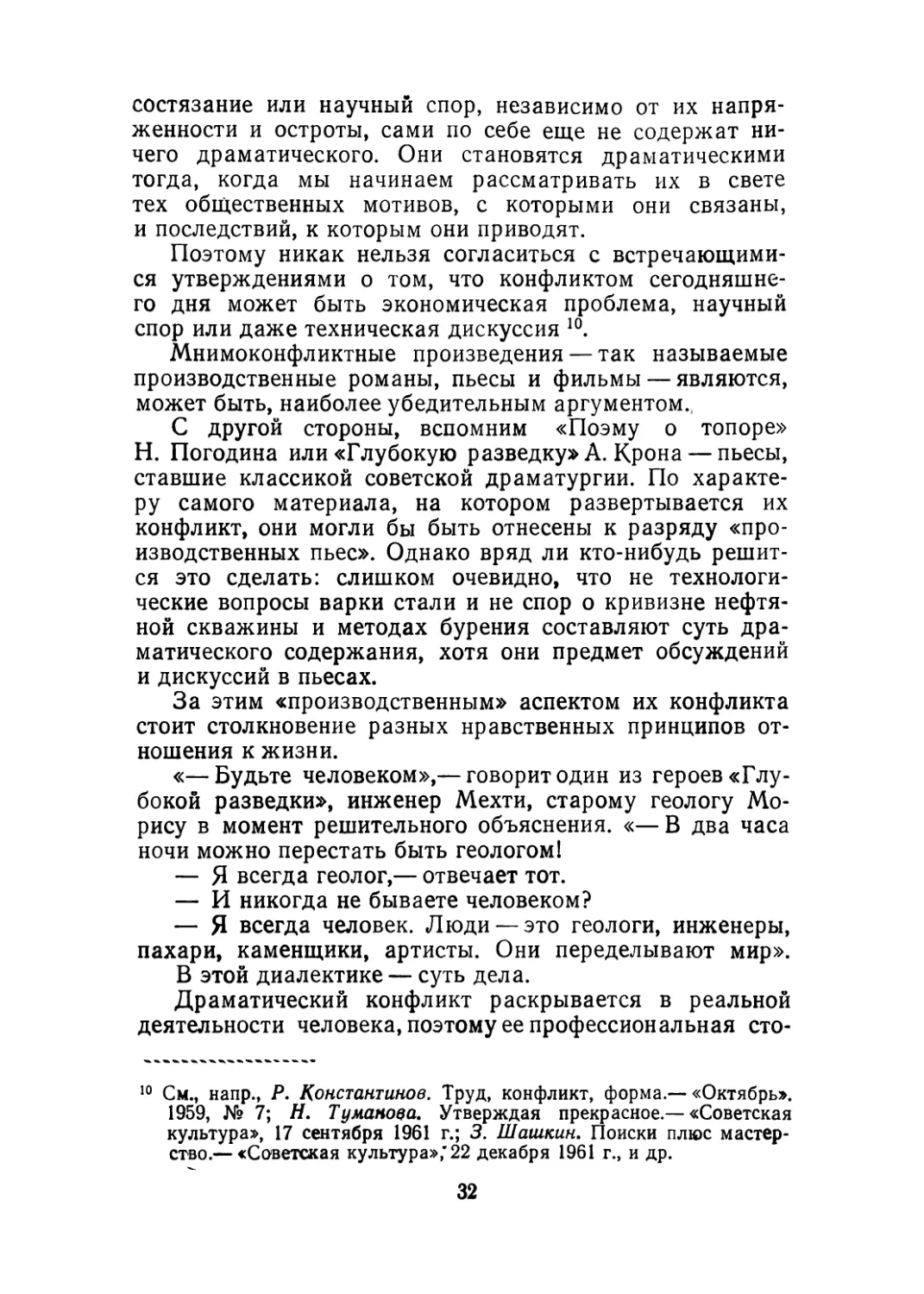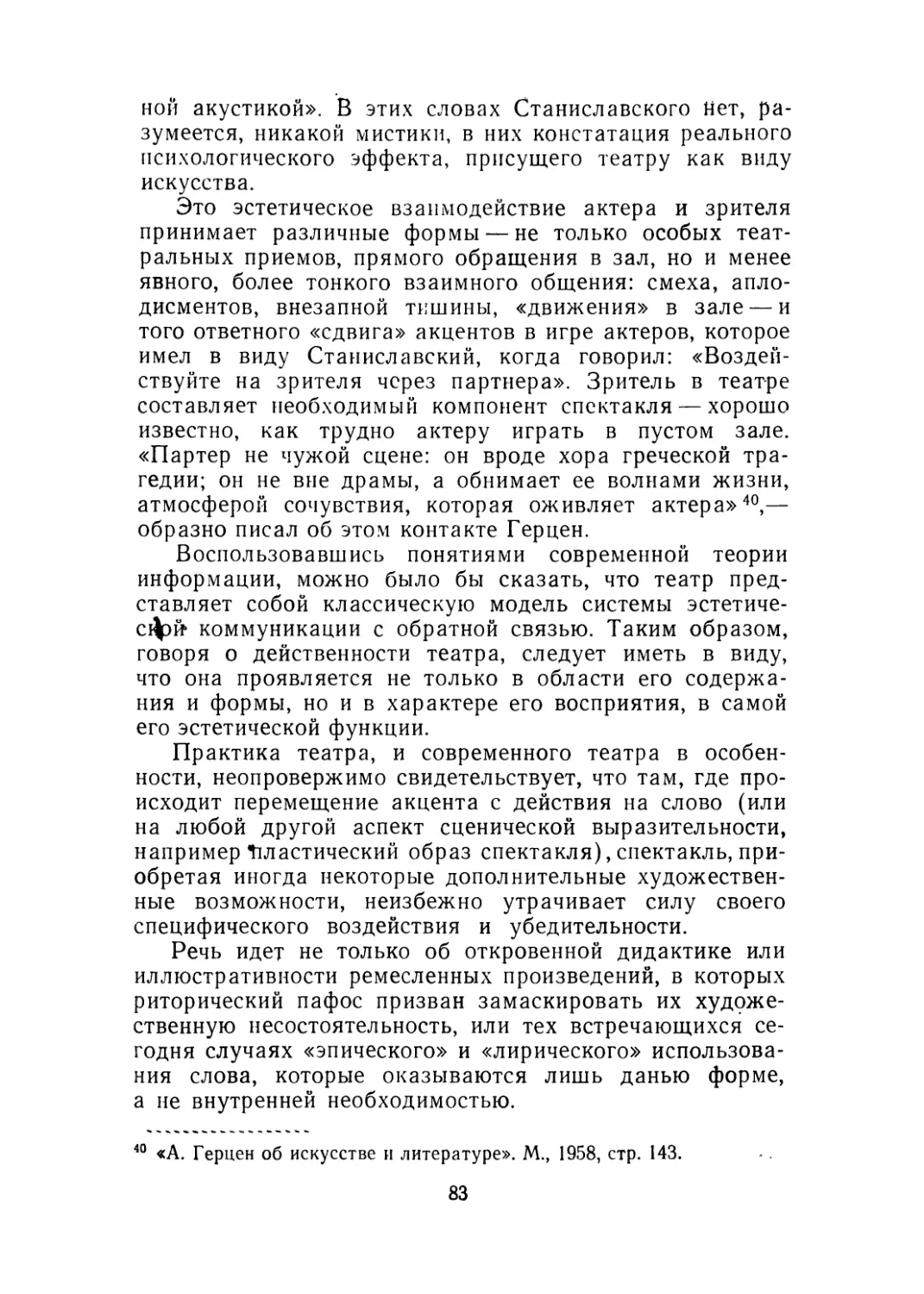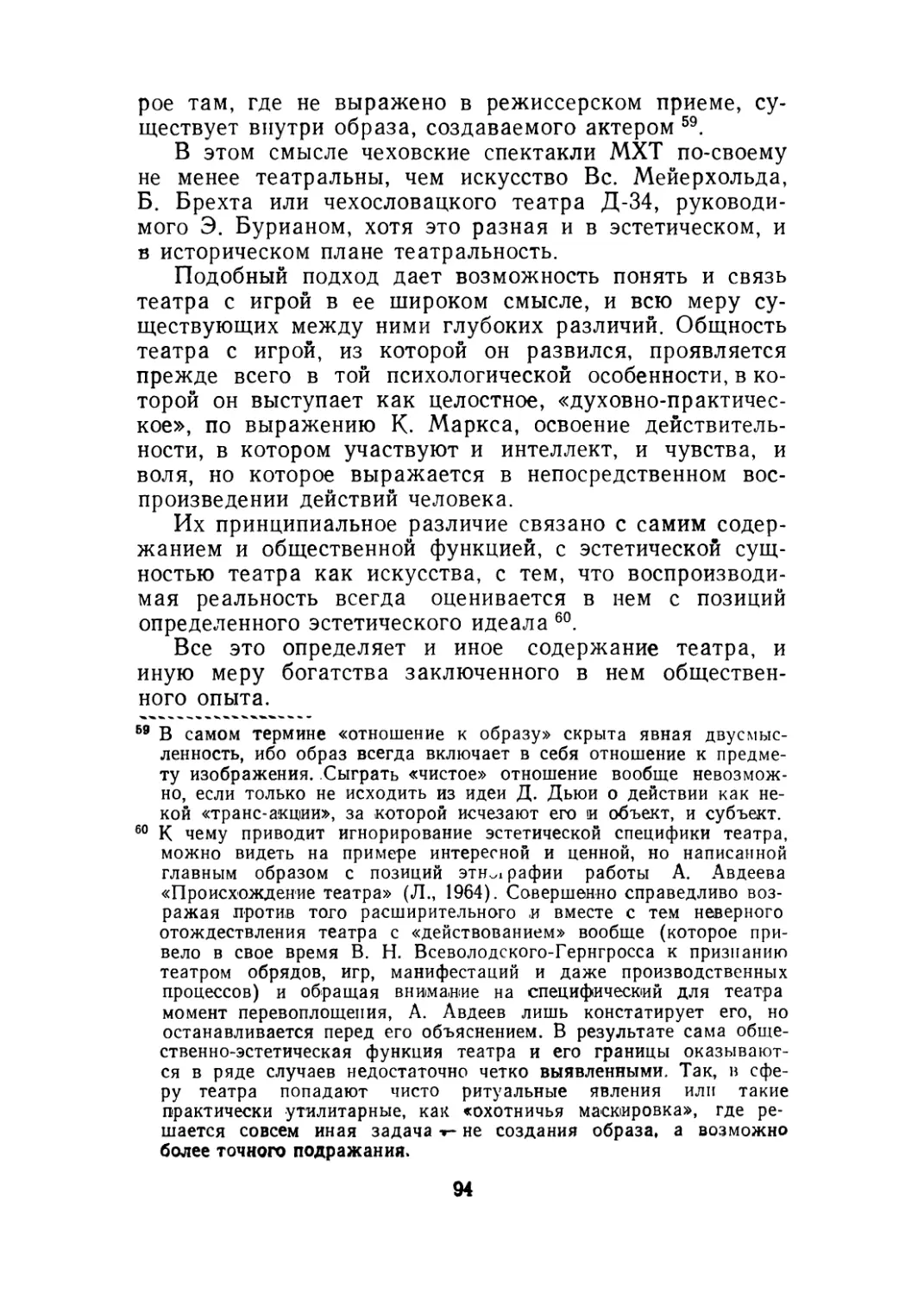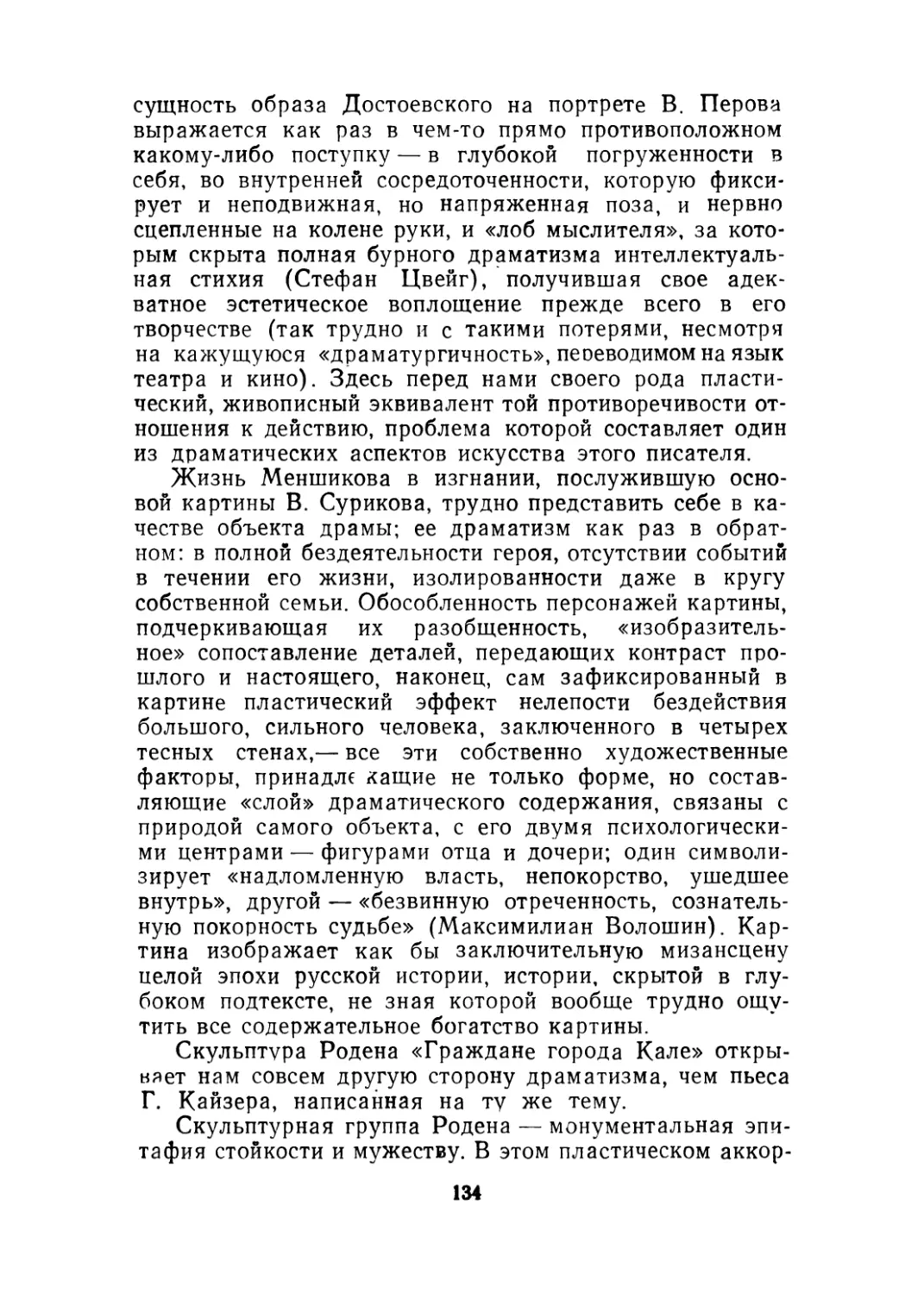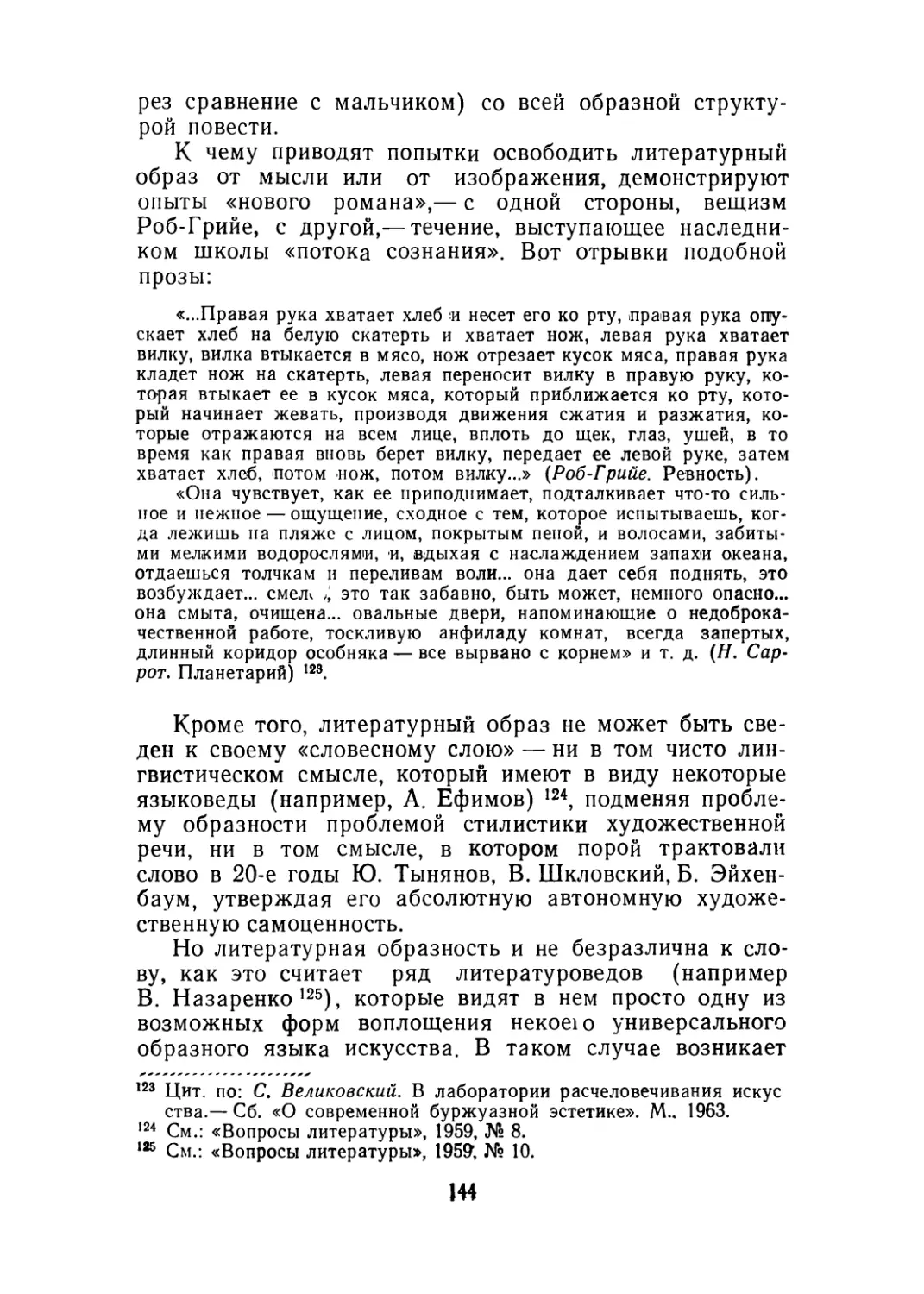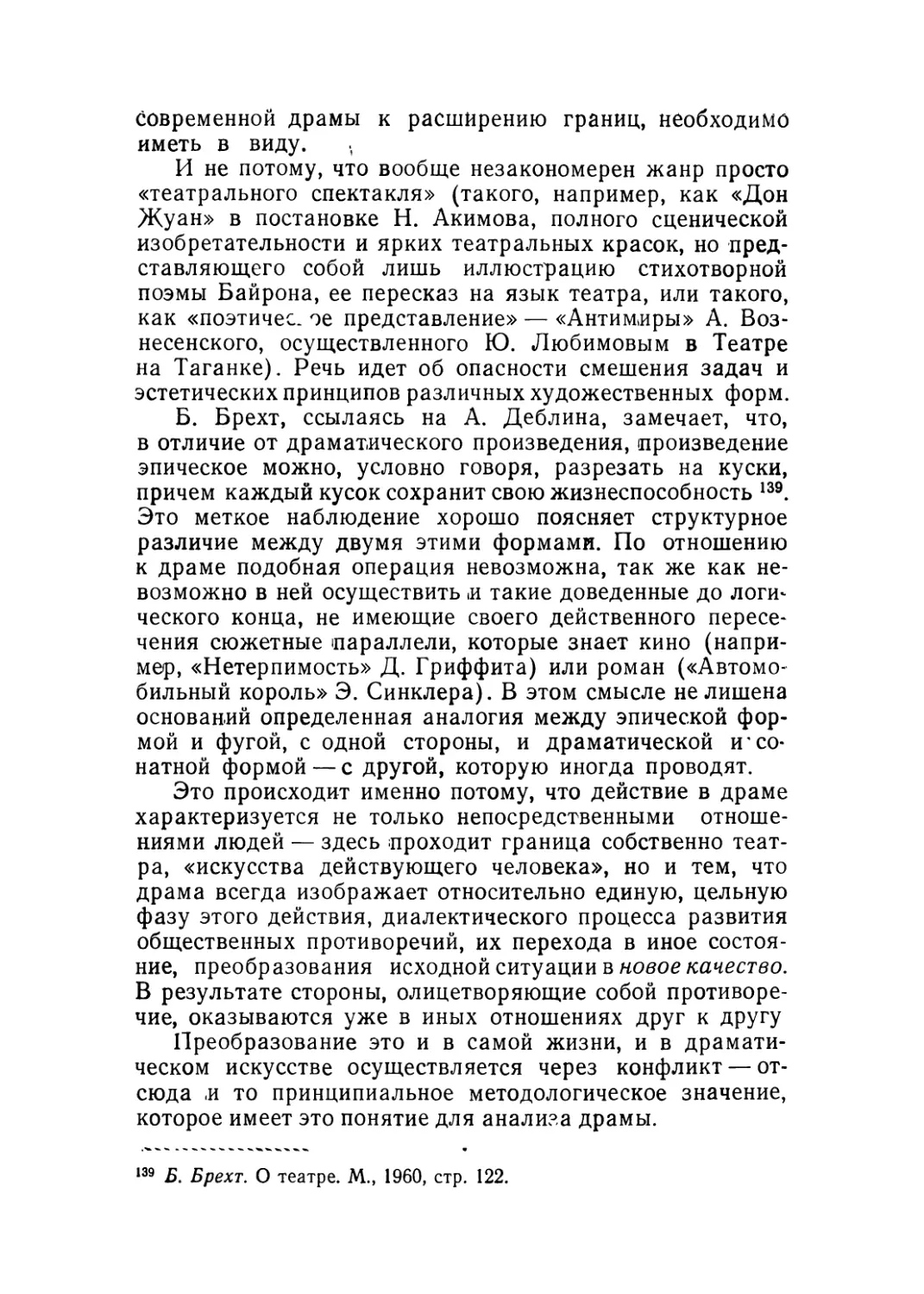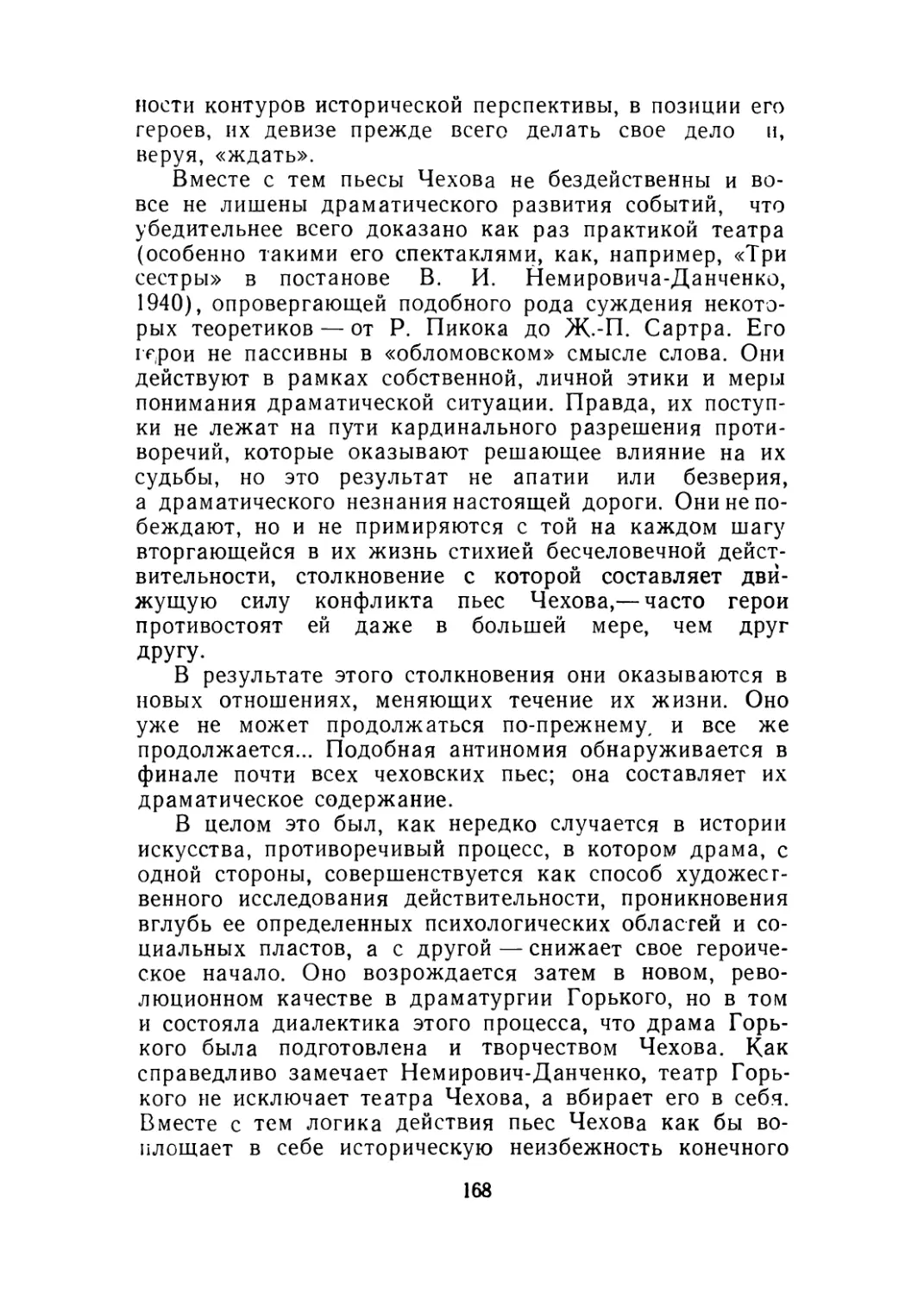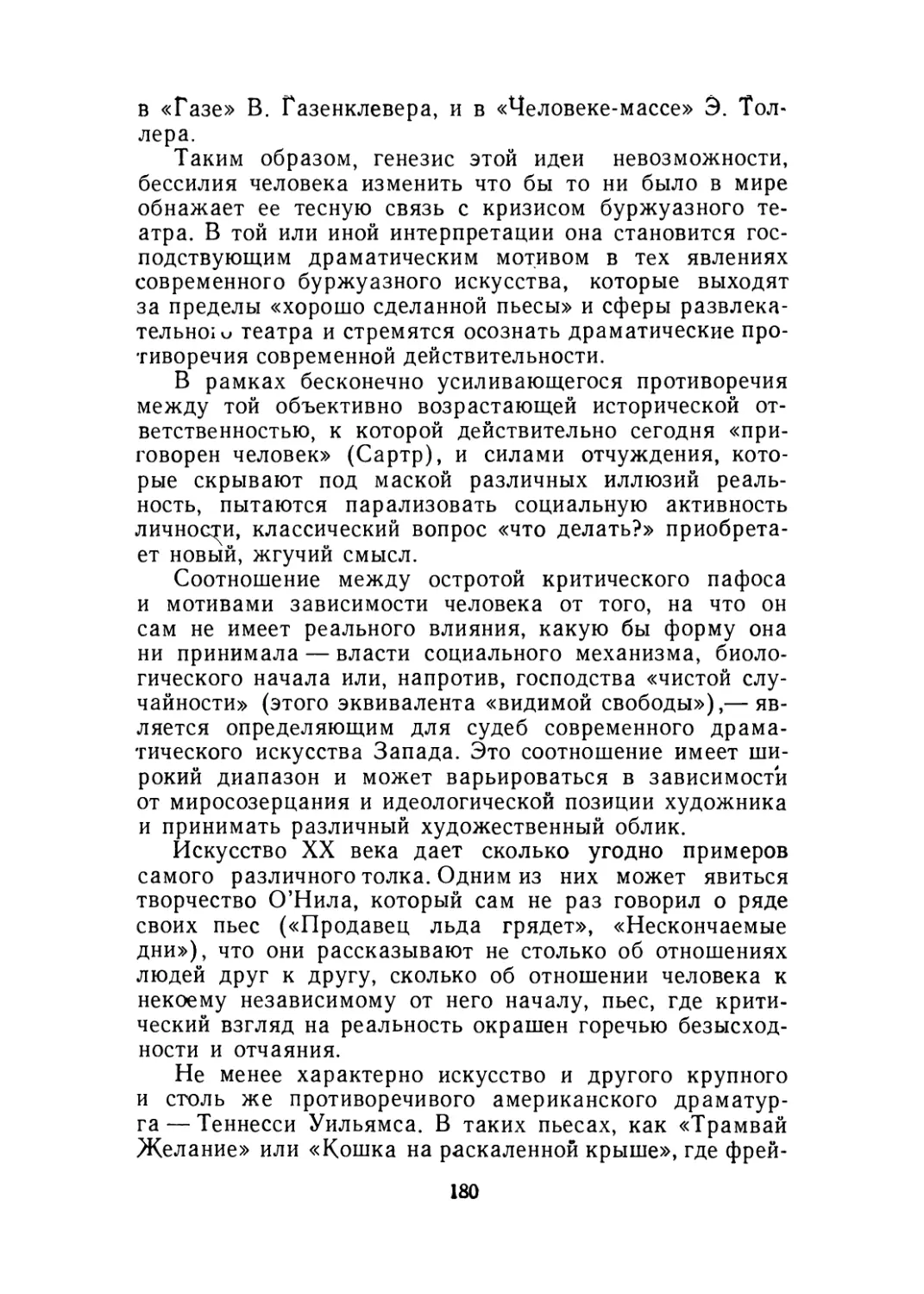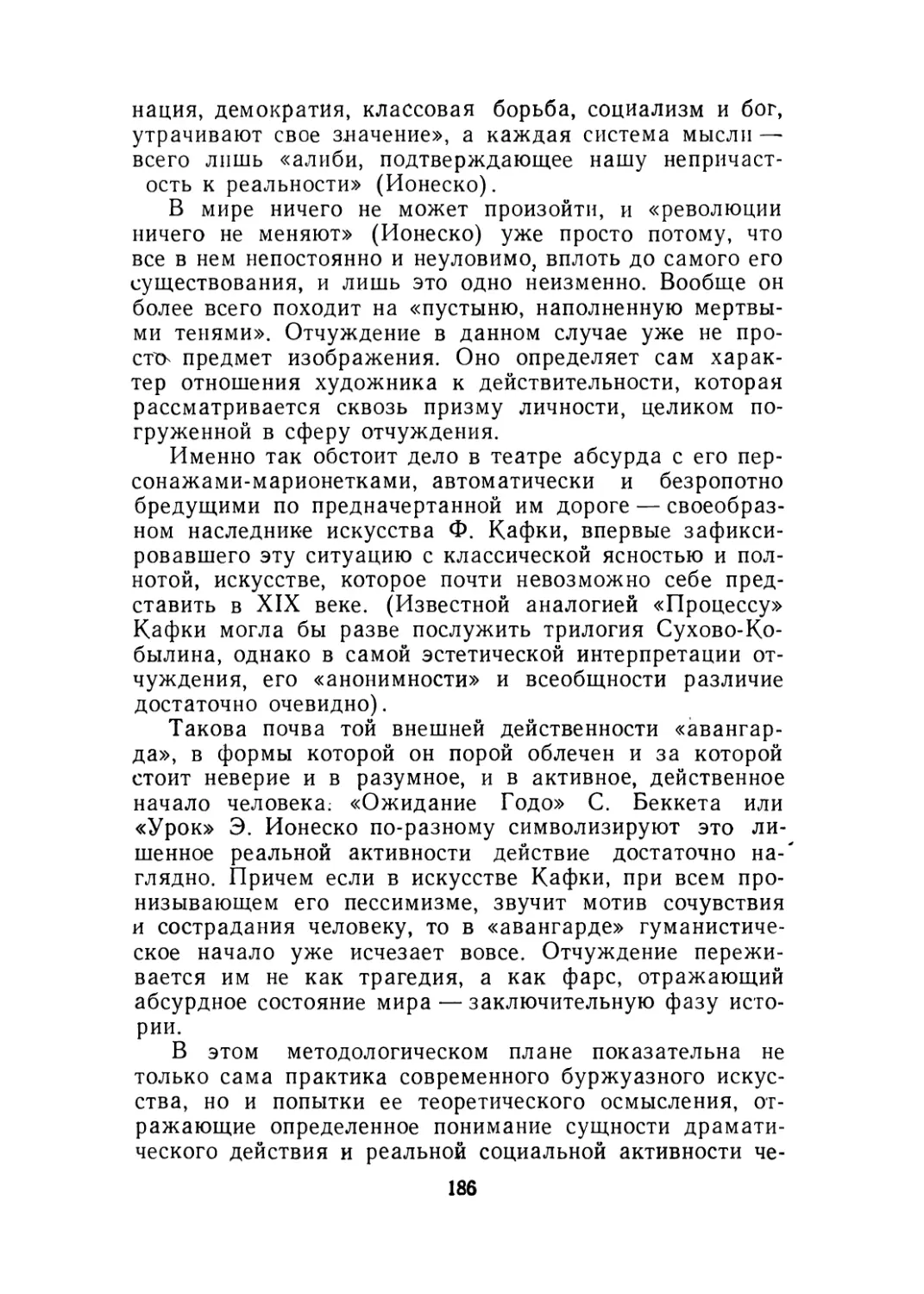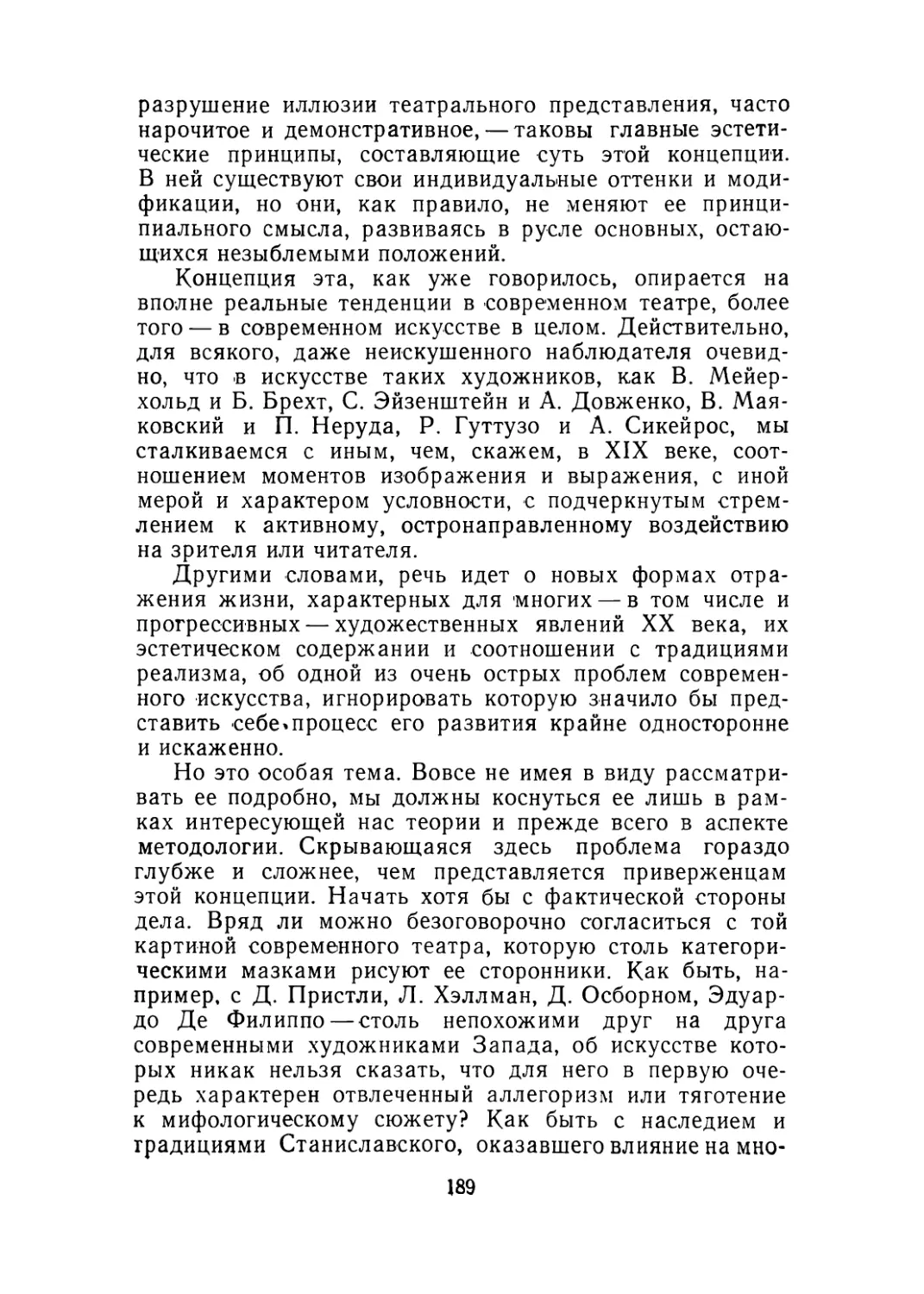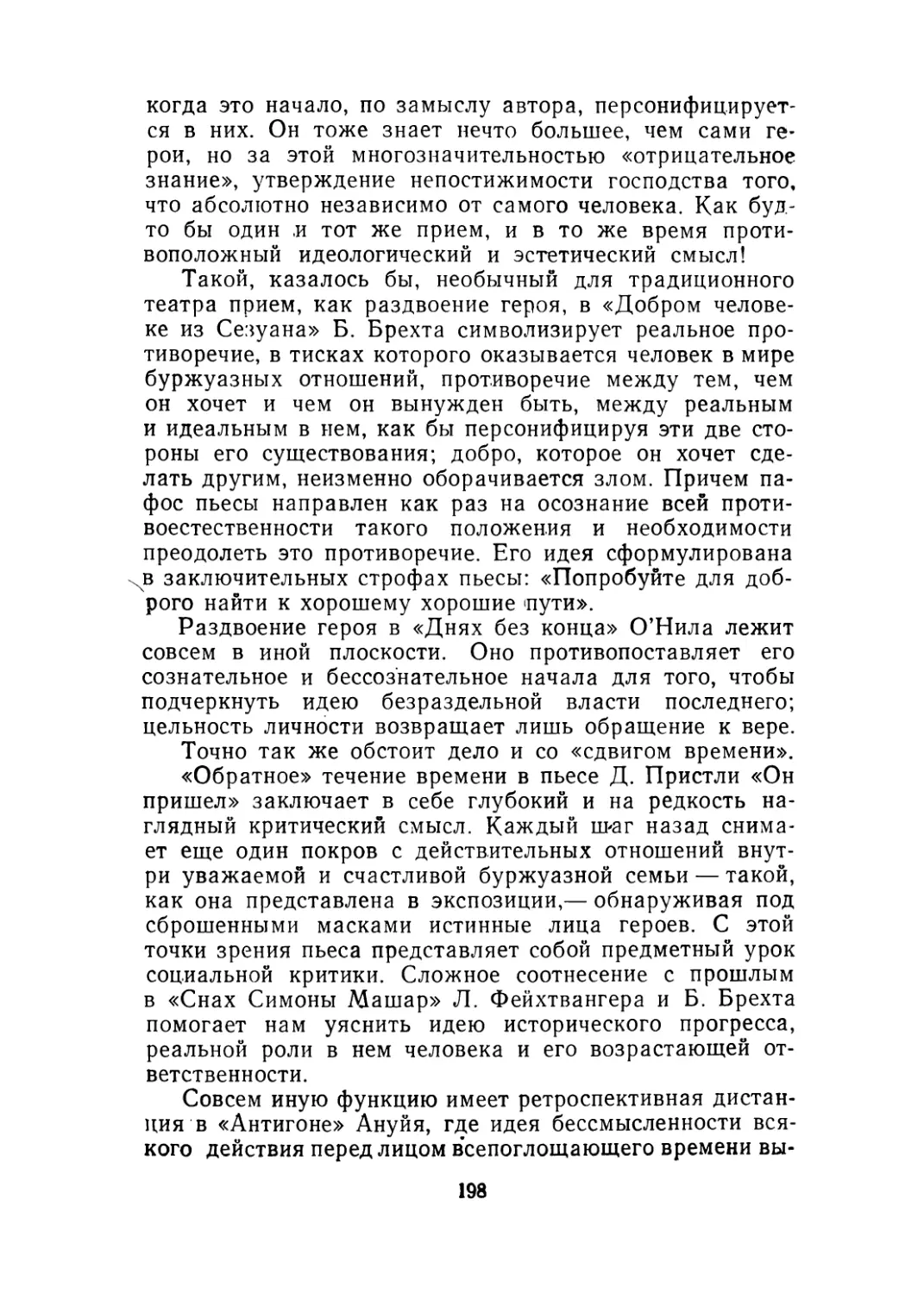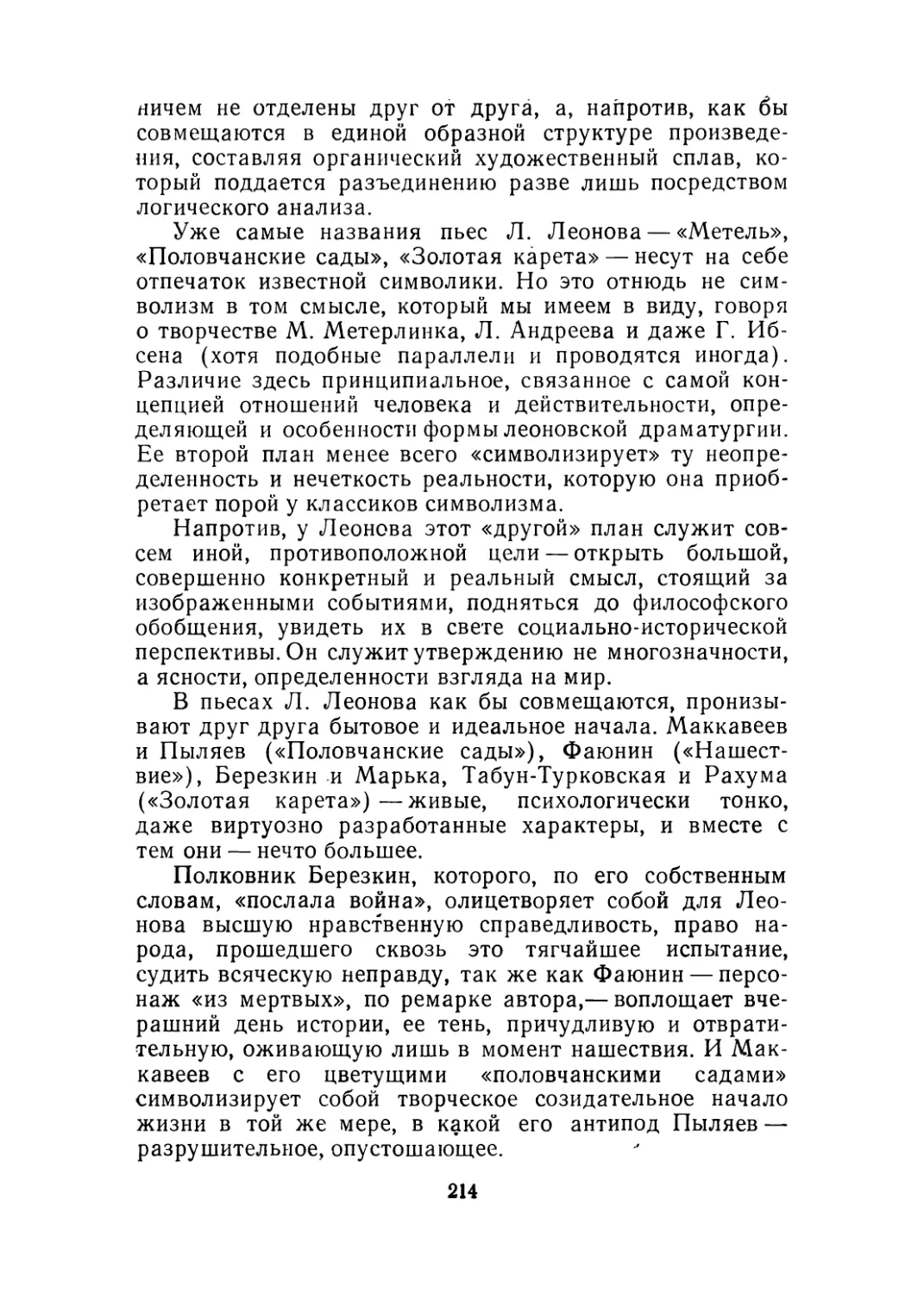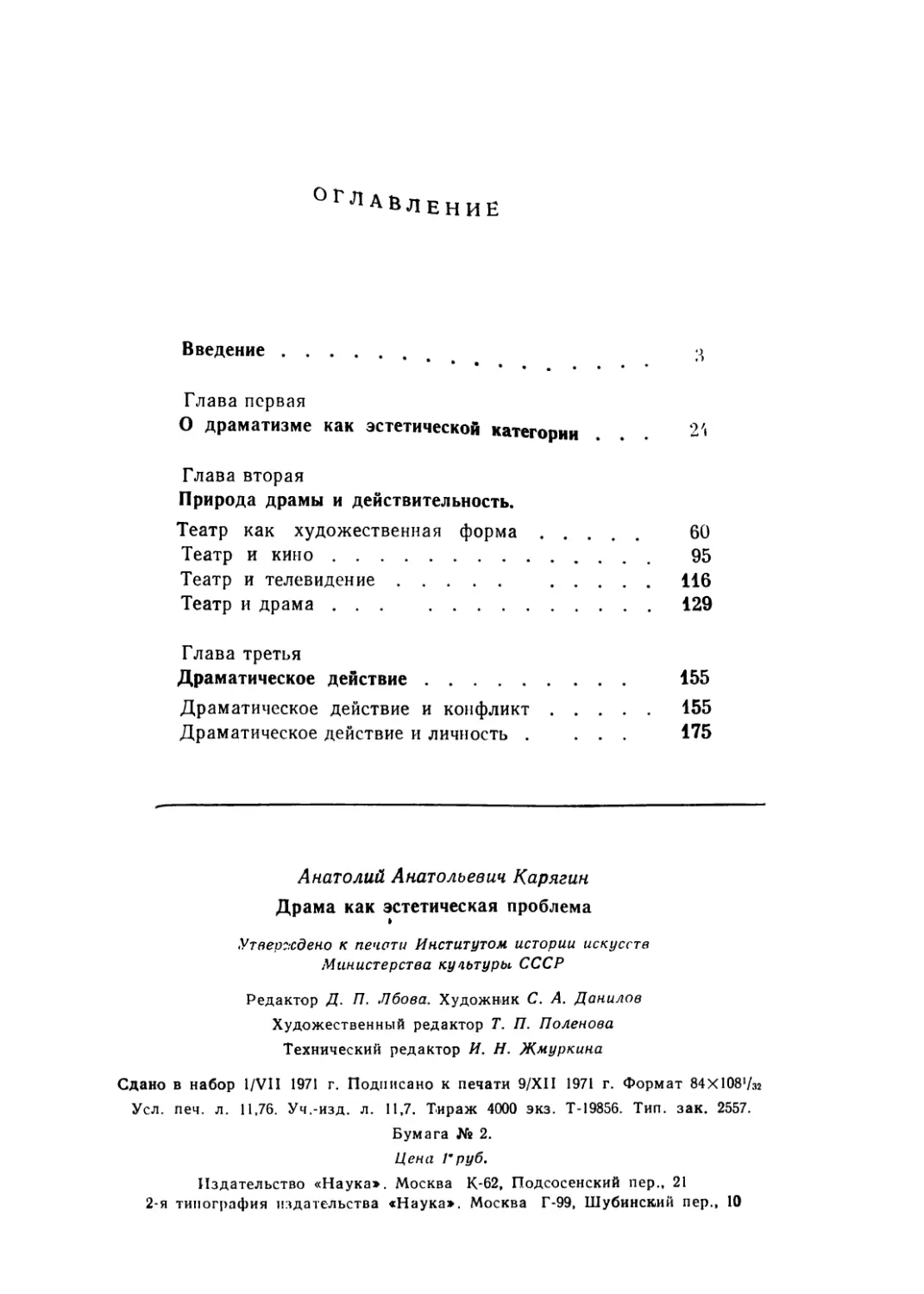Text
А. А. КАРЯГИН
ДРАМА
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
А. А. Карягин
ДРАМА
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Библиотека
У Г п и
гор. Ижевск
0
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1971
Настоящая книга посвящена некоторым актуальным
проблемам драмы как художественной формы. В ее со-
став частично вошел ряд опубликованных прежде ра-
бот, связанных с теоретическими вопросами театраль-
ного искусства и затрагивающих его эстетические и
социальные тенденции у нас и на Западе.
Не претендуя на решение этих вопросов, книга содер-
жит лишь их постановку в общей форме и прежде все-
го в методологическом аспекте.
С этой точки зрения автор видел свою задачу в том,
чтобы наметить пути соединения общеэстетического
искусствоведческого подхода к драме, ее проблемам
перспективам развития.
к к
Ответственный редактор
А. А. АНИКСТ
8-1-1
57-БЭ-32-71
ВВЕДЕНИЕ
*
Революционные эпохи всегда оказывали чрезвычайно
глубокое, решающее влияние на драматическое искусство,
его эстетические принципы и общественную роль. Может
быть, больше, чем когда бы то ни было, это относится
к нашему времени грандиозных социальных преобразо-
ваний и столкновений, огромных сдвигов, происходя-
щих в сознании человечества, эпохе, революционное со-
держание которой знаменует его переход от «предысто-
рии» к подлинной «истории» (К. Маркс).
Принципиально иные по своей природе драматиче-
ские конфликты времени, рост массовости художе-
ственной культуры, быстрое развитие рядом с театром
смежных искусств — кино и телевидения — все это ста-
вит драматическое искусство перед лицом вновь возни-
кающих проблем. Не будет преувеличением сказать, что
в XX веке оно вступает во многих отношениях в новый
этап своей истории.
Его внешние признаки достаточно очевидны для вся-
кого сколько-нибудь внимательного наблюдателя. Они
сказываются уже в огромном художественном богатстве
и разнообразии форм, столь характерном для современ-
ного театра, которое является симптомом его напряжен-
ных поисков и открытий, завоеваний и утрат.
Одно из самых общих направлений этих поисков —
хотя за ними подчас стоят различные тенденции — свя-
зано со стремлением театра раздвинуть границы своих
эстетических возможностей, освоить новые пласты и об-
ласти действительности, в том числе еще недавно ка-
завшиеся недоступными и запретными для этого искус-
ства. Его диапазон заметно расширяется, включая в
3
себя новые драматические факторы — от самых слож-
ных внутренних процессов духовной жизни человека до
реального факта и документа; художественная форма
обогащается и усложняется, приобретает новые черты,
испытывая на себе влияние других видов искусства и
в свою очередь влияя на них сама. Если согласиться
с тем, что художественное многообразие есть качество,
свойственное современному искусству вообще, то к теат-
ру это может быть отнесено едва ли не в первую оче-
редь.
Более того, новое место, занимаемое театром в си-
стеме искусств сегодня, утрата им «зрелищной» моно-
полии порождают порой различные точки зрения на ло-
гику развития и будущее этого искусства. Достаточно
указать, например, на те споры вокруг «сфер влия-
ния» и судеб театра, кино, а затем и телевидения, ко-
торые периодически вспыхивают с новой остротой и у
нас, и за рубежом и в которых состояние и перспек-
тивы театрального искусства оцениваются столь различ-
ным образом — то как эпоха кризиса и утраты им своего
былого значения, то как начало периода нового подъема
и расцвета. И хотя в подобных суждениях нетрудно от-
метить полемические преувеличения и крайности (как
и всякие заблуждения, они имеют свои гносеологические
и социальные истоки), здесь также вырисовывается
вполне реальная проблематика.
Она требует достаточно гибких и вместе с тем чет-
ких эстетических критериев. Прежде всего необходимо
иметь в виду, что за пафосом активных поисков театра,
динамикой его развития скрываются различные, иногда
даже противоположные тенденции. Они выражают тот
не всегда явный, но все более широкий и интенсивный
процесс эстетической и социальной поляризации внутри
современной художественной культуры, который являет-
ся характерным признаком ее развития.
На одном полюсе здесь находится опирающееся на
революционный опыт XX века и его подлинные духовные
завоевания искусство социалистического реализма, а так-
же искусство, развивающееся в русле реалистических тра-
диций и демократических тенденций современности, на
другом — антигуманистические явления, отражающие
кризис буржуазной культуры: и проникнутые духом (Эсте-
тического субъективизма опыты модернистского искус-
4
ства, и спекулирующие на «предрассудках» сознания масс
псевдореалистические формы «массовой культуры».
Между этими полюсами существует область сложных
и внутренне противоречивых явлений, расположенных на
том или ином «расстоянии» от них.
Исследование этих новых явлений и форм, эстетиче-
ских и социальных тенденций должно иметь в виду преж-
де всего этот фундаментальный процесс и его социально-
историческую динамику.
Вместе с тем он выдвигает и особый круг методоло-
гических проблем, связанных с границами, предметом,
структурой и другими характеристиками самой эстети-
ческой специфики драматического искусства. Этот ес-
тественный процесс развития наших теоретических пред-
ставлений становится необходимым условием его глубо-
кого осмысления.
Одновременно здесь существует и противоположная
опасность такого «всеприятия» новых форм театра, при
которой его эстетические границы начинают уже терять
свои очертания. Так, возникают размышления о том, что
если и можно говорить о каких-либо тенденциях внутри
современного искусства в области формы, то они сводят-
ся лишь ко все большей индивидуализации и увеличению
многообразия, а в рамках различных видов искусства
заключаются в ничем не ограниченном расширении их
возможностей.
Хотя подобный взгляд по-своему отражает опреде-
ленные стороны художественного процесса, эстетическое
разнообразие поисков современного искусства, он едва
ли приемлем, олицетворяя собой другую крайность. Не
делая разграничений между теоретическими канонами и
осмыслением художественных тенденций, исследованием
эстетических закономерностей, он не столько решает,
сколько снимает упомянутые проблемы. Непредвзя-
тость взгляда на искусство при этом превращается уже
в свою противоположность, в абсолютную «безгранич-
ность» и своего рода теоретическую беззаботность, от
которой недалеко до такого понимания драмы и театра,
когда ими получает право называться едва ли не про-
сто «все, что может быть представлено на сцене». Та-
ким образом, точка ставится там, где как раз должно
начинаться научное исследование.
5
Такого рода последовательный эмпиризм широко
представлен в современном театроведении на Западе —
от В. Арчера, очень отчетливо выразившего подобную
тенденцию в своем утверждении о том, что «единствен-
но возможное определение драматического сводится к
его способности вызвать интерес у среднего зрителя»,
до Ф. Ламли, который в книге, посвященной анализу
драматического искусства XX века, полагает, что мы
должны отказаться от всяких попыток судить о его пер-
спективах— связаны ли они с «антинатурализмом» или
«сверхнатурализмом», пьесами «идей» или «эмоций»,
эпическим или «камерным» театром и т. д.,— ибо не
существует критериев, на которые мы могли бы
опереться.
Это, разумеется, отнюдь не специфически театровед-
ческое явление.
Нечто похожее нетрудно обнаружить и в области
размышлений о современной музыке, изобразительном
искусстве или кино. В более широком эстетическом пла-
не подобный подход генерализован и в идее «реализма
без-берегов» Р. Гароди, и в позиции Г. Рида, утверждаю-
щего, что пора универсальных теорий в искусствознании
прошла и отрицающего в нем какой бы то ни было мони-
стический принцип.
В действительности необходим, конечно, не отказ от
общих критериев, а «переход» от устаревших, «тра-
диционных» к более глубоким и современным, которые,
опираяеь на некоторые фундаментальные положения и
включая в себя эти прежние в снятом виде, были бы
способны охватить реальное многообразие художествен-
ных явлений, логику их развития; отделить в них то,
что возникает закономерно, органически и расширяет
возможности искусства, от «издержек» исторического
процесса и бесплодного экспериментаторства.
В этом смысле вопросы методологии выдвигаются
сегодня на первый план среди теоретических проблем
современной драмы — в конечном счете они определяют
плодотворность исследования путей ее развития и кон-
кретных форм.
Ряду подобных методологических проблем, связан-
ных с эстетической природой драмы, ее содержательным
смыслом как художественной формы, и посвящена на-
стоящая работа. Не претендуя на их исчерпывающее ре-
6
шение, она преследует более скромную цель — постанов-
ку некоторых из них в общей форме.
В равной мере она отнюдь не предполагает сколь-
ко-нибудь подробного и систематического анализа со-
временного драматического искусства и касается его
лишь постольку, поскольку сама методология всегда воз-
никает на почве первоначального обобщения практики,
становясь затем инструментом се дальнейшего конкрет-
ного исследования, которое обогащает методологию,
и т. д.
Такова диалектика изучения всякого предмета и раз-
вития его методологии; в самой ее внутренней противо-
речивости заключен и источник неизбежных трудностей
и вместе с тем оправдание подобного рода попыток.
* * *
Горький назвал драму самым трудным родом лите-
ратуры. С подобными высказываниями мы встречаемся
на всем протяжении ее истории — у Пушкина и Гёте,
Герцена и Лессинга, Гегеля и Белинского, Чехова и
Маяковского.
Эта «трудность» драмы, по мере ее исторического
развития, может быть, даже возрастающая, обычно свя-
зывается с ее предназначенностью для сценического
представления. Однако ограничиться констатацией этого
обстоятельства было бы, конечно, еще далеко не доста-
точно. Совершенно очевидно, что такие особенности дра-
мы, определяющие лишь формальную возможность ее
театрального воплощения, как принцип «самораскры-
тия» действующих лиц, диалогическое построение, вре-
менные рамки и т. п., сами по себе не более, чем след-
ствия других, более глубоко лежащих факторов. Не так
легко представить себе на сцене «Освобожденного Про-
метея» П. Шелли, «Дон Жуана» А. К. Толстого или
«Фиоренцу» Т. Манна — произведения, удовлетворяю-
щие этим внешним требованиям. Не случайно литера-
туроведение выработало особый термин для обозначения
такого рода пьес — «драмы для чтения» (Lesedrama,
Closed drama).
С этой точки зрения показательны неизменные не-
удачи или по крайней мере полуудачи многократных
I
попыток театральной интерпретации таких произведе-
ний, как «Каин» Байрона или «Фауст» Гёте (особенно
второй его части). Об этом же свидетельствуют те труд-
ности, которые постоянно приходится преодолевать при
театральном воплощении прозы, не говоря уже о самом
факте сравнительной редкости инсценировок, художест-
венно равноценных своему первоисточнику.
Однако существуют, как известно, и такие, написан-
ные в повествовательной форме и по внешним призна-
кам эпические, произведения, которые если не целиком,
то в отдельных своих частях и эпизодах сравнительно
легко поддаются сценическому воплощению и к ко-
торым театр постоянно обращается в своей прак-
тике.
Очевидно, что проблема заключается в особенностях
самого содержания драмы. Еще Пушкин, говоря о том
же «Каине», отмечал, что это драматическое по форме
произведение вовсе не таково по своей внутренней сущ-
ности \
Выражая сомнение в возможности инсценировать
«Преступление и наказание», Достоевский писал: «Есть
какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма
искусства никогда не найдет себе соответствия в дра-
матической». И добавлял: «Я даже верю, что для раз-
ных форм искусства существуют и соответствующие им
ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не мо-
жет быть никогда выражена в другой, не соответствую-
щей ей форме» 1 2.
На это же обстоятельство указывал и Ф. Энгельс
в переписке с Лассалем, проводя определенную грань
между сценической и литературной формами драмы.
Сам факт глубокого эстетического своеобразия дра-
мы, несводимое™ ее специфики к форме, едва ли мож-
но сегодня считать дискуссионным. Гораздо более слож-
ным представляется вопрос о том, какова эстетическая
природа ее особенностей и чем они определяются.
Обращаясь к этой проблеме, прежде всего необхо-
димо отметить, что сам принцип деления литературы
на три рода достаточно условен — практика искусства
уже давно свидетельствует об этом. Еще Чернышевский
1 См. А. С. Пушкин. Соч., т. 6, стр. 137.
2 Ф. М. Достоевский, Письма, т. III. М.— Л., 1934, стр. 20.
8
в «Эстетических отношениях искусства к действитель-
ности», указывая на это обстоятельство, писал, что про-
изведения литературы «перестали вмещаться в рамки
старых подразделений, недостаточны сотни рубрик, тем
более не могут вместить всего три» 3.
В еще большей мере это справедливо по отношению
к искусству XX века. Не случайно многие современные
исследователи романа у нас (Б. Реизов, В. Днепров,
В. Кожинов и др.) и на Западе (Р. Фокс, Р. Агости,
П. Декс и др.) видят одну из основных исторических
тенденций его развития как раз в усилении в нем ли-
рических и драматических мотивов. С другой стороны,
мы наблюдаем параллельный процесс — современная
драма в различной форме охотно включает в себя эпи-
ческие и лирические элементы. В XX веке возникает
также принципиально новый драматический жанр — ки-
носценарий (мимо которого литературоведение чаще
всего проходит вовсе), соединяющий все эти элементы
в некоем новом качестве и уже оказывающий свое за-
метное обратное влияние на прозу и театр.
Этот происходящий на наших глазах процесс взаим-
ного проникновения и обогащения различных жанров,
диктуемый стремлением искусства возможно более пол-
но и всесторонне исследовать новую действительность,
взглянуть на свой предмет под разными эстетиче-
скими «углами зрения», осмыслить его реальную слож-
ность и многогранность, представляет собой объектив-
ную историческую закономерность. Практика современ-
ного искусства дает совершенно недвусмысленный ответ
на вопрос, поставленный еще немецкими романтиками,
в частности Новаллисом, «не являются ли эпос, лирика
и драма только тремя различными элементами, которые
присутствуют в каждом произведении,— и не там ли
мы имеем собственно эпос, где всего лишь преобладает
эпос?»
Нельзя не признать, что по мере эволюции искусства
у традиционного деления литературы на три рода в ко-
нечном счете остается известное историческое оправда-
ние и ограниченное практическое значение «первого при-
ближения», которое не охватывает всего эстетического
3 Н, Чернышевский, Собр. соч., т. I. М., 1956, стр. 81.
9
богатства современного искусства и разноообразия его
форм.
Но дело не только в относительности подобного де-
ления литературы. Это лишь один методологический ас-
пект вопроса. Другой, не менее существенный, связан
с односторонностью безоговорочного отнесения драмы
только к литературе, что характерно для традицион-
ного литературоведческого подхода.
Теория литературы чаще всего ограничивается лишь
указанием на факт предназначенности драмы для теат-
рального представления, скорее ссылается на это обстоя-
тельство, чем исходит из него4. Л. Тимофеев, напри-
мер, справедливо замечает, что драма «представляет
собой нечто, выходящее за пределы литературы, и ана-
лиз ее может быть осуществлен не только на основе
теории литературы, но и теории театра»5, останавлива-
ясь, однако, на полпути и рассматривая «внелитера-
турные» особенности драмы лишь в плане неких допол-
нительных средств выразительности, которыми распола-
гает драматург.
Осмысливая реальный опыт искусства, теория лите-
ратуры накопила очень много верных, глубоких и тон-
ких наблюдений, касающихся особенностей и содержа-
ния, и формы драмы, которые остаются фундаменталь-
ными и исходными. И все же там, где она ограничи-
вается собственно литературоведческим подходом, ее
положения оказываются иногда слишком общими, не-
достаточно определенными, неспособными объяснить
все эстетическое своеобразие драмы. А там, где лите-
ратуроведение стремится анализировать драму как теат-
ральный феномен, оно, строго говоря, вынуждено вый-
ти за рамки собственной методологии, прибегая к помо-
щи иных понятий и теоретического аппарата. Тем самым
так или иначе оно вступает уже в область театро-
ведения.
Особенные трудности возникают при анализе искус-
ства XX века. Уже новаторство Чехова, а затем и Горь-
4 См.: Г. Поспелов. Теория литературы. М., 1940; Л. Шепилова. Вве-
дение в литературоведение. М., 1968; Г. Абрамович. Введение в
литературоведение. М., 1970; «Теория литературы (Основные
проблемы в историческом освещении)» М., 1962—1964, и др.
5 Л. Тимофеев. Основы теории литературы. М., 1966, стр. 382.
10
кого не могло быть осмыслено — и практически, и тео-
ретически— вне связи с театральным искусством, его
новыми художественными принципами. Об этом свиде-
тельствует вся история творческих взаимоотношений
обоих драматургов с Художественным театром. Триумф
«Чайки» в МХТ после ее провала в Александрийском
театре был триумфом не только идейного, но и «теат-
рального» новаторского прочтения Чехова, оба эти ас-
пекта здесь неотделимы друг от друга.
Не менее наглядно это и по отношению к такому
драматургу, как Б. Брехт, определившему другое важ-
нейшее русло развития драмы XX века, для которого
сам способ воздействия на зрителя играет чрезвычайно
важную роль. Причем своеобразный парадокс заключа-
ется в том, что эстетическая природа «эпической», т. е.
формально, казалось бы, наиболее близкой литературе,
драмы является почти неразрешимой проблемой для
теории, остающейся в рамках литературоведения. Теат-
ральный принцип «очуждения» Б. Брехта, имеющий
столь существенное значение для самого содержания его
драматургии, оказывается вообще за границами исследо-
вания.
Это относится и к эстетическому смыслу тех специ-
фически театральных приемов современной драмы — пря-
мого обращения к зрителю, комментария «от автора»,
введения «хора», «симультанности» действия и т. п., мо-
ментов «театральной игры»,— к которым она сегодня
порой прибегает.
Наконец, все более рельефно выступающие на фоне
друг друга особенности драматургии театра, кино и те-
левидения также не могут быть объяснены вне связи
с эстетической природой каждой из этих зрелищных ху-
дожественных форм.
Рассмотрение драмы в литературном ряду имеет до-
статочно глубокие традиции — исторический анализ этого
взгляда мог бы составить предмет специального иссле-
дования, прежде всего здесь обнаружилась бы его. связь
с характером самого искусства. Укажем лишь, что упо-
мянутая традиция ведет свое начало еще от Аристотеля,
который замечает в «Поэтике», что «писатель может идти
трояким путем в описании — становясь при этом чем-то
посторонним, как это делает Гомер, или же от своего
лица, не заменяя себя другими, или изображая всех
11
действующими и проявляющими свою энергию»6. Для
такого деления у одного из первых теоретиков драмы
были свои основания. Они окажутся понятными, если мы
вспомним, что эпос и драма возникают из общего источ-
ника, что хотя театр и достигает значительного раз-
вития, характер драматургии остается тесно связанным
с эпосом, из его мифологического арсенала она черпа-
ет свои сюжеты и героев, а главное — ее пронизывает
та же центральная для античного эпоса идея рока, пред-
определения (что дало, между прочим, основание Бе-
линскому назвать греческую трагедию «эпической»),
хотя само отношение к судьбе в трагедии имеет уже
другой оттенок. Если к этому добавить, что собственно
литературная функция эпоса и лирики не была еще раз-
вита, становится вполне объяснимым то обстоятельство,
что Аристотель рассматривает драму в одном ряду с
другими поэтическими родами 7.
Высказывая чрезвычайно важное, фундаменталь-
ное положение о действии как главном элементе тра-
гедии, он практически смотрит на театральное испол-
нение скорее как на формальный момент, хотя само
понятие «катарсиса» — как бы его ни интерпретиро-
вать— потенциально несет в себе идею связи содержа-
ния драматического искусства с его специфической эсте-
тической функцией.
Эта традиция находит затем свое дальнейшее про-
должение в эпоху классицизма, что вполне соответству-
ет его отношению к наследию античности и самому ха-
рактеру классицистской драматургии (хотя, как справед-
ливо отмечает Г. Бояджиев, несмотря на то, что стиле-
вое своеобразие классицизма рассматривается преиму-
щественно в литературоведческом плане, «трагедии
Корнеля и Расина, комедии Мольера для современников
существовали в виде спектаклей и не могут быть отделе-
ны от актерского искусства» 8).
г3аметный сдвиг во взгляде на принадлежность дра-
мы происходит в эпоху Возрождения. Проникнутая «жи-
6 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957, стр. 45.
7 Интересный с этой точки зрения анализ «Поэтики» дан В. Асму-
сом в статье «Искусство и действительность в „Поэтике" Ари-
стотеля» (сб. «Из истории эстетической мысли древности и сред-
невековья». М., 1961).
8 Г. Бояджиев. Искусство классицизма.— «Вопросы литературы»,
1964, № 8.
12
востью и действенностью», которые отмечал Ф. Энгельс,
характеризуя творчество Шекспира, она рассматривает-
ся теперь преимущественно как произведение, предназ-
наченное для сцены. Однако это отражается в первую
очередь в самой практике искусства; эпоха высокоразви-
того драматического искусства весьма скупа в отноше-
нии теоретического осмысления собственного опыта, она
вообще не знает более или менее систематического изло-
жения теории драмы.
Пристальное внимание к «театральным» качествам
драмы обнаруживают и романтики. Их особенно привле-
кает в театре его синтетический характер. А главное —
«театральность», игровая природа театра оказывается
как нельзя более подходящей для воплощения их основ-
ного эстетического принципа отношения к жизни — роман-
тической иронии. Хотя А. Шлегель, например, рассмат-
ривает драму как произведение, стоящее в литературном
ряду (см. «Лекции о драматической литературе»), в це-
лом для романтиков именно театральное воплощение
драмы представляет собой ее подлинное, окончательное
осуществление.
, Другим после Аристотеля и классицистов «опорным
пунктом» традиционного подхода была система искусств
Гегеля, имевшая вполне определенное влияние на уста-
новление односторонней литературной точки зрения на
драму. Верно отражая историческую неравномерность
развития различных искусств, но выражая в то же вре-
мя предвзятое понимание самих законов и тенденций
этого процесса, она оказывается подчиненной жесткой
схеме, в которую не укладывается реальное богатство
современного искусства.
Действительное усиление интеллектуального начала
искусства и возрастающая историческая роль литерату-
ры превращается у Гегеля в соответствии с его общей
философской концепцией во всеобщий принцип возрас-
тающей «духовности» искусства, все более освобождаю-
щегося от «телесности»; наиболее полным воплощением
этого духовного начала становится слово, а поэзия —
высшим видом искусства.
х/ Называя драму синтезом эпоса и лирики (к этому оп-
ределению, связанному с пониманием самой сущности
драматизма, мы еще вернемся), Гегель весьма односто-
ронне интересуется проблемой связи драмы и театра.
13
Он смотрит на театр скорее как на неизбежную чувст-
венную форму драматического действия, принадлежаще-
го целиком внутренней духовной сфере и вполне выра-
жаемого словом, которое остается «определяющим и
преобладающим»9.
Отдельные, порой глубокие замечания, например об
особенностях «коллективного» и «динамического», как
сказали бы мы сейчас, восприятия театра, их влиянии на
его содержание, на фоне общей концепции Гегеля оста-
ются частностями — не случайно литературоведение
обычно оставляет их без внимания.
Белинский в своих конкретных анализах драматур-
гии, ее сценического воплощения убедительно раскрыва-
ет взаимосвязь, существующую между этими искусства-
ми, но в своей теоретической статье «Разделение по-
эзии на роды и виды» следует за Гегелем, рассматривая
драму как высший род поэзии.
Чернышевский, опираясь на Аристотеля, считает, что
различие по содержанию между эпосом и драмой пре-
увеличено и что театральное представление мало что
может добавить к чтению пьесы («О „Поэтике"» Аристо-
теля) .
Объяснение подобной позиции следует искать в пер-
вую очередь в той ведущей роли литературы, которую
она играет и в художественном, и в социальном плане в
русском критическом реализме, да и во всем мировом
искусстве XIX века.
Особую остроту проблема взаимоотношений театра и
драмы приобретает на рубеже XX века. Это не было
случайностью. Театр стоял в известном смысле на пере-
путье, когда новые драматические факторы жизни, ее
необычайно усложнившиеся общественные и психологи-
ческие связи, конфликты и противоречия настойчиво тре-
бовали новых художественных форм, которые часто ока-
зываются полемическими (как это было, например, с
искусством Ибсена, Чехова и Горького) по отношению к
привычным и традиционным. Вместе с тем они ознаме-
новывают собой определенный этап во взаимоотношени-
ях драмы и театра, характеризующийся гораздо более
тесной органической связью их друг с другом. В из-
вестном смысле он совпадает с интенсивным развитием
9 Гегель. Соч.. т. XIV. М., 1958, стр. 351—352.
14
двух других важнейших процессов — формированием
института режиссуры в ее современном понимании и
окончательным выделением театроведения в самостоя-
тельную научную дисциплину; они параллельны, но
связь между ними несомненна.
Одновременно в начале XX века на почве кризиса
буржуазного искусства возникает противоположная тен-
денция — категорического, прямого противопоставления
драмы как литературного произведения и театра. Она
ознаменовывается, с одной стороны, приобретающими
чрезвычайную популярность теориями театра как некой
«самоценной игры», свободной от «плена поработившей
его литературы», с другой — полным отрицанием его са-
мостоятельности как искусства (получившим свое наи-
более последовательное выражение в печально извест-
ном выступлении Ю. Айхенвальда «Отрицание теат-
ра») J0.
И в суждениях о том, что «театр исчерпал себя»,
что «дальше идти уже некуда», столь типичных для того
времени, и в обращении к чистой «театральности» зву-
чали мотивы неудовлетворенности существующими худо-
жественными формами, а часто и разочарования в воз-
можностях реалистического искусства вообще. Но в этих
спорах о взаимоотношениях театра и драмы существо-
вал и ясный социологический акцент. В конечном счете
речь шла о проблеме общественной значимости драма-
тического искусства, его социальной функции.
Это было симптомом тех противоречий, которые затем
приводят к драматическому расколу искусства на «эли-
тарное» и «массовое», адресованное избранным и пред-
назначенное для толпы, расколу, достигающему своей
высшей точки позднее и оставляющему глубокий след в
художественной культуре XX века.
«Требования к драме возвратиться в «лоно аристократ-
ки литературы», а к театру — «вырваться из оков лите-
ратурности» и вернуться в «страну чистой театрально-
сти», освобождавшие драму от театральности, а театр от
драматичности, выражали отчетливую тенденцию к суже-
нию общественной значимости драмы и самого театра;
их пафос объективно был направлен против демократи-
ческого начала драматического искусства, его народно-
10 См. сб. «В спорах о театре». М., 1914.
15
сти, против потенциала общественной активности, по са-
мой природе свойственного этому искусству, «родивше-
муся на площади» (А. Пушкин). Подобного рода
тенденции прямо противостояли тем поискам «общедо-
ступности», соприкосновения с широкими массами, ко-
торые были характерны для Чехова, Горького, МХТ и
всего передового искусства того времени.
Здесь также существует своя историческая и социоло-
гическая логика. Заметим, например, что у Гегеля
его подчеркнутое внимание к духовному началу драма-
тического искусства (олицетворенного для него прежде
всего пьесой), к «познавательной» и в гораздо мень-
шей мере «активизирующей», «действенной» функции
драмы, несомненно, несет на себе определенный отпеча-
ток того созерцательного отношения к действительности,
которым проникнута его философская система.
И столь же характерен, но уже в другом, противопо-
ложном смысле, тот практический и теоретический инте-
рес именно к театральной форме драмы, который про-
являют просветители — и Вольтер, и Дидро, и Лессинг,
видевшие в ней особые возможности осуществления об-
щественных задач, возлагаемых ими на искусство (хотя
они, в свою очередь, не были свободны от иллюзий по по-
воду самой просветительской роли искусства).
Еще более ясно это у Б. Брехта, подчеркнутая «теат-
ральность» его драматургии прямо выражает общест-
венную активность искусства. «Наша эстетика определя-
ется требованиями нашей борьбы» п,— пишет он.
Методологическим ключом здесь могут служить сло-
ва Р. Роллана, сказанные им о народном театре: «Воп-
рос выбора художественных средств есть не что иное,
как вопрос о том, каким путем мы должны вдохновлять
нашу публику к социальной активности» 11 12.
И сегодня утверждение идей «чистой театральности»
и «чистой литературности», встречающееся в буржуаз-
ном литературоведении, театроведении и в самом искус-
стве, сохраняет антидемократический социальный отте-
нок.
В свою очередь, в художественном плане, «внутри
театра» он связан с тем противопоставлением «реализ-
11 Б. Брехт. Театр, т. V, полутом 1. М., 1965, стр. 163.
12 Р. Роллан. Соч., т. 14, стр. 163.
16
ма» и «театральности», которое по-своему было зафик-
сировано еще в «Парадоксе об актере» Д. Дидро и ко-
торое становится одним из самых острых и глубоких
противоречий буржуазного искусства сегодня 13.
Сама эта очень широкая проблема,— условно говоря,
соотношения реализма и театральности — имеет свой и
теоретический, и исторический аспект. Поэтому она
должна рассматриваться исторически. Вместе с тем для
понимания ее действительного смысла необходимо вый-
ти за пределы представления о театре только как о
способе иллюстрации драмы. Сама театральность — по-
нятие, которое переживает столь различные метаморфо-
зы на протяжении своей истории,— должна быть осмыс-
лена в ее отнюдь не формальном и тем более не в
формалистическом плане. Ее следует рассматривать не
как некий внешний момент или «самоценный», противо-
стоящий жизни феномен, а как специфическое качество,
присущее театральному искусству, особую эстетическую
форму «освоения» реальности.
Таким образом, проблема театральности в конечном
счете представляет собой один из аспектов проблемы от-
ношения театра и драмы к современной им действитель-
ности. Именно такой подход способен оправдать само
существование этой категории и дать ключ к исследо-
ванию различных исторических форм театральности и ее
связей с драматургией. В ином случае она выступает
синонимом других понятий или становится попросту
лишней.
Практически тенденции «отчуждения» драмы от теат-
ра, ее обособления, как правило, ведут к отрицатель-
ным эстетическим последствиям, ослабляя ее художест-
венную эффективность и неизбежно накладывая свой от-
печаток на ее содержание.
13 Не случайно проблема эта, выступая иногда под теми или ины-
ми псевдонимами, оказывается в центре внимания многих .теоре-
тических исследований современного театра на Западе, в том чи-
сле работ Э. Бентли, Л. Мельхингера, Р. Пикока. Например, имен-
но ей посвящена широко известная у нас книга одного из круп-
нейших американских театроведов Дж. Гасснера «Идея и форма
в современном театре» (М., 1960). Характерно, что, констатируя
этот разрыв, Гасснер ограничивается указанием на принципиаль-
ную, лежащую в природе театра возможность «примирения» это-
го противоречия и надеждой на это в будущем^.~
«Только на подмостках театра можно узнать сцени-
ческое произведение во всей его полноте и сущности,—
писал К- С. Станиславский...— Если бы было иначе, зри-
тель не стремился бы в театр, а сидел бы дома и читал
пьесу»14. Уже в этом элементарном факте заключено
внутреннее оправдание самостоятельности драматиче-
ского искусства, которое рядом с другими формами ху-
дожественной культуры выполняет свою эстетическую
функцию и обладает собственным содержанием. Не слу-
чайно Станиславский обращает внимание не просто на
силу и яркость театрального впечатления, а на его осо-
бое качество — «сущность»^
Одновременно проблема видовой принадлежности,
эстетической природы драмы приобретает не только тео-
ретический, но и практический аспект, соприкасаясь с
проблемой мастерства. При этом мастерства не в узко-
технологическом, ремесленном, а в глубоком смысле
слова, захватывающего весь творческий процесс в це-
лом— от замысла до воплощения, от умения увидеть
реальные противоречия действительности и раскрыть их
общественно-исторический смысл до владения элемен-
тарными законами драматической формы, иными слова-
ми, мастерства, связанного с созданием самого художест-
венного содержания и начинающегося со специфического
видения мира.
Сами драматурги осознавали связь драмы с театром,
порой даже с большей отчетливостью, чем ее теорети-
ки. «Пока я не проверю пьесу на репетиции, я не от-
даю ее в печать»,— писал А. Чехов в письме к Измай-
лову 15.
«Театр помогает драматургу обобщать сырой матери-
ал жизни»,— говорил А. Толстой 16.
Б. Лавренев, развивая ту же мысль, справедли-
во подчеркивал, что не существует разрыва между изу-
чением жизни и последующим ее воспроизведением в об-
разах, что «познание жизни писателем — взгляд на опре-
деленные пласты жизни — это уже жанровые особенно-
сти произведения» 17.
14 К. С. Станиславский. Работа актера над собой. М., 1951, стр. 494.
15 А. Чехов. О литературе. М., 1955, стр. 214.
16 А. Толстой. О литературе. М., 1956, стр. 146.
17 2 съезд ССП. Стенографический отчет. М., 1950.
18
Один из остро чувствующих природу театра драма-
тургов А. Арбузов рассказывает: «В процессе писания
я почти всегда распределяю роли и приглашаю для
их исполнения актеров разных театров. Сидя за столом,
силой воображения я заставляю этих актеров разыгры-
вать передо мной те сцены, которые пишу. Одушевлен-
ная таким образом роль всегда приносит какой-то но-
вый поворот, вдруг понимаешь, что здесь герой не мо-
жет сказать ни слова, он должен промолчать и уйти» 18.
В сущности, то же самое свидетельствует и Н. Пого-
дин, описывая процесс работы над пьесой 19.
Эти примеры легко умножить. Они важны для нас не
как рецепты творчества, а как свидетельства конкрет-
ности художественного мышления драматурга, протекаю-
щего не в форме литературных образов или неких
художественных образов вообще (ибо таковых не суще-
ствует), которые уже затем переводятся на язык драма-
тического искусства, а непосредственно в его собствен-
ных формах.
«Шекспир в своих пьесах вряд ли думал, когда пи-
сал, что они будут лежать перед читателем как ряды
напечатанных букв. У него перед глазами была сцена,
он видел, как его пьесы „движутся и живут“»,— утвер-
ждал Гёте20.
Подобное умение мыслить сценическими образами,
творить на языке театра Вл. И. Немирович-Данченко на-
зывал, опираясь на свой собственный опыт режиссера
и драматурга, одним из важнейших качеств таланта
драматического писателя.
Несколько заостряя мысль, можно было бы сказать,
что чаще всего для драматурга драма — скорее спек-
такль, созданный силой творческого воображения и за-
фиксированный в пьесе, которую можно при желании
прочесть, чем литературное произведение, которое мо-
жет быть к тому же и разыграно на сцене. А это вовсе
не одно и то же.
Еще А. Н. Островский утверждал, что природа дра-
мы отлична от природы литературы и драматическое
произведение, даже напечатанное, следует считать про-
изведением сценическим.
18 «О труде драматурга». М., 1957, стр. 29—30.
19 «Театр и жизнь». М., 1953, стр. 37.
20 Гёте. Разговоры с Эккерманом. М.— Л., 1934, стр. 706.
19
В лекции о драматическом искусстве, прочитанной в
театре «Old week», Д. Пристли замечает: «Драматург
пишет для театра. Человек, который пишет для чтения,
а не для театра,— это не драматург. Драматург имеет
в виду не издателя, а театральную труппу, не читате-
лей, а актеров... Его конечной целью, хотя он и не мо-
жет достичь ее сам, является создание так называемого
„театрального переживания"»21.
В данном случае речь идет, разумеется, о природе за-
конов драмы, а вовсе не о том, следует ли печатать и
читать пьесы. Сама практика давно уже ответила на
этот вопрос, и самостоятельное общественное и эстети-
ческое значение пьесы как литературного произведения
совершенно очевидно (примеров, иллюстрирующих это,
сколько угодно: от «Горя от ума» А. Грибоедова и «Бо-
риса Годунова» А. Пушкина до «Фронта» А. Корнейчу-
ка), хотя не только сила, но и качество эстетического
воздействия пьесы и спектакля различны. Выдвинутое
некогда Гёте предложение не публиковать пьесы, а хра-
нить их при театрах, выглядит сегодня безнадежным
анахронизмом.
Однако принципиально важно, что чтение пьесы всег-
да требует в той или иной степени развитого «театраль-
ного воображения» (термин Вл. И. Немировича-Данчен-
ко). Ибо и в этом случае мы соприкасаемся с художе-
ственным миром произведения и с действительностью,
отраженной в нем как бы через те театральные формы,
в которых она запечатлена в пьесе, воссоздавая их в
своем воображении.
Подобная способность — качество, формируемое те-
атральным опытом; оно возникает исторически и в не-
посредственной связи с развитием театрального искус-
ства. Как известно, сама литературная функция драмы
появилась значительно позднее театральной, как функ-
ция сопутствующая, и только затем, постепенно, вместе
с эволюцией театра стала самостоятельной. В опреде-
ленном смысле можно сказать, что именно театр «соз-
дал» читателей драмы (в том самом смысле, в каком
К. Маркс говорит о предмете искусства, создающем пуб-
лику, способную его понимать). Это особенно наглядно
21 «Театр», 1958, № 11, стр. 176.
20
по отношению к сегодняшней драме, порой весьма слож-
ной и подчеркнуто «театральной» по своей форме.
Таким образом, проблема видовой принадлежности
драмы приобретает далеко не формальный смысл—это
прежде всего проблема ее содержательности как худо-
жественной формы.
Все это отнюдьхне означает «отлучения» драмы от
литературы или проведения между ними неких непрони-
цаемых границ (равно как и границ, разделяющих лите-
ратуроведение и театроведение). Литература и театр —
искусства, неразрывно связанные друг с другом на про-
тяжении всей своей истории; и в идейном, и в худо-
жественном плане связанные, может быть, более тесно,
чем любые другие два искусства. Было бы попросту
теоретическим легкомыслием недооценивать то огромное
и плодотворное влияние, которое литература постоянно
оказывала и продолжает оказывать на театр.
В данном случае речь идет о другом — о расшире-
нии методологических принципов, о взгляде на совре-
менную драму — и в теоретическом и в практическом
плане — как на форму, сохраняющую свою принадлежу
ность литературе, но связанную одновременно с теат- у
ром, его художественными законами; о взгляде на нее
сквозь «призму театра», его природы и конкретно-исто-
рического своеобразия.
Такой подход в известном смысле открывает новые
перспективы; более того, можно сказать, что он сегод-
ня становится определенной методологической потреб-
ностью. Она продиктована логикой развития современ-
ного искусства, эволюцией его художественных форм,
интенсивными тенденциями их прямого и косвенного
взаимодействия, синтеза и дифференциации — процесса-
ми, которые вызваны усложнением самой действительно-
сти, ее конфликтов и противоречий, возникновением но-
вых связей и отношений искусства с аудиторией.
^Драматизм — точно так же как эпичность и ли-
ризм — все более перестает быть качеством, окрашиваю-
щим собой содержание какого-либо одного рода или
вида искусства. Сферы их художественного бытия посто-
янно расширяются. Эпос, лирика и драма становятся
тремя «элементарными частицами» современного искус-
ства; в различных сочетаниях они образуют разнооб-
разие и богатство его художественной ткани.
21
Это не означает утраты им видовой и жанровой оп-
ределенности (как полагает, например, Э. Штайгер, гла-
ва цюрихской школы литературоведения), ибо рядом с
этой тенденцией синтеза «эпоса», «лирики» и «драмы»
развивается другая фундаментальная тенденция — все
более тонкой и глубокой дифференциации, «самосозна-
ния» различных видов искусства, хотя уже в иной пло-
скости.
Необычайно интенсивное развитие этих тенденций се-
годня— «бунт жанров» (И. Бехер), рождающий такие
сложные и неожиданные явления, как лирические драмы
А. Блока, «эпический театр» Брехта или «драматиче-
ские кинопоэмы» А. Довженко, само появление рядом
с театром других зрелищных форм драматического ис-
кусства— кино и телевидения; все это вызывает необ-
ходимость нового подхода, новой методологии. Она воз-
никает как бы в плоскости пересечения этих двух тен-
денций— расширения области драматического и углуб-
ления дифференциации различных видов искусства.
Драматизм, эпичность и лиризм в литературе, теат-
ральном искусстве, кинематографе — это разные эстети-
ческие качества. Они неотделимы от природы этих ис-
кусств, преломляются сквозь нее и требуют своего ис-
следования в связи с этой природой.
Поэтому сегодня, например, подчас оказывается уже
недостаточной характеристика специфики конкретных
искусств, вытекающая из методологии Лессинга, по-
строенной на сравнении таких далеко отстоящих друг
от друга, «полярных» искусств, так литература и жи-
вопись.
Его вывод, что писатель в отличие от живописца
изображает не «тела», а «действия», сохраняет свою
справедливость, но лишь в самом общем смысле. Ибо,
говоря о «действии», нам пришлось бы иметь в виду
действие не только в литературе, но и в театральном
искусстве, в кино и телевидении, где оно отнюдь не
остается одним и тем же эстетическим фактором.
Подход Лессинга, разумеется, исторически оправдан.
Само время не поставило еще в ту пору перед теори-
ей проблем, которые возникнут позднее, когда она ока
жется лицом к лицу с гораздо более сложной, развет
вленной и динамической системой искусств. Сегодня они
не укладываются уже в структуру прежней классифика-
ции, а некогда достаточные принципы их деления на
22
«пространственные» и «временные», «изобразительные»
и «выразительные», «мусические» и «пластические»
и т. п. фиксируют лишь определенные аспекты соотноше-
ний между ними, далеко не исчерпывая их специфики.
Таким образом, возникает потребность более диффе-
ренцированного и вместе с тем целостного взгляда на
каждое искусство, способного охватить все его важней-
шие, «видоообразующие» стороны. Иными словами, речь
идет о том, чтобы рассматривать искусство как един-
ство не только содержания и формы, по и всех дру-
гих его эстетических характеристик—от предмета,
представляющего собой исходный пункт соприкоснове-
ния с реальностью, до эстетической функции, как бы
замыкающей собою связь искусства с действитель-
ностью 22.
Тем более это существенно для драмы, живущей од-
новременно внутри двух разных искусств. Критерии та-
кого взгляда рождаются на стыке литературоведения
и театроведения и предполагают соответствующую ши-
роту теоретического подхода. В методологическом пла-
не драма возникает перед нами как эстетическая проб-
лема. А это в свою очередь вызывает необходимость
обратиться к некоторым исходным положениям, касаю-
щимся природы драматизма вообще.
22 Есть, вероятно, известная доля справедливости в словах Н. Ви-
нера о том, что наука XIX в., находившаяся в основном под влия-
нием аристотелевского стремления к классификации, недооцени-
вала изучение способов функционирования явлений.
Во всяком случае, подобный упрек имеет некоторые основания
по отношению к искусствоведению, которое предпочитало концен-
трировать свое внимание преимущественно на семантическом,
смысловом — если воспользоваться терминологией семиотики —
аспекте искусства, относительно меньше занимаясь его прагма-
тической, функциональной стороной; вернее сказать, разрабаты-
вало ее менее подробно, особенно в области различных искусств,
удовлетворяясь сравнительно общими положениями эстетического
и идеологического порядка.
Сегодня налицо очевидная потребность более конкретного ис-
следования функциональных особенностей искусства (и .в каче-
ственном, и в количественном аспектах) совместными усилиями
эстетики, социологии и психологии, в котором эстетике принадле-
жит первостепенная методологическая роль.
Вместе с тем было бы неправомерно переоценивать возможно-
сти функционального анализа — он способен ответить на важ-
ный, но вполне определенный круг вопросов. Задача заключается
прежде всего в комплексности изучения искусства, включающем
в себя генезис, функцию, структуру и самый «субстрат» искусства,
Глава первая
О ДРАМАТИЗМЕ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ
*
Термин «драма» употребляется в нескольких значе-
ниях. Это понятие применяется не только для обозна-
чения одного из трех родов литературы, но и в более
широком и глубоком смысле. В самом деле, мы назы-
ваем драматическими произведениями сюжеты, обстоя-
тельства, судьбы, существующие в искусстве разного
рода и даже вида. Термином «драматическое» обозна-
чаем мы содержание «Тихого Дона» М. Шолохова и
Пятой симфонии Д. Шостаковича, «Броненосца „Потем-
кина"» С. Эйзенштейна и Шестьдесят шестого сонета
В. Шекспира, «Меньшикова в Березове» Сурикова и
«Граждан города Кале» Родена. Более того, употреб-
ление этого слова не ограничивается искусством, а рас-
пространяется на сферу реальной жизни. Тем самым
границы его применения становятся еще более широ-
кими. Мы говорим о драматизме событий, жеста, голоса
и т. п. И хотя это словоупотребление не всегда идентич-
но, несмотря на всю терминологическую многозначность,
наш непосредственный жизненный опыт указывает на
внутреннее содержательное родство этих понятий.
Само понятие драматического как особого качества,
феномена реальности возникло и формировалось под
влиянием драматического искусства, являющегося худо-
жественной формой осознания противоречий действи-
тельности, способом постижения их общественной сущ-
ности и исторического смысла. Не случайно широкое
значение слов «драма», «драматическое» произошло от
названий жанра искусства. И хотя драму нельзя счи-
тать неким универсальным воплощением драматизма в
его самом широком смысле, она не может быть понята
вне его общего эстетического содержания.
24
Лингвистика опеределяет значение слов «драма» и
«драматизм» очень общо и главным образом с субъ-
ективной стороны, как «тяжелое событие, переживание,
причиняющее нравственные страдания» \ «всякое потря-
сающее событие в жизни»1 2 и т. п., а психология поч-
ти не пользуется этой категорией. В эстетике и искусст-
воведении под драматическим подразумевается обычно
нечто близкое трагическому, более слабо выраженная
его степень, не столь острая и напряженная (как пра-
вило, не связанная с гибелью героя). Такая интерпре-
тация по-своему оправданна, но еще недостаточна, по-
скольку не учитывает всего своеобразия обеих катего-
рий, требующих и разграничения, и специального ана-
лиза. Такое понимание соответствует драматическому
в узком смысле, существующему наравне с трагическим
и комическим 3.
Для раскрытия эстетической природы драмы, круга
ее содержания важно сосредоточить внимание на дру
гом, более широком значении драматического, в котг
ром трагическое и драматическое в узком смысле ело!
сами становятся его частными случаями. В чем cyi
такого общего понятия и каково его место в системе
эстетических категорий?
Проблема соотношения категорий сегодня в эстетиче-
ской науке остается еще недостаточно разработанной
областью, причем гораздо большие успехи достигнуты
скорее в их локальном исследовании, чем в анализе
их связей. Нельзя, например, согласиться с встречаю-
щейся точкой зрения, что эстетическое — это всегда
либо прекрасное, либо трагическое, либо возвышенное
и т. д., а диалектика эстетического — прекрасного (тра-
гического, возвышенного и т. п.) — конкретного явления
есть диалектика всеобщего — особенного — единичного.
В таком представлении заключена опасность абсолюти-
зации и прямолинейного истолкования эстетического со-
держания жизни и искусства по принципу категориче-
ского «или—или».
1 С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1956, стр. 152.
2 «Словарь иностранных слов». М., 1949, стр. 226.
3 Можно только присоединиться к Ю. Бореву, ставящему вопрос
о практической необходимости специального исследования и ка-
тегории драматического в узком смысле слова («О комическом».
М., 1958, стр. 195).
25
Дело обстоит сложнее. Диалектика эстетического от-
ношения человека к действительности заключается, в
частности, в том, что оно целостно и в то же время
многосторонне, как целостны и многосторонни сами яв-
ления жизни. Эстетическое содержание явления всегда
шире, объемнее какого-либо одного из этих понятий.
Например, мы можем с эстетической точки зрения ха-
рактеризовать человека в разных отношениях. Когда мы
говорим, что он красив или некрасив, то относим это
обычно к его внешнему облику; характеризуя его как на-
туру возвышенную или низкую, мы связываем это пре-
имущественно с его моральными, нравственными каче-
ствами; называя его личностью трагической или коми-
ческой, мы эстетически оцениваем его поведение в си-
стеме общественных противоречий и т. д. Особое место
занимает здесь прекрасное, которое выступает как уни-
версальный критерий, идеал, т. е. наиболее общая эсте-
тическая оценка. Все это разные аспекты эстетического
содержания явления, характеризующие его с различных
сторон, в определенных пределах взаимообусловленные,
но разные по объему и значению и нетождественные.
Подходить к явлению с точки зрения его драматиз-
ма— значит рассматривать его в плане раскрытия
эстетического содержания заключенных в нем противоре-
чий, их общественно-исторического смысла. Это харак-
теристика в высшей степени важного для человека
аспекта действительности. Человек живет в сфере обще-
ственных противоречий, он постоянно соприкасается с
ними в своей практике, оказывается вовлеченным в них,
их осознание становится существеннейшей стороной его
духовной жизни. Поэтому драматическое занимает чрез-
вычайно важное место в искусстве, где всегда находят
свое выражение и гармонический, и драматический
аспекты эстетического отношения человека к действи-
тельности.
Их можно было бы проследить на самых различных
исторических примерах, сопоставляя различные виды ис-
кусства, например античную пластику эпохи ее расцвета
и трагедию, нидерландскую живопись XVII века и ели-
заветинскую драму; творчество отдельных художни-
ков— Андрея Рублева и Феофана Грека, Рафаэля и
Микеланджело, Глазунова и Мусоргского и других,
вплоть до конкретных произведений.
26
Мы имеем в виду, конечно, не абсолютное, а отно-
сительное разграничение, доминанту эстетического со-
держания, поскольку очень часто (особенно в современ-
ном искусстве) мы встречаемся с различного рода соче-
таниями этих эстетических аспектов.
Надо учитывать и то, что сама гармония порой
выступает как момент развития, снятия противоречия,
через преодоление которого и достигается эта гармония.
Это — динамическое равновесие, которое потенциально
заключает в себе энергию движения.
Его очень четко зафиксировал Лессинг в своем спо-
ре с трактовкой Винкельмана античной пластики как
царства безмятежного спокойствия и созерцательности.
Подобная диалектика справедлива, разумеется, не
только по отношению к античности. За строгой и не-
умолимой логикой почти с математической закономер-
ностью развивающейся музыки И. С. Баха, угады-
вается живая, пульсирующая, готовая выступить нару-
жу драматическая стихия.
В «Джоконде» Леонардо да Винчи столкновение
идеального начала и бытового, «картинного» и «портрет-
ного», придающего ей оттенок неопределенности, зага-
дочности, как бы несет в себе скрытое предчувствие про-
тиворечий, уже в позднейшую эпоху Возрождения дос-
тигших огромной остроты и получивших отражение в
драматическом искусстве этого времени4.
Глядя на «Рабочего и колхозницу» В. Мухиной, мы
отчетливо ощущаем всю напряженность борьбы, которая
выпала на долю народа, строящего новое общество, и
которая еще предстоит впереди.
Таким образом, гармония эта, строго говоря, отно-
сительна (как, впрочем, относителен и драматизм, раз-
решение которого всегда приводит к моменту гармонии —
в самом искусстве она достигается через «катарсис»).
Однако это не лишает определенности и самостоятель-
ности эти эстетические аспекты искусства. Нельзя согла-
ситься с той упрощающей дело точкой зрения — своеоб-
разной теорией бесконфликтности наоборот,— согласно
которой искусство всегда основано на отражении конф-
4 В этом отношении интересный анализ творчества Леонардо да
Винчи и портрета «Моины Лизы» дан Н. Берковским (см. «Лео-
нардо да Винчи и вопросы Возрождения».— «Статьи о литера-
туре». М., 1962).
27
ликтов, борьбы противоречий и драматических столкно-
вений5. Едва ли можно без натяжки причислить к та-
кого рода произведениям «Девушку с персиками» Серо-
ва и «Зимнее утро» Пушкина, «Сирень» Кончаловского
и «Сорочинскую ярмарку» Гоголя.
Искусство как общественное явление есть, конечно,
всегда «борьба за или против» (М. Горький), но эта
борьба, т. е. утверждение одного и отрицание другого
в самом искусстве, отнюдь не всегда — хотя и часто —
достигается непосредственным изображением борьбы.
Это разные плоскости вопроса.
Объективная основа этих двух типов эстетического
отношения, встречающихся на всем протяжении исто-
рии искусства, лежит в реальной диалектике истории.
Здесь нет ничего общего с той превратной, мистифи-
цированной интерпретацией этого факта, которую он по-
лучает у Ф. Ницше в его идее выражения в искусстве
«дионисийского» и «аполлоновского» начал.
Олицетворяя, по Ницше, с одной стороны, стихийное,
разрушительное начало, инстинктивно присущее челове-
ку, с другой — разумное, рационалистическое в его отно-
шении к жизни, это разграничение, выражающее про-
тивопоставление воли и интеллекта (можно было бы
сказать, шопенгауэровской воли и гегелевской идеи), оз-
начает тот разрыв действия и познания, который в раз-
личных вариантах оказывается важным мотивом позд-
нейших буржуазных концепций драматического. Форму-
ла «познание уничтожает действие» становится одним из
классических его выражений.
Разрешение этого противоречия у Ницше в пользу
«торжествующей воли, не знающей границ», ведущее к
отрицанию моральных норм, к идее сверхчеловека, ко-
торому «все позволено», приобретает резко антигумани-
стическую направленность и определенный социальный
смысл, вплоть до оправдания «расы господ», необуздан-
ного стремления к власти и т. п.— всего того, что вхо-
дит затем в арсенал буржуазной идеологии.
Рассматривая в «Рождении трагедии из духа музы-
ки», с точки зрения своей концепции, греческую траге-
дию— в ней Ницше видит особенно полное и глубокое
5 См., напр., статью И. Масеева «Сущность и роль конфликта в ис-
кусстве» (сб. «Проблемы эстетики». М., 1958), содержащую и
целый ряд верных и интересных наблюдений.
28
воплощение драматизма и подтверждение своих взгля-
дов,— он сводит ее сущность к «искуплению от страда-
ний воли». Здесь есть намек на то реальное противо-
речие между естественными, свободными устремлениями
личности и ее трагической подчиненностью непознан-
ным законам жизни, выступающим в форме рока, пред-
определения, противоречие, действительно лежащее в
основе античной трагедии. Если иметь в виду смысл,
вкладываемый Ницше в понятие воли, превратность его
толкования античного искусства становится вполне оче-
видной. Трагедия для Ницше — не отражение реально-
сти, а ее метафизическое дополнение, «стоящее рядом» и
символизирующее победу над нею.
Следует упомянуть и о той трактовке драматических
и гармонических аспектов в искусстве, которые они по-
лучают у представителей «психологического» направле-
ния в эстетике, например у К. Кафки или Д. Эванс6.
Они рассматривают эти аспекты лишь под углом зрения
типологии характеров художников, разделяя их по пси-
хологическим качествам художественного темперамента
на * «уравновешенных» и «демонически-анархических»
(К. Кафка) интровертов, т. е. эгоцентрических по при-
роде, и экстравертов, интересы которых выходят за пре-
делы «я» (Д. Эванс).
Односторонность, а иногда и произвольность такого
подхода (опирающегося чаще всего на гештальтпсихоло-
гию) несомненна. Он акцентирует свое внимание исклю-
чительно на субъективной стороне вопроса. Между тем
именно объективные предпосылки в более широком, об-
щем смысле играют решающую роль. Творческая инди-
видуальность художника, разумеется, сказывается здесь,
но она сама в конечном счете детерминирована жизнью.
Дело заключается в том, что сама действительность,
будучи в своей глубокой сущности единством противо-
положностей, в различных своих проявлениях, в разной
связи постоянно выдвигает перед нами на первый план
то моменты столкновения, борьбы противоречий, то мо-
менты их единства.
В этом смысле о драматическом искусстве (в его
широком понимании) можно сказать, что оно ведет к
художественному познанию действительности и прежде
6 См. «Jaste and Temperament». London, 1939.
29
всего общественных отношений через вскрытие прису-
щих им противоречий.
С субъективной стороны драматическое всегда связа-
но с нашим отношением к столкновению определенных
противоборствующих начал. Характер отношения чело-
века к этим началам может быть различен — он зави-
сит от характера отношения противоречий к нему. Бес-
страстная констатация самого острого противоречия не
содержит в себе еще ничего драматического.
В драматическом столкновении, возникающем перед
нами в искусстве в форме театрального спектакля, ли-
тературного повествования, симфонического произведе-
ния и т. д., мы всегда оказываемся как бы по одну
сторону конфликта, и именно с этой позиции, «изнутри»,
вместе с автором сочувствуем и негодуем, тревожимся
за исход, «сострадаем», по терминологии древних. Лес-
синг справедливо считал, что восприятие драматическо-
го искусства связано со «страхом за себя», хотя и по-
нимал его воздействие несколько прямолинейно, как мыс-
ленное перенесение зрителем себя н«а место данного, кон-
кретного героя.
Специфической формы этого восприятия в театраль-
ном искусстве мы еще коснемся — здесь важно подчерк-
нуть общеэстетические особенности драматизма. Чтобы
стать драматическим фактором, противоречие должно
непременно касаться личности, захватывая сферу ее
мыслей, чувств, побуждений, иначе говоря, осознавать-
ся как субъективное, личное. Причем эту субъективную
заинтересованность следует понимать, конечно, не в
частном, а в более глубоком, общественном смысле, ко-
торый имел в виду Чернышевский, говоря о том, что
предметом искусства должно быть «общеинтересное в че-
ловеческой жизни».
И. Бехер очень хорошо пишет: «Подлинный конфликт
нельзя просто разрешить как осложнение, устранить его
или совсем не обратить на него внимания. Конфликт
задевает всего человека, он должен быть разрешен. Это
вопрос жизни и смерти. Какая-то одна часть в нас не
хочет больше жить так, как прежде... Предмет подлин-
ного конфликта всегда носит общечеловеческий, истори-
ческий характер»7.
7 J4. Бехер, О поэтическом.— «Новый мир», 1959, № 2, стр. 177.
30
Драматическая ситуация ставит человека перед не-
обходимостью выбора, причем выбора, в котором испы-
тываются все его духовные силы, в котором, по выра-
жению Л. Толстого, «сказывается весь человек». Как
справедливо замечает Бехер, подлинный конфликт ха-
рактеризуется тем, что погружает нас в мир обществен-
ных интересов, поднимает над частным; частное лицо в
процессе переживания конфликта выступает уже как лич-
ность с ее общественными связями, интересами и опре-
деленной направленностью. В этом и раскрывается об-
щественный смысл конфликта8.
Когда Лессинг говорит о драматическом пережива-
нии как о страхе за то, что наша судьба' может быть
похожа на судьбу героя,— его слова не следует, ко-
нечно, толковать слишком узко или даже буквально9.
Такое понимание способно привести в конце концов к
тому вульгарному представлению о воздействии драма-
тического искусства, когда его уроки сводятся к форми-
рованию правил и рецептов, предназначенных для впол-
не определенного круга похожих или даже тождествен-
ных ситуаций.
Мы можем и не опасаться, что с нами непременно
произойдет то, что случилось с драматическим героем,
но это вовсе не уменьшит интенсивности нашего драма-
тического переживания. Напротив, оно имеет бесконеч-
но более глубокий и широкий смысл, чем «страх» за
себя, чем смысл, заключенный в категорическом импе-
ративе Канта: «не желай другим того, чего ты не жела-
ешь себе» — или в теории «разумного эгоизма» с ее ра-
ционалистической заинтересованностью в судьбе других,
поскольку от этого зависит и наша собственная судьба
(хотя отзвуки этой просветительской теории слышатся
в словах Лессинга).
Речь идет о «страхе» за Человека, о чувстве связи,
общности, человеческой солидарности, причастности ко
всему, что происходит или может произойти в мире,
личной ответственности; о чувстве, которое лежит в ос-
нове эстетического отношения и в котором наглядно про-
является вся широта его общественного содержания.
Здесь важно еще раз подчеркнуть общественный ха-
рактер драматического. Борьба с природой, спортивное
8 Там же.
• Г. Лессинг. Гамбургская драматургия. М., 1936, стр. 276.
31
состязание или научный спор, независимо от их напря-
женности и остроты, сами по себе еще не содержат ни-
чего драматического. Они становятся драматическими
тогда, когда мы начинаем рассматривать их в свете
тех общественных мотивов, с которыми они связаны,
и последствий, к которым они приводят.
Поэтому никак нельзя согласиться с встречающими-
ся утверждениями о том, что конфликтом сегодняшне-
го дня может быть экономическая проблема, научный
спор или даже техническая дискуссия 10.
Мнимоконфликтные произведения — так называемые
производственные романы, пьесы и фильмы — являются,
может быть, наиболее убедительным аргументом.,
С другой стороны, вспомним «Поэму о топоре»
Н. Погодина или «Глубокую разведку» А. Крона — пьесы,
ставшие классикой советской драматургии. По характе-
ру самого материала, на котором развертывается их
конфликт, они могли бы быть отнесены к разряду «про-
изводственных пьес». Однако вряд ли кто-нибудь решит-
ся это сделать: слишком очевидно, что не технологи-
ческие вопросы варки стали и не спор о кривизне нефтя-
ной скважины и методах бурения составляют суть дра-
матического содержания, хотя они предмет обсуждений
и дискуссий в пьесах.
За этим «производственным» аспектом их конфликта
стоит столкновение разных нравственных принципов от-
ношения к жизни.
«—Будьте человеком»,— говорит один из героев «Глу-
бокой разведки», инженер Мехти, старому геологу Мо-
рису в момент решительного объяснения. «—В два часа
ночи можно перестать быть геологом!
— Я всегда геолог,— отвечает тот.
— И никогда не бываете человеком?
— Я всегда человек. Люди — это геологи, инженеры,
пахари, каменщики, артисты. Они переделывают мир».
В этой диалектике — суть дела.
Драматический конфликт раскрывается в реальной
деятельности человека, поэтому ее профессиональная сто-
10 См., напр., Р. Константинов. Труд, конфликт, форма.— «Октябрь».
1959, № 7; Н. Туманова, Утверждая прекрасное.— «Советская
культура», 17 сентября 1961 г.; 3. Шашкин. Поиски плюс мастер-
ство.— «Советская культура»,’22 декабря 1961 г., и др.
32
рона вообще не безотносительна к нему. Но она выступ
пает лишь как форма или, лучше сказать, верхний «слой»
его содержания, который, окрашивая сам конфликт, да-
леко его не исчерпывает. Причем дело здесь вовсе не
в профессиональной узости или специфичности конфлик-
та— он может быть в этом смысле и понятен и «обще-
интересен»,— а именно в качестве его общественного со-
держания.
Иногда мотивы подобных утверждений являются ре-
зультатом гипноза громадных успехов науки и техни-
ки XX века, распространяющих свое влияние на все
области жизни.
Бесспорно, например, что технические достижения
создают новые возможности художественного освоения
мира и накладывают свою печать на психологический
облик современного человека; что развитие науки, а вме-
сте с ней и возрастающий удельный вес понятийного
мышления, оказывает влияние на самый тип и характер
подхода человека к миру (вспомним Б. Брехта, назвав-
шего свой театр театром научной эпохи, или искусство
Т. Манна с его подчеркнуто аналитическим началом,
стоящее на грани художественного и теоретического мыш-
ления)/
Однако сам процесс развития техники получает при
этом некое имманентное, самостоятельное значение. Изо-
лированный от его общественных предпосылок и послед-
ствий, он действительно приобретает видимость универ-
сального «признака времени» и главного двигателя
исторического развития.
Подобного рода иллюзии, этот своеобразный научный
и технический фетишизм в конечном счете означают от-
деление духовного содержания, общественного смысла
труда от человека.
Иногда он выступает прямым эквивалентом того раз-
рыва между техническим прогрессом и духовным содер-
жанием личности, который |йоль наглядно обнаруживает-
ся сегодня в условиях капиталистического способа про-
изводства. Несколько отвлекаясь, заметим, что отсюда
ведут дороги и к обоснованию попыток воплотить в ис-
кусстве абстрактные понятия науки, и к разнообразным
антигуманистическим тенденциям в нем: в скульптуре —
перенести акцент на изображение вещи, в музыке — ис-
ключить из ее сферы духовный мир человека, в архи-
2 А. А. Карягин
33
Тектуре— свести ее содержание к выражению возмож-
ностей новых материалов и индустриальной техники и
т. п. явлениям, олицетворяющим собой идею одного из
основоположников современного техницизма П. Франка-
стеля: «Искусство нуждается не в идеологии, а в тех-
нике». В этом же русле .возникают и иллюзии об опреде-
ляющем значении средств общения для типа культуры
(М. Маклюэн).
Мало что меняется и в тех случаях, когда на первом
плане оказываются не социологические, а гносеологиче-
ские причины подобных заблуждений, будь то в рамках
споров «физиков и лириков» или дискуссий о возмож-
ностях кибернетических машин, когда их источником ста-
новятся прямолинейные параллели между научным и
художественным сознанием, недооценка эстетической
специфики искусства или преувеличение роли техники в
развитии современной духовной культуры.
В рамках нашей темы нет возможности — да и не-
обходимости— сколько-нибудь подробно касаться всего
чрезвычайно широкого круга вопросов, связанного с про-
блемой соотношения науки, техники и искусства в
XX веке.
Мы вернемся к некоторым из них позже, в разгово-
ре о современном театре и кинематографе. В данном
случае нам важно подчеркнуть общественную сущность
природы драматизма, его глубокую социальную основу.
Ничто в принципе не меняется и в случае драмати-
ческой «борьбы с природой». Ибо человек вовсе не ока-
зывается с ней один на один, за ним незримо стоят
и побудительные мотивы его действий, и их обществен-
ные следствия, независимо от того, в какой мере их
осознает сам человек. А именно они и интересуют нас
в первую очередь в искусстве.
Одна из причин определенной противоречивости та-
лантливого фильма М. Калатозова «Неотправленное
письмо» состоит в том, что драматическая история ги-
бели геологического отряда лишена всякого обществен-
ного подтекста (который, кстати, был в рассказе В. Оси-
пова, послужившем основой фильма). У героев отсут-
ствуют всякие общественные связи, они нарочито изоли-
рованы от действительности.
И суть не в художественном методе, не в недоста-
точной психологической разработанности характеров,
34
неясности их отношений друг с другом, в чем упрекала
критика фильм. Это скорее следствие, чем причина. Мы
слишком мало знаем не только о самих героях, но и
о их «деле», их отношениях с Большой Землей, со всем
тем миром, от которого они физически оторваны, но с
которым они в то же время не могут быть не связаны
духовно тысячами различных нитей. Поэтому в их гибе-
ли почти так же мало поучительного, как в несчастном
случае.
Действительно, что знаменует собой все проис-
шедшее— неизбежность или случайность? И если это
закономерность, то каковы ее причины, в чем ее смысл,
что, наконец, необходимо сделать, чтобы не терпеть по-
ражения? Без ответа на этот всегда центральный для
драматического искусства вопрос вообще нет трагедии —
простого сожаления о смерти недостаточно для искус-
ства.
«Мы стремились создать образ разумного Человека
в борьбе со слепыми стихиями. Но, может быть, это и
не во всем получилось»,— говорил М. Калатозов11.
В фильме звучит не столько тема столкновения разума
со стихией, сколько двух одинаково стихийных начал,
не человека и природы, а всего лишь двух природных
сил.
Напротив, отчетливее всего эстетическое содержание
темы отношения человека к природе обнаруживается в
драматическом искусстве, когда в центре его внимания
оказывается общественный смысл, который несет в себе
схватка со стихией или завоевание космоса,— искусство
стремится осмыслить возникающие перспективы и пос-
ледствия для человеческой истории, причем не только в
материальном, но и в духовном плане. Решения, которые
даются различным искусством, конечно, различны — от
утверждения неограниченности творческих возможностей
человека, огромного расширения границ его власти над
природой и одновременно его духовного горизонта до
размышлений об одиночестве, затерянности человека и
человечества во вселенной и фатальном круговороте
цивилизации и истории. Но во всех случаях обществен-
ная проблематика неизбежно выдвигается на первый
план.
11 «Литературная газета», 2 октября 1962 г.
35
2*
* * *
«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Судь-
ба человеческая, судьба народная» — эта мысль Пушки-
на, далеко выходящая за пределы характеристики жан-
ра трагедии, с большой глубиной определяет всю об-
ласть драматического, характеризуя важнейшую сторо-
ну его предмета.
В нашей литературе уже указывалось на то, что было
бы ошибочно рассматривать определение «судьба чело-
веческая, судьба народная» как некую формулу, пере-
числяющую возможные типы трагедии (например, «Ма-
ленькие трагедии», с одной стороны, и «Борис Году-
нов»— с другой) 12. Речь идет именно о соотношении
«судьбы человеческой» и «судьбы народной», в плоско-
сти пересечения которых как бы возникает драматиче-
ское искусство. Пушкинская мысль носит самый общий,
афористический характер, но в ней заключено глубокое
эстетическое содержание. На нем следует остановиться
подробнее. В числе идей, выдвинутых домарксистской
эстетикой в связи с сущностью драматического, особо
должна быть отмечена мысль Гегеля о том, что драма
исторически появляется позже эпоса и лирики, в тот
момент, когда личность начинает осознавать свою сво-
боду по отношению к обществу, и что развитие отно-
шений личности и общества развивает драму как форму.
Категория драматического действительно возникает
как особая эстетическая форма осознания противоречий
действительности и прежде всего ее общественных про-
тиворечий через отношения людей, их индивидуальные
судьбы.
Если эпос, по Гегелю, рождается на первых ступе-
нях развития общественного самосознания, еще не обо-
собляющего личность в нечто противостоящее обществен-
ному целому, а лирика появляется на следующем этапе,
выражая момент духовного утверждения индивидуаль-
ности, то драма — продукт того времени, когда лич-
ность может^находиться уже в разных отношениях с
обществом, когда ее деятельность может происходить
в русле общественного развития, а может ему проти-
востоять.
12 См., напр., Ю. Юзовский. М. Горький .и его драматургия. М., 1959.
36
В соответствии со своей концепцией трагической вины
Гегель, как известно, полагал, что трагедия личности
заключается в проявлении ее свободы по отношению к
некоему нравственному, независимому от человеческой
практики закону.
Реальные противоречия между свободными устремле-
ниями личности и исторической необходимостью, кото-
рая выступает у него как форма воплощения «абсолют-
ной идеи», Гегель стремился рассматривать в истори-
ческом плане—и в этом состоит его важнейшая заслу-
га. Он уловил сам факт исторического развития этого
противоречия, но делал из него крайне односторонние
и произвольные выводы в духе своей системы. Отда-
вая должное трагедиям Шекспира, построенным на сво-
бодном и органическом проявлении характеров, он про-
тивопоставляет их исторически закономерную широкую
и вольную драматическую стихию общественным отно-
шениям своего времени, когда «всеобщая разумность»
получает свое воплощение в форме буржуазно-монархи-
ческого государства. В этих условиях, по Гегелю, уже
не может быть оправдан герой, выступающий, хотя бы
и по сЪбственному побуждению, против существующего
порядка,— его борьба была бы бесплодной, а судьба
незначительной. Подлинно драматический конфликт вре-
мени оказывался за пределами допустимого в искусстве.
Идеалистический и откровенно реакционный смысл этих
рассуждений очевиден. Для Гегеля вина трагического
героя заключалась уже в самом факте бунта и его
гибель была заслуженной карой/Поэтому прав был Чер-
нышевский, протестовавший против подобного обвине-
ния трагического героя.
Отзвуки этой концепции, правда, лишенные той со-*£
циальной окраски, которую они приобретают у Гегеля,
мы встречаем в известной статье Белинского «Разделе-
ние поэзии на роды и виды». Полная в целом глубо-
ких и тонких замечаний и наблюдений, касающихся раз-
граничения трех родов поэзии, она в ряде своих тео-
ретических положений следует за системой Гегеля. Это
относится уже к ^ее драмы как синтеза эпоса и ли-
рики, олицетворяющих собой объективное и субъектив-
ное начала поэзии. Идея эта сохраняет свое общее зна-
чение в том смысле, что объективное содержание жизни
раскрывается в драме через субъективные устремления
37
героев, хотя и здесь эпические и лирические моменты,
настойчиво проникающие в современную драму, указы-
вают на ее ограниченность и излишнюю категоричность.
Эта идея оказывается связанной с характеристикой
скорее способа отражения, плоскости исследования жиз-
ни в драме, чем с особенностями ее содержания (в более
широком смысле, как известно, в любой художественной
форме отражение действительности представляет собой
единство объективных и субъективных моментов — даже
классический гомеровский эпос не является исключе-
нием) .
Различие содержания эпоса и драмы Белинский уста-
навливает, исходя из того, что «в эпосе господствует
событие, в драме — человек». При этом он рассматри-
вает это господство не только с точки зрения художе-
ственных принципов изображения, «угла зрения» на
явление, но и как детерминирующую зависимость челове-
ка от событий в эпосе, а в драме — событий от чело-
века, который «по своей воле дает им ту или иную
развязку». В качестве иллюстрации он приводит, с од-
ной стороны, «Илиаду», где действительно господствует
рок, с другой — «Гамлета», драматизм которого он ви-
дит только «во внутренней борьбе героя с самим собой»,
ибо вне этой борьбы «Гамлет не имеет для нас ника-
кого, даже побочного, интереса». Это явная односторон-
ность диалектики характеров и обстоятельств, очевидная
не только по отношению к современным для Белинского
роману и драме, но уже и к «Гамлету».
/ Историческая эволюция и драмы, и эпоса заключа-
лась как раз в том, что они со все большей, истори-
чески доступной для своего времени глубиной раскры-
вают взаимную связь обусловленности человеческого
характера и его судьбы жизненными, социальными обсто-
ятельствами и влияние человека на сами эти обстоятель-
ства (хотя возможности характеристики самой среды,
с точки зрения полноты и многогранности ее изображе-
ния, остаются в драме и романе неодинаковыми).
Драматизм и эпичность все более взаимопроникают
в обоих жанрах, различие между которыми в таком
аспекте все более сглаживается. Именно отсюда возни-
кает необходимость подхода к разграничению содержа-
ния эпоса и драмы, включающего в себя их сопоставле-
ние и в иной плоскости — плоскости специфики различ-
ных видов искусств, специфики литературы и театра.
38
Это обстоятельство сказывается по-своему и в рома-
не, и в драме особенно отчетливо в XIX веке.[Драма-
тическая судьба героя все чаще оказывается в центре
эпического повествования, которое превращается в ро-
ман 13. Что касается реалистической драмы, то, начиная
уже с просветителей, особенно с появления жанра соб-
ственно драмы, и далее, вплоть до Э. Золя с его де-
визом «современная драма должна стремиться проник-
нуть в двойственную жизнь — действующего лица и его
окружения», а затем А. Чехова, открывающего совершен-
но новые возможности в изображении общественной сре-
ды, она проявляет все более острый и настойчивый ин-
терес к исследованию социальных и психологических об-
стоятельств, которые формируют характер и определяют
его поведение и судьбу, в соответствии со своими миро-
воззренческими предпосылками трактуя саму эту зави-
симость.
Но уже у Шекспира вместе с пафосом утверждения
активности человеческой личности и ее неограниченных
возможностей — и в этом его величие как реалиста —
мы ощущаем действие тех, пусть еще не до конца ясных
по своей социальной природе сил, которые трагическим
образом влияют на судьбу его героев, сил, приводящих
затем к «вещной» зависимости человека в буржуазном
обществе и скрывающихся в нем под маской «личной
свободы». И, конечно же, столкновение свободной чело-
веческой личности с этими силами, а не только «борь-
ба с самим собой» составляет «интерес» содержания
«Гамлета».
Очень четкой исторической параллелью «Гамлету»
в области эпического жанра может служить первый ве-
ликий «эпос частной жизни» — «Дон Кихот» с его дра-
матической диалектикой судьбы героя и противостоящих
ему обстоятельств, диалектикой, где драматизм обуслов-
ливается как раз необычайно деятельным началом ге-
роя, его стремлением активно воздействовать на эти об-
стоятельства, порою вопреки даже доводам здравого
смысла.
Надо сказать, что в конкретных литературных ана-
лизах Белинский уже по-другому и гораздо более глубо-
ко рассматривает проблему драматического и эпическо-
13 Об этом процессе справедливо пишет В. Днепров в своей работе
«Проблемы реализма» (М.,.1960) в главе, посвященной роману.
3Q
го и иначе истолковывает «Гамлета» (в частности, й
статье «,,Гамлет“ — трагедия Шекспира»). И если мы ос-
тановились на его статье «Разделение поэзии на роды и
виды», то только потому, что безоговорочные ссылки на
некоторые ее положения,— на формулу «человек господ-
ствует в драме», абсолютизирующие ее значение, встре-
чаются и в ряде современных работ14. Взгляд, выра-
женный в ней, связан с исторически объяснимым, но
гегельянским пониманием диалектики объективных и
субъективных факторов в самой истории. Для Гегеля
человек не столько деятель, сколько действующее лицо
исторической драмы. Он не изменяет мир, а отражает
познанную им необходимость и, действуя свободно, либо
воплощает «в себе» эту необходимость, являющуюся,
по Гегелю, выражением «мирового духа»,— как это про-
исходит в эпосе, либо выступает против нее — как в дра-
ме, но лишь для того, чтобы примириться с ней, осознав
ее неизбежность и историческую правоту.
Однако в постановке вопроса Гегелем содержалось
зерно верного взгляда на драматизм диалектически раз-
вивающейся действительности, несмотря на то, что он
был далек от материалистического понимания движу-
щих сил истории и той роли, которую в ней играет
личность.
Как бы ни были разнообразны направления и спо-
собы действий личности, они всегда в конечном счете
«под тем или иным углом» происходят в русле тенден-
ций общественно-исторической необходимости и стано-
вятся формой ее осуществления, либо противостоят ей
(независимо от того, осознает это сама личность или
нет).
Речь идет, разумеется, о действиях, которые заклю-
чают в себе определенную меру общественной значи-
мости, «общеинтересности» в том смысле, о котором го-
ворилось выше. Еще А. Шлегель справедливо указывал
на то, что существуют люди, которые, замыкаясь в кру-
гу своей незначительной деятельности, не могут пред-
ставлять никакого интереса для драматического искус-
ства.
14 См.: Е. Холодов. Композиция драмы. М., 1957; В. Фролов. Жанры
советской драматургии. М., 1957; Е. Горбунова. Идеи, характеры,
конфликты. М., 1960; А. Штейн. Критический реализм и русская
драма XIX века. М., 1962.
40
Следует отметить вместе с тем, что одна из общих
тенденций общественно-исторического развития заклю-
чается как раз в вовлечении в орбиту этого развития
«новых сотен и сотен миллионов людей» 15 — процесс, ко-
торый Ленин связывал с борьбой широких масс за со-
циальный прогресс и с ускорением хода истории.
Именно это обстоятельство и определяет постоянное
расширение сферы драматического искусства (и искус-
ства вообще). Особый смысл это обстоятельство приоб-
ретает в современную революционную эпоху с ее все
более тесными связями личного и общественного, актив-
ным участием масс в сознательном творчестве истории,
процессом, связанным с превращением частного лица в
личность.
Драматическое произведение всегда выступает для
личности в форме ее столкновений с деятельностью,
устремлениями и интересами других личностей, групп
и т. д. Поскольку сам ход исторического развития в об-
ществе, в котором классовые противоречия носят анта-
гонистический характер, осуществляется через борьбу
классов, то драматический конфликт в этом случае, хотя
бы в опосредованной форме, всегда так или иначе ее
отражает.
• Таким образом, в драматическом конфликте, в столк-
новении его «сторон» раскрывается логика чрезвычай-
но важных общественных закономерностей времени, ло-
гика исторической необходимости и одновременно роль
личности в ее осуществлении.
Для Гегеля эта логика носила фатальный характер:
человек, действуя, в лучшем случае выступал от ее име-
ни. Отсюда свойственный Гегелю пессимистический
взгляд и на возможности личности в изменении мира,
и на перспективы драматического искусства.
Однако, отвергая теорию трагической вины, к неко-
торым ее аспектам, содержащим рациональные моменты,
необходимо отнестись с вниманием.
Определяя содержание трагедии как переход .от
счастья к несчастью, Аристотель считал, что трагический
герой не должен быть сам целиком «виновен» или «не-
виновен» в своей судьбе. К такому же мнению склоня-
лись и Лессинг, поддерживавший в споре с Корнелем
Аристотеля, и Гегел^
15 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 174,
41
Это действительно существенный для концепции дра-
матического искусства момент. Если снять мотив рока,
предопределения, связанный у Аристотеля с понятием
трагической вины, а также характерное для Гегеля осу-
ждение восставшего против исторической необходимо-
сти героя и попытаться осмыслить это положение ма-
териалистически, то оно приобретает важное значение,
причем не только для жанра трагедии, но и для дра-
матического искусства в целом. В нем раскрывается
диалектика свободы и необходимости в поведении дра-
матического героя, диалектика характеров и обстоя-
тельств в драме, через которую обнаруживаются обще-
ственные закономерности жизни.
Исторические закономерности, прокладывая сеое до-
рогу через субъективно свободную деятельность людей,,
осуществляются через случайности истории. Индиви-
дуальная судьба человека, детерминированная собствен-
ными объективными факторами, одновременно, в отно-
шении к общему ходу исторического процесса, может’
рассматриваться как своего рода случайность 16.
«Идея детерминизма,— писал В. И. Ленин,— уста-
навливая необходимость человеческих поступков, отвер-
гая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уни-
чтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его
действий. Совсем напротив, только при детерминисти-
ческом взгляде и возможна строгая и правильная оцен-
ка, а не сваливание чего угодно на свободную волю.
Равным образом и идея исторической необходимости ни-
чуть не подрывает роли личности в истории: история
вся слагается именно из действий личностей, представ-
ляющих из себя несомненно деятелей» 17.
Категория драматического и выражает эстетическую
оценку «разума, совести, действий» личности в условиях
общественного конфликта, с точки зрения соотношения
их с необходимым ходом общественного развития. Имен-
но поэтому и «абсолютная детерминированность» пове-
дения человека, действующая помимо и независимо от
16 «...История имела бы очень мистический характер, если бы „слу-
чайности44 не играли никакой роли»,— замечает Маркс, указывая,
что среди этих «случайностей» «фигурирует также и такой „слу-
чай44», как характер делающих ее людей. (К. Маркс .и Ф. Энгельс.
Избранные произведения в двух томах, т. И. М., 1955, стр. 444),
17 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 159.
4?
его субъективного «я» (как и, напротив, целиком за-
ключенная, например, по Фрейду, «внутри» этого «я»),
и его «абсолютная свобода» (характерная для концеп-
ции экзистенциализма) равно чужды реалистической дра-
ме. Сама оценка эта теряет здесь свой смысл. В одном
случае ее заменяет выступающее в той или иной форме
предопределение, в другом — господство случайности. Та-
ким образом, ни та, ни другая концепция драмы не спо-
собна выразить реальные закономерности жизни и диа-
лектику отношений человека и «обстоятельств», окру-
жающей его среды.
Заметим попутно, что историческое значение антич-
ной трагедии состояло как раз в том, что, при всей
подчиненности логики ее действия идее рока, предопре-
деления, ее герои не воспринимали это как некое абсо-
лютное, на каждом шагу противостоящее им начало:
определяя их судьбы, оно проявляло свою волю лишь в
общих чертах. Отсюда и та относительная свобода дей-
ствия героя в этих рамках, и то своеобразное, неповто-
римое отношение к богам, едва ли не как к равным себе,
которое делает религию греков совсем непохожей на
христианство или буддизм. А главное, античная траге-
дия несла в себе огромный драматический потенциал
протеста против произвола и прихотей богов, несправед-
ливо вмешивавшихся в жизнь человека.
В этом смысле современная модернистская драма-
тургия, соприкасающаяся с идеей предопределения и
охотно использующая античные сюжеты, как мы увидим
ниже, заметно отличается от античного искусства. Место
трагического познания и чувства протеста сменяет при-
мирение или безразличие к факту зависимости от того,
на что сам человек не может оказать никакого влияния,
независимо от того, что его порабощает — власть совре-
менной техники, изначально присущие ему инстинкты
или стоящее над ним религиозное начало.
Осмысление исторической необходимости, которое
стоит за требованием к драме, «происшествие даже слу-
чайное объяснить законами жизни» (А. Н. Островский) —
чрезвычайно существенный для драматического искус-
ства момент. Драматическая коллизия всегда через от-
ношения своих героев выражает столкновение историче-
ской необходимости с тем, что ей противостоит в жизни.
Отнюдь не вкладывая в это положение гегелевского по-
43
I
нимания ее как некой имманентно развивающейся идеи,
можно сказать, что драматический конфликт раскрывает
нам диалектику осуществления этой необходимости.
Напомним, что Энгельс (в переписке с Лассалем)
связывает драматическую коллизию с невозможностью
реализации исторически необходимого требования. По-
нимаемая в широком смысле, эта мысль Энгельса имеет
принципиальное значение, которое вовсе не ограничива-
ется характеристикой определенного типа драматиче-
ской ситуации18. В действительности она раскрывает
необходимость как движущую силу драматического кон-
фликта и одновременно как критерий оценки драмати-
ческого героя, его общественной направленности и зна-
чимости.
Герой становится для нас драматическим лишь по-
стольку, поскольку в его позиции, действиях, поступках
в той или иной степени сказывается требование истори-
ческой необходимости. В противном случае он может
быть смешон, жалок, безразличен, но не драматичен.
Здесь обнаруживается внутренняя связь между драма-
тизмом и эстетическим идеалом.
Драма личности не будет содержать подлинно обще-
ственной, эстетической ценности, не будет драмой во все-
мирно-историческом смысле, останется чрезвычайно
узкой, личной, если устремления, деятельность личности
не несут в себе общественно-прогрессивных тенденций,
если они не служат утверждению тех высоких человече-
ских, общественных идеалов, которые связаны с нашим
пониманием прекрасного.
«Самое важное, что мы привыкли ценить в челове-
ке,— это сила и красота,— писал Макаренко.— И то, и
другое определяется в человеке исключительно по типу
его отношения к перспективе. Человек, определяющий
свое поведение самой близкой перспективой, есть чело-
век самый слабый; если он удовлетворяется перспекти-
вой только своей собственной, хотя бы и далекой, он
может представляться сильным, но он не вызывает у нас
ощущения красоты личности и ее настоящей ценности.
Чем шире коллектив, перспективы которого являются
18 Так считает, например, В. Фролов, невольно сужая ее смысл до
типа конфликта, изображеннцго в трагедии Лассаля (см. «Жан-
ры советской драматургии». М., 1957, стр. 272—274).
44
для человека перспективами личными,— тем такой чело-
век красивее и выше» 19.
Эти слова Макаренко как бы отвечают на вопрос,
сформулированный Сент-Экзюпери: «И все-таки, несмот-
ря на то, что человеческая жизнь бесценна, мы всегда
поступаем так, как если бы существовало еще что-то
более существенное, чем человеческая жизнь. Но что?»
Осмысление деятельности и направленности лично-
сти с точки зрения общественной перспективы в драма-
тическом искусстве неотделимо от проявления логики
исторической необходимости. И мысль Энгельса сле-
дует прежде всего рассматривать в таком плане — имен-
но в нем раскрывается все ее содержание. Остановимся
на нем несколько подробнее.
Историческая необходимость всегда выражает опре-
деленную историческую закономерность, она связана с
той, «самой дальней», по терминологии Макаренко, пер-
спективой, с позиций которой художник оценивает свое-
го героя (и которую сам герой может и не осознавать —
это уже другая сторона вопроса) 20.
Для драматического искусства понятие необходимо-
сти скорее «стратегического», чем «тактического» плана;
оно воплощает в себе понимание наиболее общих историче-
ских закономерностей жизни. Сводить его к объективной
необходимости для героя, поступить так или иначе в
данной, конкретной ситуации значит смешивать эти диа-
лектически связанные между собой, но разного плана
понятия. Они могут и не совпадать; противоречие между
ними, как бы выражающее путь исторической необходи-
мости через «зигзаги», случайности истории, как раз и
составляет источник подлинного драматизма. Не прини-
мая во внимание этой диалектики, легко прийти к нео-
правданным и упрощенным выводам, касающимся воз-
можных типов драматических ситуаций.
Иначе говоря, проблема драматизма выступает здесь
в виде проблемы соотношения «цели» и «средств» (про-
19 А. Макаренко. О воспитании молодежи. М., 1958, стр. 199.
20 Здесь мы не можем согласиться с Ю. Боревым, который, ссы-
лаясь на слова С. Цвейга о Магеллане, утверждает, что траге-
дия начинается тогда, когда герой осознает трагичность своего
положения («О трагическом». М., 1961, стр. 228). Он может осо-
знавать то реальное противоречие, перед которым он оказывается,
но подлинный исторический смысл его может быть ему далеко
не ясен.
45
I
блемы, получившей свое столь яркое выражение и в
самом искусстве, например у Достоевского в его пои-
исках ответа на вопрос о «цене прогресса», о том, «что
человеку позволено», или в размышлениях Толстого о
путях нравственного совершенствования человечества).
Раскрывая, в меру своей реалистической трезвости,
неизбежность отступлений от этой гармонии, с которыми
мы сталкиваемся в реальной истории, искусство остается
формой утверждения эстетического идеала, «напомина-
нием» о нем, стимулом к его осуществлению, осмысли-
вая эти отступления — там, где они действительно исто-
рически неизбежны,— как драматическую необходи-
мость.
Соединяя таким образом реальное и идеальное, оно
становится воплощением реального гуманизма, одинако-
во чуждого и оправданию плоского практицизма, и аб-
страктной скорби по неосуществленному идеалу (совре-
менное так называемое «леворадикальное» искусство с
его лозунгом «цель оправдывает средства», с одной сто-
роны, и позиция, характерная, например, для А. Камю,
который — в пьесе «Праведники» — приходит к выводу
о фатальной античеловечности всякого революционного
действия — с другой, могут быть подходящей иллюстра-
цией этих противоположных отступлений от подлинного
драматизма в искусстве).
Необходимость в драматической коллизии сама
должна быть сопоставлена с более широкой историче-
ской перспективой, в ее свете она приобретает свой
истинный драматический смысл: в противном случае пе-
ред нами будет всего лишь столкновение двух объектив-
но неизбежных тенденций жизни. (Возвращаясь к оцен-
ке Энгельсом коллизии «Франца фон Зикингена», заме-
тим, что необходимое требование в ней как раз заключа-
ет важный всемирно-исторический смысл — как указыва-
ет Энгельс,— оно предполагает освобождение крестьян.)
Не учитывая постоянно этого второго плана необхо-
димости, легко оказаться на позициях своего рода
драматического релятивизма, подменить общественно-
исторический критерий драматизма критерием неизбеж-
ности события или субъективной убежденности героя
в правоте своего дела 21.
21 Вспомним критику Ф. Энгельсом В. Йордана, который как раз
46
Так, например, один из исследователей пишет: «Это
исторически необходимое требование, будь оно прогрес-
сивное или реакционное (может быть, и трагедия нового
и трагедия старого — все зависит от исторических усло-
вий, от расстановки объективных сил общества), стал-
кивается с практической невозможностью его осуществ-
ления. В этом источник трагедии такого типа» 22.
Однако, если говорить о трагедии старого, то дело
заключается не только в расстановке объективных сил
общества, но и в историчности самого представления
о тенденциях общественного развития, представлении,
которое лежит в основе критерия драматизма. Иными
словами, здесь мы имеем дело с субъективной стороной
этого критерия.
Маркс, как известно, указывал на возможность тра-
гического в гибели старого порядка. Вместе с тем он
связывал эту возможность с определенными конкретно-
историческими условиями: когда старый порядок сам ве-
рит и должен верить в свою правомерность, когда его
заблуждение является действительно всемирно-истори-
ческим и выступает как объективный фактор, а «идея
свободы» есть «достояние отдельных личностей», т. е.
достояние индивидуального, а не общественного созна-
ния эпохи. В ином случае гибель старого, будучи тра-
гической для него, в то же время не будет таковой в
более высоком историческом смысле и должна явиться
скорее жалкой или смешной.
Недаром Маркс видел ошибку Лассаля в том, что он
в условиях действительно трагической коллизии эпохи
поставил дворянско-рыцарскую оппозицию выше плебей-
ско-мюнцеровской, сосредоточив главное внимание
на представителе гибнущего класса, революционере толь-
отождествлял объективный ход истории с исторической необхо-
димостью, оправдывая с этой точки зрения уничтожение неза-
висимости Польши. Жестоко высмеяв это плоское смешение, свя-
занное у В. Йордана с чисто гегельянским пониманием истории
как осуществления «в-себе-и-для-себя сущей идеи», Ф. Энгельс
показал, что подлинная необходимость заключается не в гибе-
ли, а как раз в возрождении свободной Польши на почве утвер-
ждения крестьянской демократии (см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, т. 5, стр. 366—368).
22 В. Фролов. Жанры советской драматургии, стр. 273. Заметим,
что в конкретном анализе характера Булычова В. Фролов совер-
шенно верно говорит о его драматическом содержании.
47
ко в собственном воображении в ущерб показу подлинно
революционных представителей народа.
«Противоречие между объективным смыслом истори-
ческого дела и сознанием выполняющих это дело исто-
рических деятелей» 23, внутренняя честность и убежден-
ность заблуждающегося героя24 еще далеко не доста-
точное условие для трагедии старого. Не сам факт
заблуждения и не его искренность, а мера его истори-
ческой оправданности играет здесь решающую роль.
Яго, олицетворяющий для Шекспира, как и Отелло,
существенные и по-своему исторически неизбежные
тенденции эпохи Возрождения, гибнет, но в его смерти
нет ни грана трагического, она воспринимается как сим-
вол торжества гуманизма и справедливости. Равным об-
разом логика поступков отца Гранде у Бальзака с не-
обычайной отчетливостью выражает закономерности об-
щества, в котором он живет, однако это еще не делает
его трагическим персонажем. Напротив, по справедливо-
му замечанию Горького, это обстоятельство лишает его
образ драматической окраски и делает лишь «отврати-
тельным» 25 26.
Было бы упрощением рассматривать трагедию Булы-
чова просто как трагедию неизбежно гибнущего старого
порядка (а именно так ее нередко и трактуют). Егор
Булычов — драматический персонаж, поскольку это
сильный, по-своему талантливый, но родившийся «на чу-
жой улице» человек; он видит и страстно отрицает по-
роки своей социальной среды и в то же время оказы-
вается не в состоянии с ней порвать, не находит да и
не может найти своего пути на «другую улицу — в ре-
волюцию». И не заблуждение на счет исторической
перспективы своего класса, а скорее трезвый взгляд на
его будущее определяет здесь драматизм характера.
Это весьма нередкий в искусстве случай, когда стол-
кновение исторической необходимости с тем, что ей про-
тивоположно, что мешает ее осуществлению, происходит
как бы внутри самого характера, когда линия драмати-
ческого конфликта проходит через душу и сердце героя.
23 В. Днепров. Проблемы реализма, стр. 129.
24 См., напр., Ю. Кремлев. Эстетические проблемы советской музы-
ки. М., 1961.
26 М Горъкий. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, стр. 349.
Такая противоречивость героя отражает реальные про-
тиворечия общества и сама по себе является трагиче-
ским моментом. В этом своеобразная поучительность и
драматичность подобных судеб, весьма типичных, кста-
ти, для переходных исторических эпох. К таким харак-
терам принадлежит, например, Григорий Мелехов, судь-
ба которого столь же противоречива и сложна, как
сложны и противоречивы время и среда, сформировав-
шие его. Трагизм его неотделим от вполне реальной,
опирающейся на классовое и индивидуальное содержа-
ние характера потенциальной возможности иной судьбы
в революционной коллизии времени, той возможности,
на фоне, в молчаливом сопоставлении с которой в ро-
мане его путь и рождает драматическое чувство горечи
и сожаления. Мы имеем здесь дело со случаем, проти-
воположным ситуации «Егора Булычова и других». Если
трагическая вина Мелехова и не может быть прямо и
однозначно сведена к его классовой принадлежности
или его личным ошибкам и заблуждениям26, то она
ведь и не может быть понята помимо них. Такая точка
зрения, выражающая справедливый протест против упро-
щений вульгарно-социологического подхода и одновре-
менно против формулы «пусть гибнет человек — торже-
ствовало бы дело», содержит в себе опасность проти-
воположного характера — свести ценность личности к ее
незаменимости, индивидуальной неповторимости, т. е. к
критерию предельно абстрактному и формальному и по-
этому явно неприемлемому для искусства.
Драматическое «заблуждение» в зависимости от исто-
рических условий может иметь различный общественный
диапазон, может изменяться от сугубо личного — точнее,
индивидуального — до всемирно-исторического. В соот-
ветствии с этим меняется и мера его исторического
оправдания, но только в последнем случае оно становит-
ся источником драматизма, способного сохранить непре-
ходящее значение.
Заметим также, что историческая диалектика драма-
тического заключается, в частности, в том, что в ходе
истории возможности такого всемирно-исторического за-
блуждения меняются по мере того, как от невежества, 26
26 См., напр., дискуссию.— «Вопросы литературы», 1962, № 11,
которое, по словам К. Маркса, в виде трагического рока
изображали величайшие греческие поэты 27, человечест-
во приходит ко все более полному и глубокому позна-
нию закономерностей истории.
Если говорить о современности, то сегодня, напри-
мер, неумолимо сужается область трагического в гибели
старого, связанного с утверждением буржуазных идеа-
лов, и как раз потому, что человечество обладает объек-
тивным, подлинно всемирно-историческим критерием,
который дает марксистское мировоззрение и сама прак-
тика строительства социализма и коммунизма, ставшая
важнейшим, определяющим фактором времени.
Таким образом, трагедия старого должна быть поня-
та не столько как особый тип, сколько как историче-
ски конкретная форма проявления драматического.
К. Маркс и Ф. Энгельс действительно раскрыли тот
драматический смысл, который имеет соотнесение объ-
ективного значения противоречий с глубиной их осмыс-
ления, но не только индивидуальным сознанием героя28,
а и общественным сознанием эпохи. Тем самым они до
конца раскрыли общественно-историческую диалектику
природы драматического. Отражая противоречия дейст-
вительности, драматическое в то же время всегда опира-
ется на исторически и общественно обусловленную (а
следовательно, и классовую) точку зрения, на логику
развития исторического процесса, его важнейших тен-
денций. Иными словами, именно через эту точку зрения
в драматическом раскрывается — и только и может быть
раскрыт — исторический смысл жизненных противоре-
чий и их общественное содержание.
Такой подход, учитывающий не только объективную
расстановку сил, динамику борьбы, но и ее отражение
в общественном сознании времени, преодолевает одно-
сторонность и абстрактного, лишенного необходимой
гибкости понимания драматизма, и релятивизма в его
толковании, ибо он исторически конкретен и исходит из
меры объективной истины, исторической прозорливости,
присущей разным общественным классам в тех или
иных исторических условиях, при различных поворотах
истории.
27 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 112.
28 См. В. Днепров. Проблемы реализма, стр. 128.
50
Ограниченность определения Чернышевского, кото-
рый исключал из понятия трагического «всякую мысль
о судьбе или необходимости» и сводил его просто к
«ужасному в человеческой жизни», заключалась не толь-
ко в том, что он в полемике с идеалистической трак-
товкой «трагической вины» не проводил грани между
понятиями исторической необходимости и судьбы, но
и в том, что его определение лишено этой диалектич-
ности. Чернышевский словно «забывает» свой подход к
проблеме прекрасного, где как раз «субъективный» мо-
мент его определения прекрасного (как жизни, «какой
она должна быть по нашим понятиям о ней») и дает
возможность установить его исторически объективный
критерий.
Историческая необходимость и человеческая судь-
ба— такое сопоставление стоит за столкновением дра-
матических противоречий. Эти два как бы просвечиваю-
щих друг через друга плана драматического состав-
ляют эстетическое ядро его содержания. В соответствии
с этим общественная функция искусства, заключающе-
го в себе драматические моменты, всегда имеет два свя-
занных между собой аспекта. Такое искусство прежде
всего выступает как способ художественного познания,
освоения человеком окружающего его мира конфликтов
и противоречий. Раскрывая их общественный смысл и
историческую закономерность, ориентируя человека в их
сложной структуре, оно формирует определенное отно-
шение к его личной, субъективной роли в разрешении
этих конфликтов.
Разное искусство по-своему решает данную пробле-
му; диапазон его ответов чрезвычайно широк и колеб-
лется от утверждения полной осознанного исторического
смысла революционной активности до проповеди созер-
цательности, пассивности и даже фатализма — это опре-
деляется его эстетическим идеалом.
Но именно так ставит искусство вопрос, рассматри-
вая отношение человека к противоречиям жизни. Это
своего рода эстетический фокус драматического, в кото-
ром пересекаются его важнейшие идейные мотивы. С ним
связана и интерпретация искусством соотношения «судь-
бы человеческой» и «судьбы народной», поскольку обще-
ственная значимость личности, направленность ее дея-
тельности определяются связью с практикой и опытом
51
народных масс, с их интересами и устремлениями. Не
случайно и Маркс, и Энгельс видели существеннейшую
ошибку Лассаля в том, что он прошел мимо проблемы
отношения своего героя к крестьянскому движению
эпохи.
В тех или иных конкретных произведениях тема
исторической необходимости, тема «судьбы человече-
ской» и «судьбы народной» может, конечно, звучать с
неодинаковой степенью отчетливости, может быть более
или менее глубоко опосредованной и взятой в различ-
ных аспектах — все зависит от масштаба событий, став-
ших предметом искусства, от специфических возможно-
стей его вида, наконец, от особенностей данного жанра.
Одно дело, скажем, «драматический» пейзаж, другое —
историческая трагедия.
Само «присутствие» исторической необходимости в
драматическом искусстве не должно быть понято пря-
молинейно и недиалектически. Иначе в целом ряде слу-
чаев мы рискуем существенно упростить дело.
Так, гибель Вилли Ломена в драме А. Миллера
«Смерть коммивояжера» убедительно демонстрирует фа-
тальную неизбежность поражения маленького человека
в его борьбе за свое личное счастье в мире буржуаз-
ных отношений. Его судьба — чрезвычайно яркое отра-
жение определенной исторической закономерности. Но
рядом с этим мотивом важнейшую сторону драматиче-
ского пафоса пьесы — что и придает ей гуманистический
смысл — составляет отрицание этой необходимости, об-
нажение ее античеловечности и с этой точки зрения
исторической бесперспективности, исчерпанности.
По масштабу личности, ее направленности и обще-
ственной позиции Ломен, конечно, не трагический ге-
рой. Он даже не столько борец, сколько жертва. В пьесе
нет раскрытия логики перехода к миру иных, новых
общественных закономерностей, но в ней вместе с чувст-
вом протеста есть ощущение, а даже в какой-то мере
утверждение необходимости этого перехода. Так, через
одну историческую необходимость как бы просвечивает,
утверждается другая, в историческом плане более вы-
сокая.
Нечто аналогичное можно сказать по поводу пьес
А. Чехова, где проблема изменения уклада жизни, усло-
вий человеческого существования составляет суть дра-
52
магического содержания. Вместе с тем они скорее сТавйТ
вопросы, чем дают определенные и категорические отве-
ты— так понимал свою задачу художника сам Чехов.
Ег© герои не проявляют социальной активности, но
они воплощают в себе многие лучшие человеческие ка-
чества. Поэтому их судьба, ее неотвратимость окрашены
драматизмом. Человек достоин лучшего будущего —
таков лейтмотив этих пьес, глубоко чуждых пессимисти-
ческому взгляду на человека и его судьбу.
Это случай весьма характерный для определенного
типа искусства, например для искусства критического
реализма.
Драматизм в реалистическом искусстве никогда не
окрашен в беспросветно пессимистические тона, не безы-
сходен. Утверждая свой эстетический идеал, это искус-
ство всегда так или иначе выражает веру в будущее,
с разной степенью активности призывает к нему, фор-
мирует чувство исторического оптимизма, той, по выра-
жению Макаренко, «завтрашней радости», ощущение ко-
торой несет в себе подлинное искусство29. Даже если
герой в силу исторической необходимости и гибнет, то
сама гибель его всегда воспринимается в свете приоб-
ретенного опыта, на фоне определенной исторической
перспективы 30.
Безысходность — удел того искусства, которое, по
аналогии с «атрагическим» (термин, предложенный
Ю. Боревым31), вполне могло бы быть названо «адрама-
тическим».
Для такого искусства драматизм — не органически
присущий жизни момент, фактор борьбы за ее утверж-
дение, несущий в себе не только мотив страдания, но и
29 В этом смысле грань между искусством критического реализма
и искусством социалистического реализма связана с утвержде-
нием последним действительной исторической перспективы и ре-
альных путей общественного развития, а не только с оптимисти-
ческим пафосом, который в той или иной мере присущ всякому
действительно высокому драматическому искусству.
30 «Личности погибли, но масса знает, за что они погибли,’борьба
дала ей опыт, которого она не имела раньше, борьба рассеяла
ее иллюзии, она осветила настоящим светом смысл существую-
щих общественных отношений. Такие уроки не пропадают да-
ром». Эти слова Плеханова о трагическом в реальной револю-
ционной борьбе с полным правом могут быть отнесены и к под-
линно трагическому искусству. (Соч., т. 1. М., 1936, стр. 73).-
31 См. Ю, Борее. Q трагическом.
* 53
радость преодоления препятствий, утверждение творче-
ского, созидательного начала, а нечто, сплошь окраши-
вающее в пессимистические тона все человеческое суще-
ствование. Сама жизнь оказывается трагедией, на кото-
рую с начала и до конца обречен человек.
Это различие получает наглядную интерпретацию
у одного из предшественников экзистенциализма —
С. Киркъегора вето сопоставлении скорби, которую испы-
тывает зритель классической трагедии, и чувства боли, вы-
зываемого трагедией современной. Причем если скорбь
связана с ощущением незнания зрителем причины стра-
даний и бед, постигающих героя, то боль с пониманием
человеком своей вины за все происходящее в мире, но
вины «тотальной» и принципиально неустранимой.
Но с чем бы ни было связано ощущение трагизма —
первородным «грехом» (Киркъегор), с бурным техниче-
ским прогрессом, «поражающим воображение и разви-
вающимся быстрее, чем человек успевает осмыслить его
последствия» (Р. Арон) 32, с «порабощением» человека
социальной средой (Д. Рисмен) или собственной биоло-
гической природой (3. Фрейд),— суть дела заключается
в том, что человек в современном мире не в состоянии
постичь детерминированность тех связей, в которые он
оказывается включенным в своей практике, и не может
на них повлиять. Все это ставит под сомнение саму идею
прогресса и делает перспективу будущего предельно
зыбкой и неопределенной.
Отсюда и ощущение абсурдности мира, являющееся
центральным понятием для экзистенциализма, или аб-
32 Характерно, что мотивы подобного мироощущения дают себя
знать и в сознании ряда виднейших ученых Запада, которые са-
ми являются творцами научно-технического прогресса. Сошлем-
ся, например, на высказывание Н. Винера, одного из создателей
кибернетики: «Лучшее, на что мы можем надеяться, говоря о
роли прогресса во вселенной, так это то, что зрелище наших
устремлений к прогрессу перед лицом гнетущей нас необходи-
мы может иметь смысл очищающего душу ужаса греческой тра-
гедии» («Кибернетика и общество». М., 1958, стр. 144), а также
на слова другого крупного ученого — Л. Томпсона, который пишет:
«Цивилизованное человечество сейчас чем-то напоминает ребен-
ка, получившего ко дню рождения слишком много игрушек.
Жизнь кажется нереальной и расплывчатой. Сумеем ли мы ус-
покоиться на достигнутом или же непрерывный поток все новых
игрушек будет держать нас в w состоянии перманентного смяте-
ния» («Предвидимое будущее».' М., 1966, стр. 31).
54
сурдности отношения человека к миру, характерное для
концепции А. Камю (различие здесь между ними факти-
чески не имеет сколько-нибудь принципиального значе-
ния) .
Свобода выбора, к которой, по выражению Сартра,
приговорен сегодня человек, в принципе неспособна ни-
чего изменить, она означает лишь свободу выбора спо-
соба умереть.
«Иррациональное, человеческая ностальгия (тоска
по ясному знанию) и абсурд, возникающий из их столк-
новения,— вот три персонажа драмы, которая должна
идти со всей логичностью, на какую только способно
живое существо»,— пишет Камю 33.
Такое искусство не оставляет человеку никакой на-
дежды и тем более отвергает всякую возможность борь-
бы. Оно предлагает ему черпать силы в признании не-
избежности и неизменности происходящего, в верности
своему назначению, которое, будучи осознанным, пред-
стает как некий высший моральный долг.
Именно так интерпретирует античный миф о Сизифе
Д. Камю, избирая этот символ вечного и бесперспектив-
ного труда для иллюстрации своей концепции свободы.
Другую сторону той же идеи выражает А. Мальро,
говоря о единственно возможной форме современного
гуманизма, о гуманизме трагическом, возникающем пе-
ред лицом необходимости для человека «принимать не-
ведомое».
Следующую, последнюю ступень, ведущую к «адра-
матизму», демонстрирует искусство «театрального аван-
гарда».
Там, где он остается верен себе до конца, драмати-
ческое начало исчезает уже окончательно; человек в нем
не противостоит окружающей реальности и не протесту-
ет— он просто пассивная, не ощущающая ни боли, ни
скорби часть самого этого мира, довольствующаяся им
и достойная его.
В действительности дело обстоит как раз наоборот.
Содержание гуманистического пафоса драматизма за-
ключается в борьбе за преодоление противоречий между
человеком и действительностью, личностью и обществом,
за достижение гармонии между ними, Именно в этой
33 A. Camus. Le AAythe de Sisyphe, p. 1943.
борьбе, где человек выступает как продукт и в то же
время как творец обстоятельств, как объект и как субъ-
ект истории, преобразующий и эти обстоятельства, и са-
мого себя и реализующий свою действительную свобо-
ду,— источник подлинного драматизма; реальное до-
стижение этой гармонии возможно лишь на путях борь-
бы, в которой личность действует, будучи включен-
ной в систему существующих общественных отношений,
на путях общественной деятельности и борьбы, решаю-
щей судьбы гуманизма и свободы.
Вместе с тем то обстоятельство, что область драма-
тизма выступает в плоскости отношений личности и об-
щества, подчеркивает всю несостоятельность «теории
бесконфликтности», неправомерно сужавшей драматиче-
ское до случая, где эти отношения связаны с антаго-
нистическими противоречиями между классами, их борь-
бой 34.
Между тем это далеко не единственная форма обще-
ственных конфликтов, которые служат источником дра-
матических коллизий. За границами этой закрывавшей
глаза на реальные драматические ситуации жизни тео-
рии оказывается вся область противоречий, связанных
с развитием социалистических общественных отношений,
сфера моральных, нравственных конфликтов, отнюдь не
всегда выражающихся в непосредственном классовом
столкновении. Обязательная классовость критерия дра-
матизма еще не означает во всех случаях изображения
классовой борьбы в качестве предмета драматического
искусства. Зависимость между ними более сложная и
исторически меняющаяся.
. Рассматривая категорию драматического как эстети-
ческое отношение человека к противоречиям действи-
тельности и прежде всего общественным противоречиям,
закономерно включить в нее, наряду с трагическим и
драматическим (в его узком смысле), и комическое, ко-
торое также представляет собой своеобразную эстети-
34 Здесь трудно согласиться и с Ю. Боревым («О трагическом»,
стр. 305), который связывает природу противоречий в нашем об-
ществе с его демократическим централизмом. Совершенно оче-
видно, что организационный принцип построения партии и го-
сударства вовсе не может служить эстетической характеристи-
кой общественных процессов, которая лежит в более глубокой
Сфере отношений личности .и общества.
56
вескую форму отражения жизненных противоречий. (На-
помним еще раз, что мы оставляем в стороне задачу
анализа специфичности этих категорий; напротив, нам
важно подчеркнуть лишь то общее, что их объединяет
и дает право рассматривать в одном эстетическом
ряду.) Подобный подход является традицией материали-
стической эстетики, которая, рассматривая его под та-
ким углом зрения, противопоставляет трагическому. Но
само противопоставление их возможно лишь на основе
чего-то общего. Смех и слезы — полярные реакции че-
ловека на внешний мир. И в то же время между коми-
ческим и трагическим существует глубокая диалектиче-
ская связь. На нее, начиная еще с Аристотеля, неизменно
обращали внимание и художники, и теоретики.
Размышляя об этом, Пушкин писал, что «высокая
комедия» «не основана единственно на смехе... и что
нередко она близко подходит к трагедии», а Чернышев-
ский утверждал, что в юморе почти всегда есть и «смех
и горе». Драматизм часто присутствует здесь в скрытом
виде, лежит в глубине, в подтексте комического, состав-
ляя его другую, оборотную сторону. Такое диалекти-
ческое единство имел в виду Белинский, говоря о «види-
мом миру смехе» и «незримых слезах» у Гоголя, или
Р. Роллан, назвавший «Тиля Уленшпигеля» «трагедией
под маской комедии».
В самой жизни мы встречаемся со сложными явле-
ниями, в которых переплетаются трагические и комиче-
ские моменты, они подчас существуют рядом в одном и
том же факте, характере. Комичны или трагичны Дон Ки-
хот, Башмачкин, герои пьес Чехова, фильмов Чаплина,
трагикомедий Эдуардо де Филиппо? В одних отноше-
ниях комичны, в других — драматичны или даже тра-
гичны.
Хороня в образе Дол Кихота феодализм, Сервантес,
по словам Луначарского, хохотал над этим феодализ-
мом, но оплакивал его лучшие черты, лучшие рыцарские
заветы, непримиримо враждебные новому, рождающе-
муся обществу,— и в этом проявилась как раз сила и
прозорливость его реализма.
Разгадку глубокой диалектической связи этих кате-
горий, предпосылки которой содержатся в идее Гегеля
о трагическом и комическом состоянии мира, дает из-
вестная мысль Маркса об их движении, переходе друг в
57
друга, обусловленных логикой развития общественно-
исторического процесса.
«Борьба против немецкой политической действитель-
ности есть борьба с прошлым современных пародов, а
отголоски этого прошлого все еще продолжают тяготеть
над этими народами. Для них поучительно видеть, как
ancien regime, переживший у них свою трагедию, ра-
зыгрывает свою комедию в лице немецкого выходца с
того света. Трагической была история старого порядка,
пока он был существующей испокон веку властью мира,
свобода же, напротив, была идеей, осенявшей отдельных
лиц — другими словами, пока старый порядок сам верил,
и должен был верить, в свою правомерность. Покуда
ancien regime, как существующий миропорядок, боролся
с миром, еще только нарождающимся, на стороне этого
ancien regime стояло не личное, а всемирно-историче-
ское заблуждение. Потому его гибель и была трагиче-
ской.
Напротив, современный немецкий режим,— этот ана-
хронизм, это вопиющее противоречие общепризнанным
аксиомам, это выставленное напоказ всему миру ничто-
жество ancien regime,— только лишь воображает, что
верит в себя, и требует от мира, чтобы и тот вообра-
жал это. Если бы он действительно верил в свою соб-
ственную сущность, разве он стал бы прятать ее под
видимостью чужой сущности и искать своего спасения в
лицемерии и софизмах? Современный ancien regime —
скорее лишь комедиант такого миропорядка, действи-
тельные герои которого уже умерли. История действует
основательно и проходит через множество фазисов, ког-
да уносит в могилу устаревшую форму жизни. Послед-
ний фазис всемирно-исторической формы есть ее коме-
дия. Богам Греции, которые были уже раз — в трагиче-
ской форме — смертельно ранены в „Прикованном
Прометее*1 Эсхила, пришлось еще раз — в комической
форме — умереть в „Беседах** Лукиана. Почему таков
ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество
весело расставалось со своим прошлым» 35.
Это чрезвычайно важная мысль Маркса, в которой
существен не только ключ к комическому, но и вну-
треннее оправдание категории драматического в широ-
35 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 418.
58
ком смысле слова, единства ее элементов, отражающих
логику развития истории.
Если комическое дает возможность обществу «весело
расставаться со своим прошлым», то функция трагиче-
ского заключается в том, что оно помогает человече-
ству смотреть вперед, формирует чувство исторического
оптимизма и веры в будущее.
Эти понятия — своего рода крайние, пограничные точ-
ки области драматического, между которыми располага-
ется все бесконечное богатство гаммы ее оттенков и
переходов, находящих в искусстве все более тонкое и
полное воплощение.
Таким образом, суммируя самые общие, но необхо-
димые как предпосылки для дальнейшего положения,
касающиеся природы драматического, можно сказать,
что категория эта представляет собой аспект эстети-
ческого отношения человека к жизни, который связан с
осмыслением противоречий действительности и прежде
всего общественных противоречий, осознанием их логи-
ки и перспектив развития в соотношении с движением
исторического процесса.
• В этом свете со всей отчетливостью выступает важ-
нейший общественный смысл драматического искусства.
Отражая мир социальных конфликтов, окружающие
человека противоречия действительности с точки зрения
определенного эстетического идеала, оно формирует его
отношение к ним, к его собственной роли в их развитии,
ответственности за их разрешение. Движущие силы ис-
тории и роль человеческой личности в ней — таков
глубокий смысл, который несет в себе сопоставление
«судьбы человеческой» и «судьбы народной», составляю-
щее главную область драматического искусства.
Глава вторая
ПРИРОДА ДРАМЫ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
*
ТЕАТР КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА
Те общие принципы драматического, о которых шла
речь выше, должны быть положены в основу исследова-
ния драмы, ее эстетических особенностей и исторических
тенденций. Однако ограничиться ими было бь явно
недостаточно. Это значило бы, по существу, остаться
в пределах еще слишком общих положений об отраже-
нии драмой общественных противоречий, жизненных
конфликтов, социальных столкновений, которые, будучи
верны сами по себе, могут быть с равным основанием
отнесены не только к драме в узком значении слова,
но и к бесконечно более широкой области искусства.
Действительно, разве отражение острых жизненных
противоречий, существенных жизненных конфликтов не
присуще, например, романам Л. Леонова и Т. Манна,
симфоническим произведениям Л.-В. Бетховена и Д. Шо-
стаковича, поэмам В. Маяковского «150 000 000» и
«Война и мир», «Броненосцу Потемкину» С. Эйзенштей-
на и «Балладе о солдате» Г. Чухрая, многим полот-
нам Ван Гога и Р. Гуттузо, графике В. Пророкова и
А. Сикейроса? Напротив, это как раз составляет су-
щественнейшую сторону их содержания. И тем не менее
это содержание едва ли может быть адекватно выраже-
но в драме — его особенности в каждом случае внутрен-
не связаны с природой соответствующего вида искус-
ства. \
В этих примерах потребность конкретизации ос-
новных принципов драматического применительно к раз-
личным видам искусства выступает, может быть, особен-
но отчетливо. Но в целом э'го общеэстетическая, весьма
60
актуальная проблема специфических аспектов драмати-
ческого, которые оно приобретает, преломляясь в кон-
кретных видах искусства.
Размышляя над теоретическими и практическими
проблемами, стоящими сегодня перед драмой, мы долж-
ны постоянно иметь в виду природу театра и его совре-
менные формы—искусства, для которого драма предна-
значена и где она получает свою окончательную реали-
зацию. Это путь, который не только помогает уяснить
складывающиеся сегодня отношения драмы и театра, но
и — что особенно существенно — открывает возможность
наиболее полного и глубокого осмысления диалектики
отношения драмы и действительности, соотнесения ее
закономерностей с закономерностями жизни.
Вначале необходимо обратиться к художественной
структуре театрального образа. Хотя к ней, разумеется,
не сводится специфика театра как вида искусства, в
этой структуре она получает свое материальное вопло-
щение, находит наиболее наглядное, осязаемое выраже-
ние. Она оказывается как бы естественной элементарной
клеточкой этой специфики и тем самым удобным исход-
ным пунктом ее исследования.
Прежде всего структура эта, ее синтетичность тре-
бует к себе исторического подхода. Начать с того, что
сам термин «синтетичность» театрального искусства дол-
жен быть понят в его реальном значении. Эта синте-
тичность, о которой обычно говорится как о чем-то само
собой разумеющемся, которая стала неким привычным
общим местом \ имеет смысл только в совершенно опре-
деленном, конкретно историческом значении этого слова.
В современном спектакле подчас используются выра-
зительные средства едва ли не всех других видов
искусства: музыки, живописи, скульптуры, архитектуры,
прикладного искусства и даже кино. Однако это вовсе
не означает, что театр соединяет в себе возможности
этих искусств. Существуя в структуре единого художест-
1 Примеров такого безоговорочного употребления термина «синте-
тичность» скопько угодно. Сошлемся хотя бы на такие рабо-
ты, затрагивающие проблему отношений искусств в общеэсте-
тическом аспекте, как «Основы марксистско-ленинской эстети-
ки» (М., 1962), «Краткий эстетический словарь» (М., 1963), «Ви-
ды искусства» В. Кожинова (М., 1962), «О природе искусства»
Г. Поспелова (М., 1960) и др.
61
венного целого — сценического образа спектакля, они
приобретают в нем новое, театральное качество, утрачи-
вая вместе с тем свою собственную художественную ав-
тономность. Они становятся не просто слагаемыми не-
коей суммы, а компонентами качественно иного, орга-
нического единства, подчиненного законам сценической
выразительности.
Методологически верный .и плодотворный подход к этой проблеме
содержится в работах Г. Бояджиева «Театральность и правда» (М.,
1945), Н. Охлопкова «Художественный образ спектакля» (сб. «Ма-
стерство режиссера». М., 1956), А. Попова «О художественной це-
лостности спектакля» (М., 1957), подчеркивающих единство художе-
ственных компонентов спектакля и .их подчиненность задаче раскры-
тия действующим актером образа человека.
Примером одностороннего понимания роли других искусств в
театре может служить встречающаяся сегодня идея о том, что
эскиз оформления спектакля, так же как и музыка к нему, являются,
подобно пьесе, совершенно самостоятельными произведениями ис-
кусства. Однако такая аналогия не вполне закономерна. Изобрази-
тельное решение спектакля не сводится к живописной декорации, оно
включает в себя и пространственное, и световое оформление. Оно
может быть, наконец, объемным, использовать кино, фотопроекцию,
и т. д. Эскизы А. Головина к «Маскараду» или музыка Мендельсона
к спектаклю «Сон в летнюю ночь» действительно обладают известной
художественной автономностью. Но это вовсе не универсальное пра-
вило. Что это так, легко убедиться, обратившись, например, к объем-
ному решению И. Рабиновичем «Лизистраты», оформлению В. Босу-
лаевым «Оптимистической трагедии» или декорациям А. Тышлера к
«Мистерии-буфф» В. Маяковского. Взятые изолированно от спектак-
ля как художественного целого, они могли бы показаться разве лишь
образчиками беспредметного искусства. Между тем они обладают,
конечно, художественной ценностью, но это ценность специфически
театральная, требующая для полного восприятия знания пьесы, ^сце-
нического воображения и т. д.
Например, многие художники «Мира искусства» при несомнен-
ных достижениях в области живописности декорации придавали ей
подчас самодовлеющее значение, были как раз недостаточно теат-
ральны в подлинном смысле слова.
Даже при самом беглом взгляде на эволюцию театра
мы видим, что в целом она заключалась в переходе от
локального использования смежных искусств ко все
более органической их целостности. Изобразительное
оформление перестает просто служить задаче создания
сценической иллюзии или обозначению места действия,
но начинает нести все более отчетливо выраженную об-
разную нагрузку. Формы ее достаточно многообразны —
от тонкой поэтической окраски полных жизненного прав-
62
доподобия декораций А. Дмитриева к чеховским спек*
таклям МХАТ до прямой символики «Гамлета» или
«Молодой гвардии» В. Рындина. Однако тенденция эта
ясно видна, даже если для сравнения мы обратимся к
таким большим художникам театра прошлого, как
П. Гонзага или К. Биббиена.
Точно так же музыка утрачивает значение только ак-
компанемента жанровых сцен и становится гораздо бо-
лее глубоким эстетическим фактором, помогая раскры-
тию внутреннего состояния героев, эмоционального смы-
сла эпизодов, подчеркивая ритм, атмосферу, характер
действия. Природа единства остается здесь совсем иной,
чем в опере, где музыка несет бесконечно большую ху-
дожественную нагрузку и выступает как равный дра-
матическому действию компонент спектакля.
Попытки опереться прежде всего на искусства-помощ-
ники, как правило, свидетельствуют об утрате собствен-
но театрального начала в театре. Именно так происхо-
див в начале XX века, когда режиссер или художник,
выступая на первый план, порой заслоняют собой на
сцене актера.
Знаменательно, что аналогичную эволюцию пережи-
вает и другое зрелищное синтетическое искусство, фор-
мирующееся на наших глазах,— кино. Пройдя через ил-
люстративное использование звука, слова, цвета, оно по-
степенно приходит к их драматургическому, точнее,
кинематографическому осмыслению, внутреннему един-
ству и цельности и получает свое теоретическое выраже-
ние в идеях «вертикального» и «хромофонного» монтажа
С. Эйзенштейна.
Одним из важнейших моментов эстетического осозна-
ния этого процесса в театре была творческая практика
МХТ, одно из художественных завоеваний которого за-
ключалось в утверждении целостного образа спектакля.
Принцип ансамбля — одна из центральных идей «систе-
мы» Станиславского — получает как бы свое логическое
завершение, распространяясь на все аспекты выразитель-
ности спектакля.
Однако — и это не менее показательно — театр знал
такие исторические эпохи и формы, когда он почти не
прибегал к услугам смежных искусств или делал это в
минимальной степени. Причем иногда это были как раз
периоды высокого развития драматического искусства.
63
Напомним, что в Некоторых случаях Театр вообще До-
вольствуется игрой актера в воображаемой обстановке —
в японском театре «Кабуки», в китайском классическом
театре, индийском традиционном и в других.
Современный театр весьма свободно относится к уча-
стию в своей художественной сфере других искусств, сво-
дя его подчас к минимуму и сосредоточивая все внима-
ние на драматическом действии и непосредственных
отношениях героев. Сценическое оформление при этом
может быть весьма лаконичным и состоять лишь из от-
дельных, необходимых для понимания логики событий
деталей; иногда его функцию дополняет свет или ней-
тральный со скупыми намеками фон2.
В такого рода случаях подчеркнутого обращения теа-
тра к «самому себе» особенно наглядно выступает мо-
низм его эстетической природы и относительность его
синтетичности как искусства. Современный театр часто
заставляет вспомнить слова Вл. И. Немировича-Данчен-
ко: «Вы можете построить замечательное здание, поса-
дить великолепную администрацию, пригласить музы-
кантов, и все-таки театра еще не будет; а вот выйдут на
площадь три актера, постелят коврик и начнут играть
пьесу, даже без грима и обстановки, и театр уже есть» 3.
Каков бы ни был характер сценического оформле-
ния — подчеркнуто условный или «иллюзорный», обоб-
щенно-символический или бытовой, во всех случаях безу-
словным в театре остается характер человека и логика
его действий, поступков. Именно здесь его решающий
эстетический критерий.
Кого бы ни изображал актер в реалистическом те-
атре, сам или с помощью кукол-марионеток, теней,— он
всегда создает образ человека. Фантастические персо-
нажи Шекспира, действующие лица «Мистерии-буфф»
2 Границы подобной свободы связаны с особенностями дра-
матургии. Если Шекспир допускает ее в относительно большой
степени (как метко замечает И. Тэн, декоратором Шекспира бы-
ло воображение его зрителей), то гораздо сложнее сыграть
А. Н. Островского на «нейтральном фоне», в пьесах которого
мир быта, вещей играет существенную роль в раскрытии харак-
теров и отношений его персонажей, равно как героев В. /Маяков-
ского или Б. Брехта чрезвычайно трудно себе представить жи-
вущими и действующими в «бытовом павильоне».
3 Вл. Ив. Немирович-Данченко. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М.,
1952, стр. 134.
64
В. Маяковского, сказочные создания пьес Е. Шварца,
животные и даже предметы в театре С. Образцова —
это олицетворения, по-человечески действующие и отно-
сящиеся друг к другу, наделенные свойствами челове-
ческих характеров.
Попытки создания отвлеченных символистских алле-
горий и даже воплощения рассудочных понятий, пред-
принимавшиеся в свое время Пролеткультом или совре-
менной модернистской драмой, в той или иной мере
проникнутые, несмотря на их «человеческую форму», как
раз противоположным стремлением — порвать с реальной
сущностью человека и логикой его отношений, терпят
сценический крах, так как вступают в противоречие с
самой природой театрального искусства.
< И объект и субъект театра — действующий человек.
Не случайно отрицание или игнорирование этого поло-
жения в истории театра так или иначе оказывается свя-
занным с его отклонениями от «самого себя» и реали-
стической направленности, какие бы формы это ни
принимало: будь то выдвижение на первый план изобра-
зительного решения спектакля в театре начала XX века
или практика ТРАМов, отводивших актеру место рядом
с декорацией, светом, музыкой; сюда относятся и разно-
образные попытки утвердить примат искусства режис-
сера— вплоть до их логического конца, идеи Г. Крэга
об актере «сверхмарионетке» и абсурдных опытов «теат-
ра без актера» («Голос людей» Ж. Польери, спектакль,
состоящий из смены декораций под музыку, или «Ды-
хание» С. Беккета).
Театр — искусство, в центре которого стоит действую-
щий человек, актер; его действие есть первоэлемент, ос-
нова художественной выразительности театра. Это поло-
жение имеет прежде всего важное методологическое зна-
чение. Его смысл полностью выяснится далее, в ходе
рассмотрения природы драматического действия. Пока
на нем необходимо остановиться в формальном плане,
в связи с тем, что достаточно широко распространена
точка зрения на театр как на искусство, опирающееся
на слово, точка зрения, внутренне связанная с отноше-
нием к драме в первую очередь как к литературному
произведению. Показательно, что придерживаются ее,
с одной стороны те литературоведы, которые исходят из
принадлежности драмы к литературе, а с другой сторо-
3 А. А. Карягин
65
ны — те деятели кино, для которых именно между сло-
вом и действием лежит грань, разделяющая театр и ки-
нематограф.
В данном случае речь идет вовсе не об умалении
роли слова, а, напротив, об установлении его действи-
тельно важнейшей, но специфической функции в драме.
Значение слова в театре невозможно переоценить — оно
' живет в нем как мысль, средство общения, оружие борь-
бы действующих лиц. Именно посредством слова в миро-
вой драматургии запечатлены огромные богатства чело-
веческой мысли и общественного опыта. Достаточно
вспомнить остроту и афористичность языка Грибоедова,
глубину философских размышлений персонажей Шекс-
пира, яркость и характерность речи действующих лиц
Островского, силу мысли героев Горького, чтобы живо
ощутить все непреходящее значение и богатство слова
в театре.
Однако за этим справедливым признанием значения
слова еще скрыто отличие его специфических функций
в театре и в литературе. Здесь обнаруживается ограни-
ченность и неисторичность «словесной» концепции театра
(а вслед за ней и чисто литературной концепции драмы).
Сценическое действие включает в себя слово, интона-
цию, мимику, жест, движение в их живом, реальном
единстве. Это, как и в жизни, цельный и вместе с тем
многогранный акт поведения человека в «предлагаемых
обстоятельствах».
В ряду других элементов действия слово играет осо-
бенно существенную, ведущую роль. Вместе с тем оно
всегда выражает нечто иное, большее, чем то понятие,
которое обозначает. Звучащее в устах данного персона-
жа в определенном сценическом контексте, оно становит-
ся «речью», с ее интонацией, ритмом, мелодией, оно
окрашивается и дополняется другими компонентами дей-
ствия, которые конкретизируют его содержание4. Нет
нужды специально говорить о значении их влияния на
смысл слова — порой он способен измениться на обрат-
ный 5.
Б. Шоу в предисловии к «Неприятным пьесам» спра-
ведливо замечает, что есть пятьдесят способов сказать
4 По этому поводу см. интересные соображения в работе В. Ви-
ноградова «О теории художественной речи». М., 1971.
5 См. об этом: М Кнебель. Слово в творчестве актера. М., 1969.
66
«да» и пятьсот способов произнести «нет», хотя сущест-
вует только один способ это написать.
Вспомним классические примеры — объяснение Кити
и Левина в «Анне Карениной» с помощью начальных
букв или целый монолог в «Трех сестрах», замененный
Чеховым одной фразой, все содержание которого актер
должен раскрыть, опираясь, по справедливому замеча-
нию Станиславского, на простую тавтологию — «жена
есть жена».
В новелле А. Моравиа «Ничего» показано, как это
«абсолютно отрицательное» понятие — «ничего» — на-
полняется самым различным смыслом в диалоге героев,
разговаривающих по телефону, только в зависимости от
интонации.
« — Что поделываешь?
— Ничего. А ты?
— Я тоже ничего.
— Да, но мое „ничего** отличается от твоего „ничего**. Я ничего
не делаю потому, что ничего не хочу делать. Мое „ничего" добро-
вольно. Это „ничего** мне не мешает, а, наоборот, нравится, я сама
его захотела, и я им наслаждаюсь, я его смакую. Это „ничего" на-
полнено множеством вещей. Твое же „ничего" — это „ничего" пустое,
оно тебе не нравится, ты не хотел его, оно тебя огорчает, ты же чал
бы избав'иться от него. Это чувствуется по твоему тону, особенно
если сравнить его с .моим. Мы оба произнесли слово „ничего", но мы
произнесли его совершенно по-разному. Я произнесла „ничего", так
сказать, всем своим существом, ты же выдавил его из своего горла.
Мой голос был глубоким, наполненным, спокойным, чувственным,
свободным, твой же — сдавленным, неуверенным, слабым, дрожа-
щим, зажатым. Разве не так?» 6
Эти примеры демонстрируют все богатство и емкость
живого, включенного в процесс реального общения слова.
Слово в театре всегда связано с драматическим под-
текстом, который в определенном смысле присущ всяко-
му подлинно драматическому произведению, хотя его
характер и значение исторически не оставались неиз-
менными. Подтекст вовсе не прием, как это иногда упро-
щенно считают, имея в виду пьесы Ибсена и Чехова,
диалоги героев Хемингуэя или Марселя Карне и подра-
зумевая под ним особую многозначность — вплоть
до противоречия между словами и пх действительным
значением. Это, в сущности, не более, чем крайние,
частные случаи. Эстетическая функция подтекста в теат-
• «Литературная газета», 13 ноября 1963 г.
67
3*
ре — как и самого слова — исторически не остается не-
изменной. Особое значение подтекст приобретает в искус-
стве конца XIX — начала XX века в связи с огромным
усложнением социальных и психологических связей, ко-
торые искусство должно было так или иначе, прямо
или косвенно отразить. Но в принципе подтекст, как
справедливо замечает А. Берковский, свойствен и драма-
тургии Софокла и Еврипида 7.
В широком смысле слова подтекст — качество, орга-
нически присущее художественному языку, отличающее
его, в частности, от научного изложения, где оно попро-
сту утрачивает всякий смысл; именно подтекст сообщает
художественной идее тот второй план, ту объемность и
многогранность содержания, которые не свойственны по-
нятию (хотя и оно никогда не равно некой «абсолют-
ной» абстракции).
Если говорить о форме подтекста, то в эпическом
повествовании он обнаруживает себя как авторская ин-
тонация, связанная с образом повествователя, в лири-
ке— проявляется в особой эмоциональной насыщенно-
сти слова 8.
Драматический подтекст, сохраняя авторскую инто-
нацию, всегда звучащую сквозь реплики действующих
лиц (поэтому, в частности, мы безошибочно «на слух»
различаем пьесы Чехова и Горького, Погодина и Леоно-
ва) и лирическую наполненность слова, раскрывает его
уже в ином «измерении». Ибо слово в театре связано
не только с выражением мысли или чувства действую-
щего лица, но оно одновременно и поступок, фактор его
поведения, волевой акт, направленный к достижению оп-
ределенной цели в данных сценических обстоятельствах.
Воспользовавшись математической аналогией, можно
было бы сказать, что слово в драматическом искусстве
в отличие от слова в литературе — это всегда «вектор»,
т. е. величина, в противоположность «скаляру», характе-
ризующаяся не только абсолютным значением, но и оп-
ределенной направленностью.
Литературная форма драматического искусства —
пьеса — всегда в той или иной степени несет в себе
7 А. Берковский. Статьи о литературе. М., 1962, стр. 229.
8 Интересно показано значение поэтической интонации в лирике и
эпосе в работе Л. Тимофеева «Очерки теории и истории русского
стиха». М., 1958.
68
такой подтекст, который предполагает свою непремен-
ную реализацию на сцене, в этом ее принципиальное
отличие от других произведений литературы. Именно в
этом смысле «напечатанная пьеса не является еще за-
конченным произведением» (Станиславский).
Уже тот простой факт, что пьеса допускает лишь
весьма относительную, а отнюдь не произвольную свобо-
ду сценической интерпретации, свидетельствует о том,
что объективная основа подтекста заключена в самой
пьесе. «Подтекст не есть нечто, лежащее вне ткани дра-
матургического произведения, наоборот, он ее основа.
Он рождается одновременно с текстом и связан с ним
неразрывно»,— справедливо замечает А. Крон9.
Материализуя этот подтекст, актер никогда не исчер-
пывает его «до дна» — в действительно художественном
произведении он, в известном смысле, неисчерпаем,—
оставляя определенную долю творческому воображению
зрителя. Таким образом, можно говорить о специфиче-
ской «двухступенчатости» подтекста пьесы, или о двух
его слоях — «сценическом» и «общехудожественном».
Отсутствие в пьесе «первого», действенного подтек-
ста^ в сущности, ничем нельзя компенсировать. Именно
здесь и возникает, как правило, та риторичность и иллю-
стративность, при которой театр действительно стано-
вится чем-то вроде искусства художественного слова.
Лишенный «игрового» материала, актер в этом слу-
чае вынужден ограничиться «докладыванием» (по выра-
жению К. С. Станиславского) роли, простым иллюстри-
рованием ее текста. При всей искренности и вырази-
тельности исполнения актер оказывается не в состоянии
преодолеть художественную плоскость такого рода пьес.
Это станет вполне понятным, если иметь в виду, что
действие актера не просто «делает зримым образ и по-
ведение человека» 10, придавая им достоверность и убе-
дительность иллюзии жизни, но сообщает то богатство
и объемность содержанию драматического образа, кото-
рые не могут быть достигнуты никаким иным путем.
В этом смысле Станиславский неоднократно говорил
о том, что «без подтекста слову нечего делать на
сцене».
9 Сб. «О труде драматурга». М., 1957, стр. 46.
10 Е. Горбунова. Вопросы теории реалистической драмы. М., 1963,
стр. 352.
69
Требование Станиславского к актеру «говорить не
только уху, но и глазу партнера» с полным основа-
нием может быть отнесено в свою очередь и к драма-
тургу.
«Искусство диалога идет от видения жеста и, разу-
меется, от глубокого внедрения в психику персонажа.
Пусть ваш персонаж не пытается изъяснять своей пси-
хологии, вы его сразу потеряете из поля зрения. Помни-
те о диалектике. Персонаж выявляется в столкновении
противоречий, в поступках — пишите его биографию
иероглифами его поведения.
Слова лишь подчеркивают, обогащают, уточняют,
усиливают впечатление... Будьте скупы на слова. Пусть
каждое из них, как заостренная стрела, бьет прямо в
цель — в сердце зрителя» и,— говорил А. Толстой.
В этом умении писать «иероглифами поведения»,
строить действие, не только обозначаемое в ремарках
(которые могут быть развернуты до обладающих само-
стоятельной литературной ценностью отрывков, как у
Б. Шоу, но которых, как у Шекспира, может почти не
быть вовсе11 12), но как бы просвечивающее сквозь диа-
лог, бесконечно более действенный и драматически на-
сыщенный, чем в прозе, оказывается мастерство драма-
турга. Равным образом о мастерстве режиссера можно
сказать, пользуясь выражением В. Мейерхольда, что оно
заключается в умении «инсценировать скрытую ре-
марку» 13.
Известные слова Горького о том, что «действующие
лица пьесы создаются исключительно и только их реча-
ми» 14, на которые нередко ссылаются сторонники «сло-
весной» концепции театра, должны быть отнесены, ко-
нечно, к пьесе как литературному произведению, в плане
отличия ее от повествовательных жанров, а не к соб-
ственно драматическому искусству.
11 А. Толстой. О литературе. М., 1956, стр. 243.
12 К тому же ремарки Шекспира, что само по себе показательно,
нередко представляли собой указание конкретному актеру или,
напротив, фиксацию реального исполнения. См. об этом:
А, Аникст. Современное шекспироведение на Западе.— Сб. «Со-
временное искусствознание за рубежом». М., 1964; «Театр эпохи
Шекспира». М., 1965.
13 А, Гладков. Воспоминания о Мейерхольде.—Сб. «Тарусские стра*
ницы». Рязань, 1961, стр. 69.
14 М. Горький. О литературе. М., 1953, стр. 595.
70
Сам Горький, язык действующих лиц которого пред-
ставляет собой образец яркости, точности и вырази-
тельности, был вместе с тем мастером «действенного под-
текста», или «потенциального действия», живущего в ре-
чах его персонажей.
Постановщик спектакля «Егор Булычов и другие» в
Театре им. Евг. Вахтангова Б. Захава, размышляя над
природой горьковского слова, замечает, что, читая пьесу,
мы уже невольно начинаем не только понимать, но
и отчетливо видеть образы этой пьесы,— они возникают
в нашем воображении с подробностями, о которых «у ав-
тора, может быть, ровно ничего не сказано».
Таким образом, можно сказать, что если собственно
текст пьесы (или, как его предлагает называть А. Дикий,
«надтекст»15) определяет произносимое актером слово,
то подтекст как более широкое понятие раскрывает дей-
ствие в целом. Для актера проникнуть в содержание
эпизода, роли, пьесы, их «сквозного действия» — значит
раскрыть подтекст их текста. Раскрывая подтекст, актер
вкладывает в него понимание ситуации и героя, которое
возникает в результате осмысления содержания всей ли-
нии его персонажа, всей пьесы в целом. «Свет» этого
содержания, направленный на данное конкретное слово,
действие, эпизод, как бы проявляет скрытый в них под-
текст, заставляя взглянуть на них по-новому. В этом
смысле актер всегда, в каждый данный момент раскры-
вает зрителю нечто иное, большее, чем то, что получает
читатель пьесы, лишенный этой «перспективы» роли, что
в литературном произведении компенсируется авторски-
ми описаниями и характеристиками. Отсюда становится
понятным совет Вл. И. Немировича-Данченко читать
пьесу по меньшей мере дважды. Не только исполнение,
но и сам процесс создания драмы предполагает подобную
перспективу. Он не допускает той свободы, о которой
Пушкин мог сказать: «И даль свободного романа я
сквозь магический кристалл еще неясно различал». Не-
даром А. Толстой утверждал, что он не может, в отличие
от романа, писать пьесу без отчетливого плана, а Че-
хов советовал писать драмы, «начиная с конца».
Было бы, конечно, и с исторической, и с логической
точки зрения неоправданным считать каждое произноси-
15 Сб. «Мастерство режиссера». М., 1956.
71
мое На сцене слово конкретным действием, однако прин-
ципиальная действенность слова в театре в более широ-
ком смысле сегодня, после Станиславского, едва ли тре-
бует доказательства.
Если мы обратимся к истории театра, то увидим, что
процесс эволюции слова в театре, его функции был свя-
зан с постепенным уменьшением повествовательного на-
чала. Вестники античности, слуги и наперсники клас-
сицистского театра, рассказывающие о событиях, харак-
теризующие действующих лиц, постепенно уходят в
прошлое, так же как прием разговора героя с самим
собой — к нему становится, по словам Горького, неловко
прибегать после Ибсена и Чехова 16.
Заметим, что у Шекспира монологи героев еще силь-
но насыщены многочисленными поэтически-описательны-
ми элементами 17 и взаимохарактеристиками героев; что
у А. Островского мы встречаемся с явными моментами
повествования, вкрапленными в драматическую ткань,
преследующими лишь информационную цель рассказа-
ми действующих лиц о событиях за сценой, друг о дру-
ге или о внесценических персонажах и т. д. (вспомним
«традиционные» экспозиции, например, в «Бесприданни-
це», которая начинается с того, что второстепенные пер-
сонажи вводят нас в курс дела 18).
Правда, здесь сказывается только одна сторона это-
го диалектического процесса. Другая, внешне противо-
положная его тенденция заключается в том, что парал-
лельно реалистический театр постоянно вырабатывал
новые и переосмысливал некоторые прежние «эпиче-
ские» и «лирические» способы использования слова. Так
в современном театре возникают лирические монологи,
16 Из письма К. А. Треневу.— «Литературная газета», 25 мая 1946 г.
7 «...Вообразите, что здесь простерлись широко равнины...» (Пролог
к I акту «Генриха V») или:
Ясная улыбка зорькой сероокой
Хмурую уж гонит ночь и золотит
Пологами света облака востока...
(рассказ Лоренцо из «Ромео и Джульетты»).
18 См. интересный анализ экспозиции «Трех сестер» А. Кроном
(«О груде драматурга». М., 1957, стр. 43—44), где показано все
отличие ее построен1ия у А. Чехова от принциг~з построения у
А. Островского »и вообще в прежней драматургии. См. также лю-
бопытные соображения А. Арбузова о роли экспозиции в совре-
менной пьесе («Вопросы литературы», 1960, № 10, стр. 153).
72
прямые публицистические отступления, авторское ком-
ментирование действия и даже введение хора — приемы,
которыми так богата практика современного искусства.
Это переосмысление театром своего прошлого развивает
и обогащает его сегодня.
Однако принципиальное отличие этих приемов, от-
нюдь не означающих простого возвращения к прошлому,
заключается в том, что они откровенно апеллируют к
зрителю и именно поэтому не нарушают органического
процесса восприятия спектакля, не вызывают ощущения
художественной фальши, а главное лишь сопровождают,
дополняют, оттеняют действие, но не стремятся его заме-
нить. Они рождаются на почве изменившихся, чрезвы-
чайно усложняющихся драматических обстоятельств
жизни, в ответ на новые потребности времени и выпол-
няют уже иную эстетическую функцию.
Позволяя взглянуть на развертывающиеся перед на-
ми на сцене события в ином ракурсе — «извне» и «из-
нутри», прокомментировать эти события, акцентировать
внимание на их определенном аспекте, подобные приемы
дают возможность увидеть новые, подчас недоступные
прямому, непосредственному наблюдению стороны и
связи изображаемых явлений, представить их на фоне
более широкой общественно-исторической коллизии. Они
порождены прежде всего исследовательской активно-
стью театра и усилением его гражданского пафоса и в
этой связи и должны рассматриваться.
Античный хор, который, по справедливому замеча-
нию Гегеля, был представителем зрителя на сцене, вы-
ражая по-своему моральные нормы и установления ан-
тичного полиса, в то же время выполняет функцию, не
выходящую за рамки действующего лица. (Не случайно
Аристотель замечает: «И хор должен считаться одним из
актеров»19.) Он переживает вместе с героем, радуется,
страдает, восхищается, негодует, иногда советует или
расспрашивает, по знает, в сущности, немногим больше
зрителя или самого героя. Его позиция в конечном счете
принципиально ограничена: «Будь мудрым и воли бес-
смертных, о смертный, вовек не дерзай преступать» (Со-
фокл «Антигона»). Он действительно не был, по выра-
жению Шиллера, сколько-нибудь «внешним элементом,
19 Аристотель. Поэтика. М., 1957, стр. 100.
73
инородным телом, остановкой, прерывающей ход дейст-
вия, нарушающей иллюзию»20.
Хор у Б. Брехта, напротив, прямо обращен к зрите-
лю. Он очень четко выражает, иногда даже формули-
рует выводы автора, в свете которых само действие при-
обретает особую смысловую окраску. Пьесы Брехта, со-
держание которых отнюдь не сводится к иллюстрации
авторского тезиса, открывают перед зрителем широкое
поле для самостоятельных размышлений, для соотнесе-
ния авторского комментария, прямо высказанной оценки
со всем богатством реального содержания произведения
и далее — с самой конкретно-исторической действитель-
ностью (тем более, что Брехт охотно пользуется иноска-
зательными и историческими сюжетами, несущими в
себе возможности широких обобщений). Отсюда и про-
светительский пафос, и вера в силу человеческого ра-
зума, пронизывающие все его творчество. То, что у
Б. Шоу выражено в ремарках, у Б. Брехта переходит
в текст драмы 21.
Таким образом, общая тенденция заключается в том,
что эпическое, повествовательное начало в современном
театре как бы выкристаллизовывается из словесной тка-
ни драмы или переходит из ее литературной формы —
пьесы, обособляясь в специфические приемы, лежащие
уже вне действия, параллельные ему.
Усиление интеллектуальной насыщенности современ-
ного театра и влияние на него литературы происходит
в рамках его собственной эстетической природы22. То,
20 Ф. Шиллер. Собр. соч., т. 6, стр. 662.
21 В этом отношении характерны и примеры введения современным
театром авторских ремарок в спектакль («Дело» А. В. Сухово-Ко-
былина в постановке Н. Акимова или «Салемские колдуньи»
А. Миллера в постановке Б. Львова-Анохина).
22 Одновременно этот процесс рождает и такие формы, в которых
влияние литературы сказывается гораздо более непосредственно
и прямо (пьесы-дискуссии Б. Шоу или «интеллектуальный театр»
Ж.-П. Сартра и Ж- Жироду). Однако, имея свое историческое оп-
равдание и занимая известное место в современном театральном
искусстве, «интеллектуальный театр» в то же время несет на
себе печать значительных противоречий, которых мы коснемся
ниже. Это типичный для современного искусства случай, обнару-
живающий всю реальную сложность исторического процесса, ког-
да его тенденции, реализующиеся не только прямо, а иногда и
через свою противоположность, могут быть поняты, только исхо-
дя из всей совокупности художественных форм, их содержания и
общественной функции.
74
что внешне могло бы быть принято за симптом прямого
сближения театра с литературой, на самом деле обоз-
начает гораздо более тонкий и сложный процесс, вклю-
чающий в себя элементы и синтеза, и дифференциации,
которые осуществляются как бы в различных художест-
венных плоскостях. Здесь подтверждается глубокая
мысль И. Бехера о том, что «род всегда побеждает и
утверждает себя в своем принципе. Никогда смешанные
формы не определяли собой существенным образом ха-
рактер литературы. Следовательно, изменение родов в
литературе состоит не в смешении родов между собой,
а в изменении их значения в новых образовывающихся
жанрах»23.
Говоря о действенной природе театра, о самом содер-
жании понятия действия, следует иметь в виду не только
действенность самого слова. Актер на сцене, так же как
и человек в жизни, действует, отнюдь не всегда выра-
жая или сопровождая свои поступки словами. Это про-
является не только в так называемой «игре с вещами»
или в особых паузах, моментах действия, подчеркну-
то освобожденных от слова (столь типичных для теат-
pa.XIX века), но сказывается во всем характере его сце-
нического поведения. z
Люди в театре приходят и уходят, появляются и к
исчезают, целуются, танцуют от радости, плачут от горя, \
просто размышляют (и отнюдь не всегда вслух), де-
рутся на дуэли, кончают жизнь самоубийством и т. д., 1
и через все это выражают самих себя.
Если согласиться с категорическими утверждениями,
что «все многообразие идей, мыслей, поступков, все на-
пряжение борьбы, вся сложная и многогранная жизнь
человеческого духа раскрываются перед театральным
зрителем в слове. Только в слове!»24, что «типическое,
обнаруживаемое в речи людей», составляет специфиче-
ский предмет театра25 или что в драме «идейно-худо-
жественную нагрузку несут образы, создаваемые речью
персонажей»26 (число таких примеров может быть уве-
23 Johannes Becher. Uber Kunst und Literatur. Aufbau-Verlag, 1962,
S. 655.
24 Сб. «Вопросы кинодраматургии», выл. II. M., 1956, стр. 54—55.
25 К. Пиотровский. О специфике предмета кино.— «Искусство кино»,
1956, № 8, стр. 83.
Сб. «Проблемы теории литературы». М., 1958, стр. 131.
75
личено без труда), то пришлось бы прийти к странному
выводу, будто поступки героев, события пьесы сами по
себе не имеют значения, если они не воплощены в слове.
Но, во-первых,— и об этом уже шла речь — смысл
слов далеко не всегда совпадает со смыслом действий,
вернее сказать, абсолютно почти, никогда не совпадает,
а, во-вторых, действие не сводится к слову (иногда оно
вообще безмолвно), точно так же, как оно не сводится
и к движению, жесту, мимике и т. п.
Театр — в широком смысле слова — искусство дейст-
вия, эстетического фактора, ничуть не противостоящего
слову, но все же более широкого и глубокого, которое
возникает перед памп во всем своем значении и содер-
жательном богатстве, когда мы не только его слышим,
но и видим, воспринимаем целостно.
Само это противопоставление, столь характерное для
театра начала XX века27, оказывается малоплодотвор-
ным. Исходя из чисто внешних элементов выразитель-
ности, на их «уровне», например в рамках дилеммы:
слово — изображение или простой суммы этих поня-
тий,— вообще оказывается невозможно решить проблему
специфики театра. Называть его искусством слова (как
это делали сторонники чисто литературной концепции
драмы) столь же безосновательно и односторонне, как
и сближать его с движущейся живописью (к чему скло-
нялись некоторые деятели театра начала XX века или
просветители, стремясь преодолеть крайности классици-
стского театра, где момент декламации был выдвинут на
первый план).
Такой подход неверен еще и потому, что он явно
антиисторичен. И в этом, может быть, его главный по-
рок. Заметим, что и у теоретиков античности (взглядов
Аристотеля в этом плане мы уж<с касались во «Введе-
нии»), и у классицистов были свои основания именно
для такого одностороннего понимания театра. Трактов-
27 Полемическому противопоставлению слова и изобразительной
стороны действия отдали дань в свое врмя и Вс. Мейерхольд,
акцентировавший особое внимание на пластическом рисунке роли,
и А. Таиров: «Пантомима — это представление такого духовно-
го обнажения, когда слова умирают и взамен их рождается под-
линное сценическое действие» (А. Таиров. Записки режиссера.
М., 1970, стр. 91). Наиболее последовательное выражение эго
нашло у Г. Крэга, считавшего, что искусство вообще всегда до-
стигает своей цели посредством «рисунка», а не слова.
76
ка театра как искусства слова классицизмом, его тезис:
«Волнует зримое сильнее, чем рассказ, но то, что стер-
пит слух, порой не стерпит глаз» (Буало),— основыва-
лись на противопоставлении рационального начала чув-
ственному, характерного для всей картезианской филосо-
фии, и были связаны с центральным для классицистской
драматургии конфликтом между общественным долгом
и личным чувством, конфликтом, который бесповоротно
решался в пользу долга и его носителя — рассудка.
Но уже в эпоху Просвещения вместе с искусством,
преодолевающим идейную и художественную ограничен-
ность классицизма, приходит более широкое понимание
театра. «Молчание и пантомима обладают иногда пате-
тичностыо?Т<оторую не всегда можно достичь средства-
ми ораторского искусства»,— пишет Дидро. Лессинг отво-
дит театру место между живописью и поэзией. Он видит
в нем искусство, способное соединить в себе стремление
к предельно конкретному изображению жизни (в чем
так сильна живопись) с необходимостью воплощения
идеального начала (для чего лучше всего подходит ли-
тература) .
Однако несоответствие между просветительским
идеалом и реальной действительностью, столь ярко отра-
зившееся в «Парадоксе об актере» Дидро и вообще на-
ложившее свою печать на всю эстетику просветителей,
делает просветительский театр все же скорее полем при-
мирения этих начал, чем преодоления их противоречия.
Именно поэтому моменты подлинного действия череду-
ются в нем с риторикой, эмоциональная наполненность —
с рассудочностью28.
Совсем другой акцент получает понимание театра у
романтиков с их подчеркнутым вниманием к живой, цель-
ной человеческой личности, ко всему богатству ее н^
только интеллектуального, но и эмоционального мира;
вниманием, выражающим впервые с такой остротой за-
фиксированное ими противопоставление личности обще-
ству. Отсюда и «Предисловие к ,,Кромвелю“» В. Гюго с
его категорическим требованием свободы жанров и сце-
нических приемов, и необычайно яркое и многогранное
28 Социологический смысл трактовки Лессингом театра убедитель-
но раскрыт В. Грибом (см. Предисловие к «Гамбургской дра-
матургии». М., 1938).
77
искусство великих актеров-романтиков (Леметр, Моча-
лов, Кин), и идеи «синтетического» театра (Р. Вагнер).
С другой стороны, в известной абстрактности трак-
товки человеческого чувства, «страсти» и самого проти-
вопоставления личности и общества, смутности представ-
ления о путях его преодоления — источник известной
риторичности и ораторского пафоса, который присущ,
например, Шиллеру и в котором К. Маркс и Ф. Энгельс
видели ограниченность его искусства.
Понимание театра Станиславским также историче-
ски детерминировано. Оно возникает на почве реалисти-
ческого театра XIX и первой четверти XX века в ре-
зультате обобщения его практики, отражая в то же время
некоторые более фундаментальные особенности театра
как вида искусства29.
Как ни сложен и ни противоречив исторический путь,
пройденный театром, одна из его наиболее общих тен-
денций выражается в том, что от повествовательности и
условности античного театра30, напыщенности и ритори-
ки классицистского искусства, через романтические пре-
увеличения театр достигает в искусстве критического
реализма конца XIX — начала XX века, и прежде всего
в его высшей точке — творческой практике МХТ, огром-
ной реалистической тонкости и художественной правды.
Он приходит к исторической конкретности, изобра-
жению в качестве своих героев не только исключитель-
29 Положение об «анатомии человека как ключе к анатомии обезья-
ны» сохраняет здесь все свое методологическое значение. Это во-
все не ведет к модернизации, при условии если высшие формы
искусства рассматриваются при этом не в качестве обязательно-
го эталона, а именно как исходный пункт, ключ к пониманию
своеобразия более ранних форм и q6t ’<х закономерностей искус-
ства. Напротив, такой подход — условие подлинной историчности,
раскрывающей прежде всего логику развития явления, и гарантия
от угрозы того релятивизма, при котором само понятие «театр»
утрачивает свое устойчивое содержательное значение.
30 «Не следует делать обычной ошибки, смешивая литературу гре-
ческого театра, которая была прекрасна, с самим искусством ак-
тера, которое независимо от таланта должно было быть грубым и
неестественным»,— писал К. С. Станиславский .после попытки де-
кламировать на развалинах театра в Помпее (Соч., т. 5, стр. 479).
Несомненно, в этих словах вовсе не приговор античному театру,
который Станиславский чрезвычайно высоко ценил, а лишь кон-
статация характера его актерского искусства по сравнению с
современным театром.
78
них, но и обыкновенных, рядовых, простых людей (вспом-
ним, что еще Шекспир, как правило, пользуется леген-
дарными и историческими сюжетами, а его герои замет-
но возвышаются над окружающими и по социальной при-
надлежности, и по исключительности своих духовных
качеств) 31, к чрезвычайно тонкой, глубокой психологиче-
ской разработке характеров, к тщательному исследова-
нию их сложных связей с окружающей социальной сре-
дой 32.
Актер сходит с котурн, снимает маску, освобождается
от «театральных» манер, которые становятся синонимом
ремесленничества и штампа, перестает отличаться от
человека, сидящего в зрительном зале, «сливается» с ним.
Выразительность актера вплотную приближается к выра-
зительности человека в его реальной жизни. Естествен-
ность его поведения становится важным художественным
критерием 33.
Подчеркнем, что речь идет не о стремлении к натура-
листической иллюзии, а именно о все большей тонкости
художественного анализа и расширении сферы исследо-
вания жизни. Логика этого процесса, у начала которого
)ртоит возвышающаяся на котурнах, облаченная в жрече-
ские одежды декламирующая фигура актера античности,
а на «другом конце» — предельно естественный и обык-
новенный в своем сценическом поведении человек, приво-
дит наконец (далеко не прямо, а через исторически зако-
номерные противоречия и отклонения) к тому рубежу,
когда соотношение слова и действия в театре достигает
уровня их соотношения в жизни, а «синтетичность» игры
актера становится эстетическим эквивалентом поведения
реального человека.
Размышляя над природой художественной вырази-
тельности современного реалистического театра, Г. Тов-
31 Обстоятельство, которое в ряду других дало основание Стендалю
для сближения Шекспира с романтиками (см. «Расин и Шекс-
пир».— Стендаль. Собр. соч., т. 7. М., 1959).
32 О логике этого процесса убедительно пишет Г. Бояджиев в своей
работе «Театральность и правда». М., 1948.
33 «...Где на улице или в домах вы увидите метущихся, скачущих
хватающих себя за голову? Чувства выражать надо так, как они
выражаются в жизни, т. е. не ногами и не руками, а тоном,
взглядом, не жестикуляцией, а грацией. Вы скажете: условности
сцены. Никакие условности не допускают лжи»,— писал А. Чехов
О. Л. Книгшер (Д. Чехов. О литературе. М., 1955, стр. 214).
79
стоногов замечает: «Ныне подтекст надо выражать не
только и не столько средствами голоса, сколько всей
пластикой артиста, ритмом его сценической жизни, соот-
ношением партнеров.
Слова в современном театре должны входить в наше
сознание через действие. Как только в театре начинают-
ся слушаться слова — современный театр кончается. Мы
не имеем права в театре отдельно слушать слова и от-
дельно смотреть действия. Мы должны слышать и видеть
одновременно»34.
Он справедливо пишет о том, что «современному
Островскому, вероятно, уже нельзя было бы слушать
спектакль из-за кулис и определять, верно ли, хорошо
ли он идет, ибо если „звучащая стенограмма“ могла
быть достаточной характеристикой большинства спектак-
лей театра XIX века, которые обращались больше к уху,
а не к глазу зрителя, то такого рода стенограммы совре-
менного театра во многом просто не будут понятными»35.
Несмотря на известные полемические преувеличения,
Товстоногов безусловно прав в определении тенденций
развития выразительности современного театра.
К подобному выводу, хотя и выраженному другими
словами, приходит и другой крупнейший мастер нашего
театра — А. Лобанов: «Самый примитивный спектакль
тот, в котором мы видим только говорящих актеров; на
более высоком уровне находится тот, в котором актеры
не только говорят, но и чувствуют; еще более высокий
вид спектакля тот, в котором актеры говорят, чувству-
ют и действуют; и идеальным является спектакль, в ко-
тором мы видим актеров говорящих, чувствующих, дей-
ствующих и мыслящих. Могут быть замечательные акте-
ры, замечательная техника,но все равно без этого со-
временный спектакль скоро нельзя будет смотреть»36.
Наблюдения и Г. Товстоногов^, и А. Лобанова, так же
как идеи А. Попова об активной жизни актера в «зонах
молчания», в равной мере, хотя и по-разному, фиксиру-
ют факт особой роли действия в современном театре,
факт, столь отчетливо выразившийся в «методе физиче-
ских действий» Станиславского и в несколько ином ас-
34 «Современность в современном театре». М., 1962, стр. 72—73.
35 Там же.
36 Сб. «Режиссерское искусство сегодня». М., 1962, стр. 153.
80
пекте в «предыгре» Вс. Мейерхольда, пришедшей на
смену статуарно-изобразительным принципам его искус-
ства раннего периода.
Точнее говоря, речь должна идти не о действиях,
а о поступках, как называет психология те действия
человека, которые прямо или косвенно выражают через
слово, жест и т. п. «видимым» и «слышимым» образом
его отношение к другим людям. Это более глубокое
понятие, оно всегда несет в себе определенные обществен-
ные мотивы и включает в содержание «контекст» дан-
ной, конкретной ситуации. В различных обстоятельствах
разные по внешней форме действия могут, например,
означать один и тот же поступок и, наоборот, одно и
то же действие выражать различные поступки37.
Понятие «поступок» представляется в эстетическом
плане более уместным и отвечающим сущности дела,
чем термины «психо-физическое» (у К. С. Станиславско-
го) или «био-механическое» (у Вс. Мейерхольда) дей-
ствие, которые остаются еще целиком в пределах техно-
логии актерского искусства.
Именно понятие «поступок» (а не слово) следует
^ритать первоэлементом, лежащим в основе современного
реалистического театра. Через этот «поступок-отноше-
ние» и раскрывается смысл поведения человека и одно-
временно сам человек, наиболее глубоким критерием
оценки которого, как известно, является действие38.
Таков эстетический смысл различных по форме, но
единых по своей внутренней сути положений Станислав-
37 «Для понимания поведения в том специфическом смысле, кото-
рое это слово имеет на русском языке, надо еще из действий вы-
делить поступки. Поступком является действие, поскольку оно
выражает отношение человека к человеку, к другим людям. Для
поступка существенным и определяющим служит это последнее.
Поступок возникает из действия в результате специфической ге-
нерализации; он предполагает генерализацию действия по его от-
ношению к человеку и эффекту, который это действие произво-
дит не на вещь как таковую, а на человека: одно и то же дейст-
вие может поэтому в разных условиях, в разных системах чело-
веческих отношений означать совсем разные поступки, так же
как разные по своему эффекту действия — один и тот же посту-
пок» (С. Рубинштейн. Бытие и сознание. М., 1958, стр. 252).
38 Иначе говоря, в данном случае речь идет о действии, взятом на
его более высоком, социальном, а не биологическом или психоло-
гическом уровне, включающем в себя эти два последние.
8)
ского о значении действия, варьирующихся от призна-
ния действия основным элементом художественной плоти
искусства театра, его языка до полемических уже фор-
мулировок о том, что в драматическом искусстве, «кроме
сверхзадачи и сквозного действия, нет ничего».
Было бы преувеличением безоговорочно утверждать,
что метод физических действий (именно как практиче-
ский метод сценического воплощения)—ключ, одинаково
подходящий к своеобразию любого драматурга: Шекспи-
ра и Брехта, Островского и Маяковского, Погодина и
Шона О’Кейси39, хотя круг драматургии здесь действи-
тельно оказывается широким. Но он отнюдь не безгра-
ничен.
Например, драматургии античности и классицизма
присущи особенности, которые едва ли могут быть до
конца раскрыты и эстетически адекватно воплощены с
помощью «биомеханики» или метода физических действий,
так как он сложился применительно к реалистической
драме конца XIX и XX века. Пьесы этой драматур-
гии исходят из иного характера театрального искус-
ства.
Это и естественно, хотя бы уже потому, что само
понимание театрального действия, его содержания, его
эстетической функции не оставалось неизменным на про-
тяжении развития театра, оно менялось вместе с прин-
ципами актерского искусства. Вместе с тем утверждение
действия как главного эстетического элемента драмати-
ческого искусства заключало в себе важный момент,
отражающий глубокую природу этого искусства.
Дело не только в той роли, которую играет действие
как средство театральной выразительности.* Значение
действия в театре имеет еще один аспект. Его отличи-
тельное качество, также свяэ<’тное с психологическими
особенностями игры, в том, что зритель в театре не
только «видит» и «слышит» развертывающееся перед
ним действие, но и, присутствуя при этом, является в
известном смысле его «соучастником». Это происходит
благодаря тому эстетическому контакту зрительного зала
и сцены, который устанавливается между ними на спек-
такле и который Станиславский назвал однажды «душев-
39 См.: В. Блок. Система Станиславского и проблемы драматургии.
М., 1963, стр. 192.
82
ной акустикой». В этих словах Станиславского Нет, ра-
зумеется, никакой мистики, в них констатация реального
психологического эффекта, присущего театру как виду
искусства.
Это эстетическое взаимодействие актера и зрителя
принимает различные формы — не только особых теат-
ральных приемов, прямого обращения в зал, но и менее
явного, более тонкого взаимного общения: смеха, апло-
дисментов, внезапной тишины, «движения» в зале — и
того ответного «сдвига» акцентов в игре актеров, которое
имел в виду Станиславский, когда говорил: «Воздей-
ствуйте на зрителя через партнера». Зритель в театре
составляет необходимый компонент спектакля — хорошо
известно, как трудно актеру играть в пустом зале.
«Партер не чужой сцене: он вроде хора греческой тра-
гедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни,
атмосферой сочувствия, которая оживляет актера»40,—
образно писал об этом контакте Герцен.
Воспользовавшись понятиями современной теории
информации, можно было бы сказать, что театр пред-
ставляет собой классическую модель системы эстетиче-
сфй коммуникации с обратной связью. Таким образом,
говоря о действенности театра, следует иметь в виду,
что она проявляется не только в области его содержа-
ния и формы, но и в характере его восприятия, в самой
его эстетической функции.
Практика театра, и современного театра в особен-
ности, неопровержимо свидетельствует, что там, где про-
исходит перемещение акцента с действия на слово (или
на любой другой аспект сценической выразительности,
например Пластический образ спектакля), спектакль, при-
обретая иногда некоторые дополнительные художествен-
ные возможности, неизбежно утрачивает силу своего
специфического воздействия и убедительности.
Речь идет не только об откровенной дидактике или
иллюстративности ремесленных произведений, в которых
риторический пафос призван замаскировать их художе-
ственную несостоятельность, или тех встречающихся се-
годня случаях «эпического» и «лирического» использова-
ния слова, которые оказываются лишь данью форме,
а не внутренней необходимостью.
40 «А. Герцен об искусстве и литературе». М., 1958, стр. 143.
83
В этом смысле характерен опыт современного теат-
ра, в том числе практика такого значительного ху-
дожника, как Б. Брехт. В первую очередь показательна
сама логика эволюции его поискев, которая от цикла
«поучающих пьес» (1929—1934), где действие и его объ-
яснение стоят рядом, где они равноправны («Высшая
мера»), приводит в дальнейшем к собственно эпическому
театру с гораздо более сложным соотношением слова и
действия.
Практика Брехта, несомненно, богаче его теоретиче-
ских предпосылок, но и она не лишена определенных,
хотя и исторически объяснимых противоречий. Делая
акцент на рациональном начале (акцент, возникающий
на почве полемики с немецким натуралистическим теат-
ром 20-х годов41, а затем с театром фашистской Германии,
апеллировавшим к инстинктивному, стихийно-эмоцио-
нальному в человеке), Брехт иногда лишает зрителя дра-
гоценного качества — возможности самому прийти к тому
неотвратимому заключению, которое содержит в себе
логика развития драматического действия.
Там, где приемы очуждения не подменяют эстети-
ческой функции действия, Брехт достигает подлинного
синтеза драматического и эпического, добивается значи-
тельных результатов. Но иногда он ставит театр перед
угрозой обеднить свое художественное воздействие за
счет выдвижения на первый план логического начала
(что дает себя знать не только в «дидактических» пьесах,
но кое-где даже в «Галилее»). Здесь сказывается вся
обоюдная острота принципа «постоянной циркуляции
между образом и понятием», в которой некоторые иссле-
дователи видят лишь безусловное завоевание интеллек-
туальности искусства Б. Брехта и Т. Манна 42.
Мы не говорим уже * противоречиях интеллектуаль-
ного театра экзистенциализма, связанных с его философ-
скими предпосылками, и тем более об опытах театраль-
ного «авангарда», где слово порою предстает как нечто
обособленное, противостоящее, с одной стороны, реаль-
ности, а с другой — действию человека.
41 Это относится и к соответствующим мотивам в искусстве экс-
прессионизма, и к натуралистическим тенденциям в некоторых
постановках М. Рейнгардта.
42 В. Днепров. Интеллектуальный роман Т. Манна.— «Вопросы ли-
тературы», 1960, № 2.
84
Но дело не только в этом. Существует грань, за
которой дает себя знать все различие эстетических прин-
ципов литературной повествовательности и театрального
действия.
Исчерпывающее исследование особенностей восприя-
тия театра — задача эстетики и психологии, приходящих
здесь в соприкосновение. В данном случае для нас важен
эстетический смысл этих особенностей.
В этой связи необходимо коснуться проблемы соотно-
шения театра и игры. Тот простой знак равенства между
ними, который иногда ставит театроведение, должен
быть, разумеется, перечеркнут. Гносеологическая основа
подобного взгляда, как правило, имеет идеалистический
смысл, а общественная, социальная — консервативный
оттенок. Это становится особенно ясным, когда мы обра-
щаемся к тому действительно общему, что существует
между театром и игрой в широком смысле слова и что
необходимо иметь в виду.
Их общность обнаруживается уже в генезисе театра.
Хотя проблему возникновения театра нельзя признать
вполне решенной и исчерпывающе разработанной, тем
нё^ менее определенно установлена его связь с народ-
ными обрядовыми и трудовыми играми как в Древней
Греции, так и на Востоке43. По мере развития общест-
венных отношений и происходящего под влиянием этого
расширения круга содержания (воспроизведение сначала
мифов о богах, потом о героях и наконец реальных
исторических событий), отделения зрителей от исполни-
телей некоторые из этих игр утрачивают свое трудовое
и культовое значение и превращаются в особый вид
отражения действительности со своим собственным об-
щественным назначением.
В русском театре его «игрищный» период44, который
характеризуется существованием наряду с церковной ли-
тургической драмой народных игр и обрядов, приобре-
43 Как известно, Аристотель прямо указывает на Дионисийские
действа как на истоки античной трагедии («от зачинателей ди-
фирамба») и комедии («от зачинателей фаллических песен»).
См. «Поэтика». М., 1957, стр. 51. Интересный и обширный мате-
риал, особенно по театру Азии и Африки, содержит работа А. Ав-
деева «Происхождение театра» (Л., 1959). Теоретической кон-
цепции книги мы коснемся ниже.
44 См. В. Всеволодский-Гернгросс. Русский театр от истоков до се-
редины XIX века. М., 1957.
85
тавших все более зрелищный характер, и который под-
готавливает следующий — «зрелый этап» театра, продол-
жается вплоть до XVI века.
Таким образом, в самом общем виде исторический
процесс становления театра как искусства заключался
в его выделении из обрядовых и трудовых игр в свое-
образный способ духовного отражения жизни и
одновременно выражения отношения к ней — театр начал
выполнять в обществе уже специфически эстетическую
функцию45.
Потенциальная возможность такой эволюции оказы-
вается заложенной в некоторых общих психологических
особенностях игры в широком смысле слова как особой
формы человеческой жизнедеятельности.
Марксистская психология, выдвинувшая (прежде все-
го в лице Плеханова) трудовую теорию игры, показала,
что игра, закономерно возникающая на определенной
ступени эволюции общества и в процессе развития инди-
видуального человека — в своем и филогенезе и онтоге-
незе, есть вовсе не проявление некоего изначально при-
сущего человеку инстинкта и не способ высвобождения
избыточных физических и духовных сил организма,
а продукт, дитя труда. Причем она должна быть пони-
маема не узко, как непосредственное подражание про-
изводственному процессу, что действительно преобла-
дает на ранних этапах развития общества, а как вос-
произведение целенаправленной деятельности человека
в более широком смысле. В недооценке этого факта
заключается, в частности, известная ограниченность тео-
рии игры Плеханова.
Например, в наиболее близкой в психологическом
отношении театру — ролевой, как ее называет психоло-
гия, игре ребенок, подражая взрослым, действуя в их
роли, обогащает свой опыт и свое представление о мире
элементами опыта, который содержится в их деятельно-
сти, опыта, выработанного на основе общественной прак-
тики, гораздо более широкой, чем его практика. Одно-
45 Плеханов замечает, что только неразработанность исторической и
диалектической стороны материализма привела к тому, что Чер-
нышевский не обратил внимания на важность понятия игры для
материалистического объяснения искусства — момент, отмечен-
ный Лениным в его конспекте книги Плеханова о Чернышевском
(см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 551).
86
временно в самом выборе объекта игры, в ее характе-
ре, содержании заключено возникающее на основе этого
освоения и определенное действенное отношение к изоб-
ражаемому 46.
В плане постановки вопроса об онтогенезе эстетической дея-
тельности должна быть отмечена также работа М. Маркова «О не-
которых закономерностях процессов эстетической деятельности»47.
Однако с рядом ее положений согласиться нельзя. Она остается еще
целиком в пределах психологии. Определение функции искусства как
«освоения человеческого опыта», «опыта эмоционального отношения»
лишено эстетической конкретности, так как, во-первых, искусство ос-
ваивает действительность и формирует эстетическое отношение к пей
не только в плане эмоциональном, но и интеллектуальном и волевом,
и, во-вторых, опыт, содержание которого составляет эмоциональное
отношение, может и не иметь эстетического значения. Трактовка эсте-
тического просто как опыта содержит в себе опасность ошибочных
выводов в духе эстетики прагматизма и инструментализма, которая
объявляет, как известно, эстетической ценностью всякий практически
полезный, достигающий своей собственной цели «завершенный»
опыт 48. Эстетический опыт заключает в себе для человека бесконеч-
но более широкий и богатый общественный смысл, и его критерий не
в законченности или эмоциональности, а в качестве его общественно-
го содержания.
Отсюда вытекает прямолинейность интерпретации автором воз-
действия искусства — его теории «перенесения». Зритель не обяза-
тельно отождествляет себя с героем или с автором, он как бы вместе с
ним. Искусство обращается ко всему богатству чувственного и интел-
лектуального опыта человека, к миру его ассоциаций и способности
его сознания к обобщению. В «Ревизоре», например, -зритель вовсе
не отождествляет себя ни с кем из действующих лиц, но он понимает
и чувствует весь драматизм положения тех «внесценических» персо-
нажей, которые зависят от воли сквозник-дмухановских, всю противо-
естественность общественного строя, при котором происходят подоб-
ные происшествия. Он смотрит на происходящее не только глазами
Гоголя, но одновременно и своими собственными, человека со своим
общественным опытом, устремлениями и т. п. Он может и не боять-
ся, что это случится непосредственно с ним (как считал Лессинг), но
он не остается равнодушным и к счастью или произволу и несправед-
ливости по отношению к другим. Хорошей иллюстрацией к этому мо-
жет служить известное письмо зрителя Луначарскому по поводу
«Трех сестер».
«Помню, я в эти времена написал какую-то статью о „Трех
сестрах" Чехова, где весьма неодобрительно отзывался о жалких ге-
роях и героинях, жизнь которых может разрушиться от того, что полк
46 С. С. Рубинштейн. Основы общей психологии. М., 1940; А. Леон-
тьев. Природа и формирование психических свойств и процессов
человека.— «Вопросы психологии», 1955, № 1; А. Валлон. От дей-
ствия к мысли. М., 1956.
47 «Вопросы эстетики», 1958, № 1.
48 См., наир., Д. Дьюи. Искусство как опыт.— «Современная книга по
эстетике». М., 1957.
87
переведен из одного города в другой, или потому, что у них не хва-
тает решимости поехать в Москву. И вот какой-то гимназист (хотел
бы знать, где он сейчас — наверное, в наших рядах) написал мне
красноречивое письмо. Он упрекал меня в непонимании действия, ко-
торое Чехов производит на зрителя. Он писал приблизительно так:
„Когда я смотрел „Три сестры", я весь дрожал от негодования. Ведь
до чего довели людей, как запугали, как замудровали! А люди хоро-
шие, все эти Вершинины, Тузенбахи, всё эти милые, красивые сест-
ры — ведь это же благородные существа, ведь они могли бы быть
счастливыми и давать счастье другим. Они могли бы, по крайней
мере, броситься в самозабвенную борьбу с душащим их злом. Но вме-
сто этого они хнычут и прозябают. Нет. Анатолий Васильевич, это
пьеса поучительная и зовущая к борьбе. Когда я шел из театра до-
мой, то кулаки мои сжимались до боли и в темноте мне мерещилось
то чудовище, которому, хотя бы ценою своей смерти, надо нанести
сокрушительный удар"» 49.
Здесь наглядно проявляется личный по форме и в то же время
общественный по содержанию характер эстетического сопережива-
ния, ощущения себя частью общества, своей личной ответственности
за его состояние и его судьбы.
Наконец, наиболее ценные выводы автора по поводу процесса
психического механизма эстетической деятельности едва ли не мо-
гут быть безоговорочно отнесены ко всем видам искусства, кроме
«зрелищных». Они основываются на объяснении психологических
особенностей восприятия театра, кинематографа, телевидения. При-
менение их к другим видам искусства, где «соучастие» оказывается
менее прямым и многократно опосредованным, связано с несомнен-
ными трудностями.
Но игра — это, разумеется, еще не театр и не искус-
ство вообще, между ними огромная и историческая,
и содержательная дистанция. Понятие игры как формы
психической деятельности еще не заключает в себе
ровно никакого художественного содержания — она мо-
жет иметь, скажем, и религиозное, и спортивное, и ка-
кое-либо иное содержание. Игра по отношению к теат-
ру— предпосылка, в некоторых, ’.ачествах которой за-
ключена потенциальная возможность стать его психоло-
гической основой.
В этом смысле следует еще раз подчеркнуть глубоко
ошибочный и даже реакционный смысл точки зрения,
прямо отождествляющей искусство и игру и связанной
с пониманием искусства как чистого формотворчества
и самоцели. Она заключает в себе двойную неправду
и по отношению к искусству, и по отношению к игре.
49 А. В. Луначарский. Тридцатилетий юбилей Художественного
театра.— «Правда», 27 октября 1928 г.
88
Эта концепция в своих различных модификациях лежит
в основе целого ряда современных теорий, вплоть до
3. Фрейда с его трактовкой искусства как «сна на яву»
и Д. Сантояны, который прямо противопоставляет труд
и игру как символы порабощения и свободы и сводит
искусство к объективированному чувственному наслаж-
дению, независимому от реального содержания пред-
мета 50.
Несколько иной смысл получила теория игры у Шил-
лера. Он верно почувствовал, что эстетическая деятель-
ность возникает на основе господства человека над поз-
нанной, освоенной им действительностью и выражает по
отношению к ней его свободу, хотя и не раскрыл са-
мого содержания этой свободы и ее обусловленности
трудом и общественной практикой человека. Это сделала
марксистская эстетика в иных исторических условиях,
на почве иного общественно-исторического опыта.
Вместе с тем противопоставление эстетической дея-
тельности и реальной практики, искусства и действитель-
ности, звучащее в тезисе Шиллера о том, что человек
«бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет»51,
и отражающее реальные противоречия буржуазной дей-
ствительности, потенциально могло вести к различным
выводам. В том числе не только к выводу об истори-
чески преходящем характере этих противоречий и актив-
ной ^оли искусства в их преодолении, но и к противо-
положной идее принципиальной независимости искусства
от жизни, его «эстетической изоляции», самоценности
его формы.
Подобная точка зрения лежит в основе так назы-
ваемой теории «чистой театральности». Она берет свои
истоки у немецких романтиков (Л. Тик, Ф. Шлегель),
но особенно яркое проявление находит в модернистском
театре конца XIX — начала XX века, переживая в этот
период свое «второе рождение». Но если у иенских
романтиков их принцип «романтической иронии», с кото-
рым связана эта теория, при всем своем негативном,
«отрицающем» пафосе, нес в себе мотив известного анти-
буржуазного протеста, то в модернистской интерпрета-
ции уже сказывается эстетическая бесплодность и
50 См. Дж. Сантояна. Природа красоты.— Сб. «Современная книга
по эстетике». М., 1957.
м <Ь. Шиллер. Соч.> т. 6, стр. 335.
89
социальная консервативность этой идеи52. Она исходит
из присущего якобы человеку некоего биологического ин-
стинкта лицедейства — «шестого чувства» (Н. Евреинов),
которое проявляется и в самой жизни (в частности,
в форме постоянного стремления человека компенсиро-
вать иллюзией свою неудовлетворенность жизнью). Наи-
более полно, в «чистом» виде этот инстинкт реализуется
в театре, содержание которого он и составляет. Реальное
жизненное содержание пьесы становится, таким образом,
лишь предлогом для «трансцендентальной буффонады»
(термин раннего Вс. Мейерхольда). В устанавливаемой
при этом иерархии театральных эпох особое место от-
водится обычно комедии дель арте, причем игнори-
руется ее конкретно-историческая обусловленность и
последовавший затем ее упадок, когда она оказывается
перед лицом более сложных задач, выдвинутых перед
ней временем, а также и тот факт, что и в ней сущест-
вовали каркасы сценариев и традиционные маски.
Эта концепция не только в ее обнаженном виде, но и
в более скрытых проявлениях оказывается несостоятель-
ной'исторически и теоретически 53.
Здесь могут быть упомянуты идеи Ж. Жене, А. Арто, Ж. Кокто
во Франции, Г. Крэга —в Англии.
В русском театре теория эта связана прежде всего с именами
так называемых «традиционалистов» — Н. Евреинова, К. Микла-
шевского, Н. Дризена. Наиболее последовательное развитие эти
теории получили у Н. Евреинова в его известных работах «Театр
как таковой» (1913) и «Театр для себя» (1914), где в понятие
театральности, несущей функцию «преображения действительно-
сти» и «бегства от жизни», включается «всякая образность, ри-
туал, парад, наряд, игра жестов, процессия, торжественность,
празднества и похороны, обстановка, постановка — словом все
то, что декорирует наши бедные будни».
53 Например, в уже упомянутой книге «Идея и форма в современ-
ном театре» Д. Гасспер рассматривает еатралыость и реализм
как два самостоятельных направления современного театра, за-
кономерно существующие на основе дуализма его природы, син-
тез которых возможен лишь в будущем. Эта теория «дуализма»
приводит далее к тому, что творчество актера как целиком субъ-
ективное противопоставляется творчеству режиссера как объек-
тивному началу театра. Такой принцип разграничения неточен
в своей исходной, методологической основе; природу театра в
этом смысле характеризует не дуализм, а диалектика: театраль-
ность не есть понятие чистой формы, а реализм вовсе не проти-
востоит подлинной театральности, более того, он ее предполагает.
Точно так же единство объективного и субъективного моментов
характеризует творчество и актера, и режиссера.
90
Здесь уместно вспомнить мысль К. Маркса о том.
что человек наслаждается своей деятельностью, трудом
как игрой физических и интеллектуальных сил в той
мере, в какой он увлекает его не только способом ис-
полнения, но и своим содержанием54.
В переживание, которое мы испытываем на спектак-
ле, действительно как бы входит чувство эстетическо-
го удовлетворения, условно говоря, от самого процесса
игры, господства художника над материалом, сво-
боды его перевоплощения. Чувство радости творчества
рождается как результат освоения, познания человеком
того или иного явления действительности, которое те-
перь уже не противостоит ему как нечто неизвестное,
чуждое; оно выражает свободу его эстетического отно-
шения к познанной необходимости, торжество его твор-
ческой способности.
В этом смысле Горький говорил о чувстве гордости
за человека, которое неизменно пробуждает подлинное
высокое искусство.
Это — эстетическое качество игры, которое актер и
зритель ощущают обоюдно и непосредственно. Может
быть,’ внешне наиболее заметно оно проявляется в во-
сточном, например китайском, традиционном театре, где
мастерство исполнения (в его содержательном, не фор-
мальном понимании, т. е. мастерство в раскрытии со-
держали) является важнейшим компонентом эстетиче-
ского восприятия спектакля. Но это — свойство театра
как художественной формы вообще.
Вот что пишет такой представитель искусства пере-
живания, как В. И. Качалов: «Благодаря обязатель-
ному процессу раздвоения актерской личности актер при
самом искреннем переживании сознает нереальность
своей „выдумки** и, отдаваясь, например, самому силь-
ному чувству гнева, возмущения, скорби, непременно
при этом любуется в эти же моменты этими чувства-
ми („какие они настоящие и живые") и испытывает
иногда огромную радость от ощущения в себе (именно
ощущения, а не искусного представления) правды и
искренности этих созданных воображением чувств» 55.
54 См.: «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I. Мм 1967, стр. 26L
55 «Ежегодник МХАТ», т. II, 1951, стр. 857.
91
Примеров подобных высказываний, фиксирующих
диалектическую «двойственность» актерского самочув-
ствия (при всей широте его диапазона), в принципе
не отличающегося и от самочувствия зрителя, можно
привести сколько угодно 56.
В дальнейшем мы увидим, как это положение связа-
но и с природой условности в театре. В данном слу-
чае важно подчеркнуть, что это эстетическое качество
игры актера, во-первых, реально, в конкретном про-
изведении сценического искусства не существует как
нечто независимое и самостоятельное (мы способ-
ны выделить его лишь в теоретической абстракции) и,
во-вторых, оно возникает, и только и может возникнуть,
на основе эстетической, общественной ценности содер-
жания роли.
Такого рода эстетическая связь «формальной» и «ре-
альной» красоты (по терминологии Чернышевского) в
театре, где субъект и объект творчества находятся в
органическом единстве, как бы совпадают, особенно
отчетлива.
Игра актера, как творчество художника, не меха-
нический акт воспроизведения действительности, а одно-
временно и фактор выражения эстетического отношения
к ней. Это отношение заключено в создаваемом акте-
ром сценическом образе и составляет органическую сто-
рону его содержания; раскрывая его, игра актера об-
наруживает все свое эстетическое богатство. Именно
поэтому в ином случае, превращаясь либо в натура-
листическое копирование действительности, либо в фор-
56 «В жизни человек только страдал бы. а когда актер переживает
страдания, то он все-таки где-тс в мозжечке, что ли, радует-
ся...» (Вл. И. Немирович-Данченко. Избранное, т. 1. М., 1961,
стр. 47).
«Игра не есть ни переживания, ни представление. Игра — до-
статочно точное слово. Играть значит находиться на грани самых
сильных эмоций и неотступного контроля за ними» (М, Бабано-
ва. Путь актрисы.— «Советское искусство», 13 февраля 1933 г.).
«Актер, как свое переживающий чужое горе и только вообра-
жаемое горе, кроме скорби, кроме печали испытывает еще и ра-
дость от схваченного -им полного сходства с горем „образа**»
(С. Бирман. Путь актрисы. М., 1959, стр. 311).
На специфику подобного сценического состояния указывают и
физиологи (/7. Симонов. Метод физических действий К. Станис-
лавского и физиология эмоций. М., 1962) и психологи (П. Якоб-
сон. Психология сценических чувств актера. М., 1936).
92
мальное экспериментаторство, театр не только утрачивает
идейное значение, но и теряет свое специфическое ху-
дожественное обаяние.
Связанное с ощущением «господства» над объектом
изображения, господства, в основе которого лежит
не субъективистский произвол или прихоть фантазии,
а осознание закономерностей самой жизни, это особое
эстетическое чувство неотделимо от процесса позна-
ния и тем самым вовсе не безотносительно (как ут-
верждали сторонники «чистой театральности»57) к са-
мой мере проникновения искусства в действительность.
Именно в этой диалектике свободы «игры» и ху-
дожественного познания, освоения мира — сущность ре-
алистической театральности.
Само это понятие отнюдь не сводится к определен-
ному кругу формальных приемов (или внешнему демон-
стрированию актером отношения к играемому персона-
жу, по типу пропагандировавшегося деятелями ТРАМа
или в 30-х годах П. Новицким и Б. Захавой приема
«игры отношения к „образу"», основанному на весьма
прямолинейном толковании творческих принципов Вах-
тангова 58. Что касается очуждения Б. Брехта, то оно
тем более не есть такого рода игра «отношения», кото-
57 ^Реальная сценическая эмоция должна брать силу не из подлин-
/ной жизни, а из суверенной жизни сценического образа, из вол-
шебной страны фантазии» (Л. Таиров. Записки режиссера. М.,
1921, стр. 75) — позиция, в этом смысле полярная содержащейся
в цитированных словах В. Качалова.
58 Кроме того, сами ее формы связаны с характером и содержанием
драматургии. В «Принцессе Турандот» Е. Вахтангова или «Опере
нищих» Э. Буриана обнаженно ироническое, хотя и служащее
различным — даже в чем-то противоположным — целям (в одном
случае созданию особо праздничной, жизнеутверждающей ат-
мосферы представления, в другом — подчеркиванию сатириче-
ского, разоблачающего начала пьесы) демонстративное отноше-
ние актеров к своим героям в значительной мере оправдано осо-
бенностями драматургии — оно как бы находится внутри ее со-
держания.
Актеры Театра им. Евг. Вахтангова, как справедливо замечает
Р. Симонов («С Вахтанговым». М., 1963, стр. 145), привносили
в сказочный мир героев пьесы Гоцци, написанной в традициях
народного театра, еще и мир комедиантов этого театра, разыг-
рывающих ее на глазах у зрителей, создавая по-своему цельные
реалистические образы. Но как только театр попытался сделать
этот прием универсальным творческим принципом, он потерпел
и в «Гамлете», и в «Женитьбе» поучительные поражения.
93
рое там, где не выражено в режиссерском приеме, су-
ществует внутри образа, создаваемого актером 59.
В этом смысле чеховские спектакли МХТ по-своему
не менее театральны, чем искусство Вс. Мейерхольда,
Б. Брехта или чехословацкого театра Д-34, руководи-
мого Э. Бурианом, хотя это разная и в эстетическом, и
в историческом плане театральность.
Подобный подход дает возможность понять и связь
театра с игрой в ее широком смысле, и всю меру су-
ществующих между ними глубоких различий. Общность
театра с игрой, из которой он развился, проявляется
прежде всего в той психологической особенности, в ко-
торой он выступает как целостное, «духовно-практичес-
кое», по выражению К. Маркса, освоение действитель-
ности, в котором участвуют и интеллект, и чувства, и
воля, но которое выражается в непосредственном вос-
произведении действий человека.
Их принципиальное различие связано с самим содер-
жанием и общественной функцией, с эстетической сущ-
ностью театра как искусства, с тем, что воспроизводи-
мая реальность всегда оценивается в нем с позиций
определенного эстетического идеала 60.
Все это определяет и иное содержание театра, и
иную меру богатства заключенного в нем обществен-
ного опыта.
69 В самом термине «отношение к образу» скрыта явная двусмыс-
ленность, ибо образ всегда включает в себя отношение к предме-
ту изображения. Сыграть «чистое» отношение вообще невозмож-
но, если только не исходить из идеи Д. Дьюи о действии как не-
кой «транс-акции», за которой исчезают его и объект, и субъект.
60 К чему приводит игнорирование эстетической специфики театра,
можно видеть на примере интересной и ценной, но написанной
главным образом с позиций этн.^1 рафии работы А. Авдеева
«Происхождение театра» (Л., 1964). Совершенно справедливо воз-
ражая против того расширительного и вместе с тем неверного
отождествления театра с «действованием» вообще (которое при-
вело в свое время В. Н. Всеволодского-Гернгросса к признанию
театром обрядов, игр, манифестаций и даже производственных
процессов) и обращая внимание на специфический для театра
момент перевоплощения, А. Авдеев лишь констатирует его, но
останавливается перед его объяснением. В результате сама обще-
ственно-эстетическая функция театра и его границы оказывают-
ся в ряде случаев недостаточно четко выявленными. Так, в сфе-
ру театра попадают чисто ритуальные явления или такие
практически утилитарные, как «охотничья маскировка», где ре-
шается совсем иная задача т- не создания образа, а возможно
более точного подражания.
94
В свете этих различий становится очевидной вся бес-
плодность нередко предпринимаемых в современной
буржуазной науке попыток непосредственно вывести
драматическое содержание театра из игры. Так, напри-
мер, у Р. Пикока это сближение производится за счет
исключения реальных драматических конфликтов из
сферы содержания театра и выдвижения на первый
план некой «ритуальной» природы действия, одинаково
присущей и театру, и игре61. Эстетический и социаль-
ный смысл такого сближения проясняется, когда в ходе
своих рассуждений Р. Пикок связывает эту природу
действия с «всеобщим ощущением рока и фатальной
предрешенности» человеческого существования. Об этой,
центральной не только для Р. Пикока, но и для не-
которых других теоретиков современного буржуазного
театроведения, идее пойдет речь ниже. Здесь нам важ-
но еще раз подчеркнуть то искажение эстетической
природы и функции театра, которое вытекает из та-
кого отождествления его с игрой, одновременно игнори-
рующего точки их реального соприкосновения.
ТЕАТР И КИНО
Соотнесение театра и игры дает ключ к постановке про-
/ блемы драматических аспектов современного театра, ки-
нематографа и телевидения.
Мы уже говорили о том соблазнительном, на пер-
вый взгляд, но, в сущности, неверном принципе деле-
ния, согласно которому граница между театром и
кино — это граница между искусством слова и искус-
ством действия.
Тезис Р. Клера — «слепой в театре и глухой в кино
не потеряют главного» — неверен уже потому, что он
неисторичен.
В действительности дело обстоит иначе, причем не
только по отношению к современному театру, но в
равной мере и по отношению к сегодняшнему кино с
его огромной ролью слова, дикторским комментарием,
закадровым текстом, где мы часто слышим голос ав-
тора или героя, размышляющего вслух, оценивающего
61 R. Peacock. Art ef drama. London, 1962.
95
события, которые развертываются перед нами, или про-
сто рассказывающего о них.
Проблема оказывается гораздо более сложной. Де-
маркационная линия, лежащая сегодня между театром
и кино, практически очень условна и подвижна. Они за-
частую обращаются к одному кругу жизненного мате-
риала, пользуются одними и теми же историческими
сюжетами и литературными источниками. И вместе с
тем мы видим, как все более и более отчетливо наме-
чаются грани, отделяющие их друг от друга.
Чрезвычайно трудно представить себе на сцене то,
о чем рассказывают «Поэма о море» А. Довженко, «По-
хитители велосипедов» Де Сика или «Если парни всего
мира...» Кристиана Жака. С другой стороны, события
«Иркутской истории» А. Арбузова с наибольшей полно-
той и драматической силой раскрываются именно в
театре. Более того, в кино они в чем-то непременно про-
играют. Не случайно Арбузов, очень остро чувству-
ющий природу театра, отклонил предложение экранизи-
ровать его пьесу.
Поверхностная иллюзия, которая состоит в пред-
ставлении о том, что кинематографу доступно все, что
заключено в возможностях театра, и которая ведет не
только к идеям неизбежной исторической смены театра
искусством кино, но и — что гораздо более серьезно —
к идеям современного «киноцентризма», эстетической ге-
гемонии кинематографа как самого универсального и
наиболее «синтетического» из искусств 62, опровергается
самой практикой искусства. Ее несостоятельность де-
монстрируют уже фильмы-спектакли, причем не только
по происхождению, но и по своей внутренней сути
фильмы, где сказывается ин рция театральных канонов,
и эстетическое воздействие поэтому всегда ослаблено.
Методология формального сопоставления средств вы-
разительности показывает здесь всю свою несостоятель-
ность. На это обращал в свое время внимание С. Эйзен-
штейн, подчеркивая ошибки, которые неизменно возника-
ют «при всякой попытке заимствовать практические
62 Наиболее последовательно эта точка зрения у нас выражена в
упомянутой выше статье М. Ромма «Поглядим на дорогу»
(Л4. Ромм. Беседы о кино. М., 1964). Примерно ту же идею раз-
вивает и Е. Габрилович (см. «На переломе».— «Литература и
жизнь», 11 декабря 1961 г.).
96
результаты, основываясь на сходстве внешних проявле-
ний одной области искусства с другой его областью»63.
Подобного рода сопоставления всегда статичны, огра-
ничены, в них есть опасность генерализовать, абсолю-
тизировать какой-то один момент и сбиться на догма-
тические предписания и рецепты, а главное — остаться
в области чистой формы.
В данном случае необходим иной, более широкий
и целостный подход, который учитывал бы внутрен-
нюю логику взаимоотношений этих искусств, необходи-
мость проследить, «как известное явление в истории
возникло, какие главные этапы в своем развитии это
явление проходило», и именно «с точки зрения этого
его развития смотреть, чем данная вещь стала те-
перь» 64. Это наиболее надежный путь к уяснению ме-
ста каждого из данных искусств в современной худо-
жественной культуре и пониманию тенденций их даль-
нейшего развития.
Кинематограф был бы невозможен без достижений
техники XX века, более того, он — ее детище. Одна-
ко для того, чтобы техническое изобретение стало ис-
кусством, необходима соответствующая эстетическая
потребность. Не случайно проходит известное время, по-
ка зрелищный аттракцион братьев Люмьер и Мельеса
превращается в вид искусства. (Нечто похожее, хотя
и в ином масштабе, происходит на наших глазах с си-
нерамой, циркорамой или «Латерной Магикой». В той
мере, в какой их технические возможности не являют-
ся художественной необходимостью, они остаются для
нас скорее зрелищем, чем новыми формами искус-
ства 65.)
63 «Вопросы киноискусства», вып. 4. М., 1961, стр. 225.
64 В. И, Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 67.
66 В качестве одного из примеров переоценки роли техники в эво*
люции кино как искусства можно привести статью В. Высоц-
кого, А. Голдовского и Б. Коноплева «О новых системах кинема-
тографа» («Искусство кино», 1961, № 4), где прямо сформулиро-
вана мысль о том, что именно кинотехника заставила «великого
немого» заговорить, окрасила бело-черные силуэты экрана, она
же сделала возможным создать «эффект присутствия» с помощью
новых видов кинематографа. Не меньшей односторонностью
страдает и взгляд на историческую закономерность возникнове-
ния киноискусства, который связывает его появление лишь с мас-
совостью, масштабом его аудитории, оставляя в стороне эстетн-
4 А. А. Карягин 97
Необходимо иметь в виду то важнейшее обстоятель-
ство, что кино возникает не только в русле развития
техники, но и в русле эволюции эстетического созна-
ния, что оно рождается как бы на точке пересечения
тех возможностей, которые дает технический прогресс
нашего времени, и тех новых задач эстетического ос-
мысления жизни, которые встают теперь перед челове-
ком. Игнорируя это, мы не сможем понять логику раз-
вития кинематографа.
Мы уже говорили о тенденции максимального при-
ближения к жизни, чрезвычайно тонкой и всесторонней
разработке характеров, глубокой психологичности, вни-
мании к обыкновенному простому человеку,— качествах,
которые получают такое яркое воплощение в реалисти-
ческом театре конца XIX — начала XX века. Подчерк-
нем еще раз, что речь идет не о движении к нату-
ралистической иллюзии—ведь и кино, при всей его
фотографичности, не равно ей,—а именно о тонкости
художественного анализа, исторической конкретности и
расширении сферы исследуемой жизни.
Это реалистическое искусство театра начала XX века
знаменует собой в истории зрелищных искусств ру-
беж, за которым возникает эстетическая необходимость
в новом искусстве — кино. Как ни велики возможности,
достигнутые театральным искусством в художественном
анализе человека, его общественных отношений, насту-
пает момент, когда оно уже не может ответить на
все требования времени в их новом объеме. Оно ока-
зывается менее эффективным, чем кино, в решении це-
лого круга эстетических проблем, связанных с потреб-
ностью непосредственно отразить масштаб огромных об-
щественных сдвигов этого перис Ла, проследить все те
сложные и подчас скрытые социальные и психологичес-
кие связи, которые определяют характеры, поступки, от-
ношения людей, показать огромные движения масс в
нашу революционную эпоху, и тончайшие нюансы ду-
шевных движений современного человека, диапазон ко-
торых необычайно широк и богат.
Уже искусство Чехова и МХТ с его вторым планом,
подводным течением, драматическим подтекстом — ху-
ческий аспект проблемы (см., напр., «Основы марксистско-ленин-
ской эстетики». М., 1960, стр. 517),
98
дожественное явление, оказавшее такое заметное влия-
ние на все последующее развитие искусства (в том чис-
ле и на кино — укажем хотя бы на неореализм), было
попыткой решить эти задачи, «раздвинуть» рамки не-
посредственного изображения.
Стремление расширить границы театра определяет
почти все его поиски в XX веке. Здесь, например, один
из отправных пунктов такого значительного явления,
как эпический театр Б. Брехта, возникающего на поч-
ве ощущения того, что раскрыть всю сложность и про-
тиворечивость сегодняшней действительности средствами
традиционного театра «становится все более и более
трудно» 66.
И все же, открывая перед театром новые возмож-
ности, ни подтекст драматического действия, ни эпичес-
кий комментарий к нему не могут заменить нам не-
посредственного художественного исследования действи-
тельности во всей ее реальности и исторической
конкретности, не могут дать художественно адекватную
картину современного мира. Эти приемы косвенного от-
ражения, давая иной ракурс взгляда, иной «разрез»
действительности, приобретают свое подлинное значение
Именно рядом с формами, отражающими ее более
непосредственно. Тем самым формы эти становятся для
нас как бы объясняющими, дополняющими друг друга
(Б. Брехт, например, оценивая значение своего эпиче-
ского театра для будущего, в последние годы настойчи-
во предостерегал от его абсолютизации).
Не случайно в XX веке возникает тенденция докумен-
тальности, в том числе и в театре. Ибо современная эпо-
ха— это время не только усиления власти отчуждения,
но и бурного социального прогресса, не только возник-
новения, но и разрушения иллюзий.
Здесь в непосредственном отражении действительно-
сти кино не имеет себе равных. Сам его язык — это язык
реальности, «образы-знаки» (П. Пазолини) которого не-
отделимы от ее форм (даже там, где оно имеет дело с
полетом фантазии и материализацией духовной жизни).
К этим поискам театра мы еще вернемся. Здесь же
они важны как свидетельство тех совершенно иных за-
дач, перед которыми оказывается театр. Решить эти за-
дачи было призвано искусство кино. Миновав период
86 Б. Брехт. О театре. М., 1960, стр. 67.
99
4»
становления, где оно еще прямо подражает театру,
кино в своем дальнейшем развитии, опираясь на завое-
вания реалистического театра начала XX века, в извест-
ном смысле начинает с его «уровня». Основываясь
на достигнутой этим театром выразительности актера
(по справедливому замечанию В. Пудовкина, вырази-
тельность актера в кино не должна в принципе пре-
восходить выразительности человека в реальной жиз-
ни67), кино как искусство идет дальше, делая следую-
щий шаг в развитии художественного сознания.
Используя свои технические возможности, кино ста-
новится своего рода эстетическим инструментом более
активного исследования действительности, который поз-
воляет сосредоточить внимание на мельчайшей дета-
ли, оттенке или, напротив, общем плане явления,
взглянуть на него в «любом масштабе» и, в букваль-
ном смысле слова, с любой точки зрения.
Выразительность актера, не теряя своей естествен-
ности, может достигать при этом особенной остроты.
Это открывает новые возможности психологического
анализа, подчас недоступные театру. Достаточно вспом-
нить «Страсти Жанны д’Арк» Дрейера, «Судьбу челове-
ка» Бондарчука, «Парижанку» Чаплина или «Ночи Ка-
бирии» Феллини, чтобы убедиться в этом.
Острота и пристальность зрения кино, символизи-
рующие потребность предельно трезвого и широкого
взгляда на действительность, проявляются и в том, что
кино как бы продолжает расширение сферы изображе-
ния, происходящее внутри театра на всем протяжении
его истории — от мира античной мифологии до богатства
конкретного историзма и глубок™ психологичности кри-
тического реализма XIX века68.
Другим завоеванием кинематографа становится его
абсолютное овладение пространством и временем. В нашу
эпоху необычайно интенсивных общественных связей,
67 В. Пудовкин. Реализм, натурализм и система Станиславского,—
«Искусство кино», 1939, № 2.
68 Отсюда то принципиальное значение, которое сохраняет для ак-
терского искусства в кино «система» Станиславского. На это неод-
нократно указывали С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, С. Юткевич,
С. Герасимов и другие мастера нашего киноискусства. Интерес-
ные свидетельства влияния Станиславского на зарубежных дея-
телей кино приведены в анкете журнала «Искусство кино» (1963,
№2).
100
прогресса техники, развития средств передвижения чело-
век оказывается, как никогда прежде, тесно связанным
со всей окружающей действительностью; горизонт «его
мира» простирается чрезвычайно далеко. В век косми-
ческих полетов не будет риторическим преувели-
чением сказать, что он выходит за пределы земного
шара. Сегодня нет сколько-нибудь значительных в об-
щественном смысле событий — будь то факт политиче-
ской жизни, научное открытие или явление искусства,—
которые прямо или косвенно его не касались бы.
В этом смысле человек воспринимает мир как нечто еди-
ное, целое. Шекспир, например, мог решать важней-
шие общественные и философские проблемы своего вре-
мени, не выводя героев за пределы Эльсинорского зам-
ка. Сфера современного художественного сознания ока-
зывается бесконечно более широкой, особенно там, где
оно имеет дело с процессами, охватывающими весь
мир, где оно стремится проследить общественные свя-
зи, соединяющие различные страны и континенты
(вспомним фильмы «Если парни всего мира...» Кристи-
ана Жака и «Обыкновенный фашизм» М. Ромма или за-
мысел неосуществленного фильма А. Довженко, кото-
рый, рассказывая о завоевании космоса, должен был
включить в себя «хронику событий Великой Отече-
ственной войны, великих битв, разливов рек, гигант-
ских атомных взрывов и катастроф в Японии» и т. д.).
Поэтому особенно важна способность кино охватить
этот чрезвычайно широкий горизонт сознания человека,
проследить сложную детерминированность его поведе-
ния, общественный смысл его поступков и их разнооб-
разных, часто ускользающих от самого человека
последствий. Его сфера адекватна сфере сознания и
практики современного человека.
Дело не только в способности кино свободно пере-
носить действие во времени и пространстве (в кон-
це концов это возможно и в театре), — особая роль это-
го владения пространством и временем выявляется в
монтаже. Монтаж как художественный прием не есть
исключительная принадлежность кинематографа, он
свойствен и литературе, мы встречаемся с его прин-
ципами в композиции изобразительного искусства и
даже в театре. (Это убедительно показано С. Эйзен-
штейном в работах «Монтаж 1938», «Историческая живо-
101
пись и монтаж», а вслед за ним и другими исследова-
телями 69.) Но можно утверждать, что именно в кино
до конца раскрываются заключенные в нем эстетиче-
ские возможности.
Сопоставление двух различных изображений, даю-
щих нечто иное, третье, качественно отличающееся от
них обоих, не сводимое к их простой сумме, эстети-
чески обогащает искусство, открывает возможность уви-
деть более глубокую природу явлений, установить внут-
реннюю связь между вещами, которые кажутся
внешне отдаленными и совсем обособленными. Проис-
ходящий в сознании зрителя монтажный синтез опи-
рается на богатство общественного и художественного
опыта современного человека, его развитую способность
ассоциативного мышления. И в этом смысле кино пред-
ставляет собой глубоко современное искусство, знаме-
нующее определенную ступень в эволюции художествен-
ного сознания.
Таковы в самом общем виде эстетические предпо-
сылки возникновения искусства кино.
Однако они вовсе не ведут к универсальности
киноискусства. Кино может вплотную приблизиться к
литературе по свободе и гибкости исследования жизни
(подобные тенденции сегодня налицо), но перешагнуть
лежащую между ними грань оно не в состоянии по
своей эстетической природе. Оно не может так адек-
ватно выразить мысль, как это делает литература.
Об этом, в частности, свидетельствует и судьба ин-
теллектуального кино С. Эйзенштейна, пытавшегося, как
известно, найти прямой эквивалент понятию, ме-
тафоре, мысли па экране (впоследствии он сам приз-
нал принципиальную неразрешимость такой задачи70).
Не следует абсолютизировать границу, разделяющую
литературу и кино, но и недопустимо ставить между
ними знак равенства, считать, что путь современного
кино ведет просто «к особой форме бытия литературы»
(Е. Габрилович); так же как С. Эйзенштейна, Р. Клера
или Ф. Феллини «рассматривать именно как писателей»
(Арман Лану) 71.
69 См.: М. Ромм. Беседы о кино. М., 1964.
70 «Искусство кино», 1964, № 4.
71 «Иностранная литература», 1962, № 9, стр. 155.
102
В равной мере, обладая своими преимуществами пе-
ред живописью,, кино уступает ей в выразительности,
экспрессии отражения видимого мира. Это обусловлено
уже фотографической и вместе с тем динамической при-
родой кино. Его нельзя назвать (вслед за В. Нильсе-
ном, Г. Ридом и др.) движущейся живописью, так же,
как зримой литературой или ожившей фотографией. «На-
зывать кино по соседним искусствам столь же бесплод-
но, как эти искусства по кино: живопись — „непо-
движное кино11, музыка — „кино звуков'*, литература —
„кино слова", — справедливо писал еще на заре раз-
вития кинематографа Ю. Тынянов 72. Законы компози-
ции и цвета в нем иные, не совпадающие прямо с за-
конами живописи, ибо это динамическая композиция и
динамический цвет. Поиски С. Урусевского, Л. Косма-
това, А. Москвина или Г. Фигероа в области компози-
ции, света и колорита могут служить примером этой
все более отчетливо сознаваемой изобразительной само-
стоятельности кино, хотя Урусевский и Москвин, каж-
дый по-своему, опираются на традиции реалистической
живописи, а связь искусства Фигероа с латиноамери-
канской графикой очевидна.
Современный кинематограф породил особый музы-
кальный жанр — музыку кино. Эта музыка отнюдь не
всегда обладает самостоятельным значением, она — эле-
мент всей звуковой партитуры фильма и часто полу-
чает художественный смысл лишь в контрапункте с дру-
гими компонентами кинематографического действия.
Едва ли можно ощутить все эстетическое содержание
музыки С. Прокофьева ко второй серии «Ивана Гроз-
ного» (за исключением чисто «жанровых» кусков),
X. Хаяси к «Голому острову» или Г. Эйслера ко мно-
гим фильмам, воспринимая ее отдельно от киноизо-
бражения.
С другой стороны, претензии на адекватное выраже-
ние музыкального содержания средствами кино (вспом-
ним, например, «Фантазию» У. Диснея или «Зигзаг»
Ф. Стоффейкера) почти неизбежно ведут к произволу
в истолковании музыки.
Равным образом чрезвычайно широкий взгляд на
мир, всесторонний охват социальных и психологических
72 Ю. Тынянов. Об основах кино.— Сб. «Поэтика кино». М., «Кино-
теапечать», 1927, стр,. 27.
103
связей, умение пристально и детально анализировать По-
ведение человека, рассматривать его в единстве с ок-
ружающей средой — все эти качества кино вовсе не
означают поглощения им театра, у него остается
свой собственный предмет, объект73.
Если предметом кино становится человек во всем
многообразии его взаимосвязей со средой, в самом ши-
роком смысле слова — общественной и природной, то
театр сосредоточивает свое внимание прежде всего на
прямых, непосредственных отношениях людей.
Подчеркнем: речь идет не о камерности (разве
камерны «Оптимистическая трагедия» или «Третья
патетическая»?), а о системе отношений, которые вы-
ражаются преимущественно в поступках людей по от-
ношению друг к другу и концентрируются вокруг од-
ной, главной драматической ситуации.
В театре невозможны такие произведения, как «Уди-
вительное рядом» С. Образцова, «Сена встречает Па-
риж», «Дожди» И. Ивенса или «Красный шар» Ф. Ла-
морриса, где через образ явления или неодушевленного
предмета, взятого как такового, через их жизнь, отноше-
ние к ним человека раскрываются и отношения людей к
действительности и друг к другу. В нем невозможны
сцены, подобные известному эпизоду рубки леса в «Ком-
мунисте», равно как и столь действенный, составляю-
щий важный аспект содержания фон, каким высту-
73 Мы оставляем здесь в стороне социологический аспект проиле-
мы, природу массовости кино, которая связана с важнейшей
общественной тенденцией нашего времени — пробуждением са-
мознания самых широких масс, ограничиваясь зишь указанием
на то, что сама эта массовость не сводится, кал иногда считают,
только к «тиражности» кино, но находит свое выражение, ска-
зываясь и в его содержании, его способности показать грандиоз-
ные движения масс и проникать в глубины психологии простого,
рядового человека, рассматривая его на чрезвычайно широком
общественном фоне, соотнося его судьбу с движением и масшта-
бом истории.
Необходимо подчеркнуть неотделимость становления самих
эстетических принципов киноискусства от создания таких филь-
мов, как «Броненосец Потемкин», «Мать», «Земля», темой ко-
торых является революция, как и воооще от творчества Д. Вер-
това, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко, оказавшего
огромное влияние на развитие мирового кино. Более подробно
автор имел возможность коснуться этого аспекта в статье
«Кино, театр, телевидение сегодня и завтра» (см. «Вопросы кино-
искусства», вып. 7. М., 1963).
104
пает природа в «Сорок первом» или образ города в
«Похитителях велосипедов».
Когда Н. Охлопков утверждает, что театр сегодня
своими средствами может все, и говорит о возможное ги
представить на сцене стихийное бедствие или мечтает
поставить «Небо и ад» Байрона и «Старик и море»
Хемингуэя74, то это такая же полемическая крайность по
отношению к театру, как точка зрения М. Ромма и
Е. Габриловича по отношению к кино.
Прежде всего театру это не нужно: в одном случае
это лучше сделает кино, в другом — литература.
Напомним поучительную неудачу постановки в МХТ
другой байроновской пьесы — «Каина», одна из чисто
художественных причин которой была связана с самой
природой этой скорее «драмы для чтения», чем произ-
ведения, предназначенного для сцены. Что касается
повести Хемингуэя, то известная экранизация Д. Сторд-
жеса — при всем мастерстве играющего главную роль
Спенсера Трейси — как раз наглядно свидетельствует,
сколь трудно это очень специфически литературное по
своец природе произведение поддается переводу на язык
других искусств; а ведь кино располагает неизмеримо
фльшими возможностями, нежели театр.
Художественная структура действия в театре и кино
различна, подчас она исходит из противоположных по-
сылок. Это может быть продемонстрировано на при-
мере фильма Г. Чухрая «Баллада о солдате», построен-
ного по принципу «дороги» (весьма распространенному,
кстати в современном кинематографе). Сталкивая героя
на его пути с разными людьми в самых различных си-
туациях, авторы как бы многократно испытывают его,
заставляя через отношение к знакомым и незнакомым
людям, к любимой девушке, матери, природе обнару-
живать грани своего характера. Он не возникает перед
нами в какой-то главный, кульминационный драмати-
ческий момент, а постепенно вырисовывается по мере
движения к конечной цели. Мы прощаемся с героем в
тот момент, когда знаем о нем все, и едва ли что-
нибудь еще можно прибавить к его характеристике —
такова художественная логика фильма 75.
74 «Театр», 1959, № 11, стр. 73.
75 Сам принцип «дороги» может иметь различный смысл. Так, у
ф. Феллини в его известном фильме «Дорога» он приобретает фа-
105
Его драматизм раскрывается не в прямом столкно-
вении героя с тем, что ему противостоит, в этом смыс-
ле фильм, рассказывающий простую историю поездки
солдата с фронта в отпуск, полемичен по отношению к
такой конструкции — он в бесчеловечности, противоес-
тественности гибели человека, наделенного таким ду-
шевным богатством, нравственной чистотой, чувством
общественного долга, светлым, гуманистическим взгля-
дом на мир. И чем ближе мы узнаем героя, тем более
драматичной становится вся рассказанная в фильме ис-
тория.
Структура действия подчинена здесь не столько си-
стеме взаимоотношений действующих лиц, сколько дви-
жению героя навстречу стремительно меняющимся жиз-
ненным обстоятельствам. Она представляет собой не
некую замкнутую сферу, а непрерывно развертывающую-
ся прямую линию.
Сходным образом построен и фильм «Похитители
велосипедов» Де Сика. Во всей этой простой и вместе
с тем внутренне сложной и напряженной истории поис-
ков похищенного велосипеда, составляющей сюжетный
мотив фильма, герой со своим сыном и город с его
собственной жизнью, с его людьми, сочувствующими
герою, равнодушными или даже враждебными, состав-
ляют два полюса действия. Причем поиски развива-
ются как бы в двух планах — параллельно их реаль-
ному ходу постепенно возникает ответ на вопрос о
том, кто мог украсть велосипед, ответ в более глубоком,
социальном плане — его дает в конце фильма неудачная
попытка отчаявшегося героя похитить чужой велосипед.
Сами образы города составляют важнейшую часть
действия, они как бы включены в него.
Вспомним заключительные кадры фильма. Его герой,
потерявший всякую надежду отыскать украденный ве-
лосипед, который означает для него работу, надежду,
жизненную перспективу, возвращается с сынишкой до-
мой. Они смешиваются с расходящейся после футболь-
ного матча толпой людей, только что как будто бы
объединенных в одно целое этим зрелищем, но кото-
талистический оттенок — «дорога» становится синонимом «судь-
бы», определяющей путь человека: как ни случаен и ни пестр
проносящийся мимо него мир, человек не в состоянии свернуть
со своей жизненной стези, на которую он ступил однажды.
106
рые, вернувшись от него к реальности, снова безраз-
личны друг к другу. В этом финале, по-своему симво-
личном, с большой художественной силой чисто кине-
матографически зафиксирован драматизм положения че-
ловека в огромном, чуждом и равнодушном мире господ-
ства буржуазных отношений.
Исследование характера в «8!/2» — это не столько
«испытание» его единой драматической ситуацией, сколь-
ко процесс движения, «путешествия» в глубь чело-
веческой личности, одновременное изображение ее в са-
мых различных измерениях — «трех, четырех, десяти»
(по словам самого Ф. Феллини), в самых различ-
ных планах — «физической жизни, мечтаний, воспомина-
ний и т. д.», из которых складывается реальная про-
тиворечивая человеческая индивидуальность.
Путешествие другого героя Феллини — в «Сладкой
жизни» — по кругам современного буржуазного ада
олицетворяет собой чисто повествовательный принцип,
дающий возможность последовательного знакомства с
различными сферами и пластами буржуазного общества.
Фильм состоит из фабульно не связанных между собой
эпизодов, внутри которых настойчиво звучит один и тот
же мотив распада социальных связей. В центре внима-
ния оказывается общественная среда, а не судьба и
характер героя. Этот принцип гораздо ближе кинема-
тографу, чем театру, всегда стремящемуся раскрыть
свое содержание через индивидуальные судьбы героев.
Это и понятно, ибо относительно замкнутая система
отношений, единая драматическая ситуация, подчеркну-
тое внимание к действующему человеку — таковы эсте-
тические условия «театральной игры». В отличие от про-
стого показа или повествования о событиях она включает
в свою орбиту не только действующих лиц на сцене,
но и зрителей, сидящих в зале и построена на пря-
мом, явном или более скрытом их общении, диалоге.
В рамках этой игры театр до конца реализует свои эсте-
тические потенции.
Художественная эффективность театра в области
драматического действия, основанного на непосредствен-
ных взаимоотношениях действующих лиц, связана с тем
живым эстетическим контактом зрительного зала и сце-
ны, о котором шла речь выше и который составляет
его специфическую особенность. Обычно, говоря об этом
107
контакте, отмечают то художественное обаяние, которым
он окрашивает восприятие театрального искусства. Дей-
ствительно, неповторимая прелесть театра — в непосред-
ственном ощущении искусства, творимого на наших гла-
зах. Однако заключенный здесь эстетический смысл, как
мы видели, важнее и глубже. Он имеет гораздо более
существенные последствия, заставляющие взглянуть на
этот контакт и в другом аспекте.
Это еще раз подчеркивает необходимость сегодня,
сопоставляя различные виды искусства, не ограничи-
ваться своеобразием их формы, содержания, предмета,
но иметь в виду и другое «эстетическое измерение» —
особенности их эстетического функционирования, вос-
приятия и то обратное влияние, которое оно оказывает
на содержание искусства.
Речь идет о различных аспектах эстетического от-
ношения человека к действительности, формируемых
разными искусствами,— их диапазон простирается от
литературы, где процесс восприятия носит максимально
созерцательный интеллектуальный характер, до архитек-
туры, где восприятие сливается, совпадает уже с самой
практической деятельностью 76.
И подобно тому, как архитектуру невозможно до
конца эстетически воспринять, рассматривая рисунки, ма-
кет или даже «натуру», в ней необходимо трудиться,
жить — это и есть способ ее не только утилитарног^
но одновременно и эстетического функционирования,—
так и для театра обязателен этот живой контакт зри-
тельного зала и сцены. Условия его возникновения имеют
не только эстетический, н. и социологический аспект.
Это особая проблема.
76 В недооценке или игнорировании этих особенностей разных ис-
кусств сказывается определенная теоретическая инерция. За ней
как бы лежит молчаливая предпосылка одинакового, созерца-
тельного характера восприятия, представляющая собой отзвук
того противопоставления мира практики и мира эстетиче-
ского, которое было порою по-своему, в той или иной мере
характерно для эстетики прошлого и прежде всего буржу-
азной эстетики. Между тем развитие современной системы ис-
кусств с ее тонко и сложно дифференцированными видами дела-
ет такого рода «инструментальный» подход, включающий в поле
исследования их функцию (особенно на фоне все более интен-
сивного проникновения эстетического начала в самые различные
сферы жизни), методологической необходимостью.
108
Зритель не каждый момент отдает себе отчет в су-
ществовании этого контакта, он ощущает его присут-
ствие как особую, захватывающую власть театра. Ин-
тенсивность подобного общения может меняться в тече-
ние спектакля, но стоит оборваться этой нити, связываю-
щей сцену и зал, и перед нами уже не искусство театра,
а нечто вроде фильма-спектакля, одинаково лишенного
и силы воздействия театра, и преимуществ кино.
В спектакле и актер, и зритель — оба, каждый по-
своему, принимают участие. Кино — это акт искусства,
запечатленный на пленке, и зритель — сторона, никак не
влияющая на сам творческий процесс.
С этой игровой природой связана и условность те-
атра, и его художественная сила, в то время как ус-
ловность кино лежит в иной плоскости: она проявляется
в организации материала, его композиции, монтаже, точ-
ке зрения камеры и т. д. С. Образцов приводит очень
интересное высказывание Вл. И. Немировича-Данченко,
тонко поясняющее природу условности театра. Зритель,
смотрящий «На дне», говорил Немирович-Данченко, ни
на минуту не должен подумать о том, что тряпки, ко-
торые лежат на нарах, действительно грязные, иначе
ему станет физически неприятно. Точно так же он ни-
когда не должен переносить на актера и качества иг-
раемого им персонажа 77.
В кино мы относимся к этому совсем иначе, нам
не мешает вера в натуральность, подлинность предме-
тов и людей на экране, напротив, она скорее помогает.
С этой точки зрения нам все равно, кто действует на
экране — актер или реальное лицо. Не случайно кине-
матограф на протяжении своей истории успешно поль-
зуется типажом, начиная от Д. Вертова и С. Эйзен-
штейна до И. Ивенса и итальянских неореалистов, в
то время как попытки применения типажного принципа
в театре (в том числе Станиславским во «Власти тьмы»),
обычно кончались неудачей. С другой стороны, харак-
терно, что именно в кино в гораздо большей мере ока-
залась возможной система «звезд», играющих самих
себя, когда момент перевоплощения сводится к мини-
муму.
77 См. С. Образцов. Моя профессия. М., 1952, стр. 53.
109
С помощью съемочного аппарата кино приобретает
огромную широту и остроту взгляда на мир, но ценой
утраты «контакта со зрителем». Тем самым оно «проиг-
рывает» и в художественном освоении определенной си-
стемы человеческих отношений. Поэтому нельзя согла-
ситься с точкой зрения, что «кино может все, что мо-
жет театр,— только лучше»78. Вернее было бы сказать,
что то, что может театр, он в известном смысле делает
лучше кино, но кино может бесконечно больше.
Таким образом, присущий театру эстетический кон-
такт выступает не просто как художественная краска,
но и как фактор, влияющий на содержание театра, как
бы косвенно отграничивающий его от области содержа-
ния кино.
В этой связи уместно упомянуть о концепции, по
которой в противоположность кино, все более стремя-
щемуся к прямому изображению «свободного потока жиз-
ни», реальности «как она есть» (А. Базен, 3. Кракауер),
путь развития современного театра ведет в мир под-
черкнутой условности, обнажения игры и т. п. Более
подробно применительно к театру мы еще будем иметь
возможность ее затронуть, в частности говоря о концеп-
ции иносказательного театра. В данном случае нам важ-
но коснуться подобного взгляда в связи с принципиаль-
ным эстетическим различием театра и кино.
В начале XX века завоеванием Художественного те-
атра было создание особой драматической атмосферы,
которая, обнимая собой сцеку и зрительный зал, ста-
новилась чрезвычайно чуткой и тонкой формой общения
между ними (обнаруживая всю условность термина «чет-
вертая стена», внешне как бы отделявшей зрителя от
актера, в то же время внутренне связывавшей их друг
с другом). Сегодня театр зачастую стремится к более
непосредственному, прямому и активному воздействию
на зрителя. Он очень свободно обращается с формаль-
ным принципом «четвертой стены», разрушая ее приема-
ми обращения к зрителю, лирическими монологами ге-
роев, совмещением разных мест действия, условностью
оформления и т. д.
Пройти мимо подобных явлений значило бы просто
не заметить некоторых реальных тенденций современ-
78 См. пит. статью М. Ромма «Поглядим на дорогу».
ПО
ного театра. В них есть своя логика. Она сказывается
и в стремлении подчеркнуть свою самостоятельность по
отношению к кино и телевидению. Но в первую очередь
они связаны с самим содержанием и общественной
ролью искусства79. Очень наглядно это у Брехта: цен-
тральный для его эстетики принцип очуждения, направ-
ленный на создание критического, как его называет
Брехт, отношения к изображаемому и призванный акти-
визировать общественную, гражданскую позицию зрите-
ля, его способность к свободному, самостоятельному об-
суждению жизненных вопросов, вовсе не безотносителен
к яркому политическому пафосу, пронизывающему все
искусство этого художника-борца.
Задача заставить зрителя по-новому, под иным уг-
лом зрения взглянуть на хорошо знакомые, порой самые
привычные вещи, увидеть их на фоне острых социаль-
ных противоречий, очень четко выразить свое отноше-
ние к изображаемому, «пронизать воплощаемое сформу-
лированным», по словам Брехта,— все это становится
чрезвычайно существенным для его искусства, эстетиче-
ский смысл которого может быть понят лишь истори-
чески. Оно было призвано утверждать простые истины
в условиях буржуазного общества, где самые элемен-
тарные социальные связи для неискушенного наблюда-
теля нередко предстают в превратном и искаженном
виде; хотя затем искусство Брехта перешагнуло за гра-
ницы этой своей просветительской функции — такова
была его эстетическая миссия, которая наложила свой
отпечаток на весь его художественный облик. В этом —
источник близости его эстетики к эстетике просветите-
лей и известных противоречий Б. Брехта.
В своем споре с «аристотелевским», как он его на-
зывает, театром (а косвенно и со Станиславским) Брехт
исходит из того, что актер, полностью перевоплощаясь
в изображаемое лицо и заставляя зрителя сопереживать,
создает своего рода «гипнотическое поле», мешающее
79 В этой же плоскости лежал исходный пункт поисков новых форм
и в реалистическом театре 20-х годов, правда, порою противоре-
чивых и непоследовательных. Вс. Мейерхольд прямо связывал
проблему новой условности в театре с его политическими зада-
чами. «Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать
подмостки трибуной — в этом суть моей театральной рабо-
ты»,— говорил В. Маяковский (Соч., т. 13, стр. 200).
111
зрителю критически отнестись к изображаемому и пара-
лизующее его волю.
Нетрудно заметить, что в своих теоретических пред-
посылках Брехт остается в рамках «парадокса» Дидро
В самом противопоставлении эпического театра ари<
стотелевскому театру — театру переживания у Б. Брехта
есть несомненно доля полемического преувеличения (не-
которые последние высказывания дают основание счи-
тать, что он и сам начинал понимать это).
Перевоплощаясь «по Станиславскому», актер вовсе
не отождествляет себя с персонажем, которого он изоб-
ражает 80. Точно так же зритель, как правило, не при-
нимает происходящее на сцене за действительность и
не утрачивает своего отношения к нему. Это не тре-
бует обязательного внешнего подчеркивания специаль-
ными приемами очуждения; «внутреннее» очуждение, как
уже отмечалось, присуще игре актера как особого рода
эстетической деятельности.
Станиславский вовсе не стремился и не призывал
ни к иллюзорности, ни к абсолютному растворению ак-
тера в роли, и поэтому критический пафос Брехта ока-
зывается направленным в первую очередь против дог-
матического толкования Станиславского и тех натура-
листических тенденций, которые с этим связаны.
Беда еще и в том, что само понятие «система Ста-
ниславского» лишено твердо очерченных границ — в
него у нас подчас вкладывается самый различный
Вообще такого рода позиция, упрощающая взгляды Станислав-
ского и Мейерхольда, заставляет вспомнить Ф. Комиссаржевского,
который, утверждая, что Станиславский предлагает па сцене
просто «жить», а Мейерхольд лишь «играть», считал, что в ре-
зультате театра нет ни в МХТ, ни у Мейерхольда («Театральные
прелюдии». М., 1919). Приблизительна то же когда-то утверждал
и А. Таиров, писавший, что «сценический образ может быть соз-
дан^ только новым синтетическим театром, т. к. натуралистиче-
ский театр (Станиславского.— А. К.) давал лишь неоформленную
физиологическую эмоцию, а условный — ненасыщенную внешнюю
форму» («Записки режиссера». М., 1921, стр. 75).
Напомним, что сам Станиславский неоднократно предостере-
гал против подобной трактовки его «системы». Цитируя Т. Саль-
вини, он писал: «Актер живет, он плачет и смеется на сцене, но,
плача и смеясь, он наблюдает свой смех и свои слезы. И в этой
двойственной жизни, в этом равновесии между жизнью и игрой
состоит искусство» («Работа актера над собой». М., 1951,
стр. 348).
112
смысл, в одном случае канонизируются его конкретные
режиссерские и педагогические приемы, в другом объяв-
ляются безнадежно устаревшими те общие законы те-
атрального искусства, которые выразились в его «си-
стеме».
Между тем положения о природе искусства актера,
его сценическом самочувствии, зафиксированные в «си-
стеме»,— по крайней мере, в теоретическом плане,— за-
ключают в себе достаточно широкий эстетический смысл,
может быть, даже более широкий, чем тот, который со-
держала творческая практика самого Станиславского.
Теоретические принципы «системы», касающиеся
взаимосвязи «я» и «роли», того условного «если бы», ко-
торое определяет отношение актера к образу, выражают
глубокий диалектический взгляд на единство субъектив-
ного и объективного в художественном творчестве и в
известном смысле,— как это было в свое время с «па-
радоксом» актерского искусства Дидро, — выходят за
рамки собственно театрального искусства. Они преодо-
левают односторонность в постановке проблемы — или
абсолютное растворение в образе, или отношение к
нему со стороны, характерную, например, для просвети-
телей и вполне объяснимую задачами и характером их
искусства. В этом смысле «система» Станиславского как
раз представляет собой способ диалектического реше-
ния «парадокса» Дидро.
А. Попов совершенно справедливо пишет о проис-
ходящем при перевоплощении слиянии актера и обра-
за как примере диалектического единства и взаимопро-
никновения 81.
Сама «система» в ее широком понимании вовсе не
исключает ни ощущения игры и зрителем, и самим ак-
тером, ни условности оформления и яркой театрально-
сти спектакля. (Не будем забывать, что Станиславский
восторженно приветствовал «Принцессу Турандот», а
Брехт, посмотрев «Горячее сердце», назвал такого «мха-
товского» актера, как А. Грибов, идеальным актером
эпического театра).
Но дело не только в этом. Опираясь на интел-
лектуальное начало, Брехт как бы стремится привет
81 «Режиссерское искусство сегодня». М., 1963, стр. 57.
113
сти своего зрителя к осознанию жизни, ее противоре-
чий, места п роли человека в их сложной структуре
через художественное исследование действительности
строго объективным, иногда даже сомневающимся разу-
мом (сомневающимся в том положительном, конструк-
тивном смысле, в котором Маркс назвал однажды сом-
нение своим девизом). Закономерность такого подчерк-
нуто аналитического подхода, представляющего собой
своеобразную попытку введения «научного» момента в
художественный метод, несомненна. Но подобная «кри-
тическая» позиция, конечно, вовсе не исключает и дру-
гого, более непосредственного и безусловного, в эстети-
ческом смысле, восприятия действительности, сформиро-
ванного иным общественно-историческим опытом и вы-
ражающим иную меру «доверия» самой действительно-
сти.
Таким образом, противопоставление Станиславский —
Брехт имеет свои границы, оно вовсе не является про-
сто синонимом противопоставления старой и новой сти-
листики театра. Тенденция к гораздо более активному
влиянию на интеллект, чувства, волю зрителя в сегод-
няшнем театре бесспорна, но вопрос о ее формах ре-
шается, как мы увидим ниже, более дифференцирован-
но и сложно.
А главное — рождение этих новых форм вовсе не
означает перенесения центра тяжести с объекта на кон-
струкцию спект; тля, с его событий на логику художе-
ственного мышления 82. Ни успехи науки, ни возрастаю-
щий поток информации, обрушивающийся на человека,
не могут служить здесь сколько-нибудь убедительными
аргументами. Ибо как ни велика роль науки, искусство
не несет в себе тенденции превратиться в «подгото,
вительный класс» научного мышления (как это кажется
В. Турбину), и как ни важен отбор самого существен-
ного и главного в потоке информации (А. Гастев),—
есть предел абстрагирования, за которым художествен-
ный образ превращается уже в условный знак, иерог-
лиф. Новые формы реалистического театра диктуются
самим его содержанием, активностью его исследова-
82 См., наир., В. Турбин. Товарищ время >и товарищ искусство. М.,
1961, стр. 101; А. Гастев. Время и стиль.— «Театр», 1960, № 6,
стр. 17.
114
тельского начала, усилением его Гражданского пафоса,
и именно в этой связи и необходимо рассматривать их
конкретный эстетический смысл.
В данном случае с методологической точки зрения
важно подчеркнуть, что, хотя конкретные формы теат-
ральности могут быть различны, она представляет собой
эстетическое качество, лежащее в самой природе теат-
рального искусства, которое никакой «эффект присут-
ствия» циркорамы или стереокино, каково бы ни было
их техническое совершенство, никогда не сможет заме-
нить 83. Она источник постоянной привлекательности
и необходимости театра — искусства, игровая природа
которого служит не самоцелью или способом бегства в
мир иллюзий, а средством познания жизни и самооут-
верждения человека.
83 Термин весьма условный и способный в известном смысле ввести
в заблуждение. Сила воздействия кино определяется вовсе не
тем, что зритель принимает сам акт искусства за действитель-
ность или фильм за снятую на пленку жизнь, а тем, что он верит
в глубокую правду изображаемого, в то, что она соответствует
правде жизни, что так могло быть или даже было в действи-
тельности. А это, разумеется, разные вещи. Напомним, что в от-
личие от религии, «искусство не требует признания его произ-
ведений за действительность» (В. И. Ленин. Полное собрание со-
чинений, т. 29, стр. 53). Об этом приходится напоминать, по-
скольку сегодня в социологии кино существует достаточно рас-
пространенная тенденция, связывающая восприятие кино пре-
имущественно с определенным типом аффективного соучастия —
«отождествлением», «идентификацией» (Э. Морен).
Однако в свете сказанного выше очевидно, что такой подход
не более чем генерализация определенной практики кино преж-
де всего, как формы «массовой культуры» и соответствующего
социально-психологического типа ее «потребителя».
С другой стороны, совсем не удивительно, что при такой точ-
ке зрения главная эстетическая проблема кино сводится к тех-
нической задаче создания наиболее полной иллюзии жизни (см.
Е. Голдовский. От немого кино к панорамному. М., 1961), к ко-
торой кино постоянно стремится и, достигая которой, оно, яко-
бы, поднимается на высшую ступеньку иерархии искусств. Здесь
уже вырисовывается образ некоего «сверхсинтетического», сов-
падающего с самой жизнью искусства— «ощущалки» из сатири-
ческого романа О. Хаксли «Прекрасный новый мир».
Отметим, что известную дань подобному мотиву заплатил и
С. Эйзенштейн (в работе «О стереокино», где в полемике с
Л. Шавансом он абсолютизировал идею «совпадения чувствова-
ний» зрителя и актера и «стереокино» как синтетического зрели-
ща будущего).
115
ТЕАТР И ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Другой аспект эстетической функции театра особен-
но отчетливо выступает при его сопоставлении с теле-
видением. Телевидение рождается сначала как новое
средство информации. В этом есть своя историческая
закономерность: в нашу эпоху с ее интенсивной обще-
ственной жизнью^ убыстрившимся темпом жизни инфор-
мация становится исключительно важной и актуальной
проблемой времени. Действительность необычайно ус-
ложняется, и для того, чтобы относиться к ней созна-
тельно, человеку необходимо знать о ней чрезвычайно
много. Не случайно различные достижения техники XX
века используются в области информации — радио, те-
левидение, кибернетические машины. Соединяя в себе
преимущества радио и кино, телевидение открывает со-
вершенно новые возможности.
Однако, выступая как транслятор театра и кино, те-
левидение очень скоро обнаруживает, насколько ослаб-
ляется воздействие других искусств при их пассивной пе-
редаче, и от попыток приспособить «для себя» теат-
ральные спектакли приходит к осознанию своих собствен-
ных эстетических принципов, к идее телевизионной
постановки, телефильма.
Пока телевидение как искусство — еще на пороге
своей самостоятельности, но, минуя особенности его ху-
дожественной функции, мы не поймем его эстетичес-
кого своеобразия и упростим его взаимоотношения с
другими зрелищными искусствами. В этом случае мо-
жет показаться вполне справедливым утверждение
Р. Клера, что на телевидении «нет ничего такого, чего
нельзя было бы показать на киноэкране» 84.
Однако на деле проблема, как мы видели, оказы-
вается куда более сложной. Один из важных эстети-.
ческих принципов телевидении вытекает уже из самого
факта единства во времени и разъединенности в про-
странстве передаваемого события и его восприятия. Пси-
хологическое соучастие в событиях, ощущение того, что
они происходят сейчас, в данный момент, на наших гла-
зах, ставят актера и зрителя телевидения в совершен-
но особые отношения. В этом смысле телевидение отли-
84 Р. Клер. Размышления о киноискусстве. М., 1958, стр. 183.
116
чается и от кино, и от театра. Эстетическая функция
зрелища приобретает, таким образом, новый оттенок.
Р. Клер неправ, считая, что в этом отношении между
кино и телевидением не существует никакого различия.
В. Маяковский рассказывал В. Пудовкину, какое особое
чувство он испытывал, читая стихи по радио,— это было
похоже на выступление перед реальной многотысячной
толпой. Об этом «живом» ощущении слушателя и зри-
теля свидетельствуют почти все актеры театра и кино,
выступающие по радио и телевидению 85.
С другой стороны, известна разница в восприятии
какого-либо события непосредственно и некоторое вре-
мя спустя, запечатленным на фотографии или киноплен-
ке. Она напоминает разницу нашего отношения к под-
линной вещи и к ее копии, дубликату. Позиция оче-
видца и человека, воспринимающего факт «вторично >,
«отраженно», всегда содержит в себе различные нюансы
эстетического отношения. 'Здесь есть известная аналогия
с различием прямого и опосредованного отражения жиз-
ни в искусстве, в данном случае оно взято как бы в
аспекте времени.
, Телевидение обладает известным преимуществом не-
посредственности воздействия перед кино, уступая в то
же время в ней театру. Это обстоятельство связано и с
характером самого изображения. Телевидение не допу-
скает откровенной условности «игры», вполне возмож-
ной в театре 86; оно не чуждо моментам импровизации,
но очень чутко и беспощадно ко всякого рода органи-
зованной «естественности», заранее отрепетированным
«случайностям», которые выглядят всегда нестерпимо
фальшиво и неуместно. Основной принцип телевидения —
«безусловность» поведения перед экраном — требует от
актера, как и вообще от человека, выступающего на те-
левидении, предельной достоверности и органичности.
В нем сказывается документальная природа телевиде-
ния, гораздо более близкого в этом отношении кино,
чем театру с его игровым началом.
85 См. статью: Л. Свердлин. Актер в кино.— «Искусство кино»,
1958, № 10, стр. 82.
86 Не случайно трудно поддается воплощению на телевидении
драматургия Б. Брехта, который сам любил повторять: «Что на-
писано для театра — не годится для телевидения» («Искусство
рождается в борьбе».— «Советская культура», 19 января 1965 г.).
117
Если в кино невозможны сколько-нибудь условная об-
становка и декорации, то в телевизионных спектаклях
они выглядят, как и в театре, вполне естественно и ор-
ганично (вспомним «Сизиф и смерть» в постановке
В. Плучека). Иная степень, мера реальности действую-
щего на телеэкране человека как бы «компенсирует» сво-
боду в изображении окружающей его среды. Человек —
вот тот непосредственный объект, на котором прежде
всего сосредоточено внимание телевидения; его направ-
ленность уже острее направленности кино и даже теат-
ра. Конечно, вся событийная сторона действительности —
в поле зрения телевидения, но когда перед нами на эк-
ране появляется человек, то все, что вокруг него, ин-
тересует нас уже бесконечно меньше, отступая на вто-
рой план.
Другим фактором, который оказывает влияние на ху-
дожественные особенности телевидения и с которым оно
вынуждено считаться, является размер его экрана87.
Как и в изобразительном искусстве, где масштаб изоб-
ражения сам по себе всегда несет определенный идей-
ный и эмоциональный акцент, на телевидении абсолют-
ный размер экрана имеет свой эстетический смысл.
Кроме того, телевидение, как и кино, легко осущест-
вляет смену плана, изменение ракурса и монтаж. Од-
нако их законы отнюдь не адекватны. Диапазон планов
на телевидении нет ''бежно уже, поскольку на небольшом
экране детали утрачивают свою художественную вырази-
тельность; именно поэтому телевидение — искусство, тя-
готеющее преимущественно к средним и крупным пла-
нам 88.
87 Поэтому так заметно и неизбежно проигрывают на его экране
многие фильмы, рассчитанные на большой экран, такие, как «Бро-
неносец Потемкин», «Оптимистическая трагедия», «Поэма о
море» и др.
88 Один из исследователей зрелищных искусств, Н. Маршалл, в
статье «Существуют ли пьесы, предназначенные для телевиде-
ния?», опубликованной в специальном выпуске ежеквартальни-
ка ЮНЕСКО («World theatre», 1960, vol. IX, N 4), отвечая на
этот вопрос утвердительно (как и другие участники форума,
организованного ЮНЕСКО), считает, что определенного рода
пьесы, которые требуют одновременного показа различных групп
действующих лиц, мало пригодны для телевидения. Причем речь
идет не только о внешней масштабности, но и о пьесах, где для
этого существует внутренняя, эстетическая потребность, напри-
мер о некоторых пьесах Чехова и Ибсена.
118
Что же касается тенденции увеличения размеров те-
леэкрана, то, по-видимому, есть предел, обусловленный
не столько техническими, сколько эстетическими причи-
нами. Поэтому-то телевидение в будущем отнюдь не гро-
зит заменить собой кино.
Существует определенное внутреннее соответствие
между масштабом зрелища и условиями его восприятия,
масштабом его аудитории, нарушение которого всегда
связано с изменением и ослаблением художественного
эффекта искусства. И подобно тому, как обычная ком-
ната никогда не станет кинозалом, так и телеэкран не
превратится в киноэкран.
Одной из самых важных особенностей телевидения
является его обращение к массовой аудитории и в то
же время интимный, камерный характер его восприятия,
точнее индивидуальный, подобный реальному общению
с человеком.
Человек с телевизионного экрана всегда обращается
ко всем и к каждому одновременно — именно к нам.
Поэтому по законам человеческого общения он должен
быть конкретен как личность, как индивидуальность. Вот
почему на телевидении еще более, чем на радио, так
неприятны — даже там, где речь идет об информации,—
ораторские интонации или нейтральный, безличный тон 89.
Все это опять-таки влияет на сам характер содержания
передач по телевидению.
Едва ли можно успешно осуществить на телевидении
постановку античной трагедии с ее взлетом страстей,
высоким пафосом, требующим непременного эмоцио-
нального резонанса зрительного зала и прямо рассчи-
танную на него (вспомним само устройство античного
театра). В известной степени это можно сказать и о
постановках пьес В. Маяковского или Вс. Вишневского
на телевидении.
89 Ральф Фокс справедливо замечает, что обескровленный, безупреч-
ный идеал языка Би-Би-Си, считающийся эталоном в буржуаз-
ном радиовещании, создавая иллюзию «абсолютной объективно-
сти», некоего «безличного голоса», служит в конечном счете опре-
деленной направленности и даже искажению правды («Роман и
народ». М., 1966, стр. 208). Равным образом возникшая в 30-х го-
дах теория «дегуманизации» радио в фашистской Германии ис-
пользовалась для утверждения некоего отвлеченного «голоса го-
сударства».
119
Это далеко не формальный момент. С книгой или
перед картиной хочется остаться наедине — они требуют
индивидуального восприятия. Но получить эстетическое
удовлетворение, сидя в одиночестве в кинозале, чрезвы-
чайно трудно, а в зрительном зале театра просто не-
возможно. Несомненно, что «общественный» характер
восприятия таких искусств, как театр (и в значитель-
ной, хотя и меньшей мере кино), формирует и опреде-
ленные общественные качества человека. Напомним, что
еще Гоголь видел особенное значение театра как раз
в том, что в нем «толпа, ни в чем не схожая между
собой, разбирая ее по единицам, может вдруг потря-
стись одним потрясением, зарыдать одними слезами и
засмеяться всеобщим смехом»90. Об этой особенности
театра размышляли и Пушкин, и Дидро, и Роллан. Это
ощущение зрительного зала как единого целого, как
«микрокосмоса» общества и себя «вместе с ним», его
неотъемлемой частью имеет совершенно определенный
общественный смысл. Он не всегда однозначен.
Было бы, разумеется рецидивом вульгарно-социо-
логического толка в духе попыток 20-х годов (напри-
мер А. Гвоздева) считать критерием общественной цен-
ности театра количество зрителей и устройство зри-
тельного зала в нем. Однако в принципе несомненно,
что демократизм античного театра или театра Шекспи-
ра и «духовный аристократизм», скажем, «театра ма-
леньких кабинетов \ Людовика XIV» и «Камершпиля»
М. Рейнгардта не безотносительны к различиям их зри-
телей и характеру их залов91.
Не случайно борьба против демократических тенден-
ций театра очень часто принимает формы отрицания его
общественного начала, что можно проследить, начиная
от Н. Евреинова, сужавшего его значение до логическо-
го абсурда — «театра для себя», и кончая современным
американским театроведом Д. Натаном, который видит
функцию театра в превращении зрителей в «толпу оди-
ночек».
90 Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. 8, М., 1952, стр. 186.
91 Таков источник и современных стремлений выйти за пределы ар-
хитектурных форм театра, доставшихся нам в наследство от
XIX века, мы видим в проекта^ В. Мейерхольда, Н. Охлопкова
И Н. Акимова и др.
120
Этот мотив возник еще до расцвета искусства кино,
когда предрекавшаяся сторонниками «аристократизации
культуры» смерть театра, который «переживает не кри-
зис, а конец», и неизбежность возвращения к «вечной
аристократке книге» связывались с демократизмом теат-
ра и апелляцией к толпе, далекой якобы от понимания
высокого искусства и способной разве лишь затормо-
зить его прогресс92. Он звучит и сегодня у Р. Пет-
ша, противопоставляющего литературу и театр и считаю-
щего «театральную игру» формой удовлетворения эсте-
тических потребностей неразвитой массы 93.
Напомним очень интересное и на первый взгляд
даже неожиданное замечание В. И. Ленина (высказан-
ное в беседе с М. И. Калининым) о том, что в бу-
дущем театр призван заменить собой религию, замеча-
ние, которое приобретает особый смысл рядом с из-
вестной оценкой В. И. Лениным кино как «важнейшего
из искусств»94. Его, разумеется не следует понимать
буквально. В нем нет ничего общего с окрашенным в
религиозно-мистические тона толкованием театра, свой-
ственным таким теоретикам декаданса, как В. Иванов с
его культом соборного «действа» или Г. Чулков, счи-
тавший, что, начавшись с обряда, театр должен в кон-
це концов вернуться к своей «литургической», «диони-
сийской» функции.
В замечании В. И. Ленина акцент стоит не на слове
«религия», а на слове «заменить».
Смысл ленинских слов также далек от пролет-
культовских идей «коллективного действия» (П. Коган,
В. Фриче), где зритель и актер «сольются вместе», как
и от современной «мифологической концепции» Ж. Кок-
то, который, жалуясь на трудности, переживаемые теат-
ром и кино в современном обществе, где нет, по его
словам, больше «публики», а существуют только
«судьи», «толпа индивидуалистов», непригодная для
колллективного восприятия искусства, исходит из того,
что «опиум смягчил бы нравы и принес бы больше
92 См. Ю. Айхенвальд. Отрицание театра.— Сб. «В спорах о теат-
ре». М., 1913.
93 Р. Petsch. Sprichdichtung des Volkes. Hall, 1938.
94 См.: M. И. Калинин. О Владимире Ильиче Ленине. М., 1934,
стр. 49.
121
добра, чем лихорадочная деятельность, сеющая только
зло»95.
Смысл ленинского замечания в ином — в признании
огромной общественной силы театра, его объединяюще-
го начала, основанного на глубокой общности стремле-
ний и идеалов народных масс, которым призван служить
театр, на присущем подлинно свободному человеку ощу-
щении себя личностью и в то же время органической
частью общественного целого.
Когда известный американский критик Э. Бентли свя-
зывает это особое объединяющее начало театра с по-
давлением индивидуальности и религиозным или тота-
литаристским, как он выражается, искусством, то за
этим стоит в конце концов все тот же буржуазный ин-
дивидуализм с его противопоставлением личности обще-
ству 96.
Для того чтобы увидеть эволюцию буржуазного соз-
нания, поучительно напомнить слова Дидро о природе
воздействия театра, писавшего на заре развития буржу-
азных отношений о том, что человек, чувства которого
не усиливаются от того, что множество других людей
их разделяют, представляется ему странным, ущербным,
неполноценным членом общества.
Не больше истины и в том толковании этого объ-
единяющего начала, которое дает буржуазная социоло-
гия там, где она объявляет всякого рода «народные сбо-
рища» проявлением бессознательного «стадного инстинк-
та» (Макдаугалл), «массовой историей» (Боннер) и т. д.
Социальный смысл подобного рода теорий, направлен-
ных против общественной активности человека и ут-
верждающих индивидуалистическую детерминирован-
ность его поведения, очевиден. Они представляют собой
в конечном счете реакцию буржуазного сознания на зна-
мение нашего времени — рост демократического движе-
ния, пробуждение самосознания и активности широких
масс. «Когда народные массы,—замечает В. И. Ленин,—
сами, со всей своей девственной примитивностью, про-
стой, грубоватой решительностью, начинают творить
историю, воплощать в жизнь прямо и немедленно „прин-
ципы и теории“,— тогда буржуа чувствует страх
и вопит, что „разум отступает на задний плап“»97.
95 «Entretiens autour du cinematographe». Paris, 1961.
96 E. Bentley. In search of theatre», Y., 1965.
97 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 327.
122
В эстетическом плане реакция зала для зрителя как
бы включается в содержание спектакля; она несет в себе
момент общественной оценки. Но это отнюдь не всегда
есть форма нивелирования, подавления его индивиду-
ального восприятия. Сама эта реакция может быть объ-
ектом критического отношения. Подобное нивелирование
присуще практике «массового искусства», но этот социо-
логический феномен с эстетической точки зрения есть
исключение, а не правило.
Само восприятие театра, по-своему символизирующее
потребность человеческого общения, вовсе не предпола-
гает полного слияния зрителя с «залом» [также как и его
отождествления с героем, и актера с действующим ли-
цом), хотя формы конкретной диалектики этого восприя-
тия, включающие и стремление Брехта «расколоть зри-
тельный зал» и объединяющую атмосферу чеховских
спектаклей, достаточно ложны и противоречивы и долж-
ны были бы составить предмет специального исследова-
ния.
Означает ли все сказанное, что в противоположность
театру и кино телевидению суждено быть ограниченным
рамками камерного или даже интимного содержания?
Некоторые буржуазные теоретики склонны делать
подобные выводы. Современный исследователь телеви-
дения Л. Богарт в своей книге «Век телевидения» на-
зывает его индивидуалистическим по своей природе и
поэтому «типичноамериканским» искусством98.
Как в театре, где определенная система человече-
ских отношений способна выражать весьма различное
содержание, так и на телевидении за камерностью (тер-
мин очень приблизительный) его формы лежит достаточ-
но широкий круг жизненного материала. Но вместе с
тем диапазон его и не безграничен уже потому, что
сама форма не безразлична к содержанию, — нельзя за-
быть их диалектическую зависимость и «переход друг
в друга».
Выраженные Р. Клером и Л. Богартом точки зре-
ния на возможности и эстетические границы телевиде-
ния по-своему типичны. Это — крайние взгляды, в ко-
торых получают всеобщее, универсальное значение лишь
определенные стороны сегодняшнего опыта телевидения,
w L. Bogart. The age at television. N. Y., 1956.
123
переживающего период поисков собственного содержа-
ния; поэтому эти взгляды оказываются односторонними.
Утверждение Р. Клера, что на телевидении может
быть показано все то, что в кино, и наоборот,— ха-
рактерный пример ошибочного подхода к соотношению
театра, кино и телевидения — сопоставление их «один
на один». Еще Лессинг заметил, что назначение искус-
ства определяется не тем, что ему доступно, но тем,
чего оно может достигнуть лучше других. Специфика
телевидения, театра и кино рельефнее всего обнаружи-
вается в рамках системы искусств. Она оказывается свя-
занной не столько с их формальными возможностями,
сколько с избирательностью, преимущественным тяготе-
нием к определенным аспектам жизни.
Аспекты эти не разделены абсолютными границами,
они где-то перекрывают друг друга, но они не тожде-
ственны, им присуща разная направленность. Если мож-
но сказать, что в древе зрелищных искусств театр пред-
ставляет собой наиболее драматическую его ветвь, а
кино — эпическую, то телевидение, несомненно, самую
лирическую. Оно возникает как бы на пересечении двух
заметных — ина первый взгляд даже полярных тенден-
ций внутри искусства, с проявлением которых мы встре-
чаемся и в литературе, и в театре, и в кино. Одна из
них — это тенденция документальности, стремления
представить себе и эстетически осмыслить явления жиз-
ни, а иногда и просто ее реальные факты во всей их
сложности, непосредственной наглядности, конкретности,
вне которой они подчас не могут быть поняты до кон-
ца. Телевидение делает следующий после кино шаг, как
бы еще на одну ступень приближая нас к этой жизнен-
ной достоверности.
Другая тенденция — это усиление лирического нача-
ла; она выражает пристальное внимание к человеческой
индивидуальности и настойчивую потребность человека
осознать свое собственное место в мире, свое личное
отношение к происходящим в нем процессам, свою от-
ветственность за их развитие.
В. Саппак писал о том, что это новое искусство не-
сет в себе чрезвычайно высокий нравственный потенци-
ал 99. И хотя ограничивать круг внимания телевидения
99 См.: В. Саппак, Телевидение и мы. М., 1962,
124
этическим в человеке было бы неверно, его особая
нравственная требовательность все же несомненна. Вни-
мание к личности выступающего на экране с точки зре-
ния общественно значимого в ней — таков специфиче-
ский ракурс телевидения.
В диалектике этих тенденций телевидения и заклю-
чается связь его эстетики с современностью и худо-
жественная самостоятельность этой новой формы куль-
туры.
Таким образом, говоря о методологических принци-
пах подхода к кино, театру и телевидению мы должны
признать, что при всей их внутренней эстетической бли-
зости и переплетении судеб считать их просто разными
способами выражения одного и того же художествен-
ного содержания или исторически сменяющими друг
друга формами зрелищного искусства — значило бы в
первую очередь игнорировать особенности их эстетиче-
ских функций.
Вместе с тем речь идет прежде всего о методологи-
ческой «модели», которая необходима как предпосылка
исследования, хотя в реальном художественном процессе
она почти никогда не выступает в чистом виде. Но это
уже не только эстетическая, но и социологическая про-
блема.
Неравномерность этого процесса, которую констати-
ровал, как известно, еще Гегель, пытавшийся объяснить
это в соответствии со своей системой внутренней логи-
кой развития «абсолютного духа», в действительности
явление социальное. Оно — детище классового общест-
ва, где стремление к художественной универсальности
покупается ценой глубины раскрытия тех или иных об-
ластей жизни и одностороннего развития эстетических
способностей личности и самого искусства, отдельные
виды которого порой выполняют не свойственные им
функции, вступающие в противоречие с их собственной
природой. Примерами могут служить самые различ-
ные явления: от кино и телевидения, выступающих в
роли «популярных искусств»; тенденций, ведущих к ги-
пертрофированной изобразительности или интеллекту-
альности в литературе и театре вплоть до таких край-
них случаев, как попытки живописи опереться на прин-
ципы музыки (в абстракционизме), музыки — обрести
конкретность («конкретная музыка») и т. д.
125
Размышляя об искусстве наших дней, Б. Брехт спра-
ведливо заметил, что если говорить о нашем современ-
нике, то потребности его души шире и разносторонней,
чем какого-либо человека в истории. Та же мысль ле-
жит в основе его замечания о художественной широте
и многообразии как важнейшем признаке современного
реализма 10°.
Такого рода общая тенденция проявляется как в
сфере творческих манер, художественных индивидуаль-
ностей, так и в рамках различных жанров и видов
искусства; сегодня человек художественно осмысливает
действительность, воспринимая целый комплекс произ-
ведений искусства. Тенденция эта связана со все более
тонким и глубоким эстетическим исследованием раз-
личных пластов и областей жизни и с многогранным
развитием личности, утверждением богатства ее инди-
видуальности.
Вместе с тем в современной художественной куль-
туре действует и тенденция «синтетичности», отвечаю-
щая потребности подчеркнуть цельность этой личности
и единство самой действительности. Но она ведет не
только в сторону универсализации искусства (как пред-
ставляется сторонникам «киноцентризма»), за которой
вырисовываются признаки некоего «сверхискусства»,
приближающегося к мертвому подобию жизни и удов-
летворяющегося им, неизбежно лишенного творческого
начала и художественней индивидуальности человека.
В действительности тенденция эта ведет в сторону син-
теза, в фокусе которого стоит гармонически разви-
тая личность, свободно обращающаяся ко всему много-
образию искусства и богатству заключенного в нем
общественного опыта.
Такова диалектика этого процесса, который опреде-
ляется внутренней логикой развития художественной
культуры. Однако в условиях господства буржуазных от-
ношений он не может протекать нормально. Ибо это —
проблема демократизации искусства, подлинной народ-
ности его содержания, доступности всего его богатст-
ва народным массам и развития их эстетических спо-
собностей.
Но это уже особая тема. Размышляя о ее социаль-
ном аспекте, Ромен Роллан в своей книге о народ- 100
100 См.: Б. Брехт. О театре. М., 1960, стр. 54.
126
йом театре писал: «Вы хотите создать народное искус-
ство? Начните с создания народа — народа, который
был бы достаточно свободен от забот, чтобы наслаж-
даться искусством, народа, который имел бы досуг, ко-
торый не был бы раздавлен нуждой, непосильным тру-
дом, народа, не одурманенного всяческими суеверия-
ми, фанатизмом справа и слева, народа — властелина
своей судьбы, народа — победителя в борьбе, разыграв-
шейся в настоящее время» 101.
Поэтому будущее общество, до конца решая пробле-
му приближения «народа к искусству» и «искусства к
народу» (Ленин), поднимая художественную культуру
на новую ступень, делает ее ценности достоянием всех
членов общества и возвратит каждому искусству «само-
го себя», открывая перед ним неограниченные перспек-
тивы эстетического развития.
В этой художественной культуре театру предстоит
занять место ничуть не меньше того, которое он зани-
мал в эпохи своего высшего расцвета. Проникнутый
праздничностью с ее особой торжественной, приподня-
той атмосферой, интенсивным общением людей, он будет
выступать как подлинный общественный форум. Есть
все» основания согласиться с Ю. Завадским, который
пишет: «В театре будущего чувствительная взаимосвязь
между сценой и зрительным залом станет особенно проч-
ной, неотделимой» 102.
Нельзя не согласиться и с академиком С. Г. Стру-
милиным, утверждающим: «Мы еще не проникли в тай-
ны коллективной психологии и не можем объяснить, как
рождается «,,пояс“» взаимного тяготения душ и какие
психические токи возникают между выдающимся уче-
ным, незаурядным музыкантом, талантливым актером и
их аудиторией.
Но они несомненно возникают. В спаянных узами
дружбы и постоянного сотрудничества коллективах бу-
дущего такие „весны“ душевного подъема и солидар-
ного действия будут сильнее и естественнее. И даже са-
мые необузданные страсти отдельных лиц будут все
успешнее сдерживаться в своих проявлениях общим кол-
лективом в границах разума и гуманности» 103.
101 Ромен Роллан. Собр. соч., т. 14. М., 1958. стр. 262.
102 Ю. Завадский. Режиссерское искусство сегодня. М., 1962, стр. 43.
103 «Новый мир», 1966, № 7, стр. 73.
127
По мере все большего утверждения коллективного
начала в нашей жизни этому общественному значению
театра суждено, по-видимому, возрастать: его можно
представить в роли своеобразного художественного цент-
ра общения людей, центра в котором все — и содержа-
ние представлений, и архитектура, и интерьер — прони-
заны идеей коллективизма и человеческой солидарности,
пафосом утверждения действенного начала.
Слова Р. Роллана из предисловия к одной из «Драм
Революции» («Дантон») хорошо характеризуют самую
природу социальной функции театра: «Под влиянием
зрелища, изображающего действие, должна возникнуть
воля к действию». Она особенно четко вырисовывается
на фоне смежных искусств: с одной стороны, кино, ис-
кусства, более будничного, но способного охватить всю
сферу сознания и практики человека, как бы безгранич-
на она ни была, и рассказать об этом сразу миллио-
нам людей; с другой — телевидения, наиболее индиви-
дуального по характеру восприятия, но находящегося
рядом с каждым, искусства менее масштабных форм,
но углубленного внимания к человеческой личности и
вместе с тем средства «художественной информации»,
«эстетического окна» в окружающий мир.
Не конкурируя и не заменяя, а опираясь на свое
эстетическое своеобразие и дополняя друг друга, отве-
чая высоко развитым и дифференцированным эстетиче-
ским потребностям человека, театр, кино, телевидение
смогут наиболее эффективно выполнить свою важную
роль зрелищных искусств в художественной культуре
будущего.
Уже этот краткий анализ взаимоотношений театра,
кино и телевидения демонстрирует всю несостоятель-
ность и в социальном, и в эстетическом плане идей кино-
й телецентризма (так же как и лежащих за ними пред-
ставлений о путях развития художественной культуры).
Одновременно он заключает в себе еще один, особенно
важный для нас, методологический урок, обнаруживая
глубокую внутреннюю взаимозависимость эстетических
характеристик искусства. Он показывает, что при всей
своей близости эти искусства отличаются разной изби-
рательностью к различным аспектам отношения челове-
ка к действительности и выполняют разные эстетические
функции; что театр по сатиой своей игривой природе пре-
128
имущественно связан с областью прямых, непосредст-
венных отношений людей друг к другу — специфиче-
скими условиями, при которых это в большей мере «ис-
кусство для всех», чем «искусство для каждого» (если
воспользоваться условной терминологией А. Довженко),
служит «душевным запросам современного зрителя»
(Вл. И. Немирович-Данченко), устанавливая с ним обо-
юдный контакт. Только в рамках этих особенностей со-
держания и формы театр реализует свой эстетический
потенциал, особенностей, которые накладывают свою пе-
чать и на драму.
ТЕАТР И ДРАМА
Но вернемся к проблеме действия драмы, ее теоре-
тическому аспекту. Наше предыдущее отступление имело
целью на примере сопоставления театра с кино и теле-
видением показать всю сложность этой проблемы —
тот содержательный смысл, который несет в себе связь
драматического действия с театром, с одной стороны, и
с действительностью — с другой.
Для того, чтобы понять характер отношений драмы
к важнейшим вопросам современности, увидеть логику
ее тенденций, их плодотворность или, напротив, ущерб-
ность, противоречивость, чтобы обосновать потреб-
ность именно драматического воплощения тех или иных
явлений жизни,—признать необходимость «действенно-
сти» драмы, ее зависимость от театра еще недостаточ-
но. Необходимо иметь в виду и другой ее важнейший
аспект, связанный с эстетической сущностью действия,
его отношением к действительности.
Прежде всего следует возразить против того одно-
стороннего и чисто формального подхода, в соответ-
ствии с которым действие фактически рассматривается
лишь как особый способ, средство выражения содержа-
ния жизни, а не как момент, «слой» самого этого со-
держания 104.
104 Такого рода распространенный подход имеет различные оттенки:
от взгляда на действие как на одну из форм воплощения некой
общей, отвлеченной идеи, лежащей в основе произведения (см.
Е. Горбунова. Вопросы теории реалистической драмы. М., 1963),
до трактовки действия как нейтральной формы, выражающей
5 А. А. Карягин 129
Известная мысль Ф. Энгельса, высказанная им в свя-
зи с критической оценкой трагедии Лассаля, о буду-
щем драмы, которое заключается, по его мнению, в
слиянии идейной глубины, осознаного исторического
смысла с живостью и действенностью, имеет принципи-
альное методологическое значение. Она характеризует
общее направление развития реалистической драмы,
хотя тенденция эта проявляется в реальной истории ис-
кусства вовсе не с механической прямолинейностью, а
подчас через отклонения и своеобразные формы.
В данном случае важно подчеркнуть, что само это
слияние, о котором писал Ф. Энгельс, вовсе не сводит-
ся только к достижению драмой сценичности и вооб-
ще не может рассматриваться как чисто художествен-
ный фактор 105.
Считать так значит, по существу, отделять идейное
от художественного в драматическом искусстве, упро-
щать их диалектику. Подобный взгляд возвращает нас
к представлению о драме и театре, как о неких парал-
лельных художественных явлениях, суть отношений меж-
ду которыми заключается в том, что драма — литера-
турное произведение, по необходимости подчиненное
особым условиям и ограничениям сцены, но зато при-
обретающее там большую наглядность и силу воздей-
ствия, так как театр доводит иллюзию жизни до выс-
шего предела 106.
Не говоря уже о том, что иллюзия жизни (вообще
не являющаяся, как известно, целью и критерием искус-
скрытое за ним содержание (см. Р. Арнхейм. Новый Лаокоон. М.,
1960, где этот известный теоретик театра и кино приходит далее
к логическому для себя выводу о том, что «пьеса не требует по-
становки, а лишь допускает ее»).
105 Например: «Идейная глубина — это осознанный исторический
смысл, высокая художественность — живость и действенность»
(Б. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956, стр. 93).
Однако К- Маркс прямо связывает эту живость и действенность
в трагедии Лассаля с идейными мотивами, с ролью революцион-
ных элементов, которые «должны были бы составить весьма суще-
ственный активный фон» («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве»,
т. I. М., 1967, стр. 20). Подобный взгляд, хотя г по-иному, выра-
жен также в книге Ю. Борева «О трагическом» (М., 1961), где,
иллюстрируя это слияние на примере искусства Б. Брехта, автор
видит его в соединении «эпического комментария» действия с
«богатством» и «живостью сценических образов».
|0(‘ См.: Г. Абрамович. Введение в литературоведение. М., 1956,
стр. 48.
130
ства) в театре, который обладает своей условностью,
относительна, точно так же относительна и сила его
воздействия — она максимальна в одном отношении и
гораздо меньше в другом.
С методологической точки зрения указать на зависи-
мость драмы от закономерностей театра — значит оста-
новиться, по крайней мере, на половине дороги. Ибо
для понимания сущности драмы и ее исторических тен-
денций необходимо ответить на вопрос о том, чем в
свою очередь обусловлены сами эти закономерности
театра, каково их отношение не только к драме, но и
к действительности.
Сказать, что «показ человека на сцене требует дей-
ствия» 107,— значит сказать еще недостаточно и, по мень-
шей мере, неточно; в известном смысле дело обстоит на-
оборот— скорее действующий человек, драматическое
действие тяготеют к показу на сцене. Это далеко не ло-
гический нюанс, за ним кроется разность взглядов на
существо вопроса; она имеет важное значение не толь-
ко в теоретическом (например, для проблемы реализма
в драме), но и в практическом отношении. Беда упо-
мянутой точки зрения заключается, в частности, в том,
что она ведет к игнорированию важной проблемы со-
отнесения драмы и самого материала отражаемой дей-
ствительности, существования у нее собственного, отно-
сительно широкого, в определенных пределах историче-
ски изменяющегося, но вместе с тем достаточно
определенного предмета. Как будто бы заманчиво рас-
ширяя почти без всяких ограничений возможности дра-
мы в отражении ею жизни («своими средствами дра-
ма может все»), она практически ведет к ослаблению
ее художественной эффективности.
Эта точка зрения не выдерживает ни теоретической,
ни практической проверки. Ее теоретическая предпосыл-
ка — понимание тех или иных форм искусства как раз-
личных способов отражения действительности, безотно-
сительных к особенностям ее разных сторон и явле-
ний 108.
107 Сб. «Проблемы теории литературы». М., 1958, стр. 153.
108 Кроме упомянутой книги Е. Горбуновой «Идеи, конфликты, ха-
рактеры», см. также интересную в целом статью В. Кожинова
«Роман—эпос нашего времени» («Вопросы литературы», 1957,
№ 6), где автор, справедливо указывая на наличие особенностей
131
5*
Но в том-то и дело, что специфические особенности
драмы, которая по самой своей природе предполагает
сценическую форму, обусловливаются задачей художе-
ственного освоения совершенно определенного аспекта
общественных отношений. Художественно осваивая все
богатство жизни, разные искусства с неодинаковой сте-
пенью тонкости и глубины отражают ее различные про-
явления, стороны, грани.
К. Маркс пишет: «...по мере того как предметная дей-
ствительность повсюду в обществе становится для чело-
века действительностью человеческих сущностных сил,
человеческой действительностью и, следовательно, дей-
ствительностью его собственных сущностных сил, все
предметы становятся для него опредмечиванием самого
себя, утверждением и осуществлением его индивиду-
альности, его предметами, а это значит, что предмет
становится им самим. То, как они становятся для него
его предметами, зависит от природы предмета и от при-
роды соответствующей ей сущностной силы; ибо именно
определенность этого отношения создает особый, дей-
ствительный способ утверждения. Глазом предмет вос-
принимается иначе, чем ухом, и предмет глаза — иной,
чем предмет уха. Своеобразие каждой сущностной си-
лы— это как раз ее своеобразная сущность, следова-
тельно и своеобразный способ ее опредмечивания, ее
предметно-действительного, живого бытия. Поэтому не
только в мышлении, но и всеми чувствами человек
утверждает себя в предметном мире» 10®.
В этой диалектике предмета и соответствующего
способа его освоения и заключается объективная
обусловленность специфики видов искусства.
Здесь перед нами лишь конкретизация общего
принципа марксистской методологии, который исходит
содержания у эпоса, лирики и драмы, видит основу их разде-
ления в способе отражения, независимом от предмета, отрицая
тем самым связь между особенностями содержания и отражае-
мой произведением жизни. Здесь более правы Е. Холодов, отме-
чающий в своей книге «Композиция драмы» (М., 1962) сущест-
вование у драмы собственного предмета, и М. Щеглов, который
в статье «Реализм современной драмы» '«Литературная Моск-
ва». М., 1956), анализируя современную драматургию, справед-
ливо ставит вопрос о соответствии материала действительности
драматической форме.
109 «К. Маркс и Ф. Энгельс об /искусстве», т. 1, стр. 141.
132
из того фундаментального положения, что предмет
познания, освоения всегда определяет и метод этого
освоения.
Исходя отсюда, можно сказать, что каждое искус-
ство, исторически сформировавшееся как определенный,
духовно-практический способ освоения действительно-
сти, имеет свой собственный предмет. Он характеризует-
ся тем, что степень полноты и глубины отражения жиз-
ни данным искусством максимальна по отношению
к тем ее проявлениям, которые служат в нем предметом
непосредственного отражения в сравнении с другими,
отражаемыми им гораздо более опосредованно и косвен-
но. (Искусств, основанных лишь на прямом или, напро-
тив, опосредованном отражении, история, как известно,
не знает; попытки такого рода неизбежно ведут либо к
некоему «сверхсинтетическому» искусству, либо к аб-
стракции, чуждой художественному образу.
«Достоинства» искусств неотделимы от их «недостат-
ков, дополняя таким образом друг друга, они дают
в совокупности цельное и всестороннее постижение дей-
ствительности 110.
, Принцип отвлечения от всего богатства явления для
того, чтобы проникнуть в более глубокую сущность од-
ной из его сторон,— универсальный принцип всякого по-
знания и — при всей условности возникающей аналогии
с наукой — принцип, который лежит в основе самого
существования системы искусств. Напомним слова
Ф. Энгельса о том, что «глаз, который видел бы все
лучи, именно поэтому не видел бы ровно ничего...»1П.
Это общее для особенностей содержания конкретных
искусств положение дает ключ и к характеру отраже-
ния ими драматического аспекта действительности, по-
скольку сам драматизм жизни многогранен, он прояв-
ляется, находит выражение не только в непосредствен-
ных взаимоотношениях и действиях людей, а в самых
различных формах, эстетически в той или иной степе-
ни близких и доступных разным искусствам.
Обратившись к приведенным ранее примерам изобра-
зительного искусства, легко увидеть, что драматическая
110 Принципиально верная и плодотворная постановка вопроса в
теоретическом плане содержится в работе А. Вартанова «Образы
литературы в графике и кино». М., 1961.
ш А. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 554—555.
133
сущность образа Достоевского на портрете В. Перова
выражается как раз в чем-то прямо противоположном
какому-либо поступку — в глубокой погруженности в
себя, во внутренней сосредоточенности, которую фикси-
рует и неподвижная, но напряженная поза, и нервно
сцепленные на колене руки, и «лоб мыслителя», за кото-
рым скрыта полная бурного драматизма интеллектуаль-
ная стихия (Стефан Цвейг), получившая свое адек-
ватное эстетическое воплощение прежде всего в его
творчестве (так трудно и с такими потерями, несмотря
на кажущуюся «драматургичность», переводимом на язык
театра и кино). Здесь перед нами своего рода пласти-
ческий, живописный эквивалент той противоречивости от-
ношения к действию, проблема которой составляет один
из драматических аспектов искусства этого писателя.
Жизнь Меншикова в изгнании, послужившую осно-
вой картины В. Сурикова, трудно представить себе в ка-
честве объекта драмы; ее драматизм как раз в обрат-
ном: в полной бездеятельности героя, отсутствии событий
в течении его жизни, изолированности даже в кругу
собственной семьи. Обособленность персонажей картины,
подчеркивающая их разобщенность, «изобразитель-
ное» сопоставление деталей, передающих контраст про-
шлого и настоящего, наконец, сам зафиксированный в
картине пластический эффект нелепости бездействия
большого, сильного человека, заключенного в четырех
тесных стенах,— все эти собственно художественные
факторы, принадле кащие не только форме, но состав-
ляющие «слой» драматического содержания, связаны с
природой самого объекта, с его двумя психологически-
ми центрами — фигурами отца и дочери; один символи-
зирует «надломленную власть, непокорство, ушедшее
внутрь», другой — «безвинную отреченность, сознатель-
ную покорность судьбе» (Максимилиан Волошин). Кар-
тина изображает как бы заключительную мизансцену
целой эпохи русской истории, истории, скрытой в глу-
боком подтексте, не зная которой вообще трудно ощу-
тить все содержательное богатство картины.
Скульптура Родена «Граждане города Кале» откры-
вает нам совсем другую сторону драматизма, чем пьеса
Г. Кайзера, написанная на ту же тему.
Скульптурная группа Родена — монументальная эпи-
тафия стойкости и мужеству. В этом пластическом аккор-
134
де все — и статическая композиция, и скорбная поза
каждой из застывших фигур, и трагическая неподвиж-
ность складок их одежды — выражает обреченность и
вместе с тем непоколебимую решимость самопожертво-
вания.
В пьесе Г. Кайзера акцент стоит совсем на другом —
на решении, диалектике выбора, который должен был
сделать каждый из добровольных заложников.
Пытаясь найти общий «драматический знаменатель»,
эту скульптуру можно, конечно, представить себе в виде
некой изобразительной «финальной точки» в спектакле
по пьесе Г. Кайзера, подобно скульптурной группе в
«Молодой гвардии» Н. Охлопкова или «немой сцены»
в «Ревизоре». Но это значило бы бесконечно обеднить
ее собственное, «суверенное» содержание.
Поэтический пафос Шестьдесят шестого сонета Шек-
спира, так же как и музыка Пятой симфонии Шоста-
ковича, лишен непосредственной предметной конкретно-
сти — в них нет никакого реального действия, они
выражают иные драматические факторы, прежде всего
эмоциональные и интеллектуальные стороны драматиче-
ского переживания человека, хотя Шестьдесят шестой со-
нет по своей драматической окраске и направленности
дает постоянные поводы для сопоставления с «Гамле-
том».
О музыке Д. Шостаковича Б. Асафьев писал, что в
ней «все личное трепещет, как жизненный пульс совре-
менности. Нервная, чутко отзывчивая к гигантским кон-
фликтам действительности музыка звучит... как правди-
вое сказание о волнениях современного человечества» 112.
В Пятой симфонии, действительно, запечатлен драмати-
ческий тонус мировосприятия современника. Она звучит
как своеобразный эмоциональный документ предвоенной
эпохи, отразившей ее сложность, контрастность — ощуще-
ние радости жизни, веры в будущее и драматизма про-
тиворечий, исторический смысл которых еще не был ясен
до конца. Ей трудно найти точный эстетический экви-
валент, ибо она носит специфически музыкальный ха-
рактер (впрочем, это не легче сделать и по отношению
к Седьмой или Восьмой симфониям с их гораздо бо-
112 Игорь Глебов. Через прошлое к будущему.— Сб. «Советская му-
зыка». М., 1943, стр. 27—28.
135
*1ёё ясной программностью и прозрачностью музыкалк
ных образов).
Трудность, а иногда и невозможность перевода це-
лого ряда литературных произведений на язык драмы
часто объясняется аспектом самой «моделируемой» дей-
ствительности. Сложность инсценирования романов та*
кого типа, как «Жан Кристоф» Р. Роллана или «Док-
тор Фаустус» Т. Манна, обусловливается не столько ши-
ротой охвата ими жизни, сколько особенностями, свое-
образием драматических мотивов, развертывающихся в
глубокой внутренней сфере мыслей и чувств персона-
жей и далеко не всегда находящих свое действенное
выражение. В связи с подобного рода соображениями
Вл. И. Немирович-Данченко отказывается от линии Ле-
вина в постановке «Анны Карениной».
Содержание уже упоминавшейся повести Э. Хемин-
гуэя «Старик и море» едва ли могло бы быть вопло-
щено в драматической форме. Сам носящий оттенок сим-
воличности, хотя и вполне реальный событийный ряд
повести далеко не раскрывает весь ее драматизм и му-
жественную мысль о том, что «человек не для того соз-
дан, чтобы терпеть поражения», ибо этот смысл заклю-
чен и во всем сопровождающем сюжет и соотносимом
с ним ходе размышлений о долге и судьбе человека,
в динамике внутренней, душевной жизни героя. Лишен-
ная этой стороны своего содержания, не передаваемой
целиком в драме, повесть в значительной мере утрати-
ла бы свой драматический смысл.
Как перед' /ъ всю содержательную емкость снов Ста-
рика, этих всплывающих в его сознании образов «стра-
ны его юности», которые как бы обрамляют повесть и
столь существенны для ее понимания?
«...Ему снилась Африка его юности, снились золоти-
стые ее берега и белые отмели — такие белые, что гла-
зам больно,— высокие утесы и громадные бурые горы.
Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим бе-
регам, слышал во всем, как ревет прибой, и видел, как
несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал
запах смолы и пакли, который шел от палубы, вды-
хал запах Африки, принесенный с берега утренним
ветром.
Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни жен-
щины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни дра-
136
ки, ни состязания в силе. Ему снились только дале-
кие страны и львята, выходящие на берег. Словно ко-
тята они резвились в сумеречной мгле, и он любил их
так же, как любил мальчика» 113.
И прямая материализация (с помощью кино), кото-
рая привела бы лишь к явному огрублению и вульга-
ризации этого образа, и буквальное воспроизведение тек-
ста (диктором) с неизбежно возникающим при этом от-
тенком информационности одинаково бессильны — они
способны лишь выветрить поэтическое начало и обеднить
содержание.
Вообще проблема переводимости образов литературы
на язык современного театра, с которой он постоянно
сталкивается сегодня при инсценировании прозы,— про-
блема не только формы, но и содержания и далее —
драматического аспекта действительности, выступающе-
го в данном случае как предмет искусства. Нередко
именно в этом источник тех значительных трудностей,
перед которыми оказывается театр. Например, художе-
ственные просчеты инсценировки повести Г. Владимова
«Большая руда», осуществленной М. Микаэлян на сце-
не ЦТСА, или спектакля Московского театра драмы и
комедии по роману Г. Грина «Тихий американец» должны
быть отнесены не столько за счет формального несовер-
шенства сценической интерпретации, сколько за счет при-
роды самого жизненного материала, лежащего в их
основе.
Трагическая история человека с трудной и сложной
судьбой, упорно ищущего свое место в жизни и поги-
бающего в тот самый момент, когда он впервые ощу-
щает радость и поэзию свободного, творческого «дела»
и в этой кульминации своей жизни, в сущности, раскры-
вается для других, с такой подкупающей проникновен-
ностью рассказанная на страницах повести Г. Влади-
мова, оказалась вовсе не прочитанной театром.
Сложность характера, сам процесс духовного обога-
щения личности, а вместе с ними и драматизм были
утрачены в спектакле (также, кстати, как и в одно-
именном фильме). Ни кинопроекция, ни «наплывы про-
шлого» в данном случае не помогли. Что касается по-
пыток раскрыть душевный мир героя через произноси-
113 Э. Хемингуэй. Избр. произв. в двух томах, т. 2. М., 1959, стр. 581.
137
мне со сцены «внутренние монологи» (письма к жене,
мысленный разговор со своей «исцеленной» машиной
и т. д.), то они наглядно демонстрировали все разли-
чие между тем, что герой думает, и тем, что он может
сказать вслух, между тем, что может быть прочитано
«про себя» и тем, что — без ощущения художественной
фальши — воспринято «публично».
Объяснение этому в значительной степени лежит в
самом типе героя и ситуации, природе их скрытого дра-
матизма, которая и определяет меру их претворимости
в других видах искусства 114.
Это справедливо и по отношению к роману Г. Грина.
Трудности его сценического воплощения связаны с ха-
рактерами и взаимоотношениями двух главных героев —
Фаулера (от лица которого и ведется рассказ), пере-
живающего противоречивый и мучительный процесс ду-
ховной эволюции, и «тихого американца» Пайла с его
глубоким и сложным контрастом лица и маски, специ-
фической двойственностью облика и внутренней жиз-
ни, которая составляет важный драматический «нерв»
романа и с не меньшим трудом расшифровывается
театром.
Сценичность может быть достигнута здесь, вероятно,
лишь ценой известной трансформации героев (что по-
своему доказала голливудская киноверсия романа, где
характер Пайла был упрощен и даже героизирован).
Театр остался верен роману, но во многом потерпел
художественную неудачу (оба эти обстоятельства засви-
детельствовал ljm Г. Грин, выразивший мнение о труд-
ности инсценирования своего романа 115).
Это — крайние примеры, но они важны прежде всего
с методологической точки зрения.
Сами формы драматизма и преимущественное отра-
жение его теми или другими видами искусства в исто-
рическом плане определяются ходом развития обществен-
ных отношений, динамикой социальной борьбы, которая
проходит этапы подъемов, спадов, равновесий и по-раз-
1,4 В этом смысле показательна и неудача экранизации «Большой
руды», которая, по признанию самого постановщика М. Ордын-
ского, выявила специфически литературную природу повести
Г. Владимова («Советский экран», 1965, № 5).
115 См. «Иностранная литературам, 1960, № 7, стр. 246.
138
ному преломляется в различных социальных слоях. «Так
называемая революция есть только последний акт в длин-
ной драме революционной борьбы»,— замечает Плеха-
нов 11ь.
В предисловии к лирической драме «Эллада» Шелли,
говоря об особенностях ее художественной формы, пи-
сал, что «в существующих условиях такое содержание
могло быть воплощено в искусстве лишь лирическими
средствами», так как конфликт не решен в самой жизни
(речь шла об освободительной борьбе греков против ту-
рок). Именно поэтому, по мнению Шелли, можно лишь
набросать ряд «лирических картин» на «занавесе буду-
щего».
Совсем не случайно драматическая судьба такого
важного социального типа русской действительности се-
редины XIX века, как тип «лишнего человека», полу-
чила свое воплощение прежде всего в романе. («Не знаю
почему, но в наше время драма нс оказывает таких
больших успехов, как роман»,— писал Белинский). Ха-
рактерный для этого социального типа разлад между
благими пожеланиями и реальными делами мог быть
показан в жанре романа с гораздо большей рельефно-
стью и глубиной, нежели в драме 116 117.
Особенности «Жана Кристофа» или романов Т. Ман-
на с их «аналитической интеллектуальностью», затруд-
няющие сценическую интерпретацию, несомненно связа-
ны с тем «кризисом действия», который был характе-
рен для определенных слоев интеллигенции XIX— нача-
116 Г. В. Плеханов. Соч., т. II. М.—Л., 1923, стр. 58.
117 Нетрудно видеть, как изменится характер одного из героев того
времени, например Печорина, если опустить тот детальный анализ
душевной жизни, который развернут на страницах его лирическо-
го дневника — формы, разумеется, не случайно выбранной Лер-
монтовым (вспомним хотя бы «Дневник лишнего человека» И. Тур-
генева). Многочисленные инсценировки романа обнаруживают
всю тщетность попыток обойтись без существенных потерь.
В данном случае мы касаемся общей тенденции исторической
детерминированности литературных форм. В более узком смысле
даже «Обломову» может быть найдена драматическая параллель —
«Женитьба» Гоголя, где лихорадочная активность Кочкарева—
лишь иная форма предельной бездеятельности и пассивности Под-
колесина. Но не случайно это оказалось возможным лишь в жанре
комедии. Этот пример наглядно показывает многоплановость дей-
ствия, в диалектике «слоев» которого и раскрывается содержание
драматического произведения.
139
ла XX века и который становится драматическим моти-
вом ряда героев западноевропейского реализма 118.
Драматизм судьбы композитора Адриана Леверкюна,
состоящий как раз в его всесторонней отъединенности
от «практической», социальной стороны жизни, замкну-
тости в чисто духовной сфере, так же как и драматизм
судьбы его друга Серенуса Цейтблома, сквозь призму
личности которого мы воспринимаем его историю и ко-
торый сам представляет собой лишь иную вариацию
того же мотива социальной пассивности и созерцатель-
ности,— по-своему отражает определенную сторону тра-
гической судьбы части немецкой интеллигенции первой
половины XX века, по крайней мере, позволяет многое
в ней понять.
Художественная структура «Старика и моря», хотя
и в гораздо более опосредованной и сложной, почти
символической форме, отражает известную обществен-
ную изолированность героев Хемингуэя, которые чаще
всего выступают в своих взаимоотношениях с окружаю-
щим их миром «один на один» — позиция, весьма ха-
рактерная для «потерянного поколения».
Обращаясь к подобным характерам и коллизиям, дра-
ма при всех своих возможностях проникновения во внут-
ренний мир, но все же уступающая литературе в не-
посредственном изображении психологических процес-
сов, в раскрытии героя «изнутри», всегда рискует не
осмыслить явление до конца и не вскрыть всего его
общественного смысла.
Приведенные примеры — не более чем иллюстрации.
Речь идет в конечном счете вовсе не об их канонизации
и не о выдвижении неких догматических запретов и пред-
писаний на пути постоянно развивающегося и обога-
щающего свои возможности искусства, а об отправных
исходных принципах исследования этого процесса, его
методологии.
Все это, конечно, ни в коей мере не следует пони-
мать прямолинейно, как грубое деление действитель-
ности на участки, соответствующие различным видам
искусства,— ни в том смысле, что искусство прямо ко-
118 См. интересные соображения по этому поводу, высказанные в
статье А. Иващенко «О реализме критическом и реализме социа-
листическом».— «Вопросы литературы», 1957, № 1.
140
пирует жизнь, ни в том, что его виды отделены друг
от друга некими «абсолютными» границами.
Явления жизни бесконечно богаты и многогранны,
и очень часто их драматическая сущность находит свое
выражение не в каком-то одном качестве, признаке, а во
многих; такое явление может стать объектом произве-
дений разных искусств. Однако каждое искусство отра-
зит его по-своему и преимущественно разные аспекты
его содержания. Только в этом смысле и следует гово-
рить об особенностях их драматических предметов.
Так, живопись, скульптура — шире; изобразительные
искусства, которые прежде всего «учат смотреть и ви-
деть» (А. Блок), особенно отчетливо и ярко отражают
проявления драматизма, скрытые в видимых, доступных
глазу качествах объекта, в его внешнем облике, красоч-
ном богатстве, пластической структуре, положении в про-
странстве. Тем самым они раскрывают нам внутреннюю
связь наглядной, реальной «видимости» явления с его
глубокой драматической сущностью. При этом, «останав-
ливая время», они сосредоточивают внимание на внеш-
нем облике с такой пристальностью и полнотой, кото-
рая оказывается недосягаемой для других искусств
(а часто и для человека в процессе восприятия им жи-
вой, реальной действительности).
Музыка не воспроизводит непосредственно ни форм
действительности, ни мыслей людей, но зато с необы-
чайной тонкостью и проникновенностью передает дра-
матический пафос и динамику эмоциональной жизни
человека — ив этой сфере не имеет себе равных.
Несколько особое место занимает в этом ряду ис-
кусств литература. Оперируя самым универсальным
эквивалентом действительности — словом, она является
максимально широким и всесторонним из искусств; ей
доступны все сферы драматического содержания жизни,
стремлений, переживаний, поступков человека. Обра-
щаясь прежде всего к рассудку (а через него — ко все-
му богатству человеческой чувственности), т. е., буду-
чи непосредственно связана со второй сигнальной си-
стемой, находясь как бы на иной, чем другие искусства,
ступени опосредования отражаемых явлений, она наиме-
нее чувственно конкретна и наиболее интеллектуальна.
Причем это отличие литературного образа от образов
других видов искусства, в том числе и драматического
141
искусства, заключается не только в степени подробности
и наглядности изображения, но и в оттенке содержа-
ния. Именно поэтому трудно найти точный, не литера-
турный аналог целому ряду образов «Слова о полку
Игореве», знаменитой «Птице-тройке» Н. Гоголя, началь-
ным строчкам «Воскресения» Л. Толстого, метафориче-
ской прозе Л. Леонова. С другой стороны, не менее
сложно подчас воссоздать в литературной форме искус-
ство актера, например, Чаплина или Марсо.
В известной статье о Мочалове в роли Гамлета Бе-
линский отмечает, что простое описание не может пе-
редать всего драматического содержания этого исполне-
ния. И в самом деле, вчитываясь в статью, мы видим,
что оно полнее всего возникает перед нами там, где
критик описывает игру как бы сквозь призму своего
впечатления.
Р. Арнхейм приводит в качестве примера, иллюстри-
рующего всю несостоятельность попыток «систематиче-
ски» описать действие актера, отрывок из статьи писа-
теля XVIII века Лихтенберга, старавшегося сохранить
для потомства трактовку Гамлета другим великим акте-
ром—Гарриком (в сцене появления духа отца): «Гар-
рик внезапно оборачивается и в то же мгновение отсту-
пает на полусогнутых коленях на две-три ступени; его
шляпа падает ..а пол; обе руки подняты, так что кисть
левой находится вровень с головой, а правая согнута
несколько больше, и ее кисть расположена пониже; паль-
цы обеих рук растопырены, рот разинут, как будто его
разбил паралич посреди большой лестницы; Гамлета
поддерживают друзья, уже видевшие привидение и опа-
сающиеся, чтобы он не потерял сознания; ужас на его
лице изображен так, что меня охватила дрожь еще рань-
ше, чем он заговорил» 119 120.
Бальзак очень метко определил литературу как ис-
кусство, «ставящее своей целью воспроизвести природу
при помощи мысли» 12°. Это точнее, чем называть ее
искусством слова, которое само по себе художественно
нейтрально. Для литературного образа характерно не
пассивное описание, а повествование, которое и там,
где оно переходит в прямое изображение, пронизано
119 Р. Арнхейм. Кино как искусство. М., 1960, стр. 175.
120 Бальзак. Соч., т. 15, стр. 435.
142
авторской мыслью, освещено, опосредовано ею. Словом,
изобразительность литературы не равна описательности.
Точно так же и речь персонажей, как справедливо пи-
шет Л. Тимофеев, в литературе выступает в принципе
лишь в качестве цитаты, включенной в общий контекст
авторской речи, комментирующей, оттеняющей ее 121.
Эта опосредованность, «пронизанность» изображения
мыслью может принимать разнообразные формы 122. Она
может быть выражена с большей или меньшей яркостью,
может звучать в полифоническом переплетении голоса
автора и «рассказчика» или в косвенных характеристи-
ках через героев, но это — органическое качество лите-
ратурной образности.
В сущности, любая, самая простая фраза, например,
«Все смешалось в доме Облонских» (Л. Толстой) или
«Море смеялось» (М. Горький), уже есть не только
изображение мыслью, но и мысль об изображенном.
Все это нетрудно видеть, обращаясь даже к такому
чисто описательному по своему характеру тексту, как
приведенный выше отрывок из повести Хемингуэя.
Бурые горы и ослепительные отмели, причаливающие
лодки и играющие львята, краски, запахи, звуки, кото-
рыми наполнена картина, нарисованая писателем,— все
это в принципе легко передаваемо на языке другого,
например, изобразительного искусства или кино. <
Но два чрезвычайно существенных, причем как раз
для образного содержания, момента не могут найти,
по-видимому, никакого эстетического эквивалента: «Ему
теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины,
пи великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни
состязания в силе...» и «он любил их (львят.— А. К.)
так же, как любил мальчика». Именно оба эти — в одном
случае отрицающее, в другом утверждающее — сопостав-
ления, выводя изображение за пределы документальной
фиксации, сообщают ему эстетическую рельефность и
глубину, делают его художественной и прежде всего
литературной идеей. Причем второе сопоставление слу-
жит к тому же мостиком, соединяющим этот образ (че-
121 См.: Л. Тимофеев. Проблемы теории литературы. М., 1963, стр. 87.
122 См. интересные наблюдения по этому поводу в книге В. Бахтина
«Проблемы поэтики Достоевского». М., 1963, а также в работе
В. Кожинова «Происхождение романа». М., 1964 и В. Виногра-
дова. «О теории художественной речи». М., 1971.
143
рез сравнение с мальчиком) со всей образной структу-
рой повести.
К чему приводят попытки освободить литературный
образ от мысли или от изображения, демонстрируют
опыты «нового романа»,— с одной стороны, вещизм
Роб-Грийе, с другой,— течение, выступающее наследни-
ком школы «потока сознания». Вот отрывки подобной
прозы:
«...Правая рука хватает хлеб и несет его ко рту, правая рука опу-
скает хлеб на белую скатерть и хватает нож, левая рука хватает
вилку, вилка втыкается в мясо, нож отрезает кусок мяса, правая рука
кладет нож на скатерть, левая переносит вилку в правую руку, ко-
торая втыкает ее в кусок мяса, который приближается ко рту, кото-
рый начинает жевать, производя движения сжатия и разжатия, ко-
торые отражаются на всем лице, вплоть до щек, глаз, ушей, в то
время как правая вновь берет вилку, передает ее левой руке, затем
хватает хлеб, потом нож, потом вилку...» (Роб-Грийе. Ревность).
«Она чувствует, как ее приподнимает, подталкивает что-то силь-
ное и нежное — ощущение, сходное с тем, которое испытываешь, ког-
да лежишь на пляже с лицом, покрытым пеной, и волосами, забиты-
ми мелкими водорослями, и, вдыхая с наслаждением запахи океана,
отдаешься толчкам и переливам воли... она дает себя поднять, это
возбуждает... смел< 6 это так забавно, быть может, немного опасно...
она смыта, очищена... овальные двери, напоминающие о недоброка-
чественной работе, тоскливую анфиладу комнат, всегда запертых,
длинный коридор особняка — все вырвано с корнем» и т. д. (Н. Сар-
рот. Планетарий) 123.
Кроме того, литературный образ не может быть све-
ден к своему «словесному слою» — ни в том чисто лин-
гвистическом смысле, который имеют в виду некоторые
языковеды (например, А. Ефимов) 124, подменяя пробле-
му образности проблемой стилистики художественной
речи, ни в том смысле, в котором порой трактовали
слово в 20-е годы Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхен-
баум, утверждая его абсолютную автономную художе-
ственную самоценность.
Но литературная образность и не безразлична к сло-
ву, как это считает ряд литературоведов (например
В. Назаренко125), которые видят в нем просто одну из
возможных форм воплощения некоею универсального
образного языка искусства. В таком случае возникает
123 Цит. по: С. Великовский. В лаборатории расчеловечивания искус
ства.—Сб. «О современной буржуазной эстетике». М.. 1963.
124 См.: «Вопросы литературы», 1959, № 8.
125 См.: «Вопросы литературы», 1959; № 10.
144
неразрешимая проблема детерминированности этой фор-
мы,— действительно, что заставляет художника обра-
титься именно к ней, а не к иной, изобразительной,
кинематографической или театральной?
Слово в литературе не только коммуникативное сред-
ство, оно непосредственное выражение мысли, которая
сама есть «слой», момент содержания произведения.
Рассматривать слово, изображение, действие, музыкаль-
ную интонацию — «первоэлементы», лежащие в основе
конкретных искусств,— лишь как различные формы
отражения значит упрощать проблему.
Более того, необходимо сделать следующий шаг, спу-
ститься еще на одну ступеньку этой своеобразной «ле-
стницы» — предмет, содержание, форма, функция — и
установить связь этих «первоэлементов» с самой дей-
ствительностью. Напомним, что не только «глазом пред-
мет воспринимается иначе, чем ухом», но и «предмет
глаза — иной, чем предмет уха» (Маркс).
Драматическое действие выступает как наиболее пол-
ная эстетическая «модель» реального действия, кото-
рое в свою очередь становится его главным предметом.
5 принципе такие же отношения существуют между
литературным образом и повествованием, художествен-
ным изображением и видимым аспектом действитель-
ности, музыкальным образом и интонационным строем
времени.
Такова почва для сопоставления литературы с дра-
матическим искусством, обладающим собственной сфе-
рой отражения.
Как бы ни было подробно последовательное описа-
ние или ярко живописное, но статическое изображение
драматического действия — это косвенный путь, кото-
рый не может достигнуть богатства содержания и «зара-
зительности» реального действия на сцене. «Мы не можем
представить, выразить, смерить, изобразить движения,
не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не раз-
делив, не омертвив живого. Изображение движения
мыслью есть всегда огрубление, омертвление...»,— заме-
чает В. И. Ленин 126.
Можно сказать, что драматическое действие, логика
его развития получают в драматическом искусстве эсте-
126 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 233.
145
тически адекватное отражение, подобно тому, как в ли-
тературе его находит мысль, в изобразительном искус-
стве— внешний облик предмета, его структура, цвет,
в музыке — интонация. Оно воспроизводит действие не-
посредственно, во всей его целостности и не может быть
с тем же эстетическим результатом занесено ни пьесой,
ни какой-либо другой формой искусства (в том числе
фильмом-спектаклем и телепостановкой, лишенными
эстетического контакта зрителя с актером).
Но если драму нельзя считать универсальным спо-
собом воплощения драматизма, всего разнообразия его
реальных проявлений, то вместе с тем она занимает
в этой области, несомненно, особое место. Такое зна-
чение драмы объясняется тем, что она отражает су-
щественнейшую сторону драматического содержания
жизни.
Связь между драматизмом и действием в драмати-
ческом искусе^ з имеет глубокий принципиальный
смысл, в свете которого отношения драмы и театра
раскрываются не просто как некая условность искус-
ства, а как отражение закономерностей и процессов са-
мой действительности, зависимости между ее противоре-
чиями и деятельностью людей.
Каким бы ни было общественное противоречие по
своему характеру, масштабу, остроте, каким бы образом
оно ни преодолевалось — через революционный взрыв
или путем постепенной, «мирной» борьбы за его разре-
шение,— эти пути всегда реализуются через борьбу кон-
кретных личностей, групп (выражающих в классовом
обществе классовые интересы), т. е. через деятельность
людей, через посредство их воли 127.
Объективно их действия выступают как способ пре-
одоления, разрешения противоречия — в этом проявляется
значение общественной активности человека. Субъектив-
но жизненное противоречие, сознаваемое и эмоциональ-
127 «Не „история”, а именно человек, действительный, живой чело-
век — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. „Ис-
тория" не есть какая-то особая личность, которая пользуется че-
ловеком как средством для достижения своих целей. История —
не что иное, как деятельность преследующего свои цели челове-
ка»,—писали К. Маркс и Ф. Энгельс (Сочинения, т. 2, стр. 102),
характеризуя объективный смысл субъективной деятельности лю-
дей.
146
но ощущаемое человеком, переживаемое им как драма-
тическое, всегда есть импульс к действию, потребность,
сознание необходимости поступить так или иначе, чтобы
преодолеть драматическую ситуацию, привести действи-
тельность в соответствие со своим пониманием ее, с опре-
деленным идеалом. «...Мир не удовлетворяет человека,
и человек своим действием решает изменить его»,— пи-
шет В. И. Ленин 128.
Известно, что периоды высших достижений драмати-
ческого искусства совпадают с эпохами революционных
переворотов, народных движений, крупных обществен-
ных сдвигов. Так, античная трагедия с ее противопостав-
лением естественных влечений цельной человеческой
личности неумолимому року была еще косвенным эсте-
тическим отражением тех глубочайших противоречий, на
которых был основан древнегреческий полис: судьба в
ней была таким же господином по отношению к гражда-
нину, каким был он сам по отношению к рабу. В то же
время ее герои, хотя и не влияли, да и не могли по-
влиять на конечный исход событий, не смирялись по-
корно с судьбой и даже бросали ей вызов. Во всем
этом одновременно и непреходящее значение этой тра-
гедии, и ее историческая ограниченность 129.
Эпоха средневековья, в значительной мере проникну-
тая религиозно-христианской идеологией с господствую-
щим в ней пафосом созерцательности, смирения и внут-
реннего самосовершенствования, показательна в другом
отношении. Она дала гораздо меньше для развития дра-
мы. Такие ее собственные, «суверенные» жанры, как
литургическая драма, мистерия и моралите, не опира-
лись на традиции античности и не имели, в сущности,
будущего, а проникновение элементов реальности лишь
подтачивало их изнутри. Интересно при этом, что мисте-
128 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 195.
129 Характер общественных отношений и господствующей идеологии
определил и особенности ранней драмы на Востоке (повествова-
тельность, лиричность, отсутствие трагической развязки и другие
законы санскритской драмы). На это обстоятельство указывал
еще Гегель, заметивший, что характер религиозных идеологий
Востока затруднял само проявление личности в драматической
форме. Те же особенности египетской идеологии имел в виду Маркс,
писавший, что «египетская мифология никогда не могла бы быть
почвой или материнским лоном греческого искусства» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 737).
147
рйя была прямо-таки переполнена всякого рода собы-
тиями и происшествиями, однако их подлинная, реаль-
ная драматическая ценность была очень относительна,
поскольку они лишь иллюстрировали отвлеченную рели-
гиозную идею («Быть может, тихая покорность, безмя-
тежная кротость — существенные его свойства — проти-
воречат самой задаче трагедии» 13°,— писал Лессинг, го-
воря об идеале христианина).
С другой стороны, это был, вероятно, единственный
исторический период, когда драматическое содержание
жизни получило столь яркое выражение в таком пре-
дельно стати’ юм и монументальном искусстве, как ар-
хитектура. Это особено заметно в эпоху позднего сред-
невековья, в драматической напряженности форм готи-
ки, сквозь которые отчетливо проступает наружу еще
подавленный религиозными оковами, но уже бунтующий
дух нового времени.
Эпоха бурного подъема драматического искусства —
это эпоха Возрождения, период, когда рушатся устои
феодализма и религии, и люди, которые уже осознали
свое освобождение от них и были в то же время кем
угодно, «но не буржуазно ограниченными», впервые на-
чинают ощущать зависимость своей судьбы от самих
себя. В этом заключается новое качество их самосозна-
ния, их взгляда на мир, на свое место в нем, на соотно-
шение «судьбы человеческой» и «судьбы народной», о ко-
тором говорил Пушкин, ссылаясь на Шекспира и Раси-
на. Новые условия пробуждали в людях того времени,
наряду с гуманистическими идеями о ценности челове-
ческой личности и свободы, необычайно деятельное на-
чало. «...Они почти все живут в самой гуще интересов
своего времени, принимают живое участие в практиче-
ской борьбе, становятся на сторону той или иной пар-
тии...» 130 131. Вера в человека и его возможности, обуслов-
ленность судьбы собственными качествами личности и
отсюда в высшей степени активный, действенный харак-
тер отношения к жизни легли в основу реалистической
драмы, которая сформировалась в эту эпоху. Не слу-
чайно, говоря об идеале будущей драмы, Энгельс ссы-
лается как раз на шекспировскую живость действия.
130 Г. Лессинг. Гамбургская драматургия. М., 1936, стр. 12.
131 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 347.
148
Это активное, утверждающее начало вскоре прихо-
дит в столкновение с другими, начинающими выступать
на авансцену истории факторами, все более и более ог-
раничивающими реальные возможности личности в рам-
ках новых формирующихся буржуазных общественных
отношений. Это обстоятельство и придает особую дра-
матическую напряженность, а затем и трагическую ок-
раску искусству Возрождения (процесс, столь заметный
в эволюции творчества Шекспира).
Можно проследить и дальнейшую связь крупнейших
явлений драматического искусства с действенным выра-
жением драматизма в самом историческом процессе. Так,
классицистская трагедия с ее конфликтом чувства и дол-
га также связана с важным моментом истории обще-
ства — с периодом формирования национального госу-
дарства. Эпохи буржуазных революций по-своему нахо-
дят свое выражение в творчестве Бомарше, Шиллера.
Гете, Байрона, Гюго.
В русской драматургии связь творчества Грибоедова,
Гоголя, Островского, Толстого, Чехова, Горького с раз-
личными формами проявления важнейших общественных
противоречий и развитием освободительного движения
особенно очевидна.
Наконец, новый этап драмы — драматургия социали-
стического реализма возникает и развивается как не-
посредственное отражение эпохи «глубоко, небывало,
всесторонне драматической, небывало напряженного дра
матизма процессов разрушения и созидания» 132, эпохи
пролетарской революции и строительства социализма и
коммунизма, эпохи, когда само действенное отношение
к жизни приобретает особый смысл; возникая в резуль-
тате познания законов общественного развития, оно вы-
ступает как фактор сознательного исторического творче-
ства. !
Уже в этих самых общих исторических тенденциях
драматического искусства проявляется его глубокая эс-
тетическая природа. Замечательная по своему содержа-
нию идея о сущности драмы заключена в высказывании
Гегеля, отмечающего в «Феноменологии духа», что антич-
ная трагедия рождается как художественная форма
осознания человеком диалектического пути развития
132 М. Горький. О литературе. М., 1953, стр. 601.
149
мира i33. (Не случайно в то же самое время элементы
диалектики начинают играть заметную роль и в антич-
ной философии.) Гегель схватывает здесь, хотя и в са-
мом общем виде, важнейший пункт специфики драмы
вообще.
Последовательно развертывая перед зрителем через
отношения и судьбы своих героев ход развития обще-
ственных противоречий и конфликтов, драма прослежи-
вает диалектику этого процесса, его динамику, внутрен-
нюю логику.
Именно отсюда вытекают ее некоторые общие зако-
номерности, устойчивые на протяжении столь длитель-
ного исторического периода, и прежде всего единство
действия в его глубоком, не формальном понимании и
завершенность действия по отношению к тем драмати-
ческим обстоятельствам, которые являются его непосред-
ственным источником — то, что Аристотель называл «за-
конченностью» действия.
Если повесть, по образному выражению А. Н. Тол-
стого,— прямой отрезок жизни, то драма — это сфера,
«все заключенное в которой исчерпывающе полно».
Эта завершенность драмы имеет, конечно, относитель-
ный характер и отнюдь не должна быть истолкована
как нечто абсолютное в духе гегелевского «примирения»
(момент, в котором идеализм Гегеля как раз заставляет
его изменить диалектике). Глубокое осмысление драма-
тургом соотношения событий пьесы с историческим про-
цессом всегда рождает определенную драматическую
перспективу, потенционально несущую в себе новые дра-
матические конфликты и как бы намечающую дальней-
шие исторические судьбы характеров 134.
В основе построения повествовательного произведе-
ния (например романа) или кинофильма может лежать
биографический или хронолотический принцип, т. е? по-
вествовательное описание истории характера или хроно-
логическое изложение событий. В драме подобный прин-
цип неприемлем — ее предмет и задачи иные. Роман
развивается в русле темы: человек и общество, и даже
133 См.: Гегель. Соч., т. IV, М., 1959.
134 Здесь, в частности, как справедливо пишет Н. Берковский (см.
«Литература и театр». М., 1969), могут быть отмечены принци-
пиальные завоевания драматического искусства эпохи возрожде-
ния по сравнению с относительной «замкнутостью» искусства
античности и средневековья.
150
шире—человек и действительность, тогда как предмет
драмы уже и направленнее — это общественный конфликт
и человек в его отношении к данному конфликту. Ло-
гика развития этого конфликта и определяет художе-
ственную структуру драмы.
Это не означает, разумеется, что драма не способна
раскрыть всю полноту человеческих характеров. Об этом
свидетельствует уже сама художественная практика дра-
матургии, создавшей галерею образов, обладающих ог-
ромной глубиной и богатством духовного содержания.
Не случайно схематичность характеров в современной
драме неизменно воспринимается как ее недостаток.
Известное замечание Аристотеля о том, что без дей-
ствия не могла бы существовать трагедия, а без харак-
теров могла бы, имеет лишь историческое значение и
объясняется тем, что он опирался на опыт искусства,
не разрабатывавшего еще характеры с достаточной мно-
гогранностью и полнотой (обстоятельство, которое
Ф. Энгельс подчеркивает в переписке с Лассалем). Это
и понятно, так как, по представлению древних, качества
характера не играли решающей роли в судьбах героев
ц развитии событий.
Однако формула Аристотеля становится односторон-
ней по отношению к эллинистической и римской дра-
матургии, не говоря уже об эпохе Возрождения и позд-
нейшей драме, выражающей стремление ко все более
полному и всестороннему воплощению человеческих ха-
рактеров— тенденция, прослеженная еще Лессингом в
«Гамбургской драматургии». Поэтому безоговорочно
ссылаться на положение Аристотеля сегодня, конечно,
едва ли правомерно 135.
Сама постановка вопроса: действие или характер, по
отношению к современной реалистической драме, эво-
люция которой заключалась как раз в том, что она
со все большей глубиной и тонкостью раскрывала их
внутреннюю взаимосвязь и обусловленность, оказывает-
ся не диалектической и в значительной мере лишенной
того смысла, который она могла иметь на отдельных
этапах развития драматического искусства. Под таким
углом зрения могут быть сопоставлены не только раз-
135 См., напр., статью М. Кагана «Сюжет и характер» («Искусство»,
1956, № 4), где делается попытка на подобной основе разграни
чить драматическое и изобразительное искусство,
151
ные эпохи, но и некоторые явления внутри них, напри-
мер, драматургия Плавта и Теренция, Корнеля и Раси-
на, взгляды на действие и характер Дидро и Лессинга
или в истории советской драматургии споры между Виш-
невским и Погодиным, с одной стороны, и Афиногено-
вым и Киршоном — с другой, в которых требование ди-
намичности и действенности подчас полемически проти-
вопоставлялось вниманию к психологической разработ-
ке характера. Однако обнаруживающиеся здесь различия
и акценты обозначают, как уже отмечалось исследова-
телями, лишь объективную диалектику исторической эво-
люции искусства и, в частности, то возрастающее вни-
мание к проблеме социально-исторической роли и ответ-
ственности личности, которое становится одним из важ-
нейших импульсов развития реалистической драмы.
В этом плане понимание драматического действия,
обнажающего за индивидуальными поступками логику
развития общественных противоречий и отношение к ним
личности как предмета драмы (а не только как одно-
го из возможных способов изображения характеров),
имеет принципиальное значение.
Иначе говоря, драма раскрывает характеры, но де-
лает это в связи с развертыванием драматического дей-
ствия, как бы включая их в него, поскольку они высту-
пают субъектом или объектом действия. Такова диалек-
тика драматической формы 136.
Таким образом, замечание Гете о том, что «в романе
по преимуществу должны изображаться убеждения и
136 Именно логика действия выступает здесь на первый план. Сквозь
ее призму и раскрывается сама индивидуальность со всеми при-
сущими ей качествами. Например, красота Ларисы Огудаловой
в «Бесприданнице» А. Островского или уродство Ричарда III в
одноименной трагедии Шекспира важны для нас не сами по се-
бе или, вернее, не в том смысле, в каком они были бы важны в
изобразительном искусство, а прежде всего в связи с мотиви-
ровкой действия. Из текста пьес вовсе не возникает их конкрет-
ный внешний облик, что тем не менее не сказывается на содер-
жании обоих произведений, ибо не сам этот облик составляет
главный предмет нашего внимания и не через пего, в первую
очередь, постигаем мы характер персонажа и его судьбу. Нес-
колько заостряя, можно сказать, что для нас в принципе достя
точно обозначения этого качества героя, хотя непосредственность
сценического впечатления несомненно усиливает паше драмати-
ческое переживание. Подобным образом рассуждает, в частно-
сти, Лессинг, сопоставляя в «Лаокооне» пластические искусства и
поэзию, а также Бальзак, размышляя о литературе и живописи,
152
происшествия — в драме характеры и обстоятельства»
(«Вильгельм Мейстер», кн. V, гл. VII), при всей услов-
ности подобного разграничения сохраняет определенный
методологический смысл, хотя и требует по отношению
к современному искусству соответствующих поправок 137.
В данном случае важна прежде всего не столько форму-
ла, сколько сама методологическая тенденция.
В противном случае, отказываясь от каких бы то
ни было критериев, полагая, например, что «сферой
драмы является не только красота деяний и борьбы
человека, но и поэзия раздумий и созерцаний», что
«в форму сценического действия могут быть облечены
самые разные грани жизни и человеческого духа» 138, мы
в конечном счете снимаем проблему ее специфики и снова
возвращаемся к интерпретации драматического действия
как некой «чистой», нейтральной художественной формы,
принципиально безразличной к тому, что она выражает.
Все эти фундаментальные, можно было бы сказать,
«видообразующие» особенности драматического действия
детерминированы не только театральной формой, но и
определенным аспектом самой действительности, который
бтражает драма, ее предметом; театр выступает как
опосредующее звено. Подобный подход дает ключ и к
анализу конкретно-исторических форм драмы, и к соот-
несению драмы с драматическими коллизиями самой
жизни — к ее избирательности.
Одновременно перед нами вырисовывается грань,
разделяющая театр и собственно драму — явления, тес-
нейшим образом связанные и исторически, и эстетически,
но все же не покрывающие друг друга целиком. Ибо
далеко не все происходящее на сцене театра может быть
названо в точном смысле слова драмой, которая может
существовать и существует вне театра.
Эту грань, достаточно очевидную, когда речь идет
о цирке или эстраде, но часто не сразу бросающуюся в
глаза в театре драмы, особенно на фоне стремления
137 Сходной точки зрения придерживается и Гегель: «Эпос должен
описывать не действия как действия, а события. В области дра-
мы дело сводится к тому, что индивид оказывается деятельным
в отношении своей цели и изображается в этой деятельности и
ее следствиях» (Соч., т. XIV, стр. 252).
138 В. Хализов. Уроки Чехова-драматурга.— «Вопросы литературы»,
1962, № 12.
153
современной драмы к расширению границ, необходимо
иметь в виду.
И не потому, что вообще незакономерен жанр просто
«театрального спектакля» (такого, например, как «Дон
Жуан» в постановке Н. Акимова, полного сценической
изобретательности и ярких театральных красок, но пред-
ставляющего собой лишь иллюстрацию стихотворной
поэмы Байрона, ее пересказ на язык театра, или такого,
как «поэтичес. эе представление» — «Антимиры» А. Воз-
несенского, осуществленного Ю. Любимовым в Театре
на Таганке). Речь идет об опасности смешения задач и
эстетических принципов различных художественных форм.
Б. Брехт, ссылаясь на А. Деблина, замечает, что,
в отличие от драматического произведения, произведение
эпическое можно, условно говоря, разрезать на куски,
причем каждый кусок сохранит свою жизнеспособность 139.
Это меткое наблюдение хорошо поясняет структурное
различие между двумя этими формами. По отношению
к драме подобная операция невозможна, так же как не-
возможно в ней осуществить «и такие доведенные до логи-
ческого конца, не имеющие своего действенного пересе-
чения сюжетные параллели, которые знает кино (напри-
мер, «Нетерпимость» Д. Гриффита) или роман («Автомо-
бильный король» Э. Синклера). В этом смысле не лишена
оснований определенная аналогия между эпической фор-
мой и фугой, с одной стороны, и драматической и'со-
натной формой — с другой, которую иногда проводят.
Это происходит именно потому, что действие в драме
характеризуется не только непосредственными отноше-
ниями людей — здесь проходит граница собственно теат-
ра, «искусства действующего человека», но и тем, что
драма всегда изображает относительно единую, цельную
фазу этого действия, диалектического процесса развития
общественных противоречий, их перехода в иное состоя-
ние, преобразования исходной ситуации в новое качество.
В результате стороны, олицетворяющие собой противоре-
чие, оказываются уже в иных отношениях друг к другу
Преобразование это и в самой жизни, и в драмати-
ческом искусстве осуществляется через конфликт — от-
сюда .и то принципиальное методологическое значение,
которое имеет это понятие для анализа драмы.
139 Б. Брехт. О театре. М.» 1960, стр. 122.
Глава третья
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
*
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И КОНФЛИКТ
Итак, мы выяснили, что специфика драматического
действия определяется в первую очередь конфликтом.
Это центральное понятие драматической формы.
Как всякий действенный акт — в индивидуальном
плане или в историческом масштабе,— ведущий к изме-
нению исходной ситуации, сложившихся отношений, он
приобретает значение не сам по себе, а прежде всего
как момент развития, звено процесса. Истинный смысл
и внутренняя логика конфликта раскрываются лишь в
свете вызывающих его исходных мотивов, предпосылок
и последствий, к которым он приводит.
Здесь есть свои противоречия и трудности. Раз-
мышляя о конфликте, Гегель резонно замечает, что у
каждого драматического действия существует множество
разнообразных, дальних и ближних, причин и искусство
драматурга проявляется в выборе соответствующей «ис-
ходной точки».
Эта точка не абсолютна. В подлинно глубоком и
художественном драматическом произведении конфликт
всегда «непосредственно» детерминирован, обоснован
и в то же время разворачивается на фоне более широ-
ких предпосылок и перспектив, присутствующих в опо-
средованной, косвенной форме. В содержательном плане
мера его глубины определяется связью с решающими
общественно-историческими закономерностями времени,
его истинными «движущими силами». С художественной
точки зрения проблема состоит во внутренней гармо-
нии, соразмерности «непосредственного» и «опосредован-
но
ного» изображения различных фаз драматического дей-
ствия, единстве его «масштаба».
Эти фазы не всегда совпадают с тем, что на языке
теории драмы, ее технологии называется обычно экспо-
зицией, завязкой, кульминацией и развязкой (и тем более
с делением пьесы на акты). Так, мотивы конфликта,
которые всегда экспонируются в начале пьесы, часто
окончательно разъясняются лишь в финале, развязке.
Драма может начинаться с некоторого итога и строиться
как исследование случившегося, уже происшедшего, ис-
пользуя обратный ход событий. Современная драматур-
гия приб. ^ает здесь к самым различным формам: пове-
ствовательному вступлению и прологу (В. Маяковский,
В. Вишневский, Б. Брехт), эпилогу (Б. Брехт, А. Мил-
лер), изменению течения времени (М. Фриш, Д. При-
стли) и т. п.
С этой точки зрения ее «горизонтальная структура»
образует сложную полифонию различных элементов со-
держания и формы. Не касаясь более подробно вопросов
композиции драмы, важно отметить, что при всем разно-
образии конкретного воплощения эти фазы драматиче-
ского действия, символизирующие собой, если восполь-
зоваться терминологией Аристотеля, его «начало, середи-
ну и конец», логику происходящей в нем «перемены к
противоположному», представляют собой лишь условно
расчленимое единство. В драме все устремлено к конф-
ликту и все находящееся вне его сферы — лишнее.
Таким образом, конфликт не просто составляет часть
или момент драматического действия, но определяет все
его структурные элементы.
Первый вопрос, который естественно встает при
обращении к понятию драматического конфликта,— это
вопрос о его содержательном смысле и отношении к
действительности.
Так же как «действие» или «характер», он не есть
нечто просто равное, тождественное своему реальному
аналогу — жизненному прототипу, но теснейшим, нераз-
рывным образом с ним связан. В этой диалектике и
заключается сущность и сложность проблемы.
Поэтому с самого начала должна быть отвергнута
формальная трактовка конфликта только как структур-
ного элемента драмы, характерная, например, для неко-
торых представителей так называемой Цюрихской шко-
156
лы литературоведения1 — или структуралистского под-
хода 2.
Первые из них, во многом черпая свои предпосылки
в символистской концепции Э. Кассирера об искусстве
как области «иносказательных форм», которые должны
быть поняты в их независимости от действительности и
в «чистом постоянстве», склонны рассматривать формо-
образующие элементы произведения прежде всего как
«замкнутые в себе» и абстрактные категории.
С чем бы ни связывался, таким образом, конфликт
как «духовное напряжение», вызывающее «состояние
кризиса»,— с некими внутренними «структурами челове-
ка» или с метафизическими категориями типа «изна-
чального времени», он остается в ряду некоторых чув-
ственных форм, организующих человеческий опыт, но
безотносительных к реальности. В этом смысле их сим-
волическое значение не поддается расшифровке, а глав-
ное, и не нуждается в ней.
Что касается структурализма, то все его порою инте-
ресные и меткие наблюдения, касающиеся «типологии»
и механизма развертывания различных видов конфлик-
та; должны быть приняты во внимание. Вместе с тем
едва ли можно согласиться со структурализмом в его
стремлении свести элементы, составляющие конфликт,
к «алфавиту» особым образом организованного языка.
Здесь наряду с определенными достоинствами в пол-
ной мере сказывается недостаточность функционально-
структурного подхода, начинающего претендовать на
универсальное значение. Сосредоточивая свое внимание
всецело на конструкции, структуре и ее влиянии на
восприятие или — в рамках теории игр — на формализа-
ции поведения действующих лиц, он оказывается спо-
собным решить лишь локальный круг задач.
1 Kayser. Das sprachlihe Kunstwerk. Bern, 1956; E. Staiger.
Grundbegriffe der Poetik. Ziirih, 1961.
2 E. Souriau. Les deux cent willes situations dramatiques. Framma-
rion, 1950; P. Ginestier. Le thealre contemporain dans le monde.
Presses Universitaires de France, 1961; S. Marcus. Modheles dans
du drame. T. A. informations. Paris, 1967, N 2 и др. В нашей
литературе см.: В. Лефевр, Г. Смыслов. Алгебра конф-
ликта. М., 1962; Н. Воробьев. Художественное моделирование,
конфликты и теории игр.— Сб. «Содружество наук и тайны твор-
чества». М., 1968.
157
Перенос акцента на функционирование того или ино-
го структурного элемента покупается ценой ослабления
интереса к проблеме его отношения к действительности.
Обрыв связей с действительностью и как следствие не-
историчность становятся главными и, как показывает
практика структурализма, вовсе не абстрактными опас-
ностями подобного подхода, обнаруживая его близость
в этом отношении концепции «символических форм».
Вообще к подобным последствиям неизбежно приво-
дят ь *.е попытки классифицировать типы конфликтов по
их формальным моментам3. Такого рода методология
малоплодотворна; начиная с «конца», она остается зам-
кнутой в рамках чистой формы и в лучшем случае ока-
зывается способной к ее классификации по некоторым
признакам.
Но в данном случае нас интересует не столько сама
типология конфликта, сколько более общая проблема
его эстетической природы.
При всем том, что драматический конфликт не равен,
не тождествен конфликту реальному, он, в более широ-
ком смысле, в целом всегда детерминирован жизнью.
Даже относительная устойчивость его внешних, фор-
мальных черт есть лишь следствие того, что они отра-
жают некоторые общие закономерности действительно-
сти, подобно тому, как их отражают законы логики,
возникающие, по словам В. И. Ленина, в результате
многократного повторения в человеческом сознании дей-
ствительных отношений вещей.
В этой связи важно иметь в виду, что драматиче-
ский конфликт отнюдь не сводится к своему «внешнему
слою» и механической сумме непосредственных действий
и противодействий персонажей 4.
Герои драмы всегда так или иначе противопостав-
лены Друг другу; не случайно уже с самого начала в
ней было два действующих лица — антагониста, а до
введения Эсхилом «девтерагониста» первому актеру
3 См., напр. «Драматургию» А. Волькенштейна (М., 1960), кото-
рая содержит верные и интересные наблюдения, но рассматри-
вает драму как нечто живущее по своим внутренним, имманент-
ным законам и сводит ее форму к повторению ряда данных, не-
изменных «комплексов».
4 Близок к подобной интерпретации конфликта, например, И. Ки-
селев в работе «Конфликты и характеры» (М., 1957).
158
противостоял в определенном отношении хор. Вместе с
тем они далеко не всегда представляют собой прямую
персонификацию полюсов общественного конфликта.
Отелло и Яго действительно как бы воплощают две
стороны эпохи Возрождения —ее светлое, гуманистиче-
ское начало и цинично-индивидуалистическое отношение
к жизни; столкновения революционных героев М. Горь-
кого с бессеменовыми, скроботовыми, достигаевыми и
«другими», «разлом» в семье Берсеневых или борьба
героев «Молодой гвардии» — это прямое отражение ре-
альных социально-исторических конфликтов времени.
Классическим примером совсем иного рода может
служить «Ревизор», в котором «конфликт» Хлестакова
и чиновников — не более как только «верхний слой» со-
держания комедии, где в смешной и даже уродливой
форме преломились глубокие противоречия современной
Гоголю действительности.
Сходным образом видеть во всех случаях в героях
Чехова прямой социологический эквивалент тех сил, ко-
торые определяют всю глубину драматического содер-
жания его произведений, значит вульгаризировать проб-
лему, игнорировать само существование в них различ-
ных «уровней» содержания, их диалектику.
Очень часто драматический конфликт разделяет дей-
ствующих лиц на прямо противопоставленные друг дру-
гу группы. Но иногда может быть иначе. Егора Булы-
чова или Андрея Прозорова нельзя безоговорочно
отнести к какой-либо одной стороне в том столкнове-
нии общественных сил, на почве которого разворачи-
вается действие пьес Горького и Чехова. Они сами
внутренне противоречивые фигуры. В нашей современ-
ной драматургии, например, для ряда пьес А. Арбузова
характерно отсутствие отрицательных героев в строгом
и точном смысле этого слова, что, однако, не делает
его пьесы бесконфликтными.
Словом, сама внешняя расстановка героев может
быть весьма различной и достаточно сложной, когда
лишь в результате развития событий перед нами со
всей отчетливостью возникает то реальное противоре-
чие, которое лежит в основе драматического произ-
ведения.
Конфликт представляет собой динамическую, а не
статическую структуру; к нему можно с полным осно-
159
йайием отнести замечание Б. Асафьева о музыкаль-
ной форме, которая «обнаруживается и познается толь-
ко в самом движении, в процессе своего образования,
но мыслится нашим сознанием или фиксируется в нем
как единство отношений уже „post factum“, как ответ на
прослушанное»5.
z Являясь источником «самодвижения» драмы, дра-
матический конфликт как бы просвечивает сквозь
логику развития индивидуальных отношений героев —
они живут и действуют в его «драматическом поле».
Таким образом, не исчерпываясь внешними, непо-
средственными отношениями персонажей, он не может
быть сведен к сюжетному конфликту, представляя со-
бой понятие иное, более глубокое и емкое. Он много-
слоен, его сюжетный пласт, по справедливому замеча-
нию Гете, будучи действием значительным и важным,
указывает на другое еще более значительное, а «фронт»
не всегда прямая, а иногда сложная линия, проходя-
щая через души и сердца героев. ;
Сам тип конфликта социально-исторически детерми-
нирован, в реалистической драме он в конечном сче-
те отражает реальные общественные отношения и про-
тиворечия времени, когда, как замечает Ф. Энгельс,
герои выступают как представители «определенных
классов и направлений, а стало быть и определенных
идей своего времени, и черпают мотивы своих действий
не в мелочных индивидуальных прихотях, а в том исто-
рическом потоке, который их несет...»6
Таков его «нижний», фундаментальный слой, хотя
мера глубины и отчетливости выраженного в нем «осо-
знанного исторического смысла» может быть различной
и не всегда может достигать классической ясности, за-
фиксированной в формуле Энгельса,— это проблема
своеобразия исторических форм и степени зрелости ре-
алистического искусства.
В драматическом конфликте на первый план высту-
- пает логика развития противоречий — она теснее всего
! связана с моментом безусловности в том единстве услов-
\ ных и безусловных факторов, которые определяют
\ структуру всякого художественного произведения.
5 Б. Асафьев. Музыкальная .форма как процесс. Л., 1963, стр. 203.
6 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1. М., 1967, стр. 23.
160
Поэтому, например, трудно согласиться с высказы-
вающейся иногда точкой зрения, что сущность драмы
связана с заострением реальных жизненных противоре-
чий, доведением их до полной противоположности, ста-
дии «самодвижения»7.
Подобный взгляд теоретически опирается на извест-
ное замечание В. И. Ленина, комментирующее одно из
мест «Науки логики» Гегеля. «Мыслящий разум (ум),—
пишет В. И. Ленин,— заостривает притупившееся разли-
чие различного, простое разнообразие представлений до
существенного различия, до противоположности. Лишь
поднятые на вершину противоречия, разнообразия ста-
новятся подвижными (regsam) и живыми по отношению
одного к другому,— приобретают ту негативность, кото-
рая является внутренней пульсацией само-
движения и жизненност и» 8.
Однако безоговорочно распространять на сферу
искусства замечания, относящиеся к области логическо-
го, понятийного мышления, всегда представляющего
собой плод определенной абстракции, неправомерно.
Кроме того, это значило бы перенести различия между
обычными представлениями, остроумием и мыслящим
умом (именно об этом идет речь у В. И. Ленина) на
соотношение драмы и других форм искусства, поставив
ее в некое неоправданно привилегированное поло-
жение.
Односторонность такого взгляда — в ограниченном и
упрощенном понимании диалектики взаимоотношений
драмы и действительности. Представляя своего рода
антитезу так называемой «теории бесконфликтности» и
возникнув в свое время как реакция на практику раз-
вивавшегося под ее знаком искусства, «теория заостре-
ния», в конечном счете, содержит ту же опасность иска-
жения «драматической перспективы» и игнорирования
реальных противоречий жизни, хотя и приводит к этому
другим путем. Им становится та непременная драмати-
зация, к которой сводит эта теория проблему драма-
тической формы, минуя ее избирательность и связь с
определенными драматическими аспектами действитель-
ности.
7 См.: Е. Горбунова. Идея, конфликты, характеры. М., 1960;
Л. Нехорошее. Течение фильма, М., 1971, и др.
8 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 128. *
6
А. А. Карягин
161
Неподвижность, статичность или, напротив, «само-
движение», динамизм ситуации, так же как активность
или пассивность, вмешательство или бездействие по
отнош шию к ней человека — это важнейшие характе-
ристики данной коллизии и самого человека. Заостре-
ние здесь способно привести к насилию, привнесению
субъективного момента, затемнению истинной сути
драматизма.
Как вообще привести в движение коллизию того же
«Меншикова в Березове», заострить ситуацию «Обломо-
ва», актвизировать в социальном плане Леверкюна или
Свана — героя романа М. Пруста «В поисках за утра-
ченным временем», не изменив их сущности?
Конечно, и бездействие Меншикова, и пассивность
Обломова, так же как «герметизм» Леверкюна и Свана,
можно рассматривать как форму выражения более общих
и глубоких противоречий современной им действитель-
ности. Но для искусства они важны одновременно и
сами по себе, как реальные, содержательные факторы;
нельзя забывать о диалектике содержания и формы, их
относительности и переходе друг в друга.
То, что в рамках теоретического подхода может быть
интерпретировано как форма некоторых, более общих
явлений, для искусства часто уже «слой», момент его
содержания (хотя и по отношению к теоретическому
мышлению это представляет собой известное упрощение).
Иначе говоря, в методологическом плане «переход»
от предмета к содержанию в драме связан вовсе не с
обязательным обострением жизненных противоречий —
эта характеристика лежит скорее в плоскости жанро-
вых (гротеск, сатира, фарс и т. д.), чем видовых отли-
чий искусства,— а с отражением их реальной логики
в свете определенного эстетического идеала, хотя может
включать в себя заострение как частный случай.
Почва такого рода идей, как «теория заострения»
или противоположного стремления отбросить все огра-
ничения драматической формы,— этих попыток «приспо-
собить действительность к драме» или «драму к дейст-
вительности», нередко не считаясь с ее природой,—
вполне определенна. Ею становится усложнение реаль-
ных драматических противоречий и конфликтов дейст-
вительности, которые, не укладываясь в рамки преж-
них, традиционных представлений, требуют для своего
162
эстетического осмысления творческой смелости и вы-
зывают к жизни новые художественные принципы и
формы.
Это очень наглядно обнаруживается уже в драма-
тургии А. Чехова, которая, возникнув в конкретной
общественной ситуации конца XIX — начала XX веков,
становится открытием мирового значения и важнейшим
художественным рубежом в истории драмы. Кстати, не
случайно имя Чехова обычно связывается не только с
разрушением традиций, но и с возникновением самой
идеи свободы драматической формы в современном
театре9.
Мы уже говорили об одном из главных завоеваний
драматургии Чехова, которое заключалось в ее глубокой
«художественной прозрачности», позволяющей в незна-
чительных как будто бы поступках обыкновенных лю-
дей, во внешне простых жизненных обстоятельствах уви-
деть важное драматическое содержание действитель
ности.
Именно с его искусством неразрывно связано столь
существенное для всего искусства XX века понятие под-
текста (на этот раз речь идет о подтексте в широком
смысле, т. е. о его общехудожественном, а не дейст-
венном аспекте). Чехов не был первым — уже у Г. Ибсе-
на подтекст начинает играть значительную роль. Но, в
сущности, только у Чехова подтекст приобретает то но-
вое эстетическое качество, которое делает его важней-
шим атрибутом многих крупнейших явлений современ-
ного драматического искусства (да и не только драма-
тического).
В этом смысле влияние Чехова в широком эстети-
ческом плане оказывается гораздо более глубоким, чем
могло бы показаться с первого взгляда, и далеко не
исчерпавшим себя в современном искусстве. Сегодня
здесь можно ожидать новых открытий и завоеваний.
А. Чехов сам осознавал отличия своего метода от
метода художников XIX века. Но, может быть, еще бо-
лее отчетливо это выразил М. Горький, назвавший од-
нажды его искусство «нового рода реализмом, реализ-
мом, отточенным до символа» 10. Эта характеристика в
9 См. Д. Гасснер. Идея и форма в современном театре. М., 1964.
10 М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, стр. 52.
163
6*
высшей степени знаменательна. Особенно интересно
сближение с символизмом. Оно может показаться не-
сколько неожиданным и даже натянутым, но по-своему
оправдано. Ибо речь идет не о близости символистской
концепции мира и человека, а об огромной емкости,
богатстве, глубинности художественного образа, дости-
гаемой не отказом от изображения реальности и не за-
мещением ее системой условных иероглифов, а особой
внутренней структурой самого образа, его местом во
всем художественном контексте произведения и апелля-
цией к творческой способности зрителя, читателя, его
эстетическому и художественному опыту.
Ка:: ни кажется сегодня чем-то само собой разу-
меющимся, даже банальным известное сравнение Э. Хе-
мингуэя художественного произведения с айсбергом,
большая часть которого лишь угадывается нашим во-
ображением, нельзя забывать о том, что сама эта
идея — завоевание XX века и прежде всего искусства
А. Чехова, печать которого несет на себе творчество и
самого Хемингуэя, и таких разных художников совре-
менности, как Б. Шоу и Д. Пристли, Ч. Чаплин и
Ф. Феллини, Л. Осборн и Э. Пискатор, Э. Де Филиппо и
А. Миллер. Последний справедливо писал, что «влияние
Чехова на мировую драму не знает себе равного» п.
Творческая индивидуальность А. Чехова выражала го-
раздо более общую закономерность художественного
сознания, выходящую по своему значению далеко за
пределы драмы и театра. Однако ее художественный
смысл впервые обнаруживается именно в театре, где
она воплощается в понятии «второго плана», «подвод-
ного течения», «атмосферы» или, как предпочитали вы-
ражаться современники, «настроения».
Эта особая драматическая атмосфера, обнимавшая
собой сцену и зрительный зал, достигаемая тонким гар-
моническим сочетанием всех сценических слагаемых, их
сложным «контрапунктическим» звучанием (что стало
художественным открытием МХТ), способствовала уста-
новлению «духовной акустики» (Станиславский), эмо-
ционального резонанса, возникновению чрезвычайно чут-
кого и острого «коммуникативного канала связи» между
театром и зрителем, в русле которого самые тонкие и
11 См. «Театр», 1960, № 1, стр. 43.
164
сокровенные душевные движения и нюансы находят свой
отклик и несут определенный содержательный смысл 12.
Происходящие события у Чехова заключают в себе
всегда и нечто большее: они развиваются как бы на
фоне определенной общественной коллизии. Тем самым
конфликт не ограничивается рамками прямых взаимо-
отношений персонажей пьесы, он приобретает более
широкий смысл соотношения событий пьесы с обществен-
ными факторами, явлениями, непосредственно не изобра-
женными. Такого рода мостики, ведущие за рамки
сюжетной ситуации, бесконечно многообразны; ими прони-
зана вся художественная ткань чеховских пьес. Они и
в знаменитой фразе Астрова об Африке, и в его моно-
логе о лесах, в предчувствии Тузенбахом надвигающей-
ся «очистительной бури», в надежде Сони увидеть «небо
в алмазах» и в мечте сестер о Москве, в незримом
присутствии Протопопова и всего того, что он собой
олицетворяет, и в приобретающем символическое значе-
ние пожаре в III акте «Трех сестер» и т. п.
Искусство Чехова рождается в эпоху резкого обо-
стрения общественных противоречий и усложнения со-
циальных и психологических связей, когда от человека
оказывается порою скрытой реальная логика и подлин-
ный смысл остающихся вне поля его непосредственного
наблюдения связей и отношений; трудность их осозна-
ния возрастает, оно требует иного угла зрения, новых
способов художественного видения.
Более того, несовпадение форм общественной жизни
и их действительного значения, возрастающее расхожде-
ние между «видимостью» и сущностью приводят к уси-
лению роли самых разнообразных духовных, идеологи-
ческих иллюзий, порождаемых «отчуждением» личности,
власть которого искажает реальные перспективы ее взгля-
да на мир и свое место в нем.
Чехов делает важный шаг на пути художественной
разгадки драматизма подобного рода ситуации. По свое-
му содержанию, придававшему совсем иную значимость
12 Коммуникативные возможности подобного общения наглядно
демонстрируют такие зафиксированные в самом искусстве клас
сические примеры, как объяснение Кити и Левина в «Анне Каре-
ниной» или бессловесный диалог Маши и Вершинина в «Трех
сестрах».
165
подчеркнуто простым, обыденным героям и событиям,
«подводное течение» пьес Чехова было как бы эстетиче-
ским эквивалентом той напряженной драматической
атмосферы проникнутого острыми общественными проти-
в>речиями и предчувствиями времени кануна револю-
ции, которые в той или иной степени сказываются и в
поэзии А. Блока, в живописи 'М. Врубеля, в музыке
А. Скрябина.
Таков был реальный общественный подтекст этого
нового художественного качества критического реализма
XX века, и в этом состояло его отличие от многознач-
ности символизма, не говоря уже о различных поздней-
ших направлениях модернистского искусства, где это
эстетическое качество, оборачиваясь мнимой многозна-
чительностью, превращается уже в свою прямую абсо-
лютную противоположность (например, у Э. Ионеско).
Возникнув в ответ на потребности своего времени и
сформировавшись как определенное эстетическое каче-
ство искусства, «подтекст», как всякое подлинное худо-
жественное завоевание, продолжает затем свою само-
стоятельную жизнь. Он отделяется от контекста непо-
средственно породивших его обстоятельств и приобретает
более широкий смысл, оказываясь «включенным» в ло-
гику развития художественного сознания 13.
Диапазон его в искусстве XX века достаточно широк,
градации тонки и многообразны и всякий раз требуют
конкретного анализа. Одно дело, скажем, драматургия
самого А. Чехова с ее ясным вторым планом, отражаю-
щим реальные драматические конфликты эпохи, и уже
другое — соприкасающийся с символизмом театр А. Блока
с его гораздо более туманной романтической атмосфе-
рой, опутывающей в значительной мере условных ге-
роев,— здесь подтекст оказывается уже на грани ино-
сказания. Это может быть отнесено, например, к неко-
торым лирическим драмам А. Блока («Король на пло-
щади», «Роза и Крест»), пронизанным своеобразной
драматической атмосферой, которая отражает не столь-
ко объективные общественные факторы, сколько субъек-
13 В этом смысле А. Чехов, конечно, не «убивал реализм», в чем
его однажды полушутливо упрекнул М. Горький, и вовсе пе «ис-
черпывал» его, как это утверждал А. Белый, а развивал его
дальше. Но здесь характерно самое восприятие новизны чеховско-
го 'искусства.
166
тивные отклики на них души самого поэта, по его
собственному признанию, «только представленные в дра-
матической форме» 14.
Перед нами иная мера художественной и социаль-
ной конкретности искусства, хотя, в отличие от симво-
листов, сама идея сосуществования двух миров — внеш-
него, доступного и открытого непосредственному вос-
приятию и другого, лежащего «за ним», «по ту сторону»,
о котором мы судим лишь по косвенным свидетельст-
вам и признакам, у А. Блока по-своему отражает ре-
альный факт «раздвоения» окружавшей его действи-
тельности и переживается как драматический, даже тра-
гический мотив.
Не менее сильно разнятся между собой социальная
определенность художественного подтекста в искусстве
итальянского неореализма и неустойчивость его и зыб-
кость в театре Л. Пиранделло, где сама проблема «ви-
димости», «призрачности» внешнего облика жизни, ее
«лица» и «маски» оказывается центром идейного содер-
жания (хотя и то, и другое явление опирается на не-
которые общие корни и традиции в итальянской куль-
туре) .
В своем конкретно-историческом бытии подтекст,
обогащая возможности искусства, вместе с тем нередко
несет в себе известный оттенок неотчетливости, раз-
мытости взгляда на мир.
Независимо от степени художественной «прозрачно-
сти» в нем остается доля неопределенности — она не на-
меренна, а вынуждена, ее ценой куплено само расши-
рение поля зрения. Такова историческая диалектика его
развития 15. У Чехова при всем внутреннем оптимисти-
ческом строе его искусства, вере в «очистительную
бурю», которая придет и заставит засверкать символи-
ческое «небо в алмазах», это сказывается в абстракт-
Именно на это обстоятельство ссылался Станиславский, размыш-
ляя о трудностях сценического воплощения драматургии А. Бло-
ка (см. К. С. Станиславский. Соч., т. 6, стр. 275).
15 «Мир был четкий и ясный, лишь слегка затуманенный по кра-
ям»,— пишет Хемингуэй в «Фиесте», и эта фраза символична для
подобного типа вйдения действительности, ибо, как совершенно
справедливо заметил переводчик и исследователь творчества пи-
сателя И. Кашкин, «края — это и есть связь и отношения лич-
ного восприятия с окружающим миром» («Вопросы литературы»,
1964, № 1, стр. 114).
167
ности контуров исторической перспективы, в позиции его
героев, их девизе прежде всего делать свое дело и,
веруя, «ждать».
Вместе с тем пьесы Чехова не бездейственны и во-
все не лишены драматического развития событий, что
убедительнее всего доказано как раз практикой театра
(особенно такими его спектаклями, как, например, «Три
сестры» в постанове В. И. Немировича-Данченко,
1940), опровергающей подобного рода суждения некото-
рых теоретиков — от Р. Пикока до Ж.-П. Сартра. Его
гг(рои не пассивны в «обломовском» смысле слова. Они
действуют в рамках собственной, личной этики и меры
понимания драматической ситуации. Правда, их поступ-
ки не лежат на пути кардинального разрешения проти-
воречий, которые оказывают решающее влияние на их
судьбы, но это результат не апатии или безверия,
а драматического незнания настоящей дороги. Они не по-
беждают, но и не примиряются с той на каждом шагу
вторгающейся в их жизнь стихией бесчеловечной дейст-
вительности, столкновение с которой составляет дви-
жущую силу конфликта пьес Чехова,— часто герои
противостоят ей даже в большей мере, чем друг
Другу.
В результате этого столкновения они оказываются в
новых отношениях, меняющих течение их жизни. Оно
уже не может продолжаться по-прежнему, и все же
продолжается... Подобная антиномия обнаруживается в
финале почти всех чеховских пьес; она составляет их
драматическое содержание.
В целом это был, как нередко случается в истории
искусства, противоречивый процесс, в котором драма, с
одной стороны, совершенствуется как способ художест-
венного исследования действительности, проникновения
вглубь ее определенных психологических областей и со-
циальных пластов, а с другой — снижает свое героиче-
ское начало. Оно возрождается затем в новом, рево-
люционном качестве в драматургии Горького, но в том
и состояла диалектика этого процесса, что драма Горь-
кого была подготовлена и творчеством Чехова. Как
справедливо замечает Немирович-Данченко, театр Горь-
кого не исключает театра Чехова, а вбирает его в себя.
Вместе с тем логика действия пьес Чехова как бы во-
площает в себе историческую неизбежность конечного
168
преодоления этих драматических противоречий его вре-
мени и веру в будущее.
В своей оценке драматургии Чехова Ж.-П. Сартр
неправ дважды: в историческом плане он неисторичен,
в теоретическом он исходит из диаметрально противо-
положной, экзистенциалистской концепции личности,
абсолютизирующей индивидуальное действие, где оно.
выступая единственно истинным способом самоутверж-
дения человека, нередко превращается в самоцель.
Предпринятое Чеховым усложнение структуры дра-
матического конфликта и расширение его рамок стано-
вится чрезвычайно важным открытием искусства. Фор-
мы его в драме XX века весьма разнообразны. Но они
неизменно связаны с исследовательским пафосом искус-
ства, углублением художественного анализа, вовлечением
в его орбиту часто недоступных прямому, непосредст-
венному наблюдению явлений и областей.
Другое направление в драматическом искусстве, по-
рожденное, в сущности, той же эстетической потребно-
стью, что и искусство Чехова, но идущее уже совсем
иным, во многих отношениях даже противоположным
путеХ олицетворяет собой эпический театр Б. Брехта.
Он возникает в результате попытки, по словам са-
мого драматурга, дать практический ответ на вопрос:
«можно ли отобразить современный мир средствами
театра?»16. Его особенности рождаются из желания
«получить более точную картину социальных сил, дей-
ствующих вне сферы ,,непосредственного видимого”. Это
уже вполне определенная формулировка художника,
очень отчетливо представляющего себе общественную
функцию своего искусства.
Оно призвано дать возможность человеку по-новому
взглянуть на привычные, ставшие штампами и трафа-
ретами представления, освободиться от автоматизма
мышления, идеологических иллюзий и наслоений и обре-
сти собственную и в то же время научную, т. е. под-
линно «человеческую» (Брехт) точку зрения на вещи.
Причем своеобразный парадокс заключается в том, что
и подтекст, и очуждение в реалистическом театре
при всей своей внешней полярности преследуют в ко-
16 См.: Б. Брехт. О театре. М., 1960, стр. 67.
169
нечном счете ту же цель — увеличить «угрызения.» искус-
ства, усилить его «проникающую способность,» раздви-
нуть его исторический горизонт.
Нетрудно видеть, что при всем полемическом пафосе
Б. Брехта, направленном против «аристотелевского»
театра, в самом принципе соотнесения действия с тем,
что лежит за его пределами, непосредственно не изобра-
жено, у Брехта есть нечто общее с Чеховым (кроме
того, необходимо иметь в виду разницу между брехтов-
ской моделью театра переживания и искусством Чехова
и С/аниславского, отнюдь не предполагающим прямую
идентификацию актера с ролью и зрителя с действую-
щим лицом).
Отличие заключается лишь в том, что в данном слу-
чае не «второй план» действия и не подтекст, а па-
раллельный, сопровождающий его комментарий стано-
вится средством увеличить «угол зрения» театра па
действительность, расширить горизонт его вйдения. При-
чем роль эпического комментария раскрывается не столь-
ко в его чисто повествовательной, «сюжетной» функций,
сколько именно в задаче помочь зрителю подняться «от
реализма до философских обобщений» (пользуясь вы-
ражением М. Горького об искусстве А. Чехова), при-
общить его к более широкому социальному опыту.
Так прямая логическая характеристика («действие
может происходить всюду, где есть эксплуатация челове-
ка человеком») придает совсем особое значение рассказу
о судьбе бедной китайской девушки, «доброго человека
из Сезуана», тщетно пытающейся творить добрые дела
для других, заставляет нас взглянуть на эту простую
историю иначе, в другом масштабе, переводит ее конф-
ликт в общественно-исторический план. Точно так же в
«Кавказском меловом круге» сопровождающий действие
эпический комментарий в сопоставлении с сюжетом из-
вестной притчи позволяет увидеть в ней нечто гораздо
большее — идею утверждения истинно человеческого
права:
Все на свете принадлежать должно
Тому, кто добрым делом славен, то есть:
Дети — материнскому сердцу, чтобы росли,
Повозки — хорошим возчикам, чтобы быстро катились,
А долина тому, кто ее оросит, чтобы плоды приносила.
170
Обобщение, условность Брехта неожиданно соседст-
вуют с предельной конкретностью, порой с частными,
даже натуралистическими деталями 17. В художествен-
ном плане они служат Брехту определенными точками
опоры в условной конструкции его пьес (в этой связи
вспоминаются слова Вс. Мейерхольда о том, что в теат-
ре равно недопустимы ни абсолютная конкретность, ни
чистая условность, но иногда возможно их соединение).
Однако сфера конкретности здесь имеет совсем дру-
гой, чем у Чехова, характер, она однозначна, исчерпы-
вающа по отношению к самой себе и приобретает свой
эстетический смысл на фоне некоторых идеологических
предпосылок.
Можно было бы сказать, что содержание, скрытое
у Чехова в подтексте, у Брехта оказывается вынесенным
в «надтекст», в контрапункте с которым развертывается
действие и в свете которого вырисовывается драматиче-
ский конфликт.
В этом направлении и Чехов, и Брехт, опираясь на
разные аспекты сознания современного человека—спо-
собность ассоциативного восприятия и культуру интел-
лектуального мышления, как бы обозначают тенденции
развития сегодняшнего театра, хотя необходимо отдать
себе отчет во всем различии конкретно-исторических
предпосылок, степени ясности социального пафоса и
связей с национальными традициями их искусства.
С этой точки зрения они не просто изобретают формаль-
ные приемы, а утверждают принципы, которые, приобре-
тая в творчестве других художников новые черты, со-
храняют свое общее эстетическое значение — такова
историческая роль и границы их собственного опыта.
Таким образом, в более широком эстетическом и ме-
тодологическом плане Чехов и Брехт могут быть постав-
лены рядом. Возникая в различных исторических усло-
виях, их искусство олицетворяет собой не только разные
этапы эволюции современного театра, но и два его худо-
жественных полюса, единство его противоположностей,
между которыми располагается множество оттенков и
переходов. Их одинаково неправомерно как искусствен-
но сближать, так и считать взаимоисключающими друг
17 Об этом справедливо писал Б. Зингерман (см. «Жап Вилар и
другие». М., 1964).
171
друга. Такой подход страдал бы эстетической односто-
ронностью и был бы неисторичен. Например, может по-
казаться соблазнительным построить некоторый ряд:
подтекст, эпический комментарий, документальный
факт, имея в виду общую идею возрастающей социаль-
ной определенности и активности искусства. Однако это
будет лишь абстрактная генетическая схема, обедняю-
щая реальный процесс. За ее пределами останется соб-
ственная логика развития искусства, того наследуемого
от предшественников художественного, «мыслительного
материала», который в своей претворенной форме вхо-
дит в духовную жизнь современности и обогащает ее
эсте7ическ^е сознание.
В самой действительности сегодня рядом с противо-
, речиями и конфликтами, отличающимися «эстетической
прозрачностью» и ясностью, существуют явления гораз-
। до более сложные и скрытые: одни из них предстают
в своем истинном виде, будучи восприняты сквозь приз-
му очуждения, в свете «эпического комментария», тог-
да как для разгадки других необходимым оказывается
«второй план», «подтекст».
Такова диалектика процесса художественного позна-,
ния. Существенную роль в ней играет творческая ориен-'
тация и социальная зоркость художников, заставляю-
щая их обращать преимущественное внимание на раз-
ные явления жизни и даже по-разному видеть одни и те
же вещи (как это было, например, в свое время с
Л. Толстым, А. Чеховым и М. Горьким).
Таким образом, для художника тип конфликта — воп-
рос не технологии, а отношения к действительности,
осмысления ее исторических тенденций, логики развития
\ общественных противоречий.
Рассматривая под таким углом зрения структуру
драматического действия, в ней можно условно выде-
лить по крайней мере три самостоятельных, но прони-
кающих друг в друга «слоя» (условно, потому что меж-
ду ними в свою очередь существуют промежуточные
«уровни»).
Во-первых, самый фундаментальный, глубоко лежа-
щий и устойчивый, связанный с наиболее общими зако-
нами драматической формы. Воплощая в себе ее специ-
фику, то, что отличает драму от других форм искусства,
он имеет видообразующее значение; его определение —
172
драматический конфликт в том его действенном аспекте,
о котором шла речь выше, в разделе о природе театра.
Во-вторых, это более подвижный, выражающий тот
или иной конкретно-исторический тип конфликта «слой»,
связанный с особенностями действительности, выступаю-
щей для драматурга как предмет его искусства и опре-
деляющей его эстетическую функцию. Искусство того же
Чехова или Брехта — чтобы не ходить далеко за приме-
рами — может быть здесь названо среди многих других
явлений.
Наконец, в-третьих, это самый верхний и индиви-
дуально неповторимый «слой», обозначаемый обычно
как сюжетный, т. е. конкретная история взаимоотноше-
ний и столкновений действующих лиц, рассказанная
драматургом и являющаяся непосредственным, внешним
мотивом движения драматического действия.
Нетрудно заметить, что все три упомянутые «слоя»
структуры конфликта несут на себе печать объективных
и субъективных моментов художественного творчества,
«следы» реальной действительности и активности созна-
ния. Однако в каждом из них эта диалектика прелом-
ляется по-разному^ ____—-----____________ - -
Наиболее наглядным и непосредственным образом
власть действительности, ее форм дает о себе знать,
естественно, в самом верхнем слое; даже приобретая
условный, «параболический» характер, он стоит «ближе»
других к реальности; в «типе» конфликта она опосредо-
вана всем духовным содержанием личности художника,
его мировоззрением и мировосприятием; наконец,
в «нижнем» слое она запечатлена через опыт и тради-
ции предшествующего развития искусства в основных,
уже «безличных» эстетических принципах вида, жан-
ра— своеобразной «памяти искусства» (М. Бахтин) о
реальности (еще раз вспомним высказывание Ленина о
законах логики как отражении реальных связей и отноше-
ний в мире).
Соответственно «вмешательство» художника здесь
сказывается по-разному — от выбора вида искусства,
который символизирует собой фундаментальный «слой»
структуры произведения, до создания индивидуальной
художественной «модели» общественного конфликта.
Иначе говоря, художник всегда имеет дело с некото-
рыми независимыми от него «изначальными» законами
173
художественной формы, с одной стороны, и с формами
лежащей вне его сознания действительности — с другой.
Творчески преломляясь в произведении, они образуют
его индивидуальную художественную структуру, кото-
рая в целом оказывается детерминированной реаль-
ностью.
Действительно, в реалистической драме структура
конфликта представляет собой в конечном счете систе-
му различных ступеней или уровней отражения действи-
тельности. Причем сама иерархия этих элементов имеет
свой содержательный смысл. Соотнесение их между со-
бой в произведении означает, в сущности, сопоставление
частного случая и общего закона, индивидуальной исто-
рии и логики процесса, взаимную «проверку» их друг
другом 18.
Художественный способ этого столкновения и вместе
с тем синтеза общего и частного варьируется доста-
точно широко — мы наглядно видели это опять-таки на
примере Чехова и Брехта, но за ним стоит одна из
наиболее универсальных проблем искусства—проблема
соотношения личности и общества.
В драматическом искусстве она имеет свой специфи-
ческий аспект. Отражая конфликты действительности,
драма всегда содержит определенный взгляд на роль
и мотивы участи личности в общественном конфликте,
в разрешении его противоречий.
Здесь мы соприкасаемся с тем субъективным момен-
том драматического искусства, в котором в первую оче-
редь воплощается мировоззренческое начало и эстетиче-
ский идеал художника.
18 Идея об эстетическом значении «столкновения» реальности и ху-
дожественной формы, момента «уничтожения содержания фор-
мой» развита в концепции А. Выготского (см. «Психология ис-
кусства». М., 1968), хотя рассматривается им преимущественно
со стороны психологии и интерпретируется как противоречие (в
трагедии) «фабулы, сюжета и действующих лиц». Вместе с тем
нам представляется, что при всей плодотворности общей пред-
посылки Выготского указанный конфликт, имеющий не только
психологический, но и идеологический аспект, реализуется в рам-
ках противоречия не между фабулой как жизненным прообразом
событий в пьесе и ее сюжетом, но и внутри произведения, меж-
ду различными слоями его структуры, которые несут на себе пе-
чать «присутствия» действительности и являются элементами
формы.
174
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЛИЧНОСТЬ
Анализ драматического искусства в связи с трактов-
кой общественной ответственности личности и ее отно-
шения к важнейшим социальным проблемам времени
позволяет особенно ясно увидеть различие и даже про-
тивоположность путей и перспектив современной драмы
в зависимости от ее исходных идеологических и фило-
софских предпосылок.
Проблема начинается с понимания смысла человече-
ского действия. Часто за признанием его решающего
значения для судьбы самого человека и его характери-
стики скрываются совершенно различные, даже поляр-
ные точки зрения.
Если у Гегеля действие — хотя оно и есть то, в чем
«человек проявляет себя в своей глубокой сущно-
сти» 19,— рассматривается как форма осуществления не-
зависимой необходимости, выражающей абстрактную
логику развития «абсолютной идеи», то у Сартра, кото-
рый почти в тех же самых выражениях утверждает, что
«человек познается прежде всего в том, что он де-
лает» 20, действие — лишь способ экзистенциального вы-
бора человеком «самого себя», а та извечно преследую-
щая человека ответственность, к которой он «пригово-
рен», означает лишь ответственность личности перед
собой и на деле ведет к общественной безответственно-
сти, ибо предвидеть все последствия этого выбора не-
возможно, да и бесполезно, поскольку он ничего, в сущ-
ности, не способен изменить в мире.
Одно дело — действие в трактовке современного
прагматизма с его откровенно эгоистической и утилита-
ристской окраской или, напротив, «бескорыстное», но не
менее индивидуалистическое действие у А. Мальро и
А. Жида, призванное служить самоутверждению героя,
и совсем другое — гуманистическая сущность действия
у Сент-Экзюпери, для которого оно совершается ради
человека, а быть человеком — значит чувствовать ответ-
ственность перед тем, «что, казалось бы, и не зависит
от тебя. Гордиться победой, одержанной товарищем. Со-
19 Гегель. Соч., т. 12. М., 1938, стр. 223.
20 «Иностранная литература», 1961, № 5, стр. 213.
175
знавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь
СТрОИТЬ МИр» 21
Для Драматического искусства данная проблема
имеет особенно важное, основополагающее значение,
о сознании античности активность личности, ее судьба
и общественные противоречия времени лежали в еще
не пересекающихся, параллельных плоскостях — отсю-
да идея рока, «deux ex maxima» и другие эстетические
качества греческой трагедии. Их связь устанавливается
н реалистическом искусстве Возрождения, хотя уже тра-
гедии Шекспира, несмотря на их исторический опти-
мизм, веру в конечную победу добра над злом, пост-
роены на Драматическом крушении идеи о неограничен-
ных возможностях личности в рамках складывающихся
общественных отношений.
Не менее показательно, что если вначале на почве
)уржуазнс э мировоззрения, когда буржуазия объектив-
10 выступает еще от имени не своего класса, а всего
‘еловечества (ф. Энгельс), возникают такие художест-
венные явления, как полная действия и жизни драма-
ургия Бомарше, утверждающая активность человека
* борьбе за свои права и личное счастье, по мере того,
ак все более дает себя знать «вещная зависимость»,
скрытая под внешним обликом личной независимости,
уржуазная драма приходит в конце концов к неразре-
шимым противоречиям.
р одном из своих направлений, когда, по выражению
ерцена, Фигаро, бывший прежде вне закона, становит-
я уже законодателем, драматургия попросту отказы-
ается от Изображения подлинно глубоких обществен-
ных противоречий времени. При этом она в высокой
гепени действенна, но бесконечно далека от реально-
о драматизма действительности, активность ее ге-
роев всего лишь буржуазная индивидуалистическая
редприимчивость, практичность, расчет. Эта линия ве-
от к Драматургии Скриба, Сарду, Ожье и может быть
родолжена далее, вплоть до современных произведе-
тпш; пР°славляющих «self made man» («человек, создав-
ши се°я сам») и основанных на прагматической кон-
спции Деятельности. Как правило, она оказывается ли-
еннои сколько-нибудь глубоких и значительных харак-
А. де СенТ'Экзктери. Земля людей. М., 1957, стр. 31.
176
теров. И это понятно, поскольку подлинно драматиче-
ский характер всегда проявляется в сфере социального
творчества, в созидании общественных отношений, а не
в приспособлении к ним.
Там же, где буржуазная драма так или иначе ка-
сается действительных социальных противоречий, пы-
таясь дать их реальное осмысление, она оказывается
перед лицом огромных трудностей. Показывая, с боль-
шей или меньшей художественной силой, драматизм
положения человека в мире буржуазных отношений, она
чаще всего ограничивается констатацией этого факта и
в лучшем случае переводит проблему в план абстракт-
ных моральных категорий и идей внутреннего освобож-
дения человека. В этом смысле у многочисленных иссле-
дователей на Западе, считающих искусство Ибсена и
Шоу пунктом перехода к «современному театру», есть
свои основания 22.
Театр Ибсена действительно находится на перепутье,
дороги от которого ведут в разные, порой противополож-
ные стороны. С одной стороны, в таких его драмах,
как «Столпы общества», «Доктор Штокман» или «Нора»,
нравственная непримиримость и максимализм героев не-
сут в себе мощный потенциальный заряд социального
протеста. С другой стороны, в его творчестве (особенно
позднего периода) впервые прозвучали символистские
мотивы («Строитель Сольнес», «Маленький Йольф»,
«Джон Габриель Брокман»), которые, утверждая идею
независимости судьбы человека от его активного, дейст-
венного начала, снова ставят под сомнение эту связь.
Если на заре развития буржуазного театра Бомарше,
утверждая своим, полным жизнелюбия и оптимизма,
искусством, общественную активность человека, писал
о том, что неотвратимые удары судьбы не имеют для
ума никакого морального смысла и что всякая вера во
власть рока унижает человека, отнимая у него свобо-
ду23, то М. Метерлинк уже мечтает о чем-то «соответст-
вующем древнему року», о высшей силе предопределения
22 7?. Peacock. Art ef Drama. London, 1958; F. Lumley. Trends in
20-th Century Drama, London, 1959; S. Melchinger. Drama zwi-
schen Show und Brecht. Hamburg, 1961.
23 См. Бомарше. Спор о жанре серьезной драмы. Хрестоматия по
западноевропейскому театру под ред. С. ДАокульского. ДА., 1955,
стр. 213.
177
как признаке подлинно великого драматического произ-
ведения. «Старик, сидящий в кресле и невольно прислу-
шивающийся к извечным законам, царящим в мире»24,—
вот идеальный объект для изображения в современной
драме.
Другой аспект той же идеи развивает в «Письмах
о театре» Л. Андреев, полагая, что «действие и зрелище,
когда-то создавшие театр, ныне становятся его убийца-
ми, деспотами, поскольку сама жизнь в ее наиболее дра-
матических и трагических коллизиях все дальше отхо-
дит от внешн/го действия... в тишину и внешнюю не-
подвижность интеллектуальных переживаний» 25.
Сам принцип неподвижного театра с его стремле-
нием сделать «видимым невидимое» и «выразить невы-
разимое» оказался внутренне противоречивым уже пото-
му, что последовательное проведение его вступало
в конфликт с природой театра как искусства.
«Неподвижный театр — абсурдно противоречивое со-
поставление понятий»,— писал позднее М. Горький,
проницательно замечая, что распространение идеи непод-
вижного театра знаменовало «стремление определенных
групп и единиц к нейтральности, пассивизму. И это
вполне характерно накануне революции» 26.
Сам символизм в своей двойственности был чрезвы-
чайно показателен как первый симптом постановки про-
блемы отношений личности и общества, характерной для
буржуазного сознания XX века. Его кризис был связан
не только с чисто художественными факторами. Он был
обусловлен прежде всего изменением общественных ус-
ловий, когда такая постановка проблемы во многом ут-
рачивала свой смысл. Она оказывалась слишком абст-
рактной, общей и беспомощной перед лицом бурных ре-
волюционных преобразований, происходящих в самой
действительности в первой четверти XX века, выявляю-
щих с особенной ясностью возрастающее значение субъ-
ективного фактора и прежде всего новую роль народных
масс на арене истории.
24 Af. Метерлинк, Поли. собр. соч., т. 3. Изд. В. Саблина, 1903—
1909, стр. 47.
25 Л. Андреев. Собр. соч., т. 8. М., 1913, стр. 312.
26 «Вопросы литературы», 1961,’№ 4, стр. 84. Пометки М. Горького
на докладе о драматургии на I съезде ССП.
178
Косвенным отликом на эти исторические сдвиги на
короткое время становится экспрессионизм, но откли-
ком, отразившим реальность в перевернутом виде: исто-
рическая миссия масс приобретала в нем негативный
смысл слепой разрушительной стихии, поглощающей ин-
дивидуальность, стихии, руководствующейся менее
всего разумным, конструктивным началом. В этой связи
оказывается уместным вспомнить снова слова В. И. Ле-
нина о том, что когда народные массы со своей грубова-
той решимостью начинают творить историю, буржуа,
ощущая чувство страха, утверждает, что в этом движе-
нии «разум отступает на задний план»27.
Одновременно экспрессионизм, как и символизм, об-
наруживает эстетическую противоречивость в своем от-
ношении к театру как искусству. Причем на этот раз
внутреннее противоречие связано уже не с бездействен-
ностью и погружением в глубины неосязаемого «инобы-
тия», а с нивелированием личности с акцентом на изоб-
ражении массы в искусстве, отражающем общественные
коллизии прежде всего через отношения индивидуаль-
ных героев. Альтернатива «человек — масса», сформу-
лированная в заглавии одной из самых значительных
пьес Э. Толлера, обозначает то неразрешимое противо-
речие, которое становится роковым для судьбы экспрес-
сионизма. Это обстоятельство, а также в целом нега-
тивный пафос, пронизывающий это искусство, сделали
век экспрессионизма как конкретно-исторического явле-
ния еще более быстротечным и коротким, хотя экспрес-
сионизм, как и символизм, создает определенные художе-
ственные ценности и становится исходным пунктом эво-
люции ряда крупных художников (например Б. Брехта).
А главное, в плане интересующей нас проблемы, экс-
прессионизм на свой собственный лад варьирует ту же
мысль о незыблемости, неизменяемости существующего
порядка вещей. Его драматический пафос возникает в
результате постоянного нагнетания напряжения; -поол€
вокруг одного и того же неразрешимого противоречия:
^драматического взрыва», когда рассеиваются его пос-
ледствия, ничто, в сущности, не изменилось и все мо-
жет начинаться с начала. Именно так обстоит дело и
27 В. И. Ленин. Полное собрание сочинении, т. 12, стр. 327.
179
в «Газе» В. Газенклевера, и в «Человеке-массе» Э. Тел-
лера.
Таким образом, генезис этой идеи невозможности,
бессилия человека изменить что бы то ни было в мире
обнажает ее тесную связь с кризисом буржуазного те-
атра. В той или иной интерпретации она становится гос-
подствующим драматическим мотивом в тех явлениях
современного буржуазного искусства, которые выходят
за пределы «хорошо сделанной пьесы» и сферы развлека-
тельное театра и стремятся осознать драматические про-
тиворечия современной действительности.
В рамках бесконечно усиливающегося противоречия
между той объективно возрастающей исторической от-
ветственностью, к которой действительно сегодня «при-
говорен человек» (Сартр), и силами отчуждения, кото-
рые скрывают под маской различных иллюзий реаль-
ность, пытаются парализовать социальную активность
личности, классический вопрос «что делать?» приобрета-
ет новый, жгучий смысл.
Соотношение между остротой критического пафоса
и мотивами зависимости человека от того, на что он
сам не имеет реального влияния, какую бы форму она
ни принимала — власти социального механизма, биоло-
гического начала или, напротив, господства «чистой слу-
чайности» (этого эквивалента «видимой свободы»),— яв-
ляется определяющим для судеб современного драма-
тического искусства Запада. Это соотношение имеет ши-
рокий диапазон и может варьироваться в зависимости
от миросозерцания и идеологической позиции художника
и принимать различный художественный облик.
Искусство XX века дает сколько угодно примеров
самого различного толка. Одним из них может явиться
творчество О’Нила, который сам не раз говорил о ряде
своих пьес («Продавец льда грядет», «Нескончаемые
дни»), что они рассказывают не столько об отношениях
людей друг к другу, сколько об отношении человека к
некоему независимому от него началу, пьес, где крити-
ческий взгляд на реальность окрашен горечью безысход-
ности и отчаяния.
Не менее характерно искусство и другого крупного
и столь же противоречивого американского драматур-
га— Теннесси Уильямса. В таких пьесах, как «Трамвай
Желание» или «Кошка на раскаленной крыше», где фрей-
180
дистские мотивы дают себя знать наиболее остро, Уиль-
ямса интересует не столько проблема пола сама по себе,
которая здесь только слой или, точнее, форма содержа-
ния драмы, сколько именно проблема детерминирован-
ности человеческой судьбы, проблема способности чело-
века выйти за пределы независимого от него самого
сложившегося хода вещей, преодолеть его «инерцию».
Если в «Трамвае Желание» «вину» за трагедию
Бланш Дюбуа делят пополам и общество, и некий оп-
ределяющий ее поведение психологический комплекс, то
судьба героини пьесы «Кошка на раскаленной крыше»
оставляет на этот счет уже гораздо меньше сомнений.
Решающее слово здесь принадлежит миру подсознания,
власть которого неизмеримо сильнее, нежели попытки
человека побороть его влияние и отстоять свою внут-
реннюю свободу. Именно это обстоятельство для дра-
матурга и предстает как драматическое, но в то же
время непреодолимое противоречие бытия.
В русле поисков решения подобного рода проблем и
противоречий развивается и окрашенное более позитив-
ным пафосом искусство А. Миллера, проникнутое верой
в гуманистические ценности, а порой и в необходимость
прямого, хотя и индивидуального действия («Случай в
Виши») 28.
Несколько особое место занимает искусство, которое
порой объединяют термином «интеллектуальный театр»,
хотя за ним скрываются весьма различные явления.
Если здесь и есть нечто общее, то это попытка осмыс-
лить поставленную временем проблему исторической от-
ветственности личности, не ограничиваясь ее драматиче-
ской констатацией, прежде всего с помощью разума как
инструмента исследования действительности. Это обстоя-
тельство с самого начала определило особенности фор-
мы данного направления и его внутреннюю противоре-
чивость.
28 «Новая поэзия возникает потому, что возникает новая гармония,
включающая в себя детерминизм и свободу воли. Если сущест-
вует невидимая цель, к которой направлены мои пьесы, то это
открытие и доказательство того, что наши поступки и нас самих
определяют внешние силы и в то же время мы — больше, чем то.
что нас определяет»,— писал Миллер в предисловии к своим пье-
сам, и в этих словах звучит протест против социальной пассив-
ности личности, хотя и выраженный в самой общей форме
(Л. Miller. Selected plays. N. Y., 1958, p. 12).
181
Принято считать, что начало «интеллектуального
театра», в современном смысле термина, было положено
Б. Шоу. Как бы мы высоко ни оценивали творчество
этого выдающегося реалиста и его вклад в развитие со-
временной драмы, нельзя не увидеть и известной огра-
ниченности его эстетической позиции, ее связи с миро-
воззрением драматурга, мотивами фабианского социа-
лизма, характерными для его убеждений.
Его идея о том, что теперь пьеса должна опирать-
ся не столько на действие, сколько на «дискуссию» —
ключевой элемент современной драмы, которая вообще
начинает свою историю с того момента, когда Нора и
Торвальд (в «Норе» Ибсена) «садятся, чтобы обсудить
свои отношения», — эта идея ведет к двойственным пос-
ледствиям. Выдвинутая в полемике с принципами так
называемой «хорошо сделанной пьесы», стремившейся
уйти от обсуждения важнейших общественных проблем
времени, она содержит свои собственные противоречия.
Они вытекают из убеждения Б. Шоу, что социальные по-
роки общества (на них он обрушивает всю силу своего
обличительного пафоса) — следствие моральной измены
людей самим себе, лучшим человеческим качествам.
Изменение общественной среды, по мнению Б. Шоу,
должно совершаться эволюционным путем. Своим исход-
ным стимулом оно имеет личную волю, разбуженную
сознанием недостатков общества. Этот пункт придает
иногда драме Шоу оттенок умозрительности и морализа-
торства там, где необходима борьба.
В «Человеке и сверхчеловеке» — этой, как заявил
Шоу, «попытке написать новую книгу Бытия для Биб-
лии эволюционистов», предостерегая от опасности гос-
подства «белокурой бестии», он сам одновременно бли-
зок к идее сверхчеловека, правда, уже совсем иного
толка. Его идеал — это некая интеллектуальная элита,
способная во имя разума и порядка повести за собой
менее одаренных людей к благам фабианского социа-
лизма.
Напряжение воли и сознание нравственного долга
играют главную роль в этом процессе эволюции чело-
века и человечества. (Сочувственно ссылаясь на Канта,
Шоу замечает в ремарке к III акту «Человека и сверх-
человека»: «Если бы все поступали, как я, мир был бы
вынужден перестроиться заново и уничтожить рабство
182
и нищету, существующие лишь потому, что все посту-
пают, как вы». Вообще «любого труса можно превра-
тить в храбреца, внушив ему некоторую идею»).
Шоу кажется, что такой биологический фактор, как
продолжительность человеческой жизни, играет сущест-
венную роль: ее удлинение может помочь самосовершен-
ствованию человека и разрешить проблемы социально-
го переустройства общества («Назад к Мафусаилу»).
Литературные симпатии Шоу показательны — и его
восхищение Ибсеном, с которым его сближают мотивы
самосовершенствования и моральной ответственности
личности, и его сдержанность по отношению к искус-
ству Шекспира, где, при всей интеллектуальной напря-
женности, на первый план выдвинута проблема актив-
ности, действия человека.
Если нельзя не согласиться с Д. Гасснером, что «луч-
шие пьесы Б. Шоу не сводятся к дискуссии»29, то нель-
зя не видеть и того возрастающего значения, которое
дискуссия начинает играть со временем в его пьесах
(«Назад к Мафусаилу», «Простак с Нежданных Остро-
вов», «Тележка с яблоками» и др.), где она, по собст-
венным словам драматурга, «пронизывает все действие
от начала и до конца». К тому же, приобретая специ-
фическую интеллектуальность, эти последние пьесы Шоу
явно проигрывают в сценичности. Их постановка связа-
на с труднопреодолимыми препятствиями.
Мы останавливаемся на противоречиях драматургии
Шоу потому, что в общем виде они представляют собой
своего рода модель противоречий, сопутствующих затем
в той или иной степени интеллектуальному театру едва
ли не на всем протяжении его развития, включая та-
кие явления, как драма Ж.-П. Сартра и Ж. Ануйя, пе-
реносящая центр тяжести с действия на момент «выбо-
ра», или пьесы Ж. Жироду, представляющие собой «ин-
теллектуальную гипотезу» общественной проблемы. Они
также по-своему символизируют отъединенности друг
от друга интеллектуального и действенного начал, дра-
мы, которая сама есть результат определенного взгля-
да на роль действия в реальной истории.
29 Д. Гасснер. Форма и идея в современном театре. ДА., 1959,
стр. 58.
183
Такого рода предпосылки накладывают свою печать
не только на драму, но и на само представление о соци-
альной роли театра и его соотношении с другими ис-
кусствами. В этом смысле своеобразной параллелью ин-
теллектуальному театру является позиция Т. Манна, вы-
раженная им в «Этюде о театре»30, где, сопоставляя
драму и роман и как бы продолжая размышления на
эту тему Шиллера и Гете, он приходит к крайним вы-
водам. Он отдает безоговорочное предпочтение роману.
По^его мнению, человек в его глубокой духовной сущ-
ности «может быть рассказан прежде всего в слове»,
т. е. в романе, в литературе вообще, тогда как в теат-
ре он для нас лишь схема, силуэт, аббревиатура, а не
«я». Поэтому театр лишь суррогат романа. Цитируя сло-
ва Ницше о том, что в театре мы вынуждены относить-
ся к «фантому как к реальности», Т. Манн считает, что
театральное искусство размагничивает нашу способность
мыслить. Если театр и способен превращать «массу в
народ», то роман — форма, адеквативная следующей,
более высокой ступени развития самосознания индиви-
дуальности, он представляет собой «личную этику, испо-
ведание, совесть, протестанство, автобиографию».
Хотя критика Т. Манна объективно адресована бур-
жуазному театру, роман вообще как форма для Т. Ман-
на оказывается выше драмы, так же как слово — вы-
ше действия, как познание — важней практической ак-
ции31.
Что касается экзистенциалистской трактовки пробле-
мы, то она целиком основана на свойственной этому те-
чению концепции действия.
Искусство, находящееся под влиянием экзистенциа-
лизма, порожденное ситуацией отчуждения личности в
буржуазном обществе и тоталитарном государстве, не
только фиксирует драматизм положения человека вну-
три этой ситуации, но и предлагает свое решение про-
блемы, однако решение это в значительной степени ока-
зывается иллюзорным.
30 См.: Т. Манн. Соч., т. 6.
31 Интересное сопоставление взглядов Т. Манна на драму и роман
с точкой зрения К. Либкнехта см. в статье М. Кораллова «Об
эстетических взглядах К. Либкнехта».— «Вопросы эстетики»,
вып. 3. М., 1960
184
В самой постановке проблемы личности, ее верности
Одмой себе и утверждении абсолютной ценности индиви-
дуальности, предпосылки экзистенциалистской филосо-
фии, лежащие в основе этого искусства, приводят его к
неразрешимым противоречиям и окрашенному в песси-
мистические тона взгляду на будущее. Ему одинаково
чужды и чувство социальной солидарности, и истори-
ческий оптимизм.
Трагическая ситуация отчуждения, которая всегда
есть следствие реальных, конкретно-исторических об-
стоятельств, интерпретируется экзистенциализмом (мы
уже говорили об этом в связи с проблемой трагическо-
го) как имманентно присущая действительности тоталь-
ность. Поэтому свободное действие, поступок личности
в рамках его концепции — это абстрактная акция само-
утверждения, а не историческое деяние. И даже там,
где экзистенциализм имеет дело с социальной конкрет-
ностью, просвечивающей сквозь те внеисторические
одежды, в которые он так охотно одевает своих героев,
и там активность его героев ограничена, она представ-
ляет собой не только индивидуальное, но и — в этом
главное — индивидуалистическое действие.
Отсюда и та мучительная противоречивость, сопро-
вождающая экзистенциалистское искусство на всем про-
тяжении его истории, которая ставит акцент в нем то
на мотивах протеста, импульса к действию, то на приз-
нании его безнадежности и бесперспективности.
Следующий шаг в сторону отчуждения ведет уже к
искусству авангарда, демонстрирующему отчуждение че-
ловека не только от общества, но и от самого себя, до-
водя этот процесс до логического конца. Единственным
незыблемом началом этого искусства является лишь
универсальное сомнение во всем, что имеет позитивное
значение. Задача искусства оказывается чисто механи-
ческой, она сводится к тому, чтобы добавлять пристав-
ку «анти» ко всему, приобретающему устойчивость ис-
тинного значения или моральной ценности.
Это искусство трудно судить по его собственным за-
конам, поскольку оно отрицает и их устойчивость. Но
сам смысл этого отрицания достаточно отчетлив. Испо-
ведуемый авангардом принцип абсолютной эстетической
свободы становится своего рода эквивалентом той всеоб-
щей относительности, при которой такие понятия, как
185
нация, демократия, классовая борьба, социализм и бог,
утрачивают свое значение», а каждая система мысли —
всего лишь «алиби, подтверждающее нашу непричаст-
ость к реальности» (Ионеско).
В мире ничего не может произойти, и «революции
ничего не меняют» (Ионеско) уже просто потому, что
все в нем непостоянно и неуловимо, вплоть до самого его
существования, и лишь это одно неизменно. Вообще он
более всего походит на «пустыню, наполненную мертвы-
ми тенями». Отчуждение в данном случае уже не про-
сто предмет изображения. Оно определяет сам харак-
тер отношения художника к действительности, которая
рассматривается сквозь призму личности, целиком по-
груженной в сферу отчуждения.
Именно так обстоит дело в театре абсурда с его пер-
сонажами-марионетками, автоматически и безропотно
бредущими по предначертанной им дороге — своеобраз-
ном наследнике искусства Ф. Кафки, впервые зафикси-
ровавшего эту ситуацию с классической ясностью и пол-
нотой, искусстве, которое почти невозможно себе пред-
ставить в XIX веке. (Известной аналогией «Процессу»
Кафки могла бы разве послужить трилогия Сухово-Ко-
былина, однако в самой эстетической интерпретации от-
чуждения, его «анонимности» и всеобщности различие
достаточно очевидно).
Такова почва той внешней действенности «авангар-
да», в формы которой он порой облечен и за которой
стоит неверие и в разумное, и в активное, действенное
начало человека; «Ожидание Годо» С. Беккета или
«Урок» Э. Ионеско по-разному символизируют это ли-
шенное реальной активности действие достаточно на-
глядно. Причем если в искусстве Кафки, при всем про-
низывающем его пессимизме, звучит мотив сочувствия
и сострадания человеку, то в «авангарде» гуманистиче-
ское начало уже исчезает вовсе. Отчуждение пережи-
вается им не как трагедия, а как фарс, отражающий
абсурдное состояние мира — заключительную фазу исто-
рии.
В этом методологическом плане показательна не
только сама практика современного буржуазного искус-
ства, но и попытки ее теоретического осмысления, от-
ражающие определенное понимание сущности драмати-
ческого действия и реальной социальной активности че-
186
ловека, соотношения, существующего между ними. В ка-
честве примера можно было бы сослаться на получив-
шую широкое распространение концепцию иносказатель-
ного театра или «метатеатра» (термин М. Абель).
Эта, все более отчетливо выделяющаяся на фоне эм-
пиризма буржуазного театроведения, теория стремится
по-своему суммировать, привести к общему эстетическо-
му знаменателю всю пестроту и многообразие направ-
лений современного театра.
Характеризуя не столько сформировавшуюся теоре-
тическую школу, сколько тенденцию, направление, дан-
ная концепция не ограничивается областью методоло-
гии и негативным подходом к наиболее острым пробле-
мам театрального искусства. Напротив, она основыва-
ется на своем представлении о логике развития
театрального искусства, о его прошлом, настоящем и
будущем.
Идея эта, как нередко бывает, опирается на некото-
рые действительные процессы, происходящие в театре
сегодня, однако весьма произвольно их интерпретирует
и совершенно неправомерно придает им всеобщее, уни-
версальное значение. Исходным пунктом для нее стано-
вятся те обобщенные, условные, подчас символические
формы искусства XX века, которые в нем действительно
возникают, отвечая на новые потребности времени. Речь
идет прежде всего о тех попытках расширить границы
жанра, которые определяют многие художественные по-
иски современного театра, новые формы его сценическо-
го языка и которые так или иначе связаны с отказом
от иллюзорного изображения жизни и принципов так на-
зываемой «четвертой стены». Особое место отводится
таким драматургам, как Б. Брехт, Т. Уайльдер, Т. Эл-
лиот, Ж. Кокто, Ж. Ануй, использованию ими мифологи-
ческих или аллегорических сюжетов, введению имеющих
символическое значение персонажей, применению хора,
масок и других подчеркнуто условных приемов сцениче-
ского воплощения.
Таков путь развития театра вообще, по мнению при-
верженцев этой точки зрения,— от мифологии антично-
сти и аллегоризма Средневековья к иллюзионизму Воз-
рождения и XIX века, где он достигает своей высшей
точки, а затем снова к мифологическим, иносказатель-
ным формам XX века.
187
«Теперь налицо очевидное возвращение к первоиз-
данным символическим, аллегорическим, мифологиче-
ским или же иносказательным формам, в которых
персонаж как экспрессивно выразительный образ полно-
стью подавляет многогранную, психологически конкрети-
зированную личность гуманизма Возрождения или ибсе-
новской драмы»,— утверждает один из идеологов этой
концепции, Р. Пикок, в своем труде «Искусство дра-
мы» 32.
Другой автор, С. Селден, в работе, посвященной изо-
бражению человека в театре 33, считает, что столбовая
дорога развития театрального искусства ведет к сопри-
косновению с мифом и ритуалом. Признавая известные
достоинства «описательного метода» М. Горького, Г. Га-
уптмана и ряда других драматургов, С. Селден сетует на
его ограниченность и односторонность.
Известный американский театровед Ф. Фергюссон,
рассматривая творчество трех современных драматур-
гов — Т. Уайльдера, Б. Брехта и Т. Эллиота — и кон-
статируя, что «искусство прямого отражения жизни умер-
ло с Чеховым», склонен видеть ростки будущего театра
в аллегорическом, как он его определяет, искусстве этих
художников.
Он также подчеркивает значение для современного
искусства мифа, который «прошел свой долгий путь от
Гомера до Валери и Фолкнера», выполняя на всем про-
тяжении истории важную эстетическую миссию 34.
Примеры работ, где утверждается подобная точка
зрения, можно было бы легко продолжить. Но уже здесь
она формулируется достаточно четко.
Итак, противопоставление принципа выражения отра-
жению и изображению; персонажи, выступающие скорее
как носители определенных идей, чем как объемные че-
ловеческие характеры: герои, представляющие собой
больше олицетворения, чем индивидуальности; сюжет,
в основе которого лежит аллегория, притча или миф;
32 «Art of drama». London, 1958. Этой pa-боты P. Пикока, в несколь-
ко другой связи, касалась Л. Шепилова в своей статье «Нега-
тивисты в роли утешителей».— «Иностранная литература»,
1959, № 8.
33 S. Selden. Man in his theatre. Nord Carolina, 1957.
34 F. Fergussen. The human image in dramatic literature. N. Y.,
1959.
188
разрушение иллюзии театрального представления, часто
нарочитое и демонстративное, — таковы главные эстети-
ческие принципы, составляющие суть этой концепции.
В ней существуют свои индивидуальные оттенки и моди-
фикации, но они, как правило, не меняют ее принци-
пиального смысла, развиваясь в русле основных, остаю-
щихся незыблемыми положений.
Концепция эта, как уже говорилось, опирается на
вполне реальные тенденции в современном театре, более
того — в современном искусстве в целом. Действительно,
для всякого, даже неискушенного наблюдателя очевид-
но, что в искусстве таких художников, как В. Мейер-
хольд и Б. Брехт, С. Эйзенштейн и А. Довженко, В. Мая-
ковский и П. Неруда, Р. Гуттузо и А. Сикейрос, мы
сталкиваемся с иным, чем, скажем, в XIX веке, соот-
ношением моментов изображения и выражения, с иной
мерой и характером условности, с подчеркнутым стрем-
лением к активному, остронаправленному воздействию
на зрителя или читателя.
Другими словами, речь идет о новых формах отра-
жения жизни, характерных для 'многих — в том числе и
прогрессивных — художественных явлений XX века, их
эстетическом содержании и соотношении с традициями
реализма, об одной из очень острых проблем современ-
ного искусства, игнорировать которую значило бы пред-
ставить себе^процесс его развития крайне односторонне
и искаженно.
Но это особая тема. Вовсе не имея в виду рассматри-
вать ее подробно, мы должны коснуться ее лишь в рам-
ках интересующей нас теории и прежде всего в аспекте
методологии. Скрывающаяся здесь проблема гораздо
глубже и сложнее, чем представляется приверженцам
этой концепции. Начать хотя бы с фактической стороны
дела. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с той
картиной современного театра, которую столь категори-
ческими мазками рисуют ее сторонники. Как быть, на-
пример, с Д. Пристли, Л. Хэллман, Д. Осборном, Эдуар-
до Де Филиппо — столь непохожими друг на друга
современными художниками Запада, об искусстве кото-
рых никак нельзя сказать, что для него в первую оче-
редь характерен отвлеченный аллегоризм или тяготение
к мифологическому сюжету? Как быть с наследием и
традициями Станиславского, оказавшего влияние на мно-
189
гие театры мира — от нью-йоркской Студии Ли Страс-
берга до лондонской труппы «Уоркшоп» и японского Ин-
ститута новой драмы? Речь идет, разумеется не о догма-
тическом толковании «системы», а о том, что становит-
ся новым шагом в развитии искусства театра и связано
с глубиной психологического анализа, созданием объем-
ных и многогранных, взятых во всей их жизненной про-
тиворечивости и диалектической сложности, характеров
с особой сценической атмосферой, «вторым планом» дей-
ствия, который углубляет и обогащает социальный и
психологический аспект спектакля.
Как, наконец, быть с творчеством М. Горького и
Вс. Вишневского, А. Афиногенова и Л. Леонова, Н. По-
година и А. Арбузова или целого ряда других художни-
ков социалистического искусства, которому отнюдь не
чужды и условность, и подчеркнутая экспрессия, чему
свидетельство драматургия В. Маяковского и Б. Брехта,
Н. Хикмета и В. Незвала.
Но дело, разумеется не только в такого рода фак-
тической односторонности и неточности исторической
перспективы. Нагляднее всего методологическая несосто-
ятельность этой точки зрения обнаруживается, когда мы
обращаемся к ее теоретическому обоснованию. При всем
различии формулировок в основном, решающем они ока-
зываются удивительно близкими друг к другу и исхо-
дят из очень похожих, если не сказать одних и тех же
предпосылок. Именно это и дает право рассматривать их
в русле единой теоретической концепции.
В качестве одного из главных положений фигуриру-
ет 'идея о таком усложнении социальных и психологи-
ческих связей в современной действительности, под по-
кровом которого исчезают подлинные причины человече-
ских поступков и все их истинные последствия. Они не
только ускользают от самого человека, но недоступны и
нейтральному наблюдателю. На первый план выдвигает-
ся проблема детерминированности поведения человека
и в то же время смысла его действия, активности в
современном мире или — если рассматривать эту проб-
лему в ином аспекте, близком, например, экзистенци-
ализму,— проблема свободы человека в его отношении
к действительности и обществу.
Действия человека включаются в общую цепь собы-
тий помимо его сознания. Упомянутый уже нами Р. Пи-
190
кок, размышляя об эстетических особенностях драматур-
гии Т. Эллиота, высказал мысль, в которой эта идея
выражена с ясностью, не оставляющей сомнений. В но-
вейшей драме, утверждает он, «индивидуум все более
заслоняется конфликтом неких безличных сил, в кото-
рых он все более жертва и все менее действующее
лицо» 35. Природа этих сил может трактоваться различи
но, но роль, которую играет теперь сценический харак-
тер, именно такова. И это вполне закономерно, ибо от-
ражает реальное положение человека в современном
мире.
Современный человек порабощен средой, утверждает
С. Селден, связан своими сексуальными стремлениями,
находится в плену наследственности — это доказано
Марксом, Фрейдом, Дарвином; он не может действовать
свободно, повинуясь собственному «я». Однако зависи-
мость его от всех этих факторов в театре невозможно
показать, о ней можно лишь намекнуть, дать знать о ее
существовании, не более.
Аргументация Пикока развивается в том же напра-
влении. Реализм XIX века, рассуждает Пикок, связан с
развитием науки, исторических знаний, с гуманистиче-
ской* точкой зрения на моральные.проблемы века. Отсюда
внимание к историческим условиям, чувство оптимизма
и веры в возможности человека, в истину и знания, про-
низывающие все это искусство. Здесь же источник той
отчетливости авторской позиции и социальной критики,
которая свойственна реализму XIX века. В наше время
все коренным образом меняется: место уверенности и
определенности занимает ощущение неустойчивости и
текучести, слишком много факторов вмешивается в
жизнь человека, для того чтобы он мог осознать их и
противопоставить им свое самостоятельное действие.
Оно не может больше, как прежде, служить способом
его самоутверждения как личности. Человеческая инди-
видуальность выступает как фокус пересечения случай-
ных общественных связей, поскольку ни сам человек,
ни посторонний наблюдатель не в состоянии мысленно их
охватить и постичь их закономерность и природу36.
35 R. Peacock. The poet in the Theatre. London, 1947, p. 5.
36 «Абстракция — это мир относительности и квантовой механики,
которые были революционны, так как они принесли не только
новые открытия, но и изменения в нашем образе мышления о
191
Именно поэтому, по мнению Пикока, уже на рубеже
XIX и XX столетий появляются симптомы того движения
к символике, аллегории, мифу, к господству выражения
над изображением,— к тому «интенсивному стилю», под
знаком которого развивается современный театр. Харак-
теризуя этот стиль, Р. Пикок считает центральным для
него эстетическим понятием мифологическое содержа-
ние. Характеры и действие играют роль скорее средств
выразительности, чем факторов, представляющих само-
стоятельный интерес. В .приближении к этому стилю за-
ключен секрет превосходства Расина над Корнелем, Гете
над Шиллером, Софокла над Эврипидом и трагедий
Шекспира над его хрониками.
Не случайно уже Шоу и Пиранделло называют неко-
торые свои пьесы «притчами», Г. Крэг мечтает о театре
«сверхмарионеток», Метерлинки Ейтс связывают глубину
проникновения во внутреннюю жизнь героя с идеей экста-
тического театра, а экспрессионисты выводят на сцену пер-
сонажей, представляющих собой олицетворение неких
общих идей. Еще Чехов приходит к идее «внеличной»
трагедии — в ней господствует главным образом траги-
ческое настроение, которое рождается из ощущения си-
туации, где индивид оказывается беспомощным и без-
личным. Таков в общем виде ход умозаключений, кото-
рые должны служить теоретическим фундаментом защи-
щаемой Пикоком концепции.
Здесь нет нужды специально останавливаться на не-
уместности ссылок на Фрейда и Дарвина для того, что-
бы объяснить действительные изменения отношений че-
ловека и среды и прежде всего человека и общества,
и на том плоском и до предела вульгарном толковании
К. Маркса, которое он получает у С. Селдена. Точно
так же не представляет интереса поверхностная и глу-
боко ошибочная характеристика современности, состоя-
мире... Наука, которая в XIX веке говорила о фактах и опреде-
ленностях, теперь описывает существование вещей, которорые
нельзя видеть или, если они становятся обозримыми, нельзя
точно знать, где они. Это означает конец неизменного реального,
замещение ощущения символом» — к такому выводу приходит
Р. Пикок, рассуждая о «новой ориентации мысли» в современ-
ной науке, 'искусстве и поэзии («Abstraction and Reality in Mo-
dern Science, Art and Poetry.— «Literature and Science. Proce-
edings of the Sixth Friennial Congress». Oxford, 1954, p. 326).
192
щая из суммы ее чисто внешних и иллюзорных черт,
пли неверная, давно опровергнутая практикой театра
трактовка искусства Чехова.
Важно подчеркнуть главное. Диалектика характеров
и обстоятельств — центральная для драматического ис-
кусства на протяжении всей его истории проблема, ко-
торая всегда определяла и художественную ценность, и
общественное значение драмы, исчезает. Диалектика
разрывается, она уступает место произволу или односто-
ронней подчиненности. Причины человеческих поступков
в зависимости от тех или иных философских предпосы-
лок, окрашивающих мировоззрение автора, лежат либо
целиком внутри личности (такую трактовку получают
они, например, в драме, проникнутой фрейдистскими мо-
тивами), либо (там, где на первый план выдвигаются
идеи, имеющие религиозно-мистическую окраску) цели-
ком вне ее. Но в обоих случаях они оказываются очень
мало связанными с ее сознательным, волевым началом.
В конечном счете к тому же разрыву, хотя и гораз-
до более сложным путем, приходит и экзистенциализм
с его идеей свободного выбора человеком своего пове-
дения, выбора не социально детерминированного, а имен-
но произвольного, хотя и сознательного, призванного
как раз продемонстрировать независимость личности от
этой детерминированности. Действие становится само-
целью, оно отделяется и от подлинного «я» личности,
и от своих общественных предпосылок и последствий,
не связывая, а, напротив, обособляя их друг от друга
и действительно давая основания называть саму жизнь
«коллекционированием собственных поступков» (Андре
Жид).
Именно здесь лежат истоки тех принципиальных
сдвигов в изображении характера, которые представля-
ют собой, по словам Р. Пикока и С. Селдена, ведущую
тенденцию в развитии драмы последних десятилетий.
Утрачивая свою «самодеятельность», характер начи-
нает интересовать художника не столько сам по себе,
сколько как воплощение определенного «внеличного» на-
чала или отвлеченной идеи. «Персонажи в наших пьесах
должны отличаться друг от друга — но не так, как трус
отличается от скряги или скряга от храброго человека.
А подобно тому, как отличаются друг от друга разные
поступки, одно право, вступающее в столкновение с дру-
7 А. А. Карягин 193
гим»,— писал Сартр в статье «Кузницы мифов»37, при-
званной объяснить особенности нового направления во
французской драме.
Хотя было бы несправедливо сводить во всех слу-
чаях персонажей самого Сартра к плоскому олицетво-
рению авторских тезисов, его позиция весьма симпто-
матична. Она символизирует переход интеллектуального
театра к новому этапу, где на смену пьесам-дисскус-
сиям Б. Шоу, интеллектуальный пафос которых заклю-
чался в обсуждении героями моральных и политических
проблем времени, приходят произведения, где сами ге-
рои выступают уже скорее как порождение рефлекти-
рующего разума автора, чем индивидуальные, цельные
и самостоятельно действующие характеры. Характер на-
чинает интересовать драматурга не столько как предмет
исследования, сколько как протагонист или антагонист
диалектики его собственных размышлений.
Заключительную точку на этом пути ставит авангард.
В таких произведениях, как «Ожидание Годо» С. Бек-
кета, «Празднование дня рождения» Г. Пинтера или
«Лысая певица» Э. Ионеско, герои, в сущности, «на
одно лицо», ибо лишены того, что создает характер: ин-
дивидуального и вместе с тем свободного, личностного
отношения к действительности. Они могут быть похожи
цруг на друга, как духовные близнецы (мотив, харак-
терный для Беккета), или, напротив, не иметь ничего
общего и вообще не обладать какой-либо внутренней
устойчивостью («никаких характеров, лишь персонажи
без идентичности самим себе»,— говорит Ионеско),— это
не меняет дела. Они одинаково равны перед неизбеж-
ностью, против которой и не думают протестовать. Так
отчуждение личности превращается в ее самоотчужде-
ние.
В современной драме царит аллегоризм, утверждает
Пикок; существующие различия заключаются только в
том, что в одном случае он служит утверждению «тра-
диционных» убеждений (П. Клодель, Т. Эллиот), тогда
как в другом — для пропаганды идей новой философии
(Ж. Сартр, Ж. Жироду, Б. Брехт).
37 J.-P. Sartr. Forgers of mythes. The young playrights of Fran-
ce.— «Theatre Arts», 1946, N 9.’
194
С такого рода выводом нельзя согласиться не только
потому, что общая картина современного театра выгля-
дит иначе — бесконечно богаче, ибо из поля зрения исче-
зает вся область театрального искусства, не имеющая
прямого отношения к иносказательным, аллегорическим
способам выражения, и не только потому, что творче-
ство фигурирующих при этом художников нередко слож-
нее и противоречивее. Дело еще в том, что сами эти
формы получают в разных случаях совсем иной, иногда
противоположный эстетический смысл. Здесь обнаружи-
вается еще одна сторона методологической односторонно-
сти данной теории.
Когда, например, Д. Фергюссон объединяет имена
Т. Уайльдера, Т. Эллиота и Б. Брехта, рассматривая
их искусство под одним углом зрения, прилагая к ним
одинаковые и по существу формальные мерки, он посту-
пает совершенно неправомерно. Он утверждает, что цель
всех трех названных драматургов — не столько показы-
вать или убеждать, сколько учить пропагандировать оп-
ределенные этические, религиозные или политические
концепции и идеи. Этой цели в их пьесах подчинено
все — изображение характеров, и построение сюже-
та. Они не дискутируют, как, скажем, Б. Шоу, ибо идеи
эти считают не дискуссионными, а проповедуют их. Они
основываются на чувстве «веры», с областью которой
вольно или невольно вступает в соприкосновение их
искусство. По мнению Фергюссона, центральная идея
Т. Эллиота — это вера в божественное предопределение,
Т. Уайльдера — в некое Высшее начало, Правду и Кра-
соту, Б. Брехта — в догмы марксистской философии.
Искусству Т. Уайльдера в самом деле присущ пафос
утверждения неких отвлеченных морализующих идей —
особенно наглядный в таких пьесах, как «Едва ноги
унесли» или «Рождественская ночь», где существует осо-
бый, замкнутый в себе мир, универсальная модель дей-
ствительности с присущими ей вечными и неизменны-
ми законами бытия. Сам Уайльдер считает, что
сущность драматического искусства заключается в «раз-
вертывании идеи», и что «всякая драма, в сущности,—
аллегория» 38, которая представляет собой форму, наибо-
лее удобную для моральной дидактики. Фергюссон не без
38 «Notes on Playright». N. Y., 1956, p. 53.
195
7*
основания называет его искусство «родом религиозного
платонизма», для которого история есть иллюстрация
идеи, а индивидуальная жизнь лишь «тень на стене»,
отбрасываемая историей.
Что касается драматургии Т. Эллиота, то здесь мы
сталкиваемся не просто с назидательностью и утверж-
дением идеи предопределения, подчинения характеров
некоему высшему, сверхличному началу. Сама форма это-
го утверждения заключает в себе элементы религиозной
церемонии. И Пикок, и Фергюссон признают, что такие
пьесы Эллиота, как «Убийство в соборе» и «Вечер
коктейлей», «соприкасаются с ритуалом». (Не случайно
первая из этих пьес была сыграна в Кентерберийском
соборе и в церкви Аббатства Дю Бек Эллуэн!)
Искусство Б. Брехта возникает совсем на иной об-
щественной и философской почве, оно несет в себе тен-
денции, не имеющие ничего общего с воссозданием
на сцене некоего иллюзорного мира, который апеллиру-
ет скорее к безотчетному чувству веры, чем к разуму и
художественной логике. Напротив, искусство Б. Брехта
по своей природе направлено на разрушение иллюзий.
В нем все обстоит иначе. Брехт обращается преж-
де всего к рассудку зрителя, а не к его чувству веры,
он стремится заставить его размышлять, занять само-
стоятельную «критическую позицию» по отношению к
изображаемому, позицию, которая исходит из необходи-
мости «переделки действительности», а не пассивного
подчинения ей и направлена на пробуждение общест-
венной активности зрителя. В этом заключается эсте-
тический смысл центрального для Брехта принципа
очуждения.
Его искусство не иллюстрирует идеи, оно их доказы-
вает своими художественными средствами, хотя иногда
эти идеи оказываются вполне отчетливо выраженными
или даже заявленными с самого начала. Но это не
столько декларация, сколько желание сконцентриро-
вать внимание на определенном идейном плане, содер-
жательном аспекте событий, которые развертываются пе-
ред нами.
Пафос просветительства действительно является одной
из самых характерных черт искусства Б. Брехта, одна-
ко. по своему эстетическому смыслу он бесконечно бли-
же пафосу великого искусства эпохи Просвещения с его
196
неисчерпаемой верой в силу человеческого разума, чем
современному буржуазному искусству, проникнутому ду-
хом агностицизма и скепсиса.
Его интеллектуальность иного рода, чем интеллек-
туальность, например, искусства Сартра. Сартр также
по-своему озабочен разрушением иллюзии неизменяемо-
сти мира, которой служит традиционный или, как его
называет Сартр, буржуазный театр. Он тоже хочет, что-
бы «зритель увидел наш век со стороны., как свидетель»
и в то же время как соучастник, ибо и «он делает
этот век и будет судим». Но там, где Б. Брехт видит
и показывает реальный, вытекающий из осознания логи-
ки самой истории и человеческой практики путь этого
изменения мира, Сартр переносит решение проблемы в
сферу сознания отдельной человеческой личности, выдви-
гая вместо одной иллюзии другую, уже чисто интеллек-
туальную.
Отбрасывая методологию оперирования критериями
формального порядка, которой пользуется Ф. Фергюссон,
мы увидим, что не только искусство разных художников
в целом, но и отдельные художественные приемы приоб-
ретают у них различный эстетический ,и философский
смысл, несут различное, даже противоположное содер-
жание. Например, хор, действующий в некоторых пьесах
Б. Брехта и Т. Эллиота,— нечто совсем иное, чем хор
античного театра. Но еще больше различий здесь меж-
ду ними.
Если античный хор стоял в известном смысле на-
<. равне с героем, зная о мире и господствующих в нем
закономерностях не больше самого героя, то у Брехта
отношения героя и хора носят уже совсем иной харак-
тер. Он выступает то как свидетель совершившихся со-
бытий, то как повествователь, то как комментирующий
голос автора, но во всех случаях он служит установлению
истины, раскрытию сущности происходящего, его реаль-
ных общественных и социальных причин и последст-
вий,—он сам в той или иной степени воплощение этой
истины.
У Эллиота функция хора совсем иная. В пьесе «Убий-
ство в соборе» — это просто хор кентерберийских пев-
чих. В «Семейном сборище» хор является носителем выс-
шего, потустороннего начала: он состоит из нескольких
действующих лиц, которые выступают в качестве хора,
197
когда это начало, по замыслу автора, персонифицирует-
ся в них. Он тоже знает нечто большее, чем сами ге-
рои, но за этой многозначительностью «отрицательное
знание», утверждение непостижимости господства того,
что абсолютно независимо от самого человека. Как буд-
то бы один .и тот же прием, и в то же время проти-
воположный идеологический и эстетический смысл!
Такой, казалось бы, необычный для традиционного
театра прием, как раздвоение героя, в «Добром челове-
ке из Сезуана» Б. Брехта символизирует реальное про-
тиворечие, в тисках которого оказывается человек в мире
буржуазных отношений, противоречие между тем, чем
он хочет и чем он вынужден быть, между реальным
и идеальным в нем, как бы персонифицируя эти две сто-
роны его существования; добро, которое он хочет сде-
лать другим, неизменно оборачивается злом. Причем па-
фос пьесы направлен как раз на осознание всей проти-
воестественности такого положения и необходимости
преодолеть это противоречие. Его идея сформулирована
в заключительных строфах пьесы: «Попробуйте для доб-
рого найти к хорошему хорошие пути».
Раздвоение героя в «Днях без конца» О’Нила лежит
совсем в иной плоскости. Оно противопоставляет его
сознательное и бессознательное начала для того, чтобы
подчеркнуть идею безраздельной власти последнего;
цельность личности возвращает лишь обращение к вере.
Точно так же обстоит дело и со «сдвигом времени».
«Обратное» течение времени в пьесе Д. Пристли «Он
пришел» заключает в себе глубокий и на редкость на-
глядный критический смысл. Каждый праг назад снима-
ет еще один покров с действительных отношений внут-
ри уважаемой и счастливой буржуазной семьи — такой,
как она представлена в экспозиции,— обнаруживая под
сброшенными масками истинные лица героев. С этой
точки зрения пьеса представляет собой предметный урок
социальной критики. Сложное соотнесение с прошлым
в «Снах Симоны Машар» Л. Фейхтвангера и Б. Брехта
помогает нам уяснить идею исторического прогресса,
реальной роли в нем человека и его возрастающей от-
ветственности.
Совсем иную функцию имеет ретроспективная дистан-
ция в «Антигоне» Ануйя, где идея бессмысленности вся-
кого действия перед лицом всепоглощающего времени вы-
198
ражена в финале пьесы с беспощадной последователь-
ностью, ослабляющей ее критический пафос: «Вот и
все те, кто должны были умереть, умерли: и те, кто ве-
рили во что-то, и те, кто верили в противоположное,
и даже те, кто ни во что не верили и попадали в эту
историю случайно, ничего в ней не понимая. Все мерт-
вецы одинаковы — они окоченели и гниют, никому не
нужные. А те, кто остались в живых, понемногу нач-
нут забывать о них и путать их имена» 39.
Олицетворение смерти в пьесах «Продавец льда
грядет» О’Нила и «Сизиф и смерть» Р. Мерля проти-
воположно по своей сути: в первом случае это движе-
ние от реальности к символу, во втором — как раз на-
оборот.
Но в данном случае нас интересуют не столько по-
добного рода примеры, сколько сама методология раз-
бираемой концепции. Такого рода формальные сопостав-
ления вообще бесплодны там, где речь .идет о выяс-
нении подлинных исторических тенденций развития
театра.
Нельзя не согласиться с Р. Пикоком в том, что сов-
ременный художник стоит перед необходимостью — мо-
жет быть, как никогда прежде жгучей и острой — ос-
мысливая сложность сегодняшней действительности,
осознать глубокий философский и исторический смысл
происходящих в ней процессов, роль и ответственность
личности в их развитии. Однако это еще очень общая
предпосылка отношения художника к жизни, и дороги
с отсюда могут вести в разные, порой прямо противопо-
ложные стороны.
Тенденция к интеллектуальной насыщенности искус-
ства может заключать в себе различные возможности.
Сама апелляция к разуму способна выступать как ин-
струмент все более глубокого проникновения в новые об-
ласти и пласты жизни и, напротив, может стать спосо-
бом бегства от реальности, символом замкнутости в
сфере собственно саморефлектирующей мысли — пози-
ция, столь отчетливо выраженная сегодня не только в
театре, но и в искусстве школы «потока сознания» и свя-
занной с ней ветви нового романа в литературе, в напол-
39 Жан Ануй. Пьесы, т. I. М., 1969, стр. 329.
199
ценной игрой абстракций «серийной» музыке или такого
рода беспредметном искусстве, как «неопластицизм»
П. Мондриана. В этом смысле модернизм часто выгля-
дит как гипертрофия отдельных реальных черт развития
искусства, которые он доводит до логического абсурда,
превращая их в свою прямую противоположность.
Концепция возвращения театра к иносказательным,
аллегорическим приемам отражения неприемлема от-
нюдь не потому, что они неприемлемы сами по себе.
Наоборот, одна из тенденций современного реалистиче-
ского театра, как мы уже говорили, связана с тяготе-
нием его некоторых форм к подчеркнутой условности, об-
общенности, реалистической символике. Она возникает
из стремления бросить целостный взгляд на действи-
тельность, отразить масштаб ее социальных и обще-
ственных процессов, осмыслить ее явления в русле об-
щих закономерностей жизни, раскрыть реальную роль
личности в движении истории. Этот последний аспект
особенно существен для драматического искусства.
Когда Б. Брехт рассказывает свою лишенную точной
временной, географической и бытовой конкретности дра-
матическую притчу о человеке, чьи добрые дела неиз-
менно оборачиваются своей противоположностью («Доб-
рый человек из Сезуана»), он, сохраняя всю остроту
конкретности социальной, достигает подлинного обобще-
ния, воплощающего критическое отношение, направлен-
ное на переделку действительности.
Но когда Т. Уайльдер в пьесе «Едва ноги унесли»,
отбрасывая пространственные и временные границы, ри-
сует перед нами группу характеров, проходящих сквозь
всю историю,— эта обобщенность, несмотря на искрен-
нюю тревогу автора за судьбы человечества, служит
утверждению противоположной идеи — извечности зако-
нов, управляющих миром.
Концепция, развиваемая Р. Пикоком, С. Селденом и
другими, противоречива по своей внутренней сути. Перс-
пективы, которые она открывает перед театром, ведут
скорее не вперед, а в прошлое этого искусства. Идея
безусловной подчиненности человека тому, на что он не
может оказать никакого влияния — будь то бог у Т. Эл*
лиота, Высшее начало у Т. Уайльдера или судьба у
А. Камю,— это шаг назад от завоеваний театра эпохи
Возрождения, так ярко выразившего мысль о зависи-
200
мости судьбы человека от него самого, театра XIX века
и современного прогрессивного искусства с их пафосом
социального протеста и утверждения общественной ак-
тивности личности.
Закономерно, что концепция эта обращается к прие-
мам, перекликающимся с самыми ранними формами те-
атрального искусства. Но искусство не может просто вер-
нуться к ним, они неповторимы, как неповторимы по-
родившие их общественные условия. Никакой историче-
ски значительный период в развитии искусства не
проходит для него бесследно, но оно никогда не повто-
ряет его форм буквально. «Мужчина не может снова
превратиться в ребенка, не впадая в ребячество»40,— за-
мечает по этому поводу К. Маркс, показавший как раз
на примере обращения буржуазного искусства к антич-
ности, что в подобных случаях под старыми одеждами
неизменно скрывается другое искусство, выполняющее
совсем иную общественную функцию.
Это обстоятельство приобретает особое значение в
связи с тем местом среди других художественных форм
(или, вернее сказать, идей), которые в концепции ино-
сказательного театра занимает мифология.
Это не случайно, как вообще не случаен реальный
факт многообразного соприкосновения современного ис-
кусства с мифом, с чем мы встречаемся и в живописи
у Пикассо и А. Риверы, и в литературе у С. Нез-
вала и Т. Манна, и в музыке у И. Стравинского и
А. Шенберга, и даже в кино у Ж. Кокто и И. Берг-
мана. Но особую роль современная мифология играет
именно в театре. Вместе с тем необходимо иметь в виду
одно принципиальное разграничение. Речь идет не об
использовании мифологических мотивов, когда они стано-
вятся лишь предлогом, как, например, в пьесе «Троян-
ской войны не будет» Ж. Жироду или «Сизифе и смерти»
Р. Мерля, что не есть еще мифология в подлинном смыс-
ле слова 4I.
Речь идет о мифологии как эстетической — и даже
40 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I. М., 1967, стр. 121.
41 Миф может присутствовать в искусстве на разных уровнях: он
может выступать в качестве его предмета, быть в нем структур-
ным, сюжетным мотивом или же составлять само его содержа-
ние, определять его общественную функцию. С неомифологией
строго говоря, мы имеем дело лишь в последнем случае.
201
шире — философской и социологической концепции, кото-
рой в разной мере отдали дань в современном театре
Ж.-П. Сартр и Ж. Ануй, Т. Эллиот и О’Нил, А. Камю и
Ж. Кокто. В этом смысле центральная идея этой кон-
цепции — идея фатальной, роковой зависимости человека
в современном ему мире (как бы ее ни объяснять) —
действительно перекликается с тем представлением о
власти незримой всемогущей судьбы, которое зафиксиро-
вано в античной мифологии. Но на этом сходство и кон-
чается 42.
Если мифология античности, составлявшая, по выра-
жению К. Маркса, арсенал и почву греческого искус-
ства, была исторически единственно возможной формой
эстетического сознания эпохи, формой, в которой отра-
жался достигнутый человеком уровень теоретического и
практического освоения мира, то мифология XX века в
принципе не может не иметь глубоко консервативного,
а порой и откровенно реакционного характера.
Преодолевая и формируя силы, действующие в приро-
де и обществе, в воображении и при помощи вообра-
жения, мифология утрачивает свое значение по мере до-
стижения реального господства человека над этими сила-
ми,— замечает Маркс 43.
Поэтому видеть в мифологии универсальную форму ис-
кусства значит неизбежно в той или иной мере игно-
рировать опыт истории, борьбы за это овладение при-
родными и общественными силами, обогащающий сегод-
ня человечество и в практическом, и в теоретическом
смысле, на пути социального прогресса и познания мира.
Здесь разгадка одновременно и истоков, питающих
современную мифологию, и той социальной роли, которую
она играет сегодня, отражая «вещную зависимость», гос-
подствующую в мире буржуазных отношений под ма-
42 Именно поэтому и «Сизиф и смерть» Р. Мерля, и «Мистерия-
буфф» В. Маяковского являются по своей направленности как
раз антимифологичпыми (более сложно обстоит дело с «Двенад-
цатью» А. Блока или «Чудом в Милане» Де Сика и тем более с
такими противоречивыми произведениями, как «Орфей спускает-
ся в ад» Т. Уильямса, сочетающими в себе одновременно мотивы
социального протеста и принципиального пессимизма). Здесь от
современного театроведения всякий раз требуется тщательный и
конкретный анализ, но в данном случае нас интересует сама ми-
фология как определенная форма эстетического сознания.
43 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 120.
202
ской «личной независимости» и названную Энгельсом
современным роком, провидением; неомифология стано-
вится формой, утверждающей неизменность этого раз на-
всегда данного положения вещей, оставаясь тем самым
в рамках буржуазного сознания. Это сознание охотно
обращается сегодня к античности, но уже не для того,
чтобы в классически строгих преданиях старины найти
примеры героизма, которые помогли бы ему «удержать
свое воодушевление на высоте великой исторической
трагедии» и возвеличить новую борьбу44, как это было
на заре буржуазного общества, а для того, чтобы обос-
новать отказ от социальной активности личности. Такая
задача соответственно определяет и симпатии, которые
теперь уже не на стороне римской истории, а на сторо-
не греческих мифов, пользующихся особенным вниманием
целого круга современных драматургов 45.
Однако, как это всегда бывает при обращении ис-
кусства к формам прошлого, они берут у античности то,
что соответствует их собственным интересам. Это уже
не пафос гражданственности и человеческой цельности,
привлекавший к античной трагедии драматургов-клас-
сицистов XVII века, а нечто совсем иное.
Не мотив того стихийного, но активного протеста
против трагического господства стоящего над человеком
начала, мотив, который был присущ искусству антично-
сти, а как раз другой аспект его содержания, связан-
ный с идеей «несвободы», подчиненности человека вы-
двигается теперь на первый план и оказывается в центре
внимания искусства.
Именно так обстоит дело в современной «неомифоло-
гии», на что бы она ни опиралась — на идеи Фрейда, раз-
личные мотивы религиозного сознания или концепцию
экзистенциализма с его иллюзорной «свободой выбора».
Этот выбор, так же как и предопределение, в прин-
ципе ничего не способен изменить. В сущности, он не
44 См. там же, стр. 323.
45 Сама античность является хотя и излюбленным, но вовсе не
единственно популярным в неомифологии историческим перио-
дом. Подобное значение в искусстве приобретают средние века,
например, у французского католического драматурга Анри де
Монтерлана. Этому периоду посвящены и некоторые мифологи-
ческие пьесы Ж. Кокто («Рыцари круглого стола», «Рено и Ар-
мида»).
203
более чем форма самоутверждения, демонстрация ин-
дивидуального протеста. И «Мухи», пьеса, написанная
на сюжет «Орестейи» Эсхила, где драматическую вину
равно разделяют все, а следовательно, не несет никто,
и «Антигона» Ануйя с ее утверждением героизма «ни
для кого», «ради себя» могут служить наглядным при-
мером этой окрашенной социальным пессимизмом по-
зиции, хотя объективно, в условиях фашистской оккупа-
ции Франции в них и прозвучал мотив протеста.
Не случайно с идеей «трагпмифологической» судьбы
мы встречаемся и у одного из основоположников экзи-
стенциализма — М. Хейдеггера. Мифология становится
чрезвычайно подходящей эстетической формой для вопло-
щения фрейдистских мотивов, столь очевидных, например,
в пьесе О’Нила «Траур идет Электре», и того рода со-
временного религиозного мистицизма, который мы встре-
чаем у Т. Эллиота — ее «двуплановость» подчеркивает
идею существования некой независимой от человека, но
решающей для его судьбы иной сферы бытия.
Но дело не только в такого рода эстетической двой-
ственности мифологии в искусстве. Для того чтобы до
конца оценить весь ее общественный смысл, необходимо
иметь в виду более широкий, социологический плач
проблемы. Он выходит за рамки эстетики, ибо мифоло-
гия в этом плане должна быть понята как способ отно-
шения человека к действительности. Мифология в искус-
стве превращает само искусство в мифологию.
Однако в этом смысле у мифологического искусства
нет никакого будущего, все его историческое значение
в прошлом, поскольку сегодня миф уже не может нести
того общечеловеческого содержания, которым он обла-
дал в античности, являясь своеобразной, но вместе с
тем единственно возможной формой осознания жизни.
Утрачивая свое универсальное значение, он обособляет-
ся в тип сознания, противоположный действительно все-
общему, и может быть связан лишь с тем, что проти-
востоит знанию и свободе отношения человека к дей-
ствительности.
Таким образом, мифология утрачивает народную поч-
ву, а там, где все же завладевает сознанием масс, на-
пример в форме религиозных или любых других куль-
товых мотивов, она неизбежно играет антидемократи-
ческую роль, искажая реальный взгляд на действитель-
204
ность и парализуя творческую активность масс; она
выступает как «предрассудок» их сознания.
Именно это обстоятельство приводит в конце кон-
цов к абсурдной — уже по самому сочетанию поня-
тий— идее «индивидуальной мифологии» (Ж. Кокто),
когда творцом, демиургом мифа выступает не обществен-
ное, а индивидуальное сознание, его «прихоть» идее,
открывающей широкую дорогу субъективному произво-
лу и в творчестве, и в восприятии искусства.
С другой стороны, есть несомненная логика в том,
что современная мифология буржуазного искусства часто
предстает перед нами как некий иллюзорный, призрачный
мир, погружение в который должно компенсировать по-
стоянную неудовлетворенность человека жизнью. Внеш-
не, по форме этот мир может быть обманчиво, как
две капли воды, похож на действительность (так об-
стоит дело, например, в буржуазном кинематографе, что
дает все основания многим его исследователям называть
кино «мифологией XX века») или, напротив, этот миц
может выглядеть причудливым, необычным, но он неиз-
менно противостоит действительности. Здесь мы имеем
дело с «массовой» и «элитарной» ветвями неомифологии.
И снова эстетическая мифология перекликается с
фрейдизмом и теизмом, хотя уже в несколько иной пло-
скости: спекулируя на этой неудовлетворенности, она точ-
но так же предлагает перенести решение противоречий
реальной действительности в чисто субъективный, иде-
альный план. Характерно, что Фрейд в конце концов
приходит к выводу о том, что массы не могут обой-
тись без иллюзий и требуют их сами.
Одновременно в этом пункте мифология вступает в
соприкосновение с той теорией «чистой театральности»,
которая была сформулирована еще в начале XX века
и эстетического аспекта которой мы уже касались
раньше.
Если идея «романтической иронии», с которой по-
своему генетически связана эта теория (не случайно
Фергюссон ссылается на романтиков, положивших начало
современному культу мифа), несла в себе пафос протеста
против бесчеловечности буржуазного общества, если у
Пиранделло, балансирующего на грани иллюзии и реаль-
ности, искусство еще не утрачивает своей критической
направленности, то теперь это начало трансформирует -
205
ся на свой собственный лад. Про теорию «чистой теа-
тральности» меньше всего можно сказать, что она рож-
дается на почве антибуржуазного пафоса искусства. Ее
современная направленность отчетливо звучит, напри-
мер, у Ж. Кокто в его афоризме о том, что миссия
драматурга заключается «не в том, чтобы нести жизнь
в театр, а в том, чтобы нести театр в жизнь». Социаль-
ный смысл такого взгляда очевиден. В нем живет
уже не беспокойный романтический дух, а оправдание
пассивности, жажда иллюзии, «наркотического сред-
ства».
Жан Вилар, размышля над проблемами современ-
ного театра и цитируя утверждение А. Мальро о том,
что «сценическое искусство не самое главное — важнее
мифомания», резонно спрашивает, «не является ли мифо-
мания сегодня в сравнении с внутренней жизнью актера
лишь опасной игрой», ибо «есть люди (и их больше,
нежели думают), которые теряют способность жить
реальной жизнью»46.
Таким образом, сущность проблемы лежит не столь-
ко в плоскости внешних признаков формы искусства —
миф может выглядеть формалистической деформацией и
натуралистической иллюзией, и не в обязательном сопри-
косновении с религией — ее роль могут играть и техни-
ческий фетишизм, и комплексы фрейдизма, и экзистенциа-
листская свобода выбора,— сколько в общей концеп-
ции человека и его отношения к действительности.
«Судьба могущественнее знания» (М. Хейдеггер) или
«судьба человека — это человек, а не судьба» (Б. Брехт) —
вот между какими позициями проходит грань, отделяю-
щая мифологию от реального взгляда на действитель-
ность в искусстве. Она лежит между верой и знанием,
зависимостью и свободой, пассивностью и борьбой.
В русле тех тенденций буржуазного искусства, на
которые опирается концепция иносказательного театра,
миф становится не столько «импульсом, ведущим к поэ-
зии», как пишет о нем Р. Пикок, сколько формой пре-
вратного представления о мире и месте в нем человека
и препятствием на пути его социального действия.
Исторически утрачивая свое суверенное, специфиче-
ское содержание, в реалистическом искусстве он вы-
46 Ж. Вилар. О театральной традиции. М., 1956, стр. 117.
206
ступает скорее как притча, аллегория или символ, чем
как собственно миф.
Что касается аллегории и символики, то было бы
нелепо умалять их значение для современного прогрес-
сивного театра; они играют самую существенную роль
в искусстве многих его представителей — от В. Маяков-
ского и Е. Шварца до Шона О’Кейси и Б. Брехта. Од-
нако при этом важно подчеркнуть по меньшей мере
два обстоятельства. Занимая свое место среди других
форм современного театра, они не могут претендовать,
как это было на ранних этапах театрального искусства,
скажем, в эпоху античности или средних веков, на уни-
версальную или доминирующую роль.
Обладая качествами особой обобщенности, остроты
выразительности, они в то же время не могут заменить
нам гораздо более непосредственного соприкосновения
с действительностью в ее исторической и психологиче-
ской неповторимости. Воспроизведение конкретно-чувст-
венного богатства действительности, ее художественное
исследование во всей целостности и единстве — неотъем-
лемая функция искусства; недаром одна из тенденций
современного искусства связана с приближением к этой
художественной достоверности и даже документально-
сти. Поэтический и прозаический кинематограф (при всей
условности этого деления). Станиславский и Брехт — с
такого рода полярными тенденциями мы постоянно
встречаемся в современной художественной культуре.
Но сторонники концепции иносказательного и алле-
горического театра не просто преувеличивают значение
определенных художественных форм. В самих этих фор-
мах их привлекает нечто совсем иное — способность к аб-
страгированию, отвлечению от действительности, стрем-
лению выразить то, что лежит за ее пределами, что сто-
ит между человеком и действительностью. Такая интер-
претация этих форм, абсолютизирующая их условное на-
чало, прямо связана с центральной для данной концепции
идеей несвободы человека в современном мире. Услов-
ность'здесь— символ социальной пассивности.
Заметим, что в реальном художественном процессе
дело обстоит порою достаточно сложно. Бывает, что
границы тенденций проходят внутри творчества одного
художника и даже данного произведения, а акценты в
конкретно-историческом контексте оказываются расстав-
207
ленными по-разному. Напомним, что в определенных ус-
ловиях, как указывал Ф. Энгельс, уже постановка воп-
роса может сыграть важную роль, что иногда, по выра-
жению В. И. Ленина, и «слово есть дело». Здесь
необходим конкретный анализ реальной социальной и
эстетической направленности искусства.
В данном случае речь идет о методологических пред-
посылках такого анализа и их идеологическом смысле.
Нетрудно видеть, что концепция иносказательного
театра, равно как и тот принципиальный эмпиризм, ря-
дом с которым она возникает, представляют собой лишь
две стороны методологии, характерной для современной
буржуазной науки об искусстве. В конечном счете они
лишь специфическое преломление некоторых ее более
общих тенденций. Нм без особого труда отыскиваются
параллели в самых разных областях современного ис-
кусствознания.
Например, вывод, к которому приходит американ-
ский искусствовед Поль Гудмен, о том, что самым ог-
раничительным определением картины будет формула:
«Произведение искусства это — то, что заключено в
раму», или риторический вопрос французского теоретика
кино Марселя Мартена — «Не является ли киноискус-
ство просто тем, что может быть изображено на эк-
ране?!»— звучат как парафраза слов В. Арчера, сказан-
ных им о драматическом искусстве.
Равным образом с идеями «иносказания» и «неоми-
фологии» мы встречаемся порой не только в буржуаз-
ном театроведении, но и в теории изобразительного ис-
кусства, и в литературоведении, и в размышлениях о
киноискусстве — от обоснования абстрактного искусства
у Г. Рида и А. Мальро до теории символа и мифа в
американской школе «новой -критики» (Д. Ренсон,
А. Тейт, К. Брукс) 47.
Либо следование за плоской конкретностью, либо ут-
верждение отвлеченного «метаязыка» — вот методоло-
гическая дилемма, которая скрывается здесь.
Это и закономерно — подобные тенденции вырастают
на почве общего кризиса современного буржуазного соз-
47 Н. Read. The Philosophy of Modern Art. London, 1952; A. Mal-
roux. The Voices of Silence. N. Y.. 1953; cm.: Davidson. Writers in
modern World University of Georgia Press, 1957.
208
нания, его отказа от реализма в самом широком смысле
слова, от историзма мышления.
В конечном счете это имеет не только гносеологиче-
ские, но и социальные причины. Реализм и историчность
становятся ненужными буржуазному сознанию, посколь-
ку реальность и логика истории оказываются решающи-
ми аргументами против него самого.
* * *
Эстетические и мировоззренческие принципы, на ко-
торые опирается реалистическая драма в решении проб-
лем диалектики характеров и обстоятельств, сущности
действия и конфликта, имеют принципиально иной харак-
тер. Она с различной, исторически доступной ей сте-
пенью глубины отражает действительную диалектиче-
скую связь деятельности человека с реальными общест-
венными коллизиями, показывая детерминированность
поведения человека социальными условиями, средой и
роль личности в изменении самих этих условий.
Сама «вещная зависимость» человека, которая, по-
добно древнему року, предопределению, становится ис-
точником драматизма в буржуазном обществе, осмысли-
вается реализмом не как некая неустранимая сила, ре-
зультат случая или сугубо личных качеств характера,
а как следствие несовершенства общества.
Осознание разорванности личного и общественного,
того отчуждения личности, которое извращает все ее
подлинно человеческие качества, и одновременно жажда
гармонии этих начал, вера в ее необходимость пронизы-
вают и искусство Гоголя с его «смехом сквозь невидимые
миру слезы», и драматизм изображения «темного царст-
ва» у Островского, и обличительный пафос пьес Толсто-
го, и лирическую стихию театра Чехова.
Убежденность в том, что в современном обществе
«чин, денежный капитал, выгодная женитьба» имеют
«более электричества, чем любовь» (Н. Гоголь), чти
«требования права, уважения личности, протест против
насилия и произвола» связаны не только с нравствен-
ной, но и с «житейской, экономической стороной воп-
роса» (Н. Добролюбов), потенциально содержит в себе
вывод о необходимости изменения этих социальных ус-
ловий для освобождения личности.
209
В этом социальном протесте критического реализ-
ма заключена в целом более широкая и реальная ис-
торическая перспектива, чем в романтическом бунте лич-
ности или в апеллирующей к разуму просветительской
идее «общественного договора». Но каковы бы ни были
формы протеста его героев, он все-таки еще не поднима-
ется до уровня сознательного исторического действия.
Оно почти всегда есть индивидуальное действие.
Это относится и к его современным формам на Западе.
Они очень часто не выходят за рамки абстрактного гу-
манизма и традиционного, окрашенного мотивами инди-
видуализма, взгляда ня историческую роль и пути осво-
бождения личности, но стремятся пробудить ее самосо-
знание и чувство социальной ответственности. На этом
Пути они добиваются своих художественных завоеваний
И приобретают конкретное антибуржуазное и гуманисти-
ческое звучание, но остаются в рамках определенных
внутренних противоречий, несут на себе печать двойст-
венности. Таково искусство А. Миллера и Т. Уильямса
швейцарской школы драмы (М. Фриш и Ф. Дюренматт),
английских «сердитых молодых людей», современной до-
кументальной драмы (Хоххут и Киппхордт) и т. п.
Новым этапом реалистической драмы становится ис-
кусство социалистического реализма. Возникая как ху-
дожественное осмысление общественной практики са-
мого революционного класса в истории, оно наиболее
полно и глубоко отражает диалектику исторического
процесса. Раскрывая историческую роль народных масс,
это искусство тем самым до конца раскрывает и зна-
чение активного, самостоятельного действия человека,
его роли в разрешении общественных противоречий.
«Совпадение изменения обстоятельств и человеческой
деятельности может рассматриваться и быть рацио-
нально понято только как революционная практика»^.
Это искусство опирается на принципы подлинного
коллективизма. Он противостоит утратившему свой гу-
манистический потенциал буржуазному индивидуализму,
Но не индивидуальности; он также чужд унифицирующим
Мотивам тоталитарности — другому полюсу буржуазного
сознания, но не общности народных масс.
Поступая по внутреннему убеждению, герой опирает-
48 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 2.
210
ся на революционный опыт масс, его действия соотносят-
ся с этим опытом, оцениваются им как высшим крите-
рием. В этом — одно из принципиальных завоеваний со-
циалистического искусства.
Размышляя о перспективе личности, как эстетиче-
ском критерии, Макаренко замечает, что в нашем ис-
кусстве все большее значение приобретают категории
связи, единства, солидарности, сочувствия, координиро-
вания, так как по характеру человеческих взаимоотноше-
ний наше общество, свободное от неравенства, выше,
сложнее и тоньше старого общества.
Это осмысление новых связей личности и коллектива
ясно ощущается уже у М. Горького в его пьесах, по-
священных революции, с которой связано само рождение
коллективистского сознания. Такие его герои, как
Нил («Мещане»), Синцов и Левшин («Враги»), Ряби-
нин и Бородатый солдат («Достигаев и другие»), вы-
ступают как представители массы, ее идеологии, богат-
ство личности которых раскрывается в общем для них
революционном действии. Вообще, мысль Горького «не
«я», но — «мы» — вот начало освобождения личности» —
может послужить эпиграфом к его творчеству.
Анализируя творчество М. Горького, Ю. Юзовский в книге «Мак-
сим Горький и его драматургия» (М., 1959) справедливо подчерки-
вает принцип опоры социалистического искусства на «коллективное
начало» общественной практики. Но нельзя согласиться с прямоли-
нейным толкованием проблемы применительно к структуре драма-
тического конфликта, так же как и с категорическим и в то же вре-
мя несколько неопределенным тезисом о том, что «принцип лично-
сти связан с прошлым драматургии, в то время как «принцип мас-
сы» — с ее будущим.
Какова бы ни была структура самого конфликта, индивидуаль-
ность в известном смысле всегда остается в центре внимания искус-
ства, как один из полюсов соотношения личности и общества, состав-
ляющих важнейший аспект его содержания.
Вопрос в конечном счете заключается не в том, действует на
сцене масса или нет, а в позиции героев драмы, ее социальном, клас-
совом смысле; соотношение с опытом масс и становится решающим
критерием оценки личности.
Уже на заре своего развития советская драма осоз-
нает задачу воплощения исторической роли народных
масс как одну из самых главных. Этот процесс вна-
чале приобретает различные формы; отказа от индиви-
дуализации и обращения к символике и аллегории в
«Мистерии-буф» В. Маяковского, в которой отдельные
211
фигуры служат обобщением целых классов; слитности не-
посредственного единства героев и коллектива, массы
в «Шторме» В. Билль-Белоцерковского и в «Виринее»
Л. Сейфуллиной — своеобразной параллели «Железного
потока» Серафимовича в литературе, «Броненосца По-
темкина» С. Эйзенштейна в кино; наконец, принци-
пиально нового соотношения героев и народного фона
в «Любови Яровой» К. Тренева, «Разломе» Б. Лаврене-
ва, «Бронепоезде 14-69» Вс. Иванова, где народ высту-
пает столь же активным фактором, как и сами герои,
судьба которых неотделима от судьбы народа.
Диалектика формирования новых отношений личности
и общества находит свое отражение и в творческих спо-
рах Вс. Вишневского и Н. Погодина, утверждавших
приоритет коллектива перед отдельным героем, движения
масс, хода истории перед судьбой личности, с В. Киршо-
ном и А. Афиногеновым, отстаивавшими традиционный
принцип «драмы героев», внимание к «миру индивидуаль-
ности»; спорах, крайности которых сияла впоследствии
логика развития жизни. Она приводит к определенному
сближению и взаимному обогащению этих течений в со-
ветской драматургии, сохраняющих свое тяготение к раз-
личным структурным принципам, но имеющих в виду ту
же проблему отношений личности и общества.
Герои А. Арбузова, как правило, простые и вместе с
тем по-своему сложные люди. Они трудно поддаются
категорической классификации на положительных и от-
рицательных («Я не написал ни одного отрицательного
героя»,— признавался сам драматург). При этом конф-
ликт пьесы раскрывается не только в прямых столкнове-
ниях героев друг с другом, но прежде всего через транс-
формацию характеров, которая происходит на протяже-
нии пьесы и обнаруживается в контексте всей системы
взаимоотношений действующих лиц. Они борются и спо-
рят не только друг с другом, но и сами с собой. Поучи-
тельность судьбы героя — вот на чем особенно настаи-
вает А. Арбузов. И действительно во многих его пьесах —
«Тане», «Годах странствий», «Иркутской истории» — дра-
матическая коллизия развивается именно таким путем.
Недаром категория «времени» играет такую важную роль
в построении арбузовских пьес.
Но при всем психологическом, интеллектуальном,
«историческом» различии характеров — это почти оди-
212
наковый по направлению путь: из небольшого, узкого,
частного или даже индивидуалистического мира в бес-
конечно более широкий общественный мир; драматиче-
ский путь, ведущий от частного лица к личности в самом
высоком значении этого слова.
Может быть, особенно наглядно это в «Иркутской
истории» — сама «дистанция пути» здесь больше и его
общественный смысл отчетливее. В этой пьесе, расска-
зывающей историю как будто бы сугубо личных отноше-
ний, построенной почти на традиционном любовном тре-
угольнике, автору удалось показать, как большое, настоя-
щее чувство героя помогает, в сущности, неплохой, но
довольствующейся очень малым, утратившей веру в бо-
лее высокие, «идеальные» ценности жизни девушке
найти себя, раскрыть тот духовный потенциал, который
несет в себе, по убеждению автора, каждая человеческая
личность. Одна из самых дорогих для Арбузова мыслей:
«любить — значит научить, помочь, спасти» — очень ясно
звучит в пьесе. Связь личного и общественного в ней —
это дорога, которую проходит герой, поднимаясь от од-
ной ступени самосознания до другой. Психологическая
проницательность, внимание к внутреннему миру, глубо-
кий подтекст в обрисовке характеров и их взаимоотно-
шений несколько неожиданно, на первый взгляд, соеди-
нены здесь с эпическими приемами изображения, с
«хором», который как бы воплощает в себе высший
нравственный критерий; его функция — не столько помо-
гать развертыванию действия, сколько выражать общест-
венную точку зрения на события и поступки героев. Он
чаще всего не формулирует ее прямо, а размышляет
вместе со зрителем, спрашивает и отвечает, анализирует
происходящее, ненавязчиво обнажая суть развертываю-
щихся событий. В этом своем качестве хор оказывается
органической частью художественной структуры пьесы.
Так, сочетаясь и взаимно обуславливая друг друга,
лирическое и эпическое начала пьесы расширяют рамки
драматического действия. В ней своеобразно пересека-
ются эти две как будто бы полярные тенденции совре-
менной драмы, и это оказывается весьма плодотворным.
По-иному претворяются те же проблемы в драматур-
гии Л. Леонова. В ней также живут два плана, одина-
ково существенные для ее содержания, которому они
придают особую рельефность и глубину. Причем они
213
ничем не отделены друг от друга, а, напротив, как бы
совмещаются в единой образной структуре произведе-
ния, составляя органический художественный сплав, ко-
торый поддается разъединению разве лишь посредством
логического анализа.
Уже самые названия пьес Л. Леонова — «Метель»,
«Половчанские сады», «Золотая карета» — несут на себе
отпечаток известной символики. Но это отнюдь не сим-
волизм в том смысле, который мы имеем в виду, говоря
о творчестве М. Метерлинка, Л. Андреева и даже Г. Иб-
сена (хотя подобные параллели и проводятся иногда).
Различие здесь принципиальное, связанное с самой кон-
цепцией отношений человека и действительности, опре-
деляющей и особенности формы леоновской драматургии.
Ее второй план менее всего «символизирует» ту неопре-
деленность и нечеткость реальности, которую она приоб-
ретает порой у классиков символизма.
Напротив, у Леонова этот «другой» план служит сов-
сем иной, противоположной цели — открыть большой,
совершенно конкретный и реальный смысл, стоящий за
изображенными событиями, подняться до философского
обобщения, увидеть их в свете социально-исторической
перспективы. Он служит утверждению не многозначности,
а ясности, определенности взгляда на мир.
В пьесах Л. Леонова как бы совмещаются, пронизы-
вают друг друга бытовое и идеальное начала. Маккавеев
и Пыляев («Половчанские сады»), Фаюнин («Нашест-
вие»), Березкин и Марька, Табун-Турковская и Рахума
(«Золотая карета») —живые, психологически тонко,
даже виртуозно разработанные характеры, и вместе с
тем они — нечто большее.
Полковник Березкин, которого, по его собственным
словам, «послала война», олицетворяет собой для Лео-
нова высшую нравственную справедливость, право на-
рода, прошедшего сквозь это тягчайшее испытание,
судить всяческую неправду, так же как Фаюнин — персо-
наж «из мертвых», по ремарке автора,— воплощает вче-
рашний день истории, ее тень, причудливую и отврати-
тельную, оживающую лишь в момент нашествия. И Мак-
кавеев с его цветущими «половчанскими садами»
символизирует собой творческое созидательное начало
жизни в той же мере, в какой его антипод Пыляев —
разрушительное, опустошающее.
214
Соответственно конфликт леоновских пьес обычно
выходит далеко за пределы столкновений человеческих
характеров; не утрачивая своей реальности, жизненной
достоверности, он обозначает столкновение противопо-
ложных нравственных, моральных, мировоззренческих
принципов. Перефразируя слова одного из персонажей
«Золотой кареты», можно сказать, что у Леонова дейст-
вительно незаметна грань, где «кончается биография и
начинается история».
Так, конфликт «Золотой кареты» перестает быть
связанным только с послевоенными днями, в которые
происходят ее события, и с темой «возмездия» и выра-
стает до масштабов непримиримого противопоставления
индивидуалистической идеи «жизни для себя» челове-
ческой солидарности, гуманизму и самоотверженности.
Оба плана драматургии Леонова одинаково сущест-
венны (к ним трудно применимы определения «первый»
и «второй»). Их очень чуткое равновесие, которое нелег-
ко дается театру (а иногда и автору: укажем, например,
на «Половчанские сады»), является важнейшим усло-
вием успешного сценического воплощения. И там, где
она нарушено, легко возникают тенденции либо схема-
тической аллегоричности, либо прозаичности, снижаю-
щей поэтическое, обобщающее начало.
И в более традиционно, но совсем по-разному постро-
енных драмах В. Розова или Н. Н. Погодина мы также
встречаемся с аналогичными поисками воплощения ре-
альной диалектики личного и общественного.
В пьесах В. Розова действие разворачивается, как
правило, в пределах семьи. Но он смотрит на нее как
на своеобразную модель, ячейку общества, в которой
отражаются процессы времени и с которыми она связана
множеством незримых, но прочных нитей.
Герои В. Розова по преимуществу люди, пережива
1ощие переломные моменты биографии; чаще всего это
Юноши и девушки, вступающие в жизнь с максималист-
ской и бескомпромиссной требовательностью к себе и к
другим и особенной чуткостью к дыханию современ-
ности. Отсюда и напряженный пульс времени, и граж-
данственность таких пьес В. Розова, как «В добрый час»,
«Неравный бой», «Перед ужином».
Правда, подобный угол зрения связан с определен-
ными границами самого поля исследования, но в его
215
рамках В. Розову удается глубоко и убедительно пока-
зать логику и общественный смысл целого ряда драма-
тических проблем жизни.
У Н. Погодина, напротив, особенность художествен-
ного видения связана с широтой его диапазона. Те два
плана, которые у А. Арбузова, Л. Леонова, В. Розова,
по-разному сочетаясь друг с другом, в той или иной фор-
ме «присутствуют» в пьесах, у Н. Погодина воплощены
непосредственно.
Особенно наглядно это в его наиболее значительном
творческом достижении — трилогии о Ленине («Человек
с ружьем», «Кремлевские куранты» и «Третья Патети-
ческая»). Характерное для Погодина стремление вме-
стить богатство содержания и размах новых процессов и
конфликтов в границы драматической формы получает в
трилогии, может быть, наиболее полное осуществление
Драматический конфликт в его всемирно-историче-
ском значении возникает здесь в результате сложного
взаимодействия человеческих судеб, мотивов и ситуаций,
фокусом пересечения которых оказывается образ Ленина.
Линия конфликта проходит через самые различные со-
циальные и психологические пласты, вовлекая в свою
орбиту различные персонажи: от крестьянина Шадрина
до интеллигентов Забелина и Ипполита Сестрорецкого,
от рабочего Прони до всемирно известного писателя Гер-
берта Уэллса, и это прямо выражает масштаб совершаю-
щихся общественных преобразований. Подобным мас-
штабом и измеряются герои трилогии.
Уже этот опыт ряда наших драматургов наглядно
свидетельствует, как проблема движения к единству
личного и общественного, различные аспекты которого
отражает современная советская драма, преломляется в
ее художественной структуре.
Показательна и та эволюция, которую переживает
такой элемент формы спектакля, как массовая сцепа. Но-
вое понимание соотношения героя и общественного це-
лого придают ей иное эстетическое качество, меняются
принципы построения — из массовой, в традиционном по-
нимании, она превращается в подлинно народную сцену.
В этом отношении характерен путь Станиславского,
который вел его от бытовой, изобразительной индивидуа-
лизации толпы в «Царе Федоре Иоанновиче», не выхо-
дившей еще за пределы художественных принципов мей-
216
иингенцев, через такие постановки, как «Пугачевщина»
К. Тренева, где, по словам самого автора, «народ —
герой, а не фон», к пластическому и действенному вы-
ражению идеи народа — творческой силы истории в
«Бронепоезде 14-69». Это завоевание получает свое
дальнейшее развитие в искусстве таких мастеров совет-
ского театра, как А. Попов, Г. Товстоногов и др.
Решение конфликта в свете нового исторического опы-
та сообщает ему отчетливый социальный подтекст, он,
окрашивая собой действие, раскрывает его обществен-
ный план, в том числе и тогда, когда в центре сюжета
оказываются личные судьбы героев. Этот подтекст рас-
ширяет историческую перспективу конфликта, как бы на-
мечая путь дальнейшего развития событий и характеров.
Судьба героев не просто как частных лиц, а как со-
циальных типов в русле «исторического потока», в кото-
ром они «черпают мотивы своих действий» (Ф. Энгельс),
в русле судеб народа получает историческую определен-
ность. Такая «перспектива» драматического действия
связана не просто с верой в будущее, с чувством ис-
торического оптимизма, но и с осознанием закономер-
ностей общественного развития.
Бардин и Скороботов у Горького обречены не толь-
ко потому, что они индивидуально плохие люди, но и
потому, что они представители исчерпавшего свою исто-
рическую миссию класса, потому, что будущее за Син-
цовым, Грековым, Ягодиным и другими, олицетворяю-
щими движущие силы истории. Сопоставляя «Враги»
с современными этой драме пьесами А. Чирикова,
А. Найденова, С. Юшкевича, также посвященными рево-
люции, Ю. Юзовский справедливо замечает, что «если
в перечисленных пьесах последний акт драмы и сим-
волически выражает собой финал, катастрофическую раз-
вязку, то во „Врагах“ он приобретает характер еще
более острой завязки, оптимистическое разрешение ко-
торой еще впереди»49.
Это наблюдение о финале как завязке новой, «сле-
дующей» драмы, финале, содержащем в себе зерно иных,
не просто повторяющих прежние противоречий, путь раз-
решения которых как бы освещается приобретенным
опытом, может быть отнесено не только к «Врагам»,
49 Ю. Юзовский. Максим Горький и его драматургия, стр. 353.
217
«Егору Булычову и другим», «Достигаеву и другим»
и оставшейся в замысле пьесе «Рябинин и другие» (где
преемственность очевидна) —произведениям самого
Горького, но и ко многим наиболее значительным пьесам
нашей драматургии — от «Оптимистической трагедии»
Вс. Вишневского до трилогии Н. Погодина о Ленине.
Подобная диалектичность финала — антитеза замкну-
тости, «бесперспективной» завершенности драматиче-
ской ситуации, как бы исчерпывающей саму себя и по-
своему отражающей глубокую противоречивость многих
явлений современной буржуазной драматургии.
Но и по отношению к таким явлениям критического
реализма, как драматургия Чехова с девизом ее героев
верить и ждать, новое искусство делает принципиаль-
ный шаг вперед; определенность его «подтекста» приоб-
ретает иное качество.
Соединяя действенность с глубоким осознанием ис-
торического смысла событий, социалистическое искус-
ство преодолевает тот разрыв между ними, который, при-
нимая различные исторические формы, был свойствен
драме прошлого. Особая историческая роль принадле-
жит здесь драматургии М. Горького. В его творчестве
эти оба начала составляют единое, органическое целое.
Глубокая философская насыщенность горьковских пьес,
которая является их столь заметной отличительной осо-
бенностью, определяется убеждением писателя, что сов-
ременный герой — «человек миропонимания», стремя-
щийся «изучить и познать мир», где он живет, «до пол-
ного его освоения»50. Коллизии его произведений, связаны
со жгучими идеологическими проблемами времени, они
часто становятся предметом непосредственного обсужде-
ния, острых споров внутри самих пьес.
Такое значение идеологического, философского начала
было выражением нового этапа общественного самосоз-
нания, новым взглядом на исторические закономерно-
сти, причины и следствия социальных явлений и роль
личности в их развитии.
«Тому — помешать, этому помочь... вот в чем радость
жизни» — эти слова Нила в «Мещанах» выражают но-
вую концепцию героя, одинаково полемическую и по от-
ношению к нравственному самосовершенствованию у
50 М. Горький О литературе. М, 1953, стр. 602.
218
Л. Толстого, и по отношению к смирению, поискам прав-
ды в самом себе у Ф. Достоевского. В ее основе лежит
утверждение активности человека, начинающего осозна-
вать себя хозяином жизни («Хозяин тот, кто трудит-
ся»), идея о том, что ценность личности определяется
ее «отношением к деянию»51. Герои М. Горького дей-
ствуют, ощущая свою историческую правоту,— через них
дает себя знать историческая необходимость.
Сам путь формирования нового общества, которое, по
определению К. Маркса, есть «решение загадки исто-
рии», «подлинное разрешение противоречий между че-
ловеком и природой, человеком и человеком, подлинное
разрешение спора между существованием и сущностью,
между свободой и необходимостью, между индивидом и
родом»52, ведет к новому соотношению между словом
и делом, идеалом и действительностью.
Идеал перестает казаться просто некой желанной, но
лишь конечной, постоянно вырисовывающейся где-то
впереди целью, какой он во многом еще остается для
искусства критического реализма. Выступая как познан-
ная логика развития истории, он включает в себя и
пути достижения цели, проявляется в самой борьбе за
утверждение новых общественных отношений. Таким об-
разом, не некий идеальный, умозрительно сконструиро-
ванный герой, а идеальное в реальном человеке ока-
зывается в центре внимания искусства. Одновременно
это открывает пути к созданию подлинно интеллектуаль-
ного и подлинно действующего героя.
Образ героя нашего времени возникает как образ
человека действия, причем действия не только активно-
го, но и в высшей степени сознательного. Потребность
глубокого осознания исторического смысла событий,
в сфере которых он живет и действует, размышления нал
важнейшими общественными проблемами, самыми ост-
рыми вопросами современности становятся качеством
его характера. Это определяется необычайно тесной —
как никогда прежде — взаимозависимостью «судьбы че-
ловеческой» и «судьбы народной», сознанием причаст-
ности к решению важнейших вопросов современности,
судеб огромных революционных преобразований нашего
51 ЛГ Горький. Статья 1905—1916 гг. М., 1918, стр. 178.
52 К.Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполит-
издат, 1956, стр. 588.
219
времени, жизни общества, страны, ответственности за
^се это перед историей и самим собой.
Подобная ответственность не некое изначальное бре-
мя, к которому «приговорен человек» (Сартр), а общест-
венно-историческая необходимость..
Здесь источник усиления личного, лирического нача-
ла в искусстве, его сближения с гражданским, процес-
са их взаимного проникновения, когда гражданская по-
зиция героя становится глубоко личной, им самим пе-
режитой, частицей его собственного «я». Эта позиция,
полярная буржуазному антиинтеллектуализму — от Ниц-
ше до «новых левых» — с его лозунгом «чем больше
человек знает, тем менее он активен», и противостоящая
концепции человека-«винтика», пассивного функционера
истории, связана с осознанием им своей действительной
роли — творца и субъекта исторического процесса.
Подлинно интеллектуальный герой определяется не
только остротой, яркостью, зрелостью мысли, но и спо-
собностью претворить ее в действие. Речь идет об ин-
теллектуальности в горьковском смысле слова, неотде-
лимой от понимания бытия как «деяния», отражающей
богатство духовного мира человека в связи с его об-
щественной практикой, с его желанием глубже понять
действительность, для того чтобы ее изменить.
Эта связь подчеркнута в Программе КПСС, отме-
чающей, что чем выше сознательность членов общества,
тем полнее и шире развертывается их творческая актив-
ность «в развитии коммунистических форм труда и новых
отношений между людьми... тем быстрее и успешнее ре-
шаются задачи строительства коммунизма»53.
Подобная насыщенность мыслью противоположна ри-
торике иллюстративного искусства, отнимающего у мыс-
ли качество ее самостоятельности, бесконечно богаче той
интеллектуальности, где герой остается в пределах ав-
тономных, замкнутых в себе и не содержащих никако-
го импульса к практическому действию размышлений.
Речь идет о ленинской интерпретации идеи как «позна-
ния и стремления (хотения) человека» к изменению мира.
Интеллектуальность героя оказывается чисто внеш-
ней там, где она не связана с его делом, какие бы
формы она не принимала — холодной дидактики периода
53 «Программа КПСС», М., Политиздат, 1964, стр. 116.
220
«бесконфликтности» или интеллектуальной претенциозно-
сти некоторых современных пьес.
Опыт всей нашей драматургии, целой галереи ее об-
разов— от горьковского Нила и погодинского Гая
(«Мой друг») до Дронова («Все остается людям» С. Але-
шина) и Ленина в трилогии Погодина — свидетельству-
ет о глубокой слитности этих начал, в диалектике ко-
торых раскрывается нравственное богатство героя.
Единство действия и мысли, выступающее у Стани-
славского и в приведенных выше размышлениях А. По-
пова, А. Лобанова и Г. Товстоногова о современном
театре (см. гл. II), получает важный, содержательный
смысл (так же как его получает одно из понятий «си-
стемы» Станиславского — «перспектива роли»). Оно от-
ражает рожденное самой логикой общественного разви-
тия стремление современника соединить самостоятельное
осмысление жизни с активным отношением к ней.
Новые перспективы возникают перед нашим искус-
ством сегодня на пути широкой активности масс и каж-
дого члена общества, их исторического творчества.
Этот путь опирается на все большее углубление свя-
зи -личности и общества — двусторонний, диалектиче-
ский процесс, в котором общественные устремления, ин-
тересы поведения личности совпадают с интересами об-
щества, а ее реальная общественная роль и «необходи-
мость», по мере развития этого процесса, возрастают.
Отсюда и все многообразные последствия, связан-
ные с новым уровнем сознания личности, ощущением
ее личной, субъективной причастности ко всем без ис-
ключения сферам общественной жизни, участие в кото-
рых каждого, по мере продвижения к коммунизму, как
это зафиксировано в Программе КПСС, будет неизменно
расширяться.
Когда в «Третьей Патетической» Н. Погодина Ленин
уверяет молодого рабочего, что тот будет управлять го-
сударством, или когда герой пьесы А. Зака и И. Кузнецо-
ва «Два цвета» в ответ на реплику: «Государство об этом
позаботится», говорит: «А что такое государство? — госу-
дарство это мы!», то это отчетливо выражает характер ут-
верждающихся новых общественных отношений. И хотя
действие пьесы Н. Погодина происходит в 20-е годы,
а пьеса А. Зака и И. Кузнецова посвящена не такой уж
«масштабной» теме борьбы с хулиганством — обе они
221
глубоко современны по своему внутреннему пафосу.
Это пафос, отрицающий пассивность или равнодушие.
Герой принимает участие в том, что, казалось бы, его
прямо не затрагивает, он борется за и против, исходя
из иных предпосылок. Им движет не эгоистический рас-
чет и не абстрактная догма, а общественная заин-
тересованность, олицетворяющая собой исторически бо-
лее высокий уровень сознания54, когда человек дейст-
гует не под давлением некой посторонней, противостоя-
щей ему небходимости, а свободно, творчески. Здесь кри-
терий его эстетической оценки.
Активность жизненной позиции, бескомпромиссность
в утверждении своего общественного идеала, свойствен-
ная героям наших лучших современных пьес, вырастают
из тенденций самой действительности. Они составляют
их жизненную силу и определяют масштаб характера.
Измена этой позиции, свидетельства примирения, безраз-
личия по отношению к общественному «злу» или «добру»,
какими бы мотивами они ни обосновывались, оборачи-
ваются отрицательной характеристикой героя.
Одно из качеств мироощущения современного героя
нашего искусства заключается в самостоятельности его
мысли и действия. Именно в русле этой самостоятель-
ности, опирающейся на предельно трезвый, реальный
взгляд на действительность, сколь бы сложной и суро-
вой она ни была, на потребность масс знать все и обо
всем судить самостоятельно55, общественный долг ста-
новится естественным проявлением личности..
Вместе с тем — и это важно особо подчеркнуть —
такое утверждение свободы личности, ее самостоятель-
ности не имеет ничего общего ни с гегелевской трактов-
кой свободы индивидуальности лишь как свободы под-
чинения некой абстрактной нравственной необходимости,
ни с буржуазно-индивидуалистическим ее пониманием.
Наше искусство утверждает принципиально новый
тип связи между личностью и обществом, возникающий
на новой социальной почве, в свете которого сама
54 К. Маркс писал, имея в виду будущее общество: «Сознание сво-
их взаимоотношений также, конечно, станет у индивидов совер-
шенно другим и не будет поэтому ни „принципом любви“
или devouement (самоотверженностью.— А. К.), ни эгоизмом»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 441).
66 См. В. И. Ленин. Полное собр'ание сочинений, т. 35, стр. 21.
222
постановка вопроса «личность для общества» или «об-
щество для личности» утрачивает свой смысл. Человек
уже не воспринимает общественный долг как некий прин-
цип, во имя которого надо, по выражению Гегеля, «от-
казываться от самого себя»,— он становится «привыч-
ной», а затем «внутренней потребностью» (В. И. Ленин),
а общество, со своей стороны, не имеет других целей,
кроме удовлетворения подлинно человеческих потребно-
стей всесторонне развитой личности: свободное развитие
всех становится условием развития каждого. Таким об-
разом, личность не отделяет себя от общества, не ощу-
щает себя противостоящей ему как чему-то внешнему и
постороннему, напротив, ее интересы сливаются с инте-
ресами общества, совпадают с логикой его историческо-
го развития. Тем самым ее свобода и гражданственность
имеют конкретный исторический смысл: они связаны с
борьбой за осуществление коммунистического идеала.
Через осознание логики движения к коммунистическому
обществу и лежит путь к новому сознанию личности.
Отсюда то решающее значение общественной прак-
тики, исторического опыта народа как важнейшего эс-
тетического критерия, которым проверяется, оценивается
направленность и содержание личности героя и самого
произведения в целом, критерия народности искусства,
в наших условиях органически связанной с его партий-
ностью, сознательным служением художника народу.
Опыт нашей драматургии свидетельствует, что, ут-
верждая эту наполненную глубоким пониманием истори-
ческого содержания времени творческую активность лич-
ности и народных масс, она способна наиболее эффектив-
но выполнить свою важную роль в формировании чело-
века коммунистического общества. Одновременно рас-
крывается все ее историческое значение как искусства,
открывающего новые перспективы в развитии драмы.
Но это особая проблема. Наша задача сводилась
прежде всего к тому, чтобы указать на методологиче-
ские предпосылки ее исследования, которые вытекают
из диалектики самой эстетической природы драмы и
новых социальных отношений, которые она отражает.
°ГлАВЛЕНИЕ
Введение..............е 3
Глава первая
О драматизме как эстетической категории 2'»
Глава вторая
Природа драмы и действительность.
Театр как художественная форма.................. 60
Театр и кино.................................... 95
Театр и телевидение........................... 116
Театр и драма ... 129
Глава третья
Драматическое действие.......................... 155
Драматическое действие и конфликт................155
Драматическое действие и личность . ... 175
Анатолий Анатольевич Карягин
Драма как эстетическая проблема
»
Утверждено к печати Институтом истории искусств
Министерства куаьтурьс СССР
Редактор Д. П. Лбова. Художник С. А. Данилов
Художественный редактор Т. П. Поленова
Технический редактор И. Н. Жмуркина
Сдано в набор 1/VII 1971 г. Подписано к печати 9/ХП 1971 г. Формат 84Х108*/з2
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 4000 экз. Т-19856. Тип. зак. 2557.
Бумага Кг 2.
Цена Груб.
Издательство «Наука». Москва К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва Г-99, Шубинский пер., 10
ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ
Стра- ница Строка Напечатано Должна быть
19 1 сн. Гёте. Разговоры с Эк- Эккерман. Разговоры с
керманом. Гёте
29 17 св. Кафки Кофки
29 22 св. Кафка Кофка
55 1 сн. Р- Р.
68 7 св. А. Берковский Н. Берковский
68 4 сн. А. Берковский Н. Берковский
122 17 сн. историей истерией
123 17 св. ложны сложны
164 22 св. Л. Осборн Д. Осборн
170 1 св. «угрызения» искусства «угол зрения» искусства
174 16 св. столкновения сопоставления
176 8 св. maxima machina
179 4 сн. «-драматического после «драматического
179 6 сн. напряжения; после напряжения
187 4 св. Абель Абеля
222 6 св. догма моральная догма
А. А. Карягин. Драма как эстетическая проблема